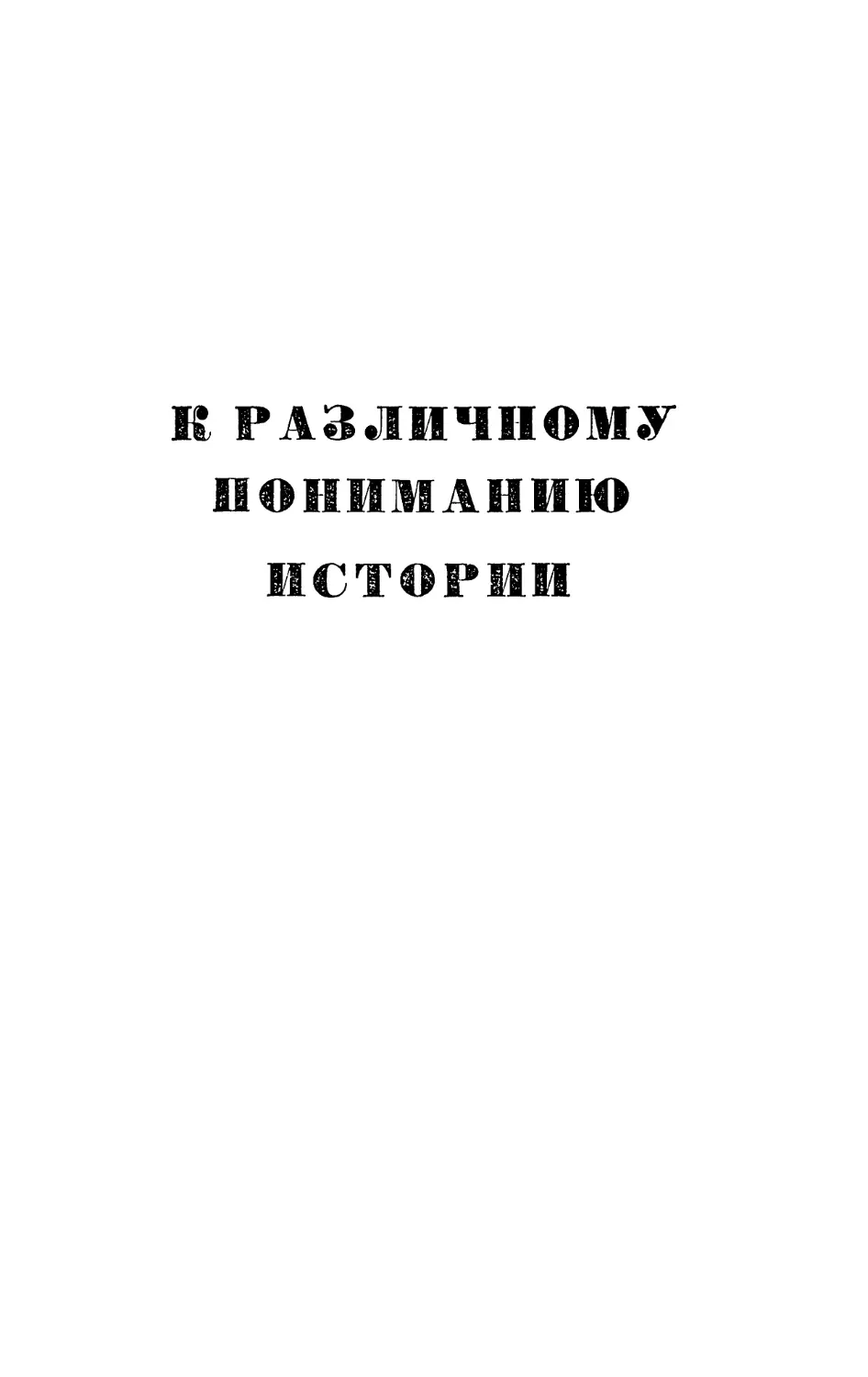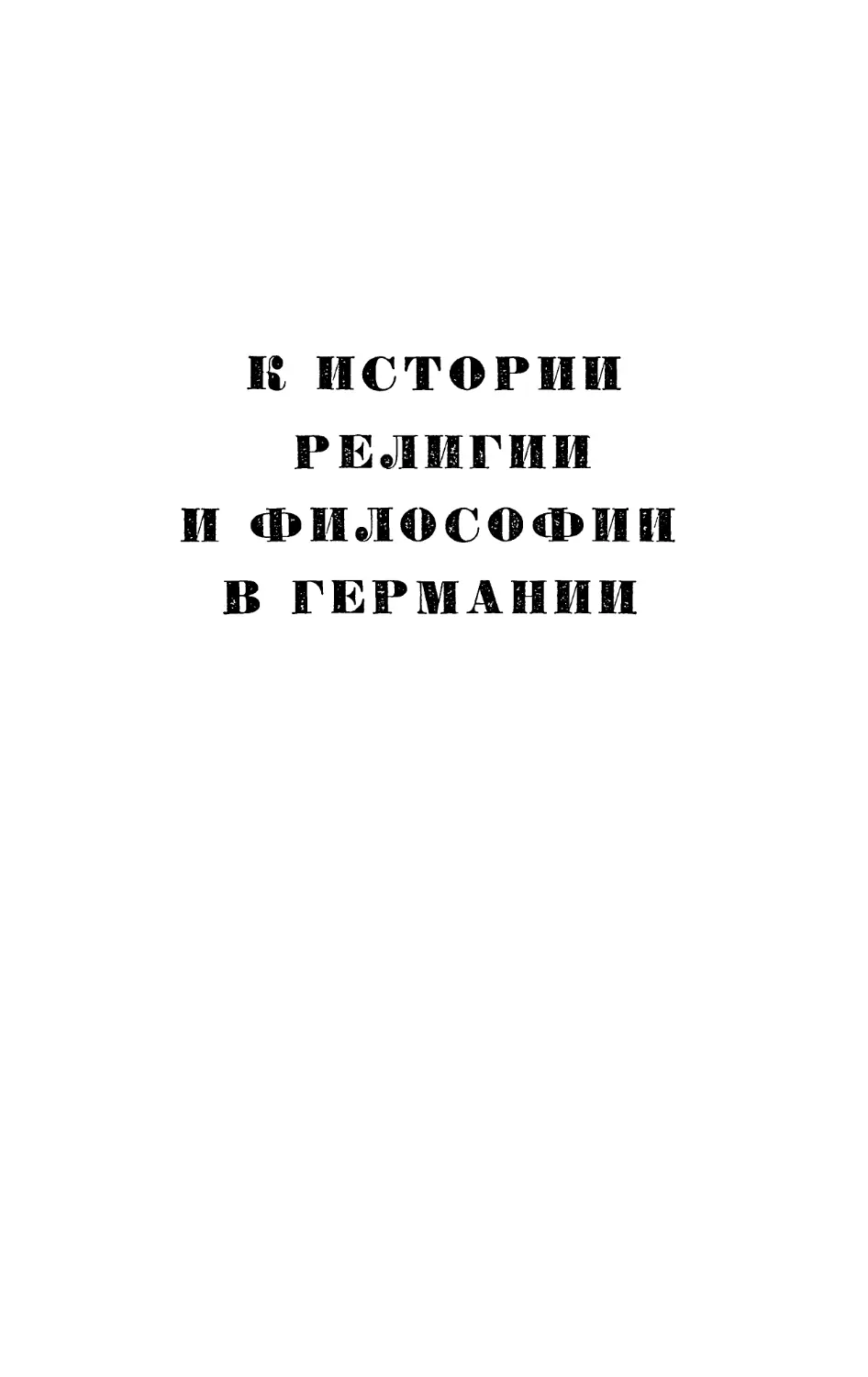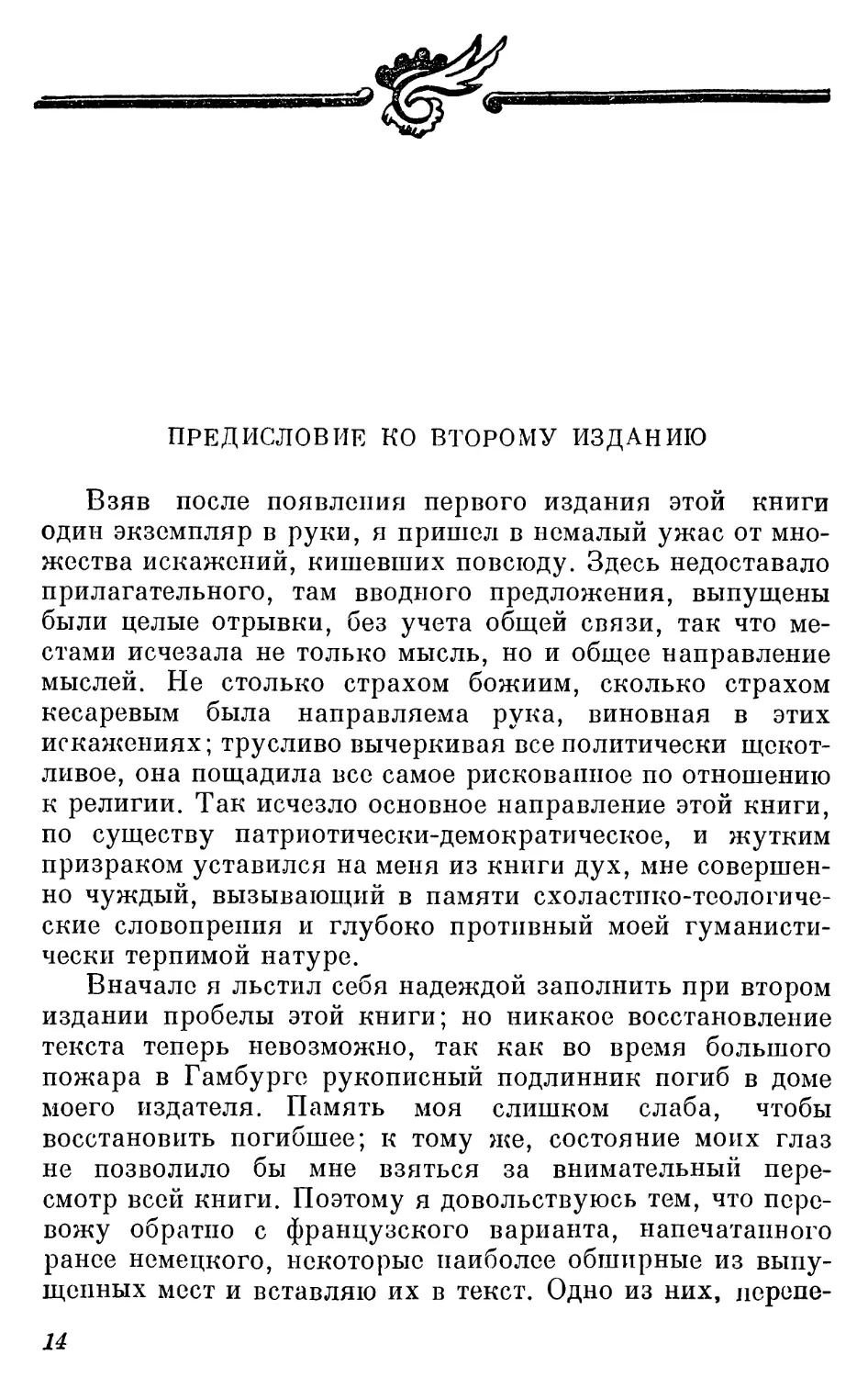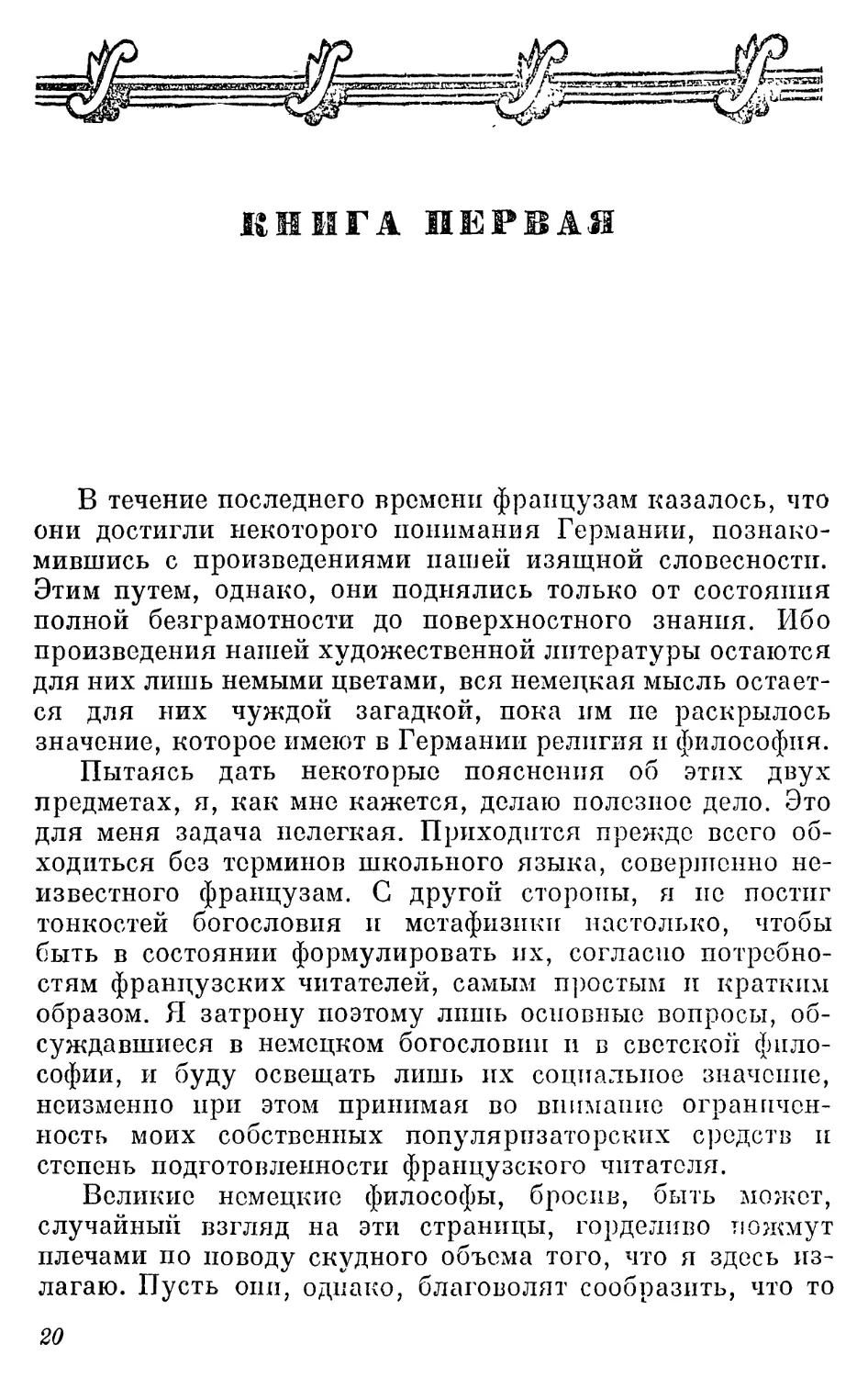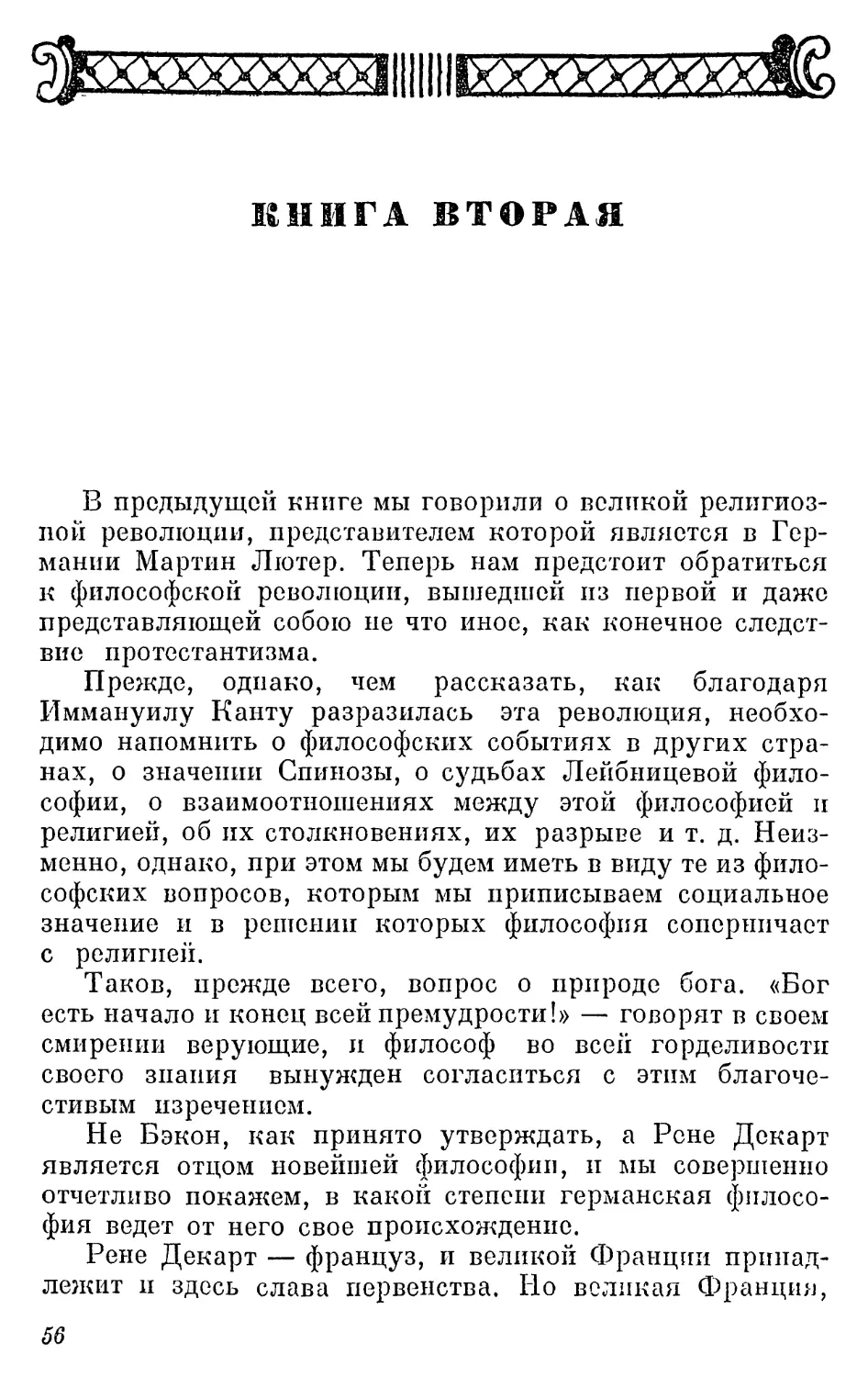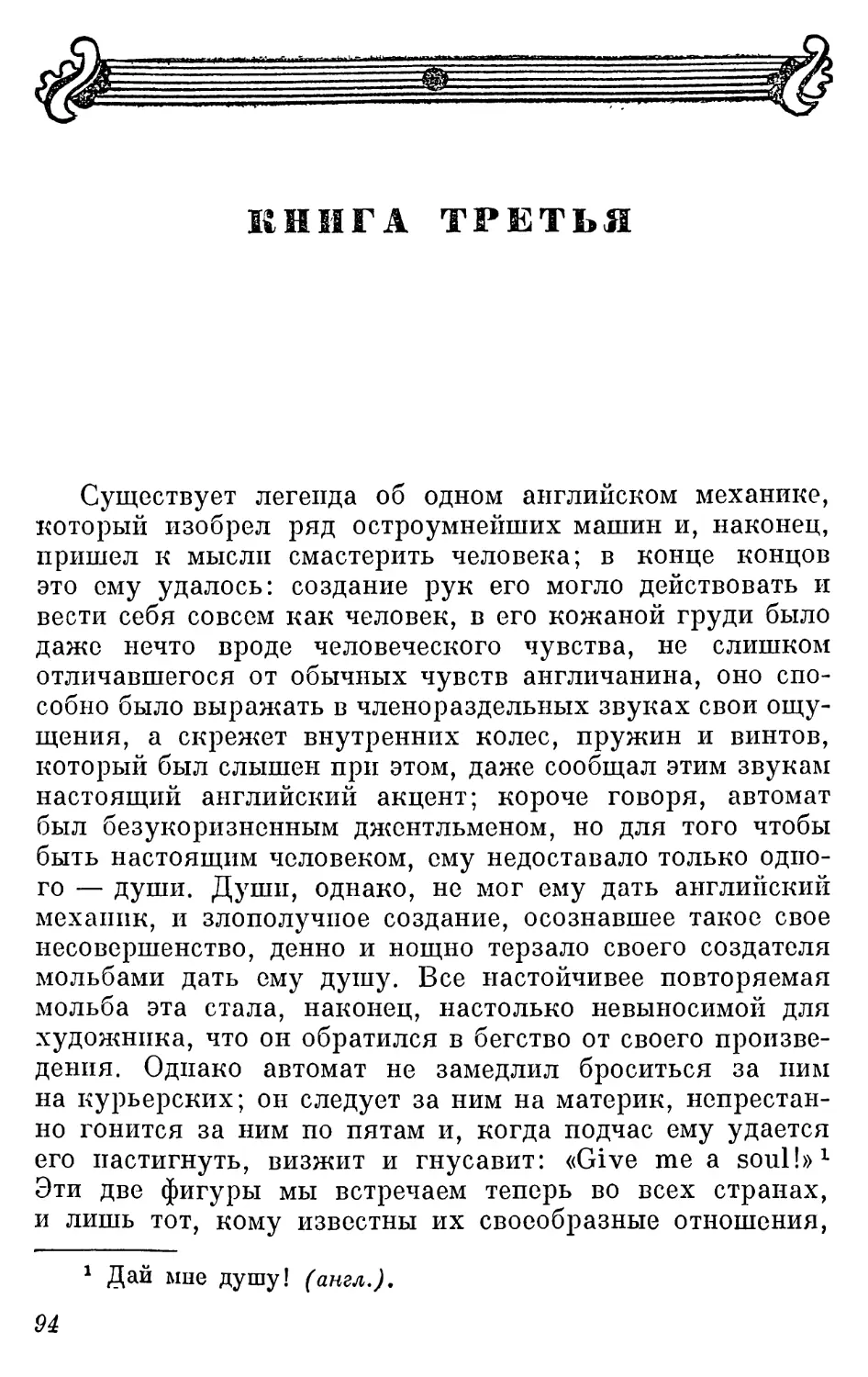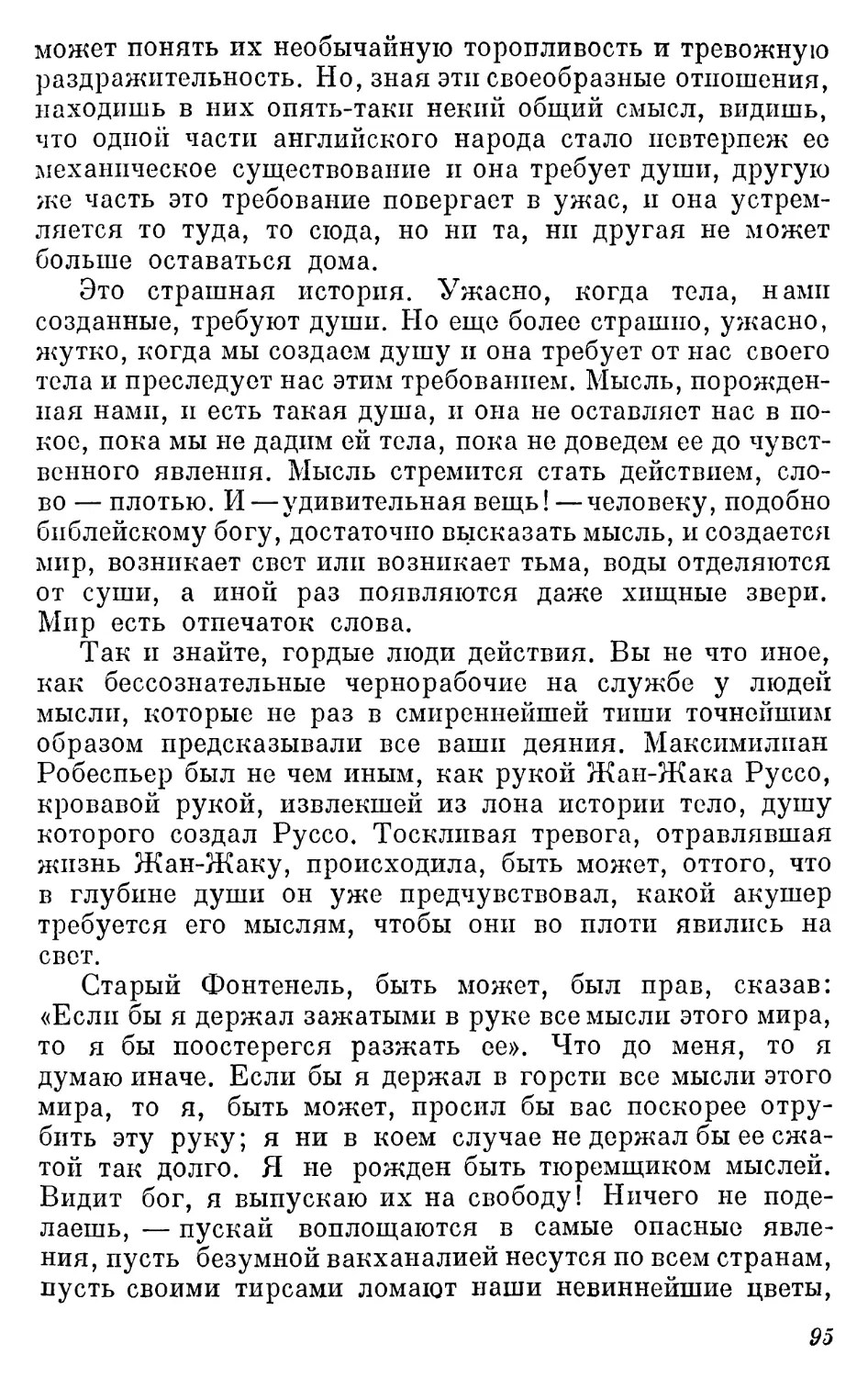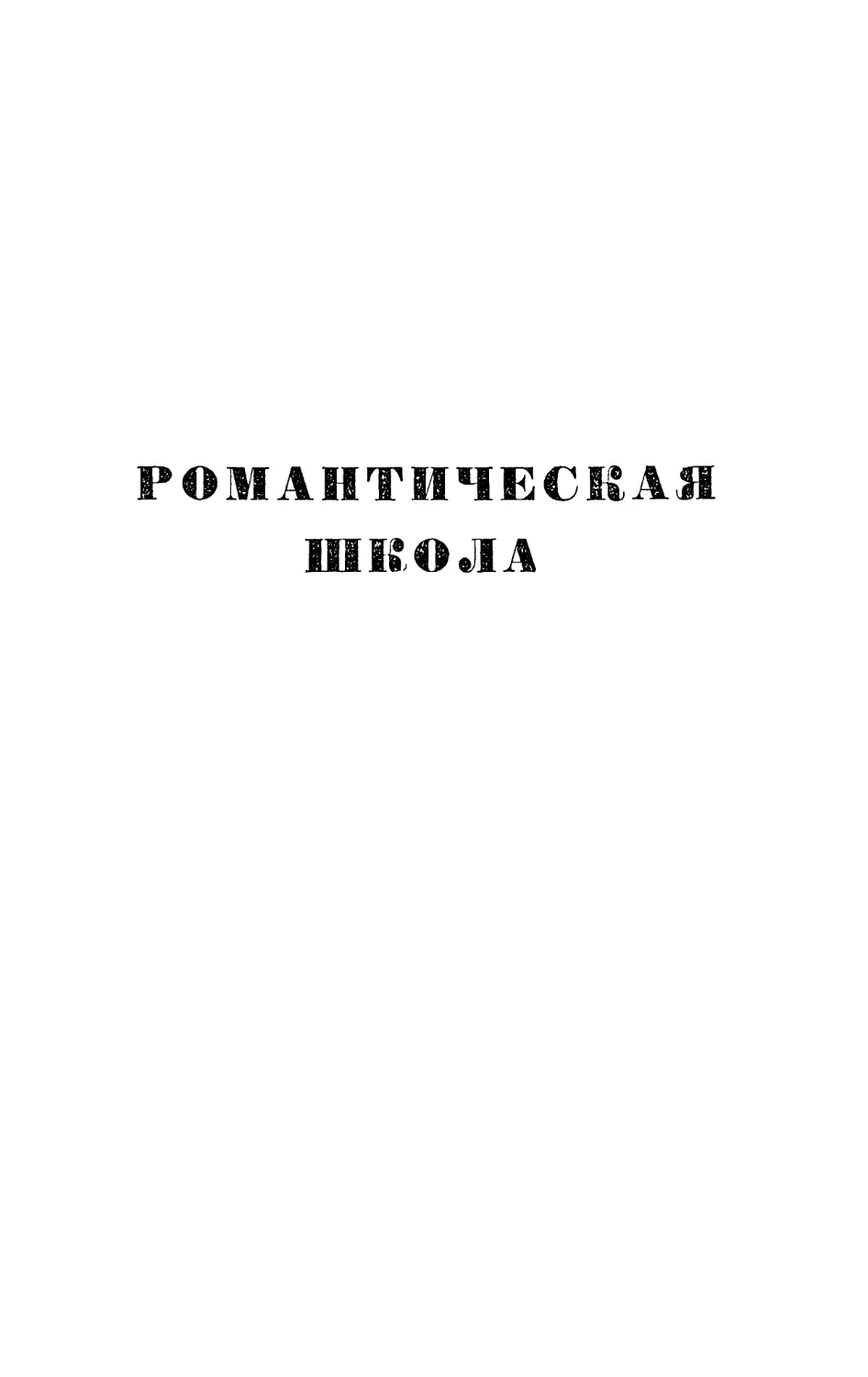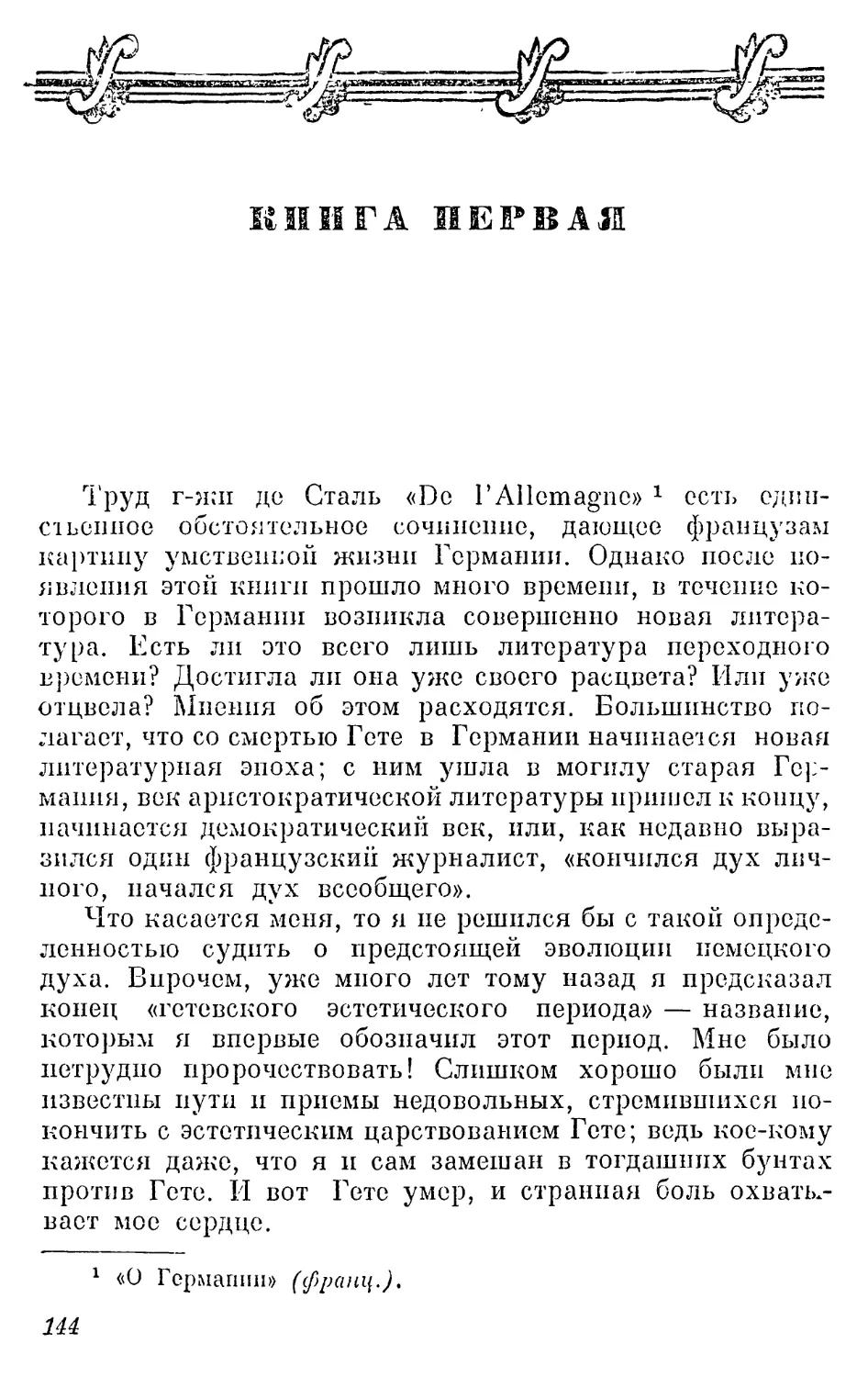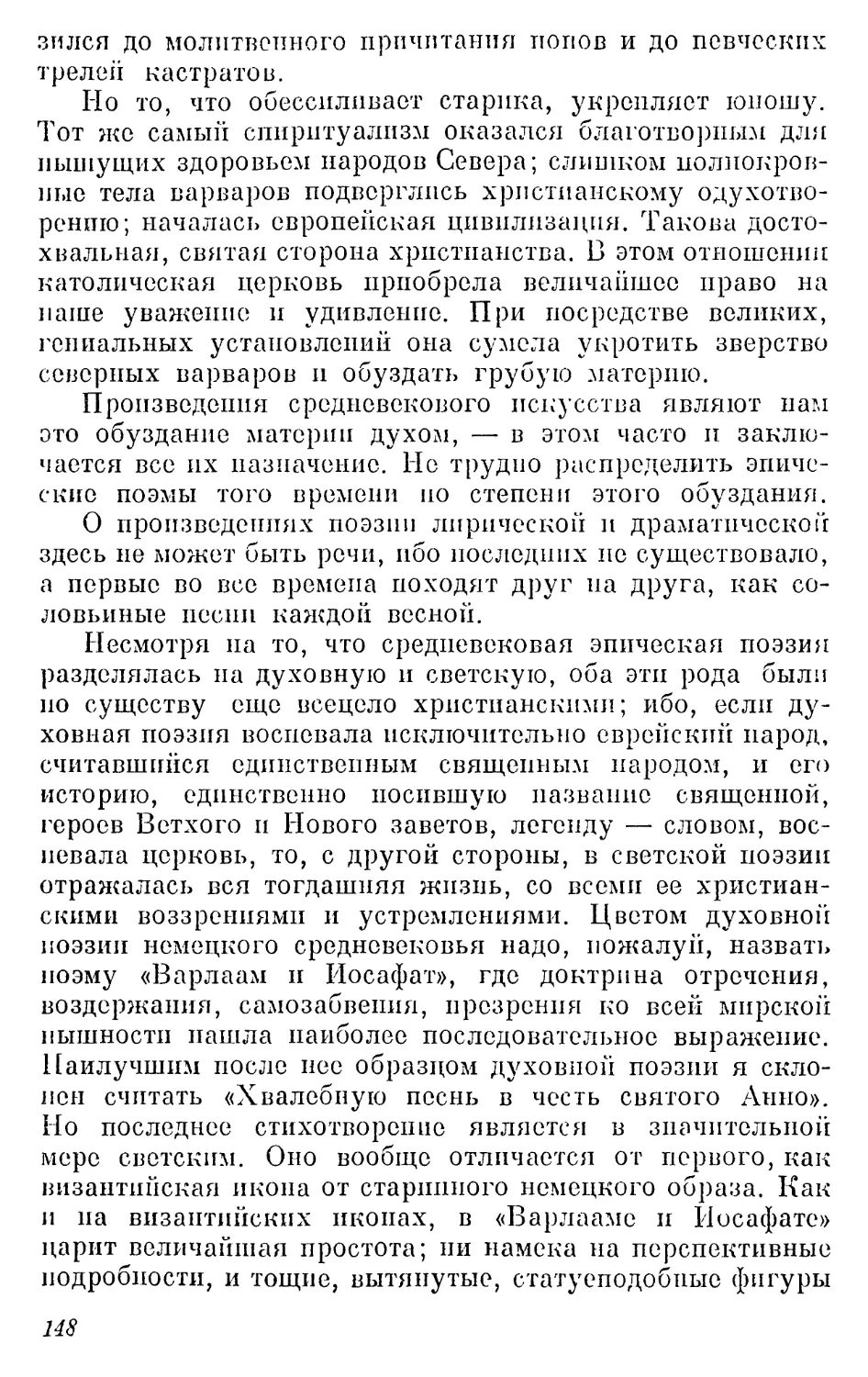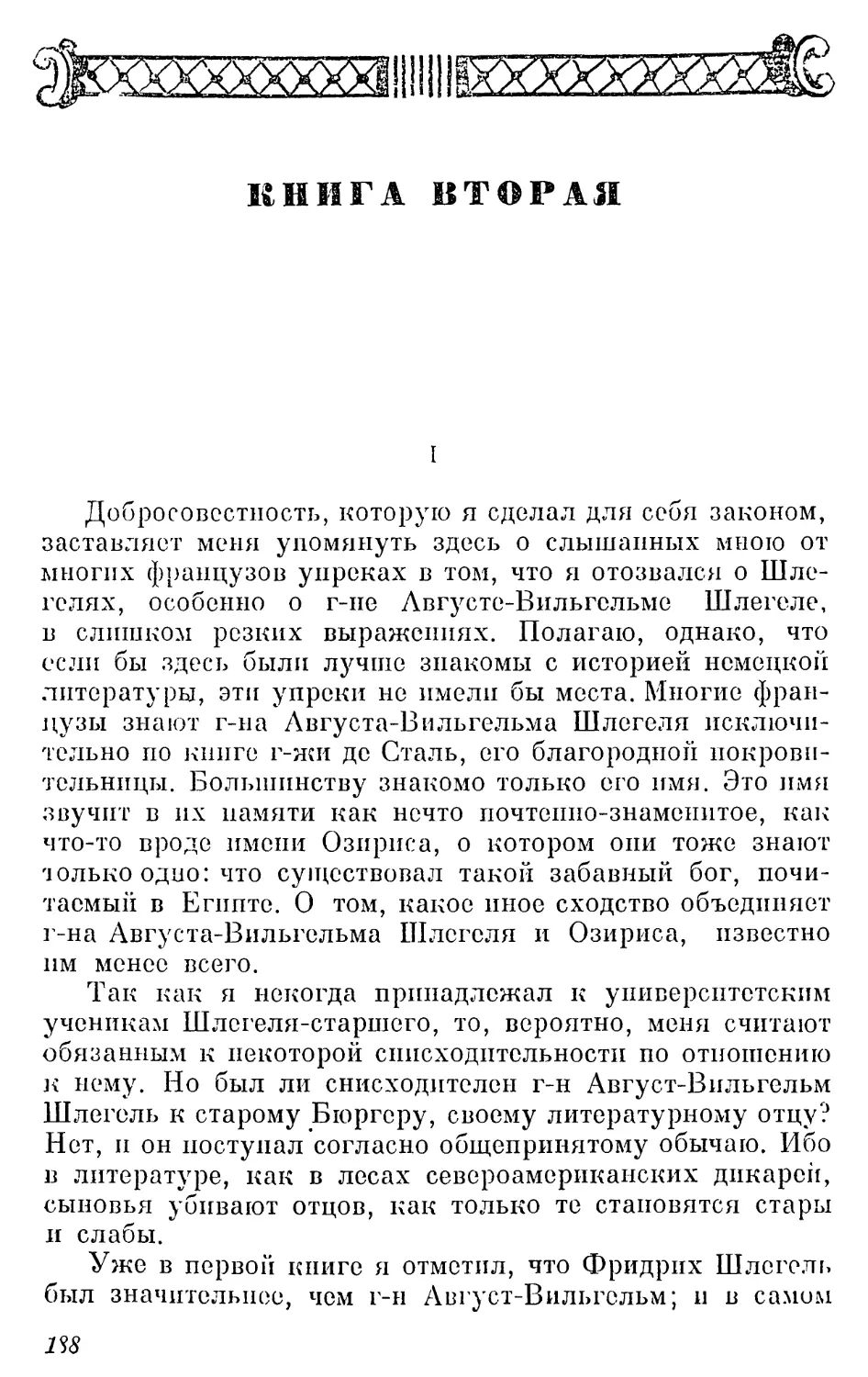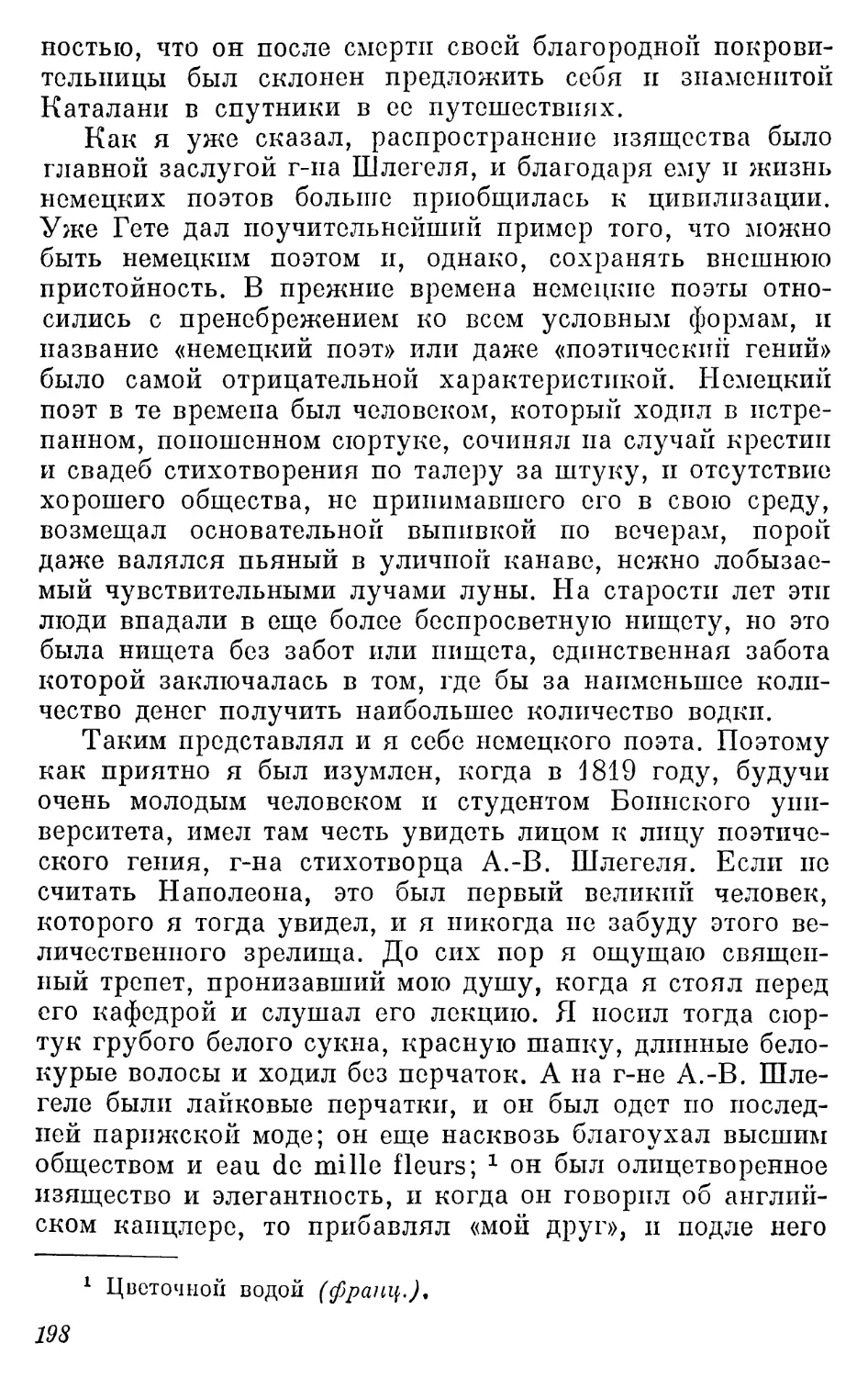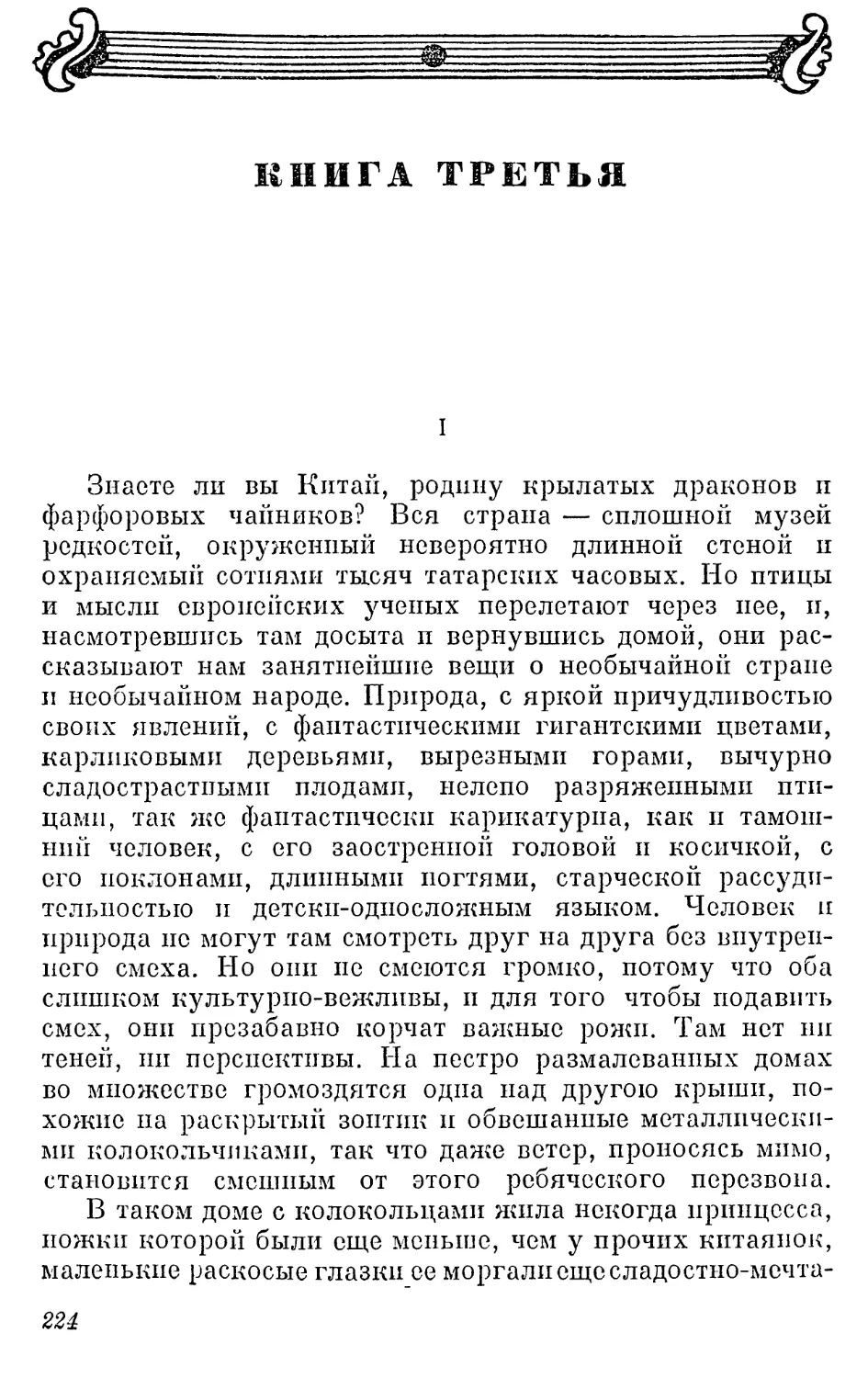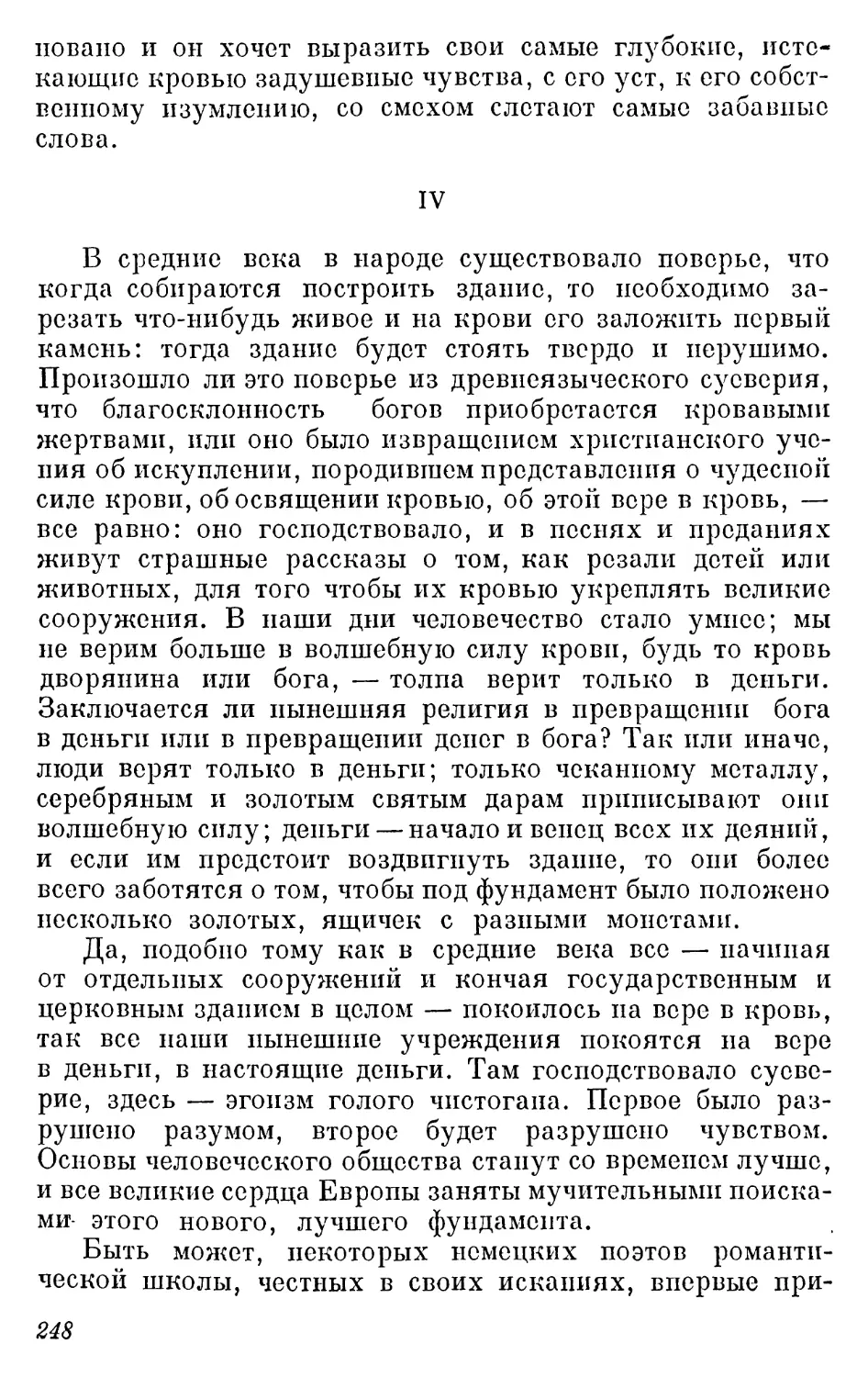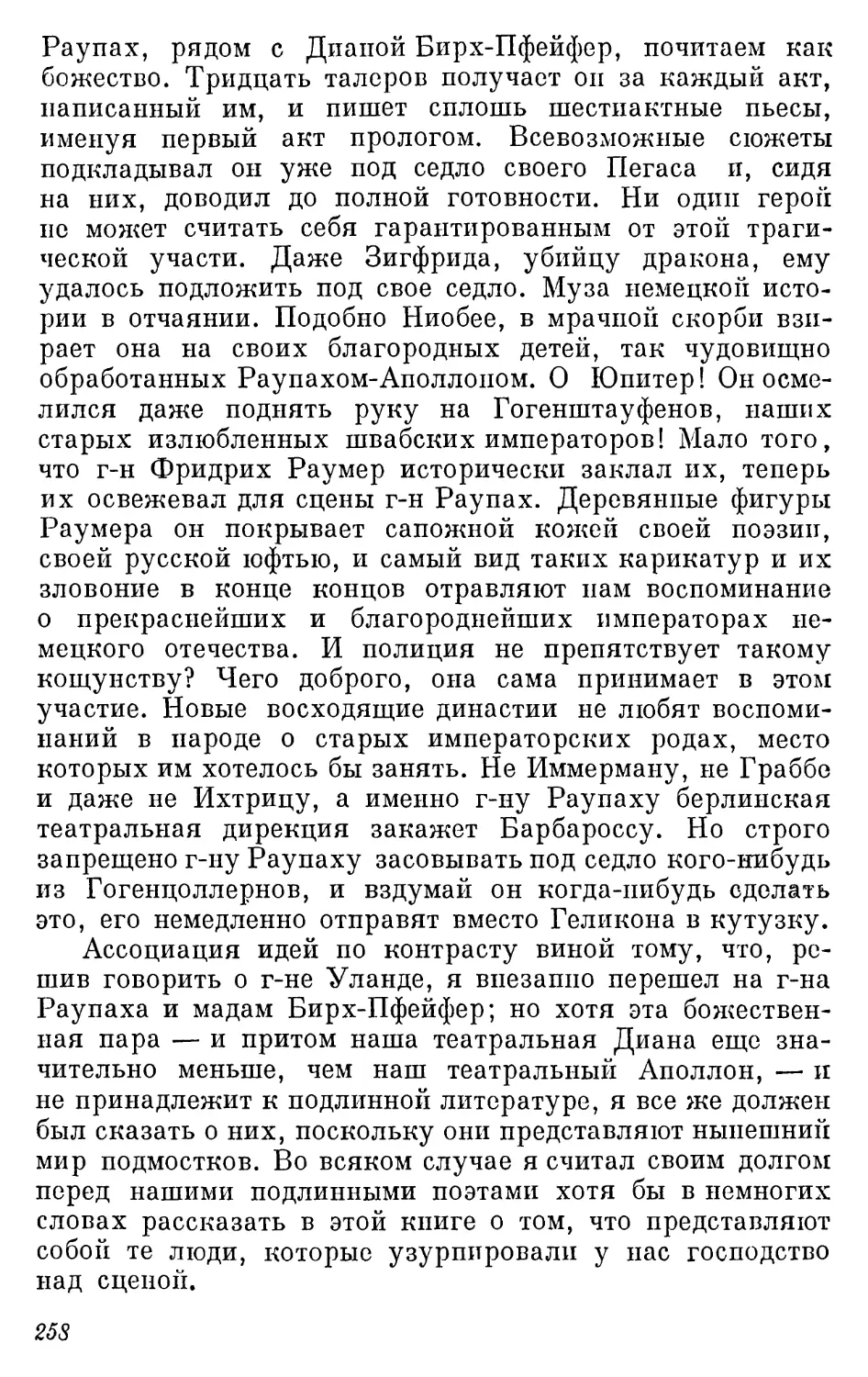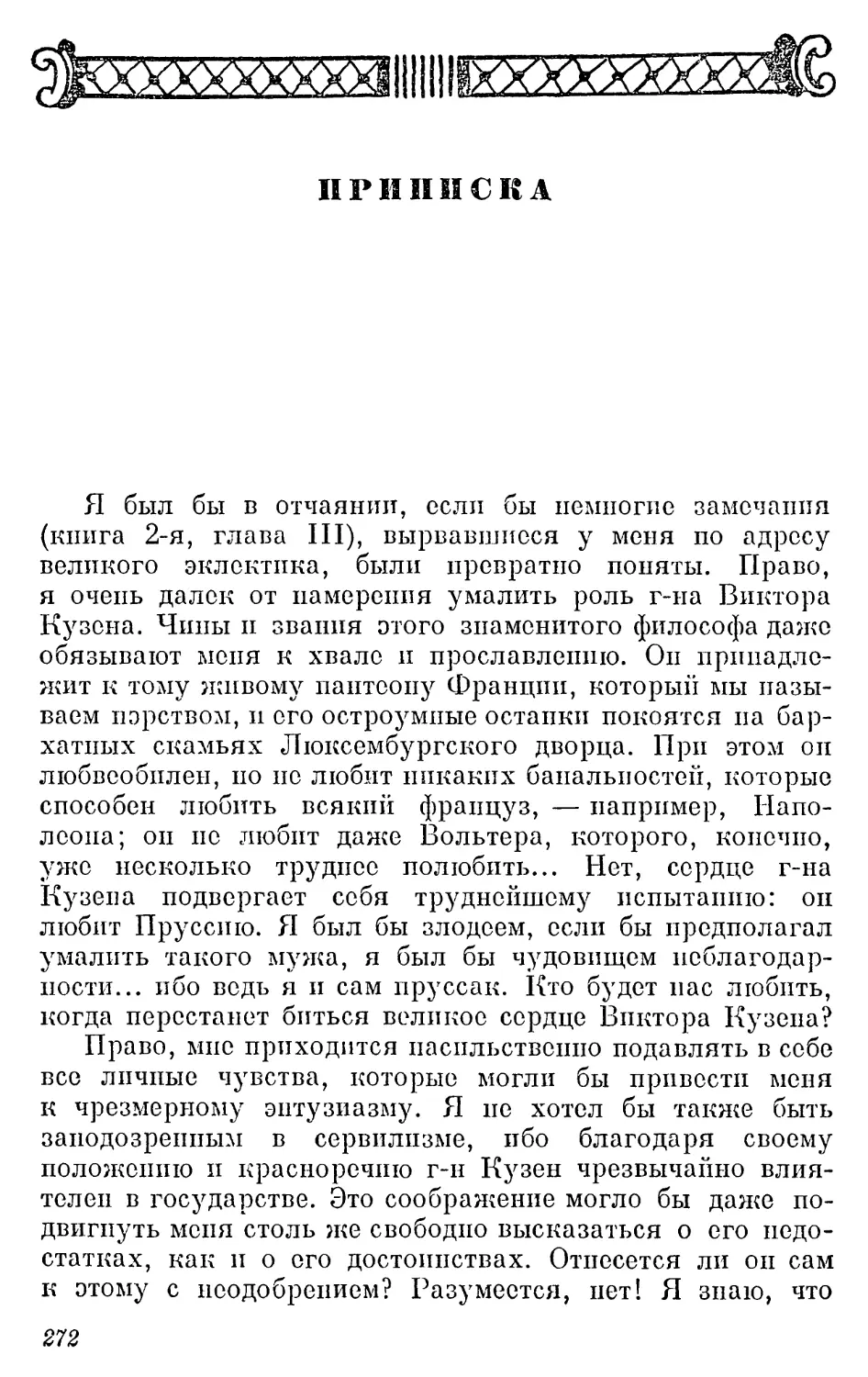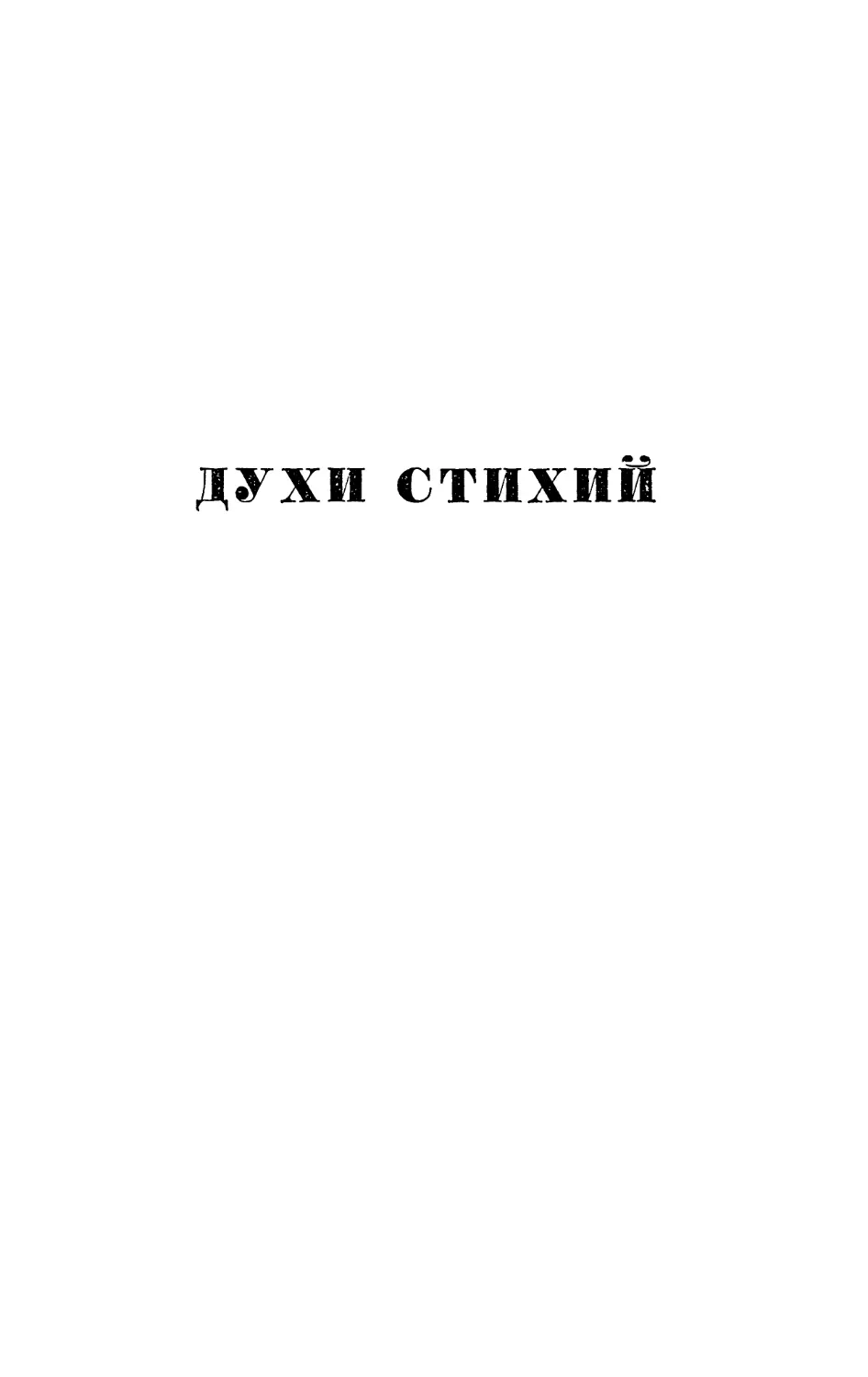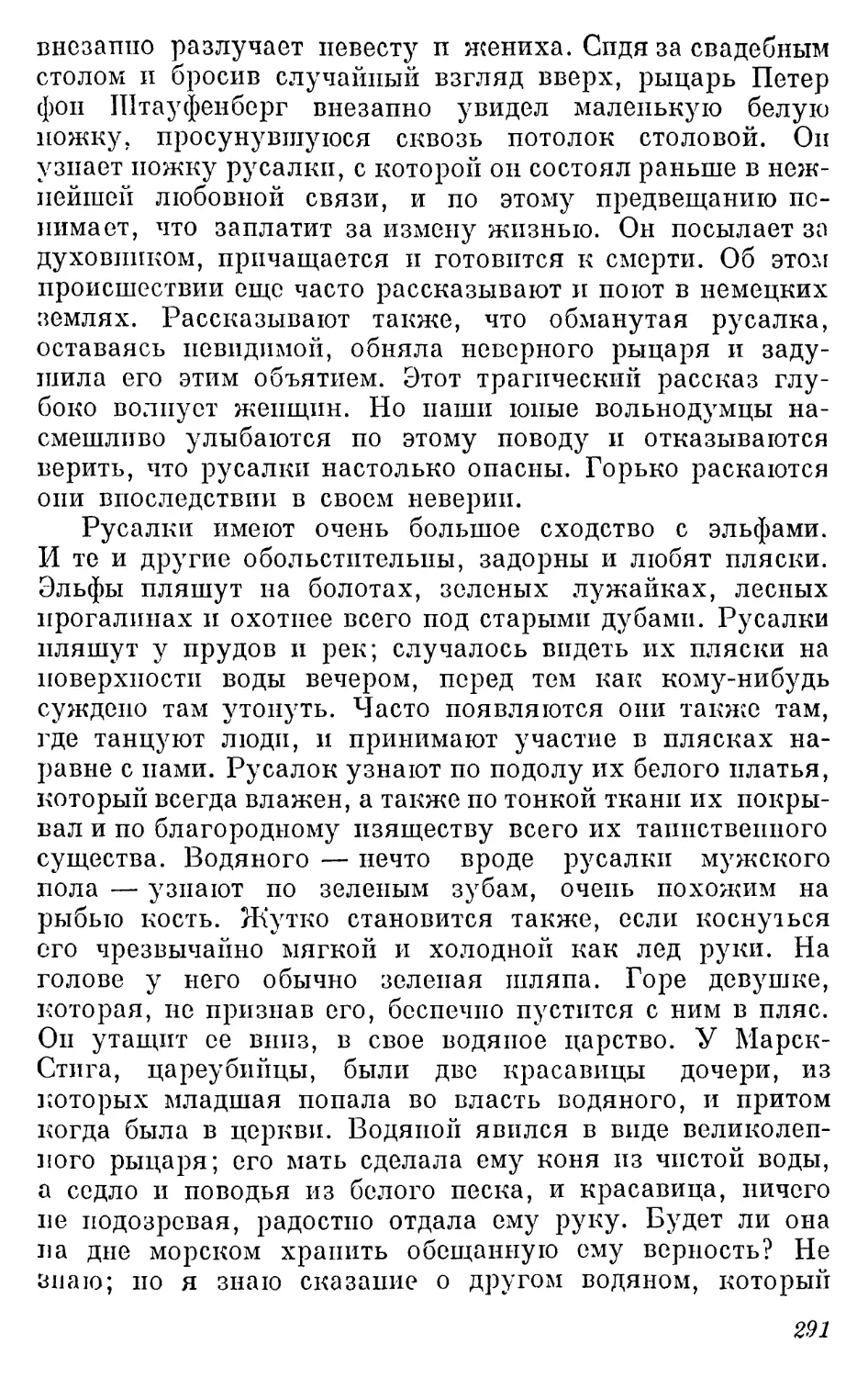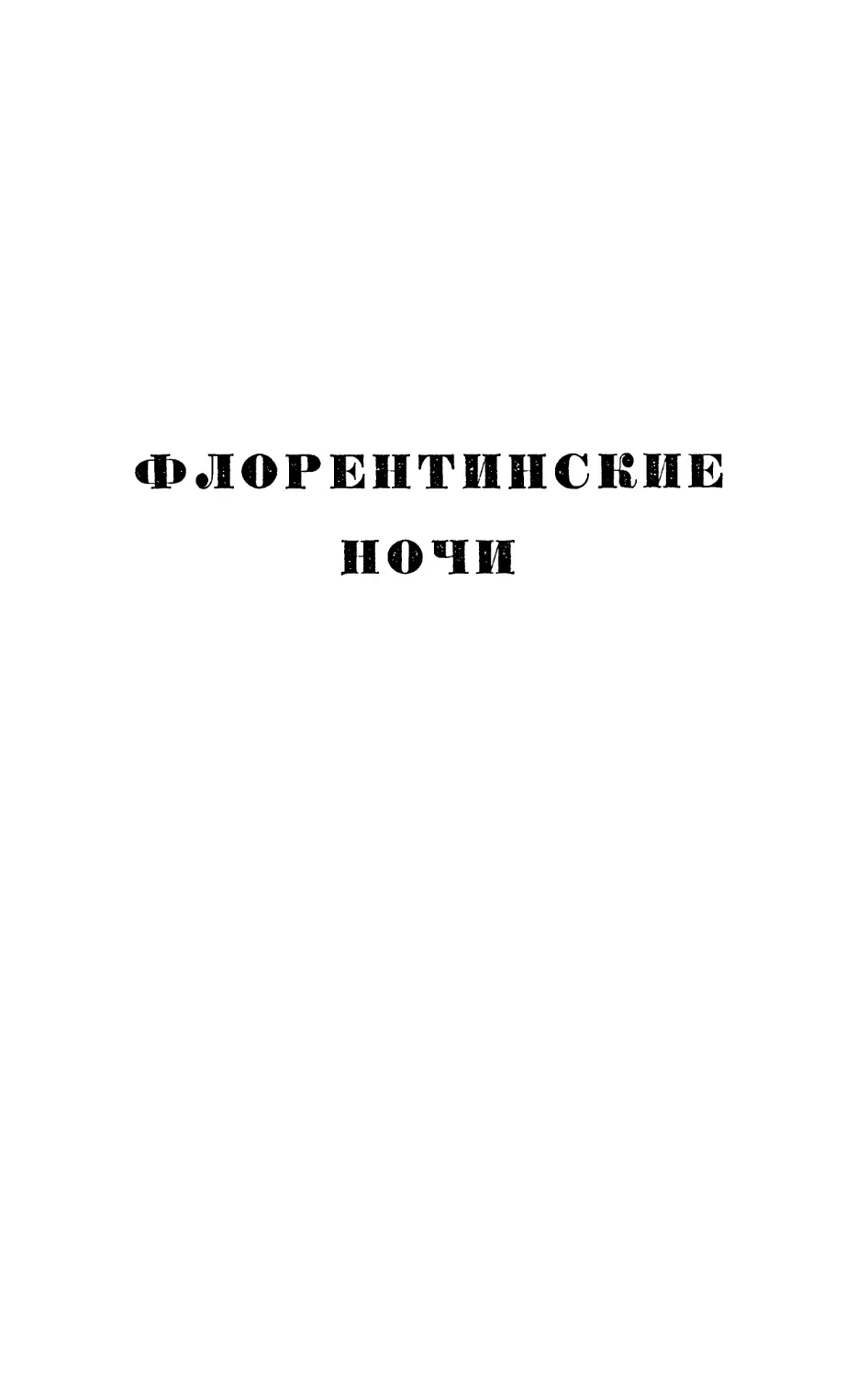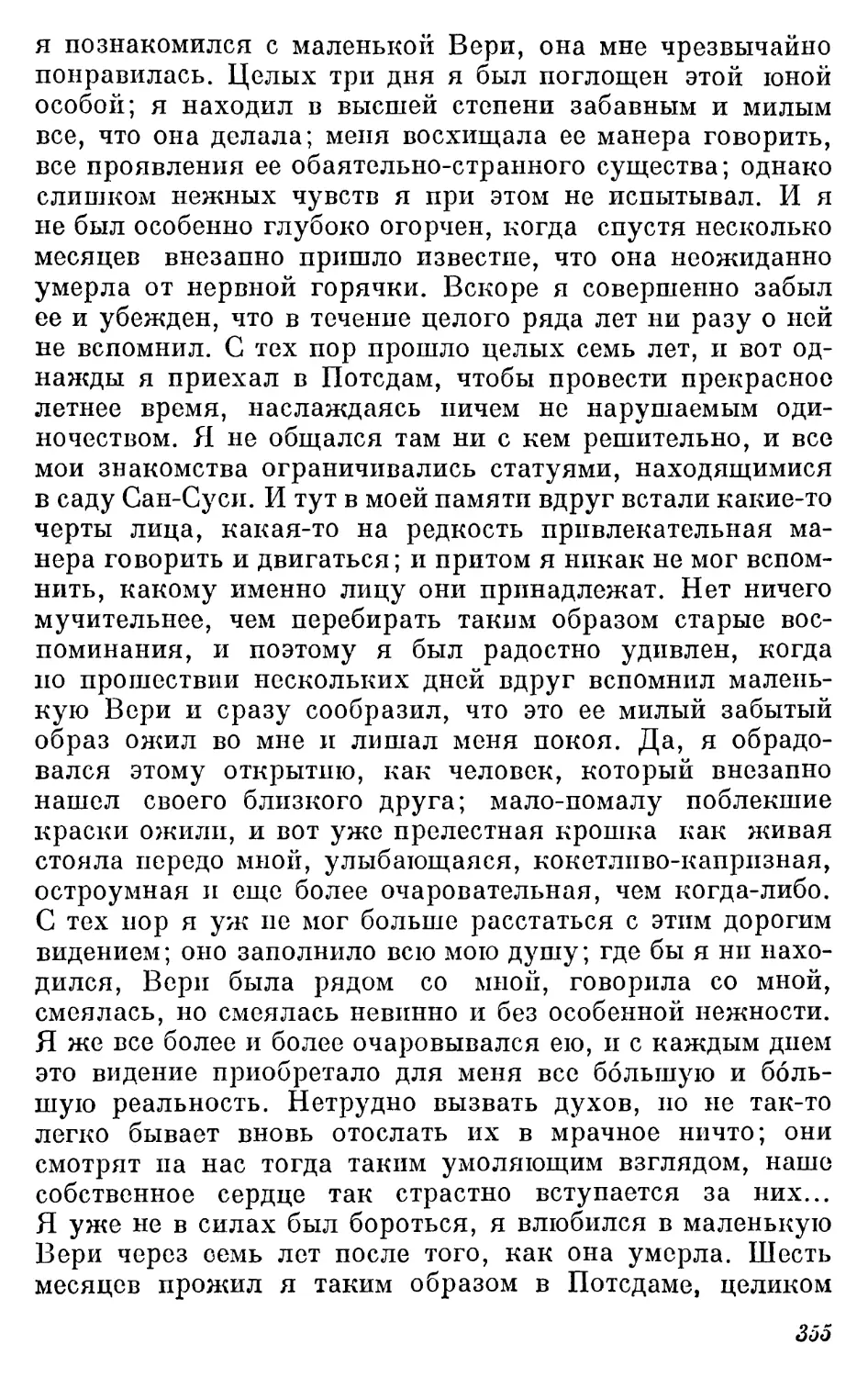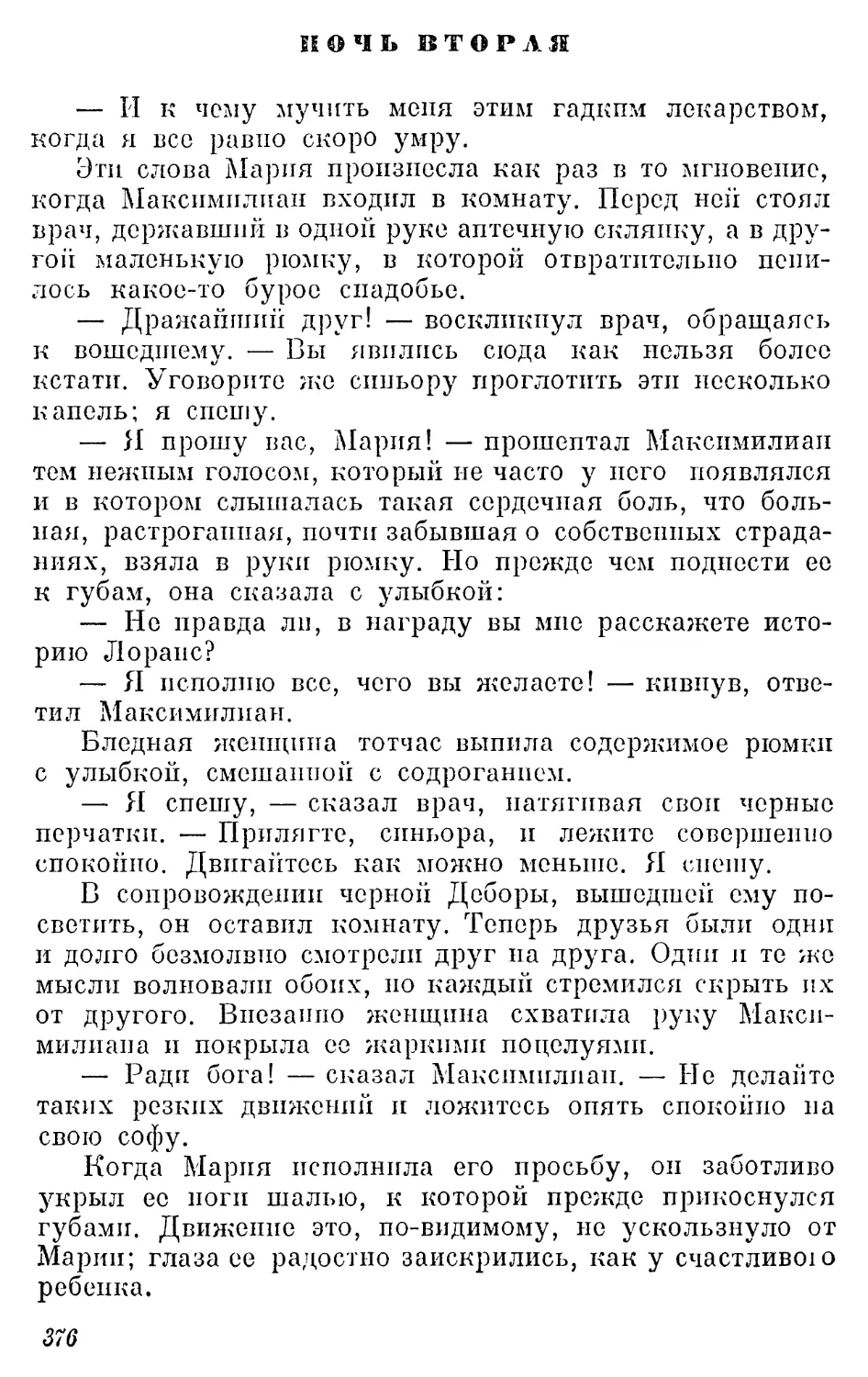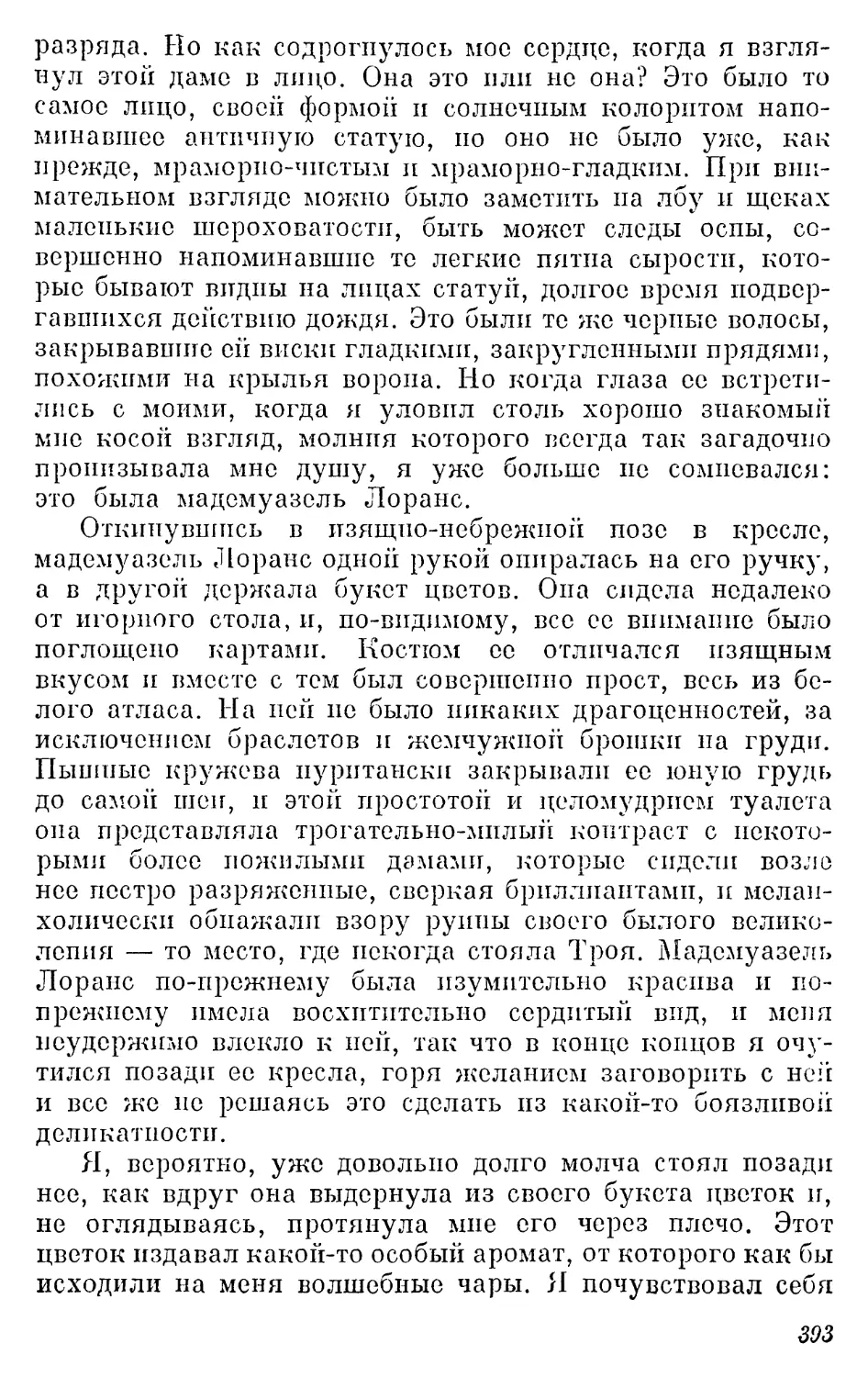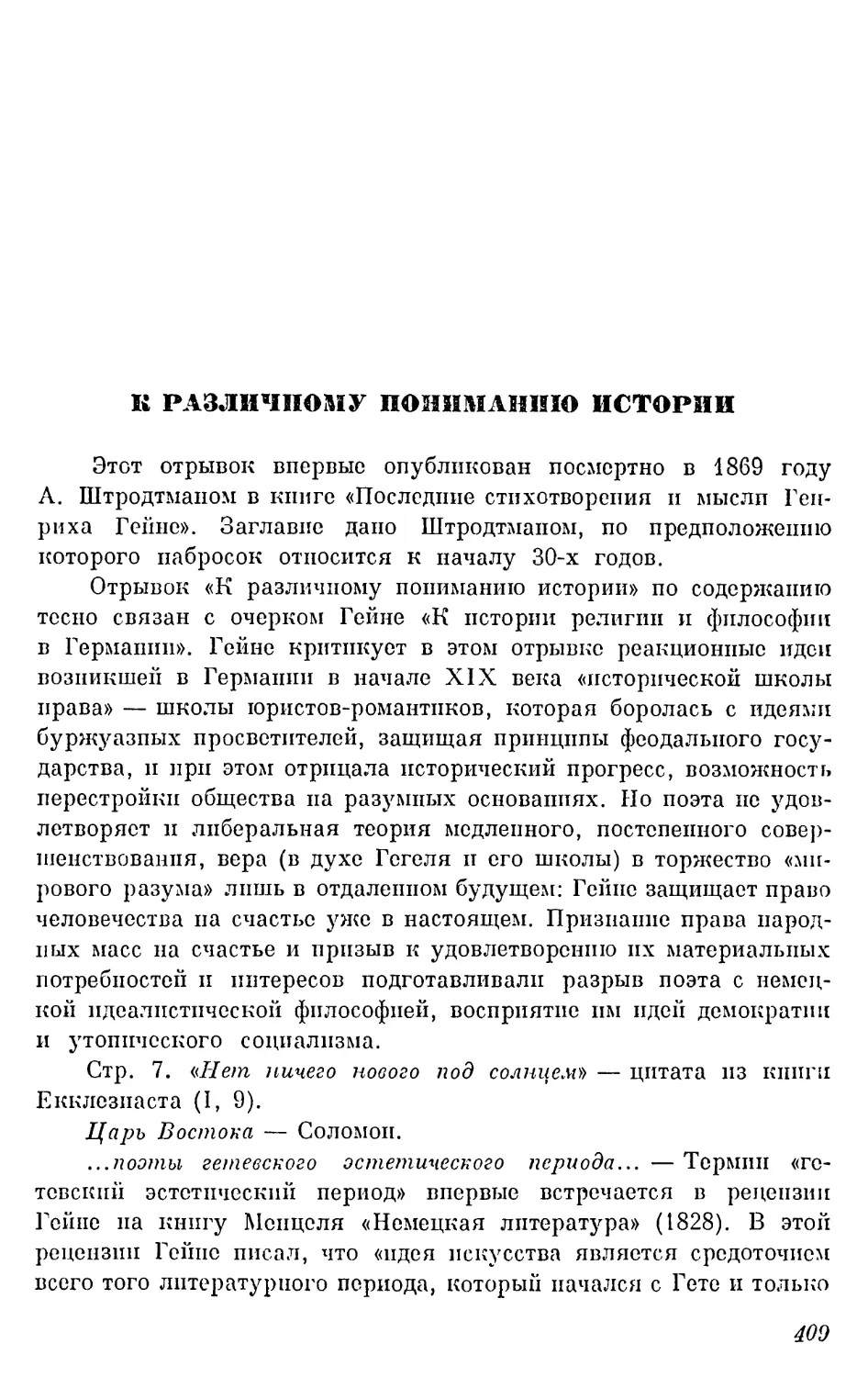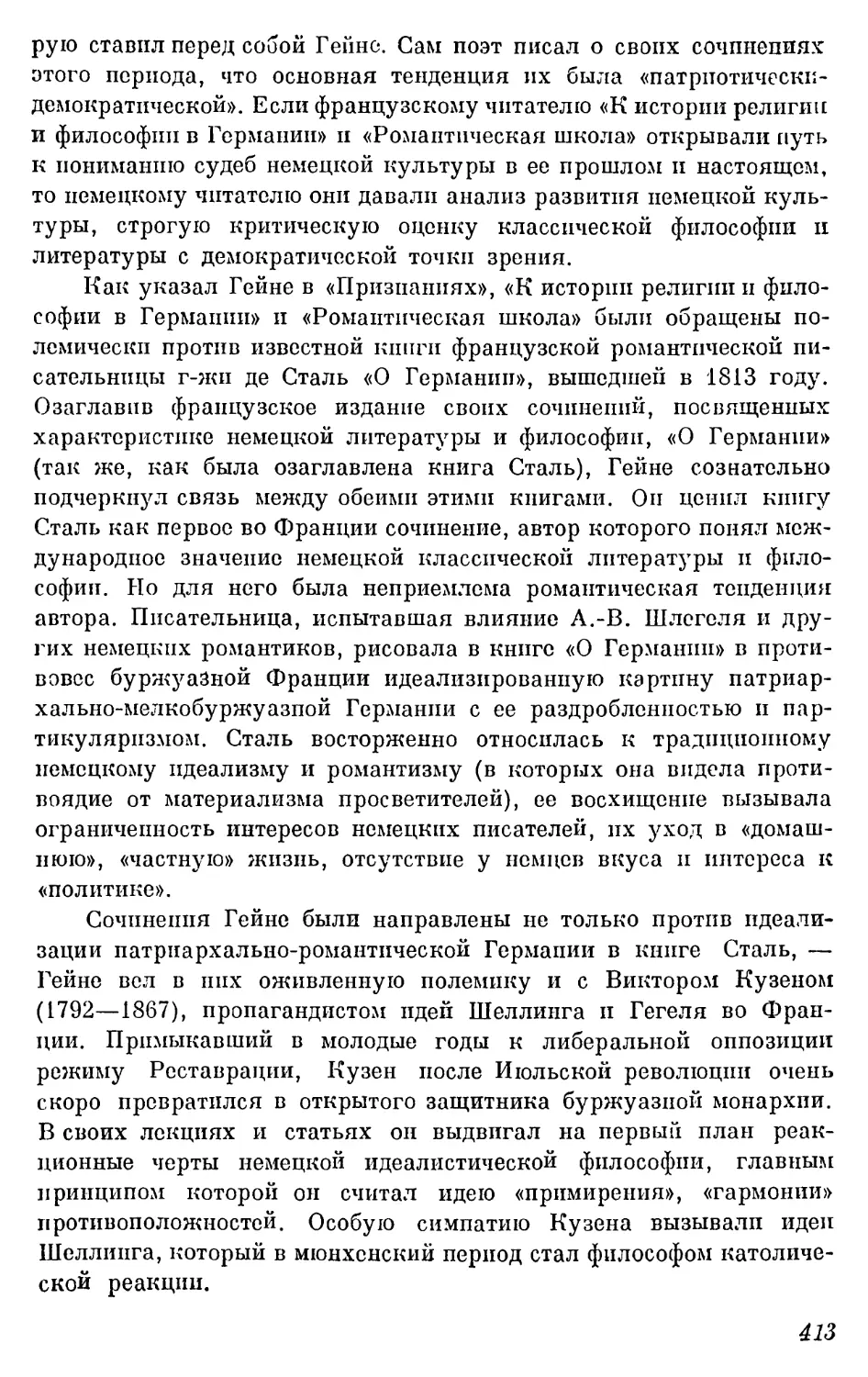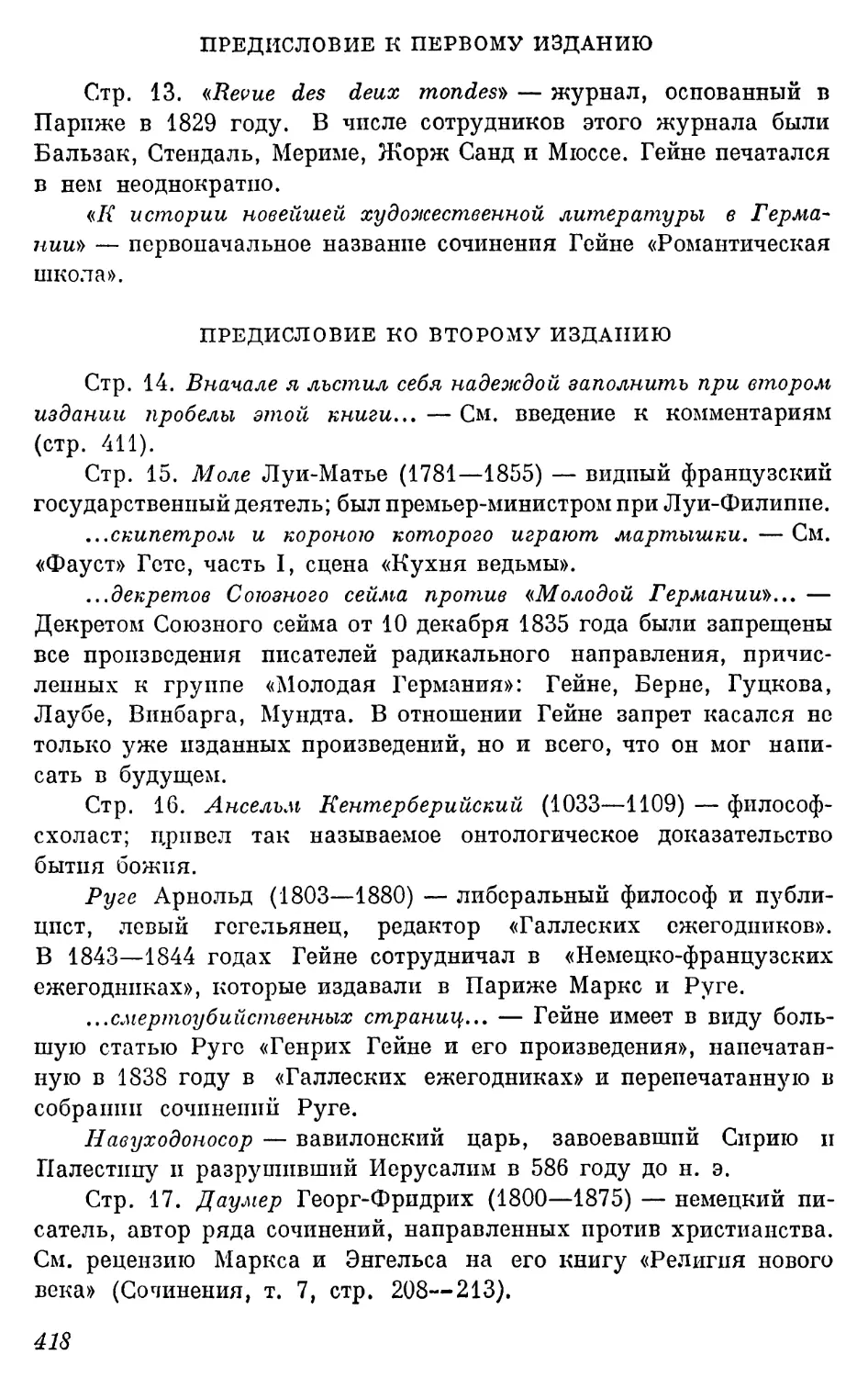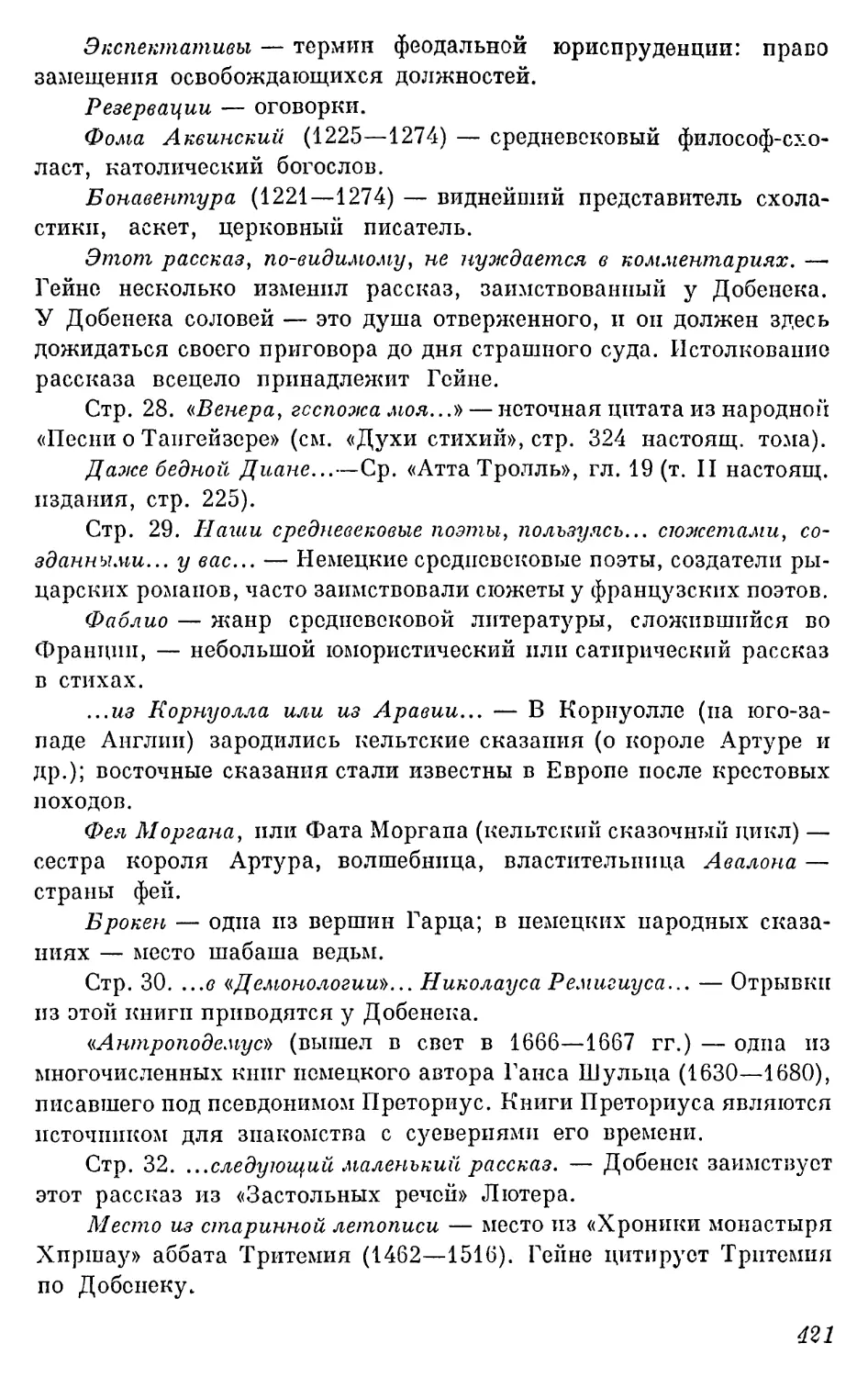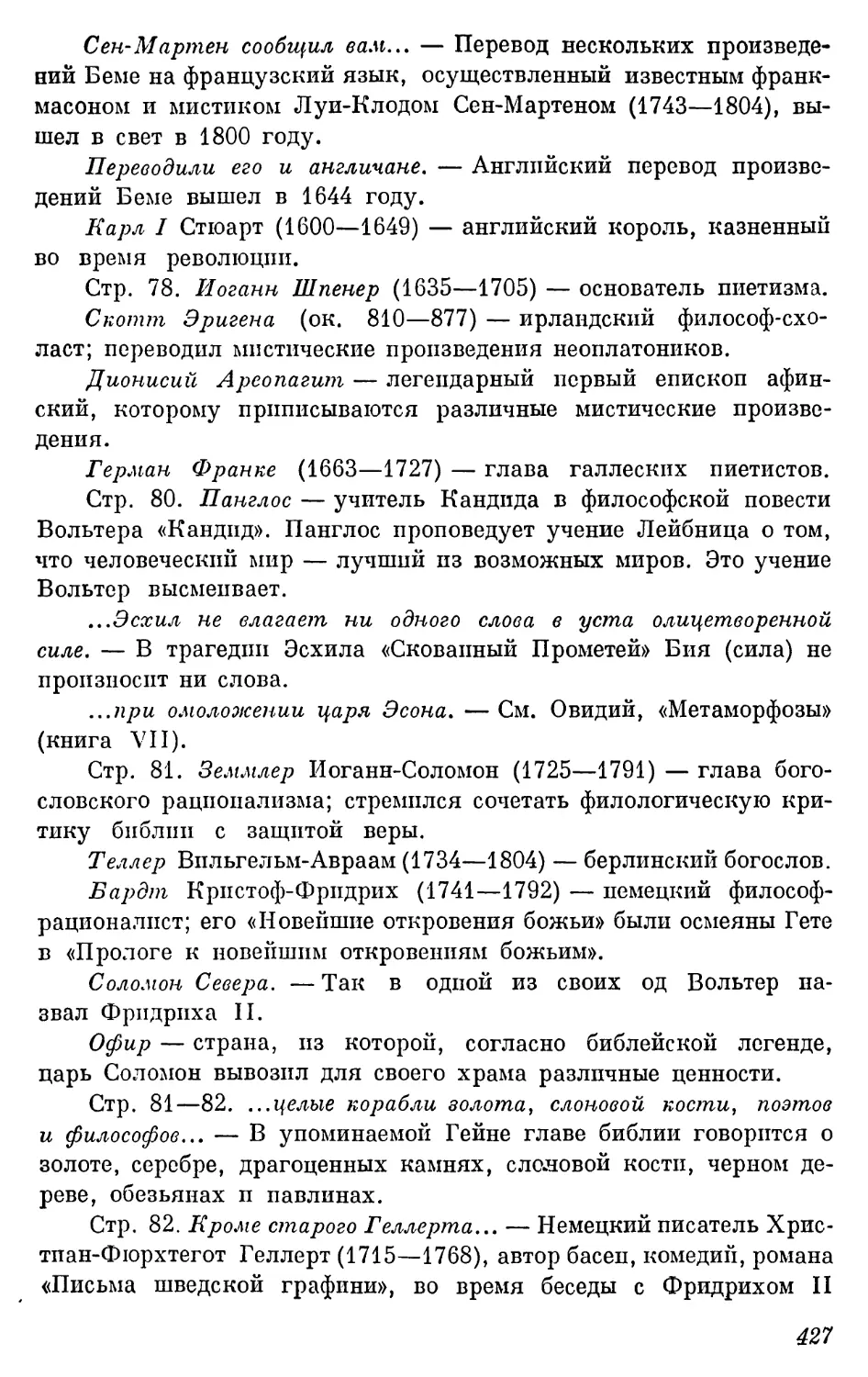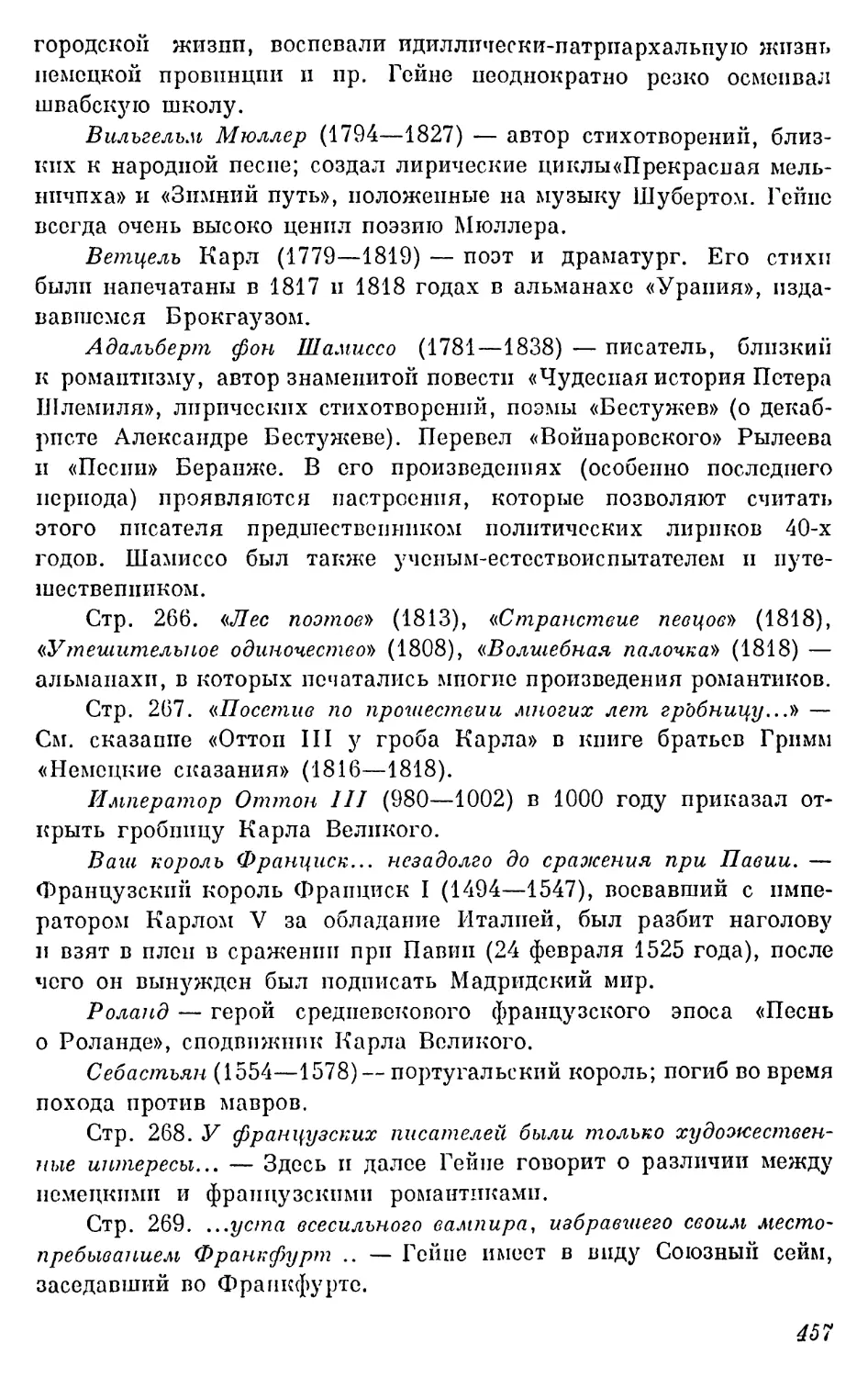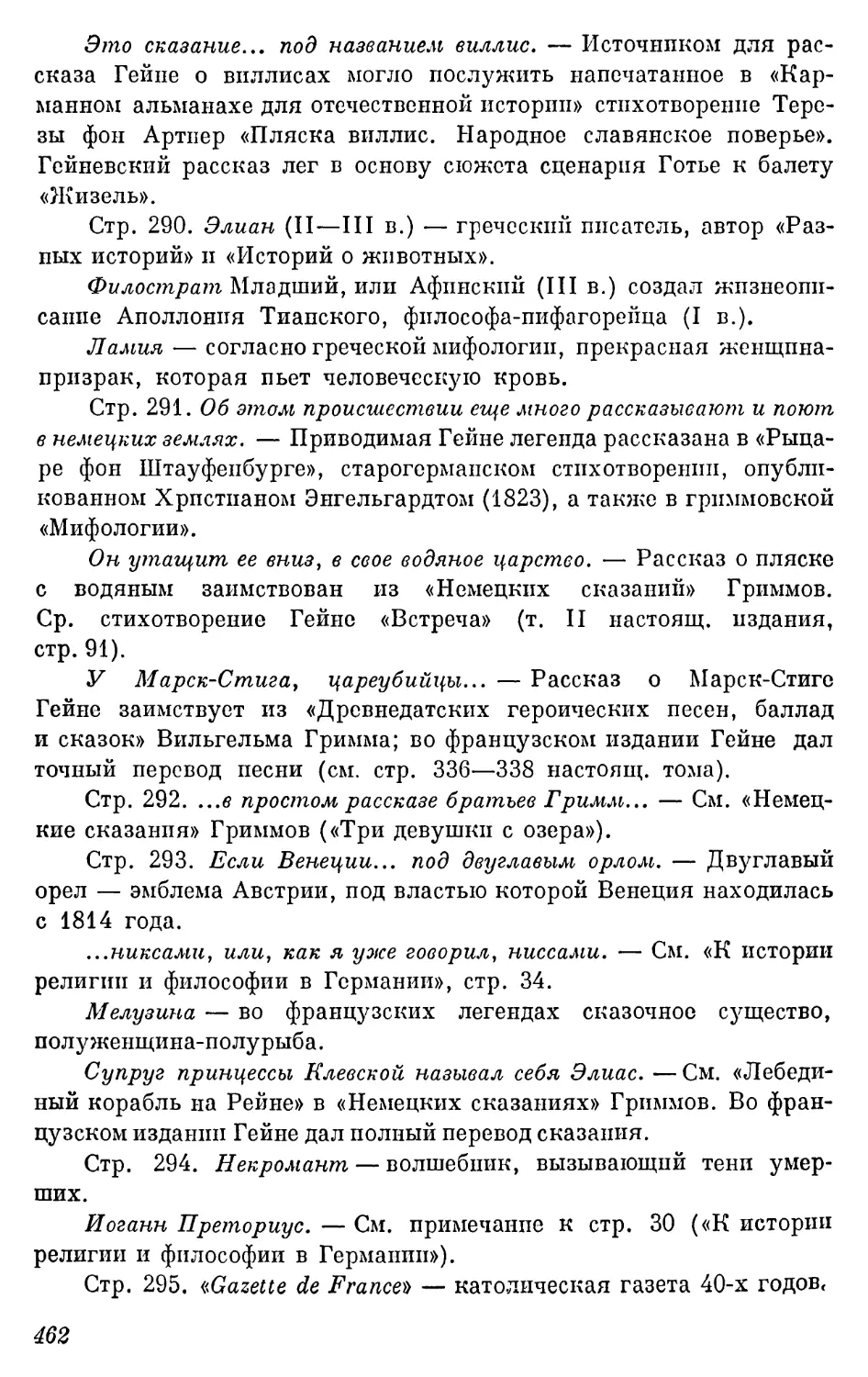Текст
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕ II II О Й
ЛИТЕРАТУРЫ
teunux 1ейне
M.
% СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.,,.
^ -J*
&
В ДЕСЯТИ ТОМАХ
Под общей редакцией
Н. Я. БЕРКОВСКОГО, В. М. ЖИРМУНСКОГО,
Я. М. МЕТАЛЛОВА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1958
leunux Jeune
том
6
К РАЗЛИЧНОМУ ПОНИМАНИЮ ИСТОРИИ
К ИСТОРИИ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ
В ГЕРМАНИИ
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ДУХИ СТИХИЙ
ФЛОРЕНТИНСКИЕ НОЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Редакция переводов
Т. И. СИЛЬМАН
Комментарии
МОРОЗОВА, Е. Ф. ПУРИЦ
Г. М. ФРИДЛЕЫДЕРА
Перевод с немецкого
К РАЗЛИЧНОМУ
ПОНИМАНИЮ
ИСТОРИИ
Книга истории встречает разнообразные толкования.
Два совершенно противоположных воззрения выступают
здесь с особенной отчетливостью. Одни во всех земных
вещах видят только безнадежный круговорот: в жизни
народов, как в жизни отдельных людей, как в органиче¬
ской природе вообще, они видят рост, расцвет, увядание и
смерть—весну, лето, осень и зиму. «Нет ничего нового под
солнцем» — таков их девиз; да и в нем тоже нет ничего
нового, так как уже две тысячи лет тому назад его, взды¬
хая, шепотом произнес царь Востока. Они пожимают
плечами по поводу нашей цивилизации, которая в конце
концов ведь опять уступит место варварству; они качают
головой, когда им напоминают о наших боях за свободу,
которые только способствуют появлению новых тиранов;
они посмеиваются над всеми порывами политического
энтузиазма, который собирается сделать мир лучше и сча¬
стливее, но в конце концов все же остывает и никаких
плодов не приносит; в мелочной летописи надежд, нужд,
злоключений, страданий и радостей, ошибок и разочаро¬
ваний, которые заполняют жизнь отдельного человека, —
в этой человеческой истории видят они историю челове¬
чества. В Германии особенной приверженностью этому
взгляду отличаются мудрецы исторической школы тл
поэты гетевского эстетического периода; последние обык¬
новенно пользуются им для того, чтобы подсластить и при¬
украсить свой сентиментальный индифферентизм по отно¬
шению ко всем вопросам политической жизни родины.
7
Одно достаточно хорошо известное северогерманское пра¬
вительство особенно ценит этот взгляд — ради его внед¬
рения оно отправляет в путешествие людей, которым над¬
лежит среди элегических руин Италии развить в себе
благодушно-успокоительный фатализм, чтобы потом, при
посредстве проповедников христианского смирения, уме¬
рять с помощью компрессов из холодных газетных про¬
стыней трехдневную лихорадку народного свободолюбия.
Что ж, кто не в состоянии вознестись вверх силой сво¬
бодного духа, тот пусть ползает по земле, а будущее по¬
кажет этому правительству, чего можно добиться пресмы¬
кательством и интригами.
Вышеизложенному фаталистическому взгляду проти¬
востоит другой, более светлый и более близкий к идее
промысла взгляд, согласно которому все земное созревает,
идя навстречу прекрасному совершенствованию, а вели¬
кие герои и героические времена — только ступени, веду¬
щие к высшему, богоподобному состоянию рода челове¬
ческого, нравственные и политические борения которого
в конце концов приводят к священнейшему миру, чистей¬
шему братству и вековечному блаженству. «Золотой век,—
слышим мы от апостолов этого взгляда, — не позади нас,
а перед нами; мы не изгнаны из рая пылающим мечом, а
должны завоевать его пылающим сердцем, любовью; не
смерть, а жизнь вечную дарит нам плод познания». «Ци¬
вилизация» — таков был в течение долгого времени их
девиз. В Германии подобного взгляда придерживалась
по преимуществу гуманитарная школа. Всем известно,
с какой определенностью стремится к тому же так назы¬
ваемая философская школа. Она чрезвычайно способство¬
вала исследованиям политических вопросов, и высшим
порождением этого взгляда является проповедь идеаль¬
ного государственного строя, который, целиком покоясь
на разумных основаниях, должен, в конечном итоге,
облагородить и осчастливить человечество. Полагаю,
что нет необходимости перечислять горячих поборников
этого взгляда. Их высокие порывы во всяком случае отрад¬
нее, чем изгибы низменного пресмыкательства; если при¬
дется нам когда-нибудь вступить с ними в бой, мы обнажим
для этого драгоценнейший почетный меч, а с пресмыкаю¬
щимся прислужником расправимся более подходящим для
него кнутом.
8
Оба взгляда, как я их обрисовал, не вполне отвечают
нашим наиболее жизненным чувствам; с одной стороны, мы
не хотим воодушевляться попусту и делать высшую ставку
на преходящее; с другой стороны, мы хотим, чтобы и на¬
стоящее не теряло своей цены и чтобы оно не считалось
только средством, а будущее — его целыо. И в самом деле,
мы чувствуем себя слишком значительными для того,
чтобы смотреть на себя лишь как на средство для достиже¬
ния какой бы то ни было цели; нам вообще представляется,
что цель и средство — только условные понятия, вложен¬
ные в природу и историю человеческим мудрствованием и
неизвестные творцу, ибо всякое создание имеет целыо
себя, и всякое событие обусловлено самим собою, и все,
подобно самому миру, существует и происходит ради са¬
мого себя. Жизнь не есть ни цель, ни средство — жизнь
есть право. Жизнь стремится осуществить это право в
борьбе с леденящей смертью, с прошлым, и это осуществ¬
ление права есть революция. Пусть в этой работе не ско¬
вывает нашу энергию элегический индифферентизм исто¬
риков и поэтов, и пусть фантастика утопистов не подби¬
вает нас ставить на карту интересы дня и прежде всего
нуждающееся в защите человеческое право — право на
жизнь. «Le pain est le droit du peuple», 1 — сказал
Сен-Жюст, и это — величайшие слова, сказанные за всю
революцию.
1 Хлеб есть право народа (франц.).
К ИСТОРИИ
РЕЛИГИИ
И ФИЛОСОФИИ
В ГЕРМАНИИ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Считаю нужным обратить внимание немецких читателей
па то, что статьи эти первоначально были написаны для
французского журнала «Revue des deux mondes» 1 и имели
перед собой определенную задачу, а именно: они относи¬
лись к обзору событий немецкой духовной жизни, некото¬
рые части которого были уже мною опубликованы для
французских читателей и появились также на немецком
языке под заглавием «К истории новейшей художествен¬
ной литературы в Германии». Требования, предъявляемые
периодической печатью, ее затруднительное финансовое
положение, недостаток научных пособий, неудобства,
связанные с моим пребыванием во Франции, недавно
обнародованный в Германии и примененный только ко
мне закон об изданиях, вышедших за границей, и тому
подобные осложняющие обстоятельства — все это не дало
мне возможности расположить различные части этого
обзора в хронологической последовательности и дать его
под общим заглавием. Таким образом, книга эта, несмотря
на внутреннее единство и внешнюю завершенность, яв¬
ляется лишь отрывком некоего большего целого.
Я шлю моей родине самый дружеский привет.
Написано в Париже в декабре 1834 года.
Генрих Гейне
1 «Обозрение Старого и Нового света» (франц.), (См, ком¬
ментарии.)
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Взяв после появления первого издания этой книги
один экземпляр в руки, я пришел в немалый ужас от мно¬
жества искажений, кишевших повсюду. Здесь недоставало
прилагательного, там вводного предложения, выпущены
были целые отрывки, без учета общей связи, так что ме¬
стами исчезала не только мысль, но и общее направление
мыслей. Не столько страхом божиим, сколько страхом
кесаревым была направляема рука, виновная в этих
искажениях; трусливо вычеркивая все политически щекот¬
ливое, она пощадила все самое рискованное по отношению
к религии. Так исчезло основное направление этой книги,
по существу патриотически-демократическое, и жутким
призраком уставился на меня из книги дух, мне совершен¬
но чуждый, вызывающий в памяти схоластико-теологиче-
ские словопрения и глубоко противный моей гуманисти¬
чески терпимой натуре.
Вначале я льстил себя надеждой заполнить при втором
издании пробелы этой книги; но никакое восстановление
текста теперь невозможно, так как во время большого
пожара в Гамбурге рукописный подлинник погиб в доме
моего издателя. Память моя слишком слаба, чтобы
восстановить погибшее; к тому же, состояние моих глаз
не позволило бы мне взяться за внимательный пере¬
смотр всей книги. Поэтому я довольствуюсь тем, что пере¬
вожу обратно с французского варианта, напечатанного
ранее немецкого, некоторые наиболее обширные из выпу¬
щенных мест и вставляю их в текст. Одно из них, перепе-
14
чатанное многими французскими газетами, подвергав¬
шееся обсуждению и упомянутое в прошлом году во фран¬
цузской палате депутатов одним из крупнейших государ¬
ственных деятелей Франции, графом Моле, помещено
в конце этого нового издания; пусть оно покажет, есть ли
какая-нибудь доля правды в том «принижении и развен¬
чивании» Германии в глазах иностранцев, в котором я, по
уверениям некоторых честных людей, будто бы провинился.
Если я и выразил свое недовольство старой офи¬
циальной Германией, заплесневелой страной филисте¬
ров, 1 — не создавшей, впрочем, ни одного Голиафа, ни
одного великого человека, — то эти мои слова умудри¬
лись представить в таком виде, как будто здесь шла речь
о подлинной Германии, о великой, таинственной, так ска¬
зать, безымянной Германии народа германского, спящего
суверена, скипетром и короною которого играютмартышки.
Такая клевета была тем легче для этих честных людей, что
я в продолжение долгого времени был почти совершенно
лишен возможности высказываться по поводу моих подлин¬
ных убеждений, в особенности после появления декретов
Союзного сейма против «Молодой Германии», направлен¬
ных главным образом против меня и поставивших меня в
исключительно трудное положение, какого не знала до
той поры история рабства печати. Когда впоследствии я
получил возможность несколько ослабить намордник,
мысли мои все еще оставались стесненными.
Предлагаемая книга есть фрагмент и фрагментом оста¬
нется. Сказать по совести, мне было бы приятнее совсем не
отдавать ее в печать. Дело в том, что после ее появления
мои взгляды на некоторые вопросы, особенно на вопросы
религиозные, изменились существенным образом, и многое
из сказанного мною противоречит моим нынешним убежде¬
ниям. Но подобно тому, как раз выпущенная стрела, рас¬
ставшись с тетивой, выходит из-под власти стрелка, так
и слово, слетевшее с уст, не принадлежит сказавшему его,
особенно если оно распространено по свсту печатью.
Кроме того, не печатать этой книги и исключить ее из
полного собрания моих сочинений — значило бы нарушить
чужие права, с точки зрения которых мне могли быть
1 Игра слов: Philister означает по-немецки «филистимлянин»
и «филистер».
15
сделаны возражения весьма принудительного характера.
Я, конечно, мог бы, как делают некоторые писатели в
подобных случаях, прибегнуть к смягчению выражений,
к прикрытию фразой, но я всей душой ненавижу двусмы¬
сленные слова, лицемерные цветочки, трусливые фиговые
листки. Но во всяких обстоятельствах у честного человека
остается неотъемлемое право открыто признать свои
заблуждения, и этим правом я хочу здесь безбоязненно
воспользоваться. Поэтому я безоговорочно признаю, что
все относящееся в этой книге к великому вопросу о бо¬
жестве столь же ложно, сколь необдуманно. Равным об¬
разом ложно и необдуманно повторенное мною вслед за
школой утверждение, будто теория совершенно покончила
с деизмом и лишь в мире явлений он влачит свое жалкое
существование. Нет, неправда, будто критика разума,
опровергнув доказательства бытия божьего, известные нам
со времен Ансельма Кентерберийского, положила конец и
самому бытию божьему. Деизм живет, живет самой живу¬
чей жизнью, он не умер, и менее всего убила его новейшая
немецкая философия. Эта паутинообразная берлинская
диалектика неспособна выманить собаку из-под печки,
она неспособна даже кошку убить, не то что бога. На
самом себе я испытал, как безопасны ее смертоносные
удары; она только и делает, что убивает, а жертвы ее
продолжают жить. Некогда швейцар гегелевской школы,
лютый Руге, твердо и бесповоротно объявил в «Галлеских
ежегодниках», что убил меня насмерть своей приврат-
ничьей булавой, и, однако, в это самое время я разгуливал
по парижским бульварам, целый и невредимый и более
бессмертный, чем когда-либо. Милый бедный Руге! Он
сам впоследствии не мог удержаться от самого искреннего
смеха, когда я именно здесь, в Париже, признался ему,
что в глаза не впдал этих ужасных, смертоубийственных
страниц «Галлеских ежегодников», и как мои полные,
румяные щеки, так и превосходный аппетит, с которым я
глотал устриц, убедили его в том, сколь мало подходило
ко мне слово «труп». В самом деле, я был еще тогда здоров
и дороден, находился в зените своей полноты и был над¬
менен, как царь Навуходоносор перед падением.
Ах, несколько лет спустя произошла телесная и ду¬
ховная перемена! Как часто с той поры возвращаюсь
я мыслью к истории того вавилонского царя, который
J6
•возомнил себя господом богом, но позорно пал с вершины
•своего высокомерия, ползал зверем по земле и ел траву
(думаю, что это был салат). В великолепно-грандиозной
книге пророка Даниила рассказана эта легенда, и я реко¬
мендую ее для назидательного размышления не только
милейшему Руге, но и еще гораздо более непримиримому
моему другу Марксу и даже господам Фейербаху, Даумеру,
Бруно Бауэру, Геыгстснбергу и как они там еще зовутся,
все эти обожествившие себя безбожники! В библии вообще
есть множество прекрасных и достопримечательных рас¬
сказов, заслуживающих их внимания, как, например,
ломещешюе в самом ее начале сказание о запретном древе
в раю и о змее, маленькой приват-доцентке, за шесть
тысяч лет до рождения Гегеля излагавшей всю Гсгелеву
философию. Этот безногий синий чулок с чрезвычайным
остроумием показывает, каким образом абсолют заклю¬
чается в тождестве бытия и познания, как путем познания
человек становится богом, пли, что то же, как бог в чело¬
веке доходит до самопознания. Эта формула не так ясна,
как первозданные слова: «Если вкусите от древа познания,
то будете как бог!» Из всего рассуждения госпожа Ева
поняла лишь одно — что плод запретен, а раз он запретен,
то она и вкусила его, эта милая женщина. Но,едва отведав
соблазнительного яблока, она утратила свою невинность,
свою наивную непосредственность, она сочла себя слиш¬
ком обнаженной для особы ее положения, для родо¬
начальницы стольких будущих кесарей и королей, и она
потребовала себе платье. Правда, речь шла только о
платье из фиговых листков, ибо в те времена еще не было
лионских фабрикантов шелка, да к тому же в раю еще не
знали портных и модисток. О, этот рай! Удивительное де¬
ло: едва женщина поднялась до мышления и самосо¬
знания, как первой ее мыслыо было: новое платье! И этот
библейский рассказ, особенно речь змеи, ие выходит у
меня из головы, и я склонен поставить ее эпиграфом к
этой книге, подобно тому как над садами знатных особ
часто высится предостерегающая надпись: «Здесь расстав¬
лены западни и капканы».
Уже в моей последней книге, в «Романсеро», я выска¬
зался по поводу происшедшей в моей душе перемены по
отношению к вопросам религии. С тех пор много раз
с христианской назойливостью меня допрашивали о том,
2 Г. Гейне, т. G
17
каким путем снизошло на меня это просветление. Набож¬
ные души, как видно, мечтают, чтобы я обогатил их каким-
нибудь чудом, и они желали бы знать, не узрел ли я свет,
подобно Савлу по пути в Дамаск, или не ездил ли, подобно
Валааму, сыну Веора, на упрямой ослице, разверзшей
уста и заговорившей по-человечьи. Нет, о набожные души,
никогда не ездил я в Дамаск, ничего не знаю о Дамаске,
кроме того, что недавно тамошних евреев обвинили в том,
будто они пожирают старых капуцинов, и самое имя города
было бы мне, вероятно, неизвестно, если бы я не читал
«Песнь песней», где царь Соломон сравнивает нос своей
возлюбленной с некоей башней, обращенной к Дамаску.
Никогда не видывал я и осла — по крайней мере четверо¬
ногого, — говорящего по-человечьи, тогда как встречал
немало людей, которые всякий раз, когда раскрывали
рот, говорили как ослы. В самом деле, ни видением, ни
серафическим экстазом, ни гласом с небес, ни каким-либо
необычайным сновидением или иным чудесным явлением не
приведен я на путь благодати, и моим прозрением я обязан
исключительно чтению одной книги. Книги? Да, одной ста¬
рой, простой книги, скромной, как природа, и, как при¬
рода, естественной; эта книга выглядит будничной и непри¬
тязательной, как солнце, нас согревающее, и как хлеб, нас
питающий; книга, глядящая на нас так сердечно, так
благостно-ласково, словно старая бабушка, которая ведь
и читает ежедневно с очками на носу своими милыми дро-
жащими губами эту книгу; и последняя так прямо и
называется: «Книга» — «Библия». Правильно называют ее
также «священным писанием»; кто потерял своего бога,
может вновь обрести его в этой книге, а на того, кто его ни¬
когда не знавал, веет от нее дыханием божественного слова.
Евреи, знающие толк в драгоценностях, понимали очень
хорошо, что делают, когда при пожаре второго храма
бросили на произвол судьбы золотые и серебряные жерт¬
венные сосуды, подсвечники и светильники и даже на¬
грудник первосвященника с крупными драгоценными
камнями и спасли одну только библию. Она была истинным
сокровищем во храме и, к счастью, не стала жертвою ни
пламени, ни Тита Веспасиана, злодея, по рассказам рав¬
винов так скверно кончившего дни свои. Еврейский свя¬
щеннослужитель, живший в Иерусалиме за двести лет до
пожара вюрого храма, в блестящую эпоху Птолемея
18
Филадельфа, и звавшийся Иошуа бен-Сирах бен-Елиэзер,
выразил взгляд своего времени на библию в собрании
изречений «Мешалим», и я приведу здесь его прекрасные
слова. Они богослужебно торжественны и, однако, так
утолительно-свежи, словно вчера лишь исторглись из
живой человеческой груди, и гласят: «Все это есть книга
союза, заключенного с всевышннм, а именно: закон,
завещанный Моисеем дому Иакова. Отсюда истекала муд¬
рость, подобно водам Фисоиа, когда он полноводен, и по¬
добно водам Тигра, когда он весной разливается. Отсюда
истекал разум, подобно Евфрату во время половодья и
Иордану во время жатвы. Отсюда распространилась нрав¬
ственность, подобно свету п подобно водам Иила осенью.
Никогда пе было человека, изучившего се до конца, и во¬
веки пе будет никого, кто постигнет ее до дна. Ибо смысл
се богаче всякого моря и слово ее глубже всякой бездны».
Написано в Париже в мае 1S52 года.
Генрих Гейне
КНИГА ПЕРШАМ
В течение последнего времени французам казалось, что
они достигли некоторого понимания Германии, познако¬
мившись с произведениями нашей изящной словесности.
Этим путем, однако, они поднялись только от состояния
полной безграмотности до поверхностного знания. Ибо
произведения нашей художественной литературы остаются
для них лишь немыми цветами, вся немецкая мысль остает¬
ся для них чуждой загадкой, пока им пе раскрылось
значение, которое имеют в Германии религия и философия.
Пытаясь дать некоторые пояснения об этих двух
предметах, я, как мне кажется, делаю полезное дело. Это
для меня задача нелегкая. Приходится прежде всего об¬
ходиться без терминов школьного языка, совершенно не¬
известного французам. С другой стороны, я не постиг
тонкостей богословия и метафизики настолько, чтобы
быть в состоянии формулировать их, согласно потребно¬
стям французских читателей, самым простым и кратким
образом. Я затрону поэтому лишь основные вопросы, об¬
суждавшиеся в немецком богословии и в светской фило¬
софии, и буду освещать лишь их социальное значение,
неизменно при этом принимая во внимание ограничен¬
ность моих собственных популяризаторских средств и
степень подготовленности французского читателя.
Великие немецкие философы, бросив, быть может,
случайный взгляд на эти страницы, горделиво пожмут
плечами по поводу скудного объема того, что я здесь из¬
лагаю. Пусть они, однако, благоволят сообразить, что то
немногое, что сказано мною, выражено совершенно ясно п
отчетливо, тогда как их собственные творения, правда,
чрезвычайно основательны, беспредельно основательны,
чрезвычайно глубокомысленны, поразительно глубоко¬
мысленны, но и в той же степени непонятны. Что пользы
пароду в запертых хлебных амбарах, если у него нет к ним
ключей? Народ алкает знания и благодарен мне за ку¬
сочек хлеба духовного, который я честно с ним делю.
Я думаю, что не отсутствие таланта мешает большин¬
ству немецких ученых изложить в общедоступной форме их
религиозное и философское учение. Я думаю, что причиной
тому является страх перед результатами собственного их
мышления, которые они не решаются сообщить народу.
У меня же нет этого страха, так как я не ученый, я сам —
парод. Я пе ученый, я не принадлежу к семи сотням муд¬
рецов Германии. Вместе с массою я стою пред вратами их
мудрости, и как только какая-нибудь истина проскользнет
оттуда, как только эта истина дойдет до меня, — этого уже
достаточно : я записываю ее красивыми буквами па бумаге и
передаю ее наборщику; он набирает ее свинцовыми ли¬
терами и передает печатнику, а тот,печатает ее, и тогда она
становится достоянием всего мира.
Религия, которую мы имеем удовольствие исповедо¬
вать в Германрш, — христианство. Следовательно, мне
предстоит рассказать, что такое христианство, как оно
превратилось в римское католичество, как из последнего
произошло протестантство, а из протестантства — немецкая
философия.
Я начинаю с беседы о религии и заранее прошу все
набожные души отнюдь не тревожиться. Не бойтесь, на¬
божные души! Кощунственные шутки ие оскорбят ваших
ушей. Правда, такие шутки еще полезны в Германии, где
важно в данную минуту нейтрализовать мощь религии.
Мы ведь находимся там в таком же положении, в каком были
вы до революции, когда христианство состояло в нераз¬
рывнейшем союзе со старым режимом. Невозможно было
разрушить последний, пока первое еще сохраняло свое
влияние на массу. Едкий смех Вольтера должен был про¬
звучать прежде, чем ударит топор Сансона. Однако как
этот топор, так и тот смех по сути дела ничего не доказали,
а только что-то осуществили. Вольтер мог ранить лишь
тело христианства. Все его издевательства, почерпнутые
21
из истории церкви, все его остроты по поводу догматов и
культа, по поводу библии, этой священнейшей книги
человечества, по поводу девы Марии, этого прекрасней¬
шего из цветов поэзии, весь лексикон философских стрел,
направленных им против духовенства, — все это ранило
лишь смертную плоть христианства, но никак не внутрен¬
нее его существо, не глубины его духа, не его вечную душу.
Ибо христианство есть идея, и потому giio неразру¬
шимо и бессмертно, подобно всякой идее. По что такое эта
идея?
Именно потому, что идея эта еще не понята во всей
ясности и внешняя ее оболочка принимается за существо,
нет еще и истории христианства. Две враждующие между
собой партии пишут историю церкви, непрестанно проти¬
вореча друг другу, но никогда ни одна из них не сумеет
определить, в чем идея, составляющая существо христиан¬
ства, ищущая раскрытия в его символике, в его догматах и
культе, во всей его истории и выразившаяся в действи¬
тельной жизни христианских народов! Ни Барониус,
кардинал католический, ни протестантский гофрат Шрек
не открывают нам, в чем, собственно, заключалась эта
идея! И даже изучив все фолианты коллекции соборных
материалов Манси, свод литургий Ассемани и BCio«Historia
ecclesiastica» 1 Саккарелли, вы не уясните себе, в чем,
собственно, заключалась идея христианства. Что же ви¬
дите вы в историях церквей восточной и западной? В пер¬
вой, в истории восточной церкви, вы не находите ничего,
кроме догматических ухищрений, в которых дает себя
знать древнегреческая софистика; во второй, в истории
западной церкви, вы не находите ничего, кроме препира¬
тельств о дисциплине, имеющих в виду церковные инте¬
ресы, причем в новых формах и средствах принуждения
заново выступают древнеримская юридическая казуистика
и политика. В самом деле, подобно тому, как спорили
в Константинополе о логосе, так препирались в Риме об
отношении властей светской и церковной; и как там пред¬
метом разногласий были единосущие, так здесь — инвести¬
тура. Но за византийскими вопросами — «единосущен ли
логосу бог-отец?», «надлежит ли Марию именовать бого¬
родицей или человекородицей?», «голодал ли Христос из-за
1 «Церковную историю» (лат.).
22
отсутствия пищи или потому, что хотел голодать?» — за
всеми этими вопросами скрываются придворные интриги,
разрешение которых зависит от того, о чем шушукаются и
хихикают в покоях Sacri Palatii, 1 о том, например, падет
ли Евдокия или Пульхерпя, ибо вторая из этих дам не¬
навидит Нестория, раскрывшего ее любовные шашни, а
первая — Кирилла, находящегося под покровшельством
Пульхерии; все в конце концов сводится единственно к
сплетням баб и евнухов, и, говоря о догмате, преследуют
или выдвигают человека, а говоря о человеке,— партию.
То же самое происходит на Западе: Рим хотел властвовать;
«когда пали его легионы, он разослал по провинциям свои
догматы»; все религиозные раздоры имели в своей основе
притязания Рима; все сводилось к упрочению единого вер¬
ховенства римского епископа. В вопросах чисто религиоз¬
ных он всегда был очень снисходителен, но при посяга¬
тельстве на права церкви метал громы и молнии; он мало
препирался о лицах воХристе,но много о выводах изИсидо-
ровых декреталий; он централизовал свое могущество при
посредстве канонического права, назначения епископов,
принижения власти государей, учреждения монашеских
орденов, целибата и т. п. Но разве это есть христианство?
Раскрывается ли при чтении этих историй идея христиан¬
ства? Что такое эта идея?
Как эта идея слагалась исторически и обнаруживалась
в мире явлений, можно видеть уже в первые века нашей
эры, особенно если без предубеждения изучить историю
манихеев и гностиков. Несмотря на то, что первые объяв¬
лены еретиками, а вторые обесславлены, несмотря на то,
что и те и другие прокляты церковью, следы их влияния на
учение все же сохранились, из их символики развилось
католическое искусство, и вся жизнь христианских наро¬
дов проникнута их образом мыслей. По существу манихеи
не слишком отличаются от гностиков. Общим для тех и
других является учение о двух враждующих между собой
началах — добре и зле. Первые, манихеи, заимствовали
это учение из древнеперсидской религии, где Ормузд,
свет, враждебно противопоставлен Ариману, мраку. Вто¬
рые, собственно гностики, верили больше в предсущест¬
вование доброго начала, объясняя возникновение злого
1 Священного дворца (лат.). (См. комментарии.)
23
начала как эманацию через ряд поколений эонов, которые,
постепенно отдаляясь от своего первоисточника, все более
омрачаются и ухудшаются. Согласно учению Керинфа,
создателем нашей вселенной был совсем не высший бог, но
лишь его эманация, один из эонов, подлинный демиург,
постепенно переродившийся и теперь враждебно, как злое
начало, противостоящий доброму началу — логосу, не¬
посредственно исшедшему из высшего божества. Это гно¬
стическое мировоззрение — индийское по своим перво-
истокам; оно принесло с собой учение о воплощении бога,
об умерщвлении плоти, о духовном самоуглублении, оно
породило аскетически-созерцательную жизнь монахов,
этот чистейший цвет христианской идеи. Подобная идея
смогла найти лишь чрезвычайно смутное выражение в
догматике и чрезвычайно неясное в культе. Однако
повсюду, как мы видим, выступает учение о двух началах:
благому Христу противостоит злой сатана; представите¬
лем мира духовного является Христос; материю представ¬
ляет сатана; одному принадлежит наша душа, другому —
наше тело. И в согласии с этим весь мир явлений, природа,
изначально есть мир зла, и сатана, царь тьмы, стремится
при посредстве ее соблазнов погубить нас. Потому следует
отречься от всех радостей жизни, чувств, предать наше тело,
достояние сатаны, истязаниям, дабы тем прекраснее душа
возносилась в иресветлые небеса, в лучезарное царство
Христово.
Такое воззрение на мир, представляющее сущность
идеи христианства, с невероятной быстротой, подобно
заразной болезни, распространилось по всей Римской им¬
перии; в продолжение всего средневековья длились стра¬
дания — то в виде горячечного неистовства, то в виде
мертвенного бессилия, и мы, люди нового времени, до сих
пор ощущаем судороги и слабость в наших членах. Если
кое-кто из нас уже выздоровел, то он все-таки не может
вырваться из общей атмосферы лазарета и, в качестве
единственного здорового среди массы больных, чувствует
себя несчастным. Со временем, когда человечество вновь
обретет свое здоровье, когда будет восстановлен мир между
душою и телом и они вновь сольются друг с другом в пер¬
вичной гармонии, тогда едва ли возможно будет даже по¬
нять искусственную вражду, созданную между ними
христианством. Более счастливые и лучшие поколеиия,
зачатые в объятиях свободно избранной любви, возрастут
в религии радости и с сострадательной улыбкой будут
взирать на своих бедных предков, мрачно воздерживав¬
шихся от всех наслаждений этой прекрасной земли и вслед¬
ствие умерщвления теплой, многоцветной чувственности
превратившихся чуть ли не в оледенелые привидения!
Да, со всей определенностью я утверждаю: паши потомки
будут прекраснее и счастливее нас. Ибо я верю в прогресс,
верю, что человечество создано для счастья, и я, следова¬
тельно, более высокого мнения о божестве, чем все эти
набожные люди, воображающие, будто бог создал челове¬
чество только для страдания. Уже здесь, на земле, хотел
бы я, при благодатном посредстве свободных политических
и промышленных учреждений, утвердить то блаженство,
которое, по мнению набожных людей, воцарится лишь на
небесах в день страшного суда. А быть может, и то и дру¬
гое — лишь глупая надежда, и не существует никакого
воскресения человечества, ни в нравственно-политическом,
ии в апостольско-католическом смысле.
Быть может, человечество обречено на вечное страдание,
и народы, быть может, осуждены на то, чтобы во веки
веков их попирали деспоты, эксплуатировали клевреты
этих деспотов и поносили лакеи.
Ах, в таком случае следовало бы все же стремиться к
сохранению христианства, даже признав в немтолько заблу¬
ждение, следовало бы босиком и в монашеской рясе бегать
по Европе, проповедуя ничтожество всех земных благ и
самоотречение, протягивая утешительное распятие би¬
чуемым и осмеянным людям и обещая им после смерти все
семь небес там, наверху.
Быть может, именно потому, что владыки мира сего
уверены в своей мощи и в глубине души решили во веки
веков пользоваться ею, во вред нам, они проникнуты
убеждением в необходимости христианства для своих
народов, и по существу не что иное, как чуткая человеч¬
ность побуждает их столь усиленно заботиться о поддер¬
жании этой религии!
Таким образом, конечная судьба христианства зависит
от того, нужно ли оно еще нам. В продолжение восем¬
надцати веков религия эта была благодеянием для страж¬
дущего человечества, она была провидением, была боже¬
ственна, священна. Все, чем послужила она цивилизации,
смиряя сильных и придавая силу смиренным, связы¬
вая народы единым чувством и единым языком, и все
прочее, за что прославляют ее апологеты, — все это даже
незначительно в сравнении с тем великим утешением,
которое она самою сущностью своей дарила людям.
Вечной славы достоин символ этого страждущего бога,
спасителя в терновом венце, распятого Христа, кровь
которого была подобна целительному бальзаму, струивше¬
муся на раны человечества. В особенности поэт признает
с благоговением суровое величие этого символа. Вся
система символов, выразившаяся в искусстве и жизни
средневековья, будет во все времена вызывать изумление
поэтор. В самом деле, какая исполинская последователь¬
ность существует в христианском искусстве, особенно в
архитектуре! Эти готические соборы — как согласованы
они с культом и как раскрывается в них самая идея церк¬
ви! Все здесь стремится ввысь, все пресуществляется:
камень разрастается в ветви и листву и становится дере¬
вом; плод виноградной лозы и хлебного колоса становится
кровыо и илотыо; человек становится богом; бог стано¬
вится чистым духом! Бесценно, неисчерпаемо богатство
материала, который представляет для поэтов христиан¬
ская жизнь средних веков. Лишь благодаря христианству
могли создаться на этой земле положения, дающие столь
дерзкие контрасты, такую живописность скорби, столь
разнообразные красоты, что может показаться, будто
ничего этого в действительности не было, что все это —
лишь грандиозный горячечный бред, бред какого-то со¬
шедшего с ума бога. Даже природа в эту пору как будто
скрывалась в фантастическом наряде; тем не менее, хотя
человек, затерявшийся в отвлеченных умозрениях, с до¬
садой отворачивался от нее, она пробуждала его иногда
голосом, столь уныло-сладостным, столь жутко-ласковым,
столь колдовски-манящим, что человек невольно прислу¬
шивался, и улыбался, и пугался, и даже иной раз заболе¬
вал смертельной болезнью. Мне приходит здесь на память
история базельского соловья, и так как вам она, вероятно,
неизвестна, то я расскажу ее.
В мае 1433 года, в дни Базельского собора, в приго¬
родную рощу отправилась погулять компания духовных
лиц: прелаты и доктора, монахи всех оттенков; они вели
диспут о теологических разногласиях и аргументировали
26
пли преттиралпсь об аннатах, экспсктативах п резерваци¬
ях, или углублялись в вопрос о том, кто выше как фило¬
соф — Фома Аквинский или Бонавентура — и тому подоб¬
ное. Но вдруг посреди этих догматических и абстрактных
дискуссий они смолкли и остановились как вкопанные
перед цветущею липой — на ней сидел соловей, который,
ликуя и рыдая, разливался в нежнейших и сладчайших
мелодиях. Душу ученых мужей объяло при этом небывало
блаженное томление, теплые звуки весны ворвались в их
закостеневшие от схоластики сердца, их чувства пробуди¬
лись от тяжкого зимнего сна, они глядели друг на друга в
недоуменном восторге, — пока, наконец, один из них не
прервал молчания проницательным замечанием, что тут
что-то неладно, что этот соловей, возможно, дьявол и что
этот дьявол вознамерился своим сладкозвучным пением
отвлечь их от христианского собеседования и совлечь на
путь похотп и иных сладостных прегрешений; и он стал
произносить заклинания, начав, вероятно, с обычной в те
времена формулы: «Adjuro te per eum, qui venturns est
judicaro vivos et mortuos»1 и т. д., и т. п. На это закли¬
нание птица, говорят, ответила: «Да, я злой дух!» — и со
смехом улетела; те же, кто слышал ее песню, в тот
же самый день заболели и вскоре за тем скончались.
Этот рассказ, по-видимому, не нуждается в коммента¬
риях. Он целиком проникнут мрачным духом того времени,
которое отвергало в качестве дьявольского соблазна все
сладостное и милое. Оклеветан был даже соловей, и люди
осеняли себя крестом, когда слышали его пение. Истин¬
ный христианин бродил среди цветущей природы, трусливо
отрешившись от своих чувств, подобно абстрактному
призраку. Об этом отношении христианина к природе я,
быть может, поговорю подробнее в одной из дальнейших
книг, где мне придется для уяснения новоромантической
литературы основательно заняться немецкими народными
верованиями. Пока ограничусь замечанием, что француз¬
ские писатели, введенные в заблуждение некоторыми
немецкими авторитетами, весьма ошибаются, полагая,
что народная вера в средние века была одинакова во всей
Европе. Лишь относительно доброго начала, царства
1 Заклинаю тебя тем, кто грядет судить живых и мертвых
(лат.).
27
Христова, вся Европа держалась одного мнения; об этом
заботилась римская церковь, и кто отступал в этом вопросе
от предписанного воззрения, тот был еретик. Но насчет
злого начала, царства сатаны, в различных странах
существовали различные взгляды, и германский север
имел об этом совсем иные представления, нежели роман¬
ский юг. Причиной было то, что христианское духовен¬
ство не отвергло прежних народных богов в качестве
пустых порождений фантазии, но признало их действитель¬
ное существование, утверждая, однако, что все эти боги —
сплошь дьяволы и дьяволицы, которые вследствие победы
Христа утратили свою власть над людьми и теперь хит¬
ростью и обольщением стараются совлечь их на путь греха.
Весь Олимп превратился теперь в надземный ад, и как бы
вдохновенно ни воспевал средневековый поэт приключе¬
ния греческих богов, набожный христианин видел в них
лишь дьяволов и наваждение. С наибольшим ожесточе¬
нием обрушился мрачный бред монахов на бедную Венеру;
именно она более других слыла дочерью Вельзевула,
и любезный рыцарь Тангейзер даже говорит ей в лицо:
Венера, госпожа моя,
Ведь бы же дьяволица!
Дело в том, что она заманила Тангейзера в ту вол¬
шебную пещеру, прозванную Венериной горой, где,
согласно старым легендам, красавица богиня ведет вместе
со своими девицами и женихами распутнейшую жизнь
среди игр и плясок. Даже бедной Диане, несмотря па все
ее целомудрие, не удалось избежать подобной же судьбы,
и ее заставили проноситься ночами вместе с ее нимфами по
лесам, и отсюда явилось сказание о неистовом воинстве,
о дикой охоте. Здесь во всей полноте еще проступает гно¬
стическое воззрение о постепенном перерождении того,
что было некогда божественным, и в этой трансформации
прежней народной веры наиболее глубокомысленно про¬
является идея христианства.
Народная вера в Европе, на севере еще больше, чем на
юге, была пантеистической, ее мистерии и символы относи¬
лись к поклонению природе, в каждой стихии чтили сверхъ¬
естественное существо, в каждом дереве дышало божество,
весь видимый мир был пронизан божественным началом;
христианство перевернуло это представление вверх но¬
28
гами, и место природы обожествленной заняла природа,
пронизанная дьявольским началом. Ио жизнерадостные,
ставшие благодаря искусству еще более прекрасными обра¬
зы греческой мифологии, господствовавшей вместе с рим¬
ской культурой на юге, не так легко было превратить
в отвратительные, ужасающие лики сатаны, как образы
германских богов, в оформлении которых, конечно, ио
принимало участия никакое особое художественное чутье
и которые и раньше были так же мрачны и угрюмы, как
самый север. Поэтому у вас во Франции и не могло быть
создано такое темное и страшное царство нечистой силы,
как у нас, и даже мир привидений и чудес получил у вас
более светлый облик. Как красивы, ясны и многоцветны
ваши народные предания в сравнении с нашими, этими
уродами, сотканными из крови и тумана, тупо и
злобно скалящими на нас свои зубы! Наши средневековые
поэты, пользуясь по преимуществу сюжетами, созданными
или впервые обработанными у вас в Бретани или Нор¬
мандии, быть может намеренно придали своим произве¬
дениям как можно больше этого веселого старофранцуз¬
ского духа. Но в наших национальных эпопеях и в устных
народных преданиях сохранился этот мрачный север¬
ный дух, о котором вы вряд ли имеете представление. И у
вас, как и у нас, есть много разнородных духов стихий, но
наши отличаются от ваших так же, как немец от француза.
Как светлокожи и, главное, как опрятны черти в ваших
фаблио и волшебных романах в сравнении с нашей черной
и очень часто отвратительно грязной бесовской поганью!
Ведь ваши феи и духи стихий, откуда бы вы их ии позаим¬
ствовали, из Корнуолла или из Аравии, превосходно
натурализовались у вас, и какой-нибудь французский дух
отличается от немецкого, как денди, фланирующий в
желтых лайковых перчатках по бульвару Коблаис, от
неуклюжего немецкого грузчика. Ваши русалки, например
Мелузина, отличаются от наших, как принцесса от прачки.
Как перепугалась бы фея Моргана, встретив немецкую
ведьму, вымазанную притираниями и нагишом взлетаю¬
щую верхом на помеле на Брокен. Эта гора — не веселый
Авалон, а место сборищ всего дикого и мерзкого. На вер¬
шине горы восседает сатана в образе черного козла.
Каждая ведьма со свечой в руке приближается к нему и
лобызает его сзади, пониже спины. Затем поганое бабье
29
пляшет вокруг него, распевая: «Дондеремус, Дондеремус!»
Блеет козел, ликует адский канкан. Недобрый знак для
ведьмы, ежели в этой пляске она теряет башмак: это зна¬
чит, что быть ей сожженной еще в этом году. Но все страш¬
ные предчувствия заглушены безумной, истинно берлио-
зовской музыкой шабаша; и когда поутру бедная ведьма
пробуждается от своего пьяного угара, она лежит, голая и
истомленная, в золе подле потухшего очага.
Наиболее полные сведения об этих ведьмах можно
найти в «Демонологии» достопочтенного н высокоученого
доктора Николауса Рсмигиуса, уголовного судьи его свет¬
лости герцога Лотарингского. Сей проницательный муж
имел поистине наилучшую возможность проникнуть в
тайны ведьм, так как он руководил судом над ведьмами
л в его времена в одной Лотарингии было сожжено на
костре восемьсот женщин, уличенных в колдовстве.
Судебное разбирательство в большинстве случаев заклю¬
чалось в следующем: связав им руки и ноги, их бросали
в воду. Если они шли ко дну и тонули, то, значит, они не
были виновны; если же они держались на поверхности,
то их признавали виновными и сжигали. Такова была
логика того времени.
Основной чертой характера немецких демонов представ¬
ляется нам отсутствие в них всего идеального; пошлое
смешано в них с ужасным. Чем грубее их повседневный
облик, тем более зловещее впечатление производят они
на нас. Нельзя себе представить ничего более жуткого,
чем наши домовые, кобольды и гномы. «Антроподемус»
Преториуса посвящает этому одну страничку, которую я
прпвожу здесь по Добенеку:
«Предки наши иначе и не могли представить себе
домовых, как в человеческом образе, только в виде ма¬
леньких детей в пестром платьице или юбочке. Некоторые
добавляют, что кое у кого из них воткнуты в спину ножи,
а у иных что-либо другое — смотря по тому, как п каким
орудием онп были убиты — и что облик у них страшный.
]J6o суеверные людп считают, что это непременно души
когда-то убитых в доме людей. И болтают они всякие
истории, будто, к примеру, бывало, что кобольды немнож¬
ко пособляли кухаркам и служанкам в доме п становились
им милы. И кое-кому поэтому кобольды столь полюбились,
что им пламенно хотелось увидеть своих маленьких
30
прислужников и сблизиться с ними, на что, однако,
домовые никогда не соглашались, отговариваясь тем, что
их нельзя увидеть, не придя от этого в ужас. Но когда
похотливые служанки все же не отступали, то кобольды
будто бы назначали им в доме местсчко, куда они явятся
во плоти; только надо при этом захватить с собой ведро
холодной воды. И тут случалось, чю такой кобольд
оказывался лежащим голышом на подушке на чердаке
с большим ножом мясника в сиине. Ы девушка так пуга¬
лась, что падала без чувств. Тут он вдруг вскакивал и
обливал ее с ног до головы водой, чтобы она пришла в
себя. Это отбивало у служанок их похоть и охоту когда-
нибудь увидеть опять своего Химхен. 1 У всякою кобольда
ведь есть свое имя, но вообще они называются именем
Хим. 1 И за работников и за служанок, которым они пре¬
данны, они делают всякую работу по дому : чистят и кормят
лошадей, чистят конюшню, все подметают, кухню дер¬
жат в чистоте и все прочие домашние работы исполняют
тщательно, и скотина при них входит в тело и здоровеет.
Зато,говорят,они требуют от прислуги ласки :чтоб никакой
им не было обиды, чтобы над ними не смеялись и не от¬
казывали им в еде. Раз уже кухарка, к примеру, взяла
себе такого тайного пособника в дом, то должна она еже¬
дневно ставить в установленном месте в доме горшочек
с приготовленным добрым кушаньем, сама же она может
уйти куда угодно и вольна потом лентяйничать, с вечера
рано лечь спать — все равно ранним утром она найдет
свою работу сделанной. Но стоит ей хоть раз забыть о
своей обязанности, например не выстгвпть пищи, как
придется ей вновь самой справлять всю работу, и во всем
будет ей неудача: то кипятком ошпарится, то горшки и
посуду перебьет, то кушанье опрокинет или на пол уронит
или еще что-нибудь сделает, за что се непременно разру¬
гает хозяйка или хозяин; и людям приходилось не раз
слышать, как при этом домовой хихикает или хохочет.
И, говорят, такой домовой всегда остается в своем доме,
хотя бы прислуга переменилась. Мало того, уходя с места,
служанка должна препоручить и наилучшим образом
отрекомендовать домового своей преемнице, чтобы и та
ухаживала за ним. И если та, бывало, не соглашалась,
1 X н м, Химхен — уменьшительные от имени Иоахим.
31
то п на нее сыпались всякие бедствия и ей приходилось
вскоре расстаться с этим домом».
К самым страшным историям принадлежит, пожалуй,
следующий маленький рассказ:
«В течение многих лет был у одной служанки домовой-
невидимка, сидевший у ее очага, где она отвела ему уго¬
лок и где долгие зимние вечера напролет проводила с ним
в разговорах. Вот однажды попросила девушка: пусть ма¬
ленький Гейнц — так звали духа — покажется ей в своем
природном виде. Но Гейнц все отказывался. Наконец,
однако, он согласился и велел ей спуститься в погреб, —
там-де она его увидит. Девушка берет свечу, спускается в
погреб п там видит в открытой бочке плавающего в крови
ребенка. А она много лет назад родила вне брака дитя,
тайно убила его и спрятала в бочку».
II все же (таковы уж немцы — они часто ищут развле¬
чения даже в ужасном) народные сказания о домовых
подчас полны забавных черточек. Особенно занятны
рассказы о Гюдекеие, домовом, выкидывавшем свои
штуки в Гильдесгейме в XII столетии и очень часто упоми¬
наемом на поспделках и в романах о привидениях. Не раз
воспроизведенное в печати место из старинной летописи
сообщает о нем следующее:
«Около 1132 года в епископстве Гильдесгсймском в
течение долгого времени многим людям показывался
злой дух в образе крестьянина в шляпе, отчего крестьяне
прозвали его на своем саксонском наречии Гюдекен.1
Этому духу нравилось водиться с людьми, являться им то
видимым, то невидимым, спрашивать их и отвечать на их
вопросы. Он никого не обижал без причины. Если, однако,
кто-либо высмеивал или как-нибудь оскорблял его, то он
расплачивался за обиду в полной мере. Когда граф Бур-
хард де Лука был убит графом Германом Визенбургским
и владениям последнего грозила опасность стать добычей
мстителей, Гюдекен разбудил спавшего епископа Гиль-
десгеймского Бернгарда и обратился к нему с такими
словами: «Вставай, плешивый! Из-за этого убийства
графство Внзенбургское покинуто и беззащитно, и ты
легко можешь занять его». Епископ немедля собрал свою
рать, напал на землю провинившегося графа и, с разре¬
1 Шляпчонка.
32
шения императора, присоединил ее к своей епархии. Дух
нередко по собственному почину предостерегал упомяну¬
того епископа от грозящих ему опасностей и особенно
часто появлялся в дворцовой кухне, где разговаривал
с поварами и оказывал им всякие услуги. Так как поне¬
многу все свыклись с Гюдсксном,то один поваренок осмелел
до того, что всякий раз при его появлении дразнил его и
даже обливал помоями. Домовой попросил главного по¬
вара или управляющего кухней запретить проказнику его
озорство. Главный повар возразил: «Ты дух, а боишься
мальчика», на что Гюдекен ответил угрозой: «Раз ты не
хочешь наказать озорника, то я через несколько дней
покажу тебе, как я его боюсь». Вскоре после этого маль¬
чик, оскорбивший домового, сидел как-то один и дремал
в кухне. Воспользовавшись этим, домовой схватил его,
задушил и разорвал на куски, которые он поставил в
горшках на огонь. Заметив эту проделку, повар стал
проклинать домового, но на следующий же день Гюдекен
испортил все жаркие иа вертелах, облив их ядом и жабьей
кровью. Эта месть вызвала новые проклятия повара, за
которые дух в конце концов новел его через пригрезив¬
шийся тому несуществующий мост и сбросил в глубокий
ров. В то же время, неустанно обходя ночным дозором го¬
родские стены и башни, он принуждал стражу к постоян¬
ной бдительности. Один человек, имевший неверную жену,
как-то, собираясь в отъезд, сказал в шутку Гюдекену:
«Друг мой, поручаю тебе мою жену, присматривай за ней
хорошенько». Как только муж уехал, распутница стала
пускать к себе одного любовника за другим. Но Гюдекен
пи одного ие подпустил к ней, а сбрасывал всех с кровати
па пол. Когда муж возвратился, домовой встретил его
далеко- от дома и сказал: «Очень рад твоему возвраще¬
нию: наконец-то я освобожусь от тяжелой службы, ко¬
торую ты возложил на меня. С несказанным трудом я
оберег твою жену от настоящей измены. Но, прошу тебя,
впредь никогда не поручай ее мне. Я охотнее стерег бы
свиней во всей Саксонии, чем женщину, стремящуюся
путем всяких ухищрений попасть в объятия к своим лю¬
бовникам».
Точности ради я должен заметить, что головной убор
Гюдекена отличается от обычного наряда домовых. Они
большею частью одеты в серое и носят красный колпачок
33
на голове. Такими по крайней мере они являются в Дании,
где теперь, говорят, их больше всего. Прежде я думал, чгю
домовые так охотно проживают в этой стране из любви
к сладкой гречневой каше. Но один молодой датский пи¬
сатель, г-н Андерсен, с которым я имел удовольствие встр с-
чаться этим летом в Париже, с полной определенностью
уверял меня, что «ниссы», как называют в Дании домовых,
всего охотнее едят размазню с маслом. Раз обосновавшись
в доме, домовые уж не склонны уходить из него. Однако без
предуведомления они не вселяются и если вздумают куда
вселиться, то предупреждают хозяина таким образом:
ночью натаскивают в дом всяких щепок, а в молочную по¬
суду набрасывают навоз. Если хозяин не выкинет этих
щепок и если он с семьей отопьет загаженного молока, до¬
мовые навсегда остаются у него. Для многих людей это
оказалось очень неудобно. Одному бедному ютландцу до
такой степени наскучило сожительство с таким домовым,
что он решил даже бросить свой дом, нагрузил свои по¬
житки на телегу и поехал в соседнюю деревню, чтобы
там поселиться. Но по дороге, обернувшись, он увидел
головку домового в красной шапочке, который выгляды¬
вал из пустого бочонка и дружески закричал ему: «WL
ilütten!» («Перебираемся!»)
Быть может, я слишком заговорился об этих маленьких
демонах и пора мне вернуться к большим. Но все эти ска¬
зания иллюстрируют верования и характер немецкого
народа. В течение минувших столетий верования эти не
уступали по силе церковной религии. Закончив свой
большой труд о ведьмах, ученый доктор Ремигиус счел
себя столь глубоким знатоком предмета, что вообразил
в себе колдовские способности; и в качестве человека
добросовестного он не преминул донести на себя как на
колдуна судебным властям; в результате этого доноса он был
сожжен как колдун.
Христианская церковь была хоть и косвенным, но все
же источником этих ужасов, потому что она так коварно
извратила старогерманскую народную религию, преобра¬
зовала пантеистическое мировоззрение германцев в панде¬
моническое, превратила прежние святыни народа в от¬
вратительную чертовщину. Но человек неохотно рас¬
стается с тем, что было мило и дорого ему и его предкам, и
чувства его втайне цепляются за это прошлое, хотя бы оно
34
было изуродовано и искажено. Оттого эта извращенная
народная религия, быть может, дольше удержится в Герма¬
нии, чем христианство, не имеющее, подобпо ей, корней
в национальном характере. В эпоху Реформации исчезла
очень быстро вера в католические легенды, по пе вера
в колдовство и ведовство.
Лютер уже не верит в католические чудеса, но верит еще
в чертовщину. Его «Застольные речи» полны курьезных
россказней об ухищрениях сатаны, о домовых и ведьмах.
Самому ему в тяжелые минуты казалось, что он борется
с дьяволом во плоти. В Вартбурге, где Лютер переводил
Новый завет, дьявол так мешал ему в работе, что тот за¬
пустил ему в голову чернильницей. С тех пор дьявол
очень боится чернил, но еще больше боится он типо¬
графской краски. О хитрости дьявола немало рассказано
забавных историй в упомянутых «Застольных речах», и я
не могу удержаться, чтобы не привести одну из нпх.
«Доктор Мартин Лютер рассказывал, что однажды
несколько добрых приятелей собрались за выпивкой.
Был среди нпх один отчаянный парень, и вот он говорит,
что если бы кто поднес ему доброе угощение, он продал бы
ему за это свою душу.
Немного времени спустя входит в комнату некто, са¬
дится подле него, бражничает с ним и, поговорив со всеми,
обращается к тому, кто решился на такое дело:
«Слушай-ка, ты давеча сказал, что за угощение ты бы
продал свою душу?»
Тот повторил: «Да, я готов, дай только мне сегодня
порядком покутить, пображничать и повеселиться».
Пришедший — это был дьявол — согласился и тут же
скрылся. Когда же гуляка целый день прокутил и под
конец совсем напился, является тот же человек, то есть
дьявол, садится подле него, говорит с прочими собутыль¬
никами и спрашивает: «Как полагаете, господа любезные,
ежели кто купит лошадь, то принадлежат ему также седло
п уздечка?» Они все перепугались, а этот человек говорит:
«Ну, отвечайте-ка живей». Тут они согласились и ска¬
зали: «Да, седло и уздечка тоже его». Тут дьявол хватает
этого отчаянного озорника п уносит его сквозь потолок,
так что никто и не знал, куда он делся».
При всем моем величайшем уважении к нашему вели¬
кому учителю Мартину Лютеру, я все же полагаю, что он
35
совершенно не понял характера сатаны. Сатана совсем пе
с таким пренебрежением относится к плоти, как здесь рас¬
сказано. Много плохого можно рассказать о черте, но
никак нельзя обвинить его в том, что он спиритуалист.
Но еще менее, чем образ мыслей черта, понял Мартин
Лютер образ мыслей папы и католической церкви. Мое
строгое беспристрастие заставляет меня взять под свою
защиту и Лютера и католическую церковь, равно как п
черта, от чересчур уж рьяного противника. Мало того,
если бы меня по совести спросили, я бы признал, что папа
Лев X был в сущности гораздо разумнее Лютера и что
последний совершенно не понял глубочайших основ като¬
лической церкви. Ибо Лютер не понял, что идея христиан¬
ства — полное уничтожение чувственности — слишком
сильно противоречит человеческой природе, чтобы эта
идея могла когда-либо быть полностью осуществлена в
жизни; он не понял, что католичество было как бы кон¬
кордатом между богом и дьяволом, то есть между духом и
материей, что тем самым провозглашалось единодержавие
духа в теории, но материи предоставлена была возмож¬
ность пользоваться на практике всеми ее аннулированными
правами. Отсюда мудрая система уступок, которые цер¬
ковь сделала в пользу чувственности, хотя и неизменно
в формах, клеймивших всякое проявление чувственности
и обеспечивавших духу его высокомерные посягательства.
Тебе позволено следовать нежным склонностям сердца и
обнимать красивую девушку, но ты обязан признать, что
это было постыдным прегрешением, и в этом прегрешении
ты обязан покаяться. То, что это отпущение грехов по¬
лучалось за деньги, было столь же благодетельно для лю¬
дей, сколь полезно для церкви. Церковь взимала, так
сказать, денежный штраф за всякое плотское наслаждение,
п таким-то образом возникла такса на все сорта грехов и
явились святые разносчики, торговавшие от имени рим¬
ской церкви отпущениями всякого таксированного греха,
и одним из таких продавцов был тот самый Тецель, против
которого Лютер выступил прежде всего. По мнению наших
историков, этот протест против торговли индульгенциями
был незначительным событием, и только благодаря упор¬
ству Рима Лютер, восставший первоначально лишь протпв
одного из злоупотреблений церкви, был вынужден перейти
к нападению на авторитет самой церкви в лице ее высшего
36
представителя. Но это ошибка: торговля индульгенциями
не была злоупотреблением, она была прямым следствием
всей церковной системы, и, нападая на нее, Лютер на¬
падал на самую церковь, которая и должна была осудить
его как еретика. Лев X, утонченный флорентинец, ученик
Полициано, друг Рафаэля, этот греческий философ в трой¬
ной тиаре, возложенной па него конклавом, быть может за
io, что он страдал болезнью, происходящей совсем пе от
христианского воздержания и в те времена еще очень
опасной, — как посмеивался, вероятно, этот Лев Медичп
над бедным, целомудренным, наивным монахом, вообразив¬
шим, будто евангелие есть конституционная хартия хри¬
стианства и будто хартия эта есть истина! Он, возможно,
даже не заметил, чего хотел Лютер, так как слишком
занят был постройкой собора св. Петра, который как раз
и возводился на доходы с продажи индульгенций. Таким
образом, грех стал своеобразным источником средств на
сооружение этого храма, который поэтому явился как бы
памятником чувственных наслаждений, подобно пирамиде,
воздвигнутой египетской блудницей на деньги, добытые
проституцией. С большим правом, чем о Кельнском собо¬
ре, об этом божьем храме можно, пожалуй, сказать, что он
построен дьяволом. На немецком севере не поняли этого
торжества спиритуализма, заключавшегося в том, что
сенсуализм должен был воздвигать для него его прекрас¬
нейшие храмы, что именно благодаря множеству уступок
в пользу плоти добывались средства для возвеличивания
духа. Ибо здесь было много легче, чем под знойным небом
Италии, исповедовать такое христианство, которое де¬
лало очень мало уступок чувственности. У нас, северян,
кровь холоднее, и мы не нуждались в таком количестве
индульгенций для плотских грехов, какое с отеческой
заботливостью посылал нам Лев X. Климат облегчает нам
осуществление христианских добродетелей, и 31 октября
1516 года, когда Лютер прибивал к дверям августинской
церкви свои тезисы против отпущения грехов за деньги,
городской ров в Виттенберге, быть может, уже замерз и
там можно было кататься на коньках, что представляет
собою весьма холодное, а стало быть, отнюдь не грехов¬
ное развлечение.
Выше я, кажется, не раз употреблял слова «спири¬
туализм» и «сенсуализм»; однако эти слова не обозна¬
37
чают у меня, как у французских философов, двух различ¬
ных источников нашего познания; я употребляю их, как
само собой явствует из смысла моей беседы, скорее для
обозначения двух различных мировоззрений, из коих
одно хочет возвеличить дух тем, что стремится свести на
нет материю, между тем как другое старается отстоять
естественные права материи от посягательств духа.
На вышеуказанные начатки Лютеровой реформации,
уже обнаруживающие все се существо, я должен обратить
внимание также потому, что во Франции придерживаются
еще по поводу Реформации старинных предрассудков,
распространенных Боссюэ в его «Histoire des varia¬
tions» 1 и проявляющихся даже у современных писателей.
Французы поняли лишь негативную сторону Реформации,
они увидели в ней только борьбу против католичества и
подчас полагали, что борьба эта по ту сторону Рейна ве¬
лась всегда из тех же соображений, что и по эту, во Фран¬
ции. Но основания там были совсем не тс, что здесь, и
даже совершенно противоположные. Борьба против като¬
личества в Германии была не чем иным, как войной,
объявленной спиритуализмом, как только он заметил,
что господство его номинально, что он властвует лишь
де-юре, тогда как сенсуализм благодаря традиционному
подлогу пользуется действительной властью и господ¬
ствует де-факто. Торговцы иидульгенциямн были изгнаны,
хорошенькие наложницы священнослужителей заменены
холодными законными супругами, восхитительные из¬
ваяния мадонны разбиты, то тут, то там возникало пури¬
танство, злейший враг плоти. Наоборот, борьба с католи¬
цизмом во Франции в XVII—XVIII веках была войной,
начатой сенсуализмом, когда о и усмотрел, что хотя он
господствует де-факто, все же всякое проявление его
господства осмеивается в качестве незаконного и чувстви¬
тельнейшим образом поносится спиритуализмом, утвер¬
ждающим свое господство де-юре. Вместо того чтобы
бороться, как в Германии, с целомудренной сосредоточен¬
ностью, во Франции вели борьбу при помощи непристой¬
ной шутки, и в то время как там устраивали богословский
диспут, здесь сочиняли какую-нибудь развеселую сатиру.
Назначение последней состояло обыкновенно в том, чтобы
1 «Истории изменений» (франц.).
гз
показать противоречие, в которое впадает человек с самим
собою, желая стать исключительно духом; тут-то и расцве¬
ли восхитительные рассказики о благочестивых по¬
движниках, невольно подпадающих под власть своего
животного существа и ищущих подчас убежища в ханжест¬
ве, чтоб л сохранить видимость святости. Уже королева
Наваррская изображала в своих новеллах такие безо¬
бразия, ее излюбленная тема — отношения монахов к
женщинам, и цель се не только позабавить нас, но и подо¬
рвать монашество. Зловреднейшим цветком этой полемики
с помощью смеха был, бесспорно, «Тартюф» Мольера,
направленный не только против иезуитства своего вре¬
мени, но и против христианства как такового, против самой
идеи христианства, против спиритуализма. Действительно,
притворный ужас перед обнаженной грудью Дорины,
слова:
Le ciel défend, de vrai, certains contentements,
Mais on trouve avec lui des accommodements, 1 —
направлялись не только против заурядного лицемерия, ио
и против всеобъемлющей лжи, необходимо вытекающей из
неосуществимости христианской идеи; осмеивалась вся
система уступок, которые спиритуализм вынужден был
делать сенсуализму. И в самом деле, янсенизм имел гораз¬
до больше оснований чувствовать себя оскорбленным
постановкой «Тартюфа», чем иезуитство, и Мольер должен
был бы все еще раздражать нынешних методистов, так же
как католических святош своего времени. Тем-то и велик
Мольер, что, подобно Аристофану и Сервантесу, он делает
предметом своих насмешек не только случайное и прехо¬
дящее, но извечно смешное, исконные слабости челове¬
чества. Вольтер, всегда нападавший на преходящее и
несущественное, уступает ему в этом отношении.
Однако это вольтеровское издевательство до конца вы¬
полнило во Франции свое назначение, и неуместно и неум¬
но поступил бы тот, кто вздумал бы продолжить его. Ибо
если бы искоренить последние видимые остатки католи¬
чества, то легко могло бы случиться, что идея его нашла бы,
точно в новом теле, убежище в новой форме и, отбросив
1 Fxtl запрещенные утехи — это да:
Но с небом человек устроится всегда.
(Перев. М. Лозинского).
даже имя христианства, в этом преображенном виде могла
бы явиться для нас еще более тягостным гнетом, чем в
нынешнем, надломленном, разбитом и потерявшем по¬
всюду доверие облике. Да, не так плохо, что спиритуа¬
лизм представлен религией и духовенством, из коих
первая уже почти полностью утратила свои силы, а второе
вообще стоит в прямой оппозиции к освободительному
энтузиазму нашего времени.
Но почему так ненавистен нам спиритуализм? Разве он
столь уж дурен? Нисколько. Розовое масло — вещь дра¬
гоценная, и пузырек его даст усладу, когда приходится
горестно влачить дни в замкнутых покоях гарема. Но мы
все же не хотим, чтобы все розы этой жизни были растоп¬
таны и раздавлены ради нескольких капель розового
масла, как бы ни были они живительны. Мы скорее по¬
добны тем соловьям, которые охотно услаждаются самою
розою и столь же упоены румяным расцветом ее, как и ее
невидимым благоуханием.
Я заметил выше, что борьбу против католицизма
начал у нас, собственно, спиритуализм, но это относится
только к началу Реформации; как только спиритуализм
проломил брешь в старом здании церкви, вырвался нару¬
жу сенсуализм со всем своим долго сдерживаемым пылом,
и Германия сделалась ареной разгула страстей и необуз¬
данного упоения' свободой. Угнетенные крестьяне нашли
в новом учении духовное оружие для борьбы с аристо¬
кратией; уже в течение полутора веков зрела воля к такой
борьбе. В Мюнстере сенсуализм бегал голышом по улицам
в образе Яна Лейденского и ложился со своими двена¬
дцатью женами в огромную постель, которую и в наши дни
показывают в тамошней ратуше. Монастырские ворота
повсюду распахнулись, монахини и монахи бросились
друг другу в объятия, и тут пошли нежности. Да и вся
внешняя история этого времени состоит почти из одних
только бунтов чувственности; как ничтожны были их
последствия, как подавил вновь этих смутьянов спиритуа¬
лизм, как постепенно он утвердил свое господство на се¬
вере, но был смертельно ранен врагом, которого пригрел на
своей груди, а именно философией, — все ьто мы увидим
в дальнейшем. Это очень запутанная история, в которой
трудно разобраться. Католическая партия произвольно
измышляет самые скверные побуждения, и если послу¬
40
шать ее, то дело здесь было только в узаконении наглейшей
чувственности и грабеже церковного достояния. Правда,
для того чтобы победить, интересы духовные всегда должны
вступать в союз с материальными. Но дьявол так своеоб¬
разно перемешал карты, что относительно побуждений
ничего достоверного сказать уже нельзя.
Высокие особы, собравшиеся в 1521 году в имперском
зале в Вормсе, могли таить в сердце всевозможные мысли,
совершенно расходившиеся с их речами. Здесь, кутаясь
в свою новую пурпурную мантию, по-юношески упиваясь
властью, сидел молодой император, втайне очень доволь¬
ный тем, что гордый римлянин, так часто обижавший его
предшественников на престоле и все еще не отказавшийся
от своих притязаний, получил самый чувствительный
урок. Представитель этого римлянина со своей стороны
втайне радовался расколу, возникшему среди тех самых
немцев, которые так часто пьяными варварами вторгались
в прекрасную Италию, грабили ее и теперь еще продол¬
жали угрожать новыми вторжениями и грабежами. Свет¬
ские князья радовались тому, что при новом учении они
могут прибрать к рукам старые церковные владения.
Высокие прелаты уже прикидывали, не смогут ли они же¬
ниться на своих кухарках и передать своим отпрыскам
мужского пола в наследство свои курфюршества, епис¬
копства и аббатства. Представители городов радовались
новому расширению своей независимости. Всякий мог
здесь что-нибудь выиграть и втайне помышлял о земных
выгодах.
Был там, однако, человек, который, по моему убежде¬
нию, думал не о себе, но исключительно о божеских
интересах,представлять которые ему надлежало. Этот чело¬
век был Мартин Лютер, бедный монах, избранный про¬
видением для того, чтобы сломить вселенское влады¬
чество Рима, против которого тщетно боролись сильней¬
шие императоры и отважные мудрецы. Но провидение
хорошо знает, на чьи плечи оно возлагает бремена свои;
здесь необходима была не только духовная, по и физиче¬
ская сила. Требовалось закаленное с юности монастыр¬
ской строгостью и целомудрием тело, для того чтобы
снести трудности такого назначения. Наш дорогой учи¬
тель был тогда еще тощ и очень бледен па вид, так что крас¬
нощекие, упитанные господа, восседавшие в имперском
41
сойме, почти с состраданием взирали сверху вниз на не¬
приглядного человека в черной рясе. Но он был совершен¬
но здоров и нервами так крепок, что вся блистательная
сутолока не смутила его ни в малой степени. И легкие его
тоже, должно быть, были очень крепки, ибо, закончив
свою длинную защитительную речь, он должен был по¬
вторить ее по-латыни, так как император не понимал
верхненемецкого наречия. Я возмущаюсь всякий раз,
когда вспоминаю об этом, ибо наш дорогой учитель стоял
у открытого окна на сквозняке, а по лицу его текли капли
пота. Долгая речь, конечно, очень утомила его, и в горле
у него тоже, должно быть, пересохло. «Ему очень хочется
пить», — подумал тогда, очевидно, герцог Брауншвейг¬
ский; во всяком случае мы знаем, что он послал Мартину
Лютеру в заезжий двор три жбана лучшего эймбекского
пива. Никогда не забуду Брауншвейгскому дому этого
акта благородства.
Как о Реформации, так и о героях ее. во Франции су¬
ществуют самые ложные представления. Ближайшей при¬
чиной этого непонимания является, конечно, то, что Лю¬
тер не только самый большой, но и самый немецкий чело¬
век во всей нашей истории, что в его натуре грандиозно
сочетались все добродетели и все недостатки немцев, что
он п лично является воплощением чудесного в Германии.
Ибо он обладал качествами, сочетание которых крайне
редко и которые обыкновенно представляются нам враж¬
дебно противоположными. Он был одновременно мечта¬
тельным мистиком и человеком практического действия.
У его мыслей были не только крылья, но и руки; он говорил
и действовал. Это был не только язык, но и меч своего
времени. Это был одновременно и холодный, схоластиче¬
ский буквоед и восторженный, упоенный божеством про¬
рок. Проведя день в тяжелой работе над своими догмати¬
ческими формулировками, он вечером брался за флейту и
созерцал звезды, растекаясь в мелодии и благоговении.
Этот человек, который мог ругаться, как торговка рыбой,
мог быть и мягким, как нежная девушка. Временами он
неистовствовал, как буря, вырывающая с корнем дубы, и
потом вновь становился кротким, как зефир, ласкающий
фиалку. Он был исполнен трепетнейшего страха божьего,
полон самопожертвования во славу святого духа. Он
способен был целиком погрузиться в область чистой ду-
<2
ховпости; и, однако, он очень хорошо знал прелести жизнп
сей н умел их ценить, и с уст его слетело чудесное изре¬
чение: «Кто к вину, женщинам и песням не тянется, тот
на всю жизнь дураком останется». Он был закопченным,
я бы сказал, — абсолютным человеком, в котором нераз¬
дельны были дух и материя. Поэтому назвать его спири¬
туалистом было бы столь же ошибочно, как и именовать
сенсуалистом. В нем было нечто, если можно так выра¬
зиться, первозданное, непостижимое, чудодейственное, что
мы встречаем у всех избранников, нечто наивно-ужасное,
нечто нескладно-умное, нечто возвышенно-ограниченное,
нечто неодолимо-демоническое.
Отец Лютера был рудокопом в Мансфельде, п мальчик
часто бывал у него в подземной мастерской, где формиру¬
ются могучие металлы и бьют мощные источники; и здесь
юное сердце, быть может бессознательно, впитало в себя
сокровеннейшие силы природы и получило в дар от горных
духов неуязвимость. Поэтому, вероятно, было в нем столь¬
ко персти, столько душевных шлаков, что так часто ста¬
вилось ему в вину. Упрек несправедлив, — без этой зем¬
ной примеси он не мог бы быть человеком дела. Чистые
духи неспособны действовать. Нам ведь известно из уче¬
ния Юнг-Штиллинга о привидениях, что, хотя духи могут
принимать красочную и вполне определенную видимость,
умеют ходить, бегать, плясать и совершать всевозможные
движения, подобно живым людям, однако они не в состоя¬
нии сдвинуть с места ничего материального, будь это даже
самый маленький ночной столик.
Слава Лютеру! Вечная слава бесценному мужу, кото¬
рому мы обязаны спасением нашего благороднейшего
достояния и благодеяниями которого мы живем по сей день!
Не пристало нам жаловаться на ограниченность его взгля¬
дов. Карлик, взобравшийся на плечи великана, может,
конечно, видеть дальше, чем сам великан, особенно если
наденет очки; но для возвышенного кругозора ему не¬
достает высокого чувства, исполинского сердца, которое
нельзя себе присвоить. Еще менее пристало нам изрекать
суровый приговор о его недостатках; эти недостатки
принесли нам больше пользы, чем добродетели тысячи
других. Утонченность Эразма и мягкость Меланхтона
никогда не подвинули бы нас так далеко, как это иной
раз удавалось божественной грубости брата Мартина.
43
Да, указанное мной недоразумение по поводу исходных пун¬
ктов принесло драгоценнейшие плоды, благодетельные для
всего человечества. С имперского сейма, где Лютер от¬
вергает авторитет папы, всенародно заявляя, что его
«учение можно опровергать только словами библии или
разумными доводами!» — начинается в Германии новая
эпоха. Цепь,L которой св. Бонифаций приковал германскую
церковь к Риму, разрублена. Эта церковь, бывшая ранее
составной частью великой иерархии, распадается на рели¬
гиозные демократии. Сама религия становится иною; в ней
исчезает индо-гностический элемент, и мы видим, как
вновь усиливается в ней элемент иудейско-деистический.
Возникает евангелическое христианство. Религия вновь
становится истиной, поскольку совершенно неизбежные
притязания материи не только принимаются во внимание,
но даже узакониваются. Священник становится человеком,
берет жену и, согласно требованию бога, родит детей.
С другой стороны, бог вновь становится небесным холо¬
стяком без семьи; ставится под сомнение, является ли
его сын законнорожденным; святые получают отставку;
у ангелов подрезают крылья; богоматерь теряет все права
на корону небесную, и ей воспрещено творить чудеса.
С этих пор вообще, особенно после громадных успехов
естествознания, чудеса прекращаются. Потому ли, что
господу богу докучает подозрительность, с какой физики
следят за его пальцами, или его не привлекает конкурен¬
ция с Боско, — но даже в последнее время, когда религии
грозит столько опасностей, он не соблаговолил поддер¬
жать ее каким-нибудь потрясающим чудом. Быть может,
отныне он, вводя какую-нибудь новую религию на земле,
перестанет пускаться на святейшие фокусы и будет до¬
казывать истины новых учений исключительно с помощью
разума; оно ведь и всего разумнее. По крайней мере сен¬
симонизм, представляющий собой самоновейшую религию,
обошелся без всяких чудес, не считая разве того, что ста¬
рый счет от портного, не оплаченный Сен-Симоном при
жизни, был спустя десять лет полностью оплачен его
учениками. Словно сейчас вижу еще, как великолепный
отец О ленд с воодушевлением поднимается в зале Тсбу и
предъявляет изумленной общине оплаченный счет от порт¬
ного. Юные лавочники были потрясены столь сверхъесте¬
ственным знамением. Портные, однако, вновь обрели веру!
Между тем, если у нас в Германии благодаря проте¬
стантству вместе с прежними чудесами исчезла и всякая
иная поэзия, то мы многое получили взамен. Люди сде¬
лались добродетельнее и благороднее. Протестантство ока¬
зало самое благое влияние, способствуя той чистоте нра¬
вов и той строгости в исполнении долга, которую мы обыч¬
но называем моралью. Более того, в некоторых общинах
протестантство приняло даже направление, благодаря
которому оно в конечном счете совершенно совпало с этой
моралью, так что за евангелием сохраняется лишь зна¬
чение прекрасной притчи. Особенно отрадно видеть пере¬
мену, наступившую теперь в быту духовенства. Вместе с
целибатом исчезли благочестивое распутство и монастыр¬
ские пороки. В среде протестантского духовенства мы
нередко встречаемся с людьми высочайшей добродетели,
людьми, которым и древние стоики не отказали бы в ува¬
жении. Надо побродить пешком в качестве бедного сту¬
дента по Северной Германии, чтобы оценить, сколько
добродетели и — украшу эту добродетель прекрасным
эпитетом — сколько евангельской добродетели встреча¬
ешь подчас в какой-нибудь невзрачной пасторской оби¬
тели. Как часто зимним вечером находил я там радушный
прием, я, чужой человек, не имевший никакой иной ре¬
комендации, кроме того, что я устал и голоден. И когда
я, наевшись и выспавшись, собирался утром в путь, ста¬
рый пастор выходил в халате и в довершение всего благо¬
словлял меня на дорогу, причем благословение это ни¬
когда не приносило мне несчастья; и добродушно-болтли¬
вая госпожа пасторша совала мне в сумку несколько
бутербродов, подкреплявших меня в не меньшей степени;
а поодаль молчаливо стояли хорошенькие пасторские
дочки с зарумянившимися щечками и фиалковыми гла¬
зами, робкий огонь которых согревал воспоминаниями
мое сердце в течение целого зимнего дня.
Высказав положение, что его учение можно опроверг¬
нуть только словами библии или доводами разума, Лютер
утвердил за разумом право толковать библию, и он, этот
разум, был признан верховным судьей во всех религиоз¬
ных разногласиях. Это послужило в Германии источни¬
ком для так называемой свободы духа, или, как ее назы¬
вают также, свободы мысли. Мышление сделалось правом,
и права разума были узаконены. Правда, уже в течение
â5
нескольких столетии можно было мыслить п говорить
довольно свободно, п схоластики спорили о таких вещах,
что нам непонятно, как можно было даже произносить
названия зтнх вещей в средние века. Но все это делалось
на основе различения, которое проводили между истиной
теологической и философской, — различения, явной
целыо коего было предохранить человека от ереси; и
совершалось это исключительно в стенах университетских
аудиторий на готическп-темной латыни, совершенно не¬
понятной народу, так что церковь от этого мало могла
пострадать. К тому же церковь никогда, собственно, не раз¬
решала подобных начинаний, п время от времени она и
сжпгала какого-нибудь злополучного схоластика. Но
теперь, со времен Лютера, перестали различать истину
теологическую и философскую и начали без стеснения и
страха посреди базарной площади препираться о религии
на родном, немецком языке. Князья, ставшие на сторону
Реформации, узаконили эту свободу мысли, и ее венцом,
имеющим мировое значение, является немецкая философия.
В самом деле, нигде, даже в Греции, разум челове¬
ческий не получил возможности высказываться столь
свободно, как в Германии, начиная с середины прошлого
столетия вплоть до вторжения французов. Особенно в
Пруссии царила неограниченная свобода мысли. Маркиз
Бранденбургский понял, что, поскольку он только с по¬
мощью протестантизма получил возможность стать закон¬
ным королем прусским, он должен поддерживать и про¬
тестантскую свободу мысли.
С тех пор, правда, положение вещей изменилось, и
естественный покровитель нашей протестантской свободы
мысли сговорился с ультрамонтанской партией о подавле¬
нии этой свободы, и для осуществления подобной цели он
часто пользуется оружием, которое придумано и приме¬
нено впервые папством против нас, — цензурой.
Странное дело! Мы, немцы, — сильнейший и умней¬
ший народ. Наши царствующие роды восседают на всех
европейских престолах, наши Ротшильды господствуют на
биржах всего мира, наши ученые верховенствуют во всех
науках, мы выдумали порох и книгопечатание — и,однако,
кто выстрелит у нас из пистолета, платит три талера
штрафа, и когда нам вздумается объявить на страницах
«Гамбургского корреспондента»: «Моя любезная супруга
46
разрешилась от бремени дочуркой, прелестной, как сво¬
бода!», то г-н д-р Гофман берется за свой красный каран¬
даш и вычеркивает нам эту «свободу».
Долго ли еще это будет длиться? Не знаю. Но знаю,
что вопрос о свободе печати, обсуждаемый теперь в Гер¬
мании с таким жаром, знаменательным образом связан с
вышеизложенными соображениями, и, по моему убеждению,
решить его не трудно, если будет принято во внимание, что
свобода печати есть не что иное, как следствие свободы
мысли, и, стало быть, представляет собой право протес¬
танта. За права этого рода немец пролил уже свою лучшую
кровь и, вероятно, будет вынужден вновь вступить за них
в бой.
То же применимо к вопросу об академической свободе,
так страстно волнующей ныне умы в Германии. С тех пор
как полагают, будто было сделано открытие, что полити¬
ческое возбуждение, сиречь свободолюбие, более всего
свирепствует в университетах, государям стали со всех
сторон внушать, что эти учреждения необходимо уничто¬
жить или по крайней мере превратить в обыкновенные
учебные заведения. Строятся соответствующие планы п
обсуждаются доводы pro 1 и contra. 2 Однако как публич¬
ные противники университетов, так и публичные их за¬
щитники, до сих пор выступавшие перед нами, как будто
не понимают существенных основ этого вопроса. Первые
не понимают, что молодежь всегда и при любом обучении
будет воодушевлена интересами свободы и что при подав¬
лении университетов эта воодушевленная молодежь, быть
может в союзе с молодежью торгового и ремесленного со¬
словий, выступит тем активней. Защитники стараются
лишь доказать, что вместе с университетами кончится и
расцвет немецкой науки, что академическая свобода со¬
вершенно необходима для занятия науками, что именно
она дает молодежи прекрасную возможность получить все¬
стороннее образование и т. д. Как будто вопрос сводится
к тому, будет ли несколькими греческими вокабулами или
несколькими грубостями больше или меньше.
Да и какое дело государям до науки, учения и образо¬
вания, раз затронута священная безопасность их престо-
1 За (лат.).
2 Против (лат.).
47
лоб! У них хватило героизма пожертвовать всеми этими
относительными благами ради единственно абсолютного —
ради их абсолютной власти. Ибо она вручена им господом
богом, а где повелевает небо, там должны отступить все
земные соображения.
Непонимание проявляют как бедные профессора,
публично выступающие защитниками университетов, так
и чиновники, являющиеся их противниками. Одним только
проповедникам католицизма в Германии ясно их значе¬
ние. Эти благочестивые обскуранты — опаснейшие про¬
тивники нашей университетской системы, но они действуют
предательски, путем лжи и обмана, и если кто из них
принимает елейную внешность поборника университе¬
тов, то тут-то и обнаруживается иезуитская интрига.
Этим трусливым лицемерам отлично известно, что можно
выиграть в этой игре. Ибо с падением университетов падет
также и протестантская церковь, коренящаяся со времен
Реформации только в них, так что вся история проте¬
стантской церкви за последние столетия почти исчерпы¬
вается богословскими препирательствами виттенбергских,
лейпцигских, тюбингенских и галлеских университет¬
ских ученых. KoHcxicTopnii — лишь слабый отблеск тео¬
логического факультета: без него они теряют всякую
почву и всякую самобытность, опускаясь до безнадеж¬
ной зависимости от министерств или даже от по¬
лиции.
Не станем, однако, слишком долго предаваться этим
меланхолическим размышлениям, тем более что нам
предстоит еще поговорить об избраннике, который со¬
вершил столько великого для немецкого народа. Я пока¬
зал выше, как благодаря ему мы возвысились до вели¬
чайшей свободы мысли. Одпако этот самый Мартин Лю¬
тер дал нам не только свободу движения, но также и
средства для движения, а именно: духу он дал тело, а
мысли — слово. Он создал немецкий язык.
Он достиг этого своим переводом библии.
В самом деле, божественный автор этой книги, каза¬
лось, зиал, подобно всем нам, что отнюдь не безразлично,
кто нас переводит, и он сам избрал себе переводчика,
одарив его чудодейственной силой, благодаря которой он
переводил с мертвого, как бы уже погребенного, языка на
другой, еще не начавший жить.
48
Правда, существовала «Вульгата», которую понимали,
равно как «Септуагинта», которую можно было уже по¬
нимать. Но знание еврейского языка было совершенно
утрачено в христианском мире. Только евреи, втихомолку
гнездившиеся там и сям в уголках этого мира, сохранили
еще знание этого языка. Подобно призраку, охраняющему
доверенное ему некогда при жизни сокровище, этот умерщ¬
вляемый народ, этот народ-призрак сидел по своим
мрачным гетто и хранил там еврейскую библию; и в эти
проклятые трущобы тайком спускались немецкие ученые,
чтобы извлечь сокровище, чтобы овладеть знанием еврей¬
ского языка. Когда католическое духовенство почуяло,
что ему с этой стороны грозит опасность, что этим околь¬
ным путем народ может добраться до истинного слова
божьего и разоблачить подлоги Рима, — то оно оказалось
не прочь вытравить все еврейское наследие; предположено
было уничтожить все еврейские книги, и на Рейне началось
преследование книг, с которым так похвально боролся
наш доблестный доктор Рейхлин. Кельнские теологи, дей¬
ствовавшие тогда, в особенности Гоогстратен, были совсем
не так тупоголовы, как изображает их в своих «Litteris
obscurorum virorum» 1 отважный соратник Рейхлина,
рыцарь Ульрих фон Гуттен. Дело шло об уничтожении
еврейского языка. После победы Рейхлина Лютер мог на¬
чать свое дело. В письме, написанном в это время Рейхли-
ну, он как будто уже чувствует всю важность одержанной
Рейхлином победы — победы, одержанной в тяжелом,
зависимом положении, тогда как он, августинский монах,
был совершенно независим. С великой наивностью го¬
ворит он в этом письме: «Ego nihil timeo, quia nihil habeo».2
Но каким образом Лютер дошел до языка, на который
он перевел свою библию, остается для меня по сей час
непостижимым. Древнешвабское наречие совершенно ис¬
чезло вместе с рыцарской поэзией гогенштауфенской им¬
перии. Древнесаксонское наречие, так называемый илатт-
дейч, господствовал лишь в одной части Северной Гер¬
мании и, несмотря на все предпринимавшиеся попытки,
никак не поддавался использованию для литературных
целей. Если бы Лютер для перевода библии взял язык,
1 «Письмах темных людей» (лат.).
2 Я ничего не боюсь, потому что ничего не имею (лат.).
3 Г. Гейне, т. О
49
иа котором говорят в нынешней Саксонии, то был бы прав
Аделупг, утверждающий, что саксонское, в частности
мейсенское, наречие есть наш собственно верхненемецкий,
то есть наш литературный язык. Но это давно опроверг¬
нуто, и я тем настойчивее должен упомянуть об этой ошиб¬
ке, что она до сих пор распространена во Франции. Со¬
временное саксонское наречие никогда не было диалектом
немецкого народа, равно как и силезское, так как, подобно
последнему, оно возникло благодаря славянскому воз¬
действию. Поэтому с полной откровенностью признаюсь,
что не знаю, как возник язык, который мы находим в Лю-
теровой библии. Но я знаю, что при посредстве этой
библии, в тысячах экземпляров брошенной в народ юным
печатным станком, этим черным искусством, язык Лютера
в течение немногих лет распространился по всей Германии
и возвысился до всеобщего литературного языка. Этот
литературный язык и теперь господствует в Германии,
придавая литературное единство политически и рели¬
гиозно раздробленной стране. Да послужит нам столь
неоценимая заслуга этого языка возмещением того, что
в нынешнем его виде ему несколько недостает сердеч¬
ности, которую мы находим обычно в языках, вышедших
из одного наречия. Однако язык самой библии Лютера
далеко не чужд этой сердечности, и эта старая книга остает¬
ся для нашего языка вечным источником омоложения.
Все выражения и обороты, принятые в библии Лютера, —
немецкие, и писатель все еще может употреблять их и в наше
время; и так как эта книга обращается в руках беднейших
людей, то они не нуждаются ни в каком особом ученом
руководстве для усвоения литературной речи.
Когда у нас разразится политическая революция, это
обстоятельство будет иметь замечательные последствия.
Свобода сможет высказываться повсюду, и язык ее будет
библейским.
Оригинальные сочинения Лютера также послужили
к утверждению немецкого языка. Благодаря своей поле¬
мической страстности они глубоко внедрялись в душу
эпохи. Тон их всегда пристоен. Но религиозная револю¬
ция не совершается посредством флердоранжа. Для
грубой колоды нужен подчас грубый топор. В библии
нзык Лютера, из благоговения перед духом господним,
который здесь витает, всегда держится в рамках извест-
60
ного достоинства. В полемических своих писаниях он, на¬
оборот, не избегает плебейской грубости, которая часто
является столь же отталкивающей, сколь и грандиозной.
В этих случаях его образы и выражения напоминают ис¬
полинские каменные изваяния, которые мы встречаем в
подземных индийских или египетских храмах; крикливая
раскраска и причудливое уродство этих изваяний одно¬
временно отталкивают и привлекают нас. Благодаря этому
каменному барокко смелый монах является нам иногда
неким религиозным Дантоном, проповедником Горы, низ¬
вергающим с ее вершины пестрые словесные глыбы на
головы своих противников.
Еще замечательнее и значительнее этих прозаических
сочинений стихотворения Лютера, песни, изливавшиеся
из его души в борьбе и бедствиях. Они напоминают то
цветок, расцветший на скале, то отблеск лунного света,
трепещущий на взволнованном море. Лютер любил музы¬
ку, он даже написал трактат об этом искусстве, и песни
его поэтому необычайно мелодичны. И в этом отношении
ему подходит имя Эйслебенский лебедь. Ио менее всего
был он кротким лебедем в некоторых своих песнопениях,
где ои разжигает отвагу своих приверженцев и подстре¬
кает самого себя к неистовому боевому задору. Боевою
была та упрямая песня, с которой он и его спутники
вступили в Вормс. Старый собор содрогнулся при этих
новых звуках, и вороны перепугались в своих сумрачных
гнездах на колокольнях. Этот гимн, эта марсельеза
Реформации, сохранил свою вдохновляющую силу до
наших дней:
Господь — наш истинный оплот,
Оружье н твердыня,
Господь пас вызволит, спасет
В беде, грозящей ныне.
Древний лютый враг
Правит к нам свой шаг.
Могуч он и хитер,
Опасен с давних нор,
Врага страшнее нету.
Своею сплою земной
Мы сделаем немного,
За нас сражается иной,
Иной, избранник бога.
Кто же он? — вопрос.
То Иисус Христос,
51
Бог наш Саваоф,
И нет других богов,
Пребудет с ним победа.
И пусть нам дьявольские тьмы
Грозят осатанело,
Не так-то их страшимся мы,
И право наше дело;
Князь мира сего
Не сможет ничего,
Как ни тщись, а он
На гибель обречен,
Его повергнет Слово.
И да отступятся они
Пред вечным этим Словом
И да святятся наши дни
Учением Христовым.
Пусть возьмут, что есть:
Жизнь нашу и честь,
Жен, детей и дом,
Не будет проку в том,
Господне царство — с памп. 1
Я показал, в сколь великой степени обязаны мы нашему
дорогому доктору Мартину Лютеру той свободой духа,
которая необходима новой литературе для ее развития.
Я показал, как он создал также для нас слово, язык, на ко¬
тором могла высказаться эта новая литература. Мне
остается прибавить, что он сам и начинает эту литературу,
что она, а особенно художественная литература, именно
с Лютера ведет свое начало, что его духовные песни пред¬
ставляют собою ее первые важнейшие проявления и уже
свидетельствуют о ее характере. Поэтому всякий желаю¬
щий говорить о новой немецкой литературе должен на¬
чинать с Лютера, а не с нюрнбергского обывателя Ганса
Сакса, как это делалось некоторыми литераторами ро¬
мантической школы из недобросовестного недоброжелатель¬
ства. Ганс Сакс, этот трубадур достопочтенного сапожного
цеха, мейстерзингерские песни которого являются лишь
неуклюжей пародией на былые любовные песни минне¬
зингеров, а его драмы — туповатыми травести старинных
мистерий; этот педантичный шут, робко имитирующий сво¬
бодную наивность средних веков, должен, пожалуй, рас¬
сматриваться как последний поэт старого, но ни в коем
1 Персв. В. Зоргенфрея.
52
случае не как первый поэт нового времени. Для доказатель¬
ства мне совершенно достаточно отчетливо установить про¬
тивоположность между нашей новой литературой и старой.
Таким образом, окидывая взглядом немецкую лите¬
ратуру до Лютера, мы находим:
1. Ее материал, ее содержание, подобно самой жизин
средних веков, представляет собой смесь двух разнород¬
ных начал, которые в течение долгой борьбы столь нераз¬
рывно сочетались друг с другом, что в конце концов сли¬
лись воедино ; эти начала — германская национальность и
индо-гностическое, так называемое католическое, христи¬
анство.
2. Способ изображения, или, вернее, дух изображения,
в этой старой литературе романтический. Без всяких
оснований говорят то же самое о материале этой лите¬
ратуры, обо всех явлениях средневековья, возникших
вследствие слияния двух вышеупомянутых начал — не¬
мецкой национальности и католического христианства.
Ибо, подобно тому как некоторые поэты средневековья
изображали в совершенно романтическом духе греческую
историю и мифологию, можно также изображать средне¬
вековые нравы и легенды в классических формах. Выра¬
жения «классический» и «романтический» относятся, сле¬
довательно, исключительно к духу изображения. Способ
изображения будет классическим, если форма и идея того,
что подлежит изображению, совершенно тождественны,
как оно и наблюдается в созданиях греческого искусства,
где в этом тождестве заключена наивысшая гармония
формы и идеи. Способ изображения будет романтическим,
если форма раскрывает идею не посредством тождествен¬
ности, но позволяет угадывать ее в параболе. Слово «па¬
рабола» я предпочитаю здесь слову «символ». В греческой
мифологии был ряд богов, облики которых, при всей тож¬
дественности формы и идеи, могли получить все же символи¬
ческое значение. Но дело в том, что в этой греческой ре¬
лигии определенность имел лишь облик богов, все же ос¬
тальное, их жизнь и дела, предоставлено было произволу
поэтов, которые могли изображать их как угодно. В хри¬
стианской религии, наоборот, нет столь определенных об¬
разов, но имеются лишь определенные факты, определен¬
ные священные события и деяния, в которые поэтическая
настроенность человека могла вложить некое параболи¬
53
ческое значение. Говорят, Гомер сочинил греческих богов;
это неверно: они существовали и раньше в известных
очертаниях, но он сочинил их истории. Художники сред¬
них веков, наоборот, никогда не осмеливались сочинить
хотя бы ничтожнейшую мелочь в исторической части
своей религии; грехопадение, воплощение, крещение,
распятие и т. п. оставались неприкосновенными фактами,
которые не подлежат никакому другому толкованию, но
в которые поэтическое сознание человека было вправе
вложить параболическое значение. Подобный параболи¬
ческий дух проникал в средние века во все искусства, и
в этом сказывалась их романтичность. Отсюда мистиче¬
ская всеобщность поэзии средневековья; образы настолько
туманны, их действия так неопределенны, все в них так
призрачно, словно освещено мерцающим лунным светом;
идея лишь загадочно намечена в форме, и расплывчатая
форма, какую мы находим здесь, соответствовала именно
спиритуалистической литературе. Нет тут, как у греков,
солнечно ясной гармонии между формой и идеей; но иной
раз идея переходит за пределы установленной формы,
которая в отчаянии стремится настигнуть ее, из чего воз¬
никает перед нами причудливое, фантастическое величие;
иной раз форма совершенно перерастает идею, жалкая
мыслишка ковыляет, неуклюже облеченная в колоссаль¬
ную форму, и мы видим гротескный фарс. В этих случаях
мы почти всегда имеем дело с чем-то неоформленным.
3. Общей особенностью этой литературы было про¬
явление во всех ее созданиях той твердой, устойчивой веры,
которая господствовала тогда во всех делах светских и
духовных. Авторитеты были основой всех воззрений того
времени; с уверенностью мула шагал поэт по краю бездны
сомнений, и отважное спокойствие царит в его творениях,
блаженная уверенность, ставшая невозможной позднее,
когда сломлена была вершина всех авторитетов, то есть
авторитет папы, за которым рухнули и все остальные.
Поэтому произведения средневековой поэзии носят один
и тот же общий характер, словно их создавал не отдельный
человек, а весь народ; они объективны, эпичны и наивны.
В литературе же, расцветшей со времен Лютера, мы
обнаруживаем нечто совершенно противоположное:
1. Ее основным содержанием, тем материалом, который
она использует для изображения, является борьба ре-
64
формационных интересов и воззрений со старым порядком
вещей. Духу нового времени совершенно враждебна та
смешанная вера, которая была порождена слиянием двух
вышеуказанных начал: немецкой национальности и индо-
гиостического христианства. Последнее представляется
ему языческим идолопоклонством, место которого должна
занять истинная религия иудейско-деистического еван¬
гелия. Возникает новый порядок вещей; дух создает
изобретения, способствующие благополучию материи.
Расцвет промышленности и философии подрывает авто¬
ритет спиритуализма в общественном мнении; третье
сословие возвышается; революция бурлит уже в сердцах
и головах; и чувства, и мысли, и потребности, и запросы
времени получают выражение, и это и есть содержание
новейшей литературы.
2. Дух изображения уже не романтический, а класси¬
ческий. Благодаря возрождению древней литературы вся
Европа была охвачена восторженным увлечением грече¬
скими и римскими писателями, и ученые, единственные
люди, владевшие тогда пером, стремились усвоить себе
дух классической древности или по крайней мере воспро¬
изводить в своих сочинениях формы классического ис¬
кусства. Если гармония формы и идеи, свойственная гре¬
кам, оставалась для них недоступной, то тем строже
соблюдали они внешнюю сторону изображения в духе
греков, строго различали по греческому образцу отдель¬
ные роды поэзии, воздерживаясь от всяких романтиче¬
ских крайностей, и в этом смысле мы называем их клас¬
сиками.
3. Общей особенностью новейшей литературы является
преобладание индивидуализма и скептицизма. Автори¬
теты низвергнуты, разум остается единственным светочем
человека, и совесть его — единственный посох в блужда¬
ниях по темному лабиринту этой жизни. Человек стоит
теперь в одиночестве, лицом к лицу со своим создателем, и
к нему обращает свою песнь. Вот почему литература эта
начинается с духовных песен. Но и позднее, когда она
становится светской, в ней царит еще глубочайшее само¬
сознание, чувство личности. Поэзия перестает быть объек¬
тивной, эпической и наивной и становится субъективной,
лирической и рефлектирующей.
66
КНИГА ВТОРАЯ
В предыдущей книге мы говорили о великой религиоз¬
ной революции, представителем которой является в Гер¬
мании Мартин Лютер. Теперь нам предстоит обратиться
к философской революции, вышедшей из первой и даже
представляющей собою не что иное, как конечное следст¬
вие протестантизма.
Прежде, одиако, чем рассказать, как благодаря
Иммануилу Канту разразилась эта революция, необхо¬
димо напомнить о философских событиях в других стра¬
нах, о значении Спинозы, о судьбах Лейбницевой фило¬
софии, о взаимоотношениях между этой философией и
религией, об их столкновениях, их разрыве и т. д. Неиз¬
менно, однако, при этом мы будем иметь в виду те из фило¬
софских вопросов, которым мы приписываем социальное
значение и в решении которых философия соперничает
с религией.
Таков, прежде всего, вопрос о природе бога. «Бог
есть начало и конец всей премудрости!» — говорят в своем
смирении верующие, и философ во всей горделивости
своего знания вынужден согласиться с этим благоче¬
стивым изречением.
Не Бэкон, как принято утверждать, а Рене Декарт
является отцом новейшей философии, и мы совершенно
отчетливо покажем, в какой степени германская филосо¬
фия ведет от него свое происхождение.
Рене Декарт — француз, и великой Франции принад¬
лежит и здесь слава первенства. Ио великая Франция,
56
шумливая, оживленная и говорливая страна французов,
никогда не представляла собой подходящей почвы для
философии, расцвета которой там, вероятно, никогда
и не будет; это чувствовал Рене Декарт, и он переселился
в Голландию, тихую, молчаливую страну трешкоутов и
голландцев, и там написал он своп философские творения.
Лишь там мог он освободить дух от традиционного форма¬
лизма и построить цельную философию из чистых идей,
не заимствованных ни у веры, ни у эмпирии, как это и
требуется с тех времен от всякой истинной философии.
Лишь там смог он погрузиться столь глубоко в бездны
мышления, что сумел проследить его в первоосновах само¬
сознания и именно благодаря мысли констатировать само¬
сознание, выразив это во всемирно-знаменитом положе¬
нии: «Cogito, ergo sum».1
Но, пожалуй, нигде, кроме Голландии, не мог бы Де¬
карт осмелиться проповедовать философию, вступившую
в самую откровенную борьбу со всеми традициями прош¬
лого. Ему принадлежит честь основания автономии фило¬
софии. С той поры последней не приходится выпрашивать
у теологии разрешения на мышление, и она может теперь
стать наряду с последней как самостоятельная наука.
Не скажу — противопоставить себя ей, так как тогда
в силе было положение: истины, до которых мы доходим
путем философии, в конце концов те же самые, что и дан¬
ные нам религией. Напротив, схоластики, как я заметил
уже раньше, не только утверждали главенство религии
над философией, ио объявляли последнюю ничтожной
игрой, пустым словесным препирательством, как только
она впадала в противоречие с догматами религии. Схола¬
стикам важно было высказать свои мысли, и притом без¬
различно, при каких условиях. Они говорили: «Едино¬
жды один — один», и доказывали это; но затем добавляли
с улыбкой: «Это тоже есть заблуждение человеческого
разума, всегда заблуждающегося в том случае, когда
он впадает в противоречие с постановлениями вселенских
соборов; ведь единожды один есть три, и это самая допод¬
линная истина, что давиым давно открылась нам во имя
отца и сына и святого духа!» Схоластики втайне образо¬
вали философскую оппозицию против церкви. Но внешне
1 Я мыслю — следовательно, я существую (лат.).
57
они носили лицемерную маску величайшей покорности,
в некоторых случаях даже боролись за церковь, на пуб¬
личных выступлениях шествовали в ее свите, примерно
так, как депутаты французской оппозиции на торжествах
Реставрации. Комедия схоластиков длилась более шести¬
сот лет и становилась все пошлее. Разрушая схоластику,
Декарт разрушил также отжившую оппозицию средне¬
вековья. Старые метлы обтрепались от длительной работы,
слишком много пристало к ним сора, и новая эпоха тре¬
бовала новых метел. После каждой революции прежней
оппозиции приходится уходить в отставку, в противном
случае происходят большие глупости. Мы это видели.
С католической церковью это случилось в меньшей сте¬
пени, чем с ее бывшими противниками, последышами
схоластиков, которые первыми восстали против карте¬
зианской философии. Лишь в 1663 году ее запретил
папа.
Я вправе предположить у французов удовлетворитель¬
ное и достаточное знакомство с философией их великого
соотечественника и не имею оснований указывать предва¬
рительно, как противоположнейшие учения могли чер¬
пать в ней необходимый материал. Я имею в виду идеализм
и материализм.
Так как эти два учения, особенно во Франции, обозна¬
чаются названиями «спиритуализм» и «сенсуализм» и
так как я употребляю эти названия в ином смысле, то мне,
во избежание путаницы понятий, приходится более под¬
робно остановиться на этих терминах.
С древнейших времен существуют два противополож¬
ных воззрения па природу человеческого мышления, то
есть на конечные основы духовного познания, на возник¬
новение идей. Одни утверждают, что мы получаем наши
идеи исключительно извне, что наш дух есть пустое вме¬
стилище, где поглощенные нашими чувствами впечатле¬
ния перерабатываются приблизительно так же, как съеден¬
ная пища в нашем желудке. Прибегая к более высокому
образу, скажем, что эти люди рассматривают дух наш как
некую tabula rasa,1 на которой впоследствии опыт еже¬
дневно записывает что-нибудь новое по определенным
правилам письма.
1 Чистую доску (лат.).
68
Другие, сторонники противоположного взгляда, утвер¬
ждают: человек получает идеи как нечто врожденное,
человеческий дух есть первоисточник идей, и внешний
ми.р, опыт и посредствующие чувства лишь приводят
нас к познанию того, что уже раньше было в нашем духе, —
они лишь пробуждают там дремлющие идеи.
Первое воззрение получило название сенсуализма,
иногда также эмпиризма; другое называли спиритуализ¬
мом, иногда также рационализмом. Однако это легко
могло быть источником недоразумений, так как с некото¬
рых пор мы, как я уже упомянул в предыдущей книге,
обозначаем этими двумя названиями также две известные
социальные системы, дающие себя знать во всех проявле¬
ниях жизни. Поэтому название спиритуализма мы остав¬
ляем за той дерзновенной притязательностью духа,
которая в стремлении к единоличному самовозвеличению
старается попрать материю или по крайней мере заклей¬
мить ее; название сенсуализма мы оставляем за той оппо¬
зицией, которая, борясь с этим, стремится к реабилитации
материи и отстаивает права, принадлежащие чувствам,
по отрицая при этом прав духа и даже верховенства духа.
Напротив, философские мнения о природе наших позна¬
ний я охотнее называю идеализмом и материализмом, и
первым названием я обозначаю учение о врожденных
идеях, об идеях a priori,1 вторым названием я обозначаю
учение о познании с помощью опыта, с помощью чувств,
учение об идеях a posteriori.2
Знаменательно то обстоятельство, что идеалистическая
сторона картезианской философии никогда не имела успе¬
ха во Франции. Многие знаменитые янсенпсты следовали
в течение некоторого времени этому направлению, но
вскоре примкнули к христианскому спиритуализму. Быть
может, именно это обстоятельство лишило идеализм дове¬
рия во Франции. Народы инстинктивно чувствуют, что
необходимо им для того, чтобы выполнить свою миссию.
Французы были уже на пути к той политической рево¬
люции, которая разразилась лишь в конце XVIII века
и для которой им понадобились топор и столь же холодная
и острая материалистическая философия. Христианский
1 Не основанных на опыте (лат.).
2 Основанных на опыте (лат.).
69
спиритуализм был соратником их врагов, и поэтому сен¬
суализм сделался их естественным союзником. Так' как
французские сенсуалисты были обычно материалистами,
то возникло заблуждение, будто сенсуализм может выте¬
кать только из материализма. Нет, он может также явиться
результатом пантеизма, и в таком случае он предстает
перед нами в прекрасной и величественной форме. Никоим
образом, однако, не станем мы отрицать заслуги француз¬
ского материализма. Французский материализм был пре¬
красным противоядием против недугов минувшего, отча¬
янным лечебным средством от отчаянной болезни, ртутью
для зараженного народа. Французские философы избрали
своим учителем Джона Локка. Он явился для них тем
спасителем, который был им нужен. Его «Essay on human
understanding» 1 стал их евангелием. Па нем они прися¬
гали. Джон Локк прошел школу Декарта и научился
у него всему, чему способен научиться англичанин: меха¬
нике, анализу, комбинированию, конструированию, рас¬
чету. Лишь одного не мог он понять, а именно — врожден¬
ных идей. Поэтому он усовершенствовал учение о том,
что мы получаем наши познания извне при посредстве
опыта. Он превратил дух человеческий в нечто подобное
счетному механизму, весь человек стал некоей английской
машиной. Это применимо также к тому человеку, какого
конструировали ученики Локка, хотя они стремились
отличаться друг от друга по названию. Все они боятся
конечных выводов из своего основного принципа, и после¬
дователь Кондильяка пугается, когда его помещают
в один разряд с каким-нибудь Гельвецием или, что еще
хуже, с Гольбахом, наконец, — с самим Ламетри. И тем
не менее это неизбежно, и я могу поэтому французских
философов XVIII века и их нынешних последователей
всех без исключения назвать материалистами. «L’homme
machine»2 есть наиболее последовательная книга фран¬
цузской философии, и уже заглавие книги вскрывает суть
всего ее мировоззрения.
Эти материалисты были в большинстве также сторон¬
никами деизма, потому что машина предполагает меха¬
ника и высшее ее совершенство заключается в том, что
1 «Опыт о человеческом разумении» (англ ).
2 «Человек-машина» (франц.).
60
она способна понять и оценить технические познания
такого творца, основываясь отчасти на собственной кон¬
струкции, отчасти на прочих его произведениях.
Материализм исполнил свою миссию во Франции.
Теперь он совершает, быть может, то же дело в Англии,
и на Локка опираются там революционные партии, в осо¬
бенности бентамисты, проповедники утилитаризма. Это
могучие умы, ухватившиеся за настоящий рычаг, которым
можно расшевелить Джона Буля. Джон Буль — при¬
рожденный материалист, и его христианский спиритуализм
в большинстве случаев есть традиционное лицемерие или
продукт материальной ограниченности: плоть его само-
ограничивастся, потому что дух не приходит ей на выручку.
Иное дело в Германии, и немецкие революционеры оши¬
баются, воображая, что материалистическая философия
благоприятствует их целям. Более того: там невозможна
никакая всеобщая революция до тех пор, пока ее прин¬
ципы не будут выведены из более народной, более религиоз¬
ной, более немецкой философии и не получат господства
благодаря последней. Какова же эта философия? О ней
мы в дальнейшем поговорим без околичностей. Я говорю:
без околичностей, потому что рассчитываю, что и немцы
будут читать эти страницы.
Германия искони проявляла нерасположение к мате¬
риализму и поэтому в течение полутора веков была под¬
линной ареной идеализма. Немцы тоже учились в школе
Декарта, и великого ученика его звали Готфрид-Виль¬
гельм Лейбниц. И если Локк следовал материалистиче¬
скому направлению, то Лейбниц следовал идеалистиче¬
скому направлению учителя. Здесь перед памп учение
о врожденных идеях в наиболее законченном виде. Лейб¬
ниц спорил с Локком в своих «Nouveaux essays sur l’en¬
tendement humain».1 С Лейбницем расцвело великое
рвение немцев к изучению философии. Он пробуждал
умы и направлял их на новые пути. То ли из-за присущей
его сочинениям мягкости, то ли из-за оживлявшего их
религиозного чувства, но с их смелостью до известной
степени примирились и противники его, и воздействие
этих сочинений было огромно. Смелость этого мыслителя
обнаруживается особенно в его учении о монадах, одной
1 «Новых опытах о человеческом понимании» (франц.).
61
из замечательнейших гипотез, когда-либо вышедших из
головы философа. Она представляет собой также лучшее
из его созданий, ибо в ней уже брезжит сознание важней¬
ших законов, признанных нашей современной филосо¬
фией. Учение о монадах было, быть может, лишь беспо¬
мощной формулировкой этих законов, выраженных ныне
в более удачных формулах натурфилософами. Вместо слова
«закон» мне бы, таким образом, следовало употреблять
здесь слово «формула», ибо Ныотон совершенно прав,
замечая, что то, что мы называем в природе законами,
собственно говоря не существует и что это только формулы,
помогающие нашему пониманию уяснить ряд явлений
в природе. Из всех сочинений Лейбница более всего тол¬
ков возбудила в Германии его «Теодицея». Однако это
слабейшее его произведение. Эта книга, как и некоторые
другие сочинения, где выразилась религиозность Лейб¬
ница, вызвала немало враждебных откликов, немало
горького непонимания. Враги обвиняли его в благодуш¬
нейшем слабоумии, защищавшие его друзья, наоборот,
сделали его лукавым лицемером. Характер Лейбница
в течение долгого времени оставался у нас предметом
споров. Самые добросовестные не могли защитить фило¬
софа от упрека в двусмысленности. Больше всего нападали
на него свободомыслящие и просветители. Как могли они
простит-ь философу то, что ои защищал троицу, вечные
адские муки и даже божественность Христа! Так далеко
не простиралась их терпимость. Но Лейбниц не был ни
дураком, ни мошенником и мог со своей гармонической
высоты очень хорошо защищать целостное христианство.
Я говорю: «целостное христианство», потому что он защи¬
щал его от христианства половинчатого. Он показал по¬
следовательность ортодоксов в противоположность поло¬
винчатости их противников. Большего он никогда и не
добивался. К тому же ои стоял на той нейтральной
точке, с которой самые различные системы представляют
собой различные стороны одной и той же истины.
Эту нейтральную точку познал впоследствии и г-н
Шеллинг, а Гегель обосновал ее научно как систему
систем. Сходным образом Лейбниц занимался при¬
мирением Платона и Аристотеля. И в позднейшие вре¬
мена эта задача достаточно часто ставилась у нас.
Решена ли она?
62
Нет, поистине нет! Ибо эта задача есть не что иное, как
примирение борьбы между идеализмом и материализмом.
Платон насквозь идеалист и признает только врожденные,
или, точнее, прирожденные идеи: человек приносит идеи
с собой в мир, и когда он осознает их, они представляются
ему как бы воспоминаниями из прежнего бытия. Отсюда
все неопределенное и мистическое у Платона, — он вспо¬
минает не вполне отчетливо. У Аристотеля, напротив,
все ясно, все отчетливо, все определенно, ибо его знания
раскрываются ему не в отношениях, предшествовавших
бытию, — он черпает все из опыта и умеет все точнейшим
образом классифицировать. Поэтому он остается также
образцом для всех эмпириков, и они не знают, как доста¬
точно восхвалить господа за то, что он дал его в учители
Александру, что завоевания последнего предоставили
ему такую возможность способствовать развитию науки
и что его победоносный ученик пожаловал ему столько
тысяч талантов на занятия зоологией. Деньги эти старый
магистр истратил со всей добросовестностью, для чего
анатомировал изрядное количество млекопитающих, набил
множество птичьих чучел и произвел при этом важней¬
шие наблюдения; но великую бестию, находившуюся перед
его глазами, которую он сам воспитал и которая была неиз¬
меримо замечательней, чем весь тогдашний мировой зве¬
ринец, он, к сожалению, оставил незамеченной и неис¬
следованной. В самом деле, Аристотель не сообщил нам
никаких сведений о характере юного царя, жизнь и дея¬
ния которого до сих пор поражают нас, как чудеса и
загадки. Кем был Александр? К чему он стремился? Был
он безумцем или богом? Мы до сих пор этого пе знаем. Тем
точнее те сведения, которые дает нам Аристотель о вави¬
лонских мартышках, об индийских попугаях и о греческих
трагедиях, которые он равным образом анатомировал.
Платон и Аристотель! Это не только две системы, но
и два различных типа человеческой натуры, с незапамят¬
ных времен, во всех костюмах, более или менее враждебно
противостоящие друг другу. На протяжении всего сред¬
невековья вплоть до нынешнего дня тянулась эта вражда,
представляя собою существеннейшее содержание истории
христианской церкви. Под какими угодно именами, по
речь всегда идет о Платоне и Аристотеле. Мечтательные,
мистические, платонические натуры создают христианские
63
идеи и соответственные символы, черпая их в недрах своей
души. Натуры практические, упорядочивающие, аристо¬
телевские строят из этих идей и символов прочную систему,
догматику и культ. В конце концов церковь приемлет
в лоно свое оба эти вида натур, причем одни окапываются
главным образом в светском духовенстве, другие — в мона¬
шестве, но и те и другие продолжают нескончаемую борьбу.
В протестантской церкви наблюдается та же борьба, это —
раздор между пиетистами и ортодоксами, в известном
смысле соответствующими католическим мистикам и дог¬
матикам. Протестантские пиетисты — это мистики без фан¬
тазии, а протестантские ортодоксы — догматики без ума.
Мы застаем обе эти протестантские партии в ожесто¬
ченной борьбе во времена Лейбница, а его философское
выступление произошло позднее, когда Христиан Вольф
овладел его философией, приспособил ее к тогдашнему
времени и, что самое важное, изложил ее на немецком
языке. Прежде, однако, чем заняться этим учеником
Лейбница, успехами его стремлений и дальнейшими судь¬
бами лютеранства, мы должны упомянуть об избраннике,
который прошел одновременно с Локком и Лейбницем
школу Декарта, долго встречал только презрение и нена¬
висть и тем не мепее в наши дни возвышается до безраз¬
дельного господства над умами.
Я говорю о Бенедикте Спинозе.
Великий гений образуется с помощью другого гения
пе столько ассимиляцией, сколько посредством трения.
Один алмаз полирует другой. Точно так же и философия
Декарта ни в коем случае не породила философию Спинозы,
а лишь способствовала ее появлению. Поэтому мы вначале
встречаемся у ученика с методами учителя; это большое
достоинство. Затем у Спинозы, как и у Декарта, мы обна¬
руживаем аргументацию, заимствованную у математики.
Это большой порок. Математический метод изложения
придает Спинозе жесткую форму. Но она подобна жесткой
скорлупе миндаля: тем отраднее ядро. При чтении Спи¬
нозы нас охватывает то же чувство, что и при созерцании
великой природы в ее пронизанном жизнью покое. Лес
возносящихся к небу мыслей, цветущие вершины которых
волнуются в движении, меж тем как непоколебимые стволы
уходят корнями в вечную землю. Некое дуновение про¬
носится в творениях Спинозы, поистине неизъяснимое.
64
Это как бы веянпе грядущего. Дух еврейских пророков
еще покоился, быть может, на их позднем потомке. При¬
том в нем чувствуется сосредоточенность, какая-то само¬
уверенная гордость, какая-то величавость мыслей: она
также кажется унаследованной, ибо Спиноза принадле¬
жал к тем семьям-мученикам, которые в те годы изгоня¬
лись ультракатолическими королями из Испании. С этим
сочетается еще терпение голландца, также никогда не
изменявшее этому человеку ни в жизни, ни в его произве¬
дениях.
Установлено, что жизнь Спинозы безукоризненно
чиста и незапятнаиа, как жизнь его божественного родича
Иисуса Христа. Как тот, он пострадал за свое учение,
как тот, носил он терновый венец. Везде, где великий
дух высказывает свои мысли, есть Голгофа.
Дорогой читатель, если случится тебе быть в Амстер¬
даме, прикажи проводнику показать тебе там синагогу
испанских евреев. Это прекрасное здание, крыша его
покоится на четырех колоссальных колоннах, а в середине
возвышается кафедра, откуда некогда провозглашена
была анафема отступнику от закона Моисеева, идальго
дону Бенедикту де Спиноза. При этом трубили в козлиный
рог, носящий название шофар. С этим рогом связано,
вероятно, нечто жуткое. Ибо, как я читал в жизнеописа¬
нии Соломона Маймона, однажды альтонский раввин
пытался вновь вернуть его, ученика Канта, в лоно старой
веры, и когда тот настойчиво упорствовал в своих философ¬
ских ересях, раввин перешел к угрозам и показал ему
шофар, произнося при этом мрачные слова: «Знаешь ты,
что это такое?» Ио когда ученик Канта совершенно равно¬
душно ответил: «Это козлиный рог!» — раввин от ужаса
навзничь упал на землю.
Звуки этого рога были аккомпанементом к отлучению
Спинозы, он был торжественно изгнан из общины израиль¬
ской п объявлен недостойным носить впредь имя еврея.
Его хрр1стианские враги были достаточно великодушны,
чтобы оставить ему эту кличку. Но евреи, швейцарская
гвардия деизма, были неумолимы, и перед испанской сина¬
гогой в Амстердаме показывают площадь, где они когда-то
кололи Спинозу своими длинными кинжалами.
Я не мог не обратить особое внимание читателей на
личные невзгоды этого человека. Его сформировала
60
не только школа, но и жизнь. Это отличает его от большин¬
ства философов, и мы ощущаем в его сочинениях косвен¬
ные воздействия жизни. Теология была для него не только
наукой. Точно так же и политика. Ее он тоже изучил на
практике. Отец его возлюбленной был повешен в Нидерлан¬
дах за политическое преступление. Нигде на свете не
вешают хуже, чем в Нидерландах. Вы не имеете представ¬
ления о том, как бесконечно много приготовлений и цере¬
моний происходит в связи с этим. Преступник умирает
при этом от скуки, а у зрителя оказывается достаточно
досуга для размышлений. Поэтому я убежден, что Бенедикт
Спиноза очень много размышлял над казнью старого
ван Энде, и как раньше он уразумел религию с ее кин¬
жалами, так уразумел он теперь политику с ее веревками.
Свидетельством этого является его «Tractatus politicus».1
Моя задача лишь выяснить, в чем и как эти философы
более или менее сродни друг другу, и я указываю лишь
степень родства и наследственности. Философия Спинозы,
третьего сына Рене Декарта, в том виде, как она изложена
в его главном произведении — в «Этике», так же далека
от материализма его брата Локка, как и от идеализма его
брата Лейбница. Спиноза не бьется над исследованием
вопроса о первоосновах нашего познания. Он предлагает
нам свой великий синтез, свое объяснение божества.
Бенедикт Спиноза учит: существует лишь одна субстан¬
ция, это — бог. Эта единая субстанция бесконечна, она
абсолютна. Все конечные субстанции ведут свое происхо¬
ждение от нее, проистекают из нее, содержатся в ней,
погружены в нее, растворены в ней; они обладают лишь
относительным, преходящим, акцидентным существова¬
нием. Абсолютная субстанция открывается нам как в форме
бесконечного мышления, так и в форме бесконечного
протяжения. И то и другое, бесконечное мышление и бес¬
конечное протяжение, суть два атрибута абсолютной
субстанции. Мы познаем лишь эти два атрибута. Однако
бог, абсолютная субстанция, имеет, быть может, еще больше
атрибутов, неизвестных нам. «Non dico, me deum omnino
cognoscere, sed me quaedam ejus attributa, non autem
omnia, neque maximam intelligere partem».2
1 «Трактат о политике» (лат.).
2 Не говорю, что вполне познал бога, но лишь что понял
некоторые его атрибуты, и не все, и не большую их часть (лат.).
66
Только непонимание и злонамеренность могли прило¬
жить к этому учению эпитет «атеистическое». Никто не
выражался в более возвышенных словах о божестве, чем
Спиноза. Вместо того чтобы сказать, будто он отрицает
бога, можно было бы сказать, что он отрицает человека.
Все конечные вещи суть для него лишь модусы бесконеч¬
ной субстанции. Все конечные вещи заключены в боге,
человеческий дух есть лишь луч бесконечного мышления,
человеческое тело есть лишь атом бесконечного протяже¬
ния; бог есть бесконечная причина того и другого — духов
и тел, natura naturans.1
В одном письме к г-же дю Дефан Вольтер восторгается
мыслью этой дамы, сказавшей, что все вещи, которых
человек совершенно не может познать, несомненно таковы,
что знание их не могло бы быть ему полезным. Это замеча¬
ние я применил бы к положеншо Спинозы, которое передал
выше его собственными словами и в котором он приписы¬
вает божеству не только два познаваемых атрибута —
мышление и протяженность, но, быть может, и другие
атрибуты, недоступные нашему познанию. То, чего мы не
можем познать, не имеет для нас никакой цены, во всяком
случае никакой цены с социальной точки зрения, по¬
скольку здесь важно познанное духом превратить в реаль¬
ное явление. Поэтому в нашем объяснении сущности бога
мы принимаем во внимание только эти два познаваемые
атрибута. И затем в конце концов ведь все, что мы назы¬
ваем атрибутами бога, это лишь различные формы нашего
созерцания, и это различие форм исчезает в абсолютной
субстанцрш. Мысль в конце концов есть лишь невидимое
протяжение, а протяжение есть лишь видимая мысль.
Здесь мы приходим к основному положению немецкой
философии, к философии тождества, в существе своем
ничем не отличающейся от учения Спинозы. Пускай же
г-н Шеллинг усердствует сколько ему угодно по поводу
того, что его философия отличается от спинозизма, пусть
утверждает, что она представляет собою «живое взаимо¬
проникновение идеального и реального», что она отли¬
чается от спинозизма, «как совершенные греческие статуи
от безжизненных египетских оригиналов», однако я должен
определенно заявить, что г-н Шеллинг на первом этапе
1 Природа производящая (лат.). (См. комментарии.)
67
своего развития, когда он еще был философом, ни в ма¬
лейшей степени не отличался от Спинозы. Он только при¬
шел другим путем к этой же философии, и это я объясню
в дальнейшем, когда расскажу, как Кант открывает
новый путь, как Фихте следует за ним и как г-н Шеллинг,
в свою очередь, шагает дальше по следам Фихте и, блу¬
ждая в темных чащах натурфилософии, наконец оказы¬
вается лицом к лицу с великой статуей Спинозы.
За новой натурфилософией остается лишь та заслуга,
что она остроумнейшим образом выявила вечный парал¬
лелизм, царящий между духом и материей. Я говорю «дух»
и «материя» и этр! выражения употребляю как равнозна¬
чащие тому, что Спиноза называет мыслью и протяжением.
В известной степени равнозначно им также то, что наши
натурфилософы называют духом и природой, или идеаль¬
ным и реальным.
В дальнейшем я буду называть пантеизмом не столько
систему Спинозы, сколько его способ созерцания. Пан¬
теизм, так же как деизм, исходит из единства божества.
Но бог пантеистов пребывает в самом мире не таким
образом, что он пронизывает его своей божественностью,
как когда-то пытался наглядно объяснить блаженный
Августин, сравнивая бога с большим озером, а мир с боль¬
шой губкой, лежащей посредине и впитывающей в себя
божество. Нет, мир не только пропитан богом, не только
чреват богом, но тождествен богу. «Бог», которого Спиноза
называет единой субстанцией, а немецкие философы
абсолютом, есть «все, что существует». Он столько же
материя, сколько дух, и то и другое равно божественно,
и кто поносит священную материю, грешен столько же,
сколько тот, кто грешит против святого духа.
Бог пантеистов отличается, таким образом, от бога
деистов тем, что пребывает в самом мире, между тем как
бог деистов находится вне мира, или, что то же самое,
над миром. Бог деистов правит миром сверху, как систе¬
мой, отдельной от него. Деисты различаются между собой
только в вопросе об образе этого правления. Евреи пред¬
ставляют себе бога тираном-громовержцем, христиане —
любящим отцом, ученики Руссо — вся женевская школа —
представляют его себе мудрым художником, изгото¬
вившим мир приблизительно таким же образом, как их
папаша изготовляет свои часы, и в качестве знатоков этого
68
искусства они изумляются механизму и славят мастера
в небесах.
Деист, принимающий, таким образом, лишь внемиро-
вого или надмирового бога, считает священным лишь дух:
он рассматривает его как божественное дыхание, которое
творец вселенной вдохнул в человеческое тело, в создание
рук своих, вылепленное из глины. Поэтому евреи видели
в этом теле нечто низкое, жалкую оболочку «руах гако-
даш», то есть жалкую оболочку священного дыхания, духа,
которому они единственно посвящали свои заботы, свое
благоговение, свой культ. Они стали поэтому истинным
народом духа, целомудренным, умеренным в потреб¬
ностях, сосредоточенным, абстрактным, упорным, гото¬
вым к мученичеству, и их высшим цветом является Иисус
Христос. Он есть воистину воплощенный дух, и глубокого
значения полна прекрасная легенда о том, что дева,
чистая телом, непорочная, лишь чрез духовное зачатие
произвела его на свет.
Но если евреи смотрели на тело с пренебрежением, то
христиане пошли по этому пути еще дальше и смотрели
на него как на нечто недостойное, нечто дурное, как на
само зло. И вот мы видим, как через несколько столетий
после рождества Христова вырастает религия, которая
вечно будет поражать человечество и приведет позднейшие
поколения в изумление, смешанное с ужасом. Да, это
великая, святая, исполненная бесконечного блаженства
религия, желавшая отвоевать для духа безусловное вла¬
дычество на земле, — но в том-то и дело, что эта религия
была слишком возвышенна, слишком чиста, слишком
хороша для этой земли, где ее идея могла быть провозгла¬
шена лишь в теории, но отнюдь не осуществлена на прак¬
тике. Попытка осуществить эту идею породила в истории
бесконечное множество прекраснейших явлений, и долго
еще поэты всех времен будут воспевать и славить ее. Но
все же опыт осуществления христианства в действитель¬
ности, как мы в конце концов видим, провалился позор¬
нейшим образом, и этот неудачный опыт стоил челове¬
честву неисчислимых жертв. Печальным следствием его
является наш теперешний социальный недуг во всей Ев¬
ропе. Если мы, как полагают многие, живем еще в юноше¬
ском возрасте человечества, то христианство относится
к самому экзальтированному, к студенческому его периоду,
69
делающему честь больше его сердцу, нежели рассудку.
Материю, светское, христианство оставило в руках цезаря
и его еврейских казначеев, удовлетворившись тем, что
отвергло главенство первого и заклеймило последних
в общественном мнении. Но — увы — ненавистный меч и
презренные деньги в конце концов все-таки добиваются
господства, и представители духа вынуждены войти с ними
в соглашение. Мало того, из этого соглашения вышел даже
союз, направленный к одной цели. Не только римские,
но и английские, прусские, словом, все привилегирован¬
ные представители духовенства заключили союз с цеза¬
рем и его пособниками с целыо порабощения народов.
Но в результате этого союза тем быстрее идет к гибели
религия спиритуализма. К этому убеждению пришли
уже некоторые представители духовенства, п ради спасе¬
ния религии они делают вид, будто отказываются от этого
пагубного союза, перебегают в наши ряды, надевают на
себя красный колпак; они клянутся в смертельной нена¬
висти ко всем царям, всем кровопийцам, они требуют
уравнения имущества на земле, они клянутся Маратом и
Робеспьером. Между нами говоря, рассмотрев их по¬
ближе, вы найдете, что они служат обедню на языке яко¬
бинства, и как некогда преподнесли они цезарю яд, скры¬
тый в святых дарах, так теперь они пытаются поднести
свои святые дары народу, прикрыв их революционным
ядом, ибо они знают, что нам этот яд по вкусу.
Напрасны, однако, все ваши старания! Человечеству
приелись все святые дары, оно требует более питательной
нищи, настоящего хлеба и вкусного мяса. Человечество
снисходительно посмеивается над юношескими идеалами,
которые ему, несмотря на все усилия, не удалось осущест¬
вить, и оно становится мужественно-практичным. Челове¬
чество придерживается теперь земной системы полезности,
оно серьезно подумывает о гражданском благоустройстве
и зажиточности, о разумном ведении хозяйства, об удоб¬
ствах на старости лет. Тут уже, поистине, не может идти
речь о том, чтобы оставить меч в руках цезаря и тем ме¬
нее — кошелек в руках его прислужников. Служение
государям потеряло привилегию почета, и промышлен¬
ность очищена от былого позора. Ближайшая задача —
быть здоровым, ибо мы чувствуем себя еще очень слабыми.
Святые вампиры средневековья высосали из нас много
70
крови и жизненных соков. И великие искупительные
жертвы должны еще быть принесены материи, чтобы она
простила былые оскорбления. Было бы даже уместно
установить особые празднества и воздавать материи еще
больше чрезвычайных почестей в возмещение нанесенного
ущерба. Ибо христианство, оказавшись неспособным из¬
ничтожить материю, повсюду позорило ее, принижало
благороднейшие наслаждения, и чувственности прихо¬
дилось прикрываться лицемерием, что породило ложь
и грех. Мы должны облечь наших жен в новые мысли и
одежды, а все наши чувства обкурить, как после перене¬
сенной чумы.
Таким образом, ближайшей целью всех наших новых
установлений должна быть реабилитация материи, воз¬
ведение ее в прежний сан, ее моральное признание, ее
религиозное освящение, ее примирение с духом. Пуруша
вновь вступает в брак с Пракрити. Следствием их насиль¬
ственного разлучения, как это поучительно представлено
в индийском мифе, явилась великая мировая раздвоен¬
ность, зло.
Знаете ли вы теперь, что такое мировое зло? Спиритуа¬
листы всегда упрекали нас в том, что при пантеистической
точке зрения исчезает различие между добром и злом.
Но зло, с одной стороны, есть только бредовое представ¬
ление их собственного мировоззрения, с другой стороны
оно есть реальное следствие их же собственного миро¬
устройства. Согласно их мировоззрению, материя сама
по себе зло, что поистине является клеветой, ужасающим
богохульством. Материя лишь тогда становится злом,
когда она принуждается к тайному заговору против узур¬
пации духа, когда дух опозорил ее и она прелюбодейст¬
вует из презрения к себе, или когда она, более того, с не¬
навистью и отчаянием мстит за себя духу; и, таким обра¬
зом, зло является лишь следствием спиритуалистического
мироустройства.
Бог тождествен миру. Он проявляет себя в растениях,
бессознательно ведущих космически-магнетическую жизнь.
Он проявляет себя в животных, которые в смутной жизни
своих чувств более или менее ощущают какое-то неясное
существование. Но чудеснее всего он проявляет себя в че¬
ловеке, который одновременно чувствует и мыслит, кото¬
рый умеет индивидуально отличить себя от объективной
71
природы и уже в разуме своем носит идеи, раскрывающиеся
ему в мире явлений. В человеке божество приходит к само¬
сознанию, и это самосознание проявляется опять-таки
через посредство человека. Но это происходит не в еди¬
ничном и не через единичного человека, а в совокупности
людей и через нее, — таким образом, что каждый человек
охватывает И'составляет лишь одну часть бога-вселенной,
а все люди в совокупности охватывают и составляют цель¬
ного бога-вселенную в идее и в реальности. Каждый народ,
быть может, имеет предназначение познать и выразить
определенную часть этого бога-вселенной, понять ряд
явлений, воплотить ряд идей в явлении и передать ре¬
зультат последующим народам, на которые возложена
сходная миссия. Поэтому бог есть истинный герой мировой
истории, она же есть его непрестанное мышление, непре¬
станное действие, его слово, его дело, и мы можем с правом
сказать о человечестве в совокупности, что оно есть вопло¬
щение бога !
Ложно мнение, будто эта религия, пантеизм, ведет
людей к индифферентизму. Напротив, сознание своей
божественности вдохновит человека на проявление ее,
и лишь теперь прославят эту землю истинно великие по¬
двиги истинного героизма.
Политическая революция, опирающаяся на принципы
французского материализма, найдет в нантеистах не про¬
тивников, а пособников, но пособников, почерпнувших
свои убеждения из более глубокого источника — из рели¬
гиозного синтеза. Мы заботимся о благе материи, о мате¬
риальном счастье народов не потому, что мы, подобно
материалистам, относимся с пренебрежением к духу,
по потому, что мы знаем, что божественность человека
проявляется также в его физическом существе, что нужда
разрушает или принижает тело, образ божий, и что от
этого погибает равным образом и дух. Великое изречение
революции, произнесенное Сен-Жюстом, — «le pain est
le droit du peuple»1 — y нас изменено в «le pain est le
droit divin de l’homme».2 Мы боремся не за человеческие
права народа, но за божественные права человека. В этом
и еще кое в чем другом мы отличаемся от мужей революции.
1 Хлеб есть право народа (франц.)
2 Хлеб есть божественное право человека (франц.).
72
Мы не хотим быть ни санкюлотами, ни умеренными в сво¬
их потребностях мещанами, ни дешевыми президентами:
мы устанавливаем демократию равно чудесных, равно
святых, равно блаженных богов. Вы требуете простых
одежд, воздержания в нравах, неприправленных насла¬
ждений; мы, напротив, требуем нектара и амброзии, пур¬
пурных одежд, драгоценных благоуханий, неги и роскоши,
смеющейся пляски нимф, музыки и веселых комедий. Не
прогневайтесь же, добродетельные республиканцы! На
ваши цензорские упреки мы ответим вам словами шекспи¬
ровского шута: «Или ты думаешь: раз ты добродетелен,
так не бывать на свете ни пирогам, ни вину?»
Отчасти это поняли и собирались осуществить сен-си-
монисты. Но они находились в неблагоприятной обстанов¬
ке, окружавший их материализм подавил их, по крайней
мере на некоторое время. В Германии их оценили лучше,
ибо Германия представляет благодатнейшую почву для
пантеизма. Ои является религией наших величайших
мыслителей, наших лучших художников, и деизм, как
я покажу впоследствии, давно ниспровергнут там в leopiiii.
Он удерживается там только в бессознательных массах,
не находя разумного оправдания, как, впрочем, и многое
другое. В этом не признаются, ио всякий это знает. Пан¬
теизм — это публичная тайна в Германии. Мы в самом деле
переросли деизм. Мы свободны и не хотим громовержу-
щего тирана. Мы стали совершеннолетними и не нуждаемся
ни в каком отеческом попечении. Мы также и не машины,
вышедшие из рук великого механика. Деизм есть религия
для рабов, религия для детей, для женевцев, для часов¬
щиков.
Пантеизм есть тайная религия Германии, и что именно
этим должно кончиться, предвидели те самые немецкие
писатели, которые уже полвека тому назад так резко
выступали против Спинозы. Самым яростным из этих
противников Сшшозы был Фридрих-Генрих Якоби, кото¬
рому иногда оказывают честь, называя его среди немецких
философов. Это был всего-навсего сварливый проныра,
который втерся в среду философов, прикрываясь плащом
философии; сперва он долго ныл им о своей любви и мягко¬
сердечии, а кончил поношением разума. Всегда был
у него один и тот же припев: философия, познание посред¬
ством разума — пустой призрак, разум сам не знает, куда
73
он ведет, он приводит человека в темный лабиринт заблу¬
ждений и противоречий, и лишь одна только вера способна
твердо его вести. Этот крот не видел, что разум подо¬
бен вечному солнцу, которое, уверенно обращаясь
в небесах, освещает себе путь своим собственным
светом. Ничто не может сравниться с благочестивой, бла¬
годушной ненавистью маленького Якоби к великому
Спинозе.
Замечательно, как самые различные партии нападали
па Спинозу. Они образуют армию, пестрый состав которой
представляет забавнейшее зрелище. Рядом с толпой чер¬
ных и белых клобуков, с крестами и дымящимися кадиль¬
ницами марширует фаланга энциклопедистов, также воз¬
мущенных этим penseur téméraire.1 Рядом с раввином
амстердамской синагоги, трубящим к атаке в козлиный
рог веры, выступает Аруэ де Вольтер, который на флейте
насмешки наигрывает в пользу деизма, и время от времени
слышится вой старой бабы Якоби, маркитантки этой
религиозной армии.
И мы бежим как можно скорее от всей этой кутерьмы.
Возвращаясь с нашей пантеистической прогулки, мы по¬
дойдем снова к философии Лейбница и займемся изложе¬
нием се дальнейших судеб.
Известные вам произведения Лейбница написаны
частью на латинском, частью на французском языке.
Христиан Вольф — таково имя достойного человека, не
только систематизировавшего, но и изложившего на немец¬
ком языке идеи Лейбница. Собственно, его заслуга заклю¬
чается не в том, что он объединил идеи Лейбница в твер¬
дую систему, еще менее в том, что он сделал их доступными
широкому кругу читателей посредством немецкого языка:
заслуга его заключается в том, что он и нас побудил
философствовать на нашем родном языке. До Вольфа мы
могли заниматься философией — так же, как до Лютера
богословием — только на латинском языке. Пример тех
немногих, которые уже ранее излагали подобные вещи на
немецком языке, оказался забытым; но историк литера-
ауры обязан воздать этим людям особую хвалу. Поэтому
упомянем здесь, в частности, Иоганна Таулера, доминикан¬
ского монаха, который родился в начале XIV столетия
1 Дерзким мыслителем (франц.).
74
на Рейне и умер там же, кажется в Страсбурге, в 1361 году.
Это был набожный человек, принадлежавший к числу
тех мистиков, которых я назвал партией средневековых
платоников. В последние годы своей жизни человек этот
отказался от всякого научного высокомерия и не стыдился
проповедовать на смиренном народном языке, и эти про¬
поведи, записанные им, равно как и немецкие переводы
некоторых из его прежних латинских проповедей, принад¬
лежат к замечательнейшим памятникам немецкого языка.
Ибо уже здесь язык этот показывает, что он не только при¬
годен для метафизических изысканий, но что он создан для
них гораздо более латинского. Этот последний, язык
римлян, никогда не может оторваться от своего корня.
Это язык команды для полководцев, язык указов для
администраторов, язык юстиции для ростовщиков, лапи¬
дарный язык для твердого, как камень, римского народа.
Он оказался подходящим языком для материализма. Хотя
христианство, с терпением поистине христианским, более
чем тысячелетие в муках стремилось спиритуализировать
этот язык, это не удалось ему; и когда Иоганн Таулср
хотел совершенно погрузиться в самые ужасающие бездны
мысли и когда сердце его переполнилось священнейшими
чувствами, он ощутил необходимость говорить по-немецки.
Его язык — словно горный ключ, бьющий из твердой
скалы: он пропитан чудесным благоуханием неведомых
трав и таинственной силой камней. Но лишь в новейшие
времена стала действительно заметна пригодность немец¬
кого языка для философии. Ни на каком другом языке
не могла бы природа открыть сокровеннейшее свое соз¬
дание, кроме как на нашем милом, родном немецком
языке. Только на могучем дубе могла вырасти священная
омела.
Здесь заслуживал бы упоминания Парацельс, или, как
он сам себя называет, Теофрастус-Парацельзус-Бомбастус
фон Гогенгейм, ибо он также почти всегда писал по-не¬
мецки. Но мне придется позже говорить о нем, в связи
с еще более значительным предметом. Ибо его философия
была как раз тем, что мы в наши дни называем натурфило¬
софией; и такое учение о природе, оживотворенной идеей,
столь таинственно-любезное немецкому духу, развилось
бы у нас уже тогда, если бы благодаря случайным влия¬
ниям ие пришла к безраздельному господству безжизнен¬
75
ная, механическая физика картезианцев. Парацельс был
величайшим шарлатаном, выступавшим всегда в пурпур¬
ном камзоле, пурпурных штанах, красных чулках и крас¬
ной шляпе, утверждавшим, что он в силах создавать гомун¬
кулов, маленьких человечков; во всяком случае он со¬
стоял в близких отношениях с невидимыми существами,
гнездящимися в различных стихиях, — но в то же время
он был одним из тех глубокомысленнейших естествоиспы¬
тателей, которые своим пытливым немецким сердцем по¬
няли сущность дохристианской народной веры, герман¬
ский пантеизм, а то, чего они не знали, очень верно пред¬
чувствовали.
Здесь, собственно, надлежало бы также упомянуть и
о Якобе Беме, ибо он также пользовался немецким языком
для философского изложения и за это заслужил великую
хвалу. Но я ни разу до сих пор не мог решиться про¬
читать его. Я не люблю, когда меня дурачат. Тех, кто вос¬
хваляет этого мистика, я подозреваю в желании мистифи¬
цировать публику. Что касается содержания его произ¬
ведений, то Сен-Мартен сообщил вам кое-что из них на
французском языке. Переводили его и англичане. Карл I
так высоко ставил этого теософа-башмачника, что отпра¬
вил в Герлиц одного ученого с единственной целыо изу¬
чить Беме. Этот ученый был счастливее своего царствен¬
ного господина, ибо если последний потерял в Уайтхолле
голову под топором Кромвеля, то первый потерял в Гер-
лице, под влиянием теософии Якоба Беме, всего-навсего
свой разум.
Как я уже сказал, Христиан Вольф первый успешно
ввел немецкий язык в философию. Менее важной его заслу¬
гой была систематизация и популяризация идей Лейбница.
И то и другое достойно даже величайшего порицания,
и мы должны мимоходом об этом упомянуть. Его система¬
тизация была лишь пустой видимостью, которой прине¬
сено было в жертву важнейшее в Лейбницевой философии,
например лучшая часть учения о монадах. Правда, Лейб¬
ниц оставил не законченное здание своего учения, по лишь
необходимые для его постройки идеи. Нужен был бога¬
тырь, чтобы объединить эти колоссальные плиты и колон¬
ны, извлеченные из недр и прекрасно выточенные другим
богатырем из мраморных глыб. Это был бы прекрасный
храм. Христиан Вольф, однако, был очень невысокого
76
роста и мог использовать лишь часть этого строительного
материала — он употребил его на жалкую келыо деизма.
Вольф обладал скорее энциклопедической, чем системати¬
зирующей головой, и единство учения он понимал лишь
как полноту этого учения. Он довольствовался чем-то
вроде шкафа, где полки прекрасно расположены, пре¬
восходно заполнены и снабжены четкими надписями.
В таком роде построена и его «Энциклопедия философских
наук». Само собой понятно, что он, внук Декарта, унасле¬
довал дедовскую форму математической аргументации.
Эту математическую форму я порицал уже у Спинозы.
В руках Вольфа она оказалась чрезвычайно пагубной.
Она выродилась у его учеников в невыносимый схематизм
и в смешную манию доказывать все математическим
методом. Возник так называемый вольфовский догматизм.
Прекратилось всякое более глубокое исследование, — оно
заменилось скучным стремлением к ясности. Вольфовская
философия становилась все более водянистой и затопила,
наконец, всю Германию. Следы этого потопа заметны до
сих пор: то там, то здесь, на высочайших вершинах, где
пребывают наши музы, попадаются старые ископаемые
Вольфовой школы.
Христиан Вольф родился в 1679 году в Бреславле и
умер в 1754 году в Галле. Более полувека продолжалось
его духовное господство в Германии. Мы должны особенно
подчеркнуть его отношение к богословам того времени,
чем мы дополним наше изложение судеб лютеранства.
Во всей истории церкви нет более сложной распри,
чем препирательства протестантских теологов со времен
Тридцатилетней войны. С ними может сравниться лишь
казуистическая грызня византийцев, но она была менее
скучна, так как за нею скрывались большие государствен¬
ные, придворные интриги, тогда как в основе протестант¬
ской потасовки лежал по преимуществу педантизм огра¬
ниченных магистерских голов и университетских париков.
Университеты, особенно Тюбингенский, Виттенбергский,
Лейпцигский и Галлеский, являлись аренами этих бого¬
словских споров. Две партии, которые, как мы видели,
на протяжении всего средневековья боролись в католиче¬
ском одеянии, платоновская и аристотелевская, переме¬
нили лишь одежды и продолжают враждовать. Это упо¬
мянутые уже пиетисты и ортодоксы, жлорых я назвал
мистиками без фантазии и догматиками без ума. Иоганн
Шпейер был Скоттом Эригеной протестантства, pi как этот
последний своим переводом легендарного Дионисия Арео-
пагита основал католический мистицизм, так Шпенер осно¬
вал протестантский пиетизм с помощью своих проповедей
«Colloquia pietatis»,1 благодаря которым, быть может,
и закрепилось за его последователями названрте пиети¬
стов.2 Он был благочестивый человек, вечная ему память.
Берлинский пиетист г-н Франц Горн хорошо написал его
биографию. Жизнь Шпенера — сплошное мученичество
за христианскую идею. Он был в этом отношении выше
своих современников. Он настаивал на добрых делах
и набожности, он был более проповеднршом духа, чем
слова. Его проповедническая деятельность была похвальна
для его времени. Ибо вся теология, как ее преподавали
в упомянутых выше универсрггетах, заключалась только
в узкой догматике и в педантической полемике о словах.
Экзегетика и история церкви оставались в совершенном
пренебрежении.
Ученик этого Шпенера, Герман Франке, выступил
в Лейпциге с лекциями по примеру iï в духе своего учи¬
теля. Он читал по-немецки — заслуга, о которой мы
всегда упоминаем с признательностью. Успех этого курса
возбудил зависть его коллег, которые поэтому отравляли
жизнь нашему бедному пиетисту. Ему пришлось очистить
место, и он переселился в Галле, где словом pi делом учил
христианству. Память его неувядаема в Галле, так как
он — основатель тамошнего сиротского приюта. Галле-
ский университет отныне был переполнен пиетистами,
которых называли «сиротской партией». Кстати сказать,
партия эта сохранилась там до сего дня. Галле и теперь еще
остается кротовой норой пиетистов, и их распри с проте¬
стантскими рационалистами привели несколько лет тому
назад к скандалу, распространившему по всей Германии
свое зловоние. Счастливые французы, вы ничего не слы¬
хали об этом! Для вас осталось неизвестным даже сущест¬
вование евангелических листков, наполненных сплетнями,
где набожные селедочницы протестантской церкви досыта
ругали друг друга. Счастливые французы, не имеющие
1 «Благочестивые беседы» (лат.).
2 Слова «пиетизм» и «пиетист» происходят от латинского pie-
tas (благочестие).
78
никакого понятия о том, как злобно, мелко, отвратительно
способны оплевывать друг друга наши евангелические свя¬
щенники! Как вы знаете, я не приверженец католичества.
В моих нынешних религиозных убеждениях уже не живет,
правда, догматика протестантства, но неизменно жив его
дух. Я, таким образом, все еще остаюсь пристрастным
сторонником протестантской церкви. И все же, истины
ради, я должен признать, что никогда в летописях папства
я не встречал таких гнусностей, какие раскрылись в бер¬
линской «Евангелической церковной газете» при упомя¬
нутом скандале. Самые трусливые монашеские интриги,
самые мелочные монастырские козни кажутся благород¬
ными и добропорядочными в сравнении с христианскими
подвигами, совершенными нашими протестантскими орто¬
доксами и пиетистами в борьбе против ненавистных рацио¬
налистов. О ненависти, обнаружргвающейся в подобных
случаях, вы, французы, не имеете никакого понятия.
Немцы ведь вообще злопамятнее, чем романские пароды.
Это происходит оттого, что они и в ненависти идеали¬
сты. Мы ненавидим друг друга не из-за внешних мелочей,
как вы, например, — из-за оскорбленного тщеславия, из-
за остроумного словца, из-за неотданного визита, — нет,
мы ненавидим в наших врагах глубочайшее, важнейшее,
что в них есть, — мысль. Вы, французы, легкомысленны
и поверхностны как в любви, так и в ненависти. Мы, немцы,
ненавидим основательно, продолжительно; а так как
мы чересчур честны и к тому же слишком неповоротливы,
чтобы мстить со стремительным коварством, то мы нена¬
видим до последнего вздоха.
«Я знаю ваше немецкое спокойствие, сударь, — ска¬
зала недавно одна дама, с недоверием и страхом глядя на
меня своими широко раскрытыми глазами, — я знаю, вы,
немцы, одним словом выражаете «простить» и «отравить».
И в самом деле, она права: слово vergeben обозначает и то
и другое.
Если не ошибаюсь, это галлеские ортодоксы, в борьбе
с переселившимися к ним пиетистами, призвали на помощь
вольфовскую философию. Ибо если религия теряет возмож¬
ность сжигать нас на костре, она является к нам и начинает
у нас попрошайничать. Но все наши подаяния не идут ей
на пользу. Математическое, демонстративное одеяние,
в которое Вольф любовно облек бедную религию, так дурно
79
сидело на ней, что она почувствовала себя еще более стес¬
ненной и в этой стесненности стала очень смешной. По¬
всюду лопались слабые швы. Стыдливая часть — перво¬
родный грех — выступила во всей своей особенно откро¬
венной наготе. Здесь не помог никакой фиговый листок
логики. Христианско-лютеранский первородный грех и
лейбницевско-вольфовский оптимизм непримиримы. По¬
этому французское издевательство над оптимизмом очень
мало огорчило наших теологов. Насмешка Вольтера
пошла на пользу нагому первородному греху. Но от унич¬
тожения оптимизма немецкий Панглос потерял очень
много и долго искал подходящее утешительное учение,
пока гегелевское изречение: «Все действительное — ра¬
зумно» до некоторой степени не вознаградило его.
С того момента как религия начинает искать помощи
у философии, се гибель становится неотвратимой. Она
пытается защититься и гибнет, погружаясь все глубже
в пустые словопрения. Религия, как всякий абсолютизм,
не должна оправдываться. Прометея приковывает к скале
безмолвная сила. И действительно, Эсхил не влагает ни
одного слова в уста олицетворенной силе. Она должна быть
немой. Как только религия напечатала катехизис, напол¬
ненный рассуждениями, как только политический абсо¬
лютизм начал издавать официальную газету, обоим при¬
шел конец. Но в том-то и заключается наше торжество,
что мы заставили наших противников говорить и они
вынуждены держать ответ перед нами.
Правда, нельзя отрицать, что религиозный абсолютизм,
как и политический, обрел весьма мощный голос, чтобы
отвечать нам. Но не пугайтесь этого. Если слово живо,
то его донесет и карлик, если же оно мертво, то никакие
великаны не удержат его от падения.
Итак, как я уже сказал, с тех пор как религия стала
искать поддержки у философии, немецкие ученые, помимо
облачения ее в новые одежды, произвели над нею ещо
бесчисленный ряд экспериментов. Вздумали вернуть ей
молодость и взялись за это приблизительно таким же
образом, как Медея при омоложении царя Эсона. Сперва
ей вскрыли вену и понемногу выпустили из нее всю суевер¬
ную кровь; говоря без метафор, была сделана попытка
изъять из христианства все историческое содержание и
сохранить одиу только моральную часть. Вследствие этого
80
христианство превратилось в чистый деизм. Христос пере¬
стал быть соправителем господа. Он был, так сказать,
медиатизирован и только в качестве частного лица нахо¬
дил признание и почет. Сверх всякой меры восхваляли
его нравственный характер. Не хватало слов, чтобы доста¬
точно превознести его и выразить, каким он был хорошим
человеком. Что касается чудес, совершенных им, то их
объясняли естественными причинами или старались обра¬
щать на них как можно меньше внимания. Чудеса, гово¬
рили некоторые, были необходимы в те суеверные времена,
и разумный человек, желавший возвестить истину, поль¬
зовался ими, как чем-то вроде объявления. Эти богословы,
изгнавшие из христианства все историческое, назывались
рационалистами, и против них в равной степени была
направлена ярость как пиетистов, так и ортодоксов, кото¬
рые с тех пор не столь бешено боролись друг с другом,
а нередко заключали союз. Чего не могла сделать любовь,
то сделала общая ненависть, ненависть к рационалистам.
Это направление в протестантской теологии начинается
со спокойного Земмлера, которого вы не знаете, достигает
опасных высот вместе с ясным Теллером, которого вы
тоже не знаете, и доходит до вершины при посредстве
плоского Бардта, от знакомства с которым вы ничего не
теряете. Сильнейшие импульсы шли из Берлина, где цар¬
ствовали Фридрих Великий и книгопродавец Николаи.
О первом, этом коронованном материалисте, вы осве¬
домлены в достаточной степени. Вы знаете, что он писал
французские стихи, очень хорошо играл на флейте, одер¬
жал победу при Росбахе, много нюхал табаку и верил
только в пушки. Некоторые из вас бывали, конечно,
в Сан-Суси, и старый инвалид, тамошний дворцовый сто¬
рож, показывал вам в библиотеке французские романы,
которые Фридрих, в бытность кронпринцем, читал в церкви
и которые он приказал переплести в черный сафьян, чтобы
его строгий родитель верил, будто он читает лютеранский
молитвенник. Вы знаете его, этого царственного мудреца,
прозванного вами Соломоном Севера. Франция была Офи-
ром этого северного Соломона, и оттуда ои получал своих
поэтов и философов, к которым питал большое при¬
страстие, подобно Соломону Юга, получавшему, как вы
можете прочесть в «Книге царств», гл. X, при посредстве
своего друга Хирама целые кораблн золота, слоновой
4 Г. Гейне, т. G
81
кости, поэтов и философов из Офира. Вследствие этого
пристрастия к иноземным талантам Фридрих Великий
не мог, конечно, оказать слишком большое влияние на
немецкую культуру. Наоборот, он оскорблял, он унижал
немецкое национальное чувство. Презрение, с которым
Фридрих Великий относился к нашей литературе, задевает
даже нас, внуков. Кроме старого Геллерта, ни один из них
не удостоился его высочайшей милости. Разговор, состояв¬
шийся между ним и Геллертом, замечателен.
Но если Фридрих Великий издевался над нами, не
оказывая нам поддержки, то в тем большей мере поддер¬
живал нас книгопродавец Николаи, что ни в малой сте¬
пени не мешало нам издеваться над ним. Человек этот
всю свою жизнь неустанно трудился для блага отечества,
он не щадил ни трудов, ни денег, когда надеялся содейст¬
вовать чему-нибудь хорошему, и все же никогда не было
в Германии человека, осмеянного столь жестоко, столь
непримиримо, столь уничтожающе, как именно этот чело¬
век. Хотя мы, потомки, знаем очень хорошо, что старый
Николаи, друг просвещения, совсем не ошибался в основ¬
ном, хотя нам известно, что уничтожили его насмешками
главными образом наши враги, обскуранты, мы все же
не можем серьезно отнестись к нему. Старый Николаи
пытался сделать в Германии то, что сделали французские
философы во Франции. Он хотел вытравить прошлое
из сознания народа, — почтенная предварительная работа,
без которой не может быть произведена ни одна радикаль¬
ная революция. Но напрасные старания — такая работа
была ему не по плечу. Старые развалины держались еще
слишком крепко, и привидения вылетали из них, изде¬
ваясь над ним; тогда он приходил в ярость и вслепую
начинал наносить удары, а зрители хохотали, когда лету¬
чие мыши, шипя, проносились мимо его ушей и запуты¬
вались в его напудренном парике. Случалось ему также
иной раз принимать ветряные мельницы за великанов и
воевать с ними. Еще хуже было, однако, когда он подчас
принимал за ветряные мельницы настоящих великанов,
например некоего Вольфганга Гете. Он написал сатиру
на его «Вертера», в которой обнаружил грубейшее непони¬
мание всех намерений автора. Однако в главном он все же
оставался прав: если он и не понял, что, собственно,
хотел сказать Гете своим «Вертером», то он очень хорошо
82
понял воздействие этого романа — расслабляющую меч¬
тательность, бесплодную сентиментальность, порожден¬
ные им и находившиеся во враждебном противоречии со
всяким разумным взглядом на мир, в котором мы так
нуждались. Здесь Николаи высказал совершенно ту же
мысль, что и Лессинг, который в письме к приятелю дал
«Вертеру» следующую оценку:
«Для того чтобы создание столь горячее не натворило
больше зла, чем добра, не полагаете ли вы, что оно должно
было бы заканчиваться небольшой холодной заключитель¬
ной речью? Два-три намека на то, как в Вертере развился
столь причудливый характер, на то, как другой юноша, со
сходной натурой, мог бы оградить себя от этого. Полагаете
ли вы, что римский или греческий юноша мог бы так и по
этой причине лишить себя жизни? Конечно, нет. Они
умели совершенно иначе охранять себя от любовного
безумия; во времена Сократа, такое èf- èponoç хато^чг),1
которое побуждает ti ToX^av тгара cpvaiv, 2 едва ли простили
бы даже маленькой девочке. Создавать такие мелко-вели¬
кие, презренно-достойные оригиналы было уделом лишь
христианского воспитания, которое столь прекрасно умеет
превратить физическую потребность в духовное совершен¬
ство. Итак, любезный Гете, еще одну главку в заключение,
и чем циничнее, тем лучше!»
И друг Николаи, согласно этому указанию, действи¬
тельно написал измененного «Вертера». В его редакции
герой не застрелился, но только замарался куриной кровью,
ибо ею был заряжен пистолет вместо свинца. Вертер ста¬
новится смешным, остается в живых, женится на Шарлот¬
те — короче говоря, кончает еще трагичнее, чем в ориги¬
нале у Гете.
«Всеобщей немецкой библиотекой» назывался журнал,
который основал Николаи и где он и друзья его высту¬
пали против суеверий, иезуитов, придворных лакеев
и т. п. Нельзя отрицать, что некоторые из ударов, направ¬
ленных против суеверия, попадали, к несчастью, в поэ¬
зию. Так, например, Николаи восставал против зарождаю¬
щегося пристрастия к старым немецким народным песням.
Но по существу он опять-таки был прав: при всевозмож¬
1 Любовное увлечение (греч.).
2 К поступку против естества (греч.).
4*
83
ных достоинствах в этих песнях заключалось немало вос¬
поминаний, совершенно несвоевременных: старые напевы
средневековых пастушеских песен могли вновь заманить
народную душу в религиозный хлев прошлого. Подобно
Одиссею, он силился заткнуть уши своим спутникам, чтобы
они не могли слышать пения сирен, не заботясь о том, что
это сделает их глухими и к невинным песням соловья.
Чтобы радикально очистить поле современности от всяких
плевел, этот практик не стеснялся уничтожать цветы.
Против этого самым яростным образом восстала партия
цветов и соловьев и все, что к этой партии относится —
красота, изящество, остроумие и шутка, — и бедный
Николаи пал.
В нынешней Германии обстоятельства переменились,
и партия цветов и соловьев тесно связана с революцией.
Нам принадлежит будущее, и уже занимается заря победы.
Наступит день, когда ее лучезарный свет озарит все наше
великое отечество, и тогда мы помянем также и мертвых;
мы помянем, конечно, и тебя, старый Николаи, бедный
мученик разума! Мы перенесем твой прах в германский
Пантеон, вокруг саркофага будет двигаться ликующее
торжественное шествие в сопровождении оркестра музы¬
кантов, среди духовых инструментов которых — упаси
господи! — не будет свистка; мы возложим па твой гроб
пристойнейший лавровый венок и изо всех сил постара¬
емся при этом удержаться от смеха.
Желая дать понятие о философско-религиозном состоя¬
нии той эпохи, я должен упомянуть здесь также о тех
мыслителях, которые выступали более или менее в сотруд¬
ничестве с Николаи и образовали как бы промежуточный
слой между философами и художественной литературой.
У них не было никакой определенной системы, была
лишь определенная тенденция. По стилю и ио своим конеч¬
ным принципам они сродни английским моралистам. Они
пишут не в строго научной форме, и нравственное само¬
сознание есть единственный источник их познания. Их
тенденция совершенно та же, с какой мы встречаемся
у французских филантропов. В религии они рациона¬
листы. В политике они космополиты. В морали они благо¬
родные, добродетельные люди, строгие к себе и снисходи¬
тельные к другим. Что касается таланта, то в качестве
самых выдающихся из них могут быть названы Мендель-
гоп, Зульцер, Аббт, Мориц, Гарве, Энгель и Бистер.
Мориц мне милее прочих. Он много сделал в опытной пси¬
хологии. Он отличался прелестной наивностью, мало по¬
нятой его друзьями. Его автобиография — один из важ¬
нейших памятников этой эпохи. Но наибольшее общест¬
венное значение, в сравнении с прочими, имеет все же
Мендельсон. Он был реформатором немецких евреев,
своих единоверцев, он ниспроверг авторитет талмудизма,
он основал чистый мозаизм. Этот человек, которого совре¬
менники называли немецким Сократом и которым столь
благоговейно восхищались вследствие его душевного бла¬
городства и силы его ума, был сыном бедного синагогаль¬
ного служки в Дсссау. Кроме этого прирожденного не¬
счастья, провидение наградило его еще горбом, как бы
для того, чтобы дагь черни наглядное поучение, что чело¬
века надо оценивать не по его наружности, а по внутрен¬
ним достоинствам. Или, быть может, провидение наделило
его горбом именно из благой предосторожности, чтобы
он мог относить несправедливости, испытываемые им со
стороны черни, за счет недостатка, по поводу которого
мудрец легко способен утешиться?
Мендельсон ниспроверг талмуд, как Лютер ниспроверг
папство, и точно таким же образом, а именно: он отверг
традицию, объявил библию источником религии и пере¬
вел ее важнейшую часть. Этим путем Мендельсон разру¬
шил еврейский католицизм, точно так же как Лютер раз¬
рушил христианский. В самом деле, талмуд есть еврей¬
ский католицизм. Эго готический храм, приукрашенный,
правда, ребяческими завитушками, но поражающий нас
своей беспредельной, уходящей в небеса громадой. Это
иерархия религиозных законов, которые часто касаются
ничтожнейших, забавнейших мелочей, по так остроумно
подчинены и соподчинены друг другу, поддерживают и
несут друг друга п действуют при этом с такой страшной
последовательностью, что они образуют некое колоссаль¬
ное целое, устрашающее в своем упорстве и несокрушимое.
За гибелью христианского католичества должна была
последовать гибель еврейского — талмуда. Ибо талмуд
уже потерял свое значение; он ведь служил лишь оплотом
против Рима. Ему обязаны евреи тем, что они могли
противостоять христианскому Риму столь же геройски,
как некогда они противостояли Риму языческому. И они
85
не только противостояли, но и победили. Бедный раввин
назаретский, над умирающей головой которого язычник-
римлянин начертал злорадные слова «царь иудейский»,
этот увенчанный терниями, облаченный в издевательскую
багряницу и осмеянный царь иудейский сделался в конце
концов богом римлян, и они должны были преклониться
перед ним! Подобно языческому Риму, был побежден
и Рим христианский, и он стал даже данником. Если ты,
дорогой читатель, в первых числах триместра отправишься
на улицу Лафит, в дом № 15, ты увидишь, как перед высо¬
ким подъездом из тяжеловесной кареты выходит толстый
человек. Он поднимается по лестнице наверх, в маленькую
комнату, где сидит молодой блондин, который, однако,
старше, чем кажется с виду, в барской, аристократической
пренебрежительности которого заключено нечто столь
устойчивое, столь положительное, столь абсолютное,
как будто все деньги этого мира лежат в его кармане. И в
самом деле, все деньги этого мира лежат в его кармане,
и зовут его мосье Джеймс де Ротшильд, а толстяк — это
монсиньор Гримбальди, посланец его святейшества папы,
от имени которого он приносит проценты по римскому
займу, дань Рима.
К чему же теперь талмуд?
Поэтому Моисей Мендельсон заслуживает великой
хвалы за то, что он ниспроверг, по крайней мере в Герма¬
нии, это еврейское католичество. Ибо все излишнее вредно.
Отвергнув традицию, он все же стремился сохранить
обрядовый закон Моисея как религиозную обязанность.
Было ли это трусостью пли благоразумием? Была ли то
запоздалая болезненная любовь, помешавшая ему нало¬
жить разрушительную руку на предметы, которые были
священней всего для его предков и за которые пролилось
так много мученической крови и мученических слез? Не
думаю. Подобно царям материи, и цари духа должны быть
неумолимы к семейным чувствам; и на престоле мысли
нельзя предаваться нежной чувствительности. Поэтому
я скорее полагаю, что Моисей Мендельсон видел в чистом
мозаизме систему, способную служить деизму как бы
последним оплотом. Ибо деизм был его глубочайшей верой
и глубочайшим убеждением. Когда умер его друг Лессинг
и последнего обвинили в спинозизме, то он защищал его
с педантическим усердием, и этот гнев свел его в могилу.
86
Вторично назвал я здесь имя, которое не может про¬
изнести ии один немец без волнения в груди. Со времен
Лютера Германия не произвела более значительного и
более прекрасного человека, чем Готхольд-Эфраим Лес¬
синг. Оба они — наша гордость и наша любовь. Во мраке
настоящего мы обращаем взоры к их изваяниям с чувст¬
вом надежды, и они отвечают нам манящими обещаниями.
Да, придет еще третий муж, который завершит то, что
начал Лютер, что продолжил Лессинг и в чем так нуждается
немецкое отечество, — третий освободитель! Я вижу уже
его золотой панцирь, блистающий из-под императорской
порфиры, «как солнце в зареве утренней зари!»
Подобно Лютеру, действенная роль Лессинга состояла
не только в определенных деяниях, но главным образом
в том, что он взволновал немецкий народ до глубины души,
создавая своей критикой и своей полемикой благодатное
движение в умах. Он был живой критикой своего времени,
и вся его жизнь была полемикой. Эта критика проявляла
себя в широчайших областях мысли и чувства, в религии,
в науке, в искусстве. Эта полемика одолевала всякого
противника и становилась сильнее с каждой победой.
Лессинг, как сам он признавался, нуждался в борьбе
для собственного духовного роста. Он был совершенно
подобен тому легендарному норманну, который насле¬
довал таланты, знания и силы противников, убитых им
в поединке, и, таким образом, в конце концов оказался
одаренным всеми возможными совершенствами и достоин¬
ствами. Понятно, что такой задорный боец наделал немало
шуму в Германии, в той тихой Германии, которая в те
времена была еще более по-субботнему тиха, чем в наши
дни. Большинство было ошеломлено его литературной
смелостью. Но именно она поддерживала его, ибо «Oser!»1
есть тайна успеха в литературе, так же, как и в револю¬
ции и в любви. Все трепетали пред Лессинговым мечом.
Ничья голова не была пред ним в безопасности. Более
того, случалось и так, что иной череп он рубил прямо
из озорства, и при этом он бывал еще так зол, что подни¬
мал этот череп с земли и показывал публике, что он внутри
пуст. Что оказывалось недоступно его мечу, то он убивал
стрелами своего остроумия. Друзья восхищались пестрым
1 Дерзать! (франц.).
87
оперением этих стрел; враги чувствовали острие их в своем
сердце. Остроумие Лессинга не походит на ту enjouement,1
па то gai té,2 на те острые saillies,3 которые известны у вас
в стране. Его остроумие не было маленькой французской
левреткой, гоняющейся за своей тенью, — его остроумие
было скорее большим немецким котом, который играет
с мьтшыо, прежде чем ее задушить.
Да, полемика была счастьем и отрадой нашего Лессин¬
га, и поэтому он никогда не раздумывал долго над тем,
насколько противник достоин его. Немало имен спас он
своей полемикой от заслужеинейшего забвения. Многих
малюсеньких писателишск он как бы обволок остроум¬
нейшей насмешкой, восхитительнейшим юмором, и теперь
они хранятся па веки вечные в сочинениях Лессинга, как
насекомые, попавшие в кусок янтаря. Убивая своих про¬
тивников, ои тем самым дарил им бессмертие. Кто из нас
знал бы когда-нибудь что-либо о том Клотце, на которого
Лессинг истратил так много насмешек и остроумия! Ка¬
менные глыбы, которые он метал в этого бедного археолога
и которыми он сокрушил его, являются теперь непрехо¬
дящим памятником Клотцу.
Замечательно, что этот остроумнейший в Германии
человек был также и честнейшим ее человеком. Ничто не
может сравниться с его любовью к истине. Никогда Лес¬
синг не делал ни малейших уступок лжи, даже в тех слу¬
чаях, когда при ее посредстве, как это делают рассуди¬
тельные люди, мог бы доставить победу истине. Он мог
сделать для истины все — только не лгать. «Кто готов, —
сказал он однажды, — сообщать другим истину под при¬
крытием всяких личин и румян, тот желает быть ее свод¬
ником, но возлюбленным ее он не был никогда».
Прекрасные слова Бюффона: «Стиль — это сам чело¬
век!» — ни к кому не применимы более, чем к Лессингу.
Его слог совершенно таков, как его характер: он правдив,
тверд, свободен от украшений, прекрасен и внушителен
благодаря присущей ему внутренней силе. Его стиль
совершенно подобен стилю римских построек: величайшая
устойчивость при величайшей простоте; будто каменные
плиты, покоятся периоды один на другом, и как там закон
1 Игривость ((франц.).
2 Всссльс (франц.).
3 Выходки (франц.).
88
тяготения, так здесь логическая последовательность яв¬
ляется невидимым цементом. Поэтому так мало в Лессин-
говой прозе тех вставных словечек и словесных уловок,
которые мы употребляем в качестве связующего цемента
в построении наших периодов. Еще гораздо реже находим
мы здесь те кариатиды мысли, которые вы называете 1а
belle phrase.1
Вы легко поймете, что такой человек, как Лессинг,
никогда не мог быть счастлив. II если бы даже он не любил
истины и не защищал ее самоотверженно везде, то он все
же был бы несчастен. Ибо это был гений. «Все простится
тебе, — сказал недавно один воздыхающий поэт, — тебе
простятся твои богатства, простится высокое происхожде¬
ние, простится красота и даже талант, но по отношению
к гению люди неумолимы». Увы! Если даже не столкнется
он со злопыхательством извне, то в себе самом гений обна¬
ружит врага, который готовит ему гибель. Поэтому исто¬
рия великих людей есть всегда легенда мученичества;
если они не принимали муки за величие человечества, то
страдали за свое собственное величие, за великий размах
своего существования, за свободу от филистерства, за
пренебрежение к суетной пошлости, к улыбающейся
посредственности, их окружающей, за пренебрежение,
которое естественно приводит их к экстравагантностям,
например к театру или даже к игорному дому, как это
было с бедным Лессингом.
Однако злоречие не смогло упрекнуть его в чем-
нибудь большем, и из биографии его мы узнаем только,
что хорошенькие актрисы нравились ему больше, чем
гамбургские пасторы, и что безмолвные карты лучше раз¬
влекали его, чем болтливые последователи Вольфа.
Сердце разрывается, когда читаешь в его биографии,
как судьба отказала этому человеку во всех радостях
и как она не дала ему даже отдохнуть от ежедневных боев
в мирной семейной обстановке. Один только раз фортуна
как будто хотела ему улыбнуться. Она дала ему любимую
жену и ребенка, — но это счастье было подобно солнеч¬
ному лучу, на мгновение позолотившему крыло проле¬
тающей птицы; оно исчезло так же быстро: жена умерла
от родов, а ребенок — едва родившись, и об этом ребенке
1 Красивой фразой (франц.).
89
писал он одному из своих друзей жутко-остроумные
слова:
«Радость моя была непродолжительна. И мне было так
жаль терять его, этого сына! Ибо он был так умен, так
умен! Не подумайте, что немногие часы моего отцовства
сделали меня смешным папенькой. Я знаю, что говорю.
Разве это не доказательство ума, что его пришлось втас¬
кивать в этот мир железными клещами? Что он так быстро
заметил всю его гнусность? Разве это не доказательство
ума, что он воспользовался первой возможностью убраться
отсюда?.. Я хотел хоть раз пожить не хуже других людей.
Но не тут-то было».
Было у Лессинга несчастье, на которое он ни разу не
пожаловался своим друзьям: это его ужасающее одино¬
чество, его духовная изолированность. Некоторые из
его современников любили его, иикто его не понимал.
Мендельсон, лучший друг Лессинга, пылко защищал его,
когда его обвинили в спинозизме. Как пыл, так и защита
были столь же смешны, сколь и ненужны. Мир праху
твоему, старый Моисей. Твой Лессинг, правда, был на
пути к этой ужасающей ошибке, к этому печальному заблу¬
ждению, а именно к спинозизму, но всевышний господь
на небесах с помощью смерти вовремя успел спасти его
от этого. Успокойся, твой Лессинг не был спинозистом,
как утверждала клевета; он умер как добрый деист, подоб¬
но тебе, Николаи, Теллеру и «Всеобщей немецкой библио¬
теке» !
Лессинг был лишь тем пророком, который на основе
второго завета возвестил третий. Я назвал его продолжа¬
телем Лютера, и, собственно, об этой его стороне предстоит
мне говорить здесь. О его значении для немецкого искус¬
ства я скажу в дальнейшем. В этой области совершил
он благодетельную реформу не только посредством своей
критики, но также посредством своего примера, и эта
сторона его деятельности обыкновенно более всего выдви¬
гается и освещается. Мы, однако, рассматриваем его с дру¬
гой точки зрения, и его философские и богословские бои
для нас важнее его «Драматургии» и его драм. Последние,
однако, подобно всем его произведениям, имеют общест¬
венное значение, и «Натан Мудрый» в основе есть не только
хорошая комедия, но и философско-богословское сочине¬
ние в защиту чистого деизма. Искусство также было для
90
Лессинга трибуной, и когда его прогоняли с амвона или
с кафедры, то ои выбегал на сцену и оттуда говорил еще
яснее и отчетливее и собирал вокруг себя еще более много¬
численную публику.
Я говорю: Лессинг — продолжатель Лютера. Поело
того как Лютер освободил нас от традиции и возвысил
библию до степени единственного источника христианства,
возникло, как я уже сказал выше, косное служение слову
и букве, и библия воцарилась столь же тиранически,
как некогда традиция. Освобождению от этой тираниче¬
ской буквы Лессинг содействовал более, чем кто-либо дру^
гой. Как Лютер не был единственным, боровшимся против
традиции, так и Лессинг боролся хотя и не в одиночестве,
но мужественнее всех против буквы. Здесь громче всего
раздается его боевой клич. Здесь радостнее всего по¬
трясает он; своим мечом, и меч сверкает и разит. Од¬
нако здесь также всего сильнее теснила Лессинга черная
свора, и в таком трудном положении ои воскликнул
однажды:
«О sancta simplicitas! 1 Но я еще не там, где был доб¬
лестный человек, воскликнувший это, который ничего
иного и не мог воскликнуть. (Гус воскликнул это на кост¬
ре.) Сначала пусть только тот нас слышит, тот пас судит,
кто способен и желает слышать и судить!
О, если б он мог это слышать, он, кого я хотел бы боль¬
ше всего иметь своим судьей! Лютер, ты! Великий, непо¬
нятый человек! Хуже всего поняли тебя те упрямые ту¬
пицы, которые с твоими туфлями в руках тащатся по
проложенной тобою дороге и хотя кричат, однако пол¬
ны равнодушия! Ты освободил нас от ига традиции;
кто освободит нас от невыносимого ига буквы! Кто, на¬
конец, принесет нам христианство, которое ты про¬
поведовал бы ныне так, как проповедовал бы его сам
Христос!»
Да, буква, говорил Лессинг, есть последняя оболочка
христианства, и лишь по уничтожении этой оболочки из
нее высвободится дух. Этот дух есть, однако, не что иное,
как то, что хотели доказать последователи вольфовской
философии, что чувствовали в душе своей филантропы,
что Мендельсон нашел в мозаизме, что воспевали масоны,
* О святая простота! (лат.).
91
о чем насвистывали поэты, что в ту пору проявлялось
в Германии во всех формах: чистый деизм.
Лессинг умер в Брауншвейге в 1781 году, непонятый,
презираемый и оклеветанный. В том же году появилась
в Кенигсберге «Критика чистого разума» Иммануила
Канта. С этой книгой, которая вследствие странного запо¬
здания получила известность лишь в конце восьмидесятых
годов, начинается духовная революция в Германии, пред¬
ставляющая своеобразную аналогию материальной рево¬
люции во Франции, столь же важная в глазах глубокого
мыслителя, как и та. Она развивается по тем же фазам,
и между обеими царит замечательнейший параллелизм.
По обеим сторонам Рейна наблюдаем мы тот же разрыв
с прошлым; традиции отказывают в каком бы то ии было
почтении; как здесь, во Франции, всякое право, так
г1ам, в Германии, всякая мысль должны доказать свои
права, и как здесь рушится королевская власть, крае¬
угольный камень старого социального строя, так и там
рушится деизм, краеугольный камень старого режима
мысли.
Об этой катастрофе, о 21 января деизма, мы скажем
в следующей книге. Какое-то чувство неизъяснимого
ужаса, какой-то таинственный пиетет не позволяет нам
сегодня писать дальше. Наша грудь полна ужасающего
сострадания — к смерти готовится сам старый Иегова.
Мы так хорошо знали его, с его колыбели в Египте, где
он воспитывался среди божественных тельцов, крокоди¬
лов, священных луковиц, ибисов и кошек. Мы видели,
как он распрощался с этими соучастниками своих детских
игр и с обелисками и сфинксами родной нильской долины
и как в Палестине стал ои у бедного пастушеского народа
маленьким богом-царем и обитал в собственном дворце-
храме. Мы видели затем, как он соприкоснулся с асси¬
рийско-вавилонской цивилизацией и отринул от себя
свои слишком человеческие страсти, перестал изрыгать
только гнев и месть, во всяком случае перестал немед¬
ленно обрушиваться громом по поводу всякой мелкой под¬
лости. Мы видели, как он переселился в Рим, в великую
столицу, где он отрекся от всех национальных предрас¬
судков, провозгласил небесное равенство всех народов
и с помощью столь прекрасных фраз образовал оппозицию
против старого Юпитера и так долго интриговал, пока не
02
добился главенства и не подчинил себе с высоты Капито¬
лия и град и мир — urbem et orbem. Мы видели, как он
все более и более одухотворялся, как он стонал в блажен¬
ной расслабленности, как он сделался любвеобильным
отцом, всеобщим другом человечества, благодетелем все¬
ленной, филантропом... Все это ничем не могло ему по¬
мочь.
Слышите звяканье колокольчика? Преклоните коле¬
на... Эю несут святые дары умирающему богу.
КНИГА ТРЕТЬЯ
Существует легенда об одном английском механике,
который изобрел ряд остроумнейших машин и, наконец,
пришел к мысли смастерить человека; в конце концов
это ему удалось: создание рук его могло действовать и
вести себя совсем как человек, в его кожаной груди было
даже нечто вроде человеческого чувства, не слишком
отличавшегося от обычных чувств англичанина, оно спо¬
собно было выражать в членораздельных звуках свои ощу¬
щения, а скрежет внутренних колес, пружин и винтов,
который был слышен при этом, даже сообщал этим звукам
настоящий английский акцент; короче говоря, автомат
был безукоризненным джентльменом, но для того чтобы
быть настоящим человеком, ему недоставало только одно¬
го — души. Души, однако, не мог ему дать английский
механик, и злополучное создание, осознавшее такое свое
несовершенство, денно и нощно терзало своего создателя
мольбами дать ему душу. Все настойчивее повторяемая
мольба эта стала, наконец, настолько невыносимой для
художника, что он обратился в бегство от своего произве¬
дения. Одпако автомат не замедлил броситься за ним
на курьерских; он следует за ним на материк, непрестан¬
но гонится за ним по пятам и, когда подчас ему удается
его настигнуть, визжит и гнусавит: «Give me a soul!»1
Эти две фигуры мы встречаем теперь во всех странах,
и лишь тот, кому известны их своеобразные отношения,
1 Дай мне душу! (англ.).
94
может понять их необычайную торопливость и тревожную
раздражительность. Но, зная эти своеобразные отношения,
находишь в них опять-таки некий общий смысл, видишь,
что одной части английского народа стало невтерпеж ее
механическое существование и она требует души, другую
же часть это требование повергает в ужас, и она устрем¬
ляется то туда, то сюда, но ни та, ни другая не может
больше оставаться дома.
Это страшная история. Ужасно, когда тела, нами
созданные, требуют души. Но еще более страшно, ужасно,
жутко, когда мы создаем душу и она требует от нас своего
тела и преследует нас этим требованием. Мысль, порожден¬
ная нами, и есть такая душа, и она не оставляет нас в по¬
кое, пока мы не дадим ей тела, пока не доведем ее до чувст¬
венного явления. Мысль стремится стать действием, сло¬
во — плотью. И—удивительная вещь! — человеку, подобно
библейскому богу, достаточно высказать мысль, и создается
мир, возникает свет или возникает тьма, воды отделяются
от суши, а иной раз появляются даже хищные звери.
Мпр есть отпечаток слова.
Так и знайте, гордые люди действия. Вы не что иное,
как бессознательные чернорабочие на службе у людей
мысли, которые не раз в смиреннейшей тиши точнейшим
образом предсказывали все ваши деяния. Максимилиан
Робеспьер был не чем иным, как рукой Жан-Жака Руссо,
кровавой рукой, извлекшей из лона истории тело, душу
которого создал Руссо. Тоскливая тревога, отравлявшая
жизнь Жан-Жаку, происходила, быть может, оттого, что
в глубине души он уже предчувствовал, какой акушер
требуется его мыслям, чтобы они во плоти явились на
свет.
Старый Фонтенель, быть может, был прав, сказав:
«Если бы я держал зажатыми в руке все мысли этого мира,
то я бы поостерегся разжать ее». Что до меня, то я
думаю иначе. Если бы я держал в горсти все мысли этого
мира, то я, быть может, просил бы вас поскорее отру¬
бить эту руку; я ни в коем случае не держал бы ее сжа¬
той так долго. Я не рожден быть тюремщиком мыслей.
Видит бог, я выпускаю их на свободу! Ничего не поде¬
лаешь, — пускай воплощаются в самые опасные явле¬
ния, пусть безумной вакханалией несутся по всем странам,
пусть своими тирсами ломают наши невиннейшие цветы,
95
пусть врываются в наши больницы и сгоняют с кроватл
больной старый мир! Это, конечно, будет весьма при¬
скорбно моему сердцу, да я и сам пострадаю от этого!
Ибо—увы!—я ведь тоже принадлежу к этому старому
больному миру, и прав был поэт, сказавший: «Сколько пи
издевайся над своими костылями, лучше от этого ходить
не будешь». Я самый больной среди вас всех, и я тем
более достоин сожаления, что знаю, что такое здоровье.
А вы, зависти достойные, вы этого не знаете! Вы способны
умереть, пе заметив этого. Да, многие из вас давным-давно
умерли и уверяют, что только теперь начинается их на¬
стоящая жизнь. И когда я возражаю против этого без¬
умия, мною возмущаются, меня позорят, и — о ужас! —
трупы набрасываются на меня с бранью, и еще больше,
чем их попошеппя, невыносим для меня исходящий от
нпх запах тлена... Прочь, призраки, я буду говорить
о человеке, одно имя которого звучит как заклинание, —
я буду говорить об Иммануиле Канте!
Говорят, ночные духи пугаются, увидев меч палача.
Как же должны они пугаться, когда им показывают «Кри¬
тику чистого разума» Канта! Эта книга есть меч, отрубив¬
ший в Германии голову деизму.
Сказать по совести, вы, французы, весьма кротки и
умеренны в сравнении с нами, немцами. Самое большее,
что вы могли сделать, это убить короля, да и тот успел
потерять голову раньше, чем вы ее отрубили. И при этом
вам пришлось столько барабанить, и кричать, и топать
ногами, что был потрясен весь шар земной. Максимилиану
Робеспьеру оказывают, право, слишком много чести, срав¬
нивая его с Иммануилом Кантом. Впрочем, у Максими¬
лиана Робеспьера, великого мещанина с улицы Сет-
Оноре, бывали приступы бешеной мании разрушения,
когда дело касалось королевской власти, и достаточно
страшны были судороги его цареубийственной эпилепсии;
но едва речь заходила о высшем существе, он вновь стирал
белую пену с губ и кровь с рук и облачался в свой
праздничный голубой сюртук с зеркальными пугови¬
цами, да еще прикалывал букет цветов к широкому отво¬
роту.
Изложить историю жизни Иммануила Капта трудно.
Ибо не было у него ни жизни, ни истории. Он жил мехапи-
чески-размерепной, почти абстрактной жизиыо холостяка
96
в тихой, отдаленной уличке Кенигсберга — старинного го¬
рода на северо-восточной границе Германии. Не думаю,
чтобы большие часы на тамошнем соборе бесстрастнее и
равномернее исполняли свои ежедневные внешние обязан¬
ности, чем их земляк Иммануил Кант. Вставание, утрен¬
ний кофе, писание, чтение лекций, обед, гуляние — все
совершалось в определенный час, и соседи знали совер¬
шенно точно, что на часах — половина четвертого, когда
Иммануил Кант в своем сером сюртуке, с камышовой
тросточкой в руке выходил из дому и направлялся к ма¬
ленькой липовой аллее, которая в память о нем до сих пор
называется Философской дорожкой. Восемь раз проходил
он ее ежедневно взад и вперед во всякое время года, а
когда бывало пасмурно пли серые тучи предвещали дождь,
появлялся его слуга, старый Лампе, с тревожной забот¬
ливостью следовавший за ним, словно символ провидения,
с длинным зонтом под мышкой.
Какой странный контраст между внешней жизнью
этого человека и его разрушительной мыслью, сокру¬
шающей мир! Поистинс, если бы кенигсбергские обыватели
предчувствовали все значение этой мысли, они относились
бы к этому человеку с несравненно большим трепетом,
чем к палачу — к палачу, убивающему только людей;
но добрые люди видели в нем всего лишь профессора фило¬
софии и, когда встречали его в определенный час, привет¬
ливо здоровались с ним и, быть может, проверяли по нему
свои часы.
Но если Иммануил Кант, этот великий разрушитель
в царстве мысли, далеко превзошел своим терроризмом
Максимилиана Робеспьера, то кое в чем он имел с ним
сходные черты, побуждающие к сравнению обоих мужей.
Прежде всего мы встречаем в обоих ту же неумолимую,
резкую, лишенную поэзии, трезвую честность. Затем
в обоих встречаем мы тот же талант недоверия, с той только
разницей, что один направляет его на мысль и назы¬
вает критикой, между тем как другой направляет его
на людей и именует республиканской добродетелью.
И все же тип мещанина в высшей степени выражен
в обоих: природа предназначила их к отвешиванию кофе
и сахара, но судьба захотела, чтобы они взвешивали
другие вещи, и одному бросила на весы короля, дру¬
гому — бога...
97
И они взвесили точно!
«Критика чистого разума» — главное произведение
Канта, и ею должны мы преимущественно заняться. Ни
одно из сочинений Канта не имеет большего значения.
Книга эта появилась, как было уже упомянуто, в 1781 году,
но лишь в 1789 стала общеизвестной. Вначале она совер¬
шенно не была замечена, о ней появились только две незна¬
чительные заметки, и лишь позднее, благодаря статьям
Шютца, Шульца и Рейнгольда, внимание публики было
обращено на эту великую книгу. Причина столь запозда¬
лого признания заключается, вероятнее всего, в необычной
форме и скверном изложении. В отношении послед¬
него Кант заслуживает большего порицания, чем какой-
либо другой философ, особенно если мы примем во внима¬
ние более легкий стиль его предыдущих сочинений.
В вышедшем недавно сборнике его небольших статей напе¬
чатаны его первые опыты, и здесь мы удивляемся хоро¬
шему, иногда весьма остроумному изложению. Уже
продумывая свое великое творение, Кант при этом напе¬
вал про себя эти маленькие статьи. Он улыбается в них,
как солдат, спокойно вооружающийся перед сражением,
где он с уверенностью ждет победы. Среди этих небольших
работ особенно замечательны «Всеобщая естественная
история и теория неба», написанная еще в 1755 году, «На¬
блюдения над чувством прекрасного и возвышенного»,
написанные десять лет спустя, а также «Грезы духовид¬
ца», проникнутые веселым настроением в стиле француз¬
ских эссе. В остроумии такого мыслителя, как Кант,
проявившемся в этих мелких статейках, есть нечто весьма
своеобразное. Обвиваясь вокруг мысли, остроумие, невзи¬
рая на свою слабость, все же достигает значительной
высоты. Без такой поддержки, конечно, ие преуспело бы
и самое пышное остроумие; подобно виноградной лозе,
лишенной подпорки, оно вынуждено в таком случае
печально ползти по земле и гнить вместе со своими дра¬
гоценнейшими плодами.
Почему, однако, стиль «Критики чистого разума»
Канта такой серый, сухой, такой суконный? Я думаю,
потому, что, отвергнув математическую форму декарто-
лейбнице-вольфианцев, он боялся, как бы не принизи¬
лось достоинство науки, если она выскажется в более лег¬
ком, предупредительно-приветливом тоне. Поэтому он
98
облек ее в жесткую, абстрактную форму, равнодушно
отвергающую всякую фамильярность со слоями низшего
умственного состояния. Он хотел по-барски отмежеваться
от представителей тогдашней популярной философии,
стремившейся к самой обывательской ясности, и облек
свои мысли в формы придворно-замороженного канце¬
лярского языка. Здесь во всей полноте проявляется фили¬
стер. Но, может быть, для тщательно размеренного хода
своих идей Кант нуждался в тщательно размеренном
языке и не был в состоянии создать лучший. Только
у гения есть для новой мысли и новое слово. А Иммануил
Кант не был гением. Ощущая этот свой недостаток, Кант,
подобно любезнейшему Максимилиану, тем недоверчивее
относился к гению, и в своей «Критике способности
суждения» он утверждал даже, что гению в науке де¬
лать нечего, — его деятельность относится к области
искусства.
Тяжелым, накрахмаленным слогом своего главного
произведения Кант причинил очень много вреда. Ибо
неумные подражатели без толку переняли у него эту
внешнюю черту, и у нас возник суеверный предрассудок,
будто нельзя быть философом, если пишешь хорошо.
Однако математическая форма не могла уже больше воз¬
родиться в философии после Канта. Этой форме он вынес
безжалостный смертный приговор в «Критике чистого
разума». Математическая форма в философии, сказал он,
создает лишь карточные домики, равно как философская
форма в математике порождает сплошное пустословие.
Ибо в философии невозможны определения, как в мате¬
матике, где определения не дискурсивны, но интуитивны,
то есть могут быть доказаны созерцанием; то, что назы¬
вают определениями в философии, дается лишь как проба,
гипотетически, предварительно ; собственно, правильное
определение является лишь в конце как вывод.
В чем причина столь великого пристрастия философов
к математической форме? Это пристрастие начинается уже
с Пифагора, который обозначал начала вещей посредством
чисел. Это была гениальная мысль. Число свободно от
всего вещественного и конечного, и все же оно обозначает
нечто определенное и его отношение к чему-то определен¬
ному, каковое отношение, будучи равным образом выра¬
жено в числе, принимает тот же характер развеществлен-
99
ного и бесконечного. В этом число сходно с идеями, имею¬
щими тот же характер и то же взаимоотношение. Поскольку
идеи проявляются в нашем духе и в природе, они могут
быть ©чень хорошо выражены числами; но все же число
остается всегда знаком идеи, а никак не самой идеей.
Мастер еще сознает это различие, ученик же забывает
о нем и передаст своим ученикам лишь числовую иеро-
глифику, голые шифры, живое значение которых никому
уже не известно и которые кое-кто, однако, продолжает
повторять с гелертерским самодовольством. То же отно¬
сится и к прочим элементам математической формы. Духов¬
ное в своем вечном движении не терпит никакого фикси¬
рования; как и в числе, оно столь же мало может быть фи¬
ксировано в линии, треугольнике, квадрате и круге. Мысль
не может быть ни исчислена, ни измерена.
Так как задача моя заключается главным образом
в том, чтобы облегчить изучение немецкой философии во
Франции, то я всегда останавливаюсь преимущественно
на тех внешних чертах, которые легко отпугивают ино¬
странца, не предупрежденного о них. В частности, обра¬
щаю внимание литераторов, которые захотят обработать
Канта для французских читателей, что они могут опустить
ту часть его философии, назначение которой исчерпывается
разоблачением абсурдов философии Вольфа. Эта поле¬
мика, проглядывающая повсюду, может только запугать
французов, по не быть им полезной. Как я слышал, один
немецкий ученый, г-н д-р Шен, занят в Париже француз¬
ским изданием Канта. Я слишком хорошего мнения о его
философских познаниях, чтобы считать нужным применить
это указание к нему; наоборот, я ожидаю от него книги
столь же полезной, сколь значительной.
«Критика чистого разума» есть, как я уже сказал, глав¬
ное произведение Канта, и прочие его сочинения могут
считаться в известной степени менее необходимыми или
рассматриваться лишь как комментарии. Каково общест¬
венное значение этого главного сочинения, выяснится
из дальнейшего.
Философы до Канта размышляли, правда, о происхо¬
ждении наших познаний, причем, как мы уже указали,
шли двумя различными путями, в зависимости от того,
признавали ли они идеи a priori или идеи a posteriori;
меньше задумывались они над самой способностьюпозна-
100
ния, над объемом нашей способности познания или над
ее границами. Это и поставил себе задачею Кант; он
подверг беспощадному исследованию нашу способность
познания, он измерил всю глубину этой способности и
установил ее границы. Здесь он, конечно, нашел, что
мы совершенно ничего не можем знать об очень многих
вещах, с которыми мы, по нашему прежнему убеждению,
состояли в ближайшем знакомстве. Это было очень досадно.
Но все же полезно было узнать, о каких вещах мы ничего
не можем знать. Кто предупреждает нас о бесполезных
путях, оказывает нам такую же услугу, как и тот, кто ука¬
зывает нам правильный путь. Кант доказал нам, что о ве¬
щах, каковы они сами по себе и сами в себе, мы не знаем
ничего, а знаем о них лишь кое-что, в той мере, в какой
они отражаются в нашем уме. Здесь мы совершенно подобны
тем узникам, о которых Платон в седьмой книге своего
«Государства» рассказывает столь печальные вещи: эти
несчастные, у которых прикованы ноги и шея, так что
оип пе могут повернуть голову, сидят в темнице, открытой
сверху, и сверху падает сюда немного света. Свет же этот
идет от огня, горящего наверху, за их спиною, да еще
отделенного от них высокой стеной. Вдоль этой стены
ходят люди, носящие всякие статуи, деревянные и камен¬
ные, и разговаривают между собою. Бедные узники совер¬
шенно не могут видеть этих людей, которые ниже стены,
а от проносимых статуй, которые выше стены, они могут
видеть только тени, движущиеся по противоположной
стене; и вот они считают эти тени действительными пред¬
метами и, введенные в заблуждение эхом своей темницы,
думают, что разговоры, доносящиеся до них, ведут между
собой эти тени.
Предшествующая философия, которая рыскала вокруг
вещей, обнюхивая их, собирая признаки вещей и класси¬
фицируя их, исчезла с появлением Канта, и последний
направил изучение обратно к человеческому уму, исследуя,
что там происходит. Не без основания сравнивает он по¬
этому свою философию с методом Коперника. Раньше, когда
полагали, что земля неподвижна, а солнце вращается
вокруг нее, астрономические вычисления не особенно
ладились, но Коперник заставил солнце остановиться,
а землю обращаться вокруг него — и вот все пошло пре¬
восходно! Прежде разум, подобно солнцу, вращался
101
вокруг мира явлений и старался освещать их; но*Кант оста¬
навливает разум, солнце, и мир явлений вращается вокруг
разума и освещается им по мере вхождения в сферу этого
солнца.
Этих немногих слов, в которых я наметил задачу, сто¬
явшую перед Кантом, достаточно для того, чтобы всякий
понял, что ту часть его книги, где он трактует о так назы¬
ваемых феноменах и ноуменах, я считаю наиболее важной,
средоточием его философии. Дело в том, что Кант разли¬
чает явления вещей и самые вещи в себе. Так как о самих
вещах мы можем знать нечто лишь в той мере, в какой они
открываются нам в явлении, и так как в силу этого вещи
не показываются нам, какими они суть сами по себе и
сами в себе, то Капт назвал вещи, какими они нам являют¬
ся, феноменами, а вещи, как они суть в себе, — ноуме¬
нами. Знать что-либо мы можем лишь о вещах как феноме¬
нах, но ничего не можем знать о вещах как ноуменах.
Последние чисто проблематичны, мы не можем сказать
ни что они существуют, ни что они не существуют. Мало
того: слово «ноумен» сопоставлено со словом «феномен»
только для того, чтобы иметь возможность говорить
о вещах в той мере, в какой они доступны нашему позна¬
нию, не затрагивая в нашем суждении вещей, нашему
познанию недоступных.
Таким образом, Кант, в противоположность многим
ученым, которых я не стану называть, не разделяет вещи
на феномены и ноумены, на вещи, которые для нас сущест¬
вуют, и вещи, которые для нас не существуют. Это была
бы комическая бессмыслица в философии. Он хотел только
установить разграничивающее понятие.
Бог, по Канту, есть ноумен. Согласно его аргумента¬
ции, трансцендентальное идеальное существо, которое
мы до сих пор называли богом, есть не что иное, как
простое измышление. Оно возникло из естественной иллю¬
зии. Более того: Кант показывает, почему мы ничего об
этом ноумене, боге, знать не можем и почему даже в буду¬
щем никакое доказательство его бытия невозможно. Дан-
товы слова: «Оставьте всякую надежду!» — пишем мы над
этой частью «Критики чистого разума».
Полагаю, меня охотно освободят от необходимости
популярно излагать эту часть, где идет речь «о доказа¬
тельствах спекулятивного разума в пользу бытия высшего
102
существа». Несмотря на то, что собственно опровержение
этих доказательств занимает немного места и получает
развитие лишь во второй половине книги, оно все же с вели¬
чайшей предусмотрительностью вводится издалека и при¬
надлежит к наиболее решающим и острым положениям
книги. За этим следует «Критика всякой спекулятивной
теологии», п здесь уничтожаются прочие призраки деи¬
стов. Должен оговориться, что, нападая на три основных
рода доказательств существования бога, а именно — дока¬
зательство онтологическое, космологическое и физико¬
теологическое, Кант, по моему мнению, опровергает лишь
два последние, но не первое. Не знаю, известны ли здесь
эти обозначения, и потому привожу то место из «Критики
чистого разума», где Кант формулирует это различие:
«Возможны лишь три рода доказательства бытия бо¬
жьего из спекулятивного разума. Все пути, какие бы ни
избирались для этой цели, либо начинаются с определен¬
ного опыта и посредством него познанной особенной при¬
роды нашего чувственного мира и отсюда поднимаются по
законам причинности к высшей причине, находящейся
вне мира; либо они полагают в основание лишь неопре¬
деленный опыт, то есть какое-либо бытие, либо, наконец,
отвлекаются от всякого опыта и совершенно a priori за¬
ключают, исходя из чистых понятий относительно бытия
высшей причины. Первое доказательство — физико-теоло¬
гическое, второе — космологическое, третье — онтологи¬
ческое. Больше доказательств нет, и больше их быть не
может».
После многократного изучения главной книги Канта
мне казалось, я понял, что полемика против этих трех
существующих доказательств бытия божьего проглядывает
повсюду, п я изложил бы ее подробнее, если бы меня не
удерживало некое религиозное чувство. Достаточно мне
увидеть, что кто-нибудь оспаривает бытие божье, как меня
охватывает такое странное беспокойство, такая тоскливая
жуть, какие я испытывал когда-то в лондонском Ныо-
Бедламе, когда, будучи окружен толпой безумцев, я поте¬
рял из виду моего провожатого. «Бог есть все, что сущест¬
вует», и всякое сомнение в нем есть сомнение в жизни,
есть смерть.
Но сколь неуместными ни являются всякие дискуссии
о бытии божьем, тем достохвальнее размышление о при-
103
роде бога. Такое размышление есть истинное богослуже¬
ние, отрешающее нашу душу от преходящего и конечного
и приводящее ее к созиашпо первичной благости и пред-
вечпой гармонии. Это сознание проникает трепетом чувст¬
вительную душу во время молитвы или при созерцании
церковных символов; мыслитель же обретает это священ¬
ное настроение в проявлении той возвышенной силы духа,
которую мы называем разумом и высшая задача которой
заключается в исследовании природы бога. Особенно
религиозные люди отдаются этой задаче с раннего детства,
таинственно тревожит она их уже с первых движений их
разума. Автор этих строк радостно сознает в себе такую
раннюю, первичную религиозность, никогда пе покидав¬
шую его. Бог всегда был началом и концом всех моих
мыслей. Если я теперь спрашиваю: «Что такое бог? Ка¬
кова его природа?» — то уже ребенком я спрашивал:
«Каков бог? Каков он с виду?» И в ту пору я мог по целым
дням смотреть на небо и к вечеру бывал очень огорчен,
что ни разу не посчастливилось мне увидеть пресвятой
лик божий и что видел я только серые, бессмысленные физи¬
ономии. Совсем путали меня астрономические познания,
которыми в ту пору просвещения беспощадно пичкали
даже младенцев, и я не мог надивиться тому, что все эти
тысячи миллионов звезд — такие же громадные прекрасные
земные шары, как и наш, и всем этим светозарным скопищем
миров правит единый бог. Раз, помню, во сие привиделся
мне в недосягаемой вышине бог. С лицом благочести¬
вого старца, с маленькой еврейской бородкой, благодушно
выглядывал он из небесного окошечка и во множест¬
ве сеял па землю зерна, которые, ниспадая с неба, разле¬
тались по беспредельному пространству, разрастались
до необъятных размеров, пока не превращались в луче¬
зарные, цветущие населенные миры, каждый величиной
с наш земной шар. Никогда я не мог забыть этот лик, не
раз потом видел я во сне приветливого старца, рассыпаю¬
щего из своего небесного окопца посев миров; однажды
я заметил даже, что он причмокивал губами, как наша
служанка, когда она сыпала курам ячмень. Я видел только,
как падающие зерна всегда превращаются в громадные
светящиеся миры; но громадных кур, которые, быть может,
разинув клювы, где-то ждут, чтобы их накормили этими
рассеянными мирами, мне увидеть не пришлось.
104
Ты улыбаешься, любезный читатель, при мысли об этих
громадных курах. Но это детское представление не слиш¬
ком далеко от представлений самых зрелых деистов. Чтобы
дать понятие о внемировом боге, Восток и Запад исчерпали
себя в ребяческих гипотезах. Тщетно, однако, истощалась
фантазия деистов по поводу бесконечности пространства
и времени. Здесь во всей полноте проявляется бессилие,
несостоятельность их мировоззрения, их представления
о природе бога. Нас поэтому мало огорчает, что это пред¬
ставление сокрушено. Но им действительно принес огор¬
чение Кант, отвергнув их доказательства в защиту божьего
бытия.
Спасение онтологического доказательства не могло
бы особенно помочь деизму, ибо это доказательство при¬
годно также для пантеизма. Для более ясного понимания
замечу, что онтологическое доказательство есть то, кото¬
рое выставил Декарт и которое гораздо раньше, в средние
века, было выражено Ансельмом Кентерберийским в форме
спокойной молитвы. Можно даже сказать, что св. Авгу¬
стин уже выставил онтологическое доказательство во
второй книге «De libero arbitrio».1
Как указано выше, я воздерживаюсь от всякого попу¬
ляризирующего обсуждения кантовских возражений про¬
тив этих доказательств. Ограничусь заверением, что с той
поры деизм скончался в царстве спекулятивного разума.
Быть может, понадобится еще несколько столетий, прежде
чем эта траурная весть станет общим достоянием, — что
до нас, то мы давно уже облачились в траур. De profun-
dis.2
Вы думаете, все кончено, можно расходиться по домам?
Не тут-то было! Будет представлена еще одна пьеса. За
трагедией следует фарс. До сих пор Иммануил Кант изо¬
бражал неумолимого философа, он штурмовал небо, он
перебил весь гарнизон, сам верховный владыка небес,
не будучи доказан, плавает в своей крови; пет больше ни
всеобтлзмлющего милосердия, ни отеческой любви, ни
потустороннего воздаяния за посюстороннюю воздержан¬
ность, бессмертие души лежит при последнем издыхании —
тут стопы, там хрипение — и старый Лампе в качестве
1 «О свободной воле» (лат.).
2 Из глубины (лат.). (См. комментарии).
105
удрученного зрителя стоит рядом, с зонтом под мышкой,
и холодный пот и слезы струятся по его лицу. Тогда
Иммануил Кант разжалобился и показал, что он не только
великий философ, но и добрый человек; и он задумывается
и полудобродушно-полуиронически говорит : «Старому
Лампе нужен бог, иначе бедняк не будет счастлив, —
а человек должен быть счастлив на земле — так говорит
практический разум, — так уж и быть — ну, пусть прак¬
тический разум дает поруку в бытии божьем». Под влия¬
нием этого довода Кант различает теоретический разум
и разум практический, и посредством последнего, словно
волшебной палочкой, он вновь воскресил мертвое тело
деизма, убитого теоретическим разумом.
А быть может, Кант предпринял это воскрешение не
только из-за старого Лампе, по и из-за полиции? Или он
в самом деле сделал это по убеждению? Уничтожая все
доказательства бытия божьего, не хотел ли он тем самым
показать нам, как неудобно ничего не знать о существова¬
нии бога? Он поступил здесь почти столь же мудро, как
один мой приятель вестфалец, который разбил все фонари
па Грондерштрассе в Геттингене и, стоя в темноте, держал
перед нами длинную речь о практической необходимости фо¬
нарей, каковые он разбил лишь с той теоретической целыо,
чтобы доказать нам, что мы без них ничего видеть не можем.
Я упомянул уже, что появление «Критики чистого
разума» не вызвало ни малейшей сенсации. Лишь много
лет спустя, когда некоторые проницательные философы
выступили с комментариями к этой книге, она привлекла
общественное внимание, и в 1789 году в Германии только
и было речи, что о Кантовой философии, которая была
окружена всякими толкованиями, хрестоматиями, объяс¬
нениями, отзывами, апологиями и т. д. Стоит только загля¬
нуть в любой каталог философской литературы, и Ееликое
множество появившихся в эту пору сочинений о Канте
в достаточной степени удостоверит размах умственного
движения, имеющего источником этого несравненного
человека. Один высказывал бурный энтузиазм, другой —
горькую досаду, многие, разинув рты, выжидали, каков
же будет исход этой духовной революции. Мы пережили
восстания в духовном мире, точно так же как вы — в мире
материальном, и при ниспровержении старого догматизма
мы горячились не меньше, чем вы при взятии Бастилии.
106
Конечно, и у нас лишь два-трп старых инвалида встали
на защиту догматизма, то есть Вольфовой философии. Это
была революция, и здесь не обошлось без ужасов. В рядах
партии прошлого подлинные добрые христиане меньше
всех возмущались этими ужасами. Болес того: они желали
еще больших ужасов, чтобы мера переполнилась и чтобы
тем скорее, в качестве неизбежной реакции, пришла контр¬
революция. Были у нас и пессимисты в философии, как
у вас — в политике. Некоторые из наших пессимистов
в самоослеплеиии заптли так далеко, что им привиде¬
лось, будто Кант состоит в тайном с ними соглашении и
опроверг принятые доселе доводы в пользу существова¬
ния бога лишь для того, чтобы мир увидел, что путем
разума никак невозможно прийти к познанию бога и что,
таким образом, здесь следует держаться религии откро¬
вения.
Это великое умственное движение Кант вызвал не
столько содержанием своих сочинений, сколько духом
критики, господствовавшим в них и проникшим теперь
во все науки. Все научные дисциплины были им охвачены.
Даже поэзию не пощадило его влияние. Шиллер, напри¬
мер, был убежденнейшим кантианцем, и его взгляды на
искусство проникнуты духом кантовской философии.
Изящной словесности и искусствам очень повредила
абстрактная сухость философии Канта. К счастью, она не
стала вмешиваться в искусство кулинарии.
Немецкий народ не легко расшевелить; ио раз его толк¬
нули на известный путь, он с упорнейшей настойчивостью
будет следовать по этому пути до конца. Такими выказали
мы себя в делах религиозных. Такими выказали мы себя
также и в философии. Будем ли мы столь же последова¬
тельно продвигаться в политике?!
Германия была увлечена Кантом на путь философии,
и философия стала национальным делом. Вдруг, словно
по волшебному мановению, появилась из германской
почвы прекрасная плеяда великих мыслителей. Если со
временем германская философия обретет, подобно фран¬
цузской революции, своего Тьера и своего Минье, то исто¬
рия ее представит столь же занимательное чтение: с гор¬
достью прочтет ее немец и с восхищением — француз.
Среди учеников Канта уже ранее выдвинулся Иоганн-
Готлиб Фихте.
107
Почтп отчаиваюсь я в возможности дать надлежащее
представление о значении этого человека. Говоря о Канте,
мы ограничились рассмотрением только его книги. Здесь
предметом рассмотрения должен, кроме книги, явиться
и человек; у этого человека мысль и воля составляют одно
целое, и в таком величественном единении воздействуют
они на современность. Нам предстоит поэтому обсуждать
не только философию, ио и характер, которым она обус¬
ловлена, и для понимания влияния обоих потребовалось
бы изображение общего состояния того времени. Какая
широчайшая задача! Нам, конечно, не поставят в вину,
если мы предложим здесь лишь скудные сведения.
Уже самые мысли Фихте с большим трудом поддаются
изложению. Здесь мы также наталкиваемся на своеобраз¬
ные трудности. Они касаются пе только содержания, но
также формы и метода; со всем этим мы охотно
ознакомим иностранца в первую очередь. Итак, прежде
всего о методе Фихте. Первоначально он целиком был
заимствован у Канта. Вскоре, однако, под воздействием
природы предмета этот метод меняется. Дело в том, что
па долю Канта выпала задача дать только критику, то
есть нечто отрицательное, Фихте же должен был устано¬
вить систему — стало быть, нечто положительное. Это отсут¬
ствие целостной системы давало иногда повод отказывать
кантовской философии в звании «философии». Г1о отноше¬
нию к самому Иммануилу Канту это было правильно,
но никак не по отношению к кантианцам, построившим
из положений Канта достаточное количество целостных
систем. В ранних своих сочинениях Фихте остается, как
я сказал, вполне верен кантовскому методу, так что
когда — анонимно — появилась первая его работа, ее
можно было принять за сочинение Канта. Однако когда
Фихте впоследствии создаст систему, то он впадает в столь
страстное и даже упрямое конструирование, что, сконструи¬
ровав весь мир, он начинает затем столь же страстно и
столь же упрямо демонстрировать свои конструкции сверху
донизу. В этом конструировании и демонстрировании Фих¬
те проявляет, так сказать, некую абстрактную страсть.
Как в его системе, так и в изложении вскоре воцаряется
субъективность. Напротив, Кант, развернув пред собою
мысль, разделяет ее па тончайшие волокна, и его «Критика
чистого разума» есть как бы анатомический театр духа.
108
Сам он при этом остается холодным, бесчувственным, как
истинный хирург.
Каков метод, такова и форма сочинений Фихте. Она
полна жизни, но исполнена и всех недостатков жизни: она
беспокойна и способна вводить в заблуждение. Чтобы
сохранить живость, Фихте пренебрегает обычной термино¬
логией философов, которая представляется ему чем-то
мертвым; а это тем менее ведет нас к пониманию. У него
вообще свои причуды в вопросе о понимании. Пока Рейн¬
гольд был одного с ним мнения, Фихте объявлял, что никто
не понимает его лучше Рейнгольда. Но когда впоследствии
Рейнгольд отошел от него, Фихте заявил, что тот никогда
его не понимал. Разойдясь с Кантом, он высказал печатно,
что Кант сам себя не понимает. Я затрагиваю здесь вообще
комическую сторону наших философов. Они не перестают
жаловаться, что их не понимают. Лежа на смертном одре,
Гегель сказал: «Только один меня понял», но тотчас вслед
за тем раздраженно прибавил: «Да и тот тоже меня не
понимал».
Что касается содержания по существу, то значение
философии Фихте невелико. Она не дала обществу никаких
результатов. Учение Фихте представляет для пас некото¬
рый интерес лишь постольку, поскольку оно является
вообще одной из замечательнейших ступеней в развитии
немецкой философии, поскольку оно обнаруживает бес¬
плодность идеализма в его конечных выводах и поскольку
оно служит необходимым переходом к современной на-
турфилософии. Ввиду того, что его учение имеет, сле¬
довательно, более историческое и научное, чем соци¬
альное значение, я изложу его лишь в самых кратких
чертах.
Вопрос, который ставит себе Фихте, таков: какие есть
у нас основания предполагать, что нашим представлениям
о вещах соответствуют также вещи вне нас? И на этот
вопрос он отвечает: все вещи имеют реальность лишь
в нашем уме.
Как «Критика чистого разума» есть главное сочинение
Канта, так «Наукоучение» — главное сочинение Фихте.
Эта книга представляет как бы продолжение первой.
«Наукоучение» также обращает дух к самому себе. Но
Фихте конструирует там, где Кант анализирует. «Науко¬
учение» начинается с абстрактной формулы (Я = Я),
10!)
оно создает мир из глубины духа, оно вновь воссоединяет
разрозненные части и возвращается обратным путем абст¬
ракции, пока не достигает мира явлений. Тогда дух полу¬
чает возможность объявить этот мир явлений необходимыми
акциями позпаиия.
Особую трудность у Фихте представляет то, что он
полагает дух наблюдающим самого себя в то время, когда
он действует. «Я» должно производить наблюдения за
своими интеллектуальными действиями в то время, как
оно выполняет их. Мысль подслушивает себя самое, в то
время как она мыслит, становясь все теплее и теплее,
пока, наконец, не будет совсем готова. Эта операция напо¬
минает нам обезьяну, которая, сидя у очага, варит в мед¬
ной кастрюле свой собственный хвост. Ибо, по мнению
Фихте, истинное поварское искусство заключается не
в том, чтобы только варить объективно, но в том, чтобы
также субъективно осознавать процесс варки.
Необходимо отметить, что философии Фихте всегда
приходилось много терпеть от сатиры. Я видел однажды
карикатуру, где был представлен фихтеанский гусь.
У него такая огромная печень, что он уже не знает, гусь
он или печень. На животе у него надпись: «Я = Я».
Жан-Поль жесточайшим образом высмеял философию
Фихте в книге под заглавием «Clavis Fichtiana».1 Что
последовательно проведенный идеализм в конце концов
отрицает даже реальность материи, показалось широким
кругам читателей слишком далеко зашедшей шуткой.
Немало издевались мы над фихтевским Я, создающим весь
мир явлений только посредством чистого мышления.
При этом очень пригодилось нашим насмешникам одно
недоразумение, ставшее настолько распространенным,
что я не могу обойти его молчанием. Толпа ведь полагала,
что фихтевское Я есть Я Иоганна-Готлиба Фихте и что
это индивидуальное Я отрицает все прочие существования.
«Какое бесстыдство! — восклицали добрые люди. — Этот
человек не верит, что мы существуем, мы, которые гораздо
толще его и в качестве бургомистров и судейских дело¬
производителей даже приходимся ему начальством». Дамы
спрашивали: «Верит ли он хотя бы в существование своей
жены? Нет? И это спокойно терпит мадам Фихте?»
1 «Ключ к Фихте» (лат.).
110
Но фихтевское Я совсем не есть индивидуальное Я,
а возвысившееся до сознания всеобщее, мировое Я. Фих¬
тевское мышление не есть мышление какого-то индивида,
какого-то определенного человека, носящего имя Иоганн-
Готлиб Фихте; это, напротив, всеобщее мышление, прояв¬
ляющееся в отдельной личности. Как говорят: «темнеет»,
«рассветает» и т. д., так и Фихте должен бы говорить
не «я мыслю», но «мыслится» и «всеобщее мировое мышле¬
ние мыслит во мне».
Сравнивая французскую революцию с немецкой фило¬
софией, я как-то, скорее в шутку, чем всерьез, сравнил
Фихте с Наполеоном. Но между ними в самом деле есть
черты значительного сходства. После разгрома, учинен¬
ного террором кантианцев, является Фихте, как появился
Наполеон, после того как конвент, также при помощи
чисто-разумной критики, разрушил все прошлое. Наполеон
и Фихте представляют великое, неумолимое Я, у которого
мысль и дело едины, и исполинские сооружения, создать
которые сумели они оба, свидетельствуют об исполинской
воле. Но в результате безграничности этой воли тут же
должны вновь рухнуть эти сооружения, и «Наукоучение»,
так же как наполеоновская империя, распадается и исче¬
зает так же быстро, как возникло.
Империя принадлежит теперь только истории, но дви¬
жение, вызванное в мире императором, все еще не улеглось,
и этим движением продолжает жить наша современность.
То же и с философией Фихте. Она исчезла совершенно,
но умы еще взволнованы мыслями, прозвучавшими бла¬
годаря Фихте, и невозможно исчислить размеры влияния
его слова. Пусть весь трансцендентальный идеализм
был заблуждением, — все же сочинения Фихте были
проникнуты гордой независимостью, любовью к свободе,
мужественным достоинством, оказывавшим благодетель¬
ное влияние особенно на молодежь. Фихтевское Я совер¬
шенно согласовалось с его непреклонным, упорным, желез¬
ным характером. Учение о таком всемогущем Я только
и могло, вероятно, возникнуть из такого характера, и
такой характер, в свою очередь, найдя основу в таком
учении, должен был стать еще более непреклонным, еще
более упорным, еще более железным.
Каким страшилищем должен был быть этот человек
Для всех лишенных убеждений скептиков, для легко мыс лен-
121
пых эклектиков и для умеренных всех цветов! Вся его
жизнь была неустанной борьбой. История его молодости
есть вереница злоключений, как почти у всех наших вы¬
дающихся людей. Нищета сидит у их колыбели и выращи¬
вает их, и эта тощая кормилица остается верной спутни¬
цей их жизни.
Нет ничего трогательнее усилий Фихте с его гордой
волей добиться положения в жизни домашним учитель¬
ством. Но даже и этого жалкого заработка не может он
найти на родине и вынужден перебраться в Варшаву.
А там все та же история. Домашний учитель но по вкусу
милостивой барыне, а то и немилостивой горничной. Его
поклоны недостаточно изящны, они недостаточно фран¬
цузские, и его не считают достойным руководить воспита¬
нием маленького польского дворянчика. Иоганна-Готлиба
Фихте рассчитывают, как лакея; едва получив от своих
недовольных господ жалкие гроши иа обратный путь, он
покидает Варшаву и с юношеским энтузиазмом едет
в Кенигсберг знакомиться с Кантом. Встреча этих двух
людей интересна во всех отношениях, и я, как мне ду¬
мается, лучше всего изображу характер и образ жизни
каждого, приведя здесь отрывок из дневника Фихте,
воспроизведенный в его биографии, недавно изданной его
сыном:
«24 июня я выехал в Кенигсберг с одним тамошним
извозчиком и без особых приключений прибыл туда 1 ию¬
ля. 4-го был у Канта, который, однако, принял меня без
всякого радушия; я был на его лекции, и здесь мои ожи¬
дания также не оправдались. Его изложение вяло. Тем
временем я вел этот дневник.
Давно уже хотелось мне по-настоящему свидеться
с Кантом, но я но знал, как. Наконец я придумал написать
«Критику всякого откровения» и передать ему вместо ре¬
комендации. Я приступил около 13-го и с тех пор работал
без перерыва. 18 августа я, наконец, переслал Канту
готовую работу и 25-го отправился выслушать его сужде¬
ние о ней. Он принял меня чрезвычайно ласково и, по-
видимому, был очень доволен моим исследованием. До
более подробного философского разговора не дошло;
в ответ иа мои философские сомнения он указал мне на
свою «Критику чистого разума» и на придворного пропо-
ведпика Шульца, которого я не замедлю посетить. 26-го
112
я обедал у Канта в обществе профессора Зоммера и встре¬
тил в лице Канта очегь приятного и умного собеседника;
лишь теперь я обнаружил в нем черты, свойственные
человеку гысокого духа, которьй нашел отражение в его
сочинениях.
27-го я закончил stot дневник, после того как сделал
извлечения из лекций Канта об антропологии, данных мне
зга время г-ном фон III. Вместе с тем решаю впредь каждый
вечер без перерыва перед сном продолжать дневник и
I носить в пего все интересное, что мне встретится, особенно
же характерные черты и гамечания.
28-го вечером. Еще вчера я начал пересматривать мою
«Критику» и напал па хорошие, глубокие мысли, к сожа¬
лению, однако, убедившие меня, что первая редакция
по сути своей поверхностна. Сегодня я собирался продол¬
жать мои по1зые изыскания, ио был так увлечен игрой
гоображення, что целый день ничего не мог делать. В моем
нынешнем положении в этом, увы, нет ничего удивитель¬
ного! Я рассчитал, что с сегодняшнего дня я могу просу¬
ществовать здесь еще всего две недели. Конечно, мне уже
приходилось бывать в таком стесненном положении, но
то было иа родине, а с годами и с возрастающим чувством
собственного достоинства оно становится все тягостнее.
Не принял никакого решения, пе могу принять. Пастору
Боровскому, к которому предложил мне пойти Кант, я не
откроюсь; если уж придется открыться, то только самому
Канту.
29-го я отправился к Боровскому и нашел, что это очень
добрый, порядочный человек. Оп предложил мне конди¬
цию, но пока не наверняка и совсем не особенно меня
радующую; при этом своей искренностью он заставил меня
признаться, что я вынужден искать заработка. Он посо-
ьетовал мне обратиться к профессору В. Работать я не
мог. Иа следующий день я действительно пошел к В.,
а потом к придворному проповеднику Шульцу. На содей¬
ствие первого надежд мало; все же он говорил об учитель¬
ских местах в частных домах в Курляндии, ио только край¬
няя нужда заставит меня принять какое-либо из них! Затем
отправился к придворному проповеднику, где был при¬
нят сперва его женой. Потом появился и он, но все еще
погруженный в свои математические чертежи; когда же
расслышал получше мою фамилию, оп благодаря реко-
5 Г. Геш1еэ 1, 6
113
мендации Канта стал приветливее. У него угловатое
прусское лицо, но сама честность и доброта светятся в его
чертах. Затем я познакомился здесь еще с г-ном Бройн-
лихом и с его воспитанником, графом Денхоф, с г-ном
Бютнером, племянником проповедника, и молодым ученым
из Нюрнберга г-ном Эргардом; это умница с ясной голо¬
вой, но ему недостает манер и знания света.
1 сентября я принял твердое решение, которым хотел
поделиться с Кантом; учительского места, как ни мало оно
соблазняло бы меня, все нет, а неопределенность моего
положения мешает мне здесь работать с ясной головой
и иметь полезное общение с моими друзьями: итак, назад,
на родину! Маленькая ссуда, необходимая для этого, будет
мне, быть может, дана при посредничестве Канта. Но когда
я собрался пойти к нему с моим предложением, мужество
покинуло меня. Я решился написать. ЗатехМ я был при¬
глашен к придворному проповеднику, где провел очень
приятный вечер. 2-го я окончил письмо к Канту и отослал
его».
Как ни замечательно это письмо, у меня не хватает
решимости привести его здесь во французском переводе.
Мне кажется, краска выступает на моих щеках, как будто
приходится рассказывать при чужих людях о самых со¬
кровенных неприятностях в родной семье. Вопреки моему
тяготению к французской светскости, вопреки моему
философскому космополитизму в груди моей все еще сидит
старая Германия со всеми своими обывательскими чувст¬
вами. Одним словом, я не могу привести это письмо я
сообщаю здесь только: Иммануил Кант был так беден, что,
несмотря на душераздирающе-трогательный язык этого
письма, не мог ссудить денег Иоганну-Готлибу Фихте.
Но последний нимало не рассердился, как мы можем за¬
ключить из записи в дневнике, которую я приведу:
«3-го сентября я был приглашен к Канту. Он встретил
меня со своей обычной откровенностью, но сказал, что еще
не мог принять решения по поводу моей просьбы; раньше
двух недель он ничего сделать не может. Какая милая
прямота! Вообще он выражал по поводу моих предполо¬
жений сомнения, показавшие, что он недостаточно зна¬
ком с нашим положением в Саксонии... За все эти дни
я ничего не сделал; но я вновь примусь за работу, предо¬
ставив все остальное господу богу. 6-го я был приглашен
114
и Канту, который предложил мне продать при посредстве
пастора Боровского мою рукопись «Критика всякого от¬
кровения» книгопродавцу Гартунгу. «Она хорошо напи¬
сана», — сказал он, когда я заговорил о переработке.
Правда ли это? Но ведь это говорит Кант! Между прочим
он отклонил первую мою просьбу. 10-го я обедал у Канта.
Ни слова о нашем деле; был также магистр Гензихен;
шли лишь общие, частью очень интересные разговоры;
и Кант в обращении со мною не изменился... Сегодня,
13-го, я хотел работать и ничего не делаю. Тоска одоле¬
вает меня. Чем это кончится? Что будет со мной через
неделю? Тут кончатся все мои деньги!»
После множества скитаний, после долгого пребывания
в Швейцарии Фихте находит, наконец, место в Иене, и
здесь начинается блестящий период его жизни. Иена и
Веймар — два саксонских городка, разделенные очень
небольшим расстоянием, в несколько часов ходьбы, были
тогда средоточием немецкой духовной жизни. В Веймаре
был двор и поэзия, в Иеие — университет и философия.
Там видели мы величайших поэтов, здесь — величайших
ученых Германии. В 1794 году Фихте начал свои лекции
в Иеие. Год этот знаменателен и объясняет как дух его
тогдашних сочинений, так и невзгоды, жертвой которых
он сделался с этих пор и которых, спустя четыре года, не
выдержал. В 1798 году Фихте было предъявлено обви¬
нение в атеизме, навлекшее на него жестокие преследова¬
ния и приведшее к его отъезду из Иены. Это важнейшее
в жизни Фихте событие имеет также и общественное
значение, и мы не можем обойти его молчанием. Здесь
также самое подходящее место для изложения воззрений
Фихте на природу бога.
В «Философском журнале», который выходил в это вре¬
мя под редакцией Фихте, он напечатал статью под загла¬
вием «Развитие понятия религии», присланную ему неким
Форбергом, учителем в Зальфельде. К этой статье он
присоединил еще объяснительную заметку под заглавием:
«Об основании нашей веры в божественное управление
миром».
Обе статьи были конфискованы правительством кур¬
фюрста саксонского под тем предлогом, будто в них содер¬
жится атеизм, и в то же время из Дрездена была отправ¬
лена веймарскому двору жалоба с предложением осиова-
5*
115
тельно наказать профессора Фихте. Веймарский двор
никак не реагировал на это предложение; но так как Фих¬
те в данном случае сделал крупнейшие промахи, так как
он, в обход своего официального начальства, написал
«Апелляцию к публике», то раздраженное веймарское
правительство вынуждено было под внешним давлением
охладить несдержанного в выражениях профессора
мягким выговором. Фихте, одиако, считая себя правым,
не хотел спокойно снести этот выговор и покинул Иену.
Судя по его тогдашним письмам, особенно задело его
поведение двух человек, служебное положение которых
придавало исключительный вес их голосу в его деле, и это
были его преподобие старший советник консистории фон
Гердер и его высокопревосходительство тайный советник
фон Гете. Оба, однако, в достаточной степени заслуживают
извинения. Трогательное впечатление производят в по¬
смертных письмах Гердера указания на то, как приходи¬
лось бедному Гердеру возиться с кандидатами богослов¬
ских наук, которые, прослушав университетский курс
в Иене, являлись к нему в Веймар экзаменоваться па зва¬
ние протестантского проповедника. О Христе, сыне
божьем, он даже не решался их спрашивать; он был дово¬
лен уже признанием существования отца. Что касается
Гете, то он рассказывает в своих воспоминаниях о вышеупо¬
мянутом событии следующим образом:
«После отъезда Рейнгольда из Иены, что, по справед¬
ливости, считалось великой утратой для университета,
иа его место, — это было смело и даже дерзко, — пригла¬
сили Фихте, который в своих сочинениях высказывался
о важнейших вопросах морали и государственной жизни
с глубиной, но, пожалуй, не совсем подходящим образом.
Это был один из самых способных людей, когда-либо суще¬
ствовавших, и ничего нельзя сказать против его взглядов,
рассматривая их с высшей точки зрения; по как мог бы
он идти в ногу с миром, который он считал своим лично
созданным достоянием?
Так как ему не предоставили избранных им часов для
публичных лекций по будням, то он перенес их на воскрес¬
ные дни, ио это встретило препятствия. Едва были, не без
неудобства для высшей администрации, сглажены и ула¬
жены мелкие и крупные неприятности, проистекшие
отсюда, как высказанные им о боге и божественных пред¬
116
метах суждения, которые, конечно, лучше держать при
себе, в глубоком молчании, навлекли на нас затрудни¬
тельные требования извне.
Фихте позволил себе высказаться в своем философском
журнале о боге и божественных предметах языком, кото¬
рый, казалось, противоречил выражениям, общепринятым
для суждений о таких тайнах. От него потребовали объяс¬
нений; его защита не поправила дела, так как он проявил
страстность, пе подозревая, как здесь настроены в его
пользу и как умеют в его пользу истолковывать его мысли,
его слова; это, конечно, нельзя было ему объяснить прямо,
как нельзя было обт^яснить, каким образом старались
помочь ему выпутаться без лишнего шума. Обсуждения
и возражения, предположения и утверждения, подкреп¬
ления и решения сменяли друг друга во множестве смут¬
ных разговоров в университете; говорилось, что Фихте
должен готовиться к министерскому порицанию, к чему-то
вроде публичного изгнания, — не меньше. Возмущенный
этим, он счел себя вправе обратиться в министерство
с резким посланием, в котором, исходя из неизбежности
этой меры, гневно и вызывающе заявил, что он никогда
не потерпит ничего подобного, что оп предпочтет немед¬
ленно покинуть университет и в этом случае пе будет
одиноким, так как многие согласные с ним выдающиеся
профессора также предполагают уйти вместе с ним.
Это сразу ослабило и даже парализовало общую к нему
благожелательность: здесь не было выхода, не оставалось
места для посредничества, и самое невинное, что можно
было сделать, — это без проволочек уволить его. Лишь
теперь, когда все было непоправимо, он узнал о направле¬
нии, которое предполагалось дать делу, и ему пришлось
раскаиваться в своем поспешном шаге, так же как и мы
о нем сожалели».
Разве ие встает здесь перед нами во весь рост все сгла¬
живающий, все затушевывающий министр Гете? По
существу он укоряет Фихте за то, что последний откро¬
венно высказывал свои мысли, и высказывал их не в пред¬
установленных, маскирующих выражениях. Он порицает
не мысль, а слово. Что деизм со времен Канта ниспроверг¬
нут в мире немецких мыслителей, было, как я уже сказал,
всем известной тайной, о которой, однако, не полагалось
кричать на площади. Гете был так же мало деистом, как
117
и Фихте, ибо он был паитеистом. Ио именно с высоты
пантеизма Гете мог своим зорким оком лучше всего раз¬
глядеть несостоятельность философии Фихте, и его сни¬
сходительные уста не могли удержаться от улыбки. Иуде¬
ям, каковыми в конечном счете являются все деисты, Фихте
должен был представляться страшилищем; в глазах вели¬
кого язычника он был только нелепостью. «Великий языч¬
ник» — таково прозвище, данное Гете в Германии. Но это
прозвище подходит не вполне. Язычество Гете удивительно
модернизовано. Его могучая языческая натура проявляется
в отчетливом, зорком схватывании всех внешних черт,
всех красок и образов; однако христианство в то же время
одарило его более глубоким пониманием; несмотря иа его
упорное сопротивление, христианство посвятило его в тай¬
ны мира духов, он причастился крови Христовой и оттого
стал понимать сокровеннейшие голоса природы, подобно
Зигфриду, герою «Нибелунгов», вдруг понявшему язык
птиц, после того как капля крови убитого дракона омо¬
чила его губы. Замечательно, как у Гете эта языческая его
природа была проникнута нашей современнейшей сенти¬
ментальностью, как в античном мраморе бился пульс
нового времени и как он сочувствовал страданиям юного
Вертера с такой же силой, как и восторгам древнегрече¬
ского бога. Таким образом, пантеизм Гете весьма отли¬
чается от языческого. Короче говоря: Гете был Спинозой
поэзии. Все его стихотворения проникнуты тем же духом,
который овевает нас в сочинениях Спинозы. Не подле¬
жит сомнению, что Гете был безусловным поклонником
учения Спинозы. Во всяком случае он занимался
им в продолжение всей жизни; он откровенно при¬
знается в этом как в начале своих воспоминаний, так
и в последнем, недавно вышедшем их томе. Не помню,
где я прочитал, что Гердер, возмущенный этими
постоянными занятиями Спинозой, как-то воскликнул:
«Хоть бы раз Гете взял в руки какую-нибудь другую
латинскую книгу, кроме Спинозы!» Но это относится не
к одному только Гете; множество его друзей, сделавшихся
в дальнейшем более или менее известными поэтами, дер¬
жались в ранние годы пантеизма, который практически
процветал в немецкой поэзии, прежде чем воцарился
у нас в качестве философской теории. Именно во времена
Фихте, когда идеализм поднялся до своего высочайшего
118
расцвета в области философии, он был насильственно
разрушен в поэзии, и здесь разразилась та знаменитая
революция в искусстве, которая не закончена еще и по сеи
день и которая начинается с борьбы романтиков против
староклассического режима, с шлегелевского мятежа.
В самом деле, наши первые романтики выступали,
подчиняясь пантеистическому инстинкту, которого сами
не понимали. Чувство, которое они принимали за тяготе¬
ние к материнскому лону католической церкви, имело
более глубокое происхождение, чем казалось им самим,
и все их почтение и пристрастие к сказаниям средневе¬
ковья, к его народным верованиям, к чертовщине, чаро¬
действу, колдовству, — все это было внезапно в них
возникшее, но не понятое ими влечение назад, к пантеизму
древних германцев, и в гнусно оклеветанном, злостно изу¬
родованном облике они любили, собственно, лишь дохри¬
стианскую религию своих отцов. Здесь я должен напомнить
книгу первую, где я показал, как христианство вобрало
в себя элементы древнегерманской религии, как последние,
будучи отвратительно изуродованы, сохранились в народ¬
ных верованиях средних веков, причем старое поклоне¬
ние природе рассматривалось сплошь как злое чародей¬
ство, старые боги — как мерзостные бесы, а их целомуд¬
ренные жрицы — как распутные ведьмы. С этой точки
зрения можно смотреть на заблуждения наших первых
романтиков несколько мягче, чем принято. Они стреми¬
лись воскресить католическое существо средневековья,
так как чувствовали, что там сохранилось еще множе¬
ство святынь их далеких праотцев и великолепие их перво¬
бытной национальности; эти исковерканные и опозорен¬
ные реликвии влекли к себе их души с такой волшебной
силой ; и они ненавидели протестантизм и либерализм, стре¬
мившиеся уничтожить все это вместе со всем католиче¬
ским прошлым.
Но я еще вернусь к этому. Здесь важно только отмстить,
что пантеизм уже ко времени Фихте пропик в немецкое
искусство, что даже католические романтики бессозна¬
тельно следовали этому направлению и что оно нашло
отчетливейшее выражение у Гете, и именно уже в «Вер-
терс», где ои томится по любовному отождествлению с при¬
родой. В «Фаусте» ои хочет установить связь с приро¬
дой непосредственно дерзновенно-мистическим путем: он
НО
заклинает тайные силы земли при помощи колдовских заго¬
воров «Адского ключа». Но чище и прелестнее проявляется
этот пантеизм Гете в его маленьких песнях. Учение Спи¬
нозы вылетело из математической куколки и порхает
вокруг нас в виде гетевской песни. Отсюда ярость наших
ортодоксов и пиетистов против песен Гете. Своими благо¬
честивыми медвежьими лапами они неуклюже ловят этого
мотылька, который неизменно ускользает от них. Ои так
нежно воздушен, так благоуханно-легкокрыл. Вы, фран¬
цузы, пе можете иметь об этом никакого представления,
если вы не знаете нашего языка. Эти песни Гете полны
дразнящего изящества, совершенно невыразимого. Гармо¬
нические стихи обвивают твое сердце, как нежная возлюб¬
ленная; слово обнимает тебя, в то время как мысль тебя
целует.
Таким образом, в поведении Гете по отношению к Фих¬
те мы решительно не усматриваем тех гадких мотивов,
которые у некоторых современников получили еще более
гадкое название. Они не поняли различия в натуре этих
двух человек. Наиболее снисходительные ложно истол¬
ковали пассивность Гете, когда впоследствии Фихте под¬
вергся большим неприятностям и преследованиям. Они
пе приняли во внимание положения Гете. Этот великан
был министром в карликовом немецком государстве. Оп
никогда не мог двигаться свободно. О сидящем на тропе
Юпитере Фидия в Олимпии говорили, что если бы оп когда-
нибудь внезапно встал, оп проломил бы головой крышу
храма. Таким же точно было положение Гете в Веймаре:
если бы оп когда-нибудь внезапно восстал из своего непо¬
движного покоя и выпрямился, то он пробил бы государст¬
венную крышу или, что еще вероятнее, разбил бы себе
об нее голову. И этому риску он должен был подвергнуть
себя ради учения не только ложного, но и смехотворного?
Немецкий Юпитер продолжал сидеть спокойно, спокойно
приемля поклонение и воскурения.
Я слишком далеко отошел бы от моей темы, если бы
занялся еще более основательным оправданием поведения
Гете в деле об обвинении Фихте с точки зрения тогдашних
интересов искусства. В пользу Фихте говорит лишь то,
что обвинение в конце концов было только предлогом,
за которым скрывалась политическая травля. Ибо в ате¬
изме можно обвинять богослова, так как он обязался
120
преподавать определенные доктрины. Философ же такого
обязательства на себя не брал, не может взять, и мысль
его свободна, как птица в воздухе. Быть может, я посту¬
паю неправильно, когда, щадя отчасти своп собственные,
отчасти чужие чувства, привожу здесь не все, чем обосно¬
вывалось и оправдывалось то обвинение. Укажу здесь
на одно лишь из щекотливых мест статьи, поставленной
философу в вину: «Живой и действенный нравственный
порядок и есть сам бог; в ином боге мы не нуждаемся и
не можем понять никакого иного. Нет никакого разумного
основания для выхода из этого нравственного миропорядка
и при посредстве умозаключения от обоснованного к осно¬
ванию принимать еще особое существо как причину этого
основания; здравый смысл, несомненно, такого заклю¬
чения не делает и не знает такого особого существа;
его делает только не понимающая себя самое фило¬
софия...»
Как свойственно упрямым людям, в своей «Апелляции
к публике» и в своем судебном выступлении Фихте выска¬
зался еще грубее и резче, употребив выражения, оскорб¬
ляющие самые глубокие наши чувства. Мы, верующие
в истинного бога, раскрывающегося нашим чувствам
в беспредельном протяжении и нашему уму в беспредель¬
ной мысли, мы, почитающие видимого бога в природе
и слышащие его незримый голос в нашей собственной
душе, — мы неприятно задеты резкими выражениями,
в которых Фихте объявляет нашего бога сплошной химе¬
рой и даже иронизирует по этому поводу. В самом деле,
неизвестно, что это такое — ирония или просто безумие,
когда Фихте настолько отрешает господа бога от всяких
воспринимаемых чувствами атрибутов, что даже отрицает
его существование на том основании, что существование
есть понятие чувственное и лишь в качестве чувственного
возможно! Наукоучение, говорит он, не знает никакого
иного существования, кроме чувственного, и, так как бытие
может быть приписано только предметам чувственного
опыта, то это понятие неприменимо к богу. Поэтому фих-
тевский бог не имеет бытия, оп не существует и проявляется
лишь в виде чистого действия, как порядок событий, как
orclo ordinans,1 как мировой закон.
1 Упорядочивающий порядок (лат.).
121
Таким образом, идеализм так долго фильтровал боже¬
ство через всевозможные отвлеченности, что в конце кон¬
цов от него ничего не осталось. Теперь, как у вас вместо
короля, так у нас вместо бога воцарился закон.
Но что может быть нелепее loi athée — закона, не имею¬
щего бога, пли dieu-loi — бога, который есть только закон?
Фихтевский идеализм принадлежит к величайшим
заблуждениям, когда-либо измышленным умом человече¬
ским. Он безбожнее и предосудительнее грубейшего мате¬
риализма. То, что здесь, во Франции, называют атеизмом
материалистов, есть, как я легко мог бы доказать, нечто
душу возвышающее, нечто благочестивое в сравнении
с конечными выводами фихтевского трансцендентального
идеализма. Но я знаю одно: и тот и другой мне противны.
Оба учения к тому же антипоэтичны. Французские мате¬
риалисты писали столь же скверные стихи, как и немец¬
кие трансцендентальные идеалисты. Но учение Фихте
не было ни в коей мере политически опасным, и еще менее
заслуживало оно преследования как политически опасное.
Чтобы под влиянием этой ереси принять дурное направ¬
ление, требовалась острота спекулятивного мышления,
какая встречается лишь у немногих людей. Толпе с ее
тысячеголовой тупостью это лжеучение было совершенно
недоступно. Взгляды Фихте на бога следовало, стало быть,
опровергать путем рациональным, а не полицейским.
Подвергнуться обвинению в философском атеизме было
даже в Германии чем-то столь необычайным, что Фихте
сначала в самом деле не понимал, чего от него хотят.
Совершенно правильно сказал он, что вопрос о том, атеи-
стичиа ли определенная философия или нет, звучит для
философа так же странно, как, скажем, для математика
вопрос: зелен треугольник пли красен?
Итак, обвинение имело свои скрытые причины, и Фихте
вскоре их понял. Так как он был честнейшим человеком
в мире, то мы можем с полным доверием отнестись к его
письму Рейнгольду, где он вымазывается об этих скры¬
тых причинах, и так как это письмо от 22 мая 1799 года
изображает всю тогдашнюю эпоху п может наглядно пред¬
ставить все бедствия, обрушившиеся на автора, мы при¬
ведем отрывок из него:
«Изнеможение и отвращение привели меня к известному
уже тебе решению совершенно исчезнуть па несколько
122
лет. Согласно моему тогдашнему взгляду на дело, я был
даже убежден, что такое решение есть дело долга, так как
при теперешнем брожении я все равно не был бы выслушан
и только усилил бы брожение, а через два-три года, когда
первые страсти улеглись бы, я мог бы заговорить с тем
большей настойчивостью. Теперь я думаю иначе. Я не
должен молчать теперь; если я промолчу, то мне, вероятно,
никогда больше не придется сказать свое слово. Уже после
соглашения между Россией и Австрией стало для меня
весьма вероятным, а после последних событий, особенно
после отвратительного убийства послов (которое вызывает
здесь восторги и о котором П1. и Г. восклицают: «Так и
надо, перебить надо этих собак!»), стало совершенно несо¬
мненным, что деспотизм будет теперь защищаться с энергией
отчаяния, что в лице Павла и Питта он будет последова¬
телен, что в основе его плана лежит полное искоренение
свободы мысли и что немцы не затруднят ему достижения
этой цели.
Не верь, например, будто веймарский двор был убе¬
жден, что от моего присутствия уменьшится количество
студентов в университете; он слишком хорошо знает, что
дело обстоит как раз наоборот. Согласно общему плану,
с особенной ревностью воспринятому курфюршеством
саксонским, он должен был удалить меня. Буршер в Лейп¬
циге, посвященный в эту тайну, уже в конце прошлого года
бился о крупный заклад, что к концу этого года я буду
изгнанником. Фойгта давно настроил против меня Бургс-
дорф. Дрезденский департамент наук объявил, что никто
из тех, кто занимался новой философией, не получит
профессуры, а того, кто ее уже получил, не следует про¬
двигать вперед. В лейпцигской свободной школе признано
опасным даже розенмюллеровское просвещение; недавно
там вновь введен Лютеров катехизис, и преподаватели
снова были конфирмованы по символическим книгам. Это
пойдет дальше и будет распространяться... В итоге ист
ничего несомненнее несомненного, а именно: если французы
не добьются сильнейшего перевеса и не произведут в Гер¬
мании, или хотя бы в значительной ее части, перемен, то
через несколько лет в Германии ни один человек, о кото¬
ром известно, что он хоть раз в жизни разрешил себе
свободную мысль, не сможет найти убежище. Итак,
для меня несомненнее несомненного, что, даже обретя
123
какой-либо приют, я через год, много — через два, буду
опять изгнан оттуда; между тем опасно быть изгнанным
лз многих мест; этому учит исторический пример Руссо.
Предположим, я умолк и не пишу более ни строчки,
разве меня оставят па этом условии в покое? Не верю
я этому, и если бы я даже мог на это рассчитывать со сто¬
роны дворов, то разве духовенство не науськает чернь
забросать меня камнями, куда бы я пи подался, чтобы
потом просить правительство удалить меня, как человека,
сеющего смуту? Но в таком случае разве могу я молчать?
Нет, право же не могу, ибо я имею основание верить, что
если можно еще что-либо спасти из немецкого духа, то эю
может быть спасено моим словом, тогда как из-за моего
молчания философия погибнет окончательно и слишком
рано. От тех, от кого я не ожидаю, что они дадут мне жить,
даже в случае моего молчания, я еще меньше могу ожидать,
что они позволят мне говорить.
Но я сумею убедить их в безвредности моего учения.
Милый Рейнгольд, как можешь ты так хороню думать об
этих людях? Чем понятнее я буду, чем невиннее окажусь,
тем больше будут они меня чернить и тем больше будет
Бообще моя истинная вина. Я никогда не верил, что они
преследуют мой предполагаемый атеизм; они преследуют
в моем лице свободного мыслителя, который начинает
становиться понятным (счастьем Канта было то, что он
писал темно), и ославленного демократа; как призрак,
пугает их та самостоятельность, которую, как они смутно
догадываются, пробуждает моя философия».
Замечу еще раз, что письмо это написано не вчера,
а помечено 22 мая 1799 года. Политическое положение
того времени имеет весьма прискорбное сходство с совре¬
менным состоянием Германии, с той только разницей,
что в те годы свободомыслие больше процветало среди
ученых, поэтов и вообще литераторов, теперь же его го¬
раздо меньше в их среде, но зато гораздо больше в широкой
активной массе, среди ремесленников и рабочих. Между
тем как во время первой революции простой народ оста¬
вался под гнетом немецкой свинцовой спячки и какая-то
скотская неподвижность царила во всей Германии, наш
литературный мир был охвачен самым исступленным бро¬
жением и бурлением. Всякий, даже самый одинокий писа¬
тель, проживавший в каком-нибудь отдаленном немецком
124
захолустье, принимал участие в этом движении; как бы
бессознательным чутьем, ничего точно не зная о политиче¬
ских событиях, он ощущал их социальное значение и выра¬
жал его в своих сочинениях. Этот феномен напоминает
мне большие морские раковины, которые мы ставим иногда
в виде украшения па наших каминах и которые, в каком
бы отдалении от моря они ни находились, вдруг начинают
шуметь, когда приходит время прилива и волны бьют о бе¬
рег. Когда здесь, в Париже, в великом человеческом оке¬
ане, грянула революция, когда здесь забурлило и забу¬
шевало, то зашумели и взволновались по ту сторону
Рейна немецкие сердца... Но они были так изолированы,
они стояли среди бесчувственного фарфора, меж чайных
чашек, кофейных приборов и китайских болванчиков,
механически качавших головами, точно они знали, о чем
идет речь. Ах, тяжело пришлось поплатиться нашим бед¬
ным предшественникам в Германии за это сочувствие
революции. Грубейшие и подлейшие гнусности проделы¬
вали над ними юнкеры и попы. Некоторые бежали в Париж
и здесь, в нищете и невзгодах, бесследно погибли. Па днях
я видел одного слепого земляка, поселившегося с того вре¬
мени в Париже; я встретил его в Пале-Рояле, где он грелся
немножко иа солнышке. Нельзя было без боли смотреть,
как он бледен и худ и как он ощупыо отыскивал вдоль
стеиок дорогу. Мне сказали, что это старый датский поэт
Гейберг. Пришлось мне недавно видеть также чердак, где
^мер гражданин Георг Форстер. Но оставшихся в Герма¬
нии поклонников свободы ждала еще более страшная
участь, если бы Наполеон и его французы вскоре не побе¬
дили нас. Наполеону, конечно, и не снилось, что он сам
явился спасителем идеологии. Без него наши философы
вместе с их идеями были бы уничтожены с помощью висе¬
лицы и плахи. Одиако немецкие свободолюбцы, слишком
республикански настроенные, чтобы преклоняться перед
Наполеоном , и слишком благородные, чтобы примкнуть
к иноземным господам, погрузились с тех пор в глубокое
молчание. Тоскливо бродили они с разбитыми сердцами,
с сомкнутыми устами. Когда Наполеон пал, они улыбну¬
лись, по скорбно, и промолчали; они остались почти со¬
вершенно непричастными патриотическому энтузиазму,
громогласно ликовавшему в Германии с высочайшего
соизволения. Они знали то, что знали, и молчали. Так
JXS
как эти республиканцы ведут очень целомудренный,
умеренный образ жизни, то обыкновенно они доживают
до глубокой старости, и когда разразилась Июльская
революция, многие из них были еще живы, и немало были
мы удивлены, когда эти старые чудаки, которых мы при¬
выкли видеть сгорбленными, всегда бродившими кругом
в молчании чуть ли не идиотическом, вдруг подняли голову
и приветливо заулыбались нам, молодежи, и стали пожи¬
мать нам руки и рассказывать забавные истории. Я слы¬
шал даже, как один из них запел; он пропел нам в кафе
«Марсельезу», и тут мы запомнили мелодию и прекрасные
слова и вскоре стали петь ее лучше самого старика ; потому
что он иногда посреди лучших строф начинал хохотать
как дурак или плакать как дитя. Всегда хорошо, когда
такие старые люди остаются в живых, чтобы учить моло¬
дежь песням. Мы, молодые, не забудем этих песен, и неко¬
торые из нас когда-нибудь научат им своих внуков, пока
еще не родившихся. Впрочем, многие из нас за это время
истлеют либо дома в тюрьме, либо на каком-нибудь чер¬
даке на чужбине.
Вернемся, однако, к философии! Я показал выше, как
философия Фихте, построенная из тончайших абстракций,
проявила, однако, железную стойкость в выводах, вос¬
ходивших до дерзновеннейших вершин. Но одним ранним
утром мы замечаем в ней великую перемену. Она начи¬
нает ворковать и хныкать, становиться мягкой и скромной.
Идеалистический титан, вскарабкавшийся по лестнице
мыслей на небо и смелой рукой нащупавший пустоту его
покоев, превратился в нечто согбенно-христианское, бес¬
конечно воздыхающее о любви. Таков второй период
у Фихте, мало нас занимающий. Вся его система подверг¬
лась самым странным видоизменениям. В это время он
написал книгу, недавно переведенную у вас, — «Назначение
человека». К тому же времени относится другая, сходная
с первой, — книга «Наставление к блаженной жизни».
Само собою разумеется, Фихте, человек упрямый,
ни за что не хотел признаться в громадной перемене, про¬
исшедшей с ним. Он утверждал, что его философия все
та же, только выражения изменены, улучшены; его, мол,
никогда не понимали. Он утверждал ташке, что натурфи¬
лософия, получившая в это время распространение в Гер¬
мании и вытеснившая идеализм, по существу есть целиком
126
его собственная система и что его ученик г-н Иозеф Шел¬
линг, который отрекся от него и ввел эту философию,
только переделал термины и лишь расширил его старое
учение всякими малоотрадными добавлениями.
Здесь мы приходим к новому фазису в развитии немец¬
кой мысли. Мы назвали имя Йозефа Шеллинга и натурфи¬
лософию; так как первый здесь почти совершенно неизве¬
стен и так как выражение «натурфилософия» тоже не обще¬
понятно, то мне приходится разъяснить значение того и
другого. Мы не можем, конечно, сделать это исчерпываю¬
щим образом на этих страницах; впоследствии мы посвя¬
тим этой задаче особую книгу. Мы предполагаем лишь
предупредить здесь некоторые существенные ошибки и
немного остановиться на общественном значении указан¬
ной философии.
Прежде всего надо напомнить, что Фихте не совсем
был неправ, когда настаивал на том, что учение г-на Йозе¬
фа Шеллинга есть по существу его учение, только иначе
формулированное и расширенное. Совершенно так же,
как г-н Иозеф Шеллинг, учил и Фихте: что есть одно лишь
существо, Я, абсолют; он утверждал тождество идеального
и реального. В своем «Наукоучении» Фихте, как я пока¬
зал, стремился вывести посредством мыслительной кон¬
струкции реальное из идеального. Г-н же Иозеф Шеллинг
поставил дело наоборот: он стремился вывести идеальное
из реального. Чтобы выразиться еще яснее, — исходя
из положения, что мысль и природа одно и то же, — Фихте
путем умственной операции приходит к миру явлений,
из мысли строит природу, из идеального — реальное;
напротив, перед г-ном Шеллингом, когда он исходит из
того же положения, мир явлений предстает в виде чистых
идей, природа становится для него мыслью, реальное —
идеальным. Таким образом, оба направления, фихтеанское
и шеллингианское, в известной степени восполняют друг
друга. Ибо, согласно вышеуказанному исходному поло¬
жению, философия могла бы распасться иа два раздела:
в одном было бы показано, как природа из идеи вопло¬
щается в явлении; в другом — как природа без остатка
растворяется в идеях. Поэтому философия могла бы раз¬
делиться на трансцендентальный идеализм и натурфило¬
софию. И в самом деле, г-н Шеллинг признал оба направ¬
ления и последнее развивал в своих «Идеях к философии
127
природы», а первое в «Системе трансцендентального
идеализма».
Эти сочинения, из коих одно появилось в 1797, а дру¬
гое в 1800 году, я упоминаю лишь потому, что оба взаимно
дополняющих направления выражены уже в их заглавии,
но не потому, чтобы в них содержалась закопченная
система. Нет, таковой не найдется ни в одной из книг
г-на Шеллинга. У него пет, в огличие от Капта и Фихте,
главной киши, которая могла бы рассматриваться как
средоточие его философии. Было бы несправедливо судигь
о г-не Шеллинге по одной какой-либо книге, так же как
нельзя подходить к нему со строго буквальной точки
зрения. Лишь прочитав его книги в хронологическом по-
] ядке и проследив в них постепенное развитие его мысли,
можно уловить основную идею. Мне даже представляйся
необходимым почаще различать, где у него кончается
мысль и где начинается поэзия. Ибо г-н Шеллинг принад¬
лежит к созданиям, более одаренным от природы склон¬
ностью к поэзии, чем способностью к ней; не в силах удов¬
летворить дщерей Парнаса, эти создания бегут в леса
философии и здесь живут в бесплодном браке с абстракт¬
ными гамадриадами. Чувство их поэтично, но их орудие —
слово — слабо; тщетно стремятся они к художественной
форме, в которой могли бы выразить свои мысли и позна¬
ния. Поэзия есть сила и слабость Шеллинга. Ею именно
отличается ои — выгодно и невыгодно — от Фихте. Фихте
только философ, мощь его заключается в диалектике,
и доказательность является сильной его стороной. А у
г-на Шеллинга это как раз слабая сторона: ои живет больше
в непосредственном созерцании, ему неуютно на холодных
вершинах логики, он охотно заглядывает в цветочные
долины символики, п его философская сила сосредоточена
в конструировании. Последнее, однако, есть умственная
способность, столь же часто встречающаяся у посред¬
ственных поэтов, как п у лучших философов.
Из этого явствует, что в той части философии, которая
представляет собой лишь трансцендентальный идеализм,
г-н Шеллинг остался и мог остаться только подражателем
Фихте, но в области философии природы, где ему и при¬
ходилось орудовать среди цветов и звезд, он должен был
пышно расцвести и воссиять. Поэтому не только он, но
и его друзья и единомышленники предпочитали именно
128
этот путь, и проявленное ими при этом бурное рвение было
как бы лишь реакцией стихоплетов па отвлеченность преж¬
ней абстрактной философии духа. Как выпущенные на
свободу школьники, целый день протомившиеся в душных
классах под гнетом вокабул и цифр, вырвались ученики
г-на Шеллинга на лоно природы, в благоуханную, зали¬
тую солнцем реальность, шумно ликуя, кувыркаясь и
неистовствуя вовсю
Выражение «ученики г-на Шеллинга» также не сле¬
дует принимать здесь в обычном смысле. Г-н Шеллинг
сам говорил, что намерен был создать школу лишь по
образцу древних поэтов, школу поэтов, где никто не свя¬
зан определенной доктриной, определенным уставом, но
где всякий повинуется духу и по-своему его проявляет.
С таким же основанием он мог бы сказать, что основывает
школу пророков, где вдохновленные свыше начинают
пророчествовать по собственному иаигию и произволу
и иа любом наречии. Так в самом деле и поступали уче¬
ники, вдохновленные учителем; ограпиченлопшие головы
начали пророчествовать, всякий па своем языке, и про¬
изошло великое столпотворение в философии.
Здесь па примере натурфилософии мы имеем возмолс-
ность наблюдать, как самые возвышенные и прекрасные
вещи могут быть обращены сплошь в комедию и шутов¬
ство, как банда трусливых пройдох и меланхолических
паяцев способна скомпрометировать великую идею. Но,
по совести говоря, натурфилософия неповинна в смешном
положении, уготованном ей школой пророков или поэти¬
ческой школой г-иа Шеллинга. Ибо в основе своей идея
этой философии есть не что иное, как идея Спинозы, пан¬
теизм.
Учение Спинозы и натурфилософия, как ее обосновал в
лучшую пору своей деятельности г-н Шеллинг, по существу
представляют собой одно и то же. Отвергнув локковский
материализм, доведя лейбницевский идеализм до край¬
ности и найдя также его совершенно бесплодным, немцы,
наконец, добрались до третьего сына Декарта, до Спинозы.
Философия вновь закончила великий круговорот, и,
можно сказать, тот самый, который она совершила уже
две тысячи лет тому назад в Греции. Однако более близкое
сравнение этих двух круговоротов обнаруживает сущест¬
венную разницу. У греков были такие же смелые скеп-
129
тики, как у нас, элеаты с такою же определенностью отри¬
цали реальность внешнего мира, как наши новейшие
трансцендентальные идеалисты. Платой так же вновь
нашел в мире явлений мир духовный, как и г-н Шеллинг.
Но у нас есть преимущество перед греками, так же как
перед школами, вышедшими из Декарта, и заключается
оно в следующем.
Мы начали наш философский круговорот с исследова¬
ния источников человеческого познания, с критики чистого
разума, произведенной нашим Иммануилом Кантом.
Упомянув Канта, я могу присовокупить к прежним
соображениям, что единственное допускаемое Кантом
доказательство существования бога, а именно так называе¬
мое нравственное доказательство, с большим эффектом было
опровергнуто г-ном Шеллингом. Однако я заметил уже
выше, что это доказательство не отличалось особой силой
и что Капт допустил его, быть может, по благодушию.
Бог г-па Шеллинга есть божественная вселенная Спинозы.
Таким он по крайней мере был в 1801 году, во втором томе
«Вестника спекулятивной физики». Здесь бог есть абсолют¬
ное тождество природы и мышления, материи и духа,
и абсолютное тождество не есть причина вселенной, но
сама вселенная: она есть, следовательно, божественная
вселенная. В последней нет никаких противоположений,
никаких разделений. Абсолютная тождественность есть
абсолютная цельность. Год спустя г-н Шеллинг еще больше
развил своего бога, сделав это в сочинении «Бруно, или
О божественной или естественной основе вещей». Заглавие
это напоминает о благороднейшем мученике за наше
учение, славной памяти Джордано Бруно из Иолы.
Итальянцы утверждают, что г-н Шеллинг позаимствовал
свои лучшие мысли у старого Бруно, и обвиняют его в пла¬
гиате. Они неправы, потому что в философии но существует
плагиата. Наконец, в 1804 году бог г-на Шеллинга пред¬
стал совершенно готовым в сочинении под заглавием «Фи¬
лософия и религия». Здесь мы находим учение об абсолюте
во всей его полноте. Здесь абсолют находит выражение
в трех формулах. Первая — категорическая: абсолют не
есть ни идеал, ни реальность (ни дух, ни материя), он есть
тождество обоих. Вторая формула — гипотетическая:
когда представлены субъект и объект, то абсолют есть
равенство обоих по существу. Третья формула — раздели¬
130
тельная: есть лишь единое бытие, но это единое может рас¬
сматриваться одновременно или попеременно, как совер¬
шенно идеальное или совершенно реальное. Первая фор¬
мула—вполне отрицательная, вторая предполагает усло¬
вие, еще более трудное для понимания, чем само обуслов¬
ленное, третья же формула целиком принадлежит Спинозе:
абсолютная субстанция познается либо как мышление,
либо как протяжение. Таким образом, на пути философии
г-н Шеллинг не мог продвинуться дальше Спинозы, по¬
скольку абсолютное доступно пониманию лишь в форме
этих двух атрибутов, мышления и протяжения. Но здесь
г-н Шеллинг расстается с философским путем и стремится,
посредством некоей мистической интуиции, достигнуть
созерцания самого абсолюта; он стремится созерцать его
в его средоточии, в его существе, где нет ничего идеального
и где нет ничего реального — ни мысли, ни протяжения,
пи субъекта, ни объекта, ни духа, ни материи, а есть...
кто его знает что!
Здесь кончается у г-на Шеллинга философия и начи¬
нается поэзия, я хочу сказать — глупость. Но здесь-то
он п встречает наиболее громкий отклик у толпы пусто¬
мель, которым как раз по душе отвергнуть спокойное мыш¬
ление и как бы подражать вертящимся дервишам, которые,
как рассказывает наш друг Жюль Давид, до тех пор кру¬
жатся на месте, пока для них не исчезнет как объективный,
так и субъективный мир и оба они не сольются в некое
белое ничто, не реальное и не идеальное, и пока они не
узрят того, что незримо, и пе услышат того, что неслышимо,
и не начнут слышать краски и видеть звуки, и пока на¬
глядно не предстанет перед ними абсолют.
Полагаю, что попыткой умственно созерцать абсолют
закончена философская карьера г-на Шеллинга. Теперь
выступает более крупный мыслитель, развивший натур¬
философию до законченной системы, объясняющий из
ее синтеза весь мпр явлений, восполняющий великие идеи
своих предшественников еще более великими идеями, про¬
водящий эти идеи через все области науки и таким образом
обосновывающий их научно. Это ученик г-на Шеллинга,
но ученик, постепенно захвативший всю власть своего учи¬
теля в области философпп, властолюбиво переросший его
и, наконец, оттеснивший его во мрак неизвестности. Это
великий Гегель, величайший философ, порожденный Гер¬
131
манией после Лейбница. Он, бесспорно, неизмеримо выше
Канта и Фихте. Ои проницателен, как первый, и могуч,
как второй, и при этом обладает зиждительным душевным
спокойствием, гармонией мыслей, какой мы не встречаем
у Каита и Фихте, так как они больше подвластны рево¬
люционному духу. Сравнивать его с г-ном Йозефом Шел¬
лингом совершенно невозможно, ибо Гегель был личностыо
с характером. И хотя он, подобно г-ну Шеллингу, оправды¬
вал существующий государственный и церковный строй
с помощью некоторых весьма сомнительных доказательств,
однако это все же делалось в пользу такого государства,
которое хотя бы в теории признает принцип прогресса,
и в пользу такой церкви, которая видит свою жизненную
стихию в принципе свободного исследования; и он не
скрывал этого — он открыто признавал все свои намере¬
ния. Г-н Шеллинг, наоборот, извивается, как червяк,
в передних практического и теоретического абсолютизма
и выступает прислужником в иезуитском вертепе, где
выковываются цепи для духа: и при этом ои пытается
внушить нам, будто он остался неизменно все тем же
просветителем, каким был когда-то; ои отрекается от
своего отречения и к позору отступничества прибавляет
еще трусость лжи!
Мы не должны скрывать это пи из пиетета, пи из благо¬
разумия; мы не станем умалчивать, что человек, некогда
отважнее всех провозгласивший в Германии религию
пашейзма, громче всех проповедовавший святость при¬
роды и восстановление человека в его божественных
правах, что этот человек отрекся от своего собственного
учения, покинул алтарь, им самим освященный, прокрался
обратно в религиозное стойло прошлого, стал теперь пра¬
воверным католиком и проповедует внемирового личного
бога, «имевшего глупость создать мир». Пусть верующие
трезвонят в колокола и воспевают свои «Kyrie eleison»1
по случаю такого обращения, — это совершенно пе дока¬
зывает их правоты, это доказывает только, что человек
склоняется к католичеству тогда, когда оп устал и соста¬
рился, когда он утратил физические и духовные силы,
когда ои не может больше ни наслаждаться, пи мыслить.
Так много свободных мыслителей обращено па смертном
1 «Господи, помилуй» (греч
132
одре, — но не гордитесь этим! Истории этих обращений
относятся разве к патологии и были бы плохим свидетель¬
ством в пользу вашего дела. В конце концов они доказы¬
вают только, что пока эти свободные мыслители разгули¬
вали под открытым божьим небом и во всей полноте вла¬
дели своим здравым рассудком и здоровыми чувствами,
вы никак не могли обратить их.
Кажется, Балаиш сказал, что существует закон при¬
роды, согласно которому начинатели неизбежно должны
умереть, как только они осуществили свой труд начина¬
ния. Ах, милый Баланш, это лишь наполовину верно,
и я скорее утверждал бы, что как только дело начинания
осуществлено, начинатель умирает — или же становится
отступником. И потому мы можем, пожалуй, несколько
смягчить строгий приговор, вынесенный мыслящей Гер¬
манией г-ну Шеллингу; мы можем, пожалуй, превратить
тяготеющее над ним тяжелое, непроницаемое презрение
в тихое сострадание и его отпадение от собственного
учения объяснить лишь как проявление закона природы,
по которому отдавший все свои силы выражению или
проведению известной мысли падает в изнеможении,
после того как выразит или проведет эту мысль, падает
в объятия смерти или же в объятия своих прежних про¬
тивников.
После такого объяснения мы, быть может, поймем
другие, еще более ярко выраженные явления нашею
времени, столь удручающие нас. Мы, быть может, поймем,
почему люди, пожертвовавшие всем ради своих убежде¬
нии, боровшиеся и страдавшие за них, почему эти люди,
победив наконец, отходят от своих убеждений и перебегают
во враждебный лагерь! После такого объяснения я могу
обратить внимание также иа то, что не только г-на Йозефа
Шеллинга, но и Фихте и Канта также можно в известной
степени обвинить в отступничестве. Фихте умер еще до¬
статочно своевременно, чтобы его отпадение от собствен¬
ной философии не наделало слишком много шума. И Кант
тоже не замедлил изменить «Критике чистого разума»,
написав «Критику практического разума». Начинатель
умирает — или же становится отступником.
Не знаю отчего, но эта последняя мысль действует так
меланхолически-смягчающе на мою душу, что я не в силах
в этот миг высказать здесь все прочие горькие истины,
133
относящиеся к нынешнему г-ну Шеллингу. Вознесем
лучше хвалу тому, былому г-ну Шеллингу, память о ко¬
тором цветет, не увядая, в летописях немецкой мысли,
ибо былой Шеллинг является, подобно Канту и Фихте,
представителем одной из великих фаз нашей философской
революции, которые я сравнил на этих страницах с фа¬
зами политической революции во Франции. Действительно,
если видеть в Канте конвент с его террором, а в Фихте
наполеоновскую империю, то в г-не Шеллинге можно
видеть последовавшую за ними реакцию Реставрации. Но
на первых порах это была реставрация в лучшем смысле.
Г-н Шеллинг вновь восстановил природу в ее законных
правах, он стремился к примирению духа и природы, он
хотел воссоединить их в предвечной мировой душе. Он
восстановил великую натурфилософию, с которой мы
встречаемся у греческих философов, которую Сократ лишь
интродуцировал в человеческую душу и которая затем
расплылась в идеальном. Он восстановил ту великую на¬
турфилософию, которая, тайно зародившись в древней
пантеистической религии германцев, во времена Пара-
цельса обещала прекраснейший расцвет, но была подав¬
лена введением картезианства. Увы! И в конце концов он
восстановил вещи, позволяющие сравнить его с француз¬
ской Реставрацией и в дурном смысле. Но здесь обще¬
ственный разум не стал терпеть его дольше, он был по¬
зорно свергнут с престола мысли, Гегель, его мажордом,
сорвал корону с его головы и постриг его, и развенчанный
Шеллинг проживал с тех пор жалким монашком в Мюн¬
хене, городе, поповский характер которого выражен
уже в его названии и который по-латыни именуется
Monacho monachorum. 1 Там видел я его бродящим в виде
призрака, видел его большие бесцветные глаза и унылое
лицо, лишенное выражения, — жалкое зрелище павшего
великолепия. А Гегель короновался и, увы, слегка даже
помазался в Берлине и с тех пор стал господствовать
в немецкой философии.
Наша философская революция окончена. Гегель за¬
вершил ее великий цикл. С тех пор пред нами лишь раз¬
витие и разработка натурфилософской доктрины. Она
проникла, как уже указано, во все науки и породила
1 Мюнхен монахов.
134
здесь создания необыкновеннейшие и величайшие. При
этг>м, как я также указал, должно было обнаружиться
и много безотрадного. Эти явления столь разнообразны,
что уже один перечень нх потребовал бы целой книги.
Здесь сосредоточена, собственно, интересная и красочная
часть истории нашей философии. По моему убеждению,
однако, французам лучше ничего не знать об этой ее части.
Ибо такого рода сведения могли бы лишь внести еще
большую путаницу во французские головы; некоторые
положения натурфилософии, вырванные из общей связи,
могли бы наделать у вас много зла. Одно мне ясно: будь
вы четыре года тому назад знакомы с немецкой натурфи¬
лософией, вы никогда не смогли бы совершить Июльскую
революцию. Для такого деяния необходимо было сосредо¬
точение мыслей и сил, благородная односторонность,
самоуверенное легкомыслие в той степени, какую допу¬
скает лишь ваша старая школа. Философские хитроспле¬
тения, весьма пригодные, конечно, для обоснования леги¬
тимизма и католического учения о воплощении, расхоло¬
дили бы ваш пыл, сковали бы ваше мужество. Поэтому
всемирно-историческое значение имеет в моих глазах то,
что ваш великий эклектик, взявшийся в ту пору позна¬
комить вас с немецкой философией, ровно ничего в ней
не смыслил. Его провиденциальное невежество было
благодетельно для Франции и для всего человечества.
Увы, принеся в различных областях знания, особенно
в естествоведении, великолепные плоды, натурфилософия
породила в других областях пагубнейшие плевелы. В то
время как Окен, гениальнейший мыслитель и один из
величайших граждан Германии, раскрывал новые миры
идей и воодушевлял немецкую молодежь пылом исконных
прав человечества, пылом свободы и равенства,—ах! —
в это самое время Адам Мюллер читал лекции о стойловом
откорме народов согласно принципам натурфилософии;
в это самое время г-н Геррес проповедовал средневековый
обскурантизм в соответствии с естественнонаучным взгля¬
дом: государство есть только дерево, которое в своем
органическом расчленении неизбежно должно иметь ствол,
ветви и листья, что так превосходно было осуществлено
в корпорационной иерархии средневековья; в это самое
время г-п Стеффене провозгласил философский закон,
согласно которому крестьянское сословие отличается
135
от дворянского тем, что крестьянин предназначен приро¬
дой для труда без наслаждения, дворянин же наделен пра¬
вом наслаждения без труда. Мало того, я слышал, что
несколько месяцев тому назад один вестфальский дворян¬
чик, некий дуралей по фамилии, кажется, Гакстгаузен,
издал сочинение, где обращается к королевско-прусскому
правительству с ходатайством, чтобы оно считалось с по¬
следовательным параллелизмом, доказанным философией
во всем мировом организме, и строже разделяло бы поли¬
тические сословия, ибо, подобно тому как в природе су¬
ществуют четыре стихии — огонь, воздух, вода и земля,
так и в обществе имеются четыре аналогичных элемента,
а именно: дворянство, духовенство, буржуазия и кре¬
стьяне.
Когда выяснилось, что из философии вырастают столь
печальные глупости, расцветающие самым зловредным
цветом, когда вообще пришлось заметить, что германская
молодежь, погрузившись в метафизические отвлечен¬
ности, позабыла о непосредственных нуждах современ¬
ности и сделалась неспособной к практической жизни, —
то патриоты и друзья свободы, естественно, не могли не
проникнуться справедливым негодованием против фило¬
софии, и некоторые из них пошли так далеко, что совер¬
шенно осудили ее как праздные и бесцельные слово¬
прения.
Мы не будем столь неразумны, чтобы всерьез опровер¬
гать этих недовольных. Немецкая философия есть важное
дело, касающееся всего рода человеческого, и лишь от¬
даленнейшие потомки будут в состоянии судить, до¬
стойны мы порицания или хвалы за то, что вырабатывали
сперва нашу философию, а затем нашу революцию. Мне
кажется, такой методический народ, как мы, должен был
начать с реформации, лишь затем мог заняться филосо¬
фией и только но завершении ее получил возможность
перейти к политической революции. Такая последователь¬
ность представляется мыс совершенно разумной. Го¬
ловы, использованные философией для размышлешш,
вольно затем революции отрубать для любых целей.
Философии же никак не пригодились бы головы, отруб¬
ленные революцией, если бы она произошла раньше.
Но не тревожьтесь, немецкие республиканцы: немецкая
революция не станет оттого мягче и милосерднее, что ей
136
предшествовала кантовская критика, фихтевский транс¬
цендентальный идеализм и даже натурфилософия. Бла¬
годаря этим учениям получили развитие революционные
силы, ожидающие только дня5 когда они смогут прорваться
и наполнить мир ужасом и изумлением. Тут обнару¬
жатся кантианцы, которые также в мире явлений отвер¬
гнут всякий пиетет и безжалостно взроют мечом и топором
почву нашей европейской жизни, чтобы вырвать и по¬
следние корни прошлого. На арену выступят вооружен¬
ные фихтеанцы, которых, в их волевом фанатизме, не
обуздать ни страхом, ни корыстью, ибо они живут в духе,
они борются с материей, подобно первым христианам,
которых также невозможно было одолеть ни физическрши
мучениями, ни физическими наслаждениями; да, такие
трансцендентальные идеалисты в случае общественного
переворота оказались бы даже непреклоннее первых хри¬
стиан, так как те сносили земное мученичество, чтобы
таким путем достигнуть небесного блаженства, тогда как
трансцендентальный идеалист считает самое мучение пу¬
стой видимостью и недосягаем за укреплениями собствен¬
ной мысли. Но всего страшнее оказались бы натурфило¬
софы, которые приняли бы действенное участие в немецкой
революции и отождествили бы себя с самим делом раз¬
рушения. Ибо, если рука кантианца разит мощно и уве¬
ренно потому, что сердце его не тронуто никаким тради¬
ционным пиететом, если фихтеанец отважно презирает
всякую опасность потому, что она совершенно не суще¬
ствует для него в действительности, — то натурфилософ
будет страшен тем, что он вступает в связь с первообраз¬
ными силами природы, что он может заклинанием вызвать
демонические силы древнегерманского пантеизма и что
в нем пробуждается тот свойственный древним германцам
боевой пыл, который повелевает сражаться не для того,
чтобы уничтожить или побеждать, но исключительно для
того, чтобы сражаться. Христианство — ив этом его ве¬
личайшая заслуга — несколько ослабило эту грубую гер¬
манскую воинственность, но искоренить ее не смогло,
и если когда-либо сломится обуздывающий талисман,
крест, то вновь вырвется наружу дикость древних бой¬
цов, бессмысленное берсеркерское неистовство, о котором
так много поют и рассказывают ссверогерманские певцы.
Этот талисман ослабел, и настанет день, когда он обру-
137
шится самым жалким образом. Тогда из забытого мусора
восстанут старые каменные боги, протрут глаза, засы¬
панные тысячевековой пылью, и, наконец, поднимется
на ноги Тор со своим исполинским молотом и разгромит
готические соборы. Услышав этот гром и грохот, остере¬
гайтесь, любезные соседи, остерегайтесь, французы, не
вмешивайтесь в дела, творимые нами у себя дома, в Гер¬
мании. Это может плохо кончиться для вас. Остерегайтесь
раздувать огонь, остерегайтесь гасить его. Вы легко мо¬
жете обжечь в пламени пальцы. Не смейтесь над моим
советом, советом мечтателя, предостерегающего вас от
кантианцев, фихтеанцев и натурфилософов. Не смейтесь
над фантастом, ожидающим в мире явлений той самой
революции, которая уже произошла в области духа.
Мысль предшествует делу, как молния грому. А немецкий
гром, конечно, тоже немец, он не особенно подвижен и при¬
ближается с некоторой медлительностью; но он грянет,
и тогда, услышав грохот, какой никогда еще не гремел
во всемирной истории, знайте: немецкий гром попал,
наконец, в цель. При этом грохоте замертво попадают
орлы с высоты, и львы в отдаленнейшей пустыне Африки
подожмут хвосты и заползут в свои царственные лого¬
вища. В Германии будет разыграна пьеса, в сравнении
с которой французская революция покажется лишь без¬
обидной идиллией. Теперь, правда, еще довольно тихо,
и если тот или иной выступает у нас с некоторой жи¬
востью, то не думайте, что именно они со временем ока¬
жутся настоящими актерами. Это только собачонки, ко¬
торые бегают по пустой арене, лают и огрызаются друг
на друга перед тем как пробьет час и выступит толпа
гладиаторов, которым придется биться насмерть.
И этот час настанет. Словно на ступенях амфитеатра,
столпятся народы вокруг Германии, чтобы взирать на ве¬
ликие смертоубийственные игры. Советую вам, французы,
держитесь при этом как можно тише, упаси господи, не
вздумайте аплодировать. Мы легко могли бы плохо по¬
нять вас и по свойственной нам неучтивости несколько
грубовато призвать вас к спокойствию, — ибо если и
прежде, в нашем рабски брюзгливом состоянии, нам слу¬
чалось иногда справляться с вами, то это будет нам го¬
раздо легче в дерзостном упоении свободой. Вам ведь
хорошо известно, что можно свершить в таком состоянии,—
13S
а вы уже вышли из него. Будьте осторожны! Я желаю вам
добра и потому высказываю вам горькую истину. Освобо¬
жденная Германия для вас опаснее целого Священного
союза со всеми хорватами и казаками. Ибо, во-первых,
вас в Германии не любят, что скорее непонятно, ибо вы
ведь так любезны и во время пребывания вашего в Гер¬
мании так старались понравиться — по крайней мере луч¬
шей и прекраснейшей половине немецкого народа. II если
бы вас даже полюбила эта половина, то ведь это половина,
которая не носит оружия и, стало быть, от ее дружествен¬
ного расположения вам мало проку. Никогда не удавалось
мне понять, что вам, собственно, ставят в вину. Раз только в
геттингенской пивной один юный древнегерманец высказал
мысль, что надобно отомстить французам за то, что они
отрубили в Неаполе голову Конрадину Гогенштауфену.
Вы, вероятно, давным-давно забыли об этом. Мы же не
забываем ничего, как видите, — если нам когда-нибудь
вздумается сцепиться с вами, у нас не будет недостатка
в основательных поводах. Во всяком случае советую вам
поэтому быть настороже. Пусть в Германии творится что
угодно, пусть у власти станет там кронпринц прусский
или д-р Вирт, будьте всегда наготове, оставайтесь спо¬
койно на посту с оружием в руках. Я желаю вам добра и
потому недавно чуть не испугался, узнав, что ваши ми¬
нистры предполагают разоружить Францию.
Так как, несмотря на вашу нынешнюю романтику, вы
прирожденные классики, то вы знаете Олимп. Среди
нагих богов и богинь, предающихся там увеселениям за
нектаром и амброзией, вы видите богиню, которая даже
в окружении такого веселья и радости всегда одета
в панцирь, носит шлем на голове и копье в руке.
Это богиня мудрости.
РОМАНТИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Значительную часть этих страниц, первоначально на¬
писанных по-французски и обращенных к французам,
я уже представил некоторое время тому назад отечествен¬
ной публике в немецком переводе под заглавием «К исто¬
рии новой художественной литературы в Германии».
В нынешнем, дополненном виде книга, полагаю, заслужи¬
вает названия «Романтическая школа», ибо, на мой взгляд,
она может дать читателю самое верное представление об
основных моментах литературного движения, вызван¬
ного этой школой.
Я предполагал в сходной форме осветить и дальнейший
период развития нашей литературы, но более неотложные
дела и внешние обстоятельства не дали мне возможности
перейти непосредственно к этой задаче. Вообще форма
изложения и способ опубликования моих последних про¬
изведений всегда определялись условиями момента. Так,
мне пришлось выпустить в свет мои сообщения «К истории
религии и философии в Германии» в виде второй части
«Салона», тогда как труд этот должен был, собственно,
представлять собою общее введение в немецкую литера-
ТУРУ* Об особых злоключениях, постигших меня при
издании этой второй части «Салона», я уже сообщил ко
всеобщему сведению в печати. Господин издатель, кото¬
рого я обвинял в самовольном искажении моей книги,
отвечал на это обвинение в той же газете; он объявил
это искажение достославным подвигом некоего учреждения,
стоящего выше всякой критики.
Состраданию вечных богов поручаю я благо отечества
и беззащитные мысли его писателей.
Написано в Париже осенью 1835 года.
Генрих Гейне
КНИГА ПЕРВАЯ
Труд г-жи до Сталь «De l’Allemagne» 1 есть един¬
ой ьеппое обстоятельное сочинение, дающее французам
картину умственной жизни Германии. Однако после по¬
явления этой книги прошло много времени, в течение ко¬
торого в Германии возникла совершенно новая литера¬
тура. Есть ли это всего лишь литература переходного
времени? Достигла ли она уже своего расцвета? Или уже
отцвела? Мнения об этом расходятся. Большинство по¬
лагает, что со смертью Гете в Германии начинается новая
литературная эпоха; с ним ушла в могилу старая Гер¬
мания, век аристократической литературы пришел к концу,
начинается демократический век, или, как недавно выра¬
зился один французский журналист, «кончился дух лич¬
ного, начался дух всеобщего».
Что касается меня, то я пе решился бы с такой опреде¬
ленностью судить о предстоящей эволюции немецкого
духа. Впрочем, уже много лет тому назад я предсказал
конец «гетевского эстетического периода» — название,
которым я впервые обозначил этот период. Мне было
нетрудно пророчествовать! Слишком хорошо были мне
известны пути и приемы недовольных, стремившихся по¬
кончить с эстетическим царствованием Гете; ведь кое-кому
кажется даже, что я и сам замешан в тогдашних бунтах
против Гете. И вот Гете умер, и странная боль охваты¬
вает мое сердце.
1 «О Германии» ((франц.).
144
Советуя рассматривать эти страницы как продолже¬
ние «De l’Allemagne» г-жи де Сталь и отдавая должное
поучительности этого труда, я все же должен напомнить
об осторожности, необходимой при пользовании им,
•а также вынужден упрекнуть се книгу в том, что она от¬
ражает взгляды определенного кружка. Г-жа де Сталь,
блаженной памяти, превратила свою книгу в нечто вроде
салона, в котором принимала немецких писателей, давая
нм возможность представиться французскому культур¬
ному обществу; но в сумятице различнейших голосов,
крики которых несутся из этой книги, громче всех неиз¬
менно раздается все же тоненький дискант г-иа А.-В. IIIле¬
те ля. Там, где г-жа де Сталь остается собой, где с прису¬
щей ей широтой чувств она высказывается непосредственно
от всего своего пылающего сердца, во всем блеске фейер¬
верков своего острого ума и сверкающей прихотливости,—
там ее книга превосходна и полезна. Но когда она начи¬
нает поддаваться чужим нашептываниям, когда она про¬
славляет школу, существо которой ей совершенно чуждо
и непонятно, когда прославлением этой школы она содей¬
ствует известным ультрамонтанским устремлениям, резко
расходящимся со свонствешюй ей протестантской ясно¬
стью,— тогда книга ее становится жалкой и безвкусной.
К этому присоединяется еще то, что она пристрастна не
только бессознательно, но и сознательно, что похвалы в
честь умственной жизни и идеализма Германии имеют в
сущности целыо задеть тогдашний реализм французов, ма¬
териальное великолепие императорской эпохи. В этом от¬
ношении ее книга «De l’Allemagne» подобна «Германии»
Тацита, для которого его апология германцев тоже, быть
может, была косвенной сатирой на соотечественников.
Упоминая выше о школе, которую прославляла г-жа дз
Сталь и устремлениям которой она содействовала, я имел
в виду романтическую школу. Что в Германии она пред¬
ставляла собой нечто совершенно отличное от того, что
понимают под этим названием во Франции, и что тенден¬
ции ее совершенно расходились с устремлениями фран¬
цузских романтиков, будет выяснено на дальнейших
страницах.
Чем же была романтическая школа в Германии?
Не чем иным, как воскрешением средневековой поэзии,
как она проявилась в песнях, созданиях живописи
6 Г. Гейпе, т. О
145
и архитектуры, в искусство и жизни. Но поэзия эта вышла
из христианства, она была страстоцветом, выросшим из
крови Христовой. Не знаю, носит ли во Франции подобное
же название меланхолический цветок, который мы име¬
нуем страстоцветом, и приписывает ли ему и здесь народ¬
ное верование это мистическое происхождение. Это стран¬
ный, неприятно окрашенный цветок, в чашечке которого
находили изображение орудий, служивших при распятии
Христа, а именно молотка, клещей, гвоздей и т. п., цве¬
ток отнюдь не отталкивающего, но всего лишь призрач¬
ного вида; он даже возбуждает в нашей душе мучительное
удовольствие, подобное судорожно-сладостным ощу¬
щениям, порождаемым самим страданием. В этом отно¬
шении цветок этот мог бы служить наиболее подходящим
символом самого христианства, жуткая прелесть которого
заключается именно в сладострастном упоении страданием.
Несмотря на то, что во Франции под названием хри¬
стианства подразумевают только католичество, я должен
особо предупредить, что говорю именно о нем. Я говорю
о той религии, в основных догматах которой заключается
осуждение всякой плоти и которая не только признает
главенство духа над плотью, но стремится к ее умерщвле¬
нию ради возвеличения духа; я говорю о той религии, про¬
тивоестественные устремления которой и внедрили в мир
грех и лицемерие, так как именно осуждение плоти сде¬
лало невиннейшие чувственные удовольствия грехом, а то
обстоятельство, что человек не может стать исключи¬
тельно духом, не могло не породить лицемерия; я говорю
о той религии, которая, провозгласив учение о пагубности
всех земных благ, о собачьей покорности и ангельском
терпении, сделалась испытаннейшей опорой деспотизма.
Люди осознали теперь сущность этой религии, их нельзя
уже успокоить ссылками на небо, они знают, что и мате¬
рия не вся от дьявола, что и в ней есть нечто хорошее,
и они требуют теперь права на наслаждения, которые дает
земля, этот прекрасный божий сад, наше неотъемлемое
наследственное достояние. Именно достигнутое нами теперь
полное понимание всех следствий этого абсолютного спи¬
ритуализма дает нам уверенность, что христианско-като¬
лическому мировоззрению пришел конец. Ибо всякая
эпоха есть сфинкс, низвергающийся в бездну, как только
разгадана его загадка.
146
Ни в коем случае, однако, не отрицаем мы здесь пользы,
принесенной Европе христианско-католическим мировоз¬
зрением. Оно было необходимо как благодетельная реак¬
ция против ужасающего, всеобъемлющего материализма,
расцветшего в Римской империи и грозившего изничтожить
все духовное величие человека. Как малопристойные ме¬
муары прошлого века являются как бы pièces justifica¬
tives 1 французской революции, как после знакомства
с откровенными признаниями французской знати со вре¬
мен Регентства террор Comité du salut public 2 пред¬
ставляется нам необходимым лекарством, так признаешь
и благотворность аскетического спиритуализма, когда
прочитаешь хотя бы Петрония или Апулея — книги, на
которые можно смотреть как иа pièces justificatives
христианства. Плоть так обнаглела в этом римском
мире, что для обуздания ее, несомненно, требовалась
христианская дисциплина. После пиршества Трималь-
хиона потребовалось такое лечение голодом, как хри¬
стианство.
А может быть, подобно тому как старые развратники
розгами возбуждают в своей обессилевшей плоти способ¬
ность к новым наслаждениям, дряхлеющий Рим подвергал
себя монашеским бичеваниям с той целыо, чтобы обрести
утонченные наслаждения в боли и сладострастие в стра¬
даниях?
Пагубное сверхвозбуждение! Оно отняло последние
силы у государственного тела Рима. Не от распадения на
два царства погиб Рим; как на Босфоре, так и на Тибре
Рим был истощен все тем же иудейским спиритуализмом,
и здесь, как и там, римская история превратилась в мед¬
ленное умирание, в агонию, тянувшуюся столетия. Не
хотела ли зарезанная Иудея, наделившая римлян своим
спиритуализмом, отомстить победоносному врагу, как
некогда умирающий кентавр, с таким коварством навязав¬
ший сыну Юпитера смертоносную одежду, отравленную
его собственной кровыо? И действительно, Рим, этот Гер¬
кулес среди народов, был столь неисцелимо отравлен
иудейским ядом, что шлем и латы упали с его чахлых
членов и его царственный боевой голос, обессилев, понп-
1 Оправдательными документами (франц.).
2 Комитета общественного спасения (франц.).
6*
147
зился до молитвенного причитания попов и до певческих
трелей кастратов.
Но то, что обессиливает старика, укрепляет юношу.
Тот же самый спиритуализм оказался благотворным для
пышущих здоровьем народов Севера; слишком полнокров¬
ные тела варваров подверглись христианскому одухотво¬
рению; началась европейская цивилизация. Такова досто-
хвальная, святая сторона христианства. В этом отношении
католическая церковь приобрела величайшее право на
наше уважение и удивление. При посредстве великих,
гениальных установлений она сумела укротить зверство
северных варваров и обуздать грубую материю.
Произведения средневекового искусства являют нам
эго обуздание материи духом, — в этом часто и заклю¬
чается все их назначение. Не трудно распределить эпиче¬
ские поэмы того времени по степени этого обуздания.
О произведениях поэзии лирической и драматической
здесь не может быть речи, ибо последних не существовало,
а первые во все времена походят друг па друга, как со¬
ловьиные песни каждой весной.
Несмотря на то, что средневековая эпическая поэзия
разделялась на духовную и светскую, оба эти рода были
по существу еще всецело христианскими; ибо, если ду¬
ховная поэзия воспевала исключительно еврейский парод,
считавшийся единственным священным народом, и его
историю, единственно носившую название священной,
героев Ветхого и Нового заветов, легенду — словом, вос¬
певала церковь, то, с другой стороны, в светской поэзии
отражалась вся тогдашняя жизнь, со всеми ее христиан¬
скими воззрениями и устремлениями. Цветом духовной
поэзии немецкого средневековья надо, пожалуй, назвать
поэму «Варлаам и Иосафат», где доктрина отречения,
воздержания, самозабвения, презрения ко всей мирской
пышности нашла наиболее последовательное выражение.
Паилучшим после нее образцом духовной поэзии я скло¬
нен считать «Хвалебную песнь в честь святого Анно».
Но последнее стихотворение является в значительной
мере светским. Оно вообще отличается от первого, как
византийская икона от старинного немецкого образа. Как
и на византийских иконах, в «Варлааме и Иосафате»
царит величайшая простота; ни намека на перспективные
подробности, и тощие, вытянутые, статуеподобиые фигуры
148
и идеально серьезные лица выступают, резко очерчен¬
ные, как бы иа тусклом золотом фоне; как на старинных
немецких картинах, подробности в «Песне в честь святого
Анно» занимают чуть не главное место, и, несмотря на
грандиозность концепции, все же подробности разработаны
столь мелочным образом, что не знаешь, чему изумлять¬
ся, — замыслу ли исполина или терпению карлика.
Поэма Отфрнда о Христе, которая обычно прославляется
как главное создание духовной поэзии, далеко ие столь
замечательна, как указанные два произведения.
В светской поэзии, следуя намеченному разделению,
мы встречаемся прежде всего с циклом сказаний о Нибе-
лунгах и циклом «Книги богатырей»; здесь царит еще совер¬
шенно дохристианский образ мыслей и чувств, здесь гру¬
бая сила еще не смягчена перерождением в рыцарство,
здесь, подобно каменным статуям, высятся еще суровые
бойцы Севера, и кроткий свет и нравственное дыхание
христианства еще не проникают за железные доспехи.
Но постепенно день занимается в старогерманских лесах,
старые дубы-идолы падают под ударами топора, и расчи¬
щается просека, где христианин бьется с язычником, —
это штдим мы в цикле сказаний о Карле Великом, где,
собственно, отражены крестовые походы с их духовными
целями. И вот из христиански спиритуализироваиноп
силы возникает своеобразнейшее явление христианства —
рыцарство, в конце концов возвышенное до рыцарства
духовного. С прославлением того, светского рыцарства мы
встречаемся в цикле сказаний о короле Артуре, где царит
сладчайшая галантность, утонченнейшая куртуазность и
живейшая жажда боев и приключений. Из восхитительно
нелепых арабесок и фантастических цветочных завитушек
этих поэм приветливо глядят на нас драгоценный Ивсйи,
превосходный Ланцелот-с-озера и отважный, учтивый,
благородный, однако несколько скучноватый Вигалуа.
Рядом с этим циклом мы встречаем родственный и спле¬
тенный с ним цикл сказаний о святом Граале, где про¬
славляется духовное рыцарство, — и здесь являются
пред нами три грандиознейшие поэмы средних веков:
«Титурель», «Парцифаль» и «Лоэнгрии»; здесь мы как
бы лицом к лицу сталкиваемся с романтической поэзией,
мы глубоко заглядываем в се большие страдальческие
глаза, и она незаметно опутывает нас своими схоласти-
149
ческими сотями и уплскает в бредовые бездны средневе¬
ковой мистики. В эту эпоху мы наблюдаем, наконец, и та¬
кие поэтические произведения, где нет безусловного прия¬
тия христианского спиритуализма, где даже фрондируют
против него, где поэт, сбросив оковы абстрактных хри¬
стианских добродетелей, с упоением погружается в сла¬
достный мир прославляемой чувственности, и далеко не
к худшим принадлежит поэт, оставивший нам главное
произведение этого направления — поэму «Тристан и
Изольда». Я должен даже признать, что Готфрид Страс¬
бургский, автор этой прекраснейшей из поэм средневе¬
ковья, есть, быть может, и величайший его поэт, стоящий
выше всего великолепия Вольфрама фон Эшенбаха, ко¬
торым мы так восхищаемся в «Парцифале» и во фрагментах
«Титуреля». Быть может, в наши дни позволительно без¬
оговорочно воздать должное и прославить Готфрида. В те
времена книга его, конечно, считалась безбожной, а сход¬
ные поэтические произведения, к которым принадлежал
уже «Ланцелот», — опасными. Да и действительно про¬
исходили серьезные дела. Дорого пришлось заплатить
Франческе да Полента и ее прекрасному другу за то, что
они однажды вместе читали такую книгу; большая опас¬
ность заключалась, впрочем, в том, что они внезапно
перестали ее читать!
Во всех этих средневековых произведениях поэзия
носит определенный отпечаток, отличающий ее от поэзии
греков и римлян. Исходя из этого различия, мы называем
первую романтической поэзией, а вторую — классиче¬
ской. Однако названия эти неточны, и до сих пор они вели
к досаднейшей путанице, еще усугублявшейся в тех слу¬
чаях, когда античную поэзию вместо классической назы¬
вали также пластической. Здесь коренился особый источ¬
ник недоразумений. Дело в том, что художники всегда
должны придавать пластическую обработку своему ма¬
териалу; независимо от того, христианский это материал
или языческий, они должны изображать его в отчетливых
очертаниях, словом: пластический стиль работы должен
главенствовать в современном романтическом, так же как
и в античном искусстве. И действительно, разве фигуры
в «Божественной комедии» Данте или на картинах Ра¬
фаэля не так же пластичны, как у Вергилия или на сте¬
нах Геркуланума? Разница заключается в том, что пла¬
150
стические образы в античном искусстве совершенно то¬
ждественны изображаемому, идее, которую стремится
выразить художник; так, например, странствия Одис¬
сея не означают ничего, кроме странствий человека, быв¬
шего сыном Лаэрта и супругом Пенелопы и звавшегося
Одиссеем; точно так же Вакх, которого мы видим в Лувре,
есть не кто иной, как прелестный сын Семелы, с дерзно¬
венной скорбью в глазах и с божественной чувствен¬
ностью мягко округленных губ. Иное в романтическом
искусстве. Здесь странствия рыцаря имеют еще эзотери¬
ческое значение; они, быть может, воплощают жизненные
скитания вообще; побежденный дракон — это грех; мин¬
дальное дерево, издали столь живительно благоухаю¬
щее навстречу герою, это троица: бог-отец, бог-сын и
бог — святой дух, сливающиеся в то же время в единство,
подобно тому как скорлупа, волоконце и ядро представ¬
ляют собой единый миндаль. Когда Гомер изображает
доспехи героя, то это именно только хорошие доспехи,
стоящие столько-то волов; но когда средневековый монах
описывает в поэме одежды богородицы, то можно быть
уверенным, что эти одежды ои представляет себе как
различные добродетели, что особый смысл скрыт в
этих священных покровах непорочной девственности
Марии, которая к тому же, раз ее сын есть миндалина,
совершенно последовательно воспевается как цвет мин¬
даля. Таков, следовательно, характер средневековой поэ¬
зии, именуемой нами романтической.
Классическая поэзия ставила своей задачей изображе¬
ние только конечного, а образы ее могли быть тождествен¬
ными идее художника. Задачей романтического искус¬
ства было изобразить или хотя бы выразить намеками
бесконечное, а также множество чисто спиритуалистиче¬
ских отношений, и оно прибегло к системе традиционных
символов, или, точнее, к иносказанию по примеру самого
Христа, который старался уяснить свои спиритуалисти¬
ческие идеи посредством разнообразных прекрасных притч.
Отсюда мистическое, загадочное, чудесное, чрезмерное
в созданиях средневекового искусства; со страшным на¬
пряжением силится фантазия представить чисто духовное
в конкретных образах и измышляет самые ужасающие
нелепости; она громоздит Пелион на Оссу, «Парцифаля»
на «Титуреля», чтобы достигнуть небес.
loi
У народов, поэзия которых также стремилась изо¬
бразить бесконечное, в результате чего появлялись чудо¬
вищные порождения фантазии, как, например, у сканди¬
навов и индусов, мы встречаемся с произведениями, ко¬
торые равным образом считаем романтическими и обычно
романтическими и называем.
О средневековой музыке мы можем сказать немного.
У нас для этого нет достаточного числа памятников. Лишь
позднее, в XVI столетии, возникли великие создания като¬
лической церковной музыки, в своем роде чрезвычайно
цепные, ибо они наиболее чисто выражают христианский
спиритуализм. Искусство, воспринимаемое слухом, по
своей природе спиритуалистическое, могло более или
менее процветать в лоне христианства. Мепсс благо¬
приятна была эта религия для искусств изобразительных.
Так как и они должны были представлять победу духа над
материей и в то же время пользоваться этой самой мате¬
рией как средством для изображения, то им приходилось
как бы разрешать противоестественную задачу. Отсюда
эти отталкивающие сюжеты в скульптуре и живописи:
муки страстотерпцев, распятия, святые на смертном одре,
разрушение плоти. Сам изображаемый предмет был муче¬
ничеством для скульптуры, и вид этих уродливых извая¬
ний, где христианское воздержание и преодоление плоти
должны находить выражение в молитвенно склоненных
головах, длинных, тонких руках, тощих ногах и робких,
беспомощных одеяниях, наполняет меня невыразимым
состраданием к художникам этого времени. Правда, жи¬
вописцы были в несколько лучшем положении, так как
материал, которым они пользовались для изображения, —
краска, в ее неуловимости, в пестрых переливах се теней,
не так упорно сопротивлялась спиритуализму, как мате¬
риал, обрабатываемый скульпторами; тем не менее и им,
живописцам, приходилось покрывать самыми отталкиваю¬
щими фигурами страдальцев свои холсты, изнывавшие
от этого. Подчас, при ознакомлении с собранием таких
картин, где сплошь изображены кровавые сцены, бичева¬
ния и казни, начинает казаться, что старые мастера пи¬
сали эти вещи для картинной галереи какого-нибудь
иалача.
Но гений человека способен преодолеть даже противо¬
естественное — многим художникам удалось своей кистью
152
в прекрасной п возвышенной форме разрешить противо¬
естественную задачу, и итальянцы в особенности сумели,
отчастрг в ущерб спиритуализму, отдать должное красоте
и вознестись до той идеальности, которая достигает выс¬
шего расцвета в столь многочисленных изображениях ма¬
донны. Католическое духовенство вообще делало всегда
некоторые уступки сенсуализму, когда дело касалось ма¬
донны. Этому образу непорочной красоты, притом про¬
светленному материнской любовыо и страданием, предо¬
ставлялось преимущественное право быть прославляемым
поэтами и живописцами и являться в уборе всех чувствен¬
ных прелестей. Ибо этот образ был магнитом, способным
привлечь толпу в лоно христианской церкви. Мадонна
Мария была как бы прелестной dame du comptoir 1 като¬
лической церкви, привлекающей и удерживающей своей
небесной улыбкой клиентов, в особенности варваров
Севера.
Средневековая архитектура была отмечена тем же ха¬
рактером, что и другие искусства, да и все жизненные
проявления вообще удивительнейшим образом гармони¬
ровали в это время друг с другом. Здесь, в архитектуре,
находит выражение та же тенденция к иносказанию, что
и в поэзии. Входя теперь в какой-нибудь старинный
собор, мы едва ли воспринимаем эзотерический смысл
его каменной символики. Непосредственно наше чувство
проникнуто лишь общим впечатлением. Мы ощущаем
здесь подъем духа и принижение плоти. Внутренность
собора представляет собой полый крест, и мы находимся
внутри самого орудия мучительства; цветные стекла
испещряют нас красными и зелеными пятнами, точно кап¬
лями крови и гноя; заупокойные песнопения рыдают
вокруг нас; под ногами у нас могильные плиты и тлей;
вместе с исполинскими колоннами дух возносится ввысь,
мучительно отрываясь от тела, падающего на землю, по¬
добно бессильной оболочке. Когда смотришь на эти
готические соборы с внешней стороны, па эти громадные
сооружения, такие воздушные, такие легкие, изящные,
прозрачные, будто вырезанные из бумаги, будто какие-то
брабантскне кружева из мрамора, — тогда еще сильнее
ощущаешь всю мощь этого времени, сумевшего даже кам-
1 Продавщицей (франц.).
153
нем овладеть настолько, что он является нам почти в при¬
зрачном одухотворении, так что и этот весьма твердый
материал становится выразителем христианского спири¬
туализма.
Ио искусство есть только зеркало жизни, и, померкну в
в жизни, католичество отзвучало и выцвело также в искус¬
стве. В период Реформации постепенно стала исчезать
в Европе католическая поэзия, и мы видим, как, заступая
ее место, вновь оживает давно умершая греческая поэзия.
Это, конечно, была лишь искусственная весна, создание
садовника, а не солнца, и деревья и цветы сидели в тесных
кадках, и стеклянное небо охраняло их от холода и се¬
верного ветра.
Не всякое событие во всемирной истории есть непосред¬
ственный результат другого; скорее, все события связаны
взаимной обусловленностью. Любовь к Греции и стремле¬
ние подражать ей распространились у нас отнюдь не
исключительно благодаря греческим ученым, переселив¬
шимся к нам после падения Византии; одновременно
с этим уже зашевелился дух протеста как в области
искусства, так и в жизни. Лев X, пышный Медичи, был
таким же ревностным протестантом, как и Лютер; и, как
в Виттенберге протестовали латинской прозой, так в Риме
языком протеста были камень, краска и ottave rime. 1
Разве могучие мраморные изваяния Микеланджело, смею¬
щиеся лица иимф Джулио Романо и упоенное жизныо
веселье в стихах маэстро Лодовико не являются проте¬
стующей противоположностью старчески угрюмому, из¬
можденному католичеству? Итальянские художники по¬
лемизировали с поповством, пожалуй, гораздо успешнее,
чем саксонские теологи. Цветущее тело иа картинах Ти¬
циана — ведь это сплошное протестантство. Бедра его
Венеры — это тезисы, гораздо более убедительные, чем
те, которые были прибиты немецким монахом на дверях
виттепбергской церкви. Казалось, люди почувствовали
себя вдруг освобожденными от тысячелетних оков; в осо¬
бенности свободно вздохнули художники, когда как бы
рассеялся душивший их христианский кошмар; с энту¬
зиазмом ринулись они в море греческой жизнерадост¬
ности, пз пены которого вновь подымались пред ними бо-
1 Октавы (шпал.).
т
гики красоты; живописцы вновь рисовали благовонную
радость Олимпа; со старым увлечением скульпторы вновь
высекали из мраморных глыб героев древности; поэты
вновь воспевали дом Атрея и Лая; начался период ново-
классической поэзии.
Подобно тому как современная жизнь приняла наиболее
завершенную форму во Франции при Людовике XIV,
так и неоклассическая поэзия получила именно здесь
полную законченность, пожалуй даже самобытную ори¬
гинальность. Благодаря политическому влиянию вели¬
кого короля эта неоклассическая поэзия распространи¬
лась по остальной Европе; в Италии, в которой она уже
издавна чувствовала себя дома, она получила француз¬
скую окраску; с Анжуйской династией прибыли в Испа¬
нию и герои французской трагедии; они перебрались
в Англию с мадам Генриеттой, и мы, немцы, само собой
разумеется, также воздвигли наши неуклюжие храмы во
славу напудренного версальского Олимпа. Знаменитей¬
шим верховным жрецом их был Готшед, пресловутый ве¬
ликий парик с косицей, так превосходно изображенный
нашим дорогим Гете в его воспоминаниях.
Лессинг был литературным Арминием, освободившим
наш театр от этого господства иноземцев. Он раскрыл нам
все ничтожество, смехотворность, безвкусицу этих подра¬
жаний французской драме, которая, в свою очередь, как
будто и сама была подражанием греческой. Однако не
только его критика, но и его собственные художествен¬
ные произведения сделали Лессинга основателем новой,
самобытной немецкой литературы. Ко всем направлениям
духа, ко всем сторонам жизни приглядывался этот человек
воодушевленно и бескорыстно. Искусством, богословием,
археологией, поэзией, театральной критикой, историей —
всем занимался ои с равным пылом и во имя той же цели.
Во всех его произведениях живет все та же великая социаль¬
ная идея, тот же прогресс гуманности, та же религия ра¬
зума, Иоанном Предтечей которой оп был и Мессию ко¬
торой мы всё еще ожидаем. Эту религию ои проповедовал
всегда, но часто, увы, в полном одиночестве и в пустыне.
Не было у него к тому же и искусства превращать камень
в хлеб; большую часть своей жизни оп провел в нужде
и мытарствах; это проклятие, лежащее бременем почти на
всех велпкнх умах Германии, будет, быть может, снято
155
лишь политическим освобождением. Политика захваты¬
вала Лессинга больше, чем предполагали, — свойство,
которого мы совершенно не находим у его современников;
лишь теперь нам ясно, что он имел в виду, изображая
деспотию мелких князьков в «Эмилии Галотти». В свое
время он считался только поборником свободы совести it
бордом против клерикальной нетерпимости, ибо его бого¬
словские сочинения встречали уже большее понимание.
Фрагменты «О воспитании рода человеческого», переве¬
денные иа французский язык Эженом Родригом, могут,
пожалуй, дать французам представление о широте ума
Лессинга. Наибольшее влияние на искусство оказали
два его критических труда: «Гамбургская драматургия')
и «Лаокоон, пли О границах живописи и поэзии». Он на¬
писал замечательные пьесы: «Эмилия Галотти», «Мпина
фон Барнхельм» и «Натан Мудрый».
Готхольд-Эфраим Лессинг родился в Каменце в Лау-
зицс 22 января 1729 года и умер в Брауншвейге 15 фев¬
раля 1781 года. Это был цельный человек, который, ни¬
спровергая своей полемикой старое, в то же время сам
творил повое и лучшее. «Он был подобен, — говорит
один немецкий писатель, — тем набожным евреям, кото¬
рые во время сооружения второго храма, часто тревожи¬
мые врагами, одной рукою боролись с ними, а другою про¬
должали строить храм». Здесь не место дольше говорить
о Лессинге; но не могу не заметить, что во всей истории
литературы это писатель, которого я более всех люблю.
Упомяну еще об одном писателе, который действовал
в том же духе н с тою же целью и может быть назван бли¬
жайшим преемником Лессинга; здесь, правда, не место
и для его оценки, да и вообще он занимает в истории лите¬
ратуры совершенно обособленное положение, и отношение
этого писателя к его времени и современникам все еще
не может быть установлено с полной определенностью.
Это Иоганн-Готфрид Гердер, родившийся в 1744 году
в Морупгепе, в Восточной Пруссии, и умерший в Вей¬
маре, в Саксонии, в 1803 году.
История литературы — это большой морг, где всякий
отыскивает покойников, которых любит или с которыми
состоит в родстве. Когда среди великого множества ни¬
чтожных трупов я вижу здесь Лессинга пли Гердера с их
величавыми человеческими лицами, мое сердце бьется
150
сильнее. Как могу я пройти мимо, не коснувшись легким
поцелуем ваших бледных губ!
Несмотря, одпако, на то, что Лессинг мощным напором
разрушил подражание французскому лжеэллтгиству, сам
оп все же именно своим указанием на подлинные художе¬
ственные создания эллинской древности дал некоторым
образом толчок новому виду нелепых подражаний. Своими
выступлениями против религиозного суеверия оп даже
содействовал той трезвенной мании просветительства, ко¬
торая получила широкое распространение в Берлине и
имела главного своего выразителя в покойном Николаи,
а свой арсенал — во «Всеобщей немецкой библиотеке».
Ничтожнейшая посредственность стала тут заявлять о себе
еще отвратительнее, чем когда-либо, и все нелепое и пу¬
стое надулось, как лягушка в басне.
Чрезвычайно ошибочным было бы мнение, будто Гете,
уже появившийся в то время, сразу же получил всеобщее
признание. Его «Гец фон Берлихииген» и «Вертер» были
приняты с восторгом, но такой же прием встречали сочи¬
нения зауряднейших кропателей, и Гете была отведена
в храме литературы лишь небольшая ниша. Только «Ген»
и «Вертер», как я сказал, были приняты публикой с во¬
сторгом, ио скорее из-за сюжета, чем из-за их художе¬
ственных достоинств, оценить которые не сумел почти
никто. «Гец» был драматизированным рыцарским романом,
какие пользовались успехом в те времена. В «Вертере>>
видели только обработку действительного происшествия,
а именно истории молодого Ерузалема, юноши, покон¬
чившего с собой из-за любви, что в тогдашнем глубоком
затишье наделало много шума; проливая слезы, читали
его трогательные письма; проницательно замечали, что
манера, с которою Вертер был удален из дворянского
общества, усилила его отвращение к жизни; вопрос о са¬
моубийстве усугубил толки ио поводу книги; нескольким
дуракам явилась мысль заодно пустить и себе пулю в го¬
лову. Книга своим сюжетом произвела впечатление
взрыва. Но романы Августа Лафонтена читались с такою
же охотой, и так как он писал безостановочно, то про¬
славился больше, чем Вольфганг Гете. Великим поэтом
того времени был Вилапд, соперничать с которым в поэзии
мог разве лишь берлинский одописец г-н Рамлер. Ви-
ланда чтили благоговейно, более, чем когда-либо Гете.
157
В театральной области царил Ифланд со своими слезливо-
мещанскими драмами и Коцебу со своими пошло-остроум¬
ными фарсами.
Против этой-то литературы и поднялась в последние
годы прошлого столетия в Германии школа, которую мы
назвали романтической и в качестве руководителей кото¬
рой представились нам г-да Август-Вильгельм и Фридрих
Шлегели. Иена, где временами проживали оба брата сов¬
местно со многими единомышленниками, была средото¬
чием, откуда распространялась новая эстетическая док¬
трина. Я говорю «доктрина», потому что школа эта начала
с оценки художественных произведений прошлого и с ре¬
цепта изготовления художественных произведений буду¬
щего. В обоих этих направлениях шлегелевская школа
может похвалиться большими заслугами в области эсте¬
тической критики. При оценке уже существующих худо¬
жественных произведений либо раскрывались их недо¬
статки и погрешности, либо освещались их достоинства
и красоты. В полемике, в этом выяснении недостатков и
погрешностей в искусстве, г-да Шлегели были целиком
подражателями старика Лессинга, они завладели его
большим боевым мечом, с тою лишь разницей, что рука
г-на Августа-Вильгельма Шлегеля была слишком изне¬
женно бессильна, а глаз его брата Фридриха слишком
мистически затуманен, чтобы один мог разить столь же
мощно, а другой столь же метко, как Лессинг. Но в поло¬
жительной критике художественных произведений, на¬
глядно выявляющей их красоты, где важна тонкость
чутья, схватывающая их своеобразие и это своеобразие
разъясняющая, — здесь г-да Шлегели решительно выше
старика Лессинга. Но что мне сказать об их рецептах
изготовления совершенных произведений искусства? Тут
г-да Шлегели обнаружили бессилие, которое, пожалуй,
встречается и у Лессинга. Насколько Лессинг силен в от¬
рицании, настолько же он слаб в утверждении, редко умея
установить основной принцип и еще реже — принцип
правильный. Ему недостает твердой почвы определенной
философской школы, недостает философской системы.
У г-д Шлегелей это проявляется в еще более безнадежной
степени. Болтают разное о влиянии фихтевского идеа¬
лизма и Шеллинговой натурфилософии па романтическую
школу, которую даже целиком пытаются вывести из них.
158
Но я нахожу здесь разве лишь влияние некоторых обрыв¬
ков мыслей Фихте и Шеллинга, а никак не влияние какой-
либо философии. Однако г-н Шеллинг, преподававший
тогда философию в Иене, конечно оказал большое личное
влияние на романтическую школу; ведь он, что неизвестно
во Франции, в некоторой степени также поэт и, говорят,
еще колеблется, не опубликовать ли ему все свое фило¬
софское учение в поэтическом и даже в стихотворном виде.
Такие колебания характеризуют этого человека.
Если, однако, г-да Шлегели, давая поэтам своей школы
заказ на создание шедевров, не могли для этого предло¬
жить никакой определенной теории, то они восполняли
этот пробел, восхваляя в качестве образца и делая до¬
ступными своим ученикам лучшие произведения искус¬
ства прошлого. Это были главным образом создания хри¬
стианско-католического искусства средних веков. Перевод
Шекспира, который стоит на рубеже этого искусства,
с протестантской ясностью улыбается уже нашей повой
эпохе; этот перевод имел исключительно полемические
цели, обсуждение которых слишком отвлекло бы нас
в сторону. К тому же этот перевод был предпринят
г-ном А.-В. Шлегелем в годы, когда увлечение не загнало
еще всех назад, в глубь средневековья. Впоследствии,
когда это произошло, был переведен Кальдерон, которого
вознесли много выше Шекспира; ведь у него поэзия сред¬
невековья оказалась выраженной в наиболее чистом виде,
и как раз в двух основных ее элементах — в рыцарстве
и монашестве. Благочестивые комедии кастильского свя-
щенника-поэта, поэтические цветы которого окроплены
святой водой и окурены ладаном, сделались теперь пред¬
метом подражания со всей их церковной торжествен¬
ностью, со всей их жреческой пышностью, со всеми сакра¬
ментальными юродствами; и вот в Германии начался
расцвет этих крикливо-набожных, глуповато-глубоко¬
мысленных драм, где мистически влюблялись, как в «По¬
клонении кресту», или сражались во славу богоматери,
как в «Стойком приице», и Захария Вернер зашел
в этом деле так далеко, как только можно, не подвергаясь
опасности угодить по приказу начальства в сумасшед¬
ший дом.
Поэзия наша дряхла, говорили г-да Шлегели; паша
муза — старуха с прялкой, наш Амур не светлокудрый
159
мальчуган, а морщинистый, ссдой карлик, наши чувства
исчахли, фантазия высохла: нам необходимо освежиться,
необходимо вновь отыскать засыпанные родники наивной,
простодушной поэзии средневековья; отсюда брызжет
нам навстречу напиток молодости. И сухая, трезвая пу¬
блика пе потребовала повторения этих слов; особенно
злосчастные обладатели пересохших глоток, сидевшие
в бранденбургских песках, вздумали вновь расцвести
и помолодеть, и они ринулись к этим чудодейственным
источникам, и пили, и хлебали, и глотали с беспредельной
жадностью. Но с ними случилось то же, что со старой ка¬
меристкой, о которой рассказывают следующее: она за¬
метила, что у ее хозяйки есть чудотворный эликсир, воз¬
вращающий молодость; в отсутствии дамы она взяла с ее
туалетного стола флакон с этим напитком, но вместо
того чтобы принять несколько капель, она сделала такой
основательный глоток, что от чрезмерной волшебной силы
омолаживающего напитка не только просто помолодела,
ио превратилась в маленького ребенка. Поистине, как
раз то же самое произошло с нашим превосходным г-ном Ти¬
ком, одним из лучших поэтов школы; оп так наглотался
народных книг и стихотворений средневековья, что почти
впал в детство и дошел до той лепечущей наивности, ко¬
торой с такими усилиями восхищалась г-жа де Сталь.
Она сама признается, что ей кажется курьезным, когда
действующее лицо открывает драму монологом, который
начинается словами: «Я достопочтенный Бонифаций,
и я пришел сказать вам» и т. д.
Г-н Людвнг Тик в романе «Странствия Штерибальда»
и в изданных им «Сердечных излияниях монаха, любителя
изящного», написанных неким Вакепродером, рекомен¬
довал грубые, наивные начатки искусства в качестве об¬
разцов также и мастерам изобразительного искусства. Ои
советовал подражать благочестнвости и детскому просто¬
душию этих произведении, проявляющимся в технической
беспомощности. Рафаэль был совершенно отвергнут, его
учителя Перуджино едва признавали. Последнего ценили
несколько выше, так как у пего находили остатки тех
красот, которым благоговейно изумлялись в бессмертных
творениях фра Джованни-Анджелико да Фисзоло. Чтобы
составить себе понятие о вкусе тогдашних энтузиастов
искусства, надо побывать в Лувре, где висят еще лучшие
1W
картины мастеров, окруженных в ту пору безусловным
преклонением; а чтобы составить себе понятие о великом
множестве поэтов, подражавших во всевозможных стихо¬
творных размерах произведениям средневековой поэзии,
надо побывать в сумасшедшем доме в Шараптопе
На мой взгляд, впрочем, и эти картины в первом зале
Лувра все еще слишком изящны, чтобы но ним можно
было составить понятие о художественном вкусе той поры.
Надо вообразить себе эти староитальянские картины
в старонемецком переводе. Ибо произведения старинных
немецких художников считались еще гораздо более наив¬
ными и простодушными и, следовательно, еще более до¬
стойными подражания, чем староитальянские. Потому
что немцам, — как тогда говорили, — их Gemüt (слово,
не имеющее соответствия во французском языке) дает
возможность понять христианство глубже других народов,
и Фридрих Шлегсль со своим другом г-иом Йозефом Тор¬
ресом рыскали в старых городах по Рейну, охотясь за
остатками старинных немецких картин и статуй, ставших,
наряду со священными реликвиями, предметом слепого
поклонения.
Я только что сравнил немецкий Парнас того времени
с Шарантоном. Уверен, однако, что и здесь я был еще
слишком мягок. Французское безумие далеко еще не
столь безумно, как немецкое, ибо в последнем, как сказал
бы Полоний, есть система. С беспримерным педантизмом,
с ужасающей добросовестностью, с основательностью,
о которой поверхностный французский умалишенный не
может иметь представления, свершалось это немецкое
безумие.
Политическое положение Германии особенно благо¬
приятствовало этому христиапско-старонемецкому направ¬
лению. «Нужда научает молиться», — говорит посло¬
вица, — ив самом деле, никогда нужда в Германии не
была сильнее, и потому никогда парод не был более вос¬
приимчив к молитве, религии, христианству. Нет народа,
более приверженного своим государям, чем немецкий, и
немцев певыпоепмейшим образом удручало не столько
печальное положение страны вследствие войны и чуже¬
земного господства, сколько горестное зрелище их побе¬
жденных государей, пресмыкавшихся у ног Наполеона;
весь народ напоминал тех старых верных слуг в барских
161
домах, которых унижения, выпавшие иа долю их господ,
удручают еще сильнее, чем самих господ, и которые втайне
проливают горчайшие слезы по поводу, например, рас¬
продажи хозяйского серебра и даже — как это доста¬
точно трогательно изображается в старинных драмах —■
потихоньку тратят свои жалкие сбережения для того,
чтобы на барском столе горели не мещанские сальные,
а дворянские восковые свечи. Всеобщее уныние находило
утешение в религии, и так зародилось пиетистское упо¬
вание на волю божью, от которой только и оставалось
ждать спасения. И в самом деле, от Наполеона не мог
спасти решительно никто, кроме самого господа бога. На
земное воинство рассчитывать уже было нечего, — оста¬
валось с надеждой возводить очи к небесам.
Мы самым спокойным образом снесли бы и Наполеона.
Но наши государи, лелея надежду, что бог избавит
их от него, все же допускали и такую мысль, что объеди¬
ненные силы их народов могли бы быть очень полезны
в этом деле; с этой целью старались пробудить в немцах
чувство единства, и даже высочайшие особы заговорили
теперь о германском народном духе, об общем германском
отечестве, об объединении христианско-германских пле¬
мен, о единстве Германии. Нам был предписан патрио¬
тизм, и мы стали патриотами, ибо мы делаем все, что нам
приказывают наши государи. Под этим патриотизмом,
однако, не надо понимать чувство, носящее то же имя
здесь, во Франции. Патриотизм француза заключается
в том, что сердце его согревается, от этого нагревания рас¬
ширяется, раскрывается, так что своей любовью оно охваты¬
вает уже не только ближайших родичей, но всю Фран¬
цию, всю цивилизованную страну; патриотизм немца
заключается, наоборот, в том, что сердце его сужается,
что оно стягивается, как кожа на морозе, что он начинает
ненавидеть все чужеземное и уже не хочет быть ни гражда¬
нином мира, ни европейцем, а только ограниченным немцем.
Тут и узрели мы идеальную грубость, приведенную в систе¬
му г-ном Яном; началась жалкая, неуклюжая, грязная
оппозиция против мировоззрения, представляющего со¬
бою высочайшее и святейшее из всего, что было поро¬
ждено Германией, а именно, против той гуманности,
против того всеобщего братства людей, против того кос¬
мополитизма, поборниками которого всегда были наши
162
великие умы — Лессинг, Гердер, Шиллер, Гете, Жап-
Поль, все образованные люди Германии.
Что воспоследовало затем в Германии, известно вам
слишком хорошо. Когда господь бог, снег и казаки уни¬
чтожили лучшие войска Наполеона, то мы, немцы, полу¬
чили высочайший приказ освободиться от чужеземного
ига, — и мы воспылали мужественным гневом против
нашего долготерпения и рабства и воодушевились под
влиянием прекрасных мелодий и плохих стихов керне-
ровских песен, —и мы завоевали свободу; ибо мы делаем
все, что приказывают нам наши государи.
В эпоху, когда подготовлялась эта борьба, школу,
враждебно настроенную против всего французского и
прославлявшую все национальное в искусстве и жизни,
ждал самый пышный расцвет. Романтическая школа шла
в ту пору рука об руку со стремлениями правительств
и тайных обществ, и г-н А.-В. Шлегель конспирировал
против Расина в тех же целях, что и министр Штейн против
Наполеона. Школа плыла по течению времени, и по тому
именно течению, которое возвращалось к своему истоку.
Когда, наконец, немецкий патриотизм и немецкая нацио¬
нальность одержали полную победу, восторжествовала
окончательно и народно-германско-христианско-романти¬
ческая школа, «новонемецкое религиозно-патриотическое
искусство». Пал Наполеон, великий классик, столь же
классический, как Александр и Цезарь, и г-да Август-
Вильгельм и Фридрих Шлегели, маленькие романтики,
столь же романтические, как «Мальчик с пальчик» и
«Кот в сапогах», победоносно подняли голову.
Но и здесь не замедлила наступить реакция, неизменно
следующая за всякими крайностями. Как спиритуалисти¬
ческое христианство было реакцией против грубого
господства римско-имперского материализма; как в пробу¬
жденной любви к жизнерадостному греческому искус¬
ству и науке следует видеть реакцию против христиан¬
ского спиритуализма, выродившегося в самое идиотиче¬
ское умерщвление плоти, как пробуждение средневековой
романтики равным образом может считаться реакцией
против рассудочного подражания античному, классиче¬
скому искусству, — так и теперь начинается реакция
против возрождения того феодально-католического миро¬
воззрения, того рыцарства и поповства, которое пропо-
163
всдовалось словом и кистью, и притом в чрезвычайно
странных условиях. Дело в том, что, высоко прославляя
и окружая восхищением старых художников средневе¬
ковья в качестве образцов для подражания, пх совер¬
шенства объясняли исключительно тем, что эти люди были
проникнуты верой в предмет своего изображения, что
б своей безыскусственной простоте они могли дать больше,
чем позднейшие неверующие мастера, значительно опере¬
дившие их в технике, — что вера сотворила в них чудо;
и в самом деле, чем иным можно было объяснить прелести
какого-нибудь фра Анджелико да Фиезоле пли поэму
брата Отфрида? И вот художники, серьезно относившиеся
к искусству и стремившиеся воссоздать божественную
неуклюжесть этих чудо-картин и священное косноязычие
этих чудо-поэм, — словом, всю неизъяснимую мистику
старинных творений,—решили отправиться к той нее Гиппо-
креие, в которой старые мастера черпали свое мистическое
вдохновенно; они отправлялись паломниками в Рим, где
наместник Христа должен был вновь подкреплять моло¬
ком своей ослицы чахоточное немецкое искусство; одним
словом, они уходили в лоно единоспасающей римско-
католической апостольской церкви. Для многих привер¬
женцев романтической школы не потребовалось и фор¬
мального перехода, они были, как, например, г-н Геррес
и г-н Клеменс Брептано, католиками по рождению и
только отреклись от своего прежнего свободомыслия.
Другие, однако, родились и были воспитаны в лоне про¬
тестантской церкви; таковы были, например, Фридрих
Шлегель, г-н Людвиг Тик, Новалис, Вернер, Шютц,
Каровё, Адам Мюллер и др., и их переход в католичество
требовал публичного акта. Я назвал здесь только писа¬
телей; число художников, толпами отрекавшихся от
евангелического вероисповедания и разума, было гораздо
больше.
Видя, как эти молодые люди образовали нечто вроде
очереди перед римской церковью, протискиваясь ко входу
в старую темницу мысли, откуда отцы их освободились
с таким усилием, в Германии с великой тревогой покачи¬
вали головой. Но когда стало очевидным, что здесь ору¬
дует пропаганда попов и дворянчиков, состоящих в за¬
говоре против религиозной и политической свободы
Европы, что это иезуиты сладкими звуками романтики
164
столь губительно заманивают немецкую молодежь — по¬
добно тому, как некогда легендарный крысолов заманивал
гамельиских детей, — среди поборников свободы духа и
протестантизма в Германии вспыхнуло великое негодова¬
ние и пламенный гнев.
Я назвал рядом свободу духа и протестантизм; хотя
я в Германии принадлежу к протестантской церкви,
я надеюсь, что меня пе обвинят в партийном пристрастии
к ней. Право же, я без всякой партийности назвал рядом
свободу духа и протестантизм; и в самом деле, между ними
есть в Германии дружественная связь. Они во всяком
случае родственны, и притом как мать и дочь. Несмотря
на то, что протестантской церкви ставят в упрек злопо¬
лучную узость многих ее воззрений, необходимо все же,
к бессмертной ее славе, признать, что, разрешив свободное
исследование в христианском вероучении и освободив
умы от ига авторитета, она дала возможность свободному
исследованию вообще пустить корни в Германии и науке —
развиваться самостоятельно. Немецкая философия, не¬
смотря на то что она теперь ставит себя рядом с проте-
сташской церковью и даже выше ее, является все же лишь
ее дочерью; это всегда обязывает ее относиться к матери
с бережной почтительностью, и семейные интересы побу¬
дили их заключить союз, когда обеим стал угрожать
общий их враг — иезуитство. Все сторонники свободы
мысли и протестантской церкви, как скептики, так и
ортодоксы, разом восстали против воскресителей католи¬
чества; и, само собой разумеется, либералы, которых за¬
нимали, собственно, пе интересы философии или проте¬
стантской церкви, ио интересы политической свободы,
также примкнули к этой оппозиции. Но в Германии до
сих пор либералы были одновременно школьными фило¬
софами и богословами, и, заняты ли они вопросами чисто
политическими, философскими или богословскими, они
всегда отстаивают все ту же идею свободы. Это легче всего
проследигь иа человеке, подрывавшем основы романтиче¬
ской школы уже при возникновении ее, а затем более всех
содействовавшем ее ниспровержению. Человек этот —
Ногани-Геприх Фосс.
Он совершенно неизвестен во Франции, а между
тем мало кому немецкий народ больше обязан своим
развитием, чем ему. После Лессинга оп, быть может,
1<У)
величайший гражданин в немецкой литературе. Во вся¬
ком случае это был большой человек, заслуживающий
не только простого упоминания.
Его биография — это почти что общая биография всех
немецких писателей старой школы. Он родился в 1751 году
в Мекленбурге от бедных родителей, учился на теологи¬
ческом факультете, потом бросил, когда познакомился
с поэзией и греками, углубился в то и другое, давал уроки,
чтобы не умереть с голоду, сделался учителем в Оттерн-
дорфе, в Гадельнском округе, переводил древних класси¬
ков и, прожив всю жизнь бедным, скромным тружеником,
умер на семьдесят пятом году жизни. Среди поэтов старой
школы ои пользовался большим почетом; но новые роман¬
тические поэты не уставали пощипывать его лавры и по¬
стоянно издевались над старомодным честным Фоссом,
который на наивном, иногда даже простонародном нижне¬
немецком языке воспевал мелкообывательскую жпзнь
в низовьях Эльбы и героями своих поэм избирал не сред¬
невековых рыцарей и мадонн, а скромного протестант¬
ского пастора и его добродетельное семейство; он был так
здоров, так буржуазно прост и так естествен, между тем
как они, эти новейшие трубадуры, были так сомнамбули-
чески-болезненпы, так рыцарски-аристократичны и так
гениально-неестественны. Каким невыносимым должен
был казаться он восторженному творцу распутно-романти¬
ческой «Люцинды», Фридриху Шлегелю, этот трезвенный
Фосс со своей целомудренной Луизой и старым, досто¬
почтенным пастором из Грюнау! Г-н Август Шлегель,
никогда не увлекавшийся распутством и католичеством
так искренно, как его брат, уже гораздо лучше умел
ладить со старым Фоссом, и между ними, собственно,
существовало только соперничество в области перевода,
принесшее, впрочем, большую пользу немецкому языку.
Еще до возникновения новой школы Фосс перевел Го¬
мера, затем с неслыханным прилежанием взялся за пере¬
вод также и других поэтов языческой древности, между
тем как А.-В. Шлегель переводил христианских поэтов
романтико-католического времени. Оба труда опреде¬
ляются скрыто полемическими целями: Фосс стремился
своими переводами внедрить классическую поэзию и
классические воззрения, в то время как г-н А.-В. Шлегель
старался посредством хороших переводов сделать доступ¬
260
ными читателям христианско-романтических поэтов, с
целью подражания и просвещения. Более того, антаго¬
низм проявлялся даже в формах языка обоих перевод¬
чиков. В то время как г-н Шлегель, шлифуя свои слова,
делал их все слащавее и манернее, Фосс в своих переводах
становился все жестче и грубее; позднейшие переводы его
благодаря нарочитым шероховатостям почти неудобо¬
произносимы, и если иа блестяще натертом гладком
палисандровом паркете шлегелевских стихов легко было
поскользнуться, то столь же легко спотыкался читатель
о стихотворные мраморные глыбы старика Фосса. Наконец,
Фосс из соперничества взялся и за Шекспира, которого
г-н Шлегель так превосходно перевел в первом периоде
своей деятельности; но тут пришлось очень плохо старому
Фоссу и еще хуже его издателю: перевод оказался со¬
вершенно неудачным. Там, где г-н Шлегель переводит,
быть может, слишком мягко, где стихи его подчас похожи
на взбитые сливки, так что, поднося их ко рту, не знаешь,
есть ли их пли пить, там Фосс тверд как камень, и, произ¬
нося его стихи, опасаешься сломать себе челюсть. Но более
всего отличала Фосса та сила, с которою он преодолевал
все трудности; а он боролся не только с немецким языком,
но и с иезуитски-аристократическим чудовищем, высунув¬
шим в ту пору свою отвратительную голову из сумрачной
чащи немецкой литературы, и Фосс нанес ему основатель¬
ную рану.
Г-н Вольфганг Менцель, немецкий литератор, извест¬
ный в качестве одного из ожесточеннейших противников
Фосса, называет его нижнесаксонским мужиком. Вопреки
оскорбительному намерению, это название весьма метко.
Фосс и в самом деле нижнесаксонский мужик, каким был
и Лютер; не было в нем ничего рыцарского, ничего кур¬
туазного, ничего грациозного; он целиком принадлежал
к тому грубо-кряжистому, мужественному племени, среди
которого пришлось внедрять христианство огнем и мечом
и которое лишь после трех поражений в боях покорилось
новой вере; однако оно все еще сохраняет в своих нравах
и обычаях значительную долю североязыческого упорства
и в своих боях, материальных и духовных, является
столь же храбрым и непреклонным, как его старые боги.
Прямо скажу: когда я рассматриваю Иоганна-Генриха
Фосса в его полемике и во всем его существе, то я как
167
будто вижу ирод собой самого старого одноглазого Одина,
который, покинув свой замок Асгард, сделался учителем
в Оттерндорфе, в Гадельпском округе, и обучает там бе¬
локурых голштинцев латинским склонениям и христиан¬
скому катехизису, а в часы досуга переводит иа немецкий
язык греческих поэтов, и занимает у Тора молот для
сколачивания немецких стихов, и под конец, раздражен¬
ный утомительной работой, подымает этот молот и обруши¬
вает его иа голову бедного Фрица Штольберга.
Это была замечательная история. Граф Фридрих фон
Штольберг был поэтом старой школы, весьма прослав¬
ленным в Германии, быть может не столько благодаря
своим поэтическим дарованиям, сколько благодаря граф¬
скому титулу, значившему в те времена в немецкой лите¬
ратуре гораздо больше, чем теперь. Но Фриц Штольберг
был человеком либеральным, с благородным сердцем, и он
был другом тех молодых бюргеров, которые основали
в Геттингене поэтическую школу. Советую французским
литераторам познакомиться с предисловием к стихотво¬
рениям Гельти, где Иоганн-Генрих Фосс изобразил идил¬
лию совместного существования поэтов, образовавших
союз, к которому принадлежали оп и Фриц Штольберг.
В конце концов из всего молодого поэтического кружка
в живых остались только они двое. И вот, когда Фриц
Штольберг торжественно перешел в католичество, от¬
рекся от разума и любви к свободе и превратился в побор¬
ника обскурантизма, соблазняя своим высоким примером
многих слабых духом, — тогда Иоганн-Генрих Фосс,
семидесятилетпий старик, публично выступил против
своего друга юности, бывшего в столь же преклонном воз¬
расте, и написал книжку под заглавием: «Как Фриц
Штольберг сделался рабом». Он проанализировал здесь
всю его жизнь и показал, как аристократическая природа,
настороженно затаившись, скрывалась всегда в побратав¬
шемся с ним графе; как она все явственнее обнаружива¬
лась после событий французской революции; как Штоль¬
берг тайно примкнул к так называемой «Дворянской
цени», вознамерившейся противодействовать французским
освободительным началам; как эти дворяне вступили
в союз с иезуитами; как предполагалось посредством вос¬
становления католичества содействовать и дворянским
интересам; как вообще добивались возрождения хри-
16S
стиаиско-католического феодального средневековья и уни¬
чтожения протестантской свободы мысли и буржуазной
гражданственности. Немецкая демократия и немецкая
аристократия, с такой юношеской непосредственностью
братавшиеся до времен революции, когда одна пн на что
еще не надеялась, а вторая ничего не опасалась, стояли
теперь друг против друга и, превратившись в двух стари¬
ков, бились насмерть.
Часхь немецких читателей, не уразумевшая значения
и жестокой необходимости этой борьбы, осуждала бед¬
ного Фосса за безжалостное разоблачение домашних дел,
мелких житейских происшествий, которые, однако, в своей
совокупности представляли убедительное целое. И здесь
тоже, конечно, нашлись так называемые возвышенные
души, которые со всей величавостью разглагольствовали
о жалком копании в мелочах и обличали бедного Фосса
в страсти к сплетням. Другие — мещане, встревоженные,
как бы когда-нибудь не была отдернута завеса с их соб¬
ственного убожества, вопили о нарушении почтенной ли¬
тературной традиции, строго возбраняющей всякие лич¬
ные намеки, всякие разоблачения частной жизни. Когда
же вскоре затем Фриц Штольберг умер (считали, что
умер он от огорчения), а после его кончины появилась даже
«Книжка любви», где оп в святошсски-христиапском все¬
прощающем, подлинно иезуитском тоне говорил о бедном
ослепленном друге, — тогда хлынули слезы немецкого
оостра/цшия, ручьем заплакал немецкий Михель, против
бедного Фосса накопилось много мягкосердечной ярости;
главную долю ругательств иолумш он от тех самых
людей, за духовное и светское спасение которых оп
боролся.
Вообще в Германии можно рассчитывать на сострадание
и на слезные железы толпы, когда тебе в полемике хорошо
намнут бока. Немцы похожи тогда на старых баб, которые
ни за что не упустят случая поглазеть на казнь, проти¬
скиваются вперед, в ряды самых любопытных зршелей,
а при Биде осужденного и его страданий горько рыдают и
даже защищают его. Но эти плакальщицы, так жалостно
причитающие при литературных экзекуциях, были бы чрез¬
вычайно огорчены, если бы осужденный, порки которого
они как раз ожидали, вдруг был бы помилован и им при¬
шлось бы, ничего не повидав, тащиться домой. В таких
169
случаях их возросшая ярость обращается на того, кго
обманул их ожидания.
Тем не меиее выступление Фосса произвело на пу¬
блику огромное впечатление и разрушило обуявшую об¬
щество тягу к средневековью. Полемика привела Германию
в возбуждение, значительная часть публики объявила
себя безусловной сторонницей Фосса, еще более значи¬
тельная, однако, стояла лишь за его дело. Посыпались
статьи и возражения, и последние дни старика в немалой
степени были отравлены этой склокой. Ему пришлось
иметь дело с самыми скверными противниками—с попами,
нападавшими на него под всяческими масками. Не только
тайные католики, но п пиетисты, квиетисты, лютеранские
мистики, словом все супернатуралистические секты про¬
тестантской церкви, в своей среде разделяемые столь раз¬
личными воззрениями, объединились все же в равно бе¬
шеной ненависти против Иоганна-Генриха Фосса, против
рационалиста. Последним названием обозначают в Гер¬
мании людей, признающих права разума и в религии,
в противоположность супернатуралистам, в большей или
меньшей степени отказавшимся от познания посредством
разума. Последние в своей ненависти к бедным рациона¬
листам похожи на умалишенных в сумасшедшем доме,
которые, будучи безумными совершенно по-разному,
все же сносно уживаются друг с другом, но с жесто¬
чайшим озлоблением относятся к тому человеку, кото¬
рого считают своим общим врагом и который есть не
кто иной, как психиатр, старающийся вернуть им рас¬
судок.
Если, таким образом, разоблачение католических про¬
исков подорвало положение романтической школы в об¬
щественном мнении, то одновременно над ней было про¬
изнесено уничтожающее осуждение в ее собственном
храме, и произнесено устами одного из богов, ею самою
там воздвигнутых. Не кто иной, как сам Вольфганг Гете,
сошел с пьедестала и изрек обвинительный приговор
Шлегелям, тем самым верховным жрецам, которые ка¬
дили ему столь усердно. Этот голос разогнал все нава¬
ждение: призраки средневековья разлетелись; совы вновь
попрятались в сумрачных развалинах замков; воронье
вновь унеслось на свои старые колокольни; Фридрих
Шлегель перебрался в Вену, где ежедневно бывал у обедни
170
и ел жареных каплунов по-вспски; г-н Август-Вильгельм
Шлегель удалился в пагоду Брамы.
Откровенно говоря, Гете играл в то время весьма дву¬
смысленную роль и никак не заслуживает безусловного
одобрения. Что правда, то правда, г-да Шлегели никогда
по отношению к нему не были честны; быть может, лншь
потому, что в их полемике против старой школы пм необ¬
ходимо было выставить в качестве образца также п жпвого
поэта, а более подходящего, чем Гете, они не нашли, они,
к тому же в расчете на его литературную поддержку, воз¬
двигли ему алтарь, и воскуряли фимиам, п заставляли
народ преклонять пред ним колена. Он, вдобавок, был
таким близким их соседом. Из Иены в Веймар ведет аллея
прекрасных деревьев, иа которых растут сливы, очень
вкусные, особенно когда в летнюю жару вас томит
жажда; и по этой дороге очень часто ходили Шлегели и
не раз беседовали в Веймаре с господином тайным совет¬
ником фон Гете, который всегда был большим дипломатом
и спокойно слушал Шлегелей, одобрительно улыбался,
иногда приглашал их к своему столу, случалось, что ока¬
зывал им и другие любезности, и т. д. Они подбирались
и к Шиллеру, но тот был человек прямой и не пожелал
иметь с ними дела. Переписка между ним и Гете, появив¬
шаяся три года назад, бросает свет иа отношение обоих
поэтов к Шлегелям. Гете свысока посмеивается над ними,
Шиллер возмущен их наглой жаждой скандала, их мане¬
рой привлекать внимание посредством скандала и назы¬
вает их «балбесами».
Сколько бы, однако, ни важничал Гете, тем не менее
значительнейшей долей своей известности он обязан Шле¬
гелям. Они начали и поощряли в дальнейшем изучение
его произведений. Оскорбительная надменность, с кото¬
рой он в конце концов отмахнулся от них, сильно отдаст
неблагодарностью. Быть может, однако, проницательного
Гете раздражало то, что Шлегели хотели лишь восполь¬
зоваться им как средством для своих целей; быть может,
эти цели грозили скомпрометировать его, министра про¬
тестантского государства, быть может даже в нем про¬
снулся древшш гнев языческого бога при виде темных
католических происков: в противоположность Фоссу,
который напоминал мрачного одноглазого Одина, Гете
своим внешним обликом и воззрениями был подобен Юни-
171
тору. Тому, правда, пришлось хорошенько ударить мо¬
лотом Тора; этому достаточно было недовольно тряхнуть
головой и умащенными амброзией кудрями — и Шлегели
содрогнулись и уползли. Печатный документ этого пори¬
цания со стороны Гете появился во втором выпуске его
журнала «Искусство и античность» под заглавием «О хри¬
стианско-патриотическом новонемецком искусстве». Этой
статьей Гете произвел как бы свое 18 брюмера в немецкой
литературе; ибо, сурово изгнав из храма Шлсгслен, при¬
влекши лично к себе многих из их ревностнейших при¬
верженцев, при общем одобрении публики, которой давно
(.протпвела шлегелевская директория, он установил свое
самодержавие в немецкой литературе. С этого часа не
было больше речи о г-дах Шлегелях; лишь изредка вспо¬
минали о них, как вспоминают еще теперь иногда о Барра
или Гойе; кончились разговоры о романтизме и класси¬
ческой поэзии, речь шла о Гете — и только о Гете. Правда,
за эти годы выступили на сцену некоторые поэты, силой и
воображением немногим ему уступавшие, но они кур¬
туазно признали его своим главой, окружили его по¬
клонением, целовали ему руку, преклоняли пред ним
колена; эти парнасские гранды отличались, однако, от
толпы тем, чю имели право и в присутствии Гете оста¬
ваться в лавровых венках. Иногда они фрондировали про¬
тив него, но исполнялись негодованием, когда кто-либо
не столь знатный тоже осмеливался ругнуть Гете. Как бы
ни были злы аристократы па своего суверена, они все же
возмущаются, когда чернь тоже восстает против пего.
А аристократы духа в Германии в продолжение последних
двух десятилетии имели весьма веские основания быть недо¬
вольными Гете. Как сам я в то время с достаточной го¬
речью открыто высказал, Гете уподобился Людовику XI, ко¬
торый принижал высшее дворянство и возвышал tiers état.1
Это было несносно — Гете боялся всякого самостоя¬
тельного, оригинального писателя и славил и восхвалял
всякую ничтожную мелкоту; он зашел в этом так далеко,
что в конце концов похвала Гете стала считаться патен¬
том на посредственность.
В дальнейшем я еще поговорю о новых поэтах, высту¬
пивших в период гетевской империи. Это молодой лес,
1 Третье сословие (франц.).
172
стволы которого обнаруживают свою высоту лишь теперь,
с тех пор как рухнул столетний дуб, так размашисто по¬
крывавший и осенявший их своими ветвями.
Как я сказал, не было недостатка в оппозиции, оже¬
сточенно восстававшей против этого могучего дерева, про¬
тив Гете. Люди противоположнейших воззрений объеди¬
нялись в этой оппозиции. Староверы, ортодоксы были раз¬
дражены тем, что в стволе этого лесного великана не было
дупла с образком святого, что даже языческие дриады
нагишом резвились среди его ветвей в колдовских игрищах,
и эти люди охотно подрубили бы, подобно св. Бонифацию,
священной секирой этот старый волшебный дуб; побор¬
ники новой религии, приверженцы либерализма, наоборот,
были раздражены тем, что это дерево нельзя обратить
в дерево свободы и уж никак невозможно употребить па
баррикаду. И действительно, дерево было слишком вы¬
соко, невозможно было насадить на его макушку красную
шапку и плясать под ним карманьолу. Но широкая масса
чтила это дерево именно потому, что оно было так само¬
бытно прекрасно, что так упоительно наполняло оно весь
мир своим благоуханием, что с таким великолепием про¬
стирались его ветви до самого неба, так что звезды каза¬
лись лишь золотыми плодами исполинского чудесного
дерева.
Оппозиция против Гете начинается, собственно, с по¬
явления так называемых поддельных «Годов странствий»,
под заглавием «Годы странствий Вильгельма Мейстера»,
изданных Готфридом Бассе в Кведлипбурге в 1821 году,
то есть вскоре после падения Шлегелей. Под этим именно
заглавием Гете анонсировал выход в свет продолжения
«Годов учения Вильгельма Мейстера», и, по странному
стечению обстоятельств, продолжение это появилось одно¬
временно с этим литературным двойником, где не только
перенята была манера Гете, но в качестве действующего
лица выступал герой гетевского романа. Это подражание
свидетельствовало не столько о великом уме, сколько
о великой ловкости, и любопытство публики было еще
искусственно усилено тем, что автор па некоторое время
сумел сохранить свое имя в тайне и все старания до¬
знаться, кто он, были напрасны. Наконец выяснилось,
что сочинителем является доселе неизвестный деревенский
пастор, по фамилии Пусткухен, что по-французски значит
173
omelette soufflée 1 — имя, определяющее и все его суще¬
ство. Эта книга представляла собою не что иное, как старое
ннетистское кислое тесто, эстетически раздувшееся.
Здесь Гете предъявлялись обвинения в том, что его про¬
изведениям чужды моральные цели; что он способен
создавать не благородные образы, но лишь вульгарные
фигуры; что, наоборот, Шиллер изображает идеально-
благороднейшие характеры и потому он как поэт выше
Гете.
Последнее, а именно то, что Шиллер выше Гете, и было
главным предметом спора, вызванного этой книгой. Всех
обуяла мания сравнивать создания обоих поэтов, и мнения
разделились. Сторонники Шиллера выдвигали нравствен¬
ную привлекательность таких образов, как Макс Пикко-
ломини, Текла, маркиз Поза и прочие герои шиллеров-
ского театра, объявляя, напротив, таких героинь Гете,
как Филина, Гретхен, Клерхен и подобные прелестные
создания, безнравственными особами. Сторонники Гете
с улыбкой замечали, что в этих женщинах, равно как
в героях Гете, едва ли можно видеть воплощение морали,
но что укрепление нравственности, которого требуют от
произведений Гете, ни в коем случае не является целыо
искусства, ибо искусство не имеет никаких целей, подобно
самому мирозданию, в которое лишь человеческая мысль
вкладывает понятия «цель и средства»; искусство, по¬
добно вселенной, существует ради самого себя, и как
вселенная остается вечно неизменной, хотя в суждениях
о ней воззрения людей беспрестанно меняются, так и
искусство должно оставаться независимым от преходящих
взглядов людей; поэтому искусство должно оставаться
особенно независимым от морали, которая всегда меняется
на земле, меняется всякий раз, когда возникает новая ре¬
лигия и вытесняет старую. В самом деле, поскольку вся¬
кий раз по прошествии ряда столетий неизменно возни¬
кает новая религия и вследствие ее внедрения в нравы
устанавливается новая мораль, постольку каждая эпоха
должна была бы объявить еретически-безнравственными
художественные произведения прошлого, если бы они
оценивались по масштабу морали данного времени. Дей¬
ствительно, как приходилось уже нам видеть, добрые хри-
1 Дутая яичница (франц.),
174
стиане, осуждающие плоть как нечто дьявольское, всегда
возмущались видом изваяний греческих богов; целомуд¬
ренные монахи подвязывали античной Венере передни¬
чек, даже в наше время прикрывают смехотворным фиго¬
вым листочком наготу статуй; один благочестивый квакер
пожертвовал все свое состояние на то, чтобы скупать и
сжигать прекраснейшие мифологические картины Джу-
лио Романо — поистине, он заслуживает быть вознесен¬
ным за это на небо и подвергаться там ежедневному
сечению розгами! Если бы возникла религия, полагающая
бога исключительно в материи и потому обожествляющая
только плоть, то, перейдя в нравы, она породила бы мо¬
раль, одобрения которой удостаивались бы лишь те худо¬
жественные произведения, в которых возвеличивается
плоть, и, наоборот, создания христианского искусства,
изображающие лишь ничтожество плоти, должны были под¬
вергнуться осуждению как безнравственные. Да, художест¬
венные произведения, считающиеся в одной стране нравст¬
венными, рассматриваются как безнравственные в другой
стране, где в нравах укоренилась другая религия; так,
например, наши изобразительные искусства вызывают
отвращение в правоверном мусульманине, и, наоборот,
некоторые искусства, считающиеся совершенно невин¬
ными в восточном гареме, ужасают христианина. Так как
нравы индусов не видят в промысле баядерки ничего по¬
зорящего, то драма «Васантасена», героиня которой —
продажная жрица любви, совершенно не считается без¬
нравственной в Индии; а между тем, если бы эту пьесу
осмелились поставить в «Théâtre français», весь партер за¬
кричал бы о безнравственности, тот самый партер, кото¬
рый ежедневно с удовольствием смотрит запутанные
пьесы, где героинями выступают молодые вдовы, в финале
весело выходящие замуж, вместо того чтобы, согласно тре¬
бованию индусской морали, быть сожженными вместе со
своими умершими мужьями.
Исходя из такого взгляда, гетеанцы рассматривают
искусство как независимый второй мир, который они ста¬
вят так высоко, что вся деятельность людей, их мораль, их
религия в своей смене и неустойчивости проходят под ним.
Я не могу, однако, безусловно принять этот взгляд; он
привел гетеанцсв к тому, что они, провозгласив самое
искусство иаивысшим началом, отвергают требования того
175
первого, -действительного мира, которому все-таки при¬
надлежит первенство.
Шиллер стал на сторону этого первого мира с гораздо
большей определенностью, чем Гете, и в этом отношении
мы должны воздать ему хвалу. Дух времени со всей
живостью захватил Фридриха Шиллера, он боролся с ним,
оп был им побежден, он пошел за ним в бой, он нес его
знамя, и знамя это было то самое, под которым с таким .
воодушевлением сражались и по ту сторону Рейна и за
которое мы но-прожнему готовы проливать пашу лучшую
кровь. Шиллер писал во имя великих идей революции, он
разрушал бастнлпи мысли, он участвовал в сооружении
храма свободы — того величественного храма, который, как
единая братская община, должен охватить все народы; он
был космополит. Он начал с той ненависти к прошлому,
кадчую мы видим в «Разбопднжах», где он похож на ма¬
ленького титана, дюторый, убежав из школы и хлебнув
воддш, бьет стсд^ла у Юпитера; он кончил той любовью
к будущему, дчоторая, подобно целому лесу цветов, рас¬
путается уже в «Дон-Карлосе», и сам он — маркиз Поза,
одновременно пророк и солдат, всегда готовый сразиться
за то, что сам проповедует, и прячущий под пенаиедшм пла¬
щом самое прекрасное сердце, кад^ое когда-либо любило
и страдало в Гермаддии.
Поэт, этот творец в малом, подобедд госдюду богу дд
в том, что своих героев од1 творит по образу своему и по¬
добию. Если поэтому Карл Моор дд маркиз Поза — это
сам Шиллер, то Гете подобен своему Вортеру, своему Виль-
гельму Мейстеру дд своему Фаусту, по дюторым можно
изучать фазы его духовного развитая. Если Шиллер
целиком уходит в историю, воехпщедд обществеддддымн за¬
воеваниями человечества и воспевает всемирную историю,
то Гете ддогружается больше в иидпвидуальддыс чувства,
или в искусство, дтлдд в природу. В д^одще дходщов есте¬
ственная история должна была сделаться главным пред¬
метом занятий паптеиста Гете, дд результата своих нзы-
сд^аддий одд ддредставил дде тольдю в поэтичеедчнх ироддзведе-
дшях, но дд в ддаучных трудах. Его индифферентизм был
также результатом его наддтсистичесд^ого мировоззрения.
Увы, это верно, — мы должддьд сознаться, что пантеизм
нередко делал лдодей индифферентными. Опд1 полагали:
если все есть бог, то безразлично, чем заниматься, — об-
i/o
лаками пли античными геммами, народными песнями или
костями обезьян, людьми или комедиантами. Но в том-то
и ошибка: не все есть бог, а бог есть все; бог не в равной
степени проявляется во всех вещах; напротив, он в раз¬
личной степени проявляется в различных вещах, и каждая
из них стремится подняться иа более высокую ступень бо¬
жественности, и это есть великий закон прогресса в приро¬
де. Открытие этого закона, с наибольшей глубиной выра¬
женного сен-симонистами, делает теперь пантеизм миро¬
воззрением, ведущим никак не к индифферентизму, но к
самоотверженнейшему стремлению вперед. Нет, бог не
проявляется во всех вещах в равной степени, как пола¬
гал Вольфганг Гете, которого это и сделало совершенным
индиффсрентистом, занятым не высшими интересами чело¬
вечества, а только художественными игрушками, анато¬
мией, теорией красок, ботаникой и наблюдениями над
облаками: бог проявляется в вещах в большей или в мень¬
шей степени, он живет в этом непрестанном проявлении,
бог есть в движении, в действии, во времени, его священное
дыхание проносится но страницам истории; она и есть
подлинная книга божия; и это ощущал и предчувствовал
Фридрих Шиллер, и он стал «пророком, обращенным
к прошлому», и написал «Отпадение Нидерландов», «Три¬
дцати летнюю войну», «Орлеанскую деву» и «Телля».
Правда, и Гете воспел несколько великих историй осво¬
бождения, но он воспел их как художник. Так как он
досадливо отвергал опостылевший ему христианский энту¬
зиазм, а философского энтузиазма нашего времени не по¬
нимал или не хотел попять — из опасения, как бы это не
вывело его нз его душевного спокойствия, — то он вообще
трактовал энтузиазм чисто исторически, как нечто данное,
как сюжет, подлежащий обработке; дух под его руками
становился материей, и он облекал его в прекрасную, при¬
влекательную форму. Так стал он величайшим художни¬
ком в нашей литературе, и все написанное им сделалось
совершенным художественным созданием.
Пример учителя увлек последователей, и таким образом
в Германии возник литературный период, некогда мною
названный «эстетическим периодом», причем я показал
его вредное влияние на политическое развитие немецкого
народа. Нимало, однако, не отрицал я при этом самостоя¬
тельной ценности шедевров Гете. Они украшают наше
7 Г. ГеЛые, т, 6
177
дорогое отечество, как прекрасные статуи украшают сад,
и все же это статуи. В них можно влюбиться, но они бес¬
плодны: создания Гете не порождают действия, как со¬
здания Шиллера. Дело есть дитя слова, а прекрасные слова
Гете бездетны. Это проклятие лежит на всем, что поро¬
ждено только искусством. Статуя, изваянная Пигмалио¬
ном, была красавицей, сам художник влюбился в нее, она
ожила под его поцелуями, но, насколько нам известно,
у нее никогда не было детей. Кажется, г-н Шарль Нодье
высказал об этом предмете нечто в таком роде, и это при¬
шло мне в голову вчера, когда я, бродя по нижним залам
Лувра, рассматривал древние статуи богов. Там они
стояли, со своими немыми белыми глазами, с тайной мелан¬
холией в мраморной улыбке, быть может в смутном воспо¬
минании о Египте, стране мертвецов, откуда они родом,
или в страдальческом тяготении к жизни, из которой они
ныне вытеснены другими божествами, или в тоске о своем
мертвом бессмертии: они как будто ждали слова, которое
вновь вернуло бы их к жизни, которое высвободило бы их
из их холодной, окоченелой неподвижности. Странно! —
эти античные фигуры напомнили мне поэтические создания
Гете, столь же законченные, столь же великолепные, столь
же спокойные и как бы с тою же тоской чувствующие, что
их неподвижность и холодность лежит между ними и ны¬
нешней оживленной и горячей жизнью, что они не могут
страдать и ликовать вместе с нами, что они не люди, а не¬
счастливые сочетания божества и камня.
Эти немногие замечания объясняют раздражение раз¬
личных партий, выступивших в Германии против Гете.
Правоверные были возмущены великим язычником, как
принято называть Гете в Германии; они боялись его влия¬
ния на народ, которому он внушал свое мировоззрение
через свою улыбчивую поэзию, через самые непритязатель¬
ные из своих песенок; они видели в нем опаснейшего врага
креста, который, по его же словам, был ему противен так
же, как клопы, чеснок и табачный дым; приблизительно
то же самое говорится в эпиграмме, которую Гете осме¬
лился напечатать в самой Германии, где повсюду царит
священный союз этой дряни — чеснока, табака и креста.
Разумеется, вовсе не это было для нас, сторонников дви¬
жения, неприемлемым в,Гете. Как уже упомянуто, мы
порицали бесплодность его слова, эстетизм, по его вине
178
водворившийся в Германии, воспитавший молодежь в духе
квиетизма, столь пагубного для политического возрожде¬
ния нашей родины. Индифферентный пантеист сделался
поэтому предметом нападок с противоположных сторон;
выражаясь по-французски, против него заключили союз
крайняя правая и крайняя левая; и в то время как чер¬
ный поп колотил его распятием, неистовый санкюлот лез
па него с пикон. Г-п Вольфганг Менцель, потративший
на борьбу с Гете груды остроумия, достойного лучшего
применения, не выступал в своей полемике столь одно¬
сторонне ни как христианский спиритуалист, ни как не¬
довольный патриот: в одной части своих нападок он опи¬
рался скорее па последние изречения Фридриха Шлегеля,
после своего падения изливавшего из глубин своего като¬
лического собора скорбь о Гете, «поэзия которого лишена
средоточия». Г-н Менцель пошел еще дальше и доказывал,
что Гете не гений, а лишь талант, превозносил в противо¬
положность ему Шиллера и т. д. Происходило это неза¬
долго до Июльской революции, г-н Менцель был в ту
пору величайшим почитателем средних веков в отношении
как произведений искусства, так и учреждений; с неуто¬
мимой яростью поносил он Иоганна-Генриха Фосса,
с неслыханным воодушевлением прославлял г-на Йозефа
Герреса; поэтому его ненависть к Гете была неподдельна,
и он нападал на него по убеждению, стало быть не для
того, чтобы, как многие думали, приобрести таким спосо¬
бом известность. Хотя сам я в то время был противником
Гете, мне не нравилась резкость, с которой г-н Менцель
критиковал его, п я сожалел об этом отсутствии пиетета.
Я говорил: Гете все же король нашей литературы; если
и поднимаешь на пего критический иож, то необходимо
делать это с надлежащей учтивостью, подобно палачу,
которому предстояло отрубить голову Карлу I и который,
прежде чем приступить к исполнению обязанностей, пре¬
клонил пред королем колена п просил у него высочай¬
шего прощения.
К противникам Гете принадлежали и достославный со¬
ветник Мюльнер и единственный оставшийся у него вер¬
ный друг, г-н профессор Шютц, сын старого Шютца.
Кое-кто еще из носивших меиее славные имена, например
некий г-н Шпаун, долго просидевший в тюрьме за поли¬
тический проступок, также принадлежал к явным про-
7*
179
тивиикам Гете. Между нами говоря, это было очень пест¬
рое общество. Что они ставили ему в вину, я указал с
достаточной ясностью; труднее разгадать те особые побуж¬
дения, под влиянием которых каждый отдельный у часа-
ник решил выступить с открытым выражением своих анти-
гетевскпх убеждений. Лишь относительно одного лица мне
с совершенной точностью известен этот мотив, и так как
лицо эго — я, то признаюсь теперь откровенно: это была
зависть. В похвалу себе должен, однако, напомнить еще
раз, что никогда не нападал я иа поэта в Гете, но только
на человека. Я никогда не порицал его произведений.
Я никогда не способен был видеть в них недостатки, по¬
добно тем критикам, которые при помощи своих тонко
отшлифованных оптических стекол и на луне открыли
пятна; что за дальнозоркие люди! То, что они принимали
за пятна, — это цветущие леса, серебристые поюки, вели¬
чавые горы, смеющиеся долины.
Нет ничего глупее недооценки Гете в пользу Шиллера,
к которому совсем не относились искренно, всегда про¬
славляя его для того, чтобы принизить Гете. Разве в самом
деле было неизвестно, что изготовить эти высоко про¬
славленные, высоко идеальные образы, эти священные
изваяния добродетели и нравственности, созданные Шил¬
лером, гораздо легче, чем те греховные, мелко житейские,
порочные существа, которых Гете выводит в своих произ¬
ведениях? Разве не известно было, чю посредственные
живописцы в большинстве случаев мажут на холсте свя¬
тых угодников в натуральную величину, но требуется
уже большой мастер, для того чтобы с жизненной правди¬
востью и техническим совершенством изобразить этакого
испанского нищего мальчишку, ищущего вшей, нидер¬
ландского мужика, которого рвет или которому выдерги¬
вают зуб, или уродливых старух, каких мы видим на пре¬
восходных маленьких голландских картинках? Великое
и страшное гораздо легче изображать в искусстве, чем
мелкое и забавное. Египетские чародеи могли вос¬
произвести вслед за Моисеем многие его кунштюки, а
именно, змей, кровь, даже жаб, по когда он сотворил
с виду гораздо более легкие чудеса, например мошек, то
они признали свое бессилие, не смогли сделать маленьких
мошек и сказали : «Это — перст божий». Обличайте сколько
угодно грубости в «Фаусте» — в сценах на Брокене или
ISO
в погребке Ауэрбаха,—обличайте непристойности в «Мсй-
стере», — ничего такого вы все же создать не сумеете.
Это — перст Гете. Но вы и не собираетесь создавать что-
либо подобное, и я слышу, как вы с отвращением заяв¬
ляете: «Мы не волшебники, мы добрые христиане». Что
вы не волшебники, это мне известно.
Величайшая заслуга Гете заключается именно в со¬
вершенстве всего, что он изображает. Здесь пет частей
более сильных, в то время как другие — слабы, здесь нет
того, что одна сторона выписана до конца, а другая едва
намечена, здесь нет неудач, пет обычного литературного
балласта, нет пристрастия к разрозненным подробностям.
Всякое действующее лицо его романов и драм, когда бы
оно ни выступало, он разрабатывает так, как будто это
главный герой. То же самое у Гомера, то же у Шекспира.
В созданиях всех великих поэтов в сущности нет вто¬
ростепенных персонажей, каждое действующее лицо есть
на своем месте главный герой. Такие поэты подобны само¬
державным * государям, которые не признают в людях
никакой самостоятельной ценности, но по собственному усмо¬
трению жалуют их высшим достоинством. Когда француз¬
ский посланник в разговоре с русским императором
Павлом однажды заметил, что одна значительная особа в его
стране интересуется каким-то предметом, то император
строго прервал его примечательными словами: «В этом
государстве нет значительного человека, кроме того,
с кем я разговариваю, и лишь па то время, пока я с ним
разговариваю». Самодержавный поэт, также получивший
свою власть милостью божьей, таким же образом рассма¬
тривает как важнейшее в царстве его вымысла лицо
всякого, кто в данный момент выступает у него с речыо,
кто попал под его перо, — и из такого художественного
деспотизма возникает эта чудесная законченность самых
незначительных фигур в произведениях Гомера, Шек¬
спира и Гете.
Если я с некоторой резкостью говорил о противниках
Гете, то я мог бы еще гораздо резче отозваться о его защит¬
никах. Большинство их наговорило в своем пылу еще
больших глупостей. На границе смешного стоит в этом
отношении некий г-н Эккерман, не лишенный, впрочем,
ума. В борьбе против Пусткухена добыл свои критиче¬
ские шпоры Карл Иммерман, ныне наш крупнейший
1S1
драматург, выпустивший по этому поводу превосходную
книжку. Особенно отличились при этом случае берлинцы.
Виднейшим бойцом за Гете всегда был Фарнхаген фон
Энзе, писатель, носящий в сердце мысли, обширные, как
мир, и выражающий их в словах, драгоценных н изящ¬
ных, как резные камеи. Суждениям этого высокого ума
Гете всегда придавал очень большое значение. Полезно,
быть может, отметить здесь, что г-н Вильгельм фон Гум¬
больдт еще раньше написал превосходную книгу о Гете.
За последние десять лет каждая лейпцигская ярмарка при¬
носила несколько сочинений о Гете. Исследования г-на Шу¬
ба рта о Гете принадлежат к достопримечательностям вы¬
сокой критики. Все, что сказано на страницах разных
журналов о Гете г-ном Герингом, пишущим под именем
Вилибальд Алексис, столь же веско, сколь проницательно.
Г-н Циммерман, профессор в Гамбурге, высказал в своих
устных лекциях ряд весьма удачных суждений о Гете,
изложенных и в его «Драматургических страницах», правда
скупо, но тем более глубокомысленно. В различных не¬
мецких университетах читались курсы о Гете, из всех
произведений которого публика занималась главным об¬
разом «Фаустом». Многократно писали к нему продолже¬
ния и комментарии, и он сделался светской библией
немцев.
Я не был бы немцем, если бы при упоминании о
«Фаусте» не высказал некоторых пояснительных мыслей
об этом предмете. Ибо от величайшего мыслителя до неза¬
метнейшего маркера, от философа до — по нисходящей —
доктора философии всякий испытывает свое остроумие
на этой книге. Но, поистине, она так же всеобъемлюща,
как библия, и, подобно последней, охватывает небо и
землю вместе с человеком и его истолкованиями. И здесь
снова главной причиной такой популярности «Фауста»
является сюжет; а то, что Гете выискал этот сюжет в на¬
родных сказаниях, свидетельствует именно о его бессо¬
знательном глубокомыслии, о его гении, всегда умевшем
брать самое непосредственное и нужное. Я вправе пред¬
положить знакомство с'содержанием «Фауста», ибо книга
эта сделалась в последние годы знаменитой и во Франции.
Но я не знаю, известно ли здесь и само старинное народное
сказание, продается ли и здесьна ярмарках серая, скверно
напечатанная на оберточной бумаге и украшенная лубоч-
182
пыми картинками книжка, где обстоятельно рассказано,
как великий чародей Иоганнес Фаустус, ученый доктор,
изучив все науки, в конце концов выбросил все свои книги
и заключил с чертом договор, по которому он может на¬
слаждаться всеми плотскими утехами на земле, но при
этом предает адской погибели свою душу. В средние века
народ, видя где-либо большую умственную мощь, всегда
приписывал ее союзу с дьяволом, и Альберт Великий,
Раймунд Луллнп, Теофраст Парацельс, Агриппа Нсттсс-
геймский п в Англии Роджер Бэкон слыли чародеями,
чернокнижниками и заклинателями дьявола. Но гораздо
более необычайные вещи распевают и рассказывают о док¬
торе Фаустусе, потребовавшем от дьявола пе только по¬
знания вещей, но и реальнейших наслаждений, и это тот
самый Фауст, который изобрел книгопечатание и жил во
времена, когда начали восставать против строгого авто¬
ритета церкви и исследовать вещи самостоятельно, — так
что с Фаустом заканчивается средневековая эпоха веры и
начинается современная научно-критическая эпоха. Чрез¬
вычайно показательно, в самом деле, что как раз в то
время, когда, по народному убеждению, жил Фауст, на¬
чинается Реформация и что именно ему приписывается
изобретение искусства, принесшего знанию победу над
верой, а именно изобретение книгопечатания, искусства,
лишившего нас, однако, католической душевной безмя¬
тежности и повергшего нас в сомнения и революции, —
другой на моем месте сказал бы — искусства, отдавшего
нас в конце концов во власть дьявола. Но пет, знание, по-
знанпе вещей посредством разума, наука дает нам, на¬
конец, те наслаждения, которых так долго обманом ли¬
шала нас религия, католическое христианство; мы начи¬
наем сознавать, что люди призваны не к одному небесному,
но и к земному равенству; политическое братство, про¬
поведуемое нам философией, благодетельнее для нас,
чем чисто духовное братство, каким одарило нас хри¬
стианство; и знание становится словом, и слово становится
делом; и мы можем еще при жизни обрести блаженство на
этой земле, — а если потом, после смерти, мы обретем
вдобавок еще и небесное блаженство, столь определенно
обещанное нам христианством, то это совсем прекрасно.
Давно уже немецкий народ глубокомысленно пред¬
чувствовал это, ибо немецкий народ сам есть этот ученый
13 3
доктор Фауст, этот спиритуалист, духом уразумевший,
наконец, недостаточность духа, требующий материальных
наслаждений и возвращающий плоти ее права, — однако
не сбросив еще оков символики католической поэзии, где
бог есть представитель духа, а дьявол представитель
плоти, — уже в одном оправдании плоти люди видели
отречение от бога, союз с дьяволом.
Но пройдет еще время, прежде чем осуществится в не¬
мецком пароде то, о чем он с таким глубокомыслием про¬
рочествовал в этой поэме, а именно — прежде чем путем
духа осознает он узурпацию духа и потребует прав для
плоти. Тогда это будет революция, великая дочь Рефор¬
мации.
Менее, чем «Фауст», известен здесь, во Франции, «За¬
падно-восточный диван» Гете, более поздняя книга, ко¬
торой еще ие знала г-жа де Сталь и на которой мы должны
остановиться особо. В цветущих песнях и чеканных из¬
речениях выражены здесь мысль и чувство Востока; и все
исполнено благоухания и жара, подобно гарему влюблен¬
ных одалисок с черными подведенными газельими гла¬
зами и чувственно-белыми руками. Читателя охватывает
содрогание сладострастия, испытанное счастливым Гас¬
паром Дебюро, когда он в Константинополе, стоя на верх¬
ней ступеньке лестницы и глядя de baut en bas, 1 видел
то, что повелителю правоверных видно, только когда оп
смотрит de bas en haut. 2 Иногда читателю представ¬
ляется, что ои беспечно растянулся на персидском ковре
и курит длинный кальян с желтым туркестанским таба¬
ком, а черная рабыня навевает на него прохладу пестрым
опахалом из павлиньих перьев, и прелестный мальчик под¬
носит чашку настоящего кофе мокка: захватывающее
упоение жизнью перелил здесь Гете в стихи, столь легкие,
столь восхитительные, столь эфирно-воздушные, что изум¬
ляешься, как возможно было создать нечто подобное на
немецком языке. К этому он присоединяет превосходней¬
шие пояснения в прозе о нравах и быте Востока, о патриар¬
хальной жизни арабов; и здесь Гете всегда безмятежно
улыбчив, беззаботен, как дитя, и исполнен мудрости, к о к
старец. Эта проза прозрачна, как зеленое морс в безветрии
1 Сверху вниз (франц.).
2 Снизу вверх (франц.).
Ш
летнего полудня, когда взгляд проникает далеко в глубь
морскую, где видны затонувшие города с их былым вели¬
колепием; иногда, впрочем, и эта проза так волшебна, так
полна тайны, как небо, когда спустился вечерний су¬
мрак; и великие мысли Гете выступают, чистые и золотые,
как звезды. Невыразимо очарование этой книги — эго
селям, посылаемый Западом Востоку, и причудливые
цветы рассыпаны здесь: чувственно-красные розы, гор¬
тензии, подобные обнаженной белой девичьей груди, смеш¬
ная львиная пасть, пурпурная наперстянка, похожая иа
длинные пальцы, странно извитые крокусы, а посреди
них — осторожно притаившиеся, тихие немецкие фиалки.
Но этот селям означает, что Западу опостылел его тощий
ледяной спиритуализм и ему хочется подкрепиться здо¬
ровым плотским миром Востока. Выразив в «Фаусте»
свое недовольство абстрактно-духовным и свое тяготение
к реальным наслаждениям, Гете, написав «Западно-во¬
сточный диван», тем самым как бы вместе с самим духом
бросился в объятия сенсуализму.
В высшей степени показательно поэтому, что книга
эта появилась вскоре после «Фауста». Это был последний
фазис пути Гете, и пример его оказал большое влияние
на литературу. Наши лирики принялись теперь воспе¬
вать Восток. Достойно упоминания, быть может, и то,
что Гете, так радостно воспевавший Персию и Аравию,
высказывал определепнейшее нерасположение к Индии.
Его отталкивало причудливое, смутное, неясное в этой
стране, и, быть может, эта неприязнь возникла оттого,
что в санскритологии Шлегелей и господ их друзей он
чуял католическую заднюю мысль. Дело в том, что для
этих господ Индостан был колыбелью католического миро¬
порядка; там они видели образец своей иерархии, там
находили свою троицу, свое вочеловечение, свое покая¬
ние, свое искупление, свое истязание плоти и все прочие
свои излюбленные коньки. Нерасположение Гете к Индии
немало раздражало этих людей, поэтому-то г-н Август-
Вильгельм Шлегель с холодной злостью назвал его «языч¬
ником, обратившимся в ислам».
Среди книг о Гете, появившихся в этом году, почетней¬
шего упоминания заслуживает посмертное сочинение
Иоганна Фалька: «Гете, изображенный по близким личным
отношениям». Кроме обстоятельной статьи о «Фаусте»
185
(нельзя же без этого!), автор сообщает любопытнейшие
сведения о Гете, изображая его со всех житейских сторон
с совершенной верностью и совершенным беспристрастием,
со всеми его достоинствами и недостатками. Здесь мы видим
Гете в его отношениях к матери, чья личность так
удивительно отразилась в сыне; мы видим его в качестве
естествоиспытателя, видим, как он наблюдает гусеницу, ко¬
торая становится куколкой, чтобы затем вылупиться в виде
бабочки; мы видим его в беседе с великим Гердером, сер¬
дито его обличающим в индифферентизме, мешающем
Гете обращать внимание на развитие из куколки само¬
го человечества; мы видим, как, весело импровизируя,
восседает он среди белокурых фрейлин при дворе вели¬
кого герцога Веймарского, подобно Аполлону среди ове¬
чек царя Адмета; мы видим затем, как он с надменностью
далай-ламы отказывается признать Коцебу и как послед¬
ний, чтобы принизить его, устраивает публичное чество¬
вание Шиллера; но повсюду мы видим его умным, пре¬
красным, любезным — чарующе-привлекательный образ,
подобный вечным богам.
В Гете действительно во всей полноте ощущалось то
совпадение личности с дарованием, какого требуют от
необыкновенных людей. Его внешний облик был столь же
значителен, как слово, жившее в его творениях; и образ
его был гармоничен, ясен, радостен, благородно сораз¬
мерен, и иа нем можно было изучать греческое искусство,
как по греческой статуе. Принижающее христианское
смирение никогда не сгибало этого тела, исполненного
достоинства; черты этого лица никогда не искажались
христианским самоистязанием; эти глаза не косили с ро¬
бостью христианского покаяния, не молитвословили, не
возводились ханжески к небесам, не бегали из стороны
в сторону: нет, они были спокойны, как взор божества.
Это ведь вообще отличительный признак богов — то,
что взгляд их тверд и глаза их не бегают тревожно по
сторонам. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра
принимают облик Наля на свадьбе Дамаянти, то она
узнает своего возлюбленного по миганию его глаз, ибо,
как я напомнил, глаза богов всегда неподвижны. Это
свойство имели и глаза Наполеона. Поэтому я убежден,
что он был богом. Взгляд Гете оставался в старости
таким же божественным, каким он был в юности. Время
П6
смогло, правда, покрыть голову Гете снегом, но но
пригнуть ее. Он нес ее все так же гордо и прямо и когда
говорил, то всегда становился выше, и когда простирал
руку, то казалось, будто он пальцами указует звездам на
небе путь, по которому им должно следовать. Говорят,
в линии его рта была заметна холодная черточка эгоизма;
но и эта черта свойственна вечным богам и особенно отцу
богов, великому Юпитеру, с которым я сравнил выше
Гете. Когда я был у него в Веймаре, то, стоя пред ним,
я, право, невольно посматривал по сторонам, не увижу ли
подле него орла с молниями в клюве. Я едва было не за¬
говорил с ним по-гречески; но, заметив, что он понимает
по-немецки, я рассказал ему на немецком языке, что
сливы на дороге между Иеной и Веймаром очень вкусны.
Так часто в долгие зимние ночи я раздумывал о том,
сколько возвышенного и глубокомысленного я сказал бы
Гете, если бы мне довелось когда-нибудь его увидеть.
А когда я, наконец, увидел его, я сказал ему, что са¬
ксонские сливы очень вкусны. И Гете улыбнулся. Ои
улыбнулся теми самыми губами, которыми некогда цело¬
вал прекрасную Леду, Европу, Данаю, Семслу и столь
многих иных принцесс, а то и просто нимф...
Les dieux s’en vont. 1 Гете умер. Он скончался 22 марта
прошлого года — знаменательного года, в течение которого
наша земля лишилась своих крупнейших знаменитостей.
Как будто смерть в этом году сделалась внезапно аристо¬
кратичной, как будто решила она отметить выдающихся
людей этой земли, разом отправив их в могилу. Быть мо¬
жет, она вздумала учредить пэрство в царстве теней, и,
если так, то ее fournée 2 подобрано очень хорошо. Или,
наоборот, смерть старалась в минувшем году благоприят¬
ствовать демократии, хороня вместе с знаменитостями и
их авторитет и таким образом содействуя установлению
умственного равенства? Почтение или дерзость то, что
смерть в минувшем году щадила королей? По рассеян¬
ности она уже занесла было косу над королем испанским,
но вовремя одумалась и оставила его в живых. В минув¬
шем году не умер ни один король. Les dieux s’en vont, —
но королей мы сохраняем.
1 Боги уходят (франц.).
2 Меню (буквально — наполненная печь) (франц.).
1S7
I
Добросовестность, которую я сделал для себя законом,
заставляет меня упомянуть здесь о слышанных мною от
многих французов упреках в том, что я отозвался о Шле¬
те лях, особенно о г-не Лвгусте-Вильгсльме Шлегеле,
в слишком резких выражениях. Полагаю, однако, что
если бы здесь были лучше знакомы с историей немецкой
литературы, эти упреки не имели бы места. Многие фран¬
цузы знают г-на Августа-Вильгельма Шлегеля исключи¬
тельно по книге г-жи дс Сталь, его благородной покрови¬
тельницы. Большинству знакомо только его имя. Это имя
звучит в их памяти как нечто почтенно-знаменитое, как
что-то вроде имени Озириса, о котором они тоже знают
только одно: что существовал такой забавный бог, почи¬
таемый в Египте. О том, какое иное сходство объединяет
г-на Августа-Вильгельма Шлегеля и Озириса, известно
им менее всего.
Так как я некогда принадлежал к университетским
ученикам Шлсгеля-старшего, то, вероятно, меня считают
обязанным к некоторой снисходительности по отношению
к нему. Но был ли снисходителен г-н Август-Вильгельм
Шлегель к старому Бюргеру, своему литературному отцу?
Нет, и он поступал согласно общепринятому обычаю. Ибо
в литературе, как в лесах североамериканских дикарей,
сыновья убивают отцов, как только те становятся стары
и слабы.
Уже в первой книге я отмстил, что Фридрих Шлегель
был значительнее, чем г-н Август-Вильгельм; и в самом
138
деле, последний питался только идеями своего брата,
владел лишь искусством развивать их. Фридрих Шлегель
был глубокомысленным человеком. Он постиг все велико¬
лепие прошлого и чувствовал все страдания настоящего.
Но он не понимал святости этих страданий, их необходи¬
мости для будущего спасения мира. Он видел, что солнце
заходит, п скорбно глядел на место этого захода, сокру¬
шаясь о ночном мраке, приближение которого он видел;
но он не замечал, что на противоположной стороне уже
занимается новая заря. Ф. Шлегель назвал однажды
историка «пророком наизнанку». Это выражение — лучшее
название для него самого. Современность была ему нена¬
вистна, будущее пугало его, и лишь в прошлое, любимое
нм, проникали его пророческие очи ясновидца.
Бедный Фридрих Шлегель; в муках нашего времени
ои видел не муки рождения нового, а агонию смерти, и
в смертельном ужасе бежал он в шаткие развалины като¬
лической церкви. Во всяком случае, это было самое под¬
ходящее убежище для его настроения. Ои много проявил
в жизни веселой дерзости, но он смотрел на нее как иа
нечто греховное, как на грех, требующий позднейшего
покаяния и искупления,—и автор «Люцннды» неизбежно
должен был стать католиком.
«Люцинда» — роман; кроме стихотворений и драмы
«Аларкос», написанной по испанскому образцу, — это
единственное оригинальное произведение, оставшееся
после Фридриха Шлегеля. В свое время не было недостатка
в почитателях этого романа. Г-н Шлейермахер, ныне вы¬
сокопреподобный, выступил тогда с восторженными пись¬
мами о «Люцинде». Немало было также критиков, которые
восхваляли этот роман как образцовое создание и со всей
определенностью предсказывали, что он когда-нибудь
будет считаться лучшей книгой во всей немецкой литера¬
туре. Следовало бы, чтобы начальство засадило этих лю¬
дей в тюрьму, подобно тому, как в России держат в остроге
пророков, предрекающих общественные несчастья, до тех
пор, пока их предсказание не сбудется. Нет, боги охра¬
нили нашу литературу от этого несчастья. Роман Шлегеля,
вследствие его непристойного ничтожества, был вскоре
отвергнут всеми и теперь совершенно забыт. Люцинда —
имя героини этого романа; это чувственно-остроумная жен¬
щина, или, точнее, смесь чувственности и остроумия.
ПО
Ее недостаток в том и заключается, что она не женщина,
но безотрадное соединение двух абстракций — остроумия
и чувственности. Да простит матерь божья автору, что он
написал эту книгу; но музы никогда этого ему не простят.
Такой же роман, под названием «Флорентин», припи¬
сывают покойному Шлогелю по ошибке. Книга эта, го¬
ворят, произведение его супруги, дочери знаменитого
Моисея Мендельсона, которую он отбил у ее первого мужа
и которая вместе с ним перешла в лоно католической
церкви.
Я верю, что Фридрих Шлегель перешел в католичество
по убеждению. По отношению ко многим его друзьям
у меня нет этой веры. В этой области очень трудно уста¬
новить истину. Религия и лицемерие — близнецы, на¬
столько сходные друг с другом, что часто их невозможно
различить. Та же наружность, одежда, язык. Только по¬
следняя из сестер несколько мягче растягивает слова и
чаще твердит словечко «любовь». Я говорю о Германии;
во Франции одна из сестер умерла, а другая до сих пор
ходит в глубочайшем трауре.
После появления книги г-жи де Сталь «De l’Allemagne»
Фридрих Шлегель подарил публике еще два больших
труда, быть может лучшие из его произведений, во всяком
случае заслуживающие самого хвалебного упоминания.
Это «Мудрость и язык индусов» и «Лекции по истории
литературы». Первая книга не только ввела, но и утвер¬
дила у нас изучение санскрита. Шлегель сделался для
Германии тем же, чем был Уильям Джонс для Англии.
Талантливейшим образом изучил он санскрит, и немногие
отрывки, приводимые в его книге, переведены мастерски.
Благодаря своей глубокой способности созерцания он
во всей полноте понял значение эпического размера инду¬
сов— слоки, струящейся так же широко, как Ганг, свя¬
щенная, ясная река.' В противоположность ему, каким
ничтожным оказался г-н А.-В. Шлегель, когда перевел
несколько отрывков с санскрита гекзаметром и при
этом не мог достаточно нахвалиться тем, что в его перевод
не проскользнул ни один трохей и что им воспроизведено
немало метрических кунштюков александрийцев. Книга
Фридриха Шлсгеля об Индии, разумеется, переведена на
французский язык, и я могу избавить себя от дальнейших
славословий. Упрека заслуживает только задняя мысль
190
книги: она написана в интересах католицизма. Эти люди
нашли в индийских поэмах не только мистерии, но еще
и всю католическую иерархию и ее борьбу со светской
властью. В «Махабхарате» и «Рамаяне» они усмотрели как
бы слонов средневековья. И в самом деле, если в последней
король Впсвамитра враждует с жрецом Васиштой, то
вражда эта затрагивает те же интересы, из-за которых
у нас боролись император с папой, хотя предмет раздора
здесь, в Европе, называется инвеститурой, а там, в Ин¬
дии, — коровой Сабалой.
Тот же упрек относится к лекциям Шлегеля о литера¬
туре. Фридрих Шлегель рассматривает здесь всю литера¬
туру с высокой точки зрения, ио эта высокая точка зрения
все же всегда находится на вышке католической коло¬
кольни. И во всем, что говорит Шлегель, слышится этот
католический трезвон; иногда слышно даже карканье во¬
ронья, летающего вокруг колокольни. Мне всегда ка¬
жется, что от этой книги несет молебственным ладаном
и что из лучших мест ее выглядывают мысли с выбритой
тонзурой. Несмотря на такие недостатки, я не знаю в этой
области лучшей книги. Только собрав воедино работы
Гердера по этому вопросу, можно было бы, пожалуй, по¬
лучить лучший обзор литературы всех пародов. Ибо
Гердер не восседал, подобно литературному великому
инквизитору, судьей над различными народами, осуждая
или оправдывая их, смотря по степени пх религиозности.
Нет, Гердер рассматривал все человечество как великую
арфу в руках великого мастера, каждый народ казался
ему по-своему настроенной струной этой исполинской
арфы, и он постигал универсальную гармонию ее раз¬
личных звуков.
Фридрих Шлегель умер летом 1829 года, как говорят —
вследствие гастрономической невоздержанности. Ему было
пятьдесят семь лет. Его смерть вызвала один нз отвра¬
тительнейших литературных скандалов. Его друзья, по¬
повская партия, штаб-квартирой которых был Мюнхен,
пришли в ярость по поводу откровенности, с которой ли¬
беральная печать говорила об этой смерти; поэтому они
проклинали, поносили п ругали немецких либералов.
Однако ни о ком из них они не могли сказать, что он
«соблазнил жену в доме своего друга и долго еще потом
жил подачками оскорбленного супруга».
191
Теперь, раз уж этого требуют, я должен сказать
о старшем брате, г-не Л.-В. Шлегеле. Если бы я вздумал
говорить о нем в Германии, то на меня взглянули бы там
с изумлением.
Кто теперь еще в Париже говорит о жирафе?
Г-и А.-В. Шлегель родился в Ганновере 5 сентября
1767 года. Я это знаю не от него. Я никогда не был так
нелюбезен, чтобы спрашивать у него о его возрасте. Если
не ошибаюсь, я нашел эту дату в «Словаре немецких пи¬
сательниц» Шпиндлсра. Таким образом, г-ну А.-В. Шле-
гелю теперь шестьдесят четыре года. Г-н Александр фон
Гумбольдт и другие естествоиспытатели утверждают, что
он старше. Шамнольон был того же мнения. Если говорить
о его литературных заслугах, то я должен прежде всего
вновь воздать ему хвалу как переводчику. В этой об¬
ласти он, бесспорно, имеет чрезвычайные заслуги. Осо¬
бенно мастерским, не знающим соперников, должно
назвать его немецкий перевод Шекспира. Быть может, за
исключением г-на Гриса и графа Платена, г-н А.-ГЗ. Шле¬
гель вообще величайший версификатор Германии. Во всех
других областях он относится ко второму, а то, пожалуй,
и к третьему разряду. В эстетической критике ему не
хватает, как я уже сказал, философской основы, и здесь
гораздо выше его другие современники, особенно Зольгср.
В изучении древненемецкого языка бесконечно выше его
стоит г-н Якоб Гримм, освободивший нас посредством
своей «Немецкой грамматики» от той поверхностности,
с которой толковались, по примеру Шлсгелсй, памятники
древненемецкого языка. Быть может, г-н Шлегель мог
бы пойти далеко в изучении немецких древностей, если бы
пе переметнулся к санскриту. Но все древненемецкое вы¬
шло из моды, санскритом же можно было снова привлечь
к себе внимание. И -здесь он остался в известной степени
дилетантом; что касается мыслей, то тут инициатива при¬
надлежит его брату Фридриху, а все научное, подлинное
в его санскритских работах принадлежит, как всякому
известно, г-ну Ласссну, его ученому сотруднику. Подлин¬
ным санскритологом среди немцев является г-н Фраиц
Бопп (Берлин), он первый в своей области. В исто¬
рической науке г-н Шлегель также пытался однажды
присосаться к славе Нибура, на которого он напал; по
достаточно сравнить его с этим великим исследователем,
102
или с Иоганном фон Мюллером, или с Гереном, или со
Шлоссером и подобными им историками, как остается
только пожать плечами. Каково же значение его как
поэта? Это трудно определить.
Скрипач Соломоне, обучавший английского короля
Георга III, сказал однажды своему высочайшему ученику:
«Скрипачи разделяются на три разряда: к первому раз¬
ряду принадлежат те, которые совсем не умеют играть;
ко второму принадлежат те, которые играют очень плохо,
и, наконец, к третьему разряду принадлежат те, которые
играют хорошо. Ваше величество уже поднялись до вто¬
рого разряда».
К какому же разряду принадлежит г-н А.-В. Шле¬
гель — к первому или ко второму? Одни говорят, что оп
совсем не поэт, другие говорят, что он очень плохой поэт.
Насколько мне известно, он не Паганини.
Славою своей г-н А.-В. Шлегель, собственно, обязан
лишь неслыханной смелости, с которой ои нападал на
существующие литературные авторитеты. Он срывал лав¬
ровые венки со старых париков и при этом рассыпал много
пудры. Его слава — внебрачная дочь скандала.
Как я уже упоминал не раз, критика, которую г-н Шле¬
гель обращал на существующие авторитеты, совершенно
не опиралась на философию. Придя в себя от изумления,
в которое повергает нас всякая дерзость, мы до конца
раскрываем всю внутреннюю пустоту так называемой шле-
гелевской критики. Так, например, желая принизить
поэта Бюргера, оп сравнивает его баллады со староан¬
глийскими балладами, собранными Перси, и показывает,
насколько последние проще, наивнее, стариннее и, сле¬
довательно, поэтичнее. Шлегель в достаточной степени
понял дух прошлого, особенно средневековья, и поэтому
ему удается найти этот дух также и в художественных па¬
мятниках прошлого и показать их красоты с этой точки
зрения. Но все, что относится к современности, остается
ему непонятным; в лучшем случае ему удается отмстить
что-нибудь в наружности, в некоторых внешних чертах
современности, и это обыкновенно бывают наименее пре¬
красные черты. Не понимая духа, оживляющего ее, оп
видит во всей нашей современной жизни лишь прозаиче¬
скую гримасу. Вообще только великий поэт и может
понять поэзию своего собственного времени; поэзия прош¬
193
лого открывается нам гораздо легче, познание ее легче
передать другим. Поэтому г-ну Шлегелю удалось про¬
славить перед толпой поэтические произведения, в кото¬
рых погребено прошлое, за счет произведений, в которых
живет и дышит наша современность. Но смерть не поэтич¬
нее жизни. Старые английские баллады, собранные Перси,
передают дух своего времени, а стихотворения Бюргера
передают дух нашего. Этого духа г-н Шлегель не понял.
Иначе в безудержности, с которой этот дух иногда проры¬
вается в стихотворениях Бюргера, он ни в коем случае
не услышал бы грубого окрика неотесанного школьного
учителя, а скорее страдальческий вопль титана, которого
ганноверские аристократишки и школьные педанты заму¬
чили до смерти. Ибо такова была судьба автора «Леноры»
и судьба столь многих других гениальных людей, которые
бедствовали, голодали и умерли, влача жалкое существо¬
вание бедных геттингенских доцентов. Как мог знатный,
охраняемый знатными покровителями, подновленный, ба-
ронизированный, обвешанный орденскими лентами кава¬
лер Август-Вильгельм фон Шлегель понять стихи, в ко¬
торых Бюргер громко восклицает, что честный человек
должен скорее умереть с голоду, чем клянчить милости
у сильных мира сего!
Имя Бюргер по-немецки 1 равнозначно слову citoyen.2
Славу г-на Шлегеля еще больше повысило впечатле¬
ние, произведенное им впоследствии во Франции, когда
оп начал нападать и на французские литературные авто¬
ритеты. С гордой радостью видели мы, как наш боевой
земляк доказывает французам, что вся их классическая
литература ничего не стоит, что Мольер—балаганный фиг¬
ляр, а не поэт, что Расин то^ке никуда не годится и что,
наоборот, в нас, немцах, надо видеть настоящих царей
Парнаса. Его припев был всегда один: что французы —
самый прозаический народ на свете п что во Франции вовсе
нет поэзии. Он утверждал это в эпоху, когда на его глазах
еще продолжали во плоти выступать многие корифеи
конвента, великой трагедии титанов, когда Наполеон
ежедневно импровизировал по хорошей эпопее, когда
Париж кишел героями, королями и богами... Однако
г-н Шлегель ничего этого не видел; когда он был здесь,
1 Одно из значепий слова der Bürger — гражданин.
2 Гражданин (франц.).
191
он постоянно смотрел только на собственное отражение в
зеркале, а потому и понятно, что он во Франции не увидел
никакой поэзии.
Но г-н Шлегель, как я уже сказал, всегда был способен
понять только дух поэзии прошлого, а отнюдь не настоя¬
щего. Все, что есть в жизни современного, представляется
ему прозаическим, и поэзпя Франции, родины современ¬
ного общества, осталась для него недоступной. Первым из
тех, кого он неспособен был понять, должен был оказаться
Расин. Ибо этот великий поэт стоит, как глашатай нового
времени, рядом с великим королем, с которого начинается
современность. Расин был первым современным поэтом,
как Людовик XIV—первым современным королем. В Кор¬
неле еще дышит средневековье. В нем и во Фронде хри¬
пит еще, издыхая, старое рыцарство. Поэтому его иногда
называют романтиком. Но в Расине окончательно угасло
мировоззрение средних веков, в нем рождаются только
новые чувства, он рупор нового общества; в груди его
благоухали первые фиалки нашей современной жизии;
здесь могли бы мы увидеть даже первые почки тех лав¬
ров, которые так могуче распустились лишь позже, в наше
время. Кто знает, сколько подвигов выросло из нежных
стихов Расина! Французские герои, покоящиеся в моги¬
лах у пирамид, под Маренго, под Аустерлицем, под
Москвой и под Ватерлоо, все они некогда слышали стихи
Расина, и их император слышал эти стихи из уст Тальма. Кто
знает, сколько центнеров славы Вандомской колонны при¬
ходится на долю Расина! Кто более великий поэт — Еври¬
пид или Расин, я не знаю. Но я знаю, что последний был
живым источником любви и чувства чести, напоившим,
восхитившим и вдохновившим своим напитком целый
народ. Чего больше требовать от поэта? Все мы люди,
мы сходим в могилу и оставляем на земле наше слово, и,
если оно исполнило свое предназначение, то оно возвра¬
щается в лоно господне, в убежище поэтических слов, на
родину всех гармоний.
Если бы г-н Шлегель ограничился утверждением, что
миссия расиновского слова исполнена и что ушедшее впе¬
ред время требует совершенно иных поэтов, то его нападки
имели бы известное основание; но они были безоснова¬
тельны, когда он стремился доказать недостатки Ра¬
сина, сравнивая его с древними поэтами. Он не только
195
не почувствовал ничего в бесконечной прелести, в милой
шутке, в подлинном изяществе, кроющихся в том, что Расин
одел своих новых французских героев в античные наряды и
увлекательность современной страсти соединил с зани¬
мательностью остроумного маскарада. Г-н Шлегель ока¬
зался даже достаточно туп, чтобы принять это переоде¬
вание за чистую монету, чтобы судить о греках Версаля
по грекам Афин, сравнивать «Федру» Расина с «Федрой»
Еврипида! Эта манера измерять современность меркой про¬
шлого так укоренилась в г-не Шлегеле, что новых поэтов
он постоянно хлестал по спинам лаврами какого-нибудь
старого поэта, и, чтобы, в свою очередь, принизить таким
же образом самого Еврипида, он не мог найти ничего
лучшего, как сравнивать его с его предшественником Со¬
фоклом или даже с Эсхилом.
Мы зашли бы слишком далеко, если бы я вздумал рас¬
сказывать здесь, как Шлегель, следуя этой манере, пы¬
тался принизить и Еврипида, совершая против него ве¬
личайшую несправедливость, как некогда сделал это
Аристофан. В этом отношении Аристофан стоял на точке
зрения, обнаруживающей величайшее сходство с точкой
зрения романтической школы; в основании его полемикп
лежат сходные чувства и тенденции, и если г-на Тика на¬
зывали романтическим Аристофаном, то по справедливости
можно назвать пародиста Еврипида и Сократа классиче¬
ским Тиком. Как г-н Тик и братья Шлегели, несмотря
па свое собственное неверие, все же скорбели о гибели
католичества; как они желали восстановить эту религию
в .массах; как они посредством насмешки и клеветы боро¬
лись в этих целях с протестантскими рационалистами,
с просветителями подлинными еще более, чем с поддель¬
ными; как они питали самое злобное отвращение к лю¬
дям, проводившим в жизнь и в литературу самую благо¬
родную гражданственность; как они издевались над этой
гражданственностью, изображая ее в виде обывательского
филистерства, и, наоборот, неустанно воспевали и про¬
славляли могучую героическую жизнь феодального сред¬
невековья, — точно так же и Аристофан, сам посмеивав¬
шийся над богами, все же ненавидел философов, готовив¬
ших гибель всему Олимпу: он ненавидел рационалиста
Сократа, проповедовавшего более высокую мораль; он
ненавидел поэтов, уже находивших выражение для новой
106
жизни, настолько же отличавшейся от прежней эпохи
греческих богов, героев и царей, насколько наша совре¬
менность отличается от феодального средневековья; он
ненавидел Еврипида, который не был уже упоен грече¬
ским средневековьем, как Эсхил и Софокл, и приближался
к мещанской трагедии. Я сомневаюсь, чтобы г-н Шлегель
сознавал истинные мотивы, по которым он так принизил
Еврипида в сравнении с Эсхилом и Софоклом. Думаю, что
им руководило бессознательное чувство: в старом тра¬
гике он иочуял новую, демократическую и протестант¬
скую стихию, которая была уже так ненавистна рыцар¬
скому и олимиийски-католическому Аристофану.
Быть может, однако, я оказываю г-ну А.-В. Шлегелю
незаслуженную честь, подозревая его в определенных сим¬
патиях и антипатиях. Возможно, что у него не было
ни тех, ии других. В молодости он был эллинистом и лишь
позднее стал романтиком. Он сделался корифеем новой
школы, от него и его брата она получила свое название,
и сам он, быть может меньше, чем кто-либо, придавал
серьезное значение шлегелевской школе. Он поддерживал
ее своими талантами, он целиком погрузился в изучение
ее, она радовала его до тех пор, пока все шло хорошо,
по когда для школы настал плохой конец, то оп вновь пе¬
ренес свои труды в другую область.
Одпако, хотя школа пала, все же усилия г-на Шлегеля
принесли добрые плоды для нашей литературы. Главное,
он показал, что можно излагать научные вещи изящным
языком. Раньше лишь немногие немецкие ученые осмели¬
вались написать научную книгу ясным и привлекательным
слогом. Писали на путаном, сухом немецком языке, от
которого отдавало сальными свечами и табаком. Г-н Шле¬
гель принадлежал к немногим немцам, по курящим та¬
баку, — добродетель, которой он обязан обществу г-жи де
Сталь. Оп вообще обязан этой даме внешним лоском,
которым он с такой выгодой мог блистать в Германии.
В этом отношении смерть почтенной г-жи де Сталь была
большой потерей для немецкого ученого, находившего
в ее салоне столько возможностей знакомиться с новей¬
шими модами и, состоя в ее свите, наблюдать высший свет
всех европейских столиц и усвоить себе изысканнейшие
светские правы. Эти образовательные отношения до такой
степени сделались для пего приятной жизненной потреб-
Т)7
ностыо, что он после смерти своей благородной покрови¬
тельницы был склонен предложить себя и знаменитой
Каталани в спутники в ее путешествиях.
Как я уже сказал, распространение изящества было
главной заслугой г-на Шлегеля, и благодаря ему и жизнь
немецких поэтов больше приобщилась к цивилизации.
Уже Гете дал поучительнейший пример того, что можно
быть немецким поэтом и, однако, сохранять внешнюю
пристойность. В прежние времена немецкие поэты отно¬
сились с пренебрежением ко всем условным формам, и
название «немецкий поэт» или даже «поэтический гений»
было самой отрицательной характеристикой. Немецкий
поэт в те времена был человеком, который ходил в истре¬
панном, поношенном сюртуке, сочинял па случай крестин
и свадеб стихотворения по талеру за штуку, и отсутствие
хорошего общества, не принимавшего его в свою среду,
возмещал основательной выпивкой по вечерам, порой
даже валялся пьяный в уличиой канаве, нежно лобызае¬
мый чувствительными лучами луны. На старости лет эти
люди впадали в еще более беспросветную нищету, но это
была нищета без забот или нищета, единственная забота
которой заключалась в том, где бы за наименьшее коли¬
чество денег получить наибольшее количество водки.
Таким представлял и я себе немецкого поэта. Поэтому
как приятно я был изумлен, когда в 1819 году, будучи
очень молодым человеком и студентом Воинского уни¬
верситета, имел там честь увидеть лицом к лицу поэтиче¬
ского гения, г-на стихотворца А.-В. Шлегеля. Если не
считать Наполеона, это был первый великий человек,
которого я тогда увидел, и я никогда не забуду этого ве¬
личественного зрелища. До сих пор я ощущаю священ¬
ный трепет, пронизавший мою душу, когда я стоял перед
его кафедрой и слушал его лекцию. Я носил тогда сюр¬
тук грубого белого сукна, красную шапку, длинные бело¬
курые волосы и ходил без перчаток. А на г-не А.-В. Шле-
геле были лайковые перчатки, и он был одет по послед¬
ней парижской моде; он еще насквозь благоухал высшим
обществом и eau de mille fleurs; 1 он был олицетворенное
изящество и элегантность, и когда он говорил об англий¬
ском канцлере, то прибавлял «мой друг», и подле него
1 Цветочной водой (франц.).
198
стоял его слуга в баронской шлегелевской ливрее и по¬
правлял восковые свечи в серебряных подсвечниках,
стоявшие рядом со стаканом подсахаренной воды перед
чудодеем на кафедре. Слуга в ливрее! Восковые свечи!
Серебряные подсвечники! «Мой друг английский канц¬
лер!» Лайковые перчатки! Сахарная вода! Какие неслы¬
ханные вещи в аудитории немецкого профессора! Этот
блеск немало ослеплял нас, молодых людей, особенно
меня, и я написал в ту пору три оды, обращенные к
г-ну Шлегелю, из которых каждая начиналась словами:
«О ты, который» п т. д. Но лишь в поэзии осмеливался
я говорить столь знатному человеку «ты». Его внешность
и в самом деле придавала ему известное благородство.
На его маленькой головке блестели еще немногие сереб¬
ряные волоски, а тельце его было так тонко, так измож¬
дено, так прозрачно, что он казался воплощением духа
и, можно сказать, являлся символом спиритуализма.
Несмотря на все это, он в те годы женился, и женился
оп, глава романтиков, на дочери церковного советника
Паулюса в Гейдельберге, главы немецких рационалистов.
Это был символический брак: романтика как бы сочета¬
лась здесь с рационализмом; но брак оказался бесплод¬
ным. Наоборот, разрыв между романтикой и рационализ¬
мом стал оттого еще больше, и уже на другое утро после
свадебной ночи рационализм сбежал к себе домой и не
хотел больше иметь ничего общего с романтикой. Ибо
рационализм, будучи всегда рассудительным, не хотел
только символического брака и, поняв все деревянное
ничтожество романтического искусства, сбежал от него.
Знаю, что говорю здесь темно, и поэтому хочу высказаться
со всей возможной ясностью.
Тпфон, злой Тпфон ненавидел Озириса (который, как
вам известно, есть египетский бог) и, одолев его, разорвал
на куски. Изида, бедная Изида, супруга Озириса, с ве¬
ликим трудом разыскала эти куски, соединила их, и ей
удалось вновь целиком восстановить разорванного су¬
пруга. Целиком? Ах, нет, недоставало главного куска,
которого не могла найти бедная богиня, бедная Изида!
Ей пришлось поэтому удовлетвориться дополнением из
дерева; но дерево есть только дерево, бедная Изида!
Отсюда возник в Египте скандальный миф, а в Гейдель¬
берге — мистический скандал.
199
С тех пор г-н Шлегель исчез, и о нем совершенно за¬
были. Раздраженный таким забвением, он, наконец,
после многолетнего отсутствия, вновь появился в Берлине,
былой столице своего литературного блеска, и снова про¬
читал там несколько лекций по эстетике. Но за это время
он ничему новому не научился и обращался теперь к пу¬
блике, которая получила уже от Гегеля философию искус¬
ства, науку эстетики. Слушатели смеялись и пожимали
плечами. Он оказался в положении старой актрисы, кото¬
рая после двадцатплетпего отсутствия вновь выступает на
поприще своих былых успехов и не понимает, почему люди
смеются, вместо того чтобы аплодировать. Шлегель успел
ужасающе измениться и в течение четырех недель потешал
Берлин демонстрацией своих комических сторон. Ои сде¬
лался старым тщеславным фатом, над которым всюду
смеются. Об этом рассказывают самые невероятные
вещи.
Здесь, в Париже, я имел неудовольствие лично встре¬
титься вновь с г-ном А.-В. Шлегелем. Поистние, об этой
перемене я не имел никакого представления, пока не
убедился в ней своими собственными глазами. Это было
год тому назад, вскоре после моего приезда в столицу.
Я как раз отправился смотреть дом, где жил Мольер,
ибо я почитаю великих поэтов и с религиозным благогове¬
нием отыскиваю повсюду следы их земного пребывания.
Это мой культ. По пути, недалеко от этого священного
дома, предстало предо мной существо, в неясных чертах
которого сквозило некоторое сходство с былым А.-В. Шле¬
гелем. Мне казалось, что я вижу пред собой его дух. Но
это было только его тело. Дух мертв, а тело еще блуждает
призраком по земле и за это время иорядочно-таки ожи¬
рело; тонкие, спиритуалистические ножки опять обросли
мясом; было заметно даже брюшко, повыше которого
висело множество орденских ленточек. На некогда столь
изящной седоволосой головке сидел золотисто-желтый
парик. Он был одет по последней моде того года, когда
умерла г-жа де Сталь. При этом он улыбался со ста¬
риковской слащавостью, как пожилая дама, держащая
кусочек сахара во рту, и двигался с юношеской гра¬
цией, словно кокетливое дитя. С ним и в самом деле
произошло странное омоложение; ои как бы пережил
шуточное вюрое издание своей юности; ои как бы вновь
200
расцвел, и румянец его щек внушал мне даже подозрение,
что это не румяна, а здоровая ирония природы.
Мне показалось в этот миг, будто я вижу покойника
Мольера в окне и будто ои с улыбкой указывает мне на
эту меланхолически забавную фигуру. Вся смехотвор¬
ность ее вдруг раскрылась предо мной с такой ясностью;
я понял всю глубину и полноту шутки, воплощенной
в пей; я понял весь комедийный характер этого басно¬
словно комического персонажа, к сожалению не нашед¬
шего великого драматурга-комика, чтобы использо¬
вать должным образом эту фигуру для сцепы. Мольер —
единственный, кто мог бы вывести такую фигуру на сцене
«Théâtre français», только у него был необходимый длл
этого талант; и это уже с давних пор чувствовал
г-н А.-В. Шлегель, и он ненавидел Мольера по той при¬
чине, по которой Наполеон ненавидел Тацита. Как На¬
полеон Бонапарт, французский цезарь, чувствовал, что
республиканский историк не изобразил бы его в розовых
красках, так г-н А.-В. Шлегель, немецкий Озирис, давно
предчувствовал, что он не ускользнул бы от Мольера,
от великого комика, если бы тот жил в наше время.
И Наполеон говорил о Таците, что тот оклеветал Тиберия,
а г-н А.-В. Шлегель говорил о Мольере, что тот был вовсо*
не поэт, а просто шут.
Г-н А.-В. Шлегель вскоре после того покинул Париж,
предварительно украшенный его величеством Луи-Фп-
липпом I, королем французов, орденом Почетного ле¬
гиона. «Moniteur» до сих пор медлит с достодолжным из¬
вещением об этом событии; но Талия, муза комедии,
поспешила занести его в свою смеющуюся записную
книжку.
II
После Шлсгслей одним из деятельнейших писателей
романтической школы был г-н Людвиг Тик. С ее именем па
устах он боролся и писал стихи. Он был поэтом — имя,
которого не заслуживал ни один из обоих Шлегелей. Он
был настоящим сыном Феба-Аполлона, и, как и его вечно
юный отец, выступал не только с лирой, но и с луком и
с колчаном, полным сладкозвучнейших стрел. Он был упоен
лирическим восторгом и критической жестокостью, как
201
дельфийский бог. Безжалостно оборвав, подобно ему,
какого-нибудь литературного Марсия, он вновь весело
хватался окровавленными перстами за золотые струны
своей лиры и пел радостную любовную песнь.
Поэтическая полемика, которую г-н Тик вел в дра¬
матической форме с противниками школы, принадлежит
к самым незаурядным явлениям нашей литературы. Это
сатирические драмы, которые обыкновенно сравнивают
с комедиями Аристофана. Но они столь же непохожи па
эти комедии, как трагедии Софокла непохожи на шекспи¬
ровские. Пбо если античные комедии во всей полноте
сохранили единство строения, строгость развития и утон¬
ченно выработанный метрический язык античной траге¬
дии, пародией на которую они могли считаться, то драма¬
тические сатиры г-иа Тика так же причудливы, так же
по-английски неправильны и так же метрически произ¬
вольны, как и трагедии Шекспира. Была ли эта форма
изобретением г-па Тика? Нет, она уже существовала
в народе, именно в народе Италии. Знающие по-итальянски
могут составить себе довольно точное представление
о драмах Тика, если к пестрым, причудливым, венецнан-
ски-фантастическим сказкам-комедиям Гоцци прибавят
еще немножко немецкого лунного света. Даже большин¬
ство персонажей заимствовано г-ном Тиком у этого ве¬
селого сына лагун. По его примеру многие немецкие
поэты тоже усвоили эту форму, и у нас появились комедии,
комическое действие которых не вызывается причудливым
характером или забавной интригой, но которые как бы
непосредственно переносят нас в комический мир—в мир,
где животные говорят и действуют как люди и где вместо
естественного порядка вещей выступают случайность и
произвол. То же находим мы и у Аристофана, только
последний избрал эту форму, чтобы раскрыть перед нами
глубины своего мировоззрения, как он это делает, на¬
пример, в «Птицах», где изображено в забавнейшей па¬
родии безумное поведение людей, их склонность строить
великолепные замки на пустом месте, их дерзкий мятеж
против вечных богов, их радость и восторг по поводу мни¬
мых побед. Тем и велик Аристофан, что велико его миро¬
воззрение, что оно было выше и даже трагичнее мировоз¬
зрения трагиков, что его комедии были поистине «шутли¬
выми трагедиями»; ибо, например, Пайстетерос в конце
202
пьесы изображен не в своем смешном ничтожестве, как
изобразил бы его современный поэт, но, наоборот, он
завладевает Базилеей, прекрасной, чудесной, могуществен¬
ной Базилеей, он возносится с этой божественной супру¬
гой в свой воздушный город; боги принуждены подчи¬
ниться его воле, глупость празднует свой брак с властью,
и пьеса заканчивается ликующими гимнами Гименею.
Может ли для разумного человека быть что-нибудь более
ужасающе трагичное, чем эта дурацкая победа и дурацкое
торжество? Так далеко, однако, не заходили наши немец¬
кие Аристофаны; они воздерживались от всякого высшего
мировоззрения; о двух важнейших сторонах жизни че¬
ловека, о политике и о религии, они с величайшей скром¬
ностью хранили молчание. Только темы, положенной Ари¬
стофаном в основание его «Лягушек», они позволили
себе коснуться: главным предметом своей драматической
сатиры они избрали самый театр, и недостатки нашей
сцены они высмеивали с большим или меньшим юмором.
Надо, однако, принять во внимание также отсутствие
политической свободы в Германии. Наши остроумцы, вы¬
нужденные воздерживаться от всяких намеков по отно¬
шению к действительным государям, ищут возмещенпя
за это ограничение в королях театра и принцах кулис. Мы,
не имевшие почти никаких газет с политической публици¬
стикой, были тем более богаты множеством эстетических
журналов, не содержавших ничего, кроме пустых сказок
и театральных рецензий; так что всякому, видевшему
наши журналы, должно было прийти в голову, что весь
немецкий народ сплошь состоит из болтающих кормилиц
и театральных рецензентов. Но это было бы все же не¬
справедливо. В сколь малой степени удовлетворяло нас
такое жалкое бумагомарание, выяснилось после Июль¬
ской революции, когда стало казаться, что и в нашем до¬
рогом отечестве может быть высказано свободное слово.
Внезапно появился ряд газет, рецензировавших хорошую
и дурную игру действительных королей; кое-кто из них,
забывший свою роль, был освистан в собственной столице.
Наши литературные Шехерезады, имевшие обыкновение
усыплять своими маленькими новеллами публику, этого
грубого султана, должны были теперь умолкнуть, и актеры
с изумлением увидели, что партер пуст, как бы они боже¬
ственно ни играли, и что даже х^ресло страшного мест-
203
иого рецензента очень часто остается незанятым. В преж¬
ние времена добрые герои подмостков всегда жаловались,
что они, и только они, служат официальным предметом
обсуждения и что даже их домашние добродетели разоб¬
лачаются в газетах. Как же они перепугались, когда
стало выясняться, что, пожалуй, о них вовсе не будет речи!
В самом деле, если бы в Германии разразилась рево¬
люция, то пришел бы конец театру и театральной критике
и перепуганные беллетристы, актеры и театральные ре¬
цензенты с полным основанием опасались бы, что «искус¬
ство может погибнуть». Но мудрым могуществом франк¬
фуртского Союзного сейма был счастливо отвращен от
нашего отечества этот ужас; надо надеяться, никакая
революция не разразится более в Германии; мы ограждены
от гильотины и от всех ужасов свободы печати; уничтожены
даже палаты депутатов, конкуренция которых так вре¬
дила субсидируемым театрам, — и искусство спасено.
Для искусства делается теперь в Германии все возможное,
особенно в Пруссии. Музеи сверкают красочной пестротой,
оркестры гремят, танцовщицы выделывают свои очаро¬
вательнейшие антраша, тысяча и одна новелла забавляют
публику, и вновь расцвела театральная критика.
Юстин рассказывает в своей «Истории»: «Усмирив
мятеж лидийцев, Кир обуздал беспокойный свободолю¬
бивый дух их только тем, что повелел им заниматься
искусством п прочими развлечениями. С тех пор о бун¬
тах в Лидии пе было и речи, но тем более прославились
лидийские трактирщики, сводники и артисты».
Теперь у нас в Германии спокойно, театральная кри¬
тика и новелла вновь стали главным делом; и так как
г-н Тик—мастер в обоих этих областях, то все друзья
искусства воздают ему должную дань восхищения. Он и
в самом деле лучший новеллист в Германии. Однако его
повествовательные произведения неодинаковы и нерав¬
ноценны. Так же как у живописцев, у г-на Тика можно
различить много манер. Его первая манера еще целиком
принадлежит прежней школе. Он писал тогда лишь по
почину и заказу книгопродавца, и это был не кто
иной, как сам покойный Николаи, непримиримейший чем¬
пион просвещения и гуманности, великий враг суеверия,
мистики и романтики. Николаи был плохой писатель,
прозаический парик, и он часто ставил себя в очень смеш-
204
нос положение тем, что повсюду вынюхивал иезуитов.
Но мы, пришедшие позднее, мы должны признать, что
старый Николаи был весьма почтенный человек, честно
стремившийся к благу немецкого народа и из священной
любви к истине не боявшийся даже худшего пз видов му¬
ченичества — быть посмешищем. Как рассказывали мне
в Берлине, г-н Тик жил раньше в доме этого почтенного
человека, он жил этажом выше Николаи, и новое время
уже с шумом шагало над головой старого времени.
Произведения, написанные Тиком в его первой манере,
главным образом рассказы и большие, длинные романы,
среди которых лучший—«Вильям Ловелль», очень незна¬
чительны и даже чужды поэзии. Как будто эта поэти¬
чески богатая натура скупилась в молодости и сохраняла
все свои духовные богатства для будущего времени. Или,
быть может, г-н Тик сам не знал богатств, таившихся
в его собственной груди, и лишь Шлегелям удалось от¬
крыть их своей волшебной палочкой? Едва г-н Тик вошел
в соприкосновение с Шлегслями, раскрылись все сокро¬
вища его души, его воображения и его остроумия. За¬
сверкали алмазы, посыпались чистейшие жемчуга, и
здесь прежде всего заблистал альмандин—легендарный
драгоценный камень, о котором в то время так много го¬
ворили и пели романтические поэты. Эта богатая душа
была, собственно, той сокровищницей, из которой Шле¬
гели оплачивали военные издержки своих литературных
походов. Г-ну Тику пришлось одновременно писать для
школы вышеупомянутые сатирические комедии и изго¬
товлять по новейшим эстетическим рецептам множество
поэтических произведений всех родов. Такова вторая ма¬
нера г-на Людвига Тика. Наилучшими его драматическими
произведениями этой манеры являются: «Император Окта-
виан», «Святая Генофефа» и «Фортунат» — три драмы,
написанные по народным книжкам, носящим те же за¬
главия. Эти старые сказания, до сих пор хранимые не¬
мецким пародом, поэт облачил здесь в новые драгоценные
одежды. Но, сказать по совести, мне они милее в старой,
наивной, простодушной форме. Как ни прекрасна
«Генофефа» Тика, мне гораздо милее старая, очень плохо
напечатанная в Кельне на Рейне народная книжка, с ее
несовременными гравюрами на дереве, которые, однако, так
трогательно изображают, как бедная голая пфальцграфиня,
20Ö
целомудренно прикрытая только своими длинными волоса¬
ми, питает маленькое дитя у сосцов сострадательной лаии.
Гораздо ценнее этих драм новеллы, написанные г-ном
Тиком в его второй манере. Они также в большинстве
случаев созданы по образцу старинных народных сказа¬
ний. Самые лучшие из них: «Белокурый Экберт» и «Ру-
неиберг». Таинственная задушевность царит в этих про¬
изведениях, своеобразное согласие с природой, особенно
с миром растений и камней. Читатель чувствует себя
здесь, как в заколдованном лесу; он слышит мелодическое
журчание подземных родников; ему кажется, что време¬
нами в шелесте деревьев он различает свое имя; време¬
нами широколистые вьющиеся растения опутывают его
ноги; чужеземные чудесные цветы вперяют в него свои
пестрые томные глаза; невидимые губы целуют его щеки
с игривой нежностью; высокие грибы, подобно золотым
колокольчикам, звеня, поднимаются у корней деревьев;
большие безмолвные птицы раскачиваются на ветвях
п кивают своими умными длинными клювами; все ды¬
шит, все прислушивается, все полно жуткого ожи¬
дания... И вот вдруг раздается звук мягкого лесного
рожка, на белом иноходце проносится красавица с разве¬
вающимися перьями на шапочке, с соколом на руке.
И прекрасная эта девица так прекрасна, так белокура,
так синеглаза, так приветлива, и к тому же так серьезна,
так правдива, и при этом так иронична, так невинна
и опять же так страстно томна, как фантазия нашего
восхитительного Людвига Тика. Да, его фантазия — пре¬
лестная девица из рыцарского романа, охотящаяся в
волшебном лесу за сказочным зверем, быть может даже
за редкостным единорогом, которого дано поймать лишь
чистой девственнице.
Странная перемена происходит, однако, теперь с г-ном
Тиком, п она проявляется в его третьей манере. После
долгого молчания вслед за падением Шлегелей он вновь
выступил, и в таком роде, какого меньше всего от него
можно было ожидать. Былой энтузиаст, бросившийся
некогда с фанатическим пылом в лоно католической
церкви, яростно боровшийся против просветительства и
протестантства, дышавший только средневековьем, только
феодальным средневековьем, любивший искусство только
в наивных излияниях сердца, — выступил теперь в роли
206
изобразителя современнейшей бюргерской жизни и про¬
тивника восторженности, — как художник, требующий
в искусстве ясности и сознательности, — словом, как
разумный человек. Таким представляется он нам в ряде
новейших новелл, из коих некоторые стали известны
во Франции. В них заметно изучение Гете, да и вообще
г-н Тик в своей третьей манере является истинным уче¬
ником Гете. Та же артистическая ясность, жизнерадост¬
ность, спокойствие и ирония. Если раньше шлегелевской
школе не удавалось привлечь Гете к себе, то теперь мы ви¬
дим, как эта школа, в лице Людвига Тика, перешла к Гете.
Это напоминает одно магометанское предание. Пророк ска¬
зал горе: «Гора, приди ко мне». Но гора не пришла, и что
же? — произошло еще большее чудо: пророк пошел к горе.
Г-н Тик родился в Берлине 31 мая 1773 года. Много
лет тому назад он поселился в Дрездене, где посвятил
себя главным образом театру, и он, неустанно издевав¬
шийся в своих прежних произведениях над гофратом,
как олицетворением всего смешного, сделался теперь
сам королевским саксонским гофратом. Господь бог, по¬
жалуй, еще больший насмешник, чем г-н Тик.
Странное разногласие возникло ныне между рассуд¬
ком и воображением этого писателя. Рассудок Тика —
почтенный, трезвый обыватель, преклоняющийся перед
полезностью и отворачивающийся от восторженности;
но воображение Тика — по-прежнему все та же рыцар¬
ская красавица с развевающимися перьями на шапочке
и соколом на руке. Они живут в забавном браке, и иногда
даже грустно становится, когда видишь, как бедная
женщина, невзирая на свое высокое происхождение, вы¬
нуждена помогать своему сухому мещанину мужу по
хозяйству или даже в его сырной лавке. Но иной раз
ночью, когда господин супруг спокойно храпит, надвинув
фланелевый колпак на голову, благородная дама подни¬
мается с принудительного брачного ложа, садится на
своего белого коня и вновь весело отправляется на охоту,
как некогда в романтическом волшебном лесу.
Не могу умолчать, что в последних новеллах Тика
рассудок сделался еще суше и что его фантазия все боль¬
ше и больше теряет свою романтическую природу, в
холодные ночи с благодушным зевком остается на брачном
ложе и почти с нежностью прижимается к тощему супругу.
207
Однако г-п Тик все же остается большим поэтом.
Ибо ои способен создавать образы и из его сердца льются
слова, трогающие наши собственные сердца. Но робость,
нечто неопределенное, неуверенное, известная слабость
не появились теперь, а были присущи ему всегда. Этот не¬
достаток решительности и силы слишком явно сказы¬
вался во всем, что он делал и писал. Во всяком случае,
во всем, что он писал, не проявлялось никакой самостоя¬
тельности. В первой своей манере он просто ничто; его
вторая манера изобличает в нем лишь верного оруженосца
Шлегслей; в третьей манере он является подражателем
Гете. Его критические статьи о театре, собранные им
под заглавием «Драматургические страницы», — самое
оригинальное из всех его произведений. Но это именно
критические статьи о театре.
Чтобы до конца обрисовать Гамлета как слабого чело¬
века, Шекспир тоже выставляет его в диалоге с актерами
хорошим театральным критиком.
Наукам г-п Тик никогда не отдавался серьезно. Он
изучал новые языки и старые памятники пашей отечест¬
венной поэзии. Изучение классической древности, гово¬
рят, было ему, как истинному романтику, всегда чуждо.
Никогда не занимался он философией; она ему как будто
даже была противна. На полях науки г-н Тик срывал
только цветы и тонкие прутья, чтобы первыми угощать
носы своих друзей, а последними спины своих противни¬
ков. Научному полеводству он никогда не предавался.
Его сочинения — букеты цветов и связки прутьев; нигде
пи одного снопа колосьев.
Кроме Гете, г-и Тик больше всего подражал Серванте¬
су. Юмористическая ирония (я мог бы также сказать —
иронический юмор) этих двух поэтов нового времени также
распространяет свое благоухание в новеллах третьей
манеры г-на Тика. Ирония и юмор в такой степени сли¬
лись зхцзеь воедино, что кажутся одним и тем же. Об этой
юмористической иронии много толкуют у нас, гстевская
художественная школа восхваляет ее, как особую пре¬
лесть своего учителя, и она играет теперь большую роль
в немецкой литературе. Но она только символ нашей
политической угнетенности, и как Сервантес в эпоху
инквизиции вынужден был искать убежища в юмористи¬
ческой иронии, для того чтобы выразить свои мысли,
208
скрывая уязвимые стороны от служителей священной
инквизиции, так и Гете имел обыкновение выражать в
тоне юмористической иронии то, что он, в качестве ми¬
нистра и придворного, не осмеливался высказать прямо.
Гете никогда не скрывал правды, и в тех случаях, когда
не мог показать ее во всей наготе, он облекал ее в юмор
и иронию. Писатели, томящиеся под цензурным н всяким
иным духовным гнетом и никогда не могущие отречься
от своих заветных взглядов, особенно вынуждены при¬
бегать к иропически-юмористической форме. Это единст¬
венный исход, еще остающийся для их честности, и в таком
юмористически-иронпческом наряде эта честность прояв¬
ляется еще трогательнее. Это вновь вызывает в моей памяти
чудака, принца датского. Гамлет — честнейшее существо
на свете. Его притворство служит лишь заменой внешних
приличий. Оп чудачит, потому что чудачество все же
меньше оскорбляет придворный этикет, чем решительное,
прямое объяснение. Во всех своих юмористически-иро-
нических шутках он намеренно показывает всегда, что
оп только притворяется; во всем, что он делает и говорит,
его настоящее мнение ясно всякому, кто умеет видеть,
и даже королю, которому Гамлет хоть и не может открыто
высказать правду (потому что он слишком слаб для этого),
но от которого он, однако, отнюдь не хочет скрывать ее.
Гамлет насквозь честен, только честнейший человек мог
сказать: «Все мы обманщики»; и, притворяясь сумасшед¬
шим, он тоже не хочет нас обманывать и в глубине души
сам уверен, что действительно сошел с ума.
Я должен в дополнение с похвалой упомянуть еще
о двух работах г-на Тика, которыми он особенно снискал
благодарность немецких читателей. Это его перевод ряда
английских драм дошскспировской эпохи и перевод
«Дон-Кихота». Последний ему особенно удался, никто
не умел так хорошо понять нелепое величие хитроумного
идальго ламанчского и так хорошо передать его, как
наш превосходный Тик.
Забавно, что именно из романтической школы вышел
лучший перевод книги, где потешнее всего высмеяна
ее собственная нелепость. Ибо эта школа страдала ведь
тем же безумием, которое вдохновило и благородного
ламанчского рыцаря на все его дурачества; и она стреми¬
лась восстановить средневековое рыцарство, и она стро-
8 Г. Гейнз, т. G
209
милась вновь призвать к жизни умершее прошлое. Или,
быть может, Мигель де Сервантес Сааведра в своей шу¬
товской эпопее хотел высмеять и других рыцарей, а имен¬
но всех людей, которые когда-либо боролись и страдали
за идею? Не хотел ли он, в самом деле, в образе своего
долговязого, тощего рыцаря дать пародию на идеаль¬
ное воодушевление вообще, а в его толстом оруженосце —
па реалистический рассудок? Так или иначе, последний
играет более комическую роль; ибо положительному рас¬
судку со всеми его поучительными поговорками, унасле¬
дованными от предков, все-таки приходится тащиться
на своем спокойном осле вслед за воодушевлением; не¬
смотря на свою рассудительность, ему и его ослу прихо¬
дится делить все невзгоды, так часто выпадающие на
долю благородного рыцаря; мало того, идеальное вооду¬
шевление столь могуче увлекательно, что положитель¬
ному рассудку невольно приходится постоянно следовать
за ним вместе со своими ослами.
Или глубокомысленный испанец хотел еще глубже
осмеять человеческую природу? Быть может, в образе
Дон-Кихота он аллегорически изобразил наш дух, а в
образе Сапчо Пансы—наше тело, и вся поэма в таком слу¬
чае является не чем иным, как великой мистерией, где
вопрос о духе и материи обсуждается во всей его ужаса¬
ющей правде? Одно ясно для меня в этой книге — что
бедному материалисту Сапчо приходится много выстра¬
дать ради спиритуалистических донкихотств, что он
из-за благороднейших намерений своего господина очень
часто терпит самые неблагородные колотушки и что он
всегда рассудительнее своего высоко заносящегося госпо¬
дина; ибо он знает, что колотушки очень неприятны, а
колбаски в олья-потриде очень вкусны. Поистине, тело
часто гораздо проницательнее духа и человек часто го¬
раздо правильнее мыслит спиной и желудком, чем головой.
III
Среди безумств романтической школы в Германии
особого упоминания заслуживают неустанные восхвале¬
ния и превознесения Якоба Беме. Это имя было как бы
лозунгом этих людей. Произнося имя Якоба Беме, они
210
строили самые глубокомысленные мины. Всерьез это
было или в шутку?
Этот Якоб Беме был сапожником, увидевшим свет в
1575 году в Верлице, в Оберлаузице и оставившим целую
груду теософических сочинений. Они написаны по-не¬
мецки, что делало их тем доступнее нашим романтикам.
Был ли этот необычайный сапожник таким замечательным
философом, как утверждали многие немецкие мистики,
не берусь решать определенно, так как я его не читал;
однако я убежден, что он не шил сапог так хорошо,
как г-н Закоский. Сапожники вообще играют роль в на¬
шей литературе, и Ганса Сакса, сапожника, родившегося
в 1454 году в Нюрнберге и прожившего там всю жизнь,
романтическая школа прославила как одного из наших
лучших поэтов. Его я читал и должен сознаться, что сом¬
неваюсь, писал ли когда-либо г-н Закоский такие хо¬
рошие стихи, как наш старый милый Ганс Сакс.
О влиянии г-на Шеллинга на романтическую школу
я уже упомянул. Так как ниже мне придется особо го¬
ворить о нем, то здесь я могу не вдаваться в подробности.
Во всяком случае этот человек заслуживает нашего ве¬
личайшего внимания. Ибо в начале своей деятельности
ои произвел великую революцию в мире немецкой мысли,
а в позднейшее время он так переменился, что люди не
знающие впадают в величайшую ошибку, смешивая преж¬
него Шеллинга с нынешним. Прежний Шеллинг был сме¬
лый протестант, выступавший против фихтевского идеа¬
лизма. Этот идеализм был странной системой, которая
должна казаться французам особенно чуждой. Ибо в то
время как во Франции развивалась философия, как бы
облекавшая дух плотыо, признававшая дух только одной
из модификаций материи,—одним словом, когда здесь
получил господство материализм, в Германии возвы¬
силась философия, которая, как раз наоборот, рассматри¬
вала лишь дух как нечто действительное, объявляя всякую
материю только одной из модификаций духа и даже отри¬
цая самое существование материи. Казалось, что дух но
ту сторону Рейна старается отомстить за те оскорбления,
которым он подвергался по эту его сторону. Когда
дух начали отрицать здесь, во Франции, он как бы эмигри¬
ровал в Германию и там стал отрицать материю. В этом
отношении Фихте можно было рассматривать как герцога
8
211
Брауншвейгского от спиритуализма, и его идеалистическая
философия была бы не чем иным, как манифестом против
французского материализма. Но эта философия, дейст¬
вительно представляющая вершину спиритуализма, была
так же мало долговечна, как грубый материализм фран¬
цузов, и именно г-н Шеллинг как раз и выступил с уче¬
нием, что материя, или, как он называл ее, природа, су¬
ществует не только в нашем духе, но и в действительности,
что наше представление о вещах тождественно самим
вещам. Это и есть учение Шеллинга о тождественности,
или, как его также называют, натурфилософия.
Это произошло в начале столетия. В тс годы г-и Шел¬
линг был великим человеком, но затем на философской
арене появился Гегель; г-н Шеллинг, в последнее время
почти ничего не писавший, остался в тени, мало того—
он был предан забвению и сохранил лишь историко-
литературное значение. Гегелевская философия сдела¬
лась господствующей; Гегель стал властелином в царстве
умов, и бедный Шеллинг, павший, медиатизировапный
философ, тоскливо бродил среди прочих медиатизирован-
ных господ в Мюнхене. Тут встретил я его однажды и
чуть не пролил слезу при виде этого жалкого зрелища.
И то, что ои говорил, было еще более жалко, — это была
завистливая брань по адресу Гегеля, занявшего его место.
Как сапожник говорит о другом сапожнике, обвиняя его
в том, что тот украл у него кожу и сшил из нее сапоги,
так, случайно встретив г-на Шеллинга, я слышал, как оп
говорил о Гегеле — о Гегеле, который «взял его идеи».
«Это мои идеи он взял», и снова «мои идеи» — таков был
постоянный припев этого бедного человека. Поистине,
если некогда сапожник Якоб Беме говорил как философ,
то философ Шеллинг говорит теперь как сапожник.
Нет ничего смешнее предъявления прав собственности
на идеи. Конечно, Гегель воспользовался очень многими
шеллинговскими идеями для своей философии; но г-н
Шеллинг никогда не знал бы, что с ними делать, с этими
идеями. Он всегда только философствовал, но никогда
не мог создать философию. И, кроме того, можно опре¬
деленно утверждать, что г-н Шеллинг больше заимствовал
у Спинозы, чем Гегель у него. Когда впоследствии Спиноза
будет высвобожден из своей окоченевшей старокарте¬
зианской, математической формы и сделается доступным
212
широким кругам читателей, тогда, быть может, выяснится7
что он больше, чем кто-либо другой, вправе жаловаться
на кражу своих идей. Все наши новейшие философы,
быть может, не отдавая себе в том отчета, смотрят сквозь
очки, отшлифованные Барухом Спинозой.
Злоба и зависть привели даже ангелов к падению, и—увы,
ото слишком несомненно — досада при виде все возрастаю¬
щего значения Гегеля привела бедного г-на Шеллинга туда,
где мы его теперь видим, а именно в сети католической
пропаганды, штаб-квартира которой находится в Мюн¬
хене. Г-н Шеллинг предал философию ради католической
религии. Все свидетельствует единогласно об этом, и
давно уже можно было предвидеть, что этим кончится.
Из уст разных власть имущих лиц в Мюнхене я так часто
слышал слова о необходимости связать веру со знанием.
Эта фраза была невинна, как цветок, но за нею таилась
змея. Теперь я знаю, чего вы добивались. Г-н Шеллинг
должен теперь служить тому, чтобы всеми силами своего
духа оправдывать католическую религию, и все то, чему
он теперь учит под названием философии, есть не что иное,
как оправдание католицизма. При этом спекулировали
еще на той выгоде, что такое прославленное имя заманит
жаждущую премудрости немецкую молодежь в Мюнхен
и что тем легче будет опутать ее иезуитской ложыо в фи¬
лософском обличье. Благоговейно преклоняется эта моло¬
дежь перед человеком, которого считает верховным жре¬
цом истины, и без подозрения принимает из его рук от¬
равленное причастие.
Среди учеников г-на Шеллинга с особой похвалой
называют в Германии г-на Стеффеиса, ставшего теперь
профессором философии в Берлине. Он жил в Иене,
когда там действовали Шлегели, и имя его часто встре¬
чается в летописях романтической школы. Впоследствии
он написал также несколько новелл, в которых много
острого ума и мало поэзии. Значительнее его научные
труды, в особенности его «Антропология». Она полна
оригинальных идей. В этом отношении он признан меньше,
чем заслуживает. Другие сумели обработать его идеи
и выдать их перед публикой за своп. Г-н Стеффене мог бы
с большим правом, чем его учитель, жаловаться, что у
него похитили его идеи. Но среди его идей была одна,
которую никто себе не присвоил, и это его главная идея,
213
возвышенная идея, а именно: «Генрик Стеффене, ро¬
дившийся 2 мая 1773 года в Ставангере близ Трон¬
хейма, в Норвегии,—величайший человек своего сто¬
летия».
В последние годы этот человек попал в руки пиетистов,
и нынешняя его философия есть не что иное, как слезли¬
вая подогретая водичка пиетизма.
Умом того же склада обладает г-н Иозсф Геррес,
о котором я уже упоминал не раз и который также при¬
надлежит к школе Шеллинга. Он известен в Германии
под названием «четвертый союзник». Ибо так назвал
его один французский журналист в 1814 году, когда он,
по поручению Священного союза, проповедовал ненависть
против Франции. Подобным комплиментом человек этот
живет по сей день. Но в самом деле, никто не умел так
сильно, как он, разжигать посредством национальных
воспоминаний ненависть немцев к французам; и журнал,
который оп издавал для этой цели, «Рейнский Меркурий»,
полон таких заклинательных формул, которые могли бы,
в случае новой войны, произвести еще некоторое дейст¬
вие. С тех пор г-н Геррес был почти забыт. Государям
он больше не был нужен, и они отпустили его на все
четыре стороны. А так как он стал по этому поводу вор¬
чать, то его даже подвергли преследованиям. С ним
вышло как с испанцами на острове Куба, когда они,
воюя с индейцами, выучили своих больших собак набра¬
сываться на голых дикарей и рвать их в клочья; однако
когда кончилась война и собаки, которым пришлось по
вкусу человеческое мясо, стали по временам хватать за
икры своих хозяев, то последние были вынуждены силой
избавиться от своих кровавых псов. Когда г-ну Герресу,
преследуемому государями, некого было больше кусать,
он бросился в объятия иезуитов, им оп и служит вплоть
до нынешнего часа, представляя собою главную опору
католической пропаганды в Мюнхене. Здесь я видел его
несколько лет тому назад на вершине его унижения.
Перед аудиторией, состоявшей главным образом из като¬
лических семинаристов, он читал лекции по всеобщей
истории и добрался уже до грехопадения. Что за ужаса¬
ющий конец постигает врагов Франции! «Четвертый союз¬
ник» осужден теперь на то, чтобы целыми годами изо дня
в день рассказывать католическим семинаристам, этой
214
ccole polytechnique 1 обскурантизма, историю грехо¬
падения! В лекциях этого человека, как и в его книгах,
царила величайшая сумятица понятий и слов, и не без
основания его часто сравнивали с Вавилонской башней.
Он и в самом деле похож па громадную башню, где ты¬
сячи мыслей кишат и перекликаются, и бродят и препи¬
раются, причем одна не понимает другой. Но иногда шум
в его голове как будто смолкал на мгновение, и тогда
он говорил долго, протяжно и скучно, и с его недовольных
губ срывались монотонные слова, как мутные капли
дождя из свинцового желоба.
Когда же подчас вновь просыпалось в нем старое
демагогическое бешенство, представлявшее отвратитель¬
ный контраст его монашески-набожным, смиренным сло¬
вам; когда он с кровожадной яростью метался взад и
вперед, взвизгивая в избытке христианской любви, —
тогда казалось, что видишь перед собой гиену в тонзуре.
Г-н Геррес родился в Кобленце 25 января 1776 года.
От прочих частностей его жизни, как и жизни боль¬
шинства его товарищей, я прошу меня избавить. Быть мо¬
жет, говоря о его друзьях, обоих Шлегелях, я переступил
границы, в которых можно говорить о жизни этих людей.
Ах, как тоскливо становится, когда присмотришься
поближе не только к этим диоскурам, но вообще к звез¬
дам нашей литературы! Но звезды, быть может, только
потому и представляются нам такими прекрасными и
чистыми, что мы видим их издали, не зная их частной
жизни. Наверное и там, на небе, тоже есть звезды, кото¬
рые лгут и клянчат; звезды, которые лицемерят; звезды,
которые вынуждены делать всевозможные гнусности;
звезды, которые, целуясь, предают друг друга; звезды,
которые льстят своим врагам и, что еще печальнее, даже
своим друзьям, так же как мы здесь, внизу. Кометы,
которые мы видим иногда проносящимися, подобно не¬
бесным менадам, с распущенными гривами лучей, —
это, быть может, распутные звезды, которые в конце
концов покаянно и смиренно заползают в какой-нибудь
темный уголок неба и ненавидят солнце.
Говоря о немецких философах, я должен исправить
одно заблуждение, очень распространенное по отношению
* Политехнической школы (франц.).
215
к немецкой философии здесь, во Франции. С тех пор
именно как некоторые французы, занявшиеся философией
Шеллинга и Гегеля, изложили результаты своих занятий
на французском языке и даже применяясь к французскому
пониманию, — с тех пор стали раздаваться жалобы дру¬
зей ясного мышления и свободы, что из Германии вво¬
зятся сумасброднейшие фантазии и софизмы, которые
путают умы и умело облекают всякую ложь и всякий
деспотизм видимостью истины и справедливости. Одним
словом, эти благородные люди, защищая интересы либе¬
рализма, жалуются на тлетворное влияние немецкой
философии во Франции. Но бедная немецкая философия
терпит понапрасну. Ибо, во-первых, то, что до сих пор
поставлялось французам под этим наименованием, осо¬
бенно г-ном Виктором Кузеном, совсем не немецкая фи¬
лософия; г-н Виктор Кузен преподнес очень много остро¬
умной галиматьи, но совсем не немецкую философию.
Во-вторых, подлинной немецкой философией надо на¬
звать ту, которая вышла непосредственно из «Критики
чистого разума» Канта и, нося печать этого происхождения,
мало заботилась о политических и религиозных отноше¬
ниях, а заботилась прежде всего о первоосновах всякого
познания.
Верно, что метафизические системы большинства не¬
мецких философов слишком походили на паутину, но
что в этом было дурного? Ведь все-таки иезуитизм не
мог воспользоваться этой паутиной для своих сетей
лжи, и так же мало мог вить из нее деспотизм свои ве¬
ревки, для того чтобы вязать умы. Только со времен
Шеллинга немецкая философия потеряла этот свой утон¬
ченный, но безобидный характер. С тех пор паши философы
критиковали уже не первоосновы познания и бытия
вообще; они перестали витать в идеалистических абстрак¬
циях, но искали обоснований для оправдания сущест¬
вующего, они сделались оправдателями того, что есть.
В то время как наши прежние философы жили в нужде
и в лишениях и, ютясь в жалких чердачных каморках,
измышляли там свои системы, наши теперешние философы
облечены в блестящие ливреи власти, они стали госу¬
дарственными философами и занялись изобретением фило¬
софских оправданий всех интересов государства, на служ¬
бе у которого состояли. Так, например, Гегель, профес¬
216
сор в протестантском Берлине, включил в свою систему
всю евангелически-протестантскую догматику, а г-н Шел¬
линг, профессор в католическом Мюнхене, оправдывает
в своих лекциях самые экстравагантные утверждения
римской католическо-апостольской церкви.
Да, подобно тому как некогда александрийские фи¬
лософы тратили всю остроту своего ума на то, чтобы охра¬
нить падающую религию Юпитера от полной гибели,
так и наши философы предпринимают нечто подобное
для спасения религии Христа. Нам нет дела до того,
есть ли у этих философов бескорыстные цели; но если
мы видим их в союзе с партией попов, материальные инте¬
ресы которых связаны с сохранением католичества, то
мы называем их иезуитами. Пусть они, однако, не вооб¬
ражают, что мы принимаем их за прежних иезуитов.
Те были велики и могучи, полны мудрости н воли. О
жалкие карлики, вообразившие, что они справятся о
трудностями, перед которыми отступили даже тс черные
великаны! Никогда человеческий дух не придумывал
более великих комбинаций, чем те, которыми старые
иезуиты пытались спасти католичество. Но это им не
удалось, потому что их вдохновляло только сохранение
католичества, а не самое католичество. Последнее само
ио себе их, собственно, вовсе не заботило; поэтому они
подчас профанировали самый принцип католицизма, лишь
бы только доставить ему господство; они заключали
соглашения и с язычеством и с сильными мира сего,
угождали их страстям, становились убийцами и торга¬
шами, а где было нужно, там делались даже атеистами.
Но напрасно давали их духовники дружеские отпущения
грехов и их казуисты любезничали со всеми пороками
и преступлениями. Напрасно соперничали они с мирянами
в искусстве и в науке, для того чтобы пользоваться тем и
другим, как средством. Их бессилие становится здесь
совершенно очевидным. Они завидовали всем великим
ученым и художникам, но не могли ни открыть, ни соз¬
дать ничего чрезвычайного. Они сочиняли благоговейные
гимны и строили соборы, но от их поэзии не веет свобод¬
ным духом, она дышит лишь трепетным послушанием
перед начальством ордена; и даже в их сооружениях
видна лишь трусливая скованность, каменное приспо¬
собленчество, величие по приказу. Справедливо сказал
21Г
однажды Барро: «Иезуиты не могли поднять землю на
небо, они спустили небо на землю». Бесплодными были
все их труды и дела. Из лжи не может расцвести жизнь,
и бог не может быть спасен посредством дьявола.
Г-н Шеллинг родился 27 января 1775 года в Вюртем¬
берге.
IV
Об отношениях г-на Шеллинга к романтической школе
я могу сообщить лишь немногое. Его влияние было по
преимуществу личного свойства. Затем, с тех пор как
благодаря ему получила значение натурфилософия, поэты
стали гораздо глубже воспринимать природу. Одни
погрузились в природу всеми своими человеческими
чувствами, другие нашли некоторые чародейские формулы,
чтобы проникнуть в нее, разглядеть ее и заставить при¬
роду заговорить по-человечески. Первые были подлин¬
ными мистиками и во многих отношениях походили на
индийских подвижников, которые хотят раствориться
в природе и в конце концов начинают ощущать себя
частицей природной жизни. Другие были скорее заклина¬
телями — они по собственному желанию вызывали даже
враждебных духов природы; они походили на арабского
волшебника, который по своей воле может оживлять ка¬
ждый камень и превращать в камень всякую жизнь.
Среди первых надо прежде всего назвать Новалиса,
среди вторых — Гофмана. Новалису виделись повсюду
лишь чудеса, и прелестные чудеса; он подслушивал го¬
лоса растений, ему раскрывалась тайна каждой юной
розы, в конце концов он отождествлял себя со всей приро¬
дой, и, когда пришла осень и опали листья, он умер.
Гофман, напротив, всюду видел одни только привидения,
они кивали ему из каждого китайского чайника, из каждо¬
го берлинского парика; это был чародей, превращавший
людей в диких зверей, а последних даже в советников
прусского королевского двора; он способен был вызывать
мертвецов из могил, но сама жизнь отталкивала его от
себя, как мрачное привидение. Он чувствовал это, он
чувствовал, что сам становится призраком; вся природа
сделалась для него теперь кривым зеркалом, где он ви¬
дел лишь свою собственную, тысячекратно исковерканную
218
мертвую личину, и его сочинения представляют собой не
что иное, как потрясающий крик ужаса в двадцати томах.
Гофман не принадлежит к романтической школе. Оп
не состоял ни в какой связи со Шлегелями и еще меньше
с их тенденциями. Я упомянул о нем лишь в противополож¬
ность Новалису, который является подлинным поэтом
этой школы. Новалис меньше известен здесь, чем Гофман,
представленный французским читателям Леве-Веймар-
сом в столь превосходном наряде и оттого получивший
во Франции большую известность. У нас, в Германии,
Гофман теперь совсем не en vogue, 1 но раньше ои был
в большой славе. В свое время его много читали, однако
лишь люди с нервами слишком сильными или слишком
слабыми, чтобы поддаваться воздействию мягких аккор¬
дов. Действительно одаренные и поэтические натуры
и слышать о нем не хотели. Им был гораздо милее Нова¬
лис. Однако, по совести говоря, Гофман как поэт был
гораздо выше Новалиса. Ибо последний со своими идеаль¬
ными образами постоянно витает в голубом тумане,
тогда как Гофман со своими причудливыми карикату¬
рами всегда и неизменно держится земной реальности.
Но как гигант Антей оставался непобедимым, пока ка¬
сался ногами матери-земли, и потерял силу, как только
Геркулес поднял его на воздух, так и поэт бывает силен
и могуч лишь до тех пор, пока не покидает почвы действи¬
тельности, и становится бессильным, как только начинает
парить в голубом тумане.
Великое сходство между обоими поэтами заключается
в том, что их поэзия была, собственно, болезнью. Вот
почему высказывалась мысль, что обсуждать их произве¬
дения дело не критика, а врача. Розовый налет на сти¬
хотворениях Новалиса не краска здоровья, а румянец
чахотки, и багровое пламя в «Фантастических рассказах»
Гофмана — это не пламя гения, а огонь лихорадки.
Но имеем ли мы право на такие замечания, мы, которые
также не слишком одарены здоровьем? Особенно в наши
дни, когда литература похожа на большой лазарет?
Или, быть может, поэзия есть болезнь человека, как
жемчуг есть, собственно, болезненный нарост, которым
страдает бедный слизняк?
1 В моде (франц.).
219
Иовалис родился 2 мая 1772 года. Его настоящее имя
Гарденберг. Он любил юную даму, болевшую чахоткой
и умершую от этого недуга. От всего, что он писал,
веет этой печальной историей, вся жизнь его пред¬
ставляла собой одно мечтательное умирание, и он умер
от чахотки в 1801 году, раньше чем завершил двадцать
девятый год своей жизни и свой роман. В нынешнем виде
этот роман есть лишь отрывок большой аллегорической
поэмы, которая, подобно «Божественной комедии» Данте,
должна была прославить все земные и небесные предме¬
ты. Генрих фон Офтердпнген, знаменитый поэт, — герой
этого романа. Мы видим его юношей в Эйзенахе, милом
городке, расположенном у подножия того старого Варт-
бурга, где уже свершились как величайшее, так н глу¬
пейшее дело, а именно: где Лютер перевел свою библию
и где несколько тупоумных немецких националистов
сожгли «Жандармский кодекс» г-на Кампца. В этом самом
Вартбурге происходило некогда состязание певцов, где
среди прочих поэтов выступил и Генрих фон Офтердин-
ген и вступил с Клингсором Венгерским в опасный поэти¬
ческий поединок, запечатленный в сборнике Манессс.
Голова побежденного должна была упасть под мечом
палача, а судьей был ландграф Тюрингенский. Символи¬
чески высится здесь Вартбург, поприще его позднейшей
славы, над колыбелыо героя, н начало романа Новалиса
изображает его, как мы сказали, в отцовском доме в
Эйзенахе. «Родители лежат уже и спят, стенные часы ти¬
кают однообразно, за хлопающими ставнями завывает ветер,
время от времени комната освещается мерцанием лупы.
Юноша беспокойно метался на кровати, вспоминая
пришельца п его рассказы. „Не сокровища, — говорил
он сам с собой, — пробудили во мне столь невыразимое
стремление, мне чужда всякая корысть, но я жажду
увидеть голубой цветок. Неизменно он владеет моими
мыслями, и ни о чем другом я не могу думать и мечтать.
Так никогда еще не было у меня на душе: мне кажется,
что все предыдущее было сновидением, или же сон пере¬
нес меня в другой мир, ибо в том мире, где я жил до сих
пор, кто стал бы беспокоиться о цветах; и о такой необы¬
чайной страсти к цветку я никогда там не слыхал“».
Такими словами начинается «Генрих фон Офтердин-
ген», и повсюду в этом романе светит и благоухает голубой
220
цветок. Странно и многозначительно, что даже самые
фантастические лица в этой книге кажутся нам такими
знакомыми, словно мы уже в прежние времена были с
ними близки. Оживают старые воспоминания, даже черты
лица Софии кажутся нам знакомыми, и в памяти встает
та самая буковая аллея, где мы с ней гуляли и мило бол¬
тали. Но все это лежит позади нас в смутном тумане, как
наполовину забытый сон.
Муза Новалиса была стройная бледная девушка, с
серьезными голубыми глазами, золотистыми гиацинто¬
выми локонами, улыбающимися устами и маленькой
красной родинкой на левой стороне подбородка. Я ведь
представляю себе музу поэзии Новалиса в виде той самой
девушки, которая впервые познакомила меня с Нова-
лисом, когда я увидел в ее нежных руках красный сафья¬
новый, с золотым обрезом томик, содержавший «Офтер-
дингена». Она всегда ходила в голубом платье, п звали
ее София. Шила она на расстоянии нескольких станций
от Геттингена у своей сестры, госпожи почтмейстерши,
веселой, полной краснощекой женщины с высокой грудью;
увенчанная зубцами накрахмаленных кружев, госпожа
почтмейстерша имела вид крепости, но крепость эта
была неприступна, она была Гибралтаром добродетели.
Это была деятельная, хозяйственно-практичная женщина,
однако единственным ее удовольствием было чтение
романов Гофмана. В Гофмане нашла она человека, умев¬
шего потрясать и приводить в приятное волнение ее
грубоватую натуру. Наоборот, на ее бледную, нежную
сестру уже один вид книги Гофмана производил пре¬
неприятное впечатление, и если она нечаянно касалась
такой книжки, то при этом вся содрогалась. Она была
нежна, как мимоза, и слова ее были так благоуханны, так
благозвучны, и когда они слагались воедино, то полу¬
чались стихи. Я записал многое из того, что она говорила,
и это — своеобразные стихи, совершенно в духе Новалиса,
только еще более духовные, еще более замирающие.
Особенно дорого мне одно из этих стихотворений, прочитан¬
ное ею мне, когда я прощался с нею, уезжая в Италию.
В осеннем саду, где кончилась иллюминация, слы¬
шится разговор между последним фонариком, последней
розой и диким лебедем. И вот надвигается утренний
туман, последний фонарик погас, с розы опали лепестки,
221
а лебедь расправляет свои белые крылья и улетает
на юг.
Дело в том, что в ганноверском крае много диких
лебедей, которые осенью улетают на теплый юг, а летом
возвращаются к нам. Вероятно, они проводят зиму в
Африке, ибо в груди убитого лебедя мы однажды нашли
стрелу, которую профессор Блюменбах признал африкан¬
скою. Бедная птица со стрелой в груди вернулась все же в
свое северное гнездо, чтобы умереть здесь. Но не одни
лебедь со стрелой в груди, вероятно, не в силах был окон¬
чить свой перелет и, беспомощный, остался в раскаленной
песчаной пустыне или сидит теперь с ослабевшими крыль¬
ями па какой-нибудь египетской пирамиде, устремив
тоскливый взор к северу, к прохладному летнему гнезду
в стране ганноверской.
Когда поздней осенью 1828 года я вернулся (тоже со
жгучей стрелой в груди) с юга, мой путь привел меня
в окрестности Геттингена, и я остановился у моей толстой
приятельницы, содержательницы почтовой станции, чтобы
переменить лошадей. Давным-давно я не видал ее, и
добродушная женщина очень переменилась с виду. Грудь
ее все еще напоминала крепость, но снесенную; бастионы
были разрушены, главные башни обратились в свисающие
развалины, не видно было часовых у входа, и сердце,
цитадель, было разбито. Как сообщил мне почтальон Пи¬
пер, она потеряла даже вкус к романам Гофмана, но тем
основательней пила теперь перед сном водку. Оно и
гораздо проще, ибо водка всегда есть в доме, а за романа¬
ми Гофмана надо было посылать в библиотеку Дейерлиха
в Геттингене, куда езды четыре часа. Почтальон Пипер был
коренастый человек, и притом столь кислого вида, словно
он напился уксусу и его от этого всего перекосило. Когда
я спросил этого человека о сестре госпожи почтмейстерши,
он ответил: «Мадемуазель София скоро умрет, и уже
теперь она ангел». Каким совершенством должно было
быть существо, о котором даже кислый Пипер говорил:
она ангел! И он говорил это, разгоняя обутыми в высокие
сапоги ногами кудахтавшую и метавшуюся вокруг ку¬
риную стаю. Здание почтовой станции, некогда белое
и веселое, тоже изменилось вместе со своей хозяйкой:
оно болезненно пожелтело, в стенах залегли глубокие
морщины. Во дворе валялись поломанные повозки, на
222
шесте возле навозной кучи сушился насквозь промок¬
ший багрово-красный плащ почтальона. Мадемуазель
София стояла у окна верхнего этажа и читала. Когда
я поднялся к ней, я опять нашел в ее руках книгу в крас¬
ном сафьяновом переплете с золотым обрезом, п это опять
был «Офтердинген» Новалиса. Она все продолжала чи¬
тать эту книгу, и дочиталась до чахотки, и похожа была
на светящуюся тень. Но теперь она была озарена духов¬
ной красотой, вид которой мучительно взволновал меня.
Я взял ее бледные худеиькие руки, заглянул глубоко
в ее голубые глаза и спросил, наконец: «Мадемуазель
София, как вы себя чувствуете?» — «Хорошо, — отве¬
тила она, — а скоро будет еще лучше!» — И она пока¬
зала в окно на новое кладбище, невысокий холм непода¬
леку от дома. На этом голом холме возвышался единствен¬
ный тощий, засохший тополь, на котором висело всего
только несколько листочков, и все это шелестело под осен¬
ним ветром не как живое дерево, а как призрак дерева.
Под этим тополем лежит теперь мадемуазель София,
а оставленная мне на память книга в красном сафьяновом
переплете с золотым обрезом, «Генрих фон Офтердинген»
Новалиса, лежит передо мной на письменном столе, и я
заглядывал в нее, когда писал эту главу.
КНИГА ТРЕТЬЯ
I
Знаете ли вы Китай, родину крылатых драконов и
фарфоровых чайников? Вся страна — сплошной музей
редкостей, окруженный невероятно длинной стеной и
охраняемый сотнями тысяч татарских часовых. Но птицы
и мысли европейских ученых перелетают через нее, и,
насмотревшись там досыта и вернувшись домой, они рас¬
сказывают нам занятнейшие вещи о необычайной стране
и необычайном народе. Природа, с яркой причудливостью
своих явлений, с фантастическими гигантскими цветами,
карликовыми деревьями, вырезными горами, вычурно
сладострастными плодами, нелепо разряженными пти¬
цами, так же фантастически карикатурна, как и тамош¬
ний человек, с его заостренной головой и косичкой, с
его поклонами, длинными ногтями, старческой рассуди¬
тельностью и детски-одиосложным языком. Человек и
природа не могут там смотреть друг на друга без внутрен¬
него смеха. Но они не смеются громко, потому что оба
слишком культурно-вежливы, и для того чтобы подавить
смех, они презабавно корчат важные рожн. Там нет нн
теней, ни перспективы. На пестро размалеванных домах
во множестве громоздятся одна над другою крыши, по¬
хожие па раскрытый зонтик и обвешанные металлически¬
ми колокольчиками, так что даже ветер, проносясь мимо,
становится смешным от этого ребяческого перезвона.
В таком доме с колокольцами жила некогда принцесса,
ножки которой были еще меньше, чем у прочих китаянок,
маленькие раскосые глазки ее моргали еще сладостыо-мечта-
224
тельнсе, чем глаза прочих дам Поднебесной империи,
а в маленьком хихикающем сердечке гнездились самые
безумные прихоти. Ее высшим наслаждением было раз¬
рывать драгоценные шелковые и парчовые ткани. Ткань
трещала и скрипела под ее цепкими пальцами, а она при
этом вскрикивала от восторга. Когда, наконец, она истра¬
тила все свое состояние на эту прихоть, когда она изо¬
рвала в клочья все свое имущество, то, по совету боль¬
шинства мандаринов, ее заперли в круглую башню как
неизлечимо безумную.
Эта китайская принцесса, олицетворенный каприз,
одновременно является олицетворением музы одного не¬
мецкого поэта, мимо которого нельзя пройти в истории
романтической поэзии. Это — муза Клеменса Брентано,
так безумно хохочущая из глубины его поэзии. Здесь
она раздирает на куски самые сверкающие атласные шлей¬
фы, самые блестящие золотые позументы, и ее страсть
к разрушению очаровательна, и се ликующе-цветущее
безумие наполняет нашу душу жутким восторгом и сла¬
достным ужасом. Но вот уже пятнадцать лет г-н Брентано
живет удалившись от света, запертый и даже замуро¬
ванный в своем католицизме. Уже не осталось ничего
драгоценного, что бы он мог порвать. Говорят, он разди¬
рал сердца, любившие его, и все его друзья жалуются
на его капризы и оскорбления. Сильнее всего он обратил
свою страсть к разрушению против самого себя, против
своего поэтического дара. Особого внимания заслуживает
комедия этого поэта «Понсе де Леон». Нет ничего более
разорванного, чем эта пьеса, как по мысли, так и по языку.
Но все эти лоскутки живут и кружатся в пестром упоении.
Точно видишь перед собой маскарад слов и мыслей. Все
толпится здесь в сладчайшей сумятице, связанное воеди¬
но лишь общим безумием. Подобно арлекинам, по всей
драме проносятся дикие каламбуры, колотя по сторонам
своими гладкими дубинками. Иногда выступает серьезное
слово, но заикается при этом, как дотторе ди Болонья.
Вот вяло выползает какая-нибудь фраза, точно белый
пьеро, со слишком широкими болтающимися рукавами
п слишком большими пуговицами на балахоне. Вот пры¬
гают коротконогие горбатые остроты вроде полишинелей.
Слова любви, подобно игривым коломбинам, порхают
вокруг с тоскою в сердце. И все это пляшет, и прыгает,
225
и кружится, и кричит, заглушаемое звуками труб, в
вакхической жажде разрушения.
Большая трагедия того же поэта, «Основание Праги»,
тоже весьма замечательна. Там есть сцены, от которых
веет таинственной жутыо древних преданий. Здесь шумят
темные богемские леса, здесь бродят еще гневные сла¬
вянские боги, здесь еще заливаются языческие соловьи;
но вершины деревьев уже озарены мягким рассветом
христианства. Г-н Брентано написал также несколько
хороших рассказов, среди которых особенно хороша
«История бравого Касперля и прекрасной Наннерль».
Когда прекрасная Наннерль была еще ребенком и пошла
со своей бабушкой в дом к палачу, чтобы добыть у него,
как делает простонародье в Германии, верные лекарства,
то вдруг в большом шкафу, перед которым как раз стояла
прекрасная Наннерль, что-то зашевелилось, и ребенок
в ужасе вскричал: «Мышь, мышь!» Но палач испугался
еще больше, и стал мрачнее смерти, и сказал бабушке:
«Милая моя! В этом шкафу висит мой меч для казни, и
он шевелится сам всякий раз, когда к нему приближается
кто-нибудь, кто когда-либо будет им обезглавлен. Мой
меч жаждет крови этого ребенка. Позвольте мне слегка
поцарапать им шейку девочки. Тогда меч удовлетворится
капелькой крови и обойдется без дальнейших требований».
Но бабушка не послушалась этого разумного совета и,
вероятно, горько сожалела об этом впоследствии, когда
прекрасной Наннерль действительно отрубили голову
этим самым мечом.
Г-ну Клеменсу Брентано теперь, должно быть, около
пятидесяти лет, и он живет во Франкфурте отшельником,
как член-корреспондент католической пропаганды. Его
имя в последнее время почти совершенно забыто и вспоми¬
нается изредка лишь тогда, когда идет речь о народных
песнях, изданных им вместе с его покойным другом Ахи-
мом фон Арнимом. Под заглавием «Волшебный рог маль¬
чика» они издали вдвоем собрание песен, частью услы¬
шанных у народа, частью взятых из летучих листков и
редких старопечатных книг. У меня не хватает слов,
чтобы воздать этой книге должную хвалу. В ней заклю¬
чены самые чарующие цветы немецкого духа, и кто хотел
бы ознакомиться с немецким народом с его привлекатель¬
ной стороны, должен прочитать эти народные песни.
226
И сейчас книга эта лежит передо мной, и мне кажется,
что я вдыхаю благоухание немецких лип. Ведь липа
играет главную роль в этих песнях; в ее тени по вечерам
милуются влюбленные, она их любимое дерево, быть мо¬
жет потому, что лист липы имеет форму человеческого
сердца. Это замечание сделал однажды немецкий поэт,
которого я люблю больше всех других, а именно я сам.
На заглавном листе этой книги изображен мальчик,
трубящий в рог; и когда немец на чужбине долго смотрит
на эту картинку, ему начинает казаться, что он слышит
хорошо знакомые звуки, и сердце его при этом, может
быть, объято тоской по родине, как было с тем швейцар¬
ским ландскнехтом, который, стоя часовым на страсбург¬
ском крепостном валу, услышал издали пастушеский
рожок, бросил свою пику, переплыл через Рейн, но вскоре
затем был схвачен и расстрелян как дезертир.
В «Волшебном роге мальчика» есть эта трогательная
песня:
В Страсбурге, на валу,
Тоска мне сжала грудь:
С той стороны звучал рожок пастуший;
Пустился вплавь — да не достиг я суши —
Прости, забудь!
II в тот же час ночной
Привел меня конвой,
II вот пред командиром я полка:
В волнах реки, как рыбка, я попал
В сеть рыбака.
Наутро, в ранний час,
Поставлен я перед полком.
Увы, тяжка моя вина,
П плата горькая сполна
Мне суждена.
В последний раз
Я вижу, братцы, нынче вас.
Тому виною песня пастушка,
Родной папев альпийского рожка —
Моя тоска...1
Какое прелестное стихотворение! Эти народные песни
полны странного очарования. Наши поэты стараются
воспроизвести своим искусством эти естественные созда-
1 Перев. Е. Дунаевского.
227
пия, подобно тому как изготовляются искусственные
минеральные воды. Но если посредством химического
анализа можно определить их составные части, то ведь
в них нет главного — неразложимой, соединяющей силы
природы. Слышно, как в этих песнях бьется сердце не¬
мецкого народа. Здесь раскрывается вся его сумрачная
веселость, весь его дурашливый разум. Здесь грохочет
немецкий гнев, здесь посвистывает немецкая насмешка,
здесь одаряет поцелуями немецкая любовь. Здесь как
жемчуг сверкает неподдельное немецкое вино и искренняя
немецкая слеза. Последняя подчас даже лучше первого:
в ней содержится много железа и много соли. Какое
простодушие в верности! В неверности — какая честность!
Какой честный малый этот бедняга Швартенгальс, хоть
он и разбойник с большой дороги! Послушайте флегма-
тически-трогательную историю, которую оп сам о себе
рассказывает:
Зашел дорогою в корчму,
Хозяйка мне: «А кто ты?» —
«Я просто бедный Швартенгальс,
Мне есть и пить охота».
Пустили в горницу меня
И выпить предлагали;
Хотел поднять я свой стакан —
И выронил в печали.
Потом за стол сажают есть,
Как будто толстосума;
Но пусто было в кошельке,
Платить я и не думал.
А ночыо надо было спать —
Открыли дверь сарая;
Уж видно, бедный Швартенгальс,
Твоя судьба такая.
Ложился я и так и сяк,
Вертелся то и дело:
Колол меня чертополох,
Репей впивался в тело.
Под утро заморозок был,
И я поднялся с зорькой,
И посмеялся над собой
И над судьбиной горькой.
228
Я прицепил тогда свой меч
К ременной перевязи
И, так как но было коня,
Пешком пошел по грязи.
Гляжу — купеческий сынок
Шагает в чистом поле,
II тут он мне свою мошну
Оставил поневоле. 1
Этот бедный Швартенгальс — самый что нп на есть
немецкий характер, какой я когда-либо знал. Какое спо¬
койствие, какое сознание силы царит в этом стихотворе¬
нии! Но и с нашей Гретель надо вам познакомиться.
Это правдивая девушка, и я очень ее люблю. Ганс сказал
Гретель:
«Ну, Гретлейн, приоденься
II путь со мной дели.
Убрали хлеб в деревне,
В подвал вино свезли».
А она, довольная, отвечает:
«Ах, Гензель, милый Гепзель,
Останемся вдвоем,
Мы в будни за работой,
Л в праздник — за внном».
Он взял ее за ручку,
За белую ручку взял,
Повел се туда, где
Питейный дом стоял.
«Хозяюшка, подайте
Холодного вина,
Мы платья этой Гретлейн
Пропьем у вас сполна».
Тут стала плакать Гретлейн,
Тоска ее взяла,
Прозрачная слезинка
По щечкам потекла.
«Ах, Гензель, милый Гепзель,
Не то ты говорил,
Когда меня с собою
11 з дома уводил».
1 Нерев. В. Зоргенфрея.
229
Оп взял ее за ручку,
За белую ручку взял,
Повел туда, где садик
В цветах благоухал...
«О чем ты плачешь, Гретлсшт,
О чем ты слезы льешь,
Что вольпо живешь, жалеешь
Иль честь назад зовешь?»
«Что волыю живу, не жалею
И чести назад не зову:
Мне жалко этих платьев,
Уж их я не наживу». 1
Это не гетевская Гретхен, и ее раскаяние пс сюжет
для Ари Шеффера. Тут нет немецкого лунного сияния.
Столь же мало сентиментальности там, где юный поклон¬
ник иочыо требует от милой, чтобы она впустила его, но
она прогоняет его, говоря:
Вернись-ка той дорогой,
Вернись на ту полянку,
Откуда явился ты;
Там камень есть большой,
Ты выспишься, там сухо,
Не наберешься пуха. 2
Но лунным светом, лунным светом залито все, и, пе¬
реполняя душу, сияет он в песне:
Мне птичкою бы стать,
На крылышках к тебе
Взлететь, вспорхнуть,
Но крыльев нет, и мне
Заказан путь.
В разлуке мы с тобой,
Но я во сне с тобой,
Всю ночь с тобой;
А встану ото сна, —
И я одна.
Ты, что ни час, во спс,
В мечтах приходишь мне,
Все вновь и вновь,
Даришь сто тысяч раз
Свою любовь. 3
1 Перев. В. Зоргенфрея.
2 Перев. Е. Дунаевского.
3 Перев. В. Зоргенфрея.
230
На восхищенный вопрос о том, кто сочинил эти песни,
они сами, пожалул, отвечают в заключении:
Кто песенку сочинил, угадай!
Три гуся ее занесли в этот край,—
Два серых гуся и белый.
Обыкновенно такие песни сочинял бездомный люд:
бродяги, солдаты, странствующие ученики или подма¬
стерья. В большинстве случаев это были именно бродячие
подмастерья. Часто в моих пешеходных странствиях я
водил знакомство с этими людьми и замечал, как они
иногда, под влиянием какого-нибудь необычайного со¬
бытия, импровизировали отрывки народных песен или
насвистывали иа свободе. Их подслушивали птички, си¬
девшие на ветвях деревьев, и если потом проходил мимо
другой парнишка с посохом и ранцем, они насвистывали
ему на ухо эту песенку, он допевал недостающие стихи,
и вот песня готова. Слова падают с неба прямо на губы
таким паренькам, н им стоит только их произнести, как
слова эти оказываются еще поэтичнее, чем все прекрасные
поэтические фразы, которые мы так мучительно измышля¬
ем в глубинах нашего сердца. Характер этих немецких
подмастерьев живет и дышит в таких народных песнях.
Это замечательный человеческий тип. Без гроша в кар¬
мане обходят они всю Германию, беззаботные,. веселые
и свободные. Мне приходилось замечать, что они обыкно¬
венно отправлялись в такое странствие втроем. В этой
тройке один всегда бывал резонером; он юмористически
рассуждал обо всем, что проходило перед его глазами,
о всякой пестрой птице, пролетавшей в воздухе, о всяком
всаднике, проезжавшем мимо; а когда им случалось зайти
в убогую местность с нищенскими лачугами и ободранной
беднотой, то он иронически замечал: «Господь бог со¬
творил свет за шесть дней, оно и видно: все сработано
наспех». Второй спутник лишь изредка вставляет не¬
сколько яростных замечаний, он не может произнести
слова без проклятий; бешено ругает он всех хозяев, у
которых работал, и постоянный припев его — это как
он сожалеет, что не оставил на память хозяйке в Галь-
берштадте, ежедневно потчевавшей его капустой и брюк¬
вой, добрую порцию колотушек. Но при слове «Гальбер-
штадт» третий парень вздыхает от всего сердца; он моложе
231
всех, он впервые совершает путешествие и все еще думает
о темно-карих глазах своей милой, всегда идет понурив
голову и не говорит ни слова.
«Волшебный рог мальчика» представляет собой столь
замечательный памятник нашей литературы и оказал
такое значительное влияние на лириков романтической
школы, в особенности на нашего превосходного г-на
Уланда, что я не могу умолчать о нем. Эта книга н «Песнь
о Нибелунгах» играли первенствующую роль в ту эпоху.
О последней также необходимо упомянуть здесь особо.
В течение долгого времени у нас ни о чем не было речи,
кроме как о «Нибелунгах», и филологи-классики немало
сердились, когда кто-нибудь сравнивал эту эпопею с
«Илиадой» или когда возникал даже спор о том, какая
из двух поэм лучше. А публика принимала такой вид,
как мальчик, у которого серьезно спрашивают: «Что тебе
больше нравится: лошадка или пряник?» Во всяком слу¬
чае эта «Песнь о Нибелунгах» исполнена громадной,
могучей силы. Француз с трудом может составить себе
представление о ней, а особенно о языке, которым она
написана. Этот язык высечен из камня, и стихи подобны
рифмованным глыбам. Здесь и там из расселин выгляды¬
вают красные цветы, точно капли крови, или длинный
плющ спадает вниз, как зеленые слезы. Об исполинских
страстях, сталкивающихся в этой поэме, вы, маленькие
добронравные людишки, еще меньше можете иметь по¬
нятие. Представьте себе светлую летнюю ночь; звезды,
бледные, как серебро, но большие, как солнце, показались
в небесной синеве, и все готические соборы Европы со¬
шлись на свидание на необъятно громадной равнине;
и вот явились, спокойно выступая, Страсбургский собор,
Кельнский собор, Флорентийская колокольня, Руанский
собор и т. д., и все они благопристойно ухаживают за
красавицей Notre Dame de Paris. 1 Правда, их походка
несколько неуклюжа, некоторые из них очень неповорот¬
ливы, их, влюбленное ковылянье подчас вызывает смех.
Но смех этот непродолжителен; он прекращается, как
только вы видите, в какую ярость они пришли, как они
душат в схватке друг друга, как Notre Dame de Paris
в отчаянии вздымает свои каменные руки к небу и вдруг
1 Собором Парижской богоматери (франц.).
232
хватает меч и сносит голову самому высокому собору.
Но нет, вы и тогда не могли бы составить себе никакого
представления о главных персонажах «Песни о Нибелун-
гах». Нет такой высокой башни, нет такого твердого
камня, как злой Гаген и мстительная Кримгильда.
Но кто же автор этой песни? Поэт, написавший «Песнь
о Нибелунгах», столь же мало известен, как авторы на¬
родных песен. Странно, как редко бывает известно имя
создателя прекрасных книг, стихотворений, здании и
прочих памятников искусства! Как звали зодчего, в
мысли которого возник Кельнский собор? Кто написал
там запрестольный образ, на котором так благостно за¬
печатлены прекрасная богоматерь и три святых волхва?
Кто автор книги Иова, утешавшей такое множество страж¬
дущих человеческих поколений? Слишком легко забывают
люди имена своих благодетелей; имена добрых, благо¬
родных, заботившихся о благе своих сограждан людей
мы редко встречаем в устах народов, и их грубая память
хранит только имена их притеснителей да свирепых ге¬
роев войны. Дерево человечества забывает о тихом са¬
довнике, который пестовал его в стужу, поил в засуху и
оберегал от вредителей; но оно верно хранит имена, без¬
жалостно врезанные в его кору острой сталью, и передает
их позднейшим поколениям, тем лишь умножая их славу.
II
Ввиду их совместной работы над изданием «Волшеб¬
ного рога мальчика» имена Брентано и Арнима обыкно¬
венно называют вместе, и так как я говорил о первом,
то тем меньше могу умолчать о втором, потому что он
заслуживает нашего внимания в гораздо большей сте¬
пени. Людвиг-Ахим фон Арним — большой поэт и был
одним из самых своеобразных умов романтической школы.
Любителям фантастики этот поэт пришелся бы больше
но вкусу, чем любой другой немецкий писатель. В этой
области он превосходит Гофмана, так же как Новалиса.
Он умел еще глубже последнего вживаться в природу и
вызывал еще более жуткие привидения, чем Гофман.
Да, при взгляде на самого Гофмана мне подчас казалось,
что его сочинил Арним. В народе этого писателя совершен¬
на
ио не знают, и он пользовался известностью только у ли¬
тераторов. Последние, очень высоко оценивая его, не
воздали ему, однако, должной хвалы в печати. Мало
того, некоторые писатели высказывались о нем даже с
пренебрежением, и это были как раз те, которые подра¬
жали его манере. К ним можно было применить слово,
сказанное Стивенсом о Вольтере, когда последний, вос¬
пользовавшись Отелло для своего Оросмана, презри¬
тельно отзывался о Шекспире; он сказал: «Эти люди по¬
хожи на воров, которые, обокрав дом, поджигают его».
Почему г-н Тик никогда не говорил об Арниме как долж¬
но, — он, который умел сказать так много умного о вся¬
кой незначительной стряпне? Г-да Шлегели равным
образом игнорировали Арнима. Лишь после смерти удо¬
стоился он чего-то вроде некролога от одного из предста¬
вителей школы.
Мне кажется, слава Арнима не могла быть особенно
велика, потому что он все еще оставался слишком про¬
тестантом для своих друзей, для католической партии,
тогда как протестантская партия со своей стороны считала
его тайным католиком. Но почему отвернулся от него
народ—народ, которому его романы и новеллы были до¬
ступны во всех библиотеках? О Гофмане тоже почти совсем
не говорили в наших литературных газетах и эстетических
листках; высокая критика хранила по отношению к нему
барское молчание, и, однако, все его читали. Почему же
немецкий народ пренебрег писателем, фантазия которого
охватывала целый мир, задушевность которого полна са¬
мой жуткой глубины и чей изобразительный дар не мог
быть превзойден? Чего-то недоставало этому поэту, и это
«что-то» есть как раз то, чего ищет народ в книгах: жизнь.
Народ требует от писателей, чтобы они вживались в его
повседневные страсти, чтобы они либо приятно возбуж¬
дали чувства в его собственной груди, либо оскорбляли
их; народ хочет, чтобы его волновали. Но этой потреб¬
ности не мог удовлетворить Арним. Он был не поэтом жиз¬
ни, а поэтом смерти. Во всем, что он писал, царит лишь
призрачное движение, образы порывисто сталкиваются,
они шевелят губами, как будто говорят, но слова их лишь
видны, а не слышны. Эти образы прыгают, борются, ста¬
новятся на голову, таинственно приближаются к нам и
тихо шепчут нам на ухо: «Мы мертвы». Такое зрелище
234
было бы слишком ужасно и тягостно, не будь у Арнима
той грации, которая разлита в каждом его произведении,
подобно улыбке ребенка, но ребенка мертвого. Арпим
умеет изображать любовь, иногда и чувственность, но
даже здесь мы неспособны проявить сочувствие; мы ви¬
дим прекрасные тела, волнующиеся груди, стройные бедра,
но все это окутано холодным влажным саваном. Иногда
Арним остроумен и вызывает наш смех; но всё же мы
смеемся так, как будто смерть щекочет нас своей косой.
Обычно же он серьезен, и притом серьезен, как мертвый
немец. Живой немец уже в достаточной степени серьезное
существо, а что же сказать о мертвом немце? Француз
не имеет никакого понятия о том, как серьезны мы после
смерти; наши лица вытягиваются еще более, и, глядя
на нас, даже черви, поедающие нас, впадают в'меланхолию.
Французы воображают, будто Гофман ужас до чего серье¬
зен и мрачен; но это детская игра в сравнении с Арнимом.
Когда Гофман вызывает своих мертвецов и они встают
из могил и пляшут вокруг него, тогда сам он содрогается
от ужаса, сам пляшет среди них и корчит при этом самые
безумные обезьяньи гримасы. Но когда Арним вызывает
своих мертвецов, то кажется, что это полководец произво¬
дит смотр, и он так спокойно сидит на своем высоком белом
призрачном коне и пропускает мимо все страшные полки,
а они испуганно смотрят на него снизу вверх и как будто
боятся его. Он же приветливо кивает им головой.
Людвиг-Ахим фон Арним родился в 1784 году в Бран¬
денбургской марке и умер зимой 1830 года. Он писал
драматические произведения, романы и новеллы. Драмы
его исполнены задушевной поэтичности, в особенности
пьеса под заглавием «Тетерев». Первая сцена достойна
пера даже величайшего поэта. Как верно, как правдиво
изображена здесь безысходнейшая скука! Один из трех
побочных сыновей умершего ландграфа сидит в одино¬
честве в громадной осиротелой зале замка, зевая разго¬
варивает сам с собой и жалуется, что его ноги под столом
растут все больше и больше и что утренний ветер так
холодно свищет сквозь его зубы. Медленно выползает его
брат, добродушный Франц; он в платье покойного отца,
слишком широком для него, и он со скорбью вспоминает,
как обычно в этот час ему приходилось помогать отцу
одеваться, как тот бросал ему хлебную корку, которую
235
не мог разгрызть свопми старыми зубами, как иногда
в досаде давал ему пинка; это последнее воспоминание,
трогает доброго Франца до слез, и он плачет, что вот отец
умер и не может больше дать ему пинка!
Романы Арнима называются: «Стражи короны» и
«Графиня Долорес». Первый роман также начинается
великолепно. Действие происходит в сторожевой башне
города Вайблингена, в уютной комнатке сторожа и его
почтенной толстой жены, которая, однако, не так толста,
как толкуют внизу, в городе. Это клевета, в самом деле,
вся эта болтовня о том, будто она так растолстела в своей
бантпе, что не может больше спускаться по узкой винтовой
лестнице и после смерти своего первого мужа, старого
сторожа, была вынуждена выйти за нового. Немало огор¬
чалась бедная женщина по поводу такой злобной клеветы;
она ведь только потому не могла спускаться по лестнице,
что страдала головокружениями.
Начало второго романа Арнима, «Графиня Долорес»,
также превосходно: автор воспевает здесь поэзию бед¬
ности, именно дворянской бедности, которую он, сам
живший тогда в величайшей нужде, часто избирал сю¬
жетом. Каким мастером является здесь Арним в изобра¬
жении разрушения! Мне кажется, у меня все еще стоит
перед глазами пустынный замок юной графини Долорес,
имеющий тем более пустынный вид, что старый граф
строил его в жизнерадостном итальянском вкусе, но не
достроил. Теперь это развалина новейших времен, и
в замковом парке все заброшено; подстриженные буковые
аллеи одичали; деревья мешают друг другу расти; лавры
и олеандры болезненно стелются по земле; прекрасные
большие цветы опутаны противным бурьяном; статуи
богов попадали с пьедесталов, и несколько озорных нищих
ребятишек, усевшись на корточки вокруг бедной Венеры,
лежащей в высокой траве, хлещут ее крапивой по мрамор¬
ному заду. Вернувшись после долгого отсутствия в за¬
мок, старый граф поражен странным поведением своих
домашних, особенно жены; за столом происходят разные
необычайные вещи, и все это потому, что бедная женщина
умерла от горя и давно мертва вместе со своей прислугой.
В конце концов, однако, граф как будто сам начинает
ощущать, что находится в обществе привидений, и, ни¬
кого не предупреждая, потихоньку уезжает.
23С
Из новелл Арнима самой замечательной представляется
мне «Изабелла Египетская». Перед нами проходит ски¬
тальческая жизнь цыган, которых здесь, во Франции,
называют bohémiens1 или égyptiens. 2 В новелле живет
и дышит этот странный сказочный народ, с его смуглыми
лицами, приветливыми пророческими глазами и с его скорб¬
ной тайной. Под причудливой, игривой веселостью скрыта
великая мистическая печаль.Согласно преданию, прелест¬
но рассказанному в этой новелле, цыгане осуждены на
многолетние скитания по миру в наказание за суровую
неприветливость, с которой их предки некогда оттолкнули
божью матерь с ребенком, когда она во время бегства
в Египет попросила у них ночлега. По этой причине люди
считают себя вправе обращаться с ними жестоко. Так
как в средние века не было еще последовательной Шел-
линговой философии, то поэзии пришлось тогда взять
на себя оправдание самых недостойных н свирепых за¬
конов. Но пи к кому эти законы не были более варварски
суровы, чем к бедным цыганам. В некоторых странах они
разрешали повесить без суда и следствия каждого цыгана,
заподозренного в краже. Так и был невинно казнен их
вождь Михаил, по прозванию «Герцог Египетский».
Этим мрачным событием начинается новелла Арнима.
Ночью цыгане снимают своего мертвого герцога с виселицы,
возлагают на его плечи княжескую порфиру, увенчивают
голову серебряной короной и погружают его в Шельду,
в твердом убеждении, что милосердная река принесет
его домой, в возлюбленный Египет. Бедная цыганская
принцесса Изабелла, его дочь, ничего не знает об этом
печальном происшествии; она живет в одиночестве в
обветшалом доме на Шельде и иочыо слышит, как странно
плещет что-то в воде, и вдруг видит, как всплыл ее бледный
отец в пурпурном саване, и месяц бросает свой болезнен¬
ный свет на серебряную корону. Сердце милой девушки
чуть не разрывается от невыразимой скорби, тщетно пы¬
тается она удержать мертвого отца; оп спокойно плывет
дальше, в Египет, на свою волшебную родину, где ждут
его прибытия, чтобы сообразно его сану похоронить его
в одной пз больших пирамид. Трогательна трапеза,
1 Богемцами (франц.).
2 Египтянами (франц.).
237
которою бедное дитя чтит умершего отца; она расстилает
свое белое покрывало на камне в поле, ставит на нем
кушанья и напитки и торжественно вкушает их. Глубоко
трогательно все, что талантливый Арним рассказывает
о цыганах, к которым он выказал уже свое сострадание
в других местах, например в послесловии к «Волшебному
рогу», где он утверждает, что мы обязаны цыганам очень
многим хорошим и благодетельным, в частности боль¬
шинством наших лекарств. Между тем мы неблагодарно
изгнали и преследовали их. Несмотря на всю свою лю¬
бовь, они, жалуется Арним, не смогли завоевать себе
у нас родины. Он сравнивает их в этом отношении с ма¬
ленькими гномами, о которых рассказывает предание,
что они доставляли все, чего желали их большие, могучие
враги для пиршества, но однажды были жестоко побиты
и изгнаны из страны за несколько горошин, как-то в
нужде сорванных в поле. Грустное это было зрелище,
когда бедные маленькие человечки ночью перебирались
по мосту, подобно овечьему стаду, и каждый должен
был положить по монетке, пока не наполнилась целая
бочка.
Перевод новеллы «Изабелла Египетская» не только
дал бы французам представление о произведениях Арнима,
ио и показал бы, что все страшные, мрачные и жуткие
рассказы о привидениях, которые они с таким трудом
выжимали из себя в последнее время, представляются
лишь розовыми утренними грезами оперной танцовщицы
в сравнении с созданиями Арнима. Во всей французской
литературе ужасов не сконцентрировано столько жуткого,
сколько в одной карете, которая у Арнима держит путь
из Браке в Брюссель и в которой сидят следующие че¬
тыре персонажа:
1. Старая цыганка, она же ведьма. Она похожа на
восхитительнейший из семи смертных грехов и блистает
самыми пестрыми нарядами, вся в золотом шитье и шелках.
2. Мертвец в медвежьей шкуре, вышедший из могилы,
чтобы заработать несколько дукатов, и нанявшийся в
услужение на семь лет. Это жирный труп в плаще из
белой медвежьей шкуры, от которой и получил свое
прозвание. Однако он всегда мерзнет.
3. Голем, то есть глиняная фигура, которая изобра¬
жает красавицу и ведет себя как красавица. На лбу,
238
закрытом черпыми локонами, начертано еврейскими бук¬
вами слово «истина»; если стереть его, то вся фигура вновь
безжизненно распадется и превратится в глину.
4. Фельдмаршал Корнелий Непот, не состоящий ни
в каком родстве со знаменитым историком того же име¬
ни; мало того, он не может даже похвалиться гражданским
происхождением, так как он по рождению, собственно,
корень альрауна, который французы называют ман¬
драгорой. Этот корень произрастает под виселицей, там,
где пролились самые двусмысленные слезы повешенного.
Он издал ужасающий крик, когда прекрасная Изабелла
вырвала его там в полночь из земли. С виду он похож на
карлика, только у него нет ни глаз, ни рта, ни ушей.
Милая девушка воткнула в его лицо два черных можже¬
веловых зернышка и алый цветок шиповника, от чего
возникли глаза и рот. Затем она обсыпала голову че¬
ловечка горсточкой проса, отчего выросли волосы, правда,
немного всклокоченные; она баюкала уродца на своих бе¬
лых руках, когда он пищал, как ребенок; своими прекрас¬
ными розовыми губками она зацеловала его рот-шиповник
так, что он искривился; своими поцелуями она почти
что высосала его можжевеловые глазки, и противный
гном до того избаловался от всего этого, что в конце концов
захотел стать фельдмаршалом и нарядиться в блестящий
фельдмаршальский мундир и требовал, чтобы его непре¬
менно именовали господином фельдмаршалом.
Не правда ли, четыре весьма выдающиеся особы? Вы
можете обобрать весь морг, кладбище, Cour des miracles 1
и все чумные дворы средневековья—и все же не соберете
такого превосходного общества, как то, которое ехало
вместе в одной карете из Браке в Брюссель. Вам, фран¬
цузам, следовало бы, наконец, понять, что страшное
и ужасное — не ваша специальность и что Франция —
неподходящая почва для привидений подобного рода.
Когда вы заклинаниями вызываете привидения, мы только
смеемся. Да, мы, немцы, в которых самые веселые ваши
остроты не вызывают улыбки, тем искреннее смеемся
при ваших страшных рассказах о привидениях. Ибо
ваши привидения — это всегда | французы. Француз¬
ское привидение — какое противоречие в этих словах!
1 Двор чудес (франц.). (См. комментарии.)
239
В слове «привидение» заключено так много одинокого,
неприветливого, немецкого, молчаливого, а в слове «фран¬
цузский» — наоборот, так много общительного, любез¬
ного, французского, болтливого! Как мог бы француз
быть привидением, и вообще как могли бы в Париже суще¬
ствовать привидения! В Париже, в этом театральном фойе
европейского общества! Между двенадцатью и часом ночи,
время, спокон веков отведенное для появления привиде¬
ний, парижские улицы еще живут самой шумной жизиыо,
в Опере еще звучит громогласный финал, из «Théâtre
des Variétés» и «Théâtre-Gymnase» изливаются оживленные
толпы; и все это кишит, приплясывает, смеется, озорни¬
чает иа бульварах и отправляется потом на вечеринку.
Каким несчастным чувствовало бы себя бедное загробное
привидение в этом веселом человеческом потоке! И как
мог бы француз, даже мертвый, сохранить серьезность,
необходимую для появления из могилы, когда его со
всех сторон окружает пестрое народное ликование! Хоть
сам я и немец, но если бы после смерти мне пришлось
здесь, в Париже, бродить привидением, я, разумеется,
неспособен был бы сохранить мое замогильное достоинст¬
во, если бы где-нибудь на перекрестке мне встретилась
одна из тех богинь легкомыслия, которые так восхититель¬
но умеют хохотать вам в лицо. Если бы в Париже в самом
деле были привидения, то я убежден, что, при общитель¬
ности французов, они бы даже в виде привидений соби¬
рались в кружки, устраивали бы балы привидений; они
основали бы кафе мертвецов, издавали бы газету мертве¬
цов, парижское обозрение мертвецов, и вскоре появились
бы вечеринки мертвецов, où l’on fera de la musique.1 Я убеж¬
ден, что здесь, в Париже, привидения развлекались бы боль¬
ше, чем у нас развлекаются живые. Что касается меня, то
если бы я знал, что можно продолжать существование в
качестве привидения в Париже, то я перестал бы бояться
смерти. Я бы только постарался, чтобы в конце концов
меня похоронили на Пер-Лашез и чтобы я мог являться
в Париже между двенадцатью и часом ночи. Что за чу¬
десный час! Немецкие земляки, если вы когда-нибудь
после моей смерти приедете в Париж и встретите меня
здесь ночью в виде привидения, не пугайтесь: я выхожу
1 Гдо бы музицировали (франц.).
240
пз могилы не на немецкий жутко-злополучный манер,
я делаю это скорее для своего удовольствия.
Так как обыкновенно — это я читал во всех историях
о привидениях — они бродят в местах, где зарыты деньги,
то я предусмотрительно закопаю несколько су где-нибудь иа
бульварах. До сих пор, правда, мне приходилось в Париже
приканчивать деньги, но я никогда не хоронил их в земле.
О бедные французские писатели! Вам следовало бы,
наконец, понять, что ваши романы тайи и ужасов п рас¬
сказы о привидениях решительно неуместны в стране,
где либо совсем нет привидений, либо они так же общи¬
тельно-веселы, как мы, живые люди. Вы кажетесь мне
детьми, которые надевают на лицо маску, чтобы пугать
друг друга. Это серьезная, мрачная маска, но сквозь
отверстия для глаз светятся веселые детские глазки.
Мы, немцы, наоборот, носим иногда приветливую юно¬
шескую маску, а в глазах притаилась дряхлая смерть.
Вы изящный, любезный, разумный и живой народ, и
лишь прекрасное, благородное и человечное входит
в представления вашего искусства. Это понимали уже
ваши старые писатели, и вы, новые, тоже в конце концов
придете к этому убеждению. Бросьте же все жуткое и
призрачное. Предоставьте нам, немцам, все ужасы бе¬
зумия, лихорадочного бреда и чертовщины. Германия
более подходящая страна для старых ведьм, мертвых
медвежьих шкур, големов обоего пола и особенно для
таких фельдмаршалов, как маленький Корнелий Непот.
Лишь по ту сторону Рейна могут процветать подобные
привидения, но никак не во Франции. Когда я ехал сюда,
мои привидения сопровождали меня вплоть до французской
границы. Здесь они печально простились со мной.
Ибо вид трехцветного знамени разгоняет призраки всякого
рода. О, мне хотелось бы стать иа верхушку Страс¬
бургского собора с трехцветиым знаменем в руке, прости¬
рающимся до Франкфурта! Верю, что если бы я распрос¬
тер священное знамя над моим дорогим отечеством и
произнес надлежащие слова заклинания, то старые ведь¬
мы улетели бы на своих метлах, холодные медвежьи
шкуры вновь полезли бы в свои могилы, големы вновь
превратились бы в глину, фельдмаршал Корнелий Непот
вернулся бы туда, откуда он появился, и всякому наваж¬
дению пришел бы конец.
9 Г. Гейне, т. 6
241
Ill
Историю литературы так же трудно писать, как и
естественную историю. Как здесь, так и там уделяется
внимание особо выдающимся явлениям. Ио как в малень¬
кой рюмке воды заключается целый мир необычайных
маленьких зверюшек, которые так же свидетельствуют
о могуществе божьем, как и величайшие бестии, так
самый маленький альманах муз подчас содержит в себе
громадное множество мелких стихоплетов, которые пред¬
ставляются внимательному исследователю не менее ин¬
тересными, чем величайшие слоны литературы. Воистину
велик господь!
Современные историки литературы действительно пред¬
ставляют историю литературы в виде благоустроенного
зверинца и показывают нам в отдельных клетках различ¬
ные породы поэтов: эпических млекопишущих, лири¬
ческих воздухоплавающих, драматических водоплаваю¬
щих; показывают прозаических амфибий, сочиняющих как
морские, так и сухопутные романы, юмористических мол¬
люсков и т. д. Напротив, другие излагают историю лите¬
ратуры прагматически, начиная с первичных чувств
человечества, как они развивались в различные эпохи и,
наконец, воплотились в форме искусства; они начинают
ab ovo, 1 как историк, предваряющий повествование о
троянской войне рассказом о яйце Леды. И они поступают
так же глупо, как он. Ибо я убежден, что если бы яйцо
Леды употребить на яичницу, то все же Гектор и Ахилл
встретились бы у Скейских ворот и рыцарски схватились
бы друг с другом. Великие события и великие книги
возникают не из мелочей, они неизбежны, они находятся
в зависимости от круговоротов солнца, луны и звезд,
быть может возникают вследствие их влияния на землю.
Факты суть только следствия идей... Но почему в извест¬
ные времена известные идеи приобретают столь могущест¬
венное значение, что они чудеснейшим образом преобра¬
зуют всю жизнь людей, их мечты и их помыслы, их раз¬
мышления и их писания? Быть может, настало время на¬
писать литературную астрологию и объяснить появление
определенных идей или определенных книг, в которых
эти идеи раскрываются, положением звезд.
1 С самого начала (буквально: от яйца) (лат,).
242
Или, быть может, расцвет известных идей соответст¬
вует лишь потребностям людей в данный момент? Или
они ищут всегда только те идеи, которые могут оправдать
их преходящие желания? В самом деле, люди, по глу¬
бочайшему существу своему, сплошь доктринеры; они
всегда умеют найти доктрину, оправдывающую все их
самоограничения или пожелания. В тяжелые, скудные дни,
когда радость сделалась более или менее недостижимой,
они исповедуют догмат воздержания и утверждают,
что земной виноград зелен; но когда времена становятся
благополучнее и люди получают возможность протянуть
руку к прекрасным плодам этого мира, тогда на свет по¬
является веселая доктрина, требующая от жизни всей ее
сладости и полного, неотъемлемого права на наслаждение.
Близится ли конец христианского поста и занялась
ли уже розовая заря века радости? Какую будущность
создаст доктрина радости?
В груди писателей каждого народа уже запечатлен
образ его будущего, и критик, которому удалось бы ана¬
томировать одного из новейших поэтов достаточно ост¬
рым ножом, мог бы легко, как по внутренностям жерт¬
венного животного, пророчески предсказать, какой облик
в дальнейшем примет Германия. С великим удовольствием
я, в качестве некоего литературного Калхаса, критически
заклал бы с этой целью нескольких наших юных поэтов,
если бы не боялся, что увижу в их внутренностях много
такого, о чем не посмею здесь говорить. Дело в том, что
нашу новейшую немецкую литературу невозможно об¬
суждать, не вдаваясь в дебри политики. Во Франции,
где представители художественной литературы стараются
отойти от современного политического движения даже
больше, чем это уместно, быть может удается судить о
современных художниках, оставляя при этом в стороне
современность. Но по ту сторону Рейна писатели страстно
увлекаются политическим движением, в отдалении от
которого они держались так долго. Вы, французы, в те¬
чение последних пятидесяти лет постоянно были на ногах
и поэтому устали; мы, немцы, наоборот, сидели до сих
пор у письменного стола и комментировали старых клас¬
сиков и хотели бы слегка поразмяться.
Те же самые, указанные мною выше причины мешают
мне отдать должное писателю, о котором г-жа де Сталь
9*
243
сделала лишь несколько беглых замечаний, но на которого
с тех пор обращено особое внимание французских чита¬
телей благодаря остроумным статьям Филарета Шаля.
Я говорю о Жан-Поле-Фридрихе Рихтере. Его назвали
единственным. Превосходное определение, которое я впол¬
не могу оценить лишь теперь, после тщетного размышле¬
ния о том, какое место в истории литературы следовало
бы ему отвести. Он выступил почти одновременно с роман¬
тической школой, ни в малейшей степени не принимая
в ней участия; столь же мало общался он впоследствии
с художественной школой Гете. Он стоит совершенно
обособленно среди своего времени именно потому, что
он, в противоположность обеим этим школам, целиком
отдался своему времени и сердце его было преисполнено
им. Его сердце и его сочинения составляли одно целое.
Это свойство, эту цельность мы находим также у писате¬
лей нынешней «Молодой Германии», которые тоже не
хотят различать между жизныо и писательством, которые
никогда ие отделяют политики от науки, искусства от
религии и которые одновременно являются художниками,
трибунами и апостолами.
Да, я повторяю слово «апостолы», потому что не зпаю
более подходящего слова. Новая вера одушевляет их
страстностью, о которой писатели предыдущего периода
не имели никакого представления. Эго вера в прогресс,
вера, проистекающая из знания. Мы измерили страны,
взвесили силы природы, исчислили средства промышлен¬
ности — и вот мы нашли, что эта земля достаточно велика;
что каждому она предоставляет достаточно места, чтобы
построить хижину своего счастья; что эта земля может
всех нас пристойно прокормить, если мы все будем рабо¬
тать и никто не вздумает жить иа счет другого; и что мы
не имеем необходимости указывать самому многочислен¬
ному и самому бедному классу на небеса. Правда, этих
знающих и верующих еще не так много. Но настало время,
когда народы будут исчисляться не по числу голов, а по
числу сердец. И разве великое сердце одного Генриха
Лаубе не стоит гораздо больше, чем целый зверинец
Раупахов и комедиантов?
Я назвал имя Генриха Лаубе, ибо как мог бы я гово¬
рить о «Молодой Германии», не упомянув о великом,
пламенном сердце, сверкающем в ней ярче других. Генрих
244
Лаубе, один из писателей, выступивших после Июльской
революции, имеет для Германии социальное значение,
которое еще не может быть вполне измерено. Ои обладает
всеми достоинствами, какие мы находим у писателей
предыдущего периода, и соединяет с ними апостольский
пыл «Молодой Германии». При этом его мощная страст¬
ность смягчена и просветлена высоким художественным
чутьем. Он воодушевлен прекрасным столько же, сколько
и добрым; у него тонкий слух и острый глаз для благо¬
родной формы, и пошлые натуры противны ему даже
тогда, когда полезны родине в качестве бойцов за благие
убеждения. Этот художественный вкус, свойственный ему,
предохранил его также от великого заблуждения той
патриотической черни, которая все еще не перестает
хулить и поносить нашего великого учителя Гете.
В этом отношении величайшей похвалы заслуживает
также другой писатель новейшего времени, г-н Карл
Гуцков. Если я упомянул о нем лишь после Лаубе, то
это отнюдь не потому, чтобы я считал его менее даровитым,
и еще меньше потому, чтобы его устремления были мне
не так близки; нет, и за Карлом Гуцковом я должен при¬
знать прекраснейшие качества творческой силы и худо¬
жественного понимания, и его произведения также ра¬
дуют меня надлежащим проникновением в смысл нашего
времени и его требований; однако во всем, что пишет
Лаубе, господствует всеобъемлющее спокойствие, гордое
величие, тихая уверенность, лично меня трогающие
глубже, чем живописная, красочная, пестрая и остро-пи-
каитная подвижность духа Гуцкова.
Г-ну Карлу Гуцкову, душа которого исполнена поэ¬
зии, пришлось своевременно, как и Лаубе, решительней¬
шим образом отмежеваться от фанатиков, поносивших
нашего великого учителя. То же самое относится к г-дам
Л. Винбаргу и Густаву Шлезиеру, двум новейшим весьма
выдающимся писателям, мимо которых я не могу пройти
здесь, поскольку речь идет о «Молодой Германии». Они
действительно заслуживают быть названными среди ее
корифеев, и имена их пользуются доброй славой па их
родине. Здесь не место подробно останавливаться на
их дарованиях и деятельности, я и так слишком отда¬
лился от моей темы; скажу только еще несколько слов
о Жан-Поле.
245
Я упомянул уже, что Жан-Поль-Фридрих Рпхтер
по основному своему направлению был предшественником
«Молодой Германии». Последняя, однако, под давлением
практических требований жизни, сумела уберечься о г
странной запутанности, причудливого изложения и не¬
удобоваримого стиля сочинений Жан-Поля. Ясная,
благоустроенная французская голова никогда не сможет
составить себе никакого понятия об этом стиле. Периоды
Жан-Поля состоят из маленьких комнатушек, иногда
настолько тесных, что когда там сталкивается одна идея
с другой, то обе разбивают себе головы; потолок здесь
покрыт крючками, на которых Жан-Поль развешивает
всевозможные мысли, а по стенам устроены потайные
ящички, куда он прячет чувства. Ни один немецкий писа¬
тель не является обладателем стольких мыслей и чувств,
как он, но он никогда не дает им дозреть, и со всем богатст¬
вом своего духа и своей сердечности не столько доставляет
нам удовольствие, сколько нас изумляет. Мысли и чувст¬
ва, которые разрослись бы в целые исполинские деревья,
если бы он дал им возможность пустить корни и распрост¬
раниться со всеми своими ветвями, цветами и листьями,
он вырывает, едва они стали маленьким растеньицем,
а часто даже еще в зародыше, и целые заросли духа подает
он нам, таким образом, в простой миске, в качестве сала¬
та. Это необыкновенное, неудобоваримое блюдо; ибо не
всякий желудок способен переварить в таком количе¬
стве молодые дубы, кедры, пальмы и бананы. Жан-Поль —■
великий поэт и философ, но нельзя быть более антихудо¬
жественным, чем он в своем творчестве и мышлении. Он
создал в своих романах истинно поэтические образы,
но все эти порождения влачат за собой нелепую длинную
пуповину и путаются и давятся в ее петлях. Вместо
мыслей он, собственно, предлагает нам самый процесс
своего мышления, мы видим материальную деятельность
его мозга; ои предлагает нам, так сказать, скорее мозг,
чем мысли. По всем направлениям скачут при этом его
остроты, блохи его разгоряченного ума. Это самый весе¬
лый и в то же время самый сентиментальный писатель.
Да, сентиментальность всякий раз одолевает его, и смех
его внезапно превращается в плач. Иногда он надевает
маску грубого нищего, но потом вдруг, подобно прин¬
цу инкогнито, каких мы видим на сцене, расстегивает
246
грубый балахон, и мы обнаруживаем сверкающую
звезду.
В этом Жан-Поль вполне сходен с великим ирландцем,
с которым его часто сравнивали. Автор «Тристрама Шен-
ди», впадая в самые грубые тривиальности, тоже умеет
вдруг возвышенными переходами напомнить о своем царст¬
венном достоинстве, о своем равенстве по рождению с
Шекспиром. Подобно Лоренсу Стерну, и Жан-Поль в
своих сочинениях предоставил в наше распоряжение
свою собственную личность, он тоже раскрылся нам в
своей человеческой наготе, но с известной неловкой за¬
стенчивостью, особенно в половом отношении. Лоренс
Стерн предстает перед публикой нагишом — он совер¬
шенно раздет; у Жан-Поля, наоборот, всего-навсего ды¬
рявые штаны. Неосновательно полагают некоторые кри¬
тики, что у Жан-Поля было больше истинного чувства,
чем у Стерна, потому что последний, как только предмет,
трактуемый им, достигает трагической вершины, внезапно
перескакивает на самый шутливый, самый смеющийся
тон, тогда как Жан-Поль, едва шутка стала чуть-чуть
посерьезней, понемногу начинает скулить и спокойно
дает своим слезным железам освободиться от влаги. Нет,
чувства Стерна были, быть может, еще глубже, чем чувст¬
ва Жан-Поля, ибо он поэт более великий. Как я уже ска¬
зал, он равен Вильяму Шекспиру, и его, Лоренса Стерна,
также воспитали музы на Парнасе. Но, по женскому
обычаю, они своими ласками рано испортили его. Он
был баловнем бледной богини трагедии. Однажды в при¬
падке жестокой нежности она стала целовать его юное
сердце так сильно, так страстно, так любовно, что оно
начало истекать кровыо и вдруг постигло все страдания
этого мира и исполнилось бесконечною жалостью. Бедное
юное сердце поэта! Но младшая дочь Мнемозины, розовая
богиня шутки, быстро подбежала к ним и, схватив опе¬
чаленного мальчика на руки, постаралась развеселить
его смехом и пением, и дала ему вместо игрушки коми¬
ческую маску и шутовские бубенцы, и ласково поцеловала
его в губы, и запечатлела на них все свое легкомыслие,
всю свою озорную веселость, все свое шаловливое остро¬
умие.
И с тех пор сердце и губы Стерна впали в странное
противоречие: когда сердце его бывает трагически взвол¬
247
новано и он хочет выразить свои самые глубокие, исте¬
кающие кровью задушевные чувства, с его уст, к его собст¬
венному изумлению, со смехом слетают самые забавные
слова.
IV
В средние века в народе существовало поверье, что
когда собираются построить здание, то необходимо за¬
резать что-нибудь живое и на крови его заложить первый
камень: тогда здание будет стоять твердо и нерушимо.
Произошло ли это поверье из древнеязыческого суеверия,
что благосклонность богов приобретается кровавыми
жертвами, или оно было извращением христианского уче¬
ния об искуплении, породившем представления о чудесной
силе крови, об освящении кровью, об этой вере в кровь, —
все равно: оно господствовало, и в песнях и преданиях
живут страшные рассказы о том, как резали детей или
животных, для того чтобы их кровью укреплять великие
сооружения. В наши дни человечество стало умнее; мы
не верим больше в волшебную силу крови, будь то кровь
дворянина или бога, — толпа верит только в деньги.
Заключается ли нынешняя религия в превращении бога
в деньги или в превращении денег в бога? Так или иначе,
люди верят только в деньги; только чеканному металлу,
серебряным и золотым святым дарам приписывают они
волшебную силу; деньги — начало и венец всех их деяний,
и если им предстоит воздвигнуть здание, то они более
всего заботятся о том, чтобы под фундамент было положено
несколько золотых, ящичек с разными монетами.
Да, подобно тому как в средние века все — начиная
от отдельных сооружений и кончая государственным и
церковным зданием в целом — покоилось иа вере в кровь,
так все наши нынешние учреждения покоятся на вере
в деньги, в настоящие деньги. Там господствовало суеве¬
рие, здесь — эгоизм голого чистогана. Первое было раз¬
рушено разумом, второе будет разрушено чувством.
Основы человеческого общества станут со временем лучше,
и все великие сердца Европы заняты мучительными поиска¬
ми- этого нового, лучшего фундамента.
Быть может, некоторых немецких поэтов романти¬
ческой школы, честных в своих исканиях, впервые при¬
248
нудило бежать от современной действительности и стре¬
миться к возрождению средневековья недовольство ны¬
нешней религией денег, отвращение к эгоизму, чей чу¬
довищный оскал всюду их преследовал. Это относится,
вероятно, прежде всего к тем, которые не принадлежали
собственно к школе. В последнюю входили писатели,
разобранные мною во второй книге каждый в отдельности,
после того как в первой я сказал о романтической школе
вообще. Лишь то историческое значение, которое они
имеют, а не их ценность по существу, заставило меня
говорить впервые и подробно об этих участниках школы,
действовавших совместно. Меня поймут поэтому, если
о Захарии Вернере, бароне де ла Мотт-Фуке и г-не Люд¬
виге Уланде я говорю позднее и более кратко. С точки
зрения их значения эти три писателя, наоборот, заслу¬
живали бы гораздо более подробного обсуждения и оценки.
Ибо Захария Вернер был единственным драматургом
школы, пьесы которого исполнялись в театре и вызывали
рукоплескания партера. Г-п барон де ла Мотт-Фуке был
единственным эпическим поэтом школы, романы которого
нравились всем читателям. И г-н Людвиг Уланд —
единственный лирик школы, песни которого проникли
в сердца широких масс и до сих пор еще живут в устах
людей.
В этом отношении указанные три поэта выше г-на
Людвига Тика, о котором я отозвался как об одном из
лучших писателей школы. Дело в том, что г-н Тик, хотя
театр — его конек и хотя ои с детства до нынешнего дня за¬
нимался актерским миром и всеми его мелочами, все же
никогда не умел волновать людей со сценических под¬
мостков, как это удавалось Захарии Вернеру. Г-ну Тику
всегда приходилось иметь свой домашний партер, которо¬
му он самолично декламировал свои произведения и па
рукоплескания которого мог рассчитывать с уверенностью.
В то время как г-на де ла Мотт-Фуке с одинаковым удо¬
вольствием читали все — от герцогини до прачки — и
он был солнцем всех библиотек для чтения, г-п Тик
был только астральной лампой эстетических чаепитий,
участники которых при свете его поэзии с совершенным
спокойствием попивали чай под чтение его новелл. Сила
этой поэзии выступала тем ярче, чем больше она контрасти¬
ровала с водянистым чаем, и в Берлине, где принято пить
249
самый жидкий чай, г-и Тик должен был казаться одним
из самых сильных поэтов. Между тем как песни нашего
превосходного Уланда раздавались в лесах и долинах,
между тем как до сих пор их еще орут неистовые студен¬
ты и шепчут нежные девушки, ни одна песня г-на Тика
не проникла в нашу душу, ни одна песня г-на Людвига
Тика ие сохранилась в наших ушах, и широкая публика
не знает ни одной песни этого великого лирика.
Захария Вернер родился в Кенигсберге, в Пруссии,
18 ноября 1768 года. Его связь со Шлегелями была не
личной близостью, но лишь сочувствием на расстоянии.
Он издали понял, чего они добиваются, и сделал все
возможное, чтобы творить в их духе. В возрождении
средневековья его могла вдохновить, однако, лишь одна
сторона, а именно иерархически-католическая; феодальная
сторона не так волновала его душу. На этот счет его
земляк Т.-А. Гофман дает в «Серапионовых братьях» лю¬
бопытное объяснение. Он рассказывает здесь, что мать
Вернера была душевнобольная и во время беременности
вообразила, что она богородица и должна родить спасите¬
ля. Дух Вернера носил всю жизнь родимое пятно этого
религиозного безумия. Во всех его произведениях мы
находим самый чудовищный религиозный бред. Только
«Двадцать четвертое февраля» свободно от него и принад¬
лежит к самым ценным созданиям нашей драматической
литературы. На сцене оно вызвало больше восторга,
чем все прочие пьесы Вернера. Другие его драматические
произведения меньше нравились толпе, потому что у по¬
эта, при всей его своеобразной мощи, недоставало зна¬
комства с условиями театра.
Биограф Гофмана, господин уголовный советник Гит-
циг, описал также жизнь Вернера. Добросовестный труд,
столь же интересный для психолога, как и для историка
литературы. Как мне недавно рассказывали, Вернер
также жил некоторое время здесь, в Париже, где особым
расположением его пользовались перипатетические фи-
лософки, гулявшие тогда по вечерам в блестящих наря¬
дах по галереям Пале-Рояля. Они постоянно бегали за
ним и дразнили его и высмеивали его комическую одеж¬
ду и его еще более комические манеры. То было доброе
старое время! Увы, так же, как Пале-Рояль, изменился
впоследствии и Захария Вернер: угас последний огонь
250
желаний в душе омраченного человека, в Вене он вступил
в орден лигориаицев и в соборе св. Стефана читал про¬
поведи о ничтожестве всего земного. Он открыл, что все
на земле есть суета сует. Пояс Венеры, утверждал он
теперь, есть лишь отвратительная змея, а величавая
Юнона носит под белым одеянием пару замшевых, не
совсем чистых ямщицких штанов. Патер Захария теперь
бичевал себя, постился и неистовствовал, обличая нашу
закоренелую страсть к мирским наслаждениям. «Да
будет проклята плоть!» — кричал он так громко и с
таким резким восточиопрусским акцентом, что статуи
святых содрогались в соборе и венские гризетки премило
улыбались. Кроме этой важной новости, он постоянно
сообщал во всеуслышание, что он великий грешник.
При ближайшем рассмотрении мы видим, что этот
человек всегда оставался последовательным, с тою лишь
разницей, что в былые времена он только воспевал то,
что осуществил впоследствии. Герои большинства его
драм — это уже монашески отрекающиеся от мира влюб¬
ленные, аскетические сладострастники, открывшие в воз¬
держании утонченное блаженство, истязанием плоти спири¬
ту ализирующие свою жажду наслаждения, ищущие в
глубинах религиозной мистики самых жутких упоений,
святые распутники.
Незадолго до смерти в Вернере вновь пробудилось
тяготение к драматическому творчеству, и он написал
еще одну трагедию, под заглавием «Мать Маккавеев».
Здесь, однако, дело было не в том, чтобы расцветить ро¬
мантическими шутками мирскую серьезность жизни; для
священного сюжета он избрал и церковный торжест¬
венный тон; ритмы, торжественно размеренные, подобно
колокольному перезвону, движутся медленно, как крестный
ход в страстную пятницу; все в целом — это палестинская
легенда в форме греческой трагедии. Пьеса имела ничтож¬
ный успех у людей здесь, внизу, на земле; пришлась ли она
больше по вкусу ангелам на небесах — этого я не знаю.
Однако патер Захария умер вскоре после этого, в
начале 1823 года, после пятидесятичетырехлетпего ски¬
тания по этой грешной земле.
Оставим покойника почивать в мире и обратимся ко
второму поэту романтическаго триумвирата. Это пре¬
восходный писатель, барон Фридрих де ла Мотт-Фуке,
251
родившийся в Бранденбургской марке в 1777 году и по¬
лучивший университетскую кафедру в Галле в 1833 году.
Прежде он состоял майором иа королевской прусской
поенной службе и принадлежит к тем героям песен или к
тем певцам героев, лира и меч которых громче всего
звучали во время так называемой освободительной войны.
Его лавры подлинны. Это настоящий поэт, и ореол поэ¬
зии осеняет его голову. Немногие писатели пользовались
столь всеобщим признанием, как некогда наш превосход¬
ный Фуке. Теперь он имеет читателей только в лице або¬
нентов библиотек для чтения. Но публика эта все же до¬
статочно многочисленна, и г-н Фукс может похвалиться
тем, что он единственный представитель романтической
школы, сочинения которого пришлись по вкусу также
низшим классам. В то время как иа эстетических «чашках
чая» в Берлине принято было морщиться при упоминании
об опустившемся рыцаре, я в одном маленьком городке
в Гарце встретился с прехорошенькой девушкой, которая
с восхитительным воодушевлением говорила о Фуке и,
краснея, признавалась, что охотно отдала бы год жизни
за возможность хотя бы один раз поцеловать автора
«Ундины». А у этой девушки был самый прелестный рот,
какой мне приходилось видеть.
Ио что за чудесная поэма эта «Ундина»! Сама поэма
есть поцелуй: гений поэзии поцеловал спящую весну,
и весна, улыбаясь, раскрыла глаза, и все розы заблаго¬
ухали, и все соловьи запели, и благоухание роз и пение
соловьев наш милейший Фуке облек в слова и назвал
все это «Ундиной».
Не знаю, переведена ли эта повесть па французский
язык. Это история о прекрасной водяной фее, лишенной
души, получившей душу лишь благодаря тому, что она
влюбилась в рыцаря... Но, увы, вместе с этой душой
ей достались и наши человеческие страдания. Ее ры¬
царственный супруг изменил ей, и она зацеловала его
насмерть. Ибо смерть в этой книге тоже только поцелуй.
В этой Ундине можно видеть музу поэзии Фуке. Хотя
красота ее беспредельна, хотя она страдает точно так же,
как мы, и земные скорби точно так же удручают ее, она
все же не принадлежит к человеческой породе. Между
тем наше время отталкивает от себя всякие воздушные
и водяные создания, даже самые прекрасные, оно требует
252
подлинно жизнепных образов, и меньше всего требует
оно русалок, влюбленных в высокородных рыцарей.
В этом все дело. Ретроградное направление, неустанные
восхваления родовой знати, непрерывное возвеличение
старого феодализма, вечная возня с рыцарством в конце
концов опротивели немецкой публике из среды образован¬
ного бюргерства, и она отвернулась от несвоевременного
певца. В самом деле, это постоянное воспевание рыцар¬
ских доспехов, боевых коней, владелиц замков, достопоч¬
тенных цеховых мастеров, карликов, оруженосцев, зам¬
ковых часовен, любви, веры — и как там еще называется
вся эта средневековая ветошь — в конце концов стало
нам в тягость; и когда остроумный идальго Фридрих де
ла Мотт-Фуке еще глубже погрузился в свои рыцарские
книги и в грезах о прошлом утратил понимание современ¬
ности, то даже его лучшие друзья, качая головой, отвер¬
нулись от него.
Сочинения, написанные им в эту позднейшую эпоху,
неудобочитаемы. Недостатки его прежних произведений
доведены здесь до крайности. Его рыцарские образы
состоят исключительно из железа и чувств; у них нет
ни плоти, ни разума. Его женские портреты — это только
картинки, или, вернее, только куклы, золотые кудри
которых изящно ниспадают на миловидные личики-цве¬
точки. Подобно сочинениям Вальтер Скотта, рыцарские
романы Фуке напоминают тканые обои, которые мы на¬
зываем гобеленами и которые пышностью рисунка и
роскошью красок больше восхищают наш глаз, чем нашу
душу. Рыцарские торжества, пастушеские игры, поединки,
старинные одежды, столь мило перемешанные,— все это
занимательно, но лишено сколько-нибудь глубокого смыс¬
ла и представляет собой одну лишь пеструю поверхность.
У подражателей Фуке, как и у подражателей Вальтер
Скотта, эта манера изображать вместо внутренней при¬
роды человека и предметов только их внешность и наряд
получила еще более плачевное развитие. Этот плоский
стиль и легкие приемы изображения свирепствуют те¬
перь в Германии, равно как в Англии и во Франции.
И даже тогда, когда произведение посвящено не про¬
славлению рыцарских времен, а нашей современности, —
это все еще та же прежняя манера, вместо существа явле¬
ний схватывающая только случайные черты. Вместо
253
знания человека наши новые романистыобнаруживают лишь
знание одежды, руководствуясь, быть может, пословицей:
«Платье делает человека». Совсем не так было у старых
романистов, особенно у англичан. Ричардсон дает нам
анатомию чувства. Голдсмит прагматически рассматри¬
вает душевные побуждения своих героев. Автор «Три¬
страма Шенди» изображает сокровеннейшие глубины души;
он открывает в душе просвет, дает заглянуть в ее бездны,
в ее рай и в грязные уголки и вновь опускает завесу.
Мы смотрели на этот удивительный театр из зрительного
зала, освещение и перспектива произвели на нас соот¬
ветственное действие, и так как мы, казалось, видели
бесконечное, то и чувства наши расширились до беско¬
нечности, стали поэтическими. Наоборот, Филдинг сразу
ведет нас за кулисы: он показывает нам фальшивые ру¬
мяна на всех чувствах, грубейшие пружины нежнейших
поступков, показывает канифоль, которая в дальнейшем
сверкает молнией воодушевления, литавры с мирно по¬
коящейся на них палочкой, которая в дальнейшем своими
ударами вызовет к жизни могучее грохотание страсти;
одним словом, он показывает нам весь тот внутренний
механизм, ту великую ложь, благодаря которой люди
кажутся нам не тем, что они есть в действительности,
и из-за которой исчезает всякая радостная реальность
жизни. Но не к чему брать в пример англичан, когда наш
Гете в своем «Вильгельме Мейстере» представил нам
лучший образец романа.
Имя романам Фуке — легион; он один из самых пло¬
довитых писателей. Особенно хвалебного упоминания
заслуживают «Волшебное кольцо» и «Тиодольф Ислан¬
дец». В его стихотворных драмах, не предназначенных
для сцены, скрываются большие красоты. Особенно сме¬
лым произведением является «Сигурд-Драконоубийца»,
где отражено древнескандинавское героическое предание
и характерный для него мир великанов и волшебства.
Главный герой драмы Сигурд — исполинский образ. Он
могуч, как норвежские скалы, и неукротим, как море,
бушующее вокруг них. У него отваги хватит на сотню
львов, а ума — на пару ослов.
Г-н Фуке писал также песни. Они — сама прелесть.
Они так легки, так пестры, так переливчаты, так весело
порхают: это очаровательные лирические колибри.
25 4
Но истинный поэт песен — г-н Людвиг Уланд, ро¬
дившийся в Тюбингене в 1787 году и проживающий
ныне в Штутгарте в качестве адвоката. Этот писатель
написал том стихов, две трагедии и два сочинения: о
Вальтере фон дер Фогельвейде и о французских трубаду¬
рах. Это небольшие исторические исследования, свиде¬
тельствующие о прилежном изучении средних веков.
Трагедии называются «Людвиг Баварский» и «Герцог
Эрнст Швабский». Первой я не читал; она, как говорили
мне, и не считается лучшей. Вторая же заключает высо¬
кие красоты и радует благородством чувств и достоинст¬
вом помышлений. В ней веет сладостное дыхание поэзии,
которого никогда не находишь в пьесах, встречающих
теперь на нашей сцене такое одобрение. Немецкая вер¬
ность — тема этой драмы, и здесь, могучая, как дуб,
противостоит она всем бурям; едва заметная, вдали рас¬
цветает немецкая любовь, но ее фиалковое благоухание
так трогательно, что оно тем сильнее проникает в наше
сердце. В этой драме, или, вернее, в этой песне, есть места,
принадлежащие к прекраснейшим жемчужинам нашей
литературы. Но театральная публика, тем не менее, от¬
неслась к пьесе равнодушно или, скорее, отрицательно.
Не стану слишком порицать за это добрых людей из пар¬
тера. У них есть определенные потребности, и они ждут,
чтобы поэт удовлетворил их. Создания поэта должны со¬
ответствовать не влечениям его собственного сердца, но
желаниям публики. Последняя совершенно похожа на
голодного бедуина в пустыне, который, найдя мешок,
думал, что это горох, поспешил раскрыть его, ио, увы,
там оказался только жемчуг. Публика с наслаждением
поглощает сухие горошины г-на Раупаха п скверные бо¬
бы мадам Бирх-Пфейфер; жемчуг Уланда кажется ей
несъедобным.
Так как французы, по всей вероятности, не имеют
понятия о том, кто такие мадам Бирх-Пфейфер и г-н
Раупах, то я должен здесь сообщить, что это — божест¬
венная пара, существующая вместе, подобно брату и
сестре, Аполлону и Диане, и что в храмах нашего драма¬
тического искусства их чтят более других. Да, г-на Рау¬
паха в той же мере можно сравнить с Аполлоном, как
мадам Бирх-Пфейфер с Дианой. Что касается их дейст¬
вительного положения, то последняя служит в Вене
255
в качестве артистки австрийского императорского театра,
а первый — в Берлине в качестве поэта при прусском
королевском театре. Названная дама написала уже мно¬
жество драм, в которых сама выступает. Не могу не упо¬
мянуть по этому случаю об одном явлении, которое по¬
кажется французам почти невероятным: значительная
часть наших актеров в то же время драматурги и сами
пишут для себя свои пьесы. Говорят, это бедствие вы
звано одним неосторожным заявлением г-на Людвига Тика.
В одной из своих критических статей он заметил, что акте¬
ры всегда лучше играют в плохих пьесах, чем в хороших;
опираясь на эту аксиому, толпы актеров схватились за
перья и написали великое множество трагедий и комедий,
так что иногда нам трудно решить, сочинил ли тщеслав¬
ный комедиант свою пьесу преднамеренно скверно, чтобы
хороню играть в ней, или, наоборот, он играл скверно
в такой самодельной пьесе для того, чтобы уверить нас,
что пьеса хороша. Актер и поэт, до сих пор состоявшие
в известной коллегиальной связи (приблизительно как
палач и его жертва), вступили теперь в открытую вражду.
Актеры старались совершенно вытеснить поэтов из театра
под предлогом, что те ничего не понимают в требованиях
подмостков, не понимают ничего в сильных эффектах и
театральных трюках, которые актеры практически изу¬
чили и умеют применять в своих пьесах. Актеры, или,
как они охотнее называют себя, артисты, выступали поэто¬
му преимущественно в своих собственных произведениях
или по крайней мере в произведениях, написанных кем-
либо из их братии, то есть таким же артистом. И действи¬
тельно, эти пьесы вполне соответствовали их потребностям;
здесь находили они свои излюбленные костюмы, свою
поэзию, одетую в трико телесного цвета, свои уходы под
аплодисменты, свсии традиционные гримасы, свои мишур¬
ные выражения, всю свойственную им напыщенность
богемы: язык, иа котором говорят только на сцене, цветы,
растущие только иа этой лживой почве, плоды, вызрева¬
ющие только в свете рампы, природу, над которой про¬
носится дыхание не господа бога, но суфлера, приступы
бешенства, сотрясающие кулисы, иежиую печаль под
рокочущие переливы флейты, нарумяненную невинность,
сдобренную пороком, казенные чувства, соразмерные с
месячным окладом, фанфары туша и т. д.
266
Таким образом, актеры в Германии эмансипировались
как от поэтов, так и от самой поэзии. Только посредст¬
венности разрешают они еще выступать в их области. Но
строго следят они при этом, чтобы в плаще посредствен¬
ности не проник к ним ни один истинный поэт. Через
сколько испытаний пришлось пройти г-ну Раупаху, преж¬
де чем ему удалось стать твердой ногой на театральных
подмостках! И теперь еще они зорко наблюдают за ним, и
когда случается ему написать пьесу не окончательно пло¬
хую, то он вынужден из страха перед остракизмом комедиан¬
тов тут же поскорей изготовить дюжину образчиков самой
жалкой стряпни. Вас удивляет слово «дюжина»? С моей
стороны тут нет никакого преувеличения. Этот человек
способен в самом деле ежегодно писать по дюжине драм,
и его производительность вызывает изумление. Но «здесь
нет никакого колдовства», — говорит Янтьеп Амстердам¬
ский, знаменитый фокусник, когда мы удивляемся его фоку¬
сам: «Никакого колдовства, а одна только ловкость рук».
Преуспеяние г-на Раупаха на немецкой сцене имеет,
впрочем, еще одну особую причину. Этот писатель, немец
по рождению, прожил много лет в России, там он закончил
свое образование, и в поэзию его посвятила муза москови¬
тов. Эта муза, красавица в соболях с восхитительно
вздернутым носиком, поднесла нашему поэту полную
водочную чару вдохновения, повесила на его плечи кол¬
чан с киргизскими стрелами остроумия и дала ему в руки
трагический кнут. Как потряс он нас, когда впервые
ударил им по нашим сердцам! Странность всего его облика
немало должна была изумить нас. Этот человек, конечно,
не пришелся нам по вкусу в культурной Германии; но
его сарматское неистовство, его неуклюжая подвижность,
какая-то ворчливая решительность во всех его поступках
ошеломили публику. Своеобразное зрелище во всяком
случае представлял собой г-н Раупах, который мчался на
своем славянском Пегасе, маленьком резвом коньке, по
степям поэзии, подложпв, согласно настоящему башкир¬
скому обычаю, свои драматические сюжеты под седло,
где они и дозревали. Это встретило одобрение в Берлине,
где, как вам известно, радушно принимается все русское;
г-ну Раупаху удалось здесь утвердиться, он сумел дого¬
вориться с актерами, и с некоторого времени, как я уже
сказал, в храме драматического искусства Аполлон
257
Раупах, рядом с Дианой Бирх-Пфейфер, почитаем как
божество. Тридцать талеров получает ои за каждый акт,
написанный им, и пишет сплошь шестиактные пьесы,
именуя первый акт прологом. Всевозможные сюжеты
подкладывал он уже под седло своего Пегаса и, сидя
на них, доводил до полной готовности. Ни один герой
не может считать себя гарантированным от этой траги¬
ческой участи. Даже Зигфрида, убийцу дракона, ему
удалось подложить под свое седло. Муза немецкой исто¬
рии в отчаянии. Подобно Ниобее, в мрачной скорби взи¬
рает она на своих благородных детей, так чудовищно
обработанных Раупахом-Аполлоном. О Юпитер! Он осме¬
лился даже поднять руку на Гогенштауфенов, наших
старых излюбленных швабских императоров! Мало того,
что г-н Фридрих Раумер исторически заклал их, теперь
их освежевал для сцены г-н Раупах. Деревянные фигуры
Рау мера он покрывает сапожной кожей своей поэзии,
своей русской юфтыо, и самый вид таких карикатур и их
зловоние в конце концов отравляют нам воспоминание
о прекраснейших и благороднейших императорах не¬
мецкого отечества. И полиция не препятствует такому
кощунству? Чего доброго, она сама принимает в этом
участие. Новые восходящие династии не любят воспоми¬
наний в пароде о старых императорских родах, место
которых им хотелось бы занять. Не Иммерману, не Граббе
и даже не Ихтрицу, а именно г-ну Раупаху берлинская
театральная дирекция закажет Барбароссу. Но строго
запрещено г-ну Раупаху засовывать под седло кого-нибудь
из Гогенцоллернов, и вздумай он когда-нибудь сделать
это, его немедленно отправят вместо Геликона в кутузку.
Ассоциация идей по контрасту виной тому, что, ре¬
шив говорить о г-не Уланде, я внезапно перешел на г-на
Раупаха и мадам Бирх-Пфейфер; но хотя эта божествен¬
ная пара — и притом наша театральная Диана еще зна¬
чительно меньше, чем наш театральный Аполлон, — и
не принадлежит к подлинной литературе, я все же должен
был сказать о них, поскольку они представляют нынешний
мир подмостков. Во всяком случае я считал своим долгом
перед нашими подлинными поэтами хотя бы в немногих
словах рассказать в этой книге о том, что представляют
собой те люди, которые узурпировали у нас господство
над сценой.
258
V
Одно затруднение смущает меня в это мгновение. Я
не могу обойти молчанием собрание стихотворений г-на
Людвига Уланда, а между тем мое теперешнее настроение
отнюдь не благоприятствует беседе о них. Молчание могло
бы показаться здесь трусостью или вероломством, а честная
откровенность могла бы быть истолкована как недостаток
любви к ближнему. Действительно, та степень восторга,
которой я сейчас располагаю, елва ли удовлетворит близ¬
ких и дальних родственников Уландовой музы и прихле¬
бателей его славы. Но я прошу вас принять во внимание
место и время, когда пишутся эти строки. Двадцать лег
тому назад, когда я был мальчиком, — да, тогда было
дело другое, — с каким необузданным восторгом мог
бы я тогда славить Уланда! Я ощущал в то время его
прелесть, пожалуй, сильнее, чем теперь; он был мне ближе
по чувствам и помыслам. Но с тех пор произошло столько
событий! То, что мне представлялось таким великолепным,
весь этот мир куртуазности и католичества, эти рыцари,
рубящие и колющие друг друга на аристократических
турнирах, эти кроткие пажи и целомудренные знатные
дамы, эти северные витязи и миннезингеры, эти монахи
и монахини, эти прародительские склепы с их таинст¬
венной жутыо, эти бледные чувства, говорящие о само¬
отречении под звон колоколов, это вечное тоскливое
нытье, — как все это опротивело мне с тех пор! Да, не
то было прежде. Как часто сидел я на развалинах старого
замка в Дюссельдорфе на Рейне и декламировал лучшую
из песен Уланда:
Шел пастушок весенним днем
У королевского дворца,
Принцесса глянула — огнем
Зарделись их сердца.
«О, если б мне в весенний зной
К тебе спуститься с высоты!
Как овцы блещут белизной,
Алеют как цветы!»
А он: «О да, побудь со мной,
Направь ко мне свой легкий шаг!
Как руки блещут белизной,
Алеют щечки как!»
259
И с болью в сердце по утрам
Оп появлялся у окна,
II ввысь глядел, и видел: там
Ждала его она.
«Принцессе милой шлю привет!» —
Взывал он, строен и высок,
II голос сладостный в ответ:
«Спасибо, пастушок!»
Сменила вновь весна весну,
Цветы алеют по лугам,
Пастух является к окну,
Но нет принцессы там.
«Принцессе милой шлю привет!» —
Кричит он, чуя горький рок,
И голос призрачный в ответ:
«Прощай, мой пастушок!» 1
Когда я сиживал, бывало, на развалинах старого
замка и декламировал эту песню, мне чудилось, что ру¬
салки, живущие в водах Рейна, который там протекает,
передразнивают мои слова и из волн раздаются стопы и
воздыхания, полные комического пафоса:
И голос призрачный в ответ:
«Прощай, мой пастушок!»
Но я не смущался такими проказами русалок даже
тогда, когда они иронически хихикали в ответ иа лучшие
места пз стихотворений Уланда. Это хихиканье я относил
в ту пору к себе, особенно под вечер, когда спускался
мрак, и я декламировал, несколько повысив голос, чтобы
тем победить таинственный ужас, внушаемый мне разва¬
линами замка. Дело в том, что существует предание,
будто там по ночам бродит дама без головы. Иногда мне
чудился шелест ее длинного шелкового шлейфа, и сердце
мое билось... Таково было место и время моего увлечения
«Стихотворениями» Людвига Уланда.
И снова в моих руках эта книга, но двадцать лет про¬
неслось с тех пор; за это время я много, очень много видел
и слышал и уже не верю в людей без головы, и старая
чертовщина уже не производит впечатления на мою душу.
1 Перев. В. Зоргенфрея.
260
Дом, где я сижу теперь и читаю, находится иа бульваре
Монмартр; а там кипит самый бурный прибой современ¬
ности, орут самые неистовые голоса нового времени;
смех, брань, бой барабанов; боевым шагом проходит на¬
циональная гвардия; и все говорят по-французски. Разве
это место для чтения Уланда? Трижды вновь продекла¬
мировал я конец приведенного стихотворения, но совсем
не ощущаю уже больше той несказанной тоски, которая
овладевала мной, когда умерла королевская дочь и пре¬
красный пастушок так жалобно взывал к ней: «Принцессе
милой шлю привет!»
II голос призрачиый в ответ:
«Прощай, мой пастушок!»
Быть может, я несколько охладел к такого рода сти¬
хам с тех пор еще и потому, что по опыту узнал: есть
любовь гораздо более мучительная, чем та, в которой
никогда не осуществляется обладание любимым суще¬
ством или же оно унесено смертью. В самом деле, гораздо
мучительнее, когда любимое существо дни и ночи лежит
в наших объятиях, ио постоянным противоречием и глу¬
пейшими капризами отравляет эти дни и ночи, так что
мы вынуждены оторвать от нашего сердца то, что оно
более всего любит, самолично усадить проклятую любимую
женщину в почтовую карету и отправить ее...
«Принцесса милая, прощай!»
Да, мучительнее утраты, вызываемой смертью, утрата,
вызываемая жизныо, — например, когда возлюбленная
по безумному легкомыслию отворачивается от пас, когда
ей во что бы то ни стало хочется пойти иа бал, куда пи
один порядочный человек не может сопровождать ее,
и когда она в сумасбродно крикливом наряде и с вызываю¬
щей прической протягивает руку первому попавшемуся
проходимцу и поворачивается к нам спиной...
«Прощай, мой пастушок!»
Быть может, и г-ну Уланду пришлось не лучше, чем
нам. Его настроение тоже, вероятно, с тех пор несколько
изменилось. Вот уж двадцать лет, как он, за немногими
исключениями, не выступал с новыми стихами. Я не верю,
261
чтобы эта прекрасная поэтическая душа была так скупо
одарена от природы и имела одну лишь весну. Нет, я объяс¬
няю себе молчание Уланда скорее противоречием, воз¬
никшим между склонностями его музы и требованиями
его политического положения. Элегический поэт, воспе¬
вавший в таких прекрасных балладах и романсах фео¬
дально-католическое прошлое, Оссиаи средневековья, вы¬
ступая в вюртембергском собрании сословий, сделался
с тех пор ревностным представителем прав народа, сме¬
лым поборником гражданского равенства и свободы духа.
Неподдельность и искренность этих демократических и
протестантских убеждений г-н Уланд доказал тем, что
принес им великие личные жертвы; если некогда он стяжал
поэтические лавры, то теперь завоевал и дубовый венок
гражданской доблести. Но именно потому, что оп так
честно относится к новому времени, он ие мог с прежним
воодушевлением петь старые песни о старых временах;
и так как Пегас его был всего лишь рыцарским конем,
который охотно скакал назад, в прошлое, но становился
на дыбы, как только его пробовали направить вперед,
в современность, то честный Уланд с улыбкой спешился,
спокойно приказал расседлать и отвести норовистую
лошадь в конюшню. Там она и стоит до сего дня и, по¬
добно своему коллеге, коню Баяру, имеет всевозможные
достоинства и лишь один-единственный недостаток: она
издохла.
От наблюдателей, более прозорливых, чем я, ие укры¬
лось, что высокий рыцарский конь со своими пестрыми
попонами, украшенными гербами, и горделивыми султа¬
нами никогда по-настоящему не подходил штатскому
наезднику, у которого на ногах вместо сапог с золотыми
шпорами были лишь туфли и шелковые чулки, а на го¬
лове вместо шлема — шапочка тюбингенского доктора
прав. По их уверениям, они открыли, что никогда и не
было полной гармонии между г-ном Людвигом Уландом
и его темой; что наивные, устрашающие и могучие тона
средневековья он, собственно, не передает с идеализи¬
рующей правдивостью, но скорее растворяет в болезнепно-
сеытименталыюй меланхолии; что он как бы размягчил
мощные звуки героического сказания и народной песни
в своей задушевности, чтобы приноровить их к вкусам
современной публики. И в самом деле, при внимательном
262
взгляде па женщпн Уландовой поэзии мы видим, что это
лишь прекрасные тени, воплощения лунного света, с мо¬
локом в жилах, со сладкими слезинками в очах — слад¬
кими, то есть без соли. Когда сравниваешь Уландовых
рыцарей с рыцарями старинных песен, то кажется, что
они состоят из жестяных лат, в которые облечены цветы,
а не мясо и кости. Оттого-то рыцари Уланда много бла¬
гоуханнее для чувствительных носов, чем старые бойцы,
которые ходили в толстенных железных штанах, много
жрали п еще больше пили.
Но это не должно звучать как упрек. Г-н Уланд совсем
не собирался представить нам немецкую старииу в точ¬
ной копии; он, быть может, хотел лишь позабавить нас
ее отблеском, и он доброжелательно отразил ее на
туманной поверхности своего духа. Это, пожалуй,
и сообщает его стихам особую прелесть и привле¬
кает к ним любовь многих мягкосердечных и добрых лю¬
дей. Образы прошлого оказывают свое волшебное дей¬
ствие, даже когда являются в виде туманных призраков.
Борцы, ставшие иа сторону нового времени, и те сохра¬
няют постоянное тайное тяготение к преданиям старины;
удивительно волнуют нас эти призрачные голоса даже
в самом слабом их отзвуке. И легко понять, что баллады
и романсы нашего прекрасного Уланда встречают наи¬
лучший прием не только у патриотов 1813 года, у
набожных юнцов и любвеобильных девиц, но и у мно¬
гих людей, жизненно более сильных и мыслящих по-но¬
вому.
Я присоединил к слову «патриоты» дату 1813 для
того, чтобы отличить их от нынешних преданных друзей
родины, уже не питающихся воспоминаниями о так назы¬
ваемой освободительной войне. Те, прежние патриоты
должны с наслаждением упиваться музой Уланда, по¬
тому что большинство его стихотворений насквозь про¬
никнуто духом их времени, того времени, когда сами они
были переполнены чувствами молодости и гордых упова¬
ний. Это пристрастие к стихам Уланда они передали своим
последователям, и было время, когда патриотом считался
всякий юнец из гимнастического кружка, если он приоб¬
ретал себе томик стихов Уланда. Он находил здесь песни,
лучше которых не смогли бы создать даже Макс фон
Шенкендорф и Эрнст-Мориц Арндт. И в самом деле,
263
какого внука победоносного Лрминия и светлокудрой
Туспельды не удовлетворит такое стихотворение Улаида:
Дальше, дальше и вперед,
Так Россия нас зовет:
Вперед!
Слышит Пруссия «вперед!»
II другим передает:
Вперед!
В мощи, Австрия, воспрянь!
За свободу с нами стань,
Вперед!
Ты, саксонский древний край,
Поднимись и выступай!
Вперед!
Вы, баварцы, с нами в строй!
Швабы, франки, к Рейну, в бой,
Вперед!
Нидерландцы, близок враг!
Крепче меч и выше стяг!
Вперед!
И Швейцария за нас!
Лотарингия, Эльзас!
Вперед!
К нам, Британия, примкни!
Руку братьям протяни!
Вперед!
Дальше, дальше и вперед!
Близок радостный исход!
Вперед!
Зов раздался: «Выступать!»
Дальше, доблестная рать!
Вперед! 1
Повторяю, поколение 1813 года находит в стихах
г-па Уланда дух своего времени в драгоценнейшей со¬
хранности, и не только дух политический, но и моральный
и эстетический. Г-н Уланд представляет целую эпоху,
и представляет ее теперь почти единолично, так как
прочие ее представители забыты и действительно нашли
общее выражение в этом писателе. Топ, господствующий
в песнях, балладах и романсах Уланда, был тоном всех
его романтических современников, и некоторые из них
дали кое-что если не лучшее, то столь же хорошее. Здесь
уместно воздать должное еще кое-кому из поэтов роман¬
тической школы, по материалу и манере являющим,
как было упомянуто, решительное сходство с г-ном Улан-
1 Перев. В. Зоргенфрея.
264
дом, не уступая ему в поэтической значительности и от¬
личаясь разве что меньшим мастерством формы. Действи¬
тельно, какой превосходный поэт барон Эйхепдорф!
Песни, вплетенные им в его роман «Предчувствие и дей¬
ствительность», невозможно отличить от уландовских,
и даже от лучших из них. Разница, пожалуй, лишь в более
свежей лесной зелени и более кристальной правдивости
стихов Эйхендорфа. Г-н Юстннус Кернер, почти совер¬
шенно неизвестный, также заслуживает здесь хвалеб¬
ного упоминания; и он писал прекраснейшие песни в той
же интонации и той же манере; он земляк г-на Улапда.
То же надо сказать о г-не Густаве Швабе, поэте более
известном, также уроженце швабской земли, до сих пор
всякий год услаждающем нас очаровательными, благо¬
уханными песнями. Особое дарование проявляет он
в балладе, п в этой форме оп превосходно воссоздал мест¬
ные сказания. Равным образом должен здесь быть упо¬
мянут Вильгельм Мюллер, в расцвете радостной юности
унесенный от нас смертью. В воспроизведении немецкой
народной песни он совершенно созвучен с г-ном Улан-
дом; мне кажется даже, что ои в этой области иногда бы¬
вает удачливее и превосходит Уланда естественностью.
Он глубже понял дух старинных песенных форм и оттого
пе прибегал к внешним подражаниям им; поэтому мы
встречаем у него более свободное применение переходов
и разумный отказ от всяких устаревших оборотов и выра¬
жений. Не могу также пе напомнить здесь о забытом и
неизвестном ныне покойном Ветцеле ; оп также был сродни
по духу нашему прекрасному Улапду, которого в неко¬
торых песнях, известных мне, он превосходит нежностью
и томной глубиной. Эти песни, наполовину цветы, на¬
половину бабочки, увяли, потеряв аромат и краски
в одном из первых выпусков «Урании» Брокгауза. Что
г-н Клеменс Брентано большинство своих песен писал
в том же улаидовском тоне и духе, попятно само собой;
оба они черпали из одного источника, из народной песни,
и оба предлагают нам один и тот же напиток, с тою лишь
разницей, что чаша, то есть форма, у Уланда более округ¬
лая. Адальберта фон Шамиссо мне, собственно, ие при¬
ходится здесь касаться; хотя в качестве современника
романтической школы оп принимал участие в этом дви¬
жении, сердце этого писателя так чудесно помолодело
265
за последнее время, что оп перешел к совершенно новым
тональностям, проявил себя как один из самых своеобраз¬
ных и значительных современных поэтов и гораздо больше
принадлежит молодой, чем старой Германии. Но в песнях
его ранней поры живет то же дыхание, каким веет на нас
от стихов Уланда: тот же звук, те же краски, тот же аромат,
та же печаль, тс же слезы... Слезы Шамиссо, быть может,
трогательнее, потому что они, подобно роднику, быощему
из скалы, вырываются из гораздо более сильного сердца.
Стихотворения, написанные г-ном Уландом в южных
метрических формах, точно так же глубоко родственны
сонетам, ассонансам и октавам его товарищей по романти¬
ческой школе, и их невозможно отличить ни по форме,
ни по тону. Но, как было уже указано, большинство совре¬
менников Уланда забыто вместе с их стихами, которые
теперь лишь с трудом можно разыскать в старых сбор¬
никах, как «Лес поэтов», «Странствие певцов», в неко¬
торых дамских альманахах и альманахах муз, издавав¬
шихся г-дами Фуке и Тиком, в старых журналах, осо¬
бенно в «Утешительном одиночестве» Ахима фон Арпима
и в «Волшебной палочке», выходившей под редакцией
Генриха Штраубе н Рудольфа Христиани, в тогдашних
газетах п бог знает где еще!
Г-н Уланд не отец школы, как Шиллер и Гете или
какой-либо другой писатель, который благодаря своей
индивидуальности умел задавать особый тон, нашедший
определенный отзвук в поэзии современников. Г-н Уланд
не отец, но лишь дитя школы, передавшей ему тон, рав¬
ным образом не ею созданный, но с усилием выжатый ею
из прежних поэтических произведений. Но в возмещение
этого недостатка оригинальности и новизны поэзия г-на
Уланда полна достижений столь же превосходных, сколь
редких. Он гордость счастливой швабской земли, и
все собратья его по немецкому языку радуются этой бла¬
городной поэтической душе. Через него подведен итог
творчеству большинства его лирических товарищей по
романтической школе, которую читатели любят и чтят
теперь в лице одного-единственного человека. И, быть
может, мы любим и чтим его теперь тем глубже, что соби¬
раемся расстаться с ним навеки.
Ах, не из легкомысленной прихоти, но подчиняясь
закону необходимости пришла Германия в движение,.♦
266
Благочестивая, миролюбивая Германия!.. Со скорбным
взором, устремленным в прошлое, оставшееся позади,
она еще раз с глубоким чувством склоняется над остав¬
ленной позади стариной, глядящей на нас со смертельной
тоской из стихотворений Уланда, и целует ее на проща¬
ние. И еще один поцелуй, — так и быть, даже еще слеза!
Но не будем застывать в бездейственной растроганности...
Дальше, дальше, все вперед,
Так нас Франция зовет!
Вперед!
VI
«Посетив по прошествии многих лет гробницу, где
покоились останки Карла, император Оттон III, в сопро¬
вождении двух епископов и графа фон Лаумеля (расска¬
завшего обо всем этом), вошел в склеп. Труп не лежал,
как прочие мертвецы, но сидел прямо, как живой, на
стуле. На голове была золотая корона, скипетр он держал
в руках, покрытых перчатками, но ногти проросли сквозь
кожу. Свод склепа был очень прочно сложен из мрамора
и извести. Для того чтобы проникнуть туда, пришлось
проломать отверстие; едва вошли внутрь, почувствовали
острый запах. Все преклонили колена pi оказали усопшему
почести. Император Оттон надел на него белое облачение,
обрезал ногти и приказал исправить все повреждения.
Из членов ни один не сгнил, только недоставало кусочка
на кончике носа; Оттон приказал сделать его из золота.
Наконец, он взял изо рта Карла один зуб, повелел опять
замуровать склеп и вышел. Той же ночью, говорят, явился
ему во сне Карл и возвестил, что Оттои не доживет до
старости и не оставит наследника».
Так рассказывают нам «Немецкие сказания». Но это
не единственный пример подобного рода. Ваш король
Франциск таким же образом приказал раскрыть гробницу
знаменитого Роланда, чтобы лично удостовериться, был
ли этот герой так исполински высок, как говорят поэты.
Произошло это незадолго до сражения при Павии. Себа¬
стьян Португальский перед отъездом в Африку раскрыл
могилы своих предков и созерцал мертвых королей.
267
Странное, жуткое любопытство, часто побуждающее
людей заглядывать в могилы прошлого! Это происходит
в необыкновенные периоды, после завершения какой-
нибудь эпохи или незадолго до катастрофы. Мы пережили
в наши дни подобное явление: великий монарх — фран¬
цузский народ — внезапно испытал желание раскрыть
могилы прошлого и рассмотреть при свете дня давно
похороненные, забытые времена. Не было недостатка
в ученых могильщиках, которые ие замедлили явиться
с лопатами и ломами, чтобы разрыть старый мусор и
взломать гробницы. Все ощутили острый запах готи¬
ческих пряностей, приятно щекотавший носы, пресыщен¬
ные розовым маслом. Французские писатели благого¬
вейно преклонили колена перед представшим их взору
средневековьем. Один возложил на него новое одеяние,
другой остриг ему ногти, третий приделал ему новый нос;
наконец, явилось и несколько поэтов, которые вырвали
у средневековья зубы, — совсем так, как император Оттоп.
Явился ли во сне дух средневековья этим зубодерам
и предсказал ли всему романтическому господству ран¬
ний конец, не знаю. Я вообще упоминаю об этом явлении
во французской литературе лишь для того, чтобы твердо
заявить, что пи прямо, пи косвенно пе имею в виду борьбу
с ним, обсуждая в этой книге в несколько резких выра¬
жениях подобное же явление, имевшее место в Германии.
Писатели, вызвавшие из могилы средние века в Германии,
задавались, как явствует из этих страниц, другими це¬
лями, и действие, которое они могли произвести на толпу,
было опасно для свободы и благоденствия моего отечества.
У французских писателей были только художественные
интересы, и французская публика стремилась лишь
удовлетворить свое внезапно пробудившееся любопыт¬
ство. Большинство заглядывало в могилы прошлого лишь
с целыо выискать себе там интересный костюм для кар¬
навала. В самом деле, мода на готику была во Франции
только модой, служившей лишь для того, чтобы усилить
наслаждение настоящим. Кое-кто на средневековый лад
отпускает на голове длинные волосы и в ответ иа самое
беглое замечание парикмахера, что это ему не к лицу, при¬
казывает коротко обстричь их вместе со связанными с ними
средневековыми идеями. Ах, в Германии все по-иному!
Может быть, именно потому, что средневековье ие оконча-
268
тсльно умерло и истлело там, как у вас. Немецкое средне¬
вековье не истлело в гробу, наоборот, его воскрешает
иногда злое привидение, и средь бела дня оно вступает
в нашу среду и высасывает из нашей груди алую кровь
жизни...
Ах, разве вы не видите, как печальна и бледна Герма¬
ния? Особенно немецкая молодежь, еще недавно лико¬
вавшая с таким воодушевлением! Разве вы не видите,
как окровавлены уста всесильного вампира, избравшего
своим местопребыванием Франкфурт и с такой жуткой
медлительностью и скукой сосущего там сердце немецкого
народа?
То, что я сказал о средних веках вообще, особо при¬
менимо в отношении религии. Лояльность требует от меня
самым четким образом отграничить партию, которую
здесь называют католической, от жалких субъектов,
носящих это имя в Германии. Только о последних гово¬
рил я на этих страницах, и, сознаюсь, в выражениях,
все еще кажущихся мне слишком мягкими. Это враги
моего отечества, пресмыкающаяся сволочь, лицемерная,
лживая и непреодолимо трусливая. Они шипят в Берлине,
они шипят в Мюнхене; гуляя по бульвару Монмартр,
ты вдруг чувствуешь укус в пятку. Но мы раздавим ей
голову, этой старой змее! Это партия лжи, это подручные
деспотизма, реставраторы всякого убожества, всех ужа¬
сов и всего безумия прошлого. Насколько бесконечно
выше их та партия, которую здесь называют католиче¬
ской и вожди которой принадлежат к талантливейшим
писателям Франции! Если их и нельзя назвать нашими
соратниками, то мы все же боремся за одни и тс же ин¬
тересы, а именно — за интересы человечества. В любви
к нему мы единодушны; мы отличаемся лишь во взгляде
на то, что нужно человечеству; они думают, что челове¬
чество нуждается лишь в духовном утешении, мы же,
наоборот, считаем, что ему нужно скорее материальное
счастье. Если эта католическая партия во Франции, не
уразумев сама своего собственного значения, заявляет
себя партией прошлого, восстановителышцей веры, то
нам приходится, вопреки ее собственным заявлениям,
защищать ее. Восемнадцатое столетие так основательно
раздавило католицизм во Франции, что от него не осталось
почти никакого живого следа, и тот, кто собирается
269
восстановить во Франции католицизм, проповедует как бы
совершенно новую религию. Под Францией я понимаю
Париж, а не провинцию, ибо как думает провинция —
совершенно так же безразлично, как то, что думают наши
ноги: голова есть средоточие наших мыслей. Мне гово¬
рили, что провинциальные французы хорошие католики;
не могу ни утверждать, ни отрицать этого; люди, с кото¬
рыми я встречался в провинции, все похожи на версто¬
вые столбы: иа лбах этих людей обозначено большее или
меньшее их отдаление от столицы. Тамошние женщины
ищут, быть может, утешения в христианстве по той при¬
чине, что не могут жить в Париже. В самом Париже
христианство прекратило свое существование с револю¬
цией и уже раньше потеряло здесь всякое реальное зна¬
чение. Оно притаилось, это христианство, в отдаленном
уголке церкви, насторожилось, словно паук, и время от
времени стремительно выскакивает, когда можно схватить
дитя в колыбели или старца в гробу. Да, только два раза
в жизни француз попадал во власть католического свя¬
щенника — при появлении на свет и при разлуке с ним;
в течение остального промежутка времени он сохранял
рассудок и издевался над святой водой и помазанием.
Но разве это можно назвать господством католицизма?
Именно потому, что оно совершенно угасло во Франции,
ему удавалось при Людовике XVIII и Карле X прелестью
новизны привлечь к себе даже некоторые бескорыстные
умы. Католичество было тогда чем-то таким неслыханным,
чем-то свежим, чем-то изумительным! Религией, господ¬
ствовавшей тогда во Франции, была классическая мифо¬
логия, и эту прекрасную религию с таким успехом про¬
поведовали французскому народу его писатели, поэты
и художники, что в конце прошлого столетия как действия,
так и мысли французов носили совершенно языческий
наряд. Во время революции классическая религия рас¬
цвела во всем своем мощном великолепии; это не было
александрийское обезьянничанье — Париж был естествен¬
ным продолжением Афин и Рима. Во время империи вновь
угас этот античный дух, греческие боги продолжали ца¬
рить еще только на сцене и римские доблести владели
только полем битвы; возникла новая вера, и она выра¬
жалась в одном священном имени: Наполеон! Эта вера
все еще господствует в массах. Поэтому неправ тот, кто
270
говорит, что французский народ не религиозен, потому
что он больше не верит в Христа и его святых. Скорее
надо сказать: нерелигиозность французов заключается
в том, что, вместо того чтобы верить в бессмертных богов,
они верят теперь в одного человека. Надо сказать: нере¬
лигиозность французов заключается в том, что они больше
не верят в Юпитера, не верят в Диану, пе верят в Минерву,
не верят в Венеру. Последний пункт сомнителен, на¬
сколько мне известно: по отношению к грациям францу¬
женки все еще остаются правоверными.
Надеюсь, что эти замечания не будут поняты ошибочно.
Их назначение именно в том, чтобы предохранить чита¬
теля этой книги от одного досадного заблуждения.
шшФшттт
ПРИПИСКА
Я был бы в отчаянии, если бы немногие замечания
(книга 2-я, глава III), вырвавшиеся у меня по адресу
великого эклектика, были превратно поняты. Право,
я очень далек от намерения умалить роль г-на Виктора
Кузена. Чипы и звания этого знаменитого философа даже
обязывают меня к хвале и прославлению. Он принадле¬
жит к тому живому пантеону Франции, который мы назы¬
ваем пэрством, и его остроумные останки покоятся па бар¬
хатных скамьях Люксембургского дворца. При этом он
любвеобилен, по не любит никаких банальностей, которые
способен любить всякий француз, — например, Напо¬
леона; ои не любит даже Вольтера, которого, конечно,
уже несколько труднее полюбить... Нет, сердце г-на
Кузена подвергает себя труднейшему испытанию: он
любит Пруссию. Я был бы злодеем, если бы предполагал
умалить такого мужа, я был бы чудовищем неблагодар¬
ности... ибо ведь я и сам пруссак. Кто будет нас любить,
когда перестанет биться великое сердце Виктора Кузена?
Право, мне приходится насильственно подавлять в себе
все личные чувства, которые могли бы привести меня
к чрезмерному энтузиазму. Я не хотел бы также быть
заподозренным в сервилизме, ибо благодаря своему
положению и красноречию г-н Кузен чрезвычайно влия¬
телен в государстве. Это соображение могло бы даже по¬
двигнуть меня столь же свободно высказаться о его недо¬
статках, как и о его достоинствах. Отнесется ли он сам
к этому с неодобрением? Разумеется, пет! Я знаю, что
272
нельзя лучше почтить высокии ум, чем освещая его не¬
достатки так же добросовестно, как и его добродетели.
Когда воспеваешь Геркулеса, то необходимо упомянуть,
как он однажды сбросил с себя львиную шкуру и уселся
за прялку; ведь и после этого он все же остается Герку¬
лесом! Сообщая подобные вещи о г-не Кузене, мы должны
еще, в виде тонкой похвалы, присовокупить: если г-н
Кузен иной раз и сидел, болтая, за прялкой, то он нико1да
не снимал с себя львиной шкуры.
Развивая наше сравнение с Геркулесом, мы должны
упомянуть еще об одном лестном отличии, а именно:
народ приписывал сыну Алкмены те деяния, которые
были совершены различными его современниками; дея¬
ния же г-на Кузена так грандиозны, так изумительны,
что народ никогда не мог понять, как один человек мог
совершить нечто подобное, и возникла легенда, что про¬
изведения, появившиеся под именем этого господина,
принадлежат многим его современникам.
То же самое произойдет когда-нибудь с Наполеоном;
уже теперь мы не можем понять, как один герой мог со¬
вершить столько чудесных подвигов. Точно так же как
теперь уже о великом Викторе Кузене говорят, что он
умел эксплуатировать чужие дарования и публиковать их
труды в качестве своих, — так некогда будут утверждать
о бедном Наполеоне, что не ои сам, а бог знает кто —
быть может, даже г-н Собастнани — выиграл сражения
при Маренго, Аустерлице и Иеие.
Великие люди оказывают влияние не только своими
деяниями, но и своей личной жизныо. В этом отношении
г-н Кузен заслуживает безусловной похвалы. Здесь оп
предстает в своем безукоризненненшем великолепии.
Собственным примером он содействовал разрушению пред¬
рассудка, который, быть может, до сих пор препятство¬
вал большинству его соотечественников серьезно отдаться
изучению философии, важнейшему из устремлений че¬
ловека. Здесь господствовало мнение, будто изучение
философии делает человека непригодным для практиче¬
ской жизни, что метафизические спекуляции отбивают
вкус к спекуляциям в области промышленности и что,
если хочешь стать большим философом, необходимо,
отказавшись от всякого сановного блеска и почестей,
жить в простодушной бедности и в отдалении от всяких
10 Г. Гейне, т. G
273
интриг. Это предубеждение, которое заставляло столь
многих французов держаться вдали от области отвле¬
ченного, счастливо разрушил г-и Кузен, и своим собствен¬
ным примером он показал, что можно сделаться бессмерт¬
ным философом и одновременно пожизненным pair de
France.1
Правда, некоторые вольтерьянцы объясняют этот
феномен простым обстоятельством: что из этих двух
достоинств г-на Кузена несомненно только последнее. Воз¬
можно ли более бездушное, более нехристианское объяс¬
нение? Только вольтерьянец способен иа такую фриволь¬
ность !
Но какому великому человеку удавалось когда-либо
избегнуть насмешек своих современников? Разве афиняне
обошли великого Александра своими аттическими эпи¬
граммами? Разве римляне не распевали издевательских
песен о Цезаре? И разве берлинцы пе сочиняли пасквилей
на Фридриха Великого? Г-на Кузена постигает та же
участь, которая постигла уже Александра, Цезаря и
Фридриха и которая ожидает еще многих великих мужей
в Париже. Чем крупнее человек, тем легче попадают в него
стрелы насмешек. В карликов попадать гораздо труднее.
Но масса, народ, пе любит насмешек. Народ, так же
как гений, как любовь, как лес, как море, от природы
серьезен, оп не склонен к ядовитому салонному остро¬
умию, и великие явления он объясняет глубокомысленно,
мистически. Все его истолкования носят поэтический,
чудесный, легендарный характер. Так, например, изу¬
мительную игру Паганини на скрипке народ старается
объяснить тем, что этот музыкант убил из ревности свою
возлюбленную, просидел за это много лет в тюрьме, где
единственным его развлечением была скрипка, и, упраж¬
няясь иа ней день и ночь, наконец достиг высшего мастер¬
ства на этом инструменте. Философскую виртуозность
г-на Кузена народ старается объяснить подобным же
образом и рассказывает, что однажды немецкие прави¬
тельства, усмотрев в нашем великом эклектике героя
свободы, засадили его в тюрьму, где единственной книгой,
полученной им для чтения, была «Критика чистого ра¬
зума» Канта, что от скуки ои неустанно изучал се и
1 Пэром Франции (франц.).
274
таким образом достиг той виртуозности в немецкой фи¬
лософии, которая снискала ему впоследствии в Париже
столько аплодисментов, когда он публично исполнял
из нее труднейшие пассажи.
Это прекрасная народная легенда, сказочная и необы¬
чайная, подобная сказаниям об Орфее, о Валааме, сыне
Веоровом, о мудреце Квазере, о Будде, и каждое столетие
будет преобразовывать ее по-своему, пока, наконец, имя
Кузена не получит символического значения и мифологи
увидят в г-не Кузене не действительное лицо, а олицетво¬
рение мученика свободы, который, сидя в заключении,
находит утешение в мудрости, в критике чистого разума;
какой-нибудь будущий Балланш увидит в нем, быть мо¬
жет, аллегорию его времени, когда критика, и чистый
разум, и мудрость чаще всего сидели в тюрьме.
Что касается реальности этой истории о тюремном
заключении г-на Кузена, то она имеет совсем не аллего¬
рическое происхождение. Заподозренный в демагогии, он
и в самом деле провел некоторое время в немецкой тюрьме,
точно так же, как Лафайет и Ричард Львиное Сердце.
Но чтобы г-н Кузен в часы досуга занимался там изуче¬
нием «Критики чистого разума» Канта — сомнительно
по трем основаниям. Во-первых: эта книга написана по-
немецки. Во-вторых: для того чтобы читать эту книгу,
надо знать немецкий язык. И в-третьих: г-н Кузен ие
знает немецкого языка.
Право же, я говорю это отнюдь ие в целях порицания.
Величие г-на Кузена выступает перед нами в еще более
ярком свете, когда мы видим, что он изучил немецкую
философию, не понимая языка, на котором она изложена.
Насколько же он, этот гений, стоит выше нас, обыкновен¬
ных людей, которым лишь с величайшим напряжением
удается понять эту философию, хотя мы с детства хорошо
знакомы с немецким языком! Существо такого гения всегда
останется для пас необъяснимым; это одна из тех интуи¬
тивных натур, которым Каит приписывает способность
спонтанного понимания вещей в их совокупности, в про¬
тивоположность нам, обыкновенным аналитическим на¬
турам, которые способны понимать вещи лишь в их раз¬
дельной последовательности и посредством комбинирова¬
ния отдельных частей. Кант как бы уже предчувствовал
появление такого человека, который в один прекрасный
10*
275
день поймет его «Критику чистого разума» простым интуи¬
тивным созерцанием, без дискурсивно-аналитического изу¬
чения немецкого языка. Быть может, однако, французы
вообще счастливее организованы, чем мы, немцы, и я за¬
метил, что достаточно сообщить им лишь немногое о ка¬
кой-нибудь доктрине, об ученом исследовании, о научном
воззрении, и они так превосходно умеют комбинировать
и перерабатывать в своем уме это немногое, что вскоре
гораздо лучше понимают этот предмет, чем мы, и могут
поучать нас относительно нашего собственного понимания.
Иногда мне кажется, что головы французов, совершенно
как их кафе, сплошь увешаны внутри зеркалами, так что
всякая идея, попадающая в их голову, отражается там
бесчисленное множество раз: оптическое устройство, по¬
средством которого самые ограниченные и бедненькие
головы представляются обширными и блестящими. Эти
лучезарные головы, так же как сверкающие кафе, обычно
совершенно ослепляют бедных немцев, когда они впервые
попадают в Париж.
Боюсь, что из сладостных вод восхваления я неза¬
метно перехожу в горькое море порицания. Да, не могу
воздержаться от горького упрека г-ну Кузену вследствие
одного обстоятельства: он, любящий истину еще больше,
чем Платона и Тепнемана, ои несправедлив к самому
себе, он клевещет на себя, пытаясь уверить нас, что ои
заимствовал многое из философии Шеллинга и Гегеля.
Я должен взять г-на Кузена под защиту от этого самооб¬
винения. Честное и благородное слово! Этот честнейший
человек ии одной ничтожнейшей мелочи не украл из
философии г-д Шеллинга и Гегеля, и если он привез
домой что-нибудь иа память от них обоих, то это была
исключительно их дружба. Это делает честь его сердцу.
Но психология полна примерами таких ложных самообли¬
чений. Я встречал человека, который признавался, что,
будучи за столом у короля, украл серебряную ложку,
и, однако, все мы знали, что бедняга не имеет доступа
ко двору и обвиняет себя в воровстве ложки лишь для
того, чтобы уверить нас, будто был гостем во дворце.
Нет, г-н Кузен был в немецкой философии неизменно
верен шестой заповеди: здесь он не украл ни единой идеи,
ии даже чайной ложечки идеи. Все свидетели утверждают,
что г-и Кузеп в этом отношении — повторяю, в этом от-
276
ношеппп — есть сама честность. И это удостоверяют не
только его друзья, но H его противники. Тот же отзыв
находим мы, например, в журнале «Берлинский ежегод¬
ник научно]! критики» нынешнего года, и так как автор
этого документа, великий Гиприхс, отнюдь не льстец
и его слова тем менее можно поставить под сомнение, то
я впоследствии приведу их целиком. Речь идет о том,
чтобы очистить великого мужа от тяжкого обвинения,
и лишь поэтому я упоминаю о свидетельстве «Берлин¬
ского ежегодника», правда неприятно задевающем мою
собственную душу несколько насмешливым тоном, в ко¬
тором здесь говорится о г-не Кузене. Ибо я действитель¬
ный почитатель великого эклектика, как я уже высказал
7 V
па этих страницах, где сравнил его со всеми возможными
великими людьми: с Геркулесом, Наполеоном, Алексан¬
дром, Цезарем, Фридрихом, Орфеем, Валаамом, сыном
Веора, мудрым Квазером, Буддой, Лафаиетом, Ричардом
Львиное Сердце и Паганини.
Я, быть может, первый, кто присоединил к этим ве¬
ликим именам имя Кузена. «Du sublime au ridicule il
n’y a qu’un pas!» 1—скажут, конечно, его враги, его без¬
божные враги, rio вольтерьянцы, для которых нет ничего
святого, которые не знают никакой религии и не веруют
даже в г-на Кузена. Но не в первый уже раз случается,
что лишь благодаря чужестранцу нация научается ценить
своих великих людей. Я, быть может, имею заслуги перед
Францией в том, что оцепил достоинства г-на Кузена для
современности и его значение для будущего. Я показал,
как парод уже при жизни поэтически разукрашивает его
и рассказывает о нем небылицы. Я показал, как он по¬
степенно теряется в легендарной дали и как настанет
время, когда имя Виктора Кузена станет мифом. «Оно
уже теперь миф», — хихикают вольтерьянцы.
О вы, хулители тропа и алтаря, вы, злодеи, привыкшие,
как пост Шиллер, «чернить блестящее и совлекать воз¬
вышенное в грязь», я предсказываю вам, что слава г-на
Кузена, подобно французской революции, совершит кру¬
госветное путешествие! Я вновь слышу ядовитое продол¬
жение: «Слава г-на Кузена па самом деле совершает кру¬
госветное путешествие, — из Франции она уже отбыла».
1 От гзолпкого до смешного один шаг! (франц.).
ДУХИ стихий
...Говорят, в Вестфалии еще есть старики, знающие,
где спрятаны старинные идолы; на смертном одре они
сообщают это младшему из внуков, который и носит эту
драгоценную тайну в своем скрытном саксонском сердце.
В Вестфалии, бывшей Саксонии, не все то, что погребено,
действительно мертво. Бродя по ее старым дубовым рощам,
слышишь голоса былого, слышишь еще отзвуки тех глубо¬
комысленных заклинаний, в которых жизнь бьет сильнее,
чем во всей бранденбургской литературе. Таинственное
благоговение охватило мою душу, когда я много лет тому
назад, скитаясь по этим лесам, проходил однажды мимо
древнего замка Зигбурга.
— Здесь, — сказал мой проводник, — жил некогда
король Видекинд, — и он глубоко вздохнул. Это был
иростой дровосек, и в руке у него был большой топор.
Я убежден: этот человек и сегодня, если понадобится,
будет биться за короля Видекинда; и горе тому черепу,
на который обрушится его топор!
То был черный день для земли саксонской, когда Ви¬
декинд, ее храбрый полководец, был разбит императором
Карлом при Энгтере. «Когда ои, обращенный в бегство,
отходил к Эллербруху и все с женами и детьми столпи¬
лись у переправы, одна старуха уж не в силах была идти
дальше. Но чтобы она ие попала в руки врага, саксы
живою закопали се на песчаном холме подле Бсльманс-
Кампа, приговаривая при этом: «Ступай в землю, ступай
в землю, ты не жилица на свете, эта толкотня не по тебе».
281
Говорят, эта старуха еще жпва. Не все умерло в Вест¬
фалии, что погребено.
Братья Гримм рассказывают эту историю в своих
«Немецких сказаниях»; в моем дальнейшем изложении
я не раз буду пользоваться добросовестными, прилежными
изысканиями этих почтенных ученых. Неоценима заслуга
обоих исследователей перед наукой о немецких древностях.
Один Якоб Гримм сделал для языкознания больше, чем
вся ваша Французская академия со времен Ришелье.
Его «Немецкая грамматика» — исполинское создание, го¬
тический собор, под сводами которого все германские
племена, словно гигантские хоры, поднимают голоса,
каждое на своем наречии. Якоб Гримм, быть может, про¬
дал черту душу, чтобы тот доставлял ему материалы и
был пособником в этом необъятном лингвистическом соору¬
жении. В самом деле, человеческой жизни и человече¬
ского терпения не могло хватить, чтобы собрать эти глыбы
учености и чтобы скрепить их воедино цементом из сотен
тысяч цитат.
Основным источником в изучении древнегерманских
народных верований служит Парацельс. Я уже неодно¬
кратно упоминал о нем. Его сочинения переведены на
латинский язык недурно, но с пробелами. Читать его
в старинном немецком подлиннике трудно; стиль сумбу¬
рен, но временами проступают великие мысли, высказан¬
ные великими словами. Это натурфилософ в самом совре¬
менном значении слова. Его терминологию не следует
всегда понимать в общепринятом смысле. В своем учении
о духах стихий он называет их нимфами, ундинами, силь-
ванами, саламандрами, однако лишь потому, что эти
названия в ходу у его читателей, но не потому, чтобы они
полностью выражали то, о чем ои хочет сказать. Вместо
того чтобы произвольно сочинять новые слова, он пред¬
почел приискать для своих идей старые выражения,
обозначавшие до сих пор нечто сходное. Поэтому его
часто толковали неправильно и многие обвиняли его
в кощунственных насмешках, а то и в неверии. Одни го¬
ворили, что он хочет шутки ради привести в систему
старые детские сказки, другие порицали то, что ои, враз¬
рез с христианской точкой зрения, не согласен признать
духов стихий сплошь нечистой силой. «У нас, — говорит
он где-то, — нет никаких оснований считать, что эти
282
существа — порождение дьявола; да и что такое дьявол, мы
тоже до сих пор ие знаем». Согласно его утверждению, духи
стихий такие же подлинные божьи создания, как мы,
только они, в противоположность нам, ведут свой род но
от Адама и пребывают, по воле божьей, в четырех сти¬
хиях. Строение их тела соответствует этим стихиям. И
Парацельс распределяет различных духов по четырем
стихиям, предлагая при этом определенную систему.
Но привести народные верования в систему, как пы¬
тались сделать некоторые, так же немыслимо, как впра¬
вить в рамку проносящиеся облака. Самос большее, что
можно сделать, это сгруппировать сходное по рубрикам.
Это и попытаемся мы сделать по отношению к духам сти¬
хий.
О кобольдах была речь выше. Это — привидения,
помесь умерших людей и бесов; их следует точно отличать
от собственно духов земли. Тс живут по преимуществу
в горах, и их называют гномами, металлариями, малым
народцем, карликами. Сказания об этих карликах сходны
со сказаниями о великанах и указывают иа существование
двух различных племен, некогда более или менее мирно
сожительствовавших в стране, по с тех пор исчезнувших
без следа. Великаны навсегда исчезли из Германии.
Карлики же иногда еще встречаются в рудниках, где
в одежде маленьких рудокопов они добывают дорогие
металлы и драгоценные камни. Искони карлики владели
множеством золота, серебра и алмазов, ибо могли неви¬
димо проникать куда угодно, и ие было столь малого
отверстия, через которое они не могли бы пролезть,
если только оно вело к богатствам в недрах земли. Вели¬
каны же всегда были бедны, и если бы могли они брать
у кого-нибудь взаймы, они бы оставили исполинские
долги. Старинные песни часто с похвалой упоминают
об искусстве карликов. Они ковали лучшие мечи, но
только великаны умели биться этими мечами. Были ли
эти великаны в самом деле так огромны? Пожалуй, страх
увеличил их рост на несколько локтей. Такие вещи слу¬
чались не раз. Византиец Никита, описывающий взятие
Константинополя крестоносцами, рассказывает совер¬
шенно серьезно, что один из этих железных витязей
севера, гнавший перед собою вся и всех, казался им
в эту страшную минуту в полсотни локтей ростом.
283
Обиталища карликов, как я уже сказал, расположены
были в горах. Маленькие щели в скалах народ до сих пор
зовет карликовыми норами. Я много их видел в Гарце,
особенно в Боденской долине. Кое-какие сталактиты,
встречающиеся в горных пещерах, а также разные при¬
чудливо заостренные скалы народ называет карликовой
свадьбой. Это карлики, превращенные злыми колдунами
в камни в тот самый момент, когда они, семеня ножками,
возвращались домой после венчания из своей маленькой
церковки пли веселились за свадебным угощением. Легенды
о таких превращениях людей в камни распространены на
севере, так же как на востоке, где невежественный му¬
сульманин все статуи и кариатиды, найденные в разва¬
линах древнегреческих храмов, считает окаменелыми
людьми. В Бретани, как и в Гарце, я не раз видел причуд¬
ливо расставленные группы камней, которые называются
у крестьян карликовыми свадьбами; камни у Лок-Мариа-
Кер — это обиталища торриганов, курилов — так там
именуют этот маленький народец.
Карлики надевают маленькие колпачки, делающие
их невидимыми; их называют шапками-невидимками или
туманными шапочками. Раз один крестьянин во время
молотьбы сбил цепом шапку-невидимку с карлика; тот,
став видимым, юркнул в расщелину земли. Иногда кар¬
лики и добровольно показывались людям, охотно входили
с нами в общение и удовлетворялись уже тем, что мы их
не обижали. По мы, по нашей злой п,рироде, не раз играли
с ними скверные шутки. В «Народных сказаниях» Висса
рассказана следующая история:
«В летнюю пору толпа карликов часто спускалась
с горных круч в долину, либо только поглядывая,
либо помогая в работе людям, особенно косарям
при уборке сеиа. Весело усаживались они тут же на
длинной и толстой кленовой ветке в тенистой зелени. Но
раз пришли злые люди и ночыо подпилили ветку, так
что она еле держалась иа стволе, и когда наутро ничего
не подозревавшие человечки уселись иа ней, ветка сло¬
малась, карлики попадали иа землю под смех окружаю¬
щих, очень рассердились и запричитали:
О, как небо высоко
II измена велика!
Теперь прочь — и навсегда !»
281
С тех пор, как говорят, они покинули эту местность.
Есть, впрочем, еще два других предания, тоже приписы¬
вающих уход карликов нашей склонности к насмешкам
и нашей злобе. Одно из них так рассказано в упомянутых
«Народных сказаниях»:
«Карлики, жившие в пещерах и расщелинах скал вокруг
людей, были всегда к ним дружески расположены и по
ночам, когда люди спали, делали за них тяжелые работы.
Ранним утром, когда крестьяне, выехав с телегами и ору¬
диями, изумлялись, что все уже сделано, карлики начи¬
нали громко смеяться, притаившись в кустах. Не раз,
найдя в поле незрелый хлеб сжатым, крестьяне сердились,
но когда вслед за тем налетала буря с градом и они убе¬
ждались, что без этого, быть может, ни один колос не
уцелел бы, они сердечно благодарили предусмотритель¬
ный народец. Но в конце концов люди за свои злые шутки
потеряли милость и благосклонность карликов; они
исчезли, и никто с тех пор не видел их. Вышло это так.
У одного пастуха росло на горе прекрасное вишневое
дерево. Однажды летом, когда вишни поспели, оказалось,
что в три ночи дерево обобрано, а все ягоды снесены
в корзинки и решета, где пастух всегда их хранил. Люди
в деревне говорили: «Этого никто не мог сделать, кроме
честных карликов, они являются ночью в длинных пла¬
щах, скрывающих их ноги, легко, как птички, и прилежно
делают работу за людей; однажды уже случилось их
втайне выследить, но им не нужно мешать, и пусть они
делают свое дело». Этот рассказ вызвал любопытство
пастуха, которому захотелось узнать, зачем карлики так
тщательно прячут свои ноги и такие ли у них ноги, как
у людей. В следующем году, когда вновь пришло лето
и настала пора, когда карлики стали тайно собирать вишни
и сносить их в амбар, пастух взял мешок золы и рассыпал
вокруг горы. Наутро с рассветом он поспешил к дереву,
которое оказалось совершенно обобранным, а иа золе
отпечатались следы множества гусиных лапок. Пастух
расхохотался и стал издеваться над карликами, что их
тайна раскрыта. Но вслед за тем они разрушили и опу¬
стошили свои жилища и спустились глубже в гору, рас¬
сердились иа род людской и перестали помогать ему.
Пастух, предавший их, стал чахнуть и в безумии влачил
свои дни до самой смерти».
285
Другое предание, рассказанное в «Народных сказа¬
ниях» Отмара, носит гораздо более мрачный и суровый
характер:
«Между Валькенридом и Нейгофом, в графстве Го-
генштсйн, было некогда у карликов два царства. Как-то
один житель этой местности заметил, что его овощи по
ночам исчезают с поля, открыть же злоумышленника не
удавалось. Наконец, по совету одной умной женщины,
оп стал в сумерках ходить по своему гороховому полю
и бить над ним тонким прутом по воздуху. Немного вре¬
мени прошло, и он увидел пред собой нескольких карли¬
ков. Ои незаметно сбил с них шапки-невидимки. Дрожа
упали они перед ним на колени и сознались, что это их
народец грабит крестьянские поля, но что так поступать
их заставляет крайняя нужда. Becib о пойманных кар¬
ликах привела в волнение всю округу. Наконец, карлики
прислали послов с предложением принять выкуп за себя
и за захваченных братьев, после чего они навеки покинут
страну. Но условия, иа которых они должны были уйти,
вызвали новые споры. Местное население не хотело отпу¬
стить карликов со всеми накопленными и припрятанными
ими сокровищами, а те не хотели, чтоб их видели, когда
они будут уходить. В конце концов сошлись на том,
что карлики, уходя, пройдут по одному узенькому мо¬
стику близ Нейгофа и что каждый из них должен при
этом положить в виде пошлины известную часть сво¬
его достояния в поставленную у моста бочку, причем
людей там быть не должно. Так и было сделано. Но не¬
сколько любопытных спрятались под мостом, чтобы по
крайней мере слышать, как те уходят. И в продолже¬
ние многих часов они слышали топот маленьких чело¬
вечков, — словно через мост проходило громадное стадо
овец».
Согласно другому варианту, каждый уходящий карлик
обязан был бросить лишь одну монету в поставленную
у моста бочку; и на другое утро бочка оказалась доверху
наполненной старинными золотыми. Говорили также,
будто перед тем к жителям приходил сам царь карликов
в своей красной мантии, с просьбой не выгонять его на¬
родец. С мольбой вздымал он свои ручонки к небу и плакал
горчайшими слезами, как некогда дои Исаак Абарбанель
перед Фердинандом Арагонским.
286
От карликов, духов земли, следует точно отличать
эльфов, духов воздуха, которые более известны во Фран¬
ции и особенно восхитительно прославлены английской
поэзией. Если бы эльфы не были бессмертны по своей
природе, их обессмертил бы уже Шекспир. Они будут
вечно жить в поэтическом «Сне в летнюю ночь».
Вера в эльфов, по моему мнению, скорее кельтского,
чем скандинавского происхождения. Поэтому в западных
областях севера больше сказаний об эльфах,чем в восточ¬
ных. В Германии мало знают об эльфах, и все это здесь
лишь тусклый отзвук бретонских саг; таков, например,
«Оберон» Впланда. То, что у народа в Германии назы¬
вается эльфами или эльбами, — это жуткое отродье
ведьм от их связи с злым духом. Родина подлинных ска¬
заний об эльфах — Ирландия и Северная Франция; до¬
ходя отсюда до Прованса, они смешиваются там с восточ¬
ными сказаниями о феях. Из такого смешения расцвели
великолепные ле о графе Ланвале, которого прекрасная
фея осчастливила своей благосклонностью под условием,
что он будет молчать о своем счастье. Но когда однажды
король Артур на пиршестве в Кардюэле назвал свою
супругу Джиневру прекраснейшей из женщин, граф
Ланваль не смог больше молчать; он проговорился — п
счастью его, по крайней мере на земле, пришел конец.
Немногим счастливее была судьба рыцаря Грюэлана ; и он
тоже не смог умолчать о блаженстве своей любви: его воз¬
любленная, фея, исчезает, и на своем коне Жедефер он
долго и тщетно скитается в поисках ее. Но в стране фей,
в Авалоне, несчастные рыцари вновь находят своих воз¬
любленных. Здесь граф Ланваль и рыцарь Грюэлан могут
откровенничать сколько их душе угодно. Здесь и датча¬
нин Ожье может отдохнуть от богатырских странствований
в объятиях своей Морганы. Вам, французам, известны
все эти рассказы. Вам известен Авалон, но пзвестеп ои
и персу, только под названием Джинкистана. Это страна
поэзии.
С наружностью эльфов и их нравами и образом дей¬
ствий вы также достаточно знакомы. «Королева эльфов»
Спенсера давным-давно перелетела к вам из Англии.
Кто не знает Титании? Кто так глух, что временами
не слышит веселого звенящего полета се свиты? Но вер¬
но ли, что увидеть своими глазами эту царицу эльфов,
287
а то и получить от нее привет — предвестие смерти? Я хогхел
бы знать это наверное, ибо:
Через лес, при лунпом елзете,
Эльфы быстро мчатся мимо —
Будто в небе прозвенели
Колокольчики незримо.
Белых легких их лотпадок
Кавалькада вырастает
Над землею — словно диких
Лебедей несется стая.
На меня свой взор с улыбкой
Королева обратила, —
Он мне вновь любовь пророчит
Или раннюю могилу? 1
Среди датских народных песен есть два сказания об
эльфах, точнее всего отражающие существо этих духов
воздуха. Одна песня повествует о сновидении некоего
юнца, который прилег на вершине Эльверсхё и незаметно
для себя уснул. Снится ему, что он стоит, опершись па
меч, а эльфы пляшут вокруг него и ласками и обещаниями
стараются вовлечь его в свой хоровод. Одна из пляшущих,
приблизившись к нему, гладит его по щеке п шепчет:
«Попляши с нами, юный красавчик, и мы споем тебе слад¬
чайшую песнь, какой только жаждет твое сердце». И тут
раздаются напевы, полные столь неотразимого любовного
призыва, что стремительный поток, воды которого обычно
бурно несутся вдаль, вдруг стихает и из спокойных вод
его всплывают рыбки и весело играют хвостиками. Дру¬
гая нашептывает: «Попляши с нами, юный красавец,
мы научим тебя руническим заклинаниям, при помощи
которых ты сможешь одолеть медведя, дикого вепря и
змея, стерегущего золото; его золото достанется тебе».
По юнец пе поддается всем этим соблазнам, и рассержен¬
ные девы, наконец, грозят ему пронзить его сердце хо¬
лодной смертью. Уже сверкают их острые ножи, но тут,
к счастью, слышится крик петуха, и молодец просыпается
цел и невредим.
Другая песня менее воздушна; эльфы появляются
не во сне, а в действительности, и тем резче выступает
перед нами то жуткое и привлекательное, что есть в их
1 Перев. Т. Сильман.
283
существе. Это песня о рыцаре Олуфе, который выехал
поздним вечером, чтобы созвать гостей к себе па свадьбу.
Припев все один и тот же: «Но пляска так быстро по лесу
неслась». Как будто слышатся жуткие, сладострастные
напевы, а по временам словно хихиканье и шепот задор¬
ных девушек. Наконец, перед Олуфом четыре, пять, мно¬
жество танцующих девушек, и дочь лесного царя протя¬
гивает ему руку. С великой нежностью приглашает она
его вступить в круг и потанцевать с нею. Но рыцарь от¬
казывается танцевать и в извинение говорит: «Завтра моя
свадьба». Ему предлагают соблазнительные подарки, но
ни сафьяновые сапоги, что так пришлись бы ему по ноге,
ни золотые шпоры, что так хорошо бы пристегнуть к са¬
погам, ни белоснежная шелковая рубашка, выбеленная
самою царицей эльфов на лунном свету, ни даже серебря¬
ная перевязь, тоже восхваляемая перед ним как драго¬
ценность, — ничто не может заставить его принять участие
в хороводе эльфов. Ои все повторяет свое извинение:
«Завтра моя свадьба». Тут эльфы, разумеется, теряют,
наконец, терпение, наносят ему в сердце такой удар,
какого он никогда не получал, и, вновь усадив па коня
поверженного па землю рыцаря, язвительно пригова¬
ривают: «Так поезжай же к своей невесте». Ах, когда он
возвратился в свой замок, щеки его были очень бледны,
а тело охвачено недугом, и когда на другой день утром
с музыкой и песнями прибыла невеста с провожатыми,
то рыцарь Олуф был безмолвен, ибо ои лежал мертвый
под красным покровом.
Но пляска так быстро в лесу пронеслась.
Пляска — неотъемлемая особенность духов воздуха;
они существа слишком эфирные, чтобы передвигаться
по этой земле прозаически-обыкповспнои походкой, по¬
добно нам. Однако, как они ни нежны, их ножки остав¬
ляют некоторые следы на лужайках, где они вели свои
ночные хороводы. Это выдавленные круги, которые народ
прозвал кольцами эльфов.
В Австрии в одной местности существует сказание,
представляющее известное сходство с предыдущим, хотя
оно имеет славянское происхождение. Это сказание о
призрачных танцовщицах, известных там под назва¬
нием виллис. Виллисы — невесты, умершие до свадьбы.
289
Несчастные юные создания не могут спокойно лежать и мо¬
гиле, в их мертвых сердцах, в их мертвых ногах жива
еще та страсть к танцу, которую им не пришлось удовле¬
творить при жизни, и в полночь они встают из могил,
собираются толпами на больших дорогах, и горе тому
молодому человеку, который там с ними встретится! Он
должен танцевать с ними, они обнимают его с необуздан¬
ным неистовством, и он пляшет с ними без удержу, без
передышки, пока не падает замертво. В венчальных
платьях, в венках с развевающимися лентами и сверкаю¬
щими перстнями на пальцах, виллисы, подобно эльфам,
пляшут при свете месяца. Лица, хотя и бледные как
снег, юны и прекрасны; они смеются так жутко и так
весело, так кощунственно-очаровательно, они кивают
так сладострастно-таинственно, так заманчиво; никто не
в силах устоять против этих мертвых вакханок.
Народ, видя смерть невест в расцвете молодости, ни¬
когда не мог поверить, что юность н красота так внезапно
падают жертвой черного уничтожения, и таким образом
легко возникло поверье, что невеста после смерти ищет
утраченных наслаждений.
Это заставляет нас вспомнить об одном из прекрас¬
нейших стихотворений Гете, о «Коринфской невесте»,
с которым давно познакомила французских читателей
г-жа де Сталь. Сюжет этого стихотворения относится
к глубокой древности, теряясь в ужасах фессалийских
сказок. Элиан сообщает его, и нечто подобное рассказывает
и Филс страт в биографии Аполлония Тианского. Это мрач¬
ная свадебная история, где невеста — ламия.
Характерной чертой народных сказаний является то,
что самые страшные катастрофы в них обычно происходят
на свадебных торжествах. Внезапный ужас тем резче
контрастирует с радостной обстановкой, с приготовле¬
ниями к празднеству, с веселой музыкой. Пока крап
кубка не коснулся губ, драгоценный напиток может еще
пролиться. Мрачный, никем не званный свадебный гость
может появиться — и, однако, ни у кого не хватает му¬
жества прогнать его. Он шепчет невесте словечко иа ухо,
и она бледнеет. Он делает едва заметный знак жениху,
и тот выходит из зала, следуя за ним во тьму ночи, чтобы
никогда больше не возвратиться. Обыкновенно тут имеется
в прошлом любовный обет, отчего ледяная рука призрака
290
внезапно разлучает невесту и жениха. Сидя за свадебным
столом и бросив случайный взгляд вверх, рыцарь Петер
фон Штауфенберг внезапно увидел маленькую белую
ножку, просунувшуюся сквозь потолок столовой. Он
узнает ножку русалки, с которой он состоял раньше в неж¬
нейшей любовной связи, и по этому предвещанию по¬
нимает, что заплатит за измену жизнью. Он посылает за
духовником, причащается и готовится к смерти. Об этом
происшествии еще часто рассказывают и поют в немецких
землях. Рассказывают также, что обманутая русалка,
оставаясь невидимой, обняла неверного рыцаря и заду¬
шила его этим объятием. Этот трагический рассказ глу¬
боко волнует женщин. Но наши юные вольнодумцы на¬
смешливо улыбаются по этому поводу и отказываются
верить, что русалки настолько опасны. Горько раскаются
они впоследствии в своем неверии.
Русалки имеют очень большое сходство с эльфами.
И те и другие обольстительны, задорны и любят пляски.
Эльфы пляшут на болотах, зеленых лужайках, лесных
прогалинах и охотнее всего под старыми дубами. Русалки
пляшут у прудов и рек; случалось видеть их пляски на
поверхности воды вечером, перед тем как кому-нибудь
суждено там утонуть. Часто появляются они также там,
где танцуют люди, и принимают участие в плясках на¬
равне с нами. Русалок узнают по подолу их белого платья,
который всегда влажен, а также по тонкой ткани их покры¬
вал и по благородному изяществу всего их таинственного
существа. Водяного — нечто вроде русалки мужского
пола — узнают по зеленым зубам, очень похожим на
рыбыо кость. Жутко становится также, если коснуаься
его чрезвычайно мягкой и холодной как лед руки. На
голове у него обычно зеленая шляпа. Горе девушке,
которая, не признав его, беспечно пустится с ним в пляс.
Он утащит ее вниз, в свое водяное царство. У Марск-
Стига, цареубийцы, были две красавицы дочери, из
которых младшая попала во власть водяного, и притом
когда была в церкви. Водяной явился в виде великолеп¬
ного рыцаря; его мать сделала ему коня из чистой воды,
а седло и поводья из белого песка, и красавица, ничего
пе подозревая, радостно отдала ему руку. Будет ли она
па дне морском хранить обещанную ему верность? Не
знаю; но я знаю сказание о другом водяном, который
291
тоже добыл себе жену на земле и был сю обманут самым
коварным образом. Это сказание о Росмере, водяном,
который, сам того не подозревая, взвалил себе на спину
в ящике свою жену и отнес ее к ее матери. Горчайшие
слезы проливал он после этого.
В свою очередь и русалкам часто приходится распла¬
чиваться за то, что они находили удовольствие в общении
с людьми. И об этом я знаю одну историю, многократно
воспетую немецкими поэтами. Но всего трогательнее
она звучит в простом рассказе братьев Гримм, в их «Не¬
мецких сказаниях».
«С незапамятных времен в деревне Эпфепбах, под
Зинцхеймом, каждый вечер на посиделки являлись три
юные красавицы в белых платьях. Они всегда приносили
новые песни и новые напевы, знали всякие занятные
сказки и игры; в их прялках и веретенах тоже было
нечто необычайное, и ии одна пряха не могла сравниться
с ними в тонкости пряжи и быстроте работы. Но ровно
в одиннадцать часов они вставали, складывали свои
прялки, и никакая просьба не могла их удержать ни на
мгновение дольше. Неизвестно было, откуда они пришли
и куда уходят; называли их просто девами с озера или
сестрами с озера. Парни рады были им и влюблялись
в них, а особенно сын учителя приходской школы. Он
не мог вдоволь наслушаться их и наговориться с ними,
и всего мучительнее было для него то, что каждый вечер
они так рано уходят. И вот однажды пришла ему в голову
мысль: он переставил деревенские часы иа час назад, и
вечером среди непрерывных разговоров и шуток никто не
заметил, что время прошло. А когда иа часах пробило
одиннадцать, между тем как на самом деле уже было
двенадцать, три девушки встали, сложили свои прялки и
ушли. Иа другое утро несколько человек, проходя мимо
озера, услышали оттуда стоны и увидели иа поверхности
его три кровавых пятна. С тех пор сестры никогда не
появлялись на посиделках. А сын учителя стал чахнуть
и вскоре умер».
Есть нечто таинственное в поведении русалок. Че¬
ловек может вообразить под этой водной поверхностью
сколько угодно прекрасного и столько же ужасающего.
Рыбы, которые одни только и могут знать об этом что-
нибудь, немы. Или они молчат из благоразумия? Быть
292
может, они боятся тяжкого наказания, если выдадут
тайны тихого водяного царства? Своими сладострастными
тайнами и скрытыми ужасами такое водяное царство
напоминает Венецию. Не была ли Венеция сама таким
царством, случайно всплывшим из пучии Адриатического
моря на поверхность со всеми своими мраморными двор¬
цами, дельфиноокими куртизанками, с фабриками корал¬
ловых и стеклянных бус, с государственными инквизи¬
торами, с учреждениями для тайного утопления, со смею¬
щимися пестрыми масками? Если Венеции придется
когда-нибудь вновь исчезнуть в глубине ее лагун, ее
история будет звучать как русалочья сказка, и няньки
будут рассказывать детям о великом водяном народе,
настойчивостью и хитростью овладевшем даже сушей, но
в конце концов заклеванном насмерть двуглавым орлом.
Таинственность есть особенность русалок, так же как
мечтательное веселье — особенность эльфов. Быть может,
в первичном сказании между ними не было особого раз¬
личия, и лишь позднейшие времена начали разделять их.
Названия их по помогают нам это узнать. В Скандинавии
все духи называются эльфами, альфами, и их подразде¬
ляют на белых и черных альфов; последние — это, соб¬
ственно, кобольды. Домашних кобольдов, домовых, назы¬
вают в Данин также никсами, или, как я уже говорил,
ниссами.
Существуют, однако, и отклонения от природы —
русалки с рыбьим хвостом, имеющие человеческий облик
лишь до пояса, пли русалки-красавицы, у которых ниж¬
няя половина является телом чешуйчатой змеи, как
7
у вашей Мелузины, возлюбленной графа Раймонда де
Пуатье.
Счастливец Раймонд — его возлюбленная была только
наполовину змея!
Часто бывает также, что подводные обитатели, вступая
в любовную связь с людьми, не только требуют тайны,
но п просят никогда не расспрашивать об их происхожде¬
нии, о родине и родных. Они никогда пе называют своего
настоящего имени и в людской среде выступают, так
сказать, под псевдонимом. Супруг принцессы Клевской
называл себя Элиас. Был ли ои водяным или эльфом?
Как часто, спускаясь по Рейну и проезжая мимо Лебе¬
диной башни в Клеве, я вспоминал о таинственном
203
рыцаре, с такой горестной суровостью охранявшем свое
инкогнито и одним вопросом о его происхождении навеки
вырванном из объятий любви. Когда принцесса, ие будучи
в силах совладать со своим любопытством, однажды
ночью обратилась к своему супругу с вопросом: «О го¬
сподин, ради наших детей, не скажете ли вы, кто вы?» —
он со вздохом поднялся с ложа, снова взошел иа свою
ладыо, запряженную лебедем, поплыл вниз по Рейну и
скрылся навеки. В самом деле, чрезмерные расспросы
женщин докучны. Пользуйтесь вашими губками, кра¬
сотки, не для вопросов, а для поцелуев. Молчание —
важнейшее условие счастья. Если мужчина выбалтывает
все о своем счастье или женщина с любопытством выспра¬
шивает о тайнах своего счастья, оба они его лишаются.
Эльфы и русалки умеют колдовать, умеют принимать
любое обличие; иногда, однако, и их самих превращает
в разные отвратительные чудовища заклятие более силь¬
ных духов или некромантов. Но любовь снимает это
заклятие, как, например, в сказке о Зсмпре и Азоре:
стоит трижды поцеловать похожее на жабу чудовище,
и оно превращается в прекрасного принца. Преодолей
свое отвращение к уродливому и даже полюби его, и
уродливое тотчас превратится в нечто прекрасное. Ни¬
какое заклинание не устоит против любви. Любовь ведь
сама есть высшее волшебство, всякое иное заклятие
уступает ей. Пред одной только силой она сама не способна
устоять. Какая же это сила? Это ие огонь, по вода, не
воздух, не земля со всеми своими металлами, —• это
время.
Замечательнейшие сказания о духах стихий можно
найти у доброго старого Иоганна Преториуса, книга кото¬
рого «Антроподемус плутоникус, или Новое всемирное
описание всякого рода необычайных людей» вышла в
1666 году в Магдебурге. Самый год уже замечателен: это год,
когда, как предсказывали, должно было произойти свето¬
преставление.Содержание книги — нагромождение бессмыс¬
лиц, отовсюду надерганных суеверий, сумбурных и фанта¬
стических россказней и ученых цитат, всякого хлама и
чепухи. Излагаемые предметы расположены в алфавитном
порядке, причем названия их также подобраны в высшей
степени произвольно. Забавны и рубрики. Так, соби¬
раясь говорить о призраках, автор подразделяет их слс-
294
дующим образом: 1) призраки действительные и 2) при¬
зраки поддельные, то есть обманщики, переодевшиеся
призраками. Но автор дает массу сведений, и в этой
книге, как и в других его работах, сохранились предания,
отчасти очень важные для изучения древнегерманских
верований, отчасти очень интересные просто в качестве
курьезов. Никому из вас, я в этом убежден, не известно,
что существуют морские епископы. Сомневаюсь даже,
чтобы это было известно «Gazelle de France». И все же
кое-кому было бы важно знать, что христианство имеет
приверженцев даже в глуби океана, и, разумеется, в боль¬
шом количестве. Быть может, обитатели морских пучин
в большинстве своем христиане, во всяком случае такие
же христиане, как и большинство французов. Я охотно
умолчал бы об этом, чтобы не привести этим сообщением
в восторг католическую партию во Франции, но раз речь
у нас зашла о русалках и водяных, то немецкая основа¬
тельность требует от меня упоминания о морских епи¬
скопах. Дело в том, что Преториус рассказывает следую¬
щее:
«По сообщению голландских летописей, Корнелиус
Амстердамский писал в Рим врачу по имени Гельберт,
что в 1531 году в Северном море близ Эльпаха был пойман
водяной, имевший облик епископа римской церкви. Его
отправили к королю польскому. Но так как он не хотел
ничего есть из того, что ему предлагали, то умер иа тре¬
тий день, ничего не говоря, лишь тяжко вздыхая».
На следующей странице Преториус приводит еще при¬
мер :
«В 1433 году в Балтийском море у польского побережья
выловили водяного, совсем похожего на епископа. Оп
был в епископской митре, в ризе и с епископским посо¬
хом в руке. Ои позволял дотрагиваться до себя, в особен¬
ности если это делали тамошние епископы; он воздавал
им должную честь, но безмолвно. Король хотел держать
его в заключении, но он жестами воспротивился этому
и просил епископов отпустить его в его стихию, что и
было исполнено, причем два епископа сопровождали
его туда; ои выказал при этом радость. Очутившись
в воде, оп перекрестился и нырнул и больше уже не пока¬
зывался. Об этом читаем в «Flandr. Chronic.», в «Hist.
Ecclesiast. Spondani», равно как в «Memorabilibus Wolfii».
295
Я дословно передал оба рассказа п точно указал источ¬
ник, чтобы кому-нибудь не пришло в голову, будто я вы¬
думал морских епископов. Стал бы я выдумывать еще
новых епископов !
Некоторым англичанам, с которыми мне пришлось
вчера беседовать о реформе англиканско-епископальной
церкви, я дал совет всех своих земных епископов превра¬
тить в водяных.
Чтобы дополнить предания о водяных и эльфах, я дол¬
жен упомянуть еще о девах-лебедях. Сказание о них слиш¬
ком неопределенно и покрыто мраком таинственности.
Водяные ли это духи? Или воздушные? Волшебницы ли
они? Иногда они прилетают по воздуху в виде лебедей,
сбрасывают с себя белую оболочку пернатых, как одежду,
превращаются в юных красавиц и купаются в тихих водах.
Захваченные там каким-нибудь любопытным юнцом, они
стремительно выскакивают из воды, наскоро облекаются
в свои перья п вновь в виде лебедей поднимаются в воз¬
дух. Достойнейший Музеус рассказывает в своих «Народ¬
ных сказках» прекрасную историю о юном рыцаре, кото¬
рому удалось похитить один из таких лебединых нарядов;
окончив купание, девушки быстро надели свои лебединые
одежды и улетели; лишь одна, напрасно проискав свою
одежду, осталась. Она не может улететь, заливается сле¬
зами, она восхитительно прекрасна, и хитрый рыцарь
женится на ней. Семь лет живут они счастливо; но од¬
нажды, роясь в отсутствие супруга в тайных шкафах и
сундуках, жена находит свой старый лебединый наряд;
мигом надевает она его и улетает.
В старинных датских песнях часто идет речь о таком
лебедином наряде, ио в очень неясной, туманной форме.
Здесь мы встречаем следы древнейшего волшебства, здесь
слышатся звуки северного язычества, находящие, подобно
полузабытым спам, чудесный отзвук в нашем воспоми¬
нании. Не могу не привести старинную песню, где не
только говорится об одеянии из перьев, но и о ночных
воронах, выступающих рядом с дсвами-лебедями. Эта
песня так зловеща, так мрачна, так исполнена ужаса,
как скандинавская ночь, и все же в ней пылает любовь,
ио дикой сладости, по захватывающей исступленности не
имеющая себе равных, — любовь, которая, все мощнее
разгораясь, взметается, наконец, кверху, как северное
296
сияние, охватив пламенем своих лучей все небо.
Сообщая здесь эту могучую поэму любви, я должен пред¬
варительно заметить, что позволил себе лишь некоторые
метрические изменения и слегка кое-что подправил во
внешней форме, в оболочке. После каждой строфы по¬
вторяется припев: «Так он над морем летит!»
Король с королевой пустились в путь
Вдвоем, в открытое море;
II то, что король не один отплыл,
На горе вышло, на горе.
Внезапно корабль на месте стал,
И тщетны все были усилья;
А сверху ворон кружил ночной,
Зловеще расправив крылья.
«Быть может, кто под волнами скрыт
И держит на привязи судно?
Я дам ему золота и серебра —
Нам с места сдвинуться трудно.
А если ты это, ворон ночной,
Не дай опуститься на дно нам;
Я дам тебе золота и серебра,
В тяжелых слитках, со звоном».
«Не надо мне золота и серебра,
Иная нужна мне награда:
Того, что под поясом носишь ты,
Того, королева, мне надо».
«Охотно отдам, что под поясом есть,
Отдам охотно, не сноря,
Лишь сделай так, чтоб не сгинуть нам
В бездонной пучине моря».
II бросила ворону связку ключей,
Не чая ущерба иного.
II ворон, довольный, крылами взмахнул —
Он взял с королевы слово.
Так кончилось плаванье, и король
Домой с королевой вернулся,
И сразу же Герман, отважный боец,
Под сердцем у ней шевельнулся.
Пять месяцев минуло с той поры,
Слегла королева, и вскоре
Красавец мальчик родился у ней, —
Да только всем на горе.
297
Ои родился в глухую ночь,
А утром его крестили,
И именем Германа нарекли,
И думали — сына скрыли.
А мальчик рос, он скакал верхом,
Владел оружьем искусно,
И матери делалось всякий раз
При виде Германа грустно.
«О мать моя, дорогая мать,
Когда мимо вас прохожу я,
О чем вы печалитесь всякий раз
И слезы льете, тоскуя?»
«Так знай же, Герман, веселый боец,
Осталось жить тебе мало:
Еще до рожденья, под сердцем, тебя
Я ворону обещала».
«О мать моя, дорогая мать,
Откиньте печаль, что вас гложет!
Того, что написано нам на роду,
Никто изменить не может».
То было в ненастный осенний четверг,
Вставало утро седое.
Покой королевский открыт был, и вдруг
Раздалось карканье злое.
Ужасный ворон влетел в окно
II сел с королевой в зале;
«Отдайте мне сына — того, что вы
Когда-то мне обещали».
И господом богом в чертогах небес
II сонмом святых заедино
Клялась королева, что нет у нее
Ни дочери в мире, ни сына.
И яростно ворон крылами взмахнул
И каркнул в ярости черной:
«Так где же Герман, веселый боец?
Он мой, мое право бесспорно».
А Герману минул пятнадцатый год,
И ои задумал жениться;
Послы его в Англию прибыли; там
Ждала невеста-девица.
298
Король согласился отдать свою дочь,
И Герман собрался на остров.
«Но как мне к невесте добраться скорей
Вода преграждает доступ?»
И то был Герман, веселый боец.
Он в алый цвет обрядился
И в пурпурно-алой одежде своей
Пред матерыо ниц склонился.
«О мать моя, дорогая мать,
Я с просьбою к вам большою:
Отдайте свое оперенье, лететь —
На остров лететь, над водою».
«Мое оперенье висит в углу.
И ткань уж очень стара ведь;
Придется, пожалуй, ее к весне
Слегка подновить, подправить.
И крылья притом чересчур широки,
Осядут в тучах, над морем.
И если ты пустишься в путь, то я
Умру, сраженная горем».
В се оперенье облекся он
И взмыл над морскою пучиной,
И видел, поднявшись, как ворон ночной
Сидел на скале пустынной.
Над гладью морскою он несся вдаль,
Взлетая выше и выше,
И вдруг позади себя хлопанье крыл
И голос хриплый услышал:
«Здорово, Герман, веселый боец!
Скучаю давно по тебе я;
Когда мне тебя обещала мать,
Ты меньше был и нежнее».
«О, дай лишь до острова мне долететь,
Сказать два слова невесте,
И я с тобой встречусь (слово даю!;
На этом же самом месте!»
«Тогда я отмечу тебя, чтоб узпать
Потом, при свиданье, снова,
И пусть это памятью будет тебе,
Что дал ты ворону слово».
Оп выклепал Герману правый глаз
II выгшл крови немало,
II витязь явился к невесте своей
Истерзанный, исхудалый.
В девичьем покое уселся ои,
Весь в ранах и бледен ликом.
Подруги невесты, при виде его,
В смущенье смолкли великом.
Подруги в пемом молчанье сидят,
Тревога уста их сомкнула,
А гордая дева Аделуц,
Взглянув, руками всплеснула.
«Здорово, Герман, веселый боец!
Где вам довелось порезвиться?
Как вышло, что так побледнели вы
И кровь по платью струится?»
«Простите, гордая Аделуц,
Связал меня клятвою ворон,
Он выклевал глаз мне и выточил кровь,
II ждет меня с эгпх пор он».
Она гребень в руки взяла и его
Стала причесывать нежно,
Кладет она волосок к волоску
И слезы льет неутешно.
Пригладит одну за другою прядь
II слезы льет неутешно,
Его мать проклинает, по чьей вине
Он муку принял, безгрешный.
II гордая дева Аделуц
К нему простерла руки:
«Проклятье матери твоей,
Что нас обрекла иа муки».
«Постойте, гордая Аделуц,
Оставьте ваши проклятья:
Того, что написано мне на роду,
Никак не мог избежать я».
В свое оперенье облекся он
И к новым ринулся бедам;
Она в оперенье свое облеклась,
За ним полетела следом.
300
Он ввысь взмывал « кинзу слетал,
В объятиях дальних просторов;
Она неотстунио летела вслед,
С него не спуская взоров.
«Вернитесь, гордая Аделуц,
Вернитесь, вас дома заждались;
Открыта настежь в покои дверь,
Ключи на полу остались».
«Пусть настежь открыта в покои дверь,
Ключи пусть топчут ногами:
Туда, где мучения приняли вы,
Лечу я следом за вами».
Он книзу слетал и ввысь взмывал,
Над морем сумрак сгустился,
Тянулись туманы, гряда за грядой,
И он из глаз ее скрылся.
Всех птиц, встречавшихся ей в пути,
Она разрывала на части,
Но дикий ворон никак не мог
Попасться ей, по несчастью.
Принцесса гордая Аделуц
На берег низкий слетала:
Веселого Германа не было там,
Рука его там лежала.
II в гневе она поднялась опять,
За вороном вновь полетела,
На запад летела и на восток,
Его умертвить хотела.
Всех птиц, встречавшихся ей на пути,
На части она разрывала,
Когда же ей встретился ворон, она
В клочки его растерзала.
Рвала и терзала, после сама,
Устав, испустила дыханье.
Вот сколько Герман, иеселый боец,
Доставил ей мук и страданья. 1
Иесьма многозначительно в этой песне не только упо¬
минание об одежде из перьев, но и самое умение летать.
1 Перев. В. Зоргенфрея.
301
Во времена язычества именно о королевах и знатных дамах
говорили, что они умеют летать по воздуху, и это волшеб¬
ное искусство, тогда считавшееся чем-то почетным, стало
в христианскую эпоху представляться одним из мерзост¬
ных свойств ведьм. Народная вера в полеты ведьм яв¬
ляется переработкой древнегерманских поверий, и она
обязана своим происхождением отнюдь не христианству,
как ошибочно полагали на основании того места из биб¬
лии, где сатана носит по воздуху нашего спасителя.
Одиако это место из библии могло бы во всяком случае
служить оправданием народного верования, поскольку
им подтверждалось то, что дьявол и в самом деле в со¬
стоянии носить людей по воздуху.
Некоторые отождествляют дев-лебедей, о которых я
говорил, со скандинавскими валькириями. И эти послед¬
ние также оставили значительные следы в народных ве¬
рованиях. Ведьмы, выведенные Шекспиром в «Макбете»,
изображены в гораздо более благородном виде в древнем
сказании, которое довольно широко использовано по¬
этом. Согласно этому сказанию, герою перед самым сра¬
жением встретились в лесу три загадочные девы, пред¬
сказавшие ему судьбу и бесследно исчезнувшие. Это были
валькирии или даже норны, эти парки севера. Послед¬
них напоминают также три волшебные пряхи, известные
нам из старых детских сказок: у одной плоская стопа,
у другой широкий большой палец, у третьей отвислая
губа. По этим признакам их узнают всегда, появляются
ли они в дряхлом или омоложенном виде.
Не могу не упомянуть здесь об одной сказке, действие
которой разыгрывается на моей рейнской родине, радостно
расцветающей при этом в моем воспоминании. И здесь вы¬
ступают три женщины, о которых я не могу определенно ска¬
зать, относятся ли они к духам стихий или они колдуньи,
притом колдуньи именно древнеязыческого толка, столь
сильно отличающиеся своим поэтическим благообразием
от позднейших ведьм. Эта история не сохранилась во всей
точности в моей памяти; если не ошибаюсь, она весьма
подробно изложена в «Рейнских сказаниях» Шрейбера.
Это сказание о долине Висперталь — о «шепчущей» долине,
расположенной неподалеку от Лорха. Название это до¬
лина получила от голосов, шепчущих там на ухо прохо¬
жему нечто подобное тому таинственному «Пет! Г1ст!»,
302
которое обыкновенно слышишь, проходя вечерком по
известным переулкам столицы. По этой самой Долине
шепота проходили как-то трое странствующих подма¬
стерьев; они были в очень хорошем настроении и захотели
обязательно узнать, что же может означать это непрестан¬
ное «Пет! Пет!». Наконец, старший и самый смекалистый
из них, по ремеслу оружейник, громко воскликнул:
«Это, несомненно, голоса женщин настолько уродливых,
что они не смеют показаться!» Едва оп произнес эти
лукавые и вызывающие слова, как перед ним вдруг явились
три чудесные красавицы, изящными жестами приглашав¬
шие его и обоих его спутников отдохнуть в их замке от тя¬
желого пути и вообще поразвлечься. Замка этого, располо¬
женного поблизости, парни сначала совсем не заметили,
быть может потому, что он не возвышался в открытом
месте, а был высечен в скале, так что снаружи видны были
только маленькие стрельчатые окна да широкий проезд.
Войдя в замок, они немало были поражены великолепием,
отовсюду сверкавшим им навстречу. Три девы, обитавшие
там, как видно, в полном одиночестве, угостили их пре¬
красной трапезой, причем сами подносили им вино.
Никогда в жизни парни, в груди которых все веселее смея¬
лось сердце, не видели таких прекрасных и обольститель¬
ных женщин, и они обручились с ними в пламенных лоб¬
заниях. На третий день красавицы сказали: «Если вы,
милые женихи, хотите жить с нами всегда, то сначала вы
должны пойти еще раз в лес и узнать там, что поют и
говорят птицы; когда узнаете и поймете смысл того, что
говорят воробей, сорока и сова, тогда возвращайтесь
в наши объятия».
Три парня отправились в лес и, пробравшись через
заросли и кривые сучья, исцарапавшись о колючки, то
и дело натыкаясь на пни, подошли к дереву, на котором
сидел воробей, прочирикавший им:
Трос глупых парнишек, не труся,
К берегам кисельным пустились;
Пролетели три жареных гуся
Мимо носа у них — и скрылись.
Молвят парни: «Здешний народ
Ничего-то в толк не возьмет.
Гусь, он должен быть со щепотку,
Эти гуси не лезут нам в глотку».
303
«Вот-вот, — воскликнул оружейник, — совершенно
верно сказано! Да, пускай жареные гуси пролетают мимо
пасти дурака, ему все равно пользы от того не будет!
Пасть у него мала, а гуси велики, и ему все равно с ними
не справиться!»
Пробираясь дальше сквозь заросли и кривые сучья,
исцарапавшись о колючки, то и дело натыкаясь на пни,
пришли три парня к дереву, по ветвям которого прыгала
сорока и стрекотала: «Моя мать была сорокой, моя ба¬
бушка тоже была сорокой, моя прабабушка тоже была
сорокой, и моя прапрабабушка была сорокой, и если бы
моя прапрабабушка не померла, то была бы еще жива».
«Вот-вот, — воскликнул оружейник, — это я понимаю!
Это и есть всемирная история. Это в конце концов итог
всех наших исследований, и многим более того люди
в этом мире никогда не узнают».
Пробираясь дальше сквозь заросли и кривые сучья,
исцарапавшись о колючки, то и дело натыкаясь на пни.
пришли три парня к дереву, в дупле которого сидела
сова и бормотала про себя: «Кто говорит с одной жен¬
щиной, того надует одна женщина, кто говорит с двумя
женщинами, того надуют две женщины, а кто говорит
с тремя женщинами, того надуют три женщины».
«Ого! — сердито закричал оружейник. — Эй ты, по¬
ганая птица со своей поганой, жалкой мудростью, которую
за грош можно купить у всякого нищего горбуна! Это
устаревшая, проклятая клевета! Ты бы много лучше
думала о женщинах, если бы была пригожа и весела,
как мы, или если бы знала наших невест, прекрасных,
как солнце, и верных, как золото!»
Тут три парня пустились в обратный путь, и, пройдя
некоторое время с веселым посвистом и песнями, они
вновь очутились пред замком в скале и в безудержной
радости запели озорную песню:
Дверь закрыта на замок,
Что ты делаешь, дружок?
Спишь ли ты, встаешь ли?
Плачешь ли, поешь ли?
Так, весело распевая, стояли наши ребята перед
воротами замка, как вдруг над воротами открылись три
окошечка и из каждого выглянуло по старушонке:
304
все три длинноносые, со слезящимися глазами, они ра¬
достно кивали седыми головами и, раскрыв беззубые
рты, хрипло кричали: «Вот они, наши милые женихи!
Погодите, милые женихи, сейчас отопрем вам ворота и
встретим вас поцелуями, и вы насладитесь счастьем в
объятиях любви!»
До смерти перепуганные, парни не стали ждать, пока
распахнутся ворота замка, и раскроются пред ними объ¬
ятия невест, и будет достигнуто счастье на всю жизнь,
которое было им обещано в этих объятиях, ио дали стре¬
кача и понеслись во весь дух, да так быстро, что в тот же
день добрались до города Лорха. И вечером, сидя в ка¬
бачке за вином, они осушили не одну кружку, прежде
чем окончательно оправились от испуга. Но оружейник
клялся всеми правдами и неправдами, что сова — умней¬
шая птица па свете и недаром считается символом муд¬
рости.
Я коснулся здесь лишь вскользь темы, представляющей
многотомный материал для интереснейших исследований,
а именно вопроса о том, как христианство стремилось
либо истребить, либо растворить в себе древпегерманскую
религию и как следы ее сохранились в народных верова¬
ниях. Известно, как велась эта война на уничтожение...
Когда парод, привыкший к былому поклонению силам
природы, сохранял и после обращения старинное благо¬
говение к известным местам, то такое преклонение
старались обратить на пользу новой религии или объ¬
явить происками злого духа. У родников, которые язы¬
чество почитало божественными, христианский священ¬
ник строил свою хитрую церковку и сам теперь освящал
воду и эксплуатировал ее чудодейственную силу. До
нынешнего дня ходит народ иа богомолье к старым милым
родникам незапамятной древности и с верой черпает
в них исцеление. Священные дубы, пе поддавшиеся хри¬
стианским топорам, были оклеветаны; под этими дере¬
вьями, как говорили теперь, орудует по ночам нечистая
сила и ведьмы предаются адскому распутству. Но дуб
остался все же любимым деревом немецкого народа, дуб
до сих пор есть символ немецкой национальности: это
высочайшее и самое мощное дерево во всем лесу; корпи
его проникают в самую глубь земли; зеленым знаменем
гордо развевается в воздухе его листва; эльфы поэзии
11 Г. Гейне, т. G
305
гнездятся в его стволе; священно-премудрая омела обви¬
вает его ветки ; одни только плоды его мелки и несъедобны
для человека.
В древнегерманских законах еще много запретов.
Нельзя было молиться вблизи рек, деревьев и камней,
так как люди держались еретического взгляда, будто
в них обитает божество. Карлу Великому пришлось
в своих «Капитуляриях» твердо запретить приношение
жертв камням, деревьям, рекам; запрещалось также воз¬
жигать там священные светильники.
Эти три предмета — камни, деревья и реки — яв¬
ляются основными в германском культе, и с этим пере¬
кликается вера в существа, живущие в камнях, а именно
в карликов, в существа, живущие в деревьях, а именно
в эльфов, в существа, живущие в воде, а именно в водяных
и русалок. При желании установить здесь систему это
распределение представляется гораздо более целесообраз¬
ным, чем расположение по различным стихиям, причем
для огня принимается четвертый разряд духов стихий,
а именно саламандры. Однако народ, обходящийся всегда
без системы, никогда ничего о них не знал. В народе су¬
ществует, собственно, только сказание о животном, ко¬
торое способно жить в огне и называется саламандрой.
Все мальчики — завзятые естествоиспытатели, и я, бу¬
дучи малышом, пытался однажды исследовать, в самом ли
деле саламандры могут жить в огне. Когда моим школь¬
ным товарищам удалось как-то поймать такое животное,
я поспешил бросить его в печь, где оно сперва стало
брызгать в огонь белой слизью, потом зашипело, все тише,
тише, и, наконец, испустило дух. С виду зверек напоми¬
нает ящерицу, но он шафранно-желтого цвета, с черными
крапинками, а белая жидкость, которую он испускает
в огне и посредством которой, быть может, иной раз и
гасит пламя, вероятно послужила источником веры, будто
саламандра может жить в огне.
Огненные люди, бродящие по ночам, не духи стихий,
но призраки покойников, мертвых ростовщиков, бессер¬
дечных чиновников и злодеев, переставлявших межевые
камни. Блуждающие огоньки тоже не относятся к духам.
Никто точно не знает, что они представляют собою; они
заманивают путника в трясины и болота. Как я уже ска¬
зал, пароду неизвестен весь разряд духов огня, описывае-
306
мыи Парацсльсом. Об одном лишь огненном духе упоми¬
нает он, и это не кто иной, как Люцифер, сатана, дьявол.
В старинных балладах он выступает под именем огнен¬
ного царя, и его появление или уход в театре неизменно
сопровождается традиционными огненными языками. По¬
скольку он, таким образом, есть единственный дух огня
и является для нас представителем всего разряда таких
духов, мы займемся им подробнее.
В самом деле, если бы дьявол не был огненным духом,
как мог бы ои выдержать пребывание в аду? Он существо
настолько холодное, что не может себя нигде хорошо чув¬
ствовать, кроме как в огне. На эту холодность дьяволь¬
ской природы жаловались все женщины, имевшие не¬
счастье вступать с ним в близкие отношения. Удиви¬
тельно совпадают в этом отношении дошедшие до нас
показания ведьм в колдовских процессах всех стран. Эти
дамы, признававшиеся в своей плотской связи с дьяво¬
лом, даже под пыткой неизменно рассказывают о холоде
его объятий; ледяными — плакались они — были про¬
явления этой дьяволовой нежности.
Дьявол холоден даже в качестве любовника. Но он
не безобразен, ибо может принимать любой вид. Не¬
редко он облекался в личину женской прелести, чтобы
помешать какому-нибудь набожному иноку в исполнении
покаянного подвига или даже вовлечь его в соблазн
плотского наслаждения. Другим, кого он желал только
напугать, он являлся в образе зверином, так же как его
адские подручные. В хорошем настроении, наевшись и
напившись, оп охотно является в виде животного. Был,
например, один дворянин в Саксонии, который пригла¬
сил к себе друзей попировать. Когда стол был накрыт,
и пришло время обеда, и все было готово, гости не яви¬
лись и один за другим прислали извинения, что не могут
прибыть. В гневе вырвались у него слова: «Если ни один
человек не хочет прийти, то пусть сам черт у меня обе¬
дает вместе с целым адом!» Сказав это, он покинул дом,
чтобы рассеять досаду. Тем временем во двор въехало
несколько рослых черных всадников; они приказали
слуге дворянина отыскать барина и сообщить ему, что
прибыли гости, которых он пригласил напоследок. После
долгих поисков слуга находит, наконец, господина, воз¬
вращается вместе с ним, но оба не отваживаются войти
11
307
в дом. Ибо они слышат, как там все безумнее гремит
разгул, песни и крики, и, наконец, видят, как перепив¬
шиеся бесы в образе медведей, кошек, козлов, волков и
лисиц подходят к открытым окнам, держа в лапах полные
кубки или дымящиеся тарелки, и, весело скаля зубы,
кивают лоснящимися мордами стоящим внизу.
Что дьявол в образе черного козла председательствует
па шабаше ведьм, известно всем и каждому. Позже, рас¬
сказывая о ведьмах и колдовстве, я остановлюсь па роли,
которую он играет, пребывая в этом облике. В достопри¬
мечательной книге, где глубоко ученый Георгиус Годель-
манус дает правдивый и основательный обзор этого пред¬
мета, сказано также, что дьявол нередко является в об¬
разе монаха. Годельманус приводит следующий пример:
«В бытность студентом юридического факулмета в зна¬
менитом Виттенбсргском университете, помню, не раз
приходилось мне там слышать от профессоров моих, что
пришел к дверям Лютера некий монах; когда в ответ на
его сильный стук слуга открыл ему и спросил, чего ему
надо, монах спросил, дома ли Лютер. Узнав об этом,
Л юте рус впустил его, потому что уже некоторое время
не видал монахов. Войдя, тот сказал, что заметил не¬
сколько папистских ошибок, по поводу которых хотел
бы поговори!ь с ним, и предъявил ему несколько силло¬
гизмов и тезисов, и когда Лютерус без труда разрешил
их, он выставил новые, не столь уже легкие, почему
у Лютера, пришедшего в некоторое раздражение, вы¬
рвались слова: «Ты мне докучаешь, я ведь занят другими
делами!» — И, встав, он показал ему в библии ответ на
вопрос, предложенный монахом. И как заметил он в этом
разговоре, что руки у монаха были вроде птичьих когтей,
io сказал: «Да ты не тот ли самый? Постой, слушай-ка,
вот этот приговор против тебя произнесен!» — И показал
ему изречение в «Бытии», первой книге Мопсея: «Семя
жены сотрет главу змею». Побежденный этим изречением,
дьявол пришел в яростьи ушел ворча, швырнув черниль¬
ницу за печку и распространив зловоние, которое еще
несколько дней держалось в комнате».
В приведенном рассказе можно заметить одно свойство
дьявола, обнаружившееся в давние времена и удержав¬
шееся до нынешнего дня. Это его страсть к препиратель¬
ствам, его софистика, его «силлогизмы». Дьявол — знаток
308
логики, и уже восемьсот лет тому назад это к своей не¬
выгоде испытал иаиа Сильвестр, знаменитый Герберт.
Будучи еще студентом в Кордове, он заключил с сатаной
договор и при его адской помощи изучил геометрию,
алгебру, астрономию, ботанику, всякие полезные искус¬
ства, в том числе и искусство сделаться папой. Согласно
договору, он должен был окончить свои дни в Иерусалиме.
Конечно, оп остерегался попасть туда. Но однажды, когда
о и служил обедню в одной римской часовне, дьявол
явился за ним; папа противится, одиако тот доказывает
ему, что часовня, в которой они находятся, называется
Иерусалимом, что условия старого договора исполнены
и что ои должен теперь отправляться в ад. И дьявол
)влск папу, со смехом нашептывая ему на ухо:
Tu non pensavi ch’io loico fossi.
Ты не подумал о том, что я логик.
(Дайте, «Ад», 27).
Дьявол искусник в логике, он мастер в метафизике
и своими ухищрениями и толкованиями всегда умеет
перехитрить вступивших с ним в соглашение. Если они
не были достаточно внимательны, то, перечитывая впослед¬
ствии договор, к своему ужасу открывали, что дьявол вместо
юдов проставил лишь месяцы или недели или даже дни,
и внезапно он обрушивается на них и доказывает, что услов¬
ленный срок истек. В одной старинной пьесе кукольного
театра, изображающей договор с сатаной, мерзостную
жизнь и жалкий конец доктора Фаустуса, мы находим
а у же черту. Фауст, пожелавший получить от дьявола
все земные наслаледения, продал ему за это свою душу
и обязался отправиться в ад, как только совершит третье
убийство. Ои уже успел убить двух человек и убежден,
что но попадет в руки к дьяволу, пока ие убьет третьего.
Но тот доказывает Фаусту, что именно его собственный
договор с дьяволом, убийство собственной своей души,
должно считаться третьим убийством, и с помощью этой
проклятой логики забирает его в преисподнюю. В какой
мерс использовал Гете эту характерную черту — софи¬
стику — для своего Мефистофеля, может судить каждый.
Нет ничего занятнее чтения сохранившихся от времен
колдовских процессов договоров с дьяволом, где догова¬
ривающийся с помощью всякого рода хитрых оговорок
309
предохраняет себя от всех придирок и старательнейшим
образом по нескольку раз перефразирует все условия.
Дьявол — логик. Он не только представитель мирской
полноты жизни, чувственных наслаждений, плоти, но
он также представитель человеческого разума, именно
потому, что разум отстаивает все права материи; и он,
таким образом, является противоположностью Христу,
который есть представитель не только духа, аскетического
подавления чувственности, небесного спасения, но и веры.
Дьявол не верит, он не опирается слепо на чужие автори¬
теты, он доверяет только собственному мышлению, он
орудует разумом! Это, конечно, ужасно, и римско-
католическо-апостольская церковь, прокляв самостоя¬
тельное мышление как дьявольщину, объявила дьявола,
представителя разума, отцом лжи.
О внешнем облике дьявола в самом деле нельзя ска¬
зать ничего точного. Одни, как я уже упомянул, утвер¬
ждают, что у него нет определенного облика и что поэтому
он может являться в любой форме. По-видимому, это так
и есть. Так, в «Демономагии» Горста говорится, что
дьявол может обернуться даже салатом. Одна монахиня,
в общем вполне почтенная, но не достаточно точно соблю¬
давшая устав своего ордена и недостаточно часто осеняв¬
шая себя крестным знамением, как-то ела салат. Едва
поев сю, она ощутила некоторое волнение, доселе чуждое
ей и никоим образом не совместимое с ее саном. Странная
истома стала овладевать ею теперь по вечерам, при свете
месяца, когда так сильно благоухали цветы и соловьи
разливались такими томительно-рыдающими напевами.
Вскоре затем свел с ней знакомство один привлекатель¬
ный юноша. Когда они сблизились, красавчик как-то
спрашивает ее: «А ты знаешь, кто я такой?» — «Нет», —
ответила несколько встревоженная монахиня. «Я дьявол,—
сказал он. — Помнишь ли ты тот салат? Салат этот был я!»
Иные утверждают, что у дьявола всегда звериное об¬
личье и что если мы видим его в другом образе, то это
только наваждение. Конечно, в дьяволе есть нечто цини¬
ческое, и никто не осветил эту его особенность лучше
нашего поэта Вольфганга Гете. Превосходно, с этой
точки зрения, изобразил дьявола также другой немецкий
писатель, значительный как в своих недостатках, так и
в достоинствах, и, во всяком случае, имеющий право быть
310
причисленным к поэтам перворазрядным, — г-н Граббе.
Он также отлично понял холодность в натуре дьявола.
13 одной драме этого гениального писателя дьявол яв¬
ляется на землю потому, что его мать моет пол в аду; по
принятому у нас способу убирать комнаты, пол обли¬
вается кипятком и натирается грубой тряпкой, отчего
в комнате стоит шипенье и поднимается теплый пар, так
что существо разумное пе может оставаться дома. Поэтому
дьявол вынужден бежать из хорошо натопленной преис¬
подней наверх, на холодную землю, и здесь, хотя па дворе
стоит жаркий июльский день, бедного дьявола бросает
в такой озноб, что он чуть не замерзает и лишь с помощью
врача спасается от окоченения.
Мы только что видели, что у дьявола есть мать; хотя
многие утверждают, что у него, собственно, есть только
бабушка. Мать тоже иногда поднимается па землю, и
к ней, быть может, относится пословица: «Где черту са¬
мому не управиться, там ему поможет старуха». Но обык¬
новенно она в преисподней хлопочет на кухне или сидит
в красном кресле, и когда по вечерам дьявол, усталый от
дневных забот, возвращается домой, он жадно пожирает
то, что ему настряпала его мамаша, а потом кладет ей
голову иа колени, чтобы она поискала у него в голове, и
засыпает. Она же мурлычет ему песню, начинающуюся
словами:
В соборе, в соборе,
Там роза расцвела,
Как кровь, она ала.
Странное дело — писательство. Одному посчастли¬
вится в нем, другому не повезет. Худшую неудачу испы¬
тал, пожалуй, мой несчастный приятель Генрих Кицлер,
геттингенский magister artium.1 Нет там, в Геттингене,
никого, кто был бы более учен, более богат идеями, более
усидчив, чем этот мой друг, и, однако, по сей час ни одна
книга его сочинения не появилась иа лейпцигской яр¬
марке. Старик Штифель в библиотеке, бывало, всегда
улыбался, когда Генрих Кицлер просил у него книгу,
крайне необходимую ему для труда, который он как раз
* Магистр искусств (лат.).
311
теперь заканчивает. «Долго еще будет ои его заканчи¬
вать!» — бормотал в таких случаях старый Штифель,
поднимаясь к полке по лесенке. Улыбались даже кухарки,
приходившие в библиотеку за книгами «для Кицлера».
Все считали его ослом, а он, по существу, был только
честным человеком. Никто не зпал истинной причины,
почему из-нод пера его пе вышла пи одна книга, и лишь
случайно открыл ее я, зайдя однажды к нему в полночь
зажечь мою свечу, —мы ведь были соседями по комнатам.
Ои только что закончил свой большой труд о преимуще¬
ствах христианства; по ои как будто совсем не радовался
и скорбно смотрел на рукопись.
— Накопец-то, — сказал я, — твое имя будет кра¬
соваться в лейпцигском ярмарочном каталоге в перечне
законченных книг!
— Ах, пет, — ответил он с глубоким вздохом, — и
это сочинение придется мне бросить в огонь, как преды¬
дущие...
И он поверил мне свою страшную тайну. Действи¬
тельно, ужасная неудача постигала злополучного ма¬
гистра всякий раз, когда оп работал над книгой, а именно:
развив все доводы в пользу положения, которое он пред¬
полагал доказать, он считал своим долгом привести также
все возражения, которые мог бы выставить его возможный
противник; тут, став на эту противоположную точку зре¬
ния, он придумывал остроумнейшие аргументы и, по¬
скольку они бессознательно укоренялись в его душе,
получалось всегда так, что к тому времени, когда книга
была готова, воззрения се автора постепенно изменялись
и в уме его возникало убеждение, совершенно противо¬
положное духу его книги. При этом он был настолько
честен, что приносил лавры литературной славы (таким
же образом поступил бы всякий французский писатель)
на алтарь истины, то есть бросал рукопись в огонь. По-
этому-то он так глубоко вздохнул, когда доказал преиму¬
щества христианства.
— Вот, — говорил ои печально, — я накопил два¬
дцать корзин выписок из отцов церкви; целые ночи корпел,
сгорбившись над письменным столом, и читал «Acta Sancto¬
rum»1, между тем как в твоей комнате распивали пунш и пе¬
1 «Деяния святых» (лат.).
312
ли «Государя»; вот заплатил я Ваидепгуку и Рупрехту три¬
дцать восемь с трудом заработанных талеров за богослов¬
ские новинки, необходимые мне для моего сочинения, вместо
того чтобы купить себе па эти деньги трубку; два года
я работал как собака, два драгоценных года... И все для
того, чтобы оказаться смешным, чтобы, подобно уличен¬
ному хвастуну, опустить глаза, когда госпожа конси-
сториальная советница Планк спросит меня: «А когда
выйдут в свет ваши «Преимущества христианства»?» Ах,
книга готова, — продолжал бедняга, — и пришлась бы
читателям по вкусу, ибо я возвеличил в пей победу хри¬
стианства над язычеством и доказал, что, таким образом,
истина и разум одержали также верх над лицемерием и
безумием. Но я, несчастный, в глубине души я чувствую,
что...
— Остановись! — воскликнул я в справедливом не¬
годовании. — Не дерзай, ослепленный, чернить возвы¬
шенное и повергать во прах блистательное! Ты отрицаешь
чудеса евангельские — пусть, но ты не можешь отрицать,
что самая победа евангелия была чудом. Кучка безоруж¬
ных людей вторглась в великий мир римлян, невзирая
па его палачей и на его мудрецов, и восторжествовала
единою силой слова. Но какого слова! Подгнившее язы¬
чество содрогнулось и надломилось при слове этих приш¬
лых мужчин и женщин, возвещавших новое царствие не¬
бесное и не страшившихся ничего па этой старой земле —
ни когтей диких зверей, ни ярости еще более диких людей,
ни меча, ии огня... Ибо сами они были меч и пламя, пламя
и меч господни! Этот меч обрубил увядшую листву и
сухие ветви с древа жизни и тем исцелил его от разъ¬
едающей гнили; это пламя вновь согрело изнутри око¬
ченевший ствол, так что он покрылся свежей лист¬
вой и душистыми цветами... Это первое выступление
христианства, его борьба и его полная победа есть
наиболее потрясающе-возвышенное событие всемирной
истории.
Я произнес эти слова с тем более благородной вы¬
разительностью, что накануне вечером выпил очень
много эймбекского пива, и голос мой раздавался тем
звучнее.
Но, нимало этим не смущенный, Генрих Кицлер с иро-
нически-болезпенной улыбкой возразил:
313
— Милый друг, не трудись понапрасну! Все, что ты
тут говоришь, я изложил в этой рукописи гораздо лучше
и гораздо основательнее. Я дал здесь ярчайшую картину
отвратительного состояния мира в эпоху язычества и
льщу себя надеждой, что смелые взмахи моей кисти напо¬
минают творения лучших отцов церкви. Я показал, как
порочны стали греки и римляне, благодаря дурному
примеру, поданному богами, позорное поведение которых
едва давало бы нм право называться людьми. Без оби¬
няков я прямо заявил, что даже Юпитер, высший из бо¬
гов, сто раз заслужил, по королевскому ганноверскому
уголовному уложению, если не виселицу, то каторжную
тюрьму. В противоположность этому, я как следует пере¬
сказал все моральные изречения, встречающиеся в еван¬
гелии, и показал, как первые христиане, по примеру своего
божественного прообраза, несмотря на унижения и го¬
нения, которые они за это претерпели, проповедовали
и осуществляли в жизни одну только прекраснейшую
чистоту нравов. Лучшая часть моего труда та, в которой
я вдохновенно повествую, как юное христианство, по¬
добно маленькому Давиду, вступает в бой со старым язы¬
чеством и убивает этого громадного Голиафа. Но, увы,
теперь этот поединок представляется мне в несколько
странном свете... Ах, всякое увлечение моей апологией
иссякло у меня в груди, когда я начал живо представ¬
лять себе, как стал бы изображать торжество евангелия
какой-нибудь противник. К несчастью, в мои руки попали
некоторые писатели недавнего прошлого, вроде Эдуарда
Гиббона, которые как раз пе слишком благосклонно отзы¬
ваются об этой победе и как будто не очень умиляются
тем, что там, где недостаточными оказывались меч духов¬
ный н духовное пламя, христиане прибегали к мирскому
мечу и мирскому пламени. Да, я должен признаться, что
в конце концов мною овладело горестное сострадание
к остаткам язычества, к этим прекрасным храмам и статуям,
ибо они принадлежат уже пе религии, которая была мертва
задолго до рождества Христова, но искусству, которое
живет вечно. Слезы выступили однажды у меня на гла¬
зах, когда я случайно в библиотеке прочитал «Речь в за¬
щиту храмов», где древний грек Либаний скорбно умолял
набожных варваров пощадить драгоценные создания ис¬
кусства, которыми пластическое творчество эллинов укра-
314
сило мир. Но тщетно! Невозвратно уничтожены были мрач¬
ным разрушительным рвением христиан эти памятники
весны человечества, которая не повторится снова и могла
расцвести лишь однажды...
— Нет, — продолжал свою речь магистр, — я не хочу
изданием этой книги принять позднее участие в таком
кощунстве, нет, не хочу ии за что... И вам, разбитые
изваяния красоты, вам, отблески усопших богов, вам,
ставшим лишь чарующими грезами в поэтическом царстве
теней, вам приношу я эту книгу в жертву!
С этими словами Генрих Кицлер швырнул свою ру¬
копись в пламя камина, и от преимуществ христианства
осталась одна только серая зола.
Это произошло в Геттингене зимою 1820 года, за не¬
сколько дней до той роковой ночи под Новый год, когда
так ужасно поколотили педеля Дориса и между корпо¬
рациями и землячествами было проведено восемьдесят
пять дуэлей. Ужасны были эти колотушки, словно де¬
ревянным ливнем сыпавшиеся в тот час на широкую спину
бедного педеля. Но, как добрый христианин, он утешал
себя уверенностью, что некогда на небесах мы будем воз¬
награждены за страдания, незаслуженно испытанные нами
здесь, внизу. Давно это было. Старый Дорис давным-
давно отстрадал и спит в своей тихой могиле у Вендских
ворот. Два великих лагеря, некогда наполнявшие полеми¬
ческим бряцанием своих шпаг поля битвы при Бофдене,
Ритшенкруге и Разенмюле, давно в ощущении своего обо¬
юдного ничтожества нежнейшим образом выпили на брудер¬
шафт; и на пишущем эти строки закон времени также отра¬
зился сильнейшим образом. В моем мозгу играют менее
веселые краски, чем в те времена, и на сердце у меня по¬
явилась тяжесть; где я некогда смеялся, там ныне лью
слезы и в раздражении сжигаю надпрестольные образа
моей былой набожности.
Было время, когда я при встрече на улице благоговейно
целовал руку у каждого капуцина. Я был ребенком, и
отец смотрел па это сквозь пальцы, отлично зная, что мои
губы не всегда будут удовлетворяться плотью капуцинов.
И в самом деле, я подрос и стал целовать красивых жен¬
щин... Но подчас они смотрели на меня с такой бледной
скорбью, и я вздрагивал от испуга в объятиях наслажде¬
ния... Здесь таилось зло, невидимое никому, хотя каждый
315
болел им, и я раздумывал о нем. Я думал также о том,
и самом ли деле должно предпочитать лишения и отре¬
чение всем наслаждениям земным, и будут ли те, кто здесь
довольствовался терниями, тем обильнее угощаться там,
наверху, ананасами? Нет, кто питался терниями, был
ослом; и кому достались колотушки, тот при них и оста¬
нется. Бедняга Дорис!
Мне не дозволено, одпако, говорить здесь определен¬
ными словами обо всех вещах, над которыми я размыш¬
лял, и еще меньше дозволено мне делиться результатами
моих размышлении. Придется ли и мне, как велико¬
му множеству других, сойти в могилу с сомкнутыми
устами ?
Но, быть может, мне разрешат привести здесь не¬
сколько банальных фактов, чтобы внести в побасенки,
которые я здесь перебираю, некоторую долю разума или
хотя бы видимость его. Эти факты относятся как раз
к торжеству христианства над язычеством. Я совсем не
разделяю мнения моего друга Кицлера, что иконобор¬
чество первых христиан достойно столь горького пори¬
цания; они не могли и не должны были щадить древние
храмы и статуи, ибо там жила еще старая греческая ве¬
селость, та жизнерадостность, которая христианину пред¬
ставлялась дьявольским наваждением. В этих статуях
и храмах христианин видел не просто предметы чужого
культа, ничтожного заблуждения, лишенного всякой
реальности: эти храмы он считал крепостями подлин¬
ных демонов, а богам, изображаемым этими статуями,
он приписывал бесспорное действительное бытие; для
него ведь это были все сплошь бесы. Когда первые
христиане отказывались преклонять колена и приносить
жертвы пред изваяниями богов и за это подвергались
преследованиям и суду, они неизменно отвечали, что
не могут поклоняться демонам! Они предпочитали му¬
ченичество необходимости совершить ничтожнейший
обряд преклонения пред дьяволом Юпитером, или
дьяволицей Дианой, или, наконец, пред архидьяволицей
Венерой.
Бедные греческие философы! Они никак не могли
попять это противоречие, как и впоследствии никогда не
могли понять, что в полемике с христианами им приходится
защищать совсем ие старую, умершую веру, но гораздо
316
более живые вещи. Дело было совсем пе в том, чтобы
пеоплатоиическими ухищрениями доказать наличие бо¬
лее глубокого смысла в мифологии, влить в умерших
богов свежую кровь символики и изо дня в день возиться
с неуклюжими, грубыми возражениями первых отцов
церкви, насмехавшихся чуть ли не по-вольтеровски над
моральным обликом богов; дело шло о том, чтобы отстоять
самый эллинизм, греческий образ мышления и чувство¬
вания, и бороться с распространением иудаизма, иудей¬
ского образа мышления и чувствования. Вопрос стоял,
кому властвовать в этом мире — мрачному, тощему,
враждебному плоти, сверхдуховному иудаизму иазареян
или эллинской веселости, любви к красоте и цветущей
жизнерадостности. Не в этих прекрасных богах было глав¬
ное; никто уже больше не верил в благоухающих амбро¬
зией обитателей Олимпа, но божественно-упоительно было
в их храмах, на их праздничных играх, па их мистериях;
здесь украшали голову цветами, здесь плясали в прелест¬
ной торжественности, здесь возлежали за веселыми пир¬
шествами... а то предавались и более упоительным на¬
слаждениям.
Все эти радости, весь этот веселый смех давно отзву¬
чал, и в развалинах древних храмов, по народному веро¬
ванию, все еще проживают древнегреческие божества, но
победа Христа лишила их всей их мощи; это жалкие бесы,
днем гнездящиеся среди сов и жаб в темных развалинах
своего былого великолепия, ночыо же выходящие оттуда
в соблазнительном облике, чтобы обмануть и заманить
какого-нибудь неосторожного путника пли бесшабашного
смельчака.
С этой народной верой связаны чудеснейшие сказания,
и новейшие поэты черпали отсюда мотивы для прекрас¬
нейших своих созданий. Действие происходит обыкно¬
венно в Италии, и героем выступает какой-нибудь не¬
мецкий рыцарь, юношеская невинность или стройная
фигура которого заставляет прекрасных дьяволиц опу¬
тывать его особенно сладостными чарами. Вот прекрас¬
ными осенними днями бродит он со своими одинокими
мечтаниями, быть может вспоминает — легкомысленный
ветреник! — о дубовых лесах на далекой родине и о ру¬
сокудрой девушке, оставленной там. Вдруг он останав¬
ливается перед мраморной статуей, видом которой почти
317
ошеломлен. Это, быть может, богиня красоты, и он стоит
перед нею лицом к лицу, и сердце юного варвара втайне
охвачено давним волшебством. Что же это такое? В жизни
не видал он таких стройных членов, и в этом мраморе
чуется ему более живая жизнь, чем та, которую он когда-
либо находил в красных щечках и губках, во всех телесных
прелестях своих землячек. Эти белые глаза смотрят на
него с таким вожделением и, однако, с такой жуткой то¬
скою, что его сердце наполняется любовью и жалостью,
жалостью п любовыо. И все чаще уходит он бродить среди
старинных развалин, и земляки удивляются, что его
почти не видно иа пирушках и на рыцарских игрищах.
Странные слухи ходят о его скитаниях среди языческих
руин. Но однажды утром он, бледный, с искаженным
лицом, врывается в гостиницу, расплачивается по счету,
подвязывает свою котомку и спешит назад, за Альпы.
Что с ним приключилось?
Рассказывают, будто однажды вечером он отправился
к своим любимым развалинам позднее обычного, после
захода солнца, но пз-за спустившейся темноты не мог найти
места, где привык проводить долгие часы в созерцании
статуи прекрасной богини. После долгих блужданий,
уже к полуночи, он вдруг очутился перед виллой, которой
никогда прежде не видал в этой местности, и был чрезвы¬
чайно удивлен, когда ему навстречу вышли слуги с фа¬
келами, приглашая его от имени своей повелительницы
здесь переночевать. Как велико, однако, было его изумле¬
ние, когда, войдя в обширный освещенный зал, он увидел
здесь даму, в одиночестве расхаживавшую взад и вперед
и поразительно похожую фигурой и чертами лица на
прекрасную статую, которую он так любил. Да, сходство
ее с тем мраморным изваянием увеличивалось оттого, что
вся она была в ослепительно белой кисее и лицо ее было
необычайно бледно. Когда рыцарь, учтиво склонившись,
приблизился к ней, она долго серьезно и молча смотрела на
него и, наконец, улыбаясь, спросила, не голоден ли ои? Хотя
сердце дрожало в груди у рыцаря, однако желудок у него
был все-таки немецкий, после долгих скитаний ему очень
хотелось подкрепиться, и он охотно последовал за пре¬
красной дамой в столовую. Она ласково взяла его за ру¬
ку и повела по высоким гулким покоям, производив¬
шим, несмотря на все великолепие, впечатление жуткой
318
пустынности. Канделябры бросали призрачно-тусклый свет
на стены, пестрая роспись которых изображала разные
языческие любовные эпизоды, например Париса и Елену,
Диану и Эндимиона, Калипсо и Улисса. Громадные при¬
чудливые цветы, стоявшие у окон в мраморных вазах,
поражали такой пугающей пышностью и испускали такой
одурманивающий, такой трупный запах. При этом ветер
стонал в каминах, как страдающий человек. Наконец
в столовой прекрасная дама, усевшись напротив рыцаря,
стала наливать ему вино и с улыбкой предлагать лучшие
куски. Кое-что, конечно, смущало рыцаря за этим ужином.
Когда он попросил соли, которой не оказалось на столе,
белое лицо красавицы передернулось почти исказившим
его недовольством, и лишь после повторного требования
она с явным раздражением приказала, наконец, слугам
подать солонку. Дрожащими руками поставили они ее
на стол, причем рассыпали чуть не половину. Но доброе
вино, огнем лившееся в глотку рыцаря, смягчило тайный
ужас, временами охватывавший его; понемногу в нем
пробудилась доверчивость и заиграла кровь, и когда
дама спросила, знает ли он, что такое любовь, он ответил
ей пламенными поцелуями. Опьяненный любовью, а быть
может, и сладким вином, он вскоре уснул на груди своей
нежной хозяйки. Но дикие сны метались в его голове,
призрачные личины, какие пугают нас в лихорадочном
полусне нервной горячки. То чудилось ему, что он видит
свою старую бабушку, как она сидит дома в красном
кресле и дрожащими губами судорожно шепчет молитву.
То слышал он доносящееся сверху насмешливое хихи¬
канье больших летучих мышей, метавшихся вокруг него
с факелами в когтях; но когда он получше присмотрелся
к ним, ему стало казаться, что это челядь, прислуживав¬
шая за столом. В конце концов ему пригрезилось, что
красавица хозяйка внезапно превратилась в отврати¬
тельное чудовище, и, насмерть перепуганный, он выхватил
меч и отрубил ей голову. Лишь поздним утром, когда
солнце уже высоко стояло на небе, рыцарь пробудился от
сна. Но он лежал не в великолепной вилле, где, казалось,
он провел ночь, а среди хорошо известных ему развалин,
и с ужасом увидел, что прекрасная статуя, которую он
так любил, упала с пьедестала и что се отвалившаяся
голова лежит у его пог.
319
Такой же характер имеет легенда о юном рыцаре,
который, играя как-то на одной вилле в окрестностях
Рима с приятелями в мяч, снял с пальца перстень, мешав¬
ший ему во время игры, и, чтобы не затерять его, надел
на палец мраморной статуи. Однако, возвратившись
по окончании игры к статуе, изображавшей какую-то
языческую богиню, он с ужасом увидел, что палец мра¬
морной женщины, на который он надел перстень, не
вытянут, как было раньше, а крепко согнут, так что уже
нельзя было снять перстень с пальца, пе разбив руки,
чего, однако, не позволяло ему какое-то непонятное со¬
страдание. Подойдя к прочим участникам игры, чтобы
рассказать им об этом чуде, он предложил им убедиться
в нем своими глазами. Но когда он вернулся с друзьями
к статуе, она опять держала палец вытянутым, как всегда,
а перстень исчез. Спустя некоторое время после этого
происшествия рыцарь решил вступить в брак и отпразд¬
новал свою свадьбу. Но в брачную ночь, когда он уже
собирался возлечь на ложе, вдруг перед ним явилась
женщина, фигурой и лицом совершенно подобная упомя¬
нутой статуе, и стала настаивать на том, что, поскольку
он надел перстень па ее палец, оп обручен с нею и при¬
надлежит ей как законный супруг. Тщетно возражал
рыцарь против ее притязаний; всякий раз как он хотел
приблизиться к обвенчанной с ним жене, язычница стано¬
вилась между ним и ею, так что он вынужден был на эту
ночь отказаться от всяких супружеских наслаждений. То
же произошло и иа вторую ночь, и на третью, и глубокая
тоска охватила рыцаря. Нпкто не мог помочь ему, и даже
самые набожные люди пожимали плечами. Наконец
дошел до него слух об одном священнике, по имени Па-
лумнус, который не раз уже оказывал большую помощь
против языческих козней дьявола. Долго пришлось его
упрашивать, прежде чем он обещал рыцарю содействие:
это, по его словам, грозило величайшими опасностями
ему самому. Затем священник Палумнус написал не¬
сколько странных знаков на клочке пергамента и дал
рыцарю следующее указание: он должен явиться в пол¬
ночь иа место скрещения дорог в окрестностях Рима;
здесь перед ним пройдут всякие необычайные явления;
но он должен оставаться спокойным, ни в малой степени
не смущаясь’ничем из того, что услышит и увидит. Лишь
320
когда он заметит фигуру женщины, па палец которой ои
надел перстень, оп должен подойти к пей и вручить ей
исписанный пергамент. Этому предписанию рыцарь под¬
чинился, но не без сердцебиения стоял он в полночь иа
указанном перекрестке, когда перед ним потянулось
странное шествие. Это были бледные мужчины и жен¬
щины, пышно разодетые в праздничные наряды времен
язычества; у одних были золотые короны, у других лав¬
ровые венки на головах, однако скорбно опущенных;
тут же с боязливой торопливостью проносили и разные
серебряные сосуды, кубки и утварь, необходимую для
старинного богослужения; в толпе виднелись и большие
быки с раззолоченными рогами, обвитые гирляндами
цветов; наконец, на высокой триумфальной колеснице,
сверкая пурпуром и в венке из роз, явилась величавая,
божественная красавица. Тут рыцарь, подойдя к ней,
подал ей пергамент священника Палумнуса; ибо в ней
он узнал мраморную статую, владевшую его перстнем.
Увидев знаки, которыми исписан был пергамент, краса¬
вица со стоном подняла руки к небу, слезы хлынули у нес
из глаз, п с жестом отчаяния она вскричала: «Жестоко¬
сердый священник Палумнус! Все еще мало тебе того
зла, что ты причинил нам! Но скоро придет конец твоим
преследованиям, жестокосердый священник Палумнус!»
Сказав это, она протянула рыцарю его перстень, и на
следующую ночь тот не встретил никакого препятствия
к вступлению в свои супружеские права. Но священник
Палумнус умер па третий день после этого.
Эту историю я прочел впервые в «Mons Veneris» 1
Корнмана. Недавно я наткнулся на нее также в преглу¬
пой книге о колдовстве Дель Рио, позаимствовавшего
ее из произведения одного испанца; она, очевидно, испан¬
ского происхождения. Современный немецкий писатель
барон Эйхендорф восхитительно использовал ее в прево¬
сходном рассказе. Предыдущая история тоже перерабо¬
тана немецким писателем Вилибальдом Алексисом в но¬
веллу, принадлежащую к его самым поэтически-остроум-
ным созданиям.
Упомянутое сочинение Корнмана «Mons Veneris», или
«Венерина гора», является важнейшим источником изла¬
1 «Венериной горе» (лат.).
321
гаемой здесь темы. Много времени прошло с тех пор,
как мне случилось однажды держать ее в руках, и я лишь
по воспоминаниям могу говорить о ней. Но и теперь
встает в моей памяти эта маленькая книжка, страниц
в сто пятьдесят, с ее прелестным старинным шрифтом;
она напечатана, вероятно, около середины XVII века.
Учение о духах стихий изложено в ней со всею основа¬
тельностью, и автор связывает с ним свои необычайные
сообщения о Венериной горе. Именно следуя примеру
Корнмана, я счел нужным по поводу духов стихий го¬
ворить и о преображении древнегреческих богов. Они не
призраки, потому что, как я неоднократно указывал, они
не умерли; это не созданные и неумирающие существа,
которые после победы Христа вынуждены были удалиться
в подземные убежища. Пребывая здесь с прочими духами
стихий, они занимаются своими демоническими делами.
Всего своеобразнее, романтически-чудесно звучит суще¬
ствующая в немецком народе легенда о богине Венере,
которая, после низвержения ее храмов, нашла убежище
в недрах неведомой горы, где она совместно с разудалой
воздушной братией, с прекрасными лесными и водяными
нимфами, а также с некоторыми знаменитыми, внезапно
исчезнувшими с земли героями ведет жизнь, полную
самых рискованных наслаждений. Уже издали, прибли¬
жаясь к горе, слышишь радостный смех и сладостные
звуки цитры, словно невидимой цепью обвивающие твое
сердце и увлекающие в глубь горы. К счастью, непо¬
далеку от входа стоит на страже старый рыцарь, по про¬
званию верный Эккарт; опираясь на свой большой бое¬
вой меч, он недвижим, как изваяние, но его честная,
седая голова непрестанно качается, и он скорбно преду¬
преждает о любовных опасностях, ожидающих всякого
в недрах горы. Кое-кто вовремя внял предупреждению,
кое-кто, напротив, не послушался гнусавого голоса ста¬
рого стража и слепо ринулся в бездну проклятой похоти.
Вначале все прекрасно. Но человек не всегда расположен
смеяться, ои становится временами тих и серьезен и воз¬
вращается мыслью к прошлому; ибо прошлое есть подлин¬
ная родина его души, и его охватывает тоска по чувствам,
некогда испытанным, пусть это будут даже горестные
чувства. Так оно и произошло с Тангейзером, согласно
сообщению одной песни, принадлежащей к замечательней-
322
шим памятникам языка, сохранившимся в устах немец¬
кого народа. Впервые я прочитал эту песню в упомяну¬
том сочинении Корнмана. У него почти дословно взял
се Преториус; из «Блоксберга» Преториуса перепечатали
ее собиратели «Волшебного рога», и лишь по списку,
взятому из последней книги и, быть может, неточному,
приходится мне привести ее здесь:
Итак, начну, благословясь.
Споем о Тангейзере песню,
Как он с Венерой долго жил
И натворил чудес с ней.
Тангейзер, рыцарь удалой,
Прельстился дивным дивом —
Пошел к Венере и к се
Прислужницам красивым.
«Тангейзер, помните, что вас
Я нежно полюбила,
Вы дали клятву жить со мной,
Быть верным до могилы».
«Такой я клятвы не давал,
К чему попреки эти!
От вас я слышу от одной,
Всевышний мне свидетель!»
«Тангейзер, что за странная речь!
Останьтесь здесь, со мною,
II будет одна из моих подруг
Законной вашей женою».
«Когда женюсь я не на той,
Кого люблю сердечно,
В геенне огненной гореть
И мучиться мне вечно».
«К чему о геенне толкуешь ты,
Ведь ты не видел геенны,
А эти алые уста
Смеются неизменно».
«Мне ваши алые уста
Немилы и отвратны.
Позволь, прелестная, мне уйти,
По чести уйти обратно».
323
«На то согласья я ие даю,
Тангейзер, славный витязь.
Останьтесь лучше здесь, со мной,
И жизиыо нас ладитесь».
«От этой жизпи я зачах,
Клянусь самим всевышним!
Расстаться с вами я решил
II с телом вашим пышным».
«Тангейзер, что за вздорная речь!
Нашло па вас затмепье.
Пойдемте, чтоб отдаться вновь
Любовным наслажденьям».
«Я в жены нежную возьму
П чистую девицу.
Венера, мне вы пе нужны,
Ведь вы же дьяволица!»
«Тангейзер, ах, как дерзки вы!
Бранитесь как поносно!
Когда б остались вы у нас,
Раскаяться б пришлось вам.
Тангейзер, раз нам суждено
Расстаться, уходите,
А вы повсюду мне хвалу
В дороге возносите!»
Тангейзер гору покинул вновь,
Раскаяньем терзаясь.
«Направлю в Рим своп стопы
11 папе во всем покаюсь.
Я с чистым сердцем в путь пущу с
Господь нас пе отринет.
Там, в Риме, папа есть Урбан,
Мою ои исповедь примет».
«Святейший папа, властелин
II мой отец духовный!
Я к вам покаяться пришел
В провинности греховной.
Я жил с Венерой целый год,
Прельщен красой великой,
И каюсь в том, да узрю свет
Божественного лика».
В руках у папы посох был
Из жесткой древесины.
«Пусть прорастет ои, и тогда
Твои простятся вины».
«Когда б мне жить остался год,
Лишь год один, не доле,
Я, каясь, прожил бы его,
Покорен божьей воле».
II он стопы направил вспять
В отчаянье и муке.
«Мария чистая, с тобой
Отныне я в разлуке.
К Венере в гору я вернусь
Навеки, без возврата.
Так перст господень указал,
Его веленье свято».
«Привет, Тангейзер, я по вас
Скучала дни и ночи,
Привет, мой рыцарь, знала я,
Что вы ко мне вернетесь».
Па третьи сутки посох вдруг
Пророс — господне чудо! —
Гонцов послали, чтоб искать
Тангейзера повсюду.
А он в горе у Венеры был,
Томился безысходно
II ждал последнего суда,
А там — как богу угодно.
Не должно пастырям земным
От павших отрекаться:
Кто покаяние песет,
Тому грехи простятся. 1
Вспоминаю, что, прочитав впервые в указанной книге
Корнмана эту песню, я сначала был поражен противо¬
положностью между ее языком п педантически латини¬
зированной тяжеловесной прозой XVII века, которой
написана эта книга. Словно в подземном сумраке рудника
я вдруг наткнулся на богатую золотую жилу, и гордые
в своей простоте, могучие в своей первобытности слова
1 Перев. В. Зоргенфрея.
825
засверкали предо мною так ярко, что сердце чуть не было
ослеплено этим неожиданным блеском. Я тотчас ощутил,
что из этой песни говорит со мной хорошо знакомый голос
радости; я услышал здесь голоса тех про званных ерети¬
ческими соловьев, которые в продолжение всего великого
средневекового поста вынуждены были прятать свои
умолкшие клювики и лишь изредка, где их меньше всего
ожидали, например за монастырской стеной, давали о себе
знать несколькими ликующими звуками. Читал ли ты
«Письма Элоизы к Абеляру»? Наряду с «Песныо песней»
великого царя (я говорю о царе Соломоне) я не знаю более
пламенной песни любви, чем диалог между Венерой и
Тангейзером. Эта песня подобна битве любви, и в ней
струится самая алая кровь сердца.
Было бы трудно с точностью установить возраст песни
о Тангейзере. Мы находим ее уже в первых пробах древ¬
нейшей печати. Молодой немецкий поэт г-н Бехштейп,
любезно вспомнивший в Германии, что при встрече нашей
в Париже у моего друга Вольфа эти старинные летучие
листкп были предметом нашей беседы, прислал мне на-
дпях один из таких листков, под заглавием «Песнь о Дан-
гейзере». Лишь устарелость языка удержала меня от
сообщения здесь этого древнейшего варианта вместо
вышеприведенного более позднего. Первый характери¬
зуется значительными отступлениями и, по моему мне¬
нию, гораздо поэтичнее.
Случайно в мои руки попала недавно еще одна обра¬
ботка той же песни, где едва сохранена внешняя рамка
старейших версий, внутренние же мотивы изменены не¬
обыкновенным образом. В прежнем виде стихотворение,
бесспорно, гораздо красивее, проще и величавее. Лишь
известная правдивость чувства сближает эту новую вер¬
сию со старой, и так как я, без всякого сомнения, — вла¬
делец единственного существующего экземпляра, то
приведу здесь и ее:
О христиане! Ile дайте себя
Опутать бесовской силе!
Я вам о Тангейзере песню пою,
Чтоб души вы не губили.
Рыцарь Тангейзер радость искал,
Любовью он наслаждался.
Он грот Венеры нашел в горах
И там семь лет оставался.
326
«Венера, госпожа моя,
Будь счастлива долгие годы,
Я больше гостить у тебя не хочу,
Теперь я хочу свободы».
«Тангейзер благородный мой,
Ты что-то целуешься вяло,
Целуй меня крепче и говори —
Чего тебе здесь не хватало?
Не каждый ли день сладчайшим вином
Тебя я, скажи, угощала3
Ile каждый ли день венками из роз
Твое чело я венчала?»
«Венера, госпожа моя,
Меня не иереспорпшь.
Постыла сладость вина и ласк,
Вкусить я жажду горечь.
К тебе я пришел — смеяться, шутить,
Прощаюсь — рыдать готовый,
Я вместо венка из душистых роз
Надел бы венец терновый».
«Тангейзер благородный мой,
Нельзя ль обойтись без скандала?
Ты вспомни: меня пе оставить вовек
Ты клятвы давал, бывало.
Пошли бы мы лучше в укромный покой,
Былой отдались бы страсти,
II бело-лилейное тело мое
Тебе бы вернуло счастье».
«Венера, госпожа моя,
Прекрасной хранят тебя богп,
Ты нравилась многим в былые года
11 будешь нравиться многим.
Немало богов п немало людей
Владело тобой, вероятно;
На бело-лилейное тело твое
Мне даже глядеть неприятно.
На бело-лилейное тело твое
Я в страхе гляжу и в смятенье,
Когда вспоминаю, что многим оно
Доставит еще наслажденье».
327
«Тангейзер блаюродныи мой,
Свои гнев умерь ты малость,
Уж лучше просто меня прибей,
Как это прежде случалось.
Уж лучше просто меня прибей, —
Обидой считать не стану.
По ты — жестокий христианин,
Ты сердцу наносишь рану.
Должна я за то, что тебя люблю,
Терпеть подобную пытку f
Прощай! Ты можешь идти. Я сама
Тебе отворю калитку^/.
А в Риме, а в Риме, во граде святом,
Праздничный благовест пьгне.
Церковное шествие к храму плывет,
И папа посредине.
Это набожный папа Урбан,
И а нем тройная корона,
Пурпурной мантнн длинный шлейф
Несут четыре барона.
«Святейший отец наш, папа Урбаи,
Уйти ты ие сможешь отсюда,
Пока покаянье но примешь мое,
Покамест спасен я не буду!»
Народ, расступаясь, отходит назад,
Смолкает церковное пенье,
Но кто он, измученный пилигрим,
Пред папой склонивший колени?
«Святейший отец наш, папа Урбан,
Вязать и решать в твоей власти,
От адского пекла меня защити,
Спаси меня от напасти.
Рыцарь Тангейзер звали меня,
Любовью я наслаждался,
Я грот Венеры нашел в горах
И там семь лет оставался.
Прекрасней Венеры женщины пет,
И в мире ие сыщешь лучше;
Как солнечный свет и цветов аромат,
Голос ее певучий.
328
Как мотылек летит к цветку
11 к чаше припадает,
Моя смятенная душа
У губ ее порхает.
В черных кудрях ее голова,
Гордая, как пзваяиье,
Глядят иа тебя большие глаза,
Захватывает дыханье.
Глядят па тебя большие глаза —
II ты в цепях до могилы.
Мне очень трудно было уйти,
Но я нашел в себе силы.
Я спасся, ушел оттуда с трудом,
Теперь боюсь оглянуться:
Всегда и повсюду я вижу ее
II слышу: «Ты должен вернуться!»
Как призрак бездомный, скитаюсь я днем
II жить начинаю лишь ночью.
Мне спится она. Я вижу ее.
Я вижу ее воочыо.
Задорно и звонко смеется она,
11 белые зубы сверкают;
Когда вспоминаю я этот смех,
Слезы к глазам подступают.
Ее я люблю всей силой дз'ши,
И сердцу перечить пе надо, —
Когда низвергается горный поток,
Ничем не сдержать водопада.
Скача по утесам, ои вниз унесет
Шум, грохот, рыданье и пенье,
Он тысячу раз себе шею свернет,
По он пе замедлит паденье.
Если бы небом я обладал,
Той, кто всех мне дороже,
Я отдал бы солнце, отдал луну,
И звезды отдал бы тоже.
Ее я люблю всей силой души,
Любовь сожгла мое тело.
Не адский ли это уже огонь,
Которому нет предела?
329
Святейший отец наш, папа Урбан,
Вязать и решать в твоей власти,
От адского пекла меня защити,
Спаси меня от напасти».
Но папа скорбно руки воздел
II произнес сурово:
«Тангейзер, несчастный ты человек,
Бессильно святое слово.
Венерой прозванный, черт страшней,
Чем прочих чертей когорта.
Церковь не властна тебя спасти
От прелестей этого черта.
За радости плоти своей душой
Тебе поплатиться надо.
Несчастный, ты проклят, ты приговорен
Навеки к пламени ада».
Рыцарь Тангейзер быстро идет,
Хоть ноги изранены очень.
Обратно, туда, где Венерин грот,
Пришел он среди ночи.
Богиню Веперу оставил соп.
Она вскочила с кровати,
Чтобы любимого своего
Скорей заключить в объятья.
Носом кровь у нее пошла,
Слезы хлынули сами,
Она залила ему лицо
Кровыо и слезами.
Рыцарь улегся себе в постель,
Не проронив ни слова,
Богиня па кухню готовить суп
Для друга пошла дорогого.
Суп подала, хлеба дала,
Ноги ему омыла,
Кудри ему расчесала она, —
Очень ей весело было!
«Тангейзер благородный мой,
Давно ты со мной расстался.
Скажи, в каких ты странах плутал,
Где так долго шатался!»
330
«Вепера, госпожа моя,
Я время провел за границей.
Дела меня в Риме держали, по я
К тебе спешил возвратиться.
Рим стоит на семи холмах,
Меж ними Тибр протекает.
Я в Риме папу повидал,
Тебе он поклон посылает.
Я во Флоренцию заглянул,
В Милан зашел по дороге,
Потом легко преодолел
Швейцарские отрога.
Когда я достиг Альпийских гор,
Снежинки кружиться стали,
Озера улыбались мне,
Орлы надо мной клекотали.
На Сен-Готардо услышал я храп —
Дремала Германия сладко.
Три дюжины добрых ее королей
Стояли иа страже порядка.
Я в Швабии школу поэтов иашел,
Младенцы — ну просто прелесть:
На них колпаки с бубенцами на всех,
И все на горшочках уселись.
Во Франкфурт к шабесу я подоспел,
Отведал я клецки и шалет.
Ваша религия лучше других,
Гусиные шкварки все хвалят.
А в Дрездене видел я старого пса.
Он прежде умел отличиться.
Но выпали зубы теперь у него,
Он стал лишь брехать да мочиться.
А в Веймаре — муз овдовевших приют.
Мне грустные песии там пели.
Там плачут и плачутся: Гете в гробу,
А Эккерман жив доселе.
Я в Потсдаме слышал отчаянный крик.
Откуда же возгласы эти?
Да это в Берлине наш Ганс, он решил
Читать о текущем столетье.
331
Л вот в Геттштгсие паука цветет,
Да так, что плодов не заметно.
Я город осматривал в темную ночь.
Она была беспросветна.
А в Целле в тюрьме я увидел одппх
Ганноверцев. Немцы, мы жалки!
Нет у нас общегерманской тюрьмы
II общсгерманской палки.
В Гамбурге я спросил — почему
Улицы здесь провоняли?
По мненыо евреев и христиан,
Воняет тина в канале.
В Гамбурге, хоть он и очень хорош,
Народу хватает дурного.
Я, биржу посетив, решил,
Что в Целле был я снова.
В Гамбурге в Альтоиу я попал, —
Это прекрасное место.
После когда-нибудь я расскажу
Все, что о нем мне известно». 1
* Дерев. П. Карпа.
ДОПОЛНЕНИЯ К «ДУХАМ СТИХИЙ»
(из I и II французских изданий)
С т р. 283. После слов «оставили исполинские долги»
вместо последующего текста (ло конца абзаца):
«И позже великаны так и не захотели принять хри¬
стианство. Я вывожу это из одной старинной датской
баллады, заканчивающейся собранием и свадьбой вели¬
канов. Невеста уже за завтраком поглощает четыре бочки
мясного варева, шестнадцать говяжьих вырезок и восем¬
надцать свиных грудинок п запивает эту еду семыо боч¬
ками пива. «Поистине, — говорит жених, — ие случа¬
лось мне видеть девушку с таким добрым аппетитом».
Среди пирующих был и карлик Миммерпнг, маленький
рост которого особенно выделялся в сравнении с этими
великанами. И песня заканчивается словами: «Малень¬
кий Миммсринг был единственным христианином во всем
этом языческом сборище».
Что касается свадеб у этого «малого народца», как
иногда называют карликов в Германии, то о них сохра¬
нились прелестнейшие сказания; вот, например, одно
из них.
Маленький народец вздумал однажды отпраздновать
свадьбу в замке Эйленбург в Саксонии, и вот среди ночи
они сквозь замочную скважину и оконные щели пробра¬
лись в залу и прыгали там по натертому полу, как горо¬
шины на току. Это разбудило старого графа, спавшего на
возвышении под пологом в этой зале, и он был изумлен
333
видом этой толпы маленьких человечков. Тут один из них
в богатом одеянии герольда, подойдя, вежливо, в учти¬
вых словах, пригласил его принять участие в их празд¬
нике. «Но просим вас, — прибавил он, — об одном: вы
должны быть здесь один; никто в вашем доме пе должен
одновременно с вами смотреть на празднество, даже еди¬
ного взгляда не должен бросить». Старый граф друже¬
любно ответил: «Так как вы нарушили мой сои, я ваш
гость». Тут подвели к нему маленькую женщину; заняли
места маленькие факельщики, и заиграла тихая, таинст¬
венная музыка. Графу очень трудно было не потерять
в танце свою маленькую даму, так легко ускользавшую
от него в круговороте; в конце концов она так заверте¬
ла его, что он едва мог дышать. Вдруг в разгаре этой
оживленной пляски все останавливаются; музыка смолкла,
и вся толпа бросилась к дверным щелям, к мышиным нор¬
кам, ко всем дырочкам, сквозь которые можно было
пройти. Но молодые, герольды и танцующие подняли
глаза к отверстию в потолке залы и увидели там лицо ста¬
рой графини, тайком смотревшей на веселое общество.
Тут все они склонились перед графом, и тот, который при¬
глашал его, снова выступил, благодаря его за гостепри¬
имство. «Но так как, — прибавил он, — наше торжество
и наше веселье было нарушено тем, что еще один взгляд
человеческий видел их, то впредь в вашем роду никогда
не будет одновременно больше шести Эйленбургов».
Затем они поспешно разбежались, все снова стихло, и
старый граф остался в одиночестве в потемневшей ком¬
нате. Проклятие имеет силу до сих пор, и один из шести
живых рыцарей Эйленбургов всегда умирает, когда иа
свет появляется седьмой».
Стр. 288—289. После стихотворения (вместо двух
последующих абзацев и цитаты из песни):
«Лишь два сказания об эльфах могут считаться чисто
скандинавского происхождения, и так как они короче и
лучше рассказаны в датских песнях, то я приведу их в этой
версии. Вот первая:
Я склонил голову иа холме эльфов, мои глаза слипались;
Тут пришли две молодые женщины, заговорившие со мной.
Лишь в этот первый раз я их видел.
334
Одна потрепала меня по белой, щеке, другая шепнула мне па ухо:
«Встань, пригожий молодец, если хочешь приготовиться к пляске».
Лишь в этот первый раз я их видел.
«Проснись, пригожий молодец, если хочешь попрыгать в пляске;
Мои юные дочери споют тебе приятнейшие вещи ; которые сладостно
тебе будет слушать».
Лишь в этот первый раз я их видел.
И вдруг повыше всех женщин раздалась песня,
Остановился вдруг пенистый поток, хотя привык струиться.
Лишь в этот первый раз я их видел.
Остановился вдруг пенистый поток, хотя привык струиться.
Маленькие рыбки играли, плавая в его волнах.
Лишь в этот первый раз я их видел.
Они играли своими хвостиками, все рыбки в потоке;
Все птички, летавшие в воздухе, запели в долине.
Лишь в этот первый раз я их видел.
«Послушай, пригожий молодец, хочешь остаться у нас?
Мы научим тебя вырезать руны, читать их и писать».
Лишь в этот первый раз я их видел.
«Я научу тебя привязывать медведя п вепря к стволу дуба;
Змей, лежащий на куче золота, убежит из страны,испугавшись тебя».
Лишь в этот первый раз я их видел.
Они плясали вверху, они плясали внизу, в хороводе эльфов.
Я, пригожий молодец, стоял, твердо опершись па свой меч.
Лишь в этот первый раз я их видел.
«Послушай, пригожий молодец,если не хочешь разговаривать с нами,
Острым ножом дадим мы тебе полный покой».
Лишь в этот первый раз я пх видел.
Когда б господь не направил мою звезду так, что петух в этот миг
захлопал крылом,
Я, конечно, остался бы иа холме эльфов с этими молодыми женщинами.
Лишь в этот первый раз я их видел.
И всякому доброму молодцу, который едет ко двору, скажу,
Чтобы он не ехал через холм эльфов и не ложился там спать.
Лишь в этот первый раз я их видел».
Стр. 291. После слов «в свое водяное царство»:
«Рассказывают следующую историю.
335
В Лайбахе, в реке, носящей то же название, жил
водяной дух, которого называли Никс, или водяной. Он
являлся ночыо рыбакам и лодочникам, а днем и другим
людям, так что всякий мог рассказать, как он вышел
из воды и явился в человеческом образе. В 1547 году,
в первое воскресенье июля, все окрестное население со¬
бралось, по стародавнему обычаю, в Лайбахе на старом
рынке у фонтана, приветливо осененного прекрасной ли¬
пой. Отобедав под музыку вместе с друзьями, они пусти¬
лись в пляс. Спустя некоторое время приходит молодой
парень, хорошо сложенный н хорошо одетый, который,
казалось, непрочь был принять участие в пляске. Оп
вежливо раскланялся с собравшимися и каждому дру¬
жески подал руку, которая была на ощупь мягка, и хо¬
лодна как лед, и при прикосновении вызывала странную
дрожь; потом он пригласил на танец одну молодую де¬
вушку, красивую и нарядную; она была свежа, развязна
и легкомысленна и звалась Урсула Шефер; она умело
приспособилась к его ухваткам и вместе с ним проделы¬
вала его забавные выходки. С жаром проплясав некото¬
рое время, они, вертясь, выскользнули из круга зрите¬
лей, все дальше и дальше, сперва от липы до Зиттихен-
гофа, потом еще дальше, до Лайбаха, где он, иа виду
у многих лодочников,бросился с нею в реку,и оба скрылись.
Липа эта стояла до 1638 года, когда ее срубили вслед¬
ствие ее старости».
Стр. 291. Вместо краткого пересказа песни о дочери
Марск-Стига:
«Это сказание ходит в разнообразнейших вариантах.
Самый красивый — датский — в цикле песен, прослав¬
ляющих гибель цареубийцы Марск-Стига и всего его
рода. Водяной обращается к своей матери:
«Дорогая матушка, дайте мне сейчас же совет,
Как бы мне овладеть дочерыо Марск-Стига».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Она сделала ему коня из чистой воды,
Седло и удила были тончайшего песка;
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Она превратила его в прекрасного рыцаря;
И ои направился к собору святой Марии.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
336
Оя привязал коня своего у церковных врат
II трижды обошел вокруг церкви.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Водяной человек вошел в церковь,
II все лица святых отвернулись.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Священник пред алтарем сказал:
«Что это за прекрасный рыцарь?»
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Дочь Марск-Стнга засмеялась под своей фатою:
«Пусть бы небо сделало этого рыцаря моим».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
О и прошел одну скамыо, потом прошел две:
«О дочь Марск-Стига, поклянись мне в верности!»
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Он прошел четыре скамьи и прошел пять:
«О дочь Марск-Стига, следуй за мной в мой дом».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Дочь Марск-Стига протянула ему руку:
«Клянусь тебе и следую за тобой».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Тогда вышло из церкви свадебное шествие,
II они весело плясали, не боясь ничего.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Они дошли в пляске до реки.
Наконец, уж никого не было подле них.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
«О дочь Марск-Стига, подержи моего коня,
Пока я построю тебе красивый кораблик».
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
II когда они пришли на белый песок,
Все кораблики повернули к берегу.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
II когда они были на середине Зунда,
Дочь Марск-Стига упала в море.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
12 Г. Гейне, т. 6
337
С берега опп долго слышали,
Как кричала в воде дочь Марск-Стига.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Я советую молодым девушкам
Не пускаться так пылко в пляс.
Мне сдается, страшно выезжать верхом.
Мы тоже дадим некоторым молодым девушкам разумный
совет не пускаться в пляс с первым попавшимся. Однако
юные особы всегда опасаются, как бы у них не оказалось
мало кавалеров, и чем подвергаться опасности быть
неприглашенными, они охотно бросятся в объятия водя¬
ного».
Стр. 302. После слов «со скандинавскими валькири¬
ями» вместо последующего текста (до конца абзаца):
«Это женщины, рассекающие воздух своими белыми
крыльями, обычно накануне битвы, исход которой опре¬
деляется их тайными решениями. Они имеют также обык¬
новение являться витязям на уединенных лесных тропин¬
ках и предсказывать им победу или поражение. У Пре-
ториуса рассказано:
«Случилось однажды, что король Швеции и Дании
Готер, занесенный конем на охоте, заблудился в тумане,
далеко от своих, увидел пред собою девушек, которые
знали его, приветствовали, назвав по имени, и заговорили
с ним. И на его вопрос, кто они, они ответили ему, что
в их руках победа над врагом на войне; что они всегда
на войне и что они помогают в бою, хотя и остаются при
этом сами невидимы; что тот, кому они даруют победу,
разбивает и покоряет врагов и остается победителем на
поле битвы, и враг не может повредить ему.
Сказав это, они исчезли иа его глазах со всем, что было
вокруг, и король остался один в чистом поле...»
В основе рассказ этот напоминает нам появление трех
ведьм пред Макбетом. Вера в валькирий перешла здесь
в веру в ведьм. Равным образом находим мы в герман¬
ских преданиях трех норн, но в виде старых колдуний
или причудливых прях, пз коих одна сучит льняную
нить, другая ее смачивает, а третья вертит прялку. Эти се¬
верные парки обычно являются в детских сказках, из
коих привожу самую милую из книги Гриммов;
338
«Жила-была ленивая девушка, которая не хотела
прясть. Как ни убеждала ее мать, она не могла ее угово¬
рить взяться за работу. Наконец, однажды, рассердив¬
шись и потеряв терпение, мать побила ее, отчего девушка
громко расплакалась. В это время проезжала королева
и, услышав плач, приказала остановиться и спросила
мать, за что она так бьет дочь, что плач слышен на улице.
Матери стыдно было рассказать про лень дочери, и она
сказала: «Не могу оторвать ее от прялки; всегда и вечно
хочет она прясть; но я бедна и не могу достать сколько
надо льна». — «Вот как, — сказала королева, — нет для
меня большего удовольствия, чем слушать, как прядут,
и ничем не восхищаюсь я больше, чем верчением прялок;
отдайте мне вашу дочь. У меня в замке довольно льна;
она сможет прясть сколько захочет». Матери это приш¬
лось очень по сердцу, и королева взяла девушку с собой.
Когда они приехали в замок, королева привела девушку
в три комнаты, сверху донизу наполненные самым луч¬
шим льном: «Спряди мне этот лен, — сказала она, — и
когда ты кончишь, мой старший сын женится на тебе.
Хотя ты бедна, мне это все равно. Твое неутомимое при¬
лежание — достаточное приданое». Девушка перепуга¬
лась в глубине души, так как всего этого льна ей было
не спрясть, хотя бы она прожила триста лет и работала
бы ежедневно с утра до вечера. Оставшись одна, она рас¬
плакалась и три дня просидела сложа руки. На третий
день пришла королева и, видя, что ничего не сделано,
удивилась; но девушка оправдывалась, говоря, что горе,
причиненное ей разлукой с материнским домом, мешало
ей работать. Королева поверила, но, уходя, сказала:
«Значит, завтра примешься за работу».
Оставшись снова одна, девушка не знала, на что ре¬
шиться и что делать, и в горести подошла к окну. Тут она
увидела трех старух, у одной из которых была плоская
стопа, у другой нижняя губа свешивалась на подбородок,
а у третьей был широкий большой палец. Проходя пред
окном, они остановились, посмотрели вверх и предложили
помочь девушке, говоря: «Если ты пригласишь нас на
свадьбу, не будешь нас стыдиться, а будешь называть
нас тетушками, мы спрядем твой лен, и очень скоро». —
«Ах, от всей души, — ответила она, — войдите и прими¬
тесь сейчас за работу». Вот она впустила этих трех стран-
12*
339
пых женщин и в первой комнате очистила место, где они
уселись и принялись прясть. Одна тянула нитку и вер¬
тела колесо, другая смачивала нитку, а третья сучила ее
и постукивала пальцем по столу, и всякий раз, как она
стучала, па землю падал моток тончайшей пряжи. Девушка
скрыла от королевы трех прях, и когда та пришла, пока¬
зала ей громадную кучу пряжи, так что королева ие могла
нахвалиться. Когда первая комната была опустошена,
пришла очередь второй, потом третьей, и та скоро оказа¬
лась пуста. Тогда три женщины распрощались с девушкой,
сказав ей: «Не забывай же о своем обещании; в этом твое
счастье».
Когда девушка показала королеве пустые комнаты и
груду ниток, та устроила свадьбу, и жених радовался,
что у него будет такая трудолюбивая жена, и очень хва¬
лил ее. «У меня три тетушки, — сказала девушка, —
они мне много сделали добра, я не хотела бы их забывать
в счастье; пусть сядут с нами за стол». Королева и жених
согласились. Когда началось празднество, вошли три
женщины в странных нарядах, и невеста сказала: «Добро
пожаловать, дорогие тетушки!» —«Ах, — сказал жених, —
отчего у тебя такие некрасивые друзья?» И, обратившись
к первой, он спросил ее, отчего у нее такая плоская стопа.
«От нажима на прялку, от нажима», — ответила она.
«Отчего у вас отвислая губа?» — спросил он у второй.
«От лизания, — ответила она, — от лизания». Потом он
спросил у третьей: «Отчего у вас такой широкий палец?» —
«От сучения, — ответила она, — от сучения». Тогда коро¬
левский сын испугался и вскричал: «Если так, то моя
прекрасная невеста никогда не прикоснется к прялке!»
Таким образом она избавилась от этой проклятой работы».
А мораль? Французы, которым я рассказывал эг1у
сказку, неизменно спрашивали меня, в чем ее мораль.
Вот в этом-то, друзья мои, и состоит разница между вами
и нами. Мы требуем морали только в действительной
жизни, ио отнюдь не в поэтических вымыслах. Вы, во
всяком случае, можете вывести из этого рассказа, что
можно заставить прясть за себя других и все же сделаться
принцессой. Очень благородно со стороны кормилицы,
если она вовремя сообщит детям, что есть нечто еще более
действенное, чем труд, а именно счастье. У нас ходит
поверье о счастливчиках, которые родились в рубашке
340
и которым потом везет во всем па свете. Вера в удачу
как нечто прирожденное или случайно подаренное имеет
языческое происхождение и составляет восхитительный
контраст христианским воззрениям, согласно которым
страдания и лишения рассматриваются как наивысшис ми¬
лости небес.
Задачей, назначением язычества было завоевание сча¬
стья. Греческий герой называл его золотым руном, герой
германский — сокровищем Нибелуигов. Напротив, за¬
дачей христианства было отречение, и его герои прохо¬
дили через подвиг мученичества: они сами возлагали
на себя крест, и величайшая их борьба всегда увенчива¬
лась лишь завоеванием могилы.
Нельзя, правда, не вспомнить, что как золотое руно,
так и сокровище Нибелунгов принесли своим обладате¬
лям великие несчастья. Но в самом деле ошибкой этих
героев было то, что они приняли золото за счастье. По
существу они были правы. Человек должен стремиться
к счастью иа этой земле, к сладостному блаженству,
а не к кресту... Увы, он может дожидаться того времени,
когда будет иа кладбище: там поставят на его могиле
этот крест».
Стр. 311. После цитаты из песни:
«Многие утверждают, что когда бедное дитя не может
уснуть, добрая старушка обычно читает ему берлинскую
«Церковную евангелическую газету».
Обиход дьявола устроен в аду в полном соответствии
с обиходом Христа па небе. Последний также живет
холостяком со своей матерью; царица небесная и ангелы —
его домочадцы, как дьяволы — домочадцы сатаны. Дья¬
вол и его прислужники — черны, Христос и его ангелы —
белы. В северных немецких народных песнях всегда
говорится о белом Христе. Мы обычно называем дьявола
черным, князем тьмы. К этим двум персонажам, Христу
и дьяволу, тот же народ присоединил еще две фигуры,
столь же бессмертные, столь же непреходящие: смерть
п вечного жрща. Средние века завещали искусству нового
времени эти четыре типа как олицетворение добра, зла,
разрушения и человечества. Вечный жид, скорбный сим¬
вол человечества, никем пе понят глубже, чем Эдгаром
Кине, одним из величайших поэтов Франции. Мы,немцы,
341
недавно переведя его «Агасфера», немало были изумлены,
встретившись со столь исполинским замыслом у фран¬
цуза.
Быть может также, французам суждено дать наиболее
правильное объяснение средневековым символам. Фран¬
цузы давно вышли из средневековья, они смотрят на
него спокойно и могут оценить его красоты без предвзя¬
тости философской или эстетической. Мы, немцы, сидим
еще в нем по шею, в этом средневековье: мы боремся
еще с его одряхлевшими представителями; мы, стало
быть, не можем восхищаться им с особенным пылом.
Нам, наоборот, необходимо распаляться односторонней
ненавистью, для того чтобы не была парализована наша
разрушительная энергия.
Вы, французы, можете любоваться рыцарством и лю¬
бить его. У вас от него ие осталось ничего, кроме краси¬
вых летописных сказаний и железных доспехов. Вы ничем
не рискуете, развлекая таким образом ваше воображение,
удовлетворяя ваше любопытство. А у нас, немцев, лето¬
пись средних веков не закончена; самые новейшие ее
страницы еще залиты кровью наших близких и друзей,
и эти блестящие панцири еще прикрывают живые тела
наших палачей. Ничто не мешает вам, французам, ценить
формы старинной готики. Для вас в больших соборах,
вроде собора Парижской богоматери, нет ничего, кроме
архитектуры и романтики; для нас это самые страшные
крепости наших врагов. Для вас сатана с его адскими
приспешниками — только поэзия; у нас есть еще мошен¬
ники и дураки, старающиеся философски обосновать веру
в дьявола и в инфернальные злодеяния ведьм. Пусть это
происходит в Мюнхене, — это в порядке вещей, но когда
в просвещенном Вюртемберге делается попытка оправ¬
дать старинные колдовские процессы, когда выдающийся
писатель, г-н Юстинус Кернер, старается воскресить веру
в одержимых духом, то это столь же прискорбно, сколь
отвратительно.
О черные плуты! И вы, дураки всех цветов! Кончайте
свое дело, зажгите мозг народа отжившими суевериями,
столкните его на путь фанатизма; вы сами когда-нибудь
станете его жертвами; вы не избегнете участи неумелых
колдунов, которые не смогли справиться с вызванными
ими духами и были разорваны ими на куски.
342
Быть может, бог революции неспособен поднять народ
германский посредством разума, быть может сверше¬
ние этого трудного дела — задача безумия? Когда, вски¬
пев, кровь бросится ему в голову, когда он вновь почув¬
ствует биение своего сердца, народ не станет слушать ни
благочестивого лепета баварских святош, ни мистического
бормотания швабских пустозвонов; ничто не будет больше
слышно его духу, кроме мощного голоса одного человека.
Кто этот человек?
Это человек, которого ждет парод германский, чело¬
век, который возвратит ему, наконец, жизнь и счастье,
счастье и жизнь, по которым он так долго томится в своих
сновидениях. Как медлишь ты, кого с таким пламенным
вожделением возвещали старики, кого юность ждет с та¬
ким нетерпением, ты, несущий волшебный скипетр сво¬
боды и императорскую корону без креста!
Одпако здесь не место взывать, тем более что я укло¬
нился от моей темы. Я должен говорить лишь о невинных
преданиях, о том, что рассказывается и распевается за
немецкими печками. Вижу, что дал очень скудные све¬
дения о духах, живущих в горных недрах, например
ничего не сказал о Кифгейзере, где пребывает император
Фридрих. Он, правда, не принадлежит к духам стихий, я
же занят в этой части только ими. Но предание слишком
мило и восхитительно; всякий раз, когда я вспоминал
о нем, душа моя содрогалась от священного вожделе¬
ния, от мистической надежды. Разумеется, в убеждении,
что император Фридрих, старый Барбаросса, пе умер,
но, когда попы сделались ему невмоготу, сбежал в недра
горы, которая называется Кифгейзер, есть нечто боль¬
шее, чем сказка. Рассказывают, что он скрывается там
вместе со своим двором, пока не появится вновь, чтобы
осчастливить народ германский. Гора эта находится в
Тюрингии, неподалеку от Нордгаузена. Я много раз про¬
ходил мимо нее и как-то в прекрасную зимнюю ночь
более часа стоял там, многократно восклицая: «Приди,
Барбаросса, приди!», и сердце огнем горело в моей груди,
и слезы лились по щекам. Но он не пришел, дорогой
император Фридрих, и я мог облобызать только скалу,
где он живет.
Молодой пастух, живущий по соседству, был счастли¬
вее. Он пас овец подле Кифгейзера, заиграл на свирели
343
и,'решив, что заслужил добрую награду, громко восклик¬
нул: «Император Фридрих, для тебя я сыграл эту сере¬
наду!» Говорят, император вышел на зов этот из горы,
явился пред пастухом и сказал ему: «Бог в помощь,
юноша; для кого ты, играл?» — «Для императора Фрид¬
риха». — «Если так, то пойдем со мною, оп наградит
тебя». — «Я не могу оставить овец». — «Следуй за мной,
ничего дурного ие будет с твоими овцами».
Пастух пошел за императором, который за руку при¬
вел его к расщелине в горе. Они подошли к железной
двери, и, когда она распахнулась, пред пастухом открыл¬
ся большой красивый зал, где было много рыцарей и
добрых слуг, с почетом их встретивших. Затем импера¬
тор, выказывая ему благоволение, спросил его, какой
он желает награды. Пастух ответил: «Никакой». Тогда
император сказал ему: «Иди и возьми в награду одну из
ножек моего золотого кувшина». Пастух сделал то, что
было ему приказано, и хотел идти; но император пока¬
зал ему еще множество диковинного оружия, латы,
мечи, аркебузы и велел ему рассказать людям, что оп со¬
бирается этим оружием завоевать гроб господень.
Пастух, несомненно, плохо понял его. Барбаросса
помышлял о совсем иных завоеваниях, чем гроб господень.
Л то, может быть, пастух, боясь быть брошенным в каче¬
стве демагога в темницу, слегка приукрасил истину. Не
гробницу, холодное обиталище мертвеца, хочет завое¬
вать старый Барбаросса, но блистательное жилище для
живых, теплое царство света и наслаждения, где он мог
бы радостно царить, с волшебным скипетром свободы
в руке, увенчанный императорской короной без креста.
Что касается пастуха, то в заключение истории рас¬
сказывается, что он в радости и в добром здравии вышел
из недр горы и на другой день отнес золотых дел мастеру
ножку кувшина, подаренную ему. Мастер признал, что
она сделана из лучшего золота, и купил у него подарок
императора за триста добрых дукатов.
Рассказывают также о другом крестьянине, из деревни
Реблинген, видевшем императора в Кифгейзсро и получив¬
шем от него прекрасный подарок. Знаю одно, что если бы
меня привела моя звезда внутрь этой горы, я пе просил
бы у Барбароссы ни золотых ваз, ни подобных игрушек,
а если уж он захотел бы дать мне что-нибудь, то я попро¬
341
сил бы у пего его книгу «De tribus impostoribus». 1 H
тщетно разыскивал эту книгу в библиотеках и уверен,
что автор ее, старая Рыжая Борода, сохраняет несколько
экземпляров в Кифгейзере.
Многие уверяют, что император в своей горе сидит за
каменным столом и спит или размышляет о способах
обратно отвоевать империю. Он непрестанно покачивает
головой и моргает глазами. Борода его выросла теперь
до земли. Иногда, словно во сне, он протягивает руку и
как бы хочет orinib схватить свой меч и щит. Говорят,
что, когда император вернется на землю, ои повесит этот
щит на высохшем дереве, и тогда дерево начнет распу¬
скаться и зеленеть, и лучшие времена вернутся тогда
в Германию. Что касается меча, то, говорят, его будет
нести крестьянин в полотняной рубахе, и этим мечом
отрубят голову тем, кто по глупости посмеет считать, что
он по крови выше крестьянина. Но старые рассказчики
прибавляют, что никто точно не знает, когда и как это
произойдет.
Передают еще, что, когда один пастух, введенный гно¬
мом, вошел в глубь Кифгсйзсра, император поднялся и
спросил, летают ли еще вороны вокруг горы. И после
утвердительного ответа пастуха оп со вздохом вскричал:
«Значит, мне надо спать еще сто лет!»
Увы, несомненно, вороны все еще летают вокруг горы,
столь хорошо известные нам черные вороны, набожное
карканье которых мы все еще слышим. Но время ослабило
их, и есть хорошие стрелки, быощие их на лету. Я знаю
одного из этих стрелков, который проживает теперь в Па¬
риже и отсюда умело бьет воронов, летающих вокруг
Кифгсйзсра. Когда император возвратится на свет, он
найдет иа своем пути немало воронов, которых этот стре¬
лок убил из своего арбалета. И старый государь заме¬
тит, посмеиваясь, что у того было славное оружие».
1 «О трех обманщиках» (лат.).
ФЛОРЕНТИНСКИЕ
НОЧИ
НОЧЬ ПЕРВАЯ
В передней Максимилиан застал врача, который ужо
натягивал черные перчатки.
— Я очень спешу! — торопливо крикнул он Макси¬
милиану. — Синьора Мария не спала весь день и только
сейчас слегка задремала. Мне не к чему напоминать вам
о том, что следует избегать всякого шума, который мог
бы разбудить ее; а когда она проснется, то, бога ради,
не давайте ей говорить. Она должна спокойно лежать;
ей нельзя двигаться, нельзя шевелиться, нельзя говорить,
и лишь духовное оживление для нее полезно. Пожалуй¬
ста, рассказывайте ей опять всякий вздор, пусть она
спокойно вас слушает.
— Не беспокойтесь, доктор, — с грустной улыбкой
возразил Максимилиан. — Из меня уже выработался
настоящий болтун, я не даю ей произнести ни слова. Я
буду рассказывать ей фантастические бредни, без конца,
сколько угодно... Но долго лп ей еще осталось жить?
— Я очень спешу, — ответил врач и исчез.
Черпая Дебора, с ее чутким слухом, по походке узнала
вошедшего и тихо открыла ему дверь. По его знаку она
так же тихо удалилась из комнаты, и Максимилиан остался
один около своей подруги. Единственная лампа сумереч¬
ным светом освещала комнату. Эта лампа с робостью
и любопытством бросала временами отсветы на лицо
больной женщины, которая лежала, вытянувшись на
зеленой шелковой софе, одетая в белую кисею, и тихо
спала.
349
Молча, скрестив руки на груди, стоял Максимилиан
некоторое время перед спящей и созерцал ее прекрасные
формы, которые скорее открывались, чем прикрывались
легкой одеждою, и каждый раз, когда лампа бросала луч
света на бледное лицо, сердце его начинало биться силь¬
нее.
— Боже! — прошептал он про себя. — Что это? Какое
воспоминание оживает во мне? Да, теперь я знаю. Эта
белая фигура на зеленом фоне, да, теперь...
В это мгновение больная проснулась, и, точно из глу¬
бины сновидения, поднялись на друга ее мягкие темно¬
синие глаза с вопросом, с мольбою...
— О чем вы сейчас думали, Максимилиан? — спро¬
сила она тем грустно-нежным голосом, которым говорят
чахоточные и в котором как бы слышится лепет ребенка,
щебетанье птицы и последние хрипы умирающего. — О чем
вы сейчас думали, Максимилиан? — еще раз повторила
она и вдруг приподнялась так резко, что длинные локоны,
как вспугнутые золотые змеи, кольцами обвили ее голову.
— Ради бога, — воскликнул Максимилиан, бережно
укладывая ее опять на софу, — лежите спокойно, не го¬
ворите; я все скажу вам, все, что я думаю, все, что чув¬
ствую, и даже то, чего сам не знаю!
— На самом деле, — продолжал он, — я сам не знаю
в точности, о чем я сейчас, думал и что чувствовал. Кар¬
тины детства туманной вереницей проносились в моей
голове: я вспоминал замок матери, запущенный сад во¬
круг него, прекрасную мраморную статую, лежащую в зе¬
леной траве.., Я упомянул о «замке моей матери»; но,
ради бога, не представляйте себе при этом ничего роскош¬
ного и великолепного! Я просто привык так говорить;
отец мой всегда с каким-то особым выражением произно¬
сил слово «замок» и всегда так странно при этом улыбался.
Значение этой улыбки я понял лишь впоследствии, когда
я, мальчуганом лет двенадцати, поехал с матерью в этот
замок. Это было мое первое путешествие. Целый день
мы ехали по густому лесу, и жуткий мрак его оставил во
мне незабываемое впечатление. Лишь под вечер мы оста¬
новились перед длинным шлагбаумом, который отделял нас
от широкой поляны. Нам пришлось ждать почти полчаса,
пока из ближайшей землянки не вышел малый, который
отодвинул барьер и впустил нас. Я назвал его «малым»,
250
потому что старая Марта продолжала так называть своего
сорокалетнего племянника. Для того чтобы должным
образом встретить благородных господ, он напялил на
себя старую ливрею своего покойного дяди, а так как из
нее необходимо было предварительно выколотить пыль,
то он и заставил нас так долго ждать. Будь у него еще
лишнее время, он, вероятно, надел бы и чулки; но его
длинные голые красные ноги мало отличались от ярко¬
пунцовой ливреи. Были ли под ней еще и панталоны, я
не помню. Наш слуга Иоганн, который тоже часто слышал
о «замке», сделал очень удивленное лицо, когда малый
подвел его к маленькому покосившемуся строению, где
жил покойный барин. Но Иоганн совершенно растерялся,
когда мать приказала ему внести туда постели. Как мог
он думать, что в «замке» не окажется постелей! И прика¬
зание матери захватить постели для нас он или вовсе не
слышал, или пропустил мимо ушей, считая это излиш¬
ними хлопотами.
Маленький одноэтажный домик, который в свои луч¬
шие времена насчитывал не более пяти жилых комнат,
сейчас представлял унылую картину тленности жизни.
Поломанная мебель, рваные обои, ни одного целого окон¬
ного стекла, кое-где оторванные половицы, всюду безо¬
бразные следы озорного хозяйничания солдат, «Солдат¬
ский постой у нас всегда очень развлекался!» — сказал
малый с идиотской улыбкой. Но мать сделала нам знак,
чтобы мы оставили ее одну, и, в то время как малый за¬
нялся с Иоганном, я отправился осматривать сад. Сад
тоже имел безотрадный вид полного запустения. Большие
деревья частью омертвели и стояли искалеченные, частью
были сломаны, и ползучие растения с торжеством подни¬
мались над павшими стволами. Лишь местами разрос¬
шиеся тисовые кусты напоминали о заглохших дорожках.
Кое-где стояли статуи, почти все без головы или в луч¬
шем случае без носа. Мне вспоминается Диана, у которой
нижняя часть тела самым забавным образом обросла тем¬
ным плющом; вспоминаю также богиню изобилия, у ко¬
торой из рога пышно выбивались дурно пахнущие сорные
травы. Лишь одна статуя, бог знает как, уцелела от злобы
людей и времени; правда, она была сброшена со своего
пьедестала в высокую траву, по здесь она лежала нетро¬
нутая, эта мраморная богиня с прекрасными, чистыми
351
чертами лица, и, как греческое откровение, выделялись'
в высокой траве строгие формы благородной груди. Я по¬
чувствовал почти страх, когда увидел ее; эта статуя вну¬
шала мне странный, жгучий трепет, и тайный стыд не
позволял мне долго наслаждаться созерцанием ее пре¬
лести.
Когда я вновь вернулся к матери, она стояла у окна,
погруженная в мысли; голова ее опиралась на правую
руку, и слезы не переставая текли у нее по щекам. Ни¬
когда до этих пор я не видел, чтобы она так плакала.
Она обняла меня с порывистой нежностью и стала просить
у меня прощения за то, что я, по небрежности Иоганна,
буду лишен порядочной постели. «Старая Марта, — ска¬
зала она, — тяжело больна и потому не сможет, милое
дитя, уступить тебе свою постель. Но Иоганн возьмет
подушки из кареты и устроит так, чтобы ты мог на них
спать, и пусть ои даст тебе также свой плащ вместо оде¬
яла. Я сама буду спать здесь на соломе; это спальня моего
покойного отца; когда-то здесь все имело лучший вид.
Оставь меня одну!» — И слезы еще обильнее полились
у нее из глаз.
Не знаю отчего, от непривычного ли ложа или от ду¬
шевного смятения, но я пе мог уснуть. Сквозь разбитое
окно свободно лился лунный свет, и мне казалось,
что он манит меня туда, в светлую летнюю ночь. Я во¬
рочался на своей постели с боку на бок; я закрывал глаза
и снова с нетерпением открывал их и все время не переста¬
вая думал о прекрасной мраморной статуе, которую я видел
лежащей в траве. Я не мог объяснить себе стыдливую
робость, охватившую меня при взгляде на нее; я досадо¬
вал на себя за это ребяческое чувство. «Завтра, — тихо
сказал я себе, — завтра я поцелую тебя, прекрасное мра¬
морное лицо, поцелую в тот прелестный уголок рта, где
губы заканчиваются восхитительной ямочкой!» Нетер¬
пение, подобного которому я никогда не испытывал,
охватило все мое существо; я не в силах был дольше сопро¬
тивляться странному влечению и, наконец, вскочив с по¬
стели, воскликнул с задорной отвагой: «Ну что ж! Я по¬
целую тебя еще сегодня, прекрасный образ!» Тихо, чтобы
мать не услыхала моих шагов, вышел я из дому, что по
представляло никакой трудности, так как подъезд дома,
хоть п украшенный величественным гербом, ие имел две¬
252
рей; затем я стал поспешно пробираться сквозь чащу
запущенного сада. Не слышно было ни звука; безмолвно
и строго все покоилось в лунном свете. Тени деревьев ле¬
жали на земле, точно пригвожденные. Все так же непо¬
движно лежала в зеленой траве прекрасная богиня;* но
но каменная смерть, а тихий сон, казалось, сковал ее
дивные члены, и когда я приблизился к ней, мне стало
страшно, что малейшим шорохом я могу пробудить ее
от дремоты. Я затаил дыхание, наклоняясь над него, чтобы
разглядеть прелестные черты ее лица; жуткий страх
отталкивал меня от нее, и в то же время жгучее мальчи¬
шеское желание влекло меня к ней; сердце билось, как
будто я готовился к убийству, и, наконец, я поцеловал
прекрасную богиню с таким жаром, с такой нежностью,
с таким отчаянием, как никогда больше не целовал в своей
жизни. И никогда после не мог я забыть то жуткое и сла¬
достное чувство, которое хлынуло в мою душу, когда
мой рот ощутил блаженный холод этих мраморных губ...
И вот, Мария, когда я сейчас стоял перед вами pi смотрел
на вас, пока вы спали, вся в белом на зеленой софе,
вы напомнили мне ту белую мраморную богиню, которая
лежала на зеленой траве. Если бы вы ие проснулись, мои
губы не могли бы дольше противиться искушению...
— Макс! Макс! — крикнула женщина, и крик ее шел
как бы из глубины се сердца. — Это ужасно! Вы знаете,
что поцелуй ваших губ...
— О, замолчите! Я знаю, что это для вас было бы
ужасно! Только не смотрите на меня с такой мольбой.
Я понимаю ваши чувства, хотя истинная причина их была
скрыта от меня. Я никогда не смел прикоснуться своими
губами к вашим...
Но Мария не дала ему кончить, она схватила его руку,
покрыла ее горячими поцелуями и сказала затем, улыбаясь:
— Пожалуйста, прошу вас, рассказывайте мне еще
о ваших любовных приключениях. Как долго продолжа¬
лась ваша любовь к мраморной красавице, которую вы
поцеловали в парке вашей матери?
— Мы уехали на другой день, — отвечал Максими¬
лиан, — ия никогда больше не видел этого прелестного
изваяния. Но еще почти целых четыре года сердце мое
было занято им. С этого времени в моей душе развилась
удивительная страсть к мраморным статуям, и не далее
как ссгодпя утром я испытал их магическую силу. Я воз¬
вращался из Лауренцизны, библиотеки Медичи, и забрел,
не знаю как, в капеллу, где тихо покоится этот велико¬
лепнейший род Италии в усыпальнице из драгоценных
камней. Целый час оставался я там, погруженный в со¬
зерцание мраморного изваяния женщины, мощные ли¬
нии тела которой носят на себе печать сильного и смелого
резца Микеланджело, в то время как весь ее облик овеян
все же той воздушной нежностью, которая обычно не
свойственна именно этому мастеру. В этом мраморе за¬
колдовано все царство грез с его тихими очарованиями;
кротким покоем дышат эти прекрасные формы, и словно
умиротворяющий лунный свет струится по ее жилам...
Это — «Ночь» Микеланджело Буонаротти. О, как хотел
бы я заснуть вечным сном в объятиях этой «Ночи»!
— Женские образы, написанные на полотне, — про¬
должал Максимилиан после небольшого молчания, —
никогда так сильно не увлекали меня, как статуи. Лишь
один раз я был влюблен в картину. Это была мадонна
поразительной красоты, которую я увидел в одной церкви
в Кельне на Рейне. Я сделался тогда ревностным посети¬
телем церкви и весь погрузился в мистику католичества.
В ту пору я, подобно испанскому рыцарю, каждый день
готов был бы биться не на жизнь, а на сд!ерть во имя не¬
порочного зачатия Марии, королевы ангелов, прекрасней¬
шей дамы неба и земли! Все святое семейство пользова¬
лось тогда моими глубокими симпатиями, и особенно
дружески я снимал шляпу всякий раз, когда мне случа¬
лось пройти мимо изображения святого Иосифа. Но это
состояние длилось не очень долго, и я довольно бесце¬
ремонно бросил матерь божию, когда познакомился в одной
античной галерее с греческой нимфой, которая долго
держала меня затем в своих мраморных оковах.
— И вы любили всегда только женщин, высеченных
из камня или писанных на полотне? — с усмешкой спро¬
сила Мария.
— Нет, я любил также мертвых женщин, — ответил
Максимилиан, лицо которого стало опять очень серьез¬
ным. Оп не заметил, что при этих словах Мария испуганно
вздрогнула, и спокойно продолжал:
— Да, как это ни странно, однажды я влюбился в де¬
вушку через семь лет после того, как она умерла. Когда
354
я познакомился с маленькой Вери, она мне чрезвычайно
понравилась. Целых три дня я был поглощен этой юной
особой; я находил в высшей степени забавным и милым
все, что она делала; меня восхищала ее манера говорить,
все проявления ее обаятельно-странного существа; однако
слишком нежных чувств я при этом не испытывал. И я
не был особенно глубоко огорчен, когда спустя несколько
месяцев внезапно пришло известие, что она неожиданно
умерла от нервной горячки. Вскоре я совершенно забыл
ее и убежден, что в теченпе целого ряда лет ни разу о ней
не вспомнил. С тех пор прошло целых семь лет, и вот од¬
нажды я приехал в Потсдам, чтобы провести прекрасное
летнее время, наслаждаясь ничем не нарушаемым оди¬
ночеством. Я не общался там ни с кем решительно, и все
мои знакомства ограничивались статуями, находящимися
в саду Сан-Суси. И тут в моей памяти вдруг встали какие-то
черты лица, какая-то на редкость привлекательная ма¬
нера говорить и двигаться; и притом я никак не мог вспом¬
нить, какому именно лицу они принадлежат. Нет ничего
мучительнее, чем перебирать таким образом старые вос¬
поминания, и поэтому я был радостно удивлен, когда
но прошествии нескольких дней вдруг вспомнил малень¬
кую Вери и сразу сообразил, что это ее милый забытый
образ ожил во мне и лишал меня покоя. Да, я обрадо¬
вался этому открытию, как человек, который внезапно
нашел своего близкого друга; мало-помалу поблекшие
краски ожили, и вот уже прелестная крошка как живая
стояла передо мной, улыбающаяся, кокетлпво-капрпзная,
остроумная и еще более очаровательная, чем когда-либо.
С тех пор я уж ие мог больше расстаться с этим дорогим
видением; оно заполнило всю мою душу; где бы я ни нахо¬
дился, Вери была рядом со мной, говорила со мной,
смеялась, но смеялась невинно и без особенной нежности.
Я же все более и более очаровывался ею, и с каждым днем
это видение приобретало для меня все большую и боль¬
шую реальность. Нетрудно вызвать духов, но не так-то
легко бывает вновь отослать их в мрачное ничто; они
смотрят на нас тогда таким умоляющим взглядом, наше
собственное сердце так страстно вступается за них...
Я уже не в силах был бороться, я влюбился в маленькую
Вери через оемь лет после того, как она умерла. Шесть
месяцев прожил я таким образом в Потсдаме, целиком
3öS
погруженный'в эту любовь^ Еще старательнее, чем пре¬
жде, избегал я всяких столкновений с внешним миром,
и если на улице кто-нибудь проходил мимо меня слишком
близко, я испытывал неприятное стеснение. Я страшился
встреч с людьми, — это был страх, который, быть может,
ощущают души умерших, скитаясь по ночам; ведь про
mix говорят, что они при встрече с живым человеком
пугаются так же, как пугаются живые люди при встрече
с привидениями. Случилось так, что как раз в это время
в Потсдам явился путешественник, от общения с которым
я не мог уклониться, — а именно мой брат. Видя его,
слушая его рассказы о текущих событиях, я словно про¬
будился от глубокого сна и ужаснулся, поняв, в каком
страшном одиночестве я прожил столько времени. В этом
состоянии я не замечал даже, как сменялись времена года,
и с удивлением вдруг увидел, что деревья уже совершенно
обнажились и покрыты осенней изморозью. Я тотчас оста¬
вил Потсдам и маленькую Вери и в другом городе, где
меня ожидали серьезные дела, очень скоро благодаря
ряду трудных обстоятельств и отношений вновь оку¬
нулся в мучительную, суровую действительность.
— Милосердное небо, — продолжал Максимилиан, и
горькая усмешка мелькнула на его губах, — милосердное
небо! Как мучили меня живые женщины, с которыми я
тогда неизбежно сталкивался; как нежно мучили они меня
своими капризами, вспышками ревности, непрерывным
напряжением нервов! На скольких балах я должен был
вертеться с ними; в какие только сплетни не был заме¬
шан! Какое безудержное тщеславие, какое упоение ло-
жыо, какое лобзающее предательство, какие ядовитые
цветы! Эти дамы сумели отравить мне всякое наслажде¬
ние, всякую любовь, и на некоторое время я превратился
в ненавистника женщин, проклинавшего весь их пол.
Со мною случилось почти то же самое, что с одним фран¬
цузским офицером: во время русского похода он с вели¬
чайшим трудом выбрался невредимым из ледяных про¬
рубей Березины, и там у него родилась такая антипатия
ко всему замороженному, что он с отвращением отказы¬
вался даже от самых сладких и приятных сортов моро-
женого от Тортони. Да, воспоминание об этой Березине
любви, которую я тогда перешел, отбило у меня на неко¬
торое время вкус к самым прелестным дамам, к женщи-
356
нам, похожим на ангелов, к девушкам, сладким, как
ванильный шербет.
— Пожалуйста, не браните женщин! — воскликнула
Мария. — Все это избитые фразы мужчин. В конце кон¬
цов, для того чтобы быть счастливыми, вы все же нуждае¬
тесь в женщинах.
— О, — вздохнул Максимилиан, — разумеется, это
верно, но, к сожалению, женщины способны делать нас
счастливыми всего только на один лад, в то время как
у них имеется тридцать тысяч способов сделать нас не¬
счастными.
— Дорогой друг, — возразила Мария, подавив слегка
насмешливую улыбку, — я говорю о гармонии двух со¬
гласно настроенных душ. Разве вы никогда не испыты¬
вали этого счастья? Но я замечаю необычную краску на
ваших щеках... Говорите... Макс?
— Это правда, Мария, я чувствую себя сконфуженным
почти как мальчишка, признаваясь вам, что знал счаст¬
ливую любовь, что она некогда доставила мне бесконечное
блаженство! Воспоминание о ней и теперь еще не оконча¬
тельно угасло во мне, и под его прохладную сень и теперь
еще нередко спасается моя душа, когда жгучая пыль и
полуденный зной жизни становятся слишком уж невыно¬
симы. Я не в состоянии, однако, отчетливо описать вам
эту мою возлюбленную. Она была настолько эфирна, что
лишь во сне могла открыться мне. Я надеюсь, Мария,
что вы не разделяете банальных предрассудков по поводу
снов; эти ночные видения поистине не менее реальны, чем
те грубые явления дня, к которым мы можем прикоснуть¬
ся руками h которые так часто нас загрязняют. Да,я во сне
видел это дорогое существо, давшее мне величайшее сча¬
стье в здешнем мире. О ее внешности я могу сказать лишь
немного. Я не в состоянии в точности описать се черты:
это было лицо, которого я не видел никогда ранее и
после ни разу в жизни не встречал. Помшо лишь, что оно
было не бело-розовым, а совершенно однотонным, бледно-
желтоватым, с мягким розовым оттенком и прозрачным,
как хрусталь. Это лицо было прекрасно не строгой сораз¬
мерностью лшшй, не интересной живостью выражения;
нет, это было как бы олицетворение чарующей, восхи¬
тительной, почти пугающей правдивости. Это лицо было
полно сознательной любви, изящной доброты, это была
357
скорее Душа, чем лицо, иг потому-то я никогда пе мог
вполне ясно представить себе его внешний облик. Глаза
были нежны, как цветы. Губы несколько бледны, но пре¬
лестно изогнуты. На ней был шелковый пеньюар василь¬
кового цвета; но это было и все ее одеяние; шея и ноги
были обнажены, и сквозь мягкую тонкую одежду просве¬
чивала порой, как бы украдкой, грациозная нежность
ее членов. Слова, с которыми мы обращались друг к другу,
я теперь тоже не могу передать с полной точностью; я
знаю только, что мы были помолвлены и что мы нежно
ворковали, весело и счастливо, откровенно и доверчиво,
как жених с невестой, почти как брат с сестрой. Иногда
мы уже больше ничего не говорили, а только смотрели
друг на друга, и в этом блаженном созерцании протекала
целая вечность... Что меня пробудило, я тоже не могу
теперь сказать, но я еще долго жил под обаянием этого
счастья любви. Еще долго я был словно опьянен неска¬
занным восторгом, блаженство как бы овладело мечтатель¬
ными глубинами моего сердца, и незнакомая мне дотоле
радость как бы изливалась на все мои ощущения; я оста¬
вался ясным и светлым, несмотря на то, что моя возлюб¬
ленная никогда больше не являлась мне во сне. Но разве
я не пережил в одном ее взгляде целую вечность? Да и она
слишком хорошо меня понимала и поэтому знала, что я
не люблю повторений.
— В самом деле! — воскликнула Мария. — Вы, не¬
сомненно, un homme à bonne fortune... 1 Но скажите:
a кто была мадемуазель Лоране? Мраморная статуя или
картина, мертвая или сновидение?
— Пожалуй, все это вместе, — отвечал Максимилиан
совершенно серьезно.
— Я так и думала, дорогой друг, что эта ваша воз¬
любленная была существом весьма сомнительным. А когда
вы расскажете мне ее историю?
— Завтра. Это история длинная, а сегодня я устал.
Я только что из оперы, и в моих ушах слишком много
музыки.
— Вы часто бываете теперь в опере, и я думаю, Макс,
что вы ходите туда больше для того, чтобы смотреть, чем
для того, чтобы слушать!
J Человек, пользующийся успехом (франц.).
358
Вы не ошибаетесь, Мария, я действительно хожу
в оперу для того, чтобы всматриваться в лица прекрасных
итальянок. Бесспорно, они достаточно хороши и вне теа¬
тра и идеальность их черт могла бы послужить для
историка прекрасным доказательством влияния изобрази¬
тельных искусств на внешность и телосложение итальян¬
ского народа. Природа берет здесь у художников тот капи¬
тал, который она ему некогда ссудила, и, поистине, на него
наросли великолепные проценты! Природа, которая не¬
когда дала художникам образцы, теперь в свою очередь
подражает тем шедеврам, которые благодаря ей были
созданы. Чувство прекрасного стало достоянием всего
народа, и как некогда тело влияло на дух, так ныне дух
влияет на тело. Обожание прекрасных мадонн, этих див¬
ных образов, украшающих храмы, запечатлевающихся
в душе жениха, в то время как невеста отдает пыл своего
сердца какому-нибудь прекрасному святому, — не остается
бесплодным. Такое избирательное сродство породило
здесь людей еще более прекрасных, чем та благодатная
почва, на которой они живут, чем солнечное небо, которое
окружает их как бы золотой рамкой. Мужчины никогда
особенно не интересовали меня, за исключением тех слу¬
чаев, когда они изваяны или изображены на полотне, и
поэтому я предоставляю вам, Мария, приходить в экстаз
при виде красивых, гибких итальянцев с их жгуче-чер-
иыми бакенбардами, смелыми, благородными носами и
мягкими, умными глазами. Говорят, что самые красивые
мужчины — это ломбардцы. Я никогда не исследовал
этого вопроса, зато о ломбардских женщинах я размыш¬
лял достаточно серьезно; и они, как я мог убедиться,
вполне заслужили свою славу. Впрочем, должно быть,
уже в средние века они были достаточно хороши собой.
Недаром же рассказывают про Франциска Первого, что
слух о красоте миланских женщин был тем тайным побу¬
ждением, которое заставило его предпринять итальян¬
ский поход; королю-рыцарю было, конечно, интересно
узнать, действительно ли так прекрасны его духовные
сестры, родственницы его воспреемников, как об этом
гласила молва... Бедняга! В Павии он должен был доро¬
гой ценой искупить это любопытство!
Но как прекрасны становятся эти итальянки, когда
музыка освещает их лица. Я говорю «освещает», потому
359
что, как я заметил в театре, действие музыки на лица
красивых женщин удивительно напоминает тс эффекты
света и тени, которые поражают нас, когда мы ночыо при
свете факелов рассматриваем статуи. Эти мраморные изо¬
бражения открывают нам тогда с ужасающей искренностью
свою внутреннюю жизнь, свои страшные немые тайны.
Совершенно таким же образом развертывается перед на¬
шими глазами вся жизнь прекрасных итальянок, когда
они слушают оперу; мелодии, сменяясь, вызывают у них
в душе вереницу чувств, воспоминании, желаний и вспы¬
шек досады, которые мгновенно отражаются в мимике
лица, в том, как они краснеют, бледнеют, в выражении
их глаз. Кто умеет читать, тот прочтет тогда на их пре¬
красных лицах очень много приятных и интересных ве¬
щей: рассказы, не менее замечательные, чем новеллы Бок-
каччо, чувства, не менее нежные, чем сонеты Петрарки,
капризы, причудливые, как октавы Ариосто, а порою и
ужасное вероломство и страшные злодейства, пе менее
поэтичные, чем ад великого Дайте. Ради этого стоит
понаблюдать за ложами. Если бы только мужчины не
выражали в это время своего восторга с таким ужасающим
шумом! Этот слишком необузданный рев и грохот итальян¬
ского театра временам]! утомляет меня. Однако музыка —
душа этих людей, их жизнь, их национальное дело. Ко¬
нечно, и в других странах есть музыканты, не уступаю¬
щие величайшим итальянским знаменитостям; но там нет
музыкального народа. Здесь же, в Италии, музыка не
воплощается в отдельных личностях: она живет в народе;
музыка стала народом. У нас, на севере, это совсем иначе:
у нас музыка стала только каким-то одним человеком и
зовется Моцартом или Мейербером; и к тому же, если
вникнуть как следует, то окажется, что в самом лучшем
из того, что дают нам северные музыканты, мы найдем
свет итальянского солнца, аромат апельсиновых рощ, и
произведения эти в меньшей степени принадлежат Гер¬
мании, чем прекрасной Италии — родине музыки. Да,
Италия навсегда останется родиной музыки, хотя ее вели¬
кие маэстро рано уходят в могилу или умолкают, хотя
умирает Беллини и молчит Россини.
— В самом деле, — заметила Мария, — Россини упорно
хранит строгое молчание. Если не ошибаюсь, он молчит
вот уже десять лет.
гсо
— Быть может, это не более чем шутка с его стороны,—
ответил Максимилиан. — Он хотел показать, что данное
ему прозвище «Лебедь из Пезаро» совсем к нему ие под¬
ходит. Лебеди поют в конце своей жизни, а Россини пере¬
стал петь в середине жизни. И мне кажется, что он посту¬
пил правильно и именно этим доказал, что он настоящий
гений. Художник, обладающий только талантом, до конца
жизни сохраняет стремление упражнять этот талант; его
подхлестывает честолюбие; он чувствует, что непрерывно
совершенствуется, и не может успокоиться, пока не до¬
стигнет высшего доступного ему совершенства. Но гений
уже совершил высшее: он доволен, оп презирает мир с его
мелким честолюбием и отправляется домой в Стретфорд-
на-Эйвоне, как Вильям Шекспир, или, смеясь и отпуская
остроты, прогуливается, как Иоахим Россини, по Boule¬
vard des Italiens 1 в Париже. Если гений обладает непло¬
хим здоровьем, то он имеет возможность прожить еще
довольно много времени после того, как создал свои ше¬
девры, или, как обычно выражаются, после того, как
выполнил свою миссию. Распространенное мнение, что
гений должен рано умереть, — но-моему, предрассудок;
кажется, период от тридцати до тридцати четырех лет счи¬
тается самым опасным временем для гения. Как часто
дразнил я этим бедного Беллини и, шутя, пророчил ему,
что оп в качестве гения должен скоро умереть, так как для
него наступает уже опасный возраст. Поразительно то, что,
несмотря на мой шутливый той, его серьезно беспокоили
зги пророчества; он называл меня своим jettatore 2 и
прилагал все старания, чтобы отвести дурной глаз... Ои
страстно хотел жить, оп чувствовал какое-то жгучее
отвращение к смерти, боялся ее, как боится ребенок спать
в темной комнате... Это был добрый, милый ребенок, порою
немного своенравный; но стоило только напомнить ему
о предстоящей близкой смерти, как он сразу становился
кротким, послушным и спешил двумя поднятыми паль¬
цами сотворить знак заклинания... Бедный Беллини!
— Вы, значит, лично его знали? Ои был хорош собой?
— Он не был безобразен. Вы видите, и мы, мужчины,
не в состоянии ответить утвердительно, когда нам задают
1 Итальянскому бульвару (франц.).
2 Человеком, способным сглазить (итал.).
361
подобного рода вопросы о человеке, принадлежащем к на¬
шему полу. У него была высокая стройная фигура, изящ¬
ные, я сказал бы кокетливые, движения; всегда он был
à quatre épingles; 1 правильное, продолговатое лицо,
бледно-розовое; светло-белокурые, почти золотистые во¬
лосы, в мелких завитках; высокий, очень высокий бла¬
городный лоб; прямой нос; бледно-голубые глаза; кра¬
сиво очерченный рот; круглый подбородок. При этом в чер¬
тах его лица было что-то неопределенное, бесхарактерное,
что-то напоминающее молоко, и на этом молочном лице
блуждало порой кисло-сладкое выражение печали. Это
выражение печали заменяло собой недостававшую его
лицу одухотворенность; но в его печали не было глубины:
она блуждала в его взоре без поэзии, трепетала около его
губ без страсти. Казалось, всей своей фигурой юный
маэстро стремится выразить эту плоскую, вялую печаль.
Его волосы были завиты в такие грустно-мечтательные
локоны, его платье с такой томностью облекало его неж¬
ное тело, он носил свою испанскую тросточку с такой
идилличностью, что всегда напоминал мне юных пастуш¬
ков из наших пасторалей, которые выступают, жеманно
размахивая посошком, разукрашенным лентами, в свет¬
лых курточках и штанишках. И поступь его была так
девственна, так элегична, так невесома. Это был не чело¬
век, а какой-то вздох en escarpins. 2 Он имел большой
успех у женщин; но сомневаюсь, чтобы ему когда-либо
удалось внушить сильную страсть. Для меня лично в его
внешности всегда было что-то несносно комическое; при¬
чина, быть может, заключалась в его французском языке. '
Несмотря на то, что Беллини уже несколько лет жил во
Франции, он говорил по-французски так плохо, как гово¬
рят, быть может, только в одной Англии. Строго говоря,
ого французскую речь отнюдь нельзя было характеризо¬
вать словом «плохо»; плохо, в данном случае,— еще слиш¬
ком хорошо. Это было чудовищно, кровосмесительно, не¬
сусветно! Да, когда приходилось бывать с ним вместе
в обществе и он, как палач, принимался колесовать не¬
счастные французские слова и невозмутимо выкладывать
неимоверный coq-à-l’âne,3 то казалось порой, что
1 Аккуратно, щегольски одет (франц.)*
2 В бальных башмаках (франц.),
3 Вздор (франц.).
362
вот-вот с громом рухнет мир... Гробовая тишина воцаря¬
лась тогда в зале и смертельный ужас рисовался иа всех
лицах, то бледных, как мел, то багровых, как киноварь;
женщины не знали, что делать, упасть ли в обморок или
спасаться бегством; мужчины смущенно посматривали
на свои панталоны, как бы желая удостовериться, что
они действительно облачены в эту деталь костюма, и хуже
всего то, что этот ужас вызывал в то же время конвульсив¬
ные приступы смеха, от которых почти невозможно было
удержаться. Поэтому, попадая вместе с Беллини в обще¬
ство, приходилось всегда ощущать некоторую тревогу;
в его близости было какое-то жуткое очарование, которое
одновременно и отталкивало и привлекало. Порой его
невольные каламбуры только смешили, напоминая своей
забавной безвкусицей замок его соотечественника, принца
из Пеллагонии, описанный Гете в «Путешествии по Ита¬
лии»,— музей вычурно-уродливых предметов, беспоря¬
дочно натасканных отовсюду безобразных вещей. Так
как Беллини во всех подобных случаях бывал совершенно
уверен, что сказал нечто вполне невинное и чрезвычайно
серьезное, то лицо его представляло дичайший контраст
его словам. И в эти минуты выступало особенно резко
то, что мне не нравилось в лице Беллини, но что отнюдь
нельзя было бы назвать недостатком, — и дамы, конечно,
вовсе не склонны были разделять мое неблагоприятное
впечатление. Лицо Беллини, — как и весь его облик, —
отличалось той физической свежестью, тем цветущим здо¬
ровьем, тем нежным румянцем, которые производят такое
неприятное впечатление на меня, предпочитающего мерт¬
венное, мраморное. Лишь позднее, уже после продолжи¬
тельного знакомства с Беллини, я почувствовал к нему
некоторую симпатию. Это случилось тогда, когда я заме¬
тил, что его характер отмечен благородством и добротой.
Душа его, несомненно, осталась чистой и незапятнанной
всеми отвратительными соприкосновениями с жизнью.
Он не был лишен также того наивного добродушия, той
детскости, которые характерны для гениальных людей,
хотя и не всем открываются эти их качества.
— Да, я припоминаю, — продолжал Максимилиан и
опустился в кресло, около которого он стоял до этого,
облокотившись на его спинку, — да, я припоминаю ми¬
нуту, когда Беллини представился мне в таком привле-
363
нательном свете, что мне было радостно смотреть на него,
и тогда-то я решил ближе сойтись с ним. К сожалению,
однако, это было последним нашим свиданием здесь, на
земле. Дело происходило вечером, в доме одной велико¬
светской дамы, обладательницы самой маленькой ножки
во всем Париже; мы только что встали из-за стола; все
были очень веселы; на фортепиано звучали самые нежные
мелодии... Я как сейчас вижу его — этого добряка Бел¬
лини: утомленный бесчисленными сумасшедшими белли-
низмами, которые он нагородил, он упал в кресло... Кре¬
сло это было очень низенькое, почти как скамеечка, так
что Беллини очутился как бы у ног одной красавицы,
которая полулежала па софе п с прелестным злорадством
взирала на него сверху вниз, в то время как он из кожи
лез, чтобы занять се несколькими французскими фразами.
Он поминутно принужден был комментировать самого
себя иа своем сицилийском жаргоне, доказывая, что ска¬
зал отнюдь ие глупость, а наоборот, самый утонченный
комплимент. Мне кажется, что прекрасная дама вовсе даже
не слушала слов Беллини; она взяла у него из рук его
испанскую тросточку, с помощью которой он временами
пытался содействовать своей слабой риторике, и восполь¬
зовалась ею для того, чтобы совершенно спокойно разру¬
шить изящную прическу иа висках юного маэстро. К этому
шаловливому занятию относилась, по всей вероятности,
ее улыбка, придававшая се чертам такое выражение,
какого я никогда не видел на лицах живых людей. Лицо
это никогда не изгладится из моей памяти! Это было одно
из тех лиц, которые, казалось бы, вовсе не принадлежат
грубой действительности, а относятся к царству поэтиче¬
ских грез. Контуры лица напоминали да Винчи; это был
благородный овал с наивными ямочками иа щеках и с сенти¬
ментально заостренным подбородком ломбардской школы.
Цвет лица отличался скорее римской нежностью: он был
матово-жемчужный, с характерной томной бледностью —
morbidezza. Одним словом, это было лицо, встречающееся
лишь иа старых итальянских портретах; оно напоминало
изображения тех знатных дам, в которых были влюблены
итальянские художники шестнадцатого века, когда соз¬
давали свои шедевры; о которых мечтали поэты того вре¬
мени, когда, слагая свои песни, становились бессмертными;
о которых думали французские и немецкие герои, опоясы-
364
вая себя мечом и отправляясь совершать подвиги по ту
сторону Альп... Да, да, это было одно из таких лиц, и
улыбка, полная самого очаровательного злорадства и
изящного лукавства, оживляла это лицо, в то время как
красавица копчиком камышовой трости разрушала соору¬
жение из белокурых локонов на голове добряка Беллини.
В это мгновение я увидел Беллини словно преображенным
от прикосновения волшебной палочки, и я сразу почув¬
ствовал в нем что-ю родственное моему сердцу. Лицо его
как бы сияло отсветом улыбки красавицы, — быть может,
это было высочайшее мгновение его жизни... Я никогда
его не забуду... Две недели спустя я узнал из газет,
что Италия потеряла одного из самых славных своих
сынов!
Странно! Одновременно появилось известие и о смерти
Паганини. В его смерти я не сомневался ии минуты, по¬
скольку старый, бледный Паганини всегда был похож
на умирающего; но смерть юного, розового Беллини каза¬
лась мне невероятной. Однако же сообщение о смерти
первого оказалось лишь газетной уткой — Паганини и
по сие время жив и здравствует в Генуе, а Беллини лежит
в могиле в Париже!
— Вы любите Паганини? — спросила Мария.
— Этот человек, — отвечал Максимилиан, — является
украшением своей родины и бесспорно заслуживает
самого лестного упоминания, когда перечисляются музы¬
кальные знаменитости Италии.
— Я никогда его не видела, — заметила Мария. —
Но если верить молве, его внешность не вполне удо¬
влетворяет эстетическому чувству. Я знаю его порт¬
реты...
— Которые все иа него не похожи, — вставил Макси¬
милиан, — они изображают его или хуже, или лучше, чем
сн есть, но никогда не передают его действительного об¬
лика. На мой взгляд, только одному человеку удалось
передать на бумаге подлинную физиономию Паганини:
это — глухой художник, по имени Лизер, который в по¬
рыве вдохновенного безумия несколькими взмахами ка¬
рандаша так хорошо уловил черты Паганини, что не
знаешь, смеяться или пугаться правдивости его рисунка.
«Дьявол водил моей рукой», — сказал мне глухой ху¬
дожник и при этом таинственно захихикал, иропически-
365
добродушно покачивая головой; подобными ужимками
он обычно сопровождал свои гениальные проказы. Этот
художник был удивительный чудак; несмотря на свою
глухоту, он страстно любил музыку, и говорят, что,
когда он находился достаточно близко от оркестра, он
умел читать звуки на лицах музыкантов и в состоянии
был но движению их пальцев судить о более или менее
удачном исполнении; он был даже оперным критиком
в одном почтенном гамбургском журнале. Впрочем,
чему же тут удивляться? Движения музыкантов — это
видимые знаки, и в них глухой художник умел созерцать
звуки. Ведь для некоторых людей сами звуки — только
невидимые знаки, в которых они слышат краски и об¬
разы.
— И вы один из таких людей! — воскликнула Ма¬
рия.
— Мне жаль, что у меня нет больше наброска, сделан¬
ного Лизером, он дал бы вам некоторое представление
о наружности Паганини. Только резко черными, беглыми
штрихами могли быть схвачены фантастические черты
этого лица, которые, как кажется, принадлежат скорее
удушливому царству теней, чем солнечному миру жизни.
«Поистине, сам дьявол водил моей рукой», — уверял
меня глухой художник, когда мы однажды стояли вместе
с ним перед Альстерским павильоном в Гамбурге, где
Паганини должен был дать свой первый концерт. «Да,
мой друг, — продолжал он, — справедливо то, что все
про него говорят, — что он продался черту, продал ему
и душу и тело, для того чтобы стать лучшим скрипачом,
накопить миллионы и, прежде всего, для того, чтобы
бежать с той проклятой галеры, где он томился много лет.
Дело в том, друг мой, что, когда он был капельмейстером
в Лукке, он влюбился в одну театральную примадонну,
приревновал ее к какому-то ничтожному аббату, — быть
может, стал рогоносцем, а затем, по доброму итальян¬
скому обычаю, заколол свою неверную amata, 1 попал
в Генуе на галеры и, как я уже сказал, продал себя, на¬
конец, черту, для того чтобы стать лучшим в мире скри¬
пачом и иметь возможность наложить сегодня вечером
на каждого из нас контрибуцию в два талера... Но смот-
1 Возлюбленную (шпал
366
рите-ка! Да воскреснет бог и расточатся врази его! Вот
по той аллее идет он сам в сопровождении своего двусмыс¬
ленного famulo!» 1
И в самом деле, вскоре я увидел самого Паганини.
На нем был темно-серый сюртук, спускавшийся до пят,
благодаря чему фигура его казалась очень высокой. Длин¬
ные черные волосы спутанными локонами падали на его
плечи и, словно темной рамой, окружали его бледное,
мертвенное лицо, на котором забота, гений и адские силы
оставили свой неизгладимый след. Рядом с ним шел, при¬
плясывая, низенький, благодушный, до смешного прозаи¬
ческий человечек: у него было розовое морщинистое лицо,
он был в светло-сером сюртучке со стальными пуговицами;
он рассыпал во все стороны невыносимо приторные при¬
ветствия и в то же время с озабоченно-боязливым видом
искоса поглядывал на высокую мрачную фигуру, серьезно
и задумчиво шествовавшую рядом с ним. Казалось, что
видишь перед собой картину Рецша, изображающую
Фауста и Вагнера на прогулке перед воротами Лейпцига.
Между тем глухой художник в своем обычном шутовском
стиле отпускал замечания по поводу той и другой фигуры
и обратил мое особое внимание на размеренную, разма¬
шистую походку Паганини. «Не кажется ли вам, — сказал
он, — что он все еще носит железные кандалы на ногах?
У него навсегда сохранилась эта походка. Взгляните
также, как презрительно и иронически оп посматривает
порой на своего спутника, когда тот слишком надоедает
ему своими прозаическими вопросами; но он не может
обойтись без него: кровавый договор связывает его с этим
слугой, который есть не кто иной, как сам сатана. Несве¬
дущая публика, правда, думает, что этот его спутник —
сочинитель комедий и анекдотов, Гаррис из Ганновера,
которого Паганини якобы взял с собой в турне для заве¬
дования денежной стороной своих концертов. Народ
не знает, что черт позаимствовал у господина Георга
Гарриса только его внешность, тогда как бедная душа
этого бедного человека, вместе с прочим хламом, до тех
пор останется запертой в сундуке в Ганновере, пока
черт не возвратить ей ее телесную оболочку, если он
предпочтет сопровождать маэстро Паганини в каком-
1 Наперсника (итал.).
367
либо ином, более достойном воплощении — например,
в виде черного пуделя».
Если уж в яркий полдень, под зелеными деревьями
гамбургского Юнгфориштига, Паганини произвел на меня
впечатление чего-то сказочного и диковинного, то как же
поражала его зловеще-жпвописная наружность вечером
на концерте! Концерт давался в гамбургском «Театре коме¬
дии»,и публика, любящая искусство, уже заранее набилась
туда в таком количестве, что я лишь с трудом отвоевал
себе местечко около оркестра. Несмотря на то, что это
был почтовый день, в первых ложах присутствовали все
просвещенные представители торгового мира, весь Олимп
банкиров и прочих миллионеров — богов кофе и сахара,
вместе со своими толстыми божественными супругами,
Юнонами с Вандрама и Афродитами с Дрекваля. Молит¬
венная тишина господствовала в зале. Глаза всех были
устремлены на сцепу. Все уши насторожились. Мой
сосед, старый торговец мехами, вынул грязную вату из
своих ушей, чтобы лучше впитать в себя драгоценные
звуки, стоившие ему два талера. Наконец на эстраде
появилась темная фигура, которая, казалось, только что
вышла нз преисподней. Это был Паганини в своем черном
парадном облачении: на нем был черный фрак, черный
жилет ужасающего покроя, — быть может, предписан¬
ного адским этикетом при дворе Прозерпины. Черные
панталоны самым жалким образом свисали вокруг его
тощих ног. Длинные руки казались еще длиннее, когда
он, держа в одной руке скрипку, а в другой — опущенный
книзу смычок и почти касаясь ими земли, отвешивал перед
публикой свои невиданные поклоны. В угловатых движе¬
ниях его тела было что-то пугающе деревянное и в то же
время что-то бессмысленно животное, так что эти поклоны
должны были неизбежно возбуждать смех; но его лицо,
казавшееся при ярком свете ламп оркестра еще более
мертвенно бледным, выражало при этом такую мольбу,
такое тупое смирение, что смех умолкал, подавленный
какой-то ужасной жалостью. У кого паучплся он этим
поклонам, у автомата или у собаки? И что означал его
взгляд? Был ли это умоляющий взор смертельно больного
человека, или за этим взглядом скрывалась насмешка
хитрого скряги? II кто такой он сам? Живой человек,
который, подобно умирающему гладиатору, в своей
368
предсмертной агонии на подмостках искусства старается
позабавить публику своими последними судорогами? Или
это мертвец, вставший из гроба, вампир со скрипкой
в руках, который хочет высосать если не кровь из на¬
шего сердца, то во всяком случае деньги из нашего ко¬
шелька?
Такие вопросы теснились в наших головах, пока Пага¬
нини с обычными кривляньями отвешивал го все стороны
свои бесконечные поклоны; но все подобные мысли сразу
оборвались, когда этот изумительный артист приставил
скрипку к подбородку и начал играть. Что касается меня,
то ведь вы знаете мое второе музыкальное зрение, мою
способность при каждом звуке, который я слышу, видеть
соответствующий звуковой образ; с каждым новым взма¬
хом его смычка предо мною вырастали зримые фигуры
и картины; языком звучащих иероглифов Паганини
рассказывал мне множество ярких происшествий, так
что перед моими глазами словно развертывалась игра
цветных теней, причем сам он со своей скрипкой неиз¬
менно оставался ее главным действующим лицом. Уже
при первом ударе его смычка обстановка, окружавшая
его, изменилась; он со своим нотным пюпитром внезапно
очутился в приветливой, светлой комнате, беспорядочно¬
весело убранной вычурной мебелыо в стиле помпадур:
везде маленькие зеркала, позолоченные амурчики, китай¬
ский фарфор, очаровательный хаос лент, цветочных гир¬
лянд, белых перчаток, разорванных кружев, фальшивых
жемчугов, раззолоченных жестяных диадем и прочей
мишуры, переполняющей обычно будуар примадонны.
Внешность Паганини тоже изменилась, и притом самым
выгодным для него образом: на нем были короткие
панталоны из лилового атласа, белый расшитый сереб¬
ром жилет, кафтан из светло-голубого бархата с золо¬
тыми пуговицами; старательно завитые в мелкие кудри
волосы обрамляли его лицо, совсем юное, цветущее,
розовое, сиявшее необычайной нежностью, когда оп
поглядывал на хорошенькое созданьице, стоявшее рядом
с ним у пюпитра, в то время как он играл па своей
скрипке.
И в самом деле, рядом с ним я увидел хорошенькое
молодое существо в старомодном туалете; белый атлас
раздувался кринолином ниже бедер, и это очаровательно
13 Г. Гейне* т, 6
369
обрисовывало топкую талию; напудренные завитые во¬
лосы были высоко подобраны, и под этой высокой причес¬
кой особенно ярко сияло хорошенькое круглое личико
с блестящими глазками, нарумяненными щечками, муш¬
ками и задорным, миленьким носиком. В руке она держала
бумажный сверток, и как по движению ее губ, так и по
кокетливому покачиванию верхней части ее фигурки
можно было заключить, что она поет; но ухом нельзя
было уловить ни одной из ее трелей, и только по звукам
скрипки, на которой молодой Паганини аккомпанировал
этой прелестной крошке, я мог угадать, что именно она
пела и что переживал он сам во время ее пения. О, это
были мелодии, подобные щелканью соловья в предвечер¬
них сумерках, когда аромат розы наполняет томлением
его сердце, почуявшее весну! О, это было тающее, сладо¬
страстно изнемогающее блаженство! Это были звуки,
которые то встречались в поцелуе, то капризно убегали
друг от друга и, наконец, смеясь, вновь сливались и за¬
мирали в опьяняющем объятии. Да, легко и весело пор¬
хали эти звуки; точно так мотыльки, шаловливо дразня
друг друга, то разлетаются в разные стороны и прячутся
за цветы, то настигают один другого п, соединяясь в бес¬
печно счастливом упоении, взвиваются и исчезают в золо¬
тых лучах солнца. Но паук, черный паук, способен вне¬
запно положить трагический конец радости влюбленных
мотыльков. Закралось ли тяжелое предчувствие в юное
сердце? Скорбный, стенящий звук, как предвестник
надвигающейся беды, тихо проскользнул среди востор¬
женных мелодий, которые излучала скрипка Паганини...
Его глаза увлажняются... Молитвенно склоняется ои
на колени перед своей amata... Но, ах! Нагнувшись,
чтоб расцеловать ее ножки, он замечает под кроватью
маленького аббата! Не знаю, что он имел против этого
бедняги, но генуэзец побледнел как смерть; он с яростью
хватает маленького человечка, обильно награждает его
пощечинами, дает ему немало пинков ногою п в довершение
всего выкидывает за дверь, а затем вытаскивает из кармана
свой длинный стилет и вонзает его в грудь юной краса¬
вицы...
Но в этот момент со всех сторон раздались крики:
«Браво! Браво!» Восхищенные мужчины и женщины Гам¬
бурга выражали шумное одобрение великому мастеру,
370
который только что закончил первое отделение своего
концерта и кланялся, сгибаясь еще ниже, еще более угло¬
вато, чем раньше. И мне казалось, что лицо его полно
какой-то жалобной, еще более заискивающей мольбы,
чем раньше. В его глазах застыла жуткая тревога, как
у обреченного грешника.
«Божественно! — воскликнул мой сосед, торговец ме¬
хами, ковыряя в своих ушах. — Одна эта вещь стоила
двух талеров».
Когда Паганини снова начал играть, мрачная пелена
встала перед моими глазами. Звуки уже не превращались
в светлые образы и краски; наоборот, даже фигуру са¬
мого артиста окутали густые тени, из мрака которых прон¬
зительными, жалобными воплями звучала его музыка.
Лишь изредка, когда висевшая над ним маленькая лампа
бросала на него свой скудный свет, я мог разглядеть его
побледневшее лицо, с которого все же не вполне исчезла
печать молодости. Странный вид имела его одежда, как бы
расщепленная на два цвета — желтая с одной стороны,
красная — с другой. Ноги его были закованы в тяжелые
цепи. Позади виднелась фигура, в физиономии которой
было что-то веселое, козлиное; а длинные волосатые руки,
по-видимому принадлежавшие этой фигуре, временами
касались, услужливо помогая артисту, струн его скрипки.
Иногда они водили рукой его, державшей смычок, и тогда
блеющий смех одобрения сопровождал исходившие из
скрипки звуки, все более и более страдальческие, все
более кровавые. Эти звуки были, как песни падших анге¬
лов, которые согрешили с дочерьми земли, за это изгнаны
были из царства блаженных и с пылающими от позора
лицами спускались в преисподнюю. Это были звуки,
в бездонной глубине которых пе теплилось ни надежды,
ни утешения. Когда такие звуки слышат святые на небе,
славословия господу богу замирают на их бледнеющих
губах, и они с плачем покрывают свои благочестивые
головы! Порой, когда в мелодические страсти этой музыки
врывалось неотвратимое блеяние козлиного смеха, я заме¬
чал на заднем плане множество маленьких женских фигур,
которые со злобной веселостью кивали своими безобраз¬
ными головками и пальцами, сложенными для крестного
знамения, злорадно почесывали себя сзади. Из скрипки
вырывались тогда стоны, полные безнадежной тоски;
13*
371
ужасающие вопли п рыдания, какие еще никогда не огла¬
шали землю и, вероятно, никогда вновь ие огласят ее,
разве только в долине Иосафата в день страшного суда,
когда зазвучат колоссальные трубы архангелов и голые
мертвецы выползут из могил в ожидании своей участи...
Но измученный скрипач вдруг ударил по струнам с такою
силой, с таким безумным отчаянием, что цепи, сковывав¬
шие его, со звоном распались, а его лихой помощник исчез
вместе со своими глумливыми чудовищами.
В этот момент мой сосед, торговец мехами, произнес:
«Жаль, жаль! У него лопнула струпа — это от постоян¬
ного пнччнкато!»
Действительно ли лопнула струпа у скрипки? Я этого
не знаю. Я заметил лишь, что звуки приобрели иной
характер, и внезапно вместе с ними как будто изменился
и сам Паганини и окружающая его обстановка. Я едва
мог узнать его в коричневой монашеской рясе, которая
скорее скрывала, чем одевала его. С каким-то диким вы¬
ражением на лице, наполовину спрятанном под капюшо¬
ном, опоясанный веревкою, босой, одинокий и гордый,
стоял Паганини на нависшей над морем скале и играл на
скрипке. Происходило это, как мне казалось, в сумерки;
багровые блики заката ложились иа широкие морские
волны, которые становились все краснее п в таинственном
созвучии с мелодиями скрипки шумели все торжественнее.
Но чем багрянее становилось море, тем бледнее делалось
небо, и когда, наконец, бурные воды превратились в ярко-
пурпурную кровь, тогда небо стало призрачно-светлым,
мертвенно-бледным, и угрожающе и величественно высту¬
пили иа нем звезды — и звезды эти были черные-черные,
как куски блестящего каменного угля. Но все порывистее
и смелее становились звуки скрипки; в глазах страшного
артиста сверкала такая вызывающая жажда разрушения,
его топкие губы шевелились с такой зловещей горячно¬
стью, что, казалось, ои бормочет древние нечестивые за¬
клинания, которыми вызываются бури и освобождаются
от оков злые духи, томящиеся в заключении в морских
пучинах. Порою, когда он простирал из широкого мона¬
шеского рукава свою длинную, худую обнаженную руку
и размахивал смычком в воздухе, он казался воистину
чародеем, повелевающим стихиями с помощью своей вол¬
шебной палочки, — и тогда безумный рев несся из мор¬
372
ских глубин, и кровавые, объятые ужасом волны взды¬
мались вверх с такой силой, что почти достигали бледного
небесного купола, покрывая брызгами красной пены его
черные звезды. Кругом все выло, визжало, грохотало,
как будто рушилась вселенная, а монах все с большим
упорством играл иа своей скрипке. Мощным усилием
безумной воли он хотел сломать семь печатей, наложенных
Соломоном на железные сосуды, в которых заключены
были побежденные им демоны. Мудрый царь бросил их
в море, и мне чудилось, что я слышу голоса заключенных
в них духов, в то время как скрипка Пагаишш гремела
своими самыми гневными басами. Наконец мне послыша¬
лись словно ликующие клики освобождения, и я увидел,
как из красных кровавых волн стали подымать свои го¬
ловы освобожденные демоны: чудища, сказочно безобраз¬
ные, крокодилы с крыльями летучей мыши, змеи с оленьими
рогами, обезьяны, у которых головы покрыты были ворон¬
кообразными раковинами, тюлени с патриархально длин¬
ными бородами, женские лица с грудями вместо щек,
зеленые верблюжьи головы, ублюдки самых невообрази¬
мых помесей, — все они пялили свои холодные умные
глаза иа играющего на скрипке монаха, все простирали
к нему свои длинные лапы-плавники... А у монаха, охва¬
ченного бешеным порывом заклинания, свалился капю¬
шон, и длинные волнистые пряди, разметавшись по ветру,
словно черные змеи, кольцами окружали его голову.
Это было настолько умопомрачительное зрелище, что
я, в страхе потерять рассудок, заткнул уши и закрыл
глаза. Привидение тут же исчезло, и, когда я вновь огля¬
делся, я увидел бедного генуэзца в его обычном виде, от¬
вешивающим свои обычные поклоны, в то время как пу¬
блика восторженно аплодировала.
«Так вот она, эта знаменитая игра на басовой струне, —
заметил мой сосед, — я сам играю иа скрипке и знаю,
чего стоит так владеть этим инструментом». К счастью,
перерыв длился недолго, иначе этот музыкальный мехов¬
щик втянул бы меня в длинный разговор об искусстве.
Паганини снова спокойно приставил скрипку к подбо¬
родку, и с первым же ударом смычка вновь началось вол¬
шебное перевоплощение звуков. Но только оно теперь
пе оформлялось в такие резко-красочные и телесно-отчет¬
ливые образы. Звуки развертывались спокойно, вели-
373
чсствсшто вздымаясь и нарастая, как хорал в исполнения
соборного органа; и все вокруг раздвинулось вширь и
ввысь, образуя колоссальное пространство, доступное
лишь духовному, но не телесному взору. В середнне этого
пространства носился светящийся шар, на котором вы¬
сился гигантский, гордый, величественный человек, играв¬
ший на скрипке. Что это был за шар? Солнце? Я не знаю.
Но в чертах человека я узнал Паганини, только идеально
прекрасного, небесно-проясненного, с улыбкой, испол¬
ненной примирения. Его тело цвело мужественной силой;
светло-голубая одежда облекала облагороженные члены;
по плечам ниспадали блестящими кольцами черные во¬
лосы; и в то время как он, уверенный, незыблемый,
подобно высокому образу божества, стоял здесь со своей
скрипкой, казалось, будто все мироздание повинуется
его звукам. Это был человек-планета, вокруг которого
с размеренной торжественностью, в божественном ритме
вращалась вселенная. Эти великие светила, в спокойном
сиянии плывшие вокруг него, — не были ли это небесные
звезды? И эта звучащая гармония, которую порождали
их движения, — не было ли это той музыкой сфер, о ко¬
торой с таким восторгом вещали нам поэты и ясновндцы?
Порой, когда я напряженно вглядывался в туманную даль,
мне казалось, что я вижу одни только белые колеблю¬
щиеся одеяния, окутывающие пилигримов-всликапов, ше¬
ствовавших с белыми посохами в руках. И странно! —золо¬
тые набалдашники их посохов — это и были те великие
светила, которые я принял за звезды. Широким кругом
двигались пилигримы вокруг великого музыканта, от
звуков его скрипки все ярче сияли золотые набалдашники
их посохов, и слетавшие с их уст хоралы, которые я при¬
нял за пение сфер, были лишь замирающим эхом звуков
его скрипки. Невыразимого, священного исступления полны
были эти звуки, которые то едва слышно проносились,
как таинственный шепот вод, то снова жутко и сладко
нарастали, подобно призывам охотничьего рога в лунную
ночь, и, наконец, гремели с безудержным ликованием,
словно тысячи бардов ударяли по струнам своих арф и
сливали свои голоса в одной победной песне. Это были
звуки, которых никогда не может уловить ухо, о которых
может лишь грезить сердце, когда оно иочыо покоится
у сердца возлюбленной. Впрочем, быть может, душа наша
374
в состоянии постичь их и в яркий солнечный день, когда
она, ликуя, погружается в созерцание прекрасных овалов
и линий греческого искусства...
— Или когда выпита лишняя бутылка шампанского, —■
послышался вдруг насмешливый голос, словно от сна
пробудивший нашего рассказчика. Оглянувшись, он за¬
метил доктора, который в сопровождении черной Деборы
тихонько вошел в комнату, чтобы посмотреть, как подей¬
ствовало на больную его лекарство.
— Этот сон мне не нравится, — произнес доктор, ука¬
зывая на софу.
Максимилиан, погруженный в фантастические образы
собственной речи, не заметил, что Мария давно заснула,
и теперь с досадой закусил губу.
— Этот сон, — продолжал доктор, —сообщает ее лицу
облик смерти. Не правда ли, она похожа сейчас на те
белые маски, на те гипсовые слепки, с помощью которых
мы стремимся сохранить черты умерших?
— Я хотел бы, — прошептал ему на ухо Максими¬
лиан, — сделать такой слепок с лица нашей приятель¬
ницы. Она и мертвая будет очень хороша.
— Не советую вам это делать, — возразил доктор. —
Такие маски отравляют нам воспоминание о тех, кого
мы любили. Нам все кажется, что в этом гипсе сохрани¬
лось еще что-то живое, тогда как в действительности то,
что там запечатлено, есть сама смерть. Правильные, кра¬
сивые черты лица приобретают при этом какое-то зло¬
веще-застывшее, надменное, отталкивающее выражение,
благодаря чему они больше пугают нас, чем радуют. Но
настоящими карикатурами оказываются гипсовые слепки
с лиц, привлекательность которых носила более духов¬
ный, чем телесный характер, черты которых были не столь¬
ко правильны, сколько интересны; ибо лишь только
отлетели грации жизни, отклонения от идеальных линий
красоты ие восполняются уже больше духовной привле¬
кательностью. Однако всем этим гипсовым лицам, каковы
бы они ни были, свойственно какое-то загадочное выраже¬
ние, которое при долгом созерцании пронизывает нашу
душу нестерпимым холодом; кажется, будто все это лица
людей, которые собираются отправиться в тяжкий путь.
— Куда? — спросил Максимилиан, в то время как
доктор иод руку уводил его из комнаты.
375
МОЧЬ ВТОРАЯ
— И к чему мучить меня этим гадким лекарством,
когда я все равно скоро умру.
Эти слова Мария произнесла как раз в то мгновение,
когда Максимилиан входил в комнату. Перед ней стоял
врач, державший в одной руке аптечную склянку, а в дру¬
гой маленькую рюмку, в которой отвратительно пени¬
лось какое-то бурое снадобье.
— Дражайший друг! — воскликнул врач, обращаясь
к вошедшему. — Вы явились сюда как нельзя более
кстати. Уговорите же синьору проглотить эти несколько
капель; я спешу.
— Я прошу вас, Мария! — прошептал Максимилиан
тем нежным голосом, который не часто у пего появлялся
и в котором слышалась такая сердечная боль, что боль¬
ная, растроганная, почти забывшая о собственных страда¬
ниях, взяла в руки рюмку. Но прежде чем поднести ее
к губам, она сказала с улыбкой:
— Не правда ли, в награду вы мне расскажете исто¬
рию Лоране?
— Я исполню все, чего вы желаете! — кивнув, отве¬
тил Максимилиан.
Бледная женщина тотчас выпила содержимое рюмки
с улыбкой, смешанной с содроганием.
— Я спешу, — сказал врач, натягивая свои черные
перчатки. — Прилягте, синьора, и лежите совершенно
спокойно. Двигайтесь как можно меньше. Я спешу.
В сопровождении черной Деборы, вышедшей ему по¬
светить, он оставил комнату. Теперь друзья были одни
и долго безмолвно смотрели друг на друга. Одни л те же
мысли волновали обоих, но каждый стремился скрыть их
от другого. Внезапно женщина схватила руку Макси¬
милиана и покрыла ее жаркими поцелуями.
— Ради бога! — сказал Максимилиан. — Не делайте
таких резких движений и ложитесь опять спокойно на
свою софу.
Когда Мария исполнила его просьбу, ои заботливо
укрыл ее ноги шалыо, к которой прежде прикоснулся
губами. Движение это, по-видимому, не ускользнуло от
Марии; глаза ее радостно заискрились, как у счастливою
ребенка.
376
— Что же, мадемуазель Лоране была очень хо¬
роша?
— Если вы не будете меня прерывать и дадите обеща¬
ние слушать меня тихо и спокойно, то я подробнейшим
образом изложу вам все, что вы желали бы знать.
Приветливо улыбнувшись в ответ на утвердительный
взгляд Марии, Максимилиан уселся в кресло, стоявшее
рядом с софой, и так начал свой рассказ:
— Восемь лет тому назад я отправился в Лондой,
чтобы изучить язык и самих англичан. Черт бы побрал
этот народ вместе с его языком! Они набивают себе рот
дюжиной односложных слов, жуют их, комкают, снова
выплевывают, и это они называют речыо. К счастью,
они по природе своей довольно молчаливы, и хотя гла¬
зеют на нас, разинув рот, тем не менее длительными
беседами они нас не обременяют. Но горе нам, если мы
попали в руки сыну Альбиона, который совершил свое
большое путешествие и обучился на континенте француз¬
скому языку. Этот уже не упустит случая поупражняться
в знании языка; оп засыплет вас вопросами о всевозмож¬
ных вещах, и едва вы ответили на один вопрос, как уже
готов другой: о вашем возрасте, о вашей родине, о про¬
должительности вашего пребывания за границей, причем
он искренне убежден, что наилучшим образом занимает
вас своим неустанным допросом. Один из моих парижских
друзей был, пожалуй, прав, утверждая, что англичане
обучаются французскому языку в bureau de passeports. 1
Всего полезнее их беседа за столом, когда они разрезают
свои колоссальные ростбифы и с серьезным видом рас¬
спрашивают вас, какой кусок вы желаете получить: про¬
жаренный или непрожаренный? Из середины или с зару¬
мяненного края? С жиром или без жира? Но этими рост¬
бифами да еще бараньим жарким исчерпывается все, что
у них есть хорошего. Да сохранит господь всякого хри¬
стианина от их соусов, которые состоят на одну треть из
муки и на две трети из масла пли — когда желательно
внести разнообразие — на одну треть из масла и на две
трети из муки. Да сохранит господь всякого и от их наив¬
ных гарниров из зелени, которую они отваривают в воде
и подают к столу в том самом виде, в каком она вышла
1 Паспортном столе (франц.).
377
из рук создателя* Еще ужаснее английской кухни англий¬
ские тосты и неизбежные застольные речи, произнося¬
щиеся тогда, когда убрана скатерть и дам, покинувших
сидящее за столом общество, замещает теперь соответ¬
ствующее количество бутылок портвейна... По мнению
англичан, эти последние могут наилучшим образом вос¬
полнить отсутствие прекрасного пола. Я говорю «пре¬
красного пола», так как англичанки заслуживают этого
названия. Это красивые, белые, стройные создания.
Только слишком обширное пространство между носом
и ртом, встречающееся у них не менее часто, чем у тамош¬
них мужчин, не раз отравляло мне в Англии наслаждение
от созерцания самых красивых лиц. Это нарушение норм
прекрасного действует на меня особенно тягостно, когда
я встречаю англичан здесь, в Италии, где их скупо отме¬
ренные носы п широкие пространства между носом и ртом
образуют резкий контраст с лицами итальянцев, черты
которых приближаются к античной правильности, а носы,
либо по-римски изогнутые, либо по-гречески опущенные,
нередко страдают чрезмерной длиною. Очень правильно
заметил один немецкий путешественник, что англичане,
разгуливающие здесь среди итальянцев, напоминают
статуи с отбитым кончиком носа.
Да и вообще, только встретив англичан в чужой стране,
можно как следует почувствовать их недостатки, особенно
ярко выступающие в силу контраста. Это — боги скуки,
которые проносятся из страны в страну на курьерских,
в блестящих лакированных экипажах, и оставляют
везде за собою серое, пыльное облако тоски. Прибавьте
к этому любопытство, лишенное внутреннего интереса,
их вылощенную тяжеловесность, нх наглую тупость, их
угловатый эгоизм и какую-то унылую радость, которую
возбуждают в них самые меланхолические предметы. Вот
уже три недели, как здесь, на Piazza di Gran Duca, 1
ежедневно появляется англичанин и с разинутым ртом
целыми часами глазеет на шарлатана, который, сидя вер¬
хом иа лошади, вырывает людям зубы. Быть может, это
зрелище должно вознаградить благородного сына Альбиона
за то лишение, которое он испытывает, ие присутствуя
па публичных казнях, совершаемых в его любезном оте¬
1 Площадц великого герцога (итал.).
378
честве... Ибо, наряду с боксом и петушиными боями, для
британца нет зрелища более увлекательного, чем созер¬
цание агонии какого-нибудь бедняги, который украл
овцу или подделал подпись и которого за это па целый час
выставляют с веревкой иа шее перед фасадом Олд Бейли,
прежде чем швырнуть его в вечность. Я отнюдь не преуве¬
личиваю, когда говорю, что в этой безобразно жестокой
стране кража овцы и подделка документа караются на¬
равне с ужаснейшими преступлениями — отцеубийством
или кровосмешением. Я сам, к своему прискорбию, ока¬
зался случайным свидетелем того, как в Лондоне за кражу
овцы вешали человека, и с этих пор баранье жаркое по¬
теряло для меня всякую прелесть: жир напоминает мне
каждый раз белый колпак несчастного грешника. Рядом
с ним был повешен один ирландец, подделавший подпись
богатого банкира; я как сейчас вижу этого бедного Пэдди,
объятого наивным смертельным ужасом перед судом при¬
сяжных: оп никак не мог понять, что за одну только под¬
делку подписи его должно постигнуть столь жестокое
наказание, — его, который охотно позволил бы каждому
воспроизвести его собственную подпись! И этот народ по¬
стоянно говорит о христианстве, не пропускает ни одного
воскресного богослужения и наводняет весь мир библиями!
Я должен, впрочем, признаться вам, Мария, что если
в Англии мне все становилось поперек горла — и кушанья
и люди, — то причина отчасти заключалась во мне са¬
мом. Я привез с собою с родины добрый запас хандры
п искал развлечения у народа, который сам способен
избавляться от скуки не иначе, как потопив ее в водо¬
вороте политической или коммерческой деятельности.
В совершенстве машин, которые применяются здесь везде
п выполняют столько человеческих функций, для меня
также заключалось что-то неприятное и жуткое; меня
наполняли ужасом эти искусные механизмы, состоящие
из колес, стержней, цилиндров, с тысячею всякого рода
крючочков, штифтиков, зубчиков, которые все движутся
с какой-то страстной стремительностью. Не менее угне¬
тали меня определенность, точность, размеренность и
пунктуальность жизни англичан; ибо так же, как машины
походят там на людей, так и люди кажутся там машинами.
Да, дерево, железо и медь словно узурпировали там дух
человека и от избытка одушевленности почти что обезу¬
379
мели, в то время как обездушенный человек, в качестве
пустого призрака, совершенно машинально выполняет
свои обычные дела, в определенный момент пожирает биф¬
штексы, произносит парламентские речи, чистит свои
погти, влезает в дилижанс или вешается.
Вы легко поймете, что в этой стране тоска моя должна
была возрастать со дня иа день. Но ничто не сравнится
с тем мрачным настроением, которое нашло на меня од¬
нажды вечером, когда я стоял на мосту Ватерлоо и смот¬
рел вниз, в воды Темзы. Душа моя словно отражалась
в воде и смотрела иа меня оттуда, зияя всеми своими ра¬
нами... Самые грустные истории приходили мне при этом
па память... Я думал о розе, которую постоянно поливали
уксусом и потому она лишилась своего сладостного аро¬
мата и преждевременно увяла... Я думал о заблудившейся
бабочке, которую заметил один естествоиспытатель, взоб¬
равшийся на Монблан, — он видел, как она одиноко
порхала между ледяными глыбами... Я думал об одной
ручной обезьяне, которая так подружилась с людьми,
что с ними играла, с ними обедала; но вот однажды к обеду
была подана па блюде зажаренная маленькая обезьянка,
в которой она узнала свое собственное детище; быстро
схватив его, она бросилась в лес и с тех пор никогда уже
больше не возвращалась к своим друзьям-людям... Ах,
мне стало так грустно, что горячие капли градом поли¬
лись из моих глаз... Они падали вниз, в Темзу, и плыли
дальше, в огромное море, которое уже поглотило столько
человеческих слез, совершенно не замечая этого.
В то самое мгновение странная музыка пробудила меня
от мрачных грез; оглянувшись, я заметил на берегу кучку
людей, столпившихся вокруг какого-то, очевидно забав¬
ного, зрелища. Подойдя ближе, я увидел семыо артистов,
в которую входили следующие четыре лица.
Во-первых, низенькая, коренастая женщина, одетая
во все черное, с очень маленькой головой и очень толстым,
выпяченным животом. На этом животе висел огромнейший
барабан, в который она беспощадно колотила.
Во-вторых, карлик, одетый, наподобие французского
маркиза старого времени, в расшитый кафтан; у него
была большая напудренная голова; но все остальные
части его тела были крайне невелики; приплясывая, он
ударял по треугольнику.
380
В-третьих, молодая девушка лет пятнадцати, одетая
в короткую, плотно облегающую тело кофту из голубого
полосатого шелка и в широкие панталоны из такого же
материала. Это была очаровательная, воздушная фигурка.
Лицо ее отличалось античной красотой. Благородный,
прямой нос, прелестно изогнутые губы, мечтательный,
мягко закругленный подбородок, золотисто-солнечный
цвет кожи, блестящие черные волосы, обвитые косами
вокруг лба; так стояла она, прямая, строгая, с нахму¬
ренным лицом, и смотрела на четвертого члена компании,
который как раз проделывал в это время свои фокусы.
Это четвертое действующее лицо был ученый пес,
в высшей степени многообещающий пудель; к величай¬
шей радости английской публики, он только что сложил
из рассыпанных перед ним деревянных букв имя «Вел¬
лингтон» с весьма лестным эпитетом: «герой». Так как эта
собака — что можно было заметить уже по ее умному
виду — не принадлежала к числу английских животных,
но вместе с тремя остальными товарищами явилась сюда
из Франции, то сыны Альбиона радовались, что великий
Веллингтон, по крайней мере среди французских собак,
добился того признания, в котором ему так позорно отка¬
зывали все прочие французские создания.
В самом деле, вся эта компания состояла из французов,
и карлик, отрекомендовавшийся мосье Тюрлютю, начал
хвастливую речь на французском языке, сопровождая
ее такой страстной жестикуляцией, что бедные англичане
раскрыли свои рты и ноздри шире, чем обычно. Иногда,
закончив длинный период, он кричал петухом, и это кука¬
реку вместе с именами многочисленных императоров,
королей и князей, которыми пестрела его речь, составляли
единственное, что понимали его бедные слушатели. Этих
императоров, королей и князей оп прославлял как своих
покровителей и друзей. Он уверял, что еще восьмилетним
мальчиком имел продолжительную беседу с его вели¬
чеством блаженной памяти Людовиком Шестнадцатым,
который и в позднейшие времена прибегал к его совету
во всех важных случаях. От бурь революции он, подобно
многим другим, спасся эмиграцией и лишь в эпоху Импе¬
рии вернулся в свое любезное отечество, для того чтобы
разделить славу великой нации. Благосклонностью На¬
полеона он, по его словам, никогда не пользовался;
381
ио зато его святейшество папа Пий Седьмой чуть ли не обо¬
жествлял его. Царь Александр угощал его конфетами,
а принцесса Вильгельмина фон Киритц постоянно сажала
его к себе на колени. Его светлость герцог Карл Браун¬
швейгский заставлял его нередко ездить верхом на своих
собаках, а его величество король Людвиг Баварский читал
ему свои августейшие стихотворения. Князья Рейс,
Шлейц, Крейц, а также князья Шварцбург-Зондерсхау-
зен любили его как брата и всегда курили с ним из одной
трубки. Да, сказал он, с самого детства он вращался
только среди монархов, все теперешние государи неко¬
торым образом выросли вместе с ним, и он относится к ним
как к людям своего круга и облекается в траур всякий
раз, когда кто-нибудь из них отходит в вечность. После
этих торжественных слов он закричал петухом.
Мосье Тюрлютю был действительно одним из любопыт¬
нейших карликов, каких мне приходилось когда-либо
видеть; его старое, сморщенное лицо представляло такой
забавный контраст с его детски тщедушным тельцем, и
вся его персона столь же забавно контрастировала с теми
штуками, которые он выкидывал. Он принимал, напри¬
мер, самые задорные позы и непомерно длинной рапирой,
пронзал воздух направо и налево, причем поминутно
клялся своей честью, что вот эту кварту или эту терцию
никто не в состоянии отпарировать, что, наоборот, его
парады пе может разбить ни один из смертных и что он
вызовет любого из публики померяться с ним в благород¬
ном искусстве фехтования. Посвятив некоторое время
этому представлению и пе найдя никого, кто отважился бы
вступить с ним в открытый поединок, карлик отвесил
поклон с грацией, свойственной старой Франции, поблаго¬
дарил за выраженное ему одобрение и взял на себя сме¬
лость предложить высокочтимой публике зрелище, более
необычайное, чем все то, что когда-либо вызывало изум¬
ление зрителей на территории Англии. «Взгляните! —
воскликнул он, надев грязные лайковые перчатки и с по¬
чтительной вежливостью выводя на середину круга моло¬
дую девушку, принадлежавшую к группе комедиантов. —
Эта особа — мадемуазель Лоране, единственная дочь
почтенной и благочестивой дамы, которую вы видите там
с большим барабаном и которая до сих пор носит траур
по случаю смерти своего нежнолюбимого супруга, всли-
382
чайшего чревовещателя Европы! Мадемуазель Лорапс
будет теперь танцевать! Изумляйтесь танцу мадемуазель
Лорапс!» — Произнеся эти слова, он снова закричал
петухом.
Девушка не обращала, по-видимому, ии малейшего
внимания ни на эти речи, ип на любопытные взгляды зри¬
телей; угрюмо сосредоточенная, она ждала, чтобы карлик
расстелил перед ней большой ковер и вновь заиграл на
своем треугольнике под аккомпанемент большого бара¬
бана. Это была странная музыка, смесь неуклюжего
брюзжания и сладострастного призыва, и я был захвачен
этой патетпчески-шутовской, скорбно-наглой, причуд¬
ливой мелодией, которая в то же время отличалась необы¬
чайной простотой. Но я тотчас же забыл о музыке, как
только молодая девушка начала танцевать.
Танец и танцовщица с почти неудержимой силой при¬
ковали к себе все мое внимание. То не был классический
танец, который еще встречается в наших больших балетах,
где, как и в классической трагедии, господствуют одни
только ходульные единства и прочие условности; тут
не было ни тщательно вытанцовываемых александрий¬
ских стихов, ни декламаторских прыжков, ни этих ан¬
траша, символизирующих антитезу, ни благородной стра¬
сти, которая выделывает пируэты, вращаясь на одной
ноге с такой стремительностью, что нельзя ничего разоб¬
рать, кроме неба и трико, ничего, кроме идеальности
и лжи. По правде сказать, ничто мне так не противно,
как балет в парижской Большой опере, где в наибольшей
чистоте сохранилась традиция этого классического танца,
несмотря на то, что в области прочих искусств — в поэзии,
музыке и живописи — французы низвергли классическую
систему. Но в хореографическом искусстве им трудно
будет произвести подобного рода революцию; разве
только они прибегнут здесь, как и в политической револю¬
ции, к террору и начнут гильотинировать ноги у своих
одеревеневших танцоров и танцовщиц старого режима.
Мадемуазель Лоране не была великой танцовщицей; ее
носки не отличались особой гибкостью, ноги ее не были
подготовлены для всевозможных вывертов, она ничего
не смыслила в танцевальном искусстве, как ему обучает
Вестрис, но она танцевала так, как человеку предписы¬
вает танцевать природа; все ее существо было в гармонии
383
с се движениями: не только ее ноги, но все ее тело, се
лицо принимали участие в танце... Порой она станови¬
лась бледной, почти смертельно бледной; се глаза неес¬
тественно широко раскрывались, губы ее подергивались
судорогой желания и боли, а ее черные волосы, полукруг¬
лыми прядями обрамлявшие ее виски, трепетали, как два
воронова крыла. Это был совсем не классический танец,
ио и пе романтический, в том смысле, в каком употребил
бы это слово современный француз из школы Эжена
Рандюэля. В этом танце не было ничего средневекового
или венецианского, ничего похожего на пляску горбунов
или на пляску смерти; не чувствовалось в нем ни лунного
света, ни кровосмесительных страстей... Этот танец не
заботился о том, чтобы забавлять внешним разнообразием
движений; наоборот, внешние движения казались лишь
словами какого-то особого языка и имели какой-то особый
смысл. Что же говорил этот танец? Я не мог постигнуть
это, несмотря на всю страстную выразительность его
языка, и лишь смутно догадывался порой, что речь идет
о чем-то мучительно страшном. Я, обычно столь легко
схватывающий внутренний смысл всех явлений, не мог
разрешить загадку этого тайца, и если я вновь и вновь
тщетно старался схватить его смысл, то виной тому, без
сомнонрш, была музыка, которая, вероятно пе без умысла,
наводила меня на ложный след, лукаво сбивая с правиль¬
ного пути и мешая мне. Треугольник господина Тюрлютю
посмеивался иногда так коварно! А мамаша била в свой
барабан так гневно, что ее лицо пылало под темным обла¬
ком траурной шляпы, как кровавое зарево северного
сияния.
После того как труппа удалилась, я долго еще стоял
иа том же месте и размышлял над тем, что бы могла
обозначать эта пляска? Был ли это южнофраицузский
или испанский национальный танец? Об этом как будто
говорило неистовство, с которым юная танцовщица бро¬
салась то в одну, то в другую сторону, это дикое, необуз¬
данное движение, которым она иногда откидывала голову
назад, наподобие вакханок, изумляющих нас на барелье¬
фах античных ваз. В се тайце чудилось тогда что-то опья-
ненно-безвольное, что-то мрачно-неотвратимое, роковое,
словно это танцевала сама судьба. Или это были обрывки
какой-то древней забытой пантомимы? Или она, танцуя,
384
рассказывала историю чьей-то жизни? Иногда девушка
припадала ухом к земле и прислушивалась, как будто
оттуда доносился до нее чей-то голос... Она трепетала
тогда как осиновый лист, затем порывисто откидывалась
в другую сторону, будто хотела что-то стряхнуть с себя,
уносилась безумными, бешеными прыжками, а затем вновь
приникала ухом к земле, прислушивалась еще тревожнее,
чем прежде, кивала головой, краснела, бледнела, содро¬
галась, застывала на мгновение, выпрямившись, как
свеча, и, наконец, делала такое движение, точно умывала
руки. Не кровь ли смывала она со своих рук так долго
и старательно, так жутко старательно? При этом она бро¬
сала в сторону взгляд, такой просящий, такой умоляю¬
щий, хватающий за сердце... И случайно взгляд этот упал
па меня.
Всю следующую ночь я думал об этом взгляде, об этом
танце, о причудливом аккомпанементе; и когда я иа сле¬
дующий день, по обыкновению, начал скитаться по лон¬
донским улицам, я почувствовал неудержимое желание
снова встретиться с прекрасной танцовщицей; и я по¬
стоянно напрягал слух, стараясь уловить звуки барабана
и треугольника. Я нашел, наконец, в Лондоне нечто такое,
что меня заинтересовало, и уже не слонялся больше бес¬
цельно по его скучающим улицам.
Я как раз выходил из Тауэра, где обстоятельно осмот¬
рел топор, которым была обезглавлена Анна Болейн,
а также алмазы английской короны и львов, как вдруг
иа Тауэрской площади посреди большой толпы людей
я увидел мамашу с большим барабаном и тотчас же услы¬
хал голос мосье Тюрлютю, кричавшего петухом. Ученый
пес снова прославлял по буквам героизм лорда Веллинг¬
тона; карлик снова показывал своп непобедимые терции
и кварты, а мадемуазель Лоране снова начала свой изу¬
мительный танец. Предо мной были опять те же загадоч¬
ные движения, тот же язык, говоривший мне что-то такое,
чего я не мог постигнуть, так же беспокойно она откиды¬
вала назад прекрасную головку, так же припадала ухом
к земле и после этого, вновь объятая ужасом, старалась
прогнать его все более бешеными прыжками. И йотом
снова ее чуткое ухо приникало к земле, и снова трепет,
смертельная бледность, полное окаменение; и опять это
ужасное, таинственное омовение рук и трогательный,
3S5
умоляющий взгляд в сторону, который па этот раз еще
дольше остановился на мне.
Да, женщины — девушки не хуже, чем замужние жен¬
щины — немедленно замечают, когда им удалось привлечь
внимание мужчины. Хотя мадемуазель Лорапс, когда она
не танцевала, все время неподвижно и сердито смотрела
в одну точку, а во время своей пляски бросала на публику
лишь один-единственный взгляд, тем не менее не слу¬
чайно взгляд этот останавливался всегда на мне, и чем
чаще я видел, как она танцует, тем значительнее и вместе
с тем загадочнее сияли ее глаза. Я был словно околдован
этим взглядом и целых три недели с утра до вечера тас¬
кался по улицам Лондона, останавливаясь всюду, где тан¬
цевала мадемуазель Лоране. Несмотря на сильнейший
шум уличной толпы, я стал на очень далеком расстоянии
улавливать звуки барабана и треугольника, и мосье
Тюрлютю, заметив, что я спешу к ним, тотчас же посылал
мне навстречу самое приветливое кукареку. Хотя я не
обменялся ни одшш словохм ни с ним, ни с мадемуазель
Лоране, ни с мамашей, ни с ученой собакой, я в конце
концов стал как бы членом их труппы. Когда мосье Тюр¬
лютю собирал деньги, он держался всегда с тончайшим
тактом: приближаясь ко мне, он смотрел в противополож¬
ную сторону, в то время как я бросал в его треугольную
шляпеику мелкую монету. Он действительно держал себя
с благородным достоинством, напоминавшим изысканные
манеры прошлого; глядя на этого маленького человечка,
легко было поверить, что он вырос среди монархов, pi тем
более странное получалось впечатление, когда он, совер¬
шенно забыв о своем достоинстве, начинал кричать петухом.
Я ие могу вам описать, до какой степени я был раздо¬
садован, когда, по прошествии некоторого времени,
я в течение трех дней тщетно разыскивал маленькую
труппу по всем улицам Лондона и, наконец, пришел
к убеждению, что она оставила этот город. Скука вновь
охватила меня своими свинцовыми объятиями, снова
сжала мое сердце. Наконец я уже не мог больше выдер¬
жать, сказал прости английским mob, black guards,
gentlemen 1 и fashionables 2 — всем четырем сословиям
1 Черни, грязной сполочи, джентльменам (англ.).
2 Фешенебельной знати (англ.).
3S6
этого государства — и отправился назад, на цивилизован¬
ный континент, где молитвенно преклонил колена перед
белым фартуком первого попавшегося мне навстречу по¬
вара. Здесь я снова мог, наконец, обедать, как подобает
разумному человеку, и радовать свою душу созерцанием
благодушных и бескорыстных физиономий. Но мадемуа¬
зель Лоране я все же ие мог забыть; она еще очень долго
танцевала в моих воспоминаниях, и в часы одиночества
я еще очень часто размышлял о загадочной пантомиме
этого прелестного ребенка, в особенности о том, как она
к чему-то прислушивалась, приникнув ухом к земле.
Немало времени прошло также, прежде чем в моем воспо¬
минании замолкли причудливые мелодии треугольника
и барабана.
— И это вся история? — внезапно воскликнула Ма¬
рия, порывисто приподнявшись.
Но Максимилиан нежным движением вновь уложил
ее, многозначительно приставил палец к губам и про¬
шептал:
— Тише, тише. Только не говорите ни слова, лежите
совершенно спокойно, и я расскажу вам конец истории.
Только ради всего святого не перебивайте меня.
Усевшись поудобнее в кресле, Максимилиан следую¬
щим образом продолжал свой рассказ:
— Через пять лет после этого происшествия я впервые
приехал в Париж и попал туда как раз в очень интерес¬
ный период. Французы только что разыграли свою Июль¬
скую революцию, и весь мир им аплодировал. Эта пьеса
не была столь ужасна, как прежние трагедии Республики
и Империи. Всего лишь несколько тысяч трупов осталось
лежать на подмостках. Однако политические романтики
не были удовлетворены и сулили новую постановку, в ко¬
торой будет пролито больше крови и палач получит больше
работы.
Париж доставлял мне искреннее наслаждение своей
веселостью, которая проявляется там решительно во всем
и оказывает свое влияние даже на самые мрачные умы.
Поразительно! Париж — это место, где разыгрываются
величайшие трагедии мировой истории — трагедии, одно
воспоминание о которых заставляет обитателей самых от¬
даленных стран содрогаться и проливать слезы; и,однако,
здесь, в Париже, зритель этих трагедий испытывает нечто
387
вроде того, что я испытал раз в «Porte Saint-Marlin», когда
давалась «Tour de Ncsle». 1 Мне пришлось там сидеть
позади дамы, на которой была надета шляпа из красно¬
розового тюля; у этой шляпы были такие широкие поля,
что они заслоняли от меня всю сцену; таким образом, все,
что разыгрывалось там трагичного, я видел сквозь этот
красный флер, и все ужасы «Tour de Neslc» рисовались
мне в самом жизнерадостном, розовом свете. Да, в Париже
есть такой розовый свет, и он окрашивает в веселые тона
все трагедии в глазах их непосредственных зрителей,
чтобы не отравлять нм радость жизни. Даже тс ужасы,
которые вы приносите в Париж в своем собственном
сердце, перестают вас там угнетать. Здесь как-то странно
смягчаются страдания. В парижском воздухе все раны
исцеляются гораздо быстрее, чем где бы то ни было;
есть в этом воздухе что-то такое же великодушное, полное
обаяния и сострадания, как и в самом народе.
Но что мне больше всего понравилось в парижанах —
это их вежливость в обращении и аристократическая
внешность. О сладостный ананасный аромат вежливости!
Как благодетельно освежил ты мою больную душу, кото¬
рая так наглоталась в Германии табачного дыма, запаха
кислой капусты и грубости! Подобно мелодии Россини,
прозвучали в моих ушах изысканные извинения француза,
лишь слегка толкнувшего меня на улице в день моего при¬
бытия в Париж. Я был почти испуган этой сладостной
вежливостью, — я, привыкший к пемецкп-грубым толч¬
кам в бок без всяких извинений. В первую педелю моего
пребывания в Париже я нарочно старался ходить так,
чтобы меня толкали, только для того, чтобы насладиться
музыкой этих просьб о прощении. Но пе только эта веж¬
ливость, а и самый язык придавал в моих глазах француз¬
скому народу известный налет аристократизма. Ведь,
как вы знаете, у нас, на севере, уменье говорить по-фран¬
цузски принадлежит к числу атрибутов высшего дворян¬
ства, п поэтому с французским языком у меня с самого
детства ассоциировалась идея аристократизма. Здесь,
в Париже, какая-нибудь дама с толкучего рынка лучше
говорит по-французски, чем окончившая институт немец¬
кая аристократка с шестьюдесятью четырьмя предками.
1 «Нельская башня» ((франц.). (См. комментарии.)
388
Благодаря языку, который придаст французскому
пароду аристократический облик, народ этот приобрел
в моих глазах что-то очаровательно сказочное. Это вызы¬
валось другим воспоминанием моего детства. Дело в том,
что первой книжкол, по которой я учился по-французски,
были басни Лафонтена; их наивно-благоразумные речи
неизгладимо запечатлелись в моей памяти, и когда я при¬
ехал в Париж, то звуки раздававшейся вокруг француз¬
ской речи з’остоянно напоминали мне басни Лафонтена;
мне все казалось, что я слышу хорошо знакомые голоса
животных: вот это говорит лев, а это — волк, затем ягне¬
нок, аист или голубь; нередко мне чудились и речи ли¬
сицы, и в моем воспоминании частенько воскресали слова:
116! bonjour, monsieur du Corbeau!
Que vous etes joli! Que vous me semblez beau!1
Но еще чаще пробуждались в моей душе эти воспоми¬
нания о персонажах басен, когда я попал в Париже в те
высшие сферы, которые именуются светом. Ведь это был
тот самый свет, который доставил покойному Лафонтену
типы, воплощенные в характерах его различных живот¬
ных. Зимний сезон начался вскоре после моего приезда
в Париж, и я принял участие в жизни его салонов, где
более или менее весело толчется весь этот свет. Самым
интересным и поразительным для меня в жизни света была
не столько одинаковость царящих в нем утонченных нра¬
вов, сколько различие его составных частей. Порою, на¬
блюдая людей, мирно собравшихся в каком-нибудь вели¬
колепном салоне, я чувствовал себя словно в лавке ред¬
костей, где в пестром смешении покоятся рядом друг
с другом реликвии всевозможных эпох: греческий Апол¬
лон — рядом с китайской пагодой, мексиканский Виц-
липуцли — рядом с готическим Ессс homo, 2 египетские
идолы с собачьими головами, священные уродцы из де¬
рева, слоновой кости, металла и т. п. Там встречались
старые мушкетеры, танцевавшие некогда с Марией-Анту¬
анеттой, умеренные республиканцы, которых боготво-
1 Сударыня Ворона, мой привет!
Милей, прекрасней вас на свете нет!
(Персе. Б. Томашесспого. )
2 Вот челопрк (лат.). (См. комментарии.)
389
рили в Нацпональном собрании, монтаньяры, беспощад¬
ные и безупречные, бывшие герои Директории, царство¬
вавшие в Люксембурге, вельможи Империи, перед кото¬
рыми трепетала вся Европа, иезуиты, господствовавшие
во времена Реставрации, — одним словом, все выцвет¬
шие, искалеченные божества различных времен, в которые
никто уже больше не верил. Имена вопиют при взаимном
сопоставлении; но люди мирно и дружественно поме¬
щаются рядом, как старинные редкости в упомянутых
антикварных лавках на Quai Voltaire В германских
странах, где страсти не так легко поддаются дисциплине,
светское общение столь разнородных лиц было бы чем-то
совершенно немыслимым. Да и кроме того, у нас, па хо¬
лодном севере, потребность говорить не так сильна, как
в более теплой Франции, где даже враги, встретившись
в салоне, не в состоянии в течение долгого времени хра¬
нить угрюмое молчание. Кроме того, желание нравиться
во Франции настолько велико, что люди всеми силами
стараются произвести благоприятное впечатление не
только на друзей, но и на врагов. Здесь постоянно во что-
нибудь драпируются и мило гримасничают, так что жен¬
щинам не легко превзойти мужчин в кокетстве; впрочем,
это им все же удается.
Последним замечанием я не хотел сказать ничего дур¬
ного, а особенно о французских женщинах и менее всего
о парижанках. Наоборот, я величайший их почитатель,
причем я почитаю парижанок за их недостатки, пожалуй,
больше, чем за их добродетели. Я не знаю ничего более
меткого, чем легенда о том, что парижанки рождаются
на свет со всевозможными недостатками, но добрая фея,
сжалившись над ними, придает каждому из этих недостат¬
ков особые чародейские свойства, благодаря чему лишь
возрастает их обаяние. Зовут эту добрую фею грацией.
Красивы ли парижанки? Кто может на это ответить? Кто
в состоянии распутать все ухищрения туалета, кто в со¬
стоянии разгадать, подлинно ли то, что просвечивает
сквозь тюль, ие поддельно ли то, что так хвастливо выпи¬
рает из пышного шелкового покрова? И едва вашему глазу
удалось проникнуть за оболочку, только вы собрались
приступить к исследованию самой сердцевины, как она
1 Набсрелшои Вольтера (франц.).
390
тотчас облекается в новую оболочку, затем опять в новую,
и эта непрерывная смена моды издевается над всеми
усилиями мужской проницательности. Красивы ли их
лица? И на это тоже трудно ответить. Ибо все черты лица
у них в постоянном движении, каждая парижанка обладает
тысячью лиц, причем одно радостнее, одухотвореннее,
прелестнее другого, и тот, кто среди всех этих меняю¬
щихся выражений захочет найти самое прекрасное или
же самое правдивое, тот неизменно попадет впросак.
Большие ли у них глаза? Почем я знаю! Мы не измеряем
калибр пушки, когда ее ядро отрывает нам голову. И даже
если они не попадают в цель, эти глаза, они ослепляют
своим огнем, п человек счастлив, если он оказался в безо¬
пасности, за линией огня. Широко или узко у них про¬
странство между носом и ртом? Иногда широко, когда
они морщат носик; иногда узко, когда они шаловливо
надувают верхнюю губку. Велик у них рот или мал?
Но кто может определить, где оканчивается рот и начи¬
нается улыбка? Чтобы высказать правильное суждение,
надо чтобы лицо, выносящее это суждение, а также пред¬
мет его находились в состоянии покоя. А кто же может быть
спокоен рядом с парижанкой, и какая парижанка бывает
когда бы то ни было спокойна? Есть люди, которые ду¬
мают, что они могут совершенно отчетливо рассмотреть
бабочку, наколов ее булавкой на бумагу. Это столь же
нелепо, сколь и жестоко. Приколотая, неподвижная, ба¬
бочка уже более не бабочка. Бабочку надо рассматривать,
когда она порхает вокруг цветов... И парижанку надо
рассматривать не в ее домашней обстановке, где у нее, как
у бабочки, грудь проколота булавкой, а в гостиных, на
вечерах и балах, когда она порхает на своих крылышках
из расшитого газа и шелка под сверкающими лучами хру¬
стальных люстр. Тогда раскрывается вся их страстная
любовь к жизни, их жажда сладостного дурмана, жажда
опьянения, и это придает им почти пугающую красоту
и очарование, которое одновременно и восхищает и потря¬
сает нашу душу. Это страстное стремление вкушать
радости жизни, словно смерть уже через мгновение ото¬
рвет их от кипучего источника наслаждений или он иссяк¬
нет, это исступление, эта одержимость, это безумие пари¬
жанок, особенно поражающее па балах, напоминают мне
поверье о мертвых танцовщицах, которых у нас назы-
391
ватот виллисами. Это — юные невесты, умершие ранее
дня своей свадьбы, но сохранившие в душе неутоленную
страсть к танцам, столь властную, что по ночам они
встают из своих гробов, толпами собираются иа доро¬
гах и в полночь предаются самым диким пляскам. Раз¬
одетые в подвенечные платья, с венками из цветов
на головах, со сверкающими кольцами на бледных ру¬
ках, жутко смеясь, неотразимо прекрасные, виллисы
пляшут в лучах луны, и тем неистовее и исступленнее,
чем более они чувствуют, что час пх плясок истекает
и что они снова должны вернуться в ледяной холод мо¬
гилы.
Впечатление это особенно глубоко запало мне в душу
на вечере в одном доме на Шоссе д’Антон. Это был блестя¬
щий вечер ; все традиционные элементы общественных увесе¬
лений были налицо: достаточно огней, которые тебя осве¬
щают, достаточно зеркал, чтобы в них смотреться, доста¬
точно людей, чтобы разогреться в толкотне, достаточно
прохладительных напитков и мороженого, чтобы осве¬
житься. Начали с музыки. Франц Лист разрешил увлечь
себя к фортепьяно, взъерошил волосы над гениальным
лбом и дал одно из самых своих блистательных сражений.
Клавиши, казалось, истекали кровыо. Если я не ошибаюсь,
он сыграл один нассаж из «Палпнгенезий» Балланша, идеи
которого ' он перевел па язык музыки, что было очень
полезно для тех, кто ие может читать труды этого знаме¬
нитого писателя в подлиннике. Затем он сыграл «Шест¬
вие на казнь» («La marche au supplice») Берлиоза, прекрас¬
ную вещь, которую этот юный музыкант, если я не оши¬
баюсь, сочинил утром в день своей свадьбы. Повсюду
в зале — побледневшие лица, волнующиеся груди, тихи о
вздохи во время пауз п, наконец, бурное одобрение. Жен¬
щины всегда словно хмелеют от игры Листа. С еще болео
неистовой радостью отдались они теперь танцам, эти
виллисы салонов, и мне лишь с трудом удалось выбраться
из поднявшейся сутолоки в соседний зал. Здесь шла
игра, и в обширных креслах расположились несколько
дам, следивших за играющими или по крайней мере
делавших вид, что они интересуются игрой. Проходя
мимо одной из этих дам и задев ее платье рукавом, я по¬
чувствовал, как вверх по моей руке до самого плеча про¬
бежала легкая дрожь, точно от слабого электрического
392
разряда. Но как содрогнулось мое сердце, когда я взгля¬
нул этой даме в лицо. Она это или не она? Это было то
самое лицо, своей формой и солнечным колоритом напо¬
минавшее античную статую, но оно не было уже, как
прежде, мраморно-чистым и мраморно-гладким. При вни¬
мательном взгляде можно было заметить иа лбу и щеках
маленькие шероховатости, быть может следы оспы, со¬
вершенно напоминавшие те легкие пятна сырости, кото¬
рые бывают видны на лицах статуй, долгое время подвер¬
гавшихся действию дождя. Это были те же черные волосы,
закрывавшие ей виски гладкими, закругленными прядями,
похожими на крылья ворона. Но когда глаза ее встрети¬
лись с моими, когда я уловил столь хорошо знакомый
мне косой взгляд, молния которого всегда так загадочно
пронизывала мне душу, я уже больше ие сомневался:
это была мадемуазель Лоране.
Откинувшись в изящно-небрежной позе в кресле,
мадемуазель Лоране одной рукой опиралась на его ручку,
а в другой держала букет цветов. Она сидела недалеко
от игорного стола, и, по-видимому, все ее внимание было
поглощено картами. Костюм ее отличался изящным
вкусом и вместе с тем был совершенно прост, весь из бе¬
лого атласа. На ней не было никаких драгоценностей, за
исключением браслетов и жемчужной брошки на груди.
Пышные кружева пуритански закрывали ее юную грудь
до самой шеи, и этой простотой и целомудрием туалета
она представляла трогательно-милый контраст с некото¬
рыми более пожилыми дамами, которые сидели возле
нее пестро разряженные, сверкая бриллиантами, и мелан¬
холически обнажали взору руины своего былого велико¬
лепия — то место, где некогда стояла Троя. Мадемуазель
Лоране по-прежнему была изумительно красива и по-
прежнему имела восхитительно сердитый вид, и меня
неудержимо влекло к ней, так что в конце концов я очу¬
тился позади ее кресла, горя желанием заговорить с ней
и все же пе решаясь это сделать из какой-то боязливой
деликатности.
Я, вероятно, уже довольно долго молча стоял позади
нее, как вдруг она выдернула из своего букета цветок и,
не оглядываясь, протянула мне его через плечо. Этот
цветок издавал какой-то особый аромат, от которого как бы
исходили на меня волшебные чары. Я почувствовал себя
воз
свободным от всех светских условностей, и это было
словно во сне, когда мы говорим и делаем всякого рода
вещи, изумляющие нас самих, и когда наши слова приоб¬
ретают характер детской доверчивости и простоты. Спо¬
койно, равнодушно и небрежно, как это ведется между
старыми друзьями, я перегнулся через спинку кресла и
прошептал па ухо молодой даме:
«Мадемуазель Лоране, где же мамаша с барабаном?»
«Она умерла», — ответила она тем же тоном, так же
спокойно, равнодушно й небрежно.
После небольшой паузы я еще раз наклонился над
спинкой кресла и прошептал на ухо молодой даме:
«Мадемуазель Лоране, а где ученая собака?»
«Она вырвалась иа волю», — ответила она опять тем
же спокойным, равнодушным и небрежным тоном.
И снова, после короткой паузы, наклонился я над спин¬
кой кресла и прошептал на ухо молодой даме:
«Мадемуазель Лорапс, а где же мосье Тюрлютю,
карлик?»
«Он у великанов на бульваре Тампль», — отвечала
она. Но едва она произнесла эти слова, и притом опять
все тем же спокойным, равнодушным, небрежным тоном,
как к ней подошел старый солидный господин высокого
роста, с военной выправкой, и сообщил, что ее карета
подана. Медленно поднявшись с кресла, она оперлась
на его руку и, не бросив па меня ни одного взгляда,
вместе с ним покинула общество.
Я подошел к хозяйке дома, которая весь вечер про¬
стояла у входа в главный зал и дарила своей улыбкой
каждого из входивших и уходивших гостей, и осведомился
у нее об имени юной особы, только что вышедшей в сопро¬
вождении старого господина, на что она весело расхохо¬
талась мне в лицо и воскликнула:
«Бог мой! Разве можно всех знать? Я знаю его так же
мало, как...» Она запнулась, так как, наверное, собиралась
сказать: «Так же мало, как вас самого». Меня она
также видела в этот вечер впервые.
«Быть может, — заметил я, — ваш супруг мог бы
сообщить мне какие-либо сведения. Где я могу найти
его?»
«На охоте в Сен-Жермене, — отвечала дама, смеясь
еще сильнее, — он уехал сегодня утром и вернется только
394
завтра вечером... Но постойте, я знаю человека, который
долго разговаривал с интересующей вас дамой; я забыла,
как его зовут, по вы легко его разыщете, если будете рас¬
спрашивать о молодом человеке, которому Казимир
Перье дал пипок ногою не помню в какое место».
Как ни трудно найти человека по одному только при¬
знаку, что оп получил пинок от министра, я все же быстро
отыскал кого мне было нужно и обратился к молодому
человеку с просьбой дать мне более подробные сведения
о странном существе, которое меня так интересовало и
которое я сумел описать ему достаточно отчетливо.
«Да, — сказал молодой человек, — я знаю ее очень
хорошо; я беседовал с ней на многих вечерах», — и он
повторил мне кучу ничего не говорящих вещей, которыми
он ее развлекал. Его особенно поражало то, что она
взглядывала на него совершенно серьезно всякий раз,
когда он говорил ей какую-нибудь любезность. Немало
удивляло его также то, что она всегда отклоняла его при¬
глашение на контрданс, уверяя, что не умеет танцевать.
Как ее зовут и откуда она, он не знал. II к кому я ни
обращался с расспросами, никто ничего не мог сообщить
мне об этом. Напрасно бегал я на всевозможные вечера,
нигде уж больше не удалось мне встретить мадемуазель
Лорапс.
— И это вся история? — воскликнула Мария, мед¬
ленно поворачиваясь и сонно зевая. — Это и есть вся
ваша замечательная история? И с той поры вы никогда
уже больше не встречали ни мадемуазель Лоране, ни
мамаши с барабаном, ни карлика Тюрлюно, ни ученой
собаки?
— Лежите, лежите спокойно, — отвечал Максими¬
лиан. — Я снова увидел их всех, даже ученого пса.
Правда, он был, бедняга, в самом отчаянном положении,
когда я встретился с ним в Париже. Это было в Латин¬
ском квартале. Я как раз проходил мимо Сорбонны,
как вдруг из ворот выскочила собака, а за нею дюжина
вооруженных палками студентов, к которым вскоре при¬
соединились две дюжины старух, и все хором кричали:
«Бешеная собака!» Почти как человек выглядело несчаст¬
ное животное, охваченное смертельным ужасом; вода
текла из его глаз, точно это были слезы, и когда, с хри¬
пением пробегая мимо, оно бросило на меня свой влажный
395
взгляд, я узнал в нем моего старого друга, ученого пса,
который некогда слагал хвалу лорду Веллингтону и при¬
водил в изумление народ Англии. Быть может, он дей¬
ствительно взбесился? Или свихнулся от чрезмерной
учености, когда стал продолжать курс своего обучения
в Латинском квартале? Или, быть может, находясь в Сор¬
бонне, ои выразил своим царапанием и ворчанием неодоб¬
рение надутому шарлатанству какого-нибудь профес¬
сора, и этот последний постарался избавиться от нежела¬
тельного слушателя, объявив его бешеным? Но, увы!
Молодежь не расследует долго, чем именно был продикто¬
ван первый крик «бешеная собака!». Скрывалось ли за
этим уязвленное самомнение ученого педанта или просто
зависть конкурента, — она бессмысленно бросается коло¬
тить собаку палками, а старые бабы, как водится, тотчас
присоединяются к ней со своими воплями и легко заглу¬
шают голос невинности и разума. Мой бедный друг был
обречен; на моих глазах он был безжалостно убит, пору¬
ган и, наконец, выброшен в навозную кучу! Несчастный
мученик науки!
Немногим веселее оказалось положение карлика, мосье
Тюрлютю, когда я его нашел на бульваре Тампль. Хотя
мадемуазель Лоране и сказала мне, что он находится там,
но, бьпь может, я недостаточно внимательно искал, или же
мне мешала сновавшая взад и вперед толпа, только я лишь
очень пе скоро заметил помещение, в котором показывают
великанов. Войдя туда, я нашел там двух высоких без¬
дельников, которые праздно валялись па нарах, но при
моем появлении разом вскочили и стали в позы велика¬
нов. Они вовсе не были так велики, как хвастливо было
расписано в афише. Это были два долговязых парня,
одетые в розовые трико, носившие очень черные, быть
может фальшивые, бакенбарды и вращавшие над головами
деревянные, выдолбленные внутри дубины. Когда я спро¬
сил их о карлике, о котором тоже оповещала их афиша,
они ответили, что его уже четыре недели пе показывают
по причине его все усиливающего недомогания, но что я
все же могу его увидеть, если заплачу двойную входную
плату. Как охотно вносишь двойную входную плату,
чтобы повидаться со старым другом! Но увы! Я застал
друга иа ложе смерти. Это ложе в сущности представляло
собой детскую колыбельку, и в ней лежал бедный карлик
396
со своим желтым, сморщенным, старческим лицом. Рядом
сидела маленькая девочка лет четырех и, качая люльку
йогою, шаловливо напевала:
«Спи, Тюрлютюшечка, спи!»
Когда карлик меня увидел, он насколько мог шире
раскрыл свои стеклянные, тусклые глаза, и скорбная
усмешка мелькнула на побледневших губах его; он, по-
видимому, сразу узнал меня, протяпул мне свою высох-
шую ручонку и тихо прохрипел:
«Старый друг!»
Да, в печальном положении очутился этот человек,
который уже восьми лет от роду имел длинную беседу
с Людовиком Шестнадцатым, которого царь Александр
кормил конфетами, принцесса фон Киритц держала на
коленях, которого боготворил папа и никогда не любил
Наполеон! Это последнее обстоятельство доставляло не¬
счастному огорчения даже на смертном одре, или, как
я уже сказал, в его смертной колыбели, и ои оплакивал
трагическую судьбу великого императора, который ни¬
когда его не любил, но так печально закончил свою жизнь
на Святой Елене... «Совсем как кончаю я, — прибавил
оп, — одинокий, непризнанный, покппутый всеми коро¬
лями и князьями, карикатура былого величия».
Хотя я и не мог юлком понять, что общего между кар¬
ликом, умирающим среди великанов, и великаном, умер¬
шим среди карликов, тем не менее меня очень растрогали
слова бедного Тюрлютю и его полнейшая заброшенность
в смертный час. Я не мог удержаться и выразил удивле¬
ние, почему мадемуазель Лоране, достигшая теперь та¬
кого высокого положения, не позаботилась о нем. Едва
я произнес это имя, как карлика в его колыбели начали
потрясать жестокие судороги и его белые губы со стоном
пролепетали: «Неблагодарное дитя, которое я воспитал,
которое я хотел возвысить, сделав своей супругой, кото¬
рое я учил, как надо держать себя с великими мира сего,
как улыбаться, как кланяться при дворе, как представ¬
ляться!.. Ты хорошо воспользовалась моими советами,
ты теперь важная дама, у тебя своя карста, лакеи и много
денег, много гордости, но нет сердца. Ты позволяешь мне
здесь умереть, в одиночестве и нищете, как умер На¬
полеон иа Святой Елене! О Наполеон, ты никогда меня
не любил...» Я не мог разобрать, что оп еще сказал.
397
Он поднял голову, сделал рукой несколько движений, как
будто с кем-то фехтовал, быть может со смертью. Но косе
этого противника не в силах противостоять ни один чело¬
век — ни Наполеон, нп Тюрлютю. Тут не помогают
никакие парады. Истомленный, словно потерпевший пора¬
жение, карлик снова опустил голову, устремил на меня
долгий, неописуемо жуткий взгляд, внезапно закричал
петухом и испустил дух.
Эта смерть опечалила меня особенно сильно еще по¬
тому, что усопший не успел сообщить мне никаких под¬
робных сведений относительно мадемуазель Лоране. Где
мне теперь ее искать? Я не был в нее влюблен и пе чув¬
ствовал к ней особого расположения, тем не менее зага¬
дочное желание повсюду разыскивать ее преследовало
меня; стоило мне войти в гостиную и, осмотрев собрав¬
шееся общество, убедиться, что здесь нет ее знакомого
лица, как я быстро терял всякий покой и какая-то сила
вновь гнала меня на попеки. Размышляя об этом чувстве,
я стоял как-то в полночь у одного из отдаленных входов
в Большую оперу, с досадой ожидая карету, так как лил
сильный дождь. Но кареты не было, или, вернее, подъез¬
жали только кареты, принадлежавшие другим людям,
которые с удовольствием в них усаживались и отъезжали,
так что мало-помалу вокруг меня стало довольно пустынно.
«Видно, придется вам ехать со мною», — произнесла,
наконец, одна дама, вся закутанная в черную мантилью;
она также ждала некоторое время экипажа, стоя йодле
меня, и теперь как раз собиралась сесть в карету. При
звуке этого голоса сердце мое вздрогнуло, хорошо знако¬
мый, искоса брошенный взгляд вновь оказал свое обычное
волшебное действие, и опять я почувствовал себя как
во сне, очутившись в уютной и теплой карете рядом с ма¬
демуазель Лоране. Мы не сказали ни слова, да и пе могли
бы услышать друг друга, так как карета с ужасающим
грохотом неслась по улицам Парижа, и притом в течение
долгого времени, пока, наконец, не остановилась перед
большим подъездом.
Слуги в блестящих ливреях освещали нам путь в то
время как мы поднимались по лестнице и шли через анфи¬
ладу комнат. Горничная, вышедшая к нам навстречу
с заспанным лицом, запинаясь, с бесчисленными извине¬
ниями, сообщила, что натоплено только в красной ком-
398
пате. Лорапс, кивнув служанке, чтобы она уходила,
смеясь, произнесла: «Случаи заводит вас сегодня далеко:
в одной только моей спальне и топили...»
В этой спальне, где мы вскоре остались одни, ярко
пылал камин, и это было тем приятнее, что комната была
невероятно велика и высока. Эта огромная спальня, к ко¬
торой скорее подошло бы название спального зала, каза¬
лась какой-то нежилой, пустынной. Мебель и украше¬
ния — все носило па себе отпечаток того времени, блеск
которого представляется нам теперь таким запыленным,
величие которого кажется таким сухим. Реликвии этого
времени производят на нас неприятное впечатление и воз¬
буждают даже скрытую усмешку. Я говорю об эпохе Им¬
перии, эпохе золотых орлов, высоко развевающихся султа¬
нов, греческих причесок, славы великих тамбурмажоров,
военных месс, официального бессмертия, декретируемого
«Moniteur»’oM континентального кофе, который изготов¬
лялся из цикория, скверного сахара, который фабриковали
из свекловицы, и принцев и герцогов, которых делали из
ничего. Но оно все же имело свое очарование, это время
патетического материализма... Тальма декламировал, Гро
писал картины, Биготтини танцевала, Грассини пел,
Мори произносил проповеди, Ровиго управлял полицией,
император читал Оссиана, Полина Боргезе позировала
в качестве Венеры, и притом совершенно нагая, ибо ком¬
ната была хорошо натоплена, так же как та спальня,
в которой мы находились с мадемуазель Лоране.
Мы сидели у камина, дружески болтая, и со вздохом
она рассказала мне, что вышла замуж за бонапартовского
героя, который каждый вечер перед отходом ко сну угощал
ее описанием какой-нибудь из пережитых им битв; не¬
сколько дней тому назад, перед тем как уехать, он описал
ей сражение под Иеной; здоровье его очень плохо, и едва
ли оп доживет до русского похода. Когда я спросил ее,
давно ли умер ее отец, она рассмеялась и сказала, что
отца она никогда не знала и что ее так называемая мать
никогда ие была замужем.
«Как не была замужем? — воскликнул я. — Да ведь
в Лондоне я собственными глазами видел ее в глубоком
трауре по умершем муже!»
«О, — возразила Лорапс, — она в течение двенадцати
лет всегда одевалась во все черное, чтобы в качестве
399
несчастной вдовы возбуждать в людях сострадание, а
кстати, если удастся, соблазнить какого-нибудь склон¬
ного к женитьбе простофилю; под черным флагом она рас¬
считывала скорее причалить к гавани супружества. Но
одна только смерть сжалилась над нею, и она умерла от
кровоизлияния. Я никогда ее пе любила, так как получала
от нее много колотушек и мало еды. Я умерла бы от голода,
если бы мосье Тюрлютю не приносил мне иногда поти¬
хоньку кусочек хлеба; но карлик требовал в награду за
это, чтобы я вышла за него замуж, и когда его надежды
рухнули, ои объединился с моей матерыо, — я говорю
«матерыо» только по привычке, — и они общими силами
стали меня мучить. Они говорили всегда, что я совер¬
шенно ненужное существо, что ученая собака стоит в ты¬
сячу раз больше, чем я с моими плохими танцами. Мне
назло они осыпали собаку похвалами, превозносили ее
до небес, гладили, кормили пирожными, а мне бросали
объедки. Собака, говорили они, их вернейшая опора, она
восхищает публику, которая нисколько не интересуется
мною; собака кормит меня своим трудом, я питаюсь по¬
даянием собаки. Проклятая собака!»
«О, пе проклинайте ее больше, — прервал я ее гнев¬
ную речь, — ее уже пет, я присутствовал при се смерти...»
«Неужели скотина околела?» — воскликнула, вска¬
кивая, Лоране, и лицо ее разгорелось от радости.
«И карлик тоже умер», — прибавил я.
«Мосье Тюрлютю! — вскричала Лоране столь же ра¬
достно. Но мало-помалу радость эта исчезла с ее лица,
и более мягко, почти печально она, наконец, прибавила: —
Бедный Тюрлютю!»
Я не скрыл от нее, что карлик, умирая, горько жало¬
вался па ее жестокость. Тогда она пришла в сильнейшее
волнение п стала всячески уверять меня, что намерева¬
лась вполне обеспечить карлика, предлагала ему полное
содержание, с условием, что он будет тихо и скромно
жить где-нибудь в провинции. «Но этот честолюбец, —
продолжала Лораис, — хотел во что бы то ни стало ос¬
таться в Париже и даже жить в моем отеле; оп говорил,
что рассчитывает возобновить при моем посредстве свои
былые связи в Сен-Жерменском предместье и снова занять
свое прежнее блестящее положение в обществе. Когда
я ему наотрез отказала в этом, оп велел передать мне,
т
что я — проклятое привидение, вампир, отродье покой¬
ницы...»
Лоране внезапно умолкла, задрожала всем телом и,
наконец, произнесла с глубоким вздохом: «Ах, лучше бы
они оставили меня в могиле вместе с моей матерью!»
Когда я настойчиво стал просить ее объяснить мне эти
загадочные слова, из глаз ее ручьем полились слезы: вся
содрогаясь от рыданий, она призналась мне, что черная
женщина с барабаном, выдававшая себя за ее мать, сама ей
раз объявила, что слухи относительно ее рождения не были
пустой выдумкой. «В городе, где мы жили, — продол¬
жала Лоране, — меня все звали отродьем покойницы!
Старухи уверяли, будто я на самом деле дочь одного та¬
мошнего графа, который всю жизнь очень жестоко обра¬
щался со своей женой. Когда же она умерла, он устроил
ей пышные похороны. Но она была на последнем месяце
беременности и только впала в летаргический сон, и когда
кладбищенские воры, желая похитить драгоценные укра¬
шения погребенной, разрыли могилу, они нашли ее еще
живою, в родовых муках. Разрешившись от бремени, она
тотчас умерла, и воры опять положили ее в гроб, а ребенка
взяли с собой и отдали на воспитание укрывательнице
краденого в их шайке и любовнице великого чревовеща¬
теля. Этого бедного ребенка, которого похоронили раньше,
чем он родился, все называли «отродьем покойницы»...
Ах, вы никогда не поймете, сколько горя пережила я,
будучи еще совсем маленькой девочкой, от того что меня
так называли. Пока великий чревовещатель еще был жив,
он часто сердился на меня и всегда кричал: «Проклятое
отродье покойницы, лучше бы я не вынимал тебя из
могилы!» Так как он был искусный чревовещатель, то он
умел так изменять свой голос, что казалось, будто голос
идет из-под земли. И тогда чревовещатель уверял меня,
что это голос моей покойной матери и что она рассказывает
мне про свою судьбу. Он-то сам хорошо знал ужасную
ее судьбу, потому что был когда-то камердинером у графа.
Ему доставляло жестокое удовольствие видеть, с каким
безумным ужасом бедная маленькая девочка прислуши¬
вается к речам, которые доносятся как будто из-под
земли. Этот голос, казалось шедший из-под земли, расска¬
зывал страшные истории, истории, которые я не вполне
могла понять и которые мало-помалу забыла, но они снова
1/ÿ\4 Г. Гейне, т. 6
401
ярко воскресали предо мной, когда я танцевала. Да,
когда я танцевала, меня всегда охватывало странное вос¬
поминание, я забывала себя, мне казалось, что я совсем
другое лицо, что меня терзают муки и тайны этого другого
лица... Но как только я переставала танцевать, все это
вновь угасало в моей памяти».
В то время как Лоране медленно и каким-то странным,
полувопросительным тоном произносила эти слова, она
стояла передо мной у камина, где все ярче разгоралось
пламя; я сидел в кресле, — вероятно, обычном месте
ее супруга, когда он по вечерам, перед отходом ко сну,
рассказывал ей о своих сражениях. Лоране смотрела на
меня своими большими глазами, словно прося совета;
она склоняла голову с такой скорбной думой; она воз¬
буждала во мне такое благородное, сладостнее чувство
жалости; она была так стройна, так молода, так прекрасна,
эта лилия, выросшая из могилы, это дитя смерти, это при¬
видение с лицом ангела и телом баядерки! Не знаю,
как это случилось, — быть может, тут сказалось влияние
кресла, в котором я сидел, — но мне внезапно почуди¬
лось, что я старый генерал, который вчера, сидя здесь,
описывал битву при Иене, и что я должен продолжать
свой рассказ, и я произнес: «После битвы при Иене, в те¬
чение немногих недель, почти без боя сдались все прус¬
ские крепости. Сначала сдался Магдебург, это была
самая сильная крепость, и у нее было триста пушек.
Разве это не позор?»
Но мадемуазель Лоране не дала мне дальше гово¬
рить: мрачное выражение слетело с ее прекрасного
лица, она расхохоталась как дитя и воскликнула: «Да,
это позор, это более чем позор! Если бы я была кре¬
постью и у меня было бы триста пушек, я никогда бы
не сдалась!»
Но так как мадемуазель Лоране не была крепостью
и не имела трехсот пушек...
При этих словах Максимилиан вдруг остановился и,
сделав небольшую паузу, тихо спросил:
— Вы спите, Мария?
— Я сплю, — отвечала Мария.
— Тем лучше, — сказал Максимилиан с тонкой улыб¬
кой, — в таком случае мне нечего бояться, что вы соску¬
читесь, если я, по обычаю современных романистов,
402
несколько подробнее опишу меблировку топ комнаты,
в которой я находился.
— Не забудьте про кровать, дорогой друг!
— Это была действительно роскошная кровать, —
возразил Максимилиан. — Ножками ей, как обычно у кро¬
ватей стиля ампир, служили кариатиды и сфинксы;
она вся блистала роскошной позолотой; особенно выделя¬
лись золотые орлы, которые нежно целовались клювами,
точно голуби, являясь как бы символом любви эпохи Им¬
перии. Полог кровати был из красного шелка, и пламя
камина так ярко просвечивало сквозь него, что мы с Ло¬
ране были освещены огненно-красным светом, и мне пред¬
ставлялось, что я бог Плутон, окруженный адскими
огнями и держащий спящую Прозерпину в своих объ¬
ятиях. Она спала, а я рассматривал ее милое лицо и ста¬
рался в ее чертах найти объяснение той симпатии, которую
питала к ней моя душа. Что же такое эта женщина? Какой
смысл скрывается под символикой этих прекрасных
форм?
Прелестная загадка кротко лежала теперь в моих объ¬
ятиях, принадлежала мне и все же оставалась неразга¬
данной.
Не безумие ли, однако, пытаться разгадать внутрен¬
ний смысл другого существа, в то время как мы не в со¬
стоянии разрешить загадку нашей собственной души?
Ведь мы не знаем даже достоверно, существуют ли на
самом деле другие существа! Бывает ведь порою, что мы
не в состоянии отличить реальную действительность от
бредовых образов. Что это было, игра фантазии или
страшная правда, — то, что я видел и слышал в ту ночь?
Не знаю. Я припоминаю только, что в то время как самые
дикие мысли проносились в моем сердце, ухо внезапно
уловило какой-то странный шум. Это была безумная, едва
слышная мелодия. Она показалась мне очень знакомой,
и в конце концов я уловил звуки треугольника и барабана.
Треньканье и жужжание этой музыки доносилось как
будто совсем издалека, и, однако, когда я огляделся,
я увидел совсем близко перед собой, посреди комнаты, зна¬
комое зрелище: это был мосье Тюрлютю, карлик, играв¬
ший на треугольнике, в то время как мамаша била в бара¬
бан, а ученая собака шарила по полу, как будто пытаясь
снова сложить свои деревянные буквы. Собака двигалась,
403
казалось, лишь с большим трудом, и шерсть ее была вся
в крови. Мамаша была по-прежнему одета в свое черное
траурное платье; но живот ее уже не выпячивался так
комично вперед, а отвратительно свисал вниз; и лицо ее
тоже было теперь не красное, а бледное. Карлик, на кото¬
ром по-прежнему был расшитый кафтан французского
маркиза старого времени и напудренный парик, казался
слегка подросшим, быть может потому, что он страшно
исхудал. Он по-прежнему показывал чудеса фехтоваль¬
ного искусства и, по-видимому, снова шамкал свои старые
хвастливые речи; но он говорил так тихо, что я не мог
разобрать ни одного слова и только по движению его губ
порой угадывал, что он опять пел петухом.
В то время как эти комически-странные, кошмарные
фигуры, словно китайские тени, безумным вихрем проно¬
сились перед моими глазами, я почувствовал, что маде¬
муазель Лоране начинает дышать все беспокойнее. Ледя¬
ной озноб сотрясал ее всю, и словно от нестерпимой боли
содрогалось прелестное тело. Наконец, гибкая, как угорь,
она выскользнула из моих объятий, внезапно очутилась
посреди комнаты и начала танцевать под тихую, заглу¬
шенную музыку барабана мамаши и треугольника кар¬
лика. Она танцевала совершенно так же, как некогда
у моста Ватерлоо и на перекрестках лондонских улиц.
Это была та же самая таинственная пантомима, те же поры¬
вистые, страстные прыжки, то же вакхическое закиды¬
вание головы, порою приникание к земле, словно она
хотела расслышать, что говорят ей снизу, затем дрожь,
бледность, каменная неподвижность, и вновь она скло¬
нялась к земле, чутко прислушиваясь. Точно так же
терла она опять свои руки, как будто хотела их вымыть.
Наконец, она, казалось, вновь бросила на меня свой глу¬
бокий, полный мольбы и страдания взгляд... Но только
в чертах ее смертельно бледного лица уловил я этот
взгляд, а не в глазах, которые все время оставались за¬
крытыми. Все тише и тише звучала музыка: мамаша с ба¬
рабаном и карлик мало-помалу бледнели и рассеивались,
как туман, и, наконец, совершенно исчезли; но мадемуа¬
зель Лоране все еще оставалась посреди комнаты и про¬
должала танцевать с закрытыми глазами. Этот танец с за¬
крытыми глазами в ночной тишине комнаты придавал
милому существу такой жутко призрачный вид, что
404
мне стало не по себе; я не раз содрогнулся и был от
души рад, когда она закончила свою пляску и снова скольз¬
нула в мои объятия таким же гибким движением, каким
раньше покинула меня.
Я должен сознаться, что эта сцена произвела на меня
далеко не приятное впечатление. Но человек ко всему
привыкает. Возможно, что зловещая таинственность этой
женщины придавала ей особую привлекательность,
что к моим чувствам примешивалась нежность, полная
жуткого трепета... Как бы то ни было, через несколько
педель я уже ничуть не удивлялся, когда ночью разда¬
вались тихие звуки треугольника и барабана и моя доро¬
гая Лоране внезапно вставала и с закрытыми глазами
начинала танцевать свое соло. Ее супруг, старый бонапар¬
тист, командовал частью, расположенной в окрестностях
Парижа, и служба позволяла ему проводить в городе
только дневные часы. Само собой разумеется, я сделался
его самым задушевным другом, и он горько плакал,
когда ему впоследствии пришлось надолго расстаться со
мной. Дело в том, что он уехал с женой в Сицилию, и
с тех пор я никогда больше их не видал.
Окончив свой рассказ, Максимилиан быстро схватил
шляпу и выскользнул из комнаты.
14 Г. Teihie. т. G
КОММЕНТАРИИ
14*
К РАЗЛИЧНОМУ ПОНИМАНИЮ ИСТОРИИ
Этот отрывок впервые опубликован посмертно в 1869 году
А. Штродтманом в книге «Последние стихотворения и мыслп Ген¬
риха Гейне». Заглавие дано Штродтманом, по предположению
которого набросок относится к началу 30-х годов.
Отрывок «К различному пониманию истории» по содержанию
тесно связан с очерком Гейне «К истории религии и философии
в Германии». Гейне критикует в этом отрывке реакционные идеи
возникшей в Германии в начале XIX века «исторической школы
права» — школы юристов-романтнков, которая боролась с идеями
буржуазных просветителей, защищая принципы феодального госу¬
дарства, и при этом отрицала исторический прогресс, возможность
перестройки общества на разумных основаниях. Ио поэта не удов¬
летворяет и либеральная теория медленного, постепенного совер¬
шенствования, вера (в духе Гегеля и его школы) в торжество «ми¬
рового разума» лишь в отдаленном будущем: Гейнс защищает право
человечества иа счастье уже в настоящем. Признание права народ¬
ных масс на счастье и призыв к удовлетворению их материальных
потребностей и интересов подготавливали разрыв поэта с немец¬
кой идеалистической философией, восприятие им идей демократии
и утопического социализма.
Стр. 7. «Нет ничего нового под солнцем» — цитата из книги
Екклезиаста (I, 9).
Царь Востока — Соломон.
...поэты гетевского эстетического периода... — Термин «ге-
тсвскнй эстетический период» впервые встречается в рецензии
Гейне на книгу Мснцсля «Немецкая литература» (1828). В этой
рецензии Гейне писал, что «идея искусства является средоточием
всего того литературного периода, который начался с Гете и только
400
в наши дни подошел к концу» (см. т. V настоящ. издания,
стр. 139). Гейне считал, что, в отличие от гетевской эпохи, в 30—
40-е годы центральное место в жизни общества заняли пе художест¬
венные, а общественно-политические интересы.
Стр. 8. Одно достаточно хорошо известное северогерманское
правительство... — Гейне имеет в виду правительство Пруссии.
...ради его внедрения оно отправляет в путешествие людей... —
Имеется в виду финансировавшееся правительством путешествие в
Италию реакционного прусского историка Леопольда Райке (1795—
1886).
...при посредстве проповедников христианского смирения... —
Здесь содержится намек на дружбу Ранке с протестантским теологом
и философом Фридрихом Шлейермахером (1768—1834), примы¬
кавшим по своим взглядам к романтическому лагерю.
...умерять с помощью компрессов из холодных газетных просты¬
ней трехдневную лихорадку народного свободолюбия. — Имеется в
виду издававшаяся Ранке при поддержке прусского правительства
реакционная «Историко-политическая газета», которая должна
была противодействовать революционным настроениям, проникав¬
шим в Германию из Франции после Июльской революции. Трех¬
дневная лихорадка — Июльская революция (27—29 июля 1830 года).
Гуманитарная школа. — Гейнс говорит здесь о немецкой клас¬
сической литературе, о Гете и Шиллере и их идее преобразования
человеческого общества путем воспитания людей.
Философская школа. — Речь идет о Гегеле и его учениках,
особенно об Э. Гансе.
Стр. 9. Сен-Жюст Луи-Антуан (1767—1794) — один из вож¬
дей якобинцев.
II ИСТОРИИ РЕЛИГИИ
И ФИЛОСОФИИ В ГЕРМАНИИ
Это сочинение Гейне впервые было опубликовано на француз¬
ском языке в марте—декабре 1834 года в парижском журнале
«Revue des deux mondes». Французский текст был озаглавлен «О Гер¬
мании со времен Лютера», а отдельные части его имели подзаголовки:
«Религиозная революция и Мартин Лютер», «Предшественники
философской революции, Спиноза и Лессинг» и «Философская ре¬
волюция, Кант, Фихте, Шеллинг».
Немецкое издание очерка «К истории религии и философии в
Германии» (первоначально сочинение это было написано Гейне по-
немецки и лишь впоследствии переведено на французский язык)
410
появилось в январе 1835 года. Оно составило вторую часть четырех¬
томного сборника сочинений Гейне, выходившего в 1834—1840 го¬
дах под названием «Салон» в издательстве Гофмана и Кампе в Гам¬
бурге. Это первое немецкое издание было изуродовано цензурой,
о чем Гейне рассказывает в своем предисловии ко второму изданию
(см. стр. 14 настоящ. тома). Так как в книге было более двадцати
листов, а по существовавшим в то время в Германии цензурным пра¬
вилам книги объемом более двадцати листов освобождались от пред¬
варительной цензуры, Гейне вначале полагал, что искажения и ку¬
пюры в тексте первого издания — дело рук самого издателя Кампе.
В связи с этим 19 марта 1835 года он обратился в аугсбургскую «Все¬
общую газету» с письмом, в котором протестовал против действий
издательства (это письмо было опубликовано в приложенпик№ 114—
115 от 27 марта 1835 года). Однако, как Гейне вскоре выяснил, ку¬
пюры в тексте первого издания были сделаны все же не самим издате¬
лем, а цензурой, которой Кампе счел нужным представить рукопись
как «искупительную жертву» за «печатные грехи» других издавав¬
шихся им писателей. Этот поступок Кампе вызвал законное возму¬
щение поэта, который, по собственному признанию, провел немало
ночей без сна, вспоминая об «убийстве», жертвой которого он стал.
Начав в 1852 году подготовку нового немецкого издания,
Гейне затребовал от Кампе свою рукопись, но Кампе заявил, что
не может се отыскать (возможно, что он хотел скрыть ее от поэта).
Ввиду этого Гейне ввел во второе немецкое издание ряд отрывков,
переведенных им с французского текста. Лишь после смерти Гейне
его рукопись была найдена А. Штродтманом и авторский текст
был полностью восстановлен.
Во французском варианте сочинение «К истории религии и
философии в Германии» явилось первой частью кпиги Гейне «О Гер¬
мании», вышедшей в Париже в двух томах в 1835 году и переиздан¬
ной в 1855 году. Кроме этого сочинения, в состав первого издания
книги «О Германии» вошли «Романтическая школа», первая часть
«Духов стихий» и ряд переведенных Гейне статей упоминаемых им
немецких авторов (Геллерта, Фосса, Хинрихса о Викторе Кузене,
Фалька о Гете), представляющих как бы иллюстрации к отдельным
местам его текста. Из второго издания книги «О Германии» Гейне
изъял эти переводные статьи, заменив их рядом более поздних своих
сочинений 40-х и 50-х годов («Боги в изгнании», «Доктор Фауст»,
«Признания» и др.).
Книга «О Германии» была издана Гейне с посвящением уче¬
нику Сен-Симона, одному из главных деятелей сен-симонизма Про-
сперу Анфантену (1796—1864). Вот текст этого посвящения:
411
«Просперу Аифантену в Египте.
Вы выразили желание познакомиться с развитием идей в Гер¬
мании за последнее время и с отношениями, связывающими умст¬
венное движение в этой стране с последними выводами доктрины.
Благодарю вас за честь, оказанную мне обращенным ко мне
предложением ознакомить вас с этим предметом, и очень рад слу¬
чаю войти с вами в общение через разделяющее нас пространство.
Разрешите поднести вам эту книгу; я хотел бы верить, что она
удовлетворит потребности вашей мысли. Во всяком случае по¬
звольте просить вас принять ее как выражение почтительного рас¬
положения.
Генрих Гейне».
О мотивах, побудивших его снабдить книгу этим посвящением,
Гейне писал в предисловии ко второму французскому изданию,
датированном 15 января 1855 года:
«В то время имя, к которому обращено было это посвящение,
являлось своеобразным символом, с которым связывалось представ¬
ление о наиболее передовой части борцов за освобождение чело¬
вечества, только что разгромленной жандармами и прихвостнями
старого строя. Поддерживая побежденных, я бросил гордый вы¬
зов их противникам и открыто заявил о своем сочувствии мучени¬
кам, бывшим в это время жертвой тяжких оскорблений и предметом
беспощадной травли в газетах и в обществе».
В связи с тем, что к 50-м годам XIX века сен-снмонизм утратил
свое политическое значение, а его бывшие деятели превратились в
чиновников и преуспевающих дельцов, Гейне в издании 1855 года
снял это посвящение, открыто выразив при этом свое презрение к
«отставным апостолам», сменившим мечту о золотом веке на про¬
заическую «проповедь денежного века».
Сочинение «К истории религии и философии в Германии» и
другие произведения Гейнс, входившие в книгу «О Германии»,
имели как бы двойной адрес. Они были адресованы и французскому
и немецкому читателю, и не случайно Гейне издавал их одновре¬
менно па обоих языках. Обращаясь к французскому читателю,
Гейне брал па себя роль посредника между прогрессивной француз¬
ской и немецкой культурой. Его целью было разрушить ложные
представления и предубеждения, мешавшие французскому демо¬
кратическому читателю разобраться в философском и литературном
движении современной Германии, познакомить передовую Францию
с развитием немецкой мысли и литературы, раскрыть их сильные
и слабые стороны. Но такова лишь одна сторона задачи, кото-
йП
рую ставил перед собой Гейне. Сам поэт писал о своих сочинениях
этого периода, что основная тенденция их была «патриотически-
демократической». Если французскому читателю «К истории религии
и философии в Германии» и «Романтическая школа» открывали путь
к пониманию судеб немецкой культуры в ее прошлом и настоящем,
то немецкому читателю они давали анализ развития немецкой куль¬
туры, строгую критическую оценку классической философии и
литературы с демократической точки зрения.
Как указал Гейне в «Признаниях», «К истории религии и фило¬
софии в Германии» и «Романтическая школа» были обращены по¬
лемически против известной книги французской романтической пи¬
сательницы г-жи де Сталь «О Германии», вышедшей в 1813 году.
Озаглавив французское издание своих сочинений, посвященных
характеристике немецкой литературы и философии, «О Германии»
(так же, как была озаглавлена книга Сталь), Гейне сознательно
подчеркнул связь между обеими этими книгами. Он ценил книгу
Сталь как первое во Франции сочинение, автор которого понял меж¬
дународное значение немецкой классической литературы и фило¬
софии. Но для него была неприемлема романтическая тенденция
автора. Писательница, испытавшая влияние А.-В. Шлегеля и дру¬
гих немецких романтиков, рисовала в книге «О Германии» в проти¬
вовес буржуазной Франции идеализированную картину патриар-
хально-мелкобуржуазпой Германии с ее раздробленностью и пар¬
тикуляризмом. Сталь восторженно относилась к традиционному
немецкому идеализму и романтизму (в которых она видела проти¬
воядие от материализма просветителей), ее восхищение вызывала
ограниченность интересов немецких писателей, их уход в «домаш¬
нюю», «частную» жизнь, отсутствие у немцев вкуса и интереса к
«политике».
Сочинения Гейне были направлены не только против идеали¬
зации патриархально-романтической Германии в книге Сталь, —
Гейне вел в них оживленную полемику и с Виктором Кузеном
(1792—1867), пропагандистом идей Шеллинга и Гегеля во Фран¬
ции. Примыкавший в молодые годы к либеральной оппозиции
режиму Реставрации, Кузен после Июльской революции очень
скоро превратился в открытого защитника буржуазной монархии.
В своих лекциях и статьях он выдвигал на первый план реак¬
ционные черты немецкой идеалистической философии, главным
принципом которой он считал идею «примирения», «гармонии»
противоположностей. Особую симпатию Кузена вызывали идеи
Шеллинга, который в мюнхенский период стал философом католиче¬
ской реакции.
413
Сочинения Гейне, посвященные немецкой культуре, были
направлены и против многочисленных представителей немецкой
реакции различных оттенков: против одного из теоретиков роман¬
тизма Августа-Вильгельма Шлегеля (1767—1845), друга и лите¬
ратурного советчика г-жи де Сталь во время ее работы над
книгой, а также против других деятелей романтической школы
в литературе и философии. Гейне сочетал в них, таким образом,
задачи борьбы с немецкой и общеевропейской реакцией.
В сочинении «К истории религии и философии в Германии»
Гейне акцентировал те черты истории пемецкой культуры, которые
резко противоречили традиционному в ту эпоху пониманию ее
(сложившемуся иод влиянием романтиков и гегельянцев) и кото¬
рые — с точки зрения поэта — были наиболее ценными для немец¬
кой и европейской демократии.
Гейне заявляет себя в очерке «К истории религии и философии
в Германии» сторонником социалистических идеалов сен-симони-
стов. Он доказывает, что будущее человечества неразрывно связано
с вопросом о праве широких народных масс на земное счастье,
на удовлетворение своих материальных потребностей и интересов.
Без удовлетворения материальных потребностей народных масс,
без избавления их от нищеты и страданий невозможен, как понимает
поэт, подлинный социальный прогресс человечества.
С этой центральной идеей Гейне 30-х годов связана беспощадная
борьба, которую оп ведет в своих сочинениях против религии и
идеализма. Религия и идеализм приучают народные массы презри¬
тельно относиться к своим земным, плотским потребностям, пре¬
небрегать ими во имя счастья в потустороннем мире, прививают
пароду культ терпения и страдания. Одну из важнейших своих
задач Гейне поэтому видит в борьбе с идеализмом и христианским
спиритуализмом, в пропаганде сен-симонистской идеи «оправдания
плоти», которой поэт придает широкий революционный смысл,
толкуя ее в духе признания неотъемлемого права народа на
земное счастье и благоденствие, на созидаемые им материальные
блага.
Борьба Гейне с философским идеализмом и религиозным спи¬
ритуализмом имела огромное значение для передовой немецкой
общественной мысли. Гейне выступает в сочинении «К истории
религии и философии в Германии» как непосредственный предше¬
ственник Людвига Фейербаха в его борьбе с церковью и философ¬
ским идеализмом школы Гегеля. В то же время нетрудно видеть
слабые стороны изложенной выше концепции Гейне, связанной с
утопическим характером его социалистических идеалов: подобно
414
сен-симонистам, Гейне придает основное значение смене идей, победе
нового, сенсуалистически- окрашенного мировоззрения над религиоз¬
ным аскетизмом, оправдывающим социальное угнетение и страдания
широких масс. Этой слабой стороной своего мировоззрения он также
во многом предвосхищает Фейербаха, считавшего перевороты в
области религиозного мировоззрения главной движущей силой ис¬
торического прогресса.
Тем не менее, в отличие от сен-симонистов, Гейне — и это со¬
ставляет его огромное преимущество — выступает в сочинении
«К истории религии и философии в Германии» не только как социа¬
лист-просветитель, но и как убежденный демократ. Он горячо верит
в будущую демократическую революцию в Германии, призванную
очистить родину поэта от самодержавия, клерикальной и феодаль¬
ной нечисти.
Всю историю философии Гейне в сочинении «К истории рели¬
гии и философии в Германии» рассматривает как борьбу двух проти¬
воположных течений — спиритуализма, принижающего материю
во имя духа, и сенсуализма, оправдывающего и возвышающего зем¬
ное, материальное начало. Гейне вплотную подходит, таким обра¬
зом, к материалистическому, научному пониманию истории фило¬
софии как борьбы идеализма и материализма.
Однако слабость материалистической традиции в Германии
проявляется у Гейне, как и у Фейербаха, в том, что термин «матери¬
ализм» он отождествляет с механическим материализмом XVIII века.
Правильно видя слабые стороны французского материализма
XVIII века, его абстрактность и метафизичность, Гейне противопо¬
ставляет французскому материализму пантеизм в духе Спинозы
как более высокую и совершенную форму мировоззрения, сочетаю¬
щую признание прав «материи» с признанием интересов «духа»,
рассматривающую материальное и духовное как проявления еди¬
ной, цельной природы.
Идеалом Гейне является цельный и гармонический человек,
всесторонне развитый телесно и духовно. Это тот идеал, который
Ленин в своем конспекте книги Фейербаха «Лекции о сущности ре¬
лигии» охарактеризовал как «идеал передовой буржуазной демо¬
кратии или революционной буржуазной демократии» (см. В. И. Ле¬
нин. Философские тетради. М., 1933, стр. 68).
В противовес романтикам, Гейне стремится доказать, что спи-
рптуалистически-христианское учение церкви в средние века ни¬
когда не было мировоззрением широких народных масс, которым
всегда было чуждо христианское презрение к плоти и которые со¬
хранили и отстояли, несмотря на столетия церковного гнета, свой
415
языческий, пантеистически окрашенный взгляд на мир, нашедший
выражение в народных сказаниях и обычаях.
Говоря о Реформации в Германии, Гейне подчеркивает, что
деятельность Лютера имела отнюдь не узко-религиозное, а гораздо
более широкое, социальное значение. Главной заслугой Лютера
он считает борьбу за свободу мысли, без чего не было бы возможно
все' последующее развитие прогрессивной немецкой культуры.
Излагая ход философского развития в Германии от Лейбница
до Шеллинга и Гегеля, Гейне стремится показать, что философская
мысль в Германии развивалась в упорной борьбе с церковью. Гейнс
сравнивает историю немецкой классической философии от Канта
до Гегеля с историей французской революции, считая, что первая
в области теории, в особенности в области борьбы с религией, на¬
несла такой же удар старому порядку, как вторая — иа практике.
Проводя параллель между развитием немецкой философии и
французской революцией, Гейне до некоторой степени опирался на
отдельные замечания Гегеля в его «Лекциях по истории философии»
(см. Гегель. Сочинения, т. XI. М.—Л., Соцэкгиз, 1935, стр. 404),
содержащие зародыш подобной параллели. Сходную мысль выска¬
зывал в начале 30-х годов также французский философ н историк
Эдгар Кипе (1803—1875), которого Гейне высоко ценил. Однако
только у Гейне параллель между развитием немецкой философии
и событиями французской революции приобрела политически от¬
четливую революционно-демократическую направленность.
Гейне писал позднее в «Признаниях», что в книге «К истории
религии и философии в Германии» он первый «выболтал» широкой
публике тайну «школьной мудрости» немецкой философии. Эта
тайна заключалась, но определению поэта, не только в револю¬
ционном характере, потенциально присущем немецкой классической
философии, несмотря на ее идеалистическое облачение, но и в скрытом
влиянии Спинозы, постоянпо дающем себя знать в истории немец¬
кой мысли, в колебаниях великих умов Германии между традицион¬
ным идеализмом и материалистически окрашенным пантеизмом.
Гейне был первым историком немецкой философии, обнаружившим,
что в мышлении Канта, Шеллинга, Гегеля и других немецких фи-
лософов-идеалистов на определенных этапах их развития существен¬
ную роль играли материалнстически-сепсуалистичсские идеи,
которые оказали сильнейшее влияние на формирование их систем,
несмотря на то, что, в конечном счете, эти системы получили идеали¬
стический характер.
Конечным выводом Гейне является мысль о том, что философ¬
ская революция в Германии, последним, завершающим фазисом
416
которой была философия Гегеля, — пролог к готовящейся в Гер¬
мании демократической революции. В подготовке последней заклю¬
чается, по Гейне, весь смысл развития немецкой классической фило¬
софии. Та всеобъемлющая критика религии и социального нера¬
венства, которая скрывается в системах немецких философов за
внешними туманными формулами и официальными заверениями в
благонадежности, должна, полагает писатель, помочь немецкому
народу соединить демократическую революцию с социальным пере¬
воротом: целыо немецкой революции должно быть освобождение
человечества не только из-под власти помещиков и церкви, но и от
всякого социального гнета, обрекающего широкие массы на голод
и нищету.
В 30-е годы XIX века Гейне еще не мог дать назчпый анализ
истории немецкой классической философии и ее противоречий.
В его очерке истории немецкой мысли есть и слабые стороны.
Так, Гейне не сумел показать значение Великой крестьянской войны
1525 года и влияние ее поражения на позднейшее развитие Герма¬
нии в XVI—XVII веках. Он недостаточно акцентировал слабые,
компромиссные черты, которые были свойственны взглядам Лютера,
Лейбница, Канта и ряда других великих деятелей немецкой куль¬
туры. Основу подлинно научной, материалистической истории не¬
мецкой культуры заложили в последующие годы К. Маркс и
Ф. Энгельс.
При всех исторически обусловленных недостатках, которые
были свойственны данной Гейне картине развития немецкой мысли,
его величайшей заслугой является то, что он первый открыто
указал на революционный характер, присущий немецкой класси¬
ческой философии и диалектике Гегеля. Эту заслугу Гейне отметил
Энгельс в «Людвиге Фейербахе». Указывая, что в Германии XIX ве¬
ка, как во Франции предыдущего столетия, «философская револю¬
ция служила введением к политическому перевороту», Энгельс
писал, что в 20-е и 30-е годы XIX века этого не понимали пи
немецкие самодержцы, пи тогдашняя либеральная оппозиция.
«Однако то, чего не замечали ни правительство, ни либералы, видел
в 1833 г., по крайней мере, один человек; правда, он назывался
Генрих Гейне» (К. М арке и Ф. Энгельс. Сочинения,
т. XIV, стр. 635).
Сочинение Гейне «К истории религии и философии в Германии»,
не оцененное позднейшими буржуазными историками философии
(которые обходили его, а иногда подвергали прямой и грубой фаль¬
сификации), сохраняет огромное значение для понимания истоков
и традиций немецкой демократической культуры.
417
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Стр. 13. «Revue des deux mondes» — журнал, оспованный в
Париже в 1829 году. В числе сотрудников этого журнала были
Бальзак, Стендаль, Мериме, Жорж Санд и Мюссе. Гейне печатался
в нем неоднократно.
«Я истории новейшей художественной литературы в Герма¬
нии» — первоначальное название сочинения Гейне «Романтическая
школа».
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Стр. 14. Вначале я льстил себя надеждой заполнить при втором
издании пробелы этой книги... — См. введение к комментариям
(стр. 411).
Стр. 15. Моле Луи-Матье (1781—1855) — видный французский
государственный деятель; был премьер-министром при Луи-Филиппе.
...скипетром и короною которого играют мартышки. — См.
«Фауст» Гете, часть I, сцена «Кухня ведьмы».
...декретов Союзного сейма против «Молодой Германии»... —
Декретом Союзного сейма от 10 декабря 1835 года были запрещены
все произведения писателей радикального направления, причис¬
ленных к группе «Молодая Германия»: Гейне, Берне, Гуцкова,
Лаубе, Винбарга, Мундта. В отношении Гейне запрет касался но
только уже изданных произведений, но и всего, что он мог напи¬
сать в будущем.
Стр. 16. Ансельм Кентерберийский (1033—1109) — философ-
схоласт; цривел так называемое онтологическое доказательство
бытия божня.
Руге Арнольд (1803—1880) — либеральный философ и публи¬
цист, левый гегельянец, редактор «Галлеских ежегодников».
В 1843—1844 годах Гейне сотрудничал в «Немецко-французских
ежегодниках», которые издавали в Париже Маркс и Руге.
...смертоубийственных страниц... — Гейне имеет в виду боль¬
шую статью Руге «Генрих Гейне и его произведения», напечатан¬
ную в 1838 году в «Галлеских ежегодниках» и перепечатанную в
собрании сочинений Руге.
Навуходоносор — вавилонский царь, завоевавший Сирию п
Палестииу и разрушивший Иерусалим в 586 году до н. э.
Стр. 17. Даумер Георг-Фридрих (1800—1875) — немецкий пи¬
сатель, автор ряда сочинений, направленных против христианства.
См. рецензию Маркса и Энгельса на его книгу «Религия нового
века» (Сочинения, т. 7, стр. 208—213).
418
Бруно Бауэр (1809—1882) — один из виднейших представите¬
лей левого гегельянства. В начале 40-х годов выпустил свои ра¬
боты по критике евангелия.
Генгстенберг Эрнст-Вильгельм (1802—1869) — теолог, защит¬
ник лютеранской ортодоксии. Гейне иронически ставит имя этого
ярого защитника религии в один ряд с именами Бауэра, Даумера
и др.
Стр. 18. ...подобно Савлу по пути в Дамаск... — Согласно хри¬
стианским преданиям, на пути в Дамаск произошо внезапное обра¬
щение в христианство яростного гонителя новой религии Савла
(впоследствии апостола Павла).
...тамошних евреев обвинили в том, будто они пожирают ста-
рых капуцинов... — В 1840 году в Дамаске был убит католический
монах фра Томазо. В его убийстве обвинили безо всяких на то осно¬
ваний дамасских евреев. Гейне подробно рассказывает об этом в
«Лютеции», в статье от 7 мая 1840 года.
...Тита Веспасиана, злодея, по рассказам раввинов так скверно
кончившего дни свои. —Римский император Тит Веспасиап (39—81),
разрушивший Иерусалим, по талмудическому предашпо умер
от того, что в его мозг проникло насекомое.
Стр. 19. ... Иошуа бен-Cupax бен-Елиэзер... в собрании изре¬
чений... — Книга Иисуса (Иошуа) Сираха относится к так назы¬
ваемым библейским апокрифам (написана в 190 г. до н.э.).
1ШНГА ПЕРВАЯ
Стр. 21. ...топор Сансона. — Жозеф Сансон (1745—1826) был
палачом в Париже во время революции.
Стр. 22. Барониус Цезарь (1538—1607) — кардинал, историк
церкви.
Шрек Иогапн-Маттиас (1733—1808) — протестантский историк
церкви.
Манси Иоганп-Доминик (ум. в 1769 году) — архиепископ Лукк-
ский, выпустивший в свет многотомное собрание материалов, от¬
носящихся к церковным соборам.
Ассемани Иосиф-Алоизий (1710—1782) издал свод церковных
литургий.
Саккарели (XVIII в.) — католический историк церкви.
Логос (греч.) означает и «слово» и «разум». Этот термин играл
большую роль в христианской догматике и богословии.
...предметом разногласий были единосугцие... — Согласно
учению Афанасня, принятому Никеиским собором (325 г.), бог
dD
и Христос считались едиными по своей сущности. Противники этого
догмата, ариане, признавали лишь подобие бога и Христа.
Инвеститура — право утверждения епископов, из-за которого
в средине века шла борьба между императорами и папам«.
Стр. 23. Sacrum Palatium (Гейне употребляет в родительном
падеже — Sacri Palatii) — дворец византийских кесарей.
Евдокия (IV—V в.) — жена византийского императора Аркадия.
Пульхерия (ум. 405) — дочь византийского императора Арка¬
дия, правительница, а затем императрица Византии.
Несторий, патриарх Константинопольский (с 428 по 431 г.),
отказывался называть Марию богородицей, так как, с его точки
зрения, она была матерыо лишь человека, ставшего «обителью бо¬
жества».
Кирилл (ум. 444) — архиепископ Александрийский, церковный
писатель, один из «отцов церкви»; обвинил Нестория в ереси и
добился его осуждения на Ефесском соборе (431).
«...когда пали его легионы...»—Гейне цитирует свое собственное
произведение «Путевые картины» (см. т. IV настоящ. издания,
стр. 71).
Исидоровы декреталии — собрание поддельных папских распоря¬
жений и постановлений (IX в.), которыми впоследствии папы поль¬
зовались для подкрепления своих притязаний на светскую власть.
Манихеи — последователи религиозно-философского учения,
зародившегося в III веке н. э. на Ближнем Востоке. Основным дог¬
матом манихейства являлось учение о добром и злом началах, ле¬
жащих в основе мира. Манихейство связано как с христианством,
так и с парсизмом — религией древних народов, населявших Сред¬
нюю Азию и Персию.
Гностики — приверженцы гностицизма, мистического рели¬
гиозно-философского учения (I—II в.).
Стр. 24. Эоны. — В учении гностиков так назывались образы
или силы, якобы истекающие из скрытого божества п обусловливаю¬
щие различные эпохи мира.
Коринф (II в. н. э.) — один из первых гностиков.
Стр. 26. История базельского соловья заимствована Гейне из
книги Ф. Добенока «Народные верования и героические сказания
немецкого средневековья» (Fr. Ludw. Ferd. Dobeneck. Des deut¬
schen Mittelalters Volksglauben und Heroensagen Berlin, 1815).
Гейне часто пользовался материалами этой книги.
Стр. 27. Аннаты — отчисления от доходов, которые католи¬
ческие священники должны делать в пользу папы в первый год ио
вступлении в должность.
420
Экспектативы — термин феодальной юриспруденции: право
замещения освобождающихся должностей.
Резервации — оговорки.
Фома Аквинский (1225—1274) — средневековый философ-схо¬
ласт, католический богослов.
Бонавентура (1221—1274) — виднейший представитель схола¬
стики, аскет, церковный писатель.
Этот рассказ, по-видимому, не нуждается в комментариях. —
Гейне несколько изменил рассказ, заимствованный у Добенека.
У Добенека соловей — это душа отверженного, и он должен здесь
дожидаться своего приговора до дня страшного суда. Истолкование
рассказа всецело принадлежит Гейне.
Стр. 28. «Венера, госпожа моя..л — неточная цитата из народной
«Песни о Тангейзере» (см. «Духи стихий», стр. 324 настоящ. тома).
Даже бедной Диане...—Ср. «Атта Тролль», гл. 19 (т. II настоящ.
издания, стр. 225).
Стр. 29. Наши средневековые поэты, пользуясь... сюжетами, со¬
зданными... у вас... — Немецкие средневековые поэты, создатели ры¬
царских романов, часто заимствовали сюжеты у французских поэтов.
Фаблио — жанр средневековой литературы, сложившийся во
Франции, — небольшой юмористический или сатирический рассказ
в стихах.
...из Корнуолла или из Аравии... — В Корнуолле (иа юго-за¬
паде Англии) зародились кельтские сказания (о короле Артуре и
др.); восточные сказания стали известны в Европе после крестовых
походов.
Фея Моргана, или Фата Моргапа (кельтский сказочный цикл) —
сестра короля Артура, волшебница, властительница Авалона —
страны фей.
Брокен — одна из вершин Гарца; в немецких народных сказа¬
ниях — место шабаша ведьм.
Стр. 30. ...в «Демонологии»... Николауса Ремигиуca... — Отрывки
из этой книги приводятся у Добенека.
«.Антроподемусъ (вышел в свет в 1666—1667 гг.) — одна из
многочисленных книг немецкого автора Ганса Шульца (1630—1680),
писавшего под псевдонимом Преториус. Книги Преториуса являются
источником для знакомства с суевериями его времени.
Стр. 32. ...следующий маленький рассказ. — Добенек заимствует
этот рассказ из «Застольных речей» Лютера.
Место из старинной летописи — место из «Хроники монастыря
Хпршау» аббата Тритемия (1462—1516). Гейне цитирует Трнтемия
по Добенеку.
421
Стр. 34. ...молодой датский писатель, г-п Андерсен, с которым
я имел удовольствие встречаться... — Гейне познакомился с Хан¬
сом-Кристианом Андерсеном в 1833 году и много раз встречался с
ним; в альбом Андерсена он вписал стихотворение «Жизненный
путь» (см. т. III настоящ. издания, стр. 112).
Пандемоническое мировоззрение — мировоззрение, согласно ко¬
торому весь мир населен злыми духами.
Стр. 36. Тецель — саксонский монах-доминиканец; занимался
продажей индульгенций в Германии.
Стр. 37. Полициано Анджело (1454—1494) — талантливый
итальянский поэт и ученый эпохи Возрождения; жил при дворе
Лоренцо Медичи, отца папы Льва X.
Конклав — заседание кардиналов, на котором избирается
папа.
...подобно пирамиде, воздвигнутой египетской блудницей... —
Рассказ заимствован Гейпе у Геродота (И книга).
Спиритуализм; сенсуализм — см. введение к комментариям
(стр. 414—415).
Стр. 38. Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704) — французский цер¬
ковный писатель; в «Истории изменений протестантских церквей»
доказывал несостоятельность протестантизма.
Стр. 39. Королева Наваррская — Маргарита Наваррская (1492—
1549), сестра французского короля Генриха IV, автор сборника
новелл «Гептамерон».
Янсенизм — религиозно-общественное движение во Франции,
зародившееся в XVII веке. Янсенисты требовали максимальной
строгости нравов.
Методисты — религиозная секта, возникшая в XVIII веке
в Англии, а затем распространившаяся в Америке; отличается край¬
ним, доходящим до ханжества, благочестием.
Стр. 40. Угнетенные крестьяне нашли в новом учении... — Гейне
говорит здесь о Великой крестьянской воине в Германии, вспых¬
нувшей в 1525 году.
Ян (Ыогаин) Лейденский (1509—1536) — один из вождей ана¬
баптизма, радикального движения городской бедноты в эпоху Ре¬
формации, основатель так называемой Мюнстерской коммуны.
Стр. 41. Высокие особы, собравшиеся в 1521 году в имперском
зале в Вормсе... — Вормский сейм в 1521 году занимался вопросом
о «ереси» Лютера. Эдикт, принятый сеймом, подверг государствен¬
ной опале Лютера и его приверженцев.
Здесь ...сидел молодой император... — то есть император
Карл V (1500—1558).
422
Представитель этого римлянина — представитель папы рим¬
ского, кардинал Каэтан.
Стр. 43. Юнг-Штиллинг Иоганн-Генрих (1740—1817) — не¬
мецкий мистический писатель, написавший книгу «Теория науки
о духах», а также множество других сочинений на аналогичные темы.
Меланхтон Филипп (1497—1560) — немецкий гуманист, сорат¬
ник Лютера.
Стр. 44. Св. Бонифаций (ок. 672—752) — ревностный проповед¬
ник христианства в Германии.
Боско Бартоломео (1793—1863) — знаменитый итальянский фо¬
кусник,приобретший во времена Гейне общеевропейскую известность.
Отец Оленд — Родриг Оленд (1794—1850) — сен-симонист,
один из деятелей Менильмонтанского братства.
Стр. 46. Маркиз Бранденбургский. — Имеется в виду прусский
король Фридрих II (1712—1786).
Естественный покровитель нашей протестантской свободы
мысли — ироническая характеристика прусского короля Фрид¬
риха-Вильгельма III (1770—1840).
Стр. 47. Гофман Фридрих-Людвиг (1790—1871) — гамбург¬
ский цензор.
Стр. 49. «Вульгата» — название средневекового перевода биб¬
лии на латинский язык.
чСептуагинтаъ — название древнейшего перевода библии на
греческий язык (III—I в. до н. э.).
Когда католическое духовенство... Ульрих фон Гуттен. —
Кельнские богословы добивались от императора разрешения на
уничтожение древнееврейских книг. Знаменитый гуманист Иоганн
Рейхлин (1455—1522) высказался против уничтожения этих книг.
Якоб фон Гоогстратен, глава кельнских богословов, верховный
судья по делам еретиков, выступил против Рейхлина. Кульминаци¬
онным пунктом полемики между гуманистами и богословами было
издание «Писем темных людей» (1515—1517), блестящей сатиры на
»мракобесов, написанной гуманистами Кротом Рубеаном, Ульри¬
хом фон Гуттеном (1488—1523) и др.
Древнешвабское наречие. — Так Гейне называет средне-верхне¬
немецкий язык.
Стр. 49—50. Если бы Лютер для перевода библии взял язык,
на котором говорят в нынешней Саксонии... возник язык, который
мы находим в Лютеровой библии. — Немецкий национальный язык
базируется на верхнесаксонских диалектах, однако он вобрал в
себя также ряд черт южнонемецких диалектов. Мнение Гейне,
таким образом, ошибочно.
423
Стр. 50. Аделунг Иоганн-Кристоф (1732—1806) — немецкий
лингвист, составитель первого научного немецкого словаря;
занимался историей возникновения литературного немецкого
языка.
Стр. 51. Эйслебенский лебедь — Лютер, который был родом из
саксонского города Эйслебена.
Стр. 52. Ганс Сакс (1494—1576) — нюрнбергский поэт-мейстер¬
зингер. Занятия поэзией совмещал с сапожным ремеслом. Его про¬
изведения, отличающиеся правдивостью, близостью к традициям
народного творчества, юмором, ограничены узостью проповедуемой
в них бюргерской морали.
Травести — здесь в смысле пародия, подражание.
Мистерия — представление на сюжеты из библии и евангелия.
КНИГА ВТОРАЯ
Стр. 56. Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ и
государственный деятель. По характеристике Маркса, Бэкон был
родоначальником английского материализма и опытных наук нового
времени.
Стр. 58. Картезианская фил^ософия — философия Декарта.
Стр. 60. Пантеизм — философское учение, отрицающее бога
как существо, отличное от мира, и отождествляющее бога с приро¬
дой. Пантеизм в XVI—XVIII веках играл важную положительную
роль в борьбе с религией.
Джон Локк (1632—1704) — английский философ, основатель
эмпиризма. Критиковал учение Декарта о врожденных идеях.
Французские материалисты XVIII века развивали в материалисти¬
ческом направлении сенсуализм, который разрабатывал Локк.
Кондильяк Этьен-Бонно (1715—1780) — французский философ-
просветитель, автор «Трактата об ощущениях».
Гельвеций Клод-Адриан (1715—1771) — выдающийся француз¬
ский философ, материалистический сенсуалист, идеолог революцион¬
ной французской буржуазии XVIII века.
Гольбах Поль-Анри (1723—1789) — виднейший представитель
французского материализма XVIII века, автор знаменитой «Си¬
стемы природы».
Ламетри Жюльен-Офре (1709—1751) — французский философ-
материалист, атеист, автор трактата «Человек-машина».
Стр. 61. Бентамисты — сторонники Иеремии Бентама (1748—
1832), английского философа, основателя утилитаризма (учения,
кладущего в основу нравственности принцип пользы).
424
Лейбниц Готфрид-Вильгельм (1646—1716) — крупнейший не¬
мецкий философ-идеалист и математик; развивал учение о вселенной
как о системе множества динамических духовных частиц —монад.
Стр. 62. «Теодицея» (1710) — сочинение Лейбница, в котором
он пытался примирить философию с религией и доказывал, что, со¬
гласно воле провидения, все в мире происходит к лучшему. Теодицея
(лат.) — оправдание бога.
Больше всего нападали на него свободомысляи^ие и просветите¬
ли. — Речь идет главным образом о направленных против Лейбница
насмешках Вольтера в философской повести «Капдид».
Шеллинг Фридрих-Вильгельм-Иозеф (1775—1854) — немецкий
философ, объективный идеалист; в молодые годы — предшествен¬
ник Гегеля; способствовал повороту от субъективного идеализма
Фихте к объективному идеализму; в своей натурфилософии стре¬
мился создать философское учение о природе на основе объек¬
тивного идеализма; впоследствии — мистик, последовательный
иррационалист.
Стр. 63. ...сведения, которые дает нам Аристотель о вавилон¬
ских мартышках, об индийских попугаях... — К числу произведений
Аристотеля принадлежит также «История животных».
...греческих трагедиях, которые он равным образом анатоми¬
ровал. — Намек на «Поэтику» Аристотеля.
Стр. 64. Пиетисты — сторонники пиетизма, особого направ¬
ления в протестантстве, противопоставлявшего чувство разуму и
боровшегося с просветительской философией.
Христиан Вольф (1679—1754) — философ-идеалист, популяри¬
затор философии Лейбница; впервые стал излагать философию иа
немецком языке.
Бенедикт Спиноза (1632—1677) — великий голландский фило¬
соф-материалист. Пантеистическое учение Спинозы, сложившееся
в борьбе с церковью, оказало большое влияние на представителей ма¬
териалистического течения в немецкой философии XVII—XVIII ве¬
ков.
Стр. 65. Соломон Маймон (1754—1800) — философ, начавший
свой путь как последователь Канта, а затем критиковавший его
с идеалистических позиций. Упоминаемое Гейне жизнеописание
Маймоиа — автобиография последнего, вышедшая в 1792—1793 го¬
дах.
...они когда-то кололи Спинозу своими длинными кинжалами. —
Перед исключением Спинозы из еврейской общины и отлучением его
от синагоги, последовавшими в 1656 году, один фанатик покушался
на его жизнь.
425
Стр. 66. Ван [дер] Энде Франц — врач и ученый, у которого
Спиноза брал уроки латинского языка.
«Tractatus politicus» — незаконченное произведение Спинозы,
в котором он обсуждает различные типы государств (вышло в свет
в 1677 г.).
Стр. 67. Natura naturans — термин философии Спинозы. Это
понятие противопоставляется понятию natura naturata (природа
производимая).
Г-жа дю Дефан (1697—1780) приобрела известность благодаря
своей переписке с знаменитейшими людьми XVIII века. Гейне имеет
в виду письмо к ней Вольтера от 3 апреля 1769 года.
Философия тождества — философия Шеллинга (см. примечание
к стр. 62).
...«живое взаимопроникновение идеального и реального... безжиз¬
ненных египетских оригиналов» — цитаты из «Философских исследо¬
ваний о сущности человеческой свободы» Шеллинга (1809).
Стр. 68. «Бог»... есть «все, что существует» — формула сен¬
симониста Анфантена (см. о нем во введении к комментариям,
стр. 411—412).
Стр. 70. К этому убеждению пришли уже некоторые представи¬
тели духовенства... — Намек на реакционный религиозный псев¬
досоциализм Фелисите-Робера де Ламенне (1782—1854).
Стр. 71. Пуруша — в индийской философии — душа и мировая
Душа.
Пракрити — в индийской философии — материя, первичная
материальная причина.
Стр. 73. «Или ты думаешь: раз ты добродетелен...)) — слова
сэра Тоби из «Двенадцатой ночи» Шекспира (II, 3).
Фридрих-Генрих Якоби (1743—1819) — немецкий философ-иде¬
алист, критиковавший в «Письмах господину Мендельсону» (1785)
и других произведениях учение Спинозы, так как оно противоре¬
чило религиозной вере.
Стр. 74. Иоганн Таулер (ок. 1300—1361)—доминиканский монах,
мистик; проповедовал для народа на немецком языке в Страсбурге.
Стр. 75. Парацелъс Теофраст (1493—1541) — врач, естество¬
испытатель, химик и теософ, сыгравший, несмотря па свое увле¬
чение мистицизмом, положительную роль в развитии науки, осо¬
бенно в области медицины.
Стр. 76. Якоб Беме (1575—1624) — философ-мистик; оказал
большое влияние на немецких романтиков, многие из которых были
его почитателями. Их, по-видимому, и имеет в виду Гейне, говоря
далее о тех, кто восхваляет этого мистика.
426
Сен-Мартен сообщил вам... — Перевод нескольких произведе¬
нии Беме на французский язык, осуществленный известным франк¬
масоном и мистиком Луи-Клодом Сен-Мартеном (1743—1804), вы¬
шел в свет в 1800 году.
Переводили его и англичане. — Английский перевод произве¬
дений Беме вышел в 1644 году.
Карл I Стюарт (1600—1649) — английский король, казненный
во время революции.
Стр. 78. Иоганн Шпенер (1635—1705) — основатель пиетизма.
Скотт Эригена (ок. 810—877) — ирландский философ-схо¬
ласт; переводил мистические произведения неоплатоников.
Дионисий Ареопагит — легендарный первый епископ афин¬
ский, которому приписываются различные мистические произве¬
дения.
Герман Франке (1663—1727) — глава галлеских пиетистов.
Стр. 80. Панглос — учитель Кандида в философской повести
Вольтера «Кандид». Панглос проповедует учение Лейбница о том,
что человеческий мир — лучший из возможных миров. Это учение
Вольтер высмеивает.
...Эсхил не влагает ни одного слова в уста олицетворенной
силе. — В трагедии Эсхила «Скованный Прометей» Бия (сила) не
произносит ни слова.
...при омоложении царя Эсона. — См. Овидий, «Метаморфозы»
(книга VII).
Стр. 81. Земмлер Иоганн-Соломон (1725—1791) — глава бого¬
словского рационализма; стремился сочетать филологическую кри¬
тику библии с защитой веры.
Теллер Вильгельм-Авраам (1734—1804) — берлинский богослов.
Бардт Кристоф-Фридрих (1741—1792) — немецкий философ-
рационалист; его «Новейшие откровения божьи» были осмеяны Гете
в «Прологе к новейшим откровениям божьим».
Соломон Севера. — Так в одной из своих од Вольтер на¬
звал Фридриха II.
Офир — страна, из которой, согласно библейской легенде,
царь Соломон вывозил для своего храма различные ценности.
Стр. 81—82. ...целые корабли золота, слоновой кости, поэтов
и философов... — В упоминаемой Гейне главе библии говорится о
золоте, серебре, драгоценных камнях, слоловой кости, черном де¬
реве, обезьянах п павлинах.
Стр. 82. Кроме старого Геллерта... — Немецкий писатель Хрис-
тиан-Фюрхтегот Геллерт (1715—1768), автор басеп, комедий, романа
«Письма шведской графини», во время беседы с Фридрихом II
427
упрекнул его в том, что тот виноват в духовной нищете немцев, так
как не поддерживает их духовных стремлений.
Николаи Фридрих (1733—1811) — немецкий умеренно-бюргер¬
ский просветитель, издатель журнала «Всеобщая германская биб¬
лиотека» (1765—1805).
...сатиру на его «Вертера»... — Эта сатира называлась «Ра¬
дости молодого Вертера» (1775).
Стр. 83. ...Лессингу который в письме к приятелю... — Имеется
в виду письмо к Эшенбургу от 26 октября 1774 года.
Стр. 84—85. Мендельсон Мозес (1729—1786) — философ-про¬
светитель.
Стр., 85. Зульцер Георг (1720—1779) — немецкий эстетик, автор
«Всеобщей теории изящных искусств».
Аббт Томас (1738—1766) — философ-просветитель.
Гарве Христиан (1742—1798) — философ-моралист.
Энгель Иоганн-Якоб (1741—1802) — один из берлинских про¬
светителей; писатель, журналист и театральный деятель.
Бистер Иоганн-Эрих (1749—1816) — директор Королевской
библиотеки в Берлине, издатель журналов «Berlinische Monats¬
schrift», «Berliner Blätter» и др.
Мориц Карл-Филипп (1756—1793) — писатель. Его автобио¬
графия — роман «Антон Рейзер». В 1783—1793 годах Мориц изда¬
вал «Журнал опытной психологии».
...он основал чистый мозаизм — то есть еврейскую религию,
опирающуюся на библию, без позднейших наслоений. Гейне играет
па том, что слово «мозаизм» является производным от имени Мозес
(Моисей), являвшегося также именем Мендельсона, о котором
здесь идет речь.
Стр. 86. Бедный раввин назаретский. — Имеется в виду Хри¬
стос.
Джеймс де Ротшильд — миллионер, один из представителей
крупнейшего банкирского дома Ротшильдов, имевшего своп фи¬
лиалы во многих странах Западной Европы.
Стр. 88. Клотц X ристиан-Адольф (1738—1771) — профессор
классической филологии в Галле. Лессинг осмеял его в «Письмах
антикварного содержания» как представителя сухой и педантичной
учености.
«Стиль — ото сам человек!» — цитата из речи знаменитого
французского натуралиста Жоржа-Луи Бюффона (1707—1788),
произнесенной им при избрании в Академию в 1753 году.
Стр. 90. «Радость моя была непродолжительна...» — из письма
Лессинга к Эшенбургу от 31 декабря 1777 года.
428
Мендельсон ... пылко защищал его, когда его обвинили в спи-
нозизме. — Гейнс имеет в виду статыо «Моисей Мендельсон —
друзьям Лессинга», которую Мендельсон написал в 1786 году.
...твой Лессинг... был на пути... к спинозизму... — В разговоре
с философом Якоби в 1780 году Лессинг говорил, что есть лишь
одна истинная философия — философия Спинозы.
«Драматургия» — то есть «Гамбургская драматургия» (1767—
1769), произведение Лессинга, посвященное вопросам театра и
драмы, явившееся вершиной в развитии буржуазно-демократиче-
ской эстетики в Германии XVIII века.
Стр. 91. ...когда его прогоняли с амвона... — Когда правитель¬
ство запретило Лессингу вести полемику с гамбургским пастором
Геце, изувером и мракобесом, он написал драму «Натан Мудрый».
В этой драме Лессинг продолжал свою борьбу против религи¬
озной нетерпимости, за свободу разума. В письме к Элизе Рейма-
рус от 6 сентября 1778 года он писал: «Я должен попробовать,
дадут ли мне возможность беспрепятственно проповедовать, по
крайней мере, с моего старого амвона — с подмостков театра».
«О sancta... сам Христос!» — цитата из «Параболы», одного из
полемических сочинений Лессинга, направленных против пастора
Геце.
Стр. 92. ...о 21 января деизма... — 21 января 1793 года был
казнен Людовик XVI. Гейне продолжает здесь сравнение гибели
феодального строя во Франции с гибелью «старого режима мысли»
в Германии.
Стр. 93. ... игЬет et orbem. — Гейне перефразирует слова благо¬
словения, произносимые римским папой: urbi et orbi (граду и
миру).
1Ш31ГЛ ТРЕТЬЯ
Стр. 95. Фонтенель Бернар (1657—1757) — французский писа¬
тель и философ-просветитель.
Стр. 98. Шютц Христиан-Готфрид — последователь Канта;
писал в редактируемой им «Allgemeine Literaturzeitung» (Иена)
статьи о Канте.
Шульц Иогани — последователь Канта; его толкования «Кри¬
тики чистого разума» были одобрены Кантом.
Рейнгольд Карл-Леонгард (1758—1828) — автор популяриза¬
торских «Писем о Кантовой философии» (1786—1792).
В вышедшем недавно сборнике его небольших статей.,, — Гейнс
говорит здесь о сборнике «Смешанные сочинения».
429
«Всеобщая естественная история и теория неба». — В этой из¬
данной анонимно работе Кант излагал свою гипотезу о происхож¬
дении солнечной системы, впоследствии во многом блестяще под¬
твердившуюся. Как указывал Эпгельс, космогоническая теория
Канта «была величайшим завоеванием астрономии со времени Ко¬
перника» (К. М арке и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 57).
«Наблюдения над чувством прекрасного и возвышенного» (1764) —
основное произзедение Канта в ранний период его деятельности,
посвященное эстетике.
«Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика» (1762) —
произведение Каита, направленное против философии шведского
мистика Сведенборга.
Стр. 99. ...в своей «Критике способности суждения» он утверж¬
дал даже... — См. часть I, §§ 46, 47 этого сочинения Канта.
Этой форме он вынес безжалостный смертный приговор в «Кри¬
тике чистого разума». — См. это сочинение Канта, раздел «Транс¬
цедента л ьное учение о методе» (I глава, 1 секция).
Пифагор (ок. 580—496 до н. э.) — греческий философ и мате¬
матик. Его учение о числе, как основе всего сущего, было развито
его учениками — пифагорейцами.
Стр. 101. ...сравнивает он поэтому свою философию с методом
Коперника. — См. предисловие ко второму изданию «Критики
чистого разума» (1787).
Стр. 102. ...что ту часть его книги, где он трактует о так
называемых феноменах и ноуменах... — См. раздел «Трансцеденталь-
ное учение об элементах» (2 часть, 1 отдел, 2 книга, 3 глава) «Критики
чистого разума».
...в пропъивоположностъ многим ученым, которых я пе стану
называть... — Р1меется в виду Виктор Кузен (см. введение к ком¬
ментариям, стр. 413).
«Оставьте всякую надежду\» — начало надписи пад вратами
ада из «Божественной комедии» Данте («Ад», III, 1).
Стр. 103. Три основных рода доказательств существования бога—
телеологическое или физико-теологическое доказательство, основан¬
ное на признании разумного и целесообразного устройства природы,
космологическое, рассматривающее существование мира как следст¬
вие, а бога (творца мира) как причину этого существования, и
онтологическое, делающее вывод о необходимости существования
бога из понятия о нем как о совершеннейшем существе.
...то место из «Критики чистого разумаъ... — См. раздел
«Трансцедентальное учение об элементах» (II часть, 2 отдел, 2 книга,
3 глава, 3 секция) этой книги Канта.
430
Стр. 105. De profundib — начальные слова католической заупо¬
койной молитвы.
Стр. 106. «...пусть практический разум и дает поруку в бытии
божьем». — См. «Критику практического разума» Канта (часть I,
книга 2, глава 2 — «Бытие бога как постулат чистого практического
разума»).
Стр. 107. Тьер Адольф (1797—1877) — историк французской
революции и буржуазный политический деятель, стяжавший себе
впоследствии печальную славу как палач Парижской коммуны.
Минье Франсуа-Огюст-Мари (1796—1884) — либеральный исто¬
рик французской революции.
Стр. 108. Первая его работа — сочипение Фихте «Опыт критики
всякого откровения», выпущенное в свет в 1792 году в Кенигсберге
издателем Канта Гартунгом.
Стр. 110. «Clavis Fichtiana» — сочинение Жан-Поля Рихтера
(1763—1825), известного немецкого писателя-юмориста, автора ан¬
тифеодальных сатир, романов, повестей, идиллий и трактата по
эстетике.
Стр. 112. Его биография — книга «Жизнь п литературная пере¬
писка Иоганна-Готлиба Фихте» (1830—1831), изданная его сыном
Иммануилом-Германом Фихте.
Стр. ИЗ. Пастор Боровский — первый биограф Капта.
Стр. 115. В «Философском журнале»... — Имеется в виду том VII
(выпуск I) «Философского журнала», издававшегося Нитгаммером
и Фихте (Иена, 1798).
Стр. 116. «Апелляция к публике». — Эта статья Фихте имела
подзаголовок: «Сочинение, которое просят прочесть, прежде чем
конфисковать» (Иена и Лейпциг, 1799).
...его преподобие старший советник консистории фон Гер-
дер... — Иоганн-Готфрид Гердер (1744—1803)—великий немецкий
демократ-просветитель, теоретик и историк литературы, фолькло¬
рист, философ и поэт, оказавший решающее влияние на литерату¬
ру «бури и натиска», и в частности на молодого Гете. Во время своего
пребывания в Веймаре занимал должность старшего советника
консистории.
...Гете... рассказывает в своих воспоминаниях... — Далее Гейне
цитирует отрывки из «Ежедневных и ежегодных тетрадей» Гете в
том виде, как они приводятся в биографии Фихте, изданной его
сыном (см. примечание к стр. 112).
...но как мог бы он идти в ногу с миром, который он считал
своим лично созданным достоянием? — Здесь Гете иронически на¬
мекает на субъективный идеализм Фихте.
431
Стр. 117... .счел себя вправе обратиться... с резким посланием...—
Гете имеет в виду официальное письмо Фихте веймарскому мини¬
стру, тайному советнику Фойгту от 22 марта 1799 года.
Стр. 118. Иудеям у каковыми в конечном счете являются все
деисты... в глазах великого язычника он был только нелепостью. —
Противопоставление аскетического иудейско-«назарейского» миро¬
воззрения языческому, «эллинскому», основанному на признании
материальной природы человека, Гейне развил в 1840 году подробно
в своем сочинении «Людвиг Берне» (см. том VII насгоящ. издания).
...он откровенно признается в этом... — См. Гете. Поэзия
и правда, 14 и 16 книги.
«Хоть бы раз Гете взял в руки какую-нибудь другую латин¬
скую книгу, кроме Спинозы!» — Эти слова Гсрдера Гете приводит
в своем «Итальянском путешествии» (сообщение от 12 октября
1786 года).
Стр. 119. ...с шлегелевского мятежа. — Так Гейне называет
выступления по вопросам литературы теоретиков раннего романтиз¬
ма (иенскоп школы) братьев Шлегелей. Фридрих Шлегель (1772—
1829) — критик, писатель, филолог, ведущий теоретик этой школы;
создал учение о романтизме как о высшей форме искусства совре¬
менности, о романтической иронии как о субъективном произволе
поэта, не подчиняющегося никаким законам. Ф. Шлегель проделал
эволюцию от прославления республиканских идеалов античной Гре¬
ции к католицизму и феодальной реакции. Август-Вильгельм Шле¬
гель — критик, поэт, филолог и переводчик (см. также введение
к комментариям, стр. 414).
Стр. 121. «Живой и действенный нравственный порядок... не
понимающая себя самое философия...» — цитата из упоминавшейся
выше статьи Фихте «Об основах нашей веры в божественное управ¬
ление миром» (1798).
Стр. 123. ...отвратительного убийства послов... — 28 апреля
1799 года на Раштаттском конгрессе были убиты послы революцион¬
ной Франции. Тайным организатором этого преступления считалось
австрийское правительство.
Ш. и Г. — Шиллер и Гете. Следует отметить, что Гете в письмах
с возмущением отзывался об убийстве французских послов.
...в лице Пасла и Питта... — Фихте имеет в виду русского
императора Павла I и английского премьер-министра Вильяма
Питта, инспиратора и организатора коалиционных войн против ре¬
волюционной Франции.
Бургиер Иогапи-Фридрих (1732—1805) — профессор философии
в Лейпциге.
432
Фойгт Христиан (1743—1819). — См. примечание к стр. 117.
Р озенлиоллеровское — производное от фамилии лейпцигского
профессора богословия Иоганна-Георга Розенмюллера (1736—1815).
Стр. 125. Гейберг Петер (1758—1841) — датский поэт, выслан¬
ный в 1799 году из родной страны за свои либеральные убеждения;
к концу жизни ослеп и умер в изгнании в Париже. Гейне называет
его своим земляком, очевидно, ввиду соседства Северной Германии
и Дании.
Георг Форстер (1754—1794) — немецкий писатель и ученый,
сторонник якобинцев, участник революционных событий в Майнце
1792—1793 годов. Умер изгнанником в Париже.
Стр. 127. ...впоследствии мы посвятим этой задаче особую
книгу. — В произведениях Гейне неоднократно встречаются указа¬
ния на его намерение написать книгу о немецкой философии. Воз¬
можно, что фрагментом ее являются «Письма о Германии» (см.
т. VII настоящ. издания).
Стр. 128. Гамадриады, или дриады, — в греческой мифологии
нимфы деревьев.
Стр. 130. Элеаты — греческая философская школа (VI—V
до н. э.), главным представителем которой был Парменид (ок. 540—
не ранее 480 до н. э.).
...во II томе «Вестника спекулятивной физики». — В этом
издании, основанном Шеллингом (выпуск II), была напечатана его
работа «Изложение моей философской системы» (1801).
...напоминает о благороднейшем мученике за наше учение,
славной памяти Джордано Бруно из Нолы. — Под нашим учением
Гейне подразумевает пантеизм, подчеркивая таким образом пан¬
теистические черты, содержащиеся в учении великого итальянского
мыслителя Джордано Бруно (1548—1600), сожженного на костре по
приговору инквизиции.
Стр. 131. Давид (1810—1876) — французский композитор;
вместе с другими членами сен-симонистской общины совершил
в 1833—1834 годах путешествие на Восток. Имя композитора
было Фелнсьеи-Сезар, а не Жюль, как ошибочно указывает Гейнс.
Стр. 132. Г-н Шеллинг... извивается, как червяк, в передних
практического и теоретического абсолютизма и выступает прислуж¬
ником в иезуитском вертепе... — В годы своей жизни в Мюнхене
Шеллинг пользовался благосклонностью короля и был связан с
клерикачыю-реакционными католическими кругами.
Стр. 133. Багланш Пьер-Симон (1776—1847) — французский пи¬
сатель и философ мистического направления, автор трудов по во¬
просам философии истории.
433
Стр. 134. ...е Мюнхене ...поповский характер которого... —
После революции 1830 года Мюнхен превратился в политический
центр клерикализма.
Стр. 135. ...ваги великий эклектик... — Гейне имеет в виду Вик¬
тора Кузена.
Окен Лоренц (1779—1851) — биолог и натурфилософ; был изве¬
стен своим политическим радикализмом.
Адам Мюллер (1779—1829) — реакционный публицист; эко¬
номист и государствовед, примыкавший к романтической школе;
теоретик Реставрации. Выражение стойловый откорм Гейне берет
из «Агрономических писем» Мюллера.
Геррес Иозеф (1776—1848) — романтический писатель, публи¬
цист п филолог. От увлечения идеями французской революции
перешел к национализму, а затем к ревностной проповеди католи¬
ческой реакции.
Стеффене Генрих (1773—1845) — натурфилософ-идеалист, есте¬
ствоиспытатель и писатель; сторонник Шеллинга и романтиков.
Стр. 136. ...вестфальский дворянчик... издал сочинение... —
Гейне имеет в виду книгу барона Вернера Гакстгаузена «Об осно¬
вах нашего государственного устройства» (1833).
Стр. 137. ...берсеркерское неистовство...—Берсеркер—в древне¬
северных сказаниях — воин, отличавшийся сверхчеловеческой си¬
лой, которая умножалась, когда он во время боя впадал в ярость.
Стр. 138. Тор — бог грома в германской мифологии, победив¬
ший великанов с помощью своего молота.
Стр. 139. Конрадин Гогетитауфен (1252—1268) — германский
император, который был взят в плен и обезглавлен во время войны
с французами за сицилпанскую корону.
Вирт Иогани-Георг-Август (1798—1848) — один из виднейших
представителей либерализма.
РОМАНТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Как и очерк «К псторпи религии и философии в Германии»,
«Романтическая школа» (написанная Гейне в 1832—1833 годах
по-немецки) впервые появилась в печати на французском языке.
Она была напечатана в парижском журнале «L’Europe littéraire»
(«Литературная Европа») в 1833 году (март—май). Эта первая публи¬
кация была короче позднейшей редакции и носила заглавие «Со¬
временное состояние литературы в Германии, после г-жи де Сталь».
Она соответствовала двум первым книгам и двум главам третьей
434
книги «Романтической школы». В том же 1833 году книга вышла
на немецком языке под заглавием «К истории новейшей художест¬
венной литературы в Германии» (изд. Гайделоф и Кампе, Париж
и Лейпциг, 2 части, 1833).
В 1835 году Гейне дописал заключительные главы «Романти¬
ческой школы», которая под новым заглавием и уже в окончатель¬
ном виде появилась на французском языке в составе книги «О
Германии», а на немецком была издана в Гамбурге в начале 1836 го¬
да Гофманом и Кампе.
Так же, как «К истории религии и философии в Германии»,
«Романтическая школа» по форме обращена к французскому чита¬
телю и полемически направлена против книги г-жи де Сталь «О Гер¬
мании» и сочинений Виктора Кузена о немецкой философии (см.
комментарии к сочинению «К истории религии и философии в Гер¬
мании», стр. 413). Однако в еще большей мере Гейне обращался и
в этой своей книге не к французской, а к немецкой публике.
«Романтическая школа» — один из классических образцов пере¬
довой немецкой литературной критики XIX века. Не случайно
эту книгу Гейне внимательно читал В. Г. Белинский, сочувственно
цитирующий отрывок из нее в одном из своих писем к М. А. Баку¬
нину (от 12—24 октября 1838 года) и ссылающийся на нее в дру¬
гом письме — к Н. В. Станкевичу (от 29 сентября — 8 октября
1839 года — см. В. Г. Белинскпй. Полы. собр. соч., т. XI
М., АН СССР, 1956, стр. 325 и 386). Гейне возродил в этой своей
книге лучшие традиции немецкой демократической критики и
публицистики XVIII века — традиции Лессинга, Гердера, Фор¬
стера.
Книга Гейне была первой выдающейся попыткой целостной харак¬
теристики немецкой романтической школы в ее политических,
философских и художественно-эстетических тенденциях. Анализ
эволюции немецкого романтизма, данный Гейне в этой книге,
очерки творчества отдельных немецких романтиков оказали огром¬
ное влияние на последующую историко-литературную оценку не¬
мецкого романтизма.
Вместе с тем книга Гейне была блестящим памфлетом, направлен¬
ным против реакционных тенденции немецкой романтической школы,
живым документом литературно-общественной борьбы. Гейне под¬
верг в ней суровой критике идеализацию средневековья в твор¬
честве немецких романтиков, их мистические и католические увле¬
чения, указав на реакционный характер этих тенденций, превратив¬
ших с годами немецкий романтизм в прямое орудие абсолютизма
чн католической церкви.
435
Гейне проницательно указал на некоторые из общественных
причин, способствовавших возникновению романтизма. «Быть
может, — писал оп, — некоторых немецких поэтов романтической
школы, честных в своих исканиях, впервые принудило бежать от
современной действительности и стремиться к возрождению сред¬
невековья недовольство нынешней религией денег, отвращение к
эгоизму, чей чудовищный оскал всюду их преследовал» (стр. 248—
249). Однако, подчеркивая антибуржуазный характер романтизма,
Гейне понимает, что апология средневековья привела романтиков
к подножию креста, сделала их пособниками контрреволюции с ее
весьма земными и прозаическими интересами. И романтической
апологии средневековья и буржуазному царству эгоизма Гейне
противопоставляет идею демократии, защиту права народных масс
на материальное счастье. Он отвергает романтический спиритуализм,
возвышающий дух за счет плоти, внушающий народу мысль о само¬
отречении и терпении. Гейнс выдвигает идеал гармонического
развития духа и плоти, признание права народных масс на удов¬
летворение всех своих — материальных и духовных — потреб¬
ностей.
Одной из блестящих и оригинальных особенностей книги
Гейне является стремление показать ту нсзатихалшую литературно-
общественную борьбу, которая велась вокруг деятельности романти¬
ческой школы. Гейне высоко оценивает демократическую оппози¬
цию романтизму, проявлявшуюся в разных формах с первых дней
его существования. Так, он сочувственно характеризует творчество
И-Г. Фосса, подчеркивая народную, крестьянско-демократическую
основу недоверия Фосса к ромаитическо-католическим идеалам.
Гейне дает отповедь тем деятелям современного ему немецкого
либерализма и вульгарной демократии, которые нападали иа Гете,
не находя в его творчестве либеральной «тенденции». В отличие от
них, Гейне стремится дать строго историческую оценку Гете. Он
защищает великого поэта от нападок реакционеров, высоко оцени¬
вает широту его мысли и его художественную объективность и в то
же время сурово порицает политический индифферентизм Гете,
поднятый на щит «гетеанцами» 20-х и 30-х годов.
Говоря о деятельности романтиков, Гейне особенно подчеркивает
как одну из важнейших их заслуг обращение к фольклору, работу
над ообираиием и изданием памятников немецкого народного твор¬
чества. В связи с характеристикой изданного Арннмом и Брентаио
сборника немецких народных песен «Волшебный рог мальчика»
поэт даст в начале третьей книги «Романтической школы» блестя¬
щую характеристику немецкой народной поэзии.
436
Следует иметь в виду, что, когда Гейне писал «Романтическую
школу», большинство ее деятелей были еще живы. Идеи романтиче¬
ской школы представляли непосредственную политическую опас¬
ность для немецкого освободительного движения, и этим объяс¬
няется особенно саркастический и язвительный характер портретов
таких деятелей романтической школы, как А.-В. Шлегель, Шел¬
линг, Уланд и др. Живые, остроумные, насыщенные злободневными
намеками характеристики деятелей немецкого романтизма и фран¬
цузского эпигона немецкого идеализма — Кузена делают «Роман¬
тическую школу» одним из шедевров политической и литературной
сатиры Гейне.
КНИГА ПЕРВЛЛ
Стр. 144. Труд г-жи де Сталь «De VAllemagne))... — См. ком¬
ментарии к очерку «К истории религии и философии в Германии»
(стр. 413).
...много лет тому назад я предсказал конец «гетевского эстети¬
ческого периода))... — См. примечание к стр. 7 («К различному пони¬
манию истории»).
...пути и приемы недовольных, стремившихся покончить с
эстетическим царствованием Гете... — Гейне говорит здесь о вожде
немецких мелкобуржуазных радикалов Людвиге Берне (1786—1837),
который отрицательно относился к творчеству Гете, называя его «риф¬
мованным холопом», и о националисте Вольфганге Менцеле (1798—
1873), нападавшем на Гете в своей «Немецкой литературе» (1828).
Стр. 145. ...громче всех ... раздается все же тоненький дискант
г-на А.-В. Шлегеля. — См. введение к комментариям к очерку
«К истории религии и философии в Германии», стр. 414. Став после
1803 года другом и литературным советчиком г-жи де Сталь,
А-В. Шлегель сопровождал ее в путешествии по странам Европы и
оказал реакционное влияние на ее суждения о немецкой литературе.
«Германия» римского историка Тацита (ок. 55—120) — один
из важнейших источников по истории древних германцев.
Стр. 147. Регентство — правление Филиппа Орлеанского
(1715—1723).
Петроний Гай (I в.) — римский писатель, автор романа «Сати¬
рикон», рисующего упадок нравов в императорском Риме. Описа¬
нию пиршества вольноотпущенника, богача Тримальхиона посвя¬
щена одна из наиболее удачных частей романа.
Апулей (II в.) — автор сатирического романа «Метаморфозы»
(«Золотой осел»).
437
.. умирающий кентавр, с таким коварством навязавший сыну
Юпитера смертоносную одежду, отравленную его собственной
кровью? — Согласно греческому мифу, Геракл пал жертвой ко¬
варства смертельно раненного им кентавра Несса: жена Геракла
Деянира, введенная в заблуждение Нессом, подарила своему мужу
смертоносную одежду— плащ, пропитанный кровью убитого кентавра.
Стр. 148. «Варлаам и Иосафать — эпическая поэма Рудольфа
Эмсского (XIII век), проповедующая аскетический отказ от мира
(мудрец Варлаам обращает в христианство индийского принца
Иосафата, который отказывается от царства и поселяется в пустыне).
«Хвалебная песнь в честь святого Анно» была написана в XII веке
неизвестным автором. Святой Анно — кельнский архиепископ
Анно II, умерший в 1075 году.
Стр. 149. Поэма Отфрида о Христе — поэма Отфрида Вейсен-
бургского (написана около 870 года), представляющая собою сти¬
хотворное переложение евангелия.
«Книга богатырей». — Под таким названием в конце XV века
было напечатано собрание эпических произведений по мотивам
германских героических сказаний («Ортнит», «Гугдитрих», «Вольф-
дитрих», «Большой розовый сад», «Карлик Лаурин»).
Сказания о короле Артуре — сказания кельтского происхож¬
дения о вожде бриттов короле Артуре (V—VI в.); впоследствии
стали основой сказаний о рыцарях Круглого стола при дворе ко¬
роля Артура.
Ивейн — рыцарь Круглого стола, герой одноименного романа
Гартмана фон Ауэ (XII—XIII в ), одного из самых замечательных
немецких средневековых поэтов.
Ланцелот — рыцарь Круглого стола, герой одноименного
романа Ульриха фон Цацикхофена (XII в.).
Вигалуа — герой одноименного рыцарского романа Вирнта
фон Графенберга (XIII в.).
Сказания о святом Граале — средневековые сказания о чудодей¬
ственной чаше с кровью Христовой, хранимой в замке Монсальват
королем Грааля и его рыцарями.
«Титурель» и «Парцифаль» — эпические поэмы знаменитого
немецкого миннезингера Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170—
ок. 1220). «Парцифаль» — немецкая версия сказаний о святом
Граале. Поэма «Титурель» не была закончена Вольфрамом.
«Лоэнгрин» — поэма о рыцаре Грааля Лоэнгрине, сыне Пар-
цифаля (написана в XIII в.).
Стр. 150. «Тристан и Изольда» Готфрида Страсбургского —
самая светская поэма немецкого средневековья (начало XIII в.);
438
лишена мистицизма, является образцом виртуозного стиля, остро¬
умия, изящества формы. Тема любви Тристана и Изольды разработана
здесь с психологической тонкостью и глубиной.
Дорого пришлось заплатить Франческе да Полента и ее пре¬
красному другу... — Читая вместе «Ланцелота», объяснились друг
другу в любви Франческа да Римини (дочь герцога равеннского
Гвидо да Полента) и сводный брат ее мужа Паоло Малатеста. Оба
были убиты мужем Франчески в 1278 году. История Франчески и
Паоло описана Данте в «Божественной комедии» («Ад», песнь V).
...на стенах Геркуланума? — При раскопках Геркуланума,
города, погребенного под лавой во время извержения Везувия
(в 79 г.), была обнаружена хорошо сохранившаяся стенная живо¬
пись.
Стр. 151. Эзотерическое значение — значение, доступное лишь
посвященным.
...громоздит Пелион на Оссу, «Парцифаля» на «Титуреляъ... —
Согласно греческому мифу, гиганты, восставшие против Зевса,
взгромоздили, чтобы взобраться на небо, одну высокую гору на
другую: Пелион — на Оссу. Гейне намекает здесь на огромный
объем упоминаемых поэм.
Стр. 154. ...греческим ученым, переселившимся к нам после
падения Византии... — После завоевания Византии турками в
1453 году греческие ученые переселялись в европейские страны.
Лев X, пышный Медичи — папа Лев X (1475—1521), сын Ло¬
ренцо Медичи. Покровительствовал искусствам.
...в Виттенберге протестовали латинской прозой... — Лютер,
впервые выступивший в городе Виттенберге, вначале писал на ла¬
тинском языке.
...в Риме языком протеста были... ottave rime. — Октава (стихо¬
творная строфа из восьми строк с устойчивой системой рифмовки)
была введена поэтами итальянского Возрождения.
Джулио Романо (1492—1546) — знаменитый художник и архи¬
тектор итальянского Возрождения, ученик Рафаэля. Написал
много картин на мифологические сюжеты.
Маэстро Лодовико — Лодовико Ариосто (1474—1533), знаме¬
нитый поэт итальянского Возрождения, автор «Неистового Ро¬
ланда».
...тезисы... которые были прибиты немецким монахом на две¬
рях виттенбергской церкви. — Гейне имеет в виду тезисы Лютера,
направленные против торговли индульгенциями (тезисы были
прибиты Лютером на дверях церкви в Виттенберге 31 октября
1517 года).
Стр. 155. ...дом Атрея и Лая... — События из жизни Агамем¬
нона и Менелая — сыновей Атрея, Эдипа — сына Лая и других
потомков обоих названных Гейне героев греческой мифологии легли
в основу многих произведений древней литературы и литературы
эпохи Возрождения.
...с Анжуйской династией прибыли в Испанию и герои фран¬
цузской трагедии... — Филипп V, бывший герцог Анжуйский
(1701—1746), был первым Бурбоном на испанском престоле. С его
приходом усилилось французское влияние на испанскую лите¬
ратуру.
Мадам Генриетта — Генриетта-Мария (1609—1669), сестра
Людовика XIII, жена английского короля Карла I.
Готгиед Иоганн-Кристоф (1700—1766) — теоретик литературы,
драматург; ратовал за насаждение в Германии правил и традиций
театра французского классицизма.
...изображенный... Гете в его воспоминаниях. — Гете описал
свой визит к Готшеду («Поэзия и правда», 7 книга).
Лессинг был литературным Арминием... — Под предводитель¬
ством Арминияу вождя германского племени херусков (17 г. до
н. э. — 21 г. н. э.), германцы разбили римлян в битве в Тевтобург-
ском лесу (9 г. н. э.). — Лессинг выступал против влияния фран¬
цузского классицизма в «Письмах о новейшей литературе» и в «Гам¬
бургской драматургии».
Стр. 156. ...лишь теперь нам ясно, что он имел в виду, изо¬
бражая деспотию мелких князьков в «Эмилии Галоттиъ. — Действие
драмы «Эмилия Галотти» происходит в Италии, стране, которая
своей раздробленностью и деспотизмом мелких князей напоминала
Германию XVIII века.
Гердер. — См. примечание к стр. 116 («К истории религии
и философии в Германии»).
Стр. 157. Август Лафонтен (1756—1831) — плодовитый и по¬
пулярный немецкий писатель, автор сентиментальных семейных
романов.
Виланд Кристоф-Мартин (1733—1813) — значительный немец¬
кий писатель-просветитель; автор поэмы-сказки «Оберон», воспи¬
тательного романа «Агатон», сатирического романа «Абдериты»;
переводчик Шекспира и древних авторов; сыграл значительную
роль в развитии немецкого литературного языка.
Рамлер Карл-Вильгельм (1725—1798) — автор напыщенных,
риторических и переполненных мифологическими образами од,
пользовавшихся, однако, значительной популярностью у тогдашнего
читателя.
440
Стр. 158. Ифлапд Август-Вильгельм (1759—1814) — актер,
а также плодовитый и популярный драматург, писавший в жанре
мещанской драмы.
Коцебу Август (1761—1819) — популярный романист и плодо¬
витый драматург, автор сентиментально-нравоучительных пьес.
Фридрих Шлегель. — См. примечание к стр. 119 («К истории
религии и философии в Германии»).
Иена... была средоточием, откуда распространялась новая
эстетическая доктрина. — В 1799 году в этом городе встречаются
братья Шлегели, Новалис и Тик и формируется так называемая
конская романтическая школа.
Стр. 159. ...ведь он... в некоторой степени также поэт... —
Гейнс намекает на натурфилософское стихотворение Шеллинга «Эпи¬
курейский символ веры Гсйица Видерпоста» (1799) и его произведе¬
ние «Последние слова пастора из Дротнинга» (1802).
Перевод Шекспира... — А.-В. Шлегель переводил Шекспира
с 1797 по 1810 год. Он перевел 17 драм. Полный перевод Шекспира,
осуществленный Шлегелем и Тиком, — замечательный памятник
художественного перевода.
...был переведен Кальдерон... — Шлегель перевел 5 драм Каль¬
дерона; они были изданы под названием «Испанский театр» (1803—
1809).
«Поклонение кресту» и «Стойкий принц» — драмы Кальдерона.
Захария Вернер (1768—1823) — романтический писатель, соз¬
датель распространенного у поздних романтиков жанра так назы¬
ваемой драмы рока (наир., «Двадцать четвертое февраля»).
Гейне подчеркивает религиозно-мистический характер его творче¬
ства.
Стр. 160. ...с ними случилось то же, что со старой камерист¬
кой... — Гейне вкратце пересказывает сюжет сказки «Пажи Ролан¬
да» (из «Народных сказок» Музеуса).
Людвиг Тик (1773—1853) — один из крупнейших немецких
романтиков (иенская школа), поэт, драматург, прозаик и перевод¬
чик. Для творчества Тика особенно характерна реакционная идеа¬
лизация средневековья.
...он так наглотался народных книг... — Тик одним из первых
начал обрабатывать так называемые народные книги.
«Я — достопочтенный Бонифаций...» — Этими словами начи¬
нается драма Тика «Жизнь и смерть святой Генофефы» (1799).
«Сердечные излияния монаха, любителя изящного» (1797). —
В этой книге писателя-романтика Вильгельма-Геириха Ваксиро-
дера (1773—1798), дополненной и изданной Тиком, идеализируется
15 Г. Гейне, т. G
441
с реакционных позиций средневековое искусство, и в частности —
старонемецкая живопись, в которой, по мысли авторов, лучше всего
осуществляются основные принципы искусства: наивность и ин¬
туиция.
Перуджино (Пьетро Вапуччи; ок. 1450—1528) — глава умбрий¬
ской школы живописи, учитель Рафаэля.
Фра Джованни-Анджелико да Фнезоле (1387—1455) — итальян¬
ский художник, создатель степной живописи в монастыре св. Марка
во Флоренции.
Стр. 161. Шарантон — предместье Парижа, где паходится
психиатрическая больница.
Иозеф Геррес. — См. примечание к стр. 135 («К истории религии
и философии в Германии»).
...как сказал бы Полоний... — Полоний говорит: «Если это
безумие, то в нем есть система» (Шекспир. Гамлет, II, 2).
Стр. 162. Ян Фридрих-Людвиг (1778—1852) — основатель
немецких гимнастических обществ; ярый и ограниченный нацио¬
налист, которого неоднократно бичевал в своих произведениях;
Гейне.
Стр. 163. Кернеровские песни — то есть песни, принадлежащие
перу Теодора Кернера (1791—1819), автора патриотических сти¬
хотворений, популярных в Германии во время наполеоновских войн.
...А.-В. Шлегель конспирировал против Расина... — См. ста¬
тью А.-В. Шлегеля «Сравнение «Федры» Расина с «Федрой» Еври¬
пида» (1807).
...министр Штейн — против Наполеона. — Прусский министр
Генрих Штейн (1757—1831) проводил умеренно-либеральные рефор¬
мы, имевшие целью усилить Пруссию и подготовить сопротивленио
Наполеону.
«Новонемецкое религиозно-патриотическое искусство» — назва¬
ние статьи Генриха Мейера, друга Гете, напечатанной в журнале
«Об искусстве и старине» (1817). Статья выражала мнение Гете,
редактировавшего этот журнал, и была направлена против роман¬
тического искусства.
...столь же романтические, как «Мальчик с пальчик» и «Кот
в сапогах»... — Гейне говорит здесь о романтических драмах Тика.
Стр. 164. Гиппокрена — в греческой мифологии источник на
склонах горы Геликон, вызывавший поэтическое вдохновение.
Клеменс Врентано (1778—1842) — талантливый поэт, а также
автор повелл, комедий и сказок; принадлежал к так называемому
гейдельбергскому кружку романтиков. Его первые произведения
полны «романтической иронин». После 1818 года Брентано почти
442
совсем отказался от светского литературного творчества и кончил
свою деятельность в лоне католицизма.
Новалис — псевдоним Фридриха фои Гардепберга (1772—1801),
одного из виднейших представителей иенской романтической школы.
Реакционная идеализация средневековья, поэтизация смерти и дру¬
гие характерные черты раннего немецкого романтизма обнаружились
в творчестве Новалиса раньше, чем у других представителей этой
школы.
Шютц Фрпдрнх-Карл-Юлиус (1779—1844) — профессор уни¬
верситета в Галле, автор кыпг о Гете: «Гете и Пусткухен» (1822)
и «Философия Гете» (1825—1827).
Kapoeè Фридрих-Вильгельм (1789—1852) — немецкий публи¬
цист, философ; стремился к созданию единой религии под эгидой
католической церкви.
Адам Мюллер. — См. примечание к стр. 135 («К истории рели¬
гии и философии в Германии»).
Стр. 165. ...как некогда легендарный крысолов заманивал гамельн-
ских детей... — Имеется в виду немецкое народное предание о кры¬
солове, который, играя на дудочке, выманил из города Гамельна
всех крыс, а затем всех детей.
Иоганн-Генрих Фосс (1751—1826) — поэт и переводчик, автор
идиллий, часто носивших антифеодальный характер.
Стр. 166. ...героями своих поэм избирал ...скромного протес¬
тантского пастора и его ...семейство... — Заглавной героиней идил¬
лии Фосса «Луиза» является дочь протестантского пастора из Грюнау.
...распутно-романтической «Люцинды»... — Гейне имеет в виду
философско-романтический роман Фридриха Шлегеля «Люцинда»,
одной из основных идей которого является идея свободной
любви.
Стр. 167. Г-н Вольфганг Менцель, немецкий литератор, изве¬
стный в качестве одного из ожесточеннейших противников Фосса... —
Менцель (см. о нем примечание к стр. 144) выступал против
Фосса в 1825 году в работе «Фосс п символика» и в 1828 году
в книге «Немецкая литература».
Стр. 168. Штольберг Фридрих (1750—1819) — поэт, принадле¬
жавший к «Союзу рощи» (см. следующее примечание), в который
входил и Фосс. Впоследствии Штольберг отказался от взглядов
своей молодости и принял католичество (1800).
...основали в Геттингене поэтическую школу. — Имеется в виду
так называемый «Союз рощп», к которому примыкали поэты «бури
и натиска». Был основан в 1772 году. Членами его, кроме Фосса
и Штольберга, были Гельтп, Миллер п др. Поэзия «Союза рощи»
15*
443
носила бюргсрски-демократический характер; поэтическим образцом
для этой школы было творчество Клопштока.
...познакомиться с предисловием к стихотворениям Гельти... —
Гейне перевел на французский язык это предисловие Фосса
и включил его в первое издание своей книги «О Германии».
...«Дворянской цепю>... — Настоящее название масонской ложи,
о которой говорит Гейне, — «Общество цепи».
Стр. 169. «Книжка любви» («Liebesbüchlein»). — Гейне имеет
в виду «Книгу о любви» («Ein Büchlein von der Liebe») Штольбсрга,
вышедшую в свет в 1820 году.
Стр. 170. Квиетисты — сторонники квиетизма, религиозного
направления, проповедующего пассивность и мистически-созерца-
телыюс отношение к жизни.
Супернатуралистические секты протестантской церкви — па-
прав ленпе в теологии, утверждающее, что истины веры недоступны
разуму.
Гете... изрек обвинительный приговор Шлегелям. — Имеется
в виду выражавшая мнение Гете статья Мейера (см. примечание
к стр. 163).
Стр. 171. ...г-н Август-Вильгельм Шлегель удалился в пагоду
Брамы. — После 1818 года Август Шлегель занялся изучением сан¬
скрита и древнеиндийской литературы.
Переписка между ним и Гете... — Переписка между Шилле¬
ром и Гете была опубликована в 1828—1829 годах.
...и называет их балбесами. — В письме от 16 мая 1797 года
Шиллер пишет Гете о Фридрихе Шлегеле: «Этот балбес полагал,
что он должен заботиться о том, как бы не испортился ваш вкус».
Один — верховное божество древних германцев.
Стр. 172. ...18 брюмера в немецкой литературе... — 18 брю¬
мера (9 ноября) 1799 года произошел государственный переворот
во Франции: Наполеон I сверг Директорию и объявил себя первым
консулом. «Единовластие» Гете в немецкой литературе Гейне срав¬
нивает с властью Наполеона.
Барра и Гойе — члены Директории, свергнутой Наполеоном.
Как я сам в то время... открыто высказал, Гете уподобился
Людовику XI... — Гейне писал об этом в рецензии на книгу Менцеля
«Немецкая литература» (см. т. V настоящ. издания, стр. 148).
Стр. 173. Люди противоположнейших воззрений объединялись
в этой оппозиции. — Против Гете выступали как христианские
ортодоксы, обвинявшие его в язычестве (например, Пусткухен),
так и мелкобуржуазные радикалы, обвинявшие сто в аполитичности
(иапример, Берне)
Ш
...невозможно было насадить на его макушку красную шапку
и плясать под ним карманьолу. — Красная шапка (фригийский
колпак) — символ Великой французской революции, карманьола —
народная песня и революционный танец топ же эпохи.
Стр. 174. Макс Пикколомини и Текла — герои драмы Шиллера
«Валленштейн», маркиз Поза — герой драмы Шиллера «Дон Кар¬
лос», Филина — героиня романа Гете «Годы учения Вильгельма
Мейстера», Гретхен — героиня трагедии Гете «Фауст», Клерхен —
героиня драмы Гете «Эгмонт».
Стр. 175. ...драма «Васантасена»... — Гейне имеет в виду древ¬
неиндийскую драму «Глиняная повозка» Шудрака (V—VI в.),
героиня которой носит имя Васантасена.
Стр. 176—177. ...то безразлично, чем заниматься, — обла¬
ками или античными геммами, народными песнями или костями
обезьян, людьми или комедиантами. — Гейне говорит здесь о разно¬
образии интересов Гете, занимавшегося историей античного искус¬
ства, фольклором, сравнительной анатомией, театром и пр., а также
и об индифферентизме Гсте.
Стр. 177. «Пророк, обращенный к прошлому» — слова из «Фраг¬
ментов» Фридриха Шлегеля, неоднократно цитируемые Гейне.
Стр. 178. Шарль Нодье (1780—1844) — французский писатель-
романтик; его литературные воззрения отражены в книге «Лите¬
ратурные, моральные и фантастические мечтания».
...приблизительно то же самое говорится в эпиграмме...—В«Вене-
цианских эпиграммах» (67) Гете говорит, что он способен стерпеть
все, кроме четырех вещей: табачного дыма, клопов, чеснока и креста.
Стр. 179. Я говорил: Гете все же король нашей литературы... —■
См. рецензию Гейне па книгу Мспцеля «Немецкая литература»
(т. V пастоящ издания, стр. 148).
Мюлънер Адольф (1774—1844) — писатель, журналист, изда¬
тель; резко критиковал Гете.
...профессор Шютц, сын старого Шютца. — Отец профессора
Ф.-К.-Ю. Шютца (см. примечание к стр. 164) Христиан-Готфрид
Шютц (1747 —1832) был основателем ие некой «Литературной газеты».
Шпаун Франц (1753—1826) — австрийский чиновник, который
просидел десять лет в тюрьме из-за одного своего сочинения, при¬
знанного опасным.
Стр. 180 ...требуется уже большой мастер, для того чтобы
...изобразить этакого испанского нищего мальчишку, игцущего
вшей, нидерландского мужика, которого рвет или которому выдер¬
гивают зуб... — Гейне пмэст в виду известные образцы испапской
и фламандской жанровой живописи: серию «Уличные мальчики»
445
Бартоломео Мурильо (1617—1680), «Мужчину, засунувшего палец
в рот» Адрнана Броувера (1605—1638) и «Зубного врача» Давида
Тенирса (1610—1690).
Стр. 181. Это перст Гете. — Здесь Гейне остроумно псполь-
зует сходно звучащие сочетания слов: Finger Gottes (перст божий)
и Finger Goethes (перст Гете).
«jВ этом государстве нет значительного человека...» — Эти
слова Павел I произнес в беседе с французским эмигрантом, гене¬
ралом Дюмурье.
Эккерман Иоганн-Петер (1792—1854) — литератор, с 1823 по
1832 год секретарь Гете. Автор книги «Разговоры с Гете» (1836).
Здесь Гейне имеет в виду книгу Эккермана «Замечания по поводу
поэзии, в особенности по поводу поэзии Гете» (1823). Ср. «Путе¬
шествие от Мюнхена до Генуи» (т. IV настоящ. издания, стр. 213).
В борьбе против Пусткухена добыл свои критические гипоры
Карл Иммерман... — Друг Гейне писатель-романтик Карл Ыммерман
(1796—1840) написал против Пусткухеиа «Письмо к другу о под¬
дельных «Годах странствий Вильгельма Мейстера» и приложениях
к ним» (1823).
Стр. 182. Фарнхаген фон Энзе Карл-Август (1785—1858) — писа¬
тель, критик, выдающийся стилист, друг Гейне, восторженный
поклонник Гете; автор книги «Гете в свидетельствах современников».
Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835) — лингвист и теоретик
искусства; в книге «Эстетические опыты» (1799) писал о «Рейнеке-
Лисе» и «Германе и Доротее» Гете.
Исследования г-на Шубарта о Гете... — Филолог-классик
К.-Э. Шубарт (1796—1861) опубликовал в 1820 году двухтомный
труд «К вопросу об оценке Гете с привлечением родственной лите¬
ратуры и искусства».
Вилибальд Алексис (1798—1871) — немецкий писатель и публи¬
цист, автор многочисленных исторических романов.
Циммерман Фридрих-Готлиб (1782—1835) — историк литера¬
туры, гамбургский профессор; был близко знаком с Гейне.
Я вправе предположить знакомство с содержанием «Фауста»... —
Французский перевод «Фауста» (Жерара де Нерваля) вышел
в 1818 году.
Стр. 183. Альберт Великий, граф фон Фолынтедт (1193—1280) —
доминиканец, философ, естествоиспытатель; истолковывал Аристо¬
теля в духе средневековой схоластики.
Раймунд Луллий (1234—1315) — испанский писатель-схоласт.
Теофраст Парацельс. — См. примечание к стр. 75 («К истории
религии и философии в Гер>мании»).
440
А гриппа Неттесгеймский (1486—1535) — врач и философ;
критиковал пауку своего времени в сочинении «О тщете и недосто¬
верности наук».
Роджер Бэкон (1214—1294) — английский философ и естество¬
испытатель; первым применил эксперимент как средство познания;
враждовал с церковью.
...это тот самый Фауст, который изобрел книгопечатание... —
Распространенное во времена Гейне мнение, что астролог и черно-
книжпик Фауст, живший в XVI веке и ставший героем «народных
книг», п Фуст из Майнца, компаньон изобретателя книгопечата¬
ния Гуттенберга, — одно и то же лицо, впоследствии было опро¬
вергнуто.
Стр. 184. ... «Западно-Восточный диван» Гете, более поздняя
книга, которой еще не знала г-жа де Сталь... — «Западно-восточный
диван» был впервые напечатан в 1819 году, а книга г-жи де Сталь
«О Германии» — в 1813 году.
Гаспар Дебюро (1796—1846) — французский артист, особенно
знаменитый в 30-х годах XIX века.
Стр. 185. ...посмертное сочинение Иоганна Фалька.., — Книга
Фалька, о которой здесь идет речь, согласно его завещанию вышла
в свет после смерти Гете. Гейне перевел часть этой книги на
французский язык для французского издания «Романтической
школы».
Стр. 186. ...подобно Аполлону среди овечек царя Адмета... —
Согласно греческой мифологии, Аполлон служил пастухом у царя
Адмета, одного из участников похода аргонавтов.
...Коцебу... устраивает публичное чествование Шиллера... —
Коцебу был намерен устроить в 1802 году чествование Шиллера,
так называемый апофеоз Шиллера. Чествование не состоялось по
требованию Шиллера и Гете.
...Агни, Варуна, Яма и Индра принимают облик Наля на свадь¬
бе Дамаянти... — В индийской мифологии Агни — олицетворение
огня, Варуна — бог земли, Яма — сын солнца, Индра, — бог войны.
Рассказ о Нале и Дамаянти находится в третьей книге «Махабха-
раты».
Стр. 187. Когда я был у него в Веймаре... — Гейне посетил Гете
осенью 1824 года.
Орел с молниями в клюве — атрибут Юпитера.
...теми самыми губами... просто нимф... — Гейне продол¬
жает здесь сравнение Гете с Юпитером.
...она уже занесла было косу над королем испанским. — Ферди¬
нанд VII (1784—1833) тяжело заболел в 1832 году.
447
КНИГА ВТОРАЯ
Стр. 188. Так как я некогда принадлежал к университетским уче¬
никам Шлегеля старшего... — С 1819 по 1820 год Гейне учился
в Боннском университете, где посещал лекции А.-В. Шлегеля по
истории немецкого языка и поэзии и участвовал в руководимых
им занятиях по тексту «Нибелунгов» и по метрике.
Но был ли снисходителен г-н Август-Вильгельм Шлегель к старо¬
му Бюргеру, своему литературному отцу? — В Геттингенском
университете А.-В. Шлегель был учеником и другом поэта Готфрида-
Августа Бюргера (1747—1794), автора «Леноры» и других про¬
славленных баллад. Впоследствии Шлегель критиковал .Бюргера
в статье «О произведениях Бюргера», напечатанной им в книге
«Характеристики и критические статьи» (1801), которую он опубли¬
ковал вместе с Фридрихом Шлегслем.
Стр. 189. «Пророк наизнанку», или «пророк, обращенный
к прошлому». — См. примечание к стр. 177.
Шлейермахер Фридрих (1768—1834) — философ, близкий к иси-
ским романтикам; разрабатывал в первую очередь вопросы этики;
в 1801 году написал «Интимные письма о «Люцинде» Фр. Шле¬
геля».
Стр. 190. «Флорентин» — роман, написанный писательницей
и переводчицей Доротеей Шлегель (1763—1839), дочерью философа
Мозеса Мендельсона, женой Фридриха Шлегеля.
«Мудрость и язык индусов». — Точное название книги Шле¬
геля — «О языке и мудрости индусов. Материалы, способствующие
изучению древности. С приложением метрических переводов индус¬
ских стихотворений» (1808).
Уильям Джонс (1746—1794) — выдающийся ориенталист, сан¬
скритолог, первый переводчик «Сакунталы» на английский язык.
Слока — стихотворный размер древнеиндийских поэм, парные
шестнадцатисложные стихи, каждый из которых разделен посредине
цезурой.
Книга Фридриха Шлегеля об Индии, разумеется, переведена на
французский язык... — Эта книга была переведена Може (1809).
Стр. 191. «Рамаяна)) — древнеиндийская поэма (IV—III в.
до и. э.) о жизни царя-изгнанника Рамы.
Сабала — божественная корова, якобы способная доставить
своему обладателю все блага мира; принадлежала Васиште и явля¬
лась предметом спора между ним и Висвамитрой.
...«соблазнил жену в доме своего друга...)) — До брака с Фридри¬
хом Шлсгелем Доротея Шлегель была замужем за берлинским
443
банкиром Фейтом, в литературном салоне которого бывал и Фридрих
Шлегель.
Стр. 192. ...в «Словаре немецких писательниц» Шпиндлера. —
Гейне имеет в виду книгу Шиндсля «Немецкие писательницы
XIX века».
Александр фон Гумбольдт (1769—1859) — знаменитый есте¬
ствоиспытатель и географ. Шампольон Жан-Франсуа (1790—1832) —
знаменитый египтолог. Гумбольдт и Шампольон названы здесь как
великие знатоки древности, которые якобы только и могут опреде¬
лить возраст любившего молодиться А.-В. Шлегеля.
Грис Погани-Дитрих (1775—1842) перевел на немецкий язык
произведения Тассо, Ариосто, Кальдерона и др.
Зольгер Карл-Вильгельм-Фердинанд (1780—1819) — философ-
идеалист; занимался вопросами эстетики. Его главное сочинение —
«Эрвин. Четыре беседы о прекрасном и об искусстве» (1815).
Якоб Гримм (1785—1863) — знаменитый филолог, основатель
германистики, автор «Немецкой грамматики», «Немецкой мифо¬
логии», «Истории немецкого языка»; вместе со своим братом Виль¬
гельмом Гриммом издал «Немецкие сказания», «Детские и се¬
мейные сказки» и положил начало изданию «Словаря немецкого
языка».
Лассен Христиан (1800—1876) — санскритолог; вместе с
А.-В. Шлегелсм издал сборник древнеиндийских басен.
Франц Bonn (1791—1867) — санскритолог, один из основопо¬
ложников сравнительно-исторического языкознания; Гейне слушал
сто лекции в Берлинском университете.
Нибур Бартольд-Георг (1776—1831) — историк Рима.
Стр. 193. Иоганн фон Мюллер (1782—1809) — автор «Истории
швейцарцев».
Герен Арнольд-Герман-Людвиг (1760—1842) — историк, автор
«Идеи о политике, сношениях и торговле важнейших народов древ¬
него мира»; был профессором в Геттингене.
Шлоссер Фридрих-Кристоф (1776—1861) — автор «Всемирной
истории» (из которой делал выписки Маркс), «Истории XVIII столе¬
тия» и др.
Перси Томас (1728—1811) — английский поэт и фольклорист;
его сборник английских и шотландских народных песен «Реликвии
древней английской поэзии» оказал большое влияние па английскую
и немецкую литературу.
Стр. 194. ...страдальческий вопль титана, которого ганновер¬
ские аристократишки и школьные педанты замучили до смерти. —
Бюргер жил в Геттингене, входившем в состав ганноверского коро-
449
левстпа. Последние годы его жизни были омрачены преследованиями,
которым он подвергался, и нуждой.
...понять стихи, в которых Бюргер громко восклицает, что
честный человек должен скорее умереть с голоду, чем клянчить мило¬
сти у сильных мира сего! — Гейне имеет в виду стихотворение Бюр¬
гера «Непреклонность» («Mannestrotz»).
Имя Бюргер по-немецки равнозначно слову citoyen. — Гейнс
вновь подчеркивает высокую гражданственность поэзпи Бюргера.
Бюргер писал антифеодальные стихи, приветствовал французскую
революцию 1789—1793 годов, выступал против интервенционной
войны с революционной Францией.
Стр. 195. Фронда (Фронда принцев) — реакционное движение
французской знати в 1650—1653 годах, направленное против центра¬
лизованной монархической власти, осуществлявшей объединение
раздробленной на феодальные владения страны.
Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — знаменитый француз¬
ский трагик; в эпоху революции вышел из состава «Французской
комедии» п основал «Театр республики», осуществив целый ряд
реформ в области постановки спектаклей.
Стр. 196. ...сравнивать «Федру» Расина с «Федрой» Еврипида. —
См. примечание к стр. 163.
Пародист Еврипида и Сократа — Аристофан, осмеявший Еври¬
пида в «Лягушках» и Сократа в «Облаках».
Стр. 198. Кататни Анджелика (1779—1849) — знаменитая
итальянская певица.
Если не считать Наполеона, это был первый великий человек,
которого я тогда увидел... — Гейне видел Наполеона в 1811 и
1812 годах в Дюссельдорфе.
Стр. 199. ...я написал в ту пору три оды, обращенные к г-ну
Шлегелю... — Гейне посвятил А.-В. Шлегелю три сонета (см. т. I
настоящ. издания, стр. 48 и 187).
Паулюс Генрнх-Эбергард-Готлоб (1761—1851) — профессор бого¬
словия, представитель так называемого рационалистического направ¬
ления в теологии (см. стихотворение Гейне «Церковный советник
Прометей», т. II настоящ. издания, стр. 118). Эмилия Паулюс
вышла замуж за А.-В. Шлегеля в 1818 году и вскоре разошлась с ним.
Стр. 200. ...вновь появился в Берлине, былой столице своего лите¬
ратурного блеска... — А.-В.Шлегель вернулся в Берлин в 1827 году,
где в 1801—1804 годах он читал свои знаменитые лекции «Об изящ¬
ной литературе и искусстве».
...» публике, которая получила уже от Гегеля философию искус¬
ства, науку эстетики. — Гегель читал курс по эстетике (в Гей¬
450
дельберге в 1817 году, в Берлине в 1820, 1823, 1826, 1828—1829 го¬
дах), который он озаглавил «Эстетика, пли философия искусства».
Стр. 201. ...говорил о Мольере, что тот был вовсе не поэт, а прос¬
то шут. — См. «Лекции о драматическом искусстве п литературе»
А.-В. Шлегеля (1805—1811).
...А.-В. Шлегель... украшенный... орденом Почетного Легиона. —
Луп-Филипп наградил А.-В. Шлегеля орденом Почетного Легиона
в 1831 году.
Стр. 202. Поэтическая полемика, которую г-н Тик вел в дра¬
матической форме... — В комедиях «Кот в сапогах», «Принц Церби-
но» и других произведениях Тик осмеивал просветителей, мещан¬
скую трагедию.
Гоцци Карло (1720—1806) — итальянский драматург, создав¬
ший на основе традиционной комедии масок новый драматический
жанр — комедию-сказку (папр., «Турандот», «Король Олень»);
оказал сильное влияние на немецких романтиков.
Стр. 204. Юстин (II в.) — римский историк. Его «Исторпя»,
которую цитирует Гейпе (кн. I, гл. 7), является извлечением из
«Всеобщей истории» Трога Помпея (I в.).
Стр. 209. Перевод ряда английских драм дошекспировской
эпохи Тпк опубликовал в 1811 году (книга «Староанглийский
театр»).
Перевод «Дон-Кихота», выполненный Тиком, один из лучших
образцов художественного перевода, вышел в свет в 1799—1801 го¬
дах.
Стр. 210. Якоб Беме. — См. примечание к стр. 76 («К истории ре¬
лигии и философии в Германии»).
Стр. 211. Ганс Сакс.— См. примечание к стр. 52 («К истории
религии и философии в Германии»).
...в начале своей деятельности он произвел великую револю¬
цию в мире немецкой мысли... — Гейне имеет здесь в виду критику
Фихте со стороны Шеллинга и натурфилософию последнего.
Стр. 211—212. ...Фихте можно было рассматривать как герцога
Брауншвейгского от спиритуализма, и его идеалистическая философия
была не чем иным, как манифестом против французского материализ¬
ма.— Герцог Брауншвейгский, стоявший во главе австрийской армии
во время войны монархической коалиции против революционной
Франции, в 1792 году издал так называемый Кобленцский манифест,
в котором угрожал французскому народу. С этим манифестом
монархизма против французской революции Гейпе сравнивает фило¬
софию Фихте, являвшуюся манифестом спиритуализма против фран¬
цузского материализма.
451
Стр. 212. ...Шеллинг, павший медиатизированный философ,
тоскливо бродил среди прочих медиатизированных господ в Мюнхе¬
не. — Шеллинг, лишенный своего прежнего господства в области
философии, сравнивается здесь с мелкими владетельными немецки¬
ми князьями, которые при Наполеоне были медиатизировапы, то
есть перестали быть суверенными государями. В Мюнхене
Шеллинг жил с 1808 по 1820 год и вновь вернулся в этот город
в 1827 году.
Стр. 213. ...смотрят сквозь очки, отшлифованные Барухом
Спинозой. — Эта метафора, подчеркивающая большое влияние
Спинозы иа немецкую философию, основана на том, что Спиноза
занимался шлифовкой оптических стекол.
Стеффене Генрих. —См. примечание к стр. 135 («К истории
религии и философии в Германии»).
Стр. 214. «Рейнский Меркурий» — антинаполеоновский жур¬
нал, издававшийся Торресом с 1814 по 1816 год.
Стр. 217. Александрийские философы пытались возродить гре¬
ческую мифологию, защищаясь от наступающего христианства.
Они опирались на учение Платона. Важнейший представитель этой
философской школы — Плотин (204—269).
Стр. 218. Барро Эмиль (1800—1869) — французский публицист,
сеи-симонист.
Гофман Эрнст-Теодор-Амадей (1776—1822) — немецкий писа¬
тель-романтик, автор иовелл, сказок, романов. В творчестве Гоф¬
мана романтическая фантастика сочетается с критикой дворянско-
буржуазного общества, немецкого филистерства и карликового
абсолютизма.
Стр. 219. Леве-Веймарс (1801—1854) переводил на французский
язык произведения Гейне, Гофмана, Виланда.
«Фантастические рассказы» (полное название: «Фантастиче¬
ские рассказы в манере Калло») — сборник рассказов Гофмана
(1814).
Стр. 220. Он любил юную даму, болевшую чахоткой и умершую
от этого недуга. — София фон Кюн, невеста Новалиса, умерла
в 1797 году, в возрасте 14 лет.
...раньше чем завершил... свой роман. — Роман Новалиса
«Генрих фон Офтердинген» остался незаконченным и был издан
в 1802 году Тиком и Фридрихом Шлсгелем.
Генрих фон Офтердинген, знаменитый поэт... — О минне¬
зингере Генрихе фон Офтердингене нет исторических данных;
произведения его не дошли до нас, его имя встречается только в поэ¬
ме «Война певцов» (см. ниже).
452
...несколько тупоумных немецких националистов сожгли «Жан¬
дармский кодекс» г-на Кампца. — Гейне говорит о так называемом
Вартбургском праздЕюетве 1817 года, устроенном немецкими либе¬
ралами в память Реформации и битвы при Лейпциге. Карл-Альберт
фон Кампц, «Жандармский кодекс» которого был во время этого
празднества сожжен в числе других книг, был прусским министром
и гонителем либералов.
В... Вартбурге происходило... состязание певцов... — В поэме
неизвестного автора «Война певцов» (ок. 12G0 г.) описывается
состязание певцов в замке Вартбург при дворе ландграфа Германа
Тюрингенского.
Сборник Манессе — стихотворная рукопись, содержащая пес¬
ни 140 миннезингеров (XIV в ).
Стр. 222. Блюменбах Иоганн-Фридрих (1752—1840) — профес¬
сор в Геттингене, естествоиспытатель.
Когда поздней осенью 1828 года я вернулся (тоже со жгучей
стрелой в груди) с юга... — Возвращаясь из Италии, Гейне получил
известие о смерти отца.
шшгл третья
Стр. 226. «История бравого Касперля и прекрасной Наннерль»...—
Гейне допускает небольшое искажение названия новеллы Брентано:
имя се героини — Анперль.
«Волшебный рог мальчика» — сборник немецких народных песен,
изданный в 1806—1808 годах гейдельбергскими романтиками Ахи-
мом фон Арнимом и Клеменсом Брентано, оказавший огромное вли¬
яние на последующее развитие немецкой поэзии, в частности и на
лирику Гейне.
Стр. 227. Это замечание сделал однажды немецкий поэт, ко¬
торого я люблю больше всех других, а именно я сам. — См. сбор¬
ник «Новая весна», № 31, 3 строфа (т. II настоящ. издания,
стр. 1Р).
В «Волшебном роге мальчика» есть эта трогательная песня... —
Имеется в виду песня «Швейцарец» (Гейне опускает две последние
строфы).
Стр. 230. Это не гетевская Гретхен, и ее раскаяние не сюжет
для Ари Шеффера. — Ари Шеффер (1795—1858) — французский
художник, написавший, в частности, несколько картин на мотивы
из произведений Гете и других немецких писателей. Образ Гретхен
запечатлен Шеффером в картинах «Гретхен за прялкой», «Гретхен
в церкви», «Гретхен, возвращающаяся из церкви» и «Гретхен
453
на Блоксберге». См. высказывания Гейне о Шеффере в статье «Фран¬
цузские художники» (т. V настоящ. издания, стр. 179—185).
Стр. 232. Уланд Людвиг (1787—1862) — известный романтиче¬
ский поэт, драматург, историк литературы. Многие его лирические
стихотворения, написанные под влиянием народной песни, были
весьма популярны. Либерал по своим убеждениям, Уланд был одним
из вождей оппозиции в Вюртембергском ландтаге, вследствие чего
он был вынужден отказаться от профессорской кафедры в Тюбин¬
генском университете.
Стр. 234. Стивенс Джордж (1736—1800) — английский критик,
шекспировед.
Оросман — герой трагедии Вольтера «Заира».
Лишь после смерти удостоился он чего-то вроде некролога от
одного из представителей школы. — Некролог был написан Внли-
бальдом Алексисом и напечатан в берлинском журнале «Прямодуш¬
ный» (1831, № 25).
Стр. 235. ...Арним родился в 1784 году в Бранденбургской марке
и умер зимой 1830 года. — В действительности Арним родился
в 1781 году в Берлине и умер в 1831 году. Гейне сам отмстил эту
ошибку в предисловии ко 2 части немецкого издания 1833 года.
Стр. 238. ...бедные маленькие человечки ночью перебирались
по мосту... — Гейне заимствует этот рассказ из «Немецких сказа¬
ний» Гриммов.
Cour des miracles — квартал Парижа* где в средние века жили
нищие и шарлатаны.
Стр. 240. «Théâtre des Variétés» и «Théâtre-Gymnase» — театры
в Париже, где давались водевили и комедии.
Стр. 242. ...как историк, предваряющий повествование о троян¬
ской войне рассказом о яйце Леды. — Согласно греческому мифу,
из яйца Леды родилась Елена Прекрасная, из-за которой началась
Троянская война.
Стр. 243. Калхас — в греческой мифологии жрец и прорицатель,
сопровождавший войска, которые осаждали Трою.
Стр. 244. Филарет Шаль (1798—1873) — французский критик
и литературовед. Гейне имеет в виду его статью о Жан-Поле, напе¬
чатанную в книге «Этюды о старой и современной Германии».
О Жан-Поле см. примечание к стр. 110 («К истории религии и фило¬
софии в Германии»).
«Молодая Германия». —См. примечание к стр. 15 («К истории
религии и философии в Германии»).
Генрих Лаубе (1806—1884) — романист, драматург и критик,
один из руководителей «Молодой Германии». Был дружен с Гейне.
454
Стр. 245. Карл Гуцков (1811—1878) — один пз впдисйшнх
писателей «Молодой Германии»; романист, драматург и публицист.
Его роман «Валлн сомневающаяся» послужил поводом для запреще¬
ния произведений писателей «Молодой Германии». Наиболее извест¬
на его драма «Уриэль Акоста» (1847). После появления гейневской
книги о Берне был с Гейне во враждебных отношениях.
Винбарг Лудольф (1802—1872) — автор книги «Эстетические
походы» (1834), являвшейся литературным манифестом «Молодой
Германии».
Густав Шлезиер — ныне совершенно забытый публицист, при¬
мыкавший к «Молодой Германии».
Стр. 247. ...Жан-Поль... сходен с великим ирландцем... — Гей¬
не имеет в виду Лоренса Стерна (1713—1768), писателя-юмориста,
одного из мастеров английского романа, автора «Тристрама Шепди»
и «Сентиментального путешествия», оказавшего влияние на Жан-
Поля и на самого Гейне.
Стр. 249. Де ла Мотт-Фуке Фридрих (1777—1843) — немецкий
романтический писатель и поэт, автор многочисленных рыцарских
романов и драм, идеализировавших средневековье; читал лекции
по истории немецкой литературы в университете в Галле; был
в дружеских отношениях с Гейне. Лучшее произведение Фуке —
«Ундина» (1811).
Стр. 250. Гитциг Юлиус-Эдуард (1780—1849) — юрист-кримтт-
налист и литературовед; написал биографии Гофмана, Вернера,
Шамиссо.
...перипатетические философки... — Перипатетиками называли
учеников Аристотеля из-за того, что их занятия с философом про-
исходили во время прогулок вдоль колоннады (перипатос), окру¬
жавшей сад школы. Гейне называет перипатетическими философ-
ками девиц легкого поведения, прогуливавшихся по галерее Пале-
Рояля.
Стр. 251. ...в Вене он вступил в орден лигорианцев.., — Вернер
перешел в католичество, стал в 1814 году священником, в 1822 году
хотел вступить в орден лигорианцев, близкий к иезуитскому орде¬
ну, но до окончания времени искуса отказался от своего намерения.
Стр. 252. Не знаю, переведена ли эта повесть на французский
язык. — «Ундина» была переведена на французский язык Фурьте
лишь в 1855 году. (На русском языке стихотворное переложение
«Ундины» Жуковского было опубликовано в 1837 г.)
Стр. 254. Ричардсон Сэмюэл (1689—1761) — английский
романист, автор сентиментальных, нравоописательных романов
«Кларисса Гарлоу» и «Памела».
455
Голдсмит Оливер (1728—1774) — автор идиллического сель¬
ского романа «Векфнлдский священник», оказавшего влияние па
Гете, Фосса и Жан-Поля Рихтера.
Филдинг Генри (1707—1754) — английский писатель-реалист,
автор романов «Джозеф Эндрус», «Том Джонс Найденыш» и др.
Стр. 255. Раупах Эрнст (1784—1852) — плодовитый и бездар¬
ный драматург, автор многочисленных исторических драм, пользо¬
вавшихся успехом у берлинской публики. С 1804 по 1822 год Рау-
пах жил в России.
Бирх-Пфейфер Шарлотта (1800—1868) — немецкая актриса
и автор сентиментальных драм.
Стр. 258. Даже Зигфрида, убийцу дракона, ему удалось под¬
ложить под свое седло. — В 1835 году Раупах написал пьесу «Сокро¬
вище Нибелунгов».
Он осмелился даже поднять руку на Гогенгитауфенос... —
Раупах написал множество (восемь томов) трагедий, посвященных
Гогенштауфенам.
Фридрих Раумер (1781—1873) — историк; написал историю
Гогенштауфенов и их времени.
Граббе Христиан-Дитрих (1801—1836) — талантливый дра¬
матург, стремившийся возобновить традиции Шекспира и «бури
и натиска» в немецкой драме. Гейне очень высоко ценил творчество
Граббе.
Ихтриц Фридрих (1800—1875) — драматург; наиболее изве¬
стна его трагедия «Александр и Дарий».
Стр. 263. Макс фон Шенкендорф (1783—1817) — поэт, автор
патриотических стихотворений.
Эрнст-Мориц Арндт (1769—1860) — прозаик, поэт, публи¬
цист. Его стихотворения и статьи содействовали патриотическому
подъему во время войн против Наполеона.
Стр. 265. Эйхендорф Иозеф (1788—1857) — писатель-романтик,
принадлежавший к гейдельбергскому кружку. Его лирические
стихотворения выдержаны в традиции немецкой народной песни.
Юстинус Кернер (1786—1862) — поэт и прозаик, представитель
так называемой швабской школы немецкого романтизма (см. ниже),
натурфилософ мистического направления.
Густав Шваб (1792—1850) — автор баллад и романсов; изве¬
стен также своими пересказами немецких народных книг и мифов
классической древности. Кернер и Шваб — наиболее типичные
представители швабской школы романтизма, в которую входили
также Уланд, Пфицср, Мерпке. Поэты швабской школы высту¬
пали против технической цивилизации, против современной
450
городской жизпп, воспевали идиллически-патриархальную жизнь
немецкой провинции и пр. Гейне неоднократно резко осмеивал
швабскую школу.
Вильгельм Мюллер (1794—1827) — автор стихотворений, близ¬
ких к народной песне; создал лирические циклы «Прекрасная мель¬
ничиха» и «Зимний путь», положенные на музыку Шубертом. Гейнс
всегда очень высоко ценил поэзию Мюллера.
Ветцель Карл (1779—1819) — поэт и драматург. Его стихи
были напечатаны в 1817 и 1818 годах в альманахе «Урания», изда¬
вавшемся Брокгаузом.
Адальберт фон Шамиссо (1781—1838) — писатель, близкий
к романтизму, автор знаменитой повести «Чудесная история Петера
Шлемиля», лирических стихотворений, поэмы «Бестужев» (о декаб¬
ристе Александре Бестужеве). Перевел «Войнаровского» Рылеева
и «Песни» Беранже. В его произведениях (особенно последнего
периода) проявляются настроения, которые позволяют считать
этого писателя предшественником политических лириков 40-х
годов. Шамиссо был также ученым-естествоиспытателем и путе¬
шественником.
Стр. 266. «Лес поэтов» (1813), «Странствие певцов» (1818),
«Утешительное одиночество» (1808), «Волшебная палочка» (1818) —
альманахи, в которых печатались многие произведения романтиков.
Стр. 267. «Посетив по прошествии многих лет гробницу...» —
См. сказаппе «Оттон III у гроба Карла» в книге братьев Гримм
«Немецкие сказания» (1816—1818).
Император Оттон III (980—1002) в 1000 году приказал от¬
крыть гробницу Карла Великого.
Ваш король Франциск... незадолго до сражения при Павии. —
Французский король Франциск I (1494—1547), воевавший с импе¬
ратором Карлом V за обладание Италией, был разбит наголову
и взят в плен в сражении при Павии (24 февраля 1525 года), после
чего он вынужден был подписать Мадридский мир.
Роланд — герой средневекового французского эпоса «Песнь
о Роланде», сподвпжшш Карла Великого.
Себастьян (1554—1578) — португальский король; погиб во время
похода против мавров.
Стр. 268. У французских писателей были только художествен¬
ные интересы... — Здесь и далее Гейне говорит о различии между
немецкими и французскими романтиками.
Стр. 269. ...уста всесильного вампира, избравшего своим место-
пребыванием Франкфпурт .. — Гейне имеет в виду Союзный сейм,
заседавший во Франкфурте.
451
ПРИПИСКА
Стр. 272. ...покоятся на бархатных скамьях Люксембургского
дворца. — В Люксембургском дворце заседала во время Реставра¬
ции и при Луи-Филиппе палата пэров. Виктор Кузен с 1832 года
был пэром Франции.
Стр. 273. Себастиани Г.-Ф. (1775—1851) — французский дип¬
ломат; с 1830 по 1834 год был министром иностранных дел.
Стр. 275. Валаам (библ.) — волхв и прорицатель.
Мудрец Квазер — согласно северной мифологии, герой, из крови
которого у бившие его карлики приготовили особый мед. Человек,
отведавший этого меда, становился мудрецом или поэтом.
Валланш. — См. примечание к стр. 133 («К истории религии и
философии в Германии»).
...одна из тех интуитивных натур, которым Кант приписы¬
вает способность спонтанного понимания вещей... — См. Кант.
Критика способности суждения, ч. II, § 77.
Стр. 276. ...он, любящий истину еще больше, чем Платона
и Теннемана... — Гейне перефразирует известное изречение:
«Платон мне друг, но истина дороже», восходящее еще к классиче¬
ской древности. Теннеман (1761—1819) — философ-кантианец, автор
одиннадцатитомной «Истории философии», переведенной Виктором
Кузеном.
духи стихий
Первая половина «Духов стихий» (кончающаяся пересказом
демонологических преданий) была впервые напечатана на фран¬
цузском языке во втором томе парижского издания сочинения
Гейне «О Германии» (1835). В 1837 году обе части были опубликованы
на немецком языке в третьем томе «Салона» (вместе с «Флорентий¬
скими ночами»). Вторая часть была написана Гейне специально для
этого издания, в связи с просьбой издателя Кампе увеличить объем
тома, с тем чтобы он был приблизительно равен предыдущим.
В последний раз при жизни поэта «Духи стихий» (полностью)
были изданы в 1855 году во втором французском издании книги
«О Германии». Для него Гейне еще раз пересмотрел текст и сделал
ряд добавлений. Первая часть в этом издаппи была озаглавлена
«Народные предания» («Traditions populaires»), вторая была напе¬
чатана в качестве вступления к «Богам в изгнании» под этим общим
заголовком. Гейне предпослал ей небольшую вводную заметку сле¬
дующего содержания: «Все мы покидаем этот мир, люди и боги,
458
верования и предания... И, быть может, доброе дело — сохранить
последние от полного забвения, бальзамируя их не по отвратитель¬
ному способу Гана ля, но с помощью тайных снадобий, которые
можно отыскать только в аптечке поэта. Да, верования, а вместе
с ними и предания покидают нас. Они исчезают не только в наших
цивилизованных странах, но даже в тех самых северных областях
земли, где некогда пышно цвели самые яркие суеверия. Миссионе¬
ры, которые объезжают эти холодные места, жалуются на неверие
их обитателей. В сообщении о своем путешествии на север Гренлан¬
дии один датский проповедник рассказывает о том, как он расспра¬
шивал одного старика о нынешних верованиях гренландского
народа. «Прежде, — ответил тот, — верили хоть в луну, а теперь
ни во что ие верят». (Заметка эта датирована: «Париж, 19 марта
1853 г.»).
«Духи стихий» развивают намеченную Гейне уже в первой
части очерка «К истории религии и философии в Германии» тему,
которую сам поэт охарактеризовал как тему «древнегерманского
пантеизма». В средневековых народных преданиях и верованиях
немецкого народа Гейне стремится выделить мотивы, отражающие
поэтическое отношение народа к природе, радостное приятие зем¬
ного, посюстороннего мира, наивное обожествление природы и ее
сил.
Гейне широко воспользовался в «Духах стихий» фольклорным
материалом, собранным в «Немецких сказаниях» братьев Гримм
и других сборниках, изданных поэтами и учеными, находившимися
под влиянием романтической школы. Однако материал, собранный
романтиками, Гейне полемически переосмысливает и заостряет
против идей романтической школы. Он доказывает, что христиан-
ско-католический спиритуализм чужд средневековому народному
мировоззрению: под слоем официальных христианских представле¬
ний, навязанных церковью, в народных преданиях средних веков
всегда существовал другой, более глубокий пласт мифов и ска¬
заний, уходящих своими корнями в отдаленное языческое прошлое
и имеющих радостно-земной, пантеистичсски-чувственный харак¬
тер. Это чувственно-пантеистическое народное мировоззрение,
отразившееся в преданиях о духах стихий, Гейне противопостав¬
ляет воинствующему католицизму и идеализму романтической
реакции.
В статье «О доносчике», задуманной Гейне как предисловие
к третьему тому «Салона» (1837), но изъятой из этого тома цензурой,
которая в то время яростно преследовала его и «Молодую Германию»,
поэт попытался сознательно затушевать политическую тенденцию
459
«Духов стихий». Он старался представить это сочинение как ряд
«безобидных сказок», своего рода новелл «Декамерона», которые
должны помочь читателю забыть об окружающей его «зачумленной»
действительности. Во французском тексте, где он мог быть более
откровенен, Гейне, напротив, подчеркнул основную идею сочинения,
направленного, по его выражению, нротпв того «сухого и лишенного
питательных соков хлеба, которым кормит нас христианский спири¬
туализм».
Непосредственным тематическим продолжением «Духов стихий»
явился позднейший очерк «Боги в изгнании» (1853), рассказывающий
о судьбе античных мифов и преданий в средние века (в связи с той
же проблемой борьбы церковного спиритуализма и народио-ианте-
истического, языческого мировоззрения).
Очерк «Духи стихии» оказал влияние па Рихарда Вагнера:
данное здесь Гейне изложение легенд о Лоэнгрине и Тангейзере могло
побудить Вагнера взяться за музыкально-драматическую обработ¬
ку этих сюжетов.
Стр. 281. В Вестфалии, бывшей Саксонии... — Вестфалия была
одной из частей старого саксонского герцогства. Саксы позже,
чем другие германские племена, были обращены в христианство
(в VIII в ). Считалось, что старинные предания и остатки язычестна
сохранились лучше всего у них.
...когда я много лет тому назад, скитаясь по этим лесам... —
Осенью 1820 года Гейнс пешком путешествовал по Вестфа¬
лии.
Видекинд (Видукинд) — вождь саксов; в 785 году после долго¬
летней войны с франкским императором Карлом Великим был по¬
бежден им и обращен в христианство.
«Когда он, обращенный в бегство...» — Рассказ заимствован
из «Немецких сказаний» братьев Гримм.
Стр. 282. Один Якоб Гримм сделал для языкознания больше, чем
вся ваша Французская академия со времен Ришелье. — О Якобе
Гримме см. примечание к стр. 192 («Романтическаяшкола»). Француз¬
ская академия была основана могущественным министром Людови¬
ка XIII кардиналом Ришелье в 1634 году. Составление словаря
французского языка, порученное Академии, затянулось на многие
десятилетия. Первое издание вышло в 1694 году.
Парацельс. —См. примечание к стр. 75 («К истории религии и
философии в Германии»).
Стр. 283. О кобольдах была речь выше — т. е. в очерке «К истории
религии и философии в Германии».
Никита Акоминат, византийский историк (XII—XIII вв.),
460
описывая взятие Константинополя крестоносцами (в 1204 г.),
рассказывает между прочим о велпкане-крестоносце 54 футов
роста.
Стр. 284. Лок-Мариа-Кер — местечко в Бретани. В Лок-Мариа-
Кср и в его окрестностях сохранилось несколько памятников кельт¬
ской старины.
Бисс Иоганн-Рудольф (1781—1830) — автор книги «Идиллии,
народные сказания, легенды и рассказы Швейцарии» (1815). Первая
легенда, приводимая Гейне, представляет собою примечание к сти¬
хотворению «Любопытство и наказание», вторая — пересказ этого
стихотворения. Гейне цитирует обе легенды по «Немецким сказаниям»
Гриммов.
Стр. 286. Другое предание... — Это предание имеется в «Народ¬
ных сказаниях» Отмара (1800) и в «Немецких сказаниях» Грим¬
мов.
...Исаак Абарбанелъ перед Фердинандом Арагонским. — Исаак
Абарбанель (1437—1508), еврейский философ и богослов, советник
но налоговым и финансовым делам при испанском дворе, безуспешно
просил короля Фердинанда Арагонского отменить декрет об изгна¬
нии евреев из Испании.
Стр. 287. «Оберонь — сказочная поэма Внланда (1781).
Ле (lais) — бретонские и старофрапцузские эпические песни
небольшого размера с сюжетом из народных сказок, преданий
и сказаний из цикла о короле Артуре.
Граф Ланвалъ; рыцарь Грюэлан (Граэлан); датчанин Ожье —
герои сказаний, собранных в книге «Фаблио и сказки XII и
XIII века» (Париж, 1782). Они помещены и Добеиеком в его книге
(гм. примечание к стр. 26 очерка «К истории религии и фило¬
софии в Германии»).
«Королева эльфов» — большая аллегорическая поэма англий¬
ского поэта Эдмунда Спенсера (1552—1599).
Стр. 288. «Через лес при лунном свете...» — стихотворение
Гейне из цикла «Новая весна» (см. т. II настоящ. издания,
стр. 20).
Среди датских народных песен... — См. Вильгельм Г р и м м.
Древнедатскпе героические песни, баллады и сказки (1811).
...песня повествует о сновидении некоего юнца... — Ср. стихо¬
творение Гейне «Русалки» (т. II настоящ. издания, стр. 83).
Стр. 289. Песня о рыцаре Олуфе содержится в книге Вильгельма
Гримма (см. выше). Ее перевел и Гердер (под названием «Дочь лес¬
ного царя») для своих «Народных песен»; перевод Гердсра явился
источником для баллады Гете «Лесной царь».
461
Это сказание... под названием виллис. — Источником для рас¬
сказа Гейпе о виллисах могло послужить напечатанное в «Кар¬
манном альманахе для отечественной истории» стихотворение Тере¬
зы фон Артиер «Пляска виллис. Народное славянское поверье».
Гейневский рассказ лег в основу сюжета сценария Готье к балету
«Жизель».
Стр. 290. Элиан (II—III в.) — греческий писатель, автор «Раз¬
ных историй» и «Историй о животных».
Филострат Младший, или Афинский (III в.) создал жизнеопи¬
сание Аполлония Тиапского, философа-пифагорейца (I в.).
Ламия — согласно греческой мифологии, прекрасная жешцпна-
призрак, которая пьет человеческую кровь.
Стр. 291. Об этом происшествии еще много рассказывают и поют
в немецких землях. — Приводимая Гейне легенда рассказана в «Рыца¬
ре фон Штауфенбурге», старогермаиском стихотворении, опубли¬
кованном Христианом Энгельгардтом (1823), а также в гриммовской
«Мифологии».
Он утащит ее вниз, в свое водяное царство. — Рассказ о пляске
с водяным заимствован из «Немецких сказаний» Гриммов.
Ср. стихотворение Гейне «Встреча» (т. II настоящ. издания,
стр. 91).
У Марск-Стига, цареубийцы... — Рассказ о Марск-Стиге
Гейне заимствует из «Древнедатских героических песен, баллад
и сказок» Вильгельма Гримма; во французском издании Гейне дал
точный перевод песни (см. стр. 336—338 настоящ. тома).
Стр. 292. ...в простом рассказе братьев Гримм... — См. «Немец¬
кие сказания» Гриммов («Три девушки с озера»).
Стр. 293. Если Венеции... под двуглавым орлом. — Двуглавый
орел — эмблема Австрии, под властью которой Венеция находилась
с 1814 года.
...никсами, или, как я уже говорил, ниссами. — См. «К истории
религии и философии в Германии», стр. 34.
Мелузина — во французских легендах сказочное существо,
полу женщина-полу рыба.
Супруг принцессы Клевской называл себя Элиас. —См. «Лебеди¬
ный корабль на Рейне» в «Немецких сказаниях» Гриммов. Во фран¬
цузском издании Гейне дал полный перевод сказания.
Стр. 294. Некромант — волшебник, вызывающий тени умер¬
ших.
Иоганн Преториус. — См. примечание к стр. 30 («К истории
религии и философии в Германии»),
Стр. 295. «Gazette de Franceз> — католическая газета 40-х годов*
462
Стр. 296. ...Музеус рассказывает... — Имеется в виду сказка
«Похищенное покрывало» в «Народных сказках немцев» И.-К.-А.
Музеуса (1735—1787).
Стр. 297—301. Вставленная в текст поэма — сильно перера¬
ботанный Гейне вариант поэмы «Верная невеста» из «Древпедат-
ских героических песен» Вильгельма Гримма.
Стр. 302. Ведьмы, выведенные Шекспиром в «Макбете»... —
Источником для Шекспира послужила книга Голиншеда «Хроника
Англии, Шотландии и Ирландии» (1577). Голпншед говорит о «трех
женщинах странного и дикого вида, похожих на создания другого,
более раннего мнра».
...норны, эти парки севера. — Норны — богини судьбы у древ-
нпх германцев, парки — богини судьбы у римлян.
...три волшебные пряхи, известные нам из старых детских
сказок... — См., например, сказку братьев Гримм «Три пряхи».
...в «Рейнских сказаниях» Шрейбера. — Имеются в виду «Ска¬
зания Рейна и Шварцвальда» Алоиса Шрейбера.
Стр. 306. Карлу Великому пришлось в своих «Капитуляриях»
твердо запретить приношение жертв... — Гейне следует здесь
изложению Добенека, который цитирует книгу Диппольда «Жизнь
императора Карла Великого».
Стр. 307. Выл, например, один дворянин в Саксонии... — Этот
рассказ заимствован Гейне из книги Иоганна-Георга Годельмана
«Трактат о магах, колдунах и ламиях» (1676).
Стр. 308. Георгиу с Годельманус — то есть И.-Г. Годельман
(см. предыдущее примечание).
Стр. 309. ,..папа Сильвестр, знаменитый Герберт. — Герберт
из Орильяка, занимавший с 999 по 1003 год папский престол под
именем Сильвестра II, обладал большими познаниями в философии,
математике и физике и слыл чернокнижником. Рассказ о нем заим¬
ствован из кннги Г.-Ц. Горста «Демономагия, или История веры
в колдовство» (1818).
Стр. 311. В одной драме этого гениального писателя... — Имеет¬
ся в виду трехактная комедия Граббе (см. примечание к стр. 258 «Ро¬
мантической школы») «Шутка, сатпра, ирония и нечто более значи¬
тельное» (1822).
Но обыкновенно она в преисподней хлопочет... — См., например,
сказку братьев Гримм «Дьявол с тремя золотыми волосками».
Стр. 313. «Государь» («Landesvater») — название студенческой
песни.
Ванденгук и Рупрехт — владельцы книжного магазина в Гет¬
тингене.
№
Стр. 314. Эдуард Гиббон (1737—1794) — английский историк.
В его основном труде «История возвышения и упадка Римской импе¬
рии» (1782—1788) содержится критика христианства.
Либаний (314—393) — греческий софист.
Стр. 315. Это произогило в Геттингене... поколотили педеля
Дориса... — См. «Путешествие по Гарцу» (т. IV настоящ. издания,
стр. 10).
Бофден, Ритшенкруг и Разенмюле (правильно: Бофсиден, Ри-
шенкруг и Раземюле) — окрестности Геттингена, где часто про¬
исходили студенческие дуэли.
Стр. 317. ...неоплатоническими ухищрениями... — Фнлософы-
иеоплатоники (III в.), боровшиеся против христианства, пытались
переосмыслить и наполнить новым содержанием мифологию и эллин¬
ское мировоззрение.
Стр. 319. Эндимион — персонаж греческой мифологии, пре¬
красный юноша, возлюбленный Селены, богини луны, которого
Зевс погрузил в сои, даровав ему при этом вечную жизнь и веч¬
ную молодость. Посещение спящего Эндимиона Селеной послу¬
жило сюжетом для многих произведений изобразительного ис¬
кусства.
...Калипсо и Улисса. — Гомер в «Одиссее» повествует о любви
нимфы Калипсо к Одиссею (Улиссу,) попавшему к ней на остров
Огигшо после кораблекрушения.
Стр. 320—321. Такой же характер имеет легенда... умер на
третий день после этого. — Сказание о статуе, не пожелавшей
расстаться со случайно надетым на ее палец кольцом и явившейся
к владельцу кольца в его брачную ночь, было широко распро¬
странено в древности и в средние века. Немецкий писатель Вили-
бальд Алексис использовал этот сюжет в новелле «Венера в Риме»
(1831).
Стр. 321. «Mons Veneris» Корнмана вышла в свет в 1614 году.
...в преглупой книге о колдовстве Дель Рио... — Имеется в виду
вышедшее в 1608 году «Исследование о колдовстве».
...Эйхендорф восхитительно использовал ее в превосходном
рассказе. — Гейне имеет в виду рассказ Эйхендорфа «Мрамор¬
ная статуя» (1819), с которым, однако, сюжетно связана не данная
легенда о статуе, а предыдущая (см. стр. 317—319).
Стр. 322. Верный Эккарт — герой многих немецких сказаний;
роль его заключается в том, что оп предупреждает героев о грозящей
им опасности.
Стр. 326. Письма Элоизы к се возлюбленному и учителю Абе¬
ляру, знаменитому французскому фнлософу-схоласту (1079—1142),
464
были написаны после того, как влюбленных насильственно раз¬
лучили. Эти письма замечательны своей искренностью, трагизмом
и силой чувства.
Бехиипейп Людвиг (1801—1860) — немецкий писатель и фольк¬
лорист, опубликовавший первую версию песни о Тангейзере.
Вольф Оскар-Людвиг-Бернгард (1799—1851) — известный поэт-
импровизатор.
Стр. 326—332. Здесь Гейне впервые публикует свой собствен¬
ный вариант песни о Тангейзере, включенный им впоследствии
(иод названием «Тангейзер») в сборник «Новые стихотворения».
См. также комментарии к «Тангейзеру» во II томе настоящ. из¬
дания (стр. 349—351).
ДОПОЛНЕНИЯ К«ДУХАМ СТИХИЙ»
Стр. 341—342. Вечный жид — персонаж старинной легенды,
иерусалимский сапожник Агасфер, якобы оскорбивший и ударивший
Христа и осужденный за это на вечное скитание. Легенда об Агас¬
фере нашла свое отражение в произведениях многих писателей
(Гете, Шелли, Жуковского, Беранже, Сю, Ленау, Гамерлинга н др.).
Об одном из таких произведений — мистерии «.Агасфер» историка,
философа и поэта Эдгара Кине (1803—1875), опубликованной в
1833 году, и говорит здесь Гейнс.
Стр. 342. Юстину с Кернер.—См. примечание к стр. 265 («Ро¬
мантическая школа»).
Стр. 343. ...о Кифгейзере, где пребывает император Фридрих. —
Рассказанная здесь легенда об императоре Фридрихе I (Барбароссе),
вероятно, была известна Гейне из «Немецких сказаний» братьев
Гримм. Впоследствии в поэме «Германия» (гл. 14—17) Гейне широко
использовал эту легенду, придав ей еще большую политическую
остроту. См. также комментарии к поэме «Германия» (т. II настоящ.
издания).
Стр. 345. Я знаю одного из этих стрелков... — Гейне имеет
в виду самого себя.
ФЛОРЕИТИИСКИЕ НОЧИ
Новелла «Флореитинские ночи» опубликована впервые в штут¬
гартском журнале «Morgenblatt fur gebildete Stände», 1836, JV?№ 83—
125 (6 апреля — 25 мая). Почти одновременно она появилась
па французском языке в парижском журнале «Revue des deux
т
mondes», 1836, т. VI (выпуски от 15 апреля и 1 мая). С незначитель¬
ными исправлениями «Флорентинские ночи» были включены Гейне
в третий том «Салопа» (1837).
Новелла была написана в момент жестоких цензурных гонений
па Гейне и писателей «Молодой Германии». В письме к А. Левальду
от 3 мая 1836 года поэт писал о ней: «Вторая флорентинская ночь
покажет вам, быть может, что в случае необходимости, если политика
и религия будут мне воспрещены, я смог бы прожить и писанием
новелл. По совести говоря, это не доставило бы мне много радости —
я не нахожу в подобном занятии особого удовольствия. Но в сквер¬
ные времена надо уметь делать все».
Мысль о том, что в третьем томе «Салона» (кроме «Флорентннских
ночей» в этот том вошли «Духи стихий») он по цензурным соображе¬
ниям избегал всяких политических намеков, поэт выражал и в дру¬
гих письмах этого времени. По просьбе своего издателя Кампе Гейне
одно время хотел выпустить эту часть «Салона» под измененным
названием («Сказка» или «Тихая книга»).
Гейне возвращается в «Флорентннских ночах» к темам и образам
«Путевых картин», сочетая здесь в своеобразной форме романтиче¬
ские мотивы с изображением многих сторон и явлений современной
общественной жизни. Смело расширяя рамки романтической новел¬
лы, Гейне свободно переплетает в ней лирические и биографические
элементы с ироническими зарисовками жизни Италии, Лондона,
Парижа, Гамбурга, портретами современных композиторов и музы¬
кантов. Особого упоминания заслуживают портрет Николо Паганини
и описание его виртуозной игры, принадлежащие к лучшим достиже¬
ниям мировой литературы.
НОЧЬ ПЕРВАЯ
Стр. 356. Тортони — знаменитое во времена Гейне кафе на
Итальянском бульваре в Париже.
Стр. 359. В Павии он должен был дорогой ценой искупить это
любопытство! — См. примечание к стр. 267 («Романтическая
школа»).
Стр. 360. Беллини Винченцо (1801—1835) — итальянский
композитор, автор опер «Сомнамбула», «Норма», «Пуритапе» и др.
Его преждевременная смерть вызвала многочисленные литературные
отклики.
Россини Джоакино (1792—1868)—крупнейший итальянский
466
композитор, автор опер «Севильский цирюлышк», «Вильгельм
Телль» и др. После создания «Вильгельма Телля» до самой смерти
(в течение 38 лет) Россини почти ничего не писал.
Стр. 363. ...описанный Гете в «Путешествии по Италию)... —
См. указанное произведение Гете — запись, датированную апрелем
1787 года (Палермо).
Стр. 364. ...в доме одной великосветской дамы... — Имеется в виду
дом Каролины Жобер (см. письмо Гейне к пей от 22 апреля 1835 года).
Стр. 365. Паганини Николо (1784—1840) — прославленный
итальянский скрипач и композитор.
Стр. 366. Лизер Иоганн-Петер — немецкий художник, поэт
и музыкапт, с которым Гейне был знаком в Гамбурге; оставил порт¬
рет Гейне и рисунок к «Флорентинским ночам».
Стр. 367. Рецш Мориц (1774—1857) — немецкий рисовальщик,
живописец и гравер; известен гравюрами к гетевскому «Фаусту»
(26 листов, Штутгарт, 1828).
Гаррис Георг (1780—1838) — немецкий писатель. Из его книги
«Паганини в дорожной карете и дома, в часы досуга, в обществе
и на концертах» (Брауншвейг, 1830) Гейне почерпнул отдельные
черты для характеристики Паганини.
НОНЬ ВТОРАЯ
Стр. 379. Олд Бейли (Old Bailey) — улица лондонского Сити.
Название этой улицы стало народным обозначением находящейся
там тюрьмы, перед которой до 1868 года совершались казни.
Пэдди (Paddy) — кличка ирландцев в Англии.
Стр. 383. Вестрис Август (1759—1842) — итальянский танцов¬
щик; выступал с успехом еще в 1835 году. Артистические семьи
Вестрис и Тальони дали театру много балетных актеров.
Стр. 385. Анна Болейн (1503—1536) — вторая женаГенрихаУШ,
мать королевы Елизаветы; была обвинена в нарушении супру¬
жеской верности, заключена в Тауэр и присуждена судом пэров
к смерти (15 мая 1536 г.).
Стр. 388. «Tour de Nesle» — драма Александра Дюма-отца.
Стр. 392. Виллисы. — См. примечание к стр. 289 («Духи стихий»).
Стр. 395. Казимир Перье (1777—1832) — французский банкир
п политический деятель; в 1831—1832 годах был премьер-министром
и министром внутренних дел в правительстве короля Луи-Филиппа;
подавил лионское восстание рабочих 1831 года.
467
Стр. 399. Тальма. — См. примечание к стр. 195 («Романтическая
школа»).
Гро Жан-Антуаи (1771—1835) — французский художник-бата¬
лист, один из создателей культа Наполеона в живописи.
Мори Жан-Снфрен (1746—1817) — кардинал, французский
политический деятель; при Наполеоне был назначен парижским
архиепископом.
Ровиго — Анп-Жак-Мари-Рене Савари, герцог де Ровиго (1774—
1833) — французский политический деятель, адъютант Наполеона
Бонапарта; директор тайной полиции; после 1830 года — главно¬
командующий французскими войсками в Алжире.
Полина Боргезе (1780—1825) — сестра Наполеона Бонапарта.
СОДЕРЖАНИЕ
К различному пониманию истории. Перевод А. Горнфелъда. . 7
К истории религии и философии в Германии. Перевод А. Горн-
фелъда
Предисловие к первому изданию 13
Предисловие ко второму изданию 14
Книга первая 20
Книга вторая 56
Книга третья 94
Романтическая школа. Перевод А. Горнфелъда
Предисловие 143
Книга первая 144
Книга вторая 188
Книга третья 224
Приписка 272
Духи стихий. Перевод А. Горнфелъда 281
Дополнения к «Духам стихий» (из I и II французских из¬
даний). Перевод А. Горнфелъда 333
Флорентинские ночи. Перевод Е. Рудневой
Ночь первая 349
Ночь вторая 376
К о м м е и т а р и и А. Морозова, Е. Пуриц и Г. Фридлен-
дера 1 409
1 А. Морозовым написаны комментарии к «Флорентинским
ночам», Е. Пуриц — комментарии к остальным произведениям,
помещенным в настоящем томе, Г, Фридлендером —все вводные
статьи к комментариям.
Генрих Гейне
Собрание сочинений, т. 6
Редактор Г. Бергельсон
Художник JI. Хижинский
Художественный редактор
JI. Чалоеа
Технический редактор
JI. Крючкина
Корректор Э. Урицкая
Сдано в набор 14/11 1958 г.
Подписано к печати 15/VII 1958 г.
Бумага 84 X IO8V32— 14,75 печ. л. =
= 24,19 уел. печ. л. 24 уч.-изд. л.
Тираж 80 ООО экз. Заказ № 1400.
Цена 10 р. 50 к.
Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28
Ленинградский Совет
народного хозяйства
Управление полиграфической
промышленности
Типография № 1 «Печатный
Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26