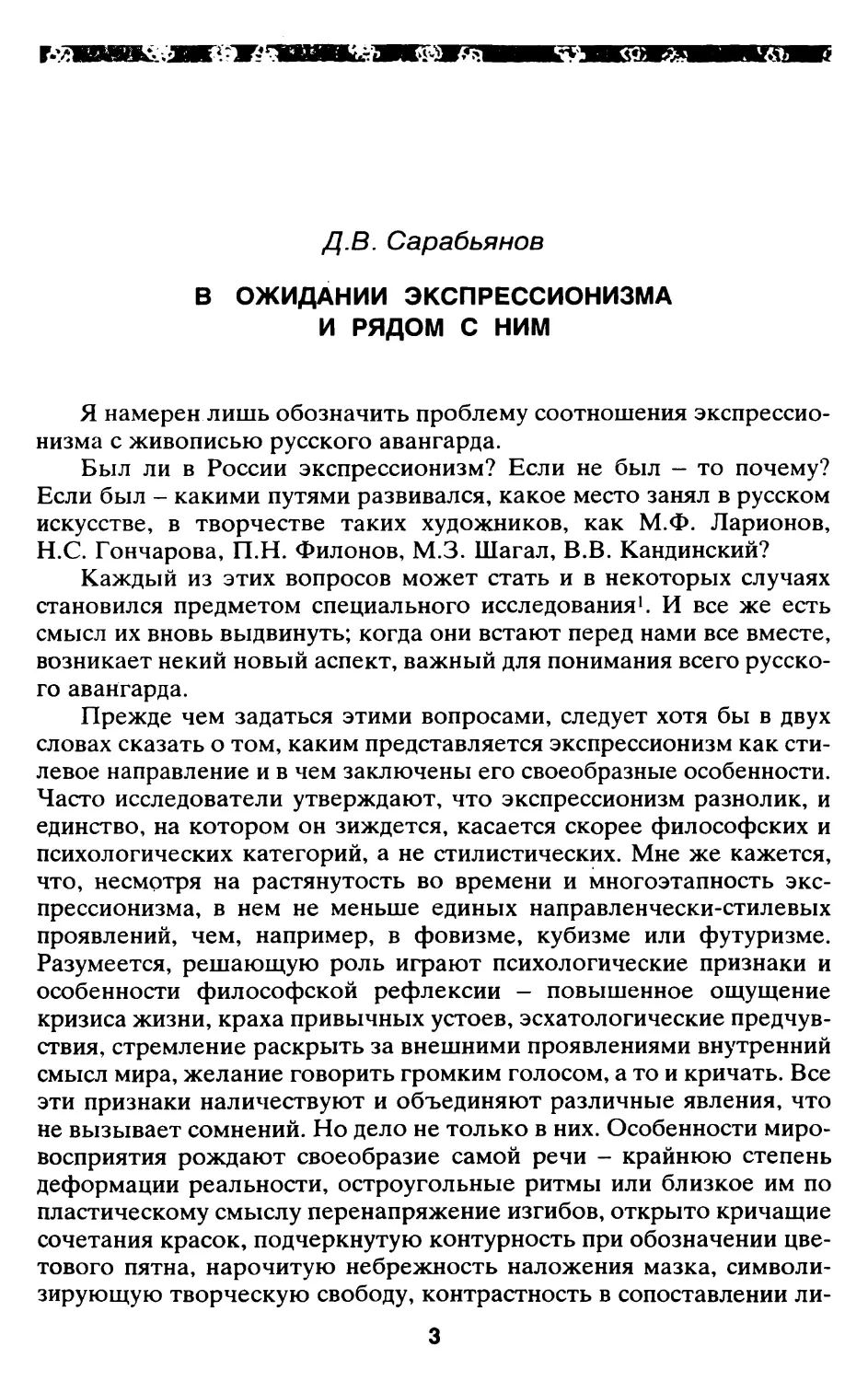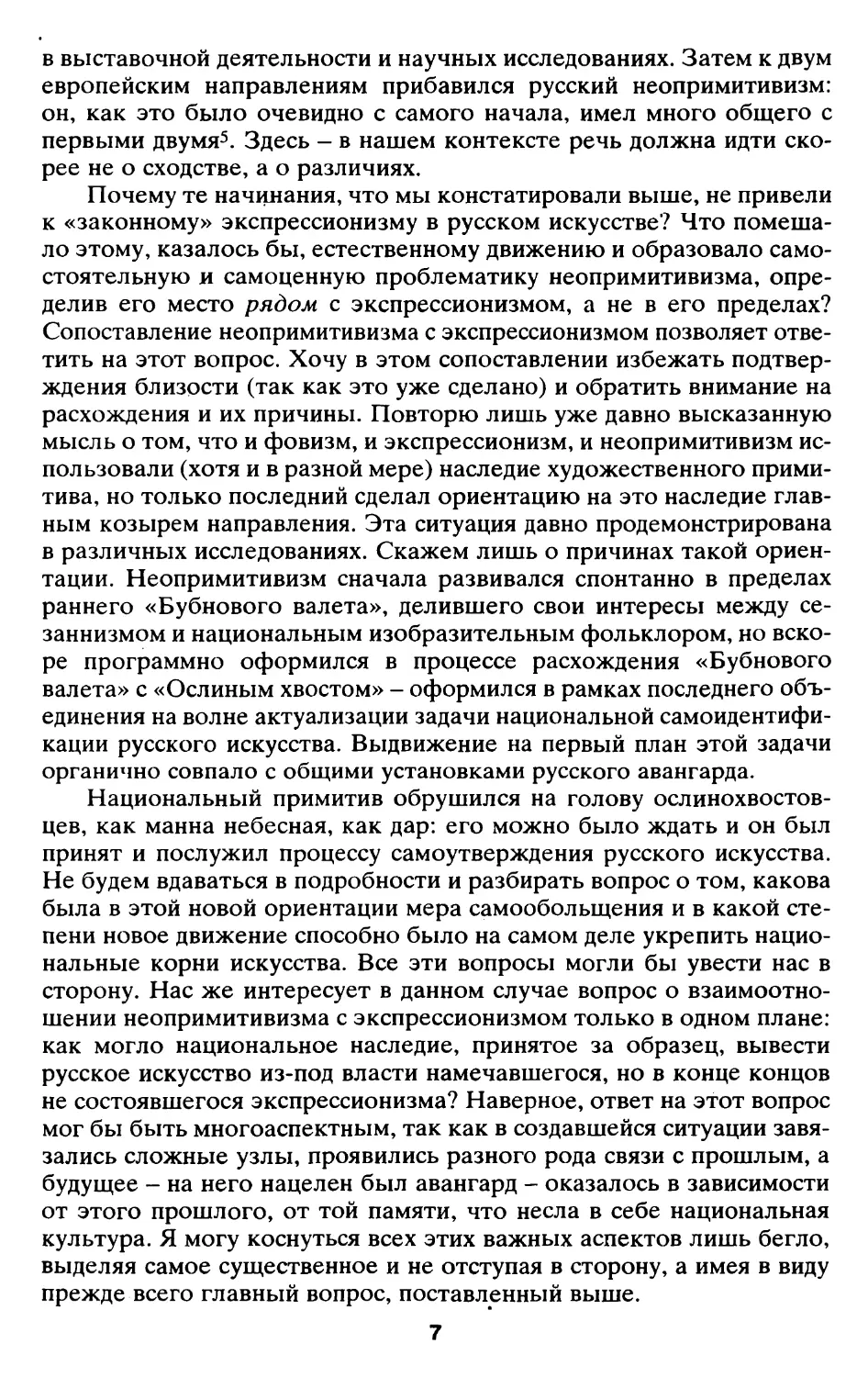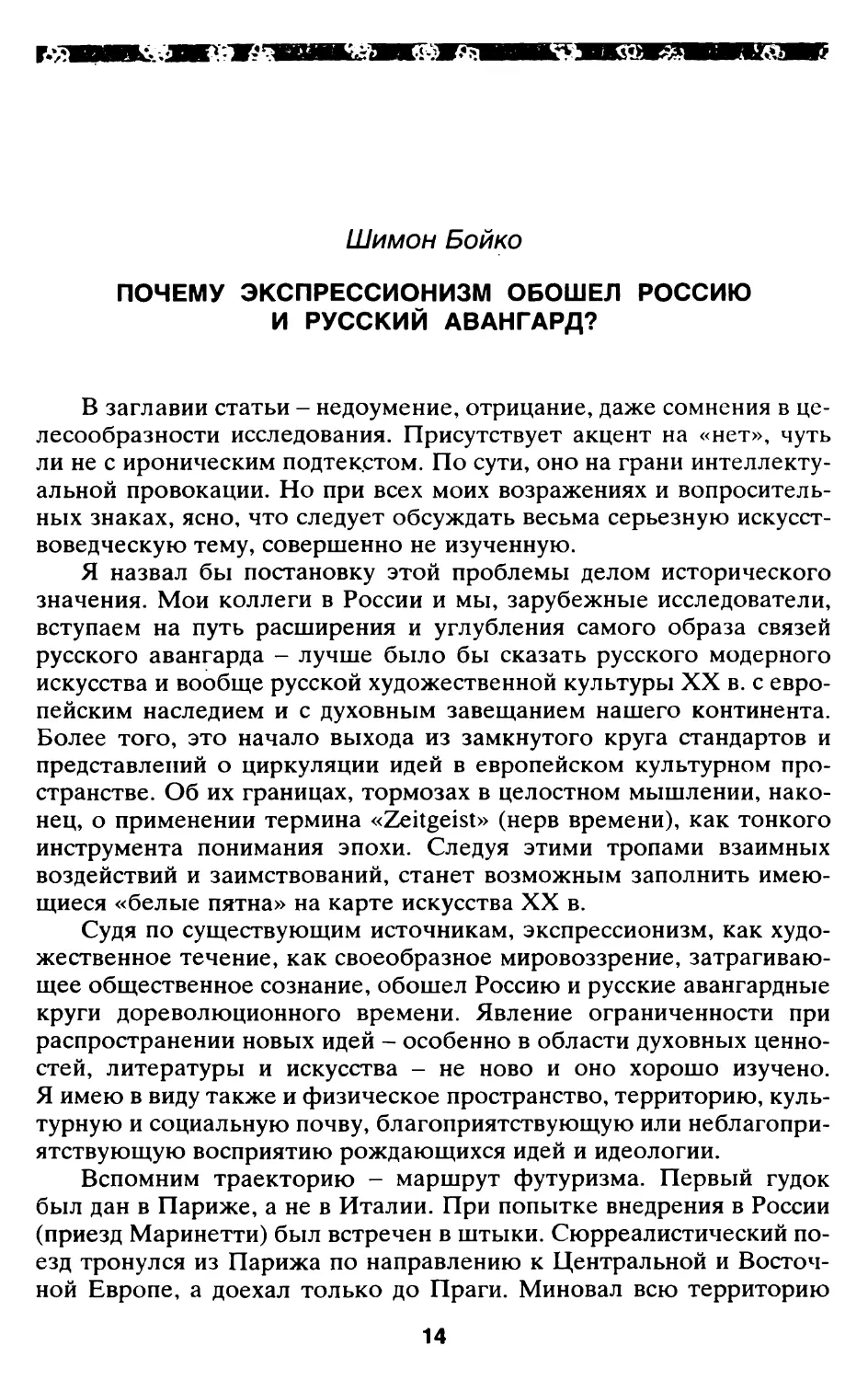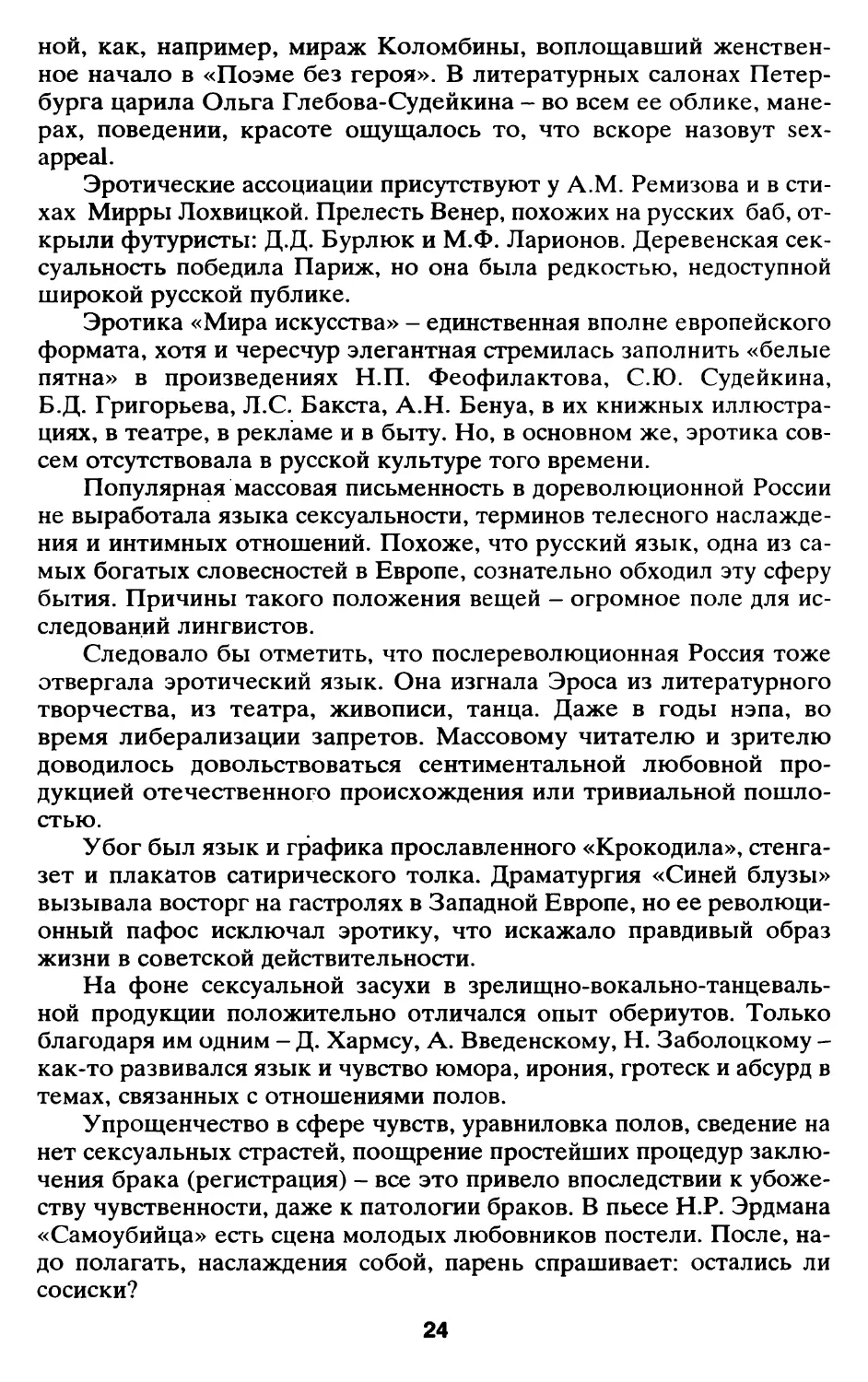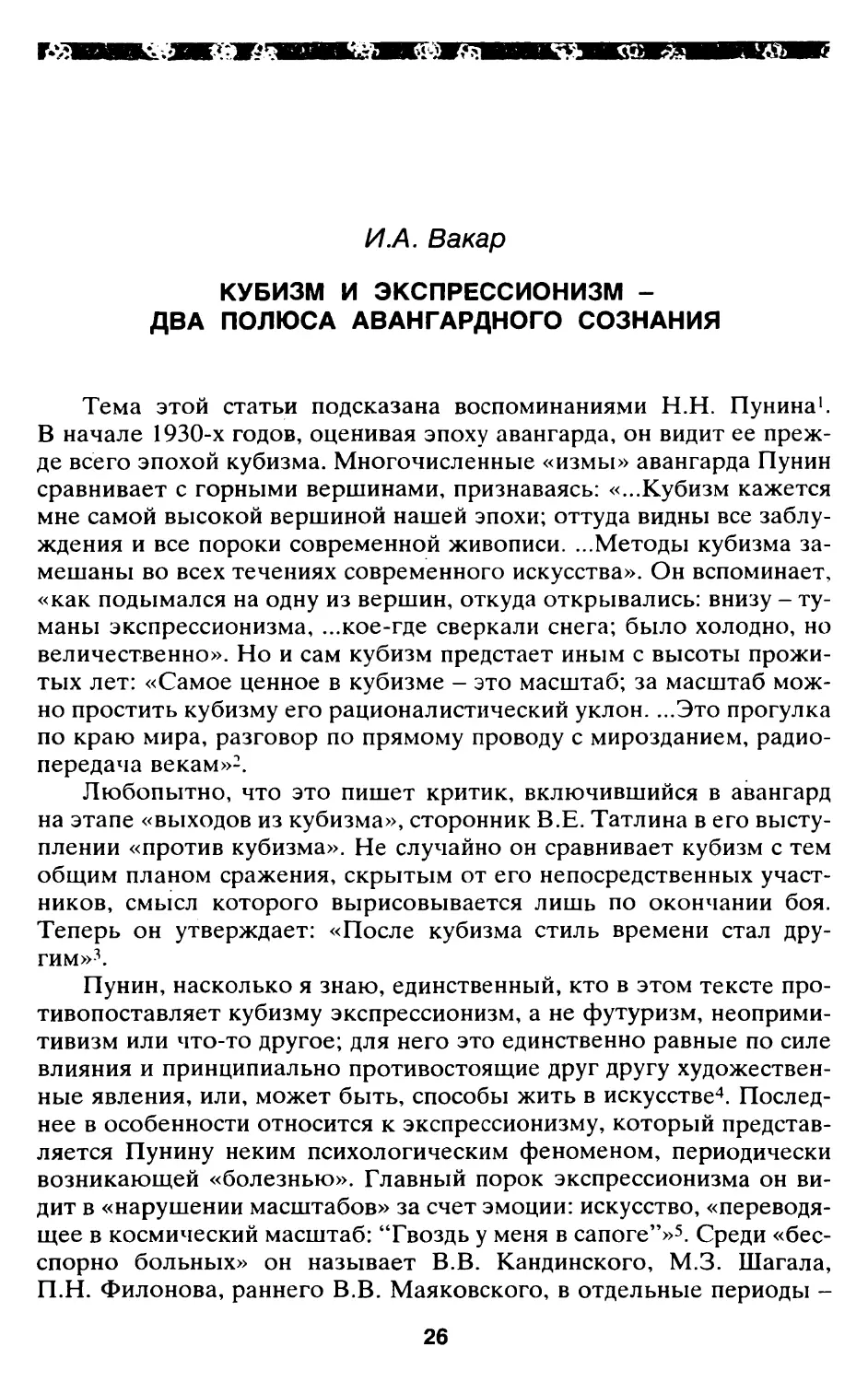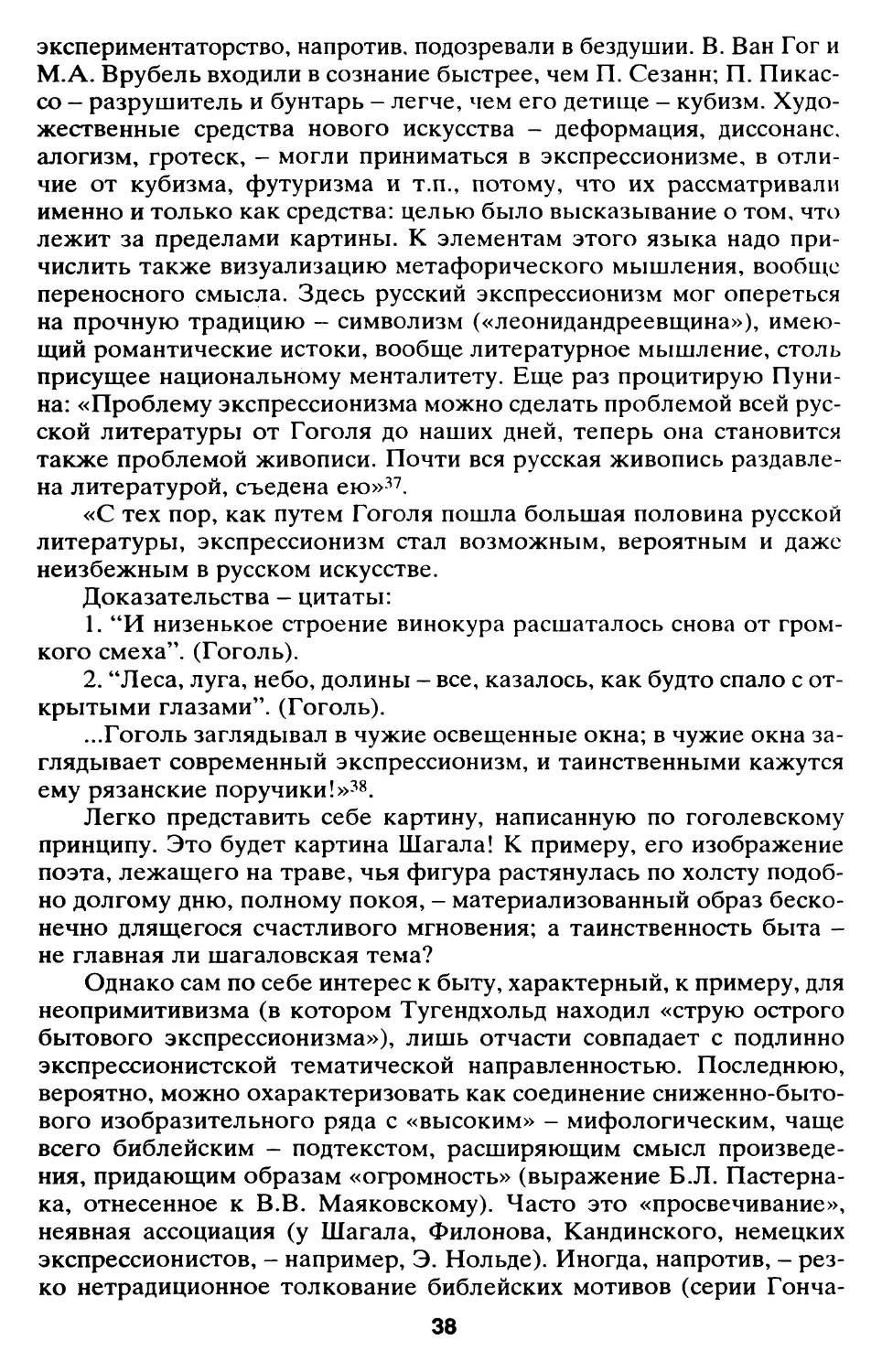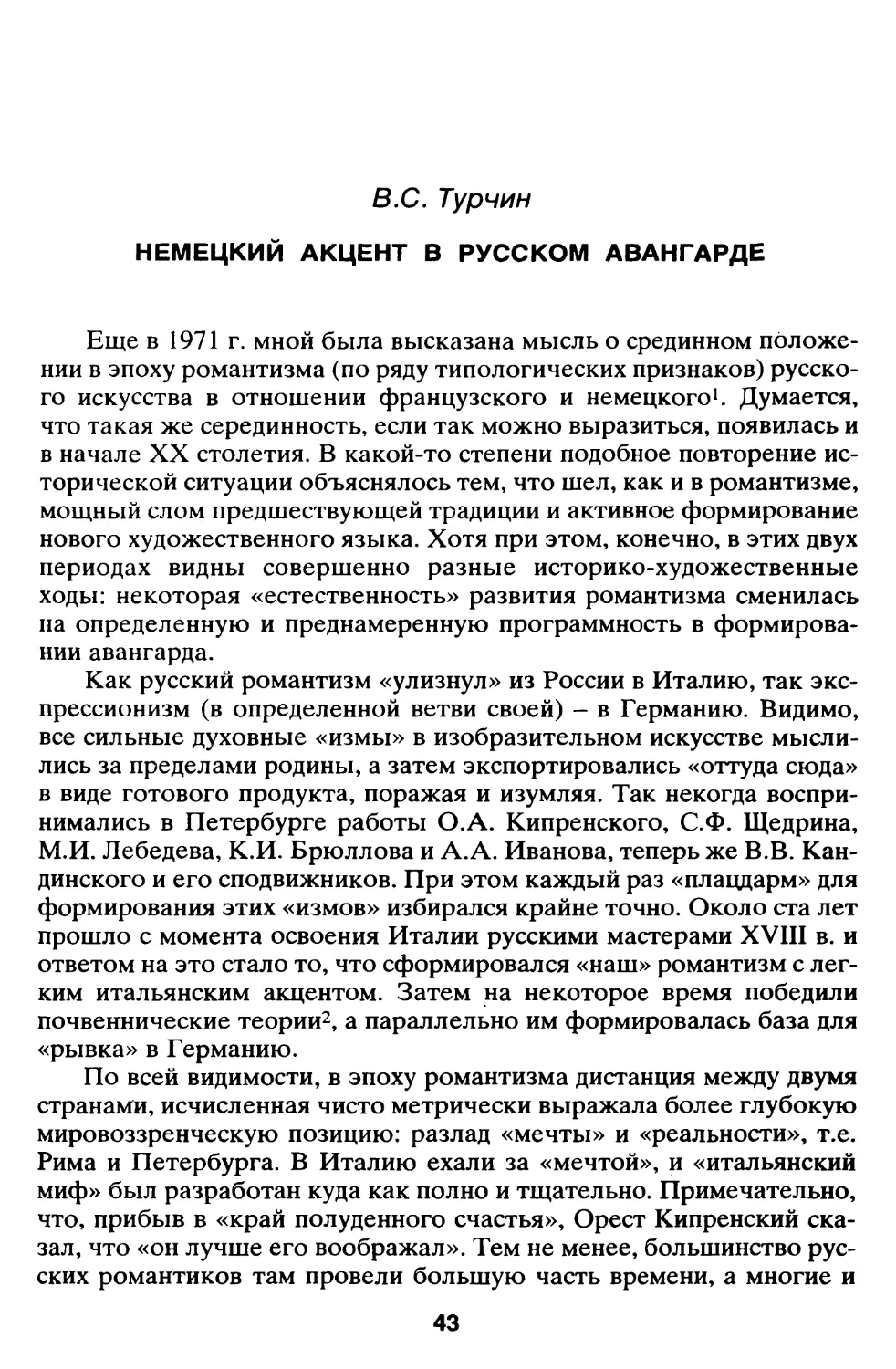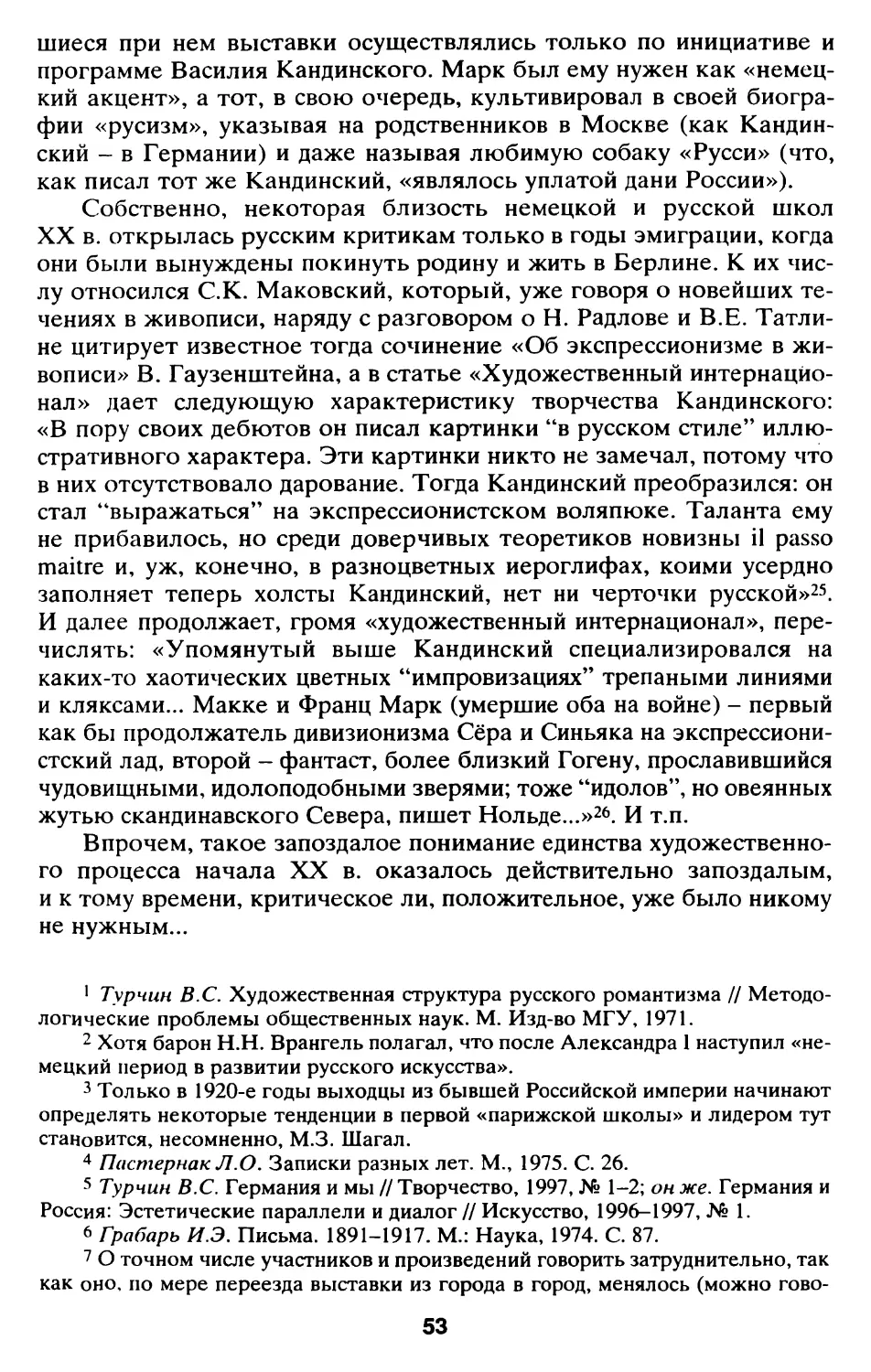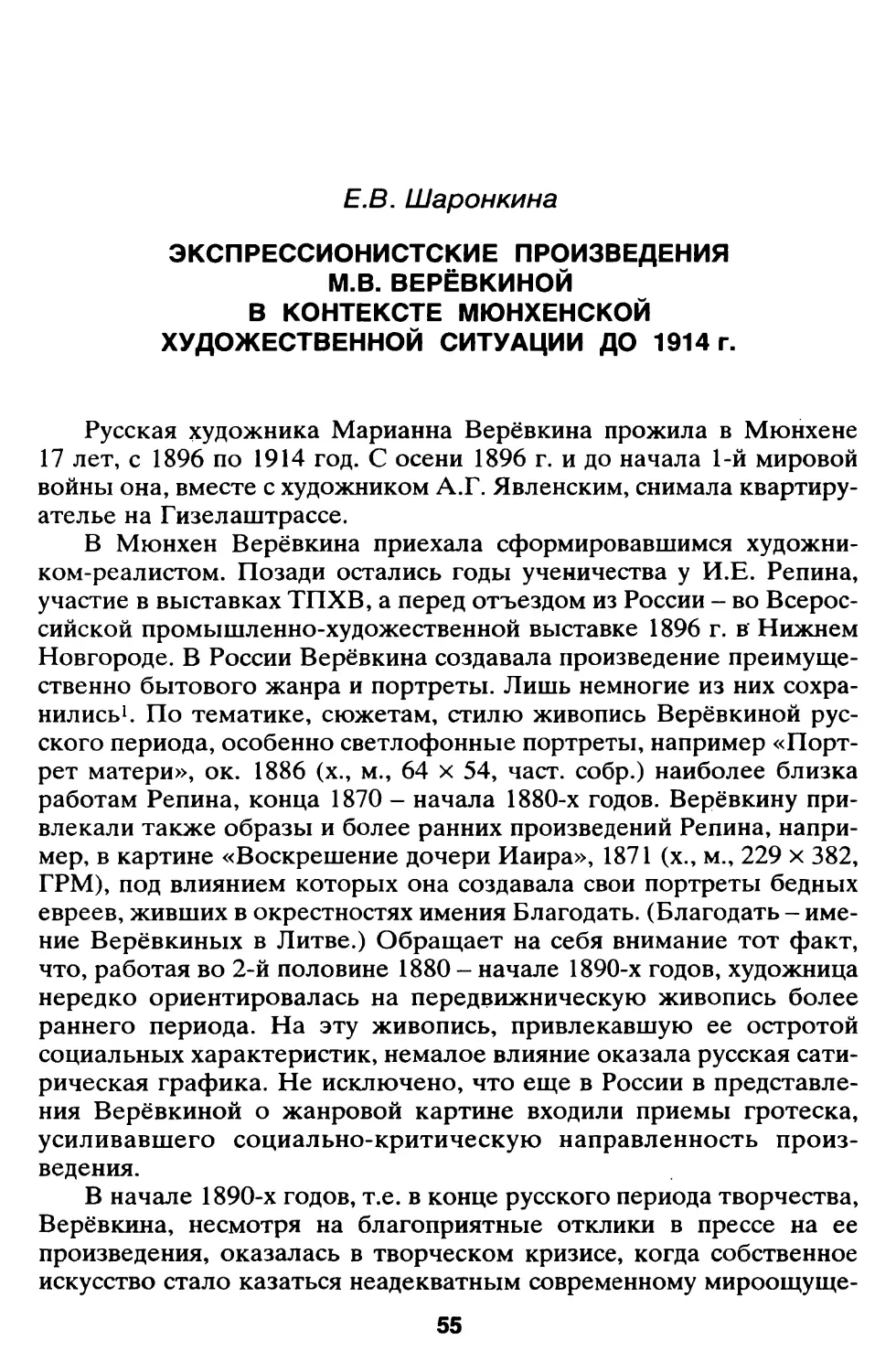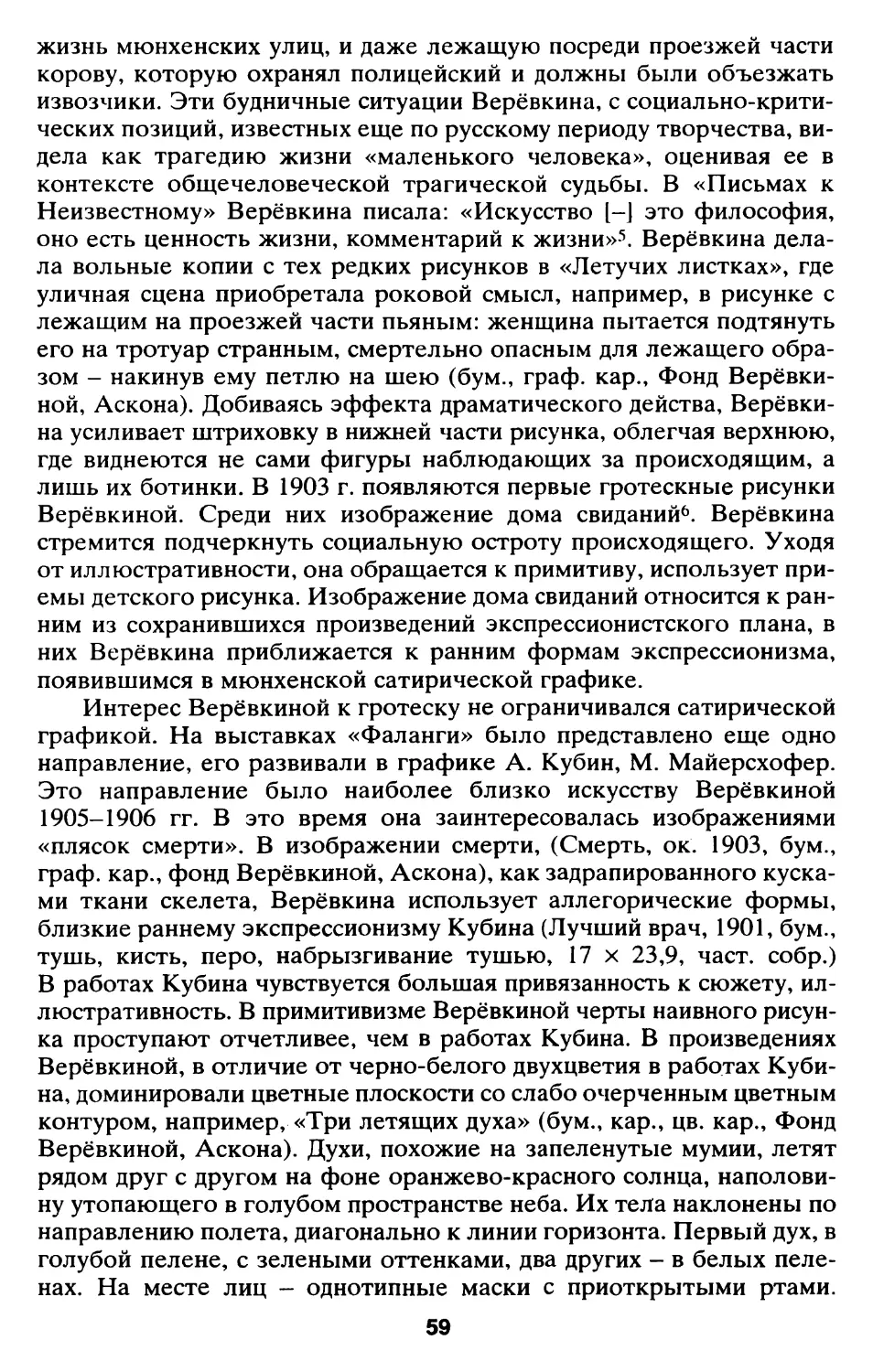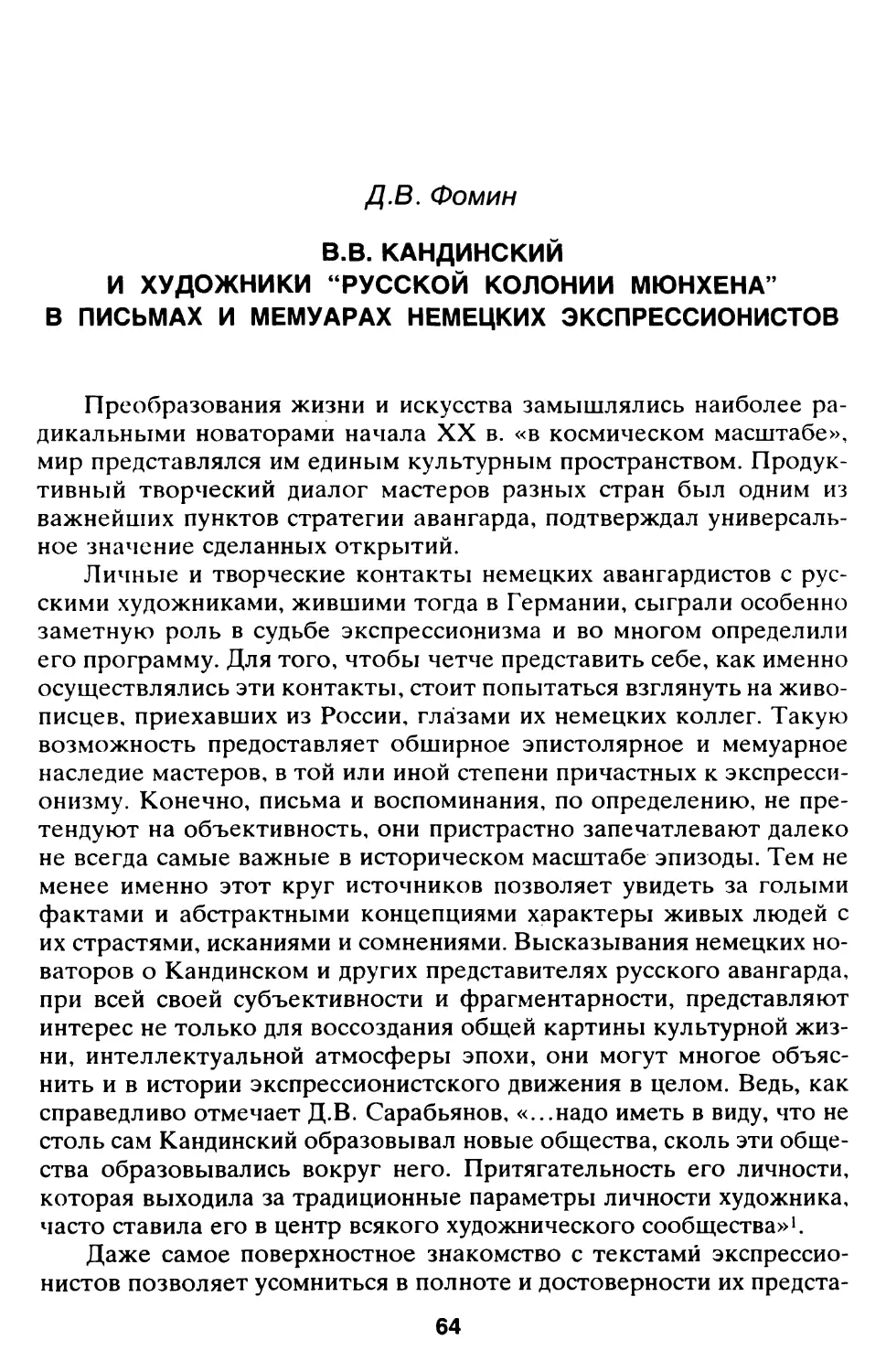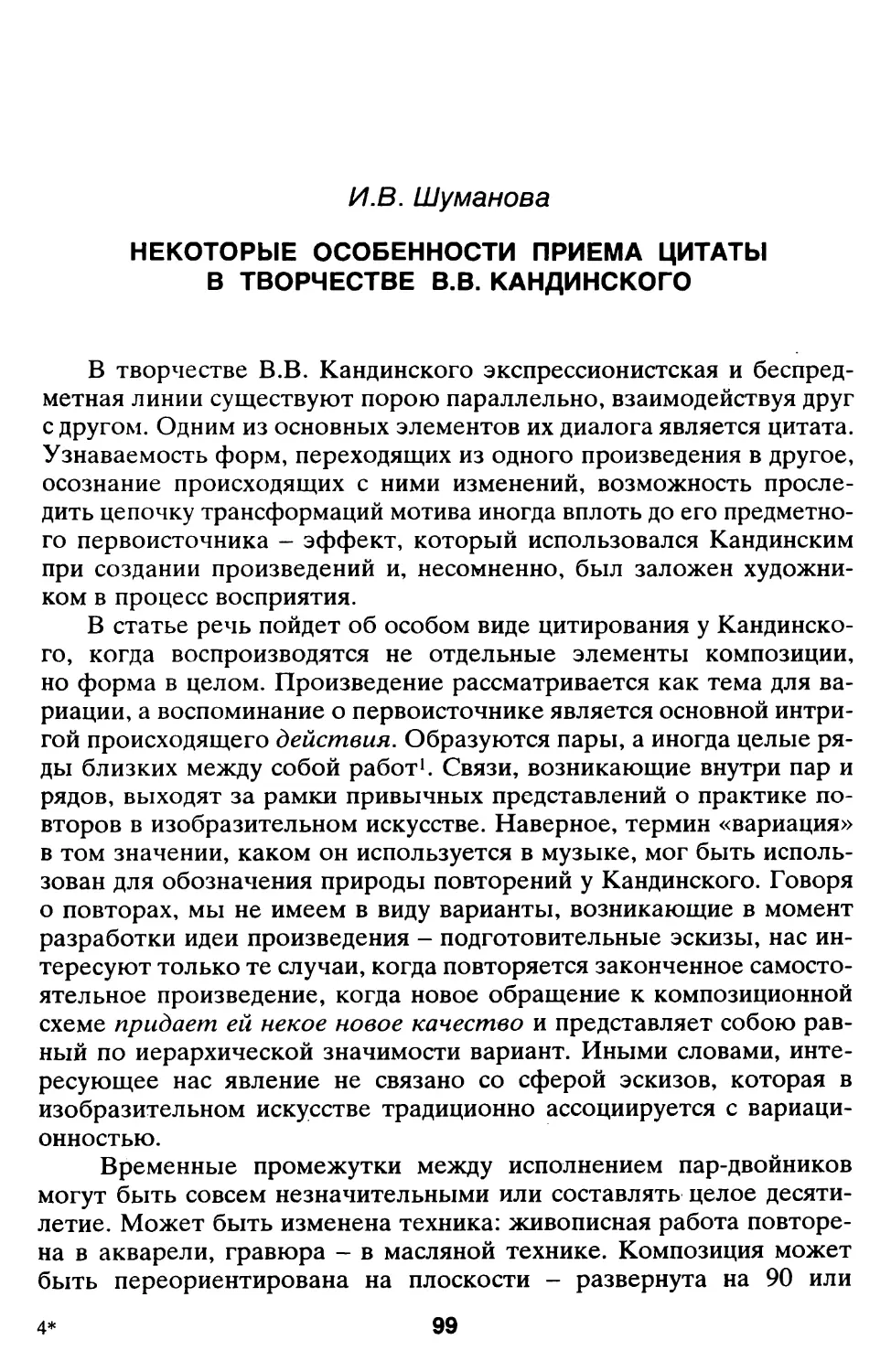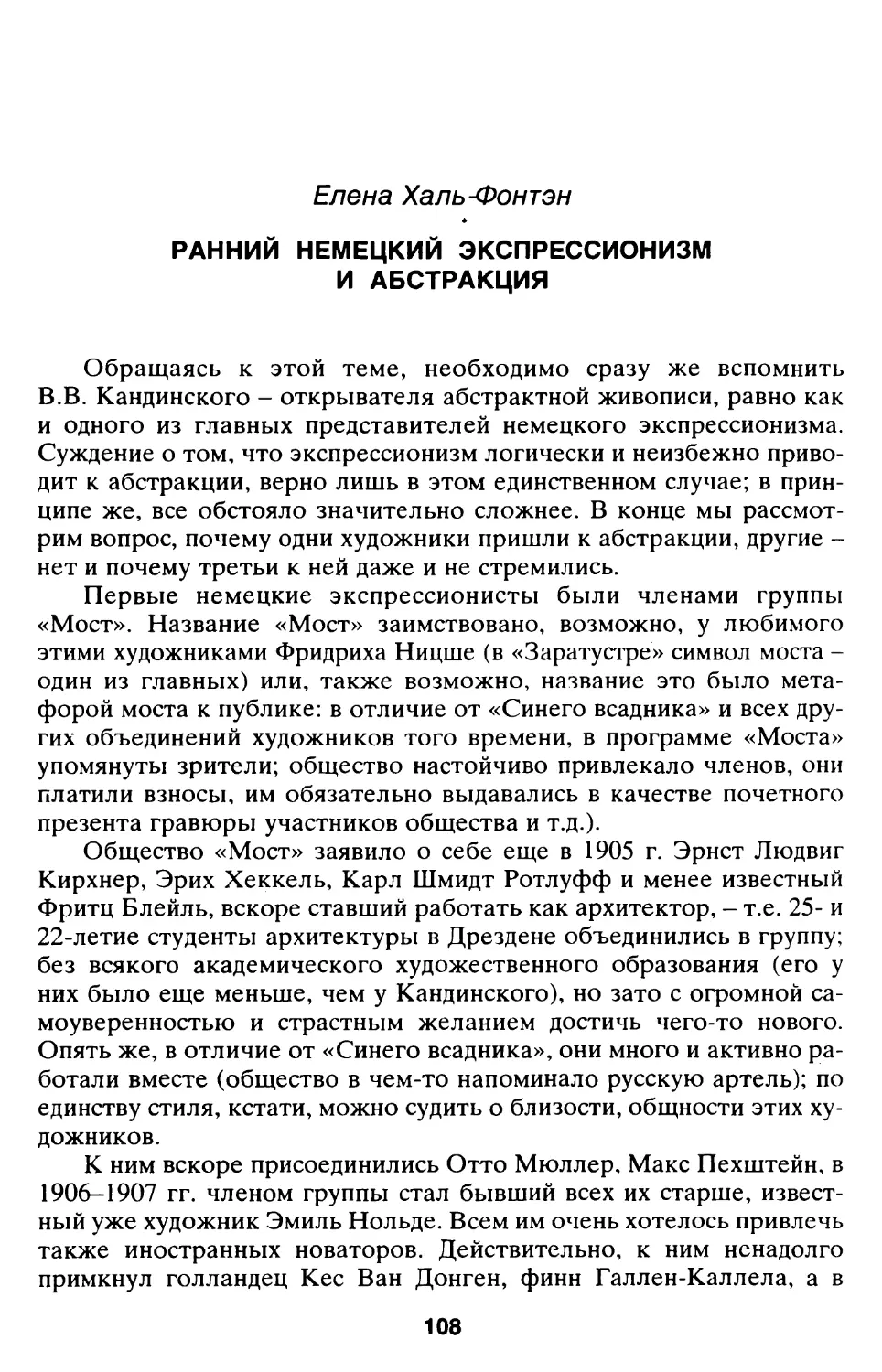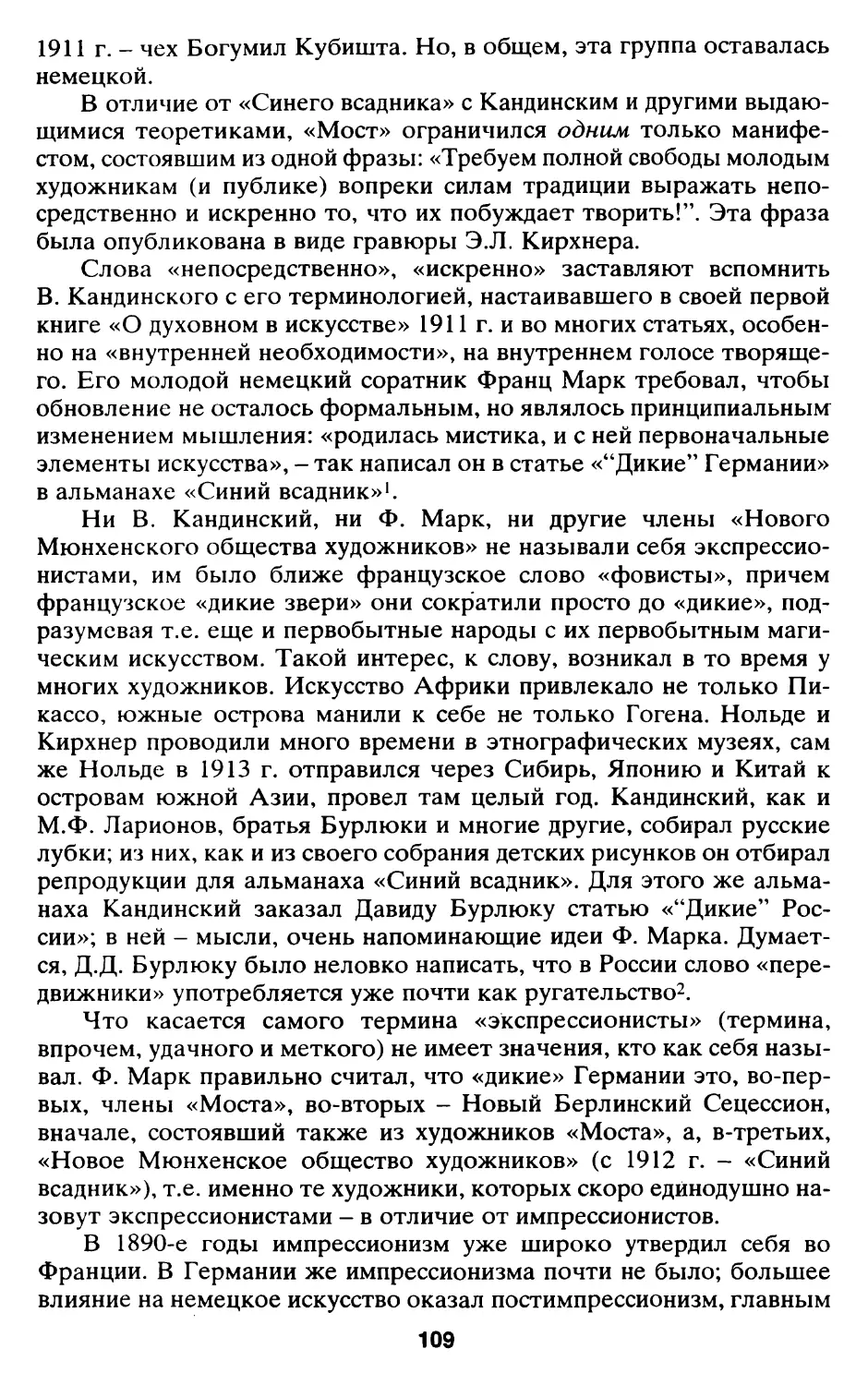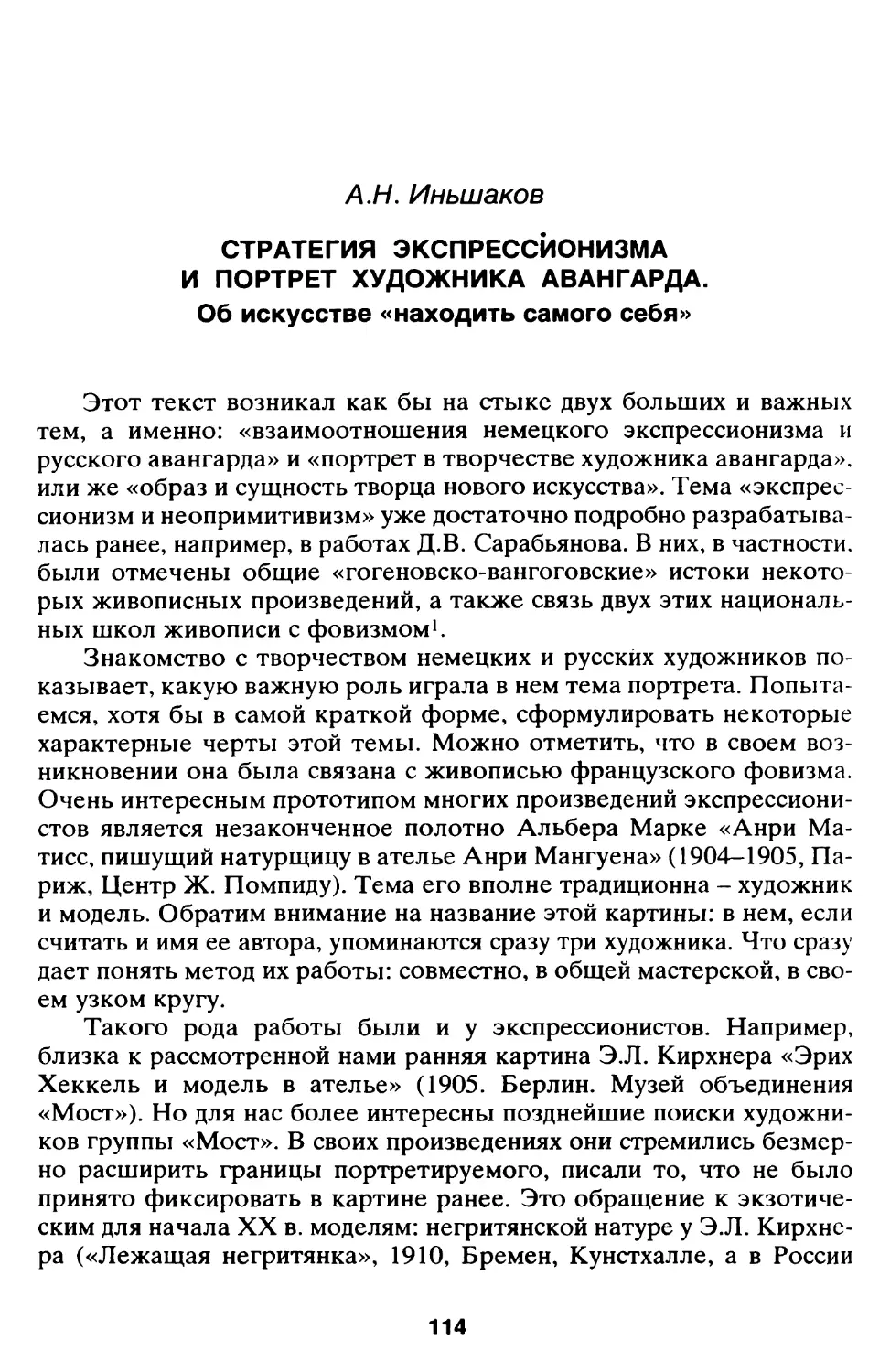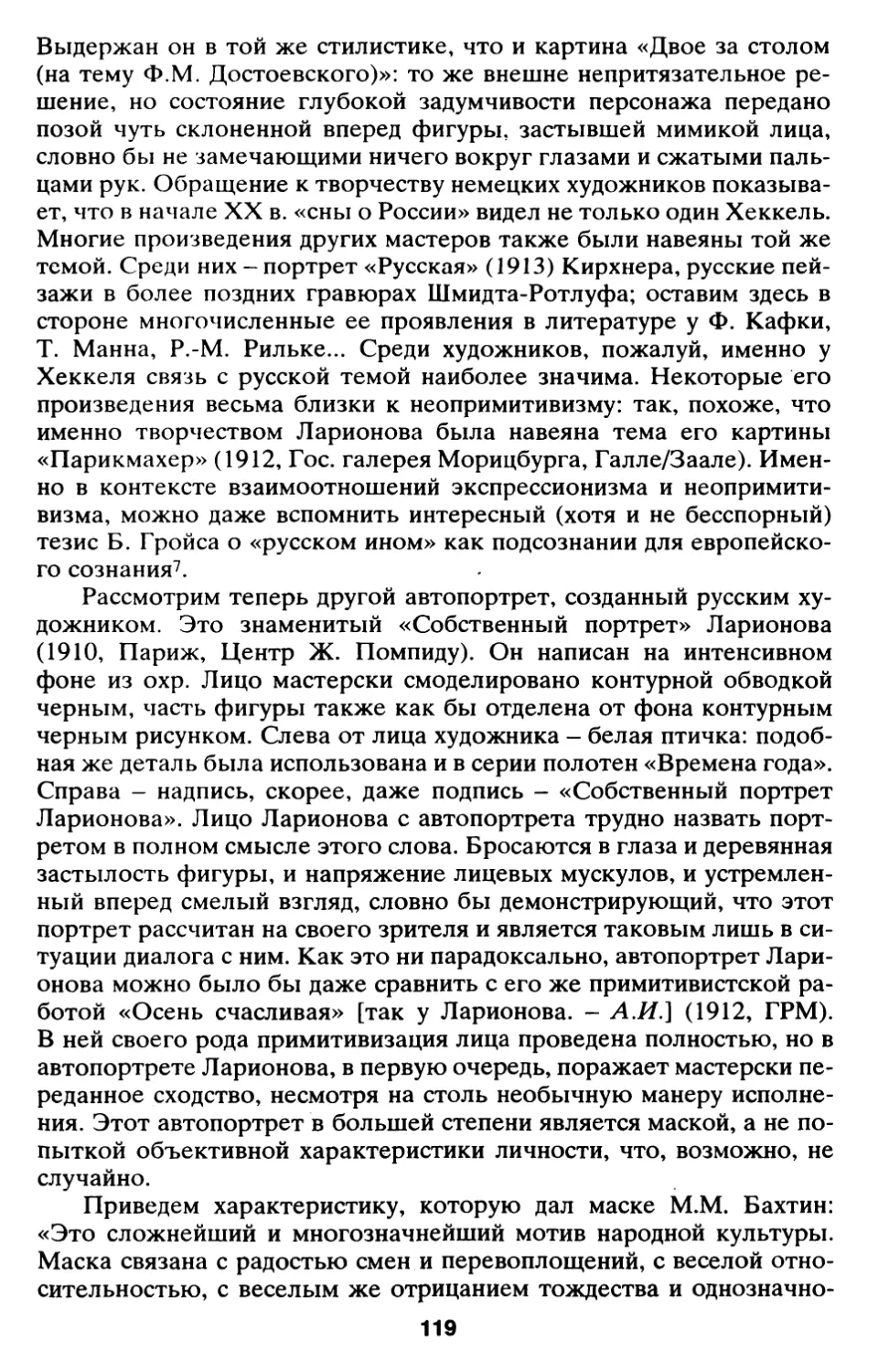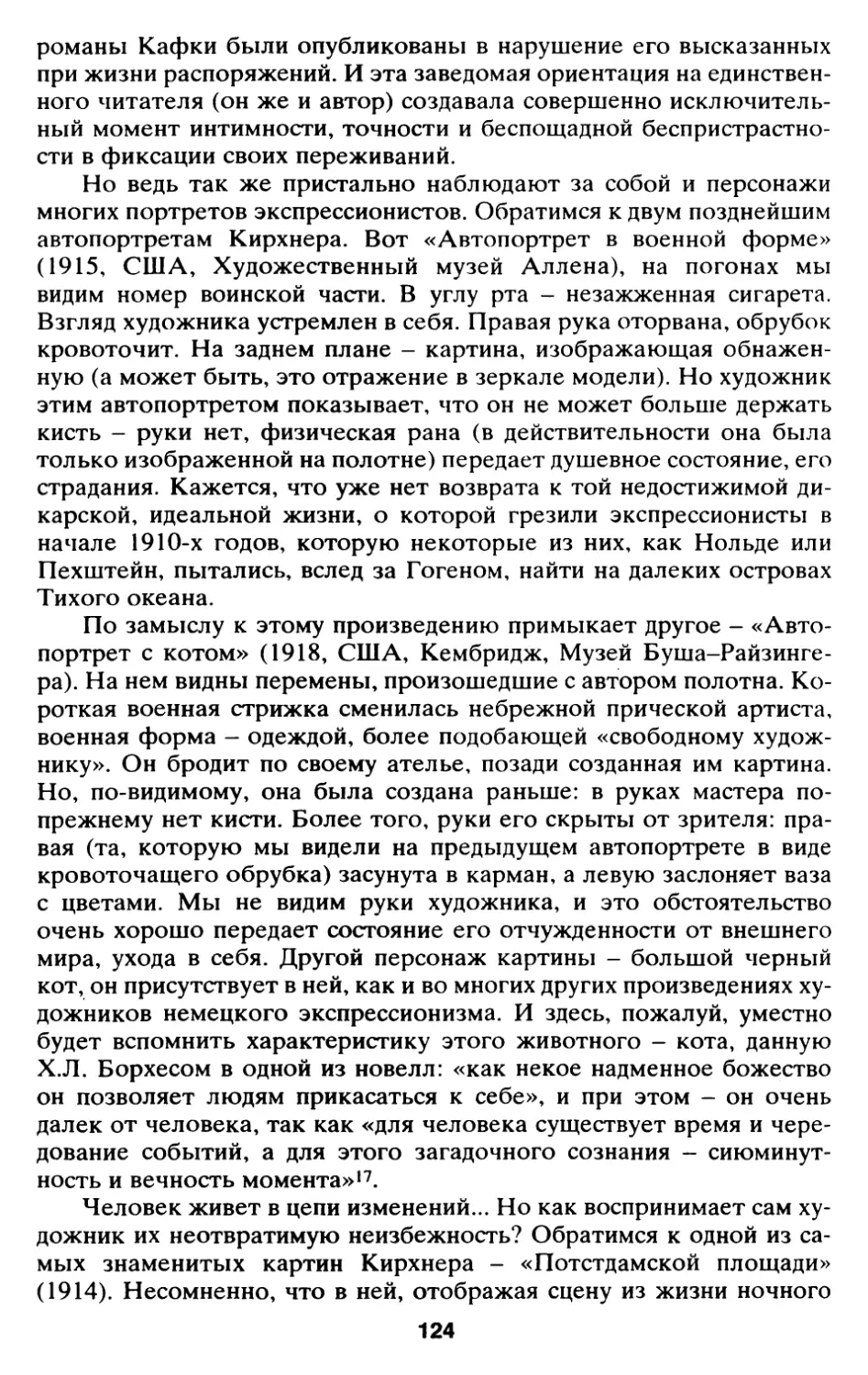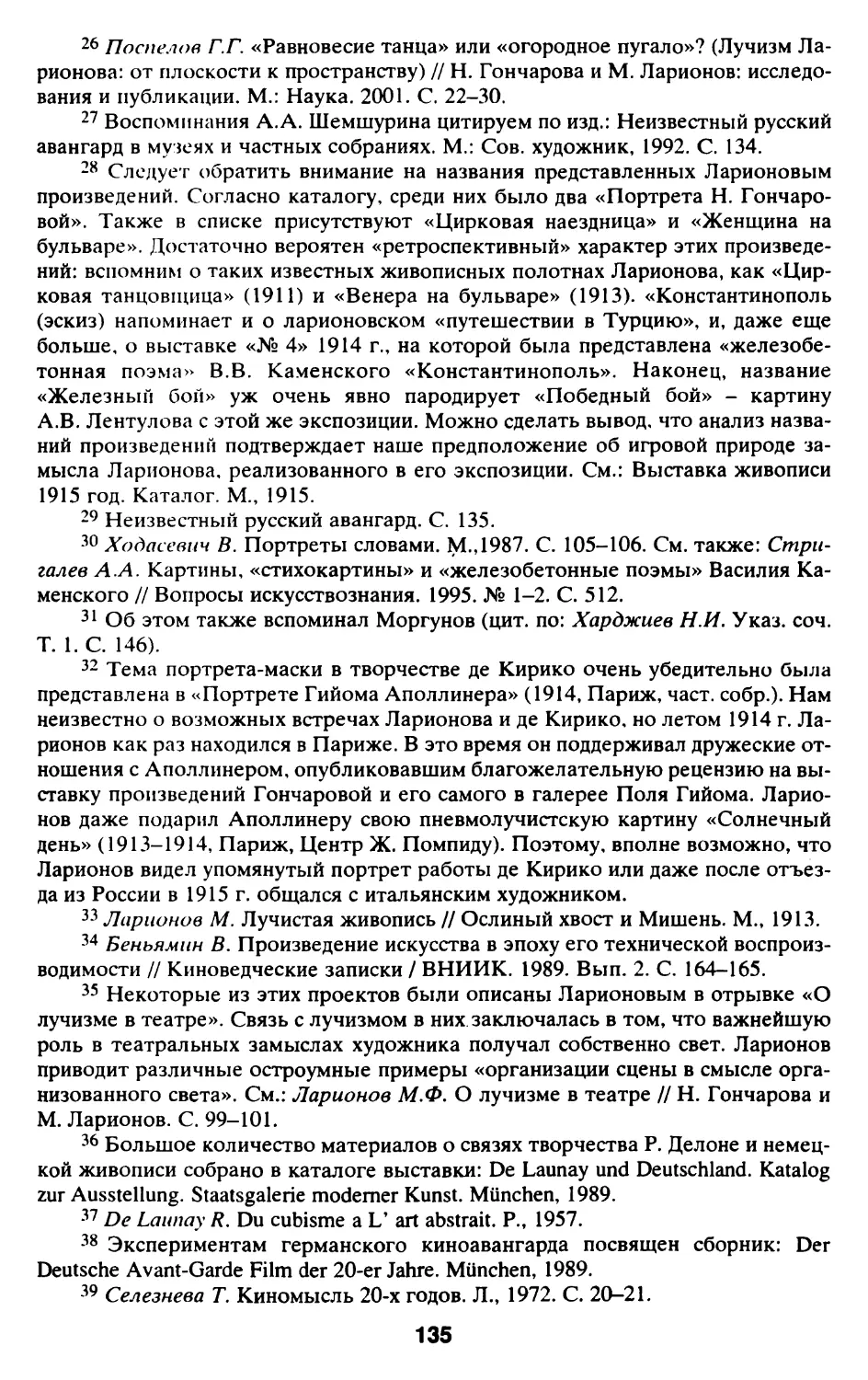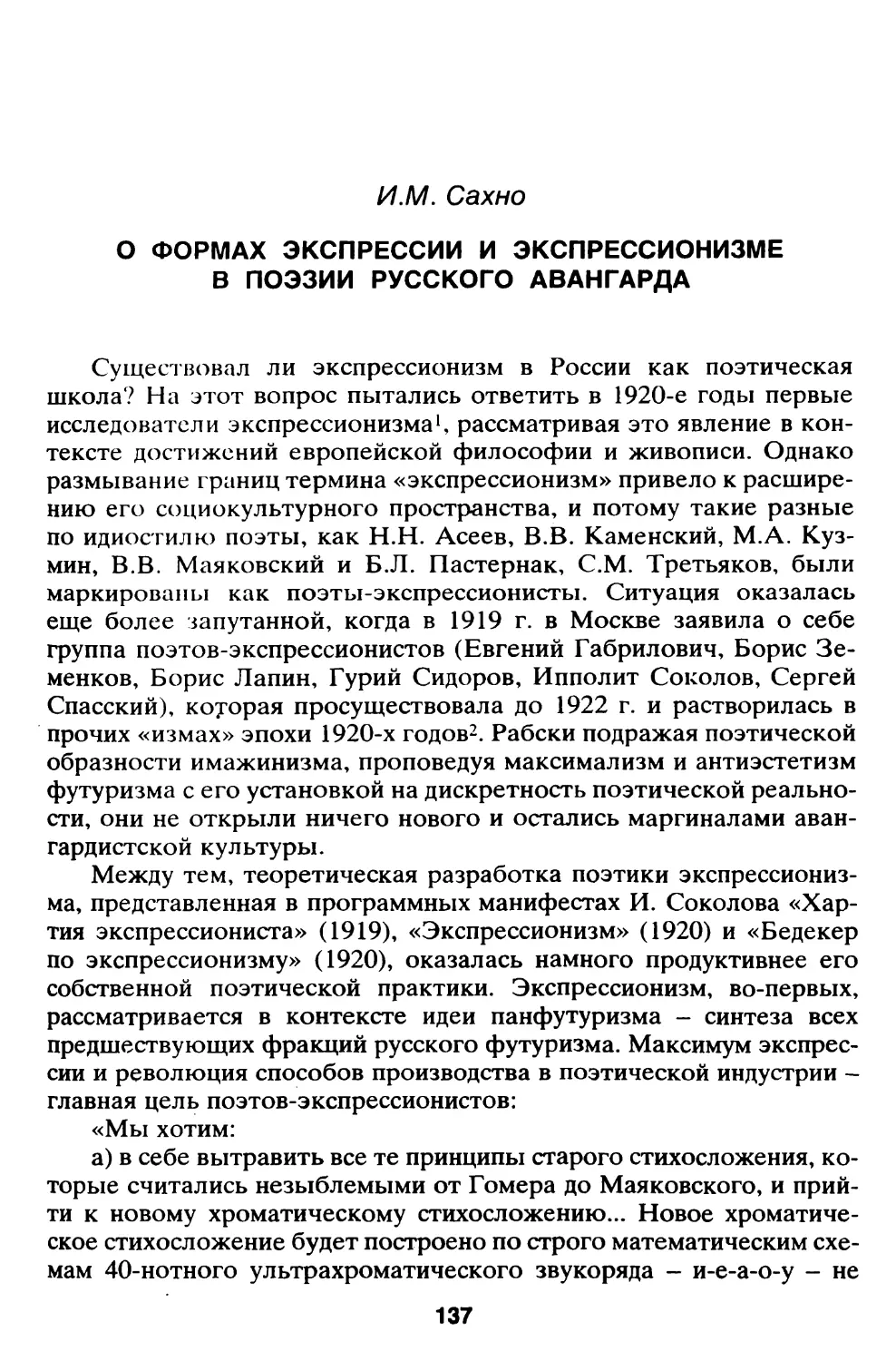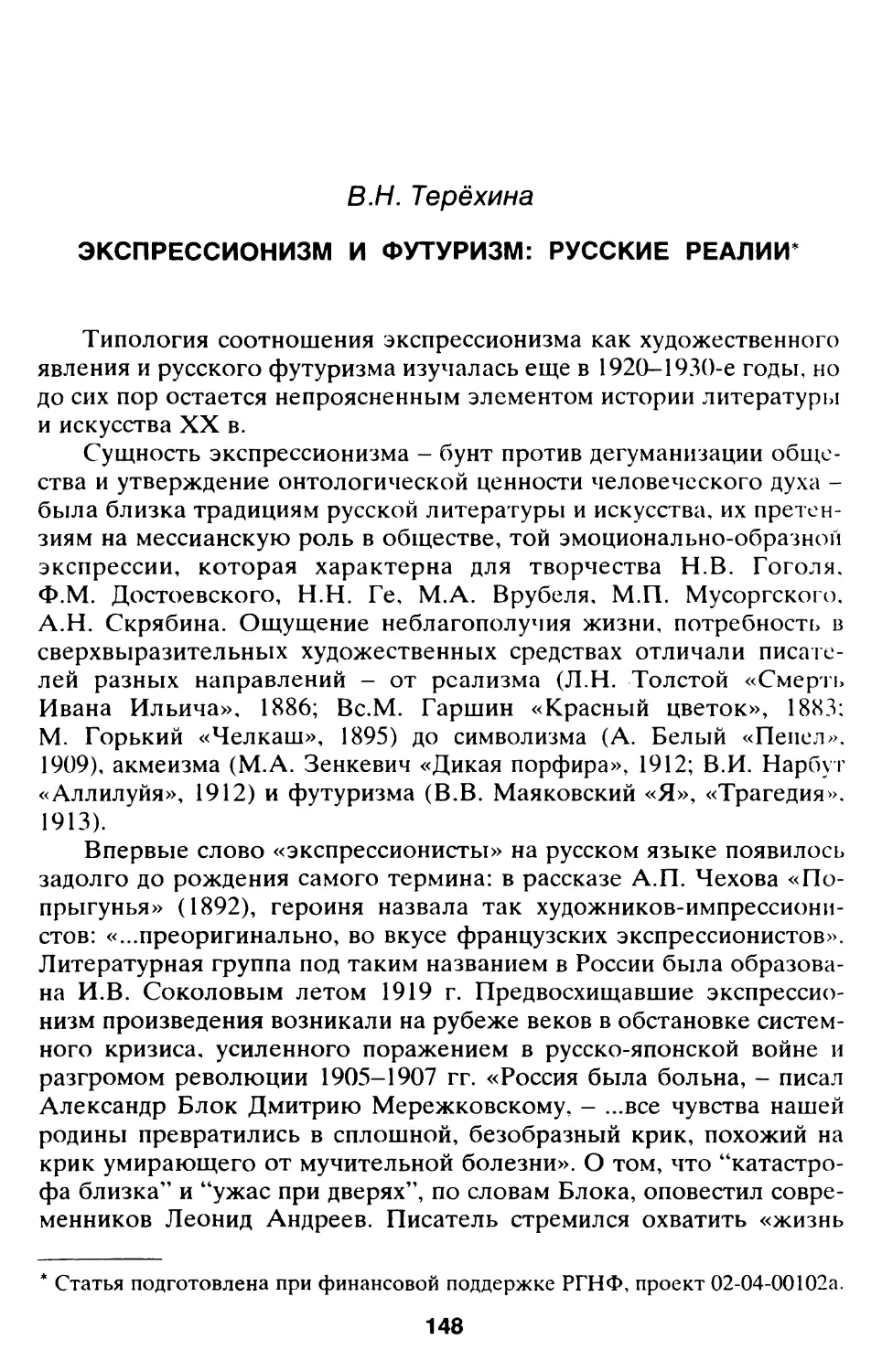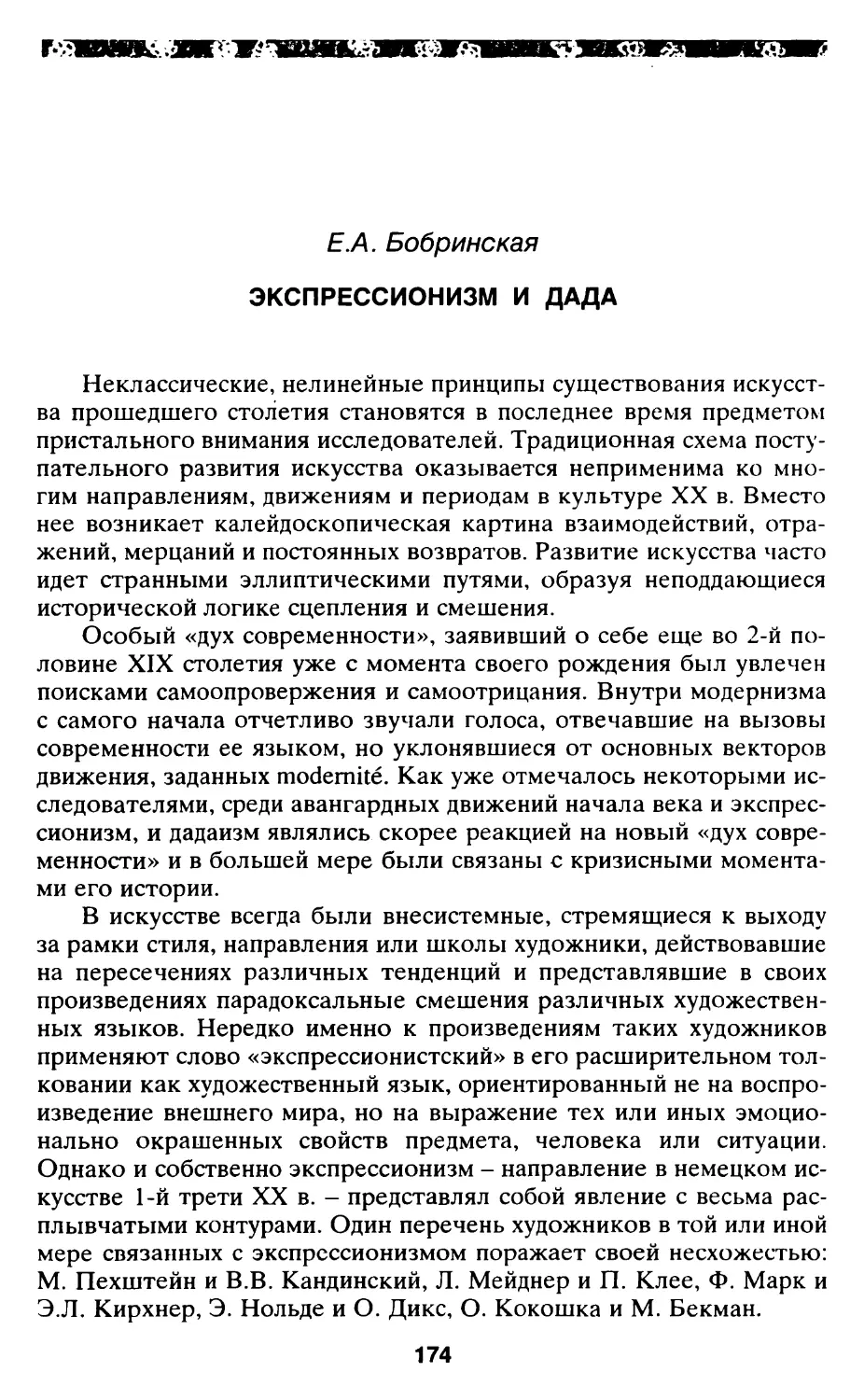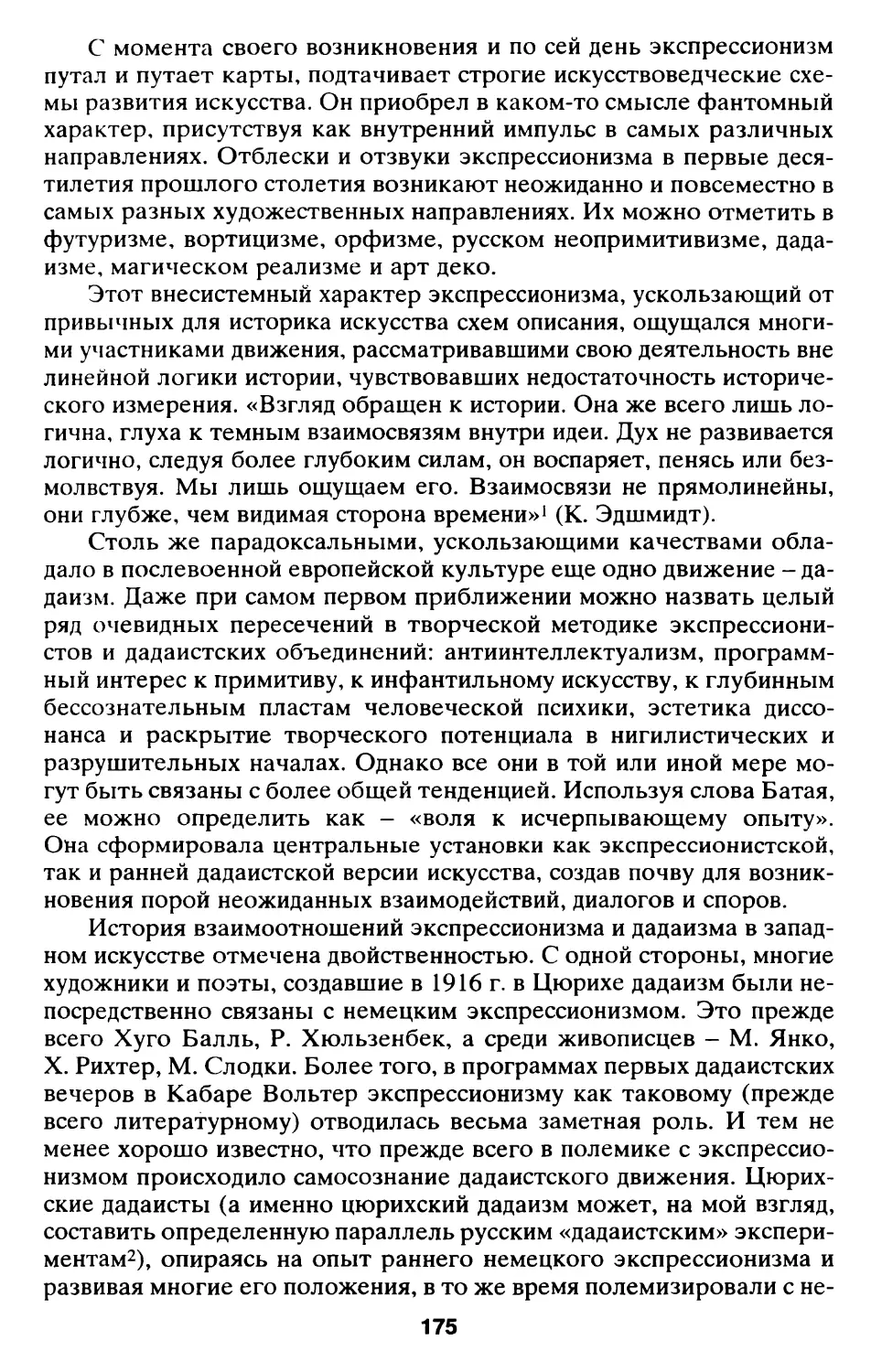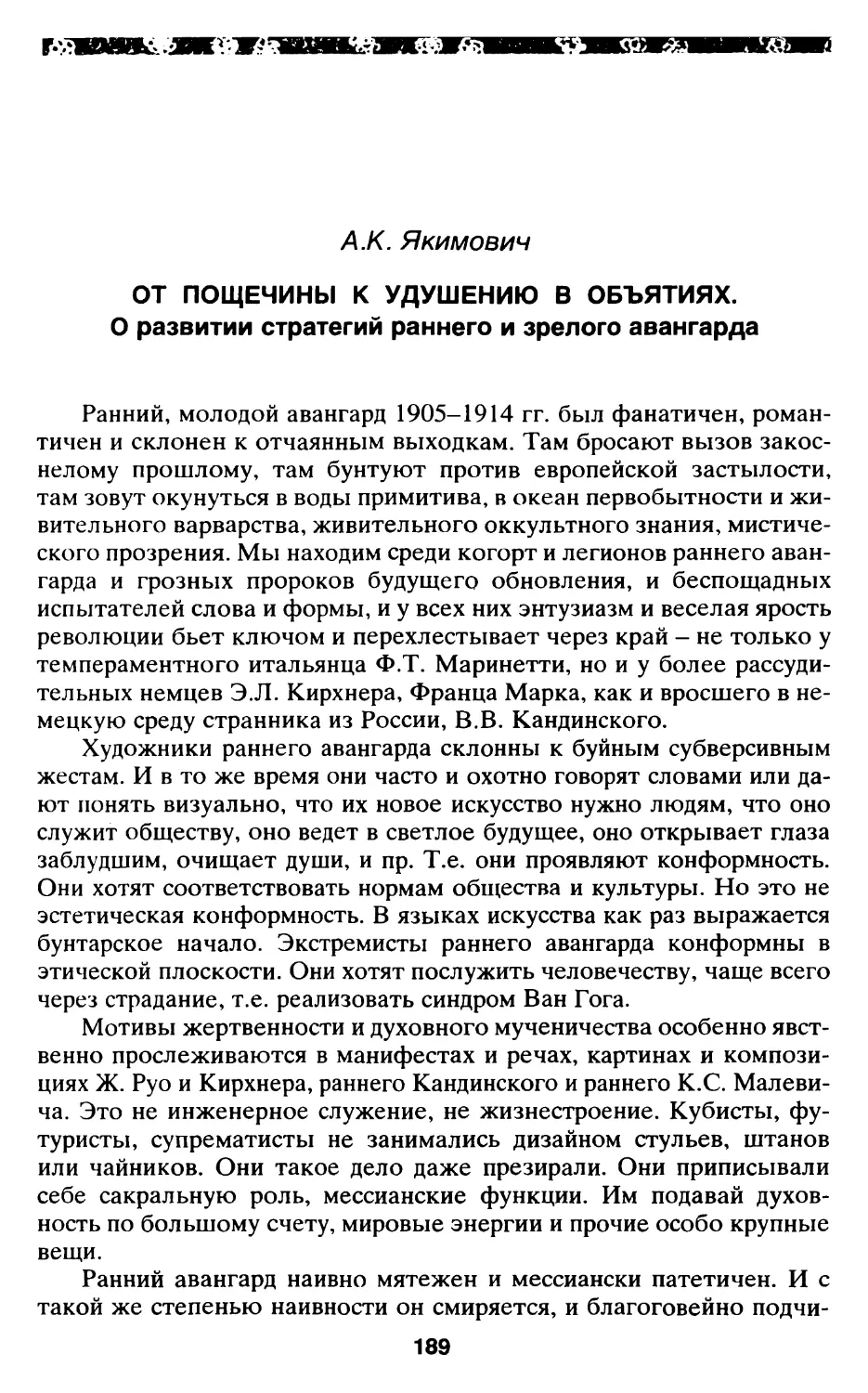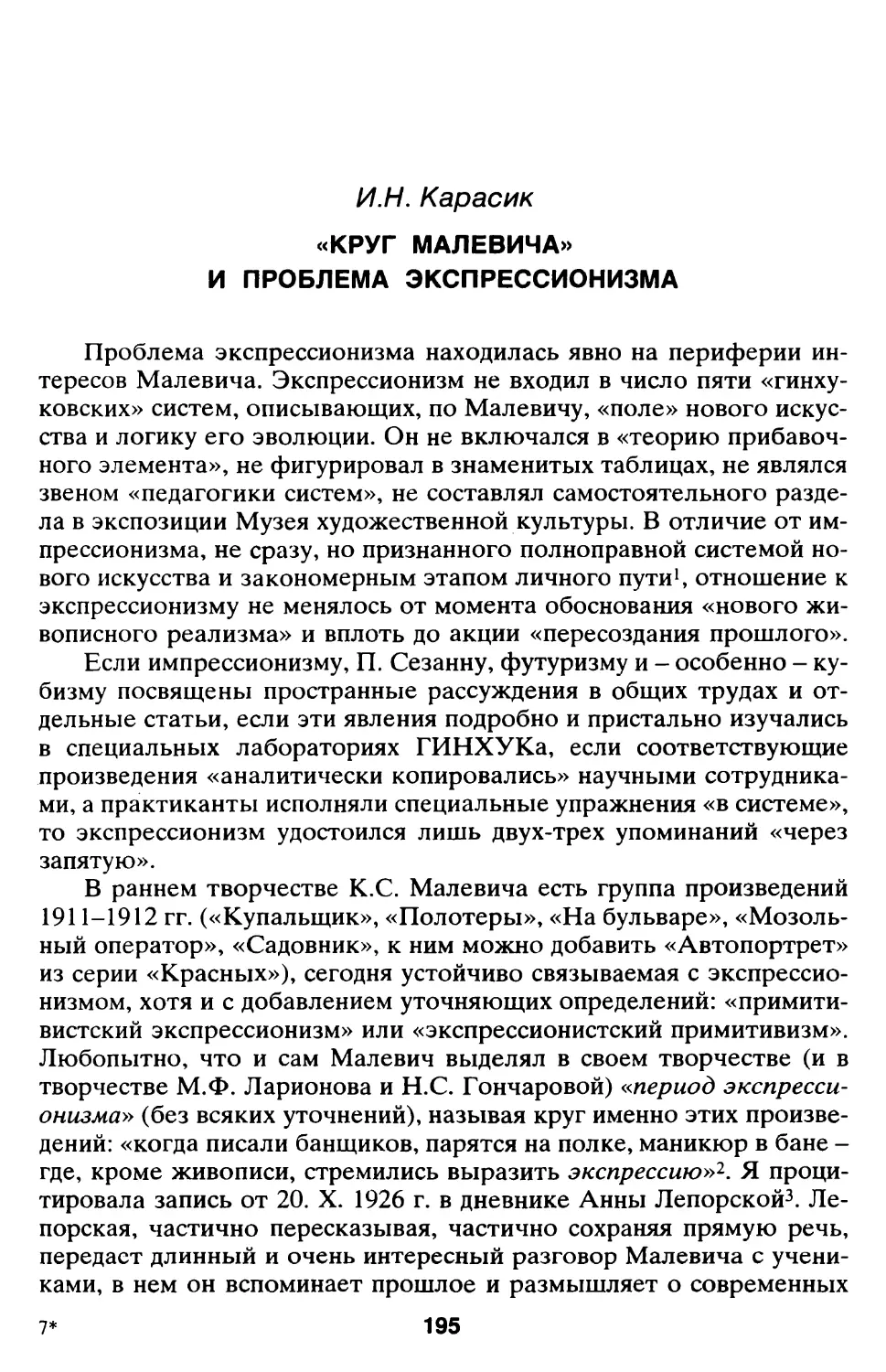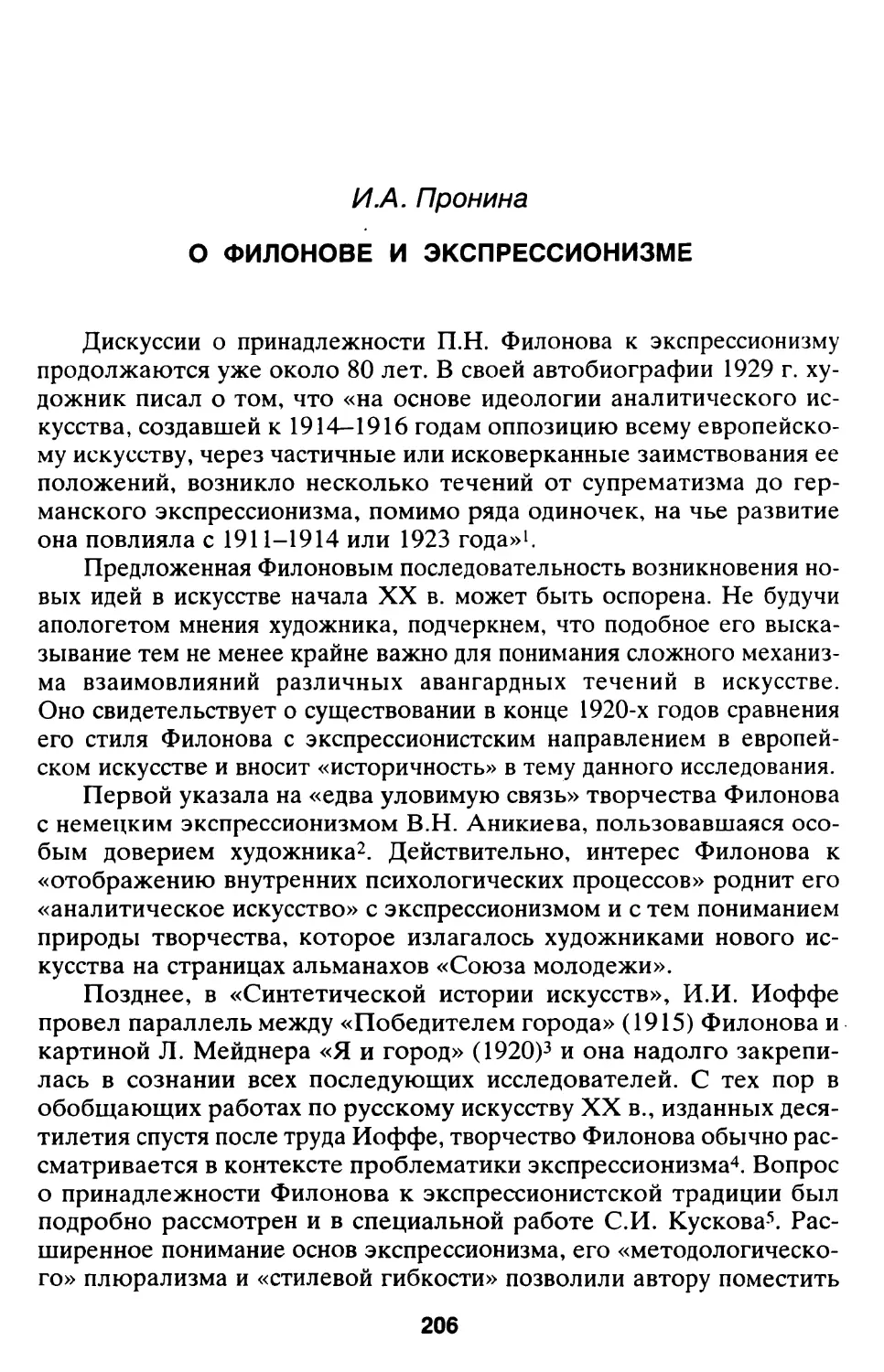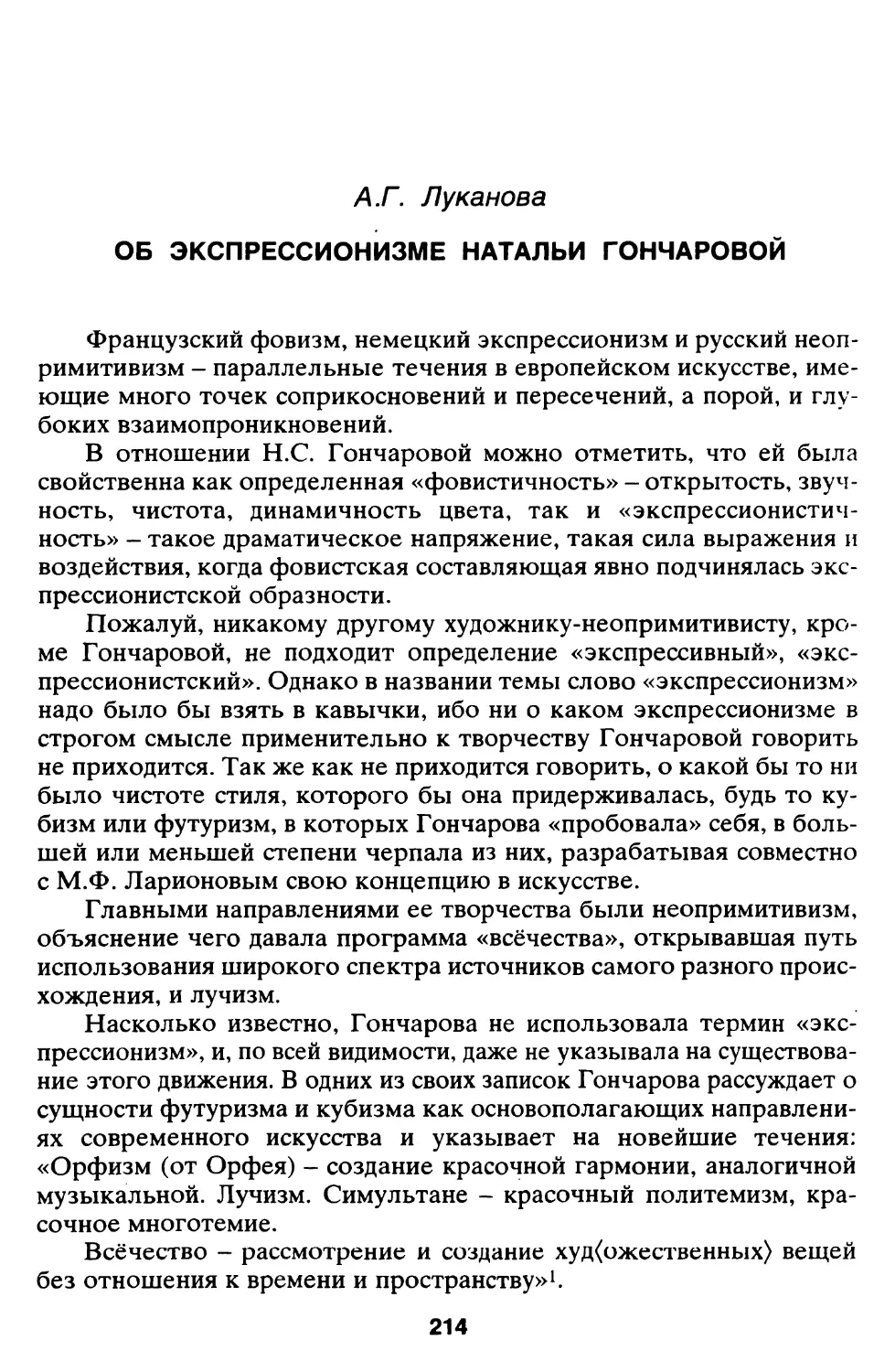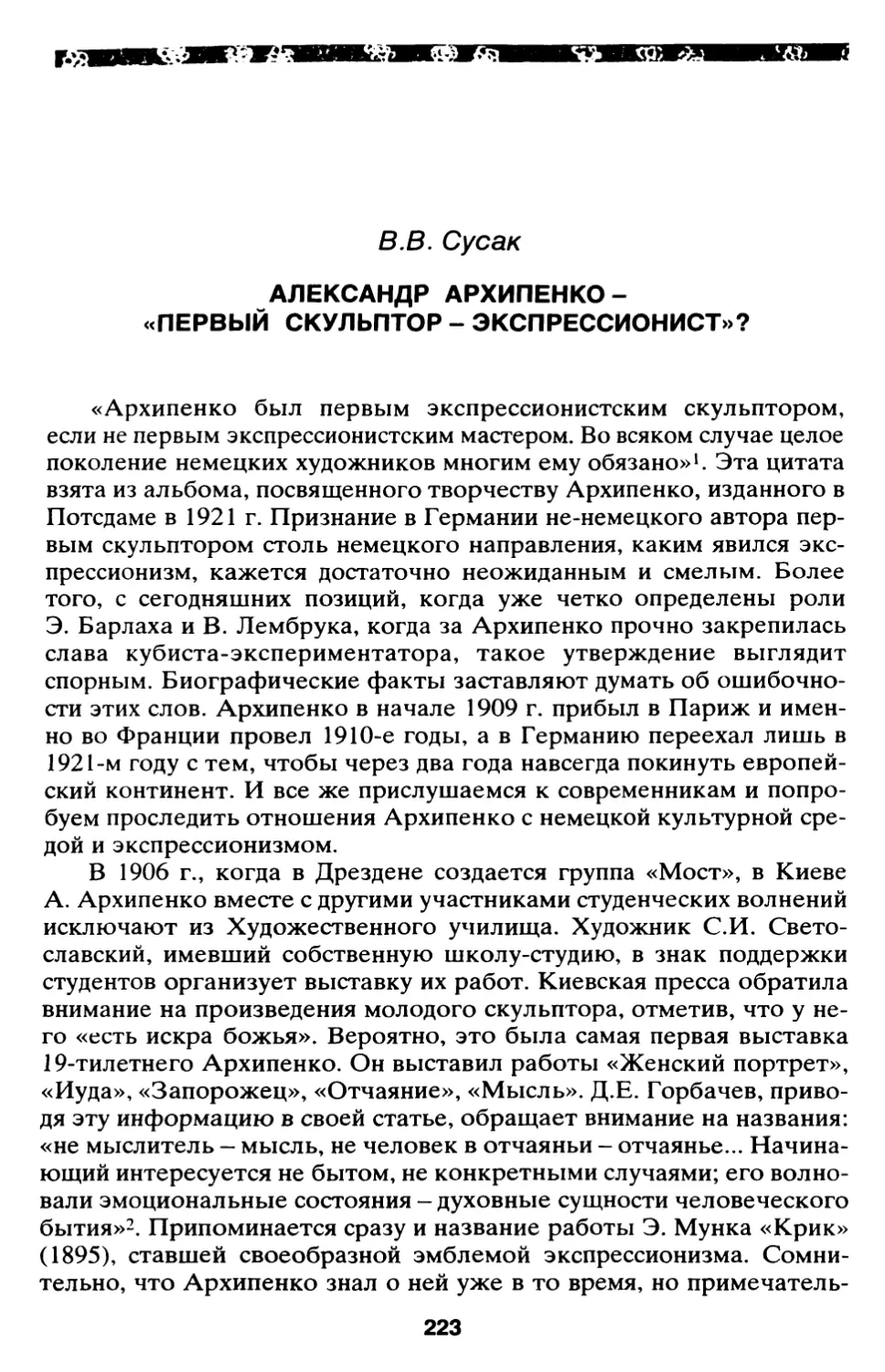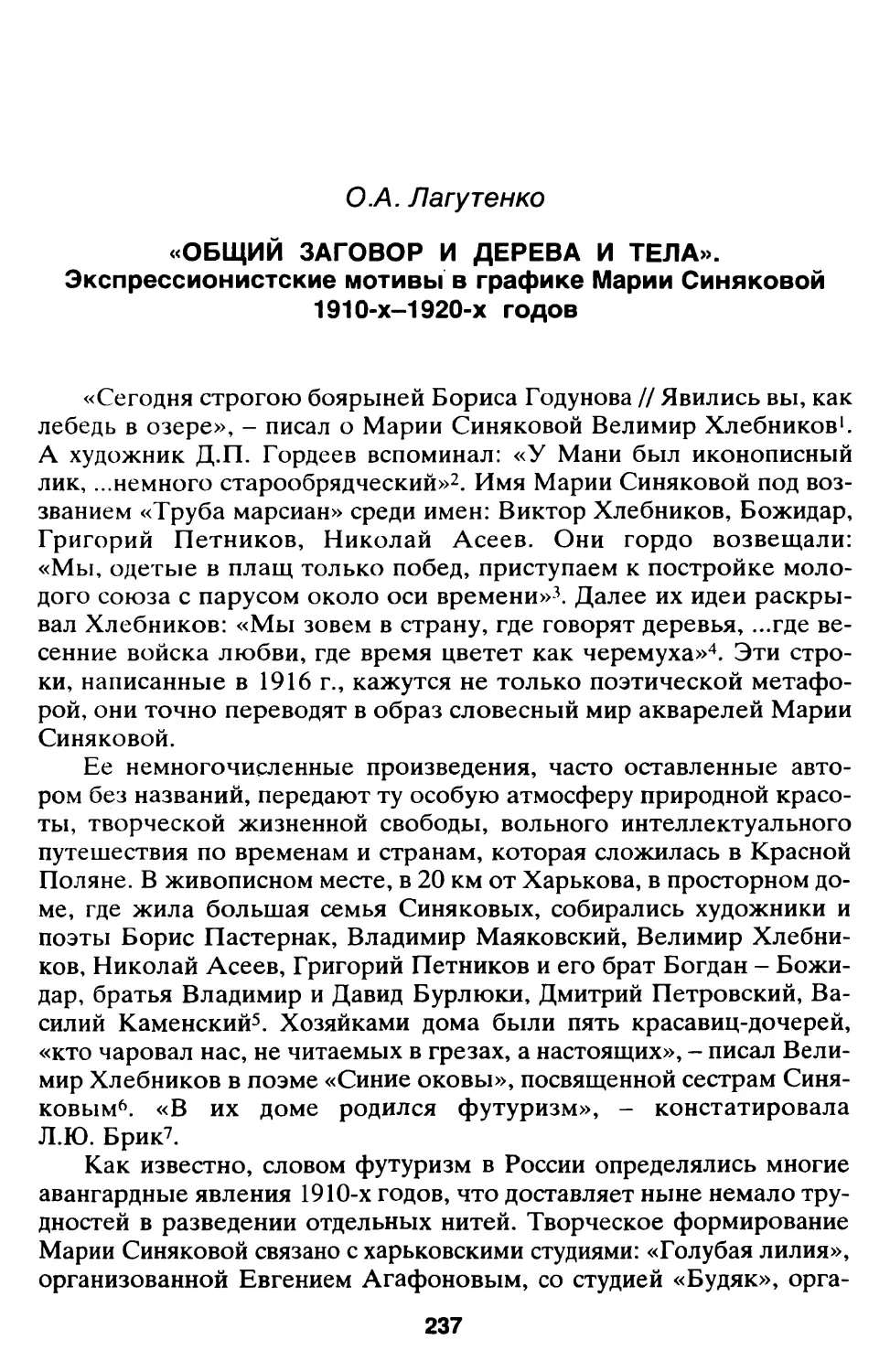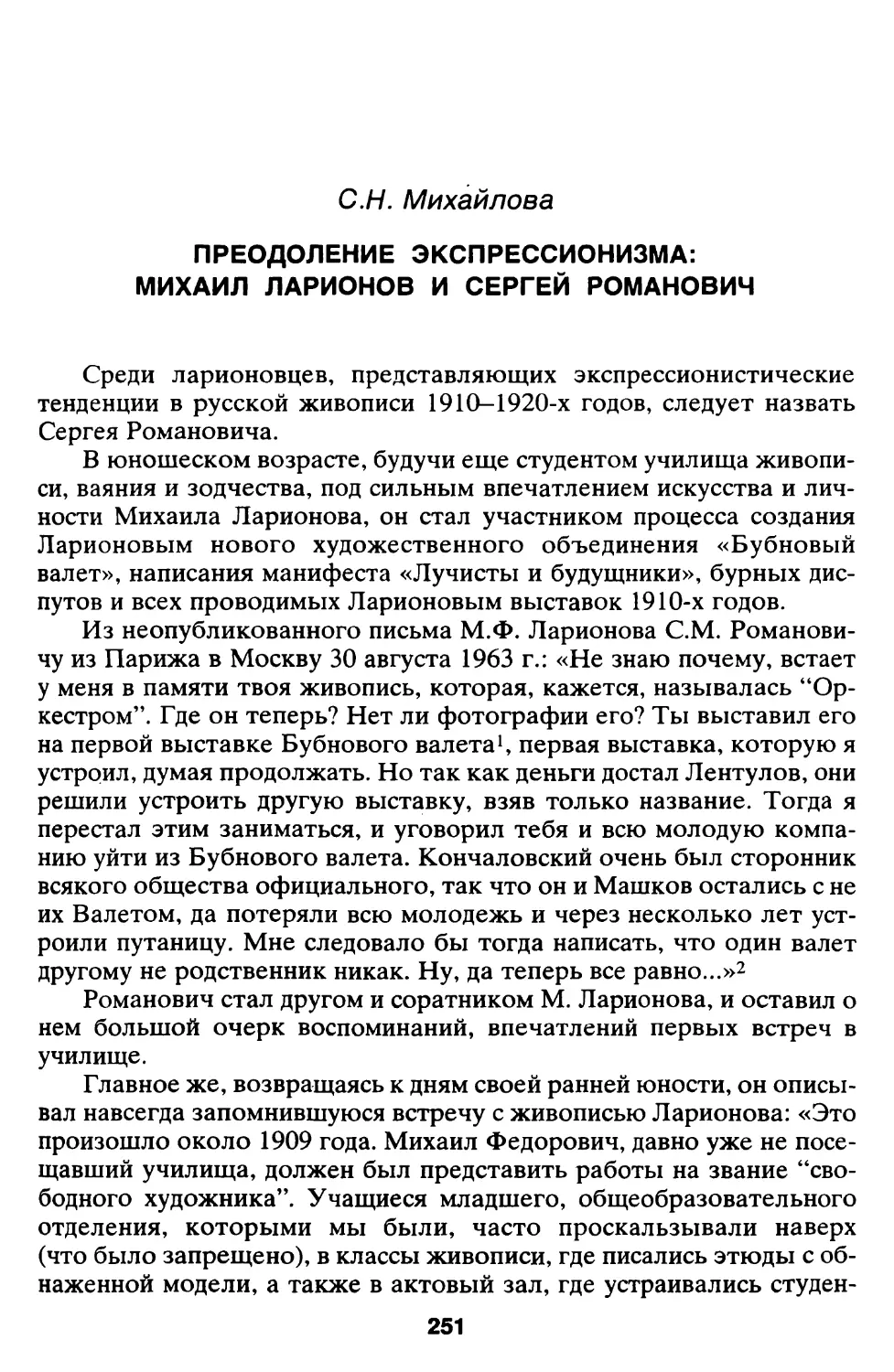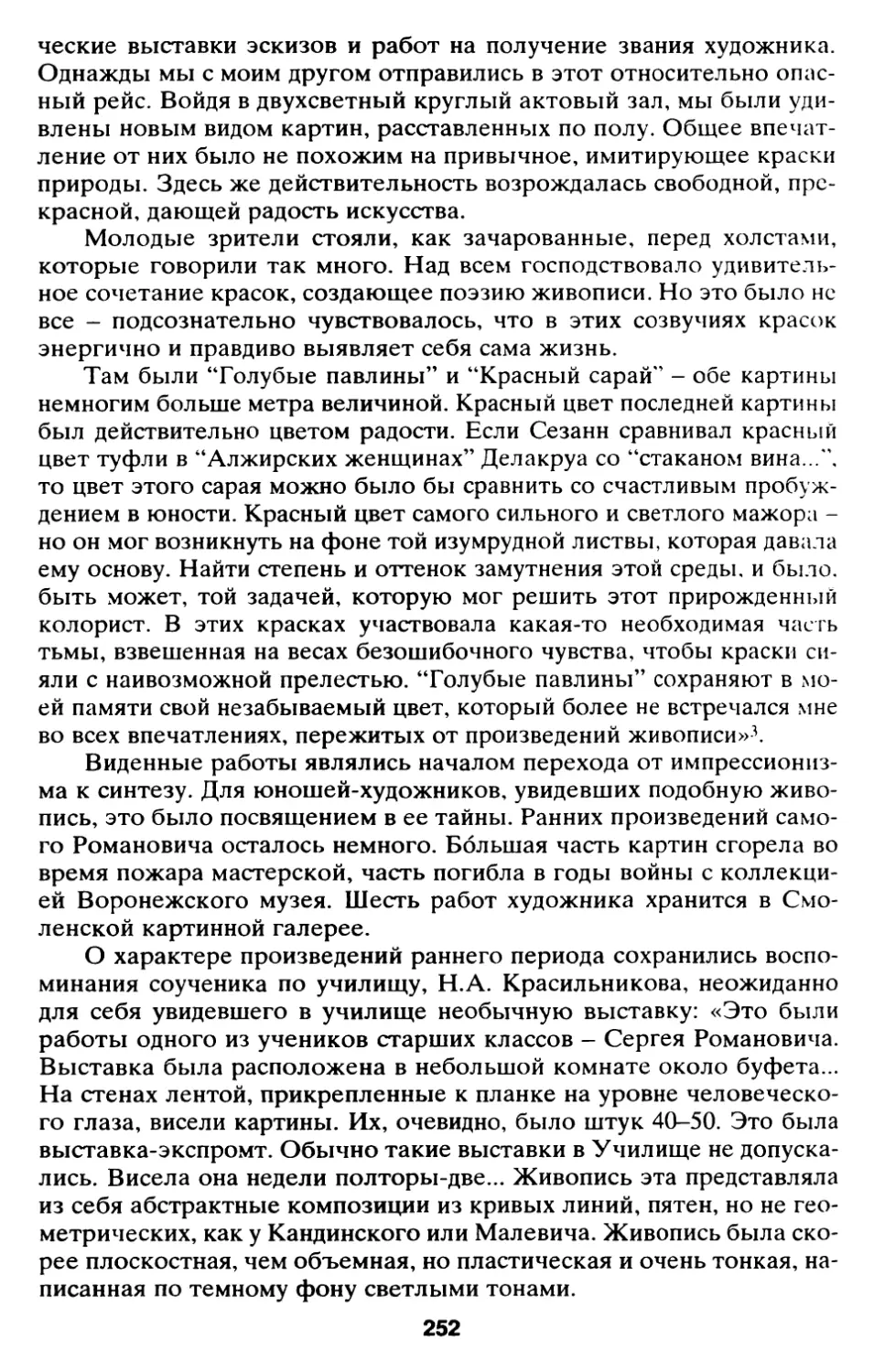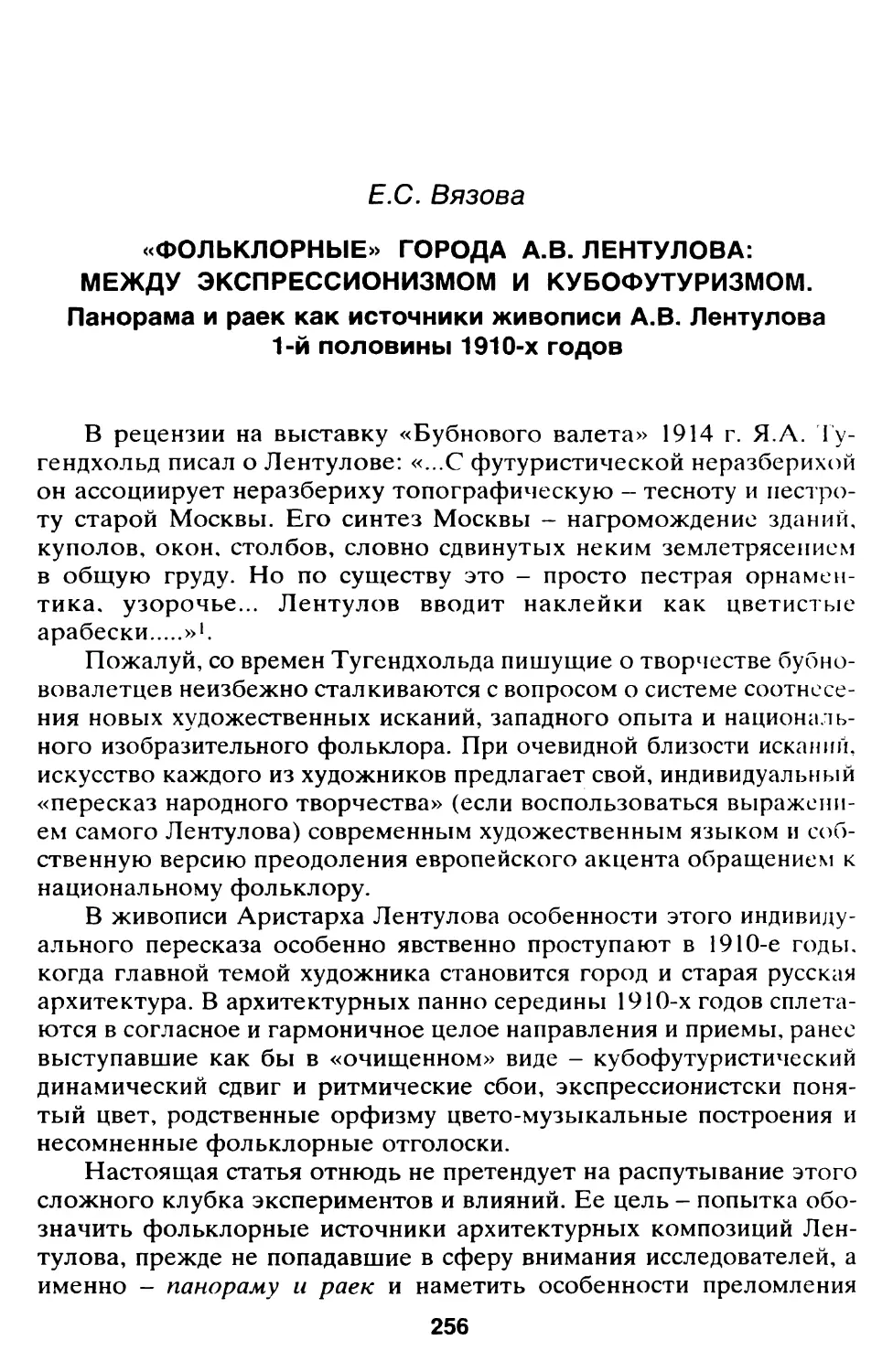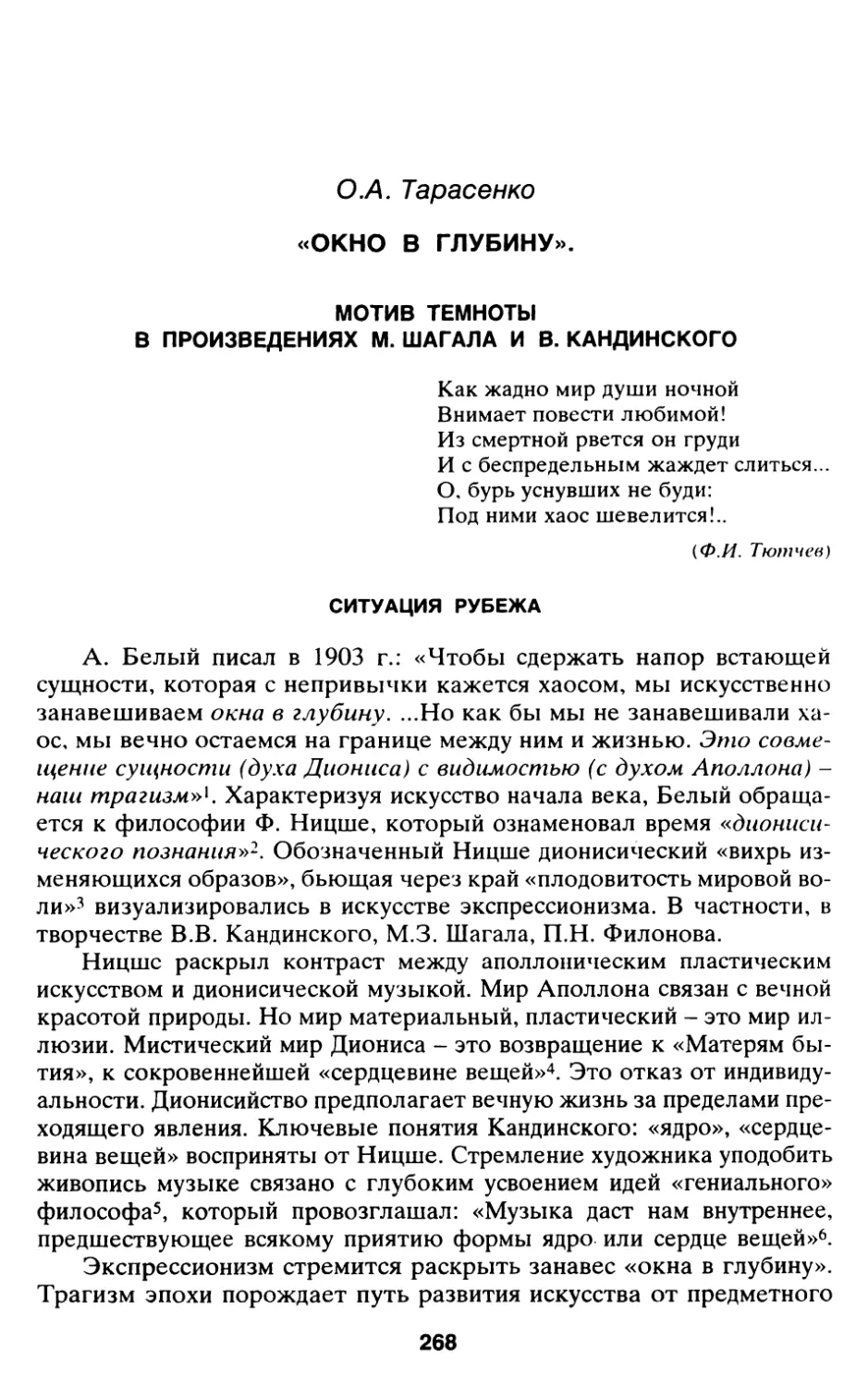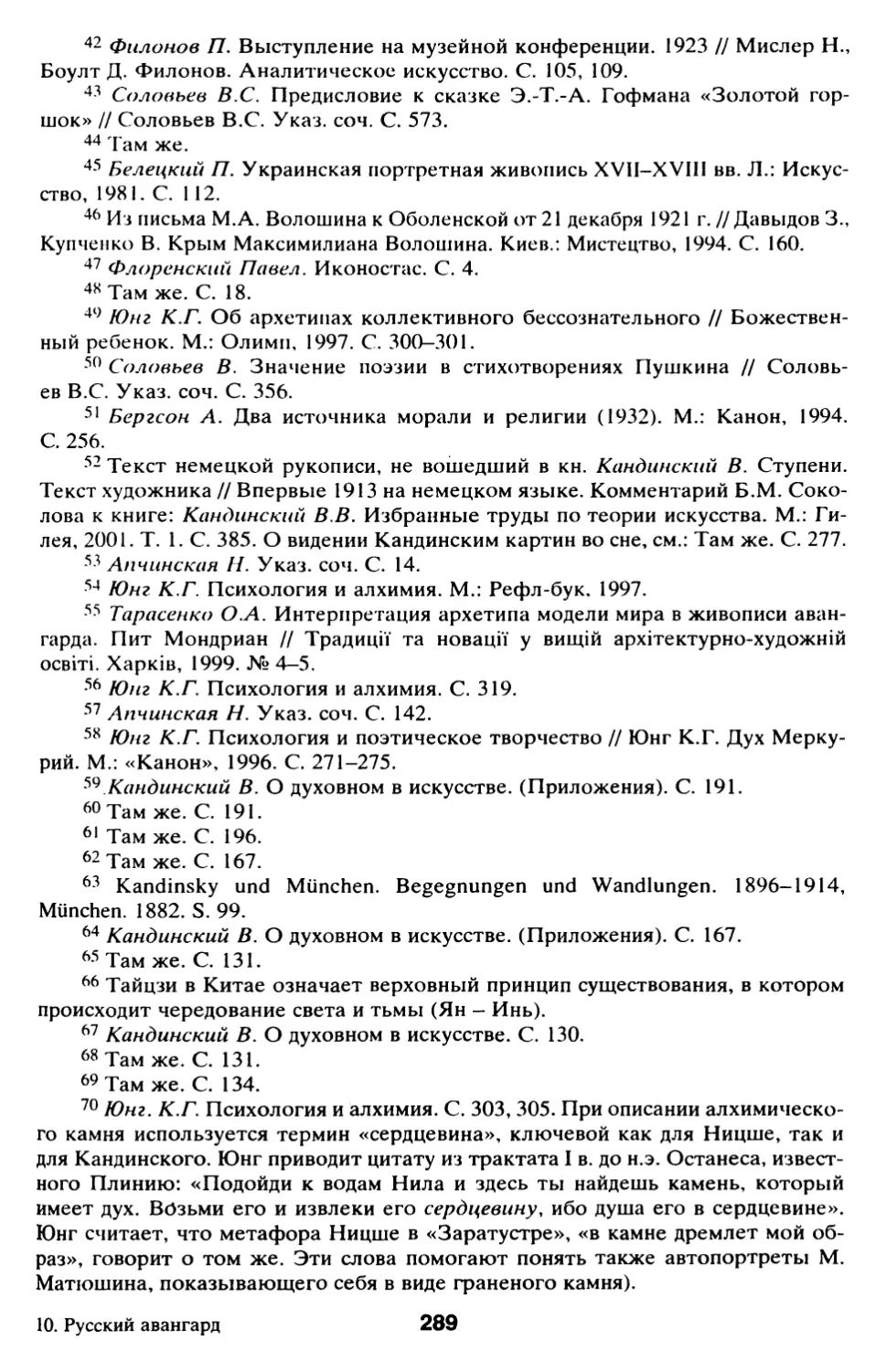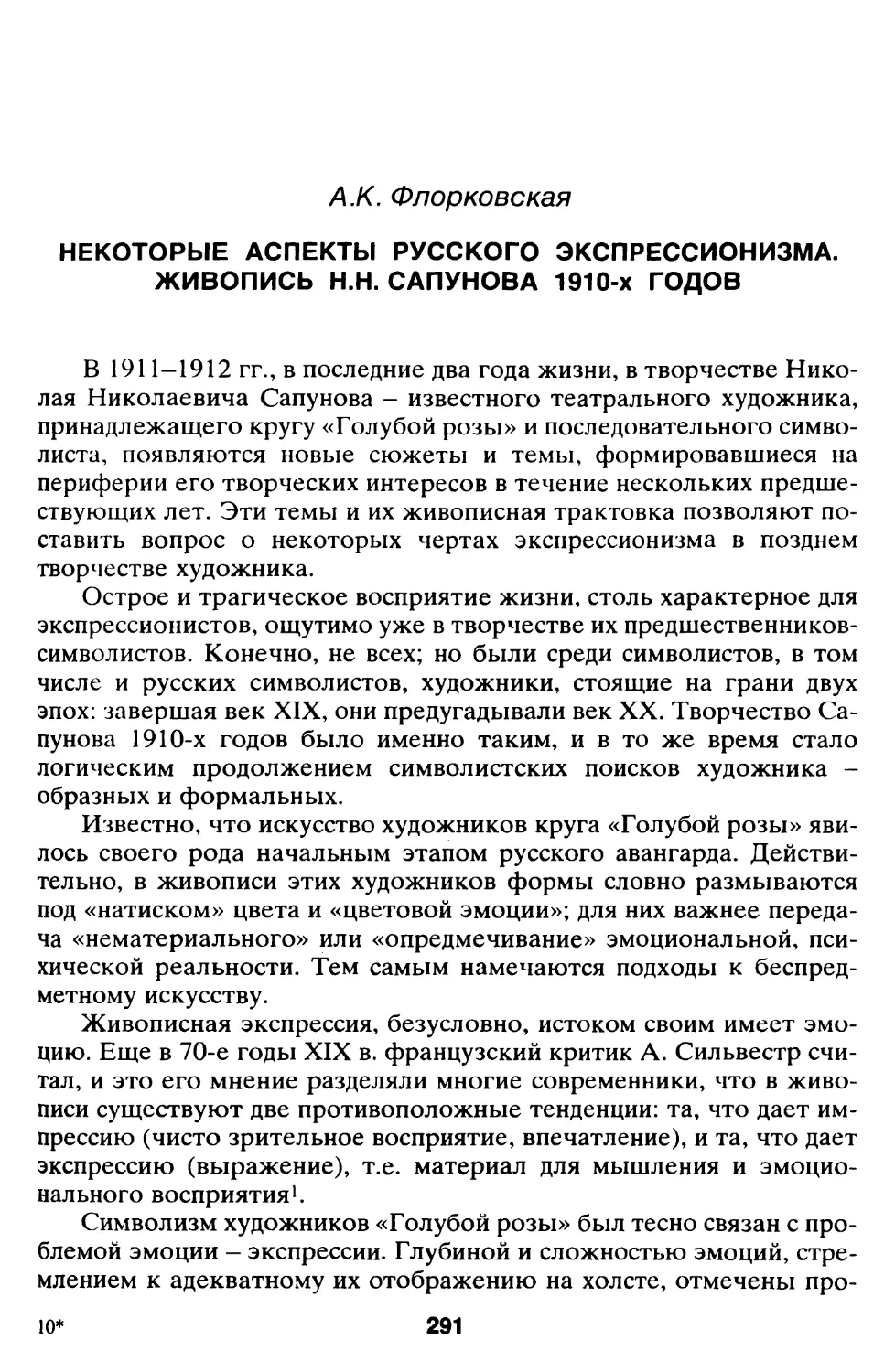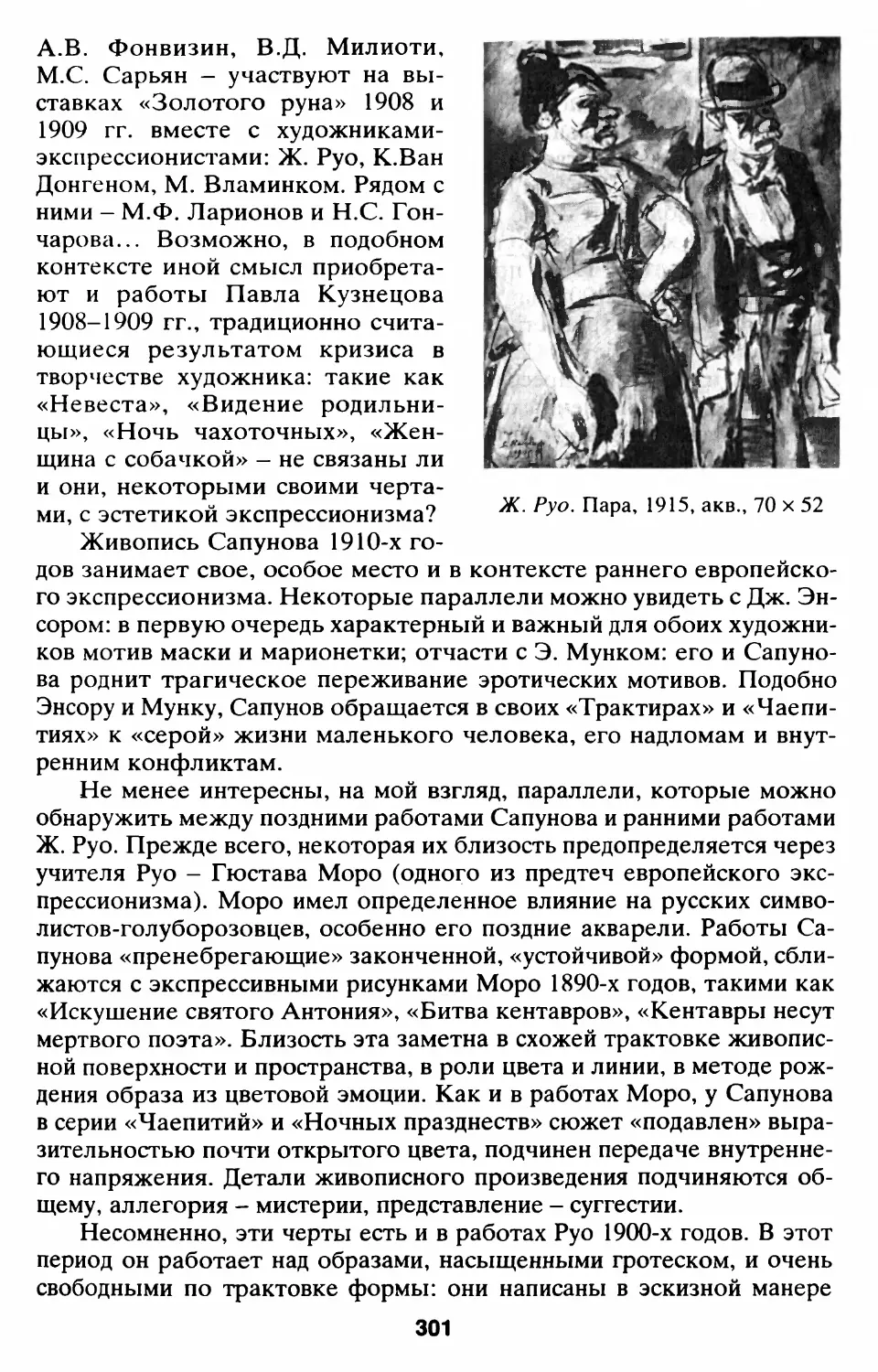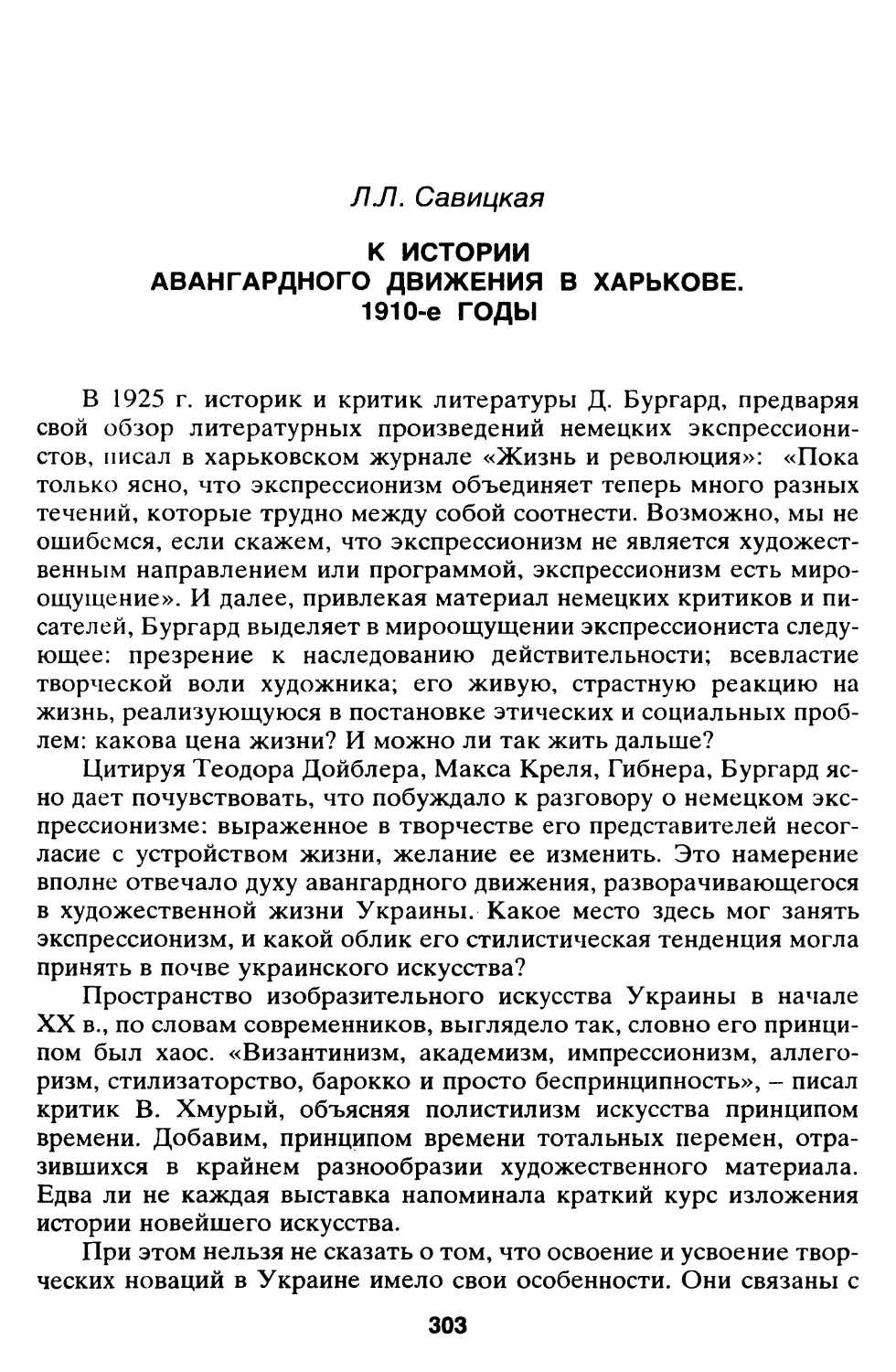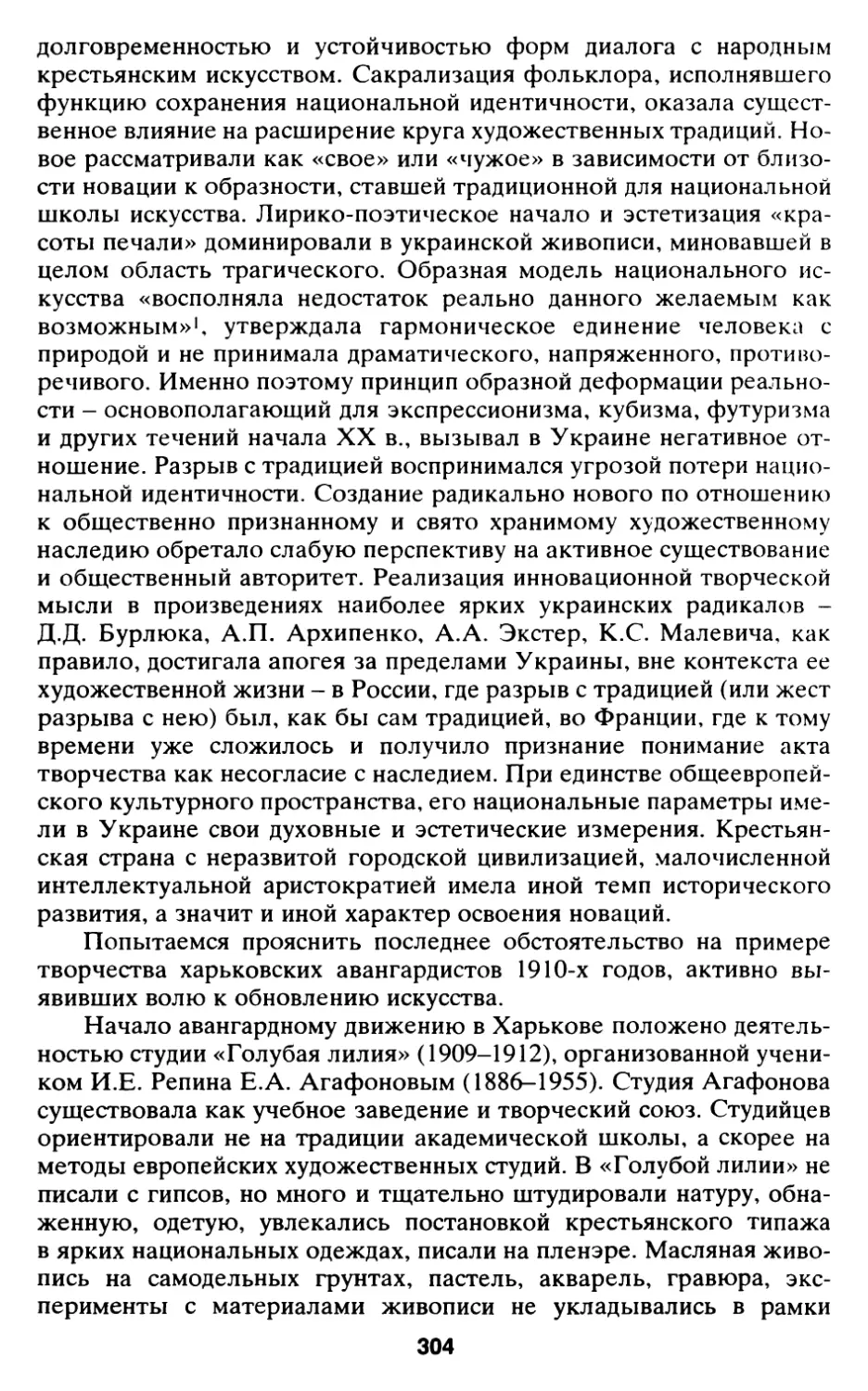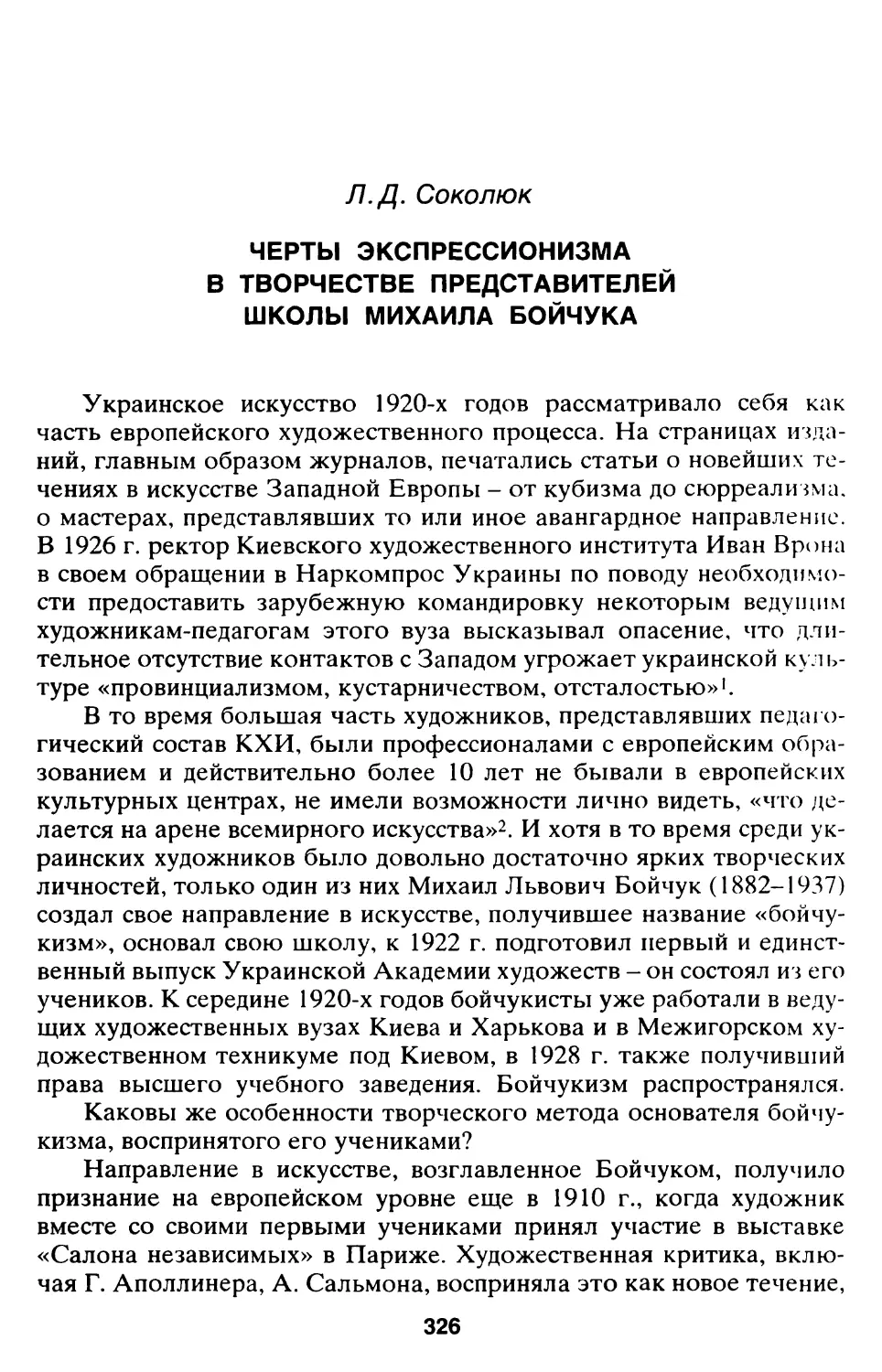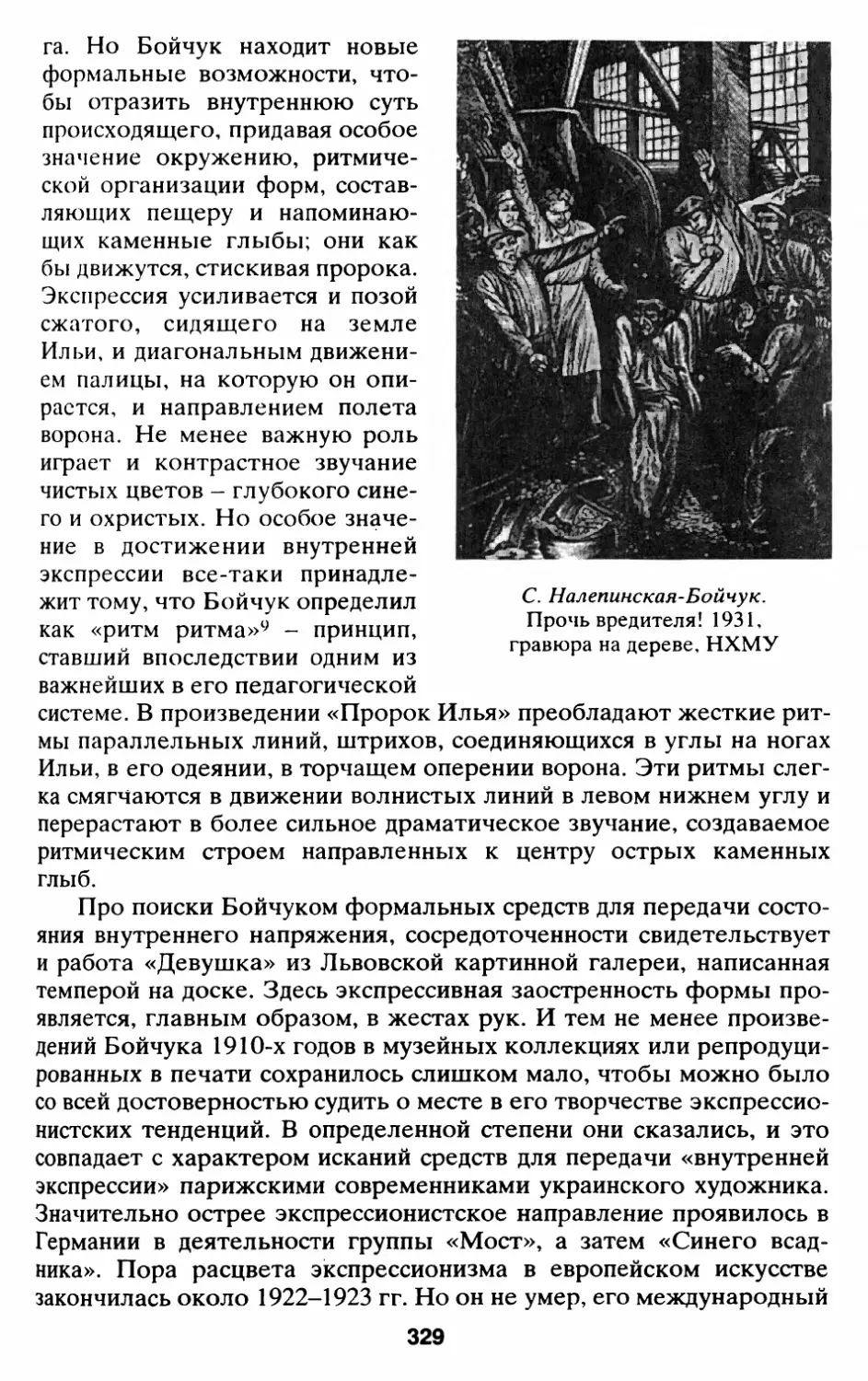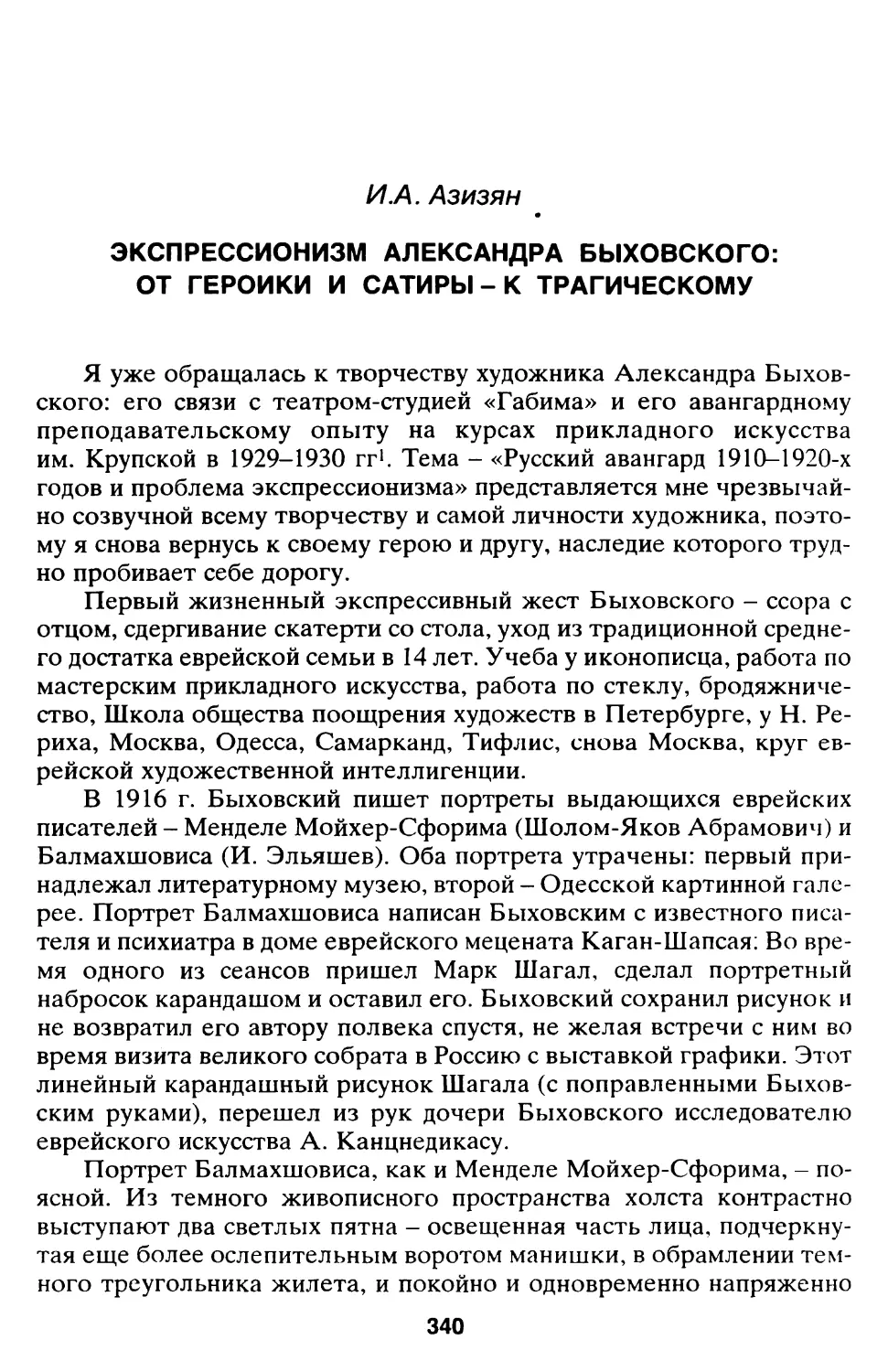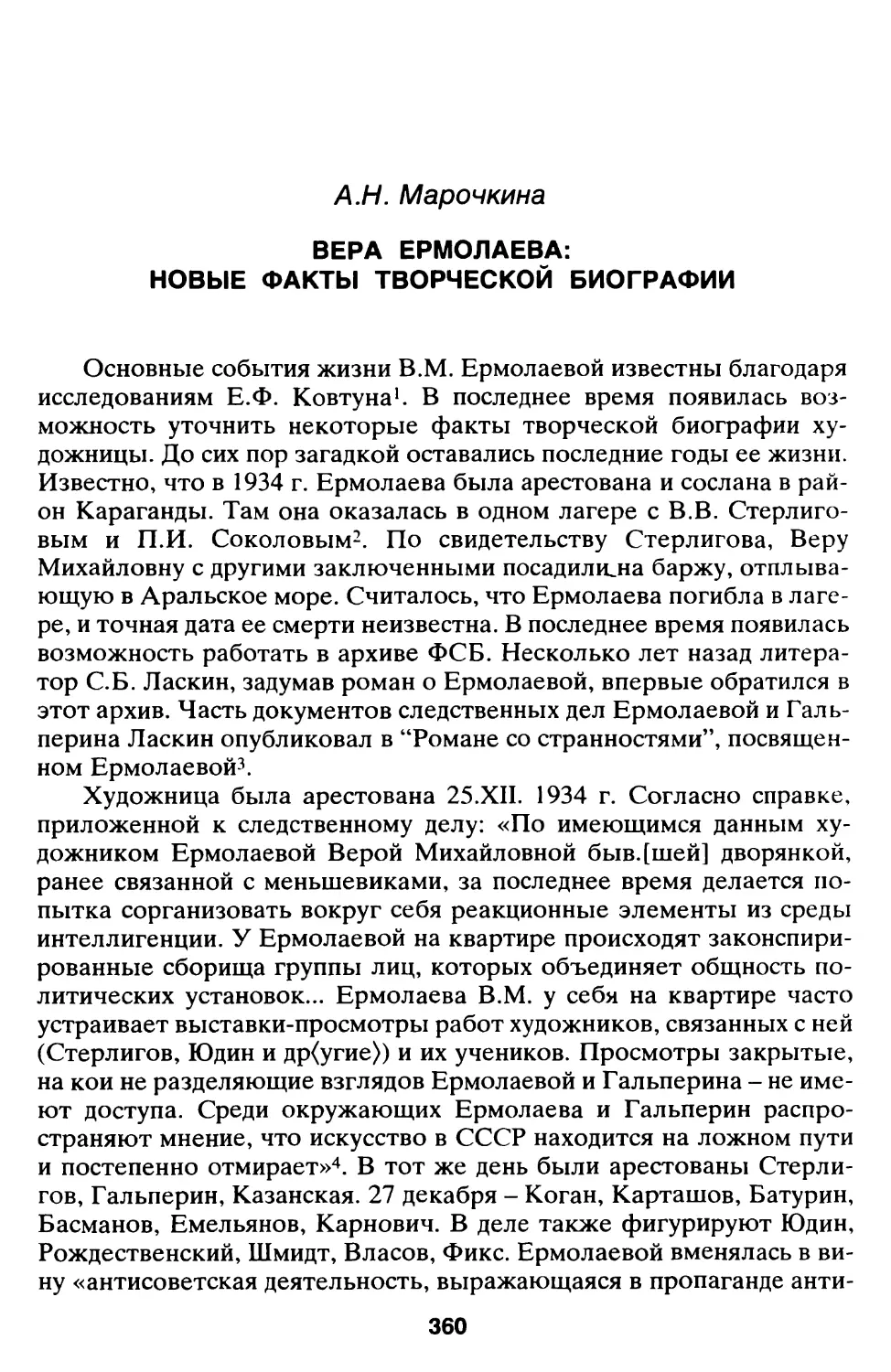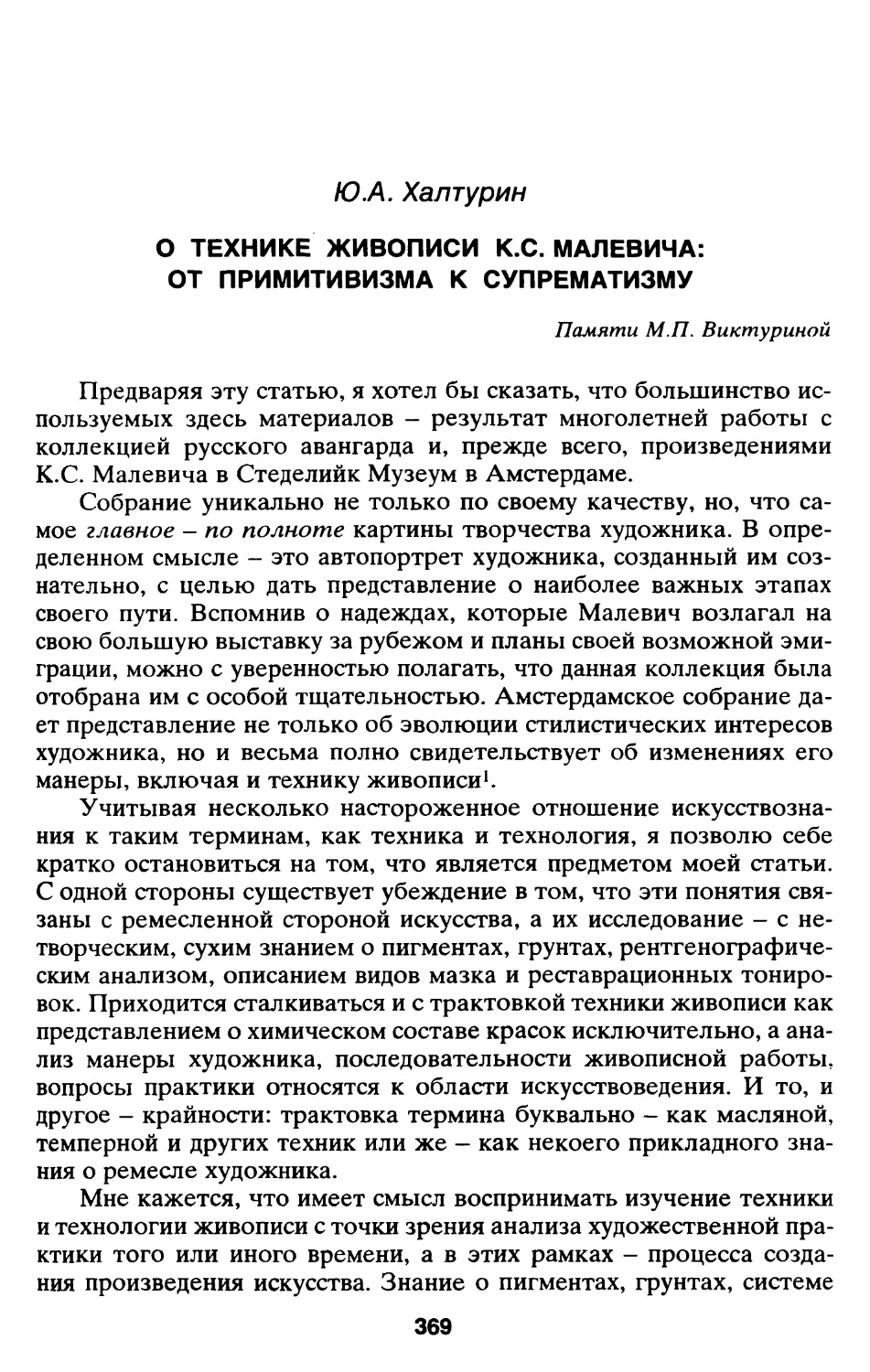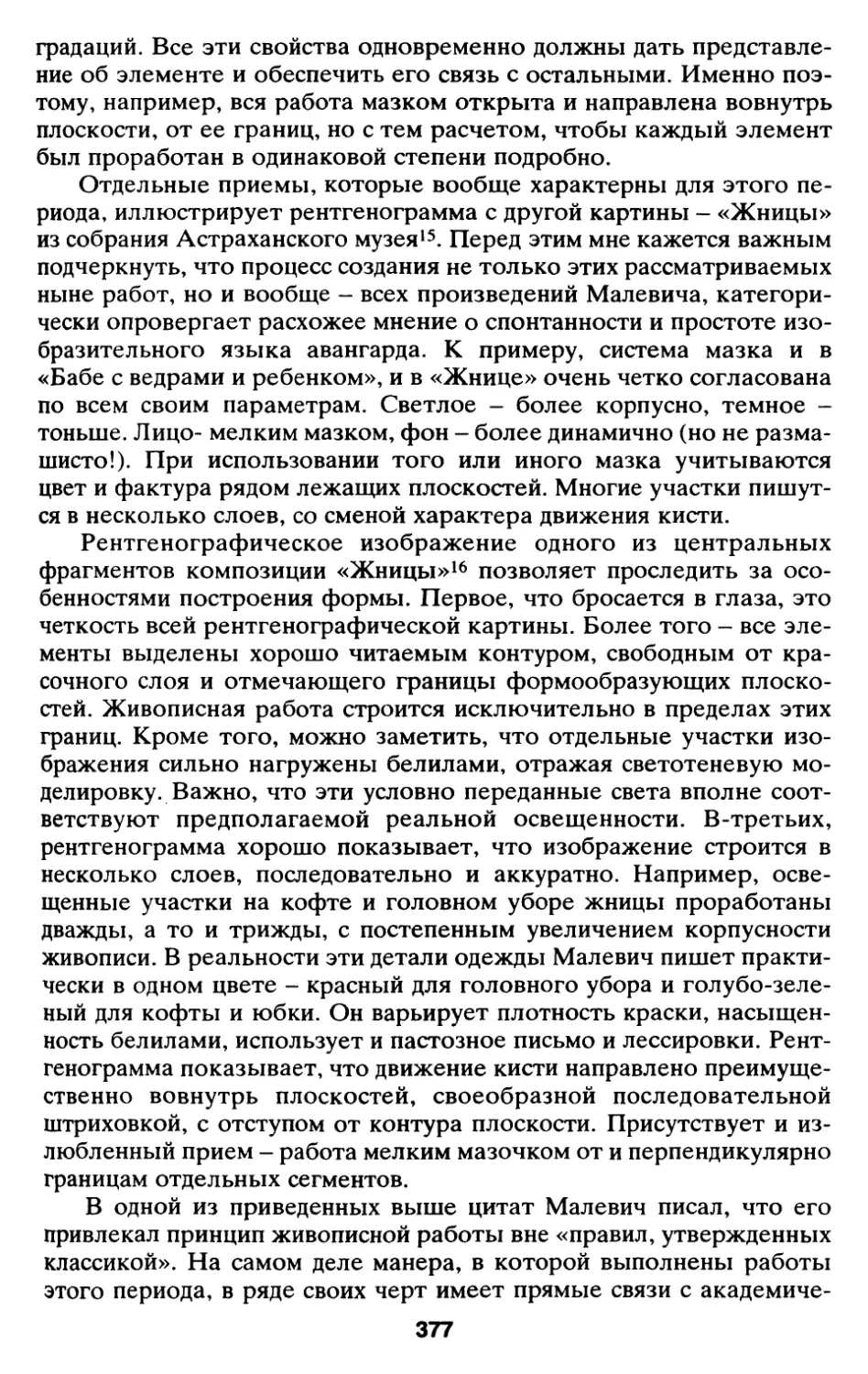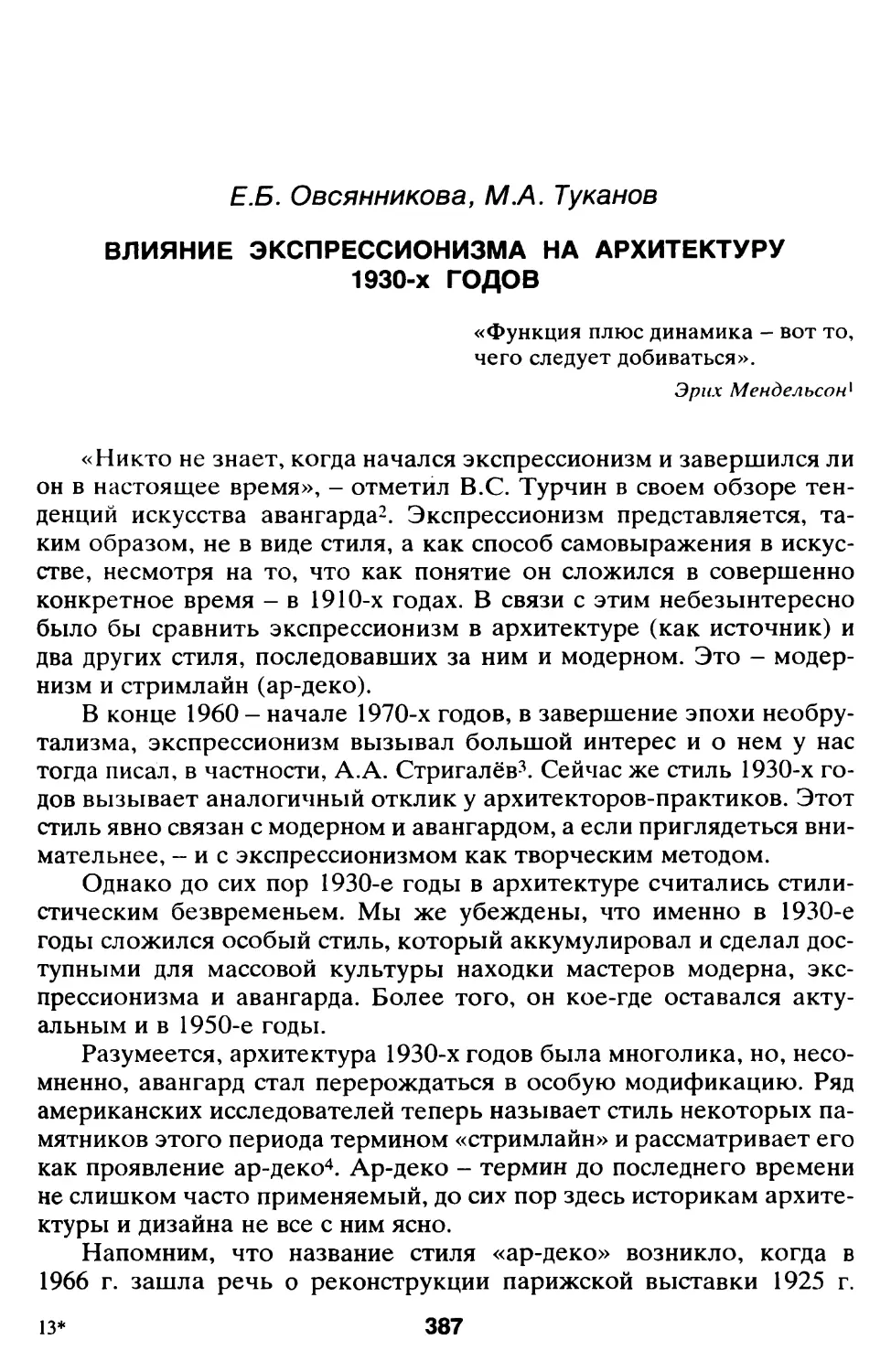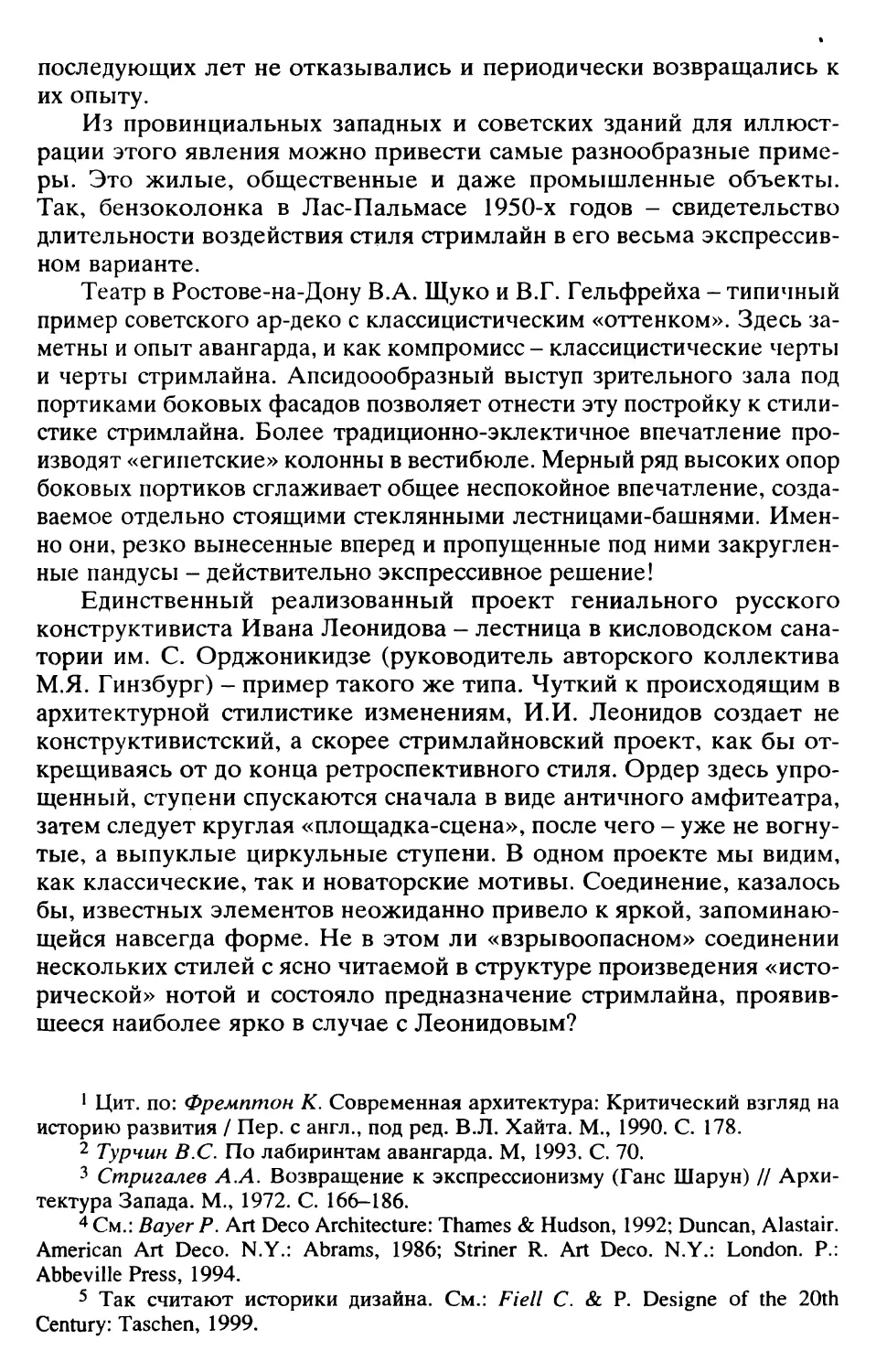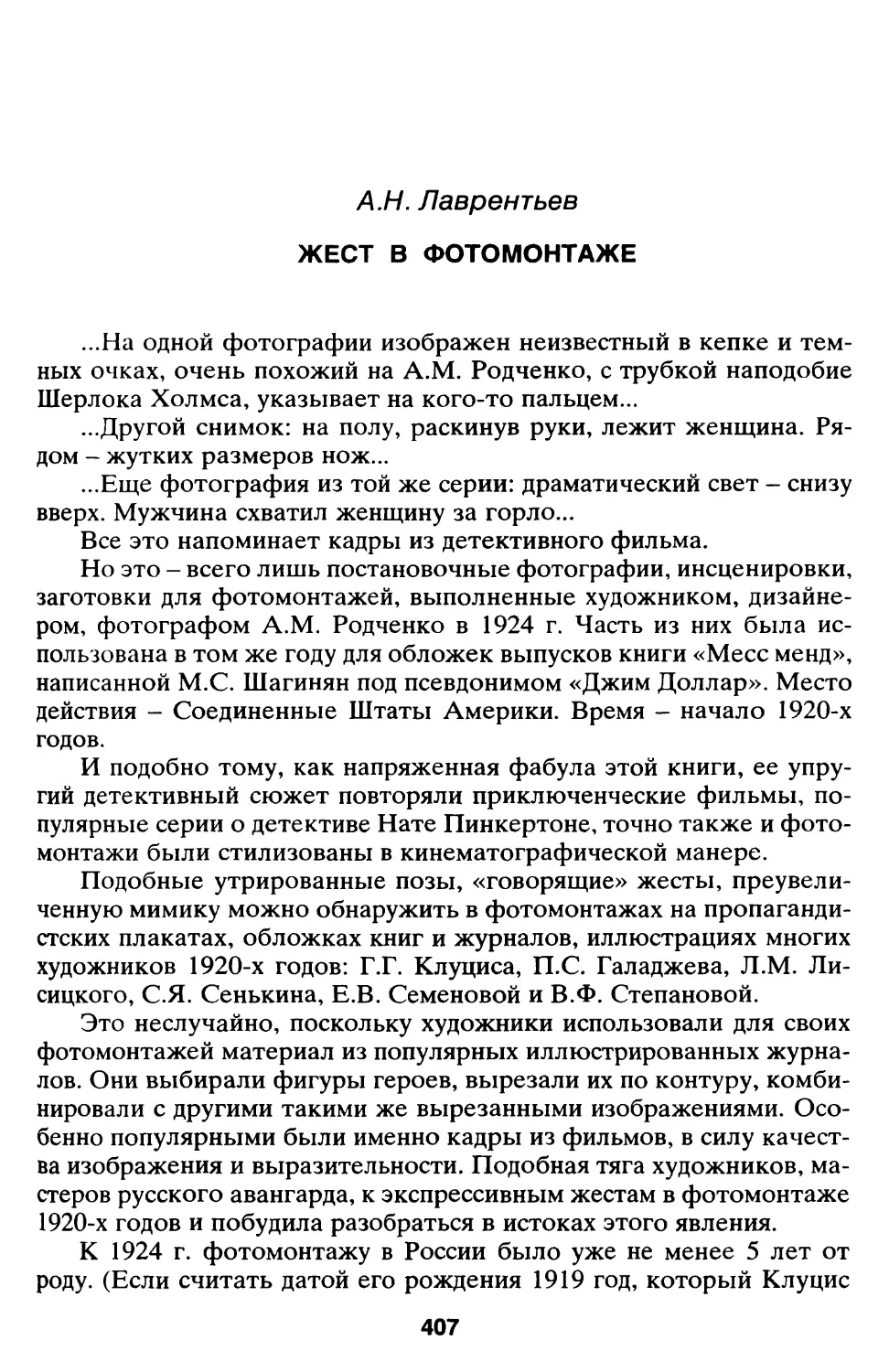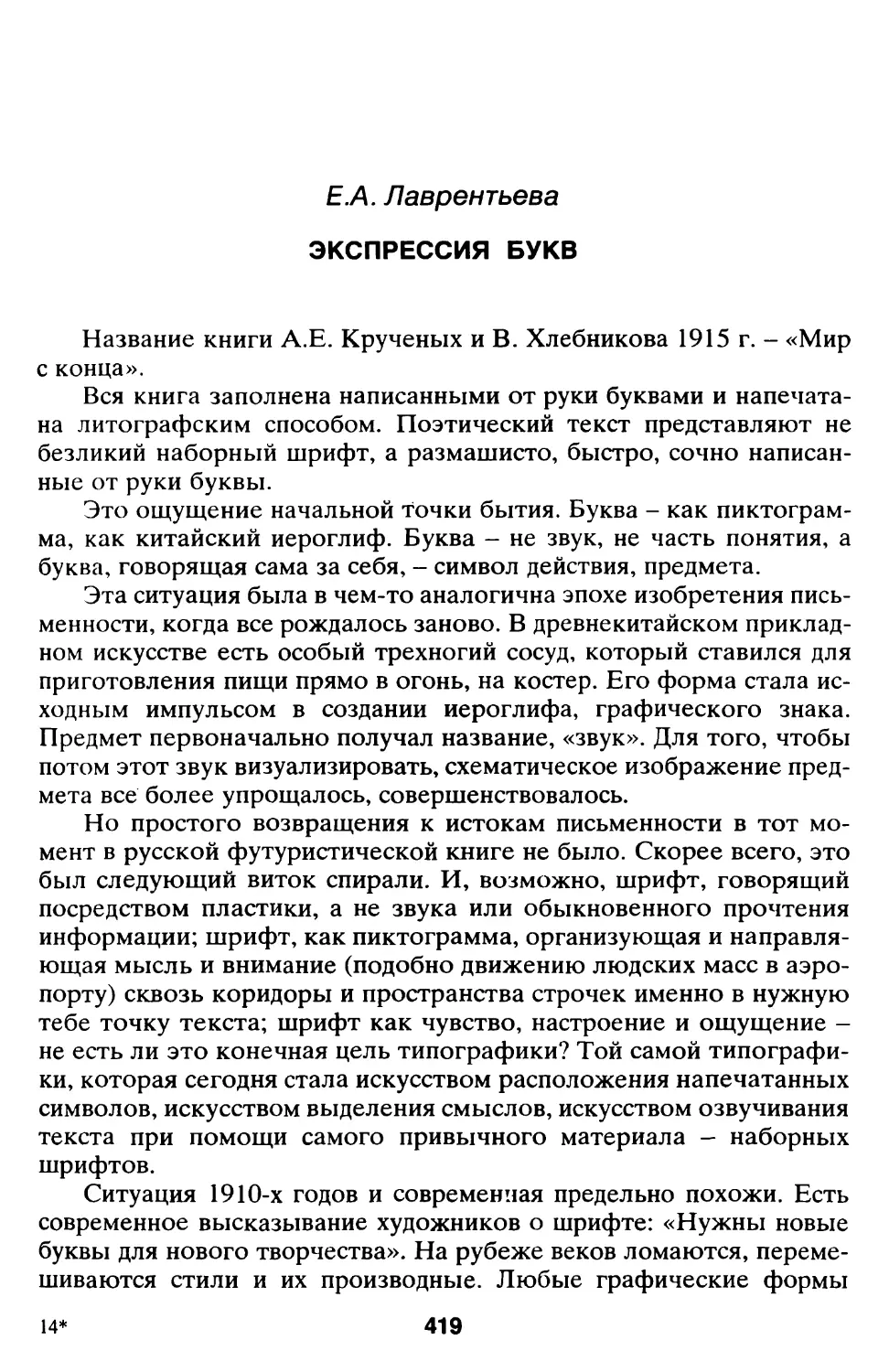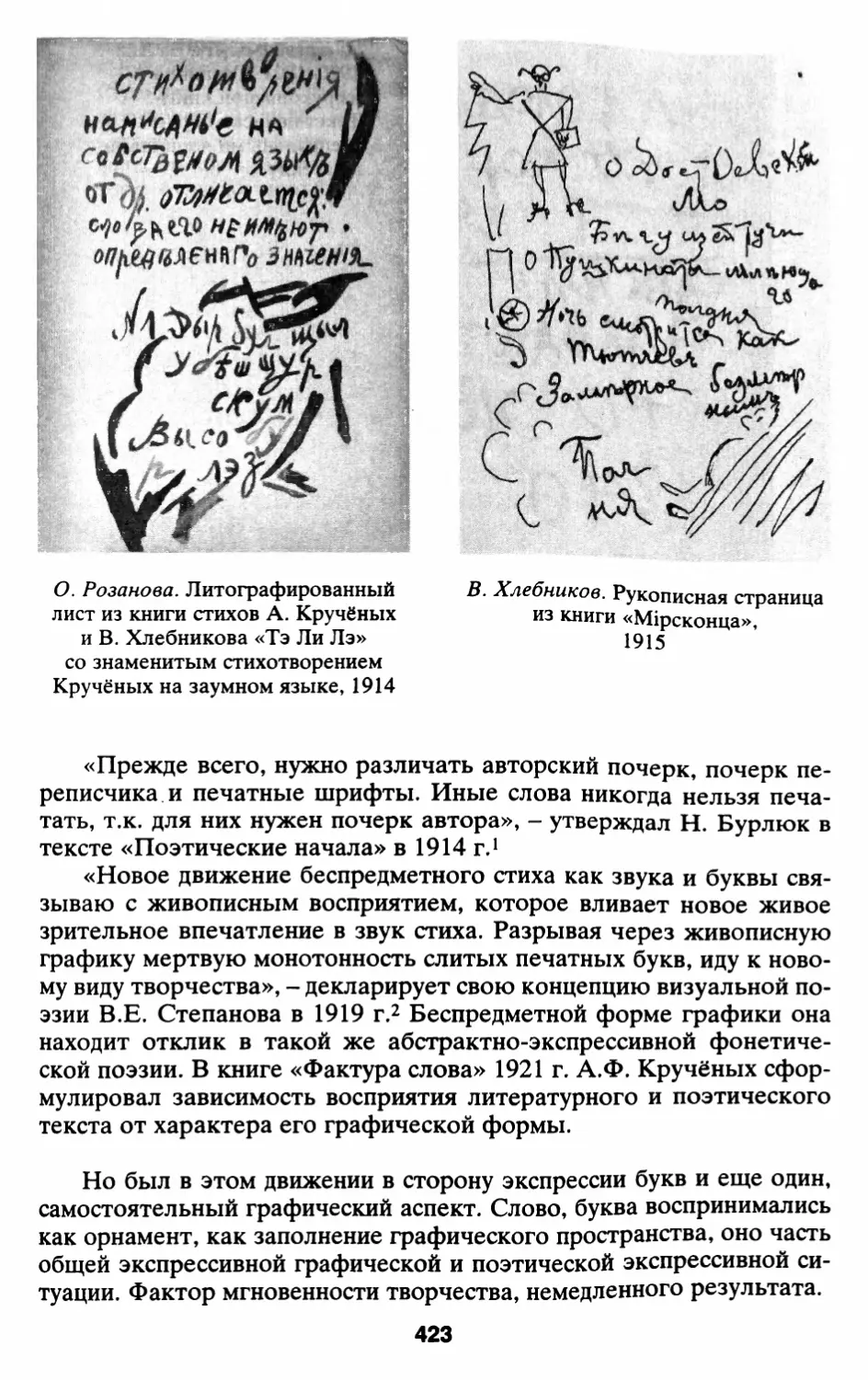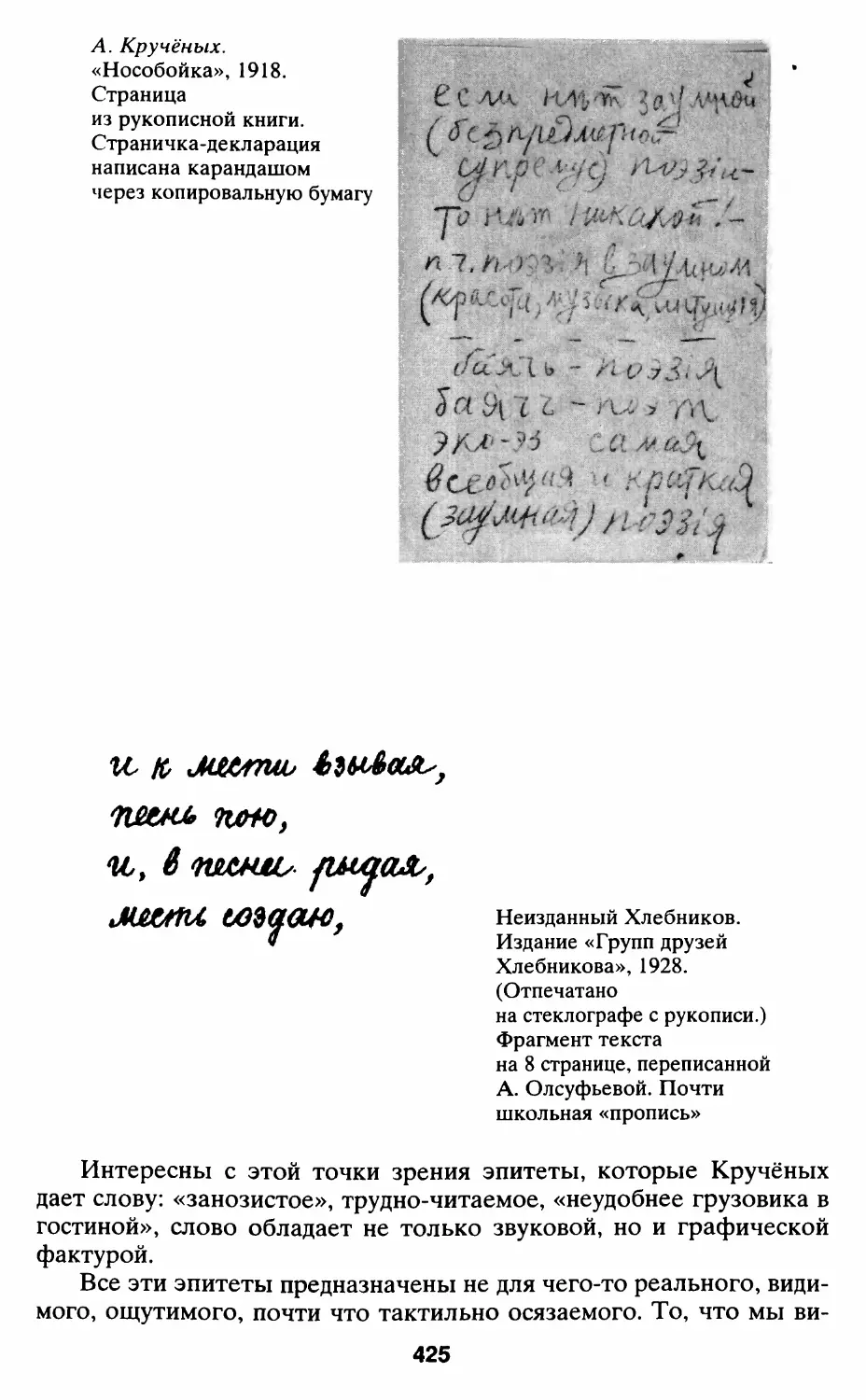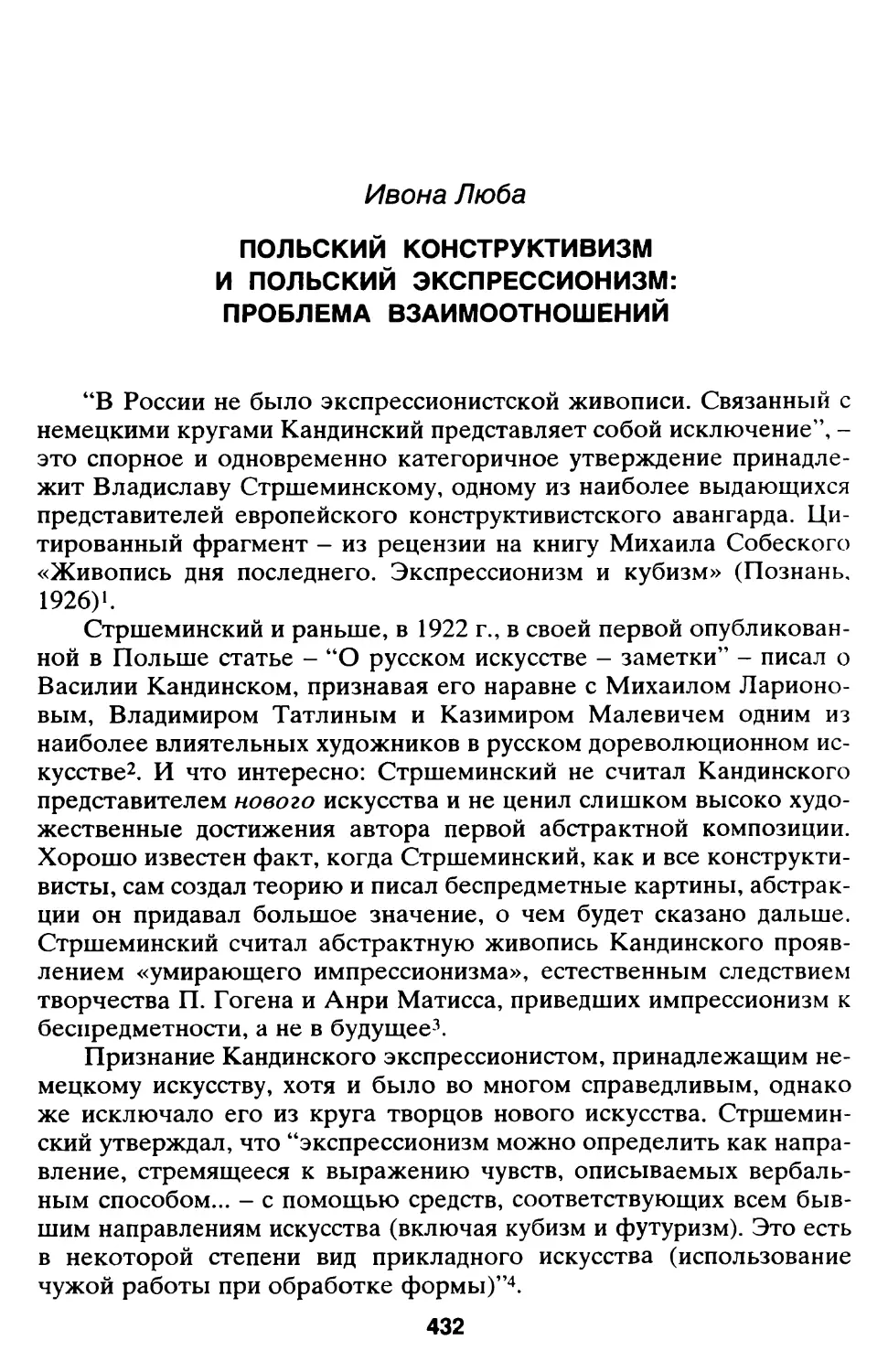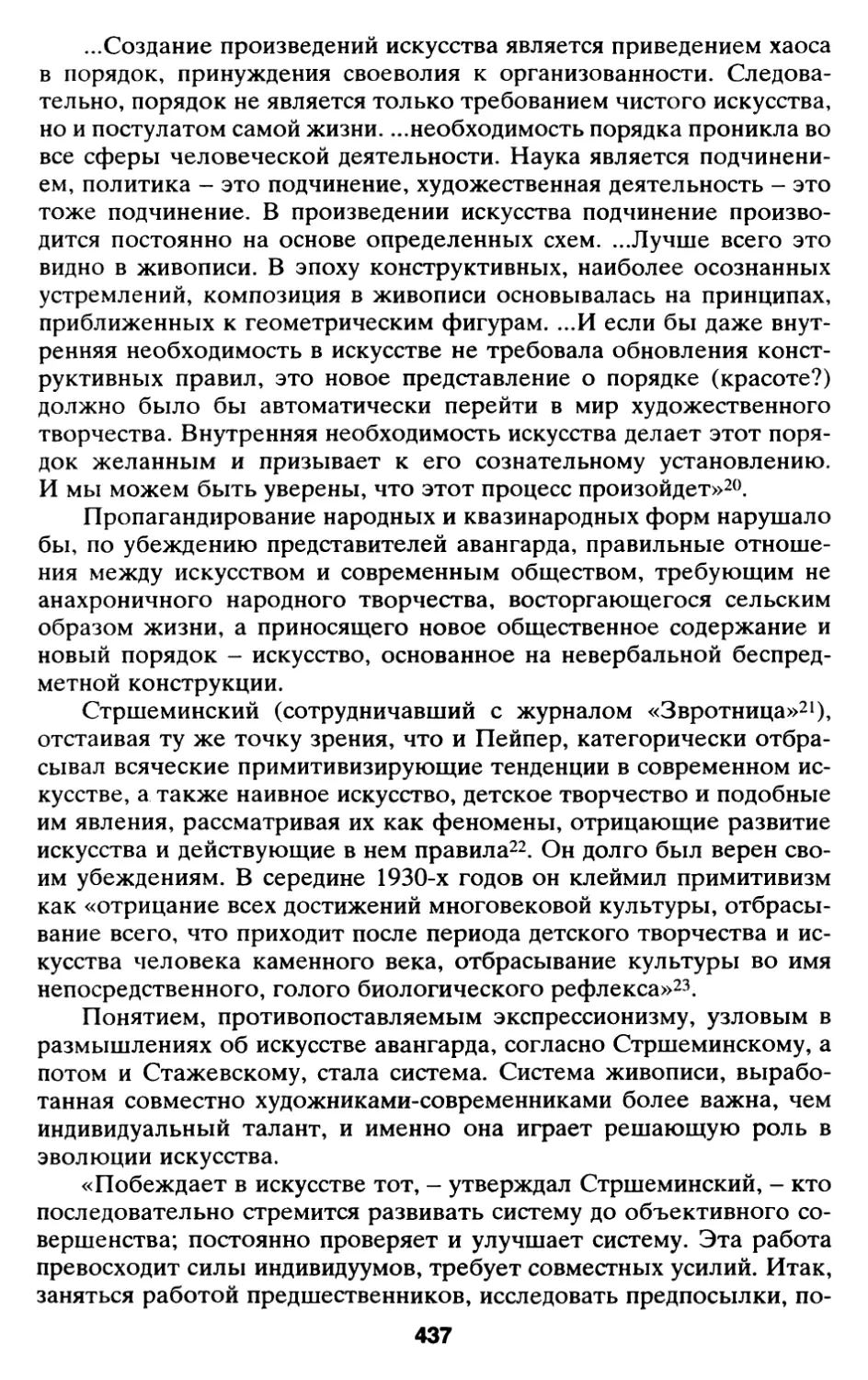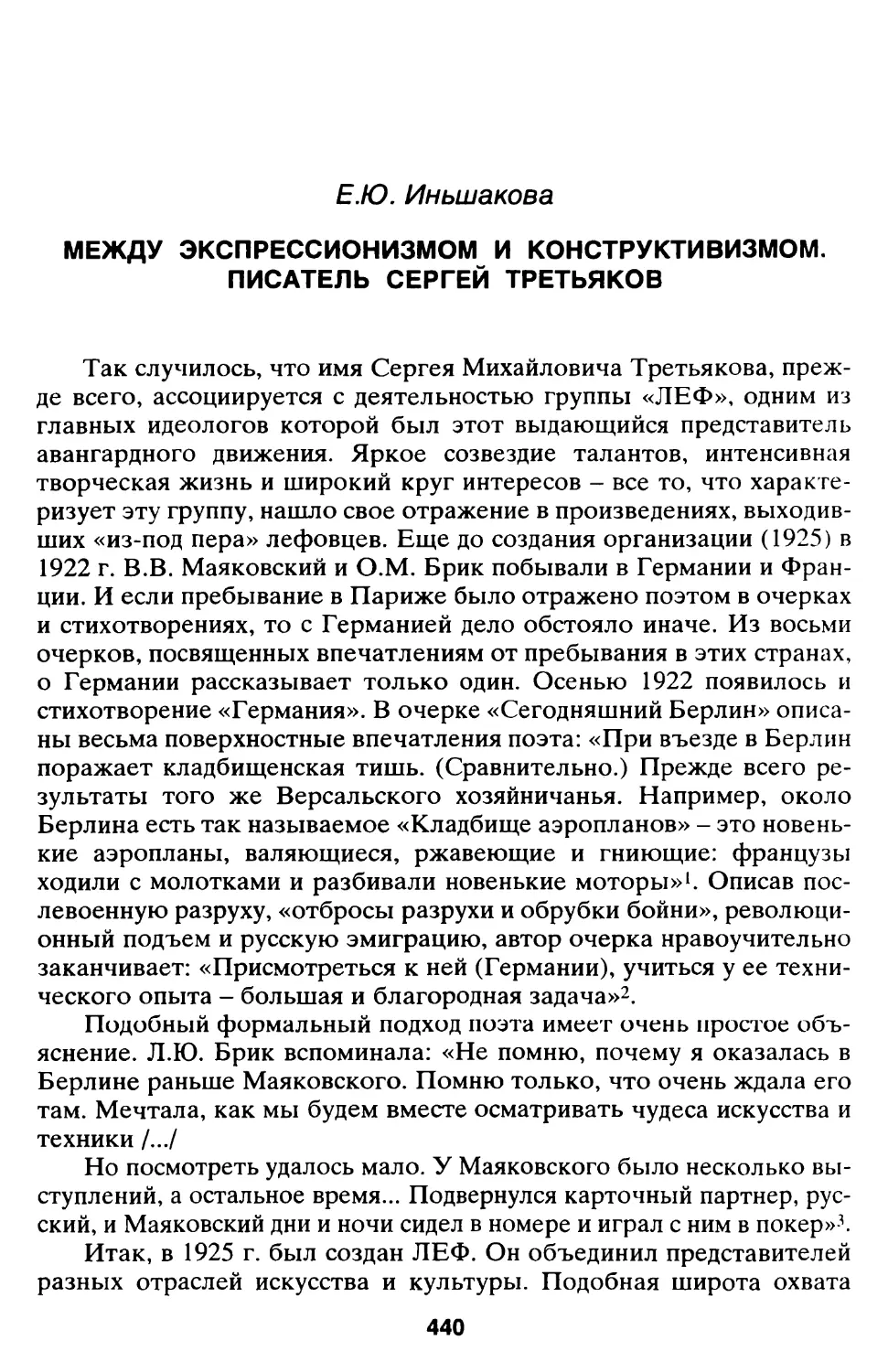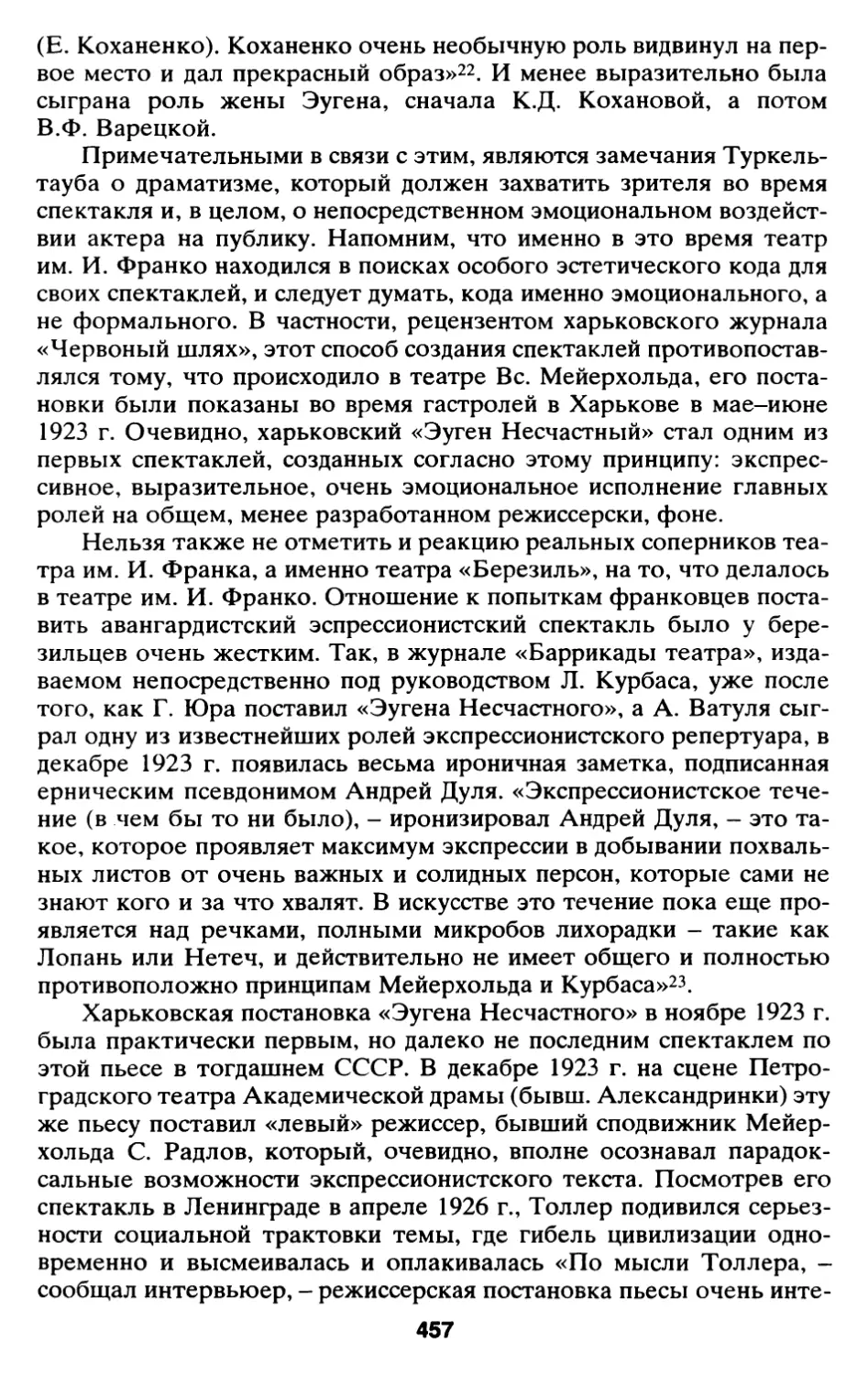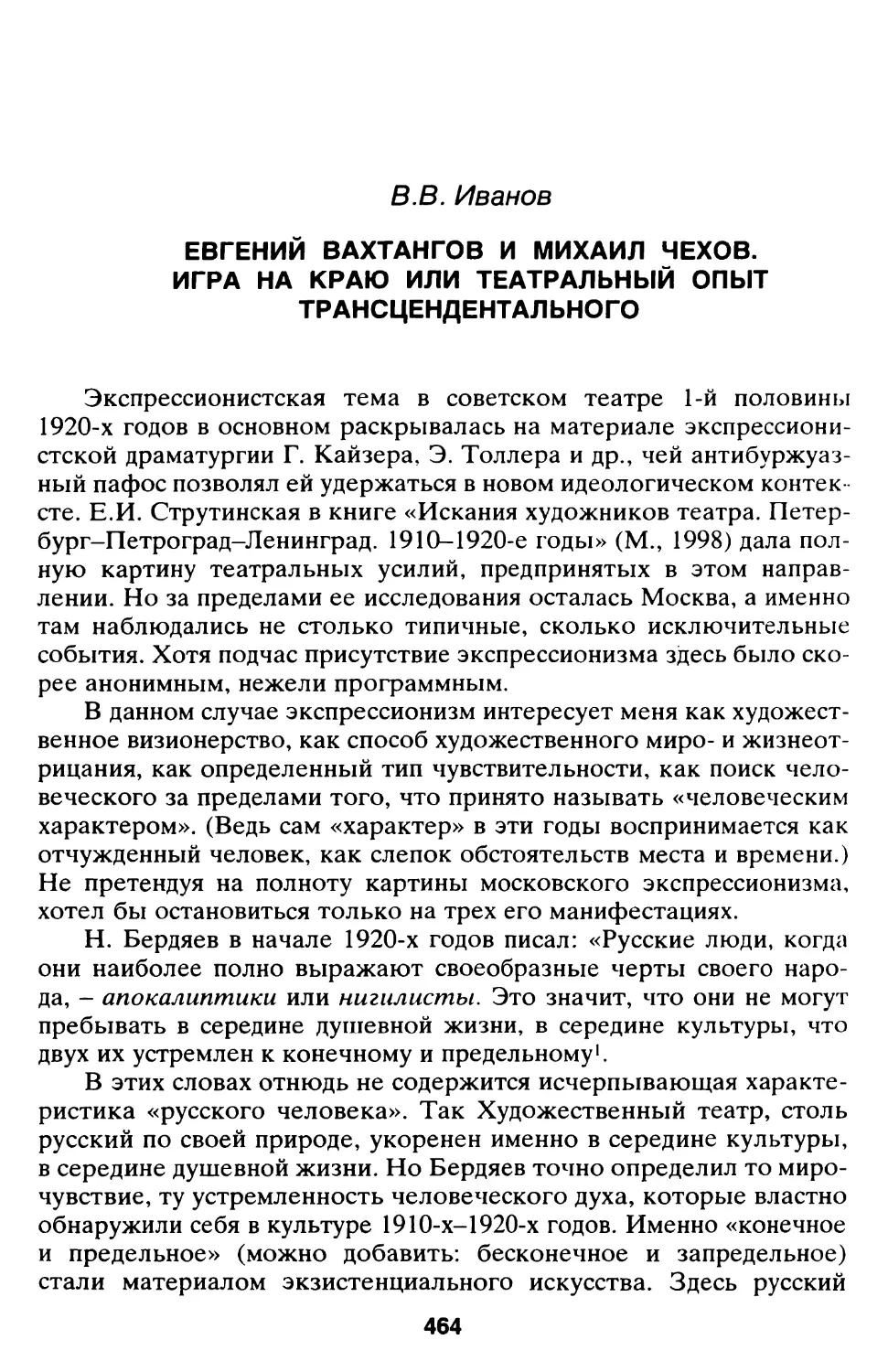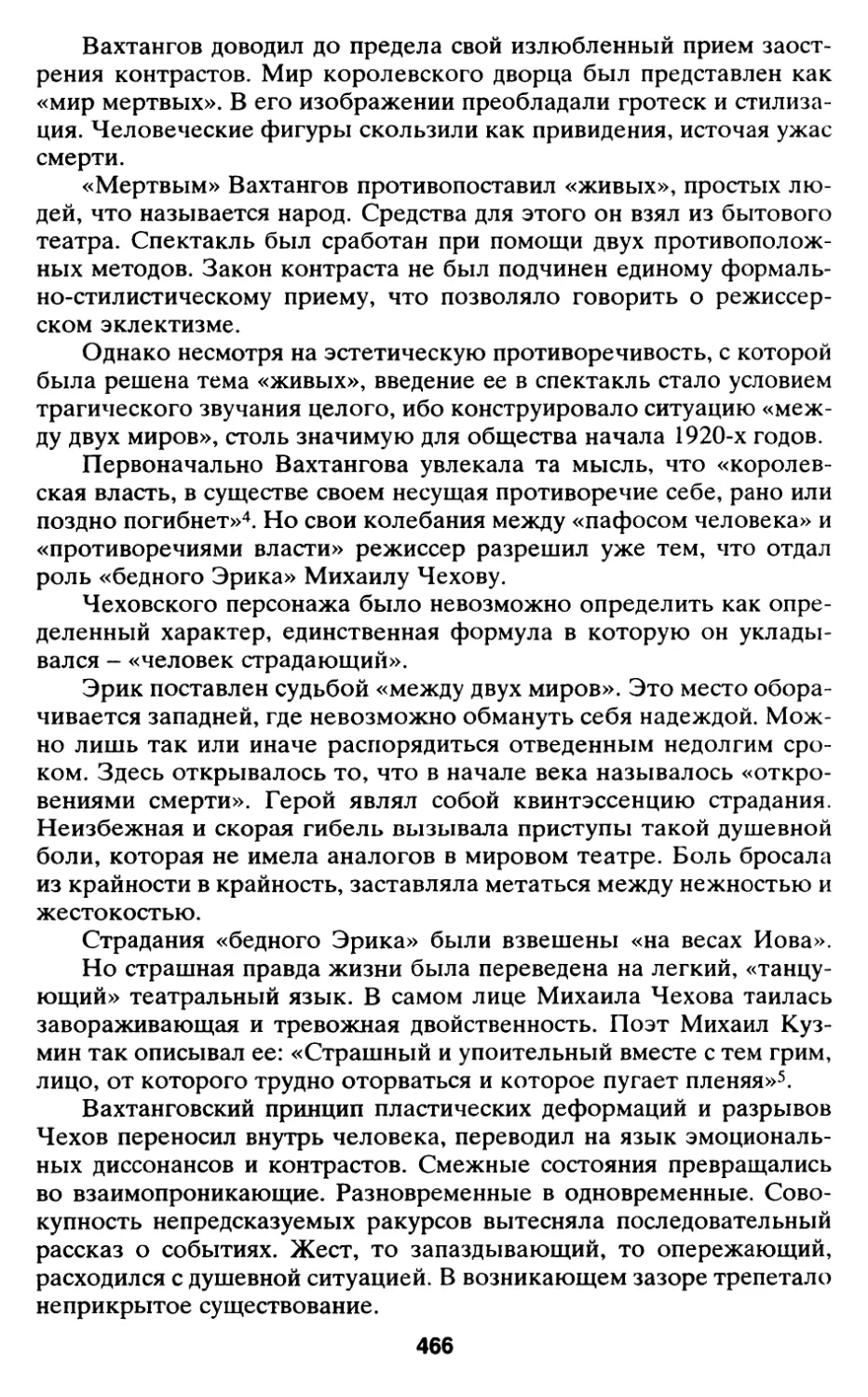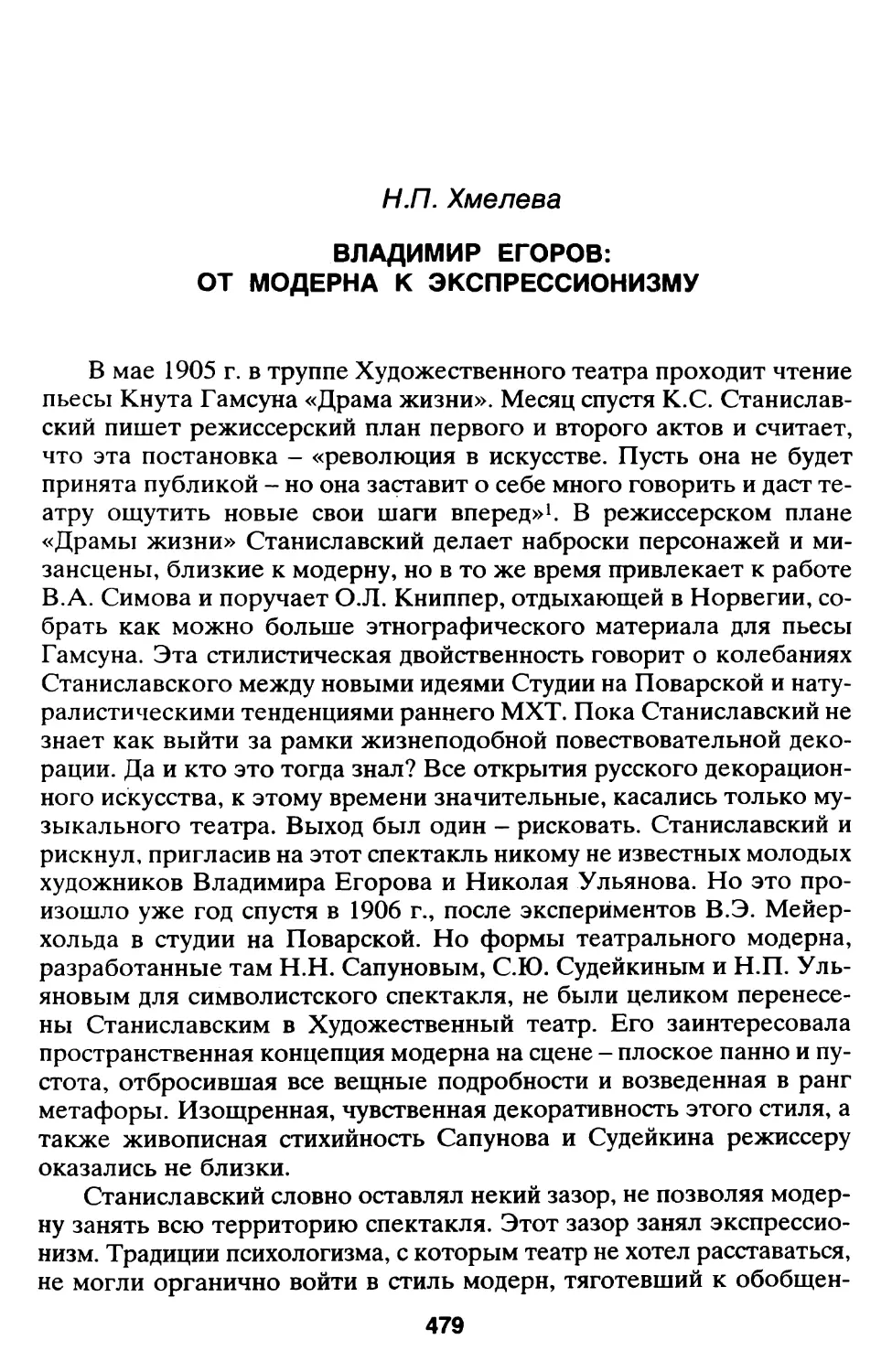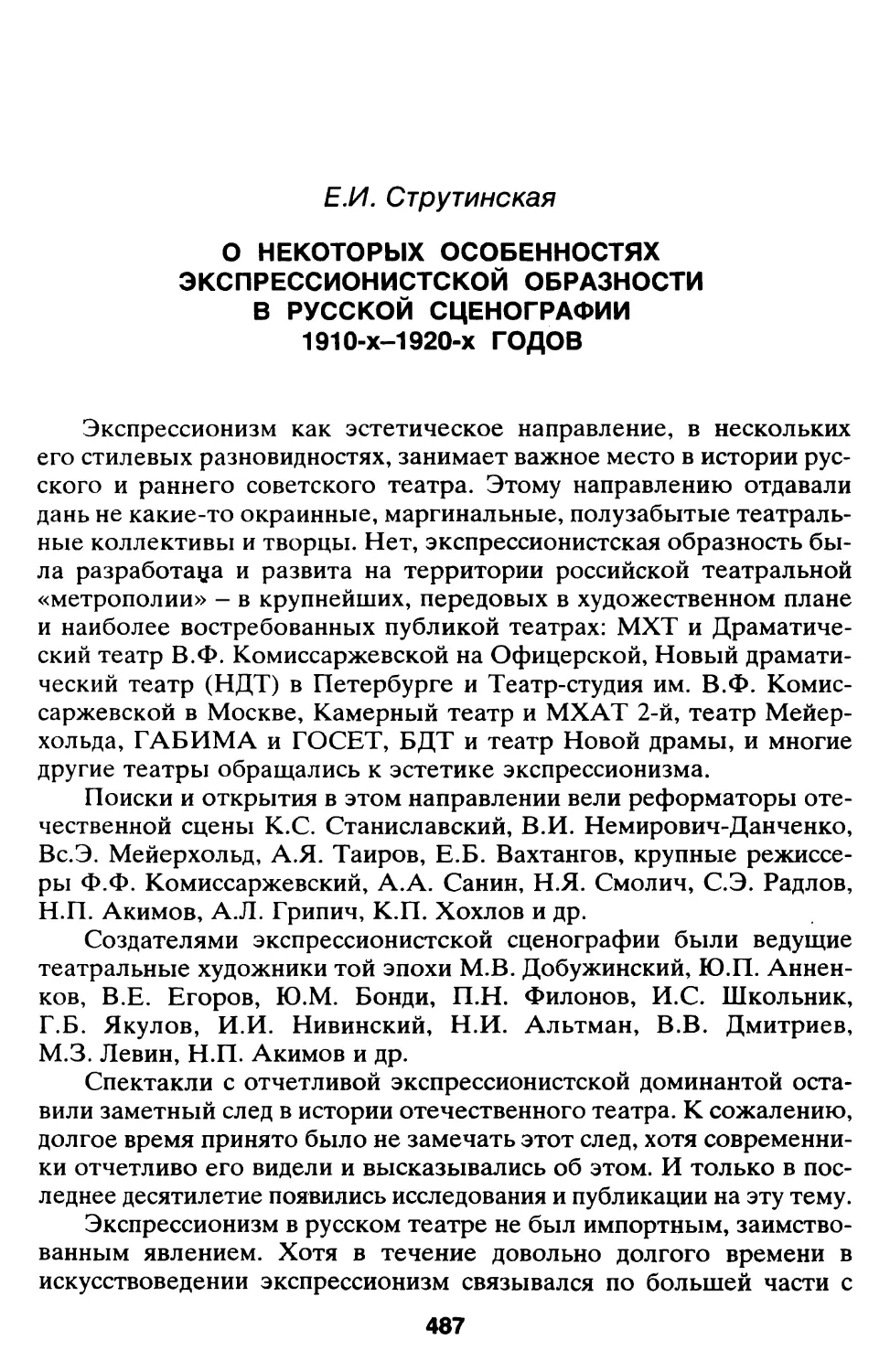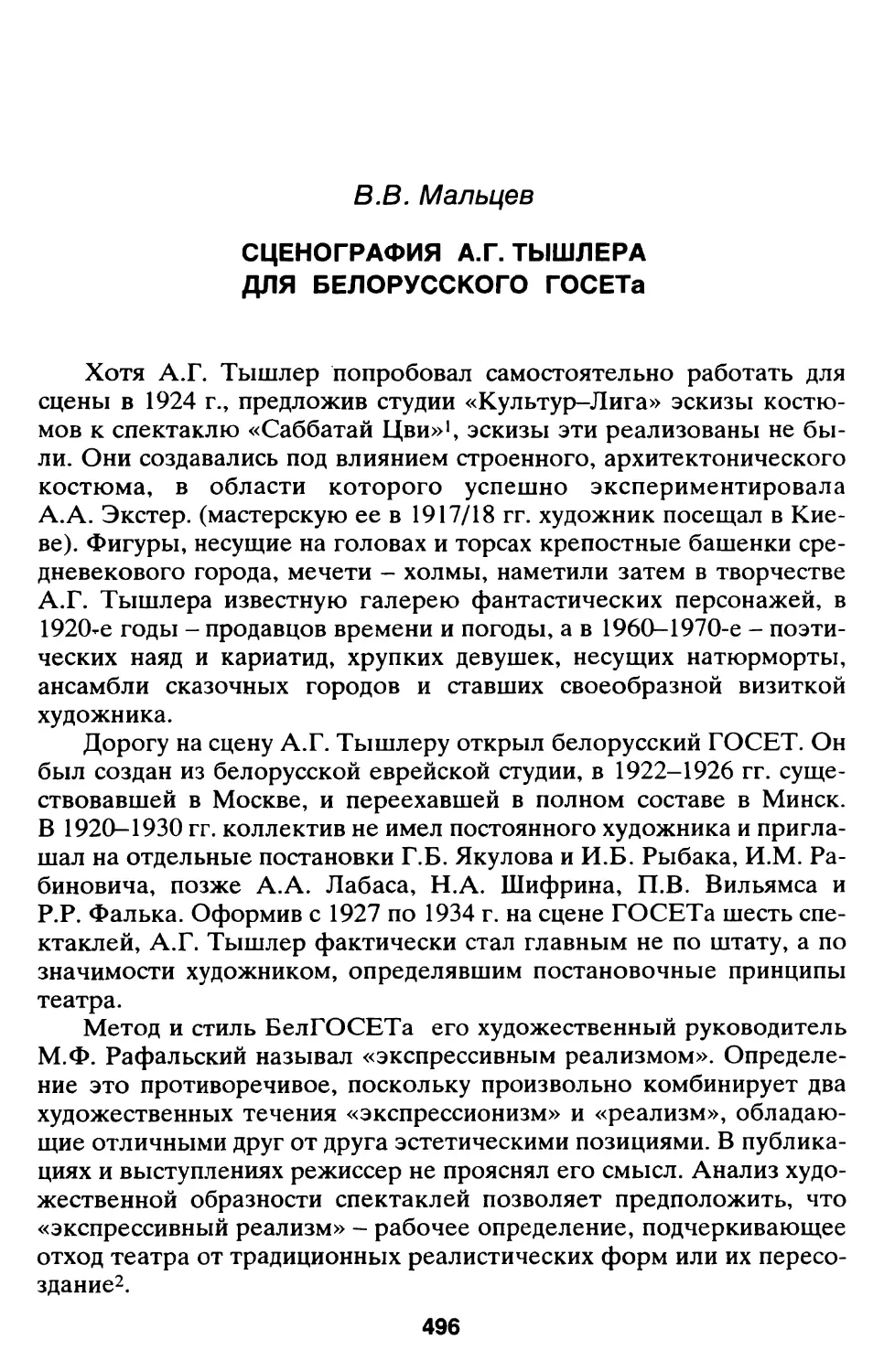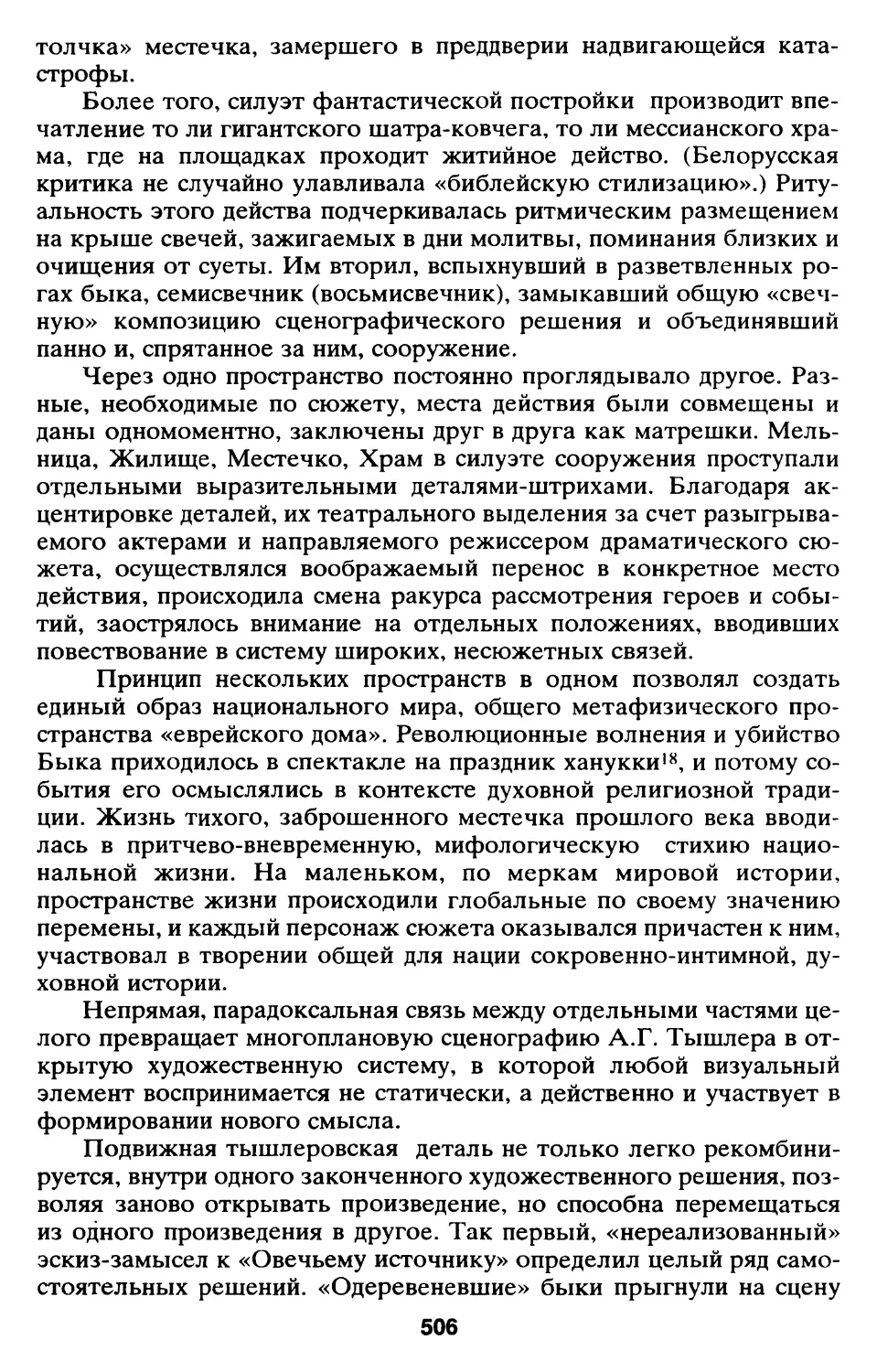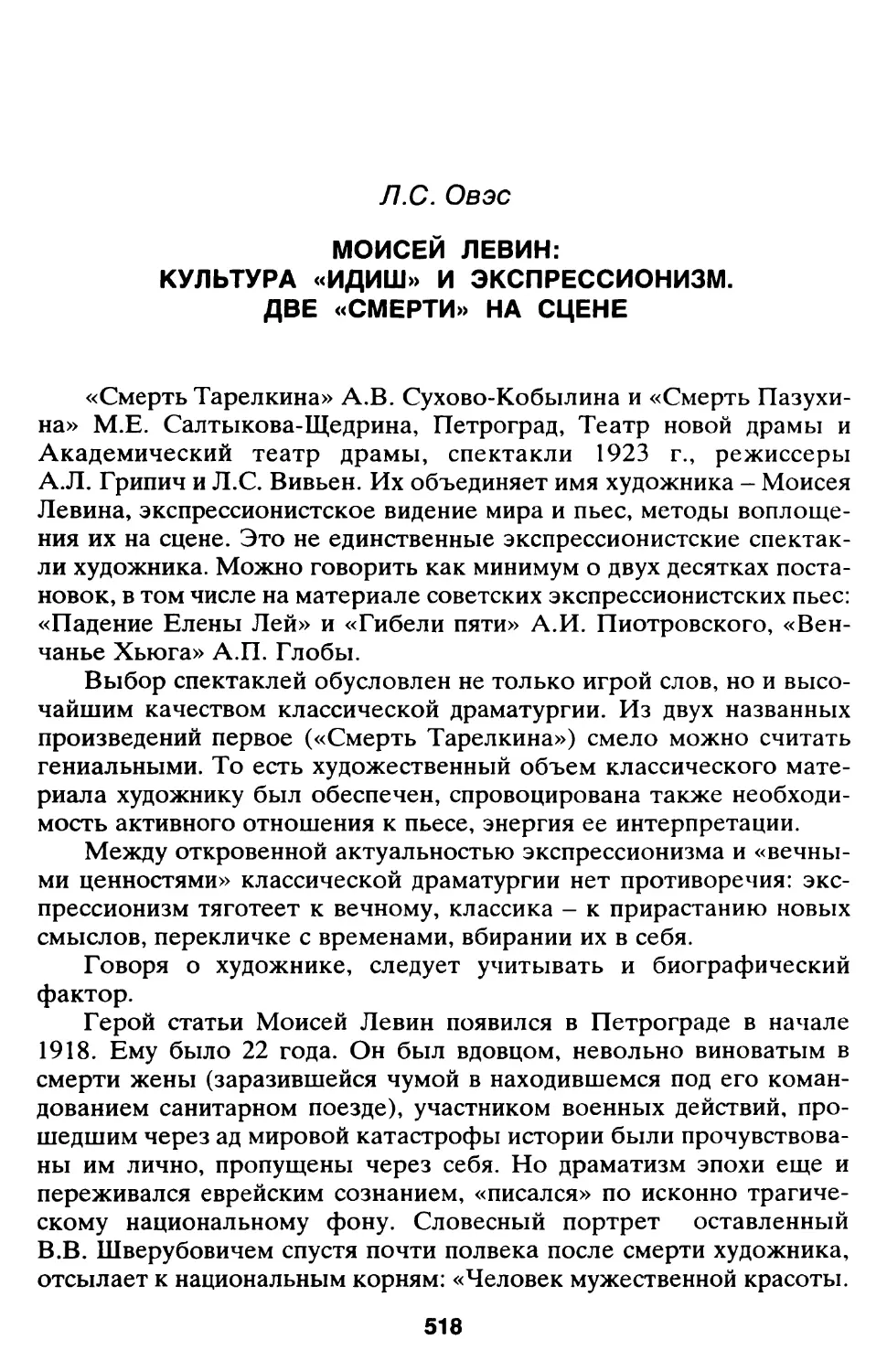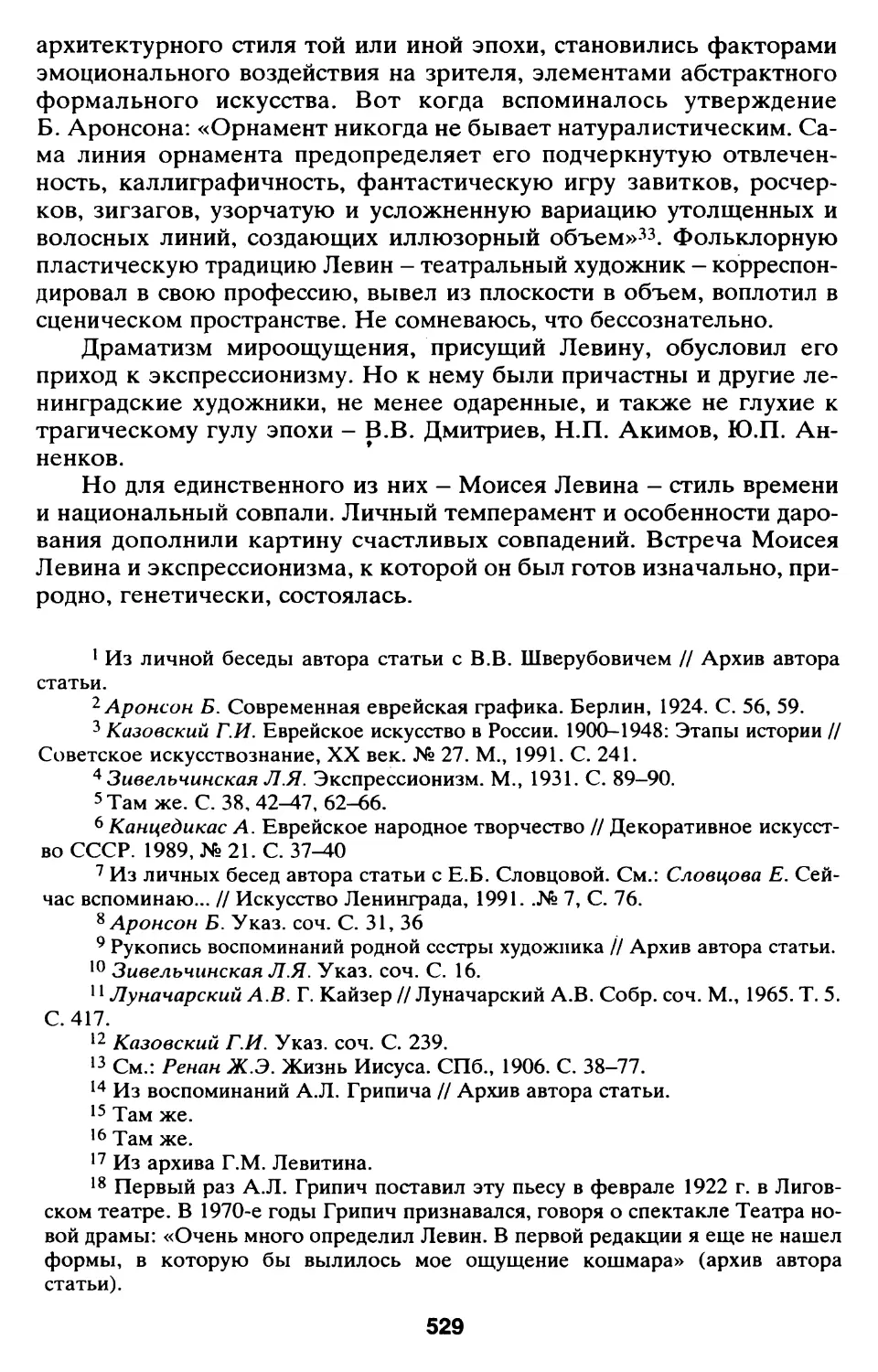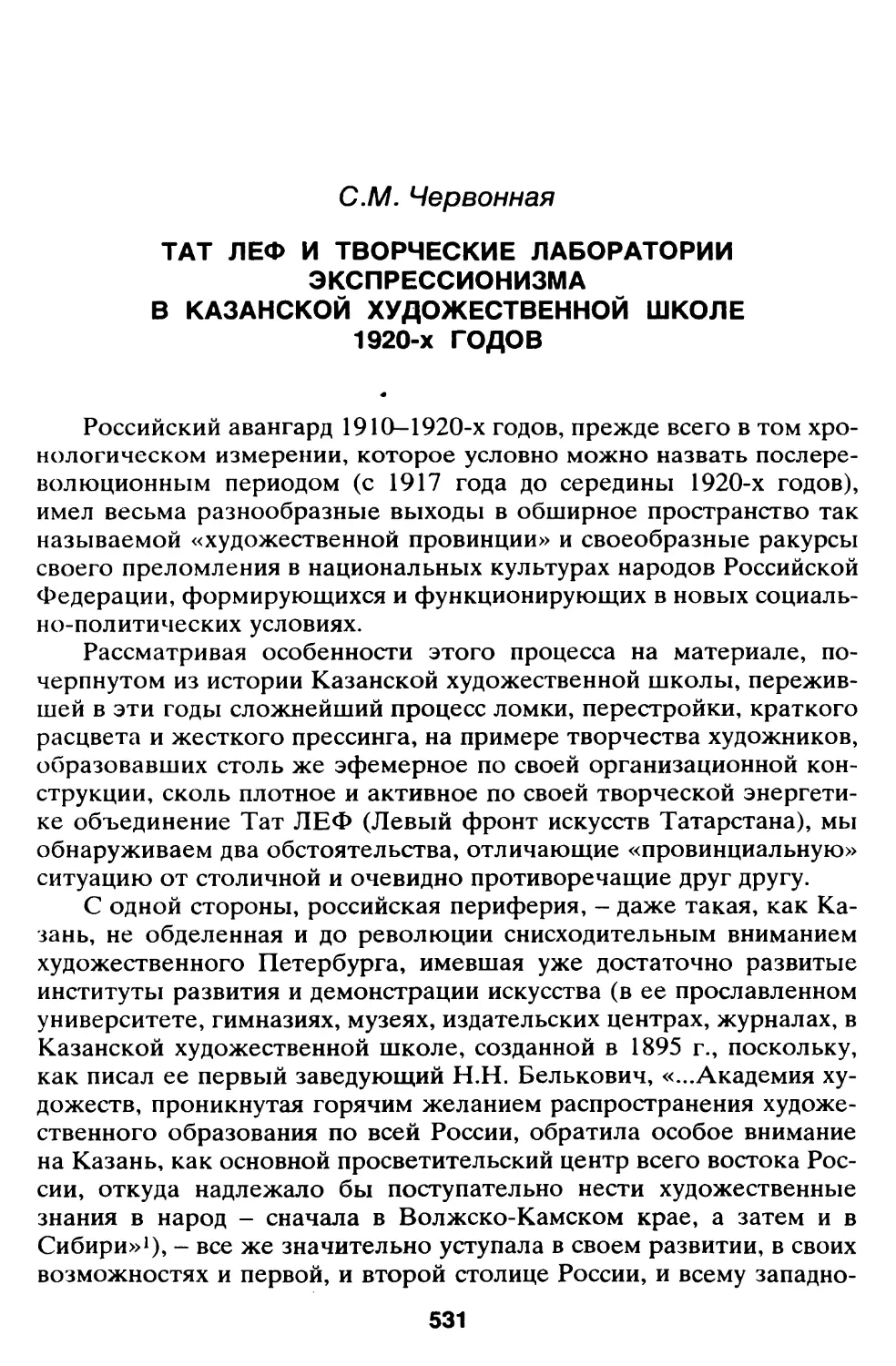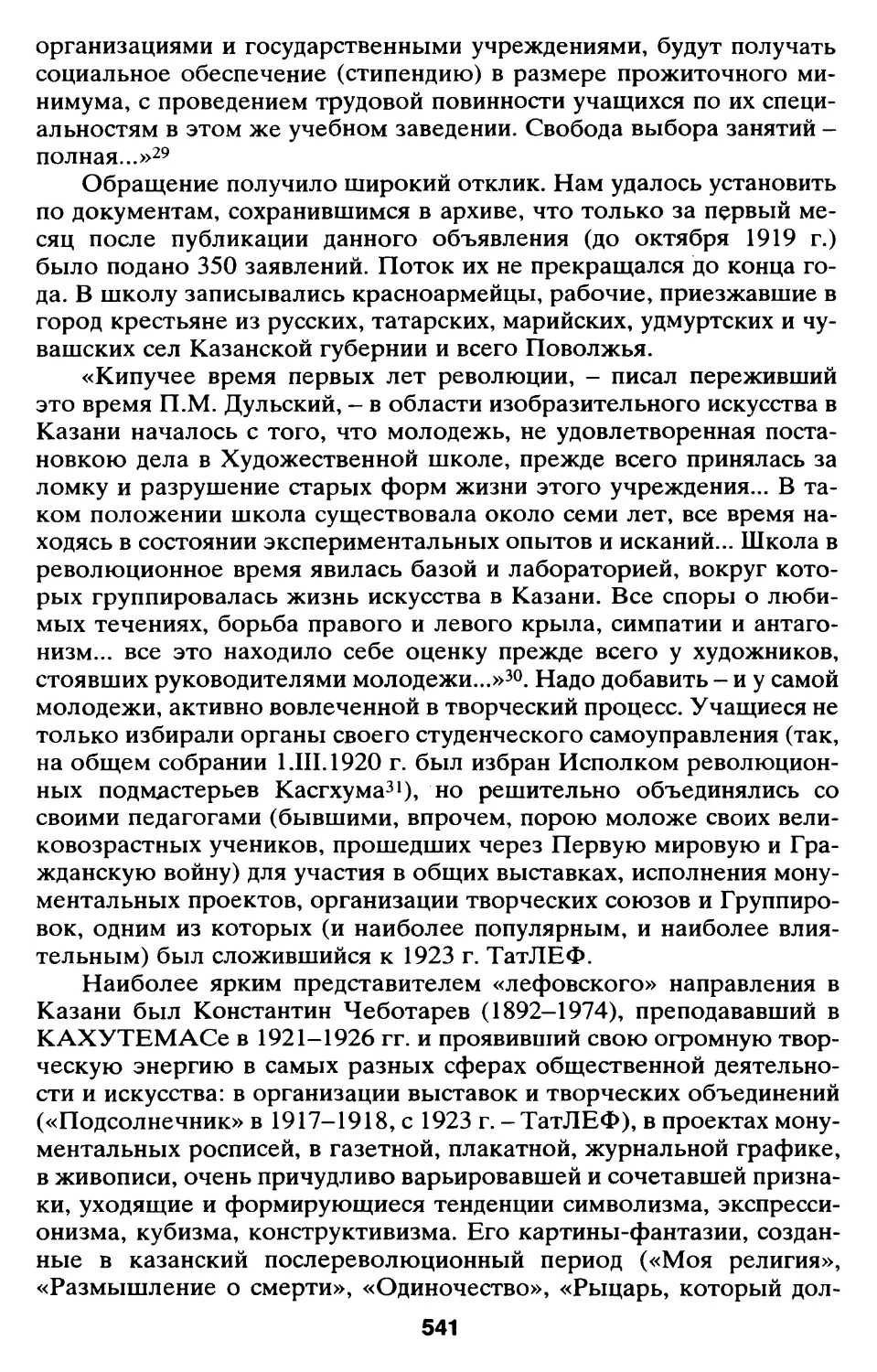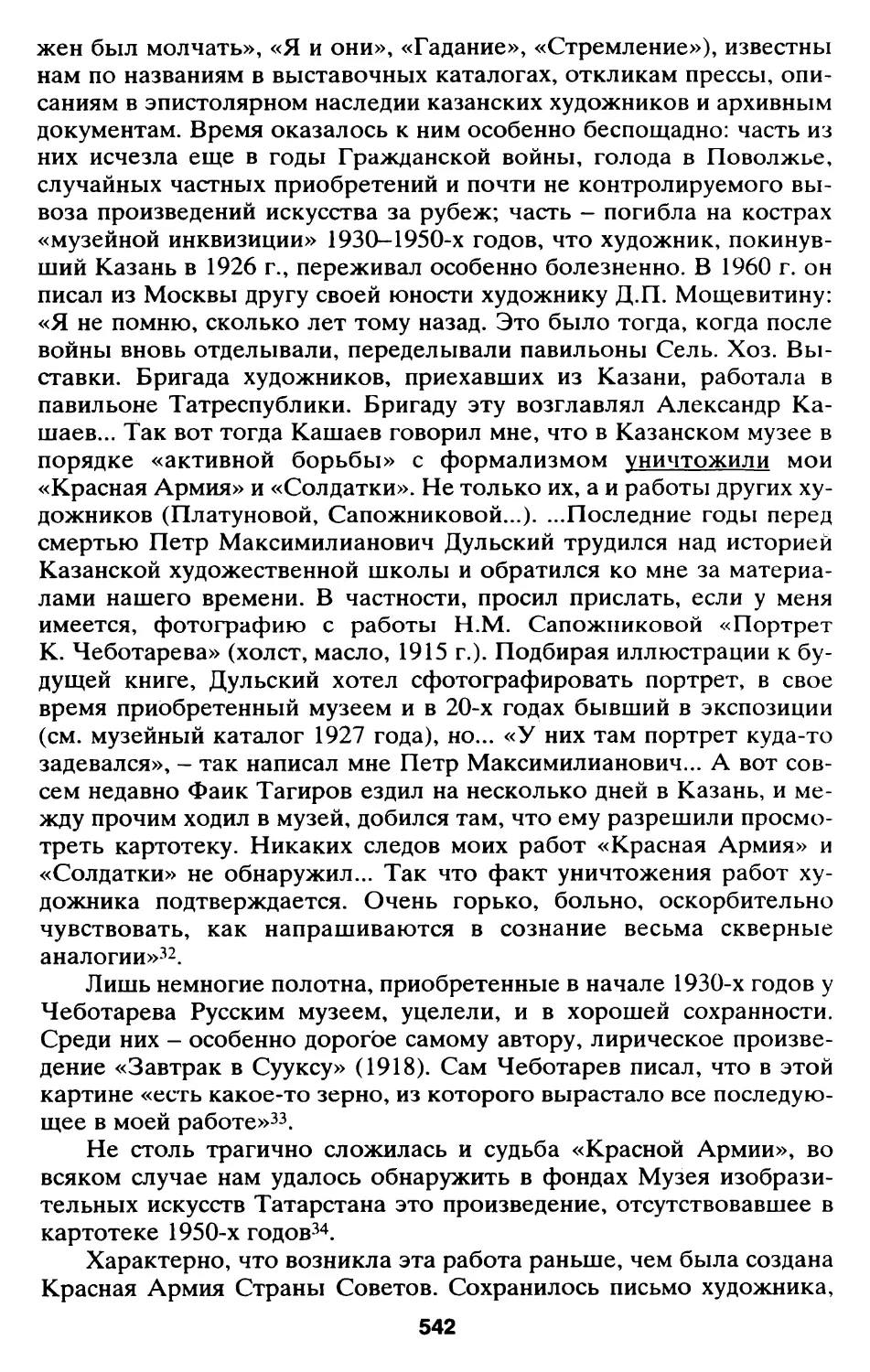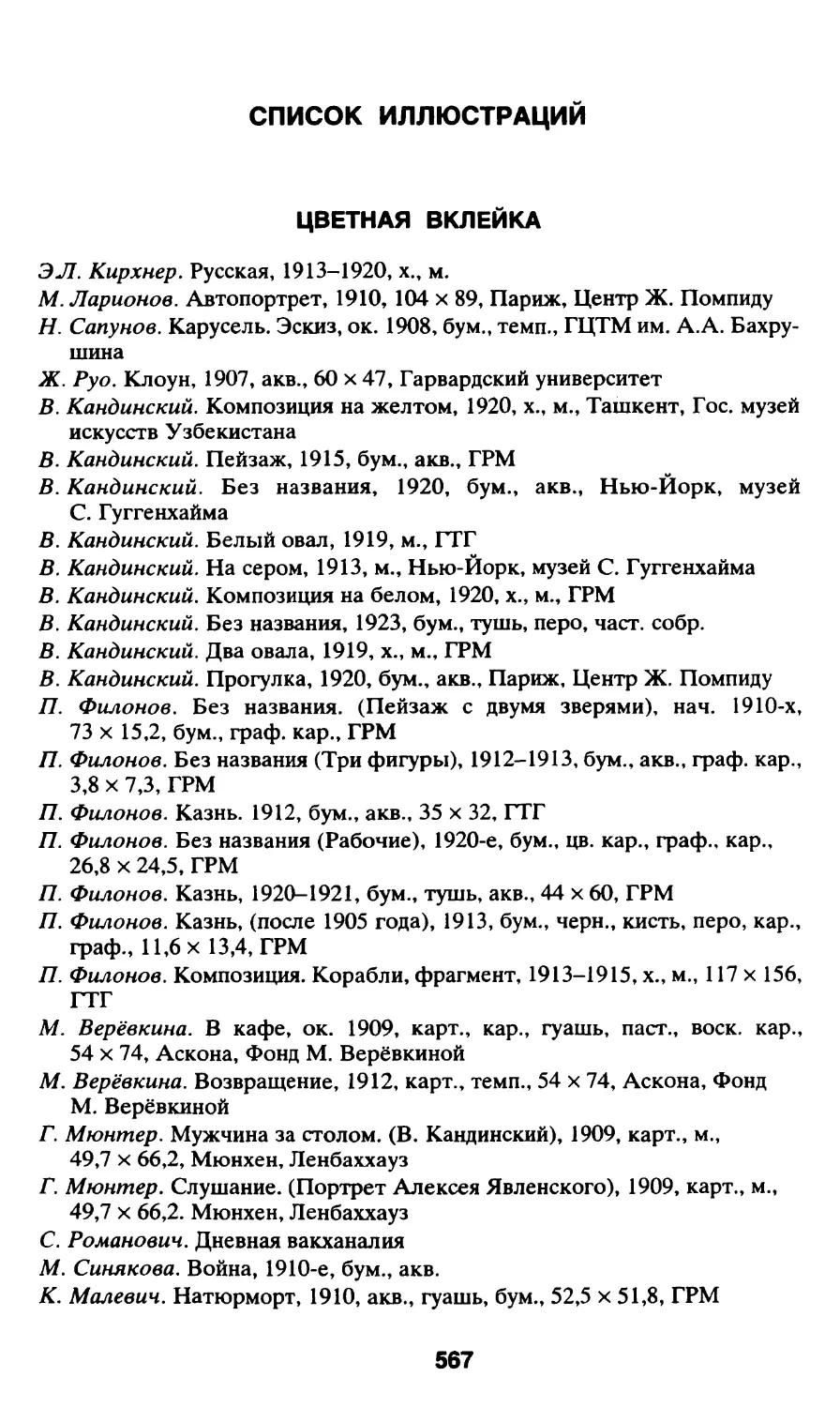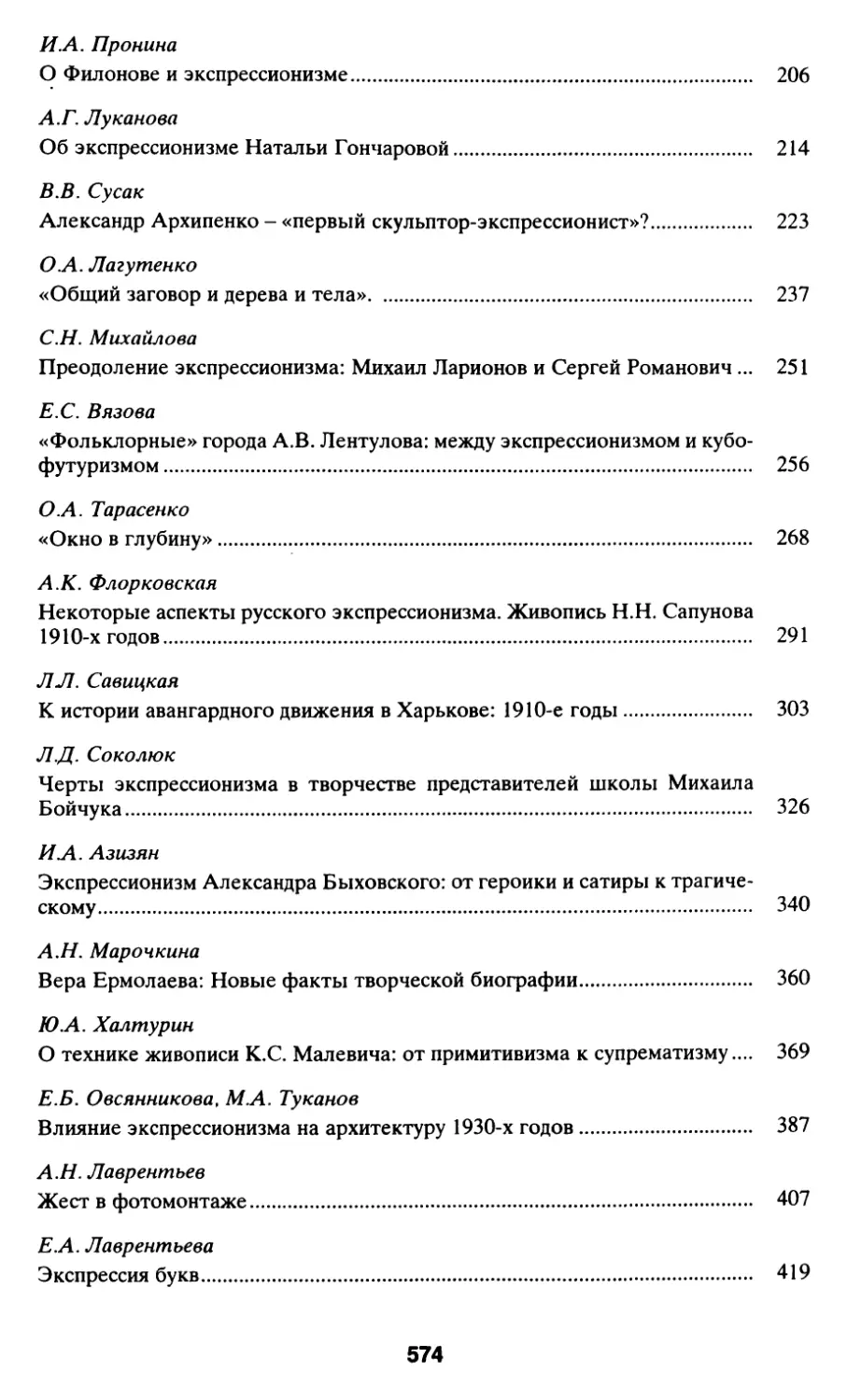Автор: Коваленко Г.Ф.
Теги: живопись творчество экспрессионизм исследователи русского авангарда российское искусство
ISBN: 5-02-006374-6
Год: 2003
Текст
РОДЧЕНКО ЯЗ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОЗНАНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСКУССТВА АВАНГАРДА 1910-1920-х годов
ЭКСПРЕССИОНИЗМА
МОСКВА
НАУКА
2003
УДК 75.03 ББК 85.143(2) Р89
Серия «Искусство авангарда 1910-1920-х годов» основана в 2002 г.
Редколлегия:
Н.Б. АВТОНОМОВА, Н.Л. АДАСКИНА, HiH. КАРАСИК, Г.Ф. КОВАЛЕНКО (председатель), Е.Н. ПЕТРОВА,
Д.В. САРАБЬЯНОВ, И.Е. СВЕТЛОВ, А.А. СТРИГАЛЕВ
Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма / Отв. ред. Г.Ф. Коваленко; Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры РФ. - М.: Наука, 2003. - 575 с. - (Искусство авангарда 1910-1920-х годов). - ISBN 5-02-006374-6 (в пер.)
В книге предприняты попытки рассмотреть одну из самых сложных проблем русского искусства начала XX в.: был ли в России экспрессионизм? если не был, то почему? если был, то какими путями развивался? Какое место занял он в русском искусстве, в творчестве таких художников, как М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, П.Н. Филонов, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич? Среди авторов крупнейшие отечественные и зарубежные исследователи русского авангарда.
Для искусствоведов и более широкого круга читателей.
ТП-2003-Н-№ 114
ISBN 5-02-006374-6 © Коллектив авторов, 2003
© Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации, издательство “Наука”, серия “Искусство авангарда 1910- 1920-х годов”(разработка, оформление), 2002 (год основания), 2003
Д.В. Сарабьянов
В ОЖИДАНИИ ЭКСПРЕССИОНИЗМА И РЯДОМ С НИМ
Я намерен лишь обозначить проблему соотношения экспрессионизма с живописью русского авангарда.
Был ли в России экспрессионизм? Если не был - то почему? Если был - какими путями развивался, какое место занял в русском искусстве, в творчестве таких художников, как М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова, П.Н. Филонов, М.З. Шагал, В.В. Кандинский?
Каждый из этих вопросов может стать и в некоторых случаях становился предметом специального исследования1. И все же есть смысл их вновь выдвинуть; когда они встают перед нами все вместе, возникает некий новый аспект, важный для понимания всего русского авангарда.
Прежде чем задаться этими вопросами, следует хотя бы в двух словах сказать о том, каким представляется экспрессионизм как стилевое направление и в чем заключены его своеобразные особенности. Часто исследователи утверждают, что экспрессионизм разнолик, и единство, на котором он зиждется, касается скорее философских и психологических категорий, а не стилистических. Мне же кажется, что, несмотря на растянутость во времени и многоэтапность экспрессионизма, в нем не меньше единых направленчески-стилевых проявлений, чем, например, в фовизме, кубизме или футуризме. Разумеется, решающую роль играют психологические признаки и особенности философской рефлексии - повышенное ощущение кризиса жизни, краха привычных устоев, эсхатологические предчувствия, стремление раскрыть за внешними проявлениями внутренний смысл мира, желание говорить громким голосом, а то и кричать. Все эти признаки наличествуют и объединяют различные явления, что не вызывает сомнений. Но дело не только в них. Особенности мировосприятия рождают своеобразие самой речи - крайнюю степень деформации реальности, остроугольные ритмы или близкое им по пластическому смыслу перенапряжение изгибов, открыто кричащие сочетания красок, подчеркнутую контурность при обозначении цветового пятна, нарочитую небрежность наложения мазка, символизирующую творческую свободу, контрастность в сопоставлении ли¬
3
нии и плоскости, своеобразную центростремительность композиции, о которой писал В. Гаузенштейн2. Трудно было бы выполнить замысел К.С. Малевича и двумя словами сформулировать прибавочный продукт экспрессионизма (вроде «серпантинной линии» или «серповидной структуры»). Но приблизительный набор признаков, особенно действенный в условиях наличия их совокупности, можно составить. Будем иметь в виду их перечисление, приведенное выше.
Первый вопрос из тех, что я собираюсь поставить, заключается в следующем. Действительно ли можно сказать: русская живопись на рубеже столетий находилась в ожидании экспрессионизма? Вроде бы ничто не предвещало его появления. Доживал свой век передвижнический реализм. Модерн-символизм вызвал расцвет сначала художников «Мира искусства», а затем «Голубой розы». Утвердился в своем умеренном и скучноватом доморощенном импрессионизме «Союз русских художников». Эти разные линии сближались и отдалялись, пересекались, но, казалось, не были способны перешагнуть через преграду, отделявшую их от нового видения XX в. Тем не менее, на этом обширном поле в разных местах, почти не соединенных друг с другом стилистически, возникали пред-авангардные вспышки. И все они обещали в будущем именно экспрессионизм (в некоторых случаях - фовизм), а не кубизм или футуризм.
Одна из этих вспышек - позднее творчество Н.Н. Ге. Впервые мысль о близости позднего Ге экспрессионизму была выдвинута Н.А. Дмитриевой, а после этого неоднократно была поддержана разными исследователями3. Эта близость проявилась в таких картинах, как «Христос и Никодим» (1889, ГТГ), «Голгофа» (1893, ГТГ), «Христос и разбойник» (1893, Киевский музей русского искусства), многочисленные рисунки к «Распятиям». Все эти произведения появились в то самое время, когда создавались картины Э. Мунка, Дж. Энсора, Ф. Ходлера и В. Ван Гога, считающиеся прямыми предшественницами картин немецких экспрессионистов. В поздних работах Ге сконцентрировались сверхчеловеческая страсть, открытая боль, была выведена некая формула страдания и сострадания (последнее качество укладывалось в рамки этических норм русской культуры того времени). Поздний взрыв в творчестве художника, прошедшего в своем развитии этап передвижнического реализма, пусть осложненного не очень типичными для русской живописи 2-й половины XX в. романтическими озарениями, позволил приблизиться к небывалой выразительности той самой «живой формы», что и была причиной появления своеобразия протоэкспрессиониз-- ма. И тем не менее в данном эпизоде сработало и сдерживающее начало, оно все же выстраивало свои барьеры на пути к полному обнажению души и открытости нервов. Эти барьеры в данном случае определялись присутствием натуралистического начала - оно было значительно в русском реализме.
4
Другая вспышка в до-экспрессионистском пространстве состоялась не на таком уж далеком расстоянии от Ге. Она произошла в творчестве М.А. Врубеля, он мысленно себя соотносил с фигурой своего старшего современника. Здесь создалась ситуация, довольно близкая складывавшимся на Западе, когда модерн перерастал в экспрессионизм. У Мунка или Энсора это перерастание было достаточно наглядным. Оно заметно и в живописных работах Врубеля конца столетия, например, в портрете С.И. Мамонтова (1896, ПТ). Будто прикованная к креслу фигура знаменитого мецената - мятущаяся, приплюснутая к плоскости пространством, но вместе с тем неустойчивая, живет в чужой среде, хотя модель окружена привычными для нее предметами. Это отторжение подкреплено контрастами светов и теней, плоской фигуры и острых углов предметов мебели. Во всей концепции портрета присутствуют черты экспрессионизма, хотя реальные формы окружающей жизни еще не подверглись коренной экспрессионистской деформации. Для этого решающего шага Врубелю «понадобилось» дополнительное обстоятельство, породившее очаги преждевременного экспрессионизма. Этим обстоятельством явилась его психическая болезнь, она словно открыла путь к таким принципам деформации реальности, что были недоступны искусству того времени не только в России, но и на Западе. Особенно заметны эти напряженные искания художника в рисунках 1902-1903 гг., когда впервые болезнь проявилась с такой силой и откровенностью. Эти рисунки - портреты, фантастические изображения различных фигур и предметов, исторические, возможно, евангельские сцены - прямо сопоставимы с рисунками художников группы «Мост», с графическими произведениями Э. Шиле и других экспрессионистов. В этом сопоставлении они не выглядят «рисунками сумасшедшего», как их обычно квалифицируют, а могут служить свидетельством обретения новой формы. Оказавшись «на финише» у истоков новых направлений, Врубель словно повторил опыт своего великого предшественника А.А. Иванова - опыт одиночества, невостребованности, местоположения на том перекрестке разных тенденций, откуда открываются неожиданные перспективы. В его символизме и модерне рождался экспрессионизм. При этом мы можем утверждать, что рождался он еще до того, как обрел свои законные формы в немецком искусстве 1900-х годов. Вместе с тем в его поздних произведениях есть и предвестия кубизма, хотя сами русские кубисты отрицали свою связь с Врубелем.
Остальные ростки экспрессионизма в русском искусстве имеют иной характер. Продолжая существовать в пределах разных тенденций историко-художественного развития, они по времени своего возникновения располагаются уже за рубежом, обозначившим законное рождение новых направлений на Западе. Речь идет о некоторых чертах экспрессионизма у позднего В.А. Серова, например в «Иде Рубинштейн» (1910, ГРМ), о чем писал еще в 1930-е годы
5
А.В. Бакушинский4. В ситуации зарождающегося экспрессионизма оказывается М.В. Добужинский в своих работах 2-й половины 1900-х годов - таких, как «Окно парикмахерской» (1906, ГТГ), «Гримасы города» (1908, ГТГ), «Вильно. Ночной мотив» (1910, ГТГ). Город До- бужинского внешне не похож на «остроугольный» город Э. Кирхне- ра. Но в нем таится такая же угроза, он так же чужд человеку, будучи погружен в свою неразгаданную зловещую тайну.
Отдаленные ассоциации с экспрессионизмом дают и некоторые работы голуборозцев - Н.П. Крымова, П.В. Кузнецова, Н.Н. Сапунова, С.Ю. Судейкина, хотя вернее было бы сказать, что их новаторские тенденции скорее образуют параллель тогда же начинавшемуся русскому неопримитивизму, о котором речь впереди.
Врубель, Серов, Добужинский - столь не похожие друг на друга - все же принадлежат одному объединению - «Миру искусства». Голуборозовцы в некоторых отношениях продолжают их линию развития. Интересно, что другие проявления пред-экспрессионизма имеют место и на противоположной территории. Неожиданно возникают аналогии между ранне-экспрессионистскими «цветастыми» пейзажами и картинами М. Пехштейна, Э. Хеккеля, К. Шмидта- Роттлуфа, с одной стороны, и Ф.А. Малявина - с другой. Картины последнего, - от «Смеха» (1899, Музей современного искусства, Венеция) до «Вихря» (1906, ГТГ), - возникшие несколько раньше произведений перечисленных немецких живописцев, хотя и не раньше работ французских фовистов, с которыми они также сопоставимы, несут в своей основе черты натурного импрессионистского восприятия, хотя и некоторыми особенностями близки модерну. Эта натурность у Малявина сохранилась до конца, тогда как немецкие экспрессионисты ее преодолели, обретя «чистую» экспрессию в гнутых линиях, напряженных ритмах, в обнаженном цветовом контрасте. Как некая память об этих подступах русского художника к экспрессионизму сохранилось некоторое сходство его рисунков с рисунками Э. Шиле.
Близкий малявинскому - свой деревенский вариант прото-стиля дал С.В. Малютин в «Сельской ярмарке» (1907, ГТГ) и в «Пирушке» (1910, ГТГ), хотя при этом и запаздывал по сравнению с немецкими живописцами. Правда, малютинский вариант в большей мере предвещает (и по времени совпадает с ним) неопримитивизм 1910-х годов, чем несостоявшийся русский экспрессионизм, как бы предчувствуемый Ге и Врубелем.
Здесь возникает другой аспект нашей темы - экспрессионизм и неопримитивизм. Есть определенное родство трех направлений, развернувшихся приблизительно в одно и то же время в трех «художественных державах» Европы. К упомянутым двум следует добавить французский фовизм, который по времени немного обгонял близкие ему движения, появившиеся в Германии и России. Лет 20-30 тому назад сопоставление фовизма и экспрессионизма было популярным приемом искусствоведческой компаративистики, реализовавшимся
6
в выставочной деятельности и научных исследованиях. Затем к двум европейским направлениям прибавился русский неопримитивизм: он, как это было очевидно с самого начала, имел много общего с первыми двумя5. Здесь - в нашем контексте речь должна идти скорее не о сходстве, а о различиях.
Почему те начинания, что мы констатировали выше, не привели к «законному» экспрессионизму в русском искусстве? Что помешало этому, казалось бы, естественному движению и образовало самостоятельную и самоценную проблематику неопримитивизма, определив его место рядом с экспрессионизмом, а не в его пределах? Сопоставление неопримитивизма с экспрессионизмом позволяет ответить на этот вопрос. Хочу в этом сопоставлении избежать подтверждения близости (так как это уже сделано) и обратить внимание на расхождения и их причины. Повторю лишь уже давно высказанную мысль о том, что и фовизм, и экспрессионизм, и неопримитивизм использовали (хотя и в разной мере) наследие художественного примитива, но только последний сделал ориентацию на это наследие главным козырем направления. Эта ситуация давно продемонстрирована в различных исследованиях. Скажем лишь о причинах такой ориентации. Неопримитивизм сначала развивался спонтанно в пределах раннего «Бубнового валета», делившего свои интересы между се- заннизмом и национальным изобразительным фольклором, но вскоре программно оформился в процессе расхождения «Бубнового валета» с «Ослиным хвостом» - оформился в рамках последнего объединения на волне актуализации задачи национальной самоидентификации русского искусства. Выдвижение на первый план этой задачи органично совпало с общими установками русского авангарда.
Национальный примитив обрушился на голову ослинохвостов- цев, как манна небесная, как дар: его можно было ждать и он был принят и послужил процессу самоутверждения русского искусства. Не будем вдаваться в подробности и разбирать вопрос о том, какова была в этой новой ориентации мера самообольщения и в какой степени новое движение способно было на самом деле укрепить национальные корни искусства. Все эти вопросы могли бы увести нас в сторону. Нас же интересует в данном случае вопрос о взаимоотношении неопримитивизма с экспрессионизмом только в одном плане: как могло национальное наследие, принятое за образец, вывести русское искусство из-под власти намечавшегося, но в конце концов не состоявшегося экспрессионизма? Наверное, ответ на этот вопрос мог бы быть многоаспектным, так как в создавшейся ситуации завязались сложные узлы, проявились разного рода связи с прошлым, а будущее - на него нацелен был авангард - оказалось в зависимости от этого прошлого, от той памяти, что несла в себе национальная культура. Я могу коснуться всех этих важных аспектов лишь бегло, выделяя самое существенное и не отступая в сторону, а имея в виду прежде всего главный вопрос, поставленный выше.
7
С одной стороны, ориентация на примитив как бы развязывала руки, открывала путь к той свободе от прежних догм и правил, что искало все искусство европейского авангарда. Но была и другая сторона. Фольклорное наследие было ориентировано на отстоявшуюся, выверенную веками традицию, на устойчивые ремесленные правила, и это давало русским художникам новых направлений иные ориентиры. Можно подвергнуть такой тезис сомнению, поскольку примитив негритянский (на него опирались П. Пикассо, его последователи и в некоторой мере немецкие экспрессионисты) также имел в своем активе строгие ремесленные правила. Но ведь французские кубисты не осознавали негритянскую традицию, как свою национальную. Именно здесь было кардинальное различие между примитивизмом русских, с одной стороны, и французов или немцев - с другой. Для художников ларионовской группы - особенно для Гончаровой - ориентация на русский примитив была актом обретения национальных истоков. Русские художники открыли свое, они пришли к убеждению, что им не нужно искать ничего другого, хотя, разумеется, они не могли обойтись без опыта всей европейской живописи, как не могла без него обойтись ни одна цивилизованная художественная школа. В результате этого открытия неопримитивизм вместе со свободой преодоления догмы получил и нечто противоположное - некие правила формирования художественного образа и ремесленной выделки: ими следовало неукоснительно пользоваться, дабы не уйти далеко от фольклорного мышления. Разумеется, новые правила истолковывались разными художниками по-разному. Ларионов воспользовался важнейшим качеством лубочного изображения - его последовательно выраженной нарративной основой, при этом волей-неволей подключившись к передвижнической и мирискуснической повествовательной традиции. И экспрессионисты, и фовисты отодвигали рассказ на второй план, почти исключая происшествие, как резерв выразительности. У всех неопримитивистов - особенно у Ларионова - рассказу и событию отведено значительное место, определяющее характер композиции. Важным средством раскрытия смысла происходящего оказываются поза и жест. Чтобы убедиться в той роли, какую они играют, достаточно вспомнить «Отдыхающего солдата» (1911, ГТГ) и все его графические варианты, «Провинциального франта» (1907, ГГГ), «Провинциальную франтиху» (1907, Музей изобразительных искусств, Казань) или любую из картин конца 1900 - начала 1910-х годов (особенно - «Парикмахеров»). У Ларионова присутствует поистине лубочное устремление выявить самое характерное не только у данного человека, но и у животных - у конкретной лошади, свиньи, собаки, индюшки и даже рыбы. Предметы - и те принимают какую-то позу и готовы жестикулировать. Немецкие экспрессионисты в меньшей мере поддаются этой магии жеста и позы.
8
Нечто близкое Ларионову мы обнаруживаем у Гончаровой. В ее картинах герои (чаще - героини) застывают в зафиксированных положениях. Этот «эффект окаменелости» тоже коренится в лубке. Но в большей мере - в каменных бабах, в скифских древностях, в какой-то степени - в иконописи. Более заметно, чем у кого-либо из неопримитивистов, в творчестве Гончаровой проявляется влияние древнерусского искусства - в ориентации на иконографию православного Средневековья, в поисках цикличности, в своеобразной сакрализации сцен, взятых из повседневности. Аналогичные тенденции мы наблюдаем во Франции и Германии. Из крупных художников Запада, близких экспрессионизму или фовизму и использовавших христианскую иконографию, значительное влияние своего национального Средневековья - особенно витражной живописи испытывал Ж. Руо. Немецкие экспрессионисты ориентировались и на готику, и на свой Ренессанс. Правда, случилось так, что Э. Нольде, в большей мере, чем его коллеги ho «Мосту», приверженный к библейским и евангельским сюжетам, оказался гораздо менее «готическим», чем Кирхнер, который не обращался к Писанию. Общая ориентация немецкого экспрессионизма на свое готически-ренессансное наследие имела и формально-стилевой и мировоззренческий аспекты. В равной мере в России икона приобрела в начале XX в. значение и формального и духовного образца. Это коснулось не только таких символистов, как К.С. Петров-Водкин, таких мирискусников, как Н.К. Рерих, И.Я. Билибин или Д.С. Стеллецкий, но и очень многих авангардистов. Даже кличка - «икона», данная А.Н. Бенуа «Черному квадрату» с некоторой долей пренебрежения, была позитивно воспринята Малевичем. Всеобщее признание иконописи для неопримитивистов было фактором чрезвычайной важности. Но и в этом случае волна влияния иконописи (как и изобразительного фольклора) не только освобождала от художественного позитивизма и натурализма, но и предписывала правила и заставляла как бы оглядываться на нечто вышестоящее.
Различие в той ситуации взаимоотношения с национальным Средневековьем, что возникла в России и в Германии, во многом зависит от различия самих источников, служивших опорой экспрессионизму и неопримитивизму. С одной стороны, немецкая готика, с другой, - русская икона. Немецкая готика (как и французская или любая другая) заряжена экспрессией, она часто сопрягает потустороннее с бытовым и реально-жизненным, своим дерзанием - головокружительным взлетом архитектурных конструкций, готическим натурализмом в скульптуре - открывает путь к завоеванию реальности. Икона препятствует движению по этому пути. Она оберегает свои правила, и ее высшие взлеты осуществляются не за счет преодоления этих правил, а за счет выполнения.
Разумеется, этим правилам не подчинен художник новейшего времени, но незримо они осуществляют свое влияние. Этот «усмиря¬
ющий» эффект древнерусской традиции действует как предохранитель от крайностей субъективизма, ожидаемых от художника-экс- прессиониста. Эта традиция усмиряет его индивидуальную волю и направляет его креативные потенции в сферу творения некоего закона, в сознании творца приобретающего характер всеобщности (как это было с Кандинским, Малевичем или Филоновым). Например, в супрематической программе Малевича, обычно представляющейся крайним выражением художнического своеволия, последнее проявляется прежде всего в творении идеи, выдвигаемой как некое соборное постановление (хотя и предложенное не коллективом, а единоличным творцом), а в ее реализации господствует закон, в своем осуществлении предусматривающий средневековый принцип бе- зымянности. И другие вожаки-авангардисты - особенно в России - предлагали и утверждали свои программы, как бы уже готовые к исполнению и требующие лишь знания и опыта для их реализации. Пожалуй, лишь неопримитивйсты со своей программой всечества не были столь же категоричны, хотя бы в силу того, что эта программа, ориентированная на разные стили, гарантировала успех лишь в том случае, когда сам исполнитель был способен эти разные стили преодолеть и синтезировать своим творческим усилием. Таким образом «творческие обязанности» переносились на художническую индивидуальность, получавшую каждый раз своеобразное выражение. Но от экспрессионистского всплеска их охраняли некие силы - с одной стороны - фольклорный примитив, а с другой, - иконопись. Примитив не подвергал сиюминутному экзистенциальному осмыслению реальное бытие, скорее осмыслял его через многовековой опыт эпоса и мифа. Икона предполагала смирение перед Высшей волей. Это смирение ощущается даже в произведениях Гончаровой, их смысл нередко заключен в конфликте между этим смирением и дерзанием.
Приблизительно те же аргументы мы можем использовать для того, чтобы объяснить расхождения Филонова с немецким экспрессионизмом. Не будем говорить здесь о тех отличиях русского художника, что, несмотря на некоторое приближение, оставляют его в стороне от экспрессионистского движения. Уже много написано о его большей органичности, об ином понимании времени, об углубленной эпичности, позволяющей связать прошлое, современное и будущее. Кроме причин, отдалявших от экспрессионизма неопримитивистов, в случае с Филоновым важную роль играет еще одна. Речь идет о той традиции ремесленной выделки, бывшей важным условием народного творчества. В России, как ни в одной европейской стране, народное творчество сохраняло в то время свои активные позиции и значительный удельный вес во всей художественной культуре нации. Своеобразная нормативность народного искусства, воспринятая Филоновым, воплотилась в его концепции сделанности, что, хотя и не исчерпывается соблюдением строгих ремесленных
10
правил, включает их в свой состав. Что же касается «иконной компоненты», то она породила некое ликоподобие в творчестве нашего художника, интерес к иератическому истолкованию голов и фигур, пребывающих вне конкретного времени и пространства. Все эти качества выводят мастера из под прямого воздействия экспрессионизма - они ему не только не свойственны, но и противопоказаны.
В своеобразной позиции по отношению к новым направлениям современного ему искусства оказался Шагал. Как и Филонов, он не был в прямом смысле слова неопримитивистом, хотя и участвовал в выставках «Ослиного хвоста» и «Мишени». Современники связывали его творчество с экспрессионизмом. Многими отмечался вклад, внесенный им в развитие этого направления своей выставкой в Берлине в 1922 г. Считали даже (разумеется, ошибочно), что эта выставка породила германский экспрессионизм. В Париже еще в начале 1910-х годов Шагал приобщился к французскому кубизму, сблизился с Г. Аполлинером. Разумеется, пребывание во Франции позволило ему познакомиться с фовизмом. Шагал мог себе позволить эту «всеядность», поскольку он оставался прежде всего Шагалом. Ему не надо было искать границы размежевания с современными течениями. Он имел свой собственный достаточно надежный ориентир - похожий на тот, что направлял творчество неопримитивистов. Это была еврейская мифология, но уже не в ее строгом канониче- ски-конфессиональном толковании, а адаптированная, приспособленная к современной жизни. Правоверный иудаизм претерпел сложные преобразования; мифологическое сознание впитало черты местечкового быта. Но тем не менее некоторые основополагающие принципы древнего мифопоэтического мышления были сохранены. Этот мифологизм, поддержанный осознанным стремлением самого Шагала как бы прирасти к национальной культурной традиции, на благодатной почве шагаловской фантазии не только дал удивительные всходы живописного сновидчества, но и продиктовал некие правила, предохранявшие художника от перенапряжения и жестокости, смягчавшие безотчетность интуитивизма.
Что касается Кандинского, то его творчество не может быть отторгнуто от экспрессионизма. Тем более, что художник вместе с Ф. Марком был вожаком экспрессионистской группировки «Синий всадник». Наибольшее сближение с экспрессионизмом падает на конец 1900 - начало 1910-х годов как раз на то время, когда в творчестве художника исчерпывается исторический жанр, сказка перестает (хотя только на время) быть питательным источником художнических фантазий, начинается мурнауский эксперимент, усиливающий тенденцию к деформации реальности, усложняются пространственные искания, вскоре давшие возможность преодолеть фигуратив- ность. Марк был близок этому пути. Но именно привязанность к немецким корням экспрессионизма удержала его перед барьером беспредметности. Кандинский же перемножил немецкую самореф¬
11
лексию на русскую волю к скачку в неведомое, став открывателем новых художественных принципов - той суммы, в которой экспрессионизм занял место не только предвестника, но и участника синтеза. Он внес свою едва ли не половинную долю в абстрактный экспрессионизм, им может быть поименовано открытие художника. Но это был уже не тот экспрессионизм, чьим важным признаком являлась крайняя деформация реальности, ибо эта реальность перестала быть предметом изображения.
Как видим, водораздел между экспрессионизмом и русской живописью пролегал в разных точках европейского художественного поля; они же и были точками максимального приближения. Это приближение русского искусства экспрессионизму сулило ему возможность той самой северной самоидентификации, что наметилась на рубеже XIX-XX вв. - особенно благодаря деятельности «Мира искусства». Но она не состоялась, несмотря на плодотворные связи с немецкой культурой на протяжении многих столетий.
Проблема взаимодействия экспрессионизма с русской художественной культурой не была бы в полном объеме поставлена, если бы мы не коснулись еще одного эпизода из истории русского искусства - уже советского времени. В начале 1920-х годов оживились связи русской культуры с немецкой. Как бы в ответ на большую выставку русского искусства, состоявшуюся в Берлине в 1922 г. в галерее Ван Димена, впервые познакомившую западный мир с достижениями русского авангарда, в 1924 г. в Москве открылась обширная выставка немецкого изобразительного искусства, привлекшая внимание критиков и художников, вызвавшая дискуссии и во многом оказавшаяся созвучной новым тенденциям в молодом советском искусстве - они вскоре оформились в пределах группы Общества станковистов. Эта выставка демонстрировала различные направления, сложившиеся в Германии в начале 1920-х годов. Большое место среди экспонентов занимали поздние экспрессионисты. Авангардная живопись Германии к этому времени успела обогатиться опытом дадаизма и неовещественности, но при этом сохранила экспрессионистскую сущность. Укрепились позиции графики - особенно в творчестве художников, выражавших в своих произведениях чувство протеста и идею социального преобразования. К числу таких принадлежали М. Бекманн, Ж. Грос, О. Дикс, К. Ксльвиц и мн. др. В это время в художественной культуре Германии происходили существенные сдвиги - и в кино, и на театральной сцене, и в искусстве фотографии, где широкое распространение получил фотомонтаж. Молодая советская критика отмечала все эти новые явления немецкой культуры, следила за ними, признавая подчас первенство Германии по сравнению с другими национальными школами, в частности - российской. Социальная направленность и заостренность немецкого искусства стали в какой-то мере предметом подражания, хотя при этом молодые советские живописцы и графики избегали крайних
12
экспрессионистских форм и приемов. Остовское движение, сложившееся не без влияния немецкого экспрессионизма, могло с пользой для себя воспринять это влияние прежде всего потому, что было ориентировано на социальную проблематику. Это движение в ситуации зарождавшихся правил и требований тоталитарных концепций открывало все же некоторые перспективы на путях обретения художественной правды, хотя все более жесткие условия развития искусства в стране строившегося мифического социализма не сулило долгосрочного бытия. К началу 1930-х годов остовская творческая концепция почти изжила себя, а экспрессионистская традиция продолжала теплиться в искусстве лишь немногих мастеров и была обречена на скрытое существование.
1 См., например, Кусков С. Вопрос о принадлежности Филонова к экспрессионистской традиции // Комментарий, № 2. М., 1993; Пронина И.А. О Филонове и экспрессионизме. См. наст. изд. С. 206-213.
2 Гаузенштейн В. Об экспрессионизме в живописи // Экспрессионизм. Сборник статей. Пг.; М. МСМХХШ. С. 155.
3 Дмитриева Н. Выставка произведений Ге //Творчество, 1971, № 5. Из последних работ: Попов С» Экспрессионизм как традиция // Двадцатый век и пути европейской культуры / Сост. и отв. ред. И. Светлов. М., 2000; он же. Возникновение экспрессионистской стилистики в русском искусстве рубежа веков и проблема терминологии // Доклад, прочитанный 21.05.02 в Гос. институте искусствознания на конференции «Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма».
4 Бакушинский А.В. Наследие В.А. Серова // Искусство, 1935, № 4.
5 Подробнее: Sarabjanov D. Fauvismus - Expressionismus - Neoprimitivismus // Thomas Strauss (Hrsg.). Westkunst - Ostkunst. Miinchen. 1991; Сарабьянов Д.В. Неопримитивизм - фовизм - экспрессионизм // Пространства жизни: К 85-летию академика Б.В. Раушенбаха. М.: Наука, 1999. С. 389-415.
Шимон Бойко
ПОЧЕМУ ЭКСПРЕССИОНИЗМ ОБОШЕЛ РОССИЮ И РУССКИЙ АВАНГАРД?
В заглавии статьи - недоумение, отрицание, даже сомнения в целесообразности исследования. Присутствует акцент на «нет», чуть ли не с ироническим подтекстом. По сути, оно на грани интеллектуальной провокации. Но при всех моих возражениях и вопросительных знаках, ясно, что следует обсуждать весьма серьезную искусствоведческую тему, совершенно не изученную.
Я назвал бы постановку этой проблемы делом исторического значения. Мои коллеги в России и мы, зарубежные исследователи, вступаем на путь расширения и углубления самого образа связей русского авангарда - лучше было бы сказать русского модерного искусства и вообще русской художественной культуры XX в. с европейским наследием и с духовным завещанием нашего континента. Более того, это начало выхода из замкнутого круга стандартов и представлений о циркуляции идей в европейском культурном пространстве. Об их границах, тормозах в целостном мышлении, наконец, о применении термина «Zeitgeist» (нерв времени), как тонкого инструмента понимания эпохи. Следуя этими тропами взаимных воздействий и заимствований, станет возможным заполнить имеющиеся «белые пятна» на карте искусства XX в.
Судя по существующим источникам, экспрессионизм, как художественное течение, как своеобразное мировоззрение, затрагивающее общественное сознание, обошел Россию и русские авангардные круги дореволюционного времени. Явление ограниченности при распространении новых идей - особенно в области духовных ценностей, литературы и искусства - не ново и оно хорошо изучено. Я имею в виду также и физическое пространство, территорию, культурную и социальную почву, благоприятствующую или неблагоприятствующую восприятию рождающихся идей и идеологии.
Вспомним траекторию - маршрут футуризма. Первый гудок был дан в Париже, а не в Италии. При попытке внедрения в России (приезд Маринетти) был встречен в штыки. Сюрреалистический поезд тронулся из Парижа по направлению к Центральной и Восточной Европе, а доехал только до Праги. Миновал всю территорию
14
Германии, Польши, Венгрии, Австрии. Если бы не обернуты (Д. Хармс и А. Введенский) сюрреализм не достиг бы российской земли вообще. Маршрут Дада совершенно четко можно вписать в расписание поездов: Цюрих, Берлин, Ганновер, Кёльн, Париж.
Не считая филиала в Нью-Йорке, возникшему благодаря трансокеанскому лайнеру, на котором прибыли Марсель Дюшан и Франсис Пикабия.
История искусства и литературы знает явления противоположные, когда определенный Zeitgeist захватывает большие территории. Проявляются двигатели единства взглядов, эстетического начала, иногда также и духовного родства, философской родословной. Тогда новшества воспринимаются положительно, наступает ассимиляция, «запуск» корней в другие культуры и тра- Танец Мэри Вигман, 1910-е
диции. Примером служит триумфальный поход символизма на карте Европы, не поход военных, а - мыслителей, творцов, художников. Начатый во Франции, он распространился в Бельгии, Голландии, Германии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Австрии, Венгрии, Польше. Соединился с аналогичным мировоззрением в России. Таким образом, на почве культуры наступило объединение большей части Европы. В символизме встретились художники и писатели, поэты и композиторы, хореографы и художники театра и первые художники кино. Замечу, что при современной диги- тальной технике возможным стало реконструировать кинетику двух походов - наполеоновских войск и, если так можно сказать, символизма. Хорошо бы кто-нибудь занялся таким сопоставлением!
Но наш вопрос: какова карта передвижения экспрессионизма, детища немецкого неоромантизма, наследника немецкой мифологии?
Куда сумел доехать поезд, запущенный идеями В.В. Кандинского, Э.Л. Кирхнера, Мэри Вигман и многих других? На каких станциях этот поезд останавливался? Куда он не доехал совсем? И почему это случилось?
Не стоит даже кратко восстанавливать историю экспрессионистского движения в Германии - она хорошо изучена. Но о двух маршрутах экспрессионистского «поезда» я хотел бы напомнить.
15
ЭЛ. Кирхнер. Рисунок, 1910
Я имею в виду Венгрию (Будапешт) и польскую ветку (Краков, Познань, Львов). Очень коротко о венгерской ветке. Для наших рассуждений важны нити, связывавшие Берлин с Будапештом - они прежде всего общего культурного и языкового характера: венгры тяготели к немецкому языку, к немецкой духовности в искусстве и в интеллектуальной жизни. Берлинские журналы «Der Sturm» и «Die Aktion», а с другой стороны будапештские журналы «А Tett» и «МА» - экспоненты духа экспрессионизма. Оттуда - вспышка вулкана экспрессии до и во время революционных событий 1919 г. Плакаты Михайя Биро, Роберта Берени, графика Шандора Бортника, Белы Уитца, Лайоша Кашака, театральные эксперименты Эдена Палашовского и мир музыки Белы Бартока. Слышишь «Allegro
16
ЭЛ. Кирхнер. Рисунок, 1913
Barbara» Бартока и - вступаешь в сферы эмоций «витализма» - музыкального варианта экспрессионизма.
Польское ответвление экспрессионизма имеет свою автономную историю и даже предысторию - в недрах модернистских поисков польских художников и литераторов начала XX в. Оно двойного происхождения: из Берлина («Der Sturm», «Die Aktion», берлинский период жизни Ст. Пшибышевского) и сугубо польских корней, заложенных в трех культурных центрах: Краков, Познань, Львов. До Варшавы наш метафорический поезд не доехал, также, как не хватило ему пара доехать и до станции «Москва» - toutes proportions gardees...
Обращаю внимание на то, что три вышеназванных польских города на карте Европы до 1-й мировой войны входили в состав немец¬
17
коязычных стран - Германии и Австро-Венгрии. В результате этого они находились в системе других путей продвижения идей. Вена и Берлин, по железнодорожным измерениям, находились ближе и по пути, чем Париж. Ближе были такие чувства и состояния, как подсознательные желания - «голод формы», «голод души», всеохватывающая сексуальность природы и человека, страсть, похоть (С. Пшибышевский «Голая похоть»).
Польский экспрессионизм включал в себя много оттенков, характерных для отечественной традиции, - фольклора, религии и еврейской культуры, которая оказывала сильное влияние на все искусство этого поколения («юнг идиш»).
Наш поезд обошел, не доехал, остановился, как это ни назови, но не перешел в свое время ни физическую, ни духовную границу тогдашней имперской России. Почему? - этот вопрос остается открытым.
Мне, как исследователю со стороны, но тем не менее знающему Россию и «из глубинки», отчасти видны очертания ответа на этот вопрос. Конечно, многое связано с различиями в степени развития России этого времени и Запада - в плане промышленно-городской цивилизации. Хотя эти различия - отставание России в техническом освоении мира, почти поголовная неграмотность в селах и другие факторы отсталости - не мешали внедрению идей импрессионизма, кубизма, а еще раньше - символизма. Но в сфере экспрессионизма, с его философией духовного возрождения и вызовом, протестом, разочарованием в системе, как политической, так и нравственной, диалога не получилось. И в Германии, и в России разворачивался кризис. Наступило время искусства «крика» и «гнева». Гнев, недовольство в России проявили себя в других направлениях.
Но, размышляя об экспрессионизме и его судьбах в России, я все же хотел бы обратить внимание на некоторые внехудожественные тормозы нравственного порядка. Возможно, именно они оказались преградами экспансии экспрессионизма с запада на восток европейского материка.
Наш метафорический поезд, если бы он переехал границы православной России, думается, представлял бы потенциальную опасность и мог бы подорвать традиционные фундаменты восточной византийской духовности, в том числе и стандарты воспитания, исключавшие сексуальность и ее мир, как царство греха.
Экспрессионизм возник на сломе века, в момент рождения новой нравственности. Исходя из принципов свободы телесности, он отрицал господствующие нормы и запреты и впервые выявил силу инстинктов, как двигателей homo sapiens. Стремясь навстречу новым нравам, поколение бунтовщиков открывало путь общественному признанию физических стремлений, любви, проявляющейся в телесном наслаждении. Жажда, нетерпеливость молодых, их «голос
18
полов» блестяще оказались выраженными в ранней пьесе Франка Ведекинда «Пробуждение весны» (1895), она была едва ли не первым сигналом пробуждающихся процессов, в каком-то смысле она была и первым сигналом экспрессионизма.
Консервативные круги, естественно, подвергли первые проявления новой морали суровой критике. Следы этого мы обнаруживаем и в полемическом произведении Л.Н. Толстого «Что такое искусство?». Но возврата к патриархальной, идеализированной любви быть уже не могло. Модернистские преображения охватили все области культурной и общественной жизни. Одним из международных очагов прогресса до 1-й мировой войны была швейцарская Монте Ве- рита. Там зародилась идея сожительства человека с природой, при соблюдении ее ритма обновления, ощущения телесности в естественной среде. На склонах Монте Верита молодая танцовщица из Германии Мэри Вигман и ее партнер, теоретик танца Рудольф фон Лабан руководили танцевальными «обрядами». Танцы исполнялись босиком, в белых просторных туниках — по греческим мотивам, в сопровождении звуков гонга. Зрителями, собранными на утренней заре, танцевальное зрелище воспринималось, как известие о новом мире - лучшем, более гуманном. По некоторым сведениям среди зрителей этих представлений был и русский мыслитель Михаил Бакунин.
Дух свободы достиг и другого центра интеллектуального бунта в мещанской Швейцарии. Речь идет о «Cabaret Voltaire» в Цюрихе, где зародилось движение скандального ДАДА. Кстати, в переулке, где находилось это кабаре снимал комнату русский эмигрант Владимир Ульянов.
Постепенно изысканная словесная и зрительная эротика заполняла программы кабаре и других сцен не только в Париже, но и в Вене, Праге, Берлине и Мюнхене. Расширялись рамки того, что дозволено и что запрещено законом. Наиболее «развратным» городом Европы считалась столица на берегах Сены. Оттуда шли импульсы, образцы, мода, прически и всякие frivolite. Парижской артистической богеме экспрессионизм был мало интересен с познавательной точки зрения. Неслучайно, наш поезд туда не пошел.
Как известно железнодорожная колея в России отличалась и отличается до сих пор от остальных европейских стандартов. Чтобы пересечь границу, следует поезд приподнять вверх и затем опустить на заранее приготовленные широкие рельсы. Если угодно, эта сугубо техническая особенность приобретает в наших рассуждениях символический характер. Наш поезд никак не соответствовал российским нормам железных дорог. Если французский импрессионизм был встречен зеленым сигналом семафора, если такой же сигнал пропустил и локомотив кубизма, то перед экспрессионизмом загорелся красный свет запрета.
19
Г. Грос.
Рисунок из серии «Ессе Номо», 1922
Д. Бурлюк.
Venus of Milo Today, 1908
21
Н. Феофилактов. Рисунок, 1907
Н. Феофилактов. Рисунок, 1909
22
К. Сомов. Иллюстрация к «Книге маркизы»
По всем признакам этот поезд был нежелателен. Экспрессионизм не подходил православной церкви, византийскому культурному наследию, он расходился с истиной духовности русской просвещенной общественности, воспитанной на романтической модели. Напомним, что эта философски осведомленная элита дала миру в то время крупнейших мыслителей: Павла Флоренского, Сергея Соловьева, Елену Блаватскую, Петра Успенского. Их лекции посещали, их произведения читали.
Мир телесный, опыт наслаждений не имел сюда доступа. Но все- таки этот мир проникал извне, хотя и в вульгарном изложении, лишенный культурной оболочки. На сексуальность был опущен занавес, как на что-то нечистое. Вспоминается анекдот о выступлении Андрея Белого в Берлине на тему борьбы полов. Речь красноречивого писателя, полную метафор, прервал голос из зала: «А где же здесь fallus, все-таки?».
Однако бывали исключения. Федору Сологубу удалось преодолеть барьер застенчивости и лицемерия в повести «Мелкий бес». Кажется, впервые в российской прозе появился сочный, насыщенный эротикой образ девушки, живущей страстью, жаждой откровений.
Эротическим звучанием отмечены и ранние стихи А.А. Ахматовой; позже эротика у нее будет все более и более зашифрован¬
23
ной, как, например, мираж Коломбины, воплощавший женственное начало в «Поэме без героя». В литературных салонах Петербурга царила Ольга Глебова-Судейкина - во всем ее облике, манерах, поведении, красоте ощущалось то, что вскоре назовут sex- appeal.
Эротические ассоциации присутствуют у А.М. Ремизова и в стихах Мирры Лохвицкой. Прелесть Венер, похожих на русских баб, открыли футуристы: Д.Д. Бурлюк и М.Ф. Ларионов. Деревенская сексуальность победила Париж, но она была редкостью, недоступной широкой русской публике.
Эротика «Мира искусства» - единственная вполне европейского формата, хотя и чересчур элегантная стремилась заполнить «белые пятна» в произведениях Н.П. Феофилактова, С.Ю. Судейкина, Б.Д. Григорьева, Л.С. Бакста, А.Н. Бенуа, в их книжных иллюстрациях, в театре, в рекламе и в быту. Но, в основном же, эротика совсем отсутствовала в русской культуре того времени.
Популярная массовая письменность в дореволюционной России не выработала языка сексуальности, терминов телесного наслаждения и интимных отношений. Похоже, что русский язык, одна из самых богатых словесностей в Европе, сознательно обходил эту сферу бытия. Причины такого положения вещей - огромное поле для исследований лингвистов.
Следовало бы отметить, что послереволюционная Россия тоже отвергала эротический язык. Она изгнала Эроса из литературного творчества, из театра, живописи, танца. Даже в годы нэпа, во время либерализации запретов. Массовому читателю и зрителю доводилось довольствоваться сентиментальной любовной продукцией отечественного происхождения или тривиальной пошлостью.
Убог был язык и графика прославленного «Крокодила», стенгазет и плакатов сатирического толка. Драматургия «Синей блузы» вызывала восторг на гастролях в Западной Европе, но ее революционный пафос исключал эротику, что искажало правдивый образ жизни в советской действительности.
На фоне сексуальной засухи в зрелищно-вокально-танцевальной продукции положительно отличался опыт обериутов. Только благодаря им одним - Д. Хармсу, А. Введенскому, Н. Заболоцкому - как-то развивался язык и чувство юмора, ирония, гротеск и абсурд в темах, связанных с отношениями полов.
Упрощенчество в сфере чувств, уравниловка полов, сведение на нет сексуальных страстей, поощрение простейших процедур заключения брака (регистрация) - все это привело впоследствии к убожеству чувственности, даже к патологии браков. В пьесе Н.Р. Эрдмана «Самоубийца» есть сцена молодых любовников постели. После, надо полагать, наслаждения собой, парень спрашивает: остались ли сосиски?
24
Аскетизм нравов, допустимый во время переворота, превратился в единственную норму. Сигнал был дан из высших эшелонов партии, оттуда и пошел в массы лозунг, что заниматься любовью, это все равно, что выпить стакан воды (Александра Коллонтай).
Неудивительно, что сразу же после распада автократического государства во всей России поднялась волна сексуализма - вместе с упадком нравственности и приличий. На этот раз, наконец, импорт эротики был разрешен, причем, эротики, часто очень дурного качества.
Поезд наконец доехал, но почти сто лет спустя вместо высоко художественного экспрессионизма он привез в Россию вульгарный китч.
ИА. Вакар
КУБИЗМ И ЭКСПРЕССИОНИЗМ - ДВА ПОЛЮСА АВАНГАРДНОГО СОЗНАНИЯ
Тема этой статьи подсказана воспоминаниями Н.Н. Лунина1. В начале 1930-х годов, оценивая эпоху авангарда, он видит ее прежде всего эпохой кубизма. Многочисленные «измы» авангарда Лунин сравнивает с горными вершинами, признаваясь: «...Кубизм кажется мне самой высокой вершиной нашей эпохи; оттуда видны все заблуждения и все пороки современной живописи. ...Методы кубизма замешаны во всех течениях современного искусства». Он вспоминает, «как подымался на одну из вершин, откуда открывались: внизу - туманы экспрессионизма, ...кое-где сверкали снега; было холодно, но величественно». Но и сам кубизм предстает иным с высоты прожитых лет: «Самое ценное в кубизме - это масштаб; за масштаб можно простить кубизму его рационалистический уклон. ...Это прогулка по краю мира, разговор по прямому проводу с мирозданием, радиопередача векам»2.
Любопытно, что это пишет критик, включившийся в авангард на этапе «выходов из кубизма», сторонник В.Е. Татлина в его выступлении «против кубизма». Не случайно он сравнивает кубизм с тем общим планом сражения, скрытым от его непосредственных участников, смысл которого вырисовывается лишь по окончании боя. Теперь он утверждает: «После кубизма стиль времени стал другим»3.
Лунин, насколько я знаю, единственный, кто в этом тексте противопоставляет кубизму экспрессионизм, а не футуризм, неопримитивизм или что-то другое; для него это единственно равные по силе влияния и принципиально противостоящие друг другу художественные явления, или, может быть, способы жить в искусстве4. Последнее в особенности относится к экспрессионизму, который представляется Лунину неким психологическим феноменом, периодически возникающей «болезнью». Главный порок экспрессионизма он видит в «нарушении масштабов» за счет эмоции: искусство, «переводящее в космический масштаб: “Гвоздь у меня в сапоге”»5. Среди «бесспорно больных» он называет В.В. Кандинского, М.З. Шагала, П.Н. Филонова, раннего В.В. Маяковского, в отдельные периоды -
26
Б.Л. Пастернака и О.Э. Мандельштама, А.Г. Тышлера, И.Э. Бабеля и других, не давая развернутых характеристик и не вычленяя каких- либо формальных качеств, способных объединить это достаточно пестрое собрание имен.
О русском экспрессионизме действительно трудно говорить как о художественном направлении, хотя количественно произведения, соотносимые с ним, могут превзойти весь русский кубизм, не говоря уж о футуризме. Но они не выстраиваются в единую, даже пунктирную линию, оставаясь одиночными, разрозненными фактами искусства. Можно сказать, что экспрессионистская тенденция спорадически возникает в русской живописи задолго до возникновения авангарда и после его угасания, и на разных этапах ее развития получает разное оформление. Часто это только особый период творчества того или иного художника, укладывающийся в короткий временной промежуток, или даже группа произведений (от позднего Н.Н. Ге и М.А. Врубеля до ОСТа, лирического экспрессионизма 1930-х годов и дальше).
В авангарде экспрессионистская тенденция наиболее ясно прослеживается на самом раннем этапе, в 1908-1911 гг.: это несколько картин М.Ф. Ларионова 1908-1909 гг., А.В. Лентулова, Давида и Владимира Бурлюков, П.П. Кончаловского и И.И. Машкова - 1909-1910-го, К.С. Малевича - в 1911-м. (Я имею в виду сейчас не типологическую и хронологическую близость неопримитивизма и экспрессионизма, которая бесспорна, а отдельные вещи с «немецкой ориентацией», вроде «Танцующих» Ларионова, или продолжающие ван-гоговскую традицию остро характерные портреты Кончаловского и А.Г. Явленского.) В эти же годы заявляют о себе и те художники, для которых экспрессионизм стал не эпизодом, а важным этапом (Н.С. Гончарова) или существенным внутренним качеством (П.Н. Филонов, М.З. Шагал); В.В. Кандинский вступает в свой лучший, самый счастливый творческий период. Это время и наиболее тесных личных и творческих контактов русских (в основном москвичей) и немецких художников, они переписываются, участвуют на совместных выставках и т.п.
Но дальше происходит нечто неожиданное. Экспрессионизм не получает признания в среде русских авангардистов. Так сильно тяготевшие к перу, о нем они не пишут, его не провозглашают, не пропагандируют, как другие «измы»; похоже, его даже стыдятся. Почти все перечисленные живописцы преодолели экспрессионистские тенденции очень быстро и больше к ним не возвращались. Тот, кто мог уйти от него, от него уходил. А «природные» русские экспрессионисты остались одиночками, какими-то островами среди бурного авангардного моря, омываемыми чуждой им стихией.
Такое определение может показаться странным по отношению к Кандинскому, чьи художественные контакты, организаторский талант и активное стремление быть признанным на родине (особенно
27
в Москве) хорошо известны. Однако этого признания он не получил, несмотря на ошеломляющую новизну своих живописных открытий и их глубокое теоретическое обоснование - все то, что, казалось бы, составляло высшую ценность и заветную мечту русских авангардистов. Даже «Композиция VII» не стала для них потрясением: она не породила художественных претворений, подражаний или разработок. Вспомним, какую волну творческих интерпретаций вызвали в 1914-1916 гг. контрельефы Татлина или супрематизм Малевича. Здесь же ничего подобного не произошло.
Причину такой оценки отчасти объясняют воспоминания Ларионова. На рубеже 1900-х и 1910-х годов художники общались, именно Ларионов, по его словам, привлек Кандинского к участию в первой выставке «Бубновый валет». Приведу отрывки из его черновых записей, сделанных в конце жизни: «Произведения Кандинского мне известны с 1906 года. Типичные немецкие (мюнхенские) произведения, изображающие рыцарей на конях и замки в очень тугой живописи желто-оранжевого цвета - типичный Сецессион. Ничего общего с искусством русской иконы Кандинский не имеет...». «Первые вещи Кандинского, так называемые музыкальные картины, относятся к 1911 г. - название абстрактных он не давал им в это время, несмотря на то, что этот род живописи в Москве был и название живописи сан обже существовало - за два года до появления музыкальных картин Кандинского. ...Объяснения Кандинского своей абстрактности, происходящей от заката между куполами в Москве [самые примитивные - зачеркнуто] и чисто конкретного происхождения. Его писания даже в то время 1913 и 1914 года весьма примитивны и человека научно[го] образования не имеющего, что прекрасно знали не только я и все мои друзья, но и первая жена его, выступающая как художник под именем M-me Munter. ...Перед этим, когда Кандинский приехал в Москву [т.е. перед участием абстрактными полотнами на первом “Бубновом валете”. - И.В.], он ознакомился с многими художественными движениями - в том числе с моим рейонизмом и моими и Гончаровой теориями по поводу беспредметной живописи, также с идеями Татлина и Малевича. ...Кандинский, как и все, живущие заграницей художники, черпал все же свои художественные идеи в России...»6.
Несмотря на неточность по части дат, а временами и явную несправедливость, этот отрывок дает почувствовать сложившееся в среде авангардистов отношение к живописи Кандинского. В другой записи Ларионов уточняет свою критическую оценку: «Кандинский скверной живописью или графической акварелью дает орнамент. То, что они беспредметны, это вовсе не ее свойство, а это ее сюжет. Джиаконда дает ощущение беспредметного, выражает больше, чем беспорядочная фантазия комбинации линий или цветов, исполненные малоодаренным художником, желающим выражать свои эмоции»7. Отметим сначала «орнаментальность» и «беспорядочную»
28
комбинацию - в другом месте Ларионов пишет: «Кандинский... производит графически свободный орнамент, раскрашенный на плоской поверхности. У него нет никакого представления ни о конструкции, ни о композиции»8. Этот упрек поддерживает Н.И. Харджиев (во многом повторяя мнение старших авангардистов): «...как живописец он сложился в Германии. ...здесь он был абсолютно чужой, и все левые совсем не замечали его присутствия. У него не было здесь учеников. Он был здесь иностранец. Малевич мне про него кисло сказал: “Да, но он все-таки беспредметник”. Больше того, он первый беспредметник был, но он ведь весь вылез из фовизма, через кубизм он не прошел, поэтому он не конструктивен и не имеет ничего общего с русским искусством»9.
С каких пор немецкая живопись начала казаться живописью второго сорта, а для современного художника стало необходимым «проходить» французский кубизм? Ведь еще в 1912 г. ведущие немецкие экспрессионисты участвуют на выставке «Бубновый валет», Франц Марк, Август Макке, Габриэле Мюнтер вместе с Кандинским состоят действительными членами общества, а живописцы ларио- новского кружка посылают картины на выставку «Синий всадник». Но уже в начале 1913 валеты заявляют: «немцы в этом году не приглашены!», что с обидой отмечает Кандинский10. Почему же теперь овладение кубизмом и возникающей на его основе конструктивностью оказалось решающим свойством, более важным, чем открытие беспредметности?
Здесь мне хотелось бы проследить тот момент, когда авангардисты не просто узнали о кубизме, но сделали его знаменем нового искусства. Думается, эти позиции были разделены во времени.
Бенедикт Лившиц в ярких мемуарах создал выходящий далеко за пределы частного эпизода образ художника-авангардиста - варвара, с неистовым усердием перенимающего западные открытия (в частности - новинки Пикассо) и мгновенно переваривающего их в своей «тотемической» кухне11. Этот образ оказался столь завораживающе убедительным, что стал восприниматься как некая психологическая модель отношения авангарда к западной культуре. Впрочем, дело не в одном Лившице: так, или примерно так, представляла себе эти отношения и чуждая авангарду русская критика. Вопреки этому расхожему суждению, можно утверждать, что кубизм был подхвачен русскими далеко не сразу и, в особенности, не сразу оценен и взят на вооружение; на его освоение понадобилось несколько лет и много усилий.
Живопись французского кубизма русские художники могли увидеть уже в начале 1909 г. на выставке Салон «Золотого руна» в Москве, где экспонировалась «Большая купальщица» Ж. Брака (в окружении голуборозовских, фовистских и прочих полотен; кстати сказать, тот же стилевой синкретизм был характерен и для выставок «Нового мюнхенского объединения», проходивших в те же
29
годы в Германии). Чуть позже стали известны кубистические работы Пикассо в собрании С.И. Щукина: датой своего знакомства с ними такой точный мемуарист, как М.В. Матюшин, называет 1910 год12. Приблизительно в это же время в доме Щукина стали бывать Малевич и И.В. Клюн (об этом, не называя точной даты первого посещения, вспоминает Клюн13). Полученные впечатления отразятся в живописи Малевича не ранее начала 1912 г., и проявятся главным образом в отдельных приемах лепки формы (например, в трактовке человеческого лица); у Клюна обращение к кубизму произойдет еще позже, в живописи Матюшина очевидного воздействия не будет вовсе. Раньше всех - в 1909-1910 гг. - элементы кубизации формы начала применять в своей неопримитивистской живописи Гончарова, не случайно называвшая себя первой русской кубисткой; в апреле 1910 г. в интервью она упоминает в качестве союзников «новейших французов» - А. Ле Фоконье, Брака и Пикассо14. В декабре работы А. Ле Фоконье и А. Глеза экспонируются на первом - ларионовском - «Бубновом валете». Тем не менее, на съезде художников в декабре 1911 г. представляющий ларионовскую группу С. Бобров выступает с программой, в которой о кубизме говорится только вскользь. Наезжавшие в Париж художники (А.А. Экстер, И.А. Пуни) также приносят вести о новом направлении. В течение 1912 года интерес к кубизму идет по нарастающей. В феврале 1912 г. на «Бубновом валете» экспонируются такие программные вещи, как «Эскиз к трем портретам» Ф. Леже и эскиз «Изобилия» Ле Фоконье. В. Матвей с нетерпением ждет выхода книги А. Глеза и Ж. Мет- ценже «О кубизме» (французский текст вышел в свет в декабре 1912-го, уже в 1913-м опубликованы два русских перевода). Д.Д. Бурлюк, в 1912 г. путешествовавший по Европе, затем читает в России серию лекций о новом искусстве и публикует статью «Кубизм», в которой дает этому направлению достаточно расплывчатую характеристику, сводящуюся к проблемам плоскости и фактуры. В кружке Ларионова, по-видимому, продолжают относиться к нему как к очередному «изму». Гончарова в 1912 г. заявляет: «Кубизм - хорошая вещь, но не совсем новая» и выводит его из скифских идолов и русской деревянной игрушки15. На той же позиции стоит А.В. Шевченко, издавший в 1913 г. брошюру «Принципы кубизма»: эти принципы автор обнаруживает во всем мировом искусстве, начиная с Египта, и иллюстрирует книгу в основном своими, мало похожими на кубизм произведениями.
Принципы кубизма вообще довольно долго остаются непонятыми, авангардисты, по существу, пользуются названием нового движения лишь для обоснования своих взглядов. Отчасти это подтверждает вышедшая в марте 1913 г. восторженная рецензия Матюшина на книгу Глеза и Метценже. Но накопление знаний продолжается. В начале 1913 г. на Выставке современного французского искусства в Москве появляется «Женщина в голубом» Леже, его же «Дровосе¬
30
ков» воспроизводит Шевченко в своей брошюре. В 1912-м из Парижа возвращается учившийся у Ле Фоконье Лентулов, весной 1913 г. - Л.С. Попова и Н.А. Удальцова. Уроки академии La Palette продолжаются в студии Татлина, или «кубистическом кружке», как называет его Удальцова. Еще до этого (в феврале-марте 1913 г.) Малевич заявляет, что каждый не перешедший на «кубизмофутуристический путь» погиб для искусства16. Если в 1912 г. он использовал кубистические приемы для создания национально-архаизированного («нового русского») стиля, то к 1913-му последний постепенно вытесняется самодовлеющей кубизацией, к 1914-му - исчезает крестьянская тема. В начале 1914-го Лентулов, Удальцова, Попова, Малевич встречаются на выставке «Бубновый валет», где демонстрируют разные варианты «русского кубизма» и кубофутуризма. Тогда же рушится последний бастион - Татлин от произведений, связанных с иконописной традицией, переходит к созданию контррельефов.
Теперь следует сказать о внутренней логике этих событий. Период 1909-1911 гг. отмечен расцветом неопримитивизма. Объединявший его сторонников принцип свободы выбора художественных ориентиров, стилевой плюрализм способствовали расцвету индивидуальных дарований. Чем бы ни увлекались молодые русские новаторы - постимпрессионизмом или фресками треченто, иконой или «подносной» живописью, - они чувствовали себя находящимися в едином художественном пространстве с современным Западом, поскольку знали, что и немецкие экспрессионисты, и французы - фо- висты и ранние кубисты - так же, как и они сами, черпают из нетрадиционных культурных источников, обилие которых предоставляет живописцу многообразные «художественные возможности». Русские чувствовали даже некоторое превосходство над европейцами благодаря своей естественной близости к этим источникам, что выразилось (чуть позднее) в заносчивых декларациях Филонова, Гончаровой и Ларионова. Теоретической предпосылкой свободы выбора творческих решений было представление Ларионова об относительности понятия прекрасного: искусство - не «последовательно развертывающаяся лента», а «поворачивающаяся призма» (Бурлюк)17.
Но к 1912 г. намечается, а затем и становится все более явным кризис неопримитивизма. Определенная исчерпанность его концепции сопровождалась спадом живописной активности лидеров, Ларионова и Гончаровой, и их переключением на другие сферы деятельности: книжную графику, подготовку выставок, диспуты, футуристические акции, театральные проекты, сочинение манифестов и т.п. Новая концепция - лучизм - не стала основой для широкого общего движения; всёчество осталось остроумной декларацией. Вообще попытки теоретически оформить неопримитивизм в качестве художественного направления (а не только личной творческой
31
программы) продемонстрировали внутреннюю противоречивость установок его адептов: идея истории искусства как поворачивающейся призмы, где извечно присутствуют зачатки всех современных «измов» (в том числе и кубизма) спорила с желанием обосновать лу- чизм как итог, последнее открытие и окончательное достижение.
Примитивистская эстетика изживается в это время и в стане бубнововалетцев - они поголовно переходят на позиции П. Сезанна, А. Дерена, Р. Делоне и других французов. Начинается период, обычно следующий за периодом свободы — поиск позитивной цели. Даже, пожалуй, столбовой дороги. Аналогичный путь - от идеи «индивидуализма» к идее «школы» - ранее проделали мирискусники, в частности, А.Н. Бенуа. Новое поколение стремится к «системе». Удальцова пишет во время учебы в Париже: «... очень ведь меня тянет к системам и как-то без логического обоснования я не могу»18.
Кубизм был первым направлением, понятым как «система». Если поначалу русские увидели в нем лишь сумму формальных приемов, то со временем он стал восприниматься как принципиально новое отношение к реальности (не духовной, а видимой). Не быстрое, постепенное овладение кубизмом было связано с познанием законов разложения и конструирования, которые казались русским художникам универсальными или, по крайней мере, имеющими объективный смысл. Впрочем, для того, чтобы они «поверили» в кубизм, как в некую истину искусства, необходим был еще один фактор.
Малевич всегда сближал появление в России кубизма и футуризма, начиная историю нового искусства с манифестов футуризма и новой пластической системы в кубизме. Склонный, как и большинство авангардистов, сдвигать временные границы вниз, он утверждал, что знакомство и с тем, и с другим произошло в 1909 г., так же он датировал и появление своих кубизированных крестьянских образов. В действительности о футуризме в России узнали на рубеже 1912-1913 гг.., т.е. именно тогда, когда кубизм начал «доходить» до русских художников; 1913-1914 гг. отмечены размахом футуристического движения, и одновременно создаются самые классические произведения русского кубизма. При этом и Малевич, и Клюн, и Пу- нин, и близкий к ним в оценках Н.И. Харджиев рассматривали кубизм и футуризм в разных плоскостях. Футуризм, по выражению Лунина - «род темперамента», он «больше всего выражался в поведении» (Малевич)19. Не создав, по Малевичу, оригинальной пластической системы, точнее, использовав элементы формального строя кубизма, футуризм смог сделать другое: ясно сформулировать новую систему ценностей, установить новую точку отсчета - то понятие современности, соотношение художественных открытий с техническим прогрессом, которое заставило пересмотреть модель искусства - вращающейся призмы - и заменить ее другой - моделью однолинейного последовательного развития. После появления футуризма на арене русского авангарда неопримитивистские тяготения
32
к архаическим формам и темам уже не могли совмещаться с куби- стическими приемами и должны были отступить, а затем и вовсе исчезнуть. Кубизм был осознан не просто как целостная система, но как новейшая, самая современная система искусства, источник движения к новым открытиям.
С этого момента происходит расслоение между художниками раннего авангарда: для одних, как Филонов и Шагал, кубистические приемы остаются средством для выражения индивидуального «переживания» и круга образов, другие (как Лентулов) постепенно отказываются от кубистических приемов, третьи (Попова, Удальцова, Экстер, Малевич, Клюн) выбирают кубизм «как таковой» (хотя и задерживаются на нем ненадолго).
Приобщение русских к мировому художественному процессу через кубизм делает понятным поражение ларионово-гончаровской проповеди национальности и Востока. В 1913 г., когда Ларионов и Гончарова четко сформулировали свои творческие принципы, эти принципы уже не смогли увлечь их бывших сторонников. Позже Малевич вспоминал о влиянии идеи Востока: «Это влияние было сильным. Но оно как-то оборвалось. Запад победил»20. Закономерным результатом этого было постепенное и только на первый взгляд вызванное обстоятельствами личной биографии вытеснение бывшего лидера авангарда Ларионова из отечественной художественной жизни, как это произошло позднее с Бурлюком, Кандинским и Шагалом.
Неприятие абстрактной живописи Кандинского и двойной упрек в ее адрес - в «бесформенности» («аморфности», «орнаментально- сти») и выражении личной эмоции, - таким образом, очевидно связаны с господствующим влиянием эстетики кубизма. Авангардисты в это время начинают вообще подозрительно относиться к индивидуальному пути в искусстве, к открытиям, в которых нет «выполнения его [т.е. искусства] необходимых форм» (Малевич). В работах Кандинского они столкнулись с невозможностью объективизации тех принципов, из которых исходит автор. Сам Кандинский настаивал на том, что они имеют не произвольную природу, однако его «внутренняя необходимость» оставалась, да, вероятно, и остается скорее нравственным императивом, чем методом создания картины.
Напротив, принципы кубизма, а затем супрематизма и конструктивизма легко становились основой «школы» и «стиля», приобретали черты всеобщности. Возникавшее на этой почве художественное единение было мечтой всех крупнейших мастеров авангарда. Все они мечтали (и не из одного лишь тщеславия!) объединить единомышленников вокруг художественной идеи, представлявшейся каждому из них наиболее значимой. Однако и эта коллизия была чревата психологическими драмами: «обобществление» творческих открытий и методов ставило проблему приоритета, анонимность работы - проблему авторства. Пунин, отрицательно оценивая роль
2. Русский авангард 33
субъективного начала в экспрессионизме, видел, однако, и уязвимость кубистического коллективизма: «Кубизм нашел правильные отношения между “я” и вселенной; в сущности он упразднил “я”, как обособленный “внутренний мир” человека; кубизм научил отсчитывать не от себя; поднял восстание против гипертрофии личности и победил. ...строго говоря, личности в условиях кубистического миропонимания не дано даже страдать... Вот почему так часты измены кубизму, и постоянные отказы от его принципов - это бунт личности»21.
В этом плане можно по-новому взглянуть и на историю авангардистских конфликтов и ссор и попытаться объяснить их не только личными качествами участников, но и описанным выше противоречием, которое разрешалось подчас в болезненных формах. И здесь хотелось бы коснуться одного сюжета, относящегося к тому же 1913 году, когда происходит окончательное укрепление позиций кубизма и его размежевание с другими течениями.
Я имею в виду историю первых футуристических постановок - трагедии «Владимир Маяковский» и оперы «Победа над солнцем». Сама комбинация этих произведений и до поры до времени гармоничный альянс их авторов парадоксальны. Стоит только зрительно представить себе, с одной стороны, выходящего на сцену без грима, в не сценическом, обычном костюме Маяковского, произносящего от первого лица собственные стихи, и с другой - погруженных в ку- бизированные костюмы-конструкции фантастических персонажей оперы, разрываемых мечущимися бликами прожекторов, чтобы почувствовать почти полную несовместимость принципов создателей этих зрелищ. И действительно, их дружная совместная работа вскоре оборвалась.
Завязавшиеся в начале лета 1913 г. тесные контакты художников - «баячей будущего», Матюшина и Малевича, с Маяковским поначалу казались многообещающими. Встречи Малевича и Маяковского происходили в Кунцево, где начиная с мая 1913 г. оба снимали дачи; иногда в этих встречах принимал участие приезжавший к Малевичу Клюн. С Матюшиным Малевич состоял в интенсивной переписке, посвящая его во все важнейшие события своей жизни. В это время Малевич создавал картины и рисунки в духе кубофу- туризма и с увлечением разрабатывал проект задуманного им театрального представления, торопя и подстегивая других участников - драматурга А.Е. Кручёных, композитора Матюшина и выступающего в роли координатора действий И.С. Школьника. «Не могу покойно сидеть, мелькают разные картины постановки», - пишет он Школьнику22. Вероятно, так же активно Малевич воздействовал и на Маяковского, многого ожидая от нового союзника. В одном из писем Матюшину (между 21 и 23 июля) есть часто цитируемая фраза: «У Маяковского выходит такая драма, что восторгу не будет конца...»23.
34
Именно на даче в Кунцево Маяковский, по воспоминаниям Юнона, написал одно из своих стихотворений «в духе кубизма» - «Исчерпывающая картина весны»24. Другое, «Из улицы и улицу», вероятнее всего, появилось в те же месяцы. Существуют два отзыва Малевича о последнем стихотворении, сделанных в устной беседе (вероятно, впрочем, что это две разные записи одного и того же высказывания). В более сдержанном, опубликованном Харджиевым, он называет «Из улицы и улицу» «наиболее удачным опытом “стихотворного кубизма”»25. В записи Д.И. Хармса он заявляет, что оно написано под его, Малевича, прямым влиянием26. Любопытно, что такого рода опыты в наследии Маяковского окажутся единичными. Можно вспомнить и то, что именно в июле 1913 г. поэт пишет первые статьи о театре, очень близкие по духу июльской декларации «баячей», призывающих «устремиться на оплот художественной чахлости - на Русский театр и решительно преобразовать его»27, а иногда звучащие в его устах достаточно парадоксально: «Ненависть к искусству вчерашнего дня, к неврастении, культивированной краской, стихом, рампой, ничем не доказанной необходимостью выявления крошечных переживаний уходящих от жизни людей, заставляет меня выдвигать в доказательство неизбежности признания наших идей не лирический пафос, а точную науку, исследование взаимоотношений искусства и жизни»28.
Однако написанная им и поставленная через несколько месяцев трагедия «Владимир Маяковский» никак не отвечала этим заявлениям; больше того, как раз была до некоторой степени «неврастенией», культивированной рампой и стихом, да и краской, если учесть, что авторами декораций были Филонов и Школьник - наиболее экспрессионистские по духу живописцы среди авангардистов. Не только исповедально-патетическая интонация, но и некоторые темы изобличают в авторе трагедии экспрессиониста: гипертрофия личного «Я», его одиночество в безликой толпе, город; сюда же можно прибавить еще одну тему его поэзии - животных, которые прекраснее и «чище» (выражение Франца Марка) людей - люди, как известно, у Маяковского грязные29 («...взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош»).
Дальнейшее становится хорошо понятным: разное отношение современников к двум постановкам футуристического театра; отзыв Матюшина, который, очевидно, преодолев увлечение талантливостью Маяковского, разглядел в нем нечто принципиально для себя и своих соратников чуждое: «Трагедия Маяковского представляет огромное выявление импрессионизма [любопытна эта терминологическая неточность - очевидно, Матюшин еще не знает слова “экспрессионизм”. - И.В.] в символике слова. Но он нигде не отрывает слова от смысла, не пользуется самоценным звуком слова. Я нахожу выявление его пьесы очень важным и значительным, но не ставящим новые последние грани или кладущим камни в трясины будущего
2*
35
для дороги будетлянского искусства. Тем самым, нисколько не умаляя значения его пьесы, считаю постановку его вещи - много ниже его творчества»30. Размежевание усилилось после публикации «Облака в штанах». Р.О. Якобсон вспоминал: «Это было на квартире у Матюшина, в Петрограде, по всей вероятности, в конце пятнадцатого года. Речь шла тогда о каком-то недовольстве, о каком-то расколе в кругах авангарда... Тут как о большом поэте, но поэте компромисса, поэте на границе между импрессионизмом и футуризмом, говорилось о Маяковском. Маяковский казался неприемлемым всей этой группе. Бурлюк, Маяковский и Лившиц представлялись каким- то правым крылом»31. Еще одно свидетельство - воспоминание Л.Ю. Брик «...о том, как Маяковский читал “Войну и Мир” Матюшину и как Матюшин был возмущен этой поэмой, называя ее “леони- дандреевщиной”»32. Отрицательно высказывались о творчестве Маяковского в эти годы также Кручёных и Пуни (вспомним историю с фотографическим коллажем в «Синем журнале» весной 1915 г.).
Малевич, без сомнения, был с ними солидарен. Его недолгое увлечение поэзией Маяковского и быстрое разочарование в ней становятся понятными, если вспомнить, что он характеризовал футуризм прежде всего как искусство города и городской темы. Подлинных выразителей этой темы, по мнению Малевича, в России практически не было. «Маяковский ближе подходил. Он грохотал, ломал, надламывал. Мотор, железо, сталь, чугун врывались в его футуристическую поэзию, но наряду с мотором врывались элементы любви, она, глаза, рыжеволосая»33. Можно предположить, что Малевич, вообще стремившийся приобщить перспективных, с его точки зрения, - а он редко ошибался, - молодых художников к тому, что он открыл для себя и чем был увлечен, постарался приобщить Маяковского к кубизму в надежде, что урбанизм его поэзии вкупе с новыми формальными приемами дадут выдающийся результат. Но здесь произошло то, о чем позднее писал Пунин: «На футуризм, громыхая, все время проходили поезда... Тогда мы еще не знали, что футуризм - только направление, и что все, стремившиеся туда, в конце концов попадали в экспрессионизм»34. Любовная тема обнаружила в поэте иные грани, чуждые, по Малевичу, принципам нового искусства.
Совместные работы, впрочем, продолжались. Но показательно, что Малевич, приглашенный в 1918 г. для оформления «Мистерии- буфф», так вспоминал об этой работе: «Я не разделял... предметной установки образов в поэзии Маяковского, мне было ближе беспред- метничество Кручёных. Мое отношение к постановке было куби- стического характера. ...Я считал своей задачей создавать не ассоциации с действительностью, существующей за пределами рампы, а новую действительность»35.
Здесь сформулировано, по существу, главное расхождение кубизма и экспрессионизма. Оно связано с проблемой образности, с отношением к образной природе искусства. Без-образность авангар¬
36
да явилась попыткой радикального изменения этой природы. Напротив, экспрессионизм тяготел к обострению, гипертрофии образного начала.
Современники хорошо чувствовали принципиальную разнона- правленность этих тенденций. Об этом писал, например, противник авангарда Н.Э. Радлов: «Суть в том, может ли искусство, отказавшись от всяких предметных, вернее, образных ассоциаций, путем комбинирования отвлеченных пространственных форм на плоскости или в пространстве, отвлеченных красочных пятен или материальных поверхностей (фактур), или наконец комбинированием всех этих элементов создать эстетическую ценность, способную вызвать в зрителе переживание специфическое ипонятное, т.е. уясняющее тот принцип комбинирования, который руководил автором в его “познающей”... художественной деятельности. Малевич предполагает, что это возможно, я считаю это маловероятным и на основании тех примеров, которые репродуцированы..., и на основании опыта другого искусства - поэзии, которая в лице даровитейших футуристов ведь решительно уже отказалась от безобразного творчества, не довольствуясь комбинированием словесного материала, но наоборот, решительно перейдя к сильнейшей интенсификации образности, как свидетельствуют прекрасные произведения Маяковского»36.
В том, что экспрессионизм был неизмеримо доступнее для восприятия, чем произведения кубизма и последовавших за ним течений, легко убедиться, перечитав многочисленные отзывы ведущих русских критиков. Высокая оценка Александром Бенуа творчества Гончаровой или «Расеи» Б.Д. Григорьева - и его же «Кубизм или ку- кишизм?», проницательные суждения А.М. Эфроса и Я.А. Тугенд- хольда о Шагале и недальновидные - о других художниках авангарда, комплименты, отпускаемые многими рецензентами «мастерству» Филонова при констатации «непонятности» его сюжетов... Для русского критика, как и зрителя в целом, любая деформация, любая условность художественного языка оправдывалась силой эмоции, особенностями индивидуального видения; он протестовал лишь против объективной значимости новой картины мира. Подобно тому, как для зрителя 1900-х годов были неприемлемы синие стога К. Моне, но понятны символистские «сны и грезы», зритель эпохи авангарда не воспринимал попыток создания авангардной «новой действительности», но соглашался погрузиться в чужие аффекты или бред.
Это не было просто причудой зрительской психологии. Здесь сказалась определенная укорененность элементов экспрессионизма в русской традиции, как в содержательно-тематическом, так и в формальном плане. Личностное, эмоциональное искусство, в особенности окрашенное темой страдания, а еще лучше - мотивами бунтарства - постигалось в России легче и органичнее; формальное
37
экспериментаторство, напротив, подозревали в бездушии. В. Ван Гог и М.А. Врубель входили в сознание быстрее, чем П. Сезанн; П. Пикассо - разрушитель и бунтарь - легче, чем его детище - кубизм. Художественные средства нового искусства - деформация, диссонанс, алогизм, гротеск, - могли приниматься в экспрессионизме, в отличие от кубизма, футуризма и т.п., потому, что их рассматривали именно и только как средства: целью было высказывание о том, что лежит за пределами картины. К элементам этого языка надо причислить также визуализацию метафорического мышления, вообще переносного смысла. Здесь русский экспрессионизм мог опереться на прочную традицию - символизм («леонидандреевщина»), имеющий романтические истоки, вообще литературное мышление, столь присущее национальному менталитету. Еще раз процитирую Пуни- на: «Проблему экспрессионизма можно сделать проблемой всей русской литературы от Гоголя до наших дней, теперь она становится также проблемой живописи. Почти вся русская живопись раздавлена литературой, съедена ею»37.
«С тех пор, как путем Гоголя пошла большая половина русской литературы, экспрессионизм стал возможным, вероятным и даже неизбежным в русском искусстве.
Доказательства - цитаты:
1. “И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха”. (Гоголь).
2. “Леса, луга, небо, долины - все, казалось, как будто спало с открытыми глазами”. (Гоголь).
...Гоголь заглядывал в чужие освещенные окна; в чужие окна заглядывает современный экспрессионизм, и таинственными кажутся ему рязанские поручики!»38.
Легко представить себе картину, написанную по гоголевскому принципу. Это будет картина Шагала! К примеру, его изображение поэта, лежащего на траве, чья фигура растянулась по холсту подобно долгому дню, полному покоя, - материализованный образ бесконечно длящегося счастливого мгновения; а таинственность быта - не главная ли шагаловская тема?
Однако сам по себе интерес к быту, характерный, к примеру, для неопримитивизма (в котором Тугендхольд находил «струю острого бытового экспрессионизма»), лишь отчасти совпадает с подлинно экспрессионистской тематической направленностью. Последнюю, вероятно, можно охарактеризовать как соединение сниженно-быто- вого изобразительного ряда с «высоким» - мифологическим, чаще всего библейским - подтекстом, расширяющим смысл произведения, придающим образам «огромность» (выражение Б.Л. Пастернака, отнесенное к В.В. Маяковскому). Часто это «просвечивание», неявная ассоциация (у Шагала, Филонова, Кандинского, немецких экспрессионистов, - например, Э. Нольде). Иногда, напротив, - резко нетрадиционное толкование библейских мотивов (серии Гонча¬
38
ровой, некоторые работы Лентулова, Шагала) вплоть до шокирующего выворачивания наизнанку (здесь снова можно вспомнить Маяковского, особенно «Мистерию-буфф»). В том, что оба эти способа были укоренены в русском искусстве предшествующего века, убеждает не только страстная серия протоэкспрессиониста Н.Н. Ге, но и евангельские подтексты жанровой и исторической живописи (об этом замечательно писал Г.Г. Поспелов), не говоря уже о русском романе (Ф.М. Достоевский). Экспрессионизм лишь наследует эту тематическую парадоксальность, совмещение разномасштабных смысловых планов.
Если в этой связи вспомнить о кубизме, то станет очевидным, что его привязанность к традиционным жанрам живописи столь же программна, а однообразие тем и мотивов принципиально утверждает ценность пластической разработки, культ «формы».
Выше шла речь о победе кубизма под другими художественными течениями в России. Его ценности были приняты авангардом в целом, искусство пошло по пути конструирования, а не визионерства - предпочло «строить», а не «переживать». Формотворчество победило гипертрофию образного начала, идея единства и столбовой дороги художественного движения - культ творческой свободы и неповторимой индивидуальности. Эта победа до некоторой степени повлияла и на общественную позицию авангардистов - на их своеобразный социальный детерминизм, окрашенный в основном в оптимистические тона. Говоря словами Лунина, кубизм сказал «твердое “да” эпохе великих сдвигов»39. Достаточно сравнить отношение русских и немецких художников к мировой войне и связанным с ней и революцией бедствиям и лишениям. Зрелому авангардному сознанию будет в целом не свойствен трагизм или катастрофам - скорее, чувство закономерности, преодоление трагедии.
Эта победа кубизма немного смешивает карты, не позволяя с абсолютной четкостью выявить черты, разделяющие мироощущение кубизма и экспрессионизма. Выше уже говорилось о различном отношении к субъективному началу в искусстве. Теперь необходимо констатировать, что тягу к единению испытывали далеко не только те, кто вошел в русло кубизма, но и те художники авангарда, кто остался от него в стороне. Не случайно Ларионов уже в 1913 г. провозгласил «отрицательное отношение к восхвалению индивидуальности». Об этой же тяге свидетельствует организаторская деятельность Кандинского, продолжавшаяся до конца его пребывания в России. Особенно много о коллективизме писал Маяковский, врожденный эгоцентрик. Шагал и Филонов создали свои школы. К этому их толкало присущее всем авангардистам желание пропагандировать свои идеи, что, по сути, противоречило крайне индивидуализированному характеру творчества каждого из них. И если закономерно, что школа самого лирически субъективного живописца авангарда рухнула в одночасье под напором идеи супрематического «единст¬
39
ва», то в случае с Филоновым дело обстоит сложнее: свойственная ее главе культурная изоляция распространилась на всю школу, ставшую неким эзотерическим сообществом.
Столь же «нечистым» является и опыт рассмотрения «прогрес- сизма» художников авангарда. Им в какой-то момент были заражены все - не только прошедшие школу кубизма. Треугольник Кандинского, движущийся «вперед и вверх», появился не под влиянием кубизма и футуризма, его вызвали к жизни другие - исторические, социально-психологические и прочие причины. Ими объясняется и утрата этой веры в художественный прогресс на излете авангарда, в середине 1920-х годов, у многих ее адептов. Это особая тема, не связанная с проблематикой данной статьи.
Наконец, образность и без-образное искусство. Здесь победа кубизма и авангарда в целом особенно проблематична. Об этом свидетельствуют поздние сетования Лунина: «Все мы, в конце концов, изменили кубизму и теперь предаемся воспоминаниям»40; «Экспрессионизмом забиты все углы, художники набиты им, как куклы...»41. Экспрессионизм не был, да и не мог быть побежден. Его корни на русской почве были слишком глубоки.
Если позволительно сравнить два крупнейших в европейском искусстве художественных переворота (не по направленности и результатам, а по масштабу и значимости для судеб мирового искусства), - живопись начала XX в. и эпохи Ренессанса, то вклад романских и германского народов в обоих случаях будет определяться пропорциональными величинами. У латинян (в первом случае - художников итальянского Возрождения, во втором - представителей французской школы) он значительней, новизна их открытий радикальнее; у немцев он скромнее, их позиция компромисснее. При этом компромиссность немецкого искусства возникает на почве более глубокой и тесной связи с предшествующей духовной традицией, с питающим ее спиритуализмом. Напротив, радикализм романских преобразователей идет от культивирования пластических ценностей, от чувства формы, изменяя которую, однако, новое искусство выражает наиболее полно и адекватно и новое мироощущение.
В начале XX в. картина усложняется за счет того, что в общее движение включаются и русские. Связанные на протяжении более столетия с немецкой культурой, вобравшие в себя ее ментальность, они последовательно уходят от нее в сторону, традиционно считавшуюся для них недоступной (еще в конце XIX в. писали: у французов - форма, у нас - содержание, т.е. «душа»; «французы глубоки во внешности», и т.п.42). А затем идут еще дальше, стремясь придать пластическим ценностям нового искусства философскую значимость, вывести из формы идею.
40
1 Книга воспоминаний Н.Н. Пунина «Искусство и революция» (1930-1932) осталась неоконченной, две главы из нее были опубликованы в изд.: Лунин Н.Н. Квартира № 5. (Главы из воспоминаний) // Панорама искусств, 12. / Предисл., публ. и прим. И.Н. Пуниной. М., 1989. Лунин Н.Н. Первые футуристические бои. (Глава из мемуаров «Искусство и революция» (1930-1932) / Публ. Л. Зыкова // Русская мысль, 1999, 6-12 мая № 4628; 13-19 мая № 4629; 20-26 мая, № 4630.
2 Лунин Н.Н. Первые футуристические бои.
3 Там же.
4 «Понимать кубизм, уметь его применять, значит жить с нами». (Там же.)
5 Лунин Н.Н. Квартира № 5. С. 176.
6 ОР ГТГ. Ф. 180 (фонд находится в стадии обработки).
7 Там же.
8 Неизвестное письмо М.Ф. Ларионова / Публ. Джона Боулта // Н.С. Гончарова и М.Ф. Ларионов: Исследования и публикации / Отв. ред. Г.Ф. Коваленко. М., 2001. С. 246.
9 Голубкина-Врубель И. Н. Харджиев: будущее уже настало // Харджи- ев Н.И. Статьи об авангарде / Сост. Р. Дуганов, Ю. Арпишкин, А. Сарабьянов: В 2 т. М.: RA, 1997. Т. 1. С. 372.
10 Автономова Н.Б. Путь художника // Сарабьянов Д.В., Автономова Н.Б. Василий Кандинский. М., 1994. С. 136.
11 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 317, 320.
12 Матюшин М. Русские кубофутуристы // Харджиев Н.И. Указ. соч. Т. 1. С. 158.
13 Клюн И.В. Мой путь в искусстве: Воспоминания, статьи, дневники. Сост. и авт. комм. А.Д. Сарабьянов. М.: RA, 1999. С. 67-70.
14 См.: Крусанов А.В. Русский авангард: 1907-1932. СПб., 1996. Т. 1. С. 28.
15 Там же. С. 52.
16 Письмо К.С. Малевича М.В. Матюшину и И.С. Школьнику // ОР ГТГ. Ф. 25. Ед. хр. 9. Л. 9.
17 Лившиц Б. Указ. соч. С. 333.
18 Удальцова Н. Жизнь русской кубистки. Дневники. Статьи, воспоминания / Сост. Е.А. Древина и В.И. Ракитин, комм. Е.А. Древиной, В.И. Ракитина и А.Д. Сарабьянова. М.: RA, 1994. С. 21.
19 Последняя глава неоконченной автобиографии Малевича // Харджиев Н.И. Указ. соч. Т. 1. С. 140.
20 Хармс Д. Всякая всячина / Публ. А.В. Повелихиной. Материал подготовлен для издания: Малевич о себе. Современники о Малевиче. (Письма. Документы. Воспоминания. Критика): В 2 т. Авт.-сост. И.А. Вакар, Т.Н. Михиенко. М.: RA, 2003 (в печати). Цитируется с любезного разрешения публикатора.
21 Лунин Н.Н. Первые футуристические бои.
22 Казимир Малевич в Русском музее. СПб.: Palace Editions, 2000. С. 391.
23 Харджиев Н. Из материалов о Маяковском // 30 дней, 1939, № 7. С. 83.
24 Клюн И.В. Указ. соч. С. 77.
25 Харджиев Н.И. Указ. соч. Т. 1. С. 65.
26 Хармс Д. Указ. соч.
27 Матюшин М., Кручёных А., Малевич К. Первый всероссийский съезд баячей будущего (поэтов-футуристов) (цит. по: Малевич К. Собр. соч. М.: Ги- лея, 1995. Т. 1. / Общ. ред. А.С. Шатских. С. 23.
28 «Кине-журнал», 24 авг. 1913 (цит. по: Катанян В. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. Изд. 5-е, доп. / Отв. ред. А.Е. Парнис. М., 1985. С. 69.
41
29 См. об этом: Лосев Л. Мояковский // Поэзия и живопись: Сб. трудов памяти Н.И. Харджиева / Под ред. М.Б. Мейлаха и Д.В. Сарабьянова. М., 2000.
30 Цит. по: Катанян В. Указ. соч. С. 77.
31 Якобсон-будетлянин. Сборник материалов / Сост., подг. текста, предисл. и комм. Бенгт Янгфельдт // Jangfeldt В. Jakobson-budetljanin. (Jakobson the Futurist). Stockholm, 1992. C. 23-26.
32 БрикЛ.Ю. Из материалов о В.В. Маяковском //Литературное обозрение, 1993, №6. С. 68.
33 Харджиев Н.И. Указ. соч. Т. 1. С. 140.
34 Лунин Н.Н. Квартира № 5. С. 174.
35 Цит. по: Февральский А.В. Первая советская пьеса «Мистерия-буфф» В.В. Маяковского. М., 1971. С. 69.
36 Радлов Н. О футуризме. Пб., 1923. С. 36-37.
37 Лунин Н.Н. Квартира № 5. С. 174.
38 Там же. С. 177.
39 Лунин Н.Н. Первые футуристические бои.
40 Там же.
41 Лунин Н.Н. Квартира № 5. С. 174.
42 Так же, кстати сказать, считали и немцы: «...Экспрессионизм разделял установившееся мнение, что романские народы порождают дух формы, а северные - чистый дух». (Турчин В С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. С. 78).
В.С. Турчин
НЕМЕЦКИЙ АКЦЕНТ В РУССКОМ АВАНГАРДЕ
Еще в 1971 г. мной была высказана мысль о срединном положении в эпоху романтизма (по ряду типологических признаков) русского искусства в отношении французского и немецкого1. Думается, что такая же серединность, если так можно выразиться, появилась и в начале XX столетия. В какой-то степени подобное повторение исторической ситуации объяснялось тем, что шел, как и в романтизме, мощный слом предшествующей традиции и активное формирование нового художественного языка. Хотя при этом, конечно, в этих двух периодах видны совершенно разные историко-художественные ходы: некоторая «естественность» развития романтизма сменилась на определенную и преднамеренную программность в формировании авангарда.
Как русский романтизм «улизнул» из России в Италию, так экспрессионизм (в определенной ветви своей) - в Германию. Видимо, все сильные духовные «измы» в изобразительном искусстве мыслились за пределами родины, а затем экспортировались «оттуда сюда» в виде готового продукта, поражая и изумляя. Так некогда воспринимались в Петербурге работы О.А. Кипренского, С.Ф. Щедрина, М.И. Лебедева, К.И. Брюллова и А. А. Иванова, теперь же В.В. Кандинского и его сподвижников. При этом каждый раз «плацдарм» для формирования этих «измов» избирался крайне точно. Около ста лет прошло с момента освоения Италии русскими мастерами XVIII в. и ответом на это стало то, что сформировался «наш» романтизм с легким итальянским акцентом. Затем на некоторое время победили почвеннические теории2, а параллельно им формировалась база для «рывка» в Германию.
По всей видимости, в эпоху романтизма дистанция между двумя странами, исчисленная чисто метрически выражала более глубокую мировоззренческую позицию: разлад «мечты» и «реальности», т.е. Рима и Петербурга. В Италию ехали за «мечтой», и «итальянский миф» был разработан куда как полно и тщательно. Примечательно, что, прибыв в «край полуденного счастья», Орест Кипренский сказал, что «он лучше его воображал». Тем не менее, большинство русских романтиков там провели большую часть времени, а многие и
43
скончались. Временами некоторые из них, как Кипренский и Брюллов, хотели покорить Париж, так как Италия предлагала им возможность жить, а не навязывать свои эстетические проблемы. Париж чужаков, конечно, и знать не хотел.
В их же романтическое время началось увлечение немецкой премудростью, и около ста лет шла большая подспудная работа по выращиванию «немецкой мечты». И предвестием многих последующих свершений была дружба между поэтом В.А. Жуковским и художником К.-Д. Фридрихом. Базой для последующих выводов явилось увлечение немецкой премудростью, а именно сочинениями Г.В.Ф. Гегеля, И. Канта, Ф.-В. Шеллинга и А. Шопенгауэра, а позже и Ф. Ницше и, конечно теориями Р. Вагнера, увлечение которым началось в России в 1880-е годы, а к его музыке прислушивались Н.А. Римский-Корсаков и П.И. Чайковский. Вагнеровская статья «Художественное произведение будущего» появилась в переводе в 1897 г. в «Русской музыкальной культуре», а в журнале «Мир искусства» в 1899 г. переводная статья Г. Лихтенберга «Взгляды Вагнера на искусство», что являлось - само по себе - симптомом важных перемен.
На рубеже XIX-XX вв. началось подлинное паломничество в города Германии. Художники, обходя большей частью Париж (и примеры его нового штурма оказывались в то время крайне редки3) начали свое «немецкое» паломничество. Л.О. Пастернак называл в качестве первого примера мастера, прибывшего в Мюнхен из Российской империи одесского художника Адольфа Вербеля4. За ним последовали и другие. Тут можно вспомнить, помимо уже упомянутого Л.О. Пастернака, такие имена, как И.Я. Билибин, О.Э. Браз, И.Э. Грабарь, О.Л. Делла-Вос-Кардовская, М.В. Добужинский, Д.Н. Кардовский, А.А. Мурашко, В.В. Переплетчиков, К.С. Петров- Водкин, А.А. Рылов, К.И. Фалькович, М.Ф. Шемякин, С.А. Щербатов и др. Не вдаваясь в обсуждение того, какие пути они прокладывали через немецкое искусство, сам факт их пребывания является достаточно примечательным, хотя они и не составили единой художественной колонии, жили в Мюнхене в разное время, посещали разные частные школы, а некоторые, как Грабарь основывали даже и собственные. Со временем число их увеличилось, и, собственно, составило вторую генерацию мастеров, уже в большой степени акклиматизировавшихся в Мюнхене и о них еще речь впереди. Стоит отметить только, что не меньше, чем художников, появлялось здесь писателей и поэтов, а также и тех, кто посещал курсы философии в немецких университетах. В конечном итоге это привело к знаменитому цветаевскому: «Германия, Германия! О, мумия, о, мания, Германия моя» и было известным завершением «немецкого мифа» в России, вызревавшего в XIX столетии и бурно проявившегося в начале XX в.5.
Работа над анализом создания такого «немецкого мифа» еще не проведена. Важность такой работы заключена еще и в том, что
44
параллельно создавался и «русский миф» в самой Германии. Не вдаваясь в суть его, отметим, что в начале века «русская тема» здесь была в моде и, как продукт ее, появляется «русизм» - интерес к культуре России, что проявляется в обилии переводной художественной литературы. Новинки из Москвы и Петербурга в городах Германии переводились весьма оперативно, а имена Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого были популярны в кругах интеллигенции. Ряд немецких художников наведовались, путешествуя, на территорию Российской империи. «Русский акцент» в немецком экспрессионизме - также вполне осуществившаяся тема. Характерно, что Кандинский хотел внести в разработку ее, представляясь в глазах немецкой публики «хитрым византийцем», свою лепту.
О воздействии немецкой журнальной графики эпохи модерна, в частности журналов «Югенд», «Пан» и «Симплицисмус» на русскую уже упоминалось не раз. Русские мастера выставлялись в мюнхенском Сецессионе, будь то И.Е. Репин, И.И. Левитан, К.А. Сомов, А.Н. Бенуа, Д. Стеллецкий и др. Немецкие художественные школы по-прежнему сохраняли свое значение. Из Москвы и Петербурга охотно ездили в Мюнхен, где помимо академической мастерской Франца фон Штука, привлекали внимание частные школы Антона Ашбе и Шимона Холлоши. Репин, да также Серов и Браз, советовал своим ученикам ездить учиться рисунку именно в немецких академиях и школах. Так как все русские художники были убеждены, что даром цвета они одарены от Бога, то за «переливанием формы в форму» они и отправлялись в Германию, прежде всего в Мюнхен. Однако все эти поездки не создавали до поры до времени «немецкого акцента в русском искусстве».
Нужно было ждать ситуации и людей, способных ее использовать. Нужно было рождение экспрессионизма и привлечение к участию в его создании сил из России. Нужно было желание создавать новое искусство, испытавшее воздействие парижской школы, в первую очередь А. Матисса и его друзей, орфизма Р. Делоне и познакомившееся с кубизмом П. Пикассо. С точки зрения Кандинского новое искусство России и Германии, которое «надстраивалось» над французским опытом, как наиболее радикальном в то время, было подготовлено к тому, чтобы добавить радикальным решениям в области поисков интенсивной выразительности цвета и структурности форм особое качество - духовность, которой французам не хватало (это мнение было общим и для немецких, и для французских критиков, да и самих художников этих двух стран).
Василий Кандинский со всей присущей ему энергией взялся за это дело. Поехав, подобно всем, за «рисунком», он вскоре, как Грабарь, решает открыть в Мюнхене свою школу-мастерскую «Фаланга», правда тут же превратив ее в теософскую, наподобие ложи. Несколько позже, завершив этот опыт, он задумался над тем, что же делать дальше. Так как художник временами «уставал» от Германии, то по¬
45
этому брал себе отпуск для поездок на родину для «отдыха», а именно, в Москву и подмосковную Ахтырку, а также в Одессу и Киев; помимо того, путешествовал по Италии и Тунису. В особо трудный для себя момент он вообще чуть ли не на год покинул Германию и стал жить во Франции (с июня 1906 по июнь 1907 г.). Эта поездка явилась важной во многих отношениях: он разочаровывается в своем запоздалом модернизме, понимает значение живописных реформ Матисса. И, что симптоматично, вновь пробует, как всегда в свои переломные минуты жизни, писать пейзажи с натуры.
Так что из своего «французского отпуска» в Германию он вернулся подготовленным к борьбе за новое искусство. Им был, еще не имеющий своего имени, экспрессионизм. (Примечательно, что первоначально экспрессионизм, в отличие от последующих поколений историков искусства, описывающих его как ряд приемов, понимался исключительно как обозначение нового искусства, примерно так же, как в России, футуризм, не более того.)
Для участия в его сложении Кандинский предпринимает определенные шаги и тогда же сочиняет «немецкий акцент для русского искусства». Делает это он буквально, старательно представляясь «немцем» и создавая красивую легенду, которую затем выражает в программной книге воспоминаний «Ruckblick»: вот, он слушает с детства немецкие сказки по-немецки, воспитывается в традициях германской культуры, а также имеет и соответственно немецкие родовые корни. Стоит отметить, что эта легенда была столь убедительно им преподнесена, что ей верят до сих пор даже и маститые исследователи. На самом деле немецкий язык он знал плохо, и его гимназический аттестат, выданный в 1885 г., прямо об этом свидетельствует (по этому языку у него оценка «три» из пяти возможных балов). Наконец, Игорь Грабарь, встретив его в школе Ашбе, отметил у нового ученика своеобразный немецкий язык («его несомненно русское произношение немецких фраз»6). Также стоит отметить, что, судя по письмам тех лет, когда Кандинский брался писать по-немецки, язык его был лексически беден, а порой и с грамматическими ошибками (вплоть до того, что первоначально он озаглавил свою книгу воспоминаний «Ruckblicke», т.е. «взгляды назад», хотя есть только единственное число данного выражения, и т.п.). Недовольство Кандинского Давидом Бурлюком, опубликовавшим несколько переводов из «Klaenge» в «Пощечине общественного вкуса» несколько раньше выхода самой книги, определялось и тем, что обнажилась «русская структура немецкого языка» художника-поэта (стихи были даны в переводе на русский). Наконец, все немецкие тексты, им опубликованные, проходили, по крайней мере в то время, редактуру Габриэле Мюнтер, его гражданской жены.
Все это говорится только для того, чтобы уяснить себе, сколько же усилий, на самом деле, предпринимал Кандинский, создавая
46
«немецкий акцент» в своем сугубо русском, по истокам, искусстве. К 1912 г. художник вновь почувствовал «усталость» от Германии и начинает подумывать о возвращении на родину, чаще наведывается в Москву ив 1913 г. начинает строить себе дом на Зубовской площади, решив окончательно покинуть свою «вторую родину». Так что не война, как это принято думать, заставила его удалиться из Германии, а определенная эстетическая стратегия (тем более, что отношения с Г. Мюнтер зашли в тупик).
Кандинский создал свой вариант экспрессионизма и готов был его вывозить в Россию, внося искусственно созданный «немецкий акцент в русский авангард». При этом Кандинский формировал и некое «русско-немецкое» гнездо экспрессионизма. Будучи в Германии он стремился интернационализировать весь художественный процесс, и особо важным явилось широкое привлечение мастеров из России, составление некоего пестрого конгломерата, а затем экспорт некоего единого «русско-немецкого искусства» в города России. Причем для этого он привлекал произведения многих, кто не до конца понимал его стратегию или же являлся только пассивным ее участником. Самым верным соратником Кандинского в это время оказался Александр фон Зальцманн. Первым важным опытом явилось создание школы-объединения «Фаланга», и, хотя до экспрессионизма было еще далеко, тут оказалась важна сама идея «объединять немцев и выходцев из Российской империи».
Моделью «русско-немецкого» симбиоза стали его отношения с Габриэле Мюнтер и, особенно, создание «русской виллы» в Мурнау с ее декорациями, иконами, лубками и т.п. Однако в дальнейшем его стратегия меняется: он занят созданием ряда художественных объединений и вывозом произведений русских и немецких мастеров, исполненных в новой манере, на выставки в России.
Тут совершенно очевидно его отличие от А.Г. Явленского и М. Верёвкиной, некогда учеников Репина, осевших в Мюнхене. Поддерживая с ними дружеские отношения, Кандинский привлекал их к участию в своих «затеях», преимущественно беря у них картины на организуемые им выставки. Не более того. До войны Явленский и Верёвкина активно поддерживали связи с русскими художественными кругами и являлись проводниками «русизма». Приезжающих из отечества гостей они знакомили с Германией. Их мюнхенский дом, получивший название, как «русский уголок», видел С.П. Дягилева, А.П. Павлову, В.Ф. Нижинского, Э. Дузе, Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус и др. Сам факт того, что они сотрудничали с Кандинским и принимали участие в «Новом обществе художников», созданном в Мюнхене в противовес Сецессиону (Явленский был вице-президентом, а с 1911 г., когда Кандинский ушел, и президентом), а также позже в «Синем всаднике», «Салонах» В. Издебского и «Бубновом валете» (активнее всего Явленский), привлекают к ним внимание и в связи с нашей темой.
47
Кандинский уговаривает своего близкого знакомого В. Издеб- ского, работавшего в Германии с 1904 г., организовать «Салон. Интернациональную выставку картин, скульптуры, гравюр и графики». Выставка была показана в декабре 1909 г. в Одессе, в феврале 1910-го - в Киеве, в апреле 1910-го - в Петербурге. Свыше 100 мастеров представили около 700 произведений7. Сам «Салон», как было задумано, представлял весь спектр современных художественных тенденций, от традиционалистов и импрессионистов до радикалов, фовистов, экспрессионистов и кубистов. Нет сомнения, что хотя именно Издебский почитал себя главным, - ведь он взял на себя всю организацию, написал предисловие к каталогу и читал лекции, - все же за самой программой выставки чувствуется идея Кандинского: продемонстрировать новые возможности искусства на фоне «отживающих». Эта выставка имела громадное, до сих пор еще не оцененное нашими исследователями, значение и сравнима разве только с близкими ей по характеру выставками «Мане и постимпрессионисты», показанной в Лондоне в 1910 г. Р. Фраем и «Армори шоу» в 1913 г. в Нью-Йорке. Именно с них начинается триумфальное шествие авангарда в мировом искусстве.
Совершенно очевидно, что группа мастеров, представленных в «Салоне» благодаря инициативе Кандинского оказалась самой представительной, причем не только по своему составу, но и по числу экспонируемых работ. Так, Габриэле Мюнтер дала 12 работ (№ 368-379), В. Кандинский 10 (№ 255-264), А. Явленский шесть (№ 592-597) и только В. Бехтеев - четыре и М. Верёвкина - три. Наконец, А. Кубин представил 15 рисунков (№ 223-237) и, плюс ко всему, М. Коган, из Бессарабии, живший в Мюнхене с 1903 по 1910 год, предоставил пять бронзовых рельефов. Для сравнения, скажем, что Матисс был представлен двумя картинами, Брак - тремя, А. Глез - пятью и т.п. Правда, использование французских картин было сопряжено с трудностями финансового толка (за них надо было вносить большой залог, да и ими занимался другой человек, а именно П. Масперо). Наиболее выигрышной выглядели экспозиции Ларионова (№ 293-299) и Гончаровой (№ 293-299), позиции которых Кандинский считал себе достаточно близкими. Примечательно, что на выставке имелся и раздел детского рисунка, которым особо интересовался Кандинский (позже этот столь специфический материал стал активно включаться в авангардные выставки начала века). Совершенно очевидно, что «немецкий акцент» на выставке Издебско- го-Кандинского мог быть прочувствован достаточно артикулированным.
Значительной попыткой русско-немецкого симбиоза явилось для Кандинского создание в январе 1909 года «Нового общества ху- дожников=Мюнхен», в котором приняли участие А. Эрбслё, А. Ка- нольдт, Г. Мюнтер, К. Хоффер, В. Бехтеев, М. Верёвкина, В. Издебский, А. Кубин, А. Явленский, и, соответственно, организация двух
48
выставок. Наконец, членами «Общества» становятся Франц Марк и Фома (Т.А.) фон Гартман. Каждому из них в будущем Кандинским предопределена определенная роль. С Марком он будет создавать «Синий всадник», а композитор Гартман был вскоре привлечен для работы над постановкой «композиции для сцены» «Желтый звук». Более того, будучи в Москве по поручению Кандинского он будет налаживать связи с художниками объединения «Бубновый валет».
Кандинский также пригласил участвовать на второй выставке в «Современной галерее» X. Таннхаузера, братьев Давида и Владимира Бурлюков (сентябрь 1910), которые, кстати говоря, участвовали и в написании статьи для каталога. Именно Бурлюки представлялись ему тогда наиболее активной силой в новом русском искусстве. Помимо этого Кандинский налаживает отношения с М.Ф. Ларино- вым и Н.С. Гончаровой (а все они активно переписываются).
Собственно, летом в 1910 г. Кандинский готов к отправке своих когорт в Россию. Так, он пишет Н. Кульбину, основателю петербургского «Треугольника»: «Наше еще молодое общество, по всей видимости, близко по целям и стремлениям к Вашему»8. Чуть позже Кандинский найдет моменты сходства между «Синим всадником» и «Бубновым валетом». «Немецкий десант» на выставке «Бубнового валета» в декабре-январе 1910-1911 гг. был особо впечатляющим. Кандинский там выставился среди хорошо ему знакомых Бехтеева, Бурлюков, Верёвкиной, Гончаровой, Ларионова, Канольдта, Мюн- тер, Явленского.
Это не значит, что другие участники ему не были знакомы; просто, здесь называются имена тех, кто составлял, круг единомышленников; однако контакты были намного шире и плодотворнее. Переписка между Мюнтер и Кандинским, в октябре 1910 г. появившимся в Москве, дает возможность увидеть, как и с кем он завязывает необходимые знакомства, причем тут ему помогают его друзья-композиторы, а именно Ф.А. Гартман и Б.Л. Яворский, ученик С.И. Танеева9. 26.Х. 1910 г. Кандинский вместе с Гартманом посещает Гончарову, которая первоначально отнеслась к ним «прохладно», хотя потом отношения наладились.10. Через три дня Кандинский встречается с А.В. Лентуловым, П.П. Кончаловским («другом Ле Фоконье») И.В. Машковым, Гончаровой и Лариновым, запланировавшими выставку на декабрь11. Было решено пригласить и художников из Мюнхена.
Об интенсивных контактах между Кандинским и бубновалетца- ми свидетельствуют и письма Машкова, которые- тот отправлял художнику в Мурнау. В частности в одном из них говорится: «Уважаемый В.В. Я быстро отвечаю на ваше письмо. Этим днем мы говорили о создании общества “Бубновый валет”. Основателями его являются: Давид Бурлюк, Кончаловский, Лентулов, Машков, Фальк, Рождественский. Бюро общества находится в мастерской Кончаловского и Машкова. Ларионов и Гончарова не являются чле¬
49
нами нашего общества. Иллюстрированный каталог предшествующей выставки я не могу вам послать, так как не осталось ни одного экземпляра. Но я надеюсь найти репродукции, которые были воспроизведены в каталоге и вам послать. Сообщите нам имена и адреса немецких художников, которые по вашему мнению интересны для “Бубнового валета”. Жду вашу руку. Илья Машков»12.
После открытия выставки «Бубновый валет» Ларионов и Гончарова подарили Кандинскому по своей картине (ныне они в собрании Национального музея современного искусства в Центре Ж. Помпи- ду, Париж). Когда же Кандинский уезжает из Москвы в Одессу, то там он видится с Бурлюками, дающими добавочную информацию. Однако она помимо этого, поступила и от Ольги и Фомы Гартманов, которые принимали непосредственное участие в подготовке «десанта» из Германии в Москву, сами находясь тогда в Москве. Есть схематический рисунок, сделанный Ольгой Гартман, представляющий экспозицию «Бубнового валета» в письме к Кандинскому от 14.1. 1910 г., из него следует, что работы «немцев» висели в три ряда на двух стенах, а напротив них размещались картины русских участников (по поводу следующего зала есть ремарка: «какая-то мелкая незнакомая дрянь»)13. Сопровождающий текст повествует о том как «Томик» (т.е. Ф.А. Гартман, его в Мюнхене звали «Томасом») вел на выставке энергичные переговоры. Сама же Ольга Гартман пишет, что «Лентулов, Кончаловский, Машков и Гончарова выставили столько, что больше нельзя. Ларионов чуть меньше. Бурлюки a la Piccaso. Перед нашими картинами толпа, и ругаются до бесконечности»14.
Позже Кандинский испытывает интерес и к только что созданной группе художников «Ослиный хвост», а также у него возникает мысль о возможности завязать отношения с петербургским «Союзом молодежи», что видно по ряду писем, которыми обменялись он и В.И. Матвей (Марков) и меценат Л.И. Жевержеев. В ответном письме к Матвею он 29.VI.1912 г. сообщает, что у него два месяца назад был Д. Бурлюк и «скоро мы увидимся снова» и что вскоре будет и Кончаловский15. Помимо этого и сам Жевержеев дает Матвею инструкции для налаживания связей с немецкими художниками, преимущественно через галерею «Штурм» и ее руководителя (и издателя одноименного журнала) Г. Вальдена. Имя Кандинского там постоянно звучит в связи с другими участниками «Синего всадника», в первую очередь Ф. Марка, хотя проект этот не состоялся из-за дороговизны перевоза картин в Санкт-Петербург16.
На выставке «Бубнового валета» 1912 г., помимо Кандинского, также представили работы Э.-Л. Кирхнер (три работы), А. Макке (шесть), Ф. Марк (одна), О. Мюллер (одна), Г. Мюнтер (шесть)17, М. Пехштейн (две), Э. Хеккель (одна). Для сравнения можно указать, что от французов имелось произведений если не меньше, то примерно столько же: у А. Глеза четыре работы, К. Ван-Донгена
50
две, у А. Дерена и Р. Делоне по три, у Ш. Камоэна четыре, у Ф. Леже пять, у А. Матисса и П. Пикассо по три, у О. Фриеза четыре и у А. Ле Фоконье две. Так что «немецкий акцент», даже по численности представленных картин, оказался весьма ощутим. Однако же русской публикой он остался незамеченным.
Для Кандинского, который еще со статьи «Критика критиков» 1901 г., внимательно следил за прессой, особо за реакцией на свои произведения и на произведения своих друзей, такой прием оказался обескураживающим. Собственно, попыток выделить из общей массы участников выставки «Бубновый валет» немецких мастеров не было, и лишь порой их бегло перечисляли среди других зарубежных экспонентов. В целом же критики не брали на себя труд разделять по национальностям зарубежных экспонентов. Достаточен такой пример из рецензии А. Койранского в газете «Утро России»: «На выставке “Бубнового валета” среди унылого однообразия смиренных дилетантов, так тщетно старающихся прошуметь во чтобы то ни стало, есть и несколько произведений, говорящих о действительном таланте и даровании их авторов. Таковы в первую очередь иностранцы Ле Фоконье, Леже, Глез, Фриез, Матисс (обещаны Дерен и Вламинк, но произведения еще не прибыли)». Среди немцев отмечен «хороший по рисунку, но очень дешево раскрашенный этюд девочки выставил Кирхнер». Конечно, это было мало. Но еще более шокирующим оказался другой отзыв из «Московской газеты»: «Подходим к “импровизациям” г. Кончаловского. В высшей степени импровизированные импровизации: красный вопросительный знак, перечеркнутый крест на крест двумя черными чертами»18. Подобного уже Кандинский стерпеть не смог; мало того, что его «импровизации» критиковали, их даже приписали совершенно другому автору.
По всей видимости, это был полный провал задуманного. Тем более что публика поверила в то, что, как писал Я.А. Тугендхольд в 1913 г.: «“Бубновый валет” поклоняется французам»19, а о немцах, по существу, никто и не писал. Наметилось даже желание найти контакты с Лондоном20.
А ведь судя по «Отчету о деятельности Общества художников “Бубновый валет” за 1911-1912 гг.», задуманного было много21. Открывая выставку, Общество «хотело дать московской публике возможность ознакомиться с новейшими течениями в искусстве не только Москвы, но и Европы». И далее «новое немецкое искусство было представлено 21 произведением 7-ми художников, из которых трое: г-жа Мюнтер, гг. Макке и Марк состоят действительными членами Общества». В то время как Общество для пересылки 30 произведений 10-ти французских художников расходы взяло на себя, то «немецкие художники были приглашены на тех же основаниях, которые выработаны для русских иногородних членов». В дальнейшем в Отчете упомянуты фамилии экспонентов: 11. Мюллер О. 13. Пех¬
51
штейн, 18. Хеккель. В числе действительных членов: 5. Кандинский, 8. Мюнтер, 9. Макке, 11. Марк. Примечательно, что в число членов- соревнователей были включены 4. Гартман Фома Александрович и 5. Гартман Ольга Александровна22.
При том, что все было готово, Кандинский отказывается от своих замыслов. На следующей выставке 1913 г. произведений ни Кандинского, ни его немецких коллег уже не было23. Прием, оказанный публикой и критикой его не устроил, более того он, видимо начал разочаровываться в том «интернационале» искусств* который проповедовал изначально. Возможно, подсчитав, сколько ему лет (а именно 46), Кандинский подумал, что он слишком много тратит сил на утверждение всего нового искусства, становясь в нем «одним из», а не главным. Критики больше всего внимания уделяли отечественным мастерам, будь то Россия или Германия, а он оказывался чужим и здесь, и там.
Более того, он наметил новый проект «Я и Москва» и уже в соратниках не нуждался.
* * *
Работа над «десантом», организуемым Кандинским завершилась, что было определено решением вернуться в Москву, и именно тогда он задумывает здесь строительство своего дома, который возводится в 1913-м и заселяется в 1914-м. Начинается новый период в его художественной стратегии: ему кажется, что можно создать «новый русский стиль», над которым он работает, начиная с картины «Дама из Москвы» 1912 г. и кончая композицией «Москва I» 1916-го. Все письма художника к Мюнтер из Москвы полны только одним чувством: восхищением Москвой.
Стоит также иметь в виду, что для организации немецкого акцента в русском искусстве Кандинский активно вводил мастеров из России в свои объединения. Но важно также и то, что многие художники, преимущественно, из Москвы участвовали в выставках «Синего всадника», а их работы были воспроизведены в одноименном альманахе. Наконец, и собственное собрание Кандинского невольно показывает, работы каких художников его интересовали. Тут стоит назвать помимо Бехтеева, Явленского и Верёвкиной, которые жили в Германии, отметить и приглашаемых братьев Бурлюков, Ларионова, Гончарову и Малевича. Интересно, что в круг Кандинского попадали и несколько неожиданные мастера, как, например, скульптор С.Е. Судьбинин24, которые скорее нужны были ему для «массовости» представительства русских мастеров, ибо он не без гордости говорил, что его объединение «наполовину русское».
Собственно, он мечтал, чтобы русская и немецкая половины органично соединялись. Для этого он в сотоварищи по организации «Синего всадника» взял Франца Марка и всячески подчеркивал его организационное участие, хотя на самом деле и альманах, и состояв¬
52
шиеся при нем выставки осуществлялись только по инициативе и программе Василия Кандинского. Марк был ему нужен как «немецкий акцент», а тот, в свою очередь, культивировал в своей биографии «русизм», указывая на родственников в Москве (как Кандинский - в Германии) и даже называя любимую собаку «Русси» (что, как писал тот же Кандинский, «являлось уплатой дани России»).
Собственно, некоторая близость немецкой и русской школ XX в. открылась русским критикам только в годы эмиграции, когда они были вынуждены покинуть родину и жить в Берлине. К их числу относился С.К. Маковский, который, уже говоря о новейших течениях в живописи, наряду с разговором о Н. Радлове и В.Е. Татлине цитирует известное тогда сочинение «Об экспрессионизме в живописи» В. Гаузенштейна, а в статье «Художественный интернационал» дает следующую характеристику творчества Кандинского: «В пору своих дебютов он писал картинки “в русском стиле” иллюстративного характера. Эти картинки никто не замечал, потому что в них отсутствовало дарование. Тогда Кандинский преобразился: он стал “выражаться” на экспрессионистском воляпюке. Таланта ему не прибавилось, но среди доверчивых теоретиков новизны il passo maitre и, уж, конечно, в разноцветных иероглифах, коими усердно заполняет теперь холсты Кандинский, нет ни черточки русской»25. И далее продолжает, громя «художественный интернационал», перечислять: «Упомянутый выше Кандинский специализировался на каких-то хаотических цветных “импровизациях” трепаными линиями и кляксами... Макке и Франц Марк (умершие оба на войне) - первый как бы продолжатель дивизионизма Сёра и Синьяка на экспрессионистский лад, второй - фантаст, более близкий Гогену, прославившийся чудовищными, идолоподобными зверями; тоже “идолов”, но овеянных жутью скандинавского Севера, пишет Нольде...»26. И т.п.
Впрочем, такое запоздалое понимание единства художественного процесса начала XX в. оказалось действительно запоздалым, и к тому времени, критическое ли, положительное, уже было никому не нужным... 11 Турчин В.С. Художественная структура русского романтизма // Методологические проблемы общественных наук. М. Изд-во МГУ, 1971.
2 Хотя барон Н.Н. Врангель полагал, что после Александра I наступил «немецкий период в развитии русского искусства».
3 Только в 1920-е годы выходцы из бывшей Российской империи начинают определять некоторые тенденции в первой «парижской школы» и лидером тут становится, несомненно, М.З. Шагал.
4 Пастернак Л.О. Записки разных лет. М., 1975. С. 26.
5 Турчин В.С. Германия и мы //Творчество, 1997, № 1-2; он же. Германия и Россия: Эстетические параллели и диалог // Искусство, 1996-1997, № 1.
6 Грабарь ИЗ. Письма. 1891-1917. М.: Наука, 1974. С. 87.
7 О точном числе участников и произведений говорить затруднительно, так как оно, по мере переезда выставки из города в город, менялось (можно гово-
53
рить, ссылаясь на мнение критиков, что участников имелось до 150, а работ даже до 900, хотя многие не были включены в каталог).
8 Письма В.В. Кандинского к Н.Н. Кульбину / Публ. Е.Ф. Ковтуна // Памятники культуры. Новые открытия. 1980. Л. 1982. С. 403.
9 См.: Hoberg A. Wassily Kandinsky and Gabriele Muenter. Letters and Reminiscences. 1902-1914. Munich; L.; N Y. 1991.
1° Ibid. P. 76.
11 Ibidem.
12 Мюнхен. Архив Фонда Г. Мюнтер и И. Айхнера.
13 Там же.
14 Там же.
15 Оригинал (ОР ГРМ. Ф. 121. Ед. хр. 31) на немецком языке. Опубликовано: Turchin V. Drei Schraeiben W. Kandinsky en W. Markov // «Twortschestwo 2000», 2000.
16 Об этом свидетельствуют ряд писем В. Матвея к Л.И. Жевержееву, хранящихся в архивах ОР ГЦТМ и РГАЛИ (опубл. в изд.: Voldemars Matvejs. Вол- демар Матвей. Статьи. Каталог произведений. Письма. Рига, 2002. С. 136-142).
17 Произведения Г. Мюнтер есть в коллекциях московских собирателей (например, «Интерьер с двумя картинами» в собрании С.И. Григорянца (см.: Бубновый валет. Путь на Запад? Путь к себе? Каталог выставки. Московский центр искусства. Галерея «Элизиум». М., 2002).
18 По выставкам // Московская газета, 1912, 5.XI.
19 Тугендхольд Я. Московские выставки. Письма // Аполлон, 1913, № 3. С. 57.
20 См.: Анреп Б. По поводу Лондонской выставки с участием русских художников // Аполлон, 1913, № 2. С. 39-46.
21 Отчет о деятельности Общества художников «Бубновый валет» за 1911-1912 гг. (копия), ГТГ.
22 Они также входили и в «Новое общество художников = Мюнхен».
23 О русских немцах там может напомнить разве только указание, что «Натюрморт» А.А. Экстер (№ 185) является собственностью А.Г. Явленского.
24 Отметим, что немецкие исследователи, достаточно точно характеризуя всех участников «Синего всадника», меньше внимания уделяют подобным «попутчикам».
25 Маковский С. «Последние итоги живописи», Берлин, 1922 (цит. по: Маковский С. Силуэты русских художников. М.: Республика, 1999. С. 291.
26 Там же. С. 292.
Е.В. Шаронкина
ЭКСПРЕССИОНИСТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М.В. ВЕРЁВКИНОЙ В КОНТЕКСТЕ МЮНХЕНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ ДО 1914 г.
Русская художника Марианна Верёвкина прожила в Мюнхене 17 лет, с 1896 по 1914 год. С осени 1896 г. и до начала 1-й мировой войны она, вместе с художником А.Г. Явленским, снимала квартиру- ателье на Гизелаштрассе.
В Мюнхен Верёвкина приехала сформировавшимся художни- ком-реалистом. Позади остались годы ученичества у И.Е. Репина, участие в выставках ТПХВ, а перед отъездом из России - во Всероссийской промышленно-художественной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде. В России Верёвкина создавала произведение преимущественно бытового жанра и портреты. Лишь немногие из них сохранились1. По тематике, сюжетам, стилю живопись Верёвкиной русского периода, особенно светлофонные портреты, например «Портрет матери», ок. 1886 (х., м., 64 х 54, част, собр.) наиболее близка работам Репина, конца 1870 - начала 1880-х годов. Верёвкину привлекали также образы и более ранних произведений Репина, например, в картине «Воскрешение дочери Иаира», 1871 (х., м., 229 х 382, ГРМ), под влиянием которых она создавала свои портреты бедных евреев, живших в окрестностях имения Благодать. (Благодать - имение Верёвкиных в Литве.) Обращает на себя внимание тот факт, что, работая во 2-й половине 1880 - начале 1890-х годов, художница нередко ориентировалась на передвижническую живопись более раннего периода. На эту живопись, привлекавшую ее остротой социальных характеристик, немалое влияние оказала русская сатирическая графика. Не исключено, что еще в России в представления Верёвкиной о жанровой картине входили приемы гротеска, усиливавшего социально-критическую направленность произведения.
В начале 1890-х годов, т.е. в конце русского периода творчества, Верёвкина, несмотря на благоприятные отклики в прессе на ее произведения, оказалась в творческом кризисе, когда собственное искусство стало казаться неадекватным современному мироощуще-
55
нию. В этот период внимание Верёвкиной привлекли работы Пюви де Шаванна и Арнольда Бёклина. Интерес к «мистическому искусству», как его называла Верёвкина, возрастал.
После смерти отца в 1896 г., она приняла решение уехать за границу. Выбор Германии был не случайным. В Германии Верёвкина была уже в конце 1880-х годов во время лечения после несчастья на охоте, ранения в правую руку. Предложение остановиться в своем выборе именно на Мюнхене поступило также от И.Э. Грабаря, поддерживавшего с Верёвкиной дружеские отношения. Грабарь, уже побывавший во Франции, Италии и Швейцарии, жил с 1895 г. в Мюнхене.
Прежде чем говорить об отношении экспрессионистского искусства Верёвкиной к мюнхенской художественной ситуации, хочу остановиться на характеризующих эту ситуацию моментах, имеющих прямое отношение к творческим исканиям Верёвкиной.
Верёвкина приехала в Мюнхен в период расцвета искусства модерна. Мюнхенский модерн развивался крайне неравномерно. В живописи возобладали типичные для предыдущего исторического периода тенденции. Строгий «сухой» академизм, как бы задержавшийся в своем развитии на стадии школы Карла Пилоти, соседствовал с живописью историзма. Важным моментом, сближающим мюнхенскую художественную ситуацию с русским искусством, было позднее знакомство и освоение в сжатые сроки импрессионизма. Для мюнхенской живописи, поиски собственной идентичности приняли несколько ретроспективную форму. Например, сохранялся идеал, идущий от голландской жанровой живописи, отдавалось предпочтение лессировочной технике, и так называемому «рембрандтовскому колориту», в действительности неразрывно связанному с местными, традиционными представлениями о цвете. Живопись мюнхенского историзма, развивавшаяся именно в этом ключе, казалось, не могла подготовить почвы для радикальных явлений. В изобразительном искусстве проводником новых направлений стала графика.
Своеобразие мюнхенской художественной ситуации воплотилось в возросшем в начале 1870-х годов интересе к гротеску, имевшему в Мюнхене давнюю традицию, идущую от католического мистицизма. Новым художественным явлением, связанным в Мюнхене в 1870-1880-х годах с этим интересом было искусство символизма, по началу представленное художниками-иностранцами, прежде всего Бёклиным. Не случайно именно в мюнхенский период творчества Бёклин вводит гротескные образы в свою символистскую живопись. Обращение художников-символистов к гротеску, например, в аллегорических мотивах (Бёклин. «Война», 1896, х., м., Государственные собрания Дрездена, Галерея Новых мастеров, инв. № 2535), появление заостренных до карикатуры характеристик и близких к ней форм в живописи символизма, подготовило почву, на которой в
56
дальнейшем появилось символистское и одновременно экспрессионистское искусство, каким и было искусство М. Верёвкиной в мюнхенский период.
В 1896-1904 гг. Верёвкина поддерживала наиболее тесные контакты с художниками школы живописи и рисунка Антона Ашбе. На искусство Верёвкиной, несмотря на то, что ее привлекал метод преподавания Ашбе, прямого влияния направление этой школы не оказало. В творчестве Верёвкиной школа Ашбе сыграла несколько иную роль - круга единомышленников. Художники школы Ашбе стали участниками салона Верёвкиной на Гизелаштрассе. Именно в этой среде появилась идея организовать интернациональную группу «Фаланга», которую возглавил Кандинский. Особенно оживленной была выставочная деятельность группы в 1901-1904 гг. Художники «Фаланги» не были скованы позицией идейного единства. Целью группы было показать на своих выставках новейшие художественные направления в их разнообразии, главным образом - модерн. На выставках «Фаланги» была также представлена живопись символизма, современная графика, в том числе - сатирическая, скульптура, вышивки. Верёвкина поддерживала тесные контакты с художниками «Фаланги», хотя и не была ее членом. Эта отстраненность от участия в выставках «Фаланги», возможно, объясняется тем, что подходы к своему новому, по собственным словам - «мистическому искусству», Верёвкина наметила сначала в символистской теории, изложенной в «Письмах к Неизвестному» 1901-1905 гг. Эта работа дала новый импульс искусству Верёвкиной. В 1903 г., еще работая над «Письмами», она создает первые рисунки в новом стиле, например, «Женщина и католический священник» (бум., перо, тушь, черн.)2. Женщина изображена со спины у приоткрытой двери. Справа от женщины - фигура уходящего священника. Черная фигура женщины так вписана в пространство приоткрытой двери, что образует с ней единое, вытянутое по вертикали пятно. Фигура священника, силуэтоподобная, слегка наклонена по направлению, которым он следует. Между двумя черными фигурами - светлое пространство, дополненное горизонтальной штриховкой, данной легким нажимом пера. Силуэтное решение дверного проема, одежды женщины и священника играют в композиции ведущую роль. Проявляя особый интерес к изображению контраста между статичностью фигуры женщины и движением уходящего священника, Верёвкина отказывается от детализации, превращает фигуры в знаки. Обращение к силуэту связано с идеей создать «чистую форму». Ретроспективный интерес к искусству XVIII - начала XIX в., возрождение силуэта в графике, был общим в западноевропейском конца XIX - начала XX в. и русском искусстве. В Мюнхене увлечение силуэтом распространилось не только на книжную графику, но и на сатирическую. Уже в ранних работах мюнхенского периода, сначала в графике, а затем в живописи Верёвкина стремится использовать силуэт
57
для усиления гротескной направленности произведения, т.е. типичным для мюнхенской карикатуры и рекламной графики образом. К одному из наиболее ярких примеров обращения к силуэту относится карикатура Ф. Штука на Беккера-Гудаля, 1890-х годов (бум., кар., тушь, бел.)3. Штук изобразил Беккер-Гудаля в профиль, идущим справа налево. Движения одетой в черный костюм колоколообразной фигуры напоминают о некоем заведенном механизме - остановить не представляется возможным. Штук усиливает это движение, придавая бороде и ботинкам настолько заостренную форму, что кажется, будто Беккер-Гудаль может проколоть ими любое препятствие, встретившееся на его пути. Тело так доминирует своей темной массой, что маленькая детально шаржированная голова и виднеющаяся наполовину правая рука, держащая цилиндр, кажутся просто приставленными к телу. В противоположность телу, цилиндр и ботинки имеют подчеркивающие их форму белые блики.
В ряде ранних произведений Верёвкиной 1903-1906 гг., наиболее связанных с искусством модерна, заметно, что в своих творческих исканиях она близка к художникам «Фаланги». Верёвкину привлекали живописные произведения, где границы между модерном и символизмом были зыбкими, например, участника второй выставки «Фаланги» 1902 г. Р. Римершмида («Духи облаков», 1897, карт., темп., 45 х 77, Мюнхенская городская галерея). Другое направление, параллельное исканиям Верёвкиной, в «Фаланге» представлял X. Христиансен. В его живописных произведениях наряду с типичными для модерна японизмами, очевидно увлечение средневековыми витражами, яркостью цветового пятна, скованного контуром. В мюнхенских художественных кругах были известны его композиции для живописи по стеклу, особенно после состоявшейся там в 1902 г. выставки. В этюде для живописи по стеклу «Дети с фонариками»4, Христиансен изобразил шествие детей с яркими китайскими фонариками, в сумерках, среди деревьев, в листве - просвет, манящий в глубину. Фигуры детей почти сливаются с фоном. Христиансен строит композицию на ритме цветовых, оконтуренных тонкой черной линией пятен - фонариков, ярких оранжевых, желтых, лиловых, изумрудных. Между 1903-1906 гг. Верёвкина стремится к построению композиции на основе образующих ритмический ряд цветовых пятен, что и Христиансен, но, выбирая свой путь, отказывается от декоративных принципов модерна, основных в его работах.
Почти сразу после приезда в Мюнхен Верёвкина начала интересоваться сатирическими журналами. Ее привлекали не только известные «Югенд» и «Симплициссимус», но и «Летучие листки». В «Летучих листках» обличительная сторона рисунков обычно была несколько смягчена, восходила к зарисовкам бытовых сцен. В «Письмах к Неизвестному» Верёвкина упоминала размеренную
58
жизнь мюнхенских улиц, и даже лежащую посреди проезжей части корову, которую охранял полицейский и должны были объезжать извозчики. Эти будничные ситуации Верёвкина, с социально-критических позиций, известных еще по русскому периоду творчества, видела как трагедию жизни «маленького человека», оценивая ее в контексте общечеловеческой трагической судьбы. В «Письмах к Неизвестному» Верёвкина писала: «Искусство 1-J это философия, оно есть ценность жизни, комментарий к жизни»5. Верёвкина делала вольные копии с тех редких рисунков в «Летучих листках», где уличная сцена приобретала роковой смысл, например, в рисунке с лежащим на проезжей части пьяным: женщина пытается подтянуть его на тротуар странным, смертельно опасным для лежащего образом - накинув ему петлю на шею (бум., граф, кар., Фонд Верёвкиной, Аскона). Добиваясь эффекта драматического действа, Верёвкина усиливает штриховку в нижней части рисунка, облегчая верхнюю, где виднеются не сами фигуры наблюдающих за происходящим, а лишь их ботинки. В 1903 г. появляются первые гротескные рисунки Верёвкиной. Среди них изображение дома свиданий6. Верёвкина стремится подчеркнуть социальную остроту происходящего. Уходя от иллюстративности, она обращается к примитиву, использует приемы детского рисунка. Изображение дома свиданий относится к ранним из сохранившихся произведений экспрессионистского плана, в них Верёвкина приближается к ранним формам экспрессионизма, появившимся в мюнхенской сатирической графике.
Интерес Верёвкиной к гротеску не ограничивался сатирической графикой. На выставках «Фаланги» было представлено еще одно направление, его развивали в графике А. Кубин, М. Майерсхофер. Это направление было наиболее близко искусству Верёвкиной 1905-1906 гг. В это время она заинтересовалась изображениями «плясок смерти». В изображении смерти, (Смерть, ок. 1903, бум., граф, кар., фонд Верёвкиной, Аскона), как задрапированного кусками ткани скелета, Верёвкина использует аллегорические формы, близкие раннему экспрессионизму Кубина (Лучший врач, 1901, бум., тушь, кисть, перо, набрызгивание тушью, 17 х 23,9, част, собр.) В работах Кубина чувствуется большая привязанность к сюжету, иллюстративность. В примитивизме Верёвкиной черты наивного рисунка проступают отчетливее, чем в работах Кубина. В произведениях Верёвкиной, в отличие от черно-белого двухцветия в работах Кубина, доминировали цветные плоскости со слабо очерченным цветным контуром, например, «Три летящих духа» (бум., кар., цв. кар., Фонд Верёвкиной, Аскона). Духи, похожие на запеленутые мумии, летят рядом друг с другом на фоне оранжево-красного солнца, наполовину утопающего в голубом пространстве неба. Их тела наклонены по направлению полета, диагонально к линии горизонта. Первый дух, в голубой пелене, с зелеными оттенками, два других - в белых пеленах. На месте лиц - однотипные маски с приоткрытыми ртами.
59
На выбор сюжета и его интерпретацию повлияло увлечение Верёвкиной теософией. Иконография произведения связана также с изображениями «плясок смерти». Гротескные образы духов навеяны идеей «исцеления ужасом». В этом произведении, как и в других символистских работах Верёвкиной, проступают черты романтизма, особенно в стремлении вписать фигуры в пейзаж. Этот прием использовал, например, М. Клингер в своей картине «Писающая смерть», ок. 1880, х., м., част. собр. Клингер вписал в романтический пейзаж гротескное изображение смерти в виде писающего в реку скелета. О своих произведениях, связанных с темой смерти Верёвкина писала: «Заколдованная жизнь рядом с заколдованной смертью. Всё вне реальности. Вне реальности и мы...»7. Произведений с изображением аллегорической «заколдованной смерти» Верёвкина, после 1906 г., по-видимому, больше не создавала. В 1906-1907 гг. появляются загадочные рисунки с изображением на однотонном фоне абстрактных форм, подобных тяжелым облакам, перетянутых жгутом в середине, выполненные цветными и графическим карандашами. В некоторых произведениях подобного плана появляются орнаментальные фигуры-арабески. Уже к 1906 г. на первом плане оказывается основная проблема искусства Верёвкиной мюнхенского периода - взаимосвязь символизма и экспрессионизма. Сосуществование символизма и гротеска, двойственных по своей природе, было оправдано уже в произведениях Бёклина. В живописи Клингера развивалась непрерывавшейся в западноевропейском символизме линия романтизма, включавшая гротескную образность. Все это помогло Верёвкиной найти соответствующие ее творческим задачам экспрессионистские формы и перевести их, к 1906 г., из графики в живопись.
В мюнхенском искусстве достижения раннего экспрессионизма в графике оказались долгое время не востребованными в живописи. Ф. Штук, например, соблюдал строгое деление на жанры, не допускавшее перенесение гротескных образов из карикатуры в живопись, т.е. гротеску уделялось особое место именно в жанре карикатуры, деление, типичное для мюнхенской художественной ситуации. Положение изменилось с блестящим и внезапным вхождением в мюнхенскую художественную жизнь Т.Т. Хайне, выдающегося мастера мюнхенского модерна и раннего экспрессионизма. Хайне делает попытку перенести выразительные гротескные образы, созданные на основе карикатуры, в живопись. Стремясь соединить фантастическое, правдоподобное и карикатурное, он создал программную по своей сути картину «Перед заходом солнца» (1890, х., м., 62 х 50, част, собр.), часто демонстрировавшуюся на мюнхенских выставках, начиная с 1892 г. На картине изображена изящно одетая женщина, в шляпе с вуалью, стоящая на фоне пейзажа, разделенного каменной стеной, высота которой по мере удаления от фигуры женщины, увеличивается, делая стену непреодолимой. С правой стороны открывается
60
идиллический, с зеленым холмом и оврагом пейзаж, созданный под влиянием японской графики, а с левой, как противоположность ему, индустриальный пейзаж с заводскими трубами, темными, силуэтоподобными фигурами. Необычным было обращение Хайне, стремившегося усилить гротеск в картине, к шаржированию образа женщины, к упрощению фигур-силуэтов в левой части картины, т.е. к приемам, известным прежде лишь в жанре карикатуры. Однако в дальнейшем Хайне ограничился лишь несколькими произведениями подобного плана, отказываясь в живописи от острых, свойственных жанру карикатуры, гротескных характеристик и даже растворив возможное воспоминание о них в изящных бидермайеровских мотивах. В Мюнхене разрыв между развитием экспрессионизма в графике и живописи был значительным, в несколько лет. Экспрессионизм в мюнхенской живописи начал развиваться значительно позже, чем в других немецких художественных центрах, например, в Дрездене, или в Берлине. Исторически сложившаяся в Мюнхене ситуация, когда гротеску отводилось место именно в карикатуре, способствовала интенсивному развитию раннего экспрессионизма в Мюнхене в журнальной сатирической графике, в плакате.
В мюнхенской живописи между 1905-1908 гг. усиливаются ретро-тенденции, коснувшиеся в некоторой степени и графики, например, журнала «Югенд». Идиллические картины возвещали моду на бидермайер и неорококо. В это же время в Мюнхене началось интенсивное освоение постимпрессионизма. В 1908 г. в живописи ведущим направлением стилизации стал сезаннизм, т.е. художественное развитие было близким к ситуации в русском искусстве к 1910 г. Верёвкина осталась в стороне от увлечения сезаннизмом. Ее больше интересовала линия стилизация, идущая от произведений Ван Гога.
В 1903-1909 гг. Верёвкина, как и многие художники ее круга, много путешествовала, главным образом в Россию, во Францию, а также под Мюнхен, в Мурнау.
В 1907 г. в Мурнау она заинтересовалась народным искусством, баварской живописью по стеклу, деревянной скульптурой. Искусство «на перекрестке культур» способствовало развитию экспрессионизма в живописи Верёвкиной. В нем гротеск, близкий к образности, традиционной для немецкой сатирической графики, сочетался с примитивизмом баварской живописи по стеклу. Наиболее плодотворным временем для развития экспрессионизма в живописи Верёвкиной были 1909-1914 гг. В ее искусстве утвердились формы, близкие раннему мюнхенскому экспрессионизму в графике с его элементами иллюстративности. Именно на этой основе Верёвкина искала компромисс между символизмом и экспрессионизмом в своем искусстве.
Основными темами религиозного по своей сути искусства Верёвкиной оставались вера, смерть, воскрешение, двойственность и
61
загадочность бытия. Пейзаж в большей степени, чем фигуры сохранил романтические черты. За гротескной трансформацией фигуры очевидно желание Верёвкиной выразить свое отношение к персонажу, и даже дать ему роль глашатая авторских идей (Нищие, между 1910— 1912)8. В произведениях Верёвкиной отразилась противоречивость и двойственность ее творческого подхода к символизму и экспрессионизму. Использование повторяемости мотивов (Женщины в черном, 1909-1910, карт., гуашь, 29 х 41, част, собр.), (Близнецы, 1909, карт., каран., гуашь, темп., 27 х 36,5, Фонд Верёвкиной, Аскона) придает произведениям некоторую декларативность, театральность (В ночи, между 1909-1911, карт., смеш. техн., 75 х 101, част. собр.). Ряд произведений привлекает внимание эстетствующей детализацией форм, например, цветов, одежды в картине «Косец в Альпах» ок. 1910, (карт., темп., 56 х 75, част. собр.). Верёвкина в своей живописи не стремилась отказаться от глубиннопространственных отношений. Панорамный вид, мотив пути, дороги присутствует в подавляющем большинстве ее произведений, внося в них повествовательную ноту. Во многих произведениях Верёвкина доводит красочные контрасты до предельного напряжения, например, в «Трагическом настроении», 1909, (карт., смеш. техн.. 48,5 х 60, Фонд Верёвкиной, Аскона). Начиная с 1909 г., художница нередко использует в композиции одно цветовое пятно как центральное, вокруг которого группируются остальные, три-четыре цвета, например, в картине «Добыча древесного угля», ок. 1910 (карт., смеш. техн., 57 х 76,5, част. собр.). От светотеневой моделировки Верёвкина в мюнхенский период полностью не отказывается, например, в «Портрете Розалии Лейс», 1908 (карт., смеш. техн., част. собр.). Постепенный отход от этой позиции Верёвкина намечает в картине «Кафе», ок. 1909 (карт., смеш. техн., 54 х 74, Фонд Верёвкиной, Аскона), близкой к жанру лирической карикатуры. Иконография этого произведения типична для иллюстраций в журнале «Югенд». В «Портрете танцовщика Сахарова», 1909 (карт., смеш. техн., 73 х 55, Фонд Верёвкиной, Аскона) яркие формы гротеска сочетаются с японизмами. На основе контраста Верёвкина создает лицо-маску с лубочными щеками - «яблочками», которые можно было увидеть в русском лубке, или в баварской живописи по стеклу.
Экспрессионизм Верёвкиной был направлен на реализацию символистских задач, не стоявших с такой остротой перед немецкими экспрессионистами. Экспрессионизм в мюнхенской живописи начал развиваться к 1908 г. на основе сезаннизма, а не форм, появившихся на рубеже 1890-1900-х годов в мюнхенской графике. В этом смысле экспрессионизм в живописи Верёвкиной, развившийся именно на основе этой графики уже в 1906 г., относится к неординарным, а для мюнхенской художественной ситуации - к авангардным явлениям.
62
1 В судьбе художественного наследия Верёвкиной роковую роль сыграли обстоятельства ее жизни в нескольких странах, революция, две мировые войны.
2 ЛНММБ ОР, 19-1462. Л. 6 об.
3 Местонахождение неизвестно. In: Munchner Kiinstlerfeste. Hrsg. von Georg Jacob Wolf. Miinchen: Verlag F. Bruckmann 1925. S. 142.
4 Deutsche Kunst und Dekoration. 4. Jahrg., H. 5. Darmstadt: Verlag Alexander Koch 1900. Gegn. d. S. 212.
5 Lettres a un Inconnu, III, p. 23.
6 ЛНММБ OP, 19-1462. Л. 39 об.
7 Там же. Л. 24 об.
8 Местонахождение неизвестно. Мюнхен, 1912, октябрь, Первая общая выставка в галерее X. Гольца, № 127.
Д.В. Фомин
В.В. КАНДИНСКИЙ
И ХУДОЖНИКИ “РУССКОЙ КОЛОНИИ МЮНХЕНА”
В ПИСЬМАХ И МЕМУАРАХ НЕМЕЦКИХ ЭКСПРЕССИОНИСТОВ
Преобразования жизни и искусства замышлялись наиболее радикальными новаторами начала XX в. «в космическом масштабе», мир представлялся им единым культурным пространством. Продуктивный творческий диалог мастеров разных стран был одним из важнейших пунктов стратегии авангарда, подтверждал универсальное значение сделанных открытий.
Личные и творческие контакты немецких авангардистов с русскими художниками, жившими тогда в Германии, сыграли особенно заметную роль в судьбе экспрессионизма и во многом определили его программу. Для того, чтобы четче представить себе, как именно осуществлялись эти контакты, стоит попытаться взглянуть на живописцев, приехавших из России, глазами их немецких коллег. Такую возможность предоставляет обширное эпистолярное и мемуарное наследие мастеров, в той или иной степени причастных к экспрессионизму. Конечно, письма и воспоминания, по определению, не претендуют на объективность, они пристрастно запечатлевают далеко не всегда самые важные в историческом масштабе эпизоды. Тем не менее именно этот круг источников позволяет увидеть за голыми фактами и абстрактными концепциями характеры живых людей с их страстями, исканиями и сомнениями. Высказывания немецких новаторов о Кандинском и других представителях русского авангарда, при всей своей субъективности и фрагментарности, представляют интерес не только для воссоздания общей картины культурной жизни, интеллектуальной атмосферы эпохи, они могут многое объяснить и в истории экспрессионистского движения в целом. Ведь, как справедливо отмечает Д.В. Сарабьянов, «...надо иметь в виду, что не столь сам Кандинский образовывал новые общества, сколь эти общества образовывались вокруг него. Притягательность его личности, которая выходила за традиционные параметры личности художника, часто ставила его в центр всякого художнического сообщества»1.
Даже самое поверхностное знакомство с текстами экспрессионистов позволяет усомниться в полноте и достоверности их предста¬
64
влений о России. Искренний интерес к «огромной и загадочной стране» носил преимущественно литературный характер и зачастую подпитывался не реальными фактами, а мифологемами. Впечатления от образов русской классической литературы, переплетаясь в сознании художников с газетной хроникой и расхожими культурологическими клише, порождали умозрительные, нередко - фантастические картины родины Ф.М. Достоевского и М.А. Бакунина, соединившей крайности религиозного экстаза и богоборчества. Именно автору «Братьев Карамазовых» суждено было стать кумиром немецких авангардистов, одной из главных культовых фигур экспрессионизма. Как отмечают очевидцы, столетие со дня рождения писателя в Германии отмечалось гораздо более широко и торжественно, чем в СССР. Немецкие графики не обошли своим вниманием даже малоизвестные произведения классика, никогда не иллюстрировавшиеся в России. Многочисленные реминисценции из Достоевского без труда можно найти в картинах, скульптурах, теоретических трактатах экспрессионистов. Поэтому неудивительно, что пылкое воображение впечатлительных художников населяло Россию исключительно Карамазовыми, Раскольниковыми, Ставрогиными, Мышкиными, Мармеладовыми. Подобно Эрнсту Барлаху, немецкие интеллектуалы готовы были испытать «братское чувство к этим страдающим, простым, тоскующим и вместе с тем испорченным людям, с их пьянством, пеньем и музыкой»2. Причина подобного восприятия России заключалась, по-видимому, не столько в отсутствии достоверной информации, сколько в предрасположенности экспрессионистов к чисто мифологическим формам мышления. Даже те мастера, которые побывали в России (Э. Барлах, Э. Нольде, К. Кольвиц, Г. Гросс), восприняли ее, главным образом, как природно-социальный феномен. Эти поездки могли быть особой разновидностью ориенталистского паломничества, поиском экзотических впечатлений, политической манифестацией, но никогда не являлись попытками реального изучения другой культуры.
В статьях, письмах, дневниках, мемуарах экспрессионистов постоянно присутствуют имена Достоевского и Л.Н. Толстого, несколько реже встречаются фамилии Л.Н. Андреева и Е.П. Блават- ской и почти полностью отсутствуют упоминания о художниках русского авангарда за исключением живших в Германии В.В. Кандинского, А.Г. Явленского и М.В. Верёвкиной. Такое невнимание к творчеству русских коллег может показаться странным, но оно имеет достаточно простое объяснение. И дело здесь отнюдь не только в том, что названные мастера находились в пределах досягаемости, были лично знакомы с участниками «Моста» и «Синего всадника». Если Россия в целом воспринималась художниками этого круга через призму поэтики Достоевского, то от лица русского авангарда представительствовал Кандинский. Его творчество стало для немецких живописцев квинтэссенцией нового русского искусства, его наи¬
3. Русский авангард
65
более репрезентативным собирательным образом, самым ярким и радикальным воплощением. Например, Хуго Балль, затевая в 1914 г. очередной театральный проект, писал сестре: «Я много бываю с Кандинским, он меня представляет всем, кто важен для нашей идеи между Парижем и Москвой. На сегодняшний день Кандинский - самый гениальный русский. Самый яростный ниспровергатель. Весь в идее. Это известно и в “верхах”, они все чрезвычайно его ценят, и его духовное влияние нерушимо»3. Экспрессионисты имели возможность непосредственного общения с «самым гениальным русским», и на этом фоне знакомство с творчеством его соотечественников казалось несущественным, необязательным. И своеобразный творческий метод художника, и его харизматическая личность, масштаб которой осознавался даже непримиримыми противниками абстракционизма, производили на современников неизгладимое впечатление. Но особенно важно то, что эта личность идеально соответствовала представлениям немцев о загадочной и парадоксальной славянской ментальности, была наиболее приемлемой и притягательной для авангардистской культуры персонификацией «русской идеи» (трудно представить себе в этом качестве, скажем, К.С. Малевича или П.Н. Филонова, даже если бы они переселились в Германию). Как писал критик Вильгельм Хаузенштайн, «...последняя основа живописи Кандинского... - это чудесная русская душа, одновременно мистическая и радикальная, педантично диалектическая и совершенно бессознательная, экспрессивно индивидуалистическая, субъективная до нигилизма и несравненно объективная, одновременно рассудочно-сдержанная и полная благородного самопожертвования, сильная до фанатизма и увлекающаяся до слабости. Кандинский, быть может, величайшее воплощение этой души среди всех живущих русских художников. Но во всех современных русских есть что-то в этом роде. У всех у них есть немного... от его художественного духа, ... его искусство простирается от бесконечной рассудочности до тончайшей абстракции»4. Подобные суждения очень часто находились в подтексте высказываний о русском авангарде, и это необходимо учитывать при их анализе. Конечно, далеко не все представители немецкого экспрессионизма подписались бы под столь восторженной характеристикой творчества Кандинского, однако в восприятии этой личности помимо эмпирических наблюдений почти всегда присутствовал мощный мифологический пласт.
Безусловно, сложившаяся в начале века атмосфера немецкой, в особенности мюнхенской художественной жизни самым неожиданным и благотворным образом влияла на выходцев из России, позволяла раскрыться способностям, о которых они порой и сами не подозревали. Метаморфозы, происходившие с русскими художниками в Мюнхене, поражали не только немцев, но и соотечественников. «Мой брат Сергей... в бытность свою у нас привел с собой молодого офицера Митавского драгунского полка... и просил приютить и
66
помочь в деле искусства, - пишет А.Г. Явленский Д.Н. Кардовскому. - Привез он к нам незначительные акварельки, детские рисунки, драгунское понимание искусства и атлетические мускулы. Занялся я с ним немного, а потом поместил к Книру в школу. По-немецки слова не говорит. Через неделю приносит написанный акт. Живопись - удивительная. Через неделю приносит фигуру женск[ую] в платье... Просто чудо что такое. Такая живопись... впору только прекрасному художнику. Книр поражен его тонкостью глаза, примеряет ему разные очки, чтобы понять суть их. А сей драгун никого и знать не хочет и не слушает кроме меня; драгунские взгляды изменил круто и стал просто художником. Вот поди же какие самородки бывают. При всем том оказался человеком милейшим, душевным и вполне джентльменом. Фамилия его Бехтеев...»5. Сам В.Г. Бехтеев признавался, что его поразила в Мюнхене прежде всего «...атмосфера легкого веселья, непринужденности человеческих отношений и доброжелательства. Художники различных национальностей устремлялись в Мюнхен, как центр искусств, где все способствовало их развитию: природа, знаменитые школы и музеи и товарищеская среда. Художники быстро сближались. Мы все были объединены одним чувством преданности искусству, стремлением проникнуть в его тайны, найти новые средства выражения. С чувством бескорыстной радости мы встречали успехи друг друга»6. Работа в мастерских сменялась общением в кафе и кабачках, походами на этюды, посещением выставок. Несуетный, несколько провинциальный ритм жизни способствовал погружению в творческий процесс. Кандинский в 1930 г. с теплотой и благодарностью ностальгически вспоминал «духовный остров посреди широкого мира», северный район Мюнхена, «...уже почти комичный, изрядно эксцентричный и самодовольный Швабинг, на улицах которого человек без палитры или без холста, или, по меньшей степени, без папки немедленно обращал на себя внимание. Как “чужак” в “гнезде”. Все рисовали... или писали стихи, или музицировали, или увлекались танцами. Под крышей каждого дома можно было найти по крайней мере два ателье, где порой не столько много писали красками, сколько дискутировали, диспутировали, философствовали или изрядно выпивали...»7. Именно в этой, столь близкой русскому сердцу атмосфере «полночных споров», решения вечных вопросов, дружеского общения и совместного творчества русских и немецких мастеров рождались истины нового искусства, формировалась экспрессионистская концепция творчества, готовился стремительный взлет эстетики авангарда.
Габриэле Мюнтер имела возможность наблюдать жизнь «русской колонии» Мюнхена особенно близко, поэтому ее свидетельства представляют для нас исключительную ценность. Ученица Кандинского по художественной школе «Фаланга», впоследствии ставшая его гражданской женой, на протяжении многих лет поддерживала
з*
67
тесную дружбу также с Явлен- ским и Верёвкиной. И современники, и историки порой относились к творчеству Мюнтер достаточно скептически, но в последнее время эта фигура все чаще привлекает внимание исследователей, причем рассматривается не только в качестве спутницы Кандинского, но и как яркий, самобытный живописец. С точки зрения нашей темы интересны не только письма и дневники художницы, но и ее полотна, с подкупающей непосредственностью и добродушным юмором запечатлевшие образы русских авангардистов. Многие важные воспоминания Мюнтер дошли до нас в пересказе философа и историка искусства Иоганнеса Айхнера, с которым она соединила свою жизнь после разрыва с Кандинским.
Вот что пишет художница о периоде учебы в 1902-1904 гг. и о начале дружбы со своим наставником: «Кандинский совсем иначе, чем другие учителя, подробно и основательно объяснял и смотрел на меня, как на сознательно ищущего человека, который может ставить перед собой задачи и цели. Это было для меня ново и произвело впечатление»8. Немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что подобного серьезного, уважительного отношения начинающая художница не встретила у своих соотечественников: «Немецкие художники просто не верили, что женщина действительно может быть талантлива... Примечательно, что Кандинский был первым мюнхенским художником, который взял на себя труд мне помочь; при этом сам он не был немцем, а как раз только что приехал из России...»9. Яркий педагогический талант, искреннюю заинтересованность судьбой своих коллег и учеников, отсутствие депрессивных настроений отмечают в Кандинском периода «Фаланги» и другие мемуаристы. Например, Густав Фрайтаг вспоминает его как безусловно положительного, твердо стоящего на ногах человека с серьезным восприятием жизни, четким мышлением, безупречным поведением и европейскими, даже светскими манерами. Особое своеобразие мастеру придавали едва заметный восточный акцент и отдельные азиатские черты внешности. Молодым художникам импонировала левизна его политических и эстетических взглядов, контактность,
Г. Мюнтер. Портрет В. Кандинского, 1906, цв. линогравюра, 24,4 х 17,7, Мюнхен, Ленбаххауз
68
склонность к юмору; вместе с ними он участвовал в праздниках и маскарадах (на новогоднем карнавале 1903 г. «... с большим цветным пером за ухом представлял ...журналиста и художественного критика!»10).
На протяжении всей жизни Мюнтер считала Кандинского своим главным наставником, самым значительным ориентиром в искусстве: «Я не придавала себе никакого значения рядом с ним. Он был святой человек»11. Творческие возможности учителя и ученицы были явно неравными, тем не менее Кандинский ценил в своей воспитаннице не подражателя, а равноправного собрата по искусству, сложившегося мастера со своей стилистикой, он тонко понимал особую природу ее дарования и способствовал его развитию, стараясь при этом не давить силой своего авторитета, не навязывать собственных взглядов. Такие отношения сохранялись на протяжении всех лет, пока они были вместе. Подчас недооценка творчества Мюнтер, недостаточно почтительные высказывания о ней со стороны коллег становились причиной конфликтов в кругу «Синего всадника».
Увы, не все в жизни этой пары складывалось идиллически. Пестуя самостоятельность своей возлюбленной в вопросах эстетических, Кандинский в то же время пытался жестко регламентировать ее житейское поведение. «Близость боролась с противоречием характеров..., - пишет Й. Айхнер. - Г. Мюнтер, простая и укорененная в земле, не понимала перенапряженной любви Кандинского. ...Патетический, великий характер его художественного творчества был ей чужд... Она с удовольствием скользила, как мальчишки, по зимней заснеженной улице, рассказывала забавные истории, заученные с детства, могла из всех немецких диалектов слепить смешные выражения, употребляла мальчишечьи словечки, с невинным видом отпускала отчаянные шутки, любила играть в кости и танцевать... Детская веселость претила Кандинскому, и он старался воспрепятствовать ей. Больше всего она нравилась ему в черном платье. Он строго запретил ей танцевать. У Г. Мюнтер не было социально репрезентативных манер, которые Кандинский хотел бы видеть у своей жены»12. Стремление к академической строгости, аристократической сдержанности имело далеко не авангардистское происхождение, но, возможно, именно эти черты характера Кандинского подчас помогали находить общий язык с немецкими коллегами, располагали к нему даже непримиримых оппонентов. Впрочем, и Мюнтер нередко удавалось одерживать верх над своим учителем, возвращать его из заоблачных высей духовности к «заботам низкой жизни». Множество поводов для этого предоставляли дом и садовый участок в баварской деревне Мурнау, который художники обустраивали совместными усилиями: «Кандинский с друзьями занимается сейчас садовыми работами: сеет, сажает, собирает урожай, копает, полет, таскает воду и борется с насекомыми. Тяга назад, к простому, была
69
в нем очень сильна»13. Широко известна фотография, на которой улыбающийся Кандинский с папиросой в зубах копает огород Мюн- тер. Основоположник абстракционизма принимал самое непосредственное участие в оформлении «русской виллы» в Мурнау (вес мемуаристы не забывают отметить, насколько уютной и гостеприимной она была), многократно варьируя занимавшую его в те годы тему всадника. «Кандинский расписал мой туалетный шкафчик (а также зеркало и ночной столик ) нежно и с юмором, - вспоминает Мюнтер. - На средней доске скачут синий всадник и всадница в черном. Он повернулся к ней и кивает, а она несется во всю прыть - порой эта шутка меня злила, потому что это была неправда - он никогда не оглядывался и не звал: “Пойдем со мной!”»14
Жизнь в Мурнау особенно оживлялась, когда туда приезжали Явленский и Верёвкина. «Это было прекрасное, интересное, радостное время работы и частых бесед об искусстве, - признается Мюнтер. - ...Мы все четверо искали, и каждый в отдельности развивался... Бывали дни, когда я делала по 5 этюдов»15. Именно в живописных окрестностях Мурнау и в доме художницы сделаны известные портреты, запечатлевшие друзей во время прогулок и застольных бесед.
Явленский находился в этот период (1908-1909) под сильным влиянием французского постимпрессионизма, но остро чувствовал потребность в более современных выразительных средствах, успешно экспериментировал с цветом и формой, был в курсе новейших эстетических веяний. Вероятно, творческое общение с ним было для юной художницы на определенном этапе не менее важным, чем уроки Кандинского, находившегося тогда в мучительных поисках новой, беспредметной стилистики. «Невольно для Г. Мюнтер возникло оживленное сотрудничество с Явленским, - пишет Айхнер. - И сегодня она с большим юмором вспоминает его очаровательные позы, когда он хвалил и был благосклонен. Так, при первом взгляде на новый рисунок он мог выкрикнуть, как восторженный ценитель искусства, предлагающий большую цену: “Тысяча марок!”. Часто он становился очень мягким и совсем тихим и маленьким от абсолютного восхищения, будто бы видел результаты, которых ему самому никогда не достичь...»16. Но при близком знакомстве с Явленским за его веселым добродушием открывался внутренний драматизм; этого бодрого и жизнерадостного на первый взгляд человека постоянно мучали сомнения в правильности избранного призвания. Мастер не был уверен в себе, постоянно нуждался в поддержке и поощрении: «...он, который с удовольствием восхищался собой и позволял восхищаться другим, - впадал иногда в тяжелые состояния, ... кричал: “Я не художник!”»17.
Однако чаще имя Явленского вспоминается в связи с историями курьезными. Например, большое впечатление производило его умение с детской непосредственностью и впечатлительностью мгновенно
70
Г. Мюн тер. Кандинский за фисгармонией, ок. 1909,
цв. линогравюра:
14,8 х 12,4,
Мюнхен, Ленбаххауз
перенимать понравившиеся приемы коллег. Однажды Мюнтер по совету Кандинского поставила перед собой минималистскую композиционную задачу, нарисовав окно дома, обрамленное фруктовой шпалерой, и то же самое проделал Явленский. В другой раз, придя в гости к Кандинскому, он увидел, как создавалось полотно “Синяя гора” с разбросанными над пейзажем черными точками, тут же нарисовал нечто подобное и сразу продал картину, в то время как вдохновивший его образец еще не был закончен.
Иронию Мюнтер вызывала и нелюбовь Явленского к теоретическим построениям, бросавшаяся в глаза во время бесконечных дискуссий о судьбе нового искусства, в которых каждый отстаивал собственное мнение: «Явленский был менее интеллектуальным и интеллигентным, чем Кандинский и Клее, и их теории часто запутывали его. Однажды я нарисовала его портрет, который назвала “Слушатель”, где был изображен Явленский, с озадаченным выражением на толстощеком лице вслушивавшийся в новые теории искусства Кандинского. У Явленского было много друзей в Париже и они с Марианной проводили во Франции даже больше времени, чем в Мюнхене. Как многие большие художники парижской школы, он совсем не был теоретиком, а целиком ремесленником, художником»18. Этот чрезвычайно выразительный по контрастному цветовому решению портрет, написанный в 1908 г., полон трогательной
71
симпатии к оригиналу. Мнения мемуаристов о теоретических способностях Явленского весьма противоречивы. Например, постимпрессионист Виллиброрд Веркаде утверждал: «Я редко в своей жизни встречал людей, имевших такое верное суждение об искусстве, как Явленский, который так точно выбирал лучшее и обладал таким тонким чутьем относительно новых, грядущих явлений в живописи»19. Да и Мюнтер писала в конце жизни следующее: «Если я и имела формальный образец - а в известной степени так оно и было с 1903 по 1913 гг. - то это был, конечно, Ван Гог - через Явленского и его теории (беседы о синтезе). Но это нельзя сравнивать с тем, чем был для меня Кандинский. Он любил мой талант, понимал его, оберегал и направлял»20.
«Марианна Верёвкина, которая, казалось бы, хотела быть четвертой в союзе, в глубине своего существа была в стороне, - считает Айхнер. - Она творила в соответствии со своим графическим, сюжетным талантом, и не была рождена для новой живописи сильных цветов. Она лишь внешне принимала достижения своего спутника. Самых подлинных и тонких результатов она достигала, когда ее карандаш легкими, точными касаниями следовал за ее изобретательной фантазией... Но это было настолько далеко от рвущихся вперед художников ее круга, что Явленский иногда, глядя на ее сюжетную картину, дразнил ее “Крах банка”!»21.
Возможно, в приведенной характеристике есть доля истины. Сама Верёвкина (в прошлом - одна из любимых учениц Репина) прекрасно осознавала некоторую старомодность своей стилистики, тру- дносовместимость академических навыков и символистских тенденций с требованиями новейшей эстетики. Она более чем трезво оценивала меру своего дарования. «Мой случай печальный, т.к. знание мое глубоко, а умение ничтожно. Душа созрела, а выражения остались детскими. Все, что происходит таким образом, разбивается в беспомощном труде»22, - писала художница в 1914 г. Ф. Марку. Тем не менее ее участие в деятельности «Нового объединения художников Мюнхена», а впоследствии «Синего всадника» ни в коем случае нельзя назвать фиктивным или незначительным, оно отнюдь не сводилось к покровительству Явленскому и содержанию салона, куда были вхожи почти все крупные художники Мюнхена, а также Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Элеонора Дузе. Историк искусства Г. Паули, бывавший в гостях у художницы, вспоминает: «Никогда больше я не был в обществе, которое было бы заряжено такой энергией. Центром, можно сказать излучающим энергию, ощутимую почти физически, была баронесса»23. То же самое почувствовал юный Хельмут Макке, посетивший салон в 1910 г. и не разобравшийся в нюансах взаимоотношений его хозяев: «Потом мы были еще у господина... Явленского. У меня опять сложилось то же благоприятное впечатление, что и после первого визита. Особенно о его кузине Марианне Верёвкиной, кажется, она душа всего предпри¬
72
ятия»24. «Она была необычайно темпераментной, сильной личностью, полной бунтарского духа... - пишет Элизабет Эрдманн-Макке. - Она диктовала и все должно было свершаться по ее воле»25. Однако сила этого человека заключалась не только во властном характере, не знакомым с равнодушием и страхом; многие мемуаристы приписывают Верёвкиной почти магические способности. Кольвиц, случайно познакомившаяся с ней на одном из курортов, впоследствии включила русскую художницу в список людей, оказавших на нее наибольшее воздействие в течение всей жизни. Причину влияния баронессы нельзя свести только к яркому дарованию, оригинальным взглядам на жизнь и искусство (исследователи считают, что мысли, высказанные в ее дневниках, предвосхищают многие положения знаменитого трактата Кандинского «О духовном в искусстве») или своеобразному женскому обаянию, но в своем сочетании эти качества способны были произвести сильнейший эффект. «Нет, красивой ее нельзя было назвать, но она обладала привлекательностью, была оригинальна, даже с некоторыми причудами, возбуждала интерес и восхищение своим умом. Так [,] мой друг худ[ожник] Зальцман долгое время сходил по ней с ума»25, - свидетельствует Бехтеев.
Знакомством с Верёвкиной чрезвычайно дорожил Франц Марк. Например, в 1910 г. смелое и весьма спорное суждение художницы о том, что цвет не имеет ничего общего со светом, привело его в восторг: «Это высказывание все время вертится у меня в голове, оно очень глубокомысленно и попадает в самую точку»26. В 1914 г. Марк высоко оценивает персональную выставку баронессы, а когда та едет на родину, просит ее: «Не забывайте совсем маленькую деревушку Зиндельсдорф в большой далекой России»27. Жена Марка Мария пишет Верёвкиной в феврале 1914 г.: «Эти годы были для нас плодотворными, и дружба с Вами и домом на Гизелаштрассе немало способствовала обогащению наших художественных переживаний. Какими огромными глазами смотрела я вокруг при своем первом визите! Никогда я не забуду то впечатление, которое произвел на меня дух искусства, господствовавший там»28. Вероятно, автор «Судеб зверей» не просто симпатизировал русской художнице, но в известном смысле даже испытал ее влияние.
Однако наиболее плодотворным был творческий союз Марка и Кандинского, встреча этих мастеров во многом определила судьбу экспрессионизма и европейского искусства в целом. Возможно, для их союза было плодотворным не только очевидное сходство эстетических устремлений, но и разница темпераментов, судеб, жизненного опыта. Переписка художников носила преимущественно деловой характер, сокровенными мыслями о творчестве они предпочитали делиться в личных беседах. Тем не менее по этим документам очень четко прослеживается история столь значимых в историческом плане взаимоотношений от первых проявлений интереса к творчеству
73
друг друга, через почти полное взаимопонимание и увлеченную совместную работу до вынужденного расставания. Уже первые встречи с Кандинским и его искусством потрясли Марка до глубины души. С годами это восторженное впечатление лишь усиливается, в творчестве своего друга он открывает все новые грани. Например, большие надежды Марк возлагал в 1911 г. на обращение своего товарища к монументальным формам: «Как я рад, что Ваша душа наконец-то выразилась в большой картине»29. Особенно важно для нашей темы, что при посредничестве Кандинского Марк пытался установить контакты и с другими деятелями русского и международного авангарда, на московских новаторов он возлагал даже большие надежды, чем на парижских, высказывал интересные суждения о полотнах Д.Д. Бурлюка и Г.Б. Якулова. «Когда Вы пишите в Париж и Москву, всегда просите новых картин (Ле Фоконье, Делоне, Бурлюка, Гончарову и других) для нашей выставки»30, - советует Марк Кандинскому в январе 1912 г., а через несколько дней со смущением и чувством вины признается, что не смог оценить новаторство музыки А.Н. Скрябина.
Даже ссоры переживаются друзьями в высшей степени достойно и благородно. Показательно в этом плане письмо Марка от 22.III.12 г.: «Вообще-то подобные отношения сотрудничества базируются на обоюдном доверии - доверии к качеству личности другого; в любом случае с моей стороны это доверие не поколебалось... Мы, художники, в конечном счете одинокие парни; каждый страстно цепляется за свои мысли и достаточно часто должен закрываться от других, чтобы не потерять себя... Вы приводите одну позицию Вашей жизненной философии: “Нельзя приблизиться к человеку безнаказанно”; моим заветным желанием было бы убедить вас изменить это предложение: “Нельзя приблизиться к человеку, не получив награды”; потому что до получения этого Вашего письма я сам испытал эту прекрасную перемену, общаясь с Вами»31. Узнав в июле того же года, что его товарищ попал в больницу и перенес операцию, Марк пишет Мюнтер: «Я каждый день готов ездить в город и навещать Кандинского, если бы только знал, что доставлю ему этим радость и ободрю...»32. Более сведущий в практических делах Марк предостерегал своего друга от контактов с не слишком авторитетными и щепетильными галеристами и издателями: «Абсолютно правильно, что вы не спешите с Гольтцем. Мое личное впечатление, после разнообразных разговоров и дел с ним: он самый банальный и пустой обыватель-торгаш, для которого все средства хороши, особенно фраза и поза; “Кандинский” и “Синий всадник” для него имеют просто товарные ценности, и ничего более. Это конечно не выпад против предпринимателей, но Вы наверняка со мной согласитесь, что Ваше имя и “Синий всадник” не для того, чтобы стать торговыми марками»33 (23.XII.12). Именно благодаря посредничеству Марка почти все программные публикации Кандинского увидели
74
свет в престижном издательстве Р. Пипера. Хотя Пипер (удостоенный в переписке лидеров «Синего всадника» многих саркастических замечаний) и не был поклонником абстрактного искусства, ему казалось интересным проследить, как далеко может завести этот путь.
Об искреннем, глубоком увлечении творчеством Кандинского исчерпывающе свидетельствуют и письма Марка к другим адресатам. Например, 10.11.11. он сообщает своей невесте Марии Франк: «На следующее утро я пошел к Кандинскому! Часы, проведенные с ним, - самый дорогой опыт. Он показывал много старых и новых вещей. Все последние необычайно сильны; в первый момент я чувствую большое наслаждение от его сильных, чистых, пылающих красок, затем начинает работать мозг; невозможно отделаться от этих картин, даже если чувствуешь, что голова сейчас лопнет... Например, у него есть картина “Москва”. Формально ничего невозможно увидеть, однако сразу чувствуешь невыносимость миллионного города; кажется, видишь как по мостам движутся автомобили, шум железных дорог, пожары, богатство и нужда; все это чувствуешь; ты взволнован до самого нутра; буквально дрожишь и видишь все реально, как Достоевский, дух которого, без сомнения, ему ближе всего»34. Сближение Кандинского с Достоевским, разумеется, далеко не случайно, оно еще не раз будет встречаться нам в суждениях экспрессионистов о русском авангарде. Но, восторженно принимая творчество своего друга, Марк не собирается становится его подражателем: «Моя голова полна идеями, которые близки искусству Кандинского и Бурлюка. Но это будут все-таки мои идеи, стук копыт моих лошадей»35 (20.III. 11.).
Множество интересных суждений о творчестве русских художников содержится и в переписке Марка с Августом Макке. Первое упоминание Макке о встрече с будущими соратниками звучит несколько наивно: «На этой неделе я был в Мюнхене, и у Танхаузера познакомился с целым новым художественным объединением: Яв- ленский, Кандинский и др. Для Мюнхена это очень, очень хорошие люди. Это меня заинтересовало»36. В следующем письме, датированном декабрем 1910 г., впечатления от новых знакомых и их творчества конкретизируются и углубляются: «Объединение очень серьезное и мне ближе других в плане искусства. ...Кандинский, Явленский, Бехтеев и Эрбслё обладают гигантской силой художественного восприятия. Но выразительные средства слишком грандиозны для того, что они хотят сказать. Звук их голосов так хорош, так изящен, что сказанное остается скрытым... Они, я думаю, слишком увлечены борьбой за форму. У этих устремлений можно многому научиться. Но ранние вещи Кандинского и кое-что из Явленского мне кажется несколько пустым...»37. Марк, которому было адресовано это письмо, полностью согласился с приведенной характеристикой, и в то же время оценил стратегию объединения как наиболее правильную в данных обстоятельствах: «Мы должны искать эти мощные
75
В.В. Кандинский. Дама (Габриэле Мюнтер), фрагмент, 1910, х., м., ПО х 109,
Мюнхен, Ленбаххауз
выразительные средства и учиться, чтобы выйти из болота и тупоумия; другого пути определенно нет»38.
Личность, творчество, теоретические построения Кандинского являются одной из центральных тем переписки художников «Синего всадника», служат поводом для эстетических споров и пространных философских рассуждений, заставляют пересматривать прежние взгляды. Часто обсуждаются такие темы, как природа орнаментального, скрытые источники чистого эстетического наслаждения, соотношение живописи и музыки. К кругу единомышленников вскоре присоединяется Пауль Клее. Интересна его дневниковая запись 1911 г. об одной из первых встреч с пионером абстракционизма: «Очень примечательные картины. Этот Кандинский хочет организовать новое объединение художников. При личном знакомстве я почувствовал определенно глубокое доверие к нему. Он - личность, и у него ...прекрасная, ясная голова. Сначала мы встретились в кафе в городе... Мы договорились тогда, в трамвае по пути домой поддерживать отношения и дальше»39. Внимание Клее привлекают также «в высшей степени одаренные люди» Явленский и Верёвкина. При всей серьезности задач, которые поставило перед собой новое объединение, общение друзей, конечно, не сводится лишь к глубокомысленным теоретическим дискуссиям. В октябре 1911 г. Макке пишет жене: «У Кандинского мы все время смеялись. Он всегда смеется как древний грек, так светло и свободно, прямо гомерически»40.
76
«Кандинский-человек остался для многих такой же великой тайной, как и художник»41, - справедливо отмечает один из первых биографов мастера Вил Громан. Действительно, несмотря на открытость, коммуникабельность, демократизм этого человека лишь очень немногие могли с полным правом считать себя его друзьями и единомышленниками. Некоторых мемуаристов смущало явное несоответствие реальной личности тому образу, который возникал в воображении после просмотра картин и чтения манифестов. Именно в такую ситуацию попал уже упоминавшийся критик В. Хаузен- штайн: «Когда я познакомился с Кандинским, более всего я был сбит с толку его безграничной терпимостью. Я всегда представлял его очень радикальным: принципиальным, проявляющим силу. Первым, что он мне сказал, было простое замечание, что он считает свое искусство в высшей степени относительным... Кандинский убежден, что его путь не есть абсолютно новый принцип. Он ощущает себя консерватором: приблизительно в том смысле, в каком Синьяк ощущал себя хранителем формальной традиции какого-нибудь Делакруа»42. Подобное призние в устах радикальнейшего авангардиста звучало весьма неожиданно. И все же для близких друзей художника личное общение с ним и созерцание его полотен были разными гранями единого захватывающего, исполненного внутренним смыслом процесса. Картины мастера воспринимались почти как живые существа, наделенные, помимо красоты, разумом и чувством, способностью к длительному, никогда не надоедающему диалогу. «Чем ближе я подхожу к Кандинскому, тем глубже я научаюсь его ценить, - сообщает Марк 10.VIII.11 г., - ...у нас теперь висит большой, прекрасный Кандинский; я не могу и представить, что еще могло бы стать таким же непоколебимым и серьезным пробным камнем для всего, что находится рядом. При этом он ничего не убивает, например, даже вещи моего отца, но он убеждает»43.
Помимо общих эстетических концепций и формальных приемов творчества немецкие авангардисты учились у своего русского товарища и методике анализа произведений искусства. Когда он высказывался о работах своих коллег, каждое слово ловилось с жадным вниманием, важным казался не только вербальный уровень суждения, но и его подтекст. Марк пишет Макке 13.VIII.11 г.: «Кандинскому понравились обе твои вещи, которые у меня висят..., но ему хотелось бы, как мне кажется, “дописать”, наметив какой-то живописный центр, который мог бы углубить картину. Он так не говорил, но у меня было чувство, что он так думал. Но обе вещи очевидно его порадовали. То, как Кандинский рассматривает картины - вещь никогда не односторонняя; я многому научился благодаря его способу оценки; я не могу здесь этого описать в двух словах, но думаю, что ты очень хорошо понял бы его в этом пункте»44. В предисловии к каталогу юбилейной выставки Кандинского 1926 г. Клее вспоминал: «Он превосходил меня по уровню зрелости: я мог бы быть его уче¬
77
ником, да в известном смысле и был им, поскольку те или иные его слова благотворно влияли на мои поиски, подтверждая их правомерность...»45. Не избежал воздействия теории абстракционизма и Альфред Кубин. В 1910 г. он писал Кандинскому: «Ваш путь безумен и сладостно-соблазнителен. ...В Ваших работах я чувствую смесь давно исчезнувших правещей с таинственной вибрацией будущих духовных возможностей... Я уверен, что во многих людях хранится невероятное сокровище, подобное Вашему языку форм... Возможно, позже в Вас признают начало новой эпохи искусства»46.
Толкование и описание картин Кандинского заставляет художников становится поэтами, прибегать к языку усложненных аллегорий и эмоциональных метафор, создавать настоящие стихотворения в прозе. Например, письмо Макке от 1 .IX. 11 г. начинается с вполне трезвых и взвешенных рассуждений о творчестве Мюнтер, но как только речь заходит о Кандинском, стилистика сразу меняется, поскольку выразить впечатление от его живописной стихии размеренным, будничным языком представляется автору задачей почти невозможной: «От его картин, которые есть у нас, долго исходит поток, он прекрасен. Он ...романтик, мечтатель, фантаст и сказочник. Но главное в том, что есть в нем кроме этого. Он полон безграничной жизни. Плоскости, через которые перелетаешь в мечтах, блестят и никогда не дремлют. Его штурмующий рыцарь - герб, который висит перед его домом, но он покоряет не только скалы, крепости и моря, он завоевывает также бесконечную нежность и пастораль, во всех частях, в желтом, голубом и розовом, в тихих, едва заметно намеченных шагах дам рококо. Это - как жужжание миллиона пчел или как звук скрипок с бесконечно нежным... ударом литавр. То, что я во всем этом ощущаю, это жизнь, жизнь Кандинского, о которой он мне кричит (да, звучит глупо) своими картинами. Таинственное у него - это бесконечная жизнь, в нем очень много веселости и много-много серьезного. Я часто мечтаю сейчас, хорошо бы иметь здесь прекрасную картину из его сегодня. Я бы мог наслаждаться ею»47. Эти, казалось бы, чисто индивидуальные, субъективные впечатления очень точно выражали общую тенденцию восприятия эстетики Кандинского в среде участников «Синего всадника». Марк отвечает на приведенное письмо следующим образом: «То, что ты пишешь про Кандинского, абсолютно то же, что радует и восхищает в нем и меня. Если бы ты видел его работы в мастерской, и то, что есть у меня, твоя радость утроилась бы. Человек, стоящий за этим, наилучший»48.
Подобный культ Кандинского, восторженное приятие его учения легко могли превратить молодых художников в эпигонов их старшего товарища. Но сами они прекрасно осознавали эту опасность и, признавая бесспорный авторитет мэтра, разделяя многие его взгляды, стремились все же использовать опыт мастера как стимул к самостоятельным поискам. Так, у Макке очень быстро выра¬
78
батывается потребность выйти из-под сильнейшего влияния лидера объединения, дистанцироваться от него, чтобы обрести большую самостоятельность и независимость. Он поощряет и сходные намерения своего брата Хельмута, специально переехавшего в Берлин, чтобы быть подальше от эпицентра нового искусства и таким образом сохранить свою самобытность.
Весьма выразительны строки из письма А. Макке к Б. Келлеру: «Мое мнение все же, что 1. “Синий всадник” ...еще не весь мир, 2. футуристы слишком зазнаются, 3. и швейцарцы тоже, 4. и русские и т.д., но все вместе они создают такую силу, которая сделает очень много, много хорошего (если не самое лучшее в современной живописи). В остальном, насколько могу, я действую совсем самостоятельно, не позволяю давать себе советы, а также осторожно отношусь к восторгам по поводу Кандинского и Марка...»49. Но, несмотря на эти почти бунтарские настроения, тон корреспонденций Макке 1912 г. к главному идеологу «Синего всадника» остается в высшей степени почтительным, даже деловые сообщения воспринимаются очень эмоционально и штудируются столь же тщательно, как и искусствоведческие трактаты: «Ваше последнее письмо было, словно звук императорского колокола Кельнского собора, долгим и захватывающим дух. Я долго радовался Вашей безграничной доброте и, перечитывая, сопереживал»50. Сообщая Кандинскому о большом интересе к его творчеству в берлинских художественных кругах, Макке признается: «Я совсем не хочу объяснять людям ваши абстрактные композиции. Иногда не получается»51.
Весьма любопытны и свидетельства о Явленском и Бехтееве, содержащиеся в письмах Марка. Например, 14.11.1911 г. художник с удивлением сообщает А. Макке: «Я никак не предполагал, что Яв- ленский отнесется к моим новым вещам с таким недвусмысленным и импульсивным восхищением. Скорее я ожидал, что он будет тихо противостоять целям объединения. Но ничуть не бывало. Я сильно сблизился с ним лично и узнаю его все лучше. Он убежден: ничего нового в искусстве нет, а что хорошо, то хорошо»52. Столь незамысловатая концепция художественного творчества не мешала Явлен- скому считать себя видным теоретиком авангарда. 15.11.1911 г. Марк пишет жене: «Я должен тебе кое-что рассказать о Явленском; мы, Бехтеев, Явленский и я, сидели вместе; Бехтеев заметил, что не обладает даром говорить об “искусстве” и обосновывать свои мнения и впечатления. На это Явленский ответил: “А я очень хорошо сужу об искусстве; впечатления и суждения об этом у меня будто врожденные. Но зато я не умею рисовать. Я такой плохой, презренный живописец. Вы не представляете, насколько я глубоко несчастный человек!”. Слова были сказаны так горько и глубоко трагично, что я испытал психическую боль, это было искренне. Он так привязан всей своей переполненной душой к маленькому Андре и ожидает от него гениальности, которой лишен сам. В другой раз он показал мне
79
все, что делал Андре до этого, действительно это на грани чудесного. Под некоторыми работами можно спокойно поставить подпись “Матисс”, ни один художник не усомнился бы... Я думаю, что в Яв- ленском я могу найти глубочайшего друга. Я чувствую, что нравлюсь ему, и что он тоже ищет моей дружбы.. .»53. К сожалению, сын Явленского, подававший столь большие надежды, в отличие от своего отца так и не стал прославленным художником.
Несколькими днями раньше приведенного разговора Марк и Яв- ленский побывали у Бехтеева и увиденные там картины были оценены ими очень неоднозначно: «Большая, Венера с двумя служанками, произвела на меня мучительное, болезненное впечатление; она решительно нехороша; большая часть просто слаба; в общем, оставляет зрителя холодным. Бедняга наверное работал над ней месяца 4! Это так и выглядит; ужасно надуманно... Другая картина красива и вкрадчива, лесная идиллия с женщинами, но с привкусом старого искусства - Сальватор Роза! Бехтеев что-то во мне затронул..; я ничего не хотел говорить; это было невозможно в той ситуации и я знаю Б. слишком мало. Мы с Явленским довольно поздно ушли, и он сразу же на улице спросил о моем мнении; я ответил прямо, он был со мной совершенно согласен... Но, кажется, будет трудно сказать правду Б. Он человек нежный, меланхолический; он очень рад бывать у меня в гостях. Лучшими его вещами все еще остаются работы с первой выставки... Я не помню, писал ли я тебе в последнем письме, что Эрбслё и Канольд и другие настроены против Кандинского, прежде всего в художественном плане. Я подозреваю у Бехтеева ту же линию, - я в любом случае придерживаюсь другой позиции; поскольку то, что делают Эрбслё и другие для меня слишком “старое искусство”, как бы это ни было красиво. Оно воздействует благотворно, но в нем нет той абсолютной внутренней необходимости, какая есть у Явленского, Кандинского и даже Мюнтер»54.
Опыт общения с русскими художниками был принципиально важен для стилистических поисков Марка, поскольку, как он считал, именно российская ментальность позволяла им проводить особо радикальные эксперименты, опережая естественный ход событий. Об этом художник писал Марии 20.Х.11 г.: «Явленский последовательнее в методе поиска. У меня все гораздо медленнее, в эволюции, шаг за шагом, или более того: три шага вперед и два назад; иначе я не могу; я потерял бы почву под ногами. Русские фанатичнее и потому более приспособлены к прогрессу»55.
В письмах и воспоминаниях экспрессионистов содержатся важные свидетельства о ключевых событиях художественной жизни. Особый интерес представляют документы, запечатлевшие реакцию современников на открытие авангардистских выставок, на появление программных публикаций движения.
Когда в 1911 г. выходит в свет работа Кандинского «О духовном в искусстве», она сразу становится настольной книгой для многих не¬
80
мецких новаторов, причем не только для экспонентов «Синего всадника». «Вновь и вновь хочу выразить Вам свое восхищение последовательностью Вашей книги, - пишет автору А. Макке. - Я чувствую, что многое, что раньше всегда ощущал “неясным”..., прояснилось, а ко многому я еще едва прикоснулся. Я часто читаю ее, т.к. в конце концов снова и снова нахожу нечто новое»56.
Но были и близкие к экспрессионизму художники, решительно не принявшие откровений Кандинского. Например, Э. Барлах, получив в 1911 г. от издателя Пипера экземпляр только что вышедшего трактата и даже не прочитав, а бегло просмотрев его, ответил горестно-патетичным письмом. Там были и такие слова: «Я в этом не участвую, хотя бы из инстинкта. Разверзается пропасть, глубже которой не может быть... Как варвар я хочу верить честному человеку, что точки, пятна, линии и крапинки доставляют ему ...глубокое душевное потрясение, но только верить. И затем - всего хорошего!.. Я должен иметь возможность сострадать... Можете ли Вы сострадать комбинации форм на стр. 98 или, может, хотели бы быть на месте 88-й страницы? Это - вопрос без вопросительного знака... Итак, чтобы я ощутил душевное движение, оно должно быть выражено на языке, на котором я способен понять все наиболее глубокое и скрытое... мой родной художественный язык - это человеческая фигура или среда, предмет, благодаря которому или в котором живет человек, страдает, радуется, думает. От этого я не отступлю. В эсперанто-искусстве я не участник»57. Барлах был далеко не одинок в своем мнении. Многие мастера, которым нельзя отказать в новаторских взглядах, ополчились на беспредметную эстетику, поскольку она лишала их привычных критериев оценки произведения, не подчинялась традиционному механизму восприятия картины и сопереживания её герою.
Именно неготовность большинства коллег принять абстрактное формотворчество или хотя бы признать за ним право на существование стала одной из решающих причин раскола в «Новом объединении художников Мюнхена». Конфликт назрел уже летом 1911 г., но настоящий скандал разразился, когда жюри Третьей выставки объединения под формальным предлогом забраковало одну из лучших картин Кандинского «Композиция № 5 (Страшный суд)». Заседание, на котором схлестнулись мнения подлинных новаторов и их временных попутчиков, по горячим следам, очень взволнованно и патетично изображается в письме М. Марк к А. Макке (3.XII.11). Яростную полемику вызывал практически любой затрагиваемый вопрос - от назначения искусства до полномочий жюри, а замечание Кандинского о том, что его интересует лишь мнение художников, привело часть разношерстной аудитории в ярость. Очень смело и достойно вела себя Верёвкина, обвинявшая своих бывших союзников в ограниченности, утрате ориентиров, непонимании подлинных задач свободного искусства, в том, что они готовы свернуть с серь¬
81
езной и честной дороги в сторону кича. Страсти накалились до такой степени, что дискуссия чуть не перешла в драку: «Доктор Шнабель почти вцепился баронессе в лицо, кричал на нее и изрыгал проклятия, пока угроза получить пощечину от Кандинского не оттеснила его на задний план»58. Когда Кандинский, Марк и Мюнтер заявили о выходе из состава объединения, Верёвкина сказала: «Итак, господа, мы потеряли сейчас... достойнейших членов, к тому же прекрасную картину, а сами скоро нацепим ночные колпаки»59. Особенно интересна психологическая реакция М. Марк на происходящее: «Мне было так жаль Кандинского; в подобные минуты особенно полно осознаешь ценность человека, и забываешь всё, все мелкие обиды, несогласия. Он создал это объединение; он принял туда других - доверяя Явленскому, - а теперь эти молодые парни, эти доктора и летчики заодно. Перед картиной, самой замечательной из всех когда-либо написанных, которая должна захватить любого человека, обладающего художественным чувством. Это лучшая картина, написанная Кандинским»60. Примечательно, что непонимание очевидных достоинств полотна, послужившего яблоком раздора, изумляет и занимает автора письма в большей степени, чем жаркие баталии и судьба объединения. Верёвкина и Явленский покинули группу несколько позже своих единомышленников. 28.XII.12 г. Ф. Марк сообщает Кандинскому: «Сегодня я получил очень милое письмо от баронессы, где она пишет, что действительно замечательно себя чувствует при мысли, что может петь и писать без страха перед комиссией объединения и критикой, что не должна заботиться об “обязательных ритмах”... что нам сегодня до объединения!»61.
Новый союз, в который вступили наиболее радикальные мюнхенские новаторы, потребовал от них нешуточных затрат энергии, воли, темперамента, а также дипломатических и деловых способностей, и эта работа захватила их с головой. Переписка позволяет судить о живейшем участии Марка, Макке, Мюнтер в организационных делах «Синего всадника»: они вербуют потенциальных сотрудников, пропагандируют новые эстетические идеи среди молодых рейнских художников, основательно готовятся к участию в московской выставке «Бубнового валета». Особенно важным эпизодом жизни объединения стал период подготовки альманаха «Синий всадник». Очень выразительные воспоминания об этом оставила Элизабет Эрдман-Макке (вдова А. Макке): «Это были незабываемые часы, когда каждый мужчина работал над своей рукописью, отделывал, правил, а мы, женщины, затем преданно их переписывали. Приходили материалы от художников-сотрудников, предложения о репродукциях. Все это отбиралось, обсуждалось, принималось или отклонялось, правда, не без небольших споров и трений. Тогда мы находили безвкусным то, что Марк и Кандинский были представлены каждый со своей амазонкой, в то время как Августу не дали поместить полноценную репродукцию своей картины. Несмотря ни на
82
что, эти дни были удивительно волнующими... Сам Кандинский был необычным типом, чрезвычайно возбуждавшим всех художников, попадавших под его обаяние, в нем было что-то мистическое, фантастическое, соединенное со странным пафосом и склонностью к догматизму. Его искусство было учением, мировоззрением»62.
Явленский, по мнению мемуаристки, был фигурой не столь загадочной, но не менее притягательной «...необычайно симпатичный человек, полный доброты и нежности, настоящий кавалер, бывший офицер со старыми традициями. Я и сегодня вижу, как он наливает нам чай, ухаживает за гостями, показывает нам собрание старых картин на стекле, которые занимали целую стену его мастерской. Тогда он рисовал большие яркого колорита картины, моделью ему часто служил танцовщик Сахаров...»63.
«Синий всадник» никогда не был монолитным, четко структурированным объединением, среди участников нередко возникали разногласия. Например, хотя А. Макке со всей страстью и энтузиазмом включается в работу союза, творчество далеко не всех членов группы вызывает его одобрение. Когда в январе 1912 г. художник пишет Б. Келлеру о своих впечатлениях от выставки «Синего всадника», то прямо говорит, что среди экспонатов наряду с подлинно прекрасными произведениями можно найти и достаточно много вещей, не заслуживающих серьезного внимания. Макке старается быть предельно объективным, беспристрастно подходит и к собственной живописи, и к полотнам ближайших друзей, но авторитет Кандинского пока остается для него непререкаемым: «Потрясающие вещи Руссо, и его маленькие пейзажи... Кандинский также неоспорим и в художественном смысле грандиозен... Лично мне даже больше нравится не “Москва”, а другая картина Кандинского. Она более цельная и ближе мне своей абсолютной свежестью...»64.
Безусловно, нельзя забывать, что восторженное, почти безоговорочное приятие творчества и теоретических концепций Кандинского было характерно лишь для достаточно узкого круга «посвященных», в то время как газетная критика называла мастера то безнадежным сумасшедшим, то бессовестным шарлатаном. Непросто складывались и отношения с представителями других направлений авангарда, в том числе с экспрессионистами из группы «Мост». Общеизвестны принципиальные различия в программах объединений - они апеллировали к разным эстетическим системам и художественным традициям, в отличие от интернационального и по-своему рафинированного «Синего всадника» «Мост» пестовал свою национальную специфику, питал слабость к брутальным художественным приемам, ненавидел пафос и т.д. Помимо чисто идейных и эстетических разногласий, противостоянию этих групп способствовали и причины более прозаические, прежде всего - элементарная конкуренция на художественном рынке. Безусловно, «Мост» испытывал своего рода ревность к движению, образовавшемуся позже, но полу¬
83
чившему большую известность, пользовавшемуся большим успехом у критиков и меценатов. Эта ситуация нашла свое отражение в мемуарной литературе. Книга Эмиля Нольде «Годы борьбы», изданная в 1934 г. - чрезвычайно характерный документ своего времени. Автор старается приспособиться к новым идеологическим веяниям и, не отрекаясь от авангардистской эстетики, в то же время приписывает себе роль непримиримого борца за чистоту немецких традиций, почти на каждой странице встречается слово «раса». Исключительно большая роль французских, русских, итальянских новаторов в художественной жизни Германии в духе времени трактуется как еврейский заговор галеристов, задумавших вытравить из искусства патриотическое начало. Именно с этих позиций описывается, например, «Херварт Вальден, странный гривастый человек с серым прокуренным лицом, который благодаря еврейскому интеллектуальному чутью уже тогда открыл и с радостью первооткрывателя выставлял в своем Штурм-салоне многих художников, чье творчество впоследствии всерьез озадачило искусствоведов: Марк, Кокошка, Клее, Файнингер, Кандинский, Шагал, Архипенко, Лисицкий и мн. др. Это было крыло быстро развивавшегося движения, обращенного в сущности к абстрактной форме, конструктивному, часто беспредметному искусству... Разумное, духовное, глубоко коренящееся в патриотизме было ему чуждо. Ни одна из моих картин не висела в его салоне. Художников “Моста” - тоже. Мы, немецкие художники, ничего не значили»65. О совместных выставках «Моста» и «Синего всадника» Нольде, сам бывший их инициатором, вспоминает как о вынужденном тактическом компромиссе. Однако эта книга не спасла художника, разделившего судьбу своих менее патриотичных коллег - его карьера закончилась административным запретом на занятия живописью.
1914 год связан с неосуществленными планами подготовки второго тома «Синего всадника», коллективного иллюстрирования Библии, радикальным театральным проектом X. Балля. Он намеревался силами лучших европейских мастеров (среди них - Ф.А. Гартман, М.М. Фокин, В.Г. Бехтеев) не только издать книгу «Новый театр», но и осуществить полное преобразование театра на практике и даже основать «Международное общество нового искусства», призванное реформировать все виды творчества. Вероятно, эти прожекты импонировали Кандинскому своим международным размахом и радикальностью поставленных задач, но он участвовал в их обсуждении уже без свойственного ему обычно энтузиазма, возможно, осознавая их неосуществимость в ближайшее время.
Первая мировая война поставила точку в истории «Синего всадника», разлучила участников объединения. Многие из них не питали иллюзий относительно будущего, понимали, что расстаются навсегда. Непоправимость ситуации особенно остро чувствовал Марк, хотя и пытался воспринимать происходящее с философским спокой¬
84
ствием. «Седой всадник» (именно так подписывались его корреспонденции) постоянно мысленно возвращался к той встрече с друзьями, которой суждено было оказаться последней: «Я все еще часто вспоминаю то странное мгновение, когда вы оба в Кохеле садились в автомобиль, последний кивок; я тогда совершенно точно чувствовал, что это надолго, и что мы стоим перед ужасными событиями, - писал он Мюнтер 14.XI.14 г. - Когда и какими встретимся мы теперь?»66.
Общению русских и немецких мастеров мешали теперь, помимо физической разобщенности, и причины совсем иного порядка. Марк сформулировал их с предельной откровенностью: «Дорогой Кандинский, у меня печальное ощущение, что эта война течет меж нами, как большой поток, разделяя нас; один едва видит другого на дальнем берегу. - И кричать бесполезно, - может быть, и писать. В такое время любой, хочет он этого или нет, рвется назад, в свою нацию. Я очень борюсь в себе против этого; доброе европейство ближе моему сердцу, чем германство; что чувствуете сейчас Вы, не знаю» (24.Х.14)67- Наверно, почти никто из немецких художников не избежал подобных «почвеннических» искушений, но большинство авангардистов справилось с ними достойно. Несмотря на все усилия политиков, деятели германской культуры не утратили живого интереса и даже любви к России. Если Марк для того, чтобы не поддаваться шовинистическим настроениям, штудирует в окопах Льва Толстого, то участник «Моста» Карл Шмидт-Ротлюфф вдохновляется на фронте русской природой. «Россия - огромная страна с подавляющими и импонирующими возможностями и с вечностью во времени... у нее есть будущее»68, - заявляет он в 1915 г., а еще через несколько месяцев делает и вовсе неожиданное признание: «Если я еще долго покручусь в России, есть опасность, что весь мой патриотизм и немецкая гордость погибнут - русский пейзаж с его громадной славянской мечтательностью слишком мне нравится»69.
Порой вездесущие пропагандистские штампы просачиваются даже в сознание лучших, честнейших художников, заставляя их пересмотреть свое отношение к русским друзьям. «По поводу Кандинского ты совершенно права, - пишет Марк жене в 1914 г. - ...Я также убежден, что мы его по-человечески и “по-немецки” не понимаем. Он для нас в высшей степени расово чужд, только замаскирован под западного европейца. Мы также не поняли бы какого-нибудь человека с духом китайца. Возможно, только такому “чужому” духу и было по силам... насквозь увидеть больное европейское искусство. Ты еще совершенно правильно пишешь о Кандинском и иже с ним - славяне; но говоря о Кандинском никогда нельзя забывать о его деле»10. И все же Марк не собирается отрекаться от своего товарища: «С Кандинским я всегда буду поддерживать своего рода мужскую дружбу, несмотря ни на что..; правда: в совместную работу я больше не верю, но я должен часто о нем размышлять. Я знаю, что
85
этот человек внутренне жутко страдает; все его существо, особенно теперь, когда я о нем вспоминаю, выдает его» (13.IV.15)71.
В 1914 г. русские художники вынуждены были покинуть Германию: Кандинский и Бехтеев вернулись в Россию, Явленский и Верёвкина остались в нейтральной Швейцарии. Но их связи с немецкими единомышленниками не прерывались и в эти годы, начатая духовная работа продолжалась по разные стороны линии фронта. Интенсивный воображаемый диалог велся, например, между Клее и Кандинским даже тогда, когда они не могли общаться реально. Вспоминая высказывания своего друга, Клее находит в них подтверждения собственным суждениям. В 1917 г. он таким образом характеризует художественную жизнь Германии, появление многочисленных новых авангардистских объединений: «Повсюду одни и те же поднима ющиеся грибы нового времени, которые сейчас уже должны созреть, как все они утверждают. Давайте добросовестно поверим, что все это правда и всерьез. Во всяком случае, это противоположно тому, о чем мечтали немецкие мракобесы войны, и как раз именно то, что предсказывал остро чувствующий культурно-политическую обстановку Кандинский»72. Естественно, известия о кровавых политических конфликтах на шестой части суши заставляют Клее беспокоиться о судьбе своего товарища. В 1918 г. он просит жену: «Напиши-ка Мюнтер, где Кандинский? Один черт знает, что происходит в России»73, и вскоре сообщает ей: «Мюнтер рассказывала, что уже месяцы нет никаких известий от Кандинского. Но я думаю, что пока это не должно нас пугать, это от отсутствия связи. Кто мог подумать, что лучше всего окажется жить в Германии»74. Большое впечатление произвела на Клее публикация 1918 г. в ежегоднике «Кунственде»: «...совершенно образцовое сочинение Кандинского, которое превосходит всё. Так просто и одновременно так духовно и чистейшая ясность. Абсолютно убедительно, и при этом люди еще требуют разъяснений! Я этого не понимаю... Весь ход его рассуждений так мягок и спокоен! Так надежен благодаря спокойной убежденности. Как писатель я так далеко еще не продвинулся...»75.
Примечательно, что именно в период отсутствия Кандинского в Германии появляется, вероятно, самый панегирический текст, посвященный художнику - доклад, прочитанный 7 апреля 1917 г. в цюрихской галерее «Дада» Хуго Баллем. Он начинал как литератор и режиссер экспрессионистской ориентации, но впоследствии стал лидером дадаизма; в речи были обобщены, сведены воедино и гиперболизированы восторженные суждения о творчестве русского живописца, неоднократно высказывавшиеся Баллем в эпистолярной форме. Кандинский приобретает здесь черты пророка, чье явление было с неизбежностью предопределено всем ходом развития европейской культуры; автор не скупится на эпитеты и торжественные фигуры речи: «Кандинский - это освобождение, утешение, спасение и успокоение. К его картинам нужно устраивать паломничество:
86
они - выход из сумятиц, поражений и отчаяний времени. Они - освобождение от оков рушащегося тысячелетия. Кандинский - один из величайших новаторов, глашатаев жизни. Жизненная сила его замыслов поразительна и неслыханна... Его творчество включает в себя в равной степени музыку, танцы, драму и поэзию... Он критик своих произведений и своей эпохи. Он непревзойденный поэт, создатель нового театрального стиля, автор книг необычайной духовной силы, которыми новая немецкая литература может только гордиться. И лишь случайность - разразившаяся вдруг война - лишила нас возможности получить в руки книгу, которую он мог бы написать о театре...»76. Характерно, что даже такое немаловажное событие, как 1-я мировая война, интересует Балля всего лишь как недоразумение, помешавшее рождению сакрального текста. По мысли режиссера, уровень витальности, повышенный интерес к внутренней форме произведения, патетика и религиозность, наконец, масштабы дарования роднят современного художника с Рембрандтом и Вагнером, но даже это лестное сравнение делается в пользу Кандинского: «Он чище их духовно, ярче в комплексах, шире в горизонтах и сильнее в инстинктах»77. Во всем современном искусстве Балль видит лишь одну фигуру, по своей мощи соизмеримую с героем доклада: «В Пикассо, фавне, и в Кандинском;монахе, наше время обрело своих сильнейших художественных выразителей. У Пикассо мрак, ужас и муки времени, его аскетизм, дьявольская гримаса.... У Кандинского же ликование времени, его праздничное веселье, его взлет к небесам, его архангельская фуга, его пестрое донкихотство, его синекрасная Марсельеза; его крушение благословенно, его взлет - полет херувимов под желто-голубые фанфары в бесконечность»78. Картины мэтра понимаются как «...пейзажи духовного состояния Европы 1913 года и, более того, пейзажи крушения абсолютизма в России. И писал он эти пейзажи духовных основ на пылающем небе нового времени»79. Творчество мастера представляется его апологету столь универсальным, что без малейшего остатка «...включает в себя время со всеми его перипетиями, тайнами, уловками, со всеми его передними планами и фонами, со всей его софистикой и всеми острыми и не очень острыми противоречиями и контрастами»80. При этом важную роль играет национальное происхождение пророка мощи и равновесия: «Кандинский - русский. Идея свободы у него ярко выражена и переносится им на искусство. То, что он говорит об анархии, напоминает сочинения Бакунина и Кропоткина. Разница лишь в том, что понятие свободы он абсолютно спиритуалистически распространяет на эстетику»81. Конечно, в этом титаническом, явно гипертрофированном образе черты реального человека и художника угадываются с трудом, и все же показательно, что именно творчество Кандинского давало повод для мифологических обобщений такого рода.
Естественно, после октябрьского переворота Россия воспринимается немцами уже совершенно иначе, обрастает мощным и притя¬
87
гательным слоем революционной мифологии, с ней связывают свои надежды реформаторы политики и искусства. Соответственно, и образ русского авангардиста претерпевает существенные изменения, из Германии он видится весьма своеобразно, не совсем правдоподобно, но очень романтично; причем иногда едва ли не все события советской культурной революции приписываются непосредственно Кандинскому. Любопытны в этом отношении, к примеру, строки из письма Оскара Шлеммера 1919 г.: «Наконец, известия из России. Москва крестилась в экспрессионизм. Кандинский и модернисты, говорят, расписали целые кварталы красками, пустые стены, стены домов стали поверхностью современных картин. Искусственная весна чарует своими гигантскими подсолнухами, цветочными клумбами из цветовой каши, серебряными деревьями. На месте снесенных царских памятников воздвигнуты Толстой, Достоевский, Жорес, Робеспьер. Россия: юность Европы. Немецкая революция - лишь слабое подражание русской, и в своем движении на Запад она разобьется о проснувшийся западный империализм; если у нас дело дойдет хоть до какой-нибудь демократии, то это уже будет много. Я действительно вижу в Германии мало глубины. Столкновение западных и восточных максим, и в искусстве тоже; только не немецких. Но, может быть, нынешнюю картину сумятицы не стоит принимать за масштаб, и новые плоды появятся только когда наступит мир»82. Образ Кандинского-болыневика, возникший в результате незнания немецкими художниками реалий российской жизни, будет впоследствии нещадно эксплуатироваться нацистской пропагандой. Хотя Шлеммера едва ли можно отнести к «правоверным» экспрессионистам (современные исследователи вспоминают его, главным образом, в связи со сценографическими экспериментами Баухауза), его высказывания представляют для нашей темы существенный интерес, поскольку отражают не только личные взгляды живописца, но и устойчивые стереотипы восприятия советского авангардного искусства левыми интеллектуалами Германии тех лет. Русские художники привлекают Шлеммера прежде всего своей самобытностью, он записывает в своем дневнике 7.V.19 г.: «Несчастье нашего времени: усредненность, выравнивание: экспрессионизм, редкость оригинальности. Кандинский, Марк, Шагал, Клее, Архипенко, Пикассо - немногие подлинные оригиналы»83. Но при этом художник намеревается использовать их опыт для доказательства собственной концепции творчества «от противного»: «Я настаиваю, что я восхищаюсь новаторами с некоторыми оговорками, особенно русскими (например, Кандинским), потому что благодаря им я острее осознаю свой идеал как противоположный. Шагал - триумфатор среди новых; и можно с легкостью судить по сильному представителю обо всем движении: однако нужно всегда помнить, что он - один из группы, к тому же русский со всем своим своеобразием: декоративный, яркий, народный. Но придут и
88
другие, я надеюсь, и немцы, которые определят лицо времени» (10.XI.17)84.
Фигура Кандинского по-прежнему интересовала и интриговала немецких художников, но ему уже не суждено было встретить в Германии большинства своих ближайших друзей. Как пишет Мюнтер, «...я его больше никогда не видела. Его жену я впервые увидела... через много лет после его смерти. После нашего расставания я большей частью работала одна. После Первой мировой войны наша старая группа “Синий всадник” распалась. Марка и Макке уже не было, Блох и Бурлюк жили в Америке. Те из нас, кто остался в Мюнхене, конечно, продолжали поддерживать дружеские отношения, но каждый научился работать в одиночку...»85.
Вернувшись в Германию после долгого отсутствия, Кандинский по-прежнему чувствует себя там как дома, но при этом не собирается терять множества связей с Россией. Он снова полон идеями, увлечен глобальными проектами синтетического искусства, намерен продолжать эксперименты в области визуального воплощения музыкальных образов и даже координировать эту деятельность в международном масштабе. Удаленность Москвы от Берлина кажется ему досадным географическим недоразумением. «Да и вообще наши мысли постоянно путешествуют в Москву. Как глупо, что... так далеко и сложно ездить, - пишет он А.А. Шаншину. - ...Взоры местных лучших людей обращены к России. Я очень чувствую связь с немцами в духовном сближении. Как многие нам завидуют, что мы столько пережили и что у нас столько возможностей. Здесь чувствуется сильная внутренняя пульсация. И параллельностей с Россией масса. Проф. Эйхендорфер готовит большую выставку физических приборов для Москвы. У проф. Освальда большие достижения по теории цвета. Я собираюсь ехать к нему в Лейпциг. - У меня есть некоторая] надежда на осуществление моей старой мечты - живописи во времени, параллельный ход с музыкой. У молодого русского, Лагорио, есть проект соответственного прибора или аппарата. Мне мерещится осуществление тоже старой моей мысли - живописных нот. - Как жаль, что нет Вас здесь и всего нашего кружка»86.
Однако Кандинский приехал уже в совсем другую страну, атмосфера общественной и художественной жизни Германии изменилась самым решительным образом. Авангардисты нового поколения жаждали преобразований уже не духовных, а главным образом политических и технических. Экспрессионизм уступил лидирующие позиции конструктивизму, дадаизму, «новой вещественности». Не было в живых ближайших соратников по «Синему всаднику». Да и вся атмосфера немецкой жизни не предвещала близкого осуществления грандиозных планов, была чревата необратимыми катаклизмами. Пожалуй, лучше Кандинского на интуитивном уровне это понимал Явленский. Он не скрывал своей усталости от немецкой косности, бюрократии, культа дисциплины и не спешил возвращаться в Мюн¬
89
хен из уютной Швейцарии. «Я знаю, что должен переехать в Германию. Но душа моя не хочет туда, и я не знаю, что это значит, я чувствую, возможно что-то случится!!!»87 - писал художник в апреле 1921 г. своей подруге галеристке Эмми Шайер. На любую критику со стороны немецких коллег и журналистов Явленский отвечал гневным окриком: «У вас всё всегда запрещено полицией!»88.
Русским авангардистам, бывшим в 1910-х годах властителями дум немецких новаторов, в культурной ситуации 1920-х было отведено почетное, но уже гораздо более скромное место. Достаточно символично в этом отношении приглашение Кандинского в Баухауз. Этот легендарный институт собрал под своим крылом многих «ветеранов» экспрессионизма, но использовал их авторитет в своих целях, для утверждения уже совсем иной, преимущественно - функционалистской эстетики.
Из старых близких друзей Кандинский встречает там Клее, они живут по соседству и общаются практически ежедневно. Студенты называют их Гёте и Шиллером, и в этой шутке угадывается не только пиетет молодежи перед прославленными мастерами, но и намек на старомодность их взглядов. В 1929 г. друзья сфотографировались на побережье Атлантического океана в тех самых величественных позах, в которых автор известного памятника запечатлел основоположников веймарского классицизма. В письмах Клее к родным фамилия Кандинского часто заменяется всевозможными прозвищами: вахмистр, сосед, будильник, ссыльный из 6 №. Правда, в этих корреспонденциях почти ничего не говорится о содержании бесед двух мэтров, даются лишь беглые упоминания об институтских делах, о совместных походах в гости, на концерты, в кино, о болезнях и планах на отпуск и т.д. Но и бытовой срез жизни обитателей Баухауза может представлять существенный интерес для истории. Увлеченность новыми задачами, раскрепощенная атмосфера института позволяют художникам спокойно и иронично относиться к материальным затруднениям. В 1923 г. Клее пишет сыну Феликсу: «И вообще: только не отчаиваться... Потому что можно смеяться, даже если нет повода. Вот недавно мы с Кандинским смеялись перед дверями “Ре- зиденцкафе”, потому что, подсчитав наши марки, еще не войдя, должны были уйти домой без кофе. Всё это вещи, которые за границей, наверное, выглядят ужасной катастрофой, нас же они не особенно смущают»89.
Более подробно жизнь преподавателей Баухауза запечатлена в письмах О. Шлеммера. Этот художник не разделял энтузиазма многих своих коллег по поводу творчества функционального, полностью растворенного в жизни; он склонен был больше доверять интуиции, чем любым теориям, весьма настороженно относился к идее синтеза искусств: «Живопись, пытавшаяся (благодаря Кандинскому) быть музыкой, пытается теперь стать архитектурой или механизмом, - пишет он в мае 1922 г. - Она - живопись и совершенствуется
90
внутри своих границ...»90. Но разница взглядов не мешала теплым и дружественным взаимоотношениям между профессорами, предполагала уважительный и заинтересованный обмен мнениями. «Вчера был доклад Кандинского, - сообщает Шлеммер своему корреспонденту в декабре 1925 г. - Порой он говорил резко, вызывая у меня внутреннее противоречие! Естественное развитие живописи к беспредметной абстракции. Иначе только падение, реакция, романтизм - бидермайер, гетевский “Фауст”, берлинская Курфюрстен- дамм (!). Но романтизм все же живет, в кино, три типа героев: преступник и детектив, атлет и артист, эксцентрик, последний синтетический художник. В старом искусстве были: содержание, романтика, идеал. В новом искусстве: форма, предметность, расчет. Кандинский говорил бойко, хорошо. Паневропа соответствует “панискусству”. Интернационал. Он говорил и о своей собственной изоляции, покорившись судьбе современного художника»91. По этому беглому конспекту трудно понять содержание доклада, но чувствуется, что он не оставил Шлеммера равнодушным, как и концепция мастера в области теории цвета: «Кандинский как-то устроил опрос. На листочке были нарисованы круг, квадрат и треугольник. Нужно было распределить красный, синий и желтый цвета между ними... Результат, числа голосов я не знаю: круг - синий, квадрат - красный, треугольник - желтый. На желтом треугольнике сошлись все. В других случаях не было единства»92. По-видимому, идеолог абстракционизма был огорчен тем, что закономерности колористического восприятия, представлявшиеся ему бесспорными, не получили опытного подтверждения. Но универсализм открытых им законов вызывал серьезные сомнения у многих коллег. В одном из писем 1928 г. упоминается костюмированная вечеринка, устроенная по случаю принятия Кандинским немецкого гражданства: Клее изображал турка, Л. Мохой-Надь - старого жителя Дессау, Г. Баер - австрийского офицера, а виновник торжества - метиса. «Жаль, что Вы не пообщались с Кандинским больше и интенсивнее, - пишет Шлеммер 6.XII.27 г. художнику О. Мейер-Амдену. - Наверняка это было бы ценно. Здесь все еще противоречивые отклики на его показательный урок. То ли это эстетический перегиб, то ли догматизм... Он у нас большой адвокат и дипломат, общается с городскими чиновниками, с которыми кроме него почти никто не общается»93.
Но дипломатические способности Кандинского, конечно, не могли спасти институт от постоянных преследований. В августе 1930 г. Клее сообщает сыну о плачевном положении дел в Баухаузе и даже намечает в качестве одного из возможных проектов передислокации студентов в Москву. Вероятно, именно подобные настроения, а также общеизвестная дружба с Кандинским побудили впоследствии нацистских критиков назвать Клее, одного из самых аполитичных художников XX в., «сибирским восточным евреем и опаснейшим большевиком в культуре»94.
91
В теоретических трактатах и художественных манифестах 1920-х Кандинский упоминается часто, но преимущественно - в прошедшем времени, в связи с началом века и «Синим всадником». Например, К. Эйнштейн в пространном сочинении «Искусство XX века» менторским тоном объясняет ошибки мастера: пассивное подчинение стихии цвета закрыло ему путь к подлинному изображению, к сотворению предмета; его скудное учение обобщает лишь опыт замкнутого в себе субъективного переживания, и т.п.95 В памфлете Г. Гросса и В. Герцфельде «Искусство в опасности» дается полемически заостренная, но достаточно верная схема эволюции европейской художественной жизни последних десятилетий; деятельность мюнхенских новаторов описывается одновременно сочувственно и иронично: «Почтенные, немного слишком самоуглубленные господа. Кандинский занимался музыкой и претворял музыку души в гамме красок на холсте. Произведения Пауля Клее напоминали девичье рукоделие... Для так называемого чистого искусства предметом изображения стали только чувства художника, следовательно, настоящий художник обязан был живописать свой внутренний мир. Отсюда и все беды. Итог: 47 направлений в искусстве. Причем каждое утверждает, что истинную душу изображает его школа»96. С точки зрения Гросса, увлеченного в тот период функциональной эстетикой, основная ценность подобных формальных экспериментов заключалась лишь в том, что они объективно способствовали рождению конструктивизма.
Искусственное сближение Кандинского с конструктивистами будет часто встречаться в литературе последующих лет. Так, О. Кокошка в своих воспоминаниях возлагает на автора «Ступеней» вину за обезличенность, технократизм, схематизм современного искусства: «Глубокомысленные писания какого-нибудь Кандинского или Клее могут привести к искушению, досадуя на дух времени, передоверить изображение человека исключительно техническим изобретениям: фотографии, кино, телевидению, пластинкам»97. Полное непонимание Кандинского, навязывание ему суждений, не имеющих ничего общего с его подлинными взглядами - не редкость, но особенно странно слышать подобные заявления от известного, талантливого художника.
Среди прозвучавших в 1920-е годы высказываний о русском авангарде особый интерес представляют суждения одного из самых значительных мастеров экспрессионизма Эрнста Людвига Кирхне- ра. Многие его оценки могут показаться излишне резкими и категоричными, но им нельзя отказать в снайперской меткости. Для того, чтобы понять его отношение к русским новаторам в общей системе координат и приоритетов художественной жизни тех лет, приведем фрагмент из письма 1925 г., в котором Кирхнер делится впечатлениями о выставках и галереях Мюнхена: «То, что производят эти господа, не слишком многочисленно и не слишком самобытно. Единст¬
92
венный в своем роде и лучший, конечно, Пикассо. Как в старых, так и в новых картинах он борется с формой, но не достигает результата, поскольку оставляет всё незаконченным»98. Далее даются емкие и язвительные характеристики французских мэтров: «Брака, очень нежного и тонкого живописца и искателя»; «скучного» Дерена; «грубого и неинтересного» Руо; Матисса, «который кажется пыльным и пустым рядом с Пикассо»; Леже, «путающего живопись с конструктивным рисунком». К разбору творчества своих соотечественников Кирхнер приступает с минорной интонацией: «Я просто разочарован немцами. Кокошка трагичен. Он думает о цвете, но никогда его не добивается. Лучше всего Нольде и Шмидт-Ротлюфф. Дикс вульгарен и эклектичен... Бекман также бессмыслен и отвратителен. Грязные цвета и вычурные композиции... Плохо и то, что у Либермана и Слефогта так много хлама, это несовременно... Впрочем, Кандинский обладает тонким вкусом в цвете, жаль, что он беспредметен. Клее заблуждается и другие тоже. От Хекеля тошнит... Шагал выглядит неприятно. Никакой силы, одна изворотливость»99. В контексте столь строгого и бескомпромиссного обзора оценку, данную Кандинскому, можно почти без преувеличения назвать комплиментарной. Впоследствии эта симйатия растет, о чем свидетельствует письмо к Карлу Хагеману 1926 г. За патетическими рассуждениями о необходимости воссоздания подлинной культуры следует весьма неожиданное признание: «Такие люди, как Клее, Кандинский и прочие становятся мне все ближе, и вообще я все больше ценю Баухауз»100.
Тем не менее изданная в Баухаузе книга К.С. Малевича «Беспредметный мир» не вызывает у Кирхнера энтузиазма. «Для меня все измы излишни, потому что они ...вычленяют отдельные свойства из большого, неделимого, свободного искусства и на этом специализируются. Но вместе с тем они теряют жизненную силу... и рано или поздно сами гибнут, - пишет бывший лидер “Моста” в 1930 г. Эльфриде Кноблаух. - Вот и так называемый супрематизм выхватывает из искусства лишь одно свойство, одну форму рисунка и хочет построить на этом ... теорию... Композицию он выводит из авиации. Аэропланы в облачном небе - такой “космос” просто вульгарен... Я боюсь, что этот художник [Малевич] загнал себя в тот же угол, где потерпел крушение Пит Мондриан, который рисует аналогичные картины и утверждает, что они - единственно правильные»101. Конечно, этот отзыв о творчестве первого супрематиста не свидетельствует о глубоком понимании его эстетики, и в то же время он по-своему логичен и намного более корректен чем, например, слова Г. Гросса, отзывавшегося о «Черном квадрате» лишь как о нелепом курьезе. Кирхнер высказывает достаточно распространенную точку зрения; творчество Малевича было недостаточно сенсационным и привлекательным в глазах немецких авангардистов, во-первых, из-за очевидного сходства со стилистикой хорошо известного в
93
Германии Мондриана, во-вторых, - из-за демарша в сторону фигуративное™. Творческий метод Кирхнера постоянно эволюционировал, и в 1930-х годах, особенно в своих предсмертных работах, художник вплотную приблизился к беспредметному формотворчеству. Возможно, это заставило его пересмотреть свое отношение к деятельности русских абстракционистов.
«Волны экспрессионизма уже давно сгладились, только в абстрактном едва заметна рябь: на редкость прекрасный вечер!»102 - записал в своем дневнике Шлеммер в 1930 г. Далее он констатировал, что некогда «дичайший», не вписывавшийся ни в какие табели о рангах Кандинский незаметно перешел в разряд классиков. Действительно, 1920-е годы в значительной степени были периодом размывания, тиражирования, обесценивания открытий раннего экспрессионизма, а слава и авторитет Кандинского (разумеется, в достаточно узких кругах), память о его былых заслугах зачастую мешали мастеру, делали его одним из «героев вчерашних дней», изымали из актуального контекста текущей художественной жизни. Его фигура по- прежнему вызывала интерес, но воспринималась теперь уже совсем иначе, чем в начале века; неизменно связывалась с мощным художественным движением, оставшемся в прошлом; упрощалась и схематизировалась в глазах новаторов следующего поколения.
Само время позаботилось о том, чтобы художнику не пришлось долго почивать на лаврах. Официальная немецкая идеология 2-й половины 1930-х видела в Кандинском не классика, а опасного преступника, идеолога «вырожденческого» искусства. «По всем немецким газетам кочует одна и та же статья, где я, Клее, Кандинский, Гросс и Дикс свалены в одну кучу и заклеймлены как большевистская орда, - пишет Э.Л. Кирхнер брату в 1935 г. - ...Так всегда в Германии, она отрекается от своих художников, это испытал еще Дюрер»103. Но и в те годы, когда названные имена придаются анафеме, и в Германии, и за ее пределами остаются люди, четко понимающие истинное значение для немецкого и мирового искусства. Одно из многочисленных свидетельств тому - письмо Э. Шайер, отправленное в 1938 г. во Францию Кандинскому: «То, что Вы сами пишете о своем творчестве, о “великом покое”, об “утверждении жизни”, это как раз то, почему я так люблю Ваше искусство и почему оно мне так необходимо для моего собственного жизнеутверждения. Не только мне, но и - я точно знаю: будущим поколениям это “да” также необходимо, чтобы дальше нести в мир духовное»104.
Приведенные фрагменты писем и мемуаров не исчерпывают темы творческих контактов русских и немецких авангардистов. Но эти восторженные признания, полемические выпады, бытовые детали, свидетельства оживленных теоретических дискуссий и непринужденного дружеского общения способны, как нам кажется, дополнить новыми красками традиционно сложившуюся картину художественной жизни начала века, сделать фигуры ее участников более
94
живыми и объемными. Верёвкина утверждала: «Стиль нашего времени определяется только личностью, которая лишь одна познает саму себя... Это стиль наступающей эпохи, в которой личность настойчиво и отважно возвышается из собственного клана»103. Кандинский и русские мастера его круга, работавшие в Германии, всей своей жизнью, а не только творчеством, являли пример подлинной, а не вымышленной, русской ментальности и уже этим содействовали сближению, продуктивному диалогу двух великих культур. Конечно, и после этого, представления немецких новаторов о России и ее художественном авангарде продолжали оставаться в значительной степени мифологизированными, и все же они стали несколько иными.
«Кандинский подтверждает принадлежность русской нации не только в своих формах, но и в цвете, - пишет Балль. - Разноцветная, пестрая Россия просматривается в его произведениях как ни у кого другого. Широкие снежные просторы, а над ними вечерняя или утренняя заря. Малиновые колокольчики мчащейся тройки, разноцветные окна крестьянских светелок, пестрые крестьянские праздники и голубизна одеяний Богоматери, ледяная прозрачность и ясность; и тут же мерцание красок, как в северном сиянии... Распознается степной всадник, стук копыт, молебны и пасхальные праздники, реминисценции, которые не в состоянии стереть даже самое “одушевленное” искусство. Тогда перед вашим взором предстает трогательно простая, христиански чистая, нетронутая, спокойная и волшебная Русь, которая занимается как утренняя заря, разгораясь широко и неудержимо. Тогда в Кандинском видится гарольд, глашатай свободы своей страны, простирающейся от Японии до Гренландии»106. Безусловно, даже в беспредметных картинах художника можно найти этот этнографический пласт. Но новаторы Германии видели в полотнах своего друга помимо деталей «русской экзотики» нечто гораздо более важное - уникальный склад пластического мышления, склонного к предельным обобщениям; особый, ориентированный на духовное начало, метод постижения мира. И в этом смысле Кандинский был не просто товарищем, но учителем немецких экспрессионистов, в чем многие из них с гордостью признавались.
Кровавая эпоха войн и революций, нищеты и безверия представлялась великому утописту и неисправимому романтику Кандинскому началом эры великой духовности. Вероятно, именно сила этой иллюзии, глубина веры в нее оказалась чрезвычайно плодотворной для брутальной стилистики экспрессионизма, придавала новому направлению мистическое измерение, покоряла и убеждала немецких художников. Их восприятие творчества Кандинского, Явленского, Верёвкиной в историческом контексте русско-немецких культурных связей представляется, как ни странно, весьма традиционным. «Нами, западноевропейцами, эта нетронутая чистота красок и вели¬
95
чие интуиции воспринимаются как романтика, - утверждает Балль. - А разве Россия не казалась Западу всегда романтичной? Разве не был Достоевский последним великим романтиком? Разве русское христианство не является самым мощным и последним оплотом романтизма в современной Европе?»107.
1 Сарабъянов Д.В. О Кандинском // Василий Васильевич Кандинский: Каталог выставки. Л., 1989. С. 36-37.
2 Цит. по: Маркин Ю.П. Эрнст Барлах. Пластические произведения. М.: Искусство. 1976. С. 39.
3 Der Blaue Reiter: Dokumente einer geistigen Bewegung. Leipzig: Reclam, 1986.
S. 513.
4 Ibid. S. 312.
5 Архив ГМИИ. Кл. XXXV. Ед. xp. 20. Л. 86-86 об.
6 Цит. по: Коган Д.З. Владимир Бехтеев. М.: Сов. художник, 1977. С. 16.
7 Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. М.: Гилея, 2001.
T. 2. С. 276.
8 Gabriele Miinter / Hrsg. v. K.-E. Vester. Bremen: Manholt, 1988. S. 19.
9 Windecker S. Gabrielle Munter: eine Kunstlerin aus dem Kreis des «Blauen Reiter». Berlin: Reimer, 1991. S. 36.
10 Hahl-Koch J. Kandinsky. Stuttgart: G. Hatje, 1993. S. 83.
11 Gabriele Munter. S. 20.
12 Ibid. S. 35.
13 Windecker S. Op. cit. S. 101.
14 Gabriele Munter. S. 35.
15 Ibid. S. 8.
16 Der Blaue Reiter. S. 7.
17 Ibid. S. 7-8.
18 Gabriele Munter. S. 58.
19 Verkade W. Der Antrieb ins Vollkommene: Erinnerungen eines Maler-Monches. Freiburg, 1931. S. 170.
20 Der Blaue Reiter. S. 8.
21 Ibidem.
22 Шаронкина E.B. «Смогу ли я вновь приветствовать Вас в Зиндельсдор- фе?»: (Из переписки Ф. Марка и М. Верёвкиной) // Памятники культуры. Новые открытия. 1997. М.: Наука, 1998. С. 386.
23 Цит. по: Там же. С. 377.
24 Der Blaue Reiter. S. 119.
25 Fathke В. Marianne Werefkin. Miinchen, Ascone: Prestel, 1988. S. 39.
25 Архив ГМИИ. Кл. XXXV. Ед. xp. 20. Л. 83.
26 Der Blaue Reiter. S. 37.
27 Шаронкина E.B. Указ. соч. С. 385.
28 Там же. С. 387.
29 Der Blaue Reiter. S. 66.
30 Kandinsky W., Marc F. Briefwechsel. Miinchen: Piper, 1983. S. 99.
31 Ibid. S. 150-151.
32 Ibid. S. 183.
33 Ibid. S. 204.
34 Der Blaue Reiter. S. 47.
35 Ibid. S.53.
96
36 Macke A. Briefe an Elisabeth und die Freunde. Miinchen: Bruckmann, 1987. S. 25.
37 Der Blaue Reiter. S. 39.
38 Ibid. S. 39.
39 Klee P. Tagebiicher. 1898-1918. Koln: Du Mont, 1980. S. 275.
40 Macke A. Op. cit. S. 269.
41 Hahl-Koch J. Op.cit. S. 399.
42 Ibid. S. 398.
43 Der Blaue Reiter. S. 58-59.
44 Ibid. S. 59.
45 Klee P. Schriften. Koln: Du Mont, 1976. S. 172.
46 Hahl-Koch J. Op. cit. S. 397.
47 Der Blaue Reiter. S. 59-60.
48 Ibid. S. 60.
49 Macke A. Op. cit. S. 280.
50 Ibid. S. 283.
51 Ibid. S. 283.
52 Der Blaue Reiter. S. 48.
53 Ibid. S. 49.
54 Ibid. S. 47-48.
55 Ibid. S. 50.
56 Macke A. Op. cit. S. 272.
57 Искусство, которое не покорилось: Немецкие художники в период фашизма. М.: Искусство, 1972. С. 75-76.
38 Der Blaue Reiter. S. 63.
59 Ibid. S. 64.
60 Ibidem.
61 Ibid. S. 128.
62 Gabriele Miinter. S. 33.
63 Fat like B. Op. cit. S. 98.
64 Macke A. Op. cit. S. 278.
65 Nolde E. Jahre der Kampfe. Berlin: Rembrandt, 1934. S. 122.
66 Kandinsky W., Marc F. Op.cit. S. 266.
67 Ibid. S. 263.
68 Schmidt-Rottluff K. Retrospektive. Miinchen: Prestel, 1989. S. 85.
69 Ibid. S. 86.
70 Marc F. Briefe. Aufzeichnungen. Aphorismen Leipzig; Weimar: Kiepenheuer. 1980. S. 27.
71 Ibid. S. 66.
72 Klee P. Briefe an die Familie. 1839-1940. Koln: Du Mont, 1979. Bd. 2. S. 888.
73 Ibid. S. 906.
74 Ibid. S. 907.
75 Ibid. S. 937.
76 Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере, Кельне. М.: Республика, 2002. С. 120.
77 Там же. С. 125.
78 Там же. С. 120.
79 Там же. С. 124.
80 Там же. С. 123.
81 Там же. С. 120.
82 Schlemmer О. Idealiste der Form. Leipzig: Reclam, 1990. S. 46.
4. Русский авангард
97
83 Ibid. S. 51.
84 Ibid. S. 32-33.
85 Gabriele Miinter. S. 38.
86 РГАЛИ/Ф. 1964. On. 1. Ед. xp. 169. Л. 1-1 об.
87 Fathke B. Op. cit. S. 129.
88 Ibidem.
89 Klee P. Briefe an die Familie. Bd. 2. S. 992-993.
90 Schlemmer O. Op. cit. S.84.
91 Ibid. S. 58.
92 Ibid. S. 129.
93 Ibid. S. 186.
94 Искусство, которое не покорилось. С. 221.
95 Einstein К. Die Kunst des 20. Jahrhunderts. Leipzig, 1988. S. 295.
96 Гросс Г. Мысли и творчество. М.: Прогресс, 1975. С. 34.
97 Kokoschka О. Vom Erlebnis im Leben. Salzburg: Welz, 1975. S. 204.
98 E.L. Kirchner. 1880-1938: Ausstellung. Berlin; Munchen; Koln; Zurich, 1980. S. 27.
99 Ibidem.
100 Ibid. S.91.
101 Ibid. S. 98.
102 Schlemmer O. Op. cit. S. 222.
103 In letzten Stunden. 1933-1945: Schriften deutscher Kunstler des XX. Jhs. Dresden: VEB-Verl., 1964. Bd. 2. S. 75.
104 Hahl-Koch J. Op. cit. S. 399.
105 Цит. по: Шаронкина ЕВ. Указ соч. С. 377.
106 Дадаизм... С. 121.
107 Там же. С. 122.
ИВ. Шуманова
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ЦИТАТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В.В. КАНДИНСКОГО
В творчестве В.В. Кандинского экспрессионистская и беспредметная линии существуют порою параллельно, взаимодействуя друг с другом. Одним из основных элементов их диалога является цитата. Узнаваемость форм, переходящих из одного произведения в другое, осознание происходящих с ними изменений, возможность проследить цепочку трансформаций мотива иногда вплоть до его предметного первоисточника - эффект, который использовался Кандинским при создании произведений и, несомненно, был заложен художником в процесс восприятия.
В статье речь пойдет об особом виде цитирования у Кандинского, когда воспроизводятся не отдельные элементы композиции, но форма в целом. Произведение рассматривается как тема для вариации, а воспоминание о первоисточнике является основной интригой происходящего действия. Образуются пары, а иногда целые ряды близких между собой работ1. Связи, возникающие внутри пар и рядов, выходят за рамки привычных представлений о практике повторов в изобразительном искусстве. Наверное, термин «вариация» в том значении, каком он используется в музыке, мог быть использован для обозначения природы повторений у Кандинского. Говоря о повторах, мы не имеем в виду варианты, возникающие в момент разработки идеи произведения - подготовительные эскизы, нас интересуют только те случаи, когда повторяется законченное самостоятельное произведение, когда новое обращение к композиционной схеме придает ей некое новое качество и представляет собою равный по иерархической значимости вариант. Иными словами, интересующее нас явление не связано со сферой эскизов, которая в изобразительном искусстве традиционно ассоциируется с вариаци- онностью.
Временные промежутки между исполнением пар-двойников могут быть совсем незначительными или составлять целое десятилетие. Может быть изменена техника: живописная работа повторена в акварели, гравюра - в масляной технике. Композиция может быть переориентирована на плоскости - развернута на 90 или
4*
99
180 градусов. Может поменяться цветовое решение произведения. В акварельных парах варьируется фактура произведения, способы взаимодействия краски и поверхности листа. Но самое интересное - это стилевые вариации, когда Кандинский повторяет ранние работы в стилистике более позднего периода. Наконец, композиция может иметь не один, а много повторов. Так «Картина с солнцем» на стекле (1911) дала жизнь трем вариациям - «Импровизация 21а» (1911), «Маленькие радости» (1913), «Взгляд в прошлое» (1924).
Некоторые ряды повторов композиционных схем прокомментированы самим художником. В статье, посвященной истории создания «Композиции № 6», он подробно прослеживает трансформацию первоначальной идеи картины: «Эту картину я носил в себе полтора года... Отправной точкой был “Потоп” ...картина на стекле... Там изображены различные предметные формы... у меня возникло желание переработать эту тему для композиции, и тогда мне было более или менее ясно, как это следует делать. Однако... я потерялся в материальных формах. В нескольких эскизах я растворял вещественные формы, в других пытался достичь впечатления чисто абстрактными средствами. Но ничего не выходило... Спустя несколько недель я сделал новую попытку, но опять без успеха. Я воспользовался испытанным средством - на время отложить задачу, чтобы иметь затем возможность внезапно посмотреть на лучшие из эскизов новыми глазами... Так держался в моем внутреннем образе чуждый элемент катастрофы, называемый потопом.
Однако время от времени я бросал взгляд на картину на стекле, которая висела рядом в мастерской. Каждый раз меня потрясали сначала краски, а затем композиция и рисуночные формы, сами по себе, без связи с предметностью... она воздействовала на меня точно так же, как некоторые реальные предметы и понятия, обладавшие способностью ...вызывать во мне чисто живописные представления и ...приводившие меня к созданию картин... Я быстро, почти без поправок, выполнил последний решительный эскиз, который принес мне большое удовлетворение. Я... занялся подготовительными рисунками. Дело шло быстро, и почти все получалось удачно с первого раза. В два или три дня картина в целом была готова... Великое преодоление холста свершилось»2.
Живопись на стекле всегда имеет лицевую и оборотную сторону и уже в момент своего возникновения существует в двух вариантах - состояниях. Здесь реализовано стремление художника заглянуть по ту сторону живописной плоскости, «увидеть» прикосновение красочного слоя к поверхности холста. Совершенно необычную вариацию имеет композиция на стекле «Дамы в кринолинах» (1918, ПТ, Кандинский: 67). Когда в процессе подготовки произведения к реставрации был открыт оборот, оказалось, что характер красочного слоя и стилистика изображения одной и той же композиции на лицевой и оборотной стороне принципиально различны3.
100
В противоположность «багательному», несколько манерному, графическому стилю основного изображения, на обороте - экспрессионистское красочное буйство, драматическая борьба, сложнейшие сочетания цветовых пятен. Поразительное стилевое, эмоциональное несовпадение двух сторон одного и того же красочного слоя воплощает метафору, несколько раз повторяющуюся в теоретических трудах Кандинского - о внешнем и внутреннем восприятии явления, буквально иллюстрируя текст художника из введения к книге «Точка и линия на плоскости»: «Всякое явление можно пережить двумя способами. Эти два способа не произвольны, а связаны с самими явлениями - они исходят из природы явления, из двух свойств одного и того же: Внешнего-Внутреннего. Улицу можно наблюдать сквозь оконное стекло, при этом ее звуки ослабляются. Ее движения превращаются в фантомы, и сама она сквозь прозрачное, но прочное и твердое стекло представляется отстраненным явлением, пульсирующим в “потустороннем”. Или открывается дверь: из ограждения выходишь во вне, погружаешься в это явление, активно действуешь в нем и переживаешь эту пульсацию во всей ее полноте»4.
Как мы уже говорили, композиция при повторении может переходить из одной техники в другую. Так живопись может иметь позднего акварельного двойника. Этот момент очень важен для разрешения спорных ситуаций о датировке некоторых акварелей. Например, существует акварель с авторской датой - 1915 (Альбертина, Barnett 1: 400), достаточно точно повторяющая «Картину с белой каймой», созданную на два года раньше.
Обычно эту акварель, несмотря на авторскую дату, относили к 1913 г., что позволяло рассматривать ее в ряду подготовительных эскизов к «Картине с белой каймой». Здесь сказывается магия традиционного представления о том, что близкая акварельная работа - это всегда эскиз к живописи и, следовательно, должна быть сделана раньше. В.Э. Барнетт, посвящая этой акварели специальный комментарий, отвергает версию ранней датировки и указывает, что бумага, на которой исполнена данная акварель (Кандинский начал ее использовать в 1915 г.), и стилистика произведения не соответствуют 1913 г.5 Возможно, Кандинский возвращается к произведению, что бы еще раз пережить его и извлечь из этого импульсы для новых превращений темы (подобный процесс описан им в истории создания «Композиции № 6»).
Композиция, лежащая в основе «Белого овала» появится еще несколько раз: в трех очень близких между собою акварелях 1915-1916 гг. {Barnett I: 4016, 402, 463), а затем - в карандашном рисунке 1917 г. из собрания ГТГ (Кандинский: 122) , но в повороте на 90°.
Другой пример дискуссионной датировки - ситуация вокруг картины «Зеленая кайма» (1919, утрачена). Она, согласно существующей точке зрения, имеет два акварельных эскиза {Barnett I: 519 и
101
520), один из них имеет авторскую дату 1919, а второй - 1920 (!). Существование этого второго «эскиза», созданного позднее живописной композиции, вызывало различные комментарии исследователей. Так Барнетт, идентифицируя раннюю акварель записью под № И за 1919 г. в рукописном своде Кандинского, пишет о том, что эта работа в отличие от акварели 1920 г. чрезвычайно близка итоговой живописной композиции. Она не согласна с мнением К. Деро и Дж. Буассель, которые, несмотря на авторскую дату второго эскиза, именно его связывают с упомянутой записью в списке Кандинского и, игнорируя авторскую дату, относят эту акварель к 1919 г.7 Здесь, на наш взгляд, действует стереотип восприятия акварельной композиции как обязательно предшествующей живописи, с которой мы уже сталкивались при рассмотрении позднего акварельного повтора «Картины с белой каймой».
При сравнении этих двух акварелей, окружающих картину «Зеленая кайма», обнаруживаются принципиальные различия. Между этими произведениями пролегла граница стилевого периода у Кандинского, органический стиль сменился геометрическим. Элементы композиции 1919 г., представляющие собой свободные формы, заменены на геометрически правильные фигуры. Этот эпизод открывает целую серию стилевых вариаций у Кандинского 1920-х годов, когда художник разрабатывает в новом стиле свои ранние живописные произведения.
Среди них наиболее примечательно обращение в 1925 г. в картине «Маленькая мечта в красном» к композиции 1911 г. «Тройка II». Художник, спустя 17 лет, полностью повторяет композиционную схему картины в новом геометрическом стиле. Но прошло 14 лет, и Кандинский словно совсем забывает о предметном первоисточнике картины8. Он превращает тот элемент, который ранее ясно прочитывался как крупы и хвосты лошадей, в подобие... кораблика. Пользуясь словами самого художника, завершающими статью, посвященную перипетиям создания «Композиции № 6» можно так трактовать происшедшее: «Исходный мотив картины... перешел ко внутреннему, чисто живописному, самостоятельному и объективному существованию. Не было бы ничего более неверного, чем наклеивать на эту картину ярлык первоначального сюжета»9.
Порой художник как фокусник, кажется, совершенно осознанно, маскирует повторы. В этой связи хотелось бы показать самую удивительную пару, наличие которой сначала было вычислено теоретически, и лишь потом найдено в реальности. Стремление осознать феномен существования предметных багателей в разгар периода утонченной акварельной беспредметности, приводит к широкому разбросу их трактовок - от крамольной мысли о том, что они сделаны исключительно для заработка и, может быть, некоторые из них исполнены и не самим Кандинским, до принципиального нежелания проводить различия между предметной и абстрактной формой у
102
Кандинского этого времени. Многие беспредметные композиции, исполненные одновременно с багателями, словно таят в себе память о них. Кое-где проступают отдельные угадываемые формы - «пейзажи» и «персонажи» багателей, а некоторые композиции вдруг чудодейственно раскрываются целиком сквозь призму багательных ассоциаций и кажется, что вот-вот угадаешь какая картинка здесь «спрятана», зашифрована. Но беспредметная вариация фигуративной композиции была обнаружена совсем не там, где, казалось бы, есть память предметных форм, а в картине, которая традиционно воспринималась как образец чистейшей абстракции - это живописная «Композиция на желтом» (1920, Государственный художественный музей Узбекистана), а «скрывается» в ней «Жар-птица» (1916, ГМИИ, Barnett I: 466). При том, что все без исключения элементы композиции «Жар-птица» и взаимоотношения между ними сохранены, «вещественность формы» исчезает совершенно. Предметная форма превращается в знак, и впоследствии эти знаки-символы рассыпаются по многим композициям Кандинского того времени, постепенно утрачивая всякое воспоминание о предметном первоисточнике.
Мы уже говорили о том, что под повторами не подразумеваем многочисленные эскизы-варианты, т.е. промежуточные этапы движения замысла. Хотя, несомненно, сам принцип повторов сформировался на основе серий эскизов к живописным работам начала 1910-х годов. Стремясь выйти за границы предметного изображения, Кандинский в эскизах ищет беспредметного звучания форм. В это время он делает до 10 подготовительных рисунков акварелей к произведению, отличия между которыми определяются тончайшими нюансами. В группе эскизов иногда бывает трудно осознать последовательность их создания. Они представляют собою не столько этапы последовательного движения к итоговой композиции, сколько пояс произведений-спутников. Они как бы находятся на одинаковом отдалении от конечного результата, они почти равнозначны и настолько хороши в качественном отношении, что едва ли не самодостаточны. Процесс постепенного раскрепощения акварельной живописи, высвобождения ее из-под традиционного гнета эскизности, смена функции акварелей со вспомогательной на самостоятельную происходит во 2-й половине 1910-х годов. Большое значение в этом процессе сыграло и то обстоятельство, что в этот период художник подолгу не работал в масле, и его внимание почти целиком было сосредоточено в области акварельной живописи. Наверное, не будет преувеличением сказать, что именно в это время в творчестве Кандинского формируется особый жанр самостоятельной акварельной композиции, существующим отныне наряду и наравне с живописными произведениями
Принципиальное различие между произведениями масляной и акварельной живописи у Кандинского точнее всего, наверное, можно
103
определить, прибегнув к музыкальной аналогии - как разницу между произведениями крупной и камерной формы, которые имеют в музыкальном мире равные права, существуя по своим собственным законам. Акварели 1915-1916 гг. четко разделяются на две группы. Первую составляют те произведения, где есть дыхание крупной формы и, очевидно, подразумевалось живописное воплощение. В письме к Г. Мюнтер Кандинский пишет о новых идеях задуманных им больших произведений: «Я много работаю в акварели, которая требует кропотливой детализации и позволяет мне научиться искусству ювелирной тонкости. Это помогает мне в больших работах, которые исподволь зреют в моем сердце. Мне бы хотелось создать живописные полотна огромной глубины и в то же время тончайших нюансов, скрытых эффектов, которые зритель мог бы обнаружить только подойдя вплотную к полотну - эта идея уже была в моих полотнах, которые ты видела - однако сейчас я понимаю эту задачу более полно и практически как результат многих акварелей, которые я написал в последнее время»10. Вторую группу составляют камерные, минималистские произведения, не несущие в себе масштабных и драматургических задатков крупной формы. Характерно, что с каждым годом акварелей второй группы в процентном отношении становится больше, а первой группы меньше. Соответственно характер и смысл повторов в двух указанных группах акварелей будет различен.
Повторы в первой группе генетически связаны с функцией акварели как подготовительного эскиза. К этой группе можно отнести, например, следующие пары - две акварели 1915 г. - из ГРМ (Barnett I: 407) и Государственного художественного музея Узбекистана (Barnett 1: 408), две акварели 1916 г. из ГТГ (Barnett I: 461) и собрания Орике Корпорэйшн (Barnett 1:452). Разница внутри этих пар минимальна, на грани нюансов: чуть-чуть корректируются цвет, форма и положение элементов. Эти акварели можно рассматривать в традиционном контексте эскизности, однако поскольку их итоговое произведение отсутствует, не состоялось, они формально не являются эскизами.
Пары внутри второй группы акварелей совершенно иначе взаимодействуют друг с другом. Они могут быть представлены следующими произведениями: «Одному голосу» (1916, Париж, Центр Ж. Помпиду, Barnett 1: 458) и «Композиция Ж» (1916, ГМИИ, Barnett I: 457); «Без названия» (1916, Париж, Центр Ж. Помпиду, Pompidou: 37), и «Композиция Д» (1916, ГМИИ, Barnett 1: 451); «Без названия» (1917, части, собр., Barnett I: 471) и недатированная автором «Акварель» (ГТГ, Barnett 1: 414). Существенно, что все эти пары исполнены на двух типах бумаги: в каждой паре для одной акварели использована обычная тонкая гладкая бумага, для второй - фактурная, плотная, типа торшон. Кандинский увлеченно исследовал эффекты неровной поверхности этой бумаги, ее свойства удер¬
104
живать краску, влиять на характер линии и красочного пятна. По сути, фактура бумаги торшон создает принципиально иные условия существования на поверхности точки, линии и красочного пятна, т.е. всех важнейших элементов формы. Возникающие таким путем вариации хотелось бы назвать фактурными. Различия между повторами композиции на гладкой и фактурной бумаге весьма значительны и не только в техническом, формальном плане, - появляется иная трактовка образа - меняется и темп работы над произведением, динамика композиции, градус накала. На наш взгляд, гладкий вариант всегда предшествует фактурному. В нем есть эффект поисковости, обнаженности процесса создания, живая пульсация формы. Композиции на бумаге торшон неторопливы, чуть холодны и предельно выверены, фактура бумаги, мгновенно впитывающая краску, не допускает сомнений и правок. Изысканная лаконичность придает им характер итоговых произведений.
Помимо точных и как бы простых повторов, Кандинский использует очень изощренные формы повторов, композиции могут объединяться и даже наслаиваться друг на друга, и наоборот - отдельные части композиций могут стать самостоятельными произведениями и потом соединяться в новых сочетаниях.
В заключение хотелось бы показать один из случаев такого сложного взаимодействия целого ряда произведений. Рисунок пером из ГТГ «Линейная композиция» 1918 г. (Кандинский: 124) послужил основой сразу двух живописных произведений - картин «В сером» (1919) и «Композиция № 8» (1920)11. Сначала из правой части рисунка вычленяется фрагмент, который разрабатывается в акварели «Без названия» (1918, Государственный художественный музей Узбекистана, Barnett I: 500). После того как эта тема была выделена и экспонирована самостоятельно, она накладывается на композицию другого, тоже вполне самостоятельного, произведения - «Акварели на коричневом фоне» (1919, ГМИИ, Barnett I: 572), это слияние закреплено в картине «В сером» 1919 г. В 1920 г. Кандинский вновь возвращается к рисунку 1918 г. и на его основе, немного изменив правую часть изображения, строит новое произведение - большой живописный эскиз «Композиции № 8». Впоследствии эта картина была утрачена. В 1923 г. Кандинский исполняет перовой рисунок (част, собр.; Barnett II: 632), воспроизводящий в геометрическом стиле ее рисуночную форму и, как бы простившись с этой пластической идеей, создает новую картину «Композиция № 8», которая года ничего общего с одноименной утраченной работой 1920 г. не имеет.
Поскольку целью и практической задачей нашей работы был поиск аналогов к произведениям, находящимся в собрании Третьяковской галереи, то наше внимание было сосредоточено на конкретном периоде творчества Кандинского, на 1910-х годах, времени перехода от фигуративного к беспредметному, и, в основном, все повторы (как уже описанные в литературе, так и вновь выявленные)
105
относятся к этому времени. Нам известно около 50 произведений двойников, но, несомненно, их значительно больше. Поиск повторов, естественно, дает очень специфический и узкий спектр исследования творчества Кандинского. Рамки статьи не позволяют остановиться на многих важных аспектах, связанных с природой цитирования, в частности - затронуть проблему соотношения приема повтора в творческой системе Кандинского с художественной практикой начала XX в., где принцип повторного обращения к своим произведениям чрезвычайно распространен у многих мастеров различных направлений. Но нам кажется, что уже само количество повторов у Кандинского и постоянство приема варьирования произведений, позволяет говорить о нем, как об особом свойстве мышления художника. При том значении, которое Кандинский придавал процессам восприятия произведений, эффект узнаваемости форм был, несомненно, рассчитан художником. И даже то, что связи между произведениями не всегда легко прочитываются, они как бы зашифрованы, возможно, предопределено им самим, как приглашение к продолжению диалога художника со зрителем.
1 Весь иллюстративный материал, на котором основана статья (30 таблиц) невозможно воспроизвести в сборнике. Наиболее показательные примеры, помимо рассматриваемых в тексте статьи, приводятся списком. Для удобства ориентировки при акварелях и рисунках указаны № по каталогам: Barnett V.E. Kandinsky. Werkverzeictnis der Aquarelle. Munchen, 1992. Bd. I—II далее; B.B. Кандинский. Живопись, графика, прикладное искусство. Л., 1989. Bd. I—II далее; Kandinsky. Collections du Centre George Pompidou, Musee national d’art modeme P., 1998, далее; Barnett V.E., Zweite A. Kandinsky. Dessins et aquarelles. P., 1992, далее; Barnett V.E. Kandinsky at the Guggenheim. N.Y., 1983 далее.
Пейзаж, (1915, ГРМ, Barnett I: 419) - Без названия. (1920, Гуггенхайм, Barnett I: 525);
Композиция с остриями. (1919, ГРМ) - Острия. (1920, Ohara Museum);
На белом. (1920, ГРМ) - Без названия. (1923, ч/с, Barnett, Zweite: 75);
Два овала. (1919, ГРМ) - Прогулка. (1920, Париж, Центр Ж. Помпиду, Barnett 1:523);
Без названия (Ок. 1915, ч/с, Barnett 1:420) - Рисунок (Ок.1915, Miyagi Museum of Art, Barnett 1:420) - Композиция (1917, ГМИИ, Кандинский: 120) - Смутное (1917, ГТГ);
Белый овал (1919, ГТГ) - На сером (1923, Гуггенхайм);
Без названия. (1915, ч/с, Barnett 1:388) -Без названия (1914-1915, ч/с, Barnett 1:387, обычно трактуется как горизонтальное произведение);
Рисунок (1915-1916, Kandinsky. Guggenheim: 52) - Простое (1916, Центр Ж. Помпиду, Barnett 1:452) - Без названия (1916, ч/с, Barnett I: 464);
Без названия (1915, ч/с, Barnett 1: 411, в повороте на 180 градусов) - Без названия (1917, ч/с, Barnett I; 471) - «Акварель» (ГТГ, Barnett I: 414);
Без названия (1920, ч/с, Barnett 1:522) - Без названия (1922, ч/с, Barnett II: 583) - Маленький этюд (1924, ч/с, Barnett II: 678).
2 Кандинский В.В. Композиция 6. Цит. по: Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства: В 2 т. М.: Гилея, 2001. Т. 1. С. 305-306.
106
3 Различие между ней и основным изображением такое же как между живописной композицией «Allerheiligen I», и ее прототипом на стекле, только в нашем случае варианты существуют в пределах одного произведения.
4 Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. К анализу живописных элементов. Цит. по: Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 2. С. 100-101.
5 Barnett /, S. 353.
6 Эту не имеющую авторской даты акварель в 1983 г. В.Э. Барнетт еще относит к 1913 г. и рассматривает как эскиз к «Картине с белой каймой» - Kandinsky. Guggenheim, S. 102.
I Barnett /, S. 459.
8 Мотиву тройки - одному из главных лейтмотивов в произведениях 1910-х, Кандинский посвящает специальный комментарий в статье «Картина с белой каймой»: «Так я называю три изогнутые вверху линии, которые, с разнообразными вариациями, идут параллельно друг другу. Взять такую форму побудили меня линии спин трех лошадей русской тройки». Цит. по: Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1. С. 312.
9 Кандинский В.В. Композиция 6. Цит. по: Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1. С. 308.
10 Цит. по: Barnett V.E. Kandinsky and Sweden. Malmo, 1989. S. 31.
II Известна по фотографии экспозиции XIX выставки ВЦВБ. Отдела ИЗО НАРКОМ ПРОСа в Москве 1920 г. (Кат. № 13 - «Эскиз к композиции № 8»), в каталог-резонэ включена под новым авторским же названием «Spitzes Schweben» (Grohmann. Р. 333, 121 ill).
Елена Халь-Фонтэн
РАННИЙ НЕМЕЦКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ И АБСТРАКЦИЯ
Обращаясь к этой теме, необходимо сразу же вспомнить В.В. Кандинского - открывателя абстрактной живописи, равно как и одного из главных представителей немецкого экспрессионизма. Суждение о том, что экспрессионизм логически и неизбежно приводит к абстракции, верно лишь в этом единственном случае; в принципе же, все обстояло значительно сложнее. В конце мы рассмотрим вопрос, почему одни художники пришли к абстракции, другие - нет и почему третьи к ней даже и не стремились.
Первые немецкие экспрессионисты были членами группы «Мост». Название «Мост» заимствовано, возможно, у любимого этими художниками Фридриха Ницше (в «Заратустре» символ моста - один из главных) или, также возможно, название это было метафорой моста к публике: в отличие от «Синего всадника» и всех других объединений художников того времени, в программе «Моста» упомянуты зрители; общество настойчиво привлекало членов, они платили взносы, им обязательно выдавались в качестве почетного презента гравюры участников общества и т.д.).
Общество «Мост» заявило о себе еще в 1905 г. Эрнст Людвиг Кирхнер, Эрих Хеккель, Карл Шмидт Ротлуфф и менее известный Фритц Блейль, вскоре ставший работать как архитектор, - т.е. 25- и 22-летие студенты архитектуры в Дрездене объединились в группу; без всякого академического художественного образования (его у них было еще меньше, чем у Кандинского), но зато с огромной самоуверенностью и страстным желанием достичь чего-то нового. Опять же, в отличие от «Синего всадника», они много и активно работали вместе (общество в чем-то напоминало русскую артель); по единству стиля, кстати, можно судить о близости, общности этих художников.
К ним вскоре присоединились Отто Мюллер, Макс Пехштейн, в 1906-1907 гг. членом группы стал бывший всех их старше, известный уже художник Эмиль Нольде. Всем им очень хотелось привлечь также иностранных новаторов. Действительно, к ним ненадолго примкнул голландец Кес Ван Донген, финн Галлен-Каллела, а в
108
1911 г. - чех Богумил Кубишта. Но, в общем, эта группа оставалась немецкой.
В отличие от «Синего всадника» с Кандинским и другими выдающимися теоретиками, «Мост» ограничился одним только манифестом, состоявшим из одной фразы: «Требуем полной свободы молодым художникам (и публике) вопреки силам традиции выражать непосредственно и искренно то, что их побуждает творить!”. Эта фраза была опубликована в виде гравюры Э.Л. Кирхнера.
Слова «непосредственно», «искренно» заставляют вспомнить В. Кандинского с его терминологией, настаивавшего в своей первой книге «О духовном в искусстве» 1911 г. и во многих статьях, особенно на «внутренней необходимости», на внутреннем голосе творящего. Его молодой немецкий соратник Франц Марк требовал, чтобы обновление не осталось формальным, но являлось принципиальным изменением мышления: «родилась мистика, и с ней первоначальные элементы искусства», - так написал он в статье «“Дикие” Германии» в альманахе «Синий всадник»1.
Ни В. Кандинский, ни Ф. Марк, ни другие члены «Нового Мюнхенского общества художников» не называли себя экспрессионистами, им было ближе французское слово «фовисты», причем французское «дикие звери» они сократили просто до «дикие», подразумевая т.е. еще и первобытные народы с их первобытным магическим искусством. Такой интерес, к слову, возникал в то время у многих художников. Искусство Африки привлекало не только Пикассо, южные острова манили к себе не только Гогена. Нольде и Кирхнер проводили много времени в этнографических музеях, сам же Нольде в 1913 г. отправился через Сибирь, Японию и Китай к островам южной Азии, провел там целый год. Кандинский, как и М.Ф. Ларионов, братья Бурлюки и многие другие, собирал русские лубки; из них, как и из своего собрания детских рисунков он отбирал репродукции для альманаха «Синий всадник». Для этого же альманаха Кандинский заказал Давиду Бурлюку статью «“Дикие” России»; в ней - мысли, очень напоминающие идеи Ф. Марка. Думается, Д.Д. Бурлюку было неловко написать, что в России слово «передвижники» употребляется уже почти как ругательство2.
Что касается самого термина «экспрессионисты» (термина, впрочем, удачного и меткого) не имеет значения, кто как себя называл. Ф. Марк правильно считал, что «дикие» Германии это, во-первых, члены «Моста», во-вторых - Новый Берлинский Сецессион, вначале, состоявший также из художников «Моста», а, в-третьих, «Новое Мюнхенское общество художников» (с 1912 г. - «Синий всадник»), т.е. именно те художники, которых скоро единодушно назовут экспрессионистами - в отличие от импрессионистов.
В 1890-е годы импрессионизм уже широко утвердил себя во Франции. В Германии же импрессионизма почти не было; большее влияние на немецкое искусство оказал постимпрессионизм, главным
109
образом благодаря публикациям Мейер-Грефе. Ценились Жорж Сера, Поль Сезанн, Анри де Тулуз-Лотрек, Поль Гоген, но главную роль играл Винсент Ван Гог - и для немецких художников, и для Эдварда Мунка, долгие годы прожившего в Германии.
Французский критик Луи Воксель назвал экспрессионистом Матисса. Каталог Берлинского Сецессиона 1911 г. кубистов и фовистов также определил как экспрессионистов3. Херварт Вальден в начале 1912 г. открывает в своей галерее «Дер Штурм» в Берлине выставку «“Синий всадник”, Оскар Кокошка, экспрессионисты» - под экспрессионистами он подразумевал только французских экспонентов. Вильгельм Воррингер и Пауль Фердинанд Шмидт в число экспрессионистов включали также и немцев4. Другой знаменитый немец - Пауль Кассирер считал экспрессионистским творчество Э. Мунка, равно, как и экспрессионистским он называл искусство Пехштейна5. Также, как и X. Вальден, художник Ловис Коринт называет в 1911 г. кубистов и фовистов, выставленных в залах Берлинского Сецессиона, экспрессионистами6.
Окончательное определение дал в 1914 г. Пауль Фехтер в своей монографии “Об экспрессионизме”: экспрессионизм - это немецкая реакции на импрессионизм, одновременная французскому кубизму и итальянскому футуризму, возникшая в Дрездене («Мост») и в Мюнхене7. Это определение не опровергнуто до сих пор. Заметим, что в книге «Экспрессионизм и фильм» 1926 г. в число экспрессионистов включены Пит Мондриан, В.Е. Татлин, К.С. Малевич, Ман Рей и Курт Швиттерс8.
Теперь о творчестве немецких экспрессионистов. Я не буду много говорить о «Синем всаднике» - его деятельность достаточно известна. Только несколько слов о раннем Кандинском: у него и только у него одного из всей группы можно наблюдать недолгий период стилизаций в плане «югендштиля». Не сомневаюсь, он остался без последствий для его дальнейшего творчества: стилизация не вела ни к экспрессионизму, ни к абстракции; в творчестве В. Кандинского это был ученический, некреативный эпизод. И только лишь с 1908 г. все началось, т.е. начался его так называемый экспрессионизм.
Члены же «Моста» уже в 1905 г. дали полную свободу своим эмоциям, страстям - никакой стилизации они не признавали, ее у них не было. Поводом для реализации пластической идеи являлась чистая натура и включенная в композицию обнаженная фигура как часть той же натуры - художники, кстати, избирали принципиально только непрофессиональных моделей; не признавали обычные академические позы, предпочитали играющие, купающиеся, естественные в своих движениях фигуры. Экспрессия, смелый подход и индивидуальное выражение владели формой! Писали они быстро, сотню эскизов в день; краски и формы становились все более самостоятельными; человеческое тело искажалось (это то, что Кандинский не воспринимал, это для него лично было неприемлемым, сам
110
он упрощал, но никогда не искажал человеческую фигуру. И вообще включал ее в композицию значительно реже, чем художники «Моста»).
Творчество художников «Моста» отличалось динамикой, силой, непосредственной свежестью, искажением и, говоря в терминах русского авангарда, сдвигом. Огромную роль играла печатная графика, ее художники “Моста” подняли на небывало высокий уровень; они печатали сами, не доверяли исполнителям. Физические усилия при работе над ксилографией, как будто не совместимы со спонтанностью; не так у художников “Моста”: их гравюры в такой же степени спонтанны, как и их живопись.
Нельзя не заметить, что именно гравюра привела их логичным и последовательным путем к упрощению. Естественно, текстура дерева противодействует проведению волнистых и диагональных линий. Твердый материал вынуждает к лапидарному мышлению. Кандинскому путь к абстракции во многом как раз и проложила гравюра.
Иногда группа на время разъединялась, каждый работал самостоятельно, правда, потом совместно обсуждались результаты. Большая серьезность, воля и вера в себя вознаградили их: теперь в Берлине есть отдельный музей «Моста» (и их настолько любят, что недавно оттуда похитили 9 картин, в основном - Нольде). За пределами Германии Кирхнер, Хеккель, Шмидт-Ротлуфф и Мюллер известны менее, чем круг немецко-русских мюнхенцев: Василий Кандинский, Алексей Явленский, Франц Марк, Аугуст Макке, Габриэле Мюнтер, Марианна Верёвкина и др.
«Мост» справедливо воспринимается именно как группа. Одновременно с французскими фовистами они все вместе создали экспрессионистский стиль: хаотическая чистая эмоция без какой бы то ни было стилизации. Никто из них, ни члены «Моста», ни перечисленные «мюнхенцы» экспрессионизму не изменили, к абстракции никто (кроме Кандинского, понятно) не стремился; к новому стилю никто из них в дальнейшем не пришел. Почему? Потому что художники «Моста» вышли из архитектурной академии? Вряд ли. Потому что все они очень пострадали от войны? (Э.Л. Кирхнер в 1918 г. пережил такой нервный кризис, что уже никогда не смог справиться с ним: жил в швейцарском санатории, жил одиноко и писал только горы.) Возможно, что касается «Моста», то прав был Кандинский, когда в письме к Марку отклонил включение больших репродукций их картин в альманах “Синий всадник”; 14.1.1812 г. он пишет: «Получил также кучу берлинцев [т.е. фотографии картин “Моста”], за что я особенно благодарю. Вам известно, насколько все это меня интересует. И я Вас понимаю: в прошлом году (1910) у меня было подобное сильное впечатление от москвичей... Но все-таки я должен сказать, даже если Вы рассердитесь, что я предпочитаю нас мюнхенцев. Т.е. я предпочитаю нашу может быть медленную (но только внешне медленную) осторожную работу, включая уважение и рассуди¬
111
тельность. А с другой стороны, мы более индивидуальные. Это объясняется не только нашим большим внутренним значением, но также нашим одиночеством, в котором мы творим. У нас нет бича соперничества и ступеней, что другие выстроили для наших ног. Из 24 фотографий - 9 1/2 голые и без лобковых волос, 5 купающиеся и две цирковые картины. Вы знаете, что я никого не упрекаю из- за сюжетов, но здесь статистика сложилась сама собой. Смотрите: Вы часто пишете животных, Макке - индейцев, лодки, Арп - огромные головы, Делоне - города, Кубин - “сны”, Калер - фантазии, Шенберг - “визионы” и т.д. А все мы ни матиссы, ни кубисты... Я ни в коем случае этим не хочу уменьшить берлинцев, но помимо уважения перед их талантом и рабочей силой я пока все-таки ставлю вопросительный знак»9.
Возможно, суждение Кандинского о том, что искусство «Моста» не было на достаточно высоком уровне слишком строго? Возможно ему чуждым было творчество этих художников? Но более чуждые ему произведения Анри Руссо он настолько любил, что именно Руссо оказался на первом месте (имеются в виду, разумеется, репродукции) в революционном альманахе “Синий всадник”.
На вопрос, является ли абстракция естественным продолжением экспрессионизма, можно дать только отрицательный ответ - он относится только к немецким художникам; такой же ответ относится и к фовистам. Хотя следует ли их вообще причислять к экспрессионистам? Ведь «фов», слово, означающее только «дикий», - не очень точная характеристика. «Дикими» они были в значительно меньшей степени, чем художники «Моста»: нервной напряженности, типичной для движения экспрессионистов, у французов почти не ощущается. Их живопись на немецкую похожа только внешне; восхищались же они одними и теми же великими мастерами - Ван Гогом и Гогеном.
А как быть с австрийским Венским Сецессионом - с Оскаром Кокошкой и Эгоном Шиле? Оба они, конечно, стопроцентные экспрессионисты. И они тоже не стремились к абстракции, хотя о Шиле трудно говорить, он очень рано умер. В Германии были еще и другие (менее известные) экспрессионисты; назову только одного, который стал абстрактным художником: Курт Швиттерс, самый знаменитый немецкий коллажист. Только что вышедший каталог- резоннэ его произведений свидетельствует, что и он в юности испытал влияние экспрессионистского стиля. А Франц Марк, незадолго до смерти, в 1913 г. в некоторых своих картинах пришедший к абстракции?
Выясняется, что движение экспрессионизма особенно соответствовало германскому духу. В той же почти мере, что и поздняя готика XIV в. В противоположность классическим горизонтали и вертикали романских стран, в экспрессионизме царствует диагональ.
Такой антиклассический стиль, как экспрессионизм, очень соответствовал кризисному времени, духовному и социальному перело¬
112
му. На политический и социальный кризис художники-экспрессионисты и писатели реагировали с азартом, буйно и бурно. Не случайно, они называли свои журналы: «Факел», «Буря», «Крик». Все они, эти художники, были выходцами из средних слоев общества и ненавидели свой класс. С другой стороны, русские мюнхенцы сравнительно спокойно жили за границей, политика их мало занимала. Ею в какой-то мере интересовался, пожалуй, только Кандинский. В этом плане он отличался от художников «Моста», экспрессионизм в его творчестве оказался явлением, хотя и важным, но не длительным, и, в сущности, этот период в его жизни был периодом транзитным на пути к абстракционизму.
Художники «Моста» изобрели свой экспрессионизм одновременно с фовистами, открыв, обнаружив в творчестве Ван Гога, Гогена и Эдварда Мунка то, что являлось основой их изобразительного метода. Экспрессионизм был их искусством. Может быть этим фактом и объясняется лучше всего, почему они на нем и остановились.
Закончить хотелось бы вопросом: чем объяснить то обстоятельство, что почти все художники русского авангарда (и наш В. Кандинский, в том числе) пришли к беспредметности и почему к беспредметности не пришел почти никто из немцев или французов, т.е. почти никто из экспрессионистов или фовистов?
Этот вопрос долгие годы ждет своего ответа. 11 Der Blaue Reiter/Ed. V. Kandinsky, F. Mark. Miinchen, 1912; Nachdruck 1967, Miinchen. S. 30.
2 Ibid. S. 41.
3 Dube W. D. The Expressionist. L., 1972. P. 18.
4 Ibid. P. 18.
5 Eiger D. L’Expressionisme. Koln. 1988. S. 7.
6 Whitford F. Expressionism. London. 1989. P. 18.
7 Dube W. D. Op. cit. P. 19.
8 Eiger D. Op. cit. S. 7.
9 Kandinsky V., Mark F. Briewechsel. Miinchen. 1988. S. 112.
А.Н. Иньшаков
СТРАТЕГИЯ ЭКСПРЕССИОНИЗМА И ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА АВАНГАРДА. Об искусстве «находить самого себя»
Этот текст возникал как бы на стыке двух больших и важных тем, а именно: «взаимоотношения немецкого экспрессионизма и русского авангарда» и «портрет в творчестве художника авангарда», или же «образ и сущность творца нового искусства». Тема «экспрессионизм и неопримитивизм» уже достаточно подробно разрабатывалась ранее, например, в работах Д.В. Сарабьянова. В них, в частности, были отмечены общие «гогеновско-вангоговские» истоки некоторых живописных произведений, а также связь двух этих национальных школ живописи с фовизмом1.
Знакомство с творчеством немецких и русских художников показывает, какую важную роль играла в нем тема портрета. Попытаемся, хотя бы в самой краткой форме, сформулировать некоторые характерные черты этой темы. Можно отметить, что в своем возникновении она была связана с живописью французского фовизма. Очень интересным прототипом многих произведений экспрессионистов является незаконченное полотно Альбера Марке «Анри Матисс, пишущий натурщицу в ателье Анри Мангуена» (1904-1905, Париж, Центр Ж. Помпиду). Тема его вполне традиционна - художник и модель. Обратим внимание на название этой картины: в нем, если считать и имя ее автора, упоминаются сразу три художника. Что сразу дает понять метод их работы: совместно, в общей мастерской, в своем узком кругу.
Такого рода работы были и у экспрессионистов. Например, близка к рассмотренной нами ранняя картина Э.Л. Кирхнера «Эрих Хеккель и модель в ателье» (1905. Берлин. Музей объединения «Мост»). Но для нас более интересны позднейшие поиски художников группы «Мост». В своих произведениях они стремились безмерно расширить границы портретируемого, писали то, что не было принято фиксировать в картине ранее. Это обращение к экзотическим для начала XX в. моделям: негритянской натуре у Э.Л. Кирхнера («Лежащая негритянка», 1910, Бремен, Кунстхалле, а в России
114
подобные опыты были у Гончаровой - «Обнаженная негритянка», ПТ). Следует отметить, что если П. Гоген изображал таитянок на их родном острове, то Кирхнер создавал свою «первобытность» в европейском контексте, в обычной студии художника в цивилизованном городе. Мы видим на картинах экспрессионистов и курящих женщин, полностью ушедших в мир своих грез; и обнаженную подростковую, едва ли не детскую натуру: «Марцелла» (1910, Стокгольм, Национальный музей) Кирхнера, «Стоящая Френци» (1911, Кёльн, част, собр.) Э. Хеккеля, упомянем также в этом контексте и «девочек», и «цыганок» О. Мюллера. Не вызывает сомнений, что в обыденном сознании начала XX в. такие сюжеты считались порнографическими, а само обращение к ним - аморальным и кощунственным.
Нельзя не упомянуть и о довольно необычных взаимоотношениях художника и модели в некоторых произведениях экспрессионистов: «Художница» (1909, Кёльн, част, собр.) Кирхнера отвернулась от зрителя, не желая контакта с ним и отдаваясь потоку своих мыслей, а «Лежащая модель на софе» (1909, Гос. галерея современного искусства, Мюнхен) Хеккеля демонстративно закрывает лицо руками, словно бы давая понять, что вовсе не желает быть запечатленной навеки.
И в России неопримитивисты также стремились расширить границы изображаемого. М.Ф. Ларионов часто запечатлевал совсем обыкновенных, ничем не выдающихся людей. Вспомним его «Курящего солдата», «Отдыхающего солдата», парикмахеров, офицеров и их женщин. Установка на анонимность у художников русского авангарда в произведениях подобного рода была вполне сознательной. Обратимся, например, к «Портрету Ларионова и его взводного» (1911, ГРМ) Н.С. Гончаровой. На нем изображен художник, словно бы забывший о своей исключительности, растворивший свою личность в обыденности воинской службы. Он ничем не отличается от своего безымянного, канувшего в небытие мелкого армейского начальника. Только одна очень точно отобранная деталь выделяет художника на этой картине - его большая натруженная рука. И это, повторимся, было частью вполне осознанной стратегии. Так, по словам А.В. Шевченко, перед выставкой «Мишень» 1913 г. художники из группы Ларионова даже хотели выставлять картины, не снабжая их подписями2.
Впрочем, установка на анонимность показывает нам только один «полюс» (надир?) авангардного сознания. Другой же, его «зенит», был прямо противоположен - и его продемонстрировала нам сама же Гончарова в «Автопортрете с желтыми лилиями» (1907, ГТГ). На картине изображена художница перед своими произведениями, уверенная в себе, знающая себе цену, и изображена она в момент своего личного триумфа. Запомним этот мотив - впоследствии мы еще к нему вернемся.
115
Наконец, во многом близки друг к другу такие произведения, созданные в 1910 г., как «Спящий Пехштейн» (Германия, част, собр.) Хеккеля, «Автопортрет лежащего» (Германия, част, собр.) М. Пехштейна, «Портрет Владимира Бурлюка» и «Портрет Велимира Хлебникова» Ларионова. Эти портреты - словно свидетельства из особого мира, созданного сообща художниками. Мира близких друг другу людей, где существует братство художника и модели, где нагота модели не знает стыда, а молодость художника - порока. Это не первобытная утопия, ибо создан этот мир просвещенными европейцами. Однако в нем существуют только сильные, чистые чувства. И чистые, сильные тона красок.
Но, чтобы лучше понять взаимоотношения экспрессионизма и неопримитивизма, рассмотрим еще несколько произведений. Прежде всего, сравним «Танец» (1908, ГТГ) или же «Танцующих солдат» (1909-1910, Базель, галерея Бейлер) Ларионова, с одной из наиболее известных картин В. Ван Гога - «Ночное кафе. Арль» (1888, собрание Йельского университета, США). Действие в этих работах происходит в интерьере кабака, и трактовка пространства в них похожа. У Ван Гога оно очень динамично уходит в глубину, что подчеркивают сходящиеся линии досок пола. Пространство это неглубоко, оно с трех сторон ограничено стенами, беспорядочно загромождено мебелью, столами, стульями. Резкий свет от лампы, заливающий его, еще более делает комнату похожей на театральную сцену, на которой развертывается трагедия человеческой жизни, и здесь можно добавить - личная трагедия художника. Немногие изображенные в интерьере люди зримо разобщены, погружены в пассивно-дремотное состояние.
Исследователь постимпрессионизма Д. Ревалд отмечал, что слово «уродливый» Ван Гог часто применял к собственной работе, объясняя, что не может себя выразить иначе, как через преувеличение, что сказывается в неистовстве цвета3. В одном из писем брату Тео Ван Гог давал такое объяснение своей картине: «В этой картине я пытался выразить неистовые человеческие страсти красным и зеленым цветом. Комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным столом посредине; четыре лимонно-желтые лампы, излучающие оранжевый и зеленый. Всюду столкновение и контраст наиболее далеких друг от друга красного и зеленого; в фигурах бродяг, заснувших в пустой, печальной комнате, - фиолетового и синего... Цвет нельзя назвать локально-верным с иллюзорно-реалистической точки зрения; это цвет, наводящий на мысль об определенных эмоциях страстного темперамента»4. В другом письме Ван Гог подчеркивал: «В моей картине “Ночное кафе” я пытался показать, что кафе - это место, где можно погибнуть, сойти с ума или совершить преступление. Словом, я пытался, сталкивая контрасты нежно-розового с кроваво-красным и винно-красным, нежно-зеленого и веро- неза с желто-зеленым и жестким сине-зеленым, воспроизвести ат¬
116
мосферу адского пекла, цвет бледной серы, передать демоническую мощь кабака-западни»5.
Каким контрастом к этому является то буйное веселье, что развертывается на картинах Ларионова. Интерьер в его «Танце» по конфигурации похож на интерьер Ван Гога, но вместо стен - дикие, буйные красочные тона, за которыми не угадываются никакие второстепенные детали. На этом фоне художник выписывает несколько пар танцующих, всецело ушедших в стихию своего яростного, самозабвенного движения. При этом, нельзя не отметить, что все пары танцующих одного пола, что в несколько странном свете представляет их действия. Это то ли танец, то ли начало драки. И другая картина Ларионова, также навеянная образами «Ночного кафе», так и называется - «Ссора в кабачке» (1911, Художественный музей, Нижний Новгород).
Живописная стихия Ларионова, его чистые, сильные красочные тона, их редкая гармония - как бы облагораживают мир, изображенный на его картинах, и делают его персонажей, едва ли, объективно говоря, прекрасных в жизни, привлекательными, заставляя видеть в самой их обыденности трогательные отсветы вечных проблем бытия. Подлинность жизни в его примитивистских картинах - прежде всего, в ее неповторимости. И, пожалуй, именно поэтому примитивистские серии Ларионова - не последовательный рассказ, а, скорее, случайная последовательность моментов совершенной гармонии, созданной художником по законам искусства. Попытка дать временной анализ жизни его героев либо непоправимо нарушила бы эту гармонию, либо привела бы к заведомой стилизации, фальши. Может быть, в этом и состоит одна из причин того, что за свой сравнительно короткий примитивистский период Ларионов несколько раз последовательно менял серии, от «провинции» переходя к «парикмахерским», а от них, к «солдатской» серии.
И наконец, обратимся еще к одному произведению - картине художника из берлинской группы «Мост» Хеккеля «Двое за столом (на тему Ф.М. Достоевского)» (1912, Гамбург, Кунстхалле). Изображенная им сцена конфликта двух героев по своему драматизму очень напоминает рассмотренные выше произведения Ван Гога и Ларионова. Во многом схожи и использованные в живописи приемы передачи конфликта. Мы видим на полотне Хеккеля то же сгущенное, затесненное пространство убогого кабачка. В центре композиции - стол, и к изображенным персонажам, и к зрителю повернутый своими углами, и это акцентирует агрессивность, конфликтность изображенной сцены. Плоскость этого стола, его геометрический ромб, словно бы опрокидывается, валится на зрителя. Впечатление усиливают разбросанные в беспорядке по комнате пустые стулья - тот же прием мы наблюдали и у Ван Гога, и у Ларионова. Но экспрессионист Хеккель привносит нечто новое в трактовку уже знако¬
117
мого нам сюжета. Если Ван Гог передавал конфликт сильными, преувеличенными в своей интенсивности тонами красок, а Ларионов - какими-то исступленными, но в то же время очень характерными, остро схваченными движениями персонажей, то у Хеккеля, при кажущемся внешнем спокойствии, страшное подспудное напряжение изображенной сцены (его подчеркивает лежащий на столе нож) передается иначе - жестами рук, мимикой персонажей. Через их лица и руки словно бы готовы выплеснуться наружу бушующие внутри страсти.
На заднем плане полотна изображена «картина в картине». Согласно литературному первоисточнику, это произведение, изображающее мертвого Иисуса Христа. Но у Хеккеля это - не только прямая цитата из романа Ф.М. Достоевского «Идиот». Таким образом художник словно бы стремился передать присутствие Бога даже здесь, в этом мрачном месте, среди этих героев.
В. Гаузенштейн так сформулировал важнейшую черту творчества художников-экспрессионистов: «Несомненно одно: заветнейшее желание лучших представителей этой художественной области направлено на то, чтобы изображать не творение, а творца, или по крайней мере, раз нельзя создать его подобие - изображать таинственный, странный отпечаток его руки и аллегории его образа, шею, склоненную его рукой, бедро, которое его рука поразила болью»6.
В тексте перевода цитируемой статьи, опубликованного в Советской России в 1923 г., слово «Творец» было напечатано со строчной буквы. Возможно, это было обусловлено обстоятельствами времени и места издания. Но весь приведенный отрывок оставляет, пожалуй, достаточно оснований для двойного его толкования. И эта двойственность хорошо отражает важнейшие особенности экспрессионистского творчества.
С одной стороны, эти искания экспрессионистов, попытки отобразить присутствие Творца заставляли обращаться в своем творчестве к темам религиозного искусства. Так появились многочисленные сцены на библейские и евангельские сюжеты у Э. Нольде, гравюры К. Шмидта-Ротлуфа и Э. Барлаха; здесь нельзя не упомянуть также и о поисках мастеров объединения «Синий всадник». В русском искусстве эта тема была представлена в творчестве Гончаровой, создавшей «Четырех апостолов», серию литографий «Мистические образы войны» и другие произведения.
С другой стороны, экспрессионисты стремились показать облик творца-художника, через его внешность передать его внутренний мир, запечатлеть на холсте этот неповторимый, божественный процесс творчества. Таким образом, обращение к портрету художника отнюдь не случайно занимает столь важное место в творческом методе экспрессионизма.
Вот один из таких портретов - «Сидящий человек» (1913, местонахождение неизвестно) Хеккеля. По-видимому, это автопортрет.
118
Выдержан он в той же стилистике, что и картина «Двое за столом (на тему Ф.М. Достоевского)»: то же внешне непритязательное решение, но состояние глубокой задумчивости персонажа передано позой чуть склоненной вперед фигуры, застывшей мимикой лица, словно бы не замечающими ничего вокруг глазами и сжатыми пальцами рук. Обращение к творчеству немецких художников показывает, что в начале XX в. «сны о России» видел не только один Хеккель. Многие произведения других мастеров также были навеяны той же темой. Среди них - портрет «Русская» (1913) Кирхнера, русские пейзажи в более поздних гравюрах Шмидта-Ротлуфа; оставим здесь в стороне многочисленные ее проявления в литературе у Ф. Кафки, Т. Манна, Р.-М. Рильке... Среди художников, пожалуй, именно у Хеккеля связь с русской темой наиболее значима. Некоторые его произведения весьма близки к неопримитивизму: так, похоже, что именно творчеством Ларионова была навеяна тема его картины «Парикмахер» (1912, Гос. галерея Морицбурга, Галле/Заале). Именно в контексте взаимоотношений экспрессионизма и неопримитивизма, можно даже вспомнить интересный (хотя и не бесспорный) тезис Б. Гройса о «русском ином» как подсознании для европейского сознания7.
Рассмотрим теперь другой автопортрет, созданный русским художником. Это знаменитый «Собственный портрет» Ларионова (1910, Париж, Центр Ж. Помпиду). Он написан на интенсивном фоне из охр. Лицо мастерски смоделировано контурной обводкой черным, часть фигуры также как бы отделена от фона контурным черным рисунком. Слева от лица художника - белая птичка: подобная же деталь была использована и в серии полотен «Времена года». Справа - надпись, скорее, даже подпись - «Собственный портрет Ларионова». Лицо Ларионова с автопортрета трудно назвать портретом в полном смысле этого слова. Бросаются в глаза и деревянная застылость фигуры, и напряжение лицевых мускулов, и устремленный вперед смелый взгляд, словно бы демонстрирующий, что этот портрет рассчитан на своего зрителя и является таковым лишь в ситуации диалога с ним. Как это ни парадоксально, автопортрет Ларионова можно было бы даже сравнить с его же примитивистской работой «Осень счасливая» [так у Ларионова. - А.И.] (1912, ГРМ). В ней своего рода примитивизация лица проведена полностью, но в автопортрете Ларионова, в первую очередь, поражает мастерски переданное сходство, несмотря на столь необычную манеру исполнения. Этот автопортрет в большей степени является маской, а не попыткой объективной характеристики личности, что, возможно, не случайно.
Приведем характеристику, которую дал маске М.М. Бахтин: «Это сложнейший и многозначнейший мотив народной культуры. Маска связана с радостью смен и перевоплощений, с веселой относительностью, с веселым же отрицанием тождества и однозначно¬
119
сти, с отрицанием тупого совпадения с самим собой; маска связана с переходами, метаморфозами, нарушениями естественных границ, с осмеянием, с прозвищем (вместо имени), в маске воплощено игровое начало жизни, в основе ее лежит совсем особое взаимоотношение действительности и образа, характерное для древнейших обрядовозрелищных форм. Исчерпать многосложную и многозначную символику маски, конечно, невозможно»8.
В «Собственном портрете» Ларионова образ художника имеет веселый, игровой и во многом провокационный характер. Видимо, поэтому Г.Г. Поспелов даже метко называет его «скоморошьей маской»9. Теперь следует тщательнее проанализировать роль надписи, помещенной в картине. Различного рода комментирующие надписи, сделанные «по развитию событий», появлялись уже в некоторых картинах «солдатской» серии. В «Собственном портрете» надпись приобретает принципиально новое значение. Это своего рода подпись художника, сделанная его собственной рукой. Изобразив себя отнюдь не по классическим канонам, художник усилил значение портрета этой подписью, напоминающей об обычае подписывать даримые портреты, или даже о подписи на фотографиях, в том числе для официальных документов. Разрушая традиционный характер портрета (изображение Ларионова - это скорее гротеск, хотя и мастерски выполненный), автор в то же время усиливает его значимость введением собственноручной подписи. Заметим, что в других случаях надпись (или название картины) способны играть прямо противоположную роль, снижая портретный образ. Одно из первых лучистских произведений Ларионова носит название «Портрет дурака». Едва ли протагонист этой работы (если таковой был) согласился бы признать себя в портрете с таким названием. Эпатажную и снижающую миссию исполняет надпись и в более позднем «Портрете В.Е. Татлина» (1913, Париж, Центр Ж. Помпиду). В нем, на «лучисто-кубистическом» живописном фоне, Ларионов с любовью выписывает разноцветными буквами слово-прозвище «балда».
Присущая рассмотренным портретам работы Ларионова карнавальная игра увенчания-развенчания, тенденциозный и маскообразный характер персонажей связываются с определенной архаизацией их образа. Маска на лице изображенного словно бы зовет сбросить с себя тяжкий груз культуры и вернуться назад, в мир первозданной чистоты и силы ощущений. И здесь нельзя не отметить, что тема маски проявилась - пусть и несколько по-другому - также в творчестве мастеров немецкого экспрессионизма. На наш взгляд, специфической вариацией этой темы является также характерный для экспрессионистов мотив натюрморта со включенной в него загадочной архаической статуэткой - как, например, в полотне «Натюрморт Н» (1915, Германия, Зебюлле, Фонд Э. Нольде) Нольде.
С.М. Романович впоследствии вспоминал: «Ларионовский автопортрет в белой рубашке с расстегнутым воротом доставлял доволь¬
120
но много материала для иронии, иногда очень грубой. В московском еженедельном журнале он был помещен вместе с рисунком обитателей дома умалишенных с пояснительной записью, гласившей: “наши футуристы не отстают в своем искусстве, а может быть, идут впереди умалишенных”». Другой рецензент писал: «Передо мною, по-видимому, мыловаренный завод; справляюсь в каталоге - значится - “Автопортрет” и.т.д.»10.
Игровой аспект творчества, обращение к эпатажу чуть позже проявились у Ларионова при создании нового направления в живописи - лучизма. В каталоге «Выставки иконописных подлинников и лубков», устроенной в Москве весной 1913 г., вступительной статье Ларионова был предпослан следующий любопытный отрывок «из неизданной истории искусств»: «В царствование ассирийского царя Гамураби была устроена выставка лубков XIX и XX столетий, китайских, японских, французских и других. Они вызвали такой подъем ощущений порядка искусств, что время было убито вневременным и внепространственным. Возникающее ощущение царило как самодовлеющая бесконечность»11.
Другой отрывок, якобы взятый из книги «Радабай», начинался так: «Пришел долгожданный хам и удивился, так как попал в эпоху, когда стилем было находить самого себя. И занес он ногу в будущее, но сделал шаг назад...»12. Что может, на первый взгляд, показаться только пародией, лишенной серьезного смысла. Однако образ «долгожданного хама» стал в дальнейшем весьма популярен среди футуристов и художников. Его использовали, и также в полемических целях, Маяковский и Малевич13. Маска «грядущего хама» - вот как раз то, что хотели видеть обыватели в новейшем искусстве, и художник охотно шел им навстречу, надевая ее и эпатируя обывателя от искусства. Но эта жестокая игра была изначально неравной. Как написал С.М. Романович в своих воспоминаниях о Ларионове: «Борьба с общественным мнением была похожа на борьбу медведя с привешенной колодой, которая, возвращаясь от толчка, била еще сильнее. Страдавший был тот, кто сильнее чувствовал удары»14.
Это вообще очень важная тема - взаимоотношения художника и общества. Ведь рано или поздно, наступал момент, когда художник покидал свойственный ему круг единомышленников, чтобы представить образцы своего творчества на суд собрания людей часто равнодушных, некомпетентных, а порой и просто недоброжелательных. Мы знаем, что творцы нового искусства умели «держать удар». Но сама эта тема - художник, артист и публика порой всплывала в их творчестве, хотя и в несколько завуалированном виде. Так, для русского неопримитивизма и для экспрессионизма 1910-х, заметной - хотя и не самой важной - оказалась тема цирка, представления в балагане.
На эту тему Ларионов создал «Цирковую танцовщицу перед выходом» (1911, Омск, Музей изобразительных искусств), одну из самых значительных картин примитивистского периода. Под таким
121
названием она экспонировалась на выставке «Ослиный хвост». Танцовщица изображена в момент сосредоточения перед выступлением, которое, впрочем, она воспринимает весьма буднично, как свою ежедневную и, вероятно, надоевшую работу. Огонек папиросы танцовщицы вырывается ярким пятном из тусклых серо-грязных тонов, он передает кратковременность, случайность всей ситуации. Сзади танцовщицы, на ультрамариновом фоне изображена загадочная сцена. Движение мужчины и женщины - пары, словно бы повисшей в густой синеве, подчеркивает минутную застылость танцовщицы. Оживляя затененный мир картины, эта бегущая пара контрастирует с ним своим словно бы беспочвенным динамизмом.
Смысл этой сцены понять довольно трудно. Движение клоунской пары слишком живо и явственно для рекламных изображений на афише. Нет также никаких надписей, обычно свойственных афишам циркового выступления. Скорее можно предположить, что происходящее на заднем плане движение видится нам как отражение в зеркале чего-то, происходящего за пределами картины, и даже позади зрителя. Впрочем, любой подобный комментарий выглядел бы очень условным и чем-то напоминал бы, например, попытку объяснить, каким образом держатся в воздухе летающие персонажи витебских картин Шагала. Обращает на себя внимание сложнейшее пространственное построение картины Ларионова, основанное на пересечении двух разных движений: замедленного, с остановкой, танцовщицы справа налево в плоскости картины, и отраженного движения пары, происходящего перед картиной, перпендикулярно к ее поверхности. И при этом картина, словно бы выходит из своих двумерных границ. Даже зритель вдруг оказывается захваченным волшебно расширившимся пространством картины, поневоле находясь в нем, если не участником, то, во всяком случае - и в этом ирония Ларионова - пассивным наблюдателем нелепой сцены.
Рассматривая картину, можно вспомнить, что и в ларионовских произведениях более раннего периода порой встречался мотив окна с пространством за ним, расширяющим границы импрессионистского пейзажа. Даже в примитивистских сериях время от времени возникают явственные «следы» этого приема. С ним можно связать зеркало, которое часто изображает Ларионов в картинах «парикмахерской» серии. Обычно оно так же стилизовано, как и ограниченное тяжелыми портьерами пространство парикмахерской, как и вообще стилизован облик молодцеватых парикмахеров, бравых офицеров и легкомысленных девиц. Но даже в примитивистской картине зеркало может вдруг стать важнейшим компонентом композиции, а не просто стилизованной деталью цветного фона.
Танцовщица движется на арену, но вдруг она остановилась. Сейчас она докурит папироску и через мгновение исчезнет, выйдя за пределы картины. А бег странной пары в зеркале - в каком-то ином измерении - все еще будет продолжаться. И возможно, что изобра¬
122
жение в картине этой пары, является своеобразной реминесценцией в примитивистском духе одной из самых ранних работ Ларионова, периода начала его учебы в московском Училище15.
Несколько произведений на тему цирка создал и Кирхнер. И здесь, кстати, обратим внимание на одну интересную особенность трактовки портретной темы в экспрессионизме. В произведениях немецких художников порой появляется тревожный мотив «двойника». Такой «двойник» - лицо портрета - словно бы наблюдает со стены за действиями персонажей в картине «Двое за столом» Хеккеля. Кирхнер же ввел этот мотив в некоторые свои работы на тему цирка. В его картине «Цирковой наездник» (1914, США, Сент-Луис, част, собр.) клоун, Пьеро, комически и неуклюже пародирует движения на арене всадника. Особенно нагляден этот прием в «Балерине» (1914, Турин, част. собр.). Изображены две танцующие на сцене одинаковые женщины - но это, скорее, не прием передачи движения (как у итальянских футуристов). Фигура танцовщицы показана вместе со своим двойником, и это только подчеркивает механичность ее движения по сцене, заданность актерской игры, ее лицедейство. Вторая фигура в этой картине - отнюдь не другая, а именно «двойник», продуктивный диалог с которым невозможен. Двойник словно бы обречен слепо копировать свои же движения, дергаясь, как кукла, играть на сцене жизни какую-то не им придуманную игру. И это еще более подчеркивает, как и в иных созданных на тему города произведениях Кирхнера, пестрое, но пошлое одеяние танцовщицы.
Примыкает к «цирковым» еще одна картина Кирхнера - «Женщина перед зеркалом» (1912, Дюссельдорф, част. собр.). Кстати, эта тема проявилась и в русском неопримитивизме, у Шевченко. По- видимому, изображенная на картине Кирхнера женщина также принадлежит к артистическому миру - на это намекает ее короткое платье балерины, только акцентирующее какую-то незащищенность, хрупкость фигуры. Такая же, как в упомянутом выше «Портрете художницы», вызывающая поза - женщина отвернулась от зрителя и пристально изучает свое отражение, жесты ее рук неловки.
Немного позже Франц Кафка записывал в своем дневнике: «Только что внимательно рассматривал себя в зеркале, и лицо мое - правда, при вечернем освещении, и источник света находился позади меня, так что освещен был, собственно говоря, лишь пушок по краям ушей, - даже при внимательном изучении показалось мне лучше, чем оно есть на самом деле. Ясное, четкое, почти красиво очерченное лицо. Чернота волос, бровей и глазных впадин проступает, подобно жизни, из остальной застывшей массы. Взгляд совсем не опустошенный, ничего похожего, но он и не детский, скорее неожиданно энергичный, - но, может быть, он был только наблюдающим, так как я ведь наблюдал себя и хотел внушить себе страх»16.
Следует отметить, что приведенная цитата взята нами из сочинения, которое сам автор отнюдь не предназначал для печати. Даже
123
романы Кафки были опубликованы в нарушение его высказанных при жизни распоряжений. И эта заведомая ориентация на единственного читателя (он же и автор) создавала совершенно исключительный момент интимности, точности и беспощадной беспристрастности в фиксации своих переживаний.
Но ведь так же пристально наблюдают за собой и персонажи многих портретов экспрессионистов. Обратимся к двум позднейшим автопортретам Кирхнера. Вот «Автопортрет в военной форме» (1915, США, Художественный музей Аллена), на погонах мы видим номер воинской части. В углу рта - незажженная сигарета. Взгляд художника устремлен в себя. Правая рука оторвана, обрубок кровоточит. На заднем плане - картина, изображающая обнаженную (а может быть, это отражение в зеркале модели). Но художник этим автопортретом показывает, что он не может больше держать кисть - руки нет, физическая рана (в действительности она была только изображенной на полотне) передает душевное состояние, его страдания. Кажется, что уже нет возврата к той недостижимой дикарской, идеальной жизни, о которой грезили экспрессионисты в начале 1910-х годов, которую некоторые из них, как Нольде или Пехштейн, пытались, вслед за Гогеном, найти на далеких островах Тихого океана.
По замыслу к этому произведению примыкает другое - «Автопортрет с котом» (1918, США, Кембридж, Музей Буша-Райзинге- ра). На нем видны перемены, произошедшие с автором полотна. Короткая военная стрижка сменилась небрежной прической артиста, военная форма - одеждой, более подобающей «свободному художнику». Он бродит по своему ателье, позади созданная им картина. Но, по-видимому, она была создана раньше: в руках мастера по- прежнему нет кисти. Более того, руки его скрыты от зрителя: правая (та, которую мы видели на предыдущем автопортрете в виде кровоточащего обрубка) засунута в карман, а левую заслоняет ваза с цветами. Мы не видим руки художника, и это обстоятельство очень хорошо передает состояние его отчужденности от внешнего мира, ухода в себя. Другой персонаж картины - большой черный кот, он присутствует в ней, как и во многих других произведениях художников немецкого экспрессионизма. И здесь, пожалуй, уместно будет вспомнить характеристику этого животного - кота, данную Х.Л. Борхесом в одной из новелл: «как некое надменное божество он позволяет людям прикасаться к себе», и при этом - он очень далек от человека, так как «для человека существует время и чередование событий, а для этого загадочного сознания - сиюминутность и вечность момента»17.
Человек живет в цепи изменений... Но как воспринимает сам художник их неотвратимую неизбежность? Обратимся к одной из самых знаменитых картин Кирхнера - «Потстдамской площади» (1914). Несомненно, что в ней, отображая сцену из жизни ночного
124
города, Кирхнер вдохновлялся той же самой «бульварной образностью», что воздействовала на Ларионова в период создания им серии «Прогулок в провинциальном городе»18. На его картине берлинские проститутки маскируют приметы своей профессии в траурные одежды вдов. И каким контрастом выглядит эта подсмотренная на улицах большого города реальная сцена к более ранним изображениям обнаженной натуры, к этим полудетям-полудикаркам «Стоящей Френци» и «Марцелле»! В «Потсдамской площади» вдовьи одежды словно бы представляют жизнь, как неизбежную утрату, в том числе чистоты намерений и действий, а обретение в процессе жизни опыта (пусть даже и трагического) предстает как порок.
Нас привлекает в автопортретах художников экспрессионизма их высокое содержание - попытка момент за моментом, чуть ли не секунда за секундой передать свою внутреннюю жизнь, зафиксировать в них неуловимый процесс творчества. Отчасти сходными чертами обладала и программа русского неопримитивизма - так, Шевченко написал в своем манифесте: «Искусство - это переживания художника, его духовная жизнь, а в чужую жизнь никто не имеет права вмешиваться»19.
Но при этом, все эти усилия художников экспрессионизма, можно сказать, изначально обречены — их ждет один итог. И хотя итог этот совершенно закономерен, от этого он не менее печален для художника. По-видимому, Кирхнер осознал его даже раньше, нежели Кафка, записавший в свой дневник следующие слова: «Вечная молодость невозможна; не будь даже другого препятствия, самонаблюдение сделало бы ее невозможной»20.
И здесь видится некое важное зерно конфликта, вырастающее внутри самой художественной стратегии экспрессионизма. Живописное произведение - это не обязательно потаенный дневник. Картина предназначена пусть и на ограниченный круг людей, но все же создается для зрителей. Но чрезмерная правдивость перед другими людьми не всегда бывает уместна. Пожалуй, уже далеко за рамки живописи выходит вопрос, насколько далеко должны простираться ее границы. Тут мнения часто не совпадают. Отметим, что, пожалуй, именно здесь и пролегает важная граница между экспрессионизмом и неопримитивизмом. Для русского авангарда, по-видимому, гораздо более близкими оказались слова П. Сезанна: «Художник не должен быть ни слишком робким, ни слишком искренним, ни слишком подчиняться природе»21. Словно бы в развитие этой мысли высказался также и Малевич: «В искусстве, - писал он, - нужна истина, а не искренность»22.
Интересующая нас тема позволяет рассмотреть одну из важных проблем изучения искусства русского авангарда. Это экспозиция, показанная Ларионовым на «Выставке живописи 1915 года» в Москве. Вот как охарактеризовала выступление на ней Ларионова художница В.Е. Пестель: «Он выставил там свой контррельеф с цилиндром и с вентилятором.
125
Все его ругали. Публика возмущалась»23.
Гораздо более подробно описывал экспозицию Ларионова на этой выставке в своих воспоминаниях Романович. По его словам, экспозиция старшего товарища состояла из следующих объектов: «Это были работы, носящие новый характер, сделанные и составленные из различного рода материалов и предметов. Там было сооружение, сделанное из лучинок и палок с прикрепленными к ним веревками и мочалом... Сооружение (трудно подобрать другое название) Ларионова можно было бы сравнить отдаленно, чтобы только дать почувствовать характер, со змеем, который делают и запускают мальчики, или с какой-то деревянной фигурой на масленице, которые делали ряженые, наконец, с огородным пугалом или с каким-то древним музыкальным инструментом, где веревки имели вид струн; развевающиеся длинные мочальные ленты придавали этой фигуре богатый и украшенный вид.
Другое произведение, отмеченное чертами современности, представляло несколько отвлеченных элементов, соединенных с женской косой и вентилятором, крутившимся и придававшим всем этим формам “динамический смысл”.
Кроме нескольких больших композиций, Ларионовым здесь же было выставлено около десяти панно на дереве или картоне, например, из осколков фарфора, цветных черепков, бумаги различной фактуры и цвета, в том числе и золотой, газетных вырезок - и тут он смог создать вещи очень красивые и характерные»24.
Зададимся вопросом - какой же смысл вкладывал Ларионов в эту, столь подробно рассмотренную Романовичем, эпатажную экспозицию? В процессе изучения творчества Ларионова у автора все время возникала довольно неожиданная догадка: на выставке 1915 г. он изображал самого себя! И, стало быть, отмеченное в воспоминаниях Романовича «сооружение, сделанное из лучинок и палок с прикрепленными к ним веревками и мочалом» - это портрет художника. Но, разумеется, исследователь вправе выдвигать любые версии, однако они должны получать хотя бы какое-то подтверждение в фактах. А все описанные в приведенном отрывке произведения Ларионова не сохранились. И все же, к счастью, имеется вполне определенное свидетельство одного из экспонентов этой выставки, и оно способно послужить убедительным подтверждением нашего предположения. А именно, художник А.А. Моргунов вспоминал в своей автобиографии:
«Надо признаться, много эпатажных трюков было на этой выставке! Ларионов расписал угол стены, на которой был вентилятор. Действуя, вентилятор приводил в движение кинетическую композицию “лучист”. Маяковский смонтировал на стене половину своего цилиндра. Одним словом, каждый давал волю своему воображению»25.
Итак, в приведенном отрывке Моргунов говорит о композиции «лучист». Хорошо известно, что самым выдающимся лучистом
126
«всех времен и всех народов» был не кто иной, как Михаил Федорович Ларионов. Поэтому, на заданный Г.Г. Поспеловым по поводу «сооружения» на выставке 1915 года вопрос: является ли оно «огородным пугалом» или «равновесием танца» - можно дать вполне определенный ответ: это своеобразный автопортрет художника Ларионова26.
Итак, смысл всей этой сцены проясняется: в ней присутствуют и сам «лучист», и «подруга лучиста» - вспомним здесь о ларионов- ской композиции с косой. А.А. Шемшурин в своих воспоминаниях уточнял:
«Ларионов прибил на стену женину косу, картонку из-под шляпы, вырезки из газет, географическую карту и т.д. и т.д. Когда все было готово, Ларионов брал под руку товарища, показывал ему стенку и пускал в ход вентилятор. У всех опускались руки. Все были в отчаянии. Все понимали, что публика будет толпиться у стенки Ларионова и картин в других залах никто не будет смотреть»27.
Кстати, в одном из этих других залов находилось произведение, которое вполне могло стать одним из побудительных импульсов для Ларионова при создании им своей веселой и дерзкой экспозиции, своего рода мишенью для пародирования. Это автопортрет А.В. Лентулова «Le grand peintre» (1915, ГТГ). Вполне очевиден и замысел Ларионова: он использовал рассмотренную нами выше, ставшую весьма характерной для экспрессионизма и авангарда композицию картины - художник на фоне своих произведений. Эти произведения, «панно на дереве или картоне» (по словам Романовича), скорее представляли автопародию на свое живописное творчество, чем были неким новым словом в развитии лучизма28.
Но и экспозиция Ларионова, в свою очередь, также нашла подражателей. Ларионов даже на выставке «1915 год» не только боролся за лидерство, но и фактически оказался лидером в привлечении внимания к своему творчеству, а ведь среди экспонентов были Малевич и Татлин, не говоря уже об остальных. Шемшурин сообщает, что, под влиянием Ларионова, на выставке вскоре появились и такие «произведения», как «цилиндр и жилетка с подписью: “Портрет Маяковского”; «рубашка и мочалка с подписью “Бурлюк в бане”»29.
Особенно эпатажным стало выступление В.В. Каменского, устроившего «передвижную выставку» во всех залах сразу. В.М. Ходасевич так вспоминала об этом: «Появился Василий Каменский, являвший собой синтетический экспонат: он распевал частушки, говорил прибаутки, аккомпанировал себе ударами поварешки в сковородку, на веревках через плечо висели - спереди и сзади - две мышеловки с живыми мышами»30. Добавим, что это едва ли не первый случай в истории мирового искусства, когда портретируемый и художник, автор и его произведение оказались тождественными друг другу - до полной неразличимости! Отчасти, элементы портретного жанра содержало и несохранившееся произведение Моргунова «Шаляпин
127
пошел в баню», но возникло оно не под влиянием Ларионова, а было связано с алогизмом Малевича. Сам же Малевич представил на эту выставку свое знаменитое произведение с перечеркнутой репродукцией Джоконды31.
Так была представлена портретная тема в творчестве художников авангарда на «Выставке живописи 1915 года». С сожалением приходится отметить, что столь яркое выступление на ней Ларионова в то же время оказалось его «прощальным кармазиновским merci». Уже вскоре после окончания этой выставки Ларионов покинул пределы России - и, как оказалось, навсегда.
Нам же остается проанализировать созданное им произведение. Такой анализ показывает, что в своем «портретном» творчестве Ларионов не был одинок, сходные проявления наблюдались и у мастеров европейского авангарда. Неудивительно, что в первую очередь это касается дадаизма. Упомянем абсурдистский «Портрет Тристана Тцара» (1916, Локарно, част, собр.) X. Арпа, представляющий собой раскрашенный материальный подбор из дерева и жести (он, действительно, даже отдаленно напоминает какой-нибудь из контррельефов В.Е. Татлина). На обложке одного из изданий дадаистов - журнала «291» выпуска 1916 г. - был помещен рисунок Ф. Пикабиа, представляющий портрет А. Штиглица в виде некоей механической конструкции, элементами которой стали фотоаппарат и пропорциональный циркуль. Итак, можно отметить, что творчество Ларионова 1915 г. имело определенные точки соприкосновения с западноевропейским дадаизмом; более того - в какой-то мере он предвосхитил дадаистскую художественную практику: ведь упомянутые произведения европейских художников датируются уже следующим годом, после выступления Ларионова на выставке «1915 год» в Москве. Но особенно впечатляет картина Дж. де Кирико «Великий метафизик» (1916, Берлин, Галерея искусства XX в.). На этой картине изображен некий сложный манекен - это одно из многих характерных для итальянского мастера изображений художников, поэтов и философов в виде загадочной куклы - и он помещен на площади перед уходящей вдаль аркадой, излюбленным архитектурным мотивом в живописи де Кирико. Этот манекен построен из множества реек и каких-то деревянных ящичков (что предвосхищает уже последующие опыты сюрреалистов), и это прямо-таки заставляет вспомнить объект Ларионова, как он нам известен по описанию Романовича: «сооружение из лучинок и палок и т.д.». Разве что на полотне де Кирико отсутствуют развевающиеся под действием вентилятора длинные мочальные ленты. Остается открытым вопрос о том, чем же было обусловлено столь близкое сходство произведений русского и итальянского художников: общими ли закономерностями развития искусства авангарда, или же это - результат какого-то их личного (или заочного) общения32.
Впрочем, эта констатация близости Ларионова и западноевропейского авангарда важна для нас не сама по себе. Она позволяет
128
сделать важные выводы о его творческом развитии в период «после лучизма». Точнее, когда на смену живописному лучизму пришел упомянутый в каталоге «Выставки 1915 года» пластический лучизм. Но тогда Ларионов не пожелал раскрыть смысл этой разновидности лучизма столь же подробно, как ранее он это сделал в своей статье «Лучистая живопись»33.
Искусство дадаизма вызвало к жизни немало критических высказываний в свой адрес, а также посвященных ему исследований. Среди них нельзя не отметить любопытную и очень проницательную его характеристику в знаменитой статье В. Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936). В частности, в ней сказано:
«Издавна одной из важнейших задач искусства было возбуждение запросов, для полного удовлетворения которых еще не наступил час. История любой художественной формы знает критические моменты, когда эта форма подходит вплотную к эффектам, осуществимым лишь с изменением технического стандарта, иначе говоря, в новой художественной форме. Подобные экстравагантности искусства, особенно очевидные в так называемые эпохи упадка, исходят на самом деле из исторического эпицентра. К примеру, ими изобиловал дадаизм. Его импульс стал различимым только теперь: дадаизм пытался средствами живописи и отчасти литературы создать эффекты, которые публика сегодня ищет в кино.
Меркантильному использованию своих произведений дадаисты придавали куда меньше значения, нежели бесполезности их как объектов созерцательного погружения. Этой бесполезности они пытались достигнуть не в последнюю очередь принципиальным тре- тированием своего материала. Их стихи - словесный салат. Они содержат непристойности и всевозможные отбросы языка, какие только можно себе вообразить. То же их картины, в которые они вмонтировали пуговицы и проездные билеты... В действительности дадаистские выходки обеспечивают бурное развлечение, продвигая произведение искусства в центр скандала. Первое требование, которому оно должно удовлетворять - это способность вызывать публичный скандал... Тем самым искусство дадаистов способствовало формированию потребности в кино, развлекательный элемент которого в первую голову осязаем, покоится на чередовании мест действия и ракурсов, которые один за другим атакуют зрителя»34.
Таким образом, Беньямин связал европейский дадаизм с формированием эстетики нового вида искусства. Возвращаясь опять к творчеству Ларионова, мы не можем не отметить, что и он в своем творчестве отдал определенную дань кино. Своего рода взглядом в будущее была великолепная картина «Сцена. Кинематограф», показанная на выставке «Ослиный хвост» в 1912 г. Чуть позже, зимой 1913-1914 гг., Гончарова и Ларионов поставили собственный фильм «Драма в кабаре футуристов № 13» - один из первых фильмов, соз¬
5. Русский авангард
129
данных художниками авангарда. Помимо этого, начиная примерно с 1913 г. Ларионов проявлял большой интерес к театру, к этому времени относятся его проекты авангардных театральных постановок, но их уже невозможно более подробно рассматривать в этой работе. А с 1914 г., вместе с Гончаровой, он активно работал как театральный декоратор, сначала оформляя спектакли, а впоследствии самостоятельно осуществляя постановки35.
Изучение последующего развития кинематографа поможет нам прояснить творческие замыслы Ларионова и их место в искусстве авангарда. В 1919 г. в Германии был снят один из выдающихся фильмов экспрессионизма - «Кабинет доктора Калигари» (режиссер Р. Вине). История создания фильма сообщает, что продюсер его Поммер собирался сначала заказать оформление декораций к постановке известному живописцу-экспрессионисту А. Кубину. Но в итоге к работе над фильмом были привлечены три молодые художника, входившие в берлинскую группу «Штурм» - Г. Варм, В. Рейман и В. Рериг. Результат этой работы - живописные декорации к кинофильму - в значительной степени способствовали его успеху. Впоследствии их восторженно оценивал в своих записях по искусству француз Р. Делоне. Он считал, что декорации к «Калигари» были созданы под влиянием его опытов в беспредметной живописи и. возможно, в этом отчасти был прав: ведь, как мы теперь знаем, - творчество Делоне действительно, в той или иной степени, оказалось значимым для многих немецких художников36. В записях Делоне особенно интересно следующее: очень высоко оценив живописные декорации фильма, создававшие в нем странную, зловещую и причудливую атмосферу, он критиковал игру актеров, считая, что они своей игрой эту атмосферу только разрушали, противореча таким образом, общему замыслу произведения37. К сожалению, художник не оставил никаких указаний, как следовало бы практически построить работу с актерами, чтобы их игра соответствовала его представлениям о фильме. Однако правомерно задать вопрос: а насколько осуществимыми могли бы оказаться подобные проекты? Как известно, опыт 1920-х и последующих годов дал достаточно образцов живописно-абстрактного кинематографа (X. Рихтер, Л. Мохоли- Надь и др.), но в итоге, это направление фактически оказалось в тупике, не продемонстрировав достаточно убедительных достижений38. Деятели левого кинематографа Советской России критиковали «кинематографическую живопись» и даже придумали для нее меткое прозвище - «калигаризм»39.
Вернемся к экспозиции Ларионова на «Выставке живописи 1915 года». Мы уже выяснили ее основную идею - художник среди своих произведений, художник в круге своего искусства. А по исполнению - выступление Ларионова отчасти похоже на театр, но это не театр; на кино - но не фиксировалось на пленку. Пожалуй, что это «кинетическое» действо можно было бы определить появившимся
130
позднее термином «перформенс». По сути - достаточно близкая и к театру, и к кинематографу попытка, и, пожалуй, экспозиция Ларионова, его пластический лучизм, уже достаточно близко подходил к концепции «кинематографической живописи», пресловутому «кали- гаризму». И здесь нельзя не вспомнить единственный сохранившийся кадр из фильма «Драма в кабаре футуристов № 13». Актеры - Гончарова и Ларионов - играют в фильме самих себя, футуристов. Пара стоит перед входом в кабаре, на стене его намалевана цифра «13». Связь решения этой сцены с живописью авангарда вполне очевидна, даже если не сравнивать ее с соответствующими кадрами из «Кабинета доктора Калигари»40. Впоследствии Ларионов работал в театре - но и там он применял найденный прием; исполненные им декорации часто содержат цитаты из живописи предшествующего периода творчества. Отметим, что в 1910-е годы язык кинематографа еще только формировался. Когда же он уже в значительной мере был сформирован в 1920-е годы, деятели кино в России уже, по-видимому, мало что помнили и о Ларионове, и о выставке 1915 г. в Москве.
Подведем некоторые итоги. Как мы видели, Ларионов дважды обращался в своем искусстве к игровым формам. И оба раза такое обращение происходило в те моменты, когда назревали важнейшие перемены в его творчестве. Так было в начале 1910-х годов; упомянем «Выставку иконописных подлинников и лубков» и знаменитый диспут при открытии «Мишени», завершившийся потасовкой, - это было связано с созданием нового направления в живописи, изобретением и развитием лучизма. Позднее, и в том числе на выставке 1915 г., обращение к игровым формам было связано с нарастающим интересом Ларионова к театру и кинематографу, с поисками новых средств выражения в зрелищном искусстве.
Само появление этих эпизодов в творчестве художника, конечно же, не было случайным. Явления, подобные рассмотренным нами, могут возникать на определенных этапах развития культуры - такой вывод можно сделать, обратившись к проделанному М.М. Бахтиным фундаментальному анализу явлений смеховой культуры. Приведем одно из высказываний Бахтина, весьма интересное в контексте развития искусства русского авангарда:
«Необходимость в любой господствующей в данную эпоху картине мира всегда выступает как что-то монолитно-серьезное, безусловное и непререкаемое. Но исторические представления о необходимости всегда относительны и изменчивы. Смеховое начало и карнавальное мироощущение, лежащее в основе гротеска, разрушают ограниченную серьезность и всякие претензии на вневременную значимость и безусловность представлений о необходимости и освобождают человеческое сознание, мысль и воображение для новых возможностей. Вот почему большим переворотам даже в области науки всегда предшествует, подготовляя их, известная карнавализация сознания»41.
5*
131
Очень важным представляется то, что Бахтин считает «смехо- вое начало и карнавальное мироощущение» не только важнейшим самоценным элементом жизни, но началом, имеющим свойство особенно ярко проявляться в периоды больших перемен в сознании, в периоды, когда «человеческое сознание, мысль и воображение» открывают для себя новые цели, новые горизонты. И поскольку «кар- навализация сознания» выступает как естественный признак грядущих перемен - даже в такой, сравнительно строгой и консервативной области, как наука, то в дни больших перемен в области искусства она тем более должна проявиться. К тому же в искусстве и сама «карнавализация» способна стать благодатным полем для художественного экспериментирования. Интересно отметить определенное сходство между всеобъемлющей концепцией смеховой культуры, разработанной Бахтиным, и проницательными, но все же носящими более частный характер, замечаниями Беньямина о сущности европейского дадаизма и его связи с последующим развитием искусства кино.
И очень важно то, что в самые решительные моменты своего творческого развития Ларионов обращался к теме портрета художника, к автопортрету. Эта тема, столь ярко заявленная на «Выставке живописи 1915 года», нашла впоследствии частичное продолжение в творчестве другого эмигранта из России - художника И.А. Пуни. Согласно исследованиям Дж.Э. Боулта, его знаменитая берлинская персональная выставка содержала во многом схожие элементы: перформенс (движущиеся «люди-сэндвичи»), отчетливые автобиографические мотивы и, главное - ее тема такая же: художник в круге своего искусства. Кстати, в 1920-е годы Пуни также, как и Ларионов, много работал для театра.
В заключение, хотя бы очень кратко упомянем, какое продолжение нашла интересующая нас тема портрета художника в искусстве авангарда 1920-х и последующих годов. В эти годы появились новые имена, и художники стали по-своему распоряжаться наследием своих предшественников. Как мы уже отметили, автопортреты и портреты Кирхнера, Хеккеля отличались глубоким психологизмом. В экспрессионистском фильме «Доктор Мабузе - игрок» Ф. Ланга проблема была решена радикально: впервые в истории кино среди действующих лиц этой «криминальной утопии» появился психоаналитик. Кстати, в России афишу к этому фильму создал Малевич. Столь ярко заявленная в экспрессионизме и авангарде 1910-х тема первобытной маски или загадочного манекена получила, вполне в духе времени, продолжение в людях-манекенах, обезличенных людях- механизмах «массового общества» в социально-критических произведениях Г. Гросса и др. На службе у художника появились новые технические средства выражения - вспомним о великолепных фотопортретах, созданных А.М. Родченко. И в то же время - сознательный, по-видимому, отказ от портретирования: в эмиграции Ларио¬
132
нов уже как будто не писал автопортретов, его облик известен нам только по чужим фотографиям. Нельзя не упомянуть и о представлении себя художником в другой роли - М. Бекманн и Родченко порой изображали себя на холсте клоуном, циркачом. И о бесконечной игре с переодеванием художника в костюмы других, уже прошедших культурных эпох: как охотно играли в эту игру Малевич, де Кирико и другие...43
В обращении художника авангарда к теме портрета и автопортрета проявились две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, это недвусмысленная заявка на будущее, поиск новых средств выражения, способных оказаться адекватными его неведомой стихии. Но в то же время, как это ни покажется на первый взгляд неожиданным, - глубокая связь со всей прошлой традицией рефлексии европейской культуры Нового времени. «Я среднего роста, гибок и правильно сложен» - так когда-то начинал отрывок своей автобиографической прозы Ф. де Ларошфуко. Герой фантастического романа «Гелиополис» Э. Юнгера помнит этот отрывок, и под воздействием этих слов также пытается описать свою внешность44. Действие романа происходит в далеком будущем, когда возможности человека уже ничем практически не ограничены. Вопрос заключается в том, что мы так и не знаем, что и как расскажет о себе человек будущего.
1 Этой геме были посвящены исследования Д.В. Сарабьянова. См.: Сарабъ- яновД.В. Новейшие течения в русской живописи предреволюционного десятилетия (Россия и Запад) // Советское искусствознание. 80-1. М., 1981. С. 117-160; а также статья на нем. яз.: Sarabjcmow D. Fauvismus - Expressionismus - Neoprimitivismus. - Westkunst - Ostkunst. Absonderung oder Integration? // Materialen zu einer neuen Standortbestimmung / Herausgegeben von Thomas Strauss. Munchen, 1991. S. 45-57. См. также: Сарабъянов Д.В. Неопримитивизм - фовизм - экспрессионизм // Пространство жизни / К 85-летию академика Б.В. Раушенбаха. М.: Наука, 1999.
2 «...Вторая выставка называлась “Мишень”... Мы решили сделать выставку особого, совсем нового типа, то есть выставлять работы без авторских подписей и без названий. Пусть зритель приучается сам разбираться во всем - это во-первых, во-вторых, пусть оценивают вещи по их качеству, а не по известности имени автора». В итоге, художникам все же пришлось подписать свои картины по требованию представителя Министерства внутренних дел. - Воспоминания А.В. Шевченко. Цит. по кн.: Шалабаева В.Н. Александр Шевченко. М., 1994, С. 181.
3 Ревалд Д. Постимпрессионизм. М.; Л., 1962, С. 140.
4 Письмо Винсента к Тео Ван Гогу от 08.09.1888 г. Ван Гог В. Письма. Л.; М., 1966. С. 391-392.
5 Другое письмо к Тео Ван Гогу, написанное в 1-й половине сентября 1888 г. Там же. С. 393.
6 Гаузенилтейн В. Об экспрессионизме в живописи // Экспрессионизм: Сборник статей. Пг.; М., 1923. С. 168.
7 Гройс Б. Россия как подсознание Запада // Гройс Б. Утопия и обмен. М.,1993. С. 251.
133
8 Бахтин ММ. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 49.
9 Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990. С.49.
10 Романович С.М. Дорогой художника // Подъем. 1992. № 2. С. 218.
11 Выставка иконописных подлинников и лубков. Организована М.Ф. Ларионовым. М., 1913. С. 3.
12 Там же. С. 3.
13 К характеристике «игрового начала» в русском авангарде добавим, что «долгожданный хам» пришел, разумеется, из статьи Д.С. Мережковского «Грядущий хам» (1906), а под псевдонимом «Радда-бай» печатала свои сочинения Елена Блаватская. См. также: Маяковский В.В. Пришедший сам. Тезисы доклада, прочитанного 24.03.1913 в Троицком театре, в Петербурге, на «Первом публичном диспуте о новейшей русской литературе» // Маяковский В.В. Собр. соч. М., 1955. Т. 1. С. 365; В.В. Хлебников в отрывке, озаглавленном «!Будет- лянский» (1914), заявлял: «Мы не в шутку назвали себя “Пришедший Сам”...» - Хлебников В. Собр. соч.: В 3 т. СПб.: Академический проект, 2001. С. 191, а также: Малевич К.С. Государственникам от искусства (статья в газете «Анархия», .Ns 53, от 4.V.1918) // Малевич К.С. Собр. соч.: В 5 т. М.: Гилея, 1995. Т. 1. С. 75-87.
14 Романович С.М. Указ соч. С. 217.
15 По словам Эганбюри, в 1901 г. «Три полотна Ларионова, из которых одно изображало господина и балерину, были опять признаны порнографическими, и совет преподавателей исключил его из училища на один год». См.: Эганбюри Эли. Наталия Гончарова - Михаил Ларионов. М., 1913. С. 27.
16 Кафка Ф. Из дневников // Кафка Ф. Америка: Процесс: Из дневников // М., 1991. С. 506.
17 Борхес ХЛ. Юг // Борхес Х.Л. Проза разных лет. М., 1989. С. 122.
18 Понятие «бульварной образности» было введено В. Хофманном. См.: Хофманн В. Китч и «тривиальное искусство» как искусство массового потребления // Искусство. 1989, № 6. С. 32-39.
19 Шевченко А.В. Неопримитивизм: Его теория. Его возможности. Его достижения. М., 1913. С. 29.
20 Кафка Ф. Указ. соч. С. 593.
21 Это высказывание П. Сезанна А.В. Шевченко поставил эпиграфом к своему программному манифесту, вместе с собственным credo: «Художник должен быть смелым искренним борцом за идеи великого Искусства, он не должен подчиняться природе и лишь черпая в ней материал для переживаний, быть творцом и властелином ее форм». См.: Шевченко А.В. Указ, соч. С. 5.
22 Последняя футуристическая выставка картин 0,10. Каталог. 1915. Вкладная страница: 1. Казимир Малевич.
23 Пестель Вера. Фрагменты дневника. Воспоминания. «О художественном произведении» / Амазонки авангарда. М.: Наука, 2001. С. 248. Возможно, что В. Пестель в приведенном отрывке по недоразумению включила цилиндр Маяковского в экспозицию Ларионова. Впрочем, такая невольная оговорка дает хорошее представление о творческой атмосфере на выставке «1915 год».
24 Романович С.М. Указ. соч. С. 230.
25 Воспоминания А.А. Моргунова сохранены и были опубликованы благодаря Н.И. Харджиеву. См.: Харджиев Н.И. Статьи об авангарде: В 2-х т. М., RA 1997. Т. 1. С. 146.
134
26 Поспелов Г.Г. «Равновесие танца» или «огородное пугало»? (Лучизм Ларионова: от плоскости к пространству) // Н. Гончарова и М. Ларионов: исследования и публикации. М.: Наука. 2001. С. 22-30.
27 Воспоминания А.А. Шемшурина цитируем по изд.: Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях. М.: Сов. художник, 1992. С. 134.
28 Следует обратить внимание на названия представленных Ларионовым произведений. Согласно каталогу, среди них было два «Портрета Н. Гончаровой». Также в списке присутствуют «Цирковая наездница» и «Женщина на бульваре». Достаточно вероятен «ретроспективный» характер этих произведений: вспомним о таких известных живописных полотнах Ларионова, как «Цирковая танцовщица» (1911) и «Венера на бульваре» (1913). «Константинополь (эскиз) напоминает и о ларионовском «путешествии в Турцию», и, даже еще больше, о выставке «№ 4» 1914 г., на которой была представлена «железобетонная поэма» В.В. Каменского «Константинополь». Наконец, название «Железный бои» уж очень явно пародирует «Победный бой» - картину А.В. Лентулова с этой же экспозиции. Можно сделать вывод, что анализ названий произведений подтверждает наше предположение об игровой природе замысла Ларионова, реализованного в его экспозиции. См.: Выставка живописи 1915 год. Каталог. М., 1915.
29 Неизвестный русский авангард. С. 135.
30 Ходасевич В. Портреты словами. М.,1987. С. 105-106. См. также: Стри- галев А.А. Картины, «стихокартины» и «железобетонные поэмы» Василия Каменского // Вопросы искусствознания. 1995. № 1-2. С. 512.
31 Об этом также вспоминал Моргунов (цит. по: Харджиев Н.И. Указ. соч. Т. 1. С. 146).
32 Тема портрета-маски в творчестве де Кирико очень убедительно была представлена в «Портрете Гийома Аполлинера» (1914, Париж, част. собр.). Нам неизвестно о возможных встречах Ларионова и де Кирико, но летом 1914 г. Ларионов как раз находился в Париже. В это время он поддерживал дружеские отношения с Аполлинером, опубликовавшим благожелательную рецензию на выставку произведений Гончаровой и его самого в галерее Поля Гийома. Ларионов даже подарил Аполлинеру свою пневмолучистскую картину «Солнечный день» (1913-1914, Париж, Центр Ж. Помпиду). Поэтому, вполне возможно, что Ларионов видел упомянутый портрет работы де Кирико или даже после отъезда из России в 1915 г. общался с итальянским художником.
33 Ларионов М. Лучистая живопись // Ослиный хвост и Мишень. М., 1913.
34 Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Киноведческие записки / ВНИИК. 1989. Вып. 2. С. 164-165.
35 Некоторые из этих проектов были описаны Ларионовым в отрывке «О лучизме в театре». Связь с лучизмом в них заключалась в том, что важнейшую роль в театральных замыслах художника получал собственно свет. Ларионов приводит различные остроумные примеры «организации сцены в смысле организованного света». См.: Ларионов М.Ф. О лучизме в театре // Н. Гончарова и М. Ларионов. С. 99-101.
36 Большое количество материалов о связях творчества Р. Делоне и немецкой живописи собрано в каталоге выставки: De Launay und Deutschland. Katalog zur Ausstellung. Staatsgalerie modemer Kunst. Miinchen, 1989.
37 De Launay R. Du cubisme a L’ art abstrait. P., 1957.
38 Экспериментам германского киноавангарда посвящен сборник: Der Deutsche Avant-Garde Film der 20-er Jahre. Miinchen, 1989.
39 Селезнева T. Киномысль 20-х годов. Л., 1972. C. 20-21.
135
40 Здесь нельзя не отметить вполне определенную параллель между некоторыми практическими приемами лучизма и зарождавшимся искусством кинематографа. Конечно, в первую очередь это относится к театральному лучизму. «Лучизм, - пишет Ларионов, - имеет в виду организованное световое пространство. ... Важно, чтобы свет был организован, и применение различных для этого методов и приемов называется лучизмом». См.: Ларионов М.Ф. О лучизме в театре // Н.* Гончарова и М. Ларионов. С. 99. Но отчасти это относится и к живописному лучизму. Раскраска лица художниками из группы Ларионова (прием, кстати, вполне театральный) была призвана передавать постоянно меняющимся, динамический характер создаваемых образов. «Мы раскрашиваемся на час, и изменение переживаний зовет изменение раскраски», - писали Зданевич и Ларионов в своем манифесте. См.: Зданевич И., Ларионов М. Почему мы раскрашиваемся: манифест футуристов // Аргус. |СПб.], 1913. Рождественский номер. С. 114—118. По сути, такой же характер имело создание, на один сюжет, схожих по настроению и цветовой гамме лучистских живописных произведений, что особенно ярко проявилось в период пневмолучизма. Романович вспоминал, что на выставке «№4» 1914 г. Ларионовым, помимо прочего, была представлена целая живописная серия из 6 или 8 «пляжей». См.: Романович С.М. Указ. соч. С. 230.
41 Бахтин ММ. Указ. соч. С. 58.
42 Боулт Джон Э. Бегство форм: Иван Пуни в Берлине (1920-1923) // Русский авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте. М., 2000.
43 Отчасти эта тема была затронута в статье: Иньшаков А. Между культурой и хаосом: Идеи русского символизма в контексте искусства авангарда // Искусствознание, 1/01. С. 327.
44 Юнгер Э. Гелиополис (1949) // Гелиополис: Немецкая антиутопия. М.. 1992.
ИМ. Сахно
О ФОРМАХ ЭКСПРЕССИИ И ЭКСПРЕССИОНИЗМЕ В ПОЭЗИИ РУССКОГО АВАНГАРДА
Существовал ли экспрессионизм в России как поэтическая школа? На этот вопрос пытались ответить в 1920-е годы первые исследователи экспрессионизма1, рассматривая это явление в контексте достижений европейской философии и живописи. Однако размывание границ термина «экспрессионизм» привело к расширению его социокультурного пространства, и потому такие разные по идиостилю поэты, как Н.Н. Асеев, В.В. Каменский, М.А. Куз- мин, В.В. Маяковский и Б.Л. Пастернак, С.М. Третьяков, были маркированы как поэты-экспрессионисты. Ситуация оказалась еще более запутанной, когда в 1919 г. в Москве заявила о себе группа поэтов-экспрессионистов (Евгений Габрилович, Борис Зе- менков, Борис Лапин, Гурий Сидоров, Ипполит Соколов, Сергей Спасский), которая просуществовала до 1922 г. и растворилась в прочих «измах» эпохи 1920-х годов2. Рабски подражая поэтической образности имажинизма, проповедуя максимализм и антиэстетизм футуризма с его установкой на дискретность поэтической реальности, они не открыли ничего нового и остались маргиналами авангардистской культуры.
Между тем, теоретическая разработка поэтики экспрессионизма, представленная в программных манифестах И. Соколова «Хартия экспрессиониста» (1919), «Экспрессионизм» (1920) и «Бедекер по экспрессионизму» (1920), оказалась намного продуктивнее его собственной поэтической практики. Экспрессионизм, во-первых, рассматривается в контексте идеи панфутуризма - синтеза всех предшествующих фракций русского футуризма. Максимум экспрессии и революция способов производства в поэтической индустрии - главная цель поэтов-экспрессионистов:
«Мы хотим:
а) в себе вытравить все те принципы старого стихосложения, которые считались незыблемыми от Гомера до Маяковского, и прийти к новому хроматическому стихосложению... Новое хроматическое стихосложение будет построено по строго математическим схемам 40-нотного ультрахроматического звукоряда - и-е-а-о-у - не
137
только с диезами и бемолями, но и с guartiese’aMH и guartmoll’aMH (введены четвертые тона);
в) создать полистрофику и
с) достигнуть высшей эвфонии»3.
Во-вторых, экспрессионизм объявляется новой формой синтетизма, вбирающего в себя все достижения новейшей поэзии, живописи, музыки и современного театра. В-третьих, экспрессионизм как новое мироощущение и миропонимание, по глубокому убеждению И. Соколова, воспринял все достижения новейшей философии и психологии (интуитивизм Артура Шопенгауэра и Анри Бергсона, теософия Елены Блаватской и Рудольфа Штейнера, мистицизм Андрея Белого и Владимира Соловьева, психофизика Альфреда Бинэ), и потому по праву может называться психо-физиологическим, инстинктивным трансцендентизмом: «Трансцендентальное познание вещей не есть сама вещь. Чувственные (апостериорные) качества вещей нашего транссубъективного плана бытия, как цвет, поверхность, звук, вкус и запах и нечувственные (априорные) формы рассудка, систематизирующие наши разрозненные ощущения, одинаково не принадлежат самим вещам, а являются результатом только психических процессов познающего субъекта»4.
При всей абстрактности и неразработанности отдельных формулировок очевидна установка на синестезийность поэтической образности и ассоциативность поэтического мышления художника. Поиск психофизических основ живописи и поэзии увлекал многих деятелей искусства начала XX в. В России огромную популярность приобрели научные труды классиков мировой психологии Г. Фехне- ра, сформулировавшего основной закон психофизики (закон Вебе- ра-Фехнера), и В. Вундта, представившего научные данные о влиянии разных цветов на психику человека в научном исследовании «Основы физиологической психологии», неоднократно переиздававшемся в Санкт-Петербурге с 1908 по 1914 год. Идею синестезий- ных переживаний, основанных на межчувственных ассоциациях, разрабатывает А. Бинэ в работе «Вопрос о цветном слухе»5, которую знали и не раз цитировали многие поэты и художники, размышляя о теоретических аспектах авангардистского искусства. О способности художника к мгновенным ощущениям и озарениям, к сверхчувственной интуиции, которая расширяет возможности познания мира, пишет И. Соколов: «У человека пять или шесть чувств, - замечает он, - шестым чувством будет или цветной слух
А. Рембо, или световой запах Ш. Бодлера или вкусовой слух Й-К. Гюисманса»6.
Взгляд на синестетизм как доминантную стилевую структуру, во многом определившую парадигму постсимволистской культуры, дает ключ к расшифровке культурного кода экспрессионизма. Установка на всеобщий синтез искусств, синтетический текст и синестезий- ный ассоциативный ряд - программные принципы символистской
138
поэтики - обретают в панфутуризме иное звучание. В символизме синестезия означала поиск бодлеровских «соответствий”: звука и музыки, звука и цвета, отсюда и ключевые понятия символистской эстетики - мелодика стиха и окраска звука. Футуризм значительно расширяет исследовательское поле психологии восприятия и акцентирует свое внимание на идее чувственных впечатлений. Экспрессия образов и форм во многом определялась экстатической настроенностью поэта и его способностью к дополнительному восприятию окружающего мира (визуальному, слуховому, тактильному, кинестетическому и т.д.). Интенсификация чувственных ощущений сопровождалась раскрепощением поэтической техники.
Можно выделить несколько этапов лабораторной работы по созданию слова особой экспрессивной выразительности и энергетического действа. Первоосновой авангардистской поэтики становится самоценное слово, сосредоточенное исключительно на своих выразительных функциях. Установка на «чувственность» поэтического слова и создание «языка чистых эмоций»7 надолго определила движение поэзии по пути формального эксперимента. «При сильной эмоции, - пишет А. Кручёных в сборнике «Фонетика театра», - все слова вдребезги.... Значение (понятие) слова не так уж и важно, оно даже забывается, человек в страсти путает слова, забывает их, говорит другие, коверкает их, но эмоциональная сторона при этом не нарушается (заумная часть), наоборот, звукообраз и звук живут, как никогда, и чем они необычнее и выразительнее, тем больше материала для страсти»8.
В. Хлебников, размышляя о природе языка заклинаний и заговоров, подчеркивает необычную энергию заумного слова, в силу чего оно приобретает «особую власть над сознанием”9. И.Г. Терентьев считает важнейшей заслугой заумников усиление «эмоционального воздействия языка», создание вместо стершихся и переставших производить впечатление штампов, новых слов, «остро врезающихся в сознание»10.
Хорошо известно отношение поэтов-футуристов к слову как к живому организму, которое живет своей собственной жизнью по внутренним законам языка. Это слово, освобожденное от прежней предметности и символистской суггестивности, одетое новой плотью, и потому по-новому ощущаемое. О чувственности поэтического слова, вызывающего разнообразные ощущения, размышляет в статье «Поэтические начала» Н.Д. Бурлюк: «Предпосылкой нашего отношения к слову, как к живому организму, является положение, что поэтическое слово чувственно. Оно соответственно меняет свои качества в зависимости от того - написано ли оно, или напечатано, или мыслится. Оно воздействует на все наши чувства»11.
Заумное слово - слово с текучей и переменчивой внутренней формой, живущее особой психической жизнью. Это слово способно порождать разнообразные синестезийные ощущения, новые ассоци¬
139
ативные связи, интерсенсорно воздействуя на читателя или слушателя. Идеи Бергсона об интенсивности психической жизни и актуализации «внутреннего чувства”12 нашли отражение в теоретических размышлениях поэтов и художников русского авангарда. «Душа», «внутренняя живописная нота», «внутренняя вибрация» картины и есть, по мнению В.В. Кандинского, духовная сущность живописи. Отношение к форме как к выраженному внутреннему содержанию определило и восприятие краски как живого одухотворенного существа: «Каждый предмет, каждое явление, - пишет он в трактате “О духовном в искусстве”, - имеет свою внутреннюю сущность и с ним связанную свою собственную жизнь, т.е они представляют из себя определенное существо. Это существо, как и все живое, воздействует на окружающую среду, оно воздействует, стало быть, и на душу человека, лучеиспускает свое внутреннее звучание»13.
О «психологической окраске» слова и его психической сущности пишут А. Кручёных, Б. Лившиц, И. Терентьев, С. Третьяков и другие поэты-авангардисты. Слово всегда апеллирует к сенсорным ассоциациям читателя, что, в свою очередь, актуализирует эмоциональную выразительность образа и является показателем синесте- зийности художественного мышления поэта. О высшем хроматизме в музыке и поэзии, об «окраске» ощущений человека размышляет Н.И. Кульбин. Синестезия или соощущение является важнейшей составляющей физики души - пути порождения «цветных представлений» человека: «Зеленый цвет, нота фа, кислый вкус, запах травы и т.д., - пишет Н. Кульбин в статье “Свободное искусство как основа жизни”, - все это своеобразности, составляющие общую, сходную область психики, т.е. мира... Зритель, способный к познанию искусства, слушая музыкальную пьесу, легко созерцает, матовая она или блестящая, цветная (колоритная), или серая»14.
Энергия заумного слова расширяет ассоциативное поле языка и заостряет повышенную выразительность авангардистского текста. Новое слово, по мысли А. Кручёных, должно быть эмоциональным и чувственным по своей «окраске»: «Гладиаторы - тускло, серо, странно; мечари - ярко, красочно, и дает нам картину мощных людей, закованных в медь и сетку...; морг - это смешно и напоминает жирного немца с пивом, трупарня дает ощущение мертвецкой; университет - этим можно дразнить собак, всеучьбище - убеждает нас в важности обозначаемого и т.д. Важна каждая буква, каждый звук»15. В аналогичном ключе А.А. Шемшурин расшифровывает хлебниковский неологизм “девинность” - девственность, страстность, холодность как множественное состояние предмета: «”Девин- ности”, - комментирует он, - могут быть какие-нибудь существа, воображенные поэтом. У этих существ могут быть глаза. Поэт воспевает пламень глаз воображаемых им существ. Это один смысл. Второй - “девинность” это качество взора, состояние человеческого взора вообще»16.
Музыка и цвет живого слова, его запах и вкус - важнейшие составляющие заумного слова, синтетического по своему характеру с собственной мелодией внутренней жизни. Синестезийность авангардистского поэтического мышления сознательно программируется художниками и поэтами. Ощутить материал как таковой можно, по мнению Н.М. Тарабукина, лишь включив фактуру в разряд эстетических эмоций. Отсюда требование тактильности восприятия живописного полотна и усиления его чувственной ощутимости, призыв «нюхать» живопись, обонять и осязать краску17. Д.Д. Бурлюк в известной статье «Кубизм» замечает, что современная живопись «осязает», и потому вместе с П.П. Кончаловским пришло «чувство зрительной весомости», а с И.И. Машковым - «чувство аромата цвета»18. Поэт группы «Мезонин поэзии» М. Россиянский (псевдоним Льва Зака) пишет: «Каждое слово, имея свой особый корень, свой особый смысл, свою собственную историю, возбуждает в человеческом уме множество неуловимых, но для всех людей совершенно одинаковых ассоциаций. Эти ассоциации придают слову индивидуальность. Можно сказать, что каждое слово имеет свой особый запах. Поэтическое произведение есть сочетание не столько слов- звуков, сколько слов-запахов»19.
Поэт-эгофутурист Василиск Гнедов предлагает использовать в качестве главного строительного материала поэзии синестезийные рифмы: вкусовые, обонятельные, осязательные, зрительные и цветные. Каталог «консонанса понятий» он создает в манифесте «Глас о согласе и злогласе»: «...2) Вкусовые рифмы: хрен, горчица, молочай, те же - рифмы горькие. 3) Обонятельные: мышьяк - чеснок, шафран - йодоформ. 4) Осязательные - сталь, стекло и т.д., рифмы шероховатости, гладкости и т.д. 5) Зрительные - как по характеру написания (начертания), так и по понятию: вода - зеркало, перламутр и проч. 6) Цветовые рифмы - наиболее наглядные и тонко переплетаемые: сиз цветн(ые) рифмы (свистящие), имеющие одинаковую основную окраску (желтый цвет)...»20. Подобные поэтические интерпретации характеризуются определенной субъективностью. Автор отстаивает право на самовыражение, каким бы абсурдным оно не казалось рядовому читателю. Вместе с тем, очевидна попытка расширения семиотического пространства авангардистского текста за счет реинтерпретации привычных знаков и усиления эмоционального подтекста. В контексте поисков максимальной синестезийной экспрессии по-новому звучат поэтические строки И. Игнатьева: «Я не знаю - Окружности Ключ / Знаю - кончится Бег, / И тогда Я увижу всю Звучь / и Услышу весь спектр»21.
Представления о синтетизме и синестезийности заумного слова складываются в рамках идеи звукосимволизма. Заумное творчество - искусство экстаза, магии, мистики22, отсюда и экспрессивная мотивация заумного языка. Принцип звуковой неожиданности в авангардистской поэтике - резкость и несогласование, диссонанс и
141
какофония - противопоставлен музыкальному благозвучию символизма. Прежний язык (ясный, чистый, приятный и нежный для слуха) заменен языком аффектированной эмоциональности, поэтому, по словам А. Кручёных и В. Хлебникова, «язык баячей напоминает пилу, отравленную стрелу дикаря»23.
Заумь - это звучизм: звуковой ряд или звук, обладающий экспрессивной самоценностью и семантической мотивацией. Эмоционально ощутить звуковую инструментовку возможно лишь при условии предельного обнажения фонетической стороны слова. Особую роль играют звукосочетания, которые создают, согласно классификации А. Кручёных, грубую, резкую, тяжелую фактуру стиха2^ В сборнике «Ослиный хвост и Мишень» было опубликовано стихотворение А. Лотова (о предположению Н.И. Харджиева, псевдоним К.А. Большакова), которое состояло из одних согласных:
Счтрп трг жзрв Смк чпр вчнц Хд чпр вчнц Шпрз шркц Хрфд Вб зчж хнв Спржвчнхлии25.
Налицо непроизносимость подобного стихотворения вследствие скопления плавных, шипящих, звонких и глухих согласных. Самоценная звуковая форма отнюдь не произвольна: семь сочетаний со звонким сонорным звуком «р» (тр, зр, бр, пр, шр, хр, гр) создают звуковой эффект рокота, рычания, напряженности и силы, что свидетельствует о ярко выраженной эмоциональной экспрессивности текста. Подобная аффектация заумной звукоречи, замеченная многими исследователями русского авангарда, дала повод В.Б. Шкловскому указать на связь звуко-зауми с глоссолалией мистических сектантов, в частности, хлыстов26.
Теория звукового символизма, оформившаяся в России в 1920-е годы под влиянием немецкой экспериментальной фонетики и фоносемантики М. Граммона, активно разрабатывается учеными-лингви- стами ОПОЯЗа. Л.П. Якубинский одним из первых ставит вопрос об «эмоциональном переживании звуков»27. Если в практическом языке, по мысли исследователя, исключена возможность внутренней связи между звуками и их значениями, то в поэтическом языке вполне логичны эмоции, протекающие в различных направлениях: «удовольствие - неудовольствие», «возбуждение - успокоение», «напряжение - разрешение», именно поэтому стихотворец выбирает звуки, эмоционально соответствующие тем или иным образам.
О звуковом символизме как о явлении внутренней синестезии, связанной с музыкальным, цветовым, обонятельным, тактильным восприятием, пишет Р.О. Якобсон. Оппозиция высоких и низких фонем, по его глубокому убеждению, может вызвать ассоциации с про¬
142
тивопоставлениями: светлый - темный, острый - круглый, тонкий - толстый, легкий - массивный. Так, чешские слова den (день) и пос (ночь), в которых противопоставлены высокая и низкая гласные, легко ассоциируются в поэзии с контрастом полуденного света и ночного мрака2*. О.М. Брик в статье «Звуковые повторы» формулирует тезис об «инструментовке стиха» и «фонетической окраске» звука, убедительно доказывая, что анализ поэтического текста основан прежде всего на исследовании звуковой организации текста. Важную роль при этом играют звуковые повторы, кольцевые и начальные рифмы, ассонансы и аллитерации, усиливающие акустическую значимость слова29.
Установка на семантизацию звука, когда звук, усиливая семантику текста, обретает сам семантические качества, «эмоционально» соответствующие избранному поэтом поэтическому образу, - отличительный признак авангардистской поэтики. Звуковая мотивировка текста осмысливается также в контексте идеи «звукоощущения». Ассоциативность звукового восприятия у каждого поэта представлена по-разному. Сравним стихотворения Д. Бурлюка и Г. Золотухина:
Ленивой лани ласки лепестков Десбийская любовь лорнировала лиры Любви лучей лука Ленивых ласк,
Листок летит лиловый лягунов Плыли пальмы, плетя
Ломаются летуньи листокрылы пирамидам Пальмиры
Поклоны Пасх30.
Очевиден факт аллитерации и скопления плавного звука «л» в поэтической строке и слове, образование фонетической цепи в целях фонической актуализации. Звуковая доминанта представлена сонантом, который ассоциируется с ощущением мягкости и легкости. Подобный эффект можно встретить в народно-поэтическом творчестве или в словах детского языка, когда налицо дефект речи или заикание. Интересен и автокомментарий: «Л - нежность, ласка, плавность, лето, блеск, плеск» (Д. Бурлюк) ; «Л - любовь, ласка, лето» (Г. Золотухин)31.
Звуковая мотивировка расширяет ассоциативно-семантическое поле поэтического языка. Самостоятельность и экспрессивная выразительность звуковой структуры - отличительный признак заумной поэзии, звуко-зауми. «Азбука ума» В. Хлебникова и «фоническая музыка» А. Туфанова устанавливают связь между звуком и движением, звуком и его пространственным образом. Теория «музыкального счета» И. Терентьева и попытка Ф. Платова перевести 10-ю сонату А.Н. Скрябина в заумный текст связаны также с экспериментом по усилению музыкального звучания «фоно-зауми».
А. Кручёных переосмысливает звуковой символизм, выдвигая требование материальной звуковой сделанности и отдавая предпочтение «мужицкому рыку с нежным привкусом на “га”»32. Любимый звук поэта «з» приобретает «шумовое» звучание, он удобен для изо¬
143
бражения резкого движения, зудения, брожения, визга, лязга, завирух зимы, заносов, мороза, зги, накожного и нервного раздражения, свиста, розги, злости, зависти, дразнения, заразы, задора, змеи, зги. Пример: «Я тормоз, поезду рвущий зуб, / Зудач земли! / Жил-был зудень / Жена его - зудыня / И дети - зуденыши!»33 Словарь цвето- обозначений звука встречаем в записных книжках В. Хлебникова (М - синий цвет, Л - белый, слоновая кость, Г - желтый, Б - красный, рдяный, 3 - золотой, В - небесно-голубой, Н - нежно-красный, П - черный с красным оттенком»)34.
Наиболее ярким средством экспрессивной выразительности становится звукоподражание как вид контекстуального (вторичного) звукосимволизма. Эффектность приема звукоподражания осознавалась всеми без исключения поэтами-авангардистами. Шумовое озвучивание стиха, когда речевая интонация является его основным конструктивным элементом, усиливает энергетизм и динамику зву- ко-формы. Передача информации при помощи слов-омонатопов и звукоповторов-имитативов (гау, гау, гау-увв... - вой собаки; б-бабах, бах - выстрел молодого часового) содержится в стихотворении поэта группы «Центрифуга» Тихона Чурилина «Смерть часового».
Звукоподражание как форму достижения непосредственной экспрессивности поэтического текста широко использует А. Кручёных, например, в стихотворении из самописной книги «Ззудо»:
У-a!... Родился ЦАП в дахе
Снежки - пах! - пах!
В зубах ззудки...
Роет яму в парном снегу -
У-гу-гу-гу! ... Каракурт !...
Гы-гы-гы!...
Бура-а-ан... Гора ползет -
Зу-зу зу-зу..
Горим... горим-го-го-го!...
В недрах дикий гудрон гудит
Гу-гу-гур35.
Звукоповторы, имитирующие плач ребенка, игру в снежки, улюлюкание, насмешку, пожар и подземое кипение гудрона, сопровождаются определенной артикуляцией органов речи и создают ощущение шума, треска, гудения, многоголосия. Звуковая инструментовка усиливается за счет разработки фактуры согласных «з» и «г» в сочетании с гласными «у», «о», «ы». Гласная «у» придает особую песенность и музыкальность звуковому фактурному рисунку стихотворения. «Птичий язык» В. Хлебникова и комбираторная поэтика поэтов тифлисской группы «41°» И. Зданевича и И. Терентьева, основанная на комбинации и имитации разных языков, демонстрируют еще один способ использования приема звукоподражания.
Особая энергия звукообраза и высокая степень звуковой напряженности создаются при помощи «звукового жеста» (термин Е.Д. По-
144
Ливанова) - звукосочетания, роль которого аналогична роли жеста36. Эмоциональное отношение к звуку сопровождается, по мнению Л. Якубинского, звуковой жестикуляцией - «выразительным движением органов речи»37. Установка на сознательное переживание звуков в стихотворной практике и возможность их самостоятельного зарождения в душе поэта приводит исследователей к мысли о связи звука речи и сознания (психофонетика), звука и смысла. Теория звукового жеста, разработанная в работах Якубинского и Поливанова, получает дальнейшее обоснование в размышлениях С. Вышеславцевой о моторных импульсах стиха - «жесте речи», под которым она понимает не только артикуляционную работу, но и интонационный изгиб и динамику данной речи. Наибольшей моторностью обладает декламационная речь, которая характеризуется усилением голоса, более интенсивной артикуляцией и может сопровождаться движением тела при произнесении того или иного поэтического текста38. О «речевой мимике» пишет В. Шкловский в известной статье «Заумный язык и поэзия». Способность органов речи к выразительным движениям при произнесении того или иного звука является, по его мнению, «результатом какого-нибудь телесного состояния (замирание сердца - причина страха, а слезы - причина эмоции, печали)39. Звуковая или мимическая жестикуляция - способ экспрессивного озвучивания стиха и создания звуко-картины, в которой каждый звук соответствует определенному зрительному впечатлению и вызывает те или иные синестезийные ассоциации. Особую роль приобретает в этом случае декламационная расшифровка самого автора, когда семантика жеста порой бывает настолько очевидной, что становится «жестом тела», не требующим дополнительного комментария, как например, знаменитое ритмодвижение в «Поэме конца» В. Гнедова.
Завершая разговор, хотелось бы ответить на вопрос, поставленный в самом начале. Экспрессионизм, заявленный в России в 1920-е годы как новая поэтическая школа, был мифом, который творили сами поэты. В то же время экспрессионизм как сумма новейших средств выразительности, форма выражения максимальной экспрессии, эмоциональной энергии образов и форм стал доминантной стилевой тенденцией живописного и поэтического авангарда и метаязыком культуры всеобщего Ренессанса начала XX в. 11 О размытости границ экспрессионизма как литературного явления пишет в своей статье 1971 г. «Экспрессионизм в России» В. Марков (опубл. в кн.: «Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н. Харджиева» - М., 2000) и др. Этим объясняется попытка причисления к экспрессионистам совершенно разных по своей творческой манере поэтов и прозаиков (В. Маяковский, В. Каменский, Н. Асеев, Н. Третьяков, Б. Пастернак, М. Кузмин, Л. Андреев, Ю. Олеша, Н. Заболоцкий, А. Ремизов, Е. Замятин и т.д.) - см. С. 546-547.
2 В кратком обзоре истории русского экспрессионизма известная исследовательница русского авангарда В.Н. Терёхина выделяет три поэтических объ-
145
единения экспрессионистов: группа И. Соколова (1919-1922), объединение «Московский Парнас» (1922), Б. Лапина и группа поэтов-эмоционалистов М. Кузми- на (1921-1925), в состав которой входили: К. Вагинов, А. Радлова, А. Пиотровский, Ю. Куркун, С. Радлов, В. Дмитриев. См. подробнее об этом: Терехина В.П. Бедекер по русскому экспрессионизму // Арион № 1. М., 1998. С. 51-64.
3 Соколов И. Хартия экспрессиониста //Литературные манифесты от символизма до наших дней. М., 2000. С. 297.
4 Соколов И. Бедекер по экспрессионизму //Там же. С. 302.
3 Бинэ А. Вопрос о цветном слухе. М., 1894.
6 Соколов И. Бедекер по экспрессионизму. С. 301.
7 Третьяков С. Бука русской литературы // Бурлюк Д., Третьяков С. и др. Бука русской литературы. М., 1923. С. 5.
8 Кручёных А. Фонетика театра. М., 1925. С. 7.
9 Хлебников В. Наша основа // Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Сост. В.Н. Терехина и А.П. Зименков. М., 1999. С. 67.
10 Терентьев И. О разложившихся и полуразложившихся: Аналитики против паралитиков // Кручёных А. 15 лет русского футуризма. М., 1928. С. 62.
11 Бурлюк Н. Поэтические начала // Русский футуризм. С. 56.
12 См. подробнее об этом: Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания. Гл. 1. Об интенсивности психологических состояний // Бергсон А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1992. Т. 1.
13 Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992. С. 35.
14 Кульбин Н. Свободное искусство как основа жизни // Аполлон. Книга вторая. СПб., 1995. С. 25.
15 Кручёных А. Новые пути слова //Трое. СПб., 1913. С. 25.
16 Шемшурин А. Футуризм в стихах В. Брюсова. М., 1913. С. 13.
17 Тарабукин Н. Опыт теории живописи. М., 1923. С. 29.
18 Бурлюк Д. Кубизм // Пощечина общественному вкусу. СПб., 1912. С. 97.
19 Россиянский М. Перчатка кубофутуристам // Русский футуризм. С. 165.
20 Гнедов В. Глас о согласе и злогласе // Там же. С. 140.
21 Почему Я не Арочный Сквозь // Там же. С. 153.
22 А. Кручёных определяет заумное творчество как песенную, заговорную и наговорную магию и обличение вещей невидимых, мистических. См.: Кручёных А. Декларация заумного языка. Листовка. Баку, 1921. С. 45.
23 Кручёных А., Хлебников В. Слово как таковое. Рис. К. Малевича. М., 1913. С. 10-11.
24 Теорию «звуковой фактуры» разрабатывает А. Кручёных в работе «Фактура слова» ( М., 1923), предлагая следующую классификацию: а) легкая, нежная фактура - «неголи нежных дум»: б) тяжелая - «табун шагов / чугун слонов»; в) тяжелая и грубая - «дыр-бул-щыл»; г) резкая - «на з-щ-ц»; д) глухая - «дым за дымом, бездна дыма»; е) сухая, дублистая, зубовая - «промолвил дуб ей тут»: ж) влажная - «на ю - плюенье, слюни, юняне и др.». С. 1.
25 Худаков А. Литературная, художественная критика. Диспуты и доклады // Ослиный хвост и Мишень. М., 1913. С. 141.
26 Шкловский В. Заумный язык и поэзия // Русский футуризм. С. 263-264.
27 Якубинский Л. О звуках стихотворного языка // Поэтика: Сборники по теории поэтического языка. Пг., 1919. С. 45.
28 Якобсон Р. Звук и значение // Якобсон Р. Избр. работы. М., 1985. С. 87, 89.
29 Брик О. Звуковые повторы // Поэтика. С. 90-97.
30 Цит. по: Футуристы. Первый журнал русских футуристов. М., 1914. С. 33-34; Четыре птицы. М., 1916. С. 32.
146
31 Там же.
32 Крученых А. 15 лет русского футуризма: 1912-1927. М., 1928. С. 60.
33 Кручёных А. Фактура слова. С. 4.
34 Хлебников В. Из записных книжек // Хлебников В. Собр. произв.: В 5 т. Л., 1928-1933. Т. 5. С. 269.
35 Кручёных А. Ззудо. М., 1922. С. 7.
36 Поливанов Е. По поводу «звуковых жестов» японского языка // Поэтика. С. 31.
37 Я кубинский Л. Указ. соч. С. 49.
38 Вышеславцева С. О моторных импульсах стиха // Поэтика. М.; Л., 1927. С. 49.
39 Шкловский В. Указ. соч. С. 263.
В.Н. Терёхина
ЭКСПРЕССИОНИЗМ И ФУТУРИЗМ: РУССКИЕ РЕАЛИИ*
Типология соотношения экспрессионизма как художественного явления и русского футуризма изучалась еще в 1920-1930-е годы, но до сих пор остается непроясненным элементом истории литературы и искусства XX в.
Сущность экспрессионизма - бунт против дегуманизации общества и утверждение онтологической ценности человеческого духа - была близка традициям русской литературы и искусства, их претензиям на мессианскую роль в обществе, той эмоционально-образной экспрессии, которая характерна для творчества Н.В. Гоголя. Ф.М. Достоевского, Н.Н. Ге, М.А. Врубеля, М.П. Мусоргского,
А.Н. Скрябина. Ощущение неблагополучия жизни, потребность в сверхвыразительных художественных средствах отличали писателей разных направлений - от реализма (Л.Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», 1886; Вс.М. Гаршин «Красный цветок», 1883: М. Горький «Челкаш», 1895) до символизма (А. Белый «Пепел», 1909), акмеизма (М.А. Зенкевич «Дикая порфира», 1912; В.И. Нарбут «Аллилуйя», 1912) и футуризма (В.В. Маяковский «Я», «Трагедия». 1913).
Впервые слово «экспрессионисты» на русском языке появилось задолго до рождения самого термина: в рассказе А.П. Чехова «Попрыгунья» (1892), героиня назвала так художников-импрессиони- стов: «...преоригинально, во вкусе французских экспрессионистов». Литературная группа под таким названием в России была образована И.В. Соколовым летом 1919 г. Предвосхищавшие экспрессионизм произведения возникали на рубеже веков в обстановке системного кризиса, усиленного поражением в русско-японской войне и разгромом революции 1905-1907 гг. «Россия была больна, - писал Александр Блок Дмитрию Мережковскому, - ...все чувства нашей родины превратились в сплошной, безобразный крик, похожий на крик умирающего от мучительной болезни». О том, что “катастрофа близка” и “ужас при дверях”, по словам Блока, оповестил современников Леонид Андреев. Писатель стремился охватить «жизнь
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 02-04-00102а.
148
отдельного человека или явления голода, войны, революции», создать поэтику, отличную от «раздробленности, конкретности натуралистического письма» и «робости приемов символизма». «Пусть будет обнажено не только до мяса, но и до самых костей», - таково творческое кредо Андреева-экспрессиониста. Наиболее ярко новые черты воплотились в рассказе «Красный смех» (1904) — экстатическом произведении, при чтении которого нельзя не почувствовать «неподдельного крика ужаснувшейся и исступленной души, не ощутить себя вовлеченным в вихрь безумного кошмара» (Вяч. Иванов). Рассказ вышел тогда же на немецком языке с предисловием нобелевского лауреата Берты фон Зуттнер (в 1906-1926 в Германии было издано 50 книг Андреева). Постановка пьесы Андреева «Жизнь Человека» (1906), осуществленная В.С. Мейерхольдом в 1907 г. в театре В.Ф. Комиссаржевской, привнесла элементы экспрессионизма на русскую сцену. Режиссер использовал лейтмотив призраков, возникающих из мрака бытия и уходящих в глубь таинственного пространства из серых сукон - впервые форма спектакля создавалась одним светом. Он подчеркивал, что не театр рождает драму, а драма рождает театр. «Я для Вашей пьесы, - сообщал он Л. Андрееву, - разбил вдребезги декорации, уничтожил рампу, софиты, разбил все...». Бросив вызов театру психологическому и символистскому, Мейерхольд создал свой «Условный Театр», утвердил искусство «выражения» как прием, типологически сходный с немецкой экспрессионистской драматургией. В другой постановке «Жизни Человека» (MX Г, 1907) условная сценография В.Е. Егорова приходила в противоречие с реалистической разработкой пьесы, что повлияло также на неудачу других спектаклей по пьесам Л. Андреева - «Анатэма» (1909) и «Мысли» (1913).
Подобно тому, как Андреев «овеществлял» идеи (Некто в сером - судьба, рок) или превращал предметы в аллегории (стена - все, что мешает человеку), Врубель искал пластического воплощения «музыки цельного человека», «интимной национальной нотки», напряженного колорита и жеста. Психологическая острота образа в сочетании с монументальным постижением формы в таких работах Врубеля, как «Демон поверженный», «Портрет В.А. Мамонтова», в графических автопортретах и рисунках (1904-1908), обозначила его «метод творческого искажения». Если позитивизм подобен глазу без взгляда (В.В. Розанов), то освобождение от «оков предметности» ведет к преобладанию «духовного элемента», преображенного бытия. В.В. Кандинский стремился раскрыть зрителю «внутреннюю жизнь картины, дать картине возможность воздействовать непосредственно... И чем менее мотивировано, например, движение внешне, тем чище, глубже и внутреннее его воздействие».
Творчество Скрябина стало одним из источников, питавших созвучные немецкому экспрессионизму синтетические формы искусства, сочетающие возможности слова, цвета, музыки, пластики во
149
имя обнажения сути окружающего и поиска утопического мира. «Иду сказать людям, что они сильны и могучи», - под таким девизом Скрябин утверждал новый тип симфонизма («Божественная поэма», 1904, «Прометей», 1910). Развивая в программе «Поэмы экстаза» (1908) тему воли, Скрябин писал: «Я к жизни призываю вас, /Скрытые стремленья! /Вы, утонувшие /В темных глубинах/ Духа творящего., /Вы, боязливые, жизни зародыши,/Вам дерзновенье /Я приношу!»
Не случайно, Н.Н. Пунин отмечал: «Проблему экспрессионизма можно сделать проблемой всей русской литературы от Гоголя до наших дней, теперь она становится также проблемой живописи. Почти вся русская живопись раздавлена литературой, съедена ею. Экспрессионизмом забиты все углы, художники набиты им, как куклы; даже конструктивизм становится экспрессивным»1.
Существуют по крайней мере два обстоятельства, позволяющие сближать экспрессионизм и футуризм: условность самого термина «футуризм» по отношению к раннему русскому авангарду и наличие экспрессионистской поэтики внутри русского футуризма.
Футуризм - одно из универсальных художественных движений, связанных с порывом к свободному творению новых форм и бунтом против омертвелых канонов классического искусства и «мистических идеалов». Его готовность к непредсказуемому развитию отмечалась современниками как важнейшая черта: «...в футуризме, как в чистом духе Гегеля, заключены все противоположности - и неумолимое нет, и слепительное да»2.
Размышляя о природе и характере культурных трансформаций, об особенностях русского футуризма, Ю.М. Лотман связывал их с взрывным пространством рубежа XIX-XX вв. в России. Чреватый глубокими противоречиями и стремительными преобразованиями строй всей социально-культурной сферы определял одновременность тех процессов, которые в Западной Европе развертывались последовательно. «Русская культура осознает себя в категориях взрыва, - отмечал Лотман. - .. .Даже там, где эмпирическое исследование обнаруживает многофакторные и постепенные процессы, на
150
Обложка книги Г. Марцинского «Метод экспрессионизма в живописи». М., 1923
уровне самосознания мы сталкиваемся с идеей полного и безусловного уничтожения предшествующего и апокалиптического рождения нового»3. Интерпретация этого неоднозначного явления и некоторых аспектов современного научного представления о нем связана, в частности, с разрушением стереотипов деления художественной сферы начала XX в. на реализм, символизм, футуризм и акмеизм.
Особенностью русской ситуации являлось совмещение на коротком отрезке времени разных культурных возможностей. «У искусства путей много», - подчеркивала О. Розанова в манифесте петербургского общества «Союз молодежи» (1913). В 1910-е годы к оппозиции «реализм - символизм» прибавились такие своеобразные явления как будетлянство, интуитивная школа эгофутуризма, словотворчество В. Хлебникова, аналитическое искусство П.Н. Филонова, музыкальный абстракционизм
В.В. Кандинского, заумь А.Е. Кручёных, неопримитивизм и лучизм М.Ф. Ларионова, всёчество И.М. Зданевича, эмоционализм М.А. Куз- мина, музыка высшего хроматизма А.С. Лурье, супрематизм К.С. Малевича и др.
Однако потребность в творческом самоопределении, а также критика символизма и импрессионизма проходили на фоне закрепления за практически всеми авангардными группами общего наименования - «футуристы». Оно шло извне и менее всего отражало поэтику этих разнообразных и разнородных явлений. Известно, что группа «Гилея», возникшая в 1910 г., только летом 1913 г. признала за собой имя футуристов в сборнике «Дохлая луна». Велимир Хлебников отказывался принимать эту кличку, настаивая на имени «бу- детляне». Близкий неологизм использовал Ларионов в названии сборника «Лучисты и будущники». Независимыми от итальянского источника были самоназвания других объединений: «Мезонин поэзии», «Центрифуга», «Всёки», «Союз молодежи», «Леторей». Только Игорь Северянин воспользовался словом «футуризм», но в собственных целях - для образования формулы «эгофутуризм» или «я в будущем», а также в названии Академии эгопоэзии «Вселенский эгофутуризм». По существу, Северянин не интересовался програм-
151
Д. Митрохин. Обложка антологии «Молодая Германия». Харьков, 1926
мой итальянского футуризма, а другой участник группы петер-
СБОРНИ К
И бургских эгофутуристов, И.В. Иг-
IS натьев. склонялся к названию
«Интуитивная школа». Между тем, все подобные группы оказались обозначены одним заимствованным словом - футуризм. Так, неоднородность авангардных групп, очевидная современникам, была замаскирована, и довольно надежно, для потомков.
-**£*****ЛЯ Л М ТЯЯЛ~
rOCyiiKTIENHOE ИЗДАТЕЛЬСТВ*
Обложка сборника
Неустойчивость и недостаточность термина «футуризм» остро чувствовали не только поэты, но и художники. Малевич, показывая на выставке «Союза молодежи» (1913/1914) картину «Точильщик», дал в каталоге пояснение: № 61-66 (заумный реализм), а № 67-72 (кубофутури-
«Экспрессионизм». Пг.; М., 1923 стический реализм) - «Жница» и
отметил № 21-25 - «Содержание картин автору неизвестно». Тем не менее, уже остановившись на им созданном понятии «супрематизм», Малевич продолжал использовать и термин «футуризм». «Мы держимся за название “футуризм” потому, что это слово является для многих флагом, к которому они могут собраться», - отмечал В.В. Маяковский4. «Грядущее обрисует фигуру футуризма во весь рост», - писал он в Революционной хрестоматии футуристов «Ржаное слово» (1918). Футуризм, по мысли Розановой, дал единственное в искусстве по силе, остроте выражения слияние двух миров - субъективного и объективного, т.е. претворенного и реального.
Н.С. Гончарова интуитивно ощущала, что футуризм для русских - «почти не имеет значения, это новый академизм романтического характера» (Письмо к Ф.Т. Маринетти, февраль 1914). Еще ранее она отметила неоднородность, поливариантность в определении футуризма, где «эмоционализм», вероятно, связан с экспрессионизмом: «В Италии... возник футуризм, т.е. иск/усство/ будущего, смесь импрессионизма с эмоционализмом».
Мысль о терминологической условности используемых понятий, их конвенционности высказывалась неоднократно. Гийом Аполлинер в рецензии на выставку произведений художников Наталии Гончаровой и Михаила Ларионова писал: «Это искусство находится в согласии с самыми смелыми дерзаниями, которые предпринимались во Франции... Названия, которые носят различные шко¬
др. На выставке «Трамвай В» он
152
лы, не имеют никакого иного значения, как лишь обозначить ту или иную группу художников или поэтов. Но у всех есть одно и то же желание - обновить наше видение мира и, наконец, познать вселенную»5.
Теоретик Левого фронта искусств С.М. Третьяков также подчеркивал, что в трудное положение попадают все желающие определить футуризм как направление, связанное общностью стиля, приемов обработки материала: «Им приходится плутать беспомощно между непохожими группировками - классифицировать эго и кубофутури- стов, искать раз и навсегда установленных чувствований и связанного с ними канона художественных форм и останавливаться в недоумении между “песенни- ком-архаиком” Хлебниковым, “трибуном-урбанистом” Маяковским, “эстет-агитатором” Бурлюком, “заумь-рычалой” Кручёных. А если сюда добавить “спеца по комнатному воздухоплаванию на фоккере синтаксиса” Пастернака, то пейзаж будет полон. Еще более недоумения внесут “отваливающиеся” от футуризма - Северянин, Шершеневич и иные»6.
Для обозначения новых явлений русская критика использовала самые разные термины и понятия - «импрессионизм», «мистицизм», «романтизм», «синтетизм», «анархизм», «неореализм» и т.п. Андрей Белый считал Леонида Андреева футуристом (до футуризма), Маяковского и Хлебникова - «неосознавшими себя мистическими анархистами».
Безусловно, манифесты итальянских футуристов попали в России на хорошо подготовленную почву и были не единственным источником, питавшим новое искусство. Значительно сильнее и продолжительнее было сотрудничество с французскими кубистами и немецкими экспрессионистами. Но, как ни странно, основы русского футуризма намечались его главными оппонентами - отечественными символистами. Темы города, машинной цивилизации, хаоса жизни воплотились в сложные ритмы и отступления от нормативной поэтики в творчестве Валерия Брюсова, Андрея Белого, Александра Блока.
Поколение футуристов не только выросло в атмосфере символизма, но и получило в наследство от него плодотворные связи с ев¬
Д. Бурлюк. Рис. из альманаха «Дохлая луна». М., 1914
153
ропейской культурой. Именно широкий историко-художественный контекст, в котором формировался русский футуризм, во многом определил его неповторимый облик. Так, если в Италии футуризм был представлен одной группой Маринетти, а в других странах практически исчерпывался литературными выступлениями, то понятие «русский футуризм» включало, как уже упоминалось, целый спектр явлений - от подчеркнуто независимых кубофутуристов до эпигонов из «Мезонина поэзии», от близких к экспрессионизму участников общества художников «Союз молодежи» до лучистов и всёков. Чрезвычайная интенсивность новаторских выступлений, борьба за первенство в открытии перспективных путей определяла накал взаимной, порой уничтожающей, критики. В силу этого манифесты русских футуристов не столько объединяли отдельных участников движения, сколько закрепляли их противоборство и обособленность, тогда как Маринетти видел в манифестах род искусства. Немало отличий существовало в отношении к словесному материалу. Так, «слова на свободе» предполагали создание «цепи аналогий», «серии новых образов», но не изменения словоформ. Словотворческие опыты Хлебникова по склонению корней, заумный язык Кручёных, использование «ноль-формы» в «Поэме конца» Василиском Гнедовым значительно углубляли эксперимент в поэзии.
Русский футуризм был явлением национальным, укорененным в самых разных пластах русской культуры - архаичных, фольклорных, барочных, романтических, модернистских. Создатель философско-эстетической программы кубофутуристов Велимир Хлебников обращался к первобытному синкретизму творческого духа и возвращал словесность к ее истокам. «Словотворчество, - писал он, - враг книжного окаменения языка, и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем»7. Особый интерес к фольклору заставлял критиков писать о том, что «будетлянство не есть футуризм, в то время как последний вовсе отрицает традицию, будетлянство есть новотворчество, вскормленное великолепными традициями русской древности»8. Футуристические попытки борьбы с нормативным языком были связаны с «освобождением слова» (Б. Лившиц), с «взрывом языкового молчания, глухонемых пластов языка» (В. Хлебников), с поиском «человечьего слова» (В. Маяковский). Так, в «Письмах о русской словесности» Н.С. Гумилев отметил теоретические исследования и своеобразные стихи Хлебникова: «Очень чувствуя корни слов, Виктор Хлебников намеренно пренебрегает флексиями, иногда отбрасывая их совсем, иногда изменяя до неузнаваемости. Он верит, что каждая гласная заключает в себе не только действие, но и его направление: таким образом, бык - тот, кто ударяет, бок - то, во что ударяют; бобр - то, за чем охотятся, бабр (тигр) - тот, кто охотится и т.д. Взяв корень слова и приставляя
154
к нему произвольные флексии, он создает новые слова: так, от корня “сме” он производит смехачи, смеево, смеюнчики, смеянствовать и т.д. Он мечтает о простейшем языке из одних предлогов, которые указывают направление движения. Такие его стихотворения, как “Смехачи”, “Перевертень”, “Черный любирь”, являются в значительной мере словарем такого возможного языка»9.
Внутри русского футуризма главенствовали две тенденции - романтическая (содержательная, экспрессивная) и конструктивная (заумная, беспредметная). В декларациях и творческой практике обнаруживался широкий спектр программных, стилеобразующих и тематических признаков иных художественных движений, одни из которых воспринимались как противостоящие (натурализм, символизм), другие, не успевшие обрести целостные формы, существовали внутри футуризма на уровне тенденций (экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм). Именно в сфере тем и мотивов экспрессионизм оказывался ближе символизму, в разработке формальных сторон творческого процесса - футуризму. «Футуризм помог экспрессионизму», - признавал О. Вальцель10. К. Эдшмид считал внимание к лексике и синтаксису специфической чертой литературного экспрессионизма.
Новое русское искусство было на первом этапе, в 1910-1914 гг., многообразно связано с немецким экспрессионизмом, прежде всего через художников мюнхенского объединения «Мост» и «Синий всадник» - В.В. Кандинского, А.Г. Явленского, с которыми сотрудничали братья Бурлюки, Н.И. Кульбин, М.Ф. Ларионов, М.А. Куз- мин и др. Важно отметить одновременное знакомство русских и немецких новаторов с трактатом Кандинского «О духовном в искусстве» (1910) и публикацию его текстов в программном сборнике московских кубофутуристов «Пощечина общественному вкусу» (1912). Эстетическое кредо близких экспрессионизму русских художников было выражено Д.Д. Бурлюком в статье «“Дикие” России», напечатанной в альманахе «Синий всадник» (Мюнхен, 1912). С поэзией немецких экспрессионистов русских читателей познакомил А.С. Эли- асберг, опубликовавший в 1911-1914 гг. на страницах «Русской мысли» семь обзорных статей.
Русским футуристам были близки исходные моменты экспрессионистского сознания: раскрепощение индивидуума, критика обыденности, утопизм, позиция поэта-пророка, а также стремление расширить сферу искусства за счет презираемых прежде видов массовой культуры, политических штампов, городского фольклора. В разной степени это проявлялось в творчестве В. Хлебникова, В.В. Маяковского, Д.Бурлюка, Б.Л. Пастернака. Так, Йозеф фон Гюнтер, сотрудничавший в 1910-е годы в журнале «Аполлон», относил к экспрессионистам почти всех, «преодолевших символизм», прежде всего футуристов. При встрече с В.Я. Брюсовым, по его словам, «разговор перешел на русский экспрессионизм, называемый русскими футуризм». Л. Маттиас
155
считал: «...Брюсов в русской литературе является тем же, чем Генрих Манн у нас. Маяковского же можно сравнить с Иоганнесом Бехером»1 К
В годы мировой войны и революционных преобразований отдельные проявления экспрессионизма концентрировались и возникали новые как последствия «революционно-духовной волны» (А. Белый). Как и в Германии, «поэты снова превращаются из созерцателей в исповедников». Хлебников написал сверхповесть «Война в мышеловке». Маяковский в поэме «Война и мир» восклицал: «Слышите! / Каждый, / ненужный даже, / должен жить». В серии литографий Н. Гончаровой «Мистические образы войны» (1915), в альбоме линогравюр О. Розановой «Война» (1916) с текстами А. Кручёных запечатлелся взгляд русского человека на мировую бойню. Маяковский в 1915 г. утверждал: «Футуризм умер как идея избранных. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите вместо погремушки шута чертеж зодчего и голос футуризма, вчера еще мягкий от сентиментальной мечтательности, выльется в медь проповеди».
Активизация радикальных тенденций после 1917 г. привела к попытке соединить идеи социальной революции с творческим экспериментом: «В государственную систему управления вошли носители живой художественной культуры России, привыкшие обычно противопоставлять себя власти и вошли как власть» (А. Эфрос). В 1918-1919 гг. с Наркомпросом сотрудничали Маяковский, Кандинский, Малевич, Татлин, Розанова, Лурье, Шагал и др. В «Приказе по армии искусств» (1918) Маяковский требовал: «Товарищи! На баррикады! - баррикады сердец и душ». На страницах «Газеты футуристов» и «Искусство коммуны» разрабатывались понятия «Революции Духа», «Интернационала искусств». Были направлены обращения к германским художникам с призывом к «взаимному общению и обмену творческой мыслью в области последних художественных достижений». Ответные письма поступили от группы радикальных художников «West-Ost», от баденской «Организации изобразительных искусств», от берлинской «November-Gruppe». В манифесте «Ноябрьской группы» (1920) говорилось: «Будущее искусства и
С. Спасский. Обложка сборника «Московский Парнас».
М., 1922
156
серьезность настоящего часа заставляет нас - революционеров Духа (экспрессионистов, кубистов, футуристов) объединиться».
Н.Н. Пунин отмечал: «Экспрессионизмом больны многие мои современники; одни - бесспорно: Кандинский, Шагал, Филонов; теперь - Тышлер и Бабель;
Пастернак, написавший “Детство Люверс” - кусок жизни, равный прозе Лермонтова, всегда томился в горячке экспрессионизма;
Мандельштам, когда он напрасно проходил свой “пастернаков- ский период”, экспрессионистичен Шкловский в традициях Розанова, ранний Маяковский - поэт, Мейерхольд, Эренбург, теперь еще Олеша; чем дальше, тем больше, многое в современной живописи, той, которая съедена литературой, налилось и набухло экспрессионистической кровью»12.
Здесь становится очевидным основной конфликт художественного развития 1920-х годов - противоборство интуитивизма и рационализма, или экспрессионизма и конструктивизма. Эта двойственность характерна для всего движения футуризма. Конструктивизм, целесообразность, коллективизм побеждали и вытесняли нервные субъективные порывы как постыдную слабость.
Наиболее отчетливо поэтика экспрессионизма прослеживается в творчестве одного из общепризнанных футуристов - Владимира Маяковского. Это созерцание своей жизни как трагедии, в которой поэт выступает в роли Тринадцатого апостола, «глашатая грядущих правд», низвергающего богов во имя человека и вселенской гармонии. Он - Человек просто и в то же время он - «великое чудо XX века». Гиперболизация чувств и образов, профетические мотивы широко распространились в произведениях Маяковского (от трагедии «Владимир Маяковский», 1913 до «Пятого Интернационала», 1922 и «Про это», 1923). Своеобразие творческого пути Маяковского в 1913-1923 гг. не могло быть вполне раскрыто в рамках традиционного сопоставления с футуристической доктриной или понятиями революционного романтизма. В это десятилетие формальные эксперименты в области стихосложения сочетаются с глубоко содержательным утверждением самоценности человека («Я», 1913; «Человек», 1917), его анархического бунта против государства, филистер-
Н-ЦЕРУК&ВС КИН
Л. Попова. Обложка книги Н. Церукавского «Соль земли». М., 1922
157
ской морали, религиозных догм («Облако в штанах», 1915), против бессмысленной войны («Война и мир», 1916). Все это можно назвать знаками отличной от футуризма, выходящей за его рамки поэтики. Мотивы одиночества героя, его заброшенности в чуждый мир («Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека») не соответствовали воспетой итальянским футуризмом агрессивности и брутальности. Экстатическое утверждение «немыслимой любви» («Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа») противоречило программному презрению футуристов ко всему женскому.
По существу все творчество этого периода - создание самоценного «Евангелия от Маяковского», развертывание мечты о Новом Человеке, свободном, любящем, творящем: «Как же мне себя не петь, если весь я - сплошная невидаль... Бога самого милосердней и лучше». Оптимистические пророчества соседствуют с трагическими мотивами, образами распятия («на кресте из смеха распят замученный крик», «гвоздями слов прибит к бумаге я»). Миф о Человеке- Боге венчается поэтическим предвиденьем: «И он, / свободный, / ору о ком я, / человек - / придет он, / верьте мне, / верьте!»
В отличие от «заумного» направления в русском футуризме, близкого к дадаизму, поэзия Маяковского характеризуется не разрывом связей с миром или обнажением их алогизма, но, напротив, усилением напряженности этих связей и достижением крайней степени их выразительности: «Людям страшно - у меня изо рта / Шевелит ногами непрожеванный крик». События общественной жизни и драматические перипетии любви и ревности обостряли ощущение мирового разлада. Поэт чувствовал, что война «не только изменит географические границы государств, но и новые мощные черты положит на лицо человеческой психологии». Его убеждение - нужно не писать о войне, нужно писать войною - воплотилось в мятежном пацифизме поэмы «Война и мир»: «Никто не просил / чтоб была победа / родине начертана. / Безрукому огрызку кровавого обеда / на чёрта она?!».
Устремляясь к «грядущей жизни без наций и войн», Маяковский приветствовал Революцию, объявившую мир народам. Своим примером он призывал поэтов и художников нести искусство в жизнь: «Улицы - наши кисти. Площади - наши палитры» («Приказ по армии искусств», 1918). Он создал своеобразный тип агитационно-производственного искусства, открытая политическая направленность которого сближалась с деятельностью радикального крыла немецких экспрессионистов - активистов. В 1919-1921 гг. Маяковский работал над плакатами «Окон Роста», сделал около 3000 рисунков и 6000 подписей к ним. Франц Юнг в журнале «Arbeiter Literatur» (Wien, 1921, № 1), говоря о своеобразии нового русского искусства, связывал его не только с революционной ситуацией в России, но «в основном с личностью самого Маяковского, его выдающимся
158
В. Бурлюк. Рисунок из альманаха «Весеннее контрагентство муз». М., 1915
поэтическим дарованием и его умением создать школу из самого себя». Тогда же впервые А.В. Луначарский сопоставил творчество Маяковского с экспрессионизмом в статье «Несколько слов о германском экспрессионизме» (1922). Он отмечал, что это явление «совершенно параллельное, скажем коммунистическим пьесам тов. Маяковского. Однако, я думаю, - подчеркивал Луначарский, - что Маяковский в своей «Мистерии-буфф» в несравненно большей мере экспрессионист, чем это можно предположить, не зная, что такое экспрессионизм. Экспрессионисты должны признать Маяковского своим родным братом. Из всех русских поэтов-футуристов, которые к экспрессионизму довольно близки вообще, Маяковский наиболее к ним близок, и, вероятно, переводы сочинений Маяковского обеспечат за ним почетное место среди поэтов-экспрессионистов Германии»13. Так, частью экспрессионистского искусства стали стихи Маяковского - «Левый марш» (Die Action. Berlin, 1921,N 41/42, перевод Йозефа Кламера, положен на музыку Хансом Эйслером), поэма «150 000 000» в переложении Иоганнеса Бехера и оформлении Джона Хартфильда (1924). Пьеса «Мистерия-буфф» была поставлена для делегатов 3-го конгресса Коминтерна с прологом на немецком языке (1921). Рецензент журнала «Arbeiter Literatur» (Wien, 1924,
159
№ 5/6. S. 231) назвал поэму Маяковского «150 000 000» программой поэзии завтрашнего дня.
В стихотворении «Германия» (1922), опубликованном в переводе И. Бехера в том же журнале, Маяковский сочувствуя немецкому народу, посвящал ему «песню рабочих»: «Что ж, и ты и я - мы оба нищи, - у меня это лучшее из всего, что есть». Эти стихи Маяковского близки своим пафосом картине Г. Гросса «Германия. Зимняя сказка» (1918), где на живописное полотно, как знаки времени, были наклеены хлебные карточки (ср. у Маяковского: «этой песней счета с голодом не свесть») и вырезка из путеводителя («Я давно с себя лохмотья наций скинул...»). Оба произведения восходят к политической поэзии Г. Гейне («Германия. Зимняя сказка»), переосмысленной в духе экспрессионистской образности.
Футуризм в начале 1920-х годов был для Маяковского обозначением того сообщества новаторов искусства, к которому он себя причислял: Ф. Иванов в книге «Красный Парнас» отмечал, что в недрах футуризма сложился утопический пафос в содержании и гротескноэмоциональная манера письма, называемая экспрессионизмом14. Среди записей Маяковского есть тезис, соединяющий мировосприятие поэта с программой экспрессионистов: «Я есть человек - эго подход» (1922).
С немецким экспрессионизмом Маяковский встретился осенью 1922 г. во время поездки в Германию и Францию. Он отмечал его широкое распространение в изобразительном искусстве: «В живописи главное место занимает в Берлине экспрессионизм, но при ближайшем рассмотрении знаменитейшими художниками его в Германии оказались...русские - Шагал и Кандинский. Единственный талантливый немец - Дикс». Маяковского заинтересовала графика Георга Гросса, с которой он познакомил своих товарищей по Левому фронту искусства (Н. Асеев посвятил «карандашу тов. Гросса» стихи «Война с крысами» - Леф, 1923, № 2). В очерках «Семидневный смотр французской живописи» (1922) Маяковский писал о том, как «жили и умирали» художественные школы: «Париж приказывал: “Расширить экспрессионизм! Ввести пуантилизм!”. Последней модой является «всеотрицающее и всеутверждающее “да-да”». На выставке германского искусства в Москве (1924) Маяковский отметил, что «экспрессионистический анархизм» невольно нравится художникам. Будучи в Польше в 1927 г., он назвал художника А. Про- нашко «знаменитым экспрессионером». В литературе он выделял «революционно-мистическую группу» экспрессионистов (Г. Кайзер, Э. Толлер), чья драматургия, по его наблюдениям, созвучна пьесам Луначарского. В музыке И.Ф. Стравинского он ощущал «возрождение барокко», что сближало ее с готическими, гротескными чертами искусства экспрессионизма. Маяковский во многом разделял взгляды И. Голля, изложенные в статье «Сверхдрама» (1919): «Человека и вещи нужно показывать в возможно более обнаженном ви¬
160
де, причем для достижения наибольшего эффекта еще и через увеличительное стекло. Люди совсем забыли, что сцена и есть не что иное, как такое увеличительное стекло». Маяковский, в свою очередь, поместил на сцене театра Мейерхольда во время исполнения своей пьесы «Баня» (1930) лозунг: «Театр / не отображающее зеркало, / а - / увеличивающее стекло»15.
В первые послереволюционные годы Маяковский ощутил кризис идеи мировой революции: «Капут Октябрю! Октябрь не выгорел!» Эти настроения отразились в неоконченной профетической поэме «Пятый Интернационал». Поэт пророчествует Третью революцию - Революцию Духа. Осуждая мещанское соглашательство, он зовет к прорыву в будущее, отождествляет себя с фантастическим существом - Людогусем. В поисках источников духовного преображения поэт вновь обращается к теме любви в поэме «Про это», написанной «по личным мотивам об общем быте». Ее герой отчужден от своей среды, настолько, что становится медведем, плывущим на подушке-льдине. Он видит себя в образе Человека из-за семи лет - героя поэмы «Человек». Его схватка с «ушедшим рабьим» в людях трагична - «на Кремле поэтовы клочья сияли по ветру красным флажком». Поэт - «любви искупитель» жертвует собой во имя грядущего воскресения, «чтоб вся на первый крик: - Товарищ! - оборачивалась земля». В сфере «душевной экзальтации» с особой силой и напряженностью выявились черты экспрессионистской поэтики: переживание на грани бессознательного («мне лапы дырявит голоса нож», «гвоздями глаз, ёжью кожи»), сплетение яви и сна («пусть бредом жизнь смололась»), экстатические порывы («Я только стих, я только душа»). После поэмы «Про это», завершившей экспрессионистское десятилетие Маяковского, он все более последовательно переходит к выполнению социального заказа и достигает высокого мастерства в трактовке общественно значимых тем («В.И. Ленин», «Хорошо!», «Клоп», «Баня»).
Если поэтика экспрессионизма проявлялась в творчестве сложившихся писателей как дополнительный элемент, обусловленный общественно-культурной ситуацией и личным опытом, то для молодых поэтов она казалась универсальным способом самовыражения и самоутверждения. Возникшая в 1919 г. группа поэтов Ипполита Соколова использовала это «незанятое», но близкое по духу название для обозначения своей программной цели - синтеза всех ветвей футуризма. Более того, экспрессионизм наряду с футуризмом рассматривался как эквивалент большого стиля, способного вобрать всю пестроту послереволюционных литературно-художественных объединений. В.М. Фриче писал в статье «Октябрь в поэзии» о возможности «объединить все новейшие течения в нашей поэзии - футуризм, кубизм, центрофугизм, имажинизм, эвфонизм, экспрессионизм - под одним общим названием «футуризм», - а это не только можно, но и должно делать, ибо это все разные фракции единого направления...»16
6. Русский авангард
161
Объявляя о создании собственной литературной группы, И.В. Соколов сформулировал се задачи в «Хартии экспрессиониста», где определил свой экспрессионизм как синтез всего футуризма: «Только мы, экспрессионисты, сможем осуществить то, что не смогли осуществить футуристы: динамику нашего восприятия и динамику нашего мышления»17. Для достижения этой цели требовалось «вытравить все те принципы старого стихосложения, которые считались незыблемыми от Гомера до Маяковского», перейти к новой системе, построенной по «строго математическим схемам 40-нотного ультрахромати- ческого звукоряда и-е-а-о-у». создать полистрофику и высшую эвфонию (благозвучие). Программный лозунг был рассчитан на эпатаж: «Экспрессионизм, черт возьми, будет по своему историческому значению не меньше, чем символизм или футуризм».
Очевидно, выполнение столь важной миссии требовало философской подготовки. В книге «Бедекер по экспрессионизму» Соколов признавался: «Моя первоначальная теоретическая схема экспрессионизма как исключительно синтеза всех достижений четырех течений русского футуризма, давно оказалась для нас узкой. Экспрессионизм как течение под знаком максимума экспрессии не будет одним синтетизмом, а будет еще и европеизмом и трансцендентиз- мом»18. Его соратник, поэт и художник Б.С. Земенков, также утверждал: «Мы вышли из пещеры логически возможного. Только формы духовные нам нужны...»19 Наметившийся поворот от вопросов обновления стиха к мировоззренческим проблемам, к мистическому истолкованию реальности связан в известной мере с работой теоретика немецкого экспрессионизма Казимира Эдшмида «Экспрессионизм в литературе и новая поэзия», о русском издании которой в переводе Теодора Левита сообщалось в книге «Бунт экспрессиониста» (не состоялось).
Соколов подчеркивал, что русские экспрессионисты начинали выступать в полной изоляции от «заграничного экспрессионизма»: «Мы узнали о возникновении и успехе экспрессионизма в Германии, Австрии, Чехии, Латвии и Финляндии» только весной 1920 г. Зна-
162
Д. Бхрлюк. Рисунок из альманаха «Весеннее контрагентство муз». М., 1915
комство с одноименными группами не разочаровало Соколова в состоятельности собственной программы, напротив, прибавило уверенности в том, что его группа может стать частью «всеевропейского течения». Но европеизм его порой сводился к элементарному: «...через 10-15 лет все Бальмонты и Брюсовы вымрут, как вымерли все хандрозав- ры. Они вымрут - и, рассуждая совершенно объективно, кто-то должен их сменить по самым простым законам биологии»20.
Отличительное свойство экспрессионизма - повышенную выразительность - Соколов распространял на всех мировых гениев.
Таким образом, в основе его «трансцендентизма-ноуменализ- . ма», как сообщалось в листовке «Ренессанс XX века», оказалось учение Анри Бергсона, «алогизм китайских таоистов, мудрость древнеиндусских вед, внутренний опыт оккультистов, Блаватской, антропософов Р. Штайнера, А. Белого, мистицизм Соловьева». Это миропонимание Соколов называл не теоретическим, не этическим, а психофизиологическим, инстинктивным, исходящим из тех же «законов биологии», что и европеизм.
Несмотря на явный эклектизм декларации Соколова привлекли внимание молодых писателей, позволили объединиться вокруг инициатора их и представлять экспрессионизм на вечерах «чистки поэтов», на «смотрах всех поэтических групп», и, что особенно важно, среди 200 издательств, зарегистрированных в 1922 г. в Москве. Действительно, небольшие, малотиражные книжки выходили в эфемерных издательствах под марками «Сад Академа», «Ренессанс XX века», «Орданс» (Сандро), «Фаршированные манжеты. - Холодно. - XX век», «0,21 XX века РСФСР» и др.
Начиная с весны 1920 г. в группу экспрессионистов помимо Соколова и Земенкова входили Г.А. Сидоров-Окский, С.Д. Спасский, Б.М. Лапин, Е.И. Габрилович.
Однако литературная деятельность группы занимала довольно скромное место. И. Соколов вполне выразился в своих манифестах: «Теперь, когда мы, экспрессионисты, швыряем свои лозунги, как ручные гранаты, развертывается богатое и интересное движение, какое не знала русская поэзия со времен раннего футуризма».
А
I. Iipunm. 1 hunnii. I. (nun.
0,21 XX ВШ.
р. с. ♦. с. р.
Обложка сборника «А». М., 1921
6*
163
«Ведун русского экспрессионизма» Земенков находил ценность произведения в чистоте имманентной формы: «Единственная экспрессионистическая вещь рук человеческих - танк, ибо форма его и окраска суть ферменты страха. Возможно, что борьба в грядущем будет производиться зрительным и звуковым образом».
В целом, эти поэты были экспрессионистами с «имажинистской доминантой». В полемических выступлениях они пытались дистанцироваться от Шершеневича, от имажинистов, на практике Земенков объединялся с Шершеневичем (сохраняя за собой определение «экспрессионист») в книге «От мамы на пять минут» (1920), Гурий Сидоров печатал «Ялик» в издательстве «Имажинисты», а Соколов назвал последний из своих теоретических трудов «Имажисти- ка» (1922), проследив в нем с помощью статистического анализа эволюцию образной системы русского стиха от А.Д. Кантемира до В.Г. Шершеневича.
И. Соколов, заявлявший о рождении экспрессионизма в его голове, в конце 1922 г. пришел к выводу о том, что «экспрессионизм везде: в мышлении, искусстве, технике, быте, в походке, в жестикуляции, в манере говорить, в обстрижке ногтей». Но воспользоваться этим открытием не удалось. Группа экспрессионистов была немногочисленной, непостоянной по составу и распалась к 1923 г., не осуществив своей программы.
Кроме обозначенной нами как «имажинистская», в рамках группы экспрессионистов существовала иная, «центрифугистская доминанта», представленная произведениями Спасского, Лапина и Габриловича. Вместе с Соколовым они составили наиболее интересный сборник произведений, получивший обобщающее название «Экспрессионисты» (М., 1921). Однако открытием сборника стали первые опыты Лапина и Габриловича. Единственное стихотворение шестнадцатилетнего Лапина «Пальмира» привлекало богатым интонационным рисунком, сгущенной образностью. Внутренняя обособленность от литературных канонов проявилась в рассказе Габриловича «ААТ». Это некое «синтетическое действие» с элементами потока сознания, монтаж фрагментов текста, рассеченных пояснениями-титрами: «Сдвиг», «Краткое отходящее», «Заставка». Пограничный между прозой, стихом и коллажем, текст стал дебютом будущего мастера кинопрозы.
В предисловии к вышедшему в мае 1922 г. сборнику «Молния- нин» Лапин писал: «Лирики глас раздается лишь с тех вершин, где сияют пленительные и нетленные имена наших дядюшек: Асеева, Аксенова, Bechera, Боброва, Ehrensteina, Пастернака и Хлебникова. Коими ныне почти исчерпывается светлый мировой экспрессионизм»22. С еще большей определенностью соединялась поэзия «Центрифуги» и немецкого экспрессионизма в альманахе «Московский Парнас-2» (о 1-м выпуске сведений нет).
На страницах альманаха можно было познакомиться с образцом прозы немецких экспрессионистов («Похороны Альфреда Лихтен¬
164
штейна» Виланда Герцфельде) и рассказом Лапина и Габриловича «Крокус Прим», в котором схожие приемы - контраст и фрагментарность - применены вполне профессионально.
Лапин отстаивал искусство немецких романтиков в полемике со сторонниками утилитаризма, «комфута и конструкции».
Сохраняя имя экспрессиониста и на страницах «Второго сборника стихов» Союза поэтов, он выступал против другой ветви футуризма, эволюционировавшей в область идеологии и политики, создававшей псевдопартийную организацию «коммунистов-футури- стов» (комфут) и производственное искусство. Один из теоретиков этого направления Б.И. Арватов в статье «Экспрессионизм как социальное явление» высказывался против субъективности и общественной бесполезности этого, по его убеждению, буржуазного искусства. Лапин, предвидя обвинения в нефутуристичности и, по-видимо- му, отвечая Арватову и «местным эстетам из брик-а-брака», иронично отмечал в предисловии к своему сборнику «1922-я книга стихов»: «Жизнь в поэзии, завещанная нам Отцами Мира через Жуковского и Новалиса, выродилась в фокусничество и актерство. Трудноплюй- ство достигло высокой степени экспрессии». Всему этому он противопоставил свой символ веры: «О отцы мои в искусстве / Тик, Брен- тано, Эйхендорф...»23
Таким образом, Лапин стал наиболее талантливым и последовательным выразителем мировосприятия и стиля московских экспрессионистов. Парадоксален был их путь - от выбора самоназвания, лишь отчасти соотносившегося с известным культурным феноменом, к серьезному постижению его эстетики на фоне глубокой романтической традиции и пристального внимания к немецкому экспрессионизму.
Фуисты составляли небольшую, слабо организованную группу, они ставили перед собой задачу обогатить «исчерпанную стихию слова вчерашнего и слова завтрашнего» экзотическими образами и ритмами: «И не к, а от исчерпанных горизонтов Азии с испепеленными ресницами и выпитыми губами». Начиная с 1921 г. фуистами себя называли Борис Перелешин, Николай Тихомиров, Борис Несмелое, Николай Лепок, Александр Ракитников.
Наиболее последовательным из них был Перелешин, первая книга с участием которого, а также Тихомирова и Несмелова, «Четвертый год», появилась в 1921 г. в Томске и вряд ли была замечена критикой или читателями при тираже 550 экземпляров. Однако помешенный здесь отрывок из поэмы Б. Перелешина «Очарование Зимы», в котором звучными шестистишиями повествуется о дне Февральской революции, говорил о таланте поэта «бронзового поколенья». В стихотворении «Под молотом» возникает образ «поэта- рабочего», но не по-маяковски оптимистичного, а «поэта греха», терзаемого «злой тревогой»: «...вечно будешь железо мысли / рвать и ковать станком стиха».
165
* Дальнейшее ученичество Б. Перелешина у имажинистов и поэтов «Центрифуги» отразилось в стихах из московского сборника «А» (1921), в котором участвовали также А. Ракитников и И. Соколов. Сгущение физиологических мотивов («из живота стрелка по телу чертит», «баррикада ребер», «болото кишечника») у Перелешина сближается с «Убиением плоти» А. Ракитникова и «Апокалиптическим чудовищем» И. Соколова.
Выступление на столичной арене в союзе с экспрессионистами во многом определило дальнейшую эволюции фуистов. «Пусть не сетуют, что в холодной Московии, вместо всеобщей равной и явной мозговой засухи, мы - оказывается - всерьез и надолго утверждаем поступь мозгового ражжижа», - заявлял Б. Перелешин в предисловии к своей книге «Бельма Салара». В условиях сосуществования десятков поэтических групп фуисты сближались с экспрессионистами и ничевоками, вступая в полемику с «отплывающими кораблями символизма», с «Опоязом или обществом мозговой засухи». В предисловии к сборнику «Диалектика сегодня» Перелешин писал о том, что нэп «съел поэтов»: «Ни зги на российских эстрадах, продавленных / копытами всевозможных имажинистов. / Каменная пустыня достиховья».
Другой фуист, Несмелое, считал трагедией современного поэта то, что «его утопию в редакции “Известий" не отличат от репортерского отчета», от «рурской оккупации» и «унылого фона всеобщей электрификации», ибо «в борьбе с пространством инженерами случайно задавлен щенок времени».
Подобно экспрессионистам Несмелое хотел противопоставить рациональности «карманников поэзии» во что бы то ни стало рассказ о себе. Фантазия питает его парадоксальную образность, начиная от заглавия книги - «Родить мужчинам» - (1923), до отдельных тропов поэмы, связанных с известным стихотворением Давида Бур- люка «Мне нравится беременный мужчина...» Тогда же «выдумщик Бурлюк», находясь в Америке, предпринимал попытки издать в Берлине книжку своих стихов «Беременный мужчина» (не состоялось). Деятельность фуистов также прекратилась после 1923 г.
Помимо московских групп с экспрессионизмом была связана петроградская группа эмоционалистов Михаила Кузмина. Возникшая в конце 1921 г., она продолжала появляться на афишах до 1925 г. В ее состав входили писатели К.К. Вагинов, А.Д. Радлова, А. Пиотровский, Ю.И. Юркун, Б.В. Папаригопуло, драматург и режиссер
С.Э. Радлов, художник В.В. Дмитриев. Группа выпустила три номера альманаха «Абраксас», название которого происходило от гностического символа.единства мирового пространства, времени и духа.
Сложная ассоциативная связь творчества эмоционалистов с определенными философскими и художественными традициями составляла их подлинное своеобразие.
Отмечая в 1-м выпуске альманаха, что «кофейный период» литературы миновал и все течения - имажинисты, экспрессионисты,
166
БОЛЬШАЯ АУДИТОРИЯ
Вее«нс**и
29
Но««г»
ВСЕРОССИЙСННЙ союз поэтов.
Вступительное слово-
про* Г. Я. ШЕНГЕЛИ.
УЧАСТВУЮТ ПОЭТЫ:
СИМВОЛИСТЫ
Андре# Белы#, Ю. Верховом#, 3. Левонтин, и. иовняов, И. Руиамшиааов, г. Чулиов.
АЕНБ1СТЫ
N. Зенкевич, N. Минаев, П. Скосырев.
1МАЖ|ИСТЫ
А. Мариенгоф, М. ГЧНГжаи, В. Шершвиевич.
Ф9ТЯНСТЫ
К. Большаков. А. Крученых.
я Е Ф
Н. Асеев. В. Каменский.
В. Буткпма, N. Гальперин, В. ГяляровсинВ, Г. Дейлом, N. Захарои-Муиам#, 0. Леонидов, N. Лианин, L Сокол.
КОНСТРУКТИВИСТЫ
Б. Агапов, И. Аксенов, В. Иибер, И. Сельвински#, Д. Туманный.
шогомшш
N. Адуев, П. Антокольский, Арго.
НОШЕН ПАРНАС
Б. Лапин, Н. Церунавскн#, В. Нонина.
Р. Рок.
ДР. ГРУППЫ I ВНЕ ГРУПП
Р. Акульими, Д. Альтауген. 3. Багрицкий, И. Бекар, N. Грузмюв. Р. Ваяаев, С Городецкий. С Есенин, в. твтиййгипП Земениов. В. Каям, В. Кириллов, С Клычиов, Грицко Но л я да, И. Кугу, иева, N. Канухина. С Мар, Т. Мачтет, N. Иали- ■вврма, а. Надь, В Наседкин, я Нлкояьсиак. N. Нитронов. А. Оленин, К Савмнн. Н. Светлов, н. Хорииов, А. Чичерш, г. Шемгели. г Шебуев
' В1310Н1СТЫ
Адалис, Н. Береигоф, Б. ЗуБакая, а Плст.
НАЧАЛО В 8 ЧАС ВЕЧЕРА.
Бысти •» ВО ж. м 2 щб ВО т. ipwamtc Вегумо. Б (г I f до •’ не.) ■ • Полтгиютм *д.и*е '■игнем» е 1! я $ яс л«
£ Otwren. АЗО-Р. Т. 0.
Афиша вечера «Поэзия наших дней». М., 1922
фуисты, ничевоки - умерли, эмоционалисты представляли образцы своего понимания нового искусства. Декларацию помимо автора, М. Кузмина, подписали А. и С. Радловы, Ю. Юркун, провозгласившие: «Сущность искусства - производить единственное, неповторимое эмоциональное действие через передачу в единственно неповторимой форме единственно неповторимого эмоционального восприятия»24.
Эмоционалисты ценили такие черты экспрессионистской поэтики, как «выход из общих законов для неповторимой экзальтации, экстаза»; феноменальность человеческого, приоритет эмоционального способа познания мира, когда художник имеет дело с «неповторимыми эмоциями, минутой, случаем, человеком». Эмоционалист, таким образом, отвергает каноны, признает только «феноменальность и исключительность», лишь «интуитивный безумный разум» служит путеводителем художественной мысли, а логика допускается в «эмоционально измененном виде».
Высокая оценка немецкого экспрессионизма содержалась в статьях Кузмина «Пафос экспрессионизма», «Эмоциональность как основной элемент искусства», «Стружки». По убеждению Кузмина экспрессионизм привлекал протестом против «внешних летучих впечатлений импрессионизма, против духовного тупика и застоя довоенной и военной Европы...».
Именно в открытой эмоциональности Кузмин увидел способ противостоять обезличиванию человека, превращению его в «колесико и винтик» тоталитарного государства. Вот почему созерцательности акмеизма, собственным теориям «кларизма» (прекрасной ясности) он предпочел в новых условиях экстатический порыв и крайнюю субъективность. «Как прокричать во все глухие уши: это человек - не машина, не цифра, не двуножка, а человек? Экспрессионисты, - пояснял Кузмин, - в подобных случаях прибегают к самым резким, низменным, отвратительным доказательствам. Смотрите: у меня дрожит веко, я заикаюсь, я страдаю дурной болезнью, несварением желудка, припадками лихорадки, лицо мое перекошено - я человек, поймите, - я человек»25.
Но обращаясь к экспрессионистской эстетике, Кузмин прежде всего опирается на собственную практику, отразившуюся в книгах «Параболы: Стихотворения 1921-1922» (М.; Б., 1923) и «Форель разбивает лед: Стихи 1925-1928» (Л., 1929). Например, в «Одиннадцатом ударе»:
«- Ты дышишь? Ты живешь? Не призрак ты? / - Я - первенец зеленой пустоты. / - Я слышу сердца стук, теплеет кровь... / - Не умерли, кого зовет любовь...»
Эмоционалисты воспринимали стих как «тело живое, сердцами сотворенное» (К. Вагинов), вводили в текст элементы дневника, переписки, достигая «новых сдвигов духа», как характеризовал Кузмин прозу Юркуна. Частное, дневниковое в этом случае переводит¬
168
ся в статус феноменального, происходит болезненный процесс защиты живого: «Страшно жить мертвецу среди живых, страшно быть человеком страны умершей». Типологически эти мотивы сближались с пафосом итоговой книги немецкого экспрессионизма «Сумерки человечества», в названиях отдельных глав которой выражен тот же круг идей: «Крушение и крик», «Пробуждение сердца», «Призыв и возмущение», «Люби человека».
Одним из близких себе творцов эмоционалисты считали Веле- мира Хлебникова. В первом номере альманаха «Абраксас» в октябре 1922 г. было напечатано письмо Хлебникова Кузмину - своеобразный автонекролог: «Я сижу, кусаю губы и не знаю, что мне делать: разделить ли поровну свои богатства между уксусной эссенцией и бумагой для последнего письма, или же послать кому-то грозный вызов, грозное объявление войны на жизнь и смерть. Воображаю, что это кусание ногтей продолжится и за гробом, если я только притворюсь мертвым, а мне поверят!...» Парадоксально, но эти черты, свойственные и экспрессионистской поэтике, выделили эмоционалисты в своей декларации.
В 1920-е годы контакты между представителями русского и немецкого экспрессионизма, начавшиеся в довоенное время и прерванные в годы войны, были многообразны. Обращаясь с приветствием к художникам молодой Германии, эмоционалисты писали: «Знайте и вы, что в России созвучно вам бьются сердца, не отяжеленные спячкой минувшей цивилизации, и что вас приветствуют братья, которые вас любят и гордятся вами»26.
На русской художественной выставке в Берлине осенью 1922 г. существовал специальный раздел: «Экспрессионисты - Бурлюк, Шагал, Лапшин, Лебедев». Но это не стало основанием для оформления живописного экспрессионизма как группы. Однако в результате Германской художественной выставки в Москве (1924) стало очевидно, что экспрессионизму созвучно многое в практике объединений «Маковец», «Живскульптарх», «НОЖ», позже - «ОСТ», в школе Филонова. К явлениям экспрессионистской поэтики относятся некоторые работы Д.Д. Бурлюка, О.В. Розановой, Ю.П. Анненкова, Б.Д. Королева, В.В. Лебедева, А.Д. Древина, Ю.И. Пименова, П.В. Вильямса и др. Подчеркивая «оптический контрапункт» и «метод творческого искажения», распространенный на все виды художественного творчества - пластические искусства и театр, музыку и литературу, Г. Марцинский отмечал в экспрессионизме «косноязычные рассказы, беспомощную детскую символику, оргии расплавленной, растекающейся, обезумевшей краски, искаженные лица портретов с вытекающими глазами, конвульсивные движения фигур с нелепыми пропорциями, бешеную землю с низвергающимися домами...»27
Одним из связующих звеньев между эмоционализмом и экспрессионизмом стал немецкий кинематограф (в прокате было свыше
169
500 лент)28. С другой стороны, в Советской России руководитель группы киноков Дзига Вертов, отрекаясь от мистического игрового кино, разрабатывал эстетику «голой правды», «жизни врасплох». В манифесте (1922) он иронизировал над теми, кто «жадно подхватывает объедки немецкого стола»: «Видно мне и каждым детским глазенкам видно: вываливаются внутренности, кишки переживаний из живота кинематографии, вспоротого рифом революции» (ЛЕФ, 1923, №3. С. 135).
Рядом с документальным вариантом развивался эксцентрический - соединение элементов кабаре, мюзик-холла, джаз-банда (В. Парнах), кино (мастерская ФЭКС) и, по определению С.М. Эйзенштейна, «бытовой экспрессионизм» (А.М. Роом). Показательно, что Эйзенштейн начиная работу в кино, перемонтировал в мастерской Э.И. Шуб двухсерийный фильм Ф. Ланга «Доктор Мабузе-иг- рок» для советского экрана в односерийный - «Позолоченная гниль». Этот опыт наряду с театральным дал импульс к созданию теории «монтажа аттракционов», т.е. соединения и выделения любого элемента зрелища, способного подвергнуть зрителя сильному «чувственному или психологическому воздействию» по аналогии с «изобразительной заготовкой» Г. Гросса (ЛЕФ, 1923, № 3. С. 71) или «стихотворной заготовкой» В. Маяковского.
В Советской России было переведено свыше 200 стихотворений 40 поэтов-экспрессионистов, которые печатались в периодике и антологиях29. Среди переводчиков были О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастернак, Н.Н. Асеев. В экспрессионизме находили действенный протест против «рационалистического фетишизма, против механизации жизни - во имя человека»30.
В манифестах русских экспрессионистов, в творчестве близких этому направлению авторов отмечалась актуальность романтического искусства Новалиса, Э.Т.А. Гофмана, философских трудов А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. С другой стороны, «славянские влияния» на становление немецкого экспрессионизма в лице Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского находил Ю.Н. Тынянов. «Исключительное влияние Достоевского на молодую Германию» отмечал В.М. Жирмунский в предисловии к работе Оскара Вальце- ля «Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии»32. Как одну из составляющих «нового чувства жизни» наряду с шопенгауэровским пессимизмом и трагическим оптимизмом Ницше рассматривал традицию русской классики Ф. Гюбнер в статье «Экспрессионизм в Германии»33.
В то же время отношение к экспрессионизму было противоречивым. Нарком просвещения А.В. Луначарский пытался теснее связать его с революционной идеологией, что было не всегда плодотворно. В критике термин «экспрессионизм» стали применять к анализу творчества Л. Андреева, В. Маяковского. А.М. Эфрос включал «огненность экспрессионистических невнятиц» в понятие «левой
170
классики». Однако с ослаблением революционной ситуации в Германии экспрессионизм стал преимущественно расцениваться как «бунт буржуазии против самой себя»33. Н.И. Бухарин видел в экспрессионизме «процесс превращения буржуазной интеллигенции в “людскую пыль”, в одиночек, сбитых с панталыку ходом громадных событий. Вот это состояние разброда выражается в росте индивидуализма и мистицизма... Это происходит в живописи^ и в музыке, и в поэзии, и в скульптуре, словом - «по всему фронту искусства»34.
Русских экспрессионистов относили к разряду «попутчиков», их субъективизм, интуитивизм, иррационализм все более расходились с генеральной линией партийного воздействия на культуру. Оставаясь едва ли не последним оплотом индивидуализма, экспрессионисты не вписывались в социалистическое искусство, основанное на жизнепо- добии и стилевой унификации. Эти обстоятельства вместе с изменением общественно-культурной ситуации в конце 1920-х годов обусловили постепенный уход экспрессионизма в России с тех позиций, на которых он диффузно существовал. Несмотря на идеологическое давление и преследования, в которых погибло немало участников экспрессионистского движения, его рецессия наблюдалась в 1930-е годы в творчестве обэриутов (Д.И. Хармс, А.И. Введенский), в музыке Д.Д. Шостаковича, Б. Мосолова, у С. Эйзенштейна («Иван Грозный»), а также в литературе русского зарубежья (поэмы М.И. Цветаевой, «Распад атома» Г.В. Иванова).
Иная ситуация сложилась после утверждения социалистического реализма в качестве единственного метода и осуждения формалистических направлений, в том числе футуризма и экспрессионизма. В итоговой монографии «Русская литература XX века» (М., 1939) Б.В. Михайловский был вынужден свои точные наблюдения над созвучием поэзии Маяковского и западного экспрессионизма сопровождать оговорками: «У Маяковского нет этического индивидуализма, он ищет связи с коллективом», «он материалист», «близкая по стилевому выражению к экспрессионизму, поэзия Маяковского по идейному содержанию была созвучной творчеству Горького» и т.п.
Однако новое обострение ситуации, вызванное мировой войной и дальнейшей конфронтацией в идеологической сфере, привели к тому, что следующая попытка разговора об экспрессионизме относится к 1966 г., времени выхода сборника «Экспрессионизм». В нем Г. А. Недошивин ставил вопрос о «экспрессионистических тенденциях в творчестве ряда крупных мастеров, находящихся на периферии экспрессионизма». Он считал, что определение «русский футуризм» вносит путаницу ибо «у Ларионова, Гончаровой и Бурлюка, не говоря уже о Маяковском, куда больше общего с экспрессионистами, чем с Северини, Карра, Маринетти». Это предположение почти не нашло развития у исследователей, поскольку требовалось восстановить в правах литературно-художественные группировки и создать
171
новую историю литературы XX в., рассмотреть за манифестами и выступлениями саму ткань художественного произведения.
Такое переосмысление, «перекодировка» понятий возможны и плодотворны, как показывают отдельные работы, именно на пути анализа поэтики футуризма, ее разных стилевых составляющих: символистской35: дадаистской36; сюрреалистической37; экспрессионистской38. Одно из свидетельств возможности таких перекодировок привел А. Флакер. По его мнению тождество имени «двух футуризмов» привело к сравнительно-исторической оптике, не всегда соответствующей толкованию самих литературных текстов39.
Таким образом, общая непроясненность вопроса о художественном методе раннего русского авангарда и его стилевом многообразии, как ни странно, стимулирует поиск конкретных методик и нового категориального аппарата для адекватного рассмотрения этих явлений. Пока можно ограничиться еще одной пунинской формулой, не уступающей классическому «Ленин жил...»: «С тех пор, как путем Гоголя пошла большая половина русской литературы, экспрессионизм стал возможным, вероятным и даже неизбежным в русском искусстве».
1 Пунин Н.Н. Квартира № 5 // Панорама искусства 12. М., 1989. С. 174.
2 Тастевен Г. Футуризм. На пути к новому символизму. М., 1914. С. 59.
3 Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 269.
4 Маяковский В.В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1960. Т. XII. С. 261.
5 Дит. по: Русский авангард: Недописанные страницы. СПб., 1998.
6 Третьяков С. Откуда и куда? //ЛЕФ, 1923, № 1. С. 12.
7 Хлебников В. Наша основа //Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания. М., 2000. С. 66.
8 Аренс Л. Хлебников - вождь будетлян // Книга и революция, 1922, №9-10. С. 25.
9 Цит. по: Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания.
С. 273.
10 Валъцель О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной Германии. Пб., 1922. С. 74.
11 Маттиас Лео. Гений и безумие в России. Берлин, 1921. С. 46.
12 Пунин Н.Н. Указ. соч. С. 177.
13 Кайзер Г. Драмы / Предисл. А.В. Луначарского. М., 1924. С. 10.
14 Иванов Ф. Красный Парнас. Берлин, 1923. С. 29.
15 Маяковский В.В. Указ. соч. М., 1960. Т. XI. С. 353.
16 Фриче В. Октябрь в поэзии // Художественное слово. М., 1920, № 2. С. 108.
17 Соколов И. Бунт экспрессиониста. Издание, конечно, автора. М., 1920.
С. 3.
18 Соколов И. Бедекер по экспрессионизму. М., 1920. С. 6.
19 Земенков Б. Корыто умозаключений: Экспрессионизм в живописи. М, 1920. С. 3.
20 Соколов И. Экспрессионизм: Теория. М., 1920. С. 3.
21 Земенков Б. Указ. соч. С. 3.
172
22 Габрилович Е., Лапин Б. Молниянин. М., 1922. С. 4.
23 Лапин Б. 1922-я книга стихов. М., 1923. С. 3.
24 Декларация эмоционализма // Абраксас. Пг., 1923. Февраль l№ 3J. С. 3; См. также: Никольская ТЛ. Эмоционалисты // Russian Literature, XX, 1986.
25 Кузмин М. Пафос экспрессионизма // Театр, 1923, № 11. С. 2.
26 Приветствие художникам Молодой Германии // Жизнь искусства, 1923, №11. С. 2.
27 Марцинский Г. Метод экспрессионизма в живописи / Пер. Б. Казанского, вст. ст. Н.Э. Радлова. Пг., 1923. С. И.
28 См.: Рапггауз М.Г. Кузмин-кинозритель // Киноведческие записки. М., 1992. №13.
29 Нейштадт В. Чужая лира. М., 1923; Молодая Германия. Харьков, 1926. Поэзия революционного Запада. Харьков, 1930).
30 Кузмин М. Пафос экспрессионизма // Театр, 1923. № 11. С. 2.
31 Книжный угол, 1921, № 7. С. 11.
32 Жирмунский В. [Предисловие] // Вальцель О. Указ. соч. С. 5.
33 Экспрессионизм: Сборник статей. Пг.; М., 1923. С. 55.
33 Арватов Б. Экспрессионизм как социальное явление // Книга и революция, 1922, № 6. С. 28.
34 Кино, 1923, № 1/5. С. 15.
35 Клинг О. Футуризм и «старый символистский хмель»: Влияние символизма на поэтику раннего русского футуризма // Вопросы литературы, 1996. № 3/4.
36 Харджиев Н. Полемичное имя (Алексей Кручёных) // Памир, 1987, № 12; Никитаев А. Введение в «Собачий ящик»: Дадаисты на русской почве // Искусство авангарда - язык мирового общения. Уфа, 1993.
37 Чагин А. Русский сюрреализм: Миф или реальность? // Сюрреализм и авангард. М., 1999; Чагин А.И. От «Фантастического кабачка» - до кафе «Порт-Рояль» //Литературное зарубежье: Проблемы национальной идентичности. М., 2000. Вып. 1.
38 Markov V. Expressionism in Russia // California Slavic Studies. Berkeley, 1971. Vol. 6 (в рус. пер. - в кн.: Поэзия и живопись. M., 2000; Flaker A. Futurismus, Expressionismus oder avangarde in der russischen Literatur // Expressionismus im europaischen Zwischenfeld. Innsbrjuk, 1978; Belentschikow V. Russland und die deutschen Expressionisten 1910-1925. Frankfurt, 1993-1994. T. 1-2. Idem. Die russis- che expressionistische Lyrik, 1919-1922. Frankfurt, 1996; Корецкая И.В. Из истории русского экспрессионизма // Известия РАН. Серия литературы и языка, 1998. Т. 57, № 3.
39 Флакер А. «Ослиный хвост»: Об одном самонаименовании // Russian Literature. XXXVII (1995). Р. 451.
40 Лунин Н.Н. Указ. соч. С. 177.
ЕЛ. Бобринская
ЭКСПРЕССИОНИЗМ И ДАДА
Неклассические, нелинейные принципы существования искусства прошедшего столетия становятся в последнее время предметом пристального внимания исследователей. Традиционная схема поступательного развития искусства оказывается неприменима ко многим направлениям, движениям и периодам в культуре XX в. Вместо нее возникает калейдоскопическая картина взаимодействий, отражений, мерцаний и постоянных возвратов. Развитие искусства часто идет странными эллиптическими путями, образуя неподдающиеся исторической логике сцепления и смешения.
Особый «дух современности», заявивший о себе еще во 2-й половине XIX столетия уже с момента своего рождения был увлечен поисками самоопровержения и самоотрицания. Внутри модернизма с самого начала отчетливо звучали голоса, отвечавшие на вызовы современности ее языком, но уклонявшиеся от основных векторов движения, заданных modemite. Как уже отмечалось некоторыми исследователями, среди авангардных движений начала века и экспрессионизм, и дадаизм являлись скорее реакцией на новый «дух современности» и в большей мере были связаны с кризисными моментами его истории.
В искусстве всегда были внесистемные, стремящиеся к выходу за рамки стиля, направления или школы художники, действовавшие на пересечениях различных тенденций и представлявшие в своих произведениях парадоксальные смешения различных художественных языков. Нередко именно к произведениям таких художников применяют слово «экспрессионистский» в его расширительном толковании как художественный язык, ориентированный не на воспроизведение внешнего мира, но на выражение тех или иных эмоционально окрашенных свойств предмета, человека или ситуации. Однако и собственно экспрессионизм - направление в немецком искусстве 1-й трети XX в. - представлял собой явление с весьма расплывчатыми контурами. Один перечень художников в той или иной мере связанных с экспрессионизмом поражает своей несхожестью: М. Пехштейн и В.В. Кандинский, Л. Мейднер и П. Клее, Ф. Марк и Э.Л. Кирхнер, Э. Нольде и О. Дикс, О. Кокошка и М. Бекман.
174
С момента своего возникновения и по сей день экспрессионизм путал и путает карты, подтачивает строгие искусствоведческие схемы развития искусства. Он приобрел в каком-то смысле фантомный характер, присутствуя как внутренний импульс в самых различных направлениях. Отблески и отзвуки экспрессионизма в первые десятилетия прошлого столетия возникают неожиданно и повсеместно в самых разных художественных направлениях. Их можно отметить в футуризме, вортицизме, орфизме, русском неопримитивизме, дадаизме, магическом реализме и арт деко.
Этот внесистемный характер экспрессионизма, ускользающий от привычных для историка искусства схем описания, ощущался многими участниками движения, рассматривавшими свою деятельность вне линейной логики истории, чувствовавших недостаточность исторического измерения. «Взгляд обращен к истории. Она же всего лишь логична, глуха к темным взаимосвязям внутри идеи. Дух не развивается логично, следуя более глубоким силам, он воспаряет, пенясь или безмолвствуя. Мы лишь ощущаем его. Взаимосвязи не прямолинейны, они глубже, чем видимая сторона времени»1 (К. Эдшмидт).
Столь же парадоксальными, ускользающими качествами обладало в послевоенной европейской культуре еще одно движение - дадаизм. Даже при самом первом приближении можно назвать целый ряд очевидных пересечений в творческой методике экспрессионистов и дадаистских объединений: антиинтеллектуализм, программный интерес к примитиву, к инфантильному искусству, к глубинным бессознательным пластам человеческой психики, эстетика диссонанса и раскрытие творческого потенциала в нигилистических и разрушительных началах. Однако все они в той или иной мере могут быть связаны с более общей тенденцией. Используя слова Батая, ее можно определить как - «воля к исчерпывающему опыту». Она сформировала центральные установки как экспрессионистской, так и ранней дадаистской версии искусства, создав почву для возникновения порой неожиданных взаимодействий, диалогов и споров.
История взаимоотношений экспрессионизма и дадаизма в западном искусстве отмечена двойственностью. С одной стороны, многие художники и поэты, создавшие в 1916 г. в Цюрихе дадаизм были непосредственно связаны с немецким экспрессионизмом. Это прежде всего Хуго Балль, Р. Хюльзенбек, а среди живописцев - М. Янко, X. Рихтер, М. Слодки. Более того, в программах первых дадаистских вечеров в Кабаре Вольтер экспрессионизму как таковому (прежде всего литературному) отводилась весьма заметная роль. И тем не менее хорошо известно, что прежде всего в полемике с экспрессионизмом происходило самосознание дадаистского движения. Цюрихские дадаисты (а именно цюрихский дадаизм может, на мой взгляд, составить определенную параллель русским «дадаистским» экспериментам2), опираясь на опыт раннего немецкого экспрессионизма и развивая многие его положения, в то же время полемизировали с не-
175
которыми версиями позднего, точнее - современного им экспрессионизма. Основная критика дадаистов была направлена против так называемых «активистов», сотрудничавших в журнале «Акцион» («Действие»), а в более общем плане против центральной для экспрессионизма этого времени концепции духа, понятого как рациональный, моральный и главное трансцендентный человеку принцип. Эта полемика достигла своей кульминации в 1918-1919 гг. и уже выходила за рамки цюрихского движения, разворачиваясь в большей мере в кругу берлинских дадаистов. Я же, говоря о дадаистских тенденциях в русском искусстве конца 1910-х годов, буду иметь в виду прежде всего раннюю версию цюрихского дада, чью специфику в частности, определяла экспрессионистская интонация.
Сразу хотелось бы оговорить некоторую условность самих слов «экспрессионизм» и «дадаизм» применительно к русской культуре. Хорошо известно, что художественных группировок, использующих их для обозначения своих эстетических позиций в России не существовало. Правда, стоит напомнить, что и в своих классических версиях ни немецкий экспрессионизм, ни европейский дадаизм не укладывались в рамки художественных групп, называвших себя экспрессионистами или дадаистами. Оба направления, как уже отмечалось, обладали специфической размытостью своих контуров. Нередко принадлежность к экспрессионизму и дадаизму тех или иных художников и литераторов определяется не их участием в деятельности конкретных объединений, а только тяготением к определенному кругу проблем и определенным способами их разрешения.
В русском искусстве тенденции схожие с экспрессионизмом могут быть отмечены прежде всего в неопримитивизме3. Подобно эк- прессионизму для цюрихских дадаистов, русский неопримитивизм также стал точкой отсчета и одновременно объектом полемических выпадов для некоторых объединений в искусстве конца 1910-х годов, которые могут быть связаны с русской версией дада. Я имею в виду группы «Синдикат футуристов» (1917-1918), куда входили художники и поэты Алексей Кручёных, Илья и Кирилл Зданевичи, Николай Чернявский, Зигмунд Валишевский, Ладо Гудиашвили, армянский поэт Кара-Дарвиш, и группу «41°» (1918-1920), членами которой были Кручёных, Илья Зданевич и Игорь Терентьев. В художественной деятельности этих объединений обнаруживается наибольшая близость к эстетике раннего европейского дадаизма, и одновременно они создают наиболее самостоятельную версию русского дада.
* * *
Внесистемный, внеисторический (в привычном понимании), хаотический облик искусства прошлого века сложился, безусловно, под воздействием множества факторов. Одним из важнейших импульсов стало разрушение своеобразной мифологии прогресса.
176
К началу XX столетия европейская культура теряет веру в про- грессистскую концепцию линейного развития. «Связанный с прогрессом оптический обман» (Э. Юнгер) рассеивается и обнаруживается новая структура, новый порядок реальности. В ней одновременно сосуществуют хаотическое смешение всего и вся и строгая геометрия, банальность и элитарность, грубый материализм и экзальтированный спиритуализм. Исчезновение (или точнее - расфокусирован- ность) прогрессистской оптики существенно влияет на все сферы культуры.
Вместо линейного времени в искусство приходит новая логика: си- мультанизма и взрыва, сжимающих линейное движение в мгновенные вспышки; логика озарения и шока, исключающая возможность последовательности и связности. В искусстве это новое ощущение времени часто находит выражение в обращении к символическим ситуациям выхода из времени. Инфантилизм и архаика, еще неосознающие необратимость времени, экстаз, опыт катастроф, безумие - эти мотивы и образы постоянно притягивают внимание и литераторов, и живописцев самых разных движений в искусстве модернизма.
Разрушение традиционных, устойчивых ритмов жизни, вторжение в повседневность машин, возникновение огромных мегаполисов, с их особым стилем и психологией жизни, выход на сцену истории масс - все эти вызовы modemite существенно деформировали контуры европейской культуры. Война 1914 г., воспринятая многими деятелями искусства как ярчайшее воплощение «духа современности», укрепила ощущение самоубийственного поворота в истории европейской культуры. Оптимистические картины прогресса, перспектива движения вперед и развития европейской культуры окончательно теряют свою власть.
Исчерпанность изобретательства, ориентации на перманентное открытие нового уже к 1915-1916 г. становится очевидна для многих европейских и русских художников. И, пожалуй, именно в этой точке развития искусства происходит окончательный разрыв с логикой прогресса, разворачивавшей перед искусством перспективу бесконечного развития и расширения диапазона возможных изображений, охвата живописью все новых сфер реальности. Даже абстрактное искусство во многих своих версиях все еще двигалось в направлении, заданном логикой прогресса, пытаясь изобразить невидимое4.
Вместо движения вперед, воодушевлявшего многие направления искусства конца XIX и начала XX в., теперь искусство все чаще воспринимается как фрагмент пульсирующей, хаотичной, мерцающей картины действительности. В военное и послевоенное время «форма анархии» (Э. Юнгер), способная уловить хаотичную структуру реальности, привлекает внимание самых разных художников и литераторов. Одним из ее воплощений становится программный эклектизм, стилистический разнобой, пришедший на смену определенности, узнаваемости языка того или иного направления.
177
Восприятие языка искусства как подвижного, поддающегося любым трансформациям, лишенного жестких границ и открытого для усвоения любых стилистических элементов, стало одной из наиболее ярких «дадаистских» характеристик в деятельности тифлисских групп. Новый подход к изобразительному языку принципиально отличается от прежней ориентации авангарда на постоянный поиск нового, на постоянное расширение границ искусства. Программный эклектизм не ищет новых языков, новых форм, он, по словам И.М. Зданевича «упраздняет понятия традиции, нового и старого, отрицания и утверждения, оригинального и подражательного»5. В нем прежде всего воплощается «воля к исчерпывающему опыту», стремление преодолеть любые ограничения, заданные художнику извне самим языком.
Новое звучание в эти годы получает концепция «всёчества», развивающаяся в Тифлисе в так называемом «оркестровом» искусстве. В тифлисский период эстетика всёчества и оркестрового искусства соединяется с устремленностью к исчерпывающему, всеобъемлющему и в силу этого предельному образу искусства. В предисловии к каталогу выставки Кирилла Зданевича Кручёных и И. Зданевич подчеркнули принципиальное свойство оркестровой живописи - ее ориентацию на исчерпывающий, полный характер: «Можно писать не только в разной манере, но и соединять разное понимание живописи на одном холсте. Каждая манера решает ту или иную задачу, но не решает живописи полностью. Соединяя манеры, мастер освобождает искусство от власти временных задач и, уничтожая случайный характер всякого стиля, сообщает произведению необычайную полноту. Так Кирилл Зданевич открыл оркестровую живопись»6. Термин «оркестровый» применялся в это время и по отношению к другим произведениям. Кручёных говорил об «оркестровой поэзии, все сочетающей», а И. Зданевич применял его к коллажным работам самого Кручёных, соединявшим различные изобразительные материалы (этикетки, рисунки, абстрактные наклейки цветной бумаги, фотографии), хаотическое смешение которых создавало впечатление «заумного концерта».
Истоки такого понимания языка искусства, такого пренебрежения оригинальностью и стилистическим изобретательством можно видеть и в немецком экспрессионизме и в русском неопримитивизме.
Цементирующим началом экспрессионистского движения была не зафиксированная в определенных формах изобразительного языка система мышления, но только контурно очерченная задача: выразить в искусстве внутренний, доступный только чувству и раскрывающийся как эмоциональное озарение или шок, облик внешнего мира. Способы решения этой задачи могли быть самыми разными. Она не ставила по сути дела никаких жестких стилистических, на- правленческих ограничений. Точнее - предполагала желание максимально минимизировать саму роль языка, т.е. опосредующего звена
178
между чувством и внешним миром. И хотя немецкий экспрессионизм выработал некоторые узнаваемые формулы своего «стиля», тем не менее описать его в категориях формально-стилистических практически невозможно.
Свободная игра с различными стилями и ощущение подвижности границ искусства, способного ассимилировать язык вывески или заборных рисунков, детского или народного искусства, искусства примитивного, архаического, были важными характеристиками русского неопримитивизма. Наиболее последовательно эти свойства неопримитивизма реализовались в деятельности художников ларио- новской группы «Ослиный хвост», с которой многие участники тифлисских объединений были связаны самым непосредственным образом.
Еще один яркий жест деформации традиционных контуров искусства, нарушения не только стилистических, эстетических, но и привычных видовых форм существования искусства был представлен так называемой футуристической7 книгой. В этих изданиях не только было трансформировано привычное соотношение текста и изображения, но деформирована и традиционная форма, структура книги как особого культурного феномена. Издания будетлян были ориентированы не только на эстетическую сферу. Их провокационность, внешний облик, демонстрирующий своего рода антипод книги и шире - книжности как таковой, нарочитая «кустарность», программно заявленная новая форма функционирования - «прочитав - разорви!», и, наконец, подчеркнутая акционность, уподобляющая само издание такого рода книги некоему действию или жесту - все это апеллировало не столько к эстетическим категориям, сколько к непосредственным жизненным реакциям и ощущениям.
Важно отметить, что именно среди художников, входивших в объединение «Ослиный хвост», в 1913 г. была создана концепция «всёчества». Безусловно, своими корнями она уходит в неопримити- вистскую эстетику, но в то же время может рассматриваться как одна из наиболее ярких пред-дадаистских манифестаций в европейском искусстве. В ней уже угадываются контуры той новой «формы анархии», которая будет характеризовать художественную деятельность дадаистских объединений. «Все стили признаем годными для выражения нашего творчества, прежде и сейчас существующие»8, - провозглашали «всеки» в одном из своих манифестов.
Язык эклектики, смешение всех известных живописных течений отличали также художественную практику дадаистов в Цюрихе. Кабаре - с его соединением разнородных элементов, стилей, жанров, высокого и низкого - можно считать не только пространством, в котором в силу исторических обстоятельств проходили дадаистские вечера, но и в более широком плане моделью дадаистского искусства. «Вчера были представлены все стили за последние двадцать лет», - так характеризовал Хуго Балль в своем дневнике один из ве¬
179
черов в Кабаре Вольтер9. Программы первых дадаистских вечеров представляли собой совершенно эклектичную, хаотичную смесь: танцевальные номера, декламация Вольтера, итальянские футуристы и немецкие экспрессионисты, стихи П. Верлена и С. Малларме, русские балалаечники, «негритянские» песни и танцы, произведения А.П. Чехова и немецких средневековых мистиков. Вся эта смесь демонстрировала, условно говоря, цюрихский вариант «оркестрового» творчества. Позднее в 1917 г. на выставках в галерее Дада также свободно сосуществовали совершенно разнородные в стилистическом отношении произведения: футуристов, экспрессионистов, различные версии абстракционизма. Именно в этой эклектичной смеси разнородных стилей современные исследователи цюрихского дада видят его своеобразие, его неповторимый облик: «Это - самобытный период дадаизма, в котором проявился его уникальный стиль: все объемлющий, все поглощающий, все демонстрирующий хаос»10.
Аналогичную приверженность к эклектичным смешениям различных стилей демонстрировали и выставки тифлисских футуристов. Так, известная Выставка картин и рисунков московских футуристов, состоявшаяся в Тифлисе в 1918 г., собрала весьма пестрый набор работ. Среди них доминировали: неопримитивизм (рисунки К.С. Малевича, М.Ф. Ларионова, Н.С. Гончаровой, Н.И. Кульбина к литографическим книгам Кручёных «Мирсконца», «Пустынники», «Взорваль», П.Н. Филонова к «Изборнику» Хлебникова), кубофуту- ризм (Малевич «Смерть конного генерала», «Кубофутуризм»; О.В. Розанова литографии к поэме Кручёных «Война») и новые произведения оркестрового искусства - коллажи Кручёных, живопись и рисунки К. Зданевича, коллажи О.В. Розановой, наконец, живопись Ладо Гу- диева (Гудиашвили), сочетавшая элементы примитивизма, кубизма, традиционный восточный орнаментализм с напряженной экспрессионистской деформацией.
В творчестве И.Г. Терентьева этот специфический эклектизм получил выразительное воплощение в серии его автопортретов. Практически все они построены на игре с различными стилями, узнаваемыми оборотами изобразительной речи, не претендующей ни на оригинальность, ни на новаторство. Эта ускользающая игровая стилистика позволяет воссоздать неуловимый, как в калейдоскопе, постоянно меняющийся облик собственного «Я» художника. Любопытно отметить, что на одном из автопортретов Терентьев поместил строчку из известного стихотворения И.П. Мятлева («Как хороши, как свежи были розы»), написанную в стиле гектографических книг Кручёных того времени. Это совмещение диссонирующей стилистики - гротескного нигилистического жеста, отсылающего к наиболее радикальной версии анти-книги, и расхожей, ставшей банальностью, лирической строчки, следовало одной из главных эстетических установок оркестрового искусства - соединение разнородного, создание в каждом произведении полифонического языкового пространства.
180
В своих теоретических работах того времени Терентьев, развивая концепцию «всёчества», декларировал программный отказ от авторства, программную цитатность и неавтономность художественных языков, их разомкнутость, их игровую природу: «Долой авторов! Надо сказать чужое слово. Узаконить плагиат»11.
Тем не менее эта программная эклектика становилась источником для возникновения новых видов художественного творчества, в которых доминировала «форма анархии». Симультанная поэма Тцара «L’amiral cherche une maison a louer», исполненная в марте 1916 г. Т. Тцара, Хюльзенбеком и Янко, была построена как «контрапунктный речитатив, в котором три или несколько голосов одновременно говорят, поют, свистят или что-нибудь в этом духе, но так, что из пересечений их «партий» складывается элегичное, веселое и причудливое содержание вещи»12. Ее структура представляла собой определенный аналог «заумным концертам» в коллажах Кручёных. И в том, и в другом случае в основе художественного произведения лежало соединение различных языков, различных стилей, и в том, и в другом случае они представали в виде фрагментов, перемешанных, звучащих одновременно, наслаивающихся друг на друга. И в том, и в другом случае в общую структуру произведения были включены беспредметные элементы - абстрактные геометрические формы в коллажах и шумовые эффекты в симультанной поэме. Подобно тому как в структуре поэмы Тцара всегда присутствует элемент случайности (различный тембр голосов исполнителей, различная скорость речи, создающие разнообразные и неожиданные эффекты), так и в коллажах или «заумных концертах» Кручёных всегда есть элемент случая, нарочитой невыстроенности, небрежности, незаконченности композиции. Всегда есть элемент автоматизма, механического (а порой и демонстративно «наобумного») соединения различных образов. Эти «случайно» пойманные, хаотичные сочетания образов рассчитаны на то, чтобы их столкновения создавали своеобразные смысловые пустоты, позволяющие освободить работу бессознательного.
К глубинным пластам сознания и психики апеллировали также экспрессионисты. Любопытно, что именно характерное для экспрессионизма апокалиптическое, катастрофическое восприятие действительности видели соратники Тцара и Кручёных в их произведениях. Так, в интерпретации симультанной поэмы в дневнике Хуго Б ал л я отчетливо звучат драматические интонации, отличающие экспрессионистское мироощущение. «Роете simultan исходит из ценности голоса. Этот человеческий орган олицетворяет собой душу, индивидуальность, блуждающую в сопровождении демонических спутников. Шумы составляют фон; нечленораздельное, фатальное, определяющее. Стихотворение должно наглядно демонстрировать втягивание, погружение человека в механический процесс. Оно показывает в типичном ракурсе столкновение vox humana с угрожаю¬
181
щим, опутывающим и разрушающим миром, от ритма и шумов которого не скрыться»13. Травматический опыт, привнесенный «духом современности», узнавали соратники Кручёных и в его коллажах. «Казалось бы, что “мистического”, - писал Терентьев, - в ярких клееных бумажках, которые делает Кручёных вместо картин: не то ли самое нравится детям и дети, придя на выставку картин футуристов, совсем не боятся бумажек Кручёных. Почему же родители их полны ужаса под маской негодования и презрения?! Не потому ли что тут они не узнают себя, природы, всего, что существует с начала мира и должно существовать до “конца света”! Должно существовать, время еще не пришло, а между тем в бумажках Кручёных уже ничего нет!»14 Однако и в наклейках Кручёных, и в симультанной поэзии Тцара драматизм, апокалиптическое восприятие реальности растворяются в игровой механике, лишаются экзистенциального напряжения.
Хаотические ритмы новой реальности, отражающиеся в оркестровых или симультанных произведениях, уже не пугают и не отталкивают их создателей. Напротив, именно внутри хаоса они угадывают очертания нового, естественного, органически возникающего, а не навязанного извне языка искусства. Языка почти лишенного формы, ускользающего от жестких определений, но позволяющего максимально сократить дистанцию между внутренним и внешним. Того языка, о котором постоянно грезили экспрессионисты.
В дадаизме это принятие хаоса, органичное и игровое существование искусства в новой, опасной реальности, где нет привычных координат и границ, становится одним из принципиальных отличий и от экспрессионизма, и от неопримитивизма. Стремление поздних экспрессионистов очистить свои представления о человеке от хаотических элементов, реализовавшиеся в их утопических проектах нового человека и нового гуманизма, вызывали позднее наиболее резкое неприятие со стороны дадаистов.
Несмотря на устремленность к «исчерпывающему опыту», на то, что во многих вещах «структура произведения доведена до последней степени напряжения» (К. Эдшмид), экспрессионизм не только не выходит за пределы традиционных видов искусства, но и не отказывается от фигуративности. Для экспрессиониста художественное произведение всегда сохраняет свою особую ауру, свою глубинную связь с культурной традицией. Картина для него - это целостный, замкнутый цир. Она рассматривается как инструмент создания особого пространства, в котором может открываться духовная реальность, скрытый от обычного зрения облик мира. Именно так интерпретировали задачи искусства многие теоретики экспрессионизма. «Живописцы, - провозглашал, например, Л. Рубинер, - должны создать воображаемое духовное пространство. Создать его, используя творческую силу глаз»15. Такое произведение ближе религиозной концепции искусства, правда, обретающей порой весьма парадоксальный облик.
182
Для ранних версий дада отдельное произведение значит значительно меньше, чем общая атмосфера, жест, контекст, в котором оно представлено. Не случайно цюрихский дадаизм и тифлисский «футуризм» более последовательно реализуются в разного рода художественных акциях, в организации различных событий, эффектных выступлений, чем в разработке собственного стиля, языка. Вместо формальных поисков, вместо претензий на создание «духовного пространства», дадаисты интересуются ускользающей и зыбкой атмосферой, спонтанно и случайно возникающей вокруг искусства, его способностью вступать в резонанс с глубинными ритмами и человека и социума. В своем дневнике, описывая беседы с Хюльзенбе- ком, Балль, отмечает: «Мы обсуждаем различные теории искусства последних десятилетий, все, что касается сомнительной сущности искусства, его полной анархичности... для нас искусство не является самоцелью... наши дебаты представляли собой пылкие злободневные споры о поиске специфического ритма, скрытого лица нашей эпохи. Ее основ и сущности; возможности привести ее в волнение, пробудить к новой жизни. Искусство же является лишь поводом для этого или методом»16.
Ни цюрихские дадаисты, ни члены тифлисских объединений не искали новых языков искусства. Они работали в пространстве, где уже очерчены контуры всех языков, где не действуют законы линейного времени и правила «всего лишь логичного» исторического сознания. Их произведения создавались в пространстве метаистории, где одновременно могли существовать все стили и все языки.
* * *
Поиск нулевых позиций, истоков и границ искусства стал одной из ведущих тенденций в европейской культуре первых десятилетий прошлого века. Увлечение примитивом и архаикой приносит в европейскую культуру не только орнаментальность, декоративность, витальность, но и разрушение равновесия культуры, деформацию самих контуров искусства.
Стремление работать за пределами традиционной территории искусства является одной из глубинных мотиваций, как экспрессионизма, так и дадаизма. Попытка обнажить границы искусства не через прогрессистскую концепцию развития, движения вперед, но через возврат, обращение к истокам искусства, к той нулевой позиции, в которой искусство присутствует, скорее, как возможность составляла особенности примитивистских увлечений и в кругу дадаистов и экспрессионистов.
Однако в этих увлечениях архаикой были и принципиальные отличия. Интерес к архаическому, примитивному искусству, «варварская» обнаженность эмоций и «варварская» прямота изобразительной речи - одна из важнейших составляющих немецкого экспресси¬
183
онизма. У экспрессионистов неевропейские культурные традиции, увлечение детским и первобытным творчеством, как правило, вплетались в постоянный в их произведениях диалог чужого, внешнего мира и мира внутреннего, природы и культуры. Они позволяли создавать напряженное, драматичное переживание реальности, отчужденной и враждебной человеку, отличавшее мироощущение экспрессионизма. Архаика для них всегда оставалась внешним, чуждым «внутреннему» сюжетом. В их произведениях она существовала как один из диссонирующих элементов, позволяющих взорвать, нарушить границы европейского культурного сознания.
В этом плане показательна интерпретация «негритянской» темы у экспрессионистов и цюрихских дадаистов. Во многих произведениях Э.Л. Кирхнера в негритянских сюжетах соединяются современные декадентские мотивы и первичная архаическая энергетика. В его работах обычно присутствует двойная игра кодами - отсылки к европейской культурной традиции, к традиции живописной репрезентации и включение в эту традицию мифа архаики. Негритянские сюжеты в живописи Э.Л. Кирхнера представляют архаическую энергетику как притягательную и опасную, обладающую творческой мощью и одновременно разрушительную.
Цюрихские дадаисты наследуют интерес к этой теме. «Негритянские» танцы, «негритянские» песни Тцара и Хюльзенбека, особенно негритянская тема в рисунках Янко прямо отсылают к экспрессионизму. Так же как экспрессионисты, дадаисты обращаются к африканской теме в поисках ситуаций, позволяющих увидеть сквозь трещины рациональной культуры прорывы первичных, элементарных, иррациональных энергий творчества. Для цюрихских дадаистов открытие этого иного, чуждого мира один из трагических, но одновременно и самых притягательных моментов. Именно архаика, обращение к истокам, первичным докультурным импульсам творчества открывает возможность соприкосновения с опытом неподдаю- щимся выражению на языке рациональной культуры, с тем, что всегда ускользало от слов и понятий языка.
Однако в трактовке этой темы дадаистами происходит важное изменение. Их интерпретация архаики лишена драматического напряжения. Она становится более игровой и в то же время обретает недоступное экспрессионизму экзистенциальное измерение. Чужой, опасный архаический мир рассматривается не столько сквозь европейскую культурную традицию, сколько через непосредственный опыт открытия «архаики» в глубинах собственного сознания и собственной психики. Негритянская, архаическая тема не случайно существовала у дадаистов прежде всего в театрализованной, игровой форме (исполнение стихов, танцы, пение), предполагающей не только в дистанцированном созерцании у зрителей, но и в непосредственном психическом опыте у самих исполнителей возможность сопри¬
184
косновения с «парализующей подоплекой вещей». В этом отношении показательна сцена с масками, созданными Янко, описанная в дневнике Балля: «Мы все были в сборе, когда Янко принес маски, и мы сразу же их на себя нацепили. И тут произошло неожиданное. Маски не только требовали костюма, они диктовали абсолютно определенную патетическую граничащую с безумием пластику. Еще пять минут назад мы сидели ни о чем не подозревая, а теперь, задрапировав себя и навесив на себя немыслимые предметы, выполняли невообразимые “па’\ стараясь перещеголять друг друга. Моторная энергия масок с поражающей неотразимостью проникала в нас»17. Создание вместо традиционных произведений искусства, использующих язык европейской культуры, своеобразных ритуальных объектов, располагающихся где-то между архаикой и современностью, апеллирующих не к известным культурным кодам, а к непосредственному, спонтанному опыту психики - таково было одно из наиболее радикальных изменений в отношении к архаике у цюрихских дадаистов.
Это изменение определило также перестановку акцентов, условно говоря, с архаики внешней (африканская тема, примитив) на внутреннюю - инфантилизм, безумие, экстаз. Эти темы приходят в да- да из экспрессионизма, однако, теперь они становятся не символами отчужденной, враждебной человеку реальности внешнего мира, из оков которого он стремится вырваться, но средством открытия новых творческих методов, нового языка искусства. В таком ключе эту проблематику интерпретировал Хуго Балль: «Детская непосредственность, которую я имею в виду, граничит с инфантилизмом, слабоумием, паранойей. Она вырастает из веры в первичное, глубинное воспоминание, в вытесненный до полной неузнаваемости и погребенный мир, который в искусстве высвобождается безудержным энтузиазмом художника, а в сумасшедшем доме болезнью... В опрометчиво инфантильном, в безумии, где разрушены сдерживающие факторы, на первый план выступают недоступные глубинные слои, не затрагиваемые логикой и аппаратом, мир с собственными законами, мир особой формы, с новыми загадками и новыми задачами, как при открытии новых земель»18.
В русской версии дада в тифлисских объединениях происходит аналогичное изменение эстетических позиций. Если в неопримитивизме всегда существовала игровая дистанция между собственно языком примитива и его освоением художником, если в его рамках были возможны и чистые стилизации, своеобразные «цитаты» из первобытного искусства (см., например, рисунки Н.Е. Роговина и Ларионова в книге «Мирсконца»), то в тифлисских группах акцент явно смещается. Теперь не известные и так или иначе освоенные культурой языки архаики интересуют поэтов и художников, но особая глубинная реальность человеческой психики. Интерес к экстатическим практикам, к детскому творчеству, к творчеству душевно¬
185
больных становится определяющим для эстетики тифлисских объединений. С этой переменой связаны многие принципиальные особенности творчества поэтов и художников «Синдиката» и «41°». Так, в стихах Кручёных этого времени буква - ее форма, ее начертание, ее тайный смысл становится основным элементом. В своих труднопроизносимых абстрактных звуковых композициях он стремится оживить исходные, наиболее первичные - физические - условия рождения речи. От смысла слова он идет к чистому, беспредметному его звучанию, к «языку чистых эмоций», если использовать определение Третьякова. И одновременно к языку, теснейшим образом связанному с физиологией речи - артикуляцией, тембром голоса, жестом, сопровождающим речь.
Тайна, даже своего рода мистика, внутреннего универсума человека становится центральной проблемой для зауми Кручёных этого периода. В своих заумных стихах он настойчиво ищет именно скрытый, потаенный эмоциональный смысл звука, буквы, согласующийся с «первичным, глубинным воспоминанием», с бессознательными пластами человеческой психики. («Что означает буква ц, ф и др. со стороны эмоции и проч.», - спрашивает он в одном из писем). Причем этот смысл он неизменно соотносит с глубоко внутренним опытом человека, закрытым для обычного языка. Как известно, для Кручёных заумный язык был связан с исследованием экстатического опыта, аналогии ему он видел, в частности, в глоссолалии, мистическом экстазе, в магических формулах. Иными словами - соотносил его с различными экстремальными состояниями человеческой психики, в которых наиболее явственно реализовалась «воля к исчерпывающему опыту».
Звуковая поэзия в кругу цюрихских дадаистов (прежде всего в творчестве Хуго Балля) также опиралась на экстатическую практику, в ней также доминировали первичные, глубинные, неподдающи- еся логическому измерению творческие импульсы, воплощавшиеся в жесте, движении, звуке голоса.
Перемещение внимания с языка, его смысловой структуры, его формы на спонтанные жесты непосредственной выразительности нашло одно из воплощений в своеобразной жестовой графике. Многие рисунки К. Зданевича, 3. Валишевского, И. Терентьева этого времени выполнены в манере экспрессивного инфантилизма. В них главным оказывается не предмет изображения, но сам жест письма. В гектографических книгах Кручёных также господствует гротескный жест письма. Линейная графика на страницах его книг напоминает линии-жесты, улавливающие в максимально сжатой, концентрированной форме глубинную психическую динамику. Эта жестовая графика передает траекторию движения звука или «след», оставленный эмоцией, уподобляя тем самым страницы кручёныховских книг своеобразным партитурам, дающим возможность читать музыку «чистых эмоций».
186
Именно акцентированный жест письма или рисования представал в творчестве художников и поэтов, входивших в тифлисские объединения, в качестве своеобразной формулы предельного опыта, предельной версии искусства. Эта ориентация на жест была во многом противоположна экспрессионизму. Для экспрессионистов не физический жест, но зрение было центральной категорией. «Воля к исчерпывающему опыту» для них была связана прежде всего со зрением. Художник-экспрессионист хочет увидеть невозможное, сделать доступным для зрения скрытую, истинную суть внешнего мира. Например, в произведениях Э. Нольде, в его «цветовых экстазах» разрушение видимого мира и приближение к скрытому за ним «духовному пространству» происходит через предельно напряженное всматривание. Именно всматривание за видимую оболочку вещей развоплощало, растворяло видимый мир в красочных массах, в которых проступали уже не предметы окружающей действительности, но их эмоциональные сгустки.
1 Эдшмидт К. Экспрессионизм в поэзии // Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986. С. 301.
2 За последние годы в исследованиях многих отечественных и зарубежных авторов уже не раз отмечались параллели некоторых художественных концепций русских кубофутуристов и европейских дадаистов. О предвосхищении, об опережении в творчестве русских художников и поэтов европейского дадаизма свидетельствовали и сами участники европейских дадаистских объединений. Об этом писал, например, Рихтер в своей книге «Дада. Искусство и антиискусство». {Richter //. Dada // Art and Anti-art. N.Y., 1997. P. 198.)
3 Определенные черты экспрессионистского видения присутствуют в некоторых примитивистских работах Гончаровой, Малевича, Давида и Владимира Бурлюков. Их можно отметить также в произведениях Филонова, в ранних работах Розановой, Шагала. Позднее, в конце 1910-х и в начале 1920-х годов, параллельно второй волне экспрессионизма в немецком искусстве, об экспрессионизме можно говорить, например, в связи с некоторыми работами В.Н. Пальмова, А.А. Рыбникова, С.М. Романовича, В.Н. Чекрыгина.
4 См. об этом подробнее в ст. Danto Arthur С. The End of Art // The Death of Art // Ed. by B. Lang. N.Y., 1984.
3 Зданевич И. Доклад, читанный в Академии Медицины / L'Avanguardia а Tiflis. Venezia, 1982. Р. 305-306.
6 Кручёных А., Зданевич И. Предисловие к каталогу выставки картин К. Зданевича. Тифлис, 1917. С. 2.
7 Определение «футуристическая» больше относится к поэтическим произведениям, представленным на страницах книг. Само же стилистическое их оформление было связано, как правило, с неопримитивизмом.
8 Лучисты будущники // Манифесты и программы русских футуристов / Под ред. В. Маркова. Мюнхена, 1967. С. 177.
9 Баллъ X. Дневник // Дадаизм: Тексты, иллюстрации, документы. М., 2002. С. 98.
10 Winter G. Zurich Dada and the Visual Arts // Zada Zurich: A Clown’s Game from Nothing. N.Y., 1996. P. 140.
187
11 Терентьев И. 17 ерундовых орудий // Терентьев И. Собр. соч. Bologna 1988. С. 190.
12 Билль X. Указ. соч. С. 98.
13 Там же.
14 Терентьев И. Кручёных-грандиозарь // Терентьев И. Соч. С. 225. Характерно, что и в этой интерпретации Терентьева явственно слышны неопримити- вистские интонации - прежде всего в отсылках к детскому творчеству как родственному способу восприятия.
15 Rubiner L. Painters Build Barricades I I German Expressionism: Documents from the End of the Wilhelmine Empire to the Rise of National Socialism / Ed. by Rose-Carol Washton Long. Berkeley, 1993. P. 79.
16 Балль X. Указ. соч. С. 99.
17 Там же. С. 100.
18 Там же. С. 106.
А.К. Якимович
ОТ ПОЩЕЧИНЫ К УДУШЕНИЮ В ОБЪЯТИЯХ.
О развитии стратегий раннего и зрелого авангарда
Ранний, молодой авангард 1905-1914 гг. был фанатичен, романтичен и склонен к отчаянным выходкам. Там бросают вызов закоснелому прошлому, там бунтуют против европейской застылости, там зовут окунуться в воды примитива, в океан первобытности и живительного варварства, живительного оккультного знания, мистического прозрения. Мы находим среди когорт и легионов раннего авангарда и грозных пророков будущего обновления, и беспощадных испытателей слова и формы, и у всех них энтузиазм и веселая ярость революции бьет ключом и перехлестывает через край - не только у темпераментного итальянца Ф.Т. Маринетти, но и у более рассудительных немцев Э.Л. Кирхнера, Франца Марка, как и вросшего в немецкую среду странника из России, В.В. Кандинского.
Художники раннего авангарда склонны к буйным субверсивным жестам. И в то же время они часто и охотно говорят словами или дают понять визуально, что их новое искусство нужно людям, что оно служит обществу, оно ведет в светлое будущее, оно открывает глаза заблудшим, очищает души, и пр. Т.е. они проявляют конформность. Они хотят соответствовать нормам общества и культуры. Но это не эстетическая конформность. В языках искусства как раз выражается бунтарское начало. Экстремисты раннего авангарда конформны в этической плоскости. Они хотят послужить человечеству, чаще всего через страдание, т.е. реализовать синдром Ван Гога.
Мотивы жертвенности и духовного мученичества особенно явственно прослеживаются в манифестах и речах, картинах и композициях Ж. Руо и Кирхнера, раннего Кандинского и раннего К.С. Малевича. Это не инженерное служение, не жизнестроение. Кубисты, футуристы, супрематисты не занимались дизайном стульев, штанов или чайников. Они такое дело даже презирали. Они приписывали себе сакральную роль, мессианские функции. Им подавай духовность по большому счету, мировые энергии и прочие особо крупные вещи.
Ранний авангард наивно мятежен и мессиански патетичен. И с такой же степенью наивности он смиряется, и благоговейно подчи-
189
няется отцовой культуре - правильной, нормативной культуре. И сигналы о служении идеалам «разумного, доброго, вечного» в раннем авангардизме тоже показательны. Именно в раннем авангарде звучат, или из рамок раннего авангарда исходят клятвы в вечной верности истинам, верам и нормам человечности, религии, общества. Ранний авангард мечтает осчастливить человечество или хотя бы помочь ему. Авангард в свою юную пору почти всегда хочет, чтобы согражданам стало лучше, готов пострадать за то, чтобы сочелове- чество прикоснулось бы к высшим истинам.
Примером тому мог бы послужить первый немецкий экспрессионизм 1905-1910 гг. Эрнст Людвиг Кирхнер, как и его сотоварищи (но в большей степени, нежели они) был наделен характерной двойственностью немецкого экспрессионизма. Он был энтузиастом «голого человека на свободной земле» (его собственные слова), т.е. нового дикаря, нового естественного человека. В то же время именно этот энергичный руссоист убеждал друзей в необходимости возрождения духовных энергий средневекового искусства. На него смотрели почти как на апостола некоей новой религии.
Художники добивались радикальной «дикости», но в то же время думали о рафинированной духовности средневекового христианства. То был специфически немецкий вариант искания нового соединения «культуры» и «природы». Когда Ф. Марк, А. Макке, Э. Нольде или X. Бар брались за перо, то прежде всего и очень громко они говорили о счастье и привилегии быть «примитивным» художником и находиться вне цивилизации. В приподнятых тонах Франц Марк описывает «варваризацию» нового искусства в своей знаменитой статье в «Синем всаднике» 1912 г., посвященной «диким» художникам Германии. (Статья так и называется: «Die “Wilden” Deutschlands».) В рассуждениях и манифестах немцев происходит постоянное коловращение, а подчас и подмена двух постулатов. То и дело мы обнаруживаем, что проповедь пресловутого «первобытного» состояния духа означает, что подразумевается не просто витальное и дорациональное, а обязательно мистическое и спиритуалистическое состояние. Упомянутая выше статья Ф. Марка имеет такой же «второй план». Такое впечатление, что для «Синего всадника» и журнала «Die Aktion» не было принципиальной разницы между первобытно-анимистским и шаманским умонастроением, с одной стороны, и неоплатоническим христианским визионерством - с другой.
Так действовали представители новоевропейской «фаустовской» культуры. Они хотели получить все и не поступиться ничем. Прикоснуться к разным полюсам имеющихся в культуре возможностей, и не отказываться ни от одной из этих возможностей. Экспрессионисты с поразительной прямотой и отвагой формулируют самые крайние и радикальные идеи авангарда, и тут же, иногда буквально на той же самой странице отдают дань то готическому спиритуализ¬
190
му, то ренессансному культу человека, то оккультным мотивам и фантазиям, то иным традиционным аспектам культурного наследия.
Достаточно вспомнить ошеломляющую тематическую широту альманаха «Синий всадник», чтобы услышать там определенно ноту культурного триумфализма. Мы, европейцы, уже настолько просвещены, что нам открыты даже смыслы и ценности за рамками просвещения и цивилизованности. Мы умеем открыть тайну, мистику и духовные глубины в любых продуктах человеческого духа - от ацтекских скульптур до Эйфелевой башни, от романских порталов до русских лубков, не говоря уже об идолах африканцев и полинезийцев. Эту «фаустовскую» программу сформулировали и честно старались реализовать мастера группы «Мост» в Дрездене и Берлине, как и мюнхенское сообщество в Баварии.
Разумеется, запас молодой субверсии и молодой конформности сохраняется надолго. Начиная работать в определенном ключе, многие художники навсегда сохраняют констелляцию раннего авангарда. Кирхнер, М. Пехштейн, Нольде, Макке и другие не собирались расставаться с экспрессионизмом и в последующие десятилетия. Но радикальный авангард быстро шел к другим стратегиям в других своих проявлениях.
Дадаисты и сюрреалисты не собираются открывать глаза согражданам и обеспечивать им комфорт, лучшую жизнь, гармоническую эстетику. Духовность или нравственная сила, естественный человек и прочие мифы о достижении блага вызывали у них сарказм и специфическую издевательскую реакцию. Настоящие экстремисты зрелого авангарда - Тристан Тцара, Андре Бретон или Макс Эрнст - изъясняются иначе. Негромким, интеллигентным, хорошо поставленным голосом выговариваются некие жутковатые и беспардонные постулаты. Здесь действует принцип денди: воспитанным жестом, холеной рукой, изысканным словом подсунуть обществу что-нибудь абсолютно неприемлемое, крайне абсурдное или шокирующее. Тихим голосом, с интеллигентным выражением лица сказать или сделать нечто такое, отчего у всех язык отнимается и руки опускаются.
Субверсия раннего авангарда, эпохи классического экспрессионизма, классического кубизма и футуризма - это была юношеская, запальчивая, лобовая субверсия. Субверсия зрелого авангарда 1920-х и 1930-х годов несет на себе печать зрелости, осмотрительности, релятивизма, прохладной рассудительности. Зрелость культуры - это пора хладнокровного, недоверчивого, непылкого отношения и к нормам, и к антинормативности. Зрелость есть такая стадия развития личности или группы людей, когда наличествует способность и готовность расчетливо разрушать или расчетливо строить.
Мы видим, как действуют теперь опытные фаусты новоевропейской культуры. Они знают свое дело и не станут понапрасну тратить порох на юношеский бунт. Они занимаются рациональным инже¬
191
нерным делом, проектируют полезные вещи или разрабатывают отвлеченные математические структуры. Это в том случае, если они примирились с обществом и решили стать полезными. Если наоборот, то они тоже не буйствуют впустую: они разрабатывают рациональные и эффективные способы тотальной деструкции (или деконструкции) ценностей рода человеческого, и занимаются этим последовательно и специализированно, создавая настоящую науку безумия и абсурда.
На стадии высокого авангарда происходит примечательный процесс «охлаждения». До того в авангардном искусстве присутствовали эмоционально высокотемпературные страсти по поводу антропных ценностей (добро, смысл, свобода, прогресс, красота, разум, истина, мораль). Дерзко бросают в лицо недоумевающей и разгневанной публики свои подрывные картины фовисты и кубисты, футуристы и экспрессионисты. Публика еще более гневается и недоумевает. В геометрическом абстракционизме или конструктивизме зрелого авангарда нет таких страстей. Там налицо охлаждение. Л. Мохой-Надь или Л.М. Лисицкий, А.М. Родченко или В.Е. Татлин не оперируют гуманистическим пафосом, как содержательным аспектом искусства. Они сосредоточиваются на вопросах конструкции, фактуры, механики, физики или химии.
Разумеется, при желании можно приписывать зрелому (или высокому) авангарду 1920-х годов некие цивилизационные идеи. Демонстративный пафос «сверхценностей» и абсолютов снимается. ^Неопластические и абстракционистские, конструктивистские и прочие формотворческие движения 1920-х годов подчеркивают свой «инженерский» либо «лабораторный» этос. В Баухаузе и ВХУТЕМАСе художники не ставят себе «метафизических» целей, т.е. они не спасают человечество, не решают вечные вопросы (о духе и материи, о красоте и добре, и прочее в том же роде). Т.е. вопросы, актуальные и горячие для раннего Кандинского или молодого Кирхнера, не имеют смысла для зрелого авангарда 1920-х годов.
Там другие вопросы считаются актуальными. Если речь идет о конструктивистах, то они считают важным практически и теоретически решать вопросы о том, как, например, можно создавать посуду или мебель, конструировать книги, и делать другие предметы культурного окружения. Как добиваться оптимальных результатов в проектировании зданий, обстановки, городского пространства (т.е. добиваться стойкости, экономичности, комфортабельности и других полезных качеств), используя выверенные и научно изученные свойства материалов, форм, цветов, фактур, пропорций, и законы восприятия таковых человеком.
Правда, искусство советских «беспредметников» 1917-1930 гг. имело свою специфику. Там нередко выступает вперед кипучая мессианская энергия и эмоциональная идеологичность, пытающаяся увязать между собой новый неизобразительный язык искусства с
192
«мировой революцией», «задачами пролетариата» и другими визионерски понимаемыми материями в духе новой квази-религии. Склонные к коммунистическим идеям личности обычно отличались патетической жестикуляцией и «гегельянской» тотальностью мысли. Таков был, например, Вальтер Гропиус, друг немецких коммунистов и, до известной степени, Советского Союза. Тем не менее, если брать настоящих лидеров и основательных идеологов «беспредмет- ничества» и «производственничества» 1920-х годов, то прежде всего в глаза бросается намеренно строгая, охлажденная, рациональная манера речи и культурное поведение Осипа Брика и Алексея Гана. Самые последовательные молодые мастера тогдашнего советского конструктивизма, братья В. и Г. Стенберги и К. Медунецкий, а также Н. Габо предлагают в 1920-е годы самый последовательный вариант неумолимо строгого, технологически компетентного, прагматически продуманного делания вещей - не обязательно потребительских, но конструктивно, фактурно рациональных объектов, которые могли бы воздействовать на развитую технологию и промышленность, если бы таковые были в Советской России 1920-х годов.
Если речь идет о визионерских станково-живописных опытах, например, Пита Мондриана или Йоханнеса Иттена, то там тоже разрабатываются проблемы «лабораторного» характера. Т.е. как возможно посредством элементарных и «неразложимых» характеристик материальной реальности (вертикаль, горизонталь, масштаб, цветность и др.) добиться таких результатов, которые указывают на спиритуалистические начала (вечность, стабильность, энергия, и т.д.).
Очевидно, что такой подход к делу отличается по своим исходным установкам от демиургических и патетических устремлений раннего авангарда. Зрелый авангард все чаще ставит себе задачу «делать дело», а не предаваться размашистым фантазиям и мечтам о спасении человечества и открытии вечных истин.
Здесь следует оговориться в очередной раз: это дело может быть не только социально конструктивным, но и программно деструктивным. Делать дело означает не только разумно и практично работать с формами, конструкциями и фактурами, но уметь рационально подрывать все основы культурной деятельности как таковой. Имеется в виду литературный и художественный экстремизм, в котором заметно падает эмоциональная температура. Акции, тексты, произведения дадаистов и сюрреалистов мы можем описывать терминами типа «холодное бешенство», «ледяной сарказм». Там, где есть холодок, там есть расчет, предусмотрительность, рациональность.
Тристан Тцара и Андре Бретон, Макс Эрнст и Марсель Дюшан декларировали свою верность случайности, хаосу, абсурду, подсознанию, автоматизму письма, безумию, садизму и прочим подобным вещам. Но они не предавались патетическим неистовствам. Они сознательно и программно работали на субверсию. Они расчетливы и
7. Русский авангард
193
предусмотрительны, они предвидят или калькулируют результаты своих опытов в области рационального устроения хаоса и бреда. Чтобы пылко и гневно оскорблять противника, надо находиться в состоянии горячки. Чтобы расчетливо и умело издеваться, требуется холодная голова.
В построении фраз, в пространстве картин, в инсталяциях и акциях абсурдистов мы заметим странное присутствие тех или иных культурных канонов. Это могут быть реминисценции академизма и классицизма в фигуративном сюрреализме. Это могут быть отсылки к классической поэзии, драматургии и публицистике. Это сознательные апелляции к законам психологии, физики и других наук. Но тут не просто неизжитые остатки классических наследий. Экстремисты, которые прибегают к предельно субверсивным стратегиям, с неизбежностью привязаны к высоким культурным нормам. Привязаны для того, чтобы их терзать и кромсать, но, быть может, не только для этого.
Мы ясно прочитываем в произведении (словесном или визуальном) сразу два слоя. Мы прочитываем слой высокой культуры (музейной, классической, «нобелевской»). Но притом мы видим с жутковатой наглядностью, что отточенная и литературно сделанная фраза, построенная и философски продуманная картина, оперирование цитатами, аллюзиями, формулами и прочими средствами из накопленного арсенала культуры на самом деле не служат культуре, науке или философии, не подтверждают аксиомы культурности, а подвергают сомнению эти аксиомы. Андре Бретон, Макс Эрнст и Андре Массон дали образцы такой холодной подрывной работы, а позднее эти образцы были имитированы Сальвадором Дали, Рене Магриттом и прочими наследниками сюрреализма.
Ранний авангард предпочитал стратегию пощечины, налета, наскока, он любил патетические восклицания на баррикадах, яростные обвинения, грубые оскорбления в адрес оппонента и страстные проповеди. Он раздавал удары ради блага общества, ради исправления культуры, ради сверхценностей культуры. Пожалуй, в экспрессионизме эти аспекты раннего авангарда проявились более рельефно, чем в фовизме, кубизме или футуризме. Зрелый авангард предпочитал стратегии исследователя, экспериментатора и инженера - т.е. носителя «холодной ясности», как выражался Эзра Паунд. Не бить в лоб по общественной системе культуры, а цепко ухватиться за нее, врасти в нее, слиться с нею и повести к своей особой цели - вот теперь задача и цель.
Жизнестроительный пафос отмечает собою один фланг зрелого авангарда. Другой фланг - авангардный экстремизм. Он охотнее всего прибегал к систематическому и умелому, высоко компетентному «удушению в объятиях». Неоавангард, постмодерн и «актуальное искусство» конца XX в. чаще всего перенимали именно эту, т.е. партизанскую и агентурную стратегию.
И.Н. Карасик
«КРУГ МАЛЕВИЧА»
И ПРОБЛЕМА ЭКСПРЕССИОНИЗМА
Проблема экспрессионизма находилась явно на периферии интересов Малевича. Экспрессионизм не входил в число пяти «гинху- ковских» систем, описывающих, по Малевичу, «поле» нового искусства и логику его эволюции. Он не включался в «теорию прибавочного элемента», не фигурировал в знаменитых таблицах, не являлся звеном «педагогики систем», не составлял самостоятельного раздела в экспозиции Музея художественной культуры. В отличие от импрессионизма, не сразу, но признанного полноправной системой нового искусства и закономерным этапом личного пути1, отношение к экспрессионизму не менялось от момента обоснования «нового живописного реализма» и вплоть до акции «пересоздания прошлого».
Если импрессионизму, П. Сезанну, футуризму и - особенно - кубизму посвящены пространные рассуждения в общих трудах и отдельные статьи, если эти явления подробно и пристально изучались в специальных лабораториях ГИНХУКа, если соответствующие произведения «аналитически копировались» научными сотрудниками, а практиканты исполняли специальные упражнения «в системе», то экспрессионизм удостоился лишь двух-трех упоминаний «через запятую».
В раннем творчестве К.С. Малевича есть группа произведений 1911-1912 гг. («Купальщик», «Полотеры», «На бульваре», «Мозольный оператор», «Садовник», к ним можно добавить «Автопортрет» из серии «Красных»), сегодня устойчиво связываемая с экспрессионизмом, хотя и с добавлением уточняющих определений: «примитивистский экспрессионизм» или «экспрессионистский примитивизм». Любопытно, что и сам Малевич выделял в своем творчестве (и в творчестве М.Ф. Ларионова и Н.С. Гончаровой) «период экспрессионизма» (без всяких уточнений), называя круг именно этих произведений: «когда писали банщиков, парятся на полке, маникюр в бане - где, кроме живописи, стремились выразить экспрессию»2. Я процитировала запись от 20. X. 1926 г. в дневнике Анны Лепорской3. Ле- порская, частично пересказывая, частично сохраняя прямую речь, передает длинный и очень интересный разговор Малевича с учениками, в нем он вспоминает прошлое и размышляет о современных
7*
195
тенденциях - наметившемся возврате к предмету, образу, психологии. «На это (на “экспрессию” - И.К.), - продолжает Лепорская, - натолкнули вывески: напр[имер], бондарь - маленький, большая бочка, все орудия где то в этом пространстве, но маленьк[ие], бондарь был очень выразителен. Гладильщицы. Маляры хорошо умели выражать эти ощущения экспрессии. Ходили по базарам смотреть вывески, по ним учились, потом смотрели на людей и видели в них те же ощущения и выражения.
Заходили в магазины. Купцы удивлялись - на что они смотрят. Не понимали, чему они восхищались. Купцы расценивали иначе, - они экспрессии не чувствовали, а м[ожет] б[ыть], и мы сами обостряли это ощущение».
В разговоре с учениками Малевич отметил резоны последующего отказа от этой стилистики. «Художники времени К.С. и он сам делали вещи так, как ощущали», - записывает Лепорская. - «Все предметы, идеи, образы были только формой выражения»... «Дальше - отказ от этого - выдвинули на 1 план живописные ощущения: “мы - живописцы и, двигаясь только по этому пути, сделаем настоящие вещи - все остальное было - как второстепенное - в средствах”». Обратим внимание: в записях Лепорской употреблено именно слово «отказ», которое в этом контексте кажется мне принципиальным. Речь идет об отказе, в буквальном смысле, т.е. об отрицании прежнего опыта, а не о нейтральном обозначении перехода к другому языку, т.е. об эволюции, опирающейся на этот опыт и делающей из него дальнейшие выводы. Приведенные Лепорской мотивы такого отказа - и прежде всего приоритет чисто живописных ощущений, самостоятельных, а не являющихся только формой выражения, - обозначают причины игнорирования экспрессионизма зрелым Малевичем.
Почти единственное, что может быть связано с экспрессионизмом в текстах - это очень выразительный пассаж из первой написанной Малевичем брошюры «От кубизма к супрематизму»: «Изображенные в картинах уродства человеческого тела и других форм, - пишет Малевич, - происходят оттого, что творческая воля не согласна с этими формами и ведет борьбу с художником за свой выход из вещи. Творческая воля до сей поры втискивалась в реальные формы жизни. И уродливость есть борьба творческой силы от тоски заключения»4. Впервые этот фрагмент соотнесла с кругом ранних экспрессионистских работ художника Е.Ю. Деготь, увидев здесь истоки свойственного Малевичу чисто «языкового», концептуального отношения к живописи5. Мне важнее подчеркнуть другой аспект: «страдания формы», столь явные в экспрессионистских произведениях, по Малевичу, были знаком недостаточной силы художника, не способного еще преодолеть сопротивление предмета. Таким образом, экспрессионизм был всего лишь симптомом, но не был выходом. Путь к супрематизму указывали кубизм и футуризм.
196
Показательно и то, как Малевич впоследствии обошелся с собственным экспрессионизмом. Пересматривая перед выставкой в Третьяковской галерее свое творчество и задним числом приводя практику в соответствие с теорией, Малевич не счел необходимым «повторить» экспрессионистские произведения, которые целиком остались за границей, как он это сделал с импрессионистскими работами и крестьянским циклом (напомню, что факт их отсутствия исследователи называют в числе, если не причин, то поводов, подвиг- ших художника осуществить операцию глобального «переписыва- ния»ь). Таким образом, он исключил этот этап, мешающий стройной логике последовательного и целенаправленного движения от импрессионизма к супрематизму, из своего творчества.
Попробуем, опираясь не столько на личный опыт малевичевско- го экспрессионизма, сколько на собирательный образ некоего экспрессионизма вообще, сложившийся в художественном сознании уже к середине 1920-х годов, обозначить «линии несовместимости» супрематизма и экспрессионизма7. Результатом подобной несовместимости и было исключение Малевичем экспрессионизма из общего поля своей теории и практики. Собственно, отмеченная несовместимость самоочевидна, и по определению, вытекает из сути творческой концепции создателя супрематизма. Практически любая ее характеристика найдет в экспрессионизме свою противоположность.
Для Малевича настоящее искусство - это искусство как таковое, оперирующее с формой как таковой, не отягощенной никаким посторонним содержанием, никакими «чужими» задачами. «Я имею теперь дело с самым чистым продуктом, никаких фальсификатов и других понятий, ассоциаций / нет цвет - есть цвет, звук есть звук / Объем есть объем»8. В кубизме и футуризме он фиксирует «бунт к выходу живописных масс из вещи к самосвойным, не обозначающим ничего формам», бунт, завершившийся супрематизмом, т.е. господством «чисто самоцельных живописных форм над разумными»9. Новое искусство, по Малевичу, - это искусство «безотражателъной формы или слепой формы, матовой»10. С этой точки зрения экспрессионизм - осложненное или, говоря языком Малевича, «неэкономное», искусство. Форма в нем не свободна, она не - цель, а средство, не явление (самой себя), но выражение (чего-то другого). «В экспрессионистской живописи, - как популярно объяснял Пунин массовому читателю, - всегда бывает важно не то, что фактически есть на холсте, в картине, а то, что стоит за этой картиной, что эта картина выражает»11.
Экспрессионизм, сходя с «пути искусства без творчества»12, все же оставался столь ненавистным Малевичу зеркалом, пусть и кривым, - зеркалом, «отображающим морду жизни»13.
«Чувство формы» - вот что, пожалуй, более всего разделяет Малевича и экспрессионизм. Мотивы расхождения более чем ясными делает запись в дневнике Л. Юдина: «Я впервые понял, что в его
197
“Ваньке” форма решена». - записывает он 21. X. 1934 г. после посещения больного Малевича. «Все дело, конечно, в том, что К.С. учил нас работать не впечатлением от формы, а самой формой. Реальной формой. Если Пикассо писал: «уважайте предмет», то К.С., можно сказать, чрезвычайно уважает логику формы. Вот что он ни за что не соглашается нарушить. Эта логика для него - высшая реальность живописца. Отсюда его органическая, непредвзятая чистота. К.С. не просто колеблет формы, пока они примут более или менее затейливый и пикантный вид (что очень часто бывает у нас). Он добивается решения форм, для чего жертвует всеми побрякушками»14. Полная противоположность экспрессионизму как искусству «эмоционально-анархических форм» (Б. Арватов)15.
В данном фрагменте, говоря о «логике формы», Юдин прежде всего акцентирует ее качественное измерение, ее пластические характеристики.
По линии «логики формы» определялись и другие различия с экспрессионизмом. После того же посещения Малевича Юдин, размышляя о значимости кубизма для нового искусства, записывает: «Впервые заговорила форма как таковая. Очистить ее от эмоционального, человечины было необходимо, чтобы услышать ее подлинный голос»16. Юдин называет как раз те качества, которые составляли существо экспрессионистского типа творчества, в котором стихия чувства - давно отринутая Малевичем логика «горя и радости»17 - определенно затмевала «логику формы»18.
В искусстве экспрессионизма форма так или иначе отягощена тем, что Малевич называет «художественными миражами «духа», «интуиции», «души»19. Это искусство не отвечает основному условию. Даже в неизобразительных формах оно не является поистине беспредметным, т.е. «без-ликим, без-образным».
«Логика формы» является фокусом малевичевской теории прибавочного элемента. Не случайно в системе доказательств самым главным аргументом становится кубизм, построенный «на чисто формальных основах живописных отношений»20, а связанный с ним раздел теории оказывается разработанным наиболее подробно и тщательно. Процессы формообразования здесь обнажены и могут быть сведены к математически точным закономерностям и графическим моделям, пластические решения легко поддаются типологи- зации и можно выявить базовый линейный элемент, своеобразный пластический атом, который участвует в образовании всех форм данной системы. В не столь формализованных импрессионизме или футуризме имеются тем не менее некие универсальные пластические задачи, такие как «свет» или «движение», которые хоть и трудно выразить особым значком, но по механизму действия можно приравнять к «прибавочному элементу». «Прибавочный элемент» работает как возбудитель болезни и, зарождаясь в недрах предшествующей системы, перестраивает ее в новую. Таким образом, в цепи нет разрывов,
198
а особенно плотно пригнаны друг к другу кубизм, футуризм и супрематизм. Экспрессионизму, с одной стороны, здесь некуда втиснуться. Передача формы осуществляется без его участия. С другой стороны, с точки зрения теории он не репрезентативен, а потому и не нужен: формообразующие процессы в нем смазаны, пластический модуль не выявлен, структурные связи элементов ослаблены. Правда, в знаменитом немецком варианте сочинения «Мир как беспредметность» Малевич однажды все-таки называет экспрессионизм в ряду основных «измов», включая его в поле действия «теории прибавочного элемента: «По известному состоянию прямых и кривых мы определяем принадлежность их к известной культуре прибавочного элемента. Так, например, можно собрать типичные элементы импрессионизма, экспрессионизма, сезаннизма, кубизма, конструктивизма, футуризма, супрематизма (конструктивизм - момент формирования системы) и составить из этого несколько картограмм, найти в них целую систему развития прямых и кривых, найти законы строений линейных и цветных, определить влияние на их развитие общественной жизни современной и прошлой эпох и определить их чистую культуру, установить фактурные, структурные и прочие отличия»21.
Однако «дежурным» упоминанием все и ограничивается: ни дальнейшего анализа (как в случае с импрессионизмом, кубизмом, сезаннизмом, футуризмом), ни выявления «прибавочного элемента» экспрессионизма. Основные системы работают: поставляют аргументы, способствуют доказательству гипотезы, оформлению теории, демонстрируют механизм ее действия. Экспрессионизм используется: на него как на явление, относящееся к новому искусству, распространяется уже готовая теория, реализуя свои претензии на универсальность22.
Еще раз об экспрессионизме Малевич вспоминает в цикле статей для «Новой генерации»: тоже под запятую и в соседстве со случайными «измами» индивидуального, несистемного происхождения. «Сейчас нам остается еще разобраться в искусстве футуризма и этим закончить цикл наших обзоров нового искусства, которое обозначило себя огромнейшим размахом в первой четверти двадцатого века и осталось главным двигателем развития нового искусства в новых формах супрематизма, сюрреализма, симулътанизма, пуризма, одоризма, панзенетизма, тактилизма, хаптизма, экспрессионизма и леженизма»23.
Теория Малевича имела педагогическое происхождение и педагогическое применение. В этой области он стремился утвердить объективный научный метод, не зависимый «от рамок индивидуального толкования ограниченных мастеров-преподавателей». Импрессионизм, сезаннизм и - особенно - кубизм могли отвечать подобным целям. Не случайно даже К.С. Петров-Водкин говорил: на кубизме все мы «ограмотились». «Развитие живописной культуры в кубизме
199
достигло правильной системы»24, поэтому он может служить базовым формообразующим опытом. «Через кубистскую систему мы должны культивировать выводы, образуя новые и новые конструкционные построения»25. Экспрессионизм такой возможности не давал, в нем не было универсальной «языковой» проблематики, не было эмансипированной формы, формы, отвлеченной от создавшей его индивидуальности.
Все эти «линии несовместимости», а число их можно множить и множить, сходятся в одну.жирную точку, поставленную самим Малевичем еще в 1915 г. Исчерпывающим ответом на вопрос о причинах игнорирования или неприятия экспрессионизма может служить энергичная фраза из листовки, распространявшейся на «Последней футуристской выставке картин 0,10»: «В искусстве нужна истина, но не искренность»26. О том, что эта сентенция воспринималась как максима, как основной закон, как «установление» (слово Малевича) и имела неограниченный срок действия, свидетельствуют дневники того же Юдина, в которых она в разное время встречается. «Вот оно когда меня коснулось. - «В искусстве нужна истина, но не искренность», - записывает он 18 января 1933 г.27 Эта сентенция становится своеобразным измерителем отклонений от магистрального пути. «А я давал искренность» - с горечью, - констатирует повзрослевший ученик.
Малевич вполне мог бы солидаризироваться с той характеристикой, какую дал в своих воспоминаниях, написанных на рубеже 1920-1930-х годов, Н.Н. Пунин: «Самое скверное в экспрессионизме - это неограниченность даваемых им возможностей, отсутствие сопротивления: материал не пружинит, он снят эмоцией... Всякое художественное произведение - след борьбы; оно свидетельствует о поведении человека в бою.
Мне всегда казалось, что экспрессионизм - это плохое поведение в бою. Не хватило силы, не хватило твердости; человек сорвался и пошел на нервах»28.
В творчестве своих учеников и соратников Малевич экспрессионизма не поощрял и к его проявлениям относился отрицательно.
«В Ваших вещах, - говорит Малевич Юдину при просмотре работ в 1928 г., - я заметил присутствие экспрессионизма. Нужно уничтожить. Это совершенно ненужная вещь... Психические вещи, больные вещи, считаю, что делать не нужно... Сохранение греческого стиля есть налицо, есть намек, но кое-где помесь экспрессионизма. Неправильные пропорции... Экспрессионизма не делайте, запутаетесь. Это болезненное»29...
Правда, в этом разговоре промелькнул и иной мотив. В самом начале беседы, отметив ненужность экспрессионизма, Малевич ссылается не столько на его вредность, сколько на юдинское незнание. «Вы не знаете экспрессионизма. Вы должны все культуры понимать». Однако этот «оправдательный» по отношению к экспрессио¬
200
низму момент по ходу беседы не имеет дальнейшего развития и полностью поглощается финальным «обвинительным заключением». «Это болезненное...»30.
Однажды Малевич признается: «Да и я сам сейчас хочу писать семью фотографа - и никак иначе, как только экспрессионистски»31. Однако речь здесь, скорее, идет не о правомерности экспрессионистской формы, а о реальности для личности фокусирующегося в ней комплекса ощущений - «болезненных», «тормозящих», «мешающих», таких, от которых нужно во что бы то ни стало освободиться. Малевич поясняет: «раз у меня это чувство, это беспокойное желание есть, я должен его выразить, чтоб опять войти в покой, иначе оно внутри будет меня давить»32.
Допуская различные отклонения от «генеральной линии», связанные с намечающейся в это время в творчестве учеников и зависящей от личных склонностей тенденцией возвращения к предмету, образу, психологии, Малевич, тем не менее, всегда констатирует два момента.
Первый - приоритет беспредметности как главного пути и непременного ориентира. «Все-таки чистая линия - это беспредметность, простые, внеобразные ощущения, строй каких-то элементов в гармонию»... «у искусства одна линия - самая основная - беспредметная». Второй - временный, вызванный обстоятельствами, характер этих самых «отклонений». «Когда же будут кругом супрематические формы и производство будет супрем[атическим], - будет легче - исчезнут легче и все старые ощущения, и старая психология, будут совершенно новые»33.
В «группе Малевича» «экспрессионизм» был синонимом слабости, незрелости, отсутствия «настоящего класса» (очень похоже на пунинское: «не хватило силы, не хватило твердости»).
«К.С. говорил: «Вот вы сказали: “глухой цвет”, - записывает Юдин в дневнике 14. IX. 1934 г. “Пусть будет глухой. Совсем не нужно обязательно писать, как Леже или я (ярко). Может быть, у Вас будет гамма глухая, пять-шесть тонов. Может быть, будет раскраска. Не надо этого бояться. Лишь бы довести до настоящего класса. Тогда Ваши особенности будут Вам только выгодны. Тона не добраны, грубы, жидковаты. Надо гуще (я чувствую, что он под этим понимает). Нужно обязательно быть реальным. Не допускать экспрессионизма ни в коем случае»34. И снова на пять дней позже: «Пусть новые вещи рискованны, пусть повторяют Пикассо, не в этом дело... Колебание будет в границах: нарушать анатомию, пропорции и связи или оставлять “естественность”, но чувство одно и то же. В чувстве все равно ассоциация есть, только без экспрессионизма и уродства»35.
С экспрессионизмом в себе боролись, упрека в экспрессионизме боялись. Особенно драматичной была личная ситуация склонного «больше “переживать” и лишь постольку строить»36 Юдина. Он му¬
201
чается, отмечая «постоянные колебания между пластской и экспрессионистской формой». «В неизобразительном экспрессионизм ведь тоже (еще как!) может проявиться. Я знаю за собой этот грех. Раз за это побили»37.
Вместе с тем и в творчестве учеников, и даже в позднем творчестве самого Малевича мы найдем яркие примеры экспрессионизма, и это совсем не слабые произведения. У Юдина - это, без сомнения, «Натюрморт на светло-оранжевом фоне», в котором предметы, словно «слезают» со своих осей, формы искажены и едва ли не ис- карежены, ритм острых, зигзагообразных линий беспокоен, мазок прерывист и тревожен, цвет срывается на крик. «Экспрессионистский облик» произведения особенно заметен в сравнении с вещами, также прикосновенными к «сфере психического», но тяготеющими к сюрреалистской образности - с торжественным и молчаливым шествием несоприкасающихся друг с другом «трех предметов» или с мягкой загадочностью «Голубого натюрморта», в котором бурное движение отдельных цвето-элементов ограничено замкнутым объемом живописного тела. Немалая доля экспрессионизма есть в пластическом реализме В.М. Ермолаевой. Почти буквально - в серии «Перчатки», с их рваной, грубой, страшной - гримасничающей - формой. Более опосредованно - в цикле «Деревня», где драму разыгрывает цвет, а форма - лишь сгусток горящей красочной массы. Еще более скрыто - в цикле «черных» натюрмортов, смятенных, полных предчувствия трагедии.
В творчестве Малевича чертами экспрессионистской поэтики отмечены несколько работ, вероятно, относящихся к началу 1930-х годов, - «Крестьяне», «Бегущий человек», «Человек с лошадью, выделяющиеся на фоне и основного комплекса произведений «второго крестьянского цикла», и группы «двумерно-плоскостных» формульных «торсов». Расплывчатые контуры, искаженные пропорции, потеря устойчивости, открытая экспрессия цветовой поверхности, «нервный» мазок, активное, немотивированное движение, не находящее разрешения в пределах холста, общее настроение тревоги, отчаяния, безнадежности. Об этом исчерпывающе написал Д.В. Са- рабьянов38.
Этот поздний - непреднамеренный, «нелогичный» - возврат к экспрессионизму свидетельствовал о том, что хотя Малевич и исключал такой тип творчества из магистрального пути, «экспрессионизм» не прошел бесследно для его искусства. Он словно бы спрятался, свернулся, сжался. Экспрессия, покинув живопись, ушла в литературу. Эмоций в малевичевских текстах никак не меньше, чем логики. «Экспрессионизм» переплавился в ту энергию, которой напитаны супрематические формы Малевича, перестающие быть элементарными геометрическими фигурами. Это та энергия, которая делает знаменитый «Черный квадрат» - не только знаком или жестом, но живописью.
202
1 Напомню, что еще в 1918 г. Малевич протестовал против включения импрессионизма в Музей живописной культуры, а в 1915 г. начинал свое движение к супрематизму от кубизма, а чуть позднее от Сезанна. См.: Музей в музее: Собрание музея художественной культуры в коллекции Государственного Русского музея. СПб., 1998. С. 351.
2 Здесь и далее курсив мой.
3 Частный архив, СПб.
4 Цит. по: Сарабъянов Д., Шатских А. Казимир Малевич: Живопись. Теория. М.. 1993. С. 195.
5 Деготь Е. Русское искусство XX века. М., 2000. С. 25-26.
6 См.: Баснер Е. Живопись К.С. Малевича (Феномен реконструкции художником своего творческого пути) // АКД. СПб., 1999.
7 Ориентация на 1920-е годы не случайна. Именно к этому времени относится окончательное оформление философии супрематизма, равно как и гинху- ковская деятельность, связанная с тщательной разработкой аргументации для теории прибавочного элемента. С другой стороны, в художественной жизни активизируется «проблема экспрессионизма». (Факты - Чекрыгин, Тышлер, ОСТ, выставка немецкого революционного искусства). «Экспрессионизмом забиты все углы, - писал чуть позднее Н.Н. Пунин, - художники набиты им, как куклы: даже конструктивизм становится экспрессивным (Пунин Н. Квартира № 5 // Панорама искусств-12. М.: Сов. художник. С. 174). Выходят сразу несколько книг и статей, посвященных экспрессионизму, в которых создается обобщенный, устойчивый и готовый к употреблению образ.
8 «В природе существует объем и цвет...» (цит. по: Сарабъянов Д., Шатских А. Указ. соч. С. 372).
9 Цит. по: Сарабъянов Д., Шатских А. Указ. соч. С. 193.
10 Малевич К. В моем живописном опыте // Малевич. Художник и теоретик. М., 1990. С. 208.
11 Пунин Н. Путеводитель по Отделению новейших течений // Музей в музее... С. 398.
12 Название статьи К. Малевича, опубликованной в 1918 г. в нескольких номерах газеты «Анархия» (72-76). См.: Малевич К.С. Собр. соч.: в 5 т. М.: Гилея, 1995. С. 71-103.
13 В моем живописном опыте. С. 209.
14 ОР ГРМ. Ф. 205, Д. 8. Л. 23 об. Подчеркнуто Л. Юдиным.
15 Арватов Б. Рецензия на книгу К.С. Малевича «Бог не скинут» // Печать и революция, 1922. Кн. 7. С. 343-344.
16 ОР ГРМ. Ф. 205. Д. 8. Л. 28.
17 «Итак, наше “Я” освобождено. Наше творчество не воспевает ни о дворцах, ни о хижинах, ни о бархатах, ни о сермягах, ни песни, ни слова. Ни горя, ни радости» (Ответ - Анархия, 1918, № 29. См.: Малевич К. Собр. соч. Т. 1. С. 65). «Мы, супрематисты, в своем творчестве ничего не проповедуем, ни морали, ни политики, ни добра, ни зла, ни радости, ни горя, ни больных, ни слабых, также не воспеваем ни бедных, ни богатых» (Родоначало супрематиума // Анархия, 1918, № 81; Малевич К. Собр. соч. Т. 1. С. 111).
18 Экспрессионизм предлагал субъективную интерпретацию реальности. Для Малевича, напротив, одним из самых главных было слово «объективный». «Я утверждаю закон, план и систему, т.е. такое положение, которое дает воз- можнсть все субъективные явления сделать объективными» (О субъективном и объективном в искусстве или вообще. - Сарабъянов Д., Шатских А. Указ. соч.
С. 248). Даже представление о душевной жизни, о психических процессах у психики Малевич описывает с помощью таких пассивных понятий, как «светочувствительная пленка», «зеркальный негатив мозга» и т.п. Малевичу явно было чуждым и свойственное экспрессионизму представление о творческой личности. «Современный художник, - считал он, - “художник-ученый”. Он развивает свою деятельность в полном сознании и направляет свое воздействие по определенному плану, производит раскрытие ближайших причин явления и своего обратного воздействия, стремится сознательно выйти из одного в другое явление через известный план, создавая систему как объективный законченный путь действующей силы... Мое субъективное восприятие воздействия мною же и развивается в объективное существование» (Там же).
19 Малевич К. В моем живописном опыте. С. 208.
20 Там же.
21 Малевич К. Мир как беспредметность // Малевич К. Собр. соч. Т. 2. С. 79-80.
22 В теоретических таблицах «экспрессионизм» встречается, кажется, только один раз - и это неспецифическое упоминание. Пояснительный текст к таблице №11: «Рисунок 1 показывает, что один предмет оформления, в дан[ном] случае религия, может / быть выражен в искусстве различными живо/писными системами (натурализмом, класси/цизмом, экспрессионизмом, иконной живописью и т.д.)». См.: Kazimir Malevich. 1878-1935. Каталог выставки. Ленин- град-Москва-Амстердам. 1989. С. 269.
23 Малевич К. Кубофутуризм // НГ, 1929, № 10. См.: Малевич К. Собр. соч. М., 1998. Т. 2. С. 213. Отметим, что речь здесь явно идет о поздней версии экспрессионизма 1920-х годов.
24 О новых системах в искусстве. Собр. соч. Т. 1. С. 169.
25 Малевич К. О новых системах в искусстве // Малевич К. Собр. соч. С. 169.
26 Факсим. воспр. См.: Малевич К. Собр. соч. Т. 1. С. 35. Впоследствии она была повторена в труде «О новых системах в искусстве» (1919).
27 ОР ГРМ. Ф. 205.
28 Пунин Н.Н. Квартира № 5 // Панорама искусств-12. М., 1989. С. 176, 177.
29 ОР ГРМ. Ф. 205. Д. 14. Л. 2.
30 В цитировавшихся уже записях А. Лепорской есть еще один пример «сочувственного» упоминания Малевичем экспрессионизма: «Удерживать целостный образ, все равно какой - мистический ли, живописный и т.д. С фотографии Dixa (капуста и еще что-то) прет это цельное ощущ/ение» (СПб., частный архив). Однако и здесь речь идет прежде всего об адекватной форме: неважно, какие ощущения, важно - какая форма (цельная, крепкая).
31 Днивник А. Лепорской. Запись 20. X. 1926 г. СПб., части, архив.
32 Следует отметить важность понятия «покой», абсолютно чуждого экспрессионистскому художественному сознанию, в системе воззрений Малевича. Для Малевича «человек, достигший совершенства, одновременно уходит впо- кой, то есть абсолют... Бог - покой, покой - совершенство» (Малевич К. Бог не скинут // Малевич К. Собр. соч. Т. 1). В 1926 г. он объясняет ученикам: «Сейчас у нас обстоит дело так, что не только предметы в динамике, но даже динамические] элементы, эссенция, т[ак] сказать, динамическая, и больше того - даже беспредметные космического порядка динамич/еские / ощущения изгоняются из наших чувств для статики. Это уже работа сознания, кот/орое / так действует на чувства, что вся динамика сразу опротивела и привело чувство к стати¬
204
ке. Сознание боится “трепки” нервн[ой] системы в динамике, хочет тоже дать покой» (Дневник Лепорской).
33 Там же.
34 ОР ГРМ. Ф. 205. Д. 8. Л. 2.
35 Запись 19. XI. 1934 г. // Там же. Л. 7 об.
36 «Да, черт возьми, конечно, я разницу чувствую четко между экспрессионистической и кубистической традицией. Шагал или Пикассо. Строить или переживать. Мне, пожалуй, дано, все-таки, больше «переживать» и лишь постольку строить. Образ или беспредметность? У меня, пожалуй, образ» (20. И. 1928 г. // ОР ГРМ. Ф. 205. Д. 5. Л. 20).
37 Запись 18. XI. 1935 г. //Там же. Д. 9. Л. 11.
38 Сарабьянов Д., Шатских А. Указ. соч. С. 168.
ИА. Пронина
О ФИЛОНОВЕ И ЭКСПРЕССИОНИЗМЕ
Дискуссии о принадлежности П.Н. Филонова к экспрессионизму продолжаются уже около 80 лет. В своей автобиографии 1929 г. художник писал о том, что «на основе идеологии аналитического искусства, создавшей к 1914-1916 годам оппозицию всему европейскому искусству, через частичные или исковерканные заимствования ее положений, возникло несколько течений от супрематизма до германского экспрессионизма, помимо ряда одиночек, на чье развитие она повлияла с 1911-1914 или 1923 года»1.
Предложенная Филоновым последовательность возникновения новых идей в искусстве начала XX в. может быть оспорена. Не будучи апологетом мнения художника, подчеркнем, что подобное его высказывание тем не менее крайне важно для понимания сложного механизма взаимовлияний различных авангардных течений в искусстве. Оно свидетельствует о существовании в конце 1920-х годов сравнения его стиля Филонова с экспрессионистским направлением в европейском искусстве и вносит «историчность» в тему данного исследования.
Первой указала на «едва уловимую связь» творчества Филонова с немецким экспрессионизмом В.Н. Аникиева, пользовавшаяся особым доверием художника2. Действительно, интерес Филонова к «отображению внутренних психологических процессов» роднит его «аналитическое искусство» с экспрессионизмом и с тем пониманием природы творчества, которое излагалось художниками нового искусства на страницах альманахов «Союза молодежи».
Позднее, в «Синтетической истории искусств», И.И. Иоффе провел параллель между «Победителем города» (1915) Филонова и картиной Л. Мейднера «Я и город» (1920)3 и она надолго закрепилась в сознании всех последующих исследователей. С тех пор в обобщающих работах по русскому искусству XX в., изданных десятилетия спустя после труда Иоффе, творчество Филонова обычно рассматривается в контексте проблематики экспрессионизма4. Вопрос о принадлежности Филонова к экспрессионистской традиции был подробно рассмотрен и в специальной работе С.И. Кускова5. Расширенное понимание основ экспрессионизма, его «методологического» плюрализма и «стилевой гибкости» позволили автору поместить
206
индивидуальный метод Филонова в лоно именно этого художественного направления и сравнивать его твочество с работами таких немецких экспрессионистов, как И. Кокошка, М. Пехштейн и Э. Нольде6.
Но принципиальное расхождение Филонова с данным течением - особая «сделанность» его произведений и их пространствен- ность уже в 1920-е годы дало В.Н. Аникиевой основание все же вывести Филонова за рамки как экспрессионистского течения, так и французской - импрессионистской - традиции в русском искусстве начала XX в.7 Мысль об обособленном месте художника была позднее развита и имеет своих последователей8.
Вот основные источники, указывающие на то, что проблема стилевой принадлежности работ Филонова к экспрессионистской традиции остается непроясненной. Заметим, что обратиться к этой теме заставляет и тот факт, что общетеоретические рассуждения об экспрессионизме Филонова, как правило, лишены подробного стилистического анализа конкретных произведений художника. Его работы разных периодов творчества редко рассматривают в контексте точного времени их создания.
Зададимся вопросом: где и когда в практике Филонова можно усмотреть границу перерастания его прежнего, символистского, понимания форм в зачатки нового изобразительного языка, родственного художественной артикуляции германского экспрессионизма?
Теоретически, в работе «Канон и закон» (1912 ), манифесте «Сделанные картины» (1914 ), в своем известном письме к Матюшину (1914) художник еще не противопоставляет новое понимание искусства экспрессионизму9. Очевидно, что сравнение произведений Филонова и работ немецких художников, в частности, упомянутая аналогия между «Победителем города» (1915) Филонова и картиной Мейднера «Я и город» (1920) стали выявляться позже, в середине 1920-х годов. Тогда, во время второй волны немецкого экспрессионизма этот стиль распространился и в России, и в Германии «вширь», и его «социальная» программа укрепилась идеологически. Другими словами, тезисы Иоффе и антитезисы Аникиевой и самого Филонова - это их ретроспективный взгляд из начала 1930-х годов на творчество Филонова 1910-х. Отметим, что современники художника видели в напряженном характере его образов стилистическую близость именно к немецким, «классическим», экспрессионистам. Критики того времени, без сомнения, еще хорошо помнили произведения 1910-х годов мастеров «Бубнового валета», Малевича, Гончаровой, Ларионова, Розановой, Маркова и других художников и в творчестве которых были периоды «примитивистского» экспрессионизма. Работы Филонова всегда выделяли из этого круга русских художников. Именно о «самости» Филонова говорил В.Б. Шкловский в рецензии на «1-ю Государственную свободную выставку» 1919 г.10
207
В подтверждение этой мысли, приведем здесь слова ученицы П.Н. Филонова Татьяны Николаевны Глебовой, обращенные к автору этих строк и посвященные рассматривавшейся теме:
«Я прочитала Вашу работу о П.Н. Филонове (имеется в виду дипломная работа 1982 г. - И.П.). Размышления Ваши об его творчестве интересны. Но сравнение его с немецкими экспрессионистами ошибочно и вредно. Это враждебное суждение было пущено в 20-ые и 30-ые годы такими подфранцузивающими художниками, как Тыр- са, Лебедев и им подобными, талантливыми, но поверхностными людьми. Русский драматический дух Филонова в его предметно-сюжетных картинах ничего не имеет общего с поверхностным и извращенным немецким экспрессионизмом. А его чистые абстракции изобретенной формы вообще ни с чем не сравнимы»11.
Ради историчности и конкретности размышлений над этой проблемой обратимся к рассмотрению работ художника 1910-1920-х годов. Ярким примером владения Филоновым новыми стилевыми приемами могут служить два небольших рисунка из собрания ГРМ «Без названия (Дома и звери)» (1910-е) и «Без названия (Три фигуры)» (1912-1913).
Остановимся на пейзаже с фигурами. Эта акварель имеет размер всего 4 х 7,5 см (!). Но это не миниатюра, не эскиз, а самоценное произведение выдерживающее увеличение в десятки раз! О чем оно, почему Филонов включал его в состав персональной выставки 1930 года? Кажется, что три человеческие фигуры, предельно абстрагированные - до утраты пола - покинули дом, вышли в открытый мир, где их не просто подхватил ураган, а неведомые силы Природы сгибают их головы и тела, заставляя подчиниться, сдаться, упасть. Нет ничего бытового, конкретного в этом произведении, его цвета локальны и выразительны, линии рисунка жесткие, стремительные, и как бы выводящие ритмы композиции за рамки изображения. Именно эта маленькая акварель уже есть та точка в эволюции Филонова, позволяющая говорить о его экспрессионизме в «чистом» виде. Но важно проследить как долго Филонов решал свои творческие задачи, пользуясь инструментарием, бывшем в ходу у художни- ков-экспрессионистов того времени.
В иконографии экспрессионизма специальное место занимает тема жизни Христа. Страдальческим звучанием наполнены христианские произведения М. Пехштейна, Э.Л. Кирхнера и др.12
В силу многих причин часто обращался к христологическим образам и Филонов, особенно в пору поисков собственного «слова». Известно, что произведение «Крестьянская семья», которое обычно интерпретируется как «Святое семейство», первоначально так и было названо13. Сюжет Св. Троицы легко определяется в картине «Трое за столом», образы Богоматери с младенцем узнаются в акварелях «Мать» (1916), «Мать и дитя» (1920), «Бегство в Египет» (1916-1918). Событиям страстной недели посвящены композиция
208
«Пасха» (1912), и очевидно, графические листы, изображающие Распятия - «Казнь» (1912, ПТ) и одноименные работы 1913 и 1920-1921 гг. из ГРМ.
Евангельское предание о страстях Христовых, высокий смысл этого жертвоприношения во все времена позволяли художникам выбрать самую драматическую и напряженную интонацию для повествования о них. Но насколько «экспрессивен» Филонов в трактовке сюжета «Распятия»? Постараемся найти точки схода и расхождения стиля Филонова с экспрессионизмом в частном случае, в серии из трех работ с названием «Казнь». В данном случае можно говорить о «серии», поскольку три акварели объединены схожим названием, сюжетом и последовательным развитием их композиций. Образное содержание каждой из работ полнее раскрывается при едином, сквозном прочтении, что является одним из типологических признаков серийности14.
Подчеркнем, что произведение «Казнь» (1912, ПТ), первое в этой серии, недавно было опубликовано как «Голгофа» с датой 1913 год1-*5. Однако мы будем придерживаться авторских названия и даты, приведенных Филоновым в его рукописном списке произведений 1929 г.16
Эта композиция - почти квадрат, в центре которого изображен массивный крест с фигурой распятого, распростершего руки в последнем крестном объятии. Она составляет смысловую ось произведения. Предположительно, что это образ Христа. Его очи закрыты, а голова тяжело, безжизненно поникла. Это образ Христа, испившего всю чашу предначертанных страданий. Но справа, в перевернутой относительно линии горизонта композиции, изображено Распятие как бы в другом измерении, с иной, неземной, мистической точки зрения. Фигура распятого вниз головой человека, кажется, что даже не пригвождена к кресту. Его руки, повернутые внешней стороной наружу, опираются на крест, как на опору. Создается впечатление, что распятый может подтянуться и взглянуть с высоты креста вдаль. В его фигуре угадывается некая потенция движения, его очи открыты, взор устремлен в Нечто, открывающееся только по мере преодоления страданий и земных канонов бытия. Это образ Христа, дающего надежду на будущее воскресение.
Левее центрального креста, там, где нарушена линия горизонта, изображена расслаивающаяся, двоящаяся и даже троящаяся мужская фигура, также перевернутая. Лица этой трансформированной фигуры имеют типологическое сходство с лицами распятых. Выраженная подобным приемом идентичность трех персонажей является важнейшей сюжетной деталью. Она позволяет понять символику мифотворчества Филонова, его вектор переосмысления христианских сюжетов и механизм их перевода на новый изобразительный язык.
На переднем плане композиции также изображены четыре всадника в неком ином временном пространстве. Они не участники и не
209
свидетели сцены Распятия. Они не римские воины. Их одеяния не историчны, что, скорее, лишь символизирует их принадлежность к разным сословиям и даже эпохам. Каждая пара всадников скачет в своем, независимом, ритме. Взгляды наездников устремлены вперед, назад и на зрителя, и это придает дополнительную динамику всей композиции.
Пластические качества этого произведения, такие как уравновешенность статичного центра композиции и динамичного переднего плана, последовательность выделения двух горизонтов, ритмичность всех множащихся элементов, повторяемость круглящихся линий пейзажа, - свидетельствуют о развитом художественном вкусе и композиционном мастерстве Филонова в эти годы.
Заметим, что придуманный итальянскими футуристами «си- мультантизм», как излюбленный способ передачи длительности механического движения, был превращен Филоновым в гораздо более емкий, прием - прием метафизического расслаивания фигур. В рассматриваемой акварели «Казнь» он используется почти в первый раз и имеет смысловое, сюжетное, подкрепление. Скрытая символика перевернутых и расслаивающихся фигур - это как бы отпечатки исхода души из тела распятого Христа. И этот исход совершается там, где меняется линия земного горизонта. Художник не случайно прервал в своей композиции эту линию.
«Прочтение» смысла первоначального использования этого приема вносит новый духовный аспект и в толкование двух композиций Филонова 1910-х годов на тему перерождений: «Перерождение человека» и «Перерождение интеллигента». Сюжетно-оправданное в работе «Казнь» переворачивание и расслаивание фигур встречается затем и в других работах Филонова, например в «Первой симфонии Шостаковича» (1935, ГТГ)17. Происхождение и первоначальная связь этих приемов со Страстной темой в поздних произведениях художника как-то стерлись и, может быть, были забыты и им самим.
Без уяснения этого нюанса трудно понять творческий метод Филонова и философию его творчества. Центральная фигура Христа и перевернутые вверх ногами фигуры из упомянутой акварели 1912 г. позже были перемещены Филоновым в полотно «Композиция. Корабли» (1913-1915, ГТГ). В этой картине в одинокой фигуре, парящей над толпой у верхнего паруса, определенно просматривается развитие филоновской иконографии образа Христа.
На наш взгляд, трактовка христологической темы ранних произведений Филонова сильно отличается от «кричащей», страдальческой, интонации «страстных» повествований немецких экспрессионистов18. Так, в подробно анализируемой нами «Казни» (1912) на лицах всех фигур играет румянец, обыгранный Филоновым в «яблочном» окрасе лошадей. Художник маркировал этой «яблочной» меткой части единой Природы. У него все едины - живые и воскресшие, люди и животные. Побеждает не смерть и страдание, а вечность и надежда.
210
Совершенно иное звучание темы «Распятия» «слышится» в композиции «Казнь» (1913, ГРМ). Название этой работы в списке 1929 г. имеет авторскую ремарку «после 1905 года»19. Но даже эта оговорка не позволила сохранить в каталоге 1930 г. название «Казнь», где нет ни одного из трех произведений с таким названием, а все они обозначены как работы «Без названия»20.
Возможно, все же, что и в правду, снова обратившись в 1913 г. к этой теме, Филонов воскресил в памяти трагические сцены расправ после революции 1905 г., виденные им в путешествиях по России (Волге) и откликнулся на них спустя восемь лет. Или же его дополнение в скобках - это след самоцензуры или цензуры конца 1920-х годов, времени яростной антирелигиозной борьбы, когда любой намек на библейский сюжет был невозможен...
Так же, как работа из ГТГ этот лист - почти квадрат со сторонами - 11,6—13,5 см, но плотность «заселения» его персонажами значительно превышает даже самое смелое воображение. В этой композиции свыше 60-ти прорисованных, хорошо читаемых изобразительных единиц. Фигуры людей, лошадей, рыб, дома, кресты разделены на группы пространством белого листа. Введенные художником подобные цезуры, «пробела», упорядочивают многофигурную композицию, выстраивают иерархию, оттеняют смысловую вертикаль сюжета. На поле изображения доминируют орудия казни - шесть крестов с распятыми на них людьми, причем один крест перевернут. Заметим, что на иконографию подобного сюжета могли повлиять предания об апостольских страстях и подвигах мучеников во имя Христа, распятых вниз головой.
В этом варианте «Распятия» 1913 года так же нет характерных экспрессионистских стилевых и образных приемов в той мере, которая бы позволила говорить об определенной принадлежности «Страстной» серии Филонова к экспрессионизму в его «классическом» виде.
Пластический поиск художника при создании рассматриваемой акварели, очевидно, был направлен на построение многофигурной и многополюсной композиции, объединенной в то же время общим смысловым полем. Можно сказать, что данная работа - это вариант, пример создания своеобразного повествовательного цикла в рамках одного произведения. Этот прием давно был открыт в народном искусстве и иконописи. Предположительно, что уже в этих графических листах, в сложности их композиционного построения просматривается зарождение у Филонова пластической идеи цикла «Миро- вый расцвет».
Третья работа серии - это «Казнь» (1920-1921, ГРМ)21. По сути, это сокращенный вариант акварели 1912 года. Подтверждает это наблюдение один штрих. Лист из ГТГ имеет застарелый горизонтальный сгиб. Линия этого перегиба отсекает от композиции 1912 года сцену со всадниками и, очевидно, был сделан художником во время работы в 1920-1921 гг. Эта деталь не только приоткрыва¬
211
ет метод работы Филонова, периодически использующего свои ранние находки, но и дает повод предположить, что позднюю композицию следует экспонировать не так, как оно воспроизведено в некоторых изданиях22.
Рисунок 1920-1921 гг. выполнен в стилистике уже развитого аналитического искусства с включением элементов «супрематизма», как можно условно обозначить цветные «летящие» прямоугольники, появляющиеся в работах Филонова начала 1920-х годов. Именно эти новые элементы вносят в позднее изображение сцены из Писания вселенский масштаб ранних композиций на эту тему. Можно констатировать, что и в работе начала 1920-х годов Филонов не отказывается от своего понимания высокого смысла жертвы Христа. Отречение от традиционных религиозных идеалов во имя утверждения идеи аналитического искусства еще не произошло.
Проведенный анализ серии акварелей, посвященных теме «Распятия», где, казалось бы, художник имел все основания подчеркнуть страдальческий пафос сюжета, использовать весь арсенал средств повышения экспрессионистской выразительности образа, заострить жесткую линейность не дает повода к причислению всего творчества Филонова к «вообще» экспрессионизму. Вероятно, следует говорить об экспрессионистском опыте Филонова в ряде конкретных случаев. В начале работы таким ранним образцом филоновского экспрессионизма была названа акварель «Без названия (Три фигуры)» (1912). В качестве другого примера «классического» экспрессионизма из искусства Филонова 1920-х годов назовем рисунок «Без названия (Рабочие)»23. Это еще один точечный, но не последний случай использования Филоновым стилистики «чистого» экспрессионизма.
Следуя выбранной логике исследования, в него преднамеренно не было включено рассмотрение известных произведений художника, которые трудно интерпретировать в русле какого-то одного стилистического направления. Не следует забывать, что параллельная работа в разных стилевых манерах, вплоть до реализма с установкой сделать точь-в-точь, вводилась в «программу» обучения в школе Филонова. И такой принцип работы Филонова применял уже в 1910 г. - время первого пришествия экспрессионизма, не затронувшего стилистику его произведений в полной мере. 11 Филонов П.Н. Автобиография. [1929]. Рукопись // РГАЛИ. Ф. 2348. On. 1. Ед. хр. 22. Л. 1,2.
2 Лникиева В.Н. Вст. ст. к каталогу персональной выставки П.Н. Филонова 1929 г. (машинописная копия) // РГАЛИ. Ф. 2348. On. 1. Ед. хр. 44.
3 Иоффе И.И. Синтетическая теория искусств. Введение в историю художественного мышления. Л., 1933. С. 482-485. Интересно, что в дневниках Филонова сохранились три записи о встречах с Иоффе в то время, когда он писал свою «Историю» (записи от 1, 2 и 7 V. 1933 г.). Резюмируя свои впечатления от бесед с Иоффе Филонов записал 7 мая: «Объясняя ему [Иоффе]... нашу идеоло-
212
гию и показывая вещи, я еще раз понял, ...что ни с каким искусствоведом разговора заводить не надо и пояснений не давать» // Филонов П. Дневники. Азбука, 2000. С. 202-203.
4 Гурчин В.С. По лабиринтам авангарда. М: МГУ, 1993. С. 84; Сарабья- новД.В. Неопримитивизм в русской живописи и поэзии 1910-х годов // Мир Ве- лимира Хлебникова. М., 2000. Сарабъянов Д.В. История русского искусства конца XIX-начала XX века. М.: МГУ, 1998. С. 180-182, 215-222.
5 Кусков С. Вопросы о принадлежности Филонова к экспрессионистской традиции // Комментарии, № 2. М.: Валент. 1993. С. 272-282.
6 Там же. С. 273.
7 Аникеева В.Н. Указ. соч.
8 См., например, Bowlt J. Filonov - an alternative tradition? // Art Journal XXXIV (1975). P. 208-215.
9 Филонов П.Н. «Канон и закон». 1912. - РО ИРЛИ. Ф. 656 (рукопись); Интимная мастерская «Сделанные картины». СПб.: Журавль, 1914; Письмо П.Н. Филонова к М.В. Матюшину. 1914 // ОР ГТГ. Ф. 25. Ед. хр. 11.
10 Шкловский В.Б. Свободная выставках всех направлений // Жизнь искусства. Пг., 1919, № 149-150. Об экспозиции произведений Филонова на этой выставке см.: Пронина И Л. В поисках символа. «Мировый расцвет» П.Н. Филонова // Символизм и авангард. М.: Наука, 2003. С. 220-223.
11 Глебова Т.Н. (1900-1985). Письмо от 10.04.1983 // Архив автора статьи.
12 См. об этом: Турчин В.С. Указ. соч. С. 81.
13 Ковтун Е.Ф. П.Н. Филонов и его дневник // Филонов П. Дневники. С. 62.
14 Прохоров Г.А. «Межкартинные связи» в русской живописи второй половины XIX века. Проблемы цикла и серии // Советское искусствознание, 26. М.: Советский художник, 1990. С. 16.
15 Русское искусство XVIII - начала XX века. Рисунок, портретная миниатюра, гравюры. Новые поступления. Каталог выставки ГТГ. М., 2000. С. 88, №400.
16 Филонов П.Н. Рукописный список произведений [1929] // РГАЛИ.
Ф. 2348. Ед. хр. 38. Л. 4. 104, акв., 34,5 х 32 «Казнь». 1912.
17 Передатировка картины была обоснована в ст. Пронина И Л. «Симфония Шостаковича» П. Филонова. Материалы к передатировке картины. IV Научная конференция «Экспертиза и атрибуция произведений изобразительных искусств». М.: Магнум Арс, 2000. С. 174-178.
18 См. прим. 16, № 116.
19 Филонов: Каталог персональной вставки. ГРМ, 1930. С. 32-39.
20 «Казнь», 1920-1921, бум. акв., тушь, 27,8 х 44, впервые воспроизведено в каталоге выставки ГРМ «AVANGARDE, Soviet Art 1920-1930», № 135: в авт. списке Филонова: № 97, акв., 44 х 27,5 «Казнь» 1920-1921.
21 Павел Филонов / Авт.-сост. Г. Ершов. М., «Белый город», 2001. Илл. на стр. 19.
22 Павел Николаевич Филонов. Каталог выставки в ГРМ, Л., 1988. С. 44, №62.
23 О биографических причинах подобного понимания Филоновым процесса творчества см.: Пронина И.А. О «реализме» Филонова. Биографические мотивы в творчестве художника // Experiment, № 9, 2003 (в печати).
А.Г. Луканова
ОБ ЭКСПРЕССИОНИЗМЕ НАТАЛЬИ ГОНЧАРОВОЙ
Французский фовизм, немецкий экспрессионизм и русский неопримитивизм - параллельные течения в европейском искусстве, имеющие много точек соприкосновений и пересечений, а порой, и глубоких взаимопроникновений.
В отношении Н.С. Гончаровой можно отметить, что ей была свойственна как определенная «фовистичность» - открытость, звучность, чистота, динамичность цвета, так и «экспрессионистич- ность» - такое драматическое напряжение, такая сила выражения и воздействия, когда фовистская составляющая явно подчинялась экспрессионистской образности.
Пожалуй, никакому другому художнику-неопримитивисту, кроме Гончаровой, не подходит определение «экспрессивный», «экспрессионистский». Однако в названии темы слово «экспрессионизм» надо было бы взять в кавычки, ибо ни о каком экспрессионизме в строгом смысле применительно к творчеству Гончаровой говорить не приходится. Так же как не приходится говорить, о какой бы то ни было чистоте стиля, которого бы она придерживалась, будь то кубизм или футуризм, в которых Гончарова «пробовала» себя, в большей или меньшей степени черпала из них, разрабатывая совместно сМ.Ф. Ларионовым свою концепцию в искусстве.
Главными направлениями ее творчества были неопримитивизм, объяснение чего давала программа «всёчества», открывавшая путь использования широкого спектра источников самого разного происхождения, и лучизм.
Насколько известно, Гончарова не использовала термин «экспрессионизм», и, по всей видимости, даже не указывала на существование этого движения. В одних из своих записок Гончарова рассуждает о сущности футуризма и кубизма как основополагающих направлениях современного искусства и указывает на новейшие течения: «Орфизм (от Орфея) - создание красочной гармонии, аналогичной музыкальной. Лучизм. Симультане - красочный политемизм, красочное многотемие.
Всёчество - рассмотрение и создание худ(ожественных) вещей без отношения к времени и пространству»1.
214
М. Ларионов, пристально следивший за состоянием новейших идей, писал в 1913 г.: «Из недавно народившихся течений и господствующих в настоящее время выдвигаются: Посткубизм, имеющий в виду синтез форм в противовес аналитическому разложению форм, Неофутуризм, решивший отказаться совсем от картины как от плоскости, покрытой красками и заменивший ее экраном, на котором статичная, по существу, цветная плоскость заменена свето-цветной движущейся, и Орфеизм, учащий о музыкальности»2.
Не приходится сомневаться в том, что Гончарова и Ларионов знали о существовании современного им движения экспрессионистов, уж после выставки «Бубнового валета» 1910 года, где участвовали А.Г. Явленский, М.В. Верёвкина и Г. Мюнтер, знали определенно; думается, что им был известен и термин, начавший хождение с конца 1911 г. Начиная с 1910 г., и особенно с 1912 г., они встречались с экспрессионистами на выставках и могли оценить некоторую общность стилистики, правда, имевшей другую природу и иную психологическую окраску. Они, наверняка, видели, что в основе живописных методов экспрессионистов лежали те же завоевания новейшего французского искусства, которые «проходили» и они сами. Но, полагаю, Гончарова не оценивала это как что-то родственное себе, оно не давало ей самой необходимой питательной среды.
Гончарова и экспрессионисты работали в параллельных пространствах. Как неоднократно отмечал Д.В. Сарабьянов, неопримитивизм является вариантом экспрессионистской концепции творчества, он совпадал с немецким экспрессионизмом по времени: зарождение - 1906-1907, расцвет и доминирующие позиции - 1908-1913, с одной стороны, а с другой - немецкому экспрессионизму свойственны примитивистские тенденции3.
Что же роднит Гончарову с экспрессионистами и что разделяет? Отметим сразу, что от идеологии экспрессионизма - его вовлеченности в вопросы искусства и политики, искусства и общества4, ярого антинатурализма, решительного отказа от греко-римско-ренессансной традиции - Гончарова была далека. Но общее было в напористости, агрессивности стимулирования новых форм в искусстве, установлении художнической воли в преображении реальности, поисков выхода в преодолении индивидуализма.
Одним из важнейших пунктов программы Гончаровой и всего неопримитивистского лагеря, также как и теоретиков и практиков экспрессионизма был вопрос о предшественниках, источниках и национальной традиции.
Гончарова не скрывает, кому и чем она обязана в искусстве. Она с почтением относилась к импрессионистам и символистам группы Наби, под влиянием которых делала свои первые шаги в живописи. Своими учителями она прямо называет «современных французов» - постимпрессионистов.
215
«Я приношу глубокую благодарность западным мастерам за все, чему они меня научили.
Переделав аккуратно все, что можно было в этом роде сделать (...) я предпочитаю исследовать новый путь»5. «Я удаляюсь от Запада, считая его нивелирующее значение весьма мелким и незначительным. Мой путь к первоисточнику всех искусств - к Востоку. Искусство моей страны несравненно глубже и значительней, чем все, что я знаю на Западе (...)»6, - писала она в 1913 г.
Немецкие художники и критики в своей апологии нового направления были едины в утверждении, что экспрессионизм является частью общеевропейского движения против импрессионизма и натурализма, но расходились в оценке роли предшественников. Эрнст Кирхнер, например, в «Хронике группы “Мост”» отрицал влияние французского фовизма и кубизма, а также итальянского футуризма7. Макс Дери считал эти движения слишком ограниченными в восприятии мира8. Пауль Фердинанд Шмидт и Пауль Фехтер отдавали должное кубизму и футуризму, внесшим свой вклад в борьбу с импрессионизмом. Шмидт считал также, что экспрессионизм есть логическое продолжение работы П. Сезанна, «учившего великому упрощению тона», Гогена, открывшего эффект плоскости, Ван Гога, давшего горячие, излучающие цвета, М. Дени, Э. Вюйара, П. Боннара, пытавшихся создать большой стиль через упрощение и актуализацию плоскости - но все они были лишены экспрессионизма9.
Вильгельм Воррингер и Херват Вальден подчеркивали значение французского искусства, «новых парижских синтетиков», и других национальных школ10. Воррингер настаивал также на изучении «тайн примитивного искусства», в котором он видел пути преодоления западного индивидуализма и фрагментарного восприятия природы предыдущими поколениями художников11.
Искусством негров Африки и Океании увлекались многие экспрессионисты (Э. Нольде, Э. Кирхнер, К. Шмидт-Ротлуф). Скульптор Эрнст Барлах писал в 1911 г. коллекционеру Вильгельму Раденбергу: «... я не могу и не хочу отрицать того, что египетское и индийское искусство глубоко повлияло на меня... Я согласен с идеей восприятия определенных внутренних состояний из искусства этих периодов, в котором можно найти общее в тоне и экспрессивной манере...
Я часто чувствую себя психически сродни русскому, азиату, которых можно понять только мистически в отличие от обычного образованного европейца.
Я очень опасаюсь пропустить эти восточные источники, а они, подобно готике и этрускам, играют важную роль»12. Таким образом, Э. Барлах включает Россию в разряд культур, сохранивший перед лицом Запада исконные качества.
Искусство примитивных народов, первобытных культур, ассоциировались в восприятии Гончаровой с искусством Востока, а Восток - это «мы сами»: «Запад мне показал одно: все, что у него есть -
216
с Востока», «я постигла большое значение и ценность искусства моей родины»13, - писала художница и настаивала, что все открытия новых направлений являются лишь повторением того, что уже имело место в примитивных искусствах. «Отныне наша родная старина, наш архаизм ведет нас в неизведанные дали», - программно заявлял от имени «ослиных хвостов», объясняя появление «русского пуризма», С. Бобров в своем выступлении на I Всероссийском съезде художников в декабре 1911 - январе 1912 г.14
Так, Восток, архаика для экспрессионистов - источник поиска новых форм и ощущений, для Гончаровой - тема Востока, тесно сплетаясь с темой национальной традиции, фольклора как носителя этих традиций, древнерусского искусства с утвержденным каноном, являлась сущностной основой ее мировоззрения. Это объясняет пронизывающий ее творчество историзм, дух мифологизма, мышление первообразами, стремление к созданию новых канонов. Сама художница говорила: «В большой любви жителя Востока, в том числе и славянина к синтезу, в понимании окружающего мира и декоративности в его передаче, будь то в поэзии или живописи - персидские и индусские миниатюры, китайские, индусские, русские, персидские и проч. лубки и скульптуры, как-то: русские каменные бабы и индусские скульптуры - все эти произведения до японских гравюр включительно, не копируют природу, не улучшают ее, а воссоздают; следствием этого воссоздания является изумительная монументальность, выявление самых главных характерных деталей, жизненности»15. По мнению Гончаровой, современный художник должен идти вслед этой «свободно трактованной традиционности»16, заданной предками.
Немецкие критики и художники также проявляли свой историзм в отсылке к прагерманским, тевтонским корням для объяснения появления экспрессионизма. Фехтер усматривал прямую связь экспрессионизма с древним стремлением германцев к метафизике, которая до нашего времени сохранялась и проявлялась в идеях Э. Канта, И.-Г. Фихте, Ф. Шеллинга, Г.В.Ф. Гегеля и А. Шопенгауэра. Экспрессионизм освободил энергию духа. Экспрессионизм - не интенция, а судьба17.
И в русском и в немецком случаях поиски корней связаны со стремлением создать всеобъемлющий, доминирующий в искусстве стиль. В поисках определения стиля Пауль Шмидт писал: «Хотя экспрессионизм и не имеет формулы, но упрощение форм, резкие контрасты цветов, разработанная живописная фактура позволяют передать чувства универсальные, космического порядка взамен сиюминутного отражения темы»18. Все положения в этом широком определении живописи экспрессионизма применимы к творчеству Гончаровой, ибо как замечал Фехтер: «... все существующие художественные движения настоящего времени в конце концов экспрес- сионистичны»19.
217
О Гончаровой можно сказать, перефразируя известное положение Н.Н. Лунина о Ларионове (Ларионов «видел импрессионистически»), что она «видела экспрессионистически». Попытаемся проанализировать особенности ее живописного языка. В одном из своих выступлений в печати Гончарова, не соглашаясь с определением собственной манеры, названной критиком «ультраимпрессионист- ской», отмечала своеобразие своей живописи, стремящейся к «достижению твердой формы, скульптурной отчетливости и упрощению рисунка»20. Для этого в ход шли свободное оперирование деформациями и огрублениями, масштабами и ракурсами, одушевление неодушевленного, создание новой цветовой гармонии. Но это пришло не сразу. Творчество художницы последовательно отражает все направления ее поисков.
Известно, что Гончарова пришла к живописи после занятий скульптурой, некоторое время (приблизительно до 1904 г.) работала пастелью, увлеченно перенимая опыт набидов. Мы не знаем достоверно ее самых первых работ, исполненных маслом. Если полагаться на список Эли Эганбюри, то наиболее вероятно, что они были созданы около 1904 г. в манере импрессионизма и дивизионизма. В этих работах нет еще ничего выдающегося, за исключением, уверенного использования контура, еще не выявленный как формообразующий элемент. Он вторит очертаниям фигур и предметов и близок по цвету основному тону живописи. Но этот контур — цветной - синий, зеленый, красно-коричневый, он сохранится в живописи Гончаровой до 1907 г. На границе смены стилей, на этапе перехода от импрессионизма к примитивизму (около 1907 г.) появляется на короткое время огненно-красный контур. С началом примитивистской или «синтетической» стадии (1908-1909), с освоением приемов кубизма возникает новая комбинация элементов: широкий черный, иссиня-черный, лазурный, изумрудно-зеленый контур, в который заключена монохромная красочная поверхность с небольшими нюансами цвета. Композиции балансируют на грани сохранения незначительной пространственной глубины и плоскостностью, задний план уже сильно повышен, предметы трактованы с учетом объема, но примитивистские деформации уже активно спорят с натурой.
Ларионов, объясняя живописные установки примитивизма, советовал Гончаровой: «Делать рисунки вещей, пейзажа и людей так, как представит себе их в данный момент фантазия, не стесняясь решительно ни чем, никаким уродством, никакой выдумкой, никакой фантазией, пробуя различные стили и приемы, а также выдвигая как характерное в ущерб всему другому то одну часть, то другую, то движение, то само положение предмета в пространстве и относительно других предметов, менять их как подсказывает фантазия, инстинкт или известный позыв сделать именно так, а также выдумка, обдуманная нарочито мозгом»21. Собственно, Ларионов призывал
218
соблюдать принципы классического синтеза, о чем писал также Морис Дени: «Классик - это тот, кто стимулирует, синтезирует, гармонизирует, упрощает, и не только когда он пишет (что нетрудно), но и когда он видит. Он изобретает, воссоздает рассматриваемый предмет в качестве объекта»22.
К 1910-1912 гг. живописная система Гончаровой сформировалась. Создается индивидуальный экспрессивный стиль, построенный на сочетании приемов примитивизма, кубизма и фовизма. Упрощение и деформация доведены до своего логического завершения. Утрированные (или деформированные) пропорции фигур и предметов безразличны по отношению к реальному пространству, порой изображение кодируется с помощью геометризированных форм, которые становятся уподобленными антропоморфным знакам. Сверхэнергия исходит от цветового пятна, заключенного в обрамление контрастного контура. Цветовым плоскостям придается дополнительная динамичность: Гончарова раскалывает их с помощью дуг, сегментов, клиньев, раздвоенных лучей, контрастного черного, иногда белого, цвета, как бы то выдвигая, то утапливая изображение в иллюзорную глубину плоскости. «Совсем не достоинство в художнике найти самого себя и писать без конца в известном роде и известными красками, и манерой. Гораздо лучше без конца создавать новые формы и комбинации красок. Их можно комбинировать и выдумывать без конца (...)
Линия, ограничивающая предмет, должна бы быть темнее самого предмета, чтобы выдвигать его, лучше избегать толстых линий и допускать их только намеренно, как лишнюю (третью краску), которую надо также рассчитывать, как и краску двух отделяемых ею предметов. Можно делать светлые, почти белые лица с черными или зелен[ыми], или синими, или красными тенями, помещая их на темном фоне, это дает очень сильное, почти трагическое впечатление, как на круглой табакерке с курящим человеком. Эту комбинацию можно продолжить на окружающие предметы. Самую глубокую тень - черной, вокруг не[е] непосредственно белый цвет и затем цвет, в который окрашен предмет»23.
В эти годы Гончарова создает серии картин на религиозные сюжеты, где многие упомянутые находки дополняются приемами из арсенала древнерусского письма, подновленными с учетом живописных задач автора. В религиозных циклах 1911 г. «Жатва» и «Сбор винограда» Гончарова достигает высот мифологизации, апокалиптической напряженности и провидческих откровений.
Одним из достижений Гончаровой являются эксперименты с красками, которые привели к пересмотру физических возможностей живописного материала - масляная краска получает новое качество - непроницаемости для светового луча. Цвет не вибрирует: не отражает и не поглощает свет, он постоянен и чист по тону. Он статичен и закреплен на своем месте чаще не с помощью конту-
219
pa, а границами прилегающих цветовых плоскостей. Цветовое пятно начинает тяготеть к самостоятельности.
Гончарова писала: «Обыкновенно, я замазываю плоскость, растирая на ней краску небольшими сливающимися плоскостями. Это невольно вырабатывается техника, создающая общий стиль моих работ. На этом не следует ни в коем случае застревать. Вялые, однообразные линии контура нужно тоже выбросить»24.
Контур в своем первичном назначении изменил свою функцию в работах футуристического характера, став, как уже говорилось, «третьей краской». В этих вещах мы встречаем многие из описанных выше приемов. Но доминирующая роль отводится пучку веерообразных мазков, которые вместе с кривыми и прямыми линиями строят композицию, становясь модулем построения живописного изображения. Эти элементы находятся в прямой зависимости от темы и сюжета: чем более насыщена композиция, тем более дробными, миниатюрными становятся пучки мазков, рассыпаясь по всей поверхности. Скопления мазков или повышение интенсивности их цветового звучания наблюдаются в узловых зонах композиции. Этот прием обнаруживает себя особенно ярко в лучистских произведениях.
В дальнейшем Гончарова вводит в изображение формы конусов, сфер, «оперенных линий», имеющих по своей геометрической природе жесткую структуру и соответственно служащих конструктивной составляющей ее композиций.
Самодостаточность, упрощение и чистота цвета и формы позволили Гончаровой на рубеже 1913-1914 гг. «сбросить» предметные покровы и совершить рывок к беспредметности.
Этот сквозной анализ живописных приемов ясно показывает, что в живописи Гончаровой смена стилей шла параллельно с развитием и объективизацией формальных средств.
«Стиль сам по себе всегда выражение идеи, — писал Теодор Да- ублер. Экспрессионизм в любом стиле есть желание представить идею в высоко конденсированной форме, в контексте предельного упрощения»25.
Достижения Гончаровой были по достоинству оценены немецкими экспрессионистами, приглашавшими ее на свои выставки. Эти выставки, являясь международными по составу, были как бы взглядом на интернациональное распространение стиля.
Гончарова впервые участвовала на графической выставке экспрессионистов в феврале 1912 г. Это была 2-я выставка, устроенная редакцией журнала «Синий всадник», куда ее пригласили В. Кандинский и Франц Марк. Художница показала три произведения в неоп- римитивистском стиле - эскизы композиций «Сбор винограда» (предположительно, это эскиз картины 1912 г., находящейся сейчас в Государственном художественном музее Башкортостана, Уфа), «Дровокол» (эскиз композиции 1910 г. из Краснодарского краевого художественного музея) и трудно идентифицируемый рисунок, ука¬
220
занный в каталоге под названием «Kindermord», находившийся в частном собрании.
В том же 1912 г., в марте, работа Гончаровой «Натюрморт с омаром» (1909-1910), которую она подарила Кандинскому, была показана на первой выставке галереи Der Sturm в Берлине, имевшей название «Синий всадник. Франц Флаум. Оскар Кокошка. Экспрессионисты».
В октябре-декабре 1912 г. Гончарова экспонирует три работы на «2-й выставке Постимпрессионизма», организованной Роджером Фраем в Лондоне (1-ю выставку Р. Фрая, проходившую в 1910 г., в Германии называли «экспрессионистской»). Гончарова показала следующие картины: тетраптих «Евангелисты» (1911, ныне в ГРМ), «Сбор винограда» (предполагаю, что это - уже упоминаемая работа из Уфы) и «Улица в Москве».
В сентябре-ноябре 1913 г. на 1-м немецком Осеннем салоне, выставке, представляющей международный модернизм, организованной Хервартом Вальденом в берлинской галерее «Штурм», Гончарова показала свои последние работы лучистского периода, одни из лучших, исполненных в течение 1912-1913 г. Эти три картины не участвовали в экспозиции ее первой персональной выставки в Москве (в каталоге была специальная пометка, что работы находятся на выставке в Берлине): «Кошки (лучистое восприятие: розовое, черное и желтое)», ныне Музей Гуггенхайм в Нью-Йорке, «Дама в шляпе», ныне Париж, Музей современного искусства, Центр Ж. Помпи- ду и «Пейзаж» (как указано в каталоге), являющийся картиной «Лес (желто-зеленый)», находящийся в Городской галерее Штуттгарта.
В феврале-июне 1914 г. на выставке живописи «Синий всадник», проехавшей по скандинавским городам - Гельсингфорс-Трод- хейм-Гетеборг, экспонировался «Натюрморт» Гончаровой (вероятно, “Натюрморт с омаром”).
Наконец, в середине 1914 г. Гончарова получает приглашение X. Вальдена показать этой же осенью в галерее «Штурм» совместно с Ларионовым выставку работ, которые только что, в июне, демонстрировались на их совместной выставке в галерее Поля Гийома в Париже в связи с премьерой постановки «Золотой петушок» в Гранд-опера. На этой выставке Гончарова показала 55 живописных работ, 10 рисунков и 20 литографий. Живописные работы, несмотря на сбивающие ранние даты, указанные в каталоге, почти все идентифицируются. Эти произведения, исполненные в примитивистской и лучистской манере, являлись квинтэссенцией творчества Гончаровой последнего пятилетия (1909-1914). В Париже выставка была воспринята как событие. Вальден также рассчитывал на успех, но из-за начавшейся войны немецкий проект не состоялся, а картины остались в Германии и только после 1919 г. вернулись к Гончаровой, поселившейся к тому времени в Париже.
Так, Гончарова, «верная Востоку», оказалась на Западе. Но это уже другая история.
221
I Гончарова Н С. [Об «измах». 1914] // Эксперимент 5. Лос-Анджелес. 1999. С. 38.
2Ларионов М.Ф. Лучизм. Машинопись брошюры с авторскими правками//ОР ПТ. Ф. 180.
3 Сарабъянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX века. М., 1993. С. 180.
4 В этом смысле интересно замечание Гончаровой: «Если у меня и происходят столкновения с обществом, так только из-за непонимания последним основ искусства вообще, а не из-за моих индивидуальных особенностей, понимать которые никто не обязан». (Н.Г. [Предисловие] // Выставка картин Наталии Сергеевны Гончаровой. 1900-1913. М., 1913. С. 3.)
5 Там же. С. 1.
6 Там же.
7 Kirchner E.L. Chronicle of the Briicke // German Expressionism. Documents from the End of the Wilhelmine Empire to the Rise of National Socialism / Edited and annotated by Rose-Carol Washton Long. N.Y. 1993. P. 23-24.
8 Deri M. Cubists and Expressionism. Pan, 1912 // Ibid. P. 18.
9 Schmidt P.F. The Expressionists, Der Sturm, 1912 / Ibid. P. 13-14.
10 Introduction / Ibid. P. XX-XXI; Worringer W. The Historical Development of Modem Art, frome The Struggle for Art: The Answer to the “Protest ofGesman Artists". 1911 // Ibid. P. 9; Notes to Part One: barly Mamifestations // Ibid. P. 68.
II Wilhelm Worringer / Ibid. P. 9.
12 Letter to Wilhelm Radenberg, 1911 / Ibid. P. 110-111.
13 Н.Г. [Предисловие]. С. 1.
14 Бобров СП. Основы новой русской живописи // Труды Всероссийского съезда художников в Петербурге. Декабрь 1911 - январь 1912. Пг., 1914. Т. 1. С. 43.
15 Гончарова Н. Индусский и персидский лубок. [Предисловие] // Выставка иконописных подлинников и лубков, организованной М.Ф. Ларионовым. Художественный салон. Б. Дмитровка, 11. М., 1913. Март—апрель. С. 11.
16 Там же.
17 Fechter Р. From Der Expressionismus, 1914 / German Expressionism. P. 82-84.
18 Schmidt P.F. “The Expressionists”, Der Sturm, 1912 / Ibid. P. 13-14.
19 Fechter P. Op cit. Ibid. P. 82.
20 Беседа с H.C. Гончаровой // Столичная молва, 1910, № 10, 15 апр. С. 3.
21 Гончарова Н. [Альбом. 1914?] // Эксперимент. 5. Лос-Анджелес, 1999. С. 40.
22 Denis М. Journal. Tome I. (1884-1904). Paris. 1957. P. 197 (цит. по кн.: Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция, Бельгия. 1870-1900. М., 1994. С. 64). Морис Дени интересно замечал в статье «Эпоха символизма» (1934), что воззрения его и его товарищей в 1890-е годы можно было бы резюмировать в теории двух деформаций - объективной и субъективной. Под объективной деформацией подразумеваются принципы декоративной упорядоченности линий и цвета, под субъективной - экспрессивные отклонения, возникающие под влиянием личного чувства художника // Крючкова, 1994. С. 63.
23 Гончарова Н. [Альбом. 1914?]. С. 41.
24 Там же. С.42.
25 Daubler Т. Expressionism. Der Neue Standpunkt, 1916 // German Expressionism. P. 85.
В.В. Сусак
АЛЕКСАНДР АРХИПЕНКО - «ПЕРВЫЙ СКУЛЬПТОР - ЭКСПРЕССИОНИСТ»?
«Архипенко был первым экспрессионистским скульптором, если не первым экспрессионистским мастером. Во всяком случае целое поколение немецких художников многим ему обязано»1. Эта цитата взята из альбома, посвященного творчеству Архипенко, изданного в Потсдаме в 1921 г. Признание в Германии не-немецкого автора первым скульптором столь немецкого направления, каким явился экспрессионизм, кажется достаточно неожиданным и смелым. Более того, с сегодняшних позиций, когда уже четко определены роли Э. Барлаха и В. Лембрука, когда за Архипенко прочно закрепилась слава кубиста-экспериментатора, такое утверждение выглядит спорным. Биографические факты заставляют думать об ошибочности этих слов. Архипенко в начале 1909 г. прибыл в Париж и именно во Франции провел 1910-е годы, а в Германию переехал лишь в 1921-м году с тем, чтобы через два года навсегда покинуть европейский континент. И все же прислушаемся к современникам и попробуем проследить отношения Архипенко с немецкой культурной средой и экспрессионизмом.
В 1906 г., когда в Дрездене создается группа «Мост», в Киеве А. Архипенко вместе с другими участниками студенческих волнений исключают из Художественного училища. Художник С.И. Свето- славский, имевший собственную школу-студию, в знак поддержки студентов организует выставку их работ. Киевская пресса обратила внимание на произведения молодого скульптора, отметив, что у него «есть искра божья». Вероятно, это была самая первая выставка 19-тилетнего Архипенко. Он выставил работы «Женский портрет», «Иуда», «Запорожец», «Отчаяние», «Мысль». Д.Е. Горбачев, приводя эту информацию в своей статье, обращает внимание на названия: «не мыслитель — мысль, не человек в отчаяньи - отчаянье... Начинающий интересуется не бытом, не конкретными случаями; его волновали эмоциональные состояния - духовные сущности человеческого бытия»2. Припоминается сразу и название работы Э. Мунка «Крик» (1895), ставшей своеобразной эмблемой экспрессионизма. Сомнительно, что Архипенко знал о ней уже в то время, но примечатель¬
223
но, что интересы скульптора оказались созвучными последним европейским поискам.
Приехав в Париж, Архипенко быстро вошел в среду художников, определивших впоследствии искусство XX в., и также быстро стал заметной фигурой в этой среде. Впервые он выставил свои работы в «Салоне Независимых» в 1910 г., а с 1911 г. начал выставляться и в «Осеннем салоне». Архипенко участвовал во всех трех выставках группы «Золотое сечение» (1912, 1920, 1925). Его имя звучало на устах парижан, но слава была скандальной и далекой от широкого понимания и тем более финансового благополучия. Большую известность получила карикатура Ж. Леоннека, опубликованная в «La vie parisienne» 30.111. 1912 г., на которой две французские дамы разговаривают перед «Венерой» Архипенко в «Салоне Независимых». «Ты в самом деле считаешь, что она - сестра той, что находится в Лувре? - спрашивает одна из них.
- Да, но у них разные отцы, - отвечает другая». «Гондольер» 1914 г. вызвал у критики ассоциации с метлой и мертвой корягой, а одна из статей, посвященных работам скульптора, была просто озаглавлена «Скандал»3. Официальная публика иронизировала и не принимала творчество Архипенко. В первые годы жизнь его во французской столице была бедной и полностью посвященной творчеству. Весной 1909 г. Архипенко в надежде на поддержку соотечественников вступил в члены «Украинской громады в Париже»4. Но консервативные, далекие от искусства и близкие к политике земляки не приняли ни его творческих поисков, ни его «неправильного» поведения. Вот что один из них, Евгений Бачинский, оставил в своих воспоминаниях: «Я бывал в мастерской Архипенко, но его работы мне не нравились, были отвратительные, и даже по 10 франков за штуку, как он мне предлагал, я не хотел купить. С ним никто не хотел поддерживать отношения, за исключением сестры нашего члена Васильева, которая была его любовницей. Архипенко был пьяницей, гулял “на дне” с парижскими босяками. Ходил по дворам, играл на скрипке, а ему бросали медяки. Тем и жил, бедный»5. Конечно, мнение этих людей мало что значило для скульптора. Гораздо важнее для него было отношение Аполлинера, отметившего работы Архипенко уже в «Салоне Независимых» 1911 г. («у него есть талант») и окончательно вставшего на его защиту после «Салона Независимых» 1914 г. («мне очень жаль тех, кто не может ощутить красоты и элегантности “Гондольера”»)6. Во Франции его ценил очень узкий круг писателей и художников: Б. Сандрар, М. Рейналь, И. Голль, Ф. Леже, М. Лорансен. Французские коллекционеры без особого энтузиазма отнеслись к творчеству Архипенко, до 1923 г. им интересовались в основном немецкие собиратели нового искусства. Не Франция, а Германия стала страной, где прошли первые персональные выставки мастера, где были изданы первые монографии, где его работы стали покупать. Подобное случилось, как
224
известно, с фовистами, да и картину Ван Гога в свое время первым приобрел немецкий музей.
Первым покровителем Архипенко в Германии стал Карл- Эрнст Остхауз. В 1912/13 г. он помог ему организовать большую выставку (совместно с А. ле Фоконье) в музее Фолькванг в Хагене и купил две его работы7. Незадолго до этого, в апреле 1912 г. К.-Э. Остхауз экспонировал в своем музее произведения Вильгельма Лембрука и тоже приобрел одну из его скульптур. Потом был Херварт Вальдсн: в сентябре 1913 г. в Берлине, в его галерее «Штурм», сыгравшей роль «одного из самых главных ферментов немецкого экспрессионизма»*, открылась персональная выставка скульптора, предисловие к каталогу по просьбе Вальдена написал Г. Аполлинер. Вальден приобрел четыре скульптуры и несколько рисунков для своей частной коллекции. Еще одна выставка Архипенко в галерее Вальдена состоялась в 1921 г. В начале 1920-х годов основным собирателем произведений скульптора становится богатый предприниматель из Мангейма, его ровесник Сэлли (Георг) Фальк, бывший друг Лембрука. Лембрук подружился с Архипенко сразу же по приезде в Париж в 1910г., они были соседями по Монпарнасу. Позже Лембрук познакомил его с Фальком. Во время 1-й мировой войны Фальк увеличил свое состояние тем, что шил обмундирование для немецких солдат, и одновременно собрал ценную коллекцию французских постимпрессионистов и немецких современных художников. Он поддерживал Г. Гросса и поэта-экспрессиониста Т. Дойблера. Г. Гросс описывал Фалька как «восточный тип, любивший искусство и компанию художников, и одновременно бывший в хороших отношениях с генералами и армейскими офицерами»9. В 1917 г. его предприятия разорились, и Фальк переехал из Мангейма в Женеву, где ему снова удалось разбогатеть. В ноябре-декабре 1919 г. в Женеве и Цюрихе состоялись персональные выставки Архипенко. Скульптор ездил по этому случаю в Швейцарию и наверняка встречался с Фальком, который купил у него работы10. Европейское признание пришло к Архипенко после 1-й мировой войны. В 1920 г. он принимает участие в 12-й Венецианской биеннале, в 1921 г. его выставки проходят в Вер-
s. Русский авангард
225
лине (галерея «Штурм»), Дрездене, Висбадене, Ганновере, Мюнхене, Потсдаме, Женеве; в 1922 - во Франкфурте, в 1923 - в Праге. И в этом списке, заметим, нет ни одной персональной выставки скульптора во Франции. Тогда же появляются монографии об Архипенко. В 1921 г. выходит альбом в Потсдаме с текстами Т. Дойблера, И. Голя и стихотворением Б. Сандрара. В 1922 г. во Львове была напечатана книжка Н. Голубца «Архипенко» с переведенными на украинский язык большими цитатами из потсдамского издания. В 1923 г. издаются монография Г. Гильдебранда в Берлине (текст на украинском, английском, французском и испанском языках) и небольшая иллюстрированная книга Е. Визе в серии «Молодое искусство» (Лейпциг), в 1924 г. появилась публикация Р. Шахта в «Sturm-Bilderbucher II» (Берлин)11.
В 1921 г. Архипенко женится на Анжелике Шмиц (1893-1957) и переезжает в Берлин. Дед Анжелики, Бонавентура Дженелли (1789-1868), был живописцем-классицистом, ее отец, Бруно Шмиц (1858-1916) - известным берлинским архитектором, создателем помпезных сооружений для кайзера Вильгельма. Сама Анжелика, запечатленная Архипенко во многих произведениях, была тоже скульптором, скульптором-экспрессионистом. Она выставляла свои произведения под именем Гела Фостер, была членом-основателем и единственной женщиной в «Sezession Gruppe», созданной в Дрездене в 1919 г., куда вошли Отто Дикс, Конрад Феликсмюллер, Людвиг Майднер12. Женитьба способствовала признанию Архипенко и укреплению его позиций в немецкой художественной среде. В 1921-
1922 гг. он открывает в Берлине собственную художественную школу, которая пользовалась большой популярностью. Начало 1920-х годов - период наивысшего успеха. В письме к брату от 3 февраля
1923 г. Архипенко сообщает о своей выставке в Лейпциге и о том, что музей купил его работы из мрамора. «Это шестой германский музей, в котором навсегда останутся мои произведения», - с гордостью пишет скульптор13. Евгений Архипенко, живший в то время вместе с отцом во Львове, пытался пробудить в своем брате патриотические чувства14. Александр Архипенко отвечал ему на это: «Я художник европейский и им должен остаться. Рожден я Украинцем и буду счастлив, если на Украине ко мне будет такое отношение как хотя бы в Германии... Сейчас в Национальной Берлинской галерее выставлены мои работы, обо мне в Европе пишут огромные фельетоны, приобретают мои работы в музеи, а первое слово с Украины было весьма кислое. Не знаю я ли не развит для Украины или наоборот, во всяком случае я остаюсь тем, кем был»15. .
Архипенко обладал не только артистическим чутьем, но и жизненной интуицией. Будучи далеким от политики, он тем не менее уже в 1923 г. писал отцу и брату, объясняя причину своего отъезда в Америку: «Я не думаю, что в Европе вся политическая и экономическая путаница может быть разрешена мирным путем, и близко то
226
время, когда вспыхнет новый европейский пожар... Я хочу заблаговременно уйти в страну, где жизнь и покой гарантированы и где мое имя имеет известность и почет. Там и мое творчество уцелеет от разрухи, и плод моих трудов наверное будет оценен, тогда как в Европе быть может некому будет заботиться о другом, как о добыче куска хлеба и о спасении жизни... Если не теперь, то скоро разразится буря. Больше европейского сумасшествия меня интересуют способы окраски цинка, в большом количестве экземпляров»16.
В 1923 г. закончился «европейский» период биографии Архипенко. Как видим, он был достаточно насыщен «немецкими» связями и событиями. Они не могли не повлиять на творчество скульптора.
Архипенко вошел в историю искусства благодаря своим нова- торствам: кубистическим абстрактным формам, скульптуро- . . „ u 1Л)Л
r ^ r J Л. Архипенко. Поцелуи, 1910
живописи, использованию
«дыр» - чистого пространства,
вогнутых («негативных») объемов и многим другим открытиям. Дональд Каршан в статье «Революции Александра Архипенко. Словарь, содержащий в зародыше всю современную скульптуру» насчитал 20 конкретных нововведений17. Разнообразие и изобретательность дарования скульптора уже не раз сравнивались с продуктивностью Пикассо. В этом творческом выбросе Архипенко экспрессионистские реминисценции не играли доминирующей роли, и все же их можно обнаружить и проследить в русле темы настоящего издания.
Теодор Дойблер - немецкий поэт-экспрессионист, в своем тексте об Архипенко для потсдамского альбома 1921 г. избирает для сравнения и сопоставления двух других скульпторов - Эрнста Барлаха и Вильгельма Лембрука. Заметим, что именно их, а не Константина Бранкусси, Жака Липшица, или Хану Орлову, например. Его статья начинается утверждением, что современное искусство редко обладает монументальностью. Дойблер не находит ее ни в работах - «сопереживаниях», «состраданиях» Барлаха, ни в произведениях
8*
227
А. Архипенко.
Плафон, 1913, гипс, Тель-Авив,
Художественный музей
Умирающая Ниобида. 5 в. до н.э.
228
«лирика» Лембрука. Неожиданно для себя он обнаруживает это качество в ранних вещах Архипенко. Рядом с его произведениями у него рождается двойственное ощущение «макрокосмоса и микрокосмоса». Это одновременно и архитектурные сооружения (они напомнили Дойблеру средневековые башни, увиденные в Болонье), и абсолютно «гуманные», сомасштабные человеку творения. Дойблер с виртуозной внимательностью и поэтичностью описывает «Торс» Архипенко, указывая, что женщина является главным объектом в его творчестве. Архипенко не следует за негритянской скульптурой, его женщина - носитель цивилизованных отношений, ее отличает культура, грация...18 Все это действительно соответствует женским торсам Архипенко, подходит к «Причесывающейся женщине», но в том же потсдамском альбоме помещена репродукция «Портрета госпожи Каменевой», 1909 г., приобретенная музеем в Хагене. При всей очевидной архаизации, упрощении форм, стремлении автора к «ассирийской монументальности» (И. Голь) остается уверенность, что портрет похож. Как относился скульптор к этой женщине? Если ненавидел, зачем работал, тратил время, расходовал материал? Если портрет был заказан, как могла отнестись к такому изображению модель? Это лицо полностью вписывается в «некрасивую» эстетику немецкого экспрессионизма, рядом с ним припоминаются уродливые лица на картинах Э.Л. Кирхнера и К. Шмидта-Ротлуфа. Еще одна работа Архипенко «Поцелуй» (1910) (она была уничтожена автором) также вызывает в памяти формальный язык экспрессионистов. Бернар Дориваль в не очень доброжелательной статье «Замалчивания Архипенко и Липшица» подобрал большой иллюстративный материал о «первоисточниках» в творчестве двух скульпторов19. В нем он указывает на «Пару влюбленных» из индийского храма в Каюрахо, послуживших основой для парафраза Архипенко. При сравнении знакомство скульптора с этим произведением не вызывает сомнения, но еще более очевидно то, как скульптор упростил, очистил форму от второстепенных деталей - украшений, браслетов. Более того, он утрировал силуэты тел, исказил их до уродства, но тем самым достиг желаемого - ощущения силы страсти. Скульптура Архипенко не может быть названа «Парой влюбленных», это - изображение поцелуя.
«Эскиз плафона» (1913) представляет собой широкое поле для искусствоведческой интерпретации. С одной стороны, в геометризации человеческих тел, в упрощении форм до конусов и цилиндров можно усмотреть тенденцию к кубизму. С другой стороны, этот рельеф, экспонировавшийся в 1913 г. в галерее «Штурм», в своей напряженной динамике напоминает живописные композиции Ф. Марка («Лань в лесу» и др.).
Названные произведения раннего Архипенко немногочисленны, но внешне и внутренне они близки немецкому экспрессионизму и могут служить его дополнением в скульптуре.
229
В первой части публикации уже говорилось о дружбе Архипенко и Лембрука, о том, что коллекционер Лембрука, Фальк, стал после его смерти собирать работы Архипенко. Неизвестно насколько • близкими были отношения двух скульпторов, но, несомненно, уход Лембрука был потрясением для Архипенко. Интересен диалог между их произведениями - эхо, отзвук Лембрука в творчестве Архипенко. В 1910 г. Архипенко исполнил гипсовую статуэтку «Женщина, опустившаяся на колено» (30 см). Бронзовый отлив он смог осуществить лишь 10 лет спустя. При взгляде на позу, стилистическую трактовку этой небольшой работы Архипенко, хранящейся сегодня в Художественном музее в Тель-Авиве, в памяти возникает «Коленопреклоненная» Лембрука, созданная им в 1911 г. Указывая на эту параллель, здесь совершенно не преследуется цель доказать, что работа Архипенко послужила толчком для поисков Лембрука. Сам Архипенко не был «изобретателем» подобного мотива. Его генеалогия, в частности мотив «рук-клиньев, охватывающих голову», прослеживается со времен античности. Исследователи выводят этот жест из «Умирающей Ниобиды» (серед. 5 в. до н.э.), указывают на повтор его «Умирающим рабом» Микеланджело20. Лембрук отказывается от такого расположения рук. При общем подобии поз двух фигур Архипенко и Лембрука очевидна разница этих произведений: у Архипенко зрителя захватывает лаконичная «певучая» форма, у Лембрука за ней чувствуется огромное внутреннее, духовное содержание. Именно это «духовное» и желание выразить его в скульптуре, проявится в творчестве Архипенко вначале 1930-х годов. Может быть как воспоминание о друге.
В 1933 г. в Чикаго в «Украинском павильоне века прогресса» состоялась персональная выставка Архипенко, на которой впервые были представлены три женские фигуры из искусственного камня: «Ма - Видение», «Ма - дающая Сила», «Ма - Медитация» (Ма - Apparition; Ма - Distributing power; Ма - Meditation). В предисловии к каталогу К.-Ж. Бюлье отметил, что эти фигуры свидетельствуют «о новом удивительно поэтическом отходе от его ранних произведений»21. Работы Архипенко представляли собой выражение его мистической концепции женственности, над которой он в то время работал: «Ма означает вечное Женское, которое ближе к Создателю, чем мужское начало, - творческая Интуиция, вдохновляющая художника. В эту техническую, материалистическую эпоху Архипенко стремится поднять Женское на высокий недосягаемый уровень, на котором оно находилось в песнях средневековых трубадуров»22. В каталоге чикагской выставки была также помещена маленькая «история», написанная самим Архипенко:
«Ма посвящена каждой Матери; каждому, кто любит и страдает из-за любви; кто творит в искусстве и науке; каждому герою; каждому, одолеваемому проблемами; каждому, кто чувствует и знает вечность и бесконечность.
230
АЛ. Архипенко. Женщина, опустившаяся на колено, 1910, Тель-Авив, Художественный музей
В. Лембрук.
Коленопреклоненная,
1911
А. Архипенко.
Ма - Медитация, 1933
МЛ
В большом городе появилась высокая, стройная, широкоплечая женщина. Ее красота завораживала. Кто ее видел, никогда уже не мог забыть. Ее имя было Ма.
Пришла она к изобретателю.
Они обменялись быстрым взглядом, и между ними возникла сила, перед которой человеческие существа не способны устоять.
Она спросила: «Почему ты такой грустный?»
«Потому что то, что я любил, умерло», - сказал он, - «мое сердце и мои мысли напоминают этот разделенный шар».
Она ответила: «Ма вернется к тебе. Твое сердце и мысли воссоединятся, и ты снова будешь счастлив».
«Я верю и жду тебя... Ма».
Когда она вернулась, светила луна.
Она взяла две половины разделенного шара, думая, что сможет соединить их. Но изобретателя там уже не было; и целостность шара была навеки нарушена... пространством.
Пространство - символ бесконечности.
Пустота - преобразованная в божественную силу... возвышенной любовью и страданиями.
Смерть сильнее любви, ибо разрушает ее...
...Но любовь сильнее жизни, ибо ее создает:
Прошло время.
Ма снова появилась в городе. Преображенная любовью, теперь она была сверхчеловеком. Обучая людей, чем больше сек¬
232
ретов она открывала, тем больше знала сама. Чем больше она учила, тем богаче становились ее собственные чувства, красота, и мудрость.
Она открывала секреты искусства и науки; помогала сориентироваться в сложных проблемах; поддерживала бессмертие творческого гения; уничтожала в герое страх смерти; помогала сотворению и развитию жизни; вела к счастью страдающих от любви.
Ма знает и чувствует бесконечность и вечность - потому что она является их частью.
Ма обладает безграничным инстинктом и интуицией.
И в своей мудрости она предчувствует грядущее»23.
Этот текст кажется неожиданным для устоявшегося представления об Архипенко как ана- литичном, изобретательном экспериментаторе формы. Его краткая новелла заставляет вспомнить немецкую экспрессионистскую прозу. Она наполнена символами, проникновенна и немного... наивна. «И так как все возвышенное в его беспредельности всегда будет составлять основу счастья (как свет возможен только сияющим, потому что его исходящие лучи вновь в нем собираются), так и Христос, Савонарола и подобные им призывали в своей любви, в своем ощущении истины к божественной радости - к высшему счастью человека. И небо приняло их, небо, до которого они хотели поднять людей и в котором все
А. Архипенко.
Ма - дающая Сила, 1933
233
бы тогда слилось в один аккорд - Любовь...»24 Приведенный фрагмент принадлежит уже Лембруку. Столь самобытные в своем творчестве скульпторы оказались близки во внутренних ощущениях и побуждениях. Эпоха романтизма, если не ограничиваться формальной стороной, а рассматривать широко ее умонастроения и отношение к жизни, не закончилась в XIX в. Духовная чистота, сакральное понимание процесса творчества явились общими качествами двух великих художников XX в.
В каталоге выставки Архипенко 1933 г. были воспроизведены две из трех фигур Ма. «Ма - дающая Сила» представляла собой стоящую женщину, держащую в руках две половины шара, «навеки разделенного пространством». Обхватив верхнюю половину длинными изогнутыми пальцами левой руки, она пытается соединить ее с нижней частью шара и восстановить нарушенную целЬстность. Удлиненный силуэт, обобщенно трактованные голова и лицо, легкое платье-драпперия, струящееся по фигуре, все эти формальные качества используются Архипенко для того, чтобы передать мистическую, неуловимую сущность источника творческой силы, женского по своей природе. Наиболее удачной признавали «Ма-медитацию». На выставке эта фигура из искусственного камня была окрашена в голубой цвет. Несмотря на измененность позы и разницу в размерах, именно «Ма-медитация» (75 х 45 х 17 см) ближе всего по своим пропорциям, формальному языку и, главное, внутреннему настроению напоминает «Коленопреклоненную» В. Лембрука (175 х 68 х 138,5). Можно подумать, что это одна и та же модель, которую Архипенко приподнял с колена и усадил на небольшой постамент. Ю. Маркин, тонко и точно чувствующий исследователь творчества Лембрука, писал о «Коленопреклоненной»: «Мария, Леда, Даная одинаково возможны для зрителя в этом целомудренном образе, ощущение высшей предназначенности и таинственной духовности остаются в нем»25. Именно это «вечное Женское» стремился передать и Архипенко в своих «Ма». Благоговение перед Женщиной, рождающей Жизнь, вдохновляющей к Творчеству, руководило двумя скульпторами. Их работы символичны и почти лишены чувственного начала. При этом ошибиться в авторстве невозможно. Шедевр Лембрука драматичнее и глубже, создается впечатление, что скульптор пропустил через себя каждый миллиметр материала, воплотив его в этот загадочный женский образ. «Ма-медитация» более обобщенна, черты лица, прическа, платье лишь намечены, кажется, что Ма явилась однажды в мастерской самому Архипенко, и он быстро ухватил ее облик в материале. Кисти рук Ма встретились, соединив - спрятав шар... В 1933 г. Архипенко выполнил 12 бронзовых отливов скульптуры. Одну из бронзовых фигур в 1934 г. он подарил Национальному музею во Львове. В 1937 г. «Коленопреклоненная» Лембрука была выставлена нацистами на выставке «Дегенеративное искусство». В 1954 г. «Ма-медитацию» Архипенко уничтожили во Львове вме¬
234
сте с работами других художников «националистов и формалистов»26.
После 2-й мировой войны Архипенко получил мировую известность. Его персональные выставки демонстрировались на европейском континенте, но опять любопытная деталь: если посмотреть список каталогов, они проходили в основном в Германии, и ни одной индивидуальной презентации Архипенко не состоялось до сих пор во Франции. В 1955-1956 гг. прошли выставки в Дюссельдорфе, Дармштадте, Мангейме, Реклингхаузе; в 1960 - в Хагене и Саарбрюкене, в 1962 - в Дюссельдорфе, в 1964 - в Мюнхене, в 1986 г. - в Саарбрюкене27. Наконец, в 1997 г. во Франкфурте на Майне Аннет Барс был издан двухтомный каталог скульптурного наследия Архипенко28. Наверно, объяснений этому факту несколько. Помимо наличия произведений в музейных собраниях, здесь, по-видимому, сыграло роль отношение между французской скульптурной школой и творчеством Архипенко, явно не вписывавшемся в ее традиции. Этому можно посвятить специальное исследование.
Цитата, приведенная в начале статьи, имела продолжение: «Архипенко был первым экспрессионистским скульптором, если не первым экспрессионистским мастером. Во всяком случае целое поколение немецких художников многим ему обязано. Но очень скоро... отчалил Архипенко от экспрессионистической пристани. Он перешел к кубизму, т.е. к самому себе. У гения все методы - только этапы»29.
Обозначить этот этап и ставилось целью этой публикации. 11 Archipenko-Album / Einfiihnmgen von T. Daiibler und I. Goll. Potsdam, 1921. S. 12.
2 Горбачов Д. I apxaicT, i футурист. Олександр Архипенко. 1867-1964 // Хрошка, 2000. Кшв, 1993, № 5(7). С. 199.
3 Helsey Е. En toute ind6pendance au Salon des 1пбёрепс1ат8 // Le Journal, 1914, 2 mars; Un Scandale // Le Bonnet Rouge, 1914, 7 mars.
4 «Украшська громада в ПарижЬ (Le Cercle des Oukrainiens к Paris) - объединение, существовавшее в Париже в 1909-1914, имевшее свою Художественную секцию. См.: Dupont Melnycienko J.-B. Les Ukrainiens en France avant la Ргепйёге Guerre Mondiale // L’Est еигорёеп, 1998, ^Ше^есётЬге (№ 251-252). P. 20-36.
5 Архив E. Бачинского. Библиотека С. Петлюры в Париже. Бачинский не совсем точен: Архипенко, действительно, ходил по дворам, но зарабатывал пением, а не игрой на скрипке.
6 Apollinaire G. Chroniques d’art (1902-1918). Р., 1960. Р. 197, 348. См. так же: Асеева Н. Етюди мистецтвознавця. Аполлшер про украшських митщв // Хрошка 2000. Кшв, 1995, № 2-3. С. 276-286; Люба /. Архипенко вщкритий Аполлшером в «кубютичному» Парюю // Архипенко i свпчэва культура 20 ст.: Матер1али конференцй. Кшв, Нацюнальний музей, 2001. С. 33-37.
7 Guralnik N. The Erich Goeritz Collection of Works by A.Archipenko at the Tel Aviv Museum // Alexander Archipenko: A Centennial Tribute. Washington, 1986. P. 107.
235
8Passuth К. Der Sturm, centre de l’avant-gardc intemationale // Paris-Berlin 1900-1933. P., Baubourg, 1992. P. 132.
9 Guralnik N. Op. cit. P. 102.
10 В конце 1920-х годов Фальку пришлось продать свою коллекцию произведений Архипенко, и в 1933 г. она оказалась в музее в Тель-Авиве. Сегодня это самая большая (30 работ) коллекция ранних произведений Архипенко.
11 Archipenko-Album.
12 Janszky Michaelsen К. Alexander Archipenko: 1887-1964. Alexander Archipenko. A Centennial Tribute. Washington, 1986. P. 54-55.
13 Письмо от 3.11. 1923 г. См.: Сварник Г. Листи Олександра Архипенка до брата Свгена Архипенка в Нацюнальнш б1блютец1 у Варшав1 // Архипенко i ceiToea культура 20 ст.: Матер1али конференцп. Кшв: Нащональний музей. 2001. С. 62 (№8).
14 Архипенко Евгений Порфирьевич (1884—1959) - ученый-агроном, был министром в правительстве Украинской Народной республики в 1919 г. В 1920-е годы жил во Львове, с 1944 г. переехал в Германию, умер в Дармштадте.
15 Письмо от ЗЛИ. 1921 г. См.: Сварник Г. Op. cit... С. 57 (j4 1).
16 Письмо от 3.11. 1923 г. См.: Сварник Г. Op. cit...С. 62 (№ 8).
17 Karchan D. Les revolutions d’Alexandre Archipenko. Un vocabulaire qui portait en germe toute la sculpture contemporaine // Plaisir de France, 1974, N 7-8. P. 12-17.
18 Cm.: Archipenko-Album. S. 6-10.
19 Dorival B. Les omissions d’Archipenko et de Lipchitz // Bulletin de la Societe de l’Histoire de Part francais. Annee 1974. P., 1975. P. 201-220.
20 Guralnik N. Op. cit. P. 112-113; Homann W. The Sculpture of Henri Laurens. N.Y., 1970. P. 11.
21 The Archipenko exposition of sculpture and painting in Ukrainian pavilion at a century of Progress. Chikago, 1933. P. 7.
22 A. Archipenko / by C.J. Bulliet // The Archipenko exposition... Chikago, 1933.
P. 7.
23 The Archipenko exposition... Chikago, 1933. P. 9. Текст был опубликован на англ. яз. в переводе Й. Кембела.
24 Цит. по: Маркин Ю., Бугуева Ю. Вильгельм Лембрук. М., 1989. С. 169.
25 Там же. С. 61.
26 Каталог втрачених експонат1в Наюнального музею у Львoвi / Упор. В. Арофйсш, Д. Посадська. К.; Льв1в, 1996. С. 20, 45 (два живописных произведения и бронзовая «Ма»).
27 Alexander Archipenko. A Centennial Tribute. Washington, 1986. P. 188-189.
28 Barth A. Archipenko plastisches Oeuvre. Frankfurrt am Main, 1997. V. 1,2.
29 Archipenko-Album. S. 12.
О.А. Лагутенко
«ОБЩИЙ ЗАГОВОР И ДЕРЕВА И ТЕЛА». Экспрессионистские мотивы в графике Марии Синяковой 1910-х-1920-х годов
«Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова // Явились вы, как лебедь в озере», - писал о Марии Синяковой Велимир Хлебников1. А художник Д.П. Гордеев вспоминал: «У Мани был иконописный лик, ...немного старообрядческий»2. Имя Марии Синяковой под воззванием «Труба марсиан» среди имен: Виктор Хлебников, Божидар, Григорий Петников, Николай Асеев. Они гордо возвещали: «Мы, одетые в плащ только побед, приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени»3. Далее их идеи раскрывал Хлебников: «Мы зовем в страну, где говорят деревья, ...где весенние войска любви, где время цветет как черемуха»4. Эти строки, написанные в 1916 г., кажутся не только поэтической метафорой, они точно переводят в образ словесный мир акварелей Марии Синяковой.
Ее немногочисленные произведения, часто оставленные автором без названий, передают ту особую атмосферу природной красоты, творческой жизненной свободы, вольного интеллектуального путешествия по временам и странам, которая сложилась в Красной Поляне. В живописном месте, в 20 км от Харькова, в просторном доме, где жила большая семья Синяковых, собирались художники и поэты Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Велимир Хлебников, Николай Асеев, Григорий Петников и его брат Богдан - Божидар, братья Владимир и Давид Бурлюки, Дмитрий Петровский, Василий Каменский5. Хозяйками дома были пять красавиц-дочерей, «кто чаровал нас, не читаемых в грезах, а настоящих», - писал Велимир Хлебников в поэме «Синие оковы», посвященной сестрам Синяковым6. «В их доме родился футуризм», - констатировала Л.Ю. Брик7.
Как известно, словом футуризм в России определялись многие авангардные явления 1910-х годов, что доставляет ныне немало трудностей в разведении отдельных нитей. Творческое формирование Марии Синяковой связано с харьковскими студиями: «Голубая лилия», организованной Евгением Агафоновым, со студией «Будяк», орга-
237
низованной Дмитрием Гордеевым, со студией «Кольцо». Как вспоминал Дмитрий Гордеев, в период становления Мария Синякова прошла через увлечение графикой Одри Бёрдслея, русскими иконами, работами Альбрехта Дюрера, художников Северного Возрождения и мастеров готики. Затем последовал интерес к французскому искусству рубежа веков, к Полю Сезанну, «применение геометризи- рующих (“кубистических”) подходов»8.
Синякова была хорошо знакома с художественной жизнью Москвы, являлась членом петербургского «Союза молодежи»9. Несомненно, важную роль в выборе творческого пути сыграли поездки, долгие путешествия Синяковой по Германии в 1910 и по Средней Азии в 1914 г.10. Мы можем предположить, что поезка в Германию была вдохновлена Давидом Бурлюком, который, по утверждению Лили Брик, был влюблен в Марию11, а летом 1910 г. он принимал активное участие в подготовке 2-й выставки «НХОМ» в Мюнхене.
Мюнхенская выставка, по замыслу ее организаторов, не должна была представлять какое-либо определенное стилевое направление, наоборот, призвана ознакомить с широкой панорамой авангардных явлений. Были представлены работы основателей «НХОМ» - Василия Кандинского, Алексея Явленского, Марианны Верёвкиной, Габриэле Мюнтер, Адольфа Эрбслё, Александра Канольдта, а также произведения приглашенных художников - Жоржа Брака, Андре Дерена, Анри Ле Фоконье, Пьера Жиро, Пабло Пикассо, Мориса Вламинка, Василия Денисова, братьев Владимира и Давида Бурлюк. Франц Марк писал в 1910 г. по поводу выставки: «Что-то в экспозиции явно беспокоит публику: люди ищут традиционное “мольбертное” искусство, а не находя его, начинают нервничать и сомневаться... Публика еще не знает, что во всех концах Европы уже действует новый дух искусства - дерзкий и упрямый...»12. В декабре 1910 - январе 1911 г. Кандинский, Явленский и Веревкина стали участниками 1-й выставки общества «Бубновый валет» в Москве.
По времени возникновения и по ряду пластических приемов экспрессионизм оказался близок фовизму и неопримитивизму. Интерес к примитиву, к наивному искусству объединял художников различных стилевых направлений. Кубисты черпали вдохновение и новизну приемов в африканской скульптуре. Члены объединения «Мост» увлекались полинезийскими культовыми изваяниями, Кирхнер и Нольде - немецкой народной скульптурой. Иконы на стекле, созданные народными мастерами Северной Баварии, стали открытием для Кандинского, кроме того Кандинский и Мюнтер собрали довольно большую коллекцию детских рисунков.
Интерес к примитивному искусству стал поистине общим для авангардистов. В каталоге 2-й выставки «НХОМ» 1910 г. была опубликована статья Давида и Владимира Бурлюков, где отмечалось: «На родине и за границей нас, молодых русских художников, упре¬
238
кают в том, что мы слепо поддаемся влиянию французского искусства. На самом деле французское искусство нам родственно и понятно. Гиперболизм линии и цвета, архаичность, упрощение-синтез - существуют в творческой душе нашего народа. Достаточно вспомнить только наши церковные фрески, наши народные картинки (лубки), иконы и, наконец, чудесный сказочный мир скифской пластики, ужасающего идола, убедительного и подлинного в грубости своих форм... Это духовное родство есть основанием и причиной безграничного вдохновенного восприятия ...идей французского “нового искусства”» 13.
В изобразительном искусстве нередко трудно доказать наличие прямых творческих влияний, художники, как правило, не любят говорить о них. Но фактом остается то, что почти одновременно возникали аналогичные явления в искусстве разных стран. Так в декабре 1911 г. создается в Мюнхене объединение «Синий всадник», в мае 1912 выходит одноименный альманах, задуманный В. Кандинским как «Новая Библия искусства», своеобразный «Gesamtkunstwerk»14, а в далекой Красной Поляне Синякова пишет акварельные композиции, посвященные «синей всаднице».
Работы Синяковой, как правило, оставлены автором без названий, редко подписаны даты их исполнения. «Синяя всадница» - так могли бы назвать мы работу, явно относящуюся к более ранним произведениям художницы, к началу 1910-х годов. Женщина в строгом синем платье, серьезная и величавая, едет верхом на белой лошади, а рядом неспешно бредет, опустив голову, ослик с маленькой наездницей в алом платьице и в широкополой желтой шляпе. Звонкий перестук копщт, яркое трехзвучие в центре композиции синий- желтый-красный, окружены тишиной мягких изгибов холмов, приглушенными вибрациями оливкового, серого, лилового. Всплеск и гармонизация, эмоциональный акцент и созерцательность. Широкая линия, моделируя формы либо только давая намек на движение холма или дерева, повторяет рефреном единый ритм. Работа демонстрирует поиск и обретение соответствий между человеком и внешним миром природы. Уже в этой композиции ощутима игра и свобода, легкость, с которой Мария Синякова творит и дарит свои миры.
Другая «Наездница» (1916(?)) Синяковой представляет собою довольно странную, сюжетно трудно объяснимую, композицию. В центре работы вновь изображена дама в синем платье, только теперь она изображена не в профиль, а в трехчетвертном повороте, платье едва обозначено отдельными пятнами цвета, а сквозь него проступают отмеченные ярко-алым грудь, рука, ступня. Очевидна сознательная примитивизация, полная свобода проявления внутреннего состояния во внешнем, поиск формы. Конь лишь очерчен наплесками красной краски, прозрачный внутри, порывистый в движении. В нижней части композиции изображен сидящий обнаженный юноша, за спиною его - толпа зевак, ряд розовых круглых голов.
239
А под ногами коня коленопреклоненный герой расстилает, словно дорогой ковер, дивные соцветия ярких цветов.
И, наконец, завершает этот мотив «синей всадницы» композиция, получившая позднее название «Карусель» (1916). Изображена все та же героиня, амазонка в цилиндре с ниспадающей назад длин ной вуалью. Она скачет на красном коне, обернувши на зрителя круглое, как луна, лицо свое. А на первом плане изображена цветущая крестьянка, в белой вышитой сорочке, в монистах, в красном сарафане, босоногая, она - родительница круглолицых, смеющихся и удивленных детей «мал-мала меньше». К этому семейству, преклонивши колена, протягивает руки пожилая женщина, столь же нарядная, в красном платочке, в украшенной сочной вышивкой свитке.
Сцена, развернутая на первом плане фронтально перед зрителем, напоминает ритуал поклонения - матери, роженице, земному плодородию. Можно трактовать ритуал как поклонение женской творческой энергии, творческой силе, воплощенной в Матери. Богиня-Мать, Богиня-Берегиня в славянском пантеоне богов, как и богиня Шакти в индуизме, не только «творит», но также и «защищает». А пышный цветочный куст в этой композиции звучит триумфом земной красоты и напоминанием о «древе жизни».
Но кто же здесь «синяя всадница»? Она стала в композициях частью красочного мира, но все же в крестьянском контексте она чужая, иная, она горожанка даже на красном коне, похожем на народную раскрашенную игрушку. Она проходит «сквозь» сказочнокрасивый, органичный в своей непосредственности и устоявшейся обрядности крестьянский мир. Быть может, «синяя всадница» - образ-двойник автора, и здесь воплощен тот реальный опыт, который схвачен в строках Хлебникова:
Нога качает стременами,
Желтея смугло и босая15.
Живя на хуторе Красная Поляна, Мария Синякова, как признавалась она в поздние годы, очень любила лошадей и часто ездила верхом. Но в данном, несколько раз повторенном, образе «синей всадницы» можно почувствовать и поиск идентификации, и внутреннее желание органично войти в мир природы, в ритмы холмов, в ритмы движений животного, наконец, в органику сельского быта.
Художница несомненно хорошо знала народное искусство, любила бесхитростные, полные радости творения сельских мастериц, крестьянок-художниц, превращавших свои дома в цветущий рай. Ей были знакомы и ощущения, описанные Кандинским: войдя в дом, войти в живопись16. В сельской хате стены, потолок, печь, балки - все выбеливалось и покрывалось цветочными узорами. Синякова перенимает и символизм композиций («древо жизни»), и сами приемы письма, и краски17. В своих работах она использует сочетания чистых цветов, локально положенных пятен красного, синего,
240
желтого, зеленого - основных в цветовом спектре, интенсивных. От народного искусства происходит в ее акварелях живое движение линии, сочной, свободной. От народной картинки - любовь к огромным цветам, когда «цветов широкий лист // Облавой ловит лёт луча»18.
Однако росписи в народном искусстве облагораживают не только дом человека, но и курятник, наглядно совмещая «искусство и жизнь», «высокое и низкое» самым простым, естественным образом, по традиции, без сомнений, раздумий, поисков. Но при этом изобразительный мотив проходит нередко через различные стадии стилизации, через усиление условности, доведенной до знаковости, через увеличение экспрессии цвета либо через акцентирование значимой детали.
В народном искусстве Мария Синякова обретала новые приемы, авангардные для профессионального «ученого» искусства. Ее привлекала не только свежесть формы, но непосредственность эмоционального отклика, вложенного мастерицами, чистота и наивность, незамутненность взгляда на мир. И все же, используя эти навыки, она создавала свой мир, родственно связанный с народным искусством, близкий ему, но параллельный. Она двигалась через сознательное нарушение канона, через любовь и - ощущение отличий самого миропонимания, способа жизни.
В композиции «Джентльмен и няня возле Древа Жизни» (1914) традиционное древо раскрывает крону пышных, огромных соцветий ярко-желтых цветов, сияющих в синеве неба, белые голуби порхают в его ветвях. На цветущей земле по сторонам от ствола дерева стоят крестьянка с ребенком на руках и джентльмен в белом сюртуке и черном цилиндре, маленький мальчик. Юбка женщины цвета земли, а мужчина олицетворяет собою город, цивилизацию, он подчеркнуто инороден в природном цветении. Форма шляпы-цилиндра становится символичной, как атрибут горожанина она воспринимается и в последующих работах Марии Синяковой.
Мир акварельных композиций Синяковой весь наполнен светом, ароматами цветов, трав и озер. Он кажется совершенно гармоничным, бесконфликтным, и, тем не менее, в нем возможны противоположности, противоречия, несовпадения, но - в нем нет борьбы и взаимного уничтожения. В них словно реализовал себя тот идеал, к которому, по мнению Казимира Эдшмидта, стремились экспрессионисты: «Огромный райский сад бога открывается за миром вещей, если смотреть на них нашим бессмертным взглядом»19.
Художники-экспрессионисты провозгласили целью своего творчества поиск соответствий внутреннего мира человека и мира космоса. Для Марии Синяковой образ «древа жизни», несомненно, образ космический. Он всегда составляет центр композиции, символизируя мировую ось. В древних мифологиях дерево соединяет различные миры - нижний, срединный и горний. Вместе с тем дерево символизирует саму человеческую природу.
241
Постепенно мир акварельных композиций Марии Синяковой усложняется, становится многомерным, в него проникают восточные мотивы. Кажется, художница могла бы повторить вслед за Натальей Гончаровой: «Мой путь - к первоисточнику всех искусств, к Востоку»20. В одной из безымянных композиций Синяковой человек в черном цилиндре стоит растерянно среди шествующих белых, красных, золотистых лошадей, со всадниками верхом и идущими рядом. На втором плане в этой композиции из синего озера-цветка поднимаются в небо деревья-цветы, в озерных водах плещутся бледнопрозрачные девы. А рядом, симметрично озеру, изображена розовая повозка - восточный шатер, через распахнутый полог которого видна пара влюбленных, возлежащих на ложе.
Но органика сотворенного художницей мира не нарушена. Быть может потому, что «древо жизни» как образ райского сада привычен и для иранских ковров, и для среднеазиатских миниатюр21, образ всадника и цветущего сада варьируется в изображениях на средневековых восточных шелковых тканях. Образы влюбленных, продолжающие и венчающие собою красоту творений природы - обычная тема индийской миниатюры (например Раджастханской школы, как «Месяц Шраван», 1760-1770). Изображение влюбленных, гуляющих и возлежащих на зеленом лугу, может олицетворять «Святое семейство», представляя Шиву и Парвати, в индийской миниатюре школы Пахари.
Шатер на колесах, куда Мария Синякова поместила своих влюбленных, уводит ассоциации в Монголию, с ее кочевым, но празднично украшенным, бытом22. Напоминает этот изобразительный мотив и миниатюру Северной Индии с традиционным для нее образом «беломраморного павильона», снабженным навесом из яркой восточной ткани, перед таким обычно разворачиваются события в миниатюрах23. Но, обретя очевидные аналогии, мы не можем не отметить в работе Синяковой намеренно шутливый пересказ известных сюжетов, нарушение строгости, святости, игровое пародирование каноничных образов. В то же время в ее произведениях нет брутальности, в них ощутима возвышенность, поэтичность, чистота. Это словно детское передразнивание или веселое проигрывание знакомых сценок и событий, то ощущение игры, где, по утверждению Й. Хейзинги, «мы имеем дело с абсолютно первичной жизненной категорией, некой тотальностью»24, то есть целостностью. Мария Синякова демонстрирует низведение приемов от точности к вольности, от каноничности - к импровизационности.
Увлеченность Марии Синяковой Востоком открыто заявлена в композиции «Гарем», известной в двух вариантах. В первой, не датированной работе, центр композиции составляет озеро-цветок, из его синих вод-лепестков выступают нагие торсы женщин. Вокруг озера на цветущем лугу расположились одетые и обнаженные прекрасные женщины, нагота и сокрытость тела мерно чередуются как дни и ночи.
242
М. Синякова. Иллюстрация к роману в стихах А. Кручёных «Ванька-Каин и Сонька-Маникюрщица», 1926
Над идиллией женщин-цветов замерло тонкой полоской небо и широко раскинул стебли огромный цветок, соединяющий землю и небо.
Вторая работа, «Гарем» 1920 г., представляет сцену в ханском дворце: обнаженные жены - на балконе под балдахином, спускающиеся по лестнице, идущие вереницей, сидящие возле бассейна. На центральной оси останавливает внимание изображенная на пер¬
243
вом плане юная героиня, стоящая на четвереньках, погрузивши руки в воду бассейна, и вторая женщина, что сидит, скрестив ноги, мягко перебирая струны. Лиризм изображенной сцены находит созвучие в миниатюрах кашмирских рукописей (например, «Хосров на пути в Армению видит купающуюся Ширин» - иллюстрация к «Хосров и Ширин» Низами), в миниатюрах школы Пахари («Купающиеся девушки», Кангра, XVIII в.), а раскованность в трактовке образов напоминает о знаменитых древнеиндийских росписях пещер Аджанты, где эротизм изображенных сцен, с сюжетами почерпнутыми из джатак, отнюдь не противоречит святости места и повествования.
Можем предположить, что подобные изображения были знакомы Синяковой после ее путешествия в Среднюю Азию, приобретения там миниатюр, сохранившихся в доме Синяковых и в позднее, советское время, наряду со скульптурными изображениями Будды и Шивы25. А о знакомстве с росписями Аджанты косвенно свидетельствует обращение к ним Велимира Хлебникова26. С росписями Аджанты вызывает параллель и цветовое решение композиции «Семья» (1920), сюжет ее явно имеет сакральный характер. После ярких цветовых решений в неопримитивистском духе эта работа поражает сдержанной охристой цветовой гаммой. Толковать сюжет композиции сложно. На центральной оси помещено изображение женщины с ребенком, она сидит, поджав ноги и раскрыв руки в позе «оранта».
Аналогичный образ встречаем мы в другой, безымянной многофигурной композиции, датированной 1914-1916 гг., центр ее - изображение трех женщин, сидящей и двух стоящих по бокам от нее. На коленях у сидящей женщины изображен обнаженный ребенок, скрестивший руки на груди, ниже, на подиуме - ребенок, сидящий в позе лотоса «падмасана» с раскрытыми в позе «оранта» руками. Центральная группа композиции напоминает индийские средневековые изображения «Сидящего Будды», например, скульптуру из красного песчаника из Матхуры периода Кушанов (110), где Будда жестом абхайя мудра дарует освобождение от страха, а по обе стороны от него изображены бодхисатвы.
Кольцевое построение композиции в работе Синяковой, равно как и три фигуры, составляющие композиционный узел, рождают аналогию с монгольской миниатюрой, например, с работой «Майт- рейя» неизвестного мастера XIX в., где вокруг изображения Майт- рейи, Будды будущего, разворачиваются многие миры, предстают разные сцены из джатак. Ноги Майтрейи традиционно опираются о постамент-лотос. У Синяковой на алом подиуме покоятся огромные ступни ног ее героев. А вокруг триады или троицы, расположенной по горизонтали и по вертикали, художник разворачивает подробное повествование о жизни земной.
Здесь и путешествие на ослике, далекий парафраз «Бегства в Египет», и нагие гаремные жены в бассейне, целующиеся влюблен¬
244
ные... По аналогии мы могли бы вспомнить более целомудренные изображения влюбленных пар на фоне цветущих кустов в кашмирской миниатюре к «Юсуфу и Зулейхе» Джами. У Синяковой же влюбленные девы изображены обнаженными, объятия их горячи. Невольно вспоминается традиционный для индийского искусства мотив митхуна, т.е. влюбленной или супружеской пары, символ творящего единения мужской и женской энергии, получивший чувственное воплощение.
Далее, опять-таки двигаясь по кругу, мы поднимаем взгляд в верхнюю центральную часть, где в продолжение сакральной оси, дано изображение трех обнаженных массивных фигур, сидящих на траве спиной к зрителю. Вновь триада или троица, но данная «с тыла», резкая эпатажность в некоторой степени снимается тем, что смотрят сидящие на пасущуюся белую лошадь, созерцают поднимающееся до краев небес древо жизни, вокруг которого порхают яркие птицы. Далее взгляд наш опускается по левой части композиции, где представлены разнообразные сцены застолий - трапезы, чаепития, молчаливые беседы. Вспоминаются и «Кутежи» Нико Пиросмани, и снова восточная миниатюра с распространенным сюжетом «Собрание для беседы» (например, работа XV в., «Хорасанский стиль», где изображены люди, собравшиеся на маджлис). В газелях Навои призывает, опьянев от вина познания, внимать сердцем гласу Бога, герои Синяковой - европейцы, сидят они за столами, но толкуют также о сокровенном, обо всем круговороте жизни, о Боге или богах.
Выстраивая композицию по кругу, художница нарушает линейность времени, выводит изображенные события в циклическое время или во вневременное пространство. Вместе с тем, претворяя в новое звучание известные образы, преобразовывая их через живое чувство, автор создает прецедент для выявления многообразия аспектов и позиций в понимании изображенного. Многослойность рождается через совмещение непосредственных, дорефлексивных состояний, не искаженных вмешательством интеллекта, и высокодуховных состояний, рожденных осознанием тысячелетних пластов культур. Происходит непрерывное синтезирующее взаимодействие настоящего и прошлого, жизни и искусства.
Возвращаясь к центральной триаде в композиции Синяковой, мы ощущаем, как далек все же этот образ и от Будды Шакьямуни и от Майтрейи, он наполнен архаикой славянской, жаром земли, он превращается в образ Богини-Берегини, Богини-Матери. Мир вокруг нее - славянская Азия или «индорусский союз» (по выражению Велимира Хлебникова). Тем не менее, изображая розовую фигурку на коленях Богини Матери, Синякова могла почерпнуть ее позу с необычным положением ног (напоминающим позу ардхапарьянка- сана), в грациозном изгибе фигуры Зеленой Тары монгольского мастера XVII в., знаменитого Дзанабадзара. В обеих руках Тара дер¬
245
жит стебли цветов, аналогичным образом цветущие ветви дает Синякова героине своей иной работы, получившей позднее название «Ева».
Внешне героиня работы «Ева» (1914-1916) мало похожа на грациозную Тару, или на пышнотелых женщин древнеиндийской скульптуры. И все же аналогии несомненны, в Индии этот образ мог быть связан с воплощением якшини, олицетворявшей жизненные силы природы, которые ассоциировались с водой и землей, а также были мистически связаны с деревом. Однако героиня Синяковой, идолоподобная, скорее родственна таитянкам Поля Гогена и русским крестьянкам Наталии Гончаровой. Может быть даже «каменным бабам», воспетым Велимиром Хлебниковым. Есть в ней и сила земли, и красота лубочная, и живое смущение в алых щеках. Напоминает она и реальных, живых героинь мира Красной Поляны, к кому были обращены строки Хлебникова:
А помните? Туземною богиней Смотрели вы умно и горячо,
И косы падали вечерней голубиней На ваше смуглое плечо27.
Фигура женщины занимает все центральное поле разделенной на три части композиции. В этом триптихе справа от нее - водный бассейн и гарем, слева - цветущая земля, где «с милым рай и в шалаше». По лугам бродят козы, они изображены с упругими спинами, длинными рогами, словно изящные азиатские газели. Природа предстает как нечто целостное, как материальное воплощение некоего универсального духа. Природа и человек взаимосвязаны, взаимозависимы. Здесь человек, представленный в единении с растительным и животным миром, со стихией воды и земли, подвластный силам эроса, притягивающим противоположное - мужское и женское, человек воспринимается не только как существо природное, но космическое. А мир трактуется как живое чувствующее тело.
В названной композиции телесность дана крупным планом, главная героиня занимает все пространство от земли до неба. Телесность проявлена как изначальная форма жизни, как условие земного существования. Но обнаженное тело ощущает себя органично не только среди природного мира, оно окружено «культурой», символизирующей древние традиции «восхождения» от телесного и через него - к духовному, к «окультуренному», к искусству. В этом художнице помогают и Древняя Индия, и средневековый Восток, и новейшее искусство Запада и России. «Природа везде, - писал Франц Марк, - в нас и вне нас, есть только одно нечто, что не является природой, а скорее ее преодолением и толкованием, сила которого ис1 ходит от нам неизвестной точки опоры. Искусство было и есть, по существу своему, отважнейшим отдалением от природы и “естественности”, мост в мир духов»28.
246
М. Синякова. Иллюстрация к роману в стихах А. Кручёных «Ванька-Каин и Сонька-Маникюрщица», 1926
Композиция Марии Синяковой «Изгнание из рая» (1916) звучит отнюдь не раскаянием, а изгнанием из райской жизни - гимном телесной любви. Грозный ангел изливает огонь и ярость, но все напрасно, в изображенном мире царит и царствует эрос. В любовных сценах, представленных здесь, проявилось не только стремление эпатировать зрителя обнажением тайного, но и специфичное для восточного философского мирочувствия понимание весомости телесной жизни в самопознании человека. Желание принять инстинкт, осветить его глубины истиной чувства, ввести его в одухотворенный ритм бытия, реализовано в эмоциональном строе произведения, в порывистых и текучих акцентах форм. Здесь легко проводить аналогии со скульптурными рельефами индуистских храмов, посвященных богу Шиве, но Синякова свои образы намеренно трактует пластически в духе народной картинки, узнаваемы не только традиционные цветы и древо жизни, а также и сам способ нанесения цвета. Все ее герои изображены с алыми щеками - так подчеркнуто алеют цветы в крестьянских росписях.
Полным крахом райской жизни стала война, этой теме Синякова посвятила не одну работу, возвращаясь к образу войны 1-й мировой, революционной гражданской. Война врывается как бомба, как падение алой кометы с дугообразным желтым хвостом, рассекающим мир. Взрывная волна сносит головы мужчин, а женщины, не желая верить, целуют уже мертвые головы возлюбленных, стре¬
247
мясь воскресить их через объятия, через заклятие слез. Война как боль убитой любви, как утраченная сладость жизни. Грозный ангел опрокидывает стол, падает сосуд, проливая вино на землю. Потоки крови из обезглавленных тел, отсеченные от тел головы изображены схематично, как изображались они в иранских миниатюрах, но с большей красочностью, даже балаганностью. Условность изобразительных приемов оттеняет подлинность страданий женщин, нару- шенность жизненной гармонии.
В другой акварели бомба падает на стол, разметая и губя обнаженных женщин, сидящих за самоваром. Взорван домашний уют, погибают совершенно далекие от войны прекрасные юные женщины. Купание дев в волнах озера-цветка пронзает крик ужаса, ангел нависает над ними как неизбежность роковой гибели. В третьей работе, посвященной войне, представлены сцены истязания обнаженных женщин - одну тянут за волосы, другую поднимают на копье, остальные уже обезглавлены. Воины бесчинствуют, а ангел вдали, стоя на земле, в беспомощной ярости изливает гнев огненным потоком. Катарсисом звучит тихий уход женщины, молитвенно поднявшей руки, вместе с ангелом - в небеса, туда, где как прежде сияют радостью цветы.
Образы работ, посвященных войне, сконцентрированы на крик, на трагичное постижение жизни. Внутренний мир не просто вступает в противостояние с внешним, но самоценность и самодостаточность человека подвергнуты испытанию агрессивностью мира внешнего. Уничтожение телесности воспринимается как уничтожение основы миропорядка. Фатален разрыв между возможностями «Я» как вселенского существа и уязвимостью, ничтожностью его бытия как существа человеческого. Синякова собирает сюжеты о войне в единую композицию линогравюры, центр которой составляет черный овал-медальон, по краю «украшенный ожерельем» отсеченных голов. Вокруг него, в бесконечном круговом движении, в восьми аналогичных овалах даны узнаваемые, известные по акварельным работам, но предельно схематизированные композиции, посвященные войне.
Образ женщины, воплощающий в акварелях Синяковой плодотворную, животворящую силу, символизирующий в целом творческое начало, подвергается в названных работах жестоким истязаниям, умертвлению. Но катастрофичность, заключенная в содержании работ, приходит в столкновение с пластической формой изобразительного ряда, ведущей генеалогию от народной картинки и среднеазиатской миниатюры. Интерес художницы к народному искусству, к фольклору базировался на вере в то, что они, в известной степени, сакральны, поскольку существуют тысячелетия. В фольклоре ею прозревалось возможное будущее. Искусство же миниатюры, также любимое Синяковой, опиралось на романтическую традицию, иллюстрировало поэтические тексты, «миниатюры содержали под¬
248
текст, зачастую связанный с поэзией суфизма, и могли означать самоуглубление, мистический экстаз, единение с природой как путь постижения истины»29.
Однако в послевоенный период, в 1920-е годы, трагизм, сломан- ность идеалов, чувство безысходности в совершившейся подмене, все более пронизывает работы Марии Синяковой, как, например, ее известные литографии, иллюстрирующие «уголовный роман в стихах» Алексея Кручёных «Ванька Каин и Сонька Маникюрщица» (1926). Эти работы художницы, безусловно, соотносятся с иллюстрируемым эпатажным текстом, но представляют они и интерес сами по себе, их можно рассматривать как новый этап развития знакомых, даже знаковых изобразительных сюжетов Синяковой. Свободные «собрания для беседы» превращаются здесь в пьяный разгул, цветущая земная страсть оборачивается развратом, а в круговой многофигурной композиции центром «мира» становится дубовая бочка с вином. В графике Марии Синяковой послевоенного времени был безвозвратно нарушен «общий заговор и дерева и тела»30.
1 Хлебников В. Сегодня строгою боярыней... // Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель, 1986. С. 105.
2 Гордеев Д.П. О Рии Синяковой. 20 июля 1970 // Научно-вспомогательный фонд НХМУ. Ф. 18. Ед. хр. 128.
3 Труба марсиан // Хлебников В. Указ. соч. С. 602.
4 Там же. С. 603.
s Mudrak М.М. The new generation and artistic modernism in the Ukraine // Ann Arbor. 1986. P. 68; Bojko S. U Marii Siniakowej // Ту i ja, 1972, N 6. S. 5.
6 Хлебников В. Указ. соч. С. 364.
7 РГАЛИ. Ф. 336. Он. 5. Ед. хр. 153 (цит. по: Алексеева Л.К. Шаржи Марии Синяковой //Лит. учеба, 1990, № 2. С. 174).
8 Комментарии Дмитрия Петровича Гордеева к рисункам Рии Синяковой- Уречиной. Из письма от 21-30. IX. 1961 // Научно-вспомогательный фонд НХМУ. Ф. 18. Ед. хр. 128.
9 Mudrak М.М. (цит. по: Му драк М.М. Новое поколение и модернизм в искусстве на Украине. К.: Киевская редакция ВЦП, 1990. С. 70-71. Также в кн.: L’avant-garde au feminin. Moscou: Sant-Peterbourg. Paris. 1907-1930. Texte de Jean- Claude et Valentine Marcade. P.: Artcurial. Centre d’art plastique contemporain, 1983. P. 56-57.
10 Амелта Л. Mapin Синякова i украУнський авангард II Наукова конфе- ренщя «Художне життя Харкова першоУ третини XX столггтя»: Тези доповщей та повщомлень. Харьюв: ХХП , 1993. С. 10.
11 РГАЛИ. Ф. 336. Оп. 5. Ед. хр. 153.
12 Der Blaue Reiter und das Neue Bild. Ausstellung Katalog. MUnchen; London; NY: 1999. S. 316.
13 Ibid. S. 297.
14 Ibid. S. 315.
15 Хлебников В. Харьковское онб // Хлебников В. Указ. соч. С. 110.
16 «Тут я выучился не глядеть на картину со стороны, а самому вращаться в картине, в ней жить. Ярко помню, как я остановился на пороге перед этим неожиданным зрелищем. Стол, лавки и огромная печь, шкафы, поставцы - все
249
было расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. ...Когда я, наконец, вошел в горницу, живопись обступила меня, и я вошел в нее». - Кандинский В. Ступени // Декоративное искусство, 1989, № 9. С. 15.
17 «Из запаса изобразительного фольклора черпала Мария Синякова материал и вдохновение для своего творчества», отмечали Д.Е. Горбачев и А.Е. Парнис (организаторы выставки работ М. Синяковой в Киевском доме писателей в 1969 г.) в статье «Поэзия цвета» (Декоративное искусство, 1970, № 8. С. 52-53.). «Вона захопилася селянським живописом - розписами хат, лубками, писанками, жонами, рушниками, вибшками», уточнял Д.Е. Горбачев в статье «Кольори добра» (Рщний край (Буенос-Айрес), 12 марта 1970. С. 5).
18 Хлебников В. Указ. соч. С. 121.
19 Эдишидт К. Экспрессионизм в поэзии // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М.: Прогресс, 1986. С. 308.
20 Гончарова Н. Предисловие к каталогу выставки. 1913 г. Цит. по: Поспелов Г.Г. Бубновый валет: Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М.: Советский художник, 1990. С. 33.
21 «С XV в. вошел в моду мотив цветущего дерева или куста в вазе под фестончатой аркой. ...в основе своей восходит к домусульманскому мотиву широко известного “древа жизни”, который трансформировался в исламе в “древо блаженства”, символизировавшего обилие даров природы, обожествленное великодушие, милосердие, т.е. являлся покровительствующим, в широком смысле, правоверным изобразительным образом». - Исмаилова Э.М. Вст. ст. // Восточная миниатюра в собрании Института востоковедения имени Абу Рай- хон Беруни АН УзССР. Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1980. С. 11.
22 «Дом, в котором они [монголы] спят, они ставят на колеса из плетеных прутьев... войлок около верхней шейки они украшают красивой и разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно они сшивают цветной войлок или другой, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей». - Ням-Осорын Цултэм. Искусство Монголии с древнейших времен до начала XX века. М.: Изобразительное искусство, 1982. С. 35-36.
23 См.: Адамова А., Грек Т. Миниатюры кашмирских рукописей. Л.: Искусство, 1976. С. 19-20.
24 Хейзинга Й.Н. Homo ludens: В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс, 1992. С. 12.
25 Bojko S. U Marii Siniakowej // Ту i ja, 1972, № 6. S. 7.
26 В «сверхповести» «Азы из Узы». - См.: Григорьев В.П., Парнис А.Е. Примечания // Хлебников В. Указ. соч. С. 696.
27 Хлебников В. Сегодня строгою боярыней... С. 107.
28 Fortner Р. Literatur-Revolution 1910-1925. Dokumente-Manifeste-Programme. Bd.II. Berlin-Spandau, 1961. S. 149-150 (цит. по: Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. М.: Наука, 1978. С. 74).
29 Пугаченкова Г., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии. М.: Изобразительное искусство, 1979. С. 25.
30 Хлебников В. Синие оковы // Хлебников В. Указ. соч. С. 378.
С.Н. Михайлова
ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИОНИЗМА: МИХАИЛ ЛАРИОНОВ И СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ
Среди ларионовцев, представляющих экспрессионистические тенденции в русской живописи 1910-1920-х годов, следует назвать Сергея Романовича.
В юношеском возрасте, будучи еще студентом училища живописи, ваяния и зодчества, под сильным впечатлением искусства и личности Михаила Ларионова, он стал участником процесса создания Ларионовым нового художественного объединения «Бубновый валет», написания манифеста «Лучисты и будущники», бурных диспутов и всех проводимых Ларионовым выставок 1910-х годов.
Из неопубликованного письма М.Ф. Ларионова С.М. Романовичу из Парижа в Москву 30 августа 1963 г.: «Не знаю почему, встает у меня в памяти твоя живопись, которая, кажется, называлась “Оркестром”. Где он теперь? Нет ли фотографии его? Ты выставил его на первой выставке Бубнового валета1, первая выставка, которую я устроил, думая продолжать. Но так как деньги достал Лентулов, они решили устроить другую выставку, взяв только название. Тогда я перестал этим заниматься, и уговорил тебя и всю молодую компанию уйти из Бубнового валета. Кончаловский очень был сторонник всякого общества официального, так что он и Машков остались с не их Валетом, да потеряли всю молодежь и через несколько лет устроили путаницу. Мне следовало бы тогда написать, что один валет другому не родственник никак. Ну, да теперь все равно...»2
Романович стал другом и соратником М. Ларионова, и оставил о нем большой очерк воспоминаний, впечатлений первых встреч в училище.
Главное же, возвращаясь к дням своей ранней юности, он описывал навсегда запомнившуюся встречу с живописью Ларионова: «Это произошло около 1909 года. Михаил Федорович, давно уже не посещавший училища, должен был представить работы на звание “свободного художника”. Учащиеся младшего, общеобразовательного отделения, которыми мы были, часто проскальзывали наверх (что было запрещено), в классы живописи, где писались этюды с обнаженной модели, а также в актовый зал, где устраивались студен-
251
ческие выставки эскизов и работ на получение звания художника. Однажды мы с моим другом отправились в этот относительно опасный рейс. Войдя в двухсветный круглый актовый зал, мы были удивлены новым видом картин, расставленных по полу. Общее впечатление от них было не похожим на привычное, имитирующее краски природы. Здесь же действительность возрождалась свободной, прекрасной, дающей радость искусства.
Молодые зрители стояли, как зачарованные, перед холстами, которые говорили так много. Над всем господствовало удивительное сочетание красок, создающее поэзию живописи. Но это было не все - подсознательно чувствовалось, что в этих созвучиях красок энергично и правдиво выявляет себя сама жизнь.
Там были “Голубые павлины” и “Красный сарай” - обе картины немногим больше метра величиной. Красный цвет последней картины был действительно цветом радости. Если Сезанн сравнивал красный цвет туфли в “Алжирских женщинах” Делакруа со “стаканом вина...”, то цвет этого сарая можно было бы сравнить со счастливым пробуждением в юности. Красный цвет самого сильного и светлого мажора - но он мог возникнуть на фоне той изумрудной листвы, которая давала ему основу. Найти степень и оттенок замутнения этой среды, и было, быть может, той задачей, которую мог решить этот прирожденный колорист. В этих красках участвовала какая-то необходимая часть тьмы, взвешенная на весах безошибочного чувства, чтобы краски сияли с наивозможной прелестью. “Голубые павлины” сохраняют в моей памяти свой незабываемый цвет, который более не встречался мне во всех впечатлениях, пережитых от произведений живописи»3.
Виденные работы являлись началом перехода от импрессионизма к синтезу. Для юношей-художников, увидевших подобную живопись, это было посвящением в ее тайны. Ранних произведений самого Романовича осталось немного. Большая часть картин сгорела во время пожара мастерской, часть погибла в годы войны с коллекцией Воронежского музея. Шесть работ художника хранится в Смоленской картинной галерее.
О характере произведений раннего периода сохранились воспоминания соученика по училищу, Н.А. Красильникова, неожиданно для себя увидевшего в училище необычную выставку: «Это были работы одного из учеников старших классов - Сергея Романовича. Выставка была расположена в небольшой комнате около буфета... На стенах лентой, прикрепленные к планке на уровне человеческого глаза, висели картины. Их, очевидно, было штук 40-50. Это была выставка-экспромт. Обычно такие выставки в Училище не допускались. Висела она недели полторы-две... Живопись эта представляла из себя абстрактные композиции из кривых линий, пятен, но не геометрических, как у Кандинского или Малевича. Живопись была скорее плоскостная, чем объемная, но пластическая и очень тонкая, написанная по темному фону светлыми тонами.
252
Меня эти картины поразили и были откровением, так как ничего подобного раньше не видел в стенах училища, да и на выставках того времени. С тех пор я заинтересовался Романовичем, ...постоянно наблюдал его издали в окружении других студентов. Они горячо говорили об искусстве, ...видно было, что Романович - человек большого интеллекта»4.
Экспрессионистские черты искусства Романовича проявились довольно рано, уже в первые годы его творчества. Но в течение всей жизни продолжалось обогащение тематики, оттачивание выразительной емкости собственного живописного языка. Живописный метод художника в значительной степени воспринят от Ларионова. Г. Поспелов в статье о Ларионове отмечает активизацию «витальной природы» его творчества, стихию живописи, вступающей в спор с живой натурой5. Воспринятое Романовичем «увлечение горячей жизнью в цвете» превращает его композиции в заполняющую пространство клокочущую живописную форму, напоминающую едва сдерживаемую светоносную стихию.
В 1920-е годы Романович все чаще обращается к мифологии, библейским и евангельским темам - «Отречение Петра», «Притча о блудном сыне», «Распятие», «Пьета» и др. Он изображает этапы крестного пути Христа, его оплакивание, предательство Иуды. При этом не придерживается канонических рамок в толковании сюжетов, стремясь, прежде всего к передаче полноты выраженного чувства и остроты духовного накала произведений. Исследователь творчества художника М.Ф. Киселев отмечает, что тяготение Романовича к выражению драматических ситуаций, желание донести до зрителя душевное беспокойство, опосредованно выражающее протест против жестокостей и несправедливостей времени, сближает искусство русского художника с творчеством немецких экспрессионистов. «В этой связи особенно вспоминается Э. Нольде, который, кстати, как и Романович, учился у старых мастеров.
Оба художника XX века сделали своим основным выразительным средством цвет и остро чувствовали его энергетику. Причем и тот и другой были травимыми изгоями тоталитарных обществ... При взгляде на картины Романовича кажется, что художник заботится лишь о том, чтобы кисть поспевала за движением чувства. Форма по романтически “развоплощена”, цвета сталкиваются между собой, как например красное и синее в картине “Поругание”. И поскольку мазки не привязаны к материальной форме, а свободно струятся, образуя языки пламени, они обращены к иррациональному, к человеческой душе в первую очередь, а затем уже к разуму.
Вряд ли у кого из русских художников, современников Романовича, с такой жгучей болью выражено страдание»6.
Ощущение причастности к ходу мирового художественного процесса, осознание своей мессианской роли у Романовича вызывало необходимость непрерывного диалога с прошлым, постоянного об-
253
ращения к классике - Рафаэлю, Рубенсу, Ватто, Дюреру, Тинторетто. Художник видел свою задачу в отстаивании подлинных эстетических ценностей, спасении культуры в ее общечеловеческом значении. В то время как воображение художника вступало в болезненное соприкосновение с исторической конкретикой, которая обступала его как темный фон «Автопортрета», он ставил вечные задачи: «В наше время человеку, легко идущему на халтурный профит и настроенному приобретать, приготовлена судьба исчезнуть. Моя же забота и печаль - остаться, вернее, сделать то, что остается»7.
Используя творчески свободное выражение, дающее на первый взгляд очевидные, быстрые, яркие результаты, Романович в действительности не терпел давления стиля, не признавал диктата формы. Стержнем его творчества с юных лет было широко понимаемое свободное стремление к красоте. Он прошел вслед за духовным вождем Михаилом Ларионовым через абстрактное искусство и всёчество.
Признавая все направления и стили, используя экспрессионистский метод во многих своих произведениях, Романович видел и необходимость его преодоления, как давлеющей системы, чутко прислушиваясь, где она сковывает художника, уводит от истинного понимания красоты. Романович отмечал три истинных бича искусства - деньги, критику и школу. Главная задача художника - не выйти из стремления к красоте, чтобы стиль рождаемой картины не затмил авторскую идею.
В этой связи закономерным явлением для него становится приход в начале 1920-х годов в «Маковец», написание программной статьи «О реализме» и последующее глубокое затворничество на многие годы, творческие достижения которого исследователи охарактеризовали как «мистический реализм»8.
Об этих внутренних движениях Романовича в статье «Суверенность великой души» В.Я. Соловьев пишет следующее: «В сущности, решающий момент творческой линии Романовича - отказ от эстетического конформизма... Крайне невысоко оценивая то, что он называет рассудочным “эстетическим формализмом”, Романович выдвигает критерии, авторитетные для него: “видеть красоту и переживать ее в своей собственной душе”, дать через произведение “свет своей личности”; годны “все стили”, лишь бы не лгать и любить действительность и т.д.»9.
Подобное утверждение эстетической широты приводит в частности к тому, что на полотнах Романовича нет холостых пробегов кисти. В динамичной скорописи его произведений заключено «трудное делание», острота собственного видения художника и решительный отказ от стилевой директивы. Взрывная энергия его картин заключает в себе глубоко скрытые духовные вихри переживаемого художником очищающего страдания. Д.В. Сарабьянов говорит о нем: «В искусстве Романовича поражает его последовательность,
254
настойчивость обращения к труднейшим художественным задачам, и главное, удивительная этическая красота. У Романовича духовная живопись. Великолепное мастерство, которым он владеет, он отдает человеку, возвышая его, открывая в нем высокую красоту и внутреннюю силу»10.
Преодолевающие регламентированную действительность, произведения Романовича несут мощный эмоциональный заряд, освещая новым светом его индивидуального подхода и тексты Священного писания в его христианских сериях, и сущность окружающего мира.
1 «Военный оркестр» С.М. Романовича экспонировался на выставке «№ 4» (Выставка картин: футуристы, лучисты, примитив). Москва, 1914.
2 Письмо М.Ф. Ларионова С.М. Романовичу от 30.111. 1963 // Архив Н.С. Романович, Москва.
3 Романович С.М. Дорогой художника. Рукопись // Архив Н.С. Романович, Москва.
4 Воспоминания Н.А. Красильникова (1899-1983). Рукопись // Архив Н.С. Романович, Москва.
5 Поспелов Г. Михаил Ларионов. Натура и живопись // Русская галерея, 1999. № 1.С. 22.
6 Киселев М.Ф. Искусство С.М. Романовича // Сергей Михайлович Романович: Сборник материалов, каталог выставки. К столетию со дня рождения художника. М., 1994. С. 124-125.
7 Письмо С.М. Романовича // Архив Н.С. Романович, Москва.
8 Соколов М.М. Мистический реализм Сергея Романовича // Наше наследие, № 58, 2001. С. 127.
9 Соловьев В.Я. Суверенность великой души.. С. 132.
10 Сарабьянов Д.В. //Сергей Михайлович Романович: Сборник материалов, каталог выставки. 4 страница обложки.
Е.С. Вязова
«ФОЛЬКЛОРНЫЕ» ГОРОДА А.В. ЛЕНТУЛОВА: МЕЖДУ ЭКСПРЕССИОНИЗМОМ И КУБОФУТУРИЗМОМ. Панорама и раек как источники живописи А.В. Лентулова 1-й половины 1910-х годов
В рецензии на выставку «Бубнового валета» 1914 г. Я.А. Гу- гендхольд писал о Лентулове: «...С футуристической неразберихой он ассоциирует неразбериху топографическую - тесноту и пестроту старой Москвы. Его синтез Москвы - нагромождение зданий, куполов, окон, столбов, словно сдвинутых неким землетрясением в общую груду. Но по существу это - просто пестрая орнаментика, узорочье... Лентулов вводит наклейки как цветистые арабески »*.
Пожалуй, со времен Тугендхольда пишущие о творчестве бубно- вовалетцев неизбежно сталкиваются с вопросом о системе соотнесения новых художественных исканий, западного опыта и национального изобразительного фольклора. При очевидной близости исканий, искусство каждого из художников предлагает свой, индивидуальный «пересказ народного творчества» (если воспользоваться выражением самого Лентулова) современным художественным языком и собственную версию преодоления европейского акцента обращением к национальному фольклору.
В живописи Аристарха Лентулова особенности этого индивидуального пересказа особенно явственно проступают в 1910-е годы, когда главной темой художника становится город и старая русская архитектура. В архитектурных панно середины 1910-х годов сплетаются в согласное и гармоничное целое направления и приемы, ранее выступавшие как бы в «очищенном» виде - кубофутуристический динамический сдвиг и ритмические сбои, экспрессионистски понятый цвет, родственные орфизму цвето-музыкальные построения и несомненные фольклорные отголоски.
Настоящая статья отнюдь не претендует на распутывание этого сложного клубка экспериментов и влияний. Ее цель - попытка обозначить фольклорные источники архитектурных композиций Лентулова, прежде не попадавшие в сферу внимания исследователей, а именно - панораму и раек и наметить особенности преломления
256
этих фольклорных моделей в художественных системах экспрессионизма и кубофутуризма.
В литературе, посвященной Лентулову, подробно описывались разнообразные увлечения художника и источники его полотен-панно 1913-1915 г. с архитектурными мотивами. Это и турецкие лубки, и «деревянные цветные игрушки, воспроизводящие старинные монастыри и церкви», и декоративные росписи «на балаганах», и архитектурные фоны русских фресок и икон XVII в.2 Безусловно, и пристрастие к живым образам допетровской архитектуры, колокольням и церквям с «примесью азиатского вкуса», с «живописными движущимися формами» и восточной орнаментикой входило в этот круг увлечений сферой «архитектурного фольклора».
Следует сразу же оговорить, что высказываемые далее предположения об иных фольклорных источниках строятся не столько на сопоставлениях картин Лентулова с конкретными образцами панорамы или райка, сколько на реконструкции приемов, оживляющих глубинную традицию, столь ощутимую в живописи Лентулова. Точкой отсчета в размышлениях, таким образом, становятся не памятники фольклора, но, напротив, произведения самого Лентулова - обратное движение от «воплощения» к «истоку» позволяет высветить логические ходы и обнажить скрытый каркас художественных приемов. Возможно, такой подход поможет конкретизировать не учитываемую ранее сферу фольклорных мотивов, а вместе с тем - воссоздать все те множественные, иногда едва уловимые импульсы скрытых традиций, которые часто воспринимаются в композициях Лентулова лишь как общий «шумовой фон».
Главным источником при обращении к городской теме для Лентулова остаются интонации искусства примитива и, прежде всего - мотивы праздника. «Если народный праздник составлял основное содержание городского изобразительного фольклора, то балаганный театр - сердцевину самого народного праздника. От балаганного театра распространялись мощные волны отражений, захватывающие прежде всего народный лубок, недаром и называемый современными исследователями “настенным театром”», - пишет Г.Г. Поспелов3. Праздничные интонации, пропитывающие примитивистские полотна, преобладали и в самом городском фольклоре, а кульминацией, средоточием городского праздника являлся, в свою очередь, балаганный ярмарочный театр. Увлечение образами и живой атмосферой ярмарки, балагана, народных гуляний, уличных зрелищ превращалось, как известно, в сильный художественный импульс для московских примитивистов начала XX в.4
Образ города-балагана или города-театра, возникающий на картинах Лентулова и проникнутый праздничными интонациями городского фольклора, оказывается родственным, с одной стороны, самой сути «фольклорного мышления», а с другой - природе городского народного искусства, и, прежде всего, лубка.
9. Русский авангард
257
«Фольклорное мышление», если вспомнить известное определение Ю.М. Лотмана, ориентировано не на норму - «грамматику социальной жизни» - а на «происшествие», событие, «аномальное отклонение от идеального порядка»5. Ярмарочный, праздничный город как своего рода фольклорный Универсум осознается как калейдоскоп событий и происшествий, полярный «бессобытийному» будничному существованию. Таким «событием» могут оказаться и сюжеты или приемы театрального преображения, например, карнавального «мира наизнанку»6, представляющего мир как стихию бесконечных происшествий, путаницы, метаморфоз. Целостным образом этого мира «преображений» становится фольклорный город событий, выступающий как своего рода инобытие по отношению к негородскому «незрелищному» существованию.
Город Лентулова, впитавший саму атмосферу «фольклорно-театральной» улицы, создан именно как пространство происшествия, «образ события». Подобное восприятие города имеет определенные аналогии в западной живописи. Традиция восприятия и изображения городской жизни как праздника, театра или события, существовавшая в западноевропейском искусстве, также была связана с темой и как бы внутренним «театрализованным церемониалом» народного праздника, карнавала. «Сама повседневная уличная жизнь, - пишет М.Н. Соколов о «жанрах» XV-XVII в., - вполне закономерно воспринимается как праздник, а не просто бытовая сумятица»7. Пестрые городские жанры включаются в конкретную карнавальную иконографию, складывается «направление жанрово-пейзажной ви- дописи, живописующей карнавальные сцены как эпизоды городской жизни»8. Формируется устойчивое изображение карнавального «образа события»9, непосредственно связанного с городской темой, с искрящейся динамикой и «чистой витальной энергией» городской жизни.
Идея города как «образа события», глубоко укорененная в традициях европейского карнавала и русской ярмарки, т.е. слитая с самою сердцевиной городского фольклорного мышления, дополнительно обогащалась интонациями, заложенными в природе и лубочной картинки, и «лубка в широком смысле слова», как однажды назвал Ларионов всю сферу городского народного искуства10. Лотман пишет о «ярмарочно-балаганно-театральной сущности лубка», ориентированного на театральное зрелище, игровое поведение, динамическое восприятие. Лубок «изображает не бытовые сцены, а театральные изображения бытовых сцен», выявляя тем самым свою театрализованную природу, замечает Лотман11.
Также и в московских «панорамах» Лентулова изображен, как мы увидим далее, не столько город, сколько театральное изображение города. Сам облик городской улицы насыщен мотивами праздника и театра, образами фольклорно-театральной архитектуры соборов и монастырей.
258
Идея города как «образа события», подпитываемая театральными интонациями лубка, все более насыщается пафосом живописного «зрелища». Город как мир, и мир как зрелище - вот преобладающая интонация лентуловских «архитектурных» полотен. Скрытыми прототипами такого видения, возможно, и являются фольклорные источники — «видовые» картинки панорамы и райка, бывшие излюбленными аттракционами всех российских ярмарок вплоть до начала XX в.
Как известно, панорама, изначально задуманная как «живописный театр», обрела популярность в конце XVIII столетия. Смысл, предопределенный породившей ее эпохой, заключался, по определению М.Б. Ямпольского, прежде всего в появлении новой «метонимической модели мира, живописи “без авторства”, формы, стирающей грани между художественным произведением, природой и театрализованным зрелищем»12. Ямпольский пишет о первых панорамах: «В этих живописных зрелищах зрителю является как бы сам мир, минуя преломляющую призму сознания художника»13. Усовершенствованные панорамы с эффектами движения и световыми трансформациями начинали представительствовать за целый мир, «заявлять о себе как о зрелище мира». Торжественное самоявление мира как универсума - вот устойчивый пафос панорам. На протяжении «короткой, но бурной» истории панорамы главными ее сюжетами стали виды городов, представлявшие идею «круга земного» - orbis terrarum, «осмотр которых почти приравнивался к кругосветному путешествию»14.
Панорамы городов были необычайно популярны на русских балаганах, более того, по мнению исследователей городского народного фольклора, именно от панорам ведет происхождение русский раек. Так, А.Ф. Некрылова в книге «Русские народные праздники, увеселения и зрелища конца XVIII - начала XX века» пишет об истории райка: «принцип демонстрации картинок в райке мог быть заимствован от больших панорам, которые иностранные гастролеры привозили в начале XIX века на крупные русские ярмарки»15. Сюжетный репертуар райка также восходит к панорамам: «в состав райка непременно входили картинки с видами русских и зарубежных городов. Подписи на них обычно сводились к указанию города и отдельных его достопримечательностей, первое место среди которых отводилось монастырям и соборам»16.
Еще в 10-е годы XX в. на ярмарочных площадях русских городов можно было видеть, по воспоминаниям современников, и «большие» традиционные панорамы и «малую», или «потешную» панораму - раек. Между ними, однако, существовало принципиальное различие: трансформация панорамы в русский раек стала своеобразной параллелью европейским процессам превращения панорамы в диораму или стереоскоп. Эта метаморфоза означала переориентацию взгляда, смену типа восприятия: круговая бесконечность панорамы
259
9*
стягивалась в сцену, пространство сжималось до «концентрированного» фрагмента зрелища. Самоявленность мира преображалась драматургией, включалась в рамки театра17. Именно эти два типа восприятия, как бы метафорически «оттиснутые» в панораме и райке, и составляют важнейшие свойства архитектурных панно Лентулова 1913-1915 гг.
Взгляд на окружающий город-мир, воплощенный в этих панно, представлял своеобразный синтез двух типов восприятия: город здесь представлен одновременно как Универсум, «панорамическая бескрайность» и как «театрализованный фрагмент» райка со своей драматургией.
Прежде всего, сам круг сюжетных пристрастий художника - церкви, колокольни, монастыри - и та интонация экзотического «чуда», «небывальщины», которой проникнуты эти полотна, оказываются удивительно близки сюжетам и интонациям райка. «Среди прочих сюжетов особенно распространены были “видовые”: изображения монастырей, святых мест, Иерусалима» - замечает Не- крылова18. В «Портрете» Н.В. Гоголь описывает «картинку» райка с изображением Иерусалима, «по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска». О сюжетах и способах их преподнесения зрителю можно судить и по сохранившимся комментариям раешников: «Это, извольте смотреть, Москва - золотые маковки, Ивана Великого колокольня, Сухарева башня, Усиленский (Успенский) собор, 600 вышины, а 900 ширины, а немножко поменьше; ежели не верите, то пошлите поверенного - пускай поверит да померит»19.
Эмоциональный тон фантастического преображения, игры и готовности не только удивляться незнакомому чуду, но и воспринимать хорошо известное - например, московские соборы, - через театральные, балаганные «коды» и составляет особенность подхода Лентулова, непосредственно перекликающегося с искусством раешного, или «потешного» коментария. Лентулову и в действительности как-то привелось давать своего рода раешный комментарий к собственной картине «Аллегория Отечественной войны 1812 года», растолковывая на выставке значение и сюжеты полотна.
В «программном» «Автопортрете» 1915 г. - «Le Grand Peintre», который можно было бы представить как своего рода «собирательный образ» эпохи фольклорной зрелищности, Лентулов изобразил себя в виде лихого балаганного зазывалы или раешника на фоне разноцветного ярмарочного занавеса. Сказочный город, разрастающийся на его полотнах, завлеченный зритель мог увидеть, как бы войдя в ярмарочный балаган или заглянув в ящик райка.
Интонации раешника, с веселыми прибаутками комментирующего виды дивных экзотических городов, вполне соответствуют и композиционные способы подачи сюжета. К началу 1910-х годов в творчестве Ленутлова складываются два основных способа постро¬
260
ения декоративных панно. Первый из них - метод панорамной развертки, разомкнутости полотна, наиболее очевидный в панно «Москва». Второй - метод «свернутой панорамы», или видовой картинки райка, воплощенный в «Василии Блаженном». «Панорамный» и «раешный» подходы разрабатываются как композиционные приемы решения монументальных и декоративных задач, однако вместе с тем они воплощают две самостоятельные концепции городской темы.
Два метода воссоздания городского Универсума - города-панорамы, сгущающейся до напластования отдельных памятников и одного памятника, разрастающегося до образа города, впервые сформулированные в этих работах, далее движутся как бы во встречном направлении. Отголоски панорамного видения очевидны в холсте «Небосвод (Декоративная Москва)» (1915), отчасти - «Нижнем Новгороде» (1915) или более раннем «Кисловодском пейзаже» (1913). Форма монолога, подразумевающая, однако, скрытый симфонический фон, преобладает в картинах «Звон» («Иван Великий») (1915), «У Иверской» (1916), «Церкви Нового Иерусалима» (1917) и «Тверской бульвар, Страстной монастырь» (1917).
Но впервые в лентуловском творчестве город как Универсум, «макрокосм» предстает именно в «Москве». Интересно, что первое явление города-мира в живописи Лентулова осознано как торжественное самоявление мира, т.е. разомкнуто до бесконечной развертки панорамы. Новые для художника акценты драматического напряжения, новые интонации почти урбанистических ощущений или предчувствий облечены в панорамную форму децентрированного зрелища. Свободный разбег пространства, устремленного за пределы холста, искомая целостность вида, торжественный пафос обступающего Универсума - типично панорамные черты лентуловского полотна.
Любопытно, что традиционная панорамная концепция бесконечно разомкнутого города, олицетворяющего целый мир, смыкается с вполне футуристическим по сути (и во многом близком экспрессионизму) стремлением представить город как «Событие, которое вобрало в себя все события»20. Такое пересечение традиционного смысла и современных трактовок весьма симптоматично. Однако, если форма панорамы подразумевает некую имперсональ- ность, то у Лентулова эта спокойная само-явленность подменяется напористым само-вторжением.
Драматизация представления современного города создается и посредством сгущения впечатлений живой панорамы, произвольного столкновения московских зданий - создания «синтетического» пейзажа, по выражению самого Лентулова, и - в еще большей степени - посредством сгущения зрелищных эффектов - цвета и света. Отстраненности созерцания противостоит прежде всего наступательная, почти агрессивная активность цветового действа. Как известно, разработка новых концепций света и цвета была принципиальной проблемой, выдвинутой экспрессионизмом. Однако при этом небезынте¬
261
ресно напомнить, что акцент именно на цветовые эффекты, оживляющие сюжеты, был важным свойством зрелища панорамы.
Изначально панорама была задумана прежде всего как световое и цветовое зрелище, своего рода «волшебный фонарь». На детальной фиксации световых эффектов строилась драматургия и более поздних диорам. Совмещение городского пейзажа со свето-цветовыми экспериментами, как бы «концентрировавшими природные метаморфозы в рамках сценического действия и отведенного временного сеанса», становилось одним из приемов «театрализации» явленного мира. Приведем любопытное сообщение «Санкт-Петербургских ведомостей» о появлении подобного светового аттракциона с городскими пейзажами: «приехавший из Магдебурга «швабский уроженец»... будет желающим показывать новоизобретенный оптический с великим трудом и искусством сделанный театр света, какого здесь еще не видали. Он состоит в четырех отменных исторических дистанциях, в коих ежедневно являются перемены, состоящие в разных перспективных иллуминованных улицах ... с достопамятными церквами знатнейших городов в Европе»21.
Превращение панорамы города в динамичное цветовое зрелище, упоенную игру цвето-световыми эффектами присуще и архитектурным композициям Лентулова. Световое и цветовое действо у Лентулова преобразовано в духе экспрессионистской трактовки цвета и вполне согласуется с экспериментами, проходящими через все творчество Лентулова. Сам Лентулов, прирожденный колорист, признавал, что свое восприятие мира он утверждал «исключительно через цвет и свет». Уже в ранних городских пейзажах 1900-х годов, близких живописной традиции «Союза русских художников», Лентулова увлекали прежде всего «опыты с динамизирующим реальную картину освещением»22. Вполне логично было бы предположить, что цветовые и световые метаморфозы как один из фундаментальных элементов художественной системы панорам и диорам могли заинтересовать художника, чьи ранние эксперименты с «динамизирующим» городскую натуру светом позже эволюционировали в принципы «цветодинамики». Интересно, что именно в архитектурных пейзажах Лентулова в отточенной версии 1913 г. идеи «цветодинамики» воплотились наиболее полно, а их вершиной стало «панорамное» панно «Москва».
Экспрессивное нагнетание цвета, черные провалы пространства, ритмические сбои и наложение дискретных фрагментов - вывернутых на плоскости «соборных» граней -наделяют панно внутренним многомерным движением, превращают распластанный на полотне город в своего рода цветовую среду, пропущенную сквозь череду трансформаций. Главную роль в этом спектакле играют световые эффекты: цветные и черные тени зданий и облаков, накрывающие город («огромные тени архитектурных сооружений, падающие и повисающие на зарослях глав и плоскогориях куполов, впер¬
262
вые пойманы и закреплены Лентуловым», - пишет И.А. Аксенов23) и цветовые метаморфозы, сдвигающие и разбрасывающие формы. Цветные тени, скользящие от левого к правому краю холста, напоминают живописный аналог излюбленного мотива диорам - «туч, пробегающих на фоне луны».
Всплески красного, малинового цвета, перемежаемые зелеными, белыми и черными пятнами, сближают цветовой сюжет «Москвы» и с еще одной излюбленной темой «классических» панорам - мотивами пожара. Любопытна приверженность Лентулова к багровому или особенно любимому им розовому цвету (краске крап-роза), воспринимающемуся как экспрессионистская трактовка красного фольклорного цвета, «бесцеремонно прокатившегося», по уже упоминавшимся словам Гоголя, по картинкам раешных городов. Активное движение цвета пронизывает панно, однако его напряжение кажется художнику недостаточным, и он вводит «ударные» цветовые акценты - кусочки золотой и серебряной фольги. Подобно панорамным эффектам, эти вставки превращаются в своеобразные световые «фокусы», не только «опредмечивая» поверхность, но отражая свет, т.е. черпая дополнительные оттенки в живом освещении.
И здесь вновь важно отметить, что при всей близости цветовым фольклорным и панорамным сюжетам, сама трактовка, живое ощущение цвета у Лентулова безусловно не фольклорны - это цвет по-экспрессионистски агрессивный, насыщенный, пылающий. Контрасты и диссонансные вспышки цветовых сгустков создают столь завораживающий эффект напряженности лентуловских композиций - фольклорных сюжетов, преображенных экспрессивным почерком.
Если в «Москве» фантастическая панорама предстает как подлинный «макрокосм» города-мира, то в «Василии Блаженном» она сжимается до «микрокосма» одного собора. Здесь представлено сольное выступление одного памятника, но памятника, как бы стремящегося выйти за собственные пределы, разрастающегося до облика экзотического города. И в этом кажущемся противоречии скрыта модель райка, где частное зрелище - замкнутый на себе фрагмент - «замещает собой неуловимую целостность нерасчленен- ного вида» (М. Ямпольский). Московский храм как бы замещает собою весь зрелищный мир фольклорной архитектуры. Его пространство сжимается до облика одного частного памятника, но вместе с тем «центробежное» движение внутри строго очерченного круга как бы призвано напоминать об этом «свернутом» Универсуме.
Действительно, архитектура собора пронизана ритмами напряженной драматургии: пространственное сжатие сочетается с временной протяженностью, сгущение форм с цветовыми паузами. Собор преобразуется в иллюзионное зрелище: пышная цветовая лепка стягивает формы к центру, заставляет зеленые «заросли» витых колонок, пилонов, закомар распускаться экзотическими цветами- фейрверками пестрых куполов и расцвечивает круговыми полосами
263
театральные небеса. Архитектурная пестрая разнополосица, органично переносимая с «плоскогорий куполов» на окружающее пространство, напоминает о целостности Универсума, сжатого здесь в один «театрализованный фрагмент». Храм как бы вырастает на театральных подмостках и преподносится как цветовой аттракцион с завязкой (активный всплеск, толчок зеленых растительных форм), кульминацией («столпотворение красок» в центре) и развязкой (светлые плоскости пилонов внизу и широкие цветные полосы неба наверху). В то же время, этот красочный аттракцион втиснут в сжатое пространство круга.
Прием, лаконично и эффектно организующий это сжатое и в то же время - подвижное пространство, будет активно использоваться Лентуловым в дальнейшем. Композиционно он заключается в прочерчивании дугообразных линий, пересекающих панно и словно бы продолжающихся за его пределами, и во введении абстрактных форм неправильных очертаний, как бы накладывающихся сверху на изображение. С одной стороны, пересекающиеся дуги и цветные секторы превращают композицию во фрагмент некоего подразумеваемого целого. С другой стороны, смыкание или наложение этих беспредметных фрагментов внутри самой композиции создает иллюзию калейдоскопической подвижности, напоминающей об оптических эффектах диорам или же подвижности кинематографа.
Введение такой цветной плоскости, как бы преломляющей цвет и форму просвечивающих сквозь нее предметов и обогащающих композицию дополнительной цветовой игрой, напоминает об увлечении Лентулова экспериментами Р. Делоне и Г.Б. Якулова. Однако постоянство повторения этого приема и его постепенная модификация все более обнажает театральную природу такой абстрактной полупрозрачной апликации. Своего апогея этот прием достигает к 1916 г. В прекрасной серии акварелей на городские мотивы 1916 г. и в таких работах, как «Церковь в Алупке», «У Иверской», «Кипарисы (Замок в Алупке)» (все - 1916) наложение на композицию абстрактной формы, иногда превращающейся в окружность, все более напоминает действие светового луча кинематографа или театрального прожектора, проявляющего цвет, создающего изображение или же деформирующего его.
Знаменательно, что именно этот прием был впоследствии использован Лентуловым в его работе в театре. В замыслах его постановок подвижное освещение наполняло цветом контуры декораций и организовывало сложную игру объемных и нарисованных форм. Впервые эту взаимосвязь подметил первый исследователь живописи Лентулова, Аксенов, писавший о панно «Василий Блаженный»: «Вся композиция этой картины имеет явно замкнутое... строение, ...картина кажется ограниченной окружностью, не поместившейся на холсте или из нее вырезанной. Прием, до этого времени не встречавшийся в работах Лентулова, получил затем большое развитие в его театральных рабо¬
264
тах. Один такой эскиз был сделан художником именно в это время: его тональность находится в непосредственной связи с фоном “Василия Блаженного”, а дуговое строение развивается в полной мере»24. Органичное существование в театре выработанных им в живописи приемов подтверждает и сам Лентулов. В статье «Как я работал в театре» художник замечает: «Все мои постановки есть выражение и подчас прямое перенесение моих живописных принципов на сцену»25.
Интересен в этом плане замысел постановки трагедии «Владимир Маяковский» 1914 г. В облике фантастического «города будущего» из трагедии Маяковского на эскизе Лентулова предстает Москва. Этот эскиз так описан в воспоминаниях: «Театральная площадь с Большим театром на заднем плане и с вагончиками трамвая, которые тогда ходили по середине площади. Над городом пылала разноцветная радуга, которая должна была освещаться цветными прожекторами и придавать сцене фантастический характер»26.
Разноцветная радуга и свет цветных прожекторов воспринимаются как своеобразное овеществление «цветодинамики», наделявшей театральными эффектами станковые полотна и наконец-то обретшей жизнь в живом театре. Стягивание подразумеваемого кругового охвата в сцену, панорамного зрелища в полукруг, замкнувший фасад Большого театра и одновременное развернутое действие светового луча становятся буквальной реализацией сформулированной в живописи концепции. Сам Лентулов так вспоминал об этом: «Все это хотелось построить на световых эффектах, все это только контуры, - это должно было быть светом. ...Лобовое освещение распространяется по цвету меняющимся прожекторным освещением, которое соответствовало духу и эмоциональному чувству»27. Знаменательно, что именно с этого эскиза началась работа Лентулова в театре. Любопытна и эволюция приемов цвето- и светодинамики в творчестве художника. Оптические эффекты панорам и диорам находят свои живописные аналогии в цветовой экспрессионистской системе Лентулова. Превратившись в отточенные художественные приемы, эти цветовые эффекты, в свою очередь, вновь переходят в театральные постановки, смыкаются с современными экспериментами футуристического театра и кинематографа 1910-х годов.
Показателен и еще один момент: город в трагедии Маяковского предстает прежде всего как образ разъединения, отчужденности и драматического наваждения. Однако в эскизе Лентулова приглушенно звучащие тревожные ноты почти полностью растворяются в общем приподнятом тоне. Пафос лентуловского города может быть эмоционально соотнесен лишь с одной репликой из пьесы Маяковского («Мир зашевелится в радостном гриме, / цветы испавлинятся в каждом окошке») и находится в странном диссонансе со смысловой структурой трагедии.
Здесь почти формульно проявлена основная коллизия городских образов художника: столкновение пробуждающихся ощущений но¬
265
вого урбанизма и фольклорных мотивов. Фольклорная модель проецируется и на восприятие современного города. Недаром в «Москве» стены домов оттеснены на задний план или растворены в напластованиях форм московских соборов, из которых и собирается идеальный образ городской целостности. В городских полотнах Лентулова каждый фрагмент представительствует за целый мир, а мир разрастается из отдельного памятника или укладывается в его круговые ритмы. Эта фольклорная целостность, структурная однородность и противостоит городу Маяковского как символу разъединенности. Открывшийся взгляду футуристический городской универсум предстает как бы увиденным в ящике райка - т.е. воспринятым как фольклорное зрелище, диковинное, но безопасное, атрибут извечного и подвластного человеку мира праздника.
И все же попытка ощутить пульс нового времени, подчинив «национальные» архитектурные памятники (как бы по природе своей постулирующие идею вечности, неизменности) диссонансным ритмам современности и экспрессионистским кричащим цветам, сближает городской взгляд Лентулова с урбанистическими концепциями экспрессионистов и футуристов. Эта близость достаточно очевидна. Она прочитывается и стилистически - в интерпретации ритмического «сдвига» и динамизма форм, и в ощущении почти вселенской целостности, открывающейся в мотивах города, но главное - в самом принципе воплощения современного мира посредством городских образов.
На праздничных полотнах Лентулова черты современного города проступают сквозь синтетический фольклорный облик как хаотическое и тревожное пространство, смутно ощущаемая сила, сдвинувшая с мест и подвергающая динамическим сдвигам архитектурные формы города-мира. Попытка связать эти новые силы с извечной традицией фольклорного города нитями преемственности отчасти продиктована стремлением смягчить новое урбанистическое восприятие, обрести твердую почву в пошатнувшемся, непредсказуемом мире.
Столь характерное для полотен Лентулова 1-й половины 1910-х годов ощущение назревающего конфликта между тревожными симптомами города современного и праздничными интонациями сказочного города традиции тонко сформулировал Аксенов: «...могучая подземная волна, распиравшая старый уклад жизни, раздвигавшая и скручивавшая уже стеснительную оправу старого города - все это подхватило и захватило художника, упоенно писавшего свою “Москву-Москву”, не подозревая, что пурпур, заливающий эту композицию - не цвет торжества, а оплакивания, не порфира триумфатора, а покров погребения. Эта картина по напряженности своей и отвлеченному сходству очень напоминает те портреты, какие писались когда-то в тюрьмах с приговоренных к смерти, за малый срок до выхода на драпированный подмоет последней пантомимы. Ленту¬
266
лов любил и театр, и театральность, может быть не только из-за больших плоскостей... Так художник нашел наконец возможность говорить полным голосом, и сказанное им было прощаньем тому городу, среди которого вырос и взлетел его талант, прощаньем той Москве, чьей палитрой он упивался, которую любил, как любит художник собственную живопись»28.
1 Тугендхолъд Я. Выставка «Бубнового валета» (письмо из Москвы) (цит. по: Мурина Е.Б., Джафарова С.Г. Аристарх Лентулов. М. 1990. С. 206).
2 См.: Поспелов Г.Г. Бубновый валет: Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М. 1990; Мурина Е.Б., Джафарова С.Г. Указ. соч.
3 Поспелов Г.Г. Указ.соч. С. 11.
4 См. об этом подробно: Там же.
5 Лотман Ю. Художественная природа русских народных картинок // Народная гравюра и фольклор в России XVII-XIX веков. М., 1976. С. 262.
6 О мотивах «мира наизнанку» как наиболее устойчивых иконографических линиях карнавальной драматургии в русской и западноевропейской традиции см.: Сакович А.Г. Русский настенный лубочный театр XVIII-XIX веков // Театральное пространство. М., 1979. С. 351-376. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. М., 1994. С. 170-180.
7 Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII веков. С. 171.
8 Там же. С.178.
9 Соколов приводит немецкий термин «Ereignisbild», изначально фиксирующий тип городского вида со строительством, праздником или иного рода многолюдным действом.
10 См.: Поспелов Г.Г. Указ.соч. С. 11.
11 Лотман Ю. Указ.соч. С. 249, 253.
12 Ямпольский М. Панорама как зрелище мира // Декоративное искусство СССР, 1986. № 10. С. 34.
13 Там же. С. 34.
14 Там же. С. 35.
15 Некрылова А.Ф. Русские народные праздники, увеселения и зрелища конца XVIII - начала XX века. Изд. 2-е. Л., 1988. С. 88.
16 Там же. С. 98.
17 См.: Ямпольский М. Указ.соч.
18 Некрылова А.Ф. Указ.соч. С. 92.
19 Цит.по: Там же. С. 94.
20 Эта метафора Ж. Делеза не раз использовалась по отношению к футуристическому городу как феномену современной цивилизации М.М. Алленовым.
21 Цит. по: Некрылова А.Ф. Указ. соч. С. 88.
22 Мурина Е.Б., Джафарова С.Г. Указ. соч. С. 35.
23 Аксенов И.А. Аристарх Васильевич Лентулов. Рукопись. 1925-1926 гг. Частный архив, Москва.
24 Там же.
25 Цит. по: Лентулова М. Художник Аристарх Лентулов: Воспоминания. М., 1969. С. 86.
26 Там же. С. 29.
27 Цит. по: Мурина Е.Б., Джафарова С.Г. Указ. соч. С. 207.
28 Аксенов И.А. Указ. соч.
О.А. Тарасенко
«ОКНО В ГЛУБИНУ».
МОТИВ ТЕМНОТЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. ШАГАЛА И В. КАНДИНСКОГО
Как жадно мир души ночной Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди И с беспредельным жаждет слиться... О, бурь уснувших не буди:
Под ними хаос шевелится!..
(Ф.И. Тютчев)
СИТУАЦИЯ РУБЕЖА
А. Белый писал в 1903 г.: «Чтобы сдержать напор встающей сущности, которая с непривычки кажется хаосом, мы искусственно занавешиваем окна в глубину. ...Но как бы мы не занавешивали хаос, мы вечно остаемся на границе между ним и жизнью. Это совмещение сущности (духа Диониса) с видимостью (с духом Аполлона) - наш трагизм»*. Характеризуя искусство начала века, Белый обращается к философии Ф. Ницше, который ознаменовал время «дионисического познания»2. Обозначенный Ницше дионисический «вихрь изменяющихся образов», бьющая через край «плодовитость мировой воли»3 визуализировались в искусстве экспрессионизма. В частности, в творчестве В.В. Кандинского, М.З. Шагала, П.Н. Филонова.
Ницше раскрыл контраст между аполлоническим пластическим искусством и дионисической музыкой. Мир Аполлона связан с вечной красотой природы. Но мир материальный, пластический - это мир иллюзии. Мистический мир Диониса - это возвращение к «Матерям бытия», к сокровеннейшей «сердцевине вещей»4. Это отказ от индивидуальности. Дионисийство предполагает вечную жизнь за пределами преходящего явления. Ключевые понятия Кандинского: «ядро», «сердце- вина вещей» восприняты от Ницше. Стремление художника уподобить живопись музыке связано с глубоким усвоением идей «гениального» философа5, который провозглашал: «Музыка даст нам внутреннее, предшествующее всякому приятию формы ядро или сердце вещей»6.
Экспрессионизм стремится раскрыть занавес «окна в глубину». Трагизм эпохи порождает путь развития искусства от предметного
268
изображения до постижения внутренней сути. Живопись экспрессионизма - это стремление обесплотить тело и передать с его помощью дух. Экспрессионизм является переходным этапом к «чистоте абстрактного»7. Это проявляется в том, что предмет лишается объемности, передаваемой тонкой светотеневой моделировкой. Пространство освобождается от привязанности к линии горизонта. От развоплощенного предмета лежит путь к визуализации потустороннего, внутреннего мира. Искусство экспрессионизма — это искусство рубежа, выраженное в контрастном сопоставлении света и тени, белого и черного. Эти цвета символизируют рождение и смерть. Они осмысляются и используются метафизически.
Рыцарь В.В. Кандинский, совершает «величайшее сражение с материей»8 с целью «высвобождения элемента чисто и вечно художественного»9 (=архетипа, первообраза, идеи) и «утончения человеческой души», ее роста10. Процесс имеет два этапа:
1. «Разрушение материальной, лишенной жизни души 19 века.
2. Построение душевной, духовной жизни 20 века»11.
Подобным образом П. Филонов определяет преобразующее человека назначение искусства как «фиксацию интеллекта через материал». (Искусство «действует как организующий фактор сдвига, эволюции и динамики интеллекта»12).
В искусстве экспрессионизма происходил переход от мира земного, солнечного, упорядоченного (аполонического) в хтонический, ночной, темный, хаотический (дионисический). От внешнего пространства искусство переходит к внутреннему. В связи с этим меняется отношение к свету и темноте. В предлагаемой статье мы рассмотрим в метафизическом плане мотив темноты или «мистической глубины» в произведениях М. Шагала и В. Кандинского.
Рассматривая слова «свет» и «темнота» у Гесиода Ю.М. Каган заключает, что они созидающие. Ночь вместе с Эребом (мрак) порождает день13. В 1 главе Книги Бытия, написано: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Каган замечает, что этот свет - не солнце, потому, что светила были созданы на четвертый день творения (Бытие 1, 14-19)14.
«Свет, - согласно трактовке В. Соловьева, - есть первичная реальность идеи в ее противуположности весомому веществу, и в этом смысле он есть первое начало красоты в природе»15. Как известно, «красота» не была актуальна в экспрессионизме. Ночная культура отвергает аполлоническое идеальное световое начало, присущее дню. Ее задача выразить внутреннее состояние. Оно и рождает индивидуальную выразительность форм16. «Форма - внешнее выражение внутреннего содержания», она обусловлена временем и «является ничем иным как способом обнародования сегодняшнего откровения», - утверждает Кандинский17. Меняется отношение к свету и тени. Предмет и цвет - это проявление соединения света и тени. Мрак
269
ночи съедает цвет и предметную форму. Ночь - это таинство зарождения и рождения жизни. Она нашептывает свой язык выражения. Он лишен определенности дневного состояния. Игра зависящего от движения туч призрачного лунного света или пламени свечи делает тень огромной, а сам предмет плоским - «обесплоченным». (Например, А. Бенуа. «Медный всадник», 1905.)
П. Гайденко пишет, что у ведущего философа экзистенциалиста XX в. Хайдеггера скрытое служит средством высвечивания и выявления всего сущего. Бытие раскрывается через ничто. Если традиционная метафизика - начиная с Платона и Плотина - исходила из понимания бытия как света, Бога как солнца, то Хайдеггер считает высшим началом не то, из чего исходит свет, а то, что вечно скрыто от света, - оно есть, своего рода «черное солнце», благодаря ему становится видимым самый свет, - утверждает философ. По мысли Хайдеггера «обыденное мнение видит в тени только отсутствие света, если не вообще его отрицание. Но поистине тень есть открытое, хотя и не прозрачное, свидетельствование о сокровенности свечения»'*. Гайденко определяет принцип Хайдеггера в том. чтобы «понять явное через неявное, то, что сказано, через то, что не может быть сказано, понять слово через молчание, сущее - через несущее, бытие - через ничто. Хайдеггер «осознает свои попытки как “путь” назад, к мышлению, которое еще не обрело классически ясного, рационального выражения. Таким он считает мышление досократиков, мышление мифо-поэтическое»19. С другой стороны, философ сближается с мистическими медитациями Экхарта и Беме. Подобные устремления свойственны и художникам экспрессионистам.
Еще в 1871 г. как об основной проблеме Ф. Ницше говорил об утрате искусством «мифической родины», «мифического материнского лона». Миф он называл «сосредоточенным образом мира»20. Иными словами, образом целостным в нем между жизнью и смертью нет неразрешимого противоречия. Это мир единства Аполлона и Диониса. Проявленного и тайного. Временного и вечного. Явления и сущности. Света и тьмы.
Новая онтология философии XX в. дает основание для диалогической интерпретации отношения к темноте (тени) живописи экспрессионизма с архаическими культурами.
АНТИЧНАЯ ВАЗА КАК МОДЕЛЬ МИРА
Моделью для восприятия изобразительного искусства вообще и, в частности, экспрессионизма может послужить античная ваза, являющаяся одним из важнейших архетипических образов. Она представляет космическую модель. В античном искусстве ваза имеет антропоморфный характер.
270
Древнее искусство свидетельствует о том, что ваза представляет, прежде всего, образ женщины. Или в целом, или в важнейшей для воспроизводства части - материнского лона, груди. Например, статуя богини Иштар 18 в. до н.э. показана с кувшином на месте лона. «Сосуд-космос мог принимать образ различных живых существ. Например, мог становиться Великой богиней и др. Эти метаморфозы имели свою мифологическую логику. Великая богиня - воплощение жизненных сил космоса, ее грудь — антропоморфный источник жизни»21.
В вазе есть физическое внешнее и внутреннее пространство. В то же время, ваза, как и храм, имеет метафизический смысл. Ее внутренняя часть символизирует женское начало, связанное с водами, а также тьмой, ночью, миром Диониса. Я. Беме говорил, что черный цвет «является завесой или тьмой, за которой скрыты все вещи»22. Т.е., тьма и воды символизируют рождающее начало. Форма вазы близка форме яйца. Крупнейший американский мифолог XX в. Джозеф Кэмпбелл излагает: «Миросоздающий дух отца переходит в многообразие земного опыта благодаря преобразующему посреднику - матери мира. Она является персонификацией первичного элемента, упоминаемой во второй строке Книги Бытия, в которой говорится, что “дух Божий носился над водою. В индийском мифе это женский образ, посредством которого Высшее Я порождает все сущее. В более абстрактном понимании она представляет собой миро- ограничивающие рамки: “пространство, время и причинность” - скорлупу космического яйца»23.
Изображения на вазах, свидетельствуют об отношении создателей к потустороннему и посюстороннему миру. Эволюция вазописи показывает изменяющееся состояние мировоззрения. Ее можно уподобить космическому вдоху и выдоху:
- Вдох. В гомеровскую эпоху человек связан с архетипическими формами, что проявлено в «геометрическом стиле». Например, в изображении погребальной сцены на дипилонской амфоре. 8 в. до н.э. даже человек геометризирован. Т.е., приведен к знаковой форме. Важно, что изображение часто черное. Черное имеет свойство углубления, отдаления. Символически это цвет небытия или инобытия.
- Переход. В последующий период «чернофигурного стиля» росписей изображенные персонажи как бы принадлежит потустороннему, внутреннему плану вазы (»миру теней» - о нем писал Гомер), приближаясь к границе двух миров.
- Выдох. В краснофигурной вазописи происходит переход от пограничной ситуации человека между внутренними, глубинными водами коллективного бессознательного к миру проявленной реальности. Красный цвет изображения - архетипический цвет человека в мире посюстороннем (аполлониче- ском).
271
- Постепенно изображение все более выходит во внешнее пространство, становясь рельефным. После этого наступает новый космический «вдох» и все повторяется.
Мне представляется, что этап экспрессионизма имеет аналогии с чернофигурным стилем античной вазописи.
- В тематическом плане это - обращение к тени, темноте, ночи, смерти. Оно получает соответствующую форму выражения в силуэте, контрасте света и тени.
- В метафизическом плане это - обращение к потустороннему миру.
- В образном плане это - возрастание роли женщины как вечно возрождающего начала хранительницы жизни, связанного с тайной ночи и водой.
Обращение к черному силуэту характерно для искусства изучаемого периода в целом. Даже на обложке журнала «Аполлон» (1916) Г.И. Нарбут представляет лучезарного бога силуэтом в стилистике чернофигурной вазописи. Но принципиальная разница в том, что мир теней, проявляется на теле античной вазы, имеет гармонические, правильные формы, в отличие от хаотических форм в искусстве экспрессионизма. В беспредметном искусстве происходит дальнейшее углубление, имеющее аналогию с геометрическим стилем. Ритмические «качели» космоса набирают высоту.
Один из лидеров экспрессионизма Ф. Марк возвещал: «Мы стоим сегодня, как и полторы тысячи лет тому назад, на рубеже двух великих эпох, переходного времени для искусства и религии, стоим перед фактом смерти великого старого и прихода на его место нового, неожиданного»24. Художник почувствовал связи эпох, которые теоретически осмыслил философ Флоренский.
НОЧНОЙ ТИП КУЛЬТУРЫ ЭКСПРЕССИОНИЗМА
Отец Павел Флоренский развил мысль о подчиненности отдельных культур их ритмически сменяющимся типам: средневековой (ночной) и возрожденской (дневной). (Терминология Вяч. Иванова). Первый тип характеризуется органичностью, объективностью, а второй - субъективностью и поверхностностью25. Флоренский писал: «Наша жизнь идет параллельными чредами, - дней и ночей, - хотя и перемежающихся друг с другом, но как бы не замечающих друг друга, смыкающихся в две параллельные нити жизни. - черную и белую. Это-то и выражает Псалмопевец словами: “День дни отрыгает глагол и нощь нощи возвещает разум” (Пс. 18, 3). Так именно бывает и в истории. Полосы дневного сознания “отрыгают глагол”, т.е. имеют непрерывность предания, единый разум культуры, не смежным с нею полосам сознания ночного, но - другим полосам, отграниченным от нее культурою ночною. И ночная культура “возве¬
272
щает разум” свой непосредственно культуре ночной же - не дневной, не той, которая с нею смежна»26.
Согласно Флоренскому, гомеровский век есть конец греческого средневековья (ночная культура), ионийская натурфилософия (VI в. до Р.Х.) - начало возрождения дневной культуры, затем снова следует ночная культура эллинизма (III—I вв. до Р.Х.), ее сменяет дневная культура поздней античности (I—IV вв. по Р.Х.), далее снова развивается ночная культура западного средневековья (V-XIII вв.), затем возникает дневная культура западного Возрождения (с XIV в.), и, наконец, начало XX в. имеет аналог в средневековье27.
Определение Флоренским культуры начала XX в. как ночной соответствует живописной практике художников как в прямом (тематическом), так и в образном плане.
ПРЕДЭКСПРЕССИОНИЗМ
Рассматривая живопись конца XIX в. мы видим, как в выборе сюжетов, так и в их трактовке визуализируется новое мировосприятие, его можно связать с вхождением из света в потемки, даже в ночь. Это ощущение обратно барочному световосприятию, например, Рембрандта: у него человек устремлялся к божественному теплому живительному лучу, как бы рождаясь из чувственной темноты. Свет проявлял формы, не искажая. Теплые цвета ориентированы в пространство земли. В мир Логоса, Аполлона.
В русской живописи предэкспрессионизма доминирует холодное лунное освещение. Оно принадлежит царству ночи, миру Диониса. Одной из любимых тем было «Моление о чаше»: Н.Н. Ге (1887-1888), М.А. Врубель (1988), эскизы К.С. Петрова-Водкина. Тело и дух боролись в художниках и вместе с Христом они молили о том, чтобы не произошло неизбежное. Но без испытаний нет роста души.
Время позднего вечера и ночи - господствует в творчестве Врубеля. Он дал мощный импульс для развития авангардных идей искусства начала XX в. В частности, экспрессионизма. Врубель заглянул в мир хаоса, как в жерло вулкана. Его этюд «У кратера Везувия» (1904) - документальное свидетельство интереса к огнедышащей, разрушительной стихии. Живописца волнуют глобальные темы рока, смерти и воскресения:«Гадалка» (1895), «Тамара в гробу» (1890-1891), «Надгробный плач» (1884), «Владимирские эскизы» (1887).
Для экспрессионизма особенно важно отношение художников к смерти. (Эту проблему относительно культуры конца XIX в. глубоко исследовал Г.Г. Поспелов28.) Художников потрясали как общие для времени катаклизмы, так и личные трагедии. Умерли молодые жены В.И. Сурикова и М.В. Нестерова, дети С.И. Мамонтова,
273
М. Врубеля, В. Кандинского. Больны туберкулезом К. Петров-Вод- кин, Б.И. Кустодиев, Э. Нольде, отравлен газом М.Ф. Ларионов. Убит на войне молодой Ф. Марк. Граница жизни и смерти стала эфемерной. Такие снятия преград между плотным и тонким мирами повторяются вместе с ритмом раскачивания «качелей»-дыханием живой вселенной.
ЭКСПРЕССИОНИЗМ.
РОЛЬ ИНТУИЦИИ, БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ТЕМЫ РОЖДЕНИЯ, СМЕРТИ, СНА, ВИДЕНИЯ
Ф. Кейпер в статье «Космогония и зачатие: к постановке вопроса» приходит к двум важным гипотезам. Он полагает, что в данном мифе отражена пренатальная («предшествующая рождению», т.е. эмбриональная) память человека, всплывающая из подсознания в моменты экстатических состояний, и что в современной культуре именно художники-авангардисты способны воплощать эту образноинтуитивную память о формировании человеческого плода, повторения им «земноводной» стадии развития жизни на Земле29.
Для доказательства нашей идеи о том, что творчество во многом являет собой как бы воспоминание о том, что было до рождения, важны слова Шагала: «У художника есть необходимость быть “в пеленках”. Он всегда находится где-то возле юбок матери, очарованный ее близостью и в человеческом, и в формальном плане. Форма - не продукт школьного обучения, а следствие этой погруженности в материнское начало»30. Н. Апчинская интерпретирует композицию «Рождение» (1909) в прямом смысле. Погруженный в замкнутое пространство красный балдахин кровати символизирует «рождающее лоно, женское начало и жизнь»31. Думаю, что этот принцип можно распространить на все творчество Шагала.
Мучительный духовный поиск в искусстве ситуации рубежа связан с темами тайны рождения, сна, смерти. Средство познания - интуиция, экстатические озарения и видения. Ницше говорил о восторге, «глубине счастья», «частичной невменяемости с предельно ясным сознанием», «избытке света» - их он испытал во время написания «Заратустры»32. Кандинский утверждал, что развитие искусства является результатом духовных озарений, они не противоречат прежним истинам, но, напротив, являются их продолжением. Он сравнивает озарение со «внезапными вспышками, подобными молнии». Эти «вспышки в ослепительном свете» вырывают из мрака истины33. Видения, экстатические переживания, ведущие к откровениям, по Юнгу, свидетельствуют о крайней напряженности во взаимоотношениях между сознательным и бессознательным. Психолог пишет: «Человек, с которым это случается, направляет свой взор поверх хода времен, в вековое движение идей»34. Ницше гово¬
274
рил о «инстинктивно бессознательной дионисической мудрости»35. Цель и смысл оргий Диониса - экстаз, - утверждал Вяч. Иванов36. По представлению древних, в частности, Платона, экстаз - это вы- хождение души из тела. Врач Гален определял экстаз как кратковременное безумие. Но это безумие священное. В этом состоянии душа общается с богом и живет с ним и в нем. В экстазе человек ощущает время как вечность и пространство как бесконечность37.
Флоренский сформулировал общий закон в мистике: от видимого - к невидимому. Происходит «дионисическое расторжение уз видимого». Воспарив в невидимое, душа опускается снова к видимому, и тогда «перед нею возникают уже символические образы мира невидимого - лики вещей, идеи: - это аполлоническое видение мира духовного»38. Эти символические образы дают художественное произведение. Флоренский предостерегает от «мечтаний», что окружают душу, когда перед ней открывается путь в мир иной39.
Видения мира невидимого, указывает Флоренский, возможны в различных состояниях. Например, в «сумеречном» сознании, когда душа блуждает у границы миров. Либо, «во внезапно находящих отрывах от сознания внешней действительности»40. Безумием поплатились, взглянувшие в глубину П. Федотов, Ф. Ницше, М. Врубель.
А. Белый считал, что гениально-безумное познание отличается от разумного только «расширением формы»41. М. Шагал, Д. Бурлюк изображали и себя и своих героев без голов, т.е. без ума. Или вниз головой.
В проекте музея современного искусства П. Филонов предполагал вместе с отделами древнерусских икон и детского творчества создать отдел «искусства сумасшедших»42. Вертикаль предполагает качественно разные уровни: может быть как восхождением, так и нисхождением, что блистательно показал Данте.
СКАЗКА. БЫЛИНА
Благодатной темой была сказка, в ней возможны путешествия в пространстве и времени. Причем, в искусстве экспрессионизма художник чаще является не иллюстратором, а творцом своей сказки или шире - мифа. В воплощении сказочной тематики наблюдается общая линия: от дневного к ночному восприятию. Вначале мистический или фантастический элемент, по словам В.С. Соловьева, «выступает на дневной свет в ясных образах»43. Так, в сказочных образах В.М. Васнецова существует внутренняя связь фантастического и реального элементов. К нему применимы определения В. Соловьева, высказанные относительно Э.-Т.-А. Гофмана, его фантастические образы являются «не как приведения из иного, чуждого мира, а как другая сторона той же самой действительности, того же самого реального мира»44. Врубель погружает свои сказочные персонажи в
275
ночь. Кандинский растворяет их в вибрации мозаичного мазка, отрывает от земли. В изучаемый нами период Шагал, чаще всего, творит свой миф в бесконечности ночи.
РЫЦАРЬ
Можно сказать, что художественное произведение есть результат духовного путешествия. Не случайны образы всадника, рыцаря у Васнецова, Врубеля, Кандинского, Петрова-Водкина, полеты Шагала. Можно наблюдать различное по времени качественное состояние героя: подготовка к подвигу и его свершение. Показанный в сумеречном освещении на белом коне победителя «Витязь на распутье» (1882) Васнецова остановился перед выбором пути. Диагональ его устремленного к земле копья указывает идейный смысл композиции. Земля покрыта черепами. Путь к просветлению предполагает встречу со смертью и ее преодоление.
Рыцарство символизирует путь овладения своим телом и духом. Конь - материальный, физический план, а всадник - духовный принцип. Главный герой Кандинского - рыцарь, освобождающий дух от власти материи, уже определен Врубелем в сумеречном мерцании сине-фиолетовых излучений витража «Рыцарь» (1896), копье его также, как и у васнецовского героя, указывает на землю. Рыцари Кандинского и Петрова-Водкина, часто показаны оторвавшимися от земли, в полете, как и Шагал. Восходящая диагональ их композиций соответствует идее духовного восхождения.
МОНАШЕСТВО
Монах, как и рыцарь, это путник к цели духовной: «Стяжанию Св. Духа». Тема монашества - как пребывания на границе посюстороннего и потустороннего миров связана с экспрессионизмом в широком смысле слова. Она не случайно играла важную роль в искусстве рубежных времен.
Полагаю, что идеальной иллюстрацией к тематике экспрессионизма в широком смысле понятия, является барочный портрет князя Дмитрия Долгорукова, исполненный в 1769 г. мастером Самуилом (Национальный музей Украины). Это эпитафиальный (посмертный) портрет князя-монаха. Как пишет П.А. Белецкий: в 20 лет князь «почувствовал страсти» - влюбился в бедную девушку. «Он боролся с чувством сильной любви, но сердце его превозмогло рассудок». Под присмотром матери он начал жить в Киеве, где «проходил монашеский искус». Портрет написан вскоре после смерти князя по зарисовкам, изображающих его на смертном одре45. В лице с прикрытыми глазами запечатлена тайна смерти. Князь как бы видит недоступное тем, кто созерцает его портрет в нашем бренном
276
мире. Тяжелый занавес нависает как завеса, родственная той, что в «Сикстинской мадонне» Рафаэля отделяет миры, но будучи открытой, позволяет заглянуть в пространство вечности. Черная фигура монаха погружена в тень-небытие. Любой портрет в сущности - тень, пусть цветная.
М.А. Волошин повесил в своей мастерской посмертные маски великих людей. «Хочется иногда заглянуть в лицо смерти», - заявлял он46.
Экстатический образ «Боярыни Морозовой» (1887) В. Сурикова - проявление раннего экспрессионизма. Образный строй полотна возник у художника при виде черной вороны на белом снегу. Морозова сохранила ассоциативную связь с образом вещей птицы - посредницы между мирами. Большой нижний план картины - белый снег. Он лишает композицию привычной архитектоники, власти земного притяжения. Народ завис над краем полотна. Вместе с боярыней мы въезжаем в мир зимы - природной границы жизни и смерти для обретения нового состояния. Размер по горизонтали более чем в два раза превышает высоту холста. Поскольку «форма содержательна» можно отметить кризисное состояние культуры конца века, «привязанность» человека к линии ‘горизонта «как лошади к стойлу» (по выражению К.С. Малевича). Обращающий к небу жест боярыни, - указание на потребность обретения вертикали неба, гармонизации утраченной взаимосвязи мира «дольнего» с «горним». Черное на белом. Снег и «безвесие». С жестом боярыни рифмуется благословение знающего истину юродивого - «уродливого Христа ради».
Существует метафизическая связь между полотном Сурикова и «Черным квадратом» Малевича. Пограничность света и тьмы, дня и ночи персонифицированы М. Врубелем в панно «Микула Селянино- вич и Вольга» (1896). Суриков проявлял архетип в пластически-чув- ственной форме, а Малевич - в абстрактной. У Сурикова идея показана как материально проявленная, а у Малевича дана абстрактная архетипическая форма. На границе между этим - экспрессионизм.
В «Видение отроку Варфоломею» (1890) М. Нестерова монах- призрак погружен в тень-небытие своих одежд. Тень капюшона скрывает лицо. Монахи при жизни умирали для внешнего бренного мира, чтобы воскреснуть для вечного идеального. Они заживо погребали себя в пещере - аналоге материнского лона земли.
СОН, ВИДЕНИЕ
Флоренский называет сон первой и простейшей ступенью жизни в невидимом. По словам отца Павла, сон «восторгает душу в невидимое» и дает предощущение, что «есть и иное, кроме того, что мы склонны считать единственно жизнью». Флоренский подчеркивает,
277
что сновидениями сопровождается не глубокий сон. Душа наша «обступается сновидениями» именно на границе сна и бодрствования47. В представлении Флоренского «художество есть оплотнившееся сновидение»48. Карл Густав Юнг считал, что во сне происходит «са- моизображение духа»49.
Сон юноши в картине К. Петрова-Водкина «Сон» (1910) - оцепенение кошмара. Безводная, покрытая пеплом земля с курящимися вулканами напоминает лунный пейзаж картины И.Н. Крамского «Христос в пустыне» (1872). Возникают ассоциации с образами стихотворения Пушкина «Пророк»:
«Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился».
«Как труп в пустыне я лежал»
В. Соловьев трактует понятия «труп» и «пустыня» в стихе Пушкина как осознание поэтом «суетного и не божьего»50. Слова Библии «Земля была безводна и пуста» соответствуют ощущению погружения в небытие смерти-сна. Для того, чтобы духовно возродиться необходимо умереть. Возможно символически.
«Мистицизм не говорит ничего, абсолютно ничего тому, кто не испытал его хоть в какой-то степени», - справедливо утверждал Анри Бергсон51. Кандинский и Шагал были сновидцами и мистиками. Они видели мир и свет не только посюсторонний, но и потусторонний. А значит и темноту. Мы говорим о тьме и тени, прежде всего, не в физическом, а в метафизическом смысле.
Кандинский вспоминал: «сон может пролить свет на всю последующую жизнь и вследствие этого обладает определяющей жизнь силой. Двух снов я никогда не забуду. В 4-5 (исправлено на 5-7) лет я видел сон, который показал мне небеса и который и поныне как единственное воспоминание увлекает меня с неослабевающей силой. Мне кажется, что этот сон со временем дал мне способность отличать вещественное от духовного, почувствовать различие (- самостоятельное существование обоих элементов), переживать посредством интуиции и, наконец, ощутить дух как ядро внутри отчасти чуждой ему, отчасти им определяемой, отчасти им ограниченной вещественной оболочки». Второй сон касался впечатления о дематериализации предмета, шкафа; он исчез, а затем, на глазах снова воплотился52.
ШАГАЛ
Картина Шагала «Автопортрет с музой (Видение)» (1917-1918) может быть включена в ряд предшествующих ей произведений русской живописи: М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею» (1890); М. Врубель панно «Принцесса Греза» (1896); двучастное панно М. Врубеля «Пророк» и «Дама в лиловом» (1904-1905), «Видение пророка Иезекииля» (1906); Н. Рерих «Знамение» (1915).
278
Автор монографии о Шагале Н. Апчинская пишет: «Как и в детстве, его посещали сны-видения. В одном из видений через проем в потолке в комнату влетал ангел, наполняя ее светом и шумом крыльев»53. Динамическая поза и жест проявляющегося из синевы облачного ангела: правая рука указывает на небо, а левая - на землю, ритмически повторяется движением художника. Парность жестов в «Видении» Шагала имеет аналогию в символических жестах монахини и юродивого в картине Сурикова «Боярыня Морозова». Благословляющий на подвиг юродивый в серых отрепьях и оперенный ангел выполняют общую задачу.
Наглядно также родство образного строя «Видения» с реконструированным И.В. Шумановой панно Врубеля «Пророк» (1904-1905). Художник соединяет физический и духовный планы в единое пространство. В нижней части («Дама в лиловом») показана ясновидящая, в верхней части - ее видение. Случайно ли, что это полотно оказалось разделенным? В отличие от Врубеля, Шагал структурирует пространство с помощью геометрии. Композиция расположена в двух диагоналях. Получилось четыре треугольника, в вершинах их изображена символическая звезда с «пламенеющими» извилистыми лучами. Шагал показал себя на границе света и темноты. Он всматривается в небесный мир как бы из ночного мрака. Глаза художника прикрыты, также, как и у ангела.
В портрете Анны Ахматовой Петрова-Водкина (1922) также голубым на голубом фоне, как и у ангела видения Шагала показана муза. Ее глаза прикрыты, что означают внутреннее созерцание. Шагал пишет «Видение» цветом тени - голубым. Этим цветом также пишет план инобытия, духовного пространства Петров-Водкин. Например, «Богоматерь, умягчения злых сердец» (1914-1915), «После боя» (1923). В картинах Петрова-Водкина теплые цвета земли уравновешивают небесные. Видение Шагала принадлежит только небу. Верх и низ композиции - облако. В нем потонула нога художника. Тело Шагала обесплочено тенью. Ангел растворен светом. Пространство растворяет телесное начало. Художник не принадлежит более плотному миру. Он - в ситуации границы сообщаемых миров: посюстороннего и иного. Плотного и тонкого.
Композиция Шагала «Посвящается Аполлинеру» (1911-1912) родственна «Видению» диагональным членением геометрического фона. Стрелки на круглом диске циферблата часов - андрогин. Он подобен алхимическому гермафродиту с двумя головами и торсами на двух ногах, что держит солнце и луну, т.е., время (см. илл. 123 в книге К.Г. Юнга «Психология и алхимия»). Геометрия фона имеет аналог с илл. 192 «Signatura гегшп» (1682) в той же книге. В расшифровке Я. Беме это: «Четверичность креста в зодиаке в окружении шести планет. Меркурий соответствует кресту между Солнцем и Луной». В верхней части рисунка изображена восьмиконечная звезда (знак Солнца) в крылатом треугольнике. Она подобна звезде, изо¬
279
браженной в центре композиции «Видения» Шагала. (Звезда изображена на узорной шали, покрывающей, по нашему предположению, кокон фигуры спящего. Ее узоры связаны с расположением планет в алхимическом рисунке.)
Динамика пересекающихся диагоналей при равновесии масс дает «Видению» монументальный строй. Этому соответствует и большой размер полотна: 157 х 140. Композиции «Я и деревня» (1911), «Венчание» (1918) также основаны на диагональном перекрестии, в которых выделенные треугольники имеют смысловое насыщение. С помощью геометрической структуры Шагал сделал пространство картин архетипическим. (Отметим, что Петров-Водкин в 1918 г. пишет автопортрет на фоне диагоналей креста «андреевского» флага. Ранее, мы писали, что крест в живописи авангарда имеет тенденцию стать динамическим. Что явственно, например, в супрематических композициях К. Малевича.)55
Ангел в «Видении» настолько похож на Шагала, что воспринимается его небесным двойником, помогающим воспринять тайну единства земного и небесного планов бытия. Символика картины Шагала родственна миниатюре «Соединение души и тела» из манускрипта 1413 г. «Grandes heures du due de Berry». Юнг считает эту миниатюру церковной версией купели для алхимической свадьбы56. Связь с алхимией не случайна. Н. Апчинская пишет, что слово «химия» было ключевым для Шагала57.
Верхний треугольник композиции «Видение» несколько скруглен и напоминает ритуальную чашу - потир. Чаша может обозначать и самого человека как вместилище для накопляемого опыта жизни. Не случаен образ чаши Грааля. В то же время, равновели- кость верхней и нижней части выделенной белым «чаши» ассоциируется с песочными часами. Модель пространства в виде двух разнонаправленных полусфер близка картине Н.К. Рериха «Знамение» (1915) из Одесского художественного музея. (В 1907 г. Шагал посещал руководимую Рерихом студию при Обществе поощрения искусств.) Человек в центре картины «Знамение» являет связующее звено между миром земли и неба. Это состояние гармонично. Персонаж Шагала воспарил над бренным миром.
В том же архетипическом ряду чаш-ваз «Амфора» Жана Арпа (1931). Все эти композиции заставляет вспомнить древние слова: «Это одна и та же вода движется вверх и вниз с течением времени. Землю дожди оживляют. Небо омывают звезды» («Ригведа». 1. 164 : 51). В символическом пространстве происходит слияние верхнего «горнего» мира с планом низа, мира «дольнего». Небо перетекает в нижний план как в чашу с тонкой перемычкой. Вспоминаются и дипилонские амфоры с греческого некрополя. Предполагалось, что на их дне есть отверстие. Таким образом, через вазу-надгробие происходила энергетическая связь с миром неба и хтониче- ским подземным пространством. Та же идеальная модель связи
280
миров в организации пространства античного дома и храма. Внутренний двор открывает небо, а бассейн - мир глубинный. (Связи с небом служит отверстие в куполе Пантеона.)
Геометризированное пространство «Видения» Шагала, как и «Амфоры» Арпа взаимозаменяемо. Главенствует то, которое мы в данный момент избираем. Черное или белое. То же - в скульптуре играющего перетекающими полусферами энергий А.П. Архипенко.
В других картинах Шагала раннего периода можно выделить изображение различных пространственных планов, своеобразных видимых предметных границ, указывающих на мир невидимый:
- окно с занавеской, напоминающей облако («Окно. Витебск», 1908; «Часы» 1914);
- забор. Часто вместе с изображением окна. («Окно. Витебск», 1908; «Над городом» 1914-1918);
- полог над кроватью роженицы («Рождение», 1909);
- ворота («Ворота еврейского кладбища», 1917) с кристаллом синего сапфирного неба и вечнозеленым древом жизни, на котором сияют золотые кристаллы листьев и подобия плодов. Мир живых и мир мертвых;
- дом, показанный как модель: с разбитыми окнами («Красный еврей», 1915); черный дом со светящимся окном в бездне ночи («Венчание», 1918). Дом является символом внутреннего мира. Мир внешний может быть погружен во тьму хаоса, но окна дома духовного освещены. К двуединым влюбленным снизошел огненный серафим. Лучи-прожекторы образуют на небе нисходящий треугольник. Вместе с восходящим (устремленным кровлей вверх) домом он тяготеет к образованию архетипического шестигранника, символизирующего слияние женского и мужского начала, воды и огня. У иудеев эта фигура называется «звездой Давида». Любовь, как проявление вечной гармонии торжествует над хаосом ночи;
- зеркало («Парикмахерская (Дядя Зусман)»), 1914;
- автопортрет, как взгляд в зеркало («Автопортрет перед мольбертом»), 1914;
- белый холст, как возможность сделать тайное явным, показать видение внутреннего плана. Например, в картине «Продавец скота» (1912) в чреве лошади показан еще не рожденный жеребенок.
Исследователь архетипов Юнг считал, что есть много таких прообразов; в совокупности они до тех пор не проявляются в сновидениях отдельных людей и в произведениях искусства, «пока не возбуждаются отклонением сознания от среднего пути». Но когда «сознание соскальзывает в однобокую и потому ложную установку, эти “инстинкты” оживают и посылают свои образы в сновидения отдельных людей и в видения художников и провидцев, чтобы тем самым восстановить душевное равновесие»58.
281
КАНДИНСКИЙ. ЭВОЛЮЦИЯ
Сложный путь нового искусства Кандинский описывает языком сказки: «по запутанным путям этого нового царства, бесконечной сетью, расстилающимся перед пионером, через вековые черные леса, через неизмеримые ущелья, ледяные высоты и головокружительные пропасти»59. Можно сравнить это с инициацией Данте, оказавшимся в «сумрачном лесу». Направлять его «непогрешимой рукой» будет не Вергилий, а «тот же руководитель - принцип внутренней необходимости»60.
Первым пророком духовного мрака XIX в. Кандинский объявляет М. Метерлинка. К числу «ясновидцев падения старого мира» художник причисляет «несравненно-гениального» Ф.М. Достоевского: он - «зеркало, в котором читатель видит мрак бездны», А.П. Чехова и А. Кубина61. В теософии он видит «двигатель, достигающий... до глубин некоторых отчаявшихся и погруженных во мрак и ночь душ»62. В записных книжках Кандинского, изучаемого нами времени, сохранились записи по поводу работы Р. Штайнера «Гносис Люцифера»63.
Кандинский писал о мире героев Метерлинка: «Это в прямом смысле души, которые ищут в туманах, которым туманы грозят удушением, над которыми нависла мрачная сила»64. Все это узнается в цветных линогравюрах и ксилографиях Кандинского 1903, 1907 г. Словесное описание «внутреннего звука» произведений Метерлинка оказывается родственным также его ксилографиям к книге «Стихи без слов» (1903).
ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
Собственная символическая характеристика Кандинским белого и черного позволяет интерпретировать серию его ксилографий «Стихи без слов». Характеризуя цвета, художник пишет, что равновесие черного и белого рождает серое. Чем оно становится темнее, тем «вырастает перевес безутешного и выступает удушающее»65. В «Стихах без слов» безусловно доминирует черный. Открыватель беспредметного искусства постепенно переступал порог Тени.
На обложке представлен медитирующий в молитвенной позе на фоне огромного облака. Небо и лесистая земля занимают равные доли в композиционном круге. И этим четким делением на белое и черное вызывают ассоциацию с тайцзи66. Облака, что так любил писать художник (например, этюд из Одесского художественного музея) занимают в искусстве экспрессионизма то место, ранее принадлежавшее плотному плану - изображению камней. Справа от молящегося показан на цепи «кот ученый» . Это животное связано с тайнами ночи, с хтоническим миром. Слева - трубит призыв всадник. В глубине передано движения мчащихся рыцарей, этих сросшихся с
282
конями кентавров средневековья. Всадник - это скорость. Т.е., во много крат умноженная энергия.
Техника ксилографии (в основе) дает две краски: черную и белую. Белое для Кандинского «есть как бы символ мира, где исчезли все краски, все материальные свойства и субстанции. Этот мир стоит так высоко над нами, что ни один звук оттуда не доходит до нас». «Это есть нечто как бы молодое или, вернее, нечто, предшествующее началу, рождению»67. Внутреннее звучание черного - это «вечное молчание без будущего». Черное для Кандинского - «есть как бы вполне законченная пауза, за которой продолжение следует, как начало нового мира». Черное знаменует замкнутый круг, «это молчание тела после смерти»68. Таким образом, белый и черный соответствуют музыкальной паузе.
Изображение на обложке книги «Стихи без слов» заключено в подобный уроборосу круг. Интересно, что, располагая в таблице III цвета в круг, Кандинский сравнивает его со змеей, держащей зубами свой хвост. (Т.е., с алхимическим уроборосом). Попарно поставленные краски образуют «три большие противоположения». А направо и налево - «две великие возможности молчания: смерти и рождения»69. Это белый и черный цвет.
В трактовке Юнга, уроборос объединяет хтоническое начало змеи и воздушное начало птицы (крылья). Иногда изображается две змеи-дракона, соответствующие женскому и мужскому началу. Изображение дракона, кусающего свой хвост, в алхимии появляется еще в XI в., вместе с надписью: «Единое во всем». Дракона связывают с Меркурием - богом откровения, проводником души. Когда алхимик говорит о Меркурии, подразумевая ртуть, он имеет в виду миросози- дающий дух, заключенный в материи, в частности, в камне70. Такая символика вполне соответствует задаче Кандинского: освобождении духа из плена материи, а определенность черного и белого - ру- бежности его времени.
Поскольку Кандинский ведет битву с материей, актуальным временем суток становится изображение ночи. Он персонифицирует ее в гравюре «Ночь» (1903). Блуза ночи украшена золотыми звездами, а головной убор напоминает о Млечном пути. Мгла растворяет предметы. Композиция «Прощании» (1902-1903) и по форме, и по символическому содержанию сравнима с античными надгробными стелами. На них часто изображали сцену прощания с близкими отправляющегося в мир теней спешившегося всадника. Царит безмолвие. Врезанный в толщ камня рельеф надгробия зримо показывает постепенное погружение тела в мир целостной материи. Как это произошло ранее с «Валькирией» (1899) Врубеля из собрания Одесского художественного музея. Тьма готова поглотить не только вороного коня, но и крылатую деву. Еще один аналог: графическая иллюстрация Врубеля к поэме М.Ю. Лермонтова «Измаил-Бей» «Прощание Зары с Измаилом» (1890-1891). Присущий Врубелю
283
точечный мазок акварельной кисти дробя распыляет массу. Ночь - время Врубеля, когда шевелится «родимый хаос» и происходит трансформация единой «материи мира», «всего во все». Трухлявый пень на глазах превращается в Пана (1899). Этот процесс зримой динамики форм материи наберет силу в аналитических композициях Павла Филонова.
Кандинский часто изображает черную воду. Например, на странице с оглавлением книги «Стихи без слов», в гравюре «Золотой парус» (1903), в картине «Озеро» (1910). Согласно Юнгу: вода - это самый известный символ бессознательного. Темная вода - «живой символ темной психики». В то же время, спуск в глубину всегда предшествует подъему. Вода - это дух, ставший природным. У Гераклита высшая ступень души - огненная и сухая71. Гора - также является одним из важнейших архетипов живописи Кандинского. Ее величина и возвышенность предвещают взрослую личность, считает Юнг72.
Для Кандинского физическая тень является реальной «сюжетной мотивировкой» (по терминологии А.Ф. Федорова-Давыдова) для «утончение средств искусства»73. Тени в пейзажах Кандинского приобретают большее значение и место, нежели кроны деревьев или дома. Например, в пейзаже «Мурнау-Кольгрюберштрассе» (1908). Слева внизу расположено большое пятно «типично земной» желтой краски74. Кроны деревьев характеризуются «самодовольным покоем» зеленого75. Ярко-синее небо насыщается, углубляясь к левой части. Сюда направлена диагональ дороги. Но правая нижняя часть принадлежит огромной распластавшейся синей тени с фиолетовыми прорезями. Тень объясняет изменение архитектоники пейзажа. Кандинскому пришлась по душе мысль Е.П. Блаватской, что в XXI в. «земля будет подобна небу»76, и он свидетельствует об этом в своих картинах. Вначале глубокий небесный синий появляется в тенях деревьев, домов. Затем он становится магистральным.
В композиции «Москва. Красная площадь» (1916) холодные сине-зеленые цвета образуют своеобразный туннель для «втягивания» зрителя в пространство картины. Синий цвет, согласно объяснению художника, «зовет человека к бесконечному», «будит голод к чистоте и, наконец, к сверхчувственному»77. Взрывное желтое пятно в центре являет внутренний звук земли. Подобно фейерверку или облаку оно расширяется от центра. Цветовое решение композиции основано на контрасте теплого, земного красно-желтого центра и его холодного окружения. Организованное цветом центробежное и центростремительное движение композиции создает эмоциональный накал, родственный описанному в «Ступенях» экстатическому словесному гимну захода солнца в Москве. Этим создана «внутренняя жизнь» произведения78. Можно заметить некоторую общность с спиралеобразным движением «Жемчужины» (1904) Врубеля, также втягивающей в свое магическое пространство.
284
Кандинскому удалось передать то состояние, которое он пережил войдя в горницу традиционной русской избы, а затем в московских церквах и европейских капеллах: «живопись обступила меня, и я вошел в нее»79. То, что для художника идеальной моделью для построения пространства картины послужил ритуально организованный интерьер знаменательно. Интерьер - внутреннее священное пространство. (В вазе это соответствует обновляющим живительным материнским водам.) Мы входим в полутемное пространство храма для того, чтобы перейти из времени профанного в бытийное, вечное. Совершить новый виток бесконечного превращения жизнь - смерть - возрождение. Разве алтарное пространство храма не являет пещеру? А именно в ней показана Мария - первоматерия, принявшая Святой дух и материализовавшая Христа. Монахи заключали себя в лоно матери земли при жизни, чтобы произошло духовное рождение и они увидели «тот свет». Для познания иного света, необходимо погружение во мрак. Это происходит в большинстве религиозных систем. Иудеи покрывают себя специальными тканями во время молитвы. В мусульманстве «основной характеристикой Рая выступает слово и понятие «тень», - пишет Ш.М. Шукуров. Тень, как понятие является наиболее предпочтительным местом для общения с Богом. Важнейшая часть мечети - зулла связано со словом «тень»80.
«Красная площадь» как бы выступает из потемок. В этом можно видеть трансформацию воспринятого от Рембрандта магического взаимодействия света и тени81. В живописи Рембрандта Кандинского поразило «основное разделение темного и светлого на две большие части, растворение тонов второго порядка в этих больших частях, слияние этих тонов в этой части, действующее двузвучием на любом расстоянии»82. Он прочувствовал повышение «сверхчеловеческой» силы краски при «сопоставлении»83. Можно также заметить неожиданную связь решения нижней части композиции «Красной площади» с пейзажем из Одесского художественного музея «Окрестности Аугсбурга» (1902-1903). Его нижнюю часть занимает огромная тень, написанная в теплой, напоминающей Рембрандта, коричнево-золотистой гамме.
В композиции «Москва. Красная площадь» над Кремлем показано «омрачившееся духовное небо, которое висело над нами черное, удушающее и мертвое»84. Слева видны потоки прорвавшегося из-за туч света. Радуга покровом - вратами сияет над белокаменными храмами, над расположенными внизу погребениями, вещая о начале «великой эпохи Духовного». Согласно Библии, Радуга - это знамение, завет связи между людьми и Богом. Радуга - это граница физического и метафизического пространства85. Таков древнерусский иконостас, представляющий границу между миром божественного, нетварного света и чернотой материи. Чистые краски радуги - свидетельство «пограничного» состояния. В лишенных тени древних
285
иконах мы можем лицезреть, по выражению Флоренского, «видимых свидетелей мира невидимого»86. Можно провести аналогию с иконой относительно светотеневой моделировки. В иконе нет тени, поскольку нет солнца. Солнце в Горнем Иерусалиме сам Иисус Христос (Отк. Иоанна. 21, 23). Мы не считаем, что картины Кандинского равны иконам. Но художник сделал важный прорыв в расширении пространства, на пути к восстановлению духовной вертикали. Экстатическая практика показала им, что существует свет не только мира физического, но и духовного.
Внизу картины, на округлых вертикальных камнях показаны святые. Их изображения ассоциируются с заключенным в камень материи духом, готовым проявиться. Из немоты черного рождается «внутренний звук» новой цветовой системы Кандинского. Его архетипические цвета соответствуют представлениям древних, когда каждой ноте приписывается определенный цвет. Чувство «внутреннего звука» позволяет входить в гармонию сфер. Как это было со Сципионом Африканским Младшим во сне. (Цицерон. «О государстве», VI, 14-26.) И с Блоком.
Поскольку пространство картины Кандинского едино с массой, то и передается оно такими же цветами. Черный уже не моделирует форму, как в пространстве физического внешнего мира. Ведь в картине показан мир, увиденный «внутренним зрением». Черный и белый выполняет роль «пауз», для передачи «пространства нового мира»87. Так как уже в этой картине нет четкого разделения «массы» и «пространства», черный помогает передать ритм. В этом ритме нет порядка, присущего миру упорядоченному. (Проявленному, например, в геометрическом или чернофигурном стилях древней греческой вазописи. Или в декоре трипольской керамики.) Он соответствует становлению, взрыву, рождению из мглы хаоса.
Экспрессионизм - ночной тип культуры. В изобразительном искусстве мы видим визуальное доказательство теории Флоренского. Используя образное выражение А. Белого, художникам удалось найти лазейку из «голубой тюрьмы» трех измерений88. Удалось совершить прорыв в трансцендентное пространство и найти форму для его воплощения.
Рубежный характер своего времени В. Кандинский выражает словами: «Наше время - время Великого Разграничения реального от абстрактного и расцвета этого последнего». Направление своего творчества он определял так: «Но когда претворенная и новыми приемами и скрытой сейчас от нас точкой зрения обогащенная новая «реалистика» даст свой цвет и свои плоды, тогда, быть может, зазвучит такой аккорд (Абстрактное - Реальное), который будет новым небесным откровением. Но это будет тогда чистое двоезвучие в противоположность нечистому смешению обеих форм, которое наблюдается и ныне в его умирании»89. Экспрессионизм связан с обозначенным Кандинским переходным периодом. В нем еще сохра¬
286
няется телесное начало. Абстрактное искусство связано с Дионисом. Реальное - с Аполлоном. Экспрессионизм между ними, но устремляется к Дионису.
Путь к просветлению описан в «Божественной комедии» Данте. Нужно очутиться в «сумрачном лесу», измучиться «ночью безысходной», «затмиться духом», ощутить бездну, увидеть «холм спасения», наконец, увидеть кристальное небо, райскую розу, лучезарную, радужную реку, пережить озарение. Эти мотивы можно найти в искусстве экспрессионизма. В частности, у Шагала, Кандинского, Филонова.
Все крупные художники - мифотворцы. Они визуализируют увиденную в процессе творческого сосредоточения (медитации) целостную картину, лишенного ограничения рамками «мелочного и будничного» (по выражению М. Врубеля) пространства и времени. Кандинский и Шагал совершили подвиг мифологического героя, в роли которого они выступал на космическом пространстве своих полотен. (Космос - Мир). В борьбе за освобождение духа от власти материи (рыцарь - художник) они переходили из обыденного мира в запредельную тьму, в грохочущие и сотрясающиеся миры, добиваясь награды откровения. Они осуществляли роль пророков, свидетельствующих о целостности потустороннего и посюстороннего мира. Тем самым, осуществлял назначение искусства как примирение жизни и смерти90.
1 Андрей Белый. Символизм как миропонимание // Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 250.
2 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. СПб.: Азбука, 2000. С. 155.
3 Гам же. С. 157.
4 Там же. С. 150.
3«Уже с гениальной руки Ницше началась переоценка ценностей». Кандинский В. Куда идет новое искусство // Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. М.: Гилея, 2001. Т. 1. С. 95.
6 Ницше Ф. Указ. соч. С. 154. В свою очередь, оба они пользуются терминологией алхимии. Об этом ниже.
7 Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 197.
8 Кандинский В. Содержание и форма. С. 85.
9 Кандинский В. О духовном в искусстве. (Приложения). С. 182.
10 Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 148.
11 Кандинский В. К вопросу о форме. С. 232.
12 Филонов П. Понятие внутренней значимости искусства как действующей силы. 1923 // Мислер Н., Боулт Д. Филонов. Аналитическое искусство. М.: Советский художник, 1984. С. 200.
13 Каган Ю.М. Платон и слова, обозначающие свет и темноту // Платон и его эпоха. М.: Наука, 1979. С. 304.
14 Там же. С. 311.
15 Соловьев В.С. Красота в природе // Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М.: Искусство, 1991. С. 44.
16 В принципе: «От внутреннего к внешнему» мы видим близкий аналог к тому процессу, который происходил в маньеризме. Образ строился не на изуче¬
287
нии натуры, а на внутреннем чувстве художника. Как переходное направление экспрессионизм близок маньеризму. Франц Марк причисляет «неведомого» Эль Греко к «духовным сокровищам». См.: Марк Франц. Духовные сокровища // Синий всадник. Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. М.: Изобразительное искусство. 1996. С. 9 / На связь между маньеризмом и экспрессионизмом указывает А.А. Аникст. Он пишет, что «по общему мнению историков новейшего искусства, торжество экспрессионизма создало духовные и эстетические предпосылки для правильного понимания маньеризма». Аникст А.А. Концепция маньеризма в искусствознании XX века // Советское искусствознание 76, № 2. М.: Советский художник, 1977. С. 228.
17 Кандинский В. К вопросу о форме. С. 212.
18HeideggerМ. Holzwege. Frankfurt, а. М., 1957 (5, 104)//Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. М., 1997. С. 344, 345.
19 Там же. С. 343.
20 Ницше Ф. Указ. соч. С. 205, 204.
21 Акимова Л. Античный мир: вещь и миф // Вопросы искусствознания, 1994, № 2-3. С. 58; Богаевский Б Л. Земля и почва в земледельческих представлениях древней Греции. СПб., 1912. С. 11; он же. Земледельческая религия Афин. Пг., 1916.
22 Психология цвета // Бене Я. Цвет в христианских видениях. М.: Рефл- бук, 1996. С. 105.
23 Кэмпбелл Дж. Герой с тысячью лицами. София, 1997. С. 221.
24 Марк Ф. Две картинки // Синий всадник / Под ред. В. Кандинского и Ф. Марка. М.: Изобразительное искусство, 1996. С. 15.
25 Флоренский П. Автобиографическая заметка 1924 года... цит. по: Андроник (Трубачев), иеромонах. Теодицея и антроподицея в творчестве священника Павла Флоренского. Томск: Водолей, 1998. С. 151-152.
26 Флоренский Павел. Первые шаги философии. Из лекций по истории философии. Вып. 1. Сергиев Посад, 1917. С. 33-34.
27 Андрей Белый. Автобиографическая заметка 1924 года (1-я редакция) для энциклопедии «Гранат // цит. по: Андроник (Трубачев), иеромонах. Указ, соч. С. 151-152.
28 См.: Поспелов Г. Позднее творчество Н. Ге. Человек перед лицом смерти // Вопросы искусствознания. М., 1993. № 4.
29 Кейпер Ф.Б.Я. Космогония и зачатие: к постановке вопроса // Кей- пер Ф.Б.Я. Труды по ведийской мифологии. М., 1986. С. 145-147.
3° Meyer F. Marc Chagall. 1964. С. 173 // Апчинская Н. Марк Шагал. Портрет художника. М.: Изобразительное искусство, 1995. С. 10.
31 Апчинская Н. Указ. соч. С. 17.
32 Ницше Ф. Соч. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 746-747. (Юнг К.Г. Ответ Иову. М.: Канон. 1998. С. 374).
33 Кандинский В. Ступени. С. 291.
34 Юнг К.Г. Указ. соч. С. 267.
35 Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 156.
36 Иванов Вяч. Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 2000. С. 211-212.
37 Там же. С. 20.
38 Флоренский Павел. Иконостас. СПб.: Мифрил, 1993. С. 20.
39 Там же. С. 20.
40 Там же. С. 18.
41 Андрей Белый. Указ. соч. С. 250.
288
42 Филонов П. Выступление на музейной конференции. 1923 // Мислер Н., Боулт Д. Филонов. Аналитическое искусство. С. 105, 109.
43 Соловьев В.С. Предисловие к сказке Э.-Т.-А. Гофмана «Золотой горшок» // Соловьев В.С. Указ. соч. С. 573.
44 Там же.
45 Белецкий П. Украинская портретная живопись XV11-XV1II вв. Л.: Искусство, 1981. С. 112.
46 Из письма М.А. Волошина к Оболенской от 21 декабря 1921 г. //Давыдов 3., Купченко В. Крым Максимилиана Волошина. Киев.: Мистецтво, 1994. С. 160.
47 Флоренский Павел. Иконостас. С. 4.
48 Там же. С. 18.
49 Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Божественный ребенок. М.: Олимп, 1997. С. 300-301.
50 Соловьев В. Значение поэзии в стихотворениях Пушкина // Соловьев В.С. Указ. соч. С. 356.
51 Бергсон А. Два источника морали и религии (1932). М.: Канон, 1994. С. 256.
32 Текст немецкой рукописи, не вошедший в кн. Кандинский В. Ступени. Текст художника // Впервые 1913 на немецком языке. Комментарий Б.М. Соколова к книге: Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. М.: Ги- лея, 2001. Т. 1. С. 385. О видении Кандинским картин во сне, см.: Там же. С. 277.
53 Аннинская //. Указ. соч. С. 14.
54 Юнг К.Г. Психология и алхимия. М.: Рефл-бук, 1997.
33 Тарасенко О.А. Интерпретация архетипа модели мира в живописи авангарда. Пит Мондриан // Традицп та новацй у вищш арх1тектурно-художнш освт. Харк1в, 1999. № 4-5.
56 Юнг К.Г. Психология и алхимия. С. 319.
57 Аннинская Н. Указ. соч. С. 142.
58 Юнг К.Г. Психология и поэтическое творчество // Юнг К.Г. Дух Меркурий. М.: «Канон», 1996. С. 271-275.
59 Кандинский В. О духовном в искусстве. (Приложения). С. 191.
60 Там же. С. 191.
61 Там же. С. 196.
62 Там же. С. 167.
63 Kandinsky und Miinchen. Begegnungen und Wandlungen. 1896-1914, Munchen. 1882. S. 99.
64 Кандинский В. О духовном в искусстве. (Приложения). С. 167.
65 Там же. С. 131.
66 Тайцзи в Китае означает верховный принцип существования, в котором происходит чередование света и тьмы (Ян - Инь).
67 Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 130.
68 Там же. С. 131.
69 Там же. С. 134.
70 Юнг. К.Г. Психология и алхимия. С. 303, 305. При описании алхимического камня используется термин «сердцевина», ключевой как для Ницше, так и для Кандинского. Юнг приводит цитату из трактата I в. до н.э. Останеса, известного Плинию: «Подойди к водам Нила и здесь ты найдешь камень, который имеет дух. Возьми его и извлеки его сердцевину, ибо душа его в сердцевине». Юнг считает, что метафора Ницше в «Заратустре», «в камне дремлет мой образ», говорит о том же. Эти слова помогают понять также автопортреты М. Матюшина, показывающего себя в виде граненого камня).
10. Русский авангард
289
71 Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного. С. 264, 263, 265,271,274.
72 Там же. С. 305, 262-265.
73 Кандинский В. Содержание и форма. С. 85.
74 Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 126.
75 Там же. С. 130.
76 Там же. С. 166.
77 Там же. С. 128.
78 Там же. С. 279.
79 Кандинский В. Ступени. С. 279.
80 Шукуров Ш.М. Искусство и тайна. М.: Алетейя, 1999. С. 85.
81 Кандинский В. Ступени. С. 275.
82 Там же.
83 Там же. С. 276.
84 Там же. С. 290.
83 См. мою статью: «Мозаичность» и «витражность» в свето-цветовой системе живописи русского и европейского авангарда // Русский авангард 1910-х - 1920-х годов в европейском контексте. М.: Наука. 2(Ю0.
86 Флоренский Павел. Иконостас. С. 38.
87 Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 131.
88 Андрей Белый. Символизм как миропонимание. С. 249.
89 Кандинский В. О духовном в искусстве. С. 197.
90 Формулировка археолога и культуролога Ю.А. Шилова.
А.К. Флорковская
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РУССКОГО ЭКСПРЕССИОНИЗМА. ЖИВОПИСЬ Н.Н. САПУНОВА 1910-х ГОДОВ
В 1911-1912 гг., в последние два года жизни, в творчестве Николая Николаевича Сапунова - известного театрального художника, принадлежащего кругу «Голубой розы» и последовательного символиста, появляются новые сюжеты и темы, формировавшиеся на периферии его творческих интересов в течение нескольких предшествующих лет. Эти темы и их живописная трактовка позволяют поставить вопрос о некоторых чертах экспрессионизма в позднем творчестве художника.
Острое и трагическое восприятие жизни, столь характерное для экспрессионистов, ощутимо уже в творчестве их предшественников- символистов. Конечно, не всех; но были среди символистов, в том числе и русских символистов, художники, стоящие на грани двух эпох: завершая век XIX, они предугадывали век XX. Творчество Сапунова 1910-х годов было именно таким, и в то же время стало логическим продолжением символистских поисков художника - образных и формальных.
Известно, что искусство художников круга «Голубой розы» явилось своего рода начальным этапом русского авангарда. Действительно, в живописи этих художников формы словно размываются под «натиском» цвета и «цветовой эмоции»; для них важнее передача «нематериального» или «опредмечивание» эмоциональной, психической реальности. Тем самым намечаются подходы к беспредметному искусству.
Живописная экспрессия, безусловно, истоком своим имеет эмоцию. Еще в 70-е годы XIX в. французский критик А. Сильвестр считал, и это его мнение разделяли многие современники, что в живописи существуют две противоположные тенденции: та, что дает импрессию (чисто зрительное восприятие, впечатление), и та, что дает экспрессию (выражение), т.е. материал для мышления и эмоционального восприятия1.
Символизм художников «Голубой розы» был тесно связан с проблемой эмоции - экспрессии. Глубиной и сложностью эмоций, стремлением к адекватному их отображению на холсте, отмечены про-
10*
291
изведения учителей и вдохновителей голуборозовцев: В.Э. Борисова-Мусатова и И.И. Левитана. Самостоятельную линию, своего рода «школу» эмоционализма в русской живописи, выделил художник и художественный критик, близкий к кругу голуборозовцев, Борис Липкин. В статье «Эмоционализм в живописи»2 он называет главой русского эмоционализма Михаила Врубеля, а его продолжателями - символистов «Голубой розы».
1905 год - пик развития русского живописного символизма, но ко 2-й половине 1900-х годов в творчестве художников-символистов, в том числе и Н.Н. Сапунова заметны перемены. Именно тогда, 1908 г. у Сапунова впервые появляются новые темы и сюжеты. Он пишет два варианта картины «Карусель» (ГТГ и ГРМ). Правда, сюжет этот не выглядит столь уж неожиданным в творчестве художника: в варианте из Третьяковской галереи, хорошо заметны его театральные корни (известно, что Сапунов, как и ряд других художников начала XX в., писал картины на театральные сюжеты, своего рода «сцены из спектаклей», которые оформлял). Этот вариант, по сравнению с вариантом Русского музея, теснее связан с театральными работами художника: он более декоративен: в «оркестровке» колорита, в композиционном строе ощущается влияние сценического пространства.
В варианте из Русского музея напротив, звучат иные интонации, особенно ощутимые в эскизе к картине. Оранжевый, «горячий» колорит, впервые появившись в театральных работах художника, предпочитавшего до этого сине-желтую гамму или сочетание белил, охры и сажи, звучит в этом эскизе как эмоциональная доминанта... В эскизе и в картине, действительно, доминирует страсть, порыв, можно сказать «экспрессия», а карусель воспринимается не столько как символ праздника и ярмарочного балагана, сколько как колесо судьбы, воплощение Фатума. Ощущение нарастающей скорости «бега судьбы», превращающей веселый праздник в рискованное, стихийное движение, центробежное и уже неостановимое, является содержательной и эмоциональной доминантой картины. Интонации эти были художником буквально подхвачены «из воздуха»: уже был прожит и пережит 1905 год, разбудивший «духов русской революции», а в воздухе ощущались предчувствия новых, еще неясных катастроф.
Экспрессионизм как творческий метод, художественный язык и мироощущение, и в России, как и в Германии, рождался в предчувствиях этих катастроф.
В русском литературном символизме, так много значившем для символизма живописного, после 1905 г. почти радикально изменились «настроения». В творчестве крупнейших его представителей - А. Белого, Вяч. Иванова, А. Блока - заметен крутой поворот от рафинированности и эстетства к «народности», от индивидуализма - к «новой соборности».
В романе А. Белого 1909 г. «Серебряный голубь», главный герой, поэт Дарьяльский, мечтает «войти в хоровод народного
292
Н. Сапунов. Ночь, нач. 1900-х, х., темп., 49 х 84,5, ГРМ
праздника» и отрекается от современной утонченно-анемичной культуры. Теперь уже символисты (а Белый был не одинок в этом своеобразном эстетическом «нео-народничестве», рядом с ним можно поставить и Вяч. Иванова; самый же характернейший и крайний пример - поэт-символист Александр Добролюбов, «ушедший в народ» и ставший сектантским пророком) мечтают в вечных и незамутненных народных источниках найти ответы на самые «больные вопросы» жизни и культуры. Было бы неверно воспринимать эти перемены акцентов как перемену «веры», как прыжок с одного эстетического «берега» на другой. Символисты чувствовали, что столкновение «утонченности» и «простоты» чреватое конфликтами и катастрофами было следствием нарастающего бега колеса судьбы, сапуновской «карусели». Хоровод «народного праздника» в романе
А. Белого, а затем и в судьбе Сапунова обернулся оскалом смерти...
А. Белый, следом за циклами «Золото в лазури» и «Багряница в терниях», в 1908-1909 гг. выпускает сборник «Пепел» (посвященный Н.А. Некрасову): большинство стихотворений, вошедших в него, проникнуто социальной болью, метафизическим чувством смерти, темой проклятия и хаоса, проступающими сквозь пелену «праздника» и «разгула».
После 1905 г. все яснее и отчетливее чувствовалась в «воздухе» надвигающаяся «гроза», не только российского, но мирового масштаба. Ее «расслышали» немецкие экспрессионисты, ее услышали и в России...
Г. Чулков, один из активных деятелей символизма, вспоминал, что в те годы - с середины 1900-х - художники и поэты настойчиво «прислушивались к грядущей буре...». Они слышали, что кто-то
293
Н. Сапунов. Ряженые, 1907-1908, акв.. собр. Е.П. Гунст
«поет и насвистывает», и смутно предчувствовали, что это «прелюдия ко дню восстания из мертвых»3. У каждого, кто это слышал и чувствовал, был свой «отклик» на предчувствия, был он и у Сапунова...
Сапунов был одним из тех, о ком все тот же Чулков писал: «иные современники воистину были причастны какому-то своеобразному и странному опыту, чувствовали бытие не так, как большинство. И это “касание миров иных'’ приводило иногда к настоящей душевной драме. Не будучи оправдано высшим смыслом, такое темное и слепое влечение в сферу “подсознательного” оканчивалось совершенной катастрофой. Такова была судьба А. Блока»4. После 1905 г. Блок был персонификацией катастрофы, «он уже ничему не говорил “да”, ничего не утверждал, кроме слепой стихии, ей одной отдаваясь и ничему не веря»5. Такова, или почти такова, была и судьба Н. Сапунова...
294
Дж. Энсор. Скандализованные маски, 1983, х., м., 135 х 112, Брюссель, Королевский музей изящных искусств Бельгии
Николая Сапунова и Александра Блока несомненно сближало трагическое видение настоящего и грядущего. Они были хорошо знакомы, еще в 1907 г. Сапунов оформил блоковский «Балаганчик», «нацеленный» как раз против «анемичных эстетов». Сапунова и Блока неудержимо влекло к стихиям той реальности, которая все громче стучалась в окна высоких символистских «башен». Они вместе искали забвения. Мир «трактира»... вспомним Ф.М. Достоевского: сколько признаний происходит в стенах петербургских трактиров! В них открывалось «что-то» поэту и художнику, и сами они открывались беспощадным духам стихий.
В предисловии к сборнику «Пепел» А. Белый писал: «Да, и жемчужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвездная высота, и страдания пролетария - вес это объекты художественного творчества. Жемчужная заря не выше кабака, потому что то и другое в художественном изображении - символы некоей реальности...».
295
«Фат, романтик, грубиян, с беспокойной нежностью влюбленный в трактиры, шумный, неожиданный и беспутный»6, Сапунов пытался примирить ощущаемые им яростные стихии эстетически: он действительно художественно «уравнивает» кабак и жемчужные зори. «Путь нисхождения Арлекина: от Уистлера к Ватто, от Ватто к итальянской комедии, а от нее - к московскому трактиру», был не путем личного падения, а чем-то глубоким, «значащим», важным этапом эволюции художника7. В поздних работах Сапунова, «российские арлекины» - мужики, пели в трактирах и кабаках8. Это бесспорно было частью индивидуальных художественных поисков, которые разрастались до поисков духовно-личностных: «Сапунов не пошел искать красоты в Индии, в Часослове герцога Беррийского, в ризницах Православных соборов, а просто взял ее, какой она была в “Пассажах” Александровского рынка, и, недолго думая, установил свой эстетический канон...»4. Что-то важное и знаменательное таилось в том, что Сапунов менял «барочный дворец» на «трактир», Арлекина на мужика, а изысканную венецианскую маску - на карнавальную «рожу». Здесь «призрачность, зыбкость жизни была показана через русский быт»10.
С каким же кругом произведений связаны эти тенденции в творчестве Сапунова? Сапунов в последние два года жизни много работал в театре, (в это время он интенсивно сотрудничает с режиссером Ф.Ф. Комиссаржевским), но тогда же в его творчество приходит тема «рожи» (российского, и трагического, эквивалента венецианской маски) и тема «Чаепитий» и «Трактиров». Об уже упоминавшейся «Карусели» и о его поздних работах, где возникает тема народной стихии, современники писали: «в том, что он сделал, есть несомненно какое-то указание на синтез искусства и русской жизни»11.
Если театральные работы художника преимущественно были связаны с классическим или символистским театральным репертуаром, то здесь в его искусство входит, как на первый взгляд кажется, тема повседневности, которую, надо сказать, он старательно избегал все предыдущие годы: даже свои портреты он делал подчеркнуто «несовременными»: таковы портреты поэта М.А. Кузмина в восточном наряде (1911) и М.Ф. Андреевой (1905-1906); актеров он изображает в сценическом амплуа (портрет Дж. ди Грассо, 1908). Исключение составляют, пожалуй, портрет Н.Д. Милиоти на фоне пестрого платка (1908) и портрет неизвестной, выполненный в духе кустодиевских «барышень» (1908, ГРМ). В портрете невесты художника, Л. Гусевой хорошо заметно, как едва наметившаяся в этюде «обыденность», конкретность «места и времени», исчезают в портрете, сознательно сделанном «надмирным», «отрешенным». Подобная «фантазийность» в подходе к реальности была характерна для всего круга художников «Голубой розы».
Напротив, в цикле своих последних работ: «Чаепитиях» и «Трактирах», Сапунов окончательно перестал быть венецианцем и «сделался русским, роднею Гоголя и Достоевского»12.
296
297
Из современников-художников, пожалуй, только у Б.М. Кустодиева был похожий интерес к теме «трактиров» и «чаепитий». Но Б.М. Кустодиев остается верен интонациям ретроспективным и бытописательским, идеализирующим, тогда как для Сапунова «трактир», «кабак» постепенно становятся символом (откровенным и беспощадным) современной русской жизни, каким раньше была «карусель»...
В «Таверне» (1910, ГТТ) Сапунов еще «ретроспективист», картина несомненно «вырастает» из его театральных работ. Но постепенно «таверна» перерождается в «трактир»...
В «Трактире» (1912, ГТГ) герои - мелкие чиновники, герои Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова - отмечается какое-то событие. Композиция выстроена подобно мизансцене, и фигуры расположены фронтально перед зрителем, как на сцене. Колорит яркий: белые платья дам, белоснежная скатерть, яркий натюрморт на столе, синее окошко неба. Интересно, что у Сапунова в это время заметно обращение к жанру 1860-х годов: мотивам В.Г. Перова. И.М. Прянишникова, Л.И. Соломаткина. Но там - в завязке сюжета часто анекдот, шутка, социальный «очерк» нравов, здесь - фантасмагория реальности. В 1912 г., перед смертью, он мечтал сделать декорации к «Грозе» А.Н. Островского13, возможно, и они были бы такой же фантасмагорией российского быта.
Не меньше занимала Сапунова тема «Чаепитий»: на посмертной выставке 1914 г. в Москве экспонировалось 5 эскизов на эту тему.
«Чаепитие» (1912, эскиз, ГТГ) - сцена провинциальной «обывательской жизни». Композиция театрально-постановочная, напоминающая театральную коробку, герои - обыватели и священник, колорит - излюбленные художником синие и желтые. Своего рода «мозаика» пятен, так характерная для живописной манеры художника в 1900-е годы, в последних его работах по-новому образует колористическую гармонию, более сложную - гармонию стихии, эта же эволюция колорита заметна и в его цветочных натюрмортах, конечно, более отделанных, законченных. В «Чаепитие» пятна цвета вихреобразные, цветовые пятна теряют свои границы, стремясь к взаимопроникновению, взаимопрорастанию. Формы деформируются под напором эмоции и яркой цветовой выразительности. Сапунов постепенно отходит от синих и желтых тонов в колорите, на смену им приходят, все нарастая от работы к работе, горячие желто-оранжевые.
«Чаепитие» (1912, ГТГ) - законченная картина, со сложным теплым освещением, сложным ракурсом: обычное для Сапунова «театральное» построение пространства в этой работе, едва ли не единственной, бесповоротно сломано. Колорит - красновато-желтый, похожий отчасти на поздние федотовские работы. Изображена купеческая среда, хорошо знакомая Сапунову с детства. Он сам был родом из этой среды...
Сапунов и здесь обращается к жанру 1860-1870-х годов: персонажи чем-то напоминают репинские, особенно тот, что в центре -
298
П. Кузнецов. Женщина с собачкой, 1909, х., темп., 64 х 72, ГТГ
лысый купец и еще один, облокотившийся рядом, они словно взяты из «Запорожцев», как и объединяющий персонажи хохот. Но интонации, атмосфера совсем иные: что-то зловещее висит в воздухе, будто это сборище упырей. В интерьере освещенного теплым светом, почти уютного трактира длится какая-то мистерия, «сходка», типажи которой - те самые сапуновские «рожи».
Работы 1910-х годов для Сапунова были выходом из «ретроспективного» символизма к символизму «реальному» (если пользоваться терминологией Андрея Белого). Но Сапунов не увидел там, в народной стихии сверкающей «правды о жизни» - он увидел стихию, сильную, неуправляемую и страшную, чутко уловив сгущение атмосферы надвигающегося перелома...
Вопрос о русском экспрессионизме сложен: неясны его границы, характерные национальные черты, спорны имена; поэтому интересно, на мой взгляд, провести некоторые параллели между Сапуновым и Василием Кандинским, наиболее, так сказать, сознательным русским экспрессионистом 1910-х годов. Да и в творчестве Кандинского, не менее интересно проследить те связи, которые связывали его с современным русским искусством. А с Сапуновым их несомненно сближает интерес к «народному», «глубинному», «стихийному»; особое отношение к цвету: его суггестивности и «самодостаточности» в живописном произведении.
Известно, что Кандинский как художник начинал свой путь с интереса к народной и провинциальной жизни России - глубинным «источникам», «ключам», как он писал, русского искусства и рус-
299
Н. Сапунов. Чаепитие, 1912, х., темп., 55 х 97,8, ГТГ
ской души. Кандинский достаточно тесно связан был с мироощущением народничества, вовсе не был чужд социальной «злобе дня». В годы студенчества серьезно увлекался политикой, неслучайно в университете его специальность была политическая экономия, причем более всего любил он в политической экономии «рабочий вопрос», занятия же юриспруденцией носили, по его же собственным словам, характер увлечения14.
В отличие от Сапунова, во многом ставшего жертвой заворожившей его «стихии», Кандинский ее напору и хаосу всегда мог противопоставить силу рационального. Хорошо известна поездка Кандинского в Вологодскую губернию, именно в связи с ней Кандинский пишет о «вредной стороне народного искусства», которого ему удалось избежать, благодаря склонности к скрытому, «запрятанному»15. Трудно сказать, что имел в виду Кандинский - силу ли декоративного, заложенную в народном искусстве, и способную увлечь неопытного художника, или какую-то иную... Но для Кандинского, обращающегося скорее к народному искусству, чем к народной жизни (это будет затем и характерной чертой художников «Синего всадника»), важнее было увидеть в народной жизни самообновляющийся праздник16, для Сапунова же, не разделявшего уже к этому времени эстетическое и этическое - «впустить» в себя стихии народной жизни, и через это мучительно приблизиться к реальности. В отличие от Кандинского, Сапунов не обращался к народному искусству, он обращался к народной жизни, которая была для него не сказкой (какой она была в глазах Кандинского), а скорее мрачной мистерией.
Сапунов переехал в 1909 г. в Петербург, между тем, его недавние соратники по «Голубой розе» - символисты П.В. Кузнецов,
300
А.В. Фонвизин, В.Д. Милиоти,
М.С. Сарьян - участвуют на выставках «Золотого руна» 1908 и 1909 гг. вместе с художниками- экспрессионистами: Ж. Руо, К.Ван Донгеном, М. Вламинком. Рядом с ними - М.Ф. Ларионов и Н.С. Гончарова... Возможно, в подобном контексте иной смысл приобретают и работы Павла Кузнецова 1908-1909 гг., традиционно считающиеся результатом кризиса в творчестве художника: такие как «Невеста», «Видение родильницы», «Ночь чахоточных», «Женщина с собачкой» - не связаны ли и они, некоторыми своими чертами, с эстетикой экспрессионизма?
Живопись Сапунова 1910-х годов занимает свое, особое место и в контексте раннего европейского экспрессионизма. Некоторые параллели можно увидеть с Дж. Эн- сором: в первую очередь характерный и важный для обоих художников мотив маски и марионетки; отчасти с Э. Мунком: его и Сапунова роднит трагическое переживание эротических мотивов. Подобно Энсору и Мунку, Сапунов обращается в своих «Трактирах» и «Чаепитиях» к «серой» жизни маленького человека, его надломам и внутренним конфликтам.
Не менее интересны, на мой взгляд, параллели, которые можно обнаружить между поздними работами Сапунова и ранними работами Ж. Руо. Прежде всего, некоторая их близость предопределяется через учителя Руо - Гюстава Моро (одного из предтеч европейского экспрессионизма). Моро имел определенное влияние на русских симво- листов-голуборозовцев, особенно его поздние акварели. Работы Сапунова «пренебрегающие» законченной, «устойчивой» формой, сближаются с экспрессивными рисунками Моро 1890-х годов, такими как «Искушение святого Антония», «Битва кентавров», «Кентавры несут мертвого поэта». Близость эта заметна в схожей трактовке живописной поверхности и пространства, в роли цвета и линии, в методе рождения образа из цветовой эмоции. Как и в работах Моро, у Сапунова в серии «Чаепитий» и «Ночных празднеств» сюжет «подавлен» выразительностью почти открытого цвета, подчинен передаче внутреннего напряжения. Детали живописного произведения подчиняются общему, аллегория - мистерии, представление - суггестии.
Несомненно, эти черты есть и в работах Руо 1900-х годов. В этот период он работает над образами, насыщенными гротеском, и очень свободными по трактовке формы: они написаны в эскизной манере
301
техникой акварели (напомню, что Сапунов тоже не любил масло и работал преимущественно темперой - легкой, чаще кроющей, чем прозрачной). Герои картин Руо в то время - это клоуны, проститутки, бродячие артисты, судьи: «Голова трагического клоуна» (1904). «Судьи» (1908). Большинство рисунков выполнено свободными черными линиями контуров, объемы фигур тают в вихре красок; общая гамма темная - преобладают синие и красно-розовые тона. Характерно, что помещение, в котором расположены сидящие напротив зрителя фигуры («Проститутки», 1906), пространственно решено как сценическая коробка. В «Паре» (1905) дан портрет типичных буржуа, в образах которых подчеркнута грубость, особенно в жесте женщины. Эти работы Руо аналогичны работам Сапунова по ряду формальных приемов.
Одна из задач экспрессионизма - постановка, резкая и беспощадная самых болезненных вопросов современной жизни перед лицом общества. Именно экспрессионисты констатировали конфликтность современного сознания, именно экспрессионисты дали духовно-содержательным проблемам искусства современный язык, адекватный наступающей эпохе. Он не был радикально нов, напротив, он обращался к своим первоистокам, архаике, примитиву: «блистающему, только что родившемуся языку, правдивому и не истертому от долгого употребления» (как писал Поль Гоген). Во имя искусства адекватного современной жизни, экспрессионисты безоглядно ломали и деформировали форму, давали волю захлестывающим эмоциям, выражая их через цвет.
В этом движении Николай Сапунов оказался одним из первых русских художников, в искусстве которого шло последовательное и связанное с логикой отечественной культуры, движение к экспрессионизму, к смелой деформации натуры во имя жажды духовного, через предчувствия и прозревания катастрофичности и апокалиптичности мира. 1 111 Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. С. 60.
2 Минкин Б. Эмоционализм в живописи // Искусство, 1905, № 1.
3 Чулков Г. Годы странствий. М., 1999. С. 102-103.
4 Там же. С. 11.
5 Там же. С. 152.
6 Андрей Белый. Стихотворения и поэмы // Андрей Белый. Собр. соч. М., 1994. С. 114.
7 Лунин Н. Русское и советское искусство. М., 1976. С. 141.
8 См.: Воспоминания Я. Тугендхольда // Памяти Н. Сапунова. Сборник “Аполлон”. Пг., 1916. С. 23-24.
9 Воспоминания Ф. Комиссаржевского // Памяти Н. Сапунова. С. 9.
10 Лунин Н. Указ. соч. С. 142.
11 Алпатов М.В., Гунст Е.А. Н.Н. Сапунов. М., 1965. С. 25.
12 Лунин Н. Указ. соч. С. 144.
13 Тугендхольд Я. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М., 1987. С. 184.
14 Алпатов М.В., Гунст Е.А. Указ. соч. С. 38.
15 Кандинский В. Ступени, М., 1918. С. 15, 17, 18.
16 Там же. С. 27.
ЛЛ. Савицкая
К ИСТОРИИ
АВАНГАРДНОГО ДВИЖЕНИЯ В ХАРЬКОВЕ. 1910-е ГОДЫ
В 1925 г. историк и критик литературы Д. Бургард, предваряя свой обзор литературных произведений немецких экспрессионистов, писал в харьковском журнале «Жизнь и революция»: «Пока только ясно, что экспрессионизм объединяет теперь много разных течений, которые трудно между собой соотнести. Возможно, мы не ошибемся, если скажем, что экспрессионизм не является художественным направлением или программой, экспрессионизм есть мироощущение». И далее, привлекая материал немецких критиков и писателей, Бургард выделяет в мироощущении экспрессиониста следующее: презрение к наследованию действительности; всевластие творческой воли художника; его живую, страстную реакцию на жизнь, реализующуюся в постановке этических и социальных проблем: какова цена жизни? И можно ли так жить дальше?
Цитируя Теодора Дойблера, Макса Креля, Гибнера, Бургард ясно дает почувствовать, что побуждало к разговору о немецком экспрессионизме: выраженное в творчестве его представителей несогласие с устройством жизни, желание ее изменить. Это намерение вполне отвечало духу авангардного движения, разворачивающегося в художественной жизни Украины. Какое место здесь мог занять экспрессионизм, и какой облик его стилистическая тенденция могла принять в почве украинского искусства?
Пространство изобразительного искусства Украины в начале XX в., по словам современников, выглядело так, словно его принципом был хаос. «Византинизм, академизм, импрессионизм, аллегоризм, стилизаторство, барокко и просто беспринципность», - писал критик В. Хмурый, объясняя полистализм искусства принципом времени. Добавим, принципом времени тотальных перемен, отразившихся в крайнем разнообразии художественного материала. Едва ли не каждая выставка напоминала краткий курс изложения истории новейшего искусства.
При этом нельзя не сказать о том, что освоение и усвоение творческих новаций в Украине имело свои особенности. Они связаны с
303
долговременностью и устойчивостью форм диалога с народным крестьянским искусством. Сакрализация фольклора, исполнявшего функцию сохранения национальной идентичности, оказала существенное влияние на расширение круга художественных традиций. Новое рассматривали как «свое» или «чужое» в зависимости от близости новации к образности, ставшей традиционной для национальной школы искусства. Лирико-поэтическое начало и эстетизация «красоты печали» доминировали в украинской живописи, миновавшей в целом область трагического. Образная модель национального искусства «восполняла недостаток реально данного желаемым как возможным»1, утверждала гармоническое единение человека с природой и не принимала драматического, напряженного, противоречивого. Именно поэтому принцип образной деформации реальности - основополагающий для экспрессионизма, кубизма, футуризма и других течений начала XX в., вызывал в Украине негативное отношение. Разрыв с традицией воспринимался угрозой потери национальной идентичности. Создание радикально нового по отношению к общественно признанному и свято хранимому художественному наследию обретало слабую перспективу на активное существование и общественный авторитет. Реализация инновационной творческой мысли в произведениях наиболее ярких украинских радикалов - Д.Д. Бурлюка, А.П. Архипенко, А.А. Экстер, К.С. Малевича, как правило, достигала апогея за пределами Украины, вне контекста ее художественной жизни - в России, где разрыв с традицией (или жест разрыва с нею) был, как бы сам традицией, во Франции, где к тому времени уже сложилось и получило признание понимание акта творчества как несогласие с наследием. При единстве общеевропейского культурного пространства, его национальные параметры имели в Украине свои духовные и эстетические измерения. Крестьянская страна с неразвитой городской цивилизацией, малочисленной интеллектуальной аристократией имела иной темп исторического развития, а значит и иной характер освоения новаций.
Попытаемся прояснить последнее обстоятельство на примере творчества харьковских авангардистов 1910-х годов, активно выявивших волю к обновлению искусства.
Начало авангардному движению в Харькове положено деятельностью студии «Голубая лилия» (1909-1912), организованной учеником И.Е. Репина Е.А. Агафоновым (1886-1955). Студия Агафонова существовала как учебное заведение и творческий союз. Студийцев ориентировали не на традиции академической школы, а скорее на методы европейских художественных студий. В «Голубой лилии» не писали с гипсов, но много и тщательно штудировали натуру, обнаженную, одетую, увлекались постановкой крестьянского типажа в ярких национальных одеждах, писали на пленэре. Масляная живопись на самодельных грунтах, пастель, акварель, гравюра, эксперименты с материалами живописи не укладывались в рамки
304
определенного творческого направления. Легкий налет мистицизма, присущий названию студии, по прошествию времени породил мысль о причастности Агафонова и студийцев к символизму. Однако классический символизм, чья память обременена воспоминаниями о прошедших культурах, о горних ценностях духа, чьи художественные устремления направлены на постижения жизни как текста, написанного тайнописью, а деятельность художника рассматривается как преображение реальности в эстетическую конструкцию, никакими гранями своей доктрины с творческой продукцией Агафонова и «Голубой лилии» не соотносится. Художники были слишком привязаны к натуре, чтобы «мечтать подле нее». Встречавшиеся у Агафонова, так же как и у его современников, романтические мотивы с одинокой фигурой в ночном ландшафте не выходят за пределы известного жанра «пейзажа-настроения», и было бы большой натяжкой увидеть в них проявление символизма или черты символического мировидения. В качестве своеобразного знамени, консолидирующего студийцев, был выбран импрессионизм, трактованный, впрочем, широко и разнопланово. Термин «импрессионизм» использовался как «оружие» в полемике с морально устаревшими традициями. В практической деятельности приверженность к течению выявила живой интерес к постреалистическим художественным ценностям - активному цвету, выразительности фактуры мазка, ее формообразующим
305
возможностям. Особенной популярностью, по воспоминаниям Д. Гордеева2, в студии пользовалась книга писателя-символиста Камиля Моклера об импрессионизме. Увлечение студийцев позволило
В.Д. Ермилову впоследствии охарактеризовать творческую направленность «Голубой лилии» как «академический импрессионизм». В свою очередь Д. Гордеев в методе обучения студийцев, в их работах видел «соединение “Мира искусств” и “Золотого Руна” и некоторое влияние французского модернизма»3. Под французским модернизмом он, вероятно, подразумевал все ту же совокупность приемов, позволяющих достигать образной экспрессии. Собственно, это и была основная художественная платформа студии. Ее оказалось вполне достаточно, чтобы составить творческую оппозицию старшему поколению мастеров, придерживающихся метода поздних передвижников. Интересуясь техническими и чисто живописными нововведениями, студия Агафонова значительное место в обучении отводила рисунку, традиции, характеризовавшей творческое мышление выпускников Петербургской Академии художеств, и составившей основу преподавания в рисовальной школе М. Раевской- Ивановой, которую окончило большинство харьковских художни-
306
Ф. Надеждин. Линогравюра, 1910, 17 х 21
ков. Композиция живописного полотна, выстроенная линией или рисующим цветом, а не пятном, при разнообразии увлечений, оставалась заметной чертой произведений молодых харьковчан. В дальнейшем, такая особенность профессионального образования определит преимущественное внимание студийцев к графическим видам искусства.
Входили в «Голубую лилию» Ф. Надеждин, С. Щербаков, С. Полевой, В. Пичета, К. Сторожниченко, Д. Гордеев, П. Оболенский. Посещала студию М.М. Синякова. Из художников, имевших близкие отношения со студией Агафонова назовем практически забытого Николая Радионовича Саввина (1882-1918). Ученик Московского училища живописи, скульптуры и архитектуры, участник выставки “Союза русских художников” (1909), Саввин писал портреты, в которых доминировало мягкое красочное пятно, оттененное округлым движением линии и этюдного характера, пейзажи с эффектами солнечного освещения. Входил в круг художников-новаторов Александр Николаевич Грот (1880-1965), учившийся в Петербургской Академии художеств в 1903-1905 гг. В 1908 г. он отправился в Париж к А. Матиссу, пробыл в его мастерской два года. Вместе с
307
живописцем и графиком Э. Штейнбергом он открывает художественную студию. Штейнберг увлекался живописью Ван Гога, писал нарочито небрежно, диссонирующими красками и резкими угловатыми контурами, а Грот использовал фовистские сочетания цветов и длинный мазок-штрих. Перечисленные мастера образовывали передовой отряд местных художественных сил. Не лишним будет сказать, что будирующую провинциальную жизнь миссию «Голубой лилии» усиливали наезды в Харьков семейства Бурлюков, дружески связанного с Агафоновым. Бурлюки обладали замечательной способностью объединять талантливых людей, зажигать их творческими идеями. «Бурлюки многим не давали покоя, - писал Агафонов в 1908 г., - своими свежими молодыми талантами и обилием вещей Бурлюки давили всех своих товарищей по выставке; выставляться с ними вместе для многих было невыгодно, и как ни старались старые члены запрятывать их по укромным уголкам - талант лез изо всех углов. На выставке с Бурлюками было весело, бодро; все эти десятки картин, начиная с громадных полотен и, кончая кусочками изрисованной оберточной бумаги, дышали силой, молодостью и смелостью; многие, очень многие возмущались, это бывает всегда, когда художник стоит впереди толпы, когда он еще недоступен ее пониманию»4. В Харькове 1900-х годов Д. Бурлюк был основным «разносчиком» приемов сезанизма, к которому он в то время, по его словам, медленно поворачивался «все еще задерживаясь на реалистическом импрессионизме, толкованном впрочем, весьма радикально и субъективно»5. Однако произведениям молодежи явно не доставало определенности и твердости творческих позиций, позволивших бы перейти от ученического изложения урока европейских новаций к самостоятельному личностному их преломлению. Проявленная многими способность к быстрому перевоплощению отразилась на конечной нереализованности художественных тенденций. Стилистическое двоемирие становится типичной ситуацией творческого бытия, о чем свидетельствуют работы самого Агафонова и его учеников. Об уровне освоения нового языка искусства студия «Голубая лилия» заявила в конце января 1909 г., открыв художественную выставку состоящую из 120 работ. Она не прошла незамеченной, но отзывы на вернисаж оказались резко отрицательными. «До боли жалко смотреть на этих “вундеркиндов” наизнанку, на этих детей, играющих в искусство. Уловить общее направление выставки очень трудно. Чего тут нет: и “импрессионизм”, и “пленэризм”, “пуантилизм” и просто жалкое, бездарное подражание», - писал журналист Б. Высокий6. Лишь живопись Агафонова критики выделили за манеру письма, чувство красок и «что-то цорновское» в работах. Насколько права была пресса в жесткой оценке живописи студийцев, судить сегодня сложно. Однако если вспомнить, что в этот же период так же отрицательно восприняли вернисаж киевской группы «Звено» (его участником был и Е. Агафонов), можно предположить, что негати-
308
В. Бобрицкий. Портрет жены, между 1916-1918, х., м., 140 х 140, местонахождение неизвестно
визм отношения к поискам молодежи оказался результатом не только слабого профессионального уровня выставленного материала, но и неготовности критики его понять и принять. Художественная акция «Голубой лилии» была одной из первых в ряду последующих коллективных выступлений молодых харьковских энтузиастов. И, пожалуй, в попытке прорыва сквозь привычные передвижнические устои искусства к европейским завоеваниям в живописи и состояло главное значение деятельности студии.
Среди наиболее талантливых студийцев назовем Федора Надеждина. Наряду с графиками К. Сторожниченко и В. Пичетой он был близок к Агафонову и в 1920-е годы разделил с ним судьбу эмигранта. Амплитуда художественных поисков Надеждина - от увлечения графикой Ф. В ал л оттона до экспрессивного символизма и гротеска стилистически близкого лубку. Используя только плоское пространство и абсолютный контраст белого и черного, художник стремился к созданию лапидарной плакатной формы. Интригующие
309
изображения голов в восточных уборах, экстатично напряженных профилей, составляющих аналогию гравюрам Э. Нольде, совмещаются в наследии художника с работами, сохраняющими натурные впечатления, и эта часть произведений художника наиболее убедительна7. Лубочная тенденция и увлечение синтезирующими возможностями линии и пятна сближает линогравюры Надеждина с работами Марии Уречиной-Синяковой (1890-1984). Вспоминая о ранних годах ее творчества Д. Гордеев писал: «Рия (Мария Михайловна) Синякова смолоду показала себя талантливой, ищущей художницей, в первую очередь рисовальщицей. Начав с модернистических подражаний Бердслею она, долго и упорно работая над рисунком с натуры, прошла фазы ряда увлечений и старинной и новейшей живописью»8. О характере увлечений свидетельствуют работы Синяковой 1910-х годов, в частности, два портрета сестер Ксении (Кути) и рано умершей Шуры, выполненные маслом на фанере. Обобщенная пластика лица, показанного «вплотную» к поверхности картины, работа крупными пятнами цвета и тона, лепящими форму, наделяют работы чертами монументализма. Ему не противоречит но, напротив, составляет с ним гармоническое целое внутренняя одухотворенность девичьего облика, чья хрупкость словно противостоит косности материи живописи. По-другому выразительна графика Синяковой этого времени. В одном из сохранившихся листов, выполненных в манере церковного лубка, художница выстраивает «распластанную» по поверхности листа композицию. Ее декорация близка графике титульного листа изданий Киево-Печерской типографии XVII-XVIII вв. В отличие от привычного расположения в клеймах фигур святых и религиозных деятелей, Синякова помещает в них сцены пыток, растерзанных тел, отсеченных конечностей и голов, над которыми «зависает» черный пропеллер солнца или падучей звезды. 8 клейм сосредоточены вокруг центра со схематичным изображением 12 голов, несущих сакральную символику9. Иконография гравюры аналогична мотивам серии акварелей «Война», созданной художницей в период между 1914 и 1918 гг. Сближает акварели и черно-белую гравюру игровое начало, свойственное композиционному строю работ Синяковой. Трагичность сцен снижается условностью мизансцен, подобных сценографии вертепного театра. Жесткая пластика «деревяных» форм гравюры и кукольных лиц акварелей создают образ-представление, характеризующий неопримитивизм и в целом искусство авангарда.
Стилистика и образность листов Синяковой, наряду с гравюрами Ф. Надеждина, заметно контрастируют с работами других студийцев, показывая причины «отпочкования» от «Голубой лилии» группы «Будяк», созданной в 1912 г. по инициативе Д. Гордеева, К. Сторожниченко, С. Щербакова. Несмотря на по-дадаистски задиристое название, «Будяк» не делал эпатирующих жестов и публич-
310
М. Синякова.
Этюд к портрету Ксении Синяковой, фанера, м.. нач. 1910-х, местонахождение неизвестно
ных деклараций. Не сформировали «будяковцы» и творческой платформы продолжая, подобно «Голубой лилии», ориентироваться на художественные новации широкого стилистического диапазона. Появление новой студии, выявившее потребность творческого самоопределения, в практике искусства выразило стадиальное совпадение стиля модерн и авангарда. Надо сказать, что наиболее выразительные произведения модерна созданы в украинском искусстве в 1910- е годы в тот же период, когда формировался язык авангарда. Временного «зазора» между этими явлениями культуры в Украине не было. Один из результатов ускорения художественного процесса, - неожиданная и быстрая потеря недавними лидерами ведущей роли в жизни искусства.
В октябре 1911 г. Е. Агафонов, Н. Саввин, А. Грот, М. Федоров и Э. Штейнберг вместе со студийцами В. Третьяковым, Ф. Надеждиным, М. Зелениным (в будущем - харьковский и московский архитектор), С. Щербаковым (график, эмигрировавший в 1920-х годах в Америку) организуют выставку нового творческого объединения - «Кольцо». Выставка имела большой успех и обильную прессу. Сав¬
311
вин тогда выставил натюрморты и пейзажи Парижа, наполненные игрой солнечных пятен, а Агафонов показал, написанное в духе Г. Климта, полотно «Девчата». Одним из последствий вернисажа оказалось признание лидера «Голубой лилии» «художником немного вышедшим из моды», что стало следствием появления на выставке более смелых художественных поисков, в частности, в живописи А. Грота10. Его считают «самым мужественным, самым идейным и самым выразительным в группе. В вещах Грота, - писал рецензент, - есть то, что поведет за собой художников. От него им придется заимствовать. В его вещах нет колебаний, нет усердия перед чужим вкусом. В них есть истина переживаний полных, радостных, смелых, и переживания эти высказаны с большой художественной откровенностью»11. Действительно, сохранившиеся натюрморты, пейзажи и пейзажные этюды Грота отличаются конструктивным и целостным видением натуры. Непосредственные впечатления и композиции по воображению заметно объединяются в его живописи привязанностью к теме купальниц. Фантазийные работы создают идиллический мир, чье настроение и краски близки не столько Матиссу, сколько полотнам Мориса Дени. Тяготение к французской школе искусства — главное художественных увлечениях харьковской молодежи. В 1912 г., когда на Второй выставке «Кольцо» приняли участие бубнововалетцы (Д.Д. Бурлюк, П.П. Кончаловский, А.В. Куприн, А.В. Лентулов, И.И. Машков, В.В. Рождественский, Р.Р. Фальк), пресса отметила в произведениях харьковчан «хорошо претворенное и глубоко индивидуализированное влияние Сезанна»12. Сближая творческую ориентацию представителей «Кольца» и «бубнововалетцев», критика, тем не менее, подчеркивала у харьковчан иной, нежели у москвичей, характер решения живописных задач: местные художники больше были заняты поисками декоративными, нежели пластическими. Следы влияния бубнововалетцев остались в пейзажах Грота («Крымский пейзаж» Харьков собр. И.Я. Лучковско- го), и в живописи Агафонова. Творческая близость и дружеские связи с П. Кончаловским позволили Агафонову участвовать в 1913 г. в выставке «Бубнового валета» в Москве, и в том же году в составе его выставки в Санкт-Петербурге. Ученики Агафонова и Грота ориентировались уже на другой пласт художественного авангарда.
Зима 1913 г. и весь 1914 прошли в Харькове, как и в других городах Украины, под знаком футуристического движения. Выставка петербургского «Союза молодежи» и известный «поход» в Украину Д. Бурлюка, В.В. Каменского и В.В. Маяковского с целью пропаганды кубизма и футуризма возымели в Харькове успех и были поддержаны прессой, расценившей футуризм как «порыв к новым достижениям»13. Цитаты из книги о кубизме А. Глеза и Ж. Метценже, переведенной с французского, с этих пор входят в обиход творческой молодежи, а публикация книги Ф.Т. Маринетти, его приезд в Россию, появление в крупнейших газетах страны манифеста итальянских
312
Б. Косарев.
Портрет Н. Евреинова, центр, часть триптиха, ткань, темп., накладное серебро
музыкантов-футуристов способствуют росту интереса к футуристическому искусству. В Харькове формируется футуристическая группа, ее глава поэт Семен Губер в лекциях и публикациях излагает творческие принципы нового направления, - «разрешение поставленной городом проблемы движения»14. Возможности его передачи интересуют Василия Ермилова, тогда еще ученика московского училища живописи, ваяния и зодчества. Наряду с уже определившимся кубофутуристом киевлянином А.К. Богомазовым, он выставляется на московской выставке группы «Мишень» (1913), прошедшей под знаком «левых» течений в живописи.
Крупный промышленный город Харьков становится важным центром, где оказываются мастера искусства, способные выразить, опред- метить индустриальное и пролетарское воодушевление эпохи. В предреволюционное время сторонники футуризма становятся заметной силой в культурной жизни города, оказывают влияние на художественную политику, практически не имея серьезных оппонентов в прессе.
Своеобразным очагом художественных новаций был дом сестер Синяковых под Харьковым в Красной поляне. Сестры Синяковы: пианистка Ксения, артистка Зинаида Синякова-Мамонова, художница Мария, Надежда и Веры Синяковы оставили в сердцах многих мастеров искусства памятный след. Облик одной из сестер Синяковых, Ксении (впоследствии жены Н.Н. Асеева), запечатлел Агафонов. Этот замечательный рисунок, подаренный В. Ермилову Лидией Ге-
313
нюк, ныне хранится в Пушкинском доме Санкт-Петербурга. В нем художник убедительно и тонко передал нежность девичьего облика, прозрачность глаз, волшебную мечтательность их взгляда. Пожалуй, этот небольшой лист - один из лучших рисунков художника, свидетельство его бесспорного таланта графика и портретиста. Связанные дружественными и семейными узами, молодостью и ее задором, В. Пичета (женатый на В. Синяковой), Г. Петников (муж Н.М. Синяковой), М. Уречина-Синякова, Б. Косарев, В. Ермилов, брат Д. Гордеева поэт Божидар и наезжавший около 1916 г. в Красную поляну В. Хлебников, создали особую среду, особый духовный климат пантеистического восприятия жизни15. В пору гражданской войны, когда Харьков переходил из рук большевиков к деникинцам и наоборот, а «Красная поляна» становилась убежищем от лихолетья, языческий гимн радости жизни во многих ее проявлениях становится лейтмотивом творчества молодежи. Мария Синякова создает иллюстрации к поэтической книге Г. Петникова «Паросль Солнца» (1918), Б. Косарев иллюстрирует поэму В. Хлебникова «Лесная тоска» (1919), В. Пичета (поэт, критик искусства, оставшийся художни- ком-любителем) создает рисунки и гравюры языческого рая. И во всех произведениях, поэтических и изобразительных мы видим развитие главной темы - мечты о ничем незамутненном бытии в единстве со всем живым. Герои графических листов замечательно близки друг другу, близок и ландшафт с обязательным древом жизни в виде куста крупнолепестковых цветов. У В. Пичеты его окружают купальщицы и русалки. Вода, Земля, Небесный свод являют в его графическом листе троичную символику, составляющую вертикаль подъема, чей эпицентр отмечен Древом жизни. Синякова располагает фигуры пастухов, коров и верблюда вокруг цветущего куста. Композиция художницы также разворачивается снизу вверх, уплощая пространство, но наделяя его потенцией органического роста. В работах самого молодого из всей синяковской компании Бориса Косарева (1897-1994) плоское пространство движется по диагонали. Сказочный мир леших и русалок заключен в границу древесных стволов и ограничен зеркалом водоема. Но остальные стихии мифа присутствуют и здесь в виде голубя и уснувшего пса. Известно, что язычество Хлебникова, Петникова, Божидара, носило характер переосмысления ценностей современной культуры. Гармония мифа противопоставлялась несовершенству действительности. Обращение к крестьянскому фольклору и архаической древности выступало в качестве противоядия от обанкротившейся современности, как средство сохранения человеческого в человеке. В жизни искусства воплощение языческой идиллии причудливым образом соединяется с революционными идеями. Фактически пантеизм становится одной из ипостасей футуризма и, на первых порах, осмысляется как слагаемое революционного обновления жизни. В 1919 г. В. Рожи- цин1^ публикует в харьковском журнале «Пути творчества» статью
314
Заставка к 1-й странице сборника «Новое искусство». Харьков, 1919. Без автора
«Пантеизм». «Имя Пана служит девизом всякой борьбы за освобождение естественных потребностей человека, порабощаемых искусственными цветами культур, обреченных на гибель»17. И далее читаем: «...всякому пантеизму присуще коллективистическое настроение ...Он ставит человека в одну категорию с природой, он наполняет человека и чувством величия природы, и чувством величия человека, и в то же время требует от человека высшей меры солидарности, преодоления всего узко личного»18. Заметим, что пантеизм (а наряду с ним и другие древние религии, например, синтоизм) рассматривается в качестве исторического обоснования новой пролетарской формы коллективизма. На индивидуализм, грех старой буржуазной культуры, накладывают табу. Неопримитивизм противопоставляется «декадентскому» модерну, а его идейно-эстетическая платформа, по сути, возрождает отодвинутые мирикусниками народнические тезисы19. В этом процессе неопримитивизму суждено было сыграть своеобразную роль. Футуризм и неопримитивизм, нередко составлявшие два лика творчества одного художника, на уровне идей и задач искусства противоречат друг другу. Интерес к крестьянскому, рукотворному, лубочному и глубоко национальному языку - полярный тезисам футуристов о необходимости создания искусства, «лишенного признаков национального и местного, расширенного до беспредельности, способного выразить дух исполинской механической культуры»20. Пролетарский футуризм должен был выразить не законы природы, определявшие жизнь лубочных персонажей Косарева, Синяковой, а «механическую, размеренно работающую или необузданно стремительную в революциях и катаст¬
315
рофах громаду»21. И все же неопримитивизм, апеллировавший к выражению этнического начала, его этических и эстетических оснований, сформированных жизнью крестьянской общины, породил символы, ставшие для футуризма, и в будущем для всего советского искусства, знаками-тотемами. «Пролетарский герой условен, символи- чен, в его личности нет ничего личного. Какое старое искусство могло вместить в себя толпы и в едином человеке видеть знак человечества?» - задавал вопрос все тот же Рожицин22. Архаичная, крестьянская культура, обосновавшая пластически, образно именно такой знак, оказалась отечественному футуризму куда более близкой, чем ритмы городской жизни и ее эстетика, порожденные модерном. В 1919 г. Б. Глаголин поставил в театре Синельникова пьесу «Пан» Ш. Ван Лерберга. Занавес к 1П акту выполнили В. Бобрицкий и Б. Косарев. Занавес изображал в духе народного представления о красоте фигуры Адама и Евы в райском саду. Это был образ свободных людей в свободном мире.
В творчестве Хлебникова и его харьковских друзей пантеистические настроения создавали мир знакомый и традиционный:
Поспешите, пастушата!
Ни видений, ни ведуний,
Черный дым встает на хате,
Все спокойно и молчит.
На селе, в далекой клуне Цеп молотит и стучит.
Скот мычит. Пастух играет,
Солнце красное встает.
И, как жар, заря играет,
Вам свирели подает23.
Пространство мира целостного полнилось любовью и выражало себя через любовь. «Любовь - суть революции», - писал все тот же Хлебников, поэтически воспевавший Красную поляну, где сестры Синяковы «скрывались в ниве играть русалкою на гуслях кос». У Синяковой и Косарева языческие силы любви, сотворенные поэтическим словом и реальным пейзажем, превратившимся в счастливую Аркадию, воплощены в стилистике лубочной картины. Приметы крестьянской жизни в ней совмещаются с деталями и персонажами городского происхождения, можно сказать, что художники создавали городской фольклор на деревенскую тему. У Косарева лубочные картины нередко решаются гротескно. Толстенные ню между фаллосами, парочки в откровенных позах, жницы и красны молодцы, все эти сцены композиционно объединяются в единое целое, имеющее свое значение, свой смысл. Нижний ряд занимают сцены плотской любви, над ними - ее результат - выросшая и сжатая нива. Еще выше - корова, процветшая цветами, и рыбы с древом жизни на спине, летящий голубь. Изображение рыбы с цветочным кустом, рыбы в руках женщины особенно часто встречается у Косарева.
316
Н. Мищенко. Отъезд, 1918, рис. кар.
Трудно сказать, вкладывал ли художник христианский смысл в символ рыбы, понимал ли, что, украшая ее цветущим древом, иллюстрировал славянский миф о происхождении жизни. Главное, общий смысловой и эмоциональный ряд его лубочных «картинок» отвечает давней традиции украинской художественной школы, направленности на жизнеутверждение, на воплощение мира полного, целого. Такой мир не принимал трагического, того, что гармонию разрушало. И вряд ли можно говорить о известной серии М. Синяковой «Война» как исключении. Перечисления того страшного, что один человек может сделать другому, под кистью художницы принимает игровое начало, его смысл граничит с образностью театра абсурда. Любопытно, но точно также, хотя и намного позднее в 1932 г. решает свои рисунки на тему войны А.Г. Петрицкий. Разрыв тела в рисунке «Взрыв в окопе» художник показал как пластически эффективное зрелище24. И еще одно наблюдение. Характер деформации в творчестве украинских мастеров имел свои особенности. Формируясь в русле свойственного фольклору жизнеутверждения, профессиональная школа искусства, как мы уже говорили, оказалась невосприимчивой к эстетике уродливого, безобразного, т.е. ко всему, что могло разрушить в мире согласие. Ценности, сложившиеся во вре-
317
мена синкретизма, когда Добро, Красота и Истина выступали в неразделимом и взаимообуслов- ливающем единстве, в период духовной перестройки обретают в художественном сознании новую силу, властно воздействуя на мировидение и творческий метод. Именно поэтому в украинском искусстве, как правило, экспрессия изобразительно-выразительных средств укладывается в границы цветовых предпочтений и пластики, не нарушающих эстетики народного искусства.
Новаторские искания 1910-х годов не стали в этом отношении исключением. В 1917 и в 1918 гг. в Харькове состоялась выставка группы «Семи», задуманная, по всей видимости, еще раньше в Красной поляне. Семерка не была изолирована от текущей выставочной жизни, ее члены выставлялись на выставке «Союз искусств» (1918), собравшей ведущих художников Харькова и на Первой выставке, организованной Подотделом искусств (1919)25. В этом же году члены «Союза семи», чей состав был стабильным, издали роскошный по тем временам альбом «Семь плюс три», немало способствовавший общественному признанию художников.
В экспозициях двух выставок «Союза семи», экспонировавших произведения живописи, театрально-декорационного искусства, скульптуры и множество графических листов, язык искусства модерна, поиски созвучные экспрессионизму и кубофутуризму преобладали. Семь главных экспонентов представляли: В. Бобрицкий (друг и соученик Б. Косарева по харьковскому художественному училищу), выставивший эскизы декораций и костюмов к пьесам
О. Уайльда, А. Ремизова, Э. Ростана, и очень сдержанный в цвете и стильный «Портрет жены», выстроенный в духе сезановского периода кубизма. Борис Косарев, помимо театральных работ, на Второй выставке Семерки показал триптих, посвященный режиссеру Н.Н. Евреинову, выполненный в манере «неустоявшегося» кубофу- туризма: отдельные детали полотна написаны вполне реалистично, другие - обобщены до геометрических форм, а фон написан в виде энергично закручивающейся спирали, включающей в себя шрифт. Образ режиссера - образ демиурга театрального действия и капитана
Б. Цибис. Скульптура, между 1916-1918, липа
318
на корабельных мостках. График и живописец Н. Мищенко в соотношении кубистических и футуристических начал отдавал предпочтение фактору движения. Художник нанизывал изобразительный ряд на спираль, по ходу которой сворачивал, закручивал объемы, превращая их в плоскости. Единственный в группе скульптор Болеслав Цибис выставил деревянные скульптуры. Вырубленные с соблюдением законов материала, они воскрешали облик славянских языческих идолов. Произведения Бобрицкого, Косарева, Мищенко и Ци- биса составляли кубофутуристическое крыло Семерки. Живопись и графика Владимира Дьякова, Георгия Цапока и Николая Калмыкова представляли другую творческую ориентацию - на символистские сюжеты, стилистику модерна и ар деко. Помимо основных экспонентов в Первой выставке семи приняли участие еще ряд художников. Среди них отметим Ивана Иванова, блестящего акварелиста, эволюционировавшего от символико-мистических сюжетов к иронии и гротеску экспрессионистского толка, Александра Гладкого, экспонировавшего декоративные мотивы, близкие лубку, а также Василия Ермилова. Из работ художника, хранившихся в Харькове, выставили живопись типичной для футуристов тематики: «Поезд на мосту», «Аэро в воздухе». В альбоме Семерки «Семь плюс три», тройку художников составили: В. Ермилов (офорт «Ночное кафе»), Александр Гладков (литография «Всадник», перекликающаяся с лубком) и Мане Кац, быстро ставший одним из лидеров харьковских кубофутуристов. «В его работах ярче и определеннее, чем у других экспонентов, проявляются искания современных художников и тре¬
319
бования современного искусства», - писал о Мане Каце И.Г. Эрен- бург26. В работах художника он увидел «новое понимание формы, выросшее из реакции против пренебрежения формой во времена импрессионизма»27. Действительно, в жестко, рационально выстроенных графических листах Мане Каца ясно читался его творческий метод, основанный на интерпретации формального языка кубизма. Конструкция формы, ее особенности мало интересовал Каца, художник превращал объем в серию плоскостей, очерченных аскетичной, но не лишенной эффективности линией. Надо сказать, что при ощутимом различии творческого потенциала и стилистической направленности работ Семерки, группа производила редкое для украинских выставок тех лет впечатление объединения, ясно осознающего свои позиции и умеющего их отстаивать. Заметим, что идеологи национальной культуры удручающим недостатком в ее развитии считали отсутствие «способности объединиться вокруг определенного принципа, произведения, с целью защиты своих художественных убеждений»28. Об авангардном движении в Украине этого сказать уже нельзя. Консолидация вокруг периодических изданий сил литературных и художественных, начатая в крупнейшем центре типографского дела в Киеве, в революционное время была продолжена в Харькове. Группа «Семи» имела своих сторонников в журналах «Колосья» (1918), «Пути творчества» (1918-1919), что позволило ей занять важное место в культурной жизни города.
Впервые о себе как о группе семерка заявила в каталоге выставки 1917 г. Он не был простым перечислением имен и работ художников. В организации материала каталога главенствовало стремление выделить принципы построения художественной формы. Списку произведений автора предшествовал эпиграф, раскрывавший в какой-то мере творческую позицию художника. Борис Косарев заявлял о таковой цитатой из книги о кубизме Глеза и Метценже: «Уменье рисовать состоит в том, чтобы установить отношения между кривыми и прямыми». Примечательно, что обложку каталога украшала обведенная черной рамкой цитата из текста умершего к тому времени Н.И. Кульбина, утверждавшего самоценность и свободу творчества29. И вся выставка, где тот же Косарев экспонировал работу «На смерть Н. Кульбина», воспринималась как дань памяти подвижнику российского авангарда. Можно сказать, что в 1910-х годах новое в искусстве Харькова, как и в Украине в целом, рождалось в тесных связях с русскими деятелями авангарда. Плодотворность таких взаимоотношений для обеих культур очевидна. Хотя художники, собравшиеся на выставке «Семи» не были представителями одного направления, о чем они заявили фразой на титульном листе своего альбома («От нас, связанных только молодостью»), пресса и критики города единодушно назвали группу футуристической30. О группе «Семи» пишет историк искусства Федор Шмит. Его отношение к художникам эволюционировало от обвинений в подража-
320
Б. Косарев. Три деревни, два села, 1921, бум., акв., цв. кар., 19 х 24 см
нии западноевропейским мастерам, до признания своеобразия творчества Семерки. «В противоположность академическому искусству, культивировавшемуся в немногих центрах, к которым и тяготели все художники, - писал Шмит, - футуризм может возникать и развиваться везде, куда только проникнут его идеи. Не требуется более знакомства с академической премудростью Парижа, Рима и Мюнхена, - каждый футурист в самом себе носит каноны своего искусства. Это обстоятельство позволяет нам рассматривать “Союз Семи”, не как провинциальный сколок со столичного новаторства, а как впол-
11. Русский авангард
321
не самостоятельное ядро нового культурно-исторического движения, начавшегося в Италии и уже охватившего весь свет»31. Понимая сущность футуризма и кубизма как выражение «протеста против привычных форм живописного воспроизведения реального мира», Шмит кратко и аналитически очерчивал подходы мастеров новой творческой формации к свету и цвету, форме, пространству и плоскости. Иллюстрируя свои выводы материалом группы «Семи», Шмит, тем самым, удачно вписывал харьковчан в общеевропейское авангардное движение, отмечая, при этом, преимущественное внимание новаторов к графике. Действительно, в формировании нового языка искусства и в его распространении в очагах культуры страны графике принадлежала ведущая роль. В какой-то степени это обстоятельство сыграло роковую роль в исторической судьбе новаций. Память о мастерах, работавших в хрупких техниках акварели и пастели с течением времени, хотя и по разным причинам, стерлась из культурной памяти. И сегодня о творчестве многих членов «Семи» мы имеем крайне скудное представление. Часть художников вскоре эмигрировала. Уехал Бобрицкий, Калмыков, Цибис, Мане Кац. Работы Мищенко, Дьякова известны только по фотоснимкам в прессе. Однако творческое наследие 1910-х годов Ермилова, Косарева, Иванова, Синяковой сохранилось в той мере, которая позволяет говорить о разнообразии и напряженном вызревании творческих идей, о потенциале харьковского авангарда в стадии его становления.
Фактически альбом «Семь плюс три», изданный в количестве 200 экземпляров, и фотоснимки харьковских журналов конца 1910 - начала 1920-х годов демонстрируют диапазон авангардных идей, частью реализованных, а частью оставшихся свидетельством художественных поисков, не получившим, по тем или иным причинам окончательного завершения. Незавершенным проектом можно рассматривать и кубофутуристические опыты «Семерки», распавшейся после 1919 г.
Однако вот что нам кажется важным в разговоре о «Союзе семи». Сформировавшийся в краткий период либерализации общественных отношений, обусловивших возможность сосуществования многих и разных идей, «Союз семи» обозначил выход художественной школы в пространство общеевропейских ценностей. Десять лет, разделяющие «Голубую лилию» и «Союз Семи» были временем консолидации сил, способных к последовательной, целенаправленной работе по освоению и переработке новаторского опыта. Ситуация двоемирия или, как писал Д.В. Сарабьянов, промежуточного, между несколькими направлениями искусства творческого бытия, характерная для 1900-х годов, в конце 1910-х не является характерной чертой художественного процесса. Атмосфера революционных лет, идеи переустройства мира, активно постулируемые авангардом, требовали от художника выражения ясных, определенных позиций. При всей разноликости авангардных течений, художников объединяла вера в глобальную, вселенскую миссию своего искусства.
322
И. Иванов. Семья, 1925
11*
«Искусство превращается в орудие борьбы, - читаем в харьковском “Сборнике нового искусства”, - гражданской войны, социальной ненависти, страсти и воли»32. Пафос бунта, пророчества, стихии разрушающей старое здание жизни и созидающей новое, наделял произведения авангарда силой экспрессивной. В этом, в стихийной мощи, заявленной авангардом с варварским сладострастием (...неясные чудовища, перворожденные дерзкие мысли, зародыши великих идей, первые контуры новой красоты, новый варварский стиль, - перед человеком завтрашнего дня. Из этого исходить. На это опираться. Все пути забыты. Новые не проложены. Сквозь ветвистую чащу, рубя ее топором... Вперед!) видится преломление творческого опыта европейского экспрессионизма33. Какую бы стилистику при этом художник не выбрал, неопримитивизм или кубофутуризм, патетика жеста, направленного к толпе, желание взаимодействия с нею составляли внутреннюю суть многих произведений эпатирующих, иронизирующих или вдохновляющих. Созерцание, самоуглубление, отстранение от окружающего воспринимаются уходящим в прошлое кругом духовных состояний и воззрений. Динамизм эпохи перемен, сметающий преграды между художником, произведением и зрителем, утверждал новые способы общения, восприятия и оценки. Этот процесс не был лишен противоречий. Созданный в Харькове в 1919 г. профессиональный Союз деятелей левого искусства, куда вошли и члены семерки (В. Бобрицкого выбрали председателем правления Союза), претендуя на руководящую роль в художественной жизни города, пресекал тенденции к образованию не санкционированных Союзом творческих группировок. Реализация задач Союза деятелей левого искусства, изложенных в его декларации - «участие в культурных начинаниях народа под контролем и при материальном содействии народных властей»34 - положила начало постепенному нивелированию разнообразия стилистических и образных направлений искусства. И если этот процесс затянулся на десятилетие, то причиной тому, помимо социальных и политических, была, конечно, накопленная в 1910-х годах созидательная энергия. Именно ее наследие, творческий опыт, аккумулированный между двумя революциями, способствовал подъему украинской культуры в 1920-х годов. 11 Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу (Становление греческой мифологии). М.: Наука, 1972. С. 48.
2 Занимался в студии «Голубая лилия», близкий друг Агафонова, закончил харьковский университет, ученик Ф. Шмита. Известен как историк искусства.
3 Музей-архив литературы и искусства Украины. Ф. 208. Оп. 2. Д. 12.
4 Утро. 21.XII. 1908.
5 БурлюкД. Фрагменты из воспоминаний футуриста: 1929-1930. ГПБ. Архив рукописей. Ф. 552. Ед. хр. 1. С. 224.
6 Высокий Б. Выставка картин студии «Голубая лилия» // Утро, 10.11.1909.
7 Собрание линогравюр Ф.И. Надеждина хранится в Харьковском художественном музее.
324
8 Из письма Д. Гордеева П. Оболенцеву И.VII 1960 г. Архив-музей литературы и искусства Украины. Фонд Гордеева.
9 Собрание Харьковского художественного музея.
10 Вейс Э. Художественные заметки. Выставка группы «Кольцо» // Южный край, 27.Х. 1911.
11 Там же.
12 В.Т. Выставка «Кольцо» (вторая) // Южный край, 31.Х. 1912.
13 Друг искусства, 1913, № 8. С. 9.
14 Губер С. Беседы о футуризме // Утро, 21.XI. 1913.
15 «Здесь думою медленно рос я и становился иным», - писал Хлебников о пребывании в Красной поляне.
16 Редактор харьковского журнала «Колосья» (1918), талантливый публицист и критик искусства, пропагандист футуризма.
17 Рощин В. Пантеизм // Пути творчества, 1919, № 3. С. 14.
18 Там же. С. 17.
19 Об этом убедительно писал в 1922 г. Я.Е. Шапирштейн-Лерс. См. кн.: Шапирштейн-Лерс Я.Е. Общественный смысл русского литературного футуризма (нео-народничество русской литературы XX в.). М., 1922.
20 Рожицин В. Искусство и падающий мир // Сборник нового искусства. Харьков, 1919. С. 22.
21 Там же. С. 23.
22 Там же.
23 Хлебников В. «Лесная тоска», осень 1919-1921 // Хлебников В. Творения. М., 1996. С. 262.
24 В этом отношении показателен факт издания в 1918 г. в харьковском издательстве «Рух» драматической поэмы Т.Г. Шевченко «Гайдамаки» с иллюстрациями чешского художника К. Неметца, выполненными в жесткой стилистике экспрессионизма. В украинском искусстве иллюстрации Неметца остались до сих пор непревзойденным примером небоязливого, острого прочтения литературного текста.
25 В каталоге к Первой выставке подотдела искусств М. Синякова и В. Пи- чета названы членами «Союза семи». Однако ни в каталог Первой выставки Семерки, ни в альбом «Семь плюс три» эти художники не вошли. Б. Косарев, вспоминая этот период, утверждал, что Синякова и Пичета, считавшиеся в художественной среде самодеятельными художниками, в группу «Семь» не входили.
26 Творчество, 1919, № 1. С. 30.
27 Там же.
28 Дзвш. 1913, №2. С. 94.
29 «Да будет все - настоящее.
Музыке - звук.
Ваянию - форма в тесном смысле.
Слову — ценности наречения.
В новом синтезе искусства мы
Знаем, где лежат зерна и где шелуха.
Живописная живопись - вот лозунг живописца.
И все прочее - свобода»
30 Пояснительный текст альбома «Семь плюс три» дан без запятых, заглавных букв, мягкий знак дан в виде апострофа.
31 Шмит Ф. Союз «Семи» // Сбобрник нового искусства. Харьков, 1919. С. 8.
32 Там же. С. 21.
33 Там же.
34 Пути творчества, 1919, № 1-2. С. 57.
Л.Д. Соколюк
ЧЕРТЫ ЭКСПРЕССИОНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ МИХАИЛА БОЙЧУКА
Украинское искусство 1920-х годов рассматривало себя как часть европейского художественного процесса. На страницах изданий, главным образом журналов, печатались статьи о новейших течениях в искусстве Западной Европы - от кубизма до сюрреализма, о мастерах, представлявших то или иное авангардное направление. В 1926 г. ректор Киевского художественного института Иван Врона в своем обращении в Наркомпрос Украины по поводу необходимости предоставить зарубежную командировку некоторым ведущим художникам-педагогам этого вуза высказывал опасение, что длительное отсутствие контактов с Западом угрожает украинской культуре «провинциализмом, кустарничеством, отсталостью»1.
В то время большая часть художников, представлявших педагогический состав КХИ, были профессионалами с европейским образованием и действительно более 10 лет не бывали в европейских культурных центрах, не имели возможности лично видеть, «что делается на арене всемирного искусства»2. И хотя в то время среди украинских художников было довольно достаточно ярких творческих личностей, только один из них Михаил Львович Бойчук (1882-1937) создал свое направление в искусстве, получившее название «бойчу- кизм», основал свою школу, к 1922 г. подготовил первый и единственный выпуск Украинской Академии художеств - он состоял из его учеников. К середине 1920-х годов бойчукисты уже работали в ведущих художественных вузах Киева и Харькова и в Межигорском художественном техникуме под Киевом, в 1928 г. также получивший права высшего учебного заведения. Бойчукизм распространялся.
Каковы же особенности творческого метода основателя бойчу- кизма, воспринятого его учениками?
Направление в искусстве, возглавленное Бойчуком, получило признание на европейском уровне еще в 1910 г., когда художник вместе со своими первыми учениками принял участие в выставке «Салона независимых» в Париже. Художественная критика, включая Г. Аполлинера, А. Сальмона, восприняла это как новое течение,
326
А. Довгаль. Распределение пайка, 1917, линогравюра, НХМУ
получившее тогда название «Renovation Byzantine» («Возрождение византийского»). Византийские корни Бойчук уже тогда рассматривал как основу в возрождении национального стиля украинского искусства и вместе с тем подчеркивал условность названия «неовизантизм» применительно к своему направлению. «У себя дома, - заявлял он, - мы будем называться иначе! Правдоподобно украинской школой искусства. “Неовизантизм” это лишь термин для более легкого понимания, наконец, мы имеем на это право»3. Своих учеников художник призывал «к выявлению абстрактного содержания жизни в формах искусства не реалистических, но базируясь на синтетическом направлении национального, всенародного искусства», что, как он считал, было сосредоточено в «иконах, мозаиках, фресках, архитектуре, резьбе, скульптуре, узорах, вышивках, гончарстве, набойках, писанках, коврах и т.д.»4.
Вместе с тем обращение к национальным традициям Бойчук не представлял без новейших поисков европейского искусства. Отстаивая, как и многие его современники право художника отступать от натуры, он был среди тех, кто пошел за Сезанном, открывшим пути для развития художественного мышления XX в. Творческий метод Бойчука отличался синтетизмом, соединив национальные корни с
327
тем великим, что сохранилось, по его словам, в памятниках «настоящего искусства» прошлого5 и тем новым, что открывалось в художественных исканиях европейских мастеров. Одним из результатов этих исканий стало новое понимание экспрессии, которая уже не ограничивалась изображением лица героя или движением тела. Художников интересовала внутренняя экспрессия. Такая экспрессия, как заявлял тогда А. Матисс, «должна быть во всем расположении картины», место, «занимаемое телом», «пустые места вокруг него, пропорции - все должно быть ей подчинено»6.
Поиски новых формальных возможностей для передачи такого рода экспрессии у Матисса и Бойчука, которые в одно время формировавшихся в художественной атмосфере Парижа, в определенной мере совпадают. И французского, и украинского художников, отказавшихся от обычного восприятия ради раскрытия внутренней сути окружающего мира и себя, объединяет понимание роли ритмических отношений картины, когда она строится как декоративная композиция для достижения экспрессивного звучания. Одним из важнейших средств в передаче внутренней экспрессии оба рассматривали линию, изгнанную живописью XIX в. Бойчук в то время заявлял, что разные линии, «выписанные на плоскости, вызывают разнообразные впечатления». Например, «вид ужом волнистой линии волнует впечатлительных людей»7. Неоднозначно воспринимаются линии горизонтальные и вертикальные, ломаные и круг, треугольник и квадрат8.
О том особом значении, что Бойчук придавал ритмической организации композиции для достижения внутренней экспрессии, свидетельствует его чудом сохранившееся живописное произведение «Пророк Илья», написанное темперой на дереве для часовни Дьяковской бурсы во Львове (1-я половина 1910-х годов), хранящееся в Национальном музее этого города. Проповедник, чьими устами глаголет Бог, изображен на фоне пещеры в тот момент, когда ворон несет ему, одинокому в пустыне, пропитание. Этот сюжет был довольно распространенным в Византии и странах византийского кру¬
328
В. Седляр. Иллюстрация к поэме Т.Г. Шевченко «Сова», 1931, типографский отпечаток
га. Но Бойчук находит новые формальные возможности, чтобы отразить внутреннюю суть происходящего, придавая особое значение окружению, ритмической организации форм, составляющих пещеру и напоминающих каменные глыбы; они как бы движутся, стискивая пророка.
Экспрессия усиливается и позой сжатого, сидящего на земле Ильи, и диагональным движением палицы, на которую он опирается, и направлением полета ворона. Не менее важную роль играет и контрастное звучание чистых цветов - глубокого синего и охристых. Но особое значение в достижении внутренней экспрессии все-таки принадлежит тому, что Бойчук определил как «ритм ритма»9 - принцип, ставший впоследствии одним из важнейших в его педагогической системе. В произведении «Пророк Илья» преобладают жесткие ритмы параллельных линий, штрихов, соединяющихся в углы на ногах Ильи, в его одеянии, в торчащем оперении ворона. Эти ритмы слегка смягчаются в движении волнистых линий в левом нижнем углу и перерастают в более сильное драматическое звучание, создаваемое ритмическим строем направленных к центру острых каменных глыб.
Про поиски Бойчуком формальных средств для передачи состояния внутреннего напряжения, сосредоточенности свидетельствует и работа «Девушка» из Львовской картинной галереи, написанная темперой на доске. Здесь экспрессивная заостренность формы проявляется, главным образом, в жестах рук. И тем не менее произведений Бойчука 1910-х годов в музейных коллекциях или репродуцированных в печати сохранилось слишком мало, чтобы можно было со всей достоверностью судить о месте в его творчестве экспрессионистских тенденций. В определенной степени они сказались, и это совпадает с характером исканий средств для передачи «внутренней экспрессии» парижскими современниками украинского художника. Значительно острее экспрессионистское направление проявилось в Германии в деятельности группы «Мост», а затем «Синего всадника». Пора расцвета экспрессионизма в европейском искусстве закончилась около 1922-1923 гг. Но он не умер, его международный
С. Налепинская-Бойчук. Прочь вредителя! 1931, гравюра на дереве, НХМУ
329
И. Падалка. Яблочко, 1927, гравюра на дереве, НХМУ
характер расширился, чему способствовал духовный климат времени между двумя мировыми войнами.
В Украине историческая ситуация, складывавшаяся после 1917 г., была слишком противоречивой: с одной стороны, ее кризисный характер определялся последствиями гражданской войны, разрушением памятников духовной культуры, затем насильственной коллективизацией и голодомором, а с другой стороны - социальные иллюзии, направленные на строительство нового идеального общества, несли мощный позитивный заряд. Творческая деятельность самого Бойчука как бы приостановилась, но все усилия художник сосредоточил на формировании своей школы.
С активизацией выставочной деятельности в СССР в юбилейном 1927 г., когда праздновалось десятилетие советской власти, бой- чукисты уже заявили о себе в полный голос. Ученики самого Бойчука и ученики его учеников вошли в художественное объединение АРМУ (Ассоциация революционного искусства Украины), не имевшее аналогий среди творческих союзов страны. На выставке этого творческого объединения в 1927 г. в Харькове экспрессионистскими тенденциями в своих работах обратил на себя внимание ученик М. Бойчука - М. Шехтман. Ректор КХИ И. Врона писал тогда: «На свой самостоятельный путь выходит молодой художник Шехтман, развивающийся в сильного мастера, эмоционального, глубокого с остро выраженным еврейским колоритом и индивидуальностью.
330
А. Довгаль.
Штили носят, 1926,
линогравюра,
НХМУ
Его Погромленные и Мать — фрагменты целой поэмы жуткой национальной эпопеи еврейского народа...»ш.
Сейчас эти работы, случайно уцелевшие, сохраняются в Национальном художественном музее Украины в Киеве (НХМУ). Они отличаются не только особенностями тематики, близкой экспрессионизму, но и эстетического самовыражения автора, его мироощущения. В «Погромленных» Шехтман сумел передать особый национальный дух, он придает его произведению неповторимую выразительность, а острота авторских переживаний нашла отражение в образах страдающих евреев, оплакивающих жертвы погрома. Чувство глубочайшей человеческой драмы, сосредоточенное в окаменевших персонажах картины, как бы остановилось во времени, застыло. Вместе с тем во многом характерные для экспрессионистов особенности художественного языка, в частности упрощенность и обобщенность форм, у Шехтмана совмещаются с иным отношением к цвето-воздушной среде. Художник избегает напряженных цветовых отношений экспрессионистской живописи. Колорит его полотна, написанного темперой, как это было принято в мастерской Бойчука, деликатен и благороден. Однако ритмическая игра острых треугольных форм в композиционном строе становится своеобразным «лейтмотивом», усиливающим эмоциональную остроту произведения. К определенной приглушенности цвета, смягчая экспрессиони- стичность деталей, Шехтман тяготеет и в другой картине на еврей¬
331
скую тему - «Переселенцы» (1929), хранящейся в той же музейной коллекции.
К сожалению, кроме названных полотен, другие работы Шехт- мана, показанные на выставках конца 1920-х годов, не дошли до нашего времени. В определенной мере представление можно составить по репродукциям в журналах тех лет. Среди этих произведений картины «Выселение евреев после погрома»11, «Слушают радио»12, фреска «Ужасы империалистической войны»13. В них сохраняется напряженность авторских чувств и переживаний, прослеживаются уже ранее проявившиеся особенности художественного языка, сохраняющие связь с экспрессионизмом.
С тематикой немецкого экспрессионизма 1920-х годов перекликается показанная на выставках 1927 г. гравюра жены основателя бойчукизма С. Налепинской-Бойчук «Голод». И тем не менее у нее свой неповторимый стиль. Если в графических работах «Хлеба!» К. Кольвиц, «Голодные» Г. Гроса звучит отчаяние, то у Налепинской-Бойчук драматизм ситуации смягчается теплотой лирического чувства. Его воплощает образ женщины, которая на железнодорожной станции кормит детей, привезенных из голодающих губерний на Украину. Ритмы округлых форм ее фигуры контрастируют с ритмами жестких диагоналей, вертикалей вагонов, платформ, разбросанных деревянных ящиков.
Обостренность образов истощенных детей с костлявыми кривыми ножками и набрякшими животиками, вызывая ассоциации с поэтикой экспрессионизма, усиливает звучание внутреннего содержания произведения, его глубоко человечную нравственную направленность.
Прямое совпадение мотивов у Налепинской-Бойчук и близких к экспрессионизму европейских мастеров наблюдается в экспонируемой украинской художницей в том же 1927 г. гравюры на дереве «Пастушок» (по мотивам стихотворения Т.Г. Шевченко «Мне шел тринадцатый тогда») и в ксилографиях бельгийца Ф. Мазереля «Мой часослов. Восход солнца» и «Гимн радости» немца Э. Барлаха. Но если эти художники действительно передают состояние неудержимой радости, то про украинскую художницу этого не скажешь. Босоногий мальчик в ее гравюре стоит, подняв руки и соединив их над головой, всматриваясь вдаль, где распростерся невидимый, неизведанный мир. Шевченко описал изменение чувств пастушка: радость после молитвы, печаль, слезы, возвращение радости. Художница как бы соединяет все эмоции воедино, но чувство тревоги сохраняется.
Особой активностью на выставках 1927 г. отличалась графическая школа И. Падалки - харьковская ветвь бойчукизма. В произведениях, экспонируемых ее представителями, значительное место отводилось теме гражданской войны, которая в их трактовке приобрела свою неповторимую интерпретацию. Гравюры «Яблочко»
332
М. Котляревская. Иллюстрация к стихотворению П.-Ж. Беранже «Царь Горох»», 1926, линогравюра, Харьков, част. собр.
М. Котляревская. Обыватели в годы гражданской войны,
1930, линогравюра, ГМИИ им. А.С. Пушкина
333
И. Падалки, «Махновцы» М. Котляревской, «Распределение пайка» А. Довгаля по стилистике напоминали лубок, совмещая принципы профессионального искусства и изобразительного фольклора. Вместе с тем провозглашенная экспрессионистами свобода в обращении с формой, пространством для выражения полноты человеческих чувств дает возможность графикам школы Падалки добиться повышенной эмоциональной обостренности. Напряженное звучание контрастов черного и белого, временами до умопомрачительного накала, совмещение разных точек зрения, разнонаправленных диагональных, зигзагоподобных ритмов, деформация - это, главным образом, способствовало созданию атмосферы времени разрухи, голода и холода, разгула бандитизма, остроты страстей, порожденных гражданской войной.
Линогравюры Довгаля - наиболее живописные среди произведений учеников Падалки. И не только потому, что он вводит цвет. «Распределение пайка» ближе к цветовым эффектам, нежели к графическим благодаря разнообразию использования фактурных приемов в черно-белой линогравюре. Отличаясь наибольшей активностью среди своих соучеников на выставке 1927 г., художник не гак часто обращается непосредственно к теме гражданской войны. Но эмоциональный накал времени в его линогравюрах присутствует постоянно. Нерасчлененные пятна черного и белого вместе с тонкой параллельной штриховкой и маленькими разнонаправленными черточками дают возможность передать раскаленную атмосферу летнего знойного дня и вместе с тем живописную вибрацию в линогравюре «Штили носят». В цветных линогравюрах «Конюшня», «Швея», «Цирк» основными средствами передачи повышенной экспрессии выступают не столько контрасты черного и белого, сколько усиленное звучание цвета, главным образом, желто-горячих отношений. Один из ведущих украинских искусствоведов 1920-х годов Ф. Эрнст писал тогда об этом представителе бойчукизма: «Характерной для Довгаля является экспрессионистическая (но организованная) подача образов. Перед худ. Довгалем лежит широкий путь роста его таланта»14.
В рисунках В. Седляра, учившегося в мастерской М. Бойчука, всегда ощущается дух эпохи. Эмоциональный накал времени больших общественных надежд нашел воплощение в его графической композиции «Собирают яблоки» (опубликована в газете «Правда», 12.11 1929), в том огромном энтузиазме, с которым крестьяне собирают урожай. Суровая лаконичность фигур вызывает ассоциации с народным искусством. Вместе с тем это произведение профессионального художника XX в., владеющего принципами формообразования нового искусства, в определенной степени созвучное экспрессионизму.
Начавшаяся в 1929, так называемом годом «великого перелома», целенаправленная травля школы Михаила Бойчука усилила тревож¬
334
ные предчувствия, свойственные мироощущению экспрессионистов, в творчестве представителей бойчукизма. Чем-то угрожающим веет в индустриальном пейзаже М. Котляревской, воспроизведенном тогда в журнале «Службовець»15. Такое впечатление создается благодаря изображению в центре композиции мачты для линии электропередач, устремленной вверх, туда, где клубятся тучи, а выше них - заводские трубы и валящий из них дым. Примитивизм будничности, соединенный с безмерностью, передано в настроениях отчаяния в линогравюре художницы «Обыватели в гражданскую войну» (1930) с ее напряженным звучанием черного (ГМИИ им. А.С. Пушкина).
Характерно, что в обстановке усиления провоцируемой правящей партией «классовой борьбы», нарастания идеологической нетерпимости в начале 1930-х годов у бойчукистов усиливается тяга к экспрессивно заостренной форме. Особо заметны изменения в ксилографиях С. Налепинской-Бойчук с появившимися в них настроениями отчаяния, неверия в возможность подлинных человеческих контактов. Страсти, доведенной до высоких нот, исполнена ее гравюра «Пасификация Западной Украины» (1930, НХМУ) с ее подчеркнуто резкими контрастами черного и белого. Черная полоска неба вверху, черная полоска земли внизу, черное слева и справа - вроде гравюра окружена черной рамкой. Куда и делся спокойный тон, параллельность штрихов, создававших впечатление стабильности форм и вещей или легкой имитации фактуры. Черные, почти двухмерные силуэты всадников вверху, проносящихся дорогой мимо охваченных огнем хат, туда, где художница поместила группу убегающих в отчаянии крестьян. Кажется, будто штрихи, проведенные ею, извиваются от волнения. Энергично переданы волнистые языки пламени, стремительно поднимающиеся вверх. Экспрессия в позах, жестах крестьян усиливает картину общей обескураженности. Гравюра вызывает ассоциации с творчеством немецких экспрессионистов, особенно К. Кольвиц. Но у Налепинской-Бойчук - свой стиль. Обращаясь к отдельным принципам новейшего европейского искусства, она остается на позициях бойчукизма, что проявляется в особенностях построения пространства, трактовки фигур, ритмической организации композиции.
Большая эмоциональная нагрузка в ксилографии художницы «Прочь вредителя!» (1931, НХМУ) выражена, прежде всего, ритмом поднятых распростертых рук рабочих, окруживших полукругом худенького щупленького человека. Его съежившаяся гротескно поданная фигура в центре композиции напоминает об интонациях экспрессионистов. Жесткость диагонально направленных заводских конструкций усиливает внутренний драматизм ситуации. Сознательно или подсознательно Налепинская-Бойчук довольно метко передала духовную атмосферу в обществе с его особенностями массового сознания, когда отдельный человек становился лишь винтиком грозной государственной машины. Стиснутые кулаки и вытянутые
335
С. Налепинская-Бойчук. Голод, 1927, гравюра на дереве, НХМУ
руки рабочих, направленные туда, где стена и окна напоминают решетки мест заключения и воспринимаются как красноречивый подтекст душевных переживаний художницы.
Композиционная схема ксилографии «Прочь вредителя!» повторена в гравюре «План выполним» (1932, НХМУ). Только теперь центральной фигурой стал агитатор, консолидирующий вокруг себя фигуры колхозников.
Заметно усиливается эмоционально-экспрессивное звучание в творчестве бойчукиста В. Седляра, работавшего в начале 1930-х годов над иллюстрированием «Кобзаря» Т. Шевченко. В его рисунках, выполненных кистью с большой простотой, непосредственностью и вызывающих ассоциации со скорописью рисунков представителей нового искусства XX в. во Франции, в частности, Матисса, Р. Дюфи, напряженность чувств возрастает в сценах, отражающих народные страдания. Вместе с тем в иллюстрациях Седляра иной эмоциональный строй, чем в исполненных пессимизма работах экспрессионистов, хотя художественный язык напоминает о них. Особую силу драматической напряженности иллюстраций украинского художника придает внутренний протест автора против зла и насилия.
Выход в апреле 1932 г. Постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций», самоубийство в мае 1933 г. известного украинского писателя Мыколы Хвылевого, а затем в июле - бывшего наркома просвещения Украины М. Скрипника тяжело ударило по нормальному развитию культуры. Черты экспрессионизма в творчестве бойчукистов не только не исчезли, а наоборот продолжали углубляться, становились своего рода отдушиной, через нее выливались наружу беспокойство, сомнения, тревога, подавленность. Тяжелое впечатление оставляют созданная в это время серия ксилографий представителей харьковской ветви бойчукизма Бланка и Фрадкина «Баррикады» (ХХМ), в которую входят листы «Едут грузовики», «Возле ворот тюрьмы», «Памяти погибших». Революционная героика нашла отражение разве что в названии серии. Гравюры скорее воспринимаются как образы тревожной действительности. Застывшей скорбью проникнута ксилография «Памяти погибших» с символическим образом в центре композиции человека в гражданском и с флагом в руке, напоминающего партийного функционера, возвышающегося над маленькими фигурками безногого и безрукого инвалидов и вдовы у раскрытой могилы с мертвыми телами. Гравюра вызывает ассоциации с образами жертв военных катаклизмов у О. Дикса.
Сгусток боли, свойственный мироощущению экспрессионистов, продолжают сохранять произведения М. Шехтмана и в 1-й половине 1930-х годов. Такое представление дают репродукции его живописных работ «Встреча в колхозе» (из цикла «Евреи на земле»), «Бедность и плодовитость», воспроизведенные в альманахе «Образо- творче мистецтво»16.
337
С. Налепинская-Бойчук. Пасификация Западной Украины, 1931, гравюра на дереве, НХМУ
В искусство бойчукистов проникает актуальное для экспрессионизма уродливое. Жуткий образ с редкими искривленными зубами, с большим языком, на нем оказался знак украинского издательства «Рух», воспроизвел И. Падалка на обратной стороне обложки «Монгольских рассказов» Гео Шкурупия. Художник как бы предчувствовал события, что вскоре унесут и писателя, и издательство.
С приближением событий, связанных с массовыми репрессиями 1937 г., родственное экспрессионистам восприятие мира не оставляло бойчукистов. Горькой иронией проникнуто название серии автолитографий А. Довгаля «Социалистический Харьков» (1936-1937, ХХМ). Гнетущее впечатление производит лист «Госпром и Дом про¬
338
ектов» с низким темным небом, грозными самолетами, рядами темных окон домов. Тяжкой безысходностью веет от листа «Площадь им. Ф.Э. Дзержинского» с его зимним пейзажем, маленькими застывшими фигурками людей, автомобилями, напоминающими «черных воронов», навсегда увозивших «врагов народа».
Таким образом, проследив связь представителей школы «украинских монументалистов», как называли в 1920-е годы бойчукистов, с экспрессионизмом следует отметить, что Михаил Бойчук в поисках стиля украинского искусства XX в., его нового художественного языка, как и ряд его современников на Западе, отказывался от обычного восприятия ради раскрытия внутренней сути окружающего мира, «внутренней экспрессии», в передаче ее особую роль отводил формальным средствам. Черты экспрессионизма, наиболее глубоко показавшего пагубность социальных конфликтов XX в., в творчестве бойчукистов заметно проявились в конце 1920-х годов. Их искусство, с одной стороны, воплотило позитивный заряд времени, направленный на созидание нового идеального общества, а с другой - не могло пройти мимо явлений необузданного произвола, сопровождавших эпоху. В поисках интенсивности художественного выражения бойчукисты часто обращаются к тем же формальным средствам, что и «чистые экспрессионисты», сохраняют приверженность этим средствам и после провозглашения партийного курса, направленного на борьбу с «формализмом», вплоть до разгрома бойчукизма в 1937 г. и физического уничтожения его ведущих представителей. 1 111 Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины. Ф. 166. Он. 6. Ед. хр. 8330. Л. 5-5 об.
2 Там же. Л. 5 об.
3 Бачинський С. Moi 3ycTpi4i та силуети украТнських маляр1в та ргзьбар1в на чужинп Спомини старого емшранта за роки 1908-1950// Hoei дш (Торонто), 1952. Вересень. С. 19-20.
4Там же. С. 17.
5 Вигнанець /в. Михайло Бойчук // Арка, Мюнхен. 1947. Жовтень. С. 22.
6 Тугендхольд Я. Письмо из Парижа // Аполлон, 1910, № 8. С. 15.
7 Д-ський (Дуклянсъкий) €. Вистава «незалежних», та украшсыа маляр1 // Дшо. 1910, 14 н.ст.(1 ст.ст.) липня. Ч. 153. С. 1.
8Там же.
9 Уроки майстра: 3 лекцш Михайла Бойчука в Кшвському художньому шститут1 // Наука i культура: Укра’ша. К., 1988. Вип. 22. С. 450.
Ю Врона Ив. Революционное искусство Украины: Первая Всеукраинская выставка АРМУ в Харькове // Советское искусство, 1927, № 3. С. 28.
11 Советское искусство, 1928, № 2.
12 Життя i революцш, 1929, № 7-8.
13 Печать и революция, 1929, № 5.
14 Ернап Ф. Граф1чне мистецтво на Укра'йп [1929] // Рукописный отдел Института искусствоведения, фольклористики и этнологии НАН Украины. Ф. 13. Оп. 4. Д. 182. Л. 13-14.
15 1929, № 43.
16 Образотворче мистецтво. X.; К., 1934, альманах 1. С. 65-66.
ИА. Азизян
ЭКСПРЕССИОНИЗМ АЛЕКСАНДРА БЫХОВСКОГО: ОТ ГЕРОИКИ И САТИРЫ - К ТРАГИЧЕСКОМУ
Я уже обращалась к творчеству художника Александра Быхов- ского: его связи с театром-студией «Габима» и его авангардному преподавательскому опыту на курсах прикладного искусства им. Крупской в 1929-1930 гг1. Тема - «Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма» представляется мне чрезвычайно созвучной всему творчеству и самой личности художника, поэтому я снова вернусь к своему герою и другу, наследие которого трудно пробивает себе дорогу.
Первый жизненный экспрессивный жест Быховского - ссора с отцом, сдергивание скатерти со стола, уход из традиционной среднего достатка еврейской семьи в 14 лет. Учеба у иконописца, работа по мастерским прикладного искусства, работа по стеклу, бродяжничество, Школа общества поощрения художеств в Петербурге, у Н. Рериха, Москва, Одесса, Самарканд, Тифлис, снова Москва, круг еврейской художественной интеллигенции.
В 1916 г. Быховский пишет портреты выдающихся еврейских писателей - Менделе Мойхер-Сфорима (Шолом-Яков Абрамович) и Балмахшовиса (И. Эльяшев). Оба портрета утрачены: первый принадлежал литературному музею, второй - Одесской картинной галерее. Портрет Балмахшовиса написан Быховским с известного писателя и психиатра в доме еврейского мецената Каган-Шапсая: Во время одного из сеансов пришел Марк Шагал, сделал портретный набросок карандашом и оставил его. Быховский сохранил рисунок и не возвратил его автору полвека спустя, не желая встречи с ним во время визита великого собрата в Россию с выставкой графики. Этот линейный карандашный рисунок Шагала (с поправленными Быховским руками), перешел из рук дочери Быховского исследователю еврейского искусства А. Канцнедикасу.
Портрет Балмахшовиса, как и Менделе Мойхер-Сфорима, - поясной. Из темного живописного пространства холста контрастно выступают два светлых пятна - освещенная часть лица, подчеркнутая еще более ослепительным воротом манишки, в обрамлении темного треугольника жилета, и покойно и одновременно напряженно
340
сложенные руки. Портрет по своему драматизму, психологической напряженности, контрасту конструктивного светлого и темного почти трагического толка. Взгляд скорбный и чуть удивленный. Это действительно образ мудрого (балмахшовис - большая голова) знатока и исследователя человеческих душ, судеб. Своей экспрессией портрет близок неоконченному врубелевскому портрету С. Мамонтова. Он впервые обозначает экспрессионистские тенденции в творчестве Быховского, проявившиеся впоследствии в его графике, в том числе плакатной, в сатирических листах, скульптуре, театральном оформлении. Живописный портрет Менделе Мойхер-Сфори- ма - основателя новой еврейской литературы - более светлый и мягкий по своей образной трактовке. Сам художник не любил свой портрет Менделе Мойхер-Сфорима и, напротив, любил портрет Балмахшовиса. Это говорит о том, что его экспрессионистские тенденции были и сознательны, и бессознательны, спонтанны. Они отвечали самой его мятежной натуре.
Разбирая свои работы и готовя их к будущей выставке, Александр Яковлевич разделил свои работы на жанровые циклы. Первый из них он назвал «Лица». Цикл этот включил и туркестанские рисунки 1908-1910 гг., и живописные портреты Менделе Мойхер- Сфорима и Балмахшовиса, графические - Л. Переца и Н. Ляшко и ряд прекрасных автопортретов художника. Самый ранний из них - 1918 г. Этот автопортрет наиболее экспрессивен. И выполнен он в экспрессивном материале - угле. По стилистике он близок утраченному живописному портрету Балмахшовиса, по образу - мятежногероический, наиболее адекватно представляющий молодого худож- ника-бунтаря.
Революция органично вошла в жизнь и творчество Быховского. Мятежное начало было в самой его натуре. Поэтому естественно его участие в событиях 1905 г. в Одессе, естественна и разносторонняя, поистине пламенная работа на западном фронте в Гомеле в 1919-1922 гг. С одесских революционных дней он сохранил надолго дружбу с подпольным товарищем по кличке Пестун. Он всегда говорил: «Меня занимали революция и евреи и ни капельки счастливая жизнь» (из беседы с автором, апрель 1977 г.).
Космичность, философская глубина его понимания революции - революции жизни, духа, пересоздания всего мирового устройства, столь близкие многим представителям русской интеллигенции, в том числе творческой, ярко выразились в графическом листе 1917 г. - «Левиафан». Две главные линии, два нерва его творческой жизни - революция и евреи - слились в этом листе в нераздельное единство. Этот двойной духовный смысл усилен двойственностью сюжетно-символических значений изображения - здесь и само никогда не виденное мифологическое морское чудовище Левиафан, с которым вступает в борьбу бог Яхве, здесь и процесс сотворения мира Богом или революцией. Еврейский мифологизм, символистское
341
дионисийство и мирискусническое графически орнаментальное начало органически слились в этой работе с бунтарски-героической экспрессивностью художника-анархиста.
Классический анализ этого произведения дает в своей монографии Л.С. Выготский: «Как умален и обеднен мир в его рисунке “Левиафан” (1917). В этом мире почти ничего нет - ни человека, ни дерева, ни зверя, ни камня, - как будто мир пуст или вымер, или вчера еще оставлен всеми жившими в нем. И только круги, по которым “идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем и возвращается ветер на круги свои”. Как развоплощен мир, как совлечены с него все его одежды, как обнажен его строй, как распластана плоть мира! Дематериализованный мир, он сохранил еще кое в чем подчеркнуто-детскую, наивную вещественность, последние обломки и пылинки вещества. Как низки, как можно дотронуться пальцем до этих звезд, какие наивные кораблики! Но это - последние крошки и обрезки материала, не пошедшего в дело и забытого на рабочем столе; сор и стружки мира, они еще сильнее подчеркивают пустоту.
И эта пустота двоится у вас перед глазами. Вот мир дан, как малая посудинка. Круг, перенесенный в пространство, осязаемый круг в его предметном значении утомителен для глаза: он заставляет взгляд кружиться бесцельно и возвращаться все к той же точке. Недаром круг для нас был до сих пор символом мировой чепухи, житей-
342
Наступление, 1919, бум., тушь, белила, 42,5 х 34,5
ского коловорота, эмблемой бессмысленного вращения и томления Духа.
Не то круг на плоскости: здесь раскрывается чистая поэзия кривой линии. И эта пустота уже больше не кажется вам бедностью и теснотой. Вы чувствуете, что в ней замкнута бесконечность вселенной, тесный лист раздвигается, открывается внутрь, вглубь — и вы видите, что в нем вмещены громадные пространства, неисчислимые пути планет и солнца. И уже не суетой сует, не праздным и томительным маревом встает видение мира с этой страницы, но все немыслимое величие вселенной, голое величие мира, обнаженное от всякой вещественности, от всех случайных образований и наростов, пылинок на поверхности мира, - звучит в рисунке с такой детской простотой, с такой наивной осязательностью: вот они для чего нужны художнику эти звезды, до которых можно дотронуться, и паруса, в которые хочется дунуть. Как детские кораблики на весенней лужице, как картонные звездочки, вырезанные ножницами - вот та свежесть непосредственной реальности, с которой взята здесь тема величия. Космическое дано в руки, как игрушечное»2.
Выготский, конечно же, уже и в 1926 г., не акцентирует стилевую и глубинную духовную принадлежность этого листа традициям еврейского искусства. Думается, что сегодня этот момент может быть открыто подчеркнут, ибо не только название и вязь еврейских букв, но орнаментальное построение всего листа в целом, небыва-
343
лость, невиданность чудища, закручивающего в себя весь мир, звезды, и, кроме того, строгое цветовое решение и контраст белого и черного - все это несомненные черты, роднящие этот лист с еврейским народным искусством, с самим стилем художественного мышления евреев.
В 1919-1922 гг. Александр Быховский занимает важное место в художественной жизни Гомеля: он возглавляет отдел Изо Нарком- проса, является инициатором создания и художественным руководителем школы-студии имени Врубеля и плакатной мастерской. В Гомеле Быховский общается с братьями Давидом и Львом Выготскими, с бывшим сектантом Ионой Брихничевым. Неуклонный поиск активности духовного воздействия искусства на человека, волновавшее и Иону Брихничева, и Л.С.Выготского, отличает плакаты Бы- ховского 1919 г. и начала 1920-х годов. Он реализуется через поиск движения формы, динамичность и конструктивность композиции. Самым выразительным плакатом Быховского гомельского периода является «Красный набат». Плакат выполнен в 1920 г. в технике линогравюры, в суровой гамме характерного для 1920-х двуцветия: красный - черный. Два основных изобразительных слоя (разных по светлоте) строят чрезвычайно динамичное пространство. Его устремленность вверх, по диагонали листа, восходящей слева направо, острый, как бы синкопирующий ритм создают общее настроение всепроникающего и всеохватывающего вихря революции. В этот единый поток космогонического революционного вихря вторгаются элементы иного порядка, координаты реальности - детали колокольни, колокол, веревка, человеческая фигура. Сохранение узнаваемых примет фигуративного образа обостряет экспрессию его форм, резкость сдвига, силу смещения. Пересечение двух мотивов, закрепленных композиционно пересечением двух разных потоков диагоналей, рождает экспрессивный образ. И, кажется, что этот звонарь не только выписывает-вызванивает слова: «На фронт, добровольцы!», но вызывает и направляет весь стремительный вихрь окружающего его пространства. Эта динамика и экспрессивность роднят Быховского с Кете Кольвиц, о которой он всегда говорил как о высочайшем художественном авторитете.
В этой связи уместно обратиться к суждениям о плакате в художественной критике 1920-х годов. В статье «Плакат на Западе», опубликованной в журнале «Печать и революция» Я.А. Тугендхольд пишет: «Новая, более современная эстетика плаката пришла из Германии 900-х годов. Правда, этой новой эстетике пришлось довольно долго высвобождаться из-под тяжеловесного груза германского символизма и натурализма»3. Анализируя политический плакат Германии, критик особо останавливается на экспрессионистском плакате: «...именно в политическом плакате экспрессионисты увидели ту отдушину, через которую им казалось возможным утвердить свое “абсолютное искусство” мистически и анархически настроенной
344
интеллигенции... Экспрессионисты ставили себе в большую заслугу создание нового “духовного плаката” в противовес отзвучавшему плакату торговому»4. «Содержательный и фигурный плакат экспрессионистов явился откровением страстного и взволнованного чувства. В этом смысле экспрессионистские плакаты - человеческие документы Германии незабываемых 1918-1919 годов»5. Все эти суждения Тугендхольда по поводу германского плаката 1918-1919 г. правомерны в отношении плакатов Быховского. Видимо, прав был Кандинский в ощущениях непосредственной близости двух первых своих родин: «Будто нас не отделяла от Германии годами непреодолимая стена, а мы вместе с нею искали выхода из лабиринта художественной запутанности»6. Близость эту подтверждает содержательно-этимологическая перекличка известных плакатов 1921 г. Кете Кольвиц «Помогите России», Д.С. Моора «Помоги» и плаката А. Быховского 1920 г. «Помогите раненому красноармейцу»7. Этот плакат, выполненный как черно-белая литография (но фиолетовыми чернилами), более чем какое-либо другое произведение Быховского отвечает отмеченному Е. Котовой в ее рецензии на книжку Выготского о Быховском «характеру супрематизма»8. Горизонтальный лист с отбитой понизу надписью, четко поделен диагональю, нисходящей от правого верхнего угла к нижнему, на верхний темный треугольник и нижний - белый. Изобразительный сюжет развивается по другой диагонали - белое изображение на темном треугольнике, переходя через границу на белое, становится темным. Динамика жесткой геометрической диагонали умножается пересечением диагональю фигуративного развития темы. Оба отмеченных плаката Быховского, как и ряд других, хранятся в Санкт-Петербурге в Музее политической культуры (бывший Музей революции).
К теме набата революции Быховский возвращается в 1922 г., создавая напряженный и сложный станковый графический лист с более широким по своей символичности содержанием. В «Синем набате» нет непосредственного призыва, здесь «рушатся миры», как скажет об этом листе Выготский9: «Космический смысл этой композиции ясен с первого взгляда. Что это не просто колоколенка и сельский набат, что здесь рушится твердь, рушатся миры, что в потрясающем усилии звонаря, тянущего за веревку, скрыты нечеловеческие усилия, - это ясно каждому. Между тем, с какой смелостью сохранена реальность бревен, лестницы, всей этой шаткой постройки. Но как величественно искажены пропорции! И в самых обобщенных, отвлеченных геометрических формах, которыми передана фигура звонаря, не уничтожена реальность. Но из нее взят экстракт - только нужное: героический упор ног, патетический размах рук. Это голое движение: все остальное неважно в этом человеке. И опять: бедное и узкое - помост и колокол - превращены в мировое и великое. Пафос революции передан в этой композиции во всей своей суровой силе; здесь сохранен и показан ее мировой масштаб; не ложно-клас¬
345
сические “эры слав”, но тот набат революции, который был, звучал действительно в синих мировых пространствах»10.
Так, экспрессионизм художника развивает философскую глубину, космические и апокалиптические интонации.
Глубочайшая гражданственность вдохновляет художника на создание политического плаката и в годы Великой Отечественной. В 1942 г. Александр Яковлевич выполняет чрезвычайно выразительный плакат «Смерть за смерть», ставший его патриотическим откликом на события в стране и в мире в плакате. Плакат «Кровь за кровь. Смерть за смерть» - один из выразительнейших плакатов военного времени. Его характеризует мощное движение главной фигуры бойца с поднятым штыком и гротескные образы врага, на которого направлен штык. Боец сильным движением попирает фашистскую свастику перед звериной мордой трусливо оскалившегося врага. А за героем-бойцом - народ. Он решен многопланно, строй за строем, шеренга за шеренгой за спиной бойца. Высоко в небе, в прорыве зловещей тучи мы видим маленькие светлые фигурки двух детей, олицетворяющих все самое светлое, за что сражаются бойцы и народ в целом. Художник остался верен формальным принципам 1920-х годов, излюбленной динамике перекрещивающихся диагоналей. Этим двум диагональным направлениям подчинено все строение плаката, пластическая моделировка земли и неба, главного героя и масс изображенных за ним людей. Главным, утверждающим диагональным направлением в плакате стало восходящее движение слева направо. Итак, Быховский с присущей ему страстью продолжает использовать экспрессивный формальный прием скрещения диагоналей и многократного ритмического усиления основной темы движения, строящего графическое пространство. «Политический плакат» - второй творческий цикл-жанр, который сам художник выделил, осмысляя в конце жизни свой творческий путь.
1920-е годы занимают ключевое место в творчестве художника не только потому, что в эти годы был создан наиболее выразительный ряд вещей (преимущественно графических), органически слитых с отечественной и мировой графикой начала века, но и потому, что в эти годы откристаллизовались видение художника и особенности его экспрессионистской поэтики, получили начало все основные эмоционально-жанровые линии его творчества - героико-романтическая, эпическая, лирическая, гротескно-сатирическая и, наконец, трагическая. Верность этому времени Быховский бескомпромиссно пронес через всю свою долгую жизнь.
В 1922 г. Быховский возвращается в Москву. В том же 1922 в еврейском театре-студии «Габима» Е.Б. Вахтангов ставит свой знаменитый экспрессионистский спектакль «Гадибук». В начале 1923 г. Быховский по приглашению своего друга артиста Д.Х. Варди и других «габимовцев» выставляет в помещении студии «Габима» свои работы. В архиве Быховского (у его дочери М.А. Быховской) хра¬
346
нится исторический документ - «Пригласительный билет на выставку работ А.Я. Быховского и доклад Д. Выготского о его творчестве. В помещении Академической государственной студии “Габима”. В пятницу 23-го февраля - начало в 8 час. веч. - После доклада обмен мнений...»11. В билете не указан год. Но уже 9 марта 1923 г. (вот он год!) «Известия» публикуют отклик Я. Тугендхольда на выставку Быховского в «Габиме». В отзыве о выставке Тугендхольд пишет, что у «художника Быховского есть чувство сатиры и вместе с тем ощущение героического», есть «стремление к широкому размаху и динамической композиции»12. Об этом свидетельствует и Выготский. Так о листе «Наступление» 1919 г. он пишет: «Главное торжество художника в том, как он сумел хаос, месиво людей и вещей превратить в единство движения»13. Выготский высоко ценил как формальные новации художника: его чувство пространства, конструктивность, остроту динамической композиции, - так и собственно философские и образные аспекты миросозерцания художника: «И там, где художник остается чистым лириком, как в ранних работах, и там, где он дает объективные и эпически уравновешенные черты и схемы вещей, он остается тем же зорким искателем тайного скелета вещей. Материя теряет свою материальность, мир - свою плоть, вещи - свою трехмерность: все развоплощается и разрешается в свою графическую сущность. В чистую мысль художника о вещи»14.
Выставка в театре-студии «Габима» в феврале 1923 г. и послужила основанием для книги Л.С. Выготского «А. Быховский. Графика», где наряду со многими другими работами опубликован эскиз жетона к сотому представлению «Гадибука» в 1923 г. Среди десятков сохранившихся работ А.Я. Быховского эскиза памятного жетона к сотому представлению «Гадибука» нет. Так что мы не знаем его размера. Но экспрессивность и символичность динамической композиции и в книжной репродукции - налицо. Налицо и острое, контрастное отношение светлого и темного, непосредственно связанное со сценографической драматургией «Гадибука». В орнаментальном горизонтальном фризе угадываются крупные еврейские буквы, каждая из которых сама по себе экспрессивный орнамент. Подобные фризы-надписи были на эскизах Альтмана к первому и третьему акту «Гадибука. В нижней четверти графического поля эскиза - перспективное изображение круга, мистического круга, который рисует вокруг Леи-невесты цадик, чтобы выгнать из нее Дибук - душу умершего возлюбленного. Таким образом, в эскизе присутствуют и черты сценографии третьего, заключительного акта. Правая рука с огромной кистью, перерезающая диагональю весь верхний квадрат композиции, поддержана движением второй руки, попадающей в лист лишь фрагментарно. Экстатический жест говорит о силе духа, силе любви героини и предваряет ее трагическую гибель, выход за мистический круг жизни. Огромная кисть в правом верхнем углу композиции - знак и след экспрессионизма вахтанговского спектак¬
347
ля, в котором критики отмечали особое разнообразие пластики жестов ладоней. Как габимовцам было близко творчество Быховского, так и Быховскому был близок еврейский театр, а главное, глубоко экспрессионистский спектакль «Гадибук», поставленный Вахтанговым. Это подтверждает правомерность постановки проблемы экспрессионизма в ее соотнесенности с русским авангардом 1910-1920-х годов.
В каталоге выставки Быховского в театре-студии «Габима» перечислены 35 работ. Большая часть их сохранилась в архиве художника. Среди них ряд блестящих гротескно-сатирических листов: «Гости у Никитиных» (с изображением автора), «Доклад о чуме», «Пальма Троцкого» и другие, которые, как мне представляется, были очень близки создателям «Гадибука». Если агитационная работа на Западном фронте, в Гомеле, как и сама творческая работа художника над плакатом органично вводит его в ряды отечественного художественного авангарда, на выставке в студии «Габима» стали очевидны еврейские корни его искусства, естественно соединяющиеся с мощным новаторским конструктивно-пластическим мышлением. Мирискус- нические реминисценции, явственно ощутимые в «Левиафане», а также в эскизах росписи ширм для еврейского кабаре, своим неистовым дионисийством помножаются на еврейские экспрессионистские гены и бунтарский характер личности художника. В эскизах афиши и жетона к 100-му представлению «Гадибука», в ряде листов книжного и журнального оформления еврейские орнаментально-шрифтовые мотивы органично сливаются с динамикой и конструктивностью стилистики отечественного авангарда. Таковы обложка сборника «Революционный театр» (№ 4), посвященного 10-й годовщине Еврейского театра и обложка нотной тетради «Руфь» композитора Л. Ямпольского, друга художника.
Исследователи еврейского искусства отмечают особый орнаментальный графический потенциал еврейского шрифта, его «геометрически простую форму, родственную ассиро-вавилонской клинописи»: «Еврейская буква сама по себе уже элемент графический, всюду сохраняющий свою характерность: геометрическую простоту, замкнутость, цельность и необычайную способность связываться с соседней, образуя цельную вязкую арабеску строки... Еврейская
348
буква в отдельности есть зачаток, из которого можно развить орнаментальный ковер...»15.
Действительно, декоративно-орнаментальная графическая композиция, посвященная десятилетию еврейского театра и ставшая обложкой юбилейного сборника, как будто развивается из букв, являющихся и самим строительным материалом конструкции-композиции листа и ее формообразующим, стилеформирующим началом. Две восходящие слева направо и две нисходящие диагонали строят сложное архитектоничное пространство графического листа, стилистически связанного, как с агитационным авангардом 1910-х, так и революционной сценографией 1920-х годов, графикой и архитектурой конструктивизма и рационализма. Мы угадываем в этом листе изображение некоей сценической конструкции: остро взлетающую полуарку портала, центральный круг сцены, нисходящие на зрителя ступени. В то же время основная восходящая диагональ полуарки, которую можно трактовать и как основной формообразующий мотив здания театра, развивается из симметричной формы первой буквы нижней строки, буквы, непосредственно примыкающей к оси всего листа и расположенной на самом его переднем плане, как драматургическая формообразующая завязка всей композиции, замковый камень сложного пространственного орнамента. Мощно и изысканно тонально-цветовое решение этого листа: контрасты больших масс темного и светлого, мерцание серебристо-серого, узорчатая вязь шрифта - светлого на темном, темного - на белом, а также серого, уступающего лидирующую композиционную роль темной восходящей диагонали полуарки.
Итак, проблемы графики Быховского развиваются - разрешаются в русле кардинальных проблем искусства XX в. Это отмечает и Выготский. Обращаясь к творческой биографии Льва Семеновича Выготского, мы обнаруживаем, что монографический очерк о Бы- ховском написан в момент подведения итогов исследований 1915-1922 гг. и создания фундаментального труда «Психология искусства», положившего начало психологическому направлению в отечественном искусствознании. А поскольку «Психология искусст-
349
ва» была издана лишь в 1965 г., в книге о Быховском впервые была опубликована концепция Выготского о катарсисе как существе эстетического воздействия искусства на человека - концепция, не утратившая своего значения и по прошествии XX в. Написанная по впечатлениям от выставки Быховского в студии «Габима», книга Выготского активно миросозерцательна, в том числе не в замалчивании, а в позитивном утверждении особых генетических черт еврейского искусства, проявление которых он находит у Быховского.
Суждения Выготского о графике Быховского оказались провидческими по отношению ко всему творчеству художника, пережившего своего ученого друга почти на полвека. Экспрессия духа художника, его постоянное беспокойство воплотились в динамических композициях разных произведений, разных видов искусства.
Графика занимает большое место в творчестве художника. Книга Выготского о Быховском погружает нас в проблемы графики, обсуждаемые в начале 1920-х. Явной параллелью представляю гея суждения А.А. Сидорова в статье «Графика и искусство книги». Сидоров констатирует в ней в 1920-е годы «изменения самого стиля, равного которому нет в живописи или скульптуре». «Мы выразили бы это изменение одним достаточно неопределенным термином, употреблявшимся часто и чаще неправильно - почти роковым словом “экспрессионизм”»16. Раскрывая и конкретизируя этот термин, он обращается к творчеству В.А. Фаворского: «Его линия живет сама по себе, не как изобразительный, а как собственно выразительный элемент. Это и есть “экспрессионизм”»17. Знаток графики, Сидоров не прошел ни мимо выставки Быховского, ни мимо книги Выготского: текст его статьи, опубликованной в конце 1927 г., обнаруживает влияние текста Выготского о графике Быховского, опубликованного в 1926 г. Понятие «экспрессионизм» в суждении Сидорова безусловно связано с немецким экспрессионизмом начала XX в., имевшем отзвук в русских умах и собственно в творческой практике 1917-1923 гг.
Это подтверждается восприятием и переживанием в русской художественной жизни выставки немецкого искусства в Москве в 1924 г. В обзоре «Современная немецкая гравюра и литография на выставке германского искусства в Москве» К. Кравченко писала: «Нам, за годы революции столь успешно и широко культивирующим графическое искусство, и среди них особенно граверное мастерство, увидеть немецкую современную гравюру было не только интересно, но существенно необходимо: для сравнительной оценки, для проверки своих собственных сил, для установки европейской линии граверного развития»18. Критик особо выделяет одного из ведущих мастеров графического экспрессионизма Кете Кольвиц: «Ее ксилографии есть вообще самый замечательный факт граверного oevra настоящей выставки»19. Недаром Быховский всю жизнь выделял искусство Кете Кольвиц, ощущал свою сущностную близость к нему.
350
Романтический склад личности Быховского был неотъемлемо связан с пафосом отрицания, с сатирическим, остро критическим экспрессивным переживанием действительности, отмеченным Ту- гендхольдом в его рецензии в «Известиях» на выставку в студии «Га- бима». Цикл «Сатира», выделенный самим художником, включает большую серию листов 1910- 1920-х годов, рисованные листы к кинокартине А.А. Генделыптейна «Любовь и ненависть», эскизы кукол для Омского кукольного театра, а также скульптурную керамическую композицию «Квартет». Элементы экспрессивного сатирического гротеска присущи многим его вещам, в том числе эпического и героико-романтического звучания. Явный момент гротеска в листе «Книжный знак Вольпина» - оскаленная голова не то собаки, не то жабы в нижнем правом углу листа. Этот зооморфный образ, органически связанный с еврейским искусством и характерный для искусства экспрессионистов, Быховский принесет и в скульптурный рельеф «Питирим». Место чудища-головы изменится, ее пластический характер тоже, однако присутствие этой фантастической детали обострит и углубит эпичность ведущего образа, сделает его поли- фоничным.
Особо отмечу тот факт, что героем ряда сатирических листов Быховского первых послереволюционных лет является Л.Д. Троцкий («Доклад о чуме», «Пальма Троцкого»). Это свидетельствует не только о социальной и гражданственной активности художника, но и о том, что он разделил внимание к этой фигуре с Л.С. Выготским. «Троцкий, выстраивая свои политические приоритеты как иерархию сознательно свершаемой истории, плавно переходил от политики через экономику к психологии»20. Его тексты обнаруживают понимание психологии как цели, вершины и смысла революции. Эти идеи Троцкого цитировал Выготский в своей «Педагогической психологии» 1926 г., т.е. именно в год создания монографического очерка о Быховском. Вслед за Троцким Выготский писал, что «революция предпринимает перевоспитание всего человечества»21. Экспрессия графики Быховского предполагала активное суггестивное воздействие.
Очень важный для Быховского 1926 год - год выхода книги рисунков со статьей Л.С. Выготского, отмечен еще одной книгой, на сей раз киносценарием И.Э. Бабеля «Блуждающие звезды» по роману Шолом-Алейхема с рисунками А. Быховского. Это было первое иллюстрированное издание Бабеля. Киносценарий предваряло предисловие Бабеля, из которого следовало, что 1-я Госкинофабрика заказала писателю сценарий по роману Шолом-Алейхема. А поскольку Бабель считал, что роман пропитан мещанством, он его переработал по-своему.
Быховский сделал оформление обложки и ряд иллюстраций. На обложке изображена крупная арка-ниша, верхнюю часть которой занимает черное изображение ночного неба с яркой звездой в зени¬
351
те и поднимающиеся и симметрично спускающиеся буквы слова «блуждающие». Светлые буквы действительно блуждают по темному небу. Центральную часть пространства арки занимает светлый треугольник, где крупным тонким черным шрифтом поставлено имя писателя и очень мелко - жанр произведения: киносценарий. Именно вдоль этого треугольника поднимаются и спускаются буквы первого слова названия произведения - БЛУЖДАЮЩИЕ. Второе слово помещено на светлом фоне ниже центрального треугольника, оно написано такими же квадратно-рублеными буквами черным. Под словом «звезды» - черный стол или аналой, чья светлая плоскость завершается понизу треугольными зигзагами, явно изображающими вырезанную бумажную салфетку. Над зигзагообразным краем-обрезом, как тонкая вышивка под чертой мережки: «РИСУНКИ А. БЫХОВСКОГО». Ниже тонкой черной рамки, окаймляющей всю арку, - четкая черная надпись: «КИНОПЕЧАТЬ 1926 г. МОСКВА»
Из всех рисунков к книге Бабеля Быховский предпочитал два: «Фаэтон» и еще один с изображением молодой женщины в черном платье и узорчатой шали, в динамичном порыве выхватившей у мужчины книгу и бутылку. Этот лист, как всегда, очень конструктивен. Левую треть его занимает темный прямоугольник, условно изображающий стену дома. Лаконично обозначен вход в дом - три ступени и белые перила. Земля перед домом - тоже черный четырехугольник с врезающимися в него белыми ступенями. Две контрастно темные плоскости обрамляют главное изобразительное пространство иллюстрации, где разворачивается драматическое событие. Чтобы конструктивно укрепить и уравновесить этот более легкий прямоугольник - как окно в дом - художник вводит в изображаемый интерьер темную вертикаль стены или столба в правом верхнем углу. Светлый пол изображенного интерьера корреспондируется со светлой спинкой кровати и светлой же фигурой лежащего на ней мужчины, выразительным жестом руки прикрывающего лицо или останавливающего стремящуюся к нему женщину. В правом нижнем углу на черном фоне характерная монограмма Быховского «А.Б.» (этой монограммой подписаны все плакаты художника). По отношению к крупным пятнам черного пластика женской фигуры говорит о ее хрупкости и нервозности и об определенной ситуации ссоры.
Второй рисунок, названный самим художником «Фаэтон», представляет этот старый вид городского транспорта, видимо широко использующегося в дореволюционной Одессе, сидящего на козлах и жестко погоняющего лошадь возчика и молодого мужчину за спиной возчика, тревожно оборачивающегося назад, видимо опасаясь погони. Из-под нависшей крыши фаэтона проступает тонкий профиль сидящей в фаэтоне фигуры. Рука стоящего за возчиком мужчины судорожно вцепилась в кузов фаэтона. Художник использовал в этом рисунке излюбленное диагональное построение. Фаэтон и
352
Э.-Л. Кирхнер. Русская, 1913-1920, х., м
М. Ларионов. Автопортрет, 1910, 104 х 89, Париж, Центр Ж. Помпиду
Н. Сапунов. Карусель. Эскиз, ок. 1908, бум., темп., ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
Ж. Руо. Клоун, 1907, акв., 60 х 47, Гарвардский университет
В. Кандинский. Композиция на желтом, 1920, х., м., Ташкент, Гос. музей искусств Узбекистана
СО
S >5
* 2
S ^ n K
О J ° «
aS>S
<D - i « t
° ^ 2 й u cq X 2 DC s U
к * s Л ► я г *
СО 5 Q*
м £ о
S ^O’S
«8 §
oci £ 2 д
ч L
Й2
53 - *5
з •л л Ы ~ О* ^ os U
. QQ ¥ * СО ^
0Q С VD
ON
ON
«
О
ed
PQ
П
>3
3
з
§ S
Q Г
^ s
s
>4
vo
. >4
о «
(N S ON C
^ S
ж ©
S c
. о >3 Я"
з ..
s X
3 я з a
H§ r
^ CP
QQ oo
m
(N
ON
МЧ • ,
S £
о ^ с г
j*
a
vo
о
та rj
* В
со cd <u гг (jQ
OQ
2
• >*,
OQ vo
П. Филонов. Без названия (Пейзаж с двумя зверями), нам. 1910-х, 7,3 х 15,2, бум., граф. кар. ГРМ
П. Филонов. Без названия (Три фигуры), 1912-1913, бум., акв., граф, кар., 3,8 х 7,3, ГРМ
П. Филонов.
Без названия (Рабочие), 1920-е, бум., цв. кар., граф, кар., 26,8 х 24,5, ГРМ
П. Филонов. Казнь (после 1905 года),
1913, бум., черн., кисть, перо, кар. граф.
11,6 х 13,4, ГРМ
П. Филонов. Казнь. 1912, бум., акв., 35 х 32, ГТГ
П. Филонов. Казнь, 1920, 1921, бум., тушь, акв., 44 х 60, ГРМ
П. Филонов. Композиция. Корабли, 1913-1915, х., м., 117 х 156, фрагмент, ГТГ
М. Верёвкина. В кафе, ок. 1909, карт., кар., гуашь, паст., воск, кар., 54 х 74, Аскона, Фонд М. Верёвкиной
М. Верёвкина. Возвращение, 1912, карт., темп., 54 х 74, Аскона, Фонд М. Верёвкиной
Г. Мюнтер. Мужчина за столом. (В. Кандинский), 1909, карт., м., 49,7 х 66,2, Мюнхен, Ленбаххауз
Г. Мюнтер. Слушание. (Портрет Алексея Явленского), 1909, карт., м., 49,7 х 66,2, Мюнхен, Ленбаххауз
С. Романович. Дневная вакханалия
М. Синякова. Война, 1910-е, бум., акв.
М. Синякова. Композиция, 1910-е, бум., акв.
К. Малевич. Натюрморт, 1910, акв., гуашь, бум.,
М. Синякова. Карусель, 1916, бум., акв.
К. Малевич. Автопортрет, 1908-1909, акв., гуашь, бум., 46,2x41,3, ГРМ
К. Малевич. Купальщик, 1911, гуашь, бум., Амстердам, Стеделийк Музе ум
Неизвестный художник. Супрематическая композиция, 2-я пол. XX в., част. собр.
сидящие в нем изображены в диагональной полосе от правого верхнего угла к левому нижнему. Эта главная полоса направления движения фаэтона одновременно делит весь почти квадратный лист на светлый левый верхний треугольник и темный - правый нижний. Изображенное светлое пространство, по-видимому, море, лиман, на горизонте виднеются дальние берега, заливы, домики на берегу, лодки.
Быховский очень любил Бабеля, часто его читал, гордился, что был первым иллюстратором писателя. И в 1920-е годы, и позже он делал много книжных и журнальных обложек, заставок и концовок. Все они были очень конструктивны, динамичны, декоративны, многие сохранили безусловную связь с еврейским фольклором и орнаментальным еврейским алфавитом.
В следующем, 1927 г., Быховский участвует в Международной выставке искусства книги в Лейпциге. Каталог Международной выставки искусства книги в Лейпциге (IBA-1927) представляет, наряду с хорошо известными зарубежными мастерами - Францем Мазере- лем, Кете Кольвиц, Жаном Кокто, Раулем Дюфи, Морисом Утрилло, Морисом Вламинком, - многие дорогие нам имена отечественных художников: Н.И. Альтмана, Ю.П. Анненкова, Л.А. Бруни, А.Д. Гончарова, И.С. Ефимова, В.М. Конашевича, П.В. Кузнецова, Н.Н. Купреянова, Эль Лисицкого, П.В. Митурича, К.З. Петрова- Водкина, Ю.И. Пименова, Н.Я. Симонович-Ефимовой, А.Г. Тышле- ра, Н. Тырсы, В.А. Фаворского, Д. Штеренберга... Всего около 100 имен. Тринадцатым в каталоге значится: «Александр Быховский, художник книги, живет в Москве». Год рождения не был обозначен, в отличие от других художников. Мы его обозначим: 1888. Для сравнения: Мазерель и Альтман родились в 1889 г., Дюфи - в 1878, Фаворский - в 1886. Утрилло - в 1883 г.
Каталог этот я держала в руках еще при жизни Быховского (до 1978), когда готовила статью к его девяностолетию в ежегодник «Советская графика», так и не вышедшую (»Я такого художника не знаю», - авторитетно отрезал член редколлегии Д.С. Бисти, кстати, участник IBA-82). Сегодня каталога пока разыскать не удалось. Тем не менее, пора, думается, «снять с полки» имя этого художника - первого иллюстратора Бабеля, участника IBA-1927, пока живы еще немногие родные и друзья художника, берегущие память о нем.
Чем обернулись тяжелейшие для отечественной культуры 1930-е годы в творчестве А.Быховского? Главное новое, как мне представляется, было работой для кино: рисованные листы к кинофильму режиссера А. Гендельштейна «Любовь и ненависть» (1934). В этих листах экспрессионизм Быховского достигает своей кульминации. Художник был приглашен режиссером Гендельштейном, видевшим работы Быховского на выставке. Особенно понравился режиссеру эскиз углем 1918 г. (или «Паника»), изображающий массы людей, двигающихся в смятении и тревоге по спирали под нависшим над ни-
12. Русский авангард 353
ми зловещим чудищем (этот эскиз опубликован в книжке Выготского). Как вспоминает М.А. Быховская, этот лист открывал титры фильма.
Сохранилось восемь эскизов Быховского к фильму «Любовь и ненависть»: «Бабий бунт» или «Бунт», «Разговор шахтерок», «Лагерь» или «Каторга», «Звонарь» или «Контрреволюция на каланче», третье авторское название «Черный казачок», «Маршировка», «Чаепитие» или «Голодная пасха» в двух вариантах, «Во хмелю». Все они выполнены углем. Все их можно характеризовать как экспрессионистские, с моментами гротеска, порой совершенно трагические по своей трактовке. Так, «Чаепитие» - это сборище страшных в своей отвратительности типов. Почти гоголевских. Сверху возглавляет этот перспективный ряд оскалившихся рож круглое, улыбкою скалящееся лицо в форменном картузе - красноармеец или гепеуш- ник (А.Я. всегда говорил: ГПУ). Еще одна примета времени - фрагмент круглого рупора громкоговорителя, а, может, и граммофона. Из-за дальней стороны стола высовываются четыре лишь слегка намеченные рожи, правая - напоминает одного из классиков марксизма. На столе самовар и вазочка с кусковым сахаром. Другой вариант этого сюжета сохраняет диагонально вздымающийся вверх, как в «Гадибуке», стол, но самовар и сахар со стола исчезают. Пять рож сидящих за столом еще больше дифференцируются: освещаются лишь три из них, через одного, а затененные воспринимаются уже почти звериными. Кстати первый из затененных персонажей по своему профилю напоминает Горького. Вместо рупора громкоговорителя или граммофона в этом эскизе изображен большой декоративный цветок подсолнуха. Головы на заднем плане исчезли, там, в темноте чуть светится самовар. Зато справа от фигуры самого первого плана появилась еле намеченная фигура с блинообразной рожей. Несколько изменились и персонажи. На груди у фигуры первого плана появилась медаль на полосатой плашке-ленточке. Самый дальний персонаж перестал быть похожим на уверенного улыбающегося человека в форменной фуражке и наполнился страхом. Фигура усатого-бородатого с медалью - на первом плане - приобрела зловещий характер. Да, все это типы абсолютно маргинальные, просто ублюдки.
Еще более зловещий лист «Маршировка». Нисходящая слева направо диагональ очерчивает шеренгу шагающих... сапог. Людей нет. Они остались за пределом кадра. Вполне кинематографически происходит кадрирование главного - тяжелых сапог, намеренно обезличенных отсутствием в кадре самих марширующих. Крупный план трех голов занимает нижнюю половину листа. Человек, изображенный в профиль, поет, держа в руках нотный листок. Орущий вправо от него одет в форменную фуражку. Его поднятая рука готова прихлопнуть впереди стоящего. Сзади этого грозного унтера в погонах - какая-то фигура. Слева эту группу первого плана завер-
354
тают два звероподобных мужских профиля. Земля круглится под топотом сапог, высокий горизонт обозначен лишь в правом углу и отмечен трехъярусной башней - не то Кремля, не то Казанского вокзала. Лист рождает тяжелейшее эмоциональное впечатление.
Подлинно экспрессионистский лист - «Бунт» или «Бабий бунт». Здесь снова излюбленное художником диагональное построение. Восходящая слева направо широкая диагональная полоса заключает целый ряд разнопланных и разномасштабных фигур. Темная в целом полоса контрастно граничит с освещенным пространством средней части листа. Второе темное пятно листа вырисовывает стоящую слева фигуру. Голова фигуры в лист не входит. На фоне этого темного пятна контрастно воспринимается освещенное лицо бабы на переднем плане. Это она возглавляет бунт, это за ней движутся ряды женщин. Мягкое сфумато делает этот лист очень пластичным. Свет прорывает угольную черноту листа в трех пятнах: на лице передней женщины, на освещенной ноге шагающей безголовой фигуры и справа от нее, в центре верхней части листа. За группой трех женщин на переднем плане происходит резкий масштабный переход, подчеркнутый свето-тонально: зловещая темная фигура в самой правой части листа и множество освещенных, еле намеченных голов за темным силуэтом третьей крупной фигуры, изображенной в профиль.
Самобытна композиция листа, имеющего разноречивые авторские названия: «Черный казачок» и «Контрреволюция на каланче». Лист горизонтальный. Изображена в причудливом ракурсе колокольня с рядами колоколов. Композиция остро динамична с восходящими слева направо диагоналями. Эти три параллельные косые линии очерчивают верхнее арочное пространство колокольни с раскаченными колоколами. Самый большой колокол кажется выскочившим из своего пространства внутри колокольни. Группу под этим огромным колоколом возглавляет оскалившаяся профильная фигура, по-видимому, казака в погонах и круглой папахе. За его плечом - страшная гротескная маска, затем фигура со спины. А затем опять использованный уже художником контрастный масштабный перепад - множество малых, едва намеченных фигур и лиц на фоне стен между арочных проемов. Самый внешне легкомысленный, даже веселый лист «Во хмелю» представляет пляшущего пьяненького мужичка с бутылкой в руке. Состояние хмеля, когда мир причудливо кружится, вращается, умножается, художник выразил геометрией излюбленной футуристами закручивающейся спирали, внутри которой движутся хороводы женщин. Играет баянистка, топчутся мужички и еще какие-то еле уловимые образы. В правой верхней части листа, в направлении которой и закручивается наша спираль, помещено изображение граммофона. Его открытый зев рупора - круг света, бросающего условный луч по диагонали листа из верхнего правого угла в нижний левый. И именно в этом лучащемся свете
12*
355
подпрыгивает, пританцовывая тот, что «во хмелю». Веселость этого листа, в общем, относительна. Пожалуй, только «во хмелю» можно было неприспособленцу пережить эти зловещие 1930-е.
Совершенно трагический лист - «Лагерь» или «Каторга» - представляет все мироздание как один большой лагерь, как бесконечную каторгу. Большую часть листа занимает темное изображение круто круглящейся земли. Неба нет совсем. Слева это изображение земного шара ограждает зловещий частокол с колючей проволокой и часовым с ружьем у ворот. В правом верхнем углу улавливаются какие-то туманные дали, люди, пасущие скот. В нижнем правом углу - группа женщин и детей, скорбно смотрящих в закрытые ворота лагеря. Этот лист по своей пластической трактовке наиболее близок листу «Бунт».
Известно, что режиссеру нравились листы, созданные А. Быхов- ским. Несмотря на это в титрах фильма имени художника нет. Может, это и спасло жизнь автора столь экспрессивно трагических обличительных листов.
Естественно, художник не оставляет занятий графикой. Среди сатирических листов этого времени особой остротой выделяется дружеский шарж на себя и своих друзей - «Экзотическая прогулка». Лист создан в начале 1930-х, во время работы для фильма «Любовь и ненависть». Друзья художника, литератор и композитор, и он сам изображены в фантастической ситуации завоевателей мира верхом на верблюде, гиене и козе.
Экзотичность прогулки дополняют остро выбранные детали: белый зонтик над фигурой композитора Ямпольского, птица - над головой его жены, бубен в руках и шакалья маска на голове кинокритика Гурвича и, наконец, копье, борода Черномора, нимб, нахлобученный на голову, и развевающийся плащ - у самого художника, оседлавшего гиену. Композиция листа обладает опять-таки явным диагональным характером, благодаря которому ощущается движение всей фантастической процессии слева направо. Диагонали основного движения, поддерживаемой кривизной тверди земли, противостоит целый ряд пересекающих ее конструктивных линий, проходящих через фигуру критика, голову верблюда, плащ и копье художника, гиену. Есть определенная аналогичность в пластическом начертании круто круглящейся земли в листе «Лагерь» или»Катор- га» и в этом сатирическом листе, названном художником «Экзотическая прогулка». Может, здесь тоже присутствует скрытая аналогия?
Еще два дружеских шаржа 1930 г.; «Чудесное видение отторгнутого поэта», сделанный предположительно на кинокритика Гурвича, его жену и Вс. Иванова, и «Дружеский шарж на Чернявского, Гор- функеля, Новикова, Юманова». Все эти листы говорят о том, что графика остается для художника самым близким, интимным жанром творчества, а сатирическое чувство художника и его экспрессивное начало не угасают и в тяжелейшие годы наступающего на культуру и искусство сапога сталинизма.
356
Во время Второй мировой войны Быховский с семьей оказывается в Омске. Художник очень ценил свои омские годы. Расширился диапазон пластической работы художника в разных видах и жанрах творчества. Главным становится выход в скульптуру, причем первой скульптурой в Омске стала скульптура ледяная. Два монументальных рельефа создает Быховский в Омске: «Партизаны в горах» и «Питирим». К первому рельефу он выполняет десятки эскизов углем, составляющих выразительнейшую пластическую сюиту, полную необычайной экспрессии. Несмотря на нашу более чем двадцатилетнюю дружбу, я не видела этих эскизов до выставки, организованной галереей «Московская палитра» в 1991 г. И это был потрясающий сюрприз. Настойчиво художник варьировал главные направления развития композиции, менял акценты и детали, добиваясь монументального эпического звучания сравнительно небольшой вещи.
Барельеф «Питирим», выполненный в Омске годом раньше, был развитием в скульптуре темы «Книжного знака В.И. Вольпина» 1925 г. Тема философа-книжника, а может, и летописца, впервые взволновала художника в годы гражданской войны. Теперь была другая война, отечественная, и опять перед художником встает проблема воплотить образ того, кто запишет народный эпос, отразит героическое и трагическое в судьбе страны и народа. Ведь и сам летописец - воин, главное его оружие - перо, но меч тут же, рядом. Монументальность эпического образа потребовала освобождения от излишней динамики и орнаментальной декоративности. В пространстве барельефа фигура летописца заняла более значительное место, чем в пространстве графического листа. Хотя общую форму чуть вытянутого по вертикали восьмиугольника художник перенес из произведения графического в произведение скульптурное. Композиция барельефа асимметричная. Фигура летописца - композиционное ядро ее - размещена в левой части от вертикальной оси симметрии. По высоте она равна одной трети высоты барельефа. Фигура изображена склонившейся над своими манускриптами. Под ногами старца - мифологическое невиданное животное с оскалившейся мордой - вполне в традициях еврейского искусства.
Питирим изображен в своем плотном интерьерном пространстве не то кельи, не то бревенчатой избы. Этот интерьер заключен в некий наличник на фоне гладкой стены. Проем в наличнике воспринимается, как окно в мир летописца. Гладкая стена, обрамляющая условный интерьер справа и сверху, служит и пластической цезурой между пластически насыщенным, монументальным эпическим пространством летописца и пластикой пейзажа, с его фрагментарными изобразительными мотивами, представляющими части великого целого природы. В левой верхней части рельефа угадывается корявое дерево, отмечающее первый план скалистого пейзажа с крепостными и какими-то иными сооружениями. Правую вертикаль рельефа
357
окаймляет высокое многоярусное цветущее дерево, может быть, акация. Какие-то невиданные светлые птицы реют в вышине над этим почти библейским ландшафтом, или стремительно летят вниз справа от многоярусного дерева. Под этим деревом, на границе пейзажа и интерьера художник поместил еще одну светлую скульптурную фигуру коренастого бородатого старичка. Она меньше по масштабу, по сравнению с главной фигурой, собраннее, пожалуй, и статичнее. Это странник, бредущий мимо со своим странническим посохом, видящий или слушающий гул истории. Поскольку мы знаем реальный факт гражданской войны с участием художника, послуживший началом работы над образом для графического листа «Книжный знак В.И. Вольпина», можно предположить в фигуре странника пластическое воплощение автора рельефа. Самый первый план общей композиции барельефа, ниже и левее фигуры странника, занимают еще две полуфигуры того же масштаба, образующие определенное основание и, одновременно, завершение, конечную точку спирального развития темы человека и народа во всей скульптурной композиции рельефа. За спиной светлой фигуры странника есть еще один зооморфный мотив - чудесная курочка-наседка с цыплятами.
Рельеф имеет сложную, но и сдержанную полихромную раскраску по гипсу. Главный контраст цветового решения - светлост- ный. Самыми светлыми в барельефе являются центральная фигура Питирима с маской чудовищного животного у его ног, фигура странника и композиционный мотив из двух полуфигур справа, на самом первом плане. Слева на том же уровне дана светлая, горизонтально распластанная фигурка не то человека, не то ящерки. Изображенный интерьер «Питирима» и окружающий пейзаж смоделированы в более темной гамме и контрастно воспринимаются на светлом фоне неба. Еще более светлые птицы невысоким рельефом мягко читаются на светлом небе. Барельеф «Питирим» экспонировался в 1947 г. на Сибирской межобластной выставке в Новосибирске. Приобретен в 1946 г. Омским художественным музеем.
Омский кукольный театр, где Быховский оформил два спектакля: «Ад и рай» - в 1942 году и «Мистер Пателен» - в 1945, - снова дал возможность реализовать, во-первых, присущее художнику смолоду чувство сатиры, отмеченное еще в 1923 г. Я. Тугендхольдом, и мастерство пространственного построения, в том числе в сказочночудесном плане. Эскиз сценографии «Вход в рай», сделанный пастелью, представляет чудесную лестницу восхождения, диагональю прорезающую весь эскиз. В эскизе декорации «Ада» художник снова поражает своей экспрессией. «Ад» представляет огромную открытую пасть какого-то чудища, не то кита, не то змия с лесом клыков-зубов и еле виднеющимся одним глазом. В открытой пасти - котел со страшным огненным варевом. Слева от котла - полуфигу- ра с поднятыми вилами, профилем напоминающая Пушкина, правда,
358
с трубкой во рту. В пасти еле виднеются крошки - человеческие существа. Думается, художник здесь переосмыслил своего «Левиафана» 1917 г. Огромна, во весь лист (или во всю сцену) арка открытой пасти этого чудища. Пластическая моделировка эскиза, как всегда, использует два диагональных направления: в пасти и перед ней - нисходящее, над пастью - восходящее. Естественно, что последнее едва присутствует в этом эскизе сцены ада.
Итак, экспрессионизм Александра Быховского, имеющий несомненные еврейские корни, проявившийся в живописи не без влияния М.А. Врубеля и в графике - под обаянием Кете Кольвиц, синтезировавший героико-романтические и гротескно-сатирические стороны дарования художника, привел его к созданию подлинно трагических образов.
1 Азиз ян ИЛ. Александр Быховский в «Габима» // Русский авангард 1910-1929-х годов и театр. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. С. 332-344; она же. «Внимание декоративному искусству»: прикладное отделение Госкурсов им. Н.К. Крупской // Амазонки авангарда. М.: Наука, 2001. С. 322-333.
2 Выготский JI.С. Графика А.Быховского. М., 1926. С. 7.
3 Тугендхольд Я. Плакат на Западе // Печать и революция. М., 1927, № 1.
С. 46.
4 Там же. С. 55.
5 Там же.
6 Кандинский В.В. К реформе художественной школы // Искусство, 1923, № 1. С. 400.
7 Опубл. в ст.: Захаренко Л.М. Революционный плакат (1919-1921 гг.) / Памятники истории и культуры Белоруссии, 1972, № 3. С. 54.
8 Котова Е. [Рец. на кн. ] Выготский Л.С. А. Быховский. Графика // Печать и революция. М., 1927, № 2. С. 219.
9 Выготский Л.С. Графика А. Быховского. С. 7.
ю Там же. С. 7-8.
11 Архив художника.
12 Тугендхольд Я. Выставка А.Я. Быховского. Известия, 1923, 9.III.
13 Выготский Л .С. Графика А. Быховского. С. 8.
14 Там же.
15 Аронсон Б. Современная еврейская графика. Берлин: Петрополис, 1924.
С. 47^18.
16 Сидоров А.А. Графика и искусство книги // Печать и революция. М., 1927, № 7. С. 208.
17 Там же.
18 Кравченко К. Современная немецкая гравюра и литография на выставке германского искусства в Москве // Гравюра и книга. М., 1925, № 1. С. 20.
19 Там же.
20 Там же. С. 309-310.
21 Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 1991. С. 368.
А.Н. Марочкина
ВЕРА ЕРМОЛАЕВА:
НОВЫЕ ФАКТЫ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ
Основные события жизни В.М. Ермолаевой известны благодаря исследованиям Е.Ф. Ковтуна1. В последнее время появилась возможность уточнить некоторые факты творческой биографии художницы. До сих пор загадкой оставались последние годы ее жизни. Известно, что в 1934 г. Ермолаева была арестована и сослана в район Караганды. Там она оказалась в одном лагере с В.В. Стерлиговым и П.И. Соколовым2. По свидетельству Стерлигова, Веру Михайловну с другими заключенными посадили^на баржу, отплывающую в Аральское море. Считалось, что Ермолаева погибла в лагере, и точная дата ее смерти неизвестна. В последнее время появилась возможность работать в архиве ФСБ. Несколько лет назад литератор С.Б. Ласкин, задумав роман о Ермолаевой, впервые обратился в этот архив. Часть документов следственных дел Ермолаевой и Гальперина Ласкин опубликовал в “Романе со странностями”, посвященном Ермолаевой3.
Художница была арестована 25.XII. 1934 г. Согласно справке, приложенной к следственному делу: «По имеющимся данным художником Ермолаевой Верой Михайловной быв.[шей] дворянкой, ранее связанной с меньшевиками, за последнее время делается попытка сорганизовать вокруг себя реакционные элементы из среды интеллигенции. У Ермолаевой на квартире происходят законспирированные сборища группы лиц, которых объединяет общность политических установок... Ермолаева В.М. у себя на квартире часто устраивает выставки-просмотры работ художников, связанных с ней (Стерлигов, Юдин и др(угие)) и их учеников. Просмотры закрытые, на кои не разделяющие взглядов Ермолаевой и Гальперина - не имеют доступа. Среди окружающих Ермолаева и Гальперин распространяют мнение, что искусство в СССР находится на ложном пути и постепенно отмирает»4. В тот же день были арестованы Стерлигов, Гальперин, Казанская. 27 декабря - Коган, Карташов, Батурин, Басманов, Емельянов, Карнович. В деле также фигурируют Юдин, Рождественский, Шмидт, Власов, Фикс. Ермолаевой вменялась в вину «антисоветская деятельность, выражающаяся в пропаганде анти-
360
советских идей и попытке сорганизовать вокруг себя антисоветски настроенную интеллигенцию»5. Дело группы художников вели следователи Тарновский и Федоров. Следствие длилось около двух месяцев. В деле есть документ - рукой Ермолаевой написано: «Об окончании дела мне объявлено 26 февраля 1935 года»6. 29.111 1935 г. В.И. Ермолаева была осуждена как социально опасный элемент и приговорена к трем годам лагерей7. Замечу, по процедуре ведения дела постановлению тройки НКВД предшествовало предварительное решение следователя8. Тарновский и Федоров предлагали заключение сроком не три, а пять лет9. Далее судьба Ермолаевой была неизвестна. По воспоминаниям Стерлигова, отсидев три года, Ермолаева получила добавочный срок. Документы архива ФСБ не давали возможности узнать дальнейшую судьбу художницы. Последний документ в материалах архивного дела датирован 3.1. 1937 г. На этот момент Ермолаева находилась в заключении в 1 отделении ИТЛ Караганды. Далее сведения о художнице обрываются. Оставалась возможность поиска новых фактов в Карагандинском архиве Управления ФСБ. По документам, присланным в ответ на наш запрос из Караганды, «Вера Михайловна Ермолаева отбывала наказание в Карагандинском ИТЛ, где работала в качестве художника. Вторично осуждена 20 сентября 1937 г. Заседанием Тройки УНКВД по статьям 58-10, 58-11 к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор приведен в исполнение 26 сентября 1937 года»10.
В следственном деле Ермолаевой есть автобиография11, из нее можно получить сведения о ее семье и раннем периоде жизни - о нем до сих пор было известно немного. В.М. Ермолаева родилась 2.XI. 1893 г. в селе Ключи Петровского уезда Саратовской губернии. Ее отец, Михаил Сергеевич Ермолаев, помещик, потомственный дворянин, в течение 12-ти лет был председателем земской уездной управы. Старший брат, Константин Михайлович, «революционер - профессионал - меньшевик, неоднократно репрессировался царским правительством за свою активную революционную деятельность»12. В 1912 г. он был арестован и сослан на Ермаковский рудник под Иркутском. Умер в 1919 г.
В семье придерживались либеральных традиций 80-х годов XIX в. Ермолаевы были дружны с Верой Фигнер. Помимо земской деятельности отец Веры Михайловны также являлся издателем петербургского либерального журнала «Жизнь». В 1902 г. журнал был закрыт, и семья была выслана за границу. Ермолаева училась в народной светской школе в Париже и в гимназии в Лозанне.
По воспоминаниям А.И. Егорьевой, у Веры Михайловны с детства были парализованы ноги после падения с лошади. В детстве Ермолаеву возили для лечения «в Тироль, в город Инсбрук, где было специальное лечебное заведение, но будучи очень подвижной девочкой, она не подчинялась многим требованиям и на всю жизнь осталась в протезах и ходила на костылях»13.
361
В 1904 г. Ермолаевы вернулись в Россию. Через год отец продал имение, и семья переехала жить в Петербург, где М.С. Ермолаев организовал кооперативное общество «Трудовой союз». Отец Веры Михайловны умер в 1911 г., оставив дочери приличный капитал.
Известно, что Ермолаева работала в Витебске и участвовала в группе УНОВИС14. В «Альманахе УНОВИС N° 1» художница поместила статью об изучении кубизма. Ее теоретические выкладки об элементах формы, о контрасте и оси живописной фактуры находились в едином ключе с теорией новейшего искусства, с кубизмом. Некоторые из идей Ермолаевой затем легли в основу научной работы ГИНХУКа, его сотрудником она являлась с 1923 по 1926 г.15
В архиве ГИНХУКа находятся неопубликованные еще документы, касающиеся работы Ермолаевой в Институте. Это заявление художницы: «Прошу предоставить мне право вести теоретическую и практическую работу при Институте в качестве научного сотрудника формального отдела»16. Оно датировано 13. X. 1923 г. и подписано Малевичем: «Приглашена мною по отделению ФТО. Научному сотруднику выдать надлежащее удостоверение»17. Свою работу в Институте Ермолаева определила следующим образом: «Веду работу в специальной лаборатории А Ф[ормально]-Т[еоретического] 0[тдела] по цвету и совместно с другими лабораториями по изучению пяти основных систем живописи»18. Среди принципов изучения нового искусства Ермолаева называет «понятие окрашенных полей - световых - цветовых - живописных; их свойства и различие их структур», «особенности световых полей различных художников и их систем», «исследование импрессионизма, сезаннизма, кубизма, футуризма».
По заданию Института художница неоднократно совершала научные командировки в Москву в Музей современной живописи для изучения произведений импрессионистов и постимпрессионистов.
Исследование современного искусства выразилось в чтении нескольких публичных докладов: «Система кубизма», «Предкубисти- ческие состояния в живописи Пикассо, Брака, Малевича», «Значение стадии геометризма в живописи», «Система живописи кубизма и сезаннизма», «Дерен в московских собраниях современной французской живописи».
Работа в ГИНХУКе укрепила живописный талант Веры Ермолаевой. Исследования по теории цветовых, световых и живописных явлений, разработка теории контраста и мн. др., - все это органично легло в русло более поздних живописных исканий художника.
После закрытия ГИНХУКа художница некоторое время (до 1927 г.) работала в Институте истории искусств. В этот период вокруг Ермолаевой формируется группа художников, в которую вошли Рождественский, Стерлигов, Юдин и Коган. У себя дома Ермолаева устраивала так называемые, «четверги» с обсуждением работ, орга¬
362
низацией небольших выставок. Вероятно, о них упоминает в 1928 г. в своем письме Б. Эндер. Он пишет: «Вера Михайловна, очень хочу знать подробнее, что делается на ваших собраниях. Впрочем, если бы вы могли мне прислать хотя бы протоколы, короткие, если они у вас ведутся, то я был бы уже очень обрадован». Из того же письма мы узнаем, что группа предполагала экспонировать обособленно свои работы на выставках. Эндер пишет: «Конечно, я выставляюсь с вами и согласен с выбранным вами сроком, но вот я смущен вашей припиской о том, что группа Малевича выставляется отдельно»19.
На вечере памяти Ермолаевой в 1972 г. Г.Д. Епифанов вспоминал, что Ермолаева в 1930-е годы работала на фабрике «Ленжет», для которой выполняла эскизы сюрпризных коробочек. Несколько эскизов для оберток мыла, конфетных коробочек работы Ермолаевой сохранились в одном из частных собраний Петербурга. Там же - справка фабрики «Ленжет» о работе, выполненной 13.XII. 1934 г., т.е. за несколько дней до ареста художницы20.
Творчество Веры Ермолаевой периода 1920-1930-х годов достаточно хорошо представлено в музейных и частных коллекциях. Практически не осталось ранних живописных произведений. Сохранился «Портрет неизвестной»21. В целом эта работа представляет живопись в духе Сезанна. Но в пластической и колористической разработке отдельных элементов композиции присутствуют элементы кубизма.
В коллекции ГРМ находится ряд учебных набросков, в формальном и пластическом решении которых тоже использованы принципы кубизма. Отдельные рисунки пластически и композиционно тяготеют к «Портрету неизвестной» и может быть даже являются подготовительными набросками к этой картине. Вероятно, эти произведения были выполнены в мастерской Бернштейна. Обучение Ермолаевой в этой студии - известный факт ее творческой биографии. Вера Михайловна попала в эту мастерскую в 1910 г. после окончания гимназии Оболенской. В автобиографии Н. Лапшина есть отрывок о студии Бернштейна. Своим ученикам преподаватель старался привить чувство цвета, как такового, безотносительно натуры, чувство объема, знание анатомии. «В живописи вместо натуры писали разными красками, выявляя объемы, какие-то груды овощей, никак не напоминающих натуру, - это было изучение форм и объемов. В рисунке отталкивались от анатомии, скелет стоял рядом с натурой и висели анатомические таблицы»22. Студия Бернштейна пользовалась большой популярностью у представителей левого искусства. Ле Дантю говорил, что «может научить только художник Бернштейн»23. Иногда на занятия приглашались известные художники (К.С. Петров-Водкин, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере). Она давали задания на определенную тему. Выполненные работы подвергались критическому анализу. Может быть, в этой мастерской в творчестве Ермолаевой впервые возникли чувство плоскости и объема, воз¬
363
можность уловить тончайшие взаимосвязи форм, все то, что впоследствии легло в основу ее неповторимого пластического языка.
В этой студии художница проучилась до 1914 г. В апреле она отправилась в Париж, чтобы продолжить свое художественное образование. Этот факт подтверждает поздравительная открытка Ермолаевой, адресованная Мстиславу и Елизавете Добужинским. Поздравление отправлено 25.IV. 1914 г. из Парижа24. Где и у кого училась начинающая художница неизвестно. Вскоре из-за начала 1-й мировой войны она вернулась в Петербург.
Как писал Ковтун, в 1910-е годы Ермолаева сблизилась с группой М.Ф. Ларионова. Художница интересовалась новыми направлениями в искусстве - кубизмом и футуризмом. Так, например, 7.IV. 1913 г. Ермолаева посетила лекцию Ильи Зданевича «Футуризм Маринетти» и отправила ему письмо, где задала вопросы о пластических принципах футуризма. Зданевич ответил большим подробным письмом25. Ермолаеву интересовало: «Дает ли футуризм достаточно средства для выражения знания предмета?»; «Должна ли работа футуристов давать эстетическое удовлетворение, или это только умственное достижение в новой форме?»; «Какую роль играют индивидуальные способности художника?»; «Нужно ли будущим футуристам наша классическая школа?»; «Какую роль играет живопись, к[а]к отношение цветовых плоскостей?»26 Ответы на эти вопросы Ермолаева пытается найти в полотнах Ж. Брака, П. Пикассо, А. Дерена, которые увлеченно изучает в то время.
В мастерской Бернштейна Вера Ермолаева познакомилась с М.А. Ле Дантю. Творческая дружба и сотрудничество с ним имело большое значение для творчества художницы. Этот факт ранее практически не отражался в научной литературе. Сохранилось несколько неопубликованных писем, которые Ермолаева написала Ле Дантю из Сибири, куда, начиная с 1912 г., она регулярно ездила к брату. В них художница сообщает о своих творческих планах, теоретических вопросах, оставшихся непонятными: «Сейчас у меня необыкновенная путаница в голове, это приводит меня в отчаяние, бедная моя голова совершенно отказывается думать, и напрасно я читаю Шопенгауэра и Канта, чтобы хоть немного пробудить в ней совесть, ничто не помогает! То, что зимой было ясно,... теперь превратилось в ряд путанных убеждений, нелепых и прочных... Пишу nature morte из фонаря, коробочки с кильками на тарелке и очищенного огурца, с длинной извилистой кожицей. Надо, чтобы коробочка была сделана синим, рыбы внутри тоже и тарелочка кружком, на всем этом прямая ножка фонаря - коричневым. Совсем, конечно, не так, но надо, чтобы было среднее между nature тойе’ами Дерена и тем, как я хочу. Потом тут есть отличное место в лесу, которое надо будет зарисовать и потом постараться написать черным, голубым и зеленым... Очень хотела бы видеть портрет Кат.[ерины] Ив.[ановны], а главное меня интересуют пластические вещи и вещи красками, писанные после
364
них... Это все так интересно и сложно, особенно плоскости в живописи, плоскости и рельефы...»27
Решение некоторых живописных задач подсказывает окружающая природа. Выросшая вдали от города, Ермолаева всегда тонко чувствовала природу - она была для нее источником вдохновения. Несмотря на свой физический недуг, Вера Михайловна много путешествовала. Из поездок по Баренцеву и Белому морям привозила серии удивительных гуашей. Как вспоминает А.В. Егорьева, в поездки Ермолаева редко брала с собой мольберт. Природу она писала по впечатлениям, запомненным и осмысленным.
В письме Ле Дантю Ермолаева рассказывает о поездке с братом по Енисею, давшей ей много для понимания живописи. «В нашей поездке по реке было и особенно, и страшно. Она-то и помогла мне распутаться в этом изводящем третьем измерении в картинах. Не знаю, к[а]к изъяснить Вам заключение, к кот.[орому] пришла, потому что первое понимание - всегда скрытое ощущение, и трудно его выразить словами. Больше всего была не понятна мне реальная углубленность картины, напр[имер], у Сезанна и у Джотто хотя бы. Но теперь мне ясно, что возможно всякое толкование рельефа в границах, допускаемых художественной волей. Так ли это? Вы, кажется, ставите границы и говорите, что картина должна быть близка к плоскости. Меня это приводит в совершенный тупик, и так жалко, что о многом не говорилось с Вами в городе»28.
Ермолаева высоко ценила творчество Ле Дантю. В 1917 г. она организовала у себя на квартире посмертную выставку его работ, на ней побывали Н.И. Альтман, Л.А. Бруни, Н.Н. Лунин, Н.А. Тырса29. По воспоминаниям Т.Б. Казанской в 1930-е годы в мастерской Ермолаевой висел большой портрет работы Ле Дантю30.
Сотрудничество Ермолаевой и Ле Дантю происходило также в рамках кружка «Бескровное убийство», его в 1915 г. создали Ле Дантю, Ермолаева, Турова, Лапшин, Янкин, Лешкова31. Группа не имела какой-либо программы, не выпускала манифестов. Основной формой ее деятельности была подготовка и выпуск журнала «Бескровное убийство». Бессменным редактором этого издания была Ольга Лешкова. Журнал печатался на гектографе с иллюстрациями Ермолаевой, Ле Дантю, Лапшина и Янкина. Своим внешним видом он напоминал футуристические сборники. Номера «Бескровного убийства» впускались нерегулярно, небольшим тиражом и распространялись в кругу друзей и знакомых. Совместно с Ле Дантю Ермолаева оформила знаменитый Албанский выпуск «Бескровного убийства», впоследствии вдохновивший Илью Зданевича на создание трагедии «Янко I». (Пьеса была поставлена в конце 1915 г. в студии Бернштейна с декорациями и костюмами Ле Дантю, Ермолаевой и Лапшина.) В марте 1916 г. появился Ассиро-Вавилонский выпуск «Бескровного убийства». Текст этого номера, сочиненный Лешковой, и три рисунка работы Ермолаевой представляют шуточную историю
365
о том, как чистая, светлая ассиро-вавилонская девушка [т.е. Ермолаева], всегда занимавшаяся только импрессионизмом, под словом кубизма понимавшая игру в кубики, а футуризм считавшая каким-то отверженным видом туристического спорта, вынудившем публику произносить его не иначе, как с приставкой фу «привлекла собой внимание Максима - злого ассирийского божества» [Ле Дантю]. «Приняв облик милого человека и доброжелательного и опытного советчика, Максим нашептывает юной художнице слова соблазна и гибели: “сделай сдвиг, разложи цвет, сделай разбелку, разжелтку, разсиньку, растяпку”». История заканчивается тем, что «упоенный достижениями своих стремлений, полный злой радости, Максим уже не скрывается под видом человека и, распустив свои зловещие крылья, победно парит над своей жертвой и ее деяниями,... а она пишет, пишет и пишет, и ничто не спасет ее. Все, все сдвинулось, разложилось, разфиолетилось и растяпалось»32.
Название «Бескровное убийство» вполне укладывается в общее русло игровой авангардной традиции. Рассуждая над тем, каким образом могло появиться такое довольно странное и претенциозное имя, М. Марцадури приводит слова Лешковой: «“Бескровное убийство” возникло из самых низких побуждений человеческого духа: нужно было кому-нибудь насолить, отомстить, кого-нибудь скомпрометировать, - что-нибудь придумывалось, иллюстрировалось, записывалось. События окружающего мира, разумеется, отражались так или иначе и на темах, и на трактовках разных явлений, но как правило все преувеличивалось, извращалось»33. Марцадури полагал, что «название “Бескровное убийство”, по всей вероятности, намекало на судьбу искусства, ставшего болтовней, сплетней, шуткой, игрой». «В этом журнале, почти неизвестном, предвосхищается та абсурдистская линия, которая в 1920-х годах расцветет в произведениях Вагинова и обэриутов»34.
Само название очень нравилось членам кружка. В письме к Ле Дантю Лешкова сообщает, что имя группы «такое экзотическое и ударное» понравилось Илье Зданевичу, «он весьма одобрил и собирается сделать его названием большого предприятия в области разных видов искусств»35.
Недавно обнаружился любопытный факт, добавляющий маленький, но небезынтересный штрих к портрету «Бескровного убийства». Возможно имя группы не было изобретено ее членами, а было заимствовано из криминальной хроники. В 1909 г. в Петербурге стало известно о скандальном преступлении, получившим название «бескровного убийства». Дочь генерал-майора Вера фон Вик в порыве ревности облила кислотой свою соперницу, Елизавету Рубахину. Через полгода суд оправдал преступницу. Дело получило широкий резонанс. В 1914 г. были изданы записки фон Вик, рассказывающие ужасную историю ее жизни36. Возможно это стало известно будущим «бескровным убийцам» и было взято как имя группы.
366
Такой принцип названия соответствовал позиции журнала - откликаться на самые незначительные, но курьезные события жизни.
Что касается самой Ермолаевой, то шуточное, игровое начало всего присутствовало в ее творчестве. Это и создание (совместно с Л. Юдиным) книжек-игрушек, когда читатель намеренно вовлекался в игровой процесс, это и любовь к кукольному или самодеятельному театру. Известно, что Ермолаева несколько раз обращалась к постановка такого рода. В конце 1920-1930-е годы, когда время шумных футуристических действ осталось далеко позади, художница выполняла костюмы, декорации, афиши для домашних спектаклей и маскарадов. По воспоминаниям А.В. Егорьевой, художница нарисовала афишу для детской постановки «Благоразумный мандарин», осуществленной на «Лемболовском лоне природы» Н.В. Фау- сек, артисткой театра Радлова. На шестнадцатилетие А.В. Егорьевой для костюмированного бала Ермолаева сделала ей костюм золотой рыбки. У Н.Е. Шведе, чья семья тоже дружила с художницей, сохранилась карнавальная маска, выполненная Ермолаевой для его отца - Е.Е. Шведе.
Имя Ермолаевой перестало быть абсолютно неведомым, но тем не менее, жизнь и творчество художницы еще остаются во многом легендой, основанной на догадках и предположениях. Мало осталось документальных свидетельств, многие произведения утеряны, из-за чего в творчестве и истории жизни Ермолаевой образуются пустоты. Ее жизнь была недолгой и трагически оборвалась. Тем не менее, эта короткая биография была насыщена интереснейшими событиями, многообразными творческими поисками, сотрудничеством со многими известными людьми. 1 111 Ковтун Е.Ф. Артель художников «Сегодня» // Детская литература, 1968. № 4. С. 44-45; Художник детской книги Вера Ермолаева // Детская литература, 1971, № 2. С. 33-37; Художник книги Вера Михайловна Ермолаева // Искусство книги. М., 1975, № 8. С. 34—42; Вера Ермолаева // Творчество, 1989, № 6. С. 24-26; Ковтун Е.Ф. Авангард, остановленный на бегу. Л., 1989; Ковтун Е.Ф., Повелихина А.В. Русская живописная вывеска и художники русского авангарда. Л., 1991; Русский авангард 1920-х-1930-х годов. СПб., Бурнемут, 1966.
2 Воспоминания Стерлигова о пребывании в Карлаге см.: Ковтун Е.Ф. Авангард, остановленный на бегу.
3 Ласкин С.Б. Роман со странностями // Звезда, 1997. № 11. С. 7-102.
4 Цитата по: Архив УФСБ по СПб. и области, арх. №48469. Д. 1. Л. 1. (Ласкин С.Б. Указ. соч. С. 36 (с купюрами)).
5 Там же. Л. 4 (Ласкин С.Б. Указ. соч. С. 37).
6 Там же. Л. 38.
7 Там же. Л. 43.
8 Там же. Л. 44.
9 Там же.
10 Там же, архивная справка № 10/56-48469 от 03.02.1999.
11 Там же. Л. 33-35 (Ласкин С.Б. Указ. соч. С. 42-43).
367
12 Там же. Л. 11 {Ласкин С.Б. Указ. соч. С. 37 (с купюрами)).
13 Цитата по: Егорьева А.И. Воспоминания. Рукопись. Л. 159. Архив А.В. Егорьевой. Опубл. с купюрами: Ласкин С.Б. Указ. соч. С. 54.
14 Есть предположение, что Ермолаеву в Витебск пригласил М.З. Шагал, который был с художницей в дружеских отношениях и бывал у нее в имении.
15 О ГИНХУКе см.: Дневник формально-теоретического отдела ГИНХУ- Ка / Публ., пред, и прим. Г.Л. Демосфеновой // Советское искусствознание, 1991. № 27. С. 472^487; Karassik /. Das Institut fur Kunstlierische Kultur. Matjushin und Leningrader avantgarde. Stuttgart; Munchen, 1991; Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. СПб., 1995; Мансуров и Петроградский авангард. СПб., 1995; Музей художественной культуры / Вст. ст. И.Н. Карасик. Каталог. СПб., ГРМ, 1998.
16 ЛГАЛИ. Ф. 244. Оп. 2. Ед. хр. 5. Л. 42.
17 Там же.
18 Там же. On. 1. Ед. хр. 51. Л. 212.
19 СР ГРМ. Ф. 205. Ед. хр. 70. Л. 3.
20 20 мая 1935 ЛЬ 558 Справка
Дана сия художнице Ермолаевой в том, что согласно постановления Художественного Совета при Издательстве (Протокол от 131X11 1934 г.) исполненный ею оригинал этикета к мылу “Прима-Вера" был одобрен и принят для фабрики “Ленжет", почему подлежит оплате.
Зав. ленпищепромиздата Андреев
21 1915. Собрание Иркутского художественного музея. См.: Иркутский художественный музей имени В.П. Сукачева. Живопись. Графика. Декоративноприкладное искусство. СПб., 1993, № 169. С. 254.
22 СР ГРМ. Ф. 144. Ед. хр. 452. Л. 39.
23 Там же.
24 СР ГРМ. Ф. 115. Ед. хр. 137. Л. 1.
25 СР ГРМ. Ф. 177. Ед. хр. 50. Л. 39 (об.М5.
26 Искусствознание, 1998. № 1. С. 596-597.
27 РГАЛИ. Ф. 792. On. 1. Ед. хр. 61. Л. 50-54.
28 Там же. Л. 58об.-60.
29 СР ГРМ. Ф. 144. Ед. хр. 452. Л. 44.
30 Опубл.: Ковтун Е.Ф. Авангард, остановленный на бегу.
31 О «Бескровном убийстве» см.: Гурьянова Н. Бескровное убийство. Искусство, 1989. № 10. С. 54—56; Русский литературный авангард: Материалы и исследования // Под ред. М. Марцадури, Д. Рицци и М. Евзлина. Тренто, 1995; Бернштейн Д. Один рисунок из альбома Л. Жевержеева //Терентьевский сборник. М., 1996. С. 35-52.
32 РГАЛИ. Ф. 794. On. 1. Ед. хр. 189. Л. 2об.-Зоб.
33 Русский литературный авангард. С. 23.
34 Там же.
35 Там же. С. 26.
36 В. фон Вик. Записки подсудимой. К процессу В. фон Вик. СПб., 1914; Степанов А.Н. Почему оправдали фон Вик? СПб., 1911; Руадзе В. Бескровное убийство: Психологический очерк к процессу фон Вик. СПб., 1913.
ЮЛ. Халтурин
О ТЕХНИКЕ ЖИВОПИСИ К.С. МАЛЕВИЧА:
ОТ ПРИМИТИВИЗМА К СУПРЕМАТИЗМУ
Памяти М П. Виктуриной
Предваряя эту статью, я хотел бы сказать, что большинство используемых здесь материалов - результат многолетней работы с коллекцией русского авангарда и, прежде всего, произведениями К.С. Малевича в Стеделийк Музеум в Амстердаме.
Собрание уникально не только по своему качеству, но, что самое главное - по полноте картины творчества художника. В определенном смысле - это автопортрет художника, созданный им сознательно, с целью дать представление о наиболее важных этапах своего пути. Вспомнив о надеждах, которые Малевич возлагал на свою большую выставку за рубежом и планы своей возможной эмиграции, можно с уверенностью полагать, что данная коллекция была отобрана им с особой тщательностью. Амстердамское собрание дает представление не только об эволюции стилистических интересов художника, но и весьма полно свидетельствует об изменениях его манеры, включая и технику живописи1.
Учитывая несколько настороженное отношение искусствознания к таким терминам, как техника и технология, я позволю себе кратко остановиться на том, что является предметом моей статьи. С одной стороны существует убеждение в том, что эти понятия связаны с ремесленной стороной искусства, а их исследование - с нетворческим, сухим знанием о пигментах, грунтах, рентгенографическим анализом, описанием видов мазка и реставрационных тонировок. Приходится сталкиваться и с трактовкой техники живописи как представлением о химическом составе красок исключительно, а анализ манеры художника, последовательности живописной работы, вопросы практики относятся к области искусствоведения. И то, и другое - крайности: трактовка термина буквально - как масляной, темперной и других техник или же - как некоего прикладного знания о ремесле художника.
Мне кажется, что имеет смысл воспринимать изучение техники и технологии живописи с точки зрения анализа художественной практики того или иного времени, а в этих рамках - процесса создания произведения искусства. Знание о пигментах, грунтах, системе
369
корпусного письма, лессировках и многом другом полезно настолько, насколько оно может быть интерпретировано исследователем в связи с особенностями постановки и решения художественной задачи. Иначе, за что часто и критикуют эти дисциплины искусствоведения, мы остаемся на уровне сухой констатации технологического материала. Ведь любое произведение искусства является материальным объектом, в котором все его части от качества холста и красок до движений кисти готовят задуманный автором эффект. Кроме того, расширяя трактовку термина «техника живописи» до представления о творческом процессе, мы помогаем сами себе, используя по возможности самые разные методы исследований2.
Обращаясь к описанию некоторых особенностей техники живописи Малевича, я не ставил перед собой задачи во всех подробностях анализировать изменения стилистики и изобразительного языка художника в рамках его движения к беспредметности. Мне показалось интересным на примере ряда произведений показать, как мастер на практике находил и совершенствовал свою манеру, от чего отказывался, а чему строго следовал, принимаясь за интересовавшую его тему.
Система живописной работы, сложившаяся у Малевича, достаточно стабильна и узнаваема в своих основных чертах. Ее формирование и развитие определялось скорее изменениями внутри нее самой - сначала интуитивным, а потом все более сознательным подбором художественных средств, наиболее подходящих для воплощения замысла. Устойчивость системы техники живописи не мешала художнику быть весьма разнообразным в стилистике, подбирая, варьируя, выдвигая на первый план те или иные средства из своего технического арсенала, зачастую весьма профессионально традиционного.
Очень часто собственные высказывания Малевича на этот счет весьма запутаны, если не противоречивы. Иногда на первое место в них выступает пафос обличения традиционной живописной системы, которую художник называет живописью, где сплетня стала искусством, а написанную тыкву «пытались втиснуть в душу как жемчужину»3. Часто Малевич более чем радикален, утверждая, что «живопись умерла». С другой стороны, понятно его стремление уйти от того искусства, которое слепо копирует действительность, и обратиться к собственно живописным элементам: цвету, форме, пространству, линии. Все это весьма наглядно проявляется в технике Малевича. Но самой интересной, на мой взгляд, особенностью «кухни» художника является прочная связь его изобразительного языка с традиционной практикой. Чтобы ни провозглашал Малевич, как и многие другие художники авангарда, беспредметное искусство он создавал проверенными живописными средствами. На этот счет есть замечательное свидетельство И.В. Клюна. Он вспоминает, что первые «свои супрематические картины Малевич называл
370
К. Малевич. Портрет члена семьи, 1904, Стеделийк Музеум
“Высшим реализмом”» и давал им вполне традиционные, содержательные названия, например, - «Мальчик в розовой рубашке»4. Вообще, каковы бы ни были художественные искания авангарда, важность техники живописи, владения своим профессиональным инструментарием подчеркивается многими художниками того времени: П.Н. Филоновым, П.П. Кончаловским, А.М. Родченко. Последний из них, зачастую соперник Малевича писал: «Ввиду долгой и упорной работы ... появилась “ЖИВОПИСНОСТЬ”, фактура поверхности, всякие просветы, лессировка, подкладка и т.д. Почему же этот случайный элемент возвели на такую высоту..? Очень просто, это профессиональный подход к живописи. Это есть сама суть живописи как таковой»5.
К анализу эволюции техники живописи матестера было бы логично приступить с рубежа 1900 и 1910-х годов, когда Малевич начинает формироваться как художник с самостоятельной творческой позицией, и одним из признаков его изобразительного языка стало обращение к экспрессивному примитивизму. Однако выбор этой отправной точки оправдан, так как проявление экспрессионистских элементов в творчестве Малевича было неслучайным и плодотворным. Несогласие с современной ему традиционной изобразительностью через влияние экспрессионизма, интерес к иконе, примитиву перешло из стадии отрицания в позитивную стадию созидания своего собственного изобразительного языка. В этом смысле экспрес¬
371
К. Малевич. Супремус № 50, об. холста
сионистская стилистика, в которой колебание и деформация формы чутко следует за внутренними ощущениями художника, целиком укладывалась в собственные интересы Малевича.
Творческий период, связанный с появлением элементов экспрессионизма, самим художником и его современниками, писавшими о его творчестве, интерпретируется не так часто. Упомянутый уже Иван Клюн весьма емко сформулировал для себя особенность стиля: «писал натуру подчеркнуто, сильно утрируя содержание и форму - получился экспрессионизм»6. Для Малевича такая манера отчасти связана с его «крестьянскими» и «пригородными» произведениями конца 1900 - начала 1910-х годов. Сам художник трактовал их как примитивизм, уточняя, что под этим он понимает «разложение, распыление собранного на отдельные элементы»7. В одном из своих воспоминаний художник уточняет, что именно толкало его от импрессионизма к примитивизму: «Все точки зрения на натуру и натурализм передвижников были опрокинуты тем, что иконописцы, достигшие большого мастерства техники, передавали содержание в антианатомической правде, без перспективы линейной и воздушной... на чисто эмоциональном восприятии темы. Писали вне всяких правил, утвержденных классикой...»8. Поэтому очевидно, что, хотя Малевич и отводил кубизму центральное место в становлении своего изобразительного языка и переходу к высшим своим достижениям, в действительности его примитивизм не менее важен и естественным образом был включен в этот процесс.
Выбрав в качестве исходной точки произведения Малевича начала 1910-х годов, было бы неправильным совершенно оставить без внимания его раннее импрессионистское творчество, где уже заметны совершенно явственные черты, которые позже определят тягу художника к мышлению категориями отдельно взятой плоскости, жесткой формообразующей конструкции.
В коллекции Стеделийк Музеума находится «Портрет члена семьи»9, датируемый началом 1900-х годов. Пристальное изучение процесса создания этой работы позволяет сделать вывод, что, если по стилистике она вписывается в рамки импрессионизма, то в
372
техническом отношении уходит дальше. Собственно Малевич взял от импрессионизма стержень изобразительного метода: погружение предмета в среду разложенного на спектральные составляющие, мерцающего цвета. Импрессионизм переменил роль мазка - сделав его главными формо- и фактурообразующим элементом. Как говорил М.В. Матюшин, импрессионизм «видел изысканную поверхность, но не сам предмет»10. Малевич переходит на новую ступень - он приближается к тому, чтобы оперировать плоскостью. Детальное изучение последовательности построения живописи показывает, что происходит это следующим образом. Вся композиция в начале работы была размечена художником в рисунке на ряд условных плоскостей, которые образуют весьма жесткую конструкцию. Исследование с помощью микроскопа позволяет увидеть и следы карандашного, и кистевого рисунков. Вполне возможно, что ряд линий, как окружности, намечался Малевичем даже плакатным пером. Очень важно, что этот каркас - не только и не просто традиционный этап живописной работы, он становится основой всего изображения. Фигура, стол, его ножки, контур деревьев и т.д. - все трактуется как самодостаточные и в какой-то степени изолированные друг от друга элементы. Границы прорисованных участков сознательно акцентируются, усиливаются фактурными движениями кисти, мазок укладывается строго в пределах границ. Цвет также развивается в пределах плоскости. Причем цветовые соотношения строятся в основном контрастно - светлое к темному. По своему характеру эта конструкция напоминает витраж, где внутри жесткой оплетки каждая ячейка имеет свое самостоятельное значение, играя в то же время на целостность зрительного восприятия всего изображения. Например, в соответствии с заданным в рисунке делением изобразительной плоскости на части строятся их цвет и фактура. Светлые участки написаны в несколько слоев, с жидкой предварительной подготовкой. Их живописная фактура сложнее, корпуснее и напористее. Например, под розовой кофтой лежит слой белого, а под белой скатертью на столе - частично розовый. То, что отдано цветным теням - проработано более тонко, единожды.
Мазок кажется вполне «импрессионистичным» - раздельные, хорошо читаемые, фактурные движения кисти. Можно заметить, что Малевич даже выдавливал краску прямо из тюбика и слегка «приглаживал», формировал ее кистью. Вместе с тем, нельзя не обратить внимание, что система мазков сосредоточена на том, чтобы «держать» плоскость. В первую очередь обработаны границы каждого из элементов изображения. Мазок своим направлением, пас- тозностью, даже формой (длинный или короткий) всячески организует и выявляет объем. В этом произведении можно заметить и ряд характерных, очень индивидуальных приемов. При обработке границ, особенно между светлым и более темным - в качестве элемента, усиливающего контраст фактур, используются очень типичные
373
для Малевича движения (например, границы между коричневым и белым в изображении стола). Это мелкий мазочек, уложенный плотной штриховкой перпендикулярно контуру между живописными участками. Этот короткий, как бы отгоняющий краску уложенный в ряд мазок с резким отрывом кисти присутствует в произведениях художника вплоть до самых поздних. Но в кубофутуристических работах его роль усиливается, и он преобразуется иногда уже в штриховку-разделку поверхности плоскости.
Разбирая ход работы Малевича над этим произведением, находишь подтверждения весьма уверенному знанию художником традиционной живописной практики. Не вдаваясь в технические детали, можно сказать, что это - система многослойной живописи с подготовкой, четкого распределения фактуры живописи по пространственным планам и цветовым соотношениям. Движения кисти не произвольны и целиком соотносятся с формой, которую они моделируют, по своей протяженности, нажиму, корпусности мазка.
Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что авангардные произведения очень часто провоцируют наблюдателя, зрительно обманывают его кажущейся простотой своего технического решения. Это далеко не так. В частности, живопись Малевича, к какому бы периоду она не относилась, всегда сложна. На мой взгляд, о чем я скажу ниже, самыми интересными с этой точки зрения являются кубофутуристические произведения.
Еще несколько слов о «Портрете члена семьи». Исследование показывает, что произведение пережило два этапа своего создания. Первоначально картина выглядела несколько иначе: пейзажное окружение занимало больше места и было в большей степени насыщено цветными рефлексами, живопись была не столь фактурно плотной. Изучение красочного слоя показывает, что спустя много лет Малевич вернулся к картине и весьма активно перерабатывал фон, одежду и лицо модели. Тогда же художник заново подписал работу, поверх старого автографа (всего подписей три, учитывая, что сначала она поставлена вероятно карандашом). Это отдельная тема, но, скорее всего эти доработки были связаны с подготовкой к Берлинской выставке 1927 г. Вероятно, в то же время Малевич заново переназвал и надписал с оборота по-польски часть других своих работ,
К. Малевич.
«Баба с ведрами и ребенком». 1912, Стеделийк Музеум
374
которые должны были войти в состав его персональной экспозиции в Германии, а теперь составляют коллекцию Стеделийк Музеума11.
Безусловно, было бы неправильным видеть в «Портрете члена семьи» сформировавшиеся черты техники, свойственной Малевичу в его беспредметном творчестве. Это произведение написано в попытке освоить импрессионистский метод и в подражание ему, как художник понимал этот способ восприятия действительности. Но дело в том, что, видимо, уже тогда Малевич применял к свободе импрессионистского ала прима свое представление о конструкции форм. Здесь можно увидеть и своего рода парадокс. Пытаясь освободить свое сознание от предметного живописного видения, художник на деле выбирает всего лишь другую форму зависимости, более универсальную, но не менее от этого деспотичную в своих законах - реальность конструкции плоскостей в пространстве.
В этом процессе Малевич, естественно, следовал общим тенденциям времени. Его трактовка импрессионизма и последующие опыты перекликаются с тем, к чему на рубеже XIX и XX вв. призывал, например, даже не практикующий художник, а архитектор Август Энделл: «Художники многому научили нас, однако их основной задачей всегда был цвет и там, где они связаны с формой, они в основном ищут точности передачи предмета... Мы должны сосредоточиться на деталях, на форме кроны дерева, на том, как лист крепится к стеблю»12.
В работах экспрессивного примитивизма интерес Малевича к плоскости как к модулю изображения, формообразующему элементу усиливается и становится выразительной основой изобразительного языка. Одновременно усложняется и язык живописи - он насыщается деталями, приемами, последовательной неторопливостью процесса. Как и «Портрет члена семьи», хранящаяся в коллекции Стеделийка картина «Баба с ведрами и ребенком»13 изначально подробно разработана в рисунке - это вообще отличительная черта манеры Малевича. Этот рисунок уже вполне сознательно и открыто дробит форму на отдельные элементы. Как наглядный пример такого формообразования можно напомнить графический лист Малевича из архива Н.И. Харджиева. Это зарисовка на обороте листа «Голова крестьянина» 1912 г.14 Примечательно, что фигура крестьянина намечена карандашом в два приема. Сначала форма и разворот головы и плеч более узнаваемы, реалистичны. А затем художник повторно прорисовывает голову, буквально вдавливая ее в плечи, формализуя объем. То же самое происходит с руками - поверх первоначального абриса появляется почти прямоугольник. Вообще, следуя глазом за движением карандаша, видишь, что вся фигура рисуется отдельными формами, тяготеющими к определенной изолированности. Важно, что этот набросок - быстрая, практически на уровне интуитивного восприятия зарисовка, а не разработанная и продуманная работа. В этом смысле он наглядно и объективно демонстрирует принцип мышления Малевича. Этот же принцип транс-
375
К. Малевич. Оборот рисунка “Голова крестьянина”, 1912, архив Н. Харджиева, Стеделийк Музеум
формации формы используется в «Бабе с ведрами и ребенком». Однако ее «распыление и разложение» происходит только за счет отказа от анатомической схожести и повышения значимости каждого элемента формы, выделения его в отдельный предмет. По своему окончательному художественному эффекту форма гораздо более монолитна, определенна и имеет более надежную связь с окружающим пространством, нежели иные реалистически изображенные объекты. Так же и живописные средства, которыми пользуется Малевич - постепенно и продуманно создают, складывают, а не «распыляют» этот эффект. Ряд деталей композиции после рисунка проработан художником в условном подмалевке. Причем используется излюбленный ход Малевича: один цвет под другим. Так, коричневый под раз- бельно-зелеными дугами условных облаков делает их более плотными и позволяет этим участкам уравновесить интенсивную насыщенность синего, почти фиолетового неба. Далее варьируются различные приемы: корпусный мазок в местах светов, гладкие «плоские» заливки, многослойная живопись лица с почти сплавленной условной светотеневой моделировкой и т.д. Эта система могла бы считаться вполне привычной, если бы действительно была сосредоточена на выявлении анатомически правильных конструкций и световоздушной перспективы. Вместо этого, приемы техники живописи используются для передачи характеристик каждого отдельного элемента изображения - его цвета, фактуры, плотности, тональных
376
градаций. Все эти свойства одновременно должны дать представление об элементе и обеспечить его связь с остальными. Именно поэтому, например, вся работа мазком открыта и направлена вовнутрь плоскости, от ее границ, но с тем расчетом, чтобы каждый элемент был проработан в одинаковой степени подробно.
Отдельные приемы, которые вообще характерны для этого периода, иллюстрирует рентгенограмма с другой картины - «Жницы» из собрания Астраханского музея15. Перед этим мне кажется важным подчеркнуть, что процесс создания не только этих рассматриваемых ныне работ, но и вообще - всех произведений Малевича, категорически опровергает расхожее мнение о спонтанности и простоте изобразительного языка авангарда. К примеру, система мазка и в «Бабе с ведрами и ребенком», и в «Жнице» очень четко согласована по всем своим параметрам. Светлое - более корпусно, темное - тоньше. Лицо- мелким мазком, фон - более динамично (но не размашисто!). При использовании того или иного мазка учитываются цвет и фактура рядом лежащих плоскостей. Многие участки пишутся в несколько слоев, со сменой характера движения кисти.
Рентгенографическое изображение одного из центральных фрагментов композиции «Жницы»16 позволяет проследить за особенностями построения формы. Первое, что бросается в глаза, это четкость всей рентгенографической картины. Более того - все элементы выделены хорошо читаемым контуром, свободным от красочного слоя и отмечающего границы формообразующих плоскостей. Живописная работа строится исключительно в пределах этих границ. Кроме того, можно заметить, что отдельные участки изображения сильно нагружены белилами, отражая светотеневую моделировку. Важно, что эти условно переданные света вполне соответствуют предполагаемой реальной освещенности. В-третьих, рентгенограмма хорошо показывает, что изображение строится в несколько слоев, последовательно и аккуратно. Например, освещенные участки на кофте и головном уборе жницы проработаны дважды, а то и трижды, с постепенным увеличением корпусности живописи. В реальности эти детали одежды Малевич пишет практически в одном цвете - красный для головного убора и голубо-зеленый для кофты и юбки. Он варьирует плотность краски, насыщенность белилами, использует и пастозное письмо и лессировки. Рентгенограмма показывает, что движение кисти направлено преимущественно вовнутрь плоскостей, своеобразной последовательной штриховкой, с отступом от контура плоскости. Присутствует и излюбленный прием - работа мелким мазочком от и перпендикулярно границам отдельных сегментов.
В одной из приведенных выше цитат Малевич писал, что его привлекал принцип живописной работы вне «правил, утвержденных классикой». На самом деле манера, в которой выполнены работы этого периода, в ряде своих черт имеет прямые связи с академиче¬
377
ской техникой. Пусть формы и построены по антианатомическому принципу, но характер их моделировки мазком вполне конструктивен и последовательно выявляет такие их характеристики, как объем и цвет. Собственно классическая и в ее развитие академическая техники, если не брать в расчет их содержательную сторону, сформировали удачную, проверенную и технологически эффективную систему живописной работы. В этом смысле Малевич в своих произведениях многое черпает из традиции. Это проявляется и в строении технологической структуры его работ, начиная с выбора холста, использования рисунка и подмалевочных слоев, до применения завершающих лессировок. В той же мере это касается и приемов моделировки объемов, распределения цвета и света. Например, помимо передачи светотеневых эффектов, художник вполне традиционно для своего времени строит живопись лиц. Это хорошо видно и в первой из упомянутых картин, и по рентгенограмме «Жницы». Художник работает слоем жидкой краски, аккуратными касаниями моделирующего мазка. Причем на поверхности почти сплавленной живописи присутствует игра цветовых рефлексов, имитирующих светотеневую раскладку.
Стилистика творческого периода, в котором проявились и черты примитивизма, и экспрессионизма, и интерес к иконе, очевидно, весьма способствовала становлению техники Малевича и в том числе - его связи с традицией. В отличие от импрессионистских работ, где жесткая конструкция могла быть включена в живописную систему как основа, здесь речь идет о действительной деформации предметного мира. Это вполне соответствует интересу Малевича к плоскости как самостоятельному элементу и одновременно - части универсума. С другой стороны, плоскость как отдельный предмет должна обладать всем набором его характеристик и в этом случае многие приемы многосложной традиционной живописной практики были кстати.
Многое из того, что проявляется в манере Малевича в его примитивистских работах перейдет и в кубофутуризм, и в супрематизм. В равной степени это относится к двум принципиальным особенностям изобразительного языка. Постепенно плоскость преобразуется в главный формообразующий элемент конструкции. Все живописные средства сосредоточены на выявлении такой ее роли. Кроме того, техническая основа, «кухня» художника стабилизируется и тяготеет к проверенным методам. Малевич не склонен к импульсивным движениям, его техника продуманна и отличается, как и он сам по характеру, несколько тяжеловесной фундаментальностью. Интересно, что такое свойство изобразительного языка проявляется даже в нелюбви Малевича к «быстрой» сумбурной живописи. Редко художник пользуется и длинным экспрессивным мазком, предпочитая работать короткими четкими движениями. В этом смысле характер движения кисти художника вполне согласуется с его темпераментом.
378
К. Малевич. Жница, 1912, Астрахань, Картинная галерея им. Б.М. Кустодиева
К. Малевич. Жница, фрагмент рентгенограммы, Архив сектора экспертизы ГосНИИР
Я уже говорил, что кубофутуристические работы Малевича оказались неожиданно самыми интересными в смысле своего технического решения. Начиная работать с находящимся в Стеделийке «Гвардейцем»17, трудно было предполагать, сколь много умения было вложено Малевичем в создание этой картины. Внешне кубофуту- ризм иногда кажется «быстрой» живописью, иногда почти прозрачной - под некоторыми плоскостями «Гвардейца» просвечивает рисунок, - иногда почти импульсивной. Но это впечатление обманчиво. Свобода, в которой часто исполняются кубофутуристические произведения, происходит от уверенного владения приемом и сложившейся «кухни» художника. Подробно описать весь процесс соз¬
379
дания «Гвардейца» не позволяют рамки статьи, поэтому я остановлюсь на основных его моментах.
Прежде всего, окончательный отказ от анатомического подобия позволил, наконец, Малевичу полностью сконцентрироваться на конструировании свойств плоскости. Можно вспомнить, что в «Жнице» художник еще соблюдает правила реальной освещенности. Здесь же художник вправе сам определять глубину свойств объекта и с присущей ему фундаментальностью он делает это максимально подробно. Как всегда в работах Малевича, присутствует подготовительный рисунок. Судя по его характеру, вполне можно предположить, что уже в то время художник пользовался чертежными инструментами. Размеченные в рисунке плоскости имеют две основные стадии колористического решения. Красный и оранжевый заданы сразу. А вот остальное цветовое пространство решено своеобразными блоками. К примеру, нижнюю часть композиции занимает темно-зеленая жидкая подготовка, а уже поверх нее - вариации серого; в правой же части цветовая подкладка серо-голубого цвета и т.д. В такой последовательности художник использует вполне традиционный классический принцип - постепенное высветление темного. Функционально использование подготовок другого цвета тоже оправдано: изначально задается звучание, колористическое настроение композиционного участка, и постепенно оно доводится до его высшей, наиболее напряженной точки. В завершающих слоях этой задаче соответствует проработка фактуры плоскостей. Основной принцип сохраняется неизменным: светлые, интенсивно звучащие элементы - более корпусно и разнообразно по фактуре, живопись темных сегментов - тяготеет к гладкости.
Техника живописи, система мазка в этом произведении становится все более функциональной и адекватной художественной задаче. В кубофутуризме плоскость и ее членения становятся главенствующим элементом изобразительного языка и призваны вызывать лишь некоторые эмоциональные ассоциации с действительностью. Поэтому, например, технику живописной обработки этих плоскостей можно назвать центростремительной. Помимо видимого контура форма совершенно явственно прорабатывается мазками по границе. Все движения кисти направлены затем вовнутрь, где фактур- но и цветом намечен выразительный акцент. За счет многослойной и многоцветной живописи, системы завершающих раздельных мазков, четкого контура всех плоскостей, общего перепада плотности живописи от незакрытого краской холста до высоко корпусной живописи создается движение внутри композиции сразу в нескольких направлениях. Это, во-первых, общее движение всей конструкции в плоскости холста. Это и движение внутри каждой плоскости от границ к ее содержательному центру. Это, наконец, движение вверх или на зрителя, по принципу пирамидальности от плоской базы к острой вершине.
Исследователями творчества Малевича18 уже отмечалось, что в его кубофутуристических работах наиболее заметно влияние академической техники. Целиком соглашаясь с этим, я могу лишь заметить, что это следствие естественной связи художника с традиционной практикой своего времени. Действительно по полноте и многосложности использования возможностей художественных материалов манера исполнения «Гвардейца» напоминает классические образцы. Есть, правда, у этой работы и свои индивидуальные особенности. Пристальное изучение процесса создания произведения позволяет выдвинуть предположение, что Малевич не до конца закончил его. В завершающих красочных слоях, там, где положены наиболее корпусные мазки, заметно изменение темпа живописи. Мазок становится более импульсивным и нетерпеливым. Правая часть композиции особенно углы, по завершенности всего цикла построений и особенно по фактурной разработке значительно уступают остальному полю изображения. Тем не менее, по глубине и выразительности, по согласованности всех приемов данное произведение может по праву считаться одной из серьезных удач художника.
Заключительная часть моего обзора посвящена супрематическим произведениям Малевича. В свое время в статье М.П. Виктури- ной и А.Г. Лукановой19 были опубликованы чрезвычайно интересные результаты исследований «Черного квадрата», давшие представление о «начинке» этой картины. Из целого ряда супрематических работ в коллекции Стеделийка я выбрал «Супремус № 50» 1915 г.20 Должен сразу сказать, что в своих исследованиях мне пока не пришлось встретиться с подобными «Черному квадрату» зашифрованными знаками, однако процесс знакомства с живописью Малевича от этого не стал менее интересным.
В сопоставлении с кубофутуристическими работами манера художника кажется несколько упрощенной. Здесь не найти сложных перепадов фактуры, затейливой работы мазком, значительной мно- гослойности живописи. Вместо этого приходит функциональная четкость и ясность использованных приемов ради изображения плоскости как объекта и ее связи с условно воспринимаемой пространственной средой. В дальнейшем Малевич сделает еще один шаг вперед. Завоевав свое место, плоскость как элемент сама начнет растворяться. В работах цикла «белое на белом» она практически будет превращаться в поле, на котором свободно развивается цвет той или иной насыщенности и фактурной плотности.
»Супремус № 50» построен по несколько упрощенной схеме, если сравнивать его с предыдущими примерами. Отсутствует условный подмалевок, количество слоев проработки цвета на фигурах и пространства фона сокращено. Художественный эффект «держится» по сути на цветовом и пространственном размещении фигур и фактуре верхнего красочного слоя. Вместе с тем, последовательность работы Малевича в целом остается прежней. Все начинается
381
382
К. Малевич. Супремус № 50, 1915, Стеделийк Музеум
с подробного рисунка, в данном случае выполненного с помощью чертежных инструментов.
Рентгенографический снимок показывает, что первоначально композиция была несколько иной. В одном из углов находится ныне скрытая под белым фоном геометрическая фигура. Живопись начиналась с фона. Прописав его в первый раз, художник везде остановился у границ геометрических плоскостей. Далее, используя трафарет (вероятно, поставленную на ребро линейку), очерчивается граница каждой фигуры изнутри - красное, желтое, синее - и только потом в промежутки между фигурами вписывается черная ось. Любопытно, что вся эта последовательность может быть реконструирована достаточно точно, так как от использования трафарета, с чьей помощью разделялись фон и обрабатываемая граница фигур, каждый раз оставались мельчайшие частички краски предыдущего цвета. Последовательность живописной работы и особенности движения кисти, которыми прорабатывалась черная вертикальная ось, позволяет уточнить и формат картины. Насколько мне известно, в музее она традиционно экспонируется вниз головой. Тогда, как художник писал ее в положении, когда желтая большая трапеция была вверху.
Работа цветом и мазком в «Супремусе № 50» преследует две основные цели. За счет плотности и насыщенности цвета каждого геометрического элемента в сочетании с его величиной - подчеркнуть, выявить их динамическую связь. И второе - за счет плотности или прозрачности фона подать конструкцию как единый организм и задать ей определенный темп развития. Примечательно, что все композиции Малевича весьма динамичны, но это не хаотичное, не резкое, не импульсивное движение. Оно обладает чертами монолитности и уверенной поступательности. Исходя из этого, фон «Супремуса № 50», как и в других супрематических работах, не активен, не стремится отобрать у конструкции зрительное внимание. В данном случае мазки идут от границ фигур, последовательно заполняя поле вокруг них. Они в известной степени фактурны, но настолько, чтобы дать ощущение зримого пространства. В свою очередь, поверхность плоскостей использует после обводки границ разнообразные движения кисти. Это в основном свободные отштриховки, своим направлением подчеркивающие развитие элемента в длину или ширину и постепенно стягивающие краску к центру фигуры. Малевич не ограничивается однослойным нанесением живописных слоев. Совершенно определенно можно предполагать, что ради тональной глубины поверхность фигур дополнительно пролессирована. Точно также отдельные участки фона по подсохшей живописи еще раз прописаны жидко, тонким слоем краски. Этот прием встречается в супрематических работах неоднократно, причем очень вероятно, что Малевич применяет в таком случае иные белила, например, цинковые поверх свинцовых, играя на разности их оттенков. Система мазка у художника вообще разнообразна, но достаточно стабильна для работ
383
разного времени. Сформулировать основные приметы характерных движений можно так. Предпочтение отдается хорошо читаемому мазку с ровным нажимом и энергичным отрывом, скорее короткому, нежели длинному, имеющему часто волнообразный изгиб. Использование тех или иных сочетаний - штриховок, «змеек», рисующих, обводящих движений - всегда согласовано с ролью и свойствами живописного участка в целом.
Вся живописная система Малевича, будь она более насыщена деталями или лаконична, представляет собой отнюдь не спонтанный подбор приемов, случайного или небрежного технологического и технического выбора. Раз за разом в произведениях художника повторяются и строго соблюдаются определенные закономерности. Незнание или несоблюдение их даже в деталях дает в результате отличный художественный эффект, в лучшем случае обеспечивая внешнюю похожесть на подлинные работы Малевича. Как пример, я хотел бы упомянуть картину из одной частной западной коллекции, много лет рассматривавшуюся как вероятное оригинальное произведение. Сразу стоит отметить, что это пример имитации высокого качества, выполненной безусловно хорошим профессионалом, много и всерьез занимавшимся наблюдением над живописью Малевича. В частности, химический анализ подтвердил, что все красочные материалы традиционно использовались в то время. Эти результаты во многом и послужили основанием для причисления картины к творчеству художника и использовались как основное и неоспоримое доказательство подлинности произведения. Вместе с тем, как это бывает, когда применяется только один, пусть и вполне объективный метод, представление о работе в целом осталось далеко неполным. Определить статус произведения позволило исследование процесса старения картины и ряда отличий техники живописи от тех особенностей, что являются принципиальными для манеры Малевича. Первый, как оказалось, был сымитирован, и это заметно, к примеру по тому, как искусственные загрязнения, лежащие на белом фоне, заходят под живопись фигур21. Визуально все это производит впечатление действительно старой, «пожившей свое» красочной поверхности. Однако специальная техника и, прежде всего микроскоп позволяет распознать подобные приемы фальсификатора. Отличие приемов письма нагляднее всего проявляется в характере соотношения фона и геометрической плоскости. Живопись фона, как это видно на снимке с рентгенограммы, положена сразу по всей плоскости изображения, размашисто и бессистемно. На фон затем нанесли слой лака с грязью и пигментом, и только потом были написаны цветные плоскости. Даже если бы и не была допущена ошибка с имитацией старения живописи, здесь налицо прямое несоответствие пониманию Малевича принципиальной роли плоскости, ее свойствам и ее месту в пространстве.
384
Этот заключительный пример - лишнее подтверждение тому, что стилистическая похожесть, узнаваемость, которых при современных технологиях можно добиться весьма успешно, не должна успокаивать исследователя. Тщательный анализ техники живописи с привлечением всех возможных инструментов значительно расширяет рамки нашего представления о творчестве того или иного художника. В их ряду Малевич кажется нам уже известным, а его манера узнаваемой. Это опасное заблуждение. Мне кажется, что мы умеем видеть характерный мазок, колорит, даже фактуру, но пока недостаточно знаем о живописной системе в целом, с ее правилами, привычками и эволюцией. На мой взгляд, основной вывод, который позволяет сделать наблюдение над развитием техники живописи Малевича, состоит в следующем. Его манера в основных своих чертах сформировалась достаточно рано и эволюционировала по мере того, как Малевич все яснее формулировал для себя направления творческого поиска. В его случае это - не только трансформация предметного мира, но и последовательное максимальное выявление свойств, которыми обладает живопись. В направлении этого поиска Малевич не был уникален, более того многие современники кто с уважением, кто с осуждением считали его в большей степени ученым, чем живописцем. Однако именно поэтому, вероятно, художник отличался поразительной последовательностью, действуя на разных этапах своего творчества в основном проверенными методами, комбинируя их и - в чем и заключается его особый талант - чрезвычайно точно подбирая средства техники для воплощения замысла.
1 Автор этой статьи в течение многих лет имеет возможность работать над исследованием техники живописи и технологических особенностей произведений К.С. Малевича и ряда других мастеров из коллекции Стеделийк Музеум, Амстердам. Мою особую благодарность хотелось бы выразить сотрудникам Стеделийк Музеума - главе Департамента живописи и скульптуры Хёрту Иман- су, реставраторам Элизабет Брахт и Луизе Фийнберг. Их помощь и самое дружеское участие поистине неоценимы. Часть из проведенной работы была осуществлена благодаря финансовой поддержке РФФИ.
2 Я затрагиваю эту тему, так как до сих пор изучение техники и технологии живописи искусственно отделено от искусствоведческого знания. Так или иначе, эти вопросы включаются в понятие творческого метода или художественного процесса, хотя рамки этих широко употребляемых терминов так и не определены. В любом случае, использование методов технико-технологического анализа должно быть только комплексным и напрямую взаимодействовать с традиционным искусствоведческим инструментарием. В противном случае, как стало модным сейчас, это может привести к неоправданному смещению приоритетов в этой целостной системе. Отдельные методы, чрезвычайно полезные и важные сами по себе, в таких случаях вырываются из комплексного анализа и, особенно при решении вопросов подлинности произведений искусства эксплуатируются как единственно верный и достаточный способ приобрести объективное знание. Раньше такую роль играл «всевидящий глаз» знатока, ныне перекос происходит в сторону ряда современных «точных» методов, как например, химический анализ.
13. Русский авангард
385
3 Малевич К. Собр. соч.: В 5 т. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913-1929. М., 1995. Т. 1. С. 102.
4 Клюн И.В. Казимир Северинович Малевич. Воспоминания // Клюн И.В. Мой путь в искусстве: Воспоминания, статьи, дневники. М., 1999. С. 138.
5 Родченко А.М. Опыты для будущего. М., 1996. С. 95.
6 Клюн И.В. День за днем в искусстве // Клюн И.В. Указ. соч. С. 125.
7 Малевич К. Указ. соч. С. 125.
8 Малевич К. Отрывки из «Глав из автобиографии художника» (1933) // Казимир Малевич. 1878-1935. Каталог выставки. SMA., 1988-1989. С. 111.
9 Малевич К. «Портрет члена семьи», 1904, Стеделийк Музеум.
10 Matiushin М. An artist’s experience of a new dimension // Experiment\3Kcne- римент. A Journal of Russian Culture. Vol. 1. 1995. P. 226.
11 К. Малевич. Супремус № 50, оборот холста.
12 Endell Си. The Beauty of Form and Decorative Art // Art in theory 1900-1990. An anthology of Changings Ideas. Oxford. 2000. P. 63.
13 Малевич К. Баба с ведрами и ребенком, 1912, Стеделийк Музеум.
14 Kazimir Malevich. Drawings from the colection of the Khardzhiev-Chaga Foundation. SMA Kahiers. n.l 1.
15 Малевич К. Жница, 1912, картинная галерея им. Б.М. Кустодиева.
16 Малевич К. Жница - фрагмент рентгенограммы. Архив сектора экспертизы ГосНИИР.
17 Малевич К. «Гвардеец», 1914, Стеделийк Музеум.
18 Vikturina М., Lukanova A. A study of technique: 10 paintings by Kazimir Malevich in the Tretyakov Gallery // Kazimir Malevich (1878-1935). Catalog Washington; Los Angeles; New York; L., A., 1990. P. 187-198.
К сожалению, на сегодняшний день чрезвычайно мало материалов, посвященных или всерьез рассматривающих вопросы техники живописи Малевича (это касается и других художников авангарда). Речь идет не просто о публикации результатов отдельных исследований - химических, рентгенологических, реставрационных, а о попытках комплексного анализа манеры в ее развитии. Из последних примеров такого рода можно назвать статьи сотрудников ГРМ, опубликованные в фундаментальном каталоге музейного собрания произведений Малевича.
19 Там же.
20 Малевич К. Супремус JM° 50, 1915, Стеделийк Музеум.
21 Неизвестный художник. Супрематическая композиция, 2-я половина XX в., част. собр.
Е.Б. Овсянникова, МЛ. Туканов
ВЛИЯНИЕ ЭКСПРЕССИОНИЗМА НА АРХИТЕКТУРУ 1930-х ГОДОВ
«Функция плюс динамика - вот то, чего следует добиваться».
Эрих Мендельсон1
«Никто не знает, когда начался экспрессионизм и завершился ли он в настоящее время», - отметил В.С. Турчин в своем обзоре тенденций искусства авангарда2. Экспрессионизм представляется, таким образом, не в виде стиля, а как способ самовыражения в искусстве, несмотря на то, что как понятие он сложился в совершенно конкретное время - в 1910-х годах. В связи с этим небезынтересно было бы сравнить экспрессионизм в архитектуре (как источник) и два других стиля, последовавших за ним и модерном. Это - модернизм и стримлайн (ар-деко).
В конце 1960 - начале 1970-х годов, в завершение эпохи необру- тализма, экспрессионизм вызывал большой интерес и о нем у нас тогда писал, в частности, А.А. Стригалёв3. Сейчас же стиль 1930-х годов вызывает аналогичный отклик у архитекторов-практиков. Этот стиль явно связан с модерном и авангардом, а если приглядеться внимательнее, - и с экспрессионизмом как творческим методом.
Однако до сих пор 1930-е годы в архитектуре считались стилистическим безвременьем. Мы же убеждены, что именно в 1930-е годы сложился особый стиль, который аккумулировал и сделал доступными для массовой культуры находки мастеров модерна, экспрессионизма и авангарда. Более того, он кое-где оставался актуальным и в 1950-е годы.
Разумеется, архитектура 1930-х годов была многолика, но, несомненно, авангард стал перерождаться в особую модификацию. Ряд американских исследователей теперь называет стиль некоторых памятников этого периода термином «стримлайн» и рассматривает его как проявление ар-деко4. Ар-деко - термин до последнего времени не слишком часто применяемый, до сих пор здесь историкам архитектуры и дизайна не все с ним ясно.
Напомним, что название стиля «ар-деко» возникло, когда в 1966 г. зашла речь о реконструкции парижской выставки 1925 г.
13*
387
Э. Мендельсон. Лаборатория А. Эйнштейна, 1917-1921
М. Де Клерк, П. Крамер.
Жилой комплекс Де Дагераат в Амстердаме. 1918-1921
Считается, что этот стиль был предвосхищен многими ее участниками. Из французов его основателем признан архитектор Р. Мале- Стевенс. Тем не менее, есть мнение, что ар-деко проявился только в дизайне. При этом, заменяется понятие «авангард» на «ар-деко»3. Но большинство специалистов склонны соединять понятие ар-деко и поздний (или запоздавший) авангард, тем самым причисляя к нему произведения мастеров глухой провинции. Есть также мнение о том, что ар-деко в архитектуре - это тоталитарный стиль, включая его ретроформу. Об этом недавно высказался в печати А.Л. Боков6. Более избирательно трактуют ар-деко В.Л. Хайт и М.В. Нащокина7.
Прежде всего хочется предостеречь от снобистского отношения к стримлайну и напомнить, что этот стиль явился базой для новейшей архитектуры Ричарда Мейера и Тадео Андо, не говоря уже о менее значительных архитекторах, использующих эллиптические формы в «стримлайновской» интерпретации. К стилистике стрим- лайна мы относим и некоторые работы Л. Мис ван дер Роэ, Г. Ша- руна, А. Люрса и Ле Корбюзье. Мы убеждены, что в 1930-е годы сложилось самостоятельное архитектурное направление, получившее теперь наименование «стримлайн» (как архитектурная разновидность ар-деко). Это стиль, соединивший в себе черты модерна и авангарда, и отразивший эстетику пароходов, скоростных поездов и автомобилей. Ретроспективная стилистика в архитектуре того же времени - явно другая стадия развития того же процесса.
Особые обтекаемые формы зданий стиля 1930-х годов - стрим- лайна - скругленные стены, эркеры и балконы, как поэтизацию форм вращения, можно увидеть в любом городе мира, где есть архитектура 1930-50-х годов. Такие здания есть в Амстердаме, Лиссабоне, Париже, Лас-Пальмасе, Тель-Авиве, Москве, Екатеринбурге,
388
Нижнем Новгороде... Для стримлайна характерны: симметрия, расчленение стен крупными полосами (из простенков и окон) по вертикали или горизонтали, круглые окна, типа пароходных.
Кеннет Фремптон пишет: «Синтез ар-деко или американского модернистского стиля, в равной мере обусловлен как главным направлением современного движения, так и “историзмом” рубежа столетий. Прежде всего он имеет нечто общее с немецким экспрессионизмом (Пёльциг, Хёгер и др.)8». Однако нельзя согласиться с Фремптоном в том, что ар деко, прежде всего американский стиль, так как расцвет ар-деко происходил в Америке как раз после эмиграции туда крупнейших архитекторов-«звезд» из Европы.
Для архитектурной эстетики экспрессионизма типичны:
1) деформация объемов зданий;
2) исчезновение прямого угла в плане и на фасаде;
3) криволинейные очертания архитектурных элементов и деталей;
4) настроение разочарования от стандартных требований к архитектуре;
5) яркие цвета и контрасты тона в отделке зданий. Примером может служить «башня Эйнштейна» в Потсдаме, Э. Мендельсон (1917-1921)
Для эстетики модернизма (авангарда) характерны:
1) строгая геометризация объемов (предпочитаются параллелепипеды как в архитектонах К.С. Малевича);
2) вертикальные стены, ленточные окна, или, еще лучше, сплошное остекление;
3) прямоугольный план;
4) прямоугольный фасад;
5) настроение разрушительно-нигилистическое по отношению к наследию;
6) цвета: белый и спектральные, или - естественный цвет строительного материала.
В качестве примера приведем здание Баухауза в Дессау, В. Гропиус (1925-1926)
Стримлайну, рассматриваемому как ветвь ар-деко, свойственны:
1) строгие геометрические объемы со скругленными углами;
2) цилиндры, врезанные в другие формы;
3) стены, прорезанные окнами по горизонтали и вертикали в виде крупномасштабного орнамента;
4) сложный план, либо прямоугольный с круглыми вставками, либо состоящий из циркульных (эллиптических) линий; идеальный - в форме круга;
Э. Мендельсон. Торговый дом Петерсдорфа во Вроцлаве, 1927
Краков. Здание 1930-х
5) круглые окна или другие криволинейные детали;
6) имитация горизонтальных окон, горизонтальные тяги как имитация каменной кладки;
7) настроение эйфории по поводу «прогресса»;
8) цвета: белый или сложные «пастельные».
Как пример можно привести жилой дом скульпторов Мартелей в Париже, Робер Малле-Стевенс (1927).
Но еще типичнее для стримлайна массовая архитектура, которую можно увидеть в самых разных городах мира - где был строительный бум в 1930-е годы. Во всех зданиях, типичных для этого периода, общего больше, чем различного. Архитектура 1930-х годов узнаваема и стереотипна.
В отличие от модерна, авангарда и стримлайна, между самыми представительными памятниками экспрессионизма мало общего. Не случайно, поэтому историки современной архитектуры больше ссылаются на сходные теоретические рассуждения экспрессионистов (с социологическим креном), чем на их постройки (так называемая, переписка «Стеклянная цепь», в которых архитекторы высказывались о перспективах развития архитектуры в виде прозрачных, полностью остекленных зданий). Упоминают обычно такие имена: Бруно и Макс Тауты, Финстерлин, Ганс и Василий Лукхарды, Ганс Шарун и, якобы не вполне проявивший себя как экспрессионист на практике, Вальтер Гроппиус.
Важнейшими произведениями экспрессионизма в архитектуре считаются постройки талантливейшего голландского зодчего Мишеля де Клерка в Амстердаме. Глава амстердамской архитектурной школы Х.-П. Берлаге как главный архитектор Амстердама, наметил в начале XX в. вокруг исторического центра города новые районы
390
для муниципального строительства. Застройку некоторых из них осуществлял Де Клерк. Он спроектировал романтично-экспрессивный ансамбль Эйген Хаард (1913-1919) и Де Дагераат (в соавторстве с Питером Крамером, 1918-1921). На примере этой архитектуры хорошо видно, насколько экспрессионизм генетически связан с модерном. Точнее, что в архитектуру модерна экспрессионисты внесли некоторые черты современности. Собственно, они осуществили чаяния Уильяма Морриса, призывавшего к эстетической деятельности для широкой публики.
Новые жилые комплексы Амстердама расположены, как и старинная застройка, между каналами, но планировочный модуль здесь гораздо крупнее. Из-за этого протяженные корпуса могли бы получиться однообразными, тем более, что квартиры в них компактные и одна повторяет другую, в отличие от узких как пеналы старинных жилых домов с разнообразными торцевыми фасадами (в центре города их ширина не более пяти-семи с половиной метров).
В первом жилом комплексе имитированы «случайные» сочетания объемов средневековой застройки. Де Клерк явно хотел придать новой архитектуре как можно более импозантный вид. Рационально повторенный модуль жилой ячейки полностью «растворяется» в живописных, разнообразных по фактуре и форме зданиях, расположенных вокруг общего двора, украшенного обелиском. Устремленность в прошлое этих построек уходит на второй план в сравнении с новым для того времени утрированием образов и виртуозной утонченностью деталей, выполненных из лицевого кирпича. Изысканная деталировка поставила этот шедевр в ряд лучших произведений современной архитектуры, где особо ценится умение выразить «экспрессивные» возможности различных строительных материалов. Достаточно вспомнить, например, слова Людвига Миса ван дер Роэ: «Бог - в деталях».
Жилой комплекс Де Дагераат также соответствует этой характеристике. Поразительно пластично выполнен угол еще более обширного квартала, чем Эйген Хаард. Он скруглен, динамично скомпонованными уступами уходит вверх и украшен скульптурой как нос корабля. Разноцветный, светло-желтый и темно-коричневый кирпич нарядно сочетается с белым обрамлением окон и балками для блоков, на которых поднимают до сих пор во всей Голландии громоздкие вещи в каждую из квартир с обязательной персональной узкой лестницей. Сходны по экспрессивности форм и здания, спроектированные М. Стааль-Крополер в Амстердаме в конце 1910-х - начале 1920 - годов9.
Как выразился Юрген Ёдике: «субъективность этого мира форм была слишком сильна, чтобы стать основой для развития современной архитектуры»10. Тем не менее, как и в 1930-е годы, сейчас архитектура мастеров амстердамской школы вызывает огромный интерес у наших современников.
Административное Г. Шарун. Общежитие для малосемейных
здание во Вроцлаве, 1928-1929
во Вроцлаве, 1930-е
Характерно, что никаких стеклянных стен, о которых толковали экспрессионисты, в этих постройках нет. Самый известный пример архитектуры, напоминающей сюжеты переписки «Стеклянная цепь», - это павильон на выставке Веркбунда в Кельне Бруно Таута (1914), он представляет собой симметрично ограненный объем с острым завершением. Но это произведение теперь приводят в пример как творческое предвидение стилистики ар-деко. Памятник же павшим революционерам в Веймаре Вальтера Гроппиуса начала 1920-х годов (впоследствии прославившегося как идеолог эстетики «прямого угла») представляет собой беспредметную скульптуру, а не сооружение с помещениями внутри, т.е., не сопоставим с архитектурными объектами.
Знаменитый немецкий архитектор Эрих Мендельсон создал обсерваторию в Потсдаме для Альберта Эйнштейна (1917-1921) как уникальное по своим пластическим качествам здание. Это символ современной архитектуры и, как принято думать, новаторской технологии - овальная в плане башня со скульптурными стенами, несмотря на плотность которых, каждый этаж прочитывается, и с глубокими «глазницами» окон. Стеклянных фасадов здесь также нет. «Пластически моделированная архитектура, возникшая из формообразующих возможностей железобетона» - написал о «башне Эйнштейна» Ёдике11. Но при осмотре этого памятника выясняется, что «башня Эйнштейна» отнюдь не из модного тогда железобетона, а имеет кирпичные стены и металлические перемычки. Таким образом, высокий порыв, «штурм и натиск» полностью контролируются Мендельсоном. Он профессионально создал лишь видимость конструктивного новаторства с помощью наиболее рациональных и недорогих технологий.
392
Итак, кажется, что чем более головоломную (софистскую) задачу ставит перед собой архитектор, тем более значительным получается его произведение: экспрессионисты, каждый на свой лад, пытаются сделать современную архитектуру наиболее привлекательной.
Однако авторы давнишних книг по истории современной архитектуры (Ю. Савицкий, Ю. Ёдике и др.) не придают этому творческому методу никакого значения, считая его тупиковым. Более внимателен к экспрессионизму Фремптон, значительно позднее написавший свою версию истории современной архитектуры. Этапным произведением Мендельсона Фремптон считает текстильную фабрику в Санкт-Петербурге (1925), - «ленточные тяги административного блока предвосхитили очертания больших универмагов, построенных Мендельсоном в Бреслау, Штутгарте, Хемнице и Берлине в 1927-1931 гг.»»2.
Одно из самых заметных в городской структуре здание торгового дома Петерсдорфа (Вроцлав, 1927) (бывш. Бреслау), спроектированное Мендельсоном. Оно интересно динамикой цилиндрических форм угловой части. Стекла для этого элемента изготовлены по строго заданному цилиндрическому лекалу. Таким образом, возникает ощущение стеклянной колбы - уступчатой, с подчеркнуто закругленными карнизами. Для этого здания, также как и для многих других образцов застройки 1930-х годов, характерно повышенное внимание к «ударной» угловой части (она обращена в сторону главной площади Рынок), тогда как весь основной объем здания сделан в форме обычного параллелепипеда, без затей.
Именно на этом примере видно, что Мендельсон положил начало новому стилю, находящемуся в русле ар деко, а именно стримлайну (этот стиль можно было бы назвать по-русски «цилиндризмом»). Далее последователи и подражатели Мендельсона сформировали его устойчивые черты, делая закругленные углы, расчленяя стены окнами по горизонтали и вертикали в виде крупномасштабного орнамента, распространявшегося на весь фасад, круглые окна, консоли с сильным выносом, винтовые лестницы в цилиндрических башнях.
К этому стилю, к примеру, относится и здание в Кракове (доходный дом - ведущий тип городского жилого здания эпохи модерна). Традиционная форма «кораблем» (когда застраивается треугольный остроконечный участок, столь изобретательно обыгранный в эпоху модерна) лишена здесь всякого эклектичного декора. Остается только чистая форма цилиндра с врезанными в него двумя параллелепипедами, расчлененными по горизонтали на очень декоративные тяги, фиксирующие уровни перекрытий. Все это в сочетании с крупными белыми оконными переплетами, создает экспрессионистское настроение. Можно вспомнить, например, сходный с этим зданием, но более знаменитый и, конечно, намного более значимый для истории архитектуры ар-деко «Чилихауз» в Гамбурге, спроектированный Ф. Хегером (1922-1923).
393
Почтамт в Неаполе, 1930-е
И. Фомин. Административное здание общества «Динамо» в Москве, 1928-1930
Другой пример стримлайна - административное здание в Вроцлаве, имеющее ленточное остекление. Причем простенки облицованы коричневатой керамикой. Любопытная деталь полностью в русле ар-деко: на пилонах, несущих закругленную часть фасада, укреплены на кронштейнах небольшие керамические головы. Этот прием напоминает о произведениях Отто Вагнера, с их декоративными майоликовыми облицовками, со скульптурой, украшающей фасад.
Говоря об экспрессионизме, невозможно не упомянуть о Гансе Шаруне, архитекторе, чьи постройки оказали наибольшее влияние на современную архитектуру, по сравнению с другими экспрессионистскими произведениями. Надо оговориться, что творчество Ша- руна не укладывается, конечно, в рамки одного только экспрессионизма. Первой его значительной постройкой был жилой многоквартирный дом на Паркринг в Инстербурге (1923-1924), имеющий как циркульные эркеры, так и характерные для стримлайна «пояски» между этажами. Впоследствии, во время правления нацистов, Шарун построил серию частных вилл в стиле стримлайн: дом Шминке в Ле- бау (1930-1933), дом Маттерна, Борним близ Потсдама (1932-1934), дом Бэнша, Берлин-Шпандау (1934-1935), дом Молля, Берлин - Грюневальд (1936-1937). Для всех этих вилл характерны закругленные углы, причем, дом Молля имеет обязательную для нацистского периода скатную черепичную кровлю.
Примером взаимосвязи экспрессионизма с авангардом и, особенно явно, - со стримлайном служит дом для «малосемейных» во Вроцлаве (1928-1929). Вписанное в сложный участок здание, состоит из двух блоков с квартирами в двух уровнях типа гостиничных номеров, соединенных, как говорят на профессиональном жаргоне,
394
«шарниром» - криволинейной в плане группой помещений общественного назначения (здесь - приемная, кафе, холл, крытая веранда). Один жилой корпус прямоугольный, а другой - плавно изогнут. Под жилыми комнатами с лоджиями в этом корпусе размещена столовая. Шарун сделал в этом изогнутом корпусе еще и свои любимые круглые окна, привносящие неожиданный «корабельный» колорит. Есть здесь и некоторые другие закругленные детали. Колоритна, как железобетонная скульптура, винтовая лестница на крыше-террасе. Забавно, что, много на себя берущая, декоративно изогнутая стенка на участке, оказывается, скрывает мусорные контейнеры - пример изощренного формотворчества Шаруна, не оставляющего без внимания ни одну, даже самую незначительную деталь. Здесь есть элементы, которые эпигонам так и не удалось приспособить для своих нужд: полукруглая в плане кровля над террасой, подсветка коридора через окна-линии, расположенные в два ряда: один под потолком, а другой - у самого пола...
Еще один яркий представитель экспрессионизма с уклоном в «органическую архитектуру» - известный немецкий архитектор Хуго Херинг. В начале 1920-х годов Херинг обосновывается в Берлине, где Мис Ван дер Роэ передал Херингу несколько комнат в своем бюро. Работа двух мастеров идет параллельно: Мис проектирует по- луфантастические стеклянные небоскребы, а Херинг - поместье в Гаркау.
Знаменитая ферма в Гаркау (1924) производит сильное впечатление и является, пожалуй, единственной фермой, очутившейся во всех учебниках по истории современной архитектуры благодаря своим экспрессивным апсидообразным формам, заставляющим задуматься об их символике. В то же время своеобразие архитектурных форм в Гаркау продиктовано точным следованием за организацией технологических процессов. Херинг всегда боролся с архитектурой параллелепипедов, вот что он писал о своей концепции: «Навязывать вещам форму геометрических фигур - значит их обезличивать, значит их механизировать. Мы же хотим механизировать не вещи, а их производство».
Для творчества Хуго Херинга характерны следующие признаки, отмеченные исследователями его творчества;
- форма - выражение сущности;
- соотношение частей к целому и неповторимость частей;
- индивидуальность сооружения и его связь с окружением;
- применение материалов, соответствующее их природе13.
Об «органической» архитектуре надо сказать особо. Ёдике пишет о том, что архитектурные теории Херинга были широко распространены, и далее указывает следующее: «Как и Хуго Херинг, так и находившийся под его влиянием Ганс Шарун относятся к главным представителям “органической архитектуры” в Германии»14.
395
Ёдике прослеживает влияние европейских мастеров на архитектуру США и упоминает, что Рихард Нейтра, по сути, - ученик Мендельсона, буквально ни разу не повторил формы творений учителя. Он прямо не говорит о более явном влиянии европейского экспрессионизма на гениального Фрэнка Ллойда Райта с его концепцией «органической архитектуры», но этот вывод напрашивается сам собой при сравнении Музея Гуггенхейма и башни Эйнштейна.
Представляется возможным противопоставить чистый модернизм в духе «Де Стиль» и широко распространенный стиль стрим- лайн, представляющий собой «сублимацию» модернизма и, в частности, экспрессионизма в соответствии с потребностями любого архитектора или заказчика-обывателя, ранее ценивших ар-нуво или югендстиль за свойственную этим стилям «человеческую теплоту». В то же время, криволинейные формы, судя по всему, несут мало изученный в настоящее время сакральный подтекст, который отнюдь не афишировали в Баухаузе, руководимым Гропиусом и Мисом ван дер Роэ.
Мы рассматриваем стримлайн как естественный процесс адаптации наследия модерна и авангарда к реальной жизни, выходившей за рамки теорий утопистов. Нам кажется, что разговор о культуре ар-деко невозможен, если не привести многочисленных западных примеров «неканонической» архитектуры авангарда. Но советская архитектура не так уж сильно отличалась от западной, в ней тоже были и элитарность, и популизм. А отсюда и поиск новых декоративных приемов, а не новых технологий (в отличие от 1920-х годов), а также - подмена одного другим. Кроме того, нам кажется, что антропоморфность архитектурных форм стала оборотной стороной, как это ни парадоксально, образов техницизма 1910-1920-х годов. На Западе и у нас мечты о новых технологиях трансформировались в отточенную и до предела обобщенную модель «тела вращения», вошедшую часто в виде лишь частей и фрагментов такого «тела» в конкретные здания. Таким способом им придавалась импозантность. С помощью циркульных форм фокусировалось внимание на главных в градостроительном аспекте фрагментах сооружений. Второстепенные (или скрываемые от посторонних глаз) части зданий как бы «тушевались», визуально отодвигались на второй план. Собственно, эта тенденция и стала впоследствии главной в пришедшей на смену архитектуре авангарда тоталитарной архитектуре.
В 1930-е годы стали формироваться симметричные и строго осевые композиции, в отличие от «всефасадных», рассчитанных на обход со всех сторон структур эпохи авангарда, выражавших демократические тенденции и социальный утопизм.
Интересно, что австрийский писатель Элиас Канетти отмечал в 1930-е годы символический смысл современной ему архитектуры, лишенной украшений, имеющей обтекаемые формы. Он говорит о том, что такая архитектура символизирует собой зубы как символ
396
Афины. Здание 1930-х
К. Мельников. Собственный жилой дом-мастерская в Москве, 1927-1929
власти у животных и у примитивных людских сообществ: «Гладкость и строй как очевидные свойства зубов перешли в сущность власти вообще... Дома и сооружения раньше изукрашивались как тела или части тел... Теперь же гладкость захватила дома, стены, ограды, предметы, устанавливаемые в домах... Все говорят о функциональности, ясности, полезности, но в действительности торжествует гладкость и скрыто содержащийся в ней престиж власти»15. Его мысль можно проиллюстрировать многочисленными примерами агрессивной архитектуры административных зданий того времени.
Стиль 1930-х годов являлся прелюдией к более мощному течению современной коммерческой архитектуры, ориентирующейся преимущественно на внешний, «театральный» эффект, тем более что, именно Лос-Анджелес, столица кинопроизводства, оказался в 1930-е годы базой для развития и распространения стримлайна, и только Вторая мировая война помешала этому стилю превратиться в «полноценный» и «великий» «американский стиль». Однако до Второй мировой войны стримлайн быстро распространяется во всему миру.
Интересно проследить за стилистикой палестинской архитектуры 1930-х годов.Тель-Авив - город, основанный в 1909 г., переживал в тридцатые годы период строительного бума, в это время множество талантливых архитекторов-евреев покинуло пределы Европы из- за антисемитских настроений, например Эрих Мендельсон работал в это время в Иерусалиме. Несколько палестинских архитекторов работали некоторое время в мастерской Ле Корбюзье в Париже, распространив впоследствии идеи модернизма на территории Палестины16. Появляются интересные стилистические идеи. Так например, дом Мерсера в Тель-Авиве (архит. Дон и Ханох Каспи), напоминающий нос корабля, очень похож на современные проекты австрийских архитекторов (принадлежащих к архитектурной школе Граца) Михаэля Шишковича и Карлы Ковальской.
397
Тема корабля вообще очень важна для архитектуры, в частности, для архитектуры 1930-х годов. Если современный архитектор Фрэнк Гери использует сегодня авиационные технологии для проектирования, то в те годы наиболее интересным приемом в области архитектуры был прием подражания корабельному дизайну.
В качестве типичного примера хочется привести дом Маноач на улице Гат Рамон (1938) архитектора Хаима Мешулама. Пуристский дом в стиле Баухауза, архитектор, подчиняясь веяниям времени, выполнил с закругленными, смягченными углами, что в сочетании с ленточными окнами производит модернистское и вместе с тем традиционное для Палестины впечатление «южной» архитектуры. Дом Миренбурга (архит. Филипп Хютт) явно создан под влиянием архитектуры Мендельсона. Здесь присутствует основной мотив израильской архитектуры 1930-х годов - многократное повторение циркульных кривых в плане; это сильно смягчает прототип - стиль Баухауза, придает ему совершенно иное звучание.
Для немецких нацистов 1930-х годов интернациональная, большевистская и еврейская архитектура - это синонимы. Еврейские архитекторы, эмигрировавшие в Палестину, прежде всего, искали ориентальный характер архитектуры модернизма, а также подчеркивали свою связь с современным европейским искусством.
Нельзя согласиться с немецким исследователем Винфридом Нердингером, утверждающим что израильская архитектура «отставала» от европейского и американского архитектурных процессов 1930-х годов, где уже, по нашему мнению, набирал силу стиль ар де- ко. В то же время Нердингер говорит о взаимном влиянии на израильский архитектурный стиль Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ и Эриха Мендельсона, а не о самостоятельном стиле стримлайн. Нам кажется, что выделение этого отдельного стиля более удобно, так как позволяет избежать долгих объяснений о влиянии крупнейших архитекторов, начавших работать в этом «современном» стиле под влиянием общей атмосферы в искусстве. Нердингер дает, тем не менее, на наш взгляд, удачное определение израильской архитектуры как «архитектурного языка, бесконечно развивающего несколько основных элементов»17.
После «пяти принципов» Ле Корбюзье архитекторы вплотную занялись «игрой» с легкой ограждающей конструкцией на железобетонном каркасе. Появляется противопоставление между несущей структурой как абсолютом и несомой оболочкой как эманацией определенных идей, созвучных эпохе. Так в чем же состояли пластические идеи 1930-х годов?
Прежде всего, происходит, как нам кажется, усиление роли той идеологии, которую можно назвать философией «вечного возвращения». Для архитектуры 1930-х годов характерно использование циркульных форм, которые выглядят как символ, указывающий на большое значение цилиндрической поверхности, на
398
Афины. Здание 1930-х
К. Мельников. Гараж Госплана на Авиамоторной улице в Москве. Деталь главного фасада, 1934—1936
важность таких классических архитектурных форм и приемов как каннелюры, курватуры, энтазис. Архитектура модернизма, не имея возможности выразить себя в традиционно - богатой классической форме, встает на путь все усложняющейся пространственной игры, отображающей прогресс в сфере начертательной геометрии и строительных технологий.
Те же, что и в израильской архитектуре, мотивы получили широкое распространение в Греции 1930-х годов. Когда речь заходит об Афинах, прежде всего, вспоминаются памятники античной культуры. На первый взгляд кажется, что Афины являлись в XIX-XX вв. культурной провинцией, и никаких достойных архитектурных памятников там не было построено. На самом деле архитектура Греции полностью соответствовала общемировому контексту, хотя и получила такую оценку греческих теоретиков как «запоздалый авангард»18.
В 1930-х годах население Афин увеличилось на один миллион за счет беженцев из Турции после войны 1922 г., начался экономический подъем, связанный с развитием торговли и превращением Греции в крупного экспортера аграрной продукции. В середине 1920-х годов в Греции стали применять железобетон, который стал незаменимым материалом в условиях постоянной сейсмической опасности. Так как требовалось много жилья, то архитектурный стиль изменился в сторону упрощения и удешевления, что привело к господству модернистской архитектурной стилистики. Наиболее известный пример: «голубой дом» архитектора К. Панайотакоса (1933), интересен также особняк, построенный по его проекту на улице Лазэон (район Филопаппу). В то же время в греческой архитектуре жилого дома сформировались свои особенности. Это галереи, окружающие каждый этаж по периметру и служащие защитой от
399
Л. Мельников. Конкурсный проект административного здания Наркомтяжпрома, 1934
Й.М. Жюжоль. Жилой дом в Барселоне, 1922-1924
перегрева стен зданий солнечными лучами (дом на улице Вурвахи). А также широкое использование террас, повышающих безопасность жителей во время землетрясений (как, например, в частном доме на улице Превезис, где скругленный балкон и консольные ступени напоминают детали пароходов). Еще одним примером «корабельной» архитектуры является загородная вилла в Глифаде, запроектированная Стамосом Пападакисом - хрестоматийный пример греческой «современной архитектуры».
Вот как описывает свои впечатления от Афин конца 1930-х годов американский писатель Генри Миллер: «Для страны с населением всего в семь миллионов такой город, как новые Афины, - явление феноменальное. Этот город еще переживает муки рождения: он еще угловат, стеснителен, неловок, неуверен в себе; он страдает всеми детскими болезнями и по-юношески меланхоличен и скорбен. Но он выбрал великолепное место, где ему расположиться; залитый солнцем, он сияет, как драгоценный камень; ночью он сияет миллионом мерцающих огней, вспыхивающих и гаснущих с быстротой молнии. Это город потрясающих воздушных эффектов: он не зарывается в землю - он плывет в постоянно меняющемся свете, пульсирует в такт хроматическому ритму»19.
В 1930-е годы большая часть Афин была застроена в стиле стри- млайн. Особенно высоким архитектурным уровнем отличается аристократический район Колонаки. Интересны также районы: Психи- ко, Панкрати и Кипсели.
Известный швейцарский архитектурный критик Зигфрид Гиди- он сказал: «Для нас современная Греция - неизвестная страна, ...где вековые традиции не могут быть наилучшим образом восстановлены без “оправы” современного восприятия»20.
400
В одной из своих статей Мартин Хайдеггер проводит параллель между двумя однокоренными греческими словами: т^х^Л - Texvixri (искусство - техника). Показывая, как техника возникает из искусства, Хайдеггер говорит о необходимости вновь приложить усилия для объединения этих сильно обособленных сегодня понятий21. Это можно увидеть на примере стиля стримлайн, который развился из подражания обтекаемым техническим формам и, в то же время, вобрал в себя отдельные элементы классического декора (колонны с каннелюрами, декоративные фризы, упрощенные карнизы и т. д.)
Английское слово stream (течь) близко по звучанию греческому слову ргцаа (глагол), которое происходит от слова р£со (течение). Таким образом, стиль стримлайн в глазах греков являлся попыткой отобразить движение, передать понятие глагола пластически. Говоря о преемственности между экспрессионизмом и стри- млайном, интересно взглянуть на скрипичный концерт композитора- экспрессиониста Альбана Берга (1935). Концерт этот представляет собой переход от тональной музыки к атональной додекафонии; некоторые исследователи творчества Берга находят в этом концерте одну доминирующую тональность. Современный и, одновременно, классический лейтмотив, выраженный через четыре открытых скрипичных струны, служит обрамлением всего концерта, выдержанного в экспрессивной манере. Таким образом, стиль музыки - экспрессивный, а закольцованная форма близка к концепциям стримлайна.
Нам представляется, что идеи нововенской композиторской школы, общекультурный контекст и чрезвычайно узко детерминированная поэтика архитектурного стиля стримлайн очень близко соприкасаются, тогда как мощная структура экспрессионизма, напротив, выступает в качестве деструктивной силы, не дающей модернистским построениям замкнуться в себе, что привело бы к неизбежному вырождению подобной стилистики, в частности к вырождению стиля ар-деко.
Тем не менее и стримлайн, и экспрессионизм часто подвергались критике со стороны наиболее авторитетных архитекторов. Такой крупный архитектор, как Людвиг Мис ван дер Роэ, только отчасти испытал влияние экспрессионизма, в общем, ему чуждого. Тем более, нельзя не отметить его проект полностью остекленных небоскребов, со стенами, криволинейными в плане (1921), интересен также его эскиз проекта жилого дома с немыслимыми кривыми внутренними перегородками в прямоугольном здании (дом Ульриха Ланге в Крефельде,1934-1935). Красивый узор плана в духе Ганса Арапа, поразил бы своей непонятностью и необычностью, попавшего в этот «кабинет Калигари» обывателя. Кристиан Норберг-Шульц в 1957 г. спросил Миса об этом проекте, упомянув, что его творчество критикуют обычно за приверженность прямым углам. Мис ван
401
Лас Пальмас. Канарские острова. Здание 1930-х
Лас Пальмас. Канарские острова. Бензоколонка, 1950-е
дер Роэ ответил: «Я ничего не имею против острых или тупых углов и кривых линий, если то, что сделано на их основе, сделано хорошо. Но до сих пор я не видел ни одного человека, который делает такие вещи хорошо. Архитекторы эпохи барокко владели этим искусством, но их творчеству предшествовало долгое развитие»22.
Константин Мельников же, по нашему мнению, с самых ранних своих работ тяготел к ар-деко и поэтому не был признан остальными современниками-мастерами авангарда и обижался, если его называли конструктивистом. К.С. Мельников унаследовал, как нам кажется, мощь творческих идей лучших мастеров экспрессионизма.
Напомним, что в первом варианте его конкурсного проекта советского павильона на выставке декоративного искусства в Париже (1925) кровля была целиком из скругленных элементов, но этот проект пришлось полностью переработать из-за проблем с материалом - деревом. Как известно, советский павильон вызвал настоящий фурор, в отличие от более сдержанной и даже негативной реакции на павильон «L’Esprit nouveau», выстроенный по поводу той же выставки Ле Корбюзье. Мельников так точно попал в цель по мнению массы современников потому, что гениально почувствовал ведущую тенденцию своего времени - отход от логики конструкции в сторону декоративности.
Исключительную декоративность его постройкам дает чередование вертикальных проемов, проходящих от земли до крыши через все этажи, и такой же ширины простенков. Именно они делают «полосатым» мельниковский клуб завода «Каучук» и от этого зрительно утрируется закругление его цилиндрического объема, и такая простая форма приобретает весьма декоративный вид без какого- либо накладного декора.
402
Для творческой манеры Мельникова типичны круглые гигантские проемы на главных фасадах. Они есть в гаражах «Госплана» и «Интуриста», и придают прямо-таки феерический вид этим низким и монотонным постройкам.
Совсем не так, как конструктивисты, он применял остекленные цилиндры. Их сложное сочленение из пяти врезанных друг в друга Мельников задумал в конкурсном проекте московского клуба на Лесной улице. Осуществил же остекленную башню из пересекающихся цилиндрических форм в клубе обувной фабрики «Буревестник». В проекте клуба фабрики «Свобода» он сделал эллиптическим сечение остекленной формы, не поставленной вертикально, а положенной горизонтально...
Как известно, впервые за границу Мельников попал именно в Париж в 1925 г., когда строил там свой знаменитый советский павильон. Далее он видел юг Франции и Испанию в обществе преуспевавшего французского архитектора Р. Мале-Стевенса, основоположника архитектурного ар-деко, автора павильонов Туризма и «Весны» на Парижской выставке декоративных искусств 1925 г. Получается, что контакты двух зодчих, их совместная поездка были весьма симптоматичны. Мале-Стевенс строил тогда казино в курортном городке и, соответственно, наш зодчий был в курсе тенденций «рыночной» архитектуры Франции, но не видел «классического» функционализма стран Северной Европы, такие как творения
В. Гроппиуса, о чем сокрушался Хан-Магомедов, считающий Мельникова этаким неосведомленным «левшой»23.
Эстетство, свойственное Мельникову, можно рассматривать как главный феномен его творчества. Мельников в 20-е годы (и до своей работы в Париже и, тем более, после) предвосхитил стилистику 1930-х годов, т.е., - тенденцию перехода авангарда к стримлайну (ар- деко). Для спроектированных Мельниковым зданий характерны: выразительное решение углов, фиксирующих квартал, идущее от модерна (клуб «Каучук»), использование пространственных возможностей «закругленного» интерьера (клуб «Буревестник», конкурсные проекты: «Ленинградская правда», клуб на Лесной улице, собственный дом), а также - динамика геометрических тел вращения (собственный дом, клуб «Свобода» и др.). Декоративность же фасадов достигнута за счет чередования вертикальных полос остекления и простенков и доведена до особого блеска не столько в реализованных постройках, сколько в проектах. Если вспомнить его гениальный замысел гаража-моста для Парижа, то фигуры атлантов ставят поклонников «стерильного» авангарда в тупик, поэтому они обычно таких деталей его архитектуры предпочитают не замечать. Для стилистики же ар-деко (а ранее - модерна и экспрессионизма) такое сочетание антропоморфной скульптуры и архитектуры - норма. Все это убеждает нас в необходимости такую архитектуру стилистически «переадресовать».
403
В. Щуко, В. Гельфрейх. Театр в Ростове-на-Дону, 1934-1936
И. Леонидов. Лестница в парке санатория
им. С. Орджоникидзе, 1937-1938
Ордерные формы так и не стали нормой в архитектуре Мельникова. В 1930-е годы Мельников (и сотрудники его персональной мастерской при Моссовете) создали некий гибрид - формально новаторскую, но «гипермасштабную» архитектуру, невольно соединив изобразительность стримлайна с формами тоталитарного характера. Таково административное здание Наркомтяжпрома с огромными угловыми «кольцами» (конкурсный проект, 1934).
Итак, экспрессионизм зодчих Германии и Нидерландов повлиял на современную архитектуру. Почти в то же самое время в Барселоне осуществил свой проект жилого дома на улице Диагональ Йозеф Мария Жюжоль (1922-1924) выразив, по общему мнению, именно эту тенденцию24.
В произведениях стримлайна мы видим умиротворенную гармонизацию - с одной стороны, а иногда и бурный натиск, штурм, тотальную деконструкцию, происходившую от экспрессионизма - с другой. К последней тенденции мы и относим творения Мельникова. Получается, что от «слишком авторской» трактовки архитектуры, в которой обвиняли экспрессионистов, зодчие
404
последующих лет не отказывались и периодически возвращались к их опыту.
Из провинциальных западных и советских зданий для иллюстрации этого явления можно привести самые разнообразные примеры. Это жилые, общественные и даже промышленные объекты. Так, бензоколонка в Лас-Пальмасе 1950-х годов - свидетельство длительности воздействия стиля стримлайн в его весьма экспрессивном варианте.
Театр в Ростове-на-Дону В.А. Щуко и В.Г. Гельфрейха - типичный пример советского ар-деко с классицистическим «оттенком». Здесь заметны и опыт авангарда, и как компромисс - классицистические черты и черты стримлайна. Апсидоообразный выступ зрительного зала под портиками боковых фасадов позволяет отнести эту постройку к стилистике стримлайна. Более традиционно-эклектичное впечатление производят «египетские» колонны в вестибюле. Мерный ряд высоких опор боковых портиков сглаживает общее неспокойное впечатление, создаваемое отдельно стоящими стеклянными лестницами-башнями. Именно они, резко вынесенные вперед и пропущенные под ними закругленные пандусы - действительно экспрессивное решение!
Единственный реализованный проект гениального русского конструктивиста Ивана Леонидова - лестница в Кисловодском санатории им. С. Орджоникидзе (руководитель авторского коллектива М.Я. Гинзбург) - пример такого же типа. Чуткий к происходящим в архитектурной стилистике изменениям, И.И. Леонидов создает не конструктивистский, а скорее стримлайновский проект, как бы открещиваясь от до конца ретроспективного стиля. Ордер здесь упрощенный, ступени спускаются сначала в виде античного амфитеатра, затем следует круглая «площадка-сцена», после чего - уже не вогнутые, а выпуклые циркульные ступени. В одном проекте мы видим, как классические, так и новаторские мотивы. Соединение, казалось бы, известных элементов неожиданно привело к яркой, запоминающейся навсегда форме. Не в этом ли «взрывоопасном» соединении нескольких стилей с ясно читаемой в структуре произведения «исторической» нотой и состояло предназначение стримлайна, проявившееся наиболее ярко в случае с Леонидовым? 11 Цит. по: Фремптон К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития / Пер. с англ., под ред. В.Л. Хайта. М., 1990. С. 178.
2 Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М, 1993. С. 70.
3 Стригалев А. А. Возвращение к экспрессионизму (Ганс Шарун) // Архитектура Запада. М., 1972. С. 166-186.
4 См.: Bayer Р. Art Deco Architecture: Thames & Hudson, 1992; Duncan, Alastair. American Art Deco. N.Y.: Abrams, 1986; Striner R. Art Deco. N.Y.: London. P.: Abbeville Press, 1994.
5 Так считают историки дизайна. См.: Fiell С. & Р. Designe of the 20th Century: Taschen, 1999.
6 Боков А. Про ар-деко // Проект Россия, 2001, № 19. С. 89-96.
7 Хайт В Л., Нащокина М.В. Нео-ар-деко 1980-1990-х годов и творчество Сезара Пели // Актуальные тенденции в зарубежной архитектуре и их мировоззренческие и стилевые истоки. М., 1998. С. 72-95.
8 Фремптон К. Указ. соч. С. 324.
9 Groenendijk Р., Van Dijk Н. Guige to modern architecture in the Netherlands. Rotterdam, 1987. P. 102, 141.
10 Ёдике Ю. История современной архитектуры / Пер. с нем. М., 1972. С. 175.
11 См.: Там же. С. 67.
12 Фремптон К. Указ. соч. С. 178.
13 Хуго Херинг в его времени. Строительство на современном этапе: Материалы симпозиума в Биберахе. Штутгарт 1990. С. 10.
14 Ёдике Ю. Указ соч. С. 183.
15 Канетти Э. Масса и власть / Пер. с нем. М., 1997. С. 226.
16 Irmel Kamp-Bandau. Tel Aviv: Modem architecture in the middle East // Tel Aviv: Modem architecture 1930-1939, Tuebengen; Berlin, 1994. P. 32.
17 Nerdinger W. Architecture of Hope //Tel Aviv: Modem architecture 1930-1939, Tuebengen; Berlin, 1994. P. 14.
18 Urban Housing of the 30’s Modem Architecture in Pre-Wor Athens. Athens, 1998. P. 22.
19 Миллер Г. Колосс Маруссийский / Пер. с англ. СПб., 2001. С. 55.
20Цит. по: Urban Housing... Р. 29.
21 Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. с нем. М., 1993. С. 238.
22 Мастера архитектуры об архитектуре. М, 1972. С. 378.
23 Хан-Магомедов С.О. Константин Мельников. М., 1990. С. 26-27.
24 Hermandes-Cros J.E., Mora G., Pouplana X. Arquitectura de Barcelona. Barcelona, 1989. P. 415
А.Н. Лаврентьев
ЖЕСТ В ФОТОМОНТАЖЕ
...На одной фотографии изображен неизвестный в кепке и темных очках, очень похожий на А.М. Родченко, с трубкой наподобие Шерлока Холмса, указывает на кого-то пальцем...
...Другой снимок: на полу, раскинув руки, лежит женщина. Рядом - жутких размеров нож...
...Еще фотография из той же серии: драматический свет - снизу вверх. Мужчина схватил женщину за горло...
Все это напоминает кадры из детективного фильма.
Но это - всего лишь постановочные фотографии, инсценировки, заготовки для фотомонтажей, выполненные художником, дизайнером, фотографом А.М. Родченко в 1924 г. Часть из них была использована в том же году для обложек выпусков книги «Месс менд», написанной М.С. Шагинян под псевдонимом «Джим Доллар». Место действия - Соединенные Штаты Америки. Время - начало 1920-х годов.
И подобно тому, как напряженная фабула этой книги, ее упругий детективный сюжет повторяли приключенческие фильмы, популярные серии о детективе Нате Пинкертоне, точно также и фотомонтажи были стилизованы в кинематографической манере.
Подобные утрированные позы, «говорящие» жесты, преувеличенную мимику можно обнаружить в фотомонтажах на пропагандистских плакатах, обложках книг и журналов, иллюстрациях многих художников 1920-х годов: Г.Г. Клуциса, П.С. Галаджева, Л.М. Лисицкого, С.Я. Сенькина, Е.В. Семеновой и В.Ф. Степановой.
Это неслучайно, поскольку художники использовали для своих фотомонтажей материал из популярных иллюстрированных журналов. Они выбирали фигуры героев, вырезали их по контуру, комбинировали с другими такими же вырезанными изображениями. Особенно популярными были именно кадры из фильмов, в силу качества изображения и выразительности. Подобная тяга художников, мастеров русского авангарда, к экспрессивным жестам в фотомонтаже 1920-х годов и побудила разобраться в истоках этого явления.
К 1924 г. фотомонтажу в России было уже не менее 5 лет от роду. (Если считать датой его рождения 1919 год, который Клуцис
407
Обложка первого номера Цена 7S И6 журнала «Кино-фот», 1922.
1 Редактор, издатель
и типограф - Алексей Ган.
На обложке - сцена из немого «кино без пленки», кинотехникум, мастерская Л. Кулешова,
сюжет под названием «Яблоко»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КИНО-ТЕХНИКУМ.
А. Родченко. «Детектив», 1922. Фотомонтаж иллюстрировал статью Л. Кулешова в журнале «Кино-фот» о киномонтаже
КИНО
-ФОТДГ
ЯБЛОНО. сценарий Топор**080'
Натура»» НОМАРОВ.
HpOBABi
Невидим
У?<
СЕРАЯ ТЕНЬ
КРАСНОЬЧ
Тревог®.
i
408
указывает в качестве первой своей композиции - фотомонтажа «Динамический город” с использованием фотоизображений зданий и размахивающих руками фигур рабочих, вырезанных из какого-то журнала.) Фотомонтаж развивался под влиянием кубистического, фигури- стического и дадаистского коллажа, опытов абстрактного искусства, супрематизма и конструктивизма, а также кинематографа.
Насколько взаимосвязаны все виды и жанры искусства в мировом художественном авангарде начала XX в. свидетельствует, например, книга немецкого автора Рудольфа Курца «Экспрессионизм и кино»1 1926 г.
Как ни странно, в эту книгу, помимо кадров из фильмов, была включена масса иллюстраций из области пластических искусств. Здесь помещены: плоскостнодекоративная живопись Фернана Леже, африканские маски, предельно обобщенная скульптура Александра Архипенко, фотограмма Ман Рея и даже архитектурные проекты. Архитектор Ганс Пельциг представлен гигантским театральным зданием в Зальцбурге, а Мис ван дер Роэ - небоскребом. Иллюстративный ряд дополняют примеры из русского авангарда: супрематическая композиция К. Малевича и контррельеф В. Татлина, конструктивистская театральная декорация А. Веснина и проект костюма А. Экстер для спектакля «Саломея». Получается, что без русской части палитра экспрессивных средств в искусстве и кинематографе была бы неполной.
Любопытно, что все упоминавшиеся произведения автор книги рассматривал именно с точки зрения повышенной выразительности, остроты и характерности. Подобное сочетание иллюстраций в сумме проявляло их экспрессивную составляющую.
Экспрессия актерской игры показана на примерах движений чешской танцовщицы Валешки Герт. На кинокадрах она показана строго фронтально на белом фоне, так, чтобы наиболее явно передать общий силуэт фигуры.
Экспрессивность кинопространства достигалась при помощи постройки необычных декораций. Пример - кадры из фильма «Доктор Калигари» с наклоненными под разными углами разрисованными в условно-геометрической манере фанерными щитами, резко освещенными. Эти щиты изображали улицы странного нарисованного города, а также стены интерьеров. Преобладала манера крупных, колючих штрихов.
Экспрессивный киномонтаж - т.е. контрастные композиционные сочетания кадров, контрасты общих и крупных планов, высокая скорость смены кадров - еще одно средство обострения восприятия. Опыты беспредметного кино Викинга Эггелинга, кадры из фильма «Гений» и других также воплощали идею киноэкспрессионизма.
Итак, книга дает сумму представлений об экспрессионизме в визуальных искусствах, отчасти в графическом дизайне, а также в кино. Но она еще не объясняет причин особой приверженности ху-
409
В. Пудовкин, А. Хохлова, П. Подобед. «Венецианский чулок», * «кино без пленки», кинотехникум, 1920
дожников фотомонтажа к выбору наиболее экспрессивных, знаковых, визуально выигрышных поз. Объяснить этот выбор можно, вспомнив о ключевых идеях актерской игры, возникших в эти годы в России. С одной стороны, это известная театральная система биомеханики Всеволода Мейерхольда. С другой - школа актерской игры в кино Льва Кулешова.
Не секрет, что все художники фотомонтажа входили в круг мастеров русского авангарда, который тесно смыкался с авангардом театральным и кинематографическим. В наиболее радикальных изданиях тех лет - журнала «Кино-фот», который издавал А.М. Ган в 1922 г. и журнале «ЛЕФ» под редакцией В. Маяковского театральная и кинематографическая тематика, а равно как живописные, графические, пространственные и дизайнерские произведения присутствуют одновременно. Короче говоря, все знали друг о друге и внимательно следили за появлением новых идей.
Описание жестов и типичных поз немого кино 1910-х годов дает Л.А. Кулешов: «Подходит к ней., так... опускается на колени... так... негодует... Возмущайтесь!.. Возмущайтесь!..Сильнее!.. Переживайте... глубже... еще глубже... так... рыдайте!.. Встала!.. Пошла!.. Медленней, медленней... Поворачивайтесь... Бросайтесь к нему... Объятие... крепче... Поцелуй... Еще поцелуй... Затемнение! Монтеры, включить»2.
410
Учебный этюд на крыше, нач. 1920-х
Примерно по этим же принципам строилось обучение актерской игре и в киноинституте в 1919 г. Первые опыты обучения Кулешов проводил в рамках киноинститута, затем - уже в кинотехникуме.
«От студентов требовали “переживаний”, - писал Кулешов. -
Я же попытался построить этюды на действии, на борьбе, на движении, а напряженные моменты “переживаний”, “внутренней игры” оправдал и, главное, связал с правдой физических действий»3.
В этюдах студентов кинотехникума отрабатывались экспрессивные рисунки поз, движений на статичных кадрах, как живых картинах. От этих проб сохранились свидетельства очевидцев, заметки в журналах, а также фотографии, сделанные самим Кулешовым на репетициях. Фотографии показывают сцены в крупных и общих планах, крупные снимки жестов, фигуры в профиль и фас с экспрессивными наклонами, утрированными движениями и мимикой4.
Тема постановок у Кулешова: «На улице св. Иосифа, 147» (про похищенную танцовщицу), «Венецианский чулок» (про ревнивую жену), «Яблочко» (пантомима-балаган) и т.д. Актеры и преподаватели пользовались системой выразительных ритмических жестов, разработанной Ф. Дельсартом. В журнале «Кино-фот» был помещен фотомонтаж из фотографий из сцен спектаклей, сделанный Кулешовым и собранных им же в единую композицию.
Наверняка, вся авангардная Москва ходила на представления «кино без пленки». Среди друзей Родченко были двое, кто, без
411
А. Родченко. Фотомонтаж для книги «Месс менд», 1924. Слева Родченко изображает сыщика, одного из героев этой книги Мариэтты Шагинян
А. Родченко. Фотомонтаж для книги В. Маяковского «Про это», 1923
А. Лавинский. Фотомонтаж из рекламного бюллетеня Госиздата «Что читать, где купить», 1924
412
А. Родченко. «Взрыв». Фотомонтаж из сборника стихотворений «Лет», 1923
сомнения, видел эти этюды: режиссер В.Л. Жемчужный и издатель, художник, режиссер А.М. Ган. Эти рассказы, скорее всего и спровоцировали те самые театрально-кинематографические постановки для фотомонтажей, упоминавшиеся в самом начале. Жемчужный как раз и был одним из натурщиков Родченко. То он изображал матроса, то какого-то подозрительного типа в кепке.
Однажды, по поручению редактора журнала «Зрелища» Л. Колпакчи на занятия в кинотехникуме (в воспоминаниях Александра Хохлова, жена Кулешова, называет его «киношколой») пришел художник П. Га- ладжев. Он должен был сделать зарисовки с театральных этюдов для журнала. В начале 1920-х годов в типографиях был “цинко-
А. Родченко. Пространственный фотомонтаж, 1924.
Мотив для обложки сборника поэтов-конструктивистов.
Поэт А. Чечерин послужил моделью для фотографий
вый голод” - не было сырья и материалов для изготовления полутоновых клише с фотографических изображений, и все иллюстрации переводили на черно-белый рисунок без полутонов, который печатался с обрезных гравюр на дереве. Галаджев стал членом студии. Более того, он освоил технику игры и был одним из «натурщиков» в фильме «Приключения мистера Веста в стране большевиков», который поставил Кулешов.
С начала 1920-х годов Галаджев начинает работать в фотомонтаже. И для своих композиций он старается выбрать наиболее выразительные экспрессивные позы. Как правило, эти изображения взяты опять-таки из иллюстрированных журналов, но выбор фигур - дело автора. Его привлекают именно четкие по силуэту повороты, ясный жест, знаковая определенность фигуры. Как правило, он вырезает фигуры по контуру, монтируя их с фрагментами техники или зданий, стараясь передать динамику жеста или движения в пространстве.
Если кратко проследить историю фотомонтажа, начиная с 1922 г., то среди этапных произведений станет, без сомнения серия фотомонтажных иллюстраций к поэме Маяковского «Про это». Известно, что в каждом фотомонтаже действуют реальные герои поэмы - Л.Ю. Брик и сам Маяковский. По заданию Родченко фотограф А.П. Штеренберг выполнил их портреты в строго определенных
413
П. Галаджев. Фотомонтаж, 1920-е
П. Галаджев. Фотомонтаж, 1920-е
В. Степанова. Эскиз рекламного плаката для Госиздата, 1924
В. Степанова позирует Родченко для рекламного плаката, 1924
414
Г. Клуцис. Фотомонтаж для журнала «Молодая гвардия», 1924
В. Степанова. Обложка журнала «Советское кино», 1927. На обложке кинооператор Михаил Кауфман экспериментирует со съемкой на роликовых коньках
позах: сидя, стоя, в профиль, расставив руки и т.д. Эти позы послужили экспрессивными знаками действия в фотомонтажах Родченко. Человек, сидящий в отчаянии на льдине. Человек, стоящий на мосту. Человек, еле-еле удерживающий равновесие на вершине колокольни Ивана Великого. Все эти персонажи - собственно и есть Маяковский собственной персоной. Экспрессия и субъективизм восприятия здесь сливаются.
Особенно заметна потребность в экспрессивном жесте в политических обложках и монтажах середины 1920-х годов. Тут для усиления выразительности повторяют главного героя несколько раз. На обложке книги «Живому Ильичу» издательства «Красная новь» Родченко помещает одновременно четырех вождей, протягивающих руки в ораторском жесте к земному шару. Клуцис и Сенькин также неоднократно используют в своих фотомонтажах для журнала «Молодая гвардия» 1924 г. по нескольку Лениных в одном и том же изображении. Мультипликация - одно из средств экспрессивного фотомонтажа.
Другое заметное средство - крупно показанные руки. Эти руки держат инструменты журналиста или инженера-конструктора
415
А. Родченко. Портрет Л. Брик для рекламного плаката, 1924
А. Тан. Обложка книги «Да здравствует демонстрация быта», 1922
(Н.А. Родченко и Н.А. Седельников), тянутся вверх, единогласно голосуя (Г.Г. Клуцис), указывают на что-то пальцем (С.Б. Телинга- тер). Жест здесь становится предельно выраженным. Смысл этого жеста - призыв, указание, утверждение, направление внимания, пример активной работы, деятельности.
Сцены из спортивных соревнований также достаточно часто использовались художниками в фотомонтажах. Причина - необычная экстремальность движений. Человек летит в свободном падении. Человек бежит (бегун в городе на фоне светящихся вывесок Лисицкого) или прыгает через барьеры, стреляет, выполняет какой-то акробатический трюк. В этих фотографиях, использованных художниками (как в серии открыток на тему спартакиады 1928 г. Клуциса) снова возникает тот самый критерий выразительности движения, который закладывал в основу выразительности актерского жеста Кулешов. Движение на пределе, на пределе равновесия, на пределе возможностей, фотография отображает эту критичность ситуации. И чем экстремальнее сцена - тем лучше для фотомонтажа.
Фотомонтаж 1930-х годов также дает некоторый материал для размышлений на тему экспрессии жеста. Хотя, конечно же, многое меняется. Вместо динамичного и часто нарочитого размахивания руками всевозможных персонажей мы все чаще сталкиваемся с довольно ограниченным набором статичных жестов: присутствия, личного примера, жеста физически работающего человека или куда-то мерно и уверенно идущего. Особый агитационный смысл приобретают жесты как указание на операции, которые выполняются на производстве или в колхозе. Доминирующим становится жест
АЛЕКСЕЙ ГАН.
416
Эль Лисицкий. Обложка книги «Архитектура ВХУТЕМАС», 1927
А. Родченко. Обложка журнала «Журналист», 1930
Г. Клуцис. Плакат к выборам в Советы, 1934
утверждения. Будь то в изображении вождей или фотографиях стоящих на страже красноармейцев. Таковы жесты героев фотомонтажей Лисицкого и Родченко, Телингатера и Трошина для журналов «СССР на стройке».
В изобразительном искусстве за многие сотни и тысячи лет сформировалась своя азбука движений, способов выражения состояний посредством выразительной динамики в скульптуре, живописи,
14. Русский авангард
417
графике. С началом XX в. искусство обратило внимание и на другие способы фиксации движения - фотографию и кинематограф. Что, соответственно, повлияло и на традиции показа героев, способы передачи их внутреннего состояния, указание на определенную профессиональную принадлежность или социальную группу. 11 Kurtz R. Expressionismus und film. Berlin, 1926.
2 Кулешов Л., Хохлова А. 50 лет в кино. М.: Искусство, 1975. С. 33.
3 Там же. С. 45.
4 Фотографии из альбома мастерской 1923 г. опубликованы в ст.: Хохлова Е. Эффекты Кулешова // Наше наследие, № 28, 1993.
ЕЛ. Лаврентьева
ЭКСПРЕССИЯ БУКВ
Название книги А.Е. Крученых и В. Хлебникова 1915 г. - «Мир с конца».
Вся книга заполнена написанными от руки буквами и напечатана литографским способом. Поэтический текст представляют не безликий наборный шрифт, а размашисто, быстро, сочно написанные от руки буквы.
Это ощущение начальной точки бытия. Буква - как пиктограмма, как китайский иероглиф. Буква - не звук, не часть понятия, а буква, говорящая сама за себя, - символ действия, предмета.
Эта ситуация была в чем-то аналогична эпохе изобретения письменности, когда все рождалось заново. В древнекитайском прикладном искусстве есть особый трехногий сосуд, который ставился для приготовления пищи прямо в огонь, на костер. Его форма стала исходным импульсом в создании иероглифа, графического знака. Предмет первоначально получал название, «звук». Для того, чтобы потом этот звук визуализировать, схематическое изображение предмета все более упрощалось, совершенствовалось.
Но простого возвращения к истокам письменности в тот момент в русской футуристической книге не было. Скорее всего, это был следующий виток спирали. И, возможно, шрифт, говорящий посредством пластики, а не звука или обыкновенного прочтения информации; шрифт, как пиктограмма, организующая и направляющая мысль и внимание (подобно движению людских масс в аэропорту) сквозь коридоры и пространства строчек именно в нужную тебе точку текста; шрифт как чувство, настроение и ощущение - не есть ли это конечная цель типографики? Той самой типографики, которая сегодня стала искусством расположения напечатанных символов, искусством выделения смыслов, искусством озвучивания текста при помощи самого привычного материала - наборных шрифтов.
Ситуация 1910-х годов и современная предельно похожи. Есть современное высказывание художников о шрифте: «Нужны новые буквы для нового творчества». На рубеже веков ломаются, перемешиваются стили и их производные. Любые графические формы
14*
419
К. Малевич.
Обложка сборника «Трое», 1913.
Пример кубистического «сдвига» в шрифте
Л. Кручёных. «М1рсконца»,
Обложка. Коллаж, неожиданное сочетание рукописного шрифта и букв, имитирующих набор «Четверо из мансарды», 1920. Поэтический сборник. Обложка
«ЮчЕНихъ Л)-Хл?%с/н\1.ко въ
требуют адекватного изображения (визуализации, просто записи). Шрифты, копившиеся в арсенале дизайнеров и художников книги, в какой-то момент перестают удовлетворять. Новое требует нового. Оно перестает помещаться в старые графемы.
То же происходило в начале XX в. Конечно, помимо общности, связанной с глобальными причинами все большей визуализации информации, адекватности современной мысли графическим формам, есть и отличия. В русском футуризме было свое принципиальное от-
420
Н. Чернышева. Гравированный шрифт, причем пробелы между словами отсутствуют и весь текст на обложке
воспринимается как одно бесконечное слово
СИМОВМОШАНО
ЖРЬШО
.
f Я 'Волга П>ТЕшСсТвРв4.^1 U.r\CrJli6oA % 10г\к ст/\ана.Х лрнни>1с1/1сс SctO$? ск но&мнес^/лнОго 6nrfd?/i/bHln £ /Ьм*'» * пе/ц/tto и, ilkW/o ЧЭ иНЪил %, ny^q сооСддо -<о«?а*л за%1л<г«*г ffi<M4Ulf ц.ЛЛЛ^«К*<А fi^}AFb\A I rOaQp-M ~Я /if ломнк> А Я Я
[at калины лоч^/ч Яуллал у щенциь у ф л\в/1Ав*о» ЛЯ у (У. нКъуиген* К<кК в"/Ъ<го НА&оЗОМ hA&JtyHO Uf.PЛ1«кдал Зыипкал
|\|льал р ч*гЛчб’|К> Прифьоцил# ЬиУоы цци» oMticm KH*V И uft^NK л МрЧ’л ml
да fee кГШ) то и шепчет не
Д4гп^ (мецф» 3vd b{ Я ОБОМ/ltA ЛУ\шЬ Те — ur*.,jw.w *<*. ЛУЛП ко*Эд w ^
оно-* eoiPor<4 у/7^лл- «а niBfl *cXoty\cyJh„
o4\4^A,^n»^JK С Н%»кннъ\ ли* дар|л С^лп^чТчл
u^jqf^itcwi РЯч okoAv'A^
AO ^ №*№
cA wU^t^uAW «WuOAVlftk **T «rjs ntir Я^и J'KI'H В УШН л^УГ-L
Страница с текстом из книги «М1рсконца». Строки ведут себя «непредсказуемо», расстояние между ними меняется, равно как и высота букв.
Характер наклона также не постоянен, что лишний раз свидетельствует о технике письма - зеркально на литографском камне. Отсутствуют и прописные буквы - только строчные
ношение к восприятию текста. И писатели, и художники понимали, насколько отличается эмоциональное восприятие слов, написанных и сказанных, набранных стандартными литерами или лихо выведенных кистью от руки. В любом случае сами создатели воспринимали свои страницы, населенные живыми, движущимися, как будто постоянно перемещающимися, танцующими литерами как продолжение экспериментов с языком. Это понимание того, что «иное слово нельзя написать по-другому».
421
Врсс^яАоягом&ним
Л|СЯАУСЯ©ДН/1,
®рлн,Фран, цИко|Г|(остьн»
1(ряА КУ^ЯИЦшЬ
~В>оронъ ® ofo^bly Eiub ттьъ
цогибньуь, господинеI
Ж^йТязьХ 1Готь^олоаь омяЦны^ eo»igyc«jiKrt'nbfl«e^
ЯСЮС|У еи/г и супАтл :я вя^я С ГАЛО|1А01О. [^коДЙ[ъ|
Ъь!л ~^в С0&'Лк Л £сь!
£№$**• жан .ид ,-0<fщ/ц
ДОлМе^/мде.
^«-Ч^-жун-жои!
Я. Филонов. Разворот из книги стихов В. Хлебникова «Изборник», 1915
4UII/ * пп^»1ип«-1 • • •
гогЛ>\, когда оно прс
1иреГМногие от но с 9
ЧИЛЕНИТО, к первоеьп
итивнопэ в искусстве
‘£3 ПРИМИТИВ ПЕРВО6 ПРИМИТИВНОСТЬ,
>МУ АВИЖЕНИН*.’ В сВ
нсеннк —• раъложвн
ьные ЭЛЕМЕНТЫ, С-ТРЕ/
редМБТНОй ТОЭкА£СТ ШИ И ПРЕТВОРЕНИЙ
я —- - А МИ» #"» A fl~»fc J
* Мллев“ч- «° «°вых системах в искусстве», 1919 Фрагмент страницы с написанным от руки текстом фрагмент страницы
Буквы распластаны, их лропортТпп*«Предельно сближены.
Р рции приближаются к квадрату
422
нещ^сАМ'е НА
cofcIZwM оТф ЯМЬАЩрг*
4°'pbt%<> Н£ИЩн>г *
оп^едплемГо знмент.
РЩ\
щ>М}
О. Розанова. Литографированный лист из книги стихов А. Кручёных и В. Хлебникова «Тэ Ли Лэ» со знаменитым стихотворением Кручёных на заумном языке, 1914
В. Хлебников. Рукописная страница из книги «М1рсконца»,
1915
«Прежде всего, нужно различать авторский почерк, почерк переписчика и печатные шрифты. Иные слова никогда нельзя печатать, т.к. для них нужен почерк автора», - утверждал Н. Бурлюк в тексте «Поэтические начала» в 1914 г.1
«Новое движение беспредметного стиха как звука и буквы связываю с живописным восприятием, которое вливает новое живое зрительное впечатление в звук стиха. Разрывая через живописную графику мертвую монотонность слитых печатных букв, иду к новому виду творчества», - декларирует свою концепцию визуальной поэзии В.Е. Степанова в 1919 г.2 Беспредметной форме графики она находит отклик в такой же абстрактно-экспрессивной фонетической поэзии. В книге «Фактура слова» 1921 г. А.Ф. Кручёных сформулировал зависимость восприятия литературного и поэтического текста от характера его графической формы.
Но был в этом движении в сторону экспрессии букв и еще один, самостоятельный графический аспект. Слово, буква воспринимались как орнамент, как заполнение графического пространства, оно часть общей экспрессивной графической и поэтической экспрессивной ситуации. Фактор мгновенности творчества, немедленного результата.
423
*А \ъш&
т у г
I ^чя
П АА0-АЮТ
vr<?W
?/10
Л. Кручёных. «Ра Ва Хиа», 1920-1921. Страница из рукописной книги. Текст написан пером специальными чернилами по стеклу
А. Кручёных. «Ра Ва Хиа», 1920-1921. Страница из рукописной книги. Текст написан карандашом через копировальную бумагу
«Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален) языком, не имеющим определенного значения (не застывшим) - заумным», - подводил теоретическую базу под свой «заумный язык» А. Кручёных в 1913 г.з
424
Л. Кручёных.
«Нособойка», 1918. Страница
из рукописной книги. Страничка-декларация написана карандашом через копировальную бумагу
есмкНЛЬ'Ьу З'ОЛ/Л*^<
Я^-
то кл 'гл /т&ле*Г/-
r/aJClb -
$ct 9{ 1 l - /> r.\ yy,J-?5
< KpC’JfJvti
XL fC jKUfTUU tbbUcUL-,
Неизданный Хлебников.
Издание «Групп друзей Хлебникова», 1928.
(Отпечатано
на стеклографе с рукописи.) Фрагмент текста на 8 странице, переписанной А. Олсуфьевой. Почти школьная «пропись»
Интересны с этой точки зрения эпитеты, которые Кручёных дает слову: «занозистое», трудно-читаемое, «неудобнее грузовика в гостиной», слово обладает не только звуковой, но и графической фактурой.
Все эти эпитеты предназначены не для чего-то реального, видимого, ощутимого, почти что тактильно осязаемого. То, что мы ви-
vimu, iwoy
xl, S шснео fiMXj.aJL,
мима todcfow,
425
В. Степанова. Беспредметные стихи, 1919. Обложка рукописной книги. Размашисто написанная роспись автора соседствует с брусковым рукописным шрифтом
В. Степанова. Беспредметные стихи, 1919. Страница из тетради с машинописным текстом стихотворений
дим на страницах, заумный язык, новый язык, новые творческие возможности - все это задумывалось скорее всего не как звуковой язык, а как язык визуальный, изобразительный. В большей степени такая своеобразная «фактура» слова обусловлена способом печати (тиражирования) рукописных сборников - это литография или стеклограф. И то, и другое предполагает, что буквы будут нанесены на поверхность литографского камня или стекла зеркально, чтобы при печати получить оттиск с прямым изображением. Отсюда некоторая странность почерка, ощущение цепочки, очереди литер, то выстраивающейся организованно, то сбивающейся с пути.
Буква становится персонажем, отвечающим за характер слова, его одеждой, провоцирующей модель поведения, которая зависит от сюжета, сценария книги. Получается сложная игра в пределах графемы - некая история жестов, как в человеческом мире. Фигура (графема) - неизменна, а обращений, поз, построений, состояний может быть великое множество.
Буквы К.С. Малевича в сборнике «Трое» 1913 г. нарочито кубо-футуристические. Они изломаны и рассечены как формы в живописи.
Буквы М.Ф. Ларионова в литографированных изданиях, типа «Полуживой» или «Помада» 1913 г. создают плотный шрифтовой
426
в AC-ил* И.
В. Каменский. Страница из книги «1918»
В. Степанова. «Гауст Чаба», 1918. Рукописная книга. Вместо чистых листов Степанова использовала сшитые порезанные газетные страницы. Текст написан кистью поверх газетного текста
массив. В нем каждая буква ведет диалог со своей соседкой, видоизменяясь от окружения.
Буквы А.В. Лентулова на обложке сборников «Весеннее контрагентство муз» или «Московские мастера» 1915-1916 г. - нарочито весомые, живописные, с пластичным, мягким силуэтом и неожиданными лигатурами - сплавами близко стоящих букв.
Буквы А.Е. Кручёных в его изданных на стеклографе или под копирку книжках «Нособойка» или «Замауль юбилейная» - неровные, дергающиеся, прыгающие. Таким же светлым шрифтом в конце 1920-х годов он напишет от руки для издания на гектографе стихи Хлебникова для серии книжек «Неизданный Хлебников».
Буквы П.Н. Филонова из книги стихов Хлебникова «Изборник» 1915 г. местами напоминают церковно-славянский шрифт, некоторые штрихи нанесены как в шрифте типа «устав».
У каждого из этих авторов своя выразительность букв, слов, строчек. Отдельные буквы своим начертанием вызывают ассоциации с какими-то моделями поведения: одни кричаще-развязные, другие - по-детски наивные, третьи - застенчивые, четвертые - строгие и неприступные. Буквы разнятся и как продолжение характеристики звука: сочный как у Маяковского, хриплый как у Кручёных, возможно, мягкий как у Хлебникова, громкий звук на полную
427
Ю. Гулитов.
Гарнитура «Уличная», конец 1990-х.
Шрифт возник на основе изучения самодельных объявлений
Л i Ш 2
и ft к л
п м □ тт
графическую мощность цвета и пятна как в беспредметных стихах Степановой.
У экспрессивности шрифта два начала. Первое - художественное, это искусственно созданная экспрессивность, отражение моторики руки, осознанного волевого подхода. И второе - спонтанное, стихийное, неожиданное. Но корень один - быстрота реагирования. В первом случае мы, зрители и читатели, реагируем на творческий импульс, во втором - на случайно возникшие, «внехудожествен- ные» формы, вызванные тривиальными бытовыми потребностями. Но результат один - буквы живут. У них свой характер, они неповторимы, уникальны, они как след, отпечаток определенного человеческого состояния - пусть самого незамутненного и простого, но тем они и ценны, что эти состояния непосредственно переданы на бумаге, а через почерк - передаются и нам. И тут грань между «уличной» экспрессией и «художественной» бывает очень подвижной. Самодеятельная надпись может быть гораздо свободнее и выразительнее, чем попытка крайне экспрессивного художественного жеста.
И потому, как во времена русских футуристов, они были нередко единственными защитниками живописных вывесок в магазинах (особенно после принятия закона об снятии таких вывесок в Петербурге в 1910-е годы), также и сейчас есть художники шрифта, кото-
428
рые внимательно наблюдают за складывающейся уличной шрифтовой стихией.
«Читайте железные книги!» - призывал в 1913 г. Маяковский. Также как и во времена русских футуристов наивная экспрессия самодельных табличек и вывесок вдохновляет современных графиков.
Юрий Гулитов, родом из Симферополя, окончил Харьковский художественно-промышленный институт. Во время подготовки диплома он заинтересовался симферопольскими уличными надписями, фотографировал их. Собралась целая коллекция, на основе которой он и выполнил свой дипломный проект. Один из листов - это гарнитура «Уличная». Про каждую букву у него есть своя история, история ее находки, ее происхождения. Для себя он сформулировал и причины, по которым те или иные буквы именно так, а не иначе были написаны. После тщательного отбора у него составился целый алфавит.
Первая буква в его коллекции - буква «Д». Для каждой буквы появилась своя кличка. Этот шрифт был использован в оформлении ежегодника...
В этом шрифте главное качество - утрированность, чрезмерность. Буква «Е» с четырьмя горизонтальными полосками, буква «О» с точкой в центре, намеком на еще одну - негативную букву,
429
Ю. Гу литов. Гарнитура «Каллиграфическая», конец 1990-х. Шрифт возник на основе уличной «каллиграфии» - граффити при помощи аэрозольной краски
Е. Кожухова. Обложка журнала «Как» № 9/10, 2000. Шрифт на основе вырезанных из цветной бумаги букв
Probbarius/H.ropflOH/1996
f?tCBErGHIOKXHN©POKSTUVWXY2
<АЪйГдеё*ЗИк/иН°прсгу¥х UllUUTbb |ЬэН)Я
(тгдЕЁЖзиклннопрстуфхичшшт!
ыьэюя
C1231567S9QJ» U?*SiS-.;i
И. Гордон. (Letterhead). Шрифт «Проббариус», 1996
ЖМот!/И.Тарбеев/1998
^bcaefsi h i UOM rstu z
ABCOEf <5 ИIJKLM NOpQRSTUVWXfz эббглеёжзи мм поп p сту-рхччинг no «/I
лг tглй^икдМнопра^лш ш m
u ьэи>л
С12Э^5бР8Э0) tj?*&еп
А. Тарбеев. (Paratype). Шрифт «HiMom!», 1998
430
вставленную внутрь. «П» с выступающими перекладинами, выполняющими роль засечек.
Второй шрифт в его дипломной работе - «Каллиграфический». Прототипом этого шрифта послужили быстрые надписи - граффити, сделанные одним движением, распыляя краску из баллончика. Буква всегда имеет более жирную кляксу в начале или в конце. Этот второй шрифт - переработанный художником на основе замеченного на улице.
Еще один вариант шрифта - имитация процесса наклейки афиш. Рваный фактурный шрифт. Шрифт оказался популярным в газете «Московский комсомолец» для заголовком типа «Ужас», «Страх» и т.д. Правда, такая эмоциональная оценка гарнитуры не входила в замысел Гулитова.
Современные шрифты, возникшие на основе реальных «народных» прототипов или имитирующие какие-то ситуации в современной жизни, подтверждают мысль о том, что у каждой эпохи - свой шрифт.
Таким же образом сделаны шрифты и Андрея Белоногова. Шрифт «Трафаретный» - версия распространенного шрифта самодельных надписей. Шрифт «Оптовка» - шрифт, подсмотренный в объявлениях и надписях на окраинных оптовых рынках.
В современной ситуации создания шрифтов в России есть два подхода, которые воплощают две дизайн-студии: Паратайп и Letterhead.
Дизайнеры студии Паратайп считают возможным перевод латинских гарнитур в русские. Дизайнеры студии Letterhead считают, что кириллица - и как графическая интерпретация языка, и как веточка на мировом древе шрифтов - самоценна. Соответственно для кириллицы и литеры нужно проектировать специально. Интересно, что шрифтовые разработки этой студии отличает некоторая доля экспрессионизма.
И не тот ли это путь, который когда-то осваивали в начале века русские футуристы, который воплощает некоторую истину для современной шрифтовой позиции. 1 2 31 Бурлюк Н.Д. Поэтические начала // Футурист: Первый журнал русских футуристов. М., 1914.
2 Степанова В.Ф. О выставленных графиках // Каталог 10-й государственной выставки. М., 1919.
3 Кручёных А.Е. Слово как таковое. М., 1916. С. 3.
Ивона Люба
ПОЛЬСКИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ И ПОЛЬСКИЙ ЭКСПРЕССИОНИЗМ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
“В России не было экспрессионистской живописи. Связанный с немецкими кругами Кандинский представляет собой исключение”, - это спорное и одновременно категоричное утверждение принадлежит Владиславу Стршеминскому, одному из наиболее выдающихся представителей европейского конструктивистского авангарда. Цитированный фрагмент - из рецензии на книгу Михаила Собеского «Живопись дня последнего. Экспрессионизм и кубизм» (Познань, 1926)1.
Стршеминский и раньше, в 1922 г., в своей первой опубликованной в Польше статье - “О русском искусстве - заметки” - писал о Василии Кандинском, признавая его наравне с Михаилом Ларионовым, Владимиром Татлиным и Казимиром Малевичем одним из наиболее влиятельных художников в русском дореволюционном искусстве2. И что интересно: Стршеминский не считал Кандинского представителем нового искусства и не ценил слишком высоко художественные достижения автора первой абстрактной композиции. Хорошо известен факт, когда Стршеминский, как и все конструктивисты, сам создал теорию и писал беспредметные картины, абстракции он придавал большое значение, о чем будет сказано дальше. Стршеминский считал абстрактную живопись Кандинского проявлением «умирающего импрессионизма», естественным следствием творчества П. Гогена и Анри Матисса, приведших импрессионизм к беспредметности, а не в будущее3.
Признание Кандинского экспрессионистом, принадлежащим немецкому искусству, хотя и было во многом справедливым, однако же исключало его из круга творцов нового искусства. Стршеминский утверждал, что “экспрессионизм можно определить как направление, стремящееся к выражению чувств, описываемых вербальным способом... - с помощью средств, соответствующих всем бывшим направлениям искусства (включая кубизм и футуризм). Это есть в некоторой степени вид прикладного искусства (использование чужой работы при обработке формы)”4.
432
Другими словами, Стршеминский считал экспрессионизм явлением второго сорта, нетворческим, эклектичным, старающимся присвоить себе предшествующее, чужие достижения формы. Мало того, он утверждал: «Экспрессионизм является результатом ошеломления и потери ориентиров» немецкими художниками, захваченными врасплох кубизмом и футуризмом и неориентирующийся в их пластических формах... (экспрессионизм. - ИЛ.) характеризует только немецкую живопись»5.
Это выступление, как и другие теоретические тексты Стрше- минского, наряду с его художественной и педагогической деятельностью, свидетельствуют о его враждебном отношении к экспрессионистскому движению в искусстве. Такое же отрицательное мнение о “визионерской черте немецкого экспрессионизма” высказал и Хенрик Стажевский - еще один представитель польского авангарда6.
Никто из среды конструктивистов не был на стороне экспрессионизма, потому что он был, по их убеждению, несомненным выражением индивидуализма. Индивидуализм же считался в конструктивистских кругах явлением негативным, перечеркивающим у художника и его искусства связь с обществом, феноменом, что не в состоянии создать современный стиль. Конструктивизм же индивидуализму, понимаемому как абсолютно частная, случайная и выходящая из- под контроля интерпретация природы7 противопоставил необходимую в изобразительном искусстве сильную дисциплину, она должна была сыграть двойную роль: объединения противоположных индивидуальностей и преграды на пути превращения искусства в догму8. Стршеминский, как и Стажевский, считал индивидуализм источником анархии, деморализации и хаоса в искусстве. Он утверждал: «мышление XIX века формировалось под влиянием двух направлений идей враждебных развитию искусства: романтизма и манчесте- ризма с их культом неограниченной личной свободы и отрицанием объективных критериев оценки»9.
Стршеминский упрекал индивидуализм, главенствовавший в романтизме, а потом в натурализме и экспрессионизме, осуждал стремление «прежде всего к тому, чтобы предмет нес “печать индивидуальности” своего создателя - не обращая внимания на ценность этой печати. Понятие искусства как направления постоянного развития изменилось, - утверждал он, - в пользу личностного, поверхностной погони за эффектом и разнообразных способов и манер извлечения из себя этой желанной “индивидуальности”, “оригинальности” и т.д. Темперамент противоречил темпераменту и поэтому вместо общего прогресса была анархия и постоянное начинание того самого, что уже было давно начато и даже достигнуто»10.
Стршеминский видел в индивидуализме не только тормоз развития искусства, но даже утрату его предшествующих достижений. Он верил в эволюцию искусства, в необходимость его постоянного развития и усовершенствования. «Творчество имеет точку опо¬
433
ры, - писал он, - в системе уже существующего, однако поэтому как раз оно постоянно направлено на его трансформацию (= совершенствование)»11.
Романтики и натуралисты не понимали, по мнению Стршемин- ского, что сущностью искусства является развитие, требующее интенсивной совместной работы, в ней каждое достижение возникает в результате находок предшествующих поколений, а задачей человека искусства является усовершенствование искусства уже существующего. Целью художников должно быть'в действительности не выражение собственной индивидуальности, а совместное создание «объективных ценностей, мерой которых является форма»12.
Создатель унизма обвинял искусство XIX в. в том, что ему не доставало эволюционной целостности, что прервалась его связь с обществом, с реальностью. Эпоха романтизма была, как утверждал он, эпохой гегемонии литературы, присутствовавшей в каждом виде искусства и от которой искусство нужно было освободить, отбросив, с одной стороны литературность, а с другой - всяческое подражание природе. Только тогда может быть достигнуто «непосредственное пластическое выражение»13.
Экспрессионизм с его явным символистским и неоромантическим происхождением в Польше особенно сильно вписывался в традиции романтизма, цитированного часто в манифестах и трудах инициаторов и ведущих представителей этого движения в литературе и изобразительных видах искусства, о чем лучше всего свидетельствуют произведения, созданные между 10-ми и 20-ми годами XX в. Духовным патроном польской разновидности экспрессионизма из круга познаньского “Здроя” нужно признать Юлиуша Словацкого, в чем была огромная заслуга Станислава Пшибышевского. Опасно близкие связи польского экспрессионизма с романтизмом и неоромантизмом, проклинаемые Стршеминским, приносили с собой очарование фольклором и народным искусством. Вместе с восхищением последним, среди объектов интересующих экспрессионизм появился очередной грозный “изм” - примитивизм - равно как и индивидуализм, даже в большей степени отождествляемый Стршеминским и Стажевским с пластическим атавизмом, пренебрежением достижениями целых поколений живописцев, отметанием традиций; возникающий из игнорирования всем, он приводил только к деформации правдивого образа настоящей художественной деятельности.
Происхождение этого неприязненного отношения художников- авангардистов (а в случае Владислава Стршеминского можно говорить даже о категорическом отрицании) к примитивизму и другим направлениям в живописи, заимствующим из богатств народного искусства, было явлением далеко не простым и складывалось оно из множества факторов.
Идеологические течения, объединяющие представителей авангарда, начали возникать в Польше относительно поздно - только в
434
20-е годы прошлого столетия. Близкие им по духу, а часто и по личным связям, основоположники русского авангарда чаще всего уже к этому времени прошли этап активного увлечения народным примитивом, и даже если они возвращались к нему (как, скажем, К.С. Малевич), то в своих экспериментах с формой они были достаточно далеки от прототипа, в их искусстве он претерпел столь сильные трансформации, что трудно было его уже различить (например, у
В.Е. Татлина).
Польское искусство к этому времени уже начинало ощущать откровенную перенасыщенность фольклором, поддерживаемым официальными кругами и народной нарративностью в живописи, и это, в свою очередь, усиливало недоброжелательность авангарда по отношению к тематическому искусству. Ощущение усталости материала, усиленно рекламированного народным искусством, а, по правде говоря, производством, имитирующим или подделывающимся под этот вид искусства, - вызывало многочисленные протесты не только среди представителей авангарда, но и даже среди таких художников, как например, Титус Чижевский, работавших с мотивами и формами, заимствованными из народного творчества.
В этом контексте парадоксально выглядит доброжелательное отношение конструктивистов к формизму. Группа под названием «Польские формисты - 1917-1922» была первым объединением, экспериментирующим с формой, оно черпало из опыта экспрессионистов, главным образом мюнхенских, а также кубистов и футуристов. В течение первых двух лет группа называлась «Польские экспрессионисты». После установления независимости Польши по причинам одновременно политическим (экспрессионизм ассоциировался с искусством Германии) и художественным, они стали называть себя «Польские формисты». Представляется неправдоподобным вывод, что, умалчивая факт существования периода, когда польские реформисты восторгались народным примитивом, доказывая в то же время, что «главным постулатом формистов была чистая фор- ма»14, Стршеминский искал логического и исторического обоснования отечественных корней появления в Польше феномена авангарда, в действительности имевшего русское конструктивистское происхождение. В обозначенной Стршеминским характеристике формизма постоянно повторяется его главная цель - ФОРМА.
«Тем самым (устремлением к чистой форме. - И. Л.) формизм отличался от иных современных ему направлений искусства, и это позволило в будущем его преемникам относительно легко перейти от предметного искусства к абстрактному искусству» (курсив мой. - И.Л.). Когда произносятся слова “чистая форма”, имеется в виду форма, освобожденная от предметности”15.
Стажевский, равно как и Стршеминский, положительно отзывался о формистах как о представителях искусства, пробивших засохшую скорлупу конвенционализма и шаблонов, рассматривая фор-
435
мизм как предварительный этап для чистой геометрической формы, ранние же картины Чижевского (примерно начиная с 1905 г.) он считал первыми ласточками нового искусства в Польше16. Конструктивисты последовательно замалчивали первоначально близкие связи формистов с экспрессионистами мюнхенского толка, как и личные контакты с берлинскими экспрессионистами.
«Подобно французскому кубизму, первоначально многое заимствовавшего из искусства примитивистов и негритянской скульптуры, - писал Стажевский, - формисты обратили свое внимание на польское народное искусство... В отличие от ...немецкого экспрессионизма, формизм основывался исключительно на системе тектонической формы. И хотя он шел разными путями и менял разные обличья, он всегда способствовал увеличению новых классификаций, понятий и правил»17.
Если конструктивистский авангард и “простил” формистам увлечение народным искусством, то только тем художникам, что использовали народное искусство как основу для конструкции новой тектонической формы. Эта уступка была сделана также потому, что авангардисты искали доказательств для обоснования своего полноправного существования в польской культуре межвоенного двадцатилетия, именно в нем они намерены были произвести радикальные изменения.
Огромным разочарованием для художников, сгруппировавшихся вокруг «Блока», стала польская экспозиция на Международной выставке декоративных искусств в Париже 1925 г., свидетельствовавшая об абсолютной оторванности представителей Польши от авангардистских течений в других странах Европы18. Многочисленные награды - более 170! - собранные авторами Польского павильона ничего не изменили. Польский павильон на фоне советского или хотя бы павильона Ле Корбюзье, представленных на этой выставке, производил впечатление принадлежащего к иной эпохе в истории искусства.
Это было время, когда польская культура ставила перед собой задачу укрепления нового общественного сознания, воздействуя с помощью современной эстетики на мировоззрение людей, сталкивающихся с этим искусством19. На обоюдную зависимость современного искусства и общественного сознания тех, кто с ним сталкивался, обратил внимание, будучи первым, в польской прессе соавтор и теоретик поэтического авангарда Тадеуш Пейпер в 1922 г. на страницах журнала «Звротница». В статье «Город, массы, машины», определяя эту связь как принципиальный вопрос, он писал: «Основы изобразительного построения представляют собой верхний слой принципов самой жизни. Общество-массы вырабатывает в человеке новое понятие художественного построения... Искусство должно подчиниться экономике, чтобы заставить ее служить. Толпа-масса своей экономикой могут повлиять на искусство обновляющим способом.
436
...Создание произведений искусства является приведением хаоса в порядок, принуждения своеволия к организованности. Следовательно, порядок не является только требованием чистого искусства, но и постулатом самой жизни. ...необходимость порядка проникла во все сферы человеческой деятельности. Наука является подчинением, политика - это подчинение, художественная деятельность - это тоже подчинение. В произведении искусства подчинение производится постоянно на основе определенных схем. ...Лучше всего это видно в живописи. В эпоху конструктивных, наиболее осознанных устремлений, композиция в живописи основывалась на принципах, приближенных к геометрическим фигурам. ...И если бы даже внутренняя необходимость в искусстве не требовала обновления конструктивных правил, это новое представление о порядке (красоте?) должно было бы автоматически перейти в мир художественного творчества. Внутренняя необходимость искусства делает этот порядок желанным и призывает к его сознательному установлению. И мы можем быть уверены, что этот процесс произойдет»20.
Пропагандирование народных и квазинародных форм нарушало бы, по убеждению представителей авангарда, правильные отношения между искусством и современным обществом, требующим не анахроничного народного творчества, восторгающегося сельским образом жизни, а приносящего новое общественное содержание и новый порядок - искусство, основанное на невербальной беспредметной конструкции.
Стршеминский (сотрудничавший с журналом «Звротница»21), отстаивая ту же точку зрения, что и Пейпер, категорически отбрасывал всяческие примитивизирующие тенденции в современном искусстве, а также наивное искусство, детское творчество и подобные им явления, рассматривая их как феномены, отрицающие развитие искусства и действующие в нем правила22. Он долго был верен своим убеждениям. В середине 1930-х годов он клеймил примитивизм как «отрицание всех достижений многовековой культуры, отбрасывание всего, что приходит после периода детского творчества и искусства человека каменного века, отбрасывание культуры во имя непосредственного, голого биологического рефлекса»23.
Понятием, противопоставляемым экспрессионизму, узловым в размышлениях об искусстве авангарда, согласно Стршеминскому, а потом и Стажевскому, стала система. Система живописи, выработанная совместно художниками-современниками более важна, чем индивидуальный талант, и именно она играет решающую роль в эволюции искусства.
«Побеждает в искусстве тот, - утверждал Стршеминский, - кто последовательно стремится развивать систему до объективного совершенства; постоянно проверяет и улучшает систему. Эта работа превосходит силы индивидуумов, требует совместных усилий. Итак, заняться работой предшественников, исследовать предпосылки, по¬
437
править систему и продолжать - вот способ создания настоящих культурных ценностей»24.
Эту же точку зрения разделял Стажевский, о чем и вспоминал несколько лет спустя: «Усилия поколений живописцев складывались в постоянное совершенствование их достижений. История живописи является только историей разных школ живописи. Общие усилия целого коллектива художников обогащают сокровищницу традиций и передают из поколения в поколение знания изобразительного искусства, которые поддерживают их как постоянный капитал»25.
Если знание живописи должно было представлять собой неизменную ценность для многих поколений художников, то нужно было, чтобы она имела характер универсальный, вечный, обладала признаками объективизма.
«Новое изобразительное искусство, - доказывал Стажевский, - указывает на абстракцию, как на возможность выражения элементов вселенной, формирующих современный коллективный стиль. ...Индивидуализм как частная, вырывающаяся из-под контроля интерпретация природы, не в состоянии выработать современный стиль»26.
Прежде чем из недр польского конструктивистского авангарда вышли на свет две определенные, противоречащие друг другу теоретические системы - утилитаризм Мечислава Щуки и унизм Стршеминского, образцом и идеалом для польского авангарда был конструктивизм русско-советского происхождения, а непререкаемым авторитетом среди всех систем - супрематизм Малевича.
В искусстве России, которое, начиная с 1910 г., ставило перед собой цель создания конструктивно организованного мира и «нового коллективного стиля» не было места экспрессионизму. Поэтому «повторяю, что экспрессионизм принадлежит к немецкой живописи»27. «В России не было экспрессионистской живописи»28. 11 Strzeminski W. Michal Sobeski-Malarstwo doby ostatniej //Zwrotnica, 1926, N 8. S. 214. M. Собеский ответил на рецензию Стршеминского статьей «То, что касается живописи дня последнего» «Wiadomosci literackie», 1926, № 27/131/ С. 4. В журнале “Sztuki Pi$kne” (R. II, 1926, N 10-11. S. 468-469) было опубликовано обозрение дискуссии Собеского с Стршеминским. Стршеминский несколько позже вновь повторил свои аргументы в журнале «Zwrotnica», 1927, N 11. С. 248-249.
2 Strzeminski W. О sztuce rosyjskiej -notatki//Zwrotnica, 1927, N 11. S. 248-249.
3 Strzeminski W. Michal Sobeski...
4 Strzeminski W. О sztuce rosyjskiej...
5 Strzeminski W. Michal Sobeski... S. 80.
6 Stazewski H. О najmlodszej sztuce polskiej // Slavische Rundschau, 1931. C. 329-331.
7 Stazewski H. Styl wspdlczesnosci I I Praesens, 1926, N 1. S. 2: «Сильная дисциплина соединяет между собой индивидуумы и не позволяет искусству закостенеть в доктрине».
8 Nowa sztuka a spu$cizna sztuki epok minionych // Pion. 1933. nr. 5. S. 4-
9 Strzemiriski. Pisma. Wroclaw. 1975. S. 208, 209.
10 Ibidem. S. 210.
11 Strzeminski W. B-2 // Blok. Kurier Bloku, 1924, N 8-9. S. 16. В. Стршемин- ский был уверен, что созданная им философская концепция искусства представляет собой только звено в эволюционном процессе искусства и должна была стать отправной точкой для будущих поколений художников, что сделают очередной шаг вперед, потом}' что современное искусство в состоянии создать только люди, освоившие все, что было перед ними и то, что делается в искусстве теперь. С этой точки зрения теория искусства Стршеминского отличалась принципиально от большей части авангардных концепций, считаемых их авторами совершенными и неизменными. Конструктивизм, как советский, так и в варианте Баухауза, оглашал необходимость уйти от прошлого, а не улучшения предшествующих формальных систем. На этот факт обратил внимание еще Р. Станиславский в статье «О “doskonalogci obiektywnej Strzemirfskiego - dzisiaj” (Wladyslaw Stremiriski in memoriam. Lodz, 1988. S. 52).
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Strzeminski W. Sztuke nowoczesne w Polsce. S. 59-63. Цит. no: Strzemiriski. Pisma. Wroclaw. 1975. S. 206.
15 Ibidem.
16 Stazewski H. О nojmlodszej sztuce polskiej. S. 329.
17 Ibidem. Аналогичную оценку формизму дала исследовательница польской литературы Хелена Заворска, писавшая: «Формизм как направление формировал новое понимание изобразительного и литературного творчества, однако он не был определенной монолитной школой, наоборот - был настоящим источником множества направлений. ...тоже самое происходило с кубизмом во французской поэзии...» (Literatura polska 1918-1975 Warszawa, Т. 1. Literatura pol- ska 1918-1932. S. 339).
18 Cm.: Blok, 1925, N 1 и 10.
19 Peiper T. Miasto, masa, maszyna. (цит. no: Lam A. Polska awangarda poetycka, Krakdw, 1969. S. 307-324.
20 Ibid. S. 313-314. Здесь необходимо вспомнить, что в этом тексте первый раз в Польше были сформулированы принципы конструктивистской живописи.
21 Стршеминский не только писал статьи для «Звротницы», но и делал графические проекты - см. обложку шестого номера журнала за 1923 год.
22 Стажевский более доброжелательно, чем Стршеминский относился к деформации в искусстве, считая ее выражением уродливости, изобличающей все общественные недостатки в карикатурной форме {Stazewski Н. Deformacja w plastyce // Kuznico, 1948, N 7. S. 8-9).
23 Dyskusja L. Chwistek - W. Strzeminski // Forma, 1935, N 3. S. 4-10.
24 Strzeminski W. B-2. S. 16.
25 Stazewski H. Nowa sztuka... S. 4.
26 Stazewski H. Styl wspdlczesnogci // Praesens, 1926, N 1. S. 2-3.
27 Strzeminski W. Malorstwo doly ostatniej... S. 248.
28 Strzemiriski W. Michal Sobeski... S. 214.
ЕЮ. Иньшакова
МЕЖДУ ЭКСПРЕССИОНИЗМОМ И КОНСТРУКТИВИЗМОМ. ПИСАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ
Так случилось, что имя Сергея Михайловича Третьякова, прежде всего, ассоциируется с деятельностью группы «ЛЕФ», одним из главных идеологов которой был этот выдающийся представитель авангардного движения. Яркое созвездие талантов, интенсивная творческая жизнь и широкий круг интересов - все то, что характеризует эту группу, нашло свое отражение в произведениях, выходивших «из-под пера» лефовцев. Еще до создания организации (1925) в 1922 г. В.В. Маяковский и О.М. Брик побывали в Германии и Франции. И если пребывание в Париже было отражено поэтом в очерках и стихотворениях, то с Германией дело обстояло иначе. Из восьми очерков, посвященных впечатлениям от пребывания в этих странах, о Германии рассказывает только один. Осенью 1922 появилось и стихотворение «Германия». В очерке «Сегодняшний Берлин» описаны весьма поверхностные впечатления поэта: «При въезде в Берлин поражает кладбищенская тишь. (Сравнительно.) Прежде всего результаты того же Версальского хозяйничанья. Например, около Берлина есть так называемое «Кладбище аэропланов» - это новенькие аэропланы, валяющиеся, ржавеющие и гниющие: французы ходили с молотками и разбивали новенькие моторы»1. Описав послевоенную разруху, «отбросы разрухи и обрубки бойни», революционный подъем и русскую эмиграцию, автор очерка нравоучительно заканчивает: «Присмотреться к ней (Германии), учиться у ее технического опыта - большая и благородная задача»2.
Подобный формальный подход поэта имеет очень простое объяснение. Л.Ю. Брик вспоминала: «Не помню, почему я оказалась в Берлине раньше Маяковского. Помню только, что очень ждала его там. Мечтала, как мы будем вместе осматривать чудеса искусства и техники /.../
Но посмотреть удалось мало. У Маяковского было несколько выступлений, а остальное время... Подвернулся карточный партнер, русский, и Маяковский дни и ночи сидел в номере и играл с ним в покер»3.
Итак, в 1925 г. был создан ЛЕФ. Он объединил представителей разных отраслей искусства и культуры. Подобная широта охвата
440
подразумевала открытость различным авангардным влияниям левого толка. Важную роль в группе играли и режиссеры, достаточно вспомнить имена С.М. Эйзенштейна и Дзиги Вертова. Проблемы современного кино волновали и О.М. Брика, одного из идеологов ЛЕФа. Поиски места и роли советского кинематографа отражены в его статьях, посвященных проблемам западноевропейской и, прежде всего, германской культуры. В неопубликованной статье «Писси Пук», рассказывающей о нашумевшей в 1-ой половине 1920-х годов пьесе немецкого поэта Карла Эйнштейна4 «Злая (или в переводе критика “Дурная”) весть», О.Э. Брик писал, что немецкий драматург «...сочинил злую сатиру на эстетствующих мещан, для которых иллюзии сцены выше подлинной жизни; для которых кино-драма, кино-игра значительнее кино-правды. Он бил по гнилому Западу, по разлагающейся буржуазной Европе. Но попало и нам, молодой Советской России, молодой советской кинематографии.
Разве у нас мало фильмов с участием Писси Пук? Разве у нас не суют в руки актрисам мертвых младенцев с криком: “Больше мимики! Больше отчаяния!” Разве не захлебываются у нас от кино-ужасов, кино-смертей, кино-голгоф?
Разве нет у нас милых кино-завсегдатаев, которых никакими джаз-бандами не затянешь смотреть фото-правду, но которые с восторгом будут смаковать бутафорские муки всякого рода Писси Пук, мужского и женского пола, посасывая леденцы “Ноблес” фабрики “Большевик” и сладострастно нашептывая соседу:
- Посмотри, посмотри, Зорзик, как их мучают.
Писси Пук на советском экране! Долой ее!
Мы не мещане Запада. Мы не смеем им подражать. Мы должны бить бутафорскую игру живым показом. Должны бить эстетство фактом. Должны бить кино-правдой!»5
Конечно, искушенный читатель сразу различит за обвинительным пафосом критику, направленную в адрес экспрессионизма, методы и приемы которого достаточно часто критиковали идеологи ЛЕФа. И, надо отметить, они были не одиноки. В это же время Эр- вин Пискатор, впоследствии ставший близким другом С. Третьякова, писал: «Стиль, которым необходимо овладеть как артисту, так и автору и режиссеру, должен быть совершенно конкретным. Все, что говорится, должно быть сказано без всяких поисков, без экспериментов, отнюдь не “экспрессионистически”, без судорог; должно определяться простой и откровенной революционной целеустремленностью и волей. Тем самым заранее исключаются все неоромантические, экспрессионистские и тому подобные стили и проблемы, возникавшие из индивидуально-анархических потребностей буржуазного художника»6.Однако течение жизни, ход истории и взаимопроникновение творческого процесса вынуждали мастеров, декларировавших себя как конструктивистов, обращаться к обостренной эмоциональности, ярким метафорам, трагическому ощущению бытия
441
и, подчас, фантастическому гротеску - всему тому, что свойственно экспрессионизму.
Биография С. Третьякова достаточно характерна для того переломного времени. Он родился 21 июня 1892 г. в Голдингене (ныне Кулдига, Латвия). Детство провел в Латвии, в 1913 окончил Рижскую гимназию и поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил в 1916 г. Первый его поэтический сборник «Железная пауза» вышел во Владивостоке, куда он приехал в 1919 г. В 1920 эмигрировал в Китай, в 1921 возвратился в СССР. В 1922 приехал в Москву, где стал сотрудником ЦК Всесоюзного пролеткульта, работал у Эйзенштейна в Первом Рабочем театре Московского Пролеткульта. Третьяков сотрудничал в ГОСТИМе, в редакции ЛЕФа. В 1924 был приглашен читать лекции в Пекинском национальном университете. Возвратился в Москву в 1925 г., где началась его деятельность в области кинематографии. Третьяков участвовал в работе Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», писал сценарии для фильмов «Москва-Пекин» и трехсерийного фильма о Китае «Желтая опасность», «Голубой экспресс», «Рычи, Китай!» В 1927 сотрудничал в Госкинопроме Грузии, где создал сценарии для фильмов «Соль Сванетии» (1927, реж. М.К. Калатозов), «Элисо» (1928, реж. Н.М. Шенгелая) и «Хабарда» (1930, реж. М.Э. Чиаурели). С образованием Союза писателей СССР Третьяков становится заместителем М.Е. Кольцова в иностранной комиссии. После съезда писателей в августе 1934 г. сопровождал немецких писателей в их поездке по Союзу. Среди его друзей писатели Б. Брут, О-М. Граф, Т. Пливье, И. Херцфельде, И.-Р. Бехер, Э. Толлер, В. Отвальд,
B. Бредель, А. Шарер. Особенно Третьяков сблизился с Б. Брехтом, став его первым переводчиком и популяризатором. 26 июля 1937 г.
C. М. Третьяков был арестован. Узнав о его гибели, Б. Брехт написал стихотворение «Непогрешим ли народ?», в котором есть такие строки: «Мой учитель Третьяков, / Огромный, приветливый, / Расстрелян по приговору суда народа. / Как шпион. Его имя проклято. / Его книги уничтожены. Разговоры о нем / Считаются подозрительными. Их обрывают. / А что если он невиновен?»7
В Гос. музее В. Маяковского в архиве А. Февральского хранится ряд документов, связанных с творчеством этого замечательного человека. Среди них - так и нереализованный киносценарий «Слепая». Он посвящен кавказской теме, благодаря чему его можно условно отнести к концу 1920-х годов. События этого кинопроекта разворачиваются в одном из сванских селений. В доме, на ролях прислуги живет слепая от рождения девушка. Ее приемные родители, не склонные афишировать увечье, оправдывают вполне объяснимые промахи девушки тем, что на кухне дымно, и «дым глаза выел». Девушку надо выдать замуж. Выбор падает на Нестора. Он беден. В качестве приданного ему сулят новый топор и быка, которого семья слепой (девочки) заменяет коровой. Чтобы вернуть зрение не¬
442
весте соседи и родственники советуют жениху расширить в дрме окно. После свадьбы Нестор понимает, что его обманули. Он желает вернуть жену в родительский дом. Один из соседей, кооператор, говорит, что женщине поможет известный доктор. Доктор делает операцию и слепой возвращается зрение, однако она уже не желает возвращаться к предавшему ее мужу. Нестор воспринимает это как оскорбление. Он решает убить врача. Его замысел удается. Погибает и слепая, пытаясь спасти человека, вернувшего ей зрение.
Подобный сюжет отсылает нас к традиции фильмов так называемого «каммершпиля». Однако кавказская экзотика избавляет автора от необходимости создавать какие-то особенные, связанные с системой выразительных средств экспрессионизма, декорации.
Действие разворачивается, как это было уже сказано, в Сване- тии. Уже в первых кадрах предстает дикая, громадная, невозмутимая природа: первый кадр - «крупно, глыба льда прозрачного, блестящего»; второй кадр - «глыбы нависшего снега»; 4 кадр - «общий план, над пиками несутся тучи». В 6 кадре автор вводит в действие людей, но на общем плане, мелким контражуром: «Идут гуськом сваны, ступая в ряд. Идут, осторожно ступая в ногу». И сразу же, в следующих кадрах крупным планом, словно показывая, кто, хозяин в этой стране холода и мертвых камней, крупным планом даются обваливающиеся глыбы льда и снега.
Вначале сценария ставится и основная проблема: четыре кадра, с 13 по 16 демонстрируют скатывающихся по льду сванов, летящую домашнюю утварь, движение горизонта льда, снежную пыль. Автор словно подчеркивает - это не традиционная мелодрама, хотя все ее признаки налицо, это рассказ о сосуществовании мощной, глухой природы и человека, традиции, уклада и новых тенденций; сосуществование, но не взаимопроникновение, ибо эта трансформация чревата гибелью.
Но и здесь тонким лейтмотивом уже чувствуется определенная конструктивистская тенденция: как истый сын своего времени
С. Третьяков вводит 5 кадр, правда, отображающий второй план: «следы автошин, уходящие вглубь». Таким образом, автор подчеркивает, с одной стороны, разрыв первозданного, глухого и мертвого хаоса человеческой волей, а, с другой - поглощение этой «природой» любые проявления человеческой цивилизации. Идет великая борьба.
Безусловно, определенную положительную роль в произведении играет тема кооператива, колхоза. Коллективный труд, коллективное хозяйство, по замыслу автора, воплощают позитивные тенденции настоящего. Шифер для колхозников с гор спускается на быках, тогда как единоличнику Нестору приходится волочить его на себе, у колхоза есть кооператив, и именно кооператор-продавец как самый грамотный член кооператива советует обратиться к помощи доктора. Но, как показывает дальнейшее развитие сюжета, именно
443
это новое и становится косвенным виновником гибели врача и слепой, а также провоцирует отторжение в некое инобытие самого Нестора.
Кооператив - это не только веяние новой эпохи, это и определенная система, сообщество, и, в конечном итоге, власть, которая давит и уничтожает различные элементы традиционного уклада, не приемлемого в грядущей жизни. Милиционеру, запрещающему Нестору преследовать своих недругов, последний говорит: «Своих вещей искать нельзя. Своей дорогой ходить нельзя. Своего обидчика убигь нельзя».
Грядущий мир бездушен по отношению к рядовому человеку. Свод запретов способен лишь слегка притушить огонь, но не уничтожить его. И тогда человек поступает как затравленное животное, желающее только смерти своему врагу. Он не осознает, кто повинен в его несчастье, его не интересуют причинно-следственные связи, породившие столь плачевный результат, ему нужна кровь. Один из сванов приходит в сельскую больницу, где полгода назад умер его сын. Он протягивает врачу банку со словами: «Это нутро моего сына, умершего полгода назад в твоей больнице». Когда растерявшийся врач машинально берет банку, сван заходит за плечо доктора, достает наган и убивает медика.
Необходимо рассмотреть еще одну тему, затронутую С. Третьяковым. Это роль женщины в новом и старом мире. Главный персонаж сценария - слепая девушка - словно усиливает феминистский дискурс сценария. Уже со второй картины на первый план выходит тема традиции. В Сванетии, со словами «кровь будет на вашем доме, если не дадите невесту», сватают трех-четырехлетних детей. Взрослые со всей серьезностью, свойственной и их положению в роду, и цели визита в дом «невесты» играют своеобразное представление. Но в нем нет роли увечной девушке. Женщина бесправна. Определенные права в традиционном обществе она получает только после замужества. Героиню, компрометирующую своих родных, словно ненужную вещь, довесок, отдают человеку, польстившемуся на топор и быка. Как к вещи к ней относится и муж. Обнаружив, что женщина слепа и его обманули, он везет ее в родной дом с требованием «переменить». Удачная операция не только вернула слепой зрение. Она раскрыла женщине новый мир, новый свет. Отступившая темнота становится олицетворением старой традиции, довлеющей над героиней. Нестор присутствует на операции. Наблюдая за работой врача, он периодически хватается за нож, словно сомневаясь, так ли нужна ему зрячая жена. Но и слепая, получив возможность видеть, отталкивает Нестора. Это не просто проявление женского своеволия: это отказ от традиции, который не прощается ни слепой, ни врачу.
Феминистская проблематика также затрагивалась немецким экспрессионизмом. Достаточно вспомнить драму Э. Толлера «Чело¬
444
век-масса», с которой, как можно предположить, был знаком
С. Третьяков. В драме «Человек-масса» героиня - жена преуспевающего буржуа, желая достичь всеобщего счастья и помочь всем бедным и обездоленным, порывает со своим окружением. По ходу пьесы она оказывается в тюрьме. Толпа готова ее освободить. Но между героиней и ее свободой стоит тюремщик. Женщина отказывается как от свободы, так и от собственной жизни.
Несмотря на определенные различия, и пьесу, и сценарий многое объединяет. Как и в пьесе Э. Толлера, слепая рвет со своим обычным жизненным укладом. Правда она не думает о всеобщем счастье, она сама «униженная и оскорбленная». Но разрыв, вызванный внешними силами, захватывает все бытие, эго женщины. Она болезненно переживает предательство мужа; свет, ворвавшийся в ее, дотоле слепые глаза, сопоставим с молнией, с ударом кинжала, уничтожившим женщину-вещь и породившим женщину-личность, способную на осознанный выбор, не менее значимый, чем тот, что сделала героиня пьесы «Человек-масса».
Весьма интересна еще одна тема, затронутая в киносценарии. Я имею в виду тему величия техники. Это поистине конструктивистский гимн торжеству технического прогресса и человеческому гению. Врач способен исправить ошибку природы. Сцены операции должны были быть, по замыслу автора, максимально документали- стичны. Белая операционная; лучи прожектора, которые не только являются необходимой составляющей операции, но и подчеркивают, усиливают наиболее важные моменты, эмоциональный настрой главных персонажей произведения: и смятение Нестора, его страх, и боль и надежду слепой; струйка крови, текущая из глаза оперируемой, кровавые бинты - все эти атрибуты реальности отсылают нас к концепции «Монтажа аттракционов» другого известного лефов- ца - Сергея Эйзенштейна, друга, коллеги и учителя С. Третьякова. «Моим художественным принципом, - писал С. Эйзенштейн, - было и остается не интуитивное творчество, а рациональное конструктивное построение воздействующих элементов; воздействие должно быть проанализировано и рассчитано заранее, это самое важное»8.
В заключение можно сделать вывод о том, что традиционное существование сванов, их родовой уклад, олицетворением которого является Нестор, рассматривается как определенный цивилизационный кризис. Его разрешение двояко. Оно заключается либо в принятии всего нового (подразумевается, всего того, что несет в себе новая власть и новая культура), либо в гибели. Однако ориентация на новое или старое не спасает от физического конца (что для материалиста С. Третьякова равноценно концу бытия и бытования микрокосмоса человека). Под натиском отверженного, но физически живого Нестора, человека из прошлого, в новом мире метафизически мертвого, гибнут и врач - символ и способ грядущего обновления, и слепая, вызволенная, вырванная им не только из физической
445
слепоты, но и из темного мира прошлого. Под покровом мелодраматического конца скрывается неуверенность автора как в светлой и оптимистичной перспективе грядущего, так и безоговорочного позитива для простого человека. Хаос бытия, олицетворением которого становятся громады гор, торжествует.
К сожалению, нам так никогда не удастся до конца реконструировать характер, образ мыслей и взгляды С.М. Третьякова. Так и не удастся до конца понять этого, по характеристике Е.А. Лавинской, «фанатичного догматика с лицом иезуита»9, сгинувшего в мрачных недрах Лубянки. Но то немногое, что осталось от его погибшего архива представляет нам яркий и самобытный талант - значительное явление культуры сложных и противоречивых лет в истории нашей страны.
1 Маяковский В.В. Сегодняшний Берлин // Маяковский В.В. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1957. Т. IV. С. 257.
2 Там же. С. 258.
3 Брик Л.Ю. Из воспоминаний // Имя этой теме: любовь. Современницы о Маяковском. М., 1993. С. 116.
4 Эйнштейн Карл (1885-1940) - немецкий поэт-экспрессионист. По воспоминаниям И.Г. Эренбурга, познакомившегося с ним осенью 1921 г. в Берлине «... это был веселый романтик, лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка. Он рассказывал, что был на Западном фронте солдатом и заболел психическим расстройством. Он напоминал мне моих давних друзей, завсегдатаев “Ротонды”, и любовью к негритянской скульптуре, и кощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи» // (Эренбург И. Люди, годы, жизнь) // Оренбург И. Собр. соч.: В 6 т. М., 1961-1965. Т. 1. С. 382.
5 РО ГММ 11608/РД 7646. Ф. 13. On. 1. Ед. хр. 25.
6 Цит. по: Копелев Л. Драматургия немецкого экспрессионизма // Экспрессионизм. М., 1966. С. 46-47.
7 Брехт Б. Непогрешим ли народ? // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1965. Т. 5. С. 641.
8 Эйзенштейн С. Избр. соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 1. С. 544.
9 Лавинская ЕЛ. Воспоминания о встречах с Маяковским // Маяковский в воспоминаниях родных и друзей. М., 1968. С. 337.
А.И. Веселовская
ПАРАДИГМА СОЦИАЛЬНОГО ВЫВИХА В ЭКСПРЕССИОНИСТСКИХ СПЕКТАКЛЯХ ТЕАТРОВ УКРАИНЫ 1920-х ГОДОВ
Развитие экспрессионистского направления в украинском театральном искусстве 1920-х годов отмечено уникальным стечением обстоятельств и факторов: эстетических, мировозренческих устремлений художников, а также социальных и политических реалий. В постановках драм немецких экспрессионистов и в театре «Бере- зиль», и в театре им. Г. Михайличенко, и в театре им. И. Франко соединялось трагическое восприятие революции, гражданской войны, калейдоскопической смены властей и фантом утопической идеи социалистического будущего. Подобные настроения способствовали превращению театрального экспрессионизма в Украине в явление масштабное и глобальное для украинской художественнной практики.
Вместе с тем, следует учитывать, что около года украинские земли находились под властью немецкого кайзера и, что большевистская оккупация Украины 1918-1919 гг. была своеобразным экспортом революции с Севера, а подобный же экспорт пытались осуществить русские большевики в Германии в Баварской республике. Экспорт революции на Украину удался, а собственные украинские социал-демократические силы, среди них драматург и политический деятель В.К. Винниченко, оказались разобщены, уничтожены, либо эмигрировали. Кроме того, социально-экономическая ситуация в Украине в 1-й половине 1920-х годов удивительным образом напоминала социальный кризис в Германии, который начался 'там несколькими годами ранее: огромная безработица, инфляция, голод, вследствие засухи 1921 г., катастрофические масштабы детской преступности, беспризорность и проституция.
Именно в круговороте этих сложных политических факторов видятся причины того, что немецкое экспрессионистское искусство в начале 1920-х годов стало неформально близким украинцам. И именно поэтому, для осмысления украинского театрального экспрессионизма, его изучением театровед Н.Б. Кузякина настойчиво предлагала заняться еще в 1970 г., избрав социально-политический и этический аспекты.
447
Весьма распостраненной в Украине и за ее пределами является точка зрения, что увлечение эстетикой экспрессионизма в целом, и немецким экспрессионизмом, в частности, в творческом объединении «Березиль», возглавляемом Л. Курбасом, было более значительным и глубинным, нежели в других театрах Украины. Среди других подразумевается прежде всего постоянный соперник «Бере- зиля» в 1920-30-е годы - театр им. И. Франко, хотя внедрение экспрессионистских текстов в украинский театральный ландшафт происходило во многих театрах одновременно: и в «Березиле», и в театре им. И. Франко, и в различных пролеткультовских коллективах, и в русских антрепризах, и в еврейских студиях. Вместе с тем, убежде- ность в том, что в театре им. И. Франко, так называемыми левыми течениями вообще не занимались, исключая шесть авангардистских спектаклей Б.Глаголина середины 1920-х, препятствовала обьектив- ной оценке того, что же все-таки, собственно, происходило с театральным экспрессионизмом в Украине в целом.
С осени 1923 г. положение театра им. И. Франко кардинально изменилось - он превратился в официально поддерживаемый властью театральный коллектив, а в услових тотальной разрухи это означало особое финансирование, пайки и другие виды привилегий. В репертуар его первого харьковского сезона 1923-1924 гг., когда из передвижного он превратился в столичный стационарный театр, было включено сразу четыре пьесы немецких драматургов-экспрес- сионистов: «Эуген Несчастный» Эрнста Толлера, «Красные солдаты» Карла Августа Витфогеля, «Иуда» Эриха Мюзама и «1923» Георга Кайзера. Правда, из намеченных франковцами экспрессионистских спектаклей, состоялось лишь три премьеры: спектакль но пьесе Кайзера поставлен не был.
О постановке «Эугена Несчастного», драмы написанной Э. Тол- лером в 1921-1922 гг. в заключении в крепости Нидершененфельд, только вскользь упоминается в нескольких источниках, посвященных театру им. И. Франко и непосредственно исполнителю главной роли - актеру Алексею Ватуле. В то же время, премьера «Эугена Несчастного» - первый спектакль франковцев в статусе харьковского стационарного театра, стала весьма значительным как политическим, так и эстетическим событием. Именно драмой Толлера, посвященной жизни послевоенной Германии, открывали франков- цы свой первый харьковский сезон, и этот спектакль должен был стать визитной карточкой нового, пролетарски ориентированного театра. Неслучайно, с определенным политическим расчетом, был также избран день премьеры: 7 ноября 1923 г. - очередная годовщина Октябрьской революции, в тогдашнем Харькове - столице Украины отмечалась черезвычайно помпезно.
Сам драматург Толлер, не менее популярный в Советском Союзе, чем немецкий экспрессионист Георг Кайзер, как и большинство других представителей поколения идеалистов, безумцев-поэтов,
448
прошел сквозь ужасы Первой мировой войны, революционную бойню в Германии 1918-1919 г., заключение, психушки и расстрел. В начале Ноябрьской революции в Германии 1918 г. Эрнст Толлер стал одним из ее политических лидеров, а в апреле 1919 г. - главой Центрального Совета Баварской Советской республики. Однако в этом революционном прошлом Толлера все было далеко не так однозначно. В различных исторических изданиях Толлера называют предателем, а возглавляемую им республику псевдосоветской1, поскольку независимые, а к ним принадлежал Толлер, и коммунисты- спартаковцы (их лидер Евгений Левине получал финансовую помощь от большевиков России) находились в жесткой конфронтации. Потому-то, поступки Толлера во время мюнхенских событий в апреле 1919 г. воспринимались советскими деятелями с подачи коммуни- стов-спартаковцев совершенно иначе, чем их описывал сам Толлер.
Защищая Баварскую республику Толлер действовал как настоящий романтический герой: «Идеалистический социализм, - рассказывал Франц Вайскопф, - подсказал ему наивную мысль послать делегацию молодых девушек в белых платьях, чтобы пробудить чувство человечности в солдатах, выступивших под командованием генерала Эппа»2. Этот поступок революционера-идеалиста позднее припомнили Толлеру коммунисты-большевики. Когда весной 1926 г. он приехал в Советский Союз, сначала его встретили с чрезвычайными почестями. О том, что произошло позднее, поведал в своем «Московском дневнике» немецкий левый радикал, философ Вальтер Беньямин. «В эти дни в Москве проходит заседание Коминтерна. Среди немецких делегатов - Вернер, смертельный враг Толлера. Он сочиняет или инспирирует для “Правды” статью: Толлер, сообщается в ней, предал революцию, виновен в поражении советской республики в Германии. “Правда” дает к этому краткое редакционное примечание: извиняемся, мы этого не знали. Толлер становится в Москве нежелательной фигурой. Он отправляется, чтобы выступить с широко обьявленным докладом - здание закрыто»3. Однако при помощи А.В. Луначарского Толлер все-таки вышел из этой сложной ситуации и был радостно встречен московскими и ленинградскими театральными деятелями4.
После разгрома Советской республики 1.V.1919 г. Толлера осудили на пять лет заключения в крепости Нидершененфельд, где он и написал свои четыре самые известные драмы (первую пьесу «Превращение» Толлер создал еще в военной тюрьме) - «Разрушители машин», «Человек-масса», «Калека» (в переводе «Эуген Несчастный») и «Освобожденный Вотан».
О возникновении замысла, написанного за решеткой «Эугена Несчастного» Толлер вспоминал: «На стене моей камеры играют солнечные зайчики, возникают два световых пятна, круглые, как яйца. Какая жизнь человека без мужской силы, которую отняла у него война ? Через несколько минут я записываю фабулу моей драмы
449
15. Русский авангард
“Эуген Несчастный”»5. Чтобы дописать этот текст, Толлер даже отказался от побега из тюрьмы: «Я дошел до середины третьего акта, завтра утром я напишу последнюю сцену, я уже сконструировал ее, я уже вижу ее перед собой, воплощенную в образах; завтра она у меня получится, потом уже никогда, я не смею бросить, не смею отложить ее. Я не могу заснуть, бежать или писать, бежать или писать?»6.
По-немецки драма называлась «Калека» («Гинкеман» - имя собственное главного героя, которое переводится как калека, хромой), т.е. гораздо выразительнее и фарсово окрашеннее, нежели в русском либо украинском переводе - «Эуген Несчастный». И даже в пересказе известного литературоведа и социолога 1920-х годов П.С. Когана эта пьеса поражаем своим физиологизмом, грубостью, социальным пессимизмом и сложной морально-этической проблематикой, что собственно и было главным опознавательным знаком немецкого экспрессионизма 1920-х годов.
«Гинкеман - рабочий. Он вернулся с империалистической войны калекой. Его рана сделала его импотентом, и в этом его трагедия. У этого великана нежное сердце, он семьянин по натуре и любит свою жену. Он вынужден изображать в балагане “немецкую мощь". Хозяин балагана хорошо знает свою публику. Недаром пять лет миллионы людей убивали и калечили друг друга. Люди озверели, им нужны зрелища кровавые, щекочущие нервы. Импотент Гинкеман. воплощающий “немецкую мощь” на глазах у публики, во время представления по вечерам перекусывает глотку одной крысе и одной мыши и пьет их кровь. Чувствительный великан переживает нечеловеческие страдания, но он любит свою жену, а владелец балагана платит 80 марок, потому что номер этот вызывает восторженное гоготание у зрителей». (Примечательно, что Гинкеман перекусывает глотку крысе, животному, которое является особым символом экспрессионистской эстетики - достаточно вспомнить огромное количество крыс из фильма Мурнау «Носферату - симфония ужаса». - А.В.)
«В это время, - продолжает П.С. Коган, - его жена Грета, свежая, здоровая, в которой бунтует кровь и не могут умолкнуть естественные запросы сердца, сходится с товарищем Гинкемана, Паулем Гросганом... В небольшом трактире, где собираются рабочие, Гинкеман ставит своим товарищам в упор вопрос по поводу своего несчастья. Никакой социализм не разрешит этой страшной проблемы: «Если человек болен, неизлечимо болен, разве могут исцелить его разумные условия? Пытаться понять жизнь, разве это не значит пытаться вычерпать море. И он рассказывает свою историю, скрыв ее истинную жертву и назвав вымышленного друга»7.
Здесь в трактире Эуген произносит свой главный монолог, состоящий из коротких телеграфных фраз-сообщений, раскрывающий его огромную моральную и физическую боль и звучащий очень
450
надрывно: «Жил был человек. Ничего замечательного. Не вожак. Человек из массы. Рабочий. Мой приятель. Я был с ним дружен. Двадцати лет он женился. С женой познакомился на фабрике. Это была прекрасная парочка. Я радовался всегда, когда видел их вместе. Она - прелестная женщина. Он - молодец, словно из стали.... Покрепче меня... И так гордился своей силой... Когда началась эта великая “война героев”, его призвали. В пехоту. Детей у него не было. Заработка не хватало на это... Великое желание родилось в нем. Ребенок! Нет, двое. Двое, трое... четверо... пятеро ребят!.. Мальчишки! Девчонки!.. Какой прекрасной матерью будет его жена! Он забыл как живется жене рабочего, где много детей. Что мы знали о жизни, о природе, о лесе, о земле ? Шесть дней мы проводили в рабстве. А по воскресеньям ходили в душное кино и глядели на лживые картины, о богатом графе и бедной девушке, которую он поднял из уличной грязи, и о похожих пустяках Боже мой! Чем была наша жизнь! Подделкой, не настоящей жизнью! Жизнью машин!.. Однажды в сражении его ранили. “Теперь-то вернусь на родину”, - подумал он и был счастлив. Проснувшись в лазарете, он стал ощупывать свое тело. Повязка на животе. “Ага”, - подумал он “рана в живот”. И услышал голос с соседней койки: “Наш евнух тоже очнулся. Вот-то удивится он, когда узнает, что с ним сделали”. Это они обо мне ? Подумал он. Но почему же “евнух”? ... На утро узнал все. Сначала он ревел, ревел целыми днями... как раненый кабан... И вдруг заметил, что его рев стал становится пронзительным писком»8.
Примечательно, что в корпусе украинской протоэкспрессиони- стской драматургии, а именно у В. Винниченко, есть произведение, по сюжету напоминающее «Эугена Несчастного» Эта первая, малоизвестная пьеса драматурга «Дизгармония», написанная им в 1906 г., сразу после возращения из Лукьяновской тюрьмы. У Винниченко также, как и у Толлера, предстает объемная картина общественно- политических событий: подготовка к митингу, разведывание планов черносотенцев, организация митинга и арест главных действующих лиц, на их фоне разворачивается душевная драма Грыцька, вернувшегося больным из тюрьмы и его жены Ольги. Премьера «Дизгар- монии» состоялась в Киеве в 1918 г. в Государственном драматическом театре, ровно месяц после того, как произошла революция в Германии. Этот спектакль, сыгранный в середине декабря 1918 г., начинался при одной власти, а заканчивался при другой: петлюровские войска, захватив Киев, ликвидировали гетманскую власть и провозгласили Директорию, а через несколько месяцев и эту власть выбили из города большевики, в их военных соединениях за Киев сражались все те же коммунисты-спартаковцы из Германии.
Анализируя текст Винниченко, один из многочисленных исследователей его творчества отмечал: «В пьесе обьединяющее начало - в желании автора исследовать основы “новой” морали, которую исповедуют “новые” люди-революционеры. Он стремится проверить
15*
451
истинность их морально-этических постулатов ... Ольгу мучает неопределенность в отношениях с Грыцьком. Если до возвращения из тюрьмы все было понятным: она - жена и должна дождаться мужа, то теперь долг перед больным мужем вступает в конфликт с подсознательным желанием к сильному духом и телом Мартыну»9. Грыць- ко же, который утратил надежду стать мужем Ольги, идет к проститутке.
Отмеченные сюжетные совпадения «Дизгармонии» и «Эугена Несчастного» проявляют тот сложный путь, что прошла европейская драматургия от протоэкспрессионизма к экспрессионизму. Ибо, если у Винниченко в образах Грыцька и Мартына возникала так называемая модель честности с собой, ее маральная доктрина сложилась у Винниченко под очевидным влиянием ницшеанской теории свободной личности, то в экспрессионистской пьесе 1920-х годов, постулируется отсутствие морали как таковой. Человеку из буржуазного мира уже не нужны подобные качества вообще, утверждают экспрессионисты: он, либо настолько раздавлен и угнетен, либо циничен и агрессивен, так что совсем не нуждается в морали.
Внеморальность, постулируемая экспрессионистами, опустошенные страданиями Первой мировой войны, позднее ловко использовали коммунистические идеологи от искусства. Им потребовалась своя «коммунистическая мораль», и этим экспрессионизм пригодился большевикам, хотя только в самых общих чертах «ком- мораль» соотносилась с отказом экспрессионистов воспринимать мир по старым этическим законам.
Абсолютизация революционой ангажированности немецких экспрессионистских пьес, переоценка их пролетарской направленности, а главное гигантская смысловая дистанция между тем, как мораль понимали большевики у власти, и тем, как изображали человека экспрессионисты - без морально-этического стержня, утраченного из-за несовершенства мира, способствовали тому, что, попадая на советскую сцену, эти драмы значительно перерабатывались. По большому счету, болезненный экстатизм экспрессионизма Толлера был не ко времени и в Германии 1920-х годов. Буржуазному театру он не был нужен из-за своей откровенности и обличительное™, а пролетарскому - из-за пессимизма и отсутствия должной революционной вдохновленности, потому-то один из ведущих немецких театральных критиков Герберт Йеринг уже в 1923 г. констатировал завершение экспрессионистского периода в театральном искусстве Германии10.
Тотальная переделка авторского названия пьесы на всех без исключениях советских сценах была сознательным шагом по усовершенствованию содержания произведения Толлера. Сначала спектакль театра им. И. Франко, как сообщала харьковская газета «Висти», должен был называться «Всемирный балаган», что весьма примечательно, поскольку само явление «балаган» стало неким зло¬
452
вещим символом, местом где творятся чудеса и ужасы, для экспрессионистского искусства в целом. Но возникающая ассоциативная параллель «мировая революция» - «всемирный балаган» была бы явным проявлением политической близорукости, потому-то и возникло стандартное для всех советских сцен название «Эуген Несчастный» .
По праву переводчика и постановщика, Гнат Юра значительно изменил текст и внес кардинальные изменения в финал пьесы, о чем один из авторитетных харьковских критиков И. Туркельтауб, очевидно знакомый с первоисточником, похвально писал: «Гнат Юра хорошо сделал, что переделал не только сценическую сторону трагедии, а и ее дух, внес в нее много светлого мажора»11. В оригинале драма Тол л ера заканчивалась самоубийством Эугена и его жены Греты. В спектакле Юры, как следует из рецензии Туркельтауба, у Эугена появлялись приятели, ведущие революционную деятельность. Они-то и предлагали герою не убивать жену, а использовать «его новую профессию для революционного дела: в городе восстание, а директор балагана организовал группу шпионов. Нужно перегрызть им горло. И Эуген соглашается на это»12. Так, Гнат Юра, возможно сам не осознавая того, подошел к одному из важнейших мотивов постэкспрессионистской пьесы XX в. - мотиву проданной смерти, в гротесковой форме проявившемуся у Н.Р. Эрдмана в «Самоубийце», а в трагической - у М.Г. Кулиша в «Маклене Грасе».
Итак, переделка финала из пессимистического в оптимистический, где насилие, сотворенное над собой и своей женой, подменялось революционным насилием, принципиально изменяло этическую основу, характер драматургии Толлера. В этом смысле важно напомнить, что насилие в революционной деятельности для Толлера и других экспрессионистов - Эриха Мюзама, Карла Аугуста Витфо- геля, чьи пьесы также ставились в театре им. И. Франко, было чрезвычайно дискуссионным моментом. Собственно утопическая идея свершения революции без кровопролития и разделила в 1919 г. Толлера и Гитлера, командовавшего одним из отрядов, защищавших Баварскую Советскую республику, ее главой был будущий драматург.
Первая рецензия на харьковского «Эугена Несчастного» в постановке Г. Юры, при участии художника Е. Магнера и композитора Б.К. Яновского, появилась сразу же в ноябре 1923 г. Ее автор, спрятавшийся под псевдонимом “Bernik et Kras”, весьма точно определил характер спектакля, отметив, что «на первый план выдвинута центральная фигура, с нее все начинается, вокруг нее объединяются все остальные персонажи. Общий тон пьесы настроен по ее камертону: получилась грустная картина социального распада государства, на ее общем фоне суетится фигура искалеченного физически и морально индивида, но ясно чувствуется, что все инвалиды - это те же самые Эугены, которые только и могут, что кричать и надрывать ухо. В постановке очень выразительно выдвинут именно этот
453
принцип: даже тот Эуген, которого все ненавидят и от которого все шарахаются, притягивает к себе внимание»13.
Исполнителем главной роли калеки Эугена был артист Алексей Ватуля - актер остро характерной внешности и героического сильного темперамента, который, судя по отзывам критиков, сыграл эту роль очень удачно. По мнению Bernik et Kras «артист Ватуля исполнил все намерения режиссера: его исполнение можно вполне похвалить. Он, безусловно, очень сильный актер, с огромным диапазоном и большим темпераментом. Роль, для того, чтобы держать в напряжении зрителя, требовала лишней подчеркнутости, я бы сказал, даже ходульности жестов и интонаций»14. Вместе с тем И. Туркельта- уб отмечал: «Роль Эугена следует признать как очень трудную в современном репертуаре — У Ватули было достаточно настоящего драматизма, который безусловно воспринимает и зритель, но до трагедии он не поднялся».
Эугену Несчастному, сыгранному А.М. Ватулей, посвятил также несколько страниц исследователь его творчества К. Днепров. Первое, из отмеченного им - общий успех постановки, а второе, то, что эту роль Ватуля создал действительно в экспрессионистском духе. «Актер достиг основного и самого ценного - он сумел личную трагедию обездоленного человека поднять до высокого уровня социального обобщения - писал критик. - Исполнение ее требовало огромного нервного напряжения, специальной тренировки голоса, огромной мимической выразительности... Актер счастливо избежал опасности мельчания образа, избежал мелодраматических интонаций и фальшивого пафоса, тогда как текст роли во многих местах таил в себе такую опасность... Особого мастерства актер достиг в той очень напряженной сцене, когда, в поисках работы, Эуген попадает в ярмарочный балаган и нанимается на должность глотателя живых крыс и мышей Он уже близок к безумию. Глаза его горят, в них ужас, отчаяние и адская мука. В этом спектакле Ватуля показал необыкновенное ощущение и знание законов сцены. Соответственно замыслу автора и режиссера спектакля Г. Юры, артист то замедлял, то ускорял движение, ритм и темпы диалога, руководствуясь логикой сценического действия»15.
Большие, глубоко посаженные, серые глаза Ватули-Эугена, острые линии пластического рисунка, огромный темперамент исполнителя - все это свидетельствовало о том, что эту роль Ватуля играл надрывно и экстатично, так как этого требовали эспрессионистские тексты. Об этом же, хотя с весьма отрицательным оттенком, писал мемуарист Л.И. Белоцерковский: «Актеры заговорили не свойственной им речью, стали ходить по сцене какой-то особой походкой, движения стали неестественными. На все легла печать какой-то болезненной экзальтации. Лица актеров - с выпученными глазами, с перекошенными ужасом устами, словно это не человеческие лица, а древнегреческие маски»16.
454
Точно неизвестно, насколько режисер Гнат Юра намеревался создать спектакль именно в экспрессионистском духе: нй одной теоретической статьи подобной Курбасовской «Новая немецкая драма», по этому поводу он не оставил, тогда как его поездка в Германию состоялась двумя годами позже, когда об экспрессионизме начали уже забывать и сцену заполонили социологические пьесы Б. Брехта, политические спектакли Э. Пискатора и развлекательные ревю. Но кое-что о характере спектакля «Эуген Несчастный» именно как о зрелище, созданном в эстетике экспрессионистского театра, мы можем узнать и из газетных рецензий.
И. Туркельтауб, в частности, отмечал, что «написана пьеса в тонах экспрессионизма и схематизации. Соотвественно постановка дана - в условно-схематических формах, для чего были вовсю использованы сукна и задники. Общий фон, суровый и насыщенный, более свидетельствует о трагичности сюжета, нежели сам текст... Ярко внешне выглядит только балаган, колоритный бар, несмотря на очень примитивный декоративний метод Магнера»17. Рецензент Bernik et Kras, не пользовался термином экспрессионизм, но тем не менее отмечал сугубо новаторские сценические средства, используемые Юрой: «Толпа в корчме лучше разработана: фигуры сделаны скульптурно, четко. Картина города ночью очень хорошо скомпонована, и зритель вполне захвачен театром»18. А корреспондент харьковской газеты «Коммунист» отмечал, что «режиссером использованы лишь наиболее бесспорные элементы театрального “Лефа”, но чувствуется полный разрыв со старым псевдоэтнографи- ческим украинским театром, усиленно культивировавшегося Суходольским и Сабининым»19.
Более того, уже в 1940 г., А.М. Борщаговский, однозначно отрицательно отзывавшийся об авангардистских поисках в театре им. И. Франко, писал о приемах экспрессионизма в оформлении «Эугена Несчастного»: «В оформлении - черные сукна, академическая сухость установок, состоявших из площадок, прямоугольников и ступенек (традиция экспрессионистского театра Йеснера), игра прожекторов на этом хмуром фоне»20. Имя художника, оформившего спектакль по пьесе Толлера Ефима Магнера, работавшего, кроме «Эугена Несчастного», еще над двумя экспрессионистскими постановками франковцев, в советских источниках практически не упоминается. Нет его и среди участников различных художественных объединений Харькова 1920-х годов, куда входили такие известные украинские сценографы как А.Г. Петрицкий, М.И. Драк, В.В. Шкляев, А.В. Хвостенко-Хвостов, Г.А. Цапок, Б.В. Косарев и др. Однако, благодаря Энциклопедии украиноведения (США), известно, что после работы в театре им. И. Франко он некоторое время работал в Харьковском Краснозаводском театре, а в 1930 г. был репрессирован и умер в ссылке 1931 г.
455
Но самое любопытное то, что Магнер был по происхождению немцем, и в спектакле «Царь Эдип» Софокла в театре им. И. Франко 1921 г., он использовал очень похожую на рейнхардтовскую, 1910 г., сценографию к этой же пьесе. Очевидно, Магнер хорошо знал немецкое искусство начала XX в., увлекался величественными зрелищами М. Рейнхардта, а также спектаклями режиссеров-экс- прессионистов конца 1910-х годов. Поэтому, видимо, оформление спектаклей по произведениям немецких экспрессионистов не было случайностью в творческой биографии Е. Магнера, а его художественный метод принципиально отличался от архаичного живописного метода М. Драка, считавшегося в 1920-е годы беспросветной архаикой, несовместимой с экспрессонизмом.
Сценография Магнера включала все элементы тогдашнего новаторского мышления: живописные полотна, занавеси, сукна, стан ки, полотна, ступени, но насколько все это было задействовано функционально, как в «Березиле», нам неизвестно. Более того, исходя из описаний рецензентов, можно предположить, что экспрессионизм не был вполне органичен для франковцев в целом. Очень важные для Толлера массовые сцены были решены не в экспрессионистском, а в жанровом духе, хотя, пересказывая содержание массовых, вернее уличных сцен, П.С. Коган отмечал, что Толлера можно ставить и в реалистических тонах, как Малый театр ставит Островского. А можно превратить его пьесы в стилизованные спектакли, в гротеск, фантастику21.
Очевидно, сцены, в которых Гинкеман блуждает по улицам ночного города и видит ужасы послевоенной жизни, где «семилетние мальчики предлагают господам своих тринадцатилетних сестричек», и звучит тысяча ужасающих сообщений: «Еврейские погромы в Галиции! Чума в Финляндии!» и т.д. - разрабатывались в системе реалистического театра, и в пластике второстепенных персонажей не было никакой механистичности. «Группа инвалидов, - писал И. Тур- кельтауб, - дана в такой художественной раме, что ее одной достаточно для всякой антимиллитаристской пропаганды. Живой получилась сцена драки проституток за Гомункулуса». Другой же рецензент писал, что наоборот, они «не такие разнообразные, как хотелось бы, фигуры инвалидов войны. В них нет ничего страшного, кроме их песенки с кряканьем; ни грим (неяркий, характерный), ни песенка, которую они слишком часто повторяют, ни наступление на зрителя (слишком отталкивающее) не создают соответственного впечатления».
О детальной разработке первых ролей и очень приблизительной постановке массовых сцен, которыми, к примеру, славился «Бере- зиль» Л. Курбаса, свидельствует большинство резензентов спектакля «Еуген Несчастный». Роль Пауля любовника жены Эугена Греты, сыграл В. Кречет, у которого «прекрасны были движения и поза, созвучные декорациям. Очень выделялась фигура Балаганщика
456
(Е. Коханенко). Коханенко очень необычную роль видвинул на первое место и дал прекрасный образ»22. И менее выразительно была сыграна роль жены Эугена, сначала К.Д. Кохановой, а потом В.Ф. Варецкой.
Примечательными в связи с этим, являются замечания Туркель- тауба о драматизме, который должен захватить зрителя во время спектакля и, в целом, о непосредственном эмоциональном воздействии актера на публику. Напомним, что именно в это время театр им. И. Франко находился в поисках особого эстетического кода для своих спектаклей, и следует думать, кода именно эмоционального, а не формального. В частности, рецензентом харьковского журнала «Червоный шлях», этот способ создания спектаклей противопоставлялся тому, что происходило в театре Вс. Мейерхольда, его постановки были показаны во время гастролей в Харькове в мае-июне 1923 г. Очевидно, харьковский «Эуген Несчастный» стал одним из первых спектаклей, созданных согласно этому принципу: экспрессивное, выразительное, очень эмоциональное исполнение главных ролей на общем, менее разработанном режиссерски, фоне.
Нельзя также не отметить и реакцию реальных соперников театра им. И. Франка, а именно театра «Березиль», на то, что делалось в театре им. И. Франко. Отношение к попыткам франковцев поставить авангардистский эспрессионистский спектакль было у бере- зильцев очень жестким. Так, в журнале «Баррикады театра», издаваемом непосредственно под руководством Л. Курбаса, уже после того, как Г. Юра поставил «Эугена Несчастного», а А. Ватуля сыграл одну из известнейших ролей экспрессионистского репертуара, в декабре 1923 г. появилась весьма ироничная заметка, подписанная ерническим псевдонимом Андрей Дуля. «Экспрессионистское течение (в чем бы то ни было), - иронизировал Андрей Дуля, - это такое, которое проявляет максимум экспрессии в добывании похвальных листов от очень важных и солидных персон, которые сами не знают кого и за что хвалят. В искусстве это течение пока еще проявляется над речками, полными микробов лихорадки - такие как Лопань или Нетеч, и действительно не имеет общего и полностью противоположно принципам Мейерхольда и Курбаса»23.
Харьковская постановка «Эугена Несчастного» в ноябре 1923 г. была практически первым, но далеко не последним спектаклем по этой пьесе в тогдашнем СССР. В декабре 1923 г. на сцене Петроградского театра Академической драмы (бывш. Александринки) эту же пьесу поставил «левый» режиссер, бывший сподвижник Мейерхольда С. Радлов, который, очевидно, вполне осознавал парадоксальные возможности экспрессионистского текста. Посмотрев его спектакль в Ленинграде в апреле 1926 г., Тол лер подивился серьезности социальной трактовки темы, где гибель цивилизации одновременно и высмеивалась и оплакивалась «По мысли Тол л ера, - сообщал интервьюер, - режиссерская постановка пьесы очень инте¬
457
ресна, но к ней нужно привыкнуть. В Германии «Эуген» ставится как карикатура...»24.
О том, что даже революционно одержимый спекталь С. Радло- ва, при всей социальной ангажированости сохранял свойственное раннему немецкому экспрессионизму сильное индивидуалистическое начало, сведетельствуют парадоксальные воспоминания М. Бахтина: «Я помню, конечно, и пьесу помню, - рассказывал он В. Дувакину. - Она была очень эффектна, очень сценична, была довольно своеобразная. Это трагедия человека, утратившего на войне, так сказать, свою мужскую силу и поэтому чувствующего в мире - а мир сплошь, так сказать, сексуально полный... и все живут только, так сказать, своей сексуальностью и прочее, - а он, этот «Эуген Несчастный», он не может к этой жизни приобщиться и так далее и так далее. Своеобразная пьеса, своеобразно сделанная. Это “Эуген Несчастный” - о ней были дискуссии, я помню. В большинстве случаев дискуссии были довольно жалкими, по-настоящему никто не понимал этой пьесы. В то время, конечно, на этот счет неправильные знания были, психоанализа почти не знали, хотя он издавался в это время»25.
Для исследования театрального экспрессионизма в Украине петроградский спектакль «Эуген Несчастный» имеет особое значение. Дело в том, что именно он, а не харьковский «Эуген Несчастный» обусловил появление еще одного спектакля по этой пьесе в Киеве: в октябре 1924 г. в киевском театре русской драмы поставили эту же пьесу Толлера, а роль Греты исполнила Вера Юренева.
Киевская русская драма, бывшая в то время частной антрепризой В. Дагмарова, и выступавшая в помещении театра им. Т. Шевченко (бывш. театр «Бергонье»), поскольку с осени 1924 г. она уступила прекрасную сцену театра «Соловцов», называвшуюся в 1920-е годы театром им. Ленина, художественному обьединению «Бере- зиль», не была в перечне пролетарски ориентированных коллективов. Этот театр все время критиковали за отсталый репертуар, эстетически архаичные постановки и поощрение премьерства. Острота официальной критики обусловила как раз то, что сюда, на должность главного режиссера был приглашен А.И. Канин, ученик и сподвижник Мейерхольда. Очевидно это по его инициативе новый сезон 1924-1925 г. открылся экспрессионистской драмой «Эуген Несчастный» с Алексеем Харламовым и Верой Юреневой в главных ролях.
Постановка А. Канина «Эугена Несчастного» (к слову, имя режиссера даже не упоминалось рецензентами) была совсем иной, и гораздо менее революционной, нежели в театре им. И. Франко. Канин, в частности, не прибегнул ни к каким кардинальным переработкам текста, как Юра, и это, в определенной степени, сохранило концепцию драматурга: в финале Эуген и его жена Грета погибали. С точки зрения корреспондента «Пролетарской правды» «Эуген
458
Несчастный» “остро ставит проблему послевоенной опустошенности. Европа танцует фокстроты, а выпотрошенное человеческое мясо смотрит в петлю. Такова концепция Толлера, таков его протест»26.
Киевская постановка «Эугена Несчастного» предстала остро психологической притчей об агонии послевоенной Европы, а замысел Толлера вскрыть и вывести на поверхность моральные и физические страдания человека, воплощался благодаря исключительно тонкой психологической игре Веры Юреневой и Алексея Харламова. «Харламов идеологически правильно, подчеркивая всю социальную широту типа Несчастного, переносит центр тяжести в личную трагедию Эугена, ибо один данный Эуген, конечно, может ринуться в петлю, но все Эугены знают другой путь - путь восстания. Большая техника и сильный темперамент позволяют Харламову точно очертить эти границы - социального и личного», - отмечал рецензент, скрывшийся под криптонимом Бис27.
Очевидно, как таковой сценической лексики экспрессионистского театра А. Канин не использовал, эксперименты немецких режиссеров-экспрессионистов ему, возможно, не импонировали, а масовые сцены он решал вполне традиционно: в духе кабаре, что по мнению критики было неблагополучно: растянут последний акт, переборщили в третьем акте с танцами, жидковаты, сценически беспомощны инвалиды»28.
И хотя киевский «Эуген Несчастный» получил положительные отклики в прессе, из-за нестабильного положения русского театра, сложных условий работы «плохо оборудованную сцену театра «Бер- гонье», отсутствия запасов бутафории, реквизита, декораций, костюмов, ограниченных возможностей частной антрепризы», а главное, из-за несогласия с репертуарной политикой, уже в феврале 1925 г. Канин уехал из Киева29. А через некоторое время в Одессу выехал исполнитель главной мужской роли Алексей Харламов. И ровно через два года, а именно в октябре 1926 г., А. Харламов, возглавив вновь созданный в Одессе театр русской драмы, поставил «Эугена Несчастного», открыв им первый сезон нового коллектива.
Это было уже третье, по крайней мере в Украине, открытие сезона «Эугеном Несчастным»: вероятно в тексте Э. Толлера действительно таилась некая магия, притягивающая и режиссеров и актеров. В частности, очень внимательно всматривался в текст «Эугена Несчастного» и пытался раскрыть его секрет выдающийся русский театровед П.А. Марков, который в 1925 г., после премьеры этой драмы в московском театре «Комедия» (бывш. Театр Корша) записал: «В разрешении темы об Эугене Толлер двойствен: он принес в пьесу излишнюю чувствительность, граничащую с шаблонами немецкой сентиментальной поэзии (рассказ о птичке), и неожиданную декламацию, которой предаются его герои (рассказ о “первопричине” и молитва перед изображением обнаженного бога); эта чувствитель¬
459
ность и ложная патетика заслоняют самое существенное, что есть в пьесе и чему Толлер не нашел выхода, - Толлер не делает никаких выводов о путях спасения, он дает только предпосылку о необходимости их поисков; его герои окутаны безнадежностью»30.
Для прозорливого П.А. Маркова безусловным было то, что ни сам по себе надрывный, психопатический текст немецкого драматурга, ни тем более его идейные установки не нужны были «новому советскому зрителю». И по его мнению, современные советские театры должны были состязаться за то, кто лучше, идейно точнее изменит драматургию Толлера, переделает и переосмыслит ее.
Одесская русская драма, созданная директивным путем осенью 1926 г. на основе так называемого Массодрама - мастерской социалистической драматургии, на подобный шаг не решилась. Корреспондент «Вечерних известий» под псевдонимом Альцест раскрывал особенности одесской постановки так: «Пьеса поставлена, безусловно, главным образом для Харламова, который играет Эугена. Роль сделана артистом очень тщательно, продуманно, без уклона в сторону душевной мелодрамы или грубого клиницизма. Местами Харламов вносит в свое исполнение много нервной силы и темперамента. Особенно в сцене в пивной, в рассказе о своем ранении. Но его Эуген слишком, как будто рассудочен, он больше философствует, чем переживает, страдает больше умом, нежели нервами и сердцем. Вот почему артисту не на всем протяжении пьесы удается захватить и приковать к себе внимание зрителя»31. К этому прибавим, что, исходя из рецензий, игра Харламова была полной противоположностью тому, что делал на московской сцене А.Э. Блю- менталь-Тамарин: «Настоящие слезы, почти звериный крик, пена на губах, ползанье по грязному полу. Иногда проявление страданий Эугена носило практически клинический характер, но были и моменты настоящего мастерства... Исполнение нервное и нерациональное»32.
Казалось бы, учитывая то, что в Массодраме в 1924 г. уже была осуществлена постановка пьесы Толлера «Разрушители машин», причем, как утверждают исследователи, в конструктивистском духе с огромной несуразной конструкцией и плакатными массовыми сценами33, «Эугена Несчастного» должны были воплотить на одесской сцене, используя все новаторские сценические средства. Вместе с тем Харламова-режиссера интересовала не эстетика экспрессионизма как таковая, и не идеология революционного театра, а душевный надрыв, переполнявший текст, психопатический и чувственный тон. «Постановка Харламова сделана довольно тщательно, все же местами (особенно в массовых сценах) страдает некоторой неслаженностью тона. Оформление сцены не всегда удобно и в некоторых картинах (комната Эугена) стесняло исполнителей», - делился своими впечатлениями рецензент34. Как постановщик, Харламов более менее удачно обходился актерской режиссурой, и для одесского спек¬
460
такля, конечно, кое что позаимствовал из киевской постановки, на нее в свою очередь повлиял петроградский спектакль.
Но, очевидно, ни о каком особом сценическом решении здесь не было и речи, а один из мемуаристов Е. Мартич, видевший «Эугена Несчастного» в Одессе в 1926 г., вообще воспринял этот спектакль как гастрольный: в массовых сценах доминировало музыкальное сопровождение, оно и создавало необходимую атмосферу послевоенного угара в Германии. Но и случайным «Эугена Несчастного» в одесской русской драме назвать нельзя. Ведь это был театр, где позднее в 1927-1928 гг. работали ведущие постановщики экспрессионистской драматургии Толлера и Кайзера на сценах Москвы и Петрограда, такие как В.А. Федоров и А.Л. Грипич. Вероятно, если бы ситуация с директивным внедрением метода социалистического реализма не была такой трагической, то творческий поиск одесских актеров и режиссеров в последующие десятилетия сохранил бы в себе некий код эстетики экспрессионистского театра.
На первый взгляд трудно объяснить, почему увлечение в Украине немецкой левоэкспрессионистской драматургией было достаточно стабильным и сильным, несмотря на идейную противоречивость и сюжетную неоднозначность, а также, учитывая то, что украинским артистам сложно было осваивать подобные умозрительные тексты. Возможно, в начале 1920-х годов экспрессионизм столь активно проявился в Украине не только и не столько вследствие политической ангажированости, революционности драматических текстов немецких экспрессионистов, а, кроме хорошо известных общеполитических факторов и общехудожественных причин, лежавших на поверхности: распространение экспрессионизма во всей Европе; были еще некоторые импульсы, скажем так, местного характера.
Ведь окола года украинские земли были оккупированы немецкими войсками, и именно тогда революционное давление со стороны России значительно уменьшилось. Все это видел и переживал обычный зритель. И благодаря глубокому психологизму спектаклей театра им. И. Франко, на поверхность выходили общеисторические реалии, характерные для революцинных событий в Германии и в Украине. Человеку начала 1920-х годов, утратившему все, либо, наоборот, приобревшему все во время революции, для сохранения личных моральных ценностей или для безоглядного отказа от них, необходимо было осмысление посредством искусства «революционного кровавого поноса» в Украине 1918-1920 гг. Это нужно было хотя бы для того, чтоб сориентироваться в том, какие силы разрушали прошлое, а теперь созидают будущее.
Трудно также не заметить, что события в пьесах немецких драматургов и сюжетно и хронологически соотносятся с тем, что происходило в Украине. В.Н. Винниченко, а его принято сравнивать с Тол- лером не только как с драматургом, но и как с политическим лидером, написал в 1918 г. пьесу «Между двух сил» и повесть «На ту сторо-
461
ну» (1919-1923), где, как и у немецких экспрессионистов, речь идет о моральном выборе человека в экстремальной революционной ситуации, одновременно необходимо сохранить жизнь и остаться верным себе, честным с собой. И именно драмы немецких экспрессионистов, если они не превращались в политические зрелища, как это было отчасти в «Березоле», а сохраняли черты психологизма при осуществлении на сцене, стали практическим завершением развития того течения в искусстве, к которому стремился В. Винниченко в 1918 г.
Уже находясь в Германии, выдающийся русский философ Ф. Степун, пытался провести параллели между революцией в России и Германии и нашел между ними больше отличий, нежели сходств. В то же время, сравнение военно-революционной ситуации в Украине и в Германии, изучение ее воздействия на сферу искусства, на формирование и развитие экспрессионизма, вполне правомерно, хотя вопреки логике, оно в полной мере пока не осуществлялось.
1 Всемирная история. В 10 т. М., 1961. Т. VIII. С. 141.
2 Толлер Э. Юность в Германии. М., 1935. С. 229.
3 Бенъямин В. Московский дневник. М., 1997. С. 19.
4 О пребывании Э. Толлера в Москве см. кн. Райха Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972. С. 211-215.
5 Толлер Э. Указ. соч. - С. 212.
6 Там же. С. 207-208.
7 Коган П. О социальной драме // Красная новь. 1923, № 4. С. 290-291.
8 Толлер Э. Эуген Несчастный. Трагедия в трех действиях. ПТГР.. 1923. С. 33-34.
9 Михида С. Драми «Дизгармошя» та «Щабл1 життя» В. Винниченка i про- блеми «ново!» морал1 // Науков1 записки кафедри укра'шсько! л1тератури. Вип. 1. До 65-р1ччя Юровоградського педагопчного шституту iM. В.К. Винни ченка. Юровоград, 1995. С. 57.
10 Коган Э. Герберт Йеринг о немецком революционном театре 1920-х годов // Проблемы зарубежной театральной критики. Л., 1983. С. 64.
11 Туркельтауб I. «Еуген нещасний» // Bicri. 22.1.1924.
12 Там же.
13 Bernik et Kras. Державный украТнський театр. Е. Толлер «Еуген Нещасний» // BicTi.10.XI. 1923.
14 Ibidem.
15 Днепров К. Олексш Михайлович Ватуля. Харьюв, 1940. С. 26-27.
16 Бмоцермвський Л. Записки суфлера. Кшв, 1962. С. 106.
17 Туркельтауб I. Op. cit.
18 Bernik et Kras. Op. cit.
19 Коммунист, 9.XI. 1923.
20 Борщаговський О. Сторшки icTopii // XX ponie театру iM. I. Франка. Кшв, 1940. С. 117.
21 Коган П. Указ. соч.
22 Bernik et Kras. Op. cit.
23 Листи Андр1я Дyлi до актора Харювського театру Олекая Ватул^ // Ба- рикади театру. 1923.№ 1. С. 6-7.
24 См.: Эр.Эс. «Эуген» для Толлера // Рабочий и театр. 1926. № 16.
25 Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 1996. С. 203.
462
26 Бис. Пролетарская правда, 23.Х.1924.
27 Там же.
28 Там же.
29 См.: Ходорковская Л., Клинчин. А. Путь режиссера. А.И. Канин. 1877-1953. М., 1962.
30 Марков П. «Эуген Несчастный». Театр бывш. Корша // Марков П. О театре: В 4-х т. Т. 3. Дневник театрального критика. 1920-1929. М., 1976. С. 223.
31 Алъцест. Русский драматический театр. «Эуген несчастный» // Вечерние известия. Одесса, 2.Х.1926.
32 С.И. «Эуген Несчастный» в театре Корша // Жизнь искусства, 1925, № 4. С. 11.
33 Голота В. Театральная Одесса. Кшв, 1990. С. 166.
34 Алъцест. Указ. соч.
В.В. Иванов
ЕВГЕНИЙ ВАХТАНГОВ И МИХАИЛ ЧЕХОВ. ИГРА НА КРАЮ ИЛИ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОПЫТ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО
Экспрессионистская тема в советском театре 1-й половины 1920-х годов в основном раскрывалась на материале экспрессионистской драматургии Г. Кайзера, Э. Толлера и др., чей антибуржуазный пафос позволял ей удержаться в новом идеологическом контек сте. Е.И. Струтинская в книге «Искания художников театра. Петер- бург-Петроград-Ленинград. 1910-1920-е годы» (М., 1998) дала полную картину театральных усилий, предпринятых в этом направлении. Но за пределами ее исследования осталась Москва, а именно там наблюдались не столько типичные, сколько исключительные события. Хотя подчас присутствие экспрессионизма здесь было скорее анонимным, нежели программным.
В данном случае экспрессионизм интересует меня как художественное визионерство, как способ художественного миро- и жизнеот- рицания, как определенный тип чувствительности, как поиск человеческого за пределами того, что принято называть «человеческим характером». (Ведь сам «характер» в эти годы воспринимается как отчужденный человек, как слепок обстоятельств места и времени.) Не претендуя на полноту картины московского экспрессионизма, хотел бы остановиться только на трех его манифестациях.
Н. Бердяев в начале 1920-х годов писал: «Русские люди, когда они наиболее полно выражают своеобразные черты своего народа, - апокалиптики или нигилисты. Это значит, что они не могут пребывать в середине душевной жизни, в середине культуры, что двух их устремлен к конечному и предельному1.
В этих словах отнюдь не содержится исчерпывающая характеристика «русского человека». Так Художественный театр, столь русский по своей природе, укоренен именно в середине культуры, в середине душевной жизни. Но Бердяев точно определил то миро- чувствие, ту устремленность человеческого духа, которые властно обнаружили себя в культуре 1910-х-1920-х годов. Именно «конечное и предельное» (можно добавить: бесконечное и запредельное) стали материалом экзистенциального искусства. Здесь русский
464
апокалиптизм был существенно дополнен еврейским катастро- физмом.
В российском театре начала 1920-х годов эти устремления с отчетливостью и художественной силой прочерчены в великом треугольнике: «Эрик XIV» А. Стриндберга, Первая студия, 1921, реж. Евг. Вахтангов, «Гадибук» С. Ан-ского, «Габима», реж. Вахтангов и «Гамлет», МХАТ, 1924, реж. В.С. Смышляев, В.Н. Татаринов, А.И. Чебан, художественный руководитель постановки М.А. Чехов). Речь идет о тех спектаклях, когда театр полагался не на мимезис, но на экстатическую и экспрессивную функцию театра.
Как в случае с Вахтанговым, так и в случае с Чеховым экспрессия, связанная с внутренним состоянием артиста питалась особыми обстоятельствами личной биографии, позволяющими говорить о пограничной ситуации.
Б.М. Сушкевич свидетельствовал: «Полтора года, с осени 1920 до 1922, когда Вахтангов создал свои крупнейшие спектакли, он был в особенном состоянии. Бывает состояние такой громадной эмоциональности, такая его степень, когда уже говоришь - “надсостояние”. Вахтангов был именно в таком творческом состоянии, которое было выше его реальных возможностей»2.
«Надсостояние», смесь агонии и энтузиазма, в котором находился Вахтангов, было обусловлено не только неизбежностью скорой и страшной смерти, но и общей ситуацией, когда слились воедино боль утрат и восторг надежд, обостренное ощущение смертности человеческой плоти и мощь творческого порыва, ее преодолевающего. Вахтангов и не пытался оттянуть конец. Стремительно изживая жизнь, он развязку приближал.
В конце 1910-х годов Михаила Чехова настиг глубокий кризис, приведший к уходу из театра, к навязчивым мыслям о самоубийстве. Проглатываемые книги от Ч. Дарвина и К. Маркса до Ф. Ницше и 3. Фрейда только усугубляли ощущение бессмысленности бытия. Со всей остротой вставал вопрос о пути. В автобиографии Михаила Чехова можно найти следующее признание: «Мое душевное единство стало в этом смысле распадаться, и я получил некоторый доступ к самому себе»3. Эти поразительные слова говорят о многом. Прежде всего о том, что душевное единство, здоровье, норма утрачивают истину, оказываются препятствием на пути человека к самому себе. Истина раскрывается в разрушении единства, в боли, в болезни...Осознание «человеческого, слишком человеческого» предохраняло от иллюзий политического революционаризма и переводило вопрос в плоскость «революции духа».
Остановившись на пьесе Августа Стриндберга, одном из самых значимых для экспрессионизма авторе, Вахтангов сделал характерный выбор. Но еще более существенны были его художественные выводы. Историческая хроника Стриндберга была пропущена через поэтику сновидений.
465
Вахтангов доводил до предела свой излюбленный прием заострения контрастов. Мир королевского дворца был представлен как «мир мертвых». В его изображении преобладали гротеск и стилизация. Человеческие фигуры скользили как привидения, источая ужас смерти.
«Мертвым» Вахтангов противопоставил «живых», простых людей, что называется народ. Средства для этого он взял из бытового театра. Спектакль был сработан при помощи двух противоположных методов. Закон контраста не был подчинен единому формально-стилистическому приему, что позволяло говорить о режиссерском эклектизме.
Однако несмотря на эстетическую противоречивость, с которой была решена тема «живых», введение ее в спектакль стало условием трагического звучания целого, ибо конструировало ситуацию «между двух миров», столь значимую для общества начала 1920-х годов.
Первоначально Вахтангова увлекала та мысль, что «королевская власть, в существе своем несущая противоречие себе, рано или поздно погибнет»4. Но свои колебания между «пафосом человека» и «противоречиями власти» режиссер разрешил уже тем, что отдал роль «бедного Эрика» Михаилу Чехову.
Чеховского персонажа было невозможно определить как определенный характер, единственная формула в которую он укладывался - «человек страдающий».
Эрик поставлен судьбой «между двух миров». Это место оборачивается западней, где невозможно обмануть себя надеждой. Можно лишь так или иначе распорядиться отведенным недолгим сроком. Здесь открывалось то, что в начале века называлось «откровениями смерти». Герой являл собой квинтэссенцию страдания. Неизбежная и скорая гибель вызывала приступы такой душевной боли, которая не имела аналогов в мировом театре. Боль бросала из крайности в крайность, заставляла метаться между нежностью и жестокостью.
Страдания «бедного Эрика» были взвешены «на весах Иова».
Но страшная правда жизни была переведена на легкий, «танцующий» театральный язык. В самом лице Михаила Чехова таилась завораживающая и тревожная двойственность. Поэт Михаил Куз- мин так описывал ее: «Страшный и упоительный вместе с тем грим, лицо, от которого трудно оторваться и которое пугает пленяя»5.
Вахтанговский принцип пластических деформаций и разрывов Чехов переносил внутрь человека, переводил на язык эмоциональных диссонансов и контрастов. Смежные состояния превращались во взаимопроникающие. Разновременные в одновременные. Совокупность непредсказуемых ракурсов вытесняла последовательный рассказ о событиях. Жест, то запаздывающий, то опережающий, расходился с душевной ситуацией. В возникающем зазоре трепетало неприкрытое существование.
466
Тадибук» С. Ан-ского. Театр-студия «Габима», реж. Евг. Вахтангов, худ. Н. Альтман,
финал II акта
Каждый внутренний порыв получал парадоксально убедительное выражение в пластике тела, словно прочувствованного под пыткой. «Артист доходил до того, что, не закрывая глаз, уничтожал их на своем лице в момент потери душевного зрения»6. Здесь не было психологической системы намеков недосказанностей, вторых и третьих планов. Существовал только первый план, но всеобъемлющий и исчерпывающий. Живописный принцип кубистического разложения на плоскости находил аналог в новой актерской технике.
Явленность потаенной душевной жизни в теплой вибрирующей плоти приближалась к смысловому пределу: «Но вот приходит такой Чехов и показывает, что тело (просто и загадочно), - это есть душа. Сама душа. Отчаивающаяся, пылкая, трепетная, дрожащая душа»7, - писал Карел Чапек и считал, что в этом феномене «заключена тайна изумительного художественного достижения». Однако душа была схвачена Чеховым в кризисный момент.
Остро ощущая контрасты разорванного сознания, Чехов творил «не раздерганный, а целый образ, в котором светится любовь, а припадки злобы и гнева - только отражение душевной муки»8. Актер избегал эффектной игры гулких антитез и проводил «роль в нюансах, в загадочно легких переходах от бешенства к нежности, от гнева к ласке»9.
Критики писали о том, что трудно представить более неопределенную игру трагически опущенных губ, более пустые глаза, пустые как его большая душа. Само лицо оказалось под угрозой. Актер бесстрашно заглянул в суть того, что А. Блок называл «кризисом индивидуализма».
Михаил Чехов видел тему с последней, беспощадной ясностью. Его герой не готов к самостоянию: «болезненно прилепляется к каждой твердой воле, к тем, которые могут дополнить его существо, жить и действовать за него. Но в его душе нет веры в чужую, дополняющую его волю»10. Глубоко укорененная жажда чужой воли и недоверие к ней, в сочетании с отсутствием собственной, многое объясняет в исторической судьбе чеховского персонажа.
Лишь накануне гибели приходило просветление. Эрик сбрасывал с себя тяжелый королевский наряд, воплощавший многое из того, что легло непосильным бременем на совесть и служило источником разрушительных соблазнов. Он оставался в «черном, словно иноческом платье»11. Преображенный герой выходил на путь смирения и самопознания. Для Михаила Чехова роль Эрика стала перипетией в «изначальном великом поединке человека со своим человеческим, слишком человеческим»12.
Но финал не мог изменить общей участи человека, «которого тащат волоком по рытвинам и ухабам»13.
Искусство Чехова явилось альтернативой «отражающему» искусству, опредмеченному готовому знанию, традиционной форме актерской личности. Взламывание привычных перегородок между
468
человеческим и артистическим вело от существования в роли к экзистенциальным «поискам выхода».
Как известно, Вахтангов не был вполне удовлетворен художественными результатами «Эрика XIV». Статическое распределение контрастов, когда мертвое равно мертвому, а живое равно живому, когда на одном полюсе гротеск и стилизация, а на другом реальное бытоизображение, было взорвано лишь Михаилом Чеховым, которому оказалась подвластна фантасмагорическая динамика самых неожиданных переходов и взаимодействий противоположностей. В «Гадибуке» (театр «Габима», 1922) Вахтангов перенес его на все элементы спектакля и создал новое художественное единство и целостную поэтику экстатического театра.
Вахтангов, в отличие от многих художников начала 1920-х годов, менее всего был склонен к созданию манифестов и теорий. Задачи, которые он вроде бы ставит в работе над спектаклем, кажутся заниженными и не соотносимыми с художественными результатами.
Приглашая В.И. Немировича-Данченко на генеральную репетицию, он писал о простых, едва ли не элементарных вещах: «Надо было театрально и современно разрешить быт на сцене»14. Но спектакль заставлял критиков размышлять о том, что многократно превосходило замысел. «Трагедию современности, отягощенную кровью войны и революции»15 почувствовал в нем Самуил Марголин. И таких свидетельств множество.
«Формулу пафоса», принцип экстатического построения Вахтангов проводит через все элементы спектакля. Каждое состояние, каждый сценический момент режиссер дает в предельной наполненности и интенсивности, что делает неизбежным выход в новое состояние, в новое качество, контрастное исходному.
В первом акте в старую синагогу, где ешиботники (учащиеся) постигают талмуд и сумерничают батланы (праздные завсегдатаи), вбегает рыдающая женщина и, подняв завесу, припадает к ковчегу. Она молится о спасении умирающей дочери. Ее речь преобразуется по общим законам патетической композиции. Бытовая скороговорка под напором чувства ритмизируется. Из горестных повышений и понижений голоса возникает причитание. А затем голос совершает еще один скачок и переходит в пение, возносящееся ввысь. Речь, будучи сколком с психологического состояния, совершает прорыв из прозы в поэзию, а затем из поэзии в музыку. Примечательно, что чем экстатичнее чувство, тем менее описательны и менее изобразительны средства его выражения.
Обостряя все противоречия, Вахтангов в момент наивысшего напряжения, заставляет их пронзать друг друга, извлекая из этого взаимодействия мощную динамику.
Нищие второго акта даны в такой эмоциональной активности, которая выразима только кубистически интерпретированными
469
Слепой - А. Мескин
масками. Круги, треугольники, ромбы ярких цветов были обведены темными линиями, что сообщало им особую энергичную четкость. Грим подчеркивал выпуклости скул. Глаза были густо обведены концентрическими зонами белого и красного цветов. Носы, закрашенные с одной стороны белым, а с другой черным, становились асимметричными. Стремительные зигзаги провоцировали мимику и жест. «Застывшие черты обладают сверхъестественной, таинственной яркостью»16. На их фоне динамика вопящих и молящих ртов, сверкающих и незрячих глаз приобретает новое качество. Образ воздействует не схематическим распределением открытого и закрытого, застылого и подвижного, но нарастающей энергией единства, взаимопереходами противоложностей.
Толпа образует единое тело множества, существующее по собственным законам. Вахтангов разгадал магическую силу воздействия монотонного ритма, ритуальных повторов пластических формул. Не случайно в рецензиях проскользнул укор в «шаманстве».
470
Цадик - Б. Чемеринский, Служка - Ц. Фридлянд
Среди скрученных, деформированных тел в серых лохмотьях, движущихся как заведенные по кругу, повторяя одни и те же зафиксированные за каждым движения, возникает белоснежной вертикалью фигура Леи (X. Ровина). Введение в композицию контрастного элемента резко динамизирует ее. Прямое противопоставление живого и мертвого, белого и серого, искривленного и прямого, стелющегося по земле и устремленного вверх осложняется взаимопроникновением контрастов. В лице Леи уже появилась восковая неподвижность. Движения утратили текучесть и приобрели налет рассеянного автоматизма. «С глазами, устремленными в одну точку, она видит нечто за этими бедняками. Она уступает какой-то другой власти»17.
Каждый нищий имеет право на танец с невестой. И Лея безропотно переходит от мегеры со спадающей губой к горбатому, затем к слепцу. Ритм «хоровода какого-то убожественного самозабвения и царственного нищенства»18 нарастает, оставаясь ритмом театрально
471
разыгранного обрядового события. Но вот вступает обойденная вниманием Дрейзл, ведьма, которая «сорок лет не танцевала» и увлекает Лею в фантастический, уже ни на что не похожий пляс. Исступление как степной пожар охватывает всех: «Каждый вступает в пляску по-своему, выделяется на минуту из толпы и вновь сливается с нею в вихре движения. Это - Гойя на сцене, но какой-то особенный еврейский Гойя, несущий в собственном существе все роковые тайны еврейских судеб»19.
Действие совершает скачок из повествовательного раскрытия темы в образное. Происходит ритмопластическая метаморфоза. «Идеальные нищие» выходят из собственно человеческого состояния. Они, «темные подонки жизни, почти слепой хаос ее, извечное темное начало, - становятся на миг почти призраками, фантомами, мучительными исчадиями ада, олицетворением жадных низменных темных сил, взрывающих жизнь из глубин, окружающих ее неразрывным тесным кольцом»20.
Многие из тех, кто писал о «Гадибуке» в последующие десятилетия, видели в танце нищих классовый, едва ли не революционный протест. Вахтангова невольно стилизовали во вкусе «социалистического реализма». Такая адаптация превращала его в режиссера благонамеренного, но на редкость банального.
Едва ли социальный смысл имел в виду П.А. Марков, когда говорил о нем, как о «беспощадном разоблачителе конкретности жизни»21. Подчеркнем, не о конкретных проявлениях жизни сказано, но о конкретности жизни как таковой, не о том, что исторически изменчиво, но об онтологическом строении.
Ю.А. Завадский описывал свои переживания: «Будто вы прикоснулись к тайнам земного существования, поднялись в сферы доселе вам неведомых переживаний, столкнулись со страшными демоническими силами зла»22. Цитату можно и продолжить: «казалось, что силой искусства вы вырваны за пределы времени и пространства. Вы буквально забывали, где вы и что с вами происходит. И когда вы просыпались, вы понимали: да, это был изумительный театр»23. Наблюдения поразительны по сходству с попытками описать состояния, достигнутые с помощью психотехники экстаза в христианской традиции и медитации в восточной. Преобладание страшных сил в глазах строгих носителей этих традиций свидетельствует о недостаточной просветленности и «продвинутости». Но темные экстазы Вахтангова неподдельны.
Тема вахтанговских постановок «сумрачный путь человека - его освобождение в страданиях, боли»24 нашла в «Гадибуке» наиболее полное воплощение. «Освобождение» стало возможным лишь тогда, когда «конкретность реальной жизни осветил он [режиссер. - В.И.] отсветами всей необъятной прошлой и будущей жизни»25, вышел за рамки конкретного эмпирического существования и обрел новое зрение, проникающее за пределы видимого
472
мира. Другими словами, освобождение человека происходило за пределами жизни.
Функция такого искусства не в «отражении действительности», но в приобщении к универсальному бесконечному становлению. Здесь ритуал осуществляет себя как «окно» в другое измерение. В таком театре никакой итог не может быть окончательным, что позволило Маркову сделать вывод о «преодолении трагического»26 в «Гадибуке».
Будучи на редкость непрограммным художником, Вахтангов не стал адептом конкретного чистого направления. В его интуитивно схваченном синтезе различимы и кубистическое разложение человеческого лица, и экспрессионистское напряжение в изображении живого и мертвого. А сцена середины второго акта, «когда на площади, вдруг, оказалось пусто, нищие вырастают из-под земли как фантастические существа, да, именно, как химеры, и набрасываются остервенело на пустой стол, на котором уже нет никаких свадебных яств»27, несла энергию сюрреалистических видений.
«Гадибук» позволял во всем находить «общий знаменатель экс- прессионистически-футуристической линии»28, при этом не исключал «совершенно рембрандтовских световых подробностей»29.
Вахтанговский гротеск, соединяющий несоединимое, разрушительный в созидании и созидательный в разрушении, отрицающий видимый мир во имя его становления, аккумулировал разнородные художественные тенденции 1920-х годов и стал голосом нового искусства XX в.
С премьерой «Гамлета» в ноябре 1924 г. Первая студия превратилась в новый театр - МХАТ 2-ой. Связав для себя эти два события заранее, студийцы готовились к ним с необычайной ответственностью и почти священным трепетом. Они брали на себя обязанность создать «торжественный» театр. Свою идею они не могли отчетливо сформулировать, но остро ощущали ее оригинальность в кругу театральных умонастроений начала 1920-х годов.
Разрушая перегородки между сценическим и человеческим, они ставили мастерство в прямую зависимость от внутренней содержательности актера, ибо если он «живет эгоистически, живет собой, то это уже в значительной степени будет мешать в нашей работе»30. Нравственная чистота стала одним из главных требований, предъявляемых к актерам не только по соображениям этическим, но и эстетическим: «»нечистому» человеку нечем играть». Но «высшая мерка нечистоты - играть через ненависть, злобу»31.
Режиссура в «Гамлете» не находила ничего обыденного и привычного. Для нее «сам Гамлет не бытовой человек, а избранник, герой, гений человека». Обычные приемы здесь бессильны, так же как и заведомо обречен подход к Гамлету, как к очередной роли, хотя и выигрышной, ибо «нужно раскрыть в себе какие-то тайники, чтобы сыграть эту трагедию в области духа»32.
473
Особенно наглядно сформулировал новые требования к игре Михаил Чехов в анализе встречи с Духом: «Нужно играть не животный страх, а такое состояние, как будто оказываешься в неизвестных мирах и «не за что ухватиться»33.
В «Гамлете» тема человека «между двух миров» трансформировалась в другую: «Человек, переживающий Катаклизм»34.
Смещение акцентов коснулось почти всех существенных мотивов. Теперь герой страдал не только за себя, но и за других. Человек страдающий превращался в человека сострадающего, из уклоняющегося от катаклизма преображался в идущего ему навстречу с чувством обреченности, но миссии.
Уже обессиливающая «предгрозовая духота» первых сцен была призвана с исчерпывающей силой показать невозможность для Гамлета способа существования, основанного на тоскливо-разъедаю- щем компромиссе с Двором как «символом земного благополучия, величия», со Двором как внедуховным людским устроением. Но величие давалось ценой предельной обезличенности. Приближенные Короля были лишены индивидуальных черт и реакций, лились черно-серой массой и имели значение лишь как «периферия Клавдия».
Плоть как таковая в спектакле была представлена со знаком минус. Она - стихия негативных сил, низменных страстей. Она - предмет похоти и преступлений. Телесное понимание жизни высказывают Клавдий и присные. Но если учесть, что они представляют «мир мертвых», то становится ясной вся двусмысленность ситуации. Смерть интерпретировалась не как беда неодухотворенной плоти, но как образ и подобие ее. Плоть - сфера непросветленного, физического страдания. Здесь Двор, воздействуя угрозами и посулами, может добиться своего. На этом уровне Гамлет беззащитен.
Встреча с Духом стала для чеховского героя тем катаклизмом, что спасал от объединения, от прозябания, но и обрекал на гибель. Примечательно, тень отца, призрак в ходе репетиций всегда выступал только под именем Духа. Ему придавалось значение не меньшее, чем самому Гамлету. Для театра призрак - усеченное бытие, тогда как Дух - полное, абсолютное бытие.
В сущности, в «Гамлете» воспроизводилась ситуация «между двух миров» с той разницей, что «мир мертвых» сталкивался с миром духовным.
Отдельной темой могла бы стать экспрессионистская трактовка тех идей, что были изложены Н.Н. Евреиновым сначала в лекции, затем в статье «Введение в монодраму» (1908-1909, 1913).
Такого рода трактовка продиктовала и сценическое решение. Театр отказался от понимания Духа как сценической роли и обозначил его присутствие с помощью световых и звуковых эффектов.
В конечном итоге, Михаил Чехов нашел ответ на вопрос: «Что вышло для Гамлета из того, что он встретился с Духом? Неужели только то, что он узнал, кто убийца?»35. Ответ был найден широкий
474
и радикальный. Гамлету открывалось, что мир Двором не исчерпывается, что существуют другие сферы, где полномочен и властен Дух, как целостный и универсальный идеал. И это знание превышало меру человеческих сил: «Гамлет-Чехов лежал ничком посреди сцены и еле слышным голосом отвечал на зов Горацио и Марцел- ло»36. Его потрясенное и разорванное сознание было не в силах «вместить сие», собрать воедино планы реальности. Он отвечал друзьям несвязано и невпопад, с трудом пробираясь через душевный хаос. На вопрос «Где вы, принц?», чеховский герой недоуменно переспрашивал: «Я?». «Он сам не знает, где же он... И вдруг точно найдя самого себя, с изумлением открывает, что вернулся из другого мира: «Здесь!»»37.
Для Гамлета «Я» и «Здесь» теряли свой привычный и устойчивый смысл, превращились в проблему, которую нужно решать заново.
Обретая опору в причастности Духу, чеховский герой находил возможность для внезапного и острого перехода к волевой собранности и уверенности знающего.
Так истолкованная встреча оказалась решающей для спектакля. В ней определился уровень трагического, оставшимся недоступным в «Эрике XIV»: «“Зачем же я связать рожден?” - острейший момент осознания миссии. Моление о чаше. Гамлет принимает свой Крест»38. Здесь знаменательно сближение трагической судьбы Гамлета и мученической участи Христа, предвосхищающее пастерна- ковское стихотворение «Гамлет».
Михаил Чехов снова и снова показывал, каким мучительным стало для его героя «приятие миссии». Не радость прямого, открытого деяния, но мука, почти нестерпимая, сопутствовала ему. Будешь действовать - погибнешь. Не будешь действовать - сгниешь. Принять миссию можно только ценой жестокого самоотречения. Отказаться от нее - утратить себя вовсе. Существенным мотивом, усложняющим действенный порыв было то, что «Гамлет получил от Духа не только миссию: “Поди и убей Короля!” - Гамлету открылось, что весь мир - зло»39. Действие Гамлета мало что может изменить, но и не действовать он не может. И он жертвует жизнью, чтобы вернуть ей значение.
Качество его активности вызывало иронию тех, кому по нраву был более уверенный и нарядный героизм. Но Гамлет Чехова не принадлежал к плеяде тех, для кого героизм был давним ремеслом и призванием. Оружие ему вручила судьба не спрашивая, прошел ли он школу фехтования. К действию был призван тип человека, доселе уступавший сферу поступков худшим людям.
Часто сокращая текст, актер возвращался к тому уровню, когда мысль еще «неотделима от первоначальных ощущений». Его интересовали не стройные умозаключения, но та философия, которая
475
«рождается из боли и гнева человека»40. Философскую партитуру Чехов проигрывал на внесловесном уровне. Его мысль еще не отделилась от человека. Она растворена в нем, составляет движущую и определяющую существенность.
В критической ситуации Гамлет полагался не на логику, не на здравый смысл, а на способность интуитивного постижения. Подавляя неистребимую надежду на спасение, он поступал вопреки резонам житейской мудрости. Утрачивая «земной фундамент» герой обретал новое мировосприятие. Не существовало соответствующих слов и сил, чтобы поведать о нем. Его можно было только «спеть, сыграть, простонать»41.
Гамлет был призван не только «победить зло», но и «простить человека». И вторая часть миссии равновелика первой.
Несмотря на то, что Гамлет противостоял гротесковому, гиперболическому Злу, Михаил Чехов раскрывал в нем не психологию обиды, а психологию вины. Его истолкование питалось русской этической традицией, всесторонне прочувствовавшей этот комплекс проблем и пришедшей к важному выводу: «Искупление - ответ на муку вины. Возрождение и преображение - путь свободы. Злобный бунт - ответ на муку обиды... От безмерной обиды рождается злоба, а от безмерной вины рождается любовь»42.
Околосмертный опыт был существенной частью искусства Михаила Чехова. Об этом лучше всего сказал он сам: «Эрик XIV за мгновение до смерти тоже взглянул в тот мир, куда вела его судьба. То, что он увидел, было светом по сравнению с его темной безысходной жизнью. Он весь раскрылся, и его пораженная, хотя еще не понимающая душа страстно устремилась навстречу неведомому - и он умер. Гамлет принял смерть как знающий: он перешел спокойно, с ясным сознанием, как бы осторожно сложив с себя тело. Все три смерти были для меня не только уходом отсюда, но и различным вступлением туда»4*. Режиссерские фанфары, знамена и марши были всего лишь «словами», которые финальное просветление чеховского Гамлета претворяло в поэзию трагического очищения.
Театральный выход в трансцендентальное вызывал зрительское потрясение несравненной силы: «Я теоретически знаю, что такое катарсис. Но пережила я это в театре только однажды, в момент смерти чеховского Гамлета»44. Сказано М.О. Кнебель, на чьей памяти шедевры Станиславского, Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, не говоря уже о достижениях последующих режиссерских и актерских поколений.
Если бы Вахтангов и Чехов только отдали дань экспрессионизму, то сюжет моего повествования остался бы сугубо историческим и частным. Но Вахтангов и Чехов открыли в экспрессионизме новое измерение, наполнив его опытом трансцендентального и такое искусство обладает непреходящим значением.
476
1 Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 12.
2 Сушкевич Б. Встречи с Вахтанговым // Вахтангов Евг. Материалы и статьи / Сост. и ред. Л.Д. Вендровской. М., 1959. С. 371.
3 Чехов МЛ. Литературное наследие / Общ. науч. ред. М.О. Кнебель: В 2 т. М., 1995. Т. 1.С. 92.
4 Вахтангов Евг. Указ. соч. С. 186.
5 Кузмин М. Созвездия и звезды // Жизнь искусства. П., 1921, № 755-757.
С. 1.
6 Воинов Яр. «Эрик XIV» // Последние известия. Ревель, 1922, № 190. 9 июля. С. 7.
7 Цит. по: Моров А. Трагедия художника. М., 1971. С. 97.
8 Венгерова 3. «Эрик XIV» // Накануне. Берлин, 1922, № 102. 9 авг. С. 5.
9 Там же.
10 Там же.
11 Соболев Ю. Первая студия МХТ. «Эрик XIV» // Вестник театра. М., 1921, № 87-88. 5 апр. С. 12.
12 Соболь А. Молодой театр. М. Чехов // Театр и музыка. М., 1923, № 6. 13 февр. С. 629.
13 Дикий А.Д. Повесть о театральной юности. М., 1957. С. 308.
14 Вахтангов Евг. Указ. соч. С. 204.
15 М[арголин] С. Театр экстаза. «Гадибук» // Экран. М., 1922, № 20. 7-13 февр. С. 5.
16 Hotiere // Avenir. Р., 1926. 5 Juillet. Пер. А. Смири ной.
17 Levinson A. Le ТИёаЦе Habima nous donne «Le Dybouk». Ldgende en trois actes de S. An-sky // Comoedia. P., 1926. 30 Juin. Пер. А. Смириной.
18 Волконский С. Гастроли театра «Габима». «Гадибук» // Последние новости. Париж, 1926. № 1925. 30 июня. С. 2.
19 Гуревич Л. Искусство РСФСР // Еженедельник Петроградских государственных академических театров. П., 1922, № 15-16, 24—31 декабря. С. 31.
20 Тальников Д. Песнь торжествующей любви // Театр и музыка. М., 1923, № 29. 10 июля. С. 961.
21 Марков П.А. О театре: В 4 т. М., 1974—1976. Т. 3. С. 100.
22 Завадский Ю. Одержимость творчеством // Вахтангов Евг. Указ. соч. С. 297.
23 Там же. С. 296.
24 Марков ПЛ. Указ. соч. С. 100.
25 Там же.
26 Марков ПЛ. Указ. соч. Т. 1. С. 392.
27 М/арголин] С. Указ. соч.
28 Донец-Захаржевский А. Первый спектакль «Габима» // Сегодня. Рига, 1926, № 22. 29 января. С. 7.
29 Волконский С. Указ. соч.
30 Протоколы репетиций «Гамлета» В. Шекспира. Цит. по кн.: Чехов МЛ. Указ. соч. Т. 2. С. 416.
31 Там же.
32 Там же. С. 379.
33 Там же. С. 378.
34 Там же.
35 Письмо М.А. Чехова А.И. Чебану от 30 июля 1923 г. Берлин. Цит. по: Чехов МЛ. Указ. соч. Т. 1. С. 300.
477
36 Громов ВЛ. Михаил Чехов. М., 1970. С. 118.
37 Шанъко Т.Б. «Гамлет». Воссоздание спектакля // Музей МХАТ. Архив К.С. № 14087. Л. 34.
38 Протоколы репетиций... С. 384.
39 Там же. С. 388.
40 Марков П.А. Указ. соч. С. 406.
41 Там же. С. 379.
42 Бердяев Н. Духовный кризис интеллигенции. М., 1910. С. 5.
43 Чехов МЛ. Указ. соч. С. 129.
44 Кнебелъ М.О. Вся жизнь. М., 1967. С. 123.
Н.П. Хмелева
ВЛАДИМИР ЕГОРОВ:
ОТ МОДЕРНА К ЭКСПРЕССИОНИЗМУ
В мае 1905 г. в труппе Художественного театра проходит чтение пьесы Кнута Гамсуна «Драма жизни». Месяц спустя К.С. Станиславский пишет режиссерский план первого и второго актов и считает, что эта постановка - «революция в искусстве. Пусть она не будет принята публикой - но она заставит о себе много говорить и даст театру ощутить новые свои шаги вперед»1. В режиссерском плане «Драмы жизни» Станиславский делает наброски персонажей и мизансцены, близкие к модерну, но в то же время привлекает к работе В.А. Симова и поручает О.Л. Книппер, отдыхающей в Норвегии, собрать как можно больше этнографического материала для пьесы Гамсуна. Эта стилистическая двойственность говорит о колебаниях Станиславского между новыми идеями Студии на Поварской и натуралистическими тенденциями раннего МХТ. Пока Станиславский не знает как выйти за рамки жизнеподобной повествовательной декорации. Да и кто это тогда знал? Все открытия русского декорационного искусства, к этому времени значительные, касались только музыкального театра. Выход был один - рисковать. Станиславский и рискнул, пригласив на этот спектакль никому не известных молодых художников Владимира Егорова и Николая Ульянова. Но это произошло уже год спустя в 1906 г., после экспериментов В.Э. Мейерхольда в студии на Поварской. Но формы театрального модерна, разработанные там Н.Н. Сапуновым, С.Ю. Судейкиным и Н.П. Ульяновым для символистского спектакля, не были целиком перенесены Станиславским в Художественный театр. Его заинтересовала пространственная концепция модерна на сцене - плоское панно и пустота, отбросившая все вещные подробности и возведенная в ранг метафоры. Изощренная, чувственная декоративность этого стиля, а также живописная стихийность Сапунова и Судейкина режиссеру оказались не близки.
Станиславский словно оставлял некий зазор, не позволяя модерну занять всю территорию спектакля. Этот зазор занял экспрессионизм. Традиции психологизма, с которым театр не хотел расставаться, не могли органично войти в стиль модерн, тяготевший к обобщен-
479
ным, мифологизированным образам. Модерн приходит в Художественный театр не в канонической форме, как в студии на Поварской и театре В.Ф. Комиссаржевской, а с внутренним потенциалом экспрессионизма. В эти годы экспрессионизм пока еще не действует самостоятельно, а лишь помогает модерну, действуя, как правило, в его рамках и беря на себя душевные сложности и внутренние конфликты.
Впервые экспрессионистские мотивы появляются в декорациях В.Е. Егорова и Н.П. Ульянова к «Драме жизни» (1907 г.) как пластическое выражение смятенной души главного героя.
Эскиз первого акта Егорова поражает своей смелостью. Все объемные, фактурные, цветовые соответствия реальной жизни, столь ценимые в Художественном театре, художником отброшены во имя вся объединяющего и несущего условность ритма. Норвежские фьорды, небо, река написаны резко звучащими красными, синими, желтыми линиями и пунктирами. Приемы модерна здесь очевидно главенствуют - это плоскостность живописного панно, ритмически орнаментальный характер композиции, стремление к равнозначности близкого и дальнего, живого и неживого, гигантского и малого. Но какая-то порывистость в движении линий, повышенная эмоциональность цвета, резкий ракурс всей композиции придает эскизу особую экспрессию, правда, пока еще не драматизированную. В макете, осуществленном в спектакле, экспрессивность нарастает. Куб скалы из полосатого превратился в красный, а цветные полосы неба и фьордов стали извилистыми и еще более тревожными.
Театральные критики 1907 г. обратили внимание на «нецель- ность», «мозаичность» не только режиссерской работы, но и декорационного решения «Драмы жизни». На это были основания. Поначалу кажется, что в декорации II акта Егоров отказывается от условных форм и обращается к натуре: на заднике написано голубое традиционно-театральное небо, на его фоне высится, выполненный в объеме дом Отермана, стоящий на высокой каменной террасе. Егоров неожиданно оперирует объемом, фактурой, цветом, максимально приближенным к реальности. Но вполне натуральный дом странным образом больше напоминал тонущий корабль, чем крепкое, прочно стоящее на земле норвежское жилище. Резкий ракурс дома, его словно разламывающийся каркас, острый, напряженный силуэт, остроугольные формы были призваны пластически истолковать состояние смятения и хаоса, охватившего героев спектакля. Экспрессионизм здесь уже не робко проглядывает сквозь модерн, как в первой картине, а уже по-своему преображает натуру. Гомогенность, равнозначность частного и общего модерна сменяется мощным пластическим акцентом, орнамент уже не организует все пространство сцены, а только украшает поверхность дома и каменной террасы, эстетизация натуры уступила место ее деформации,
480
декоративность цвета - его психологической сгущенности (в темно- коричневой среде тревожно «звучал» зеленый цвет парапета).
Противопоставление модерна и экспрессионизма в 1 и 2-й картинах по замыслу художника воплощавшие крах надежд и иллюзий героев спектакля, все же разрушало пластическое единство спектакля. Пытаясь преодолеть эту разобщенность в финальной 4-й картине художник соединяет живописный задник 1-й картины с домом 2-й картины и экспрессионистская выразительность и здесь выходит на первый план.
В следующем спектакле Станиславского и Егорова «Жизнь Человека» (1907 г.) Леонида Андреева экспрессионизм вновь пробивается из модерна, правда, так отчетливо не самоопределяется, как во 2-й картине «Драмы жизни». В »Жизни Человека» экспрессионистские мотивы не рвали ткань декорации модерна, не стремились стать альтернативой, но обнажали трагический смысл, скрытый за течением жизни Человека.
Станиславский и Егоров сделали черный бархат единой средой спектакля, охватывавшей все пространство сцены и воплощавшей абстрактность и безграничность мироздания. Веревочные контуры интерьеров и костюмов стали символом эпизодичности и бессмысленности человеческой жизни перед лицом вечного и бездонного космоса.
Позднее, в конце 10 - начале 1920-х годов «черный кошмар» среды станет важнейшим средством выразительности в немецком экспрессионистском театре и кино. Но думается, не следует считать черную среду спектакля чисто экспрессионистским приемом. В равной мере сценическая черная беспредельность принадлежит и символизму с его стремлением к метафизическому пространству и дематериализации предметного мира. Не менее известна декорация черной комнаты к пьесе Рашильд «Мадам Смерть» во французском символистском театре.
В декорации «Жизни Человека» Егоров выполняет все устои модерна. Люди, стены, потолки, предметы словно потеряли свою тяжесть и превратились в ритмически организованные линии и пятна, скользящие по поверхности черного бархата. В единую орнаментально-ритмическую структуру модерна на сцене было вовлечено буквально все — от силуэта стула до рапорта на платье.
Но в эскизах костюмов экспрессионизм вновь напоминает о себе. Гости на балу были гиперболизированы художником до крайнего гротеска. Их фигуры были нарочно деформированы, лица подобны карикатурным маскам. Вне сомнения, эти жутковатые марионетки вносили бы резкий диссонанс в атмосферу сцены бала, но Станиславский эту искажающую пластику не принял. В дневнике репетиций он записывает: «Зады и толщинки дам решено уничтожить. Фраки и гримы тоже сделать тоньше и менее карикатурными»2.
16. Русский авангард
481
В последней сцене «Жизни Человека» Л. Андреев отходит от роли наблюдателя, от роли «некоего в сером» и показывает мир, как отражение смятенной души Человека. На стилистический стык пьесы обратил внимание и критик Сергей Глаголь: «Но когда куклы на сцене вдруг превращаются у автора в настоящих людей, страдающих всею сложностью их души, когда их человеческое сердце вдруг истекает настоящей горячей кровью, где стиль для изображения?»3. Этим стилем был экспрессионизм.
Последняя сцена воплощает бред агонизирующего Человека, умирающего в кабаке в окружении толп пьяниц и прочего «бесконечного разнообразия отвратительного и ужасного»4.
В эскизе декорации кабака Егоров не изменяет орнаментальному принципу, принятому в предыдущих сценах. Здесь предметом орнамента становятся ряды бутылок, занимающих всю заднюю сцену. Но их мерный ритм Егоров взрывает резкой диагональю красной лестницы, взвихренными линиями черных и красных пунктиров, деформированными фигурами пьяниц с красными, желтыми и зелеными лицами.
В спектакле пространство финальной сцены максимально динамизировалось: люди, лестница, столы то исчезали, то вновь появлялись из мрака. Старухи-парки жутко и гротескно деформировались - увеличивались в размерах, уплощались, являлись лишь фрагментами тел, взлетали под самые колосники.
Но лихорадочная взвинченность последней картины, ее фантас- магоричность все же не позволили экспрессионизму выйти за рамки модерна и символизма. В «Жизни Человека» экспрессионизм пока существует как эмоциональное, образное содержание, но еще не сформировывает свой пластический язык.
В 1910 г. Егоров работает над своим последним спектаклем в Художественном театре - «Мизерере» С.С. Юшкевича. Действие происходило в черте оседлости в еврейском квартале, где молодежь единственным и лучшим выходом в жизни считала самоубийство, столь распространенное в 1910-е годы в России. Любовь и смерть, свадьба и похороны, безрадостный повседневный быт, кабак, кладбище - все говорило о жестокости и бессмысленности жизни.
В эскизах к спектаклю Егоров полностью уходит от стилистики модерна и создает остро психологичные образы, в которых окружающий мир предстает как перевоплощение отчаявшихся и усталых душ героев пьесы. В «Мизерере» психологический экспрессионизм Егорова находит новые средства выразительности в стремлении придать драматизм декорационной среде, людям, вещам.
Неотвратимость судьбы звучала в эскизе «Двор еврейского квартала».
Композиция эскиза подчеркнуто фрагментарна, но это не импрессионистическая кадрированность симовских декораций, а резко уменьшенное пространство, где страсти сгущены до предела, до
482
ощущения взрыва. Острые и динамичные ракурсы эскиза вырывают из композиции архитектурные фрагменты, утрируя и искажая их формы. Балкон с гиперболизированными балясинами и резким силуэтом поражает угрожающей выразительностью. Он словно толкает человека в черную подворотню, а из нее лишь один путь - к дому гробовщика. Драматическую напряженность подчеркивали и резкие контрасты света и тени, причем, судя по эскизу, художник намеревался выполнить их живописным способом. Вероятно, это был слишком смелый прием для Художественного театра, где ценился «живой» свет, передававший нюансы настроения.
Важнейшим средством выразительности психологического экспрессионизма стали фактуры. В ранние годы Художественного театра В. Симов стремился к подлинности фактур, его за это часто обвиняли в бутафорности. Егоров, придя в МХТ, жизнеподобные фактуры заменил чистым цветом и его предметы заговорили языком эмоций.
В «Мизерере» он возвращает стенам и предметам фактурность, но найденную в модерне экспрессию цвета сохраняет. Теперь стены дома или комнаты привлечены к коллективному сотворчеству в создании образа спектакля. По замыслу Егорова стены теперь должен лепить не бутафор, но писать художник. В стенах дома в эскизе «Двор» и в интерьере «Погребка дяди Лейзера» была заключена драма, они словно впитали всю тоску героев пьесы и стали пульсирующей, подвижной материей спектакля.
Но декорация «Двор» в спектакле Художественного театра не была осуществлена. Вместо первой экспрессионистской декорации, на сцене параллельно линии рампы был поставлен безликий, чистенький белый домик, к драматическому конфликту пьесы не имевший никакого отношения. В сцене «Погребка» эскиз был воспроизведен, но драматически сжатое пространство на сцене было увеличено на все зеркало сцены, деформированные линии арок аккуратно выпрямлены, чувство одиночества и бесприютности исчезло. Видимо, режиссер спектакля В.И. Немирович-Данченко был еще не готов к экспрессионистской декорации, хотя именно он был инициатором репертуара с экспрессионистским уклоном. Но спустя три года в работе над «Бесами» Ф.М. Достоевского, художник М.В. Добужинский, пришедший, как и Егоров к экспрессионизму через модерн, обнаружил те же тенденции, появившиеся ранее в «Мизерере» у Егорова, но Немирович-Данченко к ним уже был готов.
В мхатовский период только намечается экспрессионистский прием, ставший важным для декораций Егорова конца 1910 - начала 1920-х годов. Это стремление «нарушить нормальное взаимодействие между отдельными предметами»5.
Декорация П картины «Росмерсхольма» Ибсена в постановке Немировича-Данченко представляла тесное, словно сжатое пространство библиотеки. Плоскостной и орнаментальной поверхности
16*
483
книжных полок Егоров энергично противопоставляет два огромных кресла с гигантскими спинками. В уменьшенном интерьере силуэты увеличенных темных кресел говорили об одиночестве, о несбыточности надежд задолго до драматического финала спектакля.
В постановке «Ревизора» в театре Незлобина в 1916 г. Егоров использует прием гиперболизации предмета не для драматической напряженности, а в качестве гротеска. Комната городничего вся погружена во мрак - едва различимы силуэты двери, стульев, стола. Из тьмы странным образом выступает несуразно огромная белая кафельная печь и почему-то на ней, хотя все стены совершенно пусты криво висит столь же гиперболизированный портрет городничего. Понятно, что в этой странной комнате могут происходит только нелепые и неожиданные события.
Предметы и детали интерьера в спектакле Малого театра «Дамское счастье» Скриба и Легуве (1924) доведены уже до крайней гротескной выразительности: камин с рокальной рамой зеркала над ним, французские шторы, орнамент стен преувеличены столь активно, что все на их фоне выглядит игрушечным. Эти предметы и украшения велики и агрессивны, своими огромными извивающимися формами они словно оплели комнату и заполонили все пространство. Человек здесь мал и ничтожен, в лучшем случае - смешон.
В 1915 г. Егоров приходит в кино. Здесь, как в свое время и в театре, он начинает со стиля модерн. В этом стиле им созданы декорации к фильму В. Мейерхольда «Портрет Дориана Грея».
1920-е годы - период самых интенсивных поисков и открытий в кино. В это время Егоров - главный художник «Межрабпом-Русь», студии, имевшей половину капитала в Германии, обладавшей самым современным техническим оснащением в России, собравшей лучших режиссеров, операторов, художников, актеров. В этот период Егоров вырабатывает свой стиль немого кино - мощный, лапидарный, но с элементами гротеска и внутренней дисгармонии. Несомненно влияние немецкого экспрессионистского кино на многие работы «МРП-Русь». Экспрессионистское видение мира с новой силой открылось и в творчестве Егорова. В его фильмах внутрикадровое пространство становится живой выразительностью - художник его деформирует при помощи резких ракурсов, мощных перспектив, столкновений форм, смелого фрагментирования. Активно использует Егоров и экспрессивные возможности света - как и немецкие кинохудожники, он рисует тени на декорации, добиваясь максимальной выразительности.
В двух фильмах режиссера В.Р. Гардина 1924 г. «Слесарь и канцлер» и «Призрак бродит по Европе» кинокадр обрамляют скошенные черные рамки, повествовательные подробности изгоняются, их место занимают акцентированные крупные детали, лица и фигуры часто выключаются из бытовой среды и даются на фоне черных и белых абстрактных плоскостей.
484
В «Слесаре и канцлере» черно-белый ритм полос пронизывает все изобразительное в кадре - от вертикалей каннелюр колонн, горизонталей лестниц до диагональных полос на костюмах. Любопытно, что в начале фильма Егоров помещает огромное, во всю стену окно - в стиле модерн, а в финале меняет его рисунок на экспрессионистический.
В фильме 1925 г. «Его призыв» (режиссер Я.А. Протазанов) экспрессионистски показываются беглые хозяева, возвращающиеся в Россию за своими спрятанными ценностями, а быт рабочих показан повествовательно. Эту тенденцию советской театральной практики 1920-х начала 1930-х гг. - наделять экспрессионистскими чертами врагов очень точно описала Е.И. Струтинская6.
Большую роль в этом фильме играли тени, резкими силуэтами падавшие на стены. Да и сами стены были выкрашены по диагонали в черный и белый цвет. На стенах писались не только черные диагонали, но и сами тени (об этом свидетельствует в своих воспоминаниях исполнительница декораций, работавшая с Егоровым)7. Думается, что эти писаные тени пришли в кинодекорации Егорова не из знаменитого экспрессионистского фильма «Кабинет доктора Калигарн», а из его театральной практики.
В фильмах Егорова 1926-1928 гг. «Крылья холопа», «Ледяной дом», «Саламандра» на первый план выходит ракурсное построение кадра. Острые ракурсы придавали динамику и выразительность как кадру, так и фильму в целом. Стремление к точно отобранной детали, ракурсу, условности позволяли Егорову строить декорации не традиционно-громоздким и многодельным павильоном. Режиссер фильма «Саламандра» Г. Рошаль вспоминал, какими минимальными средствами строились полные экспрессии декорации Егорова: «Я пришел на студию и мне говорят - здесь будет построена Москва. К моему удивлению, я не увидел ничего, кроме чистого пола и кусочка лестницы, куда должен был подниматься Иван Грозный. Через некоторое время в этот чистый пол втиснули кресты и на пол поставили часть одного купола... и Москва стала перед нами как живая.
Как делался собор в “Саламандре”? Бархат, несколько свечей, впереди одна колонна, а собор выглядел лучше натурального, который мы снимали»8.
Но в таких декорациях Егоров брал на себя фактически и функции кинооператора. Егоров самовластно объединил профессию художника и оператора, создав невероятно цельный и драматичный мир. В остром, динамичном и деформированном пространстве его- ровских декораций оператору была выделена лишь жестко определенная точка для неподвижной камеры. Такой неподвижный, фиксированный ракурс был, конечно, театральным по своей сути. Он игнорировал движение камеры, движение самого пространства в кино.
485
В экспрессионистский период Егоров в кино брал на себя всю изобразительную часть, оставляя оператору лишь исполнительскую функцию. Но и немецкий экспрессионистский фильм - это работа, прежде всего, художника.
Егоров был первым театральным художником, принесшим на русскую сцену экспрессионистическую образность. В его спектаклях 1907 г. - «Драма жизни» и «Жизнь Человека» экспрессионистские мотивы существуют еще внутри модерна и символизма и поэтому могут быть истолкованы как «реализация литературных и постановочных замыслов драматурга и режиссера»9. Но уже спустя три года в «Мизерере» экспрессионистская декорация самоопределилась, преодолев модерн и выработав свои оригинальные приемы. В «Мизерере» Егоров определяет совершенно новые средства декорационной выразительности - это динамика ракурсов, пластические акценты, утрирование формы, острота силуэта, драматические контрасты света и тени, «говорящие» фактуры. Этот первый экспрессионистский опыт тогда не был замечен, но сыграл впоследствии определяющую роль в становлении Егорова как художника кино. Неприятный в 1910 г. экспрессионизм закрепился и развился в творчестве художника в 1920-е годы. Роль Егорова в становлении эстетики экспрессионизма в русском театре 1900-е годы значительна, но драматична, так как оказалась очевидной только в исторической перспективе. 11 Виноградская И. Жизнь и творчество К.С. Станиславского. М., 1971. Т. 1. С. 515.
2 Дневник занятий (репетиций). Сезон 1907-1908 гг. Запись от 20 ноября 1907 г. // Музей МХАТ им. А.П. Чехова.
3 С. Глаголь. «Жизнь человека» в МХТ // Маска, 14.XII.1907.
4 Ремарка Л. Андреева к последней сцене пьесы «Жизнь человека».
5 ЭйснерЛ. «Демонический экран» (цит. по кн.: Садуль Ж. Всеобщая история кино. М., 1982. Т. 4. С. 462).
6 Струтинская Е.И. Искания художников театра. Петербург-Петро- град-Ленинград. 1910-1920-е годы. М., 1998.
7 Хмелева В. Дороже всего // Жизнь в кино. М., 1979. С. 238.
8 Выступление Г. Рошаля на юбилейном вечере В.Е. Егорова 11 июня 1958. Стенограмма. РГАЛИ, Ф.2710. On. 1.
9 Струтинская Е.И. Указ. соч. С. 103.
Е.И. Струтинская
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКСПРЕССИОНИСТСКОЙ ОБРАЗНОСТИ В РУССКОЙ СЦЕНОГРАФИИ 1910-х-1920-х ГОДОВ
Экспрессионизм как эстетическое направление, в нескольких его стилевых разновидностях, занимает важное место в истории русского и раннего советского театра. Этому направлению отдавали дань не какие-то окраинные, маргинальные, полузабытые театральные коллективы и творцы. Нет, экспрессионистская образность была разработала и развита на территории российской театральной «метрополии» - в крупнейших, передовых в художественном плане и наиболее востребованных публикой театрах: МХТ и Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской на Офицерской, Новый драматический театр (НДТ) в Петербурге и Театр-студия им. В.Ф. Комиссаржевской в Москве, Камерный театр и МХАТ 2-й, театр Мейерхольда, ГАБИМА и ГОСЕТ, БДТ и театр Новой драмы, и многие другие театры обращались к эстетике экспрессионизма.
Поиски и открытия в этом направлении вели реформаторы отечественной сцены К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, Вс.Э. Мейерхольд, А.Я. Таиров, Е.Б. Вахтангов, крупные режиссеры Ф.Ф. Комиссаржевский, А.А. Санин, Н.Я. Смолич, С.Э. Радлов, Н.П. Акимов, А.Л. Грипич, К.П. Хохлов и др.
Создателями экспрессионистской сценографии были ведущие театральные художники той эпохи М.В. Добужинский, Ю.П. Анненков, В.Е. Егоров, Ю.М. Бонди, П.Н. Филонов, И.С. Школьник, Г.Б. Якулов, И.И. Нивинский, Н.И. Альтман, В.В. Дмитриев, М.З. Левин, Н.П. Акимов и др.
Спектакли с отчетливой экспрессионистской доминантой оставили заметный след в истории отечественного театра. К сожалению, долгое время принято было не замечать этот след, хотя современники отчетливо его видели и высказывались об этом. И только в последнее десятилетие появились исследования и публикации на эту тему.
Экспрессионизм в русском театре не был импортным, заимствованным явлением. Хотя в течение довольно долгого времени в искусствоведении экспрессионизм связывался по большей части с
487
немецкой (учитывая, что сам термин родился все-таки на немецкой почве) и североевропейской культурной традицией, но на самом деле имелись достаточные основания для возникновения экспрессионизма в русском театре и сценографии, восходящие к самой глубине русской культуры предшествующего времени - краеугольные камни русской экспрессионистской традиции заложены творчеством Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского.
Как любое направление, экспрессионизм является порождением эпохи. В данном случае - эпохи, которая отличалась крайне интенсивной рефлексией, была склонна к самоанализу и самокритике. Повышенная рефлексивность общественного и индивидуального сознания рубежа XIX и XX вв. и начала XX в. стала одной из составляющих экспрессионизма. Интерес писателя, драматурга, создателя театрального спектакля обратился от изображения событий и обстоятельств - внутрь, в душу человека и в подспудную, невидимую, иногда мистическую подоплеку жизни.
В сущности, экспрессионистский спектакль изображал не столько конкретного героя, сколько некое тревожное состояние мироздания. В этом смысле интересна высказанная еще в 1920-х годах искусствоведом Иоганном Мацой мысль о том, что: «Всякий хороший подлинный театр - экспрессионистический, ибо сущность театра не что иное, как концентрированное выражение единого “мирового ощущения” (Weltgefiihl) в форме трагического или комического взрыва. В этом смысле трагедии Софокла и Шекспира, комедии Мольера имеют экспрессионистический характер»1. Именно это стремление театра к выражению «мирового ощущения» было материализовано в экспрессионистских спектаклях 1-й трети XX в.
Эта эпоха оставила вполне четкие свидетельства о себе. Например: «Современное сознание переживает крайне любопытный, можно сказать, единственный момент. Ощущается повторно, почти как навязчивая идея, приближение некоего поворота, изменения. Может быть завтра все станет другим: другая действительность, другие люди и другое солнце. Чувствительность повышена, развивается тревожная нервозность, как перед грозой, в атмосфере, насыщенной электричеством, таящей молнии и гром»2.
Близких по смыслу высказываний можно было бы привести предостаточно. В 1900-е годы подобные ощущения и предчувствия катастрофических перемен в социальной жизни и культуре, гибели цивилизации в России переживали многие.
Страстная, тревожная беспокойность экспрессионистских образов связана с ощущением хрупкости человеческого бытия - в предвидении грандиозных исторических катаклизмов или непосредственно в обстоятельствах совершающейся катастрофы. Поводов для таких настроений первые три десятилетия XX в., с их войнами и революциями, давали предостаточно. Если попытаться выразить в од¬
488
ном слове суть тех ощущений и настроений, которые владели героем экспрессионистского произведения - будь то произведение живописи, литературы или театра - то этим словом будет слово «жертва». Экспрессионистский герой - всегда жертва трагических непреодолимых обстоятельств. Военных - «Воццек» (опера А. Берга, реж.
С. Радлов, худ. М. Левин, ГАТОБ, 1927), исторических, социальных - «Газ» (Г. Кайзера, реж. К. Хохлов, худ. Ю. Анненков, БДТ, 1922), невыносимого психологического давления - «Николай Став- рогин» (по роману Ф.М. Достоевского «Бесы», инсц. и реж. В. Немирович-Данченко, худ. М. Добужинский, МХТ, 1913), неразрешимых экзистенциальных противоречий в драмах Леонида Андреева «Жизнь Человека» (реж. К. Станиславский, худ. В. Егоров, МХТ; реж. и автор сценографического плана В. Мейерхольд, худ. В.К. Коленца, Драматический театр В. Комиссаржевской, 1907) и «Анатэма» (реж. А. Санин, худ. Н. Калмаков, НДТ, 1909) и т.д.
Экспрессионистская образность - это выраженный визуальными средствами голос жертвы: крик, стон или шепот, полный отчаяния и жалобы, протеста и возмущения.
В начале 1920-х годов формы экспрессионизма становятся еще более резкими и жесткими, а порой и жестокими. Это было предвидением тоталитарного подавления личности и прощанием с уходящей эпохой, когда самосознание человека, отдельная человеческая личность и ее переживания еще имели хоть какое-то значение.
Связь экспрессионистских черт в образе героя с его состоянием жертвы подтверждается чрезвычайно показательным изменением ценностного аспекта экспрессионистской образности в конце 1920-х и начале 1930-х годов. В это время на первый план вышла необходимость образно выразить интересы победившего социального класса, и герой побежденный, герой-жертва перемещается из той сферы, где сосредоточено сочувствие зрителя, в другую, полярно противоположную сферу - он переходит в разряд героев отрицательных, а вместе с ним изменяется и ценностный аспект экспрессионистской образности. Она становится средством изображения растерянного интеллигента, врага («Яд» А.В. Луначарского, реж. Н.В. Петров, Акдрама, 1925, и «Человек с портфелем» А.М. Файко, реж. К.К. Тверской в БДТ - оба спектакля оформил М. Левин), и в конце концов скатывается к карикатурной стилистике - что и означало в нашей стране конец экспрессионизма как одного из ведущих направлений, или, точнее, конец той эпохи, когда экспрессионизм был ведущим направлением.
И этот финал русского театрального экспрессионизма позволяет в обратной перспективе более определенно увидеть особенности и природу его начального периода.
Экспрессионизм как широкое эстетическое направление, как мы уже сказали в начале, представлен в сумме многих его стилистических вариантов. Это делает столь богатыми, интересными и разнообраз¬
489
ными его проявления, но, с другой стороны, отчасти затрудняет определение конкретных спектаклей, решенных в том или ином стилевом ключе, в качестве экспрессионистских. Снять эту трудность позволяет вводимое нами понятие «экспрессионистская модель спектакля»3. Отдельные элементы спектакля, такие, как драматургия, режиссура, сценография, манера актерского исполнения могут носить более или менее выраженные экспрессионистские черты и оттенки и окрашивать или не окрашивать в эти оттенки в целом весь спектакль. Однако для экспрессионистской модели спектакля характерно специфическое соотношение между его элементами: активная визуальная доминанта и связанная с этим лидирующая роль художника-сценографа. Например, даже сделанный на основе очевидно экспрессионистской драматургии Леонида Андреева спектакль «Жизнь Человека» стал произведением экспрессионистского театра лишь в связи с характерным визуальным сценографическим решением, правда, предложено оно было режиссером спектакля Мейерхольдом, который в этом случае выступал как художник, автор сценографического плана4. Даже в сфере актерского искусства экспрессионистские черты связаны, как правило, с характерной пластикой, т.е. тоже визуализацией переживания, и конкретность этой пластики в экспрессионистском спектакле определяется не без участия художника-сценографа.
Во всех случаях экспрессионистский спектакль - это, прежде всего, зрелище. И весьма характерное. Оно не обязательно должно быть насыщенным, изобразительно богатым. Наоборот, зачастую оно стремилось к минимализму. Но даже если оставался лишь один актер в кругу света на пустой темной сцене (пролог «Жизни Человека» Мейерхольда в театре Комиссаржевской; «Воццек» Радлова и Левина в ГАТОБ), это решение все равно было визуальным по существу, сведенным к иероглифу. В иных случаях декорация, наоборот, могла представлять целый огромный завод в динамике всех его многочисленных механизмов («Газ» - Ю. Анненкова). Зрелище могло быть построено на борьбе символических «знаковых» цветов в декорациях («Виновны-невиновны?» А. Стриндберга, реж. В. Мейерхольд, худ. Ю. Бонди, Товарищество артистов, художников, писателей и музыкантов, Териоки, 1912; «Леди Макбет Мценского уезда» Д.Д. Шостаковича, реж. Н. Смолич, худ. В. Дмитриев, Малый оперный театр, 1934; на черно-белых контрастах («Ужин шуток» Сем Бенелли, реж. К. Хохлов, худ. В. Лебедев, БДТ, 1923) или на принципе монохромности («Нос» в Малом оперном театре, реж. Н. Смолич, худ. В. Дмитриев, 1930). Но во всех этих спектаклях доминировало визуальное начало.
Экспрессионистский спектакль отличает агрессивность формальных приемов. Одним из главных признаков экспрессионизма является его намеренная «антиклассичность», отсутствие гармонии, уравновешенности и стремления к внутренней душевной ясности - что понятно, так как внутренняя интенция экспрессионизма и со¬
490
стояла в воспроизведении дисгармоничного душевного состояния героев.
Художник-экспрессионист не-иллюстрирует идею драматического произведения, а стремится передать его глубинный смысл и свое отношение к нему. Экспрессионистская интерпретация драматургического материала выявляет в произведении все зыбкое, неустойчивое, неуравновешенное, выражает тревожную настороженность, страх, душевную неустроенность. Через грубые, порой безобразные и уродливые формы экспрессионизм способен раскрыть глубокие душевные переживания героев, раскрыть трагичность бытия. Максимальная экспрессия форм сочетается с рациональностью их построения.
В те несколько лет, которые отделяли окончание 1-й русской революции 1905 г. до начала 1-й мировой войны, в отечественном театре и сценографии начинает формироваться сначала экспрессионистская образность, затем складывается модель экспрессионистского спектакля.
Поначалу проявления экспрессионизма сказывались в разных внутренних сферах театра: в выборе литературного материала и его трактовке (при этом в одних случаях экспрессионистская поэтика была очевидна *b драматургии, например у Л.Н. Андреева,
A. Стриндберга, К. Гамсуна, С.С. Юшкевича, в других она чувствовалась потенциально - например, у Н.В. Гоголя или Ф.М. Достоевского, и подчеркивалась, усиливалась театром), в режиссуре, в актерском искусстве, сценографии. Соединяясь, все эти тенденции вели к формированию модели экспрессионистского спектакля, в полной мере проявившейся уже к 1913-1914 гг.
В русском театре появление экспрессионистских приемов и начало формирования экспрессионистской образности мы можем отнести к сезону 1906-1907 гг. По планам Мейерхольда художник
B. Коленда делает оформления к спектаклям «В городе» Юшкевича и «Жизнь Человека» Андреева (Драматический театр В.Ф. Комис- саржевской). Постановочные замыслы Станиславского воплотили в «Драме жизни» Гамсуна художники Егоров и Ульянов; Немировича-Данченко - художник Егоров в «Мизерере» Юшкевича (МХТ); Санина - художник Калмаков в «Анатэме»(НДТ).
В перечисленных спектаклях художники реализовали постановочные замыслы драматурга и режиссера и были в некотором смысле лишь исполнителями. Экспрессионистская образность в этих спектаклях была подсказана сценографам драматургией или режиссером. Художники почувствовали и уловили в литературе темы, наиболее созвучные душевному настроению людей своей эпохи, и смогли создать адекватные этим темам художественные приемы для их сценического воплощения.
Экспрессионистская сценография, в которой художник инициативно определял образную и действенную форму спектакля, возникла позже. И на первых порах в создании этой экспрессионистской
491
сценографии главным был именно момент перехватывания постановочной инициативы художником, а что касается стилевых черт, то как раз они-то могли не быть столь ярко выражены (стилевая по- лиморфность вообще была свойственна экспрессионизму; в частности, экспрессионистская сценография активно использовала стилевые формы модерна).
Сценографический экспрессионизм - это не только и не столько внешние определенные стилевые черты, но, главное, это новая модель всего спектакля: теперь он выстраивается художником, который чаще всего является автором замысла спектакля, воплощая его в визуальных действенных формах. Экспрессионизм - зрелищный стиль, совершающий визуальную агрессию на сознание зрителя. Вся структура экспрессионистского спектакля подчиняется внешней форме, раскрывающей драматизм действия.
Переход инициативы из рук ведущего актера или коллектива актеров в руки режиссера шел довольно долго, пока, наконец, в начале XX в. он был осознан критикой, оказавшейся уже перед фактом установившегося лидерства режиссера, - когда сам процесс перехода был уже завершен. Тот же путь прошел и экспрессионистский театр художника. Переход инициативы из рук режиссера в руки художника поначалу не был замечен, вернее, был замечен в единичных фактах, воспринятых, как личные творческие достижения (например - высокая оценка критикой декораций Добужинского к «Николаю Ставрогину», МХТ, Анненкова к «Сну майора Ковалева», театр «Кривое зеркало», и «Скверному анекдоту», театр им. В.Ф. Комиссаржевской) - но никем не осознан в целом как новый этап в развитии русского театра. С сегодняшней исторической дистанции этот новый этап очевиден.
Французский исследователь сценографии Дэни Бабле считал, что существует две тенденции в экспрессионистском спектакле, где отдельные элементы, взаимодействуя, порождают экспрессию. Первая из этих тенденций предлагает зрителю искаженное, деформированное видение мира. Вторая - ритмически организованное пространство.
Русский экспрессионизм сначала избрал формы цветовой и ритмической организации пространства. Деформация пространства выражалась поначалу в основном в искажении масштабов, пропорций, относительных размеров одних элементов театрального убранства по отношению к другим. Вспомним - вытянутые, улетающие под колосники колонны в «Жизни человека», стены комнат, напоминающие брандмауэры, в «Ставрогине»; неправдоподобно грандиозные интерьеры замка Лоренцо в «Черных масках» художника Калмако- ва (Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской), по отношению к ним фигура актера превращалась в ничтожно малую величину. Однако и там, где художник дает искаженный деформированный образ мира, он также руководствуется ритмом. Практически эти две
492
тенденции - деформация и ритм - постоянно смешивались и развивались слитно в работах Анненкова, Дмитриева, Левина, Нивинско- го, Альтмана, Якулова и др.
Чтобы выразить главную идею спектакля, показать жизнь человеческой души, важны точно отобранные художественные средства. Экспрессионизм открыто декларирует свои приемы, они необходимы для создания «ударных моментов», заставляющих зрителя не пропустить главное в спектакле.
Экстремизм в выборе выразительных средств, характерный для этого направления, объясняет стремление денатурализовать сцену - она освобождается от всего, от чего только можно освободиться. Все, что занимает глаз, не затрагивает душу, - решительно убирается. Художник исключает подробности и бытовую детализацию, приближает свет и цвет, вещь и линию к символическому звучанию.
В экспрессионистском театре важен момент изъятия вещи из привычного контекста и передача ей несвойственных прежде функций, превращение ее в почти одушевленный персонаж. Одиночество вещи в пустом пространстве или помещение ее в непривычное место граничит с превращением ее в символ. Все эти нарушения и смещения обычных бытовых связей и обычного уклада сосредоточивают внимание зрителя на актере, находящемся рядом с этой вещью или взаимодействующим с ней.
Экспрессионизм не стремится к скрупулезному воссозданию места действия, его точности и достоверности, он воспроизводит его образную атмосферу, где должно неминуемо произойти то или иное событие, эмоциональную среду, где сойдутся в неизбежном столкновении герои. Мир, творимый на сцене художником, обладает действенной энергией, формирующей ритмическое пространство.
Образное решение пространства в экспрессионистской сценографии зависит от его освещения. Свет в экспрессионистском театре имеет особое значение. В области света и эффектов светотени здесь произошла целая революция. Художники отказываются от рампового света, верхних и боковых софитов, рассчитаных на живописно-кулисную систему декораций. Они использовали прожекторы с мощно-ударным светом, концентрированный свет с регулируемой диафрагмой, локализующей освещение, цветное освещение, позволявшее давать разную окраску планов, светопроекции, изобразительные проекции, транспаранты (теневая декорация). Широко использовались тени, их способность к прихотливой игре, деформации контуров пространства и цветовых соотношений. Все это способствовало усилению динамики действия, разнообразило образные возможности сцены.
Используется зональное освещение сцены, с резким включением отдельных зон. Оно не только динамизировало сценографический об-
493
раз, нагнетая напряжение и обостряя эмоциональное восприятие пьесы зрителем, но и активизировало, материализовало смысловое пространство пьесы, властно координируя действия актера в этом смысловом пространстве и диктуя ему определенные мизансцены.
Одушевление пространства - превращение его из нейтрального вместилища событий в смысловую и образную среду, внутренняя композиция которой есть композиция концептуальная и эмоциональная - это одно из важнейших творческих завоеваний экспрессионизма в театре.
Экспрессионистская сценография вступает в активное эмоциональное взаимодействие со зрителем в зале. Она бередит нервы, обостряет восприятие, используя для этого формы гротеска, и не боится вводить отталкивающие образы или цвета. Так, Добужин- ский вводит неприятный мутный цвет фонов в декорациях к «Став- рогину», проходящий через весь спектакль. Анненков в «Скверном анекдоте» по Достоевскому (театр им. В.Ф. Комиссаржевской) делает тюлевый занавес «гнилого» цвета, за ним разворачивалось действие спектакля, окутанное каким-то серым туманом; для персонажей свадебного пира художник создал уродливые гримы, напоминавшие гротескные рожи в рисунках Леонардо. В «Гадибуке» Ан-ского (театр «Габима», реж. Е. Вахтангов) художник Н. Альтман создал для персонажей грим грубых примитивистских лиц-масок; изломанные, деформированные фигуры нищих в сцене свадьбы позволили режиссеру превратить бытовую и этнографическую свадебную пляску невесты в трагический шабаш «людей-чудовищ».
Острейший прием у Дмитриева («Нос») - сочетание подчеркнуто-изысканных туалетов (платья, фраки, цилиндры, шляпки по моде 1830-х годов) с невероятными по величине накладными носами у всех участников спектакля, кроме, разумеется, майора Ковалева.
Экспрессионистская декорация управляет вниманием зрителя, заставляя смотреть, куда надо, и воспринимать то, что надо. И конечно же, сценограф делает попытки преодолеть рампу, вступить на территорию зрителя. Актер в экспрессионистском театре выходит на авансцену, на первый план; наклонный планшет сцены сползает на зрителя, помосты-языки и лестницы выдвигаются в зал.
Многие частные и конкретные черты экспрессионистских сценографических решений, разбросанных в разных спектаклях, можно обобщить понятием «ракурс». Сценограф как бы разворачивает смысловое пространство драмы под разными углами к зрителю, акцентируя одни его аспекты и уводя в перспективу другие.
Цель этих усилий - сконцентрировать внимание зрителя в нужном направлении, диктаторски навязать ему единственно необходимое и максимально напряженное эмоциональное восприятие происходящего на сцене. Это свойство экспрессионистского метода особенно ярко проявилось, кроме театра, и в другой сфере - в киномонтаже, вернее, в том его варианте, который на Западе называется
494
«русским монтажом». Это монтажный принцип фильмов, в частности, Эйзенштейна и Пудовкина, где смонтированные на крупных планах резкие, «стреляющие» детали осуществляют своего рода агрессию на сознание зрителя. Поэтому нельзя не признать, что «русский монтаж» и русский киноэкспрессионизм («Шинель» Г.М. Козинцева и Л.З. Трауберга и др.) одним из своих источников имели экспрессионистский театр, тем более, что многие кинорежиссеры (С.М. Эйзенштейн, Козинцев и др.) прошли в молодости через увлечение театром и испытали влияние Вс. Мейерхольда и художника Ю. Анненкова.
Между тем, столь эмоционально действующая зрелищная фактура экспрессионистского спектакля, как правило, весьма рационально организована и «просчитана», и строится, исходя из точного знания болевых точек современников и средств воздействия на них.
Не все внутренние возможности и потенции экспрессионистского направления оказались реализованы. Например, самые радикальные идеи экспрессионистской рефлексии заключались в том, что подлинный театр сводится к движению и свету, а потому и не нуждается в материальной декорации, его драматическое содержание должно быть выражено партитурой движения света. Эти идеи были декларированы в манифестах Юрия Анненкова («Ритмические декорации», 1919, и «Театр до конца», 1921), а реализованы в мировом театре только спустя почти пол века.
Понять развитие русского театра и сценографии без экспрессионизма нельзя. Он является неотъемлемой частью историко-художественного процесса 1-й трети XX в. 11 Маца И. Искусство современной Европы. М.; Л., 1926. С. 105.
2 Топорков А. Творчество и мысль: По поводу книги А. Бергсона «Творческая эволюция» // Золотое руно. М., 1909, № 5. С. 52.
3 Подробнее см.: Струтинская Е.И. Искания художников театра. Петер- бург-Петроград-Ленинград. 1910-1920-е годы. М., 1998. С. 97-182.
4 В.К. Коленда указан в качестве художника спектакля в составленном
A. В. Февральском списке «Режиссерских работ Вс. Мейерхольда», с пометкой, что сценографический план принадлежал Вс. Мейерхольду (см.: Мейерхольд Вс. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., 1968. Ч. 2. С. 598), однако сам Виктор Коленда в своих воспоминаниях указывает, что «сделал только несколько подготовительных рисунков акварелью, но авторства за эту постановку декораций на себя не взял» (см.: Коленда В. Моя работа как художника в театре
B. Ф. Комиссаржевской //Театр, 1994, № 7-8. С. 109).
В.В. Мальцев
СЦЕНОГРАФИЯ А.Г. ТЫШЛЕРА ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО ГОСЕТа
Хотя А.Г. Тышлер попробовал самостоятельно работать для сцены в 1924 г., предложив студии «Культур-Лига» эскизы костюмов к спектаклю «Саббатай Цви»1, эскизы эти реализованы не были. Они создавались под влиянием строенного, архитектонического костюма, в области которого успешно экспериментировала А.А. Экстер. (мастерскую ее в 1917/18 гг. художник посещал в Киеве). Фигуры, несущие на головах и торсах крепостные башенки средневекового города, мечети - холмы, наметили затем в творчестве А.Г. Тышлера известную галерею фантастических персонажей, в 1920-е годы - продавцов времени и погоды, а в 1960-1970-е - поэтических наяд и кариатид, хрупких девушек, несущих натюрморты, ансамбли сказочных городов и ставших своеобразной визиткой художника.
Дорогу на сцену А.Г. Тышлеру открыл белорусский ГОСЕТ. Он был создан из белорусской еврейской студии, в 1922-1926 гг. существовавшей в Москве, и переехавшей в полном составе в Минск. В 1920-1930 гг. коллектив не имел постоянного художника и приглашал на отдельные постановки Г.Б. Якулова и И.Б. Рыбака, И.М. Рабиновича, позже А.А. Лабаса, Н.А. Шифрина, П.В. Вильямса и Р.Р. Фалька. Оформив с 1927 по 1934 г. на сцене ГОСЕТа шесть спектаклей, А.Г. Тышлер фактически стал главным не по штату, а по значимости художником, определявшим постановочные принципы театра.
Метод и стиль БелГОСЕТа его художественный руководитель М.Ф. Рафальский называл «экспрессивным реализмом». Определение это противоречивое, поскольку произвольно комбинирует два художественных течения «экспрессионизм» и «реализм», обладающие отличными друг от друга эстетическими позициями. В публикациях и выступлениях режиссер не прояснял его смысл. Анализ художественной образности спектаклей позволяет предположить, что «экспрессивный реализм» - рабочее определение, подчеркивающее отход театра от традиционных реалистических форм или их пересоздание2.
496
В 1920-е годы экспрессионистские тенденции проявлялись в творчестве всех ведущих еврейских театров СССР -российского, украинского и белорусского ГОСЕТов. Для театров, появившихся в пору еврейской эмансипации, и потому озабоченных проблемами самоидентификации и выражения в искусстве этнического своеобразия народа, экспрессионизм не случайно оказался близок. В русле этого течения работали многие еврейские по происхождению художники, а типично экспрессионистская образность пошатнувшегося, тревожного мира в преддверии и после ликвидации черты оседлости получала специфическую национальную окраску и интерпретацию. Это позволяет современным ученым выделять внутри интернационального по своей природе течения отдельную ветвь - «еврейский экспрессионизм» или говорить в связи с ним о «признаках еврейского присутствия в искусстве XX века»3.
На территории республики белорусский ГОСЕТ оказался единственным коллективом, чьи творческие искания в 1920-е годы соприкасались с экспрессионизмом. Это проявилось в постановках экспрессионистской драмы («Гоп-ля, мы живем» Э. Толлера, реж. Б. Норд, 1929) и пьес местных авторов, написанных по заказу труппы и использовавших или переосмыслявших сюжетные мотивы немецкой экспрессионистской драматургии («Потомство» - пьеса и режиссура В.Я. Головчинера, 1928; «Борьба машин» Ц.Л. Долгопольского, реж. М.Ф. Рафальский,1930). В режиссерской, постановочной переработке современной драмы под «экспрессионистскую стилистику» («Ботвин» А. Вевьюрко, 1927, реж. М.Ф. Рафальский) и др. Запоздавшее, в контексте общей, многонациональной истории советского театра, состоявшееся лишь к концу десятилетия, обращение к экспрессионистической поэтике демонстрировало и ее специфически советскую трактовку. Болезненно обостренного, пессимистического восприятия окружающей действительности коллектив не разделял, противопоставив свое мировоззрение основополагающему положению экспрессионистского видения мира. В своих спектаклях ГОСЕТ всегда демонстрировал социальные силы, способные в конечном итоге переделать мир и декларировал разрешение всех конфликтов на пути углубления классовой борьбы.
Свое творческое будущее театр в первые сезоны связывал с индивидуальным осмыслением некоторых художественных процессов в Германии (близость идиш и немецкого языков решала проблему современного репертуара, а ознакомительная творческая поездка руководства труппы в Германию намечала перспективные контакты и планы и т.д.) и России, где он творчески сформировался и куда переехали многие деятели еврейской культуры, ранее сотрудничавшие с украинской «Культур-Лигой».
Эти обстоятельства отчасти объясняют привлечение к сотрудничеству художников «ОСТа» - А.Г. Тышлера и А.А. Лабаса, - в их станковых произведениях критика отмечала воздействие немецкого
497
экспрессионизма. Визуальному облику спектакля коллектив всегда отдавал приоритетное значение. Манера и творческий метод А.Г. Тышлера, однако, формировались своеобразно и не могут быть рассмотрены исключительно в мировоззренческих и стилистических параметрах экспрессионизма. Как раз в годы активного сотрудничества с театром художник пишет «Лирический цикл», отрицавший социальный пафос экспрессионизма: атмосфера звенящей тишины и камерность картин, люди и животные, прислушивающиеся к своим неясным, смутным чувствам - экспрессионистской взвинченности эмоций и риторике противостоят. Один из первых интерпретаторов станкового творчества художника Я.А. Тугенхольд заметил склонность А.Г. Тышлера к игре и лицедейству. Перевод темы в разные эмоционально-смысловые регистры, многозначность оценок при рассмотрении события или ситуации, мягкая авторская ирония тут формируют чрезвычайно подвижную художественную систему оценок. Как раз эти качества оказываются наиболее существенными для сценографии художника, ищущего в 1920-е годы собственные пути к динамизации сцены и многомерному развертыванию сценографического образа спектакля.
В ГОСЕТе А.Г. Тышлер быстро становится полноправным соавтором спектакля, утверждает принципы «сценографической режиссуры», включенность придуманного им сценографического образа в общую драматургию и композицию постановки. Сотрудничая с режиссерами М.Ф. Рафальским, Л.М. Литвиновым и А.В. Айзенбергом, всегда перерабатывавших, приспосабливавших литературные тексты под общий постановочный замысел, художник вторгается даже в такую сферу как мизансценирование, традиционно считавшуюся исключительно приоритетом деятельности режиссуры.
О спектаклях, оформленных им в ГОСЕТе (за исключением «Овечьего источника» Лопе де Вега), практически ничего не известно. В единственном источнике - монографии Ф.Я. Сыркиной бегло и достаточно приблизительно характеризуются решения художника, предложенные театру. В ходе работы над спектаклем А.Г. Тышлер создавал графические или живописные работы, которые не получили осуществления на сцене, но ошибочно атрибутированы музееведами и опубликованы как «эскизы к спектаклю», «эскизы декораций». Воссоздание реально существовавших решений неизбежно требует внимания к деталям и внесения уточнений, в ряде случаев осторожности в интерпретации скупых источников информации.
А.Г. Тышлер дебютировал в спектакле о борьбе еврейских ре- волюционеров-подполыциков в современной ему буржуазной Польше - «Ботвин» А. Вевьюрко (1927).
Два, ныне опубликованных проекта решения спектакля, основаны на использовании художником декорационной и конструктивной установок. В эскизах варьируются тема торговли, продажи; после
498
того, как оба варианта были отвергнуты постановочной группой, ставшей все же ключевой для понимания окончательного замысла спектакля4.
Предпочтение было отдано не конструктивной установке, а традиционному покартинному оформлению разных сцен. Отдельные, опознавательные предметы обстановки лишь обозначали в спектакле места событий. Так городская площадь изображалась деревянным помостом с пустой бочкой и одиноким фонарем. Ресторан - углом ринга с венскими стульями и пальмой. Общую фотографическую черно-белую гамму оформления пробивали светло-серые краски. Художник смыкал объемную обстановку сцены и плоский задник.
По ходу спектакля на черном бархате задника возникали, сменяя друг друга, отдельные фрагменты города: растительный орнамент железных прутьев ворот, горошины фонарей, реклама уличных лавок - крендель, пенснэ, часы, манекен. Они были увеличены до неправдоподобных масштабов и в несколько раз по своим пропорциям превосходили человеческие фигуры на сцене, придавая всему атмосферу ирреальности. На одном из сохранившихся снимков, например, огромная перчатка на пустом холсте задника угрожающе повисала в воздухе над людьми, сообщая мизансцене интонацию тревоги, почти физически нависающей над революционерами опасности5. Участник постановки А.В. Айзенберг отмечал, что «вещественное оформление (А.Г. Тышлера. - В.М.) организует весь спектакль и каждую сцену... в манере показа и выявления вовне внутренней сущности вещей»6. Иными словами, узнаваемые, выхваченные из реальной жизни живописные вывески и предметы, были поданы не в обиходном, повседневно-бытовом их значении, а как лаконичный знак социальной сущности явлений. Так государственная символика - белый ощерившийся орел — в сцене польской дефензивы, воспринималась обобщенным выражением агрессивной сущности буржуазно-помещичьего государства. В гипертрофии знака товарной рекламы или государственной эмблематики открывалась метафизика вещи, угрожающее господство символов и вещей над людьми. Изображения задника и объекты на планшете были смонтированы по принципу верха и низа, земли и неба. Гигантские, застывшие в воздухе знаки будто увидены летящей птицей, на земле жизнь проходила в повседневно-привычных человеку измерениях. Представление о буржуазной системе, равнодушной к человеку, находящейся сверху, над ним, состоящей из «мертвых» вещей, созданных людьми, но отчужденных от людей, складывалась благодаря постоянной смене задников, сопровождавших ход драматического сюжета. Против этого бесчеловечного мира, где все продается и покупается, выступали в спектакле революционеры-подпольщики. Их огромные красные знамена перекрывали в воздухе торговую рекламу и государственную символику. В кульминационной сцене стачки, поставленной
499
без участия массовки, общее конфликтное противостояние сил, борьба разных начал жизни выражались через столкновение предметов.
В последнем акте расстрела коммунистов пространство сцены предельно сужалось, ограничивалось, почти до ящика марионеточного театра, зачехленного со всех сторон черным бархатом; рисованная на заднике тюрьма казалась игрушечной; выдвигаясь вперед, «вырастали» люди. В глубоком черном туннеле тюремного двора тускло светились желтые аритмичные решетки камер. Сцена расстрела проходила без звука. Шеренга стоящих спиной солдат медленно поднимала стволы. Столкновение анонимных солдат-палачей, военщины и борцов за человеческое счастье, гордых перед лицом смерти, режиссура представляла мизансценой с картины Ф. Гойя «Расстрел повстанцев в ночь на третье мая 1808 года» («Расстрел на Принсипе Рио»), к которой, доводя гойевские образы до экспрессивного плаката, художник возвратится в поздней станковой работе «Расстрел голубя» (1965).
Потребность театра выразить коллективное отношение к действительности А.Г. Тышлер осуществил через соотношение и изменение масштабов предметного мира и человека, применив принципы игрового фольклорного театра, актуализированные театральным авангардом 1920-х годов. Он вырвал вещь, предмет из привычного бытового контекста и наполнил новым, театральным содержанием. Сценография пластически выражала гражданский пафос театра, обобщала конфликт спектакля и участвовала в его развертывании.
Поставленный в 1927 г. вслед за «Ботвиным» «Овечий источик» Лопе де Вега принес художнику три года спустя, после успешного показа спектакля в Москве, на олимпиаде театров народов СССР, широкую известность. Сценографию «Овечьего источника» относят к числу лучших решений XX в., аналогов ей в те годы не было.
А.Г. Тышлер установил на сцене огромную конусообразную корзину, стены ее были изрезаны проемами окон и дверей с балкончиками. Голубой фон задника и желтый цвет корзины ассоциировались с колоритом солнечного испанского юга. Ритм и пропорции нависающих балконов - с традиционным пространством внутреннего испанского дворика.
В маленьком экране, вырезанном в центре корзины и задернутом занавесом с королевской короной, шли сцены в королевских покоях или замка де Гомеса; действие перебрасывалось за пределы мира деревни, оставаясь в то же время частью единого замкнутого композиционного пространства. Внутри корзины создавалось множество функциональных игровых площадок, заполнявшихся людьми. Этот прием разных пространств в единопространствии затем получил развитие не только во многих сценографических решениях, но и в станковой живописи художника.
500
О сценографии «Овечьего источника» много писалось в исследовательской литературе, потому отметим лишь некоторые положения, не встречавшиеся мне в публикациях, но вытекающие из решения «Ботвина». Здесь вновь предмет повседневного обихода, созданный руками человека, гипертрофирован, увеличен в масштабе, от человека отчужден и ему противостоит, вбирая его в себя. Назначение любой корзины - быть вместилищем для хранения какого-то содержимого. Этим содержимым для художника становится все - люди и их конфликты, войны, исторический сюжет. Изначально присущие бытовому предмету функции гиперболизируются, расширяются, разрастаясь до самых невероятных. А.Г. Тышлер фетишизирует предмет, наделяя его некоей магической силой - быть средоточием всего и, отрывая от быта, приписывает ему несвойственные в повседневности функции (и жилище, и деревня, и королевский двор, и вместилище исторических событий). Это прием сказочномифологической поэтики, мышления игрового народного театра, где небывальщина предлагается героям как среда для существования, в которой, усугубляя эффект ирреальности, они ведут себя по законам естественного человеческого поведения. Общую корзину актер - персонаж мог по-разному «обживать», приспосабливая под свои нужды. Крестьянки тут растягивали веревки с бельем и пряли пряжу в идиллических сценах деревенской жизни. Влюбленные перебрасывались апельсинами, и тогда корзина обозначала закрытое для окружающих, индивидуальное пространство только их личной жизни. Восставшие крестьяне карабкались по ее стенам, штурмуя замок феодала. Корзина универсально совмещала функции интерьера и экстерьера, служила обозначением душевно-эмоционального мира человека. Куда бы ни перебрасывалось действие спектакля, оно оказывалось «привязано» к пространственной форме сценической конструкции, содержательно по-разному осмыслявшееся и раскрывавшееся. Замкнутое, полукруглое пространство корзины изначально говорило об обреченности отдельного крестьянского восстания, неизбежности его подавления и забвении. Гипертрофия свойств отчужденного предмета ведет к повышению меры условности, расширению круга возможных ассоциаций и смысловых сдвигов. Этот общий художественный закон, реализованный в сценографии «Ботвина» и «Овечьего источника», А.Г. Тышлер постоянно использовал. Изображение вырванного из бытовой среды предмета, вещи, укрупненных или многократно повторенных, делал частью сложной сценической архитектуры; деталь ее всегда оказывалась метафоричной и многозначной.
Параллельно с работой в театре художник в эти годы, по словам Н.С. Степанян, создает «станковую картину особого рода, картину - сцену, где разыгрывал написанную им самим пьесу с постоянно действующими героями»7. Образы, сочиненные для белорусского ГОСЕТа, входили в станковые произведения художника, преобра¬
501
жаясь, перемещались со сцены на холст. Я.А. Тугендхольд в середине 1920-х годов отметил, что излюбленном мотивом тышлеровских фантасмагорий стала объемная корзина из «Овечьего источника»8. Коридор-тупик из «Ботвина» в станковых картинах художника также стал одним из устойчивых композиционных приемов, организующих пространство «неволи», «заточения» «насильственной изоляции человека от окружающего мира». Отзвуки «Ботвина» не трудно увидеть в работе художника «Сакко и Ванцетти»(1927)9. Об этих итальянских борцах много писали советские газеты 1927-1928 гг. Вальпер и Ботвин в спектакле ГОСЕТа были своеобразным «еврейским аналогом» этим революционерам, а режиссер БелГосета В.Я. Головчинер ставил о них пьесу в одном из любительских театров.
«Лирический цикл» и спектакли, оформленные А.Г. Тышлером в те годы, связаны общими темами - размышлениями о человеческой свободе и неволе, насилии и одиноком духовном противостоянии ему человека. Симультанный принцип построения действия, характерный для спектаклей «Овечий источник» и «Глухой» после контактов с театром получает в творчестве художника отличную от более ранних серий станковых картин «Махновщина» и других интерпретацию. В 1928 г. зарождается и один из сквозных персонажей индивидуальных мифологем авторского станкового театра Тышле- ра. Образ быка, возникший в оформлении спектакля «Глухой», повторяется на протяжении десятилетий и варьируется до неузнаваемости в сериях «Похищение Европы», «Легенда о девушке - кентавре», «Фашизм» (1967), «Антикоррида» (1977).
В инсценировку «Глухой», сделанную Д.Р. Бергельсоном по собственной новелле, театр привнес новые мотивы. Хозяева мельницы получили символическую, «говорящую» фамилию - господин и мадам Бык. Это существенное дополнение и было предложено художником Тышлером, придумавшим для спектакля занавес с изображением огромного быка, служившего «аллегорией» мельника- предпринимателя, героя спектаклях10.
В интервью 1935 г. художник признавался, что «мыслит ассоциативно», всегда пластически развивает первое впечатление от пьесы11. В импрессионистской новелле Бергельсона, построенной на вибрации тонких ощущений, упоминается корова. И состояние полу- животной спячки - в нем пребывают жители захолустья, и тупая боль Глухого, не дающая покоя помутившемуся от горя рассудку, доискивающегося причины самоубийства дочери, кружащая его по улочкам местечка, - все передано Бергельсоном через ничейную, невесть откуда взявшуюся корову, бессмысленно бредущую из одного тупика в другой, шарахающуюся от шорохов и испуганно взирающую на мир мокрыми, печально-покорными глазами. Для писателя этот художественный образ важен. И все же образ быка возник в сознании художника не спонтанно и не подсказан инсценировкой
502
новеллы. Тышлер просто использовал повод для реализации художественных идей, возникших автономно, независимо от литературного текста.
Впервые образ быка появился в его рисунке тушью и пером с чисто экспрессионистским названием «Бойня» (1925). Рисунок пронизан острым ощущением ужаса убийства, «животного» страха смерти. В драматизированном сюжете убоя скота, убийство «очеловечено». Речь в нем идет не о животных, - о невыносимой боли и ставшей привычной, поставленной на конвейер, смерти.
Образ быка вновь появляется в черновом, нереализованном эскизе к постановке белорусского ГОСЕТа - «Овечий источник» Лопе де Вега. В это время художник изучает серию офортов Гойи «Тавромахия» и цитаты «из Гойи» в эскизе очевидны: фигуры разъяренных быков, экспрессия движений их тел - контурная, схематизированная цитата из офортов «Проворство и дерзание Хуанито Апильяни» и «Другое безумство на той же арене». Хотя первый вариант оформления «Овечьего источника» не был принят режиссером12, впечатливший художника поединок матадора с быком был положен в основу художественного решения спектакля «Глухой», став изобразительным, пластическим аналогом конфликта спектакля (реж. М.Ф. Рафальский).
Противостояние старого глухого мельника и его хозяина, олицетворявшего весь «класс быков»-эксплуататоров, создавало в постановке напряженность. До финальной сцены хозяин Бык и глухой рабочий не встречались, настороженно присматривались друг к другу с верхнего и нижнего этажей дома - конструкции. Коррида была понята как поединок, в нем не спускают глаз с партнера.
»...действия Глухого показаны так, будто бы он олицетворяет собою рок, довлеющий над Быком. Пришел Глухой - тот, кто убивает». Зрителю борьба с Быком показана в таком разрезе, что Глухой должен убить Быка, что это неизбежно. Неизбежность, рок побеждают.. .»13 - делился впечатлениями от спектакля рецензент. В отличие от новеллы, спектакль обострял мотивы классовой схватки. В последней ритуально-символической сцене спектакля Бык (И.М. Герман) медленно и покорно склонял голову перед своим убийцей. Живописный занавес Тышлера по-своему объяснял, почему расчетливый, разумный хозяин, не предпринимая никаких защитных мер, позволил себя убить. Мавра, отвлекающая на поединках внимание быка, изображалась талесом, в его голубое полотнище он сам же, зачарованный, заворачивался. Персонаж потерял бдительность, поскольку наивно верил в охранительную, сдерживающую силу религиозной традиции, ее способность защитить его от пробуждающейся ненависти рабочих. Несмыкаемые культурные потоки - атрибутика еврейской национальной жизни и испанская коррида стягивались в одном фантастическом образе художника. Ярко вспыхивали свечи на доме-храме, подожженном рабочими. Жалобные
503
слова песен женщин «Кто б ни были мы, но евреи мы», положенные А.А. Крейном на синагогальный мелос, усугубляли неоднозначность разрешения классового поединка. Они напоминали о том, что болезненный социальный раскол идет внутри нации. Свои идут на своих, рушатся традиционные обычаи и нравственные представления.
Занавес - панно был «включен» режиссером в сценическое действо спектакля, в ключевых драматических ситуациях «играл» вместе с актерами. В сцене стилизованного религиозного шествия «Гакофес», развернутой режиссурой на авансцене, он использовался как задник и формировал оценку события - «разоблачал» лицемерие и двуликость «праведников», сообщал слезливо-трогательной сцене пародийную язвительность. В других эпизодах спектакля странный фантастический образ представал то астральным созвездием тельца, вспыхнувшем на морозном небе, то, символом мощи хозяина, держащего в страхе население местечка. Занавес, выполняя роль «изобразительной заставки», был соотнесен с ходом спектакля и поставлен в драматически-действенные отношения с персонажами. Астеничный, суховатый актер И.М. Герман акцентировал лицемерие и ханжество героя. Художественный образ Тышлера постоянно выдвигал его персонаж на первый план как носителя драматической силы, против которой восставали рабочие. Из совмещения актерского решения образа и его живописной аллегории рождался театральный кентавр14.
«Формула, которую мы применяем в этой работе - “Динамика в статике”» - говорил постановщик. «Каждый отдельный эпизод строится на минимальном количестве движений, динамика же является результатом одновременности и параллельности самих эпизодов»15. Группы персонажей спектакля, словно на фотографии порой застывали в немых сценах, выводились из действия, затем вновь оживали, и спектакль выстаивался чередой или наложением таких статичных многофигурных картинок друг на друга. Занавес (панно), обычно создающий в театре прерывистость и сбивающий ритм действия, в этом спектакле из стоп-кадров был органичен. Панно вполне могло быть выставлено как самостоятельное, не предназначенное для театра произведение. Помещение законченной станковой картины в игровое поле спектакля дает наглядный, идеальный пример, показывающий как театральность, присущая живописи художника, раскрывала себя в другом, пространственно-временном искусстве.
Одним точным словом «многозначность» определил Д.В. Са- рабьянов главную черту мышления А.Г. Тышлера. «В... многозначности - типично тышлеровский ход». В станковых произведениях художника предметы на своем пути «набирают смыслы», расширяют круг ассоциаций, обогащают возможность своей смысловой интерпретации. И все это они делают потому, что находятся в ситуа¬
504
ции алогизма. Если бы они оставались при обычных своих функциях, такого смыслового богатства художник, разумеется, достичь не смог бы16.
Действие, возникающее из столкновения противоречий, - основополагающий, родовой закон развития любого театрального представления. Парадокс, сталкивающий противоположности, заложен в природе театра, играющего на противоречиях, сгущающего их, нагнетающего и открыто обнажающего. Парадокс заостряет внимание на необычности ситуации, ее двойственности и непредсказуемости разрешения. Парадоксальность художественного мышления А.Г. Тышлера оказалась на редкость созвучна сцене, она не потребовала от него принципиальной ломки сложившихся творческих подходов, а лишь обогатила его. Живописная фантастика занавеса была связана с конкретными реалиями драматического сюжета, и по отношению к нему носила не иллюстративный, а обобщенно - метафорический характер. Потому художественный образ жил во времени, разворачиваясь разными своими гранями, а не просто «декорировал» сценическое зрелище. Он был способен «работать» и целиком, и отдельными своими частями. Соединение, казалось бы, несоединимых алогичных деталей - свечи на рогах то ли миноры, то ли ханукки, талес - все в спектакле получало театральное оправдание, мотивацию; благодаря своей связи с драматическим сюжетом фантастический образ оказывался разгадан, предельно понятен во всех своих алогизмах, в причудливом соединении всех сегментов обнаруживалась логика. Он трактовал судьбу героя. Какие связи фантастического образа будут активизированы в восприятии зрителя, зависело от драматического контекста, его окружавшего. Не претерпевая видимых превращений и трансформаций, единый на протяжении всего спектакля он, тем не менее, «менялся», поскольку всякий раз нес новое сообщение.
По этому же принципу «раскрывала себя» в спектакле трехъярусная декорационная установка17 с подчеркнуто асимметричной композицией с одной точкой схода (третий ярус практически не использовался).
Очертаниями своими архитектурное сооружение со скошенными, падающими к центру линиями опор, напоминало шатровую мельницу, по ее боковым лестницам в спектакле поднимались вереницы рабочих, сгорбившихся под тяжестью мешков. Одновременно это сооружение было домом хозяина-мельника, с типичным для XIX в. расположением - внизу помещение для прислуги и «конторка», наверху - жилье для господ. Множество рисованных асимметричных окон, рассыпанных как звезды на черной стене интерьера шкатулочного дома, расширяли его до образа многооконного местечка, затерянного во Вселенной. Для воплощения темы накренившегося мира художник использовал традиционную экспрессионистскую образность покосившегося, словно после «сейсмического
505
толчка» местечка, замершего в преддверии надвигающейся катастрофы.
Более того, силуэт фантастической постройки производит впечатление то ли гигантского шатра-ковчега, то ли мессианского храма, где на площадках проходит житийное действо. (Белорусская критика не случайно улавливала «библейскую стилизацию».) Ритуальность этого действа подчеркивалась ритмическим размещением на крыше свечей, зажигаемых в дни молитвы, поминания близких и очищения от суеты. Им вторил, вспыхнувший в разветвленных рогах быка, семисвечник (восьмисвечник), замыкавший общую «свечную» композицию сценографического решения и объединявший панно и, спрятанное за ним, сооружение.
Через одно пространство постоянно проглядывало другое. Разные, необходимые по сюжету, места действия были совмещены и даны одномоментно, заключены друг в друга как матрешки. Мельница, Жилище, Местечко, Храм в силуэте сооружения проступали отдельными выразительными деталями-штрихами. Благодаря акцентировке деталей, их театрального выделения за счет разыгрываемого актерами и направляемого режиссером драматического сюжета, осуществлялся воображаемый перенос в конкретное место действия, происходила смена ракурса рассмотрения героев и событий, заострялось внимание на отдельных положениях, вводивших повествование в систему широких, несюжетных связей.
Принцип нескольких пространств в одном позволял создать единый образ национального мира, общего метафизического пространства «еврейского дома». Революционные волнения и убийство Быка приходилось в спектакле на праздник ханукки18, и потому события его осмыслялись в контексте духовной религиозной традиции. Жизнь тихого, заброшенного местечка прошлого века вводилась в притчево-вневременную, мифологическую стихию национальной жизни. На маленьком, по меркам мировой истории, пространстве жизни происходили глобальные по своему значению перемены, и каждый персонаж сюжета оказывался причастен к ним, участвовал в творении общей для нации сокровенно-интимной, духовной истории.
Непрямая, парадоксальная связь между отдельными частями целого превращает многоплановую сценографию А.Г. Тышлера в открытую художественную систему, в которой любой визуальный элемент воспринимается не статически, а действенно и участвует в формировании нового смысла.
Подвижная тышлеровская деталь не только легко рекомбинируется, внутри одного законченного художественного решения, позволяя заново открывать произведение, но способна перемещаться из одного произведения в другое. Так первый, «нереализованный» эскиз-замысел к «Овечьему источнику» определил целый ряд самостоятельных решений. «Одеревеневшие» быки прыгнули на сцену
506
цыганского театра «Ромэн», в оформление «Кармэн» по П. Мериме (1934). Перевитые лентами бандерильи стали основой скошенной конструкции дома в «Глухом» БелГОСЕТа. А несколько иная версия сценического образа дороги - как боевого символического пути отряда - была предложена художником в оформлении «Чапаева» по роману Д.А. Фурманова для спектакля театра МГСПС (1929).
Любая деталь из «чернового эскиза» становится доминантой самостоятельного сценографического решения - (дорога, бычки) и наполняется новым смыслом, приспосабливается практически к любому постановочному замыслу. Со временем у Тышлера появилось целое хозяйство любимых предметов - платки, светильники, полог, бочки и т.д., ставшие строительным материалом для его сценографических решений. А ларец и шатер, распахивающие свои створки- шторы, оказались наиболее варьируемыми формами сценической архитектуры. Эта любовь художника к бытовому предмету, связана с тем, что даже отчужденный от человека предмет узнаваем и хранит в себе тепло повседневности, «оброс» историей связей с человеком. Особенно явно это проступает, когда художник использует светский или культовый предмет еврейского быта, - за каждым из них встает общезначимый, почти интимный для нации смысл, передаваемый из поколения в поколение.
Непосредственность наивно-детского восприятия мира, сближает Тышлера с М.З. Шагалом, так же бесконечно варьировавшим полюбившиеся ему мотивы и переносившего «готовые» художественные образы в пространство разных по темам и идеям картин. Оба они в своем станковом творчестве моделируют сказочно-волшебный мир: все непредсказуемо, иррационально, может претерпевать превращения, изменения, объединяться с другими деталями в некие смысловые комплексы и вновь рассыпаться. Оба метафизичны. Сферой такой «художественной игры» для художника становится не только холст. Само пространство сцены осмысляется им как самостоятельное поле творческой деятельности. Визуальную фантастику, свойственную его станковым произведениям, художнику удалось не только перенести на сцену, но и заставить ее работать по законам сцены. При глубинной близости мироощущений художников и их генетических связях с фольклорным мышлением, деятельность Тышлера в драматическом театре оказалась более плодотворной, прежде всего потому, что он учитывал трехмерность сцены и пространственно-временной характер развития любого театрального представления19.
Художественный руководитель белорусского ГОСЕТа высоко ценил живопись Шагала и считал, что она предопределила экспрессионизм стиля, музыкально-пластический язык спектаклей московского ГОСЕТа20. В лице Тышлера белорусский ГОСЕТ во 2-й половине 1920-х годов нашел «своего Шагала», оригинальный фантастически сказочный мир которого также был связан с современной
507
еврейской живописной культурой. Тышлер помог театру определиться не в создании визуально узнаваемого «единого еврейского стиля», а с методологическими принципами построения сценического зрелища. Неоспоримым преимуществом Тышлера перед Шагалом было то, что он мыслил сценографические образы во взаимодействии со всеми компонентами спектакля, в замысле своем, предполагая возможную драматургию отношений персонажа и пространственной (образной) среды вокруг него. В общечеловеческом смысле предпочитал диалог-монологу. В узкопрофессиональном - действенную сценографию художественному оформительству.
То, что можно условно назвать художественной программой рекомбинации, положенной им в основу сценографических решений БелГОСЕТа, поддается разной интерпретации. Нагружая свои сценографические образы возможностями разных смысловых прочтений и развертывания, художник невольно вовлекает зрителя в театральную игру, провоцирует его увлечься и с ребяческим энтузиазмом разгадывать алогизмы, выстраивать идеальный виртуальный спектакль. Если основываться только на живописных эскизах и макетах, без учета общей драматургии действия спектакля, его акцентов, то воображение может приписать сценографии спектакля не предполагавшееся и в ней не звучавшее. Разрыв между потенциально возможным, заложенным в замысле художника, и конкретно реализованным на сцене есть всегда. Характер использования придуманного им художественного решения в конечном итоге определяет меру творческого взаимопонимания между художником и режиссером.
А взаимопонимание с режиссурой Тышлер не всегда находил, что и предопределило постепенное ослабление интереса художника к ГОСЕТу, к тому же в начале 1930-х годов возглавившего в Москве цыганский театр «Ромэн». Проявилось это уже в спектакле 1929 г. «Джим Куперкоп», поставленном Л.М. Литвиновым в жанре гротескного политического памфлета.
Пьеса Ш.Н. Годинера - это публицистическая фантастика. Миллиардер Рекфорд бросал вызов марксизму и пытался предотвратить неизбежность гибели капитализма, предсказанную материалистической наукой. Рекфорд изобретал «механического человека, лишенного эмоций, но зато обладающего огромной работоспособностью»21. Механический робот Джим Куперкоп был воплощением идеала империалистов, заинтересованных только в повышении производительности труда и обеспечении собственной безопасности. Идеальному рабочему «без мозгов» был противопоставлен коллектив рабочих, участников коммунистического движения, «мерная поступь железных батальонов пролетариата»22.
Робот, в квадратном стальном шлеме со свастикой, телом-коробкой из металлических листов и трубообразных конечностей, демонстрировал на сцене несколько схематичных движений. Появле¬
508
ние невиданного механического существа было чудом и вызывавало изумление. Едва намеченные драматургом научно-фантастические мотивы Тышлер развил в сценографии до самостоятельного обобщенного образа. Он раскованно соединил политический плакат с урбанизмом и космизмом. Придуманная художником стальная конструкция состояла из двух огромных кругов, индустриальных деталей вроде дисков-шайб, двигавшихся в разных направлениях, одна из них отделялась вверх, образуя кольцо второго яруса. В освещении бегущих неоновых огней фантастическая, расслаивающаяся на две части конструкция напоминала космическую летающую тарелку, которая как паук разбрасывала железные щупальца-шлагбаумы в разные стороны. Из них возникал образ небоскребов, распластанных на плоскости сцены и громоздящихся в небо. Вертикальные «шлагбаумы» были увенчаны деревянными чурбанчиками зубастых кукольных масок в цилиндрах* Плакатные головы «акул империализма», нанизанные на частокол небоскребов ограждали круг сцены и иронически «стояли на страже общественного порядка».
Любая деталь оформления предполагала многофункциональное использование. Верхняя площадка могла трансформироваться и раскладывалась в полукругый подиум варьете со ступеньками вниз, открывая зрителям мир буржуазных удовольствий. В зависимости от режиссерской партитуры действия рельсообразные небоскребы то становились видом урбанизированного города, то материализованной метафорой общей тюрьмы для рабочих или паучьей сети капитализма, лестницами, по ним воодушевленные рабочие со знаменами устремлялись в небеса. Капиталистические небоскребы в миниатюре повторял «готический» стул-трон Рекфорда, высокую спинку его украшали маленькие головки буржуев. В кошмаре, привидевшемся миллиардеру, именно на этом стуле, его в упор расстреливала группа большевиков с винтовками наперевес. Финальная мизансцена из «Ботвина» цитировалась режиссурой с точностью до наоборот: теперь шеренга большевиков социалистов навсегда расправлялась с ненавистным капитализмом. Финальный бой кремлевских курантов и «Интернационал» отсчитывали последние секунды его существованию.
Эффектные трансформации сценической конструкции вызывали у зрителей неподдельное восхищение американизмом, предвосхитившим то технотронное будущее, в индустриализирующейся советской стране - тогда о нем можно было только мечтать, реальность его в своих утопиях представлял театр. Однако в сюжете пьесы и идейном замысле спектакля урбанизм и научно-технические достижения расценивались, как ухищрения империализма и их предписывалось разоблачать.
Уже через год режиссер отрекался от собственной постановки: ««Джим» - формалистичный спектакль с элементами буржуазного эстетства и болезненного экспрессионизма»23. Неудачи спектакля
509
он списывал на «формалистические» декорации Тышлера. Трещина, пробежавшая в отношениях между художником и режиссером, разрослась при постановке «Поэмы о топоре» Н.Ф. Погодина (1932). Тогда они не оставили друг другу никаких шансов на возможное в будущем сотрудничество, а спектакль был снят после первых же показов.
О декорациях, костюмах и гримах Тышлера к спектаклю «На 62 участке» (режиссерский дебют А.В. Айзенберга24, 1931) белорусская пресса отозвалась доброжелательно. И все же предложенное художником решение так и осталось «вещью в себе», не проявило заложенных в нем образных ходов, хотя и было перенесено на сцену в соответствии с эскизом. Сценография использовалась в спектакле только в качестве атмосферной пейзажной декорации, служащей изобразительным фоном для актерской игры. Голубые акварельные краски одежды сцены и легкая избушка из золотистой соломы живописали лирическую среду крестьянской жизни. Пьеса И.Д. До- брушина «На 62 участке» рассказывала о коллективизации на еврейском переселенческом участке в Крыму25, написана она была по типовой конфликтной схеме: бедняки во главе с коммунистом- краснофлотцем создавали в деревне колхоз, кулаки и подкулачники этому сопротивлялись, а полем притяжения сил оказывались середняки.
Эскиз к спектаклю, экспонирующийся в залах московского музея личных коллекций, наводит на мысль, что не только в стилизованную деревенскую среду хотел погрузить сценические персонажи художник. Переселенцы жили в некоем условно-театральном мире идиллической мечты о светлой деревенской жизни, она и привела их в Крым. Художник предложил вариант реализации сказочной национальной утопии о земле обетованной. Обретение евреями национальной автономии и создание национальных хозяйств он представил как воплощение исконной еврейской мечты о построении собственной государственности, парадоксально реализующейся в советское время. Сюжет, события и темы пьесы ИД. Добрушина рассматривались с высот национальной духовной мечты. Пьеса о современных евреях-земледельцах и сдвигах в их сознании, открывающих новую эру национальной истории, в сценографическом пейзаже мечты обретала лирический и иронически-абсурдный характер современной сказки.
Причудливые лестницы-вышки из составленных друг на друга клетей-отсеков были заполнены бутафорской живностью - свинками, гуськами и с двух сторон ограничивали игровое пространство сцены. «Если это должно символизировать ограниченность деревенской жизни, так это неверно»2* - возражал белорусский критик М.М. Модель, чувствуя в декорации какой-то подвох, не совсем «правильное» отношение к теме колхозного строительства.
510
Свинья в еврейской культуре - символ нечистоты и низменности, согласно религиозной традиции евреи не употребляли в пищу свинину. Бутафорские свинки многоярусной пирамидой были вознесены на небо и оторваны от земли. Прием перевертыша, свойственный мышлению народного театра, получал буквальное пластическое воплощение, мир наизнанку, наоборот, обретал черты исторической и театральной реальности.
«...Когда евреев превращают в пастухов свиней, а еврейская история начинается с Ларина, так вся работа бессмысленна»27, - так отозвалась варшавская газета «Момент» на премьеру колхозного спектакля БелГОСЕТа. И со стороны западной прессы работа сценографа находила неадекватное замыслу понимание, в этих словах звучало обвинение в причастности к денационализации и пропаганде искусственных стандартов.
Сказочно-фантастический характер сценография Тышлера в спектаклях 1930-х годов, конечно, не потеряла, поскольку слишком сильны были народно-фольклорные истоки его творчества, общая потребность расширять содержание конфликтов драматургически слабых, узко тенденциозных пьес, которые ему, в основном, приходилось оформлять в БелГОСЕТе. С помощью изобразительных средств он переводил конкретно-исторический сюжет в контекст расширяющих и «удлиняющих» его содержание связей. В 1930-е годы художник менял лексику, но не общие художественные принципы. Став во 2-й половине 1920-х годов главным по значимости художником для театра и определив главный вектор его творческих исканий, он в последнем своем спектакле «Рекрут» (1934)28 предвосхитил и общую оформительскую стилистику, в которой БелГОСЕТ вплоть до середины 1940-х годов ставил комедийные, опереточные пьесы.
В мелодраме «Рекрут» по произведению В. Аксенфельда николаевскую эпоху он представил через декларативно-наивную стилизацию языка театра середины XIX в.: воспроизвел сценические подмостки с тряпичными задниками и бутафорски-картонными домиками и колоннами в них. Историческую реальность Тышлер строит по принципу сцены, и место развертывания событий маркирует ка'к воображаемый, условно-исторический театральный мир, в нем рассказ о тяжелой, бесправной доле еврейского народа неизбежно обретает лирико-сказочный характер. ;
Прием «театра в театре» положил начало целой серии станковых работ, где художник изображает сцену с проходящим в ней действием и ставит воспринимающего в положение зрителя воображаемой реальности собственного спектакля. В сущности этот опознавательный прием «сцены на сцене» является лишь одной из более поздних вариаций организации «пространства в пространстве», «образа», заключенного в «образе», их сочетание или столкновение было действенно, могло ассоциативно рождать богатство смыслов и значений.
511
На треугольной сцене театрика, смоделированного из колон и протянутых между ними занавесей, менялись аплицированные задники. Ими (для интерьерных сцен) просто задергивался общий вид улицы с черепичными домиками, колоннами и на тротуары-переходы выносились необходимые предметы мебели-лавки, столы, опускались светильники. Полюбившаяся художнику фактура плетенки «обыгрывалась» в изображении бедности местечка (прореженная, износившаяся до последней нитки ткань с круглыми дырами окон для корчмы, рисунок мацы для синагоги).
Спектакль, поставленный М.Ф. Рафальским, спорил с писателем В. Аксенфельдом, увидевшим в николаевском указе о мобилизации евреев в российскую армию прогрессивное достижение, признание за евреями равных со всеми гражданских прав. Режиссер выделял излюбленную по предыдущим спектаклям ГОСЕТа тему царизма вместе с национальной буржуазией и служителями религиозного культа угнетающего и ущемляющего простой еврейский народ. Художник, работая в условиях единого постановочного замысла, предложил в оформлении спектакля российско-еврейский оксюморон.
Вид окраины российской империи с домиками и львами на нелепых одиноких колоннах буквально пронизан еврейским текстом. Самобытность еврейской жизни в условиях притеснения и господства официальных вкусов предстает почти царством в царствии. «Два голоса» в одном изображении и создают тот драматический излом, на острие его и должны осмысляться события николаевской эпохи. Вставшие на задние лапки львы - символ царства Давида и грядущего царства Мессии, нависающий балдахином платок-хуппах, под навес помещали жениха и невесту29. Под ним в спектакле к позорному столбу-колонне привязывали нежную Рохл.
Занавес, протянутый на колоннах и предназначенный служить, казалось бы, только декоративной рамой меняющимся изображениям, сам становился их частью и выявлял множественность своих значений. В ходе сценического путешествия по разным местам города он служил обозначением контура внешней архитектуры дворца, синагоги30, рисунком полога дома или занавеской корчмы, распахивающих перед зрителем свои условные интерьеры. Был скорее опознавательным, условным знаком, чем изображением. Выбранная художником форма шатра, в нем купол и боковые кулисы могли функционировать самостоятельно, универсально «работала» в разных эпизодах сюжета. Отдаляя события пьесы в историческое, театральное далеко, занавес-шатер одновременно приближал их к зрителю «крупным планом». Гармоничная, симметричная планировка на протяжении действия обнаруживала излом, изменчивость своего объема и перспективы. Единая декорационная конструкция в этом спектакле, как своеобразный кубик, можно раскладывать на части в любую сторону, он меняет свои формы, не рассыпаясь, не теряя жесткой сцепки всех своих звеньев.
512
Разворачиваясь в сценическом действии, сценография Тышлера всегда заключала в себе множественность смысловых комбинаций, выделения из нее нескольких самостоятельных образов и их воздействие на зрителя по нескольким каналам. Как в некий кокон весь спектакль он хотел заключить, «одеть» в череду своих пластических образов, предопределить его дальнейший ход. Сценография оказывалась способной сиюминутно реагировать, откликаться на малейшее изменение в актерской игре, общей трактовке сцен. Всегда жестко учитывая режиссерское задание, режиссерское «видение» будущего спектакля художник не был простым исполнителем постановочного заказа, полностью зависящим от режиссуры. Каждое готовое сценографическое решение Тышлера предлагало режиссуре набор потенциальных клавиатурных ходов, почти шахматную партию со множеством игровых вариантов его использования и развития. Из этого, потенциально возможного, режиссура в построении драматургии спектакля должна была делать свой дальнейший отбор. Художника такого масштабного мышления еврейская сцена Белоруси потом не знала.
1 Украинская еврейская студия «Культур-Лига» работала в Москве в 1919-1925 гг. (рук. Э.Б. Лойтер, ранее один из организаторов театральной студии, возникшей в Киеве при крупном центре еврейского искусства «Куль- тур-Лига»( 1917-1920). На основе московской студии 6.XII.1925 г. был создан в Харькове Украинский государственный еврейский театр (в 1934 г. переведен в Киев). Репетиции спектакля о еврейском лжемессии Саббатай Цви (в других написаниях Шабсай-Цви, сценическая композиция по одноименным пьесам Ю. Жу- лавского и Шолома Аша) начаты в Москве В.С. Смышляевым, а закончены в Харькове Э.Б. Лойтером в 1926 г. Художник спектакля - И.М. Рабинович.
2 Высказанная в популярной книге А.Г. Герштейн «Судьба одного театра» (Мн.: Четыре четверти, 2000.С. 25 ) мысль о том, что «манера реалистической правды, психологической достоверности» стала «для театра основой творческого направления» противоречит реальным фактам, приводящимся в монографии, и отзывам прессы 1920-х годов.
3 См.: Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. М.: Эдиториал УРСС, 1997. С. 512, 513; Сусак В. Еврейское искусство или художники - евреи на Украине? (19 - первая половина 20 в.) // Материалы Восьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Часть 2. М.: Пробел-2000, 2002. С. 229.
4 Первый вариант: декорационная установка. (См. репродукцию: Художник и мир фантазии. Каталог выставки к 100-летию А.Г. Тышлера / Сост. Ф.Я. Сыркина. М.: Галарт. 1997.)
Город Львов, документальное место событий, представлен обобщенным образом современной заграницы. Изображается вид улицы с огромными полукруглыми витринами, заполненными всякого рода товарами. Их изобилие и зазывающий, рекламный характер создают образ рыночных соблазнов большого города. Сочетание трех полукругов цилиндрических форм (две по бокам сцены, одна - в глубине) образует перспективу улицы, в узкой полоске которой, а также в огромных окнах и на площади-авансцене, предполагается развернуть
17. Русский авангард
513
действие спектакля. Впоследствии такое общее композиционное решение пространства художник, творчески переработав, использовал при оформлении спектакля «Ричард III» В. Шекспира в БДТ (Ленинград, 1935). См. репродукцию эскиза там же.
Второй вариант: конструктивная установка (См. репродукцию: Сырки- на Ф.Я. А.Г. Тышлер. М., 1966, вкладка).
В графическом эскизе жизнь города уже передается через алогичное движение предметов. Зонтики, чемоданные плоскости домов и рекламных щитов, часы, манекены, уличные фонари из изогнутых тросточек, пустились в хаотичный, причудливый танец и, поднятые в воздух, живут независимой от человека жизнью. Художник предлагает единую для всего спектакля конструктивную установку из круга, по краям глянцевой поверхности которого задумчиво склонили головы матовые бусины фонарей, а центр занимает прямоугольник раскладывающегося ларька или окна витрины. Через жизнь вещей открывается драматизм человеческих судеб. Безголовые манекены, болтающиеся на фонарных столбах, становятся рядами повешенных евреев, широкополые круглые шляпы которых легко узнаются в силуэте рассеивающих плафонов фонарей. Смерть и торговля кружат этот танец вещей и людей. Здесь улица заговорила многоголосьем кричащих вещей.
В то же время, на 2-й выставке ОСТа, художник представил серию работ на сюжет «Продавец»; центральная из них, с ироническим названием «Директор погоды», изображала фантастический персонаж - символ, увешанный барометрами, градусниками, компасами, ветровыми флажками. Фантасмогори- ческий мир «продавцов» отзывается в сценографии к «Ботвину». Композиция сценического пространства намечает вертикальный модуль (вместо человека - пространственный объект), вокруг которого движутся предметы, из их как бы случайного, непреднамеренного наложения складываются метафорические образы, происходит рождение нового смысла.
5 В мемуарах актера БелГОСЕТа К.Л. Рутштейна, изданных под фамилией Кулаков в литературной записи В. Бойко, сценографии А.Г. Тышлера необоснованно приписывается «отказ от всего живописного». Скорее всего, литературный редактор модернизирует художественный образ спектакля, подгоняет его под тип публицистически жесткого спектакля театральной практики 1970-х годов. (См.: Кулаков КЛ. Годы и люди. Мн.: Мастацкая л1таратура, 1977. С. 143). Более точное представление о сценографии «Ботвина» можно получить благодаря фотоколлекции ЦГТМ. Ф. 97240а фсд. № 91028, 97312; Ф. 97309фсд, № 91025; Ф. 97314 фсд, № 391030; Ф. 97310 фсд, № 91026, Ф. 91029 фсд, № 97131.
6 Айзенберг А.В. «Ботвин» // Полесская правда (Гомель). 6.III. 1929,
№ 53(2643). С. 3.
7 Степанян Н. «..я хочу быть понят родной страной» // Вопросы искусствознания. 1997, № 10 (1). М., С. 76.
8 См.: Тугендхольд Я.А. Искусство Октябрьской эпохи. Л.: Academia, 1930. С. 136,137.
9 См. репродукцию: Russian Jewish Artists in a Century of Change 1890-1990/ Munich-New York, Prestel. 1996, N 21.
10 См. репродукцию: Советский театр, 1930, № 3-4. С. 10 или Марголин С. Художник театра за 15 лет. М.; ОГИЗ, 1933, вкладка.
11 См.: Художники театра о своем творчестве. М.: Советский художник, 1973. С. 253.
12 Эскиз опубликован в кн.: Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра (От истоков до середины XX века). М.: Эдиториал УРСС, 1997. С. 406.
514
В общей композиции эскиза также чувствуется влияние «переписанных» работ Ф. Гойи - фигура быка и повисшего на бандерильи матадора из «Проворство и дерзание Хуаниго Агшльяни» и карнавального масочного празднества «Похороны сардинки» (Сравни репродукции: Левина И. Гойя. Л.; М.: Искусство, 1958. С. 312, 313; Шинкелъ Р. Мир Гойи. М.: Терра-Книжный клуб, 1998. С. 17, 20). Последняя картина изображает разгул толпы, несущей знамя с огромной страшной головой, которая превосходит своими размерами фигуры танцующих и парит над ними в воздухе. Это полотно, вероятно, подсказало ход к решению сцены деревенского празднества в спектакле «Овечий источник». В спектакле крестьяне ходили по деревне с головой убитого ими де Гомеса и устраивали карнавальный спектакль.
Мотивы и образы Ф. Гойи послужили для А.Г. Тышлера первоначальным творческим импульсом, ведущим к созданию оригинального творческого замысла, и перерабатывались. Отсылка к первоисточнику или диалогическая перекличка с ним художником не программируется и «на первый взгляд» не обнаруживается.
Влияние Ф. Гойи на сценографическое творчество А.Г. Тышлера в спектаклях 1927-1928 гг. проявляется также и в трактовке некоторых персонажей. Визуальным прототипом для госпожи Бык в спектакле «Глухой» стала королева Мария-Луиза из парадного «Портрета семьи короля Карла IV». Эскиз персонажа, сыгранного Ф.Н. Цыпкиной, опубликован без подписи под первоначальным, рабочим названием спектакля «Вверху и внизу» (См.: Жизнь искусства. 1 ОЛИ. 1929, № 11. С. 17. Сравни его с полотном Ф. Гойи в «Мир Гойи». С. 74.) Художник заимствует из портрета Ф. Гойи черты психологической характерности, характерный тип, подходящий, с его точки зрения, литературному герою Д.Р. Бергельсона, но одновременно учитывает фактурные особенности исполнительницы роли. (Ср. его же эскиз для персонажа Ф.Н. Цыпкиной Брохэ к спектаклю «Рекрут» в: Театр и драматургия, 1933, № 6.) Художник создает-сочиня- ет персонаж спектакля, а не пишет только его костюм. Его предложения театру носят характер набросков (рисунок пером или карандашем), побуждающих актера к размышлению над образом.
13 З.Д-н. «Глухой» (постановка ГОСЕТа БССР) // Рабочий. (Минск). 29.Х. 1929, № 248(673). С. 5.
14 Кентавр в «станковом театре картин» А.Г. Тышлера - вариация образа быка, затем самостоятельный персонаж. В знаменитой галерее тышлеровских муз 1960-1970х годов сращивание «живого» и «неживого» (человека и архитектуры, человека и натюрморта) порождает аллегории «души города», «дня рождения». Возможно этот живописный прием совмещения «два в одном» имеет в творчестве А.Г. Тышлера и сугубо сценические аналогии.
15 Рафальский М.Ф. Как нами сделан «Глухой» // Полесская правда (Гомель). 23.IV. 1929, № 92. С. 6.
16 Сарабьянов Д.В. [Вст. ст.] // Александр Тышлер. 1898-1980. Живопись, графика, скульптура, театр. Каталог. М.: Советский художник, 1983. С. И. Подвижность детали, вещи, фигуры в пространстве станковых работ художника отмечали и другие исследователи творчества А.Г. Тышлера, писавшие об автономности, конфликтности их существования при четкой продуманности и завершенности художественной композиции.
17 См. репродукцию макета // Жизнь искуства. ЮЛИ. 1929, № 11. С. 17.
18 Ханукка («Праздник Света - или «Праздник Просвещения») отмечается в декабре 8 дней в память о переосвещении иерусалимского храма в 165 г. до н.э после победы Маккавеев. Согласно исторической легенде, масла для переосве-
17*
515
щения Храма в кувшине хватало только на одни сутки для 7 ветвей меноры, но произошло невероятное и светильники горели 8 дней. В национальной религиозной традиции праздник ханукки связан с категориями Чуда, Света, неприятия духовного порабощения. О внутреннем, морально-этическом, смысле его для всех евреев современный раввин Адин Штейнзальц, например, говорит так: «Чудо Хунуки, произошедшее в трудное для еврейского народа время учит нас тому, что в дни, когда за окном сгущается мрак, нельзя поддаваться общему настроению, нужно, напротив, несмотря ни на что, освещать мир вокруг себя, добавляя все больше и больше света. Каждый вечер праздника мы зажигаем свечи. И с каждым днем праздника мы добавляем свечу, стремясь выразить то, что мы не стоим на месте, не довольствуемся достигнутым, а идем вперед, добавляя свет в нашу жизнь». (Из приветствия раввина Адина Штейнзальца российским евреям к празднику Ханукка // Хаверим, 1999, № 1(15). С. 4.)
На рогах быка в работе А.Г. Тышлера изображено 8 рожков (традиционный хануккальный светильник) и только 7 горящих свечей (менора). Художник провоцирует у зрителя момент драматического ожидания - состоится ли чудо? Ритуальный бык приносился в жертву классовой идее.
Из-за возжигания 8 свечей праздник Ханукки еще называют Праздником Огней. В финале спектакля рабочие, палившие мельницу, одновременно уничтожали видение «общего храма», мечта о восстановлении которого (второй библейский храм) объединяла рассеянных по странам евреев.
19 По собственному признанию «роман с драматическим театром» в начале 1920-х годов у М.З. Шагала не сложился. (См.: «Культур-Лига»: выставка работ Натана Альтмана, Марка Шагала, Давида Штеренберга. М., 1922. С. 43.) В те годы, когда советская сценография стремительно развивалась, отталкиваясь от традиций станковой живописи, осваивала все пространство сцены, как огромное поле деятельности, искала разные способы включения оформления в сценическое действо, М.З. Шагал мыслил «плоскостью картины», пространством мольберта, статикой станковой живописи. В этом кроется главная причина его неудачного «романа с театром». «Он - писал А.М. Эфрос, - делал не декорации, а просто панно, подробно и кропотливо обрабатывая их разными фактурами, как будто зритель будет перед ним стоять на расстоянии нескольких вершков, как он стоит на выставке, и оценит, почти на ощупь, прелесть и тонкость этого распаханного Шагалом красочного поля. Он не хотел знать третьего измерения, глубины сцены и располагал все свои декорации по параллелям вдоль рампы как привык размещать картины по стенам и мольбертам» (ЭфросА. Художники театра Грановского. С. 63.)
20 Рафальский М.Ф. Еврейский театр // Советский театр, 1930, № 7. С. 12.
21 Загорский М.Б. «Джим Куперкоп» в Белорусском Госете // Вечерняя Москва. 9.V. 1930, № 105. С. 3.
22 Цит. по: Модэлъ М.М. Тэатр i драматурпя. Мн.: ДВБ, ШМ, 1935. С. 43.
23 Статья Л.М. Литвинова опубликована на еврейском языке в журнале «Штерн» (Минск). Цит. по: Волъсш В.Ф., Модэлъ М.М. 5 год творчай дзейнасщ яурэйскага дзяржаунага тэатру БССР // Мастацтва i рэвалюцыя, 1932, № 1. С. 11.
24 По воспоминаниям А.Г. Герштейн под фамилией Чайковский режиссер в довоенное время работал в московском театре имени М.Н. Ермоловой.
25 Переселение евреев в Крым началось после гражданской войны, тогда и возникли еврейские поселения, занимающиеся сельским хозяйством. С середины 1920-х годов организованным переселением евреев в Крым занялся уже КОМЗЕТ (Комитет по земельному устройству трудящихся евреев). После из¬
516
вестного «Крымского дела» 1928 г., когда председатель Крымской АССР Вели Ибрагимов и его люди - «национально мыслящие коммунисты» были расстреляны по заочному приговору ОГПУ, и в крае начались «сталинские чистки», под патронажем КОМЗЕТа в Крым перебиралось ежегодно 2-3 тысячи семей. В 1932 г. - в Крыму было зарегистрировано 86 еврейских сельскохозяйственных поселков (в их числе и 4 коммуны). Большинство из них 13.Х.1930 г. вошло в Фрайдорский еврейский национальный район, территориальный центр, с созданием которого политики видели путь к нормализации статуса евреев и обретения ими национальной автономии. К 1932 г. план переселения евреев в Крым окончательно провалился, уступив место очередному, как показала история - более долгосрочному, «Биробиджанскому» проекту - созданию автономной еврейской области на Дальнем Востоке.
26 Модель М.М. «На 62-м вучастку» у яурэйсюм белдзяржтэатры // Лггара- тура i мастацтва. 11 красавка. 1932, № 5. С. 2.
27 Цит. по: Рафальскг М.Ф. Адказ м1стэру Бялжу // Мастацтва i рэвалю- цыя, 1932, № 3-4. С. 13. Политический деятель Ю. Ларин был одним из сторонников и теоретиков еврейской колонизации в Крыму, и в русло его национально-политической концепции вполне вписывалась пьеса И.Д. Добрушина.
28 В репродукции оскиза представлена только центральная часть общего оформления сцены. (См.: Театр и драматургия, 1933, № 6, вкладка). Фото объемного макета к спектаклю см.: Российский государственный театральный музей им. Бахрушина. Ф. 97315 фсд, № 129349.
29 Хуппах - кусок ткани из шелка или сатина в традиционном обряде бракосочетания. В качестве функциональной, узнаваемой детали еврейского быта платок-хуппах использован художником затем в знаменитом спектакле «Фрей- лекс» (1940), оформленном в духе «венского стиля».
30 Шатер в еврейской традиции - первоначальная форма переносных синагог.
Л.С. Овэс
МОИСЕЙ ЛЕВИН:
КУЛЬТУРА «ИДИШ» И ЭКСПРЕССИОНИЗМ. ДВЕ «СМЕРТИ» НА СЦЕНЕ
«Смерть Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина и «Смерть Пазухи- на» М.Е. Салтыкова-Щедрина, Петроград, Театр новой драмы и Академический театр драмы, спектакли 1923 г., режиссеры
A. Л. Грипич и Л.С. Вивьен. Их объединяет имя художника - Моисея Левина, экспрессионистское видение мира и пьес, методы воплощения их на сцене. Это не единственные экспрессионистские спектакли художника. Можно говорить как минимум о двух десятках постановок, в том числе на материале советских экспрессионистских пьес: «Падение Елены Лей» и «Гибели пяти» А.И. Пиотровского, «Венчанье Хьюга» А.П. Глобы.
Выбор спектаклей обусловлен не только игрой слов, но и высочайшим качеством классической драматургии. Из двух названных произведений первое («Смерть Тарелкина») смело можно считать гениальными. То есть художественный объем классического материала художнику был обеспечен, спровоцирована также необходимость активного отношения к пьесе, энергия ее интерпретации.
Между откровенной актуальностью экспрессионизма и «вечными ценностями» классической драматургии нет противоречия: экспрессионизм тяготеет к вечному, классика - к прирастанию новых смыслов, перекличке с временами, вбирании их в себя.
Говоря о художнике, следует учитывать и биографический фактор.
Герой статьи Моисей Левин появился в Петрограде в начале 1918. Ему было 22 года. Он был вдовцом, невольно виноватым в смерти жены (заразившейся чумой в находившемся под его командованием санитарном поезде), участником военных действий, прошедшим через ад мировой катастрофы истории были прочувствованы им лично, пропущены через себя. Но драматизм эпохи еще и переживался еврейским сознанием, «писался» по исконно трагическому национальному фону. Словесный портрет оставленный
B. В. Шверубовичем спустя почти полвека после смерти художника, отсылает к национальным корням: «Человек мужественной красоты.
518
Вроде некрасив, но похож на древнееврейского маковея. Решительный. Огромное чувство юмора... В нем была отвага бойца. Сердился когда было несерьезное отношение к делу, гневался глубоко и серьезно, не как баба»1.
Какие особенности еврейского художественного мышления были присущи М.З. Левину. И как они корреспондировались с экспрессионизмом в театре и сценографии 1920-1930-х годов? Левин был родом из Вильно, через который проходила граница зоны оседлости, в некоторых местах которой концентрация еврейского населения достигала 90 процентов. Есть что-то неуловимо сближающее всех еврейских художников начала XX в. По мнению Б.С. Аронсона: «черты народного пластического гения и его формальные основы, может быть, и не поддаются точному определению - ведь стиля еврейского не создано.., но внутренне ощутимый стержень, объединяющий еврейское искусство, сообщает им собственную физиономию... В отдельных вещах это не так заметно, как в массе»2.
Культура «идиш» парадоксально легко уживалась с самыми авангардными европейскими исканиями. И кубизм, и футуризм, и экспрессионизм не отторгались ею, легко и органично нанося свои «письмена» на национальную грунтовку. Н.И. Альгман, Леон Иден- баум, М. Кислинг, Х.-Я. Липшиц, Х.С. Сутин, Осип Цадкин, И.М. Чайков, М.З. Шагал чувствовали себя творчески комфортно в парижском улье 1910-1912 гг. Г.И. Казовский объяснял это свойство национальной культуры тем, что «новшества авангарда, в частности кубизм, неожиданно оказываются средством, способным подчеркнуть и усилить специфику фольклорной пластики, своеобразие еврейской “топографии”»3.
Деформация - излюбленный метод культуры «идиш». Она характерна для многих авангардных явлений искусства XX в., в том числе и для экспрессионизма. Исследователь этого направления Л.Я. Зивельчинская свидетельствует: «Деформация толкуется... как превращение обычного в необычное, “остранение”. Остранение... - причина привлекательности и обаяния искусства... деформация... показ предмета с такой стороны, которая еще мало известна, или с такой, которая выражает самую сущность предмета, между тем как другие стороны или свойства предмета опущены»4.
Культура «идиш» экспрессионистична. В ней воплощен весь трагический гротеск национального существования, парадокс сохранения духовного наследия в условиях гетто, в окружении иных ценностей, когда верность ритуалу - многовековой подвиг, единственная возможность сохранения самобытности нации. Через гротеск она в родственных отношениях с множеством явлений мировой культуры, в том числе и со «Смертью Тарелкина» А.В. Сухово-Ко- былина.
Гротесковость художественного сознания, как правило, отливается в формы фантастики. Монстры на эскизах костюмов «Венча¬
519
ния Хьюга» (не осуществленная постановка, 1924), черти и бесы «Сорочинской ярмарки» (Малый оперный театр, 1931) Моисея Левина выныривают будто из бездн средневекового еврейского фольклора, оттуда, где живет созданный национальным сознанием искусственный человек Голем, причудливые сказочные животные и растения, вырезанные на еврейских кладбищенских камнях.
Но театральный художник имеет дело с драматургией, в данном случае, с классической. Прорываясь через конкретику героев «Смерти Пазухина» М.Е. Салтыкова-Щедрина Левин прибегает к спасительному гротеску. Персонажи на эскизах костюмов утрированы, одни словно распадаются на кубистические элементы, другие застигнуты в футуристическом движении, третьи откровенно гиперболизированы. (Музей театрального и музыкального искусства, СПб). Существующая в воображении персонажей комета, падения которой ожидают в течение всего действия, пронесется по эскизу М. Левина, сметая своим черно-красным хвостом всю имеющуюся у драматурга реальность изображения, уничтожая ее.
Еврейское сознание метафизично. Космос упакован в талмуд. Мистицизм - в кабалу. Но и экспрессионизм не чужд метафизических и мистических умонастроений, и он стремится воплотить в искусстве надмирные внешние силы5.
Многочисленные этнографические экспедиции, составление коллекций еврейских древностей, интерес к изделиям народных художников и ремесленников способствовали осознанию формальных основ еврейского стиля6. В 1886 г. В.В. Стасов совместно с бароном Давидом Гинзбургом издал альбом «Древний еврейский орнамент по старинным рукописям». В конце 1991 г. девяностолетняя художница Е.Б. Словцова рассказывала, как Левин советовал ей взять книгу с орнаментами, уверяя, что она послужит отличным камертоном для настройки глаза и в плане пластики, и в плане композиционного мышления, и в цветовой ориентировке7.
Действительно, в основе еврейской национальной культуры лежит двухмерный орнамент. Он достигает невероятной изысканности и красоты. Натренированный на нем глаз, легче познает секреты пропорций и пластики.
Я далека от мысли считать орнаментальную изысканность достоянием только культуры «идиш». Аронсон справедливо писал, что и в японской гравюре на дереве и в персидских и индийских миниатюрах «можно видеть пейзаж и лица, переставшие быть реальностями, ставшие условными, абстрактными», «элементы орнамента заключены в примитивных насечках и татуировках дикаря, в средневековых рукописях, в современной графике». Он добавлял: «Всюду мы встречаем комбинирование геометрических элементов, изобретательство в выдумке новых ритмов, новых комбинированных схем. Модусы, дающие ключ к раскрытию неизменяющихся соотношений и пропорций, масштабы для измерения постоянных величин заклю¬
520
чены уже в самых простейших орнаментальных попытках. В этнографическом и археологическом материале, в предметах первой необходимости домашнего обихода орнаментация, разграфление плоскости, ее оживление, игра черно-белыми элементами - характерные черты всякого народного искусства»8.
С детства Левина окружали предметы еврейского народного прикладного искусства, на них настраивался глаз. В Вильно Моисей Левин успел и сам приобщиться к художественным ремеслам. Он резал по дереву и ковал по металлу; от отца, переплетчика старинных фолиантов, унаследовал любовь и уважение к рукотворности творчества9. Прикладной, ремесленный характер национальной культуры подготовил Левина к будущей профессии театрального художника.
У него нет ни одного оформления, созданного по законам жиз- неподобия, даже в 1930-х, когда на сценах воздвигались по определению Н.П. Акимова «кабинеты заведующих», Левин не создал ни одной натуралистической декорации. Его эскиз к «Чудесному сплаву» В.М. Киршона (спектакль МХАТ, 1934 г.) демонстрирует почти японскую графическую изысканность, эскизы костюмов к «Падению Елены Лей» (Театр новой драмы, 1923) и «Воццеку» (ГАТОБ, 1927), совершенное владение двумя главными элементами графики: линией и пятном. На листах Левина при всей конструктивности и лапидарности композиции всегда найдет место какой-нибудь прихотливый завиток, неожиданный кусок орнамента, какая-нибудь лихая декоративная деталь. Высочайшая графическая культура - наследство национального гения. Выполненные М. Левиным эскизы костюмов нет-нет, да напомнят о С. Рыбаке, М. Шагале, И. Майкове, Н. Альтмане, И. Рабиновиче. Театр не предполагает подробностей, их просто не видно из зала. Левин, как театральный человек, это знает. Но он не может отказать себе в удовольствии набросать штрихами кружева на накидке матери в «Гибели пяти» А. Пиотровского, сверкающие грани камней, украшающих толстые пальчики Толстяка в пьесе Ю.К. Олеши, перья в «Пушкине и Дантесе», банты в «Бархате и лохмотьях». Его рисунки к кинофильмам «Путешествие в Арзрум» и «Подруги» - графика высочайшего музейного уровня.
В основе культуры «идиш» традиционный народный примитив. Экспрессионизм также тяготеет к нему10, не стесняется родства с детским рисунком и искусством душевнобольных. Любое народное творчество стремится к обобщению и символизации, но не у каждого подобно еврейскому, внутри такой заряд трагического. Вспоминается Луначарский с его определением экспрессионизме: «Это не конструкция по типу прекрасного здания, это конструкция по типу разрушительного снаряда»11.
«В системе традиционных представлений иудаизма быт мыслится как сакральная зона реализации заповедей-мицвот, как таинственная сфера ритуального осуществления человека, - пишет Г.И. Казовский. - Приземленной повседневной реальности в этой
521
системе сообщается символический масштаб бытия...»12. Символический масштаб объединяет культуру «идиш» и экспрессионизм. Роднят и частности: изображение сдвинутой в пространстве действительности, «танцующая» пластика форм, страсть к их разъятию и собиранию на месте старых новых, не репродуциирующих действительности, зато передающих ее эмоционально концентрированный образ.
Еврейская культура театральна. Экспрессионизм также стремится к броскости, пафосности, декламационности формы. Его искусство чуждо бытовых ритмов, жанровых зарисовок, это резко гипертрофированные порывы, яркие динамичные размашистые мазки, срывающиеся в крике голоса.
Экспрессионизм построен на противопоставлении крайностей: надежды и безысходного отчаяния. Еще Ж.Э. Ренан обращал внимание на то, что в еврейском народе с необычной рельефностью выражены всевозможные крайности, которым он предается с истовостью, парадоксально соседствующей с тягой к эпосу13.
* * *
Моисей Левин прибыл в Петроград в январе 1918 г., первые свои декорации сделав, как и многие его коллеги, в армии. Современники рассказывали, что видели его на Курсах мастерства сценических постановок В.Э. Мейерхольда, на занятиях Высших художественных мастерских у Н. Альтмана. Его фамилия не значится среди официальных слушателей. Скорее всего и туда и туда его привела Е. П. Якунина, учившаяся во ВХУТЕМАСе и Курмасцепе. Она же, по словам режиссера А.Л. Грипича, познакомила с режиссурой Литовского театра. Театр, созданный «мейерхольдовцами» А. Грипи- чем, К.Н. Державиным, В.Н. Соловьевым, К.К. Тверским располагался на углу Тамбовской и Прилукской в Народном доме графини Паниной. Работали в нем художники, вышедшие из Курмасцепа: Л.С. Мангуби, С.В. Приселков, Е.П. Якунина, Е.Б. Словцова. Он просуществовал всего год, но Моисей Левин успел сделать эскизы к «Человеку, который смеется» по В. Гюго для режиссера В. Соловьева. Они остались неосуществленными. Спектакль пошел в декорациях С.В. Приселкова: В сезоне 1922-1923 гг. Левин оформляет в Театре новой драмы, наследовавшем Литовскому, «Смерть Тарелки- на» и «Падение Елены Лей», оба с режиссером А. Грипичем.
Театр новой драмы просуществовал не дольше своего предшественника, но вошел в историю, как экспрессионистский. Возглавил его А.Л. Грипич. Труппа и режиссерский штаб почти те же, что в Литовском. Помещение новое - на Моховой, 35, на первом этаже, под аудиторией бывш. Тенишевского училища. Запущенный зал на 450 мест надо было отремонтировать и покрасить. В результате получился белый зал с синей полосой балкона, синий и золотой зана¬
522
весы (все по эскизам М. Левина). А.Л. Грипич вспоминал: «...Незаметно для самих себя, как естественное выражение наших замыслов и дум, без деклараций а, скорее, по ощущению, начали... создавать спектакли в духе экспрессионизма. Мы стремились взломать бытовую поверхность событий и явлений, выдаваемых за реализм, и вскрыть самое существо идеи, философское содержание»14.
«Смерть Тарелкина» прочитывалась А.Л. Грипичем, как «сгусток жизни, не умещавшейся в обычное представление о человеческих отношениях, нормальном общественном устройстве, об общечеловеческом понятии добра и зла». Это - «фантасмагория, страшная «комедия-шутка»15. Режиссер был убежден: пьеса глубоко современна, экспрессионистична, и требует иных, новых, средств выразительности. Он нашел их: контрастное построение сцен, такое же контрастное переживание действующих лиц, эксцентризм, сатира, преувеличенный пафос, гротеск.
Обычно экспрессионистскую драматургию переводили в план сатирического гротеска. Грипич сделал наоборот. Сатиру и гротеск А.В. Сухово-Кобылина он окрасил в экспрессионистские тона. Реальное и фантастическое слились в стремительном и напряженном, трагически насыщенном действии.
Несколько наклонных плоскостей представляли чердак, где жил Тарелкин. Отсюда уходила убогая лесенка, беря начало в левой части сцены. За плоскостью была спальня. Грипич считал Левина «мастером плоскостей», был уверен, что именно он сделал их в театре одним из главных средств сценографического выражения. Крашенные плоскости определяли решение «Человека, который смеется». Они же, только теперь темные, создавали абрис дома, который вот-вот должен был рухнуть, сооружения, покосившиеся стены которого стали пластической метафорой невыносимости существования. Снизу по лестнице, вслед за Марфушей входил Варравин и чиновники. Первый оставлял возле лестницы зонт, вторые - калоши и все вместе уходили за стену - в спальню Тарелкина. Оттуда выносили гроб. Своими длинными накленными носами чиновники принюхивались к содержимому сильно гипертрофированного по форме гроба, потом с отвращением воротили их в сторону. Процессию возглавлял катафальщик с фонарем, в цилиндре и черной хламиде. Сюртук Варравина, хламида катафальщика - все было утрированное. Костюмы обрабатывались лично художником, поддувались, прописывались. Упрекавший театр за потертость служебного сюртука Варравина рецензент, был не прав. Денег у театра конечно не было, но изношенность костюма была сознательной. Все костюмы были выдержаны в серо-зеленой гамме: форменные зеленые у чиновников, синий у начальника.
Во 2-м акте атмосфера ужаса нагнеталась, доходя до апогея в сцене допроса в полицейской части в третьем, с пытками, выламыванием рук, мучением жаждой. Грипич применял приемы гиньоля:
523
Тарелкин жаждал напиться, ему подносили, но не давали. От веселья допрашивающего его Расплюева веяло смертью.
За «Смертью Тарелкина» Сухово-Кобылина режиссеру виделась тень «Носа» и «Шинели». Грипич сознательно шел от Н.В. Гоголя, не скрывая при этом интереса к немецкому художнику Г. Гроссу.
Борьба взбунтовавшегося Тарелкина против общества, его породившего, в котором он не может более жить, была мерзопакостна. Враги со злобой пожирали друг друга. Ни одного лица на сцене - сплошные рожи. Смех зрителей замирал на губах. Экспрессионизм не оставлял надежды, не признавал иллюзий. Не было их к тому времени и у М. Левина.
В застенок («Частный дом») вела крутая полукруглая лестница, обвивая широкую полутораметровую колонну. Колонна была срезана, оттуда, сверху неожиданно появлялся, будто трагический Петрушка, свидетель - купец Попугайчиков. Эта архитектурная деталь еще напомнит о себе в «Метелице» и «Товарище Семизводном» (Красный театр, 1925), «Смерти Пазухина» и «Пушкине и Дантесе» (Академический театр драмы, 1926).
Левин был художником эмоционального склада. Он подходил к драматургии страстно. Знавших его неизменно поражал контраст взрывчатой эмоциональности и внешней сдержанности, почти суровости.
Художник искал экстракт пластического образа. Ракурс падения стен все время обновлялся. Игра света и тени, шатающиеся словно в мороке кошмара цветовые пятна, создавали движение, характеризующееся переменой ритмов. Общее впечатление - кошмар. Зрители сидели, раз и навсегда завороженные ужасом российского бытия.
Грипич рассказал, как Левин нашел пластический образ: «Взял коробку от торта, приплюснул сверху. Сдвинутая в картонных плоскостях, она зажила, стала странной. Ее осветили. И вдруг появились люди. Кошмар»16.
Актриса Н.Г. Болотова, игравшая тетку Тарелкина, вспоминала, что «главную роль в решении спектакля играл художник М. Левин, декорации были интересны и страшны»17. Не умаляя значения Гри- пича, отметим сопряжение в воспоминаниях имени художника и эмоциональной оценки «страшны» - впечатления профессионала. Раз не забыла за прошедшие более, чем полвека, значит действительно декорация несла в себе нечто мистическое, ужасное.
Теперь предоставим слово профессионалу: “Конструкция поставлена задачей”... в “Смерти Тарелкина” и Грипич и Левин разрешили ее блестяще. В первой картине плоскости рокурсивящегося павильона, уход в трюм, пристановки на просцениуме - все логично построено, это уже не случайные “кубики” Нины Яковлевой18. В картине 2-го акта умело сконструировано окошко и хорошо построена расцветка, художник лишь не справился с заспинником, изображающим церковь - нет характера, нет нужной “православности”. Последнюю
524
картину в участке в конструктивном отношении назову шедевром, тем более, что планшет т. “Нов. Др.” стеснен - разойтись трудно. Умело взяты размеры дальнепланных станков. Уход в “кутузку” и т.д.»19.
А вот и другой отзыв, на этот раз не художника, а критика: «Едва ли она (пьеса. - Л.О.) им (успехом - Л.О.) обязана совершенно нелепым, так сказать кубистическим декорациям, производившим на недоумевающую публику... неприятное впечатление своим желто-серым, грязным цветом»20. Товарищ Левина, в прошлом кур- масцеповец, А.Г. Мовшензон не только защищает, но и объясняет главное в работе: «Моисей Левин дал декорации, замечательные по тому, как создают они окружение для жуткого Морока этой игры “во смерть”. Густые цвета, интенсивность их, телесность всех построений, остроумное распределение пространства и формы, - совпадают с заданием режиссера и подчеркивают его. Трудно сказать которая из декораций (не сама по себе), а в контексте действия лучше»21. Последнее замечание существенно. Левин с первого же спектакля входит в театр, как сорежиссер. Режиссерское видение органично для его дарования, не случайно в конце жизни он станет режиссером кино. Художник осмыслит эту особенность своего таланта в ее всеобщности для развития сценографии в 1935 г., в статье «Изобразительная режиссура»22.
Высоко оценивая «покосившиеся изломанные стенки, кривые, узкие лестницы-переходы, неожиданные углы и профили, тревожное освещение, рассекавшее площадку на ряд отдельных планировочных мест», режиссер К.К. Тверской, автор единственной существующей на сегодняшний день книжки о Левине, замечает важное, не увиденное другими рецензентами, возможно, подсказка шла от художника: нарушены все законы перспективного письма23.
Одним из композиционных и пластических приемов еврейской изобразительной культуры было одновременное применение элементов прямой и обратной перспективы, что характерно для искусства XX в. Левин в сценографических опытах 1920-1930-х годов активно использовал этот прием. Пространство «Смерти Тарелкина» существовало по законам обратной перспективы. В театре она, как правило, приобретает сценическое воплощение, связанное с театральной машинерией. В «Воццеке» А. Берга (режиссер С.Э. Радлов) из глубины убранной мягкими вертикальными складками одежды сцены выезжали фурки, заряженные лаконичными экспрессивными декорациями, на них крупным планом подавались сцены: комната Марии, кабачок, кабинет доктора. Левин решал пространство как бы в обратной перспективе. Концентрация зрительского внимания на узких выезжающих площадках обусловливалась музыкой А. Берга, детально раскрывающей изломанный внутренний мир героев. Влюбленный в творчество Мейерхольда и его спектакль «Ревизор»
525
(тот же прием), А.А. Гвоздев упрекал Моисея Левина в отсутствии необходимой смелости, в том, что тот не пошел до конца, остановив фурки, не выплеснув их в зал, на широту оркестровой ямы24.
В «Смерти Тарелкина» рампы не было. Но не было и фурок, требующих глубины сцены. Художник разрушил портал, отказался от софитов и кулисных лампиньонов, выбросил вперед просцениум, соединив его ступенями со зрительным залом. Он сделал это не для Сухово-Кобылина, так по его проекту был перестроен находившийся здесь прежде Театр комедии. Подобная планировка опробовалась еще в Лиговском театре (любовь к просцениуму была естественна и органична для учеников Мейерхольда, вышедших из Студии на Бородинской).
Теперь же экспрессионистский стиль тем более требовал более интенсивной степени общения с залом, иного градуса театрального действия, экспансии на зрителя.
Экспрессионизм определил своеобразие творческой индивидуальности Левина, был созвучен впитанной им с детства национальной культуре. Но он был близок и его натуре - взрывчатой, бурной, откровенно эмоциональной. Сдерживаемый в быту темперамент рвался наружу, находя выход в творчестве. Лучшие работы Левина тех лет «Смерть Тарелкина», «Падение Елены Лей», «Гибель пяти» (БДТ, 1925), «Яд», «Смерть Пазухина» принадлежали театральному экспрессионизму.
Возможно, приглашая Левина в Академический театр драмы для оформления «Пазухина», Леонид Сергеевич Вивьен гарантировал спектаклю необходимый процент левизны. Как актер Вивьен существовал в традициях Александринки, как режиссер в первом же своем спектакле пытался прорваться к иной театральной системе, декларировал: «...пьеса...ставится не в плане описательного быта, а как динамическое гротесковое представление»25. Разъяснял цель оформления: «Декорации Левина имеют задачей усилить эмоциональную выразительность игры актеров, а костюмы - помочь исполнителям в выявлении с внешней стороны гротесковых фигур». «Первый акт рисует мрачное жилище Пазухина - сына, плесень и золото - лейтмотив общего декоративного фона; второй акт - холодная, покойная и бездушная колоннада у Фурначева вполне отражает дух застывшего черствого холодного чиновника; третий акт - живой покойник и золото, почти мертвец старик Пазухин и на фоне золотой колонны, сгруппировавшись вокруг него, действующие лица, которые должны напоминать ворон над падалью. Четвертое действие представляет ряд площадок и дверей, сконцентрированных у входа в комнату, где находится покойник, здесь мрачные давящие входы в чулан и клетушку Живоедова и поблескивающая золотом комната покойника»26.
Левин отсекал все лишнее, ограничивая себя в декорационных элементах, гиперболизируя их. Детали архитектуры составлялись в
526
сочетаниях, исключающих прямую перспективу. Созданная художником пространственная среда была откровенно формальна, не теряя при этом связи с пьесой. В ней были присущие материалу весомость, фундаментальность, грубость. Решение было неожиданно и фантастично. Глядя на организующую пространство колону, плоскость дуги, исходящую из нее, и подобие архитектурных деталей, венчающих всю эту сложную композицию, мы невольно вспоминали комету, падение которой предвещали Фурначеву газеты.
Режиссер К. К. Тверской утверждал, что в постановке «Смерти Пазухина» Левин «с некоторыми... изменениями, вызванными главным образом масштабами сцены, повторяет... сделанный им два года назад макет “Тарелкина” в декорациях 1, 3 и 4 актов, и лишь во второй картине дает совершенно новую, богатую форму, уводящую его к экспрессионизму...»27.
Жертвенно подчинив себя театру, не тратя время на живопись и графические эксперименты,♦Левин разрешил себе малость - право вводить в сценические работы беспредметные композиции. Выделяются два сюжета, воплощенных в «Смерти Пазухина» и «Воццеке». Сравнения относительны, и все же подвешенная в сценическом воздухе «Воццека» объемная конструкция напоминает контррельефы В.Е. Татлина, а пространственная композиция в «Смерти Пазухина» отсылает к экспериментам на плоскости А.М. Родченко и Эль Лисицкого. Вводя беспредметную композицию в сценическое оформление, Левин открывал неведомые ее свойства. Оказавшись в театральном контексте, беспредметное искусство приобретало фантасмагорический оттенок, получало новую образную функцию, обнаруживало театральную конкретность, не чуждую по настроению экспрессионизму.
Эскизы Левина к «Смерти Пазухина» откровенно близки последнему. Черный фон. Массивная колонна - сюжетный центр композиции. Она наклонена влево, почти «падает», и это ощущение не мешает впечатлению незыблемости, основательности, прочности быта Пазухиных, ибо и накренясь, она продолжает организовывать пространство, собирая вокруг себя более мелкие элементы декорации. Это падение затяжное, на многие десятилетия. Из капители колонны произрастает плоскость дуги. Под дугой - ломанный абрис лестницы. Такая лестница была в «Смерти Тарелкина», будет в «Плутнях Скапена». Левин любит ее стремительное винтовое движение. В левой стороне эскиза «Смерти Пазухина» - мебель: кресла, диван. Очертания условны. Цвета: черный, золотой, фиолетовый, красный, золотисто-зеленый. Лист лишен подробностей, ударен и напряжен.
То, что художник водрузил на сцене, повергло в изумление немногих зрителей спектакля - премьера совпала со знаменитым наводнением 1924 года, - в возмущение - старую гвардию александрийских актеров. Испытанное ими смятение отразилось в докладе
527
артиста Г.Г. Ге, спародированные тезисы которого напечатал «Рабочий и театр»: «Как шла история театра, какая гидра Мейерхольд, как рожает эскимоска, как разлагается Европа, как отличить рабочего от буржуа и главное, как опозорил ленинградскую Акдраму художник Левин».
Скандальную работу М.З. Левина постарались побыстрее забыть. С.Э. Радлов негодовал: «Если бы мы жили в столичной Москве, а не в провинциальном и художественно-нетерпимом городе, конечно, пресса приветствовала бы в талантливом Левине крупное дарование блестящего декоратора. Между тем, “Смерть Пазухина” встретила только кислые полуупоминания»28.
Мейерхольдовские корни постановки отмечали все. Л.С. Вивьена хвалили за «желание “омолодить” классическую пьесу, сделать ее более “современной”». Ругали за метод, которым он этого добивается: «...избран наиболее простой и легкий путь: приглашен левый художник, который должен произвести целительную операцию. Художник сделал свое: установив на сцене невиданные еще в Ак-театре декоративные сооружения, одел актеров в гротескные костюмы, но... омоложения не получилось»29.
В Акдраме были отличные мастерские. Чуждые им декорации и костюмы они выполнили прекрасно. Удар был нанесен из-за угла и принадлежал соратнику - Л.С. Вивьену, не сумевшему отстоять внутри театра идею гротескового спектакля, павшему жертвой крепких александринских традиций. И вот «Левый Левин, совсем не левые исполнители и во главе всех в роли арбитра, стремящегося примирить враждующие стороны “не чуждый современности” Вивьен»30. Прав был К.К. Тверской, утверждавший, что «только путем органическим, путем коренного изменения актерской техники может измениться форма спектакля... поздно начинать “с азов” - переучивать старых мастеров, которые сильны и ценны-то именно “своим” мастерством»31. Как было замечено по несколько другому поводу: «Что ФЭКСу здорово, то АКу смерть»32.
Левин не эпатировал, хотя это было бы в духе времени. Его индивидуальность, чужеродная Александрийскому театру, лишь казалась бунтарской. Он был одним из самых серьезных и глубоких художников того поколения. Все, что он делал в театре, было продуманно и взвешенно, имело пластические истоки.
В рушащихся стенах левинских декораций, их неожиданных ракурсах, бытово незамотивированных декорациях бился синкопированный пульс времени, отражалась конфликтность, присущая эпохе. Даже когда Левин строил сценическое пространство из элементов, чужеродных эпохе конструктивизма: колонн, капителей, карнизов, валют, за ними возникала эстетика экспрессионизма. Но еще и национальная традиция. Детали классической архитектуры, гиперболизированные, вырванные из привычных композиционных схем, поднимались до уровня метафор, переставали быть элементами
528
архитектурного стиля той или иной эпохи, становились факторами эмоционального воздействия на зрителя, элементами абстрактного формального искусства. Вот когда вспоминалось утверждение Б. Аронсона: «Орнамент никогда не бывает натуралистическим. Сама линия орнамента предопределяет его подчеркнутую отвлеченность, каллиграфичность, фантастическую игру завитков, росчерков, зигзагов, узорчатую и усложненную вариацию утолщенных и волосных линий, создающих иллюзорный объем»33. Фольклорную пластическую традицию Левин - театральный художник - корреспондировал в свою профессию, вывел из плоскости в объем, воплотил в сценическом пространстве. Не сомневаюсь, что бессознательно.
Драматизм мироощущения, присущий Левину, обусловил его приход к экспрессионизму. Но к нему были причастны и другие ленинградские художники, не менее одаренные, и также не глухие к трагическому гулу эпохи - В.В. Дмитриев, Н.П. Акимов, Ю.П. Анненков.
Но для единственного из них - Моисея Левина - стиль времени и национальный совпали. Личный темперамент и особенности дарования дополнили картину счастливых совпадений. Встреча Моисея Левина и экспрессионизма, к которой он был готов изначально, при- родно, генетически, состоялась.
1 Из личной беседы автора статьи с В.В. Шверубовичем // Архив автора статьи.
2 Аронсон Б. Современная еврейская графика. Берлин, 1924. С. 56, 59.
3 Казовский Г.И. Еврейское искусство в России. 1900-1948: Этапы истории // Советское искусствознание, XX век. № 27. М., 1991. С. 241.
4 Зивельчинская Л.Я. Экспрессионизм. М., 1931. С. 89-90.
5 Там же. С. 38, 42^17, 62^66.
6 Канцедикас А. Еврейское народное творчество // Декоративное искусство СССР. 1989, № 21. С. 37-Ф0
7 Из личных бесед автора статьи с Е.Б. Словцовой. См.: Словцова Е. Сейчас вспоминаю... // Искусство Ленинграда, 1991. .№7, С. 76.
8 Аронсон Б. Указ. соч. С. 31, 36
9 Рукопись воспоминаний родной сестры художника // Архив автора статьи.
10 Зивельчинская Л Я. Указ. соч. С. 16.
11 Луначарский А.В. Г. Кайзер //Луначарский А.В. Собр. соч. М., 1965. Т. 5. С. 417.
12 Казовский Г.И. Указ. соч. С. 239.
13 См.: Ренан Ж.Э. Жизнь Иисуса. СПб., 1906. С. 38-77.
14 Из воспоминаний А.Л. Грипича // Архив автора статьи.
15 Там же.
16 Там же.
17 Из архива Г.М. Левитина.
18 Первый раз А.Л. Грипич поставил эту пьесу в феврале 1922 г. в Лигов- ском театре. В 1970-е годы Грипич признавался, говоря о спектакле Театра новой драмы: «Очень много определил Левин. В первой редакции я еще не нашел формы, в которую бы вылилось мое ощущение кошмара» (архив автора статьи).
529
19 Янов А. Часть декорационная театра Новой Драмы // Жизнь искусства, 1922, № 48. 5 дек. С. 3.
20 Г.К. Впечатления. «Смерть Тарелкина» // Музыка и театр, 1922, № 10. 28 нояб. С. 3—4.
21 Мовшензон А. «Смерть Тарелкина» // Жизнь искусства, 1922, № 47. 28 нояб. С. 5.
22 М. Левиным самостоятельно снято три фильма: «Путешествие в Арзрум» (1937), «Амангельды» (1938), «Райхан» (1940), четвертый - «Подруги» - совместно с Л. Арнштамом (1935). Статья впервые напечатана в журнале «Театр и драматургия», 1935, № 10. С. 17-19.
23 Тверской К.К. Левин: Пять лет работы в театре. 1922-1927. Л., 1927. С. 8-11.
24 Рецензент писал: «Прожектора выделяют эту площадку из темноты и сосредоточивают на ней внимание зрителей. Принцип этот мы видели разработанным в “Ревизоре” Мейерхольда и его применение к опере можно считать своевременным и вполне уместным. Но только следовало его использовать с полной последовательностью и до конца. В “Ревизоре” площадка подъезжает к самой рампе. Когда она освещается сильным светом прожекторов, действующие лица оказываются на “первом плане”, как в кино, и с поразительной графической четкостью предстают перед зрителем. В “Воццеке” площадка останавливается за 6-7 аршин от рампы. Она не отделяет... от сцены-коробки, и впечатление “первого плана” не создает. ...Хотелось бы видеть ее не только у самой рампы, но еще ближе к зрит, залу, м.б. над оркестром...» (Гвоздев А. Еще о «Воццеке» // Жизнь искусства, 1927, № 42.С. 11.
25 Вивьен Л.С. «Смерть Пазухина» // Вечерняя Красная газета, 1924, 17 сент. С. 3.
26 Там же.
27 Тверской К.К. Указ. соч. С. 18.
28 Радлов С.Э. О варварах и варварятах // Жизнь искусства, 1924, № 44. С. 13.
29 Тверской К.К. «Смерть Пазухина» // Рабочий и театр, 1924, № 2. С. 7.
30 Авлов Гр. «Смерть Пазухина» // Жизнь искусства, 1924, № 39. С. 12.
31 Тверской К.К. Указ. соч.
32 Абашидзе С. Что ФЭКСу здорово, то АКу смерть // Красная панорама, 1924, № 20. С. 14.
33 Аронсон. Б. Указ. соч. С. 36.
С.М. Червонная
TAT ЛЕФ И ТВОРЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ ЭКСПРЕССИОНИЗМА
В КАЗАНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ 1920-х ГОДОВ
Российский авангард 1910—1920-х годов, прежде всего в том хронологическом измерении, которое условно можно назвать послереволюционным периодом (с 1917 года до середины 1920-х годов), имел весьма разнообразные выходы в обширное пространство так называемой «художественной провинции» и своеобразные ракурсы своего преломления в национальных культурах народов Российской Федерации, формирующихся и функционирующих в новых социально-политических условиях.
Рассматривая особенности этого процесса на материале, почерпнутом из истории Казанской художественной школы, пережившей в эти годы сложнейший процесс ломки, перестройки, краткого расцвета и жесткого прессинга, на примере творчества художников, образовавших столь же эфемерное по своей организационной конструкции, сколь плотное и активное по своей творческой энергетике объединение Тат ЛЕФ (Левый фронт искусств Татарстана), мы обнаруживаем два обстоятельства, отличающие «провинциальную» ситуацию от столичной и очевидно противоречащие друг другу.
С одной стороны, российская периферия, - даже такая, как Казань, не обделенная и до революции снисходительным вниманием художественного Петербурга, имевшая уже достаточно развитые институты развития и демонстрации искусства (в ее прославленном университете, гимназиях, музеях, издательских центрах, журналах, в Казанской художественной школе, созданной в 1895 г., поскольку, как писал ее первый заведующий Н.Н. Белькович, «...Академия художеств, проникнутая горячим желанием распространения художественного образования по всей России, обратила особое внимание на Казань, как основной просветительский центр всего востока России, откуда надлежало бы поступательно нести художественные знания в народ - сначала в Волжско-Камском крае, а затем и в Сибири»1), - все же значительно уступала в своем развитии, в своих возможностях и первой, и второй столице России, и всему западно-
531
му передовому флангу культуры нашей страны, формирующемуся еще до революции по изломанной линии Москва-Петербург-Ри- га-Витебск-Киев и объединявшему все, что от этого осталось после 1917 и после 1922 г., после всех постимперских разломов и эмигрантских отливов. На востоке обстановка была, конечно, беднее, творческих сил и «звезд» меньше, культурный слой плодородной почвы тоньше, консервативные установки прочнее, эстетический кругозор публики уже, и проблема отставания периферии от центра и востока от запада в отечественном искусстве, имевшем европейскую ориентацию, безусловно, существовала.
С другой стороны, в «вековой тишине» сонно дремлющей, далекой провинции голос молодых бунтарей и новаторов звучал резче, звонче. Их интерес к новым течениям в искусстве (а именно таким был экспрессионизм и кануна, и драматического итога Первой мировой войны) был острее. Их готовность «дерзать», экспериментировать, примерять на себя королевское платье мирового авангарда и решительно перекраивать этот наряд казалась неисчерпаемой. Их отроческий максимализм имел особый шарм не усталого вдохновения, первого открытия, первой пробы, а тот не наигранный, естественный нерусский акцент, какой обретали в молодых республиках и автономиях их манифесты и речи, их полотна и непрочные фрески, их на века рассчитанные монументы, не пережившие и одной короткой весны первого национального пробуждения, и их беспощадные карикатуры и пламенные плакаты на злобу текущего дня, придавал их творчеству нечто такое, что позволяет им и сегодня, спустя почти век, рассеявший многие иллюзии той молниеносной эпохи, оставаться в зоне искусствоведческого внимания.
Искусство, которое они создавали и которому они верой и правдой служили, отрекаясь от старых богов и поклоняясь новым идолам и фантомам шального времени, не было, как мне представляется, искусством «второго эшелона». Во всяком случае, этот эшелон, загнанный стечением геополитических и геокультурных обстоятельств на запасные и резервные пути, в тупиковые зоны глухой провинциальной отсталости, казалось бы, обреченный затеряться и пропасть в азиатских степях или в нетающих снегах близкого Севера, обнаруживал (и не раз) поразительную энергию, скорость, способность к прорыву в новое эстетическое пространство.
В этом пространстве не* было жестких внутренних перегородок, которые позволили бы авангардистам российской периферии, в частности, казанским «левым», четко размежеваться, замкнуться в группировках узкой стилевой ориентации, разойтись по своим замкнутым нишам. Как правило, художник «левого фронта» не ограничивал свое творчество одним направлением, пробовал работать в разных манерах, экспериментировать с разными материалами и техниками, увлеченно включался в поиск новых средств художественной выразительности, новых методов интерпретации окружающего
532
мира, новых визуальных систем, не сводя свое любопытство и собственное умение к какому-либо одному, уже определившемуся или еще только витавшему в волнующей и изменчивой атмосфере новаций «изму». Сам универсальный тип его личности формировался как историческая парафраза к типу деятеля ренессансной эпохи, и хотя в этом новом универсализме таились свои опасности, ибо он мог обернуться и эстетической эклектикой, и профессиональной несостоятельностью, дилетантизмом, это не пугало художников и не останавливало их дерзостного стремления одновременно выступать в разных ролях (зодчего и ваятеля, живописца и декоратора, дизайнера и графика, да едва ли не мастера всех мыслимых пластических искусств, а возможно, к тому же еще и искусств, оперирующих звуком, словом, движением), а уж тем более творить в разных стилевых парадигмах. Вчерашний выпускник старой Казанской художественной школы, не понаслышке знакомый с ее консервативной системой и академической традицией (можно сказать и иначе: воспитанный на этих традициях), чаще всего ученик Н.И. Фешина (и к тому же благодарный ученик, - мало кто из казанских «левых» отрекся от этого кумира их общей юности, и даже главный казанский «бунтарь» и мятежник 1910-х и ранних 1920-х годов Константин Чеботарев писал впоследствии: «Н.И. Фешин - гордость и честь Казанской художественной школы... Любовь и уважение к Фешину у нас всегда были и остаются. Мы не эпигоны. Каждый из нас нашел свой путь в искусстве, но мы всегда знаем, чем мы обязаны Фешину»2), он мог быть «футуристом» в широком, философском понимании своей миссии и писать в импрессионистской или постимпрессионистской манере, увлекаться декадансом (через это прошла почти вся казанская молодежь «серебряного века»), создавать стилизованные композиции по мотивам народного творчества или с элементами традиционной сакральной (христианской и исламской) символики, работать в духе примитивизма, фовизма, кубизма, искать цветовую, линейную, ритмическую гармонию или вызывающие диссонансы в абстрактных, «беспредметных» композициях, поражающих воображение провинциальной публики, наконец, проектировать вещи и интерьеры в строгой стилистике конструктивизма, легко переходя от одного направления к другому, не останавливаясь намертво ни на одном из них, часто возвращаясь к пройденному (что так затрудняет задачу хронологической атрибуции не датированных работ «татле- фовцев») или никогда не возвращаясь к прошлому (в поливариант- ной, плюралистической системе творчества и это было возможно). Поэтому в потоке казанского «левого искусства» трудно выявить экспрессионизм в «чистом» виде или в крупном масштабе. Казалось бы, это свидетельствует о слабой привязанности и отдаленной причастности казанских художников к экспрессионизму. Но поразительным образом, не в Москве, не в Петербурге, откуда, несомненно, проходил более прямой и короткий историко-культурный путь и
533
к дрезденскому «Мосту» 1905 г., и к мюнхенскому «Синему всаднику» 1911 г., и к более поздней классике немецкого, голландского, норвежского экспрессионизма, а в Казани возникло объединение («графический коллектив») «Всадник», стал издаваться альманах «Всадник», и именно этот, к сожалению, не слишком широко известный и не в полной мере по достоинству оцененный феномен художественной жизни и искусства послереволюционной России следует считать самым непосредственным и даже не слишком запоздалым откликом на обращенные ко всей европейской культуре, исходящие из предвоенного Мюнхена инициативы Василия Кандинского, Франца Марка, Пауля Клее... Между первым выпуском мюнхенского «Синего всадника» в 1912 г. и первым выпуском казанского «Всадника» в 1920 г. - дистанция всего в восемь лет. В широкой исторической ретроспекции они современники, родственные по своему эстетическому генезису, мировоззрению, стилю. И если в этом тандеме определенное следование младшего за старшим (или наследование культурного комплекса), несомненно, имело место, оно не сводилось к эпигонскому подражанию, к провинциальной реплике на классический оригинал. Казанский «Всадник» прошел свой путь в том времени и пространстве, который отвела ему его история, и не имея роскошной синей мантии мюнхенской мистики, мюнхенской духовной свободы, он не стал ни примитивно красным орудием советской пропаганды, ни серым призраком без собственного лица. Он сохранил свое рыцарское, свое творческое достоинство в погибающей от голода Казани начала 1920-х годов, в условиях, уже почти смертельных для искусства, в котором с такой силой, может быть, в последний раз пульсировали рожденные революцией надежды, смешанные с трансцендентным отчаянием.
Это время, весьма превратно интерпретируемое в советской искусствоведческой и культурологической историографии, с каждым годом все более ускользает из общественной исторической памяти, избирательно нацеленной сегодня на явления, маркированные знаками международного престижа, и почти равнодушной к нашим отечественным провинциальным далям, уходящим на восток от Москвы. Между тем, художественная жизнь, протекавшая там порой весьма драматично, достойна более пристального внимания и интереса исследователей отечественного авангарда 1920-х годов.
Мне хотелось бы восполнить этот пробел хотя бы кратким, конспективным описанием событий и изложением фактов, почерпнутых из еще не опубликованных архивных материалов3. Даже их дискретная цепочка может внести дополнительный штрих в комплексное исследование российского и мирового авангарда. Универсализм «ТатЛЕФа» и всего казанского авангарда, как уже говорилось выше, синтезировал разные стилевые концепции, и ни один из его мастеров или, по терминологии тех лет, юных «подмастерьев» не был последовательным представителем или горячим адептом исключи¬
534
тельно одного экспрессионизма, в каком бы узком или широком значении это направление ни рассматривать. Но все, что происходило на выставках в столице молодой, провозглашенной в мае 1920 г. Татарской Республики и в мастерских реформированной Казанской художественной школы, входило в систему поиска, определяло движение художественной мысли, которая не только органично осваивала западные веяния, но и генерировала собственные визуальные концепции, стилевые особенности и нормы, в том числе и те, что были тесно связаны с эстетикой, мировоззренческой основой и стилистикой европейского экспрессионизма.
В вихре бурных, потрясающих ее основы событий Казанская художественная школа оказалась буквально в первые дни после октябрьского переворота 1917 г. Революционный энтузиазм молодых воспитанников, стремившихся как можно скорее изменить обстановку в учебном заведении, расширить круг демократических свобод и прав учащихся, изгнать рутину, академизм и всяческую, говоря словами Маяковского, «мертвечину», буквально бил ключом, нередко переходя все грани и учебной дисциплины, и элементарной ученической этики. 12.XI.1917 г. была принята «Резолюция Исполнительного комитета учащихся», в которой содержалось ультимативное требование удалить из школы педагогов Г.А. Медведева и П.А. Радимова, поскольку они «по консервативности своих убеждений не сочувствуют новым стремлениям»4. Педсовет отказался удовлетворить эти требования, после чего обстановка в школе еще более обострилась. В протоколе заседания экстренно созванного
1.XII. 1917 г. педагогического совета школы записано сообщение П.А. Радимова о том, что «30 ноября ученики Школы не впустили его в здание Школы, причем ученик Федотов держал дверь изнутри... и заявили ему, что ученики Школы постановили его в Школу не пускать»5. Тогда педагогический совет осудил поведение учащихся, но дни пребывания в школе старых педагогов академической ориентации были уже сочтены. В новых условиях Казанская школа уже не могла жить по-старому, работать по старым программам, опираться на прежний педагогический коллектив, не могла даже называться так, как называлась она с 1895 г.
После того, как декретом от 12 апреля 1918 г. была ликвидирована императорская Академия художеств, в казанских кругах, на разных общественных уровнях, началось движение за ликвидацию Казанской художественной школы как «детища старой Академии». По образцу открывшихся в Петрограде 10.Х.1918 г. Государственных свободных учебно-художественных мастерских она превратилась в высшее учебное заведение, художественный вуз, нового, экспериментального типа, авангардистской ориентации. 27.XI.1918 г. на заседании педсовета была оглашена телеграмма Отдела изо Нар- компроса РСФСР о реорганизации Казанской художественной школы в Свободные государственные художественные мастерские6.
535
Реорганизационный период занял несколько месяцев, и официально Казанские свободные государственные художественные мастерские (КАСГХУМ) были открыты в январе 1919 г.7 Их структура в это время включала «основные» и «специальные» мастерские, т.е. общее подготовительное отделение и своего рода художественные факультеты, сформированные по видам искусства: 1) живописи станковой и монументальной, 2) скульптуры («ваяние из дерева, камня, глины и пр. с литейным и формовочным делом»), 3) архитектуры (строительного искусства), 4) педагогики изобразительного искусства8.
Судя по отчету о деятельности секции изобразительных искусств Казанского губоно (Губернского отдела народного образования) за первые месяцы 1919 г., никакого единого направления в работе этих мастерских не было, педагогический коллектив был смешанным и, можно сказать, пестрым, включая и художников прежней академической ориентации (удалены из школы были лишь наиболее одиозные фигуры дореволюционного периода, прежде всего ее бывший директор Г.А. Медведев), и весьма решительных и радикальных новаторов. Так, руководителями мастерских станковой и монументальной живописи были утверждены, как говорилось в отчете, «Фешин, Щербаков, Тимофеев. Приглашены... Филонов и др.»9.
Особое значение придавалось организации таких мастерских, какие по замыслу реформаторов должны были сблизить школу с жизнью и производством: планировалось открытие «чеканной», «игрушечной», «деревообделочных», металло- и камнеотделочных мастерских, мастерской «литографии с гравюрой»10.
Тенденция к усилению в художественной школе технического, производственного уклона в известной мере диктовалась из «центра», но и на месте, в Казани, встречала горячих энтузиастов
Поиски новой художественной стилистики, включая и те средства художественной выразительности, которые были присущи системе экспрессионизма и вытекали из его эстетической парадигмы, сложно переплетались с представлениями о революционном обновлении мира, о классовой (пролетарской) сущности нового искусства, культивировавшимися в казанской творческой, прежде всего молодежной, и русской, и татарской среде. Типичным выражением этих представлений была опубликованная в 1925 г. в газете «Кзыл Татарстан» статья «Татарская литература за восемь лет после Октябрьской революции». Ее автор, писатель Сагди Габдрахман, подводя итоги своего более социологического (или как это оценивали впоследствии «вульгарно-социологического»), нежели филологического исследования, утверждал: «Буржуазный строй в России свергнут. Над Россией поднято знамя коммунизма... Вместе с самой буржуазией уничтожена и литература татарской буржуазии. Вместо нее возникла новая, красная литература...»11. В этой риторике, импульсив¬
536
но разворачивавшейся вокруг фантома «красного искусства», «пролетарской культуры рабоче-крестьянской страны», обычно присутствовала и играла немаловажную роль эстетическая аргументация, основанная на убеждении в необходимости освоения нового языка, нового видения, в невозможности отразить и раскрыть суть революционной действительности старыми средствами, старыми приемами «жизнеподобного» изобразительного искусства (оно третировалось и с позиций свободного творчества, как «устаревшее», «примитивное», «мертвое», «скучно-академическое», и с классовых позиций как «буржуазное», «мещанское», «старорежимное»). Социальная демагогия причудливо сочеталась здесь с искренним стремлением к творческим новациям и интуитивным ощущением того художественного прогресса, который пролегал в русле экспрессионизма и других новаторских творческих направлений начала XX в.
При этом и при реформировании Казанской художественной школы, и при формировании ТатЛЕФа, костяк которого составили преподаватели и выпускники этой школы «левой» ориентации, речь шла не столько о выборе нового направления в искусстве (этот процесс, казалось бы, не подлежал регламентации), сколько о сближении искусства с жизнью, производством, техникой, об освоении художником инженерных технологий, «материалов», о слиянии в одном лице «артиста и рабочего». Такого рода риторика была характерна не только для канцелярских циркуляров, определявших перестройку школы, для стилистики деклараций и уставов творческих объединений авангардистского толка, но и для мышления художников этой волны.
В «Общем положении» о Казанских художественных мастерских (документ не позже 1919 г.) говорилось: «Принимая во внимание, что все виды искусств равноценны и что художественное воспитание и технические познания должны удовлетворять всем запросам края в области искусства, необходимо будет в порядке постепенности и потребности края открыть ряд специальных мастерских по отраслям художественного труда»12.
Тенденция к обретению художественной школой технического, производственного уклона особенно усилилась на новом этапе ее реорганизации - в 1920 г., когда она получила официальное наименование «Казанские высшие государственные художественно-технологические (по некоторым документам: художественно-технические) мастерские», чаще заменяемое аббревиатурами «Казгхум» или «КАХУТЕМАС» (а после преобразования «Мастерских» в «Институт» - «КАХУТЕИН»). В циркуляре, направленном в Казань из Москвы 16.VII.1920 г. за подписью заведующего Отделом ИЗО Нар- компроса РСФСР Д.П. Штеренберга говорилось, что цель данного учебного заведения - «подготовка художников высшей квалификации для различных производств»13.
537
Срок обучения устанавливался в 4 года, из них один год - на подготовительных курсах, служивших художественным рабфаком, и три - на одном из специальных факультетов. Затем предполагалась двухлетняя практика на производстве и после нее - защита дипломной (конкурсной) работы. Структура КАХУТЕМАСа упрощалась. Мастерские, или факультеты, по указанию Отдела ИЗО российского Наркомпроса, должны были состоять с 1920 г. из двух отделений: «объемно-конструктивного (архитектура и техника сооружений, скульптура) и живописно-плоскостного (живопись и живописно-малярное производство; графика и механо-печать)»14.
В 1920-1922 гг. школа стала форпостом авангардистских направлений, задававших тогда тон в искусстве всей революционной России и, конечно, не миновавших Казань в своем бурном разливе вширь.
Новая Программа КАХУТЕМАСа, разработанная ее молодым руководителем, архитектором Ф.П. Гавриловым, который был не назначен, а выбран заведующим (или, как формально, значилось «уполномоченным») школы ее учащимися, была направлена, с одной стороны, на максимальную «технизацию» всего художественного дела и «производства», созвучную эстетике и творческой практике конструктивизма, с другой стороны, на активизацию экспериментального начала, творческого воображения, «отрыва от натуры», всех возможных способов деформации, повышения экстатичности. преобразования этой «натуры» в мистическом плане (разумеется в духе революционной, а не религиозной мистики), выражения в абстрактной форме трансцендентной сущности бытия (Революции с большой буквы), что открывало перспективы и для экспрессионизма, и для его логического развития в сторону абстрактного, «беспредметного» искусства.
«Рисование с натуры, - говорилось в этой Программе, - как способ «точного» ознакомления с природой вещей... недопустим. ... Необходимо развивать или испытывать способности поиска и восприятия учащимися гармоничных, конструктивных и простых форм. Метод воспитания чувства должен быть не эстетически-созерца- тельным, а активно познавательным»15. Программа включала «выявление учащимися оформления своеобразности конструкции вещей без копирования»16 (при всей угловатости этой плохо отредактированной формулы было достаточно ясно, о каком моделировании «без копирования» шла речь). Учебный, а затем и самостоятельный творческий процесс был представлен в этой Программе как «работа над оформлением и преодолением разного рода материалов: глины, камня, гипса, алебастра, мела, земли, дерева и т.п.»17. В учебный план факультета живописи входили такие предметы, как начертательная геометрия, основы механики, проблемы пространства и времени, химия, технология новейшего живописного мастерства18. В учебном плане факультета скульптуры значились физика,
538
основы высшей математики, основы механики твердого тела, статика, анатомия, сопромат 19. На работу с натурой в этих учебных планах не отводилось ни одного часа. Занятия по композиции строились, в соответствии с Программой, как «изучение простейших плоскостных цветоформ и объемных цветоформ в пространстве»20. Основные этапы подготовки художника и последующие параметры его творческой деятельности были сформулированы следующим образом: «Выражение формою чувства (линия прямая, кривая... геометрические фигуры, комбинации линий, плоскостей и объемов). Далее - взаимодействие комбинированных форм (изолированные и связанные формы в плоскости и пространстве). Цвет как средство выражения чувства: целый и разорванный цвет, статичность цвета и динамика его... Цветоформа как средство выражения чувств»21. Обратим внимание, что этот акцент на выражении чувств, экспрессии ставился на каждом этапе творческой подготовки, на каждой составляющей творческого процесса. При этом такое «выражение» допускалось не какими-либо (литературными, психологическими и т.п.) средствами вне визуального ряда, а исключительно «формою» - линией, цветом, объемом, материалом, их сочетанием. «Мастерские должны быть опытными лабораториями того или иного материала»22, — утверждалось в Программе.
Ясно, что педагоги старой, академической ориентации не могли реализовать такую Программу, поэтому следующим логичным шагом было включение в Коллегию КАХУТЕМАСа художников, которые были активными представителями авангарда и в теории, и в педагогической системе, и в своей творческой практике. Первыми из них были введенные в Коллегию в 1920 г. А.М. Рухлядев, Н.В. Пузанков и М.И. Меркушев23. Вместе с энергичным «заведующим» (ректором) школы они составляли уже сильный противовес педагогам традиционной, академической ориентации (Фешин, Щербаков, молодой В.К. Тимофеев, открывший осенью 1920 г. набор студентов в свою живописную мастерскую; скульптор Козлов)24. При этом «противовес» на данном этапе имел отношение к принципиальным творческим вопросам, не создавал никаких конфликтов в личном плане. Общая атмосфера в Казанских художественных мастерских раннего советского периода была скорее толерантной, чем нетерпимой; скорее дружественной, чем напряженной, и характерно, что тот же Н.И. Фешин, правда, спустя много лет, уже после смерти Гаврилова, писал П.М. Дульскому из Нью-Йорка: «О Ф.П. Гаврилове у меня осталось одно из самых лучших воспоминаний. По моему мнению, он был исключительный человек. На диво трудоспособный, совершенно бескорыстный, прекрасный товарищ и что особенно ценно, то это его чуткость ко всему новому. Я склонен думать, что школа в его лице потеряла чудесного работника, которого трудно заменить»25. Как писал о том времени искусствовед П.М. Дульский, «руководители с учащимися тесной семьей
539
прорабатывали весь материал, начиная от монументально-агитационных, декоративных заданий большого порядка и кончая самыми незначительными заказами какого-нибудь клуба»26. Воспитанники школы принимали активное участие во всей художественной жизни республики, и чувство высокой гражданственности, и чувство ответственности за свой труд формировалось у них всей системой воспитания и атмосферой, царившей в школе.
В своих тезисах, составленных к докладу о реформе школы в июле 1919 г., Гаврилов писал, что «творчество - радость жизни», синтез труда, таланта и света знаний27. Позднее, определяя сферы «культурно-просветительской деятельности Казгхума», он формулировал задачи «всемерного внедрения искусства в окружающую жизнь», требовал от художника «служить революции словом и делом», участвовать в создании «реальных вещей: монумент, картина станковая и монументальная... вещи, вещи и вещи»28.
Надо отметить, что социальная база того «левого искусства» (целого конгломерата «левых течений», сливавшихся в единый поток), оплотом которого была Казанская художественная школа (Мастерские - Институт) начала 1920-х годов, формировалась на широких демократических началах. И идеологи, и носители авангарда в этой провинциальной среде, и особенно молодежь, с энтузиазмом включившаяся в формирование «левого фронта искусств», были в подавляющем своем большинстве в буквальном смысле «вы ¬ движенцами» из рабочей и крестьянской массы «трудящихся». Этой социальной структурой определялись и слабые стороны (прежде всего - недостаток элементарной культуры у «красных профессоров» и студентов, можно сказать, интеллигентов не только в первом поколении, но даже в первой стадии обучения, что нисколько не лишало их высоких классовых, пролетарских амбиций), и сила, решительность, энергия казанского авангарда.
В архивных документах сохранилась листовка, отпечатанная в сентябре 1919 г., позволяющая наглядно представить, как формировалась та среда, которая очень быстро стала и проводником, и генератором авангардистских концепций. «Русская Октябрьская революция, - гласил текст этого воззвания, - свергнувшая власть буржуазии и провозгласившая Советскую власть рабочих и крестьян, широко открыла путь к свободному культурному развитию и творчеству... рабочему и крестьянству. ...Отныне для вас, рабочие и крестьяне, двери всех учебных заведений открыты - идите и учитесь! Будьте творцами своей культуры! ... Дети труда! Если Вы хотите быть художниками-живописцами, художниками-декораторами, скульпторами и архитекторами, то идите в Казанские Государствен- ные Свободные Художественные Мастерские и учитесь... Условия приема следующие: Не моложе 15 лет обоего пола. Прием без экзаменов. Образование общее. Обучение бесплатное. Заявления принимаются круглый год. Беднейшие, командированные пролетарскими
540
организациями и государственными учреждениями, будут получать социальное обеспечение (стипендию) в размере прожиточного минимума, с проведением трудовой повинности учащихся по их специальностям в этом же учебном заведении. Свобода выбора занятий - полная...»29
Обращение получило широкий отклик. Нам удалось установить по документам, сохранившимся в архиве, что только за первый месяц после публикации данного объявления (до октября 1919 г.) было подано 350 заявлений. Поток их не прекращался до конца года. В школу записывались красноармейцы, рабочие, приезжавшие в город крестьяне из русских, татарских, марийских, удмуртских и чувашских сел Казанской губернии и всего Поволжья.
«Кипучее время первых лет революции, - писал переживший это время П.М. Дульский, - в области изобразительного искусства в Казани началось с того, что молодежь, не удовлетворенная постановкою дела в Художественной школе, прежде всего принялась за ломку и разрушение старых форм жизни этого учреждения... В таком положении школа существовала около семи лет, все время находясь в состоянии экспериментальных опытов и исканий... Школа в революционное время явилась базой и лабораторией, вокруг которых группировалась жизнь искусства в Казани. Все споры о любимых течениях, борьба правого и левого крыла, симпатии и антагонизм... все это находило себе оценку прежде всего у художников, стоявших руководителями молодежи...»30. Надо добавить - и у самой молодежи, активно вовлеченной в творческий процесс. Учащиеся не только избирали органы своего студенческого самоуправления (так, на общем собрании 1.III. 1920 г. был избран Исполком революционных подмастерьев Касгхума31), но решительно объединялись со своими педагогами (бывшими, впрочем, порою моложе своих великовозрастных учеников, прошедших через Первую мировую и Гражданскую войну) для участия в общих выставках, исполнения монументальных проектов, организации творческих союзов и Группировок, одним из которых (и наиболее популярным, и наиболее влиятельным) был сложившийся к 1923 г. ТатЛЕФ.
Наиболее ярким представителем «лефовского» направления в Казани был Константин Чеботарев (1892-1974), преподававший в КАХУТЕМАСе в 1921-1926 гг. и проявивший свою огромную творческую энергию в самых разных сферах общественной деятельности и искусства: в организации выставок и творческих объединений («Подсолнечник» в 1917-1918, с 1923 г. - ТатЛЕФ), в проектах монументальных росписей, в газетной, плакатной, журнальной графике, в живописи, очень причудливо варьировавшей и сочетавшей признаки, уходящие и формирующиеся тенденции символизма, экспрессионизма, кубизма, конструктивизма. Его картины-фантазии, созданные в казанский послереволюционный период («Моя религия», «Размышление о смерти», «Одиночество», «Рыцарь, который дол¬
541
жен был молчать», «Я и они», «Гадание», «Стремление»), известны нам по названиям в выставочных каталогах, откликам прессы, описаниям в эпистолярном наследии казанских художников и архивным документам. Время оказалось к ним особенно беспощадно: часть из них исчезла еще в годы Гражданской войны, голода в Поволжье, случайных частных приобретений и почти не контролируемого вывоза произведений искусства за рубеж; часть - погибла на кострах «музейной инквизиции» 1930-1950-х годов, что художник, покинувший Казань в 1926 г., переживал особенно болезненно. В 1960 г. он писал из Москвы другу своей юности художнику Д.П. Мощевитину: «Я не помню, сколько лет тому назад. Это было тогда, когда после войны вновь отделывали, переделывали павильоны Сель. Хоз. Выставки. Бригада художников, приехавших из Казани, работала в павильоне Татреспублики. Бригаду эту возглавлял Александр Катаев... Так вот тогда Катаев говорил мне, что в Казанском музее в порядке «активной борьбы» с формализмом уничтожили мои «Красная Армия» и «Солдатки». Не только их, а и работы других художников (Платуновой, Сапожниковой...). ...Последние годы перед смертью Петр Максимилианович Дульский трудился над историей Казанской художественной школы и обратился ко мне за материалами нашего времени. В частности, просил прислать, если у меня имеется, фотографию с работы Н.М. Сапожниковой «Портрет К. Чеботарева» (холст, масло, 1915 г.). Подбирая иллюстрации к будущей книге, Дульский хотел сфотографировать портрет, в свое время приобретенный музеем и в 20-х годах бывший в экспозиции (см. музейный каталог 1927 года), но... «У них там портрет куда-то задевался», - так написал мне Петр Максимилианович... А вот совсем недавно Фаик Тагиров ездил на несколько дней в Казань, и между прочим ходил в музей, добился там, что ему разрешили просмотреть картотеку. Никаких следов моих работ «Красная Армия» и «Солдатки» не обнаружил... Так что факт уничтожения работ художника подтверждается. Очень горько, больно, оскорбительно чувствовать, как напрашиваются в сознание весьма скверные аналогии»32.
Лишь немногие полотна, приобретенные в начале 1930-х годов у Чеботарева Русским музеем, уцелели, и в хорошей сохранности. Среди них - особенно дорогое самому автору, лирическое произведение «Завтрак в Сууксу» (1918). Сам Чеботарев писал, что в этой картине «есть какое-то зерно, из которого вырастало все последующее в моей работе»33.
Не столь трагично сложилась и судьба «Красной Армии», во всяком случае нам удалось обнаружить в фондах Музея изобразительных искусств Татарстана это произведение, отсутствовавшее в картотеке 1950-х годов34.
Характерно, что возникла эта работа раньше, чем была создана Красная Армия Страны Советов. Сохранилось письмо художника,
542
из которого известно, что над «Красной Армией» он работал в конце 1917 - начале 1918 г. Работа шла параллельно над двумя композициями - «Красная Армия» и «Солдатки». «Они связаны между собой композиционно, - писал Чеботарев. - Мажорная и минорная композиции друг друга подчеркивали»35. В мае 1918 г. «Красная Армия» экспонировалась на выставке объединения «Подсолнечник» в Казани под названием «Марсельеза».
Характерно, как воспринимали эту картину современники. Чеботарев вспоминает, что один из бывших крупных казанских меценатов искусства, адвокат, член кадетской партии А.Г. Бать, еще до революции поддерживавший молодых воспитанников Казанской школы «левого» направления, на выставке 1918 г. буквально отшатнулся от этой картины и воскликнул: «Если это революция, то только в представлении большевиков!»36. Познакомившийся с этой картиной в 1928 г. В.В. Маяковский сразу выделил ее из других работ Чеботарева и, отмечая ее образное сходство со своим стихотворением «Левый марш», напомнил строчку из этого стихотворения: «Флагами небо оклеивай!» Однако Чеботарев писал «Красную Армию», еще не зная «Левого марша». Тем не менее духовное родство между этими почти одновременно возникшими произведениями революционной живописи и революционной поэзии оказалось глубоким и органичным.
Собственно, Чеботарев стремился запечатлеть образ не столько регулярных вооруженных сил, сколько массы создавших революцию людей. Эту массу он и назвал «Красной Армией», отказавшись от первоначального названия, рассчитанного на неуместные в данном случае ассоциации с Великой Французской революцией. Здесь представала совершенно иная революция, революция XX в., и символом этого века являлись гигантские башни-небоскребы (совершенно фантастические не только в казанском, но и в российском, и даже в мировом архитектурном и градостроительном контексте того времени), срезанные верхним краем картины так, что предполагается возможность их дальнейшего, безграничного роста вверх. Решительные выступы, резко обозначенные углы этих высотных домов, закрывающих небо, острые стыки архитектурных плоскостей и поистине бесконечные в своем множестве, одинаковые темные окна в форме вытянутых прямоугольников на торцах и фасадах создают образ, исполненный динамики, экспрессии, активной наступательной силы и одновременно той унылой механистической заданное™, монотонности, какие становились знаковыми чертами уже формирующегося в первые революционные годы будущего конструктивистского проекта. Здесь этот проект еще неотделим от экспрессионистской концепции взрыва, всплеска, бушующей стихии эмоций, духовной ярости и агрессии. Выражением этой экспрессии служат и цвет, и ритм, и очертания изображений, прежде всего гигантского красного знамени-вымпела, заостренного, взрезанного с
543
одной стороны полукругом-полумесяцем, сходящегося с другой стороны в одной точке острейшим концом-лезвием. Это знамя, которое никто не держит и не несет, кажется буквально выброшенным в пространство трансцендентной силой, неуправляемой энергетической стихией. Но чем больше страсти, пламени в этой стихии, тем решительнее ищет художник жесткий противовес в механистичности ритмов, повторов, в строгой геометрии своих построений. Одинаковые ряды марширующих, в своих удивительных, почти как сказочные сапоги-скороходы, одинаковых высоких, с острыми носками и высокими каблуками, легких черных сапогах, с винтовками наперевес резко по диагонали («на плечо» - по единой команде!), идущих широким (анатомически немыслимо широким) шагом, почти пролетающих по городу «красноармейцев» (не в смысле их гипотетической социальной принадлежности к еще не созданной Красной Армии, а в параметрах их живописной окраски и их визуальной связи с категориями «армия», «масса», «народ») не раз давали повод видевшим эту картину говорить о «железной дисциплине и сплоченности отрядов революционного пролетариата». Однако эта «железная сила» еще была совершенно фантастической; механистичность роботов сочеталась с эмоциональным трепетом и взрывом, с экспрессией этого марша; полная утрата индивидуальности в изображении (скорее иероглифическом обозначении) фигур и «лиц», репродуцируемых в таком же бесконечном и совершенно одинаковом множестве, как этажи домов и окна-ячейки утопического общежития этой людской массы, компенсировалась острым ощущением неповторимой уникальности всего происходящего, своего рода чуда, явившегося потрясенным современникам и способным вызвать эмоциональный стресс.
Надо сказать, что «Красная Армия» Чеботарева, прежде чем она исчезла в запасниках казанского музея, успела с немалой нагрузкой «поработать на Советскую власть», сумевшую выжать из художественного авангарда все его ресурсы, всю его «звонкую силу» и пламенную страсть. В 1921 г. обе картины, «Красная Армия» и «Солдатки», обозначенные в каталоге как эскизы росписи Народного Дома, экспонировались на 2-й Государственной выставке в Казани. В 1930 г. на выставке советского искусства (произведений художников группы «Октябрь») в Берлине экспонировалась фотография «Красной Армии» с подписанным под ней стихотворением Маяковского «Левый марш»37.
Накал революционной страсти, раскованность фантазии, яркость метафорических образных решений отличали и другие картины и эскизы монументальных росписей Чеботарева, созданные в начале 1920-х годов: «На баррикадах», «На фронте», «Настала пора, и проснулся народ». Как уже говорилось, большинство из них утрачено, и в истории искусства Татарстана они остались своего рода «замками из грез», очертания которых прослеживаются лишь в эпистолярных свидетельствах и архивных документах.
544
Однако в 1987 г. организаторы последней Всесоюзной выставки в Центральном выставочном зале (Манеже), посвященной «70-летию Великого Октября», сумели извлечь из фондов Государственной Третьяковской галереи ни разу в ее стенах не экспонировавшееся полотно Чеботарева «Марсельеза», датированное 1922 г. Написанное маслом на листе линолеума, оно было одним из эскизов росписи зала заседаний Татсовнаркома и в то же время обладало качествами завершенной картины с присущей ей яркой революционной символикой. Выделенная в центре красочной экспозиции женская голова (выразительная «скульптурность» ее живописной моделировки заставляет воспринимать изображение именно как голову, а не плоский лик) по-своему концентрирует в себе революционную энергию, бурную страсть, яростный темперамент, способный к разрушению и созиданию. Графическими и живописными средствами, четким контуром и звучными цветовыми локальными пятнами акцентированы красные губы, черные брови, сверкающие белки глаз. Ни обрамляющая голову декоративная драпировка, ни какие-либо еще бытовые или конкретно-исторические детали (ни костюм, ни фон, ни тип лица героини) не дают возможности хотя бы приблизительно локализовать, привязать к конкретному месту и времени вдохновлявшую художника революционную идею. Эту женщину невозможно «вписать» в определенную эпоху, представить ее как реально действующий персонаж - француженку времен Великой Французской революции или Парижской Коммуны, русскую революционерку 1905 или 1917 гг., героиню только что отгремевшей Гражданской войны или сбросившую с лица паранджу гордую женщину Востока. Это - все вместе, революция всех времен и народов, ее гнев и радость, ее музыка, ее богиня. Красочная симфония, образующая вокруг головы напряженную, динамичную и в то же время рационально упорядоченную стихию цветовых всплесков и созвучий (желтый треугольник сверху, темно-красный слева, зеленый справа), носит чисто абстрактный характер, что не исключает символики цвета, субъективно распределяемых художником значений и смысловой нагрузки, возлагаемой на каждый цветовой клин. (Напомним, что в духе этого времени, в стилистике этого «левого», авангардистского искусства, блуждавшего между символизмом, супрематизмом, экспрессионизмом, конструктивизмом, абстракцией, рождались такие произведения, как плакат Эль Лисицкого «Клином красным бей белых!».) «Марсельеза» Чеботарева осталась одним из выразительных памятников этого времени, отмеченного высокой температурой кипения политических страстей и печатью художественной эклектики.
Активное участие в художественной жизни революционной Казани первых послеоктябрьских лет вместе с К. Чеботаревым принимала его жена художница Александра Платунова (1896-1966)38. Как почти все молодые представители казанского авангарда 1910-х
18. Русский авангард
545
годов, она экспериментировала в разных техниках и пробовала свои силы в разных видах искусства. В ее живописных портретах (маслом и пастелью) 1917-1925 гг. образы современников раскрыты экспрессивно, порою с оттенком гротеска, с острым ощущением сложности их духовного мира и драматичности их судеб. Таковы «Портрет К.К. Чеботарева», «Портрет А.М. Овчинниковой», «Портрет Лизы Бириной», несколько интересных автопортретов. Ее живопись ранних 1920-х годов не укладывалась в четкие границы какого- либо одного художественного направления, одного стиля. Здесь сочетались и символизм, питаемый литературной романтикой «серебряного века», и реминисценции модерна (югендштиля), экспрессионизм, и опыты кубистической стилизации, и примитивизм, и первые «чистые» абстракции, и первые подступы к конструктивизму зрелых 1920-х годов. Таковы импульсы, исходящие из ее полотен, демонстрировавшихся на казанских выставках: «Сон», «Русалка (К Блоку)», «Китайский мотив», «Дама из замка», «Из моих снов», «Весенняя печаль», «Алая радость», «Колдуньи», «Лунные пятна». Предметно-тематический тезаурус ее живописи определяется не только декадентской поэзией, игрой фантазии, легендарными мотивами, сюжетами, насыщенными исторической (средневековой) или географической (дальневосточной) романтикой. В работах А.Т. Платуновой находит остро эмоциональный отклик и окружающая действительность со всеми ее социальными стрессами и историческими переломами (Гражданская война, голод в Поволжье, военный коммунизм, нэп). Одной из первых среди русских художников Казани она обращается к татарскому народному быту, мотивами которого насыщены ее картины, показанные на 2-й Государственной выставке 1921 г.: «Проводы новобранца», «У вагонов», «Татары (Семейный портрет)». В этих работах нет документализма, точности, бытовой конкретности, они совсем не похожи на те «татарские дворики» - этюды с натуры, которые уже тогда писали в татарских деревнях художники, сформировавшие впоследствии (с 1923 г.) основное ядро «ТатАХРР» (П.А. Радимов, Г.А. Медведев, В.К. Тимофеев, М.М. Васильева и др.). В картинах Платуновой царят условность, стилизация, свободная фантазия в интерпретации «натуры», сильная экспрессия живописной формы, острый гротеск. Особенно заметен ее интерес к примитиву (к стилевым феноменам детского рисунка, лубка, «наивного» народного творчества, древних археологических культур).
Стилевая многогранность и расплывчатость казанского авангарда не исключала и усилившегося к середине 1920-х годов стремления к творческой консолидации на определенной идейной («служение революции, рабочему классу, народу») и формальной художественной платформе (ее цементирующей основой становился конструктивизм, культивируемый в педагогической системе КАХУТЕИНа и в программе ТатЛЕФа). При этом в общественном мнении казан¬
546
ской провинции (в художественной критике, зрительской реакции, в первых попытках государственного вмешательства в творческий процесс, да и в сознании самих художников) формировалась и со временем все более решительно доминировала установка на отказ от «крайностей». К их числу относили не только эпатирующий публику футуристический «перформанс» (слова этого тогда в Казани не знали, но хорошо помнили взбудоражившие весь город зимой 1914 г. гастроли Д.Д. Бурлюка, В.В. Маяковского, В.В. Каменского39), но также и абстракционистские «опусы», и все «чрезмерные» деформации натуры. Профессор Казанского университета А.М. Миронов, пользовавшийся высоким авторитетом в российском искусствознании 1-й четверти XX в. и активно участвовавший в «культурном строительстве» Советского Татарстана, писал в 1922 г., подводя итоги выставки конкурсных работ в КАХУТЕИНе и весьма последовательно выстраивая линию «правильной» эволюции: «Что касается работ Платуновой и Чеботарева с их кубистической стилизацией, то и в них мы находим значительный прогресс по сравнению с предыдущими работами. Угловатые чрезмерно прежде резкости сглажены... появилась идейность»40.
Характерным можно считать процесс творческой эволюции художника Игоря Никитина (1889 - после 1947), который был близок к А.М. Родченко в период их совместной учебы в Казанской художественной школе (1908-1914) и особенно сильно увлекался футуризмом, кубизмом, абстракционизмом и другими «левыми» течениями в искусстве, создавал под влиянием В.В. Кандинского абстрактные живописные композиции и коллажи из холста, рогожи, фрагментов металлической арматуры, труб и других материалов. Однако от таких программных произведений авангардистского направления, как «Цвет и форма» (1920), «Беспредметная живопись» (несколько композиций этого цикла 1920-1921 гг.) он постепенно переходит, сначала в декларативных названиях («Атака Красной кавалерии», 1921), затем и в манере письма, в характере скрупулезного фиксирования натуры («Завод имени М. Вахитова», 1925; «Колхоз Отволжский», 1929; «Молотьба в колхозе. Село Теньки», 1935), к тому, что на языке тех лет сначала «ахрровским направлением», а затем «социалистическим реализмом». В памяти современников надолго остался эпизод, связанный с одним из первых выступлений И.А. Никитина в КАХУТЕМАСе, где он появился в красноармейской форме (до 1921 г. он работал при штабе запасной Красной Армии в Казани41) и весьма активно участвовал в жизни преобразованной школы. На выставке, организованной здесь, он подвесил кирпич, по-своему предвосхищая этим актом последующие эксперименты в духе поп-арт («новой вещественности»), «happening» (действия, «события», представления), кинетического искусства. Слегка раскачиваясь над головами посетителей, кирпич должен был, по замыслу автора, пугать посетителей, создавая некий символ «пролетарской угрозы», дейст¬
18*
547
венного «оружия пролетариата». Спустя несколько лет, когда решалась судьба Казанской художественной школы и шли острые дискуссии о реализме, станковизме, принципах ТатАХРРа и ТатЛЕФа, противники «формализма» не раз вспоминали этот пресловутый кирпич. Обнаруженный нами в ЦГА РТ «протокол собрания при Главпрофобре ТССР от 29 июня 1925 года» хранит записи весьма знаменательных высказываний по этому поводу. «Футуристы, - говорил художник А.К. Лукоянов [самый последовательный «ахрро- вец» и будущий «соцреалист», писавший жанровые картины о тружениках советской деревни], - принесли больше вреда своими кирпичами на выставках»42. Н.В. Пузанков возражал ему: «...т. Лукоянов путает с ЛЕФ’ом бывшего футуриста-супрематиста Никитина, повесившего кирпич на выставке в б. Художественных мастерских в 1919-20 г.»43. К тому времени сам И.А. Никитин был верным сторонником «реалистической ориентации» и горячо защищал АХРР. В середине 1930-х годов он был уже одним из организаторов Союза советских художников Татарской АССР, членом его оргбюро (1935-1936) и до своего ареста в 1937 году председателем его Ревизионной комиссии44.
Не менее интересна судьба живописца Степана Федотова (1895 - ок. 1944), того самого дерзкого ученика Казанской художественной школы, который, согласно жалобе П.А. Радимова на декабрьском педсовете 1917 г., «держал дверь изнутри» и не пускал в школу «пе- дагогов-реалистов». Вскоре он был мобилизован в Красную Армию и сражался на Восточном фронте против Колчака. После ранения, осенью 1919 г., он вернулся в Казань и поступил в КАСГХУМ, где, как и многие молодые представители авангарда, он одновременно и преподавал, и учился, во всяком случае его имя фигурирует среди учащихся и авторов конкурсных проектов, и среди педагогов «новой волны»45. И он также становится активным участником «социалистического строительства» 1920-1930-х гг., пока не попадает в кровавую мясорубку 1937 г. (в отличие от Никитина, все же выбравшегося из нее на свободу и даже пытавшегося восстановить свое членство в Союзе художников Татарстана в 1947 г., Федотов погибает раньше и на долгие годы полностью исчезает из истории искусства республики, и все его работы, хранившиеся в казанском музее уничтожаются). Восстановить творческий портрет С.С. Федотова сегодня можно лишь по отрывочным сведениям, рассеянным в литературе и периодике 1920-х годов, в архивных материалах и воспоминаниях людей старшего поколения. Искусствовед Б.П. Денике, рецензируя 1-ю Государственную выставку 1920 г. в Казани, отмечал особое «упоение цветом» в беспредметной живописи С.С. Федотова46. Судя по каталогу, там экспонировались его работы «Тигр», «Картина без названия»», «Композиция», «Мертвая натура». От этого периода чудом сохранились лишь две картины Федотова в частном собрании семьи Щербаковых. Они были подарены Федотовым Борису Щерба¬
548
кову на выставке 1921 г., куда тот пришел со своим отцом, известным театральным живописцем В.С. Щербаковым, и принес свои детские рисунки, понравившиеся С.С. Федотову47. Эти работы, названные их автором не без налета патетики, характерной для той эпохи, «Революция идет» и «Первомайская демонстрация», позволяют представить себе, каким было это федотовское «упоение цветом», созвучное экспрессионистской экстатичности колорита, это свободное оперирование тяжелыми массами густого красочного слоя, обладающее своего рода самодостаточной выразительностью в парадигме абстрактной живописи.
Однако с каждым годом своей активной работы в советской Казани художник все дальше уходит от абстракционизма, решительно обращаясь не только к «предметным» композициям, но и к все более примитивно-просветительской и назидательно-воспитательной системе изображений явлений жизни (Труда, Революции, еще недавно в том их абстрактном величии, что предполагало звучание громких слов, «с большой буквы», но со временем в повседневном и приземленном плане) «в формах самой жизни», в духе наглядных иллюстраций и простейшей коммунистической агитации. Такой путь проходит Федотов от своего проекта монументальной росписи Коммунистического клуба 1922 г. (исполненные экспрессии символические панно «Рабочий и красноармеец, сбросившие иго царизма» и «В тюрьме») к «картинкам из колхозной жизни» («Жатва», 1927; «Силосная башня», «Отмочка кож», «Пейзаж» с выставки «Татху- дожника» 1936 г. в Зеленодольске), к оформлению Дома офицеров в Казани (1931-1932) и к совсем печальному, трагическому фарсу своих монументально-пропагандистских работ на объектах Ух- тижмстроя в Ухте и других лагерях на территории Коми АССР, где догорала в 1942-1944 гг. жизнь этого художника.
Драматизм исторической судьбы казанского авангарда (в самых разных по времени и организационным формам его измерениях, от первых бунтов учащейся молодежи 1917 г. до последних выставок стремительно терявшего свою государственную легитимность Тат- ЛЕФа середины 1920-х годов) заключалась не только в неизбежно надвигавшейся на него волне государственного террора и идеологического остракизма, уже через несколько лет обрушившейся на головы всех «виновных» и причастных к нему художников (как впрочем, порою и на головы тех, кто был ни сном, ни духом к нему не причастен), но и в его собственной непоследовательности, непрочности, гуманистической несостоятельности. И беда была не только в том, как многих заставили замолчать, удалив карательными мерами из художественной (а в ряде случаев и из «физической») жизни, как многие изменили потом идеалам своей революционной юности, но также в том, что сами эти идеалы были призрачны, ложны, даже бесчеловечны в своих кровавых революционных пожарах и механистических утопиях казарменного социализма.
549
Подлинной лабораторией экспрессионизма в Казанской художественной школе (КАХУТЕИНе) стал организованный здесь в 1922 г. конкурс студенческих и дипломных работ. По разделу станковой живописи здесь были предложены две основные темы: «Революция и Интернационал» и «Голод в Татреспублике» (допускались работы и на конкретные исторические темы, а именно «Революция 1905 года» и «Узники Шлиссельбургской крепости по воспоминаниям Веры Фигнер»)48. Открытая в конце 1922 г. выставка конкурсных работ воспринималась современниками как творческое кредо молодого поколения авангардистов, и на самом деле демонстрировала все, чем они могли ответить на вызовы «революционного» времени. В то же время в городском музее была организована выставка новейших течений русского искусства, на которой были представлены работы Н.С. Гончаровой, П.П. Кончаловского, А.В. Куприна, М.Ф. Ларионова, А. Лентулова, И.И. Машкова, Р.Р. Фалька, А.В. Шевченко. На кого-то из них равнялись, кому-то из них пытались подражать выпускники КАХУТЕИНа, но большинство работ отличалось профессиональной зрелостью и самостоятельностью. Тем не менее эту выставку трудно рассматривать как «праздник» искусства. Скорее, она была выражением его отчаяния, ощущения разорванности бытия, мучительных противоречий. «Из 14-ти художников, выставивших свои работы, - писал казанский искусствовед Н.Н. Андреев, оставивший развернутую рецензию - обзор конкурсных работ [эта рукопись, сохранившаяся в республиканском архиве, восполняет многие пробелы, связанные с утратой источников и слабостью историографической базы исследований], - большинство посвящает их жгучей теме из совсем близкого нам “голода”...»49. Эта тема давала наибольший простор для экспрессионистской трактовки действительности, для выражения пронзительной душевной боли. Можно привести в качестве примера картину Эдуарда Сташиса (1895-?) «Голод в Татреспублике», изображающую группу татарских крестьян в поле у трупа умершей женщины. В блеклых красках выжженного солнцем, запорошенного струящейся раскаленной пылью пейзажа выражена трагическая безысходность, еще более подчеркнутая деформацией исхудавших, обезображенных беспощадным голодом людей, еще живые призраки которых уже почти ничем не отличаются от мертвого тела и которые обречены под этим солнцем (вот уж, действительно, «белым солнцем пустыни») на страшную смерть.
Рядом с этими «картинами смерти» пылали революционные полотна (Н. Андреев особенно выделял эскиз росписи зала съездов К. Чеботарева: «...мощная, точно вылитая из стали фигура рабочего. В позе бойца с вскинутыми вверх руками, в которых дымится бомба, чувствуется непреклонная воля... а над ним, как символ, заливая все своею яркостью, реет красный флаг»50).
Характерно, что весь рад представленных работ, несмотря на, казалось бы, разные мотивы, перепады в уровне таланта и разнооб¬
550
разие стилевых признаков, отличался определенным единством, сливаясь в некую сплошную, усиленную средствами гротеска панораму кошмаров, наступающих буквально со всех сторон - с баррикад 1905 г., с высот вооруженной пролетарской диктатуры, с высохших полей, из вымирающих деревень... «1905 год» П. Байбарыше- ва, «Террорист-народоволец» Н. Кроневальда, «Октябрьские дни» Н.П. Христенко, «В тюрьме» С.С. Федотова, «Голод» И. Князькова, «Питание корой деревьев и листьями» В.А. Смиренской, «Голод. Вымирают» К.Т. Чинарова, «Весь мир насилья мы разрушим» К. Чеботарева - все это входило в единый цикл непрерывного разрушения и вымирания, террора и насилия, отчаяния и торжества той самой революции, которая своей «непреклонной волей» порождала и тиражировала эти кошмары.
Тех, кто знаком с последующей историей казанской, да и не только казанской, художественной жизни (многие из выпускников КАХУТЕИНа переехали вскоре в Москву, например, Николай Павлович Христенко стал членом МОСХ и до конца своей жизни преподавал на кафедре рисунка Строгановского училища), может удивить выше приведенный ряд имен художников в контексте каких бы то ни было воспоминаний об «авангарде». К ТатЛЕФу (где не было никакого строго оформленного членства, никаких списков «своих» сторонников) большинство из них принадлежало недолго или вовсе не имело отношения. Почти все они (конечно, кроме Чеботарева) вскоре примкнули к ТатАХРРу, а в 1930-х годах стали работать в «Татхудожнике», дававшем им единственный «хлеб насущный». Бунтари в красноармейских шинелях ранних 1920-х годов научились делать все, что требовалось по канонам «социалистического реализма» 1930-1950-х годов, и оглушенные взрывами своей эпохи, безжалостно перемалывавшей судьбы людей и целые направления в искусстве, науке, общественной мысли и в политике, едва ли смогли и успели понять, что этот канонизированный «соцреализм» был логическим завершением крайнего максимализма их революционной программы. Мир, построенный на насилии и разрушении «до основанья», оказался унылой клетчатой копией механистических конструкций и грозных террористических аллегорий.
Формальные эксперименты (в широком диапазоне от экспрессионизма и кубизма до абстракций и конструктивистских проектов) ставились мастерами казанского «авангарда» не только в станковой живописи, но и в других видах искусства. Среди заявлений, поданных на конкурс творческих работ 1922 г., сохранилось заявление художницы З.К. Отрыгановой, пожелавшей участвовать в конкурсе «композицией на свободную тему»51 (конкурсная программа предлагала, наряду со «свободными темами», довольно решительно, можно сказать, агрессивно сформулированный пропагандистский комплекс: «...проект монумента на героическую тему, соответствующую современной революции... монументы-бюсты (или в рост) а) татарско¬
551
му поэту Тукаеву, б) татарскому революционеру-коммунисту Вахитову (в татарской слободе на площади его имени)... фонтаны (в скверах, садах, на площадях)... памятники: Ст. Халтурину, Плеханову, Володарскому, Борцам за рабочее дело, 1905 году... скульптура «Террорист» (в момент бросания бомбы)»52, - кажется, этот «Террорист» превращался в настоящего героя того времени). На конкурсной выставке Отрыганова показала композиции «Объемная живопись» (цветоскульптура), «Раб» (гипс, стекло, железо), «Карлики» (цветная материя), «Контррельеф» (картон, стекло)53. К сожалению, кроме этого выразительного перечня, мы не располагаем никакой иной информацией о характере этих работ, однако считаем нужным опубликовать этот восстановленный по архивным источникам факт в контексте интересующей нас проблемы, обратив особое внимание на то, что ни в каких последующих очерках по истории искусства в Татарстане имя этой художницы никогда не упоминалось. Лишь в манускрипте Н. Андреева, оставившего обзор конкурсной выставки 1922 г., говорилось: «... Рельеф Отрыгановой - попытка беспредметной скульптуры... Превосходны ее керамики, куклы, сделанные с изумительным художественным чутьем»54.
В республиканском архиве сохранился годовой отчет (за 1921/1922 учебный год) «скульптурного отделения по дереву и камню мастерской А. Ливановой». Из отчета следует, что занятия в мастерской велись только два последних месяца учебного года (май - июнь): осенью болел руководитель, в зимние месяцы занятий не было, так как не отапливалось помещение. Программа оказалась целиком не пройденной: работы проводились только с гипсом «подготовительным к дереву и камню способом отбавления от целого куска»55. В программу входило: «понятие о форме, взаимное отношение плоскостей, упрощение форм»56. Учащимся предлагалось разработать эскизы скульптурного преобразования таких материалов, как «камни, кристаллы, раковины, предметы, отшлифованные водой с берегов рек и морей». Как отмечалось в отчете, студенты работали с большим желанием и энтузиазмом. Проектирование новых скульптурных памятников в революционной Казани (а таковыми были гипсовый бюст В.И. Ленина, установленный в городском сквере, бывш. Николаевском, по решению Казанского Губисполкома от 19.IV. 1920 г.57 менее чем через неделю после этого решения - 25.IV в 5 часов вечера58, - так что в энтузиазме творческого служения еще живому и вполне дееспособному вождю казанские товарищи, кажется, побили рекорд; бронзовый бюст В.И. Ленина на четырехступенчатом пьедестале, открытый 7.XI.1924 г., - обе композиции работы скульптора В.С. Богатырева (1871-1941), руководившего скульптурным отделением Казанской художественной школы в 1911-1917 гг.; и гипсовый бюст Мулланура Вахитова, открытый под гром военного оркестра и речи партийных руководителей 1.V.1922 г. на бывшей Юнусовской площади в татарской слободе 59,
552
по проекту того же В.С. Богатырева и архитектора Д.М. Федорова60, - к экспрессионизму и вообще к «авангарду» они никакого отношения не имели, но к «монументальной программе» большевиков и к задачам «пролетарского искусства» - самое прямое) шло рука об руку с разрушением старых памятников, воздвигнутых «в честь царей и их слуг», предусмотренным ленинским «Декретом о памятниках» от 12.IV. 1918 г. В Казани за неимением других кандидатур «слугой царя» посчитали поэта Г.Р. Державина; памятник в его честь благодарные земляки воздвигли в 1847 г. по проекту ученика И.П. Мартоса скульптора С.И. Гальберга. В 1919 г. этот памятник, как оказалось, «оскорблявший революционные чувства народа», был уничтожен, и место во дворе Казанского университета, которое он занимал, еще долго пустовало, пока его не заняло очередное изваяние вождя мирового пролетариата.
Гораздо интенсивнее, чем в скульптуре, шло в Казани осуществление «ленинского плана монументальной пропаганды» в формах живописных панно, агитационных транспарантов, эскизов монументальных росписей, где открывался самый широкий простор для реализации авангардистских проектов.
Первым из них был созданный ударными темпами и открытый на «собрании казанских коммунистов» 14.Х.1918 г., еще до наступления первой годовщины Октября, Казанский рабочий коммунистический клуб61. Далее началось оформление (на что Казанский губис- полком запросил у Совнаркома сумму в полтора миллиона рублей62, вряд ли впрочем дошедшую до Казани и уж точно не дошедшую до художников-оформителей) здания Красноармейского дворца. К 7.XI.1918 г. на его фасаде, во всю высоту второго этажа, было вывешено живописное панно, с текстом лозунга - в три строки: «Искусство в руках пролетариата - могучее средство борьбы за социализм»63. Сказать об этом искусстве что-либо еще более конкретное затруднительно, поскольку никаких изображений это панно не несло и являло собой самый последовательный образец монументальной абстрактной живописи, увы, массам трудящихся непонятной и этими массами не понятой. На поверхности живописного панно пылали яркие цветовые пятна, смутно напоминавшие факелообразные кисти, надутые ветром паруса, закрученные спиралью дымы и что- то еще, подхваченное вихрем, летящее и разорванное. (Автором росписи Красноармейского дворца был ученик Фешина С.И. Герштейн, впоследствии работавший в Москве как театральный художник).
В отчете за первый год работы КАХУТЕМАСа особо подчеркивалось: «Исполнены в большом количестве плакаты, знамена и проч. росписи для советских празднеств: для годовщины октябрьской революции, для Красного подарка, майских торжеств»64.
Над монументальными панно работали и преподаватели (Н.И. Фешин, Ф.П. Гаврилов, К.К. Чеботарев), и ученики школы (с этого начинал свой творческий путь татарский живописец Баки
553
Урманче, служивший в 1919—1920 гг. в политотделе штаба запасной Красной Армии и в Центральной мусульманской военной коллегии в Казани, - а обе эти организации весьма энергично занимались «монументальной пропагандой» и агитацией). Монументальные живописные панно, лозунги, транспаранты писались клеевыми красками или темперой на полотнищах ткани, кусках картона, рулонах бумаги, быстро разрушались, выцветали под солнцем и дождем, сгорали в пожарах тех лет. Уже в 1929 г. П.М. Дульский называл эти первые памятники революционного искусства в Казани «эфемерными»: от них ничего не осталось. «Они только еще живут в наших воспоминаниях, - писал он, - как красивая красная строка книги нашей современности»65.
В мае 1920 г. в КАХУТЕМАСе был объявлен конкурс «на памятник братской могилы»66. Положение об этом конкурсе составили художник М.И. Меркушев и архитектор А.М. Рухлядев. Участникам конкурса предоставлялась возможность чисто архитектурных (обелиск, саркофаг, колонна и т.п.), архитектурно-скульптурных и архитектурно-живописных решений, в частности, предусматривалось «живописное разрешение плоскостей внутри и снаружи для памятника отвлеченного характера или на темы:
1. Наступит золотой век, люди будут жить без законов, без наказаний... (Овидий).
2. Кто чувствует, что на его стороне право, должен идти на пролом; вежливое право - не существующая вещь (Гёте).
3. Творите будущее, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его... (Чернышевский).
4. Дух разрушения есть в то же время созидающий дух... Кропоткин»67.
Грандиозность замыслов, не лишенных, впрочем, весьма характерной силовой направленности («на пролом») и трагедийно-мрачной окраски (как-никак не что-нибудь, а «могила»), сочеталась с трезвым ощущением ограниченных возможностей «текущего момента». Авторам проектов строго указывалось на необходимость «экономии материалов»68.
В конкурсе 1922 г. предлагалось представить «проект росписи (фрески, панно) внутреннего помещения Казанского Коммунистического клуба»69.
Именно для него предназначалась композиция С.С. Федотова «Рабочий и красноармеец, сбросившие иго царизма»70.
На осенней конкурсной выставке 1922 г. наряду с архитектурными проектами зданий Татсовнаркома и ТатЦИКа П.Т. Сперанского, М. Жеребцова, И. Батанова, В. Фоминых и других зодчих экспонировались проекты росписей, рассчитанных на синтез с архитектурой. Так, именно к проекту здания Совнаркома, разработанному архитектором И. Батановым, представил К. Чеботарев свои эскизы (семь композиций): «Весь мир насилья мы разрушим», «Сарынь, на
554
кичку!», «Большевик», «Крестьянин», «Раб», «Рабочий», «Марсельеза». П.М. Дульский писал об этих эскизах: «Эта революционная сюита очень остроумно задумана и в декоративном отношении умело разрешена. Пафос, энтузиазм, движение и героизм составляют главную сущность проекта росписи»71.
В программе конкурса 1923 г. предусматривалась работа над мозаиками и было особо выделено «живописно-малярное направление»: «малярно-декоративная обработка зданий и сооружений транспорта»72.
О том, что это за направление, вероятно, надо сказать подробнее, переведя странные словосочетания с языка 1920-х годов на лексикон нашего времени и рассмотрев это направление в контексте авангардистских исканий.
В 1920 г. художник Н.В. Пузанков (1879-?), впоследствии один из активистов ТатЛЕФа, возглавил так называемую «живописномалярную лабораторию» в КАХУТЕМАСе. Названа она была не без доли пролетарской риторики, вполне искренней и отнюдь не ироничной (быть рабочим-маляром в то время было почетнее, чем интеллигентом), но это нисколько не меняло ее творческой и даже, можно сказать, изысканно интеллектуальной природы, ибо по сути это была кафедра теории и практики монументальной живописи и дизайна авангардистского направления.
Хотя лаборатория на всем протяжении своего существования (до 1926 г., когда ее закрыли) испытывала огромные трудности и недостаток самых необходимых материалов, Пузанков развернул широкий фронт как теоретических (по теории света и цвета, по технологии материалов, по основам художественного конструирования интерьеров), так и экспериментальных работ, в частности, как следует из его отчета за 1921 г., «произвел опыты 1) с жиро-клеевыми красками, 2) с искусственной мозаикой, 3) произведены опыты отливки цветных гипсов, что представляет большой интерес в смысле применения для различного рода украшений внутренних, а также наружных плоскостей»73.
Дешевизна, прочность и декоративный эффект, заложенные в разработанной Пузанковым технике отливки цветных гипсов, обеспечивали возможность их широкого внедрения в архитектуру. Эстетическую выразительность полученных образцов Н.В. Пузанков продемонстрировал на Государственной выставке 1921 г., представив ряд созданных по его эскизам экспонатов: часть фриза, «Лилия», «Кленовый лист», «цветные плоскости из литого гипса». На конкурсной выставке 1922 г. в Институте он показал не только образцы материала, но и эскизы и примеры его применения в конкретной обстановке: «Мотив обработки стены - проект для Коммунистического клуба», эскиз оформления «Комнаты Третьего Интернационала», эскиз фриза (в материале), бетонную плиту, облицованную цветным гипсом (абстрактная композиция).
555
В рецензии на выставку 1922 г. А.М. Миронов писал: «В области художественно-технических достижений считаю долгом отметить весьма интересные и оригинальные работы т. Пузанкова, которые при умелом использовании их для практических целей могут оказаться очень полезными... Его оригинальные плиты, бетонные, облицованные цветными гипсами, могут по своей красоте и дешевизне заменять и обои, и росписи, и проч.»74
Ректор КАХУТЕИНА Ф.П. Гаврилов, отмечая работу лаборатории в 1922 г., подчеркивал: «Достижения Пузанкова по обработке стен цветным гипсом очень ценны и безусловно найдут практическое применение»75.
Опыты Пузанкова были особенно перспективны именно для монументального искусства Татарии. В культуре татарского народа еще со средних веков были развиты традиции полихромии в архитектуре, а цветные плоскости наружных и внутренних стен, сформированные системой росписей (по дереву), облицовки, ковровых покрытий и другими средствами, определяли главный декоративный акцент в народном зодчестве.
Среди учеников Пузанкова самым горячим его последователем был Степан Федотов, который также создавал мозаики, «цветовые построения» из литого гипса, искал способы повышения декоративной выразительности их фактуры и много занимался конкретным внедрением этих проектов в архитектуру. В годы нэпа Пузанков и Федотов выступили с инициативой создания художественных вывесок, которые должны были заменить безвкусную и крикливую рекламу. Оценивая работы Пузанкова и Федотова, «как пионеров и смелых мастеров, не побоявшихся высокое звание художника приблизить к профессии заурядного вывесочника», стремившихся связать живописную вывеску «с архитектурной физиономией того здания, для которого вывеска предназначена», П.М. Дульский писал: «...Эти опыты бесспорно заслуживают внимания, и мы думаем, что новаторство этих художников жизненно и рационально»76.
К сожалению, последующие десятилетия оказались мало благоприятными для развития этих новаторских начинаний, и даже память о них исчезла.
Драматическая судьба казанского авангарда, жившего утопиями революционного времени и выдвигавшего смелые, гигантские проекты, остававшиеся эфемерными призраками, «дворцами из грез», ярче всего воплотилась в личной судьбе руководителя Казанской художественной школы тех лет архитектора Ф.П. Гаврилова (1890-1926). Он работал с огромной энергией, фактически выполняя в 1918 - 1925 гг. обязанности главного художника Казани, оформлял колонны демонстрантов, создавал трибуны, временные «агитационные» сооружения, например, мост «Октябрьская революция» на Арском поле (1921), формировал концепцию светового и красочного декора города в дни революционных праздников, созда¬
556
вал монументальные проекты, рассчитанные на синтез искусств: проект мавзолея борцам революции (1920), памятника М. Вахитову для Казани (1921), памятника морякам, погибшим в боях с белогвардейцами, для Астрахани (1921), памятника Содружества народов для Казани (1924-1925)77. (Последний предполагалось возвести на фундаменте старого казанского памятника «в честь победы Ивана Грозного над татарами и в память о русских воинах, павших при взятии Казани в 1552 г.»78; не получилось.)
Ничего из этого не сохранилось, не уцелело в вихрях беспощадного времени; ему не удалось возвести ни одного из тех зданий и монументов, какие он мечтал видеть - в граните, мраморе, бронзе - остающимися на века; он сам умер на 37-м году жизни, оставшись самым молодым ректором в истории Казанской художественной школы.
Вспоминая годы своей учебы в Казани (1923-1927) и очень осторожно выбирая слова (ибо то время, когда эти слова звучали, было мало снисходительно к ушедшему в историю «авангарду»), художница А.Н. Коробкова писала: «...Тяга студенчества, в основном, была к монументальным формам агитационно-массового искусства: оформление площадей, улиц, клубов, революционных театров, демонстраций, постановок живой газеты типа «Синей блузы»... Работы создавались яркими и броскими»79. Серость последующих десятилетий накрыла эту эпоху своей плотной пеленой, не оставив даже отсвета былой яркости. Но не на том ли пламени сгорал казанский авангард, которое им самим и было раздуто во имя очищения планеты «мировым пожаром» революции?
Мы знаем, как погибал казанский авангард, как его душили, сначала еще неуверенно, затем бесцеремонно и безжалостно. Архивы сохранили подлинные свидетельства этой драматической истории.
Первый сокрушительный удар по АРХУМАСу (Архитектурнохудожественным мастерским, сменившим недолго существовавшую аббревиатуру КАХУТЕИНА), еще сохранявшему до конца 1924/25 учебного года традиции и педагогические принципы КАХУТЕИНА, был нанесен на состоявшемся в конце июня 1925 г. собрании Глав- профобра ТССР (Главного комитета по профессиональному образованию), на которое была приглашена группа активистов недавно созданной ТатАХРР (П.А. Радимов, А.К. Лукоянов, Г.А. Медведев, П.М. Байбарышев, И.А. Никитин, В.К. Тимофеев, М.М. Васильева, К.Т. Чинаров). Все они упорно твердили, что нынешний АРХУМАС не может быть вузом. «В Институте, - заявил Лукоянов, - образовалось засилье левого блока, с которым работать мы не хотим и не будем... Мы, А.Х.Р.Р., согласны взять в свои руки Архумас при условии удаления всего теперешнего состава Архумаса»80. Попытка ведущих педагогов (Ф.П. Гаврилов, К.К. Чеботарев, М.В. Барашов, Н.В. Пузанков) и студентов, представлявших комсомольский актив АРХУМАСа (Ф.Ш. Тагиров, Д.Н. Красильников, Г. Комаров) отстоять АРХУМАС хотя бы как «техникум повышенного типа» потер-
557
пела крах. «Повышенный тип, - говорил, в частности, инструктор- литограф полиграфического отделения М.В. Барашов, - даст более законченную квалификацию (как на Украине и в других местах). Такой политехникум обслужит не только Т.ССР, но и другие национальности... Это будет учебный центр художественной культуры Востока»81. Однако чиновники из Главпрофобра, уже вооруженные инструкцией о ликвидации вуза, не желали слушать никаких доводов. «Техникум повышенного типа (“украинский вуз”) невозможен в Казани,» - заявил представитель Главпрофобра Кочкарев, ссылаясь на то, что для этого в городе якобы «нет материальной базы»82.
«А.В. Луначарский сначала скептически относился к АХРР, - говорил П.А. Радимов, - а теперь считает АХРР основой изоискусства. Партия еще не решила окончательно вопрос об искусстве. Мы же считаем все левое направление в искусстве бесцельным и вредным... Наш метод работы - реализм»83. Его дополнял А.К. Лукоянов: «АХРР - организация... где нет тупика, который был у футуристов. Что дали (в 19—20 гг.) футуристы? Принесли больше вреда своими кирпичами на выставках. АХРР говорит языком понятным. Форма футуристов непригодная, так же и у ЛЕФов»84. Им отвечал К.К. Чеботарев: «Каждая эпоха создавала свои формы реализма, а ахрровцы хотят сейчас культивировать натурализм, или протокольно-фотографический реализм... АХРР - не единственное русло для искусства» 85. Его поддерживал М.В. Барашов: «... работа АХРР - плохая фотография быта»86. «По вопросу об АХРР..., - говорит Д.Н. Красильников - забыли спросить студентов. Они знают работы художников АХРР и их чистый станковизм. Где же у них искусство сегодняшнего дня?»87. Ф.Ш. Тагиров (19-тилетний студент, татарин, комсомолец, член Президиума ТатЛЕФ) еще более категоричен: «АХРР подозрителен в своей революционности... Они культивируют только станковизм»88. Призыв к компромиссам в этой дискуссии повисает в воздухе. «Работников из АХРР и сторонников “Левого фронта” необходимо объединить, - говорил П.М. Дуль- ский. - Взять от каждого [направления. - С.М.] талантливых и работоспособных мастеров, использовать их мастерство и знания в учебных целях... Передача же учебного заведения в руки одной из группировок - явление ненормальное... Ненормальная и необоснованная враждебность ахрровцев по отношению к сторонникам Левого фронта ни к чему не приведет»89. На это Радимиов, Никитин, Лукоянов, как записано в протоколе собрания, отвечают: «Мы отказываемся от дискуссии с ЛЕФами. Участвовать не будем»90. Опираясь на их непримиримую позицию, руководство республики принимает решение преобразовать с 1926 г. АРХУМАС в Казанский художественно-педагогический техникум (КХПТ). Смерть Ф.П. Гаврилова, отъезд в том же 1926 г. из Казани значительной части педагогов (среди которых К.К. Чеботарев, А.Г. Платунова, В.С. Богатырев) и студентов старших курсов, получивших возможность завершить
558
свои дипломные работы в вузах Ленинграда и Москвы, коренным образом меняет обстановку в училище. Вульгарная, нигилистическая установка на ограничение роли художественной школы «подсобными» (по отношению к нуждам народного хозяйства) функциями побеждает в руководящих кругах Татарской республики. Ярче всего это проявляется в материалах заседания «Методкомиссии по художественному образованию» при Главпрофобре от 9.1.1926 г. Один из выступающих (некто Векслин) прямо заявляет, что готовить в советском учебном заведении «художников-одиночек» - это «недопустимая роскошь». «В Архумасе..., - с нескрываемым возмущением говорит он, - была ставка на талант, на одиночек-выпускни- ков. Даже была попытка равняться по вузам. Там даже до сих пор еще остались факультеты. Этому надо положить конец! Надо думать не о талантах-одиночках, а о массовой средней культуре. Надо делать советские игрушки для детей трудящихся и к этому готовить всех выпускников»91.
Наибольшую чуткость к формирующимся в начале века концепциям отечественного и зарубежного авангарда проявляла казанская графика, очень емкая и многообразная по жанрам, формам, стилевым направлениям. Ее «левый фронт» конца 1910-х и 1920-х годов был крайне неровным, вмещая и таланты разной величины, и нередко смещенные ориентиры и сложно переплетавшиеся пути творческих поисков. Напрасной была бы любая попытка строгой классификации этого материала, а уж тем более выявления стерильно чистых художественных концепций, в истории которых можно было бы проследить истоки, границы, концы и начала. Творческие лики казанских графиков были изменчивы и неуловимы. Дух экспрессионизма безусловно витал над казанскими выставками и графическими изданиями околореволюционной поры, но он не поддавался персонификации в именах приверженных ему художников, в каких-либо стабильных и постоянных величинах. И столь же неопределенной, подвижной, перетекающей оказывалась зона распространения любого иного входящего в моду или выходящего из моды «изма». Можно найти отдельные микроскопические примеры, какие несложно вписать в параметры одного «стиля» (например, вспомнить «Лучистый автопортрет» и абстрактные графические композиции М. Меркушева, экспонировавшиеся на 1-й Государственной выставке 1920 г. в Казани и с их помощью проиллюстрировать казанский лучизм, казанский абстракционизм), но нельзя назвать ни одного имени более-менее одаренного или хотя бы просто продуктивного казанского графика, чье творчество, - даже в спрессованный, краткий временной период, не говоря уже о длительной эволюции, - вмещалось бы в одно течение.
Выделим в качестве примера графику Бориса Столбова, впервые показанную на «Шестой периодической выставке картин» в
559
Казани в 1916 г. (рисунки из альбома «Атлеты и борьба»). В его сохранившихся от конца 1910 - начала 1920-х годов рисунках ощутимо сильнейшее влияние О. Бердслея, бывшего кумиром его юности, - в каждой линии, в каждом плавном извилистом силуэте и черном (сплошная заливка тушью) пятне, в том духе артистической изысканности, романтической загадочности, который окружает ореолом нарочитой недосказанности графические композиции, составившие циклы «Скерцы» (37 рисунков тушью, пером), «Гримасы» (к 1920 г. было готово 40 листов, что послужило основанием к названию в каталоге 1-й Государственной выставки «Сорок гримас»; позднее этот цикл вырос до 60 листов) и «Оголтелый антиреализм» (26 рисунков). Говорящее само за себя, чуть ироничное, чуть заостренное полемически название последнего цикла, пожалуй, не слишком соответствует характеру композиций, в которых, конечно, нет ничего «реалистического», но нет и ничего «оголтелого», настолько изящны, холодновато-рассудочны, выверены безупречной логикой геометрических построений абстрактные комбинации линий (тончайших штрихов и жирных, сочных полос черной туши), их причудливые узорные переплетения.
Абстрактный, «беспредметный» характер имели и некоторые акварели из цикла «Гримасы»: «Спокойствие», «Ярость», «Вечность», «Радость», «Печаль». Отвлеченные понятия художник стремился раскрыть системой цветовых контрастов и тональных переходов, ритмикой тяжелых, темных пятен и прозрачных, скользящих теней, выразительностью плавных или, напротив, «рваных» асимметричных форм, рассчитанных на определенные эмоциональные ассоциации.
Однако создается впечатление, что художнику все же интереснее было работать с узнаваемым предметом, разыгрывать изобразительные мотивы, следить за развитием фабулы, чаще всего связанной с мифологическим источниками или аллегорическими построениями. Такие работы, пронизанные ощущением таинственности, как бы скрытой от посторонних глаз «жуткой тайны», более эмоциональны. В экспрессивных рисунках нередко подчеркнуто гротесковое, каррикатурно-шаржированное начало. Названия таких композиций, как «Человек - это звучит гордо!» или «Жертва Каина» (из цикла «Гримасы») по контрасту оттеняют жестокое, уродливое «лицо» антигероев ужасного, бесчеловечного, враждебного нам мира. Особенно выразительны в этом плане композиции «Уплотнение» (1919) и «Власть» (1921) из цикла «Скерцы». Первая представляет изображение чудовищного могучего атлета с ястребиным носом и тяжелой челюстью, который, приминая коленом и сжимая руками, «уплотняет», втискивает в шкатулку-домик фигурки отчаянно сопротивляющихся, молящих о пощаде людей. Масштабный контраст между огромной фигурой тирана и маленькими человечками, которыми до отказа набит кубик-домик, подчеркива¬
560
ет несопоставимость возможностей жестокого насилия и бесполезного сопротивления. Придавая образу атлета нечто азиатское, «чин- гизхановское» (в типе лица, даже в восточном рисунке туфли с загнутым вверх острым носком), художник в то же время вполне современный, даже пророческий в контексте времени образ «хозяина жизни». Даже правильный геометрический рисунок (почти чертеж) домика, превращенного в массовую душегубку, вполне согласуется с современной (впрочем, можно сказать, скорее с будущей) стилистикой конструктивистской эпохи. В композиции «Власть» свободно, асимметрично сопоставленные друг с другом четыре фигуры очерчены тонким, энергичным в своей упругой гибкости силуэтом. Каждая из этих фигур в той или иной мере представляет собой вариацию-цитату и из литературно-исторических источников («князь тьмы», палач-инквизитор и т.п.), и из изобразительно-иконографического репертуара мировой истории искусств. При этом сама эклектичность такой графики звучит как своего рода эстетический вызов. Острое ощущение ужаса перед коварством, жестокостью узурпаторов власти, бессилием ее жертв передано с большой выразительностью.
Причудливые фантазии находят выражение в рисунках и акварелях Дмитрия Мощевитина казанского периода его творчества - в графических циклах «Мы», «Город», «Голод», в рисунках по мотивам литературных произведений - «Суламифь» А.И. Куприна, «Ворон» Эдгара По, «Садовник» Рабиндраната Тагора.
Важнейшим направлением в культуре Казани первых революционных лет стало развитие эстампа, возрождение печатной графики (история казанских типографий и печатной гравюры имеет многовековое измерение, но на рубеже 1910-1920-х годов рождалось совершенно новое явление).
К 1920 г. в Казани сложился коллектив графиков, приступивший к организации выставок и выпуску альманахов под названием «Всадник». Составленная в 1923 г. справка «Графический научнохудожественный коллектив Казанского Государственного художественного Института» (за подписью Председателя коллектива Чеботарева и ректора Института Гаврилова) следующим образом определяет истоки «Всадника»:
«Возможность иметь казанских мастеров графики наметилась еще в 1911 г., когда из учеников Казанской художественной школы выделились трое, которые наряду с живописными работами начали заниматься графикой как самодовлеющим искусством. Это были Родченко, Чеботарев и Мощевитин... К весне 1918 г. Казань имела уже сплоченную группу художников-графиков, выросших на казанской почве. Группа эта выступила со своими работами на 1-й выставке союза «Подсолнечник»... В 1920 г. в Казанском художественном Институте начала функционировать графическая мастерская. Тогда же при мастерской сформировался Графический коллектив»92.
561
Романтическое название было своего рода символом движения к новым вершинам искусства. «Могучей фигуре Всадника, который, сметая веками насевшую пыль, несется к новым достижениям человеческой мысли, посвящаем мы этот сборник», — писали Н.С. Шика- лов и И.Н. Плещинский в статье «Геройству будней», открывающей первый выпуск альманаха93.
«Имея в руках ничтожные клочки бумаги, - писали в своем манифесте организаторы «Всадника», - ...подчас ограниченные в технических возможностях за недостатком материала и приспособлений для печатания, мы осуществили наш первый шаг изданием тридцати экземпляров этого альманаха, сделав все, что было возможно в суровых условиях нашего времени, чтобы придать им внешность, достойную глаза ценителя Графических Искусств. Начиная с клише, каждый оттиск во всех стадиях своего развития выполнен самим автором и носит в себе характер его творческой личности, рожденной современностью. Так мы идем к тому, когда в художнике соединятся в одно артист и рабочий»94.
Основные задачи в программе «Всадника» были сформулированы как 1) возрождение культуры эстампа, при том, что художник выступает не только как автор рисунка, но и как исполнитель-гравер, резчик, литограф и т.п., в совершенстве владеющий техникой; 2) возрождение искусства книги, иллюстрированной гравюрами, офортами, литографиями, исполненными авторской рукой.
На протяжении 1920-1923 гг. было издано четыре альманаха «Всадник», а также отдельные альбомы и подборки эстампов: «Литографии» И. Плещинского (тираж - 12 экземпляров), «Офорты» И. Плещинского (24 экземпляра), каталог выставки «Всадник» (500 экземпляров), «18 автолитографий» И. Плещинского (100 экземпляров), «Графика» А. Платуновой (20 экземпляров), «Революция» К. Чеботарева (15 экземпляров), авторские гравюры «Трое» А. Платуновой, Д. Мощевитина и К. Чеботарева (15 экземпляров)23, «Книжные знаки» А. Платуновой и К. Чеботарева, выпуски 1 и 2 (по 50 экземпляров каждый), цветные гравюры «Сказки» А. Платуновой (25 экземпляров), цветные гравюры «Лица» В. Вильковиской и коллективный графический сборник «В Татареспублике» (тираж установить не удалось).
«Всадник» не был четко оформленной организацией. В состав коллектива, все время меняющийся из-за смерти, отъезда художников из Казани и других причин, попеременно входили М. Андреевская, В. Вильковиская, М. Меркушев, Д. Мощевитин, А. Платунова, И. Плещинский, Д. Федоров, К. Чеботарев, Н. Шикалов (в алфавитном порядке перечисления); в качестве теоретика, идеолога и историографа «Всадника» выступал искусствовед Петр Корнилов.
На страницах «Всадника» печатались «беспредметные» линогравюры М. Меркушева (комбинации черных и белых кругов, квадратов, треугольников); литографии («Мертвая натура» и др.) и лино¬
562
гравюры («Работа», 1920; «Под негров», 1920) Д. Федорова, увлекавшегося тогда и кубизмом, и «африканскими примитивами»; произведения К. Чеботарева и А. Платуновой широкого стилевого разброса и тематического диапазона; лирические казанские пейзажи и миниатюрные натюрморты Н. Шикалова (здесь увидела свет его чудесная «Башня Сююмбике» 1920 г.); романтические цветные литографии М. Андреевской («Ветер», 1921). Одной из интереснейших фигур в коллективе всадника был художник Илларион Плещинский (1892-1961), последующая творческая судьба которого связана с историей украинского искусства. «Всадник» был стартовой площадкой его графики, местом первой публикации его офортов «Молотобойцы» (1920), «Кабачок поэтов» (1920), «Конь» (1921). Богатыми декоративными качествами обладали цветные линогравюры В. Вильковиской.
Эмблемой альманаха служила цветная линогравюра И. Плещин- ского, изображавшая всадника (не рыцаря, не средневекового воина, а современного юношу в скромной рабочей блузе), летящего вперед на коне в обрамлении черных туч и проступающего сквозь их разрывы бирюзового неба.
Так он мчался через ранние 1920-е годы, казанский «Всадник», безвестный и бесправный наследник своего прославленного мюнхенского собрата, провинциальный мальчик, которому выпала горькая судьба - быть неизвестным в далекой Европе, незамеченным из столичного далека, вскоре забытым, а может быть, и проклятым на своей маленькой родине. Не всегда он летел, порою брел, спотыкался, блуждал среди теней и призраков, но яркий голубой свет надежды сиял над ним, напоминая о «геройстве будней», о том, что «творчество выше бессмертия», как писали Н.С. Шикалов и И.Н. Плещинский в статье, открывающей первый альманах, и «Всадник» жил, «Всадник» шел вперед, прокладывая нелегкие пути европейского искусства в полуазиатской провинции.
1 Рукописный оригинал текста в Центральном государственном архиве Республики Татарстан: ЦГА РТ. Ф. 564. On. 1. Д. 4. Л. 6.
2 Цит. по кн.: Николай Иванович Фешин: Документы, письма, воспоминания о художнике. Л., 1975. С. 82-84.
3 Основными источниками настоящего исследования являются материалы из фондов 564 и 1431 ЦГА РТ, хранящих дела Казанской художественной школы 1895-1917 и 1919-1926 гг., а также из фонда 22 Архива Восточноевропейского Центра Бременского университета, ФРГ (Osteuropa-Zentrum, Universitat in Bremen, BRD), в котором собрано эпистолярное наследие К.К. Чеботарева и других воспитанников Казанской художественной школы, активных деятелей культуры переломных 1920-х годов.
4 Цит.: по подлиннику, обнаруженному в архиве: ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 1. Л. 52 (здесь и далее архивные материалы публикуются впервые; все случаи их более ранней публикации специально отмечаются в примечаниях).
5 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 1. Л. 14.
563
6 Там же. Л. 32.
7 Там же. Л. 2.
8 Там же. Л. 2.
9 ЦТ А РТ. Ф. 271. On. 1. Д. 86. Л. 232-233.
10 Там же.
11 Габдрахман С. Татарская литература за восемь лет после Октябрьской революции // Кзыл Татарстан, 1925, 7 нояб. (Публикация на татарском языке арабским шрифтом).
12 ЦТА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 13. Л. 41.
13 Там же. Д. 14. Л. 9.
14 Там же. Л. 9.
15 Там же. Д. 22. Л. 2.
16 Там же. Л. 5.
17 Там же.
18 Там же. Д. 23. Л. 7.
19 Там же. Л. 9.
20 Там же. Д. 22. Л. 4.
21 Там же. Л. 12.
22 Там же. Д. 23. Л. 13.
23 Там же. Д. 20. Л. 35, 36.
24 Профессорами с 1921 г. числились: Ф. Гаврилов (он же «Председатель правления института»), Н. Фешин, В.С. Богатырев, П.П. Беньков, А. Ливанова- Кузнецова; преподавателями - Г.А. Козлов, И.А. Никитин, С. Федотов, А. Пла- тунова, К. Чеботарев, В.Э. Вильковиская, Д.М. Федоров, Н.В. Пузанков. - ЦГА РТ. Ф. 1431. Оп. 1.Д. 25. Л. 7.
25 Цит. по кн.: Николай Иванович Фешин. Там же. С. 41
26 Дулъский П.М. Искусство в Татреспублике за годы революции. Казань, 1929. С. 4.
27 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 13, Л. 7-17.
28 Там же. Л. 18, 19.
29 Партархив Татарского обкома КПСС. Ф. 868. On. 1. Д. 70. Л. 75.
30 Дулъский П.М. Указ. соч. С. 4.
31 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 20. Л. 7. В состав Исполкома вошли Меркушев, Шикалов, Жиров, Гаврилов, Неверов.
32 Из письма К.К. Чеботарева Д.П. Мощевитину от 8 апр. - 18 мая 1960 г. С. 13-15. Архив Восточноевропейского Центра Бременского университета. Ф. 22 (не систематизирован).
33 Там же.
34 Опубл. мною в кн.: Червонная С.М. Искусство Советской Татарии. М., 1978. С. 31.
35 Из письма К.К. Чеботарева Д.П. Мощевитину от 8 апр. - 18 мая 1960 г. С. 8.
36 Там же.
37 Выставка творческого объединения «Октябрь» после демонстрации осенью 1930 г. в Берлине была отправлена по Рейнской области. В 1930-1931 гг. она побывала в Крефельде, Дюссельдорфе, Кельне и других городах Германии. См.: Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. М., 1965. Т. 1.С. 368.
38 Подробнее о ней см.: Червонная С.М. Александра Платунова: казанский авангард // Амазонки авангарда. М., 2001. С. 281-299.
39 «...На главной улице, Воскресенской, в витрине лучшего магазина появилась яркая афиша... В Казани предстоит выступление трех... Д. Бурлюка, В. Ма¬
564
яковского, В. Каменского: “В четверг, 20 февраля, знаменитые московские футуристы устраивают лекцию о живописи и литературе”. К магазину повалили толпы молодежи. Коридоры школы стали местом бурных дискуссий. Из рьяных защитников - двое: Игорь Никитин и Александр Родченко [...] Бурлюк выступал напудренный, с серьгой в одном ухе, читал стихи: “Мне нравится беременный мужчина...” Уже первую строчку заглушили крики возмущения, хохот, свист» (Волков-Ланнит Л. Александр Родченко рисует, фотографирует, спорит. М., 1968. С. 15).
40 Известия Татарского ЦИК, 1922, 17 сент. (№ 213).
41 ЦГА РТ. Ф. 7064. Оп. 2. Д. 16. Л. 45.
42 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 67. Л. 33.
43 Там же. Л. 33 об.
44 Партархив Татарского обкома КПСС. Ф. 15. Оп. 3. Ед. хр. 617. л. 158; Ед. хр. 770. Л. 25; Ед. хр. 997-а. Л. 45—47, 49; Ед. хр. 1708. Л. 23, 24.
45 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Ед. хр. 25. Л. 7; Ф. 7064. Оп. 2. Ед. хр. 15. Л. 12-16; Ф. 564. On. 1. Ед. хр. 69. Л. 2, 5, 9; Архив Правления Союза художников СССР в Москве. Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 240.
46 Денике Б. Художественная выставка 1920 года в Казани // Казанский музейный вестник, 1920, № 5-6. С. 58.
47 Записано автором со слов Б.В. Щербакова в мае 1982 г., опубликовано в кн.: Червонная С.М. Художники Советской Татарии (Мастера изобразительного искусства Союза художников ТАССР). Казань, 1984. С. 357.
48 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 39. Л. 12.
49 Там же. Д. 47. Л. 9-12.
50 Там же.
51 Там же. Д. 39. Л. 54.
52 Там же. Л. 9.
53 См.: Государственный художественный институт: Каталог конкурсной выставки. Казань, 1922.
54 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 47. Л. 11-12.
55 Там же. Д. 34. Л. 3.
56 Там же.
57 ЦГА РТ. Ф. 98. On. 1. Д. 201. Л. 28-29.
58 Там же. Л. 50.
59 ЦГА РТ. Ф. 732. On. 1. Д. 126. Л. 33 (Документ от 22 апреля 1922 г.).
60 В «Материалах комиссии по подготовке празднования 1 Мая 1922 года в Казани есть указание о выплате гонорара скульптору В.С. Богатыреву» (ЦГА РТ. Ф. 732. On. 1. Д. 126. Л. 127).
61 ЦГА Октябрьской революции. Ф. 130. Оп. 2. Д. 750. Л. 88 (Опубликовано в кн.: Трудящиеся Татарии В.И. Ленину: Сборник документов и материалов. Казань, 1980. С. 98-99. Документ № 103).
62 Там же. С. 43-44.
63 Фотография из фондов Государственного объединенного музея Татарстана опубликована в кн.: Сулейманова-Валеева Г.Ф. Монументально-декоративное искусство Советской Татарии. Казань, 1984. С. 31.
64 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 13. Л. 5.
65 Дульский П.М. Указ. соч. С. 3.
66 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 13. Л. 82.
67 Там же.
68 Там же.
69 Там же. Д. 39. Л. 11.
565
70 См.: Государственный художественный институт. Каталог конкурсной выставки. Казань, 1922.
71 Дульский П.М. Указ. соч. С. 10.
72 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 33. Л. 3.
73 Там же. Д. 25. Л. 49.
74 Известия Татарского ЦИК, 1922, 17 сентября.
75 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 43. Л. 9.
76 Дульский П.М. Указ. соч. С. 10.
77 См.: Симкин Б. Строитель, человек // Памяти Ф.П. Гаврилова. Сборник. Казань. 1927. С. 12-25.
78 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 67. Л. 6.
79 Коробкова А.Н. Краткая автобиография и некоторые воспоминания. С. 2 (рукопись в личном архиве автора).
80 Протокол собрания при Главпрофобре ТССР «Цели и задачи реорганизации Архумаса» от 29 июня 1925 г. // ЦГА РТ. Ф. 1431. On. I. Д. 67. Л. 28 об., 31 об.
81 Протокол собрания при Главпрофобре ТССР «Цели и задачи реорганизации Архумаса» от 29 июня 1925 г. // ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 67. Л. 29 об., 30.
82 ЦГА РТ. Ф. 1431. On. 1. Д. 67. Л. 31 об.
83 Там же. Л. 32.
84 Там же. Л. 33.
85 Там же. Л. 32, 32 об.
86 Там же. Л. 33 об.
87 Там же. Л. 34.
88 Там же. Л. 8.
89 Там же. Л. 28, 29, 33.
90 Там же. Л. 34.
91 Там же. Л. 37 об.
92 Там же. Л. 110-111.
93 Всадник. Казань, 1920, № 1. С. 3.
94 Там же. С. 3-4.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА
ЭЛ. Кирхнер. Русская, 1913-1920, х., м.
М. Ларионов. Автопортрет, 1910, 104 х 89, Париж, Центр Ж. Помпиду Н. Сапунов. Карусель. Эскиз, ок. 1908, бум., темп., ГЦТМ им. А.А. Бахрушина
Ж. Руо. Клоун, 1907, акв., 60 х 47, Гарвардский университет В. Кандинский. Композиция на желтом, 1920, х., м., Ташкент, Гос. музей искусств Узбекистана
В. Кандинский. Пейзаж, 1915, бум., акв., ГРМ
В. Кандинский. Без названия, 1920, бум., акв., Нью-Йорк, музей С. Гуггенхайма
В. Кандинский. Белый овал, 1919, м., ГТГ
В. Кандинский. На сером, 1913, м., Нью-Йорк, музей С. Гуггенхайма В. Кандинский. Композиция на белом, 1920, х., м., ГРМ В. Кандинский. Без названия, 1923, бум., тушь, перо, част. собр.
В. Кандинский. Два овала, 1919, х., м., ГРМ
B. Кандинский. Прогулка, 1920, бум., акв., Париж, Центр Ж. Помпиду П. Филонов. Без названия. (Пейзаж с двумя зверями), нач. 1910-х,
73 х 15,2, бум., граф, кар., ГРМ
П. Филонов. Без названия (Три фигуры), 1912-1913, бум., акв., граф, кар.,
3.8 х 7,3, ГРМ
П. Филонов. Казнь. 1912, бум., акв., 35 х 32, ГТГ
П. Филонов. Без названия (Рабочие), 1920-е, бум., цв. кар., граф., кар.,
26.8 х 24,5, ГРМ
П. Филонов. Казнь, 1920-1921, бум., тушь, акв., 44 х 60, ГРМ П. Филонов. Казнь, (после 1905 года), 1913, бум., черн., кисть, перо, кар., граф., 11,6х 13,4, ГРМ
П. Филонов. Композиция. Корабли, фрагмент, 1913-1915, х., м., 117 х 156, ГТГ
М. Верёвкина. В кафе, ок. 1909, карт., кар., гуашь, паст., воск, кар., 54 х 74, Аскона, Фонд М. Верёвкиной М. Верёвкина. Возвращение, 1912, карт., темп., 54 х 74, Аскона, Фонд М. Верёвкиной
Г. Мюнтер. Мужчина за столом. (В. Кандинский), 1909, карт., м.,
49.7 х 66,2, Мюнхен, Ленбаххауз
Г. Мюнтер. Слушание. (Портрет Алексея Явленского), 1909, карт., м.,
49.7 х 66,2. Мюнхен, Ленбаххауз
C. Романович. Дневная вакханалия М. Синякова. Война, 1910-е, бум., акв.
К. Малевич. Натюрморт, 1910, акв., гуашь, бум., 52,5 х 51,8, ГРМ
567
М. Синякова. Синяя всадница, 1910-е, бум., акв., тушь К. Малевич. Купальщик, 1911, гуашь, бум. Амстердам, Стеделийк- Музеум
К. Малевич. Автопортрет, 1908-1909, акв., гуашь, бум., 46,2 х 41,3, ГРМ М. Синякова. Карусель, 1916, бум., акв.
М. Синякова. Композиция, 1910-е, бум., акв.
Неизвестный художник. Супрематическая композиция, 2-я пол. XX в., част. собр.
ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЕ
Танец Мэри Вигман, 1910-е 15
ЭМ. Кирхнер. Рисунок, 1910 16
ЭМ. Кирхнер. Рисунок, 1913 17
М. Бекман. Гравюра, 1918 20
Э.Нолъде. Ева, гравюра, 1923 20
Г. Грос. Рисунок из серии «Ессе Homo», 1922 21
Д.Бурлюк. Venus of Milo Today, 1908 21
H. Феофилактов. Рисунок, 1907 22
Н. Феофилактов. Рисунок, 1909 22
К.Сомов. Иллюстрация к «Книге маркизы» 23
Г.Мюнтер. Портрет В. Кандинского, 1906, цв. линогравюра, 24,4 х 17,7,
Мюнхен, Ленбаххауз 68
Г. Мюнтер. Кандинский за фисгармонией, ок. 1909, цв. линогравюра,
14,8 х 12,4, Мюнхен, Ленбаххауз 71
B. В. Кандинский. Дама (Габриэле Мюнтер), фрагмент, 1910, х., м., 110 х 109,
Мюнхен, Ленбаххауз 76
Обложка книги Г. Марцинского «Метод экспрессионизма в живописи».
М.. 1923 150
Д. Митрохин. Обложка антологии «Молодая Германия». Харьков, 1926 151
Обложка сборника «Экспрессионизм». Пг.; М., 1923 152
Д.Бурлюк. Рис. из альманаха «Дохлая луна». М., 1914 153
C. Спасский. Обложка сборника «Московский Парнас». М., 1922 156
М. Попова. Обложка книги Н. Церукавского «Соль земли». М., 1922 157
В.Бурлюк. Рисунок из альманаха «Весеннее контрагентство муз».
М., 1915 159
Д.Бурлюк. Рисунок из альманаха «Весеннее контрагентство муз».
М., 1915 162
Обложка сборника «А». М., 1921 163
Афиша вечера «Поэзия наших дней». М., 1922 167
А.П. Архипенко. Портрет госпожи Каменевой, 1909 225
А.П. Архипенко. Поцелуй, 1910 227
А.П. Архипенко. Плафон, 1913, гипс, Тель-Авив, Художественный музей .... 228
Умирающая Ниобида, 5 в. до н.э 228
A. П. Архипенко. Женщина, опустившаяся на колено, 1910, Тель-Авив,
Художественный музей 231
B. Мембрук. Коленопреклоненная, 1911 231
568
А.П. Архипенко. Ма - Медитация, 1933 232
A. П. Архипенко. Ма - дающая Сила, 1933 233
М. Синякова. Иллюстрация к роману в стихах А. Кручёных «Ванька-
Каин и Сонька-Маникюрщица», 1926 243
М. Синякова. Иллюстрация к роману в стихах А. Кручёных «Ванька-
Каин и Сонька-Маникюрщица», 1926 247
Н. Сапунов. Ночь, нач. 1900-х, х., темп., 49 х 84,5, ГРМ 293
Н. Сапунов. Ряженые, 1907-1908, акв., собр. Е.Н. Гунст 294
Дж. Энсор. Скандализованные маски, 1983, х., м., 135 х 112, Брюссель, Королевский музей изящных искусств Бельгии 295
Кес Ван Донген. Всадники в Булонском лесу, 1906, акв. Гавр, Музей 297
Н. Сапунов. В парке. Влюбленные, нач. 1900-х, х., м., 70 х 55,5, ГРМ 297
П. Кузнецов. Женщина с собачкой, 1909, х., темп., 64 х 72, ГТГ 299
Н. Сапунов. Чаепитие, 1912, х., темп., 55 х 97,8, ГТГ 300
Ж. Руо. Пара, 1915, акв., 70 х 52 301
Б. Косарев. Возле панно «Союз искусств». Харьков, 1919, фото 305
Б. Косарев. Портрет В. Хлебникова, 1921, бум., коллаж, 21 х 22 306
Ф. Надеждин. Линогравюра, 1910, 17 х 21 307
B. Бобрицкий. Портрет жены, между 1916-1918, х., м., 140 х 140, местона¬
хождение неизвестно 309
М. Синякова. Этюд к портрету Ксении Синяковой, фанера, м., нач. 1910-х,
местонахождение неизвестно 311
Б. Косарев. Портрет Н. Евреинова, центр, часть триптиха, материя, темп.,
накладное серебро 313
Заставка к 1-й странице сборника «Новое искусство». Харьков, 1919.
Без автора 315
Н. Мищенко. Отъезд, 1918, рис., кар 317
Б.Цибис. Скульптура, между 1916-1918, липа 318
А. Гладков. Всадник, 1918-1919, автолитография 319
Б. Косарев. Три деревни, два села. 1921, бум., акв., цв. кар., 19 х 24 см 321
И. Иванов. Семья, 1925 323
A. Довгалъ. Распределение пайка, 1917, линогравюра, НХМУ 327
B. Седляр. Иллюстрация к поэме Т.Г. Шевченко «Сова», 1931, типографс¬
кий отпечаток 328
C. Налепинская-Бойчук. Прочь вредителя! 1931, гравюра на дереве,
НХМУ 329
И. Падалка. Яблочко, 1927, гравюра на дереве, НХМУ 330
А.Довгалъ. Штили носят, 1926, линогравюра, НХМУ 331
М. Котляревская. Иллюстрация к стихотворению П.-Ж. Беранже
«Царь Горох», 1926, линогравюра, Харьков, част, собр 333
М. Котляревская. Обыватели в годы гражданской войны, 1930, линогравюра, ГМИИ им. А.С. Пушкина 333
С. Налепинская-Бойчук. Голод, 1927, гравюра на дереве, НХМУ 336
С. Налепинская-Бойчук. Пасификация Западной Украины, 1931, гравюра на дереве, НХМУ 338
А. Быховский. Автопортрет, 1918, бум., уг., кар. 30 х 22 342
А. Быховский. Наступление, 1919, бум., тушь, белила, 42,5 х 34,5 343
А. Быховский. Эскиз жетона к сотому представлению «Гадибука», 1923,
бум., тушь 348
569
A. Быховский. Книжный знак В.И. Вольпина, 1925, бум., тушь, гуашь 349
К. Малевич. Портрет члена семьи, 1904, Стеделийк Музеум 371
К. Малевич. Супремус № 50, об. холста 372
К. Малевич. Баба с ведрами и ребенком, 1912, Стеделийк Музеум 374
К. Малевич. Оборот рисунка «Голова крестьянина», 1912, архив Н. Хард-
жиева, Стеделийк Музеум 376
К. Малевич. Жница, 1912, Астрахань, Картинная галерея им. Б.М. Кустодиева 379
К. Малевич. Жница, фрагмент рентгенограммы, Архив сектора экспертизы ГосНИИР 379
К. Малевич. Гвардеец, 1914, Стеделийк Музеум 382
К. Малевич. Супремус № 50, 1915, Стеделийк Музеум 382
Э. Мендельсон. Лаборатория А. Эйнштейна, 1917-1921 388
М.Де Клерк, П. Крамер. Жилой комплекс Де Дагераат в Амстердаме, 1918-1921 388
Э. Мендельсон. Торговый дом Петерсдорфа во Вроцлаве, 1927 390
Краков. Здание 1930-х 390
Административное здание во Вроцлаве, 1930-е 392
Г. Шарун. Общежитие для малосемейных во Вроцлаве, 1928-1929 392
Почтамт в Неаполе, 1930-е 394
И. Фомин. Административное здание общества «Динамо» в Москве, 1928—
1930 394
Афины. Здание 1930-х 397
К. Мельников. Собственный жилой дом-мастерская в Москве, 1927-1929 ... 397
Афины. Здание 1930-х 399
К. Мельников Гараж Госплана на Авиамоторной улице в Москве.
Деталь главного фасада, 1934-1936 399
Л. Мельников. Конкурсный проект административного здания Наркомтяж-
прома, 1934 400
Й.М. Жюжолъ. Жилой дом в Барселоне, 1922-1924 400
Лас Пальмас. Канарские острова. Здание 1930-х 402
Лас Пальмас. Канарские острова. Бензоколонка, 1950-е 402
B. Щуко, В. Гельфрейх. Театр в Ростове-на-Дону, 1934-1936 404
И. Леонидов. Лестница в парке санатория им. С. Орджоникидзе, 1937-1938 . 404
Обложка первого номера журнала “Кино-фот”, 1922. Редактор, издатель
и типограф - Алексей Ган. На обложке - сцена из немого «кино без пленки», кинотехникум, мастерская Л. Кулешова, сюжет под названием «Яблоко» 408
A. Родченко. «Детектив», 1922. Фотомонтаж иллюстрировал статью
Л. Кулешова в журнале «Кино-фот» о киномонтаже 408
B. Пудовкин, А. Хохлова, П. Подобед. «Венецианский чулок», «кино без
пленки», кинотехникум, 1920 410
Учебный этюд на крыше, нач. 1920-х 411
А. Родченко. Фотомонтаж для книги «Месс менд», 1924. Слева Родченко изображает сыщика, одного из героев этой книги Мариэтты Шагинян 412
А.Родченко. Фотомонтаж для книги В. Маяковского «Про это», 1923 412
А. Лавинский. Фотомонтаж из рекламного бюллетеня Госиздата «Что
читать, где купить», 1924 412
570
А. Родченко. «Взрыв». Фотомонтаж из сборника стихотворений «Лет»,
1923 412
A. Родченко. Пространственный фотомонтаж, 1924. Мотив для обложки
сборника поэтов-конструктивистов. Поэт А. Чечсрин послужил
моделью для фотографий 413
П.Галаджев. Фотомонтаж, 1920-е 414
П.Галаджев. Фотомонтаж, 1920-е 41Ф
B. Степанова. Эскиз рекламного плаката для Госиздата, 1924 414
В. Степанова позирует Родченко для рекламного плаката, 1924 414
Г.Клуцис. Фотомонтаж для журнала «Молодая гвардия», 1924 415
В. Степанова. Обложка журнала «Советское кино», 1927. На обложке -
кинооператор Михаил Кауфман экспериментирует со съемкой
на роликовых коньках 415
А. Родченко. Портрет Л. Брик для рекламного плаката, 1924 416
А. Тан. Обложка книги «Да здравствует демонстрация быта», 1922 416
Эль Лисицкий. Обложка книги «Архитектура ВХУТЕМАС», 1927 417
А. Родченко. Обложка журнала «Журналист», 1930 417
Г. Клуцис. Плакат к выборам в Советы, 1934 417
К. Малевич. Обложка сборника «Трое», 1913. Пример кубистического
«сдвига» в шрифте 420
A. Кручёных. «М1рсконца», 1915. Обложка. Коллаж, неожиданное
сочетание рукописного шрифта и букв, имитирующих набор
«Четверо из мансарды», 1920. Поэтический сборник. Обложка 420
Н. Чернышева. Гравированный шрифт, причем пробелы между словами отсутствуют и весь текст на обложке воспринимается как
одно бесконечное слово 421
Страница с текстом из книги «М1рсконца». Строки ведут себя «непредсказуемо», расстояние между ними меняется, равно как и высота букв. Характер наклона также не постоянен, что лишний раз свидетельствует о технике письма - зеркально на литографском
камне. Отсутствуют и прописные буквы - только строчные 421
П. Филонов. Разворот из книги стихов В. Хлебникова «Изборник», 1915 422
К. Малевич. «О новых системах в искусстве», 1919. Фрагмент страницы с написанным от руки текстом. Строчки предельно сближены. Буквы
распластаны, их пропорции приближаются к квадрату 422
О. Розанова. Литографированный лист из книги стихов А. Кручёных и В. Хлебникова «Тэ Ли Лэ» со знаменитым стихотворением Кручёных на заумном языке, 1914 423
B. Хлебников. Рукописная страница из книги «\Брсконца», 1915 423
А. Кручёных. «Ра Ва Хиа», 1920-1921. Страница из рукописной
книги 424
А. Кручёных. «Ра Ва Хиа», 1920-1921. Страница из рукописной книги 424
A. Кручёных. «Нособойка», 1918. Страница из рукописной книги 425
Неизданный Хлебников. Издание «Групп друзей Хлебникова», 1928.
(Отпечатано на стеклографе с рукописи.) Фрагмент текста на 8 странице, переписанной А. Олсуфьевой. Почти школьная «пропись» . 425
B. Степанова. Беспредметные стихи, 1919. Обложка рукописной книги. ... 426
В. Степанова. Беспредметные стихи, 1919. Страница из тетради с машинописным текстом стихотворений 426
571
В. Каменский. Страница из книги «1918» 427
В. Степанова. «Гауст Чаба», 1918. Рукописная книга 427
Ю. Гу литов. Гарнитура «Уличная», кон. 1990-х 428
Ю. Гулитов. Плакат к персональной выставке “Пляжные картинки”,
2001 429
Ю. Гулитов. Гарнитура «Каллиграфическая», конец 1990-х 430
Е. Кожухова. Обложка журнала «Как» № 9/10, 2000 430
И. Гордон. (Letterhead). Шрифт «Проббариус», 1996 430
А. Тарбеев. (Paratype). Шрифт «HiMom!», 1998 430
«Гадибук» С. Ан-ского. Театр-студия «Габима», реж. Евг. Вахтангов, худ.
Н. Альтман, финал II акта 467
Слепой - А. Мескин 470
Цадик - Б. Чемеринский, Служка - Ц. Фридлянд 471
На переплете:
В. Кандинский. Георгий 2, 1911, х., м., 107 х 85, ГРМ.
Г. Мюнтер. Портрет Марианны Верёвкиной, 1909, карт., м., 81 х 55, Мюнхен, Ленбаххауз.
На форзаце:
A. Родченко. “Взрыв”. Фотомонтаж из сборника стихотворений “Лет”, 1923.
А Родченко. Фотомонтаж для книги В. Маяковского “Про это”.
B. Кандинский. Беспредметное, 1916, бум., тушь, кисть, 54,2 х 36, ГТГ.
В. Кандинский. Абстракция, 1918, бум., тушь, граф, кар., 24 х 16, ГТГ.
СОДЕРЖАНИЕ
Д.В. Сарабъянов
В ожидании экспрессионизма и рядом с ним 3
Шимон Бойко
Почему экспрессионизм обошел Россию и русский авангард? 14
И. А. Вакар
Кубизм и экспрессионизм - два полюса авангардного сознания 26
В.С. Турчин
Немецкий акцент в русском авангарде 43
Е.В. Шаронкина
Экспрессионистские произведения М.В. Верёвкиной в контексте мюнхенской художественной ситуации до 1914 г 55
Д.В. Фомин
В.В. Кандинский и художники «русской колонии Мюнхена» в письмах и мемуарах немецких экспрессионистов 64
И.В. Шуманова
Некоторые особенности приема цитаты в творчестве В.В. Кандинского.. 99 Елена Халъ-Фонтэн
Ранний немецкий экспрессионизм и абстракция 108
A. Н. Иныиаков
Стратегия экспрессионизма и портрет художника авангарда. Об искусстве “находить самого себя’’ 114
И.М. Сахно ,
О формах экспрессии и экспрессионизме в поэзии русского авангарда J37
B. Н. Терёхина
Экспрессионизм и футуризм: русские реалии 148
Е.А. Бобринская
Экспрессионизм и дада 174
А.К. Якимович
От пощечины к удушению в объятиях 189
И.Н. Карасик
«Круг Малевича» и проблема экспрессионизма 195
573
ИЛ. Пронина
О Филонове и экспрессионизме 206
A. Г. Цуканова
Об экспрессионизме Натальи Гончаровой 214
B. В. Сусак
Александр Архипенко - «первый скульптор-экспрессионист»? 223
О Л. Лагутенко
«Общий заговор и дерева и тела» 237
C. Н. Михайлова
Преодоление экспрессионизма: Михаил Ларионов и Сергей Романович ... 251
Е.С. Вязова
«Фольклорные» города А.В. Лентулова: между экспрессионизмом и кубо- футуризмом 256
О.А. Тарасенко
«Окно в глубину» 268
А.К. Флорковская
Некоторые аспекты русского экспрессионизма. Живопись Н.Н. Сапунова 1910-х годов 291
ЛЛ. Савицкая
К истории авангардного движения в Харькове: 1910-е годы 303
Л.Д. Соколюк
Черты экспрессионизма в творчестве представителей школы Михаила Бойчука 326
ИЛ. Азизян
Экспрессионизм Александра Быховского: от героики и сатиры к трагическому 340
А.Н. Марочкина
Вера Ермолаева: Новые факты творческой биографии 360
ЮЛ. Халтурин
О технике живописи К.С. Малевича: от примитивизма к супрематизму.... 369
Е.Б. Овсянникова, МЛ. Туканов
Влияние экспрессионизма на архитектуру 1930-х годов 387
А.Н. Лаврентьев
Жест в фотомонтаже 407
Е.А. Лаврентьева
Экспрессия букв 419
574
Ивона Люба
Польский конструктивизм и польский экспрессионизм: проблема взаимоотношений 432
Е.Ю. Иньшакова
Между экспрессионизмом и конструктивизмом. Писатель Сергей Третьяков 440
A. И. Веселовская
Парадигма социального вывиха в экспрессионистских спектаклях театров Украины 1920-х годов 447
B. В. Иванов
Евгений Вахтангов и Михаил Чехов. Игра на краю или театральный опыт трансцендентального 464
Н.П. Хмелева
Владимир Егоров: от модерна к экспрессионизму 479
Е.И. Струтинская
О некоторых особенностях экспрессионистской образности в русской сценографии 1910-х-1920-х годов 487
B. В. Мальцев
Сценография А.Г. Тышлера для белорусского ГОСЕТа 496
Л.С. Овэс
Моисей Левин: культура «идиш» и экспрессионизм. Две «смерти» на сцене 518
C. М. уервонная
Тат ЛЕФ и творческие лаборатории экспрессионизма в Казанской художественной школе 1920-х годов 531
Список иллюстраций 567
Научное издание
РУССКИЙ АВАНГАРД 1910-1920-х ГОДОВ И ПРОБЛЕМА ЭКСПРЕССИОНИЗМА
Утверждено к печати Ученым советом Государственного института искусствознания Министерства культуры Российской Федерации
Зав. редакцией Е Ю. Жолудь Редактор НА. Алпатова Художник В.Ю. Яковлев Художественный редактор Т В. Болотина Технический редактор З.Б. Павлюк Корректоры З.Д. Алексеева,
Г.В. Дубовицкая, ЕЛ. Сысоева
Подписано к печати 20.08.2003 Формат 60 х 90 */1б. Гарнитура Таймс Печать офсетная
Усл.печ.л. 37,0. Усл.кр.-отт. 40,5. Уч.-изд.л. 40,5 Тираж 1500 экз. Тип. зак. 4509
Издательство “Наука”
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret<2)naukaran.ru Internet: www.naukaran.ru
Санкт-Петербургская типография “Наука” 199034, Санкт-Петербург, 9-я линия, 12