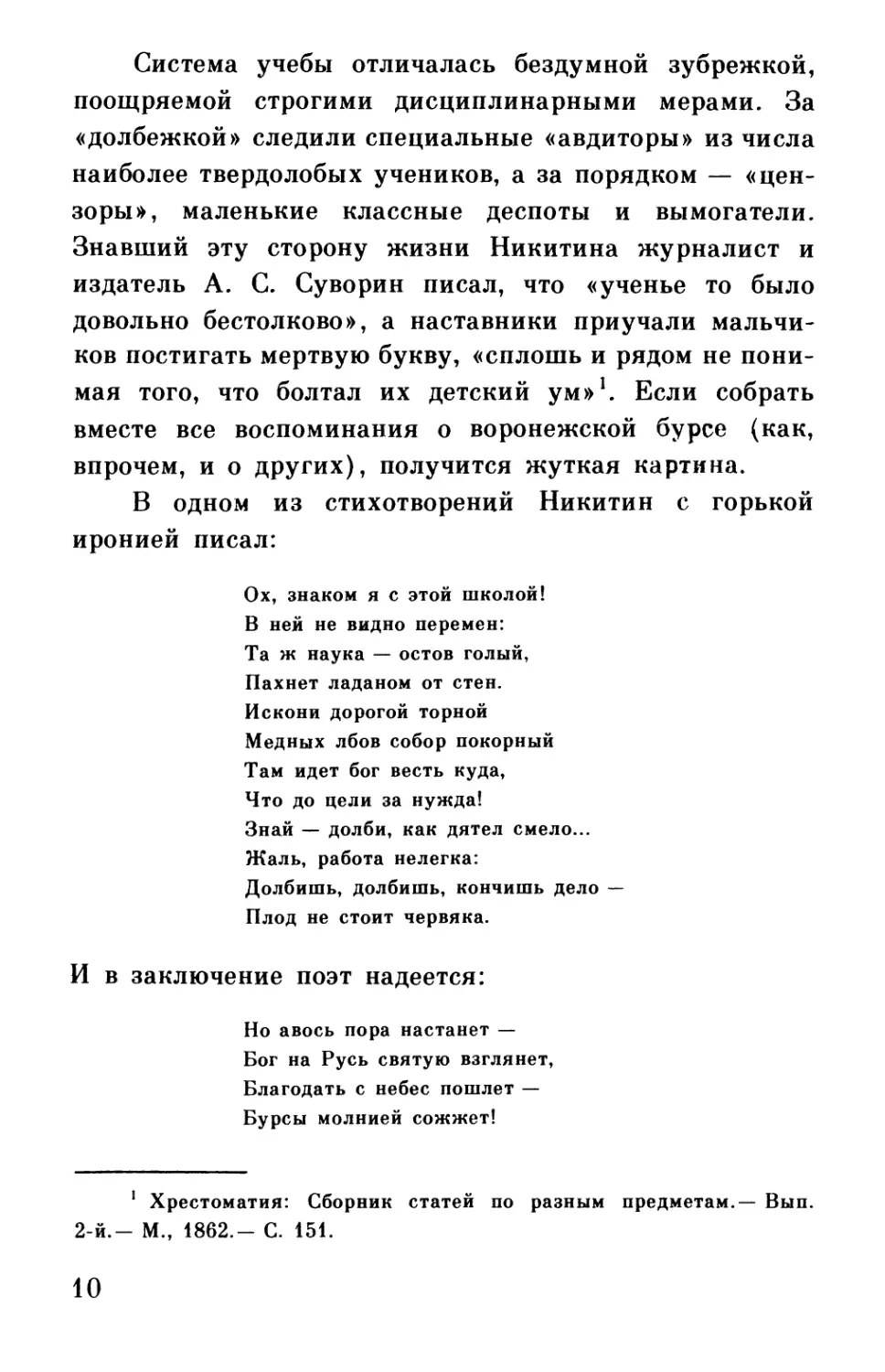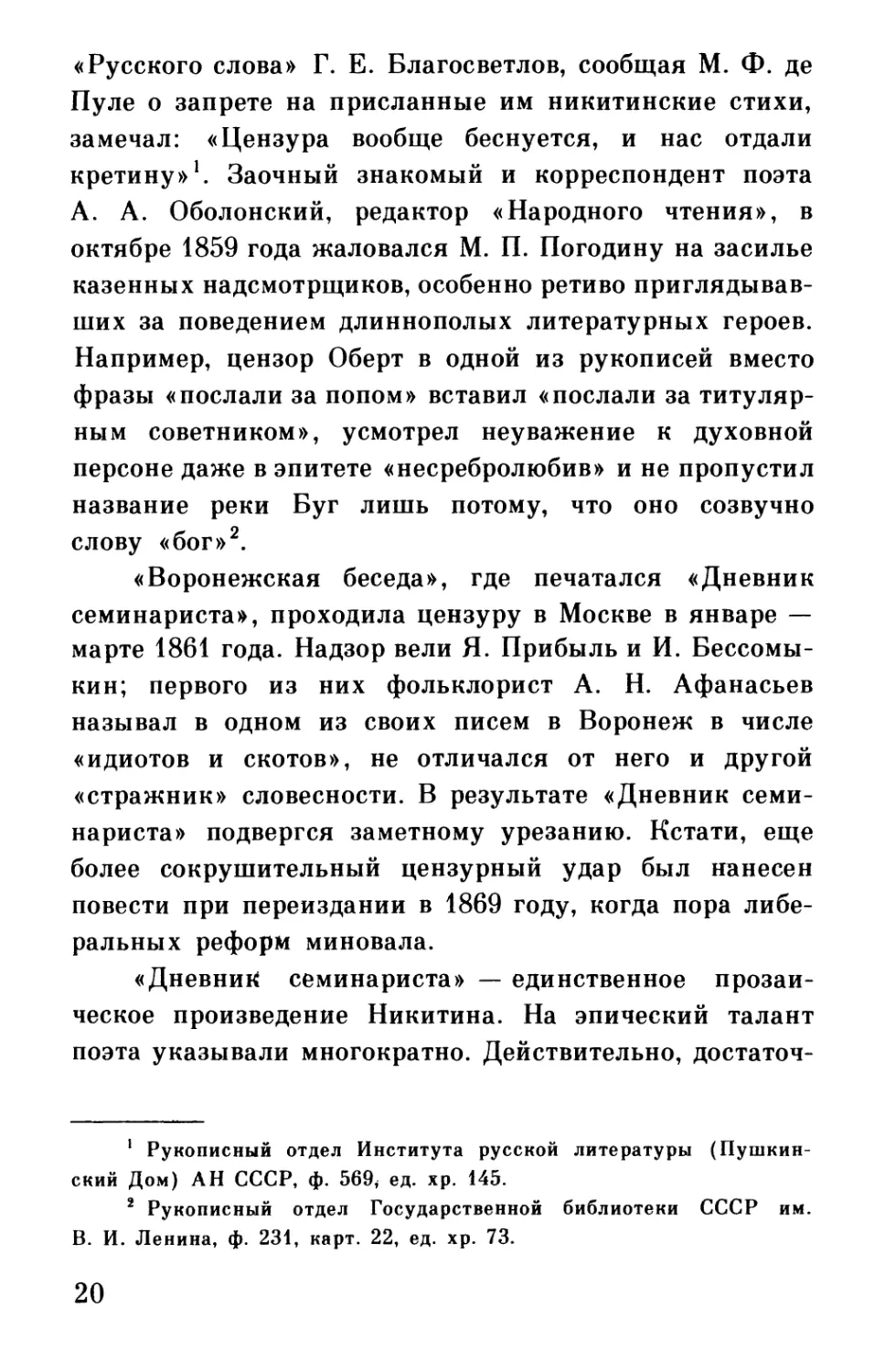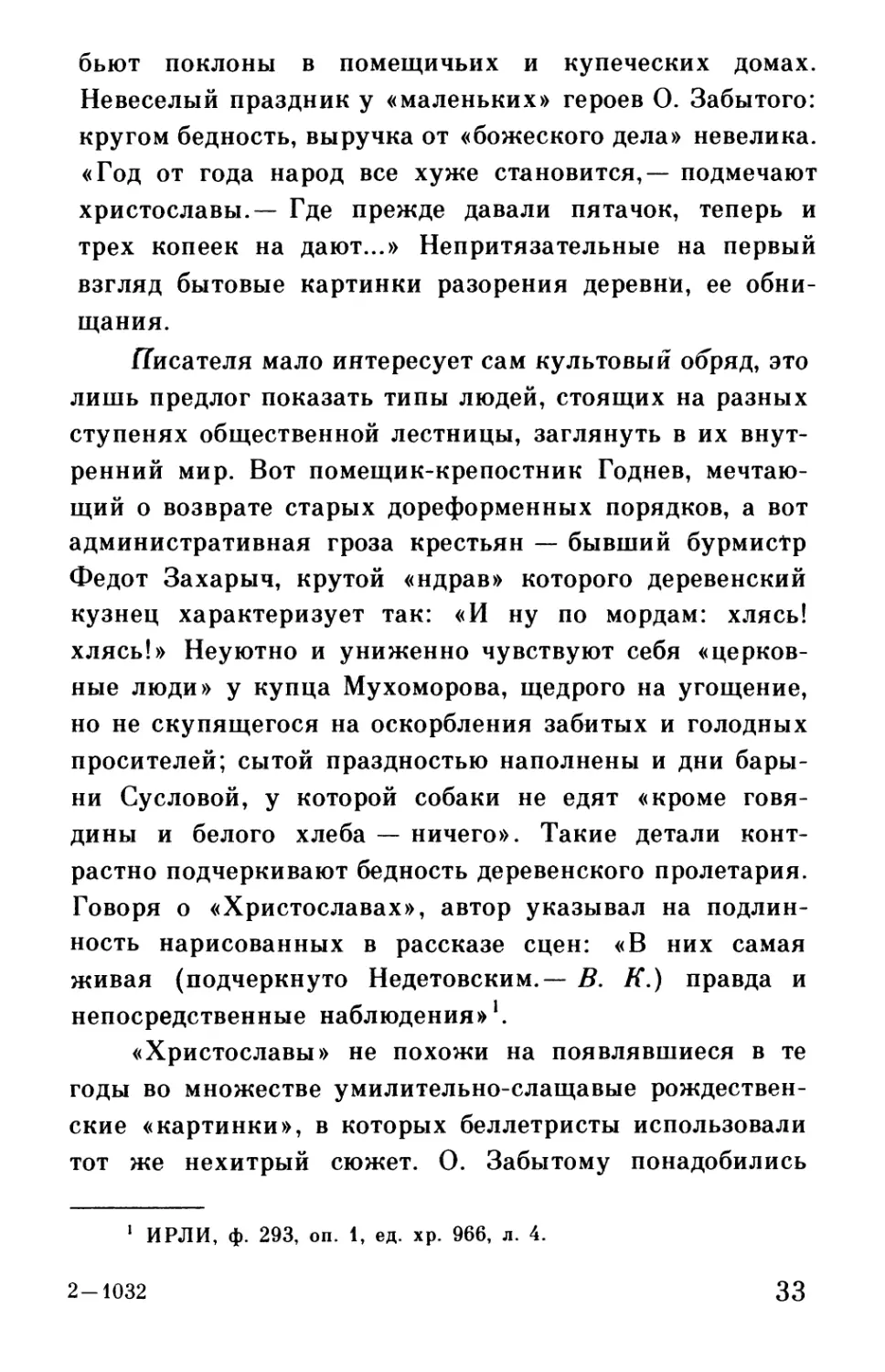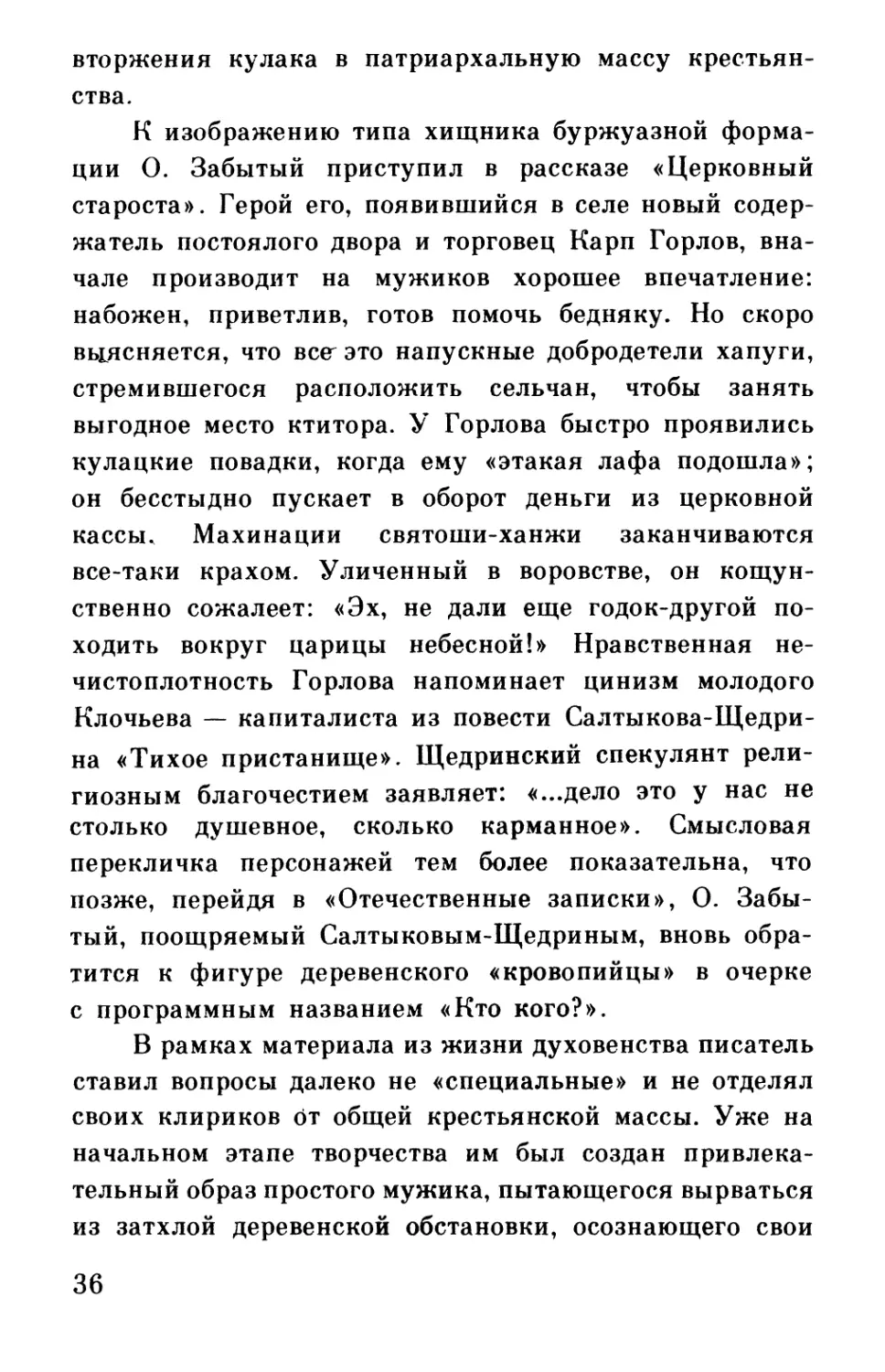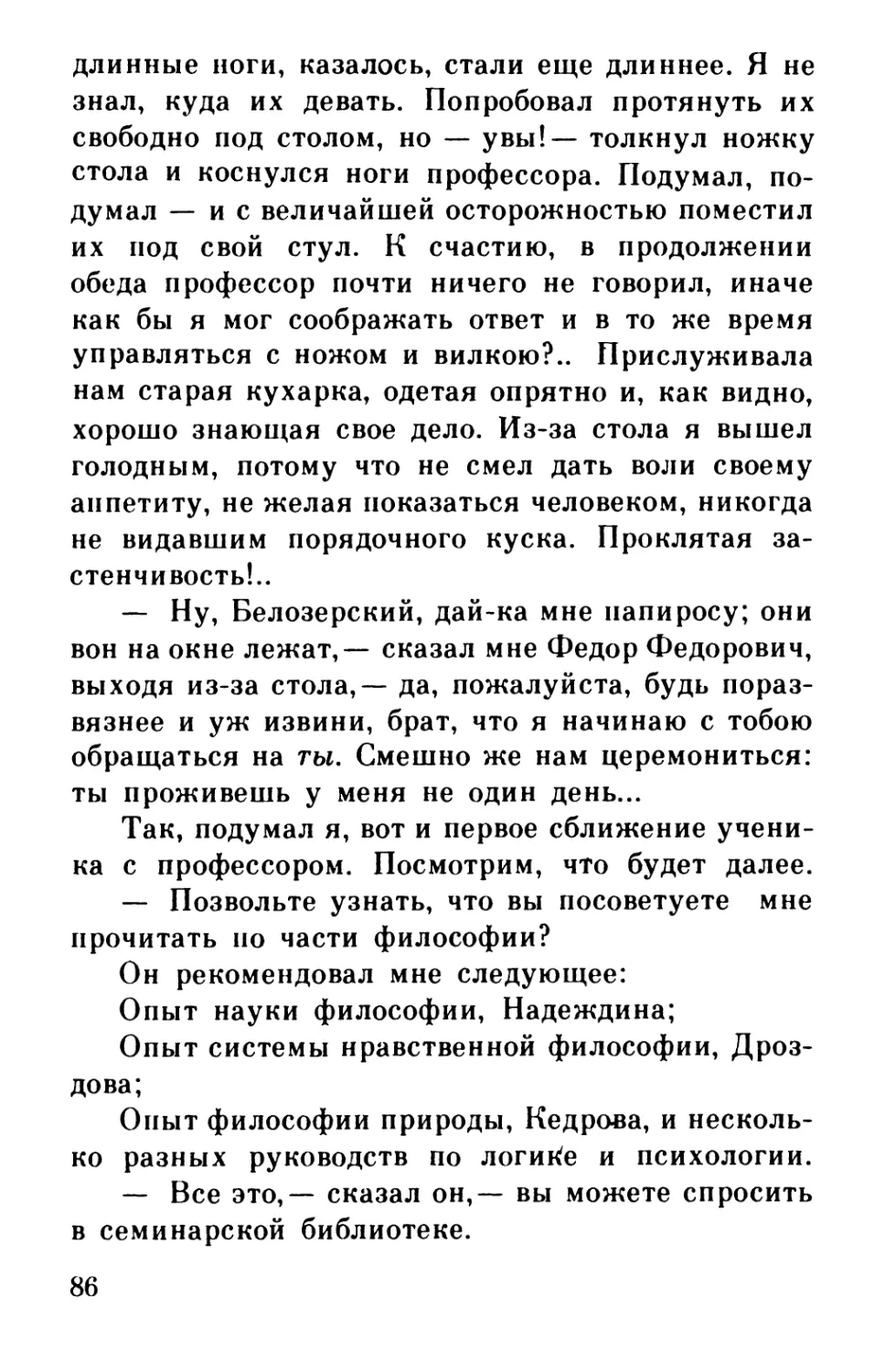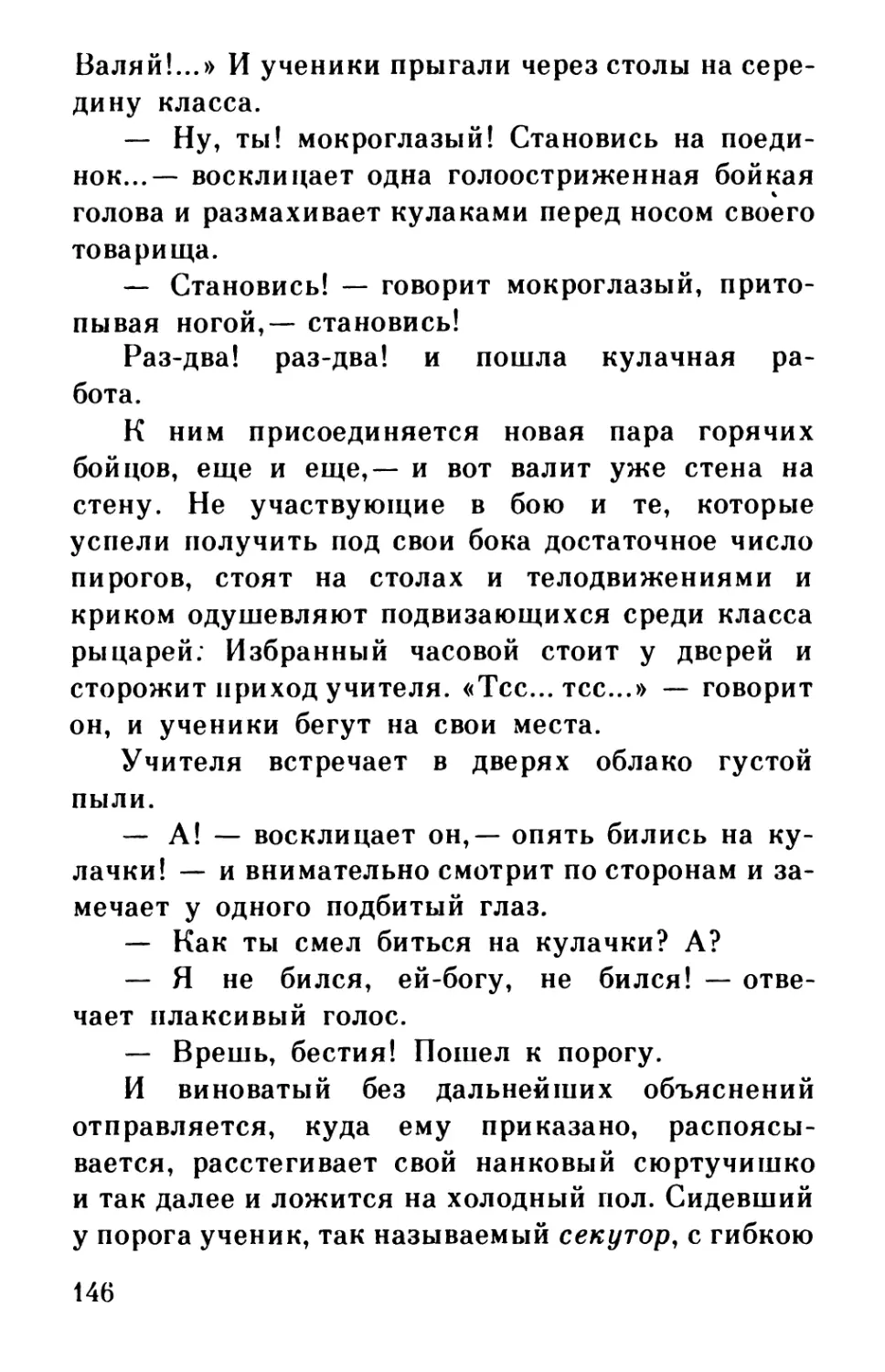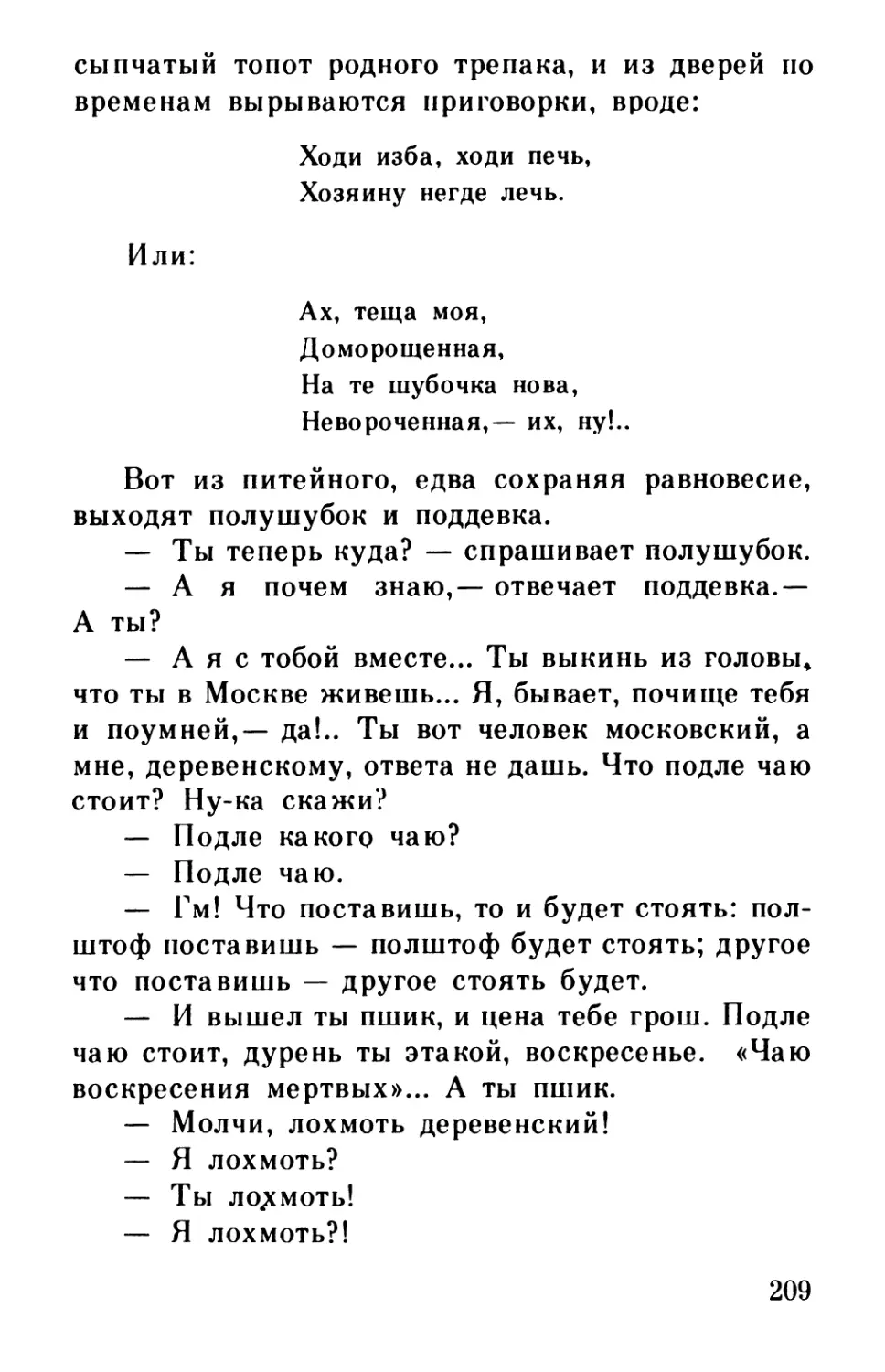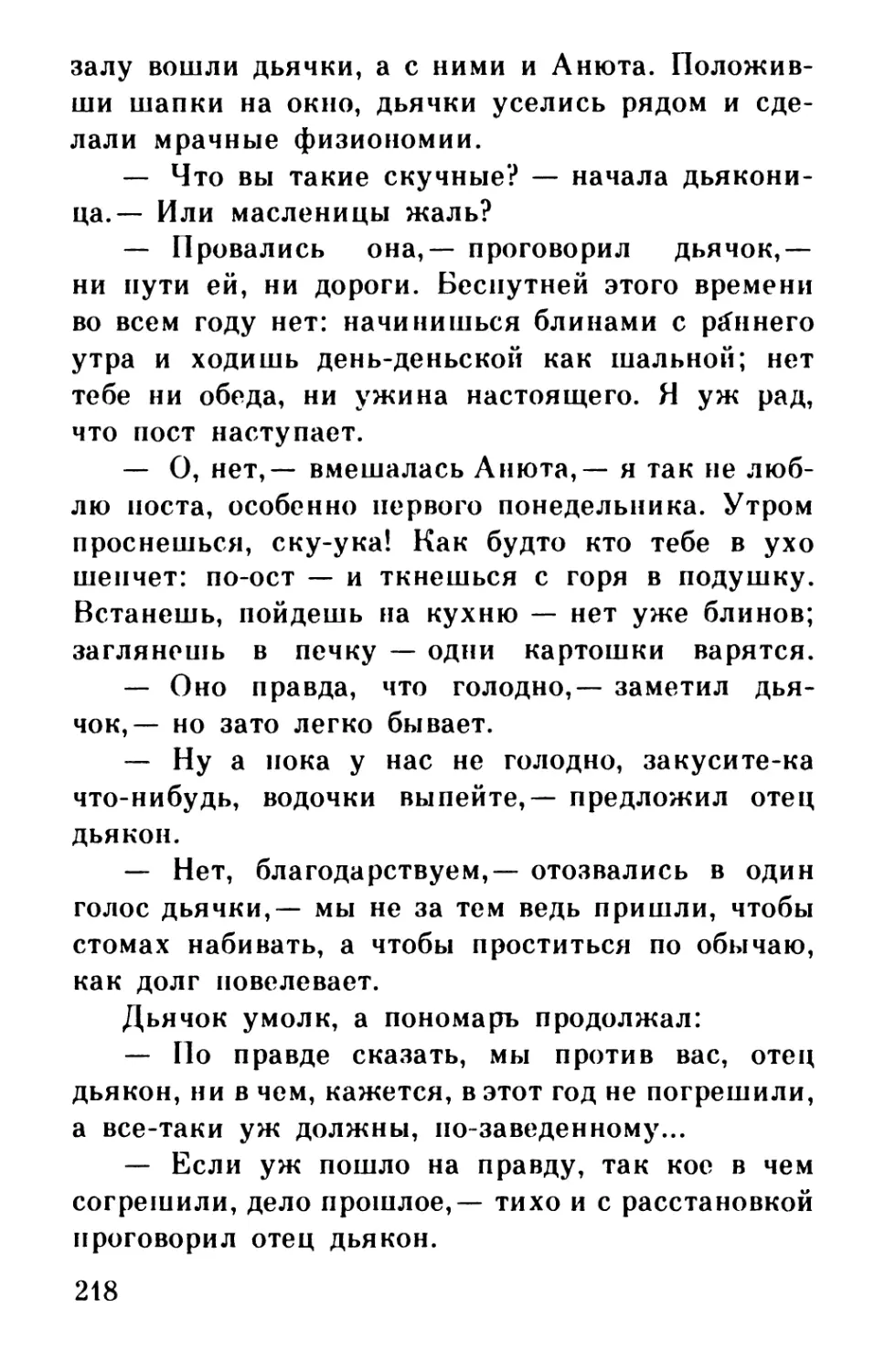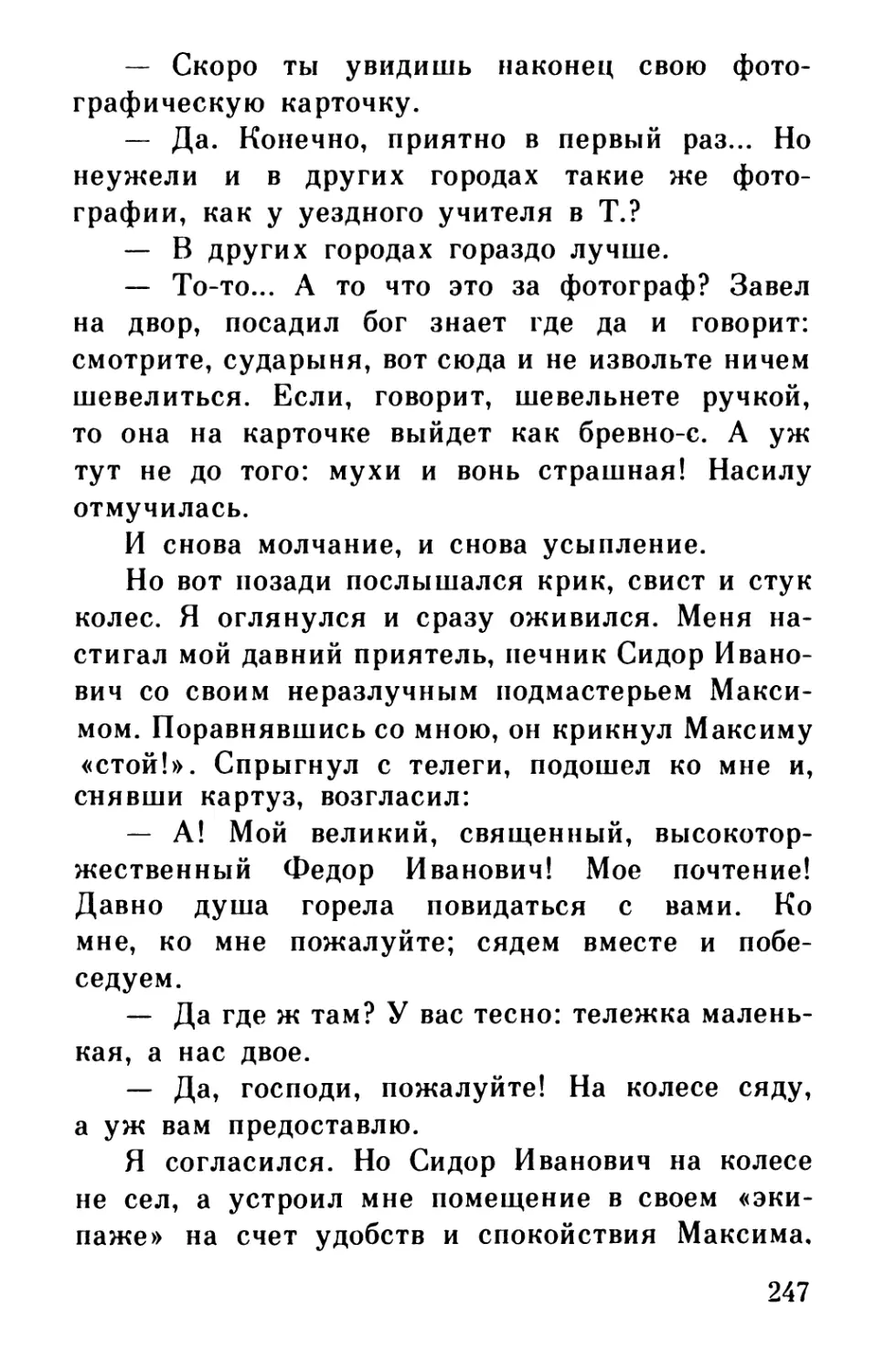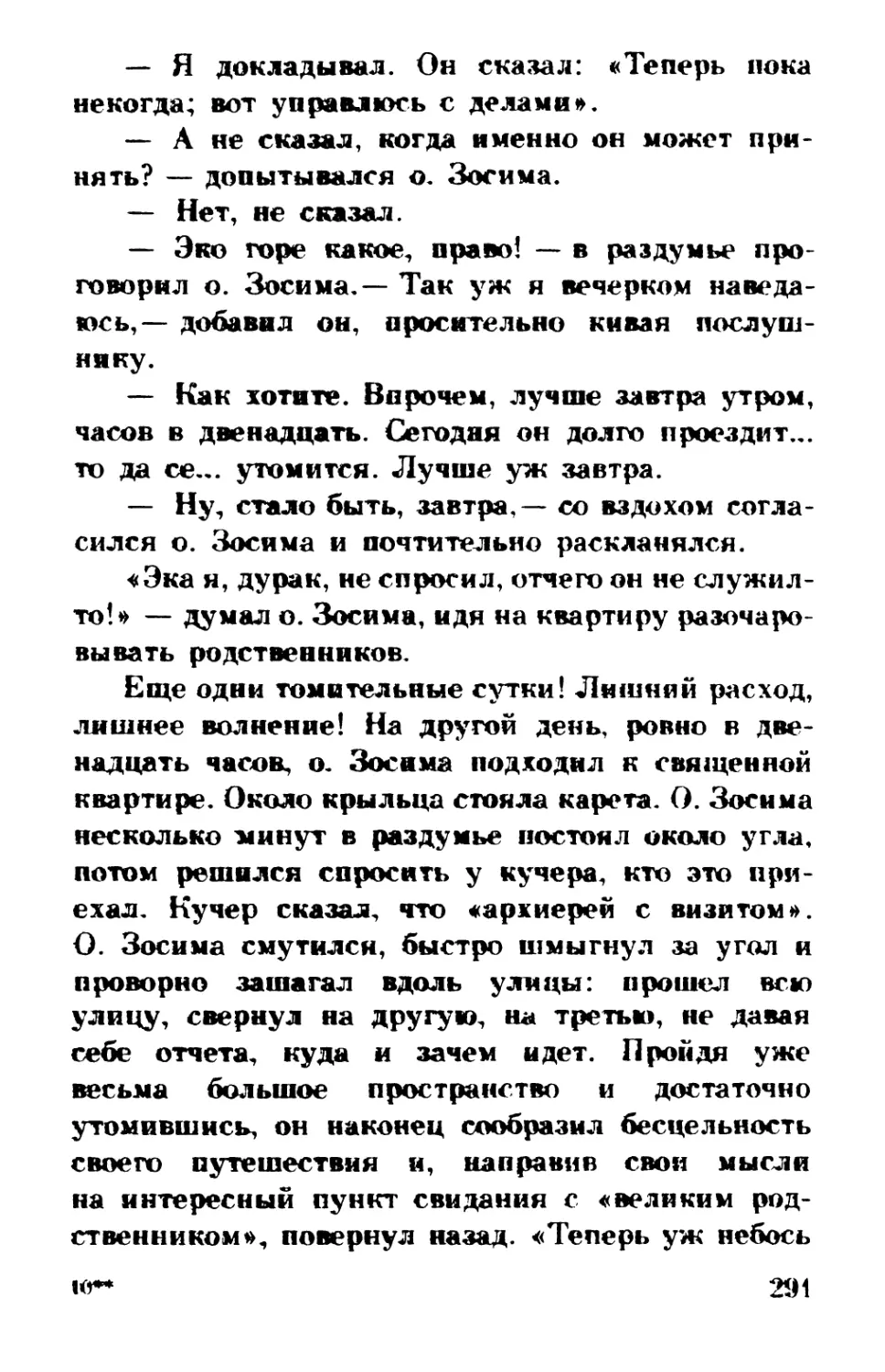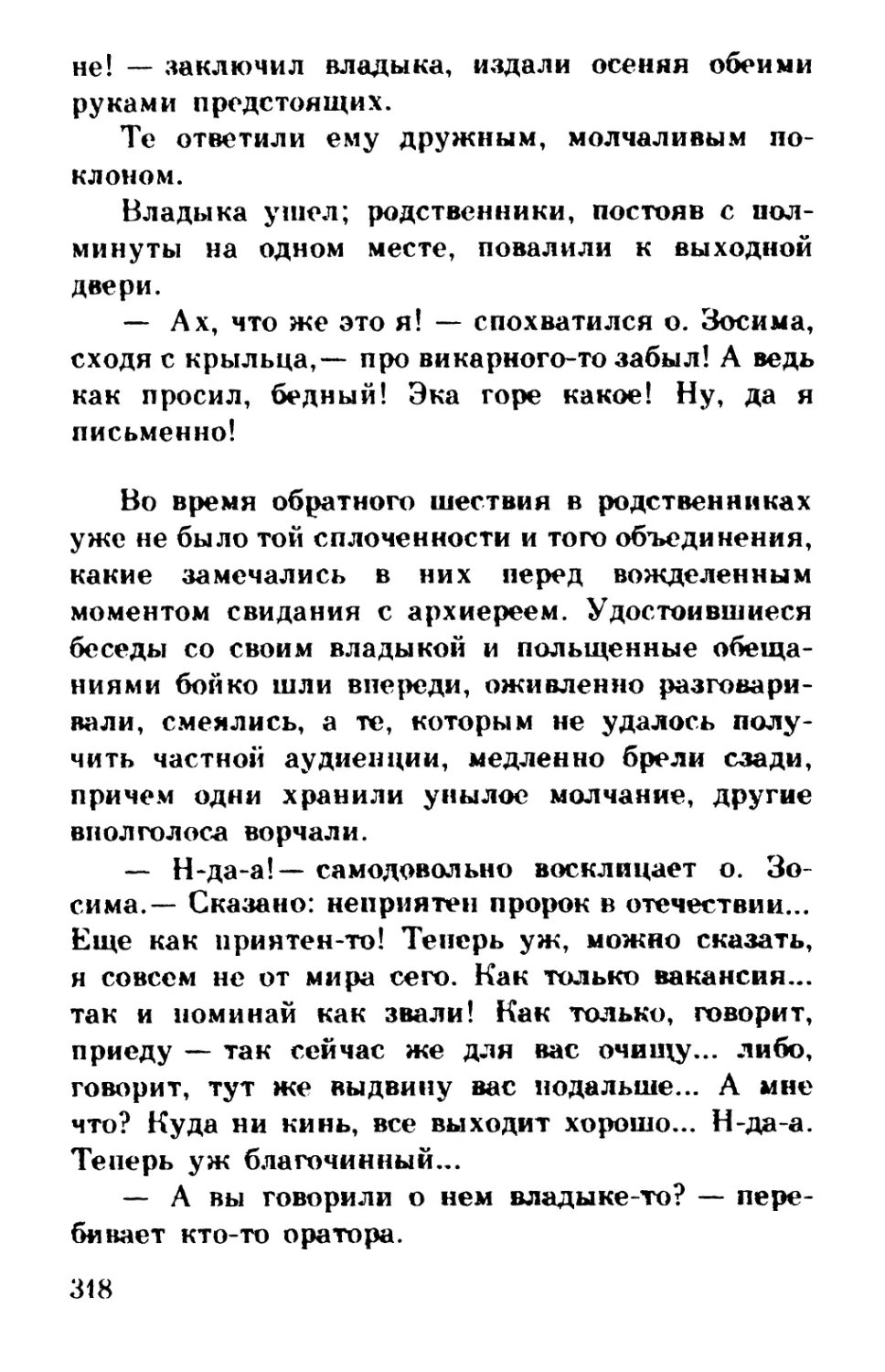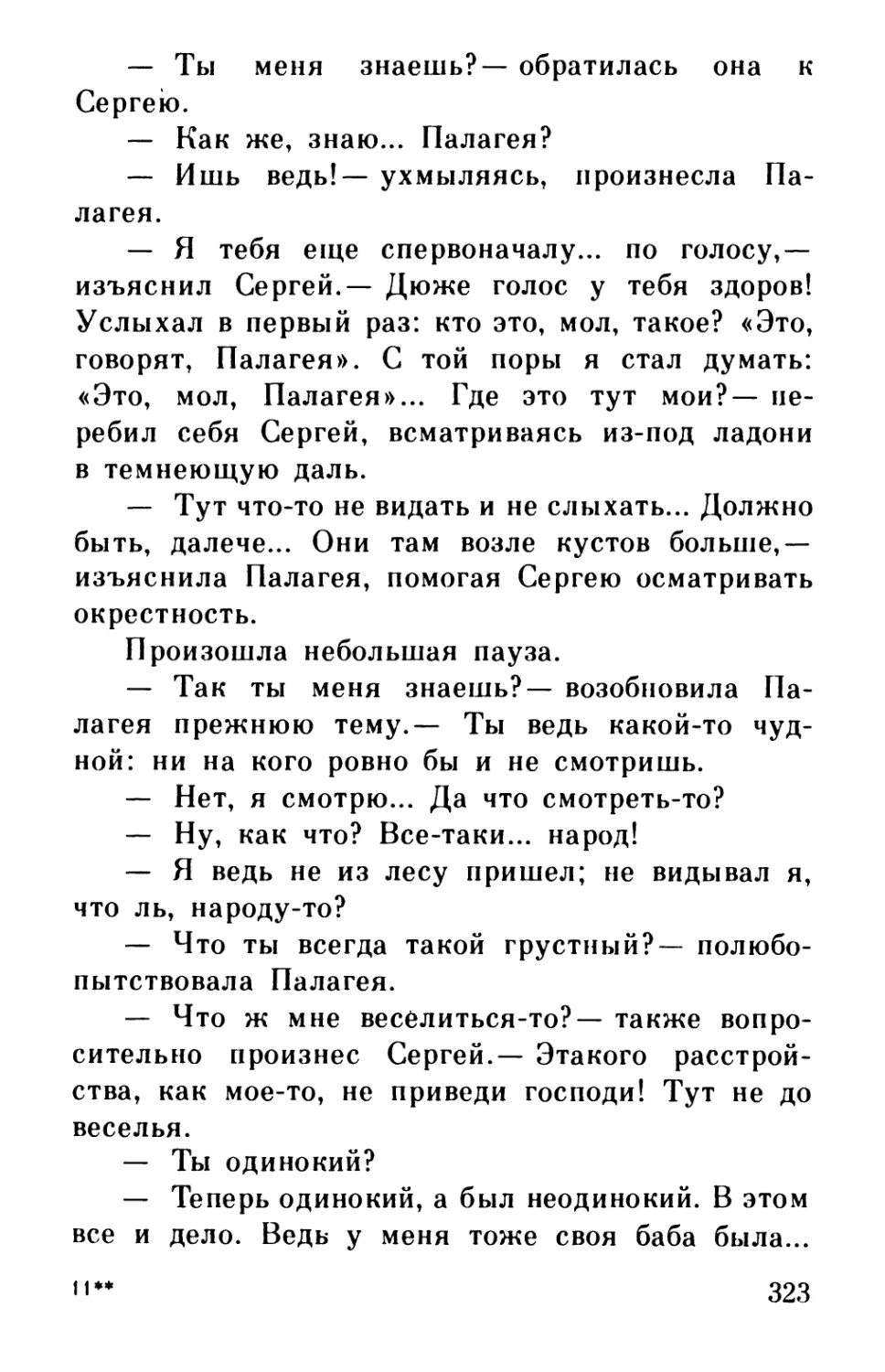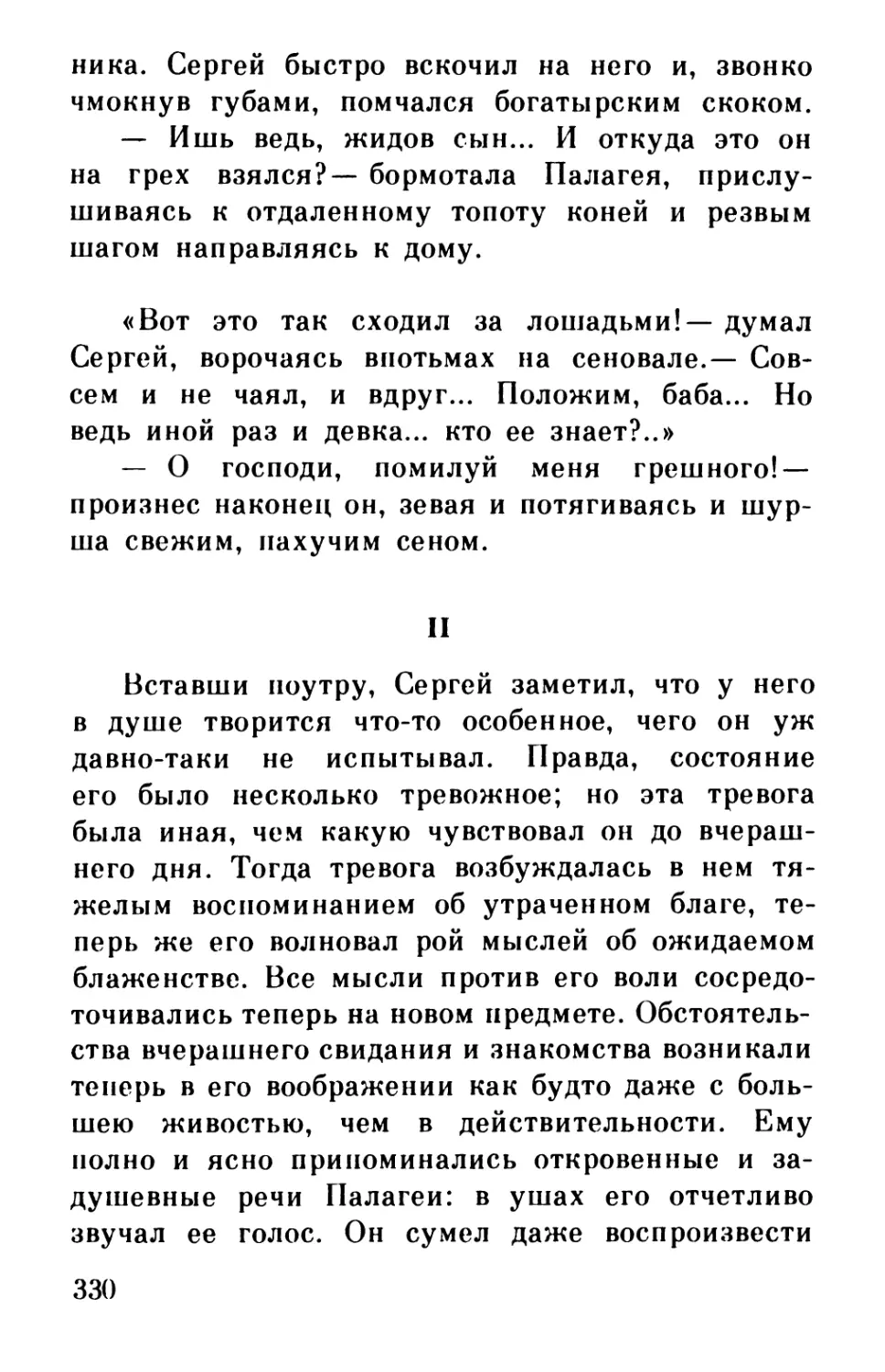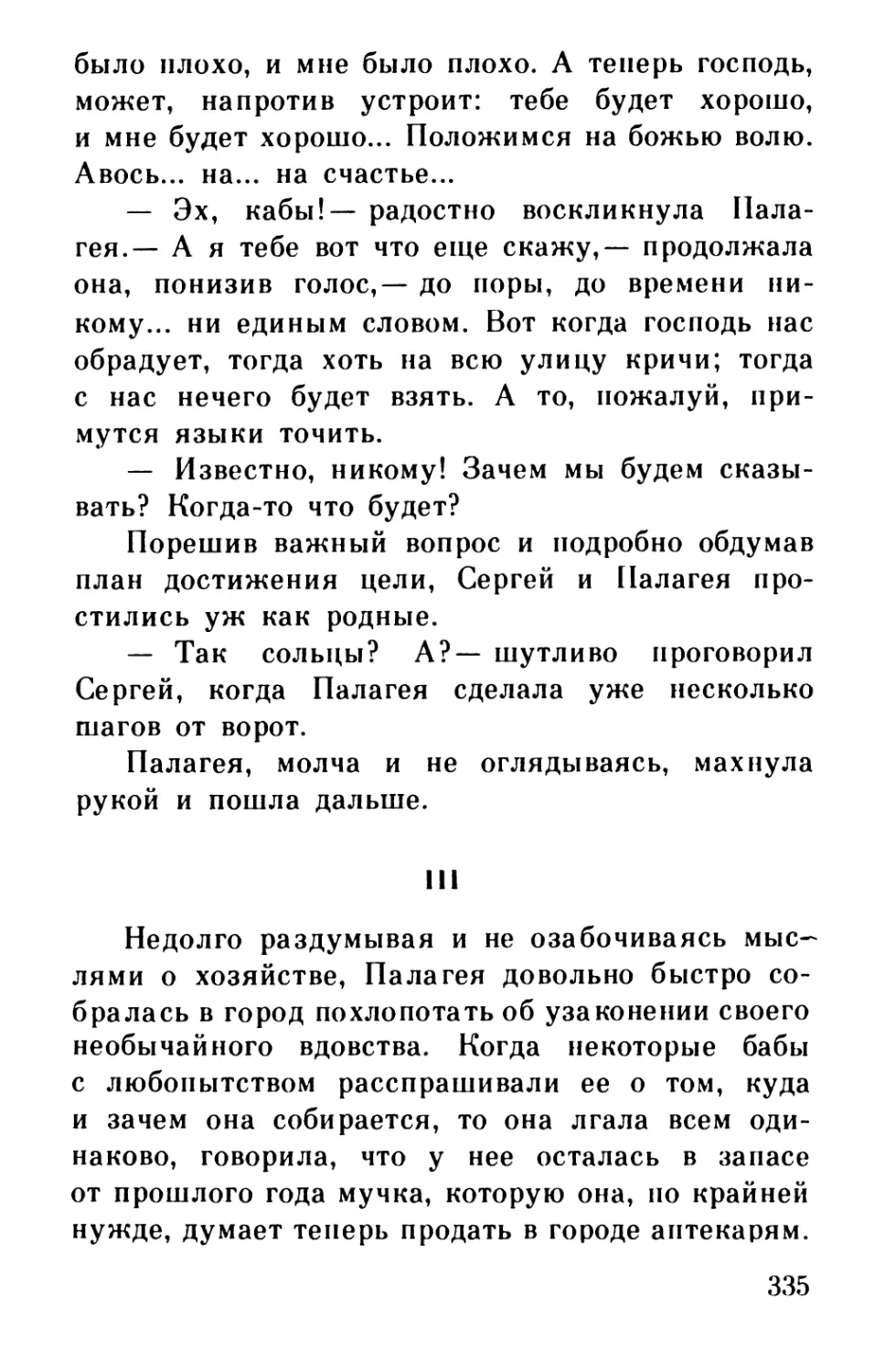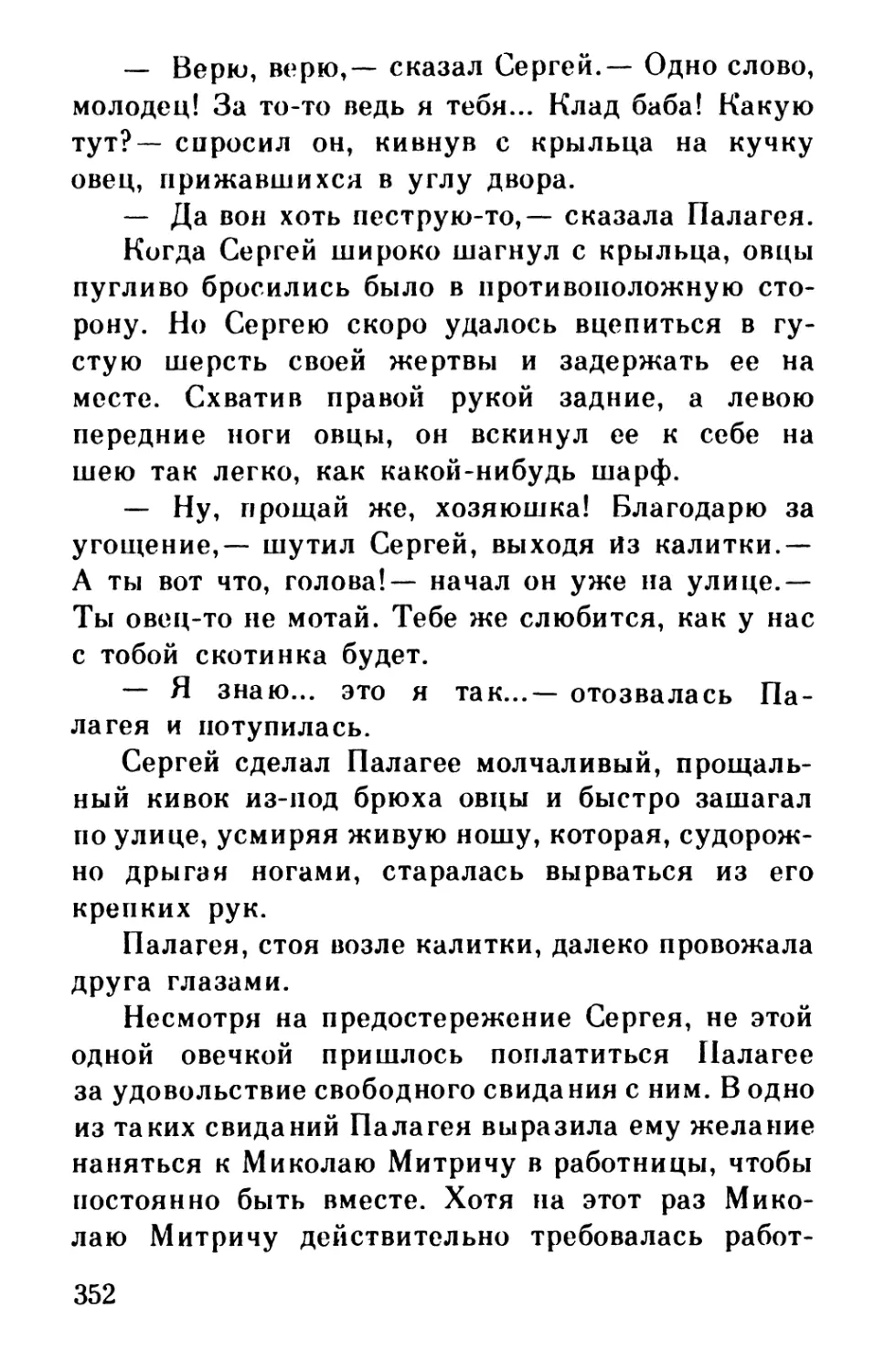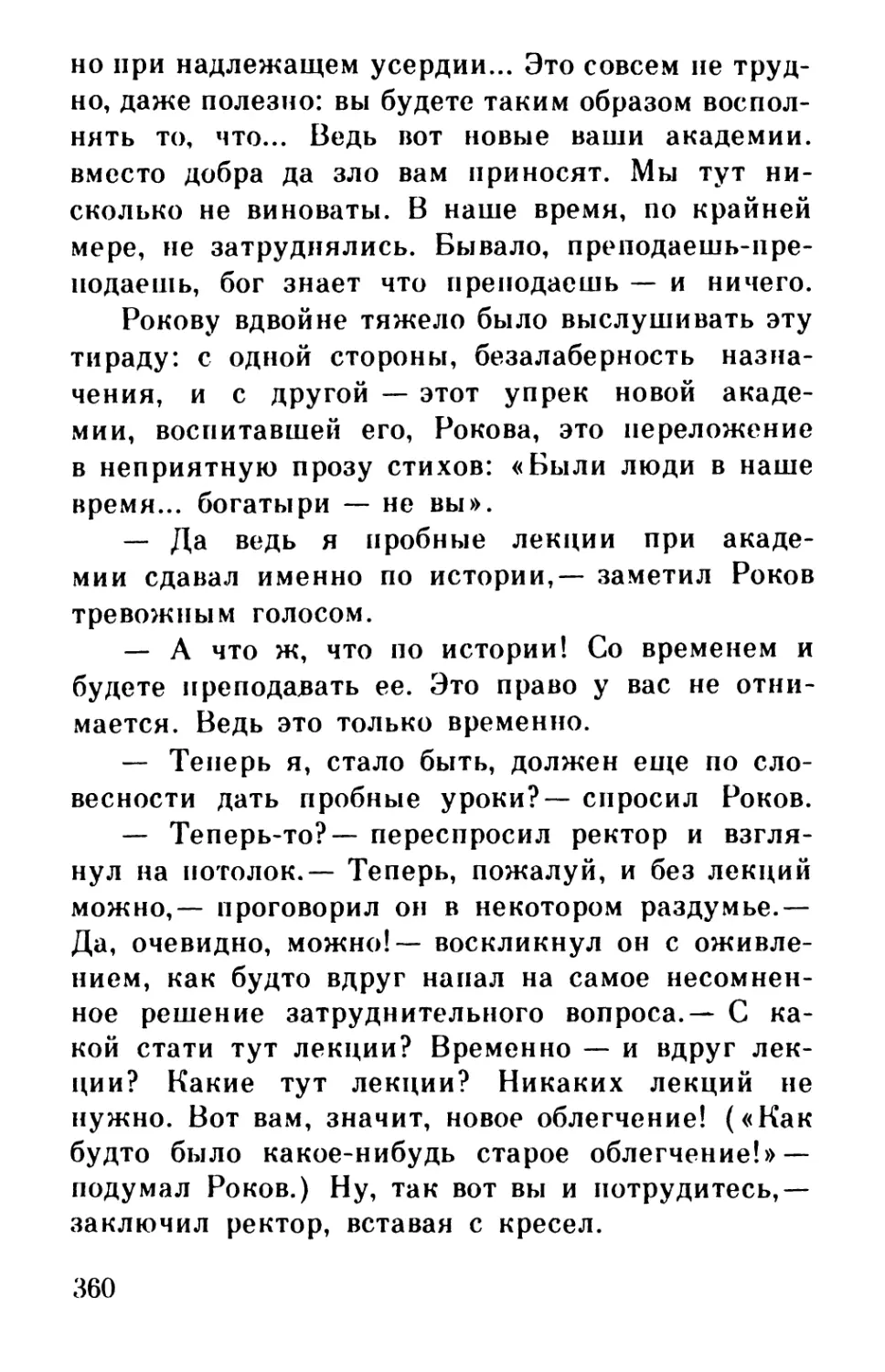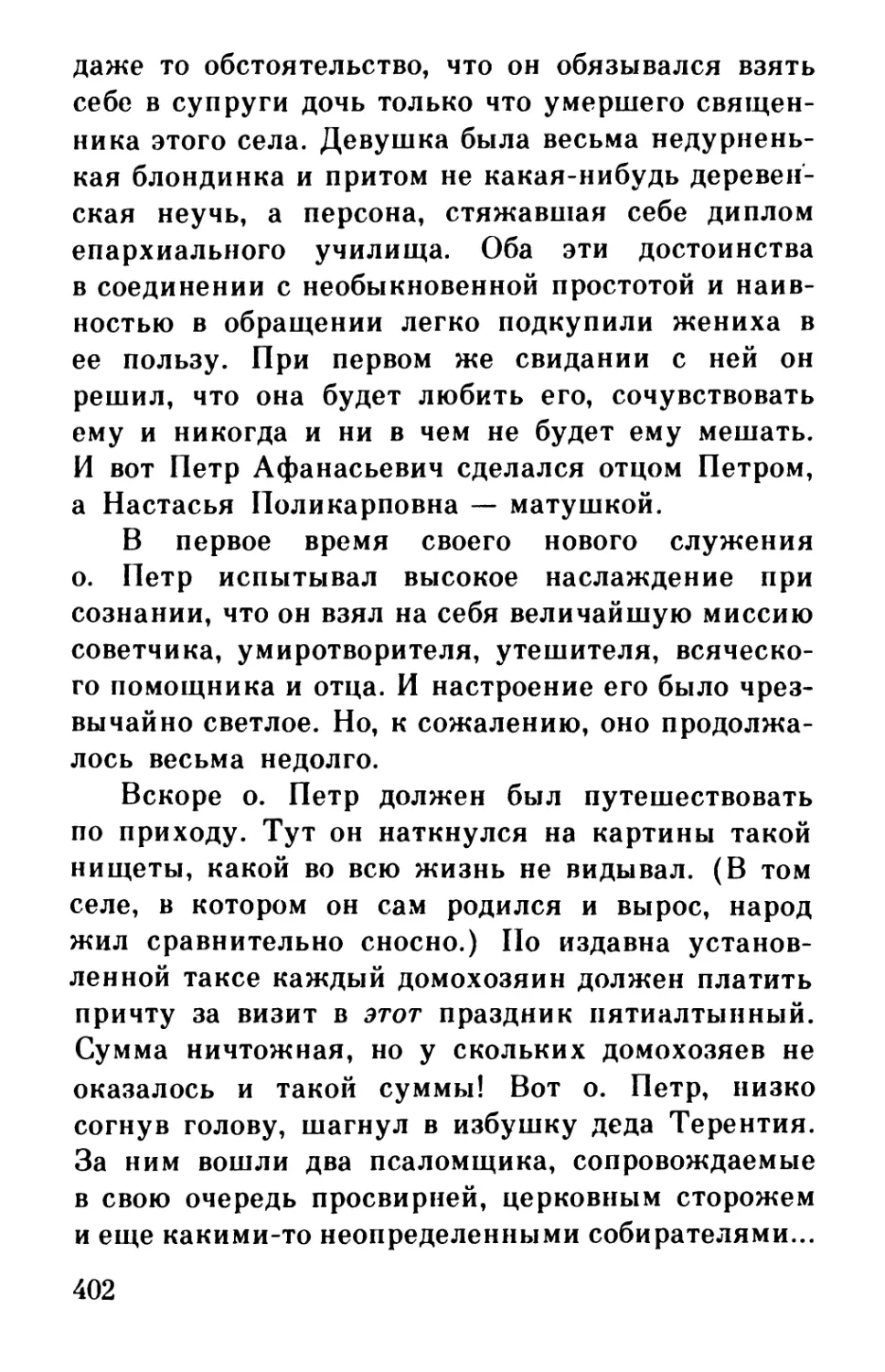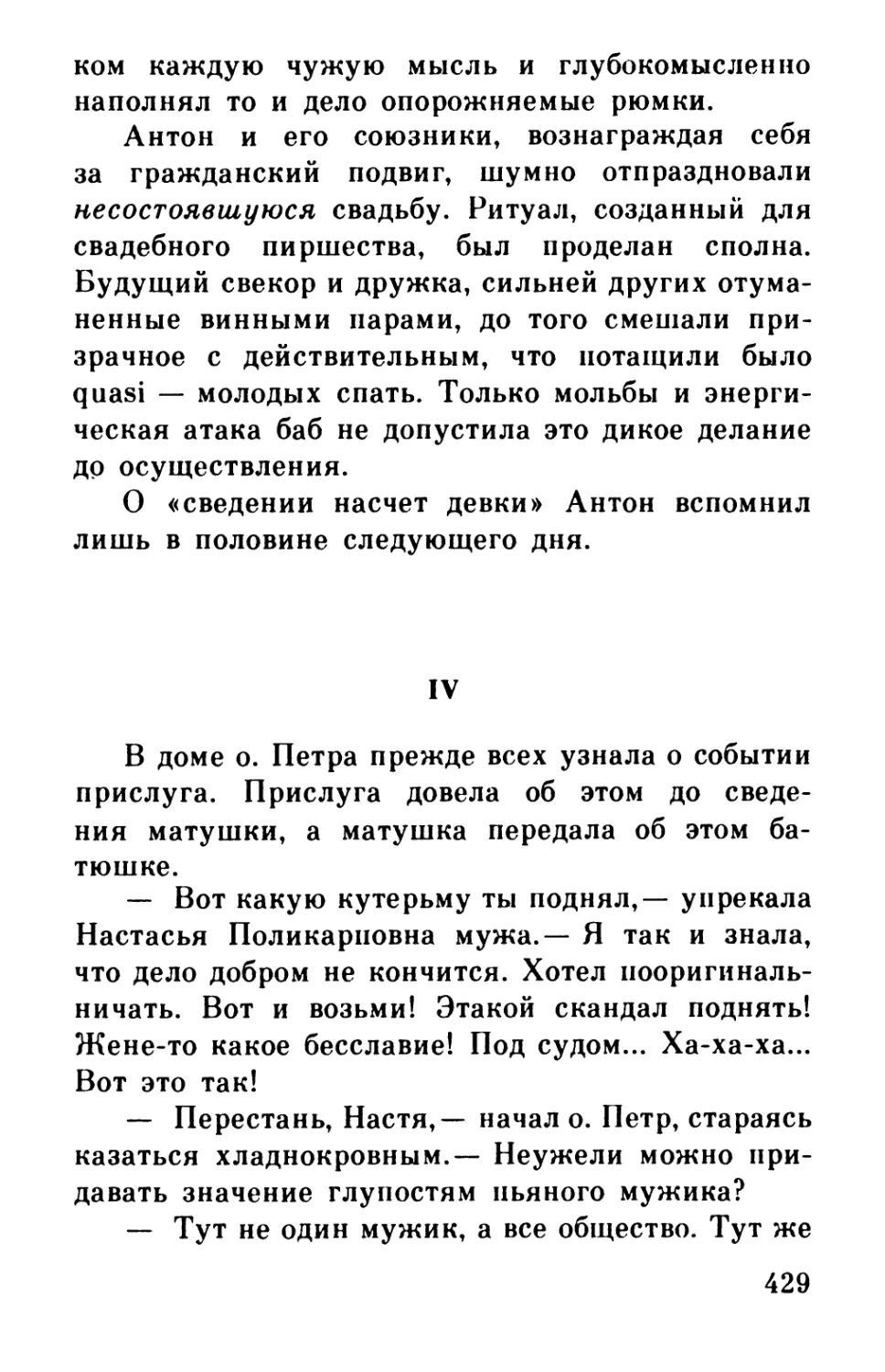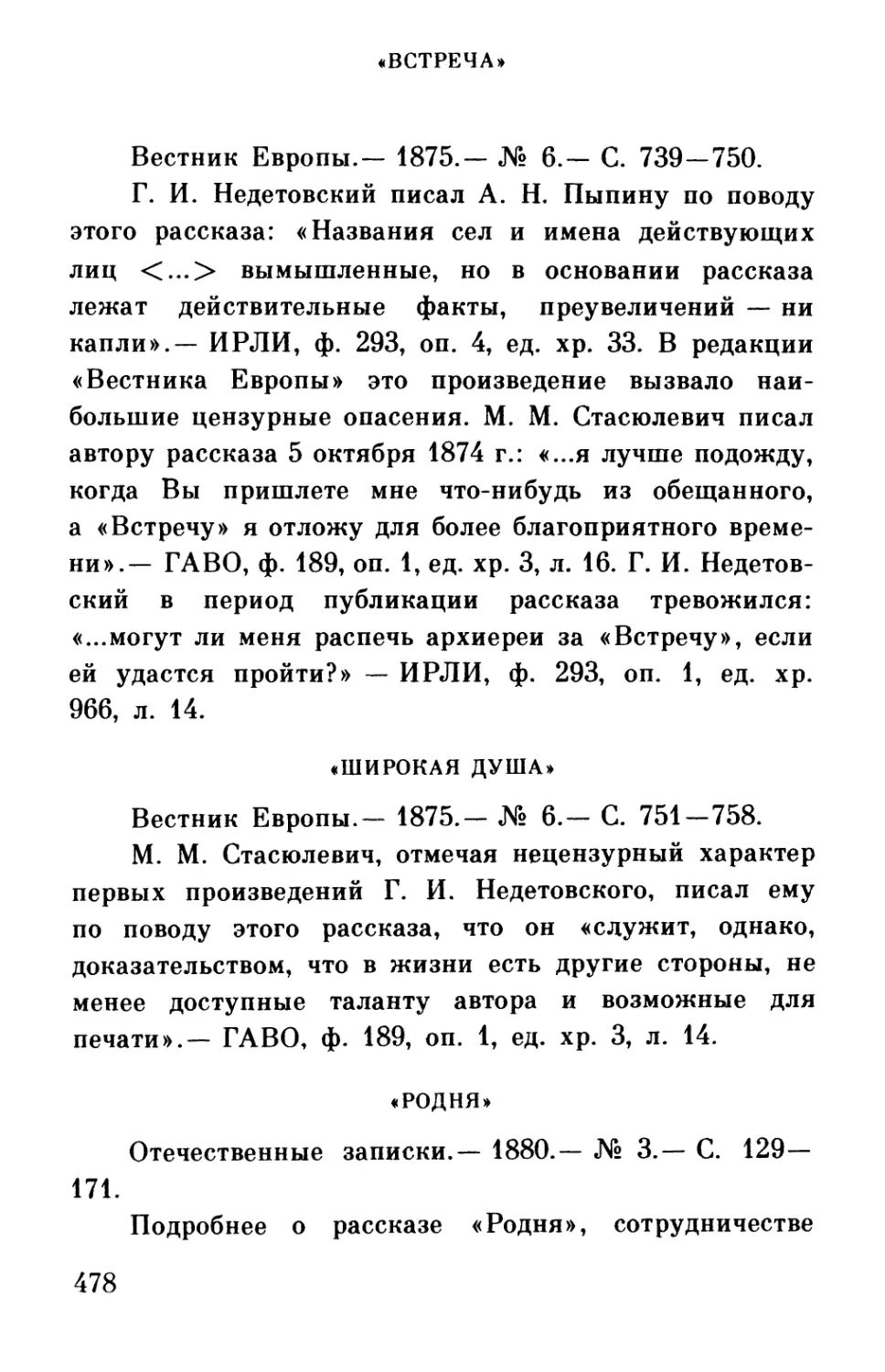Автор: Кузнецов В.И.
Теги: русская литература художественная литература
ISBN: 5—268—00392—5
Год: 1988
Текст
МИРЛЖИ
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА АТЕИСТА»
Москва
«Советская Россия»
1988
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА АТЕИСТА»
МИРАЖИ
Москва
«Советская Россия»
1988
Pl
M63
Составление, подготовка текстов,
вступительная статья и примечания
кандидата филологических наук,
члена Союза писателей СССР В. И. Кузнецова
Художник А. В. Денисов
Миражи/Сост., подготовка текстов,
М63 вступ. ст., примем. В. И. Кузнецова.—
М.: Сов. Россия, 1988.— 480 с.—
(Худож. и публицист, б-ка атеиста).
В книгу вошли произведения писателей XIX века: «Днев-
ник семинариста» И. С. Никитина, отрывок из повести «Мира-
жи» и рассказы Г. И. Недетовского (О. Забытого).
Повесть «Миражи», созданная на основе впечатлений
Недетовского от службы в духовной семинарии, является свое-
образным логическим продолжением «Дневника семинариста»
Никитина.
Антиклерикальная направленность творчества писателей,
их нравственные искания, яркие реалистические картины жиз-
ни России XIX века вызовут интерес широкого круга чита-
телей.
м 4702010100-159 175_88 Р1
М-105(03)88
ISBN 5—268—00392—5
© Издательство «Советская Россия», 1988 г.
АНТИКЛЕРИКАЛЬНАЯ ПРОЗА
ПИСАТЕЛЕЙ-ДЕМОКРАТОВ
Художественное слово и церковь чаще всего в Рос-
сии враждовали. В разные исторические периоды проти-
востояние писателей официальному православию носило
различный характер — от робкого сомнения и почти-
тельного спора до отчаянного бунта. В 60—80-е годы
XIX века, в эпоху нарастания революционно-демокра-
тического разночинского движения, этот антагонизм
приобрел особенное социально-нравственное звучание.
В натиске на ветшающие крепости духовенства участ-
вовали многие общественные силы. Художникам слова
в этой борьбе принадлежит заметная роль. Одни литера-
торы выступали смело и сознательно, другие противо-
речиво и трудно подходили к сложной теме, не сразу
расставаясь с идеалистическими миражами. К послед-
ним относятся писатели-демократы Иван Саввич
Никитин (1824—1861) и Григорий Иванович Недетов-
ский (псевдоним О. Забытый) (1846—1922).
Объединение в одной книге произведений известно-
го поэта и малоизвестного беллетриста может показать-
ся произвольным. Но это не так. Недетовский-Забытый,
представитель литературы 70—80-х годов, унаследовал
от Никитина и всей отечественной словесности 60-х го-
дов ее критическо-реалистический пафос и здоровое
демократическо-просцетительское начало. Он высоко
ценил талант Никитина, не раз упоминал его в своих
повестях и рассказах; как член специальной комиссии,
энергично содействовал открытию в 1911 году памятни-
ка поэту, как педагог, активно пропагандировал его
творчество среди учащейся молодежи. Недетовского
5
привлекала реалистическая сила никитинских произве-
дений, «выраженных в чудесной поэтической форме»1.
Антиклерикальную повесть О. Забытого «Миражи»
правомерно сопоставить с «Дневником семинариста»
Никитина, тем более что обе эти вещи написаны на
одном и том же воронежском материале.
В судьбе художников, биографически связанных с
Воронежским краем, есть мировоззренческая, стилевая
и житейская перекличка. Наконец, эти два честных
голоса из глубинной провинциальной России колоритно
повествуют о различных сторонах антиклерикального
мира...
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ БУРСЫ
Широкому читателю известен Никитин — патриот,
автор знаменитой «Руси», художник крестьянской скор-
би, написавший «Пахаря» и многие другие реалисти-
ческие народные были, мастер неброских среднерусских
пейзажей, среди которых особенно проникновенно зву-
чит его «Утро» («Звезды меркнут и гаснут...»).
Новаторской явилась поэма Никитина «Кулак»,
в которой с большой эпической силой была раскрыта
тема нравственной гибели «маленького человека» в об-
ществе угнетения и несправедливости. Решительный
поворот поэта к социально-гражданской проблематике
приветствовал Н. А. Добролюбов; Н. А. Некрасов при-
глашал своего собрата по перу к сотрудничеству в «Сов-
ременнике», признавая тем самым родственный демо-
кратический пафос его творчества.
Все, что ни делал Никитин — писал ли стихи о
1 Государственный архив Воронежской области (далее — ГАВО),
ф. 189, он. 1, ед. хр. 7.
6
мужицкой доле и «презренном тиранстве», пропаганди-
ровал ли книги в провинции, бился ли с нуждой, болез-
нями и тупым мещанством,— все было им глубоко
выстрадано.
Повесть «Дневник семинариста» — его последнее
произведение, духовное завещание замечательного
поэта. Иван Саввич рассказывал, что, когда он закончил
свою «лебединую песню», у него горлом пошла
кровь...
Никитинский «Дневник семинариста» по недоразу-
мению значится на периферии литературы 60-х годов
XIX века. Тому есть объяснения. Во-первых, «Дневник»
появился в провинциальной «Воронежской беседе на
1861 год», что, конечно, ограничивало знакомство с ним
современников, во-вторых, известность Никитина-поэта
явно заслоняла известность Никитина-прозаика, в-треть-
их, актуальная когда-то, но узко понимаемая проблема
бурсацкого образования и воспитания позже уступила
место другим общественно важным вопросам, наконец,
в свое время немало «поработала» вульгарно-социоло-
гическая критика, обвинившая писателя во многих
«грехах» и надолго «отлучившая» его от передовой
литературы.
Чтобы лучше понять «Дневник семинариста», не-
обходимо напомнить биографию автора этой исповеди.
Судьба уготовила Никитину пастырское поприще,
на котором подвизались многие его родственники, в том
числе дед и прадед, тянувшие дьячковскую лямку в за-
холустном сельце Елецкого уезда. Правда, отец поэта,
Савва Евтеич (Евтихиевич.— В. К.), сумел «выбиться
в люди», завел собственный свечной заводик и прибыль-
но промышлял «божецким» товаром в Воронежской
губернии.
7
Запах воска, ладана, «жития святых», мерцающий
свет лампадки, возле которой часто истово молилась
мать, Прасковья Ивановна, окружали будущего поэта
с младенчества. Любознательный мальчик начатки
грамоты получил у караульщика отцовского предприя-
тия, от него же он услышал первые пленившие его
чудесами сказки.
«Батенька» не мудрил с выбором дороги для сына
и отдал его в Воронежское духовное училище, куда
Никитин ходил в 1833—1839 годах. Позже поэт никогда
не вспоминал эту пору своей жизни — до того она была
тяжкой и постылой. В «Дневнике семинариста» он лишь
вскользь коснулся диких нравов в училище, но и этого
достаточно, чтобы представить, какие муки он вы-
нес...
Двухэтажное каменное холодное здание Воронеж-
ского духовного училища располагалось рядом с извест-
ным своими «таинствами» Митрофановским монасты-
рем, куда стекались паломники со всех концов России.
Окна нижнего этажа училища были забраны толстыми
железными решетками, напоминавшими тюрьму. Да
это, по сути, и была тюрьма.
Поступивший в Воронежскую бурсу одновременно
с Никитиным Иван Лебединский, позже известный как
Московский митрополит Леонтий, писал: «...жестоко
наказывали розгами неисправных, а стояние на коле-
нях за партой или у порога было обычно. Обращение
с учениками было вообще суровое и часто бестактное»1.
Тот же мемуарист, которого никак не заподозришь в
антиклерикализме, вспоминал горе-наставников: лживо-
го, с иезуитскими манерами латиниста Игнатия, вздорно-
' Богословский вестник.— 1913.— Сентябрь.— С. 144.
8
раздражительного учителя греческого языка о. Феофи-
лакта, тупого преподавателя церковного устава С. П. Ку-
тепова. Последний частенько появлялся в классе пьяным
и куражился над бедными «кутейниками», в том числе
и над будущим митрополитом, а иногда и давал волю
рукам; любимым изречением этого «педагога» было:
«К порогу!» В «Дневнике семинариста» мы встречаем
подобный тип, не исключено, что, может быть, как раз
Кутепов и послужил прообразом дикого наставника.
Правда, были среди учителей редкие исключения
вроде инспектора Е. Г. Светозарова, отличавшегося
ясным умом и добрым нравом, но они лишь контрастно
подчеркивали общую гнетущую обстановку. Священник
В. О. Гурьев, поступивший в Воронежское духовное
училище в 1841 году, рассказывал: «Случится /.../ по-
явится в коридоре кто-либо из наших учителей /.../ и мы
шарахаемся в разные стороны, чисто как овцы, зави-
девшие волка. Такой неотразимый ужас наводил на нас
один вид всякого учителя...»1
Условия быта будущих «слуг божьих» были нестер-
пимы: теснота страшная (в одном небольшом помеще-
нии до 100 человек), грязь непролазная, духота адская
летом и невыносимый холод зимой. Упомянутый выше
Лебединский свидетельствовал: «В классе у нас в самые
лютые морозы не топили, холод заставлял мальчиков
бить сапог о сапог, чтобы согреть ноги /.../. Руки до
того зябли у нас, что нельзя было писать, перо валилось
из рук от холоду» 2. Дабы согреться, бурсаки затевали
шумные потасовки, а на переменах даже и кулачные
бои.
1 Странник.- 1879.- Т. 4,- Кн. 11,- С. 258.
2 Богословский вестник.— 1913.— Сентябрь.— С. 145.
9
Система учебы отличалась бездумной зубрежкой,
поощряемой строгими дисциплинарными мерами. За
«долбежкой» следили специальные «авдиторы» из числа
наиболее твердолобых учеников, а за порядком — «цен-
зоры», маленькие классные деспоты и вымогатели.
Знавший эту сторону жизни Никитина журналист и
издатель А. С. Суворин писал, что «ученье то было
довольно бестолково», а наставники приучали мальчи-
ков постигать мертвую букву, «сплошь и рядом не пони-
мая того, что болтал их детский ум»1. Если собрать
вместе все воспоминания о воронежской бурсе (как,
впрочем, и о других), получится жуткая картина.
В одном из стихотворений Никитин с горькой
иронией писал:
Ох, знаком я с этой школой!
В ней не видно перемен:
Та ж наука — остов голый,
Пахнет ладаном от стен.
Искони дорогой торной
Медных лбов собор покорный
Там идет бог весть куда,
Что до цели за нужда!
Знай — долби, как дятел смело...
Жаль, работа нелегка:
Долбишь, долбишь, кончишь дело —
Плод не стоит червяка.
И в заключение поэт надеется:
Но авось пора настанет —
Бог на Русь святую взглянет,
Благодать с небес пошлет —
Бурсы молнией сожжет!
1 Хрестоматия: Сборник статей по разным предметам.— Вып.
2-й.— М., 1862.- С. 151.
10
Сохранились училищные ведомости и некоторые
другие архивные материалы, сухо рассказывающие о
том, как постигал «Иван Никитин 2-й» церковные и
прочие премудрости. Полугодичная ведомость 1836/37
учебного года сообщает: «Поведения кроткого. Способ-
ностей очень хороших. Прилежания ревностного. Успе-
хов очень хороших»1.
В основном прилежный и послушный был ученик,
хотя изредка мелькают настораживающие строчки:
«...нотное пение не умеет», «Церковный устав не знает»
и т. п.
В 1839—1843 годах Никитин продолжил образо-
вание в Воронежской духовной семинарии, которая
к тому времени имела уже почти вековую историю.
Когда-то она могла похвалиться своими профессорами:
в конце XVIII века здесь преподавал известный учеными
трудами и культурными начинаниями Е. А. Болхови-
тинов, в 20—30-е годы XIX века славились хорошей
репутацией философы А. Д. Вельяминов и П. И. Став-
ров. Последний был учителем поэта-семинариста
А. П. Серебрянского, автора трактата «Мысли о музыке»,
восхитившего В. Г. Белинского, и популярной студен-
ческой песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни...»
В ту пору, когда в семинарии учился Никитин, еще живы
были восторженные воспоминания о литературном
кружке Серебрянского, который посещал его друг поэт
А. В. Кольцов (кстати, в 1838 году окончил Воронеж-
скую семинарию брат Серебрянского — Василий, хра-
нивший у себя переписку поэтов). Но, кроме преданий,
'Олейников Т. М. Никитин по архивным документам
Воронежского духовного училища//Воронежская литературная бесе-
да.— Воронеж, 1925.— С. 44.
11
мало что отрадного сохранилось в атмосфере этого
учебного заведения. По указу 1838 года семинарский
курс был изуродован нелепыми поповскими преобразо-
ваниями. «Все, что несогласно с истинным разумом
св. Писания,— гласило новое установление,— есть
сущая ложь и заблуждение и без всякой пощады должно
быть отвергаемо»1. Еще один клерикальный удар духов-
ным семинариям, в том числе и Воронежской, нанесла
в 1841 году так называемая протасовская реформа2, из-
гонявшая из учебной программы остатки светского об-
разования и утверждавшая то, что соответствовало, по
мысли ее устроителей, «истинной религии». Именно
в такой-то мрачный период и пребывал в семинарии
Никитин.
Поначалу у него еще хватало терпения учиться
сравнительно хорошо, но в философском классе он совер-
шенно охладел к богословской схоластике: на уроки
св. Писания вообще не являлся, по ряду предметов
имел «недостаточные» оценки, а по библейской истории
даже «ноль». Других сведенйй об учебе Никитина не со-
хранилось, а сам он об этом никогда не вспоминал. Лишь
по случайным автобиографическим запискам можно
фрагментарно восстановить картину его жизни того
времени. А она мало чем отличается от училищной —
разве тем, что семинаристов пороли меньше и внешнего
приличия было больше, а в остальном — та же «долбня»,
монастырская дисциплина, удушающая атмосфера
(в прямом и переносном смысле).
Не сулили радостей и встречи с преподавателями.
1 Никольский П. История Воронежской духовной семи-
нарии,— Ч. I,— Воронеж, 1898,— С. 150.
2 Названа по имени Протасова Н. А,— русского государствен-
ного деятеля. В 1839 г. провел реформу духовно-учебных заведений.
12
В 1842—1843 годах семинарию возглавлял Стефан Зе-
лятров, немощный, почти в паралитическом состоянии
старичок. Многие подчиненные ему учителя были
умственные или нравственные уродцы: один беззастен-
чиво брал взятки с учеников, другой беспробудно пьян-
ствовал, третий отличался дремучим невежеством. Даже
лучшие, по мнению мемуаристов, наставники имели
свои пороки. И. А. Мишин, человек, в общем, порядоч-
ный и по-своему несчастный, вел математику, в которой
ничего не смыслил. В. П. Остроухое, лектор не из
худших, читал философию, от которой в головах семина-
ристов мало что оставалось.
Оговоримся: будет несправедливым сказать, что
в духовной семинарии служили исключительно без-
грамотные люди. Находились и праведники, отдававшие
много сил просвещению молодежи.
Среди таких — учитель словесности Н. С. Чехов,
заметивший любовь Никитина к поэзии, тягу к стихо-
творчеству, одобривший его первые творческие шаги.
Чехов рекомендовал Никитину лучшие образцы русской
литературы.
В 1843 году Никитин был уволен из семинарии
«за малоуспешность по причине нехождения в класс».
Вскоре умерла мать, дела отца, запившего горькую, по-
шли все хуже и хуже, и Никитин, облачившись в мужиц-
кое платье, стал торговать разной мелочью на базаре, а
потом хозяйничать на постоялом дворе. По ночам он
писал стихи.
Раннее творчество Никитина носило подражательно-
романтический характер. В его стихах явно слышны от-
звуки поэзии Пушкина, Лермонтова, Кольцова. Главный
мотив стихотворца — красота в природе, поиски
призрачного идеала. Но уже в неокрепшем голосе
13
начинающего лирика пробивались реалистические
ноты.
Формирование социально-художественных убежде-
ний поэта происходило сложно и противоречиво. В Во-
ронеже вокруг него шла жесткая скрытая борьба в мест-
ном историко-культурном кружке, душою которого
был человек больших знаний и доброго сердца Н. И. Вто-
ров. Он и другие демократически настроенные знакомые
Никитина призывали его к активным выступлениям
в защиту народных интересов; представители либераль-
но-славянофильского и эстетского лагеря (А. П. Норд-
штейн и др.) тянули поэта в область «вечной» красоты
и абстрактно понимаемой морали.
Со временем никитинская муза все более отчетливо
приобретает гражданские черты, смело поворачиваясь
к насущным проблемам современности. Приятель поэта
М. Ф. де Пуле по этому поводу писал: «Никитин был
с самой ранней юности мучеником гражданственности,
социальности, горячего желания принести своею лите-
ратурной деятельностью общественную пользу...»1
Однако дореволюционные толкователи творчества
Никитина дружно отводили ему роль смиренного
послушника, ссылаясь прежде всего на его ранние сти-
хотворения, действительно дававшие определенные
основания для таких выводов. Например, К. Н. Леонтьев
писал, что поэту вообще присуще «чувство религиозного
воодушевления», что он имел «божественную способ-
ность к молитвенным восторгам»2. Особенно усердство-
’Пуле де М. Воспоминания о Никитине.//Воронежские
губернские ведомости.— Часть неофициальная.— 1863.— № 12.—
С. 100.
2 Воронежские епархиальные ведомости.— Часть неофициаль-
ная.- 1911.- № 8.- С. 248.
14
вали на этот счет «Воронежские епархиальные ведо-
мости». Позже подобную точку зрения на свой лад
развивали другие «специалисты». В 1913 году в Саратове
даже вышла книжечка М. М. Степанова «Религия
И. С. Никитина». О последней брошюре, как и о других
дореволюционных работах подобного рода, можно ска-
зать лишь одно: в них мировоззрение Никитина рассмат-
ривалось как застывшее, раз и навсегда выработанное.
Меж тем оно находилось в движении от покорности
«всевышнему» до глубокого сомнения в идеалисти-
ческих началах.
В 1856 и 1859 годах вышли сборники стихотворений
Никитина, показавшие рост мастерства и заметную
эволюцию общественно-эстетических взглядов автора.
Но наметилась она еще раньше, уже в пору блужда-
ний Никитина в сфере «вечных» вопросов бытия. Харак-
терно в этом отношении стихотворение с символиче-
ским названием «Перемена» (1849):
Была пора невинности счастливой,
Когда свой ум тревожный и пытливый
Я примирял с действительностью злой
Святых молитв горячею слезой;
Когда, дитя беспечное свободы,
В знакомых мне явлениях природы
Величие и мысль я находил
И жизнь мою, как дар небес, любил.
Теперь не то: сомнением томимый,
Я потерял свой мир невозмутимый —
Единую отраду бытия,
И жизнь моя не радует меня...
Почувствовав в обращении к религиозной теме дух
противоборства, духовная цензура запретила стихотво-
рение «Моление о чаше» (1854). Слова «День казни
близок: он придет,— На жертву отданный народу, Твой
15
сын безропотно умрет, Умрет за общую свободу...»
воспринимались не как божественные откровения, а
как призыв к борьбе с земным злом. Примечательно то,
что Никитин заранее предвидел недовольство чиновни-
ков в рясах и снабдил «Моление о чаше» «Замечаниями»,
в которых показал себя не только знатоком Евангелия,
но и автором, не довольствующимся церковными
догматами.
Правда, шелуха семинарского начетничества слетела
с него не сразу. Процессу отрезвления помогло знаком-
ство с лучшими образцами отечественной и зарубежной
словесности — писателей-декабристов, Пушкина, Гого-
ля, Лермонтова, Шиллера, Гейне, но особенно притяга-
тельным был, по его мнению, «Свет ты наш Белин-
ский!». М. Ф. де Пуле подтверждал: «Никитин возмужал
и воспитался под влиянием Белинского»1.
Его мысль двигалась явно в материалистическом
направлении через осознание природы, общества и
человека.
Недаром он провозглашал: «...Мать моя, друг и
наставник — природа...» Такое настроение противостоит
ощущениям ранних русских романтиков, видевших в
природе непостижимую тайну. Не случайно поэт отрицал
эстетику В. А. Жуковского, «который почти во всю
жизнь ездил на чертях и ведьмах, оставляя в стороне
окружающий его мир...» (из письма к А. А. Краев-
скому от 20 августа 1856 г.)
Что касается восприятия Никитиным общественного
устройства» то оно шло от примирения с «грязной»
действительностью др решительного призыва к ее корен-
1 Пуде де М. <1Х Сведения о, жизни и. деятельности И. С. Ни-
китина//Русский архив.— 1863.— № 5—6,— С. 458;
16
ной ломке — достаточно вспомнить его «Падет презрен-
ное тиранство...» и другие бунтарские стихи. Согла-
симся, что религиозное смирение не способно привести
к такому неприятию бытия.
Наконец, о религии и человеке в никитинской
философии. Проблема слишком громадна, чтобы ее ре-
шить мимоходом, но высветить главное возможно. В этом
плане примечательно признание поэта А. Н. Майкову
25 марта 1856 года: «Помните ли, в своем последнем
письме ко мне Вы, между прочим, выразились так:
старайтесь выработать в себе внутреннего человека. Ни-
когда никакое слово так меня не поражало! До сих
пор, когда я готов поскользнуться, перед моими глазами,
где бы я ни был, невидимая рука пишет эти огненные
буквы: постарайтесь выработать в себе внутреннего
человека» (выделено Никитиным,— В. К.). Мысль
о нравственном самосовершенствовании личности станет
для него одной из излюбленных, спустя более двух лет
он настойчиво повторит ее в письме к Второву, по-
сетовав: «Общество наше или слишком молодо, или уже
слишком развращено, так что не в силах выработать
человека в широком смысле этого слова...» «Вырабо-
тать» — значит, полагаться на себя, не уповать на вме-
шательство «небесной» силы. Реальная мечта о нрав-
ственно здоровом, морально красивом человеке роднит
Никитина со Львом Толстым. Недаром последний пред-
вещал творчеству поэта большое будущее...
Работу над повестью «Дневник семинариста» Ни-
китин начал в 1858 году, в пору подготовки отмены
крепостного права, в период надежд на благотворные
общественные реформы. Поэт был захвачен атмосфе-
17
рой «русской весны» и принимал деятельное участие
в обновлении жизни: активно пропагандировал передо-
вую литературу, будучи хозяином книжного магазина,
содействовал созданию различных просветительских
обществ, ратовал за женское образование и т. д.
Можно согласиться с современным исследователем,
считающим: «Преждевременная смерть помешала Ники-
тину утвердиться в материалистическом понимании
природы, но «Дневник семинариста» свидетельствует
о его стремлении понять основные вопросы бытия в духе
передовых философских идей своего времени»1 2.
Обращение к теме духовенства даже в рамках
воспитания семинарской молодежи требовало муже-
ства — ведь он стал не просто выметальщиком сора
из церковного храма, а художником-критиком целой
системы. «Первое трезвое и реалистическое слово о
бурсе было сказано И. С. Никитиным в «Дневнике
9
семинариста» справедливо подчеркивает один из
исследователей.
Робкие подступы к изображению в литературе
героев из духовного быта предпринимались и до Ники-
тина, но, как правило, все это были или экзотические
второстепенные, или сентиментально-идеализированные
персонажи. Н. В. Гоголь, В. Т. Нарежный, Н. Д. Хво-
щинская (Крестовский — псевдоним) и немногие другие
осторожно, чаще в добродушно-юмористических тонах
показывали представителей клерикального мира. В кон-
1 Головко Н. В. Романтизм и реализм в эстетичеекой
системе И. С. Никитина//Поэт-демократ И. С. Никитин.— Воронеж,
1976.- С. 30.
2 Ямпольский И. Помяловский: Личность и творчество.—
М.- Л., 1968.- С. 153.
18
це 50-х годов в печати широко обсуждалась вышедшая
в Лейпциге книга Н. С. Беллюстина «Описание сельско-
го духовенства», вызвавшая своим критическим пафосом
резкое недовольство охранителей официального право-
славия. Однако церковь оставалась тогда еще
крепка, на ее защите твердо стояла и духовная
и светская цензура.
«Всякая попытка беспристрастно осветить факти-
ческое положение церковных дел,— пишет один из
историков казенного благочестия,— легко попадала
в категорию «вредных для общественного мнения»1 2.
Другой исследователь замечает, что во второй половине
XIX века «тема в цензурном отношении была почти что
9
запретная» .
Замысел «Дневника семинариста» вызван горячей
просветительской верой Никитина в очищающую силу
художественного слова. «Ах, если бы напечатали! —
делился он с начинающим публицистом Л. П. Блюмме-
ро.м.— Без шуток, мне крепко будет жаль, если пропадет
мой небольшой труд. Ведь я сам учился в бурсе, знаю
ее вдоль и поперек. Некоторый свет, брошенный в эту
бурсу, наверное, принес бы свою пользу...» Та же мысль
настойчиво звучит в его письмах к другу И. И. Брюха-
нову, знакомому врачу П. М. Вицинскому, любимой
девушке Н. А. Матвеевой.
Испытавший многие цензурные гонения, Никитин
не без оснований беспокоился за судьбу своего произве-
дения. Как раз накануне его публикации редактор
1 Кото вич Ал. Духовная цензура в России (1799—1855).—
Спб., 1909,- С. 527.
2 Котляревский Н. Наше недавнее прошлое в истолковании
художников слова.— Пб., 1919.— С. 92.
19
«Русского слова» Г. Е. Благосветлов, сообщая М. Ф. де
Пуле о запрете на присланные им никитинские стихи,
замечал: «Цензура вообще беснуется, и нас отдали
кретину»1 2. Заочный знакомый и корреспондент поэта
А. А. Оболонский, редактор «Народного чтения», в
октябре 1859 года жаловался М. П. Погодину на засилье
казенных надсмотрщиков, особенно ретиво приглядывав-
ших за поведением длиннополых литературных героев.
Например, цензор Оберт в одной из рукописей вместо
фразы «послали за попом» вставил «послали за титуляр-
ным советником», усмотрел неуважение к духовной
персоне даже в эпитете «несребролюбив» и не пропустил
название реки Буг лишь потому, что оно созвучно
слову «бог»2.
«Воронежская беседа», где печатался «Дневник
семинариста», проходила цензуру в Москве в январе —
марте 1861 года. Надзор вели Я. Прибыль и И. Бессомы-
кин; первого из них фольклорист А. Н. Афанасьев
называл в одном из своих писем в Воронеж в числе
«идиотов и скотов», не отличался от него и другой
«стражник» словесности. В результате «Дневник семи-
нариста» подвергся заметному урезанию. Кстати, еще
более сокрушительный цензурный удар был нанесен
повести при переиздании в 1869 году, когда пора либе-
ральных реформ миновала.
«Дневник семинариста» — единственное прозаи-
ческое произведение Никитина. На эпический талант
поэта указывали многократно. Действительно, достаточ-
1 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкин-
ский Дом) АН СССР, ф. 569, ед. хр. 145.
2 Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им.
В. И. Ленина, ф. 231, карт. 22, ед. хр. 73.
20
но прочитать его поэмы, некоторые стихотворные рас-
сказы, колоритные психологически-бытовые сценки
(к примеру, о помещике-либерале, провинциальном
базаре и др.), нарисованные в его посланиях к Н. И. Вто-
рову, лирические откровения в письмах к Н. А. Матвее-
вой, дружески-шутливые отступления в переписке с
приятелями, чтобы убедиться: Никитин был прирожден-
ным прозаиком. Более того, в нем жил и драматург —
недаром его поэтические творения разыгрывались на
многочисленных любительских сценах. Любопытный
факт: один гастролировавший в Воронеже актер еще
в 1854 году сообщил в «Санкт-Петербургских ведомо-
стях» о том, что «даровитый согражданин Кольцова
Никитин /.../ намерен трудиться для театра и написал
уже несколько народных драматических сцен»1. Конеч-
но, это были лишь слухи, но весьма характерные. Можно
думать, что встреча в Воронеже в 1860 году драматурга
А. Н. Островского с Никитиным тоже отнюдь не была
случайной.
Однако откроем «Дневник семинариста».
«Пишу то... что затрагивает меня за сердце»,— испо-
ведуется в своих записках Василий Белозерский,
пытливый и наблюдательный юноша, наделенный от
природы доброй душой и кротким характером. История
духовного роста семинариста и составляет содержание
повести. Жанровая форма «Дневника» как нельзя
лучше отвечала замыслу Никитина — проникнуть во
внутренний мир молодого разночинца.
Зарисовки крестьянского и священнического быта,
сценки семинарского образа жизни, портреты разных
типов — от мальчика на побегушках до профессора
1 Русский архив.— 1901.*— Кн. 1.— № 2. — С. 345.
21
семинарии — создают живую и цельную картину россий-
ской провинции середины XIX столетия.
Композиционный прием, которым пользуется автор,
прост и естествен. Вот Белозерский дома, в деревне,
где видит -своего батюшку о. Ивана, преподающего ему
урок житейской мудрости: «Старших слушай и береги
деньги». О. Иван — тип только-только нарождавшегося
в литературе праведника, вынужденного для прокормле-
ния семьи заниматься не только требами, но и повсе-
дневным крестьянским трудом. Он несколько одичал
в сельской глуши, его наука угождать власть имущим
вызывает у сына внутренний протест. Он мечтает стать
хорошим духовным пастырем простого люда, проповед-
ником высоких нравственных устоев. В голубиной душе
Белозерского зреет нечто соколиное (недаром он вспо-
минает знаменитые кольцовские строки «Иль у сокола
крылья связаны, Иль пути ему все заказаны...»). Но,
увы, он неспособен на открытый вызов рутине и оста-
ется рабом обстоятельств — в этом психологическая
правда характера «маленького человека». Он излучает
мягкий душевный свет, такие совестливые люди всегда
нужны, но не они скоро будут ведущей силой русского
общественного обновления.
В этой связи примечательно, что батрак Федул —
эдакая стихийная крестьянская силушка — выговари-
вает семинаристу: «Вот если бы ваш брат-ученый
приехал к нам да рассказал толком: вот это так надо
сделать, это вот как, и стало бы нашему брату-мужику
от этого полегче, тогда вышло бы хорошо, а то...» Пытаясь
проникнуть в глубинное течение авторской мысли,
современный историк литературы Б. Т. Удодов по поводу
этой мужицкой тирады заметил: «...по существу, это
перекликается с тем, что через несколько лет после
22
написания повести войдет в историю как «хождение
в народ», «народничество»1. Перспективное наблюдение.
Революционные народники увидели в произведениях
Никитина («Медленно движется время», «На старом
кургане», стихи о крестьянской доле) «горючий матери-
ал» и использовали его в пропагандистских целях.
Сюжетной основой повести являются бытовые
коллизии. За каждым штрихом, за каждой деталью
угадывается социально-психологический портрет: вот
пришибленная нуждой деревенская баба, которая «ходит
точно потерянная», вот спившийся от тоскливого прозя-
бания философствующий дьячок («Да-с, я червяк,
воистину червяк!»), а вот спесивый помещик, напоми-
нающий «быка, с черными щетинистыми усами...» —
любопытнейшие живые реалистические характеры.
«Нет, скверно тут жить! — делает вывод Белозер-
ский, спеша из деревни в город. Единственный светлый
луч, блеснувший ему в темноте,— встреча с девушкой-
черничкой, всколыхнувшей первое любовное чувство.
Мимолетное свидание исполнено высокой и чистой
поэзии — это одна из самых целомудренных сценок на
такую тему в нашей литературе.
«Скверно жить» и в городе, если смотреть на него
через тусклые окна духовной семинарии. Белозерский
мягко, беззлобно, но внимательно и сосредоточенно
вглядывается в лица бурсаков и их горе-наставников.
Рассадник поповщины впервые обрел такого эпического
свидетеля. Никитин отказался от очевидного соблазна
показать семинарскую экзотику, рассказать серию
'Удодов Б. Т. Об идейно-художественном содержании
«Дневника семинариста»//И. С. Никитин: Статьи и материалы.—
Воронеж» 1962.— С. 165.
23
анекдотов о житье-бытье хорошо знакомой ему бурсы
(по воспоминаниям М. Ф. де Пуле, вначале предпола-
гался именно такой «физиологический очерк»); автор
поставил перед собой более трудную задачу — вскрыть
безнравственную сущность церковной системы образо-
вания и воспитания, поддержать духовные поиски на-
рождающегося молодого поколения. Поэтому-то Никитин
взглянул на бурсу «изнутри», открыл читателю трагедии,
драмы и комедии еще малоизвестного угла российской
действительности.
Торжествуют в семинарии люди с омертвевшей
душой — такие, как профессор Федор Федорович, у
которого по настоянию отца квартирует Белозерский.
Федор Федорович — человек-паук, он не прочь поиграть
со своими жертвами — будь то «отеческая» беседа со
слабовольным постояльцем, розыгрыш с мальчиком на
побегушках или потеха с котенком, но он всегда насторо-
же и готов в любую минуту вцепиться в каждого, кто
посягнет на его покой и довольство. Страшный в своей
внешне добропорядочной оболочке человек! Даже такое
кроткое существо, как Белозерский, не выдерживает
изматывающего гнета и бежит от него.
Прототипом Федора Федоровича (как отчасти и
профессора Зорова в «Кулаке») послужил — на это
раньше не указывалось — квартировавший одно время
у Никитиных профессор Воронежской духовной семи-
нарии Иван Иванович Смирницкий, читавший здесь в
1851 — 1864 годах св. Писание и другие предметы.
Н. И. Второв вспоминал, что сей ученый муж «книг
никаких не читал», кичился своим дипломом, науськи-
вал хозяина дома на сына и пытался всячески унизить
последнего. Смирницкий никак не хотел съезжать с
квартиры, и лишь когда пригрозили пожаловаться на
24
него губернатору — убрался восвояси. «В ученость
Ивана Ивановича ученики плохо верили,— припоминал
один из воспитанников семинарии,— и позволяли иногда
посмеиваться на этот счет /.../, вместо дела он чаще
на уроках занимался «возражениями» вроде того, на-
пример, нужно ли верить в сны»1. «Герой» этот после
службы в семинарии ректорствовал в местном духов-
ном училище, из которого его изгнали в какой-то сель-
ский приход за крупную растрату казенных денег.
По контрасту с Федором Федоровичем в повести
одинокой печальной тенью проходит учитель словесно-
сти Иван Ермолаич — запоминающийся трагический
характер, подробной разработкой которого русская
литература позже займется весьма обстоятельно. Когда-
то энергичный, обуреваемый передовыми педагогиче-
скими начинаниями человек, но теперь сломленный
и сникший, пытающийся заглушить чаркой вина свою
тоску и бессилие что-либо изменить к лучшему.
Все другие учителя семинарии во главе с ректо-
ром — вялые и тупые натуры, живущие механически,
«от сих до этих». Под стать себе они плодят нравственно
развращенных учеников.
Над этими духовно немощными фигурами возвы-
шается гордая и светлая личность семинариста Алексея
Яблочкина2. «Экая бурса! — говорит молодой стропти-
вец.— Попала на одну ступень и окаменела...» Эти
слова как бы предваряют взгляд Д. И. Писарева, считав-
1 Воронежские епархиальные ведомости.— Часть неофициаль-
ная.- 1900.- № 6.- С. 243.
2 Любопытная деталь: одновременно с Никитиным в Воронежской
духовной семинарии учился однофамилец его будущего героя — Лев
Яблочкин//Прибавления к Воронежским епархиальным ведомостям.—
1882.-15 нояб.— С. 285.
25
шего: «...основное зло бурсы останется нетронутым,
потому что оно неизлечимо»1.
Жизнь Яблочкина — это протест против семинар-
ского прозябания и послушания. Он много читает, осо-
бенно горячо воспринимая идеи Белинского, в нем
зреет атеист и проповедник-демократ. Под его влиянием
незаметно духовно распрямляется и Белозерский. «От-
чего это жизнь идет не так, как бы хотелось?» — спра-
шивает разночинец-правдоискатель, а в финале повести,
умирающий, в чахоточном бреду, взывает: «Стены
горят... Мне душно в этих стенах!.. Спасите!» Эти слова,
по сути,— призыв автора к спасению молодого поколе-
ния, гибнущего в удушающей общественной атмосфере.
Образ Яблочкина предвещает новую грядущую силу,
которая скоро пойдет по пути обновления России.
Никитин обрывает «Дневник» на трагической ноте,
звучащей в строках: «Вырыта заступом яма глубокая,
Жизнь невеселая, жизнь одинокая...», ставших пригово-
ром бесчеловечному прошлому.
Повесть написана в лучших традициях критиче-
ского реализма, ее стиль по-пушкински прост и прозра-
чен, привлекает естественностью и искренностью инто-
нации.
Сразу же по выходе «Дневник семинариста» тепло
встретила критика. Ряд положительных откликов
поместили столичные газеты. По воспоминаниям одного
из современников, произведение «понравилось»
Н. Г. Чернышевскому2. В анонимной рецензии на
«Воронежскую беседу», приписываемую М. А. Антоно-
1 Писарев Д. И. Соч.: В 4 т.— М., 1956.— Т. 4.— С. 139.
2 Чернышевский Н. Г. в воспоминаниях современников.— Сара-
тов, 1958 - Т. 1,- С. 320.
26
вичу, «Дневник семинариста» назван в «Современнике»
«украшением» книги. Критик подробно цитировал
социально значимые места из повести и подчеркивал,
что своим героем Никитин указывал на «продолжаю-
щийся голод, недостаток света и свежего здорового
воздуха»1 в общественной атмосфере того времени.
«Дневник семинариста» — по существу, первый
значительный опыт антиклерикальной русской прозы.
За Никитиным своей дорогой пошли Н. Г. Помяловский,
Н. С. Лесков (он был лично знаком с поэтом), лите-
раторы 70—80-х годов И. А. Салов, А. И. Эртель
и др.
Повесть многократно переиздавалась, о ней с симпа-
тией говорили советские писатели.
Ушли в прошлое проблемы, волновавшие Ники-
тина, но нам и сегодня близки и понятны его вера в
разум, пафос добра и правды.
САТИРИК И БЫТОПИСАТЕЛЬ ДУХОВЕНСТВА
Псевдоним «отец Забытый», впервые появившийся
в 1875—1876 годах, оказался для Григория Ивановича
Недётовского чуть ли не «роковым». «Есть в нашей
литературе сейчас одно имя, трагичностью судьбы
своей превосходящее, пожалуй, все померкшие и забвен-
ные имена»,— так определила еще в 1911 году газе-
та «Русское слово» участь писателя. Увы, и сегодня
этого прозаика знают лишь немногие (в 1982 г. в
Воронеже выходил сборник его избранных произведе-
ний) .
Хорошим писателем называл О. Забытого Н. Г. Чер-
1 Литературное наследство.— М., 1936.— Т. 25/26.— С. 180.
27
нышевский, подчеркивая объективный и искренний тон
его творчества. Взыскательный И. С. Тургенев, внима-
тельно следивший в 70-е годы за выступлениями про-
винциального автора, сказал о нем: «Это — истинный
талант». Весьма дорожил сотрудничеством Недетовского
в «Отечественных записках» М. Е. Салтыков-Щедрин,
ценя в нем сатирическое дарование. Драматург А. Н. Ост-
ровский (по воспоминаниям некоего Л. Новского)
восхищался непосредственностью впечатлений писателя,
его способностью передавать будничные явления в
первозданности их восприятия. М. Горький, великолепно
знавший произведения О. Забытого, ставил его в ряд вид-
ных беллетристов-народников.
Григорий Иванович Недетовский родился 31 янва-
ря 1846 года в селе Бор Тарусского уезда Калужской
губернии в семье дьячка. Сельцо было самое захудалое:
36 изб, под солому крытых, вокруг песчаная земля, почти
побирушечья бедность, мизерные духовные интересы...
Писатель вспоминал: «Газет в селе не читали и даже
не видали. Только один грамотный содержатель постоя-
лого двора изредка получал откуда-то «по случаю» «Мос-
ковские ведомости».
Обстановка относительной грамотности в семье
уродливо сочеталась с религиозным фанатизмом, наивно-
патриархальной верой в чертей и ангелов. Все это не
прошло бесследно для мальчика и, конечно, отразилось
на его характере и поступках.
Недетовский вынес безотрадные впечатления о годах
пребывания в Калужском духовном училище (1856 —
1862), где розги и бестолковая муштра были главным
средством воспитания. В неопубликованной «Автобио-
28
графин» (1913) он писал, что «немало страдал от
голода и моральных мук»1. Об этой жуткой поре учени-
чества писатель расскажет в мемуарных очерках «Вок-
зальный собеседник», «В былой бурсе» и других про-
изведениях.
В 1862—1867 годах Недетовский прошел полный
курс Калужской духовной семинарии. В этот период
он испытал на себе не только влияние схоластики, его
также коснулись и демократические веяния, проникшие
за семинарские стены после крестьянской реформы.
«Моему развитию,— писал Недетовский об этой поре,—
немало содействовало также свободное чтение «свет-
ских» книг и периодических изданий /.../. Уже будучи
учеником семинарии, я успел познакомиться с сочине-
ниями Достоевского, Писемского, Тургенева, Гончарова,
Островского, Л. и Ал. Толстого, Салтыкова, Добролюбо-
ва, Писарева, Пирогова, Гизо, Бокля... Дарвина и многих
других»2.
«Не ради Иисуса, а ради хлеба куса», как иронич-
но однажды заметил Недетовский, он поступил в Киев-
скую духовную академию, где учился в 1867 — 1871 го-
дах. «Из предметов академического курса,— вспоминал
позже писатель, — я наиболее интересовался словесно-
стью, историей и психологией». Расширению научного
кругозора, неприятию церковных догм и нравственному
росту Недетовского во многом способствовал профессор
гражданской истории в академии Ф. А. Терновский,
о котором Н. С. Лесков восторженно отзывался: «Это
был человек огромного ума, дивного сердца и поразитель-
1 Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкин-
ский Дом) АН СССР, ф. 377, ед. хр. 607, л. 1.
2 ИРЛИ, ф. 377, ед. хр. 607, л. 3.
29
ных познаний»1 2. Сохранившаяся переписка Недетовско-
го и Терновского говорит об их глубоком взаимном
уважении и критическом отношении к церковной власти.
Профессор-наставник приохотил своего даровитого
ученика к беллетристике, опубликовал его первые
опыты в журнале «Воскресное чтение».
С 1871 по 1879 год Недетовский преподавал в Воро-
нежской духовной семинарии, а затем, выдержав в Харь-
ковском университете экзамен на звание учителя гимна-
зии по русскому языку и словесности, служил в Воронеж-
ском реальном училище. Пройдя все круги — от началь-
ного до высшего — религиозного образования, он разоча-
ровался в церковных догмах и предпочел (не без сложной
внутренней борьбы) выгодной карьере профессора Киев-
ской духовной академии (куда его неоднократно
приглашали) скромное поприще учителя. С 1900 по
1916 год Недетовский был директором 2-й Воронежской
мужской гимназии.
Демократ-просветитель, он был далек от непосред-
ственного участия в политической жизни страны, пред-
почитая путь мирных преобразоваций, однако всегда
живо следил за событиями, направленными против
царизма. Служивший с ним в гимназии педагог
Д. И. Щемелинов по этому поводу писал: «Особенно
интересовался Недетовский революционной литературой
9
и просил меня принести ему почитать» .
С 1916 года писатель жил у дочери в Ставрополе,
где до последних дней (он умер 23 января 1922 г.)
занимался культурно-просветительской работой, сотруд-
ничал в местной библиотеке и музее. В его читательском
1 Лесков Н. С. Собр. соч.: В И т.—М., 1958.—Т. И.—
С. 356.
2 ГАВО, ф. 189, on. 1, ед. хр. 15.
формуляре тех лет значатся труды и произведения
В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. А. Блока...
Старый педагог и литератор приветствовал фев-
ральскую революцию 1917 года, называя ее «новым граж-
данским праздником свободы»,— для него это было вре-
мя «душевного подъема»1 2. Октябрьскую революцию
Недетовский принял как надежду на то, что «на Руси не
будет более скорбей»2.
Широкий подъем революционно-народнического
движения в России в начале 70-х годов вызвал прилив
новых прогрессивных сил и в литературе, избравшей
своим главным героем крестьянина, освобожденного
от узаконенных рабских оков, но ввергнутого в еще
более изощренную кабалу. Если эта проблема в литера-
туре 70—80-х годов была достаточно известна, то
вопросы отношения народа к религии и церкви остава-
лись малоизученными. Исследование произведений
этого круга позволяет не только увеличить арсенал
средств в борьбе с пережитками прошлого, но и обо-
гатить наше представление об идеях и образах отече-
ственной словесности. В этом отношении творчест-
во Недетовского-Забытого представляет особый ин-
терес.
В декабре 1873 года в письме к редактору «Вестника
Европы» М. М. Стасюлевичу Недетовский обосновывал
свою ближайшую литературную программу: «Даже
солидные наши писатели очерчивают себе тесный круг
1 См. письмо Г. И. Недетовского от 30 марта 1917 г. к редактору
«Петербургского листка» А. Н. Сальникову,— ИРЛИ, ф. 357, оп. 5,
ед. хр. 78.
2 Там же, письмо Г. И. Недетовского от 20 декабря 1917 г.
31
литературной деятельности, изображая — кто только
дворянство, кто купечество и т. д. После этого отчего
бы, кажется, и мне не остановиться на некоторое (под-
черкнуто Недетовским.— В. К.) время на изображении
типов из среды духовенства — как потому, что этой
среды сравнительно еще мало касалась наша литература,
так и потому, что я изображаю в своих очерках не одни
и те же стороны жизни нашего духовенства»1.
Мы уже говорили о том, что в 1875—1876 годах
появляется псевдоним «О. Забытый». Именно тогда в
четырех книжках «Вестника Европы» были напечатаны
девять «деревенских рассказов», составивших цикл под
общим названием «По селам и захолустьям» (пять про-
изведений из этой серии печатаются в настоящем
сборнике). Все они подвергались жестокой цензуре, по
поводу чего Недетовский писал Стасюлевичу 16 февра-
ля 1875 года: «...мне и теперь все-таки кажется очень
странным, что автор дьячков и пономарей может быть
заподозрен в «расшатывании устоев»... Особенно мне
жаль будет, если не пропустят «Христославов»2. Однако
изуродованные цензурой и «маскированием некоторых
мест» (выражение Стасюлевича) рассказы все-таки уви-
дели свет.
«Христославы» представляют собой цепь коротких
зарисовок сатирического звучания. Бедный дьякон и
свита клириков обходят на рождество дома прихожан
и «славят Христа». Вовсе не набожность зовет их в доро-
гу, такой поход для них — мало-мальски доходный
промысел. Клирики-пилигримы не задерживаются у
впавших в нищету односельчан, с большим рвением они
1 ИРЛИ, ф. 293, on. 1, ед. хр. 966, л. 9.
2 Там же, л. 11.
32
бьют поклоны в помещичьих и купеческих домах.
Невеселый праздник у «маленьких» героев О. Забытого:
кругом бедность, выручка от «божеского дела» невелика.
«Год от года народ все хуже становится,— подмечают
христославы.— Где прежде давали пятачок, теперь и
трех копеек на дают...» Непритязательные на первый
взгляд бытовые картинки разорения деревни, ее обни-
щания.
Писателя мало интересует сам культовый обряд, это
лишь предлог показать типы людей, стоящих на разных
ступенях общественной лестницы, заглянуть в их внут-
ренний мир. Вот помещик-крепостник Годнее, мечтаю-
щий о возврате старых дореформенных порядков, а вот
административная гроза крестьян — бывший бурмистр
Федот Захарыч, крутой «ндрав» которого деревенский
кузнец характеризует так: «И ну по мордам: хлясь!
хлясь!» Неуютно и униженно чувствуют себя «церков-
ные люди» у купца Мухоморова, щедрого на угощение,
но не скупящегося на оскорбления забитых и голодных
просителей; сытой праздностью наполнены и дни бары-
ни Сусловой, у которой собаки не едят «кроме говя-
дины и белого хлеба — ничего». Такие детали конт-
растно подчеркивают бедность деревенского пролетария.
Говоря о «Христославах», автор указывал на подлин-
ность нарисованных в рассказе сцен: «В них самая
живая (подчеркнуто Недетовским.— В. К.) правда и
непосредственные наблюдения»1.
«Христославы» не похожи на появлявшиеся в те
годы во множестве умилительно-слащавые рождествен-
ские «картинки», в которых беллетристы использовали
тот же нехитрый сюжет. О. Забытому понадобились
1 ИРЛИ, ф. 293, on. 1, ед. хр. 966, л. 4.
2-1032
33
старые притчи, чтобы ввести в них новое общественное
содержание, созвучное проблемам времени. Примеча-
тельно и то, что уже в первом своем рассказе писатель
заявил о себе как сатирик, умеющий через мелкие ху-
дожественные детали показать горькие и забавные
стороны деревенской жизни. Эту особенность таланта
О. Забытого подметил Стасюлевич, говоря о «гого-
левском смехе сквозь слезы» в его ранних произведе-
ниях.
Рассказ «Встреча» вызвал в «Вестнике Европы»
настоящий переполох. Осторожный редактор сообщал
своему новому сотруднику, что публиковать эту вещь
«решительно невозможно»1. Цензурные опасения Ста-
сюлевича имели основания — только что было приоста-
новлено печатание январской книжки «Вестника
Европы» (1875) за появление в журнале антиклерикаль-
ного романа Э. Золя «Проступок аббата Муре». Предре-
шая неутешительную судьбу рассказа «Встреча»,
Стасюлевич писал Недетовскому: «Выступать с ним
теперь и думать нельзя, если уж роман Золя оказался
неудобоваримым и вредным в России»2. Автор из
Воронежа сокрушенно отвечал: «Кажущееся кощунство
в рассказе «Встреча» можно повытравить (подчерк-
нуто Недетовским,— В. К.) в тех местах /.../, где
оно с большею вероятностью может быть подозрева-
емо»3.
Пройдя цензурные чистилища, рассказ все-таки
появился в журнале. Сюжет его прост: сельские духов-
ные пастыри ожидают визита архиерея и усиленно го-
товятся к приезду владыки. Дьячок и пономарь усердно
1 ИРЛИ, ф. 293, on. 1, ед. хр. 90, л. 2.
2 Там же, л. 6.
3 Там же, ед. хр. 966, л. 2.
34
трут суконками подсвечники и паникадила, обернувши
головы холстиной, метут пол и снимают паутину в
церкви. В срочном порядке, несмотря на горячую страд-
ную пору, священники зубрят катехизис, ворошат в па-
мяти разные церковные премудрости. Дьякон приходит
в трепет от возможного экзамена у архиерея («У меня
память-то что решето: сейчас выучил, сейчас же все и
просыпалось»). Страх потерять крохотное доходное
место, расплывчатость библейских поучений, боязнь
раскрытия «грехов» — все это приводит в отчаяние
служителей алтаря. Рядовые прихожане относятся
куда спокойнее к высокопреосвященному визитеру.
Крестьянин Прохорыч говорит: «Мы — мужики, да и то
никого не боимся».
Наконец, после различных комических происше-
ствий приезжает владыка, но он недолго балует своим
вниманием перепуганную паству, ему некогда и неохота
выслушивать жалобы прихожан («А не спросил,—
сокрушается пономарь,— как мы тут живем, треплемся,
горе мычем»).
О. Забытый одним из первых в русской литературе
коснулся проблемы беззащитности мелкого церков-
ного люда перед неограниченной властью высшего духо-
венства. Примечательно, что на склоне лет, воодушев-
ленный событиями 1917 года, О. Забытый вновь обра-
тится к волновавшему его вопросу и осудит «непобе-
димый рабский страх перед архиереями», их «деспо-
тизм», доводящий подданных «до диких мыслей и меро-
приятий» (очерк «Давний случай»)1.
Уже в цикле рассказов «По селам и захолустьям»
у писателя наметилась тема капитализации деревни,
1 ГАВО, ф. 189, on. 1, ед. хр. 14, л. 59.
2**
35
вторжения кулака в патриархальную массу крестьян-
ства.
К изображению типа хищника буржуазной форма-
ции О. Забытый приступил в рассказе «Церковный
староста». Герой его, появившийся в селе новый содер-
жатель постоялого двора и торговец Карп Горлов, вна-
чале производит на мужиков хорошее впечатление:
набожен, приветлив, готов помочь бедняку. Но скоро
выясняется, что все это напускные добродетели хапуги,
стремившегося расположить сельчан, чтобы занять
выгодное место ктитора. У Горлова быстро проявились
кулацкие повадки, когда ему «этакая лафа подошла»;
он бесстыдно пускает в оборот деньги из церковной
кассы. Махинации святоши-ханжи заканчиваются
все-таки крахом. Уличенный в воровстве, он кощун-
ственно сожалеет: «Эх, не дали еще годок-другой по-
ходить вокруг царицы небесной!» Нравственная не-
чистоплотность Горлова напоминает цинизм молодого
Клочьева — капиталиста из повести Салтыкова-Щедри-
на «Тихое пристанище». Щедринский спекулянт рели-
гиозным благочестием заявляет: «...дело это у нас не
столько душевное, сколько карманное». Смысловая
перекличка персонажей тем более показательна, что
позже, перейдя в «Отечественные записки», О. Забы-
тый, поощряемый Салтыковым-Щедриным, вновь обра-
тится к фигуре деревенского «кровопийцы» в очерке
с программным названием «Кто кого?».
В рамках материала из жизни духовенства писатель
ставил вопросы далеко не «специальные» и не отделял
своих клириков от общей крестьянской массы. Уже на
начальном этапе творчества им был создан привлека-
тельный образ простого мужика, пытающегося вырваться
из затхлой деревенской обстановки, осознающего свои
36
духовные силы. В рассказе «Широкая душа» любозна-
тельный крестьянин-печник Сидор Иванович говорит
дорожному спутнику-рассказчику: «Разуму твоему
никто не поможет; всяк еще тебя хает за разум-то.
Обидно, горько, а ничего не поделаешь». Сидора Ивано-
вича окружает обычный идиотизм захолустья с его
неизбежными пороками, оставившими свои приметы
в его облике. Но он начинает понимать негодность того
образа жизни, который ведет, недостаточность только
одного хлеба насущного. В нем просыпается личность,
осознающая свое человеческое достоинство. Сидор
Иванович и в бога хочет верить сознательно, доиски-
ваться до причин тех или иных церковных треб. Возму-
щенный священник грубо его пресекает: «Твое дело
/.../ ходи в церковь да молись!» — И чтобы окончатель-
но предупредить вопросы прихожанина, кричит: «Ах,
ты /.../ кирпичное рыло! Ах ты... скудельная свинья!
Туда же лезет!»
Крестьянин «лезет» из тех оков, которые надело
на него крепостничество, еще недавно благословляемое
церковью. Тянущийся к свету мужик видит и разлад
в сельском «миру», где рвутся общинные нити, где
«всякий норовит тебя обесчестить, не то чтобы пользу
тебе какую доставить...» Весьма характерен внутренний
протест героя: «...мне совсем не тот предел положен».
Образ «широкой души» получит дальнейшее развитие
в творчестве О. Забытого.
В цикле «По селам и захолустьям» проявилось
юмористическое дарование О. Забытого — весьма редкое
среди писателей-народников. Представленный в нашем
сборнике рассказ «Прощеный день» — своеобразная
«святочная» миниатюра. Автор остается верен своей
реалистическо-бытовой манере. Он показывает велико-
37
лепное знание простонародного быта, крестьянских
обрядов и обычаев, деревенской этнографии. Здесь нет
значительного социального содержания, рассказ выпол-
няет более скромную, но важную задачу: развенчать
суеверие в народной среде, снять покров «святости»
с духовных чинов — отсюда ироническая авторская
интонация, использование пародийных изобразительных
средств. В «Прощеном дне» девушки совершают шуточ-
ный обряд погребения, одна из них — бойкая Донья
изображает священника (вместо ризы — рогожа, поло-
тенце заменяет кадило) и выкрикивает: «Со слепыми
упокой! Овечья память! Во веки веков — овин!» Автору
близко здоровое мироощущение простых людей, лишен-
ных религиозных предрассудков.
Несмотря на явно антиклерикальный пафос первых
произведений О. Забытого, он еще не поднимается в них
до типического обобщения пороков официальной церкви.
Его программа чаще локальнее, умереннее, автор пы-
тается ее решать в плане морально-этического оздоров-
ления православного института. Однако в потоке белле-
тристики 70-х годов (произведения Н. Н. Златоврат-
ского, П. В. Засодимского, Н. И. Наумова и др.) «дере-
венские рассказы» О. Забытого органически входили
в общее русло крестьянской проблематики и сыграли
положительную роль, особенно в борьбе русской демо-
кратической мысли с поповщиной и эксплуатацией
совести народа.
Разработку антиклерикальной темы писатель нова-
торски продолжил в повести «Велено приискивать»
(Вестник Европы.— 1877.— № 9—11). Здесь, наряду
с традиционным типом святоши-ханжи (Златокрылов-
старший), нарисован образ священнослужителя новой
буржуазной формации. «Чумазый» в рясе — явление
38
для тех лет непривычное, нарождающееся, и его чутко
уловил О. Забытый, художественно раскрыв «функцию
попа». Произведение запечатлело падение престижа
церкви в трудовых массах, затронуло ряд и других
важных вопросов: бесправного положения женщины,
аморального брака, скрепленного обветшалой приказной
формулой «велено приискивать». Повесть была положи-
тельно встречена демократической критикой (ее высоко
оценил И. С. Тургенев) и вызвала злобные нападки
«Церковно-общественного вестника», «Руководства для
сельских пастырей» и т. п. изданий. Реакционный
обозреватель А. В. Попов, признавая О. Забытого «та-
лантливым писателем, хорошо знающим духовную
среду», ставил его имя в ряд революционно настроенных
писателей и сокрушался: «К суду их привлечь никто
не может...»1
Крепнущие демократические взгляды Недетовского-
Забытого, все усиливающийся сатирический тон его
творчества напугали осторожного редактора «Вестника
Европы». Неприемлемым оказался для либерала Стасю-
левича замысел Недетовского написать «оригинальную
штучку» под заглавием «С того света», в которой, по
объяснению автора, «древний россиянин будет высказы-
вать свои взгляды на теперешнее русское общество и,
сопоставляя его с обществом своего времени, будет
стараться защищать последнее»2. Дальнейшему сотруд-
ничеству О. Забытого в «Вестнике Европы» препятство-
вала и ошибочная точка зрения Стасюлевича на тему
духовенства как «предмет совсем изношенный»3. Эти
1 Православный собеседник.— 1884.— № 6.— С. 310.
2 ИРЛИ, ф. 293, on. 1, ед. хр. 966, л. 3.
3 Там же, ед. хр. 90, л. 11.
39
и другие причины заставили Недетовского перейти в
«Отечественные записки».
В журнале, редактируемом Салтыковым-Щедриным,
проблемы отношения народа к религии и церкви не
являлись третьестепенными. «В беллетристическом,
научном и публицистическом отделах журнала,— заме-
чает современный исследователь,— в эти годы (1868—
1877) систематически публиковались произведения
антиклерикального характера, разнообразны и во многом
поучительны были методы и приемы атеистической
пропаганды»1. В этом издании печаталась антипопов-
ская проза Ф. Решетникова («Свой хлеб»), М. Вовчок
(«В глуши», «Записки причетника»), Н. Северова
(«Вперед не угадаешь») и др. Часто в своих сати-
рах бичевал церковное ханжество Салтыков-Щед-
рин, поисками гармонии совести и социальной дей-
ствительности отмечен ряд очерков Глеба Успен-
ского.
О. Забытый напечатал в «Отечественных записках»
(1880—1884) десять произведений, четыре из которых
(одно — частично) публикуются в настоящем сбор-
нике.
«Рассказ Ваш «Родня» я уже прочитал, и он весьма
мне понравился»,— сообщил Салтыков-Щедрин Не-
детовскому в ответ на первое присланное им произведе-
ние. Сюжетно оно незатейливо, но полно комизма. Кли-
рики захудалого села, прослышав о посвящении в сан
архиерея «двоюродного племянника» их собрата по
приходу, устремились на поклон к всемогущему иерарху.
1 А з б у к ин В. Н. Критика религии и церкви в журнале
«Отечественные записки» (1868—1877 гг.у/Учен. зап. Астраханского
пед. ин-та им. С. М. Кирова.— 1967.— Т. И.— Вып. 4.— С. ИЗ.
40
«Родичи» жаждут урвать у «кровного» владыки хоть
что-нибудь: один — доходное местечко, второй — награ-
ды, третий — барыша и славы от своих залежалых
проповеднических брошюрок. Но напрасно их угодни-
чество и лицемерие. «Не надейтеся ни на князя, ни
на сыны человеческие...» — заключает обманутый в
своих честолюбивых надеждах «ближайший родствен-
ник» архиерея. Ничего не просит у «его преосвящен-
ства» лишь одна старая бедная крестьянка, как бы
выразившая отношение писателя к нравственной чисто-
те простого народа. В этом рассказе уже нет прежнего
добродушного юмора О. Забытого, слово его становится
решительным, зло ироничным.
Первые выступления О. Забытого в «Отечественных
записках» совпали с приходом реакции после 1 марта
1881 года, когда было совершено убийство Александра II,
и спадом революционно-демократического движения в
России. В это же время даже умеренная критика
церковной системы была парализована. «Пугало опро-
тивевшей цензуры» (Н. С. Лесков) стояло тогда перед
каждым мыслящим художником. В этих сложных усло-
виях О. Забытый обращается к поискам положитель-
ного идеала из среды духовенства. Такая ориентация
отвечала и новой литературной стратегии журнала:
с пути политического освещения народной жизни он
встает на путь социально-нравственный. Наиболее четко
эти позиции О. Забытого выразились в его повести
«Миражи», рассказе «Не угодил». Здесь в центре —
фигура праведника — своего рода Дон-,Кихота в рясе.
Повесть «Миражи» (в сборнике публикуется от-
рывок из нее) — самое значительное и по масштабам
затронутых проблем, и по художественной зрелости
сочинение О. Забытого. Его главный герой — молодой
41
преподаватель духовной семинарии Николай Роков,
стремящийся внести в бурсу свет знаний и «челове-
ческие отношения». Он читает ученикам Белинского,
Добролюбова, одержим прогрессивными педагогически-
ми начинаниями. Но перед ним такая «каменная стена»
невежества, равнодушия и подлости, что он приходит
к мысли о призрачности церковных догм, тщетности
борьбы в мире «миражей» и кончает жизнь самоубий-
ством. Моральную победу одерживает его друг Виктор
Славский, решительно отказавшийся от «духовной»
карьеры, так как он понял «промежуточность» церков-
ников, представляющих собою «нечто вроде летошнего
снега или костюма прошлого столетия»...
Путь Рокова к осознанию иллюзорности юноше-
ских идеальных мечтаний долог и мучителен; автор про-
водит его через многие круги земного бытия, разрушая
утопические надежды молодого человека. В семинарии
Рокова встречают скудоумие, пьянство и чиноугодниче-
ство. Писатель дает запоминающуюся портретную гале-
рею учителей — своеобразных «мертвых душ» от про-
свещения: это — враль и пустобрех Стрелецкий, сума-
сшедший Адептов, скряга и «научный» идиот Скворцов,
пресмыкатель и доносчик о. Евлампий. Тем самым чита-
тель может представить мрачную картину нравственной
деградации всей духовной системы образования и воспи-
тания. В целом же произведение представляет собой
объемную панораму пореформенной России.
Даже самые скромные гуманные преобразования
Рокова вызывают страх у апостолов казенной церкви.
Ректор семинарии о. Паисий поучает: «Слава богу, даны
нам узаконения /.../. Чего еще? Сиди да молчи и будь
признателен. Особенно по нынешнему времени: строго
следят за всеми. Чуть что — сейчас и...» От критики
42
уродливых сторон священничества, осознания необхо-
димости коренного обновления скомпрометировавшего
себя официального православия писатель приходит
к выводу о «ненормальности общего строя». Герой
«Миражей» уже начинает видеть силу, способную изме-
нить несправедливый общественный порядок, восхища-
ется цельностью и твердостью убеждений трудового
человека, выделяя в одной из прочитанных им брошюр
слова о народе: «Богатырь наш, расслабленный раб-
ством, в течение целых веков сидел сиднем и ждал дви-
жения живой воды. И вот мощный голос воззвал к нему:
«Встань, возьми одр твой и иди!» Этот иносказатель-
но выраженный призыв к народному протесту стал
настоящей большой победой демократа-просветителя
О. Забытого.
Разуверившийся в религиозных проповедях, герой
«Миражей» пытается направить свои действия «против
общественных язв», критикуя представителей церков-
ной и светской власти, но скоро убеждается, что это «вы-
стрелы в пустое пространство». Автор повести прибли-
жался к пониманию реакционной сущности самой рели-
гии, однако так и не смог сделать решительного шага
к атеизму. Трагедия его героя была обусловлена тем,
что писатель не сознавал социально-классовой роли
церкви в государстве, не видел истинных путей обще-
ственных изменений. Отсюда обреченность «праведни-
ка», предопределенность судьбы бунтаря-одиночки (фа-
милия «Роков» не случайна).
«Миражи», по свидетельству известного в прошлом
библиографа А. В. Панова, имели «огромный успех»1
1 П а н о в А. В. Домашние библиотеки (Опыт составления
систематического указателя книг для самообразования).— Изд. 2-е.—
Саратов, 1903.— С. 46.
43
в России. Произведение вызвало яростные нападки
церковников. «В читающем духовном мирке повесть
произвела нечто, похожее на переполох»1,— подтвержда-
ет современник. По выражению воронежской газеты
«Дон», «Миражи» растревожили церковный «муравей-
ник»2. Сообщая Недетовскому о поповском разносе его
книги в «Руководстве для сельских пастырей»,
упоминавшийся уже профессор Ф. А. Терновский пояс-
нил способ такой критики: «...обкрадем кругом
человека, да потом вместо спасибо — его же и
обругаем»3. Редактировавший «Миражи» Салтыков-
Щедрин отмечал некоторые композиционно-стилисти-
ческие просчеты рукописи и сообщал автору:
«Но как картина педагогических нравов повесть
мне понравилась». Вспоминая позже о благотворных
уроках великого сатирика, Недетовский писал в своей
«Автобиографии»: «Я многим был ему обязан /.../, в ли-
це Михаила Евграфовича я нашел лучшего учителя,
который учил смотреть на литературное дело как великое
служение своему народу».
Образ праведника-правдоискателя, по-своему про-
тестующего против несправедливости, в меру своего со-
знания и общественного положения выступающего на
защиту простолюдина, О. Забытый продолжил в расска-
зе «Не угодил». Герой его, о. Петр Богородицкий, «твер-
до решился идти на помощь великому горю, всякой
нищете». Однако замыслы священника «последней
формации» нести в народ «величайшую миссию совет-
чика, умиротворителя» разбиваются под воздействием
1 Русское слово.— 1911.— № 229.
2 Дон,- 1881.- № 142.- С. 1.
3 ГАВО, ф. 189, on. 1, ед. хр. 3, л. 37.
44
жестоких условий. По навету собратьев по сану, Петр
Богородицкий предстает перед консисторским судом.
Проповеднические утешительные тирады праведника
никнут перед неумолимой философией его «коллеги»
о. Процеллина, исповедующего новую буржуазную
мораль: «Лезь, приставай, из горла тяни, рви зубом
/.../. Нынче, батенька, только с зубами и можно жить».
Столкнувшись с обыденным миром лжи и насилия,
отвергнутый, герой утрачивает веру в казенное право-
славие и решает уйти к старообрядцам. «Я даже не
могу хорошенько уяснить для себя, в какой степени
ужасен, в цензурном смысле, эпизод перехода идеаль-
ного попа в раскол»,— сообщал Салтыков-Щедрин
автору и язвительно добавлял: «По нынешнему
времени лучше писать об идеальных попадьях».
Редактор смягчил конец рассказа, так как над жур-
налом и без того сгущались полицейско-цензурные
тучи.
«Церковно-общественный вестник» с позиций реак-
ционно-охранительного богословия осудил отступниче-
ство героя «Не угодил». «Конец рассказа,— отмечает
рецензент этого журнала,— не выдержан и писан, оче-
видно, на скорую руку»1.
О. Забытый отправляет своего отчаявшегося героя
к сектантам не случайно. Интерес к такой форме протес-
та бывших сторонников официальной церкви проявляли
в пропагандистских целях деятели революционно-
демократического движения; много и пристально изуча-
ли это явление Л. Толстой, Салтыков-Щедрин, Лесков,
Мельников-Печерский и др. Писателей привлекала не
столько оригинальность среды и образа мыслей старо-
1 Церковно-общественный вестник.— 1883.— № 81.— С. 3.
45
обрядцев — хотя и эту сторону нельзя не учитывать,—
сколько возможность легально рассказать о падении
в народе доверия к православной бюрократии. Неде-
товский также интересовался противленцами «закон-
ной» церкви, старался выяснить религиозно-бытовую
и социальную природу раскола (очерк «Старовер»,
статья «Материалы для истории религиозного
брожения в среде крестьян Воронежской губернии»
и др.).
Обострившийся интерес О. Забытого к проблемам
пореформенного крестьянства объясняется растущим
демократизмом его взглядов, несомненным воздей-
ствием «Отечественных записок», сотрудники которых
часто использовали в своих произведениях приемы отра-
жения «политики в быту» (М. Горький). В этом плане
интересен рассказ «Устроились!». Он представляет
собой бесхитростную историю о том, как в мире надруга-
тельства над человеческой личностью не могут найти
житейского счастья простой деревенский парень и его
возлюбленная. На пути к их сердечному союзу стоят
канцелярские препоны бездушной бюрократии. Неза-
тейливая бытовая история, переданная автором эпи-
чески спокойно и реалистически убедительно,
перерастает в обвинение антигуманных офици-
альных порядков. «Скажу Вам прямо: это рассказ
отличный...» — писал Недетовскому Салтыков-
Щедрин.
После закрытия «Отечественных записок» О. За-
бытый выступал в журналах «Дело», «Русская мысль»,
«Северный вестник» и др. Не оставлял он и тему
духовенства, но она уже не являлась для него ведущей
и не несла того социального звучания, которое раньше
ощущалось под воздействием Салтыкова-Щедрина. Чаще
46
это были сцены бытового уклада клира, «картинки
с натуры» (повесть «Обремененный многочисленным
семейством», рассказ «Именины» и др.)- Период после
запрещения «Отечественных записок» был для Неде-
товского. по воспоминаниям его дочери А. Г. Виногра-
довой, «самой темной полосой его жизни, когда
над творчеством /.../ и полетом фантазии царствовал
гнет»'.
В это время писатель часто обращается к форме
мемуарного очерка. Объектом его сатиры становится
духовная школа конца 50-х — начала 60-х годов. Мрачен
и остр взгляд О. Забытого на прошлое бурсы, по сравне-
нию с которой «даже на кладбище чувствовалась большая
9
полнота и сладость жизни...» , когда «подвергались
поруганию физическая и духовная природа»1 2 3 человека
(очерк «Вокзальный собеседник»). Автор не скрывает
преемственности своих сцен с «Очерками бурсы» По-
мяловского. Ретроспективная форма подачи мате-
риала позволила писателю еще более резкими крас-
ками нарисовать картину отживающей духовной
школы.
В заключение отметим доминантные черты поэтики
О. Забытого: реалистическо-бытовой характер сатиры,
истоки которой прослеживаются в традициях Гоголя,
влечение к обрисовке «отрицательного» персонажа,
диалогический принцип повествования, наконец, типи-
зация обиходного слова. Особенно удачна лексико-син-
таксическая организация языка самых различных пред-
ставителей духовенства — от архиерея до церковного
1 ГАВО, ф. 189, on. 1, ед. хр. 22, л. 2.
2 Странник,- 1891.- № 10.- С. 270.
3 Там же.- № 9,- С. 100.
47
звонаря, о чем всегда с похвалой отзывались современ-
ники.
Лучшие страницы антиклерикального творчества
Недетовского-Забытого — поучительный пример того,
как русская литература боролась с религиозным мрако-
бесием и эксплуатацией совести народа.
Виктор Кузнецов
ИВАН САВВИЧ НИКИТИН
ДНЕВНИК СЕМИНАРИСТА
184... июля 18
Слава тебе, господи! Вот и каникулы! Вот,
наконец, я и дома... Да! Нужно, подобно мне, по-
зубрить круглый год уроки, ежедневно, да еще
два раза в день,— за исключением, разумеется,
праздников,— промерить от квартиры до семина-
рии версты четыре или более; потом в душной
комнате, в кружке шести человек товарищей,
подчас в дыму тютюна, погнуться до полночи
над запачканною тетрадкой или истрепанной кни-
гой, потвердить греческий и латинский языки,
геометрию, герменевтику, философию и прочее
49
и прочее, и после броситься с досадою на жест-
кую постель и заснуть с тощим желудком, оттого
что какие-нибудь там жиденькие, сваренные с
свиным салом щи пролиты на пол пьяною хозяй-
кою дома,— нужно, говорю я, все это пережить и
перечувствовать, чтобы оценить всю прелесть
теплого, гостеприимного, родного уголка.... Ух!
Дай потянусь на этом кожаном стуле, в этой
горенке с окнами, выходящими в зеленый, обрыз-
ганный росою, сад, в этом раю, где я сам большой,
сам старшой, где имеет право прикрикнуть на
меня только один мой добрый батюшка... А право,
здесь настоящий рай: тихо, светло. Из сада пахнет
травою и цветами; на яблонях чирикают воробьи;
у ног моих мурлычет мой старый знакомец, серый
кот. Яркое солнце смотрит сквозь стекло и золотым
снопом упирается в чисто вымытую и выскреблен-
ную ножом сосновую дверь. Батюшка мой такой
тихий, такой незлопамятный! Если и случается
мне что-нибудь набедокурить, он покачает го-
ловою, сделает легкий упрек — и только. Между
тем, странное дело! я так боюсь его оскорбить...
А вот, помню я, был у пас учитель во втором
классе училища, Алексей Степаныч, коренастый,
с черными нахмуренными бровями и такой рябой
и корявый, что смотреть скверно. Вызовет он,
бывало, тебя на средину класса и крикнет:
«Читай!» А из глаз его так и сверкают молнии.
Взглянешь на него украдкою и начнешь изме-
няться в лице, в голове пойдет путаница, и все
вокруг тебя заходит: и ученики, и учитель, и
стены — просто диво! И понесешь такую дичь, что
после самому станет стыдно. «Не знаешь, мерза-
50
вец! — зарычит учитель,— к порогу!..» И начнет-
ся, бывало, жаркая баня... Что ж вы думаете?
Попадались такие ученики, которые, не жалея
своей кожи, находили непонятное удовольствие
бесить своего наставника. Бывало, иной ляжет под
розги, закусит до крови свой палец — и молчит.
Его секут, а он молчит. Его секут еще больнее, а он
все молчит.
Алексей Степаныч смотрит и со зла чуть не
рвет на себе волосы... Да мало ли что случалось!
Однажды ученик делал деление и до того спутался,
что никак не мог решить задачи. Стоит бёдняжка
у доски, лицо раскраснелось, по щекам текут
слезы, нос выпачкан мелом, руки и правая пола
сюртука тоже в мелу. Алексей Степаныч злится,
не приведи господи! «Ну, говорит, что ж ты!.,
решай!..» И вдруг повернулся направо. «Богоро-
дицкий! как ты об этом думаешь?» Богородицкий
вскочил со скамьи, вытянул руки по швам и,
вспомнив, что в катехизисе есть подобный вопрос
с надлежащим к нему ответом, громогласно и
нараспев отвечал: «Я думаю и рассуждаю об
этом так, как повелевает мать наша церковь».
Мы все переглянулись, однако ж засмеяться никто
не посмел. Алексей Степаныч плюнул ему в глаза
и крикнул: «На колени!» Ну, в семинарии у нас
совсем не 4то: розги почти совсем устранены, а
если и употребляются в дело, так это уж за что-
нибудь особенное. Наставники обращаются с нами
на вы, к чему я долго не мог привыкнуть. Оно
в самом деле странно: профессор, магистр духов-
ной академии, человек, который бог знает чего
не прочитал и не изучил, обращается, например,
51
ко мне или к моему товарищу, сыну какого-
нибудь пономаря или дьячка, и говорит: «Про-
чтите лекцию». Долго я не мог к этому привык-
нуть. Теперь ничего. И мне становится уже не-
приятно, иногда и вовсе обидно, если кто-либо
говорит мне ты\ в этом ты я вижу к себе некоторое
пренебрежение. Замечу кстати: мне необходимо
привыкать к вежливости, или, как говорит мой
приятель Яблочкин, к порядочности (Яблочкин
необыкновенно даровит, жаль только, что он
помешался на чтении какого-то Белинского и
вообще на чтении разных светских книг). Батюш-
ка сказал, что с первых чисел сентября я буду
жить в квартире одного из наших профессоров
с тою целию, чтобы он имел непосредственное
наблюдение за моим поведением, следил за моими
занятиями и, где нужно, помогал мне своими
советами. Этот надзор, мне кажется, решительно
во всем меня свяжет. Либо ступишь не так, либо
что скажешь не так, вот сейчас и сделают тебе
замечание, а там другое, третье и так далее. Впро-
чем, может быть я и ошибаюсь: батюшка, наверное,
желает мне добра. Стой! вот еще новая мысль:
что если этот дневник, который я намерен про-
должать, по какому-нибудь несчастному, непред-
виденному случаю попадется в руки профессора?
Вот выйдет штука... воображаю!.. Да нет! Быть
не может! Во-первых, у меня, как и прежде, будет
в распоряжении свой сундучок с замком, в который
я могу прятдть все, что мне заблагорассудится;
во-вторых, я стану писать его или в отсутствии
профессора, или во время его сна; стало быть,
опасения мои на этот счет не имеют никакого
52
основания. Жаль мне бросить эту работу! Записы-
вая все, что вокруг меня делается, быть может
я со временем привыкну свободнее излагать свои
мысли на бумаге. Прито.м сама окружающая меня
жизнь здесь, в деревне, и там, в городе, в семина-
рии, как она ни бедна содержанием, все-таки
не вовсе лишена интереса. Вчера, например, мне
случилось быть у нашего дьячка Кондратьича.
Чудак он, ей-богу! Летами еще не стар, лет этак
тридцати с чем-нибудь, выпить любит, а когда
выпьет, ему никто нипочем: и прихожанин-мужик,
и дьякон, и даже мой батюшка. Придирки свои
он обыкновенно начинает жалобою на свое не-
завидное положение: «Что, дескать, я? дьячок —
вот и все! Тварь — и больше ничего! Червяк — и
только!..» и зальется горькими слезами,— и вдруг
от слез сделает неожиданный переход к такой
речи: «Да-с, я червяк, воистину червяк! Ну, а ты,
смею тебя спросить, ты что за птица?..» Тут голос
его начинает возвышаться все более и более.
Кондратьич засучивает рукава, левую ногу вы-
ставляет вперед, правую руку со сжатым кулаком
бойко замахивает назад, словом, принимает
грозное, наступательное положение, и в эту мину-
ту к нему не подходи никто, иначе расшибет
вдребезги; если кулаков его окажется недоста-
точно, пустит в ход свои зубы, уж чем-нибудь
да насолит своему, как он выражается, врагу-
супостату. Жена Кондратьича робкая, загнанная,
забитая женщина, вдобавок худенькая, маленькая
и подслеповатая, вечно плачется на своего мужа,
жизнь свою называет мукою, себя мученицею;
муж называет ее слепою Евлампиею. Итак, гово-
53
рю я, вчера вечером случилось мне быть у Коп-
дратьича. Когда я вошел в его избу, он ходил
из угла в угол, заложив руки за веревочку, кото-
рою был опоясан, и распевал: «Взбранной воеводе
победительная, яко избавльшеся от злых...»
Посреди избы стояла большая, опрокинутая вверх
дном кадушка. «А, мое вам почтение, Василий
Иванович! — сказал Кондратьич, заметив меня на
пороге,— мое вам всенижайшее почтение, госпо-
дин философ, будущий пастырь словесных овец...
сделайте одолжение, садитесь... А что это у вас
за мешочек в руке?...» Я совершенно потерялся.
Дело в том, что батюшка приказал мне отнести
дьячихе немного пшена, но так, чтобы муж ее
этого не заметил, потому что Кондратьич, при
всей своей нищете, при всем своем безобразном
пьянстве, горд невыносимо. «Это так»,— отвечал
я, краснея. «А коли так, стало быть и пышки
в мак». Мы сели. Минуты три прошло в молчании.
Вдруг под кадушкою послышались всхлипывания.
Я взглянул на дьячка. Он преспокойно поправил
свою тоненькую, завязанную грязным снуром,
косу и отвечал: «Мыши скребут». Всхлипывания
усилились. Я вскочил, приподнял край кадушки,
и, к величайшему моему удивлению, оттуда вышло
или, правильно сказать, выползло живое суще-
ство,— это была жена Кондратьича, бледная, без
платка на голове, с растрепанными волосами. «Что
это значит?..» — спросил я дьячка. «Гм... что это
значит... да-с!» И, не спеша, вынул он свою
тавлинку, щелкнул по ней указательным перстом,
потянул в одну ноздрю табаку и с глубокомыслен-
ным видом произнес: «Жена моя увидала вас
54
в окно и, не желая показать молодому юноше
свою красоту, скрылась в эту подвижную храми-
ну. Смею вам доложить, она у меня прецеломуд-
ренная женщина!..» Разумеется, Кондратьич гово-
рил вздор. По справке оказалось, что он уже не
первый день издевается таким образом над
безответною бабою. В минуту гнева и уж, конечно,
порядочно выпивши, Кондратьич опрокидывает
кадушку там, где ее находит, то есть на дворе
или в избе, и обыкновенно кричит жене:
«Слепая Евлампия, гряди семо!..» Бедная жен-
щина, не смея ему прекословить, подползает под
так называемую подвижную храмину, а дьячок
ходит вокруг и распевает: «Взбранной воеводе
победительная...» Батюшка мой отчасти прощает
ему эти мерзости из сострадания к его жене,
которая без мужа должна будет пойти с сумою,
потому что Кондратьич, как он ни плох, все же
ее кормит, отчасти просто по доброте своего серд-
ца. Дьячок, со своей стороны, умеет заискать
кого ему нужно. На днях, когда благочинный
входил в нашу церковь, Кондратьич забежал ему
вперед. «Позвольте, позвольте!..» — «Что ты,
брат?» — «А вот-с...» — и, вынув из своего карма-
на носовой платок, услужливый дьячок смахнул
им пыль с сапог благочинного, прежде нежели
тот успел ему что-либо возразить. «Каков он
у вас?» — спросил после благочинный у моего
батюшки. «Пьет иногда и характера не совсем
покойного».— «Ну, что ж делать! Увещевай его
словом божиим. Глядишь, исправится. Один бог
без греха...» Однако пора обедать. После обеда
завалюсь спать и просплю до вечера, просто —
наслаждение!..
Вечером
Уже смерилось. С пастбища возвращается
стадо коров, покрытое облаком пыли. Пастух по-
щелкивает кнутом. Где-то вдалеке, вероятно,
какой-нибудь молодой парень наигрывает в жа-
лейку. На улице слышен скрип отворяемых и за-
творяемых ворот. Бабы, в пестрых понявах и в бе-
лых рогатых кичках, расходятся в разные стороны
от колодца. Коромысла мерно качаются па их пле-
чах, в железных ведрах светится холодная ключе-
вая вода. Солнце медленно прячется в синих тучах
за темным лесом, и его пурпуровый румянец горит
на листьях дерев, на соломенных кровлях бревен-
чатых избушек, на стеклах узеньких окон, и на по-
верхности светлого озера, окаймленного зеленым
камышом. Славная, право, картина! А уж как я
спал после обеда!., мне кажется, удар грома не мог
бы меня разбудить... Да как и не спать? Пирог, щи
с говядиной, подбитые сметаною, жареная, нали-
тая яйцами курица, творог, каша молочная — вот
что было у нас за обедом. Маменька потчевала
меня, как гостя, и я принужден был съесть не-
сколько лишних кусков единственно для того,
чтобы доставить ей удовольствие. Добрая она, пра-
во! Говорит, что я похудел в продолжение года
от усиленных занятий науками, и советует мне
беречь свое здоровье, в особенности не читать
книг по ночам, чтобы не испортить зрения. Разу-
меется, все это было сказано в отсутствие батюш-
ки, который не любит потакать лени, а главное —
не терпит, чтобы женщины мешались в дело
56
науки. Прямое назначение женщин, говорит он,—
заботы о семейном, домашнем быте, вне которого
они никуда не годны. Взгляд батюшки еще не
так строг. Другие смотрят на женщину, как на
аспида и василиска. Правда, я мало читал, но
из всего прочитанного выходит заключение такого
именно рода, что женщина — аспид и василиск...
Кто пробежит начало моих записок, без сомнения
скажет: «Что за наивность! В какие странные
рассуждения вдается писавший эти строки!» —
Так-то так, м. г., сказал бы я ему, только вы
забываете, что я связан по рукам и ногам. Если бы
я спросил о чем-либо, не прямо относящемся к
моему делу — к лекции, кого-нибудь из наших
профессоров, меня назвали бы дураком; если бы
я спросил кого-либо из моих товарищей,— более
скромный из них посмеялся бы надо мною, более
дерзкий послал бы меня к черту. На всякий
возникающий во мне вопрос, на всякое рождаю-
щееся во мне сомнение я должен искать ответа
только в самом себе. За что же лишать меня
моей единственной отрады — свободы мысли?
Если всюду и перед всеми мне приходится скром-
но потуплять глаза и покорно наклонять свою го-
лову,— по крайней мере в те минуты, когда рабо-
тает моя голова, когда перо мое не успевает
следить за быстрою мыслью, пусть я буду не-
зависим, пусть я буду человеком,- свободно про-
являющим дар своего живцго слова. В Воронеже,
говорят, появился недавно прасол-поэт. Жар и
холод пробежал по моему телу, когда в одном из
современных журналов я прочитал эти животрепе-
щущие строки:
57
Иль у сокола
Крылья связаны?
Иль пути ему
Все заказаны?..
Впрочем, из наших наставников никто не упо-
мянул о нем как о человеке, подающем какие-
либо надежды. Говорят, был знаменитый поэт
Пушкин, но я совсем его не читал. В словесности,
как образец высокого слога в поэзии, я помню
следующие, выученные мною наизусть стихи
Державина:
Се ты — веков явленье чуда.—
Сбылось пророчество, сбылось!
Меч, воссиявший из-под спуда,
Герой мой вновь свой лавр вознес.
Последнего стиха я никогда не мог произнести
свободно, потому что при чтении его у меня пере-
хватывало в горле дыхание. Вот Яблочкин, так
уж молодец по этой части! сколько он знает
наизусть стихов! Пред моим отъездом сюда он
читал мне поэму «Демон». Стихи необыкновенно
музыкальные. Перед глазами одна за другою ри-
суются картины, когда их слушаешь; но впечат-
ление, производимое целою поэмою, наводит на
странные, невыразимые мысли... Что, если бы, по
окончании курса в семинарии, удалось мне попасть
в университет... Да нет! не с моими способностя-
ми. Яблочкин — другое дело: он хоть сейчас вы-
держит университетский экзамен. «Пешком,
говорит, на Христово имя пойду, а уж буду в уни-
верситете». Я ему верю: с его настойчивым харак-
тером он все сделает. А как он смел! Однажды
58
в классе, когда профессор говорил о местопребы-
вании души в человеческом теле и решил этот
вопрос тем, что душа обитает во всем нашем теле,
Яблочкин неожиданно поднялся со скамьи.
— Позвольте предложить вам возражение,—
сказал он профессору.
— Хорошо.
— Так как в сумасшедшем человеке душа
не может проявлять разумно своего существова-
ния, а по существу своему недеятельною она быть
не может, то чем душа эта бывает занята в про-
должении иногда многих лет, то есть до самой
смерти сумасшедшего?
Профессор стал в тупик и, после долгого
молчания, сурово ответил: «Садитесь на место
и вперед прошу поменьше рассуждать, а слушать
внимательно то, что вам скажут». Яблочкин сел
читать какой-то журнал и не обращал ни малей-
шего внимания на лекцию профессора, который
говорил о Сенеке, о Сократе, о Пифагоре и уж
бог знает о ком, всех трудно припомнить... Однако
засела мне в голову эта семинария! О чем бы я ни
повел речь, непременно коснусь семинарии...
Полно! Мне еще нужно подумать о плане задан-
ного нам на каникулярное время рассуждения
на тему: «Каким образом ум, как источник идей,
может служить средством к приобретению позна-
ний?» По поводу этой темы Яблочкин сказал мне:
«Подивись, брат, нашим способностям. На ту
мудреную фразу у нас напишут некоторые по три
или по четыре листа самым мелким почерком,
а простой записки к знакомому никто из нас
не напишет толково; мало этого: десяти слов не
59
свяжут в разговоре как следует. Заметь, брат, это
и намотай себе на ус».— «Однако и ты напишешь,
когда прикажут»,— отвечал я. «Само собою так...
Воздадите кесарево кесареви».
22
Целую неделю я не брался за перо: не до
того было. Наступила рабочая пора — уборка
хлеба. Жары стоят нестерпимые. На небе нет
ни облачка. Ветер горячий. Жницы работают с
рассвета до поздней ночи. На подошвах их не-
обутых ног, которыми они смело ступают по сре-
занным стеблям ржаного колоса, трескается кожа;
на ладонях появляются мозоли, некоторые вели-
чиною в орех; лица у всех покрыты загаром и
потом; на свежие следы горячего пота ложится
сухая пыль, образует черные полосы, которые в
свою очередь покрываются новою пылью, и так
далее, и так далее... Всех мучит невыносимая
жажда, а в поле нет ни одной капли холодной воды,
потому что она на рассвете привозится из села
в жбанах или в бочонках и, по прошествии трех-
четырех часов, делается теплою, совершенно
негодною для питья. Нет и отрадной тени, куда бы
можно было преклонить усталую голову и вдох-
нуть в себя струю прохладного воздуха. Грудные
малютки, которых матери берут с собою в поле,
лежат под снопами на разостланных белых зипу-
нах, время от времени плачут, замолкают и опять
плачут. Матери торопливо кормят их грудью и
снова берутся за серп. При дороге сидят грачи
с распущенными крыльями и раскрытым клювом;
60
даже им тяжело от нестерпимого жара. Батюшка,
несмотря на свой сан, собственноручно наклады-
вает на воз полновесные снопы, подмазывает
дегтем колеса, впрягает лошадь и сохраняет при
всем этом невозмутимое спокойствие: так он рад
хорошему урожаю! Пример его и на меня дей-
ствует благодетельно. Только от непривычки к
работе к вечеру у меня страшно ломят плечи и
руки. Ночью сплю как убитый, даже и во сне ниче-
го не грезится. Сегодня, часов этак в пять, когда
жар несколько убавился и работа закипела друж-
нее, из села прискакал верхом мальчишка, без
шапки, босоногий, в оборванной рубашонке, и
своим детским языком насилу мог растолковать
батюшке, что умирает его больная мать, что нужно
ее исповедать и приобщить святых тайн. Батюш-
ка поморщился. Сердце мое сжалось, и, грешный
человек, я осудил его в душе. Очевидно, ему
жаль было терять золотое, рабочее время. Впро-
чем, нерешимость его была минутная; с моею
помощию он посбросал с телеги снопы и крупною
рысью отправился в село. Больная умерла в су-
мерки. Вечером, когда мы готовились сесть за
ужин, вошел кузнец Фома, старик, белый как
лунь.
— Здравствуй, отец Иван! Вот я сына хочу
женить...
— Знаю, знаю. Час добрый! — сказал ба-
тюшка.
— Покорнейше благодарим. Прими-ка вот,
чем богат.
Фома поклонился и поставил на стол штоф
водки.
61
— Спасибо, друг, спасибо! Только наперед
тебе самому ее надобно отведать.
— Почему не так, коли будет на то твоя ми-
лость.— Батюшка налил стакан.
— Выпей-ка на здоровье.
— Начинай, отец Иван. За мною дело не ста-
нет.
— Я бы не отказался. Ты знаешь, я не пью.
— Ну, и просить не стану. Благослови.
— Бог тебя благословит.
Фома выпил, крякнул и вытер усы рукавом
своего серого халата.
— За венчанье-то, отец Иван, ты дорого ль
с меня положишь?
— Сойдемся, друг, сойдемся.
— Вестимое дело. Все-таки мне надо рассчи-
тать, что и как...
Батюшка скоро с ним условился.
— Ну, вот,— сказал Фома,— спасибо, что не
прижимаешь; добрый ты, значит, человек, не то
что наш дьячок,— этакая дрянь, и не глядел бы
на него.
— Бог даст, исправится. Ну, каково убирае-
тесь с хлебом?
— Убираемся помаленьку. Так спешим, что
на-поди! — И, после непродолжительного разгово-
ра об уборке хлеба, Фома поклонился и вышел.
— Зачем вы взяли это вино? — спросил я у
батюшки.
— Затем, чтобы не обидеть старика. Таков
обычай.
— Ну, а зачем вы его потчевали?
— Опять таков обычай. Вот погоди, когда
62
будешь попом, да придется тебе самому плесть
плетни, чинить соху, чистить хлев, да ходить
со двора на двор с просьбою, нельзя ли, мол, вот
в том мне помочь да в этом пособить, тогда ко
всему привыкнешь.— И батюшка грустно сел за
стол, как будто вопросы мои пробудили в нем
тяжелые мысли.
30
Полевые работы идут горячо по-прежнему, и я
почти к ним привык: руки и плечи болят у меня
уже меньше. В прошлое воскресенье мы все поря-
дочно поотдохнули. Время, проведенное мною
в церкви, при слушании божественной литургии,
показалось мне особенно приятным. Мужички
стояли так тихо, так благоговейно! Ни один чело-
век не улыбнулся, несмотря на то, что дьячок
наш пел преотвратительно. При взгляде на толпу
народа в голове моей мелькнула нелепая мысль:
что, если бы я был учеником богословия? Я мог бы
надеть стихарь, в виду всех стать перед налоем
и сказать красноречивое, поучительное слово...
По выходе из церкви, на паперти, меня встретили
две чернички, одна старая, другая молодая и
прехорошенькая. Они занимаются печением прос-
фор, посещают богатых купцов в городе, которые
наделяют их разными съестными припасами,
иногда отправляются странствовать по святым
местам; на счет каких доходов? — положительно
сказать не могу. Старую черничку некоторые
мужички, в особенности пожилые бабы, почитают
за святую. Она носит на груди засаленную тетрад-
63
ку: «Сон пресвятыя богородицы» и читает ее по
складам набожным бабам; те слушают, подпирая
руками голову, вздыхают, нередко плачут и на-
граждают читалыцицу кусками холстины. Батюш-
ка смотрит на них подозрительно, но они живут,
по-видимому, так безукоризненно и так хорошо
сумели себя поставить во мнении всех прихожан,
что бояться им решительно нечего. Эти чернички
с такою настойчивостию и вежливостию просили
меня к ним зайти, удостоить их, как выражались
они, моим посещением, что мне совестно было
отказаться. В горенке у них необыкновенная
чистота. Окна вымыты и вытерты до того чисто,
что при свете солнца кажутся зеркальными. Гад-
кий сосновый пол тоже вымыт, выскоблен ножом,
и на нем не видно ни соринки. По углам пет ни
одного клочка паутины. Стены недавно обелены.
Стол покрыт белою, как снег, скатертью. Перед
иконою, убранною искусственными розовыми
цветами и оправленною блестящею фольгою,
ярко теплится лампадка. Рогачи поставлены у
порога в уголке, вероятно, с тою целию, чтобы не
всякому бросались в глаза. Их деревянные рукоя-
ти так вычищены, что подумаешь, они вышли из-
под рук искусного столяра. Из простых вопросов
молодой чернички о том, что нового в городе,
каково мне там живется, не скучаю ли я в деревне,
я заметил, что она очень неглупа. Старуха достала
между тем из маленького сундука графин красно-
го вина и поставила его на стол на круглом зеленом
подносе вместе с рюмкою. Несмотря на все мои
уверения, что я никогда не пил и не пью вина,
я не мог не исполнить желания гостеприимных
64
хозяек, когда они сказали, наконец, что я их
обижаю, что, следовательно, я ими гнушаюсь, если
не хочу выпить того, что предлагается мне от
души. Молодая черничка сидела напротив меня
и так близко, что ее горячее дыхание касалось
моего лица. Черное платье, застегнутое на груди
белою перламутровою пуговкой, расстегнулось, и
я горел от стыда и еще от другого, доселе не-
знакомого мне чувства. Совесть моя говорила
мне, что я поступаю нехорошо, что мне не следова-
ло долго оставаться в этой уютной горенке, между
тем непонятная сила удерживала меня на месте,
случайно занятом мною против молодой чернич-
ки. Приблизилась пора обеда. Я опомнился, схва-
тил фуражку и поблагодарил хозяек за их радуш-
ный прием. Они пригласили меня перед вечером
пить чай. Скажу чистосердечно, я был рад этому
приглашению, хотя и отказывался от него из
приличия.
31 утром
Нет, я не был вчера у черничек. Вся эта ночь
проведена мною без сна, в страшной, мучитель-
ной тоске. Полураздетый, я ворочался с боку на
бок в своей постели, творил молитвы,— и все
напрасно: сон убегал от моих глаз. Голова моя
горела, как в огне, подушка жгла мои щеки,
простыня обдавала меня жаром. Около полуночи
я вышел из терпения и сел к открытому окну,
думая, что ночная прохлада освежит мое пылаю-
щее лицо и приведет в порядок мои мысли. Все
было напрасно... Тускло сияли звезды на синем
3-1032
65
небе. В саду стоял непроницаемый мрак. Порою
слышался шепот сонных листьев, тревожимых
перелетным ветром. В этом шепоте мне чудились
звуки ласковой женской речи. В темноте ночи
перед моими глазами носился образ красивой,
молодой женщины. Она глядела на меня так
приветливо, с такой любовью манила меня к себе
своею белою рукой. Я боялся, что сойду с ума,
вышел на крыльцо и начал лить себе на голову
воду из висевшего там на веревочке глиняного
рукомойника. Эти строки я пишу при бледном
свете только что занимающегося утра. На .востоке
загорается красная полоса. Клочки алых, прозрач-
ных облаков быстро пролетают в голубой высоте.
В росистом саду изредка слышится шорох про-
буждающейся птички. Батюшка теперь скоро
проснется, и мы все отправимся на работу. Скорее
бы нужно в широкое поле: в этой тесной комнате
душно, как в раскаленной печи...
1 августа
Перевозка снопов окончилась вчера рано. Я был
дома еще засветло. При наступлении сумерек
умылся, почистил свое платье и пошел побродить
по селу. Уж не знаю, как это случилось, только
мне скоро пришлось проходить перед знакомым
окном, у которого сидела молодая черничка и
вязала чулок (зовут ее, как после узнал, Натальею
Федоровной). «Зайдите к нам на минутку»,—
сказала она с улыбкою, кивая мне головой. Сердце
мое сильно забилось. Я остановился в нереши-
мости — и зашел.
66
— А я целый день сижу все одна. Старуха
моя ушла к знакомой, больной бабе, верно и ноче-
вать там останется. Садитесь, пожалуйста.
Разговор наш шел сначала довольно вяло. Но
Наталья Федоровна была так находчива, что я
невольно оживился.
— Ах, какая жара! — сказала она, сбросив
с своей груди темный платок, и села со мною
рядом. Плечо ее касалось моего плеча.— Я думаю,
руки ваши от работы теперь сделались грубее,
чем были прежде. Вы были сегодня в поле?
Она взяла меня за руку и крепко ее сжала.
— Да, был,— отвечал я взволнованным голо-
сом и дрожа всем телом.
— Огонь надо зажечь,— сказала она и опусти-
ла занавеску.
В комнате стало темно.
— Помогите мне сыскать свечу... Никак ее не
найду,— говорила она со смехом,— Не тут ли она
стоит за вами?..
И лица моего опять коснулось горячее дыха-
ние, моего плеча коснулось полуобнаженное,
горячее плечо. По всему телу пробежал сладост-
ный трепет. Дыхание мое прерывалось. Я крепко
обнял обеими руками ее тонкий стан, и на губах
моих, первый раз в моей жизни, загорелся огнен-
ный поцелуй...
8
Несколько дней я не брался за перо. Теперь
горячка моя поутихла, и я могу спокойнее и глуб-
же заглянуть в свою душу. Отчего я не обратил
3**
67
внимания на это тревожное чувство боязни, кото-
рое отталкивало меня в минувшее, памятное мне
теперь, воскресенье от порога черничек? Зачем
я скрыл от своего отца мое первое с ними зна-
комство? Ясно, что я умышленно закрывал свои
глаза, чтобы не видеть того, что я должен был
видеть заранее. Ясно, что я с намерением не да-
вал воли своему рассудку... Ну, любезнейший Ва-
силий Иванович, помни этот урок! Нет, брат,
шалишь!.. Теперь каждый своей шаг ты должен
строго обдумывать. Из каждого твоего намерения,
готового перейти в дело, ты наперед обязан выво-
дить вероятные последствия. Мне кажется, в эти
дни я постарел несколькими годами. Я горю со
стыда, когда батюшка останавливает на мне свой
умный, проницательный взор, будто хочет сказать:
«Ах, Вася! нехорошее ты дело сделал!..»
Какая здесь, однако, скука, боже милостивый!
Ни одной книжонки нет под рукою, не только
порядочной, и дрянной нет. Живут же тут добрые
люди, да мало этого, и на жизнь свою не жалуются.
На днях я зашел к нашему соседу. Сердце мое
сжалось, как посмотрел я на его горемычное житье.
Стены избушки покрыты копотью; темнота, сы-
рость... Печь растрескалась. Разбитое окно зало-
жено клочком старой рогожи. Пол земляной. На
мокрой соломе хрюкает свинья; хозяин говорит,
что она заболела, так вот и взял он ее в избу.
Подле животного ползает маленькая девочка, босо-
ногая, в изорванной рубашонке. Другое, грудное,
дитя лежит в засаленной люльке, повешенной на
веревках подле печи; во рту у него грязная соска,
наполненная жидкою пшенною кашею. Жена со-
68
седа, желтая и покрытая морщинами, ходит точно
потерянная. Рот постоянно полуоткрыт; глаза
смотрят бессмысленно. Не то чтобы она глупа была
от природы, да нужда-то уж слишком ее заела.
Еще один мальчуган, лет десяти, неумытый и
оборванный, раскинулся на печи, без подушки и
подстилки, и наигрывает в жалейку, утешая себя
пронзительными звуками. Всю эту картину осве-
щала дымная лучина.
— Вот,— сказал я между прочим соседу,—
сын-то у тебя болтается без дела. Не хочешь ли,
я буду учить его грамоте, покамест здесь поживу.
Я скоро его выучу.
— Э-эх, касатик! Он свиней пасет, за это доб-
рые люди хлебом его кормят, а грамота ваша нас
не накормит. На что нам нужна ваша грамота?
Бог с нею!..
Против этого я не нашел возражений и замол-
чал.
10
Сегодня с нашим батраком Федулом, на трех
телегах, я ездил в луг за сеном. Воза так были
накручены, что лошади едва тащили их по песку.
Федул шел со мною рядом, покуривая коротень-
кую трубку. Я никогда не видал таких крепкосло-
женных людей, как наш батрак. Росту он неболь-
шого, но в плечах необыкновенно широк. Черные,
курчавые волосы, черная, курчавая борода и гус-
тые, нахмуренные над серыми глазами, брови при-
дают лицу его угрюмое выражение. Говорит он
вообще мало и никогда не смотрит на того, с кем
говорит.
69
— Л что, Василий Иванович,— неожиданно
спросил он меня,— скажи ты мне на милость,
чему вас в городе учат?
Вопрос этот меня удивил.
— Как же я тебе растолкую, чему нас учат?
Ведь ты не поймешь.
— Отчего ж не понять? Пойму.
— Ну, слушай. У нас изучают риторику, фи-
лософию, богословие, физику, геометрию, разные
языки...
— И будто вы знаете все это?
— Кто знает, а кто и не знает.
— Так. Ну, а прибыль-то какая же от вашего
Ученья?
— Та прибыль, что ученый умнее неученого.
— Вот что! Однако отец Иван косит и пашет
не лучше моего. Опять ты вот говоришь, что у вас
разным языкам учат. Отец Иван, как и ты, им учил-
ся. Отчего ж он не говорит на разных языках?
Я у вас десять лет живу, пора бы услышать.
— Да с кем же он станет тут говорить?
— Вестимо не с кем... Прибыли-то, значит,
от вашего ученья немного. Вот если бы ваш брат-
ученый приехал к нам да рассказал толком: это
вот так надо сделать, это вот как, и стало бы
нашему брату-мужику от этого полегче, тогда выш-
ло бы хорошо, а то... Ну, карий! чего ж ты стал?
Лошади подымались на гору. Карий решитель-
но отказывался идти. Федул забежал ему вперед.
«Ты коли везти, так вези, не то я дам тебе такого
тумака по лбу, что искры из глаз посыплются».
Тумака ему, однако ж, он не дал, а, упершись
своим широким плечом в зад телеги, крикнул:
70
«Ну!..», и карий свободно потянул свой тяжелый
воз.
Попадавшиеся мне навстречу молодые бабы и
девки смотрели на меня с какою-то странной улыб-
кой, и мне не раз приходилось слышать такого
рода привет: «Гляди, молодка, гляди! Попович
идет... Экой верзила!..» Правду сказать, наши ли-
хачи-парни тоже отзываются обо мне не слишком
вежливо и без особенной застенчивости находят во
мне кровное родство с известной породою молодых
домашних животных, которые обыкновенно бы-
вают и красивы и бойки, покуда еще незнакомы с
упряжью. Мне кажется, я никому и ничем не по-
давал здесь повода к этим насмешкам и никому
не сделал зла; откуда же взялась это обидное пре-
небрежение к моей личности? Вероятно, оно явля-
ется благодаря существованию какого-нибудь Кон-
дратьича и ему подобных. Жаль, что нашему брату
от этого не легче. Нет, скверно тут жить!..
13
Скука моя растет день ото дня. Поутру сверху
донизу я перерыл все в своем сундучке, думая
найти в нем какую-нибудь забытую книжонку или
исписанную тетрадь. Ничего не отыскал! Развер-
нешь одно — учебная книга; развернеЩь другое —
знакомые лекции: логика, психология, объяснения
разных текстов... все это известно и переизвестно...
Быть по сему. Буду от нечего делать опять про-
должать свой дневник. Но, если бы пришлось
мне пожить здесь долгое время, полагаю, наверное,
71
я ограничился бы тем, что вносил бы в него сле-
дующие краткие заметки: сегодня мы были в поле,
или сегодня было то же, что вчера, или сегодня
ничего особенного не случилось, и так далее,
все в этом же роде... Что прикажете делать? Чем
богат, тем и рад... Итак, продолжаю.
В доме нашем идет страшная возня: приготов-
ление к храмовому празднику, то есть ко дню
Успения пресвятыя богородицы. Моют окна, две-
ри, полы и прочее, и прочее. Федул хлопочет на
дворе: зарезал несколько кур, зарезал трех гусей,
зарезал барана, теперь приготовляется снимать
кожу с теленка и по поводу этой резни находится
в отличном настроении духа, сыплет шутками и
с каким-то особенным удовольствием вонзает
свой острый нож в теплое мясо животного, уми-
рающего в судорогах перед его глазами. Матушка
беспрестанно сердится на кухарку, кричит, что она
ленива и ничего не понимает. «Ну, что ж, ленива,
так и ленива!» — ответит кухарка и с таким оже-
сточением начнет скрести ножом сосновую дверь,
что скрип железных петлей становится слышен
на весь дом. Или скажет: «Ну, что ж, глупа, так
и глупа!» — и сунет с необыкновенною скоростию
в устье печи горшок или чугун, станет к ней
задом и время от времени тяжело вздыхает: «Ох,
хо, хо! житье, житье!..» Батюшка не мешается ни
во что. Молвит иногда матушке: «Потише, по-
падья, потише!..» и пойдет к своему делу. Ма-
тушка тотчас же притихнет. Вообще она ему во
всем безусловно покоряется. Теперь вопрос: где
взять вилок?— окончательно ее добивает. У нас
вилок одна только пара, а гостей будет много.
72
Для благочинного, приглашенного совершать
литургию, решено приготовить его любимое блюдо:
жареного поросенка, начиненного гречневою ка-
шею, с гусиным жиром, с перцем, с луком и еще
с чем-то, уж право не знаю. Для гостей второго
разряда, за неимением особой спальни, очищена
баня, в которой на полу и на полку постлано
свежее, душистое сено. Что касается меня, никак
не придумаю, на что бы употребить мне свободное
время. По крайней мере, хоть бы спалось поболее,
все было бы лучше,— так нет: лежишь до полночи
с открытыми глазами и, рад не рад, слушаешь
лай или вой голодных собак.
17 ночью
Наш храмовой праздник окончился. Слава тебе,
господи! Гости разъехались. Ворота затворены.
В доме глубокая тишина. Ну, и было же с ними
хлопот! Первый обед, за которым присутствовали,
благочинный и человек пятнадцать нашей родни,
прибывшей с разных сторон, за несколько десятков
верст, прошел без особенных историй и шума.
За обедом батюшка выбирал для благочинного
самые лучшие, самые жирные куски мяса, пов-
торяя: «Покорнейше прошу отведать. Сделайте
одолжение, коли что дурно, не осудите: все, знаете,
свое, домашнее...», и усердно потчевал его вином.
«Отведаю, отведаю,— говорил благочинный,—
пожалуйста, меня не торопи. Тише едешь, дальше
будешь...» И в самом деле он не торопился: рас-
сказывал разные анекдоты, отирал крупный пот
на своем лице и медленно опоражнивал новое
блюдо. Матушка измучилась, упрашивая и кла-
73
няясь за каждою рюмкою. Гостьи пили, по-види-
мому, единственно из приличия, с большой не-
охотою. Но в половине стола сами начали просить
вина разными намеками: гусь-то, мол, по сухой
земле редко ходит, или утка-то, без воды не любит
жить... и тому подобное. Все эти свахи, двоюродные
и троюродные сестры и сватовы жены вели неумол-
каемый бестолковый разговор, и, по окончании
обеда, некоторые из них запели песни с припевом:
Ай, люди! Ай, люли!
Ай, люшунки! Ай, люли!..
Тогда как в другом углу раздавалось хлопанье
ладоней под веселую песню:
У ворот гусли вдарили,
Ой, вдарили, вдарили!
Ой, вдарили, вдарили!..
Батюшка чувствовал сильную усталость, а
между тем не смел свободно сесть или облоко-
титься на стол в присутствии своего начальника,
внимательно слушал его россказни и почтительно
соглашался с его приговорами: «это совершенная
истина!» или «как вам этого не знать! Вам лучше
нашего это известно...» Один только мещанин,
дальний родственник матушки, держал себя неза-
висимо и крепко ударял об стол кулаком, приго-
варивая: «Мы знаем, у кого гуляем! Ну, вот и все...
и мое почтение!.. Так, что ли, отец Иван? Верно!..»
По выходе из-за стола благочинный осматривал
наше гумно, ригу, огород, на котором спеют дыни,
и прочие домашние постройки. Батюшка сопро-
вождал его с открытою головою. Что прикажете
74
делать! Благочинный, говорят, самолюбив и не
задумывается чернить того, кто ему не нравится.
Лошади его были накормлены овсом до последней
возможности. Кучер едва ворочал языком. Лицо
его походило на красное сукно. С отъездом началь-
ника батюшка повеселел и сделался разговор-
чивее. В сумерки независимый мещанин так на-
сытился, что упал среди двора и бормотал околес-
ную: «Какой безмен? на безмене не обвесишь...
а вот пенька твоя гнилая. Оттого и не доплачено...
верно! ступай к черту!..» Батюшка терпеть-не мо-
жет, когда упоминается дьявольское имя. Он по-
дошел к полусонному гостю и сказал:
— Эй, любезный! любезный! перекрестись!
— Проваливай к черту! — ответил мещанин и
перевернулся на другой бок.
Федул еще с утра был навеселе и все приставал
к батюшке, чтобы он дал ему денег.
— Пожалуйста, выйди вон,— отвечал ему ба-
тюшка,— ты видишь, у меня чужие люди.
— Это уж твое дело,— говорил Федул, расто-
пырив руки, как крылья.— Я сказал, что хочу
выпить, ну — и кончено!..
Батюшка дал ему четвертак. Федул положил
его на свою широкую ладонь, подбросил вверх и
так крепко ударил по ней другой ладонью, что
одна старушка-гостья плюнула и сказала: «Вишь,
как его, окаянного, разбирает!..» Вечером я вышел
на крыльцо, но — увы! — сойти с него не мог.
Федул* сдвинул с места большой самородный ка-
мень, служивший ступенью, и катал его по двору.
— Дурак! что ты делаешь?— крикнул я на
Федула.
75
— Камень катаю. Человека ломать — грех: не
вытерпит, а камень вытерпит, вот я его и ворочаю,
да! руки чешутся, оттого и ворочаю.
— Положи его на место. С ума ты сошел!
— Не спеши. Покатаю и положу.— Он так и
сделал.
На следующие дни повторилась та же история
еды и питья с небольшими изменениями. Очи-
щенная для гостей баня оказалась ненужною: они
провели ночь как попало и где пришлось, то есть
на местах, где кого убил наповал могучий хмель.
Повторяю опять: слава тебе, господи! Все разъеха-
лись!..
26
Время, однако, идет да идет своим чередом.
Мне уже недолго остается жить в деревне, бить,
как говорится, баклуши. Да и пора отсюда! Вечно
слышишь разговоры о пашне, о посевах, заботы
о том: упадет ли вовремя дождь, сколько мер дает
из копны рожь, сколько греча, и прочее, и прочее.
У того-то заболела овца. Соседа Кузьму видели в
новых сапогах. Об этом тоже разговаривают, и
некоторые смотрят на Кузьму с завистью. Тетка
Матрена сушила на печи лен и чуть не сожгла
избы,— все это переходит из уст в уста и возбуж-
дает разные толки. Матушка опечалена предстоя-
щей со мною разлукою, приготовляет мне жирные
пышки, сдобные сухари и разные крендели.
Отъезд назначен завтра. Несмотря на скуку, ко-
торая на меня напала здесь в последние дни, я
с грустью обошел знакомые поля, побывал и в
76
лугу и в лесу и,— стыдно сказать,— проходя мимо
окон черничек, остановился в раздумье... Окно
было занавешено. Калитка была заперта. А что,
если бы Наталья Федоровна сидела под окном
и позвала меня в свою светлую горенку, ужели
бы я отказался с нею проститься?.. Признаюсь,
во мне все-таки таится задняя мысль, что эти
страницы могут попасть в чьи-либо руки. Я не
смею высказать того, что творится теперь и что
творилось прежде в моей душе... Дорого мне стоило
сдержать свое честное слово, много я вынес тос-
ки и борьбы, но — я его сдержал: я уже не видал
более милой Наташи... Только уехать отсюда
нужно скорее, непременно скорее, иначе силы мои
упадут. Итак — в город. И потянется снова одно-
образная семинарская жизнь. И пойдут бесконеч-
ные уроки, замечания, выговоры и... полно заранее
горевать! До свидания, родной мой уголок! Спа-
сибо тебе за приют, за тот покой, которым ты меня
окружал. Быть может, по прошествии года, снова
приведет меня бог сидеть у этого, отворенного в сад,
окна, смотреть на эту темную зелень и вдыхать
запах росистой травы, и, быть может, снова войдет
в мою комнату, как входит она теперь, наша
молчаливая кухарка и молвит, почесывая по при-
вычке спину: «Василий Иваныч! самовар подали.
Иди!..»
1 сентября
Ну, вот мы и в городе. Стоим покамест на
прежней квартире, в старом домишке сварливой,
неопрятной мещанки, которая, узнав, что я не буду
77
более ее жильцом, насчитывает на батюшку лиш-
ние два рубля. «Давай, говорит, давай. Небось
не обеднеете! Вы сами дерете с живого и с мертво-
го...» Батюшка уже был у профессора и условился
с ним в цене, но что-то хмурит брови: верно, моя
новая квартира обойдется ему не дешево. Яблоч-
кин ушел от меня недавно. Но знаю, потому ли,
что я его несколько времени не видал, лицо его
показалось мне страшно худо и бледно. Но как
он бывает хорош, когда начинает с увлечением
о чем-нибудь говорить! Голубые глаза горят, щеки
покрываются яркою краскою, белокурые, вьющие-
ся от природы волосы закидываются назад и от-
крывают белый, широкий лоб. Сообразно настрое-
нию души, черты лица меняются ежеминутно.
Во время разговора все члены его приходят в дви-
жение.
— А, Белозерский!— воскликнул он, отворяя
дверь в мою комнату,— приехал? ну, молодец!
Давай руку. Эх, дружище! Как тебя в деревне-то
откормили; вот что значит батюшкин да матушкин
сынок, не то что наш брат, сын пономаря и круглый
сирота. Как поживаешь?
— По-прежнему,— отвечал я.
— С одинаковым душевным спокойствием?
Ну, и прекрасно. Это в тебе наследственная доб-
родетель. Отец твой, как ты сам не раз говорил,
тоже ничем не возмущается. Главное, ты умный
и добрый малый, за что я от души тебя люблю.
А знаешь ли что? На днях я познакомился с одним
молодым человеком, окончившим курс в Москов-
ском университете; он служит здесь чиновником.
У него прекрасная библиотека. Хочешь, душа
78
моя, читать? как сыр в масле будем кататься.
— Еще бы не хотеть! Давай только книг по-
лучше!
— Ох, ты! получше... вкус-то у тебя немножко
испорчен. Ну, да исправится со временем, ничего.
— Где ты провел каникулы?
— В деревне одного помещика. Учил его рото-
зея-сынишку первым четырем правилам арифме-
тики. Ну, душа моя, помещик! Представь себе
откормленного на убой быка, с черными щетини-
стыми усами, с угреватым расплывшимся лицом,—
вот его портрет. Чем, ты думаешь, он занимается?
Лежит на мягком диване, в вязаной красной
ермолке, в шелковом халате, в пестрых туфлях,
и насвистывает разные марши. «Гришка! Подай
трубку!..» Заметь: стол стоит у его изголовья,
на столе табак и трубка. Чего бы, кажется, кри-
чат&? Этот Гришка до того загнан и запуган, что
совсем почти потерял дар слова и движется с
потупленной головою и унылым лицом, как живая
кукла. Такой проклятый бык, ни одного журнала
не выписывает! Дочка у него тоже замечательное
в своем роде создание: раздавит кто-нибудь при
ней муху — она чуть не падает в обморок; увидит
на своем платье козявку — поднимает крик. Од-
нажды вечером влетел в комнату жук. Барышня
взвизгнула. Сенные девки, с вениками и с полотен-
цами в руках, начали метаться из угла в угол за
бедным насекомым. Наконец победа была одержа-
на: жук вылетел в окно. Барышня приняла лав-
ровишневых капель и легла в постель. В доме
все притаило дыхание; даже бык на некоторое
время перестал насвистывать свои марши.
79
— Ну что ж, ты не поссорился с ними?
— Нет, выдержал. А солоно было! На первых
порах барину угодно было посылать меня за водой.
«Молодой человек, принесите-ка мне воды!» Я ог-
раничивался тем, что передавал его приказания
в переднюю: «Григорий! барин требует воды».
Или: «Молодой человек, набейте-ка мне трубку!»
Я опять отправлялся в переднюю: «Григорий!
барин требует трубку». И тому подобное. С это-
го времени барская спесь перестала рассчитывать
на мою холопскую услужливость. Однажды я чи-
тал стихотворения Шенье. Одно из них произвело
на меня такое впечатление, что я позабылся и
сказал вслух: «Что это за прелесть!» — «Чем вы
восхищаетесь?» — спросила меня слабонервная
барышня. Я показал ей прочитанные мною строки.
«В самом деле очень мило».— «Переведи, Наташа,
по-русски,— промычал бык,— я послушаю». На-
таша попробовала перевести и не смогла. «А ну-ка
вы, господин учитель». Я перевел. Бык взбесился.
«Как, черт возьми! Какой-нибудь кут... (он хотел
сказать: кутейник, но поправился), какой-нибудь
молодой человек, учившийся на медные деньги,
свободно владеет французским языком, а у нас
пять лет жила француженка, и ты не можешь пе-
ревести стихотворения,— а?.. После этого пусть
дьявол возьмет всех ваших гувернанток! Вот
что!..» Барышня долго на меня дулась за то, что я
будто бы хотел порисоваться перед ее папашею...—
Нет ли у тебя чего-нибудь покурить?
— Ничего нет. Ты знаешь, я почти не курю.
— Скупишься, душа моя,— это скверно!
— Что ж делать! Батюшка и без того жалуется
80
на большие расходы. Поздравь меня, Яблочкин: я
буду жить у нашего профессора К.
— Будто? Ты не шутишь?
— Нисколько. Так угодно моему батюшке.
— Жаль, верно, старик твой еще не утратил
раболепного уважения к бурсе и думает, что
всякий профессор есть своего рода светило —
vir doctissimus.
— Что ж ты находишь тут дурного?
— А то, что в квартире своего наставника ты
займешь должность камердинера, разумеется, если
ему понравишься, а не понравишься — займешь
должность лакея.
— Ну, далеко хватил! Увидим!
— Увидишь, душа моя, увидишь! Во всем этом
я вижу только одну хорошую сторону: квартира
твоя как раз против моей, стало быть, ты можешь
навещать меня, когда тебе вздумается. У меня
теперь пропасть дела. Старушка-чиновница, у ко-
торой я живу и с сыном которой приготовляюсь
вместе поступить в университет, ежедневно мне
повторяет: «Трудитесь, молодой человек, труди-
тесь! Поедете, бог даст, с моим Сашенькою в
Москву, я и там вас не забуду». Такая добрая!
— Итак, ты наверное едешь в университет?
— Наверное. Советую и тебе то же сделать.
— Я бы не прочь. Батюшка не позволит. Он
не хочет, чтобы я выходил из духовного звания.
— Врешь! Доброй воли у тебя недостает —
вот и все! Проси, моли, плачь... что ж делать!
Не позволит!.. Я круглый сирота, а видишь, не
вешаю головы! Горько иногда мне приходится, но
когда подумаю, что я пробиваю себе дорогу без
81
чужой помощи, один, собственными своими сила-
ми, что кусок хлеба, который я ем, добыт моим
трудом, что перо, которым я пишу, куплено на
мою трудовую копейку, что я никому не обязан
и ни от кого не зависим,— и на глазах моих высту-
пают радостные слезы... Разве это не отрадно?..
Однако прощай! Мне некогда.
После этого разговора я долго сидел в раздумье
и ничего не мог придумать. Я знаю, что батюшка
меня не послушает. А такой непреклонной воли,
такой энергии, как у Яблочкина, у меня нет.
Видно, мне придется идти беспрекословно по той
дороге, которою идут другие, подобные мне, тру-
женики.
2
Утром, вместе с батюшкою, я был у профессора
Федора Федоровича К. Признаюсь, сердце сильно
забилось в моей груди от какой-то глупой робости,
когда в первый раз я переступил порог его перед-
ней. О нас доложил мальчуган, одетый в нанковый,
с разодранными локтями, бешмет. «Пусть вой-
дут»,— послышалось за дверью. Мы вошли. Это
был кабинет профессора. Он сидел за письменным
столом и курил папиросу. На коленях его мурлы-
кал серый котенок. С жадным любопытством
осматривал я эту комнату, это недоступное мне
доселе святилище. Над диваном висели, в деревян-
ных рамках, за стеклами, засиженными мухами,
портреты неизвестных мне духовных лиц. В ма-
леньком шкапе на одной только полке стояло
несколько учебных книг; две остальные полки
были пусты. На столе лежали разбросанные тет-
82
радки и засохшие перья. Занавески на окнах по-
темнели от пыли. Вообще комната не отличалась
особенною чистотою. «Садитесь, отец Иван, без
церемонии»,— сказал профессор, не трогаясь с
места, не переменяя ни на волос своего покойного
положения, вероятно из опасения потревожить
дремавшего котенка. Батюшка, прежде нежели
сел, указал на меня и поклонился в пояс профес-
сору. «Отдаю его вам под ваше покровительство.
Учите его добру и наблюдайте за его занятиями.
Покорнейше вас прошу», и опять последовал низ-
кий поклон. «Хорошо, хорошо! Потакать не ста-
нем. Впрочем, он из лучших учеников; следова-
тельно, при моем надзоре, вы можете быть спо-
койны насчет его дальнейших успехов».— «По-
корнейше вас благодарю!» — отвечал батюшка и
опять поклонился. Профессор встал и отворил
дверь налево. «Вот комната, которую будет за-
нимать ваш сын». Комната оказалась не более
четырех квадратных аршин, с тусклым окном,
выходившим на задний двор. Подле стены стояла
узенькая кровать, когда-то окрашенная зеленою
краскою. Своею отделкою она напоминала мне
кровати нашей семинарской больницы. Под задни-
ми ножками были подложены кирпичи, потому что
они были ниже передних. В углу висел медный
рукомойник, под которым на черной табуретке
стоял глиняный таз, до половины налитый грязной
водою. Стены были оклеены бумажками, которые
во многих местах отклеились и висели клоками.
«Приберется, хорошая будет комната,— сказал
профессор,— пусть только занимается делом. Ме-
шать ему здесь никто не станет...» — «Это главное,
83
это главное!— повторил батюшка,— об удобстве не
беспокойтесь. Мы люди привычные ко всему».—
«И прекрасно! пусть с богом переезжает». «Когда
прикажете?» — «Хоть сейчас, мне все равно. Ска-
жите вашему сыну, чтобы он поприлежнее зани-
мался, а голодать за моим столом он не будет:
я люблю хорошо поесть. Что вы делали во время
каникул?» — Последние слова относились ко мне.
Я покраснел. Сказать прямо, что я возил снопы,
казалось мне как-то неловко. «Почти ничего»,—
отвечал я. «Это дурно! Надо трудиться: без труда
далеко не уедешь».— «И я ему то же внушаю»,—
сказал батюшка.— «Так и следует. Вы думаете,
мне вот легко досталось, что я вышел в люди?
Нет, не легко! Шестнадцать лет я не разгибал
спины, сидя за книгами, да никакой твари не оби-
дел ни словом, ни делом. У нас заносчивостию не
возьмешь. Это, молодой человек, вы примите себе
к сведению. Иначе целый век будете перезванивать
в колокола и распевать на клиросе».— Во время
этой речи профессор сидел и поглаживал рукою
котенка. Мы почтительно стояли у порога. Ба-
тюшка тяжело вздыхал. «Прошу вас не оставить
его своим вниманием».— «Хорошо, хорошо!» За-
тем мы поклонились и вышли.
На обратном пути батюшка внимательно рас-
сматривал огромные вывески на каменных домах,
читал их и торопливо давал дорогу всякому поря-
дочно одетому человеку. Мне кажется, он немнож-
ко как бы одичал, живя безвыездно в своей деревне.
Отдохнув несколько в горенке нашей старой квар-
тиры, где, кроме нас, не было ни одной души,
он сказал мне: «Ну, Вася, тебе уже девятнадцать
84
лет; стало быть, ты можешь понимать, что хорошо
и что дурно. Учись прилежно. Старших слушай и
береги деньги. Я их не жалею и помещаю тебя к
профессору, желая тебе добра. Смотри же, не
обмани моих надежд!» Мне было что-то очень
грустно. «Батюшка,— сказал я.— Яблочкин едет в
университет. Позвольте и мне с ним туда же при-
готовиться».— «Пусть он едет. Час ему добрый.
А ты пребывай в том звании, для которого ты
призван, и мечты свои оставь, если не хочешь
меня обидеть». Я утер украдкою слезу и начал
собираться к переезду на новую квартиру.
3
Вот я и на новоселье. Батюшка отправился
домой ночью, потому что спешил к посеву ржи.
Сегодня в первый раз мне пришлось обедать за
одним столом с профессором. У меня не достает
слов выразить, в какое затруднение поставил меня
этот обед! На столе стояли два прибора, и каждый
был накрыт особою салфеткою. Я решительно не
знал, что мне с нею делать и куда мне ее положить.
Спасибо, что профессор вывел меня из замеша-
тельства своим примером. Далее дошло дело до
серебряной ложки, похожей на лодочку, тогда как
я привык обходиться с деревянною, круглою. Не-
ловко без привычки, да и только! Того и смотри,
что оболью щами или скатерть, или свой атласный
черный жилет. Когда мне пришлось взять на свою
тарелку кусок жареного мяса и разрезать его,
я сделал-таки глупость: брызнул на белую ска-
терть подливкою и окончательно потерялся. Мои
85
длинные ноги, казалось, стали еще длиннее. Я не
знал, куда их девать. Попробовал протянуть их
свободно под столом, но — увы! — толкнул ножку
стола и коснулся ноги профессора. Подумал, по-
думал — ис величайшей осторожностью поместил
их под свой стул. К счастию, в продолжении
обеда профессор почти ничего не говорил, иначе
как бы я мог соображать ответ и в то же время
управляться с ножом и вилкою?.. Прислуживала
нам старая кухарка, одетая опрятно и, как видно,
хорошо знающая свое дело. Из-за стола я вышел
голодным, потому что не смел дать воли своему
аппетиту, не желая показаться человеком, никогда
не видавшим порядочного куска. Проклятая за-
стенчивость!..
— Ну, Белозерский, дай-ка мне папиросу; они
вон на окне лежат,— сказал мне Федор Федорович,
выходя из-за стола,— да, пожалуйста, будь пораз-
вязнее и уж извини, брат, что я начинаю с тобою
обращаться на ты. Смешно же нам церемониться:
ты проживешь у меня не один день...
Так, подумал я, вот и первое сближение учени-
ка с профессором. Посмотрим, что будет далее.
— Позвольте узнать, что вы посоветуете мне
прочитать ио части философии?
Он рекомендовал мне следующее:
Опыт науки философии, Надеждина;
Опыт системы нравственной философии, Дроз-
дова;
Опыт философии природы, Кедрова, и несколь-
ко разных руководств по логийе и психологии.
— Все это,— сказал он,— вы можете спросить
в семинарской библиотеке.
86
«Ну,— подумал я, — эта песня потянется на-
долго. Библиотекарь, занимающий вместе с тем и
должность профессора, когда попросишь у него
какую-нибудь книгу, или отзывается недосугом,
или тем, Что ключ от библиотеки забыт им дома,
или, когда бывает не в духе, просто откажет так:
«Вы просите книги, а, наверное, урока не знаете...
Читатели!.. Трепать берете, а не читать... ступайте,
откуда пришли!..»
В продолжении этого дня у Федора Федоровича
немало перебывало лиц нашего духовного сосло-
вия. Он принимал их не одинаково. Одних пригла-
шал в гостиную и указывал на стул, говоря:
«Садитесь без церемонии. Ну, что у вас нового?
Каково уродился хлеб?» (последний вопрос он
предлагал почти всем; желал бы я знать, что ему
за дело до урожая?) Другие останавливались на
пороге гостиной и объясняли ему свои нужды в
таких робких выражениях, сопровождая.их такими
глубокими поклонами, принимали на себя такой
уничиженный, раболепный вид, что мне вчуже
становилось досадно и горько. Федор Федорович
ходил по комнате, играя махрами своего шелко-
вого пояса (вероятно, он никогда не снимает в
комнате своего халата), некоторым обещал свое
покровительство; некоторым говорил: «Не могу, не
могу! Тут не поможет мое ходатайство». Осталь-
ных выслушивал в передней и, бросив быстрый
взгляд на какое-нибудь замасленное, потертое
полукафтанье, отрывисто восклицал: «Некогда!
приходи в другое время!» Наконец за одним дьяч-
ком просто захлопнул дверь, сердито сказав: «На-
доели! всякая дрянь лезет!..» Заглянув случайно
87
в кабинет, я увидел под письменным столом не-
сколько бутылок рому, голову сахару, а на столе
два фунта чаю. Кстати о чае. После вечерни,
когда был подан самовар, Федор Федорович послал
меня за табаком. «Вот, говорит, тридцать копеек
серебром; возьми четвертку второго сорта турецко-
го, только смотри — среднего, а не крепкого». Та-
баку я купил, но возвратился промокшим до кос-
тей, потому что дождь поливал, как из ведра.
— Ну, что,— сказал он,— промок?
— Ничего,— отвечал я.
— Выпей вот чашку чаю.
Чай был уже холоден и так жидок, что походил
на мутную воду; однако ж я не смел отказаться,
выпил и опрокинул чашку. «Не хочешь ли еще?»
Я поблагодарил и отказался. Федор Федорович
положил в жестяную сахарницу возвращенный
ему мною кусочек сахару, замкнул ее и приказал
мальчику прибрать самовар.
После ужина, за которым я сидел уже несколь-
ко смелее, Федор Федорович вышел в переднюю,
остановил маятник стенных часов, чтобы он не
беспокоил его ночью своим стуком, и дал мне
медный подсвечник и сальную свечу. «Если нуж-
но, можешь зажечь». Тут он заметил дремавшего
на стуле мальчугана, которого зовет Гришкою, и
дернул его за вихор. «Пошел, чертенок, в кухню.
Видишь, нашел место, где спать!» Комната моя
при месячном свете сквозь тусклые стекла, пока-
залась мне пустым, заброшенным чуланом. Я по-
пробовал отворить окно: с заднего двора пахнуло
навозом, и я с досадою его закрыл. Лег на свою
жесткую кровать, но заснуть не мог: воображение
88
мое работало неутомимо. Мне вспомнились наши
знакомые поля, покрытые желтою рожью, моя
светлая, уютная горенка и темный кудрявый
сад. И вот яснее и яснее возник передо мною образ
улыбающейся женщины, забелелось ее открытое
плечо, и я почувствовал крепкое пожатие нежной
руки. «Что со мною»,— подумал я и приложил
руку ко лбу; лоб горел, как в огне. «Неужели я
простудился? Нечего сказать, не весело мое ново-
селье». И медленно и тихо поднялся я с кровати,
чтобы не разбудить спавшего профессора, зажег
свечу и написал эти строки.
5
Теперь снова за труд. Все начинает входить
в свою обыкновенную колею. Сегодня поутру в на-
шей семинарской церкви был торжественный мо-
лебен, на котором присутствовали профессора и
почти все ученики. После того как дьякон про-
возгласил многолетие всем учащим и учащимся,
хор певчих привел в восторг большую часть слу-
шателей своим чуть не сверхъестественным кри-
ком; в особенности отличались басы. Из церкви
ученики разошлись по классам. Вслед за толпою
моих товарищей вошел и я в наш философский
класс, дверь которого отпер нам седой сторож,
отставной солдат, с лицом, изрытым оспою. Эти
каменные, громадной толщины стены, покрытые
зеленою краскою, эти белые, местами растрескав-
шиеся своды потолка, эта высокая печь, никогда не
затапливаемая в зимнее время и существующая
89
неизвестно для какой цели, эти окна с железными
решетками, эти черные, изрезанные перочинными
ножами, столы с обтертыми скамьями и широкая
черная доска, утвержденная отлого на трех нож-
ках,— все это показалось мне так знакомо, будто
я был здесь назад тому не более двух дней. Воздух
сырой, как в подвале, и все вокруг покрыто слоями
густой пыли. На доске кому-то вздумалось вывести
пальцем: терпение — великая добродетель, и слова
эти вышли чрезвычайно отчетливо. В классе нача-
лись, по обыкновению, толкотня, пересаживание
с места на место, прыганье через столы, ходьба
по ним и смутный, бестолковый шум. В одном
конце какая-то забубенная голова напевала впол-
голоса: «Я не думала ни о чем в свете тужить»,
в другом кто-то выводил густым басом: «Многая
лета! мно-га-я ле-е-та!» — «Куда ты к черту ле-
зешь?— раздается громкий крик,— ногу отда-
вил!» — «А ты не расставляй их»,— отвечал
сиплый голос. Я занял свое четвертое место на
скамье первого стола. «Слышишь, Краснополь-
ский!— сказал ученик, перегнувшись через мою
спину.— Ты, брат, зачем же увез в деревню моего
Поль-де-Кока?» — «Забыл отдать, ей-богу за-
был!» — отвечал Краснопольский, торопливо до-
едая мучную булку. «Дай-ка, брат, мне булки-то
немножко. Есть, что ли?» — «На вот».— «А
стоишь на прежней квартире?» — «Нет, хозяйка
отказала».— «Отчего отказала?» — «У меня, го-
ворит, теперь дочь на возрасте». Ученики захо-
хотали. Краснопольский обратился ко мне: «Ты
куда пойдешь после класса?» — «На квартиру»,—
сказал я. «Пойдем-ка лучше в трактир чай пить,
90
вот что за нашею семинариею, там мало бывает
народу».— «Нет, не пойду»,— отвечал я.— «Ну,
как хочешь. Ты где стоишь?» — «У нашего про-
фессора». Краснопольский вытаращил на меня
глаза. «У Федора Федоровича?» — «Да». Товарищ
мой почесал за ухом и молчаливо отвернулся в
сторону. Странно! вот что значит покровитель-
ство наставника... Этак, пожалуй, и все станут
посматривать на меня недоверчиво... «Тссс... по
местам!» — сказал кто-то. И вдруг все пришло в
порядок. Дверь отворилась, и Федор Федорович
вошел. Один из учеников, среди глубокого мол-
чания, прочитал «Царю небесный», после чего наш
наставник кивнул слегка на все стороны головою:
«Садитесь!» Смотря на выражение его лица, на его
манеры и поступь, я никак не мог понять, откуда
явилась в нем эта перемена. Федор Федорович дома
и здесь — это две совершенно противоположные
личности. Там он и говорит просто, и ходит как
мы все ходим, и на лице его нет чувства собствен-
ного достоинства, а в классе и лицо у него другое,
и манеры другие, и поступь другая, и даже голос —
решительно не его голос. Сию минуту видишь,
что это профессор, а не простой человек, Федор
Федорович. И вот, подняв голову и помахивая пра-
вою рукою, в которой держал шляпу, он прошелся
взад и вперед по классу, взъерошил свои волосы:
все тотчас сметили, что будет сказана речь, и вста-
ли. Он начал: «Господа! я не буду говорить вам
об отеческой заботливости и неусыпном попечении
вашего начальства, благодаря которым вы так
долго отдыхали после учебных занятий. Равным
образом я не буду говорить о той важной обязан-
91
ности, которая ожидает вас впереди и к которой
может привести вас одно только безукоризненное
поведение, неразрывно соединенное с постоянным
трудом. Все это вам самим должно быть известно.
Скажу одно: силы ваши теперь освежились.
Итак.— вам предстоит с новым рвением взяться
за труд, ожидающий вас на широком поле науки.
Что касается меня, я употреблю все зависящие
от меня средства, чтобы не пропало даром то
время, которое вы проведете со мною в этих сте-
нах...» И он торжественно указал левою рукою на
стены. «Садитесь!» Мы сели. Сел и Федор Федо-
рович к своему четырехугольному столику и вынул
из бокового кармана своего сюртука небольшую
тетрадку. Это были его собственные, или, лучше
сказать, академические записки о психологии, по
которым когда-то учился он сам и которые пе-
ределывает и сокращает теперь для нас. После-
довало медленное чтение. Федор Федорович взве-
шивал каждое слово, как иной купец взвешивает
на руке червонец, пробуя, не попался ли ему фаль-
шивый. «Самонаблюдение, какого требует психо-
логия, по-видимому, не представляет собою заня-
тия трудного, потому что предмет самонаблюдения
для каждого человека есть он сам. Но то самое об-
стоятельство, от которого зависит, по-видимому,
легкость психологических исследований, что каж-
дый человек есть сам для себя и предмет и содер-
жание психологических наблюдений, составляет
одну из главнейших трудностей в деле самонаблю-
дения, потому что человек меньше всего знает то,
что он есть. Чтобы наша душа могла наблюдать са-
му себя, для этого ее мысль, ее сознание должны
92
быть обращены на нее же саму, между тем:
А) познание, приобретаемое нами таким образом
о нашей душе, совсем не так ясно, как познание
о внешнем мире и других предметах. Познание
об этих предметах может быть нам ясным оттого,
что они противопоставляются нашей душе как
отличное от нее; но наше я не может противопоста-
вить самого себя себе, как внешний предмет.
Правда, что при самонаблюдении возможно раз-
двоение некоторым образом и самопротивопостав-
ление нашего сознания, потому что, кроме акта
наблюдения, должны также продолжаться дейст-
вия наблюдаемые; но при таком разделении соз-
нания обыкновенно ослабляется сила и живость
наблюдаемых им психологических явлений. Тогда
как во внешнем мире предметы представляются
нам в раздельности, мир внутренний является пред
внутренним оком в совершенном смешении..»
Я привожу здесь этот отрывок из лекции с тою
целию, чтобы он поглубже, так сказать, засел
в мою голову. Объяснение раздвоения нашего
сознания и самопротивопоставления нашего я, к
сожалению, прервалось громким смехом одного
ученика, который не сумел удержаться, слушая
какой-то уморительный анекдот потешавшего его
товарища. Федор Федорович встал, исследовал
сущность дела до мельчайших подробностей, ви-
новных поставил К порогу на колени, и казалось,
все кончено. Напротив. Началось бесконечное
рассуждение об обязанностях воспитанников
вообще, воспитанников духовного сословия в осо-
бенности. Половина слушателей зевала, другая
слушала своего наставника по привычке его
93
слушать. Стоявшие на коленях ученики, едва он
оборачивал к ним свою спину, или показывали
ему кулак, или дразнили его языком. Раздался
звонок — и у всех просияли лица. Федор Федо-
рович указал в тетрадке на место, до которого
нужно было выучить к следующему дню урок, и
класс окончился. Это свободное и не нужное ни на
что время, от десяти до одиннадцати часов, по-
куда явится новый профессор,— у нас в некотором
роде антракт. Ученики выходят в коридор, тол-
каются в классе, словом происходит обычная не-
урядица. О профессоре истории, класс которого
начался в одиннадцать часов, я скажу после.
Нельзя же вдруг: хорошенького понемножку.
В коридоре я встретил Яблочкина. Он сердится,
что я давно к нему не захожу.
6
Квартира Яблочкина не велика, но такая уют-
ная и чистенькая, что прелесть! Стулья обиты
новым ситцем. Столик полированный. В простенке
зеркало. На окнах расставлены цветы, которые,
по словам Яблочкина, старушка-хозяйка любит
до страсти. Когда я вошел в переднюю, кре-
постной человек этой старушки снял с меня ши-
нель. Предупредительность его так меня смутила,
что я покраснел до ушей. Мне никогда не случа-
лось пользоваться чужими услугами. Яблочкин
что-то переводил из Горация.
— Здравствуй, Вася! — сказал он, пожимая
мне руку,— насилу обо мне вспомнил.— И бросил
в сторону книгу. Лицо его, что случается редко,
94
было такое веселое и светлое, что я не мог удер-
жаться и спросил, что это значит.— Да так, душа
моя, ничего нет особенного. День ясный, кругом
тихо. В комнате пахнет цветами. На ногах у меня,
видишь (он поднял со смехом одну ногу),— но-
вые сапоги. Задачку я написал в один присест.
Стал переводить Горация — переводится без тру-
да: вот я и рад. Так-то, приятель! — Яблочкин
обнял меня и ударил ладонью по плечу.— Ну,
каково поживаешь на новой квартире?
— Так себе,— сказал я,— ни хорошо, ни дур-
но. Дурно то, что некоторые товарищи, благодаря
моей новой квартире, посматривают на меня косо.
— А ты этого не предвидел? Разумеется, с
этого времени тебя будут бояться, как пересказ-
чика, доносчика и тому подобное. Впрочем, это
вздор!.. Что ж, ты просился у своего отца в уни-
верситет?
— Просился. Я наперед тебе говорил, что он
откажет.
— Вот, ей-богу, народ! Видит пробитую дорогу
и думает, что лучше этой дороги и нет и не должно
быть... А все-таки у тебя нет воли; ну, отчего бы
не сделать по-своему?
— Это дело решенное,— отвечал я.— Пого-
ворим о другом.
— То есть о семинарии? Изволь. Вчера, в на-
чале класса, было обращено к нам вступительное
слово такого рода: «Теперь мы снова приступаем
к занятиям. На экзамене перед каникулами отцу
ректору угодно было заметить, что некоторые из
вас отвечали ему вяло. На будущее время я тре-
бую, чтобы каждый, кого я ни спрошу, читал мне
95
лекцию без запинки. А кто во время чтения
будет посматривать на потолок да выделывать эти:
гм... гм... того, хотя бы он стоял в первом десятке,
я сопхну в третий разряд. Вот вам и все!..» Что
ты на это скажешь?
— Уж мы не раз это слышали. Приказано —
стало быть, нужно исполнять.
— Ну, нет, душа моя! Зубрить я не стану.
И если бы в самом деле пришлось мне во время
ответа взглянуть на потолок или в сторону —
преступление было бы не важное. Экая бурса!
Попала на одну ступень и окаменела: ни молодеет,
ни стареется...
В эту минуту с журналом в руке вошел в ком-
нату гимназист, сын старушки. Яблочкин отреко-
мендовал ему меня как своего лучшего товарища.
При постороннем человеке мне тотчас сделалось
неловко, и я ломал свою голову из-за пустейшего
вздора: опять ли сесть мне на прежнее место
или приличнее будет постоять. Гимназист обра-
тился к Яблочкину:
— Алексей Сергеич! Я прочитал вот в этом
номере «Отечественных записок» одну из статей:
разбор сочинений Пушкина. Что за язык! Что за
энергия! Только, знаете ли, я не доверяю похва-
лам, которые рассыпаются здесь его антологи-
ческим стихотворениям. Они мне не нравятся.
Я люблю более всего то, что берется прямо из
окружающей нас жизни.
— В вас мало поэтического чутья. Что ж та-
кое! Вам не нравится и «Каменный гость» Пуш-
кина.
Тут у них начался спор о художественном
96
воспроизведении действительности в поэзии, об
образности, о пластике. Из слов их я понимал
немногое, не хочу таиться: самолюбие мое сильно
страдало. Наконец старушка зачем-то кликнула
своего сына, и он ушел.
— Этот господин, верно, хорошо развит,—
заметил я Яблочкину.
— Ничего. Он отличный малый. Трудится мно-
го, читает с толком. Развитием своим обязан, ко-
нечно, не гимназии, от которой пахнет мертвечи-
ною, а самому себе.
— Нет ли у тебя чего-нибудь почитать? Дай,
пожалуйста,— сказал я.
— Насилу ты надумался. Бери, душа моя,
книг достанет. Вот «Мертвые души» Гоголя, не
читал?
— Нет.
— Ну, возьми.
7
Скоро будет полночь. На дворе шумит дождь.
За стеною храпит Федор Федорович, и где-то
изредка чирикает сверчок. Я только что дочитал
«Мертвые души» и спешу сказать о них несколько
слов под влиянием свежего впечатления. Я взялся
за книгу еще с утра. Нечего говорить, что я читал
ее с увлечением. Время, проведенное мною за
обедом, казалось мне бесконечно длинным, и я
вертелся на стуле, придумывая, под каким бы
предлогом выйти из-за стола, чтобы снова при-
няться за чтение. «Или ты нездоров?» — сказал
мне Федор Федорович. «Нет, ничего».— «Что ж ты
4-1032
97
вертишься?» — «Так. Есть что-то не хочется».—
«Ну, выходи. Кто ж мешает?» И я вышел. Так
вот кто этот Гоголь!.. И об этом-то Гоголе одному
из наших наставников угодно было выразиться,
что произведения его пахнут кухнею и конюшнею,
что им выведены на сцену какие-то обжоры и
разная сволочь, что все это уродливо и безобразно.
Ну, нет, почтеннейший наставник! Уж на этот раз
позвольте с вами не согласиться. Чичиков, Плюш-
кин, Собакевич, Ноздрев — это такие личности,
которые никогда не выйдут из моей памяти. Чи-
тая книгу, мало того, что я их вижу,— мне кажет-
ся, я их осязаю, мне кажется, я чувствую их
дыхание. Жизнь ключом бьет из каждой строки!
Господи, да какой же я дурак! Прожить девятна-
дцать лет и не прочитать ни одной порядочной
книги!.. Все живое до того мне чуждо, как будто
я существую на другой планете и нет у меня ни
костей, ни плоти. Но, слава богу! этот день не
пропал у меня даром.
10
Яблочкин дал мне еще несколько книг. Но чи-
тать почти некогда: так много времени отнимают
классы и затверживание наизусть разных уроков.
Право, досадно! Иногда сидишь, сидишь в классе и
задаешь себе, ради скуки, вопрос: из-за чего я тут
сижу? И никак не решишь этого простого вопроса.
Сегодня, например, в одиннадцать часов утра
явилась в класс высокая, тощая и бледная фигу-
ра, одетая, по своему обыкновению, в длинно-
хвостый фрак со светлыми пуговицами. Это был
98
наставник, читающий нам геометрию. После
молитвы «Царю небесный» черный фрак двигался
несколько минут из угла в угол по классу, затем
последовали старческий кашель, щелчок по та-
бакерке, нюханье табаку и вытирание носа плат-
ком. Мы ко всему этому привыкли и ждали,
что будет далее. «Дайте мне мелу!» Ученик
подал ему кусок мелу и вытер грязною тряп-
кою черную доску. Так как тряпка была в мелу
и выпачкала ему руки, он ударил ладонью об
ладонь и при этом, разумеется, счел нужным,
на потеху товарищей, скорчить рожу. И вот
на доске появились углы и треугольники. Гео-
метрия не считается у нас в числе главных
предметов преподавания, и потому на черчение
наставника никто не обращал ни малейшего
внимания. Он останавливал время от времени свою
работу, нюхал табак, поглядывал наискось
на изображенные им круги и треугольники и
снова продолжал: АВ 4- АС = АД + АС = 8, и при-
том угол АВС... и так далее. Позади меня два
ученика преспокойно играли в три листика,
искусно пряча под столом избитые, засаленные
карты. Вдруг один из них, вероятно в порыве
восторга, крикнул: «Флюст!» Наставник вздрогнул
и обернулся. «Какой флюст? Кто это сказал?»
И, подойдя к нашему столу, ни с того ни с сего на-
пал на сидевшего подле меня товарища. «А, в
карты играть?., хорошо!.. Пойдем к инспектору».
Бедняк струсил и указал на виновного. «Это вот
он что-то сказал».— «А, это ты!— крикнул
наставник,— хорошо!.. Пойдем к инспектору».—
«Помилуйте,— отвечал с улыбкою ученик,— я
4**
99
сказал: плюс, а не флюст».— «Пошел на сере-
дину класса!., ну, стой тут. Где карты?» — «У ме-
ня никаких нет карт».— «А, нет... выворачивай
карман. Так... Выворачивай другой... Гм!., нет...
расстегни жилет». Карт нигде не нашлось: они уже
давно были переданы в десятые руки. «Ну, черт
вас разберет! Зачем ты нарушаешь порядок?» —
«Виноват! Я увлекся вашею задачею, вы, кажется,
хотели поставить минус, а мне показалось,
что нужно плюс, я и крикнул: плюс!» —
«То-то увлекся... Пошел на место!» Динь, динь,
динь! Пробило двенадцать часов. «Уже?» — спро-
сил наставник. Обратился к журналисту и
подписал в журнале свою фамилию. «Дайте-ка
мне геометрию...» Книга была подана. «От сих до
этих»,— сказал он и провел своим острым ногтем
на полях страницы две черты.
Я так спешил на квартиру, что рубашка моя
взмокла от пота: мне страшно хотелось есть. После
обеда опять пришлось тащиться в семинарию,
чтобы перевести полстранички из Лактанция.
И какой перевод!.. Тянут слово за словом: иного
хоть убей, не знает, в каком времени стоит глагол,
и не различит подлежащего от сказуемого.
Только время пропадает даром.
15
Однако мне невозможно вести дневник свой,
как бы хотелось, то есть заносить в него впечатле-
ния свои ежедневно: и времени свободного у меня
мало, и боюсь, что Федор Федорович нечаянно
отворит дверь в мою комнату и поймает меня на
100
месте преступления с поличным в руках. Жаль!
Знаю, что лица, которые я здесь вывожу, очерчены
бледно, что язык припахивает бурсою, но все-
таки эта работа доставляет мне удовольствие.
Она нисколько меня не стесняет, она не походит
на известное рассуждение из заданной темы, где
необходимы приступ, деление, доказательства,
сравнения, примеры и заключения. Пишу то, что
вижу, что проходит у меня в голове, что затра-
гивает меня за сердце. Материалов у меня не
слишком много, потому что среда, в которой я
вращаюсь, уже чересчур тесна. Не спорю, что она
имеет свою физиономию, что на ней лежит своя
оригинальная печать, но для меня-то нет в ней
нового ни на волос. Как бы то ни было, буду пи-
сать, когда случится, без особенной последова-
тельности и строгой связи. Быть может, кто-
нибудь прочтет эти строки чрез двадцать или
тридцать лет и скажет: так вот при какой обста-
новке шло воспитание наших отцов!.. Прочтет —
и не бросит в нас камня.
Нынешний день была у нас лекция француз-
ского языка, который, за неимением профессора,
читается учеником богословия, так называемым
лектором. Этот богослов, в пестрых клетчатых
штанах и в ярком, разноцветном жилете, держит
себя важнее, чем кто-нибудь из наших наставни-
ков. «Ну-с,— говорит он подслеповатому ученику,
голова которого покрыта золотушными струпья-
ми,— переведите...» И стоит, покачивая своим вы-
тянутым до невозможности корпусом. Левая нога
его картинно отставлена вперед, одна рука за-
нята книгою, другая играет бронзовою цепочкою.
101
Ученик моргает и посматривает исподлобья налево
и направо: «подскажите, мол, анафемы!..» И вот
слышится шепот: человек, любящий добродетель...
«Не подсказывать, господа! — замечает лектор.—
Вы, я думаю, и склонять-то не умеете, а?» Ученик
молчит. «Склоняйте: I’homme».
— Именительный I’homme. Родительный...
— Довольно, довольно! Какой тут лом? Экое
произношение! Оно и видно, что вам приличнее
держать лом в руках, а не книгу.
В классе раздается сдержанный хохот. Лектор
рад, что сказал острое словцо. «Следующий!» —
«Я нездоров»,— пробасил плечистый верзило, ле-
ниво поднимаясь со скамьи с заспанным лицом
и закрывая широкою ладонью зевающий рот.
«Желудок, верно, обременили?» В классе опять
раздается хохот. И таким образом проходит время
с пользою для учащихся, с приятностию для на-
ставника.
20
Вчера Федор Федорович праздновал день свое-
го рождения. К этому событию он приготовлялся
за неделю вперед. Вот, мол, и тот-то меня посе-
тит, и такой-то у меня будет,— и записывал для
памяти, что ему нужно купить. Подчас сидит с ла-
тинским лексиконом в руках, приготовляя из хре-
стоматии перевод странички к следующему классу,
и вдруг положит его в сторону и скажет: «Ах,
паюсной икры еще надобно, чуть не забыл!» И за-
метит на бумаге: один фунт паюсной икры. «Ик-
ры»,— повторит он и задумается, потупив голову;
102
посмотрит на цифры, сделает сложение и плюнет:
«Вот оно что! Десяти рублей серебром не хватит,
несмотря на то, что чай, сахар и ром у меня
некупленные». Даже со мной он заводит об этом
речь: «Вот, мол, каково теперь содержание! на
все такая дороговизна, что смерть!» Уж не наме-
кает ли он, что дешево взял с меня за квартиру?..
Григорий, иначе называемый Гришкою, сбился
с ног, бегая на рынок и с рынка. Покупка разных
разностей, по неизвестной причине, не делалась
разом. Потребовалось луку — и Григорий бежит,
понадобилось горчицы — и Григорий опять бежит.
Только что возвратится, облитый горячим потом.
«Гришка!— раздается из кабинета,— пошел сю-
да! Ступай, возьми уксусу на десять копеек». И
Григорий опять бежит, повторяя дорогою: «Ук-
сусу на десять копеек, уксусу на десять копеек».
Вечером под этот, в некотором роде, торжествен-
ный день Федор Федорович был у всенощной
и возвратился оттуда с двумя большими просфо-
рами и тотчас же вывел крупными буквами: на
одной — за здравие, на другой — за упокой. Уста-
лый мальчуган дремал в передней. Федор Федо-
рович вошел в нее и потянул в себя воздух.
«Вишь, как он тут навонял потом. Пошел, черте-
нок, в кухню!» — и дернул его за вихор. Не прошло
двух минут,— он уже стоял в своем кабинете
на молитве с киевскими святцами в руках. Перед
иконою теплилась лампадка.
Наступившее утро ознаменовалось тем, что
Федор Федорович надел на себя новый сюртук.
Посторонних лиц с поздравлениями не было ни-
кого. Приходили только три ученика из нашего
103
класса, которые принесли ему в подарок сереб-
ряную солонку, конечно, купленную ими на склад-
чину. Знаю я этих ослов, известных своим тупо-
умием и проказами на квартире, в доме подозри-
тельного поведения хозяйки... впрочем, это не мое
дело. Федор Федорович их обласкал и поблагода-
рил. Едва затворилась за ними дверь, он начал
вертеть в руках подаренную ему вещь, рассмат-
ривал ее сверху, снизу, с боков и, наконец, сказал
вслух: «Восемьдесятчетвертой пробы». В передней
кто-то кашлянул. «Кто там?» — «Я-с,— отвечал
знакомый Федору Федоровичу сапожник.— Честь
имею поздравить вас со днем рождения. Вот не
угодно ли-с принять кренделек...» Крендель был
испечен в виде какого-то мудреного вензеля и
кругом осыпан миндалем. «Спасибо, братец,
спасибо! Ну что ж, выпьешь рюмку водки?» —
«Грешный человек! пью-с». И рюмка была выпита.
«А вы, Федор Федорович, уж того-с... замолвите
за меня слово в вашей семинарии, вы уж там
знаете кому. Насчет лаковых сапог не извольте
сомневаться: я сказал, что их сошью — и сошью-с.
Такие удеру,— мое почтение».— «Хорошо, хоро-
шо, я постараюсь».
Вечером собралось несколько профессоров.
Прежде всего мне бросилась в глаза та самая
черта, которую я заметил недавно в Федоре Фе-
доровиче: все они вели себя здесь совершенно
не так, как ведут себя в семинарии. Величия не
было ни тени. Смех, шутки, пересыпанье из пустого
в порожнее — все это сильно меня изумляло. «От-
чего ж,— думал я,— эти люди на нас, учащихся,
смотрят с какой-то недоступной высоты? Отчего ни
104
к одному из них я не смею подойти с просьбою:
будьте так добры, потрудитесь мне вот это растол-
ковать?..» Поневоле вспомнишь слова Яблочкина,
который сказал мне однажды, что молодости нуж-
но дыхание любви, что она не может развиваться
под холодом и грозою или развивается медленно
и уродливо, что она замирает от ледяного при-
косновения непрошеных объятий.
Мне приказано было разносить чай. Мое новое
положение в качестве прислуги немножко меня
смущало. На подносе все чашки приходили в дви-
жение, когда я проходил с ними по комнате.
После раздачи чашек я молчаливо останавливался
у притолоки: порою, по приказанию кого-нибудь
из гостей, набивал трубку, причем не один раз
говорили мне с какою-то двусмысленною усмеш-
кою: «А ваша милость вкушает от этого запре-
щенного плода?» — «Нет»,— отвечал я. И в груди
моей пробуждалось чувство непонятной досады.
Разговор оживлялся все более и более. Гром-
че всех говорил профессор словесности, чело-
век почтенных лет, украшенный сединами и лы-
синою.
— Что вы не женитесь, Федор Федорович, а?
Ну, что вы не женитесь? (У него, видите ли,
дочь-невеста, так нельзя же о ней не позаботиться:
родительское сердце!)
Федор Федорович приятно улыбался:
— Найдите хорошее место, порядочный при-
ход, словом, верное обеспечение в будущем,—
вот и женюсь.
— Отчего же бы вам не остаться в светских?
— Это опять зависит от простой причины:
105
найду выгодным — и светским .останусь, мне все
равно.
— И семинарию, пожалуй, покинете?
— Почему не так. Завидного тут немного. Что
вы успели выиграть, преподавая восемнадцать лет
свою риторику?
— Ничего-с. Был сын дьякона, теперь надвор-
ный советник — это я вам скажу, не маковое
зернышко. Потянем еще лямку — пенсион да-
дут,— вот и выигрыш. Ну-с, а это безделица: ведь
здесь сто глаз на вас смотрит, сто ушей вас слу-
шает. Вы имеете влияние на молодые умы, даете
им направление... вот вам еще выигрыш. Да что
вы думаете о семинарии, а? Позвольте вас спро-
сить? Разве не из семинарии выходят люди с креп-
кою грудью, об которую разбиваются все житей-
ские невзгоды? Разве не семинария вырабатывает
эти железные натуры, которые терпеливо выносят
всякий долголетний, усидчивый труд? Разве не в
семинарии слагаются характеры, которые впос-
ледствии делаются предметом удивления на всех
поприщах общественной и государственной жиз-
ни? Кто был митрополит Платон, украшение трех
царствований? А митрополит Евгений? А граф
Сперанский, этот великий государственный муж,
это светило умственного мира? То-то и есть!
Вот вы и замолчали... Правду ли я говорю, Иван
Ермолаич?
Иван Ермолаич сидел за столом в числе четы-
рех своих товарищей по службе, игравших по чет-
верть копейки в карты. Он выкуривал трубку за
трубкою и запивал табачный дым крепким пун-
шем. Лицо его носило на себе отпечаток какой-то
106
внутренней боли, глаза смотрели задумчиво и
тоскливо. Этому человеку у нас не очень посчаст-
ливилось. Вступив прямо из академии в должность
профессора, он хотел было ввести в своем классе
новый метод преподавания, советовал ученикам
знакомиться с русскою литературою и выписывать
общими силами журналы. Ученики его полюбили.
Начальство поставило ему на вид, что он читает
не в светском учебном заведении, и приказало ему
вперед не умничать. Иван Ермолаич покорился
не вдруг. Ему снова сделали замечание. Он ре-
шился оставить семинарию и занять место граж-
данского чиновника; к сожалению, места не наш-
лось, и бедняга притих, стал запивать и занимать-
ся делом спустя рукава. Но бывают часы, когда
он пробуждается от сна. И льется свободно его
одушевленное, увлекательное слово; в классе
наступает такая тишина, что ухо слышит жуж-
жание бьющейся о стекло мухи, но вдруг он при-
ложит руку ко лбу, будто припоминает что-то
забытое, вздохнет и замолчит, как порванная
струна.
— Так, так! Вы говорите правду,— отвечал
Иван Ермолаич.— В особенности меня уте-
шают ваши слова: мы даем направление молодым
умам, что нисколько не мешает мне спрягать гла-
гол сплю: я сплю, ты спишь...
— Ну, уж это извините! При нашем отце-
ректоре не заснешь,— заметил сидевший против
него гость.— Он еженедельно посещает все клас-
сы; примерный, можно сказать, начальник: на
волос не позволит отступить от положенного им
однажды навсегда правила. Вчера сижу я спокой-
107
но за своим столиком; глядь — он идет. Я вскочил,
застегнул второпях на все пуговицы фрак и по-
дошел к нему под благословение. «Продолжай-
те,— сказал он,— продолжайте...» — «Не угодно
ли вам будет кого-нибудь спросить?» — говорю я.
«Ну что ж, пожалуй, пожалуй. Ну, ты... читай!»
Он указал на одного ученика. Ученик-то попался
бойкий, как бишь он прозывается?., да! Яблочкин.
Встал он и начал объяснять лекцию своими сло-
вами, и ничего, так, знаете, свободно. Объяснил
и стоит — улыбается. «Кончил?» — спросил его
отец-ректор. «Кончил».— «Ну что ж, вот и дурак...
И забудешь все через полгода». Яблочкин поблед-
нел, я тоже немножко потерялся. Отец-ректор
обратился ко мне: «У вас в классе восемьдесят
человек. Этак нельзя, нельзя! Если каждый из них
будет сочинять ответы из своей головы, вавилон-
ское столпотворение выйдет, непременно вый-
дет...» Я хотел оправдываться. «Нет, говорит,
этак нельзя. Пусть основательно знают то, что
для них напечатано или написано; в их возрасте
и этого достаточно, очень достаточно...» Повер-
нулся — и ушел. Я и остался, как оплеванный,
и с досады так пробрал Яблочкина, что у него
брызнули слезы. (Бедный Яблочкин!— подумал
я,— чего ему стоили эти слезы!) Вот вам и сон.
Нет, у нас кого хочешь разбудят.
— Так, так,— отвечал Иван Ермолаич,— вам
бы следовало наказать этого вольнодумца Яб-
лочкина. Ешь, мол, вареное, слушай говореное.
— Знаем мы эти остроты! знаем!.. Вот вы хо-
тели сделать по-своему, а что?., сделали?..
— Обо мне нечего говорить. Все молодость:
108
увлекся — и образумился и пою теперь: «Прииди-
те и поклонимся».
— Эх, ну вас! — раздалось несколько голо-
сов,— из-за чего вы бились? Чего вы хотели?
Иван Ермолаич молчал и, облокотись одною
рукою об стол, задумчиво смотрел на свои карты.
Болезненное выражение его лица ясно говорило,
что думает он вовсе о другом.
Сидевший в углу эконом не принимал почти
никакого участия в разговоре и вообще держался
в тени. Он у нас ничего не читает и, следовательно,
не имеет никакого значения, но личность его так
оригинальна, что приобрела себе популярность
во всей семинарии. Он положительно убежден,
что все мы так уж созданы, что не можем чего-
нибудь не украсть у своего ближнего, не можем
не надуть его так или иначе, а потому и говорит он
об этом — с дровосеком, с водовозом, с поставщи-
ком конопляного масла, словом, с людьми всех
сословий, лишь бы пришлось ему вступить с ними
в какое-либо сношение по его экономической
части. Голова его постоянно занята работой: ко-
му и как сподручно украсть. Благодаря этой ра-
боте, он сделался редким учителем воровства.
Увидит, что водовоз ест на дворе калач,— поди,
говорит, сюда. Тот подойдет. «Ну что, калач
ешь?» — «Калач».— «А где взял?» — «Купил».—
«Побожись». Тот побожится. «Не верю, брат,—
украл».— «Да как же я его украл?» — «Известно,
как воруют. За водою рано ездил?» — «На рас-
свете».— «Ну вот, так и есть. Вот, значит, ты
продал кому-нибудь бочки две воды, а потом уж
привез ее и сюда. Вот и ешь теперь калач...
109
А дров не воровал?» — «Какие там черти дро-
ва!— скажет рассерженный водовоз.— У ворот-то
день и ночь стоит сторож, как же я их украду?» —
«Да, да! Ты не придумаешь, как украсть!.. Накла-
дешь в бочку поленьев и поедешь со двора и обме-
няешь их на калачи или на что другое. Вот и вся
хитрость. Уж я тебя знаю!» Водовоз почешет у
себя затылок и пойдет прочь: ну, мол, ладно!
И после в самом деле ест краденые калачи.
Подобная история повторяется и с другими.
— Господа! Кто получает «Ведомости»? Нет
ли чего нового?— спросил кто-то из гостей. С ми-
нуту продолжалось молчание.
— Я просмотрел у отца-ректора один нумер,—
отвечал эконом,— ничего нет особенного. Пишут,
что умер стихотворец Лермонтов.— А, умер? ну,
царство ему небесное. Мне помнится, я где-то
читал стихи Лермонтова, а где — не припомню.
Между тем началось приготовление к закуске.
На столе появились бутылки. Кухарка хлопотала
в другой комнате: разрезывала холодный говяжий
язык, холодного поросенка, жареного гуся и про-
чее и прочее. В это время Иван Ермолаич,
никем не замеченный, вышел в переднюю и стал
отыскивать свои калоши. Я подал ему его шинель.
«Вы семинарист?» — спросил он меня. «Да, се-
минарист».— «А к лакейской должности не чув-
ствуете особенного призвания?» — «Нет»,— отве-
чал я с улыбкою. «Ну, слава богу. Что ж вы тре-
тесь в передней? Шли бы лучше в свою комнату
и на досуге читали бы там порядочную книгу...
до свидания». Он надвинул на глаза свой картуз —
и ушел. Я не оставался без дела: помогал кухарке
110
перетирать тарелки, сбегал однажды за квасом,
которого оказалось мало и за которым кухарка
отказалась идти в погреб, сказав, что по ночам она
ходить всюду боится и не привыкла и ломать своей
шеи по скверной лестнице не намерена. Потом
опять взялся перетирать тарелки и, по неумению
с ними обходиться, одну разбил. Кухарка назва-
ла меня разинею, а Федор Федорович крикнул:
«Нельзя ли поосторожнее!» Наконец каждому
гостю поочередно я разыскал и подал калоши,
накинул на плечи верхнее платье и, усталый, во-
шел в свою комнату. Сальная свеча нагорела шап-
кою и едва освещала ее неприветные стены. Федор
Федорович заглянул ко мне в дверь. «Вот видишь,
мы там сидели, а тут целая свеча сгорела даром.
Ты, пожалуйста, за этим смотри...»
Эхма! Vanitas vanitatut et omnia vanitas!
30
Именно: omnia vanitas! На квартире невесело, в
классе скучно, скучно не потому, что я невнимате-
лен к своему делу, а потому что товарищи мои сли-
шком со мною необщительны, слишком холодны.
Вот, ей-богу, чудаки! Неужели они думают, что я
в самом деле решусь пересказывать Федору Федо-
ровичу все, что я вокруг себя вижу и слышу? Но
тогда я презирал бы самого себя более, нежели
кто-нибудь другой. Желал бы я, однако, знать,
в чем заключается наблюдение Федора Федоровича
за моими занятиями и что разумеет он под сло-
вами: следить за ходом моих успехов? Уж не то
ли, что иногда отворит мою дверь и спросит:
111
«Чем занимаешься?» Вот тем-то, отвечу я. «Ну
и прекрасно. Пожалуйста, не болтайся без дела».
И начнет разгуливать по своей комнате, поигры-
вая махрами шелкового пояса и напевая вполго-
лоса свой любимый романс:
Черный цвет, мрачный цвет,
Ты мне мил навсегда.
Или присядет на корточки середь пола и тешит-
ся с серым котенком. «Кисинька, кисинька!.. Эх,
ты!..» И поднимет его за уши. Котенок замяучит.
«Не любишь, шельма, а? не любишь?» Положит
его к себе на колени, или прижмет к груди и ласко-
во поглаживает ему спину и дает ему разные
нежные названия. Котенок мурлычет, жмурит гла-
за и вдруг запускает в ласкающие его руки свои
острые когти. «А чтоб тебя черт побрал!» —
крикнет Федор Федорович и так хватит об пол
своего любимца, что бедное животное, ошале-
ет, проберется в какой-нибудь угол и, растянув-
шись на полу, долго испускает жалобное: мяу!
мяу!
Я заметил, что Федор Федорович бывает в
наилучшем расположении духа в праздничные
дни, после сытного обеда, который оканчивается
у него объемистою мискою молочной каши, немед-
ленно запиваемой кружкой густого красного
квасу. В прошлое воскресенье, едва кухарка.успела
убрать со стола посуду и подмести комнату, Федор
Федорович лег на диван, подложил себе под локоть
пуховую подушку, приказал мне подать огня для
папиросы и крикнул: «Гришка!» — «Ась!» —
ответил Григорий из передней. «А ну-ка, поди
112
сюда». Мальчуган вошел и остановился у прито-
локи. Посмотрел я на него,— смех да и только:
волосы всклокочены, лицо неумыто, рубашка
в сальных пятнах, концы старых сапог, подарен-
ных ему Федором Федоровичем, загнулись
на его маленьких ногах вроде бараньих рогов.
Но молодец он, право: как ни дерут его за вихор,
всегда весел! «Ну что ж, ты был сегодня у обед-
ни?» — спрашивает его Федор Федорович. «Л то
будто нет».— «И богу молился?» Григорий поче-
сался о притолоку и ухмыльнулся: «Как же не
молиться! на то церковь».— «Ну, где ж ты стоял?»
Григорий смеется. «Чему ты смеешься, stultus?»
Звук незнакомого слова так удивил мальчугана,
что он фыркнул и убежал в переднюю. «Ты не
бегай, рыжая обезьяна! Пошел, сними с меня
сапоги!» Григорий повиновался. Между тем Федор
Федорович лениво зевал и осенял крестом свои
уста. «Ну, рыжий! хочешь взять пятак?» — «Хо-
чу»,— отвечал рыжий и протянул за пятаком
руку. «Э, ты думаешь — даром? Представь, как
продают черепенники, тогда и дам». Мальчуган
остановился середь комнаты, прищурил глаза и,
медленно, размахивая правою рукою, затянул
тонким голосом:
Эх, лей, кубышка,
Поливай, кубышка,
Не жалей, кубышка,
Хозяйского добришка.
За хозяйской головою
Поливаем, как водою.
Кто мои черепенники берет,
Тот здрав живет,
Подходи!..
ИЗ
При последнем слове он бойко повернулся на
каблуке и топнул ногою об пол. Вслед за тем я
получил приказание остановить маятник часов,
и Федор Федорович погрузился в безмятежный
сон.
Октября 6
Заходил я, ради скуки, к Яблочкину и застал
его, как всегда, за книгою. Он сидел перед окном,
подперев руками свою голову, и так был углублен
в свое занятие, что не слыхал, как я вошел. «Ты,
брат, все за книгами»,— сказал я, положив руку
на его плечо. Он вздрогнул и быстро поднялся со
стула. «Тьфу! как ты меня испугал! Отчего ты
так редко у меня бываешь? Или боишься своего
наставника?» — «Что за вздор! — отвечал я,—
нашлось свободное время, вот и пришел. Нет ли
чего почитать?» — «Я тебе сказал: только бери,
книги найдутся». Яблочкин вздохнул и прилег на
кровать. «Грудь, душа моя, болит,— сказал он,
смотря на меня задумчиво и грустно,— вот что
скверно! Ах, если бы у меня было твое здоровье,
чего бы я не сделал! чего бы я не перечитал! Лен-
тяй ты, Вася!» — «Нет, Яблочкин, ты меня не
знаешь,— отвечал я несколько горячо,— я так
зубрю уроки, что другой на моем месте давно бы
слег от этого в могилу или сделался идиотом». Он
посмотрел на меня с удивлением. «Откуда же
в тебе эта любовь к мертвой букве?» — «Тут нет
никакой любви. Я смотрю на свои занятия как на
обязанность, как на долг. Я знаю, что этот труд со
временем даст мне возможность принести пользу
114
тем, в среде которых я буду поставлен. Знаешь ли,
друг мой,— продолжал я, одушевляясь,— сан свя-
щенника — великое дело. Эта мысль приходила
мне в голову в бессонные ночи, когда, спрятав
учебные книги, усталый, я бросался на свою жест-
кую постель. Вот,— думал я,— наконец после
долгого труда, я удостаиваюсь сана священнослу-
жителя. Падает ли какой-нибудь бедняк, убитый
нуждою, я поддерживаю его силы словом евангель-
ской истины. Унывает ли несчастный, бесчестно
оскорбленный и задавленный,— я указываю ему
на бесконечное терпение божественного страдаль-
ца, который, прибитый гвоздями на кресте, прощал
своим врагам. Вырывает ли ранняя смерть люби-
мого человека из объятий друга,— я говорю
последнему, что есть другая жизнь, что друг его
теперь более счастлив, покинув землю, где царст-
вует зло и льются слезы... И после этого, быть мо-
жет, я приобретаю любовь и уважение окружа-
ющих меня мужичков. Устраиваю в своем доме
школу для детей их обоего пола, учу их грамоте,
читаю и объясняю им святое Евангелие. Эти дети
становятся взрослыми людьми, разумными отцами
и добрыми матерями... И я, покрытый сединами,
с чистою совестью ложусь на кладбище, куда, как
духовный отец, проводил уже не одного человека,
напутствуя каждого из них живым словом уте-
шения...»
Яблочкин пожал мне руку.
— У тебя прекрасное сердце! Но, Вася, нужно
иметь железную волю, мало этого, нужно иметь
светлую, многосторонне развитую голову, чтобы
устоять одиноко на той высоте, на которую ты
115
думаешь себя поставить, и где же? В глуши,
в какой-нибудь деревушке, среди грязи, бедности
и горя, в совершенном разъединении со всяким
умственным движением. Вспомни, что тебе еще
придется зарабатывать себе насущный кусок хлеба
своими руками...
— На все воля божия,— отвечал я и молчаливо
опустил свою голову.
— Отчего это жизнь идет не так, как бы хоте-
лось? — сказал Яблочкин с досадою и горечью.
После долгого взаимного молчания у нас снова
зашел разговор о семинарии.
— Я слышал,— сказал я,— что тебе досталось
за объяснение лекции. Помнишь?..
— Еще бы не помнить! — Яблочкин вско-
чил с кровати.— Это не беда, это в порядке вещей,
что я был оскорблен и уничтожен моим наставни-
ком. Ему все простительно. Его уже поздно пере-
делывать. Но эта улыбка, которую я заметил
на лицах моих товарищей в то время, когда
у меня брызнули неуместные, проклятые слезы,—
эта глупая улыбка довела меня до последней
степени стыда и негодования. Дело не в том,
что здесь пострадало мое самолюбие, а в том, что
эта молодежь, которая, казалось бы, должна быть
восприимчивою и впечатлительною, успела уже
теперь, в стенах учебного заведения, сделаться
тупою и бесчувственною. Вот что мне больно! Что
же выйдет из нее после в жизни? — «Охота тебе
волноваться,— сказал я,— а говоришь, что грудь
у тебя болит».— «Как, Вася, не волноваться? Я
опять попал было недавно в беду: на днях, в при-
сутствии нескольких человек, я имел неосторож-
116
ность высказать свое мнение насчет одной извест-
ной тебе иезуитской личности, поставившей себе
главною задачею в жизни пресмыкаться пред всем,
что имеет некоторую силу и некоторый голос, и да-
вить все бессильное и безответное».— «Инспекто-
ра?» — прервал я его в испуге. «Ну да! Через два
часа слова мои были ему переданы, и он позвал
меня к себе. «Ты говорил вот то и то?» — спро-
сил он меня. Представь себе мое положение: отве-
тить да — значит обречь себя на погибель; я
подумал, подумал и сказал решительно: нет\ «А ес-
ли,— продолжал он,— призову двух сторожей и
заставлю тебя сказать правду под розгами?»
Я молчал. Сторожа явились. «Признавайся,—
говорил он,— прощу...» Заметь, какая невинная
хитрость: простит!.. «Не в чем!» — отвечал я,
смотря ему прямо в глаза и дав себе слово скорее
умереть на месте, чем лечь под розги. «Позовите
тех, при ком я говорил». Я чувствовал в себе
какую-то неестественную силу. Глаза мои, навер-
ное, метали искры. Инспектор отвернулся
и крикнул: «Вытолкните его, мерзавца, вон и от-
ведите в карцер...» И я просидел до вечера
в карцере без хлеба, без воды, едва дыша от нестер-
пимой вони... ну ты знаешь наш карцер». Яблоч-
кин снова прилег на свою кровать. Грудь его высо-
ко поднималась. Лицо горело. Я понял, что мне
неловко было упрекать его за неосторожные
слова. Мало ли мы что болтаем! и кто,
спрашивается, от этого терпит? Ровно никто. Жаль,
что он так впечатлителен; еще больше жаль,
что у него такое слабое здоровье.
117
14
Вот и решай, кто тут прав и кто виноват, и су-
ди, как знаешь. Яблочкин сказал необдуманное
слово и чуть не погиб, а другие доходят до безобра-
зия, и все остается шито и крыто.
Пошел я сегодня после вечерни пошататься по
городу; иду по одной улице, вдруг слышу — стучат
в окно. «Зайди на минуту; дело есть»,— раздался
голос знакомого мне философа Мельхиседекова,
который учится вместе со мною и принадлежит
к самым лучшим ученикам по своему поведению
и прилежанию. Я зашел. Гляжу — кутеж! Мель-
хиседеков стоит среди комнаты, молодцевато
подпершись руками в бока. Трое его товарищей,
без галстуков, в толстых холстинных рубашках
и в нанковых панталонах, сидят за столом. На сто-
ле — полштоф водки, рюмка, груши в тарелке и
какая-то старая, в кожаном переплете, книжонка.
Четвертый, уже упитанный, спит на лежанке, ли-
цом к печке. Под головою его, вместо подушки,
лежат творения Лактанция и латинский лексикон
Кронеберга. «Пей!» — сказал мне Мельхиседеков,
прежде нежели я успел осмотреться, куда попал.
«Что у тебя за радость?» — спросил я. «Деньги от
отца получил и кстати именинник. Посмотри в
святцы и увидишь мученика Протасия».— «Я не
пью».— «Стало быть, ты ханжа, а не товарищ. Ну,
ступай — доноси, кому следует, о всем, что здесь
видел... Так поступают подлецы, а не добрые
товарищи. Знаем мы, у кого ты живешь... Извини,
брат, что я тебя позвал. Я думал о тебе лучше...»
118
У меня мелькнула мысль, что отказ мой непре-
менно даст повод заподозрить меня в наушни-
честве и поведет к глупым россказням; я послу-
шался и выпил. Мельхиседеков меня поцеловал.
«Вот спасибо! Теперь садись в ряд и будем гово-
рить в лад».— «Так-то так,— сказал я,— а если,
сохрани боже, заедет сюда субинспектор...» Мель-
хиседеков засмеялся и свистнул. «Видали мы
эти виды!» — «Видали, брат, видали! — подхва-
тили со смехом сидевшие за столом ученики,—
пусть явится. В секунду все будет в порядке:
возьмемся за тетрадки, за книги и встретим его
особу глубокими поклонами. К этой комедии
нам не привыкать».
— Слышишь, Мельхиседеков,— сказал рябой
ученик, взъерошивая на голове рыжие волосы,—
я, брат, еще выпью. Нельзя не выпить. Послушай,
что вот напечатано в поэме Елисей.
— Ступай ты с нею к черту! Ты двадцать раз
принимался ее читать,— отвечал Мельхиседе-
ков,— и надоел, как горькая редька.
— Нет, не могу. Сердись как угодно, а я
прочту: мы обязаны читать все поучительное...—
И он уткнул нос в книгу.
Когда печальный муж чарчонку выпивает,
С чарчонкой всю свою печаль позабывает.
И воин, водочку имеючи с собой,
Хлебнувши чарочку, смелее идет в бой.
Но что я говорю о малостях таких?
Спросите у дьяков, спросите у подьячих,
Спросите у слепых, спросите вы у зрячих;
Я думаю, что вам ответствуют одно:
Что лучший в свете дар для смертных есть вино.
119
— Вот что, брат, слышишь?
— Так! — сказал Мельхиседеков,— а если
дадут тебе тему: пьянство пагубно, я думаю, ты
не станешь тогда приводить цитат из поэмы
Елисей.
— Кто, я-то? homo sum, ergo... напишу так,
что иная благочестивая душа прольет слезу уми-
ления. Приступ: взгляд на пороки вообще, на пьян-
ство в частности. Деление: первое, пьянство
низводит человека на степень бессловесных
животных; второе, пьяница есть мучитель и стыд
своей семьи, третье, вредный член общества, и, на-
конец, четвертое, пьяница есть самоубийца...
Что, брат, ты думаешь, мы сробеем?
— Молодец! а что ты напишешь на тему, кото-
рая дана нам теперь: можно ли что-нибудь
представить вне форм пространства и времени,
как, например,— ничто или вездесущество? Ну-ка,
скажи!
— Вдруг не напишу, а подумавши — можно.
Я, брат, что хочешь напишу, ей-богу, напишу!
вот ты и знай! — И рыжий махнул рукою и
плюнул.
Остальные два ученика не обращали ни ма-
лейшего внимания на этот разговор и продолжали
горячий спор:
— Ты погоди! Ты не тут придаешь силу своему
голосу... да! Слушай!
Грянул внезапно
Гром над Москвою...
Вот ты и сосредоточивай всю силу голоса на слове:
грянул, а у тебя выходит громче слово: внезап-
но,— значит, ты не понимаешь дела. Далее:'
120
Выступил с шумом
Дон из брегов...
Ай, донцы!
Молодцы!..
Последние два слова так пой, чтобы окна дре-
безжали. У тебя все это не так.
— И не нужно. Я больше не буду петь. Все
это глупости. Ты, брат, смотри на песню с нрав-
ственной точки зрения. Но так как тебе эта точка
недоступна, следовательно, ты поешь чепуху
и празднословишь.
— Я тебе говорю: пой!
— Не буду я петь!
— Ну, твоя воля! Стало быть, ты глуп...
— Эй, чижик! — крикнул Мельхиседеков.
Из темного угла вышел бледный, остриженный
под гребенку мальчуган и несмело остановился
среди комнаты. На плечах его был полосатый,
засаленный халатишко. Руки носили на себе
признаки известной между нами болезни, появ-
ляющейся вследствие неопрятности и нечисто-
плотности. Это был ученик духовного училища.
«Вот тебе посуда, вот тебе четвертак, ступай туда...
знаешь... и возьми косушку». Мальчуган повер-
нулся и пошел. «Стой, стой! — сказал Мельхисе-
деков,— знаешь свой урок?» — «Знаю».— «По-
смотрим. Как сыскать общий делитель?» Мальчу-
ган поднял к потолку свои глазенки и начал одно-
значно читать: «Должно разделить знаменателя
данной дроби на числителя: когда не будет остатка,
то сей делитель будет общий делитель...» —
«Довольно... Ты скажи, чтобы не обмеривали,
меня, мол, приказный послал... Этот чижик отдан
121
мне под надзор, вот я его и пробираю»,— сказал
мне Мельхиседеков. Едва за мальчуганом затвори-
лась дверь, в комнату вошла хозяйка дома, дород-
ная, краснощекая женщина, и закричала, размахи-
вая руками: «Перестаньте, бесстыдники, горло
драть! Что вы покою не даете добрым людям!» —
«Не сердитесь, почтеннейшая женщина! — отве-
чал Мельхиседеков.— Вам это вредно при вашем
полнокровии...» — «Гуляем, Акулина Ивановна!
Гуляем! — сказал рыжий и положил на стол свои
ноги.— Вот изволите ли видеть? Свобода царст-
вует!..» — «Ну, ты-то что еще безобразничаешь?
Ах, ты, молокосос, молокосос! Погоди,— дай толь-
ко твоему отцу сюда приехать, уж я тебя распи-
шу!..» Я воспользовался тем, что внимание всех
обратилось на хозяйку, и незаметно ускользнул
за дверь. Экие кутилы!
Декабря 10
Давно я не брался за перо. И слава богу! Не-
большая потеря... Итак, слова Яблочкина, что у нас
найдутся средства познакомиться со всеми произ-
ведениями наших лучших писателей, сбылись
вполне. В продолжение двух с половиной месяцев
я перечитал столько книг, что мне самому кажется
теперь непонятным, каким образом достало у меня
на этот труд и силы и времени. Я читал в классе
украдкою от наставников. Читал в моей комнатке
украдкою от Федора Федоровича, который удив-
лялся, зачем я пожигаю такую пропасть свеч,
но свечи, тоже украдкою, я стал покупать на свои
деньги, и покамест все обстоит благополучно...
122
Ну, мой милый, бесценный Яблочкин! Как бы ни
легли далеко друг от друга наши дороги, куда бы
ни забросила нас судьба, я никогда не забуду,
что ты первый пробудил мой спавший ум, вывел
меня на божий свет, на чистый воздух, познакомил
меня с новым, прекрасным, доселе мне чуждым,
миром... Какая теплая, какая чудная душа у этого
человека! Мало того, что он давал мне все лучшие
книги, он делился со мною многими редкими руко-
писями, которые доставал с величайшим трудом
у своих знакомых. И осветились передо мною
разные темные закоулки нашего грешного
мира, и развенчались и пали некоторые личности,
и загорелись передо мною самоцветными камнями
доселе мне неведомые сокровища нашей народной
поэзии. Вот, например, начало одной песни. Не
знаю, была ли она напечатана.
Ах, ты, степь моя, степь широкая,
Поросла ты, степь, ковылем-травой,
По тебе ли, степь, вихри мечутся,
У тебя ль орлы на песках живут,
А вокруг тебя, степь родимая,
Синей ставкою небеса стоят!
Ах ты, степь моя, степь широкая,
На тебе ли, степь, два бугра стоят,
Без крестов стоят, без приметушки.
Лишь небесный гром в бугры стукает!..
Да, вот это песня! Она не походит на ту,
которую распевает так часто Федор Федорович:
Черный цвет, мрачный цвет,
Ты мне мил навсегда...
В моих понятиях, в моих взглядах на вещи
совершается теперь переворот. Давно ли я смотрел
123
на грязную сцену кутежа моих товарищей спокой-
ными глазами? В эту минуту она кажется мне
отвратительною. Воспоминание о робком мальчи-
ке, которого посылали за водкою, возмущает мою
душу и поселяет во мне отвращение к жизни,
среди которой могут возникать подобные явления.
И все с большею и большею недоверчивостью осма-
триваюсь я кругом, все глубже и глубже замы-
каюсь в самом ребе. С этого времени я понимаю
постоянное раздражение Яблочкина против дико-
го, мелочного педантизма, против всякой сухой
схоластики и безжизненной морали, против всего
коснеющего и мертвого. Не скажу, чтобы я сделал-
ся ленивым оттого, что пристрастился к чтению.
Уроки выучиваются мною по-прежнему. Но все
это делается ex officio, а уж никак не con amore.
Ни одно слово из бесчисленного множества
остающихся в моей памяти слов не проникает
в мою душу, ни одно слово не веет на меня
освежительным дыханием жизни, близкой моему
уму или моему сердцу...
Однако, волею-неволею, мне опять нужно
положить перо и взяться за урок. А Федор Федоро-
вич спит беспробудно... Тяжело мне мое одино-
чество в чужом доме. Не с кем мне обменяться ни
словом, ни взглядом. Молчаливо смотрят на меня
невзрачные стены. Тускло горит сальная свеча.
На дворе завывает вьюга. Белые хлопья снегу,
пролетая мимо окна, загораются огненными
искрами и пропадают в непроницаемом мраке. Тя-
жело мне под этою чужою кровлею...
124
14
Вот и экзамены наступили. Наш класс принял
на некоторое время как бы праздничный вид. По
полу прошла метла, по столам — тряпка. Печь
истопили с вечера и дров, разумеется, не пожалели.
Впрочем, истопить ее в год два-три раза — расход
не велик. Для отца-ректора стояло заранее приго-
товленное покойное кресло. Для профессоров были
принесены стулья. Казалось, все придумали
хорошо, а вышло дурно: промерзшие стены ото-
шли, и воздух сделался нестерпимо тяжел и не-
приятен. На это обратили внимание и позвали
сторожа с курушкою. Сторож покурил — и воздух
пропитался запахом сосновой смолы. Федор Федо-
рович, вероятно, чувствовал себя не совсем ловко
в ожидании прихода своего начальника. Он тороп-
ливо ходил по классу, потирая руки и время от
времени поправляя на себе черный фрак, хотя,
правду сказать, поправлять его было нечего: он
был застегнут по форме, от первой до последней
пуговицы. Сидевший у порога на заднем столе
ученик, с лицом, вполовину обращенным к двери,
с беспокойным выражением в глазах, напрягал
чуткий слух, стараясь уловить звуки знакомой ему
поступи, чтобы отворить вовремя дверь, что уда-
лось ему сделать как нельзя лучше. «Гм!., гм!..
У вас тут что-то скверно пахнет...» — сказал
отец-ректор, опираясь на свою камышовую трость
и оборачивая голову налево и направо. «Да-с, есть
немножко»,— почтительно отвечал Федор Федоро-
вич и тоже, верно по сочувствию, оборотил голо-
ву налево и направо и пододвинул к столу покойное
125
кресло. Одежда отца-ректора была на лисьем
меху и на меху просторная обувь. Он отдал
одному ученику свою трость, который поставил ее
в передний угол, и осторожно опустился в кресло,
придерживаясь обеими руками за его выгнутые
бока. «Удобно ли вам сидеть? не прикажете ли
поправить стол?» — сказал Федор Федорович.
«Нет, ничего. Ну, что ж, начнем теперь, начнем».
В эту минуту пришли еще два профессора и, после
обычных поклонов, скромно заняли свои места.
Отец-ректор развернул список учеников и поло-
жил на стол билеты. Начались вызовы. Мне
пришлось отвечать третьим, именно: о памяти.
«Отличусь»,— думал я, взглянув на билет, и дейст-
вительно отличился: прочитал несколько строк
так бегло, что отец-ректор пришел в изумление.
— Погоди, погоди! Я ничего не разберу.
Говори раздельнее,— Я повиновался.— Ну что ж,
хорошо, весьма хорошо!.. Повтори о достоинствах
памяти.
— Достоинства памяти редко соединяются
между собою в одинаковой мере, особенно легкость
с крепостию и верностию, но постоянным упраж-
нением памяти они могут быть приобретены до
известной степени и часто доводимы до необыкно-
венного совершенства. В древние и новые вре-
мена встречались примеры...
— Чей ты сын?
— Священника.
— Ну что ж, учись, учись. Хорошо. Вот и
выйдешь в люди. Ступай!
Я повернулся.
— Погоди! Зачем у тебя волосы так длинны?
126
Щегольство на уме, а? Так, так? Остригись, непре-
менно остригись. Сколько тебе лет?
— Девятнадцать лет.
— Так, щегольство. Ну, смотри, учись.
Он обратился к Федору Федоровичу и спросил
его вполголоса: «Каков он у вас?»
— Поведения и прилежания примерного. Спо-
собностей превосходных,— последовал ответ впол-
голоса. Я боялся, что улыбнусь, и прикусил
губу. «Хвали,— подумал я,— понимаю, в чем тут
дело». Как бы то ни было, сев на свое место,
я порадовался, что отделался благополучно.
Ученики выходили по вызову друг за другом.
И вот один малый, впрочем неглупый (отно-
сительно), замялся и стал в тупик.
— Ну что ж. Вот и дурак. Повтори, что про-
читал.
— Хотя творчество фантазии, как свободное
преобразование представлений, не стесняется
необходимостию строго следовать закону истины,
однако ж, показуясь представлениями, взятыми
из действительности, оно тем самым примыкает
уже к миру действительному. Оно только расши-
ряет действительность до правдоподобия и воз-
можности...
— Что ты разумеешь под словом: показуясь?
— Слово: проявляясь.
— Ну, хорошо. Объясни, как это расширяется
действительность до правдоподобия?
Ученик молчал.
— Ну что ж, объясни.
Опять молчание.
— Вот и дурак. Ведь тебе объясняли?
127
— Объясняли.
— Ну что ж молчишь?
— Забыл.
Федор Федорович двигал бровями, делал
ему какие-то непонятные знаки рукой. Ничто не
помогало. Не утерпел он — и слова два
шепнул.
— Нет, что ж, подсказывать не надо.
— Вы напрасно затрудняетесь,— сказал уче-
нику один из профессоров.— «Юрия Милослав-
ского» читали?
— Читал.
— Что ж там — действительность или правдо-
подобие?
— Действительность.
— Почему вы так думаете?
— Это исторический роман.
— Нет, что ж, дурак! Положительный дурак,—
сказал отец-ректор и махнул рукою.
История в этом роде повторяется со многими.
Едва доходило дело до объявлений и примеров,
ученики становились в тупик.
В числе других вышел ученик второго разря-
да, очень молодой, красивый и застенчивый,
за что товарищи прозвали его «прелестною Ма-
шенькою». Он робко читал по билету, который
ему выпал, и во время чтения не поднимал
ресниц.
— Так, так,— говорил отец-ректор,— продол-
жай! — И затем он обратился с улыбкою к
профессорам: — Какой он хорошенький, а? не
правда ли? Как тебя зовут?
— Александром.
128
— Ну, вот, вот! И имя у тебя хорошее.
Ученик краснел. Сидевший подле него профес-
сор предложил ему вопрос.
— Нет, нет! — заметил отец-ректор,— вы его
не сбивайте. Пусть читает. В самом деле, посмот-
рите, какой он хорошенький!..— И экзаменатор
взглянул на список.— Ты здесь невысоко стоишь,
невысоко. Вот я тебя поставлю повыше...
Ты будешь заниматься, а?
— Буду.
— Ну и хорошо. Ступай!
К концу экзамена отец-ректор, как видно,
утомился. Стал смыкать свои глаза и пропускать
нелепые ответы мимо ушей. Ученики не премину-
ли этим воспользоваться, однако один попал впро-
сак: заговорив об органах чувств, он приплел сюда
и память, и творчество, и прочее, и прочее, лишь бы
не молчать. Вот, сколько мне помнится, образчик
на выдержку: «Органы чувств суть: глаза, уши,
нос, язык и вся поверхность тела. Заучивание
бывает механическое и разумное... однако ж, бы-
вают случаи, фантазия может создать крылатую
лошадь, но только тогда, когда мы уже имеем
представление о лошади и крыльях и сверх того...
и... напрасно строгие эмпирики отвергают в нас
действительность ума, как высшей познавательной
способности...»
— Так, так,— говорил отец-ректор, бессозна-
тельно кивая головою. Федор Федорович не пере-
бивал этой галиматьи, что было очень понятно.
— Вы просто городите безобразную чепуху,—
заметил сидевший налево профессор.
— А? что, что? Повтори! — и отец-ректор
5-1032 129
широко раскрыл глаза. Ученик стал в тупик.— Ну
что ж, дурак! Вот я тебе и поставлю нуль.
Пошел!..
Несмотря на эти маленькие неприятности,
Федор Федорович остался вообще нами доволен
и, садясь со мною обедать, весело потер руки
и сказал:
— Ну, слава богу! экзамен наш сошел превос-
ходно... как ты думаешь?
— Хорошо,— отвечал я с улыбкою.
— Промахи, конечно, были, но... пододвинь ко
мне горчицу.— Я пододвинул...— Где же этого
не бывает?
И в самом солнце пятна есть.
17
Экзамены продолжаются. В общих чертах они
походили один на другой и только отличаются не-
которыми оттенками, смотря по тому, кто экзаме-
нует — отец-ректор или инспектор. Последний
не дремлет за своим столом, нет!.. Лицо его
выражает какое-то злое удовольствие, когда ему
удастся сбить кого-нибудь с толку. И боже со-
храни, если он не благоволит к наставнику экза-
менующихся! Тогда вся его злоба обращается на
учеников, которых он мешает с грязью, и в то же
время язвит их наставника разными ядовитыми
намеками и двусмысленною учтивостию. К
счастью, он не экзаменует по главным предметам,
но по истории, языкам и т. д.
— Переводи! — говорит он ученику, который
стоит перед ним с потупленною головою и с Лак-
130
танцием в руках.— Переводи! что ж ты молчишь,
как стена?..— И впивается в него своими серыми
сверкающими глазами.
— Душа, буду... будучи обуреваема страстями
и... и...
— Далее!
— Страстями... и...
— Что ж далее?
— И не находя оно... опоры.— Ученик чуть не
плачет.
— Осел! у тебя и голос-то ослиный! — И он
передразнивает ученика: — Обуреваема... Где ты
нашел там обуреваема? Лень тебя, осла, обуревает,
вот что! Почему ты целую неделю не ходил в
класс?
— Болен был.
— Видишь, какой у него басище... болен
был...— Опять передразниванье.— Отчего ж ты не
явился в больницу?
— Я полагал... я думал, что на квартире мне
будет покойнее...— У малого навертываются сле-
зы.— Ей-богу, я был болен лихорадкою. Спросите
у моих товарищей и, если я солгал, накажите
меня, как угодно.
— А! ты покой любишь... хорошо! Вот тебя
исключат к вакации, тогда ты насладишься по-
коем: целый век будешь перезванивать в коло-
кола.
И вслед за этим предлагается вопрос настав-
нику:
— Он у вас всегда таков, или, может быть,
на него периодически находит одурение?
— Что делать! Особенных способностей он не
5»*
131
имеет, но трудится усердно и успевает, сколько
может. Кажется, он сробел немного...
— Все это прекрасно, то есть вы очень вели-
кодушны, но все это ни к чему не ведет. Мне
кажется (по крайней мере я так думаю, вы меня,
пожалуйста, извините: может быть, я ошибаюсь),
мне кажется, было бы сообразнее с делом видеть
его в начале не второго разряда, как он у вас
стоит, а в конце третьего. Впрочем, вероятно, вы
имеете на это свое основание.
Наставник проглотил позолоченную пилюлю
и стал извиняться, что он ошибся, и уверять,
что на будущее время он постарается быть более
осмотрительным.
После класса я заходил за книгою к своему
товарищу, который живет в семинарии на казен-
ном содержании. Мне случилось быть в первый раз
в нумере бурсаков. Это огромная, высокая комна-
та, по наружности похожая на наши классы, с тою
разницею, что она, хоть и экономно, но все же
ежедневно отапливается. Вокруг обтертых спина-
ми стен стоят деревянные, топорной работы, крова-
ти. Простынь на них нет; подушки засалены; ста-
рые, сплюснутые матрацы прикрыты изношенны-
ми, разодранными одеялами. На полу пыль
и сор. И какой пол! Доски стерты каблуками, и
только крепкие суки упорно противятся сапогам
и времени и подымаются со всех сторон бугорка-
ми. Между досок щели. В углу — отверстие:
смелые голодные крысы не побоялись прогрызть
казенное добро!.. Окна запушены снегом, и так
плотно, что самому зоркому глазу невозможно
видеть, что делается на улице, и даже есть
132
ли здесь улица. Сквозь разбитые и кое-как
смазанные стекла порядочно подувает холо-
дом, но я не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался:
кажется, здесь ко всему привыкли. Покамест мой
товарищ доканчивал выписку из моей книги, я
присел на его кровать. Ничего! матрац не жестче
доски, стало быть, на нем еще можно спать. Уче-
ники сновали взад и вперед по комнате. Один полу-
раздетый, в толстом и грязном белье, лежал на
своей кровати с глазами, устремленными на тет-
радку, и с видимым удовольствием доедал кусок
черного хлеба. Другому захотелось покурить.
Курить не велят, поневоле поднимешься на хит-
рости. Он подставил к печке скамью, открыл ввер-
ху заслонку и, стоя на скамье, пускал дым
в трубу. Вдруг я почувствовал что-то неприятное
у себя на шее, хвать — клоп! Этакая мерзость!
Воображаю, как было бы покойно провести здесь
ночь...
— Ты докончил выписку? — спросил я своего
товарища.
— Докончил.
— Каково вы тут поживаете?
— Ничего. Семья, брат, большая: двадцать
человек в одной комнате.
— А как у вас распределено время?
— Утром бывает общая молитва, и мы все
поем. Потом один становится к налою и несколь-
ко молитв прочитывает. После класса позволяется
немного отдохнуть. Уроки учим в зале. Вечером
опять общая молитва. Кто хочет, и после ужина
может заниматься, прочие ложатся спать. Ты ни-
когда не был у нас в столовой?
133
— Никогда. Я думаю, там почище, чем здесь?
— Чистота одинакова. А воздух там хуже: из
кухни, верно, чем пахнет. Просто — вонь!
— Как же вы там садитесь за столы?
— Известно как, по классам: словесники
особо, мы особо, богословы тоже. Богословы едят
из каменных тарелок, мы и словесники из оловян-
ных; ложки деревянные, да такие, брат, что в каж-
дой будет цолфунта весу. Сторожа разносят
щи и кашу. Вот тебе и все.
— Кушанье, стало быть, всем достается
поровну?
— Ну нет. У богословов бывает побольше
говядины, у нас поменьше, у словесников чуть-
чуть. Первые едят кашу с коровьим маслом; у нас
она только пахнет коровьим маслом; у словесников
ничем не пахнет. Каша, да и только.
— Ав постные дни что же подают?
— Кислую капусту с квасом. Щи из кислой
капусты. К каше выдается конопляное масло
в том же роде, как и коровье.
— А блины на сырной бывают?
— Иногда бывают. Крупны уж очень пекут:
одним блином сыт будешь.
— И с коровьим маслом?
— С конопляным. Иногда с коровьим — для
запаху.
— Это, верно, не то, что дома...
— Ничего. Был бы хлеб, жив будешь. У меня
и дома-то едят не очень сладко. Отец у меня поно-
марь; доходы известные: копейка да грош, да и тот
не сплошь.
После этого разговора я шел в раздумье
134
вплоть до моей квартиры, и комната моя, после ну-
мера, в котором я был, показалась мне и уютною
и чистою.
21
У нас производится теперь раздача билетов, без
которых ученики не имеют права разъезжаться
по домам. Мне всегда бывает приятно толкаться
в это время в коридоре, в толпе товарищей, всмат-
риваться в выражение их лиц и угадывать по нем
невидимую работу мысли. Получившие билеты
весело сбегают по широкой грязной лестнице от
инспектора, который их выдает. Вот один останав-
ливается на бегу и с беспокойством ощупывает
свой боковой карман: тут ли его дорогая бумага?
не обложился ли он как-нибудь второпях? И вдруг
оборачивается назад и вновь бежит наверх; верно,
еще что-нибудь забыто. Другой спускается с лест-
ницы с потупленною головою и нахмуренными
бровями. «Ну, что?» — спрашивает его товарищ.—
«После велел прийти. Говорит, некогда...» — «А за
тобою прислали из дома?» — «То-то и есть, что
прислали. Работнику дано на дорогу всего
тридцать копеек, вот лошадь и будет стоять без
сена, если тут задержат». Подле меня разговари-
вают два ученика: «Что ж ты, приятель, не едешь
домой?» — «Зачем? Пьянства я там не видал?
Мне и здесь хорошо».— «Нашел хорошее! Что ж
ты будешь делать?» — «Спать,— кроме ничего.
У меня, брат, на квартире...» — Он пошептал
своему приятелю что-то на ухо. «В самом деле?» —
«Честное слово».— «И хорошенькая?» — «Ниче-
135
го, не дурна».— «Вот он!» — сказал Мельхиседе-
ков, показывая свой билет. «Час добрый,— отвечал
я, — а что, инспектор не сердит?» — «Ни то ни се:
говорит как водится, напутственные слова. Ты,
дескать, лентяй и часто не ходил в классы; тебя
нужно бы не домой отпустить, а посадить для
праздника на хлеб и на воду. Ты на прошлой
неделе смеялся в классе. Помни это! я до тебя
доберусь. А меня назвал умным малым. «Ты, гово-
рит, ведешь себя скромно. Это я люблю. Смотри,
не заразись дурными примерами». Я выслушал
его с видом глубочайшего почтения, отдал низкий
поклон, да и вон».
И поедут они теперь в разные стороны, в раз-
ные деревушки и села. Как-то невольно представ-
ляются мне знакомые картины. Широко, широко
раскинулось снежное безлюдное поле. По краям
серое, туманное небо. В стороне чернеется обна-
женный лес. На косогорах качаются от ветра сухие
былинки. Над оврагами уродливыми откосами
навис сугроб. По лугам неправильными рядами
поднимаются снежные волны. Вокруг печальная,
безжизненная тишина. Слышен только скрин
полозьев и туго натянутой дуги. Среди этой пусты-
ни едет иной горемыка в легком и тонком тулу-
пишке. Мороз пробирает его до костей. На бровях
и ресницах нарастает иней. Жгучий ветер колет
иглами открытое лицо. Сани медленно ныряют
из ухаба в ухаб. Тощая кляча с трудом вытаски-
вает из глубокого снега свои косматые ноги. И вот
наступает холодная, холодная ночь. Синее небо
усеяно звездами. По снегу, при ярком свете меся-
ца, перебегают голубые и зеленые огоньки, и видны
136
свежие следы недавно пробежавшего зайца.
Бесконечная даль пропадает в тумане, и сквозь
этот туман тускло мерцает одинокая красная
точка: верно, еще не спят в какой-нибудь дым-
ной и сырой избенке. «Прр!» — говорит кучер и с
бранью оставляет свое место. «Что там такое?» —
спрашивает седок. «Супонь лопнула».— «Ах, гос-
поди! что за наказание!..» Бедняга выскакивает из
саней и бегает около них, похлопывая окостенев-
шими руками, покамест исправляется старая,
истасканная упряжь.
Я остаюсь здесь потому, что ехать слишком
далеко. Книг у меня будет довольно, а с ними
я не соскучусь. И как бы стал я коротать в деревне
праздничные дни? Батюшка, по обыкновению,
с утра до ночи ходит со двора на двор с крестом
и святою водою и возвращается усталый с собран-
ными курами и черным печеным хлебом. Со сторо-
ны матушки немедленно следуют вопросы: кто
как его принял и что ему дал. Куры взвешиваются
на руках, и при этом, разумеется, не обходится
без некоторых замечаний. «Вот, мол, смотри: что
это за курица? Воробей воробьем!.. Матрена,
говоришь, дала?» — «Она, она», — отвечает
батюшка, насупивая брови. «Экая выжига! экая
выжига!» Христославного хлеба у нас собирается
довольно. Часть его обращается на сухари для
собственного употребления, часть идет на корм
домашней скотине.
Когда-то и я вместе с батюшкою ходил по избам
мужичков в качестве христославца и бойко читал
наизусть какие-то допотопные вирши, бог весть
когда и кем написанные, со всевозможными
137
грамматическими ошибками, и переходящие из
рода в род без малейшего изменения. «Вишь, как
тачает! — бывало, скажет иной мужичок,— сей-
час видно, что попович. Нечего делать, надо и ему
дать копеечку...»
Впрочем, к чему я об этом говорю? Воспоми-
нания, изволите ли видеть, воспоминания... Это,
что называется, чем богат, тем и рад.
29
Человек предполагает, а бог располагает:
я надеялся провести все праздничное время за кни-
гами, а вышло не так. Григорий заболел накануне
рождества простудою и слег в постель, которую
пришлось ему занять в сырой, угарчивой кухне,
на жесткой сосновой лавке. На больного никто
не обращал особого внимания. Кухарка тотчас
после обеда наряжалась в пестрое ситцевое платье,
завивала на висках косички, уходила в гости
к какому-нибудь свату или куму и возвращалась
уже вечером румяною, веселою и разговорчивою.
«Вставай! — говорила она мальчугану, который
с трудом переводил свое горячее дыхание,— что
ты все лежишь, как колода? Не хочешь ли
щей?» Больной отрицательно качал головой и обо-
рачивался к стене. «Ну, наплевать! была бы честь
приложена, от убытку бог избавил...» И баба запе-
вала вполголоса не совсем пристойную песню. Фе-
дор Федорович раза два посылал меня к нему
с чашкою спитого, жиденького чая. «Пусть,
говорит, выпьет. Это здорово. Скажи, что я прика-
зываю». Но малый не слушался и со слезами
138
на глазах просил у меня холодного квасу. Ключ от
погреба постоянно хранился в кабинете Федора
Федоровича; я спешил к нему с докладом:
вот, мол, так и так. «Нет,— отвечал мне мой
наставник,— скажи ему, что он глуп. Больному
квас пить нездорово». И этим оканчивалось все
попечение о бедном мальчугане. Таким образом,
волею-неволею мне пришлось заменить его долж-
ность, то есть состоять на посылках и исполнять
разные приказания и прихоти моего наставника.
Только что я возьмусь за книгу, «Василий! —
раздается знакомый мне голос,— сходи-ка на ры-
нок и купи мне орехов, да смотри, выбирай, какие
посвежее». Орехи принесены; молоток, чтобы раз-
бивать их, подан; я опять берусь за книгу и читаю
при громком стуке молотка. «Василий! поди-ка
собери скорлупу и вынеси ее на двор». Скорлупа
вынесена,— я снова принимаюсь за книгу. «Васи-
лий! поди-ка вычисти мне сапоги». И вот я развожу
на старом чайном блюдечке ваксу и чищу сапоги,
а наставник мой покоится на диване, заложив
под голову свои руки, курит папиросу и смотрит
на потолок.
Теперь я окончательно убежден, что он строго
следит за ходом моего развития. Сегодня за обедом
у меня с ним был следующий разговор.
— Чем ты занимаешься? — спросил он меня,
накладывая себе на тарелку новую порцию жаре-
ного поросенка.
— Читаю Фонвизина.
— Читал бы ты что-нибудь серьезное, если уж
есть охота к чтению, вот и была бы польза. Эти
Фонвизины с братиею отнимают у тебя только
139
время. Что это за сочинение? Вымысел, и больше
ничего. Кажется, я говорил тебе, какие книги ты
должен взять из нашей библиотеки.
«Да,— подумал я,— просьбою о выдаче мне
этих книг я надоел библиотекарю так же, как на-
доедает иной заимодавец своему должнику об
уплате ему денег. Кончилось тем, что победа оста-
лась на моей стороне. Библиотекарь, выведенный
из терпения, плюнул и крикнул с досадою:
«Возьми их, возьми! Отвяжись, пожалуйста!..»
— Я читал опыт философии Надеждина. Сухо
немножко,— сказал я, стараясь, по возможности,
смягчить вертевшийся у меня в голове ответ:
темна вода во облацех.
— Смыслишь мало, оттого и выходит для тебя
сухо. А ты делай так: если прочитал страницу
и ничего не понял, опять ее прочитай, опять и
опять... вот и останется что-нибудь в памяти и не
будет сухо.— На последнем слове он сделал ударе-
ние. Очевидно, ответ мой ему не понравился.
— Чтение журналов,— продолжал он,— тоже
напрасная трата времени. Ты видишь, я сам их не
читаю, а разве проигрываю от этого? Тебе, напри-
мер, дается тема: знание и ведение суть ли тож-
дественны, или: в чем состоит простота души;
ну, что же ты почерпнешь из журналов для
своих рассуждений на обе эти темы? Ровно ничего.
Нет, ты читай что-нибудь дельное, а не зани-
майся пустяками.
После этого разговора передо мною яснее обри-
совалась личность моего почтенного наставника.
Я мысленно поблагодарил себя за то, что прятал
от него почти всякую книгу, и решился, для устра-
140
нения между нами каких бы то ни было недоразу-
мений, никогда не заводить с ним разговора о том,
на что он имеет свой особенный взгляд. Этот взгляд
и эта должность прислуги, которую я здесь несу,
до того мне надоели, что я писал к своему батюшке,
чтобы он под каким-нибудь благовидным предло-
гом переменил мою квартиру, говоря, что я на-
столько вырос и настолько понимаю все белое и
черное, что могу обойтись без посторонней нрав-
ственной опеки.
Января 6
Здоровье Григория поправилось. Он вынес
тяжелую горячку и встал, несмотря на все, так
сказать, благоприятные условия к переселению
в лучший мир, как то: скверное помещение, дур-
ную пищу и отсутствие необходимых лекарств...
«Отвалялся!» — говорит о нем наша кухарка, и
это слово я нахожу очень уместным и верным.
Однако ж, он еще так слаб, что не может
исполнять своей обязанности, и я до сих
пор занимаю его место. Бог с ним, пусть поправ-
ляется! Мне приятно думать, что мои хлопоты
доставляют ему покой.
Передняя и гостиная моего наставника снова
оживлены присутствием известных личностей... Не
знаю, как их точнее назвать... просителями, посе-
тителями или гостями,— право, не знаю. Иной
вовсе ни о чем не просит: скажет только, что сын
его прозывается Максим Часовников, а он, отец
его, принес вот пару гусей, и это короткое
объяснение закончит глубочайшим поклоном:
141
«Извините, что, ио своей скудости, не могу вам
ничем более возблагодарить». Ему ответят: «Спа-
сибо». Место удалившейся личности заступает
другая, которая подобострастно склоняет свою лы-
сую голову и робко и почтительно протягивает
мозолистую руку, из которой выглядывает на бо-
жий свет тщательно сложенная бумажка. «Осме-
ливаюсь вас беспокоить, благоволите при-
нять...» — «Напрасно трудились. Впрочем, я не
забуду вашего внимания»,— равнодушно говорит
Федор Федорович и в свою очередь протягивает
руку. Он делает это так естественно, как будто
о бумажке тут нет и помину, а просто пожи-
мается рука доброму знакомому при словах: «мое
почтение! как ваше здоровье?» Мое присутствие
нисколько не стесняет моего наставника; и как же
иначе? Все это дело обыкновенное, не притязатель-
ное: хочешь — давай, не хочешь — не давай, по
шее тебя никто не бьет. Притом мнение ученика
(если, сверх всякого чаяния, он осмелился иметь
какое-либо мнение) слишком ничтожно. Иногда
меня забавляет нелепая мысль: что, думаю я, ес-
ли бы в одну прекрасную минуту я предложил
моему наставнику такой вопрос: в какую силу
принимаются им все эти приношения, и указал бы
ему на разное яствие и питие? Мне кажется, весь,
с ног до головы, он превратился бы в живой исту-
кан, изображающий изумление, и — увы! — потом
разразились бы надо мною молния и громы...
С наступлением сумерек передняя опустела.
Я вошел в свою комнату и взялся за книгу.
— Василий! — крикнул Федор Федорович.
— Что вам угодно?
142
— Прибери эти бутылки под стол... знаешь,
там — в моем кабинете, а гусей отнеси в чулан,
запри его и ключ подай мне.
Я все исполнил в точности и снова взялся за
свое дело, а мой наставник, в ожидании ужина,
занялся игрою с своим серым котенком. За ужи-
ном, между прочим, он спросил меня:
— Что ты теперь читал?
Этот часто повторяемый вопрос, ей-богу, мне
надоел.
— «Слова и речи на разные торжественные
случаи»,— отвечал я, удерживая улыбку, потому
что бессовестно лгал: я читал, по указанию Яблоч-
кина, перевод «Венецианского купца» Шекспи-
ра, напечатанный в «Отечественных записках»,
а «Слова и речи» лежали и лежат у меня на столе,
служа своего рода громоотводом.
— Это хорошо. Однако ты любишь чтение!
— Да, люблю.
Он обратился к кухарке: «Завтра к обеду
приготовь к жаркому гуся. Сало, которое из него
вытопится, слей в горшочек и принеси сюда. Мы
будем есть его с кашею».
Авось хоть теперь Федор Федорович успокоит-
ся, думал я, ложась на свою кровать и продолжая
чтение «Веницианского купца». Но за стеною еще
слышалась мне протяжная зевота и полусонные
слова: «Господи, помилуй! что это на меня напа-
ло?..» И вот я пробегаю эти потрясающие душу
строки, когда жид Шейлок требует во имя право-
судия, чтобы вырезали из груди Антонио фунт
мяса. По телу пробегает у меня дрожь, на голове
поднимаются волосы...
143
— Василий! Василий! Или ты не слышишь? —
раздается за стеною громкий голос моего настав-
ника.
— Слышу! — отвечал я с тайною досадою,—
что вам угодно?
— Ты куда положил гусей?
— В чулан.
— Да в чулане-то куда?
— На лавку!
— Ну, вот, я угадал. Это выходит на съедение
крысам. Возьми ключ и все, что там есть, гусей
и поросят, развешай по стенам. Там увидишь
гвозди. С огнем, смотри, поосторожнее.
И положил я Шекспира и пошел развеши-
вать гусей и поросят. Не правда ли, хорош
переход?..
9
Наша семинария опять закипела жизнью, или,
по резкому выражению Яблочкина, шестисотго-
ловая, одаренная памятью, машина снова пущена
в ход. Все это прекрасно, нехорошо только то,
что стены классов, стоявших несколько времени
пустыми, промерзли и покрылись инеем, а те-
перь, согретые горячим дыханием молодого
люда, заплакали холодными слезами. Пусть пла-
чут! От этого не будет легче ни им, ни тем учащим-
ся толпам, которые приходят сюда в известный
срок и в известный срок, в последний раз, уходят
и рассыпаются по разным городам и селам.
И вот я сел и обращаю вокруг задумчивые
взгляды.
144
Опять все скамьи заняты плотно сдвинутыми
массами народа. На столах разложены тетрадки
и книги; едва отворится дверь,— из класса белым
столбом вылетает влажный пар и медленно ре-
деет под сводами коридора. Холодно, черт побе-
ри! Бедные ноги так зябнут, что сердце ще-
мит от боли, и после двухчасового неподвижного
сиденья, когда выходишь из-за стола, они дви-
жутся под тобою как будто какие-нибудь дере-
вяшки.
Я помню, что в училище мы до некоторой
степени облегчали свое горькое положение в этом
случае таким образом: когда продрогшие уче-
ники теряли уже последнее терпение и замечали,
что, наконец, и сам учитель, одетый в теплую ено-
товую шубу, потирает свои посиневшие руки и
пожимает плечами,— из отдаленного угла разда-
вался несмелый возглас: «Позвольте погреться!..»
«Позвольте погреться!» — вторили ему в другом
углу, и вдруг все сливалось в один громкий, умо-
ляющий голос: «Позвольте погреться!..» И учитель
удалялся, иногда в коридор, а чаще в комнату
своего товарища, который занимал казенное поме-
щение в нижнем этаже. Вслед за ним сыпались
дружные звуки оглушительной дроби. Это-то и
было согревание: ученики, сидя на скамьях, сту-
чали во всю мочь своими окостенелыми ногами об
деревянный, покоробившийся от старости пол.
Между тем какой-нибудь шалун, просунув
в полуотворенную дверь свою голову, зорко осмат-
ривал коридор.
«Где учитель? В коридоре?» — спрашивали
его позади. «Нет. Ушел вниз».— «Валяй, братцы!
145
Валяй!...» И ученики прыгали через столы на сере-
дину класса.
— Ну, ты! мокроглазый! Становись на поеди-
нок...— восклицает одна голоостриженная бойкая
голова и размахивает кулаками перед носом своего
товарища.
— Становись! — говорит мокроглазый, прито-
пывая ногой,— становись!
Раз-два! раз-два! и пошла кулачная ра-
бота.
К ним присоединяется новая пара горячих
бойцов, еще и еще,— и вот валит уже стена на
стену. Не участвующие в бою и те, которые
успели получить под свои бока достаточное число
пирогов, стоят на столах и телодвижениями и
криком одушевляют подвизающихся среди класса
рыцарей. Избранный часовой стоит у дверей и
сторожит приход учителя. «Тсс... тсс...» — говорит
он, и ученики бегут на свои места.
Учителя встречает в дверях облако густой
пыли.
— А! — восклицает он,— опять бились на ку-
лачки! — и внимательно смотрит по сторонам и за-
мечает у одного подбитый глаз.
— Как ты смел биться на кулачки? А?
— Я не бился, ей-богу, не бился! — отве-
чает плаксивый голос.
— Врешь, бестия! Пошел к порогу.
И виноватый без дальнейших объяснений
отправляется, куда ему приказано, распоясы-
вается, расстегивает свой нанковый сюртучишко
и так далее и ложится на холодный пол. Сидевший
у порога ученик, так называемый секутор, с гибкою
146
лозою в руке, усердно принимается за свою при-
вычную работу.
— Простите! простите! — разносится на
весь класс жалобный крик.
— Прибавь ему, прибавь!
И секутор прибавляет.
Операция кончилась, и наказанный, как ни
в чем не бывало, встает, утирая слезы, подпоясы-
вается, отдает по заведенному порядку своему
наставнику низкий поклон — благодарность за
поучение — и отправляется на место, замечая ми-
моходом одному из своих товарищей: «Я говорил
тебе, такой-сякой, не бей по лицу: синяк будет...
вот и выдрали».
Та же самая потеха повторяется и на следую-
щие дни с предварительным условием: «Смотрите,
братцы, по лицу чур не бить!» У нас этого, благо-
дарение богу, нет.
Но возвращаюсь к делу.
Что это за милый человек наш Яков Иванович,
профессор, читающий нам русскую историю!
Он смотрит на исполнение своей обязанности
как на что-то священное и в этом отношении заслу-
живает безукоризненную похвалу. В класс он
приходит своевременно, спустя две-три минуты
после звонка, при чтении молитвы молится
усердно и, плотно запахнув свою поношенную
шубу, скромно садится за стол. И вот развязы-
вает свой клетчатый платок, и мы видим его неиз-
менного спутника, можно сказать, его верного
друга — старую, почтенной толщины книгу,
в прочном кожаном переплете, с красным обре-
зом. Яков Иванович вынимает из кармана очки,
147
дышит на них, протирает платком и осторожно на-
девает на свой нос. Все это делается не спеша, не
как-нибудь: сейчас видишь, что человек присту-
пает к исполнению трудной обязанности, к реше-
нию великой задачи. «Гм!., гм!..» — откашливает-
ся муж, поседевший в науке, и развертывает
книгу именно там, где нужно. Ошибиться ему
нельзя, потому что недосчитанная страница
каждый раз закладывается продолговатою, нароч-
но для этого вырезанною бумажкою, место же,
где ударом звонка было закончено чтение, отме-
чается слегка карандашом, который вытирается
потом резиною. Как видите, все рассчитано благо-
разумно и строго. И начинается тихое, мерное
чтение. Читает он полчаса, читает час, порою снова
протирает очки,— вероятно, глаза несчастного
подергиваются туманом,— и опять без умолку
читает. И нет ему никакого дела до окружающей
его жизни, точно так же, как никому из окружаю-
щих его нет до него ни малейшей нужды. Ученики
занимаются тем, что им нравится или что они
считают для себя более полезным. Некоторые
ведут рассказы о своих взаимных похождениях
и проказах, некоторые переписывают лекции
по главному предмету, а некоторые сидят за
романами. Тут вы увидите разные романы, напри-
мер: «Шапка юродивого», «Таинственный монах»,
«Фра-диаволо», «Япанча — татарский наездник»
и т. под., но чаще всего увидите Поль-де-Кока
и Дюма. Они пользуются у нас особенною извест-
ностию. Если чей-нибудь неосторожный возглас
или смех прервет мирное чтение почтенного
наставника, он поднимает свои вооруженные
148
глаза на окружающую его молодежь и громко
скажет: «Пожалуйста, не мешайте мне читать!..»
И продолжает: «Ах! странно и дивно есть, ежели
шли брат на брата, сынове противо отцов, рабы
на господ, друг друга ищут умертвить и погубить,
забыв закон божий и преступя заповеди его, едино-
го ради властолюбия, ища брат брата достояния
лишить, не ведущие, яко премудрый глаголет:
ищай чужаго о своем возрыдает! Исшедше же
Юрий с Ярославом и меньшими братиями, стал на
реке Гзе» (Рос. истор. Татищева, изд. 1774 г.,
кн. III, стран. 389).
Если шум не унимается, наставник покраснеет
и громче прежнего повторит: «Не шумите! пожа-
луйста, не шумите! Не то, честное слово, я пущу
кому-нибудь в голову своею книгою»... Эта угроза,
конечно, никого не пугает, тем более, что она
никогда не приводится в исполнение. Но Яков
Иванович все-таки достигает своей цели, то есть
в классе наступает непродолжительная тишина.
Его боятся потому, что своим смирением и без-
ответности ю он успел себе снискать расположение
нашего инспектора.
20
Бедный Иван Ермолаич! Он совсем спился
с кругу. Грустно было смотреть, в каком виде
пришел он сегодня вечером к Федору Федоровичу.
Шинель истаскана, просто — дрянь! Подкладка
порвалась, из-под изношенного коленкора
выглядывают клочки грязной ваты. Сапоги на
нем — без калош. Этого мало: один сапог лопнул,
149
и оказывается, что он в трескучие морозы носит
нитяные чулки. Как он терпит эту нужду,—
ей-богу, не понимаю!
Федор Федорович принял его чрезвычайно
холодно или, лучше сказать, грубо; не только не
подал ему руки, даже не пригласил его сесть,
и ходил из угла в угол, поигрывая махрами своего
пояса и напевая себе под нос какую-то песню, как
будто в комнате, кроме него, не было ни одной
живой души.
— Знаете ли что, Федор Федорович,— сказал
незваный гость, потирая свои синие, озябшие
руки,— дайте мне, пожалуйста, рюмку водки. Я,
мочи нет, озяб!
— У меня ни капли нет водки. Я почти ни-
когда ее не имею.— Иван Ермолаич подошел
к печке, прикладывая свои руки к теплым
кафлям и, обернувшись, прислонился к ней
спиною.
— Что же у вас есть? Дайте хоть одну рюмку.
Авось убытку будет немного.
— Рому, пожалуй, я дам: есть немножко. Ведь
вы уже где-то выпили... довольно бы, кажется.
— Да ну,— ради бога, без наставлений! Да-
вать — так давай, нет — бог с тобою!
Федор Федорович пошел в свой кабинет
и вынес оттуда рюмку рома. Иван Ермолаич ее
выпил и сел, облокотившись на стол. Несколько
времени прошло в молчании.
— Глупая история,— сказал Иван Ермо-
лаич,— глупейшая история!
— Что такое? — спросил Федор Федорович.
— А вот что: на днях я имел удовольствие
150
беседовать с отцом-ректором — и остался в ду-
раках.
— Я думал, случилось что-нибудь особенное,—
отвечал Федор Федорович, закуривая папиросу
и растягиваясь во весь свой рост на мягком ди-
ване.
— Теперь я все спрашиваю себя: за каким чер-
том я к нему ходил?
— Совершенно справедливо. Он уже не раз
намыливал вам голову; пора бы оставить его
в покое.
— Но, помилуйте! что ж это такое? Чем я
виноват? — вскричал Иван Ермолаич, поднимаясь
со стула и вдруг одушевляясь.— Вот слушайте:
ученики собрали тридцать рублей серебром и про-
сили меня, чтобы я составил им по своему выбору
библиотечку, которою они могли бы постоянно
пользоваться и, от времени до времени, ее увели-
чивать. Мысль прекрасная, не правда ли? Я пошел
к отцу-ректору и объяснил ему, в чем дело. «Вы,—
сказал он,— спросились бы прежде у того, кто
постарше вас, тогда и собирали бы деньги».—
«Деньги,— отвечал я,— мне принесли собран-
ными».— «Так, так. Ну, что ж вы хотите ку-
пить?» — «Конечно,— говорю я,— что-нибудь для
легкого чтения, например сочинения Пушкина,
романы Вальтер Скотта, Купера...» — «Ну, вот-
вот! Пушкина... стишки, больше ничего, стишки.
Опять же Купера... Кто это такой Купер? О чем он
писал? Нет, нет! романы нам не годятся».— «Да
ведь у нас читают Поль-де-Кока и тому подобное.
Ведь это помои! Не лучше ли дать ученикам что-
нибудь порядочное».— «Нет, что ж... Нам это не
151
годится. Вы уж, пожалуйста, не ходите ко мне
вперед с такими пустяками. А деньги отдайте
назад, непременно отдайте».— «Помилуйте! —
возразил я,— устройством библиотеки...» — «За-
нимайтесь своим делом, вот что! Мне некогда пере-
сыпать с вами из пустого в порожнее. До свида-
ния!..» Скажите по совести, что ж это такое? —
заключил Иван Ермолаич.
— Не мое дело, — отвечал Федор Федоро-
вич,— Всяк Еремей про себя разумей.
— И только?
— Больше ничего.
Гость постоял с минуту в раздумье и сказал,
как-то принужденно улыбаясь:
— Честь имею кланяться, Федор Федорович!..
— Будьте здоровы...— Иван Ермолаич ушел.
— Гришка! — крикнул Федор Федорович.
— Ась,— отвечал мальчуган из передней.
— Ты видел вот этого барина, что сейчас
отсюда вышел?
— Видел.
— Если когда-нибудь он опять придет, скажи
ему, что меня нет дома. Слышишь?
— Слышу.
О мой мудрый наставник! Если б ты знал,
как ты упал теперь в моих глазах!..
25
Я сейчас получил от батюшки письмо. Вот
что, между прочим, он пишет: «Ты поменьше пре-
давайся мечтательности. О перемене своей кварти-
ры, до твоего перевода в богословие, думать
152
не смей; ибо наставник твой примет сию перемену
за обиду, и тебе придется тогда плохо. Ты пишешь,
что он скупится давать тебе свечи; посылаю тебе
денег, купи на них свеч, но по-пустому их
не трать; пустяков не читай и веди себя так, чтобы
я был тобою доволен и чтобы худого о тебе ни от
кого не слышал. Насчет того, что ты ему прислу-
живаешь, я тебе скажу, что это еще не беда, ибо
старшим себя повиноваться ты обязан...»
Итак, терпение и терпение. Об этом говорят
мне не только все окружающие меня люди, но
книги и тетрадки, которые я учу наизусть,
и, кажется, самые стены, в которых я живу. Будем
терпеть, если нет другого исхода.
Далее батюшка пишет, что дьячок наш,
Кондратьич, выехавший куда-то со двора, под
хмельком, во время метели,— пропал и два дня не
было о нем ни слуху ни духу. Лошадь его возвра-
тилась домой с пустыми санями. На третий день
Кондратьича нашли в поле, в логу. Он замерз
и лежал на боку, подогнув под себя ногу. Спину
его занесло снегом. Из-за пазухи его тулупа вы-
нута стклянка с вином и недоеденный блин.
«Мир его праху! — говорит батюшка и прибав-
ляет: — впрочем, худая трава из поля вон...»
Мир его праху! и я скажу в свою очередь. Как
знать? Может быть, и он был бы порядочным
человеком, если бы его окружала другая обстанов-
ка, другие лица. Умел же он сработать отличную
телегу, выстругать раму, связать красивую,
узорчатую клетку, никогда не учившись этому
ремеслу...
153
Февраля 1
И когда этот Яблочкин отдохнет хоть на мину-
ту от своего беспрестанного, горячего труда? Он
изучает теперь немецкий язык и начал уже пере-
водить Шиллера.
— Что ты, брат, делаешь,— говорю я ему,—
пожалей хоть немного свое здоровье...
— Ничего,— отвечал он, медленно подни-
маясь со стула. Лицо его было бледно и грустно.—
А грудь, душа моя, у меня все болит да болит.
Боль какая-то глухая. Не понимаю, что это зна-
чит.— И он прилег на свою кровать.
— Давно ли ты стал заниматься немецким
языком? — спросил я его, перелистывая от нечего
делать книгу Шиллера, в которой не понимал ни
одного слова.
— Месяца три. Выучил склонения и глаголы
и прямо взялся за перевод. Трудно, Вася. По
правде сказать, мы не избалованы судьбою. Потом
и кровью приходится расплачиваться нам не толь-
ко за каждый шаг, но и за каждый вершок
вперед.
— А как идут твои занятия по семинарии?
— Можно бы сказать — не дурно, если бы
к ним не примешивались истории о тросточках
и тому подобное. Как ты думаешь? Уж не писать
ли мне по этому поводу, конечно, в виде подра-
жания нашим темам, рассуждение на тему своего
собственного изобретения: «Зависит ли любовь
к занятиям от рода и обстановки самых занятий,
или может быть возбуждаема историями разных
тросточек и тому подобное?..»
154
— Какая тросточка? — спросил, я с удивле-
нием,— что это за история?
— История очень простая. Один из моих
добрых знакомых заходил ко мне за своею
книгою, заговорился и забыл у меня свою тросточ-
ку. Что ему за охота ходить зимою с тростью, это
уж его дело. На другой день я пошел за новою кни-
гою и кстати захватил с собою забытую им у меня
вещь. Как видишь, все случилось весьма есте-
ственно. Только иду я по улице, вдруг навстречу
мне попадается субинспектор, в своем неизмен-
ном засаленном картузе и в стареньких санях.
«Стой!» — сказал он, толкнув в спину своего куче-
ра, и подошел ко мне величественным шагом.
«Что это у вас в руках?» — спросил он меня,
указывая перстом на несчастную тросточку. Я
улыбнулся и пожал плечами. «Это камышовая
трость»,— отвечал я. «Чему ты смеешься? —
сказал он, нахмуривая брови и переменяя мно-
жественное число личного местоимения на единст-
венное.— Чему? Разве ты не знаешь, что ты не
смеешь с нею ходить? что это запрещено, а?»
Делать нечего: я рассказал ему, почему эта трость
очутилась в моей руке. «Отчего ж ты не завернул,
ее в бумагу, чтобы отнести ее просто под мышкою?
Ясно, что ты врешь». Я извинился, что не догадал-
ся это сделать, он несколько успокоился, и
мы расстались. Что ты на это скажешь? —
спросил меня Яблочкин в заключение своего
рассказа.
— Что ж тут такое? — отвечал я,— случай
весьма обыкновенный...
— Нет, ты представь себе подробности этой
155
сцены! — сказал Яблочкин, вскочив с своей крова-
ти, и на щеках его загорелись два красные
пятна.— Ведь это происходило на тротуаре, по ко-
торому шел народ. Во все продолжение нашего
разговора я должен был стоять с открытою голо-
вой и говорить почти шепотом, чтобы не привлечь
на себя внимание зевак. Неужели все это ничего
не значит?
— Довольно, довольно! — сказал я с улыб-
кою,— перестань горячиться,— и незаметно
склонил разговор на его будущую университет-
скую жизнь. Лицо Яблочкина просияло. Он стал
говорить мне, с какою любовью он возьмется тогда
за новый труд; как весело и быстро будет проле-
тать его рабочее время; как усердно займется он
уроками, которые обеспечат его существование и
которых, наверное, найдется у него много; с каким
удовольствием после этих уроков сядет он в своей
маленькой квартире за кипящий самовар, с ста-
каном чая в одной руке, с книгою — в другой.—
А когда,— продолжал он,— окончу курс и поступ-
лю на службу (куда и чем,— я сам еще не знаю,
но все равно), когда у меня будут хоть какие-ни-
будь средства для жизни, первое, что я сделаю,—
составлю себе прекрасную избранную библиотеку.
У меня будут свои собственные Пушкин и Гоголь,
у меня будут Гете и Шиллер в подлиннике, луч-
шие французские поэты и прозаики. Если останут-
ся свободные минуты от службы, выучусь по-
английски, и у меня будут в подлиннике Байрон
и Шекспир... А главное, душа моя, даю тебе мое
честное слово, куда бы я ни попал, где бы я ни
служил, никогда не буду мерзавцем. Останусь без
156
хлеба, умру нищим, но сдержу это честное слово.
Вася! — заключил он, крепко стиснув меня в своих
объятиях,— ведь это будет рай, а не жизнь!
понимаешь ли?..— Он говорил, глаза его сияли, на
ресницах навертывались слезы. Я подумал о своем
будущем,— вспомнил слова Яблочкина: «Нужно
иметь железную волю, чтобы одиноко устоять на
той высоте» и прочее... и стало мне грустно,
грустно! И вот давно уже ночь, а я все еще не
могу сомкнуть своих глаз и не могу взяться за
какое-нибудь дело.
2
Пословица говорит: утро вечера мудренее.
Так или нет, но в минувшую ночь я многое пере-
чувствовал и многое передумал. Отчего ж и мне
не ехать в университет? Неужели отец мой не ува-
жит моей справедливой, моей горячей мольбы?..
Ну, мой милый Яблочкин, пример твой на меня
подействовал. Кончено! будь, что будет! Бла-
гослови меня, господи, на честный труд. За дело,
Василий Белозерский, за дело! Наверстывай
теперь потерянное за зубреньем время бессонными
ночами! А ты, мой бессвязный и прерывчатый
дневник, бедная отрада моей скуки, покойся
впредь до усмотрения. «Покойся, милый прах,
до радостного утра»... Приведется ли мне увидеть
в тебе более веселые строки?..
157
27 апреля
Весна, весна! Зимние рамы вынуты. В моей
комнатке, проходя в окно и упираясь в подошву
стены, горит золотая полоса яркого солнца. По
стеклу ползет и жужжит проспавшая всю зиму
муха. На дворе громко чирикают воробьи...
но — увы! — из окна, с этого проклятого заднего
двора все-таки пахнет навозом. Вблизи нет
ни кустика зелени. Только у соседа, склонив над
дощатым забором свои гибкие ветви, распускается
одинокая старая ива.
Занятия мои подвигаются вперед. Книг я про-
читал много. Перевожу с французского довольно
свободно. Разумеется, всем этим я обязан моему
бесценному Яблочкину, который беспрестанно
помогал и помогает мне своими советами. Но как
он, бедный, худ! какое у него бледное, истом-
ленное лицо!
К батюшке я написал, что готовлюсь в универ-
ситет, что уже достаточно для этого сделал. Про-
сил у пего благословения на продолжение начатого
мною дела, денег на покупку некоторых руко-
водств и на письмо это уронил две крупных
слезы. Посмотрим, что он скажет.
1 мая
Утром ученики ходили к отцу-ректору про-
сить рекреации. Эти рекреации существуют
у нас с незапамятных времен. В коридоре обыкно-
венно собираются по одному или по два ученика
из каждого отделения (классы разделяются на два
158
отделения, в словесности иногда на три) и держат
совет: как умнее приступить к делу? Через кого
бы узнать, в каком расположении духа находится
теперь отец-ректор? И вот какой-нибудь бо-
гослов отправляется разведывать, что и как,
узнает от келейника отца-ректора или от другого
близкого к нему лица, что все обстоит благо-
получно, что он весел и кушает теперь чай. Бого-
слов с сияющим лицом сообщает об этом во
всеуслышание толпы, и она подвигается вперед.
Богословы, как люди, имеющие более веса, идут
во главе: смиренные словесники образуют хвост.
Отцу-ректору доложили. Он вышел в переднюю
и с улыбкою выслушал просьбу учеников. «Ну
что? май месяц наступил, а? Погулять хочется,
а? хорошо, хорошо! Не будет ли дождя? все
расстроится...» Он обертывается к своему келей-
нику: «Посмотри-ка в окно».— «Небо ясное,—
отвечает келейник,— дождя, кажется, не будет».—
«Позвольте, отец-ректор, погулять в роще...» —
говорит с поклоном курчавый богослов. «Позволь-
те...» — с поклонами повторяет за ним несколько
голосов. «Ну что ж. Хорошо, хорошо! Только вы
того... в роще не шуметь, песен не распевать...
Вот и я приеду. А мяч-то есть у вас, а? и лапта
есть?» — «Есть, есть»,— с улыбкою отвечают
ученики. «Ну, ступайте с богом, погуляйте.
Май наступил, а? Так, так! Хорошо!»
Местность, на которой у нас бывает рекреа-
ция, довольно живописна. На горе зеленеет ста-
рая дубовая роща. Внизу выгнутыми коленами
течет светлая река. За рекою раскидываются
луга, блестят окаймленные камышом озера, в кото-
159
рых лозник купает свои зеленые ветви. Далее,
поднимаясь над соломенными кровлями серых
избушек, белеется каменная церковь. Ярко сверка-
ет на солнце ее позолоченный крест и весело
блестит обитый белою жестью шпиль. Это приго-
родное село. За селом широко развертываются
ровные, покрытые молодою рожью поля; волнис-
тою, необъятною скатертью уходят они вдаль
и сливаются с синевою безоблачного неба. Подле
рощи, со стороны города, местность совершенно
открыта. Под ногами песок или мелкая трава.
В стороне там и сям поднимаются кусты и мшис-
тые пни срубленных дерев, но они так далеко, что
мяч, посланный самою сильною и ловкою рукою,
никогда до них не долетает и падает на виду.
Здесь-то и бывает у нас рекреация.
Словесники являются на место действия
ранее всех, некоторые тотчас после обеда. К четы-
рем часам пополудни вы видите уже целую толпу,
которая рассыпается по всем направлениям,
и в молчаливой доселе роще перекликаются гром-
кие голоса. «Многая лета!» — гремит протяжно
в одном конце, и эхо отвечает в далекой,
темной чаще: «лета!» «Ах, что ж это за раздолье,
семинарское житье!..» — слышится с противопо-
ложной стороны, и пробужденное эхо снова отве-
чает: «житье!» А небо такое безоблачное, такое
синее и глубокое. Солнце льется золотом на вер-
шины дерев, по которым перелетают испуганные
людскими голосами птички. Старые дубы пере-
шептываются друг с другом и бросают от себя
узорчатую тень. Вот один ученик становится на
избранное место, левою рукою подбрасывает
160
слегка мяч и ударяет по нем со всего размаха
увесистою лаптою. «Лови!» — кричит он своим то-
варищам, которые стоят от него сажен на сто.
Несколько ловцов бросаются на полет мяча, кото-
рый, описав в синем небе громадную дугу,
быстро опускается вниз. «Поймаем!» — отвечает
голоостриженная голова, поднимая на бегу свои
руки, и... мяч падает за его спиною. «Эх ты,
разиня! — упрекают его сзади,— и тут-то не умел
поймать».— «Черт его знает! Мяч, верно, легок:
его относит ветром». Направо, между кустами,
краснеется рубаха молодого парня, который, в
ожидании поживы, явился сюда из города с кадкою
мороженого. Его низенькая шляпенка надета на-
бекрень. За поясом висит медный гребешок
и белое полотенце. Парня окружают ученики.
«А ну-ка, брат, давай на копейку серебром.
Да ты накладывай верхом... скуп уж очень...» —
«Кваску, кваску!» — и торопливо подошедший
квасник бойко снимает с своей головы напол-
ненную бутылками кадку и утирает грязным плат-
ком свое разгоревшееся, облитое потом лицо.
Число играющих в мяч постепенно увеличивается
и разделяется на несколько кружков, каждый
с своею лаптой и своим мячом. Но вот на дороге,
сопровождаемый облаком серой пыли, показал-
ся знакомый нам экипаж. Его неуклюжий кузов,
что-то среднее между коляскою и бричкою, неров-
но качался на высоких, грубой работы рессорах.
Это был экипаж отца-ректора. Плечистый,
бородатый кучер, крепко натянув ременные вож-
жи, едва удерживал широкогрудых вороных,
которые, с пеною на удилах, быстро неслись по
6-1032
161
отлогой равнине. На запятках, при всяком толчке
колеса, подпрыгивал белокурый богослов, любимец
отца-ректора, бездарнейшее существо. Он, впро-
чем, добрый малый и не ханжа, что в его положе-
нии большая редкость. Позади, на трех дрожках,
ехали профессора. Отец-ректор вышел из экипажа,
опираясь на руку своего любимца, который отки-
нул ему подножку, и направился к ближайшей
группе учеников. Профессора следовали за ним
в почтительном расстоянии. «Ну что? играете, а?
Играете? Это хорошо. Вот и деревья тут есть и
травка есть... так, так. Играйте себе,— это
ничего». Он обернулся с улыбкою к профессо-
рам: «Разве подать им пример, а? Пример по-
дать?» — «Удостойте их... это не мешает...» —
отвечало несколько голосов. «Хорошо, хорошо.
Давайте лапту». Кто-то из учеников бросился за
лежавшею в стороне лаптой и так усердно торо-
пился вручить ее своему начальнику, что, разбе-
жавшись, чуть не сбил его с ног. «Рад, верно, а? Ну,
ничего, ничего...» — сказал начальник и взял
лапту. «Извольте бить. Я подброшу мяч»,— ска-
зал один из профессоров, и мяч был подброшен.
Последовал неловкий удар — промах! другой —
опять промах. В третий раз лапта ударила по мячу,
но так неискусно, что он принял косое направ-
ление, полетел вниз, сделал несколько бестолковых
прыжков и успокоился на желтом песке. «Нет,
нет! вы мяч нехорошо подбрасываете, нехорошо...
А бить я могу, право, могу».— «Не угодно ли еще
попробовать?» — отвечал профессор. «Нет, что ж...
пусть молодежь играет. Мы лучше походим по
роще. Играйте, дети, играйте...» — и вместе с про-
162
фессорами он скоро скрылся за стволами старых
дубов. «Многая лета!» — грянул в роще чей-то
бас, и опять отвечало эхо: «лета!» — «Это непре-
менно Попов орет... экое горло! Достанется
ему за это, — заметил стоявший подле меня уче-
ник,— побегу его предупредить...» И сметливый
добрый товарищ полетел как стрела в ту сторону,
откуда принесся звук, знакомый его слуху. Кучер
одного из профессоров, переваливаясь с боку
на бок и загребая песок своими пудовыми сапога-
ми, лениво шел к опушке рощи. В руках он дер-
жал завернутый в белую скатерть самовар и не-
большой кулек с закусками. Ученики продолжали
игру в мяч, бегали взапуски, хохотали, спотыка-
лись и падали, стараясь друг друга посалить1, и,
за неимением лучшего, находили во всем этом
большое удовольствие. С наступлением сумерек
усталая толпа побрела в разные стороны домой...
Яблочкина на рекреации не было. В эти дни он
особенно жаловался на боль в своей груди.
5
Яблочкин лежит в больнице. Доктор сказал,
что жить ему остается недолго. Кажется, немного
сказано... но нет, я не могу продолжать! Наконец
и моя крепкая натура не выдержала. Черною
1 Посалить — ударить. Ударивший лаптою мяч
бежит в сторону; поймавший его или просто поднявший
с земли наносит беглецу удар во что придется — это
и называется посалить. Случается, что под этот удар
подвертывается и какой-нибудь профессор.
(>♦»
163
кровью облилось мое бедное сердце, и сижу я,
поникнув головой, и плачу как ребенок. Жить ему
остается недолго... Зачем я не могу отогнать от
себя этой мысли? Нет, я не должен ее отгонять!
Я был бы не человек, если бы позабыл скоро
это нежданное, неисправимое горе. Дитя, начавшее
лепетать, дитя, страстно привязанное к своей ма-
тери и брошенное ею в темном лесу, не может
так плакать, как я теперь плачу. Оно не может так
ясно понять свое беспомощное положение, сознать
и представить себе весь ужас своего одиночества,
как я теперь все это сознаю и понимаю.
Ведь Яблочкин — моя нравственная опора! Это —
свет, который сиял передо мною во мраке, свет, за
которым я подвигался вперед по моей тяжелой и
узкой тропе. Это — любовь, которая веяла на мою
душу всем, что есть на земле прекрасного и благо-
родного... Господи! как же мне не плакать!
Вот что вчера случилось. Яблочкин уже давно
подал прошение и на днях должен был получить
увольнение из духовного звания. Эта мысль заста-
вила его держать себя несколько независимее
ко всем его окружающим. Вчера, во время переме-
ны классов, он закурил в коридоре папиросу и
стоял, облокотившись рукою на перила лестни-
цы, которая ведет в комнаты инспектора. Меня там
не было. Говорят, что инспектор его увидал и
позвал к себе. Через четверть часа Яблочкин вы-
шел от него бледный, как полотно. «Принеси мне,
ради бога, немножко воды...» — сказал он перво-
му попавшемуся ему на глаза товарищу и присло-
нился головою к стене, и все кашлял, кашлял,
наконец, ноги его подкосились, из горла показа-
164
лась кровь. Его взяли под руки и отвели в боль-
ницу.
Я узнал об этом только сегодня, попросил у Фе-
дора Федоровича позволения оставить класс и бро-
сился к моему другу. Он лежал на кровати в белой
рубашке. Ноги его были прикрыты серым сукон-
ным одеялом. Глаза смотрели печально и тускло.
Белокурые волосы в беспорядке падали на
бледный лоб.
— Здравствуй, Вася! Вот я и болен...— сказал
он, усиливаясь улыбнуться, и медленно протянул
ко мне свою ослабевшую руку. Голос его звучал
как разбитый.
— Что ж такое! Бог даст, выздоровеешь,—
отвечал я, чувствуя, что слезы подступали к
моим глазам, и сознавая, что говорю глупость.
Я давно подозревал в нем чахотку и решительно
не знал, что сказать ему в утешение. А развлечь
его чем-нибудь я не умел, и к чему? Яблочкин
бесконечно умнее меня и, наверное, лучше всех
знает свое положение. Мы молчали. В комнате
лежало несколько больных. Один из них, с пласты-
рем на ноге, читал вслух «Выход сатаны» и громко
смеялся. На прочих и вообще на обстановку боль-
ницы я не обратил внимания: не до того мне было.
Яблочкин поднял на меня свои грустные
глаза: «У меня уже три раза шла горлом кровь»,
и снова опустил свою голову и о чем-то задумал-
ся. Я хотел было остановить этого дурака, хохо-
тавшего за книгою, но побоялся, что он заведет
со мной какой-нибудь пошлый, грубый спор и
потревожит этим моего больного друга, и потому
оставил свое намерение.
165
Вошел доктор, добрый и умный старик, кото-
рого, за исключением наставников, уважает и
любит вся семинария. Он пощупал у Яблочкина
пульс. Больной поднял на него вопросительный
взгляд. «Ничего, молодой человек, все пройдет!
Бросьте на некоторое время свои занятия — и
будете молодцом». Он что-то ему прописал и от-
дал рецепт фельдшеру. «Что прописано?» —
спросил я у последнего. «Лавровишневые капли».
«Лекарство самое невинное,— подумал я,— вид-
но, нет никакой надежды». Доктор стал осматри-
вать других больных и, проходя мимо меня,
уронил свою перчатку. Дав ему время удалиться
в сторону, я поднял ее и, приблизившись к нему,
едва слышно сказал, указывая глазами на
Яблочкина: «Позвольте узнать, каково положе-
ние вон того больного?» — «Ему жить недолго,—
отвечал он, принимая от меня перчатку и слегка
кивая мне головой.— Организм его слишком
истощен, да кроме того, вероятно, с ним было
какое-то потрясение...» — «Что тебе говорил
доктор?» — спросил меня Яблочкин, внимательно
всматриваясь в выражение моего лица, которое
изменяло моему спокойному голосу. «Говорит,—
отвечал я,— что болезнь твоя неопасна...» —
«Солгал ты, Вася, да все равно... Зайди, душа
моя, на мою квартиру и попроси старушку, чтобы
она прислала мне немножко чаю и сахару. Есть
я ничего не хочу; все пить хочется. А ты будешь
меня проведывать?»
— Буду, буду...— отвечал я и спешил отвер-
нуться, чтобы скрыть от него текущие по щекам
моим слезы.
166
16
Болезнь Яблочкина развивается быстро. Он
едва-едва поднимает от подушки свою голову.
Сегодня я поил его чаем из своих рук. Бедняга
шутил, называя меня своею нянею. «Только,—
говорил он,— ты не смотри так тоскливо; боль-
ные не любят печальных лиц. Видишь, здесь и
без того невесело». Он указал мне на грязный
пол, на мрачные, бог весть когда покрытые
зеленою краскою стены и на тусклые, засиженные
мухами, окна.
Я получил от батюшки письмо. «Ты,— пишет
он,— со мною не шути! (Эти слова им подчерк-
нуты.) Как я ни добр, но исполнять твоих при-
хотей не стану. И никогда тебе не дам моего
родительского благословения ехать в университет.
Какой дурак внушил тебе эту мысль, и что ты
нашел в ней хорошего?* Я тебе сказал: ты должен
пребывать в том звании...» и так далее и так
далее... Батюшка, батюшка! Ты говоришь: при-
зван... А если у меня недостанет сил на исполне-
ние моего святого долга? Если, почему бы то
ни было, я утрачу сознание своего высокого
назначения, заглохну и окаменею в окружающей
меня горькой среде? Чей голос тогда меня
ободрит? Чья рука меня поднимет? На чью голову
ляжет ответственность за мои проступки?.. Я не
могу ни за что взяться: голова моя идет кругом.
Между тем у нас начались повторения к годовому
экзамену. Что со мною будет, не знаю.
167
23
— Тебя зовет Яблочкин,— сказал мне фельд-
шер, вызвав меня из класса,— иди скорее...—
Сердце мое дрогнуло, я побежал в больницу
и осторожно подошел к постели больного.
— Ты здесь? — сказал он, открывая свои
впалые глаза, под которыми образовались синие
круги.— Умираю, Вася... все кончено! — Он хотел
протянуть мне свою руку, но бессильная рука как
плеть упала на постель. Я сел подле него на
табуретку. В комнате была тишина. Пасмурный
день слабо освещал ее мрачные стены. На дворе
шел дождь, и его крупные капли, заносимые
ветром, звонко ударялись об стекла. Яблочкин
дышал тяжело и неровно.
— Коротка была,— сказал он,— моя жизнь,
и эта бедная жизнь обрывается в самую лучшую
пору, как недопетая песня на самом задушевном
стихе. Прощай, университет! Прощайте, мои
молчаливые друзья, мои дорогие, любимые книги!..
Ах, как мне тяжело!.. Дай мне, Вася, свою руку...
Я понял, что приближается страшная минута.
— Друг мой,— сказал я, не удерживая более
своих слез и тихо пожимая его холодные пальцы,—
теперь тебе не время думать о земном. Видно, так
угодно богу, что выпадает нам та или другая
доля. Его бесконечная любовь имеет свои
цели...
— Помоги мне сесть.— Я приподнял его и
подложил ему сзади подушку.
— Хорошо,— сказал он,— спасибо... Вася,
Вася! У меня нет даже матери, которой я послал
168
бы свой прощальный вздох. Я круглый сирота!
На что мне они — эти лица, которые меня здесь
окружают? Какая у меня с ними связь?
— А разве я тебя не люблю? разве я не буду
тебя помнить и за тебя молиться?
— Я знаю, знаю. У тебя добрая душа...—
Голова его была свешена на грудь, неопределен-
ный взгляд устремлен в сторону. Он говорил:
Чиста моя вера,
Как пламя молитвы,
Но, боже! и вере
Могила темна...
— Алеша! друг мой! — сказал я,— зачем это
сомнение?
Он посмотрел на меня задумчиво.
— Что ты сказал?
— Зачем это сомнение? — повторил я.
— Это так. Грустно мне, мой милый! Слы-
шишь, как шумит ветер? Это он поет мне похорон-
ную песню... Скажи моей доброй старушке, что
я ее любил и за все ей благодарен. То же скажи
ее сыну. Пусть он учится. Тебе я дарю все мои
книги и тетрадки. Ах, как мне грустно!.. Дай мне
карандаш и клочок бумаги.— У меня было в
кармане то и другое, и я ему подал и положил
на его колени какую-то попавшуюся мне под руки
книгу, чтобы ему удобнее было писать. Он стал
неразборчиво и медленно водить карандашом.
После пяти или шести написанных им строк на
бумагу упала с его ресницы крупная слеза. Боль-
ной отдохнул немного и снова взялся за каран-
даш.
169
— Устал я...— сказал он, прикладывая ко лбу
свою руку.— Возьми себе это на память о моих
последних минутах. Прочтешь дома.
— Спасибо тебе,— отвечал я и положил
бумагу в карман.
Вдруг Яблочкин вздрогнул и остановил на
мне испуганный взгляд.
— Кто это сюда вошел? Выгони его!
— Здесь никого нет, мой милый.— Я сел к нему
на кровать и обнял его одною рукою.— Здесь ни-
кого нет...
— Как нет? Видишь, стоит весь в черном...
Выгони его...— Больной дрожал с головы до ног.
Я встал, прошелся до двери и снова сел на свое
место.
— Я его вывел,— сказал я.
— Ну, хорошо.— Яблочкин положил ко мне
на плечо свою голову. Бред его усиливался.
— Горит!..— вдруг он крикнул во весь голос
и протянул вперед свои исхудалые руки.— Спа-
сите!..
— Что ты, что ты? успокойся!..— отвечал я,
прижимая его к своей груди.
— Стены горят... Мне душно в этих стенах!..
Спасите!
— Опомнись, опомнись,— говорил я, и грудь
моя надрывалась от рыданий.— Здесь все мирно.
И чужих здесь никого нет. Это я сижу с тобою,
я, Василий Белозерский, друг твой, готовый за
тебя лечь в могилу.
Дыхание Яблочкина становилось все тише
и тише. Руки холодели, но глаза приняли более
определенное выражение.
170
— Это ты, Вася?
— Я, мой милый.
— Ступай в университет, а здесь...
Голова его упала ко мне на плечо. Я послу-
шал,— не дышит... И тихо я опустил его на
подушку, перекрестил, закрыл ему глаза и скло-
нился на колени у изголовья его кровати. И долго,
долго текли из глаз моих горькие слезы.
Вот что он написал мне на память:
Вырыта заступом яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая,—
Горько она, моя бедная, шла
И, как степной огонек, замерла.
Что же? усни, моя доля суровая!
Крепко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землею придавится,
Только одним человеком убавится...
Убыль его никому не больна,
Память о нем никому не нужна!..
Вот она — слышится песнь беззаботная —
Гостья погоста, певунья залетная,
В воздухе синем на воле купается;
Звонкая песнь серебром рассыпается...
Тише!.. О жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!
171
24 августа
Сейчас между моими учебными книгами мне
попался случайно забытый мною дневник. Первою
моею мыслию было сжечь эти страницы, напом-
нившие мне столько горького. Но когда я про-
бежал несколько строк, когда подумал, что в них
положена часть моей жизни,— рука моя не под-
нялась на истребление этой бедной измятой
тетради.
Много протекло времени с той минуты, когда
умер мой незабвенный Яблочкин. Этот человек
имел на меня непостижимое влияние. Он застав-
лял меня жить напряженною, почти поэтическою
жизнию. Умолкли его огненные речи, положили
его в могилу, и, кажется, навсегда улетела от
меня поэзия моей внутренней, духовной жизни.
Все пришло в обыкновенный порядок: мечты
мои остыли, желания не переходят за известную
черту. Успокойся! сказал я своему сердцу,— и
оно успокоилось. Только на лбу у меня осталась
резкая морщина, только голова моя клонится
теперь ниже прежнего.
В доме у нас невесело. Поля выжжены паля-
щим зноем; все хлеба пропали. Неурожай в пол-
ном смысле этого слова. По улице не скрипят,
как бывало, с снопами воза. При вечерней заре
никто не поет беззаботной песни. Батюшка ходит
печальный и угрюмый.
По приезде моем сюда, я заговорил с ним
о моем намерении поступить в университет.
«Видишь? — сказал он, указывая мне на обнажен-
ные поля и на пустое наше гумно.— А до будущего
172
урожая еще далеко. Пожалуйста, не серди меня
пустяками: без тебя тошно...»
Переводный экзамен в богословие я выдержал
не совсем хорошо. Вдруг, после смерти Яблочки-
на, мне трудно было взяться за дело. Батюшка
остался мною недоволен. «Жил ты, говорит, под
надзором профессора и едва удержался в первом
разряде». Однако ж я переведен.
Прощание мое с Федором Федоровичем,
у которого жить более я уже не буду, было доволь-
но холодно. Он, конечно, ожидал от меня глубо-
чайшей благодарности за все его заботы о моих
дальнейших успехах, но благодарить его, право,
не стоило.
Моя будущая судьба теперь окончательно
определилась. Пройдут еще два года трудовой
однообразной жизни, и я приму на себя звание
духовного врача. Видит бог, намерения мои
всегда были чисты. Если я заблуждался, мечтая
о другой дороге, заблуждение мое было бес-
корыстно, мысль не заходила далеко и...
Я слышу голос батюшки, который зовет меня
заплетать плетень, говоря: «Все равно — ты
сидишь без дела».
Довольно! дневник мой окончен.
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ НЕДЕТОВСКИЙ
(О. ЗАБЫТЫЙ)
ХРИСТОСЛАВЫ
I
Утреня кончилась. Народ толпами валит из
церкви. В темноте слышится шумный говор.
Из массы голосов резко выделяется густой бас
зажиточного деревенского дворника-харчевника:
— Нонче наши духовные что-то приопозда-
ли. Давече слышу — в Репном давно уже благо-
вестят, а у нас все молчат. Проспали, а теперь и
начнут как угорелые по дворам-то бегать: ни тебе
пропоют, ни поговорить, как должно. И выходит:
через семьдесят могил разорвали один блин...
— Что ж, тебе муж-то прислал что-нибудь
174
к празднику?— спрашивает надорванный, болез-
ненный женский голос.
— А как же? Он мне каждый раз... Вот теперь
прислал ботинки, чулки со стрелками, платок за-
граничный да десять целковых деньгами.
— Любо так-то вот... А мой оглашенный завер-
телся где-то; ни глаз не кажет, ни весточки не
шлет, не токмо что об жене промыслить. Добрым
людям праздничек-то радость, а мне слезы. Вот
сейчас попы придут, а у меня хоть бы грош за
душой. Просила у Аксиньи Христом богом дву-
гривенный взаймы — не дала. А нешто бы я не за-
платила? Тоже ведь хочется, как люди...
— Да ты бы ко мне-то... В двугривенном важ-
ности не состоит. Справишься — отдашь.
— О-о, матушка!— слезливо протянул болез-
ненный голос.— Пошли тебе царица небесная
вдвое-втрое.
II
В дом отца дьякона ворвалась толпа крестьян-
ских ребятишек — христославы. Ребятишки раз-
летелись в зал, но дьяконица крикнула на них, и
они отхлынули в переднюю. Запыхавшись, пере-
бивая и обгоняя друг друга, они начали бойким
речитативом отчеканивать тропарь и кондак
праздника. В то время, как одни отбивали «звез-
дою учахуся», другие уже катали «вертепному
приступному приносить», а третьи, не успевая вы-
говаривать слов, отделывались мычаньем. Между
тем в ту же переднюю ворвалась новая партия
таких же христославов и, не обращая внимания
175
на то, что первая еще не кончила, торопливо нача-
ла свой речитатив. Прославивши Христа, маль-
чишки дружно зашумели:
— Хозяина с хозяюшкой с праздником, а нам
по копеечке!
— Мелких нет, ступайте! — озадачила маль-
чишек дьяконица.
— Да, вишь ты! Как ваши к нашим придут,
так батюшка всех обделяет,— заметил какой-то
бойкий мальчуган.
— Еще разговаривает, постреленок!— строго
проговорила дьяконица.— Нате вам семитку на
всех.
— Чего же тут? Давай еще!— приставал тот
же бойкий мальчуган.— Да раздели сама, пото-
му — иным не за что. Мы всю зиму учились сла-
вить, а вот Гараська вчера только зачал, он и не
пел, а мычал только.
— Ступайте, ступайте! нечего тут... Снегу
натащили, избу настудили — пошли вон!
Мальчишки с шумом рлнулись в сени.
III
Отец дьякон, придя от утрени, помолился пе-
ред иконами и прославил Христа. Шурин его,
философ, Гаврил Васильевич, подтягивал ему те-
норком.
— Ну, с праздником тебя, хозяйка!— благо-
душно произнес отец дьякон, поцеловал супругу
и слегка кивнул теще.
— По селу сейчас пойдете?— спросила дьяко-
ница.
176
— Как водится. Нужно поспешить, чтобы до
обеда кончить. Ведь тридцать шесть домов... Дай-
ка мне поскорее старый подрясник, а то этот за-
хлюпаешь по снегу да по порогам... Нынче мы по-
летошнему — опять с попом врозь славить бу-
дем,— изъяснял отец дьякон, переодеваясь.— Он
отдельно, а я с дьячками.
— Зачем?
— Так выгодней. Когда мы все вместе славили,
так нам давали обыкновенно гривенник на всех.
Из него мне две копейки с половиной, дьячкам —
по копейке с четвертью. А без попа-то мне дают
гривну, а дьячкам по семитке. Как же можно срав-
нить, большая разница... Ты что же, Гавря, не
собираешься? — обратился отец дьякон к шу-
рину.
— Братец, пожалуйста, позвольте мне не хо-
дить,— взмолился Гавря.— Мне совестно... я уже
не мальчишка.
— Ты оставь эти причитанья-то,— внуши-
тельно заговорил отец дьякон.— Совестно!.. Воро-
вать, что ль, ты пойдешь? По-твоему, стало быть,
и мне совестно?.. Не мальчишка... А кто же ты?
Еще не бог знает, какой профессор. Кончи курс,
сядь на свои хлебы, тогда и совестись...
Философ, скрепя сердце и стиснув зубы, лениво
потянул на себя тулуп.
Пришли дьячки, каждый с маленьким сыниш-
кой, и тоже прославили Христа. Клирики поздра-
вились, понюхали вместе табачку и тронулись в
путь. У порога в передней Гаврю догнала старушка
мать.
— На вот тебе.
177
— Что такое?
— Варежки.
— Не нужно,— угрюмо проговорил Гавря.
IV
По селу везде топятся печи. В воздухе пахнет
дымом. Сквозь закоптелые окна крестьянских изб
пробивается слабый свет и белыми полосами
ложится поперек дороги. Возле постоялого
двора гремит блок: кто-то достает воду с коло-
дезя. Клирики приближаются к крыльцу двор-
ника.
— Что ж, «Деву»-то протяжную, что ль, про-
поем?— спрашивает отец дьякон своих сподвиж-
ников.
— Гм... Кто его знает,— отозвался дьячок.—
По-настоящему, не стоит он этого: груб оченно,
да и давать-то стал скаредно. Следовало бы его хоть
раз проучить, чтобы не зазнавался.
— Ну ладно: простую «Деву» ему нынче,—
решил отец дьякон.— Теперь у него деревенских
много в избе — обедни дожидаются. Бывало, он
пред ними рисуется, что для него такую «Деву»
поют,— стоит, бороду разглаживает, дескать: вот
меня-то как ублажают, не то, что вас... Вот мы его
нынче и разуважим.
Клирики вошли в огромную, без всяких пере-
городок избу дворника. Пол в ней был весь устлан
соломой. Народ, размещавшийся на примостье воз-
ле печки и по лавкам, зашевелился и столпился
в кучу в ожидании «славленья». Христославы
приблизились к длинному столу и запели. Двор-
178
ник, озадаченный «простою Девою», сморщился
и утер лоб рукавом полушубка.
— Вы, отцы, нонче что-то не по-прежнему,—
со смущением и вместе с упреком проговорил двор-
ник, оделяя христославов.
— Да и ты, Степан Егорыч, нынче не по-преж-
нему,— ответил дьякон, взвешивая на ладони
медный пятак.
— Как ноют, так и дают,— изъяснил Степан
Егоров.
— Мы сами знаем пословицы-то,— продолжал
дьякон, опуская пятак в карман.— Посади... за
стол, она и ноги на стол. (Отец дьякон с тонкою
предусмотрительностью воздержался от названия
того животного, о котором идет речь в пословице.)
После этого к тебе и ходить совсем не стоит,—
заключил отец дьякон и направился к двери.
— Как знаете! Губы толще, брюхо тоньше,—
проговорил дворник глухим голосом и тряхнул
кудрями.
V
Христославы вошли в соседний дом. Здесь, на
столе перед святым углом, была насыпана ржаная
мука и, широко расплываясь, сидели в два ряда
сырые ситники и пышки. По конец стола стоял све-
тец с горевшею лучиною, пускавшею от себя вол-
нообразную струйку едкого дыма. Обгоревшие
кончики лучины с шипением падали в поставлен-
ную подле светца лохань. Из-под нримоста видне-
лась голова новорожденного теленка. Две женщи-
179
ны, подоткнувши юбки и высоко засучив рукава,
хлопотали возле топившейся печки.
— Ах, батюшки родимые!— воскликнули стря-
пухи, увидев вошедших христославов, и торопливо
поправляя свой туалет.— Какая у нас срамота-
то!.. Вы прежде как будто не об эту пору ходили?
— С чего вы взяли!— серьезно проговорил
отец дьякон.— Всегда в эту пору.
— Скорей свечку к образам! А стол-то не на-
крыт,— ах ты, господи! Где скатерть? Кошка-то,
кошка-то в святом углу,— ах, окаянная!..
Пока хозяйки таким образом суетились, кли-
рики успели уже прославить.
— Ну, с праздником, молодки,— произнес
дьякон, крестясь.
— Да как же это так? Мы и помолиться не ус-
пели,— с сожалением проговорили молодки в один
голос.
— Ничего, после помолитесь,— заметил по-
номарь.— Сами виноваты. Что ж нам — ждать,
что ли, вас?..
Одна из молодок проворно полезла в полку,
достала оттуда чайное блюдечко с медными день-
гами и с низкими поклонами начала оделять хри-
стославов. Христославы собрались было уходить.
— Да,— произнес дьячок, остановившись в
дверях,— у вас, кажется, пеньки много?
— Откуда, батюшка, много? Нонче конопля
плохо родилась, — отозвалась одна из хозяек.
— А все-таки есть?— продолжал допраши-
вать дьячок.
— Да есть-то есть... малость.
— Вот бы нам хоть немножко. А то ни вожжи-
180
шек, ни заверток не из чего свить, все покупать
приходится.
— Да она у нас в амбаре. Теперь дело ночное...
— Давай — я с тобой пойду.
— Ох, ну уж пойдем, коли...
VI
У крестьянина Сергея Кузьмина христославы
нашли все в должном порядке. У образов зажже-
на была восковая свечка; на столе постлана белая
скатерть. Сам хозяин стоял посреди избы, одетый
в дубленый полушубок и совсем готовый к встрече
«попов».
Во имя «славленья» хозяин размашисто и энер-
гично творил крестное знамение, стуча пальцами
по полушубку. Сынишка его, лет четырех, стоя
на лавке за столом, нетвердо водил ручонкой по
груди и поглядывал то на «попов», то на отца.
Прославился. Дядя Сергей достал из полушуб-
ка большой кожаный кошелек, замотанный ре-
мешком, высыпал из него на ладонь несколько
медных монет, отсчитал «подобающее» и оделил
дьякона, дьячка и пономаря. Сынишки дьячка и
пономаря вытянули руки пред самым кошельком
дядя Сергея. Дядя Сергей сделал вид, будто ниче-
го не замечает. «Подойди поближе»,— шепнул
отец дьякон своему философу. Философ подошел.
— Сергей Кузьмич, ребяткам-то, ребяткам-то
что-нибудь,— проговорил пономарь.
— А, стрикулисты!— воскликнул дядя Сергей,
как будто в первый раз увидел ребяток.— И вам
тоже дать?
181
Он расставил ноги и пытливо поглядывал на
стрикулистов.
— На что же вам? На бабки, что ль?
— Нет, дядюшка, мы ведь учимся,— умо-
ляющим голосом проговорил дьячков перво-
классник.
— Учитесь? А мне-то какое дело?— продол-
жал Кузьмич.— Если б вы выучились, да тогда
мне бы что-нибудь дали, а то опять-таки с нас
будете сбирать. Нет,— решил дядя Сергей,— не
дам — не за что вам,— и спрятал кошелек в кар-
ман.
Ребята опустили руки.
— Ну, Кузьмич, полно тебе ломаться-то,—
вступился дьячок.— Как не за что? Разве ты не
слыхал, как они в церкви-то поют? Дай уж им по
копеечке.
— Ну что с вами делать,— проговорил Кузь-
мич, переменив тон, и снова полез в карман.—
Учитесь, учитесь,— назидал он ребяток, оделяя их
по копеечке и гладя каждого по голове.— А часто
вас суегают-то в школе?
— И, что ты, Кузьмич! У них этого и в помине
нет,— заметил дьячок.
— Зге, вон они какие,— произнес дядя Сер-
гей,— ай да молодцы! А что поют, это ты, Гаври-
лы ч, верно... Ведь как они знатно вам подвизгива-
ют! Совсем не то, что вы с Потапычем вдвоем-то
гудите.
Во время этой беседы вошла просвирня с сум-
кой под мышкой.
— Здравствуй, Кузьмич!
— Здорово. Что, и ты славишь?
182
— Славить — не славлю, а так... пр положен-
ному... за просвиры.
— Тебе вот уж совсем не след ходить. За какие
это просвиры ты собираешь? Я твоих просвиров
не ем. Придешь приобщаться, вот этакой кусочек
дадут, и то деньги отдашь.
— Да что ж, Кузьмич, ведь не ты один...
— То-то не я!.. На вот, а ходить тебе вовсе не
след.
— Спасибо. Ну а хлебца-то,— переминаясь,
проговорила просвирня.
— Анна, дай там...— с некоторой досадой про-
бормотал Кузьмич.
Просвирня уложила конец ржаного пирога в
сумку и поплелась за христославами.
VII
— К бабке Федосье хоть не ходи: не разжи-
вешься,— говорил пономарь пред крыльцом кро-
шечной, покосившейся избушки.
Войдя в избушку, христославы увидели сидев-
шую на примосте, на соломе, бледную, исхуда-
лую старуху, повязанную белым платком и при-
крытую какими-то лохмотьями. Возле нее стояла
молодая, бедно одетая женщина, со страдаль-
ческим выражением лица, и как-то боязливо по-
маргивала.
Пение кончилось. Старуха простонала:
— Отцы подошли.
— Спасибо вам, кормильцы, что вы мне про-
славили-то. Ох!.. Утешили вы мою душеньку. Ка-
ково мне в этаком-то положении! Ударили давеча
к заутрене — у меня сердце кровью облилось. Бы-
183
вало-то... Господи... Ох!.. Уж не обессудьте, род-
ные: заплатить мне вам нечем. Добытчика нет у
нас, а сама я вишь вот какая. Ох!.. И бабенка-то
возле меня смоталась: во все концы одна. Обождите
уж до Крещенья: авось тогда господь... Ох!
— Да за тобой, бабушка, еще прежних есть,—
проговорил пономарь.
— Помню, родной, все помню. Потерпите,
авось господь...— Старуха закашлялась.
— Ну, прощай, бабушка! Поправляйся,— про-
изнес дьякон, надевая шапку.
— Простите, милые. Спасибо. Марьюшка,
посвети ты им, касатка, а то у нас в сенях-то...
Ох!
И старуха снова закашляла.
VIII
Часа три христославы обивали пороги кресть-
янских изб, глотали дым лучины, созерцали телят
и ягнят, вступали в препирательство из-за гроша,
из-за горсти пеньки и выслушивали объяснения
вроде — «не обессудьте, обождите, авось гос-
подь...» и т. п.
Возвращаясь домой, клирики рассуждали:
— Год от году народ все хуже становится. Где
прежде давали пятачок, теперь и трех копеек не
дают, где, бывало,— семитку, там и совсем стали
отказывать. Вот тут и живи!..
— Еще хорошо, что на святках по чужому
приходу можно ходить, а то бы беда!.. После обедни
к Годневу?
— Разумеется. Он однажды навсегда сказал,
184
чтобы к нему прямо после обедни. Нельзя же не
уважить его: барин, да еще чужого прихода. Отка-
жет и — ничего не поделаешь. Л ведь дело-то руб-
лем пахнет. Нехорошо только, что к нему нужно
ехать непременно с попом. Мешает он нам, голосу
нет, петь не умеет. Как запоем с ним «Деву», точно
по лесу с бороной едем.
— Да уж как там ни едим, а у Годнева положе-
но — целковенький.
— Так-то так, а все-таки... честь лучше бес-
честья...
«Из-за чего я таскался?— думал между тем
Гавря, тащась за клириками.— Полтинника не со-
брал, а пытка-то какая! Нет, я не пойду по этой
дороге. Бог с ними! пускай другие славят».
IX
После обедни клирики наскоро разговелись,
запрягли лошадей и, забрав своих «стрикулистов»,
длинным поездом двинулись к Годневу.
— Какое-то нонче возражение задаст нам Год-
нее,— проговорил отец дьякон дорогой, не то про
себя, не то обращаясь к Гавре.
Разве он непременно дает вам возраже-
ния?— спросил Гавря.
— Всегда, это у него уж положено. Как — гос-
поди благослови — прославивши, сядем за стол,
так он сейчас и возражение. Надобно сказать —
неприятная история! С какой это стати? К чему
пристало? Экзаменатор какой...
Въехавши в усадьбу Годнева, клирики поста-
вили лошадей возле амбаров и отправились в кон-
185
тору привести себя в порядок. Здесь они сняли
с себя тулупы, священник и дьякон облеклись
в суконные рясы и расчесали себе волосы (для
мальчуганов снятие тулупов считалось необяза-
тельным). Вот христославы один за другим напра-
вились к барскому дому. На крыльце этого дома
стоял небольшого роста седой мужчина, с орлиным
носом, черными, сверкающими глазами, густыми
нависшими бровями и с длинными усами. Это был
Годнее. Лишь только христославы приблизились
к крыльцу, Годнее скомандовал: «Здесь не ходят,
прошу на то крыльцо»,— и, повернувшись на каб-
луках, скрылся за дверью. Христославы покорно
повернули налево — кругом и, утопая чуть не по
колено в снегу, побрели к крыльцу, в которое
«ходят». «Этакой ведь урод,— бормотал священ-
ник, подобрав полы рясы,— здесь, говорит, не хо-
дят, а по сугробу-то кто ж ходит? Должно быть,
мы одни...»
Войдя в дом, христославы долго обтирали ноги
и отрясали подолы, наконец они потянулись в зал,
оставляя за собой следы на паркетном полу.
Во все время пения Годнее стоял на коленях
и усердно молился.
— Батюшка, пожалуйте с отцом дьяконом,—
проговорил он, приложившись к кресту.
Священник, сняв епитрахиль, завернул в нее
крест, отдал дьячку и на цыпочках тронулся за
хозяином, обеими руками поправляя волосы. За
ним, покашливая и потирая руки, последовал и
отец дьякон. Остальные христославы ретировались
в переднюю, где для них приготовлена была за-
куска. Столкнувшись на дороге с горничной, Год-
186
пев вскинул на нее брови и молча указал на следы,
оставленные христославами на полу залы. Через
минуту горничная побежала в зал с тряпкой...
— Фу ты, боже мой,— проговорил дьякон, са-
дясь после в сани весь красный и взволнован-
ный,— точно в бане побывал!..
— Что, возражение было?— спросил Гавря.
— Было — чтоб его совсем!.. Измучил окон-
чательно. Только что уселись, он сейчас: скажите,
говорит, мне, пожалуйста, отчего у нас пасха празд-
нуется в различные числа? Что ни год, говорит, то
разница. Поп говорит: так древняя церковь празд-
новала.— Да что, говорит, мне древняя церковь?
Я хочу знать, почему это так. Тут уж мы с попом
и так и сяк изворачивались,— нет, все не по нем.
Раскричался даже. Так-то, говорит, мне всякая
баба ответит, а ведь вас учили богословию, говорит.
Для меня дорого, говорит, знать число своего рож-
дения, и — вдруг я не знаю, какого именно числа
воскрес мой Спаситель! И пошел, и пошел... По-
том начал насчет крестьян, зачем у него отобрали
их. Что, говорит, я был и что стал? У меня, гово-
рит, теперь прислуги почти нет. Просыпаюсь, по
привычке кричу: Иван!— нет Ивана. Сам, говорит,
для себя Иваном стал. А я ли, говорит, отечеству
не служил?.. Кто-то ему сдура сказал, что в Питере
написали комедию, не то еще что-то *такое, под
заглавием: «Все подлецы». Об этом опять шумел,
шумел... Как, говорит, все подлецы? Стало быть,
и я подлец?! Да я, говорит, я этого не потерплю и не
оставлю. Куда это, говорит, правительство смот-
рит? После этого жить нельзя честному граждани-
ну. И много, много этакого болтал. Мы слушали,
187
слушали с попом — истомились совсем. Ну что ему
тут скажешь? Хотим встать — сердится, не пус-
кает: погодите, говорит, посидите еще. Чистое
наказанье! Мы даже не пили и не ели путем. Дьяч-
кам гораздо лучше нашего было; они там на сво-
боде и выпили, и закусили себе, как следует,—
без всяких этих возражений и рассуждений... Вот
сейчас заедем к бурмистру: там отдышка хорошая
будет и истязаний терпеть не придется.
Христославный поезд остановился подле двух-
этажного деревянного дома бывшего бурмистра.
По широкой, грязной лестнице христославы подня-
лись в «покои». Хозяин, толстый, приземи-
стый мужик, с целой копной волос на голове и с
предлинной бородой, в суконной поддевке нара-
спашку, отворил дверь христославам и провоз-
гласил:
— А, трубы божьи! Добро пожаловать. Нуте-
ка, вострубите мне, вострубите.
Христославы вострубили.
— С праздником, Федот Захарыч! Как пожи-
ваете?— произнес отец дьякон.
Федот Захарыч склонил голову набок, растопы-
рил руки и как бы в раздумье проговорил:
— Хотел было сказать — вашими молитвами,
да ведь вы за меня не молитесь?..
— Как не молимся, что вы?— возразил отец
дьякон.— Мы за всю братию и за вся Христианы.
— Денно, ночно,— подобострастно вставил
пономарь.
— Ну, там... захотите, помолитесь,— махнув
рукой, проговорил хозяин.— А теперь ешь, пей,
веселися. Вот вам мои блага.
188
И Федот Захарыч указал на стол, уставленный
бутылками и разного рода закусками.
Причт уселся. Гавря подошел к отцу дьякону
и тихо спросил:
— Вы долго тут пробудете?
— Да, посидим-таки. Сядь, закуси.
— Я не хочу. Пожалуйста, поскорей.
Гавря спустился по лестнице на крыльцо и по-
местился на лавочке.
Привязанные к крыльцу лошади дремали, на-
клонив морды. Стаи воробьев и голубей выбира-
ли на притоптанном снегу овсяные зерна. Мимо
крыльца прошли две нарядные бабы и молча
осмотрели Гаврю с ног до головы. Прошел пьяный,
едва сохраняющий равновесие мужик и, тупо
взглянув на философа, с усилием произнес:
— Ты... что? A-а, понимаем. Всяк свое дело
знает. А мы свое знаем. Ва-али, и все тут.
Из-за угла вывернулся с гармоникой в руках
кузнец и, увидав Гаврю, направился к нему.
— Здравствуй, церковный человек!
Гавря поклонился.
— Прославить заехали?
- Да.
Кузнец присел возле Гаври.
— Ну, отсюда, пожалуй, не скоро выберутся.
Федот Захарыч умеет принять духовных. Теперь
еще что... Прошла его слава, покороче себя стал
держать. А вот как он бурмистром-то был,— гос-
поди, что тут бывало! Ты этого уже не застал:
тогда еще маленький был.
— Что же тут бывало?— полюбопытствовал
Гавря.
189
— И-и, чудеса!— произнес кузнец, покачав
головой.— Бывало, в первый день праздника к
нему сел из десяти ноны понаедут «славить». Про-
славивши, все сядут за стол, и как сядут, так
шабаш! Прощай, приход и все на свете... У Федо-
та Захарыча, бывало, первое дело пунш. Вот он
заведет, бывало, какую-нибудь материю, а сам на-
катывает да накатывает их этим пуншем. Те разго-
ворятся, расшумятся и не замечают, какая у них
голова делается. И сидят они этаким манером до
петухов, покель ни с места. Тут, бывало, Федот
Захарыч прикажет ввалить всех в сани и раз-
везть по домам.
Помолчав с минуту, кузнец продолжал:
— А что, бывало, с народом-то разделывает!..
Праздничным делом выйдет, бывало, на улицу в
хоровод и прикинется пьяным-распьяным. Войдет
в круг, шляпу набекрень, поддевку нараспашку,
руки фертом: величайте меня, этакие-разэтакие!
Начнут его величать, а он хлоп наземь и лежит.
Ну, просто без чувств, совсем без чувств человек,
и шляпа отлетит в сторону. Тут бабы иные сквозь
зубы величают его, а другие в ту же пору, по про-
стоте, сболтнут что-нибудь про него. Как он, бы-
вало, вскочит — и ну по мордам: хлясь! хлясь!
то ту, то другую. Бабы смотрят, а он совсем и не
пьян. Вот ведь как! Над своей Степанидой Степа-
новной и то какие надругательства чинил. Ведь
одна только слава, что Степанида Степановна, а она
ему равно бы и не жена, так, служанка какая-то...
Теперь что, теперь он образился, как из бурми-
стров-то его высадили. И то все еще дурь про-
бивается.
190
— Тебе велели наверх: сейчас оделять будут...
Расчет кончен; христославы вышли на улицу.
Пономарь, прислонясь к оглобле, сосредоточен-
но и медленно разжимал свой кулак и чего-то до-
сматривался.
— Отец дьякон, стойте, стойте!— вскричал он
наконец, когда дьякон, усевшись в сани, уже сте-
гнул лошадь.
Отец дьякон натянул вожжи и оглянулся. По-
номаре подбежал к саням дьякона. Физиономия
его сияла, глаза горели.
— Сказать?— произнес он, едва переводя дух.
— Сколько? — лаконически спросил дьякон,
сразу поняв, в чем дело.
— Двугривенный!— торжественно восклик-
нул пономарь и щелкнул пальцами.— Ей-богу,
думал, что копейка серебром. Зажал в руку, ду-
маю: ну, дело сходит на нет. Возле лошади взгля-
нул — двугривенный! Фу ты, боже мой... Сроду по
стольку не получал. Не перед добром, должно
быть.
Лошадь отца дьякона дернула, и пономарь,
державшийся за спинку саней, растянулся на
дороге.
XI
В доме купца Мухоморова христославы нашли
несколько принтов из окрестных сел. «Отцы»
сидели в глубине сцены за закуской; «дети»,
стрикулисты, в тулупах и валеных сапогах,
занимали с дюжину стульев возле стены у пе-
редней.
— Присоединяйтесь!— произнес рыжий куп-
191
чина, обращаясь к вновь прибывшим после того,
как они прославили.
И присоединились отцы к отцам, дети к детям.
— Ну, что ж вы приуныли?— воскликнул куп-
чина.— Кажется, есть чем развеселиться. Отец
Федор, начинай-ка по-старшинству.
— Да что, Иван Денисыч, начинать ли?
— А что?
— Да поясница что-то болит; думаю, не гемор-
рой ли.
Купчина разразился громким хохотом.
— Ну, выдумал — геморрой! Ха-ха-ха-ха!
Сказать, отчего у тебя поясница болит?
— Скажите,— сконфузившись, проговорил
отец Федор.
— Оттого, что у тебя жена еще молода.
Объяснение купчины было встречено дружным
хохотом отцов.
— Что это вы, Иван Денисыч, бог с вами! —
еще более сконфузившись, проговорил отец.
— Да уж это верно,— настаивал Иван Дени-
сыч,— эту историю-то мы понимаем... А у вас,
отцы, нет геморроев? — обратился он к остальным.
— Нет,— ответили те в один голос.
— Ну и ладно; давайте же побалуемся. Жена,
пристрой там ребяток-то куда-нибудь.
Супруга Ивана Денисыча, высокая, толстая
баба с сонными глазами и отвисшими щеками, по-
дошла к ребятам.
— Дети, идите в ту комнату чай пить.
Вереница тулупов потянулась через зал в ту
комнату.
Здесь на столе кипел огромный самовар; возле
192
него теснилось стадо низеньких, разлатых чаше-
чек. Хозяйка налила «детям» чаю и ушла.
— Вот так самовар!— произнес один из маль-
чуганов.— У нас в училище целый класс из него
напоить можно.
— А что, братцы, если бы нас в училище *так
поили и кормили, как теперь в приходе?— заме-
тил другой.
— Уроков бы не стал учить,— вставил третий.
— Как раз!
— Да и то не стал бы.
— Я бы тогда на первое место залез.
— Залез бы... к порогу!..
К юным христославам подошел хозяйский
сынок, малый лет десяти, с толстыми пунцовыми
щеками и золотушными глазами. Он уселся на
окно и, болтая ногами, несколько минут молча
посматривал на гостей. Затем он начал:
— Вы ведь кутейники?
— Нет,— ответило ему несколько голосов.
— А кто же вы? Кутья прокислая?
— Сам ты прокислый!— воскликнул бойкий
первоклассник.— Туда же ведь лезет... Мы в учи-
лище учимся, а ты дома сидишь, телят гоняешь.
Маленький хозяин показал гостю язык.
— Ты не дразнись, а то во...— (Первоклассник
поднял кулак).
— Копеечники!— язвил хозяйский сынок.
— Козлы!— оппонировал первоклассник.
Вошла хозяйка. Сынок подошел к ней и жа-
луется:
— Мама, вон энтот ругается, говорит: козлы...
— Который это?— вступилась мать.
7-1032
193
— А вон, что пот-то утирает.
— Ты как же это смеешь?— вспылила купчи-
ха, отыскав виновного.— Ах ты поросенок нещи-
панный! Еще его за чай посадили... Я вот Ивану
Денисычу скажу, он те задаст. Ужо станет оде-
лять, всем даст, а тебе шиш. Забудешь тогда ру-
гаться.
Во время этой рацеи хозяйский сынок поти-
рался щекой о плечо матери и, посмеиваясь, погля-
дывал на своего противника.
Наступил вечер. Отцы переместились в ту
комнату, а дети сгруппировались в зале и бесе-
довали.
— Пуще всего мне досталось unusguisque:
насилу выучился его склонять. А Макаров и теперь
не просклоняет.
— Ан просклоняю.
— Ну-ка, валяй.
— Я здесь не хочу.
— Ну, пойдем на крыльцо.
— Да, вишь ты, там собака...
— Э, собак боится! Я волков и то не боюсь.
«Взбра-анной во-оево-оде»...— раздалось меж-
ду тем в той комнате.
Выло уже часов девять вечера. Развеселив-
шиеся отцы и утомленные дети наскоро славили
уже по своему приходу, заставая иных за ужином,
иных чуть не в постели.
XII
На другой день праздника дьякон, дьячок и
пономарь со своими стрикулистами, покончивши
две маленькие деревушки, отправились к бары-
не Сусловой. Пономарь постучал кнутовищем в
194
дверь парадного крыльца. Горничная отперла
дверь.
— Что нужно?
— Можно прославить?
— Сейчас спрошу.
Горничная скрылась.
— Позволили войти,— возвестила она минуты
три спустя.
Дьякон в рясе, дьячки в сюртуках, стрикулис-
ты по обыкновению в тулупах вошли в большую,
довольно изящную залу. Их встретила легким
наклонением головы пожилая полная дама в чер-
ном шелковом платье и молча указала в угол залы,
в котором едва виднелась единственная крошеч-
ная иконка.
Христославы скоро кончили и, озираясь по сто-
ронам, направились к передней. В стороне залы
они заметили хозяйскую дочку, девушку лет сем-
надцати. Она стояла, опустив ресницы и опершись
одной рукой на рояль. Лицевые мускулы ее вздра-
гивали, ноздри раздувались, губы едва сдержива-
ли улыбку. Невдалеке от рояля, сквозь неплотно
притворенную дверь кабинета, виднелись узенькие
брючки неудачно спрятавшегося господина.
Отец дьякон, заметив барышню, кивнул ей как-то
боком; та рассмеялась и порхнула в кабинет.
Когда клирики в передней уже напяливали
на себя тулупы, из залы отворилась дверь. Гор-
ничная с заметным отвращением несла что-то
странное, едва придерживая кончиками двух паль-
цев.
— Чье это?— спросила она, сморщившись и
тряся рукою в воздухе.
7**
195
— Это моя варежка,— отозвался первокласс-
ник.— Это я, должно быть, обронил.
Горничная возвратила варежку ее владельцу и
из осторожности поплевала себе на пальцы.
XIII
Прошло три дня праздника. Приход кончен.
Отец дьякон в овчинном подряснике лежал на
постели и вслух читал «Ефрема Сирина». Вошел
пономарь и, отирая в передней ноги, спросил:
— Отец дьякон дома?
— Дома. Иди в спальню, он там читает.
Пономарь пробрался в спальню и присел к
отцу дьякону на кровать.
— Все ли здоровы, отец дьякон?
— Слава богу... Вот, назидание себе нашел
после суеты-то. Послушай-ка, брат: чистая манна
небесная! «Два будета на селе: един поемлется,
другой оставляется...»
— Да что «оставляется...» Мне не до того:
горе сокрушает.
— Какое?— спросил отец дьякон, закладывая
книгу пальцем.
— Думал, праздник-то бог знает что принесет,
а подвел итоги — сына не с чем везть. Поили и кор-
мили, да плохо наградили. Не знаю, что и делать...
Нельзя ли нам куда-нибудь еще пробраться —
прославить?
— Да куда ж теперь?— проговорил отец
дьякон, поднимаясь с постели и откладывая книгу
в сторону.— Теперь как будто уж и не к кому да
и не время: праздник прошел.
196
— Где же прошел?— возразил пономарь,—
до самого Крещенья все «Христос рождается».
Оба с минуту помолчали.
— Да! Знаешь что?— воскликнул отец дьякон,
ударив пономаря по плечу.— Хватим с тобою к
куме, к Наталье Александровне. Ей-богу! Чего тут?
Хватим, да и все. И тебе она кума, и мне кума —
я с нею у тебя крестил: что же тут такого?
— Барыня-то она высокая,— нерешительно
проговорил пономарь, комкая в руках шапку.
— Нам-то какое дело? Не примет — так и
быть. Отчего не попытать счастья? Зато уж ежели
примет, так без пяти рублей не выпустит — будь
покоен.
— Далече: ведь больше пятнадцати верст бу-
дет,— продолжал возражать пономарь.
— Важное дело! Подпряжешь ко мне свою
кобылу — и марш; к утру дома будем.
Пономарь оживился.
— Эко славный у вас дух, отец дьякон! С вами,
пожалуй, и в Москву славить уедешь. Стало быть,
поедем... на волю божию.
— Само собой!.. Ступай скорей, собирайся.
Спасибо, что на добрую мысль меня навел.
— А мальчишку брать?— спросил пономарь
уже в дверях.
— Непременно. Я своего возьму.
Дорогой пономарь расспрашивал у отца дья-
кона:
— Как же мне ее называть-то? Кума?
— Как можно! Ты и бабе говоришь: кума, а
ведь она не бабе чета.
— Ну как же? Сударыня?
197
— И это не резон. Для тебя и всякая барыня —
сударыня, а ты не забывай, что Наталья Александ-
ровна тебе кума.
Пономарь стал в тупик.
— Всего пристойнее,— решил отец дьякон,—
говорить ей: сударыня-кума или: кума-сударЫня.
Тут ты ей все выразишь.
Часов в шесть вечера кумовья подъехали к
дому Натальи Александровны. Собаки приветство-
вали гостей громким лаем.
— Кто это?— спросил кто-то в темноте, усми-
рив собак.
— Это мы.
— Да кто вы-то?
— К барыне, по делу приехали. Нам сказали,
что она дома, вот мы и приехали. Она нам кума,
а мы духовные из села В.
— А! Знаю. Проходите наверх — дома; сейчас
чай будут кушать.
Поднимаясь на лестницу, пономарь шептал:
— Сердце так и бьется, ровно бы к архиерею
какому иду. Что за оказия, господи помилуй!
— Ничего, смелей,— ободрял отец дьякон
шепотом и стараясь не стучать сапогами по при-
ступкам.
— Что вам будет угодно?— спросил их в пе-
редней лакей, удивленный появлением нежданных
гостей.
— Доложите барыне,— проговорил смелый
кум,— что дьякон и причетчик села В. приехали
на часок поздравить ее превосходительство с
праздником, считая священным долгом и обязан-
ностию...
198
Лакей, не дослушав речи отца дьякона, пошел
докладывать.
Пономарь испустил глубокий, протяжный
вздох, кашлянул в руку и, переминаясь с ноги
на ногу, прошептал: «Вдруг скажут — убирай-
тесь».
Дьякон молча погрозил ему пальцем и навост-
рил уши.
— Просят пожаловать,— проговорил лакей,
возвратившись в переднюю, и повел гостей к ба-
рыне.
Гости вошли в комнату какого-то неопределен-
ного назначения, помолились богу и отвесили су-
дарыне по низкому поклону.
— Что же вы не славите? — с добродуш-
ной улыбкой проговорила Наталья Александ-
ровна.
— Да что,— развязно отвечал дьякон,— в эти
дни вам, чай, славили-славили, аж надоели.
— Нисколько, напротив, мне очень было бы
приятно,— проговорила Наталья Александровна,
глядя прямо в глаза кумовьям.
— Ну, что ж, Потапыч, давай, коли... тово...
Дьякон затянул, Потапыч и стрикулисты под-
хватили.
— Вот благодарю,— произнесла Наталья
Александровна, выслушав пение.— Хорошо вы
сделали, что вздумали меня проведать. Садитесь,
пожалуйста... это кто же еще с вами?
— Это вот мой шурин,— отрекомендовал дья-
кон Гаврю,— в семинарии обучается, философию
проходит.
— А это, Потапыч, сын, что ли, твой?— спро-
199
сила хозяйка, указывая глазами на конопатого,
коротко остриженного мальчугана.
— Так точно, сударыня-кума,— отозвался по-
номарь, делая попытку встать со стула.
— Сиди, сиди... Учится он у тебя?
— Как же, тоже семинаристик божий. Что ж
делать-то?..
— Как «что ж делать»?! Разве это дурно? —
с улыбкой возразила сударыня-кума.— Из него,
может быть, выйдет великий человек.
— Ну, где уж нам до величества... Хоть бы гос-
подь дал — курс-то окончил, я бы и то царицу не-
бесную...
— Да что ж ты, Потапыч, так думаешь?— вме-
шался дьякон.— Разве уж семинаристы последний
народ?
И отец дьякон взглянул на Гаврю.
Подали самовар. Барыня сама начала готовить
чай. Наступило молчание. Дьякон поглаживал
волосы. Пономарь, глядя в потолок, одним паль-
цем почесывал у себя в затылке. Гавря, сложив
руки между колен, внимательно осматривал ком-
нату. В углу, где он сидел, на столе лежала книжка
какого-то журнала и несколько номеров газет,
а на них валялась конторская книга. По стенам
развешаны были различные картины. На стульях,
на креслах, под столами помещались разных пород
собаки: и с острыми, и с тупыми мордочками, и с
торчащими, и с висячими ушами, и поджарые,
и толстые, и лохматые, и нелохматые.
— Павел!— кликнула Наталья* Александ-
ровна.
Явился Павел.
200
— Поверни самовар ко мне краном.
Павел повернул.
— Садитесь, пожалуйста, к столу,— обрати-
лась хозяйка к гостям,— будем чай кушать.
Дьякон подсел к чайному столу, а остальные
гости потащили стаканы на свои прежние места.
Выпив свой стакан, пономарь отнес его на стол
и, остановившись посреди комнаты, о чем-то за-
думался. Затем, обернувшись лицом к куме, он
внимательно стал посматривать на нее, покашли-
вал и глотал слюни.
— Ты, кажется, хочешь сказать что-то? —
спросила хозяйка, взглянув на Потапыча.
Потапыч еще раз кашлянул, состроил умили-
тельную физиономию, прижал руку к сердцу, скло-
нил голову набок и начал:
— Сударыня-кума! Тот самый фунтик чайку,
что ваша милость, проезжаючи летом сквозь наше
село, изволили пожаловать жене моей, только
что вышел... Жена говорит: увидишь куму... суда-
рыню-куму, воздай ты ей, говорит, великое благо-
дарение. Она об вас каждое воскресенье вспомина-
ет; как за чай, так сейчас: дай, господи, говорит,
куме... сударыне, что она... то есть...
— Ну стоит толковать!— перебила барыня.—
Здорова ли моя кума-то? Я и забыла у тебя спро-
сить. Да ты сядь, сядь, Потапыч.
— Слава богу,— проговорил пономарь, при-
саживаясь на стул и не сводя с кумы глаз.— Толь-
ко все животом жалуется. Сорвала, что ли, как —
бог ее знает.
— Эх, это жаль. Нужно лечиться... Ну а крест-
ник мой что?
201
— О, такой орел,— совсем не похож на других
моих ребятишек. Жена часто говорит: вот что зна-
чит, говорит, кума-то... Умница, говорит, будет,—
в бакалавры пойдет. Иначе и не зовет его, как ба-
рин, все — барин.
— Дай бог, дай бог,— проговорила Наталья
Александровна, наливая чай.
Потапыч зашевелился на стуле и зачем-то
погладил по голове сидевшего возле него сы-
нишку.
В комнату вошла скромно одетая девушка,
лет двадцати пяти, с серьезною, выразительною
физиономиею. Гости встали.
— Это моя племянница, сирота,— произнесла
хозяйка и затем отрекомендовала гостей.
Девушка молча поклонилась гостям и уселась
возле Гаври.
Отец дьякон затянул довольно длинную исто-
рию о том, как у него лошадей украли, как потом
он купил жеребенка, как воспитывал и объезжал
его и т. п. Хозяйка слушала его и нередко вставля-
ла свои замечания. В углу между тем завязался
свой разговор.
— Вы выписываете этот журнал?— спросил
Гавря соседку.
— Не я, а моя тетя выписывает,— ответила
девушка.
— Но вы читаете этот журнал?
— Читаю: там помещаются хорошие романы
английские.
— На мой взгляд, в этом журнале только и хо-
рошего, что переводные романы.
Девушка промолчала и взглянула на тетку.
202
— Лиза, хочешь чаю?— спросила Наталья
Александровна.
— Хочу.
— Бери чашку.
Лиза взяла чашку и снова поместилась возле
Гаври, между тем разговор о жеребенке выступил
на первый план и покрыл беседу Гаври с племян-
ницей.
— На третьем году объезжать жеребенка —
это ужасно!— воскликнула хозяйка, прерывая
отца дьякона.
— А то на каком же? На десятом, что ль? —
с улыбкой возразил отец дьякон, оживившись и
чувствуя себя как дома.
— Тятенька,— шептал между тем пономарю
сын,— зачем это здесь столько собак?
— Молчи, дурак! — тихо проговорил пономарь
и пересел на другой стул.
— Вы думаете, мне нравится ездить по при-
ходу?— изъяснялся в то же время Гавря.
— Я думаю, что нравится,— говорила Лиза,—
иначе вы бы не ездили.
— Эх!— произнес Гавря со вздохом.— Часто
обстоятельства заставляют человека делать то, что
ему вовсе не нравится.
— Что же это у вас за обстоятельства?— спро-
сила Лиза.
Гавря кашлянул и молча взглянул на отца
дьякона.
— Но ведь все равно вы будете так же после
ходить по приходу, когда поступите во священ-
ники.
Наталья Александровна, кончив чай и беседу
203
с отцом дьяконом, приказала в это время лакею
убрать самовар и куда-то вышла.
Через минуту она возвратилась с большим
альбомом в руках и, услав Лизу по какому-то по-
ручению, уселась на диван.
— Не угодно ли, отец дьякон, посмотреть моих
родных и знакомых?— проговорила она, раскры-
вая альбом на столе.— Потапыч, посмотри и ты.
Молодые люди, подойдите сюда.
Отцы и дети обступили стол.
— Вот вам увеличительное стекло: в него луч-
ше видно,— сказала Наталья Александровна,
подавая отцу дьякону стекло.
— Мне не нужно,— отверг отец дьякон.—
Я лучше в кулак. Я всегда в кулак; наставлю вот
этак и — как ведь славно, ровно в трубу посмат-
риваешь.
Гавря попросил стекло себе, Наталья Александ-
ровна подала.
— А вот, отец дьякон,— проговорила она,
улыбаясь,— молодой человек хочет в стекло смот-
реть.
— Да ведь нынче молодые-то люди стали хуже
старых,— отозвался отец дьякон, пустив в ход
свой оптический снаряд.— Посмотришь — маль-
чишка лет двадцати, а уж у него на носу очки.
Моему тятеньке под семьдесят лет, а он до сих
пор «Апостол» без очков читает.
— Это вот мой брат,— изъясняла Наталья
Александровна, указывая на карточке мужчину
средних лет, украшенного длинными баками и
эполетами.
— Как они на вас-то похожи — две капли во-
204
ды; сейчас видно, что вам братцы,— заметил по-
номарь, хотя брат был так же похож на сестру,
как медведь на пятиалтынный.
— Он теперь живет в Париже,— продолжала
хозяйка,— недавно мне письмо прислал. Что
теперь во Франции, говорит, делается — беда!
При последних словах Наталья Александровна
бросила на гостей насмешливо-пытливый взгляд.
— Ив газетах теперича про эту Францию не-
хорошо пишут,— неожиданно хватил пономарь.—
Намедни я с мельницы заехал к управляющему,
а он какую-то болыпу-ую газету читает. Что, го-
ворю, Павел Иваныч, войны у нас не будет? У нас-
то, говорит, не будет, а вот, говорит, за границей
пошаливают. И начал он тут про французов. Со-
бираются, говорит, у них парни целою гурьбою,
бродят по улице и распевают что-то такое по-
своему. Он мне толковал, да я теперь запамя-
товал...
— А у вас в селе выписываются газеты?— по-
любопытствовала кума.
— Как же, у нас на постоялый двор часто вы-
сылают «Губернские ведомости»,— изъяснил по-
номарь.— Там тоже бывает много любопытного:
у кого по губернии лошадь украли, где торги и про-
чего хорошего немало. И полезное это дело — пе-
чатать: пропечатают, например, краденую лошадь,
она и найдется, потому что вору с ней тогда уже
некуда деваться.
— Да, некуда! — возразил с досадою отец
дьякон, кончив обозрение альбома.— Моих лоша-
дей тоже где-то описывали, а отыскал я их или
нет?
205
Пономарь молча развел руками.
— Ну, что же, Потапыч,— проговорил дьякон
после некоторого молчания,— нам пора и восвоя-
си, ведь близкое ли дело...
— Нет, нет,— перебила хозяйка,— я вас не от-
пущу без ужина; вы так далеко ехали... Я велела
готовить ужин, а пока его приготовят, пойдемте в
залу и послушаем музыку.
Дьякон молча поклонился, а пономарь прого-
ворил:
— Как вашей милости будет благоугодно, вы
и так уже нас... можно сказать...
Хозяйка и гости отправились в залу. Наталья
Александровна кликнула гррничную и велела ей
завести орган. Слух христославов поражен был
«дивною мусикиею».
— Тятенька, это ведь «По улице мостовой»? —
спрашивал пономаря сынишка, дергая его за полу.
— Болтай там еще! — нетерпеливо проговорил
пономарь.
— Ваш сын угадал: действительно, это «По
улице мостовой», — заметила Наталья Александ-
ровна.
— Господи боже мой!— с умилением произнес
пономарь.— Умудрит же господь человека...
— Вам нравится?
— То есть вот как! От роду своего, можно ска-
зать, этакого не слыхивал. Иной раз по улице с
гармонией кто пройдет, и то... как-то веселит, а
ведь это — господи!— всю душу заливает...
Заливши душу, гости уселись ужинать.
Собаки, почуя соблазнительный запах, столпи-
лись у стола. Одна из них, бесцеремонно просу-
206
нув голову под руку пономаря, потянулась к нему
на тарелку. Пономарь отломил кусочек черного
хлеба и вежливо предложил собаке.
— Нет, Потапыч, она не кушает черного хле-
ба,— объяснила Наталья Александровна.— Кроме
говядины и белого хлеба — ничего...
Пономарь вытаращил глаза и замер с куском
черного хлеба в руках.
— Господи боже мой,— проговорил он нако-
нец, покачав головой.— Подумаешь, ведь тварь —
одно слово!— и та понимает себя, ровно барыня
какая. Вот что значит образование!..
Хозяйка слегка покраснела и расхохоталась.
Ночь. Тихо. Частые звезды мигают на ясном
небе. Снег гудит и визжит под полозьями саней.
Пономарь, с фунтом чаю за пазухой и с пятью
рублями в кармане, с вдохновенной улыбкой смот-
рит на божий мир. Отец дьякон тихо напевает.
Гавря, прислонясь к высокой спинке саней, по-
грузился в сладкую дремоту. Ему все слышатся
звуки органа и рисуется образ Лизы: он старается
припомнить все подробности своего разговора
с нею...
ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ
Вечереет. На дворе довольно снисходительный
мороз. Из облаков как будто нехотя летят редкие
пушистые снежинки.
Обыватели села В., почуя приближение вели-
кого поста, с каким-то азартом спешат насладиться
207
всеми удовольствиями оканчивающейся маслени-
цы. Улица сильно оживлена. Вдоль села туда и
сюда беспрестанно снуют разных видов и сортов
сани, битком набитые парнями, девками и ребя-
тишками. Слышатся отрывки разных песен. На
одних санях горланят:
Верея ль моя,
Ты вереюшка,
Ты сдержи меня,
Бабу пьяную,—
Бабу пьяную,
Шельму хмельную.
На других выкрикивают:
Сера утица — ества моя,
Красна девица — невеста моя...
— Эй, крылышки поднебесные! — с отъявлен-
ным удальством восклицает бойкий парень, вы-
тянув руки по направлению к встречным саням.
— Лети, лети дальше, гладыш этакой,— отзы-
вается особа, к которой относился комплимент
парня.
Деревенские клячи, изукрашенные разно-
цветными лоскутами, как бы сочувствуя настрое-
нию катающейся публики, с не свойственною
им бодростью и живостью покачивают головами,
по временам отмахиваясь от непривычного для
них звука всевозможных звонков и побрякушек.
Шум, звон, песни, визг переполняют воздух.
Люди пожилые и солидные тоже не отстают
от молодого поколения по части развлечений и
увеселений. Двери кабака то и дело отворяются,
выпуская густые клубы пара. Там слышится рас-
208
сыпчатый топот родного трепака, и из дверей по
временам вырываются приговорки, вроде:
Ходи изба, ходи печь,
Хозяину негде лечь.
Или:
Ах, теща моя,
Доморощенная,
На те шубочка нова,
Невороченная,— их, ну!..
Вот из питейного, едва сохраняя равновесие,
выходят полушубок и поддевка.
— Ты теперь куда? — спрашивает полушубок.
— А я почем знаю,— отвечает поддевка.—
А ты?
— А я с тобой вместе... Ты выкинь из головы»
что ты в Москве живешь... Я, бывает, почище тебя
и поумней,— да!.. Ты вот человек московский, а
мне, деревенскому, ответа не дашь. Что подле чаю
стоит? Ну-ка скажи?
— Подле какого чаю?
— Подле чаю.
— Гм! Что поставишь, то и будет стоять: пол-
штоф поставишь — полштоф будет стоять; другое
что поставишь — другое стоять будет.
— И вышел ты пшик, и цена тебе грош. Подле
чаю стоит, дурень ты этакой, воскресенье. «Чаю
воскресения мертвых»... А ты пшик.
— Молчи, лохмоть деревенский!
— Я лохмоть?
— Ты лохмоть!
— Я лохмоть?!
209
- Ты!
Раздается звонкая оплеуха, и поддевка вскри-
кивает:
— Как ты смеешь меня бить? Я московский
портной. Я тебя — к мировому, да не к здешнему,
а к московскому! Он тебя сгноит в остроге! Вся
улица присвидетельствует — не отвертишься.
Я тебе покажу...
Полушубок струсил и переменил тон:
— Антоша, ну полно, не гневись: ведь я безо
всякого сердца. Антоша, друг, ну прости, для ны-
нешнего дня прости: ведь нынче всякие недруги
примиряются.
— Недруги примиряются, а приятеля — в ухо!
— Ну сейчас умереть, это я не в обиду! Полно
серчать-то, пойдем, поднесу на мировую.
— Разве поднесешь?— спросил потерпевший,
немного помолчав.
— А то нет? Ведь вот они.
Виновный при этом хлопнул себя по карману.
— Ну идем, так и быть, бог с тобой. Но верь
совести, если бы не прощеный день, сидеть бы
тебе в остроге.
— Вот так друг — истинно, что друг. Что нам
с тобой делить? Твоя Москва, а моя деревня —
всяк по-своему. Пойдем-ка, согрешим еще малень-
ко, а завтра — господи прости.
И примирившееся снова двинулись к питей-
ному.
Смерилось. Звезды замигали на небе; в домах
показались огни. Церковный сторож, желая засви-
210
детельствовать о своей трезвости и ревности к
охране храма божьего, сделал несколько редких
ударов в колокол... А на улице все еще слышатся
шумные крики. Молодежь, натешившись катаньем
и песнями, совершает оригинальный обряд погре-
бения. Несколько девок тащат за веревку корыто
с огромною куклою, олицетворяющею покойницу
масленицу. Во главе процессии идет высокая, здо-
ровая тридцатилетняя девка Донька-рябая (Донь-
ка-курноска — то ж), представляет собою лицо
священника. На плечах у ней рогожа вместо ризы,
в одной руке лучина вместо свечи, в другой —
полотенце с узлом на конце вместо кадила. Кур-
носка помахивает своим кадилом и, боясь отпевать
подлинными священными словами куклу, выкри-
кивает дикую бессмыслицу: «Дралилуя, дралилуя!
Со слепыми упокой! Овечья память! Во веки ве-
ков — овин!» и т. д. Процессия замыкается рядом
плакальщиц. Они трут себе рукавами глаза и при-
читают: «Свет наша масленица, перепелиные твои
косточки! На кого ты нас покидаешь? Как без тебя
нам время провожать — все скучать да тоско-
вать...» и т. п.
Все это перемешивается с неистовым хохотом
и криком.
Степенные старички и старушки, сидевшие до-
селе дома, теперь, с ковригами хлеба, со связками
баранок и со свертками неизвестного содержания,
бредут к батюшке-кормильцу «прощаться».
— Машка, будет тебе кружиться-то, вспомни,
что завтра-то,— ограничивает одна старуха внуч-
ку, проходя мимо процессии.
— Она не кружится, она идет прямо,— острит
211
кто-то из толпы, и взрыв хохота сопровождает
остроту.
— Ах вы, сорванцы, сорванцы,— говорит ста-
руха,— языки бы вам всем на пяло вытянуть,
беспутные... Тьфу, господе иисусе, согрешила я,
грешная...
У отца дьякона в зале на столе большой само-
вар. Наряду с чашками стоит до половины покры-
тая золою махотка с топленым молоком и тарелка
с печеньями домашнего приготовления.
— Принимать, что ли, самовар-то?— спраши-
вает дьяконица.
— Погоди,— отвечает отец дьякон,— зайдет
кто-нибудь проститься. Поставь-ка еще что-нибудь
закусить; принеси водочки, блинков, рыбки, чтобы
все было честь честью. Все равно ведь останется —
хинью пойдет: завтрашнего не едят.
Давши супруге такую инструкцию, отец дьякон
заложил руки назад и зашагал по комнате. Про-
никаясь мало-помалу завтрашним настроением,
он затянул было великопостное, но неистовый
крик, донесшийся до его слуха с улицы, поме-
шал ему.
— Вишь, беснуются, вишь, ведь беснуются, бе-
зумные,— проговорил он, оставив песнопение.
Отец дьякон подошел к окну и начал пальцами
протирать вспотевшее стекло, как бы желая рас-
смотреть, кто и как именно беснуется.
— Воспретить бы все это следовало, оконча-
тельно воспретить,— ворчал он, смотря сквозь
стекло на темную улицу.— Этакие дни наступают,
212
а у нас козлогласование и пьянство... Кто-то при-
ехал,— спросил сам себя отец дьякон, усмотрев
остановившиеся возле своего крыльца сани, и на-
правился в переднюю встречать гостя.
Гостем оказался кум отца дьякона, богатейший
мужик Трофим Иванов.
— Милому моему восприемнику наше почте-
ние!— не совсем твердым языком возгласил гость,
лобзая хозяина.— С широкою масленицею! Кума,
честь имеем — с широкою...
— Какая уж теперь широкая?— возразил отец
дьякон.— Уже сузилась — завтра пост.
— А нам что? У нас еще широка.
— Ну, ладно, садись-ка.
— Не хочу.
— Да ну садись: вот хозяйка нам чайку на-
льет — закусим.
— Коли я не хочу, так что ж ты со мной сде-
лаешь?
— Не хочешь — как хочешь... Куда это ты
ездил?
— Тоже к куму своему, к старшине,— про-
щаться. Враг он мне, а я к нему ездил. Это как по-
твоему?
— Дело доброе, христианское, хвалю. Что же,
ты как следует с ним простился?
— То есть вот как... как на свадьбе! Уж мы с
ним, уж мы с ним... просто — а! Маленько выпили-
таки здорово.
— Что ж, это еще ничего, а главное — простил-
ся по-христиански — вот что хорошо. Ты теперь
совсем забудь, что он тебя высек, тем паче что ты
был кругом виноват.
213
— Что-о?— неожиданно грозно протянул Тро-
фим Иванов.— А хочешь, я тебя за это в хорошее
место пошлю? Кума только мешает. Гм! Забудь...
Нет, никогда не забудешь, как эта рыжая ана-
фема всыпала тебе двести. О, собака мордастая! —
злобно воскликнул Трофим Иванов и хватил шап-
ку об пол.
— Рано же я тебя похвалил,— проговорил
отец дьякон.— Испортил ты свое доброе дело и
греха прибавил. Если уж ты...
— А ты постой,— перебил Трофим Иванов,—
ты не забегай вперед. Ты, выходит, Степке-стар-
шинишке подражаешь, а не мне. Ты разбери
прежде дело и будь кум, а не как... бог знает что.
Ты говоришь, я виноват; а в чем моя вина? Вины
вовсе никакой не было. Прежняя барыня моя, по
своим делам, стала ко мне на фатеру и целый
месяц не платила мне за харчи и хлопоты. Я
говорю: давай деньги или убирайся вон — ваше
время прошло. Она сейчас — фить!— и к старши-
не. Степка требует меня, значит, к себе. Я при-
езжаю: «Здорово, кум!» — «Здорово!» У него,
значит, этот чай на столе. «Садись, кум». Я сел.
Берусь за чашку, а он мне: «Ты,— говорит,—
кум, бесчинствуешь — барыню обижаешь».— «А
ты,— я говорю, — бабе подражать не должен».
А он говорит: «Я не бабе, а закону подражать
должен, а по закону,— говорит,— тебе за это
дранцы». — «Ты,— я говорю,— кум, шутишь,
забываешь, что я тебе кум?» — «Нет,— говорит,—
не шучу: кум кумом, а закон законом. Ты,—
говорит,— у меня пей, ешь, а к дерке готовься».
На другой день гляжу — и вправду выдрали.
214
Благородно это аль нет? Кум он после этого аль
нет? Человек он после этого аль нет?
— Он поступил по правде,— невозмутимо
заметил отец дьякон, кусая концы своих волос.
— С этой правдой-то вас...
Тут Трофим Иванов, несмотря на стесняющее
его присутствие дьяконицы, выпустил крепкое
словцо и проговорил:
— Кума, ты не слыхала: у тебя ушки золот-
цем завешаны.
Отец дьякон покачал головой и проговорил:
— В бездне греховной ты валяешься, посмотрю
я, оттого ты так и делаешь, так и говоришь.
Отчего бы тебе не подождать на своей барыне
деньги? Конечно, она заплатила бы тебе, а гля-
дишь, и землицы бы дала за услуги. Она из-за
земли и приезжала-то сюда.
— Отчего... Спрашивать-то я сам горазд,—
отозвался Трофим Иванов.— Если масленица при-
дется на святой, что тут делать: кататься аль
качаться? Ha-ко вот, расколупай это титло-то.
Тебе и своего не решить, а в наше тебе мешаться
нечего; мы сами свое решать будем. Ты только вот
что возьми: я бабе сказал слово, а меня за это
драть, да кто же при этом? Родной кум!
Вот ты мне кум, а я бы тебя, примерно, взял да
выдрал; простил бы ты меня аль нет?
— Простил бы,— нерешительно проговорил
отец дьякон.
— Врешь, душа вон, врешь,— горячился Тро-
фим Иванов,— сроду не простил бы. А Степку
простить за этакое дело! Да я его... Кума, ты
не слыхала.
215
— Полно тебе сквернословить-то,— решился
наконец ограничить оратора отец дьякон,— сам
грешишь и других на грех наводишь. Вспомни,
ведь завтра святая четыредесятница; всех нас
завтра господь к покаянию позовет. Так ли го-
товятся к покаянию? Дьявол вселился в сердце
твое, очистись. Ведь со злобой и к причащению
не допустят. Воздохни ко господу, прости всех
обидящих, и помянет тебя господь бог во царствии
своем.
— Ну что ж,— заговорил Трофим Иванов,
понизив тон,— ну, боже, очисти меня грешного...
избави нас от лукавого... Покаяния отверзи...
А Степку пущай бог сам накажет.
— Так-то вот лучше: предоставь все господу
и смирись,— внушал отец дьякон.— Давай-ка про-
стимся по-любезному, и поезжай с миром к жене,
да как будешь ложиться спать, помолись по-
усердней.
— Милый мой восприемник, прости ты окаян-
ного кума,— воскликнул Трофим Иванов и пова-
лился в ноги отцу дьякону.— Пес я,— продол-
жал он, поднимаясь с полу,— и для бога не годен.
Прости, давай поцелуемся.
Свершился поцелуй.
— Бог простит,— проговорил отец дьякон,
потирая руки и потупив голову, как будто чем-то
сконфуженный.— Прости и ты меня.
— Я... Обо мне нечего,— сказал Трофим Ива-
нов и обратился к дьяконице:— Кумушка ты моя,
прости и ты меня, свинью!
И он опять упал к ней в ноги.
— Что ты, что ты, Трофим Иваныч,— прого-
216
ворила дьяконица, отступив несколько назад,—
разве это можно? Я и так прощу.
— Не смей, не смей,— бормотал кающийся,
валяясь на полу и ловя дьяконицу за ноги,—
облегчиться хочу, и больше ничего.
Облегчившись, Трофим Иванов отыскал свою
шапку и начал прощаться.
— К попу заезжал?— спросил его отец дьякон
уже в передней.
— Заезжал. Он мне кое-что напомнил... Он
мне однажды сказал: «Ты у меня, Трошка, в
Сибирь пойдешь». А я ему в сердцах-то: «А ты,—
говорю,— за мной рубашки понесешь». Вот это
самое он мне напомнил.
— Что ж, простил?
— Не сразу, но как следует: благословил и
прочее. Дай бог всем... и Степке. Степка, Степ-
ка!.. Эх!.. Господи, прости мое согрешение.
Трофим Иванов обеими руками нахлобучил на
себя шапку и, толкнув коленом в дверь, качнул-
ся в темные сени.
— Теперь хоть и прибирай самовар,— обратил-
ся отец дьякон к супруге, выпроводив много-
шумящего гостя,— уж поздно; кроме дьячков,
едва ли кто зайдет. Закуску оставь, а все прочее
долой.
— Да что это дьячки-то так долго?
— У попа, должно быть, засиделись.
— А ты простился с попом-то?
— Я еще давеча в церкви... чего там... Вот
ведь и Анюты нашей нет. Должно быть, вместе с
дьячками придет.
В сенях послышался стук, и через минуту в
217
залу вошли дьячки, а с ними и Анюта. Положив-
ши шапки на окно, дьячки уселись рядом и сде-
лали мрачные физиономии.
— Что вы такие скучные? — начала дьякони-
ца.— Или масленицы жаль?
— Провались она,— проговорил дьячок,—
ни пути ей, ни дороги. Беспутней этого времени
во всем году нет: начинишься блинами с рйннего
утра и ходишь день-деньской как шальной; нет
тебе ни обеда, ни ужина настоящего. Я уж рад,
что пост наступает.
— О, нет,— вмешалась Анюта, — я так не люб-
лю поста, особенно первого понедельника. Утром
проснешься, ску-ука! Как будто кто тебе в ухо
шепчет: по-ост — и ткнешься с горя в подушку.
Встанешь, пойдешь на кухню — нет уже блинов;
заглянешь в печку — одни картошки варятся.
— Оно правда, что голодно,— заметил дья-
чок,— но зато легко бывает.
— Ну а пока у нас не голодно, закусите-ка
что-нибудь, водочки выпейте,— предложил отец
дьякон.
— Нет, благодарствуем,— отозвались в один
голос дьячки,— мы не за тем ведь пришли, чтобы
стомах набивать, а чтобы проститься по обычаю,
как долг повелевает.
Дьячок умолк, а пономарь продолжал:
— По правде сказать, мы против вас, отец
дьякон, ни в чем, кажется, в этот год не погрешили,
а все-таки уж должны, по-заведенному...
— Если уж пошло на правду, так кое в чем
согрешили, дело прошлое,— тихо и с расстановкой
проговорил отец дьякон.
218
Дьячок по-прежнему молчал, а пономарь ожив-
ленно заговорил:
— Нет, отец дьякон, как перед богом говорю:
ничего такого я за собой не знаю.
— Припомни-ка хорошенько,— еще тише про-
говорил отец дьякон.
— Ничего не помню,— решительно произнес
пономарь и развел руками.
— Вот хоть бы насчет петуха — ты ничего? —
намекнул дьякон, пытливо посматривая на по-
номаря.
— Какого петуха?— с удивлением спросил
пономарь, широко раскрывши глаза.
— Моего. Скажешь, не ты летом отрезал у него
шпоры, когда он у твоего индюка, завязшего в
изгороди, исклевал все сережки?
— Господи помилуй!— воскликнул пономарь,
беспокойно завозившись на месте.— Вот поразили
так поразили. Сроду и на уме этого не было.
Гм! Царица небесная... Да если я это сделал, то
не то что индюка — жены бы мне своей вовек не
видать!., нежели вы меня так обижаете.
— Что ты, что ты,— господь с тобой,— зачем
же так говорить-то?— с беспокойством произнес
отец дьякон, испугавшись последствий своего
подозрения.— Все мы не без греха, можем и
простить друг друга, если что... На то и прощеный
день. Не, прости меня, и тебя господь да простит.
Дьякон и пономарь, кланяясь друг другу, в
замешательстве столкнулись лбами и три раза
звонко поцеловались, придерживая один другого
за плечи.
Разделавшись таким образом с пономарем, отец
219
дьякон принялся за дьячка, который во все время
предыдущей сцены высказывал сильное нетерпе-
ние: то и дело сморкал, кашлял и почесывал в
голове.
— Ради нынешнего дня я припомню кое-что
и тебе,— заговорил отец дьякон, обращаясь к дьяч-
ку,— не за тем, чтобы тебя бранить или укорять,
а чтобы... простить почище...
Дьячок кашлянул и поморщился.
— Помнишь, весною,— продолжал отец дья-
кон,— я собирался ехать но своему делу в губер-
нию и уже отпросился у попа. Захотелось, пом-
нишь, и тебе поехать в это же время. А поелику
двоим отлучиться от церкви было нельзя, то ты
побежал тогда к попу, наговорил ему, якобы я
еду на него прошение архиерею подавать, и упро-
сил его меня оставить, а тебя отпустить. Поп же,
поверивший твоей клевете,— бог ему прости,—
так и сделал: меня удержал, а тебя отпустил,
невзирая на то что я уже отпросился у него.
Такой поступок твой весьма предосудителен и
зловреден для ближнего. Ежели — чего боже
сохрани — и впредь у нас такая смута будет,
то как нам жить и у одного алтаря служить?
Бежать придется куда глаза глядят. Коли хочешь
человеком быть, всегда помни слова писания:
«Се что добро или что красно? еже жити братии
вкупе». Вкупе, друг,— вот в чем вся сила и жизнь
христианская, а ты разделился на ся...
— Отец дьякон, ей-богу...—начал дьячок, за-
пинаясь,— ей-богу, я без всякого умысла сболт-
нул тогда, ибо находился в большом расстрой-
стве и душевном и телесном возмущении. Полу-
220
чивши я в то время прискорбное известие, что сын
мой в семинарской больнице при смерти,— вдруг
батюшка говорит: «Тебе ехать нельзя, ибо отец
дьякон едет». Тут-то я, будучи в великом терза-
нии,— сам уж не знаю как,— и сболтнул, якобы
вы на него архиерею... вовсе не имевши в намере-
нии вашего вреда, а собственно из любви к детищу,
которое, того гляди, скончается. Вот и все. А я,
как прежде, так и теперь, к вам всегда с чисто-
сердечием. Ей-ей, не лгу... ради нынешнего дня
простите.
— Я простил, я давно простил,— отозвался
отец дьякон, протирая губы ситцевым платком,—
я говорил это только для впредбудущего. Господь
да простит и помилует всех нас,— с чувством
продекламировал отец дьякон, в антрактах между
тремя энергичными примирительными поцелуями.
— Господи боже,— расчувствовавшись, за-
говорил пономарь,— что за день нынче! Все про-
щаются, все-то прощаются, уж видно, что христиа-
не. У бусурман, я думаю, этого нет.
— Ищи там... У них и бога-то нет, не то что
другого чего,— серьезно заметил отец дьякон.
— Хм! живут же ведь люди,— проговорил
пономарь и покачал головой.
— С чего это взялось — прощаться?— спросил
дьячок, несколько оживившись.
— Исстари так — где христиане, там и про-
щенье,— изъяснил отец дьякон.
— А вот когда я жил в монастыре послушни-
ком,— начал пономарь, — так там в нынешний
день пели стих: «Седе Адам прямо рая». Архи-
мандрит, помню, объяснял нам: как только, гово-
221
рит, Адама изменили из рая, с тех пор, говорит,
мы и стали нынче прощаться. И в монастыре,
бывало, как только прощеный день, так уж непре-
менно: «Седе Адам...»
— Вишь ведь как мудро объяснил, философ
настоящий,— проговорил отец дьякон, поглажи-
вая волосы.
— Что у меня в памяти было, то я и объяс-
нил,— смиренно отозвался пономарь.— Конечно,
по науке — где уж мне... Не посла меня господь
крестити, а посла благовестити.
Несколько минут длилось молчание.
— Ну что ж,— заговорил наконец пономарь,—
пора, кажется, и расходиться. По долгу христиан-
скому сделали свое — и слава богу.
И он поднялся было с места, а вслед за ним
и дьячок.
— Погодите, погодите,— остановил их отец
дьякон,— сядьте-ка еще. Ведь завтра утрени не
будет; поп говорит: во вторник прямо к часам... Я
вот хочу вам сказать насчет одного дела — хо-
рошего дела.
Дьячки снова уселись.
— Положим,— продолжал отец дьякон,—
мы поговорили по душе, как следует, прилично
нынешнему дню. Все это хорошо. Но все это
ведь слова, а слова — вода. Во дни же покаяния
потребны дела, а не слова. Мне вот что нынче в
голову пришло: давайте каждый прощеный день
хоть по одной страсти отсекать у себя... Вот у
всех нас есть гнусная страстишка — табак нюхать.
Ведь уже нужно сознаться, что это гадко и с
нашим положением несообразно. Представь-
222
те себе: стоим мы в храме на важном месте, всяк
нас видит, и вдруг у тебя по губам табачная виш-
невка течет. Тьфу!... Давайте-ка с нынешнего
дня бросим это.
Дьячки молча улыбнулись.
— Чего вы смеетесь? Это дело вовсе не смеш-
ное, а весьма важное и полезное не только для
тела, но и для души.
— Трудно отстать: привычка,— проговорил
пономарь.
— Знаю, что трудно, а ты побори себя,— вну-
шал отец дьякон, более и более воодушевляясь
и ходя взад и вперед возле дьячков.— Всякие
страсти искореняются с трудом, а ведь нужно же
их когда-нибудь искоренить. Вот ты и начни с того,
что полегче, а потом справишься и с сильною
страстью.
— Бросить, пожалуй, можно,— проговорил
дьячок,— ведь было же время, когда мы не ню-
хали, и впредь можно не нюхать.
— Именно, именно,— подхватил дьякон.
— И бросишь, да не вытерпишь,— вставил
пономарь,— как только взглянешь на табакерку,
так и захочется понюхать.
— Табакерку забросить,— чуть не вскричал
дьякон,— непременно забросить. Сейчас же пой-
дем забросим: я свою, а вы свои.
— Что ты это?— вмешалась дьяконица.— Та-
кую табакерочку-то? Новую-то? Лучше отдай мне:
ведь она денег стоит.
— Молчи, не мешай,— серьезно сказал дьякон,
нетерпеливо махнув рукой.
— Ведь и моя тоже новенькая,— заметил по-
223
номарь и полез было в пазуху за наглядным до-
казательством.
— Э, там... новая!— с досадой проговорил
дьякон, дернув пономаря за рукав.— Бери шапку,
идем, идемте скорей!
Через минуту дьякон и дьячки действительно
ушли отрекаться от табакерок, оставив в недо-
умении дьяконицу. Она несколько времени
молча простояла у двери, как бы прислуши-
ваясь к чему-то; наконец громко произнесла:
«Шуты!» — и отправилась убирать нетронутую
закуску.
— Что ж, попадья в том же засаленном платье
была?— спросила между тем дьяконица дочку,
гремя тарелками.
— Все в том же.
— О, чучело этакое! Хоть бы для людей надела
почище. Много было у них народу-то?
— Много-таки. Сколько нанесли попу всякой
всячины ради прощанья! Попадья, знай, только
подхватывает да убирает.
— Ну что ж, пусть ее: ей много надо... Обо
мне она не спрашивала?
— Спрашивала: что ж, говорит, твоя маменька
проститься ко мне не пришла?
— А ты бы сказала: а сама, мол, ты что к ма-
меньке не пришла? Разве, мол, маменька-то тебе
слуга какая?
— Ну ее... Я все с Верочкой занималась...
Между тем искоренители страстей в темноте
направились к церкви; дьякон быстро шагал впе-
ред и постоянно торопил своих спутников. Вот они
миновали церковь и остановились на горе. Дьякон
224
снял шапку, перекрестился и, торопливо прого-
ворив: «Господи, помоги»,— энергично пустил
свою табакерку в воздух.
— Ну, пускайте скорее — раз!— скомандовал
он затем сподвижникам.
— Дайте уж в последний раз понюхать,—
взмолился пономарь, ударив ладонью по крышке
своей табакерки.
— Ни-ни-ни!— с неумолимою настойчивостью
произнес дьякон, отрицательно качая головой.
Пономарь как-то отчаянно крякнул, подпрыг-
нул и — через секунду предмет его страсти исчез
в темном пространстве.
Дьячок, не дожидаясь понуканий, молча и вяло
махнул рукой, и табакерка его пукнула в снег
где-то поблизости.
Похоронив свои шнупф-страсти, герои наши
минуты две простояли на месте своего подвига,
молча смотря в пространство. Наконец отец дьякон
протяжно и свободно вздохнул, как будто бремя
тяжкое свалилось с плеч его, и спокойно, с само-
довольством проговорил:
— Ну вот, вот и ладно. Слава богу. Дай бог
нам...
— Правда, хоть и жаль немножко табакерку,—
рассуждал пономарь на возвратном пути,— на
душе отчего-то хорошо стало, даром, что пустое
дело.
— Непременно, непременно так,— подхватил
дьякон,— это хоть и в мале, а ведь тоже доб-
родетель; оттого и хорошо. От малого до вели-
кого... все одно...
Взявши друг с друга слово не изменять своей
8-1032
225
решимости, клирики снова облобызались на улице
и разошлись по домам.
— Ну что, как?— осведомлялся отец дьякон
у пономаря через день после «события».
— Мука, отец дьякон, истинная мука,— про-
говорил пономарь, сморщившись.— Вот это место,
под самыми стропилами-то, ровно бы кто клещами
стиснул.
При этом пономарь двумя пальцами ухватил
себя за нос, возле самых глаз.
— Терпи, терпи,— ободрял отец дьякон,—
пустое, пройдет, с течением времени возра-
дуешься...
Неделю спустя пономарь является к отцу
дьякону и таинственно сообщает:
— Ведь дело-то, отец дьякон, не совсем ладно.
— А что?
— Один из нас предал нас. Ведь опять ню-
хает...
— Неужели?!— с неподдельным удивлением
воскликнул отец дьякон.— Почем ты знаешь?
— Давеча своими глазами заметил: приходит
с колокольни, а на усах этак... ровно бы усыпано.
— Ах он, халдей этакой,— проговорил отец
дьякон, качая головой.
— Теперь я догадываюсь,— продолжал поно-
марь,— зачем его мальчишка вечером мимо моего
дома бегает, это он, значит, к слепому за табаком...
— А ты вот покарауль мальчишку-то, рас-
спроси да и уличи потом,— присоветовал отец
дьякон.
— А ведь и то... всенепременно уличу его,—
решил доносчик...
226
В один прескверный вечер пономарь мерзнул
на своем крыльце, карауля дьячкова мальчишку.
Вот мальчишка промелькнул мимо неподозревае-
мого стража по направлению к табачному фабри-
канту. Пономарь кашлянул и, перевесившись че-
рез крыльцо, с замиранием сердца, тихо про-
говорил: «Погоди, вот погоди у меня...» Едва толь-
ко мальчишка на возвратном пути поравнялся с
крыльцом пономаря, как тот окликнул его —
ласково-ласково:
— Тимоша, а Тимоша!
— Чего?— отозвался Тимоша, остановившись.
— Куда это ты ходил?
— К слепому.
— Зачем?
— Так.
— Ты бы, касатик, уж сразу взял полфунта,
чем бегать почти каждый день...
— Тятенька говорит — он сохнет, ежели много
купить.
— Разве вот что сохнет-то...— едва слышно
проговорил пономарь и отпустил мальчишку.
Для пономаря не оставалось уже ни малейшего
сомнения в том, кто это он, который сохнет.
Давши мальчишке отойти шагов тридцать, поно-
марь пошел за ним следом, чтобы застать подоз-
реваемого на месте преступления... Тихо войдя в
сени предателя, пономарь с затаенным дыханием
стал прислушиваться у двери.
— Свежий?— слышится ему из избы вопрос
дьячка.
— Свежий,— звенит в ответ голосок Тимоши.
Пономарь помедлил еще с минуту и торжест-
8*»
227
венно растворил дверь. Момент был выбран самый
удачный. Дьячок стоял среди избы с бумажным
сверточком в руке и, прижмурившись, медленно
втягивал одной ноздрей щепоть влажного, душис-
того табаку.
— А-а-а,— язвительно произнес пономарь,—
ты вот как!
Дьячок отвел руку от носа и тупо посмотрел на
нежданного гостя.
— Не грех это тебе, иуде?— укорял пономарь.
— Нашел грех в табаке! — с сердцем прого-
ворил дьячок и, завернувши, сунул сверточек в
карман жилета.
— Мы-то с отцом дьяконом терпим, мы-то
терпим, а он вон как!— продолжал пономарь. —
Погоди, дай сказать...
— Ну, сказать... Что мутить из пустяков? —
мягко заговорил дьячок, подходя ближе к обличи-
телю.— Из-за чего ты-то терзаешься, посмотрю
я... Через табак царствие, что ли, получишь? Ведь
это смешное дело! Добро бы — что путное... А ты,
брат, вот что: плюнь, да на-ка вот понюхай... Ты
да я будем знать...
И дьячок соблазнительно развернул бумажку
со свежим табаком.
Пономарь несколько минут молча глядел на
табак, ухмылялся и тряс головой. Наконец, осмот-
ревшись зачем-то по сторонам, он вытянул два
пальца по направлению к бумажке так, как будто
собирался поймать муху, и — падение соверши-
лось...
Устоял в добродетели только один отец
дьякон и долго-долго не мог изобличить падших.
228
ВСТРЕЧА
I
На 23 августа 186... года в село Рождест-
венское назначен был, по маршруту, приезд мест-
ного архиерея.
Еще недели за две до этого события в рож-
дественском причте началось сильное движение.
В церкви закипела работа. Священник гусиным
крылом смахивал с престола и жертвенника пыль,
несколько раз вынимал из ковчега и тщательно
пересматривал запасные дары, перекладывал с
места на место метрические книги и т. д. Дьякон
усердно чистил сосуды, Евангелие и выносил из
алтаря лишние вещи. Дьячок и пономарь то терли
суконками подсвечники и паникадила, а то, обер-
нувши головы холстиной, мели пол и снимали по
стенам паутину, причем засматривали в такие
углы, в которые в обыкновенное время им и в го-
лову не приходило заглянуть. Пономарь до того
проникся стремлением к чистоте и опрятности,
что даже смел сор с ведущих на колокольню
лестниц и счистил с колоколов птичий помет.
Кроме того, он позаботился заменить полусгнив-
шие веревки у колоколов новыми, потому что,
если, дескать, порвутся при владыке, так — беда!
Навозившись вдоволь в церкви, клирики не сразу
расходились по домам, а все шли прямо на речку и
там омывались.
Но вымести, вычистить и привести в порядок
церковь для рождественского причта не значило
еще вполне приготовиться к приезду владыки.
229
Нужно было еще получше заняться собой: твердо-
натвердо выучить «ставленую грамоту», катехи-
зис и т. п. А тут — рабочая пора, в поле яровое
перезрело, и время уже сеять рожь. Нужно было
везде поспеть — и рождественский причт поспе-
вал.
Дьякон Лука Иваныч и дьячок Филипп Гав-
рилыч с крюками на плечах идут в поле и
беседуют:
— Тебе, Гаврилыч, хорошо: ты катехизис-то
готовил в прошлые петровки, к празднику благо-
чинного. Тебе теперь только слегка просмотреть
его— и довольно. А вот нас с попом благочин-
ный-то не спрашивает, так и Филарета-то еще с
того архиерейского приезда в руки не брал —
вот уже третий год.
— Да, слегка, толкуйте! У меня память-то что
решето: сейчас выучил, сейчас же все и просыпа-
лось. Да и мудрен же этот Филарет, особливо
тексты! Я думаю, и сам владыко-то не все их
знает.
— Это, брат, не твое дело. А ты учи да отве-
чай, коли тебя спрашивают. Ты бы в школе-то
получше учился да шел бы в академию; вот и не
зубрил бы теперь, а ездил бы по епархии да
других спрашивал.
— Ну, да ведь... Вот наш Потапыч — поно-
марь — учит «Начатки» и то говорит — трудно.
Как же мы-то теперь — Филарета? а? да еще в
этакую пору?
— Бог поможет как-нибудь. Я вот взял книгу
с собой: покошу-покошу да и поучу; ан все дело-
то впереди будет.
230
— Да и я тоже взял: все, думаю, текстик-
другой подгоню между дел.
Сказано — сделано. Дьякон пройдет рядов
пять, положит крюк, подойдет к меже, напьется из
кувшина квасу, сядет на разостланной подряс-
ник и — ну зубрить. То же повторяется с бук-
вальною точностию и на соседней полосе Гаври-
лыча.
— Что, Гаврилыч?— осведомляется отец дья-
кон у своего сподвижника.— Как у тебя идет?
— Плохо!— отзывается со своей межи Гаври-
лыч.— Все мучусь над одним текстом... Ничего
не поделаешь, хоть брось!
— Ничего, ничего, брат! — ободряет отец
дьякон.— Главное — веруй! Что Кирилл-то Иеру-
салимский говорит? «На вере основывается земле-
делие, ибо кто не верит тому, что соберет произ-
росшие плоды, тот не станет сносить трудов».
— Да мало ли что! а поди-ка вот тут... Вон и
поп в снопах с книгой сидит: видно, тоже лихо
пришло. Недаром в эти дни он присмирел-то —
словно шелковый стал. Почуял, знать, что и над
ним начальство есть. Это ведь не с нами: болван
да такой-сякой... Так-то вот, вникни... и узнаешь...
По диагонали дьяконской полосы проходит
пошабашивший пономарь.
— Бог помочь!
— Спасибо. Овес кончил?
— Кончил.
— А «Начатки» кончил?
— Какое кончил! Ничего в голову не идет,
хоть тресни! Только и знаю, что насчет икон...
Зато уж так знаю, что хоть сейчас к ответу.
231
— Ну-ка, прочти.
Пономарь садится на межу и, откашлявшись,
начинает: «Впрочем, сие правильное и святое икон
почтение может быть обращено в порок идоло-
служения, когда кто к святым иконам все свое
почтение привязывает и на их вещество надеет-
ся, не вознося ума и сердца к тому, что оные
изображают».
— А где ж у тебя начало-то?
— Я это сейчас только позабыл, а то знал и
начало.
— Ну, брат, вижу, что тебе гонка будет,—
замечает отец дьякон.
— А кому ж она и не будет в этакое-то вре-
мя?— возражает пономарь.— Мне-то, кажись, и
бояться бы нечего: ведь ниже пономаря не съе-
дешь, а оторопь так и забирает! Поди ты вот...
II
Наступило наконец грозное 23 августа. С
раннего утра клирики села Рождественского были
уже на ногах и в параде. Все они выкупались
чуть не до свету; у всех сапоги были вымазаны
салом; подрясники понадеты чистенькие; на шее
повязаны белые коленкоровые косынки; волосы
до глянцевитости намаслены были коровьим мас-
лом. Пономарь ради торжественного случая рас-
пустил даже свою косу, дотоле постоянно закру-
ченную в пучок.
В доме дьякона шла репетиция. Пономарь из-
лагал свои «Начатки», а дьячок с отцом дьяконом
«гоняли» друг друга по «пространному» катехи-
232
зису. Вопросы предлагались сгоряча, без всякого
внимания к связи речи. Например: «Покажите
все сие из священного писания?» Или: «Почему
оно нужно?» И вопрошаемый, не мудрствуя
лукаво, спешил показать все сие из свя-
щенного писания или объяснить, почему оно
нужно.
Во время репетиции пришел в дом дьякона
церковный староста, крестьянин соседней дерев-
ни, бойкий и разухабистый.
— Мир честной компании!.. Чего вы тут си-
дите? Владыко давно уж в церкви!
— Э, ну тебя совсем, Прохорыч, не мешай!
— Что, отцы духовные, попались, верно? Вот
он вам, владыка-то, задаст! Особливо Потапычу...
уж и будет ему на орехи! А ну-ка, скажет, вы-
читай мне «Помилуй мя боже...».
— Ох ты, храбрец!— отозвался пономарь.—
У самого ведь тоже душа в пятки уйдет.
— У меня-то? Небось, брат. Мне что? По
науке меня не спросят, а сумма у меня вся на
виду: смотри, кто хочешь...
— Как это так?
— Да так. Вот ужо все будете дрожать, а я
с владыкой в разговор войду. Моя упокойница
матушка для своей памяти отказала сто рублей
на решетки в церковь. Как только владыко-то
в церковь, я сейчас в ноги: мол, ваше преосвя-
щенство! Хочу матушке торжество сделать —
вот и все...
— Будет тебе! — ограничил оратора отец
дьякон.— Ну-ка, Гаврилыч,— тропарь воскресен,
глас пятый?
233
— «Светлую воскресения пропо-ведь...» —
затянул Гаврилыч.
— Попал! — осадил его отец дьякон.— Он тебе
задаст светлую проповедь.
— Да! Что я? «Собезначальное слово» на-
до-то, а я — «светлую»! — поправился Гаври-
лыч.
Между тем староста, ища исхода своему игри-
вому настроению, обратился к семинаристику,
безмолвному свидетелю репетиции:
— Петруша! Ты, коли учишься, так учись
по-настоящему, чтоб повыше куда забрать, а в
причт не ходи: последнее дело... не стоит! Архие-
реем быть — ну, это так. А то этак-то вот мучить-
ся?.. Тьфу! Мы — мужики, да и то никого не
боимся.
Репетиция была прервана приходом сторожа,
который возвестил, что батюшка велел всем сей-
час — в церковь.
— Ну, братие, приде час!— сказал с глубо-
ким вздохом дьякон и положил «Филарета» на
божницу.— Векую прискорбна еси, душа моя?
Уповай на бога!..
— Оказия!— с испугом воскликнул дьячок.—
Чем ближе дело подходит к владыке, тем пуще
забываешь...
— Эх, кабы он меня об иконах! А то — боже
упаси... — в каком-то раздумье пробормотал по-
номарь.
— Ничего, отцы, не робейте: я подскажу, коли
часом у вас чего недохватит!— острил неустраши-
мый Прохорыч.
— Скаль зубы-то!— мрачно проговорил дья-
234
кон и, перекрестившись, двинулся во главе про-
цессии.
Вошедши в церковь, клирики еще раз под-
вергли все осмотру и приведению в порядок.
Порядок в церкви был до такой степени надле-
жащий, что причту, по-видимому, ничего не оста-
валось делать по этой части. Тем не менее причт
нашел-таки себе дело. Священник протер полой
подрясника и без того чистое зеркало в алта-
ре; потянул ковер от престола к царским дверям;
приподнял зачем-то с престола Евангелие и снова
положил. Дьякон опрокинул вверх дном серебря-
ный корчик на жертвеннике и снял с оконного
переплета иссохший труп мухи. Дьячок ходил
возле иконостаса и, водя пальцем по позолоте,
удостоверялся, нет ли на ней пыли. Пономарь
преусердно сколупывал ногтем воск с крышки
октоиха и т. п.
Во все это время староста неподвижно стоял
пред картиною, изображающею богача в пламени.
Кончив осмотр, причт сгруппировался на ам-
воне в кучку.
— Кажется, все как следует,— сказал священ-
ник.
— Нам-то кажется так,— заметил дьячок,—
а ведь бог его знает: вдруг что-нибудь такое...
И дьячок взглянул вверх, под купол, как бы
опасаясь, нет ли там чего подозрительного.
— Не облачиться ли нам теперь?— предложил
священник.— Станем в притворе и будем ждать.
Владыка подъедет, а мы тут и есть!..
— Чего же ждать?— возразил дьякон.— Мо-
жет быть, он еще не скоро. Мы лучше пойдем
235
теперь за церковь да послушаем, где звонят:
тогда и видно будет, скоро ли...
Причт вместе со старостой вышел за церковь
на гору. С этой горы открывался вид за реку
на весьма большое пространство, на котором мож-
но было рассмотреть до восьми церквей. Выстроив-
шись в ряд, рождественцы с напряженным вни-
манием смотрели вдаль и чутко прислушивались.
В селе Прудках, верстах в четырех, раздался звон.
Клирики вздрогнули, староета улыбнулся.
— Вон он, вон он где!— каким-то таинствен-
ным голосом проговорил дьячок.
Звон затих.
— Теперь, значит, началось там самое...—
продолжал дьячок.— Ух, издали страх берет!
Через несколько времени звон раздался снова,
и все устремили глаза на пролегающую вдали,
за рекой полевую дорогу, рассчитывая увидеть
там владыку. Чтоб заслужить себе честь первого
вестника, дьячок выступил шагов на десять впе-
ред и зачем-то поднялся даже на цыпочки.
— Видите, видите — едет!— воскликнул он.
— Где?
— Да вон, вон: смотрите правей-то!
— Городи там еще,— строго проговорил свя-
щенник,— это всего одна подвода, а если бы он-то
ехал, так было бы три: впереди становой, за
ним благочинный, а там уж и владыка — в карете.
Минут через десять дьячок снова закричал:
— Так вон же он, теперь уж, ей-богу, он!
Три повозки, впереди низенькие, а позади высо-
кая — значит, карета.
— Где? Что ты?— не без смущения спросил
236
священник, увидавший подлинно три повозки,
причем позади — высокую.— Отец дьякон! Нам
теперь уж не того ли?..
— Да, может, он еще не к нам?— возразил
дьякон.
— Нет, по всему, что к нам,— уверял священ-
ник.
— Значит, мне сейчас на колокольню?— за-
суетился пономарь.
— Что вы, что вы! Где это вы видите вла-
дыку?— воскликнул наконец староста, доселе
пристально смотревший вдаль из-под ладони.—
Две повозки впереди — навоз везут, а высокая
сзади — везут снопа, сейчас умереть — снопы!
Клирики еще посмотрели вдаль и убедились,
что точно — навоз, снопы и ничего больше.
Прошел час, другой, третий, седьмой, вось-
мой — а владыки все нет. Несколько раз рождест-
венцы отпирали и запирали церковь, несколько
раз взлезали на колокольню, несколько раз вы-
ходили на гору — а владыки все нет. Стало на-
конец смеркаться. Голодные и трепетные, клири-
ки, как тени, бродили по горе и все прислуши-
вались. Звон, раздававшийся то в том, то в другом
из ближайших сел, наконец совсем затих. Клири-
ки чувствовали крайнюю усталость и дошли до
совершенного отупения.
— Легче бы полосы две овса скосить, неже-
ли вот так-то...— упавшим голосом проговорил
дьякон.
— Авось, бог даст, теперь скоро,— утешал
священник,— того и жди, что вот подкатит.
Пономарь, отступивши несколько в сторону и
237
приложивши палец к носу, шептал про себя:
«Впрочем, сие правильное и святое икон почте-
ние... икон почтение... почтение...» Тьфу! Госпо-
ди, что же это такое? Все равно что не учил!
Затем, подойдя к дьячку и слегка ткнув его
пальцем в плечо, вполголоса спрашивал:
— Гаврилыч! Аще случится полиелей...
— Отстань!— сердито перебил его Гаври-
лыч.— Что теперь за полиелей? Тут живот к
спине подвело, а он — полиелей! Теперь, брат,
удобнее молчание. Я уж на отчаянную пошел:
что будет — то будет.
К пономарю впопыхах подбегает жена.
— Что тебе?
— Да кобыла пропала... Скотину давно приг-
нали, а ее до сей поры нет. Искала, искала...
— Провались ты совсем с кобылой! Тут обзор,
а она лезет!..
— Какой теперь обзор? Ночь на дворе. Вла-
дыка, стало быть, уж завтра...
— Ведь вот черт-баба, толкует свое! Уйди
от греха, пока цела!
Пономариха пошла и забормотала:
— Я тебе не пойду теперь искать... Ищи сам,
а то хоть и на корове езди — мне все равно...
Хоть бедной пономарихе и досталось, но ее
появление на горе послужило чем-то вроде «deus
et machine»1 для затруднительного положения
клириков. Ее слова: «Владыка, стало быть,уж завт-
ра»— произвели на них* решительное действие.
— Видно, и вправду нам не дождаться ныне
1 «Бог и машины» — развязка (лат.).
238
владыки,— сказал дьякон.— С какой стати ему
ездить по ночам? Пойдемте-ка теперь спать, а
завтра, бог даст, встанем пораньше и — прямо в
церковь. Завтра, я думаю, он ранехонько припожа-
лует.
Все с минуту помолчали.
— Что же,— решил наконец священник,—
домой так домой; не всю же ночь нам торчать
здесь!
— А что, если он как жених в полунощи? —
возразил с некоторым колебанием пономарь.—
Разойдемся, а он тут и есть!..
— Не приедет, это уж верно! — утверждал ста-
роста.— Прямое дело — заночевал где-нибудь.
— Э-эх, господи, господи,— размышлял дья-
чок,— думали нынче отмучиться, ан еще день
маячить придется. Страх страхом, а опущение в
работе-то какое!
— И не говори!— проговорил староста, махнув
рукой.— Я вот за нынешний-то день бог знает чего
не взял бы! Теперь у меня на постоялом дворе
народу-то страсть. Нужен счет-расчет, а жена ни-
чего не понимает. Вот владыка-то ваш что мне
наделал! Вы, батюшка, позвольте мне на ночь
домой сходить — посмотреть, что и как, а завтра я
чуть свет верхом прискачу.
— Пойди, только смотри у меня...
— Да уж будьте покойны!
Все разошлись. Староста поспешил в свою
деревню; пономарь, переодевшись, отправился
отыскивать кобылу; дьячок уселся с женой на
крыльце перевёсла вертеть, дьякон и священник
залегли спать.
239
Прошло более полчаса с того времени, как наши
клирики попрощались друг с другом и со старос-
той. Вдруг на площади, возле церковных до-
мов, послышался топот тяжелых сапог и раздал-
ся хриплый, прерывистый крик: «Едет! Едет!
Едет! Скорей в церковь!..»
— Где?— крикнул с крыльца дьячок и остол-
бенел с перевёслом в руках.
— Там... Иду, а он... навстречу... Лошадей —
страсть!.. Шагом. А я по песку-то... в гору-то...
Ох, смерть!..
Этот марафонский вестник был не кто иной, как
староста.
Торжественный звон внезапно огласил уснув-
шее село и окрестности. Поднялось смятение.
Бабы и девки, мужики и мальчишки, полуразде-
тые и раздетые, густыми толпами повалили к
церкви.
Пономарь, пораженный звоном версты за пол-
торы от села, на лугу, чуть не умер от испуга.
Сняв с себя сапоги и подхватив их под мышку,
он пустился во все лопатки и в отчаянии при-
читал: «Так и есть — в полунощи! Пропал! Куда
уж теперь иконы!.. Пресвятая богородица! Анто-
ний и Феодосий! Детушки мои милые!»
В церкви между тем происходила страшная
суматоха. Старосте насилу удалось осветить цер-
ковь. Второпях он несколько раз зажигал и нес-
колько раз гасил свечи. Священник и дьякон,
толкаясь друг о друга в темном алтаре, ощупью
отыскивали свои облачения.
Собравшись кое-как, клирики (за исключением
пономаря) выстроились наконец в притворе,
240
откашлянулись и с трепетом ожидали великого
момента. Вот послышался возле церкви топот
копыт и стук колес... Священник крепко сжал в
руке крест; дьякон судорожно замахал кадилом;
дьячок поправил себе галетух и поднял глаза к
небу. Экипаж остановился, и через минуту по
ступеням паперти раздались тяжелые, медленные
шаги. Народ расступился, и среди мертвой тиши-
ны дрожащие голоса затянули: «Достойно есть
яко...»
— Стойте, стой!— прервал клириков густой
бас полунощного жениха.
И клирики с удивлением увидели перед собой
протодьякона.
— Владыка к вам — завтра, а сегодня он но-
чует у помещика Т.
Народ отхлынул от церкви и загалдел.
Наткнувшись за оградою на пономаря, мужики
заговорили: «Вернись, Потапыч! Они там обозна-
лись: протодьякон с певчими приехал, а они за
владыку почли. У страха глаза-то велики...»
— О-ох, господи!— простонал пономарь и в
изнеможении прислонился к ограде.
— Что за «господи!». Там вон благочинный
весь мокрый прискакал. Услыхамши наш звон-то,
он хотел было тоже к владыке подоспеть — ки-
нулся вброд да впотьмах-то чуть было не утонул.
Во ведь как!..
III
Утром следующего дня владыка действительно
пожаловал в Рождественское и, пробывши в церк-
ви часа полтора, уехал в другое село.
241
Скатилось бремя тяжелое, от сердца отлегло,
языки развязались, почувствовался простор.
Священник, сидя с женой за чаем, изъяснял:
— Теперь подумаешь: ну чего я боялся? Все
сошло по-надлежащему. Первое: из катехизиса
попадались места самые хорошие. Второе: «ставле-
ную» прочел твердо и без ошибок. Только одно
слово он мне поправил; я прочел: «От самого
великого архиерея», а он говорит: «От самаго»...
Опять же вот это... У вас, говорит, на иконе
пророка Ильи кони очень толсты нарисованы. А я
взял смелость да и пошутил... Усмехнулся и —
ничего... Одно слово, попадья, жди скуфьи —
и конец делу! А то — бояться! Смешно даже...
Дьякон позвал к себе дьячка и пономаря с
женами — поделиться и вкупе утешиться. На
столе красовались самовар, графин водки и т. п.
— Вот и проводили!— возгласил пономарь.—
Долго ждали, да скоро расстались: приехал, про-
слушал и — марш! А не спросил, как мы тут
живем, треплемся, горе мычем...
— Вишь ведь чего захотел!— ироническим
тоном заметил дьякон.— Напрасно владыка не
растрял с тобой почтение: мол, как вы поживае-
те, Максим Потапыч? Супруга ваша здорова ли?
Может быть, тебе хотелось еще, чтобы он с тобой
водочки выпил? А? Ха-ха-ха-ха!
Хозяин и гости вслед за тем выпили.
— А ты благодари господа,— продолжал
дьякон, утерши губы рукавом,— что обзор-то
благополучно сошел.
— Да это уж само собой: великая милость
божия! Ведь надо ж было спросить меня об иконах!
242
Верно, ангел-хранитель шепнул... либо детишки
умолили. Только что Гаврилыч кончил «ставле-
ную», он сейчас — ко мне: а как, говорит, нужно
думать о почитании икон? Господи, боже мой! Ров-
но бы я тут сто рублей нашел: всякий страх
потерял! Ведь как я выручился на этих ико-
нах-то!
— А как было он ко мне за «иже на всякое
время-то» придрался!— возгласил дьячок.— У-у,
боже мой! Разве, говорит, многоутробне? Много-
благоутробне! Дурак!— говорит. А потом и ниче-
го — обошелся.
Дьяконица, дьячиха и пономариха, отделив-
шись от мужьев в угол, толковали:
— Мой то-то испугался-то давча — страх! Он
и так всегда бледен, а тут еще надел белый сти-
харь, да струсил-то... ровно бы вот полотно белое
стоит! Кабы меня так-то на экзамен: кажись,
так бы и обмер!
— Экзамен! Тут только посмотреть да по-
слушать — и то страсть. Я давча какого страху-то
набралась! После «многолетия» вошли это они к
владыке в алтарь. Думаю: что-то будет? Вдруг
слышу, мой затянул: «Господи воззвах»... Голос-то
у него дрожит, а владыка там что-то таково строго:
то-то-то-то-то... Так у меня коленки и подсеклись!
— Это все ничего, слава богу. Мне-то вот горе
какое: святительского благословения получить не
пришлось. Идет он, батюшка, по церкви да бла-
гословляет, идет да благословляет. Взяла я свою
Машутку за руку, кое-как протолкнулась к нему
сквозь народ и только было хотела... Откуда ни
возьмись кузнечиха! Так и сует меня локтями,
243
так, сволочь, и сует! Я, этак, хочу с правой сторо-
ны — и она с правой; я с левой — и она с левой.
Так до самой паперти и толклись. Благословил он
тут кузнечиху — да и в карету. Так я и не сподо-
билась. Вот ведь горе какое... А все кузнечи-
ха окаянная!
— По-настоящему,— рассуждал между тем
дьякон,— староста какое угощение-то теперь дол-
жен бы сделать! А он вот домой улизнул. Да еще
давча какую штуку отмочил: у вас, говорит, что у
баб, только волос долог, а на расправу-то, говорит,
вы жидки. Каков? Носится с своими решетками и
хвалится, что никого не боится, а кто вчера кутерь-
му поднял? Он же ведь, животное!
— А как ты, Потапыч, вчера с лугу-то на
своих на двоих скакал?— острил заметно подгу-
лявший дьячок.
— Век не забыть!— воскликнул пономарь.—
Дух захватило, совсем было карачун задал.
— Дух захватило... Эх ты, слабость!— упрек-
нул дьячок.
— Эх ты, крепость!— передразнил поно-
марь.— Сам мухи не раздавит, а ведь туда же...
— Я-то?— вскричал дьячок.— Да я таких, как
ты-то, десяток расшибу!
- Э!
— Вот тебе «э»! Хочешь?
Дьячок встал из-за стола и поднял кулак.
— А вот мы сейчас сделаем пробу твоей силе,—
вмешался дьякон,— коли раздавишь в руках сырое
яйцо поперек — значит, силач.
— Да не раздавит, где ж ему!— подзадори-
вал пономарь.
244
— Раздавлю!
— Не раздавишь!
- Совсем с курицей раздавлю!— горячился
силач.
Принесли сырое яйцо и вручили дьячку. Он
выступил на средину комнаты, взял яйцо поперек
между ладонями и, стиснув зубы, изо всей мочи
сдавил его. Яйцо треснуло, желток потек по по-
ле подрясника, мокрая скорлупа пристала к
рукам.
— Что ты, изверг, сделал с подрясником-то? —
вскрикнула дьячиха.
— Ничего, ничего,— бормотал дьячок, расто-
пырив руки и посматривая на подрясник.
Вертевшаяся в комнате собачонка подбежала к
дьячку, обнюхала его — и ну слизывать желток с
подрясника.
— И лизаху... и лизаху его... и лизаху его
пси! — едва мог выговорить дьякон, заливаясь со
смеху и показывая пальцем на дьячка.
— А посему выпьем вси!— срифмовал поно-
марь.
Сильные и слабые примирились, и выпивка
пошла своим чередом.
Было уже часов десять ночи. Все село спало
крепким сном, а в доме дьякона все еще светил-
ся огонь, и дьячок все продолжал возглашать:
«Господину нашему, преосвященнейшему...
с богохранимою его паствою мно-о-о-гая
ле-е-е-е-ета-а!..»
245
ШИРОКАЯ ДУША
Стояла невыносимая июльская жара. Воздух
не колыхался. Вороны и галки, распустивши
крылья и широко раскрывши клювы, изнывали
от духоты.
В такое-то время тащился я с сестрой на не-
мощной клячонке «из гостей», из прежалкого-
жалкого городишка Т. Тридцать верст расстояния
от этого городишка до моего родимого села
казались мне нескончаемо длинным путем. Ни-
какой защиты от жгучего солнца — ни естест-
венной, ни искусственной: кругом чистое поле,
а сверху — одна фуражка. Пот ручьями лился
по лицу. Чувствовались крайнее расслабление и
непреодолимая дремота. Говорить не хотелось.
Только изредка, как бы в бреду, обменивались мы
с сестрой объяснениями вроде следующих:
— Яков-то Лаврентия Зазнаев как постарел!
Давно уже я не видал его.
— Постарел, а все такая же дубина. Вчера
прихожу я в его лавку патоки купить, а он с попом
в шашки играет. Посмотрел на меня и — хоть бы
на смех кивнул! А ведь очень хорошо знает меня...
Я слышала, его в газете пропечатали: поделом!
Молчание.
— А у Ольги Павловны муж-то ничего себе...
— О, славный! Вот муж-то, так уж именно
муж! Ты заметил, как он бережет жену? Сам
слазил в печку, достал щи и на стол нам подал...
А ведь чиновник!
- Да.
Молчание.
246
— Скоро ты увидишь наконец свою фото-
графическую карточку.
— Да. Конечно, приятно в первый раз... Но
неужели и в других городах такие же фото-
графии, как у уездного учителя в Т.?
— В других городах гораздо лучше.
— То-то... А то что это за фотограф? Завел
на двор, посадил бог знает где да и говорит:
смотрите, сударыня, вот сюда и не извольте ничем
шевелиться. Если, говорит, шевельнете ручкой,
то она на карточке выйдет как бревно-с. А уж
тут не до того: мухи и вонь страшная! Насилу
отмучилась.
И снова молчание, и снова усыпление.
Но вот позади послышался крик, свист и стук
колес. Я оглянулся и сразу оживился. Меня на-
стигал мой давний приятель, печник Сидор Ивано-
вич со своим неразлучным подмастерьем Макси-
мом. Поравнявшись со мною, он крикнул Максиму
«стой!». Спрыгнул с телеги, подошел ко мне и,
снявши картуз, возгласил:
— А! Мой великий, священный, высокотор-
жественный Федор Иванович! Мое почтение!
Давно душа горела повидаться с вами. Ко
мне, ко мне пожалуйте; сядем вместе и побе-
седуем.
— Да где ж там? У вас тесно: тележка малень-
кая, а нас двое.
— Да, господи, пожалуйте! На колесе сяду,
а уж вам предоставлю.
Я согласился. Но Сидор Иванович на колесе
не сел, а устроил мне помещение в своем «эки-
паже» на счет удобств и спокойствия Максима.
247
который принужден был прилепиться действи-
тельно чуть не на колесе. Я уселся, насколько
возможно было, удобно, но Сидор Иванович не
скоро успокоился и несколько минут сряду утес-
нял Максима: «Максим, двинься еще! Максим,
не толкай плечом! Максим, ноги! Максим, прими
руку! Максим, отклонись маленько» и т. п.
Максим сжался, скорчился в уголке и выпучил
на меня глаза, как на «диво-дивное» и «чудо-
чудное».
Мы поехали шагом и забеседовали.
— Отдыхать теперь изволите у своих родите-
лев? — начал Сидор Иванович.
- Да.
— Да как вам не отдохнуть? Ведь она, наука-
то, пуще всякой работы, я так понимаю... Да,
тяжела она, матушка, но зато и сладка опо-
сля бывает,— ух, как сладка — посмотришь!
Так ли?
— Ну, это кому как...
— Позвольте,— вмешался Максим,— вы не
обессудьте, если я, примерно, что-нибудь не-
складно...
— Ничего, ничего...
— Вот вы теперь уже на возрасте, а все еще
в науке состоите. Чему же вас до сей поры
учат?
— Экой ты, брат, непонятный! — перебил
Сидор Иванович.— Чему учат? Известно, уж не
читать да писать, коли люди на возрасте. Их
теперь учат до всего доходить. Вот, примерно,
хоть кобыла... Тебе что? Кобыла да кобыла! А у
них сейчас: как кобыла? Почему кобыла? От-
248
чего кобыла? И все это они тебе представят.
То-то и другое-то что-нибудь... У них все сейчас
в дело производится. Оттого-то ведь умные люди-
то бывают. Ведь вот Федор Иванович теперь
с тобой, дураком, едет, а опосля, посмотри,
архиереем будет. Потому их к этому и при-
обучают, к этому и ведут в этой самой ихней
академии.
— Владыка-то наш, стало быть, оттуда же
произошел? — уточнил Максим.
— Владыка-то? Как же, все оттуда же. Теперь-
то ведь он «ваше преосвященство»... «исполняется
деспота»... на шестерне со звоном едет, а прежде-
то был тоже вот, как Федор Иванович: в фура-
жечке этак, в сюртучке и все прочее... Так-то вот
подумаешь: великая премудрость божия! Маль-
чишка бегает по улице, в бабки играет, об святой
с родителями грошики сбирает, и вдруг —
владыка! Господи боже мой, отец милосердный!
А все наука доводит.
— Дай бог всякому! Кому что дано,— заметил
Максим и глубоко вздохнул.
— Кто про то говорит! Дай бог всякому —
прямое дело! Я собственно про премудрость...
Ты пойми: владыка и — так-то вот в фуражечке...
Ах ты, господи! Федор Иванович! Вас-то скоро ли
господь удостоит?
— Не знаю,— ответил я.— Я, может быть,
не буду архиереем: без меня найдутся.
— О, нет,— взмолился Сидор Иванович,—
вы уж, пожалуйста, непременно во владыки!
Я жду не дождусь, когда вы к нам владыкой
припожалуете. То-то радость-то будет — и сказать
249
нельзя! Свой, доморощенный владыка приедет:
ведь это чего стоит? Да я тогда все колокола
разобью, ей-богу, разобью!
— Вот бы, вправду, господь привел... Пре-
святая богородица! — проговорил Максим и со-
строил преумилительную физиономию.
— Приведет,— уверял Сидор Иванович,— уж
это ты будь покоен, что приведет! Ведь это Федор
Иванович только так... чтобы не вдруг себя
обозначить... Эх, Федор Иванович, завидую я вам.
Сызмальства вас пустили по науке, и вот вы все
идете, идете и дойдете до своего. Всякое понятие
получите — это само собой, да еще в какую
благодать попадете! И вы к людям, и люди
к вам — все это будет вокруг вас высоко и благо-
родно. И душа-то, я думаю, ровно бы другая
сделается. Сладость — одно слово! Это не то что
наше дело. Вот я хоть про себя скажу. Что моя
жизнь такая? Положим, благодарение господу,
насчет продовольствия у меня всего вволю, да
для души-то моей у меня оченно мало! Душа
у меня, надо сказать, широкая и самая настоя-
щая — даром что я печник. Чувствую, что у меня
и тут есть (при этом Сидор Иванович ткнул
пальцем себя под козырек). Может, я теперь не
хуже другого все бы вызнал, все бы понял —
так бы все и схватил. А ничего не поделаешь:
науки не проходил, умного человека вокруг тебя
нет, который бы тебе мог вложить и все про-
яснить. Вот у меня теперь в голову-то всякое
приходит, и то, и другое, и третье: что, отчего
и как? Вам теперь на все это плевать, потому —
вы все понимать можете, а мне тоска. Сам не
250
совладаешь, а сунуться некуда. Отчего же я
теперь так рад-то? Я соображаю свое: вот, мол,
умный человек подвернулся, он мне что-нибудь
покажет. Ему, мол, ничего не стоит, а мне годит-
ся. Вот дайте мне, Федор Иванович, ответ на од-
но дело. Неделю целую оно у меня из головы
нейдет.
— Что такое?
Сидор Иванович кашлянул, протер губы
свернутым в яичко ситцевым платком и начал
дело.
— Первое: благоухание святыни, по всей
Руси распространяющее. Второе: благодать
священства, нас освещающая. Третье: благо-
лепие храмов, всех умиляющее... Что вы на это
скажете?
Озадаченный такими мудрыми тезисами, я,
молча, во все глаза взглянул на Сидора Ивано-
вича. Яичко снова скользнуло по губам Сидора
Ивановича, и он пояснил:
— Я собственно насчет того, что теперь вот
стали приписывать церкви одну к другой.
— Так что же?
— Как что? Не благочестно и клонит ко вреду
и греху великому! Я так понимаю, что быть везде
расколу.
— Как же это так?
— А вот как. К примеру, я человек зажиточ-
ный. Пришло на меня благоговение, и я созиждил
храм. Все ходят в мою церковь; у меня свое
благолепие, свой священник. На душе отрада
и память в роды родов. Вдруг начальство гово-
рит: мы твою церковь запрем, а ты ступай молить-
251
ся вон куда! Приятно это мне аль нет? Моя
же церковь, и меня же «вон куда!». Пом-
рут родители, и прах их и я должон туда же!..
Какая же тут вера? Как тут удержать пра-
вославие? Иной потерпит, потерпит да и не
удержит...
Я разъяснил колеблющемуся Сидору Ивано-
вичу, что церковь зажиточного человека не при-
пишут к другой, если он обеспечит и церковь,
и причт.
— Коли так, так это еще ничего. Я полагал,
что все это без внимания... Ну, а другим-то разве
тоже не обидно? Возьмем хоть Никольских. Их,
говорят, припишут к Каменской церкви. То у них
церковь-то под боком, а то — ступай теперь за
десять верст. Каково это им покажется? Пожалуй,
им и невмоготу придет, и разбредутся детки от
матки. А ведь это страсть! пагуба!
Я заметил, что приписка церквей и приходов
вызвана у нас крайнею необходимостью, что вся-
кий умный и благочестивый христианин не из-
менит вере из-за того, что ему придется пройти
или проехать к обедне лишних версты две-три,
что, мол, истинные христиане не отступали от
своей веры и тогда, когда их гнали и мучили,
а о дурных не стоит и жалеть; пускай их идут
в раскол.
Выслушав все это, Сидор Иванович минуты
с две молчал и водил по губам ситцевым яичком.
Затем он проговорил:
— А пожалуй, оно и резон. И вправду: ступай
в раскол, хоть за раскол, коли тебе вера так
дешево пришлась! Свиньей ты родился, свиньей
252
ты и издыхай! Который ежели чувствует по
закону, тот этого не сделает. А ты иди, коли
тобой богомерзость овладела... Ты, Максим, как
полагаешь?
— Да уж, стало быть, пущай идет, коли...—
отозвался Максим.
Из приближающейся тучи послышался гром.
Сидор Иванович перекрестился и говорит:
— Я вот какой человек, доложу вам, Федор
Иванович: от меня ничто даром не уходит. Вот
слышу я гром и творю молитву, а разума уж со
мной нет: он вон куда взлетел (Сидор Иванович
показал на небо). Ведь иной осенит себя крестом
и — только, ему и дела больше нет. А у меня со-
всем другое. У меня сейчас уж пошло: отчего это
гремит? Что на небе делается, когда гром быва-
ет? Понять хочу, а не могу. У вас это все в науке
показано: скажите уж кстати, как об этом пони-
мать нужно?
Чтобы удовлетворить научным вопросам
«широкой души», я изложил целую лекцию об
электричестве. Сидор Иванович сделал вид, что
все до капельки понимает из этой лекции, и все
беспокоился только насчет восприимчивости
Максима. То и дело он прерывал мою речь во-
просами: «Максим, понял?» — «Максим, ты-то
понимаешь ли?» — «Максим, ну что?..» Максиму,
по-видимому, ужасно понравилось электриче-
ство. Притаив дыхание, вытаращив глаза и широ-
ко раскрывши рот, .он, казалось, хотел не про-
ронить ни одного моего слова. В ответ на вопросы
Сидора Ивановича он сильно морщился и только
молча, как-то неторопливо отмахивался рукой:
253
дескать, ради бога, не мешай, иначе все про-
пало!..
Лекция кончилась, и Сидор Иванович как-то
особенно оживленно заговорил:
— Так вон оно что там разделывается-то!
Максим, а? Ведь ты век бы свой скончал, а сам бы
этого не понял. Ты думал, это все Илья там
действует? Хе-хе-хе! Нет, брат, не туда! Ступай
к бабам, коли Илья!..
— Понять... чудное дело — понять! Поди-ка
пойми по пальцам-то! Тут и толковать нечего.
Нам не под силу забрать высоту этакую... Сам же
ты говорил,— несколько обидчиво заметил Мак-
сим.
Захотелось мне польстить Сидору Ивановичу,
я и говорю:
— Какой вы, Сидор Иванович, любознатель-
ный! Я и не видывал таких людей, как вы.
Сидор Иванович встрепенулся и весь про-
сиял.
— Эх, милый мой Федор Иванович! — вос-
кликнул он.— По моим мыслям-то разве не в
таком положении-то быть? Я ведь это чувствую.
Я век не забуду, что мне раз сосновский отец
дьякон сказал. Слушал, слушал это он меня да
и говорит: «Сидор Иванович!» Я говорю:
«Чево-с?» — «Жаль мне тебя»,— говорит. Я
говорю: «А что?» — «Кабы на твой ум,— гово-
рит,— да науку, так ты,— говорит,— теперь
митрополитом бы был». А? Каково мне это было
слышать-то? А я глину толку!.. Ведь вот вы
теперь уж меня поняли. Как у вас тут-то есть
у самих-то, так вы и в других можете видеть и
254
ценить. А у нас в селе какой народ-то? Никто
ничего не смыслит, а всякий норовит тебя обес-
честить, не то чтобы пользу какую доставить...
Вот у нас теперича поп — ведь лицо священное
и науки кое-какие проходил: должен бы, кажется,
понимать и судить, а мне сделал самую неблаго-
дарную вещь и совсем по-пустому.
— Что же он вам сделал?
— Да вот что. Я к нему, видите ли, хаживал —
иной раз по делу, а иной раз так, потолковать
о чем-нибудь по писанию или по наукам. Сперва
он принимал меня радушно, а потом отчего-то
начал коситься на меня: ровно бы ему и не по
сердцу, что я хожу к нему. Вот однажды сижу
это я у него... Слово за слово... Мне и вздумалось
спросить: зачем, мол, это, батюшка, достойну
благовестят? — «Известно,— говорит,— зачем:
хвала богу...» Я говорю: ведь и все в службе-то
хвала богу. А он мне говорит на это: «То,—
говорит,— хвала, а то другая; хвала хвале,—
говорит,— рознь». Сказал он это да как крикнет
на меня: «Что тебе,— говорит,— все нужно? Что
ты все пристаешь ко мне каждый раз? Твое дело,—
говорит,— ходи в церковь да молись! Ты,— гово-
рит,— плинфодел и знай свое...» Я говорю: «Что
это обозначает — плинфодел?» — «Тебя и обо-
значает,— говорит.— Еще,— говорит,— хвалишь-
ся, что писание читал, а этого не знаешь...» —
«Нет,— говорю,— знаю: плинфодел — это тот,
кто кирпичи делает, а я кирпичей не делаю,
а только печки кладу. Значит, вы ошибаетесь»,—
говорю. Батюшки мои, как он меня после этого!..
«Ах ты,— говорит,— кирпичное рыло! Ах ты,—
255
говорит,— скудельная свинья! Туда же лезет!
Мудрец какой нашелся. Помни же это ты,—
говорит.— Вот у тебя жена скоро родит — так
я тебе такое имя нареку, что не выговоришь»,—
говорит. Что ж вы думаете? И нарек. Сраму-то
что было по всему селу. Жена голосом кричала.
Вот вам и священник! Да что священник! Это,
по крайности, хоть отец духовный; не так обидно
от него и перенесть что-нибудь этакое. А вот
пономарь: ведь уж, прямо сказать, неуч и обраще-
ния никакого не знает — и тот себя выше понима-
ет и тебя ни во что ставит. Об святой у нас вот
какое дело было. Отслужили у меня молебен.
Я, по обыкновению своему, говорю: пожалуйте
хлеба-соли откушать, — это причту-то. Ну, значит,
сели. Только это пономарь, по невежеству своему,
и сядь выше священника. А уж мне смерть, коли
что не по закону! Эх, думаю, села ворона не на
свой кол: как бы это ее спугнуть? Взямши это
я полштоф в одну руку, а рюмку в другую, под-
хожу к столу да и говорю — благородно таково:
Платоныч,— говорю,— (это пономарю-то),— как
в писании-то сказано? Ты еси иерей в кончину?..
А он: «Ничего, ничего,— говорит,— наливай по
чину». Все: ха-ха-ха! А всех пуще пономарь. Ты,
говорит, свысока-то не хватай, а чтоб было по-
проще да посытней. Я же и дурак, а пономарь
умен... А спросите у него, к чему какое писание
клонит? Вовеки не скажет! Вот тут и живи!
Разуму твоему никто не поможет; всяк еще тебя
хает за разум-то. Обидно, горько, а ничего не по-
делаешь. Придет вечер: сидишь, сидишь — дума-
ешь, думаешь, обо всем передумаешь. Голова
256
кругом пойдет, в глазах потемнеет. Плюнешь...
Эх! Пойду выпью... Что вы так на меня смотри-
те? Насчет запою или там блуда, как теперь вот
прочие, я — ни боже мой! Я человек твердый и
строгий; со мною если что бывает иной раз, то
собственно от сильного воображения. Раз пришел
я домой, на порядках-таки выпивши. Жена так
и ахнула. Сидор! — говорит: ты задурил, ах ты,
говорит, такой-сякой! А еще, говорит, других
коришь... Взяло меня тут горе великое: ну, думаю,
все на "меня, и жена туда же! Так я уж тут ей
прямо: отстань, говорю, Аксинья! Ты пойми одно:
почему я на тебе женился? Потому, что я теперь
не митрополит... И она х’оть бы слово на это!
Потому, хоть она меня и обидела, а ведь, стало
быть, понимает тоже, что мне совсем не тот предел
положен...
Мы доехали наконец до перекрестка. Мне
оставалось проехать полверсты направо, а Сидору
Ивановичу нужно было ехать по прямому направ-
лению еще верст пять. Туча совсем почти на-
двинулась на нас. Поднялся сильный ветер.
Крупные, но еще редкие капли дождя застучали
по плечам и по козырькам наших фуражек. Я слез
с гостеприимной тележки, со мной спрыгнули
и печники, и началось прощанье. Сидор Иванович
обнял меня — и ну целовать.
— Прощайте, мой... (поцелуй) милый! —
Прощайте, мой... (поцелуй) умственный! —
Прощайте, мой (поцелуй) владыка!
— Вы то есть нас вот как ублаготворили: век
не забыть! — изъяснял между тем Максим.
— Ну, Максим, арш-марш! — засуетился Си-
9-1032 257
дор Иванович.— Ты теперь пугни кобыленку-то,
а то это самое алестричество нас теперь до смерти
захлещет!
РОДНЯ
I
...Посвящение архимандрита Аггея в архиереи
сделалось известным прежде всего родичу его —
Вознесенскому батюшке Зосиме Михайлычу
Прыткову.
Отцу Зосиме было лет пятьдесят с небольшим.
Природа наделила его исполинским ростом и купе-
ческою плотностию телосложения. Короткие
с проседью волосы его постоянно торчали беспо-
рядочными прядями. Из-под высокого выпуклого
лба выглядывали большие резко серые глаза. Они
как будто неподвижно утверждены были в своих
орбитах и поворачивались только вместе с головой
своего обладателя. Выражение этих глаз было
довольно странное: как будто о. Зосима в каждом
видимом предмете усматривал что-то неожидан-
но-удивительное и как будто постоянно говорил
про себя: «Э-э, вот так штука!» Он был человек
неглупый и имел о себе самое высокое мнение.
Лет двадцать он уже вдовствовал и делил горе
одиночества с прижившейся у него старшей
сестрой, тоже вдовствующей. Он постоянно ругал-
ся с ней, но тем не менее во всем ее слушался
и не мог без нее жить. В средствах о. Зосима
не нуждался, хотя его приход был не из богатых;
все внимание его сосредоточилось на повышениях
258
и наградах. Для обеспечения себе успеха в этом
отношении он прибегал ко всевозможным сред-
ствам. Он не раз представлял своему ерхиерею
различные прожекты, «клоняющиеся к усовер-
шенствованию нравственности в необузданном
народе». Так, например, он излагал архиерею
о пользе закрытия кабаков не только в своем
приходе, но и во всей епархии; прожектировал
обязательное постановление, по которому бы
в праздничные дни из каждого дома в его при-
ходе являлось в церковь не менее двух человек,
под опасением, в противном случае, строгой
эпитимии; излагал потребность в увеличении
праздников и крестных ходов. Кроме того,
о. Зосима старался обратить внимание начальства
на свою «рачительность» о храме. Чтобы пред-
ставить эту «рачительность» в более рельефном
виде, он поступал таким образом. В одно лето
он оштукатурит церковь — и немедленно по-
хвалится архиерею, что, дескать, оштукатурил;
в следующее лето окрасит крышу и опять до-
несет, что окрасил; на третье лето промоет
живопись или починит полы в церкви — и также
поставит начальство в известность, с упоминанием
прежних стадий ремонтировки и т. д. Раз о. Зосима
додумался, что существующие на его колокольне
восемь колоколов недостаточно выражают идею,
и решил прибавить к ним еще четыре маленьких
колокольчика. После такого важного приобрете-
ния он торжественно рапортовал владыке, что
он, «везде исправляя недоконченное своими пред-
шественниками, восполнил при храме число
звяцающих благовестителей по числу двенадцати
9**
259
апостолов». После каждого своего прожекта и
донесения о. Зосима ждал от начальства благо-
дарности или награды, но не тут-то было. Тогда
как другие священники, даже и помоложе
о. Зосимы, награждены были кто камилавкой,
кто протоиерейством, о. Зосима в течение своей
многолетней службы едва-едва дослужился до
скуфьи. Мало того: начальство наконец строго
воспретило ему «докучать впредь своими сомни-
тельными планами и суетными сообщениями».
Причиною такого невнимания и такой немило-
сти начальства к о. Зосиме было то, что он не имел
надлежащего подобострастия к благочинному,
который поэтому и набрасывал на него тень в своих
отзывах к начальству. Благочинный всех своих
подчиненных в отношении поведения делил на
три категории: священников отмечал весьма
хорошего поведения, дьяконов — хорошего, при^
четников — добропорядочного. О. Зосима, в виде
исключения, аттестовался наравне с дьяконами.
После долгих напрасных ожиданий награды и
повышения он наконец приуныл и озлобился.
И вот в момент такого-то настроения он узнал
от соборного викарного священника о посвящении
о. Аггея в архиереи и о намерении его побывать
в г. ..., в котором он, о. Аггей, учился.
В продолжение сорокаверстного пути от
города до своего села о. Зосима все мечтал «об
улучшении своего быта» при содействии преосвя-
щенного Аггея. «Погодите! — думал он,— до-
куда же надо мною измываться? Дай вот при-
едет... Все изложу и приведу в известность. Стыд-
но станет, да уж поздно. И рады бы были, да уж
260
ничего не поделаешь...» Погруженный в думы
и мечты, о. Зосима и не заметил, как его буланый,
летевший во всю прыть за заставой, мало-помалу
перешел к неторопливой рыси и наконец зашагал
шагом. «Они у меня увидят...» — размышлял он,
распустив вожжи и понурив голову. Но вот раз-
дался крик едущего ему навстречу ухарского
мужика-ямщика: «Эй, ты, шишлобоина! Поворачи-
вай, что ль!» О. Зосима встрепенулся и начал
нахлестывать задремавшего буланого. Через не-
сколько времени батюшка снова погрузился в
думы, и буланый снова воспользовался удобным
случаем для отдохновения. «Враги... что мне
теперь враги? — думал о. Зосима, сосредоточенно
смотря на дно телеги.— Как раз все расточатся»,—
продолжал было он, но в это время почувствовал
весьма сильный толчок от колеса, опустившегося
в глубокую промоину. Под влиянием этого толчка
от колеса о. Зосима обратил внимание на без-
деятельность буланого. Он быстро схватил лежа-
щий сбоку кнут и начал пробирать им ленивца,
приговаривая: «Еще как расточатся! Еще как
расточатся! Еще как расточатся!» И много еще
раз пришлось лукавому буланому испытывать на
своей коже злобу своего хозяина против врагов
его, прежде чем он водворился в спокойную
конюшню.
Возвратившись домой, о. Зосима прежде всего
поделился чувствами и ожиданиями с сестрой,
которая сперва было восторгнулась при вести
о приезде нового архиерея, но потом почему-то
вдруг приуныла, смолкла и наконец куда-то
пропала на целый день.
261
Причт и староста, услышавши в церкви от
о. Зосимы о крупной новости, восчувствовали
необыкновенное уважение и немедленно собра-
лись к нему «поздравить со счастьем». Но
о. Зосима, сообщивший о новости вскользь, старал-
ся делать вид, что не придает особенного значе-
ния.
— Вы, о. Зосима,— проговорил дьячок,—
дождались такой радости, которая... которую...
одно слово — благодать!
— Ну, благодать... Какая тут особенная благо-
дать! — равнодушно отозвался счастливец и
взглянул на потолок.
— Что вы это? Господи помилуй! — произнес
дьякон.— Это хоть до кого доведись — заплясал
бы. Теперь милости-то, милости-то на вас по-
сыплются!
— Да... много насыпалось! — промолвил
о. Зосима, иронически улыбаясь.
— Мало ли что было! — вставил староста.—
Теперь уже дело пойдет по новому положению.
Своя кровь... вникнет! Да и следует, по всем
божьим правилам следует! Столько лет вы в слу-
жении... Вот посмотрите, он вас теперь в про-
топопы... либо велит нашему владыке в собор
вас вместить. Тогда бы вот отца дьякона на ваше
место...
— А мне бы...— начал было дьячок, но
о. Зосима перебил его.
— Что мне протопопство? — воскликнул он,—
разве мне протопопство дорого? Мне дорога
правда.
Сквозь напускное равнодушие о. Зосимы мало-
262
помалу стало пробиваться его истинное настрое-
ние. Он встал со стула, заложил руки за спину и,
ступая развалистым шагом по комнате, про-
должал:
— В самом деле, где это видано? Где слыха-
но? Человек столько лет служит алтарю, непре-
станно печется о благе церкви, об увеличении
нравственности — и вдруг такого человека забро-
сить без внимания! Скуфья... Хе-хе-хе! Я бы им
самим надел эту самую скуфью: пущай бы щего-
ляли! Нет, тут не скуфьей пахнет... Вот я им
покажу, чем это пахнет! Ведь ему теперь что?
Стоит только шепнуть — и конец делу! А не
уважут — в синод отнесся! Синод — все же архи-
ереи, свой брат: пискнул — и только! А уж этот
благочинный! Он у меня... он у меня... забудет
он у меня...
Во время этой речи о. Зосимы поздравители
вполне убедились, что он теперь сила, могущая
подавить и возвысить кого ему вздумается.
— А что, ваше высокоблагословение, владыка
ваш скоро будет к нам? — заискивающим тоном
проговорил дьячок.
— Скоро или не скоро, а будет! — важно и
с расстановкой проговорил о. Зосима, остановив-
шись посреди комнаты.— Верных сведений пока
еще нет, но скоро последует надлежащее извеще-
ние. Вот я был в городе — все уже готовятся...
с благоговением! — прилгал о. Зосима и снова
опустился на стул.
— Как приедет, вы прямо к нему? — робко
спросил староста.
— Понятное дело! — ответил о. Зосима.—
263
Первый родственник в епархии. Кто же еще?
Благочинный, что ль, поедет встречать его? Так
его и в переднюю-то не пустят!
Знаменитая новость быстро облетела соседние
села и скоро проникла за пределы уезда, в кото-
ром находилось село Вознесенское, место службы
о. Зосимы. Всюду поднялись толки, началось не-
обычайное движение в среде сельского духовен-
ства. Кроме о. Зосимы, стали мало-помалу отыски-
ваться и другие родственники новопосвященного
владыки.
В селе Лопатине о. Федор, простоватый и
добродушный батюшка, узнал «новость» от
дьячка, приносившего какой-то указ от благочин-
ного. Едва успел он проводить дьячка, как уже
закричал:
— Мать, а мать! Иди-ка скорей сюда!
Вошла «мать» — иначе Душа — толстая, крас-
нолицая женщина с двойным подбородком и
с белыми бровями.
— Что у тебя тут загорелось? — спросила она,
медленно входя в зал и вытирая руки фартуком.
— Слышала новость?
— Какую?
— Отец-то Аггей... архиереем через нас
едет!
— Какой Аггей?
— А ентот-то... помнишь? Из Лыкова, дьяко-
нов сын? Еще отцу Зосиме родня?
— A-а, вот как! — возгласила мать и присела
на диван.— Небось отец Зосима рад?
— О-о, просто беда! Говорят, земли под собой
не слышит. Захарыч сейчас сказывал. Собирается
264
к нему; как только приедет, так, говорит, прямо
к нему... Счастье людям! Теперь полезет в гору;
в славу войдет и приобретение сделает.
— А тебе кто не велит? Добивайся и ты! —
предложила Душа, протирая пальцами углы губ.
— Как добиваться-то? Будь на месте отца
Зосимы, я бы тоже снискал... А теперь вот только
посматривай, как другие пользуются.
— Чего там посматривать? Поезжай себе, да
и только. Мы ведь тоже родня.
— Ну какая там родня! Десятая вода на
киселе...
— Да тебе-то что? Родня, да и только. Так
и скажешь: мол, родня, ваше преосвященство.
— А ну-ка он спросит, какая родня? Что
я тогда скажу?
— Что ж, это все можно сосчитать. Постой...
Кирилл Иваныч, что теперь в Выселках... он
троюродному его брату, шиловскому дьякону,
кажется, дядя... Да, так, дядя. Ну, хорошо, дядя...
А за ним была... э-э... сестра моей тетки... по
дяде... Это выходит... Постой... Дядя... Дядя...
Теткина сестра... Эка, господи, как это? Ну да
я спрошу у Ильинишны, она все по пальцам
выложит.
— Оно, правда, хорошо бы было,— заметил
о. Федор после некоторого раздумья.— Глядишь,
что-нибудь бы и на нашу долю перепало.
— Еще как бы перепало-то! — с уверенностью
произнесла Душа.— И простой архиерей и то
осчастливить может, а уж родственник и подавно.
Архиерей — родня... это ведь не маковое зерно!
Отец Зосима — одинокий и то усиливается в свою
265
пользу, как же нам-то с семьей не стараться?
— Эх, шут те возьми, хоть бы поближе по-
говорить с архиереем! — произнес о. Федор, раз-
веселившись.— И то было бы всем на удивленье.
Нет барыша, да слава хороша! Все бы узнали, все
бы почувствовали: вот, дескать, с архиереем
говорит... У него, дескать, свой архиерей есть.
— Это все так, а главное, вот для дочери-то
бы что-нибудь выхлопотать, а то бы показать
ему...
— Да разве и она поедет? — с удивлением
спросил о. Федор.
— А то как же? И я поеду, и она поедет.
— Зачем же вам-то, женщинам-то?
— Да разве я тебя одного пущу по этакому
делу? Ведь ты что? Запутаешься там кругом, да
и только. Если бы ты был как следует, а то ведь...
ты, господи, видишь!
— Ну, а Соню-то зачем же? В какие она там
разговоры входить будет?
— Никаких ей разговоров не нужно, только
показаться. И архиерею спокойней будет. Он
увидит, что мы не за какую-нибудь хромую,
слепую просим, а за настоящую девицу. Архи-
ерейское дело... тоже... как заочно обещать? Нет,
непременно втроем поедем, верней будет. Гля-
дишь, и тебя повысит, и Соню пристроит. Еще,
пожалуй, даст что-нибудь на приданое.
— Что ни говори, а как подумаешь, мудреная
эта штука,— с расстановкой произнес о. Федор
и потряс головой.— Теперь возьмем хоть вот это:
поехать — нужно одеться, а как одеться? Вот
запятая! Хорошо оденемся — скажет: богатые
266
люди, зачем им помогать! Плохо оденемся —
подумает, что мы жизни нетрезвой, либо, что...
Скажет: недостойны... Бог его знает! Дело тонкое,
как тут подладить?
— Подладим, все обдумаем, ведь не сейчас
ехать,— успокоила Душа колеблющегося супру-
га.— Главное, как родню высчитать — вот что
прежде всего. Ну да это я у Ильинишны...
Ильинишна, на которую ссылалась Душа
в своих объяснениях с супругом, была старая
вдовая дьяконица в Лопатине, обладавшая громад-
ною памятью. Она знала наизусть почти все свят-
цы; могла сказать без ошибки, в какой день какому
святому празднуется; помнила, в каком году
и в какой день была свадьба известных ей людей,
когда кто родился, когда умер. В ее много-
объемлющей памяти твердо удерживалась хроно-
логия даже таких мелочных домашних событий,
как рождение жеребят, телят и поросят. Эта же
самая Ильинишна прекрасно объясняла родство,
даже самое сложное и запутанное. Не зная ни-
каких родословных таблиц, она обращалась для
выяснения степеней родства к пальцам и ручным
суставам. Этим искусством она приобрела такую
популярность, что каждый мужик, задумавший
посватать девку в семействе дальних родствен-
ников, обыкновенно обращался для разъяснения
недоумений к Ильинишне, а не к попу, и только
после визита к ней принимал то или другое реше-
ние. Метод исследований о родстве, употреб-
ляемый Ильинишной, не мог не привлекать внима-
ния своей простотой и наглядностью. Сложит
пальцы внешними сторонами до первого суста-
267
ва — это у ней первая степень родства; до второго
сустава — вторая степень, до третьего — третья.
Затем следует пояснение мужику: «Видишь,
родня: пальцы прикладываются легко и прижима-
ются близко — значит, родня близкая, венчать
нельзя (или: нельзя без разрешения)».
В период распространения по селам слуха
об ожидаемом приезде родного архиерея практика
Ильинишны значительно расширилась. К ней то
и дело приезжали сельские матушки, дьяконицы,
дьячихи, просвирни, не могущие самостоятель-
но решить жгучего вопроса о том, родня они
новому архиерею или нет, и если родня, то какая
именно. Тут пришлось Ильинишне поработать
гораздо побольше, чем при вычислениях мужиц-
кого родства; колено Левино оказалось хитро-
сплетеннее племени Хамова. Нередко обычных
суставов недоставало для полного вычисления,
и хитроумная Ильинишна принуждена была
пускать в ход локтевые сгибы и плечевые кости.
Родство некоторых клиенток Ильинишны оказы-
валось до того призрачным и фантастичным, что
она после тщетных усилий возвести его в реаль-
ное разводила руками и со вздохом объявляла:
«Нет, матушка, ни на один сустав не выходит.
И рада бы, да что ж тут поделаешь».
Между экстренными посетителями Ильиниш-
ны были такие слабопамятные, что, по приезде
домой, забывали не только процесс ее родослов-
ных исследований, но даже и существенный вы-
вод из них. С досадой и скорбию стремились
они снова к Ильинишне и снова тревожили ее
старческие суставы. Душа лопатинская, тоже не
268
отличавшаяся хорошей памятью, постоянно трево-
жилась при мысли, что, явившись к архиерею,
может забыть, в каком именно родстве состоит
с ним. Она даже высказывала сожаление, что
не существует при церквах таких книг, в которых
бы записано было все духовенство епархии от
древних времен по родам и с обозначением степе-
ней родства. Когда же о. Федор осмелился было
заметить, что такая книга невозможна да и не
нужна, Душа даже прикрикнула на него.
— Тебе все не нужно! Тебе ничего не нужно!
Самая негодная вещь — и то иной раз пригодится,
а этакая, вишь, вещь не нужна! Вот не думали,
не гадали о родном архиерее, а он явился. А разве
не может случиться, что еще какой-нибудь наедет?
Тогда мечись опять как угорелый. А то он за-
глянул в книгу, да и только. Кто знает, может
быть, мы уж сколько архиереев-то дуром про-
зевали! Архиерей да архиерей... а по книге-то,
глядишь, иной бы и родня вышел!
После того как архиерейские сродники раз-
личными путями уяснили для себя вопрос о степе-
ни своей кровной близости к преосвященству,
у них выступили на очередь другие соприкос-
новенные вопросы. Разделенные более или менее
значительным пространством, разрозненные по
разным захолустьям, они пожелали найти в своей
среде центр, около которого можно было бы всем
сгруппироваться. Начались деятельные взаимные
сношения посредством писем и посольств —
пеших и конных. Общее мнение скоро указало
искомый центр в лице о. Зосимы, который, как
269
ближайший сравнительно родственник гряду-
щего архиерея, должен был взять на себя пред-
ставительство пред ним от всех сродников.
В течение немногих дней о. Зосиме пришлось
увидеть у себя в доме немалое количество не-
жданных гостей, большинство которых относилось
к категории небывалых. Хотя родство некоторых
из них с архиереем и казалось о. Зосиме порази-
тельным открытием, но он, польщенный честью
предоставляемого ему представительства, благо-
разумно воздерживался от выражения чувства
удивления. Ему не могло не нравиться уже и то,
что являвшиеся к нему по родственному делу
гости с умилением называли его: кто милым
братцем, кто милым дядюшкой и т. п., и титуло-
вали его высокоблагословением, предрекая вместе
с тем великие и богатые милости.
Другим соприкосновенным вопросом был во-
прос о том, когда и как ехать в город. Решение
этих вопросов великодушно взял на себя о. Зосима.
«Вот я снесусь письменно с соборным викар-
ным,— с достоинством говорил он,— и он меня
в точности оповестит, а я тогда и вас приведу
в известность. А что касается того, как мы по-
едем, то мы поедем вместе. Вы все съедетесь
в уреченный день ко мне, и от меня тронемся
в город».
Снесся о. Зосима с соборным викарным и узнал,
что родной владыка прибудет 25 ноября. Немед-
ленно понеслись его причетники в ближайшие села
с вожделенною вестию, которую из этих сел долж-
ны были приносить дальше уже другие вестов-
щики и притом «в возможно скорейшем времени».
270
Послы, письма, суета — и к вечеру 23 ноября дом
о. Зосимы превратился в постоялый двор.
В тот же вечер явился к о. Зосиме церковный
староста и попросил секретной аудиенции. Так
как большой дом его был битком набит род-
ственниками, то эта аудиенция произошла на
крыльце.
— Что скажешь? — тихо спросил о. Зосима,
небрежно благословляя старосту.
— К вашей милости,— проговорил староста,
тяжело дыша.
— Вижу, что к моей милости, да что тебе
нужно-то?
— Я, батюшка, к вам с предлогом...
— Что такое?
— Завтра к своему владыке изволите ехать?
— Да, завтра еду, а что?
Староста замялся.
— Да что тебе? Говори скорей! — настойчиво
и довольно громко проговорил о. Зосима.
Староста кашлянул в ладонь, потоптался на
месте и начал робким, прерывистым полушепотом:
— Нельзя ли как-нибудь... и меня туда же
приложить... вместе бы ко владыке?..
— О, что ты! — удивился о. Зосима.— Ты
видишь, туда только родственники собираются,
а ты разве родственник?
— Сродственники сродственниками,— про-
должал староста, хватаясь за затылок,— я бы у них
ничего не отбил... всякому свое, а так... мне хочет-
ся к вам присуседиться... Я было сперва и не
думал, а потом рассудил: что ж, мол? Где батюшка,
тут и я — у одного дела находимся.
271
— Мало ли что... да с какой стати ты поедешь?
Резону-то прямого нет,— возразил батюшка,
схватив рукой колонку крыльца.
— Резонов-то как не быть, резоны есть,—
проговорил староста, понурив голову.— Первое
дело освятился бы, благословение принял, а вто-
рое дело — похлопотал бы что-нибудь насчет
себя...
— О чем же бы ты там похлопотал? — спросил
о. Зосима и опустился на лавку.
— Как о чем? Вы сами знаете,— изъяснил
староста, усевшись подле батюшки и комкая
в руках фуражку.— Трудился, трудился вокруг
церкви, даже издерживался здорово и вдруг
только благодарность получил!
— Что же тебе еще? Ведь получил благо-
дарность! Епархиальное начальство, значит,
оценило твои труды.
— Где ж тут оценило? Вон Степану Егорову
в Рыбном за этакое дело медаль повесили.
— Батюшка! Батюшка! Отец Зосима! — раз-
дался в сенях голос сестры.— Тебя там ищут.
— Сейчас! — громко отозвался о. Зосима и
вскочил с лавки.
— Батюшка, отец родной! — взмолился старо-
ста, тоже вскочивши с лавки и ловя руки о. Зо-
симы.— Бога ради, не обездольте м^ня... при-
хватите как-нибудь с собой...
— Чудак ты какой! Да ведь неловко, посуди
сам! — торопливо проговорил о. Зосима, оглянув-
шись в темные сени.
— Кормилец! Благодетель! — взывал старо-
ста, опускаясь на колени.— Вызволи... возьми...
272
замолви... Может, он меня через тебя подымет.
Может, по своей милости, медаль...
— Экой ты, право... Я уж и не знаю, как бы
это,— со смущением проговорил о. Зосима, видимо
тронутый усердной мольбою.
— Я бы уж тебя на своей лошадке... без
хлопот,— задобривал староста.
Произошла пауза, после которой о. Зосима
проговорил:
— Разве уж так, чтобы и расходы твои как
в дороге, так и в городе, а также если что понадо-
бится купить?
— Все, все предоставлю, с почтением предо-
ставлю! — с рьяною решительностью произнес
староста, торжественно воздев руки.
— Отец Зосима, да где же ты там запро-
пастился? — снова послышался знакомый голос
из растворенной двери избы.
— Сию минуту! — ответил о. Зосима.— Ну,
уж так и быть, собирайся,— порешил он, благо-
словляя старосту, все еще стоящего на коленях.
Отец Зосима, кашлянув, шагнул в сени, а старо-
ста, быстро вскочив на ноги, с резвостью маль-
чишки сбежал с крыльца и опрометью пустился
домой.
II
Стоял ясный, морозный день. Поля, покрытые
довольно толстым слоем снега, блестели бриллиан-
товыми искорками. Ложбинки дороги, натертые
широкими полозьями мужицких саней, казались
полосами чисто отделанной стали. Направо и
273
налево от дороги виднелись длинные, искрив-
ленные линии заячьих следов, исчезавшие в от-
даленных кустах. По полю сплошною цепью
тянулся длинный, необычный поезд: это ехала
архиерейская родня. Впереди ехал Зосима с цер-
ковным старостой, важно развалившись в про-
сторных пошевнях, внутри обитых ковром. Туч-
ный вороной жеребец старосты с достоинством
шагал по гладкой дороге, помахивая головой и
порываясь пойти в соответствующую ему солид-
ную рысь. Над его головой высилась огромная
расписная дуга; упряжь была украшена бляхами
и различными махорчиками. Далее следовали
кони различных достоинств, впряженные в сани
всевозможных фасонов и ценностей /.../.
Староста, желая похвалиться своим конем,
нередко пускал его во всю прыть, далеко остав-
ляя за собой спутников. Между спутниками в
таком случае поднималась тревога и раздавался
крик:
— Постойте, ради бога! Потише! Где ж нам
за вами? Нужно уж вместе. Что же это будет!
О. Зосима вступался за родственников, и старо-
ста придерживал своего вороного.
Раз, когда поезд проезжал мимо кабачка, кто-
то из родственников возгласил:
— Братие, не подобает ли погреться не-
множко?
— Нет,— послышалось в ответ,— поговеем,
может быть, он уже там; явимся, пахнуть будет
нехорошо!
Перед самым городом поезд съезжает с горы.
Задняя убогая клячонка как-то выбилась из строя
274
и понеслась по широкой, сильно натертой дороге.
Широкие полозья розвальней быстро заскользи-
ли вправо и влево и, наехав на маленький косо-
гор, ковырнулись наконец набок: целая группа
старух с криком вывалилась на дорогу. Между тем
как клячонка по инерции неслась дальше, зло-
счастные старухи, с трудом поднявшись на ноги,
трусили вслед за поездом, едва переводя дух
и взывая о помощи.
— Отец Зосима! Отец Зосима! — кричал кто-
то из поезжан.— Прикажите остановиться: не-
счастье!
Староста остановил вороного, оглянулся и за-
катился со смеху:
— Ха-ха-ха-ха, вот так сродственники! Близ
города-то какое нетерпение их взяло: и лошади
не нужно, сами бегом бегут! Вот история-то!
Отец Зосима, как явитесь ко владыке, доложите-
ка о них: вот этих, мол, на дороге для вас поймали.
Клячу направили на истинный путь, старушки
уселись, и поезд двинулся в своем порядке. Старо-
ста, несколько помолчав, уже серьезным тоном
проговорил:
— Батюшка, а ну-ка это не к добру?
— Э, болтай еще! — строго произнес о. Зосима
и плотно нахлобучил шапку на голову.
По приезде в город архиерейские родствен-
ники, не желавшие в дороге разрывать цепь
поезда, все-таки разрознились. Те, которые имели
здесь учащихся родственников-семинаристов, раз-
местились по семинарским квартирам; осталь-
ные приютились на постоялых дворах.
275
Отец Зосима, входя со старостой в убогий
номер, первым делом спросил:
— А что, не слыхать, сторонний архиерей не
приехал сюда?
— Нет, не слыхать,— ответил хозяин, оправ-
ляя себе жилетку.
— Ну, так дайте же нам чайку,— проговорил
о. Зосима, с усилием стягивая с себя тулуп.
— А также и хлебца французского,— добавил
староста, вытирая рукавом оттаивающий на усах
снег.
— Сейчас,— сказал хозяин и вышел из номера.
— Вот что, Тарас Сергеич,— обратился к ста-
росте о. Зосима, несколько подумав и понюхав
табаку,— пока подадут самовар, пока ты за-
варишь чай, а я тем временем схожу к викар-
ному... на всякий случай. Бог знает, может быть,
он уже приехал. Так уж мы и знать будем.
— А что ж, это самое лучшее,— рассудил
Тарас.— Вы бы там покель справились, а я бы
тут покель того... Оно и спокойней будет.
Соборный викарий, громаднейшего роста,
сухощавый, подслеповатый старичок с низким
лбом и длинною узкою бородою, с честью принял
о. Зосиму в своей единственной комнатке под
колокольней и с почтением усадил его на шата-
ющийся табурет.
— Что, мой владыка еще не приехал? —
спросил о. Зосима после обоюдных приветствий.
— Нет, еще не приехал, но все говорят, что
вот-вот будет,— ответил викарий, смиренно стоя
перед гостем и потирая руки.
— Гм...— произнес о. Зосима.— Я, собст-
276
венно, за этим... Сейчас только с дороги и прямо
к вам.
О. викарий молча поклонился.
— Такой случай, что минута дорога,— про-
должал о. Зосима.— Туда да сюда, глядишь —
и прозевал самое-то важное время.
— Это справедливо,— промолвил викарий.
— Так уж вы вот что: как только приедет,
пожалуйста, дайте мне первому знать.
— Что ж, это можно... это я с удовольствием,—
обещал викарий.— Вы где остановились-то?
— У Окунева, возле самого базара.
— Знаю, знаю... Что ж, это можно.
— А теперь пойдемте ко мне чай пить; там
у меня староста заваривает.
— Нет, благодарствую — не могу, мне сейчас
вечерню служить.
— Отслужат без вас, мало их там, при со-
боре-то.
— Положим, что немало, но ведь они соверша-
ют только важнейшее богослужение и круп-
ные требы, а вот такие дела, как вечерня или
там к бедному позовут — это уж всегда я
справляю.
— Ну, что делать,— заключил о. Зосима, вста-
вая с табурета.— А то уж пойдемте,— соблазнял
он, подавая викарию руку.
— Нет, не могу, покорно благодарю,— упор-
ствовал викарий, отвешивая гостю низкие по-
клоны.
— Так уж вы, пожалуйста, известите,— снова
упрашивал о. Зосима, надевая на пороге шапку
и стоя к хозяину вполоборота.
277
— Непременно, непременно, первым долгом,—
уверял викарий, провожая гостя в сени.
— А уж чайком-таки я попою вас, вы у меня
не отвертитесь,— проговорил о. Зосима, сходя
с крыльца.
Архиерейские родственники, поместившиеся
на ученических квартирах, произвели своим по-
явлением в них сильное оживление и волнение.
Хозяйки квартир, по большей части продувные
мещанки, засуетились и залебезили перед счаст-
ливчиками. Они проворно ставили приезжим
самовары из самой лучшей воды, стелили на
столы скатерти невиданной учениками белизны,
выхваляли примерное поведение квартирантов,
которых не далее, как накануне, поголовно на-
зывали репными дураками, каторжными и т. п.
Приезд родственников произвел также сильную
перемену в настроении и в образе жизни учеников.
Одни ученики, вместо того чтобы учить уроки,
группировались около тятенек и маменек, дяде-
чек и тетечек, дедушек и бабушек и подъедали
лепешки и булки под рассказы о том, как провели
дома храмовой праздник, как хоронили барыню,
как женили Терешку-кузнеца, как у Зубаревых
овин сгорел и т. п. /.../
Предметом бесед чаще всего были различные
случаи из епархиальных отношений, воспоми-
наемые по поводу события, собравшего теперь
значительную часть духовенства в город. В не-
большой низенькой комнатке с желтыми стенами
и сильно затоптанным полом, при свете един-
ственной сальной свечи, сидели несколько взрос-
лых семинаристов в густой туче табачного дыма.
278
Пред ними, заложив руки назад, стоял старый
причетник, с огромной курчавой головой и малень-
кой клинообразной бородкой, стоял и оратор-
ствовал:
— Эх, господа, господа! Ну, как тут не робеть?
Это вы так только говорите... Вы свое началь-
ство каждый день видите — и то небось сердце-то
стукнет, как станете говорить с ним либо урок
отвечать, а тут когда архиерея-то видишь? К тому
же возьмите расстояние: он и я! (При этом оратор
сперва поднял руку вверх, потом опустил до
самого пола.) Как не робеть? Нельзя не робеть...
Очень уж лицо-то у него высоко! Еще будь по-
ниже лицо, все не так бы боязно было... Вот
я теперь говорю с вами, все выходит так, как
следует. А как только к архиерею — не попадешь
в точку, да и только!
На другой квартире, прилепившейся на краю
глубокого оврага, за алтарем Спасской церкви,
при подобной же обстановке отец дьякон вел речь
об архиерейском духе.
— Великое дело попасть под дух! — с важно-
стью восклицал он.— И удача, и неудача, и сча-
стье, и несчастье — все проистекает от духа. По-
пал в хороший дух — получил свое; не попал —
пропал! Не знаю, как при теперешнем архиерее —
не приходилось еще к нему являться, а я вот вам
расскажу о бывшем, теперь уже покойнике.
К тому, бывало, нужно входить с большим со-
ображением! Без опытности, бывало, хоть не ходи:
как раз нарвешься и потеряешь...
— Какая же тут опытность требовалась? —
любопытствовали служители.
279
— А вот какая,— изъяснял отец дьякон.—
Был он очень вспыльчив и крайне переменчив.
Одного^ бывало, приласкает и во всем уважит,
а другого из-за пустяков так оборвет, что насилу
выскочит от него. Так вот тут-то и нужна
была опытность, чтобы не попасть к нему в
самый разгар сердца. Переждать нужно было.
Иной раз с самого начала приема он бывал
уже не в духе. Тут также нужно было сме-
кать.
— Да как же то узнать-то? — допытывались
слушатели.
— Узнать было легко,— повествовал отец
дьякон.— У него был швейцар Мартин, разбедо-
вая голова, просто гений! Он, бывало, глянет
в скважину двери и сейчас же смекнет, в духе
владыка или не в духе. Вот, например, заметил
он, что владыка не в духе. А мне, например, нуж-
но сейчас входить к нему... А Мартин, например,
мне знаком... Вот он сейчас и шепнет мне:
«Погоди, не в духе... пусть другой кто-нибудь...
Обойдется, тогда скажу». Глядишь, дело-то и
выгорело. Тут, конечно, Мартину благодарность.
/.../
Две вдовы, забравшись в хозяйскую кухню,
беседовали о своем сиротстве.
— Ну, что же попечительство?
— Что? Отказано?
— A-а!.. Да вы бы ему о детях прописали-то.
— Прописывала. А то разве не прописывала?
Прописывала... Отказали, не посмотрели.
— Вы бы к самому...
— И к самому ходила: тоже отказал. Ты,
280
говорит, работать можешь... А то, говорит, замуж
выходи. Ну, что ж тут?
— Смелости у нас нет, вот наше горе! Люди
смелые умеют достигнуть. Вот я слышала об одной
попадье... Ей тоже отказали в помощи, а у ней,
вот так же, как у вас, дети. Она взяла двух
маленьких девочек да с ними к архиерею и пошла.
Стала просить, он отказывает. Она в слезы. Он
опять отказывает. Так что же вы думаете она
сделала? «Кормите же,— говорит,— сами моих
детей!» Повернулась да и ушла, а девочки в зале
остались. Архиерей сперва думал, что это она
так себе. Потом ждать-пождать, ее — нет. Девочки
подняли плач: мама! мама! Архиерей туда-
сюда... что делать? Послал за попадьей вдогон.
Насилу разыскали! Даже не идет! Ну, кое-как
пришла... в волнении... Вся трясется, плачет...
Архиерей начал было увещевать ее, а она опять
бежать!.. Владыка подумал-подумал, достал сто
рублей да и дал ей. Вот этак-то! А поди-ка сделай
так-то! Не сделаешь! Вот к своему родному при-
ехали — и то не знаешь, как приступить. Тут
все-таки то утешение, что родной: авось как-
нибудь...
Время шло день за днем, а архиерей не при-
езжал. Целая неделя прошла в напрасном ожида-
нии. Не предвидевши такого замедления, недаль-
новидные родственники истощили наконец все
свои кормовые и денежные запасы, вынуждены
были, для поддержания собственного существо-
вания и для прокормления лошадей, кредитовать-
ся у хозяев квартир. /.../ Для рассеяния скуки
и сомнений родственники то и дело посещали
281
друг друга. Чаще всего бывали собрания у о. Зо-
симы. Обеспеченный надежным кошелем старо-
сты и стоявший ближе других к источнику радост-
ной вести, он вполне сохранял присутствие духа
и старался поддержать его в малодушных. Угощая
гостей чаем, он отпускал остроты вроде следу-
ющих: «Ты, кажется, без церемонии пьешь? Вот
сахарница-то: клади больше». Или: «Что же ты не
пьешь? Ай сельдей объелся?..» Раз, подтрунивая
над своим старостой, он рассказал кстати анекдот
о соборном ктиторе-купце.
— Слушайте, братие, все слушайте! — вос-
кликнул о. Зосима, снимая пальцами нагоревший
фитиль с сальной свечи.
Гости навострили уши.
— Однажды после обедни архиерей стал благо-
словлять старосту и спрашивает его: «Ну что,
старец, как твое церковное хозяйство?» —
«Плохо, ваше преосвященство».— «Отчего
так?» — «Проповеди одолели!» — «Как это? Что
ты говоришь?» — «Да так... Пойдешь с тарелоч-
кой, а тут налой ставят: народ-то и загудит вон.
Какой же тут доход? Нельзя ли,— говорит,—
отменить все эти самые проповеди? Большой
убыток причиняют! То ли дело концерт! И народу
больше ходит, и все до конца стоят».— «Да ты
пораньше с тарелочкой-то выходи!» — «Я и
то рано, да разве скоро собор-то обойдешь? А
дюже-то рано нельзя, продажа свечей про-
исходит». Архиерей говорит: «Ну, я подумаю».
Да и теперь все думает... Вот так староста!
Отмени, говорит, проповеди! А? Это архие-
рею-то!
282
Остроты и анекдоты о. Зосимы несколько
оживляли и развеселяли приунывших родствен-
ников, но не могли отстранить жгучего вопроса:
когда же, наконец, приедет родной архиерей?
И этот вопрос настойчиво предлагался о. Зосиме
несколько вечеров сряду. О. Зосима сперва
ограничивался краткими ответами: «Приедет,
будьте покойны, не нынче — завтра приедет»;
наконец решился, по своему крайнему разумению,
выяснить недоумевающим родичам причины
замедления владыки.
— Чудной вы народ, посмотрю я! — обличал
о. Зосима.— Тут поедешь на мельницу за пять
верст и то не узнаешь, когда вернешься. Дума-
ешь, к вечеру, а там, глядь,— завозно и про-
живешь два дня. А им подай сейчас архиерея!
Почему долго не едет! Нужно об этом говорить
подумавши! Путь длинный... дело архиерейское...
В одном городе отдохнет, в другом отдохнет...
А тут непредвиденности. Губернатор позовет...
Местный владыка пригласит. Иной, глядишь,
знаком нашему-то: по знакомству на лишний
денек у себя оставит. Притом ведь он не дуром,
не для удовольствия катается: едет управлять!
По новости, может, чувствует неопытность. С од-
ним владыкой посоветуется, с другим посовету-
ется, что и как... Ведь они тоже друг у друга
набираются. Вот мы тут чай распиваем, а он,
может, архиерейские дела просматривает, вника-
ет... Ехать бы надо — ан дела не просмотрены,
вот день-другой и прочь... За дорогу-то небось
целые горы просмотрел! Ведь это нам не терпит-
ся, а ему небось не до спеху. А другое дело...
283
Бог знает... Может, и заболел где-нибудь. Тоже
ведь человек!
Родичи вздыхали и силились помириться
с доводами о. Зосимы.
III
Ровно через десять дней по приезде родствен-
ников в город, в пять часов вечера, викар-
ный, запыхавшись, прибежал к о. Зосиме в
номер.
— Что? Ай приехал? — оживленно спросил
о. Зосима.
— Приехал, сейчас только! — задыхаясь, про-
говорил викарный и в утомлении опустился на
первый цопавший стул.
Староста, лежавший дотоле на диване, быстро
вскочил на ноги и, сдернув с гвоздя поддевку,
торопливо начал напяливать ее на себя.
— Ты что это? — спросил о. Зосима, обращаясь
к Тарасу Сергеичу.
— А как же? К владыке,— ответил староста,
держа на отлете руку с полунадетым рукавом
поддевки.
— Да разве теперь можно? — удивился о. Зо-
сима.— Прежде я пойду один. Нужно узнать, когда
принимает. А он уж в поддевку лезет! Эх ты...
голова! Ложись-ка опять да жди, что тебе скажут.
Где он остановился-то? — спросил он затем
викарного, достав из кармана гребешок и рас-
чесывая им волосы.
— Ему отвели дом Дункера на Можайской
улице. Дом этот свободный, так как хозяин-то
284
за границей, так вот ему и назначили этот дом,—
объяснил викарный.
— Ну, вот мы сейчас и справимся, когда
нам...— нетвердым голосом проговорил о. Зосима,
надевая рясу.
— Батюшка, по крайности, я хоть бы довез
вас, лошадку бы заложил? — предложил старо-
ста, еще стоя перед ним в поддевке.
— Ну тебя с лошадкой! — отринул батюшка.—
Владыка только что ввалился в дом, и вдруг мы
подъедем... Скажет, что это за колымага такая!
Я лучше пешком добегу; это будет не так замет-
но... Вскочил, выскочил — никому и в нос не
вникнется, как будто не ходил...
— А я вас провожу,— предложил викарный,
вставая со стула.
— Да оно... Как вам сказать? Пожалуй, про-
водите! — нерешительно проговорил о. Зосима,
выходя из комнаты.
За о. Зосимой последовал викарный, а за ним
без шапки направился и староста.
— Батюшка! — обратился к о. Зосиме старо-
ста уже за воротами.
— Что тебе?
— Ну-ка, вы там нынче же все покончите,
а мы ни при чем? Уж взяли бы и меня про всякий
случай.
— Послушай, Тарас, ты, право, хуже бабы! .—
с досадой сказал отец Зосима.— Иду только
первоначальное дознание произвесть и вдруг все
кончу? Ступай, пожалуйста, от греха! Чистый
соблазн с тобой!
Батюшки ушли, а Тарас долгое еще простоял
285
у ворот, мрачно посматривая вдаль, в недоумении
и сомнении.
О. Зосима шел молча размашистым твердым
шагом и соображал, что ему сказать, если при-
дется увидеть самого владыку. Возле него, по-
кашливая, ковылял тщедушный викарный и со-
бирался с духом промолвить ему «одно важное
словечко». Когда батюшки приближались уже
к заветному дому, викарный несмело прого-
ворил:
— Отец Зосима!
О. Зосима не расслушал этого обращения
спутника.
— Отец Зосима! — повторил, откашливаясь,
викарный.
— А? — отозвался о. Зосима.
— Я хотел было вас побеспокоить...
— Что такое?
— Вот я вам услужил... по вашему желанию.
- Ну?
— Вы тогда изволили сказать: «чайком»...
Я уж так и быть... покорно благодарю... А мне бы
вот лучше милость какую-нибудь сотворили...
— Какую же я могу милость сотворить?
— Посредством своего владыки... Местечко бы
мне штатное, хоть самое последнее... хлопотливо
мне очень, а выгоды никакой на старости лет.
— Хорошо, хорошо,— самодовольно прогово-
рил о. Зосима.— Только бы получить доступ и
внимание... Никого не забуду. Вот только бы
доступ...
Отцы подошли к дому. Викарный остался за
углом, а о. Зосима полез на крыльцо. Постучался.
286
Ответа нет. Еще постучался. Молчание. Заметив
проволоку с рукояткой, он сильно рванул ее не-
сколько раз. Чрез минуту отпирает дверь молодой
прилизанный послушник, так сильно перетяну-
тый ремнем, что стан его походил на туловище
осы.
— Кто это тут? — спросил послушник.
— Это я,— ответил о. Зосима.— Владыка
принимает?
— Какой тут прием? — с недовольством вос-
кликнул послушник.— Владыка только с дороги...
нуждается в покое.
— А когда ж к нему можно? — приставал
о. Зосима.
— Ничего еще неизвестно. Вам говорят, что
сейчас только с дороги! — ответил тем же тоном
послушник и начал было затворять дверь.
— Позвольте, ваше преподобие! — взмолился
о. Зосима.
Послушник снова распахнул дверь.
— Я ведь владыкин родственник... и, можно
сказать, ближайший,— изъяснил о. Зосима.—
Ведь вот, собственно, почему... Так вы уж скажи-
те, будьте милостивы.
— Ну, вот завтра узнаете,— несколько смяг-
чившись, объявил послушник.— Завтр'а владыка,
кажется, служить будет.
— Гм! благодарствую! — произнес о. Зосима.
Дверь захлопнулась.
— Вон оно как! Вот те прием! — бормотал
о. Зосима, слезая с крыльца.— Ишь ведь бестия
какая! Какая-нибудь, прости господи, метла
церковная, а ведь, поди ты, как!..
287
— Ну, что бог дал? — любопытствовал викар-
ный, выйдя из засады.
— Велели приходить завтра,— торжественно
сообщил о. Зосима.— Только что я сказал, что,
мол, родственник, он сейчас: завтра, говорит,
милости просим. Владыка, говорит, отслужит и
сейчас же примет. А теперь, говорит, он покоится
по причине сильного утомления... и рад бы,
говорит, да уж очень с дороги...
Родственники, узнавшие поздно вечером
о приезде своего архиерея, не чаяли пережить
ночь накануне великого «дня свидания». На
следующее утро они все отправились в собор
в чаянии увидеть там преосвященного Аггея во
всем величии архипастырского служения. Когда
кто-то из них дорогой обратил внимание своих
собратий на то, что благовестят не в большой,
а в маленький, будничный колокол, то о. Зосима
успокоительно изъяснил, что «в большой колокол
благовестят обыкновенно для своего местного
архиерея, а для заезжих всегда в маленький,
чтобы своего больше почитали». В соборе род-
ственники нашли чрезвычайно мало народу: близ
двери стоял какой-то странник с котомкой; далее,
посреди церкви, несколько старух; возле стены
с правой стороны стоял сгорбленный старик и до
того сильно кашлял, что даже подпрыгивал от
чрезмерного напряжения; впереди возле амвона
виднелся тыл какой-то дамы в трауре; у свечного
ящика вместо настоящего ктитора стоял какой-то
капрал с подстриженными усами и с целым
рядом орденов на груди; он сильно гремел тарел-
ками и громко сморкался. Никакой суеты ни
288
между сторожами, ни между клириками не было
заметно. К великому удивлению наших богомоль-
цев, началась самая обычная священническая
служба. О. Зосима, несколько помявшись на одном
месте, на цыпочках подошел к капралу.
— Вам свечку? — спросил капрал, нагибаясь
к о. Зосиме со своей эстрады.
— Свечку-то свечку...— проговорил о. Зосима
и подумал: «В самом деле — поставить уже кстати
свечку...» — А ты вот что,— добавил он, подавая
капралу три копейки.
— Спасителю или божьей матери? — пере-
бил капрал, снова наклонившись к о. Зосиме.
— Божьей матери... а не то спасителю... нет,
лучше спасителю,— решил о. Зосима.— Да вот
что: отчего это нынче владыка не служит?
— Потому, собственно, как нынче у нас буд-
ни,— объяснил капрал.— Праздниками, когда вот
обыкновенно праздник бывает, ну, тогда вот он
служит.
— Да ведь тут еще другой владыка хотел
нынче служить,— продолжал о. Зосима.— Сам
сказал: буду, говорит, служить.
— Какой другой?
— Заезжий... мой родственник.
— Не знаю... не слыхал,— заключил капрал.
О. Зосима, невзначай сделавший собору трех-
копеечный доход, отступил к своим сродникам,
стоявшим отдельною группою. Долго шептались
родственники, стараясь объяснить, почему не
служит новый архиерей. И молитва была им не
в молитву. «Уж не уехал ли он?» — сказал на-
конец кто-то. Этот вопрос ошеломил даже самого
10-1032
289
о. Зосиму. Шепнув что-то своему ближайшему
соседу, он тихо, с поникшей головою вышел из
церкви. За ним мало-помалу вышли и остальные
родственники. Сгруппировавшись около о. Зосимы
за церковью, они долго рассуждали о том, что
предпринять. Наконец о. Зосима порешил:
— Самое лучшее, пойду сейчас опять к нему;
по крайней мере, узнаю, что там такое... А вы
все ступайте ко мне на квартиру, чтобы быть всем
в сборе. Может быть, он сейчас же пожелает —
вот мы и отправимся без замедления, все разом.
Предложение было единогласно одобрено, в
о. Зосима отправился к владыке, а собратья его
лениво побрели к условленному сборному пункту.
Парадный вход в квартиру приезжего архи-
ерея на этот раз был отперт, так что о. Зосима
получил возможность проникнуть в переднюю.
Здесь его встретила вчерашняя перетянутая оса
и спросила:
— Что скажете?
— Да вот вы вчера говорили, что нынче можно
узнать, когда нам можно к владыке,— шепотом
проговорил о. Зосима, сознавая, что говорит не-
сколько нескладно.
— Теперь он собирается выехать.
— Как? Разве они уже уезжают? — с удив-
лением н беспокойством спросил о. Зосима.
— Нет, не уезжает, а собирается в город
выехать,— пояснил послушник.— Прежде всего
к архиерею поедет, потом еще куда-нибудь.
— Так как же бы это? Когда ж бы это нам-
то? — спросил о. Зосима, успокоившись.— Вы
ему докладывали?
ЗЮ
— Я докладывал. Он сказал: «Теперь пока
некогда; вот управлюсь с делами».
— А не сказал, когда именно он может при-
нять? — допытывался о. Зосима.
— Нет, не сказал.
— Эко горе какое, право! — в раздумье про-
говорил о. Зосима.— Так уж я вечерком наведа-
юсь,— добавил он, просительно кивая послуш-
нику.
— Как хотите. Впрочем, лучше завтра утром,
часов в двенадцать. Сегодня он долго проездит...
то да се... утомится. Лучше уж завтра.
— Ну, стало быть, завтра, — со вздохом согла-
сился о. Зосима и почтительно раскланялся.
«Эка я, дурак, не спросил, отчего он не служил-
то!» — думал о. Зосима, идя на квартиру разочаро-
вывать родственников.
Еще одни томительные сутки! Лишний расход,
лишнее волнение! На другой день, ровно в две-
надцать часов, о. Зосима подходил к священной
квартире. Около крыльца стояла карета. О. Зосима
несколько минут в раздумье постоял около угла,
потом решился спросить у кучера, кто это при-
ехал. Кучер сказал, что «архиерей с визитом».
О. Зосима смутился, быстро шмыгнул за угол и
проворно зашагал вдоль улицы: прошел всю
улицу, свернул на другую, на третью, не давая
себе отчета, куда и зачем идет. Пройдя уже
весьма большое пространство и достаточно
утомившись, он наконец сообразил бесцельность
своего путешествия и, направив свои мысля
на интересный пункт свидания с «великим род-
ственником», повернул назад. «Теперь уж небось
w*
291
уехал»,— думал он, медленно двигаясь по тро-
туару и тяжело дыша. Предположение о. Зосимы
оправдалось: когда он подходил к квартире
преосвященного Аггея, страшной кареты уже не
было у крыльца.
— Ну, что, как? — таинственно спрашивал
о. Зосима послушника в передней.
— Не знаю... Я доложу, может, он сейчас же
вас примет. Как ваше имя отч...
— Да нет... Что ж меня-то одного? Разве я
один? Меня примет, а те-то как же? Мы уж все
вместе...
— Ну, хорошо, а все-таки как же вас на-
звать-то?
— Да где ж тут назвать? Все равно не упомни-
те всех. Скажите: некоторые, мол, родственники
желают видеться. Они, мол, еще на квартире...
так когда им прикажете прийти?
Послушник ушел и скоро возвратился с от-
ветом.
— В шесть часов вечера пожалуйте.
— Сегодня?
— Сегодня.
О. Зосима, забыв свою усталость, быстро вы-
скочил из передней и полетел возвестить ожида-
ющим его родственникам отрадные результаты
своих хлопот.
Несмотря на довольно сильный мороз, пот лил
с вестника, когда он, переступив порог битком
набитого номера, впопыхах воскликнул:
— Слава богу!.. В шесть вечера... сегодня.
Родственники, пребывавшие дотоле в унылом
молчании, мгновенно встрепенулись и, обсту-
292
пивши о. Зосиму, подняли такой гвалт и шум,
что вестник только отмахивался руками и повто-
рял: «Нынче в шесть часов, в шесть часов сего-
дня... сегодня же в шесть часов. Как можно скорей,
без разговору!» — заключил наконец о. Зосима и,
с усилием пробивши плечом стену родственников,
бросился на диван.
В номере долго еще продолжалась давка и
суматоха, как в маленькой сельской церкви
в храмовой праздник. В массе голосов послыша-
лось возражение:
— Как же это «скорей»? Ведь «в шесть
часов»... а теперь только час?
— Скорей — и больше ничего! — торопил
о. Зосима, сидя на диване уже в одном холодном
подряснике, по пояс смоченном потом.— Я и так
весь смотался из-за вас. Архиерей сказал «в шесть
часов» — так разве нам так и идти... в шесть?
Сказано в «шесть» — это значит в пять. Он хоть
и родной, а ведь тоже начальник. Не ему нас
ждать, а нам его... Ступайте по квартирам, рас-
порядитесь там... кому что нужно, и к четырем
часам непременно все сюда! Все и тронемся
зараз.
В начале пятого часа фаланга родственников,
предводительствуемая о. Зосимой, двигалась
к архиерейской квартире.
— Тш! стойте! — несмело скомандовал о. Зо-
сима, доводя спутников до угла заветного дома.—
Погодите пока здесь. Я пойду, прежде разузнаю.
Может быть, и сейчас можно... отделались бы за-
293
благовременно, да и к стороне. А то, пожалуй,
кто-нибудь наедет к нему; тогда — поди!
Отделившись от собратий, о. Зосима подошел
к парадной двери. Толкнул — заперто. Он поднял
было руку, чтобы дернуть за проволоку звонка,
но у него вдруг промелькнуло в голове: «в шесть
часов» — и он опустил руку. В раздумье он обвел
глазами всю дверь сверху донизу, оглянулся
направо, налево и направился к скрытой в засаде
родне. Явившись перед фронтом своей дружины,
о. Зосима сперва молча развел руками и наклонил
голову: дескать — нет вам ничего! потом изъ-
яснил:
— Пробовал... Неудобно... Как видно, еще
ничего не готово... По моему мнению, надо
подождать.
— Где же подождать?
— Да вот тут и подождать,— пояснил о. Зо-
сима, сделав рукой неопределенный жест.
— Да ведь холодно стоять на одном месте! —
возразила дружина.— Бог знает, скоро ли...
— Можно и походить, — успокаивал о. Зосима.
И родственники начали ходить. Сперва только
о. Зосима позволял себе прохаживаться от угла
до крыльца и обратно, строго возбраняя осталь-
ным столь смелую диверсию. Потом строгость
его ослабела, и родственники уже смело марширо-
вали по тротуару от одного угла дома до другого.
Один заложил руки назад, другой спрятал их
в карманы, третий — в рукава и т. п. Некоторые
для развлечения поправляли на себе волосы и
головные уборы, внимательно осматривали на себе
и на сподвижниках платье, одергивались, очища-
294
лись. Отец дьякон щелчком сбил с плеча о. Зосимы
полузамерзшего таракана, достойно наказанного
за дерзкое намерение пробраться с родственни-
ками к архиерею. Некоторые, проходя мимо архи-
ерейской квартиры, не поворачивая головы, коси-
ли глаза на окна, с целью узреть в них какое-
либо знамение близости великого момента.
Время шло, родственники зябли. Некоторые
начали уже для разнообразия удлинять линию
прогулки, продолжая ее за угол дома, причем
каждый раз, при повороте за угол, оглядывались
назад: не отворилась ли дверь в царствие. Вот
в доме мелькнул огонь... произведено довольно
сильное освещение. Вот когда хорошо бы взглянуть
в окошечко!.. Но на беду окна завешены. Видно
только, как движутся иногда по комнатам чело-
веческие фигуры, а кого они обозначают —
разобрать трудно.
На соборной колокольне пробило шесть часов.
Родня столпилась у крыльца.
— Я думаю, звонить не нужно,— говорил
о. Зосима.— Надо полагать, отопрут; сами на-
значили в шесть часов...
— А может быть, они забыли? — возражал
кто-то из-за его плеча.
— Ну, как забыть? Назначили, да забыть? —
рассуждал о. Зосима и через несколько минут
проговорил: — Разве уж в самом деле попробо-
вать? Что будет? Авось... Что ж в самом деле —
ведь сами назначили!
О. Зосима позвонил, родственники в немом
ожидании навострили уши.
Дверь отворилась.
295
— Кто это?
— Родственники... По вчерашнему повеле-
нию владыки... в шесть часов...
— Сейчас... доложу...
Пока послушник ходил докладывать, значи-
тельная часть родственников уже выбралась
в сени, и только хвост отряда о. Зосимы оставал-
ся еще на улице.
— Пожалуйте! — пригласил послушник, от-
ворив дверь из передней. И долго не затворя-
лась эта дверь! В квартиру преосвященного
вступило человек сорок. На лице послушника
изобразилось сперва удивление, потом заиграла
сдержанная улыбка. Послушник направился
в дальние апартаменты дома, а гости, по его пред-
ложению, выстроились в обширной зале, освещен-
ной люстрою и канделябрами.
Минут через десять двери гостиной в зал
распахнулись, и в зал вышел высокий стройный
монах с русою клином бородкой, длинным узким
носом и быстрыми голубыми глазами. На голове
у него был клобук, на груди панагия, в руках
четки.
— Это все мои родственники! — воскликнул
он, очевидно не ожидая такого множества гостей.
— Да... едино колено... к стопам вашего пре-
освященства,— запинаясь, отозвался о. Зосима,
выделяясь из толпы и вытягивая положенные одна
на другую руки для принятия благословения.
— Вот спасибо, что вспомнили и проведали
меня,— говорил владыка, благословляя одного
за другим остальных родственников.
— Кого же...— начал было о. Зосима.
296
— А я думал, что на родине уже никого не
осталось у меня из родных, что здесь никто и не
помнит меня! — продолжал владыка, все еще
ниспосылая благословение.
— Кого же нам и помнить, как не ваше пре-
освященство? — возобновил свою речь о. Зосима,
отступивший для простора к окну и заметно
осмелевший под влиянием ласковых слов влады-
ки.— Вы,— продолжал он,— не только светило
всех сродников, но и, можно сказать, благо-
украшение... благоукрашение всей нашей...
В это время владыко, благословляя одну
старушку, с улыбкой обернулся в сторону о. Зо-
симы. О. Зосима кашлянул и окончательно
редактировал свой акафист:
— ...можно сказать, истинное благоукраше-
ние не только всей нашей родины, но даже и
епархии.
— Да, вот привел господь после многих лет
опять увидеть родной край,— говорил владыка,
раздавая благословение уже несколько утомлен-
ною рукою.
— А также и нас сподобил... узреть столь
великое...— подладил о. Зосима, но не сумел за-
кончить речи.
Кончив процесс благословения, преосвящен-
ный обмотал конец четок около кисти руки,
сел на ближайший стул и гостям предложил
садиться.
Никто, однако ж, не сел.
— Что же вы? Садитесь! — повторил влады-
ка, делая пригласительный жест.
Никто, однако ж, не сел.
297
— Чего же вы стесняетесь? — продолжал
преосвященный.— Если я говорю: садитесь, так
вы должны сесть.
Человек десять село на самых отдаленных
стульях, остальные продолжали стоять. Архиерей
пожал плечами и проговорил:
— А мне хотелось бы с вами побеседовать
о вашем житье-бытье и о прочем. Так давно я здесь
не был... Много, чай, перемен произошло даже
и в сельской вашей жизни... Вот вы мне порас-
скажете.
Родственники хранили глубокое молчание.
Слышался только чей-то сдержанный кашель.
— Ну, что же вы мне ничего не скажете? А? —
вопрошал владыка.
— Преосвященнейший владыко! — начал
о. Зосима, вставши со стула.
— Сидите, сидите,— сказал архиерей, махнув
рукой.
О. Зосима сел.
— Преосвященнейший владыко! — снова на-
чал он.— В присутствии столь нежданного и столь
великого... можно сказать, предстателя... превоз-
несенного и препрославленного самим промыс-
лом... как-то уж сама гортань... можно сказать...
не отверзается. Конечно, вы столь многомило-
стивы, что мы вот, можно сказать, худейшая кость
ваша по плоти, явились к вам... и, конечно, каждый
из нас нес на сердце своем, можно сказать, род-
ственный залог, а также и желания излиться перед
вами в своих нуж... в своих то есть чувствах.
Но при таком все-таки собрании, сами изволите
судить...
298
О. Зосима потупился и смолк.
Преосвященный после некоторой паузы встал
с своего места.
— Ну так вот что,— сказал он.— Входите ко
мне по одному вот в эту комнату (он указал на
гостиную).
IV
Владыка оставил залу, и через несколько минут
двери в гостиную затворились. В зале произошла
быстрая перемена. Родственники, тесня друг
друга, спешили разместиться на стульях, ближай-
ших к гостиной. При этом степень близости к за-
ветным дверям определялась, с одной стороны,
степенью смелости конкурентов, с другой — сте-
пенью сознаваемого каждым из них родства
с преосвященным. О. Зосима занял самую передо-
вую позицию и даже наложил руки на ручку
дверей. Близ него выстроился староста... Вот
половинки двери заколебались, о. Зосима отнял
руку. Келейник владыки, слегка приотворив
дверь, проговорил:
— Пожалуйте... кому угодно?
О. Зосима провел ладонью по бороде, кашлянул
и сделал движение, чтобы шагнуть в гостиную, но
в этот момент староста сильно осадил его за рукав
рясы и с умоляющим и беспокойным выражением
в физиономии торопливо прошептал:
— Батюшка, как же мне-то?
— Стой тут! — прошептал в ответ батюшка,
нахмурив брови.
Он плюнул себе на пальцы, провел ими по
волосам и, качнувшись из стороны в сторону, юрк-
нул в гостиную.
299
Владыка сидел на диване, положив на стол
руку, обвитую янтарными четками.
— Пожалуйте, пожалуйте! — проговорил он,
указывая о. Зосиме на ближайшее кресло.
— Помилуйте, смею ли я? Не за тем пред-
ставился...— проговорил о. Зосима, сложив руки
на груди и семеня ногами.
— Я вам говорю: пожалуйста! — настойчиво
и решительно повторил преосвященный.
О. Зосима, потоптавшись еще некоторое время
на одном месте, присел на краешек кресла.
— Ну, вот! — одобрительно произнес влады-
ка.— Так вы мне родственник?
— Так точно, иначе как бы я дерзнул...
— В каком же именно родстве мы с вами?
— Гм... Можно сказать, самый ближайший,
кровный: блаженной памяти родителя вашего
младший двоюродный брат; значит, личности
вашего преосвященства имеют счастье причитать-
ся... извините, бога ради!., дядюшкой.
Преосвященный взглянул на потолок, не-
сколько помолчал и начал:
— Ну, как вы поживаете?
— Вашими святительскими молитвами... пре-
бываю в неусыпном бдении о пастве христовой;
истощаю силы, пренебрегаю покоем для блага...
подъемлю труды, которые остаются втуне... никем
не ценятся.
— Как же это так?
— Главная причина враги, которые всюду
ходят за мной, аки львы рыкающие, ищущие по-
глотить...
300
— Кто же это враги ваши?
— Ох, владыко святой! Грусть объемлет душу
мою... жалость снедает меня... Боюсь господа,
заповедующего любить врагов... Как их открыть?
Зачем им зла желать?.. Но главная причина, благо-
чинный... поглощает меня день и ночь! Насел на
меня окончательно, делает унизительные наветы
на меня архипастырю моему. Конечно, шепот-
ники, сказано, царствия не наследуют, но и мне
тяжело! Ревную о нравственности и благоукраше-
нии храма, многое измыслил, многое соорудил,
о чем и начальству ведомо; при всем том многие
из сверстных мне нерадивцев кичатся и надмева-
ются крестами и камилавками, я же до сих пор
униженно страдаю в скуфье, какую перед лицом
вашим даже и надеть посовестился.
— Так чего же вы хотите?
— Ничего, владыка святой, верьте богу и
совести — ничего. Всем меня господь благословил
и взыскал: детей у меня нету; живу в довольстве,
нужды не знаю. Одно только гложет меня, как
червь: седина моя бесчестится... заслуги мои и
труды попираются. Призрите, святой владыко, на
единокровного своего! (При этом о. Зосима встал
и отвесил владыке низкий поклон, коснувшись
средним пальцем полу возле сапог преосвящен-
ного.)
— Что вы, бог с вами! — проговорил влады-
ка, наклонивши голову и простерши руки.— Сади-
тесь... успокойтесь.
О. Зосима сел и, испустивши глубокий вздох,
продолжал:
— Последним наемником сделался бы у вас,
301
лишь бы не видеть больше ищущих душу мою.
— Вы, кажется, желали бы служить при мне,
но я пока ничего не могу вам сказать на это реши-
тельного. Мне еще неизвестно, есть ли подходя-
щая вакансия в моей епархии; я ведь только еду
на службу.
— Милостивый архипастырь! Да разве мне
нужно решительное! Мне бы только ободрение,
надежду бы некую восполучить.
— Что же? Я с удовольствием... Окажется
вакансия — дам вам знать.
— Неизреченно благодарен вашему преосвя-
щенству!
О. Зосима снова отвесил поклон с прикосно-
вением среднего перста к полу.
— А что надлежит до благочинного моего,—
продолжал он, выпрямившись и поправляя
волосы,— то зовут его Залетаев... о. Иван...
в селе Знаменском.
— Да это все равно...
— Конечно, господь с ним. Я готов теперь всем
простить. Это я только к сведению вашего пре-
освященства. Залетаев он... в Знаменском, в селе...
отец Иван — бог его прости. Засим, владыко,
не смею вас утруждать...
О. Зосима встал, преосвященный также.
— В ожидании милостивой резолюции вашей,
позвольте припасть,— проговорил он, повергаясь
преосвященному в ноги.— Когда-то господь сподо-
бит! — продолжал, наложив рука на руку для
принятия благословения.
После прощального благословения батюшка,
пятясь к двери, все еще не спускал глаз с владыки
302
и продолжал отвешивать ему быстрые, отрывистые
поклоны. Когда спина его уже коснулась двери,
он вдруг выпрямился, ухватился за затылок и
проговорил:
— Простите, бога ради... совсем было забыл.
— Что такое?
— Тут вот староста мои... жаждет лицезрения
вашего и некоего слова из уст ваших.
— Пусть войдет.
По знаку о. Зосимы вошел староста и немед-
ленно ринулся владыке в ноги, сильно стукнувши
коленкой об пол. Пока он принимал благослове-
ние, отрапортовал:
— Мой примерный духовный сын, радетель
и стяжатель.
— Посредством батюшки прибыл освятиться
от вашего преосвященства. — вставил староста,
встряхнув скобой и заложив оба больших пальца
за кушак.
— Доброе дело! — промолвил владыка, по-
смотрев на обоих гостей.
— Истинно могу сказать, что мой пособник
во всех благих предприятиях,— рекомендовал
о. Зосима.— Произвел при храме многие улучше-
ния на свой счет.
— Это похвально,— сказал владыка.— Гос-
подь наградит тебя за это.
— Господь-то верно наградит, да это когда еще
будет! — отозвался староста.— Люди-то вот нас
обходят за все за наше старание.
— Наградят и люди... Вот о. Зосима предста-
вит тебя, начальство и наградит,— изъяснил вла-
дыка.
303
— Отец-то Зосима представлял,— объявил
староста,— да толку-то никакого не вышло:
окромя благодарности, ничего не получили.
— Так что ж тебе? — заметил владыка.—
Благодарили, значит, обратили внимание, оце-
нили.
— Это все так, да ведь этого, ваше преосвя-
щенство, на шею не повесишь.
— Что ты говоришь? Я тебя не понимаю,—
сказал преосвященный.
— Он, изволите ли видеть, желал бы себе
медали,— комментировал о. Зосима,— а ему при-
слали благословение из святейшего синода.
— Ну да ведь мало ли что! — проговорил
владыка.— Награждают каждого по заслугам, кто
чего стоит.
— Господи, кажется, какие еще заслуги нуж-
ны! — воскликнул староста.— Весь живот свой
положил на благолепие, и вдруг одна благодар-
ность, и больше ничего! Обидно!
— Ну что ж теперь делать-то? — с улыбкой
сказал преосвященный.
— Не соблаговолите ли, хоть вот ради срод-
ственника своего, отца Зосимы, выручить меня,—
заикнулся староста.— Замолвите насчет этого
нашему владыке. Им ведь это — плевое дело,
а мне бы на всю жизнь... Все бы видели, что
у меня на шее благоволение начальства, и всяк бы
сам больше старался вокруг храма. А теперь
что? Кто видит мою благодарность? Ее ведь на
себя не нацепишь?
— В самом деле, владыко, если можно,—
добавил о. Зосима.
304
— Хорошо, хорошо,— заключил владыка, за-
нося благословляющую руку над головой старо-
сты.
Староста повалился владыке в ноги и по-
целовал его сапог.
— Отцу Зосиме я всегда воздавал... не знаю,
чем теперь вам услужить,— оживленно прогово-
рил староста, покрывая поцелуями обе руки пре-
освященного.
— Ничего мне не нужно. Господь с тобой! —
сказал преосвященный, махнув рукой.
— Пожалуй, не успею, а то бы вот лошадок...
Преосвященный достал из кармана платок и
снова, но уже молча, махнул рукой. Посетители,
еще раз отвесив ему по поклону, вышли из
гостиной.
Староста, возвращаясь вслед за батюшкой
в зал, не успел еще затворить за собой двери,
как Душа стремительно двинулась мимо него
в гостиную, сильно толкнув честолюбца плечом.
Она предстала пред владыкой в синем полосатом
венчальном платье, которое по некоторым швам
несколько разъехалось от насилия, с каким Душа
натягивала его на свой раздавшийся в период
супружества стан. Владыка попросил ее сесть.
Душа обошла кругом стола и, энергическим движе-
нием подобрав платье, уселась на диване. Влады-
ка, сделав к ней полуоборот, попросил ее опре-
делить степень родства, в которой она с ним со-
стоит. Матушка провела рукой по губам, сделала
тоже полуоборот к владыке и начала:
— Не изволите ли помнить своего троюрод-
ного дядюшку, Кирилла Иваныча?
305
— Какого это? — спросил преосвященный.
— А того самого,— продолжала Душа,— что
был сперва дьячком в Груздеве, а потом пошел
в солдаты, а потом вышел из солдатов, а потом
теперь содержит постоялый двор, а также пряни-
ками и жмыхами торгует, а у него...
— Вы-то как же? — перебил было владыка,
приняв серьезный вид.
— Уж вы. преосвященнейший, извините... уж
позвольте мне все по порядку! — тараторила
Душа,— а то я, по робости, пожалуй, собьюсь.
Мне желается вам все линии показать.
Она вопросительно взглянула на преосвящен-
ного, но тот, опустив глаза, молча перебирал
четки. Матушка перевела дух, повернулась на
месте и продолжала:
— А за Кирилл Иванычем была... не знаю,
право, отчего это он сам не приехал? Некогда ему,
что ль, по торговле... Да какая же теперь торговля
при этаком случае? Надо полагать, нездоров.
Ангельский человек! Я с мужем к нему всегда...
Теперь выходит, за ним была сестра... У меня
была тетка... так этой тетке она сестра. А тетка
мне приходилась по дяде... Мой дядя на ней женил-
ся. Так это, выходит... я... его жена... а моя
тетка... по дяде... Простите, бога ради! Ей-богу,
по робости... как подступит ко мне этот конфуз,
что и знала, и то забуду! Так вот и теперь.
Душа в отчаянии начала тереть лоб, стараясь
уяснить себе апокрифическое родство с вла-
дыкой.
— Вы здесь одна? — сухо спросил владыка.
— И-и, как можно, ваше преосвященство! —
306
воекликнула матушка,— я одна сроду никуда.
При мне пон... муж мои... священник... а еще
дочка, которая... Я и посылала его к вам: ступай,
мол, вперед — не пошел: ты, говорит, роднее.
— Так вас в семье только трое? — полюбо-
пытствовал владыка.
— Ох, трое, владыка; да горе-то только одно...
Женихов нет за Соню. У людей то и дело под-
хватывают, а наша сидит, да и только. Я просто
хлеба лишилась, аж иссохла вся с нее. А девушка-
то! Поеду, говорит, к родному владыке, припаду
со слезами... авось, говорит, ваше преосвяп|ен-
ство благодатию своею... Куда ты, говорю, глупая,
затеваешь? Припаду, говорит, и только! Непре-
менно, говорит, припаду! Делать нечего, взяла...
Благоволите, владыка, взглянуть. Я ее сейчас
позову.
Матушка вскочила с дивана и направилась
было к двери.
— Не беспокоитесь, я видел,— остановил ее
владыка,— к благословению подходила... я за-
метил.
— Так что ж нам теперь делать? — плачевно
проговорила Душа, остановившись среди гостиной
и склонив голову набок.
— Потерпите,— произнес владыка, вскинув
брови.— Одна и есть дочь... пристроите еще...
— Господи! Да когда ж это будет! — вос-
кликнула матушка, всплеснув руками.— Ведь
это я-то, по неопытности своей, считаю ей
восемнадцать, а мой по... а муж мой двадцать
три насчитал. Будьте милостивы, не погубите
кровь свою!
307
Матушка, сложив руки на груди, плавно по-
клонилась.
— Да что же я могу тут сделать? — произнес
владыка и развел руками.
— Преосвященнейший владыка! — с умиле-
нием и расстановкой произнесла Душа,— вы —
что бог! Как бог все сотворить может, так и вы
можете мою Соню пристроить. Пришлите оттуда
нам какого-нибудь женишка! У нас это бывало,
я очень хорошо помню: наедет издалека от пре-
освященного и возьмет. Конечно, наши сред-
ства... можно сказать, в бедности находимся.
— Ну, тогда видно будет,— проговорил пре-
освященный, вставая с дивана.— Господь вас
благословит.
— Так, значит, мы будем в надежде?
— Как бог даст. Отчаиваться не следует.
Только что матушка, прошумев венчальным
платьем, скрылась за дверью, в гостиную вступил
молодой священник, маленький, сухощавый,
с быстрыми глазами и с крошечной бородкой.
В левой руке у него были две каких-то брошюрки.
Занявши, по предложению преосвященного,
место в кресле, батюшка чистым баритоном
заговорил:
— Мое желание представиться вашему пре-
освященству мотивировалось не столько род-
ством с вами, к сожалению, очень дальним,
сколько, с одной стороны, священными для меня
преданиями о добрых отношениях ваших родите-
лей к моим, с другой — пламенным стремлением
посвятить вашему святому имени незрелые плоды
слабых сил моих.
308
При этом батюшка, привстав, вежливо пред-
ложил владыке свои брошюрки.
— Благодарю,— сказал владыка, принимая
брошюрки.— Приятно видеть деятельность в та-
ком молодом пастыре.— Преосвященный прочел
заглавие одной из брошюр: «Поучения для про-
стого народа, общедоступно изложенные и при-
мененные ко всем случаям общественной и частной
жизни, а также и ко многим явлениям при-
роды».— Гм! Похвально. Видно, что вы...— значи-
тельно проговорил преосвященный, подняв гла-
за на батюшку и пристально в него вгляды-
ваясь.
— Не смею сказать, что я делаю все, чего
требуют от священника его многообъемлющие
обязанности, но, чутко прислушиваясь к вопи-
ющим потребностям паствы, стараюсь...— одушев-
ленно произнес батюшка и не докончил.
— Слава богу, теперь такие труды, как ваш
вот этот, начинают появляться все чаще и чаще,—
сказал владыка, поправив клобук.
— К прискорбию, большинство из них —
произведения плоского шарлатанства, убивающего
в зародыше честные стремления истинных труже-
ников,— изъяснил батюшка.— Между тем шарла-
танские сочинения быстро расходятся, мало-маль-
ски серьезное сочинение не имеет сбыта. Вот хоть
мои поучения — совсем не идут почти с рук. Хоть
бы вы, владыка, со своей стороны, посодейство-
вали распространению.
— Хорошо, я предложу через консисторию
духовенству, не угодно ли кому выписать.
— Предложить — пожалуй, не выпишут,—
309
усомнился автор,— особенно ввиду одной не-
лепой рецензии.
— Так чего же бы вам хотелось?
— Вы имеете власть обязать.
— Ну, как это обязать? — произнес владыка
и прочел заглавие другой брошюры: «Раздел
доходов до и после реформы. Руководительное
начало при дележе кружечных и иных доходов —
по самым верным соображениям, юридическим,
историческим, статистическим и иным точным
данным. Цена один рубль. С пересылкою — два
рубля сорок пять копеек».
Прочитав все это, преосвященный улыбнулся.
— Такое руководство едва ли необходимо,—
заметил он, снова приняв серьезное выражение,—
на это есть определенные и подробные разъясне-
ния начальства.
— Я, ваше преосвященство, имел в виду,
собственно, применение разъяснений, примене-
ние, встречающее в практике непреодолимое
затруднение.
Преосвященный повел бровями и, перелисты-
вая брошюрку, проговорил:
— На досуге прочту и... пожалуй, также пред-
ложу духовенству.
— Премного осчастливили бы,— сказал ба-
тюшка, приподнявшись.
Думая, что собеседник хочет удалиться, влады-
ка, возвысив голос, проговорил:
— Ну, дай бог вам.,. Спасибо.
Но батюшка, немного помявшись и прибли-
зившись к преосвященному, нерешительно про-
изнес:
310
— Я бы покорнейше просил ваше преосвящен-
ство...
— Что такое?
— Я выработал, пока про себя, проект о свеч-
ном заводе...
— Так что ж? Это уже дело не мое. Обсуждай-
те, посоветуйтесь, обращайтесь к своему владыке.
— Я не уверен. Человек я молодой. Сочтут
за выскочку. Да еще как владыка взглянет... При
свидании с нашим владыкой не найдете ли воз-
можным дать благоприятное для меня направле-
ние его образу мыслей по сему предмету, а также
и меня несколько поставить на вид... для поощре-
ния в будущем?
— Если речь коснется и вообще если не за-
буду... отчего ж? Можно...
— Сделайте милость! Боюсь, что парализует-
ся... или как-нибудь меня поймут... в ином
свете...
На смену батюшке показалась было в дверях
огромная, курчавая голова дьячка, ораторство-
вавшего среди семинаристов на тему о страхе.
Но преосвященный сделал ему ограничительный
знак рукою и сказал: «Погодите немножко».
Он позвал келейника и попросил стакан воды.
Выпив воды, он прошелся по гостиной, медленно
провел себя ладонью по лицу, посмотрел на часы
и, глубоко вздохнувши, снова уселся на диван,
чтобы продолжать прием родных. Келейник, слег-
ка отворив дверь, произнес: «Пожалуйте»,—
и скрылся. И вот владыка увидел перед собой
родича-исполина, за минуту перед тем затормо-
женного в своем движении в гостиную. Подле
311
него топтался пигмейчик-сынишка, в сером
нанковом сюртуке и в таких же брючишках.
Отец, представ перед владыкой, повел себя вполне
сообразно с выработанной им теорией иерархиче-
ского страха. Грудь его высоко поднялась, физио-
номия приняла выражение подсудимого, о кото-
ром только что произнесли: «Да, виновен».
— Простите великодушно,— прерывистым го-
лосом начал исполин,— что и я также, при своей
низости... осмелился к вам...
— Ничего, ничего,— ободрил преосвящен-
ный,— ведь мы не чужие.
— Это точно. По милости божьей состою в
кровном соприкосновении с вашим высоко-
преосвященством. Почти троюродный... Колено
не дальнее. Уж не отриньте, Христа ради...
Исполин вздохнул, возвел очи горе и заложил
одну руку за пазуху.
— Присядь! — ласково предложил преосвя-
щенный.
— Нет! Воля ваша — не могу. В моем ли по-
ложении приседать пред лицом вашим. Я от роду
своего и во сне не видал, чтобы узреть ваше
преосвященство поблизости, а не то что...
— Это сын твой? — спросил владыка, кивнув
на мальчика.
— Да, собственная плоть... а больше того —
скорбь.
— Учится?
— Находится в училище... с большой нуждой.
Очень низменно числится! По-настоящему, ему бы
вот в семинарию после вакации... но по всему
вижу, что обратят его в дом родителей: потому —
312
другой уж курс сидит без всякого повышения...
— Что же это ты, брат? Ленишься, должно
быть? — обратился владыка к мальчугану.— Гла-
за-то у тебя быстрые...
Мальчик потупился и закрыл ладонью рот.
Отец отнял у сына руку ото рта, нагнулся к нему,
обхватил его одной рукой и проговорил:
— Что ж ты молчишь? Отвечай!
Мальчик, еще более потупившись, продолжал
молчать.
Отец, приняв прежнее положение, изъяснил:
— Нет, владыко, он у меня мальчик славный,
с понятием и в хозяйство уже давно вникает;
надо полагать, что притесняют... по бедности.
— Ну, этого быть не может,— возразил пре-
освященный.
— Истинно так! — уверял родитель.— Кому
мы, бедные, нужны?
— Куда ж ты теперь денешь его?
Родитель вздохнул, развел руками и про-
говорил:
— Остается одно: под кров вашего преосвя-
щенства. Не покиньте... возьмите под кров свой...
утрите слезы горькие.
Отец низко поклонился и в то же время одной
рукой насильно наклонил голову сына по на-
правлению к владыке.
— Тратил последний грош... истощился весь
до основания! — продолжал он, смаргивая слезу,—
а дома еще сверх того куча целая...
— Куда же я его дену?
— Хоть бы в услужение к себе приняли...
— Да у меня прислуга есть.
313
— Что ж есть? По обширности вашего жития...
и он был бы не лишний... Не погубите! Заставьте
за себя вечно бога молить!
— Подумаю...— решил преосвященный, не-
сколько помолчав.— Зайди ко мне завтра, часов
в семь.
— Слушаюсь,— ответил родитель, снова кла-
няясь и снова наклоняя голову сына.
Провожая отца и сына, преосвященный еще
раз взглянул на часы и кликнул келейника.
— Позови там самую старенькую старушку,—
приказал он, указывая на дверь в зал.
Крадется в гостиную изможденная старушка
со сложенными на груди руками, жмурясь и
щурясь, как от метущей в глаза пыли. Она в тем-
ном ситцевом платье, висящем на ней, как на
вешалке; на голове у ней полинявший фиолето-
вый повойник.
— Подойди, подойди, старина, поближе! —
приветливо произнес владыка, заметив робость
старушки.— Сядь-ка... побеседуем.
Старушка, стоя у стола, молча вздыхала и
болезненно щурилась.
— Сядь. сядь,— продолжал владыка,— ты
постарше меня да притом еще родня. Сядь,
я прошу тебя... непременно желаю, чтобы ты
села? — добавил он, заметив неподвижность род-
ственницы.
Старушка молча и как бы машинально опусти-
лась на кресло, по-прежнему держа руки на груди.
— Ты мне какая родня-то? — спросил вла-
дыка.
— Дальняя бабушка вашего преосвящен-
314
ства,— дрожащим голосом проговорила гостья.
— Как ты поживаешь?
— Слава богу...
— Не нуждаешься ли в чем?
— Нет, владыка святой; много довольна
божиею милостию.
— Ты чем живешь-то?
— Трудами, отец родной!
— Какие же твои труды?
— По простому занятию... чулки готовлю
добрым людям.
— У тебя свой домик?
— Нет... угол чужой... Сперва у родствен-
ников, а теперь где придется... Детей качаю...
— Получаешь ты что-нибудь?
— За чулки-то?
— Нет, вспомоществование какое-нибудь?
— Никакого вспомоществования не вижу,
кроме как от добрых людей.
— Может быть, тебе что нужно?
— Нет, отец, ничего не нужно. На что мне?
Много ль мне осталось?..
Преосвященный вздохнул и задумался. По-
своему истолковав молчание владыки, старушка
встала.
— Куда же ты? — спросил преосвященный.
— Что ж! Будет... Чего желала — сподоби-
лась,— проговорила старушка, наклонив голову.
Владыка проворно* достал полуимпериал и
предложил его ей.
— На-ка вот на память. Что-нибудь купишь...
— Батюшка, что вы это? Господь с вами! —
воскликнула старица.— На что мне эту страсть?
315
— Возьми, возьми, я этого требую! — настой-
чиво проговорил владыка, приподнявшись с дивана
и втискивая полуимпериал в костлявую руку
родственницы.
— Святитель божий! — воскликнула старица,
отшатнувшись.
Благотворящая рука с полуимпериалом по-
висла в воздухе.
— Я тебе говорю: возьми! — строго повторил
преосвященный, подходя ближе к старухе.—
Возьми, говорю, иначе я обижусь.
Старица зарыдала и ощутила в своей ослабев-
шей руке невиданное золото.
— Помолишься за меня,— с расстановкой про-
говорил благотворитель.
— Владыка многомилостивый! Вы за меня,
грешную, помолитесь... при последних часах
моих! — едва выговорила старушка сквозь сле-
зы,— А это я... или в храм божий... на поминове-
ние... либо сиротам неимущим...
Владыка благословил ее большим крестом и
поцеловал в плечо. Старушка упала ему в ноги и
едва могла подняться от волнения.
Притворяя за собой дверь, она как-то вырони-
ла свой подарок. Золотой, громко стукнувшись
об пол, покатился вдоль залы. Старушка в слезах,
задыхаясь, бессильными локтями расталкивает
толпу:
— Батюшки! Голубчик! Где он? Ох, про-
падет!..
Между тем мальчуган, кандидат в архиерей-
ские служки, ползая на четвереньках, обшаривал
пол возле стульев и под стульями.
316
— Вот он! — сказал он наконец, вскочив на
ноги.
Золотой пошел было по рукам. Послышался
шепот: «Это он дал? а? он?»
— Он, он... отдайте! Да ну, дайте же! —
шепотом умоляла счастливица, простирая руки
к сродичам.
Торопливо перехватывая друг у друга монету,
как некую невиданную диковину, любопытству-
ющие в свою очередь также уронили ее.
— Господи, да что же это такое! — с отчая-
нием прошипела старушка.
Но на этот раз золотой немедленно был поднят
и наконец возвращен по принадлежности.
Между тем во время суматохи, поднятой
путешествием полуимпериала, отец дьякон успел
побывать в гостиной, откуда вслед за ним вышел
в зал и сам преосвященный. Это было до того
неожиданно для родственников, что они пришли
в крайнее смятение; стараясь восстановить в своих
рядах некоторый порядок, они произвели страш-
ную толкотню: теснили друг друга, наступали
один другому на ноги. Физиономии их выражали
недоумение и смущение. Преосвященный не-
которое время постоял молча, в ожидании, пока
установится тишина, потом сказал:
— Хоть я и желал побеседовать с каждым из
вас особо, но больше не могу: утомился, и свобод-
ного времени у меня мало. Кто имеет во мне
нужду действительную, серьезную (последние
слова он произнес с ударением), тот может отнес-
тись ко мне письменно, и я приму во внимание...
А теперь буди над вами благословение господ-
317
не! — заключил владыка, издали осеняя обеими
руками предстоящих.
Те ответили ему дружным, молчаливым по-
клоном.
Владыка ушел; родственники, постояв с пол-
минуты на одном месте, повалили к выходной
двери.
— Ах, что же это я! — спохватился о. Зосима,
сходя с крыльца,— про викарного-то забыл! А ведь
как просил, бедный! Эка горе какое! Ну, да я
письменно!
Во время обратного шествия в родственниках
уже не было той сплоченности и того объединения,
какие замечались в них перед вожделенным
моментом свидания с архиереем. Удостоившиеся
беседы со своим владыкой и польщенные обеща-
ниями бойко шли впереди, оживленно разговари-
вали, смеялись, а те, которым не удалось полу-
чить частной аудиенции, медленно брели сзади,
причем одни хранили унылое молчание, другие
вполголоса ворчали.
— Н-да-а!— самодовольно восклицает о. Зо-
сима.— Сказано: неприятен пророк в отечествии...
Еще как приятен-то! Теперь уж, можно сказать,
я совсем не от мира сего. Как только вакансия...
так и поминай как звали! Как только, говорит,
приеду — так сейчас же для вас очищу... либо,
говорит, тут же выдвину вас подальше... А мне
что? Куда ни кинь, все выходит хорошо... Н-да-а.
Теперь уж благочинный...
— А вы говорили о нем владыке-то? — пере-
бивает кто-то оратора.
318
— Куда там! Он и без меня все узнал, саги
первый начал. «Я, говорит, этого не потерплю.
Я, говорит, его туда запрячу, что и-и...» Я уж ему:
бог с ним, говорю, не вредите ему, только лишь
меня-то избавьте, говорю... «Об этом, говорит,
и толковать нечего...» Однако благочинный-то
себе на уме; ничего не видя, уже подъезжать
начинает. Перед тем как нам сюда ехать, присыла-
ет мне «Епархиальные ведомости» с письмом:
честь имею, говорит, при сем почтительнейше
препроводить вам номер. Извините, говорит,
великодушно, что замедлил... по независящим об-
стоятельствам. Э-э, думаю, запел! Как-то он у меня
запоет теперь? Как бы не охрип, хе-хе-хе-хе...
— Батюшка,— говорит староста,— я- думаю
ему теперь ничего не давать, как приедет по
ревизии. С какой стати? На оброке, что ль, мы
у него? Что он нам сделает? Эка штука здоровая —
благочинный! Того и гляди — сам под начало нам
попадет... Уж и прижмем его тогда? а?
— Воображаю, как бы ты говорил с влады-
кой! — насмешливо восклицает Душа, обращаясь
к супругу.— Ты бы ничего не выхлопотал! Ну,
как есть ничего бы не добился! Скажи мне спасибо,
что поехала. Теперь и Соня с женихом, и ты со
славою!..
— Ну, Вася, молись богу! — слышится голос
курчавого исполина,— видишь, как отец-то о тебе
печется? К архиерею определяет. Иной бог знает
где курс кончит, а такой чести не заслужит.
Молись, брат, молись! Завтра будет решение твоей
жизни.
— Кто ел, кто кушал, а иному только по
319
губам пришлось,— говорит кто-то в толпе неудо-
стоившихся.— Сам же сказал, что с каждым
поговорит, и вдруг: «некогда!» Тут что-нибудь
не так... Уж не карга ли эта старая намутила?
О-о, хитрая, должно быть! Никому ничего, а ей
влетело! Ведь сумела же выплакать себе, про-
каженная! Идет — разрюмилась... А на что ей
деньги? Уж дать не дать... нам! Да и дал бы,
глядишь... Не допустил! Непременно это она
подвела! После ней только отец дьякон побывал,
да и то... много ль же он там сидел? Чуть-чуть!
А потом — вдруг благословение! Оказия... «Пись-
менно!» Поди-ка снесись! Под руками был —
не поймали, а теперь уж... А другое дело: кто
знает? Может, еще и внемлет, может, еще и квзы-
щет. Святительское слово, ведь оно... Бог его
знает!
Владыка уехал.
«Родственники» около месяца рассказывали
всем и каждому историю своего свидания, с бес-
конечными вариациями и прикрасами. О. Зосима
понесся так высоко, что презрел всякую суборди-
нацию и то и дело твердил: «Вот только бы
ваканция!»
Соня, которой, по мнению матери — 18, а по
мнению отца — 23 года, сделалась чрезвычайно
разборчива в женихах и капризна. «Это какие
женихи! Такого ли нам вышлют!» — толковали
они с матерью. Одним словом, все, вкусившие
сладости лестных обещаний, находились в со-
стоянии самого восторженного оптимизма.
320
Проходят месяцы, проходят годы. Жизнь
родственников сохраняет самое ненарушимое.
Несколько раз сносились они письменно, напоми-
нали, взывали, умоляли. Владыка не «внемлет»
и никого не «взыскивает». Энергия упований
ослабела; горечь разочарований залила душу.
Некоторые, не дождавшись желанного многого,
потеряли даже и то немногое, которым пробавля-
лись до сопричисления себя к сонму родствен-
ников владыки. Не выиграла, в сущности, и
счастливица старушка: ее поедом съели за золотой
и заклеймили именем ведьмы-смутьянки. О. Зо-
сима, находивший весьма приятным пророка
в отечествии, озлобился, замкнулся в себя и начал
размышлять на тему: не надейтеся ни на князи,
ни на сыны человеческие.
УСТРОИЛИСЬ!
I
Не более четырех месяцев прошло с тех пор,
как Сергей появился в селе Утюгове и нанялся
в работники к содержателю постоялого двора,
а уж весь почти утюговский женский пол вос-
чувствовал к нему глубокие симпатии. Да как
было и не восчувствовать? Мужик-то ведь какой!
Молодой, рослый, статный, скобка густая,
черная, борода красивая, глаза карие, свет-
лые, пронзительные. Впрочем, сам Сергей
не замечал бросаемых на него жадных взгля-
дов и не предвидел никаких искушений, no-
li- 1032
321
ка не случилось с ним вот какое обстоятель-
ство.
Стояли июльские сумерки, тихие, теплые.
Сергей, в фуражке с огромным козырьком, в
линючей ситцевой рубахе, в посконном фартуке,
в широчайших синих шароварах и в опорках,
пробирался от задних ворот своего хозяина по
узкой тропинке и направлялся к плетню, за ко-
торым начинался обширный луг. В руках у него
позвякивали удила двух обротей.
— Э-эх, тоска проклятая!..— пробормотал он,
с треском перелезая через плетень и тяжело
прыгнув на землю.
Только было двинулся он по каемке луга,
как с правой стороны, из-за холма, от речки,
показалась некрупная женская фигура.
— Сергей! — окликнула фигура.
— А?— не останавливаясь, отозвался Сергей.
— Это ты? Постой-ка...
Сергей приостановился.
— Здорово! ты куда?
Сергей тронулся за фуражку и проговорил:
— За лошадьми... Завтра поутру хозяин в
город едет... А ты?
— Да бычишку своего ищу: не пришел ка-
торжный. Пойдем вместе, веселей будет.
— Пожалуй,— согласился Сергей и двинулся
вперед.— Оно хоть веселье-то не бознать ка-
кое...— добавил он, глядя на семенящую возле
него спутницу.
Спутница эта была пухлая, мясистая, при-
земистая, но смазливая и проворная бабенка
лет двадцати пяти.
322
— Ты меня знаешь?— обратилась она к
Сергею.
— Как же, знаю... Палагея?
— Ишь ведь!— ухмыляясь, произнесла Па-
лагея.
— Я тебя еще спервоначалу... по голосу,—
изъяснил Сергей.— Дюже голос у тебя здоров!
Услыхал в первый раз: кто это, мол, такое? «Это,
говорят, Палагея». С той поры я стал думать:
«Это, мол, Палагея»... Где это тут мои?— пе-
ребил себя Сергей, всматриваясь из-под ладони
в темнеющую даль.
— Тут что-то не видать и не слыхать... Должно
быть, далече... Они там возле кустов больше,—
изъяснила Палагея, помогая Сергею осматривать
окрестность.
Произошла небольшая пауза.
— Так ты меня знаешь?— возобновила Па-
лагея прежнюю тему.— Ты ведь какой-то чуд-
ной: ни на кого ровно бы и не смотришь.
— Нет, я смотрю... Да что смотреть-то?
— Ну, как что? Все-таки... народ!
— Я ведь не из лесу пришел; не видывал я,
что ль, народу-то?
— Что ты всегда такой грустный?— полюбо-
пытствовала Палагея.
— Что ж мне веселиться-то?— также вопро-
сительно произнес Сергей.— Этакого расстрой-
ства, как мое-то, не приведи господи! Тут не до
веселья.
— Ты одинокий?
— Теперь одинокий, а был неодинокий. В этом
все и дело. Ведь у меня тоже своя баба была...
и**
323
Уж и баба же была! Господи боже мой, что за
баба такая! — оживленно воскликнул он, повысив
голос;— Пригожая, да ловкая, да хозяйствен-
ная. А уж к мужу, бывало, и-и... я уж и не знаю!
Только господь не судил владать. Что-то там
внутри сделалось... Божье дело... И не учуял, как
изгасла, в какую-нибудь неделю. Ничего не
поделаешь!
Сергей глубоко вздохнул и торопливо высмор-
кался.
— Ну, а там уж... что ж после того?— про-
должал он, понизив голос.— Напала на меня
тоска. Куда ни пойдешь, на что ни взглянешь —
стоит в глазах как живая! Работа не в работу;
дело из рук валится. Что тут делать? Подумал,
подумал — плюнул, ушел оттуда, да вот и нанялся
в работники. Думаю, по крайности, за глазами,
авось скорей найду точку... Теперь немножко
будто легче стало, а все еще не наладился как
следует. Опять же мне тут как-то не по нутру...
на что ни взглянешь. Землишка у вас тощая,
хлебишка жареный родится. Да и работают! На-
род все немогутной да ленивый. Теперь вот мо-
лотят? Срам взглянуть. Цепы как кнутики какие.
Жвык-жвык... Ровно бы мух сгоняют. Ты посмо-
трела бы у нас! Земля жирная! Хлеба-то буйные...
что стена стоят. А цеп-от, бывало, сделаешь!
Один бичик чего стоит! Народ здоровый, да и
я, слава богу... Пудов десять подыму. (Палагея
смерила его глазами и подумала: «А что ж... и
подымет!») Бывало, шарахнешь по снопу-то,
так он как бешеный вскочит! Я вот и тут себе
по-своему цеп справил. Нарочно в лес ходил;
324
вырезал на славу... Коли хочешь, я тебе покажу
когда-нибудь. Так ты его от земи, пожалуй, не
подымешь.
Некоторое время оба шли молча. Слышен был
только слабый шелест влажной травы да легкое
пощелкивание опорок о мозолистые пятки Сергея.
Вдали послышалось фырканье лошадей.
— Постой... никак это они.
— Нет, еще далече,— уверила Пала гея.—
Вот ты говоришь: работать... По работе я сама
куда хошь, на все горазда. Кроме того, что там
хлеб убираешь... коли видишь недостаток боль-
шой — и промышлять станешь. Тут уж против
меня не многие...
— Чем же ты промышляешь?— поинтере-
совался Сергей.
— Как «чем»? Деру лыки, скорье, мох, грибы
собираю. Ведь оно... лыки-то али там скорье...
ты, думаешь, как? Ведь за них деньги дают. Иной
раз, глядишь — и выручишь. А также и мох,
особливо ежели красный. Вот тоже грибы...
По грибам я, можно сказать, первая. Иная пой-
дет, бродит, бродит и принесет каких-нибудь
маслят, да еще червивых. А я как ни пошла,
смотришь, целую севалку белых приволокла.
Потому — места знаю. Иной раз заберешься в
такое место, что никому и в нос не вкинется;
смотришь, а они там целыми стадами сидят. На-
сушишь снизками да и продашь. Твой хозяин
вот часто берет.
— А не боишься ты одна в лесу-то?— с не-
которым участием спросил Сергей.
— Ну, вот выдумал! Чего я буду бояться? —
325
самодовольно проговорила Палагея.— Волк,
правда, у нас частый; да что мне волк? Летом
он сыт. Вот это... в воскресенье... иду по лесу,
суком попираюсь, гляжу, а он, дурак, тут и есть:
потягивается да зевает — пасть распяливает,
а сам на меня смотрит. Я говорю: аль не выспался?
А он встряхнул ушами и пошел себе, сучками
потрескивает. Да-а!— протянула Палагея,— я
тоже, надо тебе сказать, не какая-нибудь... Да!
я и забыла тебе еще про мучку-то...
— Какую мучку?
— А вот что в лесу растет. Она на мох похо-
жа, ровно бы пальчиками или кругленькими ро-
гулечками. Нарвешь ее поболе да высушишь
на печке. Потом в сито покладешь да перетираешь
ее ладонями; потом просеешь, и выйдет мучка
желтая, мелкая, сухая, между пальцами так и
скрипит. Чуть бросишь на огонь — во какое по-
лымя вскочит! Наберешь вот этой мучки-то да
снесешь к аптекарям. Там свешают да и купят
на фунт, аж по полтине за фунт. Во ведь как!
А ты, думаешь, как?
— Это ловко! Ты, выходит, баба настоя-
щая...— мягко проговорил Сергей.
Между тем вблизи от собеседников чья-то ло-
шадь жадно щипала росистую траву. «Булан, Бу-
лан, Булан!»— покликал Сергей, направляясь к
лошади, которую принял за свою. Мнимый Бу-
лан с испугу отпрыгнул в сторону, тяжело вскинув
спутанные передние ноги. Сергей тихонько вы-
ругался и снова подошел к Палагее. Они оста-
новились.
— А что ты думаешь, Палагея?.. Ведь и вправ-
326
ду мне повеселее стало, как поговорил с тобой.
— А то как же? Поговорить с человеком аль
нет?— весело отчеканила Пала гея. — Ведь наше
с тобой положение-то, почитай, одинаковое: ты
одинок, и я одинока; у тебя горе, и у меня то ж.
Ты вот слышал, песню я пою... Ведь это я не с
радости, а так: подумаешь-подумаешь, слезами
горя не изымешь да и затянешь...
— Ты ведь замужняя?— осведомился Сергей.
— Я хоть замужняя... да какая ж я замужняя?
Где он у меня, муж-то? Еще бознать когда про-
пал. Хуже, чем умер. Да уж и муж, как вспом-
нишь!.. Старый, лысый, губошлепый, ноги кривые!
Он по портняжескому мастерству... Сперва жил
в Питере, говорят, хорошо, а потом, после ка-
кой-то там болезни, совсем ни во что стал. Пхну-
ли меня за него, за вдового, силом; сиротка я
была. Немного я с ним помаялась — он и пропал,
а я одна-одинехонька вот уж который год...
Связа одна; ни тебе замужняя, ни тебе вдовая.
Так-тося!
— А давно он у тебя пропал-то?— глухо про-
изнес Сергей.
— Да уж пять годов; пожалуй, еще с лиш-
ним пять будет,— ответила Палагея и глубоко
вздохнула.
— Что ж? Коли пять, ты можешь и замуж...
Ох, что же это я лошадей-то?— нехотя прогово-
рил Сергей.
— Да ты погоди... Они ведь... вот они! А ты
послушай-ка... Я сама слышала, что замуж-то
бы можно, да ведь... Я не знаю, как уж и сказать-
то. Ох, родной!.. Вот ежели бы... да нет!
327
— Что «ежели бы»?— тихо спросил Сергей.
— Вот ежели бы... ты меня взял?— едва слыш-
но проговорила Палагея.
Она ждала ответа, но Сергей молчал.
— Милый человек!— несколько громче и
оживленнее продолжала Палагея, положив руку
к нему на плечо.— Очень уж ты мне по сердцу!
Этакий ты дюжий, да мазистый, да тихий! А?
Давай женимся!.. А?
— Кто его знает?— задумчиво пробормотал
Сергей.— Очень уж вдруг... не обдумаешь.
— Чего думать-то? Пореши, да и все тут,—
торопила Палагея, ласково гладя Сергея по плечу.
— Может, нужно маленько подождать,—
размышлял Сергей, — пущай бы эта дума-то у
меня с души сошла.
— Она сама пройдет, и не увидишь,— убеж-
дала Палагея.— А как будешь откладывать, до
помрачения дойдешь. С богом, что ль? А? А уж
зажили-то бы как! Право слово! Жи-или бы себе
помаленьку...
— Не знаю, право,— колебался Сергей.—
Оно, положим, с течением времени понадобится...
Только сразу никак не обмыслишь. Глядишь,
девка бы какая-нибудь попалась на мою долю...
— Э уж!— с гримасой произнесла Палагея.—
Ты вон посмотри-ка на девок-то: на кой они тебе?
А уж как любила-то бы я тебя, касатик! Деся-
терым так не суметь.
— Ой ли?
— Да ей-богу!
— Ох ты, моя круглая!— воскликнул Сергей
и обеими руками сильно потряс Палагею за плечш
328
Но, как бы чего-то испугавшись, он отскочил
от Палагеи и начал разыскивать Булана. «Булан,
Булан, Булан!»— слышалось в темноте. Мощный
Булан поднял от травы голову и навострил уши.
Узнав Сергея, он игривой рысью сделал около
него большой полукруг, брыкнул и вдруг остано-
вился как вкопанный. Сергей, вытянув руку, по-
потчевал его коркой хлеба. Булан, плутовски
приложив уши, искусно вытягивал губами корку
из рук Сергея и, заметив легкое прикосновение
к своей морде узды, энергично и высоко вздернул
голову. Проглотив корку, Булан вздохнул и уж
с полной доверчивостью протянул голову через
плечо Сергея.
— Ну-ка, подержи,— обратился Сергей к Па-
лагее, уже обротав Булана,— а я покуда Молод-
чика поймаю. Он у нас смирный; иной раз Булана
только поймаешь, а он за ним сам бежит.
Через минуту Сергей, поставив в ряд обоих
коней, говорил:
— Садись, голова, на Молодчика, я на була-
ного. Поедем вместе.
— Ну, к чему пристало?— отказалась Пала-
гея.— Я пешком дойду.
— А что ж ты бычка-то?— смеясь, спросил
Сергей и закинул поводья на шею своих коней.
— А я и забыла,— спохватилась Палагея.—
Ну, да он теперь небось дома.
— Ну, голова, прощай! Как-нибудь еще по-
толкуем,— произнес Сергей, ударив Палагею
по плечу.
Булан с громом встряхнулся всем корпусом,
как бы готовясь принять на себя славного всад-
329
ника. Сергей быстро вскочил на него и, звонко
чмокнув губами, помчался богатырским скоком.
— Ишь ведь, жидов сын... И откуда это он
на грех взялся?— бормотала Палагея, прислу-
шиваясь к отдаленному топоту коней и резвым
шагом направляясь к дому.
«Вот это так сходил за лошадьми!— думал
Сергей, ворочаясь впотьмах на сеновале.— Сов-
сем и не чаял, и вдруг... Положим, баба... Но
ведь иной раз и девка... кто ее знает?..»
— О господи, помилуй меня грешного! —
произнес наконец он, зевая и потягиваясь и шур-
ша свежим, пахучим сеном.
II
Вставши поутру, Сергей заметил, что у него
в душе творится что-то особенное, чего он уж
давно-таки не испытывал. Правда, состояние
его было несколько тревожное; но эта тревога
была иная, чем какую чувствовал он до вчераш-
него дня. Тогда тревога возбуждалась в нем тя-
желым воспоминанием об утраченном благе, те-
перь же его волновал рой мыслей об ожидаемом
блаженстве. Все мысли против его воли сосредо-
точивались теперь на новом предмете. Обстоятель-
ства вчерашнего свидания и знакомства возникали
теперь в его воображении как будто даже с боль-
шею живостью, чем в действительности. Ему
полно и ясно припоминались откровенные и за-
душевные речи Палагеи: в ушах его отчетливо
звучал ее голос. Он сумел даже воспроизвести
330
то ощущение, какое испытывал вчера, тряся
круглые плечи Палагеи. Получив от хозяина при-
казание запрягать лошадей, он вяло побрел на
задворок и в раздумье остановился перед хомута-
ми и шлеями, аккуратно развешанными на
длинных деревянных гвоздях, вбитых в стену.
«И что это такое делается?— проворчал он, по-
ложив обе руки на затылок.— Ведь этак, пожалуй,
и ошалеть недолго... А ловкая бабенка, толковать
нечего, надо правду говорить. Круглая, шельма,
как есть круглая!..»
— Сергей, что же ты там?— послышался го-
лос хозяина.
Сергей встрепенулся и, проворно надев на
каждую руку по хомуту, в суетах едва не завяз
с ними в узкой калитке.
Проводив хозяина, Сергей снова начал разво-
дить прежние мечтания, которые в продолжение
целого дня ни на минуту не покидали его ни
при каких работах.
— Хоть бы увидеть ее,— размышлял он уж
перед вечером.— А где увидишь? Чистая беда!
Палагея в свою очередь целый день томилась,
мучилась и изнывала не менее Сергея. К вечеру
она не могла более выносить разлуки. Достав
с божницы пару семишников и наскоро выхватив
откуда-то маленький мешочек, она отправилась
на постоялый двор купить сольцы, хотя дома у
нее прежней соли хватило бы еще месяца на два.
В это время Сергей стоял за воротами, присло-
нясь к верее, покуривая трубочку и тоскливо
поглядывая в ту сторону, где находилась хата
Палагеи. Он сильно обрадовался, хотя в то же
331
время несколько смутился, когда увидел при-
ближавшуюся Палагею. Он торопливо вытряс
из трубки пепел, спрятал ее в шаровары и, про-
тянув вперед руки, с волнением заговорил:
— А, пришла! А уж я думал... Ну, что ска-
жешь? Зачем ты?
— Да вот... сольцы бы немножко,— прогово-
рила она, отвесив ему мягкий, ласковый поклон.
Сергей хотел было потрясти ее за руки, но
после моментального колебания ограничился
только тем, что сильно потер свои большие ла-
дони одна о другую.
— Хозяин не приезжал еще?— шепотом спро-
сила Палагея.
— Нет.
— А хозяйка дома?
— Там... все с ребятами. А что?
— Так... Ты думаешь, я за солью, что ль?
Так у меня ее... Приходи — тебе насыплю. Я, соб-
ственно, насчет вчерашнего... Соль тут — при-
словье одно. Ну, как же ты, миленький? Чем
меня обнадежишь? Веришь ли, вся истосковалась
и сокрушилась. Не рада уж, что и речь вчера
завела. Лучше бы и на глаза не попадаться. Вспом-
ню — сердце так и загорится. Ты уж пожалей
меня. Что ж я теперь? Пропащая!
Во время этой тирады Сергей то озирался
направо и налево вдоль улицы, то изгибаясь око-
ло вереи, заглядывал на двор. Убедившись, что
можно говорить свободно, он глубоко вздохнул,
кашлянул и, потирая себе лоб, начал:
— Ну, Палагея, я не знаю, что такое в тебе
сидит: не то сила вражья, не то искра божья.
332
Ведь я порешил!— твердо произнес Сергей, от-
няв ладонь ото лба и взглянув на Палагею во
все глаза.
— Ох ты, мой родименький! Ох ты, мой не-
наглядный!— трогательно произнесла она,
готовая заплакать от радости.
Она семенила возле него ногами и торопливо
подтыкала у себя над висками пальцы под пла-
ток, хотя волосы у нее были в порядке.
— Что делать-то... Видно, уж... Давай сюда! —
При этих словах он протянул ей руку, и когда
Палагея подала свою, то крепко сжал ее и
размашисто потряс в воздухе.
В это время на улице послышался сильный
скрип возовой телеги. То ехал с мельницы ка-
кой-то мужик, с ног до головы осыпанный мукою.
Сергей и Палагея быстро разняли руки и на не-
сколько шагов отступили друг от друга.
— Так как же сольцы-то?— громко сказала
Палагея, во избежание подозрений со стороны
приближающегося мужика. Но мужик ока-
зался незнакомым проезжим, и парочка снова
сблизилась.
— Так как же? Когда же теперь это самое
дело?— спросил Сергей.
— Это свадьба-то?— сладостно спросила в
свою очередь Палагея.— По мне, хоть сейчас.
Да ведь нужно по правилу... Нужно объявить
по начальству, что муж мой пропадает и про-
падает сколько следует, пять годов, чтоб уж меня
объявили совсем вольною. А тогда и...
— Это, выходит дело, нужно с батюшкой по-
советоваться,— сообразил Сергей.— Пусть он
333
сделает выписочку... как и что... Только, по-
моему, это лучше тебе. Я — человек чужой, но-
вый, а ты совсем другое.
— А мой сгад: к попу совсем не ходить,—
надумала Палагея.— Решить обо мне он все
равно не решит. А если что выпишет, так все
равно в город пошлет с этой выписочкой. Да,
пожалуй, еще привяжется к чему-нибудь, день-
гами притеснит. Только помешает да огласит,
а тут злые люди, помилуй бог, расстроят, раз-
ведут, наговор пустят.
— Ну, а как же по-твоему?— с любопытством
спросил Сергей.— По-твоему, стало быть, к пи-
сарю сперва?
— А к писарю зачем?
— А как же? А просьбу-то?
— Это, милый, все там напишут,— объяснила
Палагея, махнув рукой у себя над головой.—
И просьбу, и окончание — все там. Это и дешевле
будет. А то за просьбу тут заплатишь, туда при-
несешь, скажут: не так написана. Опять плати.
Нет, пусть лучше они там сами... как знают.
— Ну, а вот это как?.. Ты будешь хлопо-
тать или я? По-настоящему, надо бы тебе. А мне
как хлопотать? У тебя муж пропал, а у меня что?
Еще, пожалуй, скажут, что баб соблазняю. А те-
бе что? Напишут: «можно выходить», а я сей-
час тут и есть! Мне хлопотать не о чем; я хоть
сейчас под венец.
— Да я и сама так думала,— изъяснила Па-
лагея.— Вот мало-немало, да и шмыгну. Глядишь,
к филипповкам уж давно вместе жить будем.
— Дал бы бог. Попробуем... на счастье. Тебе
334
было плохо, и мне было плохо. А теперь господь,
может, напротив устроит: тебе будет хорошо,
и мне будет хорошо... Положимся на божью волю.
Авось... на... на счастье...
— Эх, кабы! — радостно воскликнула Пала-
гея.— А я тебе вот что еще скажу,— продолжала
она, понизив голос,— до поры, до времени ни-
кому... ни единым словом. Вот когда господь нас
обрадует, тогда хоть на всю улицу кричи; тогда
с нас нечего будет взять. А то, пожалуй, при-
мутся языки точить.
— Известно, никому! Зачем мы будем сказы-
вать? Когда-то что будет?
Порешив важный вопрос и подробно обдумав
план достижения цели, Сергей и Палагея про-
стились уж как родные.
— Так сольцы? А?— шутливо проговорил
Сергей, когда Палагея сделала уже несколько
шагов от ворот.
Палагея, молча и не оглядываясь, махнула
рукой и пошла дальше.
111
Недолго раздумывая и не озабочиваясь мыс-
лями о хозяйстве, Палагея довольно быстро со-
бралась в город похлопотать об узаконении своего
необычайного вдовства. Когда некоторые бабы
с любопытством расспрашивали ее о том, куда
и зачем она собирается, то она лгала всем оди-
наково, говорила, что у нее осталась в запасе
от прошлого года мучка, которую она, по крайней
нужде, думает теперь продать в городе аптекарям.
335
Сергей нисколько не обнаруживал видимого уча-
стия в ее сборах и проводах.
Часу в десятом утра по тротуару одной до-
вольно людной улицы города медленно расхажи-
вал высокий, с торчащими усами городовой,
зорко посматривая по сторонам. К нему несмело
подошла одетая в казинетовую поддевку призе-
мистая баба, известная нам Палагея.
— Что, служивый, где тут просьбы пишут?
— Тебе к кому?— важно спросил городовой.
— Да как тебе сказать? К архиерею, что ль...
а может, и не к архиерею.
— Так ты прямо говори,— внушительно за-
метил воин.— Если к архиерею, так вон туда
(городовой махнул рукой в одну сторону), а
бывает — в концысторию, так вон туда (горо-
довой махнул рукой в другую сторону). Ведь к
духовному наЧальству-то?
— К духовному, как же... к духовному,—
спешно проговорила Палагея.— Ты вот мне ска-
жи, напишет ли мне кто-нибудь просьбу?
— А как же? Беспременно! Тут то и дело
пишут!— успокоил городовой и при этом, навер-
стывая некоторое упущение по службе, испод-
лобья обозрел окрестность.
— Так вот ты бы мне этакого человека... Будь
отец родной!— Палагея низко поклонилась.
— Есть, есть такой человек, есть. Это нам
не труд,— обрадовал блюститель порядка.—
Только теперь он еще не показывался. А вот
часок пройдет, он и покажется.
— Где же он покажется?
— А вот тут и покажется на улице. Он тут
336
каждый день ходит. Как десять часов, он и тут.
Кому, вот не плоше тебя, какая-нибудь нужда
до начальства, увидят его и пойдут, пойдут и
попросят, а он и напишет. Вот как он выйдет,
и ты обыкновенно подойди; он тебе и напишет.
Палагея низко поклонилась и пошла было на-
зад, но тут же быстро обернулась и взмолилась:
— Родимый, а как же я его узнаю-то?
— Да это ты как раз... как взглянешь, так
и узнаешь. Он обыкновенно седой, маленько
горбатый. Картуз либо на лоб, либо на затылок
съехал. Пальтишко... это самое пальто... Обыкно-
венно ватное, серое, коротенькое; штаны в са-
поги запрятаны. А еще вот что: обе руки у него
обыкновенно в карманах. Так вот тебе. Теперь
сразу узнаешь. А до того времени обыкновенно
походишь вот тут.
— Вот спасибо! Теперь уж я высмотрю.
И Палагея побрела по тротуару. От нечего
делать она с любопытством осматривала вывес-
ки, засматривала в окна магазинов и кондитер-
ских. Поравнявшись с окном, из которого высмат-
ривало чучело тигра, Палагея пугливо вздрогнула
и вернулась назад. Взглянув на вывеску одной
булочной, она подумала: «Экий калачище-то!
Это, какой ни будь голод, и то бы наелся, да еще
осталось бы». Она проглотила слюну и вспом-
нила, что в это утро и в рот ничего не брала. «Ну,
да это я еще успею,— утешалась она.— Вот бы
развязаться-то... А ну-ка они долго?» — снова
мелькнуло у нее в голове. Она несколько раз
прошлась взад и вперед по обоим тротуарам,
посматривала вдоль улицы, засматривала за углы.
337
Почувствовав некоторое утомление, она наконец
остановилась перед парикмахерской, двери кото-
рой были изукрашены изображениями шиньонов
и кос разных мастей. «Ишь ведь висит... подума-
ешь, живая... — мелькнуло в голове Палагеи,
когда она остановила свой взор на изображе-
нии длинной толстой косы.— А ведь небось у
мертвых выдергивают либо...» Процесс этой
мысли не успел еще завершиться в голове Па-
лагеи, как вдруг она почувствовала довольно
сильный толчок в плечо.
— Что ты тут зеваешь среди дороги-то? —
услышала она одновременно с толчком.
Она оглянулась и в нежданном враге сразу
узнала предуказанного ей благодетеля. Она рас-
терялась и в первый момент ничего не сказала.
Но когда старик прошел уже несколько вперед,
она проворно зашагала за ним вдогонку. Поров-
нявшись со специалистом по части составления
прошений и робко заглядывая ему в лицо, она
проговорила:
— Господин, мне сказали, что вы просьбы
пишете?
— Пишу,— остановившись, проговорил он
тоном, в котором слышалась уверенность во все-
мирной известности.— А тебе что?
— Да вот тоже просьбу.
— Касательно чего?
— Да насчет мужа.
— Что же это такое? Говори толком.
— Муж у меня пропал.
— Как пропал?
— Да так. Одна слава, что повенчались, а уж
338
вот сколько лет его и в глаза не видала. Так вот
теперь я желаю развязаться, чтоб, значит, замуж
можно было...
— А сколько этому лет-то? Ведь это нужно
знать определительно. Пять лет есть?
— Куда ж там пять? Еще с лишком.
— Это можно... Это я могу...
— Сделай такую милость!.. Ты много ль же
с меня за труды-то?
— Два целковых.
— И! что ты, родимый! Этакую страсть с
бедного человека! Ты уж с меня, милый, сбавь.
— Да что ты у меня горшки, что ли, поку-
паешь?— сурово проговорил старик, прищурив
один глаз.— Положено... как калачу цена. Не
согласна — пиши сама.
И он двинулся было вперед. Палагея снова
догнала его и снова начала просить об уступке.
— Ведь деньги у тебя есть, чего клянчить-то?
— Столько-то, правда, наберется, да у меня-то
уж очень мало останется,— солгала Палагея.—
А там, глядишь, еще кому-нибудь нужно.
— Ну, других ты после наградишь, а теперь
пока пообещать можешь. Вся сила в прошении.
Если оно ловко составлено, то сейчас же в ход
пойдет. А пошло оно в ход — дело вполовину уже
сделано... Так писать, что ль?
— Уж, видно, писать, батюшка; сделай ми-
лость, напиши.
— Бумага есть?
— Нетути, касатик.
— А! то-то и есть. Видишь вот: труды труда-
ми, да тут еще бумагу, да чернила покупай, перо
339
свое приготовь... Уж, видно, так и быть, пойдем...
Стриж (так прозывали уличного канцеля-
риста) завел Палагею в одну из глухих улиц и
затащил в крошечный деревянный домик, смот-
рящий на божий свет тремя убогими окошечками.
Этот домик принадлежал просвирне, у которой
Стриж числился квартирантом. Когда он пере-
ступил порог квартиры, ведя за собой свою клиент-
ку, то сильно поморщился, видя, что ему совсем
почти главы приклонить негде. Площадь един-
ственного стола вся была занята мукой и тес-
том. Хозяйка, подслеповатая старушка, с бо-
лезненно отдувшимися щеками, засучив рукава
по локоть, щипала крутое тесто по кусочкам и,
проворно изготовляя составные части просфор,
рядками размещала их в жестяных противнях,
стоящих на табуретах по обеим сторонам стола.
— Уж ты мне с печеньями своими! — с недо-
вольством воскликнул старик, растопырив паль-
цы над головой.
— Всякий со своим: ты с прошениями, я с
печеньями, — отозвалась старушка, не прерывая
работы.
— Где вот теперь я сяду?— продолжал него-
довать старик.
— Где-нибудь присядешь,— равнодушно
проговорила просвирня.— Вот на окошке... на
что лучше?
Пренебрежительно махнув рукой, писака до-
стал из крошечного сундучка лист бумаги, пузы-
рек чернил, перо и с великими затруднениями
уселся наконец на рекомендованном ему лучшем
месте. Палагея, после тщетных стараний уло-
340
вить взгляд хозяйки, чтобы с ней раскланяться,
осторожно прокралась у нее за спиной к импро-
визированному письменному столу делового мужа.
Стриж, сделав пером несколько взмахов над
бумагой, в одно мгновение изобразил крупным
почерком надлежащий титул; затем спросил у
клиентки, какого она уезда, села и как ее зовут.
Палагея заключила из этого, что при составле-
нии прошения нужна ее помощь. Переведя дух,
она заговорила несколько нараспев:
— Ну, а теперь пиши: как собственно я сов-
сем почти лишомшись мужа...
— А ты уж молчи,— ограничивал ее Стриж.—
Без тебя знаю, что написать... Лучше отойди, а
то собьешь, пожалуй.
Палагея отошла. После некоторого скучного
молчания она наконец осмелилась завести беседу
с хозяйкой.
— Ишь ведь тесто-то у тебя какое белое,—
проговорила она, с умилением покачивая голо-
вой.— А у нас-то в деревне... и приравнять нельзя.
— То в деревне, а то в городе,— самодовольно
проговорила просвирня.— Тут нельзя... Тут на-
чальство... Назирает.
— А взять вот у нас благовещение, так в это
время у нас чуть не ржаные пекут.
Просвирня улыбнулась.
— Право слово!— подтвердила Палагея.—
В этот день у нас страсть сколько просвир вы-
ходит! Потому, тогда всякому нужно. Кажись,
какую ни вынеси — купят. А то скотину не с чем
будет выгнать. Когда скотину в первый раз вы-
гоняют, так берут из дома благовещенскую про-
341
свирку да вербу. Что говорить? мало ль когда
нужна эта просвирка. Вот ежели гроза...
— Будет тебе тараторить-то!— строго про-
изнес Стриж.
Палагея умолкла. Став среди комнаты и под-
перши одну щеку ладонью, она глаз не спус-
кала с своего благодетеля. Видела она, как он,
повертывая наклоненную голову то вправо, то
влево, отчеркивал пером вверх или энергично
проводил какую-либо длинную линию вниз.
Видела она, как иногда, перестав писать, он под-
нимал глаза в потолок или же довольно долго
тер себе ладонью лоб. Видела она, как иногда,
в самом разгаре строчения, он левой рукой вдруг
выхватывал из кармана пальто что-то вроде тряп-
ки и раза два-три размашисто смыгал ею у себя
под носом. Но вот работа кончена. Поставив по-
следнюю точку, делец достал из того же кармана
табакерку, открыл ее, захватил из нее двумя паль-
цами какой-то пыльцы, посыпал ею на незасохшие
строки и, взглянув на Палагею, проворчал: «Вот
еще табак тут тратишь».
— Господь тебе здоровья за это пошлет,—
утешала Палагея.
Между тем делец несколько раз пощелкал ног-
тем по бумаге с нижней стороны листа и, усердно
сдув с своего изложения отскочившую табачную
пыль, с серьезным видом два раза прочел про
себя все написанное. Затем он аккуратно сложил
лист сперва вдоль, потом поперек и, торжествен-
но вручая его Палагее, проговорил:
— Смело могу сказать, что этакого прошения
тебе никто бы не написал. Да, что же я?— спо-
342
хватился он и быстро отдернул руку назад.—
Прежде нужно вознаграждение.
— Сейчас, сейчас, родимый!— засуетилась
Палагея.
Пока она, повернувшись к благодетелю боком,
развязывала из узелка деньги, Стриж несытым
оком засматривал в ее бесформенное портмоне.
— Теперь тебе только подать, и дело в шля-
пе,— заключил ублаготворенный делец, уже
выпустив из рук свое произведение.
Палагея, бережно держа обеими руками про-
шение, отвесила хозяйке и квартиранту по низ-
кому поклону и оставила канцелярию. У калитки
она с минуту постояла и быстро вернулась в покои.
— Родимый, а что ж ты мне не прочитал?
Что ты там написал?— обратилась она к дельцу,
который в это время стоял на коленях пред своим
сундучком и что-то приводил там в порядок.
— Что тебе там читать?— сказал Стриж, не
вставая с полу, а только повернув к Палагее го-
лову.— Ты даже и не поймешь, что там написано.
Вот как написано! Чего и самой тебе сроду в
голову не приходило, и то все изложено. Словом
сказать — все, с начала до конца, в твою пользу
и к твоему благополучию.
Палагея молча поклонилась и ушла, с полною
уверенностью в грядущем благополучии.
В консисторской приемной (правда, она ни-
сколько не похожа на приемную, но допустим,
что это приемная) несколько смиренных смерт-
ных терпеливо ожидали по большей части не-
343
богатых милостей. Одни стояли возле окна и стены;
другие сидели на длинной скамье. Тут был и
одетый в порыжелый кафтан мужик с толстым
носом и загноившимися глазами. Тут был и ба-
тюшка с предлинной брродой и чрезвычайно пря-
мым, как доска, плоским станом. Тут был... Ну,
да мало ли еще кто тахМ был! Для нас важно
то, что там была и Палагея. Просители втихомолку
вздыхали и только изредка перешептывались.
Из двери в дверь сего юридического учреждения,
чрез якобы приемную, то и дело шмыгали про-
водники милостей, которые могли бы составить
любопытную коллекцию различных типов с пре-
обладанием, впрочем, типа курганного племени.
При появлении каждого из них в приемной те
из просителей, которые сидели, быстро вставали
с своих мест, а стоящие беспокойно переминались
с ноги на ногу. По большей части шмыгающие
служаки были люди без влияния, и когда кто-либо
из просителей обращался к одному из них и
изъяснением своих нужд, то обыкновенно выслу-
шивал нечто вроде следующего: «Хорошо, я там
передам». Вообще процесс приема прошений
был очень длителен. Что касается Палагеи, то она
могла добиться некоторого толку ровно в два
часа, и вот как это случилось. Из дверей слева
амбулаторным шагом выступал, заложив руки на-
зад, пожилой, тощий, с полуседыми бачками че-
ловечек. Предположив, что это, должно быть, и
есть самый настоящий человек, Палагея решилась
подойти к нему.
— Ваше благородие, к вам мне нужно аль не
к вам?
344
— Тебе что?— спросил чиновник.
— Да вот с просьбой... насчет мужа,— отве-
тила Палагея, подавая ему свернутый и уже
сильно измятый лист.
Настоящий человек развернул прошение, а
Палагея затараторила:
— Как, собственно, он у меня пропал, так вот
я хочу теперь в очистку...
— Хорошо, хорошо, сейчас увидим,— пере-
бил чиновник и вполголоса прочел следующее:
«На основании изреченных по нижеписанному
делу слов не добро быть человеку едину; я же
с печалию лишена супружеского одра уже с не-
запамятных времен, а именно в течении пяти лет
с месяцами. Посему, находясь в унылом поло-
жении по причине тяжкой разлуки и, можно ска-
зать, всеконечного исчезновения онаго мужа
моего и будучи вследствие чего отнюдь не же-
ною, а наипаче сущею вдовою, слезно прошу
меня развязать и сделать радостное распоря-
жение к вторичному моему браку на законном
основании. Уповаю, что изольется на меня милость
божья, на что и ожидаю милостивейшей резо-
люции».
— Гм! — промычал тип. — Тут требуются
еще надлежащие документы.
— Это что же такое? — спросила Палагея.
— А то, что нам нужно письменное удосто-
верение, точно ли твой муж в безвестном
отсутствии и точно ли столько времени про-
текло.
— Да уж вы не сумневайтесь. Господи по-
милуй! Неужели я вас обманывать буду? Я ведь
345
не какая-нибудь... У кого ни спросите, всякий
скажет, что пропал...
— Ну, да это мы справимся,— решил чинов-
ник.
— Вы-то, знамое дело, справитесь; мы-то вот
ничего тут не поделаем,— заискивающим тоном
проговорила Палагея.— Когда ж это будет-то?
— Месяца через два, а может быть, и позже.
— О-о! — простонала Палагея.— Ведь это я,
пожалуй, не успею до филипповок-то... Нельзя
ли поскорее? Сделайте милость!
— Никак нельзя!— отрезал он.
— Я уж тогда вас наградила бы, по состоя-
нию...
— Когда это «тогда»?— спросил чиновник.
— А когда вот к концу приведете. Я бы и
теперь... да дюже подъело меня прошение! А со
временем, господь даст, опять соберусь с силами.
Чин нахмурился и молча повернул к дверям.
Палагея поклонилась ему в спину, почему-то пе-
рекрестилась и двинулась из приемной.
IV
Сергей во все это время отсутствия Палагеи
томился от скуки и неопределенности ожидания.
Он сильно желал поскорее увидеться с нею и
узнать, пошло ли дело в ход. Но вот Палагея
возвратилась. Под каким-то ничтожным пред-
логом, вроде прежней сольцы, она в самый день
возвращения, вечером, пробралась к заветным
воротам, у которых с уверенностью поджидал
ее Сергей. Они поздоровались.
346
— Ну, что бог дал?— спросил Сергей.
— Ничего, слава богу... благополучно,—
сказала Палагея.— Первым делом сейчас просьбу.
Ходит там по улице умный человек и пишет
просьбы. Написал и мне. Два целковых отвалила.
Зато уж и просьба вышла! Уж написано там,
написано!.. Потом пошла в эту... как ее... Улучив
времячко, подошла к начальнику. Подала. Про-
читал он просьбу и сейчас же ко мне: твое дело,
говорит, правое и нетрудное; мы, говорит, с ним
как раз справимся. Тут бы наградить его следо-
вало, а у меня осталось чуть-чуть. Так я уж: со
временем, мол; без благодарности не останетесь...
Только дюже долго-то: через два месяца, говорит.
Глядишь, ежели б теперь же ему подсунуть, по-
скорей бы обделали. Ну, да все-таки слава богу.
Теперь уж немного терпеть осталось. Теперь уж
мы с тобой вовсе свои. А прежде времени все-таки
объявляться не будем.
Сергей с величайшим удовольствием выслу-
шал речь Палагеи. Предвкушая приближающе-
еся блаженство, он даже и говорить не мог, а
только улыбался и потряхивал скобкой.
Вечер. На дворе совсем уж стемнело. Палагея,
управившись с делами «вокруг дома», долго сидела
на пороге своего крыльца, преисполненная раз-
личных воспоминаний о прошлом и мечтаний о
будущем. Небо заволокло тучами; подул прохлад-
ный, порывистый ветер, сильно зашуршав со-
ломой кровли и чувствительно затронув ставни
окон. «Ох, пойтить...— прошептала Палагея, по-
дымаясь с места.— Теперь небось уж сколько ча-
сов-то!» Она перекрестилась на восток и, за-
347
перев за собою дверь, пошла в избу. В избе стояла
тьма и духота. Где-то звонко чурикал сверчок.
«Поужинать,— подумала Палагея, стоя посреди
темной хаты,— да что-то не хочется; разве мо-
лочка?..» И она принесла кринку молока. До-
став ощупью серную спичку и чиркнув ею о печ-
ку, Палагея начала было зажигать ночник, но
в ней оказался хвостик фитиля чрезвычайно ко-
ротенький и совершенно сухой: масла в ночнике
не было ни капли. Пока Палагея соображала,
что сделать в таком случае, спичка в ее руке до-
горела и обожгла ей палец. Палагея торопливо
бросила оставшийся кусочек спички и потерла
обожженные пальцы о сарафан. «Шут те подери
совсем!— прошептала она.— Где я возьму теперь
масла? Разве так... впотьмах? Э, да ну его сов-
сем! Лучше завтра утречком поем... Разве только
скиснется? Ну, да я его опять вынесу... Житье
горемычное! Хоть бы девчонка какая ни на
есть была у меня! Все бы что-нибудь сдейст-
вовала. А то одна как перст. О, господи поми-
луй!..» Палагея стала перед святым углом на
молитву.
— Мать пресвятая богородица!.. Угоднички
христовы! Боже наш, боже наш! Батюшка ми-
лостивый!— шептала она, отвешивая в темноте
быстрые, низкие поклоны и крепко стуча паль-
цами по лбу, груди и плечам.— Помяни, госпо-
ди, о здравии раба божья Сергея! — прошептала
она, испустив глубокий вздох, и вдруг закри-
чала:— Брысь, проклятая! Ах, лопни твоя утро-
ба!— Оказалось, что сожительница Палагеи, кош-
ка, не находя никаких препятствий к тому, чтобы
348
поужинать в темноте, бесцеремонно и крайне
неосторожно снимала сливки с молока, от ко-
торого отреклась хозяйка.
Прекратив молитву, Палагея растворила дверь
и, бегая по хате, кричала: «Брысь! брысь! брысь,
проклятая!» Кошка навскачь выбежала за порог.
«Что ж это за наказание такое!— ворчала Па-
лагея, захлопнув дверь.— Ты норовишь к богу,
а враг тут и есть!..» Она схватила кринку, пота-
щила из избы и забормотала:
— Куда же теперь его? Вылить — больше ни-
чего! Этакая ведь погань!..
«Что это я нынче? Господи помилуй!— поду-
мала Палагея, ощупывая на примосте свою по-
стель.— Бывало, об эту пору давно уж сплю.
Ровно бы немочь какая вступила... Ах, сердце
не на месте!..»
Сидя уж на постели, она достала из-за пазу-
жи медный крестик, перекрестила им подушку,
перекрестила кругом себя пространство и по-
целовала крестик.
— Одна, как перст одна!— шептала она, за-
крыв глаза.— Никакого духу человечьего... свер-
чок один... И для кого живешь?.. Каторжный!»
завертелся! Туда и дорога! Дружочек ты мой ми-
лый, хороший... радость моя! Господи, когда уж
господь приведет?.. Пришел бы теперь... Э-эх...
Ни разу ведь не был. Хоть бы как-нибудь завер-
нул... Совестлив дюжо. Иной бы... Хоть бы взгля-
нул... Хоть бы замануть его как-нибудь... Увидят.
Скажут: вот! Как бы нибудь ухитриться... А что
ж? И вправду! Пойду да и скажу ему... Миколаю
Митричу. Пустит, право слово, пустит. Еще как
349
пустит! Прямо пошлет... Пошлет... Придет...
Сергей! А?.. А?..
Палагея. заснула.
Утром следующего дня Палагея явилась к хо-
зяину Сергея и предложила:
— Не возьмешь ли, Миколай Митрич, у меня
на зарез овцу?
— С чего ж? Можно,— согласился хозяин.—
Мне все равно, у кого ни брать. Вот завтра у нас
праздник... Нужно будет зарезать. Вечером пош-
лю Сергея, он и приведет. А после сочтемся, не
обижу.
А Палагее не до счетов, она рада была, что
наконец увидит у себя Сергея.
Наступил желанный момент. Палагея встре-
чает друга в сенях.
— Милости просим, милости просим! —
с улыбкой проговорила она.— Вот когда ты ко
мне в гости-то! То-то я рада! Кстати, вот хату
посмотришь. Бог знает, где нам господь жить
приведет: может, в твоей, а может, в моей хате.
Улыбаясь во весь рот, Сергей шагнул в хату,
помолился богу и торжественно произнес:
— Ну, здравствуй, будущая моя хозяюшка!
Он взял ее за обе руки и притянул к себе.
У Палагеи были ушки на макушке. Она прыгала,
хохотала, как ребенок, толкала Сергея, трепала
его по спине. Раз она даже ущипнула его.
— Ну, а ты не дури; завтра праздник,— серь-
езно проговорил Сергей, дотоле не перестававший
улыбаться.
— Посмотри-ка хатку-то мою получше,—
сказала Палагея, обводя глазами стены избы,—
350
ты думаешь, христарадняя какая-нибудь? По-
смотри-ка...
— Да уж... толковать там!— проговорил Сер-
гей и обозрел хату.
Пол был чисто выметен, лавки вымыты, по-
стель прибрана, горшочки, чашечки, ложечки,
тряпочки и т. п. были на своем месте и в надле-
жащей чистоте. Словом, Сергей всюду заметил
следы деятельности трудовых, опытных и поряд-
ливых рук.
— Видать, видать, что хозяюшка, толковать
нечего!— похвалил Сергей.
— То-то и есть,— улыбаясь, проговорила до-
вольная Палагея и сложила руки на груди.
— Ну?— произнес Сергей и тряхнул скобкой.
— Что «ну»?— смеясь, возразила Палагея,—
может, тебя попотчевать чем-нибудь? И я-то, ду-
ра,— спохватилась Палагея.
— Нет, спасибо... Дай срок — еще успеем.
Там небось хозяин... Скажут: что долго?..
— Небось не скажут. Посиди, милый. Я, мол,
овцу ловил,— сказала Палагея.
— Так тебе и поверят, что Сергей овцы пой-
мать не может. Нет, лучше в другой раз,— поре-
шил Сергей и направился вон из избы. Палагея
пошла за ним.
— А вот это мой чулан,— объяснила Палагея
в сенях.— Ах, ключ-то я забыла...
— Да зачем? Не нужно,— сказал Сергей,
приближаясь к двери, ведущей на двор.
— Как зачем? Ты бы взглянул, сколько там
у меня одежи, добра всякого,— изъяснила Па-
лагея.
351
— Верю, верю,— сказал Сергей.— Одно слово,
молодец! За то-то ведь я тебя... Клад баба! Какую
тут?— спросил он, кивнув с крыльца на кучку
овец, прижавшихся в углу двора.
— Да вон хоть пеструю-то,— сказала Палагея.
Когда Сергей широко шагнул с крыльца, овцы
пугливо бросились было в противоположную сто-
рону. Но Сергею скоро удалось вцепиться в гу-
стую шерсть своей жертвы и задержать ее на
месте. Схватив правой рукой задние, а левою
передние ноги овцы, он вскинул ее к себе на
шею так легко, как какой-нибудь шарф.
— Ну, прощай же, хозяюшка! Благодарю за
угощение,— шутил Сергей, выходя йз калитки.—
А ты вот что, голова!— начал он уже на улице.—
Ты овец-то не мотай. Тебе же слюбится, как у нас
с тобой скотинка будет.
— Я знаю... это я так...— отозвалась Па-
лагея и потупилась.
Сергей сделал Палагее молчаливый, прощаль-
ный кивок из-под брюха овцы и быстро зашагал
по улице, усмиряя живую ношу, которая, судорож-
но дрыгая ногами, старалась вырваться из его
крепких рук.
Палагея, стоя возле калитки, далеко провожала
друга глазами.
Несмотря на предостережение Сергея, не этой
одной овечкой пришлось поплатиться Палагее
за удовольствие свободного свидания с ним. В одно
из таких свиданий Палагея выразила ему желание
наняться к Миколаю Митричу в работницы, чтобы
постоянно быть вместе. Хотя на этот раз Мико-
лаю Митричу действительно требовалась работ-
352
ница, но Сергей упорно отклонил Палагею от
исполнения ее желания, урезонив ее тем, что те-
перь уже не бог знает сколько осталось и что скоро
она продаст свой домик и водворится навсегда
в его жилище.
Двухмесячный срок жданья, назначенный Па-
лагее в консистории, наконец прошел. Запасшись
деньжонками для «благодарности», она как окры-
ленная пустилась в город.
Вот она уже в знакомых сенях консистории
и с замиранием сердца ждет выхода чиновника,
принявшего ее прошение. Долго ли, коротко ли,
наконец она увидела решителя судеб.
— Ну, что, господин, как мое дело-то?— спро-
сила она, подойдя к нужному человеку.
— Какое?
— А насчет пропажи-то... муж-то у меня
пропал.
— А, помню, помню...
— Так что же вы? порешили?
— Да, порешили.
— Слава тебе господи! Ох, как это хорошо-
то!— возрадовалась Палагея.— Совсем поре-
шили-то?
— Совсем, совсем.
— Ну, пошли вам господи. Теперь что же мне
остается?
— Теперь ступай домой.
— Значит, сейчас же и обвенчаться можно? —
спросила Палагея и начала было доставать бла-
годарность.
12-1032
353
— Нет, венчаться тебе нельзя: права не име-
ешь,— озадачил чиновник.
— Как нельзя?— с удивлением спросила Па-
лагея.
— Нельзя,— повторил юрист.— Первое: муж
твой жив и проживает в Курской губернии. Вто-
рое: в отлучке он не пять лет, как ты говоришь,
а всего четыре года и десять месяцев с днями.
Все это дознано в точности, а потому удовлетво-
рения по твоей просьбе последовать не могло.
— Господи, да кой шут вы его разыскали-то?
Кому он, бес лысый, нужен-то?— с горестью про-
говорила Палагея.
— Так полагается... нужно было привесть в
известность,— изъяснил чиновник.— Теперь мо-
жешь к нему отправиться или написать, чтобы
к тебе приехал.
Палагея покачала головой и, несколько поду-
мав, начала:
— Ваше благородие, поддержите, горькую,
как-нибудь... Нельзя ли все это заглушить?
— Как заглушить?
— Нельзя ли прописать, что он все-таки про-
пал и что совсем мне, горькой, не нужен? Сделай-
те милость! Мы бы уж тогда вдвоем вас отбла-
годарили...
— Ты сама не знаешь, что болтаешь. Пошла!
Некогда мне с тобой,— заключил юрист и скрыл-
ся в дверях.
Палагея, потерянная и ошеломленная, долго
стояла на одном месте, наклонив голову.
354
Смеркалось. Сергей широкою метлою разме-
тал пространство возле окон хозяйского дома. «Де-
нек, другой,— думал он,— да и в церковь. Чего
откладывать? Сборов у нас никаких не будет.
Пиры? Какие тоже у нас пиры?.. А диковинная
это со мною вещь, подумаешь. Была у меня же-
на... Думал, навек хватит — умерла! Теперь об
этой ни думал, ни гадал — и вдруг так приросла
к сердцу! А, вон она... с решением идет»,— про-
шептал он, увидев Палагею, и с метлою в руках
через минуту выстроился в воротах.
— Здорово! — тихо проговорила Палагея,
подойдя к другу.
— Ну, что? Пошабашила?— весело спросил
Сергей, тряся руку суженой.
— Ох, миленький, горе-то ведь какое! Пса
нашли.
— Какого пса?
— Да моего-то... мужа-то. Разыскали... по-
дейся им! И говорят, никак невозможно! Живи с
энтим... да к тому же пяти лет, видишь, еще
не вышло. Обожглась я, выходит.
У Сергея помутилось в глазах. Долго стоял
он молча, хмурый, сосредоточенный. Наконец,
уставивши взор на Палагею, он резко произнес:
«Пр-ропасть тебя возьми! проклятая!» С досадой
бросив метлу в сторону, он повернулся и пошел
внутрь двора.
— Сергей, послушай-ка... Сергей! — покли-
кала Палагея.
Но Сергей не остановился, не оглянулся и
скрылся под темным навесом.
— Господи, да чем же я-то тут виновата? —
12“ 355
бормотала Палагея.— Поди ты вон! Сергей, а
Сергей!— тихо кликнула она еще раз.
Проговорив это, она напряженно прислушива-
лась, не последует ли желанного звука. Сердце
сильно стучало в ее груди, в ушах звенело...
Но Сергей не отозвался.
— Господи боже мой, что же мне теперича?..
Горькая я, несчастная!— прошептала Палагея.
Закрыв лицо фартуком, она расслабленным
шагом побрела домой, заливаясь слезами.
Между тем Сергей, скрестив на груди руки,
долго шагал по двору, со злостью отпихивая все,
что попадалось ему под ноги. Его раза два звали
ужинать. Он не пошел. Заслышав знакомые шаги
хозяина, идущего по внутренней галерее дома,
Сергей поспешил к нему навстречу.
— Послушай, Сергей, как бы это нам завтра
сообразить...— заговорил было хозяин, проектируя
какое-то распоряжение по хозяйству.
— Нет уж, я завтра соображать не буду,—
перебил Сергей.
— Как не будешь?
— Да так... Я вот к вашей милости... Как бы
это мне расчет?
— Что ты, Сергей? В своем ли ты уме?
— В своем собственном.
— Ведь ты до заговенья нанимался. Много
ли же тут осталось?
— Сколько ни осталось, а вы меня отпустите.
Дадите там, что причитается, я и пойду.
— Да много ли тебе там причитается? Не
бознать что.
— Это все одно.
356
— Да отчего ты не хочешь у меня жить?
— Не подходит.
— Чем же не подходит?
— Не подходит!
И хозяин вынужден был в тот же вечер рас-
считать Сергея.
На рассвете следующего дня Сергей с сум-
кою за плечьми направлялся из Утюгова. Порав-
нявшись с избой Палагеи, он покосился на
запертую еще дверь, отвернулся и махнул рукою.
МИРАЖИ
Отрывок из повести
Натянув на себя казенный с ясными пуго-
вицами фрак, Роков утром следующего дня отпра-
вился к ректору.
В передней ректорской квартиры вынырнул
к нему из какой-то боковой комнатки мухортый
черноватый малый лет восемнадцати, в засален-
ном нанковом, без пуговиц сюртуке и в прекоро-
теньких брюках, отдувшихся на коленках в виде
пузырей.
— Что вам?
— Мне нужно видеть отца ректора.
— Как об вас сказать?
— Учитель Роков.
Малый исчез. Роков пощупал у себя галстук,
воротник на фраке, взглянул на пуговицы и,
найдя, что галстук не развязался, воротник не
357
отвернулся, пуговицы застегнуты правильно,
ступил несколько шагов в залу и остановился.
Пред ним открылась большая в виде правиль-
ного четырехугольника комната с полинявшим
крашеным полом и с потемневшей штукатуркой
на потолке. Белые, крупными цветами обои во
многих местах поотстали. Кругом стояло дюжи-
ны две стульев — старинных и притом разного
фасона. Стулья по местам перцмежались не-
большими простыми в одну крышку столиками.
Окна без всяких занавесок. На одном из них стоял
вниз дном монашеский клобук, от которого све-
шивался с окна, в виде хвоста, кусок черной
материи. Подле него на каких-то бумагах лежал
архимандритский крест. Едва Роков успел взгля-
нуть на клобук и крест, как черноватый малый,
выбежав в зал, схватил эти атрибуты сана и власти
и потащил в глубину покоев. Потом он снова
выскочил и, проговорив «сейчас», скрылся в
передней. Минуты через две в зал вошел высо-
кий плечистый монах с круглым мясистым носом,
неопределенного цвета глазами и жидкими, раз-
бегающимися вверх бровями. В прядях русых
волос его, виднеющихся из-под клобука над вис-
ками, и в небольшой клинообразной бороде его
мелькала седина. Это и был ректор, архиманд-
рит Паисий.
— Николай Роков... назначенный к вам на ка-
федру церковной истории,— проговорил Роков и
сделал начальнику короткий поклон <...>.
— Пожалуйте!— проговорил ректор, одной
рукой указывая на гостиную, а другой придержи-
вая на груди крест.
358
Пришли в гостиную, уселись.
— Вы говорите: на церковную историю?
— Да, на историю... церковную,— повторил
Роков.
— Но ведь у нас нет свободной кафедры по
этому предмету,— озадачил ректор.
— Как нет?— удивился Роков.— Меня совет
академии назначил по требованию вашему. Из
правления здешней семинарии отношение...
— Да, это правда,— перебил рек гор,— бумага
была. Но мы отнеслись в академию на всякий слу-
чай: у нас преподаватель церковной истории ухо-
дить собирается. Но он пока еще не ушел... и уй-
дет ли еще — бог знает.
— Что же мне теперь делать?— возразил
Роков.
— А вот у нас есть часть уроков по словесно-
сти и часть по латинскому языку. Не угодно ли?
Временно. А потом история очистится — историю
возьмете.
— Да я учился в академии на историческом
отделении и изучал притом специально грече-
ский, а не латинский язык,— заметил Роков.
— Это ничего,— успокаивал ректор.— Чело-
век с высшим образованием ничем не должен
затрудняться, он должен знать все. Как же вот
мы-то?«Я, например... Каких я предметов не пре-
подавал в разное время, когда еще не был... когда
был простым учителем? И гомилетику, и матема-
тику, и словесность, и догматику — все пре-
подавал. Что же делать-то? В наше время этим
не затруднялись. Да и вы... чего вам тут?.. По-
ложим, теперь в академиях как-то все уже стало...
359
но при надлежащем усердии... Это совсем не труд-
но, даже полезно: вы будете таким образом воспол-
нять то, что... Ведь вот новые ваши академии,
вместо добра да зло вам приносят. Мы тут ни-
сколько не виноваты. В наше время, по крайней
мере, не затруднялись. Бывало, преподаешь-пре-
подаешь, бог знает что преподаешь — и ничего.
Рокову вдвойне тяжело было выслушивать эту
тираду: с одной стороны, безалаберность назна-
чения, и с другой — этот упрек новой акаде-
мии, воспитавшей его, Рокова, это переложение
в неприятную прозу стихов: «Были люди в наше
время... богатыри — не вы».
— Да ведь я пробные лекции при акаде-
мии сдавал именно по истории,— заметил Роков
тревожным голосом.
— А что ж, что по истории! Со временем и
будете преподавать ее. Это право у вас не отни-
мается. Ведь это только временно.
— Теперь я, стало быть, должен еще по сло-
весности дать пробные уроки?— спросил Роков.
— Теперь-то?— переспросил ректор и взгля-
нул на потолок.— Теперь, пожалуй, и без лекций
можно,— проговорил он в некотором раздумье.—
Да, очевидно, можно!— воскликнул он с оживле-
нием, как будто вдруг напал на самое несомнен-
ное решение затруднительного вопроса.— С ка-
кой стати тут лекции? Временно — и вдруг лек-
ции? Какие тут лекции? Никаких лекций не
нужно. Вот вам, значит, новое облегчение! («Как
будто было какое-нибудь старое облегчение!» —
подумал Роков.) Ну, так вот вы и потрудитесь,—
заключил ректор, вставая с кресел.
360
Роков тоже встал.
— Я не знаю, как это вы, право...— добавил
ректор.— Мы, по крайней мере, никогда не затруд-
нялись в свое время. Что ни дадут, бывало, все
преподаешь.
Роков молча протянул руку. Ректор снова
благословил его.
— Да! постойте-ка!— возгласил из залы
о. Паисий, когда Роков в передней уже натягивал
на себя пальто.— Завтра зайдите ко мне часов
около двенадцати: я повезу вас к владыке —
представиться и благословение принять.
— Хорошо,— сказал Роков и побрел домой.
«Вот еще чертовщина!— думал он дорогой,—
пошел историком, вернулся словесником! После
этого ине затрудняйся ничем!»
♦ * ♦
Предводительствуя молодым человеком, de
jure историком, a de facto — словесником, о. Паи-
сий быстро вознесся по лестнице, ведущей в по-
кои владыки. В передней они нашли служку № 2,
Илью Петровича.
— Что владыка? Может принять сегодня? —
бойко спросил ректор.
— Не могу знать,— шепотом ответил Илья
Петрович.
— А где же Терентий Васильевич?— осве-
домился ректор, разумея служку № 1, великого
докладчика.
— Они заняты,— ответил № 2-й.
— Чем занят? Нельзя ли его поскорее уви-
деть?— спросил о. Паисий.
361
— О нет, никак нельзя, — прошептал Илья
Петрович, нахмурив брови.— Они у владыки
сидят... за делом. Как можно беспокоить! Они
перья чинят. Владыка употребляет гусиные...
Прежние-то уж попортились; так вот они под-
готовляют. Старание немалое нужно; опять же
владыка любит, чтоб недели на две начинить.
Уж верно обождете.
Ректор с минуту постоял в раздумье, потом
тихо прошелся по передней. Роков неподвижно
стоял на одном месте, заложив руки назад.
— Да вы пройдите в залу, там и подождете,—
любезно предложил № 2-й.
Отец Паисий направился в зал, так тихо и
осторожно ступая, как будто в зале лежал тя-
желобольной, забывшийся тонким, чутким сном.
На ходу он оглянулся на стоявшего в раздумье
подчиненного и кивком пригласил его следовать
за .ним. Войдя в зал, ректор присел на один из
ближайших стульев и указал возле себя место
Рокову. Когда они уселись, Роков с любопытством
стал осматривать зал. Обширная площадь его была
выстлана блестящим паркетом, по которому
от трех дверей тянулись по направлению в гости-
ную изящные коврики. Окна и вход в гостиную
украшались роскошной, бархатною драпировкой.
Между окнами помещались большие, в золотых
рамах иконы, изображающие во весь рост святых
патронов соборного храма. Перед каждой иконой
горела массивная вызолоченная лампада. На про-
тивоположной стене красовались два огромных
портрета художнической работы, изображающие,
тоже во весь рост, первенствующих членов цар-
362
ской фамилии. Возле стен расставлено несколько
мраморных столов. Многочисленная мебель —
вся новая, словно сейчас только из магазина. С по-
толка спускалась довольно большая, красивая
люстра, долженствующая в потребных случаях
освещать сию убогую обитель отрекшегося от
мира хозяина.
Визитеры долго сидели молча и неподвижно,
словно статуи. Только по временам ректор сдер-
жанно вздыхал, потрагивая свои регалии, да
шелестел шелком, широко запахивая на коленях
расходящиеся полы рясы. Когда Роков как-то
кашлянул, не особенно даже громко, то ректор не
на шутку встревожился: надвинул брови, погро-
зил ему пальцем и покачал головой. Затворен-
ные двери кабинета заколыхались. Ректор, при-
гласительно мигнув Рокову, вскочил со стула и
вытянулся. Одна половина дверей медленно отво-
рилась и из кабинета боком вылез толстяк доклад-
чик, лысый, с быстрыми серыми глазами.
Ректор почтительно поклонился первому
номеру и покосился на Рокова, который не
счел нужным согнуть в этом случае своего стана.
— Что скажете?— спросил Терентий Василь-
евич, важно подступив к о. ректору и протягивая
ему руку... для пожатия.
— Потрудитесь, пожалуйста, доложить вла-
дыке,— зашептал ректор,— что я вот привез
журналы правления, да еще...
— Журналы я передам,— перебил № 1-й.—
Из-за чего тут владыку беспокоить! У нас дела-
то побольше вашего.
— Конечно, конечно,— согласился ректор.—
363
Но видите ли... мне бы нужно переговорить
по одному вопросу, да еще вот новому препода-
вателю... благословение принять. Вот почему,
собственно, я осмелился побеспокоить, а то бы я,
конечно... Сделайте милость, попробуйте доло-
жить!— взмолился ректор.— Может быть, они
найдут возможным, если, конечно, здоровы и не
особенно на сей раз заняты.
— Пожалуй, но только едва ли,— вполголоса
проговорил Терентий Васильевич и повернул
опять в кабинет.
Минут через пять он снова показался в зале
и, сказав: «подождите, сию минуту», прошел в ка-
кую-то другую дверь. Ректор, поняв буквально
выражение «сию минуту», продолжал стоять
на ногах, воображая, что вот-вот выйдет владыка,
хотя, умудренный опытом, должен был бы знать
особенности архиерейского измерения времени.
Долго стоял он, вздыхал, затаивал дыханье, к
чему-то прислушивался, хмуро и устойчиво
всматривался в разрез затворенной священной
двери — преосвященный не показывался. Наконец
о.Паисий сел, положил локти на колени и," под-
перев щеки ладонями, тоскливо уставился в
пол. Роков принял точно такую же позу. Скука,
невыносимая скука томила его. Даже выносливый
отец ректор и тот не выдержал и вздумал не-
множко развлечься.
— Картины-то какие... а?— шепнул он, на-
клонившись к самому уху соседа с такою таин-
ственностью, как будто сообщал страшный
секрет.— Говорят, по тысячи рублей каждая.
Вот! А?
364
— Да-а,— шепотом протянул Роков, пока-
чивая головой.
И опять пауза, опять томительное ожидание.
Ректор достал часы, взглянул и покачал головой.
— Сколько?— спросил Роков.
— Три!— ответил ректор, многозначительно
подмигнув.
Обоих томила страшная усталость, оба начи-
нали чувствовать голод. Пот каплями выступал
на их лицах. Таинственная дверь слегка отво-
рилась и из нее... еще раз вылез противный Те-
рентий Васильевич, и бедные визитеры, вскочив-
шие с своих мест с готовностью встретить влады-
ку, должны были испытать тяжелое разочаро-
вание. № 1-й, бросив равнодушный взгляд на
страждущих визитеров, подошел к стене и озабо-
ченно взглянул на термометр.
— Что ж владыка-то?— прошептал ректор,
обращаясь к докладчику.— Может быть и м нель-
зя, так мы уж...
— Нет, он, пожалуй, еще и выйдет,— утешил
докладчик, подходя к о. Паисию.— Послал вот
взглянуть, сколько градусов. Бывает, что в каби-
нете 23 градуса, а в зале всего 18 градусов, так
они иной раз и опасаются из кабинета-то выходить.
Не знаю, что теперь скажут. Климат, кажется,
ничего. Пойду скажу.
И он снова скрылся.
Около четырех часов обе половинки таин-
ственной двери распахнулись и в залу вышел
владыка, в клобуке и в ватной рясе.
О. Паисий, еще издали вытянув положенные
одна на другую ладони и наклонив свой стан
365
несколько вперед, кинулся навстречу иерарху.
Приблизившись к нему, ректор низко покло-
нился, принял благословение и снова отвесил ему
уже несколько поклонов. Обряд представления
и свидания он совершал так торопливо и суетли-
во, что Роков, стоя сзади, не мог определить, ка-
кого рода произошло тут целование: не то ректор
поцеловал архиерея в руку, не то в губы, не то в
плечо, не то во все эти пункты одновременно.
— А это вот, ваше пр-ство, наш новый настав-
ник,— отрекомендовал ректор, отступив в сторо-
ну и указывая рукой на подходящего Рокова.
«Новый наставник» подошел под благослове-
ние. Владыка занес над ним руку и, задержав
ее в таком положении, спросил:
— Фамилия?
— Роков,— сказали в одно слово и ректор,
и носитель этой фамилии.
— Из какой академии?— продолжал архиерей,
не двигая поднятой рукой.
Роков сказал, из какой.
— На какой предмет?— допрашивал владыка,
все еще удерживая руку над головой адепта.
— На церковную... на латинский... на словес-
ность,— путался преклоненный Роков, как тяж-
кий грешник под епитрахилью духовного отца.
Состоялось благословение. Роков отер себе
лоб и, переводя дух, отступил несколько шагов
назад.
— Как же так? Ведь эти предметы, кажется,
уж раздельно теперь преподаются?— обратился
архиерей к ректору.
— Так точно, ваше пр-ство,— ответил рек-
366
тор,— но это только временно, временно, ваше
пр-ство, по случаю...
— Ну, да это ваше дело,— заключил влады-
ка.— А вы, кажется, хотели мне еще что-то
сказать?..
Ректор взглянул на Рокова, близко придвинул-
ся к архиерею и начал что-то излагать ему впол-
голоса. Роков, чтобы не мешать важному разго-
вору начальников, отступил еще на несколько
шагов.
— А как в уставе? Точное указание есть? —
громко спросил владыка, выслушав ректора.
— Точного нет-с.
— И указа из священного синода не последо-
вало на этот счет никакого?
— Помнится, что никакого.
— Ну, так что же вы? Очевидно, нельзя,—
решил владыка.
— А я хотел было войти к вашему пр-ству с
представлением,— несмело проговорил ректор.
— И не затевайте.
— Я думаю так, что для пользы самого дела...
— Какая же может быть польза, если в уставе
не сказано и указа нет?— возразил владыка.
Ректор покорно наклонил голову. Является
Терентий Васильич и докладывает:
— Владыко! Вас мать жандармского офицера
желает видеть.
— А! Проси, проси!— встрепенулся влады-
ка.— Ну, так господь благословит,— проговорил
он, обращаясь к ректору.
— Я хотел было еще вашему пр-ству...— на-
чал было ректор, принимая благословение.
367
— Ну, это уж в другой раз,— перебил влады-
ка.— Теперь мне некогда.
Благовестили уже к вечерне, когда наши ви-
зитеры выходили из швейцарской архиерейского
дома.
— Неужели всегда так у преосвященного? —
спросил Роков.
— А то как же?
— В таком случае, к нему нужно являться
прямо в четыре часа,— заметил Роков.— А то
столько времени ждать!
Ректор снисходительно улыбнулся, покачал
головой и проговорил:
— То-то вы, молодой человек, неопытны-то!
Попросту сказать, ничего вы не понимаете. Я за-
ранее вам советую бросить всякие возражения.
Вы поступаете на службу, службу государствен-
ную; присягу принимать будете. Дело нешуточное.
Нужно иметь в виду отечество и церковь, а также
и иерархию. Тут нужно вдуматься, победить
самого себя и отречься от всякого легкомыслия.
Вы меня извините, но я говорю вам отечески.
Роков не возражал.
— С сослуживцами-то познакомились?— лас-
ково спросил ректор.
— Нет еще.
— Ну вот, завтра праздник, завтра и позна-
комитесь, и побываете у всех; а послезавтра, бог
даст, в класс,— заключил ректор, когда его экипаж
въехал уже на семинарский двор.
368
* * *
Узнав адреса своих сослуживцев, Роков пред-
принял визиты.
Прежде всего он направился к Петру Серге-
евичу Стрелецкому, который квартировал в под-
вальном этаже небольшого дома, выходящего окна-
ми на тротуар. Стрелецкий, субтильный холостя-
чок с рыженькими бачками, крючковатым но-
сиком, в халате с зеленой атласной отделкой,
в золотых очках, ходил по единственной комнате
и курил папироску, когда в дверях показался
Роков. Сняв пальто, гость отрекомендовался хо-
зяину.
— Очень приятно, очень приятно,— залотошил
Стрелецкий, пожимая руку Рокову и отрывисто
кивая ему головой.— Пожалуйте-ка, пожалуйте,
садитесь. Переодеваться не буду, уж не про-
гневайтесь. С какой стати? Свои люди, из одного
гнезда. Курить не хотите ли?— предложил он,
быстро выхватив из кармана серебряный порт-
сигар.
— Благодарю вас, у меня есть,— отозвался
Роков и полез в карман.
— Да у вас небось... извините... гадкий та-
бак-то? а ведь у меня в два рубля. Я люблю, чтобы
у меня все было... шик! Попробуйте-ка, попро-
буйте.
И он навязал гостю папиросу.
— Как я рад, что вы приехали! — восторгался
Стрелецкий, усевшись возле гостя и похлопывая
себя ладонями по коленям.— То ли дело моло-
дежь! А то, признаться, это старье... чересчур уж
369
надоело. Нет никакой возможности... Я, знаете ли,
на шесть лет только старше вас и, можно сказать,
еще совершенный юноша. Вот почему меня все
и любят. Дня не проходит, чтобы у меня не было
гостей. Пойдут гулять — куда зайти? Все ко мне.
Ну, тут, конечно, поболтают, выпьют, так что
у меня закуска и выпивка никогда не переводят-
ся. Признаться, с этой стороны несколько стесни-
тельно: рублей двести, триста, а пожалуй, и четы-
реста в год, как хотите...
— Вы, должно быть, много получаете?— спро-
сил Роков.
— Да» конечно, иначе нельзя. Семинария мне,
пожалуй, немного дает, но у меня есть ресурсы
на стороне. Я, если бы захотел, мог бы страх
сколько денег получать, но не стоит. Уроков
у меня сколько угодно, хоть сейчас, но я не хочу
себя стеснять: к чему брать на себя эту обузу?
Упросили вот в епархиальное училище, ну полу-
чаю там 350 рублей; не столько, конечно, из-за
денег служу, сколько... так себе. Преподаешь ба-
рышням, все-таки, знаете, в эстетическом отноше-
нии... При этом нельзя отрицать, что все-таки
и подспорье: семинария да училище, ан 1200 руб-
лей!.. А разве их увидишь? То да се — и нет де-
нег. Вот, например, обстановка... Ведь ее нужно
было создать. Обратите внимание.
Роков обратил внимание на обстановку и на-
шел: на треногом письменном столе стояла кро-
шечная фарфоровая лампа с абажуром, возле нее
изящный чернильный прибор с колокольчиком;
на кипу ученических тетрадей налегает пресс-
папье в виде маленького хрустального полуша-
370
рия с цветком внутри; тут же стояла обделан-
ная в бисерное шитье коробка с папиросами;
тут же находился и небольшой альбом со стальны-
ми полосами на лицевой крышке. К столу при-
мыкала железная койка, прикрытая байковым
одеялом, перед нею на стене войлочный ковер,
изображающий небесную синеву и на ней льва
с растреснутой мордой; подобный же ковер, толь-
ко с цветами вместо льва, разостлан на полу
возле койки. В противоположном углу висело
какое-то платье, завешанное простыней, и стояла
черная гуттаперчевая тросточка. На ларе возле
двери помещались самовар, поддон с чайным
прибором и таз с умывальником.
— Да, ничего...— проговорил Роков, обозрев
«обстановку».
— Конечно, ничего,— подхватил Стрелец-
кий.— Я иначе не могу. Не в моем характере...
Терпеть не могу нищенствовать и скряжничать,—
заключил он, убежденный, что гость усмотрел в
его квартире не более не менее как комфорт
и даже роскошь.
Роков встал и начал было прощаться, но Стре-
лецкий ухватил его за плечи и насильно усадил
на стул.
— Помилуйте, что вы? Как это можно? —
тараторил о if.— Я так рад... и притом не успел
еще с вами как следует познакомиться... Вы так
понравились мне, что просто прелесть. Я такой
человек, что если с кем познакомлюсь, так не-
пременно сближусь. Ведь .вот с вами... я уж почти
сблизился!
Роков пристально посмотрел на хозяина,
371
который доселе стоял перед ним в позе
кавалера, приглашающего даму «на первую кад-
риль».
— Вы не верите?— продолжал Стрелецкий.—
Это несомненно: у меня такой характер. Прошу
полнейшего ко мне доверия.
Он пожал руку Рокову, причем Роков пообе-
щал свое доверие.
— И отлично! И отлично! — воскликнул Стре-
лецкий.— Не пожалеете... Ведь в этой семинарии
душу не с кем отвести, задохнешься. А я бы же-
лал вас поставить сразу на почву... Вы думаете,
я живу в корпорации? Совсем нет: я живу в об-
ществе, постоянно в обществе! Решил, знаете ли,
доказать, что учитель семинарии не так себе...
что-нибудь... И доказал, и все увидели... Все с
удовольствием: Петр Сергеевич, пожалуйте! И не
то что какие-нибудь там поповны, а даже и выс-
ший слой... Недавно меня познакомили с одной
баронессой и, представьте себе, совершенно слу-
чайно: на улице. И она так любезно посмотрела
и несколько улыбнулась.
Стрелецкий при этом попытался изобразить,
как она посмотрела и как улыбнулась.
— Что же, вы были у этой баронессы? — спро-
сил Роков.
— Пока еще нет, но со временем, по всей
вероятности...— ответил Стрелецкий, пощипывая
одну бачку.— Признаться, я ведь не особенно
интересуюсь или заискиваю, а так, знаете ли,
как-то само собой выходит. Но вообще я чрезвы-
чайно часто бываю в этом кругу. Дворяне; по-
мещики, доктора, высший класс, барышни —
372
все это постоянно около меня, чуть не каждый
день.
— Что же вы делаете в этом обществе? — по-
любопытствовал Роков.
— Занимаю! — выразительно произнес Стре-
лецкий.— Как только куда покажешься, так сей-
час: а! Петр Сергеевич!.. Поболтаешь, поостришь,
иного оборвешь, как вот недавно одного доктора.
Что вы, я говорю, за народ? Дармоеды! Строку
напишет — давай ему деньги, за какую-нибудь
хину... Попытались бы, говорю, на нашем месте...
Да ведь как отбрил-то! Даже все удивились.
Я вообще терпеть не могу людей, которые корчат
из себя... Никому спуску не дам. Бывало, в ака-
демии... ректора — и то обрывал". Раз как-то на
экзамене: вы, говорит, Стрелецкий, ничего не
знаете по священному писанию (а священное пи-
сание-то преподавал он сам). А я и говорю: у вас,
мол, такие записки, что и узнать по ним ничего
нельзя. Как хвачу его вот этак-то!
— Что же он вам?
— Ступайте, говорит, это крайне невежливо.
И больше ничего... Нужно вам заметить, что наш
курс был чрезвычайно либеральный. О, прелесть
народ был! Бывало, никаких там этих формаль-
ностей знать не хотели. На лекции, бывало, не
ходишь, разве уж когда для разнообразия... Ве-
чером, бывало, в гости... У меня еще там было
много знакомых... Бывало, до свету, на всю ночь...
— А инспекция?
— О, это у нас ничего не значило. Инспектор
по спальням ходил, и то ничего. Бывало, скажешь:
братцы, спутайте там мое одеяло да примните
373
подушку — и дело в шляпе. Инспектор придет
в спальню, видит — постель спутана, значит,
студент дома, только вышел на минутку. Вообще
крупный народ был, с головами! Бывало, сойдут-
ся, поднимут спор — черт знает что такое! Эта-
кое богатство мысли! Слушаешь-слушаешь, бы-
вало, и начнешь примирять. Примиришь, бывало,
и ничего... Развивались больше самостоятельно;
этим, собственно, и дорога академия... Но вообще
либеральней нашего курса не было. Раз за обедом
подали нам рыбу неудовлетворительную. Что ж вы
думаете? Студенты сговорились: не будем есть
рыбу! Так-таки и не стали есть; встали и пошли.
После насилу усмирили... Золотое было время!
— Вы какой предмет преподаете?— спросил
Роков.
— Латинский язык,— ответил либерал.
Роков еще обвел глазами комнату и не заметил
нигде ни одной книжки.
— Вы ищете признаков?— спросил Стрелец-
кий.— Они у меня под койкой: там грамматика
и прочее. Других книг я не читаю, по принципу:
на кой они черт? В академии надоели. Газеты
иногда читаю. Идешь куда-нибудь в гости, завер-
нешь в книжный магазин и пробежишь кое-что.
Явишься в общество — ан все в свежей памяти.
А слышали, мол, новость? А видели вы в «Стре-
козе»? И пошла писать. Вообще терпеть не могу
корчить из себя... Некоторые учителя даже пишут.
Но, по-моему, это ерунда. Издает там что-нибудь
и думает, бог знает что сделал. А непременно
спишет где-нибудь! Я мог бы солидные вещи
писать. У меня есть даже некоторые наброски.
374
Но не желаю тщеславиться, да и здоровье нужно
беречь. Впрочем, я ведь не так бы писал, как
другие. Иной ведь корпит, а я сразу... Бывало,
в академии присядешь вечерком, а утром и го-
тово. Ну, да это все ерунда... для холодных, сухих
натур; а тут пожить хочется. Вот собираюсь же-
ниться. Барышень пропасть, премиленьких, и
все хоть сейчас. Всюду ухаживают, так что даже
затруднительно. Не знаю, из какого бы круга...
Тут вот есть один князь-старик с племянницей...
А то еще генерал с дочкой. Несомненно отдадут!
Но, знаете, как-то раздумье берет. Все-таки,
знаете, дьячков сын... А с другой стороны, не
хотелось бы жениться по рутине. Я ведь менее
пятнадцати тысяч ни за что не возьму, ни за что!
Стрелецкий сдвинул брови и так махнул ру-
кой, как будто его теперь упрашивали: сделайте
милость, возьмите пятнадцать тысяч.
— Вам тоже непременно следует жениться,—
внушал он Рокову,— и чем скорей, тем лучше.
Я вот вас познакомлю... На первых порах —
извините — я бы вам не посоветовал сразу в выс-
ший круг. Слишком резкий переход. Стеснитель-
но; я на себе испытал. А я вас отрекомендую пока
одному хорошему знакомому, казначею. У него
есть дочка, правда, не особенно... и с некоторыми
странностями, но пока... в виде переходной сту-
пени — понимаете?
Стрелецкий ударил гостя ладонью по коленке
и захохотал. Гость с улыбкой поблагодарил его и
встал, чтобы уйти.
— На минуточку, на минуточку!— останав-
ливал хозяин.— Больше задерживать не буду.
375
— Нет, пожалуйста! — упрашивал Роков.—
Мне еще нужно побывать у других.
— Успеете, успеете,— убеждал Стрелецкий.—
Закусим что-нибудь, да и...
Он не договорил и, подскочивши к письмен-
ному столу, позвонил в крошечный колокольчик,
на звук которого будто бы должен был явиться
слуга. Прошло минут пять — никто не являлся.
Роков начал ходить по комнате. К нему под-
стал хозяин и, заметно утомленный предшество-
вавшим излиянием красноречия, начал про-
износить только отрывочные фразы: «Да, милей-
ший... Поживите-ка вот... Не особенно, конечно...
Но, с другой стороны...»
— Да что это он там пропал?— вдруг перебил
он сам себя и побежал к двери.
— Не беспокойтесь, пожалуйста! — умолял
Роков.— Мне нужно идти...
— Сейчас, сейчас! — отозвался хозяин и по-
стучал каблуком в пол, как будто слуга поме-
щался под ним, в нижнем этаже, хотя такого
нижнего этажа и быть не могло.
Роков решительно заявил, что он более оста-
ваться не может, и начал одеваться. Стрелецкий,
не слушая его, отворил дверь и прокричал: «Аб-
рам! Абрам!»
Роков уже на пороге отворенной двери про-
тянул хозяину руку.
— Нет, да позвольте же,— серьезно прого-
ворил хозяин, отстраняя руку гостя, и снова
закричал:— Абрам!
— Я лучше в другой раз приду,— предло-
жил Роков, шагнув в сени.
376
— Что за скотство такое! Абра-ам!!— взывал
Стрелецкий.
Он с минуту помолчал и, не заметив ника-
ких признаков приближения Абрама, плюнул и
тоже шагнул в сени.
— В таком случае, извините,— заговорил
он, уже сам протягивая руку гостю.— Этакое
скотство! Даже возмутительно!
После Стрелецкого у нашего визитера стоял
на очереди Василий Федорович Адептов. Когда
Роков, периодически позванивая, стоял у дверей
квартиры, то изнутри комнаты слышалась ка-
кая-то беготня, точно несколько человек спеши-
ли устранить страшный беспорядок. Наконец
щелкнул крючок, дверь приотворилась, и Роков
увидел перед собой фигуру тощего сутуловатого
человека, сморщенного и робко мигающего, с
блестящею плешью и длинной, узенькой, подог-
нутой бородкой. Дав гостю войти, человек снова
набросил крючок на петлю и, пока Роков разде-
вался, мелкими шажками пятился из передней
в залец, постоянно кланяясь и придерживая
одной рукой борт парусинного пиджака.
Это был Адептов.
Роков отрекомендовался. Адептов как-то бояз-
ливо сунул ему руку с холодными расслабленны-
ми пальцами, что-то промычал, порывисто указал
на диванчик и побежал в угол комнаты. Там он
раза два кашлянул, плюнул, потом вернулся
было к гостю, но тотчас же снова побежал в угол
и затер прежний плевок.
377
— К нам? — глухо прознес Адептов, при-
близившись к Рокову, и начал быстро озираться
по сторонам, как бы что отыскивая.
— Да, назначили к вам,— сказал Роков.
Адептов вдруг побежал в соседнюю комнатку.
«Что за чудак!» — подумал Роков и встал с
места. Адептов снова показался, в каком-то недо-
умении остановил глаза на госте, вздохнул, поше-
велил на голове пальцами жиденькую бахро-
му волос и два раза молча прошелся около Ро-
кова.
— Вы, кажется, нездоровы?— спросил Роков.
— А?— испуганно встрепенулся Адептов, ос-
тановившись и широко раскрыв глаза.
— Вы, кажется, нездоровы?— повторил
Роков.
— По истории?— неожиданно спросил Адеп-
тов.
— По истории,— ответил Роков.
— Обширно!— буркнул Адептов, не глядя на
гостя, и опять побежал в угол, опять два раза
кашлянул и опять плюнул.
— До свидания, Василий Федорович,— сказал
Роков, выждав, когда коллега его повернулся к
нему лицом.
Адептов по-прежнему торопливо сунул ему
парализованную руку и, страшно сморщившись,
проговорил:
— Со временем... Неблагодарно!...— добавил
он, ткнул пальцем по направлению к углу, в кото-
ром стояла этажерка, набитая книгами.— При-
строились? — произнес он, растворив дверь и
выпуская гостя в сени.
378
Роков только было раскрыл рот, чтобы ответить
на вопрос, как Адептов захлопнул дверь и набросил
крючок на петлю.
♦ ♦ ♦
Иван Семенович Скворцов помещался в огром-
ном доме со множеством жильцов и адресных
дощечек на дверях. Не найдя ни на одной из
этих дощечек фамилии своего сослуживца, Роков
должен был навести должные справки у дворника.
Дворник повел его на двор, за угол дома и, указав
на маленькую грязноватую лесенку, ведущую
в галерею, проговорил: «Как раз против». Роков
толкнул в створчатые двери; двери не подава-
лись.
— Кто там? — послышался из комнаты рез-
кий, звучный мужской голос.— Толкайте сильней,
не заперто.
Роков мгновенно очутился в обширной, без
перегородок комнате и до тога удивился предста-
вившемуся ему зрелищу, что не хотел было и
раздеваться, думая, что не туда зашел.
— Здесь квартирует Иван Семенович? — спро-
сил Роков, чтобы поскорее вывести себя из затруд-
нения.
— Именно здесь,— ответил квартирант, под-
ходя к Рокову.— Имеете дело с преподавателем
математики,— добавил он.
Это был небольшого роста, кряжистый, смуг-
лый мужчина, с осколковатым лицом, с клочком
волос на подбородке и с большой бородавкой на
щеке. На нем была длинная, до пяток, парусинная
379
рубаха, заменяющая собой халат. Узнав, кто такой
гость, Скворцов крепко схватил его своими широ-
кими, красными, мозолистыми руками за обе
руки, потащил к столу и усадил на высокий,
с запрокинутым узким и длинным сиденьем,
безобразный деревянный стул.
— Как находите мою хижину? — спросил
Скворцов, обводя глазами свою квартиру, и, не
дождавшись ответа, снова схватил гостя обеими
руками и со словами «вот посмотрите-ка» подвел
его к койке, стоящей посреди комнаты.— Видали
вы такую постель? — спросил он, указывая на
круглый непокрытый матрац с горбом на сре-
дине.
— Нет, не видал,— улыбаясь, ответил Роков.
— Так вот посмотрите,— предложил хозяин
и начал свои объяснения.— Это я устроил науч-
ным образом, по брошюре доктора Крыжановско-
го. Вы читали эту брошюру?
— Нет, не читал.
— О, это замечательная вещь! Господин Кры-
жановский восполнил весьма важный пробел в
гигиене: он обратил серьезное внимание на нашу
постель и мебель. По его соображениям, постель
должна устраиваться таким образом: вот точно
такой матрац и — решительно без всякой подуш-
ки. Почему? А вот почему: когда мы спим на
подушке, то наша шея и отчасти грудь сгибают-
ся, а через это затрудняется дыхание, а через
это, в свою очередь... Понимаете?
Роков молча кивнул головой.
— Следовательно,— умозаключил Скворцов,—
подушки наши не только не представляют удобств,
380
но, напротив, причиняют вред, и вред существен-
ный. Далее: весь интерес спящего человека
заключается, стало быть в том, чтобы грудь его
помещалась выше остальных частей тела. Так?
Для этой цели вот и устроено на матраце возвы-
шение, приходящее прямо против груди. Види-
те? Понимаете? Крыжа невский говорит, что если
кто проспит по его совету ночи две, то непременно
удивится, как это он до сих пор спал на своей преж-
ней, варварской постели. И точно: я на другой же
день заказал себе вот это приспособление.
Он умолк и, посматривая на Рокова своими
щурящимися, карими с навесом глазами, покачал
головой, как бы приговаривая: «Вот этак-то! А ты
как думал?»
— Оригинально,— сказал Роков.
— Не оригинально, а в высшей степени ра-
ционально,— поправил Скворцов.— А возьмите
вот мебель,— продолжал он, указывая на стул, с
которого недавно ссадил гостя.— Это я тоже по
Крыжановскому. Господин Крыжановский гово-
рит, что мебель, в особенности стулья, должна
устроиться для каждого человека точно так же
по мерке, как платье и обувь, и поэтому должна
отличаться характерностью, сообразно с... Ведь
наша мебель обезличивает нас: хоть большой
человек, хоть маленький — садись на один и тот
же стул. Чтобы мебель удовлетворяла гигиени-
ческим условиям, для этого сиденье должно
иметь надлежащий уклон и такую длину, чтобы
оно подпирало под коленки. Вот видите? (При
этом он опустился на научный стул.)
Во-первых, спина у меня не гнется, что бы я ни
381
делал; во-вторых, ноги у меня пристроены как
следует, так что мне нет нужды класть их одну
на другую или, как лишнюю вещь, вытягивать
под стол... Так-то! А ведь это весьма, весьма
важное обстоятельство. Вообще у н а с все это
как-то запущено. Во всех наших учебных заве-
дениях имеют в виду только наш дух, а тела
у нас как будто и нет совсем; а между тем это
весьма важное обстоятельство. Я вот хочу воспол-
нить недостатки своего воспитания и с этой целью
пытаюсь построить свою жизнь совершенно на
новых началах, не исключая даже и подробно-
стей ее. Вот, например, халат... чем не халат?
А попробуйте сделать драповый — чего это будет
стоить? На нашем жалованье шиковать невозмож-
но, да и вообще шик в жизни нерационален и даже
безрассуден. Я до сих пор ношу пальто, которое
отец сшил мне еще тогда, когда я учился в семина-
рии. Фуражка у меня служит лет пять. И что
же? Пальто да пальто; фуражка да фуражка. Креп-
ко — значит, носить можно. А кто что скажет, мне
решительно все равно. Общество для меня не
имеет никакого значения; оно мне совсем не
нужно. Знай свой предмет, делай свое дело, со-
храняй здоровье, береги денежку на черный
день, а остальное все призрак. Невесту я всегда
найду, кто что про меня ни говори. Сантименталь-
ная барышня за меня, конечно, не пойдет; но
тем лучше для меня: это даст мне возможность
соединить свою судьбу с трезвым, здоровым,
хозяйственным человеком. Здоровье и хозяй-
ство — постоянные предметы моих забот. Каждый
день занимаюсь гимнастикой по господину Рекла-
382
му, купил вон гири, колю дрова, топлю печку,
самовар ставлю. Продукты у меня все под руками.
Видите — вон у стены-то? В большом горшке —
яйца; в маленьком — крупа; в мешочках — мука,
соль, картофель. А вот весы десятичные: свесил
что полагается, и больше ни-ни... Разве кофе
сварить? Вы подождете?
— Нет, благодарю,— ответил Роков,— я и так
у вас засиделся.
— А то сварю: у меня славный ржаной кофе,
здоровый! — соблазнял Скворцов.— По совету
господина доктора,— добавил он.
— Крыжановского? — с улыбкой спросил
Роков.
— Нет, другого.
— А кто такой Крыжановский?
— Это, говорят, доктор-самоучка; но я его
очень высоко ставлю и от души вам советую по-
следовать его наставлениям.
— Благодарю,— сказал Роков и распростился.
Преподавателя св. писания, иерея Захарова,
Роков не застал и был принят супругою его, Фаи-
ной Дмитриевной, субтильной, донельзя пере-
тянутой дамочкой со скулами, сильно стянутыми
к носу, и с прической в виде петушьего гребня.
— А мой супруг на обеде,— объяснила она,
усадив Рокова в гостиной.— Обеды — это ведь
поповская специальность.
— Каким это образом? — возразил Роков.—
Я думаю, что обеды...
— Не говорите, не говорите! — перебила
383
Фаина Дмитриевна.— Совершенно верно, что
специальность. Недаром жрецами их зовут,
как выразился один поэт. Это их страшно шоки-
рует, как и вообще положение...
— Вы слишком преувеличиваете,— заметил
Роков,— слишком мрачно, кажется, смотрите на
священство. Мне несколько странно слышать,
такие вещи от матушки.
— Ах, пожалуйста, не называйте меня м а-
т у ш к о й,— горячо проговорила хозяйка.— Я во-
все не матушка, а только жена священника.
Он для прихожан может из себя разыгрывать
батюшку или там папеньку, что ему угодно; а я
к прихожанам никакого отношения не имею: я их
не благословляю, не исповедую, не крещу. Какая
же я матушка? Я просто дама, как и другие
светские женщины.
— Все-таки ваш муж — священник; уже по
одному этому вы должны бы пощадить священст-
во,— сказал Роков.
— Он для меня — вовсе не священник, а про-
сто муж и больше ничего,— изъяснила матушка-
дама.— А священство щадить положительно не-
возможно. Помилуйте, это — каста, это — темное
царство, это... Один ученый необыкновенно удач-
но заметил, что в попы идет либо дурак, либо...
— Извините,— начал Роков,— вы сами 'из
дворян?
— Нет, я — дочь священника.
— Гм...— протянул Роков,— супруг ваш —
тоже священник; так к какой же вы категории
причисляете этих двух священников?
Сказав это, Роков спохватился, что чересчур
384
уж прямо поставил вопрос. Он закусил губу и
почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо.
Фаина Дмитриевна беспокойно пошевелилась
на кресле, достала платок и, распустив его, по-
махала им на лицо.
— Я разумела собственно идею,— заговорила
она после некоторой паузы.— Буквально, конечно,
нельзя... Что касается меня, то я воспитывалась
при особенных условиях. Я рано начала развивать-
ся; я вращалась в интеллектуальной светской
среде; меня часто окружали студенты; я много
читала, много слышала, я в помещичьем семей-
стве была как своя. Я никогда не воображала
быть за священником. Это — совершенная случай-
ность. Что же касается моего мужа, то его прину-
дили обстоятельства. Жить при одной семинарии
нет никакой возможности. Да притом он как-то
своеобразно смотрит на священство, что-то такое
в нем находит, так что не только не тяготится,
но и...
— Вот видите,— перебил Роков,— стало быть,
и кроме глупости могут быть причины, по которым
человек может принять священство.
— Конечно, могут... у некоторых,— согласи-
лась Фаина Дмитриевна,— но эта сфера совер-
шенно не по мне... все-таки низменная сфера.
Помилуйте: у меня есть муж, и я не могу с ним
ни в театр пойти, ни потанцевать. Что это такое?
На что похоже? Я должна обратиться в какую-то
богаделку. А как на меня взглянет общество?
Попадья, дескать, и больше ничего. Никакого
развития не предположат... Морально тяжело!..
Постоянно одна: «профессор» мой возится со св.
13-1032
385
писанием, крестит, хоронит и — спит. Нянчиться
с детьми?.. (Она сделала гримасу и пожала пле-
чами.) Читать надоедает, да и что читать без
обмена мыслей?..
Раздался звонок. Через несколько минут в
комнату ввалился хозяин, толстый, круглый
мужчина лет сорока пяти, курносый, без бровей,
с густыми, крупными и сухими волосами, наве-
шивающимися на маленькие сонные глаза.
— A-а, колле-ега! — протянул он глухим сипо-
ватым голосом, после того как жена отрекомендо-
вала ему Рокова.
Фаина Дмитриевна тотиас же порхнула из
гостиной и более уже не появлялась. Роков, по-
видавшись с хозяином, не счел нужным снова
садиться, намереваясь сейчас же уйти.
— Что ж, садитесь, расска-ажите что-
нибудь! — протянул иерей.
— Я уж порядочно посидел,— объяснил Ро-
ков.— Пора отправляться. Иполнил долг... на
первый раз довольно.
— Ну, как хоти-ите,— пропел хозяин и
потянул увесистые руки к своим сыпучим воло-
сам, успевшим закрыть ему почти все лицо.— Вот,
бог даст, и послужим с вами! — произнес он, уже
прощаясь с Роковым.
Выйдя на улицу, Роков взглянул на часы.
Часы показывали половину первого. «Три часа
уже путешествую,— подумал он,— а визитов
впереди еще много. Очевидно, не успею сегодня:
поздно. У инспектора побывать, да и домой;
с остальными после познакомлюсь». И он напра-
вился к инспектору.
386
Инспектор, длинный, сухой, коротко острижен-
ный старичок, с седыми бачками, большим крюч-
коватым носом, с глубоко впавшими щеками
и потухшими, стоячими серыми глазами, чрез-
вычайно любезно встретил нашего новичка и даже
облобызал его. Склонив голову набок и потрясая
руку гостя, он долго извинялся в том, что был в
домашнем «Пальмерстоне», а не в сюртуке. Затем,
вытянув руку по направлению к гостиной и
вихляясь всем точно развинченным станом своим,
начал двигаться вперед как-то боком, сторонкой,
уступая гостю дорогу и предводительство. Когда
Роков сел было на первое попавшееся кресло, то
Сильвестр Аполлинариевич (так звали старичка)
затряс головой, замахал руками и, сильно ударяя
на о, воскликнул:
— Нет, не могу, не допущу, не полагается!
Пожалуйте на диван, на диван, со мною вместе.
И он с ясной, торжествующей улыбкой уселся
подле Рокова на низенький, с опавшими пружина-
ми диванчик, прикрытый прорванным коленко-
ром.
— Итак, нашему полку прибыло,— начал он,
покачивая головой и засматривая Рокову в лицо.
— Да,— согласился Роков, благодушно улы-
баясь.
— Иль нет, точнее говоря, не нашего,—
поправился Сильвестр Аполлинариевич, едва не
касаясь своим носом физиономии Рокова.— Вы,
так сказать, а-а-а... ветвь масличная, так сказать,
а-а-а... струя... свежая; а мы... мы, так сказать,
а-а-а... стволы утлые, а-а-а... сучья безлиствен-
ные... так сказать, болота смердящие.
1.3**
387
— Вы чересчур уж добры ко мне и столько же
строги к себе,— заметил Роков.
— Что ж делать-то? — произнес старичок,
прислонившись к спинке дивана.— Против не-
избежности законного течения натуры и изменяе-
мости... а-а-а... духа веков... устоять трудно,—
добавил он и развел руками.
Вытянув тонкую, длинную шею, обернутую
черной шелковой косынкой, он с минуту молча
смотрел в какую-то отдаленную точку и потом,
в каком-то раздумье, тихо заговорил:
— Как мы некогда были на вашем месте, так
же точно и вы будете на нашем. Таково круго-
вращение судьбы. Один растет, мужает, дру-
гой Же, напротив того, сокращается и изне-
могает.
Снова созерцание отдаленной точки и пауза.
— А впрочем, с другой стороны,— начал он,
оживившись и засматривая в лицо Рокова.— По
преустановленной гармонии... а-а-а... в нравствен-
ном мире человеческом и старики имеют... а-а-а...
свой резон бытия. Знаменитый Наполеон сказал,
что молодежь нужна для прогресса, а старики для
предания. Так вот: хоть для предания, а все-таки
нужны и старики; иначе не полны бы были, значит,
скрижали бытописания...
В это время из соседней, дотоле затворенной
комнаты выбежало человек шесть детишек, со
смехом и криком догоняющих друг друга.
— Это мои птенцы,— отрекомендовал Силь-
вестр Аполлинариевич, самодовольно кивая на
детишек.
Заметив незнакомого человека, птенцы вдруг
388
смолкли и остановились как вкопанные. Это была
коллекция каких-то заморышей, точно недоносков,
весноватеньких, с птичьими носиками, одетых
в дырявую, разрушающуюся ветошь и наполовину
босых.
— Что же вы, а? — обратился к ним роди-
тель.— Должны подойти к гостю и шаркнуть ему.
Как благовоспитанные-то детки делают? Настень-
ка! Ты постарше,— сказал он девочке лет девя-
ти,— должна подать пример. Ну, сделай книксен.
Ну, что же ты?
Настенька торопливо сделала гостю неуклю-
жий книксен и, подбежав к отцу, спрятала лицо
к нему на грудь. Остальные птенцы, не обращая
внимания на гостя, мгновенно присыпали тоже
к отцу: кто пристроился к нему на колени, кто
прильнул сбоку, кто вскочил на диван с ногами
и спрятал голову за родительскую спину. Силь-
вестр Аполлинариевич рассыпал поцелуи напра-
во и налево, гладил птенцов по голове и, наконец,
обеими руками схватил их всех разом, прогово-
рил:
— Это — семейная основа государственно-
сти... божье благословение и утешение. Дай
бог и вам, многоуважаемый, испытать сие свя-
щенное чувство, только... по возможности, по-
раньше...
В соседней комнате раздался пронзительный
крик грудного ребенка.
— А там у меня еще... некоторое добавле-
ние,— объяснил старичок, кивнув на комнату, из
которой раздался крик.
Он сперва улыбнулся, но тотчас же принял
389
серьезное выражение и, широко раскрыв свои по-
тухшие глаза, уставился на одну отдаленную
точку. Руки, охватившие птенцов, ослабели и
разошлись. Детишки, плотно прильнувшие к
костлявым бокам и груди родителя, зашевелились
и начали разбредаться. Роков встал и начал про-
щаться.
— Сердечно вам благодарен! — воскликнул
Сильвестр Аполлинариевич, встрепенувшись, и
быстро вскочил на ноги.— Принимаю не иначе
как за счастье ваше внимание к старику,— про-
должал он со вновь просиявшей физиономией,
судорожно вихляя станом и ласково смотря
Рокову в глаза.— Прошу и впредь не забывать...
без церемонии. Вот моя барышня что-то не со-
всем... А как только поблагоприятствует немного,
мы, надеюсь, потанцуем. Я всегда от этого не
прочь: невинно и приятно, живительно и полез-
но... Еще раз благодарю вас, милая душа.
И старец энергично обнял юношу и трижды
крепко расцеловал.
— От души желаю вам послужить... а-а-а...
в соответствии предначертаниям,— напутство-
вал он Рокова уже в передней.
Когда Роков, притворяя за собой дверь, взгля-
нул во внутренность инспекторских покоев, то
в глазах его мелькнула столпившаяся у входа
в зал группа птенцов-заморышей. «Семейственная
основа!» — подумал Роков и почувствовал прилив
какой-то безотчетной грусти.
390
НЕ УГОДИЛ
I
Дом отца Петра стоял несколько поодаль от
крестьянских домов, возле самой церкви. Обыч-
ная тишь деревенской жизни как-то сильнее чув-
ствовалась владельцем в этом уединенном жилище,
особенно в вечернее или ночное время. Раздаст-
ся ли лай собак в деревне, донесется ли издали
чей-либо крик, все эти звуки как будто электри-
ческим током пробегали по нервам батюшки. Он
слегка вздрагивал и тревожно прислушивался.
Кажется, пора бы было ему свыкнуться с деревен-
ской жизнью. Он деревенский уроженец; все кани-
кулы, какие только полагались в длиннейший
курс учения, он проводил также в деревне; нако-
нец, он уже третий год священствует; его будят
и в полночь и заполночь на «требы» в приход;
почти ежедневно, среди сладкого утреннего сна,
чуть не над головой его раздаются резкие, гулкие
удары церковного колокола...
Вот сидит он в своем уютненьком зальце,
возле стола, и читает газету. На столе горит
маленькая дешевенькая лампа; возле нее лежат,
торопливо постукивая, карманные часы с откры-
тым циферблатом; тут же, несколько поодаль,
лежит требник, тщательно обернутый епитра-
хилью. О. Петр не только читает газету, но как бы
разыгрывает ее содержание. На его круглой смуг-
лой физиономии с точностью отражаются все
оттенки этого содержания. Низкий, широкий
лоб его то наморщится, то просияет; выпуклые
391
вдумчивые и ровно бы стоячие глаза то прищу-
рятся и померкнут, то широко раскроются и за-
блестят, причем рука его с короткими пальцами
энергично шмыгнет по черным лоснящимся
волосам.
— О, боже мой, боже мой! — в раздумье про-
износит он, свертывая газету.
Раздался плач ребенка.
— Что такое? Что такое? — тревожно воскли-
цает он, вскочив с места.
— Да ничего. Плачет...— спокойно отозвалась
супруга из другой комнаты.
Батюшка вздохнул облегченною грудью и на-
чал прохаживаться. Но и прохаживался он с
какою-то особенною осторожностью, всячески
стараясь не соступить с узенького половика, иду-
щего от угольного стола залы до порога передней.
Только что он приблизился к этому порогу, как
с крыльца кто-то сильно застучал в дверь.
— О, боже мой! — с испугом прошептал
о. Петр и чуть не бегом выскочил из темной
передней.
Он несколько раз подходил к угловому столу,
схватывал с него лампу, доходил с ней до половины
залы и снова возвращался, ставя лампу на преж-
нее место. Между тем после долгих громких
опросов со стороны работницы гость был впущен
в сени. Широко распахнув дверь, звучно сопя
и покашливая, он тяжело ввалился в переднюю
и стал у порога.
— Кто это? — спросил издали о. Петр.
— Это мы... Благословите! — послышалось
из передней.
392
— Да кто вы-то? — допытывался батюшка,
медленно приближаясь к передней.
— Да мы... Антон Жмыхов. Аль не узнали?
— A-а... Ну, что тебе? Иди сюда.
— Ну... зачем же туда... Мы этого не сделаем.
— Иди, иди!
— Нёт, уж увольте. Все едино.
— Ну, что с тобой делать, коли ты такой
упорный! — сказал батюшка и оглянулся.
В залу вышла молоденькая матушка.
— А, Настя! — произнес о. Петр.— Дай, по-
жалуйста, сюда лампу, тут вот... Нужно пого-
ворить.
Через несколько секунд оба супруга вы-
строились в дверях. При свете лампы оказалось,
что Антон пришел не с пустыми руками, а с при-
ношениями. Окорок ветчины он уже успел сло-
жить возле себя на пол, прислонив его к стене,
а четвертную бутыль с водкой как вещь особенно
ценную и важную торжественно держал перед
собой, облапив ее обеими руками. Шапка его
валялась на полу подле окорока.
— Благословите, батюшка! — промолвил боро-
датый седой гость, щуря плутоватые серые гла-
за.— Эко вот... неловко-то мне.
— Да ты поставь,— посоветовала матушка.
— И то разве поставить? (Антон бережно
опустил бутыль на пол).
— К чему это ты притащил? Ничего этого
не нужно,— промолвил о. Петр, благословляя
посетителя.
— Нельзя, кормилец, это уж исстари.
— Ты скажи сперва, в чем дело?
393
— Да дело тут видимое. Осень. Тот крутит,
другой крутит. Посмотрел-посмотрел да и своего
вздумал окрутить. Оглядели со старухой девку:
как быть следует... подходит. Только бы бог дал
совершение.
— Значит, свадьбу затеваешь?
— Да уж, стало быть, свадьбу. Только вот не
знаю, как господь...
— Что ж тут... Если все в порядке, так и
обвенчаем... когда угодно,— проговорил батюшка.
— Да уж порядок будет самый настоящий. Не
первую свадьбу на свете играем.
— Сыну-то вышли лета?
— А то как же? Еще как вышли-то: вот
на Спиридона поворот солнца — уже девятна-
дцать исполнится. Вы, чай, сами знаете... по кни-
гам-то.
— Да ведь вас много: всех на память не за-
учишь. Ну, да это... я справлюсь. А невеста
совершеннолетняя?
— И невеста как следует. В добрый час ска-
зать — здоровая девка! Ей тоже, гляди, столько же,
а то и больше.
— Она чья?
— Из Жбрновки, Михайлина дочь... Михайлы.
Еще у него наш староста жеребка летось
купил.
— Жеребенок тут ни при чем, а дело в том,
что невеста из чужого прихода. В таком случае
ты представь мне от тамошнего священника
выписку из метрических книг.
— Из метрики?
— Ну да... Выписку о годе рождения, о том,
394
была ли она в прошлом году у исповеди... Он там
знает, ты только ему заяви.
— Гм. Выходит, выпись...
— Ну да. Вот мы соберем сведения, сделаем
в церкви публикацию, напишем «обыск» и по-
венчаем.
Матушка передала лампу мужу и ушла. Антон
потоптался на месте, утерся полой, мельком об-
ревизовал свое приношение и начал:
— Батюшка, вы уж меня избавьте от этой
выписи.
— Нельзя. Так требуется. Это необходимо,—
изъяснял батюшка.
— Да ведь ежели бы сомнение какое, али бы
неведомое дело — ну так... выпись! А тут какое же
сомнение? Я ее сполна знаю. И другие также.
Лета... Чего тут лета? Ай мы слепые? Дурак
и тот скажет, что ей чуть не к двадцати подкаты-
вает. А также и исповедь... Там соседи друг
дружку знают, вместе в церкву ходят. Дело на
виду. Любого спросить можно.
— Положим, но все эти сведения должны быть
формальные, на бумаге и непременно от священ-
ника,— внушал о. Петр.— Ты человек пожилой,
должен бы знать все эти порядки. Сам же ты
сказал, что не первый раз на свете свадьбу иг-
раешь.
— Так-то так, да порядки-то эти... (Антон
почесал за ухом.)
— Я тут не вижу никаких для тебя затрудне-
ний,— продолжал о. Петр.— Жорновка недалеко,
съездить недолго.
— Батюшка, я тоже ведь про себя рассуждаю...
395
Батька там... этот священник жорновский...
известно какой. Надо прямо сказать: трудный
человек! Приедешь к нему, а его дома нет либо
скажет: недосуг. А то скажет: давай красненькую.
А между тем делом мы было собрались вот к этому
воскресенью и все приладили. Как же тут время
тянуть? А ведь он затянет, батька-то, священник-
то этот. А мясоед проходит. Вы-таки это рассу-
дите.
— Я рассуждаю, но поступить иначе не
могу.
— Ну, как не можете?.. Как будто уж это в
самом деле... Кто же ее не знает? Девка вся на
виду... При упокойнике отце Поликарпе у нас
бывало все можно. Это вы так... не желаете...
— Послушай, Антон! — начал о. Петр с неко-
торым раздражением.— Или согласись, или лучше
прекратим разговор. Я тебе дело говорю, и ты
должен слушать. (Он перехватил лампу из одной
руки в другую.)
— Ну, ладно, батюшка, ладно: выпись, так
выпись. Бог с ней совсем,— уступчиво прогово-
рил Антон.
— Ну, вот и отлично,— одобрил о. Петр. Но,
как оказалось, преждевременно, потому что Антон
сейчас же присовокупил такую ограничитель-
ную мысль, от которой батюшка снова почувст-
вовал себя неловко. А мысль эта была сле-
дующая:
— Только, батюшка, вот что: вы нас повен-
чайте, а эту самую выпись я после предоставлю.
Как управимся да все угомонится, я вам и предо-
ставлю.
396
— О, боже мой, не могу я, сказал — не могу! —
как-то страдальчески произнес о. Петр.
— Да ведь все едино,— истязательно продол-
жал Антон,— выпись тоже будет, что теперь, что
тогда. И «обрыск» этот ничуть не попортится.
— А может, попортится? — горячо возражал
о. Петр.— Может, окажется, что невеста несовер-
шеннолетняя? Может, окажется, что она близкая
родня твоему сыну? Может, окажется... да что
говорить!.. Мало ли что может оказаться? Я пред-
видеть не могу и не могу быть заранее спокой-
ным. Может выйти бог знает что. Отвечай тогда.
Посмотри-ка, что мы в книгах-то пишем: «Если
мы что-либо утаили или неверно показали, то под-
вергаемся строжайшему суду не только церковно-
му, но и светскому уголовному». Вот!
Сказав это, о. Петр считал свою аргументацию
поконченною, так как последний довод казался
ему неотразимо убедительным. Но не тут-то
было.
— А уж я бы вам трешницу накинул... сверх
положенного,— брякнул Антон после самой крат-
чайшей паузы.
Это так поразило о. Петра, что он в первые
минуты не знал, что и сказать, и только беспо-
койно водил глазами, как будто чего-то оты-
скивая.
— Стыдно тебе, Антон! — сказал он наконец
с сердитой укоризной.— К чему ты вздумал со
мной торговаться? Я, кажется, никогда с вами не
торговался и теперь ничего не просил, даже пол-
словом не намекал. Иди с богом. Довольно.
Он быстро повернул в зал, поставил лампу
397
на свое место и, сев возле стола, опустил голову.
Из темной передней доносилось сопение и по-
кашливание Антона.
— Батюшка! — воскликнул наконец Антон.
Батюшка поморщился, но не отозвался.
— Батюшка! — повторил гость.
— Что еще? — спросил о. Петр, не вставая
с места.
— Стало быть — порешим так...
— Как? (О. Петр нехотя двинулся к перед-
ней.)
— Да уж выходит так, как вы говорили.
И выпись, и все как следует... Только бы нам
воскресенье-то не проморгать.
— Конечно, иначе и быть не может,— изъ-
яснил батюшка, стоя уже за чертой зального
освещения.
—* Н-да... Что ж теперь... Пусть уж по-вашему.
Стало быть — желаю здравствовать. Благосло-
вите!
— Бог благословит. Во имя отца и сына... Дай
бог тебе.
— Вестимо, дай бог. Это — первое дело... Так
вы уж примите... Чем бог послал... Водочки, а стало
быть, и свининки... Гм.
— Это лишнее. Не нужно мне ничего,— отрек-
ся батюшка.— Неси домой.
— Нет, это уж позвольте... Как же так? Это
даже обидно. Ай уж мы какие... Слава богу, не
побираемся.
— Так отдай тем, которые побираются,— пред-
ложил о. Петр.
— Вона! Да мало ли их побирается-то? Всех
398
не обделишь. Мы и так не отказываемся. Нищий
у нас свой кусок получает, по ноложоному.
«Изволь... прими, Христа ради». А это дело
особое. Исстари...
— Мало ли что исстари. Не все то хорошо, что
исстари,— возразил батюшка.— Я вот по-новому
тебе говорю: возьми и неси домой... или отдай
тому, кому есть нечего.
— Нет, зачем же. Это невозможно. Это вы-
ходит: «Спето про попа, а съел кто попал».
Вы уж простите: такая глупая пословица у нас
есть. Так просим прощения. Счастливо
оставаться!
— Возьми, возьми! — настойчиво произнес
о. Петр, тряся головой.— Иначе я... все равно
завтра утром отошлю с работницей.
— Да что вы, батюшка, помилуйте! — взмо-
лился Антон.
— Я тебе говорю: возьми! — строго восклик-
нул о. Петр.
Антон, пыхтя, подобрал свои приношения и
с какой-то неясной воркотней шагнул в темные
сени.
— О, боже мой! — простонал батюшка, шагая
по залу и потирая лоб.
Через несколько минут в переднюю пробра-
лась боковыми дверями матушка с огарком в
руках.
— Где ж тут? — спросила она, осматривая
переднюю.
— Что? — спросил в свою очередь батюшка,
подходя к передней.
— А вот, что принес... Антон-то?
399
— Я ему велел назад взять.
— Это что еще за глупости! Опять та же
история! — прогневалась матушка.
— Ах, оставь, Настя. Никаких тут глупостей
нет. Ну на что мне этот окорок? На что мне водка?
Будет. Прославили свое племя христарадниче-
ством.
Матушка с досадой погасила огарок и, усев-
шись на диване, продолжала:
— Какое ж тут христарадничество? Сам же
вчера читал в «Церковно-Общественном Вестни-
ке»... Всем собирают: и яйцами, и сметаной,
и пенькой, и...
— Что ж, разве хвалят за это? — возразил
о. Петр, ходя по залу и тревожно потирая
руки.
— Хвалят или не хвалят, а я к тому говорю,
что, стало быть, не ты один... все собирают. А тут
даже и сбору нет: сами принесли — как же не
взять? Это уж бог знает что!
— Будет, пожалуйста! — взмолился батюш-
ка.— Видно, мы с тобой никогда не сговоримся.
— Тут и сговариваться нечего, нужно дело
делать. Принесли — и бери. Покойник папаша
мой никогда не сговаривался и всегда, бывало,
слушал, что мамаша скажет. Оттого и дом у нас
был — полная чаша.
— Чаша... Ты видишь только одну чашу и не
видишь другой... Вон чего ты не видишь!.. Нас
всего трое; всего у нас вдоволь: к чему эта алч-
ность?
— Трое... А как будет пятеро? А как будет
десятеро? Так что ты скажешь? Тогда вдвое-
400
втрое брать начнешь, да уж поздно будет... Тогда...
— Да ну, будет! — резко оборвал батюшка,
махнул рукой и ушел в другую комнату.
II
О. Петр принадлежал к числу священников
последней формации. Это тип батюшки, живу-
щего по преимуществу нервами, рефлектирующе-
го и скорбящего — не своими только, но и чужими
скорбями. Учился он не шибко, но зато много
читал, слыхал кое-где серьезные рассуждения о
житье-бытье народном и, наконец, сам стал при-
сматриваться к этому житью, хотя поздно, но
внимательно, серьезно и заботливо. Мало-помалу
у него сложился идеал общественной деятельно-
сти, который был незнаком не только старым ба-
тюшкам, но и большинству новых. По окончании
курса в семинарии он пристроился учителем в
небольшом городке. Но учительская служба не
удовлетворяла его. Деятельность, втиснутая
в очень тесные рамки, деятельность, регулируе-
мая звонками и цифрами, деятельность, состоя-
щая в отмеривании установленных параграфов
и совершающаяся в такой среде, в которой можно
говорить, но нельзя разговаривать, такая дея-
тельность не соответствовала его стремлениям.
Ему хотелось погрузиться в жизнь более содержа-
тельную и разнообразную, хотелось деятель-
ности просторной, с результатами более ощути-
мыми. Поэтому он чрезвычайно обрадовался, когда
ему удалось выхлопотать себе священническое
место в многолюдном селе Воротне. Его не смутило
401
даже то обстоятельство, что он обязывался взять
себе в супруги дочь только что умершего священ-
ника этого села. Девушка была весьма недурнень-
кая блондинка и притом не какая-нибудь деревен-
ская неучь, а персона, стяжавшая себе диплом
епархиального училища. Оба эти достоинства
в соединении с необыкновенной простотой и наив-
ностью в обращении легко подкупили жениха в
ее пользу. При первом же свидании с ней он
решил, что она будет любить его, сочувствовать
ему и никогда и ни в чем не будет ему мешать.
И вот Петр Афанасьевич сделался отцом Петром,
а Настасья Поликарповна — матушкой.
В первое время своего нового служения
о. Петр испытывал высокое наслаждение при
сознании, что он взял на себя величайшую миссию
советчика, умиротворителя, утешителя, всяческо-
го помощника и отца. И настроение его было чрез-
вычайно светлое. Но, к сожалению, оно продолжа-
лось весьма недолго.
Вскоре о. Петр должен был путешествовать
по приходу. Тут он наткнулся на картины такой
нищеты, какой во всю жизнь не видывал. (В том
селе, в котором он сам родился и вырос, народ
жил сравнительно сносно.) По издавна установ-
ленной таксе каждый домохозяин должен платить
причту за визит в этот праздник пятиалтынный.
Сумма ничтожная, но у скольких домохозяев не
оказалось и такой суммы! Вот о. Петр, низко
согнув голову, шагнул в избушку деда Терентия.
За ним вошли два псаломщика, сопровождаемые
в свою очередь просвирней, церковным сторожем
и еще какими-то неопределенными собирателями...
402
с земли русской. Визитеры едва втиснулись в
крошечную хатку. Раздалось пение. Оттертые
на задний план, к печке, хозяева (старик и
старуха) истово крестились, громко вздыхали и
плаксиво мигали загноившимися глазами. Пение
кончилось. Старики благоговейно приложились
к кресту, звонко чмокнули руку батюшки, молча
отвесили визитерам по глубокому поклону, молча
же отошли в сторонку и прижались к лавке.
— Ну, старички, как поживаете? — спросил
о. Петр.
Старички переглянулись, но не отозвались.
— Как, мол, поживаете? — повторил батюшка,
завертывая крест концом епитрахили.
— Не в силах, кормилец! — прошамшил
старик, сделав шаг вперед.
— Так уж... будто грех... А то хоть бы и не
ходили к нам, батюшка,— проговорила старуха.—
Ежели бы все слава богу — ну, так, а то... одна
назбла сердцу. Совесть-то есть, а взять негде.
— Что такое? Говорите прямо,— сказал
о. Петр.
— Да мы и то прямо,— снова зашамкал ста-
рик.— Не в силах. Не обессудь, кормилец. Обожди.
Бог даст, к Святой сын придет либо пришлет,
тогда отдадим сполна. А теперь уж помилосердуй,
Христа ради, касатик!
— Да неужели у вас и пятиалтынного нет?
Что за пустяки такие? — вставил псаломщик.
— Родимый! — воскликнула старуха.— Шут-
ка сказать — пятиалтынный! Ты погляди-ка
вот, какой- мы хлебушек-то едим.
Она приподняла угол тряпки, прикрывавшей
403
на лавке «хлебушек». Из-под тряпки выглянула
глыба темно-серой массы. В избушке с полминуты
длилось молчание. Визитеры созерцали «хлебу-
шек». А ветер нагло ломился в единственное окно,
резко дребезжа треснувшим стеклом.
— Кочергой, батюшка, выгребаем, а не то,
чтобы лопатой! — объяснила старуха и снова
закрыла достопримечательность.
О. Петр достал из кармана мелочи, сколько
попалось, торопливо сунул старухе в руку и молча
устремился из хаты. Старуха, разроняв деньги,
в смущении причитала: «Господи, что это такое?
Как же это так? Касатик ты мой... Старик, проводи
батюшку-то. Что ж это ты?» Но старик, упершись
руками в коленки и забыв все и всех, напрягал
все силы своего ослабевшего зрения, чтобы
разыскать раскатившиеся по полу монеты.
Подобные сцены, которых о. Петр перевидал
несколько еще на первых же шагах своей пастыр-
ской деятельности, глубоко потрясали его. Он
твердо решился идти на помощь всякому горю,
всякой нищете. Но не всегда это было ему посиль-
но. Дед Терентий с своею старухой детски уте-
шились несколькими монетами, но о. Петру при-
ходилось быть свидетелем и такого горя, где ни
монетами, ни убеждениями ничего нельзя было
сделать.
Раз среди белого дня ни с того ни с сего вспых-
нул в селе Воротне пожар, и часа через два от
длинной вереницы домов уцелел только дом о. Пет-
ра, кабачок да несколько примыкавших к нему
хат. Бабы с жалкими остатками имущества груп-
пами сидели по дороге, по огородам и выли с раз-
404
нообразными причитаниями. Ребятишки, напу-
ганные пламенем и оставленные без всякого
внимания, подняли страшный рев. Мужики и
парни меланхолически бродили по пепелищу,
бесцельно расковыривая ногами дымящийся
мусор. В одном месте несколько мужиков устави-
лись в ряд и тупо посматривали на пожарище.
Ошалелые от нежданного горя, они как бы совсем
лишились дара слова. Стоят, кашляют, сморкают-
ся, поглядывают друг на друга — и ни слова.
Редко кто пробормочет точно в бреду: «Да-а...
Вот этак-то... Ишь оно как... Теперь вот и поди!»
Вдруг один из стоящих с краю шеренги мужик
благим матом закричал:
— Бра-атцы!
Все на него оглянулись. Он тащил из кармана
корявого полушубка сжатую в кулак руку. Вместе
с кулаком показывался на свет божий и выворо-
ченный второпях карман.
— Чего ты?
— Ца-алко-о-вый! — взвизгнул мужик, по-
трясая кулаком.— Сейчас умереть — цалковый!
Вот он!
Физиономия мужика сияла восторженной
радостью, глаза ярко блестели. Все окружили
счастливца.
— Как же это ты?
— Где же это ты его...
— Вот так Степка!
— Ну-ка, покажь...— загалдели любопыт-
ствующие, точно встрепенувшись от сна.
— Вот он, вот он, не сомневайтесь! — кричал
Степка, потряхивая бумажку за уголок.— Стою...
405
Рука этак в карман. Я малость пошевелил — гра-
мотка! Думаю: откуда ж у меня грамотка! Уж не
цалковый ли? Тяну — он и есть! И как это он —
хоть убей, не помню! Вот, братцы,— а? Цалко-
овый! Ведь это что значит — а?
Степка перевернулся и высоко подпрыгнул.
— Счастье людям... Поди ты вот. Точно с неба
свалилось.
— Должно, умолил! — слышалось в толпе,
которая со времени бешеного возгласа Степки
значительно возросла.
— Давайте-ка, братцы, у себя пошарим,—
'предложил кто-то,— может, и у нас не плоше Степ-
ки.— И все, как по сигналу, сунулись в карма-
ны. Но поиски не привели к серьезным от-
крытиям.
Между тем Степка, переполненный восторгом,
выкидывал разные шутки. Держа находку в при-
горшнях, он дул на нее, мычал, взвизгивал, топо-
тал ногами.
— Да уж будет тебе,— ограничил его кто-то
из толпы.— Он ли, не он ли... с деньгами!
— Да лешие вы этакие, ведь ца-алко-овый!
Аль сказать вам словечко?.. А? Сказать что-ль?
— Полно куражиться-то! — послышалось из
толпы.
— Ха-ха-ха-ха-а-а! — раскатился Степка.—
Пр-р-о-пить его! — крикнул он наконец и звонко
пришлепнул рубль на ладони.
— Дело!
— Вот так придумал! — подхватили мужики,
плотно сдвигаясь к Степке.
— Аль ты ополоумел? — с каким-то испугом
406
воскликнул один старик.— Чем бы бога возбла-
годарить, а он... Ах, Степка, Степка!
— Чего «Степка»! — огрызнулся счастли-
вец.— На кой ляд он мне нужен? Избу, что ль,
на него поставишь? Хозяйство заведешь? Ах ты,
старина-старина! Жил, жил, да и выдумал. Пой-
дем, робя, чего там... По крайности, планиду свою
обмоем.
И он проворно зашагал по пожарищу. Мужики
с шумом и гамом двинулись за ним.
— Стой, робя, не так! — скомандовал Степка,
быстро обернувшись к товарищам.— Нужно,
чтоб честь-честью. Не осталось ли там вожжижек
каких? Живо! Бегите скорей!
Что другое, а ничтожные вещи мужик умеет
спасти от самого ужасного пожара. И вот рассы-
павшаяся в разные стороны команда Степки вмиг
притащила пары две вожжей и покорно сложила
их у ног командира. Степка приступил к делу.
Сложив бумажку в длину узкой полоской, он
с пресерьезным видом стал привязывать ее
к концу веревки. Конец оказался нецелесообразно
толстым. Степка выругался, размочалил его на
тонкие нити и удачно прикрепил рубль. Мужики
с детским любопытством и безмолвной улыбкой
следили за действиями собрата.
— Теперь с богом! — заключил Степка.
Он бросил привязанный рубль на землю, пере-
кинул другой конец веревки через плечо, отсту-
пил на несколько шагов в сторону и скоман-
довал:
— Заходи, робя, становись по порядку! Захо-
ди-заходи!
407
Мужики наперебой полезли под веревку, хохо-
ча и подпрыгивая.
— Ну, что, совсем? — осведомился Степка,
оглянувшись.
— Постойте, постойте! Не хватает! — тревож-
но заявило несколько мужиков, не попавших
под веревку.
Степка быстро устранил неудобство, навязав
другие вожжи, и через минуту длинная вереница
погорельцев под предводительством счастливца
поволокла к кабаку несчастный рубль.
— Во-от не-е-йдет, во-от не-е-йдет, а-а за-хо-
чет, та-ак по-о-йдет! — возглашал Степка, сильно
наклоняясь вперед.
— И-и по-о-йдет! и по-о-йдет! — вторили му-
жики хором, притворно напрягаясь и сгибая
спины.
— Левой! Правой! Левой! Правой! — варьиро-
вал один недавний солдат из средины вереницы.
— О-го-о! — подхватывали остальные.
Старик, восставший на защиту рубля, несколь-
ко минут оставался на своем месте. Потом значи-
тельно кашлянул и тоже поплелся за процес-
сией.
О. Петр, спокойный за свое жилище, во время
пожара находился на месте бедствия: суетился,
распоряжался, помогал вытаскивать вещи, успо-
каивал. Утомленный физически и измученный
нравственно, он даже не мог сразу пройти доволь-
но большого расстояния от места пожара до своего
дома, и зашел отдохнуть в одну из уцелевших
от огня хат. Возвращаясь оттуда, он как раз
натолкнулся на процессию с рублем.
408
— Что такое? — воскликнул он с недоуме-
нием.
— Ничего,— отозвался за всех Степка, не оста-
навливаясь, и тут же скомандовал: — Дотягивай,
робя, дотягивай! Маленько осталось. Во-от не-е-
йдет...
— Что вы это делаете?— возгласил батюшка,
поняв, в чем дело.
— Планиду празднуем,— объяснил Степка.
— Остановитесь! — взывал батюшка, идя
сбоку вереницы.— Образумьтесь, что вы это?
Господь с вами!
Мужики остановились, но не размыкали
цепи.
— После страшного гнева божия у вас такое
безобразие! — внушал о. Петр.— Нужно прийти
в себя... пока хоть семью свою приютить куда-
нибудь... А вы что?
Мужики, сперва ошеломленные горем, потом
ненормально наэлектризованные нелепой затеей,
слушали слова священника как что-то совершенно
их не касающееся. Только Степка несколько по-
стиг смысл этих слов, но они не только не подей-
ствовали на него успокоительно, а даже еще раз-
дражили его.
— Чего положение? — резко крикнул он.—
Тебе можно... «Положение»!.. А кабы самого
этак достало — глядя, и сам бы потащил... Дотя-
гивай, робя, дотягивай! Раз! Ух! Эх-ма-а, по-
шл а-а!..
И ошалелая вереница побрела дальше.
О. Петр остановился, как пришибленный.
Сочувствие о. Петра к прихожанам и гуманное
409
отношение к ним весьма не нравились причту.
Псаломщики с досадой смотрели на батюшку,
когда он склонялся на просьбу того или иного му-
жика сбавить плату за свадьбу, за сорокоуст и т. п.
или когда он совершал какую-либо «требу» для бе-
дняка даром и при этом еще давал ему денег.
Хотя о. Петр относил подобный пожертвования
на свой личный счет и сполна выдавал причет-
никам их части из всей суммы сбора, но это их не
успокаивало. Им казалось, что батюшка играет
в популярность, что он, не нуждаясь в деньгах,
с заднею мыслью сорит ими направо и налево,
к ущербу благосостояния своих сослуживцев.
Сперва они молчали и только хмурились. Потом
чувство подозрительности и недовольства перешло
у них в чувство ядовитой злобы, они начали
протестовать. Однажды по окончании обедни,
когда народ вышел из церкви, оба причетника
подступили к батюшке с целью объясниться на-
чистоту. Первый начал Никанорыч, церковник
лет шестидесяти, толстый, с огромною головой,
широчайшим кривым ртом и заплывшими гла-
зами.
— Батюшка, вы вот что,— начал он, приняв
вызывающую позу,— коли хотите награждать
мужиков, так платите из своих, а нас уж увольте.
Нам тянуться за вами нельзя.
— Я и не заставлю вас тянуться за мной,—
возразил о. Петр.— Если я кому даю что-нибудь,
так действительно из свои#. Вы свое получаете
сполна.
— Вот то-то и есть, что не получаем,— вставил
другой причетник, Пантелеич, черный, как
410
цыган, с орлиным носом.— Разве до вас-то мы
столько получали?
— Я не знаю, сколько вы до меня получали,
но вам пора увериться, что я вас никогда и ничем
не могу обидеть.
— Гм-гм... —промычал Никанорыч.— Это нам
видней... Я вот при четвертом священнике служу,
а этакой вольности не видал.
— Какой вольности? — удивился о. Петр.
— Такой...— пояснил Никанорыч.— Разве му-
жика можно так запускать? Вместо десяти руб;
лей — восемь, вместо двух — рубль брать! Как
это понять? Именно, вы это нарочно... назло нам.
Вам, конечно, ничего: ваша часть всегда большая,
сколько ни скащивайте, а нам ущерб. Да еще что!
Теперь уж мужику-то наш брат и сказать не смей,
и попросить лишнее не моги. «Нам, говорят,
батюшка — и тот ничего, а вы что?» Разве это
не обидно? Мы тоже вам ничего не сделали. Свое
дело знаем... Не первый год... Четвертого священ-
ника переживаю. Как хотите, а мы терпеть больше
не будем. На вас у нас владыка есть. Так-то.
— Что ж, жалуйтесь! — уступчиво прогово-
рил о. Петр.
— И пожалуемся. Свое искать никто не за-
претит. Так-то,— заключил Никанорыч.
О. Петр не счел нужным более возражать, но
после этого разговора на него нашло некоторое
раздумье.
«Может быть, они и правы с своей точки зре-
ния,— думал он уже дома, сидя за чаем.— Бли-
жайшим виновником их недоборов являюсь я.
Но что же мне делать? Не могу же я пустить
411
в ход вымогательство в пользу двух лиц. И с кого
вымогать? («Хлебушек!» — мелькнуло у него
в голове.) И без того не установишь желатель-
ной нравственной связи с народом; что же было бы,
если бы я следовал традиционной системе? Но,
с другой стороны, что же делать и псаломщикам?
Положим, они люди грубоватые, не имеют пра-
вильных понятий о человеческих отношениях. Но
ведь и им нужно чем-нибудь жить...»
О. Петру припомнилась одна журнальная
статья, где обсуждался вопрос о материальном
положении духовенства, и он продолжал:
«Как ведь верно разочтено! Неужели нельзя
так сделать? Все бы мы были с жалованием. Ни-
каких недоразумений, никаких столкновений
из-за гроша ни с народом, ни с причтом. А теперь
вот... Ишь накинулись... как на врага, на злодея.
Тяжело!»
— Пей чай-то, простыл давно,— напомнила
супруга.
— Ах, да... Сейчас, Настя, сейчас! — смущен-
но проговорил батюшка, точно виноватый, и зал-
пом выпил холодный стакан.
— Замечтался! — продолжала Настя, вновь
наливая мужу чай.— Ты поменьше мечтай. Сиди-
те, как у праздника. Не то чай, не то бог знает
что. Сиди, дожидайся его. Ведь скучно. Хоть бы
поговорил о чем-нибудь...
— Хорошо, хорошо... Мне больше не нужно,
не сердись,— успокоительно проговорил о. Петр.
Как ни старался батюшка примириться в душе
с своими причетниками и оправдать их резкий
протест, но содержание этого протеста и тон его
412
глубоко запали ему в душу. Он сохранил в своих
отношениях к псаломщикам прежнюю мягкость
и деликатность, но каждый раз при свидании
с ними чувствовалось стеснение и некоторый
страх. Ему стало представляться, что каждый из
его сослуживцев носит за пазухой по камню. Он
желал бы один исправлять все церковные службы
и требы и посылать псаломщикам причитающийся
им доход на дом, лишь бы не встречаться с ними,
не видеть их недовольных лиц, не замечать их
ядовитых перемигиваний и таинственных пере-
шептываний.
В трудную минуту жизни о. Петр думал найти
если не поддержку, то сочувствие и утешение
в своей жене. Но он и тут ошибся. Настя оказа-
лась не только не подготовленной, но и неспособ-
ной понимать его стремления. Родители ее олице-
творяли собой заскорузлое скопидомство и низко-
пробную негу простаковской любви. Поместив
дочку в женскую бурсу, они аккуратно и щедро
снабжали ее субсидиями на булочки, сухарики,
пирожное, конфеты и т. п., тогда как многие
из ее подруг в этой же бурсе лишены были воз-
можности пить чай. На каникулы и почти на все
праздники ее брали домой, экстраординарно
пичкали, лелеяли и постоянно внушали ей горде-
ливую мысль, что она теперь «не какая-нибудь
простая поповна, а девушка образованная, все
равно, что светская». Когда она перешла в пятый
класс, ей сшили платье со шлейфом, что еще
более возвысило ее в собственных глазах. Сверх
413
обычных уроков по учебным предметам, она за
особую плату брала уроки музыки, в которой зашла
так далеко, что играла не только «Ехал казак
за Дунай», но и «Молитву девы». Этого мало. Она
еще училась — тоже за особую плату — француз-
скому языку и отлично знала даже такую фразу,
как je ne sais pas. В довершение всего она тайком
от начальницы в задних апартаментах училищ-
ного здания выучилась польку танцевать. Ну,
барышня, да и только... Когда эта барышня сдела-
лась матушкой, обладательницей и полной распо-
рядительницей отцовского имущества, госпожой
над работницей и работником, хозяйкой над коро-
вами, овцами, курами, индейками и т. п., то все
познания по наукам, означенным в ее дипломе, у
нее как рукой сняло. В ней ожили и затрепетали
материнские инстинкты «древляго» скопидомства.
Грубая жадность и дикий эгоизм овладели ею
с удивительной быстротой, тем более что воспита-
ние в женской бурсе нисколько не содействовало
уничтожению предрасположений к этим доброде-
телям. Влияние училищной образованности
обнаружилось только в высокомерии, с каким она
относилась не только к причетникам и прихожа-
нам, но и к мужу.
Когда о. Петр в первое время своего священ-
ства начал выяснять перед женой задачи и харак-
тер своей новой деятельности и развивать свои
планы, Настя сперва отсмеивалась и отделывалась
неопределенными фразами вроде: «Ну, что вперед
загадывать? как придется... Поживем — увидим».
Потом стала говорить: «Вот еще что затевает!
Ну, где ж-таки это бывает? Смешно даже». На-
414
конец (и довольно скоро), выступила уже с пря-
мым, настойчивым противоречием и противодей-
ствием всему, что муж высказывал или делал.
О. Петр пытался с ней спорить, силился доказать
ей правоту своих мыслей и разумность действий,
но напрасно. «Э, поди ты!..» — бесцеремонно
обрывала его Настя, нередко на самом патети-
ческом месте речи. О. Петр, обычно словоохотли-
вый и живой, смолк, замкнулся в себя и действо-
вал на свой страх. Это в свою очередь увеличива-
ло недовольство и кропотливость матушки. Иной
раз вечерком в видах сближения и примирения
с супругой батюшка скажет:
— Настя, сыграй что-нибудь!
Иногда Настя пустит мимо ушей предложение
супруга, а иногда и сыграет, молча и как будто
нехотя. Выслушав в сотый раз, как «Поехал
казак за Дунай» и как молится дева, о. Петр
не почувствует никакого душевного облегчения,
вздохнет и забарабанит пальцами по столу или
по стеклу.
Правильности семейных и общественных отно-
шений о. Петра повредило еще следующее обстоя-
тельство. Волостной писарь, красивый, ловкий
и разухабистый брюнет, выключенный из второго
класса какого-то учебного заведения, издавна был
знаком с Настасьей Поликарповной. Когда она
сделалась матушкой, он не замедлил познакомить-
ся и с о. Петром и начал часто посещать их дом.
Сперва батюшка был рад этому знакомству. Во-
первых, писарь некоторым образом интеллиген-
ция; во-вторых, он близко стоит к народу и от
него можно узнать много интересного и поучитель-
415
ного относительно народной жизни. Такими сооб-
ражениями руководствовался батюшка, радушно
принимая в свой дом нового знакомого. Но сообра-
жения его не оправдались. Писарь оказался вовсе
неспособным к серьезным беседам. О народе он
отзывался крайне презрительно и нахально расска-
зывал о своих бессовестных проделках с мужиками
и бабами. Он даже не любил много разговаривать
с батюшкой, а больше льнул к матушке; неумол-
каемо тараторил с ней о всяких пустяках, отпускал
сальные остроты, каждый раз просил ее играть,
нежно подтягивал ей «Казака», причем ужасно
кривлялся, ломался, принимал нескромные позы
и делал масляные глазки. Настя всем этим весьма
довольна, весело хохотала, болтала, резвилась.
Несколько стесняясь обществом батюшки, писарь
стал выбирать для своих посещений такое время,
когда Настасья Поликарповна оставалась одна.
Так продолжалось с полгода. О. Петр морщился-
морщился и наконец в .минуту наибольшего раз-
дражения бесцеремонно выгнал развеселого гостя
вон. Матушка вышла из себя, обозвала мужа «не-
образованным мужиком, невежей, хамом», и не-
терпимость ее к о. Петру еще более усилилась.
— Дьячковское отродье! Привык там с дьячка-
ми. Кроме невежества и буйства, ничего не
можешь понимать! — не раз упрекала она супру-
га. (О. Петр имел несчастие родиться от дьячка.)
За что про что оскорбил благородного человека?
Скандалист! Ты непременно должен извиниться
перед ним. На что похоже? Живешь в этакой
глуши, никакого света не видишь. Явился мало-
мальски живой, благородный человек, и вдруг
416
этакая история! Невежа! Думает, ужасно весело
с ним сидеть! Уткнется в книгу, либо в газету,
либо начнет разводить свои полоумные рацеи.
Ужасно весело! Ха-ха-ха-ха! Вот бог послал! По-
смотрели бы папенька с маменькой.
И несколько раз о. Петру приходилось выслу-
шивать эти укоризны. Но он терпеливо отмалчи-
вался. Оставив жену в покое, он принялся за
писаря. Узнав из его же собственных рассказов,
какие злоупотребления и беззакония допускает
он по отношению к крестьянам, батюшка принял
сторону последних. При всяком удобном случае
он внушал и растолковывал им, как нужно по-
ставить себя к писарю, чтоб избавиться от его
вымогательств. Писарь скоро заметил резкую
перемену в отношениях к нему мужиков и, запо-
дозрив влияние о. Петра, к прежней злобе при-
соединил еще и жажду мести. Кроме того, о. Петр
стал замечать, что псаломщики частенько по-
хаживают к оскорбленному деревенскому админи-
стратору. Наконец, он узнал, что триумвират
замышляет против него что-то грандиозно-злое.
Все это довело о. Петра до того нервно-напря-
женного состояния, в котором мы застали его
в начале первой главы.
Ill
Было двенадцать часов того самого воскресно-
го дня, который намечен был Антоном для брако-
сочетания сына с «здоровой» девкой из Жорнов-
ки. О. Петр только что пообедал и собрался отдох-
нуть. Вдруг раздался звон колокольчиков и бубен-
14-1032
417
чиков. Батюшка заглянул в окно. К церкви ухар-
ски подкатывал довольно длинный свадебный
поезд.
«Должно быть, Антон,— заключил о. Петр.—
Что бы ему к обедне... Прямо бы, не выходя из
церкви... Только было собрался прилечь, а он...»
Батюшка расчесал волосы и бороду и начал
одеваться. Но не успел он кончить своего туалета,
как в дом вломился Антон и вмиг очутился в
зале.
— Ну что? — спросил батюшка, застегивая
подрясник.
— Все как следует. Привалили — и жених,
и невеста, и сродственники,— громко объяснил
Антон, размашисто жестикулируя.
— Свидетельство привез?
— Свидетельство? Какое свидетельство?
— Сведения о невесте... от жорновского свя-
щенника.
— Нет, не привез.
— Как же это ты? Ведь я тебе говорил.
— Это все наплевать!
— Как «наплевать»? Неужели ты до сих пор
не понимаешь? Я без этого венчать не могу.
— А мы сделаем так, что повенчаешь.
— Как же это ты сделаешь?
— А так. Положено тебе десять целковых, а
мы прикинем еще пяток. Вот и вся недолга!
— Да не могу я, пойми ты это. Не нужно мне
твоего пятка.
— Небось пригодится: не щепки...
— Я тебе русским языком говорю, что не могу.
Почему ты не взял свидетельства?
418
— А ежели я не хочу? — ломался Антон,
прислонясь к переборке.— А ежели я к энтому
батьке не хочу? А ежели я его знать не хочу?
— Ты пьян! — заметил о. Петр.
— Нет еще, не пьян, а выпить — выпил, по
свадебному делу. Этого никто мне запретить не
может.
— Пока не представишь свидетельства, я вен-
чать не буду.
— Этого нельзя, это притеснение. Весь в готов-
ности, харчей припасли видимо-невидимо, навари-
ли, нажарили, к церкви подъехали... нельзя! Нет,
это не подходит.
— Не могу.
— Не пойду я!
— Нет, пойдешь!
— Ну, довольно. Иди, не раздражай меня.
— Не пойдешь?
— Послушай, Антон, я тебя велю вывести,
если ты слов не понимаешь,— заключил о. Петр.
— Вывесть? Гм... гм... Нет, зачем же. Мы сами
дорогу знаем. Вывесть... как бы не вывесть! —
бормотал проситель, несколько озадаченный.—
Я ведь тоже разговаривать не хочу. Возьму да
уйду.
Он медленно и неловко провел ладонью по
лбу, молча покачался из стороны в сторону и,
сильно хлопнув шапку об руку, неровными шагами
направился к двери.
— Так помни же ты это! — неистово крикнул
он, притворив дверь из сеней и тотчас же за-
хлопнув.
14*»
419
— Караул! Караул! — кричал Антон, подбегая
к поезжанам.
— Что ты? Что такое? — встревожились те.
— Батька теснит, венчать не хочет.
Все, кроме жениха и невесты, оставшихся в
экипаже, окружили потерпевших. Тут же очутил-
ся и один из причетников, Никанорыч.
— Как же это так? Аль что не по закону?
— Все как есть по закону. Не хочет, и шабаш.
— Ты б ему набивал, уж куда ни шло! — пред-
ложил дружка.
— Да ведь он насчет этого, кажись, не дюже...
не падок! — заметил кто-то.
— Кто не падок? Поп-то?— встрял Никано-
рыч.— Много вы его знаете! Вы лучше мне по-
верьте. Это он вас заманивал... чтобы не вдруг...
Знаю я их. Четвертаго попа переживаю, а этакого
еще не видывал. С виду будто тихоня, а на деле
ободрать готов. То ничего, а как вот попался
Антон, побогаче, он и насел. О-о, это не поп, а
казня египетская. За что он теперь Антона?.. Чего
такого он не соблюдал? Четвертной не посулил —
вот чего не соблюл!
Речь Никанорыча видимо подействовала на
слушателей. Они стояли с вытаращенными глаза-
ми и вообще имели такой вид, будто уразумели
непостижимую дотоле истину. Антон даже уми-
лился.
— Никанорыч!— воскликнул он.— Соблюл я
аль нет? Ты сам видишь. Мы с тобой исстари...
— Соблюл, Антон Митрич, все соблюл.
— Зачем же он говорит: «Подай выпись»?
Ведь вон она, девка-то, сидит. Кто ее не знает?
420
А он: выспись, да и шабаш! Это как по-твоему?
— Пустое, чего там!— изъяснил Никано-
рыч.— Придирается, дело видимое. Говорю:
казня! Съесть готов! Четвертаго попа...
— Я, говорит, тебя взашей отсюда.
— Это он сказал? Поп? — встрепенулся Ни-
канорыч.
— Поп.
- Тебе?
— Мне.
— Это исконному, почтенному, уважаемому
прихожанину? — подстрекал оратор.— Вот ви-
дишь? Ты теперь сам видишь... Это осел, а не поп.
И ты стерпел?
— Нет, не стерпел! — рисовался Антон.
— Что же ты ему?
— Я говорю... Ах, ты, я говорю... Одно слово —
не стерпел. Разве стерпишь? Одно слово... Ка-
рау-л!
— Постой, ты не горлань. Нужно дело де-
лать.
— Что же мне теперь?
— Прошение на него... приговор. Притесняет...
алчен... и противно священству: взашей... Вот
ему и покажут. У архиерея попов много в запасе.
Какого ни пришлют, все лучше будет.
— А ты, Никанорыч, с нами? Подпишешь? —
закинул Антон.
— А то как же. Мы оба... Я раньше всех его
раскусил. Четвертаго попа...
— Приговор, народ! Слышь, приговор,— ожив-
ленно воскликнул Антон.— Дружка, беги — сзы-
вай. К писарю... чтоб все.
421
— А как же молодых-то? Жениха-то с неве-
стой?— возразил дружка.
— По домам! — скомандовал Антон и тут же
поправился.— Нет, пусть едут ко мне. Кати с
ними... для скорости. Сзывай! Опосля все ко мне.
Сыграем по-своему... Все едино. Всего вволю...
а опосля еще наготовим. Так и скажи: все, мол,
ублаготворить хочет!
— Хорошо, хорошо! — согласился дружка,
проворно усаживаясь в повозку.
Лошади повернули от церковной ограды. Ко-
локольчики и бубенчики тревожно зазвенели.
— Эй, стой, погоди! — закричал Антон.—
Я сам еду.
В зале волостного правления теснится толпа
мужиков. За столом с самодовольной улыбкой
председательствует писарь, имея одесную Никано-
рыча, а ошуйю Пантелеича. Перед ним стопа
бумаги, в руке перо.
— Ну-с,— возглашает писарь,— этот пункт,
кажется, отделан. Вымогательство... притязатель-
ность — и... Гм! Сие могут подтвердить крестья-
не: Антон Жмыхов, Иван Лопухов, а также
церковнослужители... Гм!
Он положил перо, потер руки и продолжал:
— Теперь о побоях. Антон, ты в это время
один у него был?
— Один,— отозвался Антон.
— Эх, кабы еще хоть одного человека. Крепче
бы...— проговорил писарь.
— Что ж, пропиши, пожалуй, меня,— предло-
422
жил дружка.— Все едино. Пиши: «а в том числе
и Родивон».
Через несколько минут писарь изобразил и
прочитал, как «священник Петр Богородицкий,
выйдя в переднюю к пришедшим к нему крестья-
нам Антону Жмыхову и Родиону Крапивину, при-
глашавшим его, священника, на совершение
таинства брака, и узнав о малой онаго ценности
(о чем изъяснено выше), бесчинно затопал на
них, крестьян, своими ногами, и, зверски схва-
тив их, крестьян — попросту говоря — за шиво-
рот, собственноручно вытолкал их в сени, сопрягая
с неприличными ругательствами, вследствие
чего поименованные крестьяне остались в самом
несчастном и обидном положении как касатель-
но брака, так и в рассуждении здоровья. Сие
могут подтвердить...» И проч.
— Ну, что бы такое ещё? — спросил предсе-
датель.— В карты он играет?
— А кто его знает! — отозвалось несколько
голосов.
— «Кто его знает»! — передразнил писарь.—
Тут нужно говорить прямо. Вот и это бы за-
писали!
— Может, и играет,— начал Антон.— Как, чай,
не играть? Чего ж ему делать-то? Вестимо, игра-
ет. Иные вон по целым ночам заваливают.
— Играет... и неоднократно! — серьезно и
решительно произнес Никанорыч, сдвинув
брови.
— Так я запишу? — предложил писарь.
— Вали!
Как же записать: кто подтвердит?
423
— Да все. Так и пиши. Чего на него смотреть-
то? — ответил Антон.
И вот явился третий пункт обвинения.
— Теперь бы еще что-нибудь этакое... для
загвоздки,— сказал писарь.— Уж писать — так
писать.
Мужики промолчали.
— Насчет водочки, например? — пояснил
протоколист.— Может, зашибался иной раз?
В приходе, например? А еще лучше, если бы
кто в церкви заметил его выпивши... Вот бы ловко-
то! Тогда бы уж прямо шабаш.
— Этого-то за ним будто не видно,— про-
бурчали прихожане.
— Да вы припомните-ка. Ведь тут достаточно
и одного случая. Неужели никогда не замечали?
— Нет, что ж... Чего другого, а этого, кажись...
Да, может, и так будет? Довольно прописано.
— Где же им заметить?— начал Никанорыч,
громко крякнув.— Это человек потаенный. В при-
ходе от всего отказывается, а дома — так под Свет-
лое воскресенье готов напиться до положения.
— Неужели под пасху?
— Под па-сху! — отрезал свидетель.— Стал
это я его облачать в алтаре, а от него разит!
— Слышите? — обратился писарь к мужи-
кам.— Ведь это чего стоит! Писать, что ль?
— Что ж, прописывай! Коли Никанорыч видел,
так и мы не отстанем,— отозвался Антон.— Взя-
лись — так нужно как следует.
— Пусть пишет! Поддержим! — обнадежил
народ.
И писарь приступил к изложению нового об-
424
винительного пункта. Когда этот пункт был про-
чтен и одобрен, писарь, немного помолчав, обра-
тился к мужикам с следующею речью:
— Вот, господа, я вам пригодился. Помог вам,
научил, наставил. И ничего не прошу с вас за это.
Бог с вами. А вы со мной не совсем чисты. Ведь
правда? А? По совести...
— Мы вашей милости ничего... Что ж мы? Мы,
кажись, завсегда...— ответило несколько голо-
сов.
— Нет, признайтесь,— приставал писарь.—
Теперь дело прошлое. Теперь я вижу, что вы
опять как следует... цените меня. Ну, а прежде?
Вот хоть бы ты, Прохор... Да и ты, Сергей, тоже...
А также вот и Анисим с Алексеем. Помните?
Я ведь не забыл. Конечно, я не сержусь. Вас
кто-нибудь подбивал? А? Скажите по совести.
Дело прошлое.
— Ну, чего там вспоминать! Мало ли что
бывает,— отозвался за всех Прохор.
— Положим. Но мне все-таки любопытно: кто
вас подбивал? А? Назовите этого человека? Ну?
Кто же? А?
— Да опять же все батька,— сообщил, нако-
нец, Прохор.
— Ну, вот. Только всего и нужно,— заключил
писарь.— Так и будем знать. Гм... Это статья
тоже немалая. Это тоже нужно в жалобу занести.
Гм... Вот оно где зло-то... Против начальства!..
Гм-гм...
— Да нешто и это в просьбу? Это не касае-
мое,— вступился Прохор.
— Как не касаемое? — горячо воскликнул
425
писарь.— Против начальства? О-го! Если не в
этой, так в другой просьбе попрошу об этом — и
тогда уж не одного попа, а и вас всех зацеплю.
Сами признались... при свидетелях. Шутка ска-
зать: против начальства! По нынешним временам,
за этакое дело в Сибири места не найдете... Чтоб
до этого не доводить, давайте лучше в этой же
жалобе пропишем. Попу все равно несдобровать.
По крайней мере себя очистите. Добра желаючи,
говорю... Свидетели между вами есть? четверо?
Всех поименую.
— Именуй, именуй! — поощрил Антон.—
Скорей доконаем. Мне поп однажды сам сказывал,
что у них теперь строго. У них теперь и в книгах,
вишь, пишется: «Чуть что не по закону, сейчас
под суд».
— Разве? — произнес писарь.
— А то как же? Прямо сказано: в самый
уголовный суд,— подтвердил Никанорыч.
— Ну, валяй, валяй!— сдались мужики.—
Только поскорее. Пора и к концу.
И писарь вдохновенно и быстро намахал до-
бавочный донос, с точным обозначением лиц, «кои
сие подтвердить могут».
Утомленные длинной канцелярской процеду-
рой, мужики, как школьники после отпускного
звонка, ринулись к выходу.
— Погодите, погодите! — кричал писарь.—
Нужно прочесть все сполна, набело.
Но слушать было почти уже некому. Из много-
численной толпы просителей только один Антон
не умел еще перешагнуть порога выходной
двери.
426
— Антон, поди-ка сюда, Антон! — возглашал
писарь, выскочив из-за стола.
— Чего? Ведь уж кончили,— ответил Антон,
не оборачиваясь.
— Поди сюда... бестолковый! Нужное дело...
— Ну,— произнес Антон, нехотя подойдя
к писарю.
— Ты вот что...— начал писарь, положив Ан-
тону руку на плечо.
— Ослобони, пожалуйста,— взмолился Ан-
тон.— Ведь все уже обделали. А там меня ждут.
— Да ты слушай, что говорят-то, ворона!
— Ну-ну... Только, будь друг, поскорей.
— Сейчас же ступай в Жбрновку и во что бы
то ни стало возьми у тамошнего попа сведение
о девке. Ну, дай там ему... Даже красненькой
не жалей, если запросит...— внушительно, с ударе-
нием на каждом слове проговорил писарь.
— Bo-на! Опять сначала! — воскликнул Антон
и почесал в затылке.
— Постой, постой! Выслушай до конца.
Да что «до конца»... ждут!
— Тебе говорят — молчи и слушай,— крикнул
писарь, тряхнув Антона за плечо.
Антон умолк. Писарь продолжал:
— Это необходимо! Иначе и просьба не в
просьбу. Чтоб непременно нынче же... во что бы ни
стало! Видишь ли: сведение это... оно хоть и не
очень, но, может быть, и требуется. Вот и нужно,
чтобы на нем было поставлено нынешнее число.
Заметь: нынешнее число. Когда начнется суд,
вот ты это сведение и покажешь: я, мол, все,
что нужно, представил попу в тот же день... За-
427
меть: в тот же день... и сведение, мол, выхлопотал,
а поп все-таки не стал венчать. Попу-то и некуда
будет податься. Теперь он упирает на сведение,
а уж тогда ему совсем нечего будет сказать. «Ну-
ка, скажут, покажи сведение-то, какое на нем
число стоит?» Ты покажешь. Посмотрят — как
раз это самое число! Тогда попу сразу шабаш.
Сразу увидят, что он нечист.
— Гм-гм...
— Так непременно нынче же...
— Ладно. Просим прощения, Семен Несте-
рыч,— заключил Антон, поспешно отклани-
ваясь.
— То-то и есть-то. Гусь ты этакой,— торже-
ственно воскликнул писарь, мощно потрясая Анто-
на за оба плеча.— За этакия дела-то в иных местах
сотни берут, а я тебе даром... «Семен Нестерыч»...
Ну, да после сочтемся. Свои люди.
Но когда Нестерыч произносил последнюю
мысль, содержащую в себе некий намек, Антон
был уже на крыльце.
В зале заседания остались только клирики
и Нестерыч. Они сидели здесь еще довольно долго
и, предупреждая события, праздновали победу
выпивкой.
— Меня тоже не трогай,— хвалился писарь.—
Я не то что попа, я даже... даже и... даже и исправ-
ника подковырнуть могу. Вот что! А то какой-
нибудь поп!
— Какого ни пришлют, все лучше этого будет!
Это верно... Это верно! — твердил Никанорыч,
стуча по столу кулаком.
Пантелеич по обыкновению подтверждал кив-
428
ком каждую чужую мысль и глубокомысленно
наполнял то и дело опорожняемые рюмки.
Антон и его союзники, вознаграждая себя
за гражданский подвиг, шумно отпраздновали
несостоявшуюся свадьбу. Ритуал, созданный для
свадебного пиршества, был проделан сполна.
Будущий свекор и дружка, сильней других отума-
ненные винными парами, до того смешали при-
зрачное с действительным, что потащили было
quasi — молодых спать. Только мольбы и энерги-
ческая атака баб не допустила это дикое делание
др осуществления.
О «сведении насчет девки» Антон вспомнил
лишь в половине следующего дня.
IV
В доме о. Петра прежде всех узнала о событии
прислуга. Прислуга довела об этом до сведе-
ния матушки, а матушка передала об этом ба-
тюшке.
— Вот какую кутерьму ты поднял,— упрекала
Настасья Поликарповна мужа.— Я так и знала,
что дело добром не кончится. Хотел пооригиналь-
ничать. Вот и возьми! Этакой скандал поднять!
Жене-то какое бесславие! Под судом... Ха-ха-ха...
Вот это так!
— Перестань, Настя,— начал о. Петр, стараясь
казаться хладнокровным.— Неужели можно при-
давать значение глупостям пьяного мужика?
— Тут не один мужик, а все общество. Тут же
429
и причт, тут же, говорят, и Семен Нестерыч. Всех
вооружил против себя.
— Никого я не вооружал,— оправдывался
о. Петр.
— Это тебе так кажется. Я помню, как жил
мой папенька, и вижу, как ты живешь. У тебя все
выходит наоборот. Папенька, бывало, не станет
нежничать с дьячками да с мужичками, зато,
бывало, сроду не обидит человека благородного.
И было все хорошо: благородные его уважали, а
сиволапые пикнуть не смели. Уж сколько раз я
тебе говорила — нет-таки, повел по-своему. Вот
теперь и расхлебывай... Чего шатаешься из угла
в угол? Руки-то заложил... Точно награду какую
получил! Нужно что-нибудь делать.
— Совсем нечего тут делать,— решительно
и с досадой проговорил о. Петр.
— Как нечего? Как нечего,— горячилась
матушка.
— А что же прикажете? — спросил подсуди-
мый, нервически морщась.
— Нужно предупредить, отклонить... съез-
дить к благочинному, съездить в консисторию.
Как добрые люди делают? Папенька, бывало...
как только жалоба, сейчас же в консисторию.
И всегда выходил прав.
— Так и на знаменитого папеньку были жало-
бы? — поддел о. Петр.
— То есть... конечно, были... что же... Но
против него всегда с носом оставались... И то он
всегда в консисторию ездил. А ведь ты всех
против себя вооружил, всех как есть. Тебе сейчас
же нужно ехать.
430
— С какой стати? — возразил о. Петр.— Я ни
перед кем и ни в чем не считаю себя виноватым.
Я стою на законной почве. Пусть пресмыкаются
те, у кого рыльце в пушку.
— Пусть, пусть... пусть,— волновалась матуш-
ка.— Пусть в монастырь запрут на полгода! Пусть
хоть в дьячки расстригут! Пусть... Даже рада
буду, ей-богу, буду рада,— заключила она и
ушла.
О. Петр храбрился только на словах. В душе
он сильно тревожился. Нервы его еще более
расстроились, и он начал испытывать муку бессон-
ных ночей. Строго анализируя свои намерения,
точно проверяя свои отношения и действия, он
приходил к успокоительному заключению, что
в них ничего не было бесчестного, фальшивого.
Но тем трудней было ему переварить тот факт,
что из его «доброго и честного» выросло злое
и гнусное. Это противоречие мучило, терзало и —
подчас — совершенно подавляло его. «Неужели
я неверно понял свое призвание,— думал он
иногда во мраке бессонной ночи.— Неужели эта
сфера деятельности не по мне? Что же остается
делать?.. Конечно, это должно кончиться пустя-
ками, но что за отношения! Чего достигнешь при
таких отношениях? Того ли я желал? Говорят,
перемелется — мука будет. Но когда же все это
перемелется? Да и перемелется ли? Если бы зави-
село от меня одного, а то ведь здесь взаимодей-
ствие нескольких сил... Тяжело... За что?!»
Между тем жалоба пошла в ход — «по началь-
ству». Антон торжествовал. Однако союзники его
разделяли с ним победное настроение лишь до
431
тех пор, пока вместе с ним пировали и опохмеля-
лись. Но когда жизнь их вошла в свою обычную
колею, ими овладело чувство раскаяния. Случайно
сойдясь вдвоем или втроем, они обыкновенно пере-
кидывались словами вроде следующих:
— Как рассудишь, так мы батьку своего...
так... зря.
— Да, надо правду сказать, попутались ма-
ленько. Антон этот... И шут его знает, как это мы
опрокинулись.
— Что ж теперь делать? Теперь уж пошло...
Ничего не поделаешь.
— Опять же и писарь этот затянул.
— Ну, да ведь... Что ж теперь?.. То-то ведь
глупость-то наша. И батьку, и себя, выходит, под-
вели... так... зря. Теперь вот отвечать будешь.
— И будешь...
Сознание некоторой виновности перед «бать-
кой» выразилось у «жалобщиков» тем, что они
стали избегать встречи с ним. Когда же им нужно
было о чем-нибудь попросить его, они посылали
к нему с этой целью баб. Если же батюшке при-
ходилось быть у кого-нибудь из жалобщиков с тре-
бой, то жалобщик на это время обыкновенно
удалялся из дома. После этого беглец спрашивал
у своей бабы:
— Ну, что батька? Ничего?
— Ничего.
— Не говорил этакого-такого?
— Ничего не говорил.
— Оказия!.. Ну, челове-ек!.. И нелегкая нас
попутала! Вот уж подлинно!
432
Недель через пять после подачи знаменитой
жалобы консистория назначила над о. Петром
следствие. Следователем явился о. Измаил, пожи-
лой и многоопытный батюшка, видавший на своем
веку виды поважней тех, которые представились
ему в «деле» о. Петра. В среде мужиков неожи-
данно вырос новый вопрос о том, куда поместить
«следственника». Никому не хотелось приютить
его в своей хате. У кого-либо из лиц заинтересован-
ных о. Измаил сам не пожелал остановиться. Те
же, которые были незаинтересованы настоящим
казусом, отрекались от чести видеть у себя важно-
го гостя — из безотчетного страха, как бы их
самих не притянули. «Дело опасное,— рассужда-
ли они,— все равно, что около огня ходишь...
следствие!..» Следователь почти полдня провел
бесприютным странником, не имея возможности
приступить к делу. Наконец, после шумных прере-
каний «мира» он был помещен в церковную ка-
раулку. Сюда-то были созваны лица, имеющие
прикосновение к делу.
«Жалобщиков» стали приводить к присяге.
Стоя с поднятыми руками, они как-то немо и глухо
повторяли грозные слова. Глядя на их мрачные
раскрасневшиеся лица, потупленные взоры, можно
было подумать, что это подсудимые, которым угро-
жает неминуемая кара. Когда присяга кончилась,
«жалобщики» подняли страшную толкотню и
давку, стараясь спрятаться друг за друга. Одни
молча вздыхали и принужденно откашливались,
другие, ни к кому не обращаясь, шептали: «Вон
оно, дело-то... Этакую страсть принять... Гос-
поди!»
433
Приступлено было к допросу.
— Ну, Антон Жмыхов, расскажите, как было
дело, но которому вы принесли на о. Петра жало-
бу,— возгласил о. Измаил, усаживаясь за кро-
шечный, шатающийся столик.
— Дак как оно было-то? Так и было...— начал
Антон.— Дюже притесняет.
— Чем же он притесняет?
— Да венчать не стал. Вот это, собственно,
и есть. Ну а я, выходит, не стерпел. Потому, сами
посудите, все в готовности... жених, невеста, срод-
ственники... Припасено всего видимо-невидимо...
и все хинью пошло.
— Почему же священник отказался венчать
твоего сына? Он не говорил тебе об этом?
— Ничего не говорил. Я туда-сюда, батюшка-
кормилец... такой-сякой... Нет! Уперся на своем:
не пойду, да и шабаш. Все положенное ему выдавал
по чести, как должно. Чего ему еще хотелось —
это мне неизвестно.
— А много ль он с тебя требовал за свадьбу?
— Он не требовал, я сам давал... все как сле-
дует, а он не берет. Вот это-то и больно. Уж ежели
бы недостача какая...
— Может быть, брак не совсем законный?
Не всякого же можно венчать. Может быть, по
бумагам чего-нибудь не доставало?
— Это что? Что я выпись-то от жорновскаго
попа не взял? Это он врет. Я ему тогда же предо-
ставил, да он не принял. А я в ту же пору... Разве
я не знаю? Ведь она... вот она, вот, выпись-то...
(Антон достал из-за пазухи «выпись» и подал
следователю.)
434
— В какой день ты хотел повенчать своего
сына?— спросил о. Измаил, внимательно рас-
смотрев документ.
— В воскресенье, известно,— ответил Антон.
— Давно это было?
— Да недель, выходит, пять... не то четыре...
Постой... Нет, так... пять. Как сейчас помню,
за две недели до заговен.
О. Измаил взглянул на потолок, немного
подумал и продолжал:
— А на этом сведении выставлено такое
число, которое приходилось во вторник... уже
после твоего воскресенья. Значит, в воскресенье
ты являлся к о. Петру без этого сведения, потому
он и отказал тебе.
— Нет, я все в точности... в ту ж пору. А он
не взял, «не хочу», говорит.
— В ту ж пору... Как же число-то поставлено
«спустя пору»?
— Этого я уж не знаю. Это дело не наше.
Мы люди неграмотные и числов этих никаких не
знаем. Пропишут нам, мы и тово...
— Гм-гм,— произнес о. Измаил и принялся
что-то писать. Антон стоял молча, переминался
с ноги на ногу, озираясь по сторонам, сморкался,
перемещал руки из-за спины в карманы полу-
шубка и обратно и наконец проговорил:
— Ваше благословение! Теперь мне можно
уволиться?
— Нет, погоди, ты мне еще нужен.
— Та-ак...— протянул Антон и, немного
помолчав, прибавил:— А испить мнё можно?
— Испить можно,— разрешил следователь.
435
Пока Антон утолял жажду, о. Измаил успел
кончить изложение добытого им на допросе
«по первому пункту». Но вот Антон установился
на прежнем месте, и следователь продолжал
вопросы:
— Теперь расскажи, как о. Петр бил тебя?
— Что ж тут рассказывать? Ведь это все там
прописано,— уклончиво проговорил Антон.
— Нельзя... требуется. Ты должен рассказать
все подробно. Ну, как же он тебя бил?
— Да он не то чтоб бил, а так... ровно бы
попхнул.
— Подробно, подробно рассказывай.
— Да как же еще? Я говорю, что попхнул.
А я ему: ах вы, говорю, батюшка-батюшка...
А еще священник!..
— Ты в это время разговаривал с ним или
уже уходил?
— Нет, я разговаривал. Я ему все резоны
приводил. Стою эдак возле печки, а он поодаль.
Вот как сейчас вижу.
— И больно пхнул?
— Да норядком-таки.
— Во что же: в грудь, в бок или в спину?
— В спину, ваше благословение, прямо в
спину... вот это самое место.
— Гм-гм... И всех вас так же пхнул — в спину?
— Кого «всех»? Ведь я один к нему приходил.
— Написано, что и другие с тобой прихо-
дили.
— Какие ж другие?.. А может, и были. Кто
их знает... Да так... были, были.
— Не помнишь, кто?
436
— Признаться — не номню, а были. Это
точно, что были.
— Что ж, о. Петр и других так же пхал, как
и тебя?
— Других-то? Гм... не приметил. Должно быть,
так же. Потому он у нас, коли осерчает, так ему
все едино.
— Хорошо. Ну, погоди пока,— сказал о. Из-
маил и что-то еще записал.— Теперь расскажи,
где, когда и с кем о. Петр играл в карты?— снова
обратился он к Антону.
— Разно... где подойдет,— ответил Антон,
утирая со лба пот.
— Например?
— А?— переспросил Антон.
— Я говорю, укажи хоть один случай, когда
ты... ты лично, своими глазами видел, как о. Петр
играл в карты,— пояснил следователь.
— Да ведь... Разве он покажется? Где ж
нашему брату за ним усмотреть?
— А как же в жалобе написано, что ты сам
это видел?
— Видел не я, Никанорыч видел, дьячок наш,
а я только слышал. Известно, слухом земля
полнится. Да и так рассудить, с чего ж ему не
играть,— другие играют, а он будет терпеть!
Что он, святой, что ль?
О. Измаил еще что-то записал.
— Теперь будет, что ли?— осведомился Антон
значительно упавшим голосом.
— Погоди, мы еще поговорим.
— Да что ж все меня одного? Там вон есть
другие, которые...— возразил Антон.
437
— Спрошу и других, дойдет черед. А ты вот
скажи теперь, как о. Петр пьяный служил в церк-
ви.
— Когда?— спросил Антон.
— Да вот тогда, когда ты это видел.
— Это опять же все Никанорыч. Дюже, вишь,
хмелен был об святой на утрени.
— Ты был тогда в утрени?
— А как же,— нехристь, что ли?
— Сам-то ты заметил, что батюшка был «хме-
лен» ?
— В ту-то пору не заметил, а как Никанорыч
после сказал, так я и мекаю: чуть ли и вправду
не был хмелен.
— Если он был дюже хмелен, так этого нельзя
было не заметить.
— Да ведь как его заметишь? Ежели б я возле
него был, служил бы с ним. А то поди-ка... издали-
то...
— А у вас народ христосуется с священником
в конце светлой утрени?
— А то как же? Это уж положено.
— И ты христосовался?
— А то как же?
— И все-таки не заметил, что о. Петр был
сильно пьян?
— Да ведь... как заметить-то? Опять же ког-
да это было-то? Еще вон когда! Разве все упом-
нишь?
— А в другое время ты часто видел его пья-
ным?— продолжал о. Измаил.
— Я за ним не подсматривал,— огрызнулся
Антон,— частно он пьет или не часто. По-моему,
438
лучше бы пил, да посходнее бы был. Главное
дело, дюже не сходен. Житья нет!
О. Измаил снова принялся писать, а Антон,
постояв с минуту, продолжал:
— Ну, так теперь я пойду, ваше благослове-
ние.
— Нет, еще не пойдешь.
— Да что ж мне тут... до эавтрева, что ль?
— Может быть, и до завтра. Жди и лишнего
не болтай!— строго заметил следователь.
Антон замолчал. На лице его выражалось
и утомление, и недовольство, и опасение чего-то.
— В жалобе еще прописано, что о. Петр
возбуждал крестьян против начальства,— продол-
жал следователь, вскинув глаза на Антона.—
Объясни мне, в чем тут дело...
Антон молчал.
— Против какого это начальства возбуждал
вас о. Петр?
— Какое же у нас в деревне начальство,—
проговорил наконец Антон.— Против писаря
нашего он кой-кого подбивал, это точно.
— Как же он подбивал?
— Да так. Не по закону, вишь, поступает этот
писарь... Ну, а писарь это узнал, и пошла пере-
палка. Писарь говорит: жив не буду, коли его не
пугну. И нас всех притянуть хочет... А что подби-
вал — это точно. Спросите хоть прочих.
Этим и закончилось снятие показания с главно-
го виновника жалобы. Записав слова Антона по
последнему пункту, о. Измаил прочитал ему все
показание целиком, и Антон признал записанное
верным. Затем о. Измаил приказал позвать к нему
439
с улицы следующего свидетеля. (За теснотой
судебной камеры свидетели в ожидании допроса
стояли на улице.)
Под гнетом собственных тревожных чувств
и в виду хмурого и пришибленного Антона все
остальные свидетели-крестьяне не только не
подтверждали «сие», но даже хвалили о. Петра.
В ответ на различные вопросы то и дело слыша-
лось:
— Этого не умею сказать. Дело прошлое...
не видал...
Или:
— Надо прямо сказать: не слыхал. А отец
Петр... что ж... батька как батька. Дал бы бог
всякому.
Или:
— Я, ваше благословение, как перед богом,
потому — крест Христов целовал... Души марать
не хочу. Все это языки одни, и больше ничего.
Антон этот зашумел тогда, мы и вступились.
Дело свадебное — известно... Ну и попутались...
и вышло, будто о. Петр нам неудобен. А мы от
него, кроме хорошего, ничего не видели. Что ж...
Грех сказать... Ей-богу. После-то и спохвати-
лись, да что ж сделаешь! А тут еще писарь
грозит... Вы уж, ваше благословение, заступи-
тесь.
Тверже и выдержаннее всех оказался Ника-
норыч. Он сильно поддержал обвинение о. Петра
во всем пунктам, причем свободно рисовал самые
фантастические картины мнимых безобразий
своего настоятеля.
— Полно врать-то! Что ты, в самом деле? —
440
не раз останавливали его некоторые из допрошен-
ных свидетелей.
— Нет, я не вру, ваше высокоблагословение,—
не смущаясь, продолжал Никанорыч.— Он что?
Много ли они знают? Разве они вхожи к нему?
Служат, что ли, они с ним? А у меня он, можно
сказать, день и ночь на глазах. Четырех свя-
щенников пережил, слава богу, могу по-
нимать...
Отпустив свидетелей, следователь пригласил
к себе о. Петра. О. Петр явился взволнованный
и угрюмый. Торопливо подойдя к о. Измаилу,
он молча сунул ему руку. Следователь потянулся
целоваться. О. Петр в смущении чуть шмыгнул
по его губам краем своего уса.
— Скажите, пожалуйста, в чем тут дело? —
начал о. Петр.
— Кляузное дело, кляузное,— ответил о. Из-
маил.— Признаться, я даже и ожидал. Впрочем,
вы не смущайтесь. Вот не угодно ли вам... (Он
подал о. Петру «бумаги».) Потрудитесь прочи-
тать все дело.
О. Петр взвесил «дело» на руке, мельком
взглянул на первую страницу, перевернул на
последнюю и, уставившись на одну какую-то
строку, молча потрагивал мякишем большого
пальца края большой тетради. Между тем о. Из-
маил продолжал:
— Обвинения весьма серьезные, важные...
веские обвинения! Но дело направлено, кажется,
так, что... Вот вы увидите. Извольте, извольте
читать! Потом вы должны будете изъяснить,
довольны вы следствием или нет. Если недоволь-
441
ны, то всеми ли пунктами или только некоторыми.
Если некоторыми, то какими именно. Буде же
вы окажетесь следствием довольны, то так прямо
и напишите: «Дело читал и следствием по оному
доволен. Священник такой-то». Тогда и конец.
Ну-с, так извольте прочесть.
О. Петр начал читать уже дело подряд. Прочи-
тав полстраницы, он достал из кармана платок
и несколько раз провел им по лицу.
— Продолжайте, продолжайте! — ободритель-
ным тоном произнес следователь.— Дело, как
увидите далее, направлено так, что, кажется...
Продолжайте... И потом изъясните, как я вам
сказал.
О. Петр кончил первую страницу, пробежал
глазами вторую и отложил тетрадь в сторону.
— Что же вы?
— Не могу!— сказал о. Петр, снова утираясь
платком.
— Нечетко написано? Ну, позвольте, я сам...
Я уж вчитался,— сказал о. Измаил и взял связку
бумаг в руки.
О. Измаил читал довольно быстро, громким
баритоном оканчивая каждую точку обрывистой,
низкой нотой. О. Петр слушал, облокотившись
на стол обеими руками и низко наклонив
голову. По мере ознакомления его с содержанием
«дела» физиономия его принимала более и более
страдальческое выражение. Тогда на некоторых
пунктах ее делались нервические подергивания.
Когда же чтение дошло до наиболее пикантных
мест обвинения, он быстро вскочил и начал шагать
взад и вперед близ стола. О. Измаил, не переставая
442
читать, поворачивал голову и двигал в воздухе
тетрадь, соответственно поворотам, совершаемым
о. Петром при ходьбе. Он читал все громче и даже
с некоторым воодушевлением, но энергия чтения
оказалась обратно пропорциональною силе воспри-
ятия со стороны о. Петра. Начиная со второй
половины «дела», он слушал уже с недостаточным
вниманием, наконец, вовсе перестал слушать.
«Кляузное дело, кляузное!» — мелькало у него
в голове, и сердце его болезненно сжималось.
«Дело направлено, кажется, так, что...» — при-
поминалось ему через минуту, и он старался
уловить в этой фразе некоторое утешение. Но тут
же припоминалась ему иная фраза следователя:
«Обвинения серьезные, веские обвинения...» — и
он снова чувствовал себя подавленным. Собствен-
но, его подавляла не громадность возможной
опасности, а та грубая, наглая подлость, которая
так пышно развертывалась на «кляузных» листах
и по отношению к которой он считал непримени-
мыми средства разумной честной борьбы. Показа-
ния, какие дало следователю большинство кре-
стьян, показания конфузливые, совестливые,
могли бы порадовать о. Петра, могли бы примирить
его по крайней мере с паствой, но эти показания
были «изображены» в конце дела, а он, как сказа-
но, не слушал этого конца. Нравственно истерзан-
ный, о. Петр изнемог и физически и снова присел
на табурет.
О. Измаил дочитывал уже последние строки.
Кончив чтение, он набрал целые легкие воздуха
и, раздув, щеки, медленно выпускал его тонкою
струею. Потом следователю захотелось расправить
443
члены: заложив ладони на затылок, он отклонился
назад.
— Ну-с, так вот-с...— проговорил он нако-
нец.— Теперь вы изволили узнать все. Потруди-
тесь обдумать, взвесить и изъяснить мне, как вы
намерены к этому отнестись. Соответственно
этому мы и... тово...
О. Петр молчал.
Приняв это молчание за признак «обдумыва-
ния» и «взвешивания», о. Измаил решил не
мешать психическим процессам коллеги. Он
поднялся и тихо, на цыпочках, точно в присутствии
умирающего, отошел к окну. Здесь о. Измаил
достал из кармана массивный и лишенный многих
зубов гребень и методически расчесал свои длин-
ные, густые волосы.
О. Петр продолжал сидеть неподвижно в
однажды принятой позе.
Следователь обозрел из окна караулки все,
что можно было из него обозреть, справился по
своим карманным часам относительно времени
и, поднесши к носу сильный заряд табаку, осто-
рожно, искоса взглянул на коллегу. О. Петр встал
и расслабленным шагом направился к следова-
телю.
— Порешили?— спросил следователь, насытив
одну ноздрю.
— Порешил,— как-то беззвучно ответил
о. Петр.
— Ну и прекрасно! — одобрил следователь
и с энергической поспешностью препроводил по
адресу оставшуюся на большом пальце часть
табачного заряда.— Да и пора уж,— добавил он,
444
идя к столу.— Времени-то уж вон сколько, а я —
совестно сказать — ничего еще не ел; утром
пожевал кое-что... дома... да вот до сих пор...
Так на чем же вы порешили? Довольны следст-
вием? Или имеете что возразить?
— Доволен,— глухо проговорил о. Петр.
— Всеми пунктами или...
— Всеми.
— Ну, слава богу! — обрадовался следова-
тель.— Значит, вам остается в этой силе распи-
саться и... богу слава! Так потрудитесь, пожалуй-
ста. (Он обмакнул перо и подал его о. Петру.)
Вот здесь вот... Пишите: де-ло си-е...
О. Петр с усилием вывел букву «Д» и остано-
вился.
— Ну-те, ну-те!— поощрял следователь.—
Тут ведь немного: «Дело сие читал и следствием
по оному доволен». А потом с особой строки:
«Священник такой-то».
Руки о. Петра сильно дрожали, и он с трудом
кончил несложную диктовку следователя. Между
тем начинало смеркаться.
— До свидания!— коротко произнес о. Петр,
подавая руку следователю.
— Будьте здоровы! — ответил тот. Он об-
лобызал подсудимого и, придерживая его ру-
ку, продолжал: — Дело направлено, кажется,
так, что... Но представьте себе: с самого ранне-
го утра не ел... ей-богу! Вот ведь наше дело
какое.
— И это все из-за меня! — заметил о. Петр.—
При других обстоятельствах я бы с удовольствием
помог вашему горю, но теперь не могу. Извините,
445
пожалуйста. Я положительно болен. Не чаю до
дома дойти.
Он начал разыскивать шапку, а о. Измаил,
заматывая ниткой свернутые в трубку бумаги,
бормотал: «Делать нечего, придется завернуть
на постоялый двор. Вот этак трудишься-тру-
дишься, да на свой же счет и тово...»
V
О. Петр действительно едва добрался до дома.
Его, как говорится, всего сварило. Он торопливо
разделся, бросился в постель и с головой укрылся
одеялом. Настасья Поликарповна, несмотря на
настойчивые требования разъяснить ей, в чем
дело, ничего не могла от него добиться.
Батюшка заболел весьма серьезно, так, что
недели три не только не мог служить, но и под-
няться с постели. Продолжительное домашнее
заключение о. Петра объяснялось «в приходе»
различно. Антон пустил молву, что «батьку уже
отставили» и что он теперь «сидит и все пишет
в разные места просьбы, чтобы ему дали хоть
какое ни на есть местишко». Другие настаивали
на действительном факте, что «батюшка хворает
и больше ничего: ведь и он тоже человек»...
Никанорыч, в свою очередь, уверял, что «поп с
досады запил не наживо — насмерть...»
Произведенное по «делу» о. Петра следствие
породило в селе своего рода раскол, сопровождав-
шийся сильным антагонизмом. Те из крестьян,
которые или смягчили на следствии свои отзывы
об о. Петре, или вовсе отказались подтверждать
446
прописанное с их слов в жалобе, возбудили против
себя вражду и ненависть главным образом со
стороны Антона и писаря. Антон не мог себе
простить тех расходов, какие он делал на приобре-
тение сторонников, и часто с вескими ругатель-
ствами повторял: «Лучше бы я это самое вино
на дорогу тогда вылил, чем этаких изменников
поить». Писарь тоже из себя выходил — и все
на тех же «неискусных» свидетелей; обзывал
их неотесанными и бессовестными и грозил
согнуть в бараний рог.
Консисторское судилище представляло собой
продолговатую комнату в три окна. Налево от
входа, у стены, что-то вроде кафедры — для
секретаря. Посредине комнаты длинный, покры-
тый клеенкой стол. На нем полинявшее зерцало,
кипы бумаг, справочные книги и массивные счеты.
Возле стола по одну сторону два кресла и по
другую столько же, для «членов». На креслах
восседает украшенная камилавками, крестами
и орденами «коллегия». За спиной одного из
«членов» стоит его столоначальник с связкою
бумаг и громко «докладывает» «извлечение из
дела, возникшего в — ском уезде». «Члены»
слушают доклад. Секретарь между тем просматри-
вает еще кайие-то бумаги, делая на них по време-
нам пометки красным карандашом. Изредка он
прерывает свои занятия и, повернувшись ухом
в сторону чтеца, глубокомысленно подтягива-
ет нижнюю губу под верхнюю и сдвигает
брови.
447
Читалось дело о священнике села Воротни
Петре Богородицком.
Сухопарый столоначальник, кончив доклад,
осторожно подложил «дело» своему «члену»
и на досуге принялся на все лады откашливаться
и сморкаться. Начался «обмен мнений».
— Вот так молодые попы!— начал первопри-
сутствующий, рыжий бородатый протоиерей
с синеватыми сумками под глазами.— Это хуже
всяких старых. Ишь ведь какую совокупность
учинил! Не успел еще как следует на месте усесть-
ся и уж... этакой позор!
— Я тут не вижу особенного позора,— возра-
зил о. Борщев (добряк с маленькой седенькой
бородкой, держащий всегда голову набок и отно-
сящийся к «делам» sine ira et studio).— Мне ка-
жется, что это дело «дутое», искусственно
возбужденное и искусственно построенное. Это
сейчас видно. У меня немало таких дел перебы-
вало.
— Да ведь тут голословного ничего нет,—
сказал первоприсутствующий,— все опирается
на свидетельства, и следствием жалоба не
опровергнута. Где же тут «дутое»?
— А где же тут собственно свидетельства? —
снова возразил о. Борщев.— Тот не видал, другой
не слыхал: вот что добыто следствием.
— Так вы, стало быть, не весь доклад выслу-
шали? — продолжал обвинитель.
— Нет, весь.
— Нет, позвольте, я вам докажу. (Перво-
присутствующий начал рыться в «деле». Столо-
начальник совал из-за его плеча то ту, то другую
448
руку, чтобы помочь ему перевернуть лист.) Вот,
например: «Антон Жмыхов показал...» (Он про-
чел, что показал Антон Жмыхов.) Далее... Вы,
Иван Иваныч, идите там... к своим делам. Мы
вас тогда позовем. (Столоначальник откланялся
и удалился.) Далее. «Псаломщик Исай Никано-
ров Могилин показал...» (Он прочел, что показал
Никанорыч.) Это что? Видите?
— Что ж, только два лица... Да притом, что
это за показания?— заметил о. Борщев.
— Нет-с, извините, важные показания. Как,
по-вашему, отцы святые?— обратился он к осталь-
ным двум членам.
— Н-да, показания важные,— отозвался один.
— Н-да, очень важные показания,— повторил
другой.
— Я несколько знаю о. Петра,— снова начал
Борщев.— Он такой славный был юноша. И эти
обвинения против него, по-моему, ни с чем несо-
образны.
— Стало быть, сообразны, коли вот возник-
ли...— продолжал главарь.— Мало ли кто прежде
был хорош, а потом... Ведь и Рыков был хорош,
и Мельницкий был хорош, а потом... Да что далеко
брать? Возьмем родное-то свое племя. Давно ли
в черниговской епархии судили попа за вымога-
тельство? А теперь вот в Киеве — одного судили
за то, что работницу свою розгами высек... А тоже
небось прежде хороши были; пожалуй, еще пятер-
ки в поведении имели. Мало ли что было... Пока
он на глазах у начальства, так он хорош. А как
посадили его в деревню, в глушь, без всякого
присмотра (благочинный разве начальство для
15-1032
449
него?)—так он на просторе-то и развернется,
страсти-то и вскипят и всплывут наружу... А там...
и дельце в консисторию! Вот ведь это как бывает.
Нет, таких обуздывать надо, и чем моложе про-
винившийся, тем строже нужно его приструнить.
От них и владыке скорбь, и епархии поношение.
Они... Они...
Тут оратор быстро выхватил из кармана тем-
ный ситцевый платок: воспользовавшись этим
антрактом, о. Ворщев заметил:
— Вы нынче, о. Сильверст, что-то особенно
строги. Мало ли нам попадалось таких? И вы,
как помнится, никогда так сильно не вооружа-
лись...
— Мало ли что... мало ли что...— подхватил
о. Сильверст, комкая в руках платок.— То были
времена, а теперь другие. Мне сам владыка на
днях говорил, что мы должны в настоящее время
свое духовенство подтянуть. Теперь вот, слава
богу, школы опять нам хотят отдать. Значит,
доверяют. Вот и нужно подтянуть. В самом деле:
нас хотят возвысить, а мы будем себя ронять!
Нет, непременно подтянуть, скрутить надо! Тог-
да и будет... А если у нас нынче совокуп-
ность, завтра совокупность, а мы будем сквозь
пальцы...
— Ну, вы уж очень далеко зашли,— заметил
Ворщев.
— Нет, не далеко,— оппонировал первопри-
сутствующий.— Сам владыка изволил выразить.
Кроме того, и в газетах... то же самое... Зашел-то
я недалеко, а вот разве долго разговаривал. Прямо
бы к делу: наложить наказание в высшей степени,
450
да и все. Вы, очевидно, против этого,— сказал
он, взглянув на о. Борщева.— Значит, подавайте
особое мнение... (О. Борщев молча кивнул голо-
вой.) Ну, а вы как, отцы святые?
— Следует наказать, — ответил один.
— Разумеется, стоит,— ответил другой.
— Ну, вот!— произнес о. Сильверст.— Опре-
деление по сему делу составлю я, так как мой
столоначальник.докладывал его. Только вот нужно
уяснить и получше обосновать некоторые пункты.
Собственно вот — относительно карт. Остальные
обвинения таковы, что нам уж приходилось итиеть
с ними дело: подвести их под статьи нетрудно.
А карты как-то до сих пор у нас не определены.
Между тем это такое зло, такое поношение в
духовенстве, что... Я бы всех этих играющих
в священном сане... просто уж и не знаю, что бы
я с ними сделал... Давно бы пора вывести эту
мерзость, а в настоящее время тем паче. Непре-
менно нужно пресечь. Только бы вот статью
подыскать. Быть не может, чтобы такой статьи
не было. Это только небрежение наше...
И он начал рыться в книге. Минут через десять
он с торжеством провозгласил:
— Вот, например... Разве это не подходит?
Между преступлениями священнослужителей,
навлекающими на виновного жестокую кару,
упоминается игра в тавлеи. А что такое тавлеи?
Несомненно — это карты. И как это мне прежде
в голову не приходило?.. Тавлеи, от латинского
tabula — табличка. А карты и суть таблички.
В какие еще таблички можно играть? Не в таблицы
же умножения! Вот под это и подведем.
15*»
451
— Это будет произвольное толкование,—
заметил о. Борщев.
— Совершенно верно,— вступился, наконец,
секретарь.— Прямого указания на карты в церков-
ных узаконениях нет да и быть не могло, потому
что какие же карты... в древности? А мы должны
основываться на буквальном смысле законов.
— Ну, а что ж это такое, тавлеи-то?— напирал
о. Сильверст.— Не таблички же умножения в
самом деле... не хронологические же или пасхаль-
ные таблицы.
— Что такое тавлеи — неизвестно,— продол-
жал секретарь,— но я считаю долгом обратить
вас к смыслу законов.
Произошла некоторая пауза, во время которой
было произведено несколько облегчительных
вздохов и израсходовано несколько понюшек
табаку. Наконец, о. Сильверст, собрав на лбу
кожу в крупные морщины, тихо проговорил:
— Вот разве лото... Тоже ведь таблички...
Что ж, хоть и лото. Если уж за лото определяется
этакое, то за карты тем паче надлежит... Я все-таки
так полагаю,— закончил он уже громко и тряхнул
головой. Кожа у него на лбу снова расправилась,
и глаза быстро обежали всех присутствующих.
— Опять-таки скажу: неосновательно,— воз-
разил секретарь.
— Что ж, стало быть — пускай играют? Стало
быть, это подобает священному сану? — иронизи-
ровал о. Сильверст.
— Кто говорит, что «подобает»?— отозвался
секретарь.— Занятие, конечно, неодобрительное.
Только под букву подвести нельзя, вот в чем
452
дело. Естественней всего отнести это просто к
неодобрительным поступкам. Так и изложить в
определении: «...и некоторые другие неодобри-
тельные поступки». Выйдет глухо и в то же время
верно.
— «Неодобрительные поступки»...— с рас-
становкой повторил о. Сильверст.— Оно пожалуй,
но ведь это слабо. За тавлеи-то ведь — лишение
сана... вот ведь что!
— Ну, что-о вы! — удивился о. Борщев.—
Разве о. Петр заслужил такое страшное наказа-
ние?
— «Что вы»... Я уж вам говорил, что я...
Повторять не буду,— внушительно произнес
о. Сильверст.— Да и за кого вы заступаетесь?
Человек сам на себя рукой махнул, а вы его
очищаете.
— Как это «рукой махнул»? Почему вы
знаете?
— Это очевидно. До сих пор глаз не кажет.
Значит, очень уж стыдно их показать, значит,
на деле-то еще больше нечист, чем на бумаге.
Другой чуть что, сейчас явится, просит, убивается.
А этот и знать не хочет!
Недели через три о. Петру был объявлен
через благочинного указ. Указ этот занимал
несколько листов и изложен был довольно бестол-
ково. Свидетельские показания были в нем
безжалостно оборваны и неимоверно искажены.
«На что воспоследовала,— стояло в конце указа,—
таковая резолюция: хотя данные на следствии
453
показания большей части свидетелей не вполне
согласуются с содержанием жалобы, но, принимая
во внимание вообще важность прописанного
в сем деле, нельзя не подвергнуть сомнению
невинность обвиняемого иерея Петра Богоро-
дицкого, а посему, в предупреждение и пересе-
чение неблагопристойностей с его стороны на
будущее время, а также для устранения соблазна
в прихожанах, уже поколебавшихся в доверии
к своему пастырю, предписать иерею Богородиц-
кому указом приискать себе в течение двух
месяцев какое-либо иное место, не ближе семи-
десяти верст от губернского города, причем
поставить ему на вид, что такая мера применяется
к нему лишь по младости его и в уважение преж-
ней, доброй о нем аттестации и что при первом
же следующем обнаружении его неблагонадеж-
ности он будет подвергнут более строгой каре».
Пока о. Петр читал указ, Настасья Поликар-
повна смотрела ему через плечо.
— Что же я буду делать?— обратился батюшка
к рассыльному.
— Обыкновенно-с...— отозвался рассыльный
из дореформенных дьячков.
— Да я не знаю... Указ этот у меня, что ли,
останется?
— Нет-с, отец благочинный приказали, чтобы
вы подписались и отдали опять мне. А я ему
передам.
— Написать, что читал, и больше ничего?
— Ну да-с. Обыкновенно-с...
— Как же это... Хоть бы копию снять...— в
раздумье проговорил о. Петр.
454
— Уж этого я не знаю-с. Только указ велено
возвратить.
О. Петр прошелся по комнате, немного поду-
мал, потер лоб и, махнув рукой, присел к столу
подписываться. Чрез несколько минут рассыль-
ный, уже засунув за пазуху указ, с низкими по-
клонами твердил «покорнейше вас благодарю-с»
за пожертвованный ему двугривенный.
— Что там такое написано? — осведомилась
матушка.
— Велено приискать другое место... в течение
двух месяцев,— запинаясь, изъяснил Петр.
— О, боже мой!— воскликнула Настасья
Поликарповна, всплеснув руками.— Ведь это
ужас! До чего ты довел!
— Не обвиняй хоть ты-то. Неужели ты серьез-
но убеждена, что я совершил ряд преступлений? —
заметил о. Петр.
— Не говорю о преступлениях, но все-таки...
Батюшка сделал гримасу и пожал плечами.
— Тут кривляться нечего. Конечно, сам вино-
ват.
— Чем же?
— Тем, что не послушался. Русским языком
говорила: ступай к благочинному, ступай в
консисторию... Ничего бы этого не было. А теперь
вот гонят. Шутка сказать...
Голос матушки оборвался, глаза наполнились
слезами.
— Но я не пойду отсюда — так ты и знай! —
твердо продолжала она, оправившись.— Отдать
за бесценок родной дом, уступить родительское
гнездо... ни за что, ни за что! Переселиться бог
455
знает куда... Будут смотреть как на ссыльных...
Унижение, оскорбление... Не могу, не хочу, не
согласна!.. Нужно всеми силами добиваться,
чтоб удержать свое место: оправдываться, просить,
последнее отдать кому нужно, дишь бы настоять
на своем... В каких мерзавцах остались бы тогда
все эти негодяи! Как бы я их тогда осрамила,
стиснула, затерла... на твоем месте! Этих дьячков
так бы осквернила, что их в два дня с лица земли
бы стерла! Такой бы страх на всех навела, что
никто пикнуть бы не смел, не то что жаловаться.
Ох, господи, представить себе не могу... ну, просто
не могу представить! Приискать место! Лучше уж
на край света, к неведомым людям, где никто
не знает тебя, никто не слыхал об этом сраме!
Боже ты мой; только что начала жить — и до
чего дожила!..
При этих словах слезы покатились у ней по
щекам. Она вскочила с дивана и выбежала из залы.
О. Петр во время последнего монолога супруги
стоял подле окна и, шумно дыша через нос,
смотрел вдаль. И долго оставался он в таком
положении. Во всю остальную часть дня он
не сказал никому ни слова. Только перед тем как
ложиться спать он отдал работнику приказание
задать лошадям побольше овса.
— Настя, я еду,— объявил о. Петр жене
утром следующего дня.
— Куда?— спросила Настасья Поликарповна.
— Хочу объясниться,— ответил супруг.
— Хватился!., давно бы следовало!
И больше этого супруги ни слова не сказали
до самого момента прощания. Настасья Поликар-
456
повна, стараясь казаться серьезною и обиженною,
в то же время весьма деятельно хлопотала о
снаряжении мужа в дальний путь. Прощаясь
же с мужем, она даже улыбнулась, хотя довольно
сдержанно, и перекрестила его большим крес-
том, за что о. Петр порывисто и крепко поце-
ловал ее.
VI
Приехав в губернский город, о. Петр остано-
вился на «Поповском подворье», получившем
такое название оттого, что на нем исстари оста-
навливалось преимущественно приезжее духо-
венство.
Было одиннадцать часов утра. О. Петр напился
чаю, облекся во все чистенькое и, мысленно
повторив проект предстоящего объяснения с
архиереем, взял шляпу и направился из своего
«номера». Когда он распахнул дверь в коридор,
то заметил какого-то духовного в полинявшей
на плечах коричневой рясе, запиравшего свою
дверь на противоположной стороне коридора.
Когда о. Петр проходил мимо неизвестного, тот
обернулся к нему лицом и... оказался известным.
Это был о. Процеллин, из старинных архиерейских
певчих, служивший в одном уезде с о. Петром.
— A-а, птенчик! — воскликнул он, устремля-
ясь к о. Петру с распростертыми объятиями.
(Отцы поцеловались.) Слышал, слышал! — про-
должал он вместо обычных расспросов о здо-
ровье и тому подобном,— все слышал и по-
скорбел... и подосадовал за вас. Да, батенька,
поскорбел!— повторил он, глядя на «птенчика»
457
любовно и вместе насмешливо,— Что же вы
теперь... как?
— Да вот приехал объясниться,— ответил
о. Петр.
— М-м... Не напрасно ли?— серьезно произнес
о. Процеллин.— Я ваше дело знаю во всей подроб-
ности: вчера в консистории разузнал. Если бы
пораньше — ну, так. Нужно, батенька, ковать
железо, пока горячо. Лезь, приставай, из горла
тяни, рви зубом, но только в свое время — вот
мое правило... А это что? Спустя пору, по малину...
Если б я так зевал, как вы, так меня давно обратили
бы в ничто. Вот в последний-то раз... ведь как
было зацепили!
— Слышал, слышал!— заявил в свою очередь
о. Петр.
— А ведь вырвался!— торжественно восклик-
нул о. Процеллин и захохотал.
— Неужели?
— Ей-богу. Опять имею место, да еще какое
место! А отчего? Все оттого, что вовремя. А вы...
ну, теперь едва ли... Положительно могу сказать.
Уж поверьте.
О. Петр сдвинул брови и потупился. О. Процел-
лин установил на него пристальный взгляд, по-
прежнему выражающий сочувствие и вместе на-
смешливость.
— Знаете что? — таинственно начал о. Про-
целлин, тронув коллегу за плечо.
— Ну? (О. Петр поднял голову.)
— Я имею вам сказать несколько слов...
важных для вас слов.
— Сделайте милость.
458
— Только тут несколько неудобно. Зайдемте
пока ко мне... или к вам... ну, хоть к вам, это все
равно.
— Право, не знаю... — заколебался о. Петр,—
ведь я собрался было идти!
— Да ведь и я собрался идти... как видите.
Для вас же... каких-нибудь пять минут... Потом
и пойдете, если уж вам так хочется. А может
быть, и не пойдете, когда узнаете...
О. Петр ввел гостя в свой номер.
— Не мешало бы запереть... на всякий слу-
чай,— посоветовал о. Процеллин.
О. Петр щелкнул ключом. Оба батюшки
уселись на кожаный, просиженный в виде гнезда
диван. Гость кашлянул в ладонь и начал:
— Все, что я вам сейчас сообщу, есть великий
секрет. Предваряю вас. Чтоб ни боже мой! Ни
гу-гу! Я да вы... и больше чтоб никто.
— Будьте уверены.
— То-то. Ну-с, а дело, батенька, вот в чем.
Наклевывается одно местечко.
— Где?
— Погодите, погодите. Это совсем не в наших
палестинах. Местечко, батенька, из ряда вон.
Экстренное местечко...— Рассказчик отгородил
рот ладонью, несколько наклонился к собеседни-
ку и почти шепотом продолжал:
— В Теплинске... раскольники... ищут себе
попа.
— Ну-у,— отозвался о. Петр, махнув рукой.
— Да вы погодите, вы еще не знаете! — громко
сказал о. Процеллин и тут же снова зашептал: —
Раскольники эти... не какие-нибудь там... безо-
459
бразники. Я не знаю, какого именно они толка...
Вообще этих толков ихних я до сих пор не разбе-
ру... Но люди хорошие, отличный Народ. Это я
знаю доподлинно. Да. Так вот они ищут. Местечко
прямо райское: обеспечение великолепное, дела
почти никакого, почет громаднейший, уважение
необыкновенное. Никаких этих дрязг, придирок...
Житье — умирать не надо! Доподлинно знаю...
— Почем же вы это знаете?
— А у меня такие посредники есть. Люди
самые верные. Да. Между нами будь сказано,
я сам туда закидывал. Как делишки-то мои заша-
тались в последнее время, вижу, история плохая,
едва ли на этот раз отверчусь. Я и махнул... Уж
все пошло было на лад. Дали слово... и с готов-
ностью. Только что-то еще хотели разузнать...
Так вот бы вам...
О. Процеллин выпрямился, откинулся на спин-
ку дивана и пытливо посматривал на своего про-
теже.
— Что же вы сами-то не воспользовались? —
возразил о. Петр, окинув значительным взглядом
вытянутую, желтую, почти без всякой расти-
тельности физиономию благодетеля.
— Да я бы и воспользовался, непременно бы
воспользовался! — оживленно подхватил о. Про-
целлин.— Ведь все уже было готово. Но... вдруг не
думано не гадано получил место, и притом место
очень хорошее. Подумал-подумал... Чего мне еще
искать? Буду тереться до конца... между своими.
Человек я уж немолодой... как-то привык... А ваше
дело совсем другое. Вас вот ошельмовали, вы и
повесили голову. Подите-ка теперь... Нужное
460
время проворонили. ПЪрядочного места вы себе
не найдете, не сумеете найти. Я ведь вас знаю.
Нынче, батенька, только с зубами и можно жить.
А вам где же, помилуйте! А нуте-ка... Махните!
Благодетель энергично махнул рукой и вскочил
с места.
— Идет, что ли? Ну?
О. Петр, сложив руки на коленях и потупя
голову, продолжал сидеть молча.
— Право, спасибо скажете!— продолжал иску-
ситель.— Ну? Эх, ей-богу, сейчас бы и магарыч
распили!— воскликнул он и ловко перевернулся
на каблуке.
— Вопрос для меня совершенно новый и
необычайный,— начал наконец о. Петр.— Поду-
мать на эту тему — я подумаю, но решительного
ничего не могу теперь сказать.
— Ну, что это такое! Ведь другой на вашем
месте сейчас же бы побежал, с завязанными
глазами полетел бы. Вот уж не понимаю! — ожив-
ленно тараторил о. Процеллин.— Пока будете
думать-то, там уж кто-нибудь слимонит... Сейчас
же действуйте. Я вот вам... Погодите, где это
тут у меня... (Он принялся шарить в карманах.)
Вот... Нате-ка. Это адрес того лица, к которому
вы должны обратиться с заявлением своего жела-
ния.
О. Петр принял лоскуток исписанной бумажки
и стал его рассматривать.
— Возьмите, возьмите!— сказал благоде-
тель.— Он мне теперь не нужен. Ну, право — я
за вас рад. Ей-богу, никому бы не уступил! Вы-
пить-то у вас есть что-нибудь?
461
— Выпить — нет,— ответил о. Петр.— Заку-
сочка есть... домашняя. Впрочем, я могу... (Он
зазвенел в кармане мелочью.)
— Ну, когда-то что будет...— перебил Процел-
лин.— Постойте, я сейчас...
Через минуту он притащил из своего номера
бутылку водки и заторопился.
— Ну, так где там у вас... Пора ведь и пере-
кусить в самом деле.
Отцы закусили.
— Ого!— воскликнул Процеллин, взглянув
на часы.— Вот тебе и на. Хотел кое-что купить,
но теперь уж видно... Через четверть часа поезд
отходит. Впрочем, это пустяки. Можно еще на
денек остаться. Слава богу, своего добился да
и вам вот добро сделал. Так-так-то, батенька!..
Процеллин распростился и вышел в коридор,
но тотчас же вернулся и, слегка притворив дверь,
кивком подозвал к себе о. Петра. Тот подошел.
— А все-таки секрет!— таинственно прошеп-
тал о. Процеллин.
Расставшись с гостем, о. Петр сел в угол дива-
на, скрестив на груди руки, и закрыл глаза. В
голове его кружились какие-то клочки разно-
образных мыслей. «Консистория... Приискать,
место... Жена... Писарь... дьячки... О. Процеллин...
Раскольники». Потом снова: «Приискать место...
Раскольники... Жена»... И т. п. Ему захотелось
простора, свежего воздуху, и он начал отыскивать
шапку. Шапка лежала на окне, загороженная
столом. Батюшка подошел к столу. Здесь на
большом синем листе сахарной бумаги валялись
обглоданные косточки курятины и крошки сдоб-
462
ных лепешек. Завернутая в отдельном клочке
соль была подмочена водкой и расползлась по
столу. Окинув глазами всю эту картину, о. Петр,
порывисто схватив шапку, выбежал из своей
конуры.
Очутившись на улице, батюшка быстро зашагал
по тротуару, вовсе не имея в виду куда-нибудь
заходить. Ему было легко, весело. Он даже напевал
что-то дорогой. Сам не замечая того, он дошел
до ворот архиерейского дома. Из ворот навстречу
ему шел какой-то священник, страшно раскра-
сневшийся, с блуждающим взором и на пути
торопливо поправлял пазуху и одергивал полы.
Преосвященный принимает? — полюбопыт-
ствовал о. Петр.
— Я был последний... Уж заперли...— про-
говорил проситель, не останавливаясь.
О. Петр почему-то даже обрадовался, когда
услышал, что архиерей уже не принимает. На
церковной колокольне почти над самой головой
его часы звонко и отчетливо пробили два. О. Петр,
постояв еще с минуту на одном месте, повернул
опять по направлению к своему номеру. На
возвратном пути он купил в одном магазине
письменных принадлежностей и несколько почто-
вых марок. Прийдя в номер, он проворно счистил
со стола остававшуюся на нем дрянь, и, достав
из кармана роковой адрес, принялся строчить
по нем письмо. Письмо вышло длинное, обсто-
ятельное и нечуждое по местам красноречия.
В конце письма о. Петр убедительнейше просил
скорого ответа и прописал свой адрес.
Когда он уже опустил письмо в почтовый
463
ящик и таким образом сделал первый шаг в новом
направлении, он вспомнил о своей Насте, и
тревожное чувство снова закралось в его душу
и смутило его. Батюшка опасался, как бы Настасья
Поликарповна своими возражениями и упрям-
ством не расстроила карьеры. Он снова проверил
все доводы в пользу перехода и наконец решил
в объяснениях с супругой ударить главным обра-
зом на два пункта: «Обеспечение великолепное,
почет громаднейший».
Вечером к нему опять заглянул о. Процеллин.
— Я забыл еще вот что...— начал он хриплым
голосом.
— Что такое?
— А насчет формуляра. Вам теперь, должно
быть, попачкают его. Так вы вот что: как поладите
с раскольниками-то, сейчас и просите его очистить,
чтоб там никакого окаянства не было прописано.
Понимаете? Желаю, мол, в другую епархию
перейти. Это они охотно... как только в другую
епархию, так все простят. Непременно так сделай-
те. Покажете раскольникам, скажут: «Вот так
батька!» До свидания!
VII
Дней через шесть после приезда о. Петра
из губернского города он получил с почты письмо.
Судя по незнакомому, старческому почерку и
безграмотности адреса, он сразу догадался, откуда
это письмо. Торопливо разорвав конверт, он прочел
следующее:
«Ваше благословение. Письмо ваше я получил
464
и но оному ответствую. Как собственно вам
желательно, чтобы к нам, и мы тому рады. Докла-
дывал я совету, и совет изъявил на оное согласие.
По словам вашим радостно уповать, что вы пастырь
добрый. И так мы со своей стороны дай бог. Только
личности вашей не видавши и коротко не знавши,
утвердить оное затруднительно. Потому как нам
несподручно и по делам недосуг, то вы как-нибудь
соблаговолите на свидание, сообща. Тогда бы и
поговорили обо всем. А заочно больше сказать
вам не могу. А мешкать нечего: дело важное.
Покорнище просим и ожидаем. А в случае —
нельзя, то уведомить, в каких мыслях вы нахо-
дитесь касательно оного. Купец Иван Шубеев».
Утром следующего дня о. Петр уже катил по
железной дороге в Теплинск. Мысли его вертелись
все около одного предмета. Ему невольно при-
поминались разные эпизоды из истории раскола
и газетные корреспонденции о современном его
состоянии. То представлялась ему типическая
фигура протопопа Аввакума и припоминалось,
как «ангел приносил ему в темницу штец зело
пресладких» и как «курочка, смотрением божьим,
несла ему в день по три яичка»; то воскресал
в памяти курьезный рассказ о том, как в Туле
раскольничий архиерей потерял ночью митру на
мостовой и т. п. И батюшкой овладевала грусть.
Потом эта грусть рассеивалась при воспоминании
о других, более светлых явлениях из жизни
раскольников, и он успокаивался. При этом его
окрыляла мысль, что он может «принести пользу».
В размышлениях о. Петр и не заметил, как
приехал в Теплинск. Дом Шубеева стоял в конце
465
одной из глухих улиц города. Он был каменный,
двухэтажный, очень длинный, но довольно узкий,
с маленькими окнами. Линия фасада была не-
сколько искривлена. Заметно было, что дом в
настоящих своих размерах явился не сразу, но
посредством разновременных пристроек и над-
строек. Парадная дверь находилась сбоку, у
самого угла дома. К этому же углу примыкали
окрашенные в пепельный цвет массивные ворота,
в одной половине которых была проделана кали-
точка. Подойдя к передней двери, о. Петр нашел
ее запертою. Звонка не оказалось. Батюшка
отворил в воротах калиточку и заглянул на двор.
Огромная мохнатая собака заметалась на цепи
и ожесточенно залаяла густым басом. Из раство-
ренной конюшни вышел кучер с метлой.
— Кто тут?— спросил он, идя к воротам.
— Иван Савельич дома?— осведомился
о. Петр.
— Вам на что?
— Нужно. Он приглашал меня повидаться
с ним.
— Вам самого нужно или...
— Самого, самого. Дома он?
— Подождите, я схожу наверх,— сказал ку-
чер и, поставив метлу в угол, удалился.
Долго что-то ходил он. Наконец, на парадной
лестнице послышались чьи-то шаги, глухо засту-
чал деревянный засов, щелкнул ключ, и гостя
впустила какая-то старушка в повязке. О. Петр
вошел в переднюю; следом за ним торопливо
вбежала и старушка. Гость прошел в зал. Старуш-
ка сопровождала его сбоку и засматривала ему
466
в лицо. Когда же батюшка остановился посреди
зала, она зашла прямо против него и, сжав руки
на груди, принялась рассматривать его уже во
всех подробностях. Это смутило о. Петра. Чтоб
не замечать пытливых взглядов старухи, он начал
рассматривать зал. Зал был просторный, в пять
окон. Растений никаких. В переднем углу в не-
сколько рядов уставлены были темные иконы.
Некоторые из них были в дорогих ризах, с жем-
чужными украшениями. Перед иконами висела
большая медная лампада. На самом верху иконо-
стаса торчала вербная ветка. В двух простенках
висели старинные зеркала; через каждое из них
перекинуто было длинное чистое полотенце с
расшитыми концами. На середине потолка висела
люстра. Мебели но стенам было много: мягкие
неуклюжие кресла и стулья красного дерева
перемешивались с венскими гнутыми стульями.
Возле одной стены стоял старинный диван с
высокою выгнутою спинкой. Перед ним стол,
покрытый белой скатертью. Из зала вели две
двери в неведомые покои: высокая двустворчатая
и низенькая, одностворчатая; обе были затворены.
«Что ж это он не выходит?— подумал о. Петр,
остановив глаза на первой двери.— Быть не может,
чтобы он выдерживал меня для пущей важности».
Батюшка начинал чувствовать себя несколько
тоскливо. Он раза два прошелся по залу и присел
на первый попавшийся стул.
Но вот половинки высокой двери отворились,
и в зале показался Шубеев в наглухо застегнутой
суконной поддевке, в простых личных сапогах
и с ситцевым платком в руке, который он держал
467
за один угол. Это был старик лет шестидесяти,
среднего роста, тонкий, худощавый. Лицо узкое,
продолговатое и чрезвычайно бледное; небольшая,
клином, бородка — совершенно седая; но в усах
сохранилось еще несколько черных волос. Нос
длинный, тонкий, со сплюснутыми ноздрями.
Щеки глубоко ввалились. На висках также впа-
дины, резко обозначающие линии высокого лба;
кожа на лбу туго натянута и блестит. Глаза
маленькие, черные, смотрят резко и будто удивлен-
но. Две вертикальные насечки между бровями
придавали всей физиономии оттенок вдумчивости
и решительности. Густые, совершенно белые
волосы на голове обильно намаслены. На них
сохранялся в виде рубца след от недавно снятой
фуражки.
Прежде чем подойти ко. Петру, он значительно
мигнул караулившей гостя старушке, и та мгно-
венно скрылась. Батюшка отрекомендовался.
Старик с низким поклоном указал ему на диван
и проговорил: «Милости просим».
— Так это вы самый и есть? — начал Шубе-
ев.— Оченно хорошо-с. (Он отбивал слова так, что
у него выходило ударение на каждом слове.)
Вот потолкуем. Известно ли вам наше положение?
— Должен сознаться, что не совсем известно,—
ответил о. Петр.— Я просил бы вас разъяснить
мне все обстоятельно.
— Та-ак-с,— произнес старик.
Он мельком взглянул на батюшку и, немного
подумав, продолжал:
— У нас, извольте видеть, были допреж
свои законные священники, от своего епископа.
468
Потом епископ этот преставился. На его место
поставили нам другого, да поставили-то не по
правилам: нужно бы собору его посвятить, а его
посвятил один только епископ. И почал он ставить
попов. А мы этих попов не захотели. Иные, правда,
приемлют их, а мы не приемлем. Вот и прииски-
ваем себе.
— Нуте, а служение у вас как? — спросил
о. Петр.
— Служение у нас благолепное, исконное,
по древним истовым книгам. И напевы самые
умилительные. У нас уж не полагается чего-
нибудь эдакого... да-с. Так это вам не трудно
будет? Ведь вы к нашему непривычны?
— О, нет. Что ж тут особенного!— отозвался
о. Петр.— Вообще раскольники ведь мало рознятся
от православных. Собственно, обрядовая часть...
Ну, там... перстосложение...
— Позвольте, как вы изволили сказать? — с
расстановкой произнес Шубеев, прищурясь и
наклонив ухо в сторону о. Петра.— Вы, кажется,
сказали: «раскольники»? Что это такое — «рас-
кольники»?
— То есть старообрядцы,— поправился ба-
тюшка, несколько смутившись.— Ведь это давнее
и общепринятое название. Я вовсе не соединяю
с ним что-либо оскорбительное.
— «Общепринятое»... мало ли что!— возразил
старик, перекладывая платок из одной руки в
другую.— Общепринятое, да неправильное... Вот
что. Раскольников, сударь, нет. Это выдумал
Никон, по надменности своей. Мы, сударь, не
раскольники, а содержащие древнюю веру право-
469
славную! Так-то... Опять же, вы говорите: «разни-
ца небольшая». Нет, большая, сударь, разница.
Уж не одна сотня лет прошла, а мы все держим.
Значит, не все едино. Вот хоть бы знамение
креста... У вас три перста, а у нас два.
— Но ведь смысл-то тот же,— заметил
о. Петр,— святая Троица и два естества.
— Тот же, да не тот же,— продолжал старик.—
У нас все крепко, основательно, а у вас нет.
(Он положил платок на диван и вытянул правую
руку с перстами, сложенными для древлего
крестного знамения.) Сказано: преклонь небеса,
с вышних соступи, дольняя соедини. Вот у нас
один главный-то перст и сошел книзу. (Он снова
подобрал правую руку.) Так-то. А у вас что
сказано? Ничего! Нет, у нас, сударь, крепко.
Как-то приезжал к нам Павел Прусский. Уж на
что, кажись... Но мы его посрамили... Скажет
что-нибудь супротив нас, а мы ему сейчас книгу.
Он еще, а мы опять книгу. Вертелся-вертелся...
У нас все есть, а у него нет ничего. Видит, дело-то
плохо, выписал невесть откуда книг и начал уж
по ним... А мы ему опять книги. Так ничего и
не поделал. Так-то.
— Да я так себе заметил,— сказал о. Петр.—
Не увещевать же я вас приехал, а послужить
для вас.
— Дай бог, дай бог. Самое лучшее. У нас,
сударь, хорошо: благочинно, мирно, любовно.
В обиде не будете. Положим вам полторы тысячи,
домик отведем. За требы у нас не полагается —
не так, как у вас — но желающим не возбранено...
по усердию. И многие дают. И сам я всегда даю.
470
Вот, господь даст, и послужите, если усердие
ваше есть.
— Я бы г удовольствием.
— Самое лучшее... А что, бумага какая-нибудь
есть при вас? Я бы полюбопытствовал.
— Документы?
— Ну да.
— Теперь нет, но я могу в скором времени
доставить, если только вы меня обнадежите.
— Та-ак-с. Вы уж простите меня. Я в вас
не сомневаюсь, но, знаете, так... для совести.
Тогда бы я и совету-то вольней доложил. Нельзя,
знаете... Было время, когда наши прародители
по нужде всяких принимали. Но то по нужде,
а мы теперь в благополучии обретаемся. Нам
нужны люди хорошие. Пастырь!— вы это возьми-
те! Дело высокое. Вы уж простите. Я не то, чтобы...
а так... для совести.
— Что ж такое... Дело естественное,— сказал
о. Петр.
— Да-с. Именно естественное... Вот, бог даст,
устроим все, совет утвердит, тогда примете
помазание и будете наш.
— Как помазание?— удивился батюшка.
— А как же? Беспременно. Без этого нельзя,—
объяснил старик.— По-нашему, совершение ваше
не полное. Вот помазание-то вас и очистит. Как
же? Без этого нельзя.
О. Петр надвинул брови и задумался. Шубеев
пристально смотрел на него сбоку. В забывчи-
вости батюшка медленно вытащил из кармана
портсигар и достал из него папироску.
— Ай-ай-ай!— воскликнул старик, так что
471
о. Петр вздрогнул.— Каким вы делом занимаетесь!
Это уж вы напрасно!.. Это вы напрасно!— продол-
жал он, качая головой.
— Да это пустяки... Глупая привычка... можно
бросить,— в смущении оправдывался о. Петр,
снова пряча папиросу.
— Нет, не скажите этого... не скажите! —
наставительно отчеканивал старец.— Это не пустя-
ки. «Привычка»! Привычка — дело великое.
С ней совладать трудно и не всякому под силу.
Это я на опыте знаю. Был у меня дедушка и нюхал
он этот самый табак. И выбрали его старостой
церковным. Так ведь какую муку-то принял-с!
Страсть! Стоит это у ящика, и искушает его по-
нюхать. Ну,( просто, говорит, смерть. А нельзя-с.
Стоит на возвышении... И зазорно и грешно. Вот
ему подступит-подступит... ежится, бедный,
скорбит, терзается, а терпит, все терпит. Да ведь
сколько места бился-то. Аж захворал. Но так-таки,
царство ему небесное, и не понюхал... Вот что
значит привычка. А вы говорите... Но ведь не
всякому дано. Дедушка вот преодолел, а другой
не может. Он, по крайности, был мирянин... еще
не так зазорно. А уж батюшке-то заниматься
этаким делом совсем непригоже. А у вас теперь
это у всех въелось. Этта еду в Москву, в некурящем
вагоне, гляжу: какой-то батька сидит и курит-с.
Э-э, говорю, вы, батюшка, уж не извольте этого.
«А что?» Да первое дело, мол, от начальства
правил повешен, чтоб не курить, а второе — вы,
говорю, отец духовный, вам не подобает. «Я,
говорит, здесь не священник». А кто же?— говорю,
барин-с? «Нет». Мужик-с? «Нет». Разве, говорю,
472
вы не знаете, что на всяком месте владычествие
его? Так я уж сам ушел в другой вагон.
— Табак я брошу курить. Вы напрасно
беспокоитесь,— сказал о. Петр.
— Дай бог, дай бог!— проговорил старик,
утирая платком нос.— Только не всякому дано,—
прибавил он, глубоко вздохнув.— Вы каких буде-
те лет?
— Мне тридцать лет.
— О-о, как вы млади\ По поличыо-то, я думал,
вам уж сорок есть. Как млади, ай-ай-ай! Это
неловко.
— Чем же неловко?— возразил батюшка.—
Дело не в летах. Теперь молод, но со временем
буду и стар, если бог даст пожить на свете.
— Это так-с. Но нам желательно бы пастыря
пожилого, почтенного, чтобы был потверже...
Тридцать лет!
Старик задумался.
— Больше ничего мне не сообщите?— спросил
о. Петр, подождав с минуту.
— Больше ничего-с,— ответил Шубеев, встре-
пенувшись.
Проситель встал. За ним поднялся и хозяин.
— Так если вы ничего против меня не име-
те...— изъяснил батюшка.— Условия ваши я
принимаю. Документы я или вышлю по почте,
или лично представлю, как угодно.
— Поговорю! Поговорю совету. Как он рас-
судит...— ответил старик, устойчиво глядя о. Пет-
ру в глаза.
— Затем... будьте здоровы!— сказал батюшка,
откланиваясь.
473
— Позвольте,— остановил хозяин и полез
в карман.
О. Петр подождал.
— Вот вам,— сказал старик, подавая батюшке
трехрублевую бумажку.
— Зачем это?— возразил о. Петр, сделав шаг
назад.
— Это на извощика-с.
— Бог с вами, с какой стати,— отговаривался
батюшка.
— Нельзя-с. Прошу принять,— наступал ста-
рик.
— Не нужно, благодарю вас.
— Нет, извольте-с.
— Ну, право же, не возьму.
— Разве обидно-с?
— Гм... Если хотите, обидно,— брякнул вто-
ропях о. Петр.
— Да-а, ну... В таком случае — дело ваше.
Мы обижать не желаем,— серьезно проговорил
старик, снова пряча бумажку.
— Нет, право, мне кажется...
— А мне кажется,— перебил старик,— что
ежели вы желаете быть нашим, так откачиваться
от нас не должны. Вот что мне кажется.
И старик значительно кивнул головой.
— Полноте, Иван Савельич, стоит ли толко-
вать!— успокоительно и с улыбкой проговорил
о. Петр.— Бог даст, поладим. Заслужу. Будьте
покойны.
Иван Савельич молчал.
— До свидания,— заключил батюшка и дви-
нулся в переднюю. Прежняя старушка в повязке
474
снова откуда-то вынырнула и побежала отпирать
о. Петру дверь.
Через неделю о. Петр получил от Шубеева
письмо следующего содержания: «Ваше благо-
словение. Совсем много об вас обдумывал. И как
собственно вы дюже млади, то сочли вас неудоб-
ным на оное. Собственно вот это и есть. Истинно
соболезную и, можно сказать, скорблю насчет вас.
Но что делать. Воля божия. Засим остаюсь купец
Иван Шубеев».
ПРИМЕЧАНИЯ
И. С. НИКИТИН
«ДНЕВНИК СЕМИНАРИСТА»
Текст печатается по изданию: Никитин И. С.
Соч.— М.: Худож. лит., 1980.
Г. И. НЕДЕТОВСКИЙ
(О. Забытый)
Тексты печатаются в основном по изданию: Забы-
тый О. Рассказы. Очерки. Отрывок из повести.—
Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1982.
«ХРИСТОСЛАВЫ»
Вестник Европы.— 1875.— № 5.— С. 217—240.
Автограф хранится в Государственном архиве
Воронежской области (ГАВО), ф. 189, on. 1, ед. хр. 5.
О «Христославах» Г. И. Недетовский писал 27 ок-
ября 1874 г. редактору «Вестника Европы» М. М. Стасю-
левичу: «Об этом рассказе я с особым нетерпением
буду ждать Вашего мнения: он мне ближе к
сердцу, чем все прежние <...> Выведенные в нем
лица почти все уже сошли со сцены, но названия их
все-таки неподлинны (на всякий случай). На мой
взгляд, «Христославы» мои по местам не дурны».—
Рукописный отдел Института русской литературы
476
(Пушкинский Дом) АН СССР (далее — ИРЛИ), ф. 293,
on. 1, ед. хр. 966, л. 4.
«ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ»
Вестник Европы.— 1875.— № 5.— С. 240—254.
Посылая «Прощеный день» М. М. Стасюлевичу,
Г. И. Недетовский писал 31 декабря 1874 г.: «Основою
содержания этого очерка служат действительные
факты, которые я поставил только в особую комбина-
цию и раскрасил подробностями».— ИРЛИ, ф. 293,
on. 1, ед. хр. 966, л. 9. В том же письме Г. И. Недетов-
ский защищает свою творческую программу, выразив-
шуюся в выборе героев из среды духовенства, и, в част-
ности, пишет: «Русский вестник» видит признаки упад-
ка или огрубления нашей изящной литературы в том,
что она начала изображать, между прочим, «озлоб-
ленных причетников». Но Ваш журнал уже заявил свою
несолидарность с таковым взглядом на литературу.
Кроме того, мои причетники — народ не озлобленный,
а смирный и благодушный, и не могут, кажется, воз-
мутить оного классического аристократа».
В ответ на беспокойство Г. И. Недетовского за
судьбу рассказа М. М. Стасюлевич сообщал ему об
остановке цензурой январской и февральской книжек
«Вестника Европы» (1875) из-за публикации анти-
клерикального романа Э. Золя «Проступок аббата Мурэ»
и предостерегал автора из Воронежа: «Теперь Вы пони-
маете, отчего трудно нашим писателям останавли-
ваться специально на духовенстве, как Островский,
например, останавливается на купечестве! Дело весьма
ясное!» — ГАВО, ф. 189, on. 1, ед. хр. 3, л. 24.
477
«ВСТРЕЧА»
Вестник Европы.— 1875.— № 6.— С. 739—750.
Г. И. Недетовский писал А. Н. Пыпину по поводу
этого рассказа: «Названия сел и имена действующих
лиц <...> вымышленные, но в основании рассказа
лежат действительные факты, преувеличений — ни
капли».— ИРЛИ, ф. 293, оп. 4, ед. хр. 33. В редакции
«Вестника Европы» это произведение вызвало наи-
большие цензурные опасения. М. М. Стасюлевич писал
автору рассказа 5 октября 1874 г.: «...я лучше подожду,
когда Вы пришлете мне что-нибудь из обещанного,
а «Встречу» я отложу для более благоприятного време-
ни».— ГАВО, ф. 189, on. 1, ед. хр. 3, л. 16. Г. И. Недетов-
ский в период публикации рассказа тревожился:
«...могут ли меня распечь архиереи за «Встречу», если
ей удастся пройти?» — ИРЛИ, ф. 293, on. 1, ед. хр.
966, л. 14.
«ШИРОКАЯ ДУША»
Вестник Европы.— 1875.— № 6.— С. 751—758.
М. М. Стасюлевич, отмечая нецензурный характер
первых произведений Г. И. Недетовского, писал ему
по поводу этого рассказа, что он «служит, однако,
доказательством, что в жизни есть другие стороны, не
менее доступные таланту автора и возможные для
печати».— ГАВО, ф. 189, on. 1, ед. хр. 3, л. 14.
«РОДНЯ»
Отечественные записки.— 1880.— № 3.— С. 129—
171.
Подробнее о рассказе «Родня», сотрудничестве
478
Забытого-Недетовского в этом журнале см. статьи:
Азбукина В. Н.//Литературное краеведение.—
Воронеж: Изд. Воронеж, пед. ин-та, 1968.— Т. 72.—
Вып. 1; Кузнецова В. И.//Салтыков-Щедрин.
1826—1976: Статьи, материалы, библиография,— Л.:
Наука, 1976; Болдырева В. Н. Сатира М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. 1826—1976.— Калинин: Изд. Кали-
нинского гос. ун-та, 1976.
«УСТРОИЛИСЬ!»
Отечественные записки.— 1880.— № 11.— С. 105—
128.
«МИРАЖИ»
Отрывок из повести
Печатается по отдельному изданию: Миражи:
Повесть. Сочинение О. Забытого (Г. И. Недетовского).—
Спб., 1882.- С. 31-52.
В основу повести положены впечатления Г. И. Не-
детовского во время его службы в качестве учителя
Воронежской духовной семинарии в начале 1870-х годов.
В научной библиотеке Воронежского университета
хранится экземпляр «Отечественных записок» (1881.—
№ 9), в котором на полях повести читатель-современ-
ник указывает некоторых прототипов «Миражей».
Рукопись повести хранится в ГАВО, ф. 189.
«НЕ УГОДИЛ»
Отечественные записки.— 1883.— № 5.— С. 155—
203.
Рукопись рассказа хранится в ГАВО, ф. 189
СОДЕРЖАНИЕ
в. п. пузнецов. Антиклерикальная проза писа-
телей-демократов ....................... 5
ИВАН САВВИЧ НИКИТИН
Дневник семинариста.....................49
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ НЕДЕТОВСКИЙ
(О. ЗАБЫТЫЙ)
Христославы..........................
Прощеный день........................
Встреча .............................
Широкая душа.........................
Устроились!..........................
Миражи (Отрывок из повести) ....
Не угодил ...........................
Примечания................476
Иван Саввич Никитин
Григорий Иванович Недетовский (О. Забытый)
МИРАЖИ