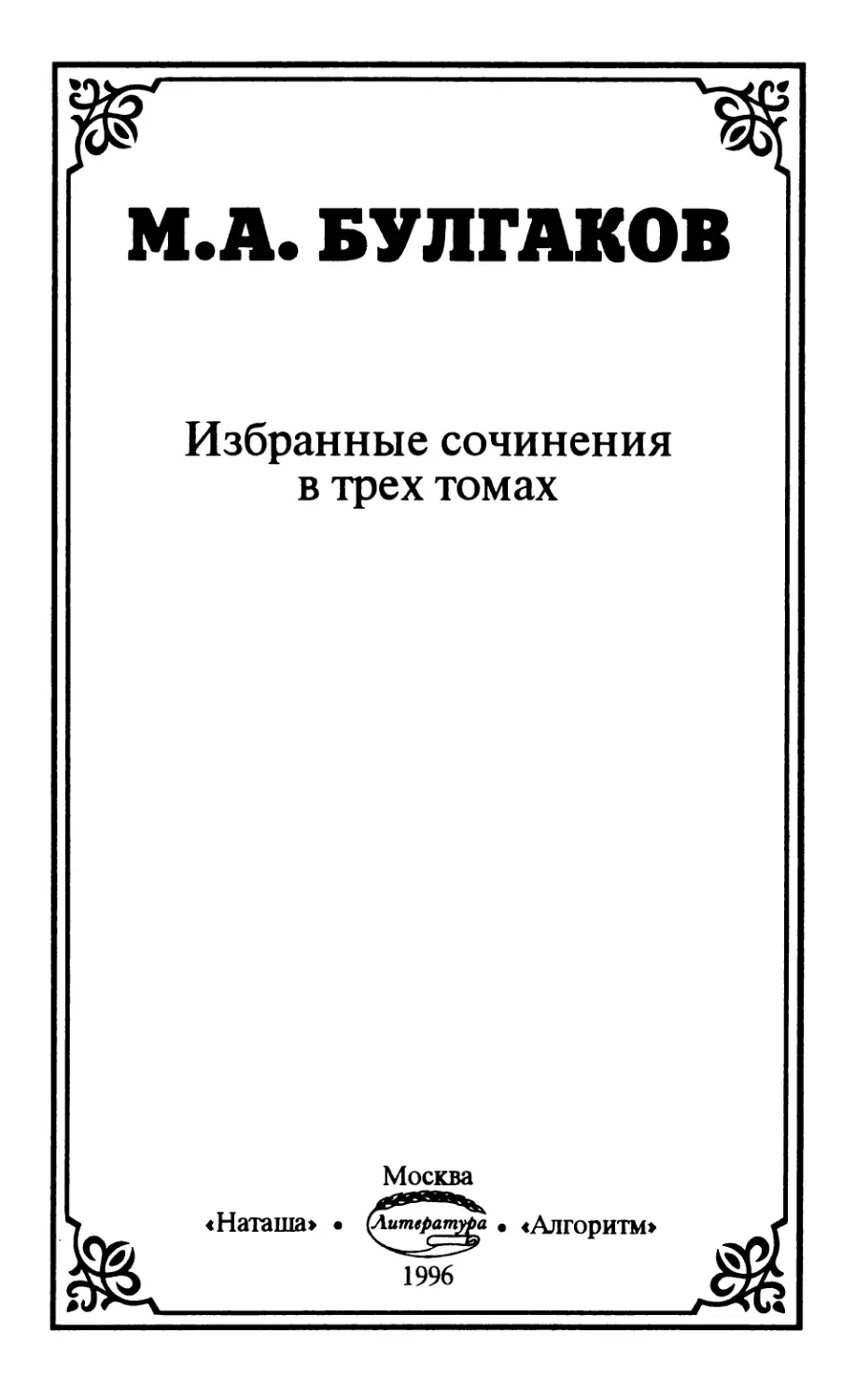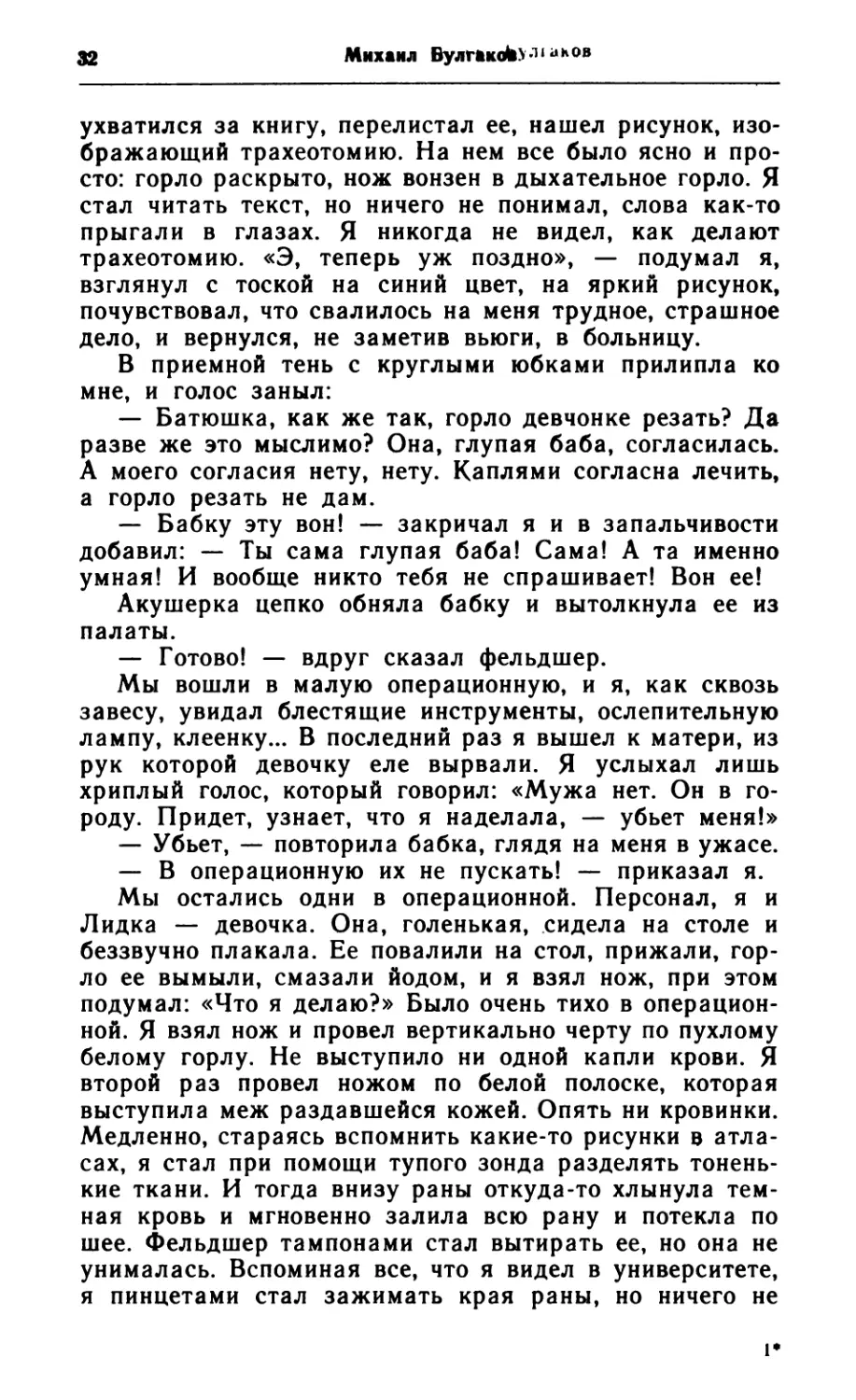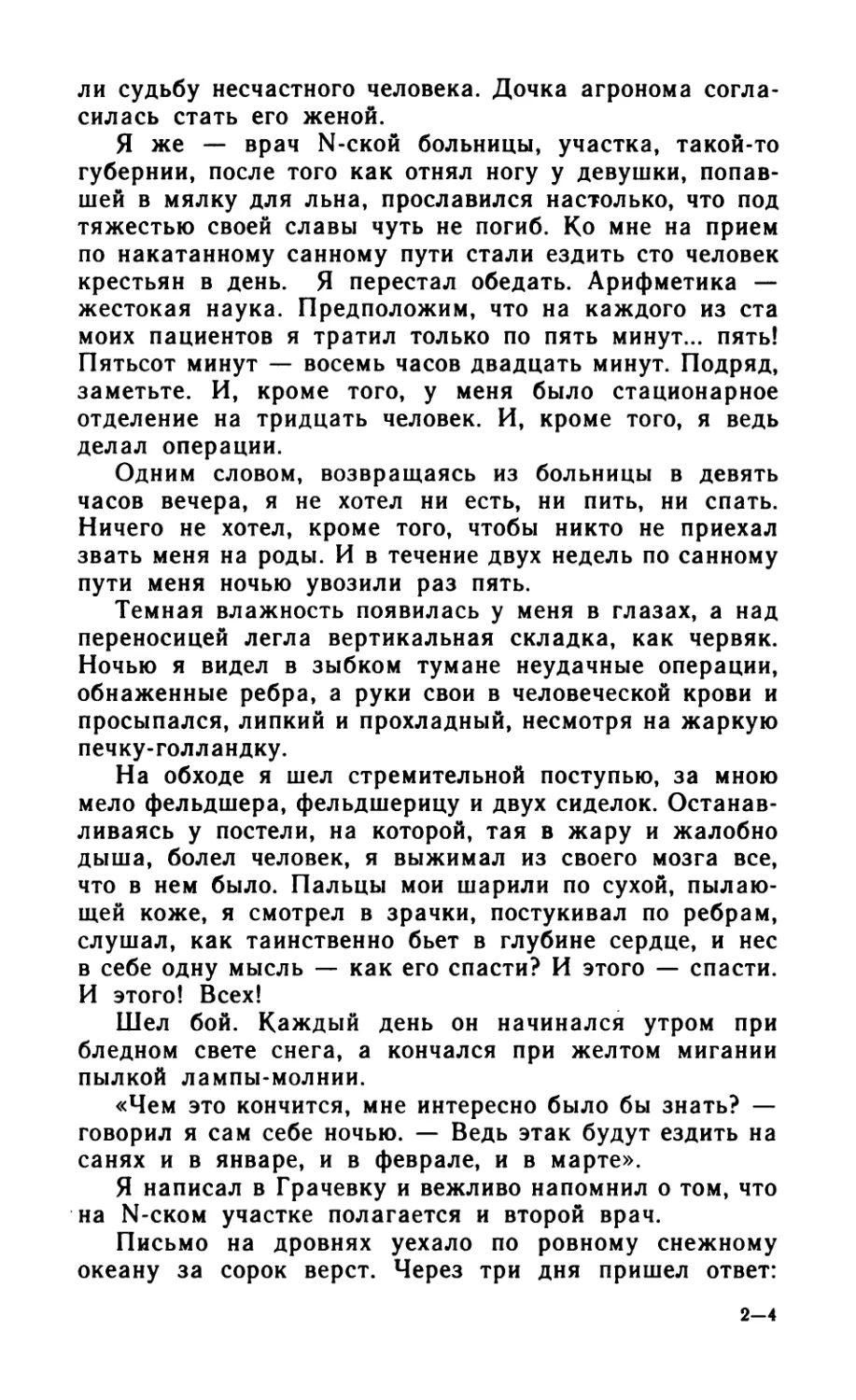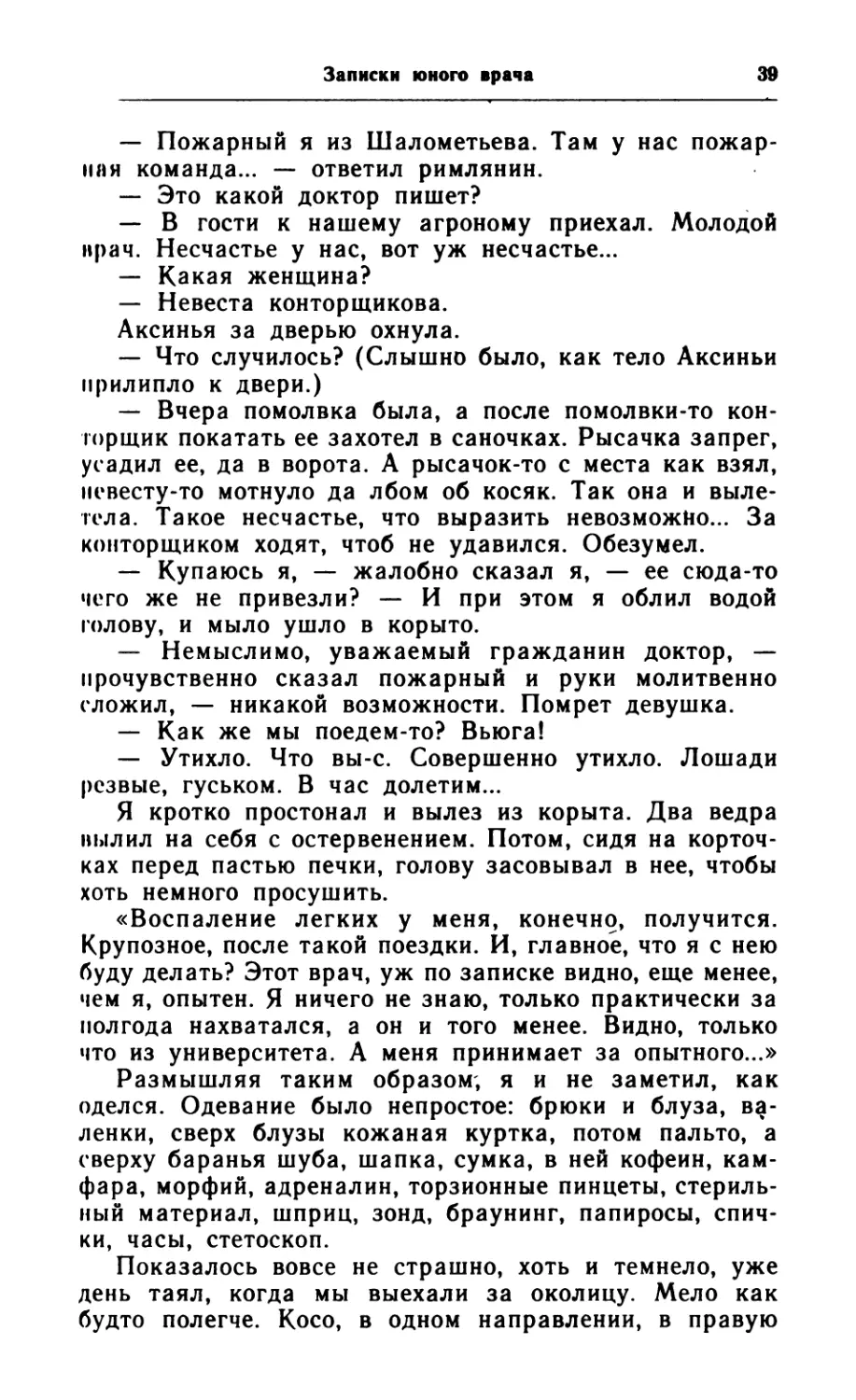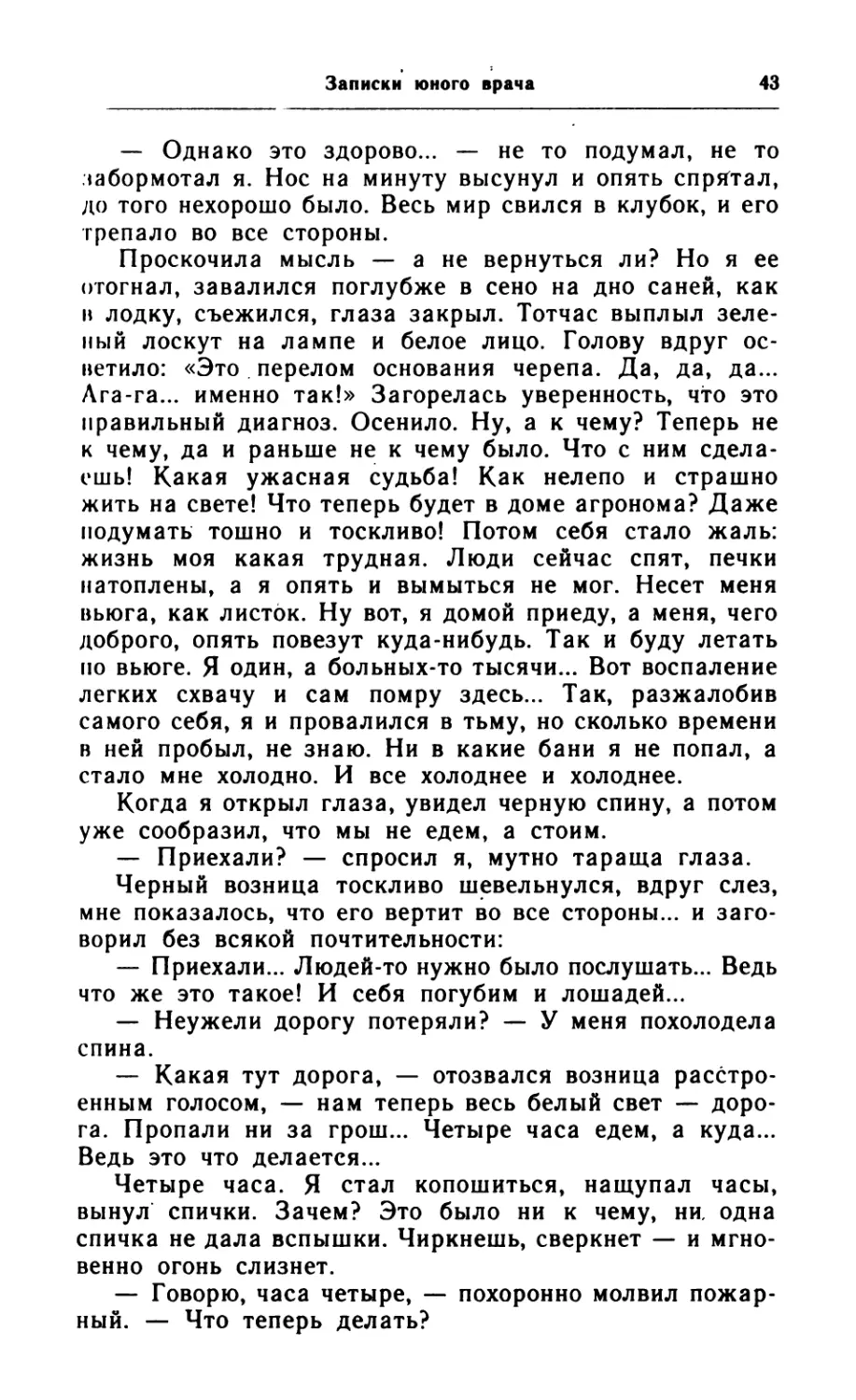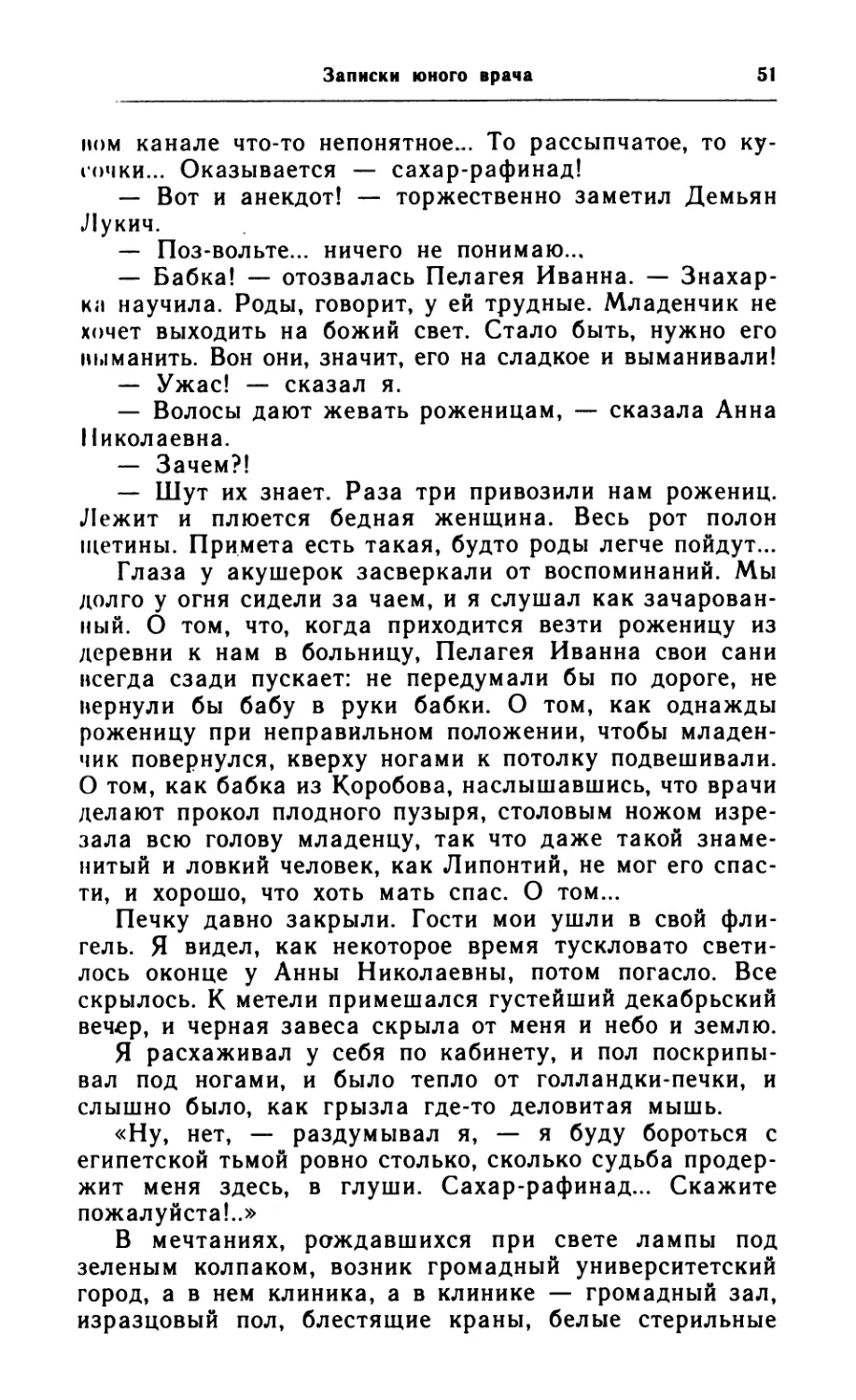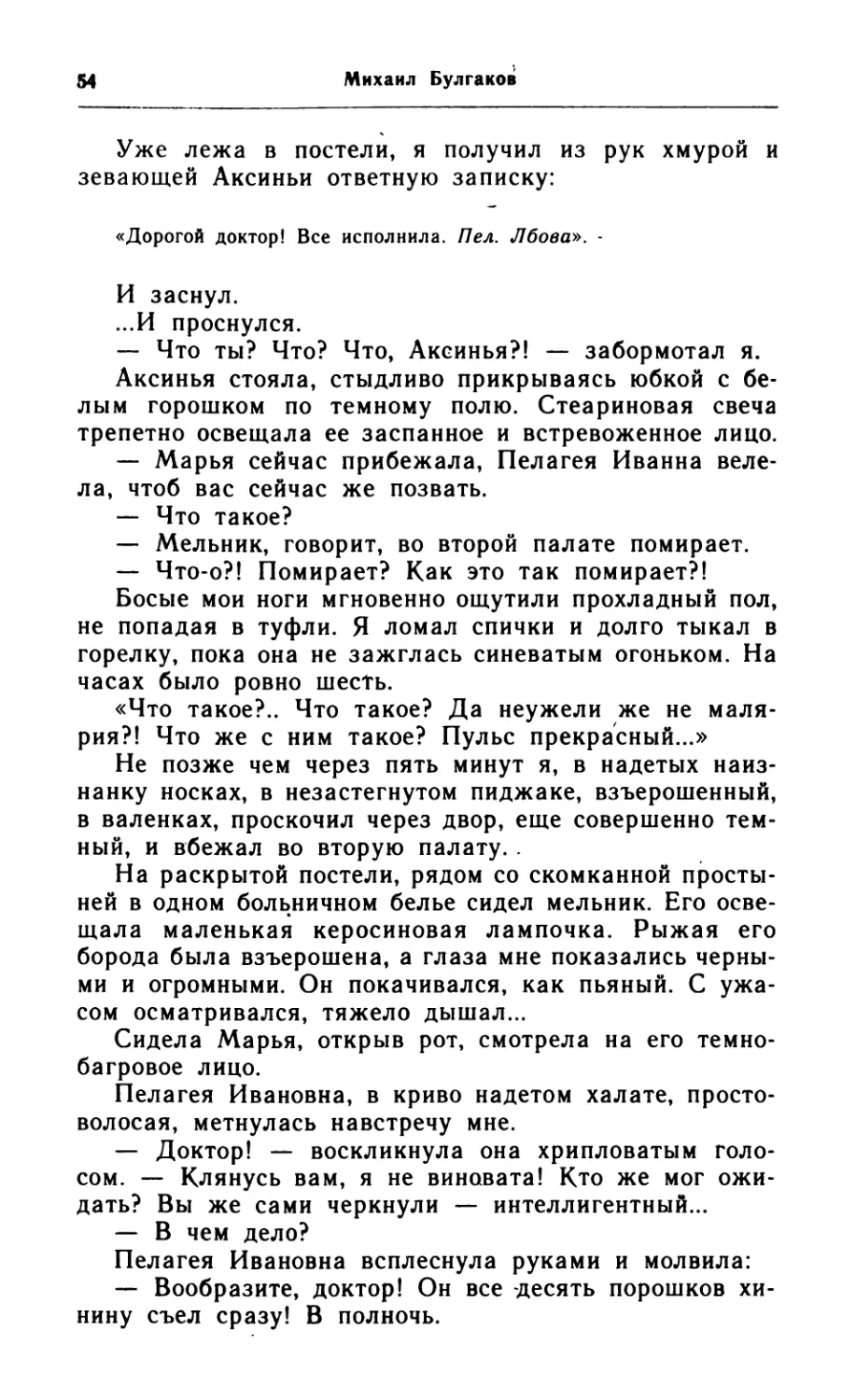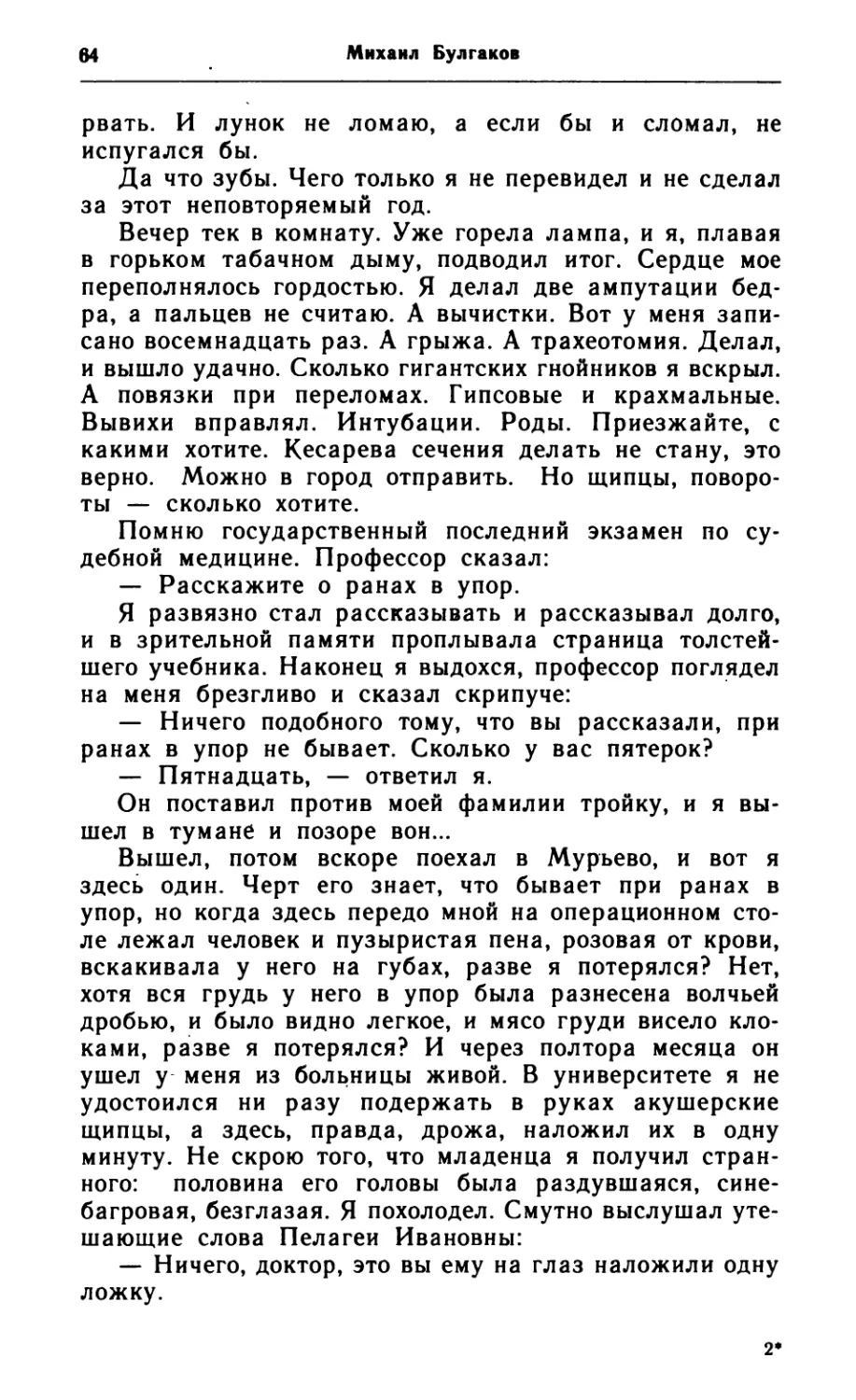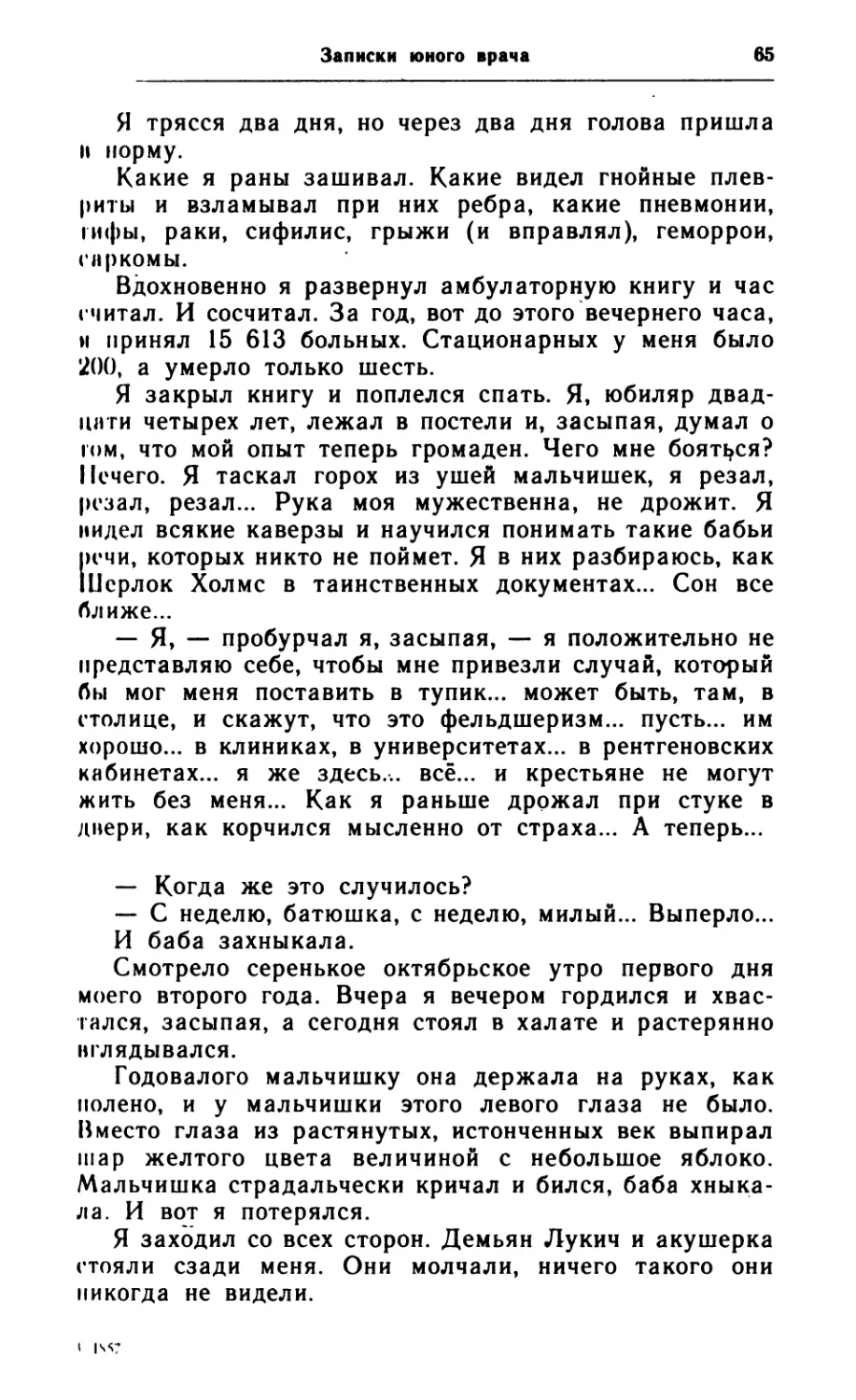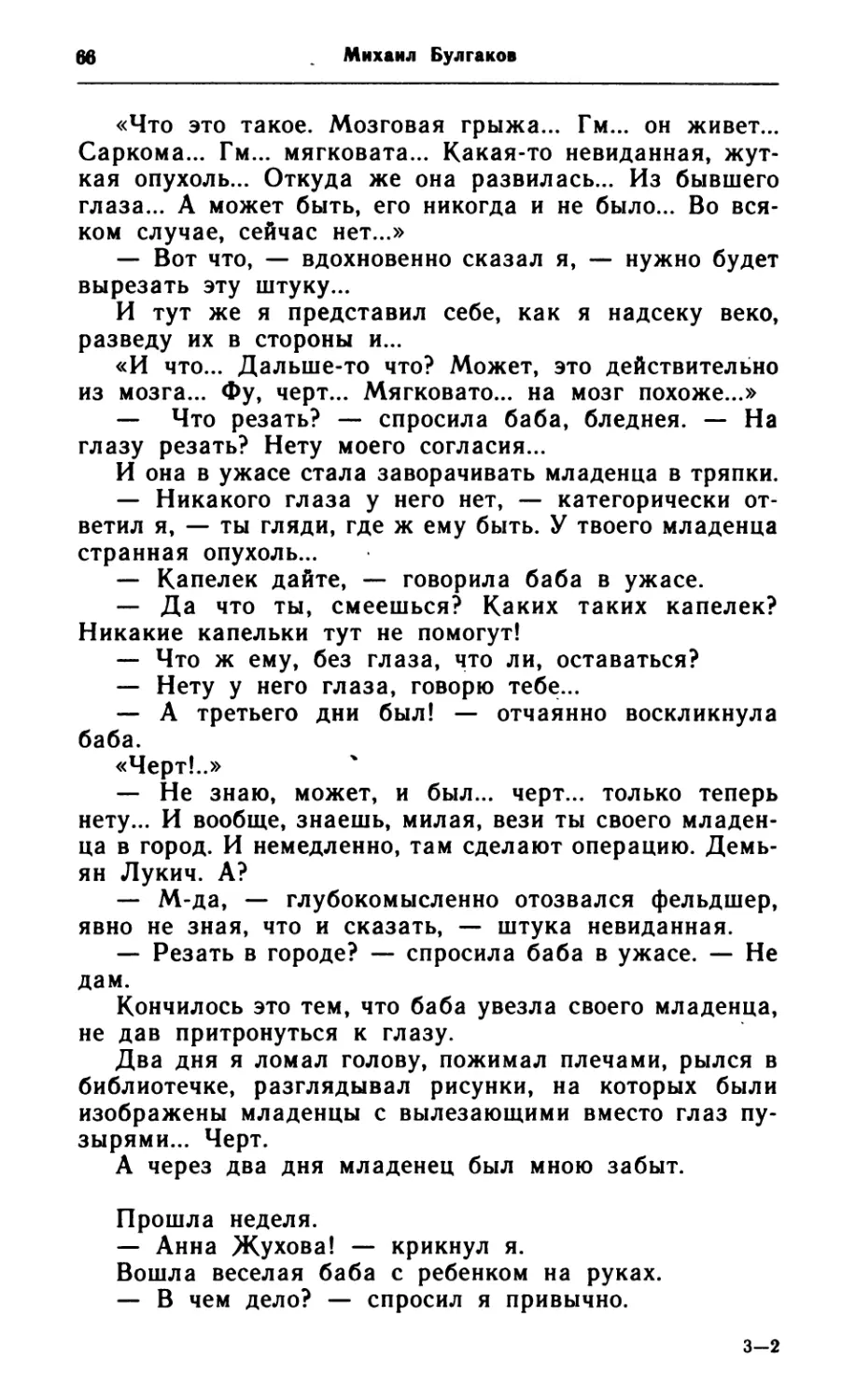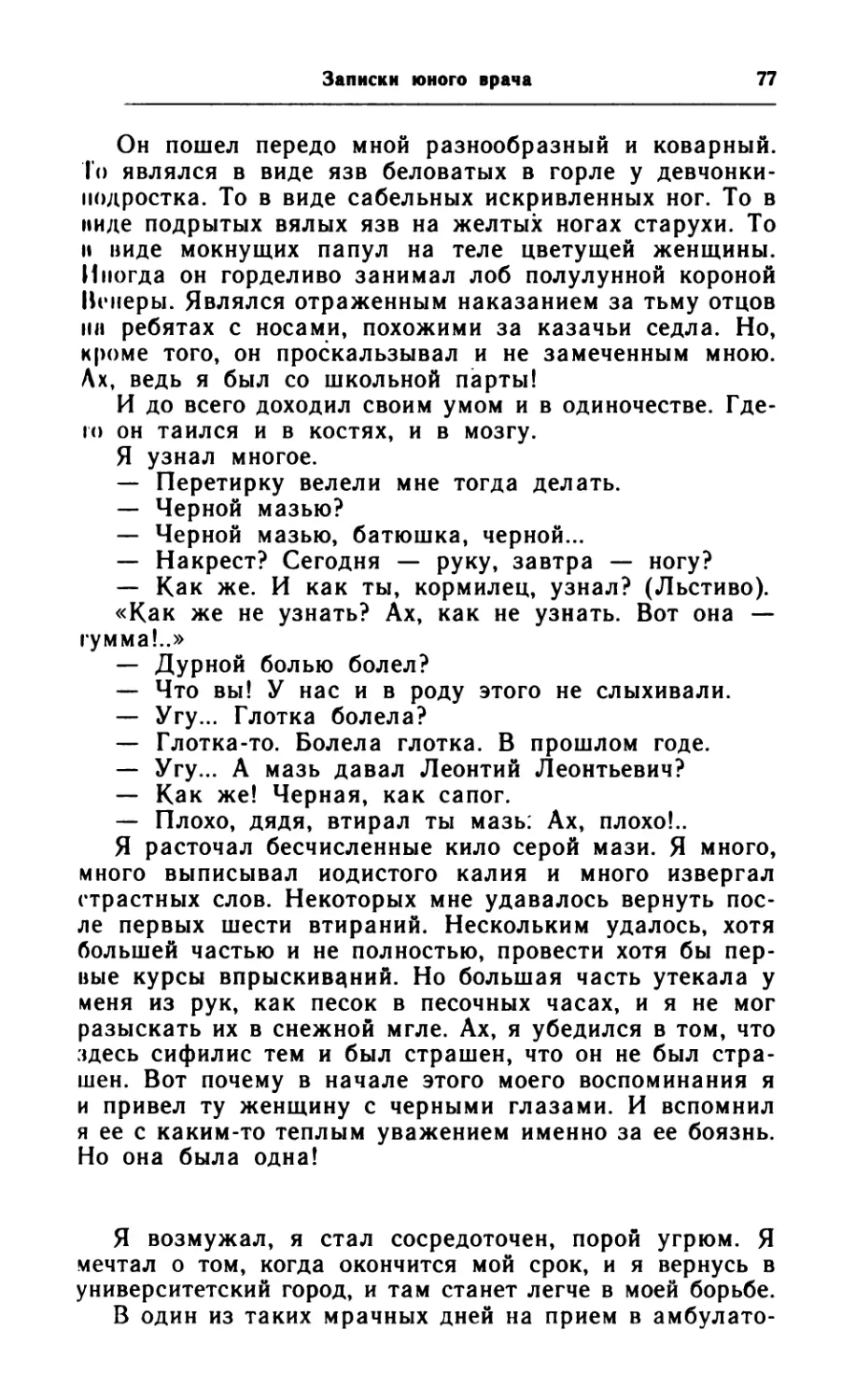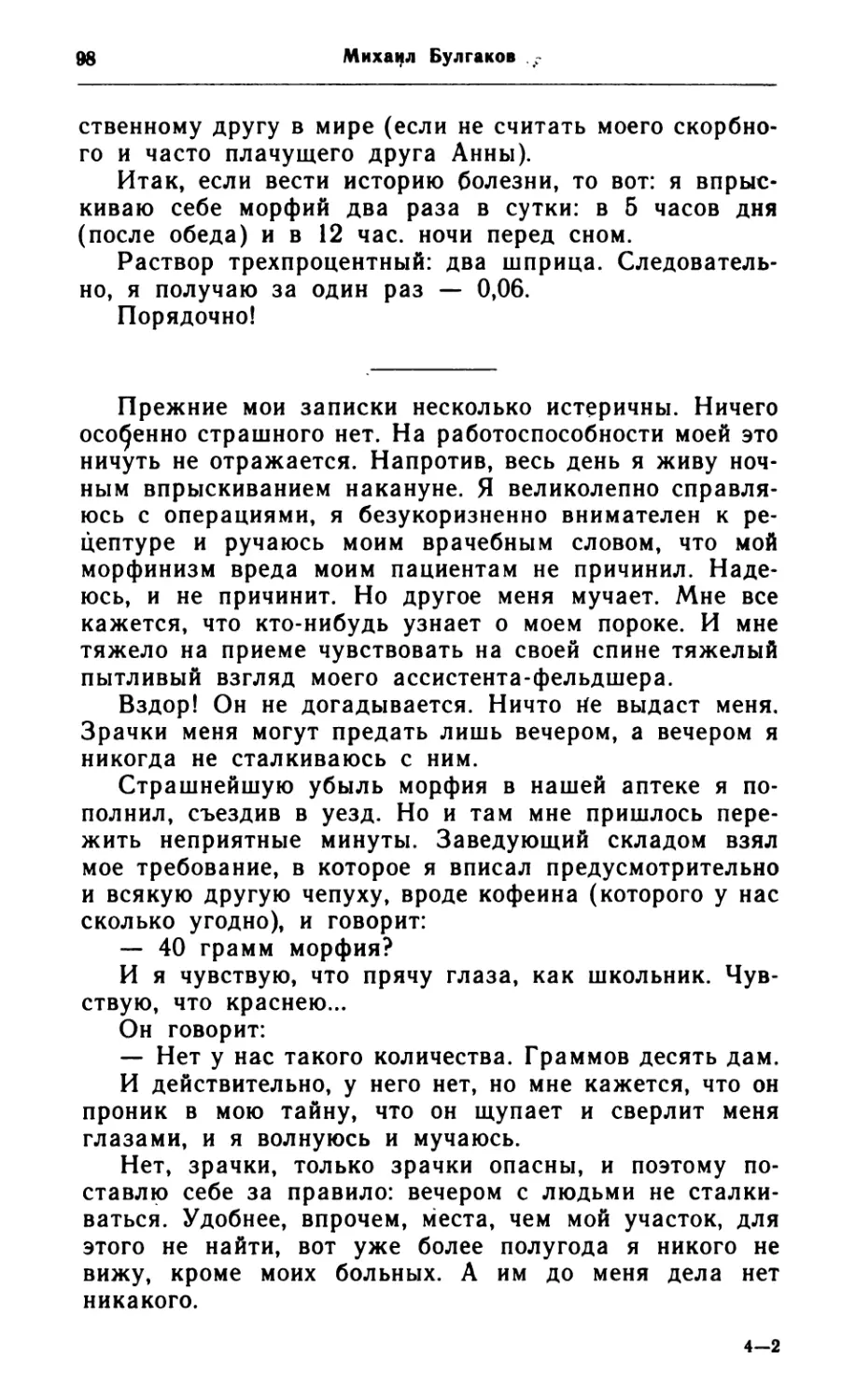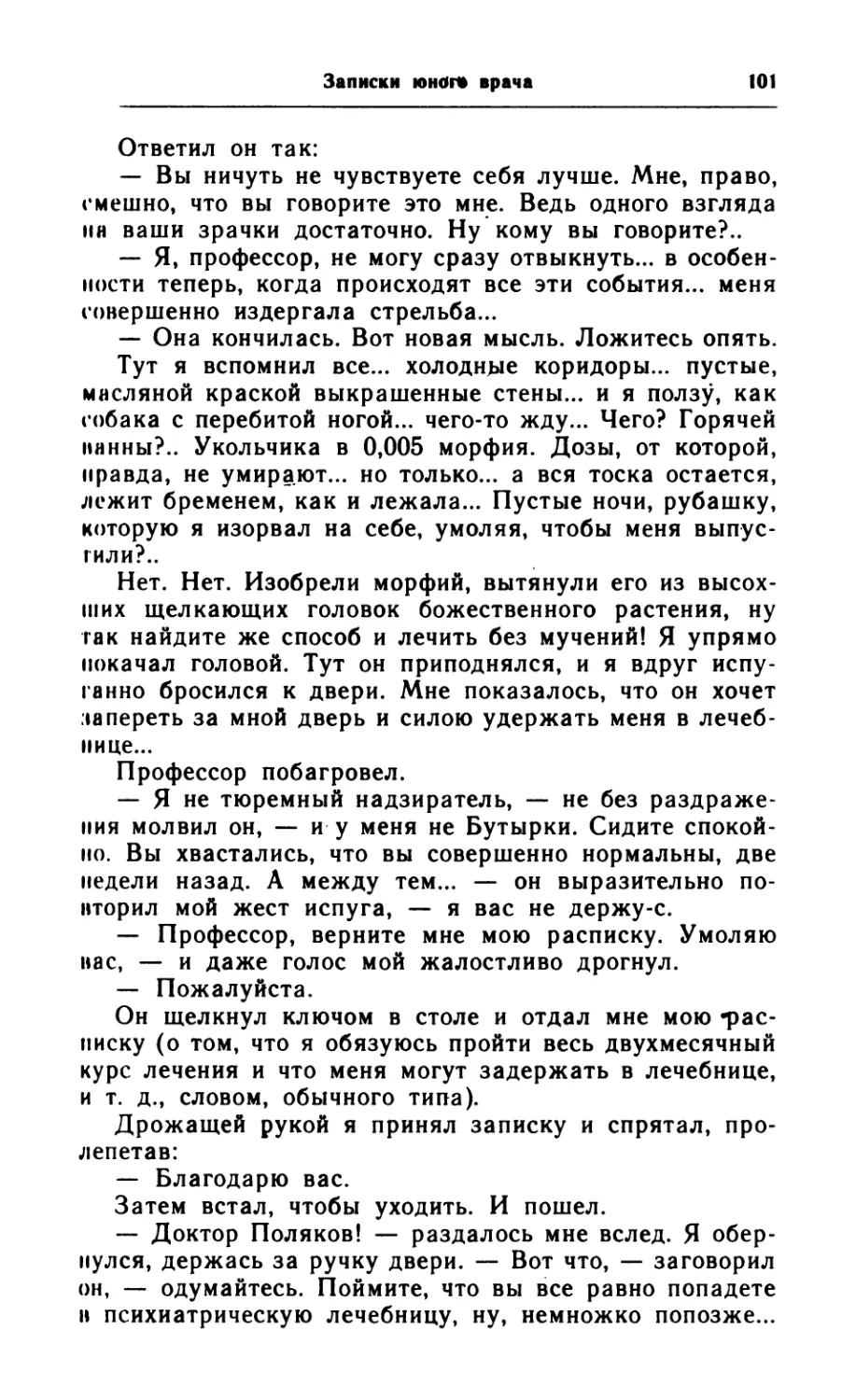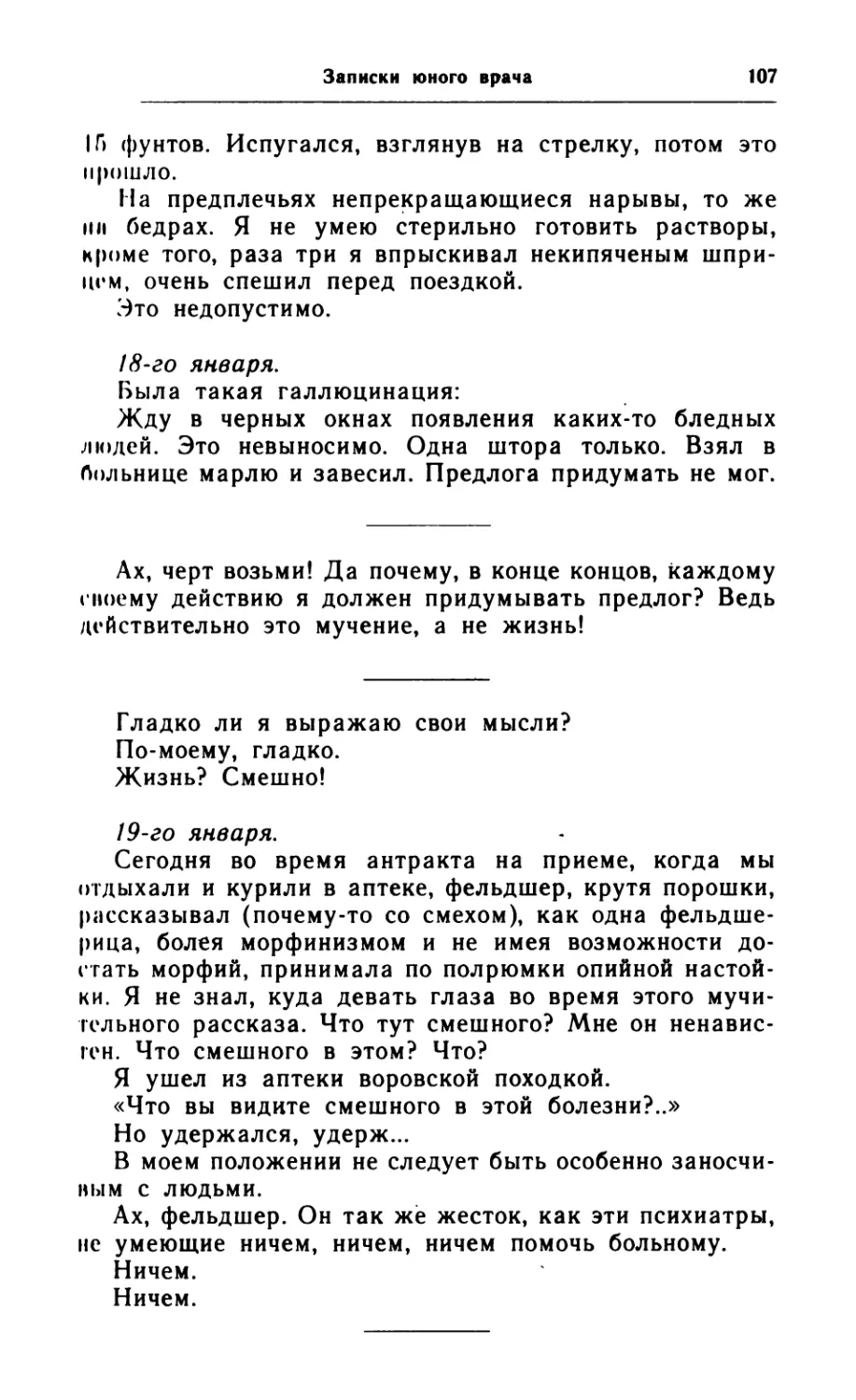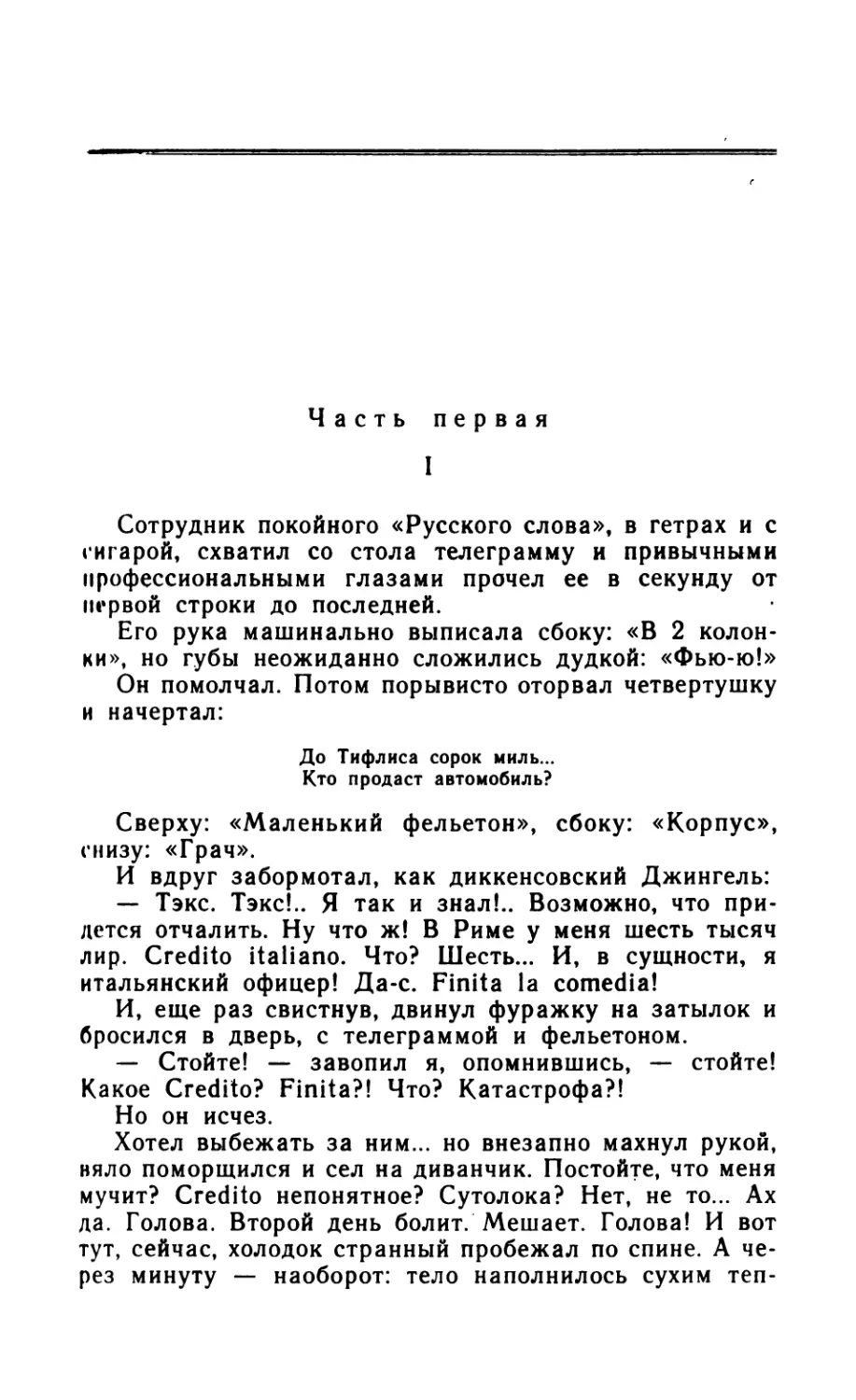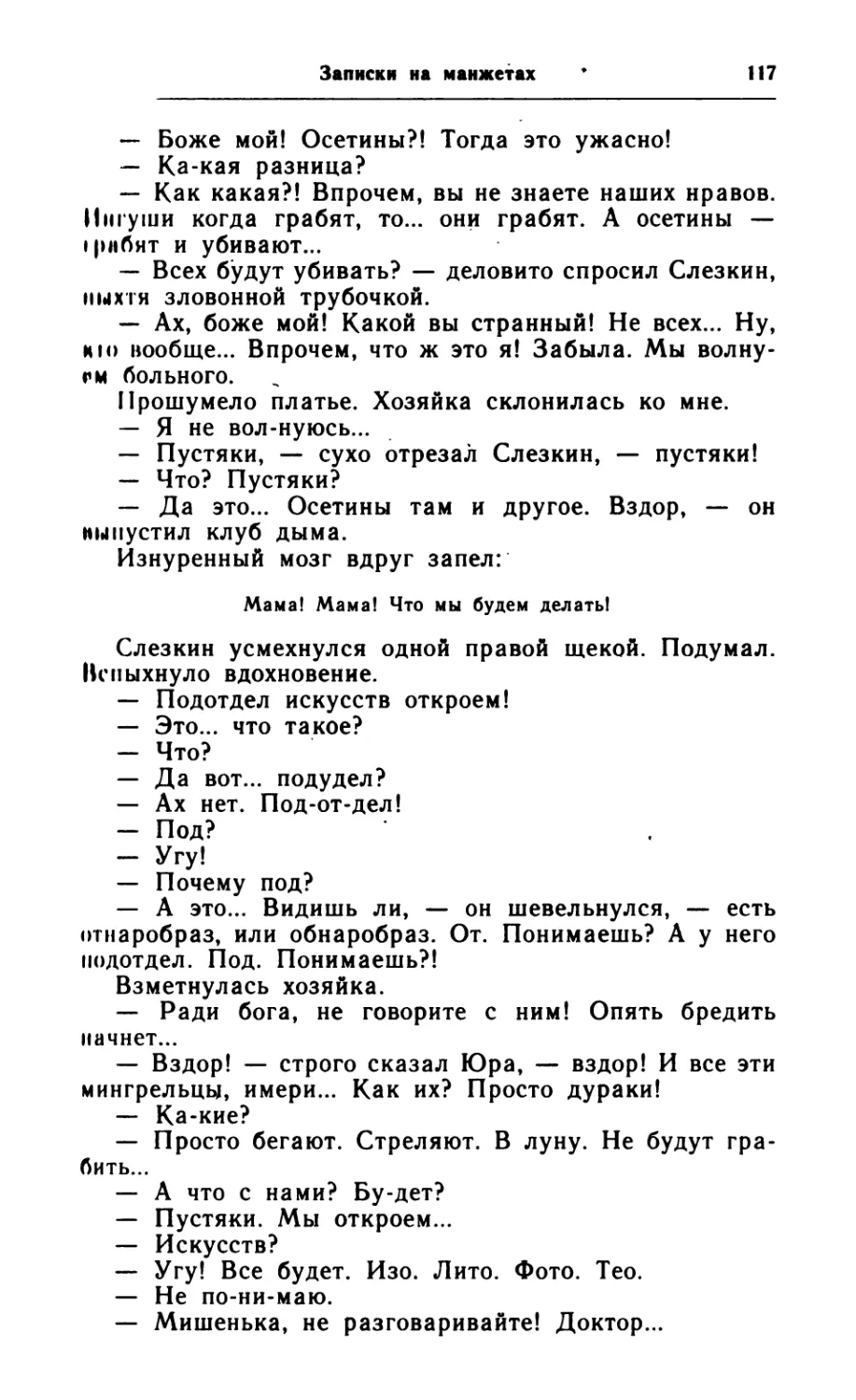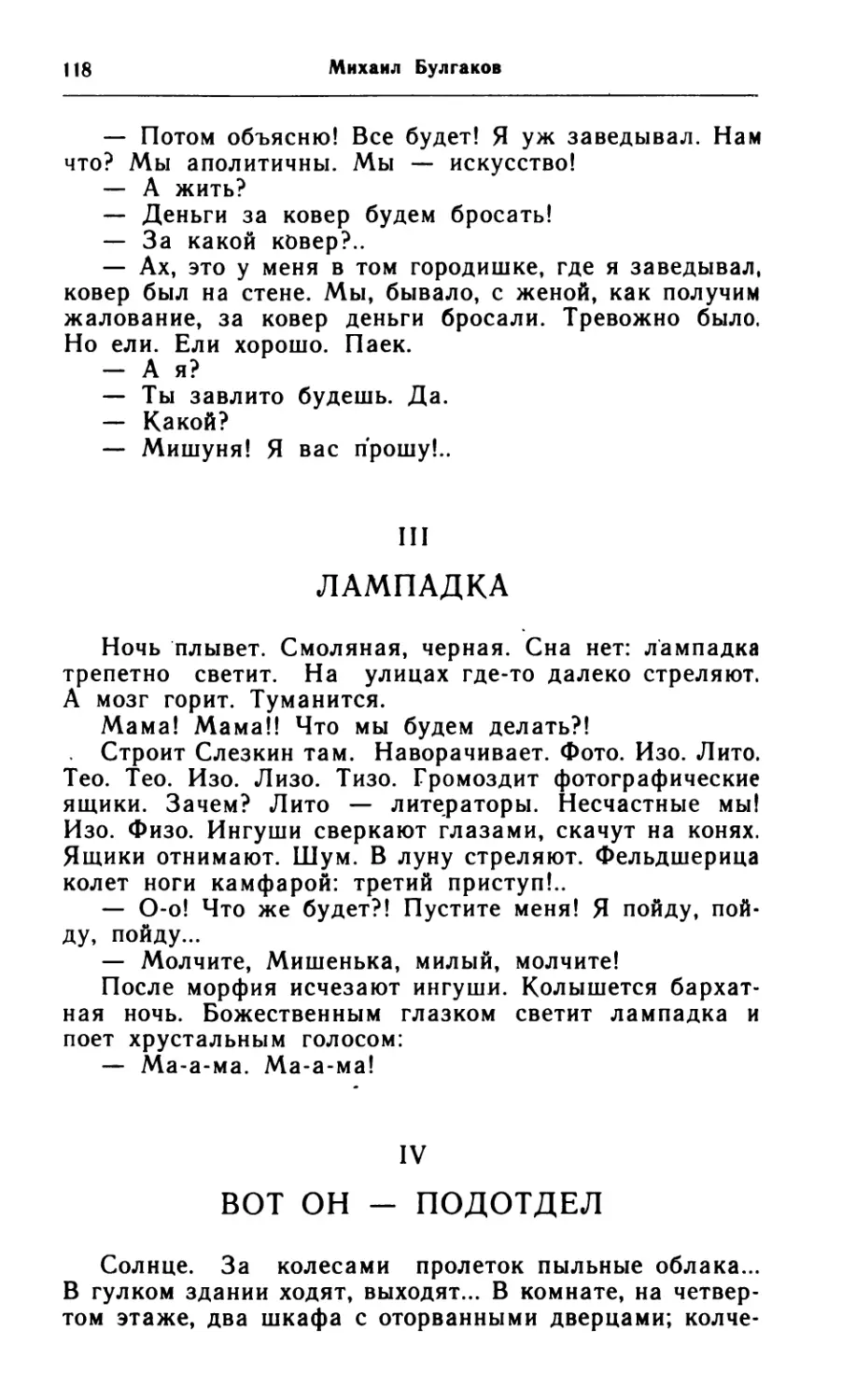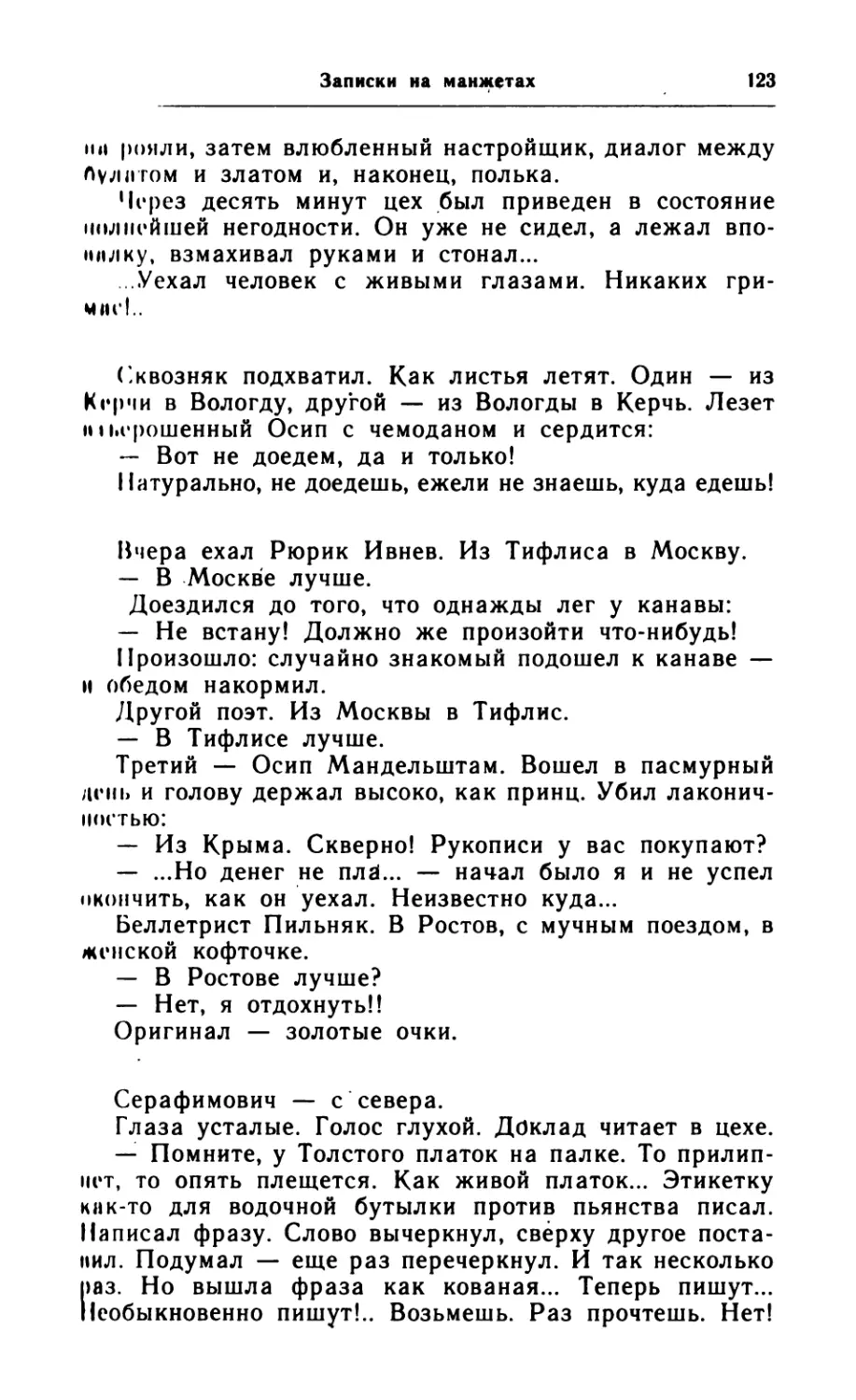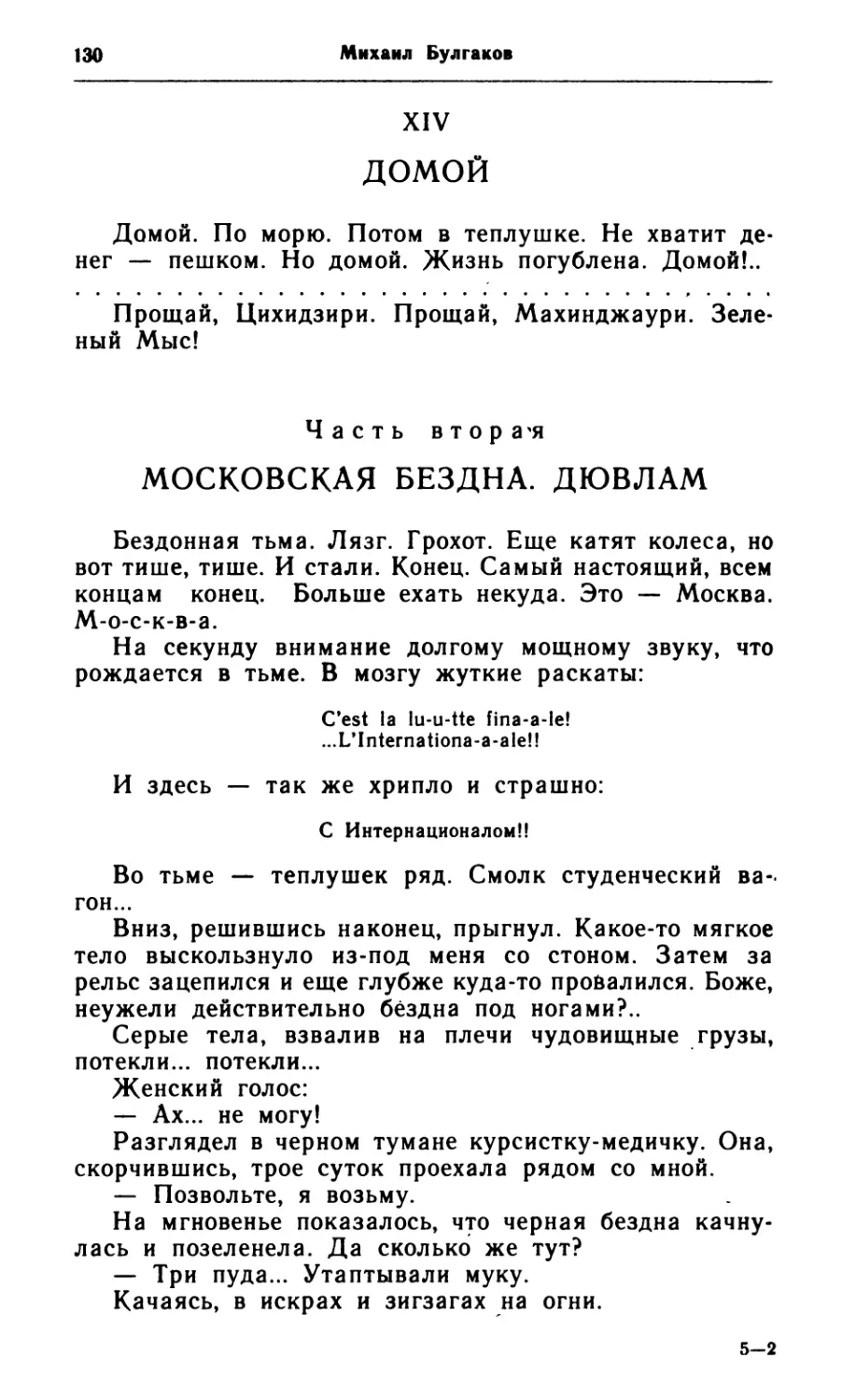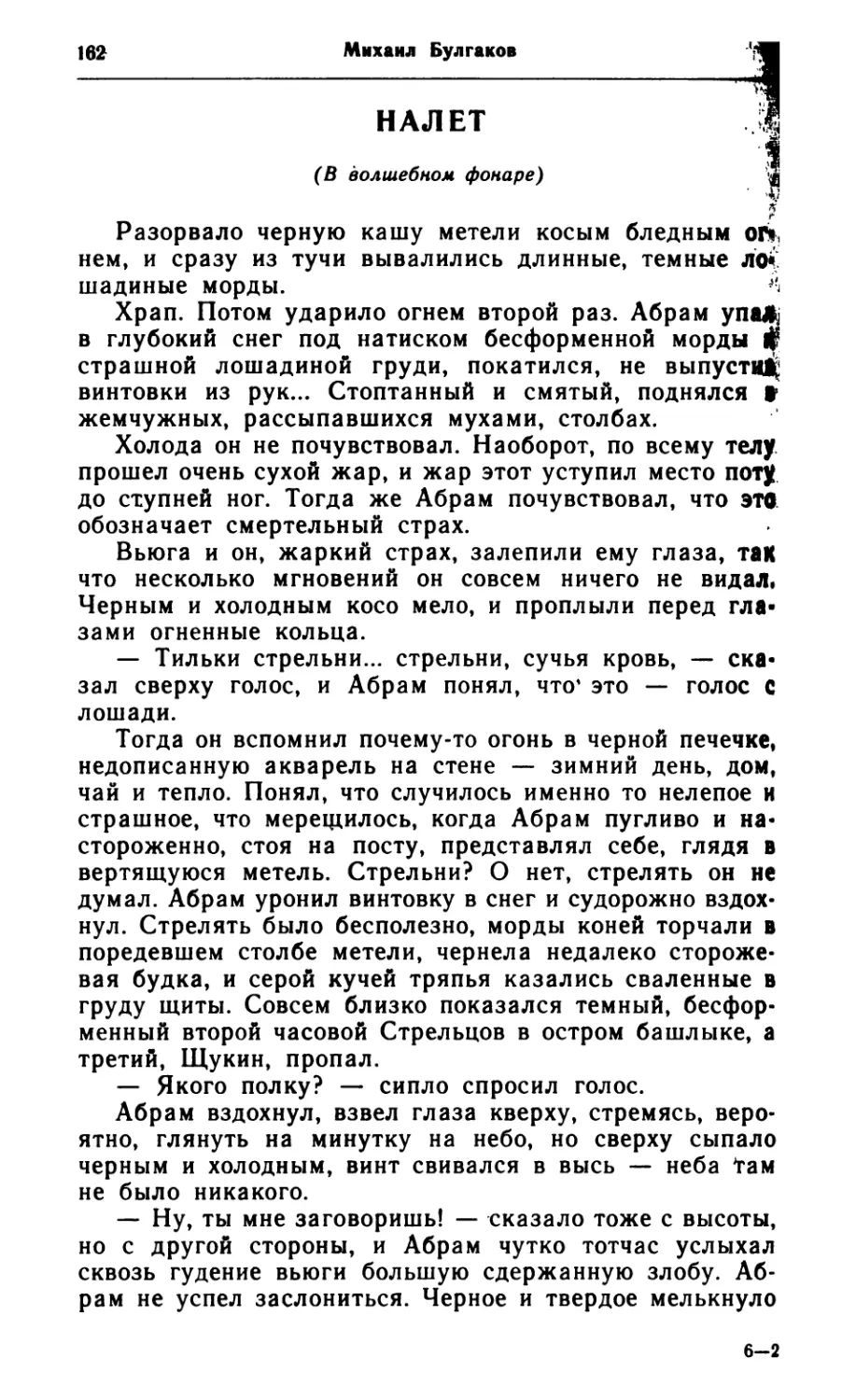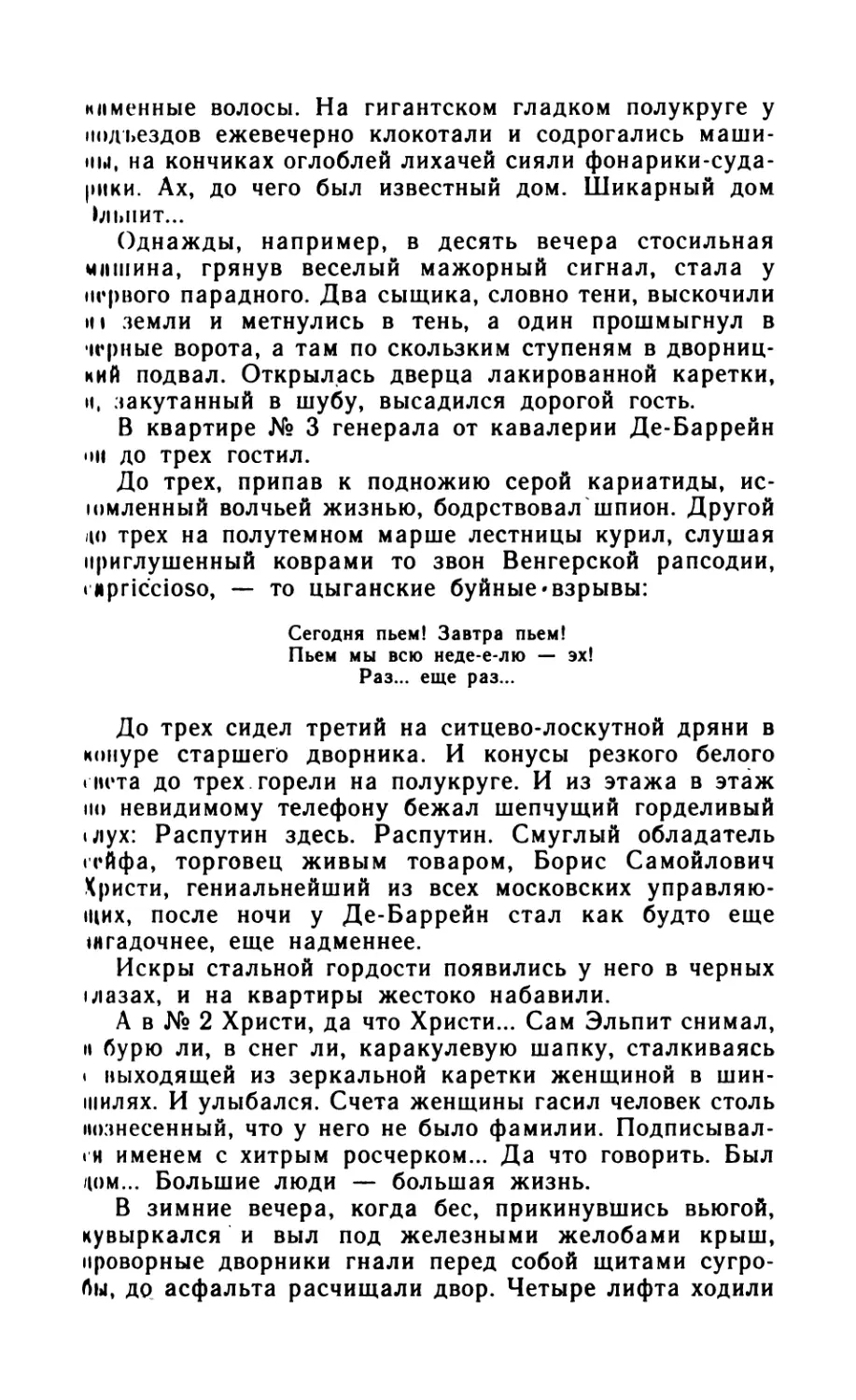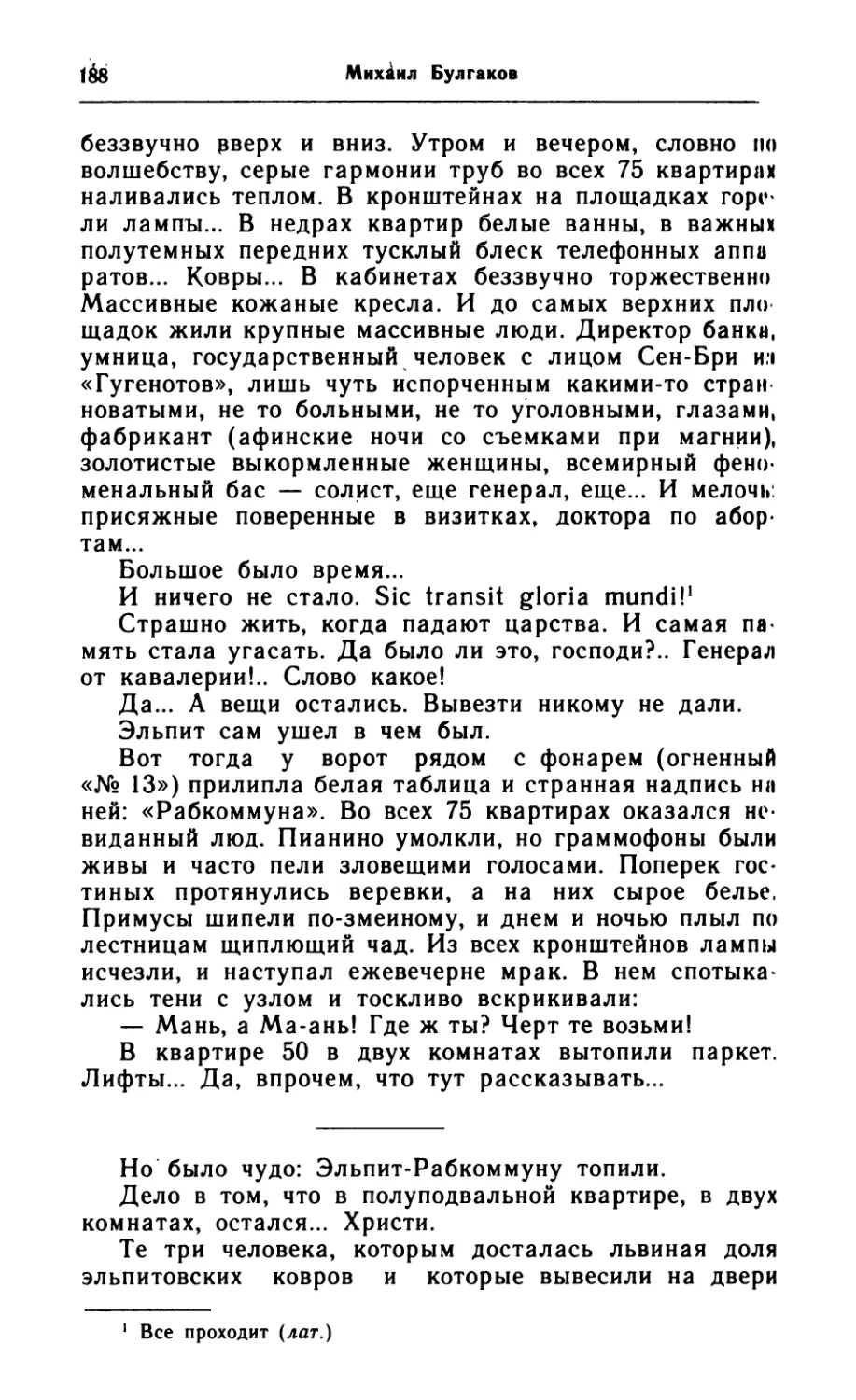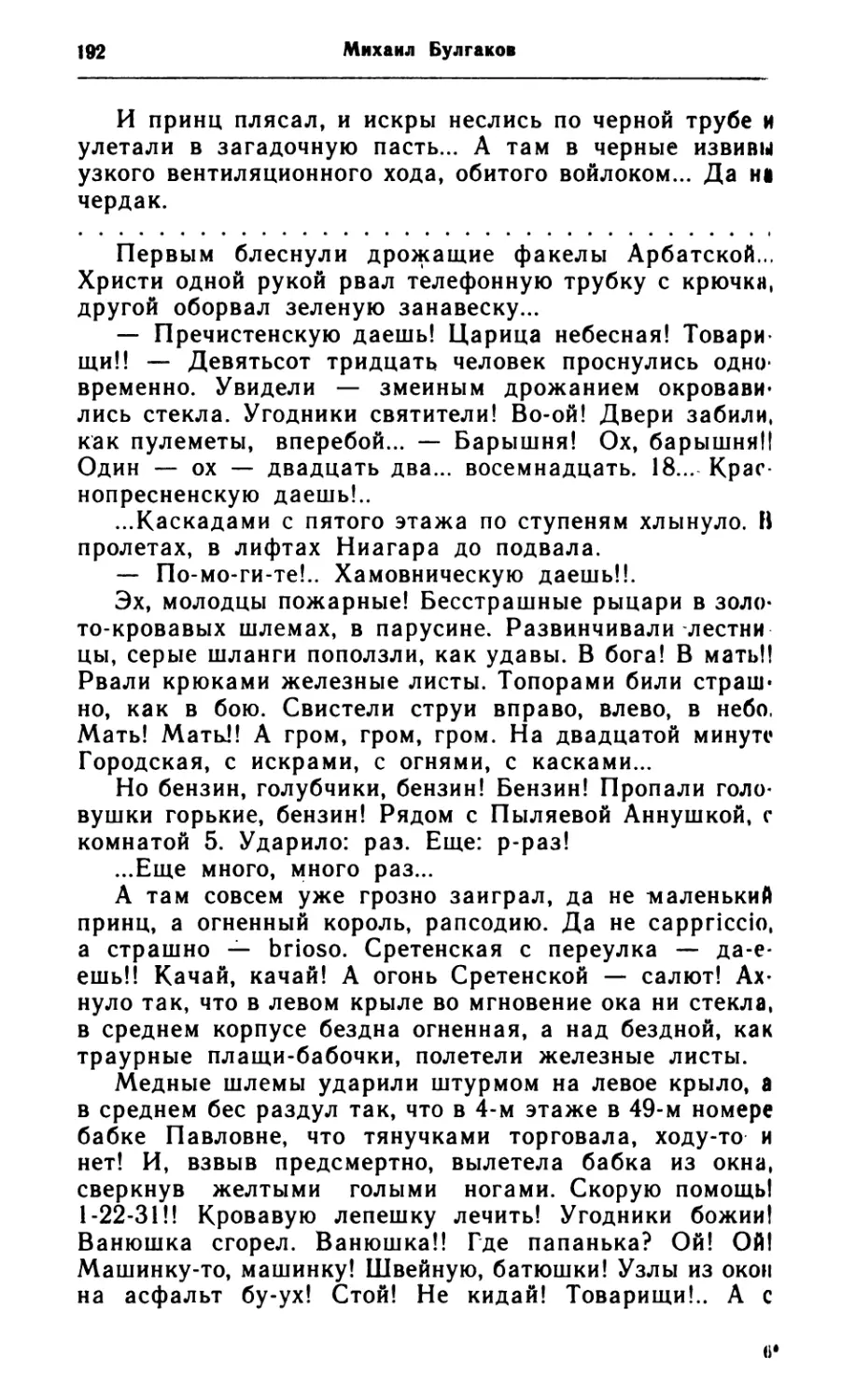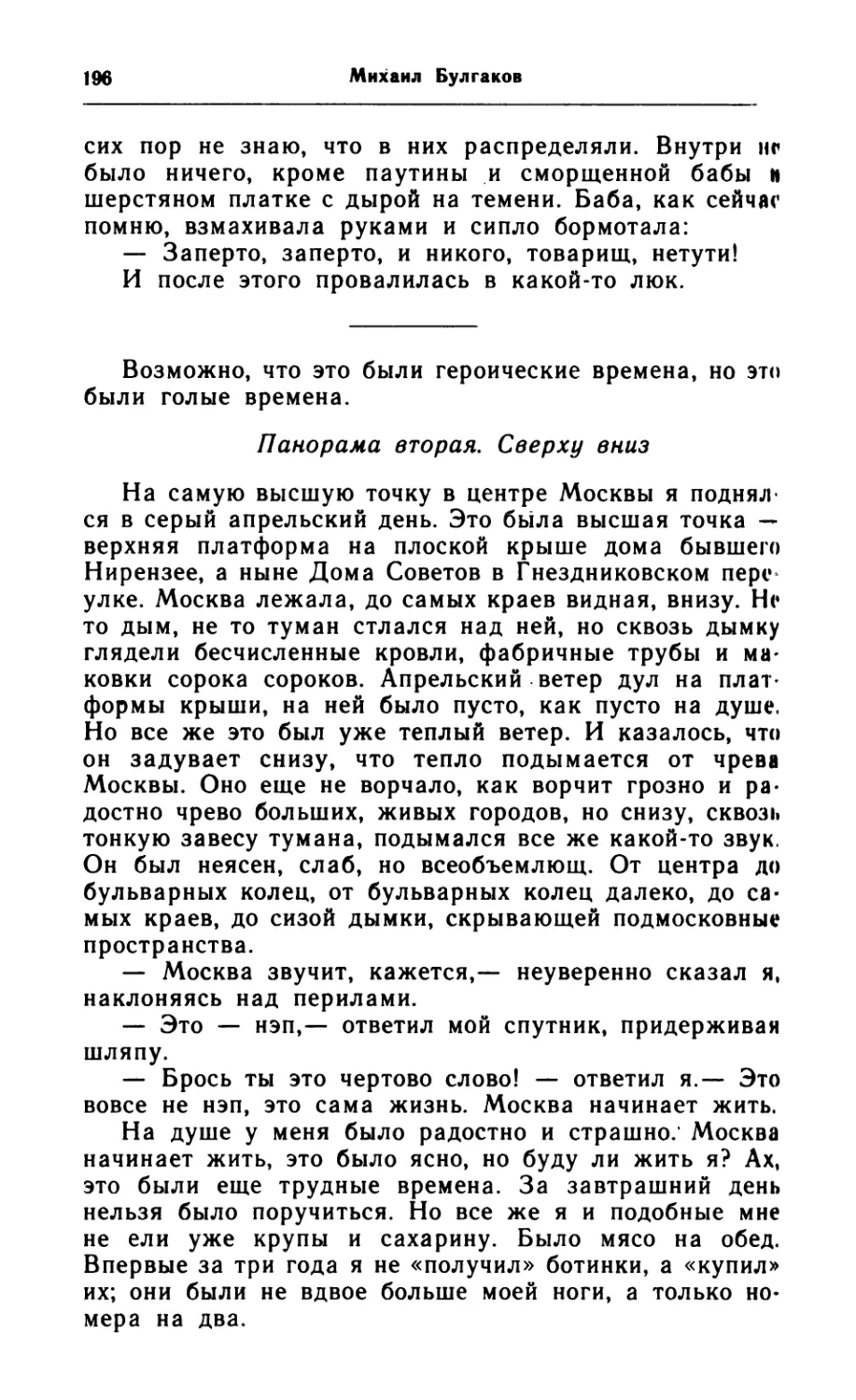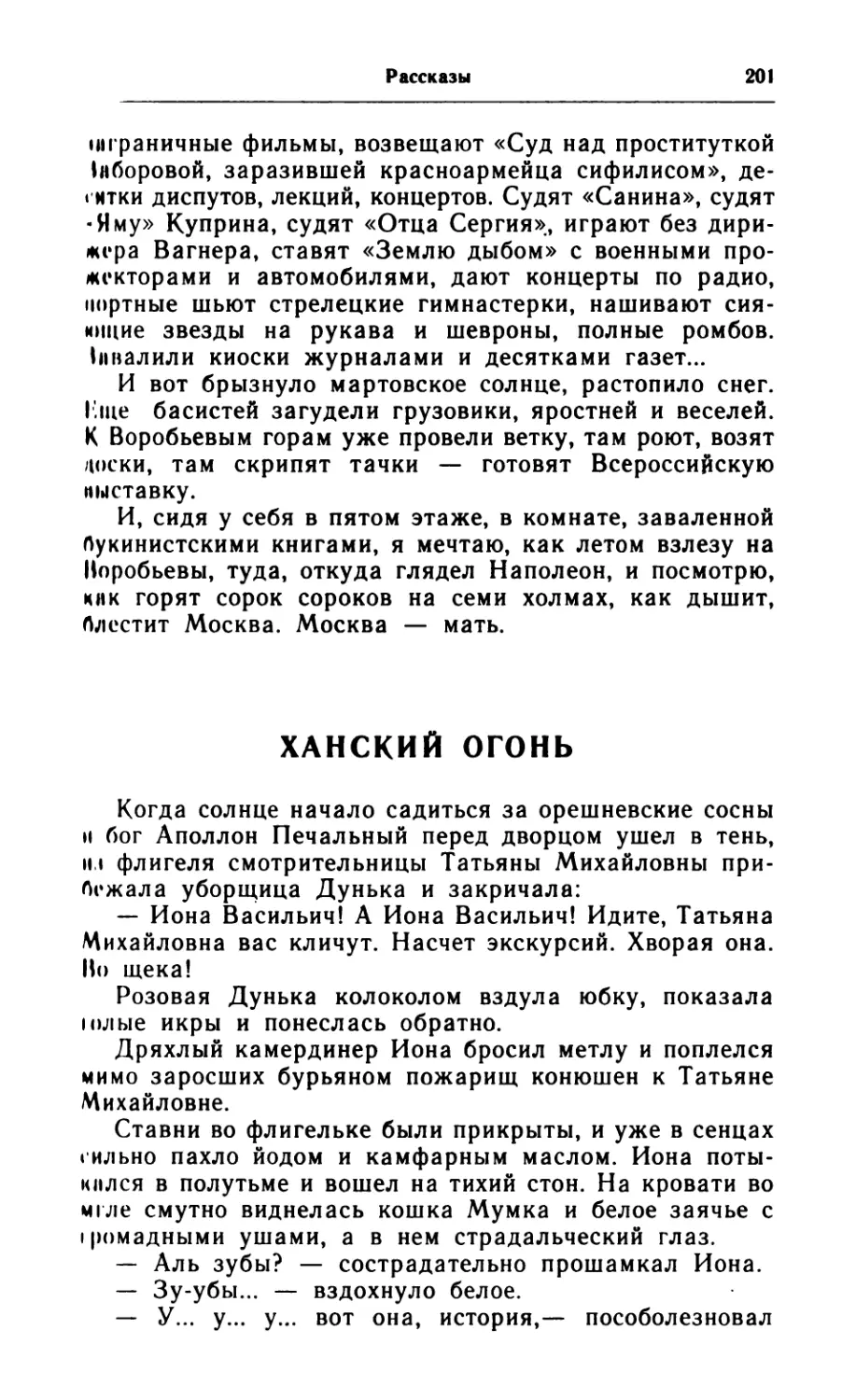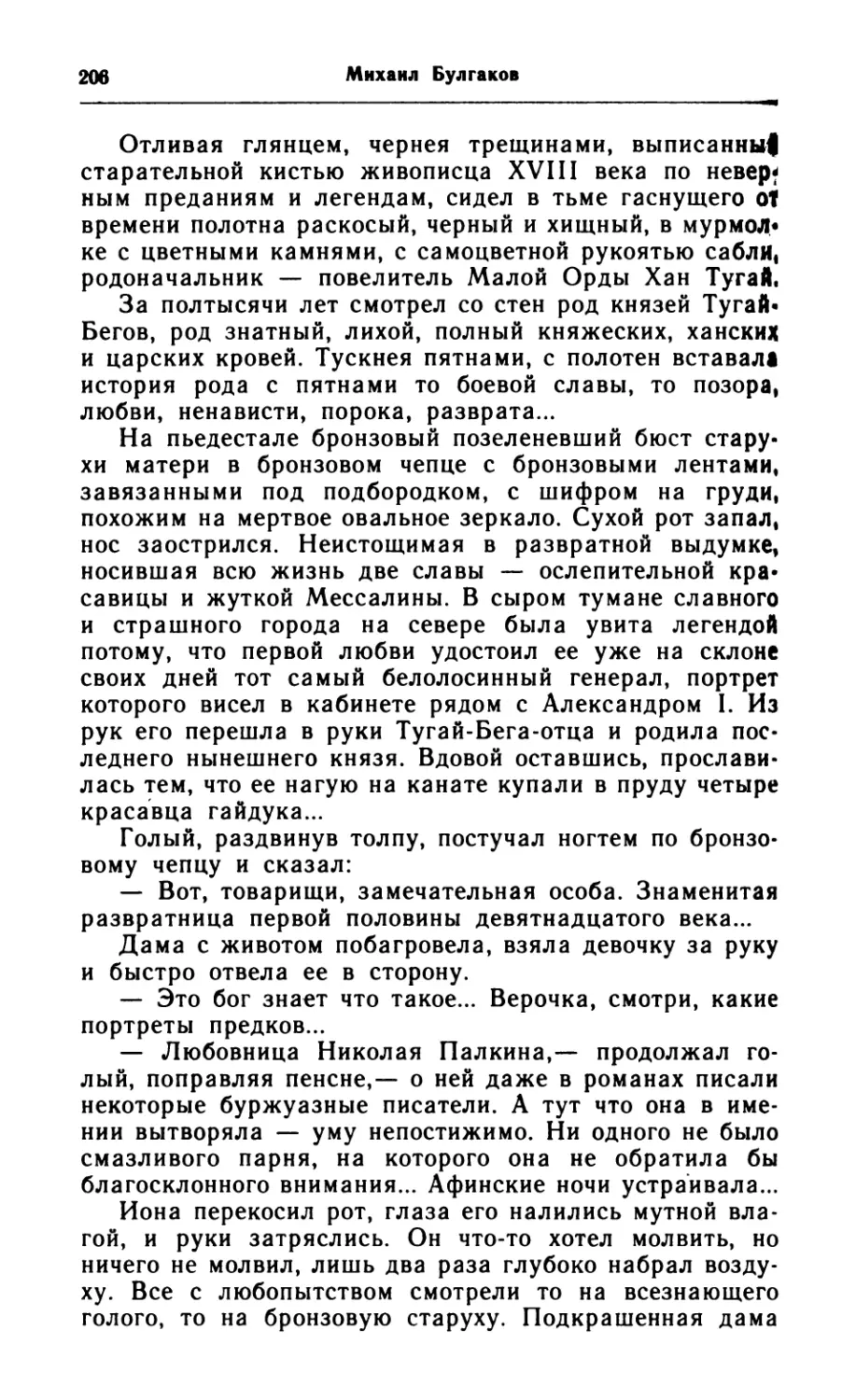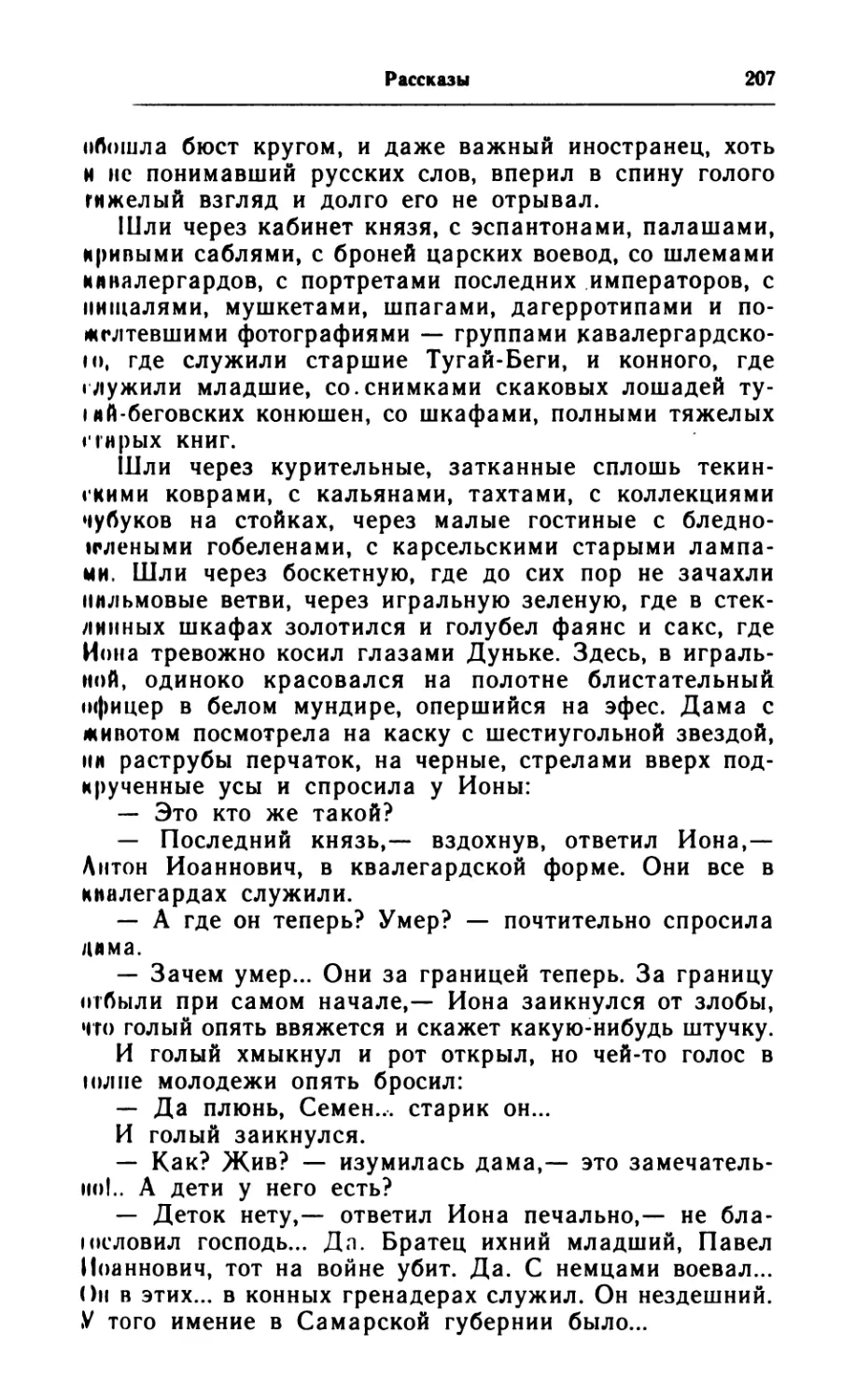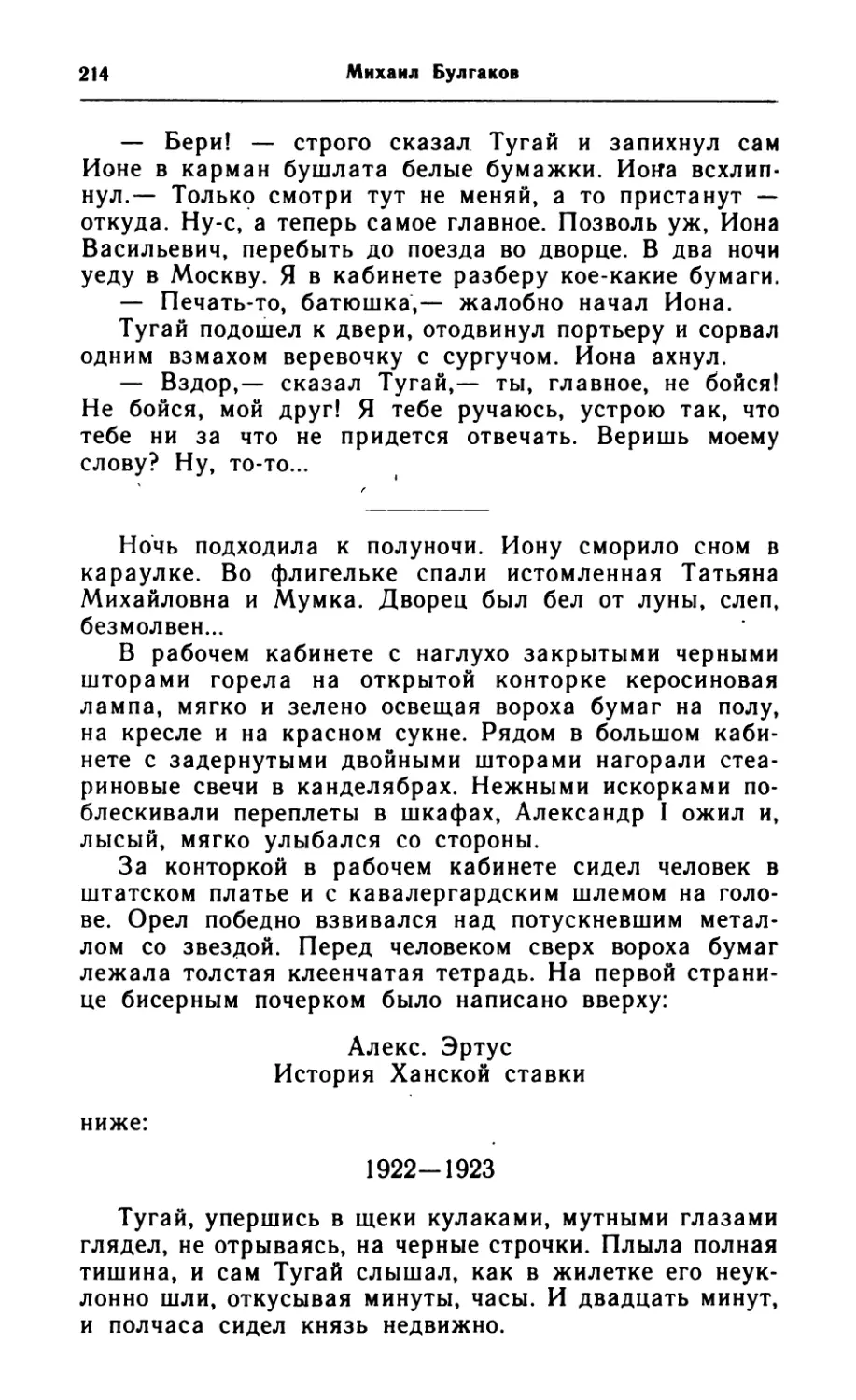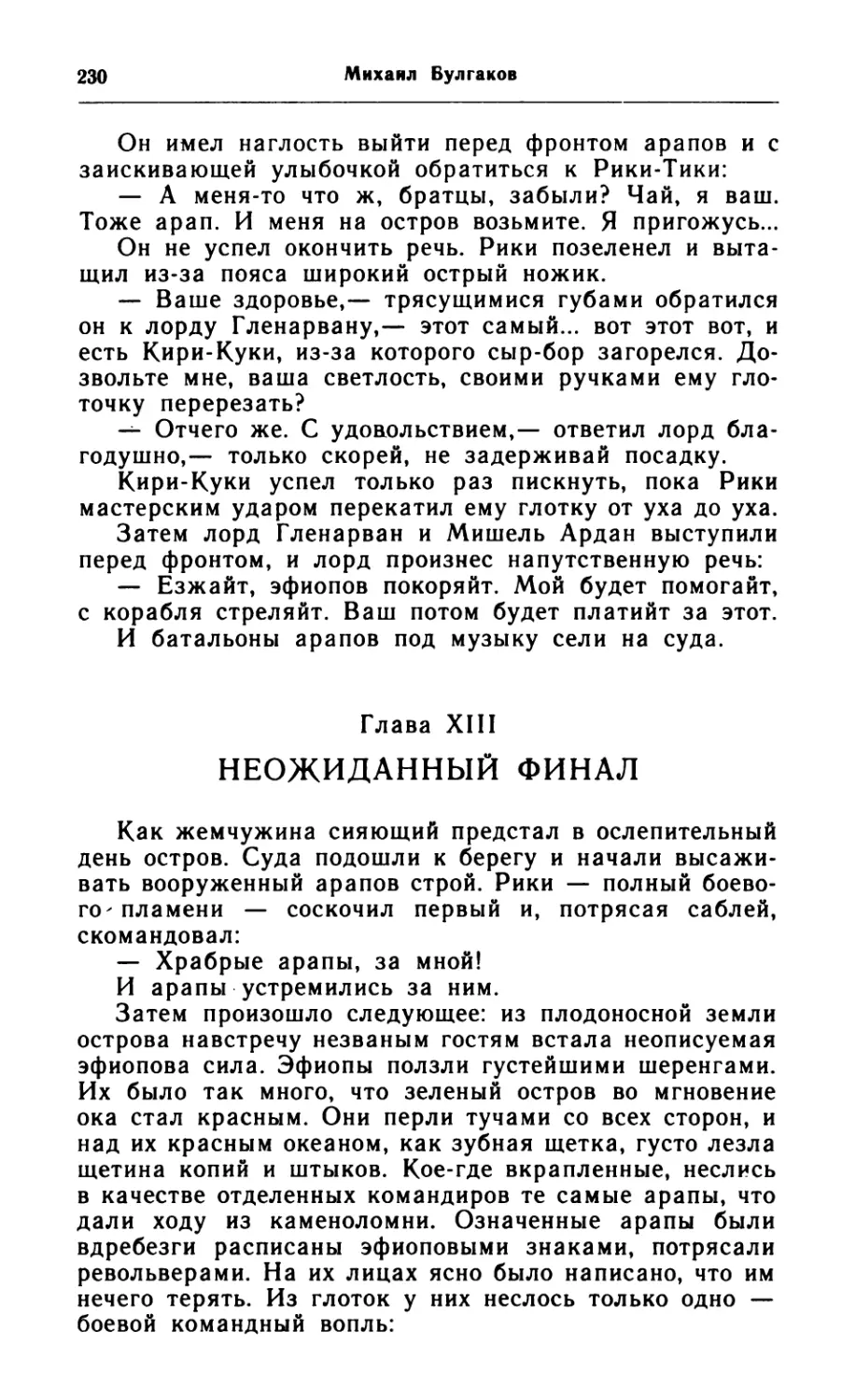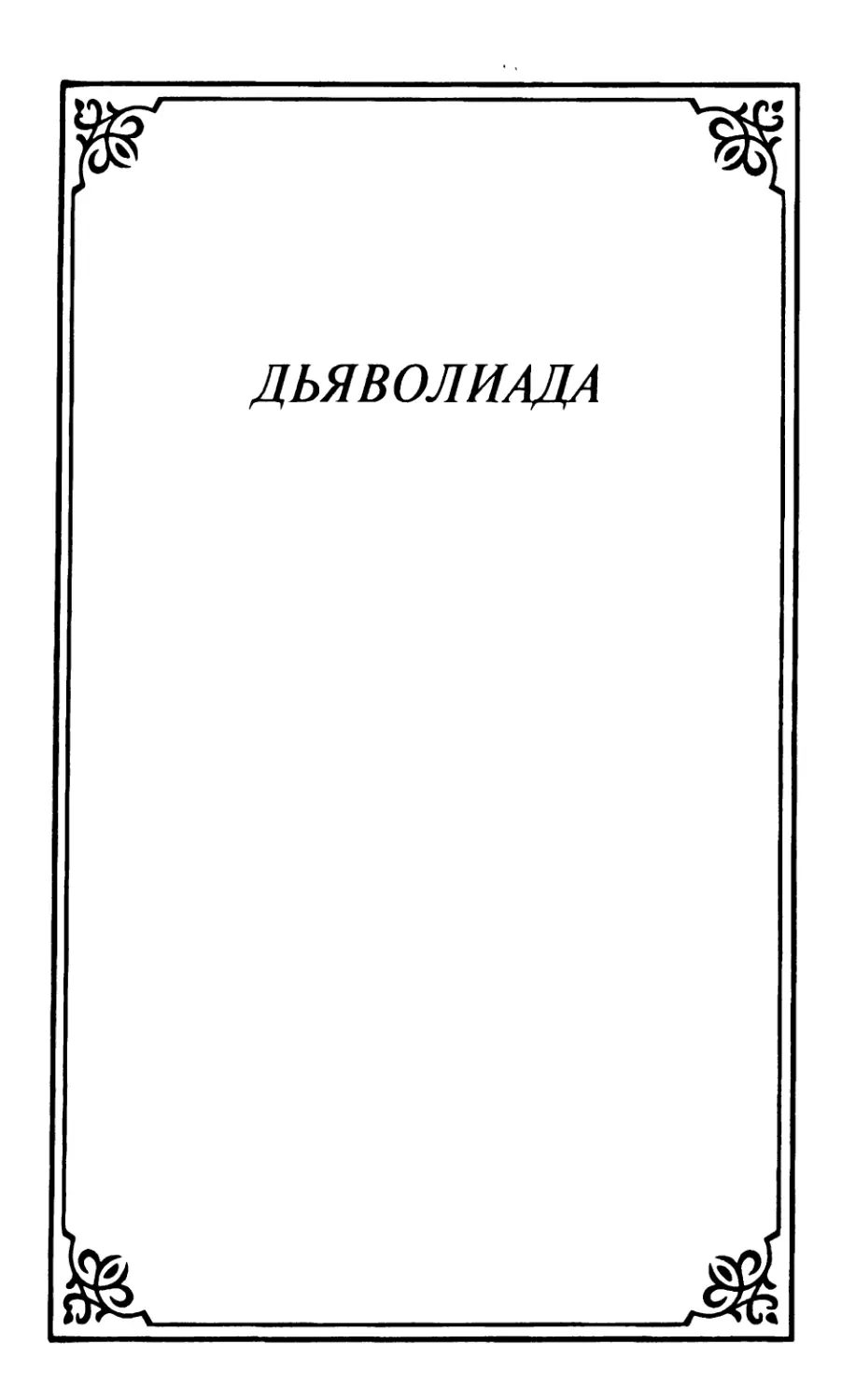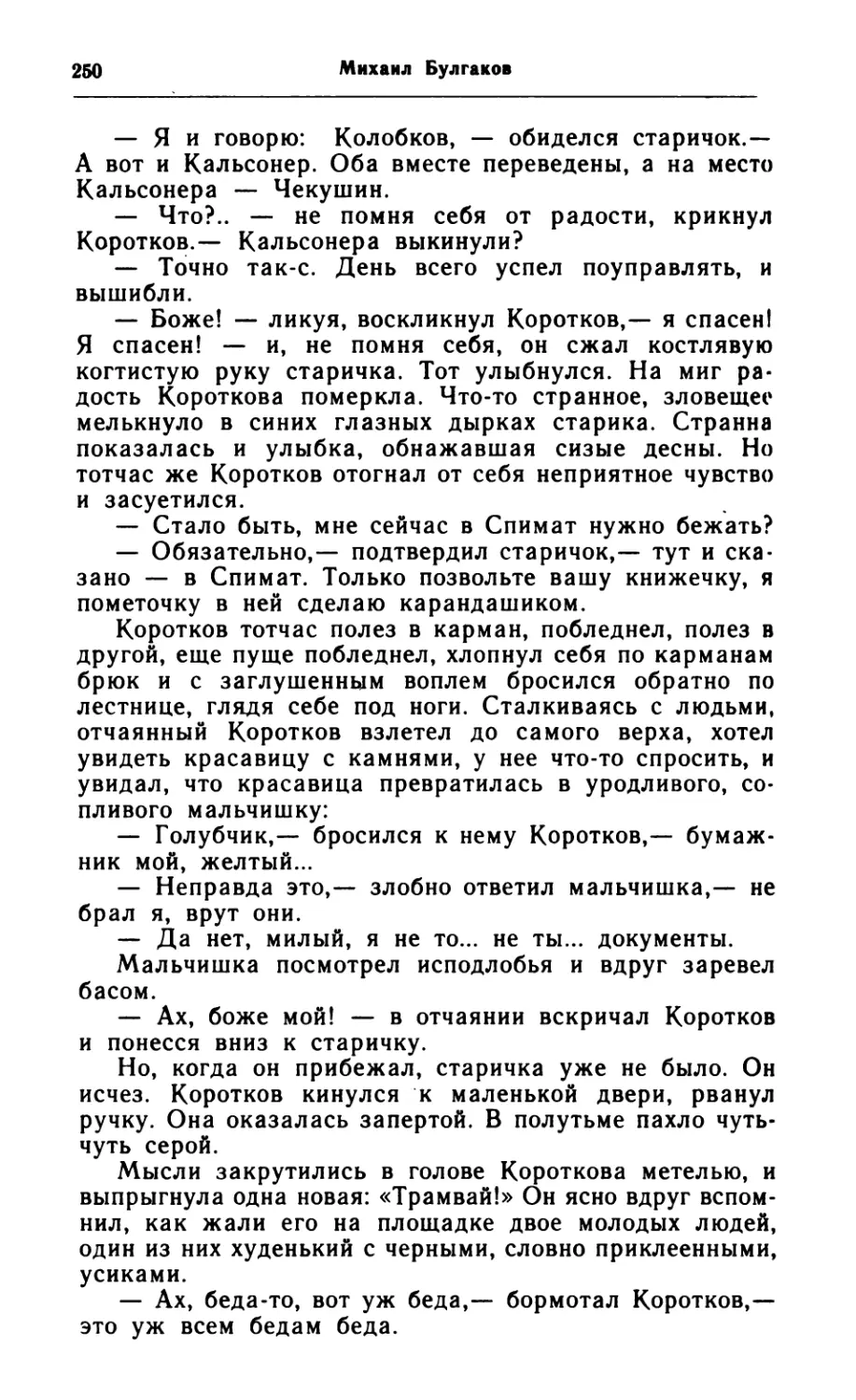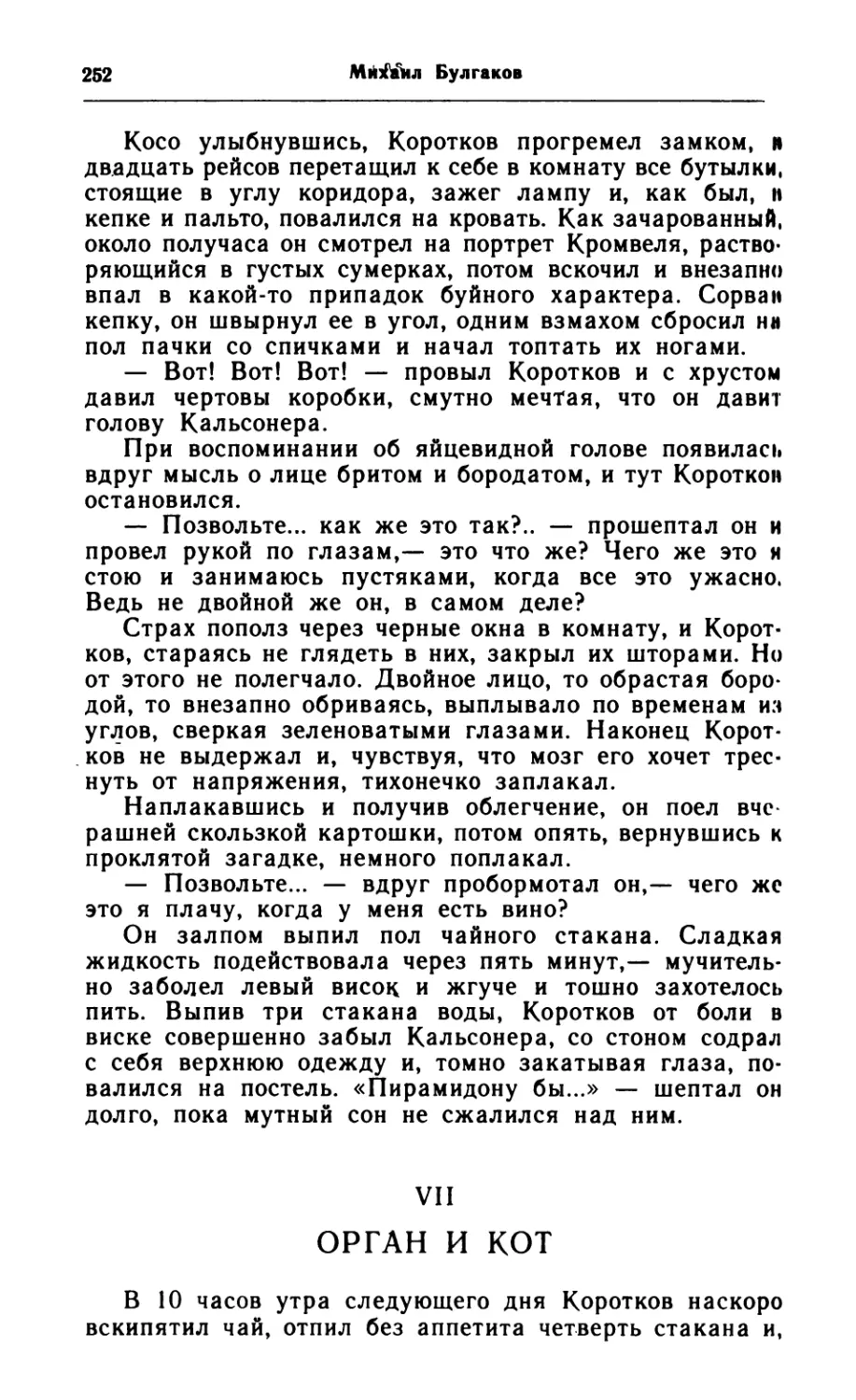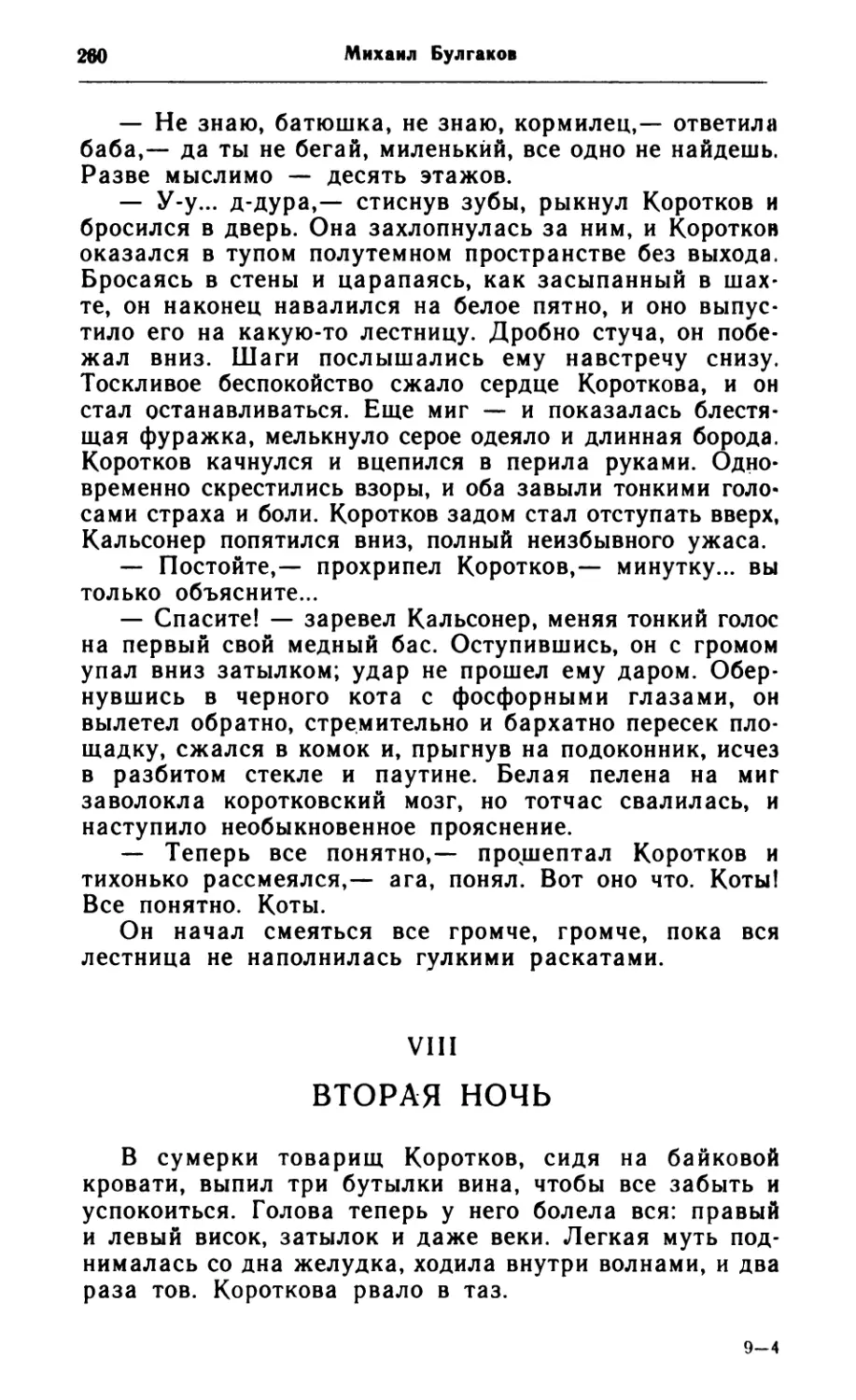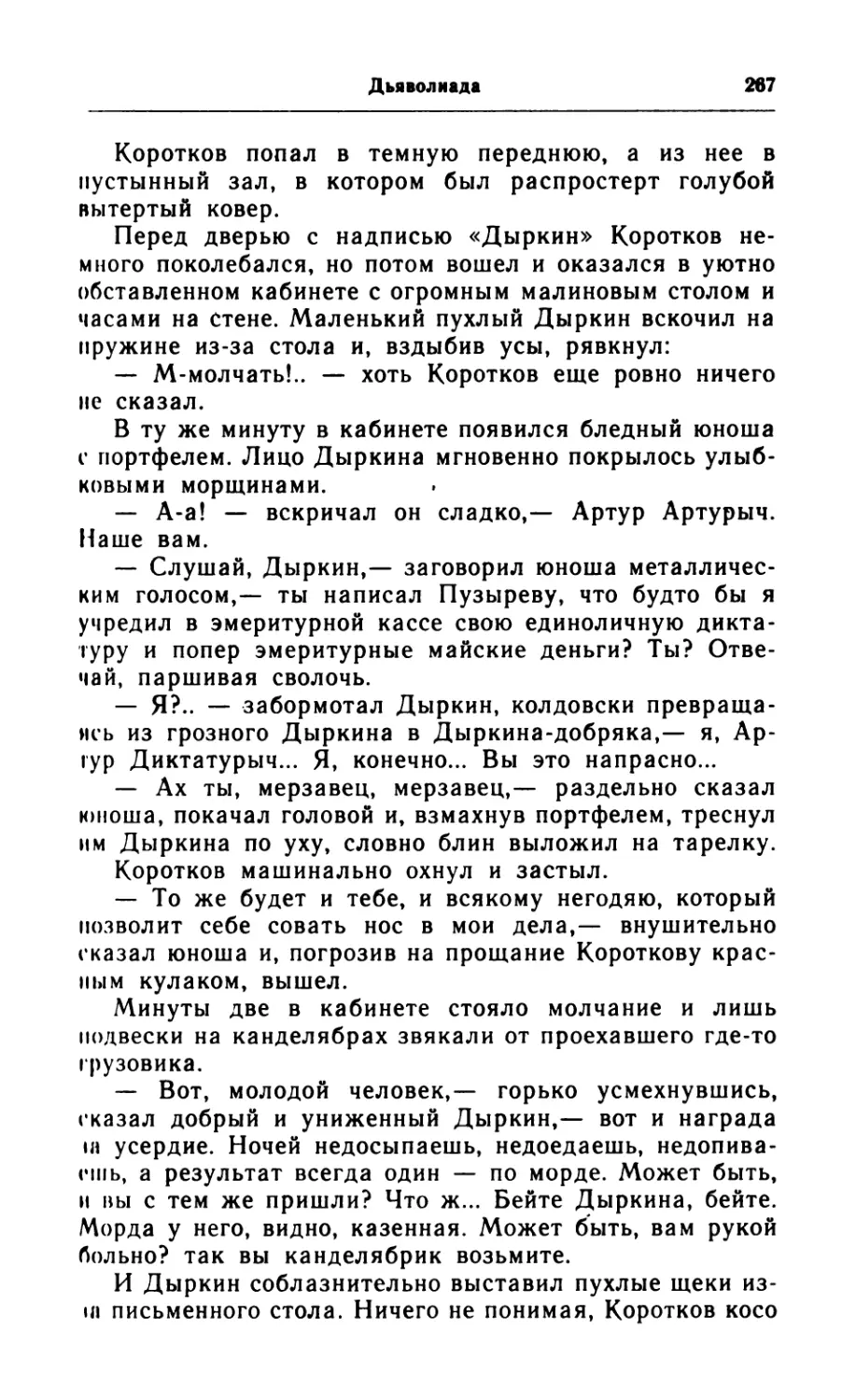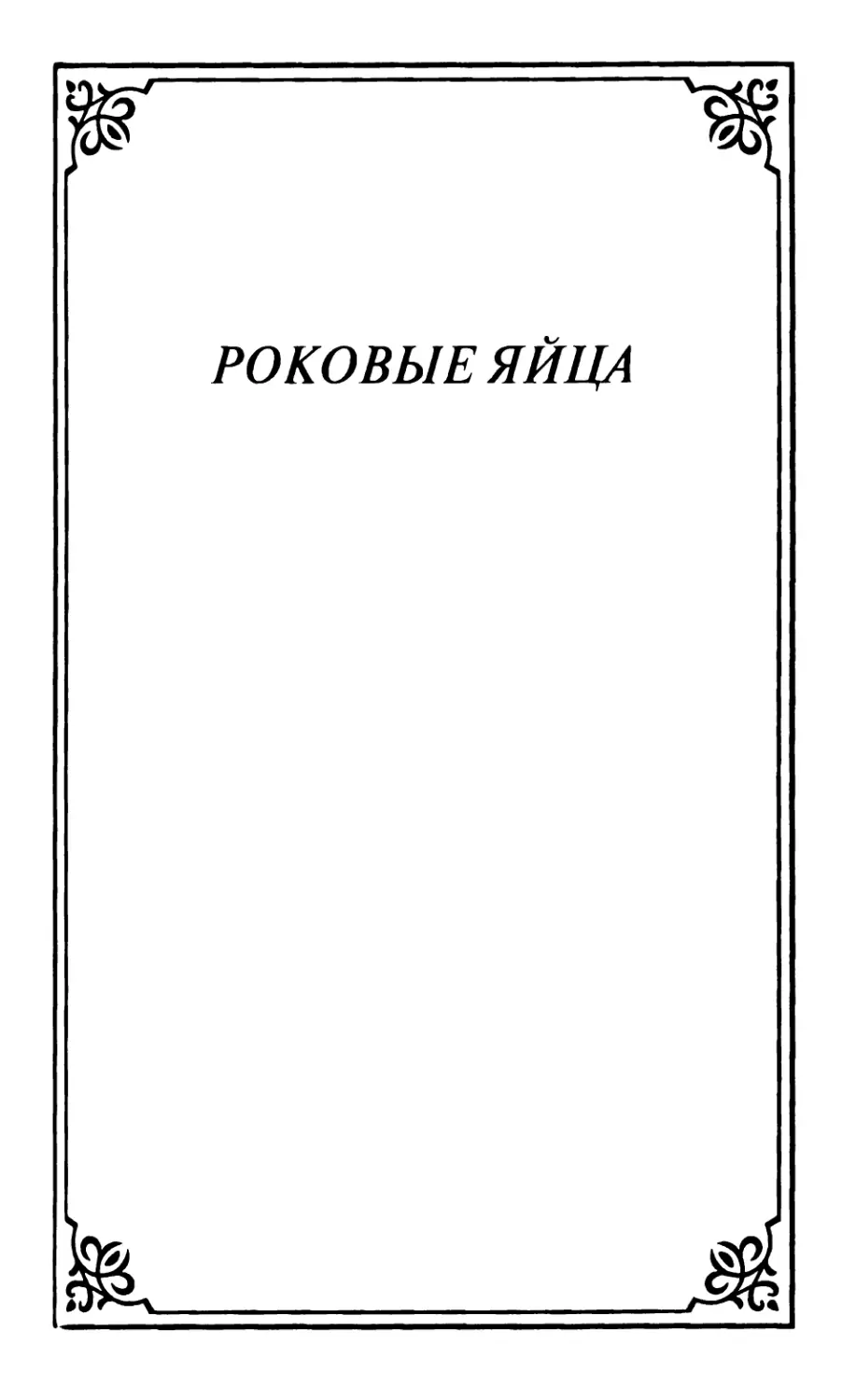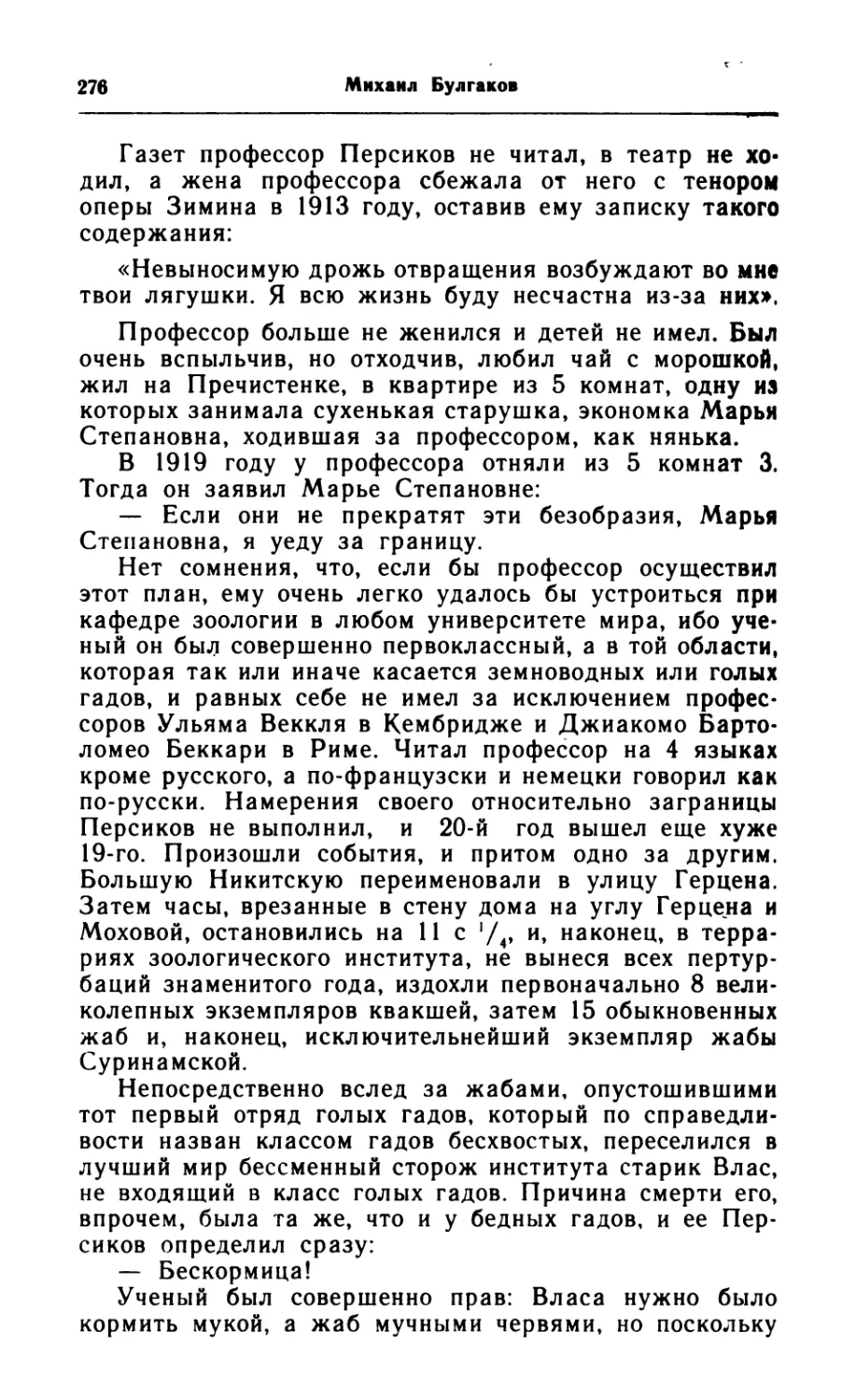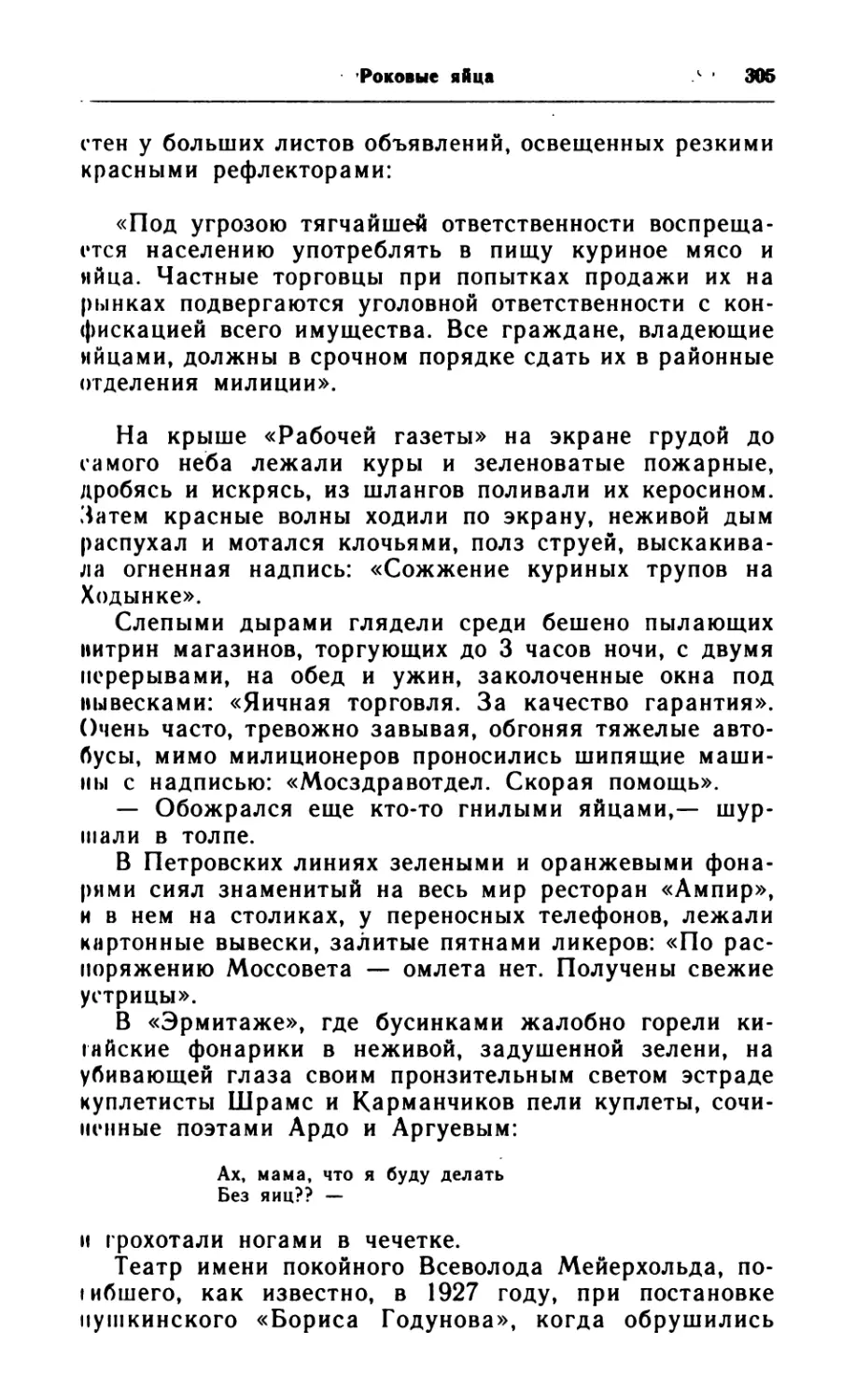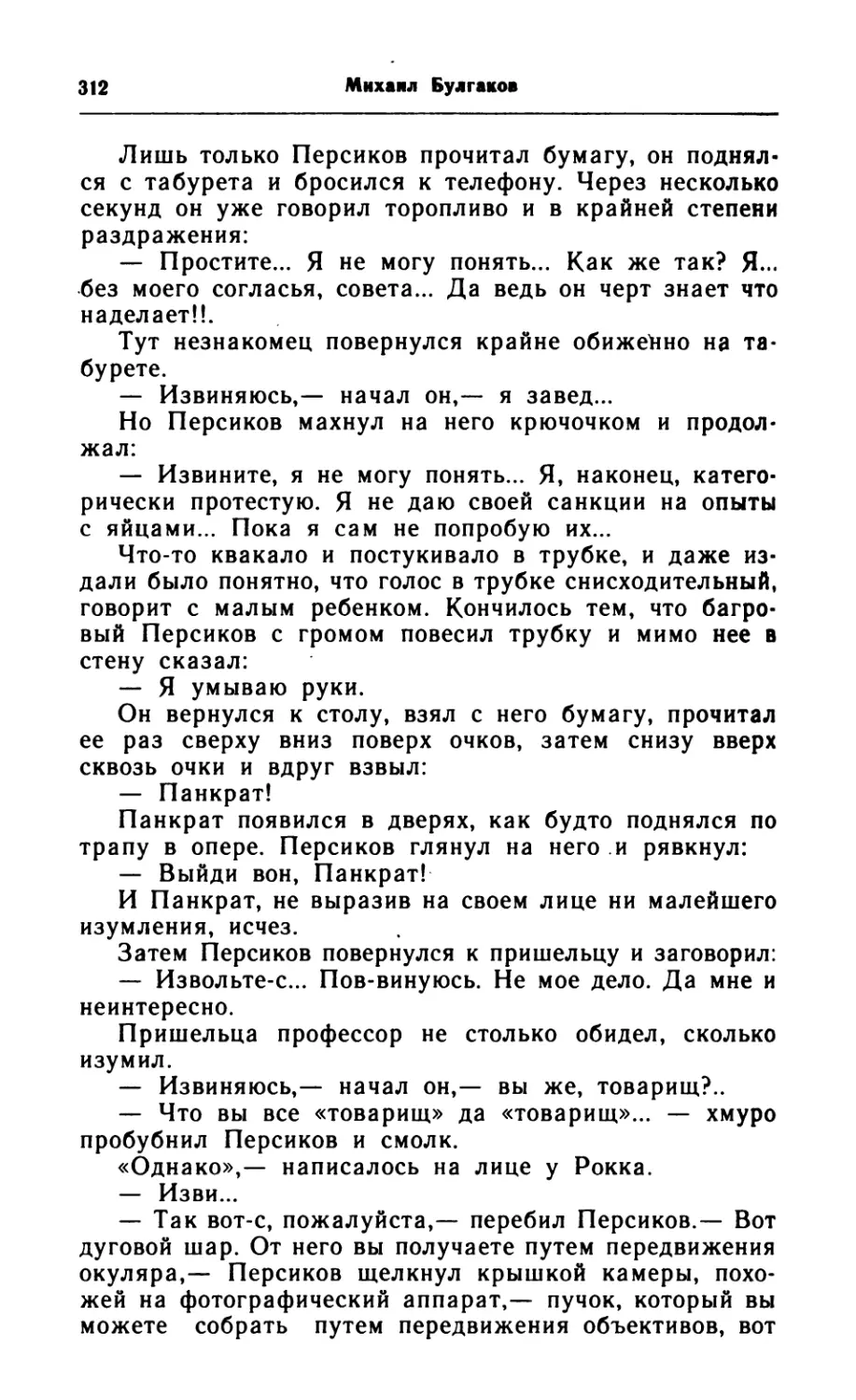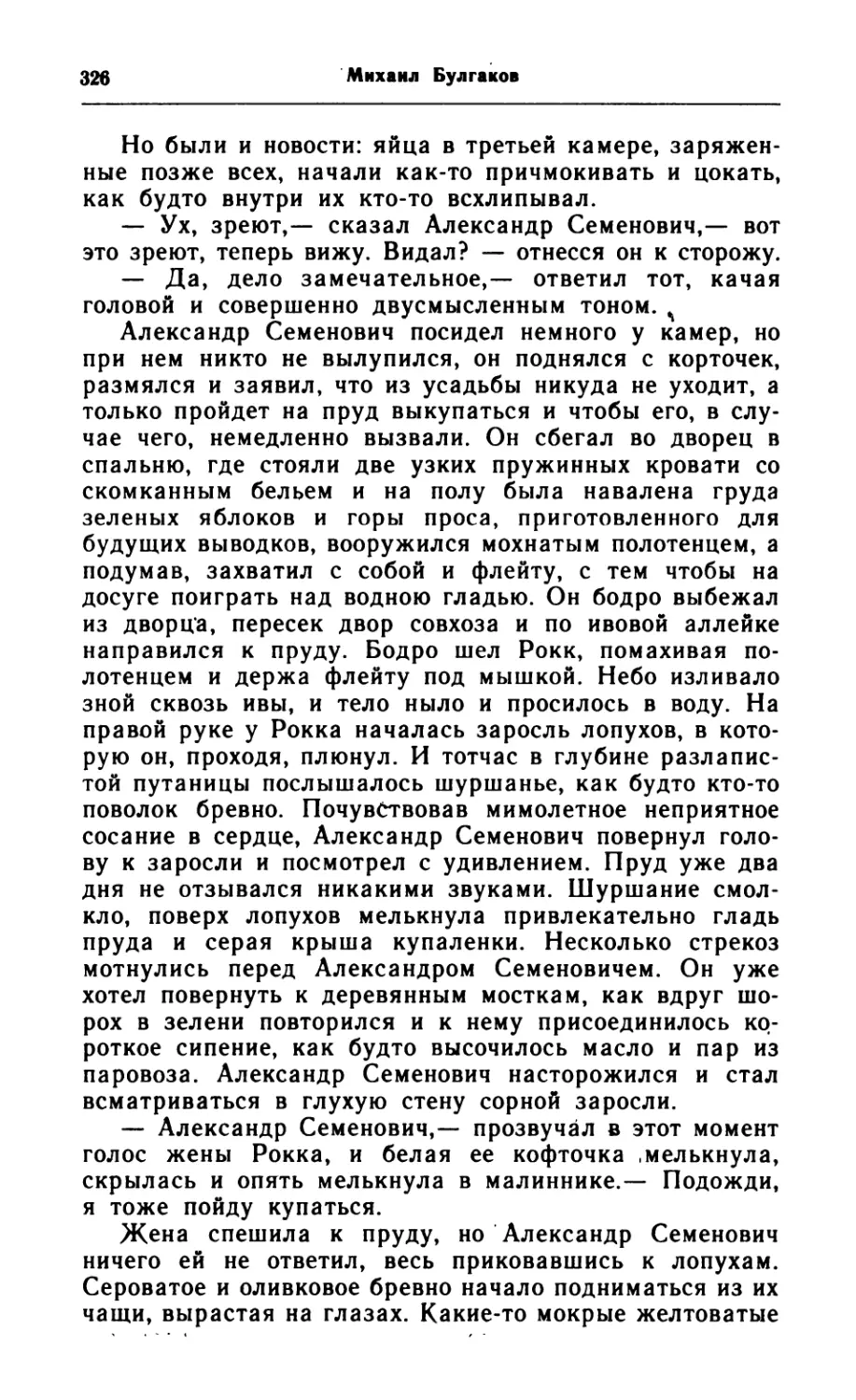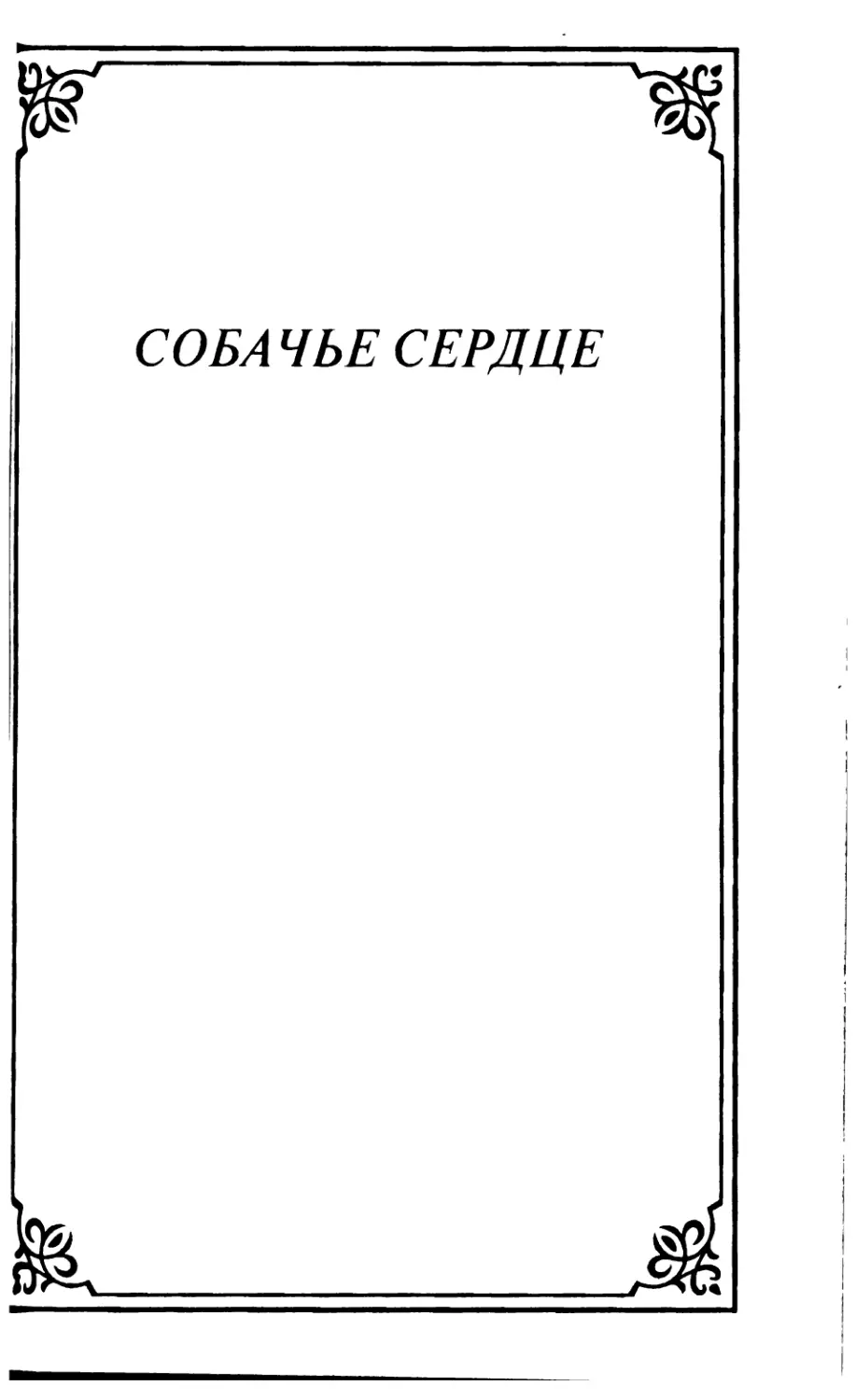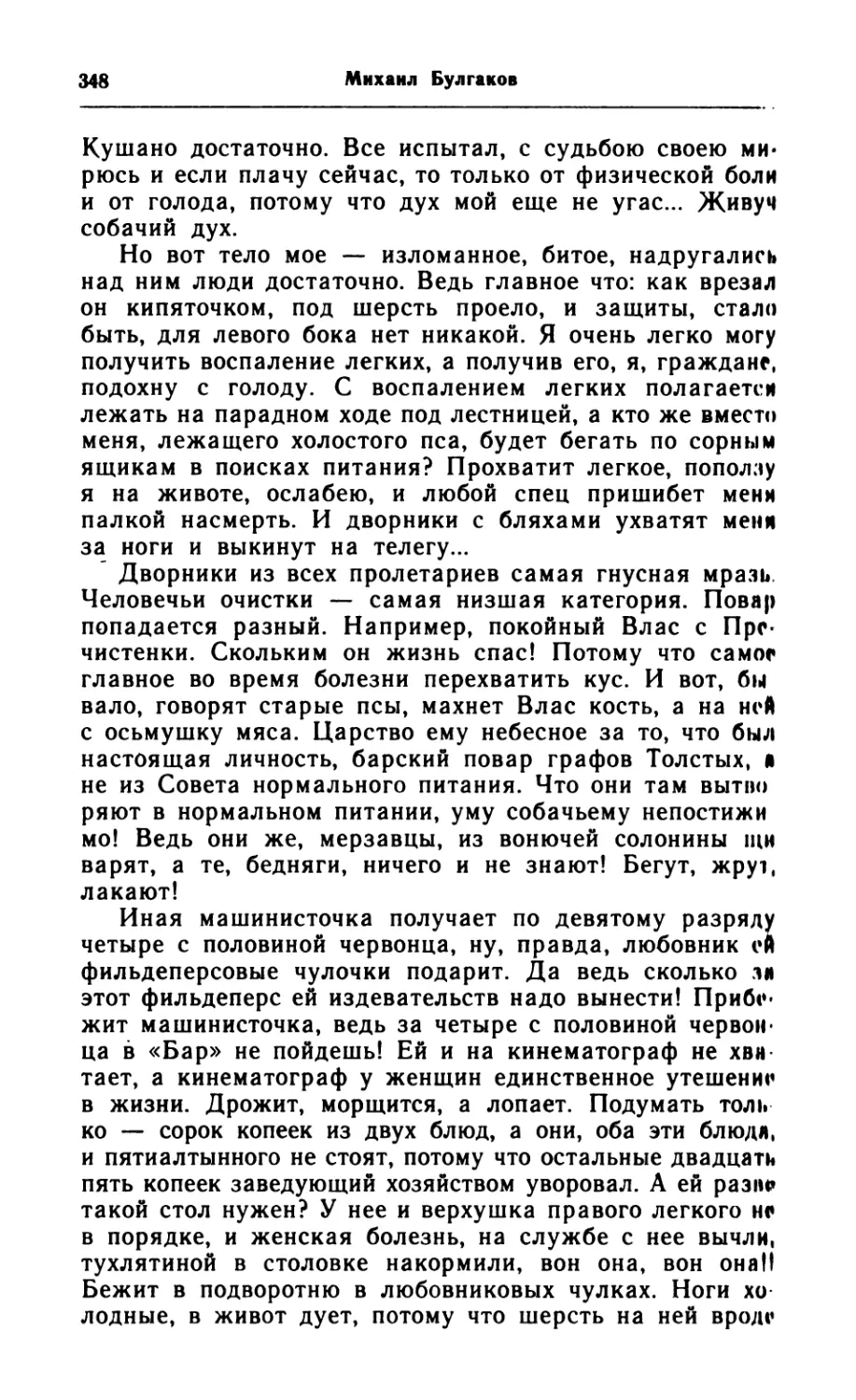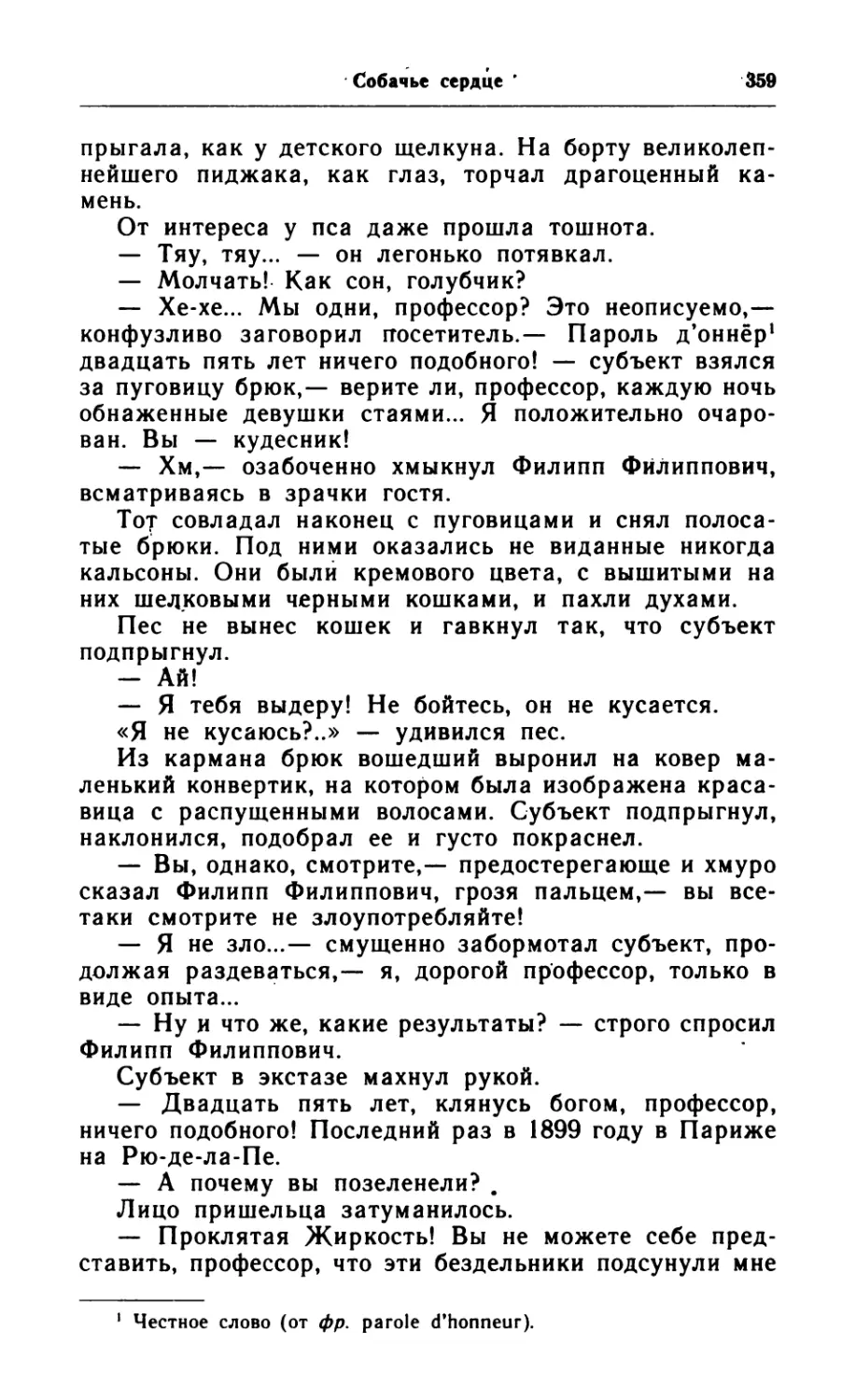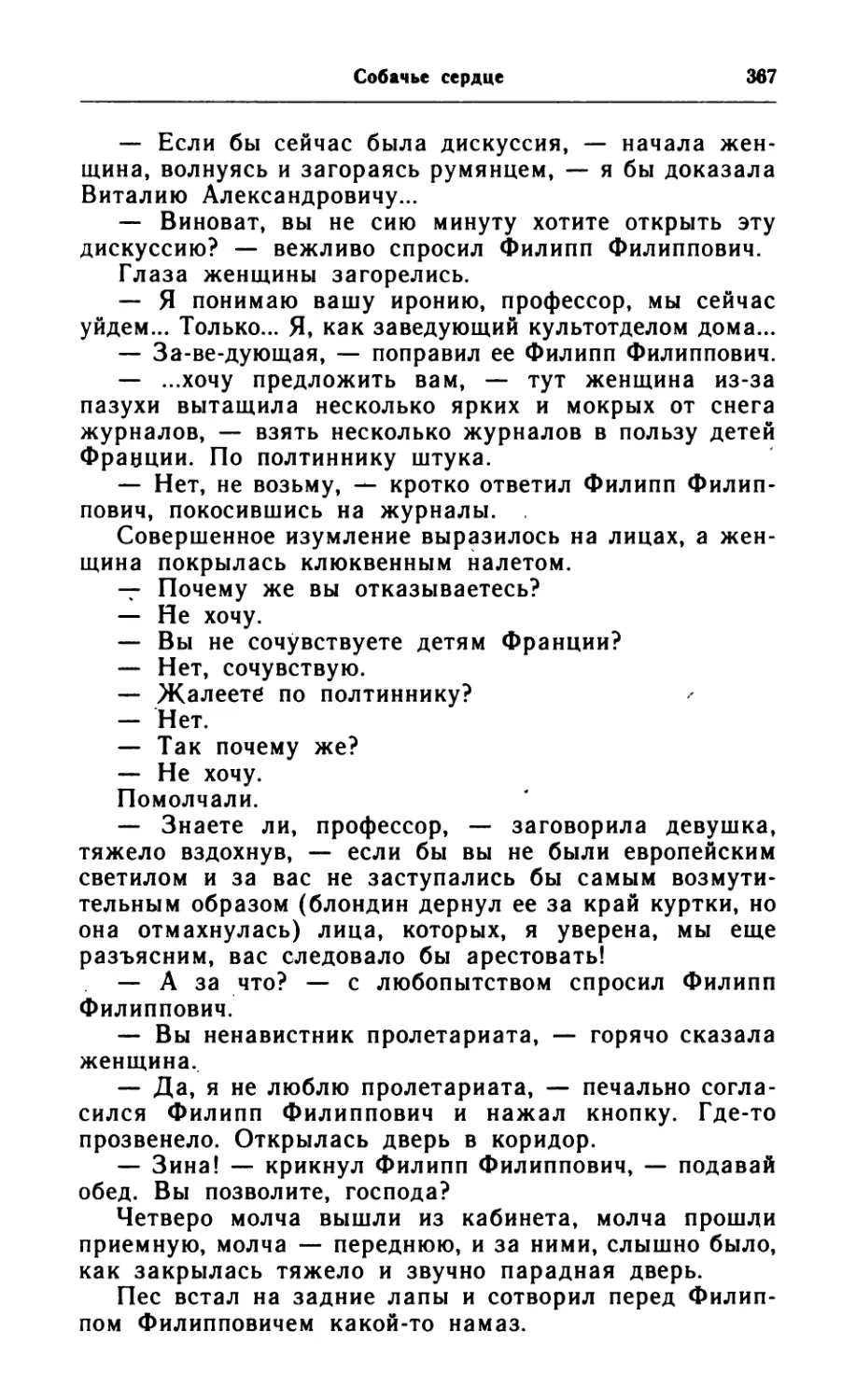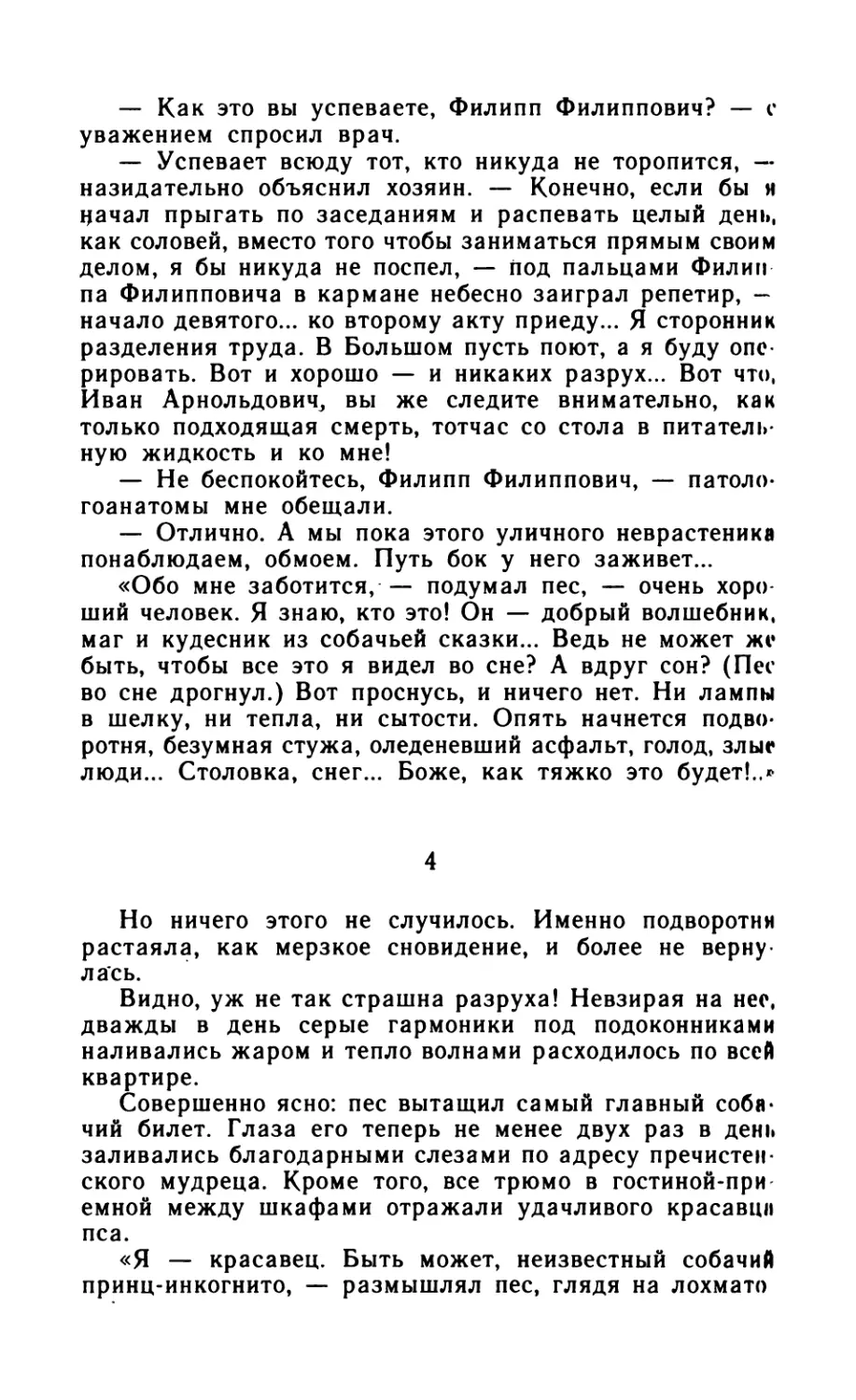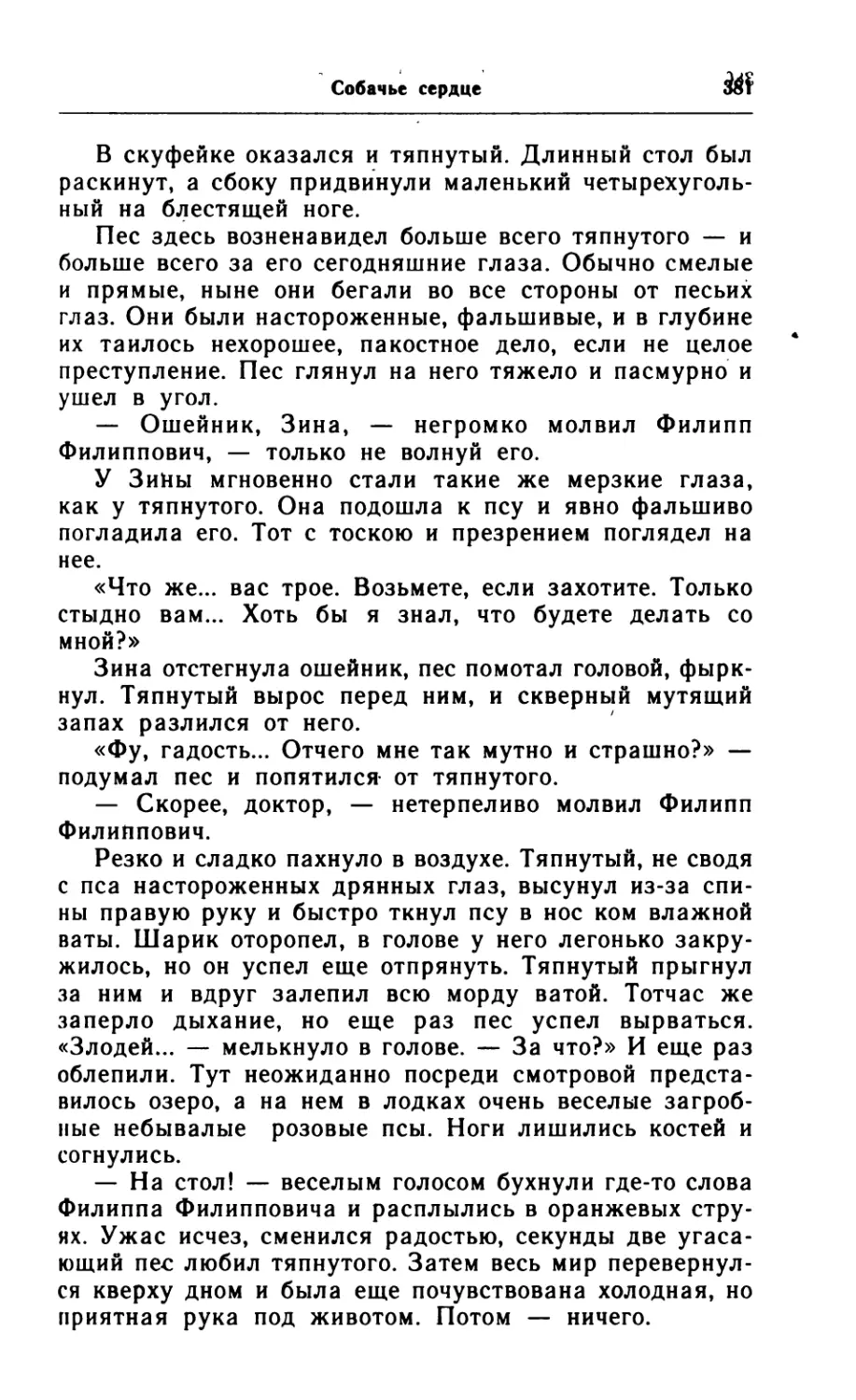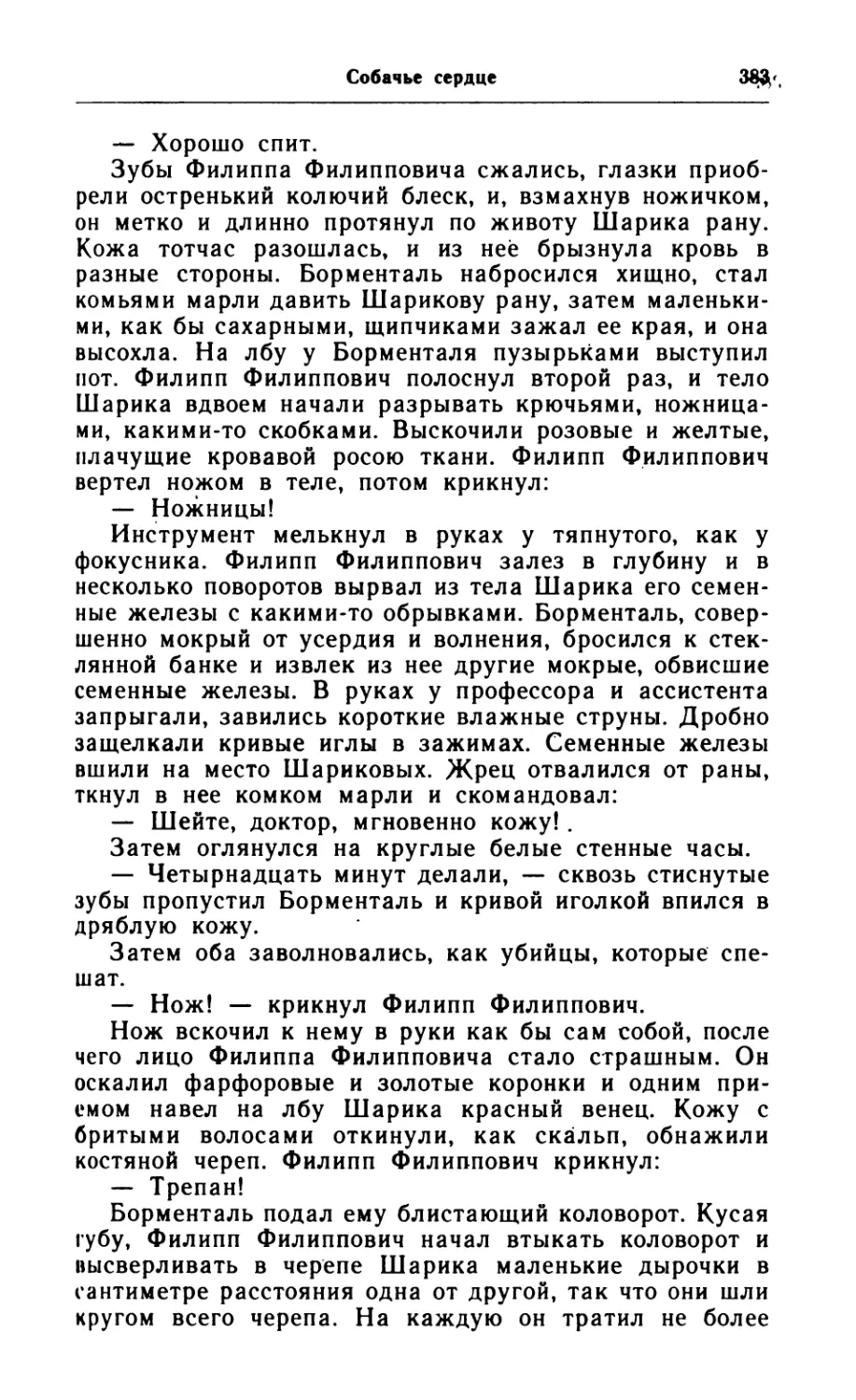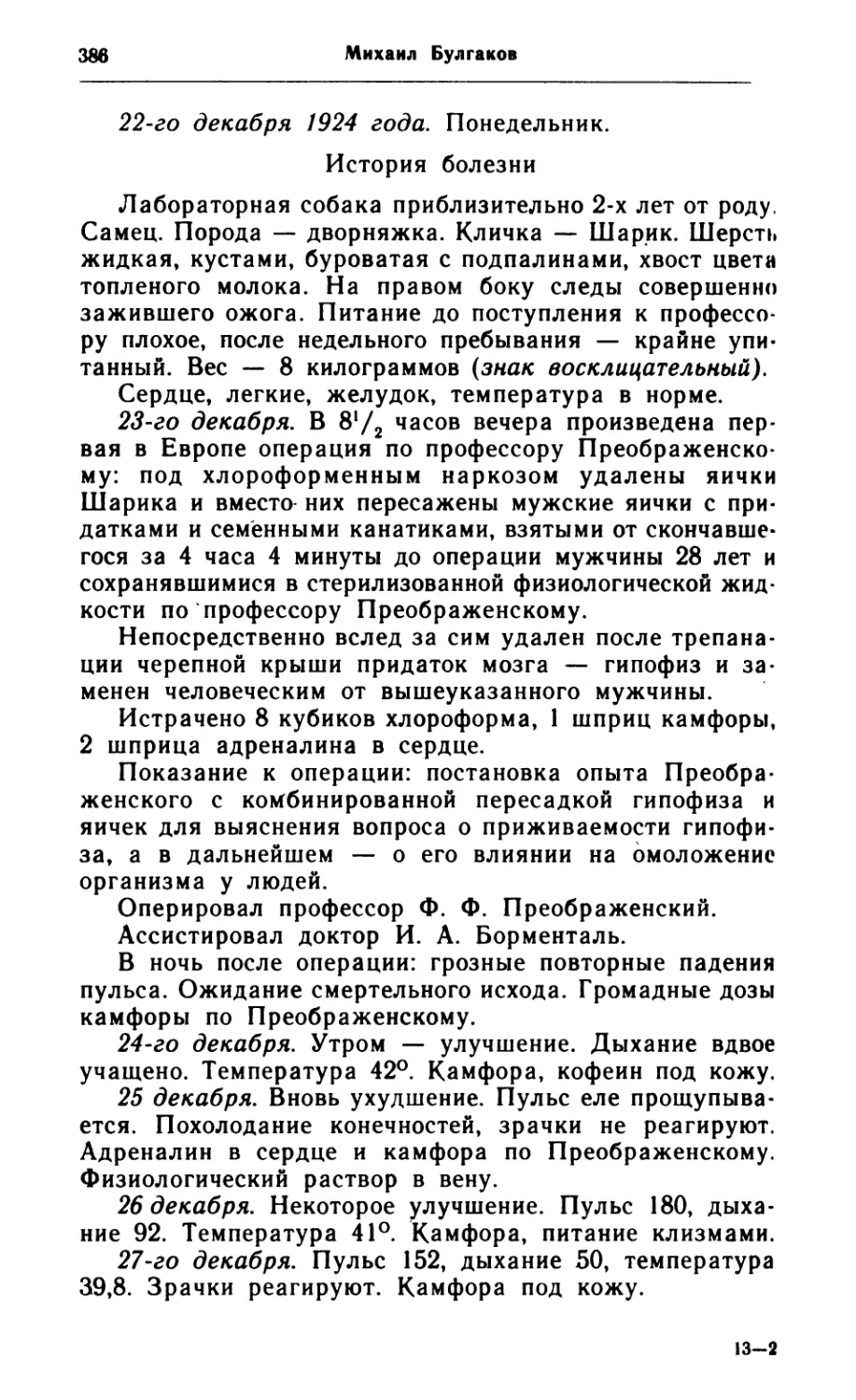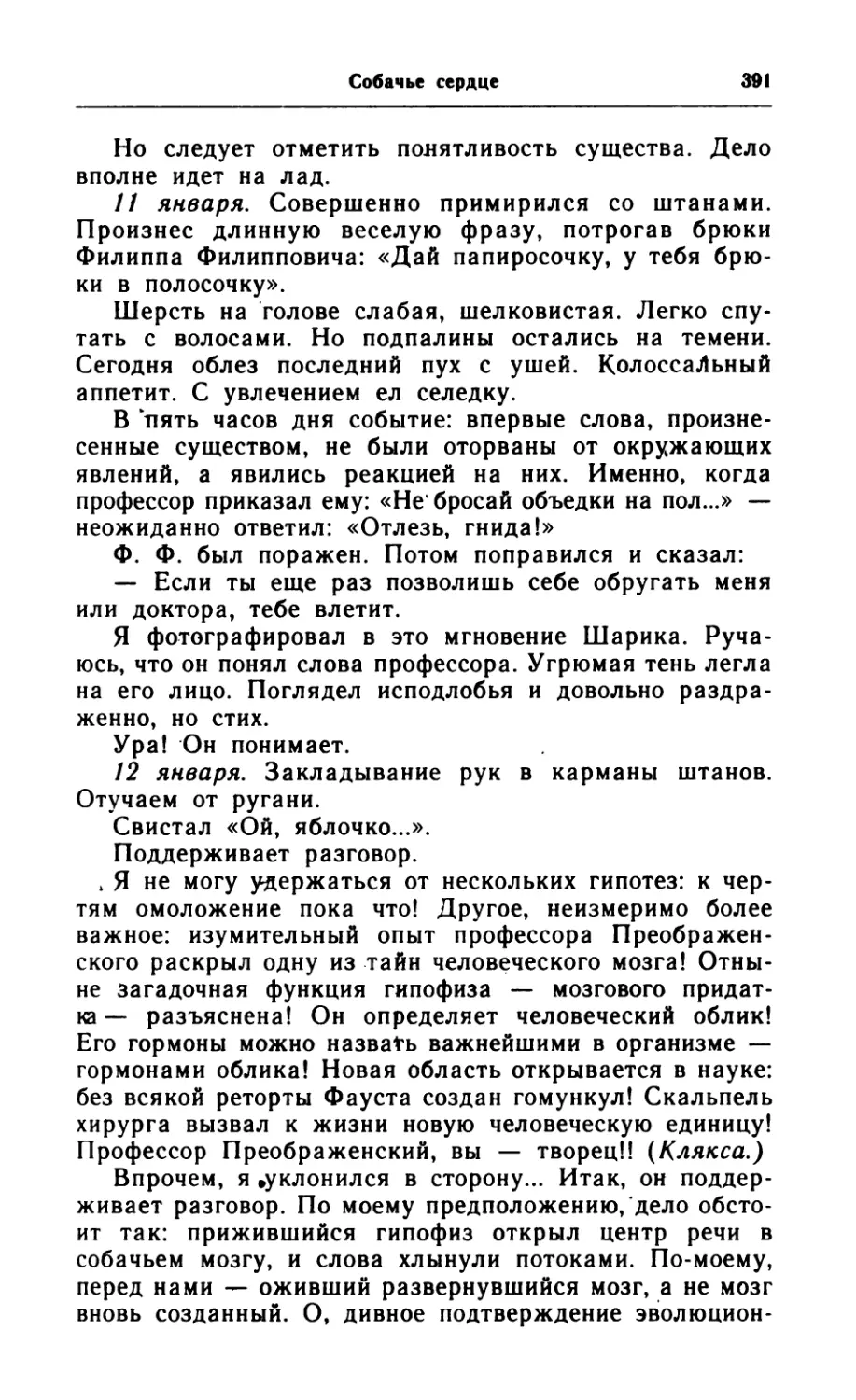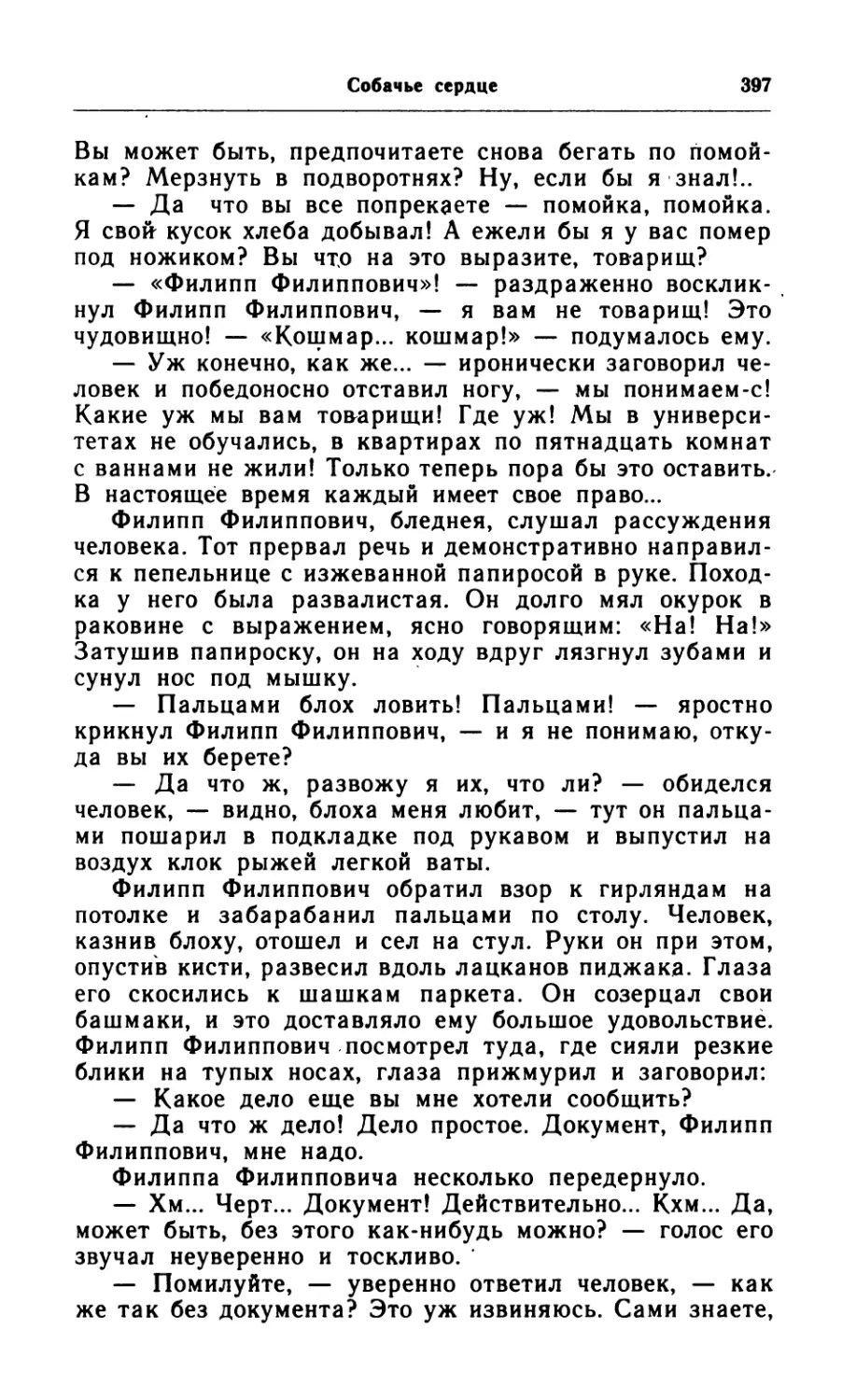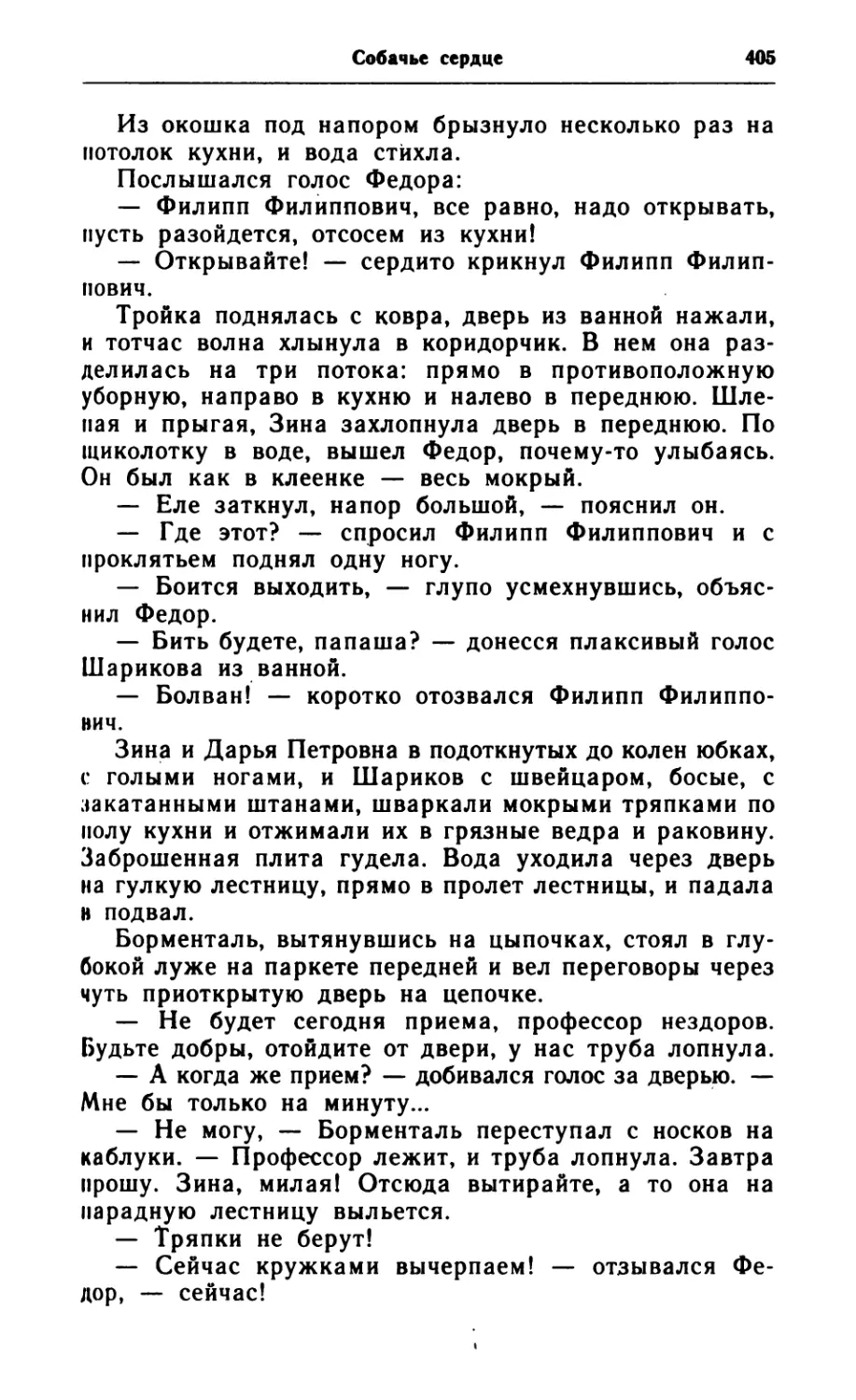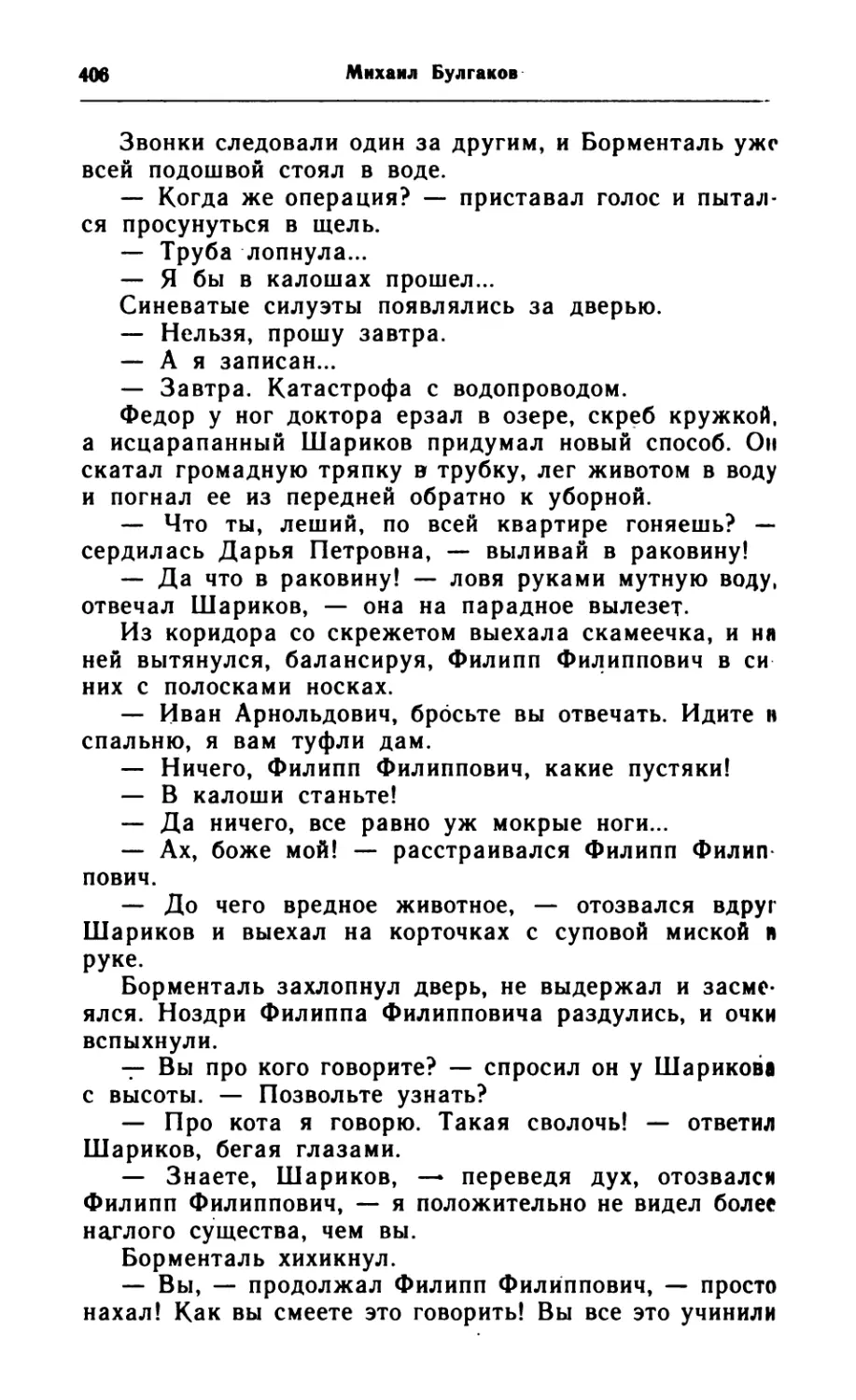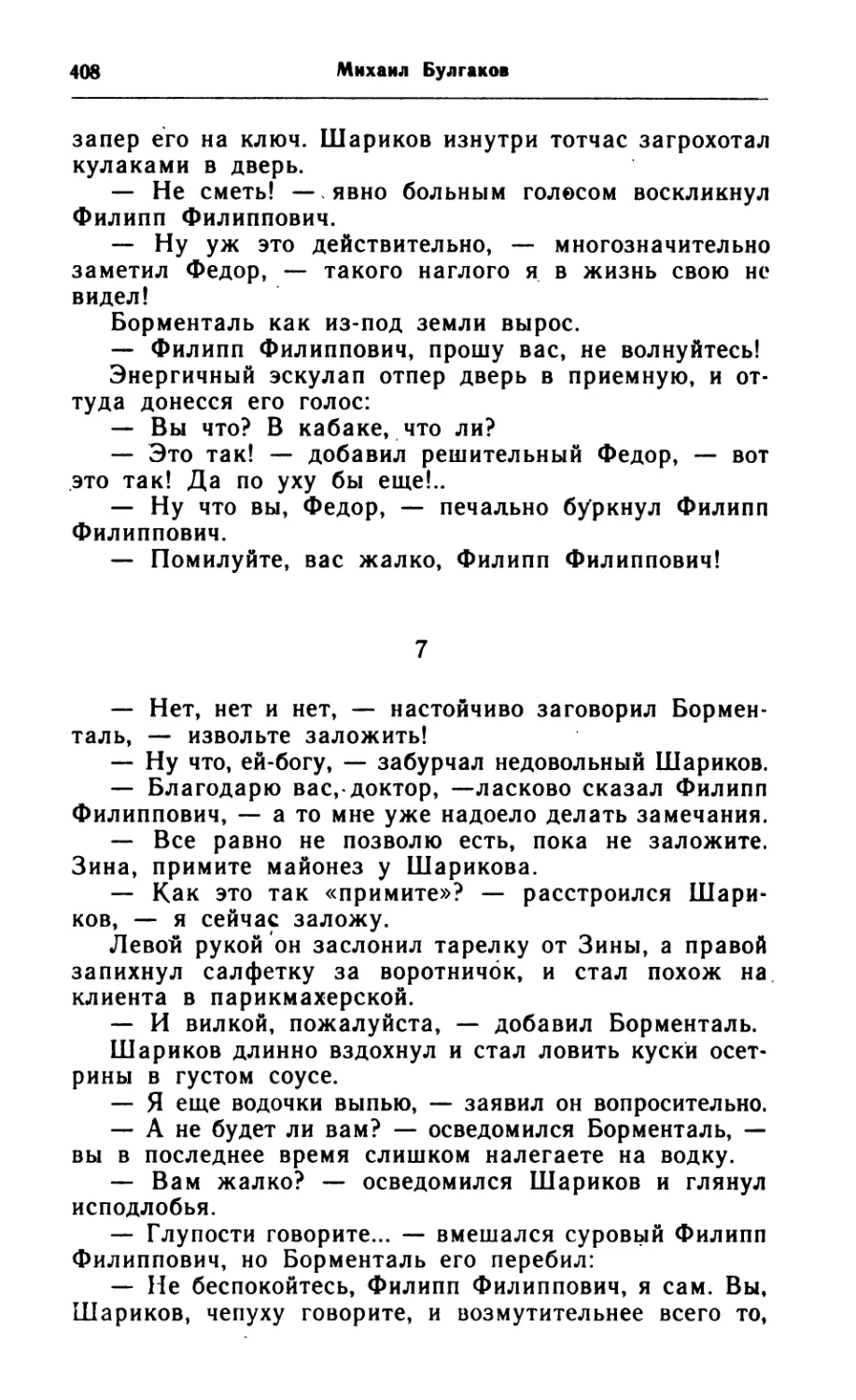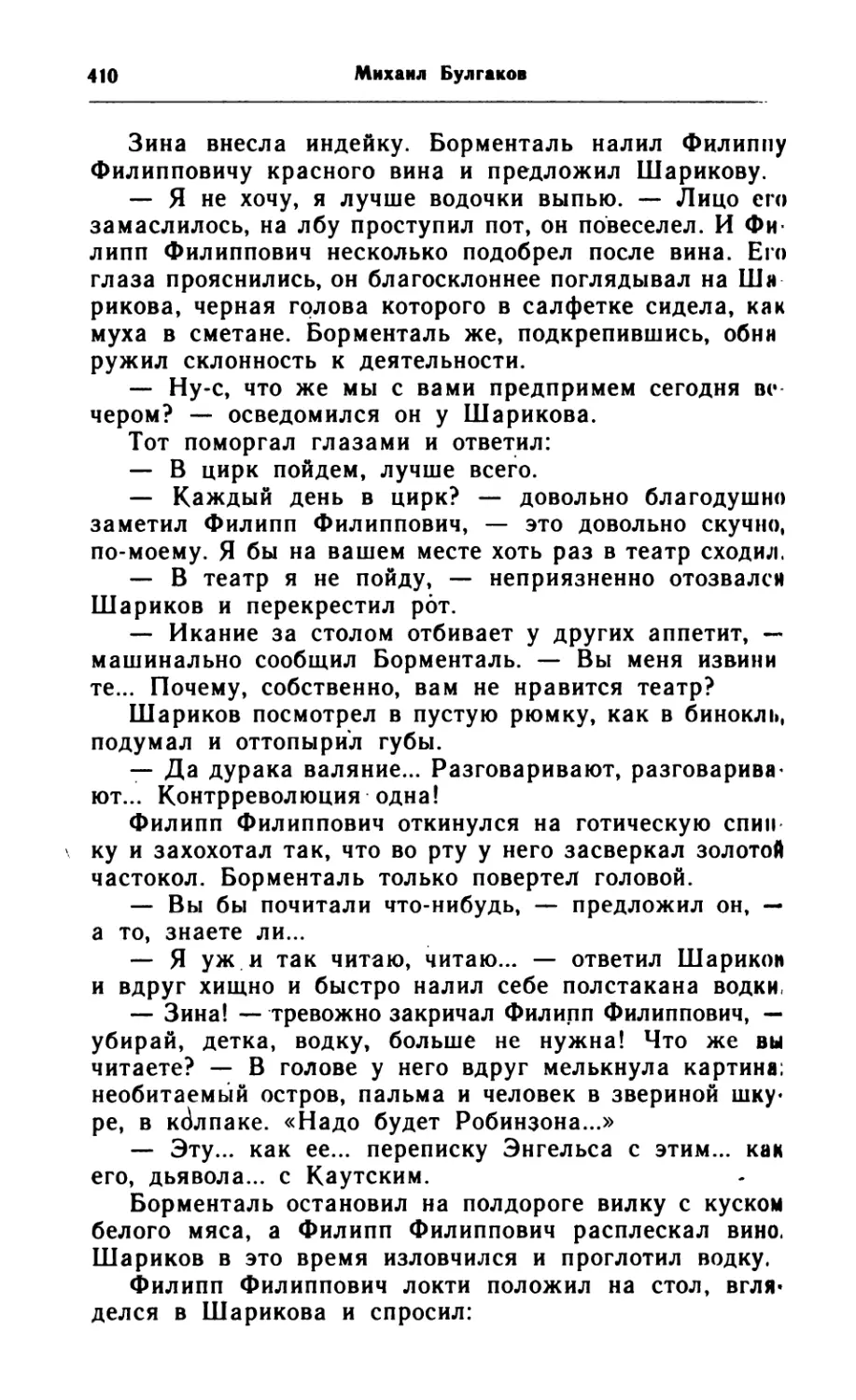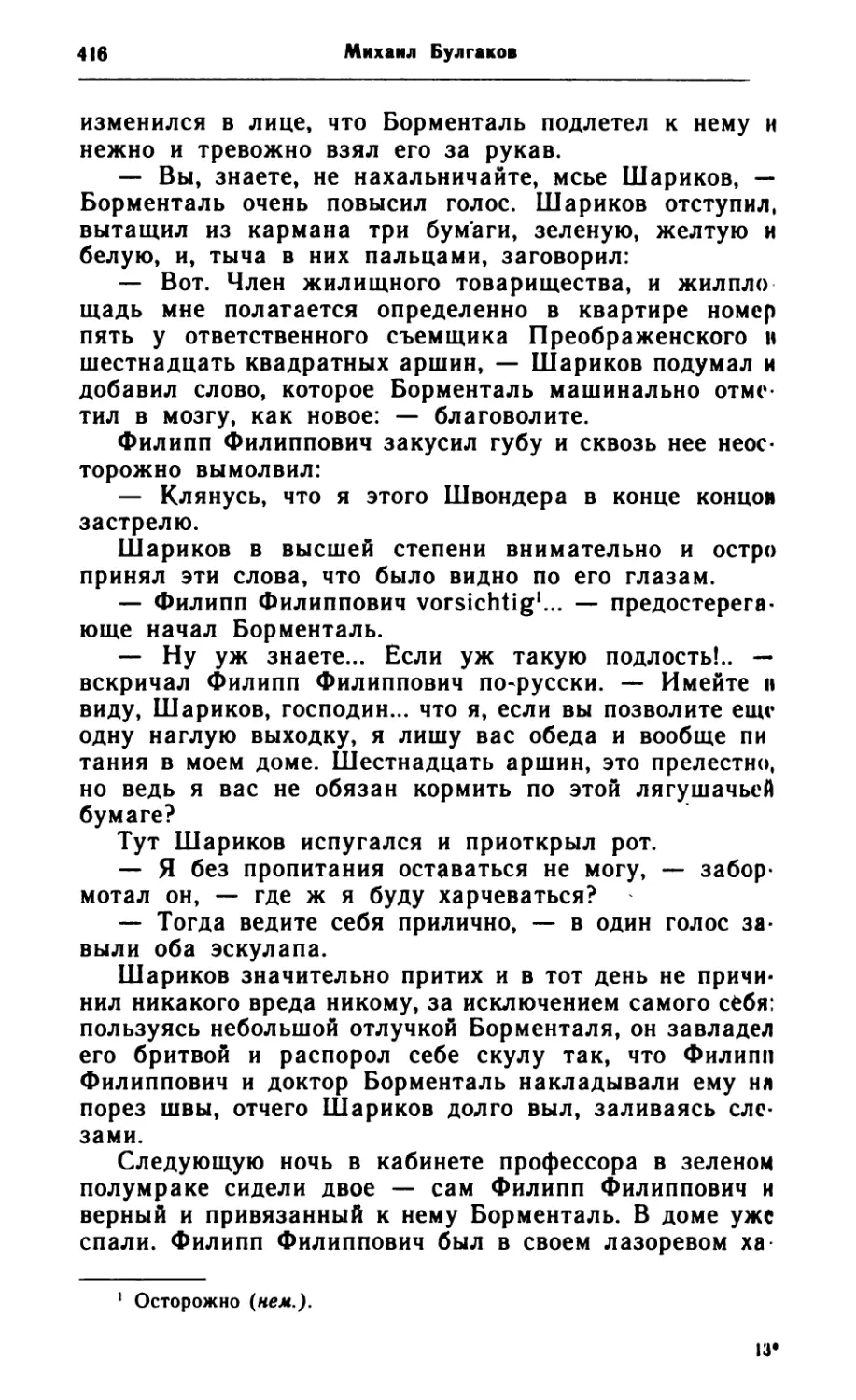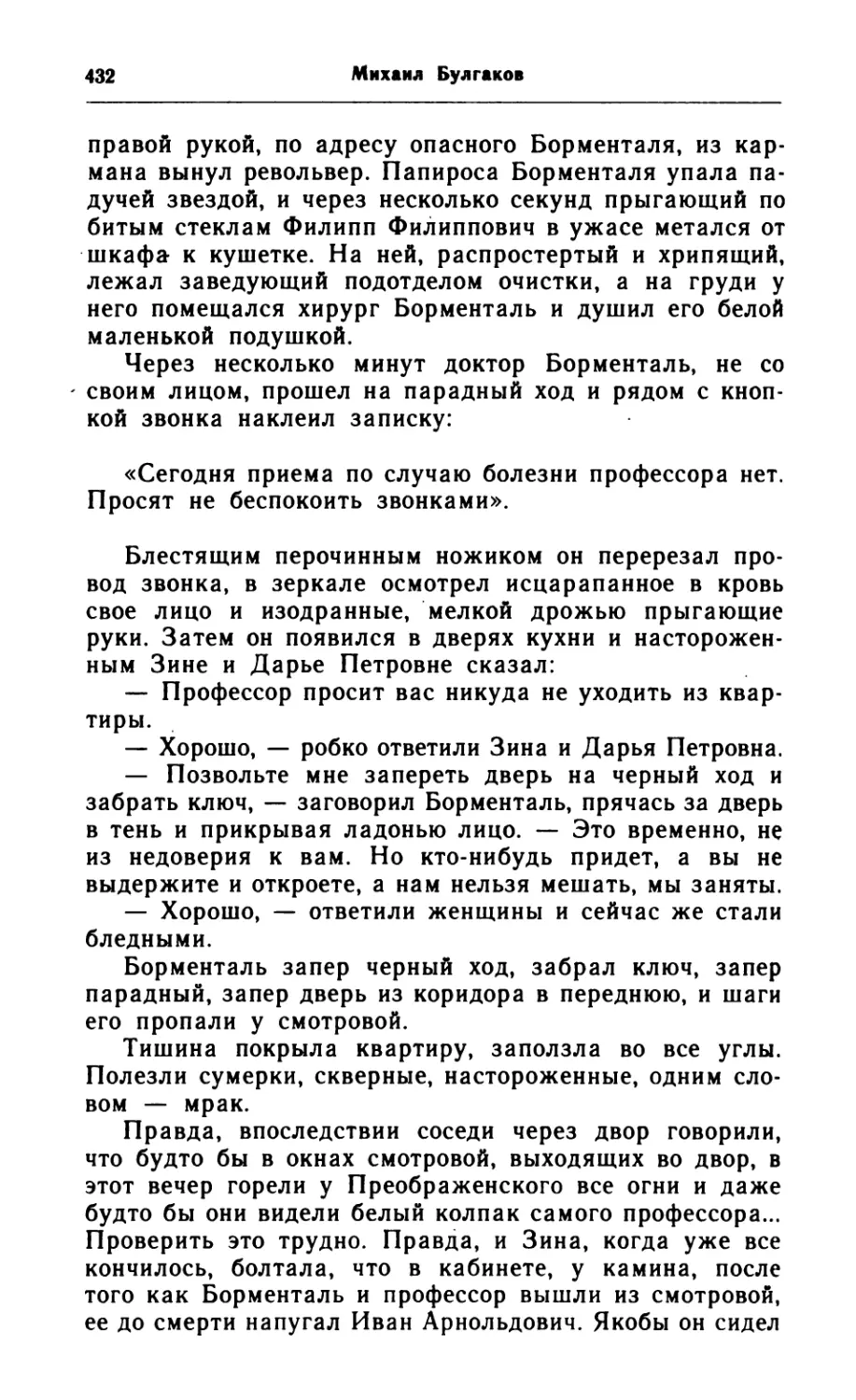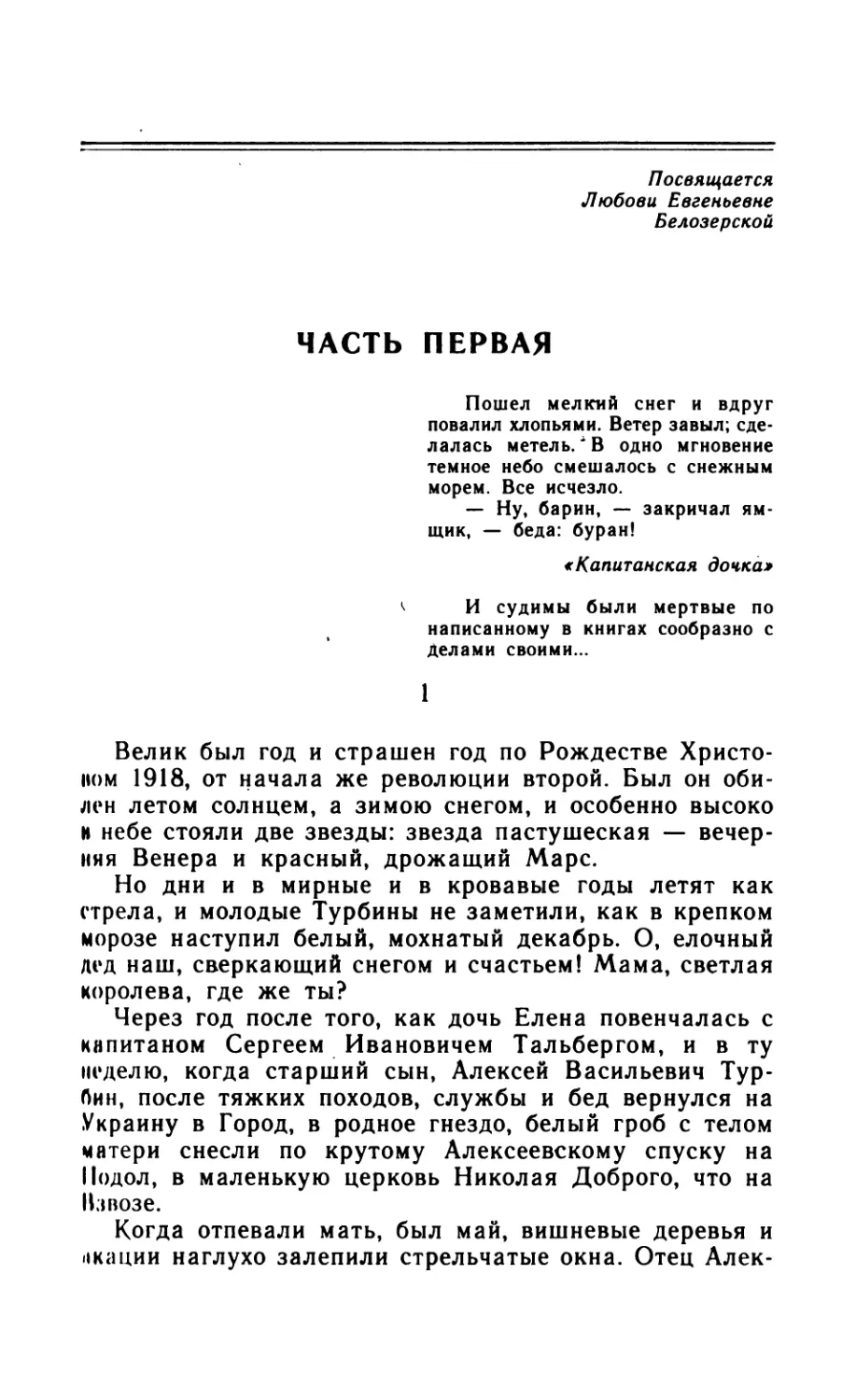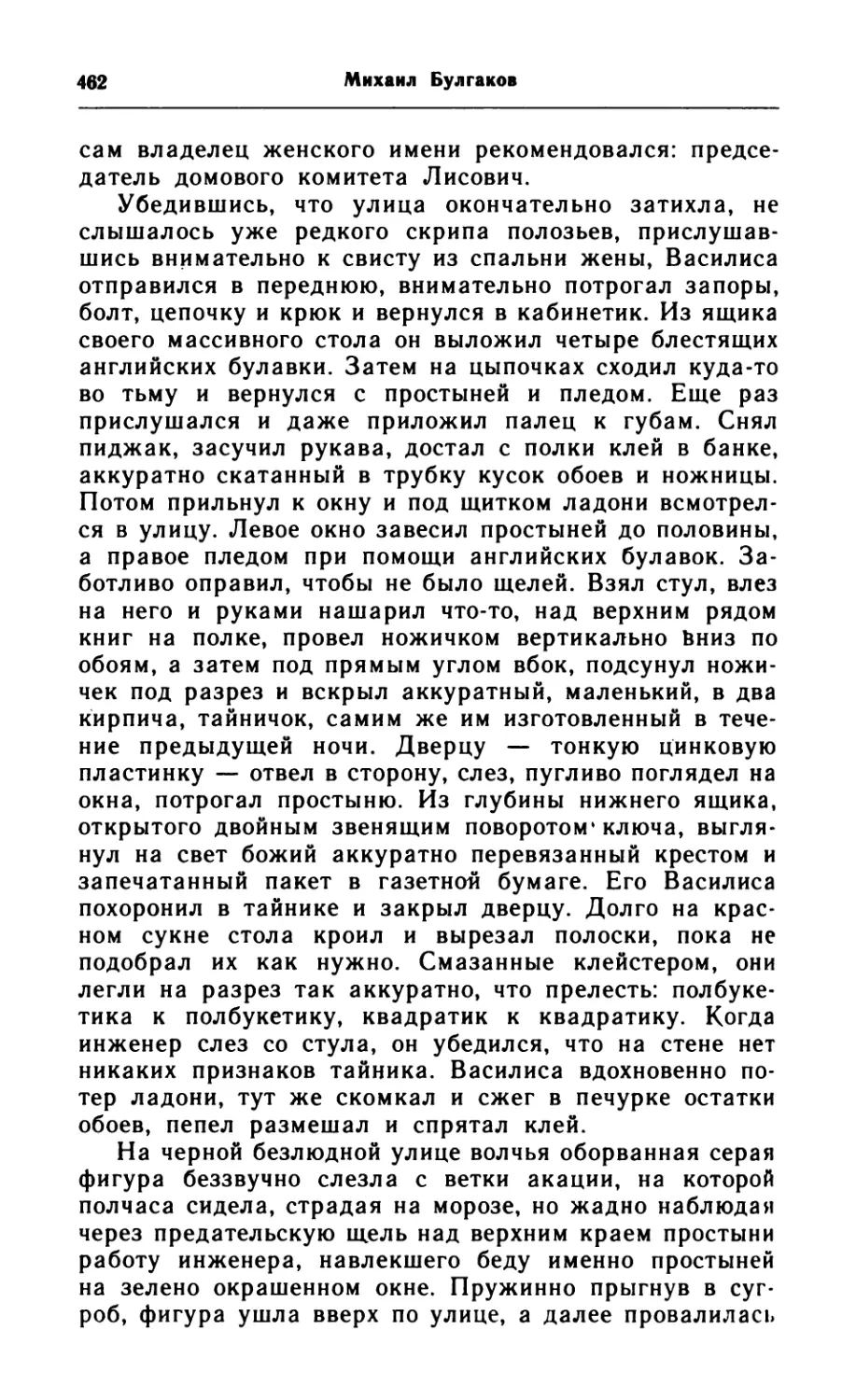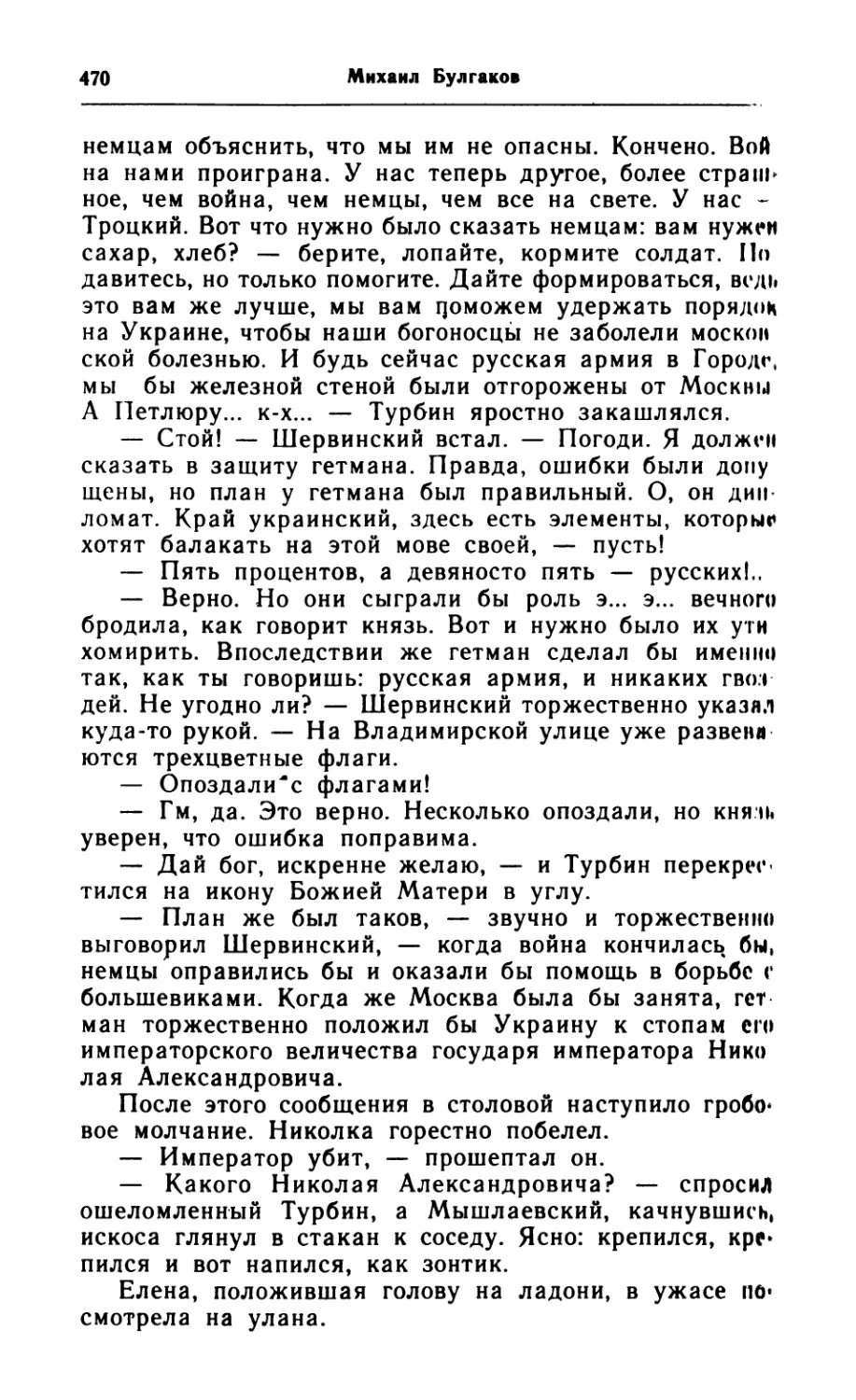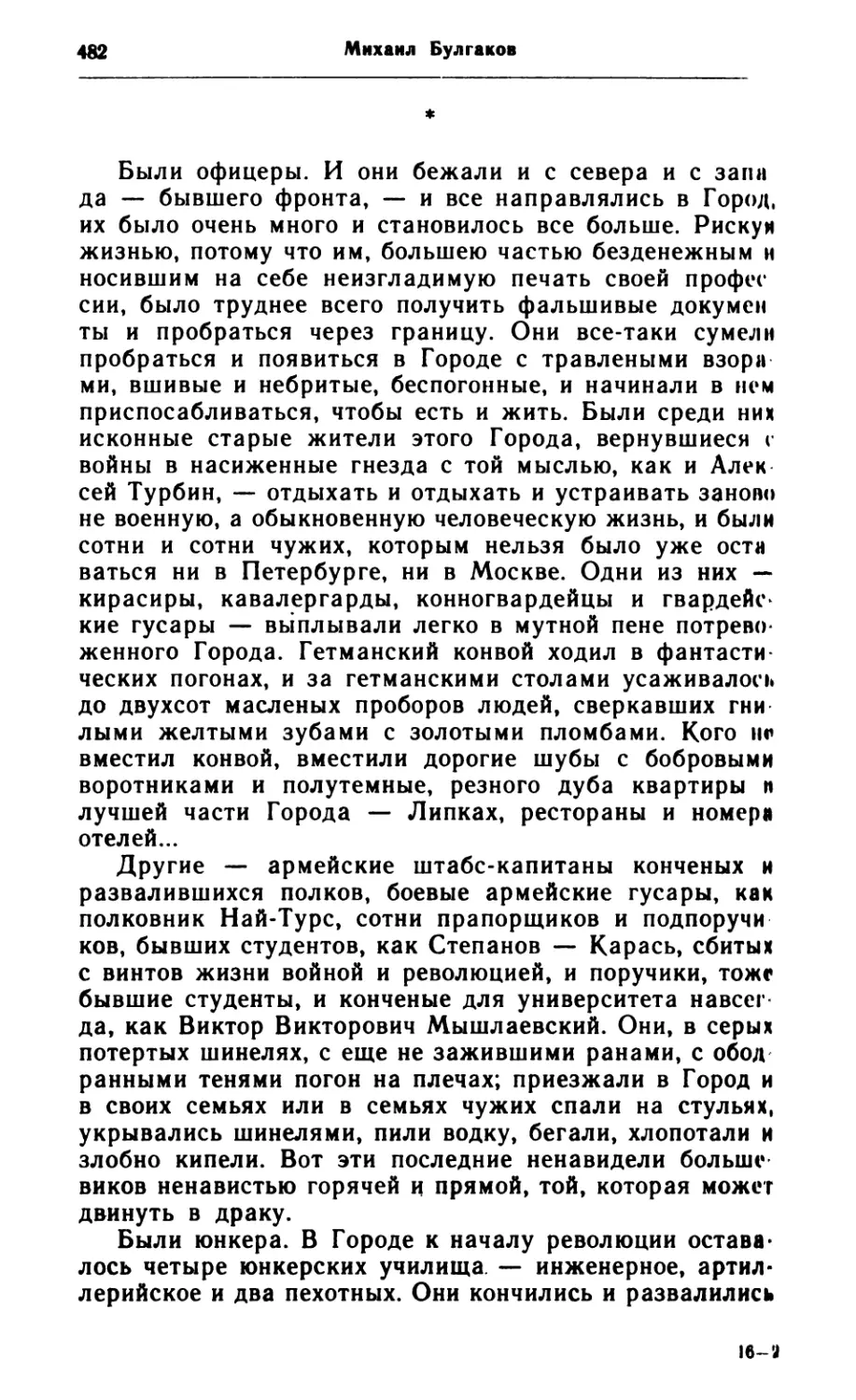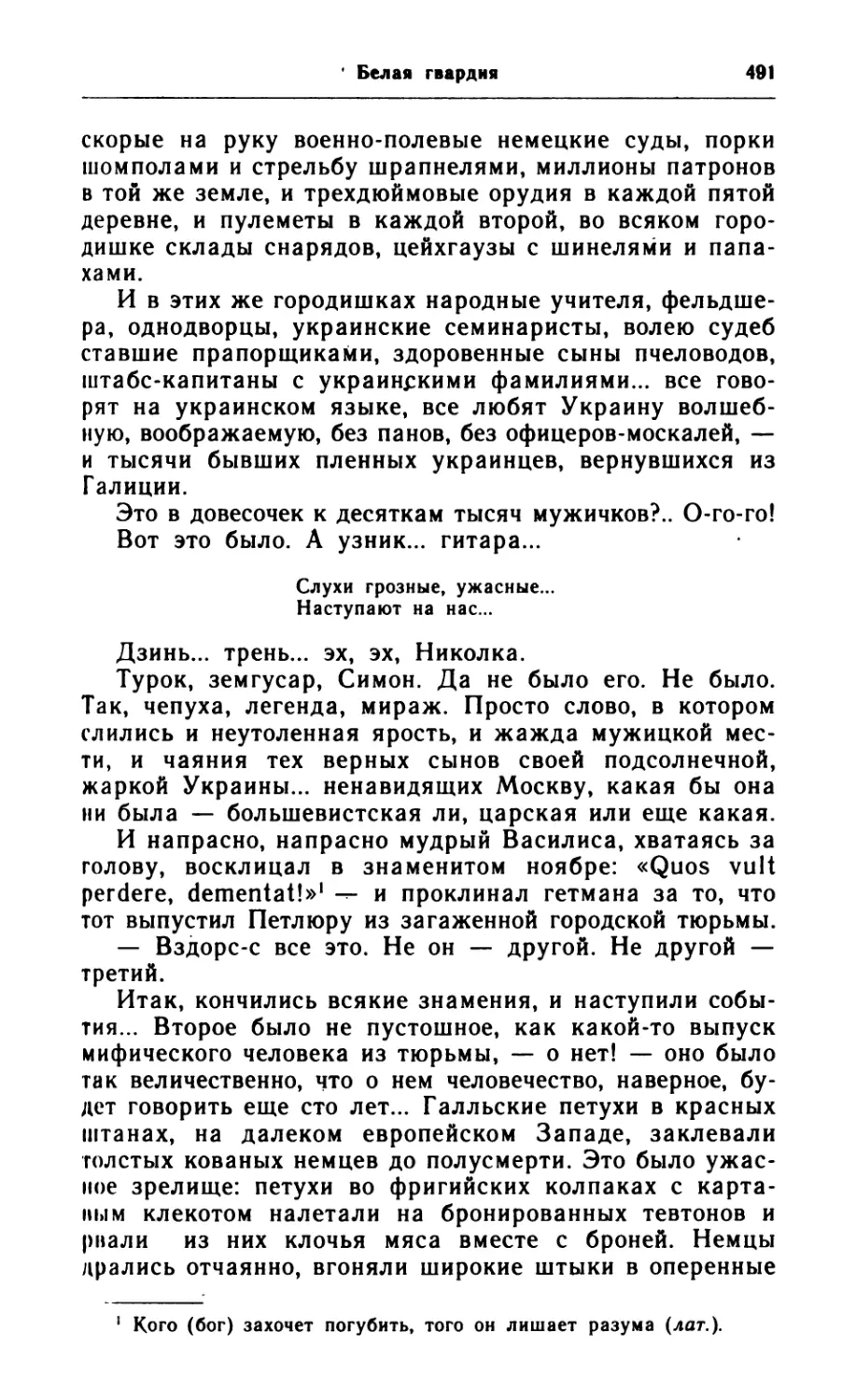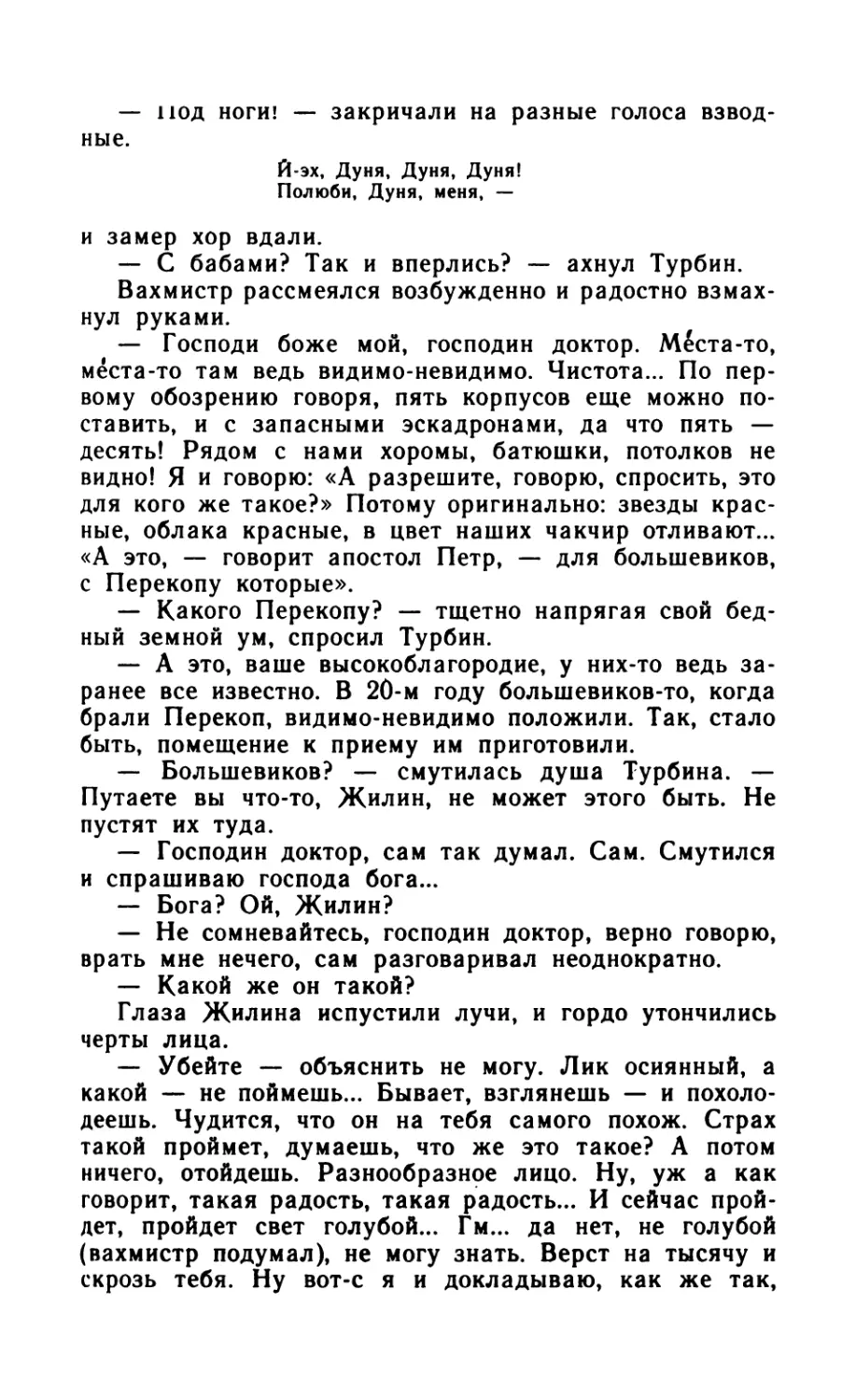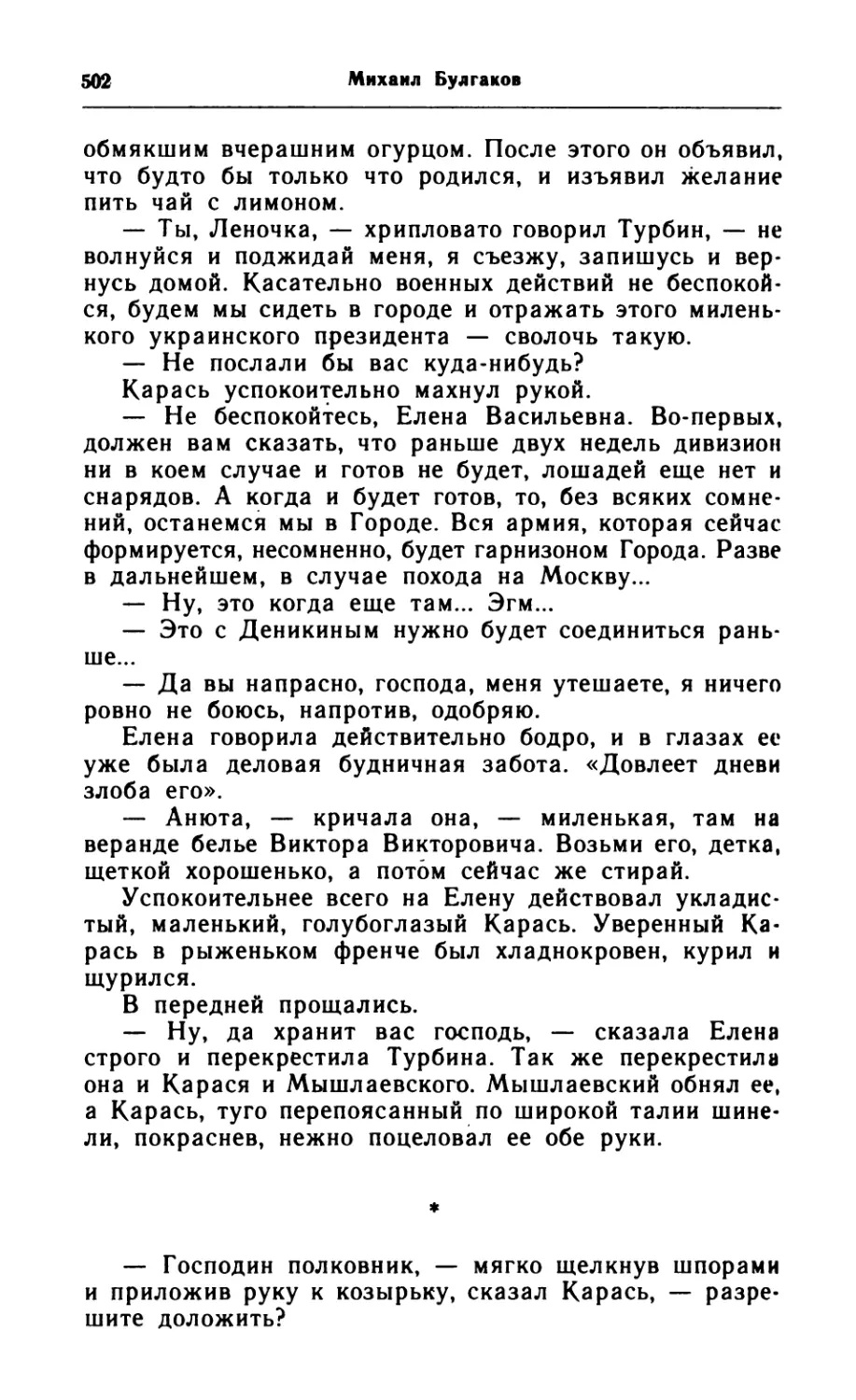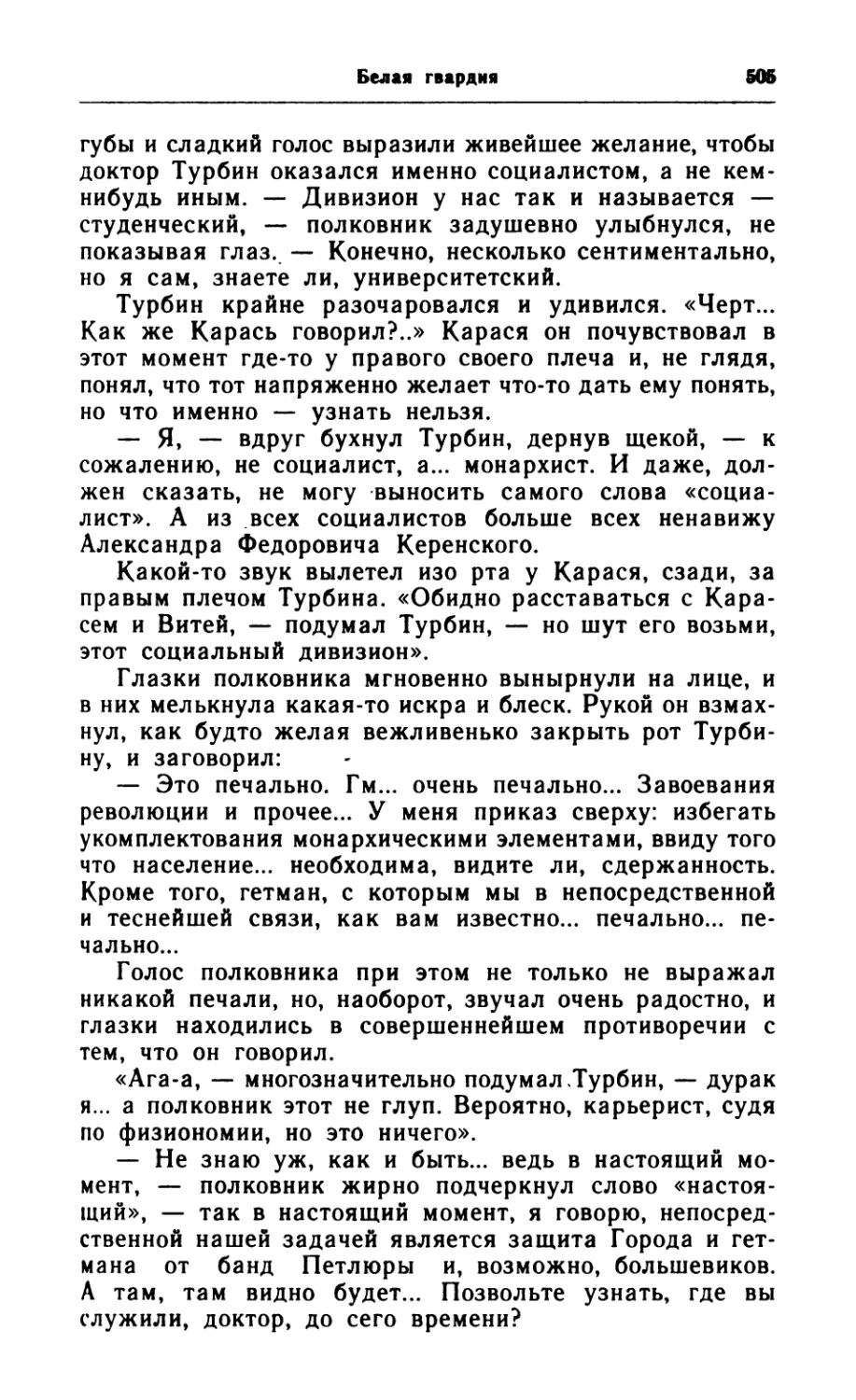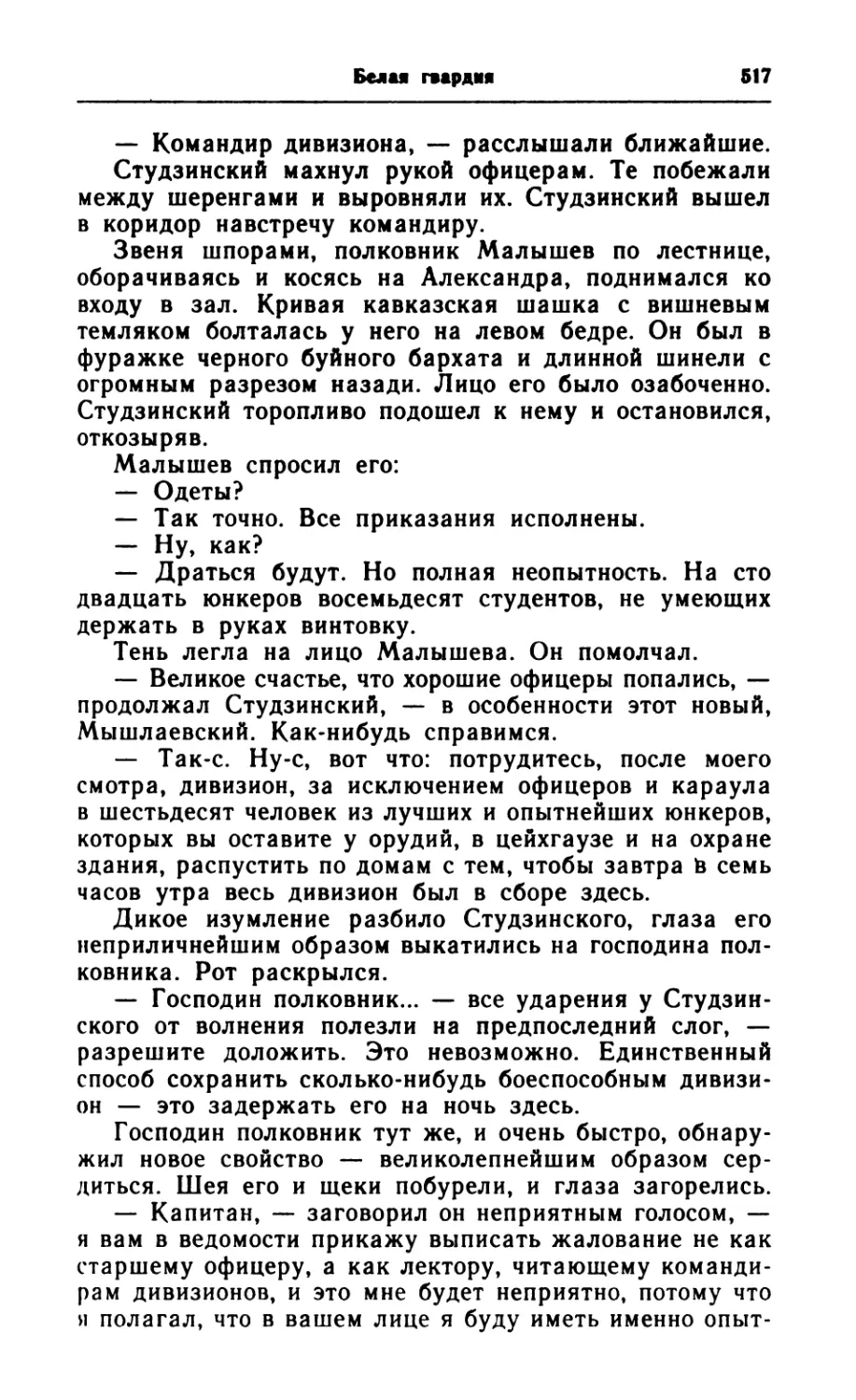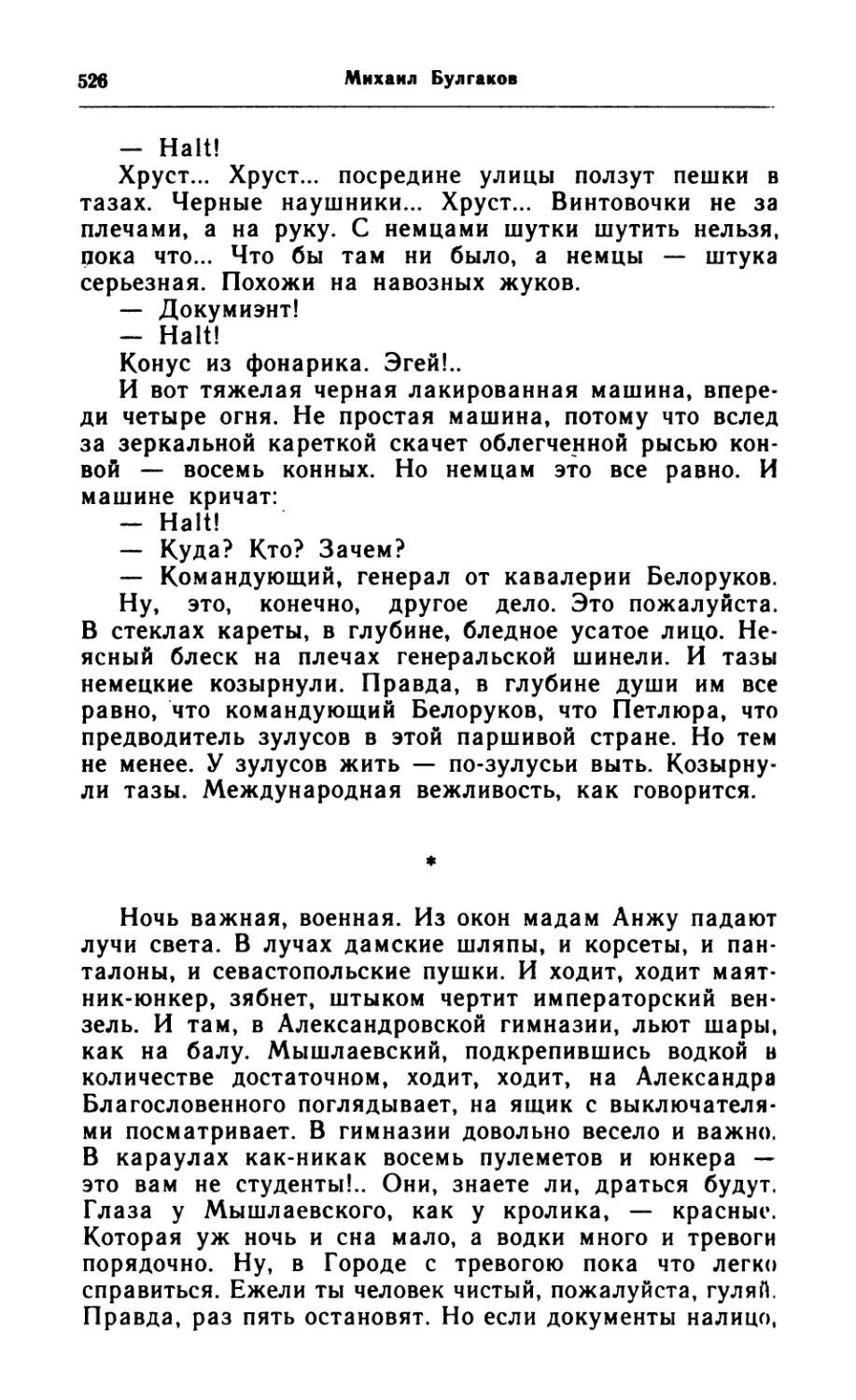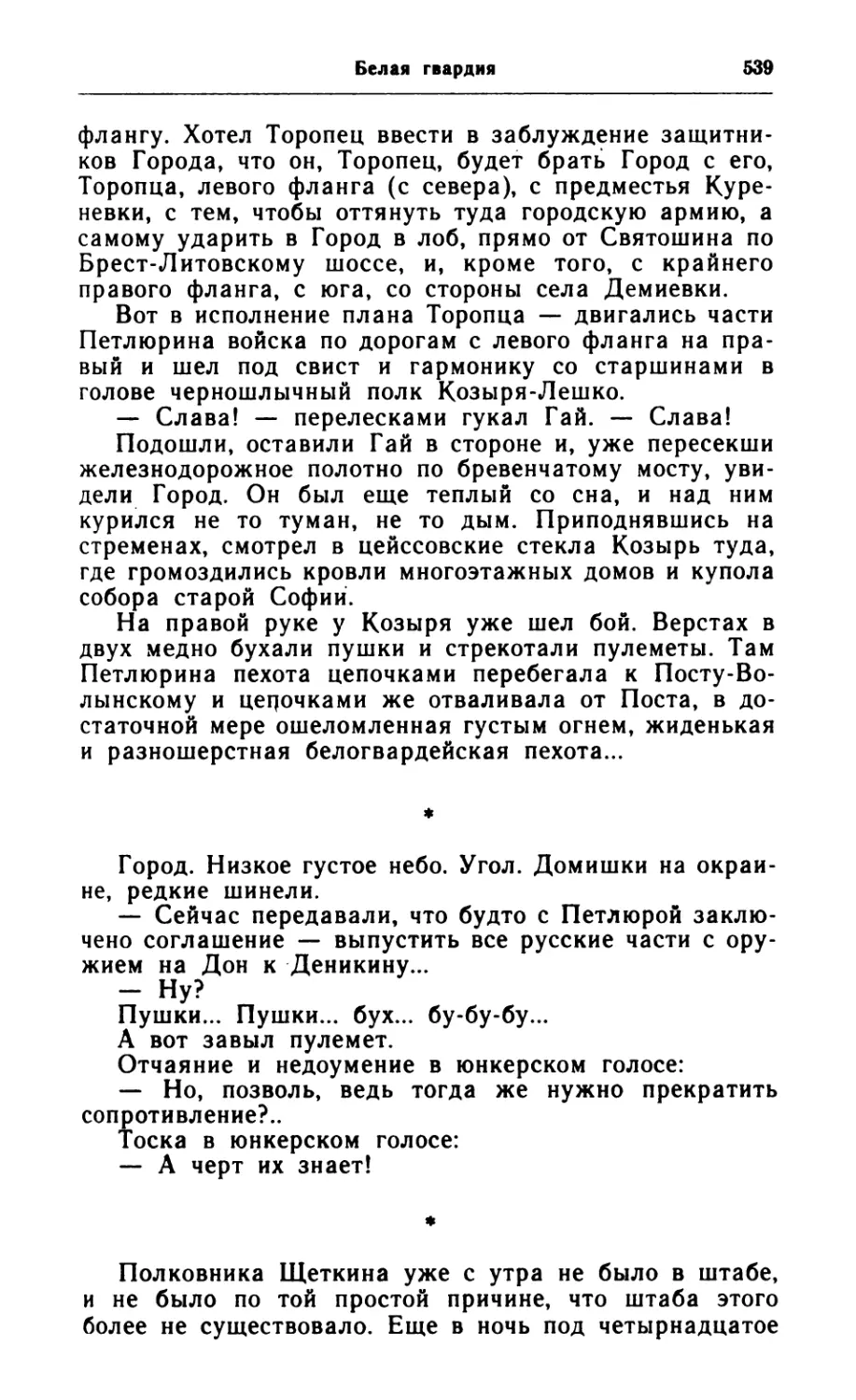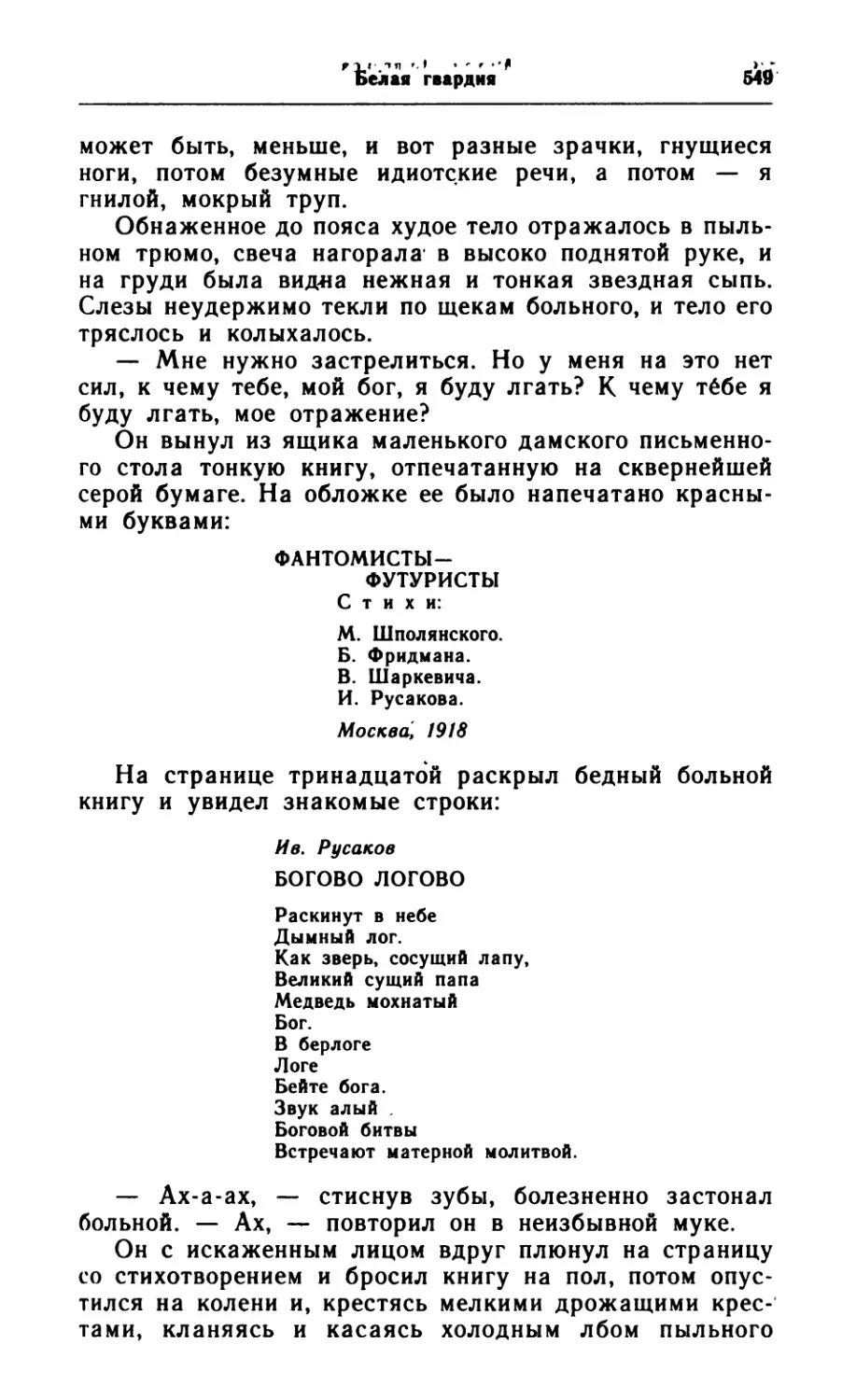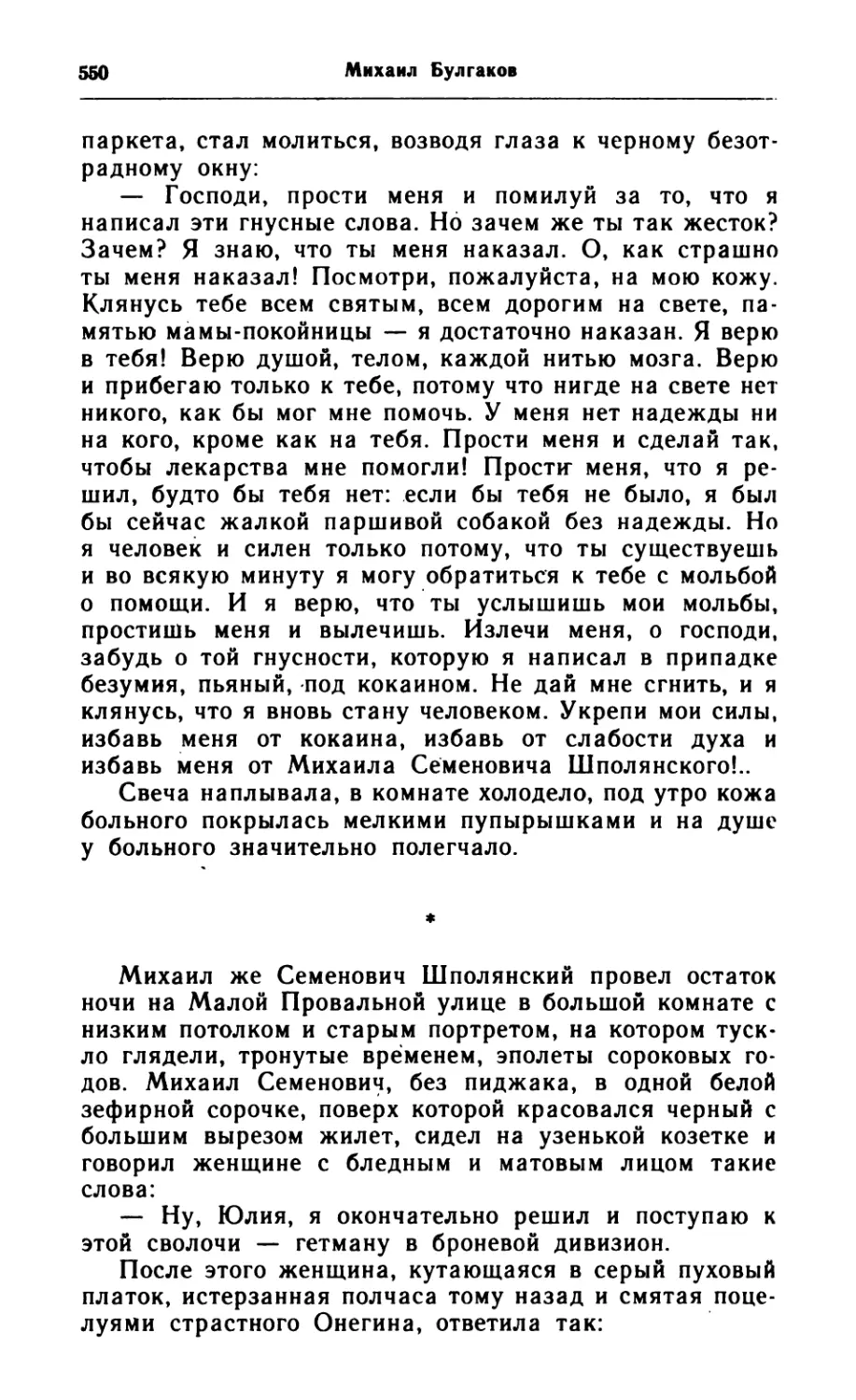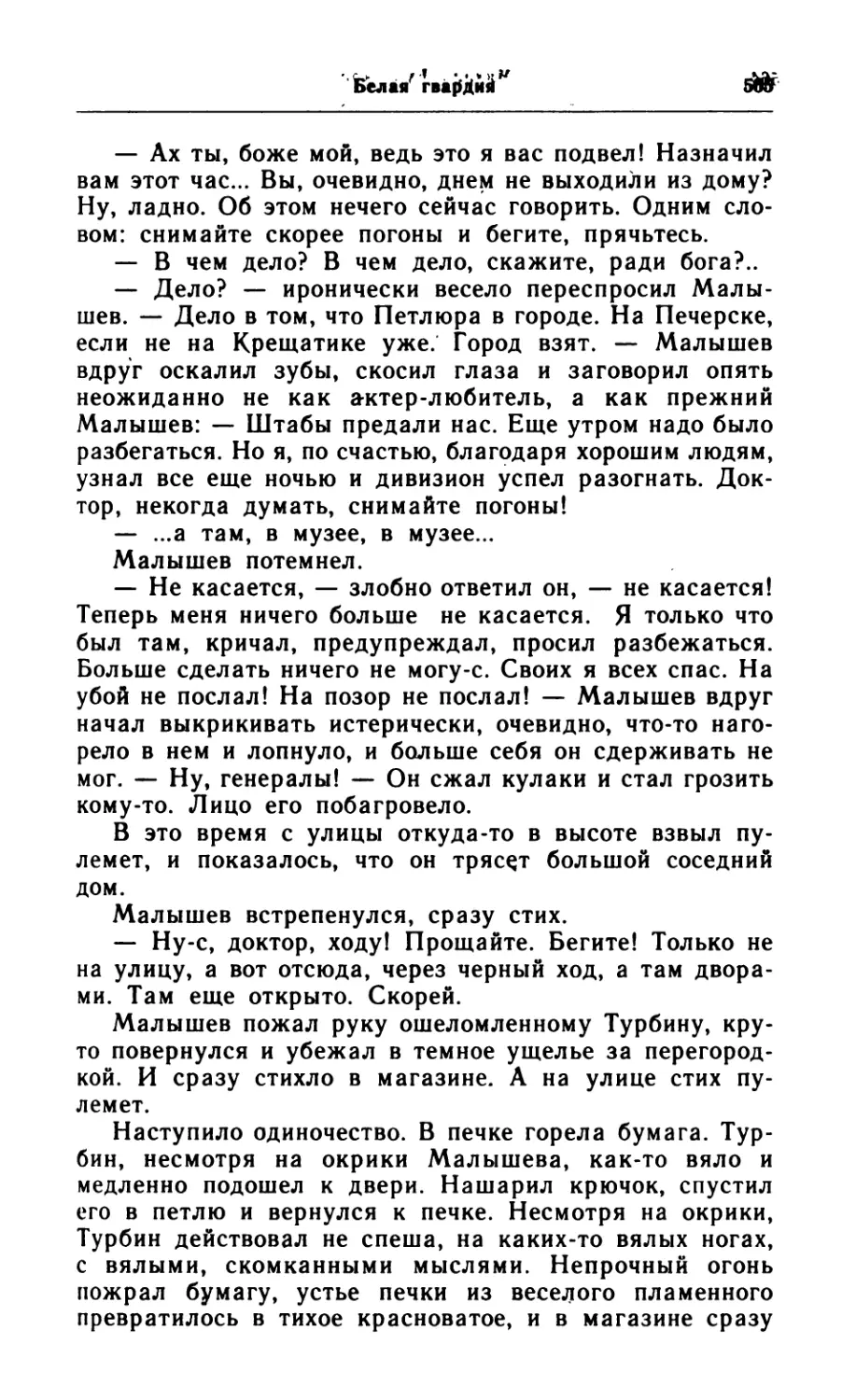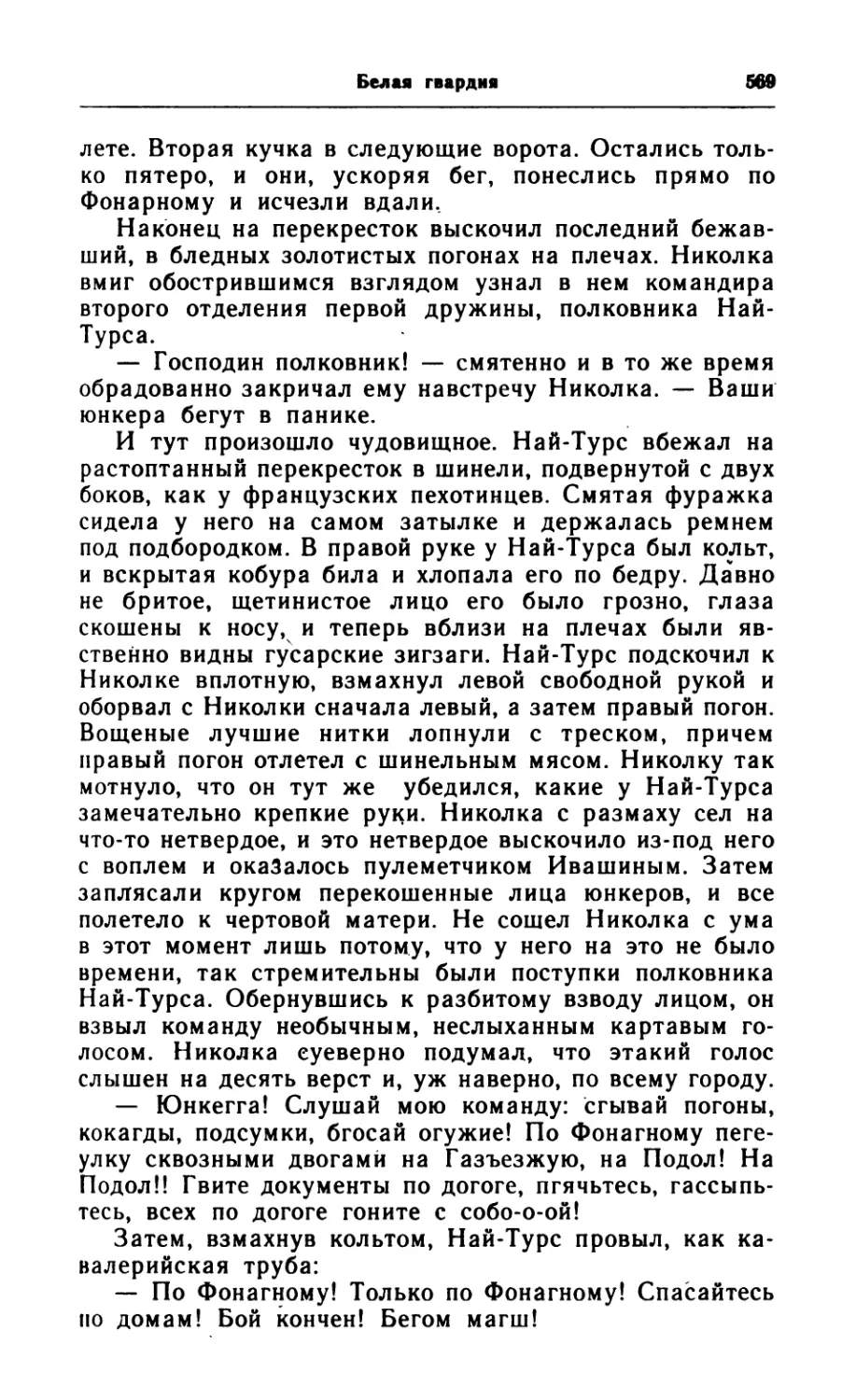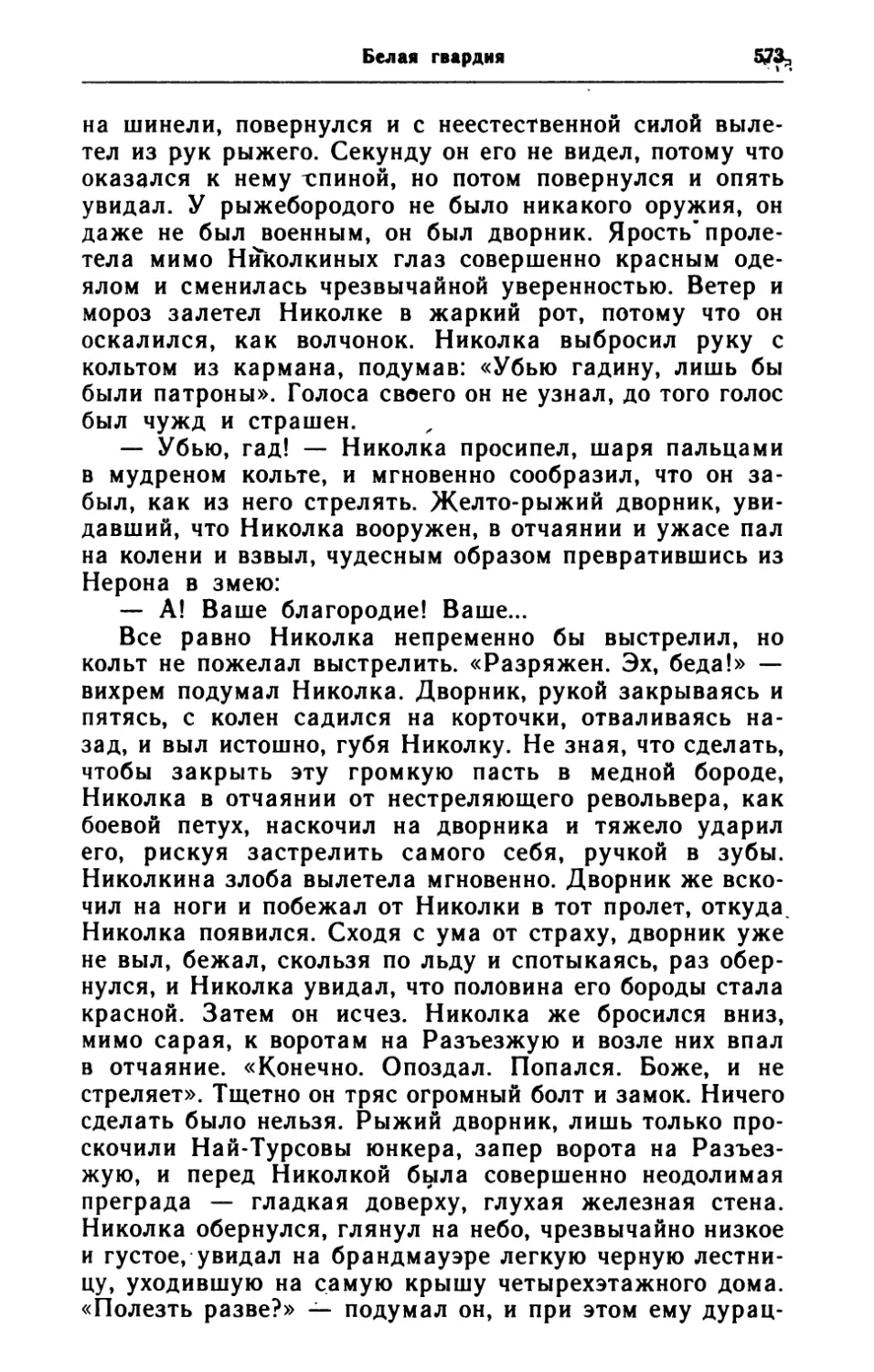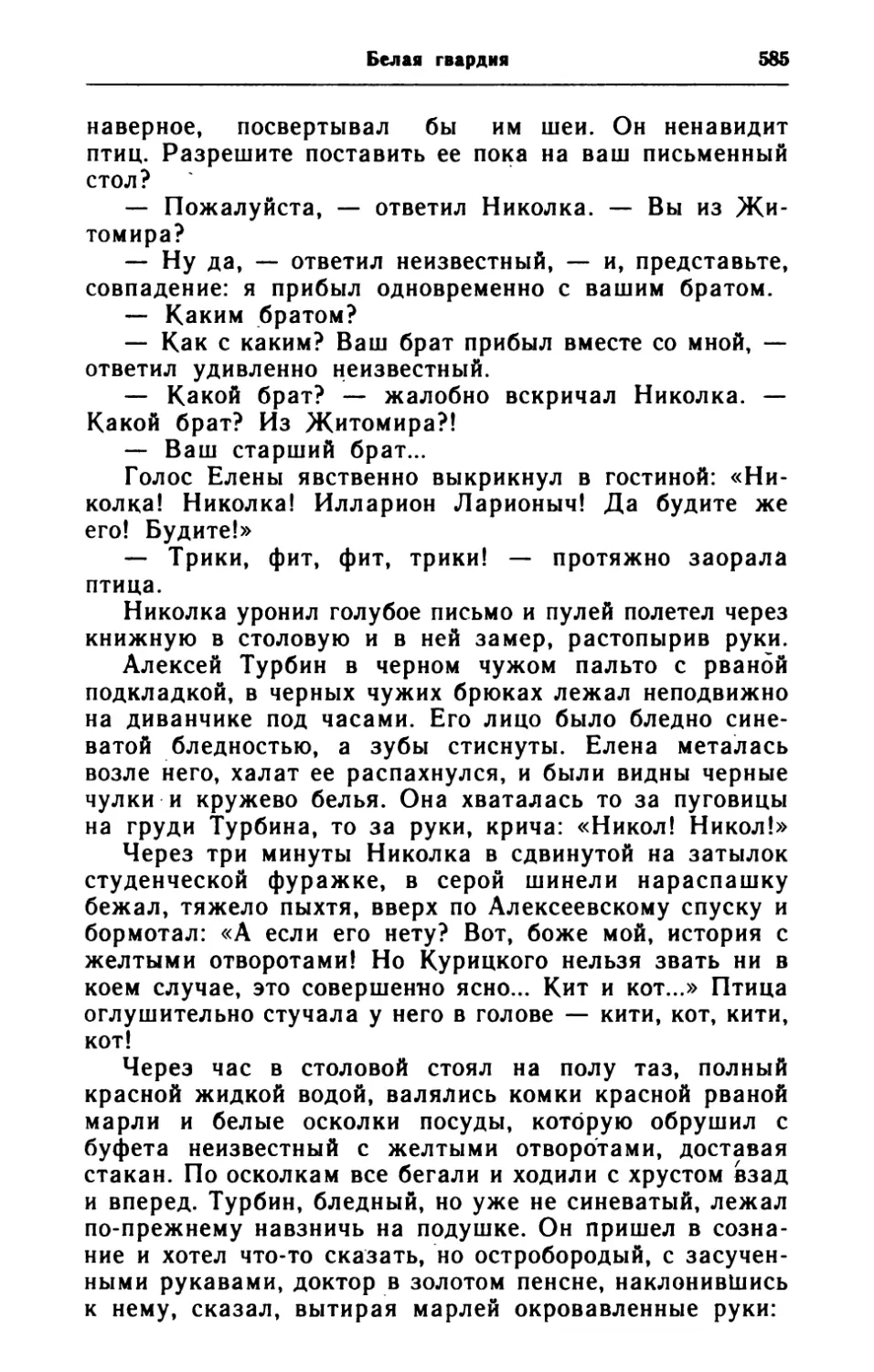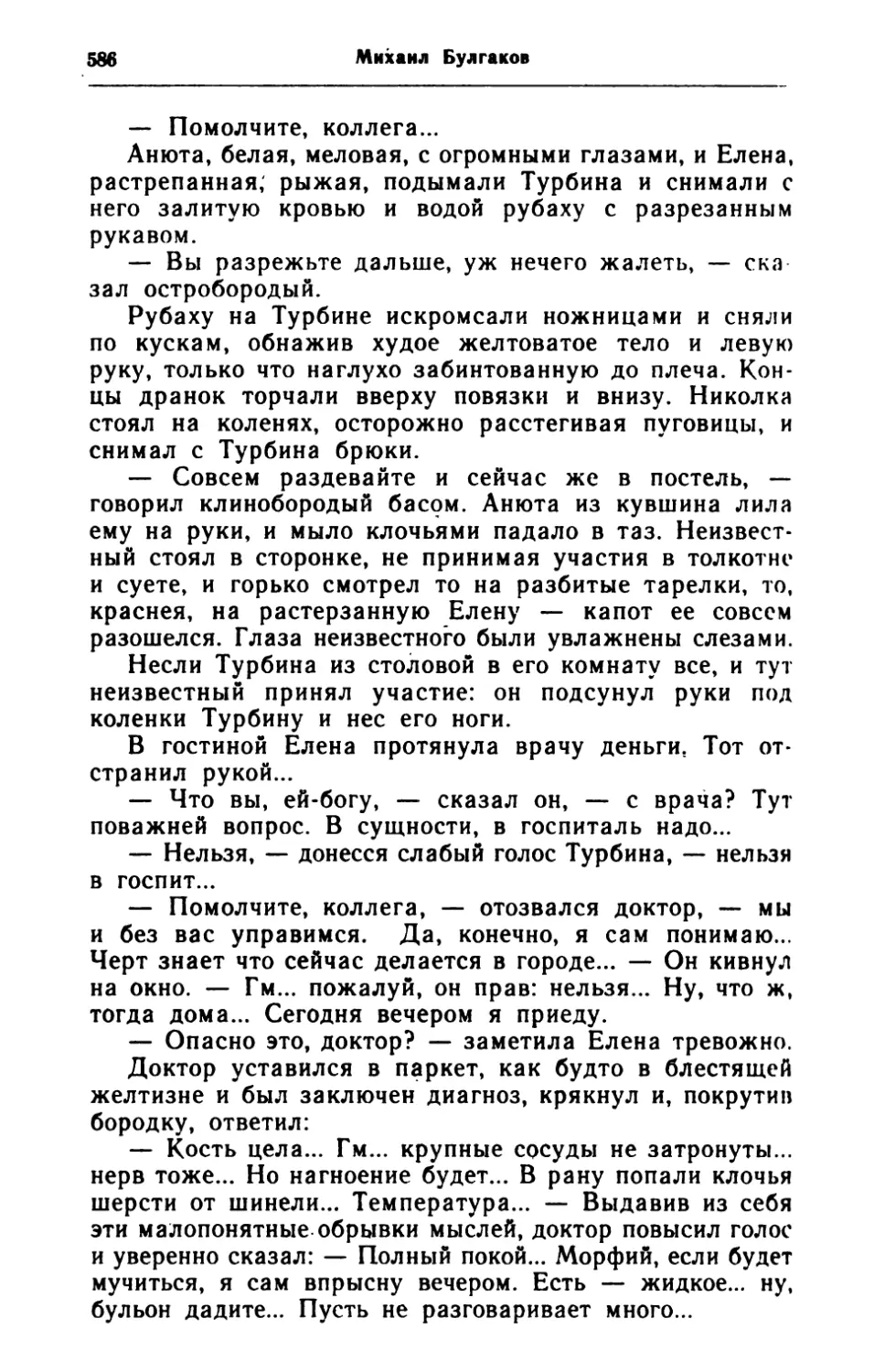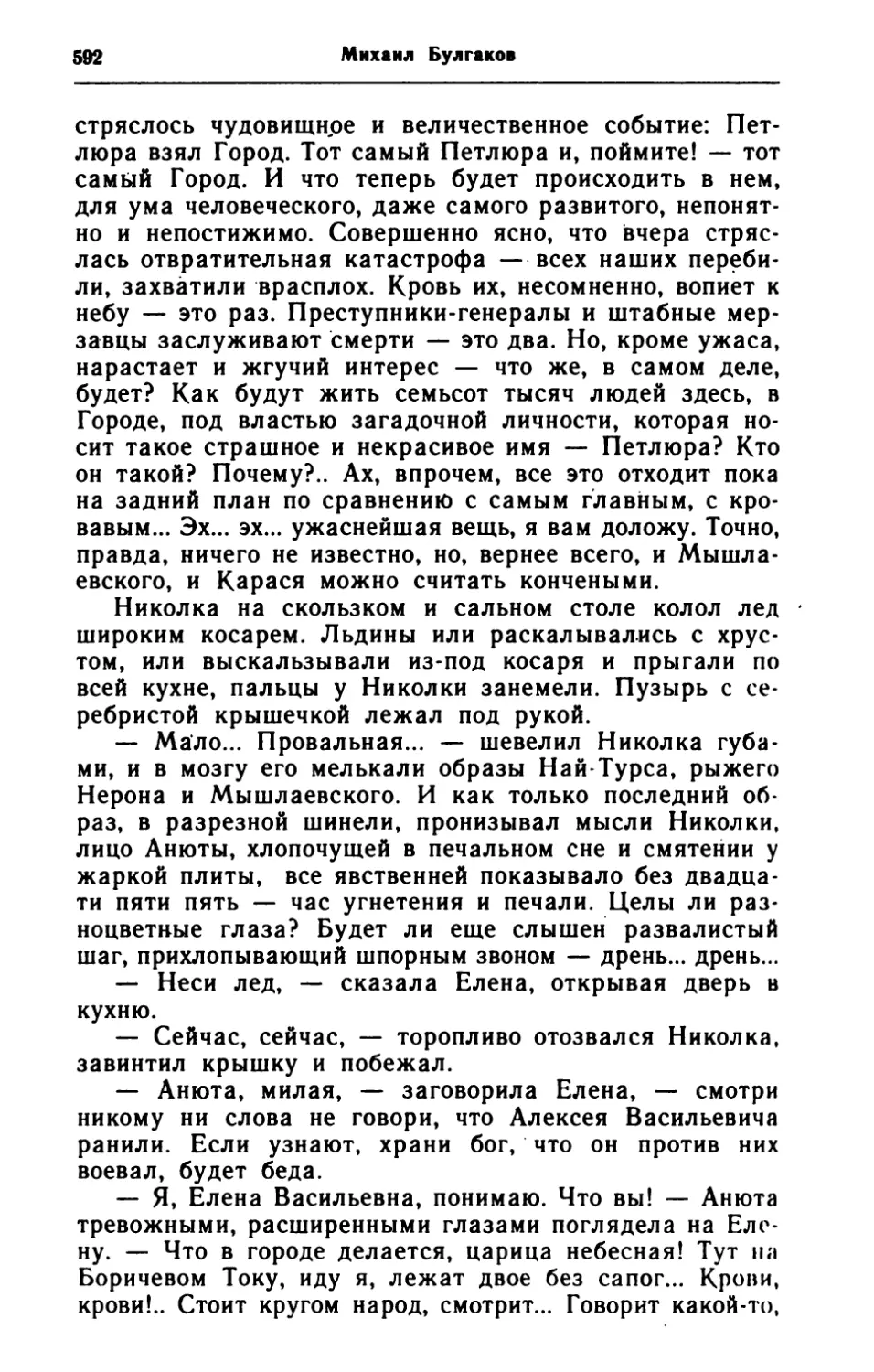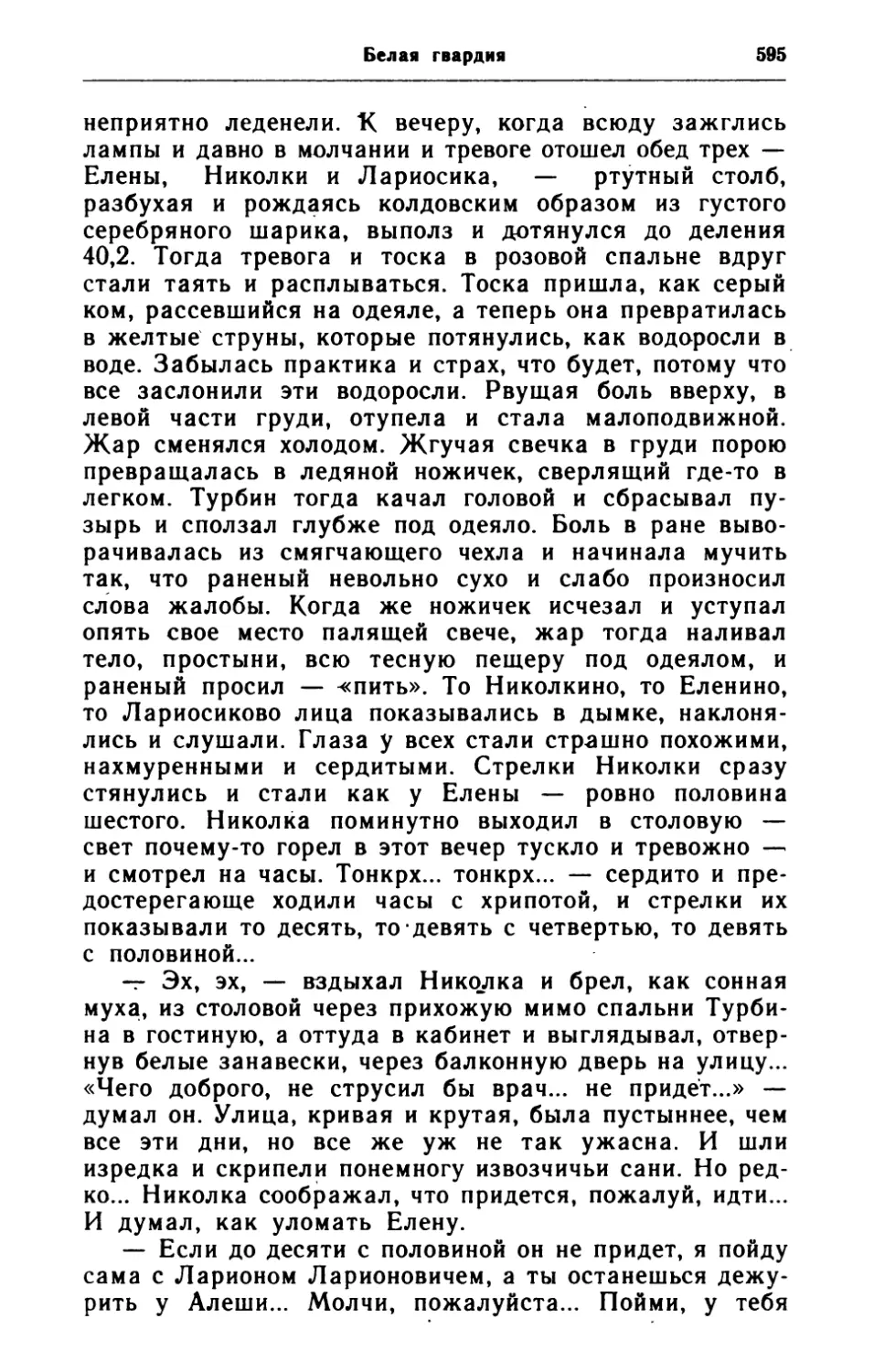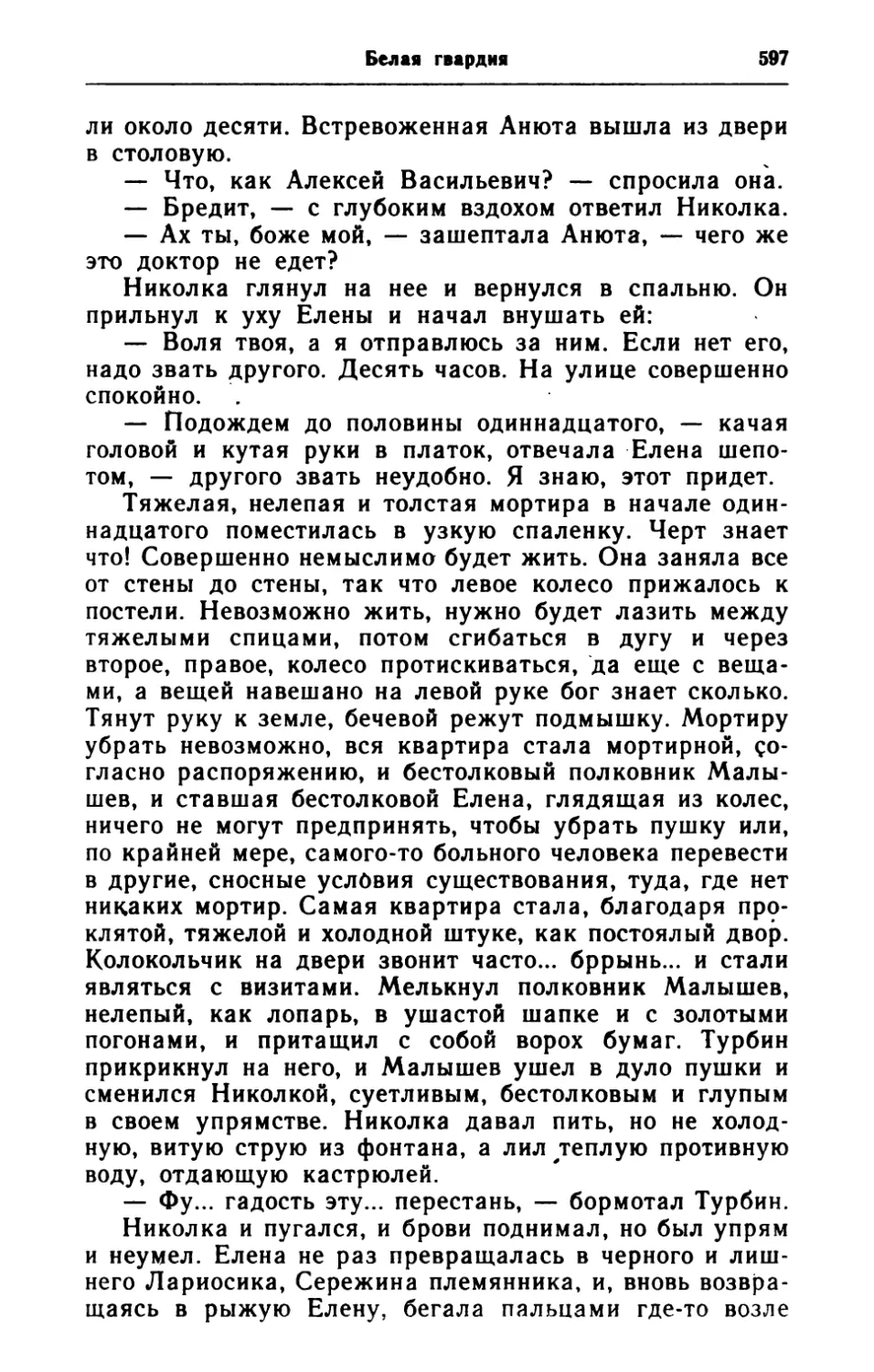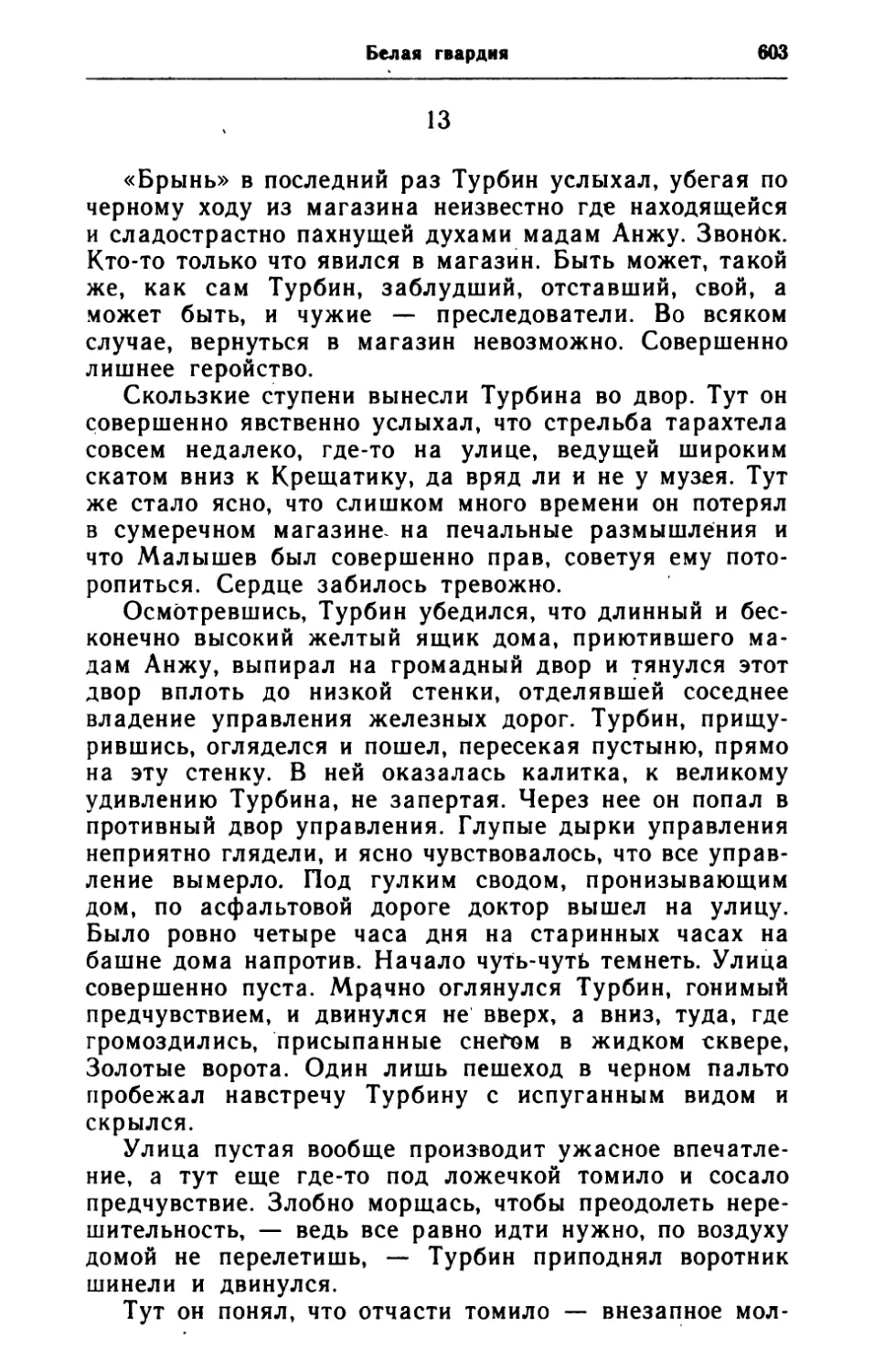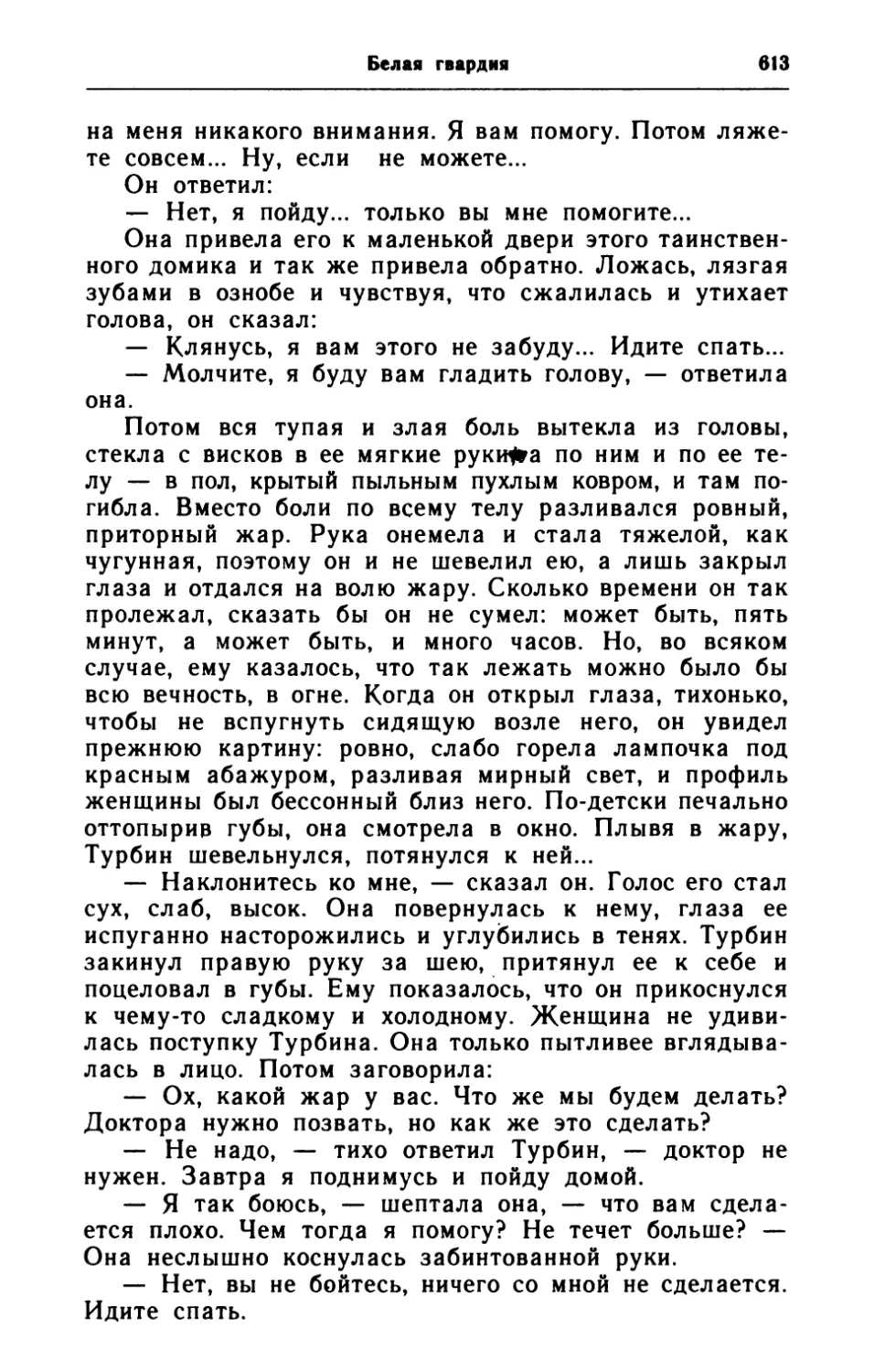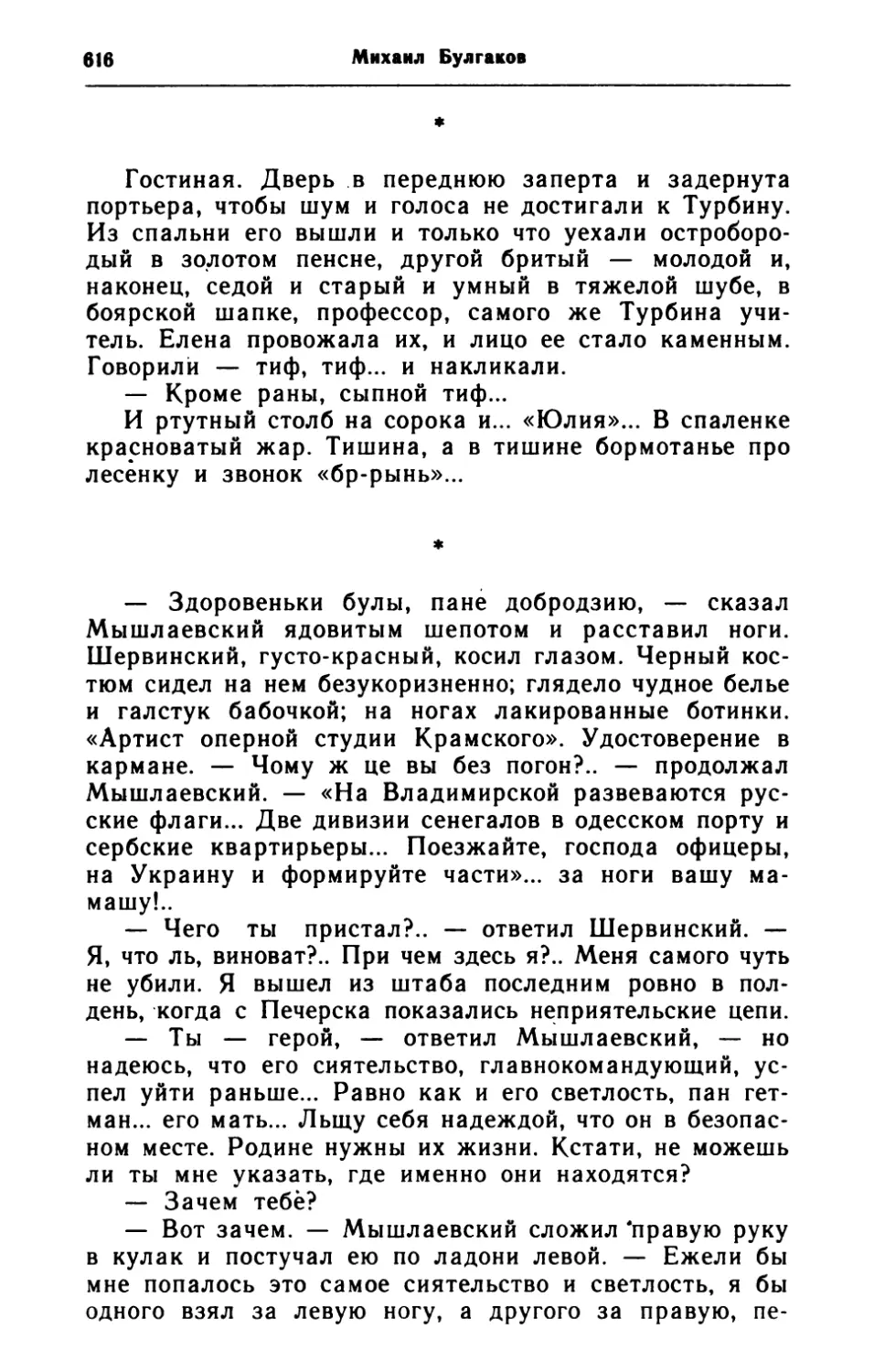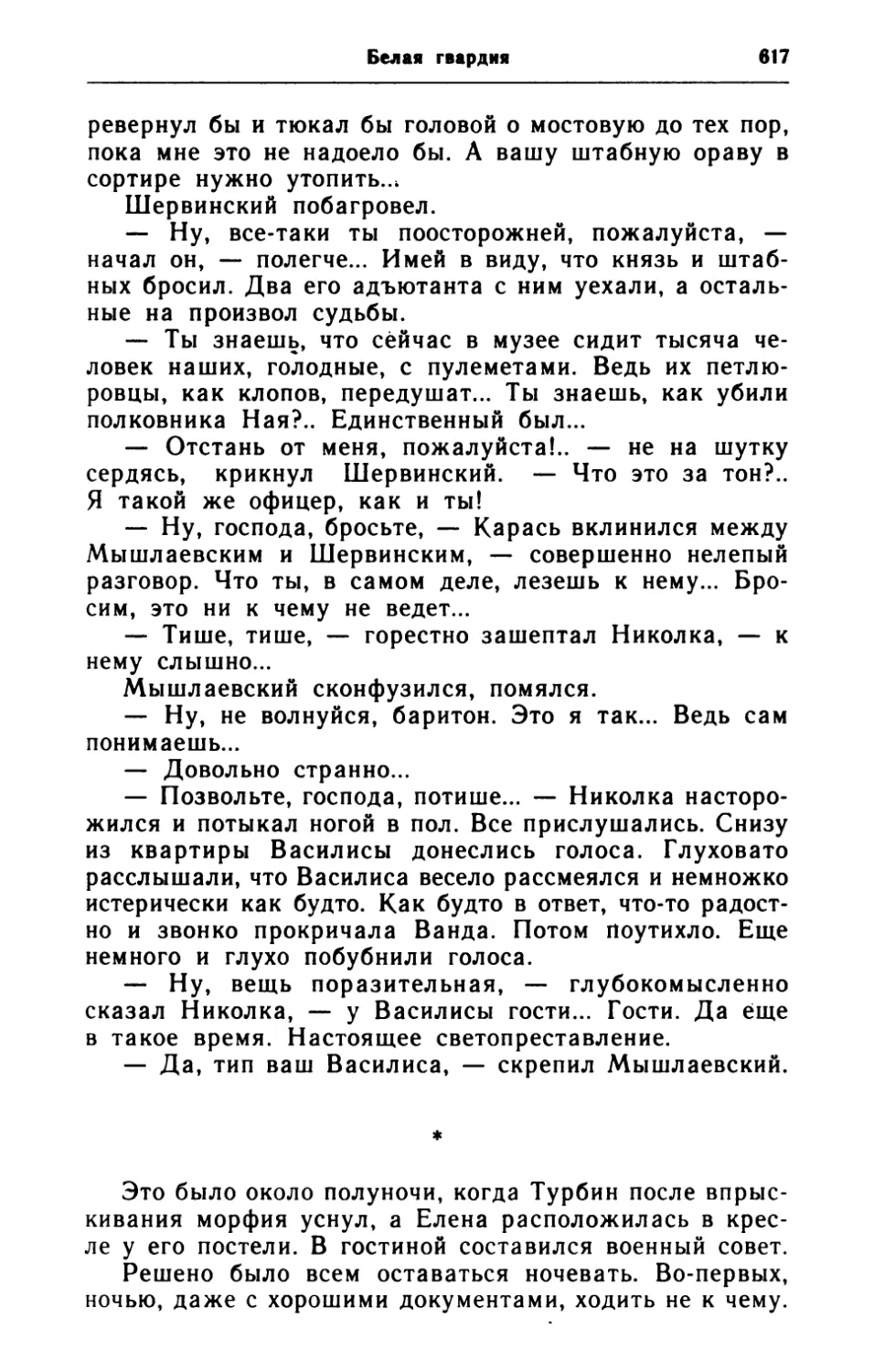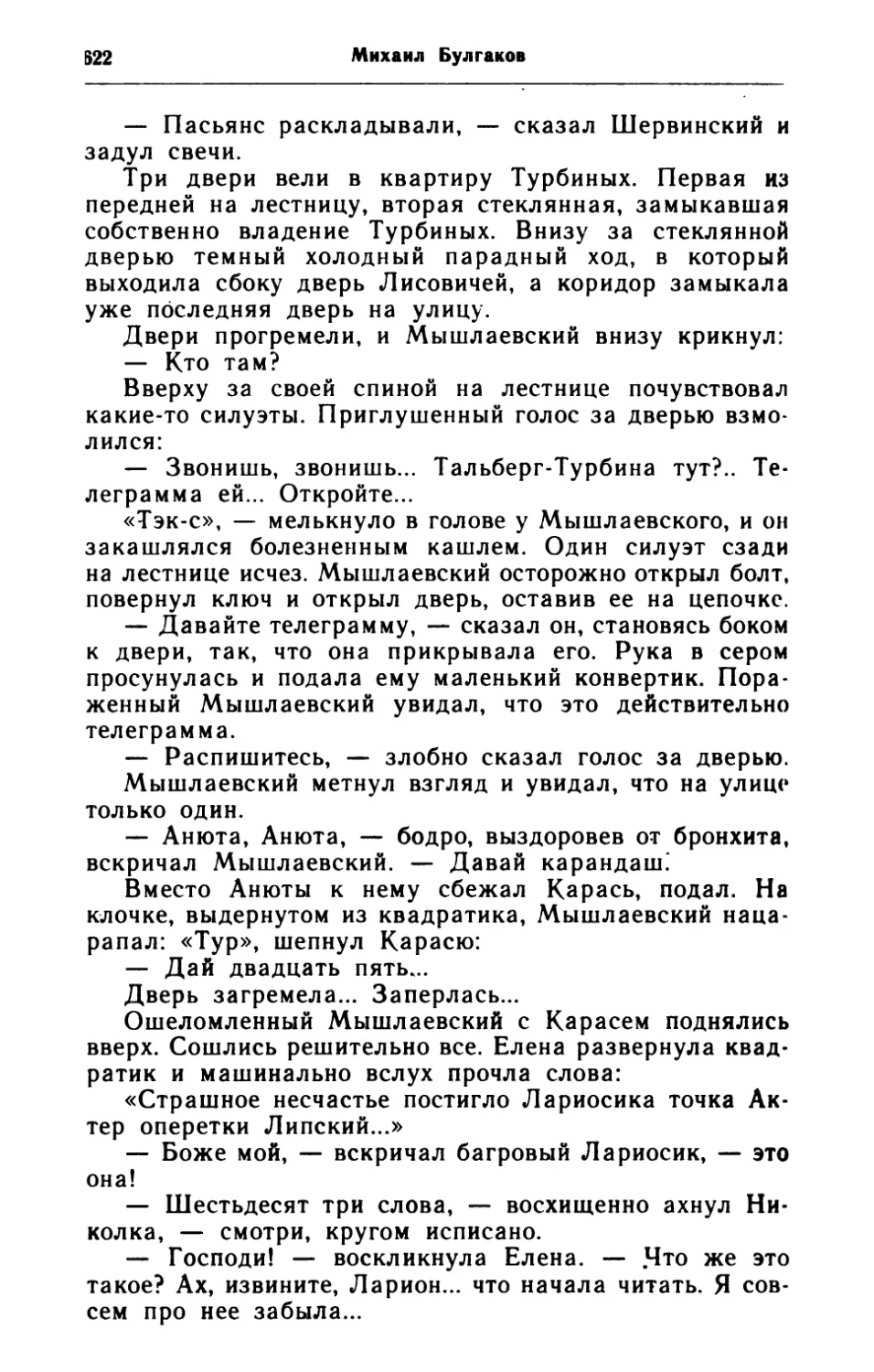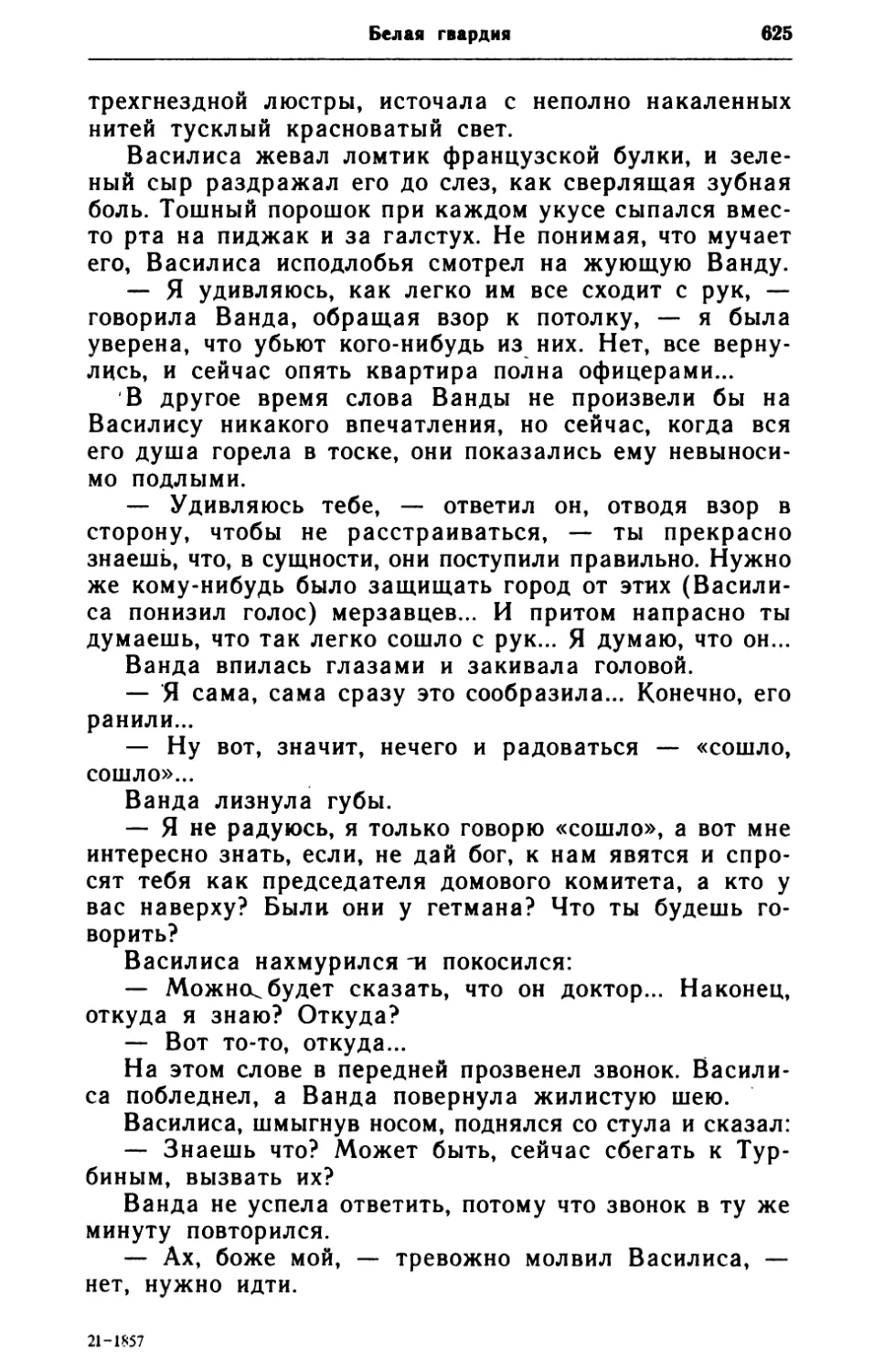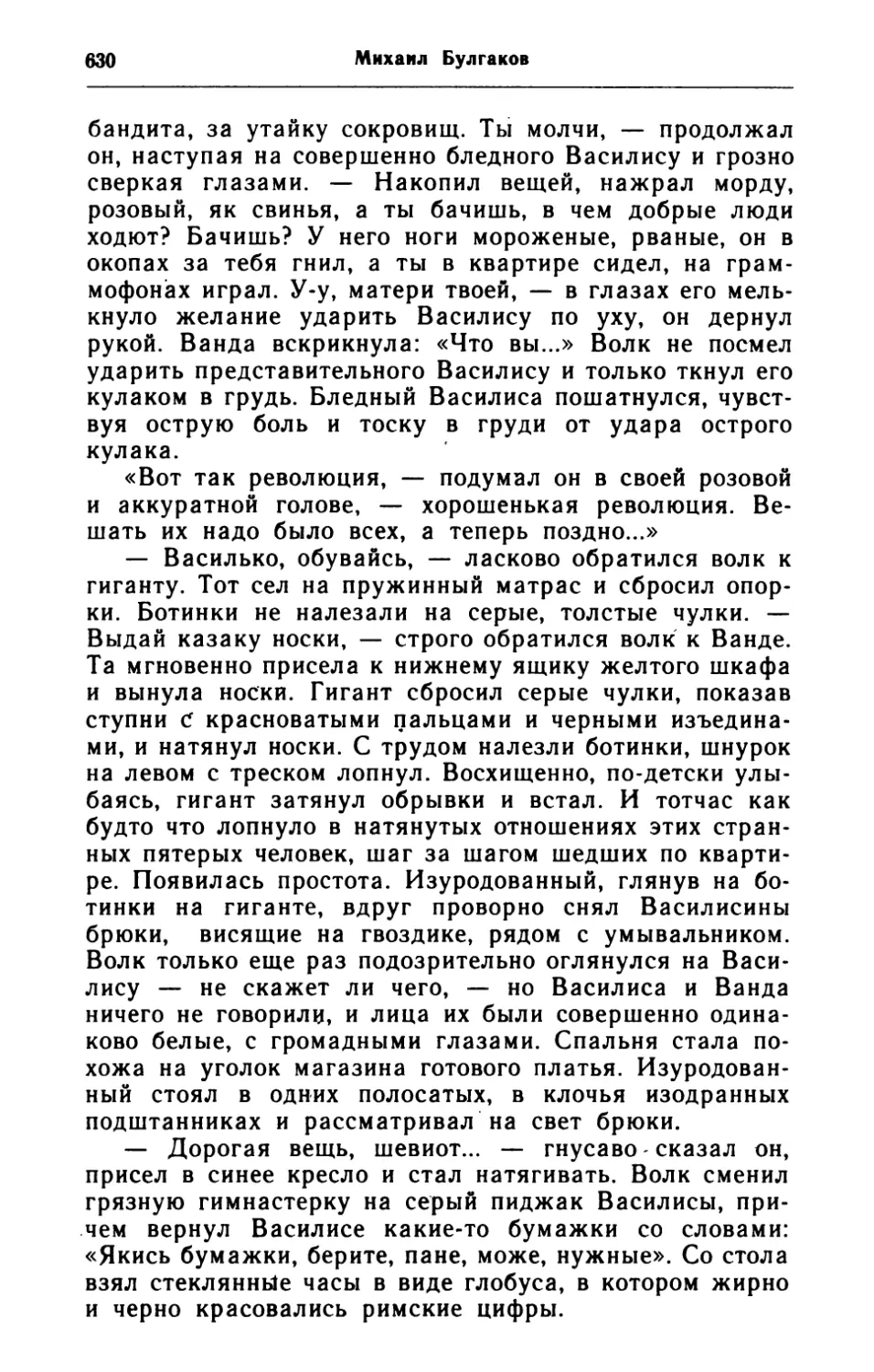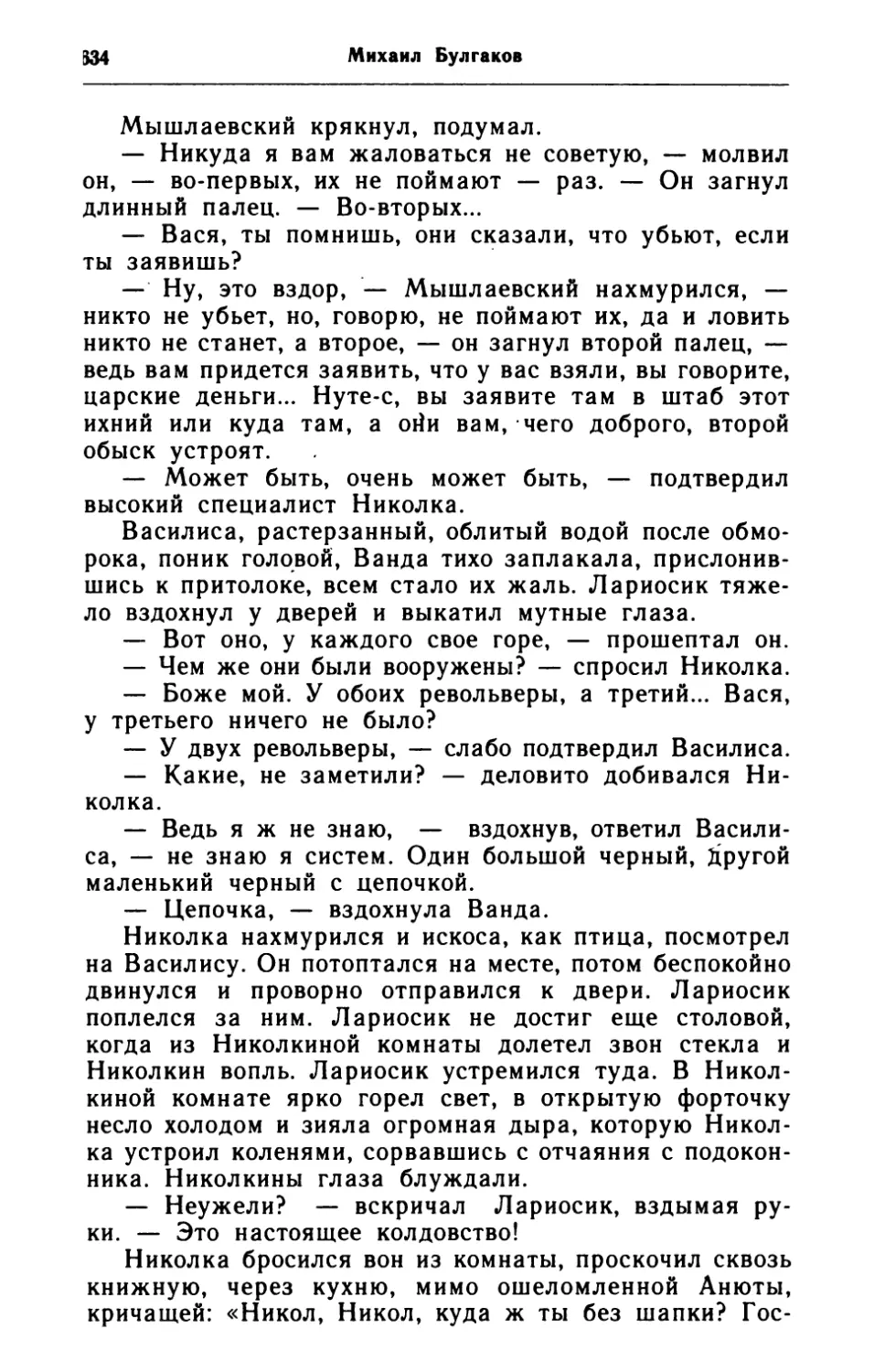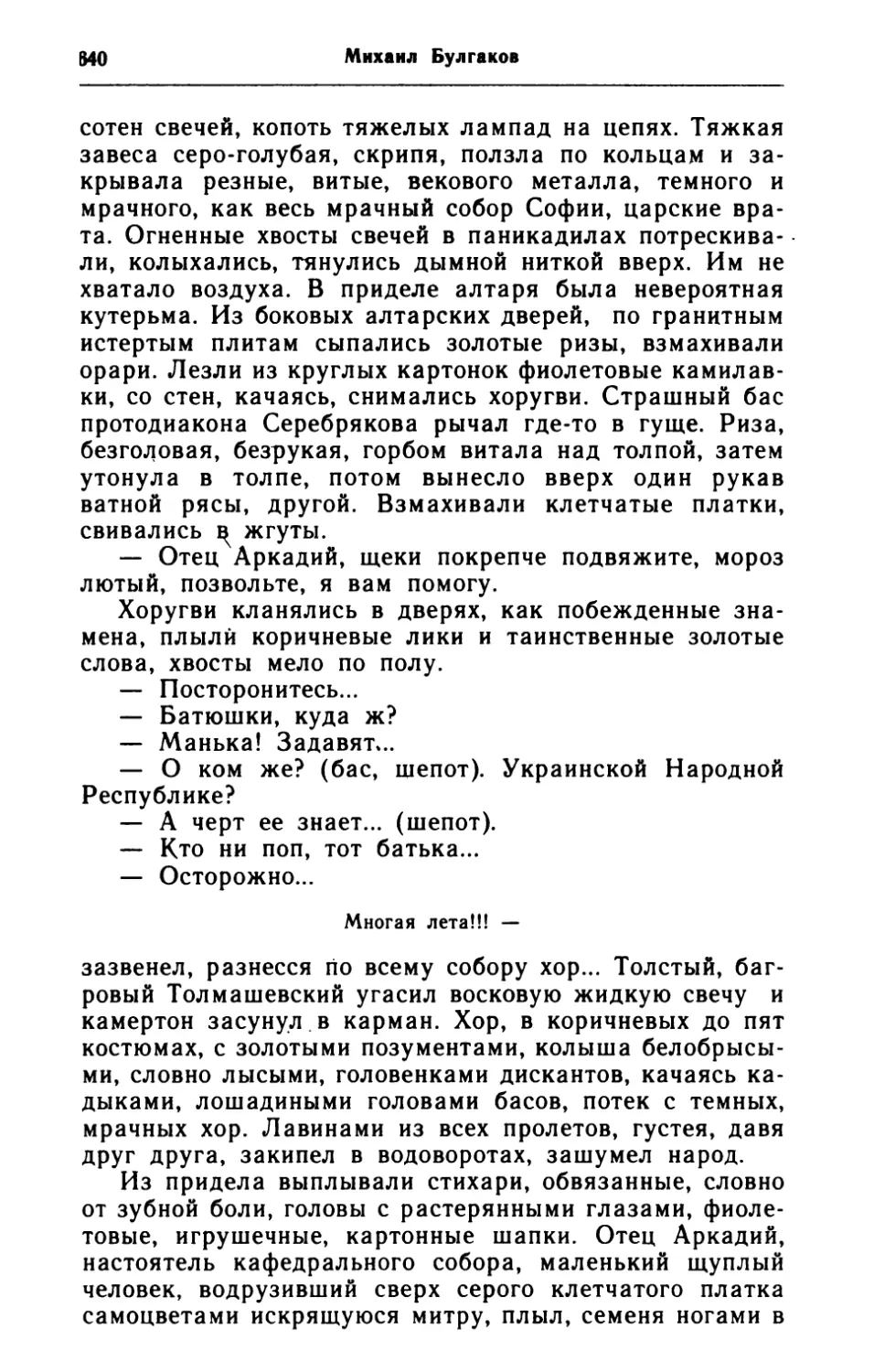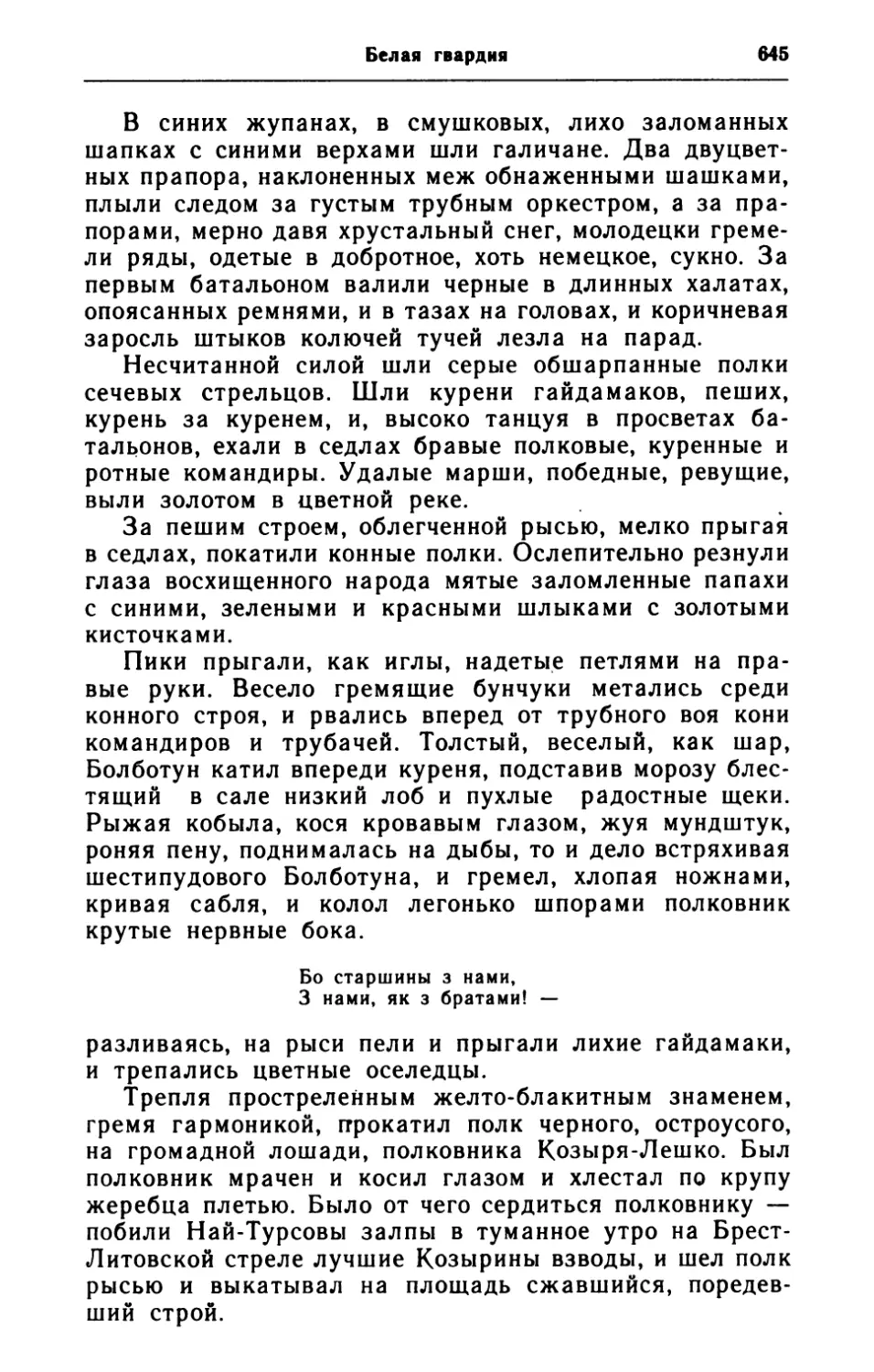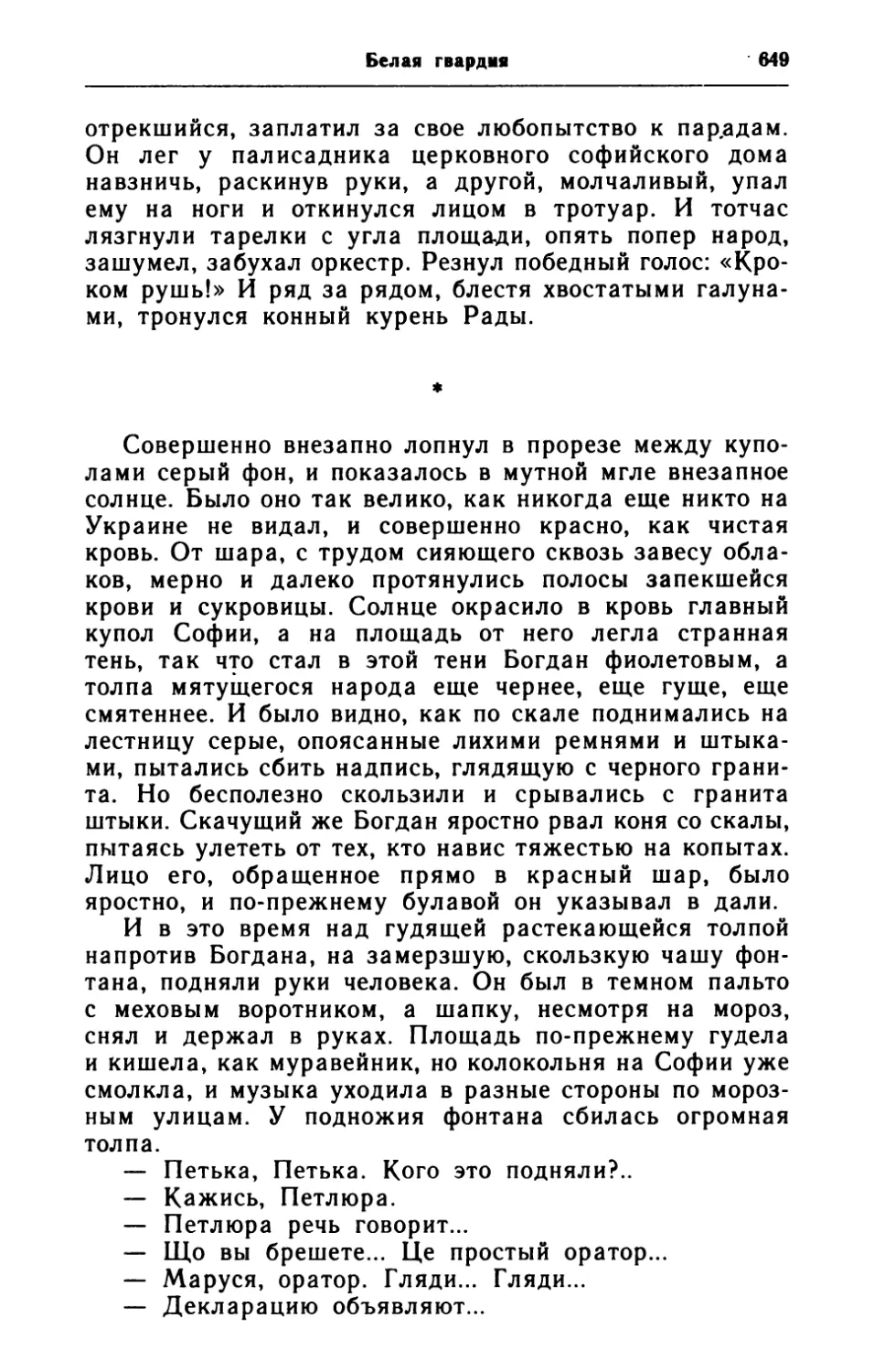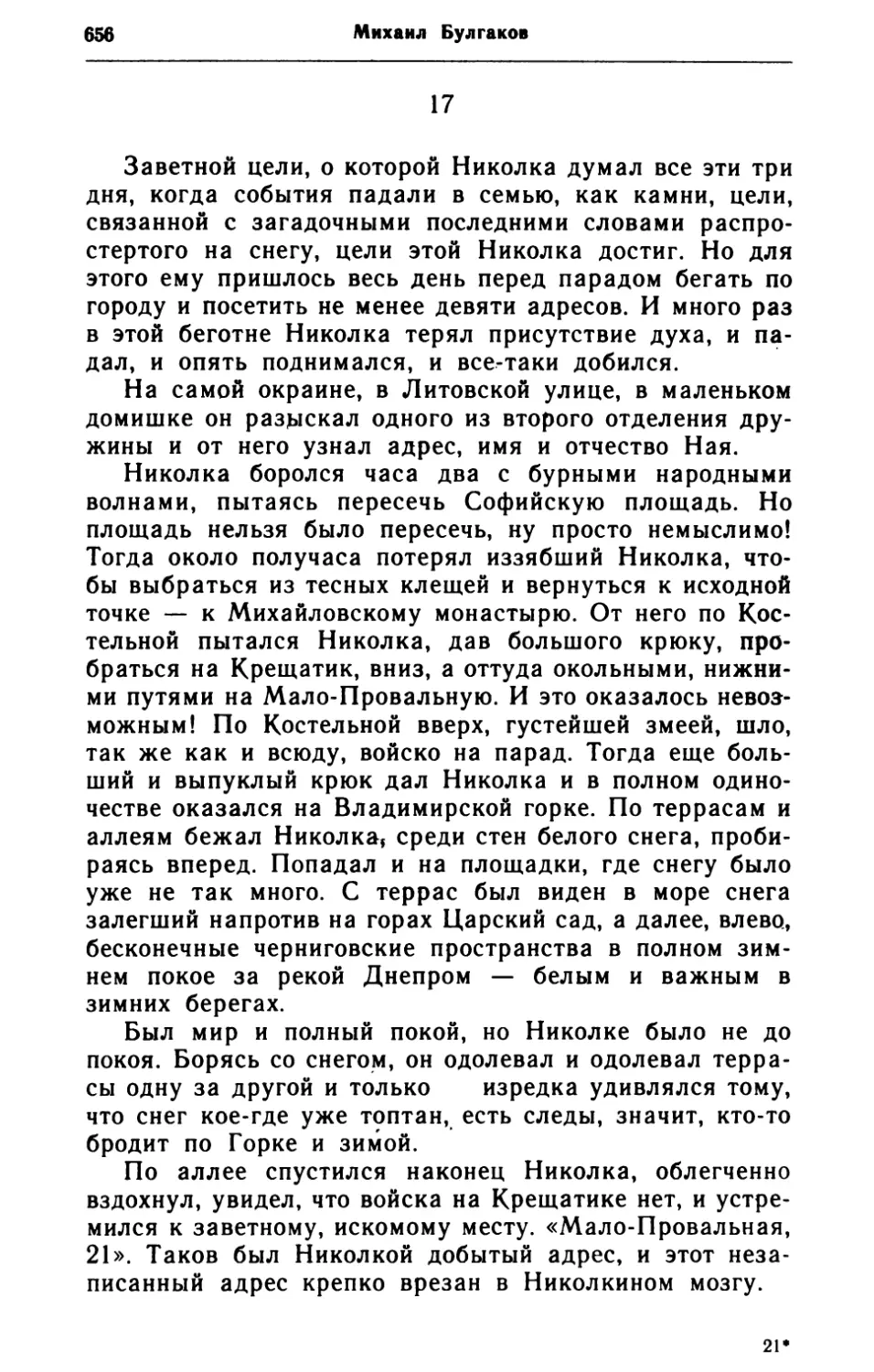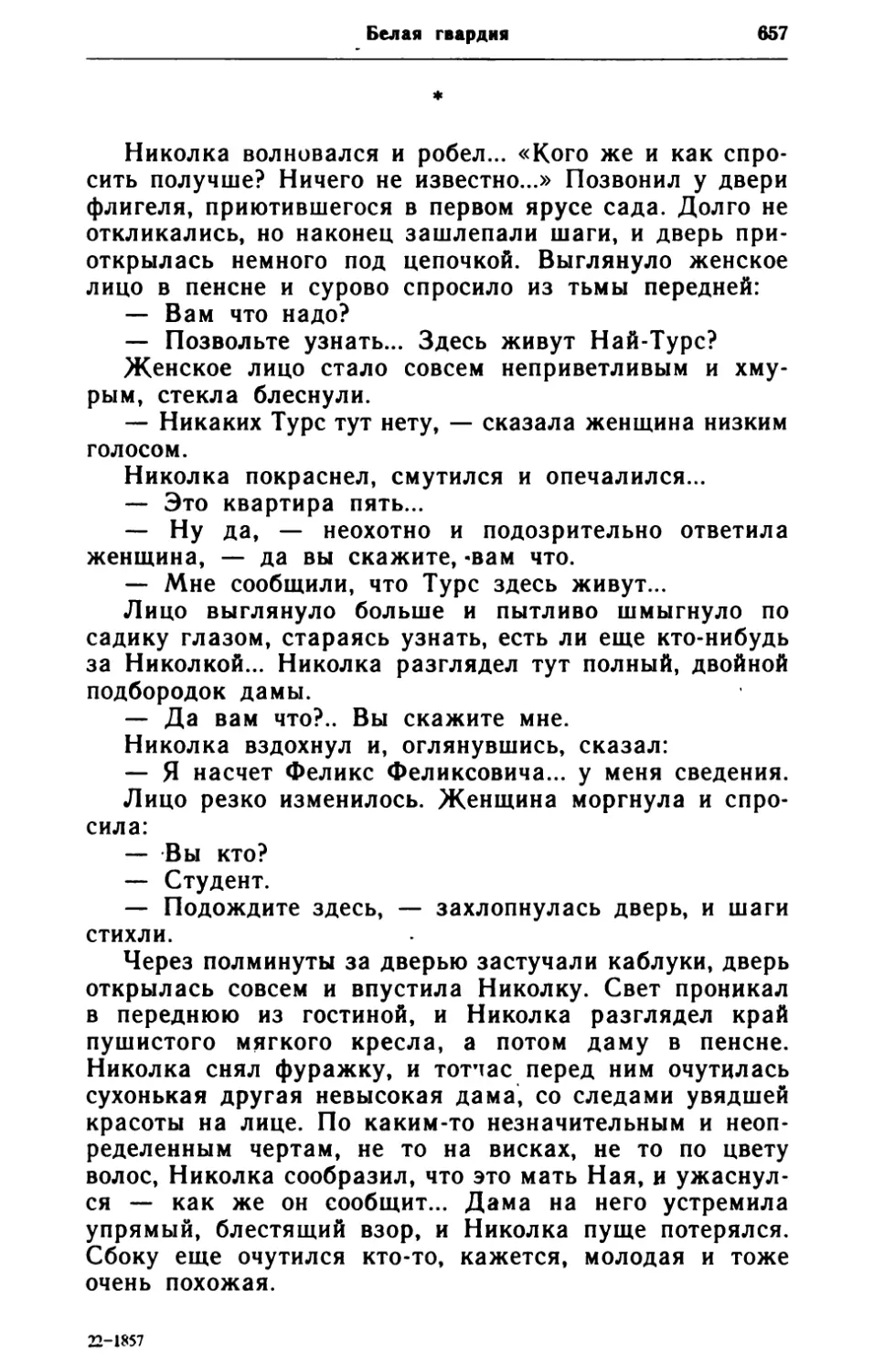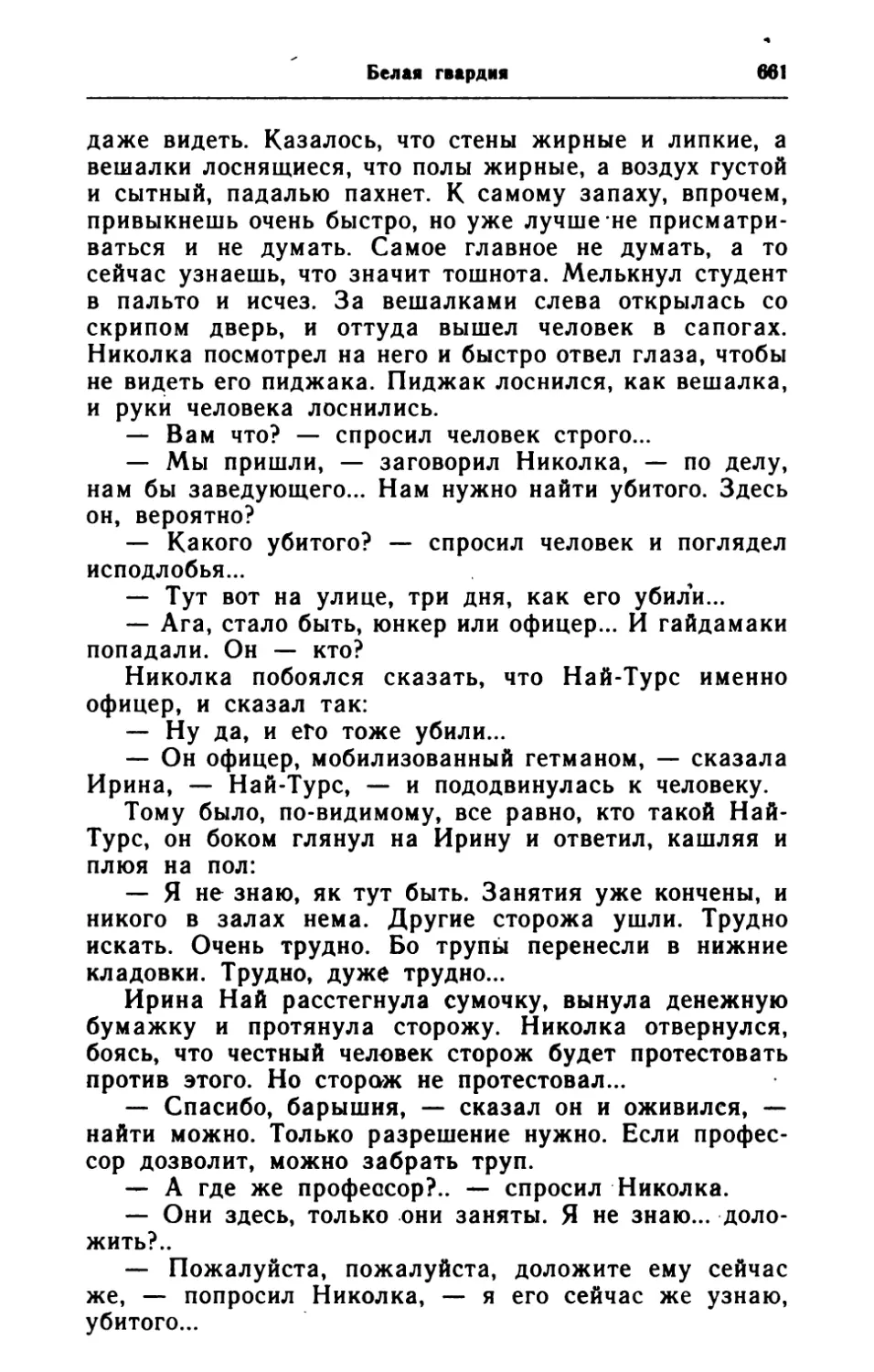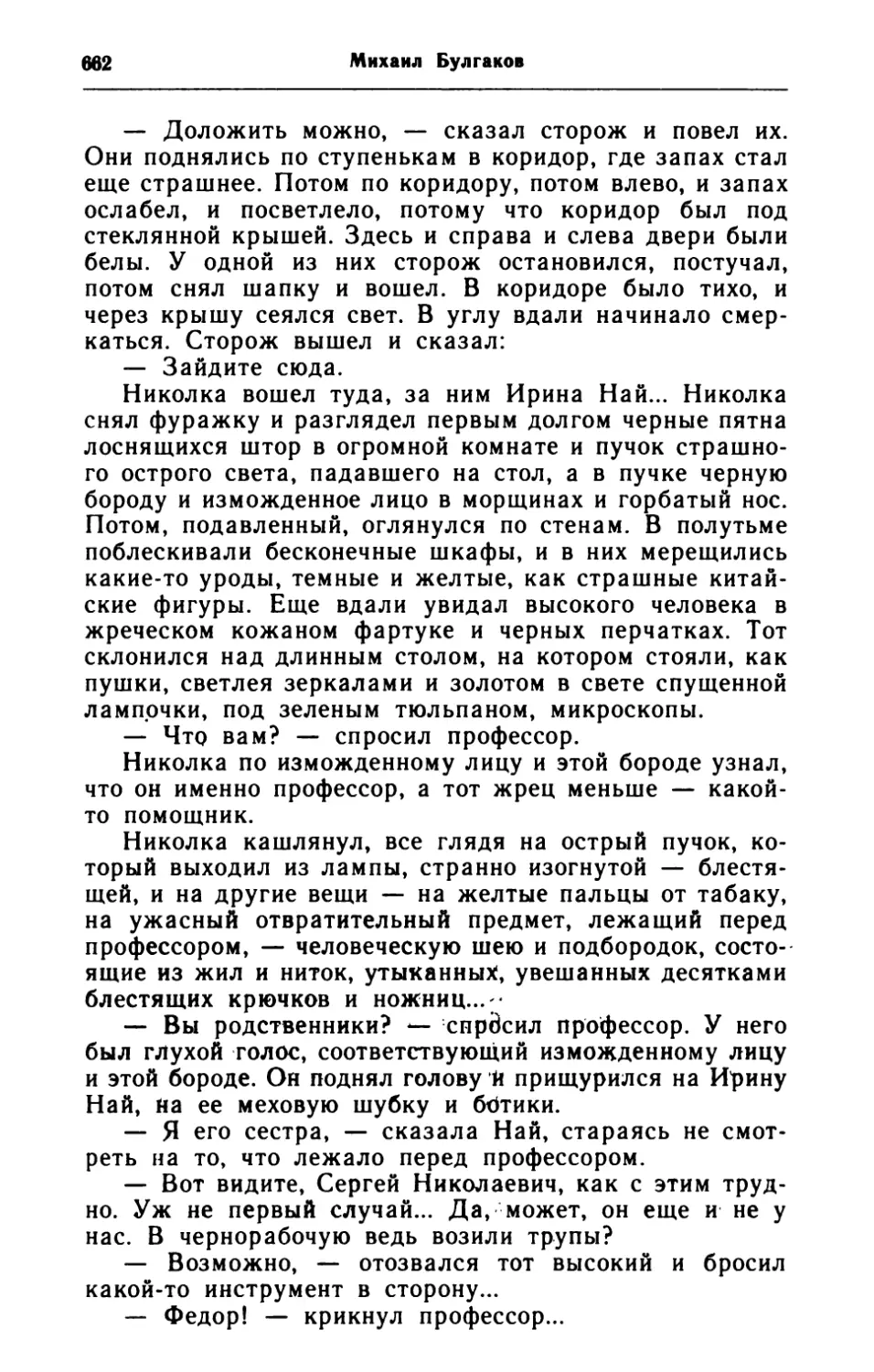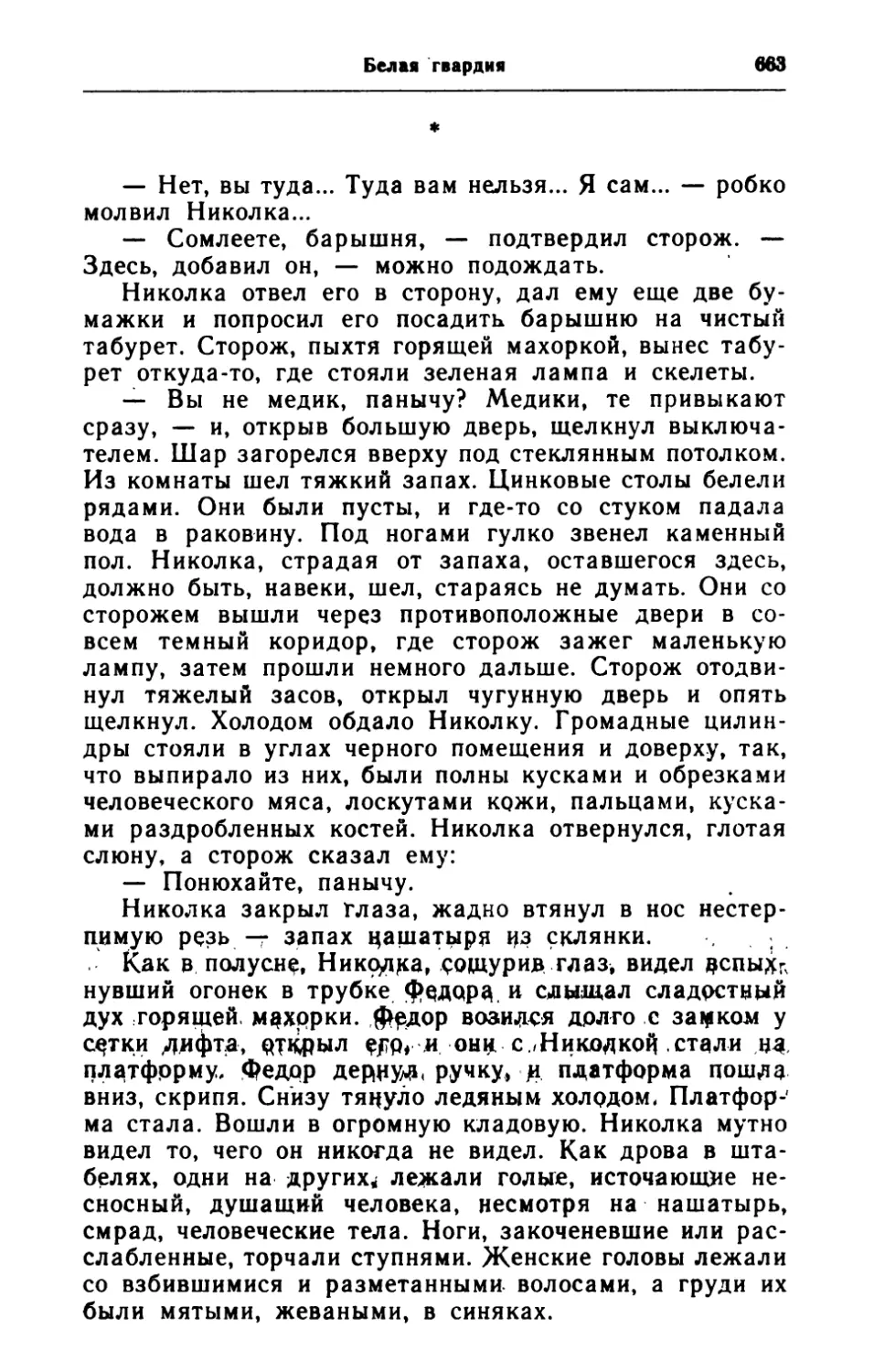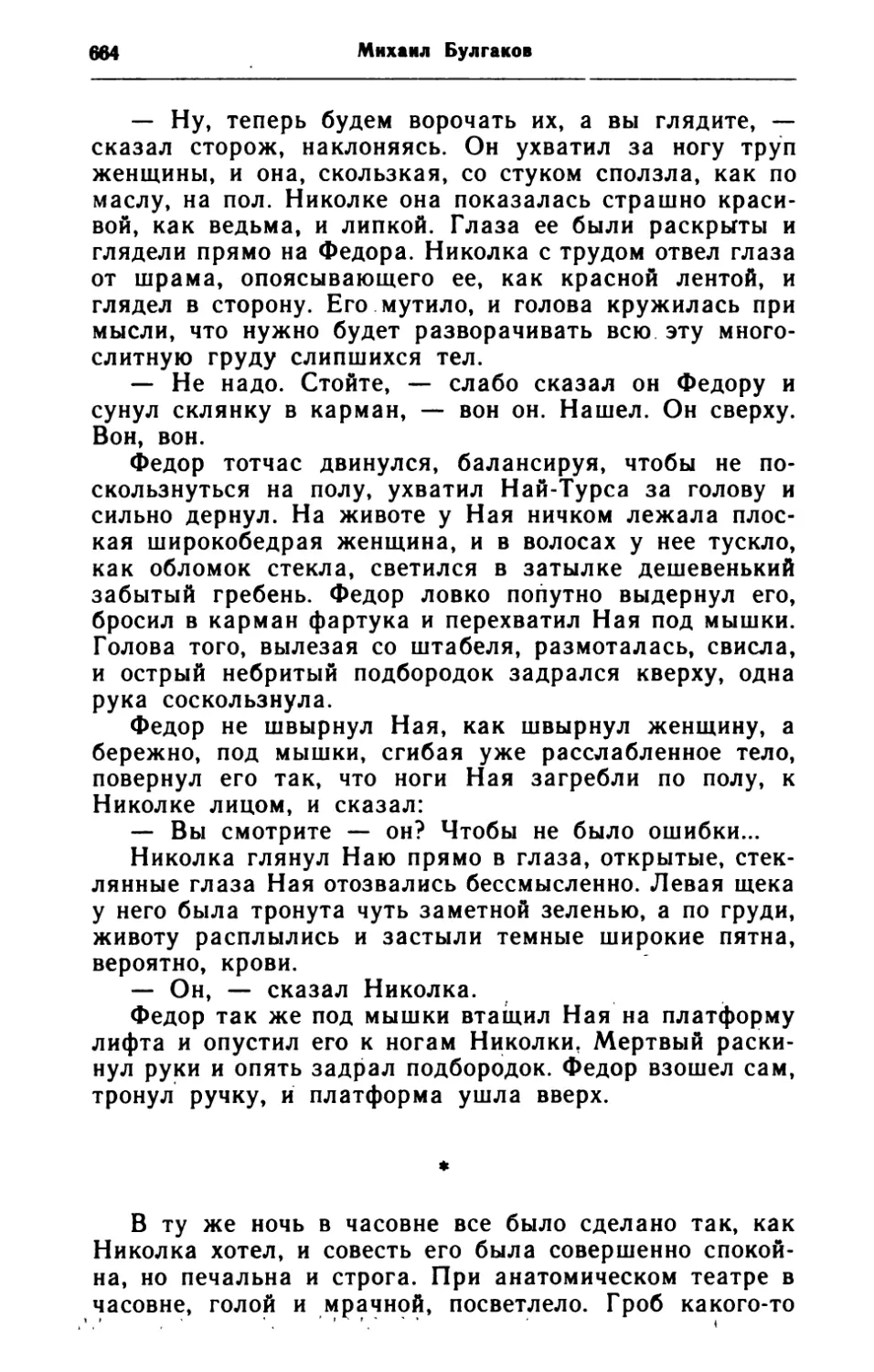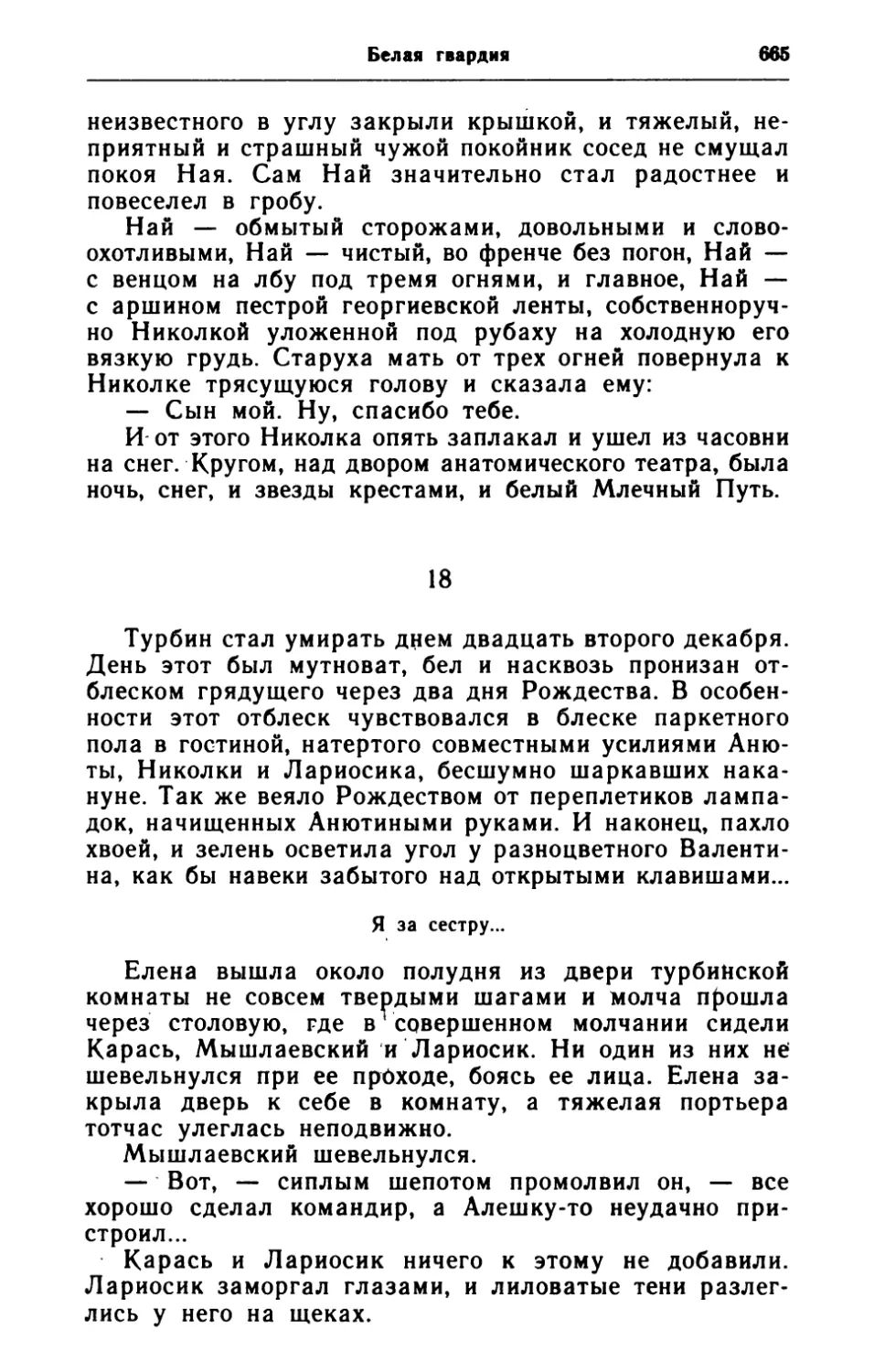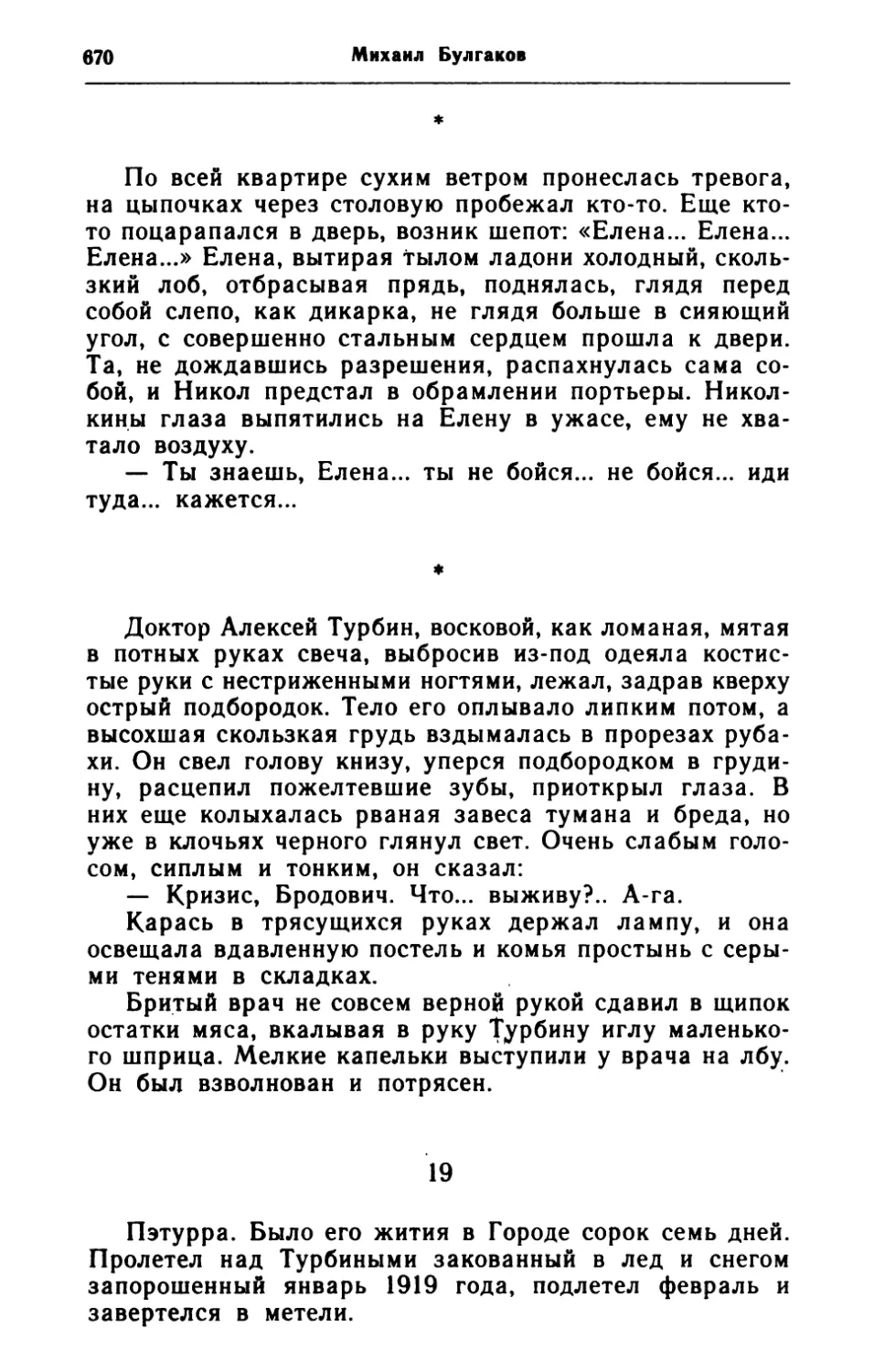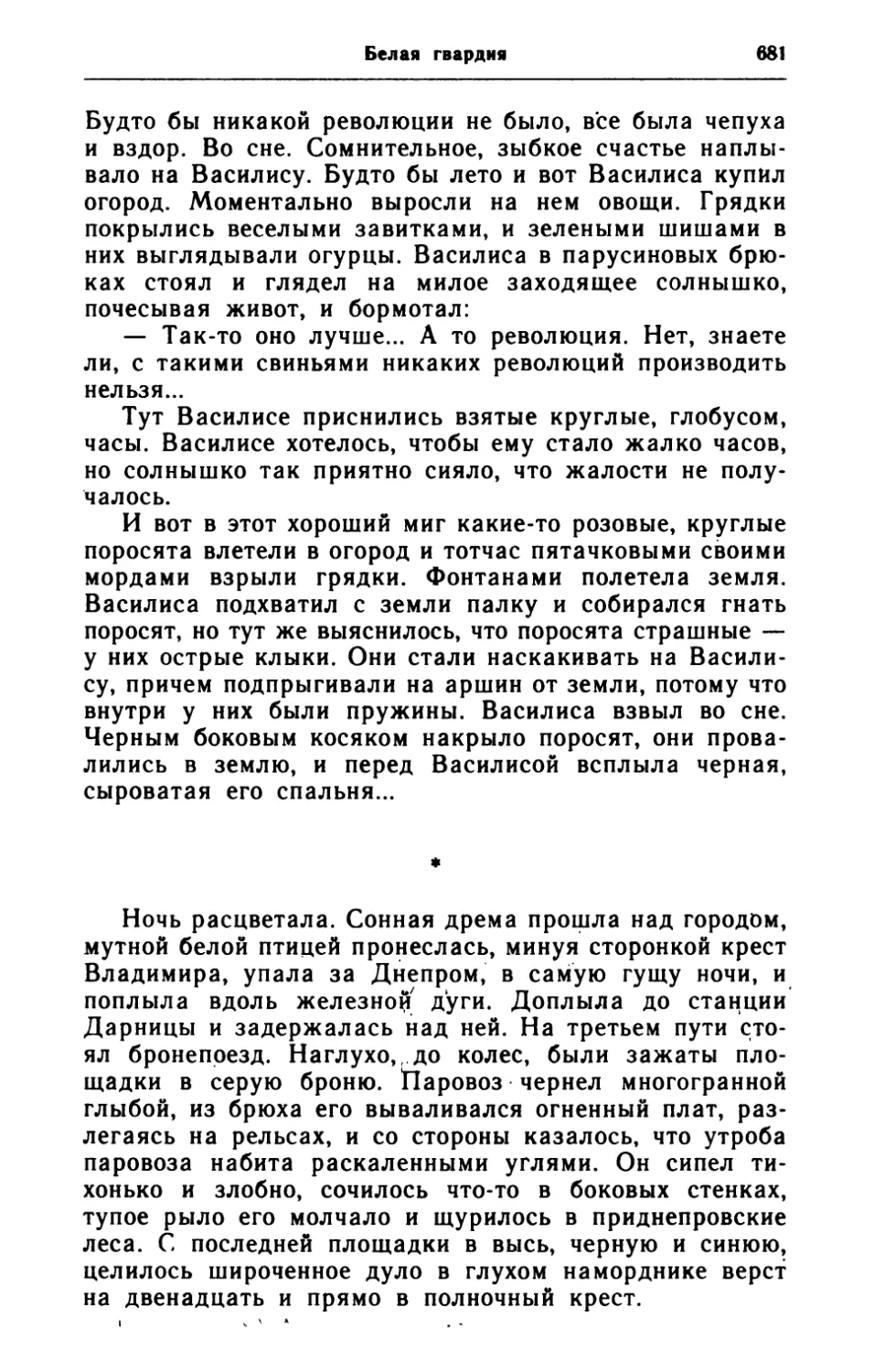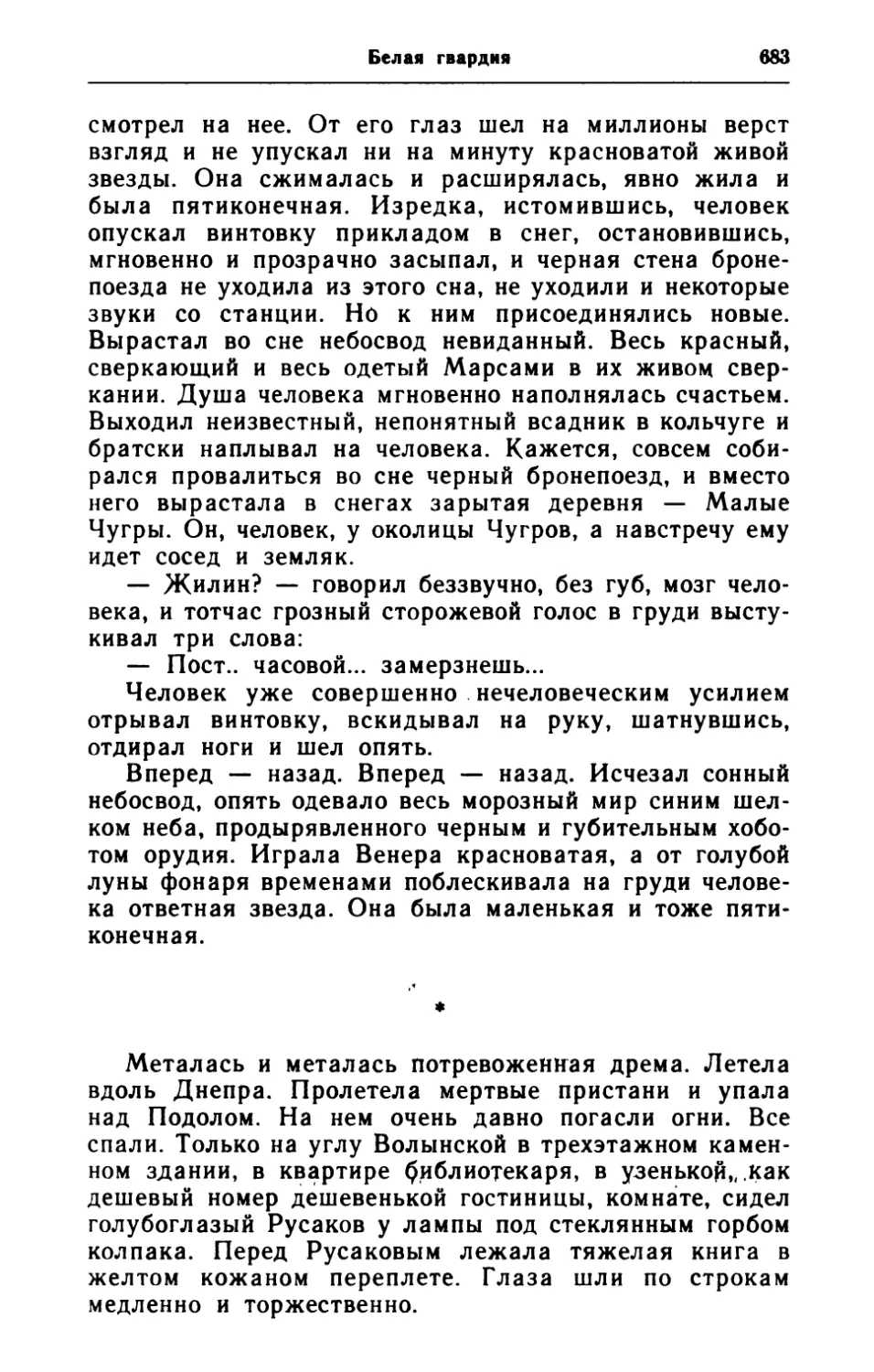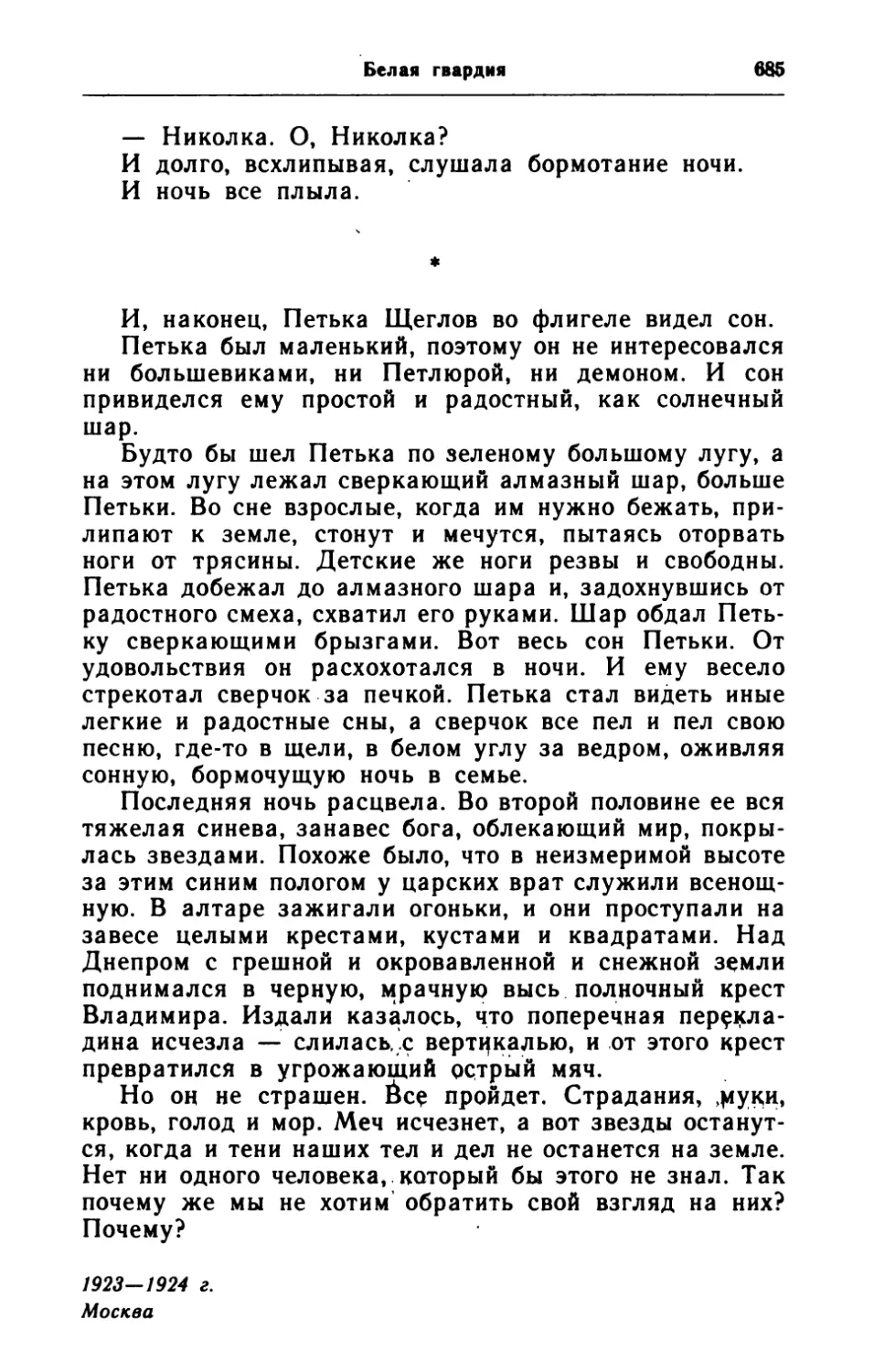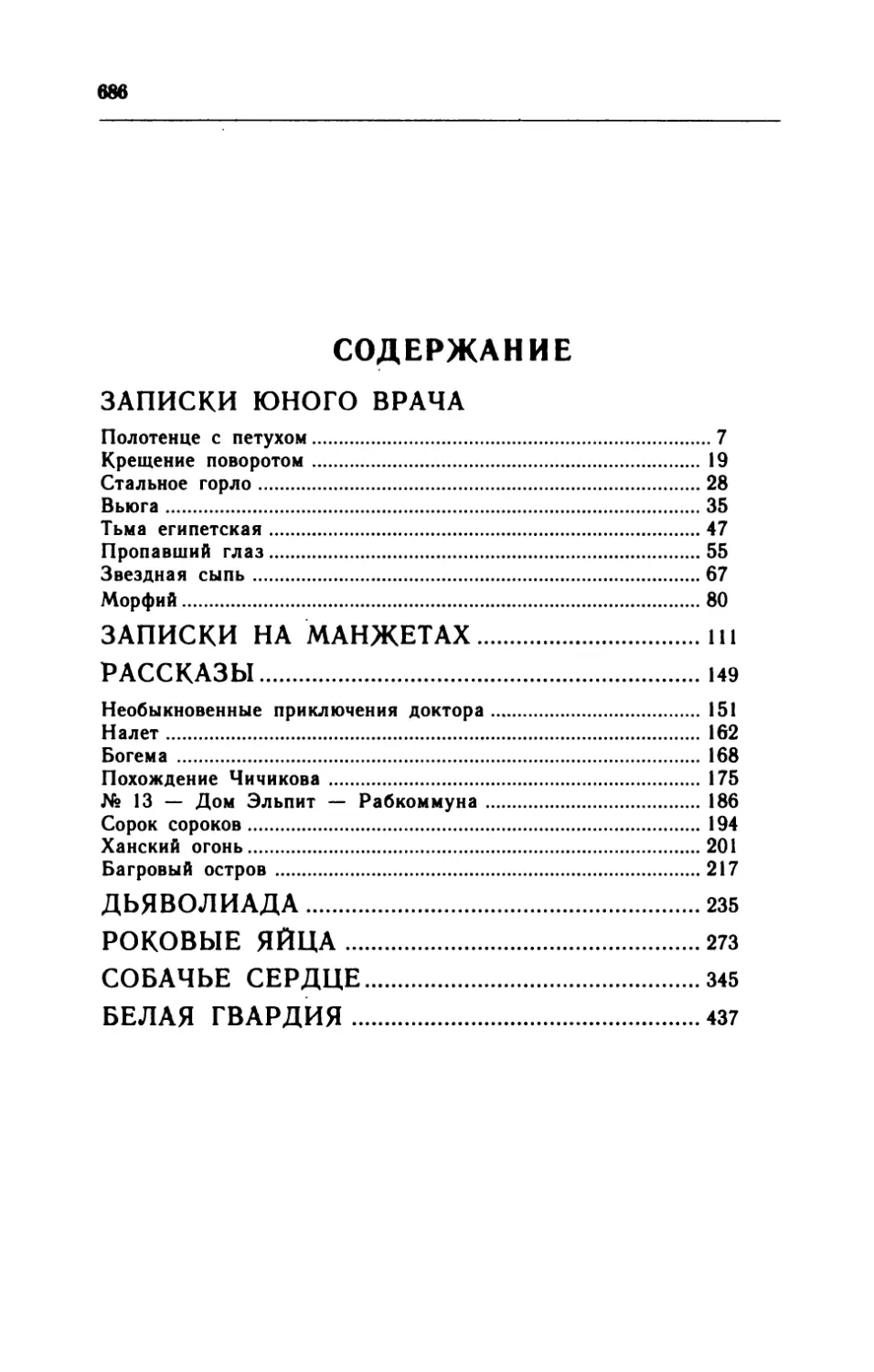Автор: Булгаков М.А.
Теги: художественная литература собрание сочинений
ISBN: 5-85874-085-5
Год: 1996
Текст
Библиотека классики
^Усекая
М.А. БУЛГАКОВ
Избранные сочинения
в трех томах
Москва
«Наташа» • (^umipam^a , «Алгоритм»
1996
М.А. БУЛГАКОВ
Избранные сочинения
том первый
ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА
ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ
РАССКАЗЫ
ДЬЯВОЛИАДА
РОКОВЫЕ ЯЙЦА
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Москва
ББК 84 Р6
Б90
Составление Б. АКИМОВА, А. ХРАМКОВА
Текст печатается по изданию М. А. Булгаков, собрание сочинений
в 5-ти томах. Художественная литература, 1991 г.
„ 4702010201-075 „ _
Б 5Г2 (03) — 96 Б®3 объявл-
ISBN 5-85874-084-7 © ТОО фирма «Наташа», 1996 г.
ISBN 5-85874-085-5 (Т.1) © ^Храмков. Серийное
оформление, 1996 г.
ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА
ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ
Если человек не ездил на лошадях по глухим просе-
лочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом не-
чего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и
напоминать не хочу.
Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный
город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с
возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ро-
вно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у
последнего лабаза, помещающегося на границе этого
замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут
17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял
на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского до-
ждика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в
таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно
тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учеб-
ников, тупо стараясь припомнить, существует ли дей-
ствительно, или мне это померещилось во вчерашнем
сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у чело-
века окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут
по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой
болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах
говорить не приходится — они уже не шевелились в
сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные
культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я про-
клинал шепотом медицину и свое заявление, поданное
пять лет назад ректору университета. Сверху в это время
сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка.
Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за
ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву.
Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне,
8
Михаил Булгаков
начиненному всякими знаниями из интересных медицин-
ских книжек, вспомнилась болезнь — паралич.
«Парализис», — отчаянно мысленно и черт знает
зачем сказал я себе.
— П...по вашим дорогам, — заговорил я деревянны-
ми, синенькими губами, — нужно п...привыкнуть ездить.
И при этом злобно почему-то уставился на возницу,
хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.
— Эх... товарищ доктор, — отозвался возница, тоже
еле шевеля губами под светлыми усишками, — пятнад-
цать годов езжу, а все привыкнуть не могу.
Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облуп-
ленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые
стены фельдшерского домика, на свою будущую рези-
денцию — двухэтажный, очень чистенький дом с гробо-
выми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут
же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов
сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и
холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:
...ПРИВЕТ ТЕБЕ... ПРИ ЮТ СВЯЩЕННЫЙ...
Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой
театр, Москва, витрины... ах, прощай.
«Я тулуп буду в следующий раз надевать... — в
злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни
негнущимися руками, я... хотя в следующий раз бу-
дет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше
чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку...
Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать
верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь... в
Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил... А се-
годня утром выехали в семь утра... И вот едешь...
батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает
в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги —
бух... потом на бок, потом на другой, потом носом впе-
ред, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут
кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине
серенького кислого сентября человек может мерзнуть в
поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И по-
ка умираешь медленною смертью, видишь одно и то же,
одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый
перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять
или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой
души. Молчание, молчание кругом...»
Записки юного врача
9
Чемодан наконец поддался. Возница налег на него
животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удер-
жать его за ремень, но рука отказалась работать, и
распухший, осточертевший мой спутник с книжками и
всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув
меня по ногам.
— Эх ты, госпо... — начал возница испуганно, но я
никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были
все равно хоть выбрось их.
— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал
руками, как петух крыльями. — Эй, доктора привез!
Тут в темных стеклах фельдшерского домика показа-
лись лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я
увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рва-
неньком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и
торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне,
почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском
приветствовал меня:
— Здравствуйте, товарищ доктор.
— Кто вы такой? — спросил я.
— Егорыч я, — отрекомендовался человек, — сто-
рож здешний. Уж мы вас ждем, ждем...
И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на
плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь
всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.
Человеку, в сущности, очень немного нужно. И пре-
жде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьинскую
глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово
держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне
существование на первых шагах. Каждому приходилось
представляться:
— Доктор такой-то.
И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:
— Неужели? А я-то думал, что вы еще студент.
— Нет, я кончил, — хмуро отвечал я и думал: «Очки
мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не
к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще
не была омрачена житейским опытом. Не имея возмож-
ности защищаться от всегдашних снисходительных и
ласковых улыбок при помощи очков, я старался выра-
ботать особую, внушающую уважение, повадку. Гово-
рить пытался размеренно и веско, порывистые движе-
ния по возможности сдерживать, не бегать, как бегают
люди в двадцать три года, окончившие университет, а
10
Михаил Булгаков
ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии
многих лет, понимаю, очень плохо.
В данный момент я этот свой неписаный кодекс
поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних
носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и,
как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к
пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке
у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на
ней лежали мои ботинки, рядом 'с нйми ободранный,
голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с пету-
хом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще
в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд
действий, которых потребовала сама жизнь. Востроно-
сая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в
должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под
ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми
перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, аку-
шерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я
успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью
убедился в том, что инструментарий в ней богатейший.
При этом с тою же ясностью я вынужден был признать
(про себя, конечно), что очень многих блестящих дев-
ственно инструментов назначение мне вовсе неизвестно.
Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно
признаюсь, и не видал.
— Гм, — очень многозначительно промычал я, —
однако у вас инструментарий прелестный. Гм...
— Как же-с, — сладко заметил Демьян Лукич, —
это все стараниями вашего предшественника Леопольда
Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.
Тут я облился прохладным потом и тоскливо погля-
дел на зеркальные сияющие шкафики.
Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что
в них свободно можно разместить сорок человек.
— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят
лежало, — утешил меня Демьян Лукич, а Анна Нико-
лаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то
сказала:
— Вы, доктор, так моложавы, так моложавы... Пря-
мо удивительно. Вы на студента похожи.
«Фу-ты, черт, — подумал я, — как сговорились,
честное слово!»
И проворчал сквозь зубы, сухо:
— Гм... нет, я.., то есть я... да, моложав...
зЪпмскм юного врача
11
Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что
в ней не было только птичьего молока. В темноватых
двух комнатах крепко пахло травами, и на полках сто-
яло все что угодно. Были даже патентованные загранич-
ные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не
слыхал о них ничего.
— Леопольд Леопольдович выписал, — с гордостью
доложила Пелагея Ивановна.
«Прямо гениальный человек был этот Леопольд», —
подумал я и проникся уважением к таинственному,
покинувшему тихое Мурье Леопольду.
Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух
был давно мною съеден, сенник для меня набит Егоры-
чем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей
резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на
третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был
битком набит книгами. Одних руководств по хирургии
на русском и немецком языках я насчитал бегло около
тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!
Надвигался вечер, и я осваивался.
«Я ни в чем не виноват, — думал я упорно и мучи-
тельно, — у меня есть диплом, я имею пятнадцать
пятерок. Я же предупреждал еще в том большом горо-
де, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались
и говорили: «Освоитесь». Вот тебе и освоитесь. А если
грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в
особенности каково будет чувствовать себя больной с
грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете
(тут у меня холод по позвоночнику)...
А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у
деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и
без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а...
роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж
я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек!
Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было.
Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».
В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда
поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме
полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками
лампы в окне.
«Я похож на Лжедимитрия», — вдруг глупо подумал
я и опять уселся за стол.
Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до
тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали
12
Михаил Булгаков?
созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и
даже создавать некоторые планы.
Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В
деревнях мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и
привезут, — бухнул суровый голос в мозгу, — потому
что по бездорожью человек с насморком (нетрудная бо-
лезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, доро-
гой коллега доктор».
Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.
«Молчи, — сказал я голосу, — не обязательна гры-
жа. Что за неврастения? Взялся за гуж, не говори, что
не дюж».
«Назвался груздем, полезай в кузов», — ехидно ото-
звался голос.
Так-с... со справочником я расставаться не буду...
Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать.
Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге
для записей больных. Буду выписывать полезные, но
нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилици
0,5 по одному порошку три раза в день...
«Соду можно выписать!» — явно издеваясь, отозвал-
ся мой внутренний собеседник.
При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу —
инфузум... на 180. Или на двести. Позвольте.
И тут же, хотя никто и не требовал от меня в оди-
ночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелис-
тал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а
попутно прочитал машинально и о том, что существует
на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «суль-
фат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается,
вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выпи-
сать? Он что — порошок? Черт его возьми!
«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей
будет?» -— упорно приставал страх в виде голоса.
«В ванну посажу, — остервенело защищался я, — в
ванну. И попробуй? вправить».
«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны!
Ущемленная, — демонским голосом пел страх. — Ре-
зать надо...»
Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за
окном послал: все, что угодно, только не ущемленную
грыжу.
А усталость напевала:
«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься,
а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гля-
ЗапйСки юного врача
13
ди — тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет
никакой грыжи. А утром будет видно. Освоишься... Спи...
Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь.
Грыжевое кольцо...»
Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт
на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за
окнами проскрипела телега.
Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со сваляв-
шейся бородкой, с безумными глазами.
Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул
лбом в пол. Это мне.
«Я пропал», — тоскливо подумал я.
— Что вы, что вы, что вы! — забормотал я и потянул
за серый рукав.
Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бор-
мотать в ответ прыгающие слова:
— Господин доктор... господин... единственная, един-
ственная... единственная! — выкрикнул он вдруг по-
юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. —
Ах ты, господи... Ах... — Он в тоске заломил руки и
опять забухал лбом в половицы, как будто хотел раз-
бить его. — За что? За что наказанье?.. Чем прогне-
вали?
— Что? Что случилось? — выкрикнул я, чувствуя,
что у меня холодеет лицо.
Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:
— Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги
берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем
доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не
померла. Калекой останется — пущай. Пущай! — кри-
чал он в потолок. — Хватит прокормить, хватит.
Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате
двери. Тоска обвивалась вокруг моего сердца.
— Что?.. Что? Говорите! — выкрикнул я болезненно.
Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал
мне, и глаза его стали бездонны:
— В мялку попала...
— В мялку... в мялку?.. — переспросил я. — Что это
такое?
— Лен, лен мяли... господин доктор... — шепотом
пояснила Аксинья, — мялка-то... лен мнут...
«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» — в ужасе
подумал я.
- Кто?
— Дочка моя, — ответил он шепотом, а потом крик-
нул: — Помогите! — И вновь повалился, и стриженные
его в скобку волосы метнулись на его глаза.
♦ ♦ ♦
Лампа-молния с покривившимся жестяным абажу-
ром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе,
на белой, свежепахнущей клеенке я ее увидел, и грыжа
померкла у меня в памяти.
Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со сто-
ла сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигант-
ская, и конец ее касался пола.
Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней раз-
ного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет
«молнии» показался мне желтым и живым, а ее лицо
бумажным, белым, нос заострен.
На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная,
потухала действительно редкостная красота. Не всегда,
не часто встретишь такое лицо.
В операционной секунд десять было полное молча-
ние, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо
выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.
«Обезумел, — думал я, — а сиделки, значит, его
отпаивают... Почему такая красавица? Хотя у него пра-
вильные черты лица... Видно, мать была красивая... Он
вдовец...»
— Он вдовец? — машинально шепнул я.
— Вдовец, — тихо ответила Пелагея Ивановна.
Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движе-
нием от края до верху разорвал юбку и сразу ее обна-
жил. Я глянул, и то, что увидал, превысило мои ожида-
ния. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раз-
дробленного колена, лежала кровавая рвань, красные
мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые
раздавленные кости. Правая была переломлена в голе-
ни так, что обе кости концами выскочили наружу, про-
бив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы
отдельно, лежала, повернувшись набок.
— Да, — тихо молвил фельдшер и ничего больше не
прибавил.
ЗапВДкЙГ юного врача
15
Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс.
В холодной руке его не было. Лишь после нескольких
секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она про-
шла... потом была пауза, во время которой я успел
глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел
уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять
прошла ниточкой волна.
«Вот как потухает изорванный человек, — подумал
я, — тут уж ничего не сделаешь...»
Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:
— Камфары.
Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и
шепнула:
— Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть?
Сейчас отойдет... Не спасете.
Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:
. — Попрошу камфары...
Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим обижен-
ным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала
ампулу.
Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем
не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое
масло ушло под кожу плеча.
«Умирай. Умирай скорее, — подумал я, — умирай.
А то что же я буду делать с тобой?»
— Сейчас помрет, —- как бы угадав мою мысль,
шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, ви-
димо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Одна-
ко через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она
лежала как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг
стало светло, как под стеклянным потолком нашего
далекого анатомического театра.
— Камфары еще, — хрипло сказал я.
И опять покорно фельдшер впрыснул масло.
«Неужели же не умрет?.. —- отчаянно подумал я. —
Неужели придется...»
Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников,
без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что
сообразил, была железной, — что сейчас мне придется
в первый раз в жизни на угасающем человеке делать
ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под
ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст
вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно
даже, чувствует* ли она что-нибудь сейчас, слышит ли.
16
Михаил ^Булгаков
Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет
мне безумный отец?
— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чу-
жим голосом.
Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера
мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у
инструментов. Под руками у него взревел примус...
Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вгля-
дывался в угасший глаз, приподымая холодное веко.
Ничего не постигаю... Как может жить полутруп? Капли
пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого
колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соле-
ный пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь
плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет?
На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила
бугры, набухшие от физиологического раствора. А де-
вушка жила.
Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в
университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял
теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не
померла... «Пусть уМрет в палате, когда я кончу опера-
цию...»
За меня работал только мой здравый смысл, под-
хлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно
и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полос-
нул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки
крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» —
думал я и, как волк, косился на груду торзионных
пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и
один из сосудов — он был в виде беловатой трубочки, —
но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его
торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал
эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосу-
ды... «Arteria... arteria... как, черт, ее?..» В операционной
стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели
гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом,
и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круг-
лую кость.
«Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч
человек!»
И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось
то, что было девичьей ногой. Лохмы, мясо, кости! Все
это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка,
как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону
культей. «Еще, еще немножко... Не умирай, — вдох-
Записки юного врача
17
новенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выско-
чить благополучно из этого ужасного случая моей жиз-
ни».
Потом вязали лигатурами, потом, щелкая колленом,
я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился,
осененный, сообразил... оставил сток... вложил марле-
вый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось,
будто я в бане...
Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое
лицо. Спросил:
— Жива?
— Жива... — как беззвучное эхо, отозвались сразу и
фельдшер, и Анна Николаевна.
— Еще минуточку проживет, — одними губами, без
звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и
деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не
трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем... а то не
дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операци-
онной скончается.
— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый
неизвестной силой.
Весь пол был заЛяпан белыми пятнами, все мы были
в поту. Полутруп лежал недвижно. Правая нога была
забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно
оставленное мною окно на месте перелома.
— Живет... — удивленно хрипнул фельдшер.
Затем ее стали подымать, и под простыней был ви-
ден гигантский провал — треть ее тела мы оставили в
операционной.
Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сидел-
ки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная
мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили.
И стихло.
В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.
— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? —
вдруг спросила Анна Николаевна. — Очень, очень хоро-
шо... Не хуже Леопольда...
В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как
«Дуайен».
Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у
Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны — заметил в
глазах уважение и удивление.
— Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...
Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.
18'
^Мнкаил Булгаков г
В больнице стихло. Совсем.
— Когда умрет, обязательно пришлите за мной, —
вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вмес-
то «хорошо» ответил почтительно:
— Слушаю-с...
Через несколько минут я был у зеленой лампы в
кабинете докторской квартиры. Дом молчал.
Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.
«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, ви-
дите ли, постарел как-то... Складка над переносицей...
Сейчас постучат... Скажут: «Умерла...»
Да, пойду и погляжу в последний раз... сейчас раз-
дастся стук...»
♦ ♦ ♦
В дверь постучали. Это было через два с половиной
месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.
Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действи-
тельно, черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза
искрятся.
Затем шелест... На двух костылях впрыгнула очаро-
вательной красоты одноногая девушка в широчайшей
юбке, обшитой по подолу красной каймой.
Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой
краской.
— В Москве... в Москве... — И я стал писать адр£с. —
Там устроят протез, искусственную ногу.
— Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец.
Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в
нос.
Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток,
и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскус-
ным красным вышитым петухом. Так вот что она пря-
тала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки
лежали на столике.
— Не возьму, — сурово сказал я и даже головой
замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я
взял...
И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине,
потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стер-
лось, продырявилось и, наконец, исчезло, как стираются
и исчезают воспоминания.
Записки 'много враЧа
19
КРЕЩЕНИЕ ПОВОРОТОМ
Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемно-
гу привыкать к новой жизни.
В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги остава-
лись непроезжими, и на приемах у меня бывало не
больше пяти человек. Вечера были совершенно свобод-
ны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учеб-
ников по хирургии и долгим одиноким чаепитиям у тихо
поющего самовара.
Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумол-
чно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая
по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман,
черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пят-
нами светились окна фельдшерского домика и керосино-
вый фонарь у ворот.
В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете
над атласом по топографической анатомии. Кругом была
полная тишина, и только изредка грызня мышей в сто-
ловой за буфетом нарушала ее.
Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отя-
желевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас
и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный
сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, раздел-
ся и лег.
Не успел я коснуться подушки, как передо мной в
сонной мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадца-
ти лет, из деревни Торопово. Анне Прохоровой нужно
было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян
Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как
он говорит «таковой» вместо «такой» — из любви к
высокому стилю, усмехнулся и заснул.
Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснул-
ся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всмат-
риваясь в темноту, стал прислушиваться.
Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную
дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими.
В квартиру стучали.
Стук замолк, загремел засов, послышался голос ку-
харки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скри-
пя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и
постучался в спальню.
— Кто там?
— Это я, — ответил мне почтительный шепот, — я,
Аксинья, сиделка.
20 г «Михаил Булгаков
— В чем дело?
— Анна Николаевна прислала за вами, велят вам,
чтоб вы в больницу шли поскорей.
— А что случилось? — спросил я и почувствовал,
как явственно екнуло сердце.
— Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у
ей неблагополучные.
«Вот оно. Началось! — мелькнуло у меня в голове,
и я никак не мог попасть ногами в туфли. — А, черт!
Спички не загораются. Что ж, рано или поздно это
должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларин-
гиты да катары желудка».
— Хорошо. Иди, скажи, что я сейчас приду! — крик-
нул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги
Аксиньи, и снова загремел засов. Сон соскочил мигом.
Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал
одеваться. Половина двенадцатого... Что там такое у
этой женщины с неблагополучными родами? Гм... непра-
вильное положение... узкий таз... Или, может быть, еще
что-нибудь хуже. Чего доброго, щипцы придется накла-
дывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немысли-
мо это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут
все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нужно
делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда
будет, если потеряюсь; перед акушерками срам. Впро-
чем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени
волноваться...»
Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что
все обойдется благополучно, под дождем, по хлопающим
досочкам побежал в больницу. В полутьме у входа вид-
нелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые до-
ски.
— Вы, что ль, привезли роженицу? — для чего-то
спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.
— Мы... как же, мы, батюшка, — жалобно ответил
бабий голос.
В больнице, несмотря на глухой час, было оживление
и суета. В приемной, мигая, горела лампа-молния. В ко-
ридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня
прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг до-
несся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в
родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко
освещена верхней лампой. Рядом с операционным сто-
лом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежа-
ла молодая женщина. Лицо ее было искажено болезнен-
Запйски' ioiidiW tjfaqa
та
ной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко
лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, приго-
товляла раствор в эсмарховской кружке, а вторая аку-
шерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафчика чис-
тые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял
и позе Наполеона. Увидев меня, все встрепенулись.
Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь засто-
нала жалобно и тяжко.
— Ну-с, что такое? — спросил я и сам подивился
своему тону, настолько он был уверен и спокоен.
— Поперечное положение, — быстро ответила Анна
Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.
— Та-ак, — протянул я, нахмурясь, — что ж, посмот-
рим...
— Руки доктору мыть! Аксинья! — тотчас крикнула
Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серь-
езно.
Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от
щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные
вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, отку-
да она... Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я,
присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупы-
вать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягива-
лась, впивалась пальцами, комкала простыню.
— Тихонько, тихонько... потерпи, — говорил я, осто-
рожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой
коже.
Собственно говоря, после того как опытная Анна
Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование
это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни иссле-
довал, больше Анны Николаевны я все равно бы не
узнал. Диагноз ее, конечно, был верный. Поперечное
положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше?..
Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон
живот и искоса поглядывал на лица акушерок. Обе они
были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал
одобрение моим действиям. Действительно, движения мои
были уверенны и правильны, а беспокойство свое я пос-
тарался спрятать как можно глубже и ничем его не
проявлять.
— Так, — вздохнув, сказал я и приподнялся с кро-
вати, так как смотреть снаружи было больше нечего, —
поисследуем изнутри.
Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Никола-
евны.
ft
Михаил Булгаков
— Аксинья!
Опять полилась вода.
«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» — тоскливо
думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было
невозможно. Да и чем бы помог мне в этот момент
Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом.
Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ива-
новны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и
робко производить внутреннее исследование. В памяти у
меня невольно всплыла картина операционной в аку-
шерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в
матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду свер-
кающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом
халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три
помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа сту-
дентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.
Здесь же я — один-одинешенек, под руками у меня
мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей
нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды
видел только два раза в своей жизни в клинике, и те
были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследо-
вание, но от этого не легче ни мне, ни роженице; я ровно
ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее
внутри.
А пора уже на что-нибудь решиться.
— Поперечное положение... раз поперечное положе-
ние, значит, нужно... нужно делать...
— Поворот на ножку, — не утерпела и словно про
себя заметила Анна Николаевна.
Старый, опытный врач покосился бы на нее за то,
что она суется вперед со своими заключениями... Я же
человек необидчивый...
— Да, — многозначительно подтвердил я, — поворот
на ножку.
И перед глазами у меня замелькали страницы До-
дерляйна. Поворот прямой... поворот комбинированный...
поворот непрямой...
Страницы, страницы... а на них рисунки. Таз, искрив-
ленные, сдавленные младенцы с огромными головами...
свисающая ручка, на ней петля.
И ведь недавно еще читал. И еще подчеркивал, вни-
мательно вдумываясь в каждое слово, мысленно пред-
ставляя себе соотношение частей и все приемы. И при
чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки
в мозгу.
Заплсюг/ ibiforex врЬч а
Ж
А теперь только и всплывает из всего прочитанного
одна фраза:
«Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное поло-
жение».
Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное
как для самой женщины, так и для врача, шесть меся-
цев тому назад окончившего университет.
— Что ж... будем делать, —- сказал я, приподнима-
ясь.
Лицо у Анны Николаевны оживилось.
— Демьян Лукич, — обратилась она к фельдшеру, —
приготовляйте хлороформ.
Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был
уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конеч-
но, под наркозом — как же иначе!
Но все-таки Додерляйна надо просмотреть...
И я, обмыв руки, сказал:
— Ну-с, хорошо... вы готовьте для наркоза, уклады-
вайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы
дома.
— Хорошо, доктор, успеется, — ответила Анна Ни-
колаевна.
Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи паль-
то, и, не надевая его в рукава, я побежал домой.
Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку,
кинулся к книжному шкафу.
Вот он — Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я
торопливо стал шелестеть глянцевитыми страничками.
«...поворот всегда представляет опасную для матери операцию...»
Холодок прополз у меня по спине, вдоль позвоночника.
«...Главная опасность заключается в возможности самопроизвольно-
го разрыва матки».
Само-про-из-воль-но-го...
«...Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка
простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруд-
нения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от
дальнейших попыток к выполнению поворота...»
Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом
определить эти «затруднения» и откажусь от «дальней-
24
Михаил Булгаков
ших попыток», что, спрашивается, я буду делать с за-
хлороформированной женщиной из деревни Дульцево?
Дальше:
«...Совершенно воспрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль
спинки плода...»
Примем к сведению.
«...Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как
при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое
может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого,
к самым печальным последствиям...»
«Печальным последствиям». Немного неопределенные,
но какие внушительные слова! А что, если муж дульцев-
ской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на
лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места,
постарался запомнить только самое существенное: что,
собственно, я должен делать, как и куда вводить руку.
Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался
на новые страшные вещи. Они били в глаза.
«...ввиду огромной опасности разрыва... внутренний и комбиниро-
ванный повороты представляют операции, которые должны быть отне-
сены к опаснейшим для матери акушерским операциям...»
И в виде заключительного аккорда:
«...С каждым часом промедления возрастает опасность...»*
Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у
меня все спуталось окончательно, и я мгновенно убедил-
ся, что я не понимаю ничего, и прежде всего, какой,
собственно, поворот я буду делать: комбинированный,
некомбинированный, прямой, непрямой!..
Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь
привести в порядок разбегающиеся мысли... Потом гля-
нул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут
дома. А там ждут.
«...С каждым часом промедления...»
Часы составляются из минут, а минуты в таких слу-
чаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал
обратно в больницу.
Записки юного врача
25
Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика,
приготовляя на нем маску и склянку с хлороформом.
Роженица уже лежала на операционном столе. Непре-
рывный стон разносился по больнице.
— Терпи, терпи, — ласково бормотала Пелагея
Ивановна, наклоняясь к женщине, — доктор сейчас тебе
поможет...
— О-ой! Моченьки... нет... Нет моей моченьки!.. Я не
вытерплю!
— Небось... небось... — бормотала акушерка, —
вытерпишь! Сейчас понюхать тебе дадим... Ничего и не
услышишь.
Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной
Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по ло-
коть руки. Анна Николаевна под стон и вопли расска-
зывала мне, как мой предшественник — опытный хи-
рург — делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь
нс проронить ни слова. И эти десять минут дали мне
больше, чем все то, что я прочел по акушерству к го-
сударственным экзаменам, на которых именно по аку-
шерству я получил «весьма». Из отрывочных слов, не-
оконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я уз-
нал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких
книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я
начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки,
решимость овладела мной и в голове у меня был совер-
шенно определенный и твердый план. Комбинированный
там или некомбинированный, сейчас мне об этом и ду-
мать не нужно.
Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно
одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой
снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а
на чувство меры, без которого врач никуда не годится,
осторожно, но настойчиво низвесть одну ножку и за нее
извлечь младенца.
Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время
безгранично решителен, нетруслив.
— Давайте, — приказал я фельдшеру и начал сма-
зывать пальцы йодом.
Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки рожени-
цы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из
темно-желтой склянки медленно начал капать хлоро-
форм. Сладкий и тошный запах начал наполнять комна-
ту. Лица у фельдшера и акушерок стали строгими, как
будто вдохновенными...
<26
Михаил Булгаком
— Га-а! А!! — вдруг выкрикнула женщина. Несколь-
ко секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить
маску.
— Держите!
Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и
прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула жен-
щина, отворачивая от маски лицо. Но реже... реже...
Глухо забормотала:
— Га-а... пусти!., а!..
Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступи-
ла тишина. Прозрачные капли все падали и падали на
белую марлю. ь
— Пелагея Ивановна, пульс?
— Хорош.
Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и
выпустила; та безжизненно, как плеть, шлепнулась о
простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок.
— Спит.
Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные
пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли.
А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похло-
пывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы
воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую
воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на
ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг
не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый
первый крик.
— Жив... жив... — бормочет Пелагея Ивановна и
укладывает младенца на подушку.
И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не
случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный
и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо
и говорит:
— Ну, тетя, тетя, просыпайся.
Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и
торопливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Ак-
синьей уносят ее в палату. Спеленутый младенец уезжа-
ет на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит
из белого ободка, и не прерывается тоненький, плакси-
вый писк.
Вода бежит из кранов умывальников. Анна Никола-
Записки юного врача
27
гвна жадно затягивается папироской, щурится от дыма,
кашляет.
— А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно
так.
Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на
нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выра-
жение горделивого удовольствия. Сердце мое полно
радостью. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок
кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победи-
телем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.
— Посмотрим еще, что будет дальше, — говорю я.
Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня
глаза.
— Что же может быть? Все благополучно.
Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, соб-
ственно говоря, хочется сказать вот что: все ли там
цело у матери, не повредил ли я ей во время операции...
Это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в
акушерстве так неясны, так книжно отрывочны! Раз-
рыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст
знать о себе — сейчас же или, быть может, позже?..
Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему.
— Ну, мало ли что, —- говорю я, — не исключена
возможность заражения, — повторяю я первую попав-
шуюся фразу из какого-то учебника.
— Ах, э-это! — спокойно тянет Анна Николаевна. —
Ну, даст бог, ничего не будет. Да и откуда? Все сте-
рильно, чисто. .
* * *
Было начало второго, когда я вернулся к себе. На
столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал
раскрытый на странице «Опасности поворота» Додер-
ляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над
ним, перелистывая страницы. И тут произошла интерес-
ная вещь: все прежние темные места сделались совер-
шенно понятными, словно налились светом, и здесь, при
свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит насто-
ящее знание.
«Большой опыт можно приобрести в деревне, — думал
я, засыпая, — но только нужно читать, читать, поболь-
ше... читать...»
СТАЛЬНОЕ ГОРЛО
Итак, я остался один. Вокруг меня — ноябрьская
тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах за-
выло. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил
в громадном городе и думал, что вьюга воет только в
романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера
здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажу-
ром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на
пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об
уездном городе — он находился в сорока верстах от
меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда.
Там было электричество, четыре врача, с ними можно
было посоветоваться, во всяком случае, не так страшно.
Но убежать не было никакой возможности, да времена-
ми я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно
для этого я учился на медицинском факультете...
«...Ну, а если привезут женщину и у нее неправиль-
ные роды? Или, предположим, больного, а у него ущем-
ленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте
добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факуль-
тет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама
по себе. Один раз я видел, как профессор делал опера-
цию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфи-
театре. И только...»
Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль
позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер
я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под
левой рукой у меня лежали все руководства по опера-
тивному акушерству, сверху маленький Додерляйн.
А справа десять различных томов по оперативной хи-
рургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный хо-
лодный чай...
И вот я заснул; отлично помню э!у ночь — 29 нояб-
ря, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя
я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божествен-
ных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип по-
лозьев во дворе: уши мои стали необычайно чуткими.
Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем попе-
речное положение младенца: привезли ко мне в Николь-
ский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку.
Сиделка глухо сказала:
— Слабая девочка, помирает... Пожалуйте, доктор, в
больницу...
Записки юного врача
ЭД
Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь
у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как
он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав
моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах.
Это были: фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но
очень способный человек, и две опытных акушерки —
Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего
лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад
выпущенным и назначенным заведовать Никольской
больницей.
Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появи-
лась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и
снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был
сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери
было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбро-
сила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел
девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время
оперативную хирургию, одиночество, мой негодный
университетский груз, забыл все решительно из-за кра-
соты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфет-
ных коробках рисуют таких детей — волосы сами от
природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи.
Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов
так рисовали. Но только странная муть гнездилась на
дне ее глаз, и я понял, что это страх, — ей нечем было
дышать. «Она умрет через час», — подумал я совершен-
но уверенно, и сердце мое болезненно сжалось...
Ямки втягивались в горле у девочки при каждом
дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розова-
того в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу
понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и
первый мой диагноз поставил совершенно правильно и,
главное, одновременно с акушерками — они-то были
опытны: «У девочки дифтерийныи круп, горло уже заби-
то пленками и скоро закроется наглухо...»
— Сколько дней девочка больна? — спросил я среди
насторожившегося молчания моего персонала.
— Пятый день, пятый, — сказала мать и сухими
глазами глубоко посмотрела на меня.
— Дифтерийный круп, — сквозь зубы сказал я фель-
дшеру, а матери сказал: — Ты о чем же думала? О чем
думала?
И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:
— Пятый, батюшка, пятый!
Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую баб-
30е
Михаил Булгаков
ку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих во-
обще на свете не было», — подумал я в тоскливом
предчувствии опасности и сказал:
— Ты, бабка, замолчи, мешаешь. — Матери же пов-
торил: — О чем ты думала? Пять дней? А?
Мать вдруг автоматическим движением передала
девочку бабке и стала передо мною на колени.
— Дай ей капель, — сказала она и стукнулась лбом
в пол, — удавлюсь я, если она помрет.
— Встань сию же минуточку, — ответил я, — а то
я с тобой и разговаривать не стану.
Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой,
приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка нача-
ла молиться на косяк, а девочка все дышала со змеи-
ным свистом. Фельдшер сказал:
— Так они все делают. На-род, — усы у него при
этом скривились набок.
— Что ж, значит, помрет она? — глядя на меня, как
мне показалось, с черной яростью, спросила мать.
— Помрет, — негромко и твердо сказал я.
Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать
глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:
— Дай ей, помоги! Капель дай!
Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.
— Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка
задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила
девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что
прикажешь делать?
— Тебе лучше знать, батюшка, — заныла у меня на
левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу
возненавидел.
— Замолчи! —- сказал ей. И, обратившись к фель-
дшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке
девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кри-
чать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее
защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть
при свете лампы-молнии девочке в горло. Я никогда до
тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро
забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее,
белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне
в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый
своей мыслью.
— Вот что, — сказал я, удивляясь собственному
спокойствию, — дело такое. Поздно. Девочка умирает.
И ничто ей не поможет, кроме одного — операции.
Записки юного врача
31пг.
И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не
мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня
мысль.
— Как это? — спросила мать.
— Нужно будет горло разрезать пониже и серебря-
ную трубку вставить, дать девочке возможность дышать,
тогда, может быть, спасем ее, — объяснил я.
Мать посмотрела на меня, каю на безумного, и девоч-
ку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:
— Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!
— Уйди, бабка! — с ненавистью сказал я ей. —
Камфару впрысните! — приказал я фельдшеру.
Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но
мы ей объяснили, что это не страшно.
—- Может, это ей поможет? — спросила мать.
— Нисколько не поможет.
Тогда мать зарыдала.
— Перестань, — промолвил я. Вынул часы и доба-
вил: — Пять минут даю думать. Если не согласитесь
после пяти минут, сам уже не возьмусь делать.
— Не согласна! — резко сказала мать.
— Нет нашего согласия! — добавила бабка.
— Ну, как хотите, — глухо добавил я и подумал:
«Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у
акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спа-
сен». И только что подумал, как другой кто-то за меня
чужим голосом вымолвил:
— Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны?
Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?
— Нет! — снова крикнула мать.
Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же
зарежу девочку». А говорил иное:
— Ну, скорей, скорей, соглашайтесь! Соглашайтесь!
Ведь у нее уже ногти синеют.
- Нет! Нет!
— Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.
Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач
женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся
и сказал:
— Соглашаются!
Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:
— Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки,
зонд!
Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала
и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты,
32 Михаил Булгаков) л1 а к ов
ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изо-
бражающий трахеотомию. На нем все было ясно и про-
сто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я
стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то
прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают
трахеотомию. «Э, теперь уж поздно», — подумал я,
взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок,
почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное
дело, и вернулся, не заметив вьюги, в больницу.
В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко
мне, и голос заныл:
— Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да
разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась.
А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить,
а горло резать не дам.
— Бабку эту вон! — закричал я и в запальчивости
добавил: — Ты сама глупая баба! Сама! А та именно
умная! И вообще никто тебя не спрашивает! Вон ее!
Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из
палаты.
— Готово! — вдруг сказал фельдшер.
Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь
завесу, увидал блестящие инструменты, ослепительную
лампу, клеенку... В последний раз я вышел к матери, из
рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь
хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в го-
роду. Придет, узнает, что я наделала, — убьет меня!»
— Убьет, — повторила бабка, глядя на меня в ужасе.
— В операционную их не пускать! — приказал я.
Мы остались одни в операционной. Персонал, я и
Лидка — девочка. Она, голенькая, сидела на столе и
беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, гор-
ло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож, при этом
подумал: «Что я делаю?» Было очень тихо в операцион-
ной. Я взял нож и провел вертикально черту по пухлому
белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я
второй раз провел ножом по белой полоске, которая
выступила меж раздавшейся кожей. Опять ни кровинки.
Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атла-
сах, я стал при помощи тупого зонда разделять тонень-
кие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула тем-
ная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по
шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не
унималась. Вспоминая все, что я видел в университете,
я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не
Записки юного врача
33
выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро
пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, за-
чем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул
пинцет наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и
кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали
комками марли; она предстала предо мной чистой и
абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла
нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя
рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я
совершенно механически и бестолково ковырял в ране
то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу
второй минуты я отчаялся его найти. «Конец, — по-
думал я, — зачем я это сделал? Ведь мог же я не
предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у
меня в палате, а теперь она умрет с разорванным гор-
лом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно
умерла бы, что я не мог повредить ей...» Акушерка
молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не
знаю, что дальше делать», — так подумал я, и мне
представились глаза матери. Я снова поднял нож и
бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани
разъехались, и неожиданно передо мной оказалось ды-
хательное горло.
— Крючки! — сипло бросил я.
Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной
стороны,-другой — с другой и один из них передал
фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые ко-
лечки горла. Острый нож я вколол в горло — и обмер.
Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у
меня в голове, сошел с ума: он вдруг стал выдирать его
вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял
глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал
падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка,
рвал дыхательное горло. «Всё против меня, судьба, —
подумал я, — теперь уж, несомненно, зарезали мы Лид-
ку, — и мысленно строго добавил: — Только дойду до-
мой —- и застрелюсь...» Тут старшая акушерка, видимо,
очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и
перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:
— Продолжайте, доктор...
Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не гля-
дели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную
трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка
осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло,
как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился:
2 Г
34
Михаил Булгаков
больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то
попросить прощенья, покаяться в своем легкомыслии, в
том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло
молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все
бросить и заплакать; как вдруг Лидка дико содрогну-
лась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь труб-
ку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом
девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это
мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе
поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.
Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я
видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне
сказала:
— Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.
Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно,
исподлобья глянул на нее. Потом распахнулись двери,
повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу
же в дверях показалась мать. Глаза у нее были как у
дикого зверя. Она спросила меня:
- Что?
Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня
по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если
бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным
я ей ответил:
— Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива.
Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет гово-
рить, так не бойтесь.
И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась
на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не
рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыс-
нуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем
ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня
в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подо-
шел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал
видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.
Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и
было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про
него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с
каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне
в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как
тумбочка, девочку. Женщина сияла глазами. Я всмот-
релся — узнал.
— А, Лидка! Ну, что?
— Да хорошо все.
2-2
Записки юного врача
35
Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но
нее же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На
розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два
юненьких поперечных от швов.-
— Все в порядке, — сказал я, — можете больше не
приезжать.
— Благодарю вас, доктор, спасибо, — сказала мать,
и Лидке велела: — Скажи дяденьке спасибо!
Но Лидка не желала мне ничего говорить.
Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал за-
бывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день,
когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять
часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, поша-
тываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшери-
ца сказала мне:
— За такой прием благодарите трахеотомию. Вы
знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке
вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специаль-
но ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава,-
доктор, поздравляю.
— Так и живет со стальным? — осведомился я.
— Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хлад-
нокровно как делаете, прелесть!
— М-да... Я, знаете ли, никогда не волнуюсь, —
сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от
усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел
н сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег
шел, все застилая, фонарь горел, и дом мой был одинок,
спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.
ВЬЮГА
То как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Вся эта история началась с того, что, по словам
всезнающей Аксиньи, конторщик Пальчиков, проживаю-
щий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь
была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Он
съездил в уездный город Грачевку и заказал себе кос-
тюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень воз-
можно, что серые полоски на конторских штанах реши-
г
ли судьбу несчастного человека. Дочка агронома согла-
силась стать его женой.
Я же — врач N-ской больницы, участка, такой-то
губернии, после того как отнял ногу у девушки, попав-
шей в мялку для льна, прославился настолько, что под
тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием
по накатанному санному пути стали ездить сто человек
крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика —
жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста
моих пациентов я тратил только по пять минут... пять!
Пятьсот минут — восемь часов двадцать минут. Подряд,
заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное
отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь
делал операции.
Одним словом, возвращаясь из больницы в девять
часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать.
Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал
звать меня на роды. И в течение двух недель по санному
пути меня ночью увозили раз пять.
Темная влажность появилась у меня в глазах, а над
переносицей легла вертикальная складка, как червяк.
Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции,
обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и
просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую
печку-голландку.
На обходе я шел стремительной поступью, за мною
мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останав-
ливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно
дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все,
что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылаю-
щей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам,
слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес
в себе одну мысль — как его спасти? И этого — спасти.
И этого! Всех!
Шел бой. Каждый день он начинался утром при
бледном свете снега, а кончался при желтом мигании
пылкой лампы-молнии.
«Чем это кончится, мне интересно было бы знать? —
говорил я сам себе ночью. — Ведь этак будут ездить на
санях и в январе, и в феврале, и в марте».
Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что
на N-ском участке полагается и второй врач.
Письмо на дровнях уехало по ровному снежному
океану за сорок верст. Через три дня пришел ответ:
2—4
Записки юного врача
37
писали, что, конечно, конечно... Обязательно... но только
ис сейчас... никто пока не едет...
Заключали письмо некоторые приятные отзывы о моей
работе и пожелания дальнейших успехов.
Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыски-
вать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных
размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки...
Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать че-
ловек. Прием я кончил в девять часов вечера. Заснул я,
стараясь угадать, сколько будет завтра — в среду? Мне
приснилось, что приехало девятьсот человек.
Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно
бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило.
Потом сообразил — стук.
— Доктор, — узнал голос акушерки Пелагеи Ива-
новны, — вы проснулись?
— Угу, — ответил я диким голосом спросонья.
— Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в
больницу. Два человека всего приехало.
— Вы — что? Шутите?
— Честное слово. Вьюга, доктор, вьюга, — повторила
она радостно в замочную скважину. — А у этих зубы
кариозные. Демьян Лукич вырвет.
— Да ну... — Я даже с постели соскочил неизвестно
почему.
Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я
целый день ходил по своим апартаментам (квартира
врачу была отведена в шесть комнат, и почему-то двух-
этажная — три комнаты вверху, а кухня и три внизу),
свистел из опер, курил, барабанил в окна... А за окнами
творилось что-то, мною еще никогда не виданное. Неба
не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо
и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком
баловался.
В полдень отдан был мною Аксинье — исполняющей
обязанности кухарки и уборщицы при докторской квар-
тире — приказ: в трех ведрах и котле вскипятить воды.
Я месяц не мылся.
Мною с Аксиньей было из кладовки извлечено неимо-
верных размеров корыто. Его установили на полу в кухне
(о ваннах, конечно, и разговора в N-ске быть не могло.
Ьыли ванны только в самой больнице — и те испорчен-
ные).
Около двух часов вертящаяся сетка за окном значи-
тельно поредела, а я сидел в корыте голый и с намылен-
ной головой.
38
Михаил Булгаков
— Эт-то я понимаю... — сладостно бормотал я, вы-
плескивая себе на спину жгучую воду, — эт-то я пони-
маю! А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем.
А если я высплюсь, то пусть завтра хоть полтораста
человек приезжает. Какие новости, Аксинья?
Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончит-
ся банная операция.
— Конторщик в Шалометьевом имении женится, —
отвечала Аксинья.
— Да ну! Согласилась?
— Ей-богу! Влюбле-ен... — пела Аксинья, погромы-
хивая посудой.
— Невеста-то красивая?
— Первая красавица! Блондинка, тоненькая...
— Скажи пожалуйста!
И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя
водой и стал прислушиваться.
т- Доктор-то купается... — выпевала Аксинья.
— Бур... бур... — бурчал бас.
— Записка вам, доктор, — пискнула Аксинья в сква-
жину.
— Протяни в дверь.
Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу,
и взял из рук Аксиньи сыроватый конвертик.
— Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже
человек, — не очень уверенно сказал я себе и в корыте
распечатал записку.
«Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол (за-
черкнуто) прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара
головой кровотечение из полост (зачеркнуто) из носа и рта. Без созна-
ния. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс
плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива)».
«Мне в жизни не везет», — тоскливо подумал я,
глядя на жаркие дрова в печке.
— Мужчина записку привез?
— Мужчина.
— Сюда пусть войдет.
Он вошел и показался мне древним римлянином
вследствие блистательной каски, надетой поверх ушас-
той шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода
ударила в меня.
— Почему вы в каске? — спросил я, прикрывая свое
недомытое тело простыней.
Записки юного врача
39
— Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожар-
ная команда... — ответил римлянин.
— Это какой доктор пишет?
— В гости к нашему агроному приехал. Молодой
врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье...
— Какая женщина?
— Невеста конторщикова.
Аксинья за дверью охнула.
— Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи
прилипло к двери.)
— Вчера помолвка была, а после помолвки-то кон-
торщик покатать ее захотел в саночках. Рысачка запрет,
усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял,
невесту-то мотнуло да лбом об косяк. Так она и выле-
тела. Такое несчастье, что выразить невозможно... За
конторщиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел.
— Купаюсь я, — жалобно сказал я, — ее сюда-то
чего же не привезли? — И при этом я облил водой
голову, и мыло ушло в корыто.
— Немыслимо, уважаемый гражданин доктор, —
прочувственно сказал пожарный и руки молитвенно
сложил, — никакой возможности. Помрет девушка.
— Как же мы поедем-то? Вьюга!
— Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади
резвые, гуськом. В час долетим...
Я кротко простонал и вылез из корыта. Два ведра
вылил на себя с остервенением. Потом, сидя на корточ-
ках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы
хоть немного просушить.
«Воспаление легких у меня, конечно, получится.
Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею
буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее,
чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за
полгода нахватался, а он и того менее. Видно, только
что из университета. А меня принимает за опытного...»
Размышляя таким образом, я и не заметил, как
оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, ва-
ленки, сверх блузы кожаная куртка, потом пальто, а
сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, кам-
фара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стериль-
ный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спич-
ки, часы, стетоскоп.
Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже
день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как
будто полегче. Косо, в одном направлении, в правую
40
Михаил Булгаков
щеку. Пожарный горой заслонял от меня круп первой
лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытяну-
лись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился
в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении,
о том, что у девушки, может быть, треснула кость чере-
па изнутри, осколок в мозг вонзился...
— Пожарные лошади? — спросил я сквозь бараний
воротник.
— Угу... гу... — пробурчал возница, не оборачиваясь.
— А доктор что ей делал?
— Да он... гу, гу... он, вишь ты, на венерические
болезни выучился... угу... гу...
— Гу... гу... — загремела в перелеске вьюга, потом
свистнула сбоку, сыпнула... Меня начало качать, кача-
ло, качало... пока я не оказался в Сандуновских банях
в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина
покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холо-
ду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем,
подумал, что пожар... затем очнулся и понял, что меня
привезли. Я у порога белого здания с колоннами, види-
мо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встре-
тили меня пожарные, и пламя танцует у них над голо-
вами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел —
пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.
— Лошадей мне сейчас же обратно дайте, — ска-
зал я.
— Слушаю, — ответил возница.
Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной
курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы,
полоса легла на крашеный пол. И тут выбежал светло-
волосый юный человек с затравленными глазами и в
брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук
с черными горошинами сбился у него на сторону, ма-
нишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки,
новый, как бы с металлическими складками.
Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу,
потряс меня, прильнул и стал тихонько выкрикивать:
— Голубчик мой... доктор... скорее... умирает она. Я
убийца. — Он глянул куда-то вбок, сурово и черно
раскрыл глаза, кому-то сказал: — Убийца я, вот что.
Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы,
рванул, и я увидел, что он по-настоящему рвет пряди,
наматывая на пальцы.
— Перестаньте, — сказал я ему и стиснул руку.
Кто-то повлек его. Выбежали какие-то женщины.
Записки юного врача
41
Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным
половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне
поднялся со стула молоденький врач. Глаза его были
жмученны и растерянны. На миг в них мелькнуло удив-
ление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы
были похожи на два портрета одного и того же лица, да
и одного года. Но потом он обрадовался мне до того, что
даже захлебнулся.
— Как я рад... коллега... вот... видите ли, пульс падает.
Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приеха-
ли...
На клоке марли на столе лежал шприц и несколько
ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за
двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом вы-
росла у меня за плечами. В спальне был полумрак,
лампу сбоку завесили зеленым клоком. В зеленоватой
тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Свет-
лые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заос-
трился, и ноздри были забиты розоватой от крови ватой.
— Пульс... — шепнул мне врач.
Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом
наложил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало
мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку.
У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда,
когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел
обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жир-
ное масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул
под кожу девичьей руки напрасно.
Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно
давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом,
как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка
пропала у меня под пальцами.
— Умерла, - я на ухо сказал врачу.
Белая фигура с седыми волосами повалилась на
ровное одеяло, припала и затряслась.
— Тише, тише, — сказал я на ухо этой женщине в
белом, а врач страдальчески покосился на дверь.
— Он меня замучил, — очень тихо сказал врач.
Мы с ним сделали так: плачущую мать оставили в
спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в
дальнюю комнату.
Там я ему сказал:
— Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы
ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать
мешаете!
42
Михаил Булгаков
Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы
откатили рукав его праздничной жениховской сорочки и
впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей
помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий
помог лучше, чем я ожидал. Конторщик через четверть
часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал
дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и
заснул. Возни, плача, шуршания и заглушенных воплей
он не слышал.
— Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете
заблудиться, — говорил мне врач шепотом в передней. —
Останьтесь, переночуйте...
— Нет, не могу. Во что бы то ни стало уеду. Мне
обещали, что меня сейчас же обратно доставят.
— Да они-то доставят, только смотрите...
— У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя.
Я их ночью должен видеть.
— Ну, смотрите...
Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут
же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело,
и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний
раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к
конторщику, оставил ампулу морфия врачу и, закутан-
ный, ушел на крыльцо.
Там свистело, лошади понурились, их секло снегом.
Факел метался.
— Дорогу-то вы знаете? — спросил я, кутая рот.
— Дорогу-то знаем, — очень печально ответил воз-
ница (шлема на нем уже не было), — а остаться бы вам
переночевать...
Даже по ушам его шапки было видно, что он до
смерти не хочет ехать.
— Надо остаться, — прибавил и второй, державший
разъяренный факел, — в поле нехорошо-с.
ж* Двенадцать верст... — угрюмо забурчал я, —
доедем. У меня тяжелые больные... — И полез в санки.
Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во
флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, каза-
лась мне невыносимой.
Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выров-
нялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез,
как провалился, или же потух. Однако через минуту
меня заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я
увидел, что не только факела нет, но Шалометьево про-
пало со всеми строениями, как во сне. Меня это не-
приятно кольнуло.
Записки юного врача
43
— Однако это здорово... — не то подумал, не то
забормотал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал,
до того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его
трепало во все стороны.
Проскочила мысль — а не вернуться ли? Но я ее
отогнал, завалился поглубже в сено на дно саней, как
в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеле-
ный лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг ос-
ветило: «Это перелом основания черепа. Да, да, да...
Лга-га... именно так!» Загорелась уверенность, что это
правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не
к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сдела-
ешь! Какая ужасная судьба! Как нелепо и страшно
жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже
подумать тошно и тоскливо! Потом себя стало жаль:
жизнь моя какая трудная. Люди сейчас спят, печки
натоплены, а я опять и вымыться не мог. Несет меня
вьюга, как листок. Ну вот, я домой приеду, а меня, чего
доброго, опять повезут куда-нибудь. Так и буду летать
по вьюге. Я один, а больных-то тысячи... Вот воспаление
легких схвачу и сам помру здесь... Так, разжалобив
самого себя, я и провалился в тьму, но сколько времени
в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а
стало мне холодно. И все холоднее и холоднее.
Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом
уже сообразил, что мы не едем, а стоим.
— Приехали? — спросил я, мутно тараща глаза.
Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез,
мне показалось, что его вертит во все стороны... и заго-
ворил без всякой почтительности:
— Приехали... Людей-то нужно было послушать... Ведь
что же это такое! И себя погубим и лошадей...
— Неужели дорогу потеряли? — У меня похолодела
спина.
— Какая тут дорога, — отозвался возница расстро-
енным голосом, — нам теперь весь белый свет — доро-
га. Пропали ни за грош... Четыре часа едем, а куда...
Ведь это что делается...
Четыре часа. Я стал копошиться, нащупал часы,
вынул спички. Зачем? Это было ни к чему, ни одна
спичка не дала вспышки. Чиркнешь, сверкнет — и мгно-
венно огонь слизнет.
— Говорю, часа четыре, — похоронно молвил пожар-
ный. — Что теперь делать?
— Где же мы теперь?
Вопрос был настолько глуп, что возница не счел
нужным на него ответить. Он поворачивался в разные
стороны, но мне временами казалось, что он стоит не-
подвижно, а меня в санях вертит. Я выкарабкался и
сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя
лошадь завязла по брюхо в сугробе. Грива ее свисала,
как у простоволосой женщины.
— Сами стали?
— Сами. Замучились животные...
Я вдруг вспомнил кой-какие рассказы и почему-то
почувствовал злобу на Льва Толстого.
«Ему хорошо было в Ясной Поляне, — думал я, —
его небось не возили к умирающим...»
Пожарного и меня мне стало жаль. Потом я опять
пережил вспышку дикого страха. Но задавил его в груди.
— Это — малодушие... — пробормотал я сквозь зубы.
И бурная энергия возникла во мне.
— Вот что, дядя, — заговорил я, чувствуя, что у
меня стынут зубы, — унынию тут предаваться нельзя,
а то мы действительно пропадем, к чертям. Они не-
множко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться.
Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду
править. Надо вылезать, а то нас заметет.
Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница
полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до
первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно
длинным. Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза
мне мело сухим вьюжным снегом.
— Но-о, — застонал возница.
— Но! Но! — закричал я, захлопав вожжами.
Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани
качало, как на волне. Возница то вырастал, то умень-
шался, выбирался впереди.
Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока
наконец я не почувствовал, что сани заскрипели как
будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел,
как замелькали задние копыта лошади.
— Мелко, дорога! —- закричал я.
— Го... го... — отозвался возница. Он приковылял ко
мне и сразу вырос.
— Кажись, дорога, — радостно, даже с трелью в
голосе отозвался пожарный. —- Лишь бы опять не сбить-
ся... Авось...
Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее.
Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне
Записки юного врача
45
показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было,
кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в боль-
ницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет
же дорога к жилью.
Лошади вдруг дернули и заработали ногами ожив-
леннее. Я обрадовался, не зная еще причины этого.
— Жилье, может, почувствовали? — спросил я.
Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях,
стал всматриваться. Странный звук, тоскливый и злоб-
ный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то
неприятно мне стало и вспомнился конторщик и как он
(онко скулил, положив голову на руки. По правой руке
н вдруг различил темную точку, она выросла в черную
кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный
вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть
у него прыгает, и спросил:
— Видели, гражданин доктор?..
Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, по-
жарный навалился на секунду мне на колени, охнул,
выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади7
всхрапнули и понесли. Они взметывали комьями снег,
швыряли его, шли неровно, дрожали.
И у меня прошла дрожь несколько раз по телу.
Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял
себя за то, что забыл дома и вторую обойму. Нет, если
уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял
с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в
газете о себе и злосчастном пожарном.
Кошка выросла в собаку и покатилась невдалеке от
саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями
вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее
были острые уши и шла она за санями легко, как по
паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении.
«Стая или их только две?» — думалось мне, и при слове
«стая» варом облило меня под шубой и пальцы на ногах
перестали стыть.
— Держись покрепче и лошадей придерживай, я
сейчас выстрелю, — выговорил я голосом, но не своим,
а неизвестным мне.
Возница только охнул в ответ и голову втянул в
плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило.
Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько
минут трепало меня на дне саней. Я слушал дикий,
визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой
ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в
46
Михаил Булгаков
смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг
окажется громадное жилистое тело. Видел уже мыслен-
но свои рваные кишки...
В это время возница завыл:
— Ого... го... вон он... вон... господи, выноси, выноси...
Я наконец справился с тяжелой овчиной, выпростал
руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных
зверей. Мело очень редко и прилично, и в редкой пелене
мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из
тысячи, который узнаю и теперь, — мерцал фонарь
моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда
красивее дворца...» — промыслил я и вдруг в экстазе
еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда,
где пропали волки.
Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из
нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я —
наверху этой лестницы, Аксинья в тулупе — внизу.
— Озолотите меня, — заговорил возница, — чтоб я
в другой раз... — Он не договорил, залпом выпил раз-
веденный спирт и крякнул страшно, обернулся к Ак-
синье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло
его устройство: — Во величиной...
— Померла? Не отстояли? — спросила Аксинья у
меня.
— Померла, — ответил я равнодушно.
Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я
остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся,
расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, по-
шел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел по-
смотреть что-то о переломах основания черепа, бросил
книгу.
Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила
меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по
всему телу.
— Озолотите меня, — задремывая, пробурчал я, —
но больше я не по...
— Поедешь... ан поедешь... — насмешливо засвиста-
ла вьюга. Она с громом проехалась по крыше, потом
пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за ок-
ном, пропала.
— Поедете... по-е-де-те... — стучали часы, но глуше,
глуше...
И ничего. Тишина. Сон.
ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ
Где же весь мир в день моего рождения? Где элек-
трические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками
ист ничего! Тьма...
Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари
от нас в девяти верстах на станции железной дороги.
Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели.
Пройдет в полночь с воем скорый в Москву и даже не
остановится — не нужна ему забытая станция, погре-
бенная в буране. Разве что занесет пути.
Первые электрические фонари в сорока верстах, в
уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф
есть, магазины. В то время как воет и валит снег на
полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются
пальмы, мигает тропический остров...
Мы же одни.
— Тьма египетская, — заметил фельдшер Демьян
Лукич, приподняв штору.
Выражается он торжественно, но очень метко. Имен-
но — египетская.
— Прошу еще по рюмке, — пригласил я. (Ах, не
осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь
мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого,
кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в
снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки
разведенного спирту по рецепту и закусить уездными
шпротами в день рождения врача?)
— За ваше здоровье, доктор! — прочувственно ска-
зал Демьян Лукич.
— Желаем вам привыкнуть у нас! — сказала Анна
Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье
с разводами.
Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлеб-
нула, сейчас же присела на корточки и кочергой поше-
велила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам,
в груди теплело от водки.
— Я решительно не постигаю, — заговорил я воз-
бужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под
кочергой, — что эта баба сделала с белладонной. Ведь
это же кошмар!
Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушерок.
Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в
кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет трид-
цати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему
48
Михаил "Бул гаков
за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогор-
лый флакон и запела льстиво:
— Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так
помогли, так помогли!.. Пожалуйте еще баночку.
Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и
в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано
размашистым почерком Демьяна Лукича: «Tinct. Bella-
donn...» и т. д. «16 декабря 1917 года».
Другими словами, вчера я выписал бабочке порядоч-
ную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рожде-
ния, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и
с просьбой повторить.
— Ты... ты... все приняла вчера? — спросил я диким
голосом.
— Все, батюшка милый, все, — пела бабочка сдоб-
ным голосом, — дай вам бог здоровья за эти капли...
полбаночки — как приехала, а полбаночки — как спать
ложиться. Как рукой сняло...
Я прислонился к акушерскому креслу.
— Я тебе по скольку капель говорил? — задушен-
ным голосом заговорил я. — Я тебе по пять капель...
Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... я ж...
— Ей-богу, приняла! — говорила баба, думая, что я
не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.
Я охватил руками румяные щеки и стал всматри-
ваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно
красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был
тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравле-
ния белладонной у бабы не замечалось.
— Этого не может быть!.. — заговорил я и завопил: —
Демьян Лукич!!!
Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечно-
го коридора.
— Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица
сделала! Я ничего не понимаю...
Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то
она провинилась.
Демьян Лукич завладел флаконом, понюхал его,
повертел в руках и строго молвил:
— Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!
— Ей-бо.... — начала баба.
— Бабочка, ты нам очков не втирай, — сурово, ис-
кривив рот, говорил Демьян Лукич, — мы всё доско-
нально понимаем. Сознавайся, кого лечила этими кап-
лями?
Записки юного врача
49
Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто вы-
беленный потолок и перекрестилась.
— Вот чтоб мне...
— Брось, брось... — бубнил Демьян Лукич и обра-
тился ко мне: — Они, доктор, ведь как делают. Съездит
такая артистка в больницу, выпишут ей лекарство, а
она приедет в деревню и всех баб угостит.
— Что вы, гражданин фершал...
— Брось! — отрезал фельдшер. — Я у вас восьмой
год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем
дворам, — продолжал он мне.
— Еще этих капелек дайте, — умильно попросила
баба.
— Ну, нет, бабочка, — ответил я и вытер пот со
лба, — этими капельками больше тебе лечиться не при-
дется. Живот полегчал?
— Прямо-таки, ну, рукой сняло!..
— Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу,
тоже очень хорошие.
И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочаро-
ванная, уехала.
Вот об этом случае мы и толковали у меня в доктор-
ской квартире в день моего рождения, когда за окнами
висела тяжким занавесом метельная египетская тьма.
— Это что, — говорил Демьян Лукич, деликатно
прожевывая рыбку в масле, — это что: мы-то привыкли
уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета,
после столицы, весьма и весьма придется привыкать.
Глушь!
— Ах, какая глушь! — как эхо, отозвалась Анна
Николаевна.
Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела
за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный
лист у печки. Благословение огню, согревающему мед-
персонал в глуши!
— Про вашего предшественника Леопольда Леополь-
довича изволили слышать? — заговорил фельдшер и,
деликатно угостив папироской Анну Николаевну, заку-
рил сам.
— Замечательный доктор был! — восторженно мол-
вила Пелагея Иванна, блестящими глазами всматрива-
ясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фаль-
шивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в чер-
ных волосах.
50
Михаил Булгаков
— Да, личность выдающаяся, — подтвердил фельд-
шер. — Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к
ним. На операцию ложиться к Липонтию — пожалуй-
ста! Они его вместо Леопольд Леопольдовича Липонтий
Липонтьевияем звали. Верили ему. Ну, и разговаривать
с ними умел. Нуте-с, приезжает как-то к нему приятель
его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так,
говорит, Липонтий Липонтьич, заложило мне грудь. Ну не
продохнуть. И, кроме того, как, будто в глотке царапает.
— Ларингит, — машинально молвил я, привыкнув
уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниенос-
ным диагнозам.
— Совершенно верно. «Ну, — говорит Липонтий, —
я тебе дам средство. Будешь ты здоров через два дня.
Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на
спину между крыл, другой — на грудь. Подержишь
десять минут, сымешь. Марш! Действуй!» Забрал тот
горчишники и уехал. Через два дня появляется на приеме.
«В чем дело?» — спрашивает Липонтий.
А Косой ему:
«Да что ж, говорит, Липонтий Липонтьич, не помога-
ют ваши горчишники ничего».
«Врешь! — отвечает Липонтий. — Не могут француз-
. ские горчишники не помочь! Ты их, наверное, не ставил?»
«Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит...»
И при этом поворачивается спиной, а у него горчиш-
ник на тулупе налеплен!..
Я расхохотался, а Пелагея Иванна захихикала и
ожесточенно застучала кочергой по полену.
— Воля ваша, это — анекдот, — сказал я, — не
может быть!
— Анек-дот?! Анекдот?! — вперебой воскликнули
акушерки.
— Нет-с! — ожесточенно воскликнул фельдшер. — У
нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состо-
ит... У нас тут такие вещи...
— А сахар?! — воскликнула Анна Николаевна. —
Расскажите про сахар, Пелагея Иванна!
Пелагея Иванна прикрыла заслонку и заговорила,
потупившись:
— Приезжаю я в то же Дульцево к роженице...
— Это Дульцево — знаменитое место, — не удер-
жался фельдшер и добавил: — Виноват! Продолжайте,
коллега!
— Ну, понятное дело, исследую, — продолжала колле-
га Пелагея Иванна, — чувствую под пальцами в родо-
Записки юного врача
51
ном канале что-то непонятное... То рассыпчатое, то ку-
сочки... Оказывается — сахар-рафинад!
— Вот и анекдот! — торжественно заметил Демьян
Лукич.
— Поз-вольте... ничего не понимаю..,
— Бабка! — отозвалась Пелагея Иванна. — Знахар-
ка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не
хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его
выманить. Вон они, значит, его на сладкое и выманивали!
— Ужас! — сказал я.
— Волосы дают жевать роженицам, — сказала Анна
Николаевна.
— Зачем?!
— Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц.
Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон
щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут...
Глаза у акушерок засверкали от воспоминаний. Мы
долго у огня сидели за чаем, и я слушал как зачарован-
ный. О том, что, когда приходится везти роженицу из
деревни к нам в больницу, Пелагея Иванна свои сани
всегда сзади пускает: не передумали бы по дороге, не
вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды
роженицу при неправильном положении, чтобы младен-
чик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали.
О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи
делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изре-
зала всю голову младенцу, так что даже такой знаме-
нитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спас-
ти, и хорошо, что хоть мать спас. О том...
Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой фли-
гель. Я видел, как некоторое время тускловато свети-
лось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все
скрылось. К метели примешался густейший декабрьский
вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо и землю.
Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипы-
вал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и
слышно было, как грызла где-то деловитая мышь.
«Ну, нет, — раздумывал я, — я буду бороться с
египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продер-
жит меня здесь, в глуши. Сахар-рафинад... Скажите
пожалуйста!..»
В мечтаниях, рогждавшихся при свете лампы под
зеленым колпаком, возник громадный университетский
город, а в нем клиника, а в клинике — громадный зал,
изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные
52
Михаил Булгаков
простыни, ассистент с остроконечной, очень мудрой,
седеющей бородкой...
Стук в такие моменты всегда волнует, страшит.
Я вздрогнул...
— Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с
балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была
в двух этажах: вверху — кабинет и спальня, внизу —
столовая, еще одна комната — неизвестного назначения
и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья — кухар-
ка — и муж ее, бессменный сторож больницы).
Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и
закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доло-
жила:
— Да больной приехал...
Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не
хотелось, а от мышиной грызни и воспоминаний стало
немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не
женщина, значит, не самое страшное — не роды.
— Ходит он?
— Ходит, — зевая, ответила Аксинья.
Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солид-
ный, большого веса человек. Я в это время уже сидел
за письменным столом, стараясь, чтобы двадцатичеты-
рехлетняя моя живость не выскакивала по возможности
из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя
рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.
В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, вален-
ках. Шапка находилась в руках у фигуры.
— Чего же это вы, батюшка, так поздно? — солидно
спросил я для очистки совести.
— Извините, гражданин доктор, — приятным, мяг-
ким басом отозвалась фигура, — метель — чистое горе!
Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуй-
ста!
«Вежливый человек», — с удовольствием подумал я.
Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая
борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода
эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не
только подстригал, но даже и смазывал каким-то вещест-
вом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя бы
короткий срок, нетрудно угадать постное масло.
— В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?
Шуба легла горой на стул.
— Лихорадка замучила, — ответил больной и скорб-
но глянул.
— Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?
Записки юного врача
53
— Так точно. Мельник.
— Ну, как же она вас мучает? Расскажите!
— Каждый день, как двенадцать часов, голова начи-
няет болеть, потом жар как пойдет... Часа два потреп-
лет и отпустит.
«Готов диагноз», — победно звякнуло у меня в голове.
— А в остальные часы ничего?
— Ноги слабые...
— Ага... Расстегнитесь! Гм... так.
К концу осмотра больной меня очаровал. После бес-
толковых старушек, испуганных подростков, с ужасом
шарахающихся от металлического шпаделя, после этой
утренней штуки с белладонной на мельнике отдыхал
мой университетский глаз.
Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказал-
ся грамотным, и даже всякий жест его был пропитан
уважением к науке, которую я считаю своей любимой, —
к медицине.
— Вот что, голубчик, — говорил я, постукивая по
широчайшей теплой груди, — у вас малярия. Переме-
жающаяся лихорадка... У меня сейчас целая палата
свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как
следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками, а
если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добь-
емся успеха. А? Ложитесь?..
— Покорнейше вас благодарю! — очень вежливо
ответил мельнцк. — Наслышаны об вас. Все довольны.
Говорят, так помогаете... И на впрыскивании согласен,
лишь бы поправиться.
«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» — подумал
я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было
настолько приятное, будто не посторонний мельник, а
родной брат приехал ко мне погостить в больницу.
На одном бланке я написал:
«Chinini mur. 0,5
D. T. dos. № 10
' S. Мельнику Худову
по 1 порошку в полночь».
И поставил лихую подпись.
А на другом бланке:
«Пелагея Ивановна! Примите во 2-ю палату мельника. У него malaria.
Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка,
значит, в полночь.
Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!».
м
Михаил Булгаков
Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и
зевающей Аксиньи ответную записку:
«Дорогой доктор! Все исполнила. Пел. Лбова». -
И заснул.
...И проснулся.
— Что ты? Что? Что, Аксинья?! — забормотал я.
Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с бе-
лым горошком по темному полю. Стеариновая свеча
трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.
— Марья сейчас прибежала, Пелагея Иванна веле-
ла, чтоб вас сейчас же позвать.
— Что такое?
— Мельник, говорит, во второй палате помирает.
— Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!
Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол,
не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в
горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На
часах было ровно шесть.
«Что такое?.. Что такое? Да неужели же не маля-
рия?! Что же с ним такое? Пульс прекрасный...»
Не позже чем через пять минут я, в надетых наиз-
нанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный,
в валенках, проскочил через двор, еще совершенно тем-
ный, и вбежал во вторую палату. .
На раскрытой постели, рядом со скомканной просты-
ней в одном больничном белье сидел мельник. Его осве-
щала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его
борода была взъерошена, а глаза мне показались черны-
ми и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужа-
сом осматривался, тяжело дышал...
Сидела Марья, открыв рот, смотрела на его темно-
багровое лицо.
Пелагея Ивановна, в криво надетом халате, просто-
волосая, метнулась навстречу мне.
— Доктор! — воскликнула она хрипловатым голо-
сом. — Клянусь вам, я не виновата! Кто же мог ожи-
дать? Вы же сами черкнули — интеллигентный...
— В чем дело?
Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:
— Вообразите, доктор! Он все десять порошков хи-
нину съел сразу! В полночь.
Записки юного врача
55
Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич уби-
рал желудочный зонд. Пахло камфарным маслом. Таз
на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник ле-
жал истощенный, побледневший, до подбородка укры-
тый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом.
Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мель-
ник выскочил благополучно.
— Ну, как? — спросил я.
— Тьма египетская в глазах... О... ох... — слабым
басом отозвался мельник.
— У меня тоже! — раздраженно ответил я.
— Ась? — отозвался мельник (слышал он еще плохо).
— Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это
сделал?! — в ухо погромче крикнул я.
И .мрачный и неприязненный бас отозвался:
— Да, думаю, что валандаться с вами по одному
порошочку? Сразу принял — и делу конец.
— Это чудовищно! — воскликнул я.
— Анекдот-с! — как бы в язвительном забытьи ото-
звался фельдшер.
«Ну, нет... я буду бороться. Я буду... Я...» И сладкий
сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеле-
ною тьма египетская... и в ней будто бы я... не то с
мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши.
Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна
Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах, и
всё вперед, вперед...
Сон — хорошая штука!..
ПРОПАВШИЙ ГЛАЗ
Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому
самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела
пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые послед-
ние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось
бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в
полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний...
И по скрипящему полу я прошел в свою спальню и
поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в
зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо.
56
Михаил Булгаков
Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голо-
ву. Ныне пробор исчез. Волосы были закинуты назад
без особых претензий. Пробором никого не прельстишь
в тридцати верстах от железного пути. То же и относи-
тельно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась
полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную
щеточку, щеки стали как терка, так что приятно, если
зачешется предплечье во время работы, почесать его
щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не три раза
в неделю, а только один раз.
Вот читал я как-то, где-то... где — забыл... об одном
англичанине, попавшем на необитаемый остров. Инте-
ресный был англичанин. Досиделся он на острове даже
до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову
и лодка выбросила людей-спасителей,юн — отшельник —
встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж,
обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брил-
ся каждый день на необитаемом острове. Помнится,
громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын
Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня
лежала и безопасная «Жиллет», а к ней дюжина клин-
ков, и опасная, и кисточка. И твердо решил я, что буду
бриться через день, потому что у меня здесь ничем не
хуже необитаемого острова.
Но вот однажды, это было в светлом апреле, я раз-
ложил все эти английские прелести в косом золотистом
луче и только что отделал до глянца правую щеку, как
ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожи-
щах и доложил, что роды происходят в кустах у Запо-
ведника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер
левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали
мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголен-
ных куп лозняка, — акушерка с торзионным пинцетом
и свертком марли и банкой с йодом, я с дикими, выпу-
ченными глазами, а сзади — Егорыч. Он через каждые
пять шагов присаживался на землю и с проклятиями
рвал левый сапог: у него отскочила подметка. Ветер
летел нам навстречу, сладостный и дикий ветер русской
весны, у акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребе-
шок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по
плечу.
— Какого ты черта пропиваешь все деньги? — бор-
мотал я на лету Егорычу. — Это свинство. Больничный
сторож, а ходишь, как босяк.
— Какие же это деньги, — злобно огрызался Его-
рич, — за двадцать целковых в месяц муку мученскую
принимать... Ах ты, проклятая! — Он бил ногой в зем-
лю, как яростный рысак. — Деньги... тут не то что
сапоги, а пить-есть не на что...
— Пить-то тебе — самое главное, — сипел я, зады-
хаясь, — оттого и шляешься оборванцем...
У гнилого мостика послышался жалобный легкий
крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас.
Мы подбежали и увидели растрепанную корчившуюся
женщину. Платок с нее свалился, и волосы прилипли к
потному лбу, она в мучении заводила глаза и ногтями
рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую
жиденькую, бледную зеленую травку, проступившую на
жирной, пропитанной водой земле.
— Не дошла, не дошла, — торопливо говорила Пе-
лагея Ивановна и, сама, простоволосая, похожая на
ведьму, разматывала сверток.
И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через
потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей
Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого
приняли и мать спасли. Потом две сиделки и Егорыч,
босой на левую ногу, освободившись наконец от нена-
вистной истлевшей подметки, перенесли родильницу в
больницу на носилках.
Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая
простынями, когда младенец поместился в люльке ря-
дом и все пришло в порядок, я спросил у нее:
— Ты что же это, мать, лучшего места не нашла
рожать, как на мосту? Почему же на лошади не при-
ехала?
Она ответила:
— Свекор лошади не Дал. Пять верст, говорит, всего,
дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять...
— Дурак твой свекор и свинья, — отозвался я.
— Ах, до чего темный народ, — жалостливо добави-
ла Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула.
Я поймал ее взгляд, он упирался в мою левую щеку.
Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало.
Зеркало это показало то, что обычно показывало: пере-
кошенную физиономию явно дегенеративного типа с
подбитым как бы правым глазом. Но — и тут уже
зеркало не было виновато — на правой щеке дегенерата
можно было плясать, как на паркете, а на левой тяну-
лась густая рыжеватая поросль. Разделом служил под-
58 '
Михаил Булгаков
бородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с
надписью «Сахалин». Там были фотографии разных муж-
чин.
«Убийство, взлом, окровавленный топор, — подумал
я, — десять лет... Какая все-таки оригинальная жизнь
у меня на необитаемом острове. Нужно идти добрить-
ся...»
Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей,
слушал вороний грохот с верхушек берез, щурился от
первого солнца, шел через двор добриваться. Это было
около трех часов дня. А добрился я в девять вечера.
Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в
Мурьеве, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку.
Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыль-
це, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу,
облепленную грязью, сильно тряхнуло. Правила баба и
тонким голосом кричала:
— Н-но, лешай!
И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал
мальчишка.
Конечно, у него оказалась переломленная нога, и вот
два часа мы с фельдшером возились, накладывая гип-
совую повязку на мальчишку, который выл подряд два
часа. Потом обедать нужно было, потом лень было
бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли
сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрил-
ся. Но так как зубчатый «Жиллет» пролежал позабы-
тым в мыльной воде — на нем навеки осталась ржа-
венькая полосочка, как память о весенних родах у моста.
Да... бриться два раза в неделю было ни к чему.
Порою нас заносило вовсе снегом, выла несусветная
метель, мы по два дня сидели в Мурьевской больнице,
не посылали даже в Вознесенск за девять верст за
газетами, и долгими вечерами я мерил и мерил свой
кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве
жаждал куперовского «Следопыта». Но все же англий-
ские замашки не потухли вовсе на мурьевском необи-
таемом острове, и время от времени я вынимал из чер-
ного футлярчика блестящую игрушку и вяло брился,
выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин.
Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня.
Позвольте... да... ведь был и еще случай, когда, пом-
нится, вынул бритву и только что Аксинья принесла в
кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь
грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей
Записки юного i/^ача
59
Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в ба-
раньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состо-
ящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся бе-
лый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плева-
лась, хохотала, все, к черту, исчезло, и я испытывал
знакомое похолодание где-то в области солнечного спле-
тения при мысли, что собьемся мы с пути в этой сата-
нинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все: и
Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню,
возникла у меня дурацкая мысль о том, что, когда мы
будем замерзать и вот нас наполовину занесет снегом,
я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий... За-
чем?.. А так, чтобы не мучиться... «Замерзнешь ты, лекарь,
и без морфия превосходнейшим образом, — помнится,
отвечал мне сухой и здоровый голос, — ништо тебе...»
У-гу-гу!.. Ха-ссс!.. свистала ведьма, и нас мотало, мота-
ло в санях... Ну, напечатают там в столичной газете на
задней странице, что вот, мол, так и так, погибли при
исполнении служебных обязанностей лекарь такой-то, а
равно Пелагея Ивановна с кучером и парою коней. Мир
их праху в снежном море. Тьфу... что в голову лезет,
когда тебя так называемый долг службы несет и несет...
Мы и не погибли, не заблудились, а приехали в село
Грищево, где я стал производить второй поворот на
ножку в моей жизни. Родильница была жена деревен-
ского учителя, и пока мы по локоть в крови и по глаза
в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной
над поворотом, слышно было, как за дощатой дверью
стонал и мотался по черной половине избы муж. Под
стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания
я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младен-
чика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по
спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-
то грозный, черный и огромный, ворвется в избу, скажет
каменным голосом: «Ага. Взять у него диплом!».
Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и воско-
вую мать, лежавшую недвижно, в забытьи от хлорофор-
ма. В форточку била струя метели, мы открыли ее на
минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа,
и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлоп-
нул форточку и снова вперил взор в мотающуюся бес-
помощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выра-
зить того отчаяния, в котором я возвращался домой
один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухажи-
вать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей
60
МйЗДил Бул га кой и
метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадеж-
но, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, разби-
тым, задавленным жестокой судьбой. Она меня бросила
в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой
поддержки и указаний. Какие неимоверные трудности
мне приходится переживать. Ко мне могут привести какой
угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хи-
рургический, и я должен стать к нему лицом, своим
небритым лицом, и победить его. А если не победишь,
вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам,
а сзади остался трупик младенца и мамаша. Завтра,
лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко
мне в больницу, и очень большой вопрос — удастся ли
мне отстоять ее? Да и как мне отстоять ее? Как пони-
мать это величественное слово? В сущности, действую я
наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили
с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не
свезло. Ах, в сердце щемит от одиночества, от холода,
оттого, что никого нет кругом. А может, я еще и пре-
ступление совершил — ручку-то. Поехать куда-нибудь,
повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол,
так и так, я, лекарь такой-то, ручку младенцу перело-
мил. Берите у меня диплом, недостоин я его, дорогие
коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, неврастения!
Я завалился на дно саней, съежился, чтобы холод не
жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой
собачонкой, псом, бездомным и неумелым.
Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький,
но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот боль-
ницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и
манил к себе. И при взгляде на него несколько полег-
чало в одинокой душе, и, когда фонарь уже прочно
утвердился перед моими глазами, когда он рос и при-
ближался, когда стены больницы превратились из чер-
ных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил
самому себе так:
«Вздор — ручка. Никакого значения не имеет. Ты
сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно
думать, а о том, что мать жива».
Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но
все же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет,
ощущая тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от
всех мучений, бормотал так:
«Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень
одиноко».
Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с
простывшим кипятком. Я с презрением швырнул бритву
н ящик. Очень, очень мне нужно бриться...
И вот целый год. Пока он тянулся, он казался мно-
голиким, многообразным, сложным и страшным, но те-
перь я вижу, что он цролетел, как ураган. Но вот в
«•риале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице.
Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и
мужественнее, складка на переносице останется на всю
жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их
нижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще
я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-
го фантастический суд будет меня судить и грозные
судьи будут спрашивать:
«А где солдатская челюсть? Ответь, злодей, кончив-
ший университет!»
Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете
и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет
зубы так ловко, как плотник — ржавые гвозди из ста-
рых шалевок, но такт и чувство собственного достоинст-
ва подсказали мне на первых же шагах моих в Мурь-
ипской больнице, что зубы нужно выучиться рвать и
самому. Демьян Лукич может и отлучиться или забо-
леть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов
они, извините, не рвут, не их дело.
Стало быть... я помню прекрасно румяную, но ис-
страдавшуюся физиономию передо мной на табурете.
Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с разва-
лившегося фронта после революции. Отлично помню и
здоровеннейший, прочно засевшийся в челюсти крепкий
зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабо-
ченно покрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем,
однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рас-
сказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне
впервые показалось, что рассказ этот нисколько не
смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко
взвыл:
— Ого-о!
После этого под рукой сопротивление прекратилось,
и щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным
и белым предметом в них. Тут у меня екнуло сердце,
потому что предмет этот превышал по объему всякий
зуб, хотя бы даже и солдатский коренной. Вначале я
62
ЛЧ**ИЛ Булгаков >;f
ничего не понял, потом чуть не зарыдал: в щипцах,
правда, торчал и зуб с длиннейшими корнями, но на
зубе висел огромный кусок ярко-белой неровной кости.
«Я сломал ему челюсть...» — подумал я, и ноги мои
подкосились. Благословляя судьбу за то, что ни фельд-
шера, ни акушерок нет возле меня, я воровским дви-
жением завернул плод моей лихой работы в марлю и
спрятал в карман. Солдат качался на табурете, вцепив-
шись одной рукой в ножку акушерского кресла, а дру-
гою — в ножку табурета, и выпученными, совершенно
ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно
ткнул ему стакан с раствором марганцевокислого калия
и велел:
— Полощи.
Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор,
а когда выпустил его в чашку, toy вытек, смешавшись
с алою солдатской кровью, по дороге превращаясь в
густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлы-
нула изо рта солдата так, что я замер. Если б я по-
лоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли она бы текла
сильнее. Оставив стакан с калием, я набрасывался на
солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти
дыру. Марля мгновенно становилась алой, и, вынимая
ее, я с ужасом видел, что в дыру эту можно свободно
поместить больших размеров сливу ренглот.
«Отделал я солдата на славу», — отчаянно думал я
и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец
кровь утихла, и я вымазал яму в челюсти йодом.
— Часа три не ешь ничего, — дрожащим голосом
сказал я своему пациенту.
— Покорнейше вас благодарю, — отозвался солдат,
с некоторым изумлением глядя в чашку, полную его
крови.
— Ты, дружок, — жалким голосом сказал я, — ты
вот чего... ты заезжай завтра или послезавтра показать*
ся мне. Мне... видишь ли... нужно будет посмотреть...
У тебя рядом еще зуб подозрительный... Хорошо?
— Благодарим покорнейше, — ответил солдат хмуро
и удалился, держась за щеку, а я бросился в приемную
и сидел там некоторое время, охватив голову руками и
качаясь, как от зубной у самого болц. Раз пять я вы-
таскивал из кармана твердый окровавленный ком и опять
прятал его.
Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел.
Записки юного вра4а
63
«У солдата будет гангрена, заражение крови...» Ах
H.I, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?»
Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начи-
нает трясти. Сперва он ходит, рассказывает про Керен-
ского и фронт, потом становится все тише. Ему уже не
до Керенского. Солдат лежит на ситцевой подушке и
бредит. У него — 40°. Вся деревня навещает солдата.
Л затем солдат лежит на столе под образами с заост-
рившимся носом.
В деревне начинаются пересуды.
«С чего бы это?»
«Дохтур зуб ему вытаскал...»
«Вон оно што...»
Дальше — больше. Следствие. Приезжает суровый
человек:
«Вы рвали зуб солдату?..»
«Да... я».
Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я — причина
смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, выброшен-
ный за борт человек, вернее, бывший человек.
Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и
высыхал в письменном столе. За жалованием персоналу
нужно было ехать через неделю в уездный город.
Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу
уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороден-
кой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он
видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил
чай с лимоном, ковырял скатерть, наконец не вытерпел
и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот,
мол... бывают ли такие случаи... если кто-нибудь рвет
зуб... и челюсть обломает... ведь гангрена может полу-
читься, не правда ли?.. Знаете, кусок... я читал...
Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылиняв-
шие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:
— Это вы ему лунку выломали... Здорово будете
зубы рвать... Бросайте чай, идем водки выпьем перед
ужином.
И тотчас и навсегда ушел мой мучитель солдат из
головы.
Ах, зеркало воспоминаний. Прошел год. Как смешно
мне вспоминать про эту лунку! Я, правда, никогда не
буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Еще бы! Он
каждый день рвет штук по пяти, а я раз в две недели
по одному. Но все же я рву так, как многие хотели бы
64
Михаил Булгаков
рвать. И лунок не ломаю, а если бы и сломал, не
испугался бы.
Да что зубы. Чего только я не перевидел и не сделал
за этот неповторяемый год.
Вечер тек в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая
в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце мое
переполнялось гордостью. Я делал две ампутации бед-
ра, а пальцев не считаю. А вычистки. Вот у меня запи-
сано восемнадцать раз. А грыжа. А трахеотомия. Делал,
и вышло удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрыл.
А повязки при переломах. Гипсовые и крахмальные.
Вывихи вправлял. Интубации. Роды. Приезжайте, с
какими хотите. Кесарева сечения делать не стану, это
верно. Можно в город отправить. Но щипцы, поворо-
ты — сколько хотите.
Помню государственный последний экзамен по су-
дебной медицине. Профессор сказал:
— Расскажите о ранах в упор.
Я развязно стал рассказывать и рассказывал долго,
и в зрительной памяти проплывала страница толстей-
шего учебника. Наконец я выдохся, профессор поглядел
на меня брезгливо и сказал скрипуче:
— Ничего подобного тому, что вы рассказали, при
ранах в упор не бывает. Сколько у вас пятерок?
— Пятнадцать, — ответил я.
Он поставил против моей фамилии тройку, и я вы-
шел в тумане и позоре вон...
Вышел, потом вскоре поехал в Мурьево, и вот я
здесь один. Черт его знает, что бывает при ранах в
упор, но когда здесь передо мной на операционном сто-
ле лежал человек и пузыристая пена, розовая от крови,
вскакивала у него на губах, разве я потерялся? Нет,
хотя вся грудь у него в упор была разнесена волчьей
дробью, и было видно легкое, и мясо груди висело кло-
ками, разве я потерялся? И через полтора месяца он
ушел у меня из больницы живой. В университете я не
удостоился ни разу подержать в руках акушерские
щипцы, а здесь, правда, дрожа, наложил их в одну
минуту. Не скрою того, что младенца я получил стран-
ного: половина его головы была раздувшаяся, сине-
багровая, безглазая. Я похолодел. Смутно выслушал уте-
шающие слова Пелагеи Ивановны:
— Ничего, доктор, это вы ему на глаз наложили одну
ложку.
2*
Записки юного врача
65
Я трясся два дня, но через два дня голова пришла
в норму.
Какие я раны зашивал. Какие видел гнойные плев-
риты и взламывал при них ребра, какие пневмонии,
гифы, раки, сифилис, грыжи (и вправлял), геморрои,
саркомы.
Вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час
считал. И сосчитал. За год, вот до этого вечернего часа,
и принял 15 613 больных. Стационарных у меня было
200, а умерло только шесть.
Я закрыл книгу и поплелся спать. Я, юбиляр двад-
цати четырех лет, лежал в постели и, засыпая, думал о
гом, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться?
Нечего. Я таскал горох из ушей мальчишек, я резал,
резал, резал... Рука моя мужественна, не дрожит. Я
видел всякие каверзы и научился понимать такие бабьи
речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как
Шерлок Холмс в таинственных документах... Сон все
ближе...
— Я, — пробурчал я, засыпая, — я положительно не
представляю себе, чтобы мне привезли случай, который
бы мог меня поставить в тупик... может быть, там, в
столице, и скажут, что это фельдшеризм... пусть... им
хорошо... в клиниках, в университетах... в рентгеновских
кабинетах... я же здесь... всё... и крестьяне не могут
жить без меня... Как я раньше дрожал при стуке в
двери, как корчился мысленно от страха... А теперь...
— Когда же это случилось?
— С неделю, батюшка, с неделю, милый... Выперло...
И баба захныкала.
Смотрело серенькое октябрьское утро первого дня
моего второго года. Вчера я вечером гордился и хвас-
тался, засыпая, а сегодня стоял в халате и растерянно
вглядывался.
Годовалого мальчишку она держала на руках, как
полено, и у мальчишки этого левого глаза не было.
Вместо глаза из растянутых, истонченных век выпирал
шар желтого цвета величиной с небольшое яблоко.
Мальчишка страдальчески кричал и бился, баба хныка-
ла. И вот я потерялся.
Я заходил со всех сторон. Демьян Лукич и акушерка
стояли сзади меня. Они молчали, ничего такого они
никогда не видели.
66
Михаил Булгаков
«Что это такое. Мозговая грыжа... Гм... он живет...
Саркома... Гм... мягковата... Какая-то невиданная, жут-
кая опухоль... Откуда же она развилась... Из бывшего
глаза... А может быть, его никогда и не было... Во вся-
ком случае, сейчас нет...»
— Вот что, — вдохновенно сказал я, — нужно будет
вырезать эту штуку...
И тут же я представил себе, как я надсеку веко,
разведу их в стороны и...
«И что... Дальше-то что? Может, это действительно
из мозга... Фу, черт... Мягковато... на мозг похоже...»
—- Что резать? — спросила баба, бледнея. — На
глазу резать? Нету моего согласия...
И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки.
— Никакого глаза у него нет, — категорически от-
ветил я, — ты гляди, где ж ему быть. У твоего младенца
странная опухоль...
— Капелек дайте, —- говорила баба в ужасе.
— Да что ты, смеешься? Каких таких капелек?
Никакие капельки тут не помогут!
— Что ж ему, без глаза, что ли, оставаться?
— Нету у него глаза, говорю тебе...
— А третьего дни был! — отчаянно воскликнула
баба.
«Черт!..»
— Не знаю, может, и был... черт... только теперь
нету... И вообще, знаешь, милая, вези ты своего младен-
ца в город. И немедленно, там сделают операцию. Демь-
ян Лукич. А?
— М-да, — глубокомысленно отозвался фельдшер,
явно не зная, что и сказать, — штука невиданная.
— Резать в городе? — спросила баба в ужасе. — Не
дам.
Кончилось это тем, что баба увезла своего младенца,
не дав притронуться к глазу.
Два дня я ломал голову, пожимал плечами, рылся в
библиотечке, разглядывал рисунки, на которых были
изображены младенцы с вылезающими вместо глаз пу-
зырями... Черт.
А через два дня младенец был мною забыт.
Прошла неделя.
— Анна Жухова! —- крикнул я.
Вошла веселая баба с ребенком на руках.
— В чем дело? — спросил я привычно.
3-2
Записки юного врача
67
— Бока закладает, не продохнуть, — сообщила баба
н почему-то насмешливо улыбнулась.
Звук ее голоса заставил меня встрепенуться.
- Узнали? — спросила баба насмешливо.
•- Постой... постой... да это что... Постой... это тот
И1МЫЙ ребенок?
— Тот самый. Помните, господин доктор, вы говори-
ли, что глазу нету и резать чтобы...
Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах ее
играл смех.
На руках молчаливо сидел младенец и глядел на
। нст карими глазами. Никакого желтого пузыря не было
и помине.
«Это что-то колдовское...» — расслабленно подумал я.
Потом, несколько придя в себя, осторожно оттянул
игко. Младенец хныкал, пытался вертеть головой, но все
же я увидал... малюсенький шрамик на слизистой... А-а...
— Мы как выехали от вас тады... Он и лопнул...
— Не надо, баба, не рассказывай, — сконфуженно
сказал я, — я уже понял.
— А вы говорите, глаза нету... Ишь, вырос. — И
биба издевательски хихикнула.
«Понял, черт меня возьми... у него из нижнего века
развился громаднейший гнойник, вырос и оттеснил глаз,
in крыл его совершенно... а потом как лопнул, гной вытек...
в все пришло на место...»
Нет. Никогда, даже засыпая, не буду горделиво бор-
мотать о том, что меня ничем не удивишь. Нет. И год
прошел, пройдет другой год и будет столь же богат
сюрпризами, как и первый... Значит, нужно покорно
учиться.
ЗВЕЗДНАЯ СЫПЬ
Это он. Чутье мне подсказало. На знание мое рассчи-
1ывать не приходилось. Знания у меня, врача, шесть
месяцев тому назад окончившего университет, конечно,
не было.
Я побоялся тронуть человека за обнаженное и теплое
плечо (хотя бояться было нечего) и на словах велел ему:
— Дядя, а ну-ка, подвиньтесь ближе к свету!
68
Михаил Булгаков
Человек повернулся так, как я этого хотел, и свет
керосиновой лампы-молнии залил его желтоватую кожу.
Сквозь эту желтизну на выпуклой груди и на боках
проступала мраморная сыпь. «Как в небе звезды», —
подумал я и с холодком под сердцем склонился к груди,
потом отвел глаза от нее, поднял их на лицо. Передо
мной было лицо сорокалетнее, в свалявшейся бородке
грязно-пепельного цвета, с бойкими глазками, прикры-
тыми напухшими веками. В глазках этих я, к великому
моему удивлению, прочитал важность и сознание соб-
ственного достоинства.
Человек помаргивал и оглядывался равнодушно и
скучающе и поправлял поясок на штанах.
«Это он — сифилис», — вторично мысленно и строго
сказал я. В первый раз в моей врачебной жизни я
натолкнулся на него, я — врач, прямо с университет-
ской скамеечки брошенный в деревенскую даль в нача-
ле революции.
На сифилис этот я натолкнулся случайно. Этот чело-
век приехал ко мне и жаловался на то, что ему зало-
жило глотку. Совершенно безотчетно, и не думая о си-
филисе, я велел ему раздеться и вот тогда увидел эту
звездную сыпь.
Я сопоставил хрипоту, зловещую красноту в глотке,
странные белые пятна в ней, мраморную грудь и дога-
дался. Прежде всего я малодушно вытер руки сулемо-
вым шариком, причем беспокойная мысль: «Кажется, он
кашлянул мне на руки», — отравила мне минуту. Затем
беспомощно и брезгливо повертел в руках стеклянный
шпатель, при помощи которого исследовал горло моего
пациента. Куда бы его деть?
Решил положить на окно, на комок ваты.
— Вот что, —- сказал я, видите ли... Гм... По-
видимому... Впрочем, даже наверно... У вас, видите ли,
нехорошая болезнь — сифилис...
Сказал это и смутился. Мне показалось, что человек
этот очень сильно испугается, разнервничается...
Он нисколько не разнервничался и не испугался. Как-
то сбоку он покосился на меня, вроде того как смотрит
круглым глазом курица, услышав призывающий ее го-
лос. В этом круглом глазе я очень изумленно отметил
недоверие.
— Сифилис у вас, — повторил я мягко.
— Это что же? — спросил человек с мраморной
сыпью.
Записки юного врача
69
Тут остро мелькнул у меня перед глазами край снеж-
но белой палаты, университетской палаты, амфитеатр с
। ромоздящимися студенческими головами и седая боро-
ли профессора-венеролога... Но быстро я очнулся и
пспомнил, что я в полутора тысячах верст от амфитеат-
ра и в сорока верстах от железной дороги, в свете
лнмпы-молнии... За белой дверью глухо шумели много-
численные пациенты, ожидающие очереди. За окном
неуклонно смеркалось и летел первый зимний снег.
Я заставил пациента раздеться еще больше и нашел
шживающую уже первичную язву. Последние сомнения
оставили меня, и чувство гордости, неизменно являюще-
еся каждый раз, когда я верно ставил диагноз, пришло
ко мне.
— Застегивайтесь, — заговорил я, — у вас сифилис!
Ьолезнь весьма серьезная, захватывающая весь орга-
низм. Вам долго придется лечиться!..
Тут я запнулся, потому что — клянусь!-.. — прочел
и этом, похожем на куриный, взоре удивление, смешан-
ное явно с иронией.
— Глотка вот захрипла, — молвил пациент.
— Ну да, вот от этого и захрипла. От этого и сыпь
на груди. Посмотрите на свою грудь...
Человек скосил глаза и глянул. Иронический огонек
не погасал в глазах.
— Мне бы вот глотку полечить, — вымолвил он.
«Что это он все свое? — уже с некоторым нетерпе-
нием подумал я. — Я про сифилис, а он про глотку!»
— Слушайте, дядя, — продолжал я вслух, — глотка
дело второстепенное. Глотке мы тоже поможем, но, са-
мое главное, нужно вашу общую болезнь лечить. И долго
нам придется лечиться — два года.
Тут пациент вытаращил на меня глаза. И в них я
прочел свой приговор: «Да ты, доктор, рехнулся!»
— Что ж так долго? — спросил пациент. — Как это
так два года?! Мне бы какого-нибудь полоскания для
глотки...
Внутри у меня все загорелось. И я стал говорить. Я
уже не боялся испугать его. О нет! Напротив, я намек-
нул, что и нос может провалиться. Я рассказал о том,
что ждет моего пациента впереди, в случае если он не
будет лечиться как следует. Я коснулся вопроса о за-
разительности сифилиса и долго говорил о тарелках,
ложках и чашках, об отдельном полотенце...
— Вы женаты? спросил я.
70
Михаил Булгаков
— Женат, — изумленно отозвался пациент.
— Жену немедленно пришлите ко мне! — взволно-
ванно и страстно говорил я. — Ведь она тоже, наверное,
больна?
— Жану?! — спросил пациент и с великим удивле-
нием всмотрелся в меня.
Так мы и продолжали разговор. Он, помаргивая,
смотрел в мои зрачки, а я в его. Вернее, это был не
разговор, а мой монолог. Блестящий монолог, за кото-
рый любой из профессоров поставил бы пятерку пяти-
курснику. Я обнаружил у себя громаднейшие познания
в области сифилидологии и недюжинную сметку. Она
заполняла темные дырки в тех местах, где не хватало
строк немецких и русских учебников. Я рассказал о том,
что бывает с костями нелеченого сифилитика, а попутно
очертил и прогрессивный паралич. Потомство! А как
жену спасти?! Или, если она заражена, а заражена она
наверное, то как ее лечить?
Наконец поток мой иссяк, и застенчивым движением
я вынул из кармана справочник в красном переплете с
золотыми буквами. Верный друг мой, с которым я не
расставался на первых шагах моего трудного пути.
Сколько раз он выручал меня, когда проклятые рецеп-
турные вопросы разверзали черную пропасть передо
мной! Я украдкой, в то время как пациент одевался,
перелистывал странички и нашел то, что мне было нужно.
Ртутная мазь великое средство.
— Вы будете делать втирания. Вам дадут шесть
пакетиков мази. Будете втирать по одному пакетику в
день... вот так...
И я наглядно и с жаром показал, как нужно втирать,
и сам пустую ладонь втирал в халат...
— ...Сегодня — в руку, завтра — в ногу, потом опять
в руку — другую. Когда сделаете шесть втираний, вы-
моетесь и придете ко мне. Обязательно. Слышите? Обя-
зательно! Да! Кроме того, нужно внимательно следить
за зубами и вообще за ртом, пока будете лечиться. Я
вам дам полоскание. После еды обязательно полощите...
— И глотку? — спросил пациент хрипло, и тут я
заметил, что только при слове «полоскание» он ожи-
вился.
— Да, да, и глотку.
Через несколько минут желтая спина тулупа уходила
с моих глаз в двери, а ей навстречу протискивалась
бабья голова в платке.
Записки юного врача
71
А еще через несколько минут, пробегая по полутем-
ному коридору из амбулаторного своего кабинета в аптеку
зя папиросами, я услыхал бегло хриплый шепот:
— Плохо лечит. Молодой. Понимаешь, глотку зало-
жило, а он смотрит, смотрит... То грудь, то живот... Тут
делов полно, а на больницу полдня. Пока выедешь —
пот те и ночь. О господи! Глотка болит, а он мази на
ноги дает.
— Без внимания, без внимания, — подтвердил бабий
голос с некоторым дребезжанием и вдруг осекся. Это я,
как привидение, промелькнул в своем белом халате. Не
вытерпел, оглянулся и узнал в полутьме бороденку,
похожую на бороденку из пакли, и набрякшие веки, и
куриный глаз. Да и голос с грозной хрипотой узнал. Я
нтянул голову в плечи, кцк-то воровато съежился, точно
был виноват, исчез, ясно чувствуя какую-то ссадину,
нагоравшую в душе. Мне было страшно.
Неужто же все впустую?..
...Не может быть! И месяц я сыщически внимательно
проглядывал на каждом приеме по утрам амбулатор-
ную книгу, ожидая встретить фамилию жены вниматель-
ного слушателя моего монолога о сифилисе. Месяц я
ждал его самого. И не дождался никого. И через месяц
он угас в моей памяти, перестал тревожить, забылся...
Потому что шли новые и новые, и каждый день моей
работы в забытой глуши нес для меня изумительные
случаи, каверзные вещи, заставлявшие меня изнурять
мой мозг, сотни раз теряться, и вновь обретать присут-
ствие духа, и вновь окрыляться на борьбу.
Теперь, когда прошло много лет, вдалеке от забытой
облупленной белой больницы, я вспоминаю звездную сыпь
па его груди. Где он? Что делает? Ах, я знаю, знаю.
Гели он жив, время от времени он и его жена ездят в
ветхую больницу. Жалуются на язвы на ногах. Я ясно
представляю, как он разматывает портянки, ищет со-
чувствия. И молодой врач, мужчина или женщина, в
беленьком штопаном халате, склоняется к ногам, давит
пальцем кость выше язвы, ищет причин. Находит и пишет
н книге: «Lues III», потом спрашивает, не давали ли ему
для лечения черную мазь.
И вот тогда, как я вспоминаю его, он вспомнит меня,
17-й год, снег за окном и шесть пакетиков в вощеной
бумаге, шесть неиспользованных липких комков.
— Как же, как же, давал... — скажет он и поглядит,
но уже без иронии, а с черноватой тревогой в глазах.
72
Михаил Булгаков
И врач выпишет ему иодистый калий, быть может, на-
значит другое лечение. Так же, быть может, заглянет,
как и я, в справочник.
Привет вам, мой товарищ!
«...еще, дражайшая супруга, передайте низкий поклон дяде Сафрону
Ивановичу. А кроме того, дорогая супруга, съездиите к нашему доктору,
покажь ему себе, как я уже полгода больной дурной болью сифилем. А
на побывке у Вас не открылся. Примите лечение.
Супруг Ваш. Ан. Буков».
Молодая женщина зажала рот концом байкового
платка, села на лавку и затряслась от плача. Завитки
ее светлых волос, намокшие от растаявшего снега, вы-
бились на лоб.
— Подлец он! А?! — выкрикнула она.
— Подлец, — твердо ответил я.
Затем настало самое трудное и мучительное. Нужно
было успокоить ее. А как успокоить? Под гул голосов
нетерпеливо ждущих в приемной мы долго шептались...
Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся
к человеческому страданию, я разыскал теплые слова.
Прежде всего я постарался убить в ней страх: Говорил,
что ничего еще ровно не известно и до исследования
предаваться отчаянию нельзя. Да и после исследования
ему не место: я рассказал о том, с каким успехом мы
лечим эту дурную боль —- сифилис.
— Подлец, подлец, — всхлипнула молодая женщина
и давилась слезами.
— Подлец, — вторил я.
Так довольно долго мы называли бранными словами
«дражайшего супруга», побывавшего дома и отбывшего
в город Москву.
Наконец лицо женщины стало высыхать, остались
лишь пятна и тяжко набрякли веки над черными отча-
янными глазами.
— Что я буду делать? Ведь у меня двое детей, —
говорила она сухим измученным голосом.
— Погодите, погодите, — бормотал я, — видно бу-
дет, что делать.
Я позвал акушерку Пелагею Ивановну, втроем мы
уединились в отдельной палате, где было гинекологичес-
кое кресло.
— Ах, прохвост, ах, прохвост, — сквозь зубы сипела
Пелагея Ивановна. Женщина молчала, глаза ее были
как две черных ямки, она всматривалась в окно — в
сумерки.
Записки юного врача
73
Это был и один из самых внимательных осмотров в
моей жизни. Мы с Пелагеей Ивановной не оставили ни
одной пяди тела. И нигде и ничего подозрительного я не
нашел.
— Знаете что, — сказал я, и мне страстно захоте-
лось, чтобы надежды меня не обманули и дальше не
появилась бы нигде грозная твердая первичная язва, —
шаете что?.. Перестаньте волноваться! Есть надежда.
Надежда. Правда, все еще может случиться, но сейчас
у вас ничего нет.
— Нет? — сипло спросила женщина. — Нет? —
Искры появились у нее в глазах, и розовая краска
тронула скулы. — А вдруг сделается? А?..
— Я сам не пойму, — вполголоса сказал я Пелагее
Ивановне, — судя по тому, что она рассказывала, долж-
но у нее быть заражение, однако же ничего нет.
— Ничего нет, — как эхо, откликнулась Пелагея
Ивановна.
Мы еще несколько минут шептались с женщиной о
разных сроках, о разных интимных вещах, и женщина
получила от меня наказ ездить в больницу.
Теперь я смотрел на женщину и видел, что это —
человек, перешибленный пополам. Надежда закралась в
нее, потом тотчас умирала. Она еще раз всплакнула и
ушла темной тенью. С тех пор меч повис над женщиной.
Каждую субботу беззвучно появлялась в амбулатории у
меня. Она очень осунулась, резче выступили скулы, глаза
запали и окружились тенями. Сосредоточенная дума
оттянула углы ее губ книзу. Она привычным жестом
разматывала платок, затем мы уходили втроем в пала-
ту. Осматривали ее.
Первые три субботы прошли, и опять ничего не на-
шли мы на ней. Тогда она стала отходить понемногу.
Живой блеск зарождался в глазах, лицо оживало, рас-
правлялась стянутая маска. Наши шансы росли. Таяла
опасность. На четвертую субботу я говорил уже уверен-
но. За моими плечами было около 90% за благополуч-
ный исход. Прошел с лихвой первый 21-дневный знаме-
нитый срок. Остались дальние случайные, когда язва
развивается с громадным запозданием. Прошли наконец
и эти сроки, и однажды, отбросив в таз сияющее зерка-
ло, в последний раз ощупав железы, я сказал женщине:
— Вы вне всякой опасности. Больше не приезжайте.
Это — счастливый случай.
74
Михаил Булгаков
— Ничего не будет? — спросила она незабываемым
голосом.
— Ничего.
Не хватит у меня уменья описать ее лицо. Помню
только, как она поклонилась низко в пояс и исчезла.
Впрочем, еще,раз она появилась. В руках у нее был
сверток — два фунта масла и два десятка яиц. И после
страшного боя я ни масла, ни яиц не взял. И очень этим
гордился, вследствие юности. Но впоследствии, когда
мне приходилось голодать в революционные годы, не
раз вспоминал лампу-молнию, черные глаза и золотой
кусок масла с вдавлинами от пальцев, с проступившей
на нем росой.
К чему же теперь, когда прошло так много лет, я
вспомнил ее, обреченную на четырехмесячный страх.
Недаром. Женщина эта была второй моей пациенткой в
этой области, которой впоследствии я отдал мои лучшие
годы. Первым был тот — со звездной сыпью на груди.
Итак, она была второй и единственным исключением:
она боялась. Единственная в моей памяти, сохранившей
освещенную керосиновыми лампами работу нас четве-
рых (Пелагеи Ивановны, Анны Николаевны, Демьяна
Лукича и меня).
В то время как текли ее мучительные субботы, как
бы в ожидании казни, я стал искать «его». Осенние
вечера длинны. В докторской квартире жарки голланд-
ки-печи. Тишина, и мне показалось, что я один во всем
мире со своей лампой. Где-то очень бурно неслась жизнь,
а у меня за окнами бил, стучался косой дождь, потом
незаметно превратился в беззвучный снег. Долгие часы
я сидел и читал старые амбулаторные книги за пред-
шествующие пять лет. Передо мной тысячами и десят-
ками тысяч прошли имена и названия деревень. В этих
колоннах людей я искал его и находил часто. Мелькали
надписи, шаблонные, скучные: «Bronchitis», «Laryngit»...
еще и еще... Но вот он! «Lues III». Ага... И сбоку раз-
машистым почерком, привычной рукой выписано:
«Rp. Ung. hydrarg. ciner. 3,0 D.t.d...»
Вот она — «черная» мазь.
Опять. Опять пляшут в глазах бронхиты и катары и
вдруг прерываются... вновь «Lues»...
Записки юного врача
75
Больше всего было пометок именно о вторичном люэсе.
Реже попадался третичный. И тогда иодистый калий
размашисто занимал графу «лечение».
Чем дальше я читал старые, пахнущие плесенью
амбулаторные забытые на чердаке фолианты, тем боль-
ший свет проливался в мою неопытную голову. Я начал
понимать чудовищные вещи.
Позвольте, а где же пометки о первичной язве? Что-
то не видно. На тысячи и тысячи имен редко одна, одна.
Л вторичного сифилиса — бесконечные вереницы. Что
же это значит? А вот что это значит...
— Это значит... — говорил я в тени самому себе и
мыши, грызущей старые корешки на книжных полках
шкафа, — это значит, что здесь не имеют понятия о
сифилисе и язва эта никого не пугает. Да-с. А потом она
возьмет и заживет. Рубец останется... Так, так, и больше
ничего? Нет, не больше ничего! А разовьется вторичный,
и бурный при этом, — сифилис. Когда глотка болит и
на теле появятся мокнущие папулы, то поедет в боль-
ницу Семен Хотов, 32 лет, и ему дадут серую мазь...
Лга!.. 1
Круг света помещался на столе, и в пепельнице
лежащая шоколадная женщина исчезла под грудой
окурков.
— Я найду этого Семена Хотова. Гм...
Шуршали чуть тронутые желтым тлением амбула-
торные листы. 17 июня 1916 года Семен Хотов получил
шесть пакетиков ртутной целительной мази, изобретен-
ной давно на спасение Семена Хотова. Мне известно,
что мой предшественник говорил Семену, вручая ему
мазь:
— Семен, когда сделаешь шесть втираний, вымоешь-
ся, приедешь опять. Слышишь, Семен?
Семен, конечно, кланялся и благодарил сиплым голо-
сом. Посмотрим: деньков через 10—12 должен Семен
неизбежно опять показаться в книге. Посмотрим, по-
смотрим... Дым, листы шуршат. Ох, нет, нет Семена! Нет
через 10 дней, нет через 20... Его вовсе нет. Ах, бедный
Семен Хотов. Стало быть, исчезла мраморная сыпь, как
потухают звезды на заре, подсохли кондиломы. И погиб-
нет, право, погибнет Семен. Я, вероятно, увижу этого
Семена с гуммозными язвами у себя на приеме. Цел ли
у него носовой скелет? А зрачки у него одинаковые?..
Бедный Семен!
76
Михаил Булгаков
Но вот не Семен, а Иван Карпов. Мудреного нет.
Почему же не заболеть Карпову Ивану? Да, но позволь-
те, почему же ему выписан каломель с молочным саха-
ром в маленькой дозе?! Вот почему: Ивану Карпову 2
года! А у него «Lues II»! Роковая двойка! В звездах
принесли Ивана Карпова, на руках у матери он отби-
вался от цепких докторских рук. Все понятно.
Я знаю, я догадываюсь, я понял, где была у маль-
чишки двух лет первичная язва, без которой не бывает
ничего вторичного. Она была во рту! Он получил ее с
ложечки.
Учи меня, глушь! Учи меня, тишина деревенского
дома! Да, много интересного расскажет старая амбула-
тория юному врачу.
Выше Ивана Карпова стояла:
«Авдотья КарпЪва, 30 лет».
Кто она? Ах, понятно. Это — мать Ивана. На руках-
то у нее он и плакал.
А ниже Ивана Карпова:
«Марья Карпова, 8 лет».
А это кто? Сестра! Каломель...
Семья налицо. Семья. И не хватает в ней только
одного человека — Карпова, лет 35—40... И неизвестно,
как его зовут — Сидор, Петр. О, это не важно!
«...дражайшая супруга... дурная болезнь сифиль...»
Вот он — документ. Свет в голове. Да, вероятно,
приехал с проклятого фронта и «не открылся», а может,
и не знал, что нужно открыться. Уехал. А тут пошло. За
Авдотьей — Марья, за Марьей — Иван. Общая чашка
со щами, полотенце...
Вот еще семья. И еще. Вон старик, 70 лет. «Lues II».
Старик. В чем ты виноват? Ни в чем. В общей чашке!
Внеполовое, внеполовое. Свет ясен. Как ясен и беловат
рассвет раннего декабря. Значит, над амбулаторными
записями и великолепными немецкими учебниками с
яркими картинками я просидел всю мою одинокую ночь.
Уходя в спальню, зевал, бормотал:
— Я буду с «ним» бороться.
Чтобы бороться, нужно его видеть. И он не замедлил.
Лег санный путь, и бывало, что ко мне приезжало 100
человек в день. День занимался мутно-белым, а закан-
чивался черной мглой за окнами, в которую загадочно,
с тихим шорохом уходили последние сани.
Записки юного врача
77
Он пошел передо мной разнообразный и коварный.
То являлся в виде язв беловатых в горле у девчонки-
подростка. То в виде сабельных искривленных ног. То в
виде подрытых вялых язв на желтых ногах старухи. То
и виде мокнущих папул на теле цветущей женщины.
Иногда он горделиво занимал лоб полулунной короной
Венеры. Являлся отраженным наказанием за тьму отцов
на ребятах с носами, похожими за казачьи седла. Но,
кроме того, он проскальзывал и не замеченным мною.
Лх, ведь я был со школьной парты!
И до всего доходил своим умом и в одиночестве. Где-
го он таился и в костях, и в мозгу.
Я узнал многое.
— Перетирку велели мне тогда делать.
— Черной мазью?
— Черной мазью, батюшка, черной...
— Накрест? Сегодня — руку, завтра — ногу?
— Как же. И как ты, кормилец, узнал? (Льстиво).
«Как же не узнать? Ах, как не узнать. Вот она —
гумма!..»
— Дурной болью болел?
— Что вы! У нас и в роду этого не слыхивали.
— Угу... Глотка болела?
— Глотка-то. Болела глотка. В прошлом годе.
— Угу... А мазь давал Леонтий Леонтьевич?
— Как же! Черная, как сапог.
— Плохо, дядя, втирал ты мазь: Ах, плохо!..
Я расточал бесчисленные кило серой мази. Я много,
много выписывал йодистого калия и много извергал
страстных слов. Некоторых мне удавалось вернуть пос-
ле первых шести втираний. Нескольким удалось, хотя
большей частью и не полностью, провести хотя бы пер-
вые курсы впрыскиваний. Но большая часть утекала у
меня из рук, как песок в песочных часах, и я не мог
разыскать их в снежной мгле. Ах, я убедился в том, что
здесь сифилис тем и был страшен, что он не был стра-
шен. Вот почему в начале этого моего воспоминания я
и привел ту женщину с черными глазами. И вспомнил
я ее с каким-то теплым уважением именно за ее боязнь.
Но она была одна!
Я возмужал, я стал сосредоточен, порой угрюм. Я
мечтал о том, когда окончится мой срок, и я вернусь в
университетский город, и там станет легче в моей борьбе.
В один из таких мрачных дней на прием в амбулато-
78
Михаил Булгаков
рию вошла женщина, молодая и очень хорошая собою.
На руках она несла закутанного ребенка, а двое ребят,
ковыляя и путаясь в непомерных валенках, держась за
синюю юбку, выступавшую из-под полушубка, ввали-
лись за нею.
— Сыпь кинулась на ребят, сказала краснощекая
бабенка важно.
Я осторожно коснулся лба девочки, держащейся за
юбку. И она скрылась в ее складках без следа. Необык-
новенно мордастого Ваньку выудил из юбки с другой
стороны. Коснулся и его. И лбы у обоих были не жар-
кие, обыкновенные.
— Раскрой, миленькая, ребенка.
Она раскрыла девочку. Голенькое тельце было усе-
яно не хуже, чем небо в застывшую морозную ночь. С
ног до головы сидела пятнами розеола и мокнущие
папулы. Ванька вздумал отбиваться и выть. Пришел
Демьян Лукич и мне помог...
— Простуда, что ли? — сказала мать, глядя безмя-
тежными глазами.
— Э-х-эх, простуда, — ворчал Лукич, и жалостливо
и брезгливо кривя рот. — Весь Коробовский уезд у них
так простужен.
— Ас чего ж это? — спрашивала мать, пока я
разглядывал ее пятнистые бока и грудь.
— Одевайся, — сказал я.
Затем присел к столу, голову положил на руку и
зевнул (она приехала ко мне одной из последних в этот
день, и номер ее был 98). Потом заговорил:
— У тебя, тетка, а также у твоих ребят «дурная
боль». Опасная, страшная болезнь. Вам всем сейчас же
нужно начинать лечиться, и лечиться долго.
Как жаль, что словами трудно изобразить недоверие
в выпуклых голубых бабьих глазах. Она повернула
младенца, как полено, на руках, тупо поглядела на ножки
и спросила:
— Скудова же это?
Потом криво усмехнулась.
— Скудова — не интересно, — отозвался я, закури-
вая пятидесятую папиросу за этот день, — другое ты
лучше спроси, что будет с твоими ребятами, если не
станешь лечить.
— А что? Ничаво не будет, —- ответила она и стала
заворачивать младенца в пеленки.
У меня перед глазами лежали часы на столике. Как
сейчас помню, что поговорил я не более трех минут, и
Записки юного, врача
79
баба зарыдала. И я очень был рад этим слезам, потому
что только благодаря им, вызванным моими нарочито
жесткими и пугающими словами, стала возможна даль-
нейшая часть разговора:
— Итак, они остаются. Демьян Лукич, вы поместите
их во флигеле. С тифозными мы справимся во второй
палате. Завтра я поеду в город и добьюсь разрешения
открыть стационарное отделение для сифилитиков.
Великий интерес вспыхнул в глазах фельдшера.
— Что вы, доктор, — отозвался он (великий скептик
был), — да как же мы управимся одни? А препараты?
Лишних сиделок нету... А готовить?.. А посуда,
шприцы?!
Но я тупо, упрямо помотал головой и отозвался:
— Добьюсь.
Прошел месяц...
В трех комнатах занесенного снегом флигелька горе-
ли лампы с жестяными абажурами. На постелях бель-
ишко было рваное. Два шприца всего было. Маленький
однограммовый и пятиграммовый — люэр. Словом, это
была жалостливая, занесенная снегом бедность. Но...
Гордо лежал отдельно шприц, при помощи которого я,
мысленно замирая от страха, несколько раз уже делал
новые для меня, еще загадочные и трудные вливания
сальварсана.
И еще: на душе у меня было гораздо спокойнее —
во флигельке лежали 7 мужчин и 5 женщин, и с каждым
днем таяла у меня на глазах звездная сыпь.
Был вечер. Демьян Лукич держал маленькую лам-
почку и освещал застенчивого Ваньку. Рот у него был
вымазан манной кашей. Но звезд на нем уже не было.
И так все четверо прошли под лампочкой, лаская мою
совесть.
— К завтраму, стало быть, выпишусь, — сказала
мать, поправляя кофточку.
— Нет, нельзя еще, — ответил я, — еще один курс
придется претерпеть.
— Нет моего согласия, — ответила она, — делов
дома срезь. За помощь спасибо, а выписывайте завтра.
Мы уже здоровы.
Разговор разгорелся, как костер. Кончился он так:
— Ты... ты знаешь, — заговорил я и почувствовал,
что багровею, — ты знаешь... ты дура!..
80
Михаил Булгаков
— Ты что же это ругаешься? Это какие же поряд-
ки — ругаться?
— Разве тебя дурой следует ругать? Не дурой, а...
а!.. Ты посмотри на Ваньку! Ты что же, хочешь его
погубить? Ну, так я тебе не позволю этого!
И она осталась еще на десять дней.
Десять дней! Больше никто бы ее не удержал. Я вам
ручаюсь. Но, поверьте, совесть моя была спокойна, и
даже... «дура» не потревожила меня. Не раскаиваюсь.
Чтб брань по сравнению с звездной сыпью!
Итак, ушли года. Давно судьба и бурные лета раз-
лучили меня с занесенным снегом флигелем. Что там
теперь и кто? Я верю, что лучше. Здание выбелено, быть
может, и белье новое. Электричества-то, конечно, нет.
Возможно, что сейчас, когда я пишу эти строки, чья-
нибудь юная голова склоняется к груди больного. Керо-
синовая лампа отбрасывает свет желтоватый на желто-
ватую кожу...
Привет, мой товарищ!
МОРФИЙ
I
Давно уже отмечено умными людьми, что счастье
как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но
когда пройдут годы — как вспоминаешь о счастье, о,
как вспоминаешь!
Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь,
был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюж-
ный, стремительный год!
Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изо-
рванной газеты, и перенесла с глухого участка в уезд-
ный город. Велика штука, подумаешь, уездный город?
Но если кто-нибудь подобно мне просидел, в снегу зи-
мой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не
отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал
бандероль на газете от прошлой недели с таким сердеч-
Записки юного врача
81
иым биением, точно счастливый любовник голубой кон-
верт, ежели кто-нибудь ездил на роды за 18 верст в
санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет
меня.
Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за элек-
тричество!
И вот я увидел их вновь наконец, обольстительные
электрические лампочки! Главная улица городка, хоро-
шо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой,
чаруя взор, висели — вывеска с сапогами, золотой
крендель, красные флаги, изображение молодого чело-
века со свиными и наглыми глазками и с абсолютно
неестественной прической, означавшей, что за стеклян-
ными дверями помещается местный Базиль, за 30 копе-
ек бравшийся вас брить во всякое время, за исключе-
нием дней праздничных, коими изобилует отечество мое.
До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля,
салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе
ту страницу в германском учебнике кожных болезней,
на которой с убедительной ясностью изображен твердый
шанкр на подбородке у какого-то гражданина.
Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоми-
наний!
На перекрестке стоял живой милиционер, в запылен-
ной витрине смутно виднелись железные листы с тесны-
ми рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало
площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке
торговали вчерашними московскими газетами, содержа-
щими в себе потрясающие известия, невдалеке призыв-
но пересвистывались московские поезда. Словом, это
была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.
О больнице и говорить не приходится. В ней было
хирургическое отделение, терапевтическое, заразное,
акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял
автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои
хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший
врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушер-
ки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория^ по-
думать только! с цейссовским микроскопом, прекрасным
запасом красок.
Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления.
Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что
одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки,
словно по команде, загорались электрическим светом.
Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода,
и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали
82
Михаил Булгаков
в них. В детском заразном отделении весь день вспыхи-
вали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хрип-
лое бульканье...
Сиделки бегали, носились...
Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше
не нес на себе роковой ответотвенности за все, что бы
ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной
грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и приво-
зили женщину с поперечным положением, меня не каса-
лись гнойные плевриты, требовавшие операции... Я по-
чувствовал себя впервые человеком, объем ответствен-
ности которого ограничен какими-то рамками. Роды?
Пожалуйста, вон — низенький корпус, вон — крайнее
окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, сим-
патичный и толстый, с рыженькими усиками и лысова-
тый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с мар-
лей! Осложненный перелом — главный врач-хирург.
Воспаление легких? В терапевтическое отделение к Павлу
Владимировичу.
О, величественная машина большой больницы на
налаженном, точно смазанном, ходу! Как новый винт по
заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял
детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили
меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по
ночам, потому что не слышалось более под моими окна-
ми зловещего ночного стука, который мог поднять меня
и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вече-
рам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно,
в первую голову и затем почему-то со странным инте-
ресом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над
столом, и седые угольки на подносе самовара, и стыну-
щий чай, и сон, после бессонных полутора лет...
Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив пе-
ревод в уездный город с глухого вьюжного участка.
II
Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год
отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему
новому положению и мало-помалу свой дальний участок
стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с
шипящим керосином, одиночество, сугробы... Неблаго-
Записки юного врача
83
парный! Я забыл свой боевой пост, где я один без
всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами,
подобно герою Фенимора Купера, выбираясь из самых
диковинных положений.
Изредка, правда, когда я ложился в постель с при-
ятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрыв-
ки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый
огонек, мигающий фонарь... скрип саней... короткий стон,
йотом тьма, глухой вой метели в полях... Потом все это
боком кувыркалось и проваливалось...
«Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?..
Кто-нибудь да сидит... Молодой врач вроде меня... ну,
что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель... ну, и,
скажем, май — и конец моему стажу. Значит, в конце
мая я расстанусь с моим блистательным городом и
вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня
на свое крыло — придется, возможно, еще поездить...
но, во всяком случае, своего участка я более никогда в
жизни не увижу... Никогда... Столица... Клиника... Ас-
фальт, огни...»
Так думал я.
«...А все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я
стал отважным человеком... Я не боюсь... Чего я только
не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней не
лечил... Ведь... верно нет, позвольте... А агроном допился
тогда до чертей... И я его лечил, и довольно неудачно...
Белая горячка... Чем не психическая болезнь? Почитать
надо бы психиатрию... Да ну ее... Как-нибудь впослед-
ствии в Москве... А сейчас, в первую очередь, детские
болезни... и еще детские болезни... и в особенности эта
каторжная детская рецептура... Фу, черт... Если ребенку
10 лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать
на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?..
Только детские болезни... и ничего больше... довольно
умопомрачительных случайностей! Прощай, мой учас-
ток!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня
вечером лезет в голову?.. Зеленый огонь... Ведь я покон-
чил с ним расчеты на всю жизнь... Ну и довольно...
Спать...»
— Вот письмо. С оказией привезли.
— Давайте сюда.
Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облез-
шим воротником было накинуто поверх белого халата с
клеймом. На синем дешевом конверте таял снег.
84
Михаил Булгаков
— Вы сегодня дежурите в приемном покое? — спро-
сил я, зевая.
- Я.
— Никого нет?
— Нет, пусто.
— Ешли... (зевота раздирала мне рот, и от этого
слова я произносил неряшливо) кого-нибудь привежут...
вы дайте мне знать шюда... Я лягу спать...
— Хорошо. Можно иттить?
— Да, да. Идите.
Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в
спальню, по дороге безобразно и криво раздирая паль-
цами конверт.
В нем оказался продолговатый смятый бланк с си-
ним штемпелем моего участка, моей больницы... Неза-
бываемый бланк....
Я усмехнулся.
«Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот
он явился сам напомнить о себе... Предчувствие...»
Под штемпелем химическим карандашом был начер-
тан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечерк-
нутые...
— Ничего не понимаю... Путаный рецепт... — пробор-
мотал я и уставился на слово «morphini...». «Что бишь
тут необычайного в этом рецепте?.. Ах, да... Четырехпро-
центный раствор! Кто же выписывает четырехпроцент-
ный раствор морфия?.. Зачем?!
Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обо-
роте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком
было написано:
<// февраля 1918 года.
Милый collegia!
Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень
тяжко и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать
помощи ни у кого, кроме Вас.
Второй месяц я сижу на бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в
городе и сравнительно недалеко от меня.
Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать
ко мне поскорее. Хоть на день. Хоть на час. И если Вы скажете, что
я безнадежен, я Вам поверю... А может быть, можно спастись?.. Да,
может быть, еще можно спастись?.. Надежда блеснет для меня? Нико-
му, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма».
— Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и
вызовите ко мне дежурную сиделку... как ее зовут?..
Ну, забыл... Одним словом, дежурную, которая мне
письмо принесла сейчас. Поскорее!
Записки юного врача
85
— Счас.
Через несколько минут сиделка стояла передо мной
и снег таял на облезшей кошке, послужившей матери-
алом для воротника.
— Кто привез письмо?
— А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город
ехал, говорит.
— Гм... ну, ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас
ншиску напишу главному врачу, отнесите, пожалуйста,
н ответ мне верните.
— Хорошо.
Моя записка главному врачу:
< 13 февраля 1918 года.
Уважаемый Павел Илларионович. Я сейчас получил письмо от моего
товарища по университету доктора Полякова. Он сидит на Гореловском
моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому,
тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я
ивтра сдам на один день отделение доктору Родовичу и съезжу к
Полякову. Человек беспомощен.
Уважающий Вас
д-р Бомгард».
Ответная записка главного врача:
«Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте.
Петров».
Вечер я провел над путеводителем по железным
дорогам. Добраться до Горелова можно было таким
образом: завтра выехать в два часа дня с московским
почтовым поездом, проехать 30 верст по железной доро-
ге, высадиться на станции N, а от нее двадцать две
версты проехать на санях до Гореловской больницы.
«При удаче я буду в Горелове завтра ночью, — думал
я, лежа в постели. — Чем он заболел? Тифом, воспале-
нием легких? Ни тем, ни другим... Тогда бы он и напи-
сал просто: «я заболел воспалением легких». А тут
сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо... «Тяжко... и
нехорошо заболел...» Чем? Сифилисом? Да, несомненно,
сифилисом. Он в ужасе... он скрывает... он боится... Но
на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду
в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на
станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем...
Ну, нет. Уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лоша-
дей на станции. Послать телеграмму, чтоб он выслал
лошадей! Ни к чему! Телеграмма придет через день
после моего приезда... Она йедь по воздуху 6 Горелово
86
Михаил Булгаков
не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случит-
ся оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол!»
Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге
света от лампы, и рядом стояла спутница раздражи-
тельной бессонницы, с щетиной окурков, пепельница. Я
ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась
в душе. Письмо начало раздражать.
В самом деле: если ничего острого, а, скажем, сифи-
лис, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен
нестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу
его от люэса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой
там рак! Он на два года моложе меня. Ему 25 лет...
«Тяжко...» Саркома? Письмо нелепое, истерическое.
Письмо, от которого у получающего может сделаться
мигрень... И вот она налицо. Стягивает жилку на вис-
ке... Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет
вверх на темя, скует полголовы, и будешь к вечеру
глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с
пирамидоном?! Надо будет у фельдшера шубу взять
разъездную, замерзнешь завтра в своем пальто... Что с
ним такое?.. «Надежда блеснет...» — в романах так
пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах!..
Спать, спать... Не думать больше об этом. Завтра все
станет ясно... Завтра».
Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела
мою комнату. Спать... Жилка ноет... Но я не имею права
сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная,
в чем дело. Человек страдает по-своему, вот, пишет
другому. Ну, как умеет, как понимает... И недостойно
из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы
мысленно... Может быть, это и не фальшивое и не ро-
маническое письмо. Я не видел его, Сережку Полякова,
два года, но помню его отлично. Он был всегда очень
рассудительным человеком... Да. Значит, стряслась ка-
кая-то беда... И жилка моя легче... Видно, сон идет. В
чем механизм сна?.. Читал в физиологии... но история
темная... не понимаю, что значит сон... как засыпают
мозговые клетки?! Не понимаю, говорю по секрету. Да
почему-то уверен, что и сам составитель физиологии
тоже не очень твердо уверен... Одна теория стоит дру-
гой... Вон стоит Сережка Поляков в зеленой тужурке с
золотыми пуговицами над цинковым столом, а на столе
труп...
Хм, да... ну, это сон...
Записки юного врача
87
III
Тук, тук... Бух, бух, бух... Ага... Кто? Кто? Что?.. Ах,
стучат, ах, черт, стучат... Где я? Что я?.. В чем дело?
Да, у себя в постели... Почему же меня будят? Имеют
право потому, что я дежурный. Проснитесь, доктор
Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать.
Сколько времени? Половина первого... Ночь. Стал я,
шачит, только один час. Как мигрень? Налицо. Вот она!
В дверь тихо постучали.
— В чем дело?
Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки гляну-
ло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно
бледно, что глаза расширены, взбудоражены.
— Кого привезли?
— Доктора с Гореловского участка, — хрипло и
громко ответила сиделка, — застрелился доктор.
— По-ля-ко-ва? Не может быть! Полякова?!
— Фамилии-то я не знаю.
— Вот что... Сейчас, сейчас иду. А вы бегите к глав-
ному врачу, будите его, сию секунду. Скажите, что я
вызываю его срочно в приемный покой.
Сиделка метнулась — и белое пятно исчезло из глаз.
Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая,
хлестнула меня по щекам на крыльце, вздула полы
пальто, оледенила испуганное тело.
В окнах приемного покоя полыхал свет белый и
беспокойный. На крыльце в туче снега я столкнулся со
старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я.
— Ваш? Поляков? — спросил, покашливая, хирург.
— Ничего не пойму. Очевидно, он, — ответил я, и мы
стремительно вошли в покой.
С лавки навстречу — поднялась закутанная женщи-
на. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под
края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, аку-
шерку из Горелова, верную мою помощницу во время
родов в Гореловской больнице.
— Поляков?
—- Да, — ответила Марья Власьевна, — такой ужас,
доктор, ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довезти...
— Когда?
— Сегодня утром на рассвете, — бормотала Марья
Власьевна, — прибежал сторож, говорит... «у доктора
выстрел в квартире...»
88
Михаил Булгаков
Под лампой, изливающей скверный тревожный свет,
лежал доктор Поляков, и с первого же взгляда на его
безжизненные, словно каменные ступни валенок у меня
привычно екнуло сердце.
Шапку с него сняли — и показались слипшиеся,
влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи
Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля
с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-
под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал
пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся
и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочны-
ми. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное
тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфару. Тут
раненый расклеил губы, причем на них показалась ро-
зоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губа-
ми и сухо, слабо выговорил:
— Бросьте камфару. К черту.
— Молчите, — ответил ему хирург и толкнул желтое
масло под кожу.
— Сердечная сумка, надо полагать, задета, — шеп-
нула Марья Власьевна, цепко взялась за край стола и
стала всматриваться в бесконечные веки раненого (гла-
за его были закрыты). Тени серо-фиолетовые, как тени
заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев
носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступал на
тенях.
— Револьвер? — дернув щекой, спросил хирург.
— Браунинг, — пролепетала Марья Власьевна.
— Э-эх, — вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал
хирург и вдруг, махнув рукой, отошел.
Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-
то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач.
Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный,
когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя
челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком
и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные
револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это
движение! Марья Власьевна болезненно сморщилась,
вздохнула.
— Доктора Бомгарда, — еле слышно сказал По-
ляков.
— Я здесь, — шепнул я, и голос мой прозвучал
нежно у самых ,его губ.
— Тетрадь там... — хрипло и еще слабее отозвался
Поляков.
Записки юного врача
89
Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному,
уходящему в темь потолку покоя. Как будто светом
изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз
стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились
и выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную
красу.
Доктор Поляков умер.
Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому
что городок спит и току электрического много. Все
молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь.
На столе перед воспаленными от чтения глазами
лежат вскрытый конверт и листок. На нем написано:
«Милый товарищ!
Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно.
И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других
предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях
воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой
дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и
любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите
историю моей болезни.
Прощайте. Ваш С. Поляков».
Приписка крупными буквами:
«В смерти моей прошу никого не винить.
Лекарь Сергей Поляков.
13 февраля 1918 года».
Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих
тетрадей в черной клеенке. Первая половина страниц из
нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи,
вначале карандашом или чернилами, четким мелким по-
черком, в конце тетради карандашом химическим и ка-
рандашом толстым красным, почерком небрежным, почер-
ком прыгающим и со многими сокращенными словами.
IV
<...7 год*, 20-го января.
...и очень рад. И слава богу: чем глуше, тем лучше.
Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не
• Несомненно, 1917 год. — Д-р Бомгард.
90
Михаил Булгаков
увижу, кроме больных крестьян. Но они ведь ничем не
тронут моей раны? Других, впрочем, не хуже моего
рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не
подлежащий призыву на войну (ратники ополчения 2-го
разряда выпуска 1916 г.), разместили в земствах. Впро-
чем, это не интересно никому. Из приятелей узнал толь-
ко об Иванове и Бомгарде.’ Иванов выбрал Архангель-
скую губернию (дело вкуса), а Бомгард, как говорила
фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего за
три уезда от меня, в Горелове. Хотел ему написать, но
раздумал. Не желаю видеть и слышать людей.
21 января.
Вьюга. Ничего.
25 января.
Какой ясный закат. Мигренин — соединение anti-
pirin’a, coffein’a u ас. citric.
В порошках по 1,0... разве можно по 1,0?.. Можно.
3 февраля.
Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать
не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров.
«Аида» шла на прошлой неделе. Значит, она выходила
на возвышение и пела: «Мой милый друг, приди ко
мне...»
У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос
ясный, громадный дан темной душонке...
(Здесь перерыв, вырваны две или три страницы.)
...конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимна-
зически-глупо с площадной бранью обрушиваться на
женщину за то, что она ушла! Не хочет жить — ушла.
И конец. Как все просто, в сущности. Оперная певица
сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла.
Убить ее? Убить? Ах, как все глупо, пусто. Безна-
дежно!
Не хочу думать. Не хочу...
11 февраля.
Все вьюги да вьюги... Заносит меня! Целыми вечера-
ми я один, один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще
вижу людей. Но работаю механически. С работой я
свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше.
Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки
не вовсе неграмотным я приехал сюда.
Записки юного врача
91
Сегодня в первый раз делал операцию поворота.
Итак, три человека погребены здесь под снегом: я,
Анна Кирилловна — фельдшерица-акушерка и фельд-
шер. Фельдшер женат. Они (фельдш. персонал) живут
во флигеле. А я один.
15 февраля.
Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирал-
ся ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в
области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у
меня на лбу. Все-таки наша медицина — сомнительная
наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого
нет абсолютно никакого заболевания желудка или ки-
шечника (аппенд., напр.), у которого прекрасная печень
и почки, у которого кишечник функционирует совершен-
но нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он
станет кататься по постели?
Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с
мужем своим, Власом. Власа отправил к Анне Кириллов-
не. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыс-
нуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеле-
ный. Отчего?
Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим, а Анна
Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивля-
юсь, как не старая женщина может жить в полном
одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в герман-
ском плену.
Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из
маковых головок морфий. Истинный благодетель челове-
чества. Боли прекратились через семь минут после уко-
ла. Интересно: боли шли полной волной, не давая ника-
ких пауз, так что я положительно задыхался, словно
раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты
через четыре после укола я стал различать волнообраз-
ность боли:
92
Михаил Булгаков
Было бы очень хорошо, если б врач имел возмож-
ность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное
у него было бы понимание их действия. После укола
впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, —
без мыслей о моей, обманувшей меня.
16 февраля.
Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о
том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все
время видит меня не хмурым.
— Разве я хмурый?
— Очень, — убежденно ответила она и добавила, что
она поражается тем, что я всегда молчу.
— Такой уж я человек.
Но это ложь. Я был очень жизнерадостным челове-
ком до моей семейной драмы.
Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вече-
ром пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней
боли, где-то за грудною костью. Опасаясь возврата
вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро
один сантиграмм.
Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна
Кирилловна оставила пузырек.
18-го.
Четыре укола не страшны.
25-го февраля.
Чудак эта Анна Кирилловна! Точно я не врач. Г/2
шприца=0,015 morph.? Да.
1-го марта.
♦ * ♦
Доктор Поляков, будьте осторожны!
Вздор.
Сумерки.
Но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращал-
ся мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии
ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я —
мужчина.
Записки юного врача
93
Анна К. стала моей тайной женою. Иначе быть не
могло никак. Мы заключены на необитаемый остров.
Снег изменился, стал как будто серее. Лютых моро-
юв уже нет, но метели по временам возобновляются...
Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это
прикосновение становится теплым и расширяется. Во
вторую минуту внезапно проходит холодная волна под
ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное
прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсо-
лютно все неприятные ощущения прекращаются. Это
высшая точка проявления духовной силы человека. И
если б я не был испорчен медицинским образованием, я
бы сказал, что нормально человек может работать толь-
ко после укола морфием. В самом деле: куда, к черту,
годится человек, если малейшая невралгийка может
выбить его совершенно из седла!
Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства
отличался громаднейшей силой воли.
2 марта.
Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Ни-
колая II.
* ♦ ♦
Я ложусь спать очень рано. Часов в девять.
И сплю сладко.
10 марта.
Там происходит революция. День стал длиннее, а
сумерки как будто чуть голубоватее.
Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это
двойные сны.
Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный.
Он прозрачен.
Так что вот, — я вижу жутко освещенную рампу, из
нее пышет разноцветная лента огней. Амнерис, колыша
94
Михаил Булгаков
зеленым пером, поет. Оркестр, совершенно неземной,
необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу пере-
дать это словами. Одним словом, в нормальном сне
музыка беззвучна... (в нормальном? Еще вопрос, какой
сон нормальнее! Впрочем, шучу...) беззвучна, а в моем
сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я
по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Пом-
нится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в
полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой —-
замечательный писатель!
Теперь о прозрачности; так вот, сквозь переливающи-
еся краски «Аиды» выступает совершенно реально край
моего письменного стола, видный из двери кабинета,
лампа, лоснящийся пол и слышны, прорываясь сквозь
волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступаю-
щие приятно, как глухие кастаньеты.
Значит, восемь часов, — это Анна К. идет ко мне
будить меня и сообщить, что делается в приемной.
Она не догадывается, что будить меня не нужно, что
я все слышу и могу разговаривать с нею.
И такой опыт я проделал вчера:
Анна. — Сергей Васильевич...
Я. — Я слышу... (тихо музыке — «сильнее»).
Музыка — великий аккорд.
Ре-диез...
Анна. — Записано двадцать человек.
А м н е р и с (поет).
Впрочем, этого на бумаге передать нельзя.
Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю силь-
ным и бодрым. И работаю хорошо. У меня даже появил-
ся интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все
мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей.
А теперь я спокоен.
Я спокоен.
19 марта.
Ночью у меня была ссора с Анной К.
— Я не буду больше приготовлять раствор.
Я стал ее уговаривать:
— Глупости, Аннуся. Что я, маленький, что ли?
— Не буду. Вы погибнете.
— Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди!
—- Лечитесь.
- Где?
— Уезжайте в отпуск. Морфием не лечатся. (Потом
подумала и добавила.) Я простить себе не могу, что
приготовила вам тогда вторую склянку.
— Да что я, морфинист, что ли?
— Да, вы становитесь морфинистом.
— Так вы не пойдете?
— Нет.
Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способ-
ность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не
прав.
Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню. Посмотрел.
Ни донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц, —
оказалось */4 шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил
его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел, — ни
одной трещинки. Просидел в спальне около 20 минут.
Выхожу, — ее нет.
Ушла.
Представьте себе, — не вытерпел, пошел к ней.
Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла,
окутавшись в платок, на крылечко. Ночь тихая, тихая.
Снег рыхл. Где-то далеко в небе тянет весной.
— Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи
от аптеки.
Она шепнула:
— Не дам.
— Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от ап-
теки. Я говорю вам, как врач.
Вижу в сумраке, ее лицо изменилось, очень побелело,
а глаза углубились, провалились, почернели. И она
ответила голосом, от которого у меня в душе шелохну-
лась жалость.
Но тут же злость опять наплыла на меня.
Она:
— Зачем, зачем вы так говорите? Ах, Сергей Василь-
евич, я — жалеючи вас.
И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что
ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и
захватила их.
Я (грубо):
— Дайте ключи!
И вырвал их из ее рук.
И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым,
прыгающим мосткам.
В душе у меня ярость шипела, и прежде всего пото-
му, что я ровным счетом понятия никакого не имею о
том, как готовить раствор морфия для подкожного впрыс-
кивания. Я врач, а не фельдшерица!
Шел и трясся.
96
Михаил Булгаков
И слышу: сзади меня, как верная собака, пошла она.
И нежность взмыла во мне, но я задушил ее. Повернул-
ся и, оскалившись, говорю:
— Сделаете или нет?
И она взмахнула рукою, как обреченная, «все равно,
мол», и тихо ответила:
— Давайте сделаю...
...Через час я был в нормальном состоянии. Конечно,
я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость.
Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был
вежливым человеком.
Она отнеслась к моему извинению странно. Опусти-
лась на колени, прижалась к моим рукам и говорит:
— Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что
вы пропали. Уж знаю. И себя я проклинаю за то, что
я тогда сделала вам впрыскивание.
Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно
ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обе-
щал ей, что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать,
уменьшая дозу.
— Сколько вы сейчас впрыснули?
— Вздор. Три шприца однопроцентного раствора.
Она сжала голову и замолчала.
— Да не волнуйтесь вы!
...В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство.
Действительно, morphium hidrochloricum грозная штука.
Привычка к нему создается очень быстро. Но маленькая
привычка ведь не есть морфинизм?..
...По правде говоря, эта женщина единственный вер-,
ный настоящий мой человек. И, в сущности, она и долж-
на быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки
спасибо за это морфию...
8 апреля 1917 года.
Это мучение.
9 апреля.
Весна ужасна.
Черт в склянке. Кокаин — черт в склянке!
Действие его таково:
При впрыскивании одного шприца 2%-ного раствора
почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тот-
з*
Записки юного врача
97
чис переходящее в восторг и блаженство. И это продол-
жается только одну, две минуты. И потом все исчезает
бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма.
Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных
петвей на ветви, а вдали лес щетиной, ломаной и черной,
।мнется к небу, а за ним горит, охватив четверть неба,
первый весенний закат.
Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату
и моей докторской квартире по диагонали от дверей к
окну, от окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу
сделать? Пятнадцать или шестнадцать — не больше.
Л затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На
мнрле лежит шприц рядом со склянкой. Я беру его и,
небрежно смазав йодом исколотое бедро, всаживаю игол-
ку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот: я предвку-
шаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она
возникает. Я узнаю об этом потому, что звуки гармошки,
на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас
на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо
летящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими
голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах гудят,
кнк небесный хор. Но вот мгновение, и кокаин в крови
но какому-то таинственному закону, не описанному ни в
какой из фармакологий, превращается во что-то новое.
Я знаю: это смесь дьявола с моей кровью. И никнет
Влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, беспокойно
громыхая, выжигает мне внутренности. И так несколько
раз подряд, в течение вечера, пока я не пойму, что я
отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чувствую
его в руках, в висках... а потом оно проваливается в
бездну, и бывают секунды, когда я мыслю о том, что
более доктор Поляков не вернется к жизни...
13 апреля.
Я — несчастный доктор Поляков, заболевший в
феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех,
кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не
пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин •— сквер-
нейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила
меня камфарой, а сегодня я — полутруп...
6-го мая 1917 года.
Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. По
сути дела, это не дневник, а история болезни, и у меня,
очевидно, профессиональное тяготение к моему един-
98
Михаил Булгаков
ственному другу в мире (если не считать моего скорбно-
го и часто плачущего друга Анны).
Итак, если вести историю болезни, то вот: я впрыс-
киваю себе морфий два раза в сутки: в 5 часов дня
(после обеда) и в 12 час. ночи перед сном.
Раствор трехпроцентный: два шприца. Следователь-
но, я получаю за один раз — 0,06.
Порядочно!
Прежние мои записки несколько истеричны. Ничего
особенно страшного нет. На работоспособности моей это
ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ноч-
ным впрыскиванием накануне. Я великолепно справля-
юсь с операциями, я безукоризненно внимателен к ре-
цептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой
морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Наде-
юсь, и не причинит. Но другое меня мучает. Мне все
кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне
тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый
пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера.
Вздор! Он не догадывается. Ничто Не выдаст меня.
Зрачки меня могут предать лишь вечером, а вечером я
никогда не сталкиваюсь с ним.
Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я по-
полнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пере-
жить неприятные минуты. Заведующий складом взял
мое требование, в которое я вписал предусмотрительно
и всякую другую чепуху, вроде кофеина (которого у нас
сколько угодно), и говорит:
— 40 грамм морфия?
И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чув-
ствую, что краснею...
Он говорит:
— Нет у нас такого количества. Граммов десять дам.
И действительно, у него нет, но мне кажется, что он
проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня
глазами, и я волнуюсь и мучаюсь.
Нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому по-
ставлю себе за правило: вечером с людьми не сталки-
ваться. Удобнее, впрочем, места, чем мой участок, для
этого не найти, вот уже более полугода я никого не
вижу, кроме моих больных. А им до меня дела нет
никакого.
4-2
Записки юног^ врача
99
18 мая.
Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за
лесом растет и пучится. Вон и блеснуло бледно и тре-
вожно. Идет гроза.
Книга у меня перед глазами, и в ней написано по
поводу воздержания от морфия:
«...большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздра-
жительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая
нспень затемнения сознания...»
Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу осталь-
ного я могу сказать: о, какие тусклые, казенные, ничего
не говорящие слова!
«Тоскливое состояние»!..
Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, преду-
преждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим
пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медлен-
ная овладевает морфинистом, лишь только вы на час
или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его
глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не
жаждала... Чего? этого нельзя определить, ни объяс-
нить. Словом, человека нет. Он выключен. Движется,
тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не
мыслит, кроме морфия. Морфия!
Смерть от жажды — райская, блаженная смерть по
сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный,
вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха
в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик
на костре стонет и шевелится, когда первые языки
пламени лижут его ноги...
Смерть — сухая, медленная смерть...
Вот что кроется под этими профессорскими словами
«тоскливое состояние».
Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя.
Вздох. Еще вздох.
Легче. А вот... вот... мятный холодок под ложечкой...
Три шприца 3%-ного раствора. Этого мне хватит до
полуночи...
Вздор. Эта запись — вздор. Не так страшно. Рано
или поздно я брошу!.. А сейчас спать, спать.
100
Михаил Булгаков г
Этою глупою борьбой с морфием я только мучаю и
ослабляю себя.
(Далее в тетради вырезано десятка два страниц.)
...ря
...ять рвота в 4 час. 30 минут.
Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечат-
ления.
14 ноября 1917 г.
Итак, после побега из Москвы из лечебницы докто-
ра... (фамилия тщательно зачеркнута) я вновь дома.
Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть
скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому
не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще
в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски
созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо
морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая
стрельба мне не страшна. Да и что вообще может ис-
пугать человека, который думает только об одном — о
чудных, божественных кристаллах. Когда фельдшерица,
совершенно терроризованная пушечным буханием...
(Здесь страница вырвана.)
...вал эту страницу, чтоб никто не прочитал позорно-
го описания того, как человек с дипломом бежал воров-
ски и трусливо и крал свой собственный костюм.
Да что костюм!
Рубашку я захватил больничную. Не до того было.
На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к докто-
ру N. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жа-
лость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Ведь
он — психиатр и должен понимать, что я не всегда
владею собой. Я болен. Что ж презирать меня? Я вер-
нул больничную рубашку.
Он сказал:
— Спасибо, — и добавил: — что же вы теперь ду-
маете делать?
Я сказал бойко (я был в этот момент в состоянии
эйфории):
— Я решил вернуться к себе в глушь, тем более что
отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь,
я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать
лечиться у себя.
4-4
Записки юнвг» врача
101
Ответил он так:
— Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право,
смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда
на ваши зрачки достаточно. Ну кому вы говорите?..
— Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть... в особен-
ности теперь, когда происходят все эти события... меня
совершенно издергала стрельба...
— Она кончилась. Вот новая мысль. Ложитесь опять.
Тут я вспомнил все... холоднее коридоры... пустые,
масляной краской выкрашенные стены... и я ползу, как
собака с перебитой ногой... чего-то жду... Чего? Горячей
панны?.. Укольчика в 0,005 морфия. Дозы, от которой,
правда, не умирают... но только... а вся тоска остается,
лежит бременем, как и лежала... Пустые ночи, рубашку,
которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпус-
тили?..
Нет. Нет. Изобрели морфий, вытянули его из высох-
ших щелкающих головок божественного растения, ну
так найдите же способ и лечить без мучений! Я упрямо
покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испу-
ганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет
запереть за мной дверь и силою удержать меня в лечеб-
нице...
Профессор побагровел.
— Я не тюремный надзиратель, — не без раздраже-
ния молвил он, — и у меня не Бутырки. Сидите спокой-
но. Вы хвастались, что вы совершенно нормальны, две
недели назад. А между тем... — он выразительно по-
вторил мой жест испуга, — я вас не держу-с.
— Профессор, верните мне мою расписку. Умоляю
нас, — и даже голос мой жалостливо дрогнул.
— Пожалуйста.
Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою -рас-
писку (о том, что я обязуюсь пройти весь двухмесячный
курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице,
и т. д., словом, обычного типа).
Дрожащей рукой я принял записку и спрятал, про-
лепетав:
— Благодарю вас.
Затем встал, чтобы уходить. И пошел.
— Доктор Поляков! — раздалось мне вслед. Я обер-
нулся, держась за ручку двери. — Вот что, — заговорил
он, — одумайтесь. Поймите, что вы все равно попадете
в психиатрическую лечебницу, ну, немножко попозже...
102
Михаил Булгаков
И притом попадете в гораздо более плохом состоянии.
Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы
придете уже в состоянии полного душевного развала.
Вам, голубчик, в сущности, и практиковать нельзя,
и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место
службы.
Я вздрогнул и ясно почувствовал, что краска сошла
у меня с лица (хотя и так ее очень немного у меня).
— Я, — сказал я глухо, — умоляю вас, профессор,
ничего никому не говорить... Что ж, меня удалят со
службы... Ославят больным... За что вы хотите мне это
сделать?
— Идите, — досадливо крикнул он, — идите. Ничего
не буду говорить. Все равно вас вернут...
Я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и
стыда... Почему?..
Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты-
то ведь не выдашь меня? Дело не в костюме, а в том,
что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах
и 10 грамм однопроцентного раствора.
Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ
в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал
бы я шкаф или нет? А? По совести?
Взломал бы.
Итак, доктор Поляков — вор. Страницу я успею
вырвать.
Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я
дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад
моральной личности. Но работать я могу, я никому из
моих пациентов не могу причинить зла или вреда.
Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во
время боев и всей кутерьмы, связанной с переворотом,
я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал
еще в одной аптеке на окраине 15 грамм однопроцентно-
го раствора — вещь для меня бесполезная и нудная
(9 шприцов придется впрыскивать!). И унижаться еще
пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на
Записки юного врача
103
меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я,
придя в норму, получил без всякой задержки в другой
пптеке 20 граммов в кристаллах — написал рецепт для
больницы (попутно, конечно, выписал кофеин и аспи-
рин). Да, в конце концов, почему я должен прятаться,
бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано,
что я — морфинист? Кому какое дело, в конце концов?
Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти
in писи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель! Разве
и них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рас-
суждаю совершенно здраво.
У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто
не может отнять, — способность проводить жизнь в
полном одиночестве. А одиночество — это важные, зна-
чительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость...
Ночь течет, черна и молчалива. Где-то оголенный
лес, за ним речка, холод, осень. Далеко, далеко взъеро-
шенная буйная Москва. Мне ни до чего нет дела, мне
ничего не нужно, и меня никуда не тянет.
Гори, огонь, в моей лампе, гори тихо, я хочу отдыхать
после московских приключений, я хочу их забыть.
И забыл.
Забыл.
18-го ноября.
Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по
тропинке, потому что я почти никогда не дышу возду-
хом.
Распад личности — распадом, но все же я делаю
попытки воздерживаться от него. Например, сегодня
утром я не делал впрыскивания (теперь я делаю впрыс-
кивания три раза в день по 3 шприца 4%-ного раство-
ра). Неудобно. Мне жаль Анны. Каждый новый % уби-
вает ее. Мне жаль. Ах, какой человек!
Да... так... вот... когда стало плохо, я решил все-таки
помучиться (пусть бы полюбовался на меня профес-
сор N) и оттянуть укол и ушел к реке.
104
Михаил Булгаков
Какая пустыня. Ни звука, ни шороха. Сумерек еще
нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по
кочкам, меж пней... Идут, идут к Левковской больни-
це... И я ползу, опираясь на палку (сказать по правде,
я несколько ослабел в последнее время).
И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро
и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой
колоколом старушонка с желтыми волосами... В первую
минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка
как старушонка. Странно — почему на холоде стару-
шонка простоволосая, в одной кофточке?.. А потом: от-
куда старушонка? Какая? Кончится у нас прием в
Левкове, разъедутся последние мужицкие сани, и на
десять верст кругом — никого. Туманцы, болотца, леса!
А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине —
понял! Старушонка не бежит, а именно л е т и т, не
касаясь земли. Хорошо? Но не это вырвало у меня крик,
а то, что в руках у старушонки вилы. Почему я так
испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая
руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, потом повернулся
и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения,
ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разрыва-
лось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты,
увидел живую Анну... и морфию...
И я прибежал.
Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцина-
ция.
19-го ноября.
Рвота. Это плохо.
Ночной мой разговор с Анной 21-го.
Анна. — Фельдшер знает.
Я. — Неужели? Все равно. Пустяки.
Анна. — Если ты не уедешь отсюда в город, я удав-
люсь. Ты слышишь? Посмотри на свои руки, посмотри.
Я. — Немного дрожат. Это ничуть не мешает мне
работать.
Анна. — Ты посмотри — они же прозрачны. Одна
кость и кожа... Погляди на свое лицо... Слушай, Сережа.
Уезжай, заклинаю тебя, уезжай...
Я. — А ты?
Записки юного врача
106
Анна. — Уезжай. Уезжай. Ты погибаешь.
Я. — Ну, это сильно сказано. Но я действительно
гпм не пойму, почему так быстро я ослабел? Ведь не-
полный год, как я болею. Видно, такая конституция у
меня.
Анна (печально). — Что тебя может вернуть к жиз-
ни? Может быть, эта твоя Амнерис — жена?
Я. — О нет. Успокойся. Спасибо морфию, он меня
избавил от нее. Вместо нее — морфий.
Анна. — Ах ты, боже... что мне делать?..
Я думал, что только в романах бывают такие, как
пя Анна. И если я когда-нибудь поправлюсь, я навсег-
да соединю свою судьбу с нею. Пусть тот не вернется
из Германии.
27-го декабря.
Давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан, лошади
ждут. Бомгард уехал с Гореловского участка, и меня
послали замещать его. На мой участок — женщина-
ирач.
Анна — здесь... Будет приезжать ко мне...
Хоть 30 верст.
Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на
один месяц по болезни — и к профессору в Москву.
Опять я дам подписку,, и месяц я буду страдать у него
и лечебнице нечеловеческой мукой.
Прощай, Левково. Анна, до свиданья.
1918 год
Январь.
Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристалли-
ческим растворимым божком.
Во время лечения я погибну.
И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться
мне не нужно.
15-го января.
Рвота утром.
Три шприца 4%-ного раствора в сумерки.
Три шприца 4%-ного раствора ночью.
106 Михаил Булгаков
16-го января.
Операционный день, потому большое воздержание —
с ночи до 6 часов вечера.
В сумерки — самое ужасное время — уже на квар-
тире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожаю-
щий, который повторял:
— Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.
После впрыскивания все пропало сразу.
17-го января.
Вьюга — нет приема. Читал во время воздержания
учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее
впечатление. Я погиб, надежды нет.
Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время
воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех
люблю, но предпочитаю одиночество.
Здесь нужно быть осторожным — здесь фельдшер и
две акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы
не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Никто не
узнает, пока у меня есть запас морфия. Растворы я
готовлю сам или посылаю Анне заблаговременно ре-
цепт. Один раз она сделала попытку (нелепую) подме-
нить пятипроцентный двухпроцентным. Сама привезла
его из Левкова в стужу и буран.
И из-за этого у нас была тяжелая ссора ночью. Убедил
ее не делать этого. Здешнему персоналу я сообщил, что
я болен. Долго ломал голову, какую бы болезнь приду-
мать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжелая
неврастения. Они предупреждены, что я уезжаю в фев-
рале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко.
В работе никаких сбоев. Избегаю оперировать в те дни,
когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой.
Поэтому пришлось приписать и катар желудка. Ах,
слишком много болезней у одного человека!
Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня в
отпуск.
Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью.
Брал ванну и при этом взвесился на больничных
весах* В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда
Записки юного врача
107
15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку, потом это
прошло.
На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же
ни бедрах. Я не умею стерильно готовить растворы,
кроме того, раза три я впрыскивал некипяченым шпри-
цем, очень спешил перед поездкой.
Это недопустимо.
18-го января.
Была такая галлюцинация:
Жду в черных окнах появления каких-то бледных
людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в
больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог.
Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому
своему действию я должен придумывать предлог? Ведь
действительно это мучение, а не жизнь!
Гладко ли я выражаю свои мысли?
По-моему, гладко.
Жизнь? Смешно!
19-го января.
Сегодня во время антракта на приеме, когда мы
отдыхали и курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки,
рассказывал (почему-то со смехом), как одна фельдше-
рица, болея морфинизмом и не имея возможности до-
стать морфий, принимала по полрюмки опийной настой-
ки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучи-
тельного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавис-
ген. Что смешного в этом? Что?
Я ушел из аптеки воровской походкой.
«Что вы видите смешного в этой болезни?..»
Но удержался, удерж...
В моем положении не следует быть особенно заносчи-
вым с людьми.
Ах, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры,
не умеющие ничем, ничем, ничем помочь больному.
Ничем.
Ничем.
108
Михаил Булгаков
Предыдущие строки написаны во время воздержа-
ния, и в них много несправедливого.
Сейчас лунная ночь. Я лежу после припадка рвоты,
слабый. Руки не могу поднять высоко и черчу каранда-
шом своц мысли. Они чисты и горды. Я счастлив на
несколько часов. Впереди у меня сон. Надо мною луна,
и на ней венец. Ничто не страшно после укола.
1 февраля.
Анна приехала. Она желта, больна.
Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой
грех.
Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля.
Исполню ли ее?
Да. Исполню. <
Е. т. буду жив.
3 февраля.
Итак: горка. Ледяная и бесконечная, как та, с кото-
рой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний
мой полет по этой горке, и я знаю, что ждет меня внизу.
Ах, Анна, большое горе у тебя будет вскоре, если ты
любила меня...
It февраля.
Я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно
к нему? Потому что он не психиатр, потому что молод
и товарищ по университету. Он здоров, силен, но мягок,
если я прав. Помню его. Быть может, он над... я в нем
найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть
отвезет меня в Москву. Я не могу к нему ехать. Отпуск
я получил уже. Лежу. В больницу не хожу.
На фельдшера я наклеветал. Ну, смеялся... Не важ-
но. Он приходил навещать меня. Предлагал выслушать.
Я не позволил. Опять предлоги для отказа? Не хочу
выдумывать предлога.
Записка Бомгарду отправлена.
Записки юного врача
109
Люди! Кто-нибудь поможет мне?
Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь
прочел бы это, подумал — фальшь. Но никто не прочт.
Перед тем как написать Бомгарду, все вспомнил.
В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда
и убегал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденый
морфий я впрыскивал в уборной... Это мучение. В двери
ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то,
что я долго занимаю место, и руки прыгают, и прыгает
крючок, того и гляди, распахнется дверь...
С тех пор и фурункулы у меня.
Плакал ночью, вспомнив это.
12-го ночью,
И опять плак. К чему эта слабость и мерзость ночью?
1918 года. 13 февраля на рассвете в Гореловке.
Могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать
часов! Четырнадцать! Это немыслимая цифра. Светает
мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров?
По зрелому размышлению: Бомгард не нужен мне и
не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить
свою жизнь. Такую — нет, нельзя. Лекарство у меня
под рукой. Как я раньше не догадался?
Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погу-
бил я только себя. И Анну. Что же я могу сделать?
Время залечит, как пела Амнер. С ней, конечно, просто
и легко.
Тетрадь Бомгарду. Все...»
V
На рассвете 14 февраля 1918 года в далеком малень-
ком городке я прочитал эти записи Сергея Полякова.
И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было
изменений. Я не психиатр, с уверенностью не могу ска-
зать, поучительны ли они, нужны ли? По-моему, нужны.
ПО Михаил Булгаков
Теперь, когда прошло десять лет, жалость и страх,
вызванные записями, конечно, ушли. Это естественно,
но, перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова
давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я
сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны? Беру
на себя смелость решить это утвердительно^ Анна К.
умерла в 1922 году от сыпного тифа и на том же учас-
тке, где работала. Амнерис — первая жена Полякова —
за границей. И не вернется.
Могу ли я печатать записки, подаренные мне?
Могу. Печатаю. Доктор Бомгард.
1927 г. Осень.
ЗАПИСКИ
НА МАНЖЕТАХ
Часть
первая
I
Сотрудник покойного «Русского слова», в гетрах и с
сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными
профессиональными глазами прочел ее в секунду от
первой строки до последней.
Его рука машинально выписала сбоку: «В 2 колон-
ки», но губы неожиданно сложились дудкой: «Фью-ю!»
Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку
и начертал:
До Тифлиса сорок миль...
Кто продаст автомобиль?
Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус»,
снизу: «Грач».
И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингель:
— Тэкс. Тэкс!.. Я так и знал!.. Возможно, что при-
дется отчалить. Ну что ж! В Риме у меня шесть тысяч
лир. Credito italiano. Что? Шесть... И, в сущности, я
итальянский офицер! Да-с. Finita la comedia!
И, еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и
бросился в дверь, с телеграммой и фельетоном.
— Стойте! — завопил я, опомнившись, — стойте!
Какое Credito? Finita?! Что? Катастрофа?!
Но он исчез.
Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой,
вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что меня
мучит? Credito непонятное? Сутолока? Нет, не то... Ах
да. Голова. Второй день болит. Мешает. Голова! И вот
тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А че-
рез минуту — наоборот: тело наполнилось сухим теп-
лом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки.
Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы
не заболеть... Лишь бы не заболеть!..
Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца.
Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой
раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак
не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но ни за
что не встал бы. Какая лень! Не хочется руку поднять.
Вот полчаса уж думаю, что нужно протянуть ее, взять
со стула порошок с аспирином, и все не протяну...
— Мишуня, поставьте термометр!
— Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет...
Боже мой, боже мой, бо-о-же мой! Тридцать восемь
и девять... да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не
может быть! Откуда?!. А если тиф?! Какой угодно, но
только не сейчас. Это было бы ужасно... Пустяки. Мни-
тельность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот
на ночь приму аспирин и завтра встану, как ни в чем
не бывало!
Тридцать девять и пять!
— Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это
просто инфлюэнца? А? Этот туман...
— Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..
— Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго.
Можно?
— С ума сошли!..
Пышет жаром утес и море и тахта. Подушку перевер-
нешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ни-
чего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в
случае чего — еду! Еду! Не надо распускаться! Пустяш-
ная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы
все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни бог,
не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почи-
тать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и
горы. Но не эти, проклятые, кавказские. А наши, дале-
кие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек
мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцар-
ства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок.
Вмиг полегчало бы... А потом — голым кинуться в суг-
роб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр
в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое
Записки на манжетах
115
хорошее, солидное, государственное слово — по-не-же!
Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек
пост нежно и складно:
Взбранной воеводе победительная!..
Ах нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где
бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские?..
— Ла-рисса Леонтьевна, где мо-наш-ки?!
— ...Бредит... бредит, бедный!..
— Ничего подобного. И не думаю бре-дить. Монаш-
ки! Ну что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу.
Нон, вон, с третьей полки. Мельников-Печерский...
— Мишуня, нельзя читать!..
— Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану!
Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят! Бросят!
— Ну, хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.
Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но
строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил.
Гнм, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские.
Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...
Сашки, канашки мои!..
— Ларисса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса
и горы? Я в. монастырь уйду. Непременно! В глушь, в
скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надо-
ела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу
роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна
разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я дол-жен
был быть у него... Пой-мите!
— Понимаю, понимаю, молчите!
Туман. Жаркий красноватый туман. Леса, леса... и
тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая
чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нуж-
но доползти. А там напьешься — и снимет как рукой!
Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая.
Глаза открыть — вовсе не хвоя, а простыня.
—- Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли,
вы ее посыпали?.. Пи-ить!
— Сейчас, сейчас!..
— А-ах, теплая, дрянная!
— ...ужасно. Опять сорок и пять!
— ...пузырь со льдом...
116
Михаил Булгаков
— Доктор! Я требую... Немедленно отправить меня в
Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если
не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг!
Ларочк-а-а! Достаньте!..
— Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!..
Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не пом-
ню...
Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а
демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп.
Го-ло-ва!..
Просвет... тьма. Проев... нет, уже больше нет! Ничего
не ужасно, и все — все равно. Голова не болит. Тьма
и сорок один и одна...............................
II
ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?!
Беллетрист Юрий Слезкин сидел на шикарном крес-
ле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому
Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голо-
ва, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Тве-
ном мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем).
Френч, молью обгрызанный, и под мышкой — дыра. На
ногах — серые обмотки. Одна — длинная, друга'я —
короткая. Во рту — двухкопеечная трубка. В глазах —
страх с тоской в чехарду играют.
— Что же те-перь бу-дет с на-ми? — спросил я и не
узнал своего голоса. После второго приступа он был
слаб, тонок и надтреснут.
— Что? Что?
Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно,
за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви.
Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей,
ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая
обезображенной головой. Прошелестело платье в сосед-
ней комнате. Зашептал женский голос:
— Сегодня ночью ингуши будут грабить город...
Слезкин дернулся в кресле и поправил:
— Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.
Нервно отозвались флаконы за стеной.
Записки на манжетах
117
— Боже мой! Осетины?! Тогда это ужасно!
— Ка-кая разница?
— Как какая?! Впрочем, вы не знаете наших нравов.
Ингуши когда грабят, то... они грабят. А осетины —
•рибит и убивают...
— Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин,
пыхтя зловонной трубочкой.
— Ах, боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну,
к io вообще... Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волну-
гм больного.
Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.
— Я не вол-нуюсь...
— Пустяки, — сухо отрезал Слезкин, — пустяки!
— Что? Пустяки?
— Да это... Осетины там и другое. Вздор, — он
выпустил клуб дыма.
Изнуренный мозг вдруг запел:
Мама! Мама! Что мы будем делать!
Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал.
Вспыхнуло вдохновение.
— Подотдел искусств откроем!
— Это... что такое?
- Что?
— Да вот... подудел?
— Ах нет. Под-от-дел!
— Под?
— Угу!
— Почему под?
— А это... Видишь ли, — он шевельнулся, — есть
отнаробраз, или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него
подотдел. Под. Понимаешь?!
Взметнулась хозяйка.
— Ради бога, не говорите с ним! Опять бредить
начнет...
— Вздор! — строго сказал Юра, — вздор! И все эти
мингрельцы, имери... Как их? Просто дураки!
— Ка-кие?
— Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут гра-
бить...
— А что с нами? Бу-дет?
— Пустяки. Мы откроем...
— Искусств?
— Угу! Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.
— Не по-ни-маю.
— Мишенька, не разговаривайте! Доктор...
118
Михаил Булгаков
— Потом объясню! Все будет! Я уж заведывал. Нам
что? Мы аполитичны. Мы — искусство!
— А жить?
— Деньги за ковер будем бросать!
— За какой ковер?..
— Ах, это у меня в том городишке, где я заведывал,
ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим
жалование, за ковер деньги бросали. Тревожно было.
Но ели. Ели хорошо. Паек.
— А я?
— Ты завлито будешь. Да.
— Какой?
— Мишуня! Я вас прошу!..
III
ЛАМПАДКА
Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет: лампадка
трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют.
А мозг горит. Туманится.
Мама! Мама!! Что мы будем делать?!
Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито.
Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические
ящики. Зачем? Лито — литераторы. Несчастные мы!
Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях.
Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица
колет ноги камфарой: третий приступ!..
— О-о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пой-
ду, пойду...
— Молчите, Мишенька, милый, молчите!
После морфия исчезают ингуши. Колышется бархат-
ная ночь. Божественным глазком светит лампадка и
поет хрустальным голосом:
— Ма-а-ма. Ма-а-ма!
IV
ВОТ ОН - ПОДОТДЕЛ
Солнце. За колесами пролеток пыльные облака...
В гулком здании ходят, выходят... В комнате, на четвер-
том этаже, два шкафа с оторванными дверцами; колче-
Записки на манжетах
119
ногие столы. Три барышни с фиолетовыми губами, то на
машинках громко стучат, то курят.
Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит
подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него
и денег требуют.
После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывает и
1ОП1НИТ. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.
— Завподиск. Наробраз. Литоколлегия.
Ходит какой-то между столами. В сером френче и
чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разва-
ливаются. Как миноноска режет воду. На кого ни гля-
нет — все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только ба-
рышням — ничего! Барышням — страх не свойственен.
Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил
ни ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — крис-
। ал л!
Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.
— Завлито?
— Зав. Зав.
Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь,
что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем
более.
Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку за-
стегнута, и чулки винтом. Стихи принесла.
Та, та, там, там.
В сердце бьется динамо-снаряд.
Та, та, там.
Стишки — ничего. Мы их... того... как это... в концер-
те прочитаем.
Глаза у поэтессы радостные. Ничего барышня. Но
почему чулки не подвяжет?
V
КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН
Все было хорошо. Все было отлично.
И вот пропал из-за Пушкина, Александра Сергееви-
ча, царствие ему небесное!
Так было дело:
В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех
местных поэтов. Был среди них юноша в синих студен-
ческих брюках: да, с-динамо-снарядом в сердце, дрему-
120
Михаил Булгаков
чий старик, на шестидесятом году начавший писать стихи,
и еще несколько человек.
Косвенно входил смелый, с орлиным лицом и огром-
ным револьвером на поясе. Он первый свое, напоенное
чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезан-
ных, шлявшихся по старой памяти на трэк, в бывшее
летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терека
он проклял сирень...
Это было эффектно!
Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоев-
ском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался
неблагоприятно, но вскользь. В одну из июньских ночей
Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за
«вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и
холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и
ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за
женщинами...
Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и
слушал, как докладчик рвал на Пушкине белые штаны.
Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он
предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я
улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня
возьми! Улыбка не воробей?
— Выступайте оппонентом?
— Не хочется!
— У вас нет гражданского мужества.
— Вот как? Хорошо, я выступлю!
И я выступил, чтобы меня черти взяли! Три дня и
три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы
с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга,
написанная человеком с огненными глазами.
...Ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума...
Говорил он:
Клевету приемли равнодушно.
Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу!
Я кулаком грозил черной ночи.
И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал
на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолв-
ное, веселое:
— Дожми его! Дожми!
О, пыльные дни! О, душные ночи!..
Записки на манжетах
И было в лето, от Р. X. 1920-е, из Тифлиса явление.
Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со
старушечьим морщинистым лицом, приехал и отреко-
мендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую кни-
жечку, похожую на прейскурант вин. В книжечке — его
стихи.
Ландыш. Рифма: гадыш.
С ума сойду я, вот что!..
Возненавидел меня молодой человек с первого взгля-
да. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колон-
ка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про
что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит! Но тому
что! Он там, идеже несть...
А я пропаду, как червяк.
VI
БРОНЗОВЫЙ ВОРОТНИК
Что это за проклятый город Тифлис!
Второй приехал! В бронзовом воротничке. В брон-зо-
вом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!
В бронзовом, поймите!........................
VII
МАЛЬЧИКИ В КОРОБКЕ
Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и
смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через
несколько часов погаснут звезды, и над нами вспыхнет
огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем
подыхать...
Через балконную дверь слышен непрерывный тонень-
кий писк. У черта на куличках, у подножия гор, в чужом
городе, в игрушечной тесной комнате, у голодного Слез-
кина родился сын. Его положили на окно в коробку с
надписью:
«М-me Marie. Modes et Robes».
И он скулит в коробке.
Бедный ребенок!
122
' Мйкаил Булгаков
Не ребенок. Мы бедные!
Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора.
Далеко, далеко, на севере, бескрайные равнины... На
юг — ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на за*
паде — море. Над ним светит Золотой Рог...
...Мух на tangle-foot’e1 видели?!
Когда затихает писк, идем в клетку.
Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки. Какая
гнусная водка! Мерзость! Но выпьешь, и — легче.
И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне
свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь
плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет
под подушку. Письменного стола нету.
До бледного рассвета мы шепчемся..............
Только через страдание приходит истина... Это верно,
будьте покойны! Но за знание истины ни денег не пла-
тят, ни пайка не дают. Печально, но факт.
VIII
СКВОЗНОЙ ВЕТЕР
Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротнич-
ке. С Черного моря, проездом в Петербург.
Где-то на севере был такой город.
Существует ли теперь? Писатель смеется; уверяет,
что существует. Но ехать до него долго: три года в
теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом
воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключе-
ниях.
Братья писатели, в вашей судьбе...
Без денег сидел. Вещи украли...
...А на другой, последний вечер, у Слезкина, в на-
сквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяй-
кой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной
стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта,
поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались
глазами.
Евреинов находчивый человек:
— А вот «Музыкальные гримасы»...
И, немедленно повернувшись лицом к клавишам,
начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях
1 липучка (англ.).
Записки на манжетах
123
ил рояли, затем влюбленный настройщик, диалог между
булатом и златом и, наконец, полька.
Через десять минут цех был приведен в состояние
полнейшей негодности. Он уже не сидел, а лежал впо-
валку, взмахивал руками и стонал...
Уехал человек с живыми глазами. Никаких гри-
мас!..
Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из
Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. Лезет
вп.срошенный Осип с чемоданом и сердится:
— Вот не доедем, да и только!
Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!
Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.
— В Москве лучше.
Доездился до того, что однажды лег у канавы:
— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!
Произошло: случайно знакомый подошел к канаве —
н обедом накормил.
Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.
— В Тифлисе лучше.
Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный
день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконич-
ностью:
— Из Крыма. Скверно! Рукописи у вас покупают?
— ...Но денег не пл2... — начал было я и не успел
окончить, как он уехал. Неизвестно куда...
Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в
женской кофточке.
— В Ростове лучше?
— Нет, я отдохнуть!!
Оригинал — золотые очки.
Серафимович — с севера.
Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.
— Помните, у Толстого платок на палке. То прилип-
нет, то опять плещется. Как живой платок... Этикетку
как-то для водочной бутылки против пьянства писал.
Написал фразу. Слово вычеркнул, сверху другое поста-
вил. Подумал — еще раз перечеркнул. И так несколько
паз. Но вышла фраза как кованая... Теперь пишут...
Необыкновенно пишут!.. Возьмешь. Раз прочтешь. Нет!
124
г р Мимам л Булгаковых
Не понял. Другой раз — то же. Так и отложишь в
сторону...
Местный цех in согроге под стенкой сидит. Глаза
такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее!
Уехал Серафимович... Антракт.
IX
ИСТОРИЯ С ВЕЛИКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ
Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павло-
вича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном
пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобиль-
ных очках.
Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих то-
нов павильон, столик с графином и лампочка.
Я читал вступительную статью «О чеховском юморе».
Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или
еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно.
В театре — яблоку негде упасть. Временами я терялся.
Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до
купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент,
впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то,
что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи
заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в
курилку, слышал, как красноармеец тосковал:
— Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ за-
ехали, и тут голову морочат!..
Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился
в свой любимый угол, темный угол, за реквизиторской.
И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются.
Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о
том, как чихнул чиновник.
Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и
шипел, потирая руки:
— Пиши вторую программу!
Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить
«Пушкинский вечер».
Любовно с Юрием составляли программу:
— Этот болван не умеет рисовать, — бушевал Слез-
кин, — отдадим Марье Ивановне!
У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-
моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как
я играть на скрипке... Я решил это сразу, как только
Затеки на иМмМах
12S
они явилась в подотдел и заявила, что она ученица
самого N. (Ее немедленно назначили заведующей Изо.)
Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я
промолчал.
Ровно за полчаса до начала я вошел в декоратор-
скую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Ноз-
зрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпук-
лые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия
Пыла так велика, что казалось, вот он громыхнет хохо-
IOM и скажет:
— А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!
Не знаю, какое у меня было лицо, но только худож-
ница обиделась смертельно. Густо покраснела под сло-
ем пудры, прищурилась.
— Вам, по-видимому... Э... не нравится?
— Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень...
Только вот... бакенбарды...
— Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина
никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-
ми! Что ж, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!
— Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пуш-
кин в карты не играл, а если и играл, то без всяких
фокусов!
— Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу,
издеваетесь надо мной!
— Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего
Пушкина глаза разбойничьи!
— А-ах... та-ак!
Бросила кисть. От двери:
— Я на вас пожалуюсь в подотдел!
Что было! что было... Лишь только раскрылся занавес
и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потем-
невшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика
решила, что после чеховского юмора будет пушкинский
юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о
«северном сиянии на снежных пустынях словесности рос-
сийской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной
горчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:
— Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя
повесил на первом дереве!
Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был
потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не
слыхал по своему адресу такого грохота всплесков.
126 <Мяхамл Булгаков• r
А дальше пошло crescendo... Когда в инсценировке Саль-
ери отравил Моцарта, театр выразил свое удовольствие
по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми
криками: «Bis!!!»
Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно,
как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в
редакцию...
Так я и знал!., на столбе газета, а в ней на четвертой
полосе:
ОПЯТЬ ПУШКИН!
Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют
же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он?
Ведь этот кретин подведет меня под арест!..
О, чертова напудренная кукла Изо!
Кончено. Все кончено!.. Вечера запретили...
...Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не
приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!.
X
ПОРТЯНКА И ЧЕРНАЯ МЫШЬ
Голодный, поздним вечером иду в темноте по лужам.
Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные
ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портян-
ка. Отчаянием я пьян. И бормочу:
— Александр Пушкин. Lumen coeli. Sancta rosa.
И как гром его угроза.
Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала.
Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня
кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили
добрые люди...
Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная
мышь...
XI
НЕ ХУЖЕ КНУТА ГАМСУНА
Записки на манжеМх
127
XII
БЕЖАТЬ, БЕЖАТЬ!
— Сто тысяч... У меня сто тысяч!..
Я их заработал!
Помощник присяжного поверенного, из туземцев,
научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел,
положив голову на руки, и сказал:
— У меня тоже нет денег. Выход один — пьесу
нужно написать. Из туземной жизни. Революционную.
Продадим ее...
Я тупо посмотрел на него и ответил:
— Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни
революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их
быта. И вообще, я ничего не могу писать. Я устал, и,
кажется, у меня нет способности к литературе.
Он ответил:
— Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте муж-
чиной. Быт — чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем
вместе писать. Деньги пополам.
С того вечера мы стали писать. У него была круглая,
жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке
и комнате, а затем давала нам винегрет с постным
маслом и чай с сахарином. Он называл мне характер-
ные имена, рассказывал обычаи, и я сочинял фабулу.
Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут
же я убедился, что они оба гораздо более меня способ-
ны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому
что твердо решил про себя, что эта пьеса будет послед-
ним, что я пишу...
И мы писали.
Он нежился у печки и говорил:
— Люблю творить!
Я скрежетал пером...
Через семь дней трехактная пьеса была готова. Ког-
да я перечитал ее у себя, в нетопленой комнате, ночью,
н не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездар-
ности — это было нечто совершенно особенное, потря-
сающее. Что-то тупое и наглое глядело из жаждой строчки
♦того коллективного творчества. Не верил глазам! На
что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зе-
леных сырых стен и из черных страшных окон на меня
глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился.
Потому что вдруг, с необычайной, чудесной ясностью,
сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя
уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от
самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту
изумительную штуку я сочинил. Кончено!..
В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ес
немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели
она шла.
В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы,
газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, после
того как в третьем акте геройские наездники ворвались
и схватили пристава и стражников, кричали:
— Ва! Подлец! Так ему и надо!
И вслед за подотдельскими барышнями вызывали:
«автора»!
За кулисами пожимали руки.
— Пирикрасная пыеса!
И приглашали в аул...
...Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсю-
да. Вперед. К морю. Через море и море и Францию —
сушу — в Париж!
...Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я
бежал переулками в последний раз — домой...
...Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине,
попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-ни-
будь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин
или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я!
В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощ-
ник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале...
XIII
Сгинул город у подножья гор. Будь ты проклят...
Цихидзири, Махинджаури, Зеленый Мыс! Магнолии
цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы.
Пальмы! Клянусь, сам видел: пальма из земли растет.
И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали
в книгах: солнце в море погружается. Краса морская.
Высота поднебесная. Скала отвесная, а на ней ползучие
растения.
Чаква. Цихидзири. Зеленый Мыс.
4е
Записки на манжетах
129
Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка.
I In манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иерогли-
фы. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал.
Он значит: горе мне! Кто растолкует мне остальные?!
На обточенных соленой водой голышах лежу как
мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, до
поздней ночи болит голова. И вот ночь — на море. Я не
нижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и
отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за
м’много мыса — трехъярусные огни.
«Полацкий» идет на Золотой Рог...................
Слезы такие же соленые, как морская вода.
Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-Базару
и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним.
Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит.
Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он
лгал! У него давно уже не было денег. И он три дня не
гл... Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он
признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть
нс засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?
Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал
«новый заведывающий».
Он вошел и заявил:
— По иному пути пойдем! Не надо нам больше этой
порнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи.
Моголи. Свои пьесы сочиним!
Затем сел в автомобиль и уехал.
Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу.
Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет
пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел
пускать!..
Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь
до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я го-
лоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и
боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... зна-
чит... значит...
130
Михаил Булгаков
XIV
ДОМОЙ
Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит де
нег — пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой!..
Прощай, Цихидзири. Прощай, Махинджаури. Зеле-
ный Мыс!
Часть втора чя
МОСКОВСКАЯ БЕЗДНА. ДЮВЛАМ
Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но
вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем
концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва.
М-о-с-к-в-а.
На секунду внимание долгому мощному звуку, что
рождается в тьме. В мозгу жуткие раскаты:
C’est la iu-u-tte fina-a-ie!
...L’Internationa-a-aie!!
И здесь — так же хрипло и страшно:
С Интернационалом!!
Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий ва--
гон...
Вниз, решившись наконец, прыгнул. Какое-то мягкое
тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за
рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже,
неужели действительно бездна под ногами?..
Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы,
потекли... потекли...
Женский голос:
— Ах... не могу!
Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она,
скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.
— Позвольте, я возьму.
На мгновенье показалось, что черная бездна качну-
лась и позеленела. Да сколько же тут?
— Три пуда... Утаптывали муку.
Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.
5-2
Записки на манжетах
131
От них дробятся лучи. На них ползет невиданная
' грня змея. Стеклянный купол. Долгий, долгий гул.
II глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв го-
лосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять
луч. Тьма. Москва! Москва.
Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на
бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых
балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал
на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое
пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но
выбрались наконец на путаницы колес, перестали мель-
ил н> бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной
мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно.
Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома
молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь про-
плыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во
I ьму.
Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то,
ломов! Чего проще... В любой постучать. Пустите пере-
ночевать. Вообража-аю!
Голос медички:
— А вы куда?
— А не знаю.
— То есть как?..
...Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли,
комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни.
Ни одну ночь устроитесь...
— О, очень вам благодарен. Завтра я найду знако-
мых.
Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу,
как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг
почувствовалось, что три ночи не спали..
На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять
бултыхнули в тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем
афиша. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж
iu слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?
Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.
Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку
н, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово
хорошо. А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на
««вподиска! Куда ж, к черту. Ан Москва не так страш-
на, как ее малютки. Мучительное желание представить
себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он
v
132
Михаил Булгаков
лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках,
очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки.
Служит. Не курит. У него большая квартира с порть-
ерами, уплотненная присяжным поверенным, который
теперь не присяжный поверенный, а комендант казенно-
го здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином.
Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в
комнате. Любимый автор — Конан-Дойль. Любимая
опера — «Евгений Онегин». Сам готовит себе на приму-
се котлеты. Терпеть не может поверенного-коменданта и
мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и
славно заживет в пяти комнатах.
Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни гро-
зы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ива-
на Иваныча Иванова. У дома, в котором в темноте от
страху показалось этажей пятнадцать, воз заметно по-
худел. В чернильном мраке от него к подъезду металась
фигурка и шептала: «Папа, а масло?., папа, а сало?.,
папа, а белая?»
Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало... так, масло...
так, белая, черная... так».
Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин
короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.
Будут еще бури. Ох,, большие будут бури! И все
могут помереть. Но папа не умрет!
Воз превратился в огромную платформу, на которой
затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели,
свесив ноги, и уехали в темную глубь.
ДОМ № 4, 6-й ПОДЪЕЗД, 3-й ЭТАЖ,
КВ. 50, КОМНАТА 7
В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю
Москву и направился именно в это колоссальное здание.
Та бумажка, которую я бережно вывез из горного цар-
ства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным
зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни
к одному из них.
В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта.
Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая за-
гадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь реша-
ется судьба.
5-4
Записки на манжетах
133
Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней
огромный ящик с бумагой и крышка от рояли. Мелькну-
ли комната, полная женщина в дыму. Дробно застучала
машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».
— Где Лито? — спросил я, облокотившись на дере-
пнпный барьер.
Женщина у барьера раздраженно повела плечами.
Нс знает. Другая — не знает. Но вот темноватый кори-
дор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь — ванная. А на
другой двери маленький клок. Прибит косо, и край
ввернулся. «Ли». А, слава богу. Да, Лито. Опять сер-
дце. Из-за двери слышались голоса: «Ду-ду-ду...»
Закрыл глаза на секунду и мысленно представил
себе. Там. Там вот что: в первой комнате ковер огром-
ный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжествен-
но тихо. За столом секретарь — вероятно, одно из имен,
знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет
i а не дующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы.
В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да, Горький
Максим: «На дне», «Мать». Больше кому же? «Ду-ду-
ду...» Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым?..
И я легонько стукнул в дверь. «Ду-ду-ду» прекрати-
лось, и глухо: «Да!» Потом опять «ду-ду-ду». Я дернул
ж ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер:
хорошенькое начало карьеры — сломал! Опять посту-
чал. «Да! Да!»
— Не могу войти! — крикнул я.
В замочной скважине прозвучал голос:
— Вверните ручку вправо, потом влево, вы нас за-
перли...
Вправо, влево, мягко подалась и...
ПОСЛЕ ГОРЬКОГО Я ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул.
Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький
столик кверху ножками в углу. И два человека. Один
высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его
обмотки. Они были белые, в руках он держал потрес-
кавшийся портфель и мешок. Другой — седоватый ста-
рик с живыми, чуть смеющимися глазами — был в
папахе, солдатской шинели. На ней не было места без
дыры, и карманы висели клочьями. Обмотки серые и
лакированные бальные туфли с бантами.
134
Михаил Булгаков
Потухшим взором я обвел лицо, затем стены, ища
двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванны-
ми проводами была глуха. Tout. Как-то косноязычно:
— Это... Лито?
— Да.
— Нельзя ли видеть заведующего?
Старик ласково ответил:
— Это я.
Затем взял со стола огромный лист московской газе-
ты," отодрал от нее четвертушку, всыпал махорки, свер-
нул козью ногу и спросил у меня:
— Нет ли спичечки?
Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласко-
во-вопросительным взглядом старика достал из кармана
заветную бумажку.
Старик наклонился над ней, а я в это время мучи-
тельно думал о том, кто бы мог быть... Больше всего он
походил на обритого Эмиля Зола.
Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже
читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерян-
но и с уважением.
Старик:
— Так вы?..
Я ответил:
— Я хотел бы должность в Лито.
Молодой восхищенно крикнул:
— Великолепно!.. Знаете...
Подхватил старика под руку. Загудел шепотом:
— Ду-ду-ду...
Старик повернулся на каблуках, схватил со стола
ручку. А молодой сказал скороговоркой:
— Пишите заявление.
Заявление у меня за пазухой. Я подал.
Старик взмахнул ручкой. Она сделала «крак!» и прыг-
нула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та
была суха.
— Нет ли карандашика?
Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:
«Прошу назначить секретарем Лито». Подпись.
Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой
росчерк.
Молодой дернул меня за рукав:
— Идите наверх, скорей, пока он не уехал. Скорей.
И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, про-
несся через комнату с женщинами и вошел в кабинет.
Записки на манжетах
135
II кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: «Назн.
секр.». Буква. Закорючка. Зевнул и сказал: вниз.
В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не
бис, а серебристое сопрано сказало: «Мейерхольд. Ок-
шбрь театра...»
Молодой бушевал вокруг старого и хохотал.
— Назначил? Прекрасно. Мы устроим! Мы все ус-
। рои м!
Тут он хлопнул меня по плечу:
— Ты не унывай! Все будет.
Я не терплю фамильярности с детства и с детства же
был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми
событиями, что только и мог сказать расслабленно:
— Но столы... стулья... чернила, наконец!
Молодой крикнул в азарте:
— Будет! Молодец! Все будет!
И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на
меня:
— Деловой парняга. Как он это про столы сразу! Он
нам все наладит!
«Назн. секр.». Господи! Лито. В Москве. Максим
Горький... На дне. Шехерезада... Мать.
Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету
и высыпал на нее фунтов пять гороху.
— Это вам. !/4 пайка.
Я ВКЛЮЧАЮ ЛИТО
Историку литературы не забыть:
В конце 21-го года литературой в Республике зани-
малось 3 человека: старик (драмы; он, конечно, оказался
не Эмиль Зола, а незнакомый мне), молодой (помощник
старика, тоже незнакомый — стихи) и я (ничего не
писал).
Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов,
ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни чи-
1ателей. Коротко: ничего не было.
И я. Да, я из пустоты достал конторку красного
дерева старинную. В ней я нашел старый пожелтевший
136
Михаил Булгаков
золотообрезный картон со словами: «...дамы в полуот-
крытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполе-
тами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Сту-
денты в мундирах. Москва 1899 г.».
И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал
флакон дорогих французских духов. За конторкой поя-
вился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня,
медлительная, печальная.
По моему приказу она разложила на столе стопками
все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вреди-
телях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых
и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов.
И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и моло-
дой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу
и куда-то исчезли.
Часами мы сидели с печальной барышней. Я за кон-
торкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров»
неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ван-
ной, барышня сидела молча и временами тяжело и
глубоко вздыхала.
Я спросил:
— Чего вы плачете?
В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом про-
молвила:
— Я узнала, что я вышла замуж по ошибке за бан-
дита.
Я не знаю, есть на свете штука, которой можно было
бы меня изумить после двух этих лет. Но тут... тупо
посмотрел на барышню...
— Не плачьте. Бывает.
И попросил рассказать.
Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вы-
шла замуж за студента, сделала увеличительный сни-
мок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент,
посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Кара-
сев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.
— Мо-мёнт, — говорила бедная барышня и вздраги-
вала и утиралась.
— Удрал он? Ну и плюньте.
Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил.
Вообще ничего. Я и барышня...
Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами
есть какая-то жизнь. Топают ногами. За стеной тоже
•нп го. То глухо затарахтят машины, то смех. Туда при-
водят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд
феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.
У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил вклю-
чи и. Лито.
По лестнице поднималась женщина с пачкой газет.
Пл верхней красным карандашом написано: «В Изо».
-Ав Лито?
Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я
поднялся наверх. Подошел к барышне, сидевшей под
плакатом «секретарь».
Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.
— А ведь верно, Лито... — сказала первая.
Вторая отозвалась:
— Им, Лидочка, есть бумага.
— Почему же вы ее не прислали? — спросил я
ледяным тоном.
Посмотрели они напряженно:
— Мы думали — вас нет.
Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня свер-
ну от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой:
распишитесь.
Написал бумагу в хозяйственный отдел: дайте маши-
ну. Через два дня пришел человек, пожал плечами:
— Разве вам нужна машина?
— Я думаю, что больше, чем кому бы то ни было в
ном здании.
Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик уви-
дал машину и когда я сказал, что ему нужно подписать
бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал
। убами:
— В вас что-то такое есть. Нужно было бы вам
похлопотать об академическом пайке.
Мы с женой бандита начали составлять требовательную
игдомость на жалование. Лито зацепилось за общий ход.
Моему будущему биографу: это сделал я.
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озяб-
ший поэт. Тихо сказал: «Шторн».
— Чем могу вам служить?
138
Михаил Булгаков
— Я хотел бы получить место в Лито.
Я развернул листок с надписью «Штаты». В Лито
полагается 18 человек. Смутно я лелеял такое распре-
деление.
Инструктора по поэтической части:
Брюсов, Белый... и т. д.
Прозаики:
Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович...
и т. д.
Но никто из перечисленных не являлся.
И смелой рукой я черкнул на прошении Шторна:
«Пр. назн. инстр. За завед.». Буква. Завитушка.
— Идите наверх, пока он не уехал.
Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнера-
достный поэт Скарцев.
— Идите наверх, пока он не уехал.
Из Сибири приехал необыкновенно мрачный в очках,
лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.
— Идите наверх...
Но он ответил:
— Никуда я не пойду.
Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул
четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими
строчками. По-видимому, бывадый человек.
Открылась дверь, и вошел в хорошем теплом пальто
и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.
Старик написал магические слова. Саша осмотрел
внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий обор-
ванный провод, заглянул зачем-то в шкаф. Вздохнул.
Подсел ко мне — конфиденциально:
— Деньги будут?..
МЫ РАЗВИВАЕМ ЭНЕРГИЮ
За столами не было места. Писали лозунги все и еще
один новый, подвижной и шумный, в золотых очках,
называвший себя — король репортеров. Король явился
на другое утро после получения нами аванса без четвер-
ти девять со словами:
— Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?
И поступил на службу к нам.
История лозунгов была такова.
Записки на манжетах
139
Сверху пришла бумага:
Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в
срочном порядке представить ряд лозунгов.
Теоретически это дело должно было обстоять так:
ггнрик при моем соучастии должен был издать какой-
ю приказ или клич по всему пространству, где только,
предполагалось, — есть писатели. Лозунги должны были
посылаться со всех сторон: телеграфно, письменно и
устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч
лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то
числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (т. е.
печальная жена разбойника) составить требовательную
педомость, получить по ней и выплатить наиболее до-
стойным за наилучшие лозунги.
Но это теория.
На практике же:
1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо
некого было кликать. Литераторов в то время в поле
фения было: все перечисленные плюс король.
2) Исключалось первым; никакого, стало быть, на-
плыва лозунгов быть не могло.
3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить
было невозможно по той причине, что бумага пришла к
I ч. 26 мин. этого самого такого-то числа.
4) Ведомость можно было и не писать, так как ни-
какой такой графы «на лозунги» не было. Но —
У старика была маленькая заветная сумма: на разъ-
езды.
Поэтому:
а) Лозунги в срочном порядке писать всем находя-
щимся налицо.
Ь) Комиссию для рассмотрения лозунгов составить
для полного ее беспристрастия также из всех находя-
щихся налицо.
с) За лозунги уплатить по 15 т. за штуку, выбрав
наилучшие.
Сели в 1 ч. 50 м., а в 3 ч. лозунги были готовы.
Каждый успел выдавить из себя по 5—6 лозунгов, за
исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.
Комиссия была справедлива и строга.
Я — писавший лозунги — не имел ничего общего с
тем мною, который принимал и критиковал лозунги.
В результате принято:
У старика — 3 лозунга.
У молодого — 3 лозунга.
У меня — 3 лозунга
и т. д. и т. д.
Словом, каждому 45 тысяч.
У-у, как дует... Вот оно, вот начинает моросить. Пирог
на Трубе с мясом, сырой от дождя, но вкусный до ос-
тервенения. Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.
Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.
НЕОЖИДАННЫЙ КОНЕЦ
...Клянусь, это сон!!. Что же это, колдовство, что ли?!
Сегодня я .опоздал на 2 часа на службу.
Ввернул ручку, открыл, вошел и увидал: комната
была пуста. Но как пуста! Не только не было столов,
печальной женщины, машинки... не было электрических
проводов. Ничего.
Значит, это был сон... Понятно... понятно...
Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий
мираж. Там, где вчера... Впрочем, черт, почему вчера?
Сто лет назад... в вечности... может быть, не было во-
все... может быть, сейчас нет?.. Канатчикова дача!
Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн...
машинка... лозунги... не было?
Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!
Ну, так куда же оно делось?..
Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под
веками (чтобы сразу не взяли и не свезли), пошел по
полутемному коридорчику. И тут окончательно убедил-
ся, что со мной происходит что-то неладное. Во тьме над
дверью, ведущей в соседнюю, освещенную, комнату,
загорелась огненная надпись, как в кинематографе:
«1836
МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕОБЫК-
НОВЕННО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ЦИРЮЛЬНИК ИВАН
ЯКОВЛЕВИЧ...»
Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул.
У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спро-
сил глухо:
— Скажите, вы не видели, куда делось Лито?
Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лен-
той в черных волосах ответила:
— Ах, какое Лито... Я не знаю.
Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо
сказал: '
— Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попа-
ли. Это на Волхонке.
Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со
лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину.
Забыть все. Ведь если я буду тих, смолчу, никто никогда
не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не
прогонит меня — душевнобольного.
Но последняя слабенькая надежда еще копошилась
и сердце. И я пошел. Пошел. Это шестиэтажное здание
было положительно страшно. Все пронизано продольны-
ми ходами, как муравейник, так что его все можно было
пройти из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по
темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши
за деревянными перегородками. Горели красноватые не
экономические лампочки. Встречались озабоченные люди,
которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели.
Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нац-
мен. Попадая на светлые площадки, опять уходил в
тьму. Наконец вышел на площадку, тупо посмотрел
кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глу-
по. Чем дальше я ухожу, тем меньше шансов найти
заколдованное Лито. Безнадежно. Я спустился вниз и
вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...
...Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные
струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал
воротник шинели. Через несколько минут через огром-
ные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой.
Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что
мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с
камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел пря-
мо по лужам.
2-й ПОДЪЕЗД, 1-й ЭТАЖ, КВ. 23, КОМ. 40
Огненная надпись:
«ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ. ИНОГДА
ВОВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДОБИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ
НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА
И НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ, КАК НИ
В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ...»
142
Михаил Булгаков
Утро вечера мудренее. Это сущая правда. Когда утром
я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы,
показалось, немного яснее в голове.
Логически: все же было оно? Ну было, конечно. Я ведь
помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось...
Ну так, значит, нужно его найти. Ну, а как же рядом-то
женщины? На Волхонке... А, вздор! У них, у этих женщин,
из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю,
зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.
Одевшись и напившись воды, которой я запас с ве-
чера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину
и составил план.
6 подъездов по 6 этажей в каждом=36. 36 раз по 2
квартиры=72. 72 раза по 6 комнат=432 комнаты. Мысли-
мо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три
горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в
вертикальном и горизонтальном направлении. И найду.
Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое изме-
рение. Если в четвертое, тогда — да. Конец.
У 2-го подъезда носом к носу — Шторн!
Боже ты мой! Родному брату...
Оказалось: вчера за час до моего прихода явился
заведующий административной частью с двумя рабочи-
ми и переселил Лито во 2-ой подъезд, 1-й этаж, кв. 23,
комн. 40.
На наше же место придет секция Музо.
— Зачем?
— Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик
волновался.
— Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы де-
лись? Оставили бы записку на двери.
— Да мы думали —- вам скажут...
Я скрипнул зубами:
— Вы видели этих женщин? Что рядом...
Шторн сказал:
— Это верно.
ПОЛНЫМ ходом
...Получив комнату, я почувствовал, что в меня вли-
лась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для
машины. Потом появилась вторая барышня. «Пр. назн.
делопроизв.».
Записки на манжетах
143
Из провинции начали присылать рукописи.-Затем еще
пдна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая,
юроший товарищ. «Пр. назн. секрет, бюро художествен,
фельетонов».
Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему
написали последнее «Пр.». Больше мест не было. Лито
было полно. И грянула работа.
/
ДЕНЬГИ! ДЕНЬГИ!
12 таблеток сахарину, и больше ничего...
...Простыня или пиджак?..
О жаловании ни слуху ни духу.
...Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня
очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.
— Позвольте нашу ведомость проверить.
— Зачем вам?
— Хочу посмотреть, все ли внесены.
— Обратитесь к madame Крицкой.
Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих
полос и сказала, побледнев: *
— Она затерялась.
Пауза.
— И вы молчали?
Madame Крицкая плаксиво:
— Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается —
уму непостижимо. Семь раз писала ведомость —
позвращают. Не так. Да вы все равно не получите жа-
лованья. Там у вас в списке кто-то не проведен при-
казом.
Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков.
Бросился сам. Опять коридор. Мрак. Свет. Свет. Мрак.
Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая
шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.
— Кто у нас не проведен приказом?!
Ответ:
— Ни один не проведен.
Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито,
старик! Что? И я сам не проведен?! Да что же это
гякое?!
144
Михаил Булгаков
— Вы, вероятно, не писали анкету?
— Я не писал? Я написал у вас 4 анкеты. И лично
вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет —
ИЗ анкет.
— Значит, затерялась. Пишите наново.
Три дня так прошло. Через три дня все восстановле-
ны в правах. Написаны новые ведомости.
Я против смертной казни. Но если madame Крицкую
поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и ба-
рышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу
делопроизводителя.
...Вон! Помелом!
Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и
я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не
могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь.
Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок.
Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде.
Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде
2-й день поймать председателя тарифно-расценочной
комиссии.
Простыню продал.
Денег не будет раньше чем через две недели.
Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500
авансом.
Слух верный. Все сидели, составляли ведомости.
Четыре дня.
Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все
печати налицо. Но дошел до того, что, пробегая из 2-го
этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то же-
лезный болт, торчащий из стены.
Записки на манжетах
145
Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то зда-
ние на другой конец Москвы... Там утйердят. Вернут.
Тогда деньги...
Сегодня я получил деньги. Деньги!
За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в
1-м этаже, которая должна была поставить последнюю
печать, сказала:
— Неправильно по форме. Надо задержать ведо-
мость.
Не помню точно, что произошло. Туман.
Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:
— Вы издеваетесь надо мной?
Женщина раскрыла рот:
А-ах, вы так...
Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взвол-
нован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласи-
лась поправить красными чернилами. Черкнула: «Вы-
дать». Закорючка.
В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже
тогда, когда кассир вынул бумажки.
Потом опомнился: деньги!
С момента начала составления ведомости до момента
получения из кассы прошло 22 дня и 3 час.
Дома — чисто. Ни куртки. Ни кростынь. Ни книг.
О ТОМ, КАК НУЖНО ЕСТЬ
Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный
с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир).
3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы мало-
сольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром
выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и
заснул...
Видел во сне, как будто я Лев^ Толстой в Ясной
Поляне. И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху
146
Михаил Булгаков
в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю.
И все время приходят люди и говорят:
— Пожалуйте обедать.
А я боюсь сойти. И так дурацки: чувствую, что тут
крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир».
А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет
вверх по деревянной лестнице и говорит:
— Иди. Вегетарианский обед.
И вдруг я рассердился.
— Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки
сделать. Рюмку водки.
Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладис-
той рыжей бородой и укоризненно мне:
— Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович!
— Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон
из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора.
Скандал какой-то произошел.
Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-
то за стеной на гармонике играют.
Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы
белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехо-
рошие. Опять с блеском.
Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится,
сейчас же берите взаймы деньги у буржуа (без отдачи),
покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь
сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба.
Постепенно, постепенно.
Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.
Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В поне-
дельник я ел картошку с постным маслом и 1 /4 фунта
хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник
ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал
два фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин
кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа
пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке
открыла дверь.
Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад.
В три часа слышу, горничная начинает накрывать в
столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром).
Ругают большевиков и рассказывают, как они измучи-
Записки на манжетах
147
/1нгь. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не
уиожу.
Наконец хозяйка говорит:
А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?
Благодаря вас. С удовольствием.
1;ли: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе
пометы с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и
чнй с вареньем.
Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представи-
лись картина обыска у них. Приходят. Все роют. Нахо-
/пн золотые монеты в кальсонах в комоде. В кладовке
мука и ветчина. Забирают хозяина...
Гадость так думать, а я думал.
Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не
следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. Иди к этим,
чю живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в
поливке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в
।убботу, получил деньги, объелся и заболел.
ГРОЗА. СНЕГ
Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня
уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начи-
нает трещать.
Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в
потолок, за которым скрываются барышни:
— Против меня интрига.
Лишь это я услыхал, немедленно подсчитал, сколько
у меня осталось таблеток сахарину... На 5-—6 дней.
Старик вошел шумно и радостно.
— Я разбил их интригу, — сказал он. Лишь только
он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в
платке и буркнула:
— Которые тут? Распишитесь.
Я расписался.
В бумаге было:
С такого-то числа Лито ликвидируется.
...Как капитан с корабля, я сошел последним. Де-
ля — Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные
148 Михаил Булгаков
сборники, стихи, инструкции уездным Лито приказал
подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и
вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь.
Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо
со вТех сторон.
В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна.
Да-с, это было сокращение. В других квартирах страш-
ного здания тоже кого-то высадили.
Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка
остались.
РАССКАЗЫ
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА
Доктор N, мой друг, пропал. По одной версии его
убили, по другой — он утонул ва время посадки в
Новороссийске, по третьей — он жив и здоров и нахо-
дится в Буэнос-Айресе.
Как бы там ни было, чемодан, содержавший в себе
три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную
рецептуру доктора Рабова (изд. 1916 г.), две пары нос-
ков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую
французскую булку, роман «Марья Лусьева за грани-
цей», шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную
книжку доктора, попал в руки его сестры.
Сестра послала записную книжку по почте мне вмес-
те с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и
его друг, напечатайте, т. к. это интересно»... (Дальше
женские рассуждения на тему «о пользе чтения», пере-
сыпанные пятнами от слез).
Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно —
некоторые места совершенно нельзя разобрать (у докто-
ра N' отвратительный почерк), тем не менее печатаю
бессвязные записки из книжки доктора без всяких из-
менений, лишь разбив их на главы и переименовав их.
Само собой, что гонорар я отправлю доктору N в
Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что
он действительно там.
I
БЕЗ ЗАГЛАВИЯ - ПРОСТО ВОПЛЬ
За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родил-
ся сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет.
А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один
152
Михаил Булгаков
тип мне сказал: «Зато вам будет что порассказать ва-
шим внукам!» Болван такой! Как будто единственная
мечта у меня — это под старость рассказывать внукам
всякий вздор о том, как я висел на заборе!...........
И притом не только внуков, но даже и детей у меня не
будет, потому что, если так будет продолжаться, меня,
несомненно, убьют в самом ближайшем времени..........
К черту внуков. Моя специальность — бактериология.
Моя любовь — зеленая лампа и книги в моем кабинете.
Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холм-
са, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и
всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки.
У меня нет к этому склонности. У меня склонность
к бактериологии.
А между тем...
Погасла зеленая лампа. «Химиотерапия спириллез-
ных заболеваний» валяется на полу. Стреляют в пере-
улке. Меня мобилизовала пятая по счету власть.
II
ЙОД СПАСАЕТ ЖИЗНЬ
Вечер ... декабря.
Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишил-
ся... К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточ-
ной окраине пулеметы стрекотали. Это — «ихние». На
западной пулеметы — «наши». Бегут какие-то с винтов-
ками. Вообще — вздор. Извозчики едут. Слышу, гово-
рят: «Новая власть тут...»
«Ваша часть (какая, к черту, она моя!!) на Влади-
мирской». Бегу по Владимирской и ничего не понимаю.
Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть...
Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу —
какие-то с красными хвостами на шапках пересекают
улицу и кричат:
— Держи его! Держи!
Я оглянулся — кого это?
Оказывается — меня!
Тут только я сообразил, что надо было делать, —
просто-напросто бежать домой! И я кинулся бежать.
Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок.
А там сад. Забор. Я на забор.
Рассказы
153
Ге кричат:
Стой!
Но как я ни неопытен во всех этих войнах, а понял
нн<i пиктом, что стоять вовсе не следует. И через забор.
Иглгд: трах! трах! И вот откуда-то злобный, взъерошен-
ный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдре-
Лени. Я свесился с забора. Одной рукой держусь, в дру-
|пЛ банка с йодом (200 gr.). Великолепный германский
йод Размышлять некогда. Сзади топот. Погубит меня пес.
Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес момен-
1илыю окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через
«мд. Калитка. Переулок. Тишина. Домой..............
,,.До сих пор не могу отдышаться!
...Ночью стреляли из пушек на юге, но чьи это — уж
иг знаю. Безумно йода жаль.
III
НОЧЬ СО 2 НА 3
Происходит что-то неописуемое... Новую власть тоже
аыгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава
Логу. Слава богу. Слава...
Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки
провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля
(но Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь.
I ород горел огнями на том берегу. Слободка на этом.
Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я
никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки
тли, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне ска-
1йли, что меня заберут в Галицию. Только тогда я до-
едался бежать. Все ставни были закрыты, все подъез-
ды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми
белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали.
II спрятался во дворе под навесом и просидел там два
часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам
Лежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда
Лежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо
мной. Я —- доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел,
кик крыса, притаившись, в чужом дворе! Временами я
жалею, что я не писатель. Но, впрочем, кто поверит! Я
убежден, что, попадись эти мои заметки кому-нибудь в
руки, он подумает, что я все это выдумал.
Под утро стреляли из пушек.
154
Михаил Булгаков
IV
ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАРМОНИКА
15 февраля
Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал
Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона
(эмфизема). Играл в приемной, ожидая очереди, на
большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот
эмфизематик («На сопках Маньчжурии»), но пациенты
были страшно смущены, и выслушивать совершенно
невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира
ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со
взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон...
Эмфизематику лекарство в аптеке сделали в двад
цать минут и даром. Это замечательно, честное слово!
17 февраля.
Спал сегодня ночью — граммофон внизу сломался,
Достал бумажки с 18 печатями [о] том, что меня
нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на
двери кабинета и в столовой.
21 февр,
Меня уплотнили...
22 февр.
...И мобилизовали.
...марта.
Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За
полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы проси-
те песен». Какое все-таки приятное изобретение!
Из пушек стреляли под утро...
V
VI
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА И САПОГИ
VII
Кончено. Меня увозят.
...Из пушек.................................................
...и........................................................
VIII
ХАНКАЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Сентябрь.
Временами мне кажется, что все это сон. Бог гроз-
ный наворотил горы. В ущельях плывут туманы. В
прорезах гор грозовые тучи. И бурно плещет по камням
...мутный вал.
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал.
Узун-Хаджи в Чечен-ауле. Аул растянулся на плос-
кости на фоне синеватой дымки гор. В плоском Хан-
кпльском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки.
Кизлярогребенские казаки стали на левом фланге, гуса-
ры на правом. На вытоптанных кукурузных полях бата-
реи. Бьют шрапнелью по Узуну. Чеченцы как черти
дерутся с «белыми чертями». У речонки, на берегу ко-
юрой валяется разбухший труп лошади, на двуколке
|реплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне
окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках.
Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и
и жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся
дне сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы
мн соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поят
иодой.
Пулеметы гремят дружно целой стаей.
Чеченцы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ниче-
го не выйдет. Возьмут аул и зажгут. Где ж им с двумя
паршивыми трехдюймовками устоять против трех бата-
рей кубанской пехоты...
С гортанными воплями понесся их лихой конный полк
нытоптанными, выжженными кукурузными пространства-
ми. Ударил с фланга в терских казачков.
156
Михаил Булгаков
Те чуть теку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять
застрочили пулеметы и загнали наездников за кукуруз»
ные поля на плато, где видны в бинокль обреченные
сакли.
Ночь.
Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинствен»
ные тени. Потом бархатный полог и бескрайний звезд»
ный океан. Ручей сердито плещет. Фыркают лошади, •
на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая,
костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе.
Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то я
сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете измен-
чивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют и
темную бездну. А ночь нарастает, безграничная, черная,
ползучая. Шалит, ругает. Ущелье длинное. В ночных
бархатах — неизвестность. Тыла нет. И начинает ка-
заться, что оживает за спиной дубовая роща. Модсет,
там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в
черкесках. Ползут, ползут... И глазом не успеешь мор-
гнуть: вылетят бешеные тени,’распаленные ненавистью,
с воем, с визгом, и... аминь!
Тьфу, черт возьми!
— Поручиться нельзя, — философски отвечает на
кой-какие дилетантские мои соображения относительно
непрочности и каверзности этой ночи сидящий у костра
Терского 3-го конного казачок, —- заскочуть с хлангу.
Бывало.
Ах, типун на язык! «С хлангу»! Господи боже мой!
Что же это такое! Навоз жуют лошади, дула* винтовок
в огненных отблесках. «Поручиться нельзя!» Туманы в
тьме. Узун-Хаджи в роковом ауле...
Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его
специальности. При чем здесь я!!
Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и
начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брыз-
гами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица
тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцеватых
листах, стены кабинета... Все полетело верхним концом
вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте,
в страшной ночи. В Ханкальском ущелье...
Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под
абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в нем
пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск
огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутно-
Рассказы
157
ииюй сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загре-
мели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кин-
жилы, газыри с серебряными головками... Ах!.. Напали!
Да нет! Это чудится... Все тихо. Пофыркивают
лшпади, рядами лежат черные бурки — спят истомлен-
ные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет
। перху. Встает, бледный далекий рассвет.
Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев напле-
иигь. Век не поднимешь — свинец. Пропадает из глаз
умирающий костер... Наскочат с «хлангу», как кур за-
режут. Ну и зарежут. Какая разница...
Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог.
Чиджи. Узун. В красном переплете в одном томе. На
переплете золотой офицер с незрячими глазами и эпо-
леты крылышками. «Тебя я, вольный сын эфира». Склян-
ки то с эфиром лопнула на солнце... Мягче, мягче, глу-
ше, темней. Сон.
IX
ДЫМ И ПУХ
Утро.
Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма.
Герцы поскакали за кукурузные пространства. Опять
изныл пулемет, но очень скоро перестал.
Взяли Чечен-аул...
И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к
небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья.
По кривым улочкам метет пламенная вьюга, отдельные
дымки свиваются в одну тучу, и ее тихо относит на
1ИДНИЙ план к декорации оперы «Демон».
Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские ста-
ничники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За
седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси.
У нас на стоянке с утра идет лукулловский пир.
Пятнадцать кур бухнули в котел. Золотистый, жирный
бульон — объедение. Кур режет Шугаев, как Ирод мла-
денцев.
А там, в таинственном провале между массивами, по
склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая
мщением, уходит таинственный Узун со всадниками.
Голову даю на отсечение, что все это кончится сквер-
но. И поделом — не жги аулов.
158
Михаил Булгаков
Для меня тоже кончится скверно. Но с этой мыслью
я уже помирился. Стараюсь внушить себе, что это я
вижу сон. Длинный и скверный.
Я всегда говорил, что фельдшер Голендрюк — умный
человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя
вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится
на пути к своей заветной цели, именно на пути к желез-
ной дороге, на конце которой стоит городок. В городке
его семейство. Начальство приказало мне «произвести
расследование». С удовольствием. Сижу на ящике с
медикаментами и произвожу. Результат расследования:
фельдшер Голендрюк пропал без вести. В ночь с такого-
то на такое-то число. Точка.
X
ДОСТУКАЛСЯ и ДО ЧЕЧЕНЦЕВ
Жаркий сентябрьский день.
...Скандал! Я потерял свой отряд. Как это могло
произойти? Вопрос глупый, здесь все может произойти.
Что угодно. Коротко говоря: нет отряда.
Над головой раскаленное солнце, кругом выжженная
травка. Забытая колея. У колеи двуколка, в двуколке я,
санитар Шугаев и бинокль. Но главное — ни души. Ну
ни души на плато. Сколько ни шарили стекла Цейсса —
ни черта. Сквозь землю провалились все. И десятиты-
сячный отряд с пушками, и чеченцы. Если б не дымок
от догорающего в верстах пяти Чечена, я бы подумал,
что здесь и никогда вообще людей не бывало.
Шугаев встал во весь рост в двуколке, посмотрел
налево, повернулся на 180°, посмотрел и направо, и на-
зад, и вперед, и вверх и слез со словами:
— Паршиво.
Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в слу-
чае встречи с чеченцами, у которых спалили пять аулов,
предсказать нетрудно. Для этого не нужно быть проро-
ком ......................................... .
Что же, буду записывать в книжечку до последнего.
Это интересно.
Поехали наобум.
...Ворон взмыл кверху. Другой вниз. А вон и третий.
Чего это они крутятся? Подъезжаем. У края брошенной
заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросал крес-
Рассказы
159
»пм Голова закинута. Лохмотья черной черкески. Ноги
нише. Кинжала нет. Патронов в газырях нет. Казачки
народ запасливый, вроде гоголевского Осипа:
И веревочка пригодится.
Под левой скулой черная дыра, от нее на грудь, как
орденская лента, тянется выгоревший под солнцем кро-
каный след. Изумрудные мухи суетятся, облепив дыру.
Ра сраженные вороны вьются невысоко, покрикивают...
Дальше!
Цейсе галлюцинирует! Холм, а на холме, на самой
агршине, — венский стул! Круглая пустыня! Кто на
юру затащил стул? Зачем?..
...Объехали холм осторожно. Никого. Уехали, а стул
аге лежит.
Жарко. Хорошо, что полную манерку захватил.
Под вечер.
Готово! Налетели. Вот они, горы, в двух шагах. Вон
ущелье. А из ущелья катят. Кони-то, кони! Шашки в
серебре... Интересно, кому достанется моя записная
книжка? Так никто и не прочтет! У Шугаева лицо цвета
1гленоватого. Вероятно, и у меня такое же. Машинально
пошевелил браунинг в кармане. Глупости. Что он помо-
жет! Шугаев дернулся. Хотел погнать лошадей и замер.
Глупости. Кони у них — смотреть приятно. Куда
ускачешь на двух обозных? Да и шагу не сделаешь.
Вскинет любой винтовку, приложится, и кончен бал.
— Э-хе-хе, — только и произнес Шугаев.
Заметили. Подняли пыль. Летят к нам. Доскакали.
!убы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на
солнышко. До свидания, солнышко...
...И чудеса в решете!.. Наскакали, лошади кругом
тнцуют. Не хватают, галдят:
— Та-ла-га-га!
Черт их знает, что они хотят. Впился рукой в карма-
не в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел.
Схватят -— суну в рот. Так оно лучше. Так научили.
А те галдят, в грудь себя бьют, зубы скалят, указы-
инют вдаль.
— А-ля-ма-мя... Болгатоэ-э!
— Шали-аул! Га-го-гыр-гыр.
Шугаев человек бывалый. Опытный. Вдруг румянцем
по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на
каком-то изумительном языке:
160
Михаил Булгаков
— Шали, говоришь. Так, так. Наша Шали-аул пош-
ла? Так, так. Болгатоэ. А наши-то где? Там?
Те расцвели улыбками, зубы изумительные. Руками
машут, головами кивают.
Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица.
— Мирные! Мирные, господин доктор! Замирили их.
Говорят, что наши через Болгатоэ на Шали-аул пошли.
Проводить хотят! Да вот и наши! Да вот и наши! С
места не сойти, наши!
Глянул — внизу у склона пылит. Уходит хвост колон-
ны. Шугаев лучше Цейсса видит.
У чечен лица любовные. Глаз с Цесса не сводят.
— Понравился бинок, — хихикнул Шугаев.
— Ох, и сам я вижу, что понравился. Ох, понравился.
Догнать бы скорей колонну!
Шугаев трясется на облучке, читает мысли, утешает.
— Не извольте беспокоиться. Тут не тронут. Вон они
наши! Вон они! Но ежели бы версты две подальше, —
он только рукой махнул.
А кругом:
— Гыр... гыр!
Хоть бы одно слово я понимал! А Шугаев понимает
и сам разговаривает. И руками, и языком. Скачут ря-
дом, шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким
конвоем...
XI
У КОСТРА
Горит аул. Узуна гонят. Ночь холодная. Жмемся к
костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят поджав-
ши ноги и загадочно смотрят на красный крест на моем
рукаве. Это замиренные, покорившиеся. Наши союзни-
ки. Шугаев пальцами и языком рассказывает, что я
самый главный и важный доктор. Те кивают головами,
на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты
две подальше...
XII
5*
Рассказы
161
К XIII
В Декабрь.
Эшелон готов. Пьяны все. Командир, казаки, кондук-
»ская бригада и, что хуже всего, машинист. Мороз
Теплушки как лед. Печки ни одной. Выехали ночью
(Шубокой. Задвинули двери теплушки. Закутались во что
|Йпало. Спиртом я сам поил всех санитаров. Не пропа-
Д|ть же, в самом деле, людям! Колыхнулась теплушка,
Цлязгало, застучало внизу. Покатились.
. Не помню, как я заснул и как я выскочил. Но зато
Ясно помню, как я, скатываясь под откос, запорошенный
ЯНегом, видел, что вагоны с треском раздавливало, как
ЯПНИечные коробки. Они лезли друг на друга. В мутном
Д|ссвете сыпались из вагонов люди. Стон и вой. Маши-
нист загнал, несмотря на огонь семафора, эшелон на
Встречный поезд...
Шугаева жалко. Ногу переломил.
До утра в станционной комнате перевязывал ране-
ных и осматривал убитых...
Когда перевязал последнего, вышел на загроможден-
ное обломками полотно... Посмотрел на бледное небо.
Посмотрел кругом...
Тень фельдшера Голендрюка встала передо мной...
Но куда, к черту! Я интеллигент.
XIV
ВЕЛИКИЙ ПРОВАЛ
Февраль.
Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швы-
ряло последнюю теплушку... Безумие какое-то.
И сюда накатилась волна .................. .......
Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный Голен-
дрюк! Довольно глупости, безумия. В один год я пере-
кидал столько, что хватило бы Майн-Риду на десять
томов. Но я не Майн-Рид и не Буссенар. Я сыт по горло
и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе
нс значит обязательно быть идиотом...
Довольно!
Все ближе море! Море! Море!
Проклятие войнам отныне и вовеки!
I. lsS~
162
Михаил Булгаков
НАЛЕТ
(В волшебном фонаре)
Разорвало черную кашу метели косым бледным <н>
нем, и сразу из тучи вывалились длинные, темные ЛО*
шадиные морды.
Храп. Потом ударило огнем второй раз. Абрам упаЖ
в глубокий снег под натиском бесформенной морды ||
страшной лошадиной груди, покатился, не выпусти^
винтовки из рук... Стоптанный и смятый, поднялся t
жемчужных, рассыпавшихся мухами, столбах.
Холода он не почувствовал. Наоборот, по всему телу
прошел очень сухой жар, и жар этот уступил место поту
до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это
обозначает смертельный страх.
Вьюга и он, жаркий страх, залепили ему глаза, так
что несколько мгновений он совсем ничего не видал.
Черным и холодным косо мело, и проплыли перед гла-
зами огненные кольца.
— Тильки стрельни... стрельни, сучья кровь, — ска-
зал сверху голос, и Абрам понял, что* это — голос С
лошади.
Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке,
недописанную акварель на стене — зимний день, дом,
чай и тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и
страшное, что мерещилось, когда Абрам пугливо и на-
стороженно, стоя на посту, представлял себе, глядя в
вертящуюся метель. Стрельни? О нет, стрелять он не
думал. Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздох-
нул. Стрелять было бесполезно, морды коней торчали в
поредевшем столбе метели, чернела недалеко стороже-
вая будка, и серой кучей тряпья казались сваленные в
груду щиты. Совсем близко показался темный, бесфор-
менный второй часовой Стрельцов в остром башлыке, а
третий, Щукин, пропал.
— Якого полку? — сипло спросил голос.
Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, веро-
ятно, глянуть на минутку на небо, но сверху сыпало
черным и холодным, винт свивался в высь — неба taM
не было никакого.
— Ну, ты мне заговоришь! —- сказало тоже с высоты,
но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услыхал
сквозь гудение вьюги большую сдержанную злобу. Аб-
рам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло
6-2
Рассказы 163
Мред лицом, как птица, затем яростная обжигающая
|оль раздробила ему челюсти, мозг и зубы; и показа-
лось, что в огне треснула вся голова.
— А... а-га-а, — судорожно выговорил Абрам, хрустя
Костяной кашей во рту и давясь соленой кровью.
Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов бледно-голу-
бым и растерзанным в конусе электрического фонарика,
И еще совершенно явственно обозначился третий часо-
вой Щукин, лежавший свернувшись в сугробе.
— Якого?! — визгнула метель.
Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее
Первого, вздохнувши, ответил:
— Караульного полка.
Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул.
Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали,
кувыркались в ярком конусе света.
— Тю! Жида взялы! — резнул голос в темноте за
фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова и
к самые глаза Абраму впился большим выпуклым гла-
зом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидал кровь на
своих руках, ногу в стремени и черное острое дуло из
деревянной кобуры.
— Жид, жид! — радостно пробурчал ураган за спи-
ной.
— И другой? — жадно откликнулся бас.
Слышало только левое ухо Абрама, правое было
мертво, как мертва щека и мозг. Рукой Абр^м вытер
липкую густую кровь с губ, причем огненная боль про-
шла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил
половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу
спета. Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова,
и прядь волос на нем стала дыбом. Стрельцов качнул
головой, открыл рот и неожиданно сказал, слабо в шорохе
метели:
— У-у, бандитье. Язви вашу душу.
Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо
ударили Стрельцова. Затем опять наехала морда.
♦ ♦ ♦
Оба — Абрам и Стрельцов — стояли рядом у высо-
ченной груды щитов все в том же голубоватом сиянии
фонарика, а в упор перед ними метались, спешивались
люди в серых шинелях. В конус попадала то винтовка
164
Михаил Булгаков
с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на паМ
хе, то бренчащий зажеванный, в беловатой пенке, м^И
дштук.
Светились два огня — белый на станции, холодны!
и высокий, и низенький, похороненный в снегу, на тм
стороне, за полотном. Мело все реже, все жиже и н|
гудело и не шарахало, высыпая в лицо и на шею сухЙ4
холодные тучи, летела ровно и плавно в конусе слабв!
ющая метель.
Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной ма^
кой, — его били долго и тяжко за дерзость, размолоти^
всю голову. От ударов он остервенел, стал совершен!^
нечувствительным и, глядя одним глазом зрячим и не*
навистным, а другим зрячим багровым, опираясь вывер*
нутыми руками на штабель, сипя и харкая кровью,
говорил: г
— Ух... бандитье... У, мать вашу... Всех половят, все!
расстреляют, — всех...
Иногда вскакивала в конус фигура с черным кост-
лявым пистолетом в руке и била рукоятью Стрельцова»
Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали’ от
штабеля, и удерживался он только руками.
— Скорийше!
— Скорей!
Со стороны высокого белого станционного огня до-
несся веером залп и пропал.
— Ну, бей, бей же, скорей! — сипло вскрикивал
Стрельцов, — нечего людей мучить зря.
Стрельцов стоял в одной рубахе и желтых стеганых
штанах; шинели и сапог на нем не было, и размотавши-
еся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали
ноги от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и
в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая
солома мирно глядела из правого разорванного носа так
же, как и всегда.
Лицо у Абрама было никем никогда не виданное.
— Жид смеется! — удивилась тьма за конусом.
— Он мне посмеется, — ответил бас.
У Абрама сами собой не щекотно и не больно выте-
кали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он
улыбнулся чему-то, да так и остался. Расстегнутая
шинель распахнулась, и руками он почему-то держался
за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на
выпуклый глаз с ослепляющим зрачком.
Рассказы
165
«Так вот все и кончилось, — думал он, — как я и
Полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше,
ПИ огня. И ничего не случится, нечего ждать — конец».
— А ну, — предостерегла тьма. Сдвинулся конус,
Iл из перешел влево, и прямо в темноте, против часовых
к дырочках винтовок притаился этот самый черный конец.
Гут Абрам разом ослабел и стал оползать — ноги по-
рхали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почув-
гпюнал.
♦ ♦ ♦
Винтом унесло метель по полотну, и в час все изме-
нилось. Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко, над
гнсжными полями разорвало тучи, их сносило, и в про-
вези временами выглядывал край венца на золотой луне,
ин да на поле ложился жидко-молочный, коварный от-
тает и рельсы струились вдаль, а груда щитов станови-
лась черной и уродливой. Высокий огонь на станции
слабел, а желтоватый, низенький был неизменен. Его
первым увидал Абрам, приподняв веки, и очень долго,
кик прикованный, смотрел на него. Огонь был неизме-
нен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и
поэтому чудилось, что тот огонь мигает и щурится.
Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяс-
нимые и вялые — о том, почему он не сошел с ума, об
удивительном чуде и о желтом огне...
Ноги он волочил, как перебитые, работал локтями по
снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову
очень долго: минут пять — пять шагов. Когда дополз,
рукой ощупал его, убедился, что Стрельцов холодный,
внесенный снегом, и стал отползать. Стал на колени,
потом покачался, напрягся и встал на ноги, зажал грудь
обеими руками. Прошел немного, свалился и опять по-
полз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.
♦ ♦ ♦
— Кто же это? Господи, кто? — женщина спросила
к испуге, цепляясь за скобу двери. — Одна я, ей-богу,
ребенок больной. Идите себе на станцию, идите.
— Пусти меня, пусти. Я ранен, — настойчиво повто-
рил Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками
пн хватался за дверь, но рука не слушалась и соскаки-
166
Михаил Булгаков
вала, и Абрам больше всего боялся, что женщина закро-
ет дверь. — Ранен я, слышите, — повторил он.
— Ой, лишечко, — ответила женщина и приоткрыла
дверь.
Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщины
провалились в кругах глаза, и она смотрела на ползу-
щего, а Абрам смотрел вперед на желтый огонь и видел
его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке.
* * *
Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Студеная
и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадрата-
ми звезды сидели над погребенной землей и в самой
высшей точке, и далеко за молчащими лесами, на гори-
зонте. Холод, мороз и радужный венец на склоне неба,
у луны.
В сторожке у полотна был душный жар, и огонек, по-
прежнему неутомимый и желтый, горел скупо, с ши-
пеньем.
Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, гляде-
ла мимо огня на печь, где под грудой тряпья и бараньим
тулупом с сипением жило тело Абрама.
Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвра-
щался в грудь и стремился задуть ледяную свечку,
сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расши-
рялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и
тихо. Абрам свечки не слыхал, он слышал ровное шипе-
ние огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось,
что огонь живет в его голове, и этому огню Абрам рас-
сказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах
и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам
хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на
печь, но тот был тяжелый и трудный, как вбитый в
землю кол. Абрам хотел губительный желтый огонь в
мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и
выжигал все, что было внутри горевшей головы. Ледя-
ная стрелка в сердце делала перебой, и часы жизни
начинали идти странным образом, наоборот, холод вмес-
то жара шел от головы к ногам, свечка перемещалась
в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело
Абрама колотило мелкой дрожью в терции, в перебой и
нелад со стуком жизни, и уже мало было бараньего
меха и хотелось доверху заложить мехами всю сторож-
ку, съежиться и лечь на раскаленные кирпичи.
Рассказы
167
♦ * ♦
Прошли годы. Й случилось столь же радостное, сколь
в неестественное событие: в клуб привезли дрова. Ко-
нечно, они были сырые, но и сырые дрова загораются —
нгорелись и эти. Устье печки изрыгало уродливых ог-
ненных чертей, жар выплывал и танцевал на засохшей
елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край
бороды, на полу и на лице Брони. Броня сидела на
порточках у самого устья, глядела в пламя, охватив
колени руками, и бурочные мохнатые сапоги торчали
носами и нагревались от огненного черта. Голова Брони
была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в
лихой узел.
Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и
слушали, как ораторствовал Грузный. Як басом расска-
1ил про атаки, про студеные ночи, про жгучую войну.
Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий
человек. И действительно, он был храбрый. Когда он
кончил, плюнул в серое, перетянутое в талии ведро и
выпустил клуб паршивого дыма от гнилого, дешевого
I абаку.
— Теперь Абрам, — сказала Броня, — сущий про-
фессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интерес-
ненькое. Ваша очередь, Абрам, — она говорила с запин-
кой, потому что Абрам единственный, недавний, приез-
жий человек, получал от нее в разговоре «вы».
Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из
шднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На
нем была куртка на вате, как некогда носили лабазни-
ки, и замечательные на всем рабфаке и вряд ли в целом
мире не единственные штаны, коричневые, со странным
юленоватым отливом, широкие вверху и узкие внизу.
Правое ухо башмака они почему-то никогда не закры-
вали и покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу
серого Абрамового чулка.
Обладатель брюк был глух и поэтому, на лице всегда
сохраняя вежливую конфузливую улыбку, в нужных
случаях руку щитком прикладывал к левому уху.
— Ваша очередь, Абрам, — распорядилась Броня
громко, как все говорили с ним, — вы, вероятно, не
воевали, так вы расскажите что-нибудь вообще...
Взъерошенный воробей поглядел на печь и, сдержи-
вая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал
рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь
168
Михаил Булгаков
к пламени и к маковой Брониной повязке, рассказывал
страстно. Он хотел вложить в рассказ все: и винт мете-
ли, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает
бесформенный страшный страх, когда умираешь, а на-
дежды нет. Говорил в третьем лице про двух часовых
караульного полка, говорил, жалостливо поднимая бро-
ви, как недострелили одного из них и он пополз прямо,
все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про
госпиталь, в котором врач ручался, что часовой ни за
что не выживет, и как этот часовой выжил... Абрам
левую руку держал в кармане куртки, а правой указы-
вал в печь на огонь, как будто бы там огонь и рисовал
ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с
ужасом и сказал:
— Вот как...
Все помолчали.
Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны
и сказал:
— Бывало... Отчего ж... Это бывало на Украине.
А это с кем произошло?
Воробей помолчал и ответил стыдливо:
— Это со мной произошло.
Потом помолчал и добавил:
— Ну, я пойду в библиотеку.
И ушел, по своему обыкновению прихрамывая.
Все головы повернулись ему вслед, и все долго смот-
рели не отрываясь на коричневые штаны, пока ноги
Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись
в дверях.
БОГЕМА
I
КАК СУЩЕСТВОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЛИТЕРАТУРЫ.
ВЕРХОМ НА ПЬЕСЕ В ТИФЛИС
Как перед истинным богом, скажу, если кто меня
спросит, чего я заслуживаю: заслуживаю я каторжных
работ.
Впрочем, это не за Тифлис, в Тифлисе я ничего плохого
не сделал. Это за Владикавказ.
Рассказы
169
Доживал я во Владикавказе последние дни, и гроз-
ный призрак голода (штамп! штамп!., «грозный при-
•|>лк»... Впрочем, плевать! Эти записки никогда не уви-
дит света!), так я говорю — грозный призрак голода
постучался в мою скромную квартиру, полученную мною
но ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный
поверенный Гензулаев — светлая личность с усами,
подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.
Между нами произошел разговор. Привожу его здесь
стенографически:
- Что ж это вы так приуныли? (Это Гензулаев.)
— Придется помирать с голоду в этом вашем парши-
иом Владикавказе...
— Не спорю. Владикавказ — паршивый город. Вряд
ди даже есть на свете город паршивее. Но как же так
помирать?
— Больше делать нечего. Я исчерпал все возможнос-
ти. В подотделе искусств денег нет и жалованья платить
нс будут. Вступительные слова перед пьесами кончи-
лись. Фельетон в местной владикавказской газете я
напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание,
что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю еще
что-нибудь похожее на этот первый фельетон.
— За что? (Гензулаев испугался. Оно и понятно.
Хотят посадить — значит, я подозрительный.)
— За насмешки.
— Ну-у, вздор. Просто они здесь ни черта не пони-
ми ют в фельетонах. Знаете что...
И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул
ипписать вместе с ним революционную пьесу из тузем-
ного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня на-
учил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое
отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никако-
го, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что
искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв
гимпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу, и уж,
поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев
низубок знает туземный быт, если, конечно, бытом мож-
но назвать шашлычные завтраки на фоне самых посты-
лых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали,
поджарых лошадей, духаны и отвратительную, вывора-
чивающую душу музыку.
Так-так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев
подсыпать этот быт.
— Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.
170
Михаил Булгаков
— Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не прода*
дим.
Мы ее написали в 7 1 /2 дней, потратив, таким обра>
зом, на полтора дня больше, чем на сотворение мира,
•Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир.
Одно могу сказать: если когда-нибудь будет конкурс
на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу,
наша получит первую премию (хотя, впрочем... впро*
чем... вспоминаю сейчас некоторые пьесы 1921 — 1924 годом
и начинаю сомневаться...), ну, не первую, — вторую или
третью.
Словом: после написания этой пьесы на мне несмы-
ваемое клеймо, и единственно, на что я надеюсь, — это
что пьеса истлела уже в недрах туземного подотделй
искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она
была на 200 000 рублей. Сто — мне. Сто — Гензулаеву,
Пьеса прошла три раза (рекорд), и вызывали авторов.
Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к клю
чице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица
не узнали на фотографической карточке (сцену снимали
при магнии). Благодаря этим гримасам в городе рас-
плылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то
же время человек. Было обидно, в особенности потому,
что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас рекви-
зированный и прикрепленный к театру фотограф, и
поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья,
надписи «Да здравст...» и полос тумана.
Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил
уехать из Владикавказа.
Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, те-
перь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что:
1) В Тифлисе открыты все магазины.
2) —»— есть вино.
3) —»— очень жарко и дешевы фрукты.
4) —»— много газет, и т. д., и т. д.
Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое
имущество — одеяло, немного белья и керосинку.^
В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924 г.
Именно нельзя было так ездить: снялся и поехал, черт
знает куда! Очевидно, те, что ведали разъездами граж-
дан, рассуждали приблизительно таким образом:
— Ежели каждый начнет ездить, то что же это по-
лучится?
Рассказы
171
Нужно было поэтому получить разрешение. Я немед-
подал, куда следует, заявление и в графе, в ко-
Hipofi спрашивается:
-• А зачем едешь?
Написал с гордостью:
В Тифлис для постановки моей революционной
НЫСЫ.
Во всем Владикавказе был только один человек, не
•ММВ1ПИЙ меня в лицо, и это именно тот бравый юноша
г пистолетом на бедре, каковой юноша стоял, как при-
Н1М1ЫЙ, у стола, где выдавались ордера на проезд в
1ифлис.
Когда очередь дошла до моего ордера и я протянул
и нему руку, юноша остановил ее на полпути и сказал
ниюсом звонким и непреклонным:
- Зачем едете?
- Для постановки моей революционной пьесы.
Тогда юноша запечатал ордер в конверт и конверт,
и г ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой,
молвив:
- В особый отдел.
— А зачем? — спросил я.
Па что юноша не ответил.
Очень яркое солнце (это единственное, что есть хоро-
шего во Владикавказе) освещало меня, пока я шел по
мостовой, имея по левую руку от себя человека с вин-
ювкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал:
- Сейчас через базар будем проходить, так ты не
И1лумай побежать. Грех выйдет.
- Если бы вы даже упрашивали меня сделать это,
и нс сделаю, — ответил я совершенно искренно.
И угостил его папиросой.
Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел.
II бегло, проходя через двор, припомнил все свои пре-
иупления. Оказалось — три.
I) В 1907 году, получив 1 руб. 50 коп. й% покупку
физики Краевича, истратил их на кинематограф.
2) В 1913 г. женился, вопреки воле матери.
3) В 1921 г. написал этот знаменитый фельетон.
Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не крими-
нал? А наоборот.
Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе:
большая комната с ковром на полу, огромнейший, неве-
роятных размеров письменный стол, восемь различных
конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зе-
леного, оранжевого и серого цвета и за столом малень
кий человек в военной форме, с очень симпатичным ли-
цом.
Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий
за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из
симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем
это удалось ему только наполовину.
Он вын^л из ящика стола фотографическую карточ-
ку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нес.
— Э, нет. Это не я, — поспешно заявил я.
— Усы сбрить можно, задумчиво отозвался сим-
патичный.
— Да, но вы всмотритесь, — заговорил я, — этот
черный как вакса, и ему лет сорок пять. А я блондин,
и мне двадцать восемь.
— Краска? — неуверенно сказал маленький.
— А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос.
Умоляю вас обратить внимание на'нос.
Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладе-
ло им.
— Верно. Не похож.
Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в
чернильнице.
— Вы бухгалтер?
— Боже меня сохрани.
Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок. Амуры.
— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не
задумываясь, — скороговоркой проговорил маленький.
— Для постановки моей революционной пьесы, —
скороговоркой ответил я.
Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспых-
нул в луче:
— Пьесы сочиняете?
— Да. Приходится.
— Ишь ты. Хорошую пьесу написали?
В тоне его было что-то, что могло тронуть любое
сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю
каторги. Пряча глаза, я сказал:
— Да, хорошую.
Да. Да. Да. Это четвертое преступление, и самое
тяжкое из всех. Если б я хотел 'остаться чистым перед
особым отделом, я должен был бы ответить так:
— Нет. Она не хорошая пьеса. Она — дрянь. Просто
мне очень хочется в Тифлис.
Рассказы
173
Я смотрел на носки своих разорванных сапог и мол-
чал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу
и мой ордер на выезд.
Маленький сказал тому с винтовкой:
— Проводи литератора наружу.
Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я при-
iiumch. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в
особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контррево-
'Ноция и преступление по должности.
Но забудь!!!
II
ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ
В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис
можно было проехать просто: нанять автомобиль во
Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где не-
обычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году
। нмое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово
иностранное.
Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой
па вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бес-
конечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом
пути увидал у открытой теплушки человека в ночных
туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и пов-
торял слово «Баку».
— Возьмите меня с собой, —- попросил я.
— Не возьму, — ответил бородатый.
— Пожалуйста, для постановки революционной пье-
сы, — сказал я.
— Не возьму.
Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел
на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой
•ной вливался в просветы между вагонами, и я напился
из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как
пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.
— А какая пьеса? — спросила она.
— Вот.
Я развязал одеяло и вынул пьесу.
— Сами написали? — недоверчиво спросил владелец
теплушки.
— Еще Гензулаев.
— Не знаю такого.
— Мне необходимо ухать.
— Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму.
Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что
если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-
то долго, а мы сами из политпросвета.
— Я не буду выкомаривать, — сказал я, чувствуя
дуновение надежды в расплавленном зное, — на полу
могу.
Бородатый сказал, сидя на нарах:
— У вас провизии нету?
— Денег немного есть.
Бородатый подумал.
— Вот что... Я вас на наш паек зачислю по дороге.
Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете.
Вы что можете в газете писать?
— Все что угодно, — уверил я, овладевая пайком и
жуя верхнюю корку.
— Даже фельетон? — спросил он, и по лицу его
было видно, что он считает меня вруном.
— Фельетон — моя специальность.
Три лица появились в тени нар и одни босые ноги.
Все смотрели на меня.
— Федор! Здесь на нарах одно место есть. Степанов
не придет, сукин сын, — басом сказали ноги, — я пущу
товарища фельетониста.
— Ну, пусти, — растерянно сказал Федор с боро-
дой. — А какой фельетон вы напишете?
— Вечные странники.
— Как будет начинаться? — спросили нары. — Да
вы полезайте к нам чай пить.
— Очень хорошо — вечные странники, — отозвался
Федор, снимая сапоги, — вы бы сразу сказали про
фельетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к
нам.
Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе
жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них
вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потря-
хивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки про-
щай, Гензулаев. Прощай, Владикавказ!
Рассказы
175
ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА
Поэма в X пунктах с прологом
и эпилогом
— Держи, держи, дурак! —
кричал Чичиков Селифану.
— Вот я тебя палашом! — кри-
чал скакавший навстречу фельдъегерь
с усами в аршин. — Не видишь,
леший дери твою душу, казенный
экипаж.
ПРОЛОГ
Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над
входом в которое мерцает неугасимая лампада с над-
писью «Мертвые души», шутник сатана открыл двери.
Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него
бесконечная вереница.
Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в
чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Сели-
фан, Петрушка, Фетинья...
А самым последним тронулся он — Павел Иванович
Чичиков в знаменитой своей бричке.
И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и про-
изошли в ней тогда изумительные происшествия. А ка-
кие — тому следуют пункты...
I
Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в
нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ру-
гал Гоголя:
— Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обо-
ими глазами по пузырю в копну величиною! Испакос-
тил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать.
Ведь, ежели узнают, что я — Чичиков, натурально, в
два счета выкинут, к чертовой матери! Да еще хорошо,'
как только выкинут, а то еще, храни бог, на Лубянке
насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне...
И, размышляя таким образом, въехал в ворота той
самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.
176
Михаил Булгаков
Все решительно в ней было по-прежнему: из щелей
выглядывали тараканы, и даже их как будто больше
сделалось, но были и некоторые измененьица. Так, на*
пример, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с
надписью: «Общежитие № такой-то», и, само собой, грязь
и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятии
не имел.
— Комнату!
— Ордер пожалте!
Ни одной секунды не смутился гениальный Павел
Иванович.
— Управляющего!
— Трах! — управляющий старый знакомый: дядя
Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку», а
теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с
немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конечно,
с проститутками. Гость и управляющий облобызались,
шушукнулись, и дело уладилось вмиг без всякого орде*
ра. Закусил Павел Иванович, чем бог послал, и полетел
устраиваться на службу.
II
Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько
набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отли-
чался.
— Пишите анкету.
Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин дли-
ны, и на нем сто вопросов самых каверзных: откуда, да
где был, да почему?..
Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал
анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда
подавал ее.
«Ну, — подумал, — прочитают сейчас, что я за со-
кровище, и...»
И ничего ровно не случилось.
Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала
она в руки к барышне-регистраторше, которая распоря-
дилась ею по обычаю: провела вместо входящего по
исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула,
так что анкета как в воду канула.
Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.
Ill
А дальше пошло легче и легче. Прежде всего, огля-
нулся Чичиков и видит: куда ни плюнь, свой сидит.
Полетел в учреждение, где пайки-де выдают, и слышит:
— Знаю я вас, скалдырников: возьмете живого кота,
обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний
бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую мне
хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селед-
ки тоже не возьму!
Глянул — Собакевич.
Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек
|ребовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил.
Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой —
дали ударный. Мало! Дали какой-то бронированный,
('лопал и еще потребовал. И со скандалом потребовал!
Обругал всех христопродавцами, сказал, что мошенник
на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть
один только порядочный человек делопроизводитель, да
и тот, если сказать правду, свинья!
Дали академический.
Чичиков, лишь увидел, как Собакевич пайками ору-
дует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзо-
шел и Собакевича. На себя получил, на несуществую-
щую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на
того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал,,
на старуху мать, которой на свете не было. И всем
академические. Так что продукты к нему стали возить
на грузовике.
А наладивши таким образом вопрос с питанием,
двинулся в другие учреждения, получать места.
Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому,
встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он
уже продал и цепочку, и часы. И точно, ни часов, ни
цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Расска-
зал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл
полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки
на детские ботинки, но как ему потом не повезло и он,
канальство, еще своих шестьсот миллионов доложил.
Рассказал, как предложил Внешторгу поставить за гра-
ницу партию настоящих кавказских кинжалов. И поста-
вил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы
англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись
«Мастер Савелий Сибиряков», и все их забраковали.
Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумитель-
ным, якобы из Франции полученным, коньяком, в кото-
178
Михаил Булгаков
ром, однако, был слышен сгГмогон во всей его силе. И
наконец до того доврался, что стал уверять, что ему выдали
восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с
золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.,
Когда же зять его Мижуев выразил сомнение, обру-
гал его, но не Софроном, а просто сволочью.
Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не
знал, как и ноги от него унести.
Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и само-
му заняться внешней торговлей.
IV
Так он и сделал. И опять анкету написал и начал
действовать — и показал себя во всем блеске. Баранов
в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами
брабантские кружева; бриллианты возил в колесах,
дышлах, в ушах и невесть в каких местах.
И в самом скором времени очутились у него около
пятисот апельсинов капиталу.
Но он не унялся, а подал куда следует заявление,
что желает снять в аренду некое предприятие, и распи-
сал необыкновенными красками, какие от этого государ-
ству будут выгоды.
В учреждении только рты расстегнули — выгода
действительно выходила колоссальная. Попросили ука-
зать предприятие. Извольте. На Тверском бульваре, как
раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и
называется — «Пампуш на Твербуле». Послали запрос
куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть
и всей Москве известна. Прекрасно.
— Подайте техническую смету.
У Чичикова смета уже за пазухой.
Дали в аренду.
Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда сле-
дует:
— Аванс пожалте.
Представьте ведомость в трех экземплярах с над-
лежащими подписями и приложением печатей.
Двух часов не прошло, представил и ведомость. По
всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И под-
писи налицо.
За заведующего — Неуважай-Корыто, за секретаря —
Кувшинное Рыло, за председателя тарифно-расценочной
комиссии — Елизавета Воробей.
Рассказы
179
— Верно. Получите ордер.
Кассир только крякнул, глянув на итог.
Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез ден-
П1ЯКИ.
А затем в другое учреждение:
— Пожалте подтоварную ссуду.
— Покажите товары.
— Сделайте одолжение. Агента позвольте.
— Дать агента!
Тьфу! и агент знакомый: Ротозей Емельян.
Забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попав-
шийся подвал и показывает. Видит Емельян — лежит
несметное количество продуктов.
— М-да... И все ваше?
— Все мое.
— Ну, — говорит Емельян, — поздравляю вас в
гаком случае. Вы даже не мильонщик, а трильонщик!
А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще
подлил масла в огонь.
— Видишь, — говорит, — автомобиль в ворота с
сапогами едет? Так это тоже его сапоги.
А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу
и показывает:
— Видишь магазины? Так это все его магазины. Все,
что по эту сторону улицы, — все его. А что по ту
сторону — тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?..
Его. Видишь? Видишь?
И вертит его во все стороны.
Так что Емельян взмолился:
— Верю! Вижу... только отпусти душу на покаяние.
Поехали обратно в учреждение.
Там спрашивают:
— Ну что?
Емельян только рукой махнул:
— Это, — говорит, — неописуемо!
— Ну, раз неописуемо — выдать ему п+1 милли-
ирдов.
V
Дальше же карьера Чичикова приняла головокружи-
тельный характер. Уму непостижимо, что он вытворял.
Основал трест для выделки железа из деревянных опи-
лок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный
кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого
180
Михаил Булгаков
мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в
Москве «все разрешено», пожелала недвижимость при-
обрести; он вошел в компанию с Замухрышкиным и
Утешительным и продал ей Манеж, что против Универ-
ситета. Взял подряд на электрификацию города, от
которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в
контакт с бывшим городничим, разметал какой-то за-
бор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку,
а насчет денег, отпущенных на электрификацию, напи-
сал, что их у него отняли банды капитана Копейкина.
Словом, произвел чудеса.
И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков —
триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе
нарасхват и спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов
квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал
в «Ампире».
VI
Но вдруг произошел крах.
Погубил же Чичикова, как правильно предсказал
Гоголь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого
желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде,
Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки,
и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее
предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков
жулик и что он бы его расстрелял.
Задумалась публика, и как искра побежала крыла-
тая молва.
А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение
расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булоч-
ную открыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж казенное
здание и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в
нем нельзя, — глупая баба ничего не понимала.
А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже.
Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков
и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой
зловещее, одна другой чудовищней. Беспокойство всели-
лось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совеща-
ния... Комиссия построения в комиссию наблюдения,
комиссия наблюдения в жилотдел, жилотдел в Нарком-
здрав, Наркомздрав в Главкустпром, Главкустпром в
Наркомпрос, Наркомпрос в Пролеткульт и т. д.
Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все
знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни
Рассказы
181
н одном слове. Но Ноздрева призвали, и он ответил по
всем пунктам.
Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду
несуществующее предприятие и что он, Ноздрев, не видит
причины, почему бы не взять, ежели все берут? На
вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, от-
ветил, что шпион и что его недавно хотели даже рас-
стрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не
делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что
делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной
ловкости Чичикова: как, узнавши, что правительство хочет
выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марь-
иной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18
миллиардов, и при этом на два дня раньше, чем вышли
нпстоящие, а когда туда нагрянули и опечатали квар-
।иру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки
с настоящими, так что потом сам черт не мог разобрать-
ся, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На
вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на
бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил,
что это правда и что он сам взялся помогать и участво-
вать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не
вышло.
После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овла-
дело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что
1 л кое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кон-
чилось, если бы не нашелся среди всей компании один.
Правда, Гоголя он тоже, как и все, в руки не брал, но
обладал маленькой дозой здравого смысла.
Он и воскликнул:
— А знаете, кто такой Чичиков?
И когда все хором грянули:
- Кто?!.
Он произнес гробовым голосом:
— Мошенник.
VII
Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету.
Нету. По входящему. Нету. В шкапу — нету. К регис-
граторше.
— Откуда я знаю? У Иван Григорьича.
К Иван Григорьичу:
- Где?
182
Михаил Булгаков
— Не мое дело. Спросите у секретаря, и т. д., и т. д.
И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг —
она.
Стали читать — и обомлели.
Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичи-
ков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до
революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воин-
ской повинности? Ни то, ни се, ни черт знает что. К
какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому —
неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Ад-
рес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спро-
сить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а
та знает.
Собственноручная подпись? Обмакни!!-
Прочитали и окаменели.
Крикнули инструктора Бобчинского:
— Катись на Тверской бульвар в арендуемое им
предприятие и во двор, где его товары, может, там что
откроется!
Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.
— Чрезвычайное происшествие!
- Ну!!
— Никакого предприятия там нету. Это он адрес
памятника Пушкину указал. И запасы не его, а АРА.
Тут все взвыли:
— Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему
миллиарды!! Выходит, теперича ловить его надо!
И стали ловить.
VIII
Пальцем в кнопку ткнули:
— Кульера.
Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от
Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в
учреждение.
— Берите немедленно этот пакет и немедленно от-
правляйтесь.
Петрушка сказал:
— Слушаю-с.
Немедленно взял пакет, немедленно отправился и
немедленно его потерял.
Позвонили Селифану в гараж:
— Машину. Срочно.
— Чичас.
Селифан встрепенулся, закрыл мотор теплыми шта-
ийми, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, за-
гиистел, загудел и полетел.
Какой же русский не любит быстрой езды?!
Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на
Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и
зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной
юрции времени избрал второе, от трамвая увернулся и
кик вихрь с воплем: «Спасите!» въехал в магазин через
окно.
Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми
Сслифанами и Петрушками, лопнуло терпение:
— Уволить обоих, к свиньям!
Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда команди-
ровали: на место Петрушки — плюшкинского Прошку,
ни место Селифана — Григория Доезжай-не-Доедешь. А
дело тем временем кипело дальше!
— Авансовую ведомость!
— Извольте.
— Попросить сюда Неуважая-Корыто.
Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца
дна тому вычистили из партии, а уже из Москвы он и
енм вычистился сейчас же после этого, так как делать
ему в ней было больше решительно нечего.
— Кувшинное Рыло?
Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел.
Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого!
Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей.
Есть помощник заместителя младшего делопроизводите-
ля замзавподотдел Воробей, но он не Елизавета!
Прицепились к машинистке:
- Вы?!
— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизаветъ
с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наобо-
рот...
И в слезы. Оставили в покое.
А тем временем, пока возились с Воробьем, право-
(нступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной,
что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова
н след простыл.
И напрасно гоняли машину по адресу: поворотя на-
право, никакого, конечно, справочного бюро не оказа-
лось, а была там заброшенная и разрушенная столовая
общественного питания. И вышла к приехавшим убор-
щица Фетинья и сказала, что никого нетути.
184
Михаил Булгаков
Рядом, правда, поворотя налево, нашли справочное
бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то
Подстега Сидоровна и, само собой разумеется, не знала
не только чичиковского адреса, но даже и своего соб-
ственного.
IX
Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до
того, что и черт бы в нем никакого вкусу не отыскал.
Несуществующая аренда перемешалась с опилками,
брабантские кружева с электрификацией, Коробочкина
покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказа-
лись замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян,
и беспартийный Вор Антошка, открылась какая-то па-
нама с пайками Собакевича. И пошла писать губерния!
Самосвистов работал не покладая рук и впутал в
общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о под-
ложных счетах за разъезды (по одному ему оказалось
замешано до 50 000 лиц), и проч., и проч. Словом, на-
чалось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под
носа выписали, и те, кто их должны были отыскать,
метались в ужасе, и перед глазами был только один
непреложный факт:
Миллиарды были и исчезли.
Наконец встал какой-то Дядя Митяй и сказал:
— Вот что, братцы... Видно, не миновать нам след-
ственную комиссию назначить.
X
И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как
некий бог на машине, я и сказал:
— Поручите мне.
Изумились:
— А вы... того... сумеете?
А я:
— Будьте покойны.
Поколебались. Потом красным чернилом:
«Поручить».
Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!).
Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоцик-
листов:
Рассказы
185
— Не угодно ли чего?
А я им:
— Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел.
Я сам справлюсь. Единолично.
Набрал воздуху и гаркнул так, что дрогнули стекла:
— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По
телефону подать!
— Так что подать невозможно... Телефон сломался.
— A-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он
даром не мотался, повесить на нем того, кто доклады-
вает!!
Батюшки! Что тут началось!
— Помилуйте-с... что вы-с... Сию... хе-хе... минутку...
Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!
В два счета починили и подали.
И я рванул дальше:
— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его, прохвос-
та! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в
пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойни-
ков! Э-э-то кто? Жена Манилова — регистраторша? В
шею! Улинька Бетрищева — машинистка? В шею! Со-
бакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзофей-
кин? Шулер Утешительный? Взять!! И того, кто их
назначил, — тоже. Схватить его! И его! И этого! И того!
Фетинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку
в учетное отделение! Ноздрева в подвал... В минуту! В
секунду!! Кто подписал ведомость? Подать его, каналью!!
Со дна моря достать!!
Гром пошел по пеклу...
— Вот черт налетел! И откуда такого достали?!
А я:
— Чичикова мне сюда!!
— Н...н...невозможно сыскать. Они скрымшись...
— Ах, скрымшись? Чудесно! Так вы сядете на его
место.
— Помил...
— Молчать!!
—- Сию минуточку... Сию... Повремените секундочку.
Ищут-с.
И через два мгновения нашли!
И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал
на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудо-
способная мать.
— Мать?! — гремел я, — мать?.. Где миллиарды?
Где народные деньги?! Вор!! Взрезать его, мерзавца! У
него бриллианты в животе!
186
Михаил Булгаков
Вскрыли его. Тут они.
- Все?
— Все-с.
Камень на шею и в прорубь!
И стало тихо и чисто.
И я по телефону:
— Чисто.
А мне в ответ:
— Спасибо. Просите чего хотите.
Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не
выложил в трубку все сметные предположения, которые
давно уже терзали меня:
«Брюки... фунт сахару... лампу в 25 свечей...»
Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор дол-
жен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:
— Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, ка-
ковые сочинения мной недавно проданы на толчке.
И... бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь!
Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не
раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что
рявкнул:
— Ура!
И...
ЭПИЛОГ
...конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни
Ноздрева и, главное, ни Гоголя...
«Э-хе-хе», — подумал я себе и стал одеваться, и
вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.
№13. - ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА
Рассказ
Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтаж-
ная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на
асфальтированный двор с каменной девушкой у фонта-
на. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на
плече все лето гляделась томно в кругло-бездонное зер-
кало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые
«именные волосы. На гигантском гладком полукруге у
подъездов ежевечерно клокотали и содрогались маши-
ны, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-суда-
рики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом
1ДЫ1ИТ...
Однажды, например, в десять вечера стосильная
машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у
первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили
hi земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в
черные ворота, а там по скользким ступеням в дворниц-
кий подвал. Открылась дверца лакированной каретки,
и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.
В квартире № 3 генерала от кавалерии Де-Баррейн
<»и до трех гостил.
До трех, припав к подножию серой кариатиды, ис-
юмленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой
io трех на полутемном марше лестницы курил, слушая
приглушенный коврами то звон Венгерской рапсодии,
»Mpriccioso, — то цыганские буйные*взрывы:
Сегодня пьем! Завтра пьем!
Пьем мы всю неде-е-лю — эх!
Раз... еще раз...
До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в
конуре старшего дворника. И конусы резкого белого
гнета до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж
но невидимому телефону бежал шепчущий горделивый
ijiyx: Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель
сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович
Кристи, гениальнейший из всех московских управляю-
щих, после ночи у Де-Баррейн стал как будто еще
мгадочнее, еще надменнее.
Искры стальной гордости появились у него в черных
।лазах, и на квартиры жестоко набавили.
А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал,
и бурю ли, в снег ли, каракулевую шапку, сталкиваясь
« выходящей из зеркальной каретки женщиной в шин-
шилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь
иознесенный, что у него не было фамилии. Подписывал-
ся именем с хитрым росчерком... Да что говорить. Был
цом... Большие люди — большая жизнь.
В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой,
кувыркался и выл под железными желобами крыш,
проворные дворники гнали перед собой щитами сугро-
бы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили
Михаил Булгаков
беззвучно рверх и вниз. Утром и вечером, словно но
волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах
наливались теплом. В кронштейнах на площадках горе*
ли лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных
полутемных передних тусклый блеск телефонных аппа
ратов... Ковры... В кабинетах беззвучно торжественно
Массивные кожаные кресла. И до самых верхних пло
щадок жили крупные массивные люди. Директор банка,
умница, государственный человек с лицом Сен-Бри и.1
«Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то стран
новатыми, не то больными, не то уголовными, глазами,
фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии),
золотистые выкормленные женщины, всемирный фено-
менальный бас — солист, еще генерал, еще... И мелочь:
присяжные поверенные в визитках, доктора по абор-
там...
Большое было время...
И ничего не стало. Sic transit gloria mundi!1
Страшно жить, когда падают царства. И самая па-
мять стала угасать. Да было ли это, господи?.. Генерал
от кавалерии!.. Слово какое!
Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.
Эльпит сам ушел в чем был.
Вот тогда у ворот рядом с фонарем (огненный
«№ 13») прилипла белая таблица и странная надпись на
ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался не-
виданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были
живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гос-
тиных протянулись веревки, а на них сырое белье,
Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по
лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы
исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыка-
лись тени с узлом и тоскливо вскрикивали:
— Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!
В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет.
Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...
Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуну топили.
Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух
комнатах, остался... Христи.
Те три человека, которым досталась львиная доля
эльпитовских ковров и которые вывесили на двери
1 Все проходит (лат.)
Рассказы * 189
Дс-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли,
•Iго без Христи дом Рабкоммуны не простоит и месяца.
Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с
шкированным козырьком оставили за зелеными зана-
пгсками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной
< гороны, шумное, заскорузлое правление, с другой —
•смотритель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее
и мире соединение. Христи был именно тот человек,
который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна
• юяла бы невредимо мышастой громадой, а не упала
бы в прах.
И вот Христи не только не обидели, но положили ему
жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около */10 того, что
платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидя-
щий в двух комнатушках на другом конце Москвы.
— Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! —
страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки.— Но лишь
бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сбе-
регите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас
отблагодарить! Что? Верьте мне!
Христи верил, кивал стриженой седеющей головой и
уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъез-
жая, видел в воротах правление и закрывал глаза от
ненависти, бледнел. Но это только миг. А потому улы-
бался. Он умел терпеть.
А главное — топить. И вот добывали ордера, нефть
иозили. Трубы нагревались. 12°, 12°! Если там, откуда
получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эль-
пит. У него горели глаза.
— Ну, хорошо... Я заплачу. Дайте обоим и секрета-
рю, Что? Перестать? О, нет, нет! Ни на минуту...
Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом
паже, на квартиру, в которой когда-то студия была,
1абу наложил.
— Нилушкина Егора туда вселить...
— Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяй-
ственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.
В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации,
арматура. Но... Но были и тридцать бидонов с бензином
1льпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Хрис-
1И до лучших дней.
И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным
оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет...
190
Михаил Булгаков
Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый,
как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:
— А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у
щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.
И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:
— Мань! А Ма-ань! Где ты?
Опять к монтеру ходили:
— Сво-о-лочь ты! Пяндрыга. Христи пожалуемся.
И от одного имени Христи свет волшебно загорался.
Да-с, Христи был человек.
Мучил он правление до тех пор, пока оно не выде-
лило из своей среды Нилушкина Егора с титулом «са-
нитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза н
неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками н
запертые двери, а в незапертые входил без церемонии,
хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми под-
штанниками и кричал сипло и страшно:
— Которые тут гадют, всех в 24 часа!
И с уличенных брал дань.
И вот жили, жили, ан в феврале, в самый мороз,
заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать.
Взятку взяли, но сказали:
— Дадим через неделю.
Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:
—- Ой... Я так устал! Если бы вы знали, Адольф
Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?
И тут действительно можно было видеть, что у Хрис-
ти тоскливые стали замученные глаза. У стального
Христи.
Эльпит страстно ответил:
— Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот
вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту
папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом, к
чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас
прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами
посмотрите. Боже сохрани — печки! Эта вентиляция... Я
так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдох-
нут же они за неделю? Ну, может, шесть дней. Я сам
завтра съезжу к Ивану Иванычу.
В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый
пар, говорил:
— Ну, что ж... Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но
без печек...
И правление соглашалось.
— Конешно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго
чи до беды.
И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в осо-
бенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наста-
лили черных буржуек, не вывели бы труб в отверстия,
чго предательски приветливо глядели в углах комнат
под самым потолком.
И Нилушкин Егор ходил:
— Ежели мне которые... Это вам не дымоходы. В
цнадцать четыре часа.
На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома,
Пыляева Аннушка, простоволосая кричала в пролет
удаляющемуся Нилушкину Егору:
— Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и
шают — самогон лакают. А как обзаботиться топить —
их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти,
П1топлю седни. Права такого нету, не дозволять! Косой
черт! (Это про Христи!) Ему одно: как бы дом не закоп-
ать... Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его,
рабочий человек хоть издохни!..
И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на сту-
пеньку, растерянно бормотал:
— Ах, зануда баба... Ну и зануда ж!
Но все же оборачивался и гулко отстреливался:
— Я те затоплю! В двадцать четыре...
Сверху:
— Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить
рабочего человека!
Не осуждайте. Пытка—мороз. Озвереет всякий. . . .
... В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилуш-
кин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шуба-
ми, свернувшись, как собачонки, спали люди, в кварти-
ре 50, комн. 5, стало как в раю. За черными окнами
Пыла бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал
огненный маленький принц, сжигая паркетные квадра-
1ИКИ.
— Ах, тяга хороша! — восхищалась Пыляева Аннуш-
ки, поглядывая то на чайничек, постукивающий крыш-
кой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие,—
1нмечательная тяга! Вот псы, прости господи! Жалко
им, что ли? Ну, да ладно. Шито и Kptifo.
192
Михаил Булгаков
И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и
улетали в загадочную пасть... А там в черные извивы
узкого вентиляционного хода, обитого войлоком... Да на
чердак.
Первым блеснули дрожащие факелы Арбатской..,
Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка,
другой оборвал зеленую занавеску...
—- Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товари-
щи!! — Девятьсот тридцать человек проснулись одно-
временно. Увидели — змеиным дрожанием окровавн-
лись стекла. Угодники святители! Во-ой! Двери забили,
как пулеметы, вперебой... — Барышня! Ох, барышня!!
Один — ох — двадцать два... восемнадцать. 18... Крас-
нопресненскую даешь!..
...Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В
пролетах, в лифтах Ниагара до подвала.
— По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!.
Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золо-
то-кровавых шлемах, в парусине. Развинчивали лестни
цы, серые шланги поползли, как удавы. В бога! В мать!!
Рвали крюками железные листы. Топорами били страш*
но, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо.
Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте
Городская, с искрами, с огнями, с касками...
Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали голо-
вушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с
комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!
...Еще много, много раз...
А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький
принц, а огненный король, рапсодию. Да не cappriccio,
а страшно — brioso. Сретенская с переулка — да-е-
ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской — салют! Ах-
нуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла,
в среднем корпусе бездна огненная, а над бездной, как
траурные плащи-бабочки, полетели железные листы.
Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а
в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49-м номере
бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и
нет! И, взвыв предсмертно, вылетела бабка из окна,
сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь!
1-22-31!! Кровавую лепешку лечить! Угодники божии!
Ванюшка сгорел. Ванюшка!! Где папанька? Ой! Ой!
Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон
на асфальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с
Рассказы
193
питого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннад-
цать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И
был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо
Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса — черепки
и простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с
игреулка! Осади! Назад! В мать, в бога!
Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в
подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом
ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку
пгорвало, ударило и третьему перебило позвоночный
I голб.
С самоваром в одной руке, в другой — тихий белый
старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В
одних рубахах. Визг, визг. В визге топоры гремят, гре-
мит. Осади!!. Потолок! Как саданет, как рухнет с треть-
его во второй, со второго в первый этаж.
И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так,
что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые
отдаленные,— бенц! Бенц!
Трубники в дыму давятся, качаются, напором бранд-
спойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что — резерв!
Уже к среднему на десять саженей не подходи! Глаза
лопнут...
В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий,
стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в
переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай.
Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у
Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое
лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего
иг мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь, туда, где
сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие
неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали
по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел
ди смотрел.
Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул
II плечо и сказал хрипло:
— Ну, что уж больше... Едем, Борис Самойлович.
Простудитесь. Едем.
Но Христи еще раз качнул головой.
— Поезжайте... Я сейчас.
Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая
по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику.
Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее
небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий
пранжевый зверь...
194
Михаил Булгаков
...На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглу
шенными вздохами и стонами бежала она тихими снеж-
ними переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у
ведьмы было.
То шептала чепуху какую-то:
— Засудят... Засудят, головушка горькая...
То всхипывала.
Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и
голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было
в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо
все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так
исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной
мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что
торжествующе разливалось по небу... так исстрадалась,
что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голом
в первый раз в жизни просветлело.
Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на
ступеньку, села. И слезы высохли.
Подперла голову и отчетливо помыслила в первый
раз в жизни так: «Люди мы темные. Темные люди. Учить
нас надо, дураков...»
Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на
зверя не оглядывалась, только все по лицу размазывала
сажу, носом шмыгала.
А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть,
туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился
черным дымом и совсем исчез.
И на небе не осталось никакого знака, что сгорел
знаменитый № 13 — дом Эльпит-Рабкоммуна.
СОРОК СОРОКОВ
Решительно скажу: едва
Другая сыщется столица как Москва.
Панорама первая. Голые времена
Панорама первая была в густой тьме, потому что
въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября
1921-го года. По гроб моей жизни не забуду ослепитель-
ного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на
Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную
7—2
Рассказы
195
• голицу. Ибо, что бы ни происходило, что бы вы ни
• оворили, Москва — мать, Москва — родной город.
Итак, первая панорама: глыба мрака и три огня.
Затем Москва показалась при дневном освещении,
• нерва в слезливом осеннем тумане, в последующие дни
•» жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. Драп,
ipan. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько
и мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз.
Теперь, когда все откормились жирами и фосфором,
поэты начинают писать о том, что это были героические
времена. Категорически заявляю, что я не герой. У ме-
•IH нет этого в натуре. Я человек обыкновенный —
рожденный ползать,— и, ползая по Москве, я чуть не
умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все бур-
туй заперлись на дверные цепочки и через щель высо-
вывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись
в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили
нмк)д, холод, нашествие «чижиков», трудгужналог и т.
под. напасти. Сердца их стали черствы, как булки, про-
пивавшиеся тогда под часами на углу Садовой и Твер-
дой.
К героям нечего было и идти. Герои были сами голы,
ввк соколы, и питались какими-то инструкциями и желтой
крупой, в которой попадались небольшие красивые ка-
мушки вроде аметистов.
Я оказался как раз посредине обеих групп, и совер-
шенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет
г надписью — смерть. Увидев его, я словно проснулся.
И развил энергию, неслыханную, чудовищную. Я не погиб,
несмотря на то что удары сыпались на меня градом, и
при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня, при первом
же взгляде на мой костюм, в стан пролетариев. Проле-
шрии выселяли меня с квартиры на том основании, что
если я и не чистой воды буржуй, то, во всяком случае,
его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смею вас
сверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях.
М оброс мандатами, как собака шерстью, и научился
питаться мелкокоротной разноцветной кашей. Тело мое
стило худым и жилистым, сердце железным, глаза зор-
кими. Я — закален.
Закаленный, с удостоверениями в кармане, в драпо-
вой дерюге, я шел по Москве и видел панораму. Окна
Пыли в пыли. Они были заколочены. Но кое-где уже
юрговали пирожками. На углах обязательно помеща-
лись вывеска «Распределитель N...». Убейте меня, и до
196
Михаил Булгаков
сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри нг
было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы и
шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас
помню, взмахивала руками и сипло бормотала:
— Заперто, заперто, и никого, товарищ, нетути!
И после этого провалилась в какой-то люк.
Возможно, что это были героические времена, но это
были голые времена.
Панорама вторая. Сверху вниз
На самую высшую точку в центре Москвы я поднял-
ся в серый апрельский день. Это была высшая точка —
верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего
Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездниковском перс
улке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Нс
то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку
глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и ма-
ковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на плат-
формы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе.
Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что
он задувает снизу, что тепло подымается от чрева
Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и ра-
достно чрево больших, живых городов, но снизу, сквозь
тонкую завесу тумана, подымался все же какой-то звук.
Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до
бульварных колец, от бульварных колец далеко, до са-
мых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные
пространства.
— Москва звучит, кажется,— неуверенно сказал я,
наклоняясь над перилами.
— Это — нэп,— ответил мой спутник, придерживая
шляпу.
— Брось ты это чертово слово! — ответил я.— Это
вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.
На душе у меня было радостно и страшно. Москва
начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах,
это были еще трудные времена. За завтрашний день
нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне
не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед.
Впервые за три года я не «получил» ботинки, а «купил»
их; они были не вдвое больше моей ноги, а только но-
мера на два.
Рассказы
197
Внизу было занятно и страшновато. Нэпманы уже
<чдили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со
« трахом глядел на их лики и испытывал дрожь при
мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в
кармане золотые десятки, что они меня выбросят из
моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с
каменными сердцами.
И, спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить
опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.
Внизу меня ждала радость, ибо нет нэпа без добра:
баб с дырами на темени выкинули всех до единой.
Паутина исчезла, в окнах кое-где горели электрические
лампочки и гирляндами висели подтяжки.
Это был апрель 1922 года.
Панорама третья. На полный ход
В июльский душный вечер я вновь поднялся на кров-
лю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепя-
ми огней светились бульварные кольца, и радиусы огней
уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но
щук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва
порчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то
желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел
от трамваев, они звякали внизу, и, глухо, вперебой, с
бульвара неслись звуки оркестров.
На вышке трепетал свет. Гудел аппарат —- на экра-
не был помещичий дом с белыми колоннами. А на ни-
жней платформе, окаймляющей верхнюю, при набежав-
шем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах
н фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Нэп-
маны влезли и на крышу. Под ногами были четыре
приплюснутых головы с низкими лбами и мощными
челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали
среди нэпманских голов, и стол был залит цветами.
Целые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем
было только пять кусочков свободного места, и эти места
были заняты бутылками. На эстраде некто в красной
рубашке, с партнершей — девицей в сарафане,— пел
частушки:
У Чичерина в Москве
Нотное издательство!
Пианино рассыпалось каскадами.
— Бра-во! — кричали нэпманы, звеня стаканами,—
бис!
198
Михаил Булгаков
Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног
девица семенила к столу с фужером, полным цветов.
— Бис! — кричал нэпман, потоптал ногами, левой
рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок.
За неимением места в фужерах на столе, он воткнул его
в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и
начиналось ее желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула
и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго гля>
дел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из ас-
фальта и перегнулся. Нэпман колебался не более мину-
ты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой,
всунулся в стеклянную дыру и четко бросил:
— Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два биф-
штекса.
С эстрады грянул и затоптал лихой, веселый матрос-
ский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и
в штанах клешем.
Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом —
в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирен-
зеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня
огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Стра-
стного монастыря толпа стояла черной стеной, давали
сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел эк-
ран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая
и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины.
Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь.
На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборван-
ные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд
в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако
дыма отлетало от него.
На Тверской звенели трамваи, и мостовая была из-
вороченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву
чинили и днем и ночью.
Это был душный июль 1922 года.
Панорама четвертая. Сейчас
Иногда кажется, что Больших театров в Москве два.
Один такой: в сумерки на нем загорается огненная
надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След
от сорванного орла на фронтоне бледнеет. Зеленая квад-
рига чернеет, очертания ее расплываются в сумерках.
Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протя-
гиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шине-
лей, в шлемах, с винтовками, с примкнутыми штыками.
В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах.
Окна светятся. В Большом идет съезд.
Рассказы
199
Другой — такой: в излюбленный час театральной
музы, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет
флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой
ггоит громадой, как стоял десятки лет. Между колонна-
ми желто-тускловатые пятна света. Приветливые теат-
ральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа
через два внутри полутемного зала в ярусах громоздят-
ся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых тре-
угольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне
полны света, и волной катится в грохоте меди и раска-
тах хора триумф Радамеса. В антрактах, в свете, золо-
тым и красным сияет театр и кажется таким же наряд-
ным, как раньше.
В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах
йенуара причесанные парикмахером женские головы.
Штатские сидят, заложив ножку на ножку, и, как загип-
нотизированные, смотрят на кончики своих лакирован-
ных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин
антрактового действа нарушает только одна нэпманша.
Перегнувшись через барьеры ложи в бельэтаже, она
итнолнованно кричит через весь партер, сложа руки
рупором:
— Дора! Пробирайся сюда! Митя и Соня у нас в
ложе!
Днем стоит Большой театр желтый и грузный, облу-
НН1ППИЙСЯ, потертый. Трамваи огибают Малый, идут к
нему. «Мюр и Мерилиз», лишь начнет темнеть, показы-
вает в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше
ею вырос круглый щит с буквами: «Государственный
универсальный магазин». В центре щита лампа загора-
йся вечером. Над Незлобинским театром две огненные
строчки, то гаснут, то вспыхивают: «Сегодня банкноты
2Г>1». В Столешниковом на экране корявые строчки:
• Почему мы советуем покупать ботинки только в...». На
(драстной площади на крыше экран — объявления, то
цистные, то черные, вспыхивают и погасают. Там же, но
на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспых-
нет и потемнеет «Реклама».
Все больше И больше этих зыбких, цветных огней на
I нсрской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва
таливается огнями с каждым днем все сильней. В окнах
мигазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в
некоторых почему-то освещение a giorno1. До полуночи
юргуют гастрономические магазины МПО.
' яркое (фр.).
200
Михаил Булгаков
Москва спит теперь, и ночью не гася всех огненных
глаз.
С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает
по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и
погромыхивая цепями, ползут по разъезженному, рыхло-
му, бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с ба»
совым гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как
и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с
Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова, под
старой зубчатой стеной они один за другим валят под
уклон вниз к «Метрополю». Мутные стекла в первом
этаже «Метрополя» просветлели, словно с них бельма
сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью
драгоценным камнем над подъездом светится шар Гос-
кино-11. Напротив через сквер неожиданно воскрес Тес-
тов и высунул в подъезде карточку: «Крестьянский суп»,
В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют
магазинчики. Но Параскева Пятница глядит печально и
тускло. Говорят, что ее снесут. Это жаль. Сколько видал
этот узкий проход между окнами с мясными тушами и
ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей
по самой середине улицы.
Часовню, что была на маленькой площади, там, где
Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже
снесли.
Торговые ряды на Красной площади, являвшие не-
сколько лет изумительный пример мерзости запустения,
полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает
толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичные лица
портит одно: некоторое выражение неуверенности в гла-
зах. Это, по-моему, вполне понятно: в ГУМе лишь три
выхода. Другое дело у Ильинских ворот — сквер, про-
стор, далеко видно... Эпидемически буйно растут трак-
тиры и воскресают. На Цветном бульваре, в дыму, в
грохоте, рвутся с лязгом звуки «натуральной» польки:
Пойдем, пойдем, ангел милый,
Польку танцевать с тобой.
С-с-с-с-слышу, с-с-слышу с-с-сл...
...Польки звуки неземной!!
Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в
беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много,
а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кино-
рекламы на полотнищах поперек улицы. Заборы исчез-
ли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые
Рассказы
201
нн раничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой
1нборовой, заразившей красноармейца сифилисом», де-
сятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят
-Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дири-
жера Вагнера, ставят «Землю дыбом» с военными про-
жекторами и автомобилями, дают концерты по радио,
портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сия-
ющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов,
(иналили киоски журналами и десятками газет...
И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег.
Г:ще басистей загудели грузовики, яростней и веселей.
К Воробьевым горам уже провели ветку, там роют, возят
носки, там скрипят тачки — готовят Всероссийскую
выставку.
И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной
букинистскими книгами, я мечтаю, как летом взлезу на
Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю,
инк горят сорок сороков на семи холмах, как дышит,
блестит Москва. Москва — мать.
ХАНСКИЙ ОГОНЬ
Когда солнце начало садиться за орешневские сосны
н бог Аполлон Печальный перед дворцом ушел в тень,
ил флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны при-
бежала уборщица Дунька и закричала:
— Иона Васильич! А Иона Васильич! Идите, Татьяна
Михайловна вас кличут. Насчет экскурсий. Хворая она.
По щека!
Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала
юлые икры и понеслась обратно.
Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся
мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне
Михайловне.
Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах
сильно пахло йодом и камфарным маслом. Иона поты-
кплся в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во
мгле смутно виднелась кошка Мумка и белое заячье с
||>омадными ушами, а в нем страдальческий глаз.
— Аль зубы? — сострадательно прошамкал Иона.
— Зу-убы... — вздохнуло белое.
— У... у... у... вот она, история,— пособолезновал
202
Михаил Булгаков
Иона,— беда! То-то Цезарь воет, воет... Я говорю: чего,
дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику,
Так ли я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь.
Куриный помет нужно прикладывать к щеке — как
рукой снимет.
— Иона... Иона Васильич,— слабо сказала Татьяна
Михайловна,— день-то показательный — среда. А я
выйти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда
с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам,
пусть с вами походит.
— Ну что ж... Велика мудрость. Пущай. И сами
управимся. Присмотрим. Самое главное — чашки. Чаш-
ки самое главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее...
Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали.
А отвечать — кому? Нам. Картину — ее в карман но
спрячешь. Так ли я говорю?
— Дуняша с вами пойдет — сзади присмотрит. А ес-
ли объяснений будут спрашивать, скажите, смотритель-
ница заболела.
— Ладно, ладно. А вы — пометом. Доктора — у них
сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали,
Федору орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас
еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе.
Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала:
— Идите, идите, Иона Васильич, а то, может, кто-
нибудь и приехал уже...
Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым
плакатом:
УСАДЬБА-МУЗЕЙ
ХАНСКАЯ СТАВКА
Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям
от 6 до 8 час. веч.
И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде
приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа моло-
дых смеющихся людей человек в двадцать. Были среди
них подростки в рубашках-хаки, были девушки без шляп,
кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте.
Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных
туфлях; юноши в тупоносых высоких сапогах.
И вот среди молодых оказался немолодой лет сорока,
сразу поразивший Иону. Человек был совершенно го-
Рассказы
203
лый, если не считать коротеньких бледно-кофейных
шглнишек, не доходивших до колен и перетянутых на
животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да
*щ<* пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом.
Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую
гимну голого человека, а ноги у него были разные —
Нрпвая толще левой, и обе разрисованы на голенях уз-
40ВВТЫМИ венами.
Молодые люди и девицы держались так, словно ни-
чего изумительного не было в том, что голый человек
рй и»езжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого
• иорбного Иону голый поразил и удивил.
Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот
ин дворцу, и один ус у него был лихо закручен и бород-
ки подстрижена, как у образованного человека. Моло-
1Ы<\ окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время
меялись, так что Иона совсем запутался и расстроил-
• и. тоскливо думая о чашках, и многозначительно под-
мигивал Дуньке на голого. У той щеки готовы были
шпнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на
। рех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятствен-
но, а на голого залаял с особенной хриплой, старческой
1Л1>бой, давясь и кашляя. Потом завыл — истошно,
мучительно.
•Тьфу, окаянный,— злобно и растерянно думал Иона,
косись на незваного гостя,— принесла нелегкая. И чего
Цезарь воет. Ежели кто помрет, то уж пущай этот го-
»1МЙ».
Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, по-
мину что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших
посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и
красная из-за голого. При ней девочка-подросток с за-
плетенными длинными косами. Бритый высокий госпо-
дин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой бога-
Н«1Й господин-иностранец, в золотых очках колесами,
широком светлом пальто, с тростью. Цезарь с голого
перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мут-
ных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик
1ймы, а потом взвыл на иностранца так, что тот поблед-
нел, попятился и проворчал что-то на не известном никому
языке.
Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот
пЛорвал вой, заскулил и пропал.
204
Михаил Булгаков
— Ноги о половичок вытирайте,— сказал Иона, и
лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда,
когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматри
вай, Дунь...» — и отпер тяжелым ключом стеклянную
дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо
посмотрели на гостей.
Те стали подыматься по белой лестнице, устланной
малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями,
Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел,
гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.
Вечерний свет, смягченный тонкими белыми штора*
ми, сочился наверху через большие стекла за колонна-
ми. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись,
увидали пройденный провал лестницы, и балюстраду с
белыми статуями, и белые простенки с черными полот-
нами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой
нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, ви-
лись и розовели амуры.
— Смотри, смотри, Верочка,— зашептала толстая
мать,— видишь, как князья жили в нормальное время.
Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на
бритом сморщенном лице тихо, по-вечернему.
Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал:
— Растрелли строил. Это несомненно. Восемнадца-
тый век.
— Какой Растрелли? — отозвался Иона, тихонько
кашлянув.— Строил князь Антон Иоаннович, царствие
ему небесное, полтораста лет назад. Вот как,— он вздох-
нул.— Прапрапрадед нынешнего князя.
Все повернулись к Ионе.
— Вы не понимаете, очевидно,— ответил голый,—
при Антоне Иоанновиче, это верно, но ведь архитектор-
то Растрелли был? А во-вторых, царствия небесного не
существует и князя нынешнего, слава богу, уже нет.
Вообще, я не понимаю, где руководительница?
— Руководительша,— начал Иона и засопел от не-
нависти к голому,— с зубами лежит, помирает, к утру
кончится. А насчет царствия — это вы верно. Для кой-
кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без
штанов не войдешь. Так ли я говорю?
Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый
заморгал глазами, оттопырил губы.
— Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству
небесному и к князьям довольно странны в теперешнее
время... И мне кажется...
Рассказы
205
— Бросьте, товарищ Антонов,— примирительно ска-
жл в толпе девичий голос.
— Семен Иванович, оставь, пускай! — прогудел
срывающийся бас.
Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь
гстку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу
г белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листь-
ями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то
блестели трубы музыкантов. Колонны возносились ра-
достно и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно
• гояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели
со стен, и, точно вчера потушенные, были в них обгорев-
шие белые свечи. Амуры вились и заплетались в гир-
ляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных об-
ликах. Под ногами разбегался скользкий шашечный
паркет. Странна была новая живая толпа на чернопо-
лосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностра-
нец в золотых очках, отделившийся от групп. За колон-
ной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку
плюща.
В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив
ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы:
— Кто паркет делал?
— Крепостные крестьяне,— ответил неприязненно
Иона,— наши крепостные.
Голый усмехнулся неодобрительно.
— Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго
народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом
|унеядцы на них ногами шаркали. Онегины... трэнь...
бронь... Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то
недь было больше нечего.
Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась,
прости господи»,— вздохнул, покрутил головой и повел
дальше.
Стены исчезли под темными полотнами в потускнев-
ших золотых рамах. Екатерина II, в горностае, с диаде-
мой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бро-
нями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной
короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на
ручке кресла. Юный курносый, с четырехугольными
шездами на груди, красовался на масляном полотне
напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг
<ына и матери до самого лепного плафона глядели
княгини и князья Тугай-Бег-Ордынские со своими род-
< гнойниками.
206
Михаил Булгаков
Отливая глянцем, чернея трещинами, выписанный
старательной кистью живописца XVIII века по невер^
ным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего of
времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмол*
ке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли,
родоначальник — повелитель Малой Орды Хан Тугай.
За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-
Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских
и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала
история рода с пятнами то боевой славы, то позора,
любви, ненависти, порока, разврата...
На пьедестале бронзовый позеленевший бюст стару-
хи матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами,
завязанными под подбородком, с шифром на груди,
похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал,
нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке,
носившая всю жизнь две славы — ослепительной кра-
савицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного
и страшного города на севере была увита легендой
потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне
своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет
которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из
рук его перешла в руки Тугай-Бега-отца и родила пос-
леднего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прослави-
лась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре
красавца гайдука...
Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзо-
вому чепцу и сказал:
— Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая
развратница первой половины девятнадцатого века...
Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку
и быстро отвела ее в сторону.
— Это бог знает что такое... Верочка, смотри, какие
портреты предков...
— Любовница Николая Палкина,— продолжал го-
лый, поправляя пенсне,— о ней даже в романах писали
некоторые буржуазные писатели. А тут что она в име-
нии вытворяла — уму непостижимо. Ни одного не было
смазливого парня, на которого она не обратила бы
благосклонного внимания... Афинские ночи устраивала...
Иона перекосил рот, глаза его налились мутной вла-
гой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но
ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал возду-
ху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего
голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама
Рассказы
207
обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть
и нс понимавший русских слов, вперил в спину голого
гижелый взгляд и долго его не отрывал.
Шли через кабинет князя, с эспантонами, палашами,
кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами
кявалергардов, с портретами последних императоров, с
пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и по-
желтевшими фотографиями — группами кавалергардско-
|о, где служили старшие Тугай-Беги, и конного, где
служили младшие, со.снимками скаковых лошадей ту-
। АЙ-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых
ггнрых книг.
Шли через курительные, затканные сплошь текин-
скими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями
чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-
зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампа-
ми. Шли через боскетную, где до сих пор не зачахли
пильмовые ветви, через игральную зеленую, где в стек-
лянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где
Иона тревожно косил глазами Дуньке. Здесь, в играль-
ной, одиноко красовался на полотне блистательный
офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с
животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой,
ни раструбы перчаток, на черные, стрелами вверх под-
крученные усы и спросила у Ионы:
— Это кто же такой?
— Последний князь,— вздохнув, ответил Иона,—
Антон Иоаннович, в квалегардской форме. Они все в
киалегардах служили.
— А где он теперь? Умер? — почтительно спросила
дима.
— Зачем умер... Они за границей теперь. За границу
отбыли при самом начале,— Иона заикнулся от злобы,
что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку.
И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в
нише молодежи опять бросил:
— Да плюнь, Семен... старик он...
И голый заикнулся.
— Как? Жив? — изумилась дама,— это замечатель-
но!.. А дети у него есть?
— Деток нету,— ответил Иона печально,— не бла-
Н1СЛОВИЛ господь... Да. Братец ихний младший, Павел
Иоаннович, тот на войне убит. Да. С немцами воевал...
Он в этих... в конных гренадерах служил. Он нездешний.
У того имение в Самарской губернии было...
208
Михаил Булгаков
— Классный старик... — восхищенно шепнул кто-то,
— Его самого бы в музей,— проворчал голый.
Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился
вверху и плыл со стен волнами, розовый ковер глушил
всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспаль-
ная резная кровать. Как будто недавно еще, в эту ночь,
спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре: и
зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике
в костяном переплете, и портрет последней княгини ни
мольберте — княгини юной, княгини в розовом. Лампа,
граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошен
ная подушка казалась живой... Раз триста уже водил
Иона экскурсантов в спальню Тугай-Бегов и каждый
раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда
проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие
глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня
особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого
и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя...
Потому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кон-
чился. Повел незваных гостей через биллиардную в
коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на
боковую террасу и вон.
Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через
тяжелую дверь и Дунька заперла ее на замок.
Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под
Орешневом засвистели пастухи на дудках, за прудами
звякали тонкие колокольцы — гнали коров. Вечером
вдали пророкотало несколько раз — на учебной стрель-
бе в красноармейских лагерях.
Иона брел по гравию ко дворцу, и ключи бренчали
у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители,
старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил
его, разговаривая сам с собой и посматривая внима-
тельно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и
до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожево-
го домика, курить и думать о разных старческих разно-
стях.
Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый,
но вот покоя на душе у Ионы, как назло, не было.
Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону
голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро
оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая
по ковру, он поднялся по лестнице.
Рассказы
209
На площадке у входа в бальный зал он остановился
и побледнел.
Во дворце были шаги. Они послышались со стороны
биллиардной, прошли боскетную, потом стихли. Сердце
у старика остановилось на секунду, ему показалось, что
пн умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой
г шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения,
твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете.
«Воры! Беда,— мелькнуло в голове у старика.— Вот
оно, вещее, чуяло... беда». Иона судорожно вздохнул, в
ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать,
кричать. Беда...
В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и
показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он
вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро опра-
вился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.
— Что вы? Господин? — в ужасе забормотал Иона.
Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью.— Тут
нельзя. Вы как же это остались? Господи боже мой... —
Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк.
Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и,
придвинувшись, негромко сказал по-русски:
— Иона, ты успокойся! Помолчи немного. Ты один?
— Один... — переведя дух, молвил Иона,— да вы
зачем, царица небесная?
Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул по-
верх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого
пет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал
уже громко, картаво:
— Не узнал, Иона? Плохо, плохо... Если уж ты не
узнаешь, то это плохо.
Звуки его голоса убили Иону, колени у него разъеха-
лись, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на
пол.
— Господи Иисусе! Ваше сиятельство. Батюшка,
Антон Иоаннович. Да что же это? Что же это такое?
Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали
золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие
глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки,
галстух, тычась трясущейся головой в жесткую бороду
князя.
— Успокойся, Иона, успокойся, бога ради,— бормо-
тал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось
лицо,— услышать может кто-нибудь...
210
Михаил Булгаков
— Ба... батюшка,— судорожно прошептал Иона,—
да как же... как же вы приехали? Как? Никого нету.
Нету никого, один я...
— И прекрасно, бери ключи, Иона, идем туда, в
кабинет!
Князь повернулся и твердыми шагами пошел через
галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, под-
нял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял
серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:
— Садись, Иона, в кресло!
Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого, с
выдвижным пультом для чтения, табличку с надписью
«В кресла не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на
круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело
вдавилось в сафьян.
В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали
бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.
— Ах, как ты подряхлел, Иона, боже, до чего ты
старенький! — заговорил князь, волнуясь.— Но я счаст-
лив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться,
думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили...
От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал
тихонько, утирая глаза...
— Ну, полно, полно, перестань...
— Как... как же вы приехали, батюшка? — шмыгая
носом, спрашивал Иона.— Как же это я не узнал вас,
старый хрен? Глаза у меня слепнут... Как же это вер-
нулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное,
и бородка... И как же вы вошли, что я не заметил?
Тугай-Бег вынул из жилетного кармана ключ и по-
казал его Ионе.
— Через малую веранду из парка, друг мой! Когда
вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки (князь
снял их), очки здесь уже, на границе надел. Они с
простыми стеклами.
— Княгинюшка-то, господи, княгинюшка с вами, что
ли?
Лицо у князя мгновенно постарело.
— Умерла княгиня, умерла в прошлом году,— отве-
тил он и задергал ртом,— в Париже умерла от воспа-
ления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все
время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго
наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она
твердо верила, что мы увидимся. Все богу молилась.
Видишь, бог и поивел.
Рассказы
211
Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в
мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на
шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на
гамом донышке таял закат.
— Царствие небесное, царствие небесное,— дрожа-
щим голосом пробормотал он,— панихидку, панихидку
отслужу в Орешневе.
Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-
1о скрипнул паркет.
— Нету?
— Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И быть
некому. Кто ж, кроме меня, придет.
— Ну, вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало.
Поговорим о деле.
Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. Как же, в
гамом деле? Ведь вот он. Живой! Приехал. А тут...
Мужики, мужики-то!.. Поля?
— В сам деле, ваше сиятельство,— он умоляюще
поглядел на князя,— как же теперь быть? Дом-то? Аль
пернут?..
Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы
у него оскалились только с одной стороны — с правой.
— Вернут? Что ты, дорогой!
Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и
продолжал:
— Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут...
Гы, видно, забыл, что было... Не в этом суть. Ты вообще
имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно.
Гебе беспокоиться абсолютно нечего, тут никто и знать
ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь.
Приехал я (князь поглядел на угасающие рощи), во-
первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кой-
какие имел; пишут мне из Москвы, что дворец цел, что
его берегут как народное достояние... На-ародное... (Зубы
у князя закрылись с правой стороны и оскалились с
левой). Народное — так народное, черт их бери. Все
равно. Лишь бы было цело. Оно так даже и лучше... Но
нот в чем дело: бумаги-то у меня тут остались важные.
Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензен-
ских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, каби-
иет-то мой рабочий растащили или цел? — Князь тре-
вожно тряхнул головой на портьеру.
Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед
।лазами вынырнул Александр Эртус, образованный че-
ловек в таких же самых очках, как и князь. Человек
212
Михаил Булгаков
строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье
наезжал из Москвы, ходил по дворцу-в скрипучих ры-
жих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и
просиживал в рабочем кабинете долгие часы, завален-
ный книгами, рукописями и письмами по самую шею.
Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутер-
броды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспра-
шивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.
— Цел-то цел кабинет,— бормотал Иона,— да вот
горе, батюшка ваше сиятельство, запечатан он. Запеча-
тан.
— Кем запечатан?
— Эртус Александр Абрамович из комитета...
— Эртус? — картаво переспросил Тугай-Бег,— поче-
му же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечаты-
вает мой кабинет?
— Из комитета он, батюшка,— виновато ответил
Иона,— из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено.
Тут, ваше сиятельство, внизу-то, библиотека будет и
учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает.
— Ах, вот как! Библиотеку,— князь ощерился,— что
ж, это приятно! Я надеюсь, им хватит моих книг? Жалко,
жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще
прислал. Но ведь хватит?
— Хватит, ваше сиятельство,— растерянно хрипнул
Иона,— ведь видимо-невидимо книг-то у вас,— мороз
прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.
Тугай-Бег съежился в кресле, поскреб подбородок
ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно
похож на портрет раскосого в мурмолке. Глаза его
подернулись траурным пеплом.
— Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу,
образованный человек и талантливый. Библиотеки уст-
раивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну... а знаешь ли
ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библио-
теку?
Иона молчал и глядел во все глаза.
— Этого Эртуса я повешу вон на той липе,— князь
белой рукой указал в окно,— что у ворот. (Иона тоскли-
во и покорно глянул вслед руке). Нет, справа, у решет-
ки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге,
чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя
библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался
на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе,
чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона,
Рассказы
213
будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы
мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен...
Иона судорожно вздохнул.
— А рядышком,— продолжал Тугай нечистым голо-
сом,— знаешь кого пристроим? Вот этого голого. Анто-
нов Семен. Семен Антонов,— он поднял глаза к небу,
нпюминая фамилию.— Честное слово, я найду товари-
ща Антонова на дне моря, если только он не подохнет
до той поры или если его не повесят в общем порядке
на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу
его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользо-
вался гостеприимством в Ханской ставке и голый ходил
но дворцу в пенсне,— Тугай проглотил слюну, отчего
татарские скулы вылезли желваками,— ну что ж, я
приму его еще раз, и тоже голого. Ежели он живым мне
попадется в руки, у, Иона!., не поздравлю я Антонова
Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без
шкуры! Иона! Ты слышал, что он сказал про княгиню-
мать? Слышал?
Иона горько, вздохнул и отвернулся.
— Ты верный слуга, и, сколько бы я ни прожил, я
не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе
теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не
убил голого? А? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много
лет? — Тугай-Бег взялся за карман пальто и выдавил
из него блестящую рубчатую рукоятку; беловатая пенка
мнственно показалась в углах рта, и голос стал тонким
н сиплым.— Но вот не убил! Не убил, Иона, потому что
сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться,
шаю только один я. Нельзя было убить, Иона. Это было
бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я
не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем, Иона,
большее... Получше,— князь пробормотал что-то про себя
и стих.
Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил
холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было
уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки
заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в
карман, поморщившись, встал и глянул на часы.
— Ну, вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью
м уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот Ято,— у князя
н руках очутился бумажник,— бери, Иона, бери, верный
друг! Больше дать не могу, сам стеснен.
— Ни за что не возьму,— прохрипел Иона и замахал
руками.
214
Михаил Булгаков
— Бери! — строго сказал Тугай и запихнул сам
Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлип-
нул.— Только смотри тут не меняй, а то пристанут —
откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона
Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи
уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.
— Печать-то, батюшка,— жалобно начал Иона.
Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал
одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.
— Вздор,— сказал Тугай,— ты, главное, не бойся!
Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что
тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему
слову? Ну, то-то...
Ночь подходила к полуночи. Иону сморило сном в
караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна
Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп,
безмолвен...
В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными
шторами горела на открытой конторке керосиновая
лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу,
на кресле и на красном сукне. Рядом в большом каби-
нете с задернутыми двойными шторами нагорали стеа-
риновые свечи в канделябрах. Нежными искорками по-
блескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и,
лысый, мягко улыбался со стороны.
За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в
штатском платье и с кавалергардским шлемом на голо-
ве. Орел победно взвивался над потускневшим метал-
лом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг
лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой страни-
це бисерным почерком было написано вверху:
Алекс. Эртус
История Ханской ставки
ниже:
1922-1923
Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами
глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная
тишина, и сам Тугай слышал, как в жилетке его неук-
лонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут,
и полчаса сидел князь недвижно.
Рассказы
215
(жвозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук.
Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.
— У-у, проклятая собака,— проворчал он и вошел в
нлрадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу
ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой.
Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, по-
бледнел, болезненно усмехнулся.
— Фу,— прошептал он,— с ума сойдешь.
Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло,
я вдруг яростно ударил шлем оземь, так, что по комна-
1йм пролетел гром и стекла в шкафах звякнули жалоб-
но. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в
(гол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно.
I одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревож-
ных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой,
бормоча и покусывая губы:
— Это не может быть. Не... не... не...
Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыха-
лось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые
«ыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай
подошел к стене и стал всматриваться. На продолгова-
той фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели
остывшие и так увековеченные люди с орлами на го-
ловах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей.
II самом центре громадной группы сидел невзрачный, с
бородкой и усами, похожий на полкового врача человек.
Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были
вполоборота напряженно прикованы к небольшому че-
ловеку, погребенному под шлемом.
Подавлял белых напряженных кавалеристов малень-
кий человек, как подавляла на бронзе надпись о нем.
Кнждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго
смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от
миленького человека.
— Не может быть,— громко сказал Тугай и оглядел
|ромадную комнату, словно в свидетели приглашал мно-
ючисленных собеседников.— Это сон.— Опять он про-
бормотал про себя, затем бессвязно продолжал: — одно,
одно из двух: или это мертво... а он... тот... этот... жив...
или я... не поймешь...
Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идуще-
ю к шкафу, подумал невольно: «Я постарел»,— опять
(вбормотал:
— По живой моей крови, среди всего живого шли и
юптали, как по мертвому. Может быть, действительно
216
Михаил Булгаков
я мертв? Я — тень? Но ведь я живу,— Тугай вопроси-
тельно посмотрел на Александра I,— я все ощущаю,
чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость,—
Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале,
холод ненависти прошел у Тугая по суставам,— я жа-
лею, что я не застрелил. Жалею.— Ярость начала на-
кипать в нем, и язык пересох.
Опять он повернулся и молча заходил к окну и об-
ратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядыва-
ясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг
остановился, провел по волосам, взялся за карман и
нажал репетир. В кармане нежно и таинственно проби-
ло двенадцать раз, после паузы на другой тон один раз
четверть и после паузы три минуты.
— Ах, боже мой,— шепнул Тугай и заторопился. Он
огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и
надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его
косили, как у Хана на полотне, и белел в них лишь
легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел
пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бе-
режно отложенную на кресле пачку пергаментных и
бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом
втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в
последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и,
решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив
широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за
рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу,
оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал
ноготь.
— А т... чума! — хрипнул князь, потер палец и
приступил к работе бережней. Надорвав несколько лис-
тов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья.
С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их
кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет
елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним уда-
ром ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев,
придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в
парадный кабинет, а вернулся с канделябром и акку-
ратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в
кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил
неровным светом. Через пять минут душило дымом.
Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в сосед-
нем кабинете. По вспоротому портрету Александра I
лезло, треща, пламя, и лысая голова коварно улыбалась
в дыму. Встрепанные томы горели стоймя на столе, и
тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел.
Рассказы
217
II глазах его теперь были слезы от дыму и веселая
Пгшеная дума. Опять он пробормотал:
—+1е вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему.
Ну, так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус.
...Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и
(гронатые дымы лезли за ним, бальными огнями горел
1йл. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили
огненные тени.
В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и
пылил керосин в постель; пятно разошлось и закапало
ini ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва
ничего не произошло: огонек сморщился и исчез, но
потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так
чго Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и
ризом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер.
— Теперь надежно,— сказал Тугай и заторопился.
Он прошел боскетную, биллиардную, прошел в чер-
ный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в
мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной
луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел
и нарк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из ка-
рлулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабыты-
ми тайными тропами нырнул во тьму...
БАГРОВЫЙ ОСТРОВ
Роман тов. Жюля Верна
С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков
Часть 1
ВЗРЫВ ОГНЕДЫШАЩЕЙ ГОРЫ
Глава I
ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
В океане, издавна за свои бури и волнения назван-
ном Тихим, под 45-м градусом находился огромнейший
необитаемый остров, населенный славными и родствен-
ными племенами — красными эфиопами, белыми арапа-
218
Михаил Булгаков
ми и арапами неопределенной окраски, получившими oi
мореплавателей почему-то кличку — махровых.
«Надежда», корабль знаменитого лорда Гленарвана,
впервые подошедший к острову, обнаружил на нем ори
гинальные порядки: несмотря на то, что красные эфиопы
численностью превышали и белых, и махровых арапов и
10 раз, правили островом исключительно арапы. На тро-
не, в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костьми и
сардинными коробками повелитель Сизи-Бузи, с ним ря-
дом верховный жрец и еще военачальник Рики-Тики-Тави.
Красные же эфиопы были заняты обработкой маисо-
вых полей, рыбной ловлей и собиранием черепашьих яиц.
Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начи-
нать всюду, где бы ни появлялся: водрузил на горе флаг
и сказал по-английски:
— Этот остров... мой немножко будет.
Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимавшие
никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе
штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами,
а перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-Бузи и
от последнего узнал, что этот остров — его, Сизин-
Бузин, и «флаг не надо».
Оказывается, остров открывали уже два раза. Во-
первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали
лягушек. В доказательство Сизи ссылался на сардиноч-
ные коробки и умильно намекнул, что «огненная вода
вкусная очень есть, да».
— Пронюхали, сукины сыны! — проворчал лорд по-
английски и, похлопав Сизи по плечу, милостиво разре-
шил ему и в дальнейшем числить остров за собой.
Затем произошел товарообман. Матросы сгрузили на
берег с «Надежды» стеклянные бусы, тухлые сардинки,
сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли
на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца
и жемчуг.
Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже,
бусы также, а сахарин подарил эфиопам.
Установились правильные отношения. Суда заходили
в бухту, сбрасывали английские ценности, забирали
эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент
«Нью-Йоркского Таймса» в белых штанах и с трубкой
и немедленно заболел тропическим триппером.
Остров в учебниках географии был назван — Эфио-
пов остров (л’Иль д’Эфиоп1).
1 L’ile d’Ephiope (фр.).
Глава II
СИЗИ ПЬЕТ ОГНЕННУЮ ВОДУ
Засим остров достриг невиданного процветания. Вер-
101П1ЫЙ жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально
плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце
концов как лакированное и какое-то круглое, без скла-
док. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом
копий сверкала у шатра.
Проходившие суда нередко слышали победные кри-
ки, несущиеся с острова:
- Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, а равно
и верховный жр^ц! Ура, ура!
Кричали арапы, и громче всех махровые.
Со стороны эфиопов доносилось громкое молчание.
Иг получая огненного пайка и работая до потери задних
ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном
н даже граничащем с глухим неудовольствием. А так
ккк среди эфиопов, как и среди всех людей, имеются
(Мутьяны, то бывало и так, что у эфиопов зарождались
(ивиральные мысли:
— Это как жа, братцы? Ведь это выходит не по-
Ложецки? Водка им (арапам), бусы им, а нам шиш с
«кхарином? А как работать — это тоже мы?
Кончилось это крупною неприятностью, и опять-таки
для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале брожения
умов послал к эфиоповым вигвамам карательную apa-
шжу экспедицию, а та в два счета привела эфиопов к
одному знаменателю.
Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили:
— И детям закажем.
И, таким образом, вновь наступили ясные времена.
Глава III
КАТАСТРОФА
Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части
петрова у подножия потухшей триста лет назад огнеды-
шащей горы.
Однажды ночью она проснулась совершенно неожи-
данно, и сейсмографы в Пулково и Гринвиче показали
чловещую чепуху.
220
Михаил Булгаков
Из огнедышащей горы вылетал дым, за ним пламя,
потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток им
самовара, жаркая лава.
И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остя
лись без повелителя Сизи-Бузи и жреца, с одним военя*
чальником. На месте королевских вигвамов громозди
лись горы лавы.
Глава IV
ГЕНИАЛЬНЫЙ КИРИ-КУКИ
В первое мгновение эфиопы были разбиты громом, и
даже произошли в толпе слезы, но уже во второе мгно-
вение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов во
главе с военачальником пронесся совершенно естествен-
ный вопрос: «Что же будет дальше?»
Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, а
затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось,
если бы не произошло удивительное событие.
Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими
белыми пятнами и махрами, взвилось чье-то испитое
лицо и бегающие глаза, и затем, возвышаясь на бочке,
всей своей персоной предстал известный всему острову
пьяница и бездельник Кири-Куки.
Эфиопов разбило громом второй раз, и причиной этому
был поразительный вид Кири-Куки. Все от мала до
велика привыкли его видеть околачивающимся то в бухте,
где выгружали огненные прелести, то возле вигвама
Сизи и отлично знали, что Кири чистой воды махровый
арап. И вот Кири явился перед ошалевшими островитя-
нами раскрашенным с ног до головы в боевые эфиоповы
красные цвета. Самый опытный глаз не отличил бы
вертлявого пройдоху от обыкновенного эфиопа.
Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, от-
крыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас
занесенные в записную книжку восхищенным коррес-
пондентом «Таймса»:
— Как таперича стали мы свободные эфиопы, объ-
являю вам спасибо!
Абсолютно ни один из эфиопов моря не понял, поче-
му именно Кири-Куки объявляет спасибо и за что спа-
сибо?! И вся громада ответила ему изумленным гро-
мовым:
Рассказы
221
- Ура!!!
Несколько минут бушевало на острове, а затем его
прорезал новый вопль Кири-Куки:
— А теперь, братцы, вали присягать!
И когда восхищенные эфиопы взвыли:
— К-кому?!!
Кири ответил пронзительно:
- Мне!!!
На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжал-
। н недолго. С криком:
— Угодил, каналья, в точку! — военачальник первым
Просился качать Кири-Куки.
Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горе-
чи веселые костры и, пьяные от радости и от огненной
поды, раскупоренной тороватым Кири, плясали вокруг
них эфиопы.
Проходящие суда тревожно бороздили небо радио-
молниями и собирались остров для порядку обстрелять,
но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен теле-
|раммой таймсова корреспондента:
«У дураков на острове национальный праздник бай-
рпм’точка Мошенник гениален».
Глава V
BOUNT
Затем события покатились со сверхъестественной
быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам,
Кири остров назвал Багровым, в честь основного эфио-
пова цвета, и этим эфиопов, равнодушных к славе, не
прельстил, а арапов обозлил. Во второй день, чтобы
угодить арапам, в должности военачальника утвердил
права же Рики-Тики — и этим арапам не угодил, пото-
му что каждый из них хотел быть начальником, а эфио-
пов обозлил. В третий, чтобы угодить лично себе, со-
орудил себе из шпротовой коробки лохматый головной
убор, до чрезвычайности напоминающий корону покой-
ного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, ибо
арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а
»фиопы, развращенные огненной водой, были вообще
против коробки, напоминающей им весьма жгуче приве-
ц’ние к одному знаменателю.
Последнее же мероприятие Кири-Куки было напран
лено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончи*
тельно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды
будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Еже-
ли всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен
на воду Кири загнал очередной урожай маиса — воды
много не добыл, зато не только эфиопам, но и арапам
подвело животы и получилось неудовольствие.
В прекрасный жаркий день, когда Кири, по обыкно-
вению, лежал негодный к употреблению в своем вигва-
ме, к начальнику Рики-Тики явился некий эфиоп, ня
физиономии коего были явственно выписаны его смуть-
янские наклонности. В момент его появления Рики пил
огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного
поросенка.
— Тебе чего надо, эфиопская морда? — сухо спросил
мрачный командир.
Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо
приступил к делу.
— Ды как же это? — заныл он,— ведь это что же?
Вам и водка, и поросята? Это опять, стало быть, старые
порядки?
— Ага. Ты, значит, поросенка захотел? — сдержива-
ясь, спросил воин.
— А как же? Чай, эфиоп тоже человек? — дерзко
ответил визитер и нагло отставил ногу.
Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развер-
нув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из
поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа — кровь, а
из глаз слезы вперемешку с крупными зелеными искрами.
— Вон!!! — закончил Рики дискуссию.
Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к
себе домой, но хорошо известно, что к концу дня весь
остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат «Чен-
слер», проходя мимо острова, видел два зарева в южной
бухте Голубого Спокойствия и весь мир встревожил те-
леграммой:
«Острове огни всем^признакам ослов эфиопов снова
праздник Гаттерас».
Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были,
но праздничного в них не заключалось ровно ничего.
Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожженные
карательной экспедицией Рики-Тики.
Наутро огненные столбы превратились в дымные, при-
чем их было не два, а уже девять. К ночи дымы превра-
тились опять в лапчатые зарева (шестнадцать штук).
Рассказы
223
Мир был встревожен газетным заголовком в Пари-
те, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих горо-
«В чем дело?».
И вот пришла телеграмма таймсовского корреспон-
дента, поразившая мир:
«Шестой день горят вигвамы арапов. Тучи эфиопов...
(неразборчиво) Кири жулик бежа... (неразборчиво)».
А через день грянула на весь мир ошеломляющая
1елсграмма, уже не с острова, а из европейского порта:
«Ephiop sakatil grandiosni bount. Ostrov gorit, poval-
niija tschouma. Gori troupov. Avansom piatsot. Korre-
tpondent».
Часть 11
ОСТРОВ В ОГНЕ
Глава VI
ТАИНСТВЕННЫЕ ПИРОГИ
На рассвете часовые на европейском берегу крикнули:
— На горизонте суда!!
Лорд Гленарван вышел с подзорной трубой и долго
изучал черные точки.
— Мой не понимай,— сказал джентльмен,— похоже,
пироги диких?
— Гром и молния! — воскликнул Мишель Ардан,
отбросив Цейсс в сторону,— ставлю вашингтонский
доллар против дырявого лимона выпуска 23-го года,
гели это не арапы!
— И очень просто,— подтвердил Паганель.
Ардан и Паганель угадали.
— Что означайт? — спросил лорд, удивившись в
первый раз в жизни.
Вместо ответа арапы только хныкали. На них было
положительно страшно смотреть. Когда они немного отды-
шались, выяснились ужасные вещи: эфиопов тучи. Про-
клятые смутьяны разожгли этих дураков. Требование:
драпов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее перебили.
Мерзавец Кири-Куки улизнул первый на пироге. Остатки
карательной экспедиции во главе с Рики-Тики вот они —
а пирогах. Они мало-мало к лорду приехали.
224
Михаил Булгаков
— Сто сорок чертей и одна ведьма!! — грянул Ар
дан,— они собираются жить в Европе. Компренэ ву?1*
— Но кто кормить будет? — испугался Гленарван,—
нет, вы обратно остров езжай.
— Нам таперича, ваше сиятельство, на остров и носу
показать невозможно,— плакали арапы,— эфиопы нас
начисто поубивают. А во вторых строках, вигвамы наши,
к черту, попалили. Вот ежели бы какую ни на есть
военную силу послать, смирить этих сволочей...
— Благодарю,— иронически ответил лорд, указывая
на телеграмму корреспондента,— у вас там чума. Мой
еще с ума не сходил. Один мой матрос дороже, чем ваш
паршивый остров весь. Да.
— Точно так, ваше превосходительство,— согласи*
лись арапы,— известно, что мы ни черта не стоим.
А насчет чумы господин корреспондент верно пишут.
Так и косит, так и косит. И опять же голод.
— Тэк-с,— задумчиво сказал лорд,— ладно. Мой
будет посмотрейт,— и скомандовал: — в карантин!
Глава VII
АРАПОВЫ МУКИ
Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выра-
зить невозможно. Началось с того, что их мыли в кар-
болке и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов.
Кормили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не уми-
рали. А так как установить точную норму при таком
методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдала
богу душу.
Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд
направил их на работы в каменоломни. Там были над-
смотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловых жил...
Глава VIII
МЕРТВЫЙ ОСТРОВ
Суда получили приказ обходить остров на пушечный
выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое
догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом.
1 Вы понимаете?! (От фр. comprenez-vous?!)
7*
Рассказы
225
Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух.
По голубым волнам тянуло трупным запахом.
— Крышка острову,— говорили матросы, глядя в
бинокли на коварную зеленую береговую полосу.
Лрапы, превратившиеся на хлебах лорда в бледные
1ГНИ, шляясь в каменоломнях, злорадствовали:
— Так им и надо, прохвостам. Пущай поумирают, к
• пиньям. Когда все издохнут, вернемся и остров займем.
Л уже этому мертвецу Кири-Куки кишки выпустим свое-
ручно, где бы ни попался.
Лорд хранил спокойное молчание.
Глава IX
ЗАСМОЛЕННАЯ БУТЫЛКА
Ее выбросила однажды волна на европейский берег.
1’с вскрыли с карболовыми предосторожностями в при-
сутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые кара-
кули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них и
представил лорду документ:
«Погибаем с голоду. Ребята (через ять) малые до-
мнут. Чума то же самое. Чай, ведь мы люди? Хлебца
пришлите. Любящие эфиопы».
Рики-Тики посинел и заявил:
— Ваше сиясь!.. Да ни за что! Да пущай поумирают!
Да ежели после всего их бунта да еще и кормить...
— Я и не собираюсь,— холодно ответил лорд и съез-
дил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами.
— В сущности, это свинство... — пробормотал сквозь
1убы Мишель Ардан,— можно было бы послать немного
маису.
— Благодарю вас за совет, месье,— сухо ответил
Гленарван,— интересно знать, кто будет платить за маис?
И так эта арапская орава налопала на черт знает сколь-
ко. В глупых советах я не нуждаюсь.
— Вот как? — прищурившись, спросил Ардан,—
позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся. И клянусь,
дорогой сэр, я попаду в 20 шагах в вас так же легко,
кмк в собор Парижской богоматери.
— Я не поздравляю вас, месье, если вы окажетесь в
20 шагах от меня,— ответил лорд,— вес вашего тела
226
Михаил Булгаков
увеличится на вес пули, которую я всажу вам в один из
ваших глаз по вашему выбору.
Филеас Фогг был секундантом лорда, Паганель —
Ардана. Вес Ардана остался прежним, и Ардан в лорда
не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из
любопытства за кустом. Пуля пошла арапу в переноси-
цу и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда
она была на полпути — посредине мозга.
Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разо-
шлись.
Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью
50 арапов сбежали на пирогах с европейского берега,
оставив лорду нахальную записку:
«Спасибо за карболку и воловьи жилы надсмотрщи-
ков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем ноги.
Едем обратно на остров. С эфиопами замиряемся. Луч-
ше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой соло-
нины. С почтением, арапы».
Уехавшие уперли с собой подзорную трубу, испор-
ченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, шесть
дверных блестящих ручек, 10 револьверов и двух евро-
пейских женщин.
Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книж-
ку стоимость похищенного.
Часть 111
БАГРОВЫЙ ОСТРОВ
Глава X
ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ДЕПЕША
Прошло 6 лет. Изолированный мертвый остров был
забыт. С кораблей изредка издали видели моряки в
бинокли пышную зелень его берегов, скалы и пенный
прибой. Больше ничего.
Семь лет было назначено^ чтобы выветрилась чума и
остров стал безопасным. В конце седьмого предполага-
лась экспедиция на. остров с целью вселения арапов
обратно. Арапы, худые как скелеты, томились в камено-
ломнях.
8-2
И вот в начале седьмого года цивилизованный мир
был потрясен изумительным известием. Радиостанции
Америки, Англии, Франции приняли радиотелеграмму:
«Чума кончилась. Слава богу, живы, здоровы, чего и
вам желаем. Ваши уважаемые эфиопы».
Наутро во всем мире газеты вышли с аршинными
заголовками:
Остров говорит! Г
Загадочное радио!!! Эфиопы живы?!
— Клянусь фланелевыми панталонами моей бабуш-
ки! — взревел М. Ардан,— это сверхъестественно. Не то
удивительно, что они выжили, а то, что они дают теле-
граммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию?!
Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы
же были совершенно разбиты. Рики-Тики-Тави хныкал и
просил лорда:
— Теперича, ваше преосвященство, единственно: пе-
ребить их — экспедицию послать. Ведь это что ж такое
делается?! Остров наш наследственный. До каких же
пор мы тут томиться будем?
— Мой будет посмотреть,— ответил лорд.
Глава XI
КАПИТАН ГАТТЕРАС И ЗАГАДОЧНЫЙ
БАРКАС
В чудесный майский день у острова на море показал-
ся дым винтом, и вскоре корабль, под командой капи-
тана Гаттераса, командированный лордом Гленарваном,
пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты и с
любопытством глядели на остров. Глазам их представи-
лась следующая картина: в бухте мирно дремала вода
и неизвестный баркас торчал у самого берега среди
целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных
пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же:
вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль
чрезвычайно уродливо сооруженной радиостанции.
— Сто дьяволов! — вскричал капитан,*— это остоло-
пы сами построили эту кривую дылду!
Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод
эфиопова творчества.
н*
Лодка с корабля подошла к берегу и высадила ка-
питана с несколькими матросами.
Первое, что поразило отважных мореплавателей,—
это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гаттераса обступи-
ли не только взрослые, но и целая куча молодых. На
самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие
эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду.
— Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на
пользу! — удивился Гаттерас,— у них такие морды, как
будто их кормили кашей «Геркулес»! Ну-с, будем по-
смотреть дальше...
Дальше его поразил именно старенький баркас, при-
ютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было до-
статочно, чтобы убедиться: баркас с европейской верфи.
— Это мне не нравится,— процедил сквозь зубы
Гаттерас,— если только они не украли эту дырявую
калошу, то спрашивается, какая каналья шлялась на
остров во время карантина? Мне сильно сдается, что
баркас немецкий! — И, обратившись к эфиопам, он
спросил:
— Эй вы! Краснорожие черти! Где вы свистнули
лодку?
Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные
зубы, и ничего не ответили.
— Не желаете отвечать? Ладно,— капитан нахму-
рился,— я вас сделаю разговорчивее.
С этими словами он направился к баркасу. Но эфи-
опы преградили ему и матросам путь.
— Прочь! — рявкнул капитан и привычным жестом
взялся за задний карман.
Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гатте-
рас и матросы оказались в тесном и плотном кольце.
Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел
одного из белых арапов, бежавших из каменоломни.
— Ба-а! Старый знакомый!! — воскликнул Гатте-
рас,— теперь я понимаю, откуда смуты! Подойди сюда,
негодяй!
Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил:
— Не пойду!
Капитан Гаттерас в бешенстве оглянулся, и шея его
стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с бе-
лым полем его шлема. Дело в том, что в руках у многих
эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на
немецкие винтовки, а в руках у арапа — свистнутый у
Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бойкие,
8-4
Рассказы
229
стали серьезно-серенькими. Капитан глянул на жгучее
синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль.
Оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пят-
нышками на реях и мирно наблюдали берег.
Капитан Гаттерас умел владеть собой. Шея его по-
степенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том,
что паралич на сей раз отсрочен.
— Пропустите-ка меня обратно на корабль,— вежли-
во-хриплым голосом сказал он.
Эфиопы расступились, и Гаттерас, эскортируемый
моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загре-
мели якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь
маленьким дымком на горизонте солнечного моря.
Глава XII
НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА
В бараках, занятых арапами, творилось что-то неопи-
суемое. Арапы испускали победные клики и ходили на
головах. В этот день им ведрами подали золотистый
жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше не было.
Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько
угодно краскц для боевой татуировки. У бараков стояли
в козлах новехонькие скорострельные винтовки и пуле-
меты.
Рики-Тики-Тави был интереснее всего. Он сверкал
кольцами в носу, пестрел развевающимися перьями. Лицо
у него сияло, как у живоцерковного попа на Пасху. Он
ходил как помешанный и говорил только одно:
— Ладно, ладно, ладно. Ужо, таперя, голубчики, вы
у меня попрыгаете. Дай срок, доплывем. Вот только
доплывем.
И при этом пальцами он делал такие жесты, как
будто кому-то невидимому выдирал глаза.
— Стройся! Смирно! Ура! — кричал он и летал
перед фронтом отяжелевших от бульона арапов.
Три бронированных громады в порту стали прини-
мать араповы батальоны. И тут произошло событие. На
середину перед фронтом вылезла оборванная и истас-
канная фигурка с головой, стриженной ежиком. Оше-
ломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке не
кого иного, как самого Кири-Куки, скитавшегося все это
время неизвестно где.
230
Михаил Булгаков
Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с
заискивающей улыбочкой обратиться к Рики-Тики:
— А меня-то что ж, братцы, забыли? Чай, я ваш.
Тоже арап. И меня на остров возьмите. Я пригожусь...
Он не успел окончить речь. Рики позеленел и выта-
щил из-за пояса широкий острый ножик.
— Ваше здоровье,— трясущимися губами обратился
он к лорду Гленарвану,— этот самый... вот этот вот, и
есть Кири-Куки, из-за которого сыр-бор загорелся. До-
звольте мне, ваша светлость, своими ручками ему гло-
точку перерезать?
— Отчего же. С удовольствием,— ответил лорд бла-
годушно,— только скорей, не задерживай посадку.
Кири-Куки успел только раз пискнуть, пока Рики
мастерским ударом перекатил ему глотку от уха до уха.
Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили
перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь:
— Езжайт, эфиопов покоряйт. Мой будет помогайт,
с корабля стреляйт. Ваш потом будет платийт за этот.
И батальоны арапов под музыку сели на суда.
Глава XIII
НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ
Как жемчужина сияющий предстал в ослепительный
день остров. Суда подошли к берегу и начали высажи-
вать вооруженный арапов строй. Рики — полный боево-
го' пламени — соскочил первый и, потрясая саблей,
скомандовал:
— Храбрые арапы, за мной!
И арапы устремились за ним.
Затем произошло следующее: из плодоносной земли
острова навстречу незваным гостям встала неописуемая
эфиопова сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами.
Их было так много, что зеленый остров во мгновение
ока стал красным. Они перли тучами со всех сторон, и
над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла
щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные, неслись
в качестве отделенных командиров те самые арапы, что
дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были
вдребезги расписаны эфиоповыми знаками, потрясали
револьверами. На их лицах ясно было написано, что им
нечего терять. Из глоток у них неслось только одно —
боевой командный вопль:
— В штыки!!
На что эфиопы отвечали таким воем, от которого
стыла в жилах кровь:
— Бей их, сукиных сынов!!!
Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики
не что иное, как белый остров в бушующем багровом
океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов.
— Клянусь рогами дьявола! — ахнул на борту флаг-
манского корабля М. Ардан,— я не видал ничего подоб-
ного!
— Подкрепите их огнем! — приказал лорд Пленар-
ная, отрываясь от подзорной трубы.
Капитан Гаттерас подкрепил. Бухнула четырнадца-
тидюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как
раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья
разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел
еще больший успех: 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего
снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблю-
давший за результатами стрельбы в подзорную трубу,
ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от
пушки с воплем:
— Прекратите это, черт бы вас взял! Ведь вы лупите
по арапам!!
В шеренгах арапов после первых двух подарков
Гаттераса поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды
их дрогнули.
Взвыл даже Рики-Тики, вокруг которого закрутился
бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезапно
искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подско-
чил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена
вылезла у него вместе со словами:
— Как?! Мало того, что ты нас затянул в каменолом-
ни и мариновал семь лет!! А теперь еще!! Загнал под
чемоданы?! Спереди эфиопы, а сзади по башке снаря-
дом?!! А-а-а-а-а!!!
Арап во мгновение выхватил ножик и вдохновенно
всадил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав между
5 и 6-м ребром с левой стороны.
— Помо... — ахнул вождь,— гите,— закончил уже на
том свете перед престолом всевышнего.
— Ур-ра!!! — грянули эфиопы.
— Сдаемся!! Ура! Замиряйся, братцы!! — завыли
смятенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой
необозримой рати.
— Ур-ра!! — ответили эфиопы.
И все смешалось на острове в невообразимой каше.
232
Михаил Булгаков
— Семьсот лихорадок и сибирская язва!! — вскри-
чал М. Ардан, впиваясь глазами в стекла Цейсса,—
пусть меня повесят, если эти остолопы не помирились!!
Гляньте, сэр! Они братаются!!
— Я вижу,— гробовым голосом ответил лорд,— мне
очень интересно было бы знать, каким образом мы
получим теперь вознаграждение за все убытки, связан-
ные с кормлением этой оравы в каменоломнях?
— Бросьте, дорогой сэр,— вдруг задушевно сказал
М. Ардан,— ничего вы не получите здесь, кроме тропи-
ческой малярии. И вообще, я советую вам немедленно
поднимать якоря. Берегись!!! — вдруг крикнул он и
присел. И лорд присел машинально рядом с ним. И во-
время. Как дуновение ветра, над их головами прошла
сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов.
— Дайте им!! — взревел лорд Гаттерасу.
Гаттерас дал — и неудачно. Лопнуло высоко в воз-
духе. Соединенная арапо-эфиопская рота ответила по-
вторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд соб-
ственноглазно видел, как в корчах, сразу побагровев,
упали семь матросов.
— К чертям эту экспедицию!! — прогремел дально-
видный Ардан,— ходу, сэр!! У них отравленные стрелы!
Ходу, если вы не хотите привезти чуму в Европу!!
— Дай на прощание!! — просипел лорд.
Известный сапожник-артиллерист Гаттерас дал на
прощание куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря.
Третья туча стрел безвредно села в воду.
Через полчаса громады, одевая дымом горизонт,
уходили, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой
струе болтались семь трупов отравленных и выброшен-
ных матросов.
Остров затягивало дымкой, и исчезла в ней изумруд-
ная, напоенная солнцем береговая полоса.
Глава XIV
ФИНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ
В ночь одело огненным заревом тропическое небо над
Багровым островом, и суда хлестнули во все радиостан-
ции словами:
«Острове байрам чрезвычайных размеров точка чер-
ти пьют кокосовую водку!!»
Рассказы
233
А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии,
сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую теле-
грамму:
«Гленарвану и Ардану!
На соединенном празднике посылаем вас к (нераз-
борчиво) мат. (неразборчиво).
С почтением, эфиопы и арапы».
— Закрыть приемники,— грянул Ардан.
Башня мгновенно потухла. Молнии угасли, и что
происходило в дальнейшем, никому не известно.
ПЛОЩАДЬ НА КОЛЕСАХ
Дневник гениального гражданина Полосухина
21 ноября.
Ну и город Москва, я вам доложу. Квартир нету.
Нету, горе мое! Жене дал телеграмму — пущай пока
повременит, не выезжает. У Карабуева три ночи ноче-
вал в ванне. Удобно, только капает. И две ночи у
Щуевского на газовой плите. Говорили в Елабуге у нас —
удобная штука, .какой черт! — винтики какие-то впива-
ются, и кухарка недовольна.
23 ноября.
Сил никаких моих нету. Наменял на штрафы мелочи
и поехал на «А», шесть кругов проездил — кондукторша
пристала: «Куда вы, гражданин, едете?» — «К чертовой
матери,— говорю,— еду». В сам деле, куды еду? Нику-
ды. В половину первого в парк поехали. В парке и
ночевал. Холодина.
24 ноября.
Бутерброды с собой взял, поехал. В трамвае тепло —
надышали. Закусывал с кондуктором на Арбате. Сочув-
ствовали.
27 ноября.
Пристал как банный лист — почему с примусом в
трамвае? Параграфа, говорю, такого нету. Чтобы не
петь, есть параграф, я и не пою. Напоил его чаем —
отцепился.
2 декабря.
Пятеро нас ночует. Симпатичные. Одеяла расстели-
ли — как в первом классе.
7 декабря.
Пурцман с семейством устроился. Завесили одну
половину — дамское — некурящее. Рамы все замазали.
234
Михаил Булгаков
Электричество — не платить. Утром так и сделали: как
кондукторша пришла — купили у нее всю книжку.
Сперва ошалела от ужаса, потом ничего. И ездим. Кон-
дукторша на остановках кричит: «Местов нету!» Контро-
лер влез — ужаснулся. Говорю, извините, никакого
правонарушения нету. Заплочено, и ездим. Завтракал с
нами у храма Спасителя, кофе пили на Арбате, а потом
поехали к Страстному монастырю.
8 декабря.
Жена приехала с детишками. Пурцман отделился в
27 номер. Мне, говорит, это направление больше нравит-
ся. Он на широкую ногу устроился. Ковры постелил,
картины известных художников. Мы попроще. Одну печку
поставил вагоновожатому — симпатичный парнишка
попался, как родной в семье. Петю учит править. Дру-
гую в вагоне, третью кондукторше — симпатичная —
свой человек — на задней площадке. Плиту поставил.
Ездим, дай бог каждому такую квартиру!
// декабря.
Батюшки! Пример-то что значит. Приезжаем сегодня
к Пушкину, выглянул я на площадку — умываться,
смотрю — в 6 номере с Тверской поворачивает Щуев-
ский!.. Его, оказывается, уплотнили с квартирой, то он
и кричит — наплевать. И переехал. Ему в 6-м номере
удобно. Служба на Мясницкой.
12 декабря.
Что в Москве делается, уму непостижимо. На трам-
вайных остановках — вой стоит. Сегодня, как ехали к
Чистым прудам, читал в газете про себя, называют —
гениальный человек. Уборную устроили. Просто, а хоро-
шо, в полу дыру провертели. Да и без уборной велико-
лепно. Хочешь — на Арбате, хочешь — у Страстного.
20 декабря.
Елку будем устраивать. Тесновато нам стало. Це-
люсь переехать в 4 номер двойной. Да, нету квартир.
В американских газетах мой портрет помещен.
21 декабря.
Все к черту! Вот тебе и елка! Центральная жилищ-
ная комиссия явилась. Ахнули. А мы-то, говорит, всю
Москву изрыли, искали жилищную площадь. А она тут...
Всех выпирают. Учреждения всаживают. Дали 3-днев-
ный срок. В моем вагоне участок милиции поместится.
К Пурцману школа I ступени имени Луначарского.
23 декабря.
Уезжаю обратно в Елабугу...
ДЬЯВОЛИАДА
Повесть о том, как близнецы
погубили дело производителя
I
ПРОИСШЕСТВИЕ 20-ГО ЧИСЛА
В то время, как все люди скакали с одной службы
на другую, товарищ Коротков прочно служил в Глав-
центрбазспимате (Главная Центральная База Спичеч-
ных Материалов) на штатной должности делопроизводи-
теля и прослужил в ней целых 11 месяцев.
Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин
Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль,
что существуют на свете так называемые превратности
судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он —
Коротков — будет служить в базе до окончания жизни
на земном шаре. Но увы, вышло совсем не так...
20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей
противной ушастой шапкой, уложил в портфель поло-
сатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополу-
ночи.
Вернулся же кассир в 4 */2 часа пополудни, совер-
шенно мокрый. Приехав^ он стряхнул с шапки воду,
положил шапку на стол, а на шапку — портфель и
сказал:
— Не напирайте, господа.
Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты
и вернулся через четверть часа с большой мертвой
курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на
портфель, на курицу — свою правую руку и молвил:
— Денег не будет.
— Завтра? — хором закричали женщины.
238
Михаил Булгаков
— Нет,— кассир замотал головой,— и завтра М
будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы
мне, товарищи, стол опрокинете. /й
— Как? — вскричали все, и в том числе наивны*
Коротков.
— Граждане! — плачущим голосом запел кассир и
локтем отмахнулся от Короткова,— я же прошу!
— Да как же? — кричали все, и громче всех этот
комик Коротков.
— Ну, пожалуйста,— сипло пробормотал кассир и,
вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.
Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира,
наискось было написано красными чернилами:
«Выдать. За т. Субботникова — Сенат».
Ниже фиолетовыми чернилами было написано:
«Денег нет. За т. Иванова — Смирнов».
— Как? — крикнул один Коротков, а остальные,
пыхтя, навалились на кассира.
— Ах ты, господи! — растерянно заныл тот.— При
чем я тут? боже ты мой!
Торопливо засунув ассигновку в портфель, он на-
крылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул
курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» — и,
проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.
За ним с писком побежала бледная регистраторша
на высоких заостренных каблуках, левый каблук у са-
мых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качну-
лась, подняла ногу и сняла туфлю.
И в комнате осталась она,— босая на одну ногу, и
все остальные, в том числе и Коротков.
II
ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА
Через три дня после описанного события дверь от-
дельной комнаты, где занимался товарищ Коротков,
приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно
сказала:
— Товарищ Коротков, идите жалованье получать.
Дьяволиада
239
— Как? — радостно воскликнул Коротков и, насвис-
тывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с
надписью: «Касса». У кассирского стола оя остановился
и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие
из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Что-
бы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволно-
ванный кассир кнопкой пришпилил к стене ассигновку,
на которой теперь имелась третья надпись зелеными
чернилами:
«Выдать продуктами производства.
За т. Богоявленского — Преображенский.
И я полагаю.— Кшесинский».
Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыба-
ясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 ма-
леньких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек.
У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных
голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огром-
ных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому,
отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не
попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но
кто именно, Коротков не разглядел.
Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя,
полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его
лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и
сказал самому себе:
— Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их
продать.
Он постучался к соседке своей, Александре Федоров-
не, служащей в Губвинскладе.
— Войдите,— глухо отозвалось в комнате.
Коротков вошел и изумился. Преждевременно вер-
нувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и
шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял
строй бутылок с пробками из газетной бумаги, напол-
ненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Алек-
сандры Федоровны было заплакано.
— 46,— сказала она и повернулась к Короткову.
— Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федо-
ровна,— вымолвил пораженный Коротков.
— Церковное вино,— всхлипнув, ответила соседка.
— Как, и вам? — ахнул Коротков.
— И вам церковное? — изумилась Александра Фе-
доровна.
— Нам — спички,— угасшим голосом ответил Корот-
ков и закрутил пуговицу на пиджаке.
240
Михаил Булгаков
— Да ведь они же не горят! — вскричала Алексан-
дра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.
— Как это так не горят? — испугался Коротков и
бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он
схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул
спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем,
переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от
едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег
вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее.
Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый
глаз товарища Короткова.
— А-ах! — крикнул Коротков и выронил коробку.
Несколько мгновений он перебирал ногами, как горя-
чая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом
заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что ли-
шился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он
был красен и источал слезы.
— Ах, боже мой! — расстроился Коротков, немедлен-
но достал из комода американский индивидуальный
пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и
стал похож на раненного в бою.
Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая
спичками. Вычиркал он таким образом три коробки,
причем ему удалось зажечь 63 спички.
— Врет, дура,— ворчал Коротков,— прекрасные
спички.
Под утро комната наполнилась удушливым серным
запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурац-
кий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился
перед ним огромный, живой биллиардный шар на нож-
ках. Это было так скверно, что Коротков закричал и
проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещи-
лось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет
серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Корот-
ков заснул и уже не просыпался.
III
лысый появился
На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убе-
дился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее
повязку излишне осторожный Коротков решил пока не
снимать.
Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый
Дьяволиада
241
Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низ-
ших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на
столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом
укомплектования запрашивал заведующего базой,— будет
ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав
бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился
по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.
И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнул-
ся с неизвестным, поразившим его своим видом.
Этот неизвестный был настолько маленького роста,
что достигал высокому Короткову только до талии.
Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч
неизвестного. Квадратное туловище сидело на искрив-
ленных ногах, причем левая была хромая. Но примеча-
тельнее всего была голова. Она представляла собою
точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею
горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была
тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у
неизвестного, не угасая, горели электрические лампоч-
ки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до сине-
вы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза
сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было
облечено в расстегнутый сшитый из серого одеяла френч,
из-под которого выглядывала малороссийская вышитая
рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низень-
ких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.
«Т-типик»,— подумал Коротков и устремился к две-
ри Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совер-
шенно неожиданно загородил Короткову дорогу.
— Что вам надо? — спросил лысый Короткова таким
голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот
голос был совершенно похож на голос медного таза и
отличался таким тембром, что у каждого, кто его слы-
шал, при каждом слове происходило вдоль позвоночни-
ка ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Корот-
кову показалось, что слова неизвестного пахнут спичка-
ми. Несмотря на все это, недальновидный Коротков
сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало,—
обиделся.
— Гм... довольно странно. Я иду с бумагой... А поз-
вольте узнать, кто вы так...
— А вы видите, что на двери написано?
Коротков посмотрел на дверь и увидал давно знако-
мую надпись: «Без доклада не входить».
— Я и иду с докладом,— сглупил Коротков, указы-
вая на свою бумагу.
242
Михаил Булгаков
Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки
его вспыхнули желтоватыми искорками.
— Вы, товарищ,— сказал он, оглушая Короткова
кастрюльными звуками,— настолько неразвиты, что не
понимаете значения самых простых служебных надпи-
сей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих
пор. Вообще тут у вас много интересного, например, эти
подбитые глаза на каждом шагу. Ну ничего, это мы все
приведем в порядок. («А-аЬ> — ахнул про себя Корот-
ков.) Дайте сюда!
И с последними словами -неизвестный вырвал из рук
Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кар-
мана штанов обгрызанный химический карандаш, прило-
жил бумагу к стене и косо написал несколько слов.
— Ступайте! — рявкнул он и ткнул бумагу Корот-
кову так, что чуть не выколол ему и последний глаз.
Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а
Коротков остался в оцепенении,— в кабинете Чекушина
не было.
Пришел в себя сконфуженный Коротков через пол-
минуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни,
личную секретаршу т. Чекушина.
— А-ах! — ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был
закутан точно таким же индивидуальным материалом с
той разницей, что концы бинта были завязаны кокетли-
вым бантом.
— Что это у вас?
— Спички! — раздраженно ответила Лидочка,—
проклятые.
— Кто там такой? — шепотом спросил убитый Ко-
ротков.
— Разве вы не знаете? — зашептала Лидочка,—
новый.
— Как? — пискнул Коротков,— а Чекушин?
— Выгнали вчера,— злобно сказала Лидочка и при-
бавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: —
Ну и гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в
жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники
лысые! — добавила она неожиданно, так что Коротков
выпучил на нее глаз.
— Как фа...
Коротков не успел спросить. За дверью кабинета
грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель
и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны.
Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и про-
изнес сам себе такую речь:
— Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно
Дьяволиада
243
но дельце исправлять... «Неразвиты»... Хм... Нахал...
Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.
И одним глазом делопроизводитель прочел писание
лысого. На бумаге стояли кривые слова: «Всем маши-
нисткам и женщинам вообще своевременно будут выда-
ны солдатские кальсоны».
— Вот это здорово! — восхищенно воскликнул Ко-
ротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку
в солдатских кальсонах. Он немедля вытащил чистый,
лист бумаги и в три минуты сочинил:
«Телефонограмма
Заведующему подотделом укомплектования точка В
ответ на отношение ваше за № 0,15015(6) от 19-го числа
запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинис-
ткам и вообще женщинам своевременно будут выданы
солдатские кальсоны точка Заведывающий тире подпись
Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».
Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону
сказал:
— Заведующему на подпись.
Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.
Четыре часа после этого Коротков прислушивался,
не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый
шведывающий, если вздумает обходить помещение, не-
пременно застал его погруженным в работу. Но никаких
шуков из страшного кабинета не доносилось. Раз толь-
ко долетел смутный чугунный голос, как будто угрожа-
ющий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не
расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине.
В 3*/2 часа пополудни за стеной канцелярии раздался
голос Пантелеймона:
— Уехали на машине.
Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже
исех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.
IV
ПАРАГРАФ ПЕРВЫЙ - КОРОТКОВ ВЫЛЕТЕЛ
На следующее утро Коротков с радостью убедился,
что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой,
поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похоро-
шел и изменился. Напившись чаю на скорую руку,
244
Михаил Булгаков
Коротков потушил примус и побежал на службу, стара-
ясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что
трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным
путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с ма-
ленькими домиками и там сломался. Коротков пешком
одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцеля-
рию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы»
пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало
зрелище совершенно необычайное для одиннадцати ча-
сов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна
Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Ги-
тис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кас-
сир — словом, вся канцелярия не сидела на своих местах
за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской
розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на
которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При
входе Короткова наступило внезапное молчание и все
потупились.
— Здравствуйте, господа, что это такое? — спросил
удивленный Коротков.
Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к
четвертушке.
Первые строчки глянули на него уверенно и ясно,
последние сквозь слезливый ошеломляющий туман.
«ПРИКАЗ № 1
§1. За недопустимо халатное отношение к своим обя-
занностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных
служебных бумагах, а равно и за появление на службе
в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке
лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с
выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно».
Параграф первый был в то же время и последним, а
под параграфом красовалась крупными буквами подпись:
«Заведующий Кальсонер».
Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Аль-
пийской розы» царило идеальное молчание. При этом
лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый
Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.
— Как? Как? — прозвенел два раза Коротков совер-
шенно как разбитый о каблук альпийский бокал,— его
фамилия Кальсо-нер?
При страшном слове канцелярские брызнули в раз-
Дьяволиада
245
ные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на
телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гни-
лую зеленую плесень на пятнистый пурпур.
— Ай, яй, яй,— загудел в отдалении, выглядывая из
гроссбуха, Скворец,— как же вы это так, батюшка,
промахнулись? А?
— Я ду-думал, думал,— прохрустел осколками голо-
са Коротков,— прочитал вместо «Кальсонер» «Кальсо-
ны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!
— Подштанники я не одену, пусть он успокоится! —
хрустально звякнула Лидочка.
— Тсс! — змеей зашипел Скворец,— что вы? — Он
нырнул, спрятался в гроссбухе и прикрылся страницей.
— А насчет лица он не имеет права! — негромко
выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым,
как горностай,— я нашими же сволочными спичками
выжег глаз, как и товарищ де Руни!
— Тише! — пискнул побледневший Гитис,— что вы?
Он вчера испытывал их и нашел превосходными.
Д-р-р-р-р-р-ррр,— неожиданно зазвенел электриче-
ский звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пан-
телеймона упало с табурета и покатилось по коридору.
— Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! — высоко и
тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся
вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно
отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в
коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей
над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он
стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях
Пантелеймона.
— Товарищ Пантелеймон,— заговорил беспокойно
Коротков.— Ты меня, пожалуйста, пусти. Мне нужно к
заведующему сию минутку...
— Нельзя, нельзя, никого не велено пущать,— захри-
пел Пантелеймон и страшным запахом луку затушил
решимость Короткова,— нельзя. Идите, идите, господин
Коротков, а то мне через вас беда будет...
— Пантелеймон, мне же нужно,— угасая, попросил
Коротков,— тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, слу-
чился приказ... Пусти меня, милый Пантелеймон.
— Ах ты ж, господи... — в ужасе обернувшись на
дверь, забормотал Пантелеймон,— говорю вам, нельзя.
Нельзя, товарищ!
В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и
ухнул в медь тяжкий голос:
— Еду! Сейчас!
246
Михаил Булгаков
Пантелеймон и Коротков расступились; дверь рас-
пахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке
и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску
побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколе-
бавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Ко-
ротков, бледный и взволнованный, проскочил под рука-
ми Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед
ним задом.
— Товарищ Кальсонер,— забормотал он прерываю-
щимся голосом,— позвольте одну минуточку сказать...
Тут я по поводу приказа...
— Товарищ! — звякнул бешено стремящийся и оза-
боченный Кальсонер, сметая Короткова в беге,— вы же
видите, я занят? Еду! Еду!..
— Так я насчет прика...
— Неужели вы не видите, что я занят? Товарищ!
Обратитесь к делопроизводителю.
Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на
площадке огромный брошенный орган «Альпийской
розы».
— Я ж делопроизводитель! — в ужасе облившись
потом, визгнул Коротков,— выслушайте меня, товарищ
Кальсонер!
— Товарищ! — заревел, как сирена, ничего не слу-
шая, Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону,
крикнул: — примите меры, чтоб меня не задерживали!
— Товарищ! — испугавшись, захрипел Пантелеймон,—
что ж вы задерживаете?
И, не зная, какую меру нужно принять, принял та-
кую — ухватил Короткова поперек туловища и легонько
прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась
действительной,— Кальсонер ускользнул, словно на
роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную
дверь.
— Пит! Питт! — закричала за стеклами мотоциклет-
ка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла.
Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот
с лица и проревел:
— Бе-да!
— Пантелеймон... — трясущимся голосом спросил
Коротков,— куда он поехал? Скорей скажи, он другого,
понимаешь ли...
— Кажись, в Центроснаб.
Коротков вихрем сбежал с лестницы, сорвался в ши-
нельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.
Дьяволиада
247
V
дьявольский ФОКУС
Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту порав-
нялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Коротков
понесся вперед, стукаясь то о тормозное колесо, то о
мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мото-
циклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела
впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь
обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут
пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец
у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квад-
ратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков
на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал,
ушиб колено, поднял кепку и, под носом автомобиля,
поспешил в вестибюль.
Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей
шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная
спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыха-
ясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со
странной, неестественной скоростью, и у Короткова
сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так
и случилось. На 5-й площадке, когда делопроизводитель
совершенно обессилел, спина растворилась в гуще фи-
зиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков
взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью,
на которой было две надписи. Одна золотая по зеленому
с твердым знаком «Дортуаръ пепиньерокъ», другая чер-
ным по белому без твердого «Начканцуправделснаб».
Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидал
стеклянные огромные клетки и много белокурых жен-
щин, бегавших между ними. Коротков открыл первую
стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то че-
ловека в синем костюме. Он лежал на столе и весело
смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было
полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а воз-
ле собрания неизвестная пожилая женщина в платке
взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу.
В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоноч-
ки — там за шестью машинами писали и смеялись
шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней пере-
городкой открывалось большое пространство с пухлыми
колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе,
и виднелась масса голов,— женских и мужских, но
Кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и за-
вертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся
женщину, пробегавшую с зеркальцем в руках.
— Не видели ли вы Кальсонера?
Сердце в Короткове упало от радости, когда женщи-
на ответила, сделав огромные глаза:
— Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.
Коротков побежал через колонный зал туда, куда
ему указывала маленькая белая рука с блестящими
красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на уз-
кой и темноватой площадке и увидал открытую пасть
освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову,—
догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину
и черный блестящий портфель.
— Товарищ Кальсонер,— прокричал Коротков и
окоченел. Зеленые круги в большом количестве запры-
гали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь,
лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, пре-
вратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Корот-
ков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки
глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ас-
сирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь.
В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Боро-
да выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимал-
ся по лестнице,— что же это такое?» И затем вторая:
«Борода фальшивая — это что же такое?»
А Кальсонер тем временем начал погружаться в
сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот,
борода, последними глазки и рот, выкрикнувший неж-
ные теноровые слова:
— Поздно, товарищ, в пятницу.
«Голос тоже привязной»,— стукнуло в коротковском
черепе. Секунды три мучительно горела голова, но по-
том, вспомнив, что никакое колдовство не должно оста-
навливать его, что остановка — гибель, Коротков дви-
нулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на
канате кровля. Томная красавица с блестящими камня-
ми в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись
руки Короткова, спросила его:
— У вас, товарищ, порок сердца?
— Нет, ох нет, товарищ,— выговорил ошеломленный
Коротков и шагнул к сетке,— не задерживайте меня.
— Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу,—
сказала печально красавица, преграждая Короткову
дорогу к лифту.
— Я не хочу! — плаксиво вскричал Коротков,—
товарищ! Я спешу. Что вы?
Но женщина осталась непреклонной и печальной.
— Ничего не могу сделать, вы сами знаете,— сказа-
ла она и придержала за руку Короткова. Лифт остано-
вился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сет-
кой и опять ушел вниз.
— Пустите меня! — взвизгнул Коротков и, вырвав
руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев
шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую пе-
рекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу
возле огромной новой стеклянной стены, под надписью
вверху серебром по синему «Дежурные классные дамы»
в внизу пером по бумаге «Справочное». Темный ужас
охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер.
Кальсонер иссиня бритый, прежний и страшный. Он
прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него
лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не
думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и
потряс ее, но она не подалась.
Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь
в тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись:
• Кругом, через 6-й подъезд».
Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за
стеклом.
— Где шестой? Где шестой? — слабо крикнул он
кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая
дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок
в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на
Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.
— Что? Все ходите? — зашамкал он,— ей-богу,
напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте.
Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.
— Откуда вычеркнули? — остолбенел Коротков.
— Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком —
чирк, и готово — хи-кхи,— старичок сладострастно за-
смеялся.
— Поз...вольте... Откуда же вы меня знаете?
— Хи. Шутник вы, Василий Павлович.
— Я — Варфоломей,— сказал Коротков и потрогал
рукой свой холодный и скользкий лоб,— Петрович.
Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка.
Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным
когтем провел по строчкам.
— Что ж вы путаете меня? Вот он — Колобков, В. П.
— Я — Коротков,— нетерпеливо крикнул Коротков.
250
Михаил Булгаков
— Я и говорю: Колобков, — обиделся старичок.—
А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место
Кальсонера — Чекушин.
— Что?.. — не помня себя от радости, крикнул
Коротков.— Кальсонера выкинули?
— Точно так-с. День всего успел поуправлять, и
вышибли.
— Боже! — ликуя, воскликнул Коротков,— я спасен!
Я спасен! — и, не помня себя, он сжал костлявую
когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг ра-
дость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее
мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна
показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но
тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство
и засуетился.
— Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?
— Обязательно,— подтвердил старичок,— тут и ска-
зано — в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я
пометочку в ней сделаю карандашиком.
Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в
другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам
брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по
лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми,
отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел
увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить, и
увидал, что красавица превратилась в уродливого, со-
пливого мальчишку:
— Голубчик,— бросился к нему Коротков,— бумаж-
ник мой, желтый...
— Неправда это,— злобно ответил мальчишка,— не
брал я, врут они.
— Да нет, милый, я не то... не ты... документы.
Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел
басом.
— Ах, боже мой! — в отчаянии вскричал Коротков
и понесся вниз к старичку.
Но, когда он прибежал, старичка уже не было. Он
исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул
ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-
чуть серой.
Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и
выпрыгнула одна новая: «Трамвай!» Он ясно вдруг вспом-
нил, как жали его на площадке двое молодых людей,
один из них худенький с черными, словно приклеенными,
усиками.
— Ах, беда-то, вот уж беда,— бормотал Коротков,—
это уж всем бедам беда.
* Дьяволиада с 251
Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свер-
нул в переулок и очутился у подъезда небольшого зда-
ния неприятной архитектуры. Серый человек, косой и
мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону,
«просил:
— Куда ты лезешь?
— Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только
что украли документы... Все до единого... Меня забрать
могут...
— И очень просто,—- подтвердил человек на крыльце.
— Так вот позвольте...
— Пущай Коротков самолично и придет.
— Так я же, товарищ, Коротков.
— Удостоверение дай.
— Украли у меня его только что,—- застонал Корот-
кой,— украли, товарищ, молодой человек с усиками.
— С усиками? Это, стало быть, Колобков. Беспре-
менно он. Он в нашем районе специяльно работает. Ты
его теперь по чайным ищи.
— Товарищ, я не могу,— заплакал Коротков,— мне
и Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.
— Удостоверение дай, что украли.
— От кого?
— От домового.
Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.
«В Спимат или к домовому? — подумал он,— у
домового прием с утра; в Спимат, стало быть».
В это мгновение часы далеко пробили четыре раза
пи рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали
люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мок-
рый снег пошел с неба.
«Поздно,— подумал Коротков,— домой».
VI
ПЕРВАЯ НОЧЬ
В ушке замка торчала белая записка. В сумерках
Коротков прочитал ее.
«Дорогой сосед!
Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в
подарок вино. Пейте на здоровье — его никто не хочет
покупать. Они в углу.
Ваша А. Пайкова».
252
Mriiffiui Булгаков
Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, и
двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки,
стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был, it
кепке и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный,
около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, раство-
ряющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно
впал в какой-то припадок буйного характера. Сорван
кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил нн
пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.
— Вот! Вот! Вот! — провыл Коротков и с хрустом
давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит
голову Кальсонера.
При воспоминании об яйцевидной голове появилась
вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков
остановился.
— Позвольте... как же это так?.. — прошептал он и
провел рукой по глазам,— это что же? Чего же это я
стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно.
Ведь не двойной же он, в самом деле?
Страх пополз через черные окна в комнату, и Корот-
ков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но
от этого не полегчало. Двойное лицо, то обрастая боро-
дой, то внезапно обриваясь, выплывало по временам из
углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец Корот-
ков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет трес-
нуть от напряжения, тихонечко заплакал.
Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчс
рашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к
проклятой загадке, немного поплакал.
— Позвольте... — вдруг пробормотал он,— чего же
это я плачу, когда у меня есть вино?
Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая
жидкость подействовала через пять минут,— мучитель-
но заболел левый висок и жгуче и тошно захотелось
пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в
виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал
с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, по-
валился на постель. «Пирамидону бы...» — шептал он
долго, пока мутный сон не сжалился над ним.
VII
ОРГАН И КОТ
В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро
вскипятил чай, отпил без аппетита четверть стакана и,
Дьяволиадя'
253
чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день,
покинул свою комнату и перебежал в тумане через
мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было
написано: «Домовой». Рука Короткова уже протянулась
к кнопке, как глаза его прочитали: «По случаю смерти
свидетельства не выдаются».
— Ах ты, господи,— досадливо воскликнул Корот-
ков,— что же это за неудачи на каждом шагу. —
И добавил: — Ну, тогда с документами потом, а сейчас
в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин
уже вернулся.
Пешком, так как деньги все были украдены, Корот-
ков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо
направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцеля-
рии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного
знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда,
ни Анны Евграфовны, словом — никого. За столами,
напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов
Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинако-
вых бритых блондина в светло-серых клетчатых костю-
мах и одна молодая женщина с мечтательными глазами
и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не
обратили на Короткова никакого внимания и продолжа-
ли скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Коротко-
ву глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыб-
нулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Стран-
но»,— подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел
из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался,
вздохнул, глядя на старую милую надпись: «Делопроиз-
водитель», открыл дверь и вошел. Свет немедленно
померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнул-
ся под ногами. За коротковским столом, растопырив
локти и бешено стуча пером, сидел своей собственной
персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы
шкрывали его грудь. Дыхание перехватило у Коротко-
ва, пока он глядел на лакированную лысину над зеле-
ным сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.
— Что вам угодно, товарищ? — вежливо проворко-
вал он фальцетом.
Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую
грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:
— Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель...
Го есть... Ну да, ежели помните приказ...
Изумление изменило резко верхнюю часть лица Каль-
сопера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратил-
ся в гармонику.
254
Михаил Булгаков
— Извиняюсь,— вежливо ответил он,— здешний
делопроизводитель — я.
Временная немота поразила Короткова. Когда же
она прошла, он сказал такие слова:
— А как же? Вчера, то есть. Ах, ну да. Извините,
пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.
Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал
себе хрипло:
— Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?
И сам же себе ответил:
— Вторник, т. е. пятница. Тысяча девятьсот.
Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на
человеческом шаре слоновой кости две коридорных лам-
почки и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.
— Хорошо! — грохнул таз, и судорога свела Корот-
кова,— я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.
С этими словами он пододвинулся к Короткову и так
пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист
на крыше.
— Штат я разверстал,— быстро, отрывисто и веско
заговорил Кальсонер.— Трое там,— он указал на дверь
в канцелярию,— и, конечно, Манечка. Вы — мой по-
мощник. Кальсонер — делопроизводитель. Прежних всех
в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть
сведения, что он был лакеем в «Альпийской розе».
Я сейчас сбегаю в отдел, а вы пока напишите с Каль-
сонером отношение насчет всех, и в особенности насчет
этого, как его... Короткова. Кстати, вы немного похожи
на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.
— Я. Нет,— сказал Коротков, качаясь и с отвисшей
челюстью,— я не мерзавец. У меня украли все докумен-
ты. До единого.
— Все? — выкрикнул Кальсонер,— вздор. Тем лучше.
Он впился в руку тяжело дышавшего Короткова и,
пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет
и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за
стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание
пола под ногами, съежился и, закрыв глаза, забормо-
тал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двад-
цать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходя-
щий номер 0,15, место для подписи тире Варфоломей
Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятни-
ца, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник
на пэ, и пятница на пэ, и воскресенье... вскрссс... на эс,
как и среда...»
*• Дьяволиада ,/Д
255
Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлоп-
нул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение ярост-
но зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и
заорал в нее:
— Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.
Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, при-
крыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными сло-
вами:
— Ждите меня у Кальсонера.
Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда
он прочел написанное на бумажке со штампом:
«Предъявитель сего суть действительно мой помощ-
ник т. Василий Павлович Колобков, что действительно
верно. Кальсонер».
— О-о! — простонал Коротков, роняя на пол бумагу
и фуражку,— что же это такое делается?
В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер
вернулся в своей бороде.
— Кальсонер уже удрал? — тоненько и ласково
спросил он у Короткова.
Свет кругом потух.
— А-а-а-а-а... — взвыл, не вытерпев пытки, Коротков
и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы.
Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно
сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с
грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержав-
шись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросил-
ся бежать с криком:
— Курьер! Курьер! На помощь!
— Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ... — опом-
нившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.
Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили,
как по команде. Мечтательные глаза женщины взметну-
лись у машины.
— Буду стрелять. Буду стрелять! — пронесся ее
истерический крик.
Кальсонер выскочил в вестибюль на площадку с
органом первым, секунду поколебался, куда бежать,
рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Корот-
ков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил
бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая
и черная ручка/торчащая из желтого бока. Она под-
хватила полу коротковского пальто, гнилой шевиот с
тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на хо-
256
Михаил Булгаков
лодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном
захлопнулась за Кальсонером.
— Боже... — начал Коротков и не кончил.
В грандиозном ящике с запыленными медными тру-
бами послышался странный звук, как будто лопнул
стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный
хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный
мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя, и весь
желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри
залежи застоявшегося звука:
Шумел, гремел пожар московский...
В черном квадрате двери внезапно появилось блед-
ное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла мета-
морфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он
вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто
перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и
боком, косо, как пристяжная, покатился по лестнице,
округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.
Ды-ым расстилался по реке-е.
— Что я наделал? — ужаснулся Коротков.
Машина, провернув первые застоявшиеся волны,
пошла ровно, тысячеголовым львиным ревом и звоном
наполняя пустынные залы Спимата.
А на стенах ворот кремлевских...
Сквозь вой и грохот и колокола прорвался сигнал
автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через глав-
ный вход,— Кальсонер бритый, мстительный и грозный.
В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подни-
маться по лестнице. Волосы зашевелились на Коротко-
ве, и, взвившись, он через боковые двери по кривой
лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор,
а затем на улицу. Как на угонке, полетел он по улице,
слушая, как вслед ему глухо рокотало здание «Альпий-
ской розы»:
Стоял он в сером сюртуке...
На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал
клячу с места.
— Господи! господи! — бурно зарыдал Коротков,—
опять он! Да что же это?
Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле про-
8*
Дьявол иада
257
летки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину,
приговаривая тоненьким голосом:
— Гони! Гони, негодяй!
Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под
жгучими ударами кнута понеслась, наполнив экипаж-
ным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков
видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а
из-под нее разлетелись в разные стороны вьющиеся
денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались
за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул
вожжи, но Кальсонер бешено начал тузить его в спину
с воплем:
— Езжай! Езжай! Я заплачу.
Извозчик, выкрикнув отчаянно:
— Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? — пустил
клячу карьером, и все исчезло за углом.
Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несу-
щееся над головой, пошатался и закричал болезненно:
— Довольно. Я так не оставлю! Я его разъясню.—
Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга поша-
тала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеле-
ного здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул
голову в четырехугольное отверстие в деревянной заго-
родке и спросил у громадного синего чайника:
— Где бюро претензий, товарищ?
— 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302, —
ответил чайник женским голосом.
— 8-й, 9-й, 41-я, триста... триста... сколько бишь...
302,— бормотал Коротков, взбегая по широкой лестни-
це.— 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет, 42... нет, 302,— мычал
он,— ах, боже, забыл... да 40-я, сороковая...
В 8-м этаже он миновал три двери, увидал на четвер-
той черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсвет-
ный зал с колоннами. В углах его лежали катушки
рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными
бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с
машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песен-
ку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно
оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колон-
нами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчи-
ны в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы видне-
лись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь не-
обыкновенно вежливой, безжизненной гипсовой улыбкой,
подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил,
щелкнув каблуками:
'» ISS7
258
Михаил Булгаков
— Ян Собесский.
— Не может быть... — ответил пораженный Коротков.
Мужчина приятно улыбнулся.
— Представьте, многие изумляются,— заговорил он
с неправильными ударениями,— но вы не подумайте,
товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом.
О нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал
заявление об утверждении моей новой фамилии — Соц
восский. Это гораздо красивее и не так опасно. Впро-
чем, если вам неприятно,— мужчина обидчиво скривил
рот,— я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас
ищут.
— Помилуйте, что вы,— болезненно выкрикнул Ко-
ротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное,
как и везде. Он оглянулся травленым взором, боясь, что
откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлу-
па, а потом добавил суконным языком: — Я очень рад,
да, очень...
Пестрый румянец чуть проступил на мраморном че-
ловеке; нежно поднимая руку Короткова, он повлек его
к столику, приговаривая:
— И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже
негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на
все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки
бумаги). Интриги... Но-о мы развернемся, не беспокой-
тесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? —
ласково спросил он у бледного Короткова.— Ах да,
виноват, виноват, тысячу раз, позвольте вас познако-
мить,— он изящно махнул белой рукой в сторону маши-
нистки,— Генриетта Потаповна Персимфанс.
Женщина тотчас пожала холодной рукой руку Ко-
роткова и посмотрела на него томно.
— Итак,— сладко продолжал хозяин,— чем же вы
нас порадуете? Фельетон? Очерки? — закатив белые
глаза, протянул он,— вы не можете себе представить,
до чего они нужны нам.
«Царица небесная... что это такое?» — туманно поду-
мал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:
— У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не пони-
маю. Вы не подумайте, ради бога, что это галлюцина-
ции... Кхм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно
засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверяю
вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту
без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет...
кроме того, у меня украли все документы до единого, а
домовой, как на грех, умер. Этот Кальсонер...
9-2
Дьявол и ада
259
— Так я и знал,— вскричал хозяин,— это они?
— Ах, боже мой, ну конечно,— отозвалась женщи-
на,— ах, эти ужасные Кальсонеры.
— Вы знаете,— перебил хозяин взволнованно,— я
из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйтесь. Ну что он
понимает в журналистике?.. — хозяин ухватил Коротко-
ва за пуговицу,— будьте добры, скажите, что он пони-
мает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня
замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору
Васильевичу, и тот наконец убрал его. Я поставил во-
прос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат
или черт его знает еще куда. Пусть воняет там этими
спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это
проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позволь-
те узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо
и не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин
обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи
Каторз этот прохвост безответственным приемом спих-
нул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно
закроют, к чертовой матери.
— Какое бюро? — глухо спросил Коротков.
— Ах, да эти претензии или как их там,— с досадой
сказал хозяин.
— Как? — крикнул Коротков,— как? Где оно?
— Там,— изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в
пол. Коротков в последний раз окинул безумными гла-
зами белый кунтуш и через минуту оказался в коридо-
ре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы
нниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изги-
бам коридора, и через пять минут оказался у того мес-
та, откуда выбежал. Дверь № 40.
— Ах, черт! — ахнул Коротков, потоптался и побе-
жал вправо и через 5 минут опять был там же. № 40.
Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что
тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белы-
ми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и
тут увидал хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без
улыбки, с обиженным лицом.
— Извините, что я не попрощался... — начал было
Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая
рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков
выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь
напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная
коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.
— Баба! Баба! — тревожно закричал Коротков,—
где бюро?
260
Михаил Булгаков
— Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец,— ответила
баба,— да ты не бегай, миленькйй, все одно не найдешь.
Разве мыслимо — десять этажов.
— У-у... д-дура,— стиснув зубы, рыкнул Коротков и
бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков
оказался в тупом полутемном пространстве без выхода.
Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шах*
те, он наконец навалился на белое пятно, и оно выпус-
тило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побе-
жал вниз. Шаги послышались ему навстречу снизу.
Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он
стал останавливаться. Еще миг — и показалась блестя-
щая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода.
Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одно-
временно скрестились взоры, и оба завыли тонкими голо-
сами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх,
Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса.
— Постойте,— прохрипел Коротков,— минутку... вы
только объясните...
— Спасите! — заревел Кальсонер, меняя тонкий голос
на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом
упал вниз затылком; удар не прошел ему даром. Обер-
нувшись в черного кота с фосфорными глазами, он
вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек пло-
щадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез
в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг
заволокла коротковский мозг, но тотчас свалилась, и
наступило необыкновенное прояснение.
— Теперь все понятно,— прошептал Коротков и
тихонько рассмеялся,— ага, понял. Вот оно что. Коты!
Все понятно. Коты.
Он начал смеяться все громче, громче, пока вся
лестница не наполнилась гулкими раскатами.
VIII
ВТОРАЯ НОЧЬ
В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой
кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и
успокоиться. Голова теперь у него болела вся: правый
и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть под-
нималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два
раза тов. Короткова рвало в таз.
9-4
Дьявол над a
261
— Я вот так сделаю,— слабо шептал Коротков, свесив
вниз голову,— завтра я постараюсь не встречаться с
ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду.
Пережду: в переулочке или в тупичке. Он себе мимо и
пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и
отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше
не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведую-
щим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не
хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуй-
ста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или
без бороды,— ты сам по себе, я сам по себе. Я себе
другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни
я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя
никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе
документы — и шабаш...
В отдалении глухо начали бить часы. Бам... бам...
«Это у Пеструхиных»,— подумал Коротков и стал счи-
тать. Десять... одиннадцать... полночь, 13, 14, 15... 40...
— Сорок раз пробили часики,— горько усмехнулся
Коротков, а потом опять заплакал. Потом его судорож-
но и тяжко стошнило церковным вином.
— Крепкое, ох крепкое вино,— выговорил Коротков
и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и
непотушенная лампа освещала бледное лицо на подуш-
ке и растрепанные волосы.
IX
МАШИННАЯ ЖУТЬ
Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато
и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался
на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрог-
нул. Нарисованная рука указывала ему на надпись
«Комнаты 302-—349». Следуя пальцу спасительной руки,
он добрался до двери с надписью «302 — бюро претен-
зий». Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться
с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью
женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он
подошел к крайней — смуглой и матовой, поклонился и
хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его.
Взоры всех женщин устремились на Короткова.
262
Михаил Булгаков
— Выйдем в коридор,— резко сказала матовая и
судорожно поправила прическу.
«Боже мой, опять, опять что-то...» — тоскливо мелькну-
ло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался.
Шесть оставшихся взволнованно зашушукали вслед.
Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого
коридора сказала:
— Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и
решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.
Коротков посмотрел на смуглое с огромными глаза-
ми лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то
гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула
голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки
Короткова, притянула его к себе и зашептала:
— Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покорил
меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, це-
луй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.
Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он
пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и
мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз
Короткова.
— Я отдамся тебе... — шепнуло у самого рта Корот-
кова.
— Мне не надо,— сипло ответил он,— у меня украли
документы.
— Тэк-с,— вдруг раздалось сзади.
Коротков обернулся и увидал люстринового старичка.
— А-ах! — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо
руками, убежала в дверь.
— Хи,— сказал старичок,— здорово. Куда ни при-
дешь, вы, господин Колобков. Ну и хват же вы. Да что
там, целуй, не целуй, не выцелуете командировку. Мне,
старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.
С этими словами он показал Короткову сухенький
маленький шиш.
— А заявленьице я на вас подам,— злобно продол-
жал люстрин,— да-с. Растлили трех в главном отделе,
теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их
ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют
они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воро-
тишь девичьей чести. Не воротишь.
Старичок вынул большой носовой платок с оранже-
выми букетами, заплакал и засморкался.
Дьяволиада
263
— Из рук старичка подъемные крохи желаете вы-
драть, господин Колобков? Что ж... — старичок затряс-
ся и зарыдал, уронил портфель,— берите, кушайте. Пу-
щай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду
помирает... Пущай, мол. Туда ему и дорога, старой со-
баке. Ну, только попомните, господин Колобков,— голос
старичка стал пророчески грозным и налился колокола-
ми,— не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанин-
ские. Колом в горле они у вас станут,— и старичок
разлился в буйных рыданиях.
Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожи-
данно для самого себя он дробно затопал ногами.
— К чертовой матери! — тонко закричал он, и его
больной голос разнесся по сводам,— я не Колобков.
Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!
Он начал рвать на себе воротничок.
Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.
— Следующий! — крикнула дверь. Коротков смолк
и кинулся в нее, свернул влево, миновав машинки, и
очутился перед рослым, изящным блондином в синем
костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:
— Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава
или Иркутск?
— Документы украли,— дико озираясь, ответил рас-
терзанный Коротков,— и кот появился. Не имеет права.
Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать
не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер.
У меня украли до...
— Ну, это вздор,— ответил синий,— обмундирование
дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже
и полушубок подержанный. Короче.
Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул
мщик и, заглянув в него, приветливо сказал:
— Пожалте, Сергей Николаевич.
И тотчас из ясеневого ящика выглянула причесан-
ная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза.
За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крах-
мальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и
через секунду законченный секретарь, с писком «Доброе
утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как
выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже ман-
жеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту
же минуту застрочил.
Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно
сказал синему:
— Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это
такое?..
— Естественно, вылез,— ответил синий,— не лежать
же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.
— Но как? Как? — зазвенел Коротков.
— Ах ты, господи,— взволновался синий,— не задер-
живайте, товарищ.
Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула
возбужденно и радостно:
— Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду
с ним. У меня тетка в Полтаве под 43 градусом широты
и 5-м долготы.
— Ну и чудесно,— ответил блондин,— а то мне
надоела эта волынка.
— Я не хочу! — вскричал Коротков, блуждая взо-
ром.— Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не
могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою
фамилию. Восстановите!
— Товарищ, это в отделе брачующихся,— запищал
секретарь,— мы ничего не можем сделать.
— О, дурашка! — воскликнула брюнетка, выглянув
опять,— соглашайся! Соглашайся! — кричала она суф-
лерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появля-
лась.
— Товарищ! — зарыдал Коротков, размазывая по
лицу слезы.— Товарищ! Умоляю тебя, дай документы.
Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и
я уйду в монастырь.
— Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно
изложите письменно и устно, срочно и секретно —
Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого
человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не
курить! Разменом денег не затруднять! — выйдя из
себя, загремел блондин.
— Рукопожатия отменяются! — кукарекнул секретарь.
— Да здравствуют объятия! — страстно шепнула
брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав
ландышем шею Короткова.
— Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без
доклада к ближнему твоему,— прошамкал люстриновый
и пролетел по воздуху, взмахивая полами крылатки... —
Дьяволиада
265
Я и не вхожу, не вхожу-с,— а бумажку все-таки подбро-
шу, вот так, хлоп!., подпишешь любую — и на скамье
подсудимых.— Он выкинул из широкого черного рукава
пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы,
как чайки скалы на берегу.
Муть заходила в комнате, и окна стали качаться.
— Товарищ блондин! — плакал истомленный Корот-
ков,— застрели ты меня на месте, но выправь ты мне
какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.
В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не пере-
ставая ни на минуту бешено подписывать старичковы
листки и швырять их секретарю, который ловил их с
радостным урчанием.
— Черт с ним! — загремел блондин,— черт с ним.
Машинистки, гей!
Он махнул огромной рукой, стена перед глазами
Короткова распалась, и тридцать машин на столах,
звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Колыша бедра-
ми, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремо-
выми ногами белую пену, парадом-алле двинулись трид-
цать женщин и пошли вокруг столов.
Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали
свиваться, раскрываться, сшиваться. Вылезли белые
брюки с фиолетовыми лампасами: «Предъявитель сего
сеть действительно предъявитель, а не какая-нибудь
шантрапа».
— Надевай! — грохнул блондин в тумане.
— И-и-и-и,— тоненько заскулил Коротков и стал
биться головой об угол блондинова стола. Голове по-
легчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось
перед Коротковым.
— Валерьянки! — крикнул кто-то на потолке.
Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок
зашептал тревожно:
— Теперь одно спасение — к Дыркину в пятое от-
деление. Ходу! Ходу!
Запахло эфиром, потом руки нежно вынесли Корот-
кова в полутемный коридор. Крылатка обняла Коротко-
ва и повлекла, шепча и хихикая:
— Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы,
что каждому из них достанется не меньше пяти лет с
поражением на поле сражения. Ходу! Ходу! е
Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и
сыростью из сетки, уходящей в пропасть.
266
Михаил Булгаков
X
СТРАШНЫЙ ДЫРКИН
Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Корот-
ковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный
забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный
вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встре-
тил Короткова словами:
— И чудесно. Вот я вас и арестую.
— Меня нельзя арестовать,— ответил Коротков и
засмеялся сатанинским смехом,— потому что я неизвес-
тно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нель-
зя. А в Полтаву я не поеду.
Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрач-
ки Короткову и стал оседать назад.
— Арестуй-ка,— пискнул Коротков и показал тол-
стяку дрожащий бледный язык, пахнущий валерьянкой,—
как ты арестуешь, ежели вместо документов — фига?
Может быть, я Гогенцоллерн.
— Господи Исусе,— сказал толстяк, трясущейся рукой
перекрестился и превратился из розового в желтого.
— Кальсонер не попадался? — отрывисто спросил
Коротков и оглянулся.— Отвечай, толстун.
— Никак нет,— ответил толстяк, меняя розовую
окраску на серенькую.
— Как же теперь быть? А?
— К Дыркину, не иначе,— пролепетал толстяк,— к
нему самое лучшее. Только грозен. Ух грозен! И не
подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон
сломал нынче.
— Ладно,— ответил Коротков и залихватски сплю-
нул,— нам теперь все равно. Подымай!
— Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный,—
нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.
На верхней площадке попался маленький лет ше-
стнадцати и страшно закричал:
— Куда ты? Стой!
— Не бей, дяденька,— сказал толстяк, съежившись
и закрыв голову руками,— к самому Дыркину.
— Цроходи,— крикнул маленький.
Толстяк зашептал:
— Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на
скамеечке вас подожду. Больно жутко...
Дьявол иада
267
Коротков попал в темную переднюю, а из нее в
пустынный зал, в котором был распростерт голубой
вытертый ковер.
Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков не-
много поколебался, но потом вошел и оказался в уютно
обставленном кабинете с огромным малиновым столом и
часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на
пружине из-за стола и, вздыбив усы, рявкнул:
— М-молчать!.. — хоть Коротков еще ровно ничего
не сказал.
В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша
с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыб-
ковыми морщинами.
— А-а! — вскричал он сладко,— Артур Артурыч.
Наше вам.
— Слушай, Дыркин,— заговорил юноша металличес-
ким голосом,— ты написал Пузыреву, что будто бы я
учредил в эмеритурной кассе свою единоличную дикта-
туру и попер эмеритурные майские деньги? Ты? Отве-
чай, паршивая сволочь.
— Я?.. — забормотал Дыркин, колдовски превраща-
ясь из грозного Дыркина в Дыркина-добряка,— я, Ар-
гур Диктатурыч... Я, конечно... Вы это напрасно...
— Ах ты, мерзавец, мерзавец,— раздельно сказал
юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул
им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.
Коротков машинально охнул и застыл.
— То же будет и тебе, и всякому негодяю, который
позволит себе совать нос в мои дела,— внушительно
сказал юноша и, погрозив на прощание Короткову крас-
ным кулаком, вышел.
Минуты две в кабинете стояло молчание и лишь
подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то
грузовика.
— Вот, молодой человек,— горько усмехнувшись,
сказал добрый и униженный Дыркин,— вот и награда
in усердие. Ночей недосыпаешь, недоедаешь, недопива-
ешь, а результат всегда один — по морде. Может быть,
и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте.
Морда у него, видно, казенная. Может быть, вам рукой
больно? так вы канделябрик возьмите.
И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-
UI письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо
268
Михаил Булгаков
и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с
хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у
того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул»,
убежал через внутреннюю дверь.
— Ку-ку! — радостно, крикнула лесная кукушка и
выскочила из нюренбергского разрисованного домика на
стене.
— Ку-клукс-клан! — закричала она и превратилась
в лысую голову,— запишем, как вы работников лупите!
Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канде-
лябром и ударил им в часы. Они ответили громом и
брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из ча-
сов, превратился в белого петушка с надписью «Исхо-
дящей» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними две-
рями разлился вопль Дыркина: «Лови его, разбойни-
ка!», и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон.
Коротков повернулся и бросился бежать.
XI
ПАРФОРСНОЕ КИНО И БЕЗДНА
С площадки толстяк скакнул в кабину, забросил-
ся сетками и ухнул вниз, а по огромной изгрызенной
лестнице побежали в таком порядке: первым черный
цилиндр толстяка, за ним — белый исходящий петух,
за петухом — канделябр,' пролетевший в вершке над
острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцати-
летний с револьвером в руке и еще какие-то люди,
топочущие подкованными сапогами. Лестница застонала
бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на пло-
щадках.
Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в
рупор:
— Какая секция переезжает? Несгораемую кассу
забыли!
Женский голос внизу ответил:
— Бандиты!!
В огромные двери на улицу Коротков, обогнав ци-
линдр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огром-
ную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу.
Белый петушок провалился сквозь землю, оставив се-
Дьявол иада
269
рый запах, черная крылатка соткалась из воздуха и
поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и про-
тяжным:
— Артельщиков бьют, товарищи!
По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны
и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие
свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загора-
лись тревожные сиплые крики: «Держи». С дробным
грохотом опускались железные шторы, и какой-то хро-
мой, сидя на трамвайной линии, визжал:
— Началось!
Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, ве-
селые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку,
то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стре-
мился к гиганту — одиннадцатиэтажному зданию, выхо-
дящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок.
На самом углу — стеклянная вывеска с надписью
«Restoran i pivo» треснула звездой, и пожилой извозчик
пересел с козел на мостовую с томным выражением
лица и словами:
— Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало
быть?..
Выбежавший из переулка человек сделал попытку
ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась
у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел
несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство
вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках
отскочил от лифта и заплакал.
— Садись, дядя. Садись! — проревел он,— только не
бей сироту!
Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый
диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба
на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл
дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх.
И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и
завертелись стеклянные двери.
Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успоко-
ившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал
веревку.
— Деньги покрал, дяденька? — с любопытством
спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.
— Кальсонера... атакуем... — задыхаясь, отвечал
Коротков,— да он в наступление перешел.
270
Михаил Булгаков
— Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где
бильярдные,— посоветовал мальчишка,— там на крыше
отсидишься, если с маузером.
— Давай наверх... — согласился Коротков.
Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка
распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:
— Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.
Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался.
Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбо-
ку — стук костяных шаров через стеклянную перегород-
ку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчиш-
ка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.
Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколе-
бался мгновение и с боевым кличем: «Вперед!» вбежал
в бильярдную. Замелькали зеленые площади с лоснящи-
мися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем
близко бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со зво-
ном где-то посыпались стекла. Словно по сигналу, игро-
ки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые
двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на
крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, веду-
щую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился
шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта вы-
росла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук
Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова
мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь
и выросла вторая голова, за ней — третья. Шары по-
летели один за другим, и стекла полопались в перего-
родке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в
ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл
и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало
в верхней части, как ножом, и тучей пудры понеслась
штукатурка по всей бильярдной.
Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Раз-
бежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в
третью стеклянную стену, за которой начиналась плос-
кая асфальтированная кровля громады. Стена треснула
и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел
выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались
по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними
выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пуле-
мет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.
— Сдавайся! — смутно донеслось до него.
Дьяволиада
271
Перед Коротковым сразу открылось худосочное'солн-
це над самой головой, бледненькое небо, ветерок и
промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать
тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и
оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил
к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его
замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавших-
ся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой
ползали трамваи, и жучки-народ, и тотчас Коротков
разглядел серенькие фигурки, проплясавшие к подъезду
по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеян-
ную золотыми сияющими головками.
— Окружили! — ахнул Коротков,— пожарные.
Перегнувшись через парапет, он прицелился и пус-
тил один за другим три шара. Они взвились, затем,
описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще од-
ну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил и
их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, сни-
зившись, превратились в черные, потом опять засверка-
ли и исчезли. Короткову показалось, что жучки забега-
ли встревоженно на залитой солнцем площади. Корот-
ков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снаря-
дов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском
стекол в проломе бильярдной показались люди. Они
сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели
серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло,
не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. За-
тем стена совсем распалась, и грозно выкатился на
роликах страшный бритый Кальсонер со старинным
мушкетом в руках.
— Сдавайся! — завыло спереди, сзади и сверху, и
нее покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.
— Кончено,— слабо прокричал Коротков,— кончено.
Бой проигран. Та-та-та! — запел он губами трубный
отбой.
Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и
балансируя, Коротков взобрался на столб парапета,
покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:
— Лучше смерть, чем позор!
Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков
видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта
Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так,
что у него захватило дух. С пронзительным победным
272
Михаил Булгаков
кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перереза-
ло ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как
серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо
него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало
вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка,
которая оказалась над ним. Затем кровяное солнце со
звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно
ничего не видал.
РОКОВЫЕ ЯЙЦА
Глава I
КУРРИКУЛЮМ витэ
ПРОФЕССОРА ПЕРСИКОВА
16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии
IV государственного университета и директор зооинсти-
тута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помеща-
ющийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профес-
сор зажег верхний матовый шар и огляделся.
Начало ужасающей катастрофы нужно считать зало-
женным именно в этот злосчастный вечер, равно как
первопричиною этой катастрофы следует считать имен-
но профессора Владимира Ипатьевича Персикова.
Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, тол-
качом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими
по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена
вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на
себе несколько капризный отпечаток. На красном носу
старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глаз-
ки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат.
Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и сре-
ди других странностей имел такую: когда говорил что-
либо веско и уверенно, указательный палец правой руки
превращал в крючок и щурил глазки. А так как он
говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у
него была совершенно феноменальная, то крючок очень
чисто появлялся перед глазами собеседников профессо-
ра Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эм-
бриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор
Персиков почти ничего не говорил. „
276
Михаил Булгаков
Газет профессор Персиков не читал, в театр не хо-
дил, а жена профессора сбежала от него с тенором
оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого
содержания:
«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне
твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них>.
Профессор больше не женился и детей не имел. Был
очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой,
жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из
которых занимала сухенькая старушка, экономка Марья
Степановна, ходившая за профессором, как нянька.
В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3.
Тогда он заявил Марье Степановне:
— Если они не прекратят эти безобразия, Марья
Степановна, я уеду за границу.
Нет сомнения, что, если бы профессор осуществил
этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при
кафедре зоологии в любом университете мира, ибо уче-
ный он был совершенно первоклассный, а в той области,
которая так или иначе касается земноводных или голых
гадов, и равных себе не имел за исключением профес-
соров Ульяма Веккля в Кембридже и Джиакомо Барто-
ломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках
кроме русского, а по-французски и немецки говорил как
по-русски. Намерения своего относительно заграницы
Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже
19-го. Произошли события, и притом одно за другим.
Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена.
Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и
Моховой, остановились на 11 с ’/4, и, наконец, в терра-
риях зоологического института, не вынеся всех пертур-
баций знаменитого года, издохли первоначально 8 вели-
колепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных
жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы
Суринамской.
Непосредственно вслед за жабами, опустошившими
тот первый отряд голых гадов, который по справедли-
вости назван классом гадов бесхвостых, переселился в
лучший мир бессменный сторож института старик Влас,
не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его,
впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Пер-
сиков определил сразу:
— Бескормица!
Ученый был совершенно прав: Власа нужно было
кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку
Роковые яйца
277
пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков
оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевес-
ти на питание тараканами, но и тараканы куда-то прова-
лились, показав свое злостное отношение к военному
коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры
пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе инсти-
тута.
Действие смертей, и в особенности Суринамской жабы,
па Персикова не поддается описанию. В смертях он
целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просве-
щения.
Стоя в шапке и калошах в коридоре выстывающего
института, Персиков говорил своему ассистенту Ивано-
ву, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бо-
родкой:
— Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало!
Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А?
Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа
американа, длиной в 13 сантиметров...
Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в инсти-
туте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел
на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики,
лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков
стал молчать целыми днями, потом заболел воспалени-
ем легких, ио не умер. Когда оправился, приходил 2
1»<на в неделю в институт и в круглом зале, где было
iu-сгда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, не-
швисимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в
шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8
слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся
жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал
у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка
набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть
огненной печурки, которую золочеными стульями топила
Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.
Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год,
л в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-пер-
вых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще
молодой, но подающий большие надежды зоологический
сторож, институт стали топить понемногу. А летом
Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14
ип\к вульгарных жаб. В террариях вновь закипела
жезнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неде-
1н — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году
278
Михаил Булгаков
13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м,
весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 че-
ловек студентов, и всех на голых гадах:
— Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от
пресмыкающихся? — спрашивал Персиков,— это про-
сто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых
гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, веро-
ятно, марксист?
— Марксист,— угасая, отвечал зарезанный.
— Так вот, пожалуйста, осенью,— вежливо говорил
Персиков и бодро кричал Панкрату: — давай следую-
щего!
Подобно тому, как амфибии оживают после долгой
засухи, при первом обильном дожде, ожил профессор
Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-
русская компания выстроила, начав с угла Газетного
переулка и Тверской, в центре Москвы 15 пятнадцати-
этажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей,
каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот
страшный и смешной жилищный кризис, который так
терзал москвичей в годы 1919—1925.
Вообще это было замечательное лето в жизни Пер-
сикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем
потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Сте-
пановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил
обратно, расширился, расположил 2 1 /2 тысячи книг,
чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую
лампу в кабинете.
Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли
кремовою краской, провели по специальному водопрово-
ду воду в комнату гадов, сменили все стекла на зер-
кальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные
препарационные столы, шары по 2000 ламп с отражен-
ным светом, рефлекторы, шкапы в музей.
Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об
этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет
брошюра:
«Еще к вопросу о размножении бляшконосных или
хитонов» 126 стр. «Известия IV университета».
А в 1927, осенью, капитальный труд в 350 страниц,
переведенный на 6 языков, в том числе японский:
«Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена
3 рубля. Госиздат.
А летом 1928 года произошло то невероятное, ужа-
сное...
Глава II
ЦВЕТНОЙ ЗАВИТОК
Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег реф-
лектор на длинном экспериментальном столе, надел белый
халат, позвенел какими-то инструментами на столе...
Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегав-
ших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице
Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую
минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к
Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблес-
ки разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла
кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной
и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный
месячный серп.
Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не
снимали профессора Персикова. Он сидел на винтя-
щемся трехногом табурете и побуревшими от табаку
пяльцами вертел кремальеру великолепного цейсовского
микроскопа, в который был заложен обыкновенный не-
окрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда
Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь
приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожа-
ный нагрудник, и ассистент позвал:
— Владимир Ипатьич, я установил брыжейку, не
хотите ли взглянуть?
Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру
ня полдороге, и, медленно вертя в руках папиросу,
прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе^
полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка
была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные
глюдяные внутренности вытянуты из окровавленного
живота в микроскоп.
— Очень хорошо! — сказал Персиков и припал гла-
юм к окуляру микроскопа.
Очевидно, что-то очень интересное можно было рас-
। мотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные,
по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики.
Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа
ио очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа.
При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но
непонятными простым смертным словами.
Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:
— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.
280
Михаил Булгаков
Лягушка тяжко шевельнула головой, и в ее потуха-
ющих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот
что...»
Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вер-
нулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно
воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в
микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже
собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом
видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смут-
ных бледных амеб, а посредине сидел цветной завиток,
похожий на женский локон. Этот завиток и сам Перси-
ков, и сотни его учеников видали очень много раз, и
никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной
пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал,
что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно
стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным
белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную
легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли.
Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг
насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не без-
дарная посредственность, на горе республике, сидела у
микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь,
его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут
пять в каменном молчании высшее существо наблюдало
низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса
препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже
в своей комнате в вестибюле, и один только раз в от-
далении музыкально и нежно прозвенели стекла в шка-
пах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним
простонала входная дверь. Потом уже послышался го-
лос профессора. У кого он спросил — неизвестно.
— Что такое? Ничего не понймаю...
Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, ко-
лыхнув старые стены института. Плоская стеклянная
чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор
побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно
мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь
не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул
винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посто-
ронняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он
увидал.
Было полное белое утро с золотой полосой, перере-
завшей кремовое крыльцо института, когда профессор
покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к
окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные
Роковые яйца
281
глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая
ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков расто-
пырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящи-
мися глазами:
— Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это
чудовищно, господа,— повторил он, обращаясь к жабам
w террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.
Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял
шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо
его стало напряженным, он сдвинул кустоватые, желтые
брови.
— Угу, угу,— пробурчал он,— пропал. Понимаю. По-
онимаю,— протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя
нн погасший шар над головой,— это просто.
И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег
шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно
осклабился.
— Я его поймаю,— торжественно и важно сказал он,
поднимая палец кверху,— поймаю. Может быть, и от
солнца.
Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо.
Вот оно залило стены института и косяком легло на
горцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая,
где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался,
легонько пританцовывая, и наконец животом лег на по-
доконник.
Приступил к важной и таинственной работе. Стек-
лянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом
пламени горелки расплавил кусок сургуча и края коло-
кола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттис-
нул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь
кабинета запер на английский замок.
Полусвет был в коридорах института. Профессор
добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно
стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчанье
кик бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в
полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках
предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на
ученого, он еще легонько подвывал со сна.
— Панкрат,— сказал профессор, глядя на него по-
верх очков,— извини, что я тебя разбудил. Вот что,
друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там
работу оставил, которую сдвигать нельзя, понял?
— У-у-у, по-по-понял,— ответил Панкрат, ничего не
поняв. Он пошатывался и рычал.
282
Михаил Булгаков
— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат,— молвил
зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у
того на лице получился испуг и некоторая тень осмыс-
ленности в глазах.— Кабинет я запер,— продолжал
Персиков,— так убирать его не нужно до моего прихо-
да. Понял?
— Слушаю-с,— прохрипел Панкрат.
— Ну вот и прекрасно, ложись спать.
Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обру-
шился на постель, а профессор стал одеваться в вести-
бюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу,
затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился
на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно
видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел
надеть правую, но та не полезла.
— Какая чудовищная случайность, что он меня ото-
звал,— сказал ученый,— иначе я его так бы и не заме-
тил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что
такое!..
Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и
левую снял, а правую надел.
— Боже мой. Ведь даже нельзя представить себе
всех последствий... — Профессор с презрением ткнул
левую калошу, которая раздражала его, не желая нале-
зать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут
же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяже-
лою дверью. На крыльце он долго искал в карманах
спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по
улице с незажженной папиросой во рту.
Ни одного человека ученый не встретил до самого
храма. Там профессор, задрав голову, приковался к
золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной
стороны.
— Как же раньше я не видал его, какая случай-
ность?.. Тьфу, дурак,— профессор наклонился и заду-
мался, глядя на разно обутые ноги,— гм... как же быть?
К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить
ее, подлую, жалко. Придется в руках нести.— Он снял
калошу и брезгливо понес ее.
На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали
трое. Двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскра-
шенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го
года.
— Эх, папаша! — крикнула она низким сиповатым
голосом,— что ж ты другую-то калошу пропил!
Роковые яйца
283
— Видно, в «Альказаре» набрался старичок,— завыл
левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и
прокричал:
— Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!
Профессор строго посмотрел на них поверх очков,
тиронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их сущес-
твовании. На Пречистенском бульваре рождалась со-
лнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло
солнце.
Глава III
ПЕРСИКОВ ПОЙМАЛ
Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил
свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни
обратил внимание на то, что в разноцветном завитке
особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот
был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как
маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.
Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд
луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.
В нем,— в луче, профессор разглядел то, что было
в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непро-
чного дитяти, случайно родившегося при движении зер-
кала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что
ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полто-
ра часа под действием этого луча, и получилось вот что:
в то время как в диске вне луча зернистые амебы
лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал
красный заостренный меч, происходили странные явле-
ния. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие
пмебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в
красную полосу и в ней (словно волшебным образом)
оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они
лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче.
II нем шло бешеное, другого слова не подобрать, раз-
множение. Ломая и опрокидывая все законы, известные
Персикову, как свои пять пальцев, они почковались на
«•го глазах с молниеносной быстротой. Они развалива-
лись на части в луче, и каждая из частей в течение 2
секунд становилась новым и свежим организмом. Эти
организмы в несколько мгновений достигали роста и
284
Михаил Булгаков
зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же
дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во
всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба,
Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга
и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных валялись
трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали
лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-
первых, они объемом приблизительно в два раза превы*
шали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались ка-
кою-то особенной злобой и резвостью. Движения их были
стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормаль-
ных, и работали они ими, без преувеличения, как спру-
ты щупальцами.
Во второй вечер профессор, осунувшийся и поблед-
невший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми са-
мокрутками, изучал новое поколение амеб, а в третий
день он перешел к первоисточнику, т. е. к красному
лучу.
Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шар-
кало движение, и профессор, отравленный" сотой папи-
росою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтово-
го кресла.
— Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый,
не исследованный никем, никем не обнаруженный луч
Первое, что придется выяснить, это — получается ли он
только от электричества или также и от солнца,— бор
мотал Персиков самому себе.
И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три
микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ниче-
го не поймал и выразился так:
— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм...
ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно
только от электрического света.— Он любовно поглядел
на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригла-
сил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и
показал амеб.
Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно
раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тонень-
кая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да
кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно
это чудовищно! Вы только Посмотрите...
— Вы посмотрите, Владимир Ипатьич! — говорил
Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру,— что
делается?!. Они растут на моих глазах... Гляньте, гля-
ньте...
Роковые яйца
285
— Я их наблюдаю уже третий день,— вдохновенно
ответил Персиков.
Затем произошел между двумя учеными разговор,
смысл которого сводился к следующему: приват-доцент
Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал
камеру, в которой можно будет получить этот луч в
увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется,
даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто.
Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не
сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.
— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу,
напишу, что камеры сооружены вами,— вставил Перси-
ков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.
— О, это не важно... Впрочем, конечно...
И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени
луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков,
худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за
микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп
физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала.
Помогал ему механик.
Из Германии, после запроса через Комиссариат про-
свещения, Персикову прислали три посылки, содержа-
щие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и
даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла.
Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и
в нее действительно уловил красный луч. И, надо отдать
справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный,
сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.
1-го июня камеру установили в кабинете Персикова,
и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной
лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В
течение 2-х суток из икринок вылупились тысячи голо-
вастиков. Но этого мало, в течение одних суток голова-
стики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и
прожорливых, что половина их тут же была перелопана
(ругой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне
всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого
луча вывели новое поколение, и при этом совершенно
бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает
что: головастики расползались из кабинета по всему
институту, в террариях и просто на полу, во всех зако-
улках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат,
и так боявшийся Персикова, как огня, теперь испыты-
вал по отношению к нему одно чувство: мертвенный
ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он
286
Михаил Булгаков
шалеет. Институт наполнился запахом эфира и циани
стого кали, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, нс
вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколе-
ние наконец удалось перебить ядами, кабинеты провет-
рить.
Иванову Персиков сказал так:
— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча ня
дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.
Иванов, холодный и сдержанный джёнтльмен, пере-
бил профессора необычным тоном:
— Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких
деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы
открыли что-то неслыханное,— видимо, с большой поту-
гой, но все же Иванов выдавил из себя слова: — про
фессор Персиков, вы открыли луч жизни!
-Слабая краска показалась на бледных, небритых
скулах Персикова.
— Ну-ну-ну,— пробормотал он.
— Вы,— продолжал Иванов,— вы приобретете такое
имя... У меня кружится голова. Вы понимаете,— про-
должал он страстно,— Владимир Ипатьич, герои Уэльса
по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что
это сказки... Вы помните его «Пищу богов»?
— Ах, это роман,— ответил Персиков.
— Ну да, господи, известный же!..
— Я забыл его,— ответил Персиков,— помню, читал,
но забыл.
— Как же вы не помните, да вы гляньте,— Иванов
за ножку поднял со стеклянного стола невероятных
размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На
морде ее даже после смерти было злобное выражение,—
ведь это же чудовищно!
Глава IV
ПОПАДЬЯ ДРОЗДОВА
Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или
потому, что сенсационные известия передаются сами
собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве
вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове.
Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о
чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная
птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь взви-
паясь, до половины июня, когда на 20-й странице газеты
«Известия» под заголовком «Новости науки и техники»
не появилась короткая заметка, трактующая о луче.
Сказано было глухо, что известный профессор IV уни-
верситета изобрел луч, невероятно повышающий жизне-
деятельность низших организмов, и что луч этот нужда-
ется в проверке. Фамилия, конечно, была переврана, и
напечатано: «Певсиков».
Иванов принес газету и показал Персикову заметку.
— «Певсиков»,— проворчал Персиков, возясь с ка-
мерой в кабинете,— и откуда эти свистуны все знают?
Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от
событий, и они начались на другой же день, сразу на-
рушив всю жизнь Персикова.
Панкрат, предварительно постучавшись, явился в
кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атлас-
ную визитную карточку.
— Он тамотко,— робко прибавил Панкрат.
На карточке было напечатано изящным шрифтом:
«Альфред Аркадьевич
Вронский
Сотрудник московских журналов — «Красный ого-
нек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный
прожектор» и газеты «Красная вечерняя Москва».
— Гони его к чертовой матери,— монотонно сказал
Персиков и смахнул карточку под стол.
Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вер-
нулся со страдальческим лицом и со вторым экземпля-
ром той же карточки.
— Ты что же, смеешься? — проскрипел Персиков и
стал страшен.
— Из Гепею, они говорить,— бледнея, ответил Пан-
крат.
Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть
не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на
стол. На карточке было приписано кудрявым почерком:
«Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважа-
емый профессор на три минуты по общественному делу
печати и сотрудник сатирического журнала «Красный
порой», издания ГПУ».
— Позови-ка его сюда,— сказал Персиков и задо-
хнулся.
Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой
288
Михаил Булгаков
человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поря
жали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под
ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику ага
товые глазки. Одет был молодой человек совершенно
безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен
пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестествен
ной ширины лакированные ботинки с носами, похожими
на копыта. В руках молодой человек держал трость,
шляпу с острым верхом и блокнот.
— Что вам надо? — спросил Персиков таким голо
сом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь,— ведь вам
же сказали, что я занят?
Вместо ответа молодой человек поклонился профес*
сору два раза на левый бок и на правый, а затем его
глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас
молодой человек поставил в блокноте знак.
— Я занят,— сказал профессор, с отвращением гля-
дя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так
как глазки были неуловимы.
— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый
профессор,— заговорил молодой человек тонким голо-
сом,— что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоцен-
ное время, но известие о вашем мировом открытии,
прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал
просить у вас каких-либо объяснений.
— Какие такие объяснения по всему миру? — заныл
Персиков визгливо и пожелтев,— я не обязан вам да-
вать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно
занят.
— Над чем же вы работаете? — сладко спросил
молодой человек и поставил второй знак в блокноте.
— Да я... вы что? Хотите напечатать что-то?
— Да,— ответил‘молодой человек и вдруг застрочил
в блокноте.
— Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать,
пока я не кончу работы... тем более в этих ваших газе-
тах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. — И Пер-
сиков вдруг почувствовал, что теряется.
— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой
жизни?
— Какой такой новой жизни? — остервенился про-
фессор,— что вы мелете чепуху! Луч, над которым я
работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего
еще не известно! Возможно, что он повышает жизнеде-
ятельность протоплазмы...
PoKOBble яйца rp'F'
289
— Во сколько раз? — торопливо спросил молодой
человек.
Персиков окончательно потерялся... «Ну тип. Ведь
'•то черт знает что такое!»
— Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я
скажу, ну, в тысячу раз!..
В глазках молодого человека мелькнула хищная
радость.
— Получаются гигантские организмы?
— Да ничего подобного! Ну, правда, организмы,
полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют
некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не
величина, а невероятная скорость размножения,— ска-
зал, на свое горе, Персиков и тут же ужаснулся. Моло-
дой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и
застрочил дальше.
— Вы же не пишите! — уже сдаваясь и чувствуя, что
он в руках молодого человека, в отчаянии просипел
Персиков,— что вы такое пишете?
— Правда ли, что в течение двух суток из икры
можно получить 2 миллиона головастиков?
— Из какого количества икры? — вновь взбеленяясь,
закричал Персиков,— вы видели когда-нибудь икрин-
ку... ну, скажем,— квакши?
— Из полуфунта? — не смущаясь, спросил молодой
человек.
Персиков побагровел.
— Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите?
Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры...
тогда, пожалуй... черт, ну, около этого количества, а
может быть, и гораздо больше!
Бриллианты загорелись в глазах молодого человека,
и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.
— Правда ли, что это вызовет мировой переворот в
животноводстве?
— Что это за газетный вопрос,— завыл Персиков,—
и вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я
вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мер-
зость!
— Вашу фотографическую карточку, профессор, убе-
дительнейше прошу,— молвил молодой человек и за-
хлопнул блокнот.
— Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики?
Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете.
Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..
||«-1*57
— Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально
— Панкрат! — закричал профессор в бешенстве.
— Честь имею кланяться,— сказал молодой человек
и пропал.
Вместо Панкрата послышалось за дверью странное
мерное скрипенье машины, кованое постукивание в пол,
и в кабинете появился необычайной толщины человек,
одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа.
Левая его, механическая нога, щелкала и громыхала, и
в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо,
налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыб-
ку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямил
ся, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.
— Господин профессор,— начал незнакомец прият
ным сиповатым голосом,— простите простого смертного,
нарушившего ваше уединение.
— Вы репортер? — спросил Персиков,— Панкрат!)
— Никак нет,— господин профессор,— ответил тол-
стяк,— позвольте представиться — капитан дальнего
плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленное
ти» при Совете Народных Комиссаров.
— Панкрат!! — истерически закричал Персиков, и
тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозве-
нел телефон.— Панкрат! — повторил профессор,—
я слушаю.
— Ферцайен зи битте, херр профессор,— захрипел
телефон по-немецки,— дас их штёре. Их бин митарбей-
тер дес «Берлинер Тагеблатс»...1
— Панкрат! — закричал в трубку профессор,— бин
моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт нихт
емпфанген!..1 2 Панкрат!!
А на парадном ходе института в это время начались
звонки.
♦ ♦ ♦
— Кошмарное убийство на Бронной улице!! — завы-
вали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней
между колесами и вспышками фонарей на нагретой
1 Извините, пожалуйста, господин профессор, что я беспокою. Я
сотрудник «Берлинской Tagesblatts»... (от нем.: Verzeihen Sie, bitte, Herr
Professor, dap ich store. Ich bin Mitarbeiter des «Berliner Tagesblatts»).
2 Я сейчас очень занят и потому не могу вас принять (от нем.: Ich
bin momenta! sehr beschSftigt und kann Sie deshalb Jetzt nicht empfan*
gen).
“ ФЪко'вые яйца
июньской мостовой,— кошмарное появление болезни кур
у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмар-
ное открытие луча жизни профессора Персикова!!
Персиков мотнулся так, что чуть не попал под авто-
мобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.
— 3 копейки, гражданин! — закричал мальчишка и,
вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: — «Крас-
ная вечерняя газета», открытие икс-луча!!
Ошеломленный Персиков развернул газету и при-
жался к фонарному столбу. На второй странице в левом
углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с без-
умными и незрячими глазами и с повисшею нижнею
челюстью человек, плод художественного творчества
Альфреда Вронского. «В. И. Персиков, открывший зага-
дочный красный луч»,— гласила подпись под рисунком.
Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась
статья словами:
«Садитесь,— приветливо сказал нам маститый уче-
ный Персиков...»
Под статьей красовалась подпись «Альфред Вронс-
кий (Алонзо)».
Зеленоватый свет взлетел над крышей университета,
на небе выскочили огненные слова «Говорящая газета»,
и тотчас толпа запрудила Моховую.
«Садитесь!!! — завыл вдруг в рупоре на крыше не-
приятнейший тонкий голос, совершенно похожий на го-
лос увеличенного в тысячу раз Альфреда Вронского,—
приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! —
Я давно хотел познакомить московский пролетариат с
результатами моего открытия...»
Тихое механическое скрипение послышалось за спи-
ною Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернув-
шись, он увидал желтое круглое лицо владельца меха-
нической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и
губы вздрагивали.
— Меня, господин профессор, вы не пожелали по-
знакомить с результатами вашего изумительного откры-
тия,— сказал он печально и глубоко вздохнул.— Про-
пали мои полтора червячка.
Он тоскливо глядел на крышу университета, где в
черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персико-
ву почему-то стало жаль толстяка.
— Я,— пробормотал он, с ненавистью ловя слова с
неба,— никакого садитесь ему не говорил! Это просто
10*
292
Михаил Булгаков
наглец необыкновенного свойства! Вы меня простит<|
пожалуйста,— но, право же, когда работаешь и врыва-
ются... Я не про вас, конечно, говорю...
— Может быть, вы мне, господин профессор, хоть
описание вашей камеры дадите? — заискивающе и скорб-
но говорил механический человек,— ведь вам теперь все
равно...
— Из полуфунта икры в течение 3-х дней вылупля-
ется такое количество головастиков, что их нет никакой
возможности сосчитать,— ревел невидимка в рупоре.
— Ту-ту,— глухо кричали автомобили на Моховой.
— Го-го-го... Ишь ты, го-го-го,— шуршала толпа,
задирая головы.
— Каков мерзавец? А? — дрожа от негодования,
зашипел Персиков механическому человеку,— как вам
это нравится? Да я жаловаться на него буду!
— Возмутительно! — согласился толстяк.
Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза
профессора, и все кругом вспыхнуло — фонарный столб,
кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные
лица.
— Это вас, господин профессор,— восхищенно шеп-
нул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря.
В воздухе что-то застрекотало.
— А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Пер-
сиков, выдираясь с гирей из толпы.— Эй, таксомотор!
На Пречистенку!
Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го
года, заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо,
стараясь отцепиться от толстяка.
— Вы мне мешаете,— шипел он и закрывался кула-
ками от фиолетового света.
— Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с
детишками зарезали на Малой Бронной!.. — кричали
кругом в толпе.
— Никаких у меня детишек нету, сукины дети,—
заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппа-
рата, застрелившего его в профиль, с открытым ртом и
яростными глазами.
— Крх... ту... крх... ту,— закричал таксомотор и
врезался в гущу.
Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.
10-4
' Н^овые яйца’
Глава V
КУРИНАЯ ИСТОРИЯ
В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а
ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекловского
?езда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне
1ерсональной улице вышла повязанная платочком жен-
щина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала.
Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея быв-
шего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскорос-
ти из домика через улицу в окошко высунулась бабья
голова в пуховом платке и воскликнула:
— Что ты, Степановна, али еще?
— Семнадцатая! — разливаясь в рыданиях, ответила
бывшая Дроздова.
— Ахти-х-ти-х— заскулила и закачала головой баба
в платке,— ведь это что ж такое? Прогневался господь,
истинное слово! Да неужто ж сдохла?
— Да ты глянь, глянь, Матрена,— бормотала по-
падья, всхлипывая громко и тяжко,— ты глянь, что с ей!
Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи
босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и
мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий
двор.
Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия
Дроздова, скончавшегося в 26 году от антирелигиозных
огорчений, не опустила рук, а основала замечательней-
шее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в
гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство
чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они
надоумили вдову подать местным властям заявление о
том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную
артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная
прислуга ее Матрешка и вдовьина глухая племянница.
Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело на-
столько, что к 28-му году у вдовы, на пыльном дворике,
окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур,
к числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца
каждое воскресенье появлялись на стекловском рынке,
вдовьими яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что
они показывались и в стеклянных витринах магазина
бывшего «Сыр и масло Чичкина в Москве».
И вот семнадцатая по счету с утра брамапут-
ра, любимая хохлатка, ходила по двору, и ее рвало.
2&4
Михаил Булгаков
«Эр...рр...урл... урл го-го-го»,— выделывала хохлатка и
закатывала грустные глаза на солнце так, как будто
видела его в последний раз. Перед носом курицы на
корточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.
— Хохлаточка, миленькая... цып-цып-цып... испей
водицы,— умоляла Матрешка и гонялась за клювом
хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она
широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. За-
тем ее начинало рвать кровью.
— Господисусе! — вскричала гостья, хлопнув себя
по бедрам,— это что ж такое делается? Одна резаная
кровь. Никогда не видала, с места не сойти, не видала,
чтобы курица, как человек, маялась животом.
Это и были последние напутственные слова бедной
хохлатке. Она вдруг кувыркнулась на бок, беспомощно
потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повер-
нулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась
неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав
чашку, и сама попадья — председатель артели, а гостья
наклонилась к ее уху и зашептала:
— Степановна, землю буду есть, что кур твоих ис-
портили. Где ж это видано! Ведь таких и курьих болез-
ней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.
— Враги жизни моей! — воскликнула попадья к
небу,— что ж они, со свету меня сжить хочут?
Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем
из курятника выдрался как-то боком, точно беспокой-
ный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджа-
рый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался
на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не
улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на
корде. На третьем круге он остановился и его стошнило,
потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя
кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к
солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в
куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье,
хлопанье и возня.
— Ну, не порча? — победоносно спросила гостья,—
зови отца Сергия, пущай служит.
В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко
огненною рожею между рожами молодых подсолнухов,
на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного
храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любо-
пытные головы людей торчали над древненьким забором
и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к
Роковые яйца
295
кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слеза-
ми и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая,
заметил, что-то насчет того, что вот, мол, господь про-
гневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой,
что он прекрасно знает, почему именно прогневался
господь, на только не скажет.
Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры
ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадьи
Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух.
Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только
смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух
свалился с нашеста вниз головой и в такой позиции
кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились
тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было
мертво и тихо, лежала грудами закоченевшая птица.
Наутро город встал как громом пораженный, потому
что история приняла размеры странные и чудовищные.
На Персональной улице к полудню осталось в живых
только три курицы, в крайнем домике, где снимал квар-
тиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня.
А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей,
и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроз-
довой попала в местную газету «Красный боец» в статье
под заголовком: «Неужели куриная чума?», а оттуда
пронеслось в Москву.
♦ ♦ *
Жизнь профессора Персикова приняла окраску стран-
ную, беспокойную и волнующую. Одним словом, рабо-
тать в такой обстановке было просто невозможно. На
другой день после того, как он развязался с Альфредом
Вронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете
в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проез-
жая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидал
самого себя на крыше огромного дома с черною над-
писью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь, и зе-
ленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь
за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на
крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фио-
летового луча. Засим выскочила огненная надпись:
«Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение
нашему знаменитому репортеру капитану Степанову».
И точно: мимо храма Христа, по. Волхонке, проскочил
296
Михаил Булгаков
зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и
физиономия у него была как у затравленного волка.
— Это какие-то черти, а не люди,— сквозь зубы
пробормотал зоолог и проехал.
Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пре-
чистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степанов-
ны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к
нему во время его отсутствия, и словесное заявление
Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел
разодрать записки, но остановился, потому что против
одного из номеров увидал приписку: «Народный комис-
сар здравоохранения».
— Что такое? — искренно недоумевал ученый чу-
дак,— что с ними такое сделалось?
В 10 1 /4 того же вечера раздался звонок, и профессор
вынужден был беседовать с некиим ослепительным по
убранству гражданином. Принял его профессор благо-
даря визитной карточке, на которой было изображено
(без имени и фамилии): «Полномочный шеф торговых
отделов иностранных представительств при Республике
Советов».
— Черт бы его взял,— прорычал Персиков, бросил
на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал
Марье Степановне: — Позовите его сюда, в кабинет,
этого самого уполномоченного.
— Чем могу служить? — спросил Персиков таким
тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пере-
садил очки с переносицы на лоб, затем обратно и раз-
глядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоцен-
ными камнями, и в правом глазу у него, сидел монокль.
«Какая гнусная рожа»,— почему-то подумал Персиков.
Начал гость издалека, именно попросил разрешения
закурить сигару, вследствие чего Персиков с большою
неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес
длинные извинения по поводу того, что он пришел позд-
но: «Но... господина профессора невозможно днем никак
пойма... хи-хи... пардон... застать» (гость, смеясь, всхли-
пывал, как гиена).
— Да, я занят! — так коротко ответил Персиков, что
судорога вторично прошла по гостю.
Тем не менее он позволил себе беспокоить знамени-
того ученого — время — деньги, как говорится., сигара
не мешает профессору?
— Мур-мур-мур,— ответил Персиков. Он позволил...
— Профессор ведь открыл луч жизни?
Роковые яйца 297
— Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки
газетчиков! — оживился Персиков.
— Ах нет, хи-хи-хэ... — он прекрасно понимает ту
скромность, которая составляет истинное украшение всех
настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть
телеграммы... В мировых городах, как-то: Варшаве и
Риге — уже все известно насчет луча. Имя профессора
Персикова повторяет весь мир... весь мир следит за
работами профессора Персикова, затаив дыхание... Но
всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых
н Советской России. Антр ну суа ди...1 Здесь никого нет
посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые тру-
ды, так вот, он хотел бы переговорить с профессором...
Одно иностранное государство предлагает профессору
Персикову, совершенно бескорыстно, помощь в его ла-
бораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как
говорится в Священном писании. Государству известно,
как тяжко профессору пришлось в 19-м и 20-м году, во
время этой, хи-хи... революции. Ну, конечно, строгая тай-
на... профессор ознакомит государство с результатами
работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он
построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться
с чертежами этой камеры...
И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака
белоснежную пачку бумажек...
Какой-нибудь пустяк: 5000 рублей, например, задат-
ку, профессор может получить сию же минуту... и рас-
писки не надо... профессор даже обидит полномочного
торгового шефа, если заговорит о расписке.
— Вон!!! — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что
пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.
Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков
через минуту и сам уже сомневался, был ли он, или это
галлюцинация.
—- Его калоши?! — выл через минуту Персиков в
передней.
— Они забыли,— отвечала дрожащая Марья Степа-
новна.
— Выкинуть их вон!
— Куда же я их выкину. Они придут за ними.
— Сдать их в домовый комитет. Под расписку. Чтоб
не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут
шпионские калоши!..
1 Между нами (от фр. entre nous soit-dit).
298
Михаил Булгаков
Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные
кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там по-
стояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.
— Сдали? — бушевал Персиков.
— Сдала.
— Расписку мне.
— Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же пред-
седатель!..
— Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за
него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!
Марья Степановна только покрутила головой, ушла
и вернулась через 1 /4 часа с запиской:
«Получено в фонд от профе. Персикова 1 (одна) па.
кало. Колесов.»
— А это что?
— Жетон-с.
Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спря-
тал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой
лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата н
институте и спросил у него: «Все ли благополучно?»
Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно
было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но
Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь,
он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:
— Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут
из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозритель-
ные субъекты в калошах ходят, да... Профессор IV
университета Персиков...
Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков
отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.
— Чай будете пить, Владимир Ипатьич? — робко
осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.
— Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и
черт их всех возьми... как взбесились все равно.
Ровно через десять минут профессор принимал у себя
в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круг-
лый и очень вежливый, был в скромном защитном воен-
ном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как
хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал
ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький,
страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем
сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел
себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а
остался в полутемной передней. При этом освещенный
и пронизанный струями табачного дыма кабинет был
ему насквозь виден. На лице этого третьего, который
был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.
Двое в кабинете совершенно замучили Персикова,
рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти
тысячах и заставляя описывать наружность гостя.
— Да черт его знает,— бубнил Персиков,— ну, про-
шеная физиономия. Дегенерат.
— А глаз у него не стеклянный? — спросил малень-
кий хрипло.
— А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный,
бегают глаза.
— Рубинштейн? — вопросительно и тихо отнесся ангел
к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно
покачал головой.
— Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем
случае,— забурчал он,— это не Рубинштейнова работа.
Тут кто-то покрупнее.
История о калошах вызвала взрыв живейшего инте-
реса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домо-
вой конторы только несколько слов: «Государственное
политическое управление сию минуту вызывает секрета-
ря домкома Колесова в квартиру профессора Персико-
ва, с калошами»,— и Колесов тотчас, бледный, появился
в кабинете, держа калоши в руках.
— Васенька! — негромко окликнул ангел того, кото-
рый сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно
развинченный, плелся в кабинет. Дымчатые стекла со-
вершенно поглотили его глаза.
— Ну? — спросил он лаконически и сонно.
— Калоши.
Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом
Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно
мгновенье, сверкнули вовсе не сонные, а, наоборот, изу-
мительно колючие глаза. Но они моментально угасли.
— Ну, Васенька?
Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голо-
сом:
— Ну, что тут, ну. Пеленжковского калоши.
Немедленно фонд лишился подарка профессора Пер-
сикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне
обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать
руку профессору, и даже произнес маленький спич,
содержание которого сводилось к следующему: это де-
лает честь профессору... Профессор может быть споко-
ен... больше его никто не потревожит, ни в институте, ни
дома... меры будут приняты, камеры его в совершенней-
шей безопасности...
— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? —
спросил Персиков, глядя поверх очков.
Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не толь-
ко хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся и
передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил.
— А что это за каналья у меня была?
Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклон-
чиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит
обращать внимания... тем не менее он убедительно про-
сит гражданина профессора держать в полной тайне
происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.
Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но
заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбро-
сил огненный кружочек, и женский голос предложил
профессору, если он желает жениться на вдове интерес-
ной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл
в трубку:
— Я вам советую лечиться у профессора Россоли-
мо- — и получил второй звонок.
Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, доста-
точно известное, звонило из Кремля, долго и сочувствен-
но расспрашивало Персикова о его работе и изъявило
желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона,
Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней
квартире загремели страшные трубы и полетели вопли
Валкирий,— радиоприемник у директора суконного треста
принял вагнеровский концерт в Большом театре. Перси-
ков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил
Марье Степановне, что он будет судиться с директором,
что он сломает ему этот приемник, что он уедет из
Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, зада-
лись целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать
в кабинете на диване и заснул под нежные переборы
клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Боль-
шого театра.
Сюрпризы продолжались и на следующий день. При-
ехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце
неизвестного ему гражданина в модном зеленом котел-
ке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся
к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его
стерпел. Но в передней института кроме растерянного
Панкрата навстречу Персикову поднялся второй коте-
лок и вежливо его приветствовал:
Роковые яйца
301
— Здравствуйте, гражданин профессор.
— Что вам надо? — страшно спросил Персиков,
сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но коте-
лок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом
нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он,
котелок, именно затем здесь и находится, чтобы изба-
вить профессора от всяких назойливых посетителей...
что профессор может быть спокоен не только за двери
кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвер-
нул на мгновение борт пиджака и показал профессору
какой-то значок.
— Гм... однако у вас здорово поставлено дело,—
промычал Персиков и прибавил наивно: — а что вы
здесь будете есть?
На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут
сменять.
Три дня после этого прошли великолепно. Навещали
профессора два раза из Кремля, да один раз были
студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты
порезались все до единого, и по их лицам было видно,
что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суе-
верный ужас.
— Поступайте в кондуктора! Вы не можете зани-
маться зоологией,— неслось из кабинета.
— Строг? — спрашивал котелок у Панкрата.
— У, не приведи бог,— отвечал Панкрат,— ежели
какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из каби-
нета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в
пивную.
За всеми этими делишками профессор не заметил
трех суток, но на четвертые его вновь вернули к дей-
ствительной жизни, и причиной этого был тонкий и визг-
ливый голос с улицы.
— Владимир Ипатьич! — прокричал голос в откры-
тое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло:
Персиков слишком переутомился за последние дни. В
этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно
смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле.
Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любо-
пытством он выглянул в окно и увидал на тротуаре
Альфреда Вронского. Профессор сразу узнал титуло-
ванного обладателя карточки по остроконечной шляпе и
блокноту. Вронский нежно и почтительно поклонился
окну.
— Ах, это вы? — спросил профессор. У него не
хватило сил рассердиться, и даже любопытно показа-
лось, что такое будет дальше? Прикрытый окном, он
чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессмен
ный котелок на улице немедленно повернул ухо к Врон-
скому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.
— Пару минуточек, дорогой профессор,— заговорил
Вронский, напрягая голос с тротуара,— я только один
вопросик, и чисто зоологический. Позволите предложить?
— Предложите,— лаконически и иронически ответил
Персиков и подумал: «Все-таки в этом мерзавце есть
что-то американское».
— Что вы скажете за кур, дорогой профессор? —
крикнул Вронский, сложив руки щитком.
Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез,
нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:
— Панкрат, впусти этого с тротуара.
Когда Вронский появился в кабинете, Персиков на-
столько простер свою ласковость, что рявкнул ему:
— Садитесь!
И Вронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящий-
ся табурет.
— Объясните мне, пожалуйста,— заговорил Перси-
ков,— вы пишете там, в этих ваших газетах?
— Точно так,— почтительно ответил Альфред.
— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если
вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара
минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить
«насчет кур»?
Вронский жидко и почтительно рассмеялся:
— Валентин Петрович исправляет.
— Кто это такой Валентин Петрович?
— Заведующий литературной частью.
— Ну ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону
вашего Петровича. Что именно вам желательно знать
насчет кур?
— Вообще все, что вы скажете, профессор.
Тут Вронский вооружился карандашом. Победные
искры взметнулись в глазах Персикова.
— Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист
по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к
Емельяну Ивановичу Португалову, в I-м университете.
Я лично знаю весьма мало...
Вронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что
он понял шутку дорогого профессора. «Шутка — мало!» —
черкнул он в блокноте.
— Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры, или
гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейст-
ва фазановых... — заговорил Персиков громким голосом
и глядя не на Вронского, а куда-то вдаль, где перед ним
подразумевалась тысяча человек... — из семейства фа-
зановых. - фазианидэ. Представляют собою птиц с мя-
систо-кожаным гребнем и двумя лопастями под нижкёй
челюстью... гм... хотя, впрочем, бывает и одна в середине
подбородка... Ну, что ж еще. Крылья короткие и округ-
ленные... Хвост средней длины, несколько ступенчатый и
даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья сер-
пообразно изогнуты... Панкрат... принеси из модельного
кабинета модель № 705, разрезной петух... впрочем, вам
это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели... Повторяю
вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне
лично известно 6 видов дико живущих кур... гм... Пор-
тугалов знает больше... в Индии и на Малайском архи-
пелаге. Например, Банкивский петух или Казинту, он
водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Асса-
ме, в Бирме... Вилохвостый петух или Галлус Вариус на
Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется
замечательный петух Галл юс Энеус, на юго-востоке Ин-
дии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннера-
това петуха... Я вам потом покажу рисунок. Что же
касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стен-
ли, больше он нигде не водится.
Вронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.
— Еще что-нибудь вам сообщить?
— Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных
болезней,— тихонечко шепнул Альфред.
— Гм, не специалист я... вы Португалова спросите...
А впрочем... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточ-
ный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или
пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное
воспаление слизистых оболочек... Пневмономикоз, тубер-
кулез, куриные парши... мало ли что может быть... (ис-
кры прыгали в глазах Персикова)... отравление, напри-
мер, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха,
ревматизм, грибок Ахорион Шенляйни... очень интерес-
ная болезнь. При заболевании им на гребне образуются
маленькие пятна, похожие на плесень...
Вронский вытер пот со лба цветным носовым платком.
— А какая же, по вашему мнению, профессор, при-
чина теперешней катастрофы?
— Какой катастрофы?
— Как, разве вы не читали, профессор? — удивился
Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты
«Известия».
304
Михаил Булгаков
— Я не читаю газет,— ответил Персиков и насупился.
— Но почему же, профессор? — нежно спросил
Альфред.
— Потому что они чепуху какую-то пишут,— не
задумываясь, ответил Персиков.
— Но как же, профессор,— мягко шепнул Вронский
и развернул лист.
— Что такое? — спросил Персиков и даже поднялся
с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Вронского.
Он подчеркнул острым лакированным пальцем неверо-
ятнейшей величины заголовок через всю страницу газе-
ты «Куриный мор в республике».
— Как? — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...
Глава VI
МОСКВА В ИЮНЕ 1928 ГОДА
Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали.
На Театральной площади вертелись белые фонари авто-
бусов, зеленые огни трамваев; над бывшим Мюр и
Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом,
прыгала электрическая разноцветная женщина, выбра-
сывая по буквам разноцветные слова: «Рабочий кре-
дит». В сквере против Большого театра, где бил ночью
разноцветный фонтан, толклась и гудела толпа. А над
Большим театром гигантский рупор завывал:
«Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринар-
ном институте дали блестящие результаты. Количест-
во... куриных смертей за сегодняшнее число уменьши-
лось вдвое...»
Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над
театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор
жаловался басом:
«Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с
куриною чумой в составе наркомздрава, наркомзема,
заведующего животноводством товарища Птахи-Поросю-
ка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища
Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!.. — хохотал
и плакал, как шакал, рупор,— в связи с куриною чу-
мой!»
Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали
белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли
сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у
Роковые яйца
305
стен у больших листов объявлений, освещенных резкими
красными рефлекторами:
«Под угрозою тягчайшей ответственности воспреща-
ется населению употреблять в пищу куриное мясо и
яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на
рынках подвергаются уголовной ответственности с кон-
фискацией всего имущества. Все граждане, владеющие
яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные
отделения милиции».
На крыше «Рабочей газеты» на экране грудой до
самого неба лежали куры и зеленоватые пожарные,
дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином.
Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым
распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакива-
ла огненная надпись: «Сожжение куриных трупов на
Ходынке».
Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих
витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя
перерывами, на обед и ужин, заколоченные окна под
вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия».
Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые авто-
бусы, мимо милиционеров проносились шипящие маши-
ны с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».
— Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами,— шур-
шали в толпе.
В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фона-
рями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир»,
и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали
картонные вывески, залитые пятнами ликеров: «По рас-
поряжению Моссовета — омлета нет. Получены свежие
устрицы».
В «Эрмитаже», где бусинками жалобно горели ки-
тайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на
убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде
куплетисты Шраме и Карманчиков пели куплеты, сочи-
ненные поэтами Ардо и Аргуевым:
Ах, мама, что я буду делать
Без яиц?? —
и грохотали ногами в чечетке.
Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, по-
ившего, как известно, в 1927 году, при постановке
пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились
Михаил Булгаков
трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся
разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую
пьесу писателя Эрендорга «Куриный дох» в постановке
ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера респуб-
лики Кухтермана. Рядом, в «Аквариуме», переливаясь
рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским
телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло
обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по
Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею
цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты:
«В театре Корш возобновляется «Шантеклер» Ростана».
Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес
моторов:
— Кошмарная находка в подземелье! Польша гото-
вится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профес-
сора Персикова!!
В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей
навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный
клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке
Биму:
— Я знаю, отчего ты такой печальный!
— Отциво? — пискливо спрашивал Бим.
— Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка
их нашла.
— Га-га-га-га,— смеялся цирк так, что в жилах стыла
радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом
веяли трапеции и паутина.
— А-ап! — пронзительно кричали клоуны, и кормле-
ная белая лошадь выносила на себе чудной красоты
женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.
Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая
на поталкивания и тихие и нежные зазывания прости-
туток, пробирался по Моховой вдохновенный и одино-
кий, увенчанный неожиданною славой Персиков к огнен-
ным часам у Манежа. Здесь, не глядя кругом, погло-
щенный своими мыслями, он столкнулся со странным,
старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальца-
ми прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у
человека на поясе.
— Ах, черт! — пискнул Персиков.— Извините.
— Извиняюсь,— ответил встречный неприятным го-
лосом, и кое-как они расцепились в людской каше.
И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас за-
был о столкновении.
Глава VII
РОКК
Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские
ветеринарные прививки, умелы ли заградительные са-
марские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по
отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже,
успешно ли работала чрезвычайная московская комис-
сия, но хорошо известно, что через две недели после
последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле
кур в Союзе Республик было совершенно чисто. Кое-где
в двориках уездных городков валялись куриные сирот-
ливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах
поправлялись последние из жадных, доканчивая крова-
вый понос со рвотой.. Людских смертей, к счастью, на
всю республику было не более тысячи. Больших беспо-
рядков тоже не последовало. Объявился было, правда,
в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж на
кур вызван не кем иным, как комиссарами, но особен-
ного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили
нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да
выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделе-
нии. По счастью, расторопные волоколамские власти
приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк
прекратил свою деятельность, а во-вторых, стекла на
телеграфе вставили.
Дойдя на Севере до Архангельска и Сюмкина Высел-
ка, мор остановился сам собой по той причине, что идти
ему дальше было некуда,— в Белом море куры, как
известно, не водятся. Остановился он и во Владивосто-
ке, ибо далее был океан. На далеком Юге — пропал и
затих где-то в выжженных пространствах Ордубата,
Джульфы и Карабулака, а на Западе удивительным
образом задержался как раз на польской и румынской
границах. Климат, что ли, там был иной или сыграли
роль заградительные кордонные меры, принятые сосед-
ними правительствами, но факт, что мор дальше не
пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала
неслыханный в истории падеж, а правительство совет-
ских республик, не поднимая никакого шума, работало
не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с
куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комис-
сию по поднятию и возрождению куроводства в респуб-
лике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой, в со-
»в
Михаил Булгаков
ставе шестнадцати товарищей. Был основан Доброкур,
почетными товарищами председателя в который вошли
Персиков и Португалов. В газетах под их портретами
появились заголовки: «Массовая закупка яиц за грани-
цей» и «Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию».
Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журна-
листа Колечкина, заканчивающийся словами: «Не зарь-
тесь, господин Юз, на наши яйца,— у вас есть свои!»
Профессор Персиков совершенно измучился и зара-
ботался в последние три недели. Куриные события
выбили его из колеи и навалили на него двойную тя-
жесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в
заседании куриных комиссий и время от времени выно-
сить длинные беседы то с Альфредом Вронским, то с
механическим толстяком. Пришлось вместе с профессо-
ром Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борн-
гартом анатомировать и микроскопировать кур в поис-
ках бациллы чумы и даже в течение трех вечеров на
скорую руку написать брошюру «Об изменениях печени
у кур при чуме».
Работал Персиков без особого жара в куриной об-
ласти, да оно и понятно,— вся его голова была полна
другим — основным и важным — тем, от чего оторвала
его куриная катастрофа, т. е. от красного луча. Рас-
страивая свое и без того надломленное здоровье, урывая
часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистен-
ку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете инсти-
тута, Персиков ночи напролет возился у камеры и мик-
роскопа.
К концу июля гонка несколько стихла. Дела пере-
именованной комиссии вошли в нормальное русло, и
Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы
были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом
зрела со сказочной быстротою рыбья и лягушачья икра.
Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально за-
казанные стекла, и в последних числах июля, под на-
блюдением Иванова, механики соорудили две новых
больших камеры, в которых луч достигал у основания
ширины папиросной коробки, а в раструбе — целого
метра. Персиков радостно потер руки и начал готовить-
ся к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде
всего он по телефону сговорился с народным комисса-
ром просвещения, и трубка наквакала ему самое любез-
ное и всяческое содействие, а затем Персиков по теле-
фону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующе-
'РокОЙые
я»
го отделом животноводства при верховной комиссии.
Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое
внимание. Дело шло о большом заказе за границей для
профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он
тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого
из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и
важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Перси-
кову автомобиль?
— Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в
трамвае,— ответил Персиков.
— Но почему же? — спросил таинственный голос и
снисходительно усмехнулся.
С Персиковым все вообще разговаривали или с по-
чтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как ма-
ленькому, хоть и крупному, ребенку.
— Он быстрее ходит,— ответил Персиков, после чего
звучный басок в телефон ответил:
— Ну, как хотите.
Прошла еще неделя, причем Персиков, все более
отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело
погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных
ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна
и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз,
и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте.
Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы
в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать до-
клад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это
был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале
от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков
н шипящие дуговые трубки заливали светом черные
смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстра-
де, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжко
дыша и серея, на блюде, влажная лягушка величиною
с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было
семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой
вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы
кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него
были потные, мокрые, и черный ьалстук сидел не под
подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и
।умане были сотни желтых лиц и мужских белых гру-
дей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и
пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно
1Яметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь
по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал
себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру
31Q
Михаил Булгаков
в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато...
Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него
липко и жарко по шее... И дрожащею рукой схватился
профессор за перила.
— Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? — наброси-
лись со всех сторон встревоженные голоса.
— Нет, нет,— ответил Персиков, оправляясь,— про-
сто я переутомился... да... Позвольте мне стакан воды.
♦ ♦ ♦
Был очень солнечный августовский день. Он мешал
профессору, поэтому шторы были опущены. Один гиб-
кий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на
стеклянный стол, заваленный инструментами и стекла-
ми. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в
изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мерт-
выми от усталости, но довольными глазами в приоткры-
тую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того
душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал
красный сноп луча.
В дверь постучали.
— Ну? — спросил Персиков.
Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сло-
жил руки по швам и, бледнея от страха перед божест-
вом, сказал так:
— Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.
Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он
сузил глазки и молвил:
— Это интересно. Только я занят.
— Они говорить, что с казенной бумагой с Кремля.
— Рок с бумагой? Редкое сочетание,— вымолвил
Персиков и добавил: — Ну-ка, дай-ка его сюда!
— Слушаю-с,— ответил Панкрат и, как уж, исчез за
дверью.
Через минуту она скрипнула опять, и появился на
пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставил-
ся в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков
был слишком далек от жизни.— он ею не интересовал-
ся, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная
и главная черта вошедшего человека. Он был странно
старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершен-
но уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924
году, в начале его, но в 1928 году он бы странен. В то
Роковые яйца ' зУт
время как наиболее даже отставшая часть пролетариа-
та — пекаря — ходили в пиджаках, когда в Москве
редкостью был френч — старомодный костюм, оставлен-
ный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была
кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах
обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой кон-
струкции пистолет маузер в желтой битой кобуре. Лицо
вошедшего произвело на Персикова то же впечатление,
что и на всех,— крайне неприятное впечатление. Ма-
ленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то
же время уверенно, что-то развязное было в коротких
ногах с.плоскими ступнями. Лицо иссиня бритое. Пер-
сиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел вин-
том и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а
сквозь них, молвил:
— Вы с бумагой? Где же она?
Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он уви-
дал. Вообще он был мало способен смущаться, но тут
смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего
шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком наби-
тый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в
аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч.
И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпа-
давшего из рефлектора, был достаточно странен и вели-
чественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него
взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения
сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а
сказал:
— Я Александр Семенович Рокк!
— Ну-с? Так что?
— Я назначен заведующим показательным совхозом
«Красный луч»,— пояснил пришлый.
- Ну-с?
— И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.
— Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.
Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ,
напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он
протянул Персикову. А затем без приглашения сел на
винтящийся табурет.
— Не толкните стол,— с ненавистью сказал Пер-
сиков.
Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем
краю которого в сером темном отверстии мерцали без-
жизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло
от них.
312
Михаил Булгаков
Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднял-
ся с табурета и бросился к телефону. Через несколько
секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени
раздражения:
— Простите... Я не могу понять... Как же так? Я...
без моего согласья, совета... Да ведь он черт знает что
наделает!!.
Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на та-
бурете.
— Извиняюсь,— начал он,— я завед...
Но Персиков махнул на него крючочком и продол-
жал:
— Извините, я не могу понять... Я, наконец, катего-
рически протестую. Я не даю своей санкции на опыты
с яйцами... Пока я сам не попробую их...
Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже из-
дали было понятно, что голос в трубке снисходительный,
говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багро-
вый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в
стену сказал:
— Я умываю руки.
Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал
ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх
сквозь очки и вдруг взвыл:
— Панкрат!
Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по
трапу в опере. Персиков глянул на него и рявкнул:
— Выйди вон, Панкрат!
И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего
изумления, исчез.
Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:
— Извольте-с... Пов-винуюсь. Не мое дело. Да мне и
неинтересно.
Пришельца профессор не столько обидел, сколько
изумил.
— Извиняюсь,— начал он,— вы же, товарищ?..
— Что вы все «товарищ» да «товарищ»... — хмуро
пробубнил Персиков и смолк.
«Однако»,— написалось на лице у Рокка.
— Изви...
— Так вот-с, пожалуйста,— перебил Персиков.— Вот
дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения
окуляра,— Персиков щелкнул крышкой камеры, похо-
жей на фотографический аппарат,— пучок, который вы
можете собрать путем передвижения объективов, вот
Роковые яйца
313
№ 1... и зеркало № 2.— Персиков погасил луч, опять
зажег его на полу асбестовой камеры,— а на полу в
луче можете разложить все, что вам нравится, и делать
опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?
Персиков хотел выразить иронию и презрение, но
пришелец их не заметил, внимательно блестящими гла-
зами всматриваясь в камеру.
— Только предупреждаю,— продолжал Персиков,—
руки не следует совать в луч, потому что, по моим
Наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия... а
злокачественные они или нет, я, к сожалению, еще не
могу установить.
Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину,
уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессо-
ра. Они были насквозь прожжены иодом, а правая у
кисти забинтована.
— А как же вы, профессор?
— Можете купить резиновые перчатки у Швабе на
Кузнецком,— раздраженно ответил профессор.— Я не
обязан об этом заботиться.
Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу:
— Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?..
Рокк наконец обиделся сильно.
— Извин...
— Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы
уцепились за этот луч?..
— Потому, что это величайшей важности дело...
— Ага. Величайшей? Тогда... Панкрат!
И когда Панкрат появился:
— Погоди, я подумаю.
И Панкрат покорно исчез.
— Я,— говорил Персиков,— не могу понять вот чего:
почему нужна такая спешность и секрет?
— Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку,—
ответил Рокк,— вы же знаете, что куры все издохли до
единой.
— Ну так что из этого? — завопил Персиков,— что
же, вы хотите их воскресить моментально, что ли? И по-
чему при помощи еще не изученного луча?
— Товарищ профессор,— ответил Рокк,— вы меня,
честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необхо-
димо возобновить у себя куроводство, потому что за
границей пишут про нас всякие гадости. Да.
— И пусть себе пишут...
— Ну, знаете,— загадочно ответил Рокк и покрутил
головой.
Михаил Булгаков
' — Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль
растить кур из яиц...
— Мне,— ответил Рокк...
— Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда
вы узнали о свойствах луча?
— Я, профессор, был на вашем докладе.
— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только соби
раюсь!
— Ей-богу, выйдет,— убедительно вдруг и задушевно
сказал Рокк,— ваш луч такой знаменитый, что хоть
слонов можно вырастить, не только цыплят.
— Знаете что,— молвил Персиков,— вы не зооло» f
нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый эксперимен
татор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и
только у меня отнимаете время...
— Мы вам вернем камеры. Что значит?..
— Когда?
— Да вот я выведу первую партию.
— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панк-
рат!
— У меня есть с собой люди,— сказал Рокк,— н
охрана...
К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустели
столы. Люди Рокка увезли три больших камеры, оста
вив профессору только первую, его маленькую, с кото
рой он начинал опыты.
Надвигались июльские сумерки, серость овладела
институтом, потекла по коридорам. В кабинете слыша
лись монотонные шаги — это Персиков, не зажигай
огня, мерил большую комнату от окна к дверям. Стран-
ное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настрое-
ние овладело людьми, населяющими институт, и живот
ными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый кон-
церт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкра
ту пришлось ловить в коридорах ужа, который.ушел из
своей камеры, и, когда он его поймал, вид у ужа был
такой, словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы
только уйти.
В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета
‘Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидал стран-
ную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и
глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.
— Вот, Панкрат,— сказал Персиков и указал на
опустевший стол.
Роковые яйца
315
Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у
профессора в сумерках заплаканы. Это было так не-
обыкновенно, так страшно.
— Так точно,— плаксиво ответил Панкрат и по-
думал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»
— Вот,— повторил Персиков, и губы у него дрогнули
точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с
того ни с сего любимую игрушку.
— Ты знаешь, дорогой Панкрат,— продолжал Пер- -
сиков, отворачиваясь к окну,— жена-то моя, которая
уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила,
в теперь умерла, оказывается... Вот история, Панкрат
милый... Мне письмо прислали...
Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профес-
сора, вот она... яочь. Москва... где-то какие-то белые
шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись,
тосковал, держал от страху руки по швам...
— Иди, Панкрат,— тяжело вымолвил профессор и
махнул рукой,— ложись спать, миленький, голубчик,
Панкрат.
И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета
почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, раз-
рыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутыл-
ку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного
стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько
повеселели.
Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат,
сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле,
говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь
под ситцевой рубахой:
— Лучше б убил, ей-бо...
— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал
котелок.
— Ей... бо... — уверял Панкрат.
— Великий ученый,— согласился котелок,— извест-
но, лягушка жены не заменит.
— Никак,— согласился Панкрат.
Потом он подумал и добавил:
— Я свою бабу подумываю выписать сюды... чего ей,
н самом деле, в деревне сидеть... Только она гадов этих
не выносит нипочем...
— Что говорить, пакость ужаснейшая,— согласился
котелок.
Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да
н света в нем не было. Не было полоски под дверью.
Глава VIII
ИСТОРИЯ в СОВХОЗЕ
Положительно нет прекраснее времени, нежели эре
лый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928
года было, как известно, отличнейшее, с дождями вес
ной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным
урожаем... Яблоки в бывшем имении Шереметевых зре
ли... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля...
Человек-то лучше становится на лоне природы. И не
так уже неприятен показался бы Александр Семенович,
как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо
его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашки
показывала грудь, поросшую густейшим черным воло
сом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его
успокоились и подобрели.
Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца
с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звез-
дой:
«СОВХОЗ «КРАСНЫЙ ЛУЧ»
и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три
черных камеры под охраной.
Весь день Александр Семенович хлопотал со своими
помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем
саду — оранжерее Шереметевых... К вечеру все было
готово. Под стеклянным потолком загорелся белый
матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и
механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертеи
блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных
ящиках красный таинственный луч.
Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лест
ницу, проверяя провода.
На следующий день вернулся со станции тот же
полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной
гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми
по черному фону надписями:
VORSICHT: EIER!!
ОСТОРОЖНО: ЯЙЦА!!
— Что же так мало прислали? — удивился Алек-
сандр Семенович, однако тотчас захлопотал и стал рас-
паковывать яйца. Распаковывание происходило все п
той же оранжерее, и принимали в нем участие: сам
Роковые яйца
Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена
Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых,
н ныне служащий в совхозе на универсальной должнос-
ти сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе,
и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило
более простой, семейный и дружественный характер.
Александр Семенович распоряжался, любовно посмат-
ривая на ящики, выглядевшие таким солидным компакт-
ным подарком под нежным закатным светом верхних
стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мир-
но дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и
металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль.
Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился
возле ящиков.
— Вы потише, пожалуйста,— говорил он охраните-
лю.— Осторожнее. Что ж вы, не видите — яйца?..
— Ничего,— хрипел уездный воин, буравя,— сей-
час...
Тр-р-р... и сыпалась пыль.
Яйца оказались упакованными превосходно: под де-
ревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем
промокательной, затем следовал плотный слой стружек,
затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.
— Заграничной упаковочки,— любовно говорил Алек-
сандр Семенович, роясь в опилках,— это вам не то что
у нас.— Маня, осторожнее, ты их побьешь.
— Ты, Александр Семенович, сдурел,— отвечала
жена,— какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не
видала? Ой!., какие большие!
— Заграница,— говорил Александр Семенович, вы-
кладывая яйца на деревянный стол,— разве это наши
мужицкие яйца... Все, вероятно, брамапутры, черт их
возьми! немецкие...
— Известное дело,— подтверждал охранитель, любу-
ясь яйцами.
— Только не понимаю, чего они грязные,— говорил
задумчиво Александр Семенович... — Маня, ты при-
сматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на те-
лефон.
И Александр Семенович отправился на телефон в
контору совхоза через двор.
Вечером в кабинете зоологического института затре-
щал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и
подошел к аппарату.
— Ну? — спросил он.
— С вами сейчас будет говорить провинция,— тихи
с шипением отозвалась трубка женским голосом.
— Ну. Слушаю,— брезгливо спросил Персиков и
черный рот телефона... В том что-то щелкало, а затем
дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно.
— Мыть ли яйца, профессор?
— Что такое? Что? Что вы спрашиваете? — раздрн
жился Персиков,— откуда говорят? *
— Из Никольского, Смоленской губернии,— ответн
ла трубка.
— Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю
Кто это?
— Рокк,— сурово сказала трубка.
— Какой Рокк? Ах да... это вы... так вы что спраши
ваете?
— Мыть ли их?., прислали из-за границы мне пар
тию курьих яиц...
- Ну?
— ...А они в грязюке в какой-то...
— Что-то вы путаете... Как они могут быть в «гря
зюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть
немного... помет присох... или что-нибудь еще...
— Так не мыть?
— Конечно, не нужно... Вы что, хотите уже заряжать
яйцами камеры?
— Заряжаю. Да,— ответила трубка.
— Гм,— хмыкнул Персиков.
— Пока,— цокнула трубка и стихла.
— «Пока»,— с ненавистью повторил Персиков при-
ват-доценту Иванову,— как вам нравится этот тип, Петр
Степанович?
Иванов рассмеялся.
— Это он? Воображаю, что он там напечет из этих
яиц.
— Д... д... д... — заговорил Персиков злобно,— вы
вообразите, Петр Степанович... ну, прекрасно... очень
возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч
окажет такое же действие, как и на плазму голых.
Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни
вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут...
может быть, они ни к черту не годные куры. Может
быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть
нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять ня
ногах. Может быть у них кости ломкие.— Персиков
вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.
. Роковые яйца
31?
— Совершенно верно,— согласился Иванов.
— Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они
дадут поколение? Может быть, этот тип выведет сте-
рильных кур. Догонит их до величины собаки, а потом-
ства от них жди потом до второго пришествия.
— Нельзя поручиться,— согласился Иванов.
— И какая развязность,— расстраивал сам себя
Персиков,— бойкость какая-то! И ведь заметьте, что
этого прохвоста мне же поручено инструктировать.—
Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она
валялась на экспериментальном столе)... а как я его
буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по
этому вопросу ничего сказать не могу.
— А отказаться нельзя было? — спросил Иванов.
Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее
Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.
— М-да... — сказал он многозначительно.
— И ведь заметьте... Я своего заказа жду два меся-
ца, и о нем ни слуху ни духу. А этому моментально и
нйца прислали, и вообще всяческое содействие...
— Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьич.
И просто кончится тем, что вернут вам камеры.
— Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты
задерживают.
— Да, вот это скверно. У меня все готово.
— Вы скафандры получили?
— Да, сегодня.
Персиков несколько успокоился и оживился.
— Угу... я думаю, мы так сделаем. Двери операци-
онной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откро-
ем...
— Конечно,— согласился Иванов.
— Три шлема?
— Три. Да.
— Ну вот-с... Вы, стало быть, я, и кого-нибудь из
студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.
— Гринмута можно.
— Это который у вас сейчас над саламандрами
работает?., гм... он ничего... хотя, позвольте, весной он не
мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голо-
зубых,— злопамятно добавил Персиков.
— Нет, он ничего... Он хороший студент,— заступил-
ся Иванов.
— Придется уж не поспать одну ночь,— продолжал
Персиков,— только вот что, Петр Степанович, вы проверь-
320
Михаил Булгаков' их
те газ, а то черт их знает, эти Доброхимы ихние. При-
шлют какую-нибудь гадость.
— Нет, нет,— и Иванов замахал руками,— вчера я
уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Влади-
мир Ипатьич, превосходный газ.
— Вы на ком пробовали?
— На обыкновенных жабах. Пустишь струйку — мгно-
венно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так
сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам
прислали электрический револьвер.
— Да я не умею с ним обращаться...
— Я на себя беру,— ответил Иванов,— мы на Клязь-
ме из него стреляли, шутки ради... там один гепеур
рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто
чрезвычайно... Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал.
Мы в ворон стреляли... По-моему даже и газа не нужно.
— Гм... это остроумная идея... Очень,— Персикоп
пошел в угол, взял трубку и квакнул...
— Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...
♦ ♦ ♦
Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями
видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный
зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна свети
ла и такую красоту навела на бывшее именье Шеремс
тевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно
сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды
стали двуцветными пополам — косяком лунный столб,
а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было
свободно читать «Известия», за исключением шахматно-
го отдела, набранного мелкой нонпарелью. Но в такие
ночи никто «Известия», понятное дело, не читал... Дуня,
уборщица, оказалась в роще за совхозом, и там же
оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер по-
трепанного совхозного полугрузовичка. Что они там дела-
ли — неизвестно. Приютились они в непрочной тени
вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера.
В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника,
а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной ве-
ранде и мечтала, глядя на красавицу луну.
В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне
Концовке, расположенной за совхозом, идиллический
пейзаж огласился прелестными нежными звуками флей-
ты. Выразить немыслимо, до чего они были уместны над
ю*
Роковые яйца
321
рощами и бывшими колоннами шереметевского дворца.
Хрупкая Лиза из «Пиковой дамы» смешала в дуэте свой
голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную
высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого,
до слез очаровывающего режима.
Угасают... Угасают... —
свистала, переливая и вздыхая, флейта.
Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русал-
ка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и му-
жественной щеке шофера.
— А хорошо дудит, сукин сын,— сказал шофер,
обнимая Дуню за талию мужественной рукой.
Играл на флейте сам заведывающий совхозом Алек-
сандр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему спра-
ведливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта
была специальностью Александра Семеновича. Вплоть
до 1917 года он служил в известном концертном ансам-
бле маэстро Петухова, ежевечерне оглашающим строй-
ными звуками фойе уютного кинематографа «Волшеб-
ные грезы» в городе Екатеринославе. Но великий 1917
год, переломивший карьеру многих людей, и Александра
Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Вол-
шебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и
бросился в открытое море войны и революции, сменив
флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по
волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в
Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке.
Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить
Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек
положительно велик, и, конечно, не в фойе «Грез» ему
сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что
последний, 1927, и начало 28-го года застали Алексан-
дра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редак-
тировал огромную газету, а засим, как местный член
высшей хозяйственной комиссии, прославился своими
изумительными работами по орошению туркестанского
края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил
вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той орга-
низации, билет которой с честью носил в кармане про-
винциально-старомодный человек, оценила его и назна-
чила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы!
На горе республике, кипучий мозг Александра Семенови-
ча не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением
Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж»
11-1*57
322
Михаил Булгаков
родилась у Александра Семеновича идея, как при помо-
щи луча Персикова возродить в течение месяца кур в
республике. Рокка выслушали в комиссии животновод-
ства, согласились с ним,, и Рокк пришел с плотной
бумагой к чудаку зоологу.
Концерт над стеклянными водами и рощами и пар-
ком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, ко-
торое прервало его раньше времени. Именно,#в Концов-
ке собаки, которым по времени уже следовало бы спать,
подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно
перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разраста-
ясь, полетел *по полям, и вою вдруг ответил трескучий
в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это
было так жутко, что показалось даже на мгновенье,
будто померкла таинственная колдовская ночь.
Александр Семенович оставил флейту и вышел на
веранду.
— Маня. Ты слышишь? Вот проклятые собаки... Чего
они, как ты думаешь, разбесились?
— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.
— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички,—
предложил Александр Семенович.
— Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем поме-
шался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!
— Нет, Манечка, пойдем.
В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с
горящим лицом и блистающими глазами. Александр
Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все
стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом
полу лежали правильными рядами испещренные пятна-
ми ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно... а
шар вверху в 15000 свечей тихо шипел...
— Эх, выведу я цыпляток! — с энтузиазмом говорил
Александр Семенович, заглядывая то с боку в контроль-
ные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные
отверстия,— вот увидите... Что?.. Не выведу?
— А вы знаете, Александр Семенович,— сказала
Дуня, улыбаясь,— мужики в Концовке говорили, что вы
антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех
машиной выводить. Убить вас хотели.
Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене.
Лицо его пожелтело.
— Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сде-
лаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им
собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников.
11-2
Роковые яйца
323
Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут порабо-
тать... А то это медвежий какой-то угол...
— Темнота,— молвил охранитель, расположившийся
на своей шинели у двери оранжереи.
Следующий день ознаменовался страннейшими и
необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же
блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно
светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встре-
тили его полным безмолвием. Это было замечено реши-
тельно всеми. Словно перед грозой. Но никакой грозы и
в помине не было. Разговоры в совхозе приняли стран-
ный и двусмысленный для Александра Семеновича от-
тенок, и в особенности потому, что со слов дяди, по
прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из
Концовки, стало известно, что якобы все птицы собра-
лись в косяки и на рассвете убрались куда-то из Ше-
реметева вон, на север, что было просто глупо. Алек-
сандр Семенович очень расстроился и целый день пот-
ратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой.
Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня
через два ораторов на две темы — международное
положение и вопрос о Доброкуре.
Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умол-
кли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-не-
приятна тишина среди деревьев, если в полдень убра-
лись куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру
умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изуми-
тельно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было
превосходно известно знаменитое стрекотание шереме-
тевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда
не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла
осока. Нужно признаться, что Александр Семенович
окончательно расстроился. Об этих происшествиях нача-
ли толковать, и толковать самым неприятным образом,
т. е. за спиной Александра Семеновича.
— Действительно, это странно,— сказал за обедом
Александр Семенович жене,— я не могу понять, зачем
этим птицам понадобилось улетать?
— Откуда я знаю? — ответила Маня.— Может быть,
от твоего луча?
— Ну, ты, Маня, обыкновеннейшая дура,— ответил
Александр Семенович, бросив ложку,— ты — как мужи-
ки. При чем здесь луч?
— А я не знаю. Оставь меня в покое.
Вечером произошел третий сюрприз — опять взвыли
и
собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями
стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.
Вознаградил себя несколько Александр Семенович
еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранже-
рее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в
красных яйцах. Токи... токи... токи... токи... — стучало то
в одном, то в другом, то в третьем яйце.
Стук в яйцах был триумфальным стуком 'для Алек-
сандра Семеновича. Тотчас были забыты странные про-
исшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее:
и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший
винтовку у двери.
— Ну, что? Что вы скажете? — победоносно спраши-
вал Александр Семенович. Все с любопытством накло-
няли уши к дверцам первой камеры,-— это они клювами
стучат, цыплятки,— продолжал, сияя, Александр Семе-
нович.— Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие
мои.— И от избытка чувств он похлопал охранителя по
плечу.— Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба
смотреть,— строго добавил он.— Чуть только начнут
вылупливаться, сейчас же мне дать знать.
— Хорошо,— хором ответили сторож, Дуня и охра-
нитель.
Таки... таки... таки... — закипало то в одном, то в
другом яйце первой камеры. Действительно, картина на
глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечи-
вающей кожуре была настолько интересна, что все об-
щество еще долго просидело на опрокинутых пустых
ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете со-
зревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно
поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась
зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно
сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушал ее
полное молчание то и дело начинающийся беспричинный
тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего
бесились проклятые псы — совершенно неизвестно.
Наутро Александра Семеновича ожидала неприят-
ность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикла-
дывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но
ничего не заметил.
— Непонятное дело,— уверял охранитель,— я тут
непричинен, товарищ Рокк.
— Спасибо вам, и от души благодарен,— распекал
его Александр Семенович,— что вы, товарищ, думаете?
Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и'скажи-
Роковые яйца
325
те, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит,
удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли
себе сами? Чтоб были мне цыплята!
— Некуда мне ходить. Что я, своего дела не знаю,—
обиделся наконец воин,— что вы меня попрекаете да-
ром, товарищ Рокк!
— Куды ж они подевались?
— Да я почем знаю,— взбесился наконец воин,— что
я, их укараулю разве? Я зачем приставлен. Смотреть,
чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою долж-
ность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не
обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята
вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!
Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще
что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом
деле было странное. В первой камере, которую заряди-
ли раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого
основания луча, оказались взломанными. И одно из них
даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на ас-
бестовом полу, в луче.
— Черт их знает,— бормотал Александр Семено-
вич,— окна заперты, не через крышу же они улетели!
Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклян-
ном переплете крыши было несколько широких дыр.
— Что вы, Александр Семенович,— крайне удиви-
лась Дуня,— станут вам цыплята летать. Они тут где-
нибудь... цып... цып... цып... — начала она кричать и
заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные
цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие
цыплята нигде не отзывались.
Весь состав служащих часа два бегал по двору сов-
хоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не
нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул ка-
мер был увеличен еще сторожем, и тому был дан стро-
жайший приказ: каждые четверть часа заглядывать в
окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича.
Охранитель сидел, насупившись, у дверей, держа вин-
товку между колен. Александр Семенович совершенно
захлопотался и только во втором часу дня пообедал.
После обеда он поспал часок в прохладной тени на
бывшей оттоманке Шереметева, напился совхозовского
сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что
теперь там все в полном порядке. Старик сторож лежал
животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное
стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не ухо-
дя от дверей.
326
Михаил Булгаков
Но были и новости: яйца в третьей камере, заряжен-
ные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать,
как будто внутри их кто-то всхлипывал.
— Ух, зреют,— сказал Александр Семенович,— вот
это зреют, теперь вижу. Видал? — отнесся он к сторожу.
— Да, дело замечательное,— ответил тот, качая
головой и совершенно двусмысленным тоном. ч
Александр Семенович посидел немного у камер, но
при нем никто не вылупился, он поднялся с корточек,
размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а
только пройдет на пруд выкупаться и чтобы его, в слу-
чае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в
спальню, где стояли две узких пружинных кровати со
скомканным бельем и на полу была навалена груда
зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для
будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а
подумав, захватил с собой и флейту, с тем чтобы на
досуге поиграть над водною гладью. Он бодро выбежал
из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке
направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая по-
лотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало
зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На
правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в кото-
рую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапис-
той путаницы послышалось шуршанье, как будто кто-то
поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное
сосание в сердце, Александр Семенович повернул голо-
ву к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два
дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смол-
кло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь
пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз
мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже
хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шо-
рох в зелени повторился и к нему присоединилось ко-
роткое сипение, как будто высочилось масло и пар из
паровоза. Александр Семенович насторожился и стал
всматриваться в глухую стену сорной заросли.
— Александр Семенович,— прозвучал в этот момент
голос жены Рокка, и белая ее кофточка .мелькнула,
скрылась и опять мелькнула в малиннике.— Подожди,
я тоже пойду купаться.
Жена спешила к пруду, но Александр Семенович
ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам.
Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их
чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые
Роковые яйца
327
пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеива-
ли бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шеве-
лясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую
корявую иву. Затем верх бревна надломился, немного
склонился, и над Александром Семеновичем оказалось
что-то напоминающее по высоте электрический москов-
ский столб. Но только это что-то было раза в три толще
столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой
татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея,
Александр Семенович глянул на верх ужасного столба,
и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой.
Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августов-
ский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно
он глядел на солнце сквозь летние штаны.
На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была
сплющена, заострена и украшена желтым круглым пят-
ном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ле-
дяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах
этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова
сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь
столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались
и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот,
покрытый липким потом, произнес четыре слова, со-
вершенно невероятных и вызванных сводящим с ума стра-
хом. Настолько уж хороши были эти глаза между ли-
стьями.
— Что это за шутки...
Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Ин-
дия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.
Голова вновь взвилась,.и стало выходить и туловище.
Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло
пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из
«Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загоре-
лись непримиримою ненавистью к этой опере.
— Что ты, одурел, что играешь на жаре? — послы-
шался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа
уловил Александр Семенович белое пятно.
Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся
и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитою ногой.
Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули
Александра Семеновича, отпустив его душу на покая-
ние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщи-
ной в человека, как пружина, выскочила из лопухов.
Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея
махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где
328
Михаил Булгаков
была белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно
отчетливо: Маня стала желто-белой, и ее длинные воло-
сы, как проволочные, поднялись на пол-аршина над
головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение
пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку,
ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо,
так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня
повторила режущий предсмертный крик. Змея изверну-
лась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и
стала Маню давить. Та больше не издала ни одного
звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости.
Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно
прижавшись к змеиной щеке. Изо рта у Мани плеснуло
кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей
брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув че-
люсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на
голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на
палец. От змеи во все стороны било такое жаркое
дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не
смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и
поседел. Сначала левая и потом правая половина его
черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смерт-
ной тошноте он оторвался наконец от дороги и, ничего
и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом,
бросился бежать...
Глава IX
ЖИВАЯ КАША
Агент Государственного политического управления на
станции Дугино Щукин был очень храбрым человеком,
он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полай-
тису:
— Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл,— потом
помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему
на лавке: — флейту-то положите.
Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении
дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и
замычал. Тогда Щукин и Полайтис поняли, что флейту
нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличав-
шийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за
пальцем отгибать и отогнул вее. Тогда флейту положили
на стол.
Роковые яйца
329
Это было ранним солнечным утром следующего за
смертью Мани дня.
— Вы поедете с нами,— сказал Щукин, обращаясь
к Александру Семеновичу,— покажете нам, где и что.—
Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрыл-
ся, как от страшного видения.
— Нужно показать,— добавил сурово Полайтис.
— Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.
— Отправьте меня в Москву,— плача, попросил
Александр Семенович.
— Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?
Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и
ужас потек из его глаз.
— Ну, ладно,— решил Щукин,— вы действительно
не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пройдет, с ним
и поезжайте.
Затем у Щукина с Полайтисом, пока сторож станци-
онный отпаивал Александра Семеновича водой и тот
лязгал зубами по синей выщербленной кружке, про-
изошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ниче-
го этого не было, а просто-напросто Рокк душевноболь-
ной и у него была страшная галлюцинация. Щукин же
склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в на-
стоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-кон-
стриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рокк при-
встал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая
руки, как библейский пророк:
— Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите?
Она была. Где же моя жена?
Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал
в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по рас-
поряжению Щукина, стал неотступно находиться при
Александре Семеновиче и должен был сопровождать его
в Москву. Щукин же с Полайтисом стали готовиться к
экспедиции. У них был всего один электрический ре-
вольвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пяти-
десятизарядная модель 27-го года, гордость француз-
ской техники для близкого боя, била всего на сто шагов,
но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все
живое убивала наповал. Промахнуться было очень труд-
но. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а
Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеме-
тик, взял обоймы, и на одном мотоциклете, по утренней
росе и холодку, они по шоссе покатились к совхозу.
Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от
330
Михаил Булгаков
совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело
прячась, в припадках смертного страха, в придорожную
траву), и, когда солнце начало значительно припекать,
на пригорке, под которым вилась речка Топь, глянул
сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тиши-
на стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты
обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша,
нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался
позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис
затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто
и нигде не отозвался, за исключением отдельных остер-
венившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход,
подошел к воротам с позеленевшими львами. Запылен-
ные агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью
с замком к переплету решетки машину и вошли во двор.
Тишина их поразила.
— Эй, кто тут есть! — окликнул Щукин громко.
Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли
двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурил-
ся. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря
светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню
и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белы-
ми осколками посуды.
-ж- Ты знаешь, что-то действительно у них случилось.
Я теперь вижу. Катастрофа,— молвил Полайтис.
— Эй, кто там есть! Эй! — кричал Щукин, но ему
отвечало только эхо под сводами кухни.
— Черт их знает! — ворчал Щукин.— Ведь не могла
же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем
в дом.
Дверь во дворце с колонной верандой была открыта
настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты про-
шли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но
ничего решительно не добились, и через вымершее крыль-
цо они вновь вышли во двор.
— Обойдем кругом. К оранжереям,— распорядился
Щукин,— все обшарим, а там можно будет протелефо-
нировать.
По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы,
'на задний двор, пересекли его и увидали блещущие
свекла оранжереи.
— Погоди-ка,— заметил шепотом Щукин и отстегнул
с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пу-
леметик. Странный и очень зычный звук тянулся в оран-
жерее и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит
Роковые яйца
331
паровоз. Зау-зау... зау-зау... с-с-с-с-с... — шипела оран-
жерея.
— А ну-ка осторожно,— шепнул Щукин, и, стараясь
не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым
стеклам и заглянули в оранжерею.
Тотчас Полайтис откинулся назад и лицо его стало
бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в
руке.
Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и
развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и
качая головами, по полу оранжереи ползли огромные
змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под
их телами. Вверху бледно горел огромной силы электри-
ческий шар, и от этого вся внутренность оранжереи
освещалась странным кинематографическим светом. На
полу торчали три темных, словно фотографических, ог-
ромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся,
потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое
световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам,
поднимались по переплетам рам, вылезали через отвер-
стия в крыше. На самом электрическом шаре висела
совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин,
и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то
погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло
странным гнилостным, словно прудовым, запахом. И еще
смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся
в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую
птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп в сером у
двери, рядом с винтовкой.
— Назад,— крикнул Щукин и стал пятиться, левой
рукою отдавливая Полайтиса и поднимая правою ре-
вольвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и
выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук
страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся
оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские го-
ловы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал
скакать по всему совхозу и играть отблесками на сте-
нах. Чах-чах-чах-тах,— стрелял Полайтис, отступая за-
дом. Странный четырехлапый шорох послышался сзади,
и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь.
Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого ц^ета,
с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, все
похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось
из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтису,
сбило его на землю.
332
Михаил Булгаков
— Помоги,— крикнул Полайтис, и тотчас левая рука
его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщет-
но пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле.
Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстре-
лить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить
товарища. Второй раз он выстрелил по направлению
оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных
морд высунулась одна огромная, оливковая и туловище
выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстре-
лом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь
возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила,
выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страш-
ного гада, не тронув агента. Наконец это ему удалось.
Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив во-
круг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув,
вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у
того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на
правую, здоровую руку, тянул переломанную левую ногу.
Глаза его угасали.
— Щукин... беги,— промычал он, всхлипывая.
Щукин выстрелил несколько раз по направлению
оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но ог-
ромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив
из подвального окна, перескользнула двор, заняв его
весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги
Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий
револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно,
потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно,
кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с
нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не
послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипя-
щий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по
ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя
было разобрать, чей это вой, собачий или человечий.
Глава X
КАТАСТРОФА
В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели
шары и толстый выпускающий редактор на свинцовом
столе верстал вторую полосу с телеграммами «По Сою-
зу Республик». Одна гранка попалась ему на глаза, он
всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал во-
Роковые яйца
333
круг себя корректоров из корректорской и метранпажа
и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой
бумаги было напечатано:
«Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась
курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вмес-
то хвоста у нее буржуазные дамские перья».
Наборщики страшно хохотали.
— В мое время,— заговорил выпускающий, хихикая
жирно,— когда я работал у Вани Сытина в «Русском
слове», допивались до слонов. Это верно. А теперь, ста-
ло быть, до страусов.
Наборщики хохотали.
— А ведь верно, страус,— заговорил метранпаж,—
что же, ставить, Иван Вонифатьевич?
— Да что ты, сдурел,— ответил выпускающий,— я
удивляюсь, как секретарь пропустил, просто пьяная
телеграмма.
— Попраздновали, это верно,— согласились набор-
щики, и метранпаж убрал со стола сообщение о стра-
усе.
Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содер-
жа, как обыкновенно, массу интересного материала, но
без каких бы то ни было намеков на грачевского стра-
уса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Из-
вестия», у себя в кабинете свернул лист «Известий»,
зевнув, молвил: «Ничего интересного» — и стал на-
девать белый халат. Через некоторое время в кабинете
у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В ка-
бинете же профессора Персикова была кутерьма. Испу-
ганный Панкрат стоял и держал руки по швам.
— Понял... слушаю-с,— говорил он.
Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему,
говоря:
— Поедешь прямо в отдел животноводства к этому
заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он —
свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и
сказал. И пакет ему отдай.
«Хорошенькое дело...» — подумал бледный Панкрат
и убрался с пакетом.
Персиков бушевал.
— Это черт знает что такое,— скулил он, разгуливая
по кабинету и потирая руки в перчатках,— это неслы-
ханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти
334
Михаил Булгаков
проклятые куриные яйца везут грудами, а я 2 месяца не
могу добиться необходимого. Словно до Америки дале-
ко! Вечная кутерьма, вечное безобразие,— он стал счи-
тать по пальцам: — ловля... ну, десять дней самое боль-
шое, ну, хорошо,— пятнадцать... ну, хорошо, двадцать, и
перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Бер-
лина к нам шесть часов... какое-то неописуемое безоб-
разие...
Он яростно набросился на телефон и стал куда-то
звонить.
В кабинете у него было все готово для каких-то
таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами
нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водо-
лазные шлемы с отводными трубками и несколько бал-
лонов, блестящих как ртуть, с этикеткою «Доброхим, не
прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными кос-
тями.
Понадобилось по меньшей мере три часа» чтоб про-
фессор успокоился и приступил к мелким работам. Так
он и сделал. В институте он работал до одиннадцати
часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится
за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший
по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая
телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны,
потому что доцент Иванов был в Художественном теат-
ре на «Федоре Иоанновиче» и, стало быть, сообщить
новость профессору было некому.
Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и
лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то
английскую статью в журнале «Зоологический вестник»,
полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вер-
тящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь гро-
мадный серый корпус на Тверской ул. во дворе, где
страшно гудели, потрясая все здание, ротационные ма-
шины «Известий». В кабинете выпускающего происходи-
ла невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно
бешеный, с красными глазами, метался, не зная, что
делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж
ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:
— Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай
завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из
машины же номер выдирать.
Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями,
сбивались кучками и читали телеграммы, которые шли
теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа,
становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа
Альфреда Вронского мелькала в ослепительном розовом
свете, заливавшем типографию, и механический толстяк
скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там.
В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репор-
теры. По всем 12 телефонам типографии звонили непре-
рывно, и станция почти механически подавала в ответ в
загадочные трубки «занято», «занято», и на станции,
перед бессонными барышнями, пели и пели сигнальные
рожки...
Наборщики облепили механического толстяка, и ка-
питан дальнего плавания говорил им:
— Аэропланы с газом придется посылать.
— Не иначе,-— отвечали наборщики,— ведь это что ж
такое.— Затем страшная матерная ругань перекатыва-
лась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:
— Этого Персикова расстрелять надо.
— При чем тут Персиков,— отвечали из гущи,—
этого сукина сына в совхозе — вот кого расстрелять.
— Охрану надо было поставить,— выкрикивал кто-то.
— Да, может, это вовсе и не яйца.
Все здание тряслось и гудело от ротационных колес,
и создавалось такое впечатление, что серый непригляд-
ный корпус полыхает электрическим пожаром.
Занявшийся день не остановил его. Напротив, только
усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна
за другой вкатывались в асфальтированный двор, впе-
ремежку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые
листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и
шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати
часам дня не хватило номеров, несмотря на то что
«Известия» выходили в этом месяце с тиражом в пол-
тора миллиона экземпляров. Профессор Персиков вы-
ехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт.
Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккурат-
но обшитые металлическими полосатой деревянные ящи-
ки, в количестве трех штук, испещренные заграничными
наклейками на немецком языке, и над ними царствова-
ла одна русская меловая надпись: «Осторожно — яйца».
Бурная радость овладела профессором.
— Наконец-то,— вскричал он.— Панкрат, взламывай
ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко
мне в кабинет.
Панкрат немедленно исполнил приказание, и через
четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилка-
ми и обрывками бумаги, забушевал его голос.
336
Михаил Булгаков
— Да они что же, издеваются надо мною, что ли,—
выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках
яйца,— это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю
смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?
— Яйца-с,— отвечал Панкрат горестно.
— Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал!
На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их
этому негодяю в его совхоз!
Персиков бросился в угол к телефону, но не успел
позвонить.
— Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! — загре-
мел в коридоре института голос Иванова.
Пёрсиков оторвался от телефона, и Панкрат стрель-
нул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал
в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не
снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным
листом в руках.
— Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось,—
выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом
с надписью: «Экстренное приложение», посредине кото-
рого красовался яркий цветной рисунок.
— Нет, вы слушайте, что они сделали,— в ответ
закричал, не слушая, Персиков,— они меня вздумали
удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный иди-
от, посмотрите!
Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился
на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его
почти выпрыгнули с лица.
— Так вот что,— задыхаясь, забормотал он,— теперь
я понимаю... Нет, Владимир Ипатьич, вы только глянь-
те,— он мгновенно развернул лист и дрожащими паль-
цами указал Персикову на цветное изображение. На
нем, как страшный пожарный шланг, извивалась олив-
ковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной
зелени. Она была сЙЙта сверху, с легонькой летательной
машины, осторожно скользнувшей над змеей,— кто это,
по-вашему, Владимир Ипатьич?
Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их
на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем
удивлении:
— Что за черт. Это... да это анаконда, водяной удав...
Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал,
выстукивая каждое слово кулаком по столу:
— Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской
губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот него-
Роковые яйца
337
дяй вывел змей вместо кур, и, вы поймите, они дали
такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!
— Что такое? — ответил Персиков, и лицо его сдела-
лось бурым... — Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?
Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова
и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали белень-
кие головки в желтых опилках, сказал:
— Вот откуда.
— Что-о?! —- завыл Персиков, начиная соображать.
Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжаты-
ми кулаками и закричал:
— Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и
страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по
ошибке.
— Боже мой... боже мой,— повторил Персиков и,
зеленея лицом, стал садиться на винтящийся табурет.
Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и
онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая
острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:
— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!..
Что теперь будет, я решительно не представляю. Вла-
димир Ипатьич, вы гляньте,— и он завопил вслух, вы-
читывая первое попавшееся место со скомканного лис-
та... — «Змеи идут стаями в направлении Можайска...
откладывая неимоверные количества яиц. Яйца были
замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и
страусы. Части особого назначения... и отряды Государ-
ственного управления прекратили панику в Вязьме по-
сле того, как зажгли пригородный лес, остановивший
движение гадов...»
Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сума-
сшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь,
начал кричать:
— Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! —
в таком состоянии его еще никогда не видали ни Ива-
нов, ни Панкрат.
Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал
пуговицы на сорочке, побагровел страшным паралич-
ным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклян-
ными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся
под каменными сводами института.
— Анаконда... анаконда... — загремело эхо.
— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату,
заплясавшему от ужаса на месте.— Воды ему... у него
удар.
338
Михаил Булгаков
Глава XI
БОЙ И СМЕРТЬ
Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Го-
рели все огни, и в квартирах не было места, где бы нс
сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной
квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населс
ния, не спал ни один человек, кроме неосмысленных
детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах
что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица
выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры и
небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами,
На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали
тающие бледные конусы на Москву и исчезали и гасли.
Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным
гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ям-
ской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут
приходили поезда, сбитые как попало из товарных и
разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных
обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали
густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах
трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. Ни
вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная
стрельба поверх толпы — это воинские части останам*
ливали панику сумасшедших, бегущих по стрелам же-
лезных дорог из Смоленской губернии на Москву. Ни
вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием
вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все
улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоп-
танными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми
рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были
известны, и никто их не читал. В них Москва объявля-
лась на военном положении. В них грозили за панику и
сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью
уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами.
Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квар-
тирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бега-
ли, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-
то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на
Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаев-
ский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и
восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и гро-
мадные грузовики, колыша и бренча цепями, доверху
нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы
Роковые яйца
339
в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны
штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов
Народного комиссариата финансов и громадные ящики
с надписью: «Осторожно. Третьяковская галерея». Ма-
шины рявкали и бегали по всей Москве.
Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слы-
шались, колыша густую черноту августа, беспрерывные
удары пушек.
Под утро по совершенно бессонной Москве, не поту-
шившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все
встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавли-
вая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копы-
тами по торцам змея конной армии. Малиновые башлы-
ки мотались концами на серых спинах, и кончики пик
кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто
ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие
расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тро-
туарах начали призывно, с надеждою, выть.
— Да здравствует Конная армия! — кричали исступ-
ленные женские голоса.
— Да здравствует! — отзывались мужчины.
— Задавят!!, давят!.. — выли где-то.
— Помогите! — кричали с тротуара.
Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели
в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали
на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного
строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном
стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:
— Короче повод.
Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотре-
ли в зыбком рекламном свете лица в заломленных
малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных
с открытыми лицами, шли на конях же странные фигу-
ры в странных чадрах, с отводными за спину трубками
и с баллонами на ремнях за спиной. За ними шли гро-
мадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами
и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые,
раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся
узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Пре-
рывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые
наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими
наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с
надписью «Газ». «Доброхим».
— Выручайте, братцы,— завывали с тротуаров,—
бейте гадов... Спасайте Москву!
340
Михаил Булгаков
— Мать... мать... мать... — перекатывалось по рядам.
Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воз*
духе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с
коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее серд-
це пение:
...Ни туз, ни дама, ни в.алет,
Побьем мы гадов, без сомненья,
Четыре сбоку — ваших нет...
Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой
кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на
лошади, в таком же малиновом башлыке, как и вес
всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, по
старевший и поседевший командир конной громады. Тол*
па завыла, и в небо улетел, немного успокаивая мяту
щиеся сердца, гул «ура... ура...».
Институт был скупо освещен. События в него доле-
тали только отдельными, смутными и глухими отзвука
ми. Раз под огненными часами близ Манежа грохнул
веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пы-
тавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного
движения на улице здесь было*мало, оно все сбивалось
к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела
одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел,
положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял
вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки
молчали, потому что уже спали. Профессор не работал
и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал
вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщав
ший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстрс
ливает можайский лес по квадратам, громя залежи
крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах
Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою
действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд,
но что жертвы человеческие в этих пространствах неис-
числимы из-за того, что население, вместо того чтобы
покидать уезды в порядке правильной эвакуации, бла*
годаря панике металось разрозненными группами, на
свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообща-
лось, что Отдельная Кавказская кавалерийская дивизия
в можайском направлении блистательно выиграла бой
со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив
Роковые яйца
341
громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия
понесла незначительные потери. Сообщалось от прави-
тельства, что в случае, если гадов не удастся удержать
К 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована
и полном порядке. Служащие и рабочие должны соблю-
дать полное спокойствие. Правительство примет самые
жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской
истории, в результате которой благодаря смятению,
иызванному неожиданным нападением гремучих змей,
появившихся в количестве нескольких тысяч, город за-
горелся во всех местах, где бросили горящие печи и
начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что
продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере
на полгода и что совет при главнокомандующем пред-
принимает срочные меры к бронировке квартир для того,
чтобы вести уличные бои с гадами на самых улицах
столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам
и эскадрильям не удастся удержать нашествия пресмы-
кающихся.
Ничего этого профессор не читал, смотрел остекле-
невшими глазами перед собой и курил. Кроме него только
два человека были в институте — Панкрат и, то и дело
заливающаяся слезами, экономка Марья Степановна,
бессонная уже третью ночь, которую она проводила в
кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть
свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь
Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в
тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как
чайник с чаем, предназначенным для профессора, заки-
пал на треножнике газовой горелки. Институт молчал,
и все произошло внезапно.
С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие
крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгну-
ла. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался
голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо реагиро-
иал на этот шум. Он поднял на мгновение голову, про-
бормотал: «Ишь, как беснуются... что ж я теперь по-
делаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нару-
шено. Страшно загремели кованые двери института, вы-
ходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем
лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете.
Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора,
и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклян-
ный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли
нопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бро-
342
Михаил Булгаков
силась к,профессору, хватая его за руки и крича: «Убе-
гайте, Владимир Ипатьич, убегайте». Тот поднялся с
винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крюч-
ком, ответил, причем его глаза на миг приобрели пре-
жний остренький блеск, напомнивший прежнего вдохно-
венного Персикова.
— Никуда я не пойду,— проговорил он,— это просто
глупость, они мечутся, как сумасшедшие... Ну, а если
вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, по-
жалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панк-
рат! позвал он и нажал кнопку.
Вероятно, он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю
суету, которой он вообще никогда не любил. Но Пан-
крат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем,
что двери института растворились и издалека донеслись
хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт
загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Сте-
пановна вцепилась в рукав Персикова и начала его
тащить куда-то, он отбился от нее, вытянулся во весь
рост и, как был, в белом халате, вышел в коридор.
— Ну? — спросил он. Двери распахнулись, и первое,
что появилось в дверях, это спина военного с малиновым
шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из
двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и
стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо
Персикова, крикнув ему:
— Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу
сделать.
Его словам ответил визг Марьи Степановны. Воен-
ный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое
изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в проти-
воположном конце. Люди вылетели дз дверей, завывая:
— Бей его! Убивай...
— Мирового злодея!
— Ты распустил гадов!
Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в
коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Пер-
сиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую
в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла
Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он
не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:
— Это форменное сумасшествие... вы совершенно
дикие звери. Что вам нужно? — Завыл: — Вон отсюда! —
и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: —
Панкрат, гони их вон.
Роковые яйца
343
Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат, с
разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, ле-
жал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы
рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу
милиции с улицы.
Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разо-
рванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся
на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и
страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков
качнулся, стал падать набок, и последним его словом
было слово:
— Панкрат... Панкрат...
Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и
растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли
к клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоп-
тав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные сто-
лы, раздробили рефлекторы, а через час институт пы-
лал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою
вооруженных электрическими револьверами, и пожар-
ные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи
во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.
Глава XII
МОРОЗНЫЙ БОГ НА МАШИНЕ
В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслы-
ханный, никем из старожилов никогда еще не отмечен-
ный мороз. Он пришел и продержался двое суток, до-
стигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва, заперла
нее окна, все двери. Только к концу третьих суток по-
пило население, что мороз спас столицу и те безгранич-
ные пространства, которыми она владела и' на которые
упала страшная беда 28-го года. Конная армия под
Можайском, потерявшая три четверти своего состава,
начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли ос-
тановить движения мерзких пресмыкающихся, полуколь-
цом заходивших с запада, юго-запада и юга по направ-
лению к Москве.
Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не
выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа,
когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту,
оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным
холодом зелень на деревьях, биться больше было не с
344
Михаил Булгаков
кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота
были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми
порою странным, нездешним невиданным рисунком, ко-
торый безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку,
но эти яйца были совершенно безвредны. Они были
мертвы, зародыши в них прикончены.
Необозримые пространства земли еще долго гнили oi
бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к
жизни таинственным, родившимся на улице Герцена и
гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны,
непрочные созданья гнилостных жарких тропических
болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех
губерний страшное зловоние, разложение и гной.
Были долгие эпидемии, были долго повальные болез-
ни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия,
но уже не снабженная газами, а саперными принадлежа
ностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая
землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.
А весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и
завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шар-
кало движение механических экипажей, и над шапкою
храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и, на
месте сгоревшего в августе 28 года двухэтажного инсти
тута выстроили новый зоологический дворец, и им заве
довал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было
Никогда не возникал перед глазами людей скорченный
убедительный крючок из пальца, и никто больше не
слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и ката
строфе 28 года еще долго говорил и писал весь мир, но
потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персико-
ва оделось туманом и погасло, как погас и самый от-
крытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот
вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентль
мен, и ныне ординарный профессор, Петр Степанович
Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъярен
ная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сго-
рели в Никольском совхозе «Красный луч», при первом
бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось.
Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными
пучками света, его не скомбинировали второй раз, не-
смотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нуж-
но было что-то особенное кроме знания, чем обладал п
мире только один человек — покойный профессор Вла-
димир Ипатьевич Персиков.
Москва, 1924 г., октябрь
СОБА ЧЬЕ СЕРДЦЕ
Чудовищная история
1
у.у.у.у-у-у.гу-гу.гугу-уу! О, гляньте на меня, я поги-
баю! Вьюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою
с нею. Пропал я, пропал! Негодяй в грязном колпаке,
повар в столовой нормального питания служащих Цен-
грального совета народного хозяйства, плеснул кипят-
ком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще
пролетарий! Господи боже мой, как больно! До костей
проело кипяточком. Я теперь вою, вою, вою, да разве
ноем поможешь?
Чем я ему помешал? Чем? Неужели же я обожру
Совет народного хозяйства, если в помойке пороюсь?
Жадная тварь. Вы гляньте когда-нибудь на его рожу:
нсдь он поперек себя шире! Вор с медной мордой. Ах,
люди, люди! В полдень угостил меня колпак кипятком,
и сейчас стемнело, часа четыре приблизительно попо-
лудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной
Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как
нам известно. Но это последнее дело, вроде грибов. Зна-
комые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, буд-
то бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное
блюдо — грибы соус пикан по три рубля семьдесят пять
копеек порция. Это дело на любителя — все равно что
калошу лизать... У-у-у-у...
Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна
мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы, и,
спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смо-
таться в Сокольники, там есть особенная очень хорошая
трава, и, кроме того, нажрешься бесплатно колбасных
головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешь-
ся. И если бы не грымза какая-то, что поет на кругу
при луне — «милая Аида»,— так что сердце падает,
было бы отлично. А теперь куда же пойдешь? Не били
нас сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали?
348
Михаил Булгаков
Кушано достаточно. Все испытал, с судьбою своею ми*
рюсь и если плачу сейчас, то только от физической боли
и от голода, потому что дух мой еще не угас... Живуч
собачий дух.
Но вот тело мое — изломанное, битое, надругались
над ним люди достаточно. Ведь главное что: как врезал
он кипяточком, под шерсть проело, и защиты, стало
быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу
получить воспаление легких, а получив его, я, граждане,
подохну с голоду. С воспалением легких полагается
лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо
меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным
ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу
я на животе, ослабею, и любой спец пришибет менн
палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня
за ноги и выкинут на телегу...
Дворники из всех пролетариев самая гнусная мразь.
Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар
попадается разный. Например, покойный Влас с Пре*
чистенки. Скольким он жизнь спас! Потому что самое
главное во время болезни перехватить кус. И вот, бы
вало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней
с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был
настоящая личность, барский повар графов Толстых, я
не из Совета нормального питания. Что они там вытво
ряют в нормальном питании, уму собачьему непостижи
мо! Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи
варят, а те, бедняги, ничего и не знают! Бегут, жрут,
лакают!
Иная машинисточка получает по девятому разряду
четыре с половиной червонца, ну, правда, любовник ей
фильдеперсовые чулочки подарит. Да ведь сколько зи
этот фильдеперс ей издевательств надо вынести! Прибе*
жит машинисточка, ведь за четыре с половиной червой*
ца в «Бар» не пойдешь! Ей и на кинематограф не хвн
тает, а кинематограф у женщин единственное утешение
в жизни. Дрожит, морщится, а лопает. Подумать толь
ко — сорок копеек из двух блюд, а они, оба эти блюдя,
и пятиалтынного не стоят, потому что остальные двадцать
пять копеек заведующий хозяйством уворовал. А ей разие
такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого нс
в порядке, и женская болезнь, на службе с нее вычли,
тухлятиной в столовке накормили, вон она, вон она11
Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги хо
лодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде
Собачье сердце
349
моей, а штаны она носит холодные, так, кружевная
Видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она флане-
левые, попробуй. Он и заорет:
— До чего ты неизящна! Надоела мне моя Матрена,
Намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло
Мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни на-
краду — все, все на женское тело, на раковые шейки,
на «Абрау-Дюрсо»! Потому что наголодался в молодо-
сти достаточно, будет с меня, а загробной жизни не
существует.
Жаль мне ее, жаль. Но самого себя мне еще больше
жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому, что дей-
ствительно мы в неравных условиях. Ей-то хоть дома
Тепло, ну, а мне, а мне! Куда пойду? Битый, обварен-
ный, оплеванный, куда же я пойду? У-у-у-у!..
— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик! Чего ты ску-
лишь, бедняжка? А? Кто тебя обидел?.. Ух...
Ведьма — сухая метель загремела воротами и поме-
лом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен,
обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо
стиранного кружевного бельишка, задушила слова и
вамела пса.
— Боже мой... какая погода... ух... и живот болит.
Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?
Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, про-
рвалась за ворота, и на улице ее начало вертеть, рвать,
раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она
пропала.
А пес остался в подворотне и, страдая от изуродо-
ванного бока, прижался к холодной массивной стене,
ведохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не
пойдет, тут и издохнет, в подворотне. Отчаяние повали-
ло его. На душе у него было до того горько и больно,
до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы,
как пупырыши, вылезли из глаз и тут же засохли.
Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими
комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна
от вара. До чего бессмысленны, тупы, жестоки повара!
«Шарик» она назвала его! Какой он, к черту, Шарик?
Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, ов-
сянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый,
долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес.
Впрочем, спасибо ей на добром слове.
Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлоп-
нула, и из нее показался гражданин. Именно гражда-
350
Михаил Булгаков
нин, а не товарищ, и даже вернее всего — господин.
Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по
пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из проле-
тариев носят. Правда, воротники не такие, об этом н
говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот
по глазам —- тут уж ни вблизи, ни издали не спутаешь!
О, глаза — значительная вещь! Вроде барометра. Вес
видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни
про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам
всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно
бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай! Pa i
боишься, значит, стоишь... Р-р-р...гау-гау.
Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и
двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот
тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь
ему ее и подадут, поднимет та-акой скандал, в газеты
напишет — меня, Филиппа Филипповича, обкормили!
Вот он все ближе, ближе. Этот ест обильно и нс
ворует. Этот не станет пинать ногой, но и сам никого нс
боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он умствен*
ного труда господин, с культурной остроконечной бород-
кой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у фран
цузских рыцарей, но запах по метели от него летит
скверный,— больницей и сигарой.
Какого же лешего, спрашивается, носило его в коопс
ратив центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у...
Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему
мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин,
если бы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы
близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне!
Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из под-
воротни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над
головой, взметнула громадные буквы полотняного пла-
ката «Возможно ли омоложение?».
Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял
с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустую
щий желудок, запах, победивший больницу, райский запах
рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю,
в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной.
О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская
наша душа, подлая доля!
Пес полз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами.
Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни
за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых
людей. А в сущности, зачем она вам? Для чего вам
Собачье сердце
351
гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите,
как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы —
величина мирового значения, благодаря мужским по-
ловым железам... У-у-у-у... Что ж это делается на белом
свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние, и
подлинно, грех? Руки ему лизать, больше ничего не ос-
тается.
Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул
золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана
белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых
перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела
метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особен-
ная краковская». И псу этот кусок! О, бескорыстная
личность. У-у-у-у!
— Фить-фить,— посвистал господин и добавил стро-
жайшим голосом: — бери! Шарик, Шарик!
Опять «Шарик»! Окрестили! Да называйте как хоти-
те. За такой исключительный ваш поступок...
Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием
вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При
этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что
от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу
вам руку. Целую штаны, мой благодетель!
— Будет пока что,— господин говорил так отрывис-
то, точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытли-
во глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в
перчатке интимно и ласково по Шарикову животу.
— Ага,— многозначительно молвил он,— ошейника
нету, ну, вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай
за мной,— он пощелкал пальцами,— фить-фить!
За вами идти? Да на край света, пинайте меня ва-
шими фетровыми ботиками в рыло, я слова не вы-
молвлю.
По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел не-
стерпимо, но Шарик временами забывал о нем, погло-
щенный одной мыслью, как бы не утратить в сутолоке
чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему
любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пре-
чистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцело-
вал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу,
диким воем так напугал какую-то даму, что она села на
тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к
себе.
Какой-то сволочной, под сибирского деланный, кот-
бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря
352
Михаил Булгаков
на вьюгу, учуял краковскую. Пес Шарик свету невзви
дел при мысли, что богатый чудак, подбирающий ране-
ных псов в подворотне, чего доброго, и этого вора при-
хватит с собой, и придется делиться моссельпромовским
изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что
тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга,
взодрался по трубе до второго этажа.
Фр-р-р... гау... вон! Не напасешься Моссельпрома на
всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!
Господин оценил преданность и у самой пожарной
команды, у окошка, из которого слышалось приятное
ворчание валторны, наградил пса вторым куском, по
меньше, золотников на пять. Эх, чудак. Это он меня
подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду.
За вами буду двигаться, куда ни прикажете.
— Фить-фить-фить, сюда!
В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо извес-
тен нам этот переулок.
— Фить-фить!
Сюда? С удово... Э, нет! Позвольте. Нет! Тут швей-
цар. А уж хуже этого ничего нет на свете. Во много раз
опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже
котов. Живодер в позументе!
— Да не бойся ты, иди!
— Здравия желаю, Филипп Филиппович.
— Здравствуйте, Федор.
Вот это личность! Боже мой, на кого же ты нанесла
меня, собачья моя доля? Что это за такое лицо, которое
может псов с улицы мимо швейцара вводить в дом
жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец ни
звука, ни движения. Правда, в глазах у него пасмурно,
но в общем он равнодушен под околышем с золотыми
галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа,
до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул?
Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую
ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколь-
ко раз ты морду уродовал мне, а?
— Иди, иди.
Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Кудя
вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж
не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.
С лестницы вниз:
— Писем мне, Федор, не было?
Снизу на лестницу — почтительно:
и
Собачье сердце
353
— Никак нет, Филипп Филиппович. (Интимно впол-
голоса вдогонку): А в третью квартиру жилтоварищей
вселили.
Важный песий благотворитель круто обернулся на
ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:
— Ну-у?
Глаза его округлились, и усы встали дыбом.
Швейцар снизу задрал голову, приложил ладошку к
губам и подтвердил:
— Точно так. Целых четыре штуки.
— Бо-же мой! Воображаю, что теперь будет в квар-
тире. Ну, и что же они?
— Да ничего-с!
— А Федор Павлович?
— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки
будут ставить.
— Черт знает что такое!
— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут все-
лять, кроме вашей. Сейчас собрание было, постановле-
ние вынесли, новое товарищество. А прежних в шею.
— Что делается! Ай-яй-яй... Фить-фить...
Иду-с, поспешаю. Бок, изволите ли видеть, дает себя
знать. Разрешите лизнуть сапожок.
Галун швейцара скрылся внизу, на мраморной пло-
щадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и
вот бельэтаж.
2
Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и
так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы прожи-
ваете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове
имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом
безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов
разве уж какой-нибудь совершенный идиот не умеет
сложить из букв слово «колбаса».
Шарик начал учиться по цветам. Лишь только испол-
нилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили
зелено-голубые вывески с надписью «М. С. П. О. Мяс-
ная торговля». Повторяем, все это не к чему, потому что
и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равня-
ясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние
которого зашиб бензинным дымом мотор, вкатил вместо
мясной в магазин электрических принадлежностей брать-
12-1857
354
Михаил Булгаков
ев Голубизнер на Мясницкой улице. Там, у братьев, пес
отведал изолированной проволоки, а она будет почище
извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует
считать началом шариковского образования. Уже на
тротуаре, тут же, Шарик начал соображать, что «голу-
бой» не всегда означает «мясной» и, зажимая от жгучей
боли хвост между задними лапами и воя, припомнил,
что на всех мясных первой слева стоит золотая или
рыжая раскоряка, похожая на санки,— «М».
Далее пошло еще успешнее. «А» он выучил в «Глав-
рыбе» на углу Моховой, а потом уже «б» (подбегать ему
было удобнее с хвоста слова «рыба», потому что при
начале слова стоял милиционер).
Изразцовые квадратики, облицовывавшие угловые
места в Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р».
Черный кран от самовара, возглавлявший слово, обозна-
чал бывшего хозяина Чичкина, горы голландского крас-
ного, зверей-приказчиков, ненавидящих собак, опилки
на полу и гнуснейший, дурно пахнущий бакштейн.
Если играли на гармонике, что было немногим лучше
«милой Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на
белых плакатах чрезвычайно удобно складывались в
слово «Неприли...», что означало: «Неприличными сло-
вами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою
винтом закипали драки, людей били кулаком по морде,
правда, в редких случаях,— псов же постоянно — сал-
фетками или сапогами.
Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и
лежали мандарины — гау-гау... га...строномия. Если
темные бутылки с плохой жидкостью... Ве-и-ви, нэ-а —
вина... Елисеевы братья бывшие...
Неизвестный господин, притащивший пса к дверям
своей роскошной квартиры, помещающейся в бельэта-
же, позвонил, а пес тотчас поднял глаза на большую,
черную с золотыми буквами карточку, висящую сбоку
широкой, застекленной волнистым и розоватым стеклом
двери. Три первых буквы он сложил сразу: пэ-ер-о —
«Про...». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь, неиз-
вестно что обозначающая.
«Неужто пролетарий? — подумал Шарик с удивле-
нием,— быть этого не может». Он поднял нос кверху,
еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь
пролетарием и не пахнет. Ученое слово, а бог его знает
что оно значит».
За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и ра-
достный свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь
12-2
Собачье сердце
355
совершенно бесшумно распахнулась, и молодая краси-
вая женщина в белом фартучке и кружевной наколочке
предстала перед псом и господином. Первого из них
обдало божественным теплом, и юбка женщины запах-
ла, как ландыш.
«Вот это да. Это я понимаю»,— подумал пес.
— Пожалуйте, господин Шарик,— иронически при-
гласил господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя
хвостом.
Великое множество предметов загромождало бога-
тую переднюю. Тут же запомнилось зеркало до самого
полу, немедленно отразившее второго истасканного и
рваного Шарика, страшные оленьи рога в.высоте, бес-
численные шубы и калоши и опаловый тюльпан с элек-
тричеством под потолком.
— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? —
улыбаясь, спрашивала женщина и помогала снимать
тяжелую шубу на черно-бурой лисе с синеватой иск-
рой.— Батюшки, до чего паршивый!
— Вздор говоришь. Где же он паршивый? — строго
и отрывисто спрашивал господин.
По снятии шубы он оказался в черном костюме ан-
глийского сукна, и на животе у него радостно и неярко
засверкала золотая цепь.
— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, ду-
рачок. Гм... Это не парши... да стой ты черт... Гм... А-а!
Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой
ты смирно!
«Повар, каторжник. Повар!» — жалобными глазами
молвил пес и слегка подвыл.
— Зина,— скомандовал господин,— в смотровую его
сейчас же и мне халат!
Женщина посвистала, пощелкала пальцами, и пес,
немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем
попали в узкий, тускло освещенный коридор, одну лаки-
рованную дверь миновали, пришли в конец, а затем
попали налево и оказались в темной комнате, которая
мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом.
Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день,
причем со всех сторон засверкало, засияло и забелело.
«Э... нет... — мысленно взвыл пес,— извините, не
дамся! Понимаю! О, черт бы взял их и с колбасой! Это
меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку
заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него
и так дотронуться нельзя!»
12*
356
Михаил Булгаков
— Э, нет! Куда?! — закричала та, которую называли
Зиной.
Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь
здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей
квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте,
как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое
ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время
верчения кругом него порхали стены, уставленные шка-
фами с блестящими инструментами, запрыгал белый
передник и искаженное женское лицо.
— Куда ты, черт лохматый?! — кричала отчаянно
Зина,— вот окаянный!
«Где у них черная лестница?.. — соображал пес. Он
размахнулся и комком ударидся наобум в стекло в
надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела
с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей
гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоня-
ла. Настоящая дверь распахнулась.
— Стой! С-скотина! — кричал господин, прыгая в
халате, надетом в один рукав, и хватая пса за ноги,—
Зина, держи его за шиворот, мерзавца!
— Ба... Батюшки!.. Вот так пес!
Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна
личность мужского пола в халате. Давя битые стекла,
она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его, и всю
комнату наполнило сладким и тошным запахом. Затем
личность навалилась на пса сверху животом, причем пес
с увлечением тяпнул ее повыше шнурков на ботинке.
Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная мер-
зость неожиданно перехватила дыхание пса, и в голове
у него завертелось, потом ноги отвалились и он поехал
куда-то криво и вбок.
«Спасибо, кончено,— мечтательно думал он, валясь
прямо на острые стекла,— прощай, Москва! Не видать
мне больше Чичкина и пролетариев и краковской кол-
басы! Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы
живодеры, за что ж вы меня?»
И тут он окончательно завалился на бок и издох.
♦ ♦ ♦
Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова
и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто и не
было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый
глаз и краем его увидал, что он туго забинтован попе-
12-4
Собачье сердце
357
рек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети,—
подумал он смутно,— но ловко, надо отдать им справед-
ливость».
— «От Севильи до Гренады... в тихом сумраке но-
чей»,— запел над ним рассеянный и фальшивый голос.
Пес удивился, совсем открыл оба глаза, и в двух
шагах увидал мужскую ногу на белом табурете. Штани-
на и кальсоны на ней были подвернуты, и голая желтая
голень вымазана засохшей кровью и иодом.
«Угодники! — подумал пес,— это, стало быть, я его
кусанул, моя работа. Ну, будут драть!»
— «P-раздаются серенады, раздается стук мечей!..»
Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло
разбил? А?..
— У-у-у-у,— жалобно заскулил пес.
— Ну, ладно. Опомнился — и лежи, болван.
— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подма-
нить такого нервного пса? — спросил приятный муж-
ской голос, и триковые кальсоны откатились книзу. За-
пахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.
— Лаской-с. Единственным способом, который возмо-
жен в обращении с живым существом. Террором ничего
поделать нельзя с животным, на какой бы ступени раз-
вития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и
буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им
поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был:
белый, красный или даже коричневый! Террор совер-
шенно парализует нервную систему. Зина! Я купил это-
му прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок
копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет
тошнить.
Захрустели выметаемые стекла, и женский голос
кокетливо заметил:
— Кра-ковской! Господи, да ему обрезков нужно было
купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу
я сама лучше съем.
— Только попробуй! Я тебе съем! Это отрава для
человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребе-
нок, тащит в рот всякую гадость. Не сметь! Предупреж-
даю, ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой
возиться, когда у тебя живот схватит. «Всех, кто ска-
жет, что другая здесь сравняется с тобой!..»
Мягкие дробные* звоночки сыпались в это время по
всей квартире, а в отдалении из передней то и дело
слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.
Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в вед-
ро» застегнул халат, перед зеркальцем на стене распра-
вил пушистые усы и окликнул пса:
— Фить, фить... ну, нечего, нечего! Идем принимать.
Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подро-
жал, но быстро оправился и пошел следом за развева-
ющейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пере-
сек узкий коридор, но теперь увидал, что он ярко осве-
щен сверху розеткой. Когда же открылась лакирован-
ная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в каби-
нет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего,
он весь полыхал светом: горело под лепным потолком,
горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов.
Свет заливал целую бездну предметов, из которых са-
мым занятным оказалась громаднейшая сова, сидящая
на стене на суку.
— Ложись,— приказал Филипп Филиппович.
Противоположная резная дверь открылась, вошел тот
тяпнутый, оказавшийся теперь, в ярком свете, очень
красивым молодым, с черной острой бородкой, подал
лист, молвив:
— Прежний... — тотчас бесшумно исчез, а Филипп
Филиппович, распростерши полы халата, сел за громад-
ный письменный стол и сразу сделался необыкновенно
важным и представительным.
«Нет, это не лечебница... куда-то в другое место я
попал,— в смятении подумал пес и привалился на ков-
ровый узор у тяжелого кожаного дивана,— а сову эту
мы разъясним...»
Дверь мягко открылась, и вошел некто настолько
поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко.
— Молчать! Ба-ба-ба! Да вас узнать нельзя, голуб-
чик!
Вошедший очень почтительно и смущенно поклонил-
ся Филиппу Филипповичу.
— Хи-хи... Вы — маг и чародей, профессор,— скон-
фуженно вымолвил он.
— Снимайте штаны, голубчик,— скомандовал Фи-
липп Филиппович и поднялся.
«Господи Исусе! — подумал пес,— вот так фрукт!»
На голове у фрукта росли совершенно зеленые воло-
сы, а на затылке они отливали ржавым табачным цве-
том. Морщины расползались по лицу у фрукта, но цвет
лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сги-
балась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая
Собачье сердце ’
359
прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолеп-
нейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный ка-
мень.
От интереса у пса даже прошла тошнота.
— Тяу, тяу... — он легонько потявкал.
— Молчать! Как сон, голубчик?
— Хе-хе... Мы одни, профессор? Это неописуемо,—
конфузливо заговорил посетитель.— Пароль д’оннёр1
двадцать пять лет ничего подобного! — субъект взялся
за пуговицу брюк,— верите ли, профессор, каждую ночь
обнаженные девушки стаями... Я положительно очаро-
ван. Вы — кудесник!
— Хм,— озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович,
всматриваясь в зрачки гостя.
Тот совладал наконец с пуговицами и снял полоса-
тые брюки. Под ними оказались не виданные никогда
кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на
них шелковыми черными кошками, и пахли духами.
Пес не вынес кошек и гавкнул так, что субъект
подпрыгнул.
- Ай!
— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.
«Я не кусаюсь?..» — удивился пес.
Из кармана брюк вошедший выронил на ковер ма-
ленький конвертик, на котором была изображена краса-
вица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул,
наклонился, подобрал ее и густо покраснел.
— Вы, однако, смотрите,— предостерегающе и хмуро
сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем,— вы все-
таки смотрите не злоупотребляйте!
— Я не зло...— смущенно забормотал субъект, про-
должая раздеваться,— я, дорогой профессор, только в
виде опыта...
— Ну и что же, какие результаты? — строго спросил
Филипп Филиппович.
Субъект в экстазе махнул рукой.
— Двадцать пять лет, клянусь богом, профессор,
ничего подобного! Последний раз в 1899 году в Париже
на Рю-де-ла-Пе.
— А почему вы позеленели? .
Лицо пришельца затуманилось.
— Проклятая Жиркость! Вы не можете себе пред-
ставить, профессор, что эти бездельники подсунули мне
Честное слово (от фр. parole d’honneur).
360
Михаил Булгаков
вместо краски. Вы только поглядите,— бормотал субъ-
ект, ища глазами зеркало,— ведь это же ужасно! Им
морду нужно бить,— свирепея, добавил он.— Что же
мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.
— Хм... Обрейтесь наголо.
— Профессор! — жалобно восклицал посетитель,—
да ведь они же опять седые вырастут! Кроме того, мне
на службу носа нельзя будет показать, я и так уже
третий день не езжу. Приходит машина, я ее отпускаю.
Эх, профессор, если б вы открыли способ, чтобы и во-
лосы омолаживать!
— Не сразу, не сразу, мой дорогой! — бормотал
Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глаз-
ками исследовал голый живот пациента.— Ну, что ж,
прелестно, все в полном порядке... Я даже не ожидал,
сказать по правде, такого результата... «Много крови,
много песен!..» Одевайтесь, голубчик!
— «Я же той, кто всех прелестней!..» — дребезжа-
щим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя,
стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыги-
вая' и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу
Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему
обе руки.
— Две недели можете не показываться,— сказал
Филипп Филиппович,— но все-таки, прошу вас, будьте
осторожны.
— Профессор,— из-за двери, в экстазе, воскликнул
гость,— будьте совершенно спокойны,— он сладостно
хихикнул и пропал.
Рассыпной звоночек пролетел по квартире, лакиро-
ванная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Фи-
липпу Филипповичу листок и заявил:
— Годы показаны неправильно. Вероятно, 54—55.
Тоны сердца глуховаты.
Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо залом-
ленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой
и жеваной шее. Страшные черные мешки сидели у нее
под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета.
Она очень сильно волновалась.
— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово
спросил ее Филипп Филиппович.
Дама испугалась и даже побледнела под коркою
румян.
— Я, профессор... Клянусь, если бы вы знали, какая
у меня драма...
Собачье сердце
361
— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее по-
вторил Филипп Филиппович.
— Честное слово... ну, сорок пять.
— Сударыня! — возопил Филипп Филиппович,— меня
ждут! Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна!
Грудь дамы бурно вздымалась.
— Я вам одному, как светилу науки, но клянусь, это
такой ужас...
— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил
Филипп Филиппович, и очки его блеснули.
— Пятьдесят один,— корчась от страху, ответила
дама.
— Снимайте штаны, сударыня,— облегченно молвил
Филипп Филиппович и указал на высокий белый эша-
фот в углу.
— Клянусь, профессор,— бормотала дама, дрожащи-
ми пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе,—
этот Мориц... я вам признаюсь, как на духу...
— «От Севильи до Гренады...» — рассеянно запел
Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умы-
вальнике. Зашумела вода.
— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна
сквозь искусственные продирались на ее щеках,-г я знаю,
что это моя последняя страсть... Ведь это такой негодяй!
О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Моск-
ва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки.
Ведь он так дьявольски молод! — Дама бормотала и
выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кру-
жевной клок.
Пес совершенно затуманился, и все в голове пошло
у него кверху ногами.
«Ну вас к черту,— мутно подумал он, положил голо-
ву на лапы и задремал от стыда,— и стараться не буду
понять, что это за штука, все равно не пойму».
Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппо-
вич швырнул в таз какие-то сияющие трубки.
Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеж-
дой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно на-
хмурился и, сев за стол, что-то записал.
— Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны,—
объявил он и посмотрел строго.
— Ах, профессор, неужели обезьяны?
— Да,— непреклонно ответил Филипп Филиппович.
— Когда же операция? — бледнея, слабым голосом
спрашивала дама.
362
Михаил Булгаков
— «От Севильи до Гренады...» угум... В понедельник.
Ляжете в клинику с утра, мой ассистент приготовит вас.
— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, про-
фессор?
— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в
крайних случаях. Это будет стоить очень дорого —
пятьдесят червонцев.
— Я согласна, профессор!
Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перь-
ями, потом появилась какая-то лысая, как тарелка,
голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал,
тошнота прошла, пес наслаждался утихшим боком и
теплрм, даже всхрапнул и успел увидать кусочек при-
ятного сна: будто бы он вырвал у совы целый пук
перьев из хвоста... Потом взволнованный голос тявкнул
над головой:
— Я — известный общественный деятель, профессор!
Что же теперь делать?
— Господа! — возмущенно кричал Филипп Филиппо-
вич,— нельзя же так! Нужно сдерживать себя! Сколько
ей лет?
— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, оглас-
ка погубит меня. На днях я должен получить команди-
ровку в Лондон...
— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите
два года и женитесь на ней.
— Женат я, профессор!
— Ах, господа, господа!..
Двери открывались, сменялись лица, гремели инстру-
менты в шкафу, и Филипп Филиппович работал не по-
кладая рук.
«Похабная квартирка,— думал пес,— но до чего
хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели
же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом
мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А мо-
жет, я и красивый. Видно, мое счастье! А сова эта дрянь.
Наглая».
Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда
звоночки прекратились, и как раз в то мгновенье, когда
дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу
четверо. Все молодые люди, и все одеты очень скромно.
«Этим что нужно?» — неприязненно и удивленно
подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гос-
тей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола
Собачье сердце
363
и смотрел на них, как полководец на врагов. Ноздри его
ястребиного носа раздувались. Вошедшие потоптались
на ковре.
— Мы к вам, профессор,— заговорил тот из них, у
кого на голове возвышалась на четверть аршина копна
густейших вьющихся черных волос,— вот по какому делу...
— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую
погоду,— перебил его наставительно Филипп Филиппо-
вич,— во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы на-
следили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.
Тот, с копной, смолк, и все четверо в изумлении
уставились на Филиппа Филипповича. Молчание про-
должалось несколько секунд, и прерывал его лишь стук
пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревян-
ному блюду на столе.
— Во-первых, мы не господа,— молвил наконец са-
мый юный из четверых — персикового вида.
— Во-первых,— перебил и его Филипп Филиппович,—
вы мужчина или женщина?
Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз
опомнился первым тот, с копной.
— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.
— Я — женщина,— признался персиковый юноша в
кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним
покраснел почему-то густейшим образом один из вошед-
ших — блондин в папахе.
— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а
вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной
убор,— внушительно сказал Филипп Филиппович.
— Я не «милостивый государь»,— смущенно пробор-
мотал блондин, снимая папаху.
— Мы пришли к вам,— вновь начал черный с копной.
— Прежде всего, кто это «мы»?
— Мы — новое домоуправление нашего дома,— в
сдержанной ярости заговорил черный.— Я — Швондер,
она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаров-
кин. И вот мы...
— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича
Саблина?
— Нас,— ответил Швондер.
— Боже! пропал калабуховский дом! — в отчаянии
воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился
Швондер.
364
Михаил Булгаков
— Какое там смеюсь! Я в йолном отчаянии! — крик-
нул Филипп Филиппович,— что же теперь будет с паро-
вым отоплением!
— Вы издеваетесь, профессор Преображенский!
— По какому делу вы пришли ко мне, говорите как
можно скорее, я сейчас иду обедать.
— Мы — управление дома,— с ненавистью загово-
рил Швондер,— пришли к вам после общего собрания
жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уп-
лотнении квартир дома.
— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппо-
вич,— потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
— Вопрос стоял об уплотнении...
— Довольно! Я понял! Вам известно, что постанов-
лением от двенадцатого сего августа моя квартира ос-
вобождена от каких бы то ни было уплотнений и пере-
селений?
— Известно,— ответил Швондер,— но общее собра-
ние, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что
в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи ком-
натах.
— Я один живу и работаю в семи комнатах,— отве-
тил Филипп Филиппович,— и желал бы иметь восьмую.
Она мне необходима под библиотеку.
Четверо онемели.
— Восьмую? Э-хе-хе,— проговорил блондин, лишен-
ный головного убора,— однако это здо-о-рово!
— Это неописуемо! — воскликнул юноша, оказав-
шийся женщиной.
— У меня приемная, заметьте, она же библиотека,
столовая, мой кабинет — три! Смотровая — четыре.
Операционная — пять. Моя спальня — шесть, и комна-
та прислуги — семь. В общем, не хватает... Да, впрочем,
это неважно. Моя квартира свободна, и разговору ко-
нец. Могу я идти обедать?
— Извиняюсь, — сказал четвертый, похожий на
крепкого жука.
— Извиняюсь, — перебил его Швондер, — вот имен-
но по поводу столовой и смотровой мы и пришли гово-
рить. Общее собрание просит вас добровольно, в поряд-
ке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столо-
вых ни у кого нет в Москве.
— Даже у Айседоры Дункан! — звонко крикнула
женщина.
Собачье сердце
365
С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вслед-
ствие чего его лицо нежно побагровело, но он не произ-
нес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.
— И от смотровой также, — продолжал Швондер, —
смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.
— Угу, — молвил Филипп Филиппович каким-то
странным голосом, — а где же я должен принимать
пищу?
— В спальне, — хором ответили все четверо.
Багровость Филиппа Филипповича приняла несколь-
ко сероватый оттенок.
— В спальне принимать пищу, — заговорил он не-
много придушенным голосом, — в смотровой читать, в
приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а
в столовой осматривать?! Очень возможно, что Айседора
Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обе-
дает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не
Айседора Дункан!! — вдруг, рявкнул он, и багровость
его стала желтой. — Я буду обедать в столовой, а
оперировать в операционной! Передайте это общему со-
бранию, и покорнейше прошу вас вернуться к вашим
делам, а мне предоставить возможность принять пищу
там*, где ее принимают все нормальные люди, то есть в
столовой, а не в передней и не в детской.
— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противо-
действия, —- сказал взволнованный Швондер, — мы
подаем на вас жалобу в высшие инстанции.
— Ага, — молвил Филипп Филиппович, — так? —
Голос его принял подозрительно вежливый оттенок, —
одну минутку попрошу вас подождать.
«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь
в меня. Ох, тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет! Не знаю
еще, каким способом, но так тяпнет!.. Бей их! Этого
голенастого сейчас взять повыше сапога за подколенное
сухожилие... р-р-р!..»
Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефо-
на и сказал в нее так:
— Пожалуйста... да... благодарю вас. Виталия Алек-
сандровича попросите, пожалуйста. Профессор Преоб-
раженский. Виталий Александрович? Очень рад, что вас
застал. Благодарю вас, здоров. Виталий Александрович,
ваша операция отменяется. Что? Нет, совсем отменяет-
ся, равно как и все остальные операции. Вот почему: я
прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сей-
час ко мне вошли четверо, из них —- одна женщина,
366 Михаил Булгаков
переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьвера-
ми и терроризовали меня в квартире, с целью отнять
часть ее...
— Позвольте, профессор, — начал Швондер, меняясь
в лице.
— Извините... У меня нет возможности повторить
все, что они говорили, я не охотник до бессмыслиц.
Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться
от моей смотровой, другими словами, поставили меня в
необходимость оперировать вас там, где я до сих пор
резал кроликов. В таких условиях я не только не могу,
но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю
деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключ
могу передать Швондеру, пусть он оперирует.
Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.
— Что же делать?.. Мне самому очень неприятно...
Как? О нет, Виталий Александрович! О нет! Больше я
так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй
случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя
бы... Но только одно условие: кем угодно, что угодно,
когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при
наличности которой ни Швондер, ни кто-либо иной не
мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Оконча-
тельная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня. Что-
бы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них
умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое
дело. Ага. Хорошо. Сейчас передаю трубку. Будьте
любезны, — змеиным голосом обратился Филипп Фи-
липпович к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.
— Позвольте, профессор, — сказал Швондер, то
вспыхивая, то угасая, — вы извратили наши слова.
— Попрошу вас не употреблять таких выражений.
Швондер растерянно взял трубку и молвил:
— Я слушаю. Да... председатель домкома... Мы же
действовали по правилам... так у профессора и так со-
вершенно исключительное положение... Мы знаем об его
работах... целых пять комнат хотели оставить ему... ну,
хорошо... раз так:., хорошо...
Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.
«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал
пес, — что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь
можете меня бить, как хотите, а отсюда я не уйду!»
Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.
— Это какой-то позор... — несмело вымолвил тот.
Собачье сердце
367
— Если бы сейчас была дискуссия, — начала жен-
щина, волнуясь и загораясь румянцем, — я бы доказала
Виталию Александровичу...
— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту
дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.
Глаза женщины загорелись.
— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас
уйдем... Только... Я, как заведующий культотделом дома...
— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.
— ...хочу предложить вам, — тут женщина из-за
пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега
журналов, — взять несколько журналов в пользу детей
Франции. По полтиннику штука.
— Нет, не возьму, — кротко ответил Филипп Филип-
пович, покосившись на журналы. .
Совершенное изумление выразилось на лицах, а жен-
щина покрылась клюквенным налетом.
— Почему же вы отказываетесь?
— Не хочу.
—- Вы не сочувствуете детям Франции?
— Нет, сочувствую.
— Жалеете по полтиннику?
— Нет.
— Так почему же?
— Не хочу.
Помолчали.
— Знаете ли, профессор, — заговорила девушка,
тяжело вздохнув, — если бы вы не были европейским
светилом и за вас не заступались бы самым возмути-
тельным образом (блондин дернул ее за край куртки, но
она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще
разъясним, вас следовало бы арестовать!
- А за что? — с любопытством спросил Филипп
Филиппович.
— Вы ненавистник пролетариата, — горячо сказала
женщина.
— Да, я не люблю пролетариата, — печально согла-
сился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то
прозвенело. Открылась дверь в коридор.
— Зина! — крикнул Филипп Филиппович, — подавай
обед. Вы позволите, господа?
Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли
приемную, молча — переднюю, и за ними, слышно было,
как закрылась тяжело и звучно парадная дверь.
Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филип-
пом Филипповичем какой-то намаз.
3
На разрисованных райскими цветами тарелках с
черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками
нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой до-
ске — кусок сыру в слезах, и в серебряной кадушке,
обложенной снегом, — икра. Меж тарелками — не-
сколькд тоненьких рюмочек и три хрустальных графин-
чика с разноцветными водками. Все эти предметы поме-
щались на маленьком мраморном столике, уютно присо-
седившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгав-
шего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине
комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой
скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые
в виде папских тиар, и три темных бутылки.
Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором
что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса
немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семира-
миды!» — подумал он и застучал, как палкой, по пар-
кету хвостом.
— Сюда их! хищно скомандовал Филипп Филип-
пович. — Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру
в покое! И, если хотите послушаться доброго совета,
налейте не английской, а обыкновенной русской водки.
Красавец тяпнутый (он был уже без халата, в при-
личном черном костюме) передернул широкими плечами,
вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки.
— Новоблагословенная? — осведомился он.
— Бог с вами, голубчик, — отозвался хозяин. — Это
спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.
— Не скажите, Филипп Филиппович, все утвержда-
ют, что очень приличная. Тридцать градусов.
— А водка должна быть в сорок градусов, а не в
тридцать, — это во-первых, — наставительно перебил
Филипп Филиппович, — а во-вторых, бог их знает, чего
они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет
в голову?
— Все что угодно, — уверенно молвил тяпнутый.
— Ия того же мнения, — добавил Филипп Филип-
пович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки
себе в горло, — э... мм... доктор Борменталь, умоляю
вас: мгновенно эту штучку, и, если вы скажете, что это...
я ваш кровный враг на всю жизнь! «От Севильи до
Гренады...»
Сам он с этими словами подцепил на лапчатую се-
Собачье сердце
369
ребряную вилку что-то похожее на маленький темный
хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Фи-
липпа Филипповича засветились.
— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппо-
вич. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.
— Это бесподобно, — искренно ответил тяпнутый.
— Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович: холодными
закусками и супом закусывают только недорезанные
большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя
человек оперирует с закусками горячими. А из горячих
московских закусок это — первая. Когда-то их велико-
лепно приготовляли в «Славянском базаре». На, полу-
чай!
— Пса в столовой прикармливаете, — раздался
женский голос, — а потом его отсюда калачом не вы-
манишь.
— Ничего... Он, бедняга, наголодался, — Филипп
Филиппович на конце вилки подал псу закуску, приня-
тую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом
свалил в полоскательницу.
Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар,
пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового
склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой
салфетки за воротничок, проповедовал:
— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нуж-
но уметь, и представьте, большинство людей вовсе есть
не умеет. Нужно не только знать, чтб съесть, но и когда
и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс
ложкой). И что при этом говорить, да-cl Если вы забо-
титесь о своем пищеварении, вот добрый совет: не гово-
рите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже
вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!
— Гм... Да ведь других же нет.
— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел
тридцать наблюдений у себя в клинике. И что же вы
думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствовали себя
превосходно. Те же, которых я специально заставлял
читать «Правду», теряли в весе!
— Гм?.. — с интересом отозвался тяпнутый, розовея
от супа и вина.
— Мало этого! Пониженные коленные рефлексы,
скверный аппетит, угнетенное состояние духа.
— Вот черт!..
— Да-с. Впрочем, что же это я? Сам же заговорил
о медицине. Будемте лучше есть.
370
Михаил Булгаков
Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в
вишневой портьере появилась Зина. Псу достался блед-
ный и толстый кусок осетрины, которая ему не понра-
вилась, а непосредственно за этим — ломоть окровав-
ленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал,
что он хочет спать и больше не может видеть никакой
еды. «Странное ощущение, — думал он, захлопывая
отяжелевшие веки, — глаза бы мои не смотрели ни на
какую пищу. А курить после обеда, это — глупость...»
Столовая наполнилась неприятным синим сигарным
дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.
— «Сен-Жюльен» — приличное вино, — сквозь сон
слышал пес, — но только ведь теперь же его нету.
Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал
донесся откуда-то сверху и сбоку.
Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.
— Зинуша, что это такое означает?
— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппо-
вич, — ответила Зина.
— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппо-
вич, —- ну, теперь, стало быть, пошло! Пропал калабу-
ховский дом! Придется^ уезжать, но куда, спрашивается?
Все будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение,
затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел
в паровом отоплении, и так далее. Крышка Калабухову!
— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улы-
баясь, Зина и унесла груду тарелок.
— Да ведь как же не убиваться?! — возопил Филипп
Филиппович, — ведь это какой дом был! Вы поймите!
— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп
Филиппович, — возразил красавец тяпнутый, — они
теперь резко изменились.
— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я —
человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необос-
нованных гипотез. И это очень хорошо известно не толь-
ко в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю,
значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю
вывод. И вот вам факт: вешалки и калошная стойка в
нашем доме.
— Это интересно...
«Ерунда — калоши, не в калошах счастье, — думал
пес, — но личность выдающаяся».
— Не угодно ли — калошная стойка. С тысяча де-
вятьсцт третьего года я живу в этом доме. И вот в
течение времени до апреля тысяча девятьсот семнадца-
Собачье сердце
3?1
того года не было ни одного случая — подчеркиваю
красным карандашом «ни одного»! — чтобы из нашего
парадного внизу, при общей незапертой двери, пропала
бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь двенадцать
квартир, у меня прием. В апреле семнадцатого года, в
один прекрасный день, пропали все калоши, в том числе
две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейца-
ра. И с тех пор калошная стойка прекратила свое су-
ществование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом
отоплении! Не говорю! Пусть. Раз социальная револю-
ция, не нужно топить! Хотя когда-нибудь, если будет
свободное время, я займусь исследованием мозга и до-
кажу, что вся эта социальная кутерьма — просто-на-
просто больной бред... Так я говорю: почему, когда
началась вся эта история, все стали ходить в грязных
калошах и валенках по мраморной лестнице! Почему
калоши до сих пор нужно запирать под замок и еще
приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не ста-
щил? Почему убрали кЪвер с парадной лестницы? Разве
Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры?
Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъ-
езд калабуховского дома на Пречистенке следует забить
досками и ходить кругом через черный двор? Кому это
нужно? Угнетенным неграм? Или португальским рабо-
чим? Почему пролетарий не может оставить свои кало-
ши внизу, а пачкает мрамор?
— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет
калош... — заикнулся было тяпнутый.
— Нич-чего похожего! — громовым голосом ответил
Филипп Филиппович и налил стакан вина. — Гм... Я не
признаю ликеров после обеда, они тяжелят и скверно
действуют на печень... Ничего подобного! На нем теперь
есть калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые
калоши, которые исчезли тринадцатого апреля тысяча
девятьсот семнадцатого года. Спрашивается, кто их
попер? Я? Не может быть! Буржуй Саблин? (Филипп
Филиппович ткнул пальцем в потолок) — смешно даже
предположить! Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Фи-
липпович указал вбок) — ни в коем случае! Это сделали
вот эти самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали
на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На
какого черта убрали цветы с площадок? Почему элек-
тричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение
двадцати лет два раза, в теперешнее время аккуратно
гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь! Статистика —
3ii
Михайл Булгаков
жестокая вещь. Вам, знакомому с моей последней рабо-
той, это известно лучше, чем кому бы то ни было дру-
гому!
— Разруха, Филипп Филиппович!
— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп
Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арноль-
дович, воздержитесь от употребления самого этого сло-
ва. Это — мираж, дым, фикция! — Филипп Филиппович
широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени,
похожие на черепах, заерзали на скатерти. — Что такое
эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая
выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе
не существует! Что вы подразумеваете под этим сло-
вом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчаст-
ной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с
буфетом, и сам же ответил за нее. — Это вот что: если
я, вместо того чтобы оперировать, каждый вечер начну
у себя в квартире Петь хором, у меня настанет разруха!
Если я, ходя в уборную, начну, извините меня за выра-
жение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут
делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится
разруха. Следовательно, разруха сидит не в клозетах, а
в головах! Значит, когда эти баритоны кричат: «Бей
разруху!», я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича пере-
косило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне
смешно! Это означает, что каждый из них должен лу
пить себя по затылку! И вот когда он вылупит из себя
мировую революцию, Энгельса и Николая Романова,
угнетенных малайцев и тому подобные галлюцинации, я
займется чисткой сараев — прямым своим делом, —
разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя слу-
жить! Невозможно в одно и то же время подметать
трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испан-
ских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем
более людям, которые, вообще отстав в развитии от
европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем
уверенно застегивают собственные штаны!
Филипп Филиппович вошел в азарт, ястребиные нозд-
ри его раздувались. Набравшись сил после сытного обедя,
гремел он, подобно древнему пророку, и голова его
сверкала серебром.
Его слова на сонного пса падали, точно глухой под
земный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выска-
кивала в сонном видении, то гнусная рожа палача а
белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филиппо-
Собачье сердцу
373
вича, освещенный резким электричеством из абажура,
то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем
желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок
ростбифа.
«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, —
мутно мечтал пес, — первоклассный деляга. Впрочем, у
него и так, по-видимому, куры не клюют...»
— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. —
Городовой!! — «Угу-гу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопа-
лись в мозгу пса... — Городовой! Это, и только это!
И совершенно не важно, будет ли он с бляхой или же
в красном кэпи. Поставить городового рядом с каждым
человеком и заставить этого городового умерить вокаль-
ные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха!
Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему
в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор,
пока не усмирите этих певцов! Лишь только они прекра-
тят свои концерты, положение само изменится к лучшему!
— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп
Филиппович, — шутливо заметил тяпнутый, — не дай
бог, вас кто-нибудь услышит!
— Ничего опасного! — с жаром возразил Филипп
Филиппович, — никакой контрреволюции! Кстати, вот
еще слово, которое я совершенно не выношу! Абсолютно
неизвестно, что под ним скрывается! Черт его знает!
Так я говорю: никакой этой самой контрреволюции в
моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизнен-
ная опытность...
Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост
блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее
рядом с недопитым стаканом красного вина. Укушенный
тотчас поднялся и поблагодарил: «Мерси».
— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп
Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он
прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их
укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арноль-
дович, сорок рублей причитается. Прошу!
Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, крас-
нея, засунул деньги в карман пиджака.
— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филип-
пович? — осведомился он.
— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать се-
годня не будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых,
сегодня в Большом «Аида». А я давно не слышал.
Люблю... Помните дуэт... Тара... ра-рим...
— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с
уважением спросил врач.
— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, —
назидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я
начал прыгать по заседаниям и распевать целый день,
как соловей, вместо того чтобы заниматься прямым своим
делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филип
па Филипповича в кармане небесно заиграл репетир, —
начало девятого... ко второму акту приеду... Я сторонник
разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду опе-
рировать. Вот и хорошо — и никаких разрух... Вот что,
Иван Арнольдович^ вы же следите внимательно, как
только подходящая смерть, тотчас со стола в питатель-
ную жидкость и ко мне!
— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, — патоло-
гоанатомы мне обещали.
— Отлично. А мы пока этого уличного неврастеника
понаблюдаем, обмоем. Путь бок у него заживет...
«Обо мне заботится, — подумал пес, — очень хоро
ший человек. Я знаю, кто это! Он — добрый волшебник,
маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же
быть, чтобы все это я видел во сне? А вдруг сон? (Пес
во сне дрогнул.) Вот проснусь, и ничего нет. Ни лампы
в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подво-
ротня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые
люди... Столовка, снег... Боже, как тяжко это будет!..*
4
Но ничего этого не случилось. Именно подворотня
растаяла, как мерзкое сновидение, и более не верну
ла'сь.
Видно, уж не так страшна разруха! Невзирая на нес,
дважды в день серые гармоники под подоконниками
наливались жаром и тепло волнами расходилось по всей
квартире.
Совершенно ясно: пес вытащил самый главный соба-
чий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день
заливались благодарными слезами по адресу пречистен-
ского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной-при
емной между шкафами отражали удачливого красавца
пса.
«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий
принц-инкогнито, — размышлял пес, глядя на лохмато
Собачье сердце
-375
го кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего
в зеркальных далях, — очень возможно, что бабушка
моя согрешила с водолазом. То-то, я смотрю, у меня на
морде белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп
Филиппович —- человек с большим вкусом, не возьмет он
первого попавшегося пса-дворника».
В течение недели пес сожрал столько же, сколько в
полтора последних голодных месяца на улице. Но, ко-
нечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Фи-
липповича и говорить не приходилось. Если даже не
принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей
Петровной закупалась груда обрезков на Смоленском
рынке на восемнадцать копеек, — достаточно упомянуть
обеды в семь часов вечера в столовой, на которых пес
присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во
время этих обедов Филипп Филиппович окончательно
получил звание божества. Пес становился на задние
лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа
Филипповича — два полнозвучных отрывистых хозяй-
ских удара — и вылетал с лаем встречать его в перед-
ней. Хозяин вваливался в черно-бурой лисе, сверкая
миллионом снежных блесток, пахнущий мандаринами,
сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном,
сукном, и голос его, как командная труба, разносился
по всему жилищу:
— Зачем же ты, свинья, сову разорвал? Она тебе
мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессо-
ра Мечникова разбил?
— Его, Филипр Филиппович, нужно хлыстом ото-
драть хоть один раз; — возмущенно говорила Зина, —
а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с
вашими калошами сделал!
— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Фи-
липпович, — запомни это раз навсегда! На человека и
на животное можно действовать только внушением! Мясо
ему давали сегодня?
— Господи! Он весь дом обожрал! Что вы спраши-
ваете, Филипп Филиппович? Я удивляюсь, как он не
лопнет!
— Ну и пусть ест на здоровье!.. Чем тебе помешала
сова, хулиган?!
— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вы-
вернув лапы.
Затем его с гвалтом волокли за шиворот через при-
емную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за
376
Михаил Булгаков
ковер, ехал на заду, как в цирке. Посредине кабинета
на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым
животом, из которого торчали какие-то красные тряпки,
пахнущие нафталином. На столе валялся вдребезги раз-
битый портрет.
— Я нарочно не убирала, чтобы вы полюбовались, —
расстроенно докладывала Зина, — ведь на стол вско-
чил, какой мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомнить-
ся не успела, как он ее всю истерзал! Мордой его по-
тычьте, Филипп Филиппович, в сову, чтобы он знал, как
вещи портить!
И начинался вой. Пса, прилипавшего к ковру, тащи-
ли тыкать в сову, причем пес заливался горькими слеза-
ми и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте!»
— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме
того, вот тебе восемь рублей и шестнадцать копеек на
трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с
цепью.
На следующий день на пса надели широкий блещу-
щий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зерка-
ло, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ван-
ную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук
или ящик. Но очень скоро он понял, что он просто —
дурак. Зина повела его гулять на цепи. По Обухову
переулку пес шел как арестант, сгорая от стыда, но,
пройдя по Пречистенке до храма Христа, отлично сооб-
разил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть
читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого
переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом
дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой».
Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер по-
глядел на ошейник с удовольствием и уважением, а
когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни:
Федор-швейцар собственноручно отпер переднюю дверь
и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:
— Ишь каким лохматым обзавелся Филипп Филип-
пович! И удивительно жирный.
— Еще бы! За шестерых лопает! — пояснила румя-
ная и красивая от морозу Зина.
«Ошейник все равно что портфель», — сострил мыс-
ленно пес и, виляя задом, проследовал в бельэтаж, как
барин.
Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый
визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход
ему был категорически воспрещен, именно — в царство
Собачье сердце
377
поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и
двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной
сверху и облицованной кафелем плите стреляло и буше-
вало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых
столбах горело вечною огненной мукой и неутоленной
страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отли-
вало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой
светлых волос на затылке — светились двадцать два
поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели
золотые кастрюли, вся кухня громыхала запахами, кло-
котала и шипела в закрытых сосудах...
— Вон! — завопила Дарья Петровна, — вон, беспри-
зорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя ко-
чергой...
«Чего ты? Ну чего лаешься? — умильно щурил глаза
пес. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не
замечаете?» — и он боком лез в дверь, просовывая в нее
морду.
Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять серд-
ца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзи-
ной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна.
Острым и узким ножом она отрубала беспомощным
рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач,
с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутреннос-
ти, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время
терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья
Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смеши-
вала их на доске с мясною кашицей, заливала все это
сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты.
В плите гудело, как на пожаре, а на сковороде ворчало,
пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала,
обнаруживала страшный ад. Клокотало, .лилось...
Вечером потухала пламенная пасть, в окне кухни,
над белой половинной занавесочкой, стояла густая и
важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне
выло сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и туск-
ло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал
На теплой плите, как лев на воротах, и, задрав от
любопытства одно ухо вверх, глядел, как черноусый и
взволнованный человек в широком кожаном поясе за
полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Пет-
ровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело
мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного
носа. Щель света лежала на портрете черноусого, и
пасхальный розан свисал с него.
•3>8
Михаил Булгаков
— Как демон пристал... — бормотала в полумраке
Дарья Петровна, — отстань. Зина сейчас придет. Что
ты, чисто тебя тоже омолодили?
— Нам ни к чему, — плохо владея собою и хрипло
отвечал черноусый. — До чего вы огненная...
Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяж
кими шторами и, если в Большом театре не было «Аиды*
и не было заседания Всероссийского хирургического
общества, божество помещалось в кресле. Огней под
потолком не было, горела только одна зеленая лампа на
столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь,
глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и
мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человечес
кие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были
в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые паль
цы копошились в извилинах. Временами божество во
оружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько
резало желтые упругие мозги.
— «К берегам священным Нила...» — тихонько напе-
вало божество, закусывая губы и вспоминая золотую
внутренность Большого театра. Трубы в этот час нагре-
вались до высшей точки. Тепло от них поднималось к
потолку, откуда расходилось по всей комнате, в песьей
шубе оживала последняя, еще не вычесанная самим
Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха
Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко зве
нела выходная дверь.
«Зинка в кинематограф пошла, — думал пес, — а
как придет, ужинать, стало быть, будем. На ужин, на'до
полагать, телячьи отбивные».
♦ , ♦ ♦
И вот в этот ужасный день, еще утром, Шарика
кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг за-
скучал и утренний завтрак — полчашки овсянки и вче-
рашнюю баранью косточку — съел без всякого аппети-
та. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл
там на свое собственное отражение. Но днем, после того
как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел
как обычно. Приема сегодня не было, потому, как извест-
но, во вторник приема не бывает, и божество сидело н
кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с
пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько
Собачье сердце
379
оживила мысль.о том, что сегодня на третье блюдо, как
он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по
коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Фи-
липповича неприятно и неожиданно прозвенел телефон.
Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг
взволновался.
— Отлично, — послышался его голос, — сейчас же
везите, сейчас же!
Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал
срочно подавать обед. Обед! Обед! Обед! В столовой
тотчас застучали тарелками. Зина забегала, из кухни
послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не
готова. Пес опять почувствовал волнение.
«Не люблю кутерьмы в квартире», — раздумывал он.
И только что он это подумал, как кутерьма приняла
еще более неприятный характер. И прежде всего благо-
даря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталя.
Тот привез с собою дурно пахнущий чемодан и, даже не
раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотро-
вую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе,
чего с ним никогда не случалось, и выбежал навстречу
доктору Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.
— Когда умер? — закричал он.
— Три часа назад, — ответил Борменталь, не снимая
заснеженной шапки и расстегивая чемодан.
«Кто такое умер? —- хмуро и недовольно подумал пес
и сунулся под ноги, — терпеть не могу, когда мечутся».
— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — за-
кричал Филипп Филиппович на все стороны и стал зво-
нить во все звонки, как показалось псу.
Прибежала Зина.
— Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать,
никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь,
умоляю вас, скорей, скорей!
«Не нравится мне. Не нравится». Пес обиженно на-
хмурился и стал шляться по квартире, а вся суета со-
средоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно
в халате, похожем на саван, и начала летать из смот-
ровой в кухню и обратно.
«Пойти, что ль, пожрать. Ну их в болото», — решил
пес и вдруг получил сюрприз.
— Шарику ничего не давать! — загремела команда
из смотровой.
— Усмотришь за ним, как же!
— Запереть!
здо
Михаил Булгаков
И Шарика заманили и заперли в ванной.
«Хамство, — подумал Шарик, сидя в полутемной
ванной комнате, — просто глупо...»
И около четверти часа он пробыл в ванной в стран-
ном настроении духа — то в злобе, то» в каком-то тяже-
лом упадке. Все было скучно, неясно...
«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоува-
жаемый Филипп Филиппович, — думал он, — две пары
уже пришлось прикупить, и еще одну купите. Чтобы вы
псов не запирали».
Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и
ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности,
солнечный необъятный двор у Преображенской заставы,
осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-
побродяги...
«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь,
зачем лгать, — тосковал пес, сопя носом, — привык.
Я — барский пес, интеллигентное существо, отведал
лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж,
фикция... Бред этих злосчастных демократов...»
Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл,
бросился на дверь, стал царапаться.
— У-у-у! — как в бочку, пролетело по квартире.
«Сову раздеру опять! — бешено, но бессильно думал
пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на
нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещи-
лись отвратительные волчьи глаза...
И в разгар муки дверь открыли. Пес вышел, отрях-
нувшись, и угрюмо собрался в кухню, но Зина за ошей-
ник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок про-
шел у пса под сердцем.
«Зачем же я понадобился? — подумал он подозри-
тельно. —- Бок зажил. Ничего не понимаю».
И он поехал лапами по скользкому паркету, и так
был привезен в смотровую. В ней сразу поразило неви-
данное освещение. Белый шар под потолком сиял до
того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и
сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Толь-
ко по смутному запаху можно было узнать, что это
Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скры-
валась под белым колпаком, напоминающим патриар-
шую скуфейку. Жрец был весь в белом, а поверх белого,
как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук.
Руки в черных перчатках.
Собачье сердце Й?
В скуфейке оказался и тяпнутый. Длинный стол был
раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехуголь-
ный на блестящей ноге.
Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого — и
больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые
и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих
глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине
их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое
преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и
ушел в угол.
— Ошейник, Зина, —- негромко молвил Филипп
Филиппович, — только не волнуй его.
У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза,
как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво
погладила его. Тот с тоскою и презрением поглядел на
нее.
«Что же... вас трое. Возьмете, если захотите. Только
стыдно вам... Хоть бы я знал, что будете делать со
мной?»
Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фырк-
нул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутящий
запах разлился от него.
«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно?» —
подумал пес и попятился от тяпнутого.
— Скорее, доктор, — нетерпеливо молвил Филипп
Филиппович.
Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя
с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спи-
ны правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной
ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закру-
жилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул
за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же
заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться.
«Злодей... — мелькнуло в голове. — За что?» И еще раз
облепили. Тут неожиданно посреди смотровой предста-
вилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загроб-
ные небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и
согнулись.
— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова
Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых стру-
ях. Ужас исчез, сменился радостью, секунды две угаса-
ющий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернул-
ся кверху дном и была еще почувствована холодная, но
приятная рука под животом. Потом — ничего.
382
Михаил Булгаков
♦ ♦ ♦
На узком операционном столе лежал, раскинувшись,
пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о бе-
лую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и
теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, ма-
шинкой, въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Фи-
липп Филиппович, опершись ладонями на край стола,
блестящими, как золотые обода его очков, глазками
наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:
— Иван Арнольдович, самый важный момент, когда
я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, по-
дайте отросток, и тут же шить! Если там у меня начнет
кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для
него и так никакого шанса нету. — Он помолчал, при-
щуря глаз, заглянул как бы насмешливо в полуприкры-
тый спящий глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его.
Представьте, я привык к нему.
Руки он вздымал в это время, как будто благослов-
лял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он
старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную
резину.
Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая
кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и воору-
жился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую
голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-
где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым
бензиновым комком обтер ее, затем оголенный живот
пса растянул и молвил, отдуваясь:
— Готово.
Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бро-
сился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.
— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спро-
сила она, боязливо косясь на обритую голову пса.
— Можешь.
Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Лег-
кими марлевыми салфеточками он обложил голову
Шарика, и тогда на подушке оказался никем не видан-
ный лысый песий череп и странная бородатая морда.
Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на
собачью голову и сказал:
— Ну, господи благослови. Нож!
Борменталь из сверкающей груды на столике вынул
маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем
он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.
— Спит? — спросил Филипп Филиппович.
Собачье сердце
зад,
— Хорошо спит.
Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приоб-
рели остренький колючий блеск, и, взмахнув ножичком,
он метко и длинно протянул по животу Шарика рану.
Кожа тотчас разошлась, и из неё брызнула кровь в
разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал
комьями марли давить Шарикову рану, затем маленьки-
ми, как бы сахарными, щипчиками зажал ее края, и она
высохла. На лбу у Борменталя пузырьками выступил
пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело
Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножница-
ми, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые,
плачущие кровавой росою ткани. Филипп Филиппович
вертел ножом в теле, потом крикнул:
— Ножницы!
Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у
фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в
несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семен-
ные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совер-
шенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стек-
лянной банке и извлек из нее другие мокрые, обвисшие
семенные железы. В руках у профессора и ассистента
запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно
защелкали кривые иглы в зажимах. Семенные железы
вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны,
ткнул в нее комком марли и скомандовал:
— Шейте, доктор, мгновенно кожу!.
Затем оглянулся на круглые белые стенные часы.
— Четырнадцать минут делали, —• сквозь стиснутые
зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в
дряблую кожу.
Затем оба заволновались, как убийцы, которые спе-
шат.
— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.
Нож вскочил к нему в руки как бы сам собой, после
чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он
оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним при-
емом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с
бритыми волосами откинули, как скальп, обнажили
костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:
— Трепан!
Борменталь подал ему блистающий коловорот. Кусая
губу, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и
высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в
сантиметре расстояния одна от другой, так что они шли
кругом всего черепа. На каждую он тратил не более
384
Михаил Булгаков
пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунун
ее хвостик в первую дырочку, начал пилить, как выпи
ливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал
и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика
сняли.
Тогда обнажился купол Шарикового мозга, серый г
синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Фи-
липп Филиппович въелся ножницами в оболочки и их
выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть нс
попал в глаза профессору и окропил его колпак. Бор
менталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился
зажимать и зажал. Пот с Борменталя полз потоками, и
лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его
метались от рук Филиппа Филипповича к тарелке на
столе. Филипп же Филиппович стал положительно стра-
шен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись
до десен. Он ободрал оболочки с мозга и пошел куда-
то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария моз-
га. И в это время Борменталь начал бледнеть, одною
рукою охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:
— Пульс резко падает...
Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-
то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с
хрустом сломал стеклянную ампулу, насосал из нее в
шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.
— Иду к турецкому седлу! — зарычал Филипп
Филиппович и окровавленными скользкими перчатками
выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгно-
вение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь
тотчас сломал вторудо ампулу с желтою жидкостью и
вытянул ее в длинный шприц.
— В сердце? — робко спросил он.
— Что вы еще спрашиваете?! — злобно заревел
профессор, — все равно он уже пять раз у вас умер,
Колите! Разве мыслимо! — Лицо у него при этом стало
как у вдохновенного разбойника.
Доктор с размаху, легко всадил иглу в сердце пса.
— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.
— Некогда рассуждать тут — живет не живет, —
засипел страшный Филипп Филиппович, — я в седле!
Все равно помрет... ах ты, че... «К берегам священ-
ным...» придаток давайте!
Борменталь подал ему склянку, в которой болтался
на нитке в жидкости белый комочек. «Не имеет равных
в Европе, ей-богу...» — смутно подумал Борменталь.
Одной рукой Филипп Филиппович выхватил болтающий-
12*
Собачье сердце
385
ся комочек, а другой —• ножницами — выстриг такой же
комочек в глубине где-то между распяленными полуша-
риями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а
новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими корот-
кими пальцами, ставшими, точно чудом, тонкими и гиб-
кими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После
этого он выбросил из головы Шарика какие-то распял-
ки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, отки-
нулся и уже поспокойнее спросил:
— Умер, конечно?..
— Нитевидный пульс... — ответил Борменталь.
— Еще адреналину!
Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную
крышку приложил, как по мерке, скальп надвинул и
взревел:
- Шейте!
Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три
иглы.
И вот на подушке появилось на окрашенном кровью
фоне безжизненное потухшее лицо Шарика с кольцевой
раной на голове. Тут уж Филипп Филиппович отвалился
окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку,
выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал,
швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина
появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть
Шарика и кровь.
Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук
и крикнул:
— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье
и ванну!
Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами
раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий
глаз и молвил:
— Вот, черт возьми! Не издох! Ну, все равно издох-
нет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса! Ласковый был,
но хитрый.
5
Тетрадь доктора Ивана Арнольдовича Борменталь.
Тонкая, в писчий лист форматом. Исписана почерком
Борменталя. На первых двух страницах он — аккура-
тен, уборист и четок, в дальнейшем — размашист, взвол-
нован, с большим количеством клякс.
В-1857
386
Михаил Булгаков
22-го декабря 1924 года. Понедельник.
История болезни
Лабораторная собака приблизительно 2-х лет от роду.
Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть
жидкая, кустами, буроватая с подпалинами, хвост цвета
топленого молока. На правом боку следы совершенно
зажившего ожога. Питание до поступления к профессо-
ру плохое, после недельного пребывания — крайне упи-
танный. Вес — 8 килограммов (знак восклицательный).
Сердце, легкие, желудок, температура в норме.
23-го декабря. В Ъх/2 часов вечера произведена пер-
вая в Европе операция по профессору Преображенско-
му: под хлороформенным наркозом удалены яички
Шарика и вместо них пересажены мужские яички с при-
датками и семенными канатиками, взятыми от скончавше-
гося за 4 часа 4 минуты до операции мужчины 28 лет и
сохранявшимися в стерилизованной физиологической жид-
кости по профессору Преображенскому.
Непосредственно вслед за сим удален после трепана-
ции черепной крыши придаток мозга — гипофиз и за-
менен человеческим от вышеуказанного мужчины.
Истрачено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфоры,
2 шприца адреналина в сердце.
Показание к операции: постановка опыта Преобра-
женского с комбинированной пересадкой гипофиза и
яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофи-
за, а в дальнейшем — о его влиянии на омоложение
организма у людей.
Оперировал профессор Ф. Ф. Преображенский.
Ассистировал доктор И. А. Борменталь.
В ночь после операции: грозные повторные падения
пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы
камфоры по Преображенскому.
24-го декабря. Утром — улучшение. Дыхание вдвое
учащено. Температура 42°. Камфора, кофеин под кожу.
25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупыва-
ется. Похолодание конечностей, зрачки не реагируют.
Адреналин в сердце и камфора по Преображенскому.
Физиологический раствор в вену.
26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыха-
ние 92. Температура 41°. Камфора, питание клизмами.
27-го декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура
39,8. Зрачки реагируют. Камфора под кожу.
13-2
Собачье сердце
387
28 декабря. Значительное улучшение. В полдень вне-
запный проливной пот. Температура — 37,0. Операцион-
ные раны в прежнем состоянии. Перевязка.
Появился аппетит. Питание жидкое.
29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти
на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации
профессор по кафедре кожных болезней Василий Ва-
сильевич Бундарев и директор Московского ветеринар-
ного показательного института. Ими случай признан не
описанным в литературе. Диагностика осталась неуста-
новленной. Температура нормальна.
Запись карандашом:
Вечером появился первый лай (8 час. 15 мин.). Об-
ращает внимание резкое изменение тембра и тона (по-
нижение). Лай вместо слова «гау, гау», на слоги «а-о».
По окраске отдаленно напоминает стон.
30-го декабря. Выпадение шерсти приняло характер
общего облысения. Взвешивание дало неожиданный
результат — вес 30 кило, за счет роста (удлинения)
костей. Пес по-прежнему лежит.
31-го декабря. Колоссальный аппетит.
В тетради — клякса. После кляксы торопливым по-
черком:
В 12 часов 12 минут дня пес отчетливо пролаял сло-
во — «А-б-ыр»!!
(В тетради перерыв, и дальше, очевидно, по ошибке
от волнения написано):
1 декабря.
Перечеркнуто, поправлено:
1 января 1925 года. Фотографирован утром. Отчетливо
лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радост-
но. В 3 часа дня (крупными буквами) засмеялся (?), вызвав
обморок горничной Зины.
Вечером произнес восемь раз подряд слово «Абыр-
валг», «Абыр!».
Косыми буквами карандашом:
Профессор расшифровал слово «Абыр-валг». Оно оз-
начает «Главрыба»!!! Что-то чудовищ...
2 января. Фотографирован во время улыбки при
магнии.
Встал с постели и уверенно держался полчаса на
задних лапах. Моего почти роста.
В тетради вкладной лист:
Русская наука чуть не понесла тяжкую утрату.
13'
388
Михаил Булгаков
История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.
В 1 час. 13 мин. — глубокий обморок с профессором
Преображенским. При падении ударился головой о нож-
ку стула. Тинктура валериана.
В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно,
можно назвать) обругал профессора Преображенского
по матери.
Перерыв в записях.
6-го января. (То карандашом, то фиолетовым черни-
лом.)
Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он
произнес совершенно отчетливо слово «пив-ная». Рабо-
тает фонограф. Черт знает что такое!!
Я теряюсь!
Прием-у профессора прекращен. Начиная с 5 часов
дня из смотровой, где расхаживает это существо, слы-
шится явственная вульгарная ругань и слова: «Еще
парочку».
7-го января. Он произносит очень много слов: «Изво-
щик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший по-
дарок детям» и все бранные слова, какие только суще-
ствуют в русском лексиконе.
Вид его странен. Шерсть осталась только на голове,
на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряб-
ловатой кожей. В области половых органов — формиру-
ющийся мужчина. Череп увеличился значительно, лоб
скошен и низок.
Ей-богу, я с ума сойду!
Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо.
Большинство наблюдений веду я (фонограф, фотографии).
По городу расплылся слух.
Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь пере-
улок был полон какими-то бездельниками и старухами.
13-4
Собачье сердце
389
Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних
газетах появилась удивительная заметка:
«Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем
не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и
будут строго наказаны». О каком, к черту, марсианине?
Ведь это кошмар!!
Еще лучше в «Вечерней» — написали, что родился
ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок —
скрипка и моя фотографическая карточка и под ней
подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево
сечение у матери». Это что-то неописуемое!.. Новое сло-
во — «милиционер».
Оказывается — Дарья Петровна была в меня влюб-
лена и свистнула карточку из альбома Ф. Ф. После того,
как прогнал репортеров, один из них полез на кухню, и
так далее...
Что творится во время приема!! Сегодня было 82
звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума со-
шли и идут.
В полном составе домком во главе со Швондером.
Зачем — сами не знают.
8-го января. Поздним вечером поставили диагноз.
Ф. Ф., как истый ученый, признал свою ошибку — пе-
ремена гипофиза дает не омоложение, а полное очело-
вечение (подчеркнуто три раза) От этого его изумитель-
ное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.
Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся
в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в
сопровождении Филиппа Филипповича и моем, он про-
следовал в кабинет. Он стойко держится на задних (за-
черкнуто)... на ногах и производит впечатление малень-
кого и плохо сложенного мужчины.
'Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы
искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я
записал новое, отчетливо произнесенное слово: «буржуи».
390
Михаил Булгаков
Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-
видимому, совершенно бессмысленная. Она носит не-
сколько фонографический характер: как будто это су-
щество где-то раньше слышало бранные слова, автома-
тически подсознательно занесло их в свой мозг и теперь
изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт
меня возьми!
На Филиппа Филипповича брань производит, почему
то, удивительно тягостное впечатление. Бывают момен
ты, когда он выходит из сдержанного и холодного на-
блюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так,
в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:
— Перестать!
Это не произвело никакого эффекта.
После прогулки в кабинет общими усилиями Шарик
был водворен в смотровую.
После этого мы имели совещание с Ф. Ф. Впервые,
я должен сознаться, видел я этого уверенного и порази-
тельно умного человека растерянным. Напевая по сво-
ему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем
делать?» И сам же ответил буквально так: «Москшвея,
да... «От Севильи до Гренады...» Москшвея, дорогой док-
тор...» Я ничего не понял. Он пояснил: «Я вас прошу,
Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».
9-го января. Лексикон обогащается в каждые пять
минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра,
и фразами. Похоже, что они замерзшие в сознании,
оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в упот-
реблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены:
«Не толкайся», «бей его», «подлец», «слезай с поднож-
ки», «я тебе покажу», «признание Америки» и «примус».
10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку
позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От
кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками:
«В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки
ему велики.
В тетради какие-то схематические рисунки, по всем
признакам изображающие превращение собачьей ноги в
человеческую.
Удлиняется задняя половина скелета стопы (Tarsus).
Вытягивание пальцев. Когти.
Повторное систематическое обучение посещения
уборной.
Прислуга совершенно подавлена.
Собачье сердце
391
Но следует отметить понятливость существа. Дело
вполне идет на лад.
// января. Совершенно примирился со штанами.
Произнес длинную веселую фразу, потрогав брюки
Филиппа Филипповича: «Дай папиросочку, у тебя брю-
ки в полосочку».
Шерсть на голове слабая, шелковистая. Легко спу-
тать с волосами. Но подпалины остались на темени.
Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный
аппетит. С увлечением ел селедку.
В пять часов дня событие: впервые слова, произне-
сенные существом, не были оторваны от окружающих
явлений, а явились реакцией на них. Именно, когда
профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол...» —
неожиданно ответил: «Отлезь, гнида!»
Ф. Ф. был поражен. Потом поправился и сказал:
— Если ты еще раз позволишь себе обругать меня
или доктора, тебе влетит.
Я фотографировал в это мгновение Шарика. Руча-
юсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла
на его лицо. Поглядел исподлобья и довольно раздра-
женно, но стих.
Ура! Он понимает.
12 января. Закладывание рук в карманы штанов.
Отучаем от ругани.
Свистал «Ой, яблочко...».
Поддерживает разговор.
» Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чер-
тям омоложение пока что! Другое, неизмеримо более
важное: изумительный опыт профессора Преображен-
ского раскрыл одну из тайн человеческого мозга! Отны-
не загадочная функция гипофиза — мозгового придат-
ка —- разъяснена! Он определяет человеческий облик!
Его гормоны можно назвать важнейшими в организме —
гормонами облика! Новая область открывается в науке:
без всякой реторты Фауста создан гомункул! Скальпель
хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу!
Профессор Преображенский, вы — творец!! (Клякса.)
Впрочем, я ^уклонился в сторону... Итак, он поддер-
живает разговор. По моему предположению, дело обсто-
ит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в
собачьем мозгу, и слова хлынули потоками. По-моему,
перед нами — оживший развернувшийся мозг, а не мозг
вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюцион-
392
Михаил Булгаков
ной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-
химика!
Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде
его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми
он начал оперировать в первую очередь, — уличные
слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя
по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов.
Бог их знает, что у них таится в мозгах!
Шарик читал! Читал!!! (Три восклицательных зна-
ка.) Это я догадался! По «Главрыбе»! Именно с конца
читал! И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в
перекресте зрительных нервов у собаки!
Что в Москве творится — уму непостижимо челове-
ческому! Семь сухаревских торговцев уже сидят за рас-
пространение слухов о светопреставлении, которое на-
влекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже
называла точно число: 28 ноября 1925 года, в день пре-
подобного мученика Стефана, — земля налетит на не-
бесную ось!! Какие-то жулики уже читают лекции. Та-
. кой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон
беги из квартиры! Я переехал к Преображенскому, по
его просьбе, и ночую в приемной с Шариком. Смотровая
превращена в приемную. Швондер оказался прав. Дом-
ком злорадствует. В шкафу ни одного стекла, потому
что прыгал. Еле отучили.
С Филиппом что-то страшное делается. Когда я ему
рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Ша-
рика в очень высокую психическую личность, он хмык-
нул и ответил: «Вы думаете?» Тон его зловещий. Неуже-
ли я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь
с этой историей болезни, он сидит над историей того
человека, от которого мы взяли гипофиз.
В тетради вкладной лист.
Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет. Холост. Бес-
партийный, сочувствующий. Судился три раза и оправ-
дан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй
раз — происхождение спасло, в третий — условно ка-
Собачье сердце
393
торга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалай-
ке по трактирам.
Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена
(алкоголь).
Причина смерти: удар ножом в сердце в пивной «Стоп-
сигнал» у Преображенской заставы.
Старик, не отрываясь, сидит над климовской болезнью.
Не понимаю, в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что
вот не догадался осмотреть в патологоанатомическом
весь труп Чугункина. В чем дело, не понимаю! Не все
ли равно, чей гипофиз?
17-го января. Не записывал несколько дней. Болел
инфлюэнцей.
За это время облик окончательно сложился.
а) Совершенный человек по строению тела;
б) вес около трех пудов*,
в) рост маленький,
г) голова маленькая,
д) начал курить,
е) ест человеческую пищу,
ж) одевается самостоятельно,
з) гладко ведет разговор.
Вот так гипофиз! (Клякса.)
Этим я историю болезни заканчиваю. Перед нами
новый организм, и наблюдать его нужно с начала.
Приложение: стенограммы речей, записи фонографа,
фотографические снимки.
Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображен-
ского
Доктор Борменталь.
6
Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное,
предприемное время. На притолоке у двери в приемную
висел белый лист бумаги, на коем было написано рукою
Филиппа Филипповича:
394
Михаил Булгаков
«Семечки есть в квартире запрещаю.
Ф. Преображенский» —
и синим карандашом крупными, как пирожное, буквами
рукою Борменталя:
«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня
до 7-ми часов утра воспрещается».
Затем рукою Зины:
«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я
не знаю, куда он ушел. Федор говорил, что со Швонде-
ром».
Рукою Преображенского:
«Я сто лет буду ждать стекольщика?»
Рукою Дарьи Петровны (печатно):
«Зина ушла в магазин, сказала, приведет».
В столовой было совершенно по-вечернему благодаря
лампе под вишневым абажуром. Свет из буфета падал
перебитый пополам — зеркальные стекла были закле-
ены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп
Филиппович, склонившись над столом, погрузился в раз-
вернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали
его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые
воркующие слова. Он читал заметку:
«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно-
рожденный (как выражались в гнилом буржуазном об-
ществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая
буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех
пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над
ним красными лучами!
Шв...р».
Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли
за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вари-
ации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа
Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу.
Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально
запел сквозь зубы:
— «Све-е-етит месяц... светит месяц... светит месяц...»
Тьфу... прицепилось., вот окаянная мелодия!
Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полот-
нищами портьеры.
— Скажи ему, что 5 часов. Чтобы прекратил: И по-
зови его сюда, пожалуйста.
Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между
пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары.
У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, зало-
Собачье сердце
395
жив ногу за ногу, человек маленького роста и несимпа-
тичной наружности. Волосы у него на голове росли
жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а на
лице был небритый пух. Лоб поражал своей малой
вышиной. Почти непосредственно над черными кисточ-
ками раскиданных бровей начиналась густая головная
щетка.
Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян
соломой, полосатые брючки на правой коленке продра-
ны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у
человечка был повязан ядовито-небесного цвета галстух
с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстуха
был настолько бросок, что время от времени, закрывая
утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме
то на потолке, то на стене видел пылающий факел с
голубым венцом. Открывая глаза, слеп вновь, так как с
полу, разбрызгивая веера света, швырялись в глаза
лаковые штиблеты с белыми гетрами.
«Как в калошах», — с неприятным чувством подумал
Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться
с заглохшей сигарой. Человек у двери мутноватыми
глазками поглядывал на профессора и курил папиросу,
посыпая манишку пеплом.
Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозве-
нели 5. Внутри их еще что-то стонало, когда вступил в
беседу Филипп Филиппович.
— Я, кажется, два раза уже просил не спать на
полатях в кухне, тем более днем?
Человек кашлянул сипло, точно подавился косточ-
кой, и ответил:
— Воздух в кухне приятнее.
Голос у него был необыкновенный, глуховатый, и в то
же время гулкий, как в маленький бочонок.
Филипп Филиппович покачал головой и спросил:
— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстухе.
Человек, глазами следуя пальцу, скосил их через
оттопыренную губу и любовно поглядел на галстух.
— Что ж... «гадость», — заговорил он, — шикарный
галстух. Дарья Петровна подарила.
—- Дарья Петровна вам мерзость подарила. Вроде
этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? откуда?
Я что просил? Купить при-личные бо-тинки! А это что?
Неужели доктор Борменталь такие выбрал?
— Я ему велел, чтоб лаковые. Что, я хуже людей?
Пойдите на Кузнецкий, все в лаковых.
396
Михаил Булгаков
Филипп Филиппович повертел головой и заговорил
веско:
— Спанье на полатях прекращается. Понятно? Что
это за нахальство? Ведь вы мешаете! Там женщины.
Лицо человека потемнело и губы оттопырились.
— Ну уж и женщины! Подумаешь! Барыни какие!
Обыкновенная прислуга, а форсу как у комиссарши!
Это все Зинка ябедничает.
Филипп Филиппович глянул строго:
— Не сметь Зину называть Зинкой! Понятно?
Молчание.
— Понятно, я вас спрашиваю?
— Понятно.
— Убрать эту цакость с шеи. Вы... ты... вы посмот-
рите на себя в зеркало — на что вы похожи! Балаган
какой-то! окурки на пол не бросать, в сотый раз прошу.
Чтобы я более не слышал ни одного ругательного слова
в квартире. Не плевать. Вон плевательница. С писсуа-
ром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры
прекратить! Она жалуется, что вы в темноте ее подка-
рауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту: «Пес его
знает»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?
— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, —
вдруг плаксиво выговорил человек.
Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.
— Кто это тут вам «папаша»? Что это за фамильяр-
ности? Чтобы я больше не слыхал этого слова! Назы-
вать меня по имени и отчеству!
Дерзкое выражение загорелось в человечке.
— Да что вы все... то не плевать, то не кури... туда
не ходи... Что же это, на самом деле, чисто как в трам-
вае? Что вы мне жить не даете? И насчет «папаши» это
вы напрасно! Разве я вас просил мне операцию делать, —
человек возмущенно лаял, — хорошенькое дело! Ухвати-
ли животную, исполосовали ножиком голову, а теперь
гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию
не давал. А равно (человечек возвел глаза к потолку,
как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои род-
ные. Я иск, может, имею право предъявить?
Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно
круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип!» —
пролетело у него в голове.
— Как-с, —- прищуриваясь, спросил он, — вы изво-
лите быть недовольным, что вас превратили в человека?
Собачье сердце
397
Вы может быть, предпочитаете снова бегать по помой-
кам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал!..
— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка.
Я свой кусок хлеба добывал! А ежели бы я у вас помер
под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ?
— «Филипп Филиппович»! — раздраженно восклик-
нул Филипп Филиппович, — я вам не товарищ! Это
чудовищно! — «Кошмар... кошмар!» подумалось ему.
— Уж конечно, как же... — иронически заговорил че-
ловек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с!
Какие уж мы вам товарищи! Где уж! Мы в универси-
тетах не обучались, в квартирах по пятнадцать комнат
с ваннами не жили! Только теперь пора бы это оставить.
В настоящее время каждый имеет свое право...
Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения
человека. Тот прервал речь и демонстративно направил-
ся к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Поход-
ка у него была развалистая. Он долго мял окурок в
раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!»
Затушив папироску, он на ходу вдруг лязгнул зубами и
сунул нос под мышку.
— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно
крикнул Филипп Филиппович, — и я не понимаю, отку-
да вы их берете?
— Да что ж, развожу я их, что ли? — обиделся
человек, — видно, блоха меня любит, — тут он пальца-
ми пошарил в подкладке под рукавом и выпустил на
воздух клок рыжей легкой ваты.
Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на
потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек,
казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом,
опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза
его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои
башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие.
Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие
блики на тупых носах, глаза прижмурил и заговорил:
— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?
— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп
Филиппович, мне надо.
Филиппа Филипповича несколько передернуло.
— Хм... Черт... Документ! Действительно... Кхм... Да,
может быть, без этого как-нибудь можно? — голос его
звучал неуверенно и тоскливо.
— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как
же так без документа? Это уж извиняюсь. Сами знаете,
398
Михаил Булгаков
человеку без документа строго воспрещается существо-
вать. Во-первых, домком!
— При чем тут этот домком?
— Как это при чем? Встречают, спрашивают, когда
ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?
— Ах ты, господи, — уныло воскликнул Филипп
Филиппович, — «встречаются, спрашивают»... Вообра-
жаю, что вы им говорите! Ведь я же вам запрещал
шляться по лестницам!
— Что я, каторжный? — удивился человек, и созна-
ние его правоты загорелось у него даже в рубине. —
Как это так «шляться»?! Довольно обидны ваши слова!
Я хожу, как все люди.
При этом он посучил лакированными ногами по пар-
кету.
Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторо-
ну. «Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он.
Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.
— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело
не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный
домком?
— Что ж ему говорить? Да вы напрасно его прелест-
ным ругаете. Он интересы защищает.
— Чьи интересы, позвольте осведомиться?
— Известно чьи. Трудового элемента.
Филипп Филиппович выкатил глаза.
— Почему вы — труженик?
— Да уж известно, не нэпман.
— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах
вашего революционного интереса?
— Известно что: прописать меня. Они говорят, где ж
это видано, чтоб человек проживал непрописанным в
Москве? Это раз. А самое главное — учетная карточка.
Я дезертиром быть не желаю. Опять же союз, биржа...
— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По
этой скатерти? Или по своему паспорту? Ведь нужно
же все-таки считаться с положением! Не забывайте, что
вы... э... гм... вы ведь, так сказать, неожиданно появив-
шееся существо, лабораторное... — Филипп Филиппович
говорил все менее уверенно.
Человек победоносно молчал.
— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы
вас прописать и вообще устроить все по плану этого
вашего домкома! Ведь у вас же нет ни имени, ни фами-
лии!
Собачье сердце
399
— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно
спокойно могу избрать. Пропечатал в газете — и шабаш!
— Как же вам угодно именоваться?
Человек поправил галстух и ответил:
— Полиграф Полиграфович.
— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп
Филиппович, — яс вами серьезно говорю.
Язвительная усмешка искривила усишки человека.
— Чтой-то не пойму я, — заговорил он весело и
осмысленно, — мне по матушке — нельзя, плевать —
нельзя, а от вас только и слышу: «дурак» да «дурак».
Видно, только профессорам разрешается ругаться в
Ресефесере.
Филипп Филиппович налился кровью и, наполняя
стакан водой, разбил его. Напившись из другого, по-
думал: «Ещё немного, он меня учить станет, и будет
совершенно прав. В руках уже не могу держать себя».
Он преувеличенно вежливо склонил стан и с желез-
ною твердостью произнес:
— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя
показалось мне странным. Где вы, интересно знать,
откопали такое?
— Домком посоветовал. По календарю искали, какое
тебе, говорят, я и выбрал.
— Ни в каком календаре ничего подобного быть не
может.
— Довольно удивительно, — человек усмехнулся, —
когда у вас в смотровой висит.
Филипп Филиппович, не вставая, откинулся к кнопке
на обоях, и на звонок явилась Зина.
— Календарь из смотровой.
Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календа-
рем, Филипп Филиппович спросил:
— Где?
— 4-го марта празднуется.
— Покажите... Гм... черт... В печку его, Зина, сей-
час же!
Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем,
а человек покрутил укоризненно головой.
— Фамилию позвольте узнать.
— Фамилию я согласен наследственную принять.
— Как-с? Наследственную? Именно?
— Шариков.
400
Михаил Булгаков
♦ ♦ ♦
В кабинете перед столом стоял председатель домко-
ма Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь
сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках
доктора (он только что вернулся) было столь же расте-
рянное выражение, как и у Филиппа Филипповича.
— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.
— Что же, — заговорил Швондер, — дело неслож-
ное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что
так, мол, и так, предъявитель сего действительно граж-
данин Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародив-
шийся в вашей, мол, квартире...
Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле, Фи-
липп Филиппович дернул усом.
— Гм... вот черт... Глупее ничего себе и представить
нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним
словом...
— Это ваше дело, — со спокойным злорадством-
молвил Швондер, — зародился или нет... В общем и
целом, ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали
гражданина Шарикова!
— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного
шкафа. Он вглядывался в галстух, отражавшийся в
зеркальной бездне.
— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп
Филиппович, — не вмешиваться в разговор! В*ы напрас-
но говорите: «И очень просто», — это очень непросто.
— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забуб-
нил Шариков, а Швондер немедленно его поддержал:
Простите, профессор, гражданин Шариков совер-
шенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении
его собственной участи, в особенности постольку, по-
скольку дело касается документов. Документ — самая
важная вещь на свете.
В этот момент оглушительный трезвон над ухом обор-
вал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку:
«Да!», покраснел и закричал:
— Попрошу не отрывать меня по пустякам! Вам
какое дело? — и хлестко всадил трубку в рога.
Голубая радость разлилась по лицу Швондера.
Филипп Филиппович, багровея, прокричал:
— Одним словом, кончим это.
Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько
слов, затем раздраженно прочитал вслух:
Собачье сердце
401
*— «Сим удостоверяю»... черт знает что такое... Гм...
«предъявитель сего, человек, полученный при лабора-
торном опыте путем операции на головном мозгу, нуж-
дается в документах»... черт!.. Да я вообще против по-
лучения этих идиотских документов!.. Подпись: «профес-
сор Преображенский».
— Довольно странно, профессор, — обиделся Швон-
дер, — как так документы вы называете идиотскими!
Я не могу допустить пребывания в доме бездокументно-
го жильца, да еще не взятого на воинский учет мили-
цией. А вдруг война с империалистическими хищниками?
— Я воевать не пойду никуда, — вдруг хмуро гавк-
нул Шариков в шкаф.
Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво
заметил Шарикову:
— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степе-
ни несознательно. На воинский учет необходимо взяться.
— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, —
неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.
Настала очередь Швондера смутиться. Преображен-
ский и злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем:
«Не угодно ли-с, мораль?».Борменталь многозначитель-
но кивнул головой.
—- Я тяжко раненный при операции, — хмуро под-
вывал Шариков, — меня вишь как отделали, — и он
указал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий
операционный шрам.
— Вы — анархист-индивидуалист? — спросил Швон-
дер, высоко поднимая брови.
— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков
на это.
— Ну-с, хорошо, не важно пока, — ответил удивлен-
ный Швондер. — Факт в том, что мы удостоверение про-
фессора отправим в милицию и вам выдадут документ.
— Вот что... э... — внезапно перебил его Филипп
Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой. —- Нет
ли у вас в доме свободной комнаты, я согласен ее ку-
пить.
Желтенькие искры появились в карих глазах Швон-
дера.
— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не
предвидится.
Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал.
Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Фи-
липпович, НИЧС1О не спрашивая, молча сбросил трубку
402
Михаил Булгаков
с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла
на голубом шнуре. Все вздрогнули.
«Изнервничался старик», — подумал Борменталь, а
Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.
Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за
ним следом.
Профессор остался наедине с Борменталем.
Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко по-
тряс головой и заговорил:
— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь
вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели
больше, чем за последние четырнадцати лет! Ведь тип,
я вам доложу...
В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул
заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая
сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к
смотровой, там чем-то^грохнула и мгновенно пролетела
обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий
крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.
— Боже мой! Еще что-то! — закричал Филипп Фи-
липпович, бросаясь к дверям.
— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним
вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворва-
лись в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и
ванной. Из кухни выскочила Зина и вплотную наскочила
на Филиппа Филипповича.
— Сколько раз я приказывал, котов чтобы не было! —
в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?
Иван Арнольдович, успокойте, ради бога, пациентов а
приемной!
— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, —
задыхаясь, закричала Зина.
Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но
та не поддалась.
— Открыть сию секунду!
В ответ в запертой ванной по стенам что-то запры-
гало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо
проревел за дверью:
— Убью на месте...
Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Фи-
липпович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная
Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на
пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под
самым потолком из ванной в кухню, треснуло червивой
Собачье сердце
403
трещиной и из него вывалились два осколка, а за ними
выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах
и с голубым бантом на шее, похожий на городового. Он
упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его
вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах,
а правой взмахнул, как будто бы в танце, и тотчас
просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель
расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией
в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, ока-
залась в кухне. Старуха указательным и большим паль-
цем обтерла запавший рот, припухшими и колючими
глазками окинула кухню и произнесла с любопытством:
— О, господи Исусе!
Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спро-
сил старуху грозно:
— Что вам надо?
— Говорящую собачку любопытно поглядеть, —- от-
ветила старуха заискивающе и перекрестилась.
Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе
подошел вплотную и шепнул удушливо:
— Сию секунду из кухни вон.
Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидев-
шись:
— Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.
— Вон, я говорю, — повторил Филипп Филиппович,
и глаза у него сделались круглые, как у совы. Он соб-
ственноручно трахнул черной дверью за старухой, —
Дарья Петровна, я уже просил вас?!
— Филипп Филиппович, — в отчаянье ответила Дарья
Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что ж
я поделаю?.. Народ целые дни ломится, хоть все бросай!
Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более
не слышалось. Вошел доктор Борменталь.
— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколь-
ко там пациентов?
— Одиннадцать, — ответил Борменталь.
— Отпустите всех, сегодня принимать не буду!
Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в
дверь и крикнул:
— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?
— Гу-гу, — жалобно и тускло ответил голос Шари-
кова.
— Какого черта?.. Не слышу! Закройте воду!
— Гау... угу...
— Да закройте воду! Что он сделал, не понимаю?! —
приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.
Зина и Дарья Петровна, открыв рты, в отчаянии смот-
рели на дверь. К шуму воды прибавился подозритель-
ный плеск. Филипп Филиппович еще раз погрохотал
кулаками в дверь.
— Вон он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.
Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитом окн^
под потолком показалась и высунулась в кухню физио-
номия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекоше-
на, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от
свежей крови, царапина.
— Вы с ума спятили? — спросил Филипп Филиппо-
вич, — почему вы не выходите?
Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:
— Защелкнулся я!
— Откройте замок! Что же вы, никогда замка нс
видели?
— Да не открывается, окаянный, — испуганно отве’
тил Полиграф.
— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскри-
чала Зина и всплеснула руками.
— Там пуговка есть такая, — выкрикивал Филипп
Филиппович, стараясь перекричать воду, — нажмите ее
книзу... Вниз нажмите! Вниз!
Шариков пропал, через минуту вновь появился в
окошке.
— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.
— Да лампу зажгите! Он взбесился!
— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил
Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать,
кран вывернул, а теперь найти не могу.
Все трое всплеснули руками и в таком положении
застыли.
Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петров-
на сидели рядышком на мокром ковре, свернутом труб-
кою у подножия двери, и задними местами прижимали
его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной
венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лест-
нице лез в слуховое окно. Его зад, в крупную серую
клетку, мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.
— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев
воды.
Собачье сердце
405
Из окошка под напором брызнуло несколько раз на
потолок кухни, и вода стихла.
Послышался голос Федора:
— Филипп Филиппович, все равно, надо открывать,
пусть разойдется, отсосем из кухни!
— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филип-
пович.
Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали,
и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она раз-
делилась на три потока: прямо в противоположную
уборную, направо в кухню и налево в переднюю. Шле-
пая и прыгая, Зина захлопнула дверь в переднюю. По
щиколотку в воде, вышел Федор, почему-то улыбаясь.
Он был как в клеенке — весь мокрый.
— Еле заткнул, напор большой, — пояснил он.
— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с
проклятьем поднял одну ногу.
— Боится выходить, — глупо усмехнувшись, объяс-
нил Федор.
— Бить будете, папаша? донесся плаксивый голос
Шарикова из ванной.
— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппо-
вич.
Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках,
с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с
закатанными штанами, шваркали мокрыми тряпками по
полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину.
Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь
на гулкую лестницу, прямо в пролет лестницы, и падала
в подвал.
Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глу-
бокой луже на паркете передней и вел переговоры через
чуть приоткрытую дверь на цепочке.
— Не будет сегодня приема, профессор нездоров.
Будьте добры, отойдите от двери, у нас труба лопнула.
— А когда же прием? — добивался голос за дверью. —
Мне бы только на минуту...
— Не могу, — Борменталь переступал с носков на
каблуки. — Профессор лежит, и труба лопнула. Завтра
прошу. Зина, милая! Отсюда вытирайте, а то она на
парадную лестницу выльется.
— Тряпки не берут!
— Сейчас кружками вычерпаем! — отзывался Фе-
дор, — сейчас!
406
Михаил Булгаков
Звонки следовали один за другим, и Борменталь ужо
всей подошвой стоял в воде.
— Когда же операция? — приставал голос и пытал-
ся просунуться в щель.
— Труба лопнула...
— Я бы в калошах прошел...
Синеватые силуэты появлялись за дверью.
— Нельзя, прошу завтра.
— А я записан...
— Завтра. Катастрофа с водопроводом.
Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой,
а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он
скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду
и погнал ее из передней обратно к уборной.
— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? —
сердилась Дарья Петровна, — выливай в раковину!
— Да что в раковину! — ловя руками мутную воду,
отвечал Шариков, — она на парадное вылезет.
Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и ня
ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в си
них с полосками носках.
— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в
спальню, я вам туфли дам.
— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки!
— В калоши станьте!
—- Да ничего, все равно уж мокрые ноги...
— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филип
пович.
— До чего вредное животное, — отозвался вдруг
Шариков и выехал на корточках с суповой миской в
руке.
Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засме-
ялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, и очки
вспыхнули.
— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова
с высоты. — Позвольте узнать?
— Про кота я говорю. Такая сволочь! — ответил
Шариков, бегая глазами.
— Знаете, Шариков, — переведя дух, отозвался
Филипп Филиппович, — я положительно не видел более
наглого существа, чем вы.
Борменталь хихикнул.
— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто
нахал! Как вы смеете это говорить! Вы все это учинили
Собачье сердце
407
сами и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что
такое!
— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил
Борменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться
за котами? Стыдитесь, ведь это же безобразие!
— Дикарь!
— Какой я дикарь? — хмуро отозвался Шариков, —
ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно.
Только и ищет, как бы что своровать. Фарш слопал у
Дарьи. Я его поучить хотел.
— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Фи-
липпович. — Вы поглядите на свою физиономию в зер-
кало.
— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шари-
ков, трогая глаз черной мокрой рукой.
Когда темный от влаги паркет несколько подсох и
все зеркала покрылись банным налетом и звонки прекра-
тились, Филипп Филиппович в сафьяновых красных туф-
лях стоял в передней.
— Вот вам, Федор...
— Покорнейше благодарим...
— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у
Дарьи Петровны водки.
— Покорнейше благодарю, — Федор помялся, потом
сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович... Я извиняюсь,
уж прям и совестно. Только за стекло в седьмой квар-
тире... Гражданин Шариков камнями швырял...
— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь,
как облако.
— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд гро-
зился подавать.
— Черт!..
— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать
стал... Ну, повздорили...
— Ради бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких
вещах. Сколько нужно?
—• Полтора.
Филипп Филиппович извлек три блестящих полтин-
ника и вручил Федору.
— Еще за такого мерзавца полтора целковых пла-
тить, — послышался в дверях глухой голос, — да он
сам...
Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и мол-
ча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и
408
Михаил Булгаков
запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал
кулаками в дверь.
— Не сметь! — явно больным голосом воскликнул
Филипп Филиппович.
— Ну уж это действительно, — многозначительно
заметил Федор, — такого наглого я в жизнь свою не
видел!
Борменталь как из-под земли вырос.
— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь!
Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и от-
туда донесся его голос:
— Вы что? В кабаке, что ли?
— Это так! — добавил решительный Федор, — вот
это так! Да по уху бы еще!..
— Ну что вы, Федор, — печально буркнул Филипп
Филиппович.
— Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович!
7
— Нет, нет и нет, — настойчиво заговорил Бормен-
таль, — извольте заложить!
— Ну что, ей-богу, — забурчал недовольный Шариков.
— Благодарю вас,-доктор, —ласково сказал Филипп
Филиппович, — а то мне уже надоело делать замечания.
— Все равно не позволю есть, пока не заложите.
Зина, примите майонез у Шарикова.
— Как это так «примите»? — расстроился Шари-
ков, — я сейчас заложу.
Левой рукой он заслонил тарелку от Зины, а правой
запихнул салфетку за воротничок, и стал похож на
клиента в парикмахерской.
— И вилкой, пожалуйста, — добавил Борменталь.
Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осет-
рины в густом соусе.
— Я еще водочки выпью, — заявил он вопросительно.
— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь, —
вы в последнее время слишком налегаете на водку.
— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул
исподлобья.
— Глупости говорите... — вмешался суровый Филипп
Филиппович, но Борменталь его перебил:
— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы,
Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то,
Собачье сердце
409
Что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне,
конечно, не жаль, тем более что она и не моя, а Филип-
па Филипповича. Просто это — вредно. Это раз, а вто-
рое — вы и без водки держите себя неприлично.
Борменталь указал на заклеенный буфет.
— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы.
Шариков тем временем потянулся к графинчику и,
покосившись на Борменталя, налил рюмочку.
— И другим надо предложить, — сказал Бормен-
таль, — и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем
мне, а в заключение — себе.
Шариковский рот тронула едва заметная сатиричес-
кая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.
— Вот все у нас как на параде, — заговорил он, —
салфетку туда, галстух — сюда, да «извините», да «по-
жалуйста», «мерси», а так, чтобы по-настоящему, — это
нет. Мучаете себя, как при царском режиме.
— А как это «по-настоящему» — позвольте осведо-
миться?
Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филип-
повичу, а поднял рюмку и произнес:
— Ну, желаю, чтоб всё...
— И вам также, — с некоторой иронией отозвался -
Борменталь.
Шариков выплеснул водку в глотку, сморщился,
кусочек хлебца поднес к носу, понюхал, а затем прогло-
тил, причем глаза его налились слезами.
— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи
проговорил Филипп Филиппович.
Борменталь удивленно покосился:
— Виноват?..
— Стаж, — повторил Филипп Филиппович и горько
качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь! Клим!..
Борменталь с чрезвычайным интересом остро вгля-
делся в глаза Филиппа Филипповича.
— Вы полагаете, Филипп Филиппович?
— Нечего и полагать. Уверен в этом.
— Неужели... — начал Борменталь и остановился,
покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахму-
рился.
— Spater1... — негромко сказал Филипп Филиппович.
— Gut1 2, — отозвался ассистент.
1 Позже (нем.).'
2 Хорошо (нем.).
410
Михаил Булгаков
Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу
Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.
— Я не хочу, я лучше водочки выпью. — Лицо его
замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Фи*
липп Филиппович несколько подобрел после вина. Его
глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шя
рикова, черная голова которого в салфетке сидела, как
муха в сметане. Борменталь же, подкрепившись, обня
ружил склонность к деятельности.
— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вс
чером? — осведомился он у Шарикова.
Тот поморгал глазами и ответил:
— В цирк пойдем, лучше всего.
— Каждый день в цирк? — довольно благодушно
заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно,
по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил.
— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался
Шариков и перекрестил рот.
— Икание за столом отбивает у других аппетит, —
машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извини
те... Почему, собственно, вам не нравится театр?
Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль,
подумал и оттопырил губы.
— Да дурака валяние... Разговаривают, разговарива'
ют... Контрреволюция одна!
Филипп Филиппович откинулся на готическую спин
ку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой
частокол. Борменталь только повертел головой.
— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, —
а то, знаете ли...
- Я уж и так читаю, читаю... — ответил Шарикоя
и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.
— Зина! — тревожно закричал Филипп Филиппович, —
убирай, детка, водку, больше не нужна! Что же вы
читаете? — В голове у него вдруг мелькнула картина:
необитаемый остров, пальма и человек в звериной шку«
ре, в кблпаке. «Надо будет Робинзона...»
— Эту... как ее... переписку Энгельса с этим... как
его, дьявола... с Каутским.
Борменталь остановил на полдороге вилку с куском
белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино.
Шариков в это время изловчился и проглотил водку.
Филипп ФИЛИППОВИЧ ЛОКТИ ПОЛОЖИЛ на СТОЛ, ВГЛЯ’
делся в Шарикова и спросил:
Собачье сердце
411
— Позвольте узнать, что вы можете сказать по пово-
ду прочитанного?
Шариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
—г С обоими, — ответил Шариков.
— Это замечательно, клянусь богом! «Всех, кто ска-
жет, что другая!..» А что бы вы, со своей стороны, могли
предложить?
— Да что тут предлагать... А то пишут, пишут...
конгресс, немцы какие-то... голова пухнет! Взять все да
и поделить...
— Так я и думал! — воскликнул Филипп Филиппо-
вич, шлепнув ладонью по скатерти, — именно так и
полагал!
— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный
.Борменталь.
— Да какой тут способ, — становясь словоохотливее
после водки, объяснил Шариков, — дело нехитрое. А то
что ж: один в семи комнатах расселся, штанов у него
сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание
ищет.
— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня
намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Фи-
липп Филиппович. Шариков съежился и промолчал.
— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор,
скольким вы вчера отказали?
—- Тридцати девяти человекам, — тотчас ответил
Борменталь.
— Гм... Триста девяносто рублей. Ну, грех на троих
мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не
станем. С вас, Шариков, сто тридцать рублей, потруди-
тесь внести.
— Хорошенькое дело, — ответил Шариков, испугав-
шись, — это за что такое?
— За кран и за кота! — рявкнул вдруг Филипп
Филиппович, выходя из состояния иронического спокой-
ствия.
— Филипп Филиппович! — тревожно воскликнул
Борменталь.
— Погодите! За безобразие, которое вы учинили и
благодаря которому сорвали прием! Это нестерпимо!
Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире,
рвет краны!.. Кто убил кошку у мадам Полласухер?
Кто...
412
Михаил Булгаков
— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лест-
нице! — налетел Борменталь.
— Вы стойте!.. — кричал Филипп Филиппович.
— Да она меня по морде хлопнула! — взвизгнул
Шариков, — у меня не казенная морда!
— Потому что вы ее за грудь ущипнули! — закричал
Борменталь, опрокинув бокал, — вы стойте!..
— Вы стойте на самой низшей ступени развития! —
перекричал Филипп Филиппович, — вы еще только
формирующееся, слабое в умственном отношении сущест-
во, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присут-
ствии двух людей с университетским образованием, поз-
воляете себе, с развязностью совершенно невыносимой,
подавать какие-то советы космического масштаба и
космической же глупости о том, как все поделить, и вы
в то же время наглотались зубного порошку!..
— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.
— Ну, вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — за-
рубите себе на носу... кстати, почему вы стерли с него
цинковую мазь?., что вам надо молчать и слушать, что
вам говорят! Учиться и стараться стать хоть сколько-
нибудь приемлемым членом социального общества! Кста-
ти, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?
— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Шариков,
оглушенный нападением с двух сторон.
— Я догадываюсь! — злобно краснея, воскликнул
Филипп Филиппович.
— Ну что же.. Ну, Швондер и дал. Он не негодяй.
Чтоб я развивался.
— Я вижу, как вы развились после Каутского! —
визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут
он яростно нажал кнопку в стене. — Сегодняшний слу-
чай показывает это как нельзя лучше! Зина!
— Зина! — кричал Борменталь.
— Зина! — орал испуганный Шариков.
Зина прибежала бледная.
— Зина! Там в приемной... Она в приемной?
— В приемной, — покорно ответил Шариков, —
зеленая, как купорос.
— Зеленая книжка...
— Ну, сейчас палить! — отчаянно воскликнул Ша-
риков, — она казенная, из библиотеки!!
— Переписка называется... как его?.. Энгельса с этим
чертом... В печку ее!
Собачье сердце
413
Зина повернулась и улетела.
— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на
первом же суку, — воскликнул Филипп Филиппович,
яростно впиваясь в крыло индюшки, — сидит изуми-
тельная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он
пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах...
Шариков злобно и иронически начал коситься на
профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отпра-
вил ему косой взгляд и умолк.
«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в
квартире», — вдруг пророчески подумал Борменталь.
Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и
румяную с левого бока бабу и кофейник.
— Я не буду ее есть, — сразу угрожающе и непри-
язненно заявил Шариков.
— Никто вас и не приглашает. Держите себя при-
лично! Доктор, прошу вас.
В молчании закончился обед. Шариков вытащил из
кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофе,
Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал репетир,
и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп
Филиппович откинулся, по своему обыкновению, на го-
тическую спинку и потянулся к газетам на столике.
— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только,
ради бога, посмотрите, в программе котов нету?
— И как такую сволочь в цирк допускают? — хмуро
заметил Шариков, покачивая головой.
— Ну, мало ли кого туда допускают, — двусмыслен-
но отозвался Филипп Филиппович, — что там у них?
— У Соломонского, — стал вычитывать Борменталь, —
четыре каких-то... Юссемс и человек мертвой точки.
— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомил-
ся Филипп Филиппович.
— Бог их знает, впервые это слово встречаю.
— Ну, тогда лучше смотрите у Никитина. Необходи-
мо, чтобы все было ясно.
— У Никитина... У Никитина... гм... слоны и предел
человеческой ловкости.
— Тэк-с. Что вы скажете относительно слонов, доро-
гой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филип-
пович у Шарикова.
Тот обиделся.
— Что ж, я не понимаю, что ли? Кот — другое дело,
и слоны — животные полезные, — ответил Шариков.
414
Михаил Булгаков
— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте, погля-
дите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни
в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван
Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не
предлагать.
Через десять минут Иван Арнольдович и Шариков,
одетый в кепку с утиным носом и в драповое пальто с
поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стих-
ло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он
зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в
громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять
комнату.
Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеле-
ным огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк,
и тяжкая дума терзала его ученый с взлизами лоб. Он
причмокивал, напевал сквозь зубы «К берегам священ-
ным Нила...» и что-то бормотал.
Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к
шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет
осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шка-
фа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович
вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматри-
вать ее на свет огней. В прозрачной и тяжелой жидкос-
ти плавал, не падая на дно, малый беленький комочек,
извлеченный из недр шариковского мозга. Пожимая
плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович
пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем
комке хотел разглядеть причину удивительных событий,
перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квар-
тире.
Очень возможно, что высокоученый человек ее и
разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на
придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на
ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обру-
шился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув
руки в карманы пиджака, в кожу дивана. Он долго
палил вторую сигару, совершенно изжевал ее конец и,
в полном одиночестве, зеленоокрашенный, как седой
Фауст, воскликнул наконец:
— Ей-богу, я, кажется, решусь!
Никто ему ничего не ответил на это. В квартире
прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в
одиннадцать часов, как известно, затихает движение.
Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздалого пеше-
Собачье сердце
415
хода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В
кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филип-
повича репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо
поджидал возвращения доктора Борменталя и Шарико-
ва из цирка.
8
Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович.
Ничего особенного в течение следующей недели ой не
предпринимал, и, может быть, вследствие его бездейст-
вия, квартирная жизнь переполнилась событиями.
Дней через шесть после истории с водой и котом из
домкома к Шарикову явился молодой человек, оказав-
шийся женщиной, и вручил ему документы, которые
Шариков немедленно заложил в карман пиджака и
немедленно же после этого позвал доктора Борменталя:
— Борменталь!
— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуй-
ста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в
лице.
Нужно заметить, что в эти шесть дней хирург ухит-
рился раз восемь поссориться со своим воспитанником,
и атмосфера в обуховских комнатах была душная.
— Ну, и меня называйте по имени и отчеству, —
совершенно основательно ответил Шариков.
— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович, —
по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не
разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас переста-
ли именовать фамильярно «Шариков», — и я и доктор
Борменталь будем называть вас «господин Шариков».
- Я не господин, господа все в Париже, — отлаял
Шариков.
— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппо-
вич, — ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем! Не
будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в
ней нахожусь! В противном случае, или я, или вы уйдем
отсюда, и вернее всего — вы! Сегодня я помещу в
газетах объявление, и, поверьте, я вам найду комнату!
— Ну да, такой я дурак, чтоб я съехал отсюда, —
очень четко ответил Шариков.
— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того
416
Михаил Булгаков
изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и
нежно и тревожно взял его за рукав.
— Вы, знаете, не нахальничайте, мсье Шариков, —
Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил,
вытащил из кармана три бумаги, зеленую, желтую и
белую, и, тыча в них пальцами, заговорил:
— Вот. Член жилищного товарищества, и жилпло
щадь мне полагается определенно в квартире номер
пять у ответственного съемщика Преображенского н
шестнадцать квадратных аршин, — Шариков подумал и
добавил слово, которое Борменталь машинально отмс-
тил в мозгу, как новое: — благоволите.
Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неос-
торожно вымолвил:
— Клянусь, что я этого Швондера в конце концом
застрелю.
Шариков в высшей степени внимательно и остро
принял эти слова, что было видно по его глазам.
— Филипп Филиппович vorsichtig1... — предостерега-
юще начал Борменталь.
— Ну уж знаете... Если уж такую подлость!.. —
вскричал Филипп Филиппович по-русски. — Имейте и
виду, Шариков, господин... что я, если вы позволите еще
одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще пи
тания в моем доме. Шестнадцать аршин, это прелестно,
но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушачьей
бумаге?
Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.
— Я без пропитания оставаться не могу, — забор-
мотал он, — где ж я буду харчеваться?
— Тогда ведите себя прилично, — в один голос за-
выли оба эскулапа.
Шариков значительно притих и в тот день не причи-
нил никакого вреда никому, за исключением самого сёбя:
пользуясь небольшой отлучкой Борменталя, он завладел
его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп
Филиппович и доктор Борменталь накладывали ему ня
порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь сле-
зами.
Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом
полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и
верный и привязанный к нему Борменталь. В доме уже
спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом ха
1 Осторожно (нем.).
13е
Собачье сердце
417
лате и красных туфлях, а Борменталь — в рубашке и
синих подтяжках. Между врачами на круглом столе,
рядом с пухлым альбомом, стояла бутылка коньяку,
блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив
полную комнату, с жаром обсуждали последние собы-
тия: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Фи-
липпа Филипповича два червонца, лежащие под прес-
сом, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно
пьяный. Этого мало, — с ним явились две неизвестных
личности, шумевших на парадной лестнице и изъявив-
ших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились
означенные личности лишь после того, как Федор, при-
сутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, наки-
нутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое
отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь
только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после
ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с
подзеркальника в передней, бобровая шапка Филиппа
Филипповича и его же трость, на каковой трости золо-
тою вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Фи-
липпу Филипповичу благодарные ординаторы в день...»,
дальше шла римская цифра «XXV».
— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович,
сжимая кулаки, на Шарикова.
Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет
того, что личности эти ему неизвестны, что они не суки-
ны сыны какие-нибудь, а хорошие.
— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные,
как же они ухитрились?! — поражался Филипп Филип-
пович, глядя на то место в стойке, где некогда помеща-
лась память юбилея.
— Специалисты, — пояснил Федор, удаляясь спать,
с рублем в кармане.
От двух червонцев Шариков категорически отперся и
при этом выговорил что-то неявственное насчет того, что
нот, мол, он не один в квартире.
— Ага! Быть мржет, это доктор Борменталь свистнул
червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим,
но страшным по оттенку голосом.
Шариков качнулся, открыл совершенно посоловев-
шие глаза и высказал предположение:
— А может быть, Зинка взяла...
— Что такое?! — закричала Зина, появившись в
дверях, как привидение, закрывая на груди расстегну-
тую кофточку ладонью, — да как он...
II IVT
418
Михаил Булгаков
Шея Филиппа Филипповича налилась красным цве-
том.
— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней
руку, — не волнуйся, мы все это устроим.
Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь
запрыгала у нее на ключице.
— Зина! Как вам не стыдно! Кто же может по-
думать? Фу, какой срам, — заговорил Борменталь рас-
терянно.
— Ну, Зина, ты — дура, прости господи, — начал
Филипп Филиппович.
Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все
умолкли. Шарикову стало нехорошо. Стукнувшись голо-
вой об стену, он издал звук не то «и», не то «е», вроде
«иэээ»! Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась
челюсть.
— Ведро ему, негодяю, из смотровой дать!
И все забегали, ухаживая за заболевшим Шарико-
вым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках
Борменталя, очень нежно и мелодически ругался сквер-
ными словами, выговаривая их с трудом.
Вся эта история произошла около часу, а теперь
было часа три пополуночи, но двое в кабинете бодрство-
вали, взвинченные коньяком. Накурили они до того, что
дым двигался густыми медленными плоскостями, даже
не колыхаясь.
Доктор Борменталь приподнялся, бледный, с очень
решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной
тальей.
— Филипп Филиппович! — прочувственно восклик-
нул он, — я никогда не забуду, как я, полуголодным
студентом, явился к вам, и вы приютили меня при ка-
федре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня
гораздо больше, чем профессор-учитель... мое безмерное
уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой
Филипп Филиппович.
— Да, голубчик мой... — растерянно промычал Фи-
липп Филиппович и поднялся ему навстречу. Бормен-
таль его обнял и поцеловал в пушистые, сильно проку-
ренные усы.
— Ей-богу, Филипп Фили...
— Так растрогали, так растрогали... спасибо вам, —
говорил Филипп Филиппович, — голубчик, я иногда на
вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыль-
14—2
Собачье серДце
419
чивость. В сущности, ведь я так одинок... «От Севильи
до Гренады!..»
— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?.. — ис-
кренно воскликнул пламенный Борменталь, — если вы
не хотите меня обидеть, не говорите мне больше таким
образом.
— Ну, спасибо вам... «К берегам священным Нила!..»
Спасибо. И я вас полюбил, как способного врача.
— Филипп Филиппович, я вам говорю... — страстно
воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее при-
крыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продол-
жал шепотом: — ведь это единственный исход. Я не
смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппо-
вич, посмотрите на себя, вы совершенно замучились,
ведь нельзя же больше работать!
— Абсолютно невозможно! —- вздохнув, подтвердил
Филипп Филиппович.
— Ну вот, это же немыслимо, — шептал Бормен-
таль, — в прошлый раз вы говорили, что боитесь за
меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы
меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам
соображаю, насколько это может получиться ужасная
штука. Но, по моему глубокому убеждению, другого вы-
хода нет.
Филипп Филиппович встал, замахал на него руками
и воскликнул:
— И не соблазняйте, даже и не говорите, — про-
фессор заходил по комнате, закачав дымные волны, —
и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас
накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание
происхождение» отъехать не придется, невзирая на нашу
первую судимость. Ведь у вас нет подходящего проис-
хождения, мой дорогой?
— Какой там черт... Отец был судебным следовате-
лем в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая
коньяк.
— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная на-
следственность. Пакостнее ее и представить себе ничего
нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец —
кафедральный протоиерей. Мерси... «От Севильи до
Гренады в тихом сумраке ночей...» Вот, черт ее возьми!
— Филипп Филиппович, вы — величина мирового
«качения, и из-за какого-то, извините за выражение,
гукиного сына... Да разве они могут вас тронуть, по-
милуйте!
14е
420
Михаил Булгаков
— Тем более не пойду на это, — задумчиво возразил
Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стек-
лянный шкаф.
— Да почему?!
— Потому что вы-то ведь не величина мирового зна-
чения?
— Где уж...
— Ну вот-с. А бросить коллегу в случае катастрофы,
самому же выскочить на мировом значении, простите...
Я — московский студент, а не Шариков! — Филипп
Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож
на французского древнего короля.
— Филипп Филиппович, эх!.. — горестно воскликнул
Борменталь, — значит, что же? Терпеть? Вы будете
ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?
Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил
себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:
— Иван Арнольдович, как по-вашему, я понимаю
что-либо в анатомии и физиологии, ну, скажем, челове-
ческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?
— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? — с
большим чувством ответил Борменталь и развел руками.
— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже пола-
гаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.
— А я полагаю, что вы — первый, и не только в
Москве, айв Лондоне и в Оксфорде! — яростно пере-
бил его Борменталь.
— Ну, ладно, пусть будет так. Ну, так вот-с, буду-
щий профессор Борменталь: это никому не удастся. Ко-
нечно. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на ме-
ня. Скажите, Преображенский сказал. Финита! Клим! —
вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и
шкаф ответил ему звоном, — Клим! — повторил он. —
Вот что, Борменталь, вы — первый ученик моей школы
и, кроме этого, мой друг, как я убедился сегодня. Так
вот вам, как другу, сообщу, по секрету, конечно, я знаю,
вы не станете срамить меня — старый осел Преобра-
женский нарвался на этой операции, как третьекурсник.
Правда, открытие получилось, вы сами знаете, какое, —
тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками
на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, — но
только имейте в виду, Иван Арнольдович, что единствен-
ным результатом этого открытия будет то, что все мы
теперь будем иметь этого Шарикова вот где, — здесь
Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к
14-4
’ Собачье сердце
421
параличу шее — будьте спокойны-с! Если бы кто-ни-
будь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, —
разложил меня здесь и выпорол, я бы, клянусь, запла-
тил червонцев пять... «От Севильи до Гренады...» Черт
меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривая
придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проде-
лал, уму непостижимо. И вот теперь спрашивается,
зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса
превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают!
— Исключительное что-то... ч
— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что
получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти
ощупью и параллельно с природой, форсирует вопрос и
приподымает завесу! На, получай Шарикова и ешь его
с кашей!
— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?
— Да! — рявкнул Филипп Филиппович. — Да! Если
только злосчастная собака не помрет у меня под ножом,
а вы видели, какого сорта эта операция. Одним словом,
я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в
своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще
какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки
чрезвычайно высоко стоящее, но на какого дьявола,
спрашивается? Объясните мне, пожалуйста, зачем нуж-
но искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба
может его родить когда угодно!.. Ведь родила же в
Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменито-
го. Доктор, человечество само заботится об этом и, в
эволюционном порядке каждый год упорно выделяя из
массы всякой мрази, создает десятками выдающихся
гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно,
доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории шари-
ковской болезни. Мое открытие, черти бы его съели, с
которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош...
Да не спорьте, Иван Арнольдович, я все ведь уже понял.
Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично зна-
ете. Теоретически это интересно, ну, ладно. Физиологи
будут в восторге... Москва беснуется... Ну, а практичес-
ки что? Кто теперь перед вами? — Преображенский
указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Ша-
риков.
— Исключительный прохвост.
— Но кто он? Клим! Клим! — крикнул профессор, —
Клим Чугункин! (Борменталь открыл рот.) Вот что-с:
422
Михаил Булгаков
две судимости, алкоголизм, «все поделить», шапка и два
червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил
юбилейную палку и побагровел), хам и свинья... Ну, эту
палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая
камера, определяющая человеческое данное лицо. Дан
ное! «От Севильи до Гренады...» — свирепо вращая
глазами, кричал Филипп Филиппович, — а не общече-
ловеческое! Это в миниатюре сам мозг! И мне он совер-
шенно не нужен, ну его ко всем свиньям! Я заботился
совсем о другом, об евгенике, об улучшении человечес-
кой породы. И вот на омоложении нарвался! Неужели
вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же
все-таки ученый...
— Вы — великий ученый, вот что, — молвил Бормен-
таль, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.
— Я хотел проделать маленький опыт, после того
как два года тому назад впервые получил из гипофиза
вытяжку полового гормона. И вместо этого что ж полу-
чилось, боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о гос-
поди... Доктор, передо мной тупая безнадежность, я,
клянусь, потерялся...
Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося
глазами к носу:
— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не жела-
ете, я сам, на свой риск, покормлю его мышьяком. Черт
с ним, что и папа —- судебный следователь. Ведь, в
конце концов, это ваше собственное экспериментальное
существо.
Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в крес-
ло и сказал:
— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне
шестьдесят лет, я вам могу давать советы. На преступ-
ление не идите никогда, против кого бы оно ни было
направлено. Доживите до старости с чистыми руками.
— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его
еще обработает этот Швондер, что ж из него получится?
Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что мо-
жет выйти из этого Шарикова!
— Ага? Теперь поняли. А я понял через день после
операции. Ну, так вот, Швондер и есть самый главный
дурак. Он не понимает, что Шариков для него еще
более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он
всячески старается натравить его на меня, не сообра-
жая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит
• Собачье сердце
423
Шарикова на самого Швондера, то от него останутся
только рожки да ножки!
— Еще бы, одни коты чего стоят! Человек с собачьим
сердцем!
— О нет, о нет, — протяжно ответил Филипп Филип-
пович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради
бога, не клевещите на пса. Коты — это временно... Это
вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще
какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.
— А почему же теперь?..
— Иван Арнольдович, это элементарно, что вы, на
самом деле, спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет
же в воздухе. Ведь он, все-таки, привит на собачий мозг,
дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет
уже только остатки собачьего, и поймите, что коты —
это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь
ужас в том, что у него уже не собачье, а именно чело-
веческое сердце. И самое паршивое из всех, которое су-
ществует в природе.
До последней степени взвинченный Борменталь сжал
сильные худые руки в кулаки, повел плечами и твердо
молвил:
— Кончено. Я его убью.
— Запрещаю это, — категорически ответил Филипп
Филиппович.
— Да помилуйте...
Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял
палец.
— Погодите-ка... Мне шаги послышались.
Оба прислушались, но в квартире было тихо.
— Показалось, — молвил Филипп Филиппович и с
жаром заговорил по-немецки. В его словах несколько
раз звучало русское слово «уголовщина».
— Минуточку, — вдруг насторожился Борменталь и
шагнул к двери. Шаги послышались явственно и при-
близились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Бор-
менталь распахнул дверь и отпрянул в изумлении. Со-
вершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в
кресле.
В освещенном четырехугольнике коридора предстала
в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и
пылающим лицом. И врача и профессора ослепило оби-
лие мощного и, как от страху показалось обоим, совер-
шенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна
волокла что-то, и это что-то, упираясь, садилось на зад,
424
Михаил Булгаков
и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплета-
лись по паркету. Что-то, конечно, оказалось Шарико-
вым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, раз-
лохмаченным и в одной рубашке.
Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула
Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла та-
кие слова:
— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего ви-
зитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а
Зина невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.
Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние
стыда, вскрикнув, закрыла грудь руками и унеслась.
— Дарья Петровна, извините, ради бога! — опомнив-
шись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.
Борменталь повыше засучил рукава рубашки и дви-
нулся к Шарикову. Филипп Филиппович, заглянув ему
в глаза, ужаснулся.
— Что вы, доктор! Я запрещаю...
Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиво-
рот и тряхнул его так, что полотно сзади на сорочке
треснуло, а спереди с горла отскочила пуговка.
Филипп Филиппович бросился наперерез и стал вы-
дирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.
— Вы не имеете права биться, —полузадушенный,
кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.
— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.
Борменталь несколько пришел в себя и выпустил
Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.
— Ну, ладно, — прошипел Борменталь, — подождем
до утра. Я ему устрою бенефис, когда он отрезвится.
Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его
в приемную спать. При этом Шариков сделал попытку
брыкаться, но ноги его не слушались.
Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоре-
вые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной
лампе в коридоре и молвил:
— Ну-ну...
9
Бенефис Шарикова, обещанный доктором Бормента-
лем, не состоялся, однако, на следующее утро по той
причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома.
Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя
Собачье сердце
425
ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери,
кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием,
чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович
сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:
— Воображаю, что будет твориться на улице... Вооб-
ражаю. «От Севильи до Гренады...» боже мой...
— Он в домкоме еще может быть, —* бесновался
Борменталь и куда-то бегал.
В домкоме он поругался с председателем Швондером
до того, что тот сел писать заявление в народный суд
Хамовнического района, крича при этом, что он не сто-
рож питомца профессора Преображенского, тем более
что этот питомец Полиграф не далее как вчера оказал-
ся прохвостом, взяв в домкоме, якобы на покупку учеб-
ников в кооперативе, семь рублей.
Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыс-
кал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов
Шарикова не было.
Выяснилось только одно, что Полиграф отбыл на
рассвете, в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой
бутылку рябиновой из буфета, перчатки доктора Бор-
менталя и все свои документы. Дарья Петровна и Зина,
не скрывая, выразили бурную радость и надежду, что
Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Ша-
риков занял накануне три рубля пятьдесят.
— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович,
потрясая кулаками.
Целый день звенел телефон, звенел телефон на дру-
гой день, врачи принимали необыкновенное количество
пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете
вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая
должна разыскать Шарикова в московском омуте.
И только что было произнесено слово «милиция», как
благоговейную тишину'Обухова переулка прорезал лай
грузовика и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал
уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович оказался
в передней. И профессор, и доктор вышли его встречать.
Полиграф вошел с необычайным достоинством, в полном
молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказал-
ся в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого
плеча, кожаные же потертые штаны и английские высо-
кие сапожки на шнуровке до колен. Преображенский и
Борменталь, точно по команде, скрестили руки на груди
и стали у притолоки, ожидая первых сообщений от
426
Михаил Булгаков
Полиграфа Полиграфовича. Тот пригладил жесткие во-
лосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было —
смущение Полиграф желает скрыть при помощи развяз-
ности.
— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец го-
ворить, — на должность поступил;
Оба врачй издали неопределенный сухой звук горлом
и шевельнулись. Преображенский опомнился первый,
руку протянул и молвил:
— Бумагу дайте.
Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ По-
лиграф Полиграфович действительно состоит заведую-
щим подотделом очистки города Москвы от бродячих
животных (котов и прочее) в отделе М. К. X.».
— Так, — тяжело сказал Филипп Филиппович, —
кто же вас устроил? Ах, впрочем, и сам догадываюсь...
— Ну, Швондер, — ответил Шариков.
— Позвольте-с вас спросить, почему от вас так от-
вратительно пахнет?
Шариков понюхал куртку озабоченно/
— Ну, что же, пахнет... известно. По специальности.
Вчера котов душили, душили.
Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Бор-
менталя. Глаза у того напоминали два черных дула,
направленных на Шарикова в упор.* Без всяких предис-
ловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял
его за глотку.
— Караул, — пискнул Шариков, бледнея.
— Доктор?!
— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филип-
пович, не беспокойтесь, — железным голосом отозвался
Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!
Те появились в передней.
— Ну, повторяйте, —сказал Борменталь и чуть-чуть
притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...
— Ну хорошо, повторяю, — сиплым голосом ответил
совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал возду-
ху, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик
не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.
— Доктор, умоляю вас!
Шариков закивал головой, давая знать, что он поко-
ряется и будет повторять.
— ...извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна
и Зинаида...
Собачье сердце
427
— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.
— Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздуху,
охрипший Шариков.
— ...что я позволил себе...
— ...позволил...
— ...себе гнусную выходку ночью в состоянии опьяне-
ния...
— ...опьянения...
— Никогда больше не буду...
— Не бу...
— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмо-
лились одновременно обе женщины, — вы его задавите!
Борменталь выпустил Шарикова на свободу и ска-
зал:
— Грузовик вас ждет?
— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только
меня привез.
— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду
следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа
Филипповича?..
— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков,
блуждая глазами.
— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В про-
тивном случае за каждую безобразную выходку будете
иметь со мной дело! Понятно?
— Понятно, — ответил Шариков.
Филипп Филиппович во все время насилия над Ша-
риковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился
у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет.
Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо
и автоматически:
— Что ж вы делаете с этими... с убитыми котами?
— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из.них
белок будут делать на рабочий кредит.
Засим в квартире настала тишина и продолжалась
двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на
гремящем грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в
компании Филиппа Филипповича и Борменталя. Несмот-
ря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной
комнате — приемной, они не разговаривали друг с дру-
гом, так что Борменталь соскучился первый.
Дня через два в квартире появилась худенькая, с
подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках
и очень смутилась при виде великолепия квартиры.
428
Михаил Булгаков
В вытертом пальтишке она шла следом за Шариковым
и в передней столкнулась с профессором.
Тот оторопел, остановился, прищурился и спросил:
— Позвольте узнать?..
— Яс ней расписываюсь, это наша машинистка,
жить со мной будет. Борменталя надо будет выселить из
приемной, у него своя квартира есть, — крайне непри-
язненно и хмуро пояснил Шариков.
Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал,
глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо
пригласил ее:
— Я вас попрошу на минутку ко мне в кабинет.
— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно
молвил Шариков.
И тут моментально вынырнул, как из-под земли,
решительный Борменталь.
— Извините, — сказал он, — профессор побеседует
с дамой, а уж мы с вами побудем здесь.
— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь
устремиться вслед за сгорающей от страху барышней и
Филиппом Филипповичем.
— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за
кисть руки, и они пошли в смотровую.
Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом
вдруг глухо донеслись рыдания барышни.
Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня пла-
кала в грязный кружевной платочек.
— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала
барышня.
— Лжет! — непреклонно отвечал Филипп Филиппо-
вич. Он покачал головой и продолжал: — мне вас ис-
кренно жаль, но нельзя же так, с первым встречным,
только из-за служебного положения... Детка, ведь это
же безобразие... Вот что...
Он открыл ящик письменного стола и вынул ^гри
бумажки по три червонца.
— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке
солонина каждый день... он угрожает, говорит, что он
красный командир... со мной, говорит, будешь жить в
роскошной квартире... каждый день ананасы... психика
у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу... Он
у меня кольцо на память взял...
— Ну, ну, ну, ну, психика добрая, «от Севильи до
Гренады», — бормотал Филипп Филиппович, — нужно
перетерпеть, вы еще так молоды...
Собачье сердце
429
— Неужели в этой самой подворотне?
— Берите деньги, когда дают, взаймы, — рявкнул
Филипп Филиппович.
Затем торжественно распахнулись двери, и Бормен-
таль, по приглашению Филиппа Филипповича, ввел
Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у
него возвышалась, как щетка.
— Подлец! — выговорила барышня, сверкая запла-
канными размазанными глазами и полосатым напудрен-
ным носом.
— Отчего у вас шрам на лбу, потрудитесь объяснить
этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.
Шариков сыграл по банку.
— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.
Барышня встала и с громким плачем вышла.
— Перестаньте! — крикнул ей вслед Филипп Филип-
пович, — погодите! Колечко позвольте, — сказал он,
обращаясь к Шарикову.
Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изум-
рудом.
— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попом-
нишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение
штатов!
— Не бойтесь его! — крикнул вслед Борменталь, —
я ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и
поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стук-
нулся затылком об шкаф.
— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь. —
Фамилия!! — заревел он вдруг и стал дик и страшен.
— Васнецова, — ответил Шариков, ища глазами, как
бы улизнуть.
— Ежедневно, — взявшись за лацкан шариковской
куртки, выговорил Борменталь, — сам лично буду справ-
ляться в очистке, не сократили ли гражданку Васнецо-
ву. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас
собственными руками здесь же пристрелю! Берегитесь,
Шариков, говорю русским языком!
Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский
нос.
— У самих револьверы найдутся... — пробормотал
Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брыз-
нул в дверь.
— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталев-
ский крик.
430
Михаил Булгаков
Ночь и половина следующего дня в квартире висела
туча, как перед грозой. Но все молчали. И вот на сле-
дующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого
утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уезжал
на грузовике к месту службы, профессор Преображен-
ский, в совершенно неурочный час, принял одного из
своих прежних пациентов, толстого и рослого человека
в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и
добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблу-
ками.
— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил
его осунувшийся Филипп Филиппович, — садитесь, по-
жалуйста.
— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя
шлем на угол стола, — я вам очень признателен. Гм...
Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппо-
вич... Питая большое уважение... Гм. Предупредить...
Явная ерунда. Просто он —- прохвост...
Пациент полез в портфель и вынул бумагу.
— Хорошо, что мне непосредственно доложили...
Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх оч-
ков и принялся читать. Он долго бормотал про себя,
меняясь в лице каждую секунду.
«...а также угрожал убить председателя домкома
товарища Швондера, из чего видно, что хранит огне-
стрельное оружие. И произносит контрреволюционные
речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислуж-
нице Зинаиде Прокофьевой Буниной спалить в печке,
как явный меньшевик со своим ассистентом Бормента-
лем Иваном Арнольдовым, который тайно не прописан-
ный проживает в его квартире. Подпись заведующего
подотделом очистки П. П. Шарикова удостоверяю. Пред-
седатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».
— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил
Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, вино-
ват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный
ход делу?
— Извините, профессор, — очень обиделся пациент
и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презри-
тельно смотрите на нас. Я... — и тут он стал надуваться,
как индейский петух.
Собачье сердце
431
— Ну, извините, извините, голубчик, — забормотал
Филипп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас
обидеть.
— Мы умеем читать бумаги, Филипп Филиппович!
— Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал...
— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но
какая все-таки дрянь! Любопытно было б взглянуть на
него. В Москве прямо легенды какие-то про вас расска-
зывают.
Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой.
Тут пациент.разглядел, что профессор сгорбился и даже
как будто более поседел за последнее время.
♦ ♦ ♦
Преступление созрело и упало, как камень, как это
обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вер-
нулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Фи-
липпа Филипповича пригласил его в смотровую. Удив-
ленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул
в дула на лице Борменталя, а затем и Филиппа Филип-
повича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его
рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей руч-
ке акушерского кресла.
Филипп Филиппович со спокойствием очень злове-
щим сказал:
— Сейчас заберете вещи, брюки, пальто, все, что вам
нужно, и вон из квартиры.
— Как это так? — искренно удивился Шариков.
— Вон из квартиры сегодня, — монотонно повторил
Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.
Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Поли-
графовича, очевидно, гибель уже караулила его и рок
стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия
неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:
— Да что такое, в самом деле? Что я, управы, что
ли, не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь
сижу и буду сидеть!
— Убирайтесь из квартиры, — задушевно шепнул
Филипп Филиппович.
Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял
левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусан-
ный, с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем
432
Михаил Булгаков
правой рукой, по адресу опасного Борменталя, из кар-
мана вынул револьвер. Папироса Борменталя упала па-
дучей звездой, и через несколько секунд прыгающий по
битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от
шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий,
лежал заведующий подотделом очистки, а на груди у
него помещался хирург Борменталь и душил его белой
маленькой подушкой.
Через несколько минут доктор Борменталь, не со
своим лицом, прошел на парадный ход и рядом с кноп-
кой звонка наклеил записку:
«Сегодня приема по случаю болезни профессора нет.
Просят не беспокоить звонками».
Блестящим перочинным ножиком он перерезал про-
вод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь
свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие
руки. Затем он появился в дверях кухни и насторожен-
ным Зине и Дарье Петровне сказал:
— Профессор просит вас никуда не уходить из квар-
тиры.
— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.
— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и
забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь
в тень и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не
из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не
выдержите и откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты.
— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали
бледными.
Борменталь запер черный ход, забрал ключ, запер
парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги
его пропали у смотровой.
Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы.
Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним сло-
вом — мрак.
Правда, впоследствии соседи через двор говорили,
что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в
этот вечер горели у Преображенского все огни и даже
будто бы они видели белый колпак самого профессора...
Проверить это трудно. Правда, и Зина, когда уже все
кончилось, болтала, что в кабинете, у камина, после
того как Борменталь и профессор вышли из смотровой,
ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел
Собачье сердце
433
в кабинете на корточках и жег в камине собственноруч-
но тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой
записывались истории болезни профессорских пациент
тов. Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое
и все, ну все, вдребезги исцарапанное. И Филипп Фи-
липпович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще,
что... Впрочем, может быть, невинная девушка из пре-
чистенской квартиры и врет...
За одно можно ручаться. В квартире в этот вечер
была полнейшая и ужаснейшая тишина.
Конец повести
ЭПИЛОГ
Ночь в ночь через десять дней после сражения в
смотровой в квартире профессора Преображенского, что
в Обуховом переулке, ударил резкий звонок. Зину смер-
тельно напугали голоса за дверью:
— Уголовная милиция и следователь. Благоволите
открыть.
Забегали шаги, застучали, стали входить, и в свер-
кающей от огней приемной с заново застекленными
шкафами оказалась масса народа. Двое в милицейской
форме, один в черном пальто с портфелем, злорадный и
бледный йредседатель Швондер, юноша-женщина, швей-
цар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Бор-
менталь, стыдливо прикрывающий горло без галстуха.
Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филиппови-
ча. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут
же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович
очень поправился в последнюю неделю. Прежний вла-
стный и энергичный Филипп Филиппович, полный досто-
инства, предстал перед ночными гостями и извинился,
что он в халате.
— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно
отозвался человек в штатском. Затем он замялся и
заговорил: — Очень неприятно... У нас есть ордер на
обыск в вашей квартире и... — человек покосился на
усы Филиппа Филипповича и докончил: — и арест, в
1НВИСИМОСТИ от результатов.
Филипп Филиппович прищурился и спросил:
— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?
Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумаж-
ке из портфеля:
— По обвинению Преображенского, Борменталя, Зи-
наиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведую-
щего подотделом очистки М. К. X. Полиграфа Полигра-
фовича Шарикова.
Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло
движение.
— Ничего не понимаю, — ответил Филипп Филиппо-
вич, королевски вздергивая плечи, — какого такого
Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я
оперировал?
— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был
человеком. Вот в чем дело.
— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппо-
вич, — это еще не значит быть человеком! Впрочем, это
не важно. Шарик и сейчас существует, и никто его
решительно не убивал.
— Профессор, — очень удивленно заговорил черный
’человек и поднял брови, — тогда его придется предъ-
явить. Десятый день, как пропал, а данные, извините
меня, очень нехорошие.
— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Ша-
рика следователю, — приказал Филипп Филиппович,
овладевая ордером.
Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел. Когда
он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета
выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс,
пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как уче-
ный циркач, на задних лапах, потом опустился на все
четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в
приемной, как желе. Кошмарного вида пес, с багровым
шрамом на лбу, вновь поднялся на задние лапы и, улыб-
нувшись, сел в кресло.
Второй милицейский вдруг перекрестился размашис-
тым крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.
Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:
— Как же, позвольте?.. Ой же служил в очистке...
— Я его туда не назначал, — ответил Филипп Фи-
липпович, — ему господин Швондер дал рекомендацию,
если я не ошибаюсь.
— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал чер-
ный и обратился к первому милицейскому: — это он?
Собачье сердце*
435
— Он, — беззвучно ответил милицейский, — формен-
но он.
— Он самый, — послышался голос Федора, — толь-
ко, сволочь, опять оброс.
— Он же говорил?.. Кхе... Кхе...
— И сейчас еще говорит, но только все меньше и
меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро
совсем умолкнет.
— Но почему же? — тихо осведомился черный чело-
век.
Филипп Филиппович пожал плечами.
— Наука еще не знает способа обращать зверей в
людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как ви-
дите. Поговорил и начал обращаться в первобытное
состояние. Атавизм!
— Неприличными словами не выражаться! — вдруг
Гаркнул пес с кресла и встал.
Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель
И стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку,
I Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливее
всего были слышны три фразы:
Филиппа Филипповича: «Валерьянки! Это обморок».
Доктора Борменталя: «Швондера я собственноручно
сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квар-
тире профессора Преображенского!»
И Швондера: «Прошу занести эти слова в протокол!»
♦ ♦ ♦
Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую
пречистенскую ночь с ее одинокою звездою. Высшее
существо, важный песий благотворитель, сидел в крес-
ле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у
кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам
страдал головными болями, которые мучили его коль-
цом по головному шву. Но от тепла к вечеру они про-
водили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у
пса текли складные и теплые.
«Так свезло мне, так свезло, — думал он, задремы-
йня, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой
кнартире. Окончательно уверен я, что в моем происхож-
1гнии нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была
моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Утвердил-
436 Михаил Булгаков
ся. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это
заживет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть».
В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый
убирал в шкафах смотровой.
Седой же волшебник сидел и напевал:
— «К берегам священным Нила...»
Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчат*
ках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги.
Упорный человек настойчиво все чего-то добивался и
них, резал, рассматривал, щурился и цел:
— «К берегам священным Нила...»
Январь — март 1925 года
Москва
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Посвящается
Любови Евгеньевне
Белозерской
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Пошел мелкий снег и вдруг
повалил хлопьями. Ветер завыл; сде-
лалась метель/В одно мгновение
темное небо смешалось с снежным
морем. Все исчезло.
— Ну, барин, — закричал ям-
щик, — беда: буран!
«Капитанская дочка»
И судимы были мертвые по
написанному в книгах сообразно с
Делами своими...
1
Велик был год и страшен год по Рождестве Христо-
вом 1918, от начала же революции второй. Был он оби-
лен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко
и небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечер-
няя Венера и красный, дрожащий Марс.
Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как
стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком
морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный
дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая
королева, где же ты?
Через год после того, как дочь Елена повенчалась с
капитаном Сергеем Ивановичем Тальбертом, и в ту
неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Тур-
бин, после тяжких походов, службы и бед вернулся на
Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом
матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на
Иодол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на
Извозе.
Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и
акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Алек-
сандр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел
и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом
и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог,
скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного
прощания маме, покидающей своих детей.
Алексей, Елена, Тальберт, и Анюта, выросшая в доме
Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром,
нависшим на правую бровь, стояли у ног старого корич
невого святителя Николы. Николкины голубые глаза,
посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели
растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконо
стае, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возно-
сился печальный и загадочный старик бог, моргал. Зя
что такая обида? Несправедливость? Зачем понадоби-
лось отнять мать, когда все съехались, когда наступило
облегчение?
Улетающий в черное, потрескавшееся небо бог отве-
та не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что
ни происходит, всегда так, как нужно, и только к луч-
шему.
Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводи-
ли мать через весь громадный город на кладбище, где
под черным мраморным крестом давно уже лежал отец.
И маму закопали. Эх... эх...
*
Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому
спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила
Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошеч-
ного Николку. Как часто читался у пышущей жаром
изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы иг-
рали гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и
разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ
бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а
ныне Еленки, били в столовой черные стенные башен-
ным боем. Покупал их отец давно, когда женщины но-
сили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава
исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-про-
фессор, все выросли, а часы остались прежними и били
башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы
они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было
бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не
заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны,
бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский
Белая гвардия
441
изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время жи-
вительный и жаркий.
Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата,
и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры,
пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Ми-
хайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу
шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с
чудными завитушками на восточном поле, что мерещи-
лись маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзо-
вая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с
книгами, пахнущими таинственным старинным шокола-
дом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоче-
ные чашки, серебро, портреты, портьеры, — все семь
пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Тур-
биных, все это мать в самое трудное время оставила
детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку
Елены плачущей, молвила:
— Дружно... живите.
Но как жить? Как же жить?
Алексею Васильевичу Турбину, старшему, — молодо-
му врачу — двадцать восемь лет. Елене — двадцать
четыре. Мужу ее, капитану Тальберту, — тридцать один,
в Николке — семнадцать с половиной. Жизнь-то им как
раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало
мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем
дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной
город после первого удара, потрясшего горы над Днеп-
ром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь,
о которой пишется в шоколадных книгах, но она не
только не начинается, а кругом становится все страшнее
и страшнее. На севере воет и воет вьюга, а здесь под
ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная ут-
роба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день
ото дня глядит все грознее и щетинистей.
*
Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой
рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капи-
ншскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:
— Живите.
А им придется мучиться и умирать.
Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери,
Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:
— Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму
забывать, а тут еще такое тяжелое время. Главное, ведь
только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...
Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и
посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и
домишко священника. Казалось, что сейчас же за стс
ной тесного кабинетика, забитого книгами, начинаете»!
весенний, таинственный спутанный лес. Город по-вечер
нему глухо шумел, пахло сиренью.
— Что сделаешь, что сделаешь, — конфузливо забор
мотал священник. (Он всегда конфузился, если приходи
лось беседовать с людьми.) — Воля божья.
— Может, кончится все это, когда-нибудь? Дальше-
то лучше будет? — неизвестно у кого спросил Турбин
Священник шевельнулся в кресле.
— Тяжкое, тяжкое время, что говорить, — прббормо
тал он, — но унывать-то не следует...
Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из
темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл
верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной
закладкой.
— Уныния допускать нельзя, — конфузливо, но как
то очень убедительно проговорил он. — Большой грех —
уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще,
Как же, как же, большие испытания, — он говорил вег
увереннее. — Я последнее время все, знаете ли, за
книжечками сижу, по специальности, конечно, больше
всего богословские...
Он приподнял книгу, так, чтобы последний свет и.»
окна упал на страницу, и прочитал:
—- «Третий ангел вылил чашу свою в реки и истом
ники вод; и сделалась кровь».
2
Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремитель
но подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувство
вался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро
конец.
Над двухэтажным домом № 13, постройки изумитель-
ной (на улицу квартира Турбиных была во втором эта
же, а в маленький, покатый, уютный дворик — в пер
ге Белая гвардий
443
вом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все
ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору заме-
ло, засыпало сарайчики во дворе, и стала гигантская
сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала,
и в нижнем этаже (на улицу — первый, во двор под
верандой Турбиных — подвальный) засветился слабень-
кими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и
несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верх-
нем — сильно и весело загорелись турбинские окна.
В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в
сарай.
— Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня
вытащили, смотри.
Из Николкиного электрического фонарика ударил
голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены
явно содрана и снаружи наскоро прибита.
— Вот бы подстрелить, чертей! Ей-богу. Знаешь что:
сядем на эту ночь в караул? Я знаю — это сапожники
из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров
у них больше, чем у нас.
— А ну их... Идем. Бери.
Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт,
поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам
Саардама нельзя было притронуться.
Замечательная печь на своей ослепительной повер-
хности несла следующие исторические записи и рисун-
ки, сделанные в разное время восемнадцатого года ру-
кою Николки тушью и полные самого глубокого смысла
и значения:
Если тебе скажут, что союзники спешат к нам на выручку, — не
верь. Союзники — сволочи.
Он сочувствует большевикам.
Рисунок: рожа Момуса.
Подпись:
Улан Леонид Юрьевич.
Слухи грозные, ужасные,
Наступают банды красные!
Рисунок красками: голова с отвисшими усами, в
папахе с синим хвостом.
Подпись:
Бей Петлюру!
444
Михаил Булгаков
Руками Елены и нежных и старинных турбинских
друзей детства — Мышлаевского, Карася, Шервинско-
го — красками, тушью, чернилами, вишневым соком
записано:
Елена Васильевна любит нас сильно.
Кому — на, а кому — не.
Леночка, я взял билет на Аиду.
Бельэтаж № 8, правая сторона.
1918 года/ мая 12 дня я влюбился.
Вы толстый и некрасивый.
После таких слов я застрелюсь.
(Нарисован весьма похожий браунинг.)
Да здравствует Россия!
Да здравствует самодержавие!
Июнь. Баркарола.
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина.
Печатными буквами, рукою Николки:
Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать пол
угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подо
льского района. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружине р
1918 года, 30-го январи
Пышут жаром разрисованные изразцы, черные часы
ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший
Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрачный
с 25 октября 1917 года, во френче с громадными кар
манами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях, и
любимой позе — в кресле с ногами. У ног его на ска
меечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до буфе
та, — столовая малены^дя. Ноги в сапогах с пряжками
Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень..,
Неопределенно трень... потому что пока что, видите ли,
ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе,
туманно, плохо...
На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с
белыми нашивками, а на левом рукаве остроуглый трех-
цветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее
отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающих
ся событий.)
Белая гвардия*
445
Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущ-
ности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые што-
ры задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.
Старший бросает книгу, тянется.
— А ну-ка, сыграй «Съемки»...
Трень-та-там... Трень-та-там...
Сапоги фасонные,
Бескозырки тонные,
То юнкера-инженеры идут!
Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в
них зажигается огонек, в жилах — жар. Но тихонько,
господа, тихонько, тихонечко.
Здравствуйте, дачники,
Здравствуйте, дачницы...
Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инжене-
ры идут — ать, ать! Николкины глаза вспоминают:
Училище. Облупленные александровские колонны,
пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну,
отстреливаются. Пулеметы в окнах.
Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча.
Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и
сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор...
Здравствуйте, дачницы,
Здравствуйте, дачники,
Съемки у нас давно уж начались.
Туманятся Николкины глаза.
Столбы зноя над червонными украинскими полями.
В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было,
было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.
Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете
показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд
мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и
понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется
сестра.
Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг
остановилась и подняла палец.
— Погодите. Слышите?
Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все
трое прислушались и убедились — пушки. Тяжело, далеко
и глухо. Вот еще раз: бу-у... Николка положил гитару и
быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.
В гостиной—приемной совершенно темно. Николка
446
Мйхжмл Булгаков
наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под
Рождество» — снег и огонечки. Дрожат и мерцают.
Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и учи-
лище, в глазах — напряженнейший слух. Где? Пожал
унтер-офицерскими плечами.
— Черт его знает. Впечатление такое, что будто под
Святошиным стреляют. Странно, не может быть так
близко.
Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно,
что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Таль-
берга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение
и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень
хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть нс
может. Стреляют, 12 верст от города, не дальше. Что за
штука?
Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал
стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос рас-
плющил.
— Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело...
— Ну да, тебя там не хватало...
Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен
был вернуться самое позднее, слышите ли — самое
позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже десять.
В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно
молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет
зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами
снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных
колоннок. При матери, Анне Владимировне, это был
праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей по-
шел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и
все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна.
Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты,
выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декаб-
ре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе, голубые
гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждаю-
щие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на
подступах к Городу — коварный враг, который, пожа-
луй, может разбить снежный, прекрасный Город и ос-
колки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы —
приношение верного Елениного поклонника, гвардии по-
ручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продав-
щицы в конфетной знаменитой «Маркизе», друга про-
давщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая фло-
ра». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами,
несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной мае-
гБелая гвардия'/
447
ленке, в сухарнице пила-фраже и белый продолговатый
хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку,
если б не все эти мрачные обстоятельства... Эх... эх...
На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и
в блестящем боку самовара отражаются три изуродо-
ванных турбинских лица, и щеки Николкины в нем как
у Момуса.
В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжева-
тым огнем, .уныло обвисли.
Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетман-
ским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не
случилось ли, чего доброго, чего-нибудь с ним?.. Братья
вяло жуют бутерброды. Перед Еленою остывающая
чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные
глаза, не видя, глядят на слова: «...мрак, океан, вьюгу».
Не читает Елена.
Николка наконец не выдерживает:
— Желал бы я знать, почему так близко стреляют?
Ведь не может же быть...
Сам себя прервал и исказился при движении в само-
варе. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и —
тон-танк — идет к четверти одиннадцатого.
— Потому стреляют, что немцы — мерзавцы, —
неожиданно бурчит старший.
Елена поднимает голову на часы и спрашивает:
— Неужели, неужели они оставят нас на произвол
судьбы? — Голос ее тосклив.
Братья, словно по команде, поворачивают головы и
начинают лгать.
— Ничего не известно, — говорит Николка и обку-
сывает ломтик.
— Это я так сказал, гм... предположительно. Слухи.
— Нет, не слухи, — упрямо отвечает Елена, — это
не слух, а верно; сегодня видела Щеглову, и она сказа-
ла, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.
— Чепуха.
— Подумай сама, — начинает старший, — мыслимое
ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близ-
ко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не пред-
ставляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту.
Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его
называют не иначе, как бандит. Смешно.
— Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама
уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-
офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.
448
Михаил Булгаков
— Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения
могут быть даже и в германской армии.
— Так, по-вашему, Петлюра не войдет?
— Гм... По-моему, этого не может быть.
— Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну
чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится,
спокойствие.
— Но боже, где же Сергей? Я уверена, что на их
поезд напали и...
— И что? Ну что выдумываешь зря? Ведь эта линия
совершенно свободна.
— Почему же его нет?
— Господи боже мой. Знаешь же сама, какая езда.
На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.
— Революционная езда. Час едешь — два стоишь.
Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помол*
чала, потом заговорила опять:
— Господи, господи! Если бы немцы не сделали этой
подлости, все было бы отлично. Двух их полков доста-
точно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху.
Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную
игру. И почему же нет хваленых союзников? У-у, него-
дяи. Обещали, обещали...
Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел,
и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на
поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ —
вот он. Пожалуйста:
Союзники — сволочи.
Стрелка остановилась на четверти, часы солидно
хрипнули и пробили — раз, и тотчас же часам ответил
заливистый, тонкий звон под потолком в передней.
— Слава богу, вот и Сергей, — радостно сказал
старший.
— Это Тальберг, — подтвердил Николка и побежал
отворять.
Елена порозовела, встала.
♦
Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери про-
гремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удив-
ленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице
стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь
14*
Белая гвардия
449
в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой
очутилась высокая, широкоплечая фигура в серой шине-
ли до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими
звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел,
а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю
переднюю.
— Здравствуйте, —- пропела фигура хриплым тено-
ром и закоченевшими пальцами ухватилась за башлык.
— Витя!
Николка помог фигуре распутать концы, капюшон
слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потем-
невшей кокардой, и оказалась над громадными плечами
голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского.
Голова эта была очень красива, странной и печальной
и привлекательной красотой давней, настоящей породы
и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых гла-
зах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые,
лоб бел и чист, без особых примет. Но вот один уголок
рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан
так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо,
родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оста-
вить мужественному лицу маленький и неправильный
женский подбородок.
— Откуда ты?
— Откуда?
— Осторожнее, — слабо ответил Мышлаевский, —
не разбей. Там бутылка водки.
Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кар-
мана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты.
Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре,
покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мыш-
лаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:
— Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ноче-
вать. Не дойду домой.
— Ах, боже мой, конечно.
Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на
пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и под-
севшая инеем бархатка подстриженных усов начали та-
ить, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч,
прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.
— Ну, конечно... Полно. Кишат.
— Вот что, — испуганная Елена засуетилась, забыла
1нльберга на минуту. — Николка, там в кухне дрова.
1>сги зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпус-
1ила. Алексей, снимай с него френч, живо.
В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю сто-
нам, повалился на стул. Елена забегала и загремела
ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали
с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с. пряжками
на икрах.
— Легче... Ох, легче...
Размотались мерзкие, пятнистые портянки. Под ними
лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отпра
вил на холодную веранду — пусть дохнут вши. Мышла-
евский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещен-
ной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипка-
ми, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посинев-
шие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.
Слух... грозн...
Наст... банд...
Влюбился... моя...
— Что ж это за подлецы! — закричал Турбин. —
Неужели же они не могли дать вам валенки и полушубки?
— Ва-аленки, — плача, передразнил Мышлаевский, —
вален...
Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Ус
лыхав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский
яростно и слезливо крикнул:
— Кабак!
Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцами в носки,
простонал:
— Снимите, снимите, снимите...
Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снеж-
ная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышла-
евский опьянел мгновенно до мути в глазах.
— Неужели же отрезать придется? Господи... — Он
горько закачался в кресле.
— Ну, что ты, погоди. Ничего... Так. Приморозил
большой. Так... отойдет. И этот отойдет.
Николка присел на корточки и стал натягивать чис-
тые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки
Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого
халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись,
в числом белье, в халате, смягчился и ожил поморожен-
ный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова
запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосин
глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах
первого класса, какого-то полковника Щеткина, мороз,
Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого
15—2
Белая гвардия '
451
гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площад-
ными словами.
Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами
согревающийся поручик, и время от времени вскрикива-
ли: «Ну-ну».
— Гетман, а? Твою мать! — рычал Мышлаевский. —
Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали, в чем были.
А? Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь думал —
пропадем все... К матери! На сто саженей офицер от
офицера — это цепь называется? Как кур чуть не за-
резали!
— Постой, — ошалевая от брани, спрашивал Тур-
бин, — ты скажи, кто там, под Трактиром?
— А! — Мышлаевский махнул рукой. — Ничего не
поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром?
Со рок человек. Приезжает эта лахудра — полковник
|Цеткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо,
стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щет-
кина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим
голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на
кас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов рус-
ских, в случае появления неприятеля — переходите в
наступление, с нами бог! Через шесть часов дам смену.
Но патроны прошу беречь...» (Мышлаевский заговорил
споим обыкновенным голосом) — и смылся на машине
со своим адъютантом. И темно, как в ж...! Мороз. Игол-
ками берет.
— Да кто же там, господи! Ведь не может же Пет-
люра под Трактиром быть?
— А черт их знает! Веришь ли, к утру чуть с ума не
сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены... Ни рук,
ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не
можем, деревня в двух верстах, Трактир — верста. Ночью
нудится: поле шевелится. Кажется — ползут... Ну, ду-
маю, что будем делать?.. Что? Вскинешь винтовку, ду-
маешь — стрелять или не стрелять? Искушение. Стоя-
ли, как волки выли. Крикнешь — в цепи где-то отзовет-
ся. Наконец зарылся в снег, нарыл себе прикладом
। роб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь — каюк.
II под утро не вытерпел, чувствую — начинаю дремать.
1наешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу,
перстах в трех по-ехало! И ведь, представь, вставать не
хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на
ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожа-
ловал». Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили
и*
452
Михаил Булгаков
так: случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться
будем и отходить на город. Перебьют — перебьют. Хоть
вместе, по крайней мере. И, вообрази, — стихло. Утром
начали по три человека в Трактир бегать греться. Зим
ешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из
первой дружины человек двести юнкеров. И, можешь
себе представить, прекрасно одеты — в папахах, в вм
ленках и с пулеметной командой. Привел их полковник
Най-Турс.
— А! Наш, наш! — вскричал Николка.
— Погоди-ка, он не белградский гусар? — спросил
Турбин.
— Да, да, гусар... Понимаешь, глянули они на нас и
ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две
с пулеметами, как же вы стояли?»
Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрин
ку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и
повела наступление. Счастье, что они не знали, что там
цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, ут
ром вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье,
что у тех была связишка с Постом-Волынским, — дали
знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрап
нелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели
наступление до конца и расточились куда-то, к чертям
— Но кто такие? Неужели же Петлюра? Не может
этого быть.
— А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные
мужички-богоносцы Достоевские! у-у... вашу мать!
— Господи боже мой!
— Да-с, — хрипел Мышлаевский, насасывая папиро
су, — сменились мы, слава те, господи. Считаем: трид
цать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свинь»
ям. А двух подобрали, ноги будут резать...
— Как! Насмерть?
— А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер
А в Попелюхе, это под Трактиром, еще красивее вышло
Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять,
везти помороженных. Деревушка словно вымерла — ни
одной души. Смотрим, наконец ползет какой-то дед и
тулупе, с клюкой. Вообрази — глянул на нас и обрадо
вался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что ти*
кое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал*
«Хлопчики... хлопчики...» Говорю ему таким сдобным
голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он от*
вечает: «Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост»
If) 4
Белая гвардия
453
Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с.
А дэж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы
до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не
разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за пет-
люровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытер-
пел... Мороз... Остервенился... Взял деда этого за ма-
нишку, так что из него чуть душа не выскочила, и
кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас
пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают!
Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну,
тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хра-
нитель (Мышлаевский, словно обвал камней, спустил
страшное ругательство) прозрел в два счета. Конечно, в
ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня,
старика, це я сдуру, сослепу, дам коней, зараз дам,
тильки не вбивайте!» И лошади нашлись, и розвальни.
— Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там де-
лается — уму непостижимо. На путях четыре батареи
насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается,
нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело,
не знает. И главное — мертвых некуда деть! Нашли,
наконец, перевязочную летучку, веришь ли, силой свали-
ли мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите».
Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-
то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские
приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон
1Цеткина. Первого класса, электричество... И что ж ты
думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не
пускает. А? «Они, говорит, сплять. Никого не велено
принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за
мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком
выскочили. Вылез Щеткин и заегозил: «Ах, боже мой.
Ну конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку.
Сейчас мы вас разместим. П-полный отдых. Это герой-
ство. Ах, какая потеря, но что делать — жертвы. Я так
измучился...» И коньяком от него на версту. А-а-а! —
Мышлаевский внезапно зевнул и клюнул носом. Забор-
мотал, как во сне:
— Дали отряду теплушку и печку... О-о! А мне свез-
ло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого
|рохота. «Командирую вас, поручик, в город. В штаб
генерала Картузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паро-
воз... окоченел... замок Тамары... водка...
Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся
и захрапел сразу.
454
Михаил Булгаков
— Вот так здорово, — сказал растерянный Николка.
— Где Елена? — озабоченно спросил старший. ~
Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться.
Елена же в это время плакала в комнате за кухней,
где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ван*
ны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые
кухонные часишки настучали одиннадцать. И предста-
вился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами
напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена
сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пла-
мя, по щекам текли слезы. Убит. Убит...
И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю
квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книж-
ную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, зати-
кали, пошли ходуном?
Но Николка со старшим угасли очень быстро после
первого взрыва радости. Да и радость-то была больше
за Елену. Скверно действовали на братьев клиновидные,
гетманского военного министерства погоны на плечах
Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого
дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина я
вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через
нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причини
этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба
Тальберга, Сергея Ивановича...
Эх-эх... Как бы там ни было, сейчас первый слой
можно было читать ясно. В верхнем слое простая чело-
веческая радость от тепла, света и безопасности. А вот
поглубже — ясная тревога, и привез ее Тальберг с
собою только что. Самое же глубокое было, конечно,
скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея
Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд,
Оба значка — академии и университета — белыми го-
ловками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивает-
ся под черными часами, как автомат. Тальберг очень
озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклон-
ности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длин-
ным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая
слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, ко-
торый вез деньги в провинцию и который он конвоиро-
вал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали —
неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к
значкам, братья опять вскрикивали «ну-ну», а Мышла-
евский мертво храпел, показывая три золотых коронки,
— Кто ж такие? Петлюра?
Белая гвардия
455
— Ну, если бы Петлюра, — снисходительно и в то
же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберт, —
нряд ли я бы здесь беседовал... э... с вами. Не знаю кто.
Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в ваго-
ны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?»
Я ответил: «Сердюки», — они потоптались, потоптались,
потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли.
Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они
думали, что конвой не украинский, а офицерский, —
Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон,
глянул на часы и неожиданно добавил: — Елена, пой-
дем-ка на пару слов...
Елена торопливо ушла вслед за ним на половину
Тальбертов в спальню, где на стене над кроватью сидел
сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая
лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе
красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне ча-
сов, играющих каждые три часа гавот.
Неимоверных усилий стоило Николке разбудить
Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с гро-
хотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка
дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же
старший, сам не зная зачем, прошел в темную гостиную,
прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в
пяту, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.
Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза
красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга.
А он сухой штабной колонной возвышался над ней и
шпорил неумолимо:
— Елена, никак иначе поступить нельзя.
Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:
— Что ж, я .понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней
пнть-шесть, а? Может, положение еще изменится к луч-
шему?
Тут Тальберту пришлось трудно. И даже свою веч-
ную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно по-
• тярело, и в каждой точке была совершенно решенная
лума. Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда...
/(ней пять... шесть...
И Тальберг сказал:
— Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи...
...Через полчаса все в комнате с соколом было разо-
рено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крыш-
ки его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со склад-
нями у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, каль-
456
Михаил Булгаков
соны, простыни. Тальберт, на коленях у нижнего ящика
шкафа, ковырял в нем ключом. А потом... потом в ком-
нате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки,
и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда.
Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур свя
щенен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неиэ-
вестность от опасности. У абажура дремлите, читайте —
пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут.
Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрыв-
ки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей
длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с
гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.
На дальнем пути Города-1, Пассажирского, уже сто-
ит поезд — еще без паровоза, как гусеница без головы.
В составе девять вагонов с ослепительно белым элек-
трическим светом. В составе в час ночи уходит в Гер-
манию штаб генерала фон Буссова. Тальберта берут: у
Тальберта нашлись связи... Гетманское министерство —
это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выра-
жаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам
гетман. Тем более пошлая, что...
— Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на про-
извол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра
войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни.
В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса,
а это, знаешь ли...
О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917
года Тальберг был первый, — поймите, первый, •— кто
пришел в военное училище с широченной красной повяз-
кой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда
все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга
становились кирпичными и уходили куда-то в темные
коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член
революционного военного комитета, а не кто иной, арес-
товал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу
знаменитого года в Городе произошло уже много чудес-
ных и странных событий и родились в нем какие-то
люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шарова-
ры, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей,
и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае
из Города на фронт, потому что на фронте им делать
нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их
Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг
сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то,
что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до извест-
ной степени прав: вышла действительно оперетка, но
не простая, а с большим кровопролитием. Людей в ша-
роварах в два счета выгнали из Города серые разроз-
ненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с
равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те, в
шароварах, — авантюристы, а корни в Москве, хоть эти
корни и большевистские.
Но однажды, в марте, пришли в Город серыми ше-
ренгами немцы, и на головах у них были рыжие метал-
лические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль,
а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких
лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял,
где корни. После нескольких тяжелых ударов германс-
ких пушек под Городом московские смылись куда-то за
сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах прита-
щились обратно, вслед за немцами. Это был большой
сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не
боялся, потому что шаровары при немцах были очень
тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по
улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был
такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал,
что у них нет корней, и месяца два нигде не служил.
Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату
Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги
какие-то грамматические упражнения, а перед ним ле-
жала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге
книжонка:
«Игнатий Перпилло — Украинская грамматика».
В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело
гудели матовые электрические шары и было черно до
купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, бо-
евой колонной и вел счет рук — шароварам крышка,
будет Украина, но Украина «гетьманская», — выбирали
«гетьмана всея Украины».
— Мы отгорожены от кровавой московской оперет-
ки, — говорил Тальберг и блестел в странной гетманской
форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились
презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосу-
да. Николке и Алексею не о чем было говорить с Таль-
бертом. Да и говорить было бы очень трудно, потому
что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о
политике, и в особенности в тех случаях, когда Николка
совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа,
говорил в марте...» У Тальберга тотчас показывались
верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы,
458
Михаил Булгаков
в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг
начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли
из моды сами собой.
Да, оперетка... Елена знала, что значит это слово на
припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка
грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не
Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому
Сергею Ивановичу Тальберту. У каждого человека есть
своя звезда, и недаром в средние века придворные ас-
трологи составляли гороскопы, предсказывали будущее.
О, как мудры были они! Так вот, у Тальберта, Сергея
Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда.
Тальберту было бы хорошо, если бы все шло прямо, по
одной определенной линии, но события в это время в
Городе не шли по прямой, они проделывали причудли-
вые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался уга-
дать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто
пятьдесят, а может быть, и двести, от Города, на путях,
освещенных белым светом, — салон-вагон. В вагоне, как
зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим
писарям и адъютантам на странном языке, в котором с
большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе
Тальберту, если этот человек придет в Город, а он может
прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя
капитана Тальберта, выбиравшего гетмана, также. В га-
зете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а
в статье слова:
«Петлюра — авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...»
— Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу
на скитанья и неизвестность. Не правда ли?
Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.
— Я думаю, что мне беспрепятственно удастся про-
браться через Румынию в Крым и на Дон... Фон Буссов
обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупа-
ция превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Ше-
пот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет.
Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь, мне ведь
даже нельзя не быть там, когда формируется армия
права и порядка. Не быть — значит погубить карьеру,
ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей
дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну
самое позднее — в мае, мы придем в Город. Ты ничего
не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в
Белая гвардия
459
крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию.
Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.
Елена очнулась.
— Постой, — сказала она, — ведь нужно братьев
сейчас предупредить о том, что немцы нас предают?
Тальберг густо покраснел.
— Конечно, конечно, я обязательно... Впрочем, ты им
сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало.
Странное чувство мелькнуло у Елены, но предавать-
ся размышлению было некогда: Тальберг уже целовал
жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза
пронизало только одно — нежность. Елена не выдержа-
ла и всплакнула, но тихо, тихо, — женщина она была
сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом про-
изошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой
лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пиа-
нино показало уютные белые зубы и партитуру «Фаус-
та» там, где черные нотные закорючки идут густым
черным строем и разноцветный рыжебородый Валентин
поет:
Я за сестру тебя молю,
Сжалься, о, сжалься ты над ней!
Ты охрани ее.
Даже Тальберту, которому не были свойственны
никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот
миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного
«Фауста». Эх, эх... Не придется больше услышать Таль-
берту каватины про бога всесильного, не услышать, как
Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же,
когда Турбиных и Тальберта не будет на свете, опять
зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный
Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут
играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом,
потому что «Фауст», как «Саардамский Плотник», —
совершенно бессмертен.
Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья
вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей.
Младший из гордости, старший потому, что был чело-
век-тряпка. Голос Тальберта дрогнул.
— Вы же Елену берегите, — глаза Тальберта в
первом слое посмотрели просительно и тревожно. Он
помялся, растерянно глянул на карманные часы и бес-
покойно сказал: — Пора.
Елена притянула к себе за шею мужа, перекрестила
его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколол
460
Михаил Булгаков
обоих братьев щетками черных подстриженных усов.
Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил
пачку документов, пересчитал в тощем отделении укра-
инские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напря-
женно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзинь... дзинь...
в передней свет сверху, потом на лестнице громыханье
чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз
увидела острый хохот башлыка.
В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладби-
щами порожних товарных вагонов, с места взяв боль-
шую грохочущую скорость, пыша красным жаром под-
дувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико за-
выл. Он пробежал восемь верст-в семь минут, попал на
Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не
задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с глав-
ной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнке-
ров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у
самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, ни-
кого решительно не боясь, ушел к германской границе.
Следом за ним через десять минут прошел через Пост
сияющий десятками окон пассажирский, с громадным
паровозом. Тумбовидные’, массивные, запакованные до
глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькну-
ли их широкие черные штыки. Стрелочники, давясь
морозом, видели, как мотало на стыках длинные пуль-
маны, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все
исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой
и тревогой.
— У... с-с-волочь!.. — провыло где-то у стрелки, и на
теплушки налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь
Пост.
А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом
полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь,
сидел Тальберг против германского лейтенанта и гово-
рил по-немецки.
— О, ja, — тянул время от времени толстый лейте-
нант и пожевывал сигару.
Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закры-
лись и в теплом и ослепительном вагоне настало моно-
тонное дорожное бормотанье. Тальберг вышел в кори-
дор, откинул бледную штору с прозрачными буквами
«Ю.-З. ж. д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно
прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и
завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг
расстроился.
3
В этот ночной час в нижней квартире домохозяина,
инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная
тишина, и только мыть в маленькой столовой нарушала
ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и
деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная ску-
пость супруги инженера, Ванды Михайловны. Прокли-
наемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во
тьме спаленки прохладной и сырой квартиры. Сам же
инженер бодрствовал и находился в своем тесно застав-
ленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие
этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа,
изображающая египетскую царевну, прикрытую зеле-
ным зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и
таинственно, и сам инженер был таинственен в глубо-
ком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого
времени выражалась прежде всего в том, что был чело-
век в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а
Василиса... То есть сам-то он называл себя — Лисович,
многие люди, с которыми он сталкивался, называли его
Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За
глаза же, в третьем лице, никто не называл инженера
иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домо-
владелец с января 1918 года, когда в городе начались
уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий
почерк и вместо определенного «В. Лисович», из страха
перед какой-то будущей ответственностью, начал в ан-
кетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках
писать «Вас. Лис.».
Николка, получив из рук Василия Ивановича сахар-
ную карточку восемнадцатого января восемнадцатого
года, вместо сахара получил страшный удар камнем в
спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд
лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из
бесстрашных людей.) Придя домой, держась за стенки
и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испу-
гать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на
вопль Елены:
— Господи! Что же это такое?! — ответил:
— Это Василисин сахар, черт бы его взял! — и после
этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через
два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не
было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором
весь город начал называть инженера Василисой, и лишь
462
Михаил Булгаков
сам владелец женского имени рекомендовался: предсе-
датель домового комитета Лисович.
Убедившись, что улица окончательно затихла, не
слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушав-
шись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса
отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры,
болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика
своего массивного стола он выложил четыре блестящих
английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то
во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз
прислушался и даже приложил палец к губам. Снял
пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке,
аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы.
Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрел-
ся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины,
а правое пледом при помощи английских булавок. За-
ботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез
на него и руками нашарил что-то, над верхним рядом
книг на полке, провел ножичком вертикально Вниз по
обоям, а затем под прямым углом вбок, подсунул ножи-
чек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два
кирпича, тайничок, самим же им изготовленный в тече-
ние предыдущей ночи. Дверцу — тонкую цинковую
пластинку — отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на
окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика,
открытого двойным звенящим поворотом* ключа, выгля-
нул на свет божий аккуратно перевязанный крестом и
запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса
похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на крас-
ном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не
подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они
легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбуке-
тика к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда
инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет
никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно по-
тер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки
обоев, пепел размешал и спрятал клей.
На черной безлюдной улице волчья оборванная серая
фигура беззвучно слезла с ветки акации, на которой
полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая
через предательскую щель над верхним краем простыни
работу инженера, навлекшего беду именно простыней
на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в суг-
роб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась
Белая гвардия
463
волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугро-
бы съели ее и замели все ее следы.
Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый
Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые — какая, к черту,
Василиса! — это мужчина. В ящиках прозвучало нежно,
и перед Василисой на красном сукне пачки продолгова-
тых бумажек — зеленый игральный крап:
Знак Державно? скарбниц!
50 карбованщв
ходит HapiBHi з кредитовими бметами.
На крапе — селянин £ обвисшими усами, вооружен-
ный лопатою, и селянка с серпом. На обороте, в оваль-
ной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же
селянина.и селянки. И тут червячками усы вниз, по-
украински. И надо всем предостерегающая надпись:
За фальшування караеться тюрмою,
уверенная подпись:
Директор державно? скарбниц! Леб1дь-Юрчик.
Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле
бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на
художественное произведение Леб1дя-Юрчика и ласко-
во — на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел
в ужасе чиновник со Станиславом на шее — предок
Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко
блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным
строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз-
Ефрон. Уют.
Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обо-
ими. Там же 15 «катеринок», 9 «петров», 10 «Николаев
1-х», 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и два Ста-
нислава.
В тайнике № 2 — 20 «катеринок», 10 «петров», 25 се-
ребряных ложек, золотые часы с цепью, 3 портсигара
(«Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), 50
юлотых десяток, солонки, футляр с серебром на 6 пер-
сон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном
снрае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от
меловой метки на бревне стены. Всё в ящиках эйнемов-
। кого печенья, в клеенке, просмоленные швы, два арши-
на глубины).
Третий тайник — чердак: две четверти от трубы на
464
Михаил Булгаков
северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, 183
золотых десятки, на 25 000 процентных бумаг.
Леб1дь-Юрчик — на текущие расходы. .
Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал
деньги, и стал слюнить крап. Лицо его стало боговдох-
новенным. Потом он неожиданно побледнел.
— Фальшування, фальшування, — злобно заворчал
он, качая головой, — вот горе-то. А?
Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В треть-
ем десятке — раз. В четвертом десятке — две, в шее
том — две, в девятом — подряд три бумажки несомненно
таких, за которые Леб1дь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего
сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми
явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрач-
ный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинствен-
ных, верных — перевернутой запятой и двух точек, и
бумага лучше, чем леб!девская. Василиса глядел на
свет, и Леб1дь явно фальшиво просвечивал с обратной
стороны.
— Извозчику завтра вечером одну, — разговаривал
сам с собой Василиса, — все равно ехать, и, конечно, на
базар.
Он бережно отложил в сторону фальшивые, предна-
значенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за
звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги
по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные
голоса. Василиса сказал Александру II:
— Извольте видеть: никогда покою нет...
Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочаль-
ные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гости-
ной, где тускло блестел граммофонный рупор, малень-
кую лампу. Через десять минут полная тьма была и
квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спаль-
не. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой.
И вот, во сне, приехал Леб1дь-Юрчик верхом на коне и
какие-то Тушинские Воры с отмычками вскрыли тайник.
Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы
и выстрелил в упор. В холодном поту, с воплем вскочил
Василиса, и первое, что услыхал, — мышь с семейством,
трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а за-
тем уже необычайной нежности гитарный звон через
потолок и ковры, смех...
За потолком пропел необыкновенной мощности и
страсти голос, и гитара пошла маршем.
Белая гвардия
465
— Единственное средство — отказать от квартиры, —
забарахтался в простынях Василиса, — это же немыс-
лимо. Ни днем, ни ночью нет покоя.
Идут и поют юнкера
Гвардейской школы!
— Хотя, впрочем, на случай чего... Оно верно, время-
то теперь ужасное. Кого еще пустишь, неизвестно, а тут
офицеры, в случае чего — защита-то и есть. Брысь! —
крикнул Василиса на яростную мышь.
Гитара... гитара... гитара...
♦
Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма.
Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веран-
ду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие бу-
кеты тепличных роз, три бутылки водки и германские
узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в
сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки,
крошки, чай...
На кресле скомканный лист юмористической газеты
«Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторо-
ну несет на золотой остров беспричинной радости, то
бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развяз-
ные слова:
Голым профилем на ежа не сядешь!
— Вот веселая сволочь... А пушки-то стихли. А-стра-
умие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-ра-
та-там! — Гитара.
Арбуз не стоит печь на мыле,
Американцы победили.
Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся.
Он пьян.
Игривы Брейтмана остроты,
И где же сенегальцев роты?
— Где же? В самом деле? Где же? — добивался
мутный Мышлаевский.
Рожают овцы под брезентом,
Родзянко будет президентом.
466
Михаил Булгаков
— Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!
Елена, которой не дали опомниться после отъезда
Тальберга... от белого вина не пропадает боль совсем, а
только тупеет, Елена на председательском месте, на
узком конце стола, в кресле. На противоположном —
Мышлаевский, мохнат, бел, в халате, и лицо в пятнах от
водки и бешеной усталости. Глаза его в красных коль-
цах — стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длин-
ным граням стола с одной стороны Алексей и Николка,
а с другой —Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего
лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант
в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик
Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же, по
александровской гимназической кличке, — Карась.
Маленький, укладистый и действительно чрезвычай-
но похожий на карася, Карась столкнулся с Шервине
ким у самого подъезда Турбиных, минут через двадцать
после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками.
У Шервинского сверток — четыре бутылки белого вина,
у Карася — две бутылки водки. Шервинский, кроме
того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо
запакованным в три слоя бумаги, — само собой понят-
но, розы Елене Васильевне. Карась тут же, у подъезда,
сообщил новость: на погонах у него золотые пушки, —
терпенья больше нет, всем нужно идти драться, потому
что из занятий в университете все равно ни пса не
выходит, а если Петлюра приползет в город — тем
более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам
непременно в мортирный дивизион. Командир — пол-
ковник Малышев, дивизион замечательный, так и назы-
вается — студенческий. Карась в отчаянии, что Мыш-
лаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгерой-
ствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает.
Может быть, даже и убили под городом...
Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху!! Золотая
Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой н
серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла
принимать розы. Ур-ра! Все здесь. Карасевы золотые
пушки на смятых погонах были форменным ничтожест-
вом рядом с бледными кавалерийскими погонами и
синими выутюженными бриджами Шервинского. В на-
глых глазах маленького Шервинского мячиками запры-
гала радость при известии об исчезновении Тальберга.
Маленький улан сразу почувствовал, что он, как никог-
да, в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действи-
Белая гвардия
467
Тельно чудовищным ураганом звуков, пел Шервинский
впиталаму богу Гименею, и как пел! Да, пожалуй, все
Вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинско-
го. Конечно, сейчас штабы, эта дурацкая война, больше-
вики, и Петлюра, и долг, но потом, когда все придет в
норму, он бросает военную службу, несмотря на свои
петербургские связи, вы знаете, какие у него связи —
о-го-го... и на сцену. Петь он будет в La Scala и в
Большом театре в Москве, когда большевиков повесят
на фонарях на Театральной площади. В него влюбилась
в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он
пел эпиталаму, то вместо fa взял 1а и держал его пять
тактов. Сказав — пять, Шервинский сам повесил немно-
го голову и посмотрел кругом растерянно, как будто
кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.
— Тэк-с, пять. Ну ладно, идемте ужинать.
И вот знамена, дым...
— И где же сенегальцев роты? отвечай, штабной,
отвечай. Леночка, пей вино, золотая, пей. Все будет
благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Про-
берется на Дон и приедет сюда с деникинской армией.
— Будут! — звякнул Шервинский. — Будут. Поз-
вольте сообщить важную новость: сегодня я сам видел
нп Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра,
<вмое позднее, через два дня, в Город придут два серб-
ских полка.
— Слушай, это верно?
Шервинский стал бурым.
— Гм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел,
«опрос этот мне кажется неуместным.
— Два полка-а... что два полка...
— Хорошо-с, тогда не угодно ли выслушать. Сам
князь мне говорил сегодня, что в одесском порту уже
Разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии
• гнегалов. Стоит нам продержаться неделю — и нам на
немцев наплевать.
— Предатели!
— Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да
юнесить! Вот повесить!
—- Своими руками застрелю.
— Еще по глотку. Ваше здоровье, господа офицеры!
Раз — и окончательный туман! Туман, господа.
Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за плат-
ном и в передней (когда никто не видит, можно быть
«мим собой) припал к вешалке. Кривая шашка Шер-
468
Михаил Булгаков
винского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил
персидский принц. Клинок дамасский. И принц не ди-
рил, и клинок не дамасский, но верно — красивая и
дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасей
Стейер — вороненое дуло. Николка припал к холодному
дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров н<н
и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться
сейчас же, сию минуту, там, за Постом, на снежны»
полях. Ведь стыдно! Неловко... Здесь водка и тепло, и
там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они
думают там в штабах? Э, дружина еще не готова, сту
денты не обучены, а сингалезов все нет и нет, вероятно,
они, как сапоги, черные... Но ведь они же здесь померзнут,
к свиньям? Они ведь привыкли к жаркому климату?
— Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, -
за устройство этой миленькой Украины, повесил бы
первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Бер
лина! Полгода он издевался над русскими офицерами,
издевался над всеми нами. Кто запретил формирование
русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское
население этим гнусным языком, которого и на свете не
существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвое
тами на головах? Гетман. А теперь, когда ухватило коти
поперек живота, так начали формировать русскую нр
мию? В двух шагах враг, а они дружины, штабы? Смит
рите, ой, смотрите!
— Панику сеешь, — сказал хладнокровно Карась.,
Турбин обозлился.
— Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите
Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня ни
кипело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра, я уже
решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Ми
лышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядо
вым. Мне это осточертело! Не панику, — кусок огурци
застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохси,
и Николка стал колотить его по спине.
— Правильно! — скрепил Карась, стукнув по сто
лу. — К черту рядовым — устроим врачом.
— Завтра полезем все вместе, — бормотал пьяны!
Мышлаевский, — все вместе. Вся Александровская им
ператорская гимназия. Ура!
— Сволочь он, — с ненавистью продолжал Турбин, «
ведь он сам же не говорит на этом проклятом языке! А>
Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Куриць
кого, он, извольте ли видеть, разучился говорить но
Белая гвардия
469
русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал
Курицький... Так вот спрашиваю: как по-украински «кот»?
Он отвечает: «Кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он
остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не
кланяется.
Николка с треском захохотал и сказал:
— Слова «кит» у них не может быть, потому что на
Украине не водятся киты, а в России всего много. В Бе-
лом море киты есть...
—- Мобилизация, — ядовито продолжал Турбин, —
жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках.
Все валютчики знали о мобилизации за три дня до
приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка
правого легкого, а у кого нет верхушки — просто про-
пал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, брат-
цы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся
перед мобилизацией и ни один не идет — дело швах! О,
Каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца он
пместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с укра-
инизацией, начал бы формирование офицерских корпу-
сов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в
Городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию, и
какую армию! Отборную, лучшую, потому что все юнке-
)а, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в
’ороде, все пошли бы с дорогою ду!пой. Не только
1етлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы
роцкого прихлопнули бы в Москве, как муху. Самый
момент: ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин
сын, Россию спас.
Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали
изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.
— Ты... ты... тебе бы, знаешь, не врачом, а министром
быть обороны, право, — заговорил Карась. Он ирони-
чески улыбался, но речь Турбина ему нравилась и за-
жигала его.
— Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, —
сказал Николка.
— Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты
никакой остряк, — ответил ему Турбин, — пей-ка лучше
ПИНО.
— Ты пойми, — заговорил Карась, — что немцы не
позволили бы формировать армию, они боятся ее.
— Неправда! — тоненько выкликнул Турбин. —
Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно
было бы столковаться с германом. Нужно было бы
470
Михаил Булгаков
немцам объяснить, что мы им не опасны. Кончено. Вой
на нами проиграна. У нас теперь другое, более страна
ное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас -
Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен
сахар, хлеб? — берите, лопайте, кормите солдат. По
давитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь
это вам же лучше, мы вам поможем удержать порядок
на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели москон
ской болезнью. И будь сейчас русская армия в Городе,
мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы
А Петлюру... к-х... — Турбин яростно закашлялся.
— Стой! — Шервинский встал. — Погоди. Я должен
сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были дону
щены, но план у гетмана был правильный. О, он дин
ломат. Край украинский, здесь есть элементы, которые
хотят балакать на этой мове своей, — пусть!
— Пять процентов, а девяносто пять — русских!.,
— Верно. Но они сыграли бы роль э... э... вечного
бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их ути
хомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно
так, как ты говоришь: русская армия, и никаких гвоз-
дей. Не угодно ли? — Шервинский торжественно указал
куда-то рукой. — На Владимирской улице уже развева
ются трехцветные флаги.
— Опоздали'с флагами!
— Гм, да. Это верно. Несколько опоздали, но князь
уверен, что ошибка поправима.
— Дай бог, искренне желаю, — и Турбин перекрое
тился на икону Божией Матери в углу.
— План же был таков, — звучно и торжественно
выговорил Шервинский, — когда война кончилась бы»
немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с
большевиками. Когда же Москва была бы занята, гет
ман торжественно положил бы Украину к стопам его
императорского величества государя императора Нико
лая Александровича.
После этого сообщения в столовой наступило гробо»
вое молчание. Николка горестно побелел.
— Император убит, — прошептал он.
— Какого Николая Александровича? — спросил
ошеломленный Турбин, а Мышлаевский, качнувшись»
искоса глянул в стакан к соседу. Ясно: крепился, кре»
пился и вот напился, как зонтик.
Елена, положившая голову на ладони, в ужасе по»
смотрела на улана.
Белая гвардия
471
Но Шервинский не был особенно пьян, он поднял
руку и сказал мощно:
— Не спешите, а слушайте. Н-но, прошу господ
офицеров (Николка покраснел и побледнел) молчать пока
о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло
Ю дворце императора Вильгельма, когда ему представ-
лялась свита гетмана?
— Никакого понятия не имеем, — с интересом сооб-
щил Карась.
— Ну-с, а мне известно.
— Тю! Ему все известно, — удивился Мышлаевский. —
Гы ж не езди...
— Господа! Дайте же ему сказать.
— После того, как император Вильгельм милостиво
поговорил со свцтой, он сказал: «Теперь я с вами про-
щаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет гово-
рить...» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш
государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на
Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет
момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в
сердце России — в Москву», — и прослезился.
Шервинский светло обвел глазами все общество,
«нлпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз
уставились на него, и молчание царствовало до тех пор,
пока он не сел и не закусил ветчиной.
— Слушай... это легенда, — болезненно сморщив-
шись, сказал Турбин. — Я уже слышал эту историю.
— Убиты все, — сказал Мышлаевский, — и госу-
шрь, и государыня, и наследник.
Шервинский покосился на печку, глубоко набрал
воздуху и молвил:
— Напрасно вы не верите. Известие о смерти его
императорского величества...
— Несколько преувеличено, —- спьяна сострил Мыш-
шсвский.
Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.
— Витя, тебе стыдно. Ты офицер.
Машлаевский нырнул в туман.
— ...вымышлено самими же большевиками. Государю
удалось спастись при помощи его верного гувернера...
ю есть, виноват, гувернера наследника, мосье Жильяра,
и нескольких офицеров, которые вывезли его... э... в
\.1ию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Ев-
ропу. И вот государь ныне находится в гостях у импе-
ратора Вильгельма.
472
Михаил Булгаков
— Да ведь Вильгельма же тоже выкинули? — начал
Карась.
— Они оба в гостях в Дании, с ними же и августей-
шая мать государя, Мария Федоровна. Если ж вы миф
не верите, то вот-с: сообщил мне это лично сам князь.
Николкина душа стонала, полная смятения. Ему
хотелось верить.
— Если это так, — вдруг восторженно заговорил он
и вскочил, вытирая пот со лба, — я предлагаю тост;
здоровье его императорского величества! —- Он блеснул
стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили герман
ское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлае1Ь
ский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена вста-
ла. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на вис
ках.
— Пусть! Пусть! Пусть даже убит, — надломленно
и хрипло крикнула она. — Все равно. Я пью. Я пью.
— Ему никогда, никогда не простится его отречение
на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь
научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию
может только монархия. Поэтому, если император мерти,
да здравствует император! — Турбин крикнул и поднял
стакан.
— Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!! — трижды в грохота
пронеслось по столовой.
Василиса вскочил внизу в холодном поту. Со сна он
завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михай
ловну.
— Боже мой... бо... бо... — бормотала Ванда, цепляясь
за его сорочку.
— Что же это такое? Три часа ночи! — завопил,
плача, Василиса, адресуясь к черному потолку. — Я
жаловаться наконец буду!
Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху
явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала гус-
тая масляная волна, и над ней главенствовал мощный,
как колокол, звенящий баритон:
...си-ильный, де-ержавный,
царрр-ствуй на славу...
Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыган-
ским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он
забормотал:
— Нет... они, того, душевнобольные... Ведь они нас
под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь,
Белая гвардия
473
Ведь гимн же запрещен! Боже ты мой, что же они
делают? На улице-то, на улице слышно!!
Но Ванда уже свалилась как камень и опять засну-
ла. Василиса же лег лишь тогда, когда последний ак-
корд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрики-
ваньях.
— На Руси возможно только одно: вера православ-
ная, власть самодержавная! — покачиваясь, кричал
Мышлаевский.
— Верно!
— Я... был на «Павле Первом»... неделю тому на-
зад... — заплетаясь, бормотал Мышлаевский, — и когда
артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул:
«Верр-но!» — и что ж вы думаете, кругом зааплодирова-
ли. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»
— Жи-ды, — мрачно крикнул опьяневший Карась.
Туман. Туман. Туман. Тонк-танк... тонк-танкл. Уже
водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо, идет
в душу и обратно возвращается. В узком ущелье ма-
ленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на по-
толке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходу-
ном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рва-
ло. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой,
со слипшимися на лбу волосами, поддерживал Мышла-
евского.
— А-а...
Тот наконец со стоном откинулся от раковины, мучи-
тельно завел угасающие глаза и обвис на руках у Тур-
бина, как вытряхнутый мешок.
— Ни-колка, — прозвучал в дыму и черных полосах
чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин
понял, что этот голос его собственный. — Ни-колка! —
повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превра-
тилась в зеленую. «Боже-е, боже-е, как тошно и против-
но. Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином». —
Никол...
— А-а, — хрипел Мышлаевский, оседая к полу.
Черная щель расширилась, и в ней появилась Никол-
кина голова и шеврон.
— Никол... помоги, бери его. Бери так, под руку.
— Ц...ц...ц... Эх, эх, — жалостливо качая головой,
бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело
моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные сторо-
ны, как на нитке, висела убитая голова. Тонк-танк. Часы
ползли со стены и опять на нее садились. Букетами
474
Михаил Булгаков
плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятна-
ми, и прядь волос танцевала над правой бровью.
— Так. Клади его.
— Хоть халат-то запахни ему. Ведь неудобно, я тут.
Проклятые черти. Пить не умеете. Витька! Витька! Что
с тобой? Вить...
— Брось. Не поможет. Николушка, слушай. В каби-
нете у меня... на полке, склянка, написано «Liquor
ammonii», а угол оборван, к чертям, видишь ли... наша-
тырным спиртом пахнет.
— Сейчас... сейчас... Эх-эх.
— И ты, доктор, хорош...
— Ну, ладно, ладно.
— Что? Пульса нету?
— Нет, вздор, отойдет.
— Таз! Таз!
-—Таз извольте.
— А-а-а...
— Эх, вы!
Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и
Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка под-
держивал его, и два раза Турбин лил ему в рот пому-
тившуюся белую воду.
— А... хрр... у-ух... Тьф... фэ...
— Снегу, снегу.
Господи боже мой. Ведь это нужно ж так...
Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на
простыни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся
под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синева-
тые тени лежали у обострившегося носа. С четверть
часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с
побежденным офицером, пока он не открыл глаза и нс
прохрипел:
— Ах... пусти...
— Тэк-с, ну ладно, пусть здесь и спит.
Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготов-
ляя постели.
— Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки.
— Слушаюсь.
Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелк-
нул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые
руки Елены замелькали над подушками на диване.
—- Не затрудняйтесь... я сам.
— Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша
помощь не нужна.
Белая гвардия
475
— Позвольте ручку поцеловать...
— По какому поводу?
— В благодарность за хлопоты.
— Обойдется пока... Николка, ты у себя на кровати.
Ну, как он?
— Ничего, отошел, проспится.
Белым застелили два ложа и в комнате, предшеству-
ющей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафа-
ми, полными книг. Так и называлась комната в семье
профессора — книжная.
*
И погасли огни, погасли в книжной, в Николкиной, в
столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами
портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из
спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку,
стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный
театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена езди-
ла в театр вечером, когда от рук, и меха, и губ пахло
духами, а лицо было тонко и нежно напудрено и из
коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из
«Пиковой дамы». Но капор обветшал, быстро и странно,
в один последний год, и сборки ссеклись и потускнели,
и потерлись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжева-
тая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготов-
ленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погруже-
ны в старенькую, вытертую медвежью шкуру. Недолго-
вечный хмель ушел совсем, и вся черная громадная
печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней
комнаты глухо, сквозь дверь, задвинутую шкафом, до-
носился тонкий свист Николки и жизненный, бодрый
храп Шервинского. Из книжной молчание мертвенного
Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не
сдерживала себя и беседовала то вполголоса, то молча,
едва шевеля губами, с капором, налитым светом, и с
черными двумя пятнами окон.
— Уехал...
Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задума-
лась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал, и в
такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек
и очень хорошо сделал, что уехал... Ведь это же к луч-
шему...
— Но в такую минуту... — бормотала Елена и глубо-
ко вздохнула.
476
Михаил Булгаков
— Что за такой человек? — Как будто бы она его
полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас
чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты, у этих окон,
которые сегодня кажутся гробовыми. Но ни сейчас, ни
все время — полтора года, — что прожила с этим
человеком, и не было в душе самого главного, без чего
не может существовать ни в коем случае даже такой
блестящий брак между красивой, рыжей, золотой Еле-
ной и генерального штаба карьеристом, брак с капора
ми, с духами, со шпорами и облегченный, без детей,
Брак с генерально-штабным, осторожным прибалтийс
ким человеком. И что это за человек? Чего же это
такого нет главного, без чего пуста моя душа?
— Знаю я, знаю, — сама сказала себе Елена, —
уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе ува-
жения, — значительно сказала она красному капору и
подняла палец. И, сама ужаснувшись тому, что сказала,
ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он
тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного,
но чтобы был в эту трудную минуту здесь. Уехал.
И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хоти
позволь-ка, что ж я говорю? А что бы они сделали?
Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую
трудную минуту его и нет, и не надо, но только нс
удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то
они поцеловались, но ведь в глубине души они его не
навидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как
задумаешься, все ясно — ненавидят. Николка, тот еще
добрее, а вот старший... Хотя нет. Алеша тоже добрый,
но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я
думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отре-
жут... Он там останется, я здесь...
— Мой муж, — сказала она, вздохнувши, и начала
расстегивать капотик. — Мой муж...
Капор с интересом слушал, и щеки его осветились
жирным красным светом. Спрашивал:
— А что за человек твой муж?
*
— Мерзавец он. Больше ничего! — сам себе сказал
Турбин, в одиночестве через комнату и переднюю от
Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже
много минут. — Мерзавец, а я действительно тряпка.
Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно
Белая гвардия
477
было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже
мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это, в
конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но
вот почему? А, черт, да понятен он мне совершенно. О,
чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести!
Все, что ни говорит, говорит как бесструнная балалай-
ка, и это офицер русской военной академии. Это лучшее,
что должно было быть в России...
Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни
Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли, но
Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате,
у маленького письменного стола. Водка и германское
вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными
глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги
и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и
тому же:
«Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя...»
Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне
явился к нему маленького роста кошмар в брюках в
крупную клетку и глумливо сказал:
— Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь —
страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому че-
ловеку честь — только лишнее бремя.
— Ах ты! — вскричал во сне Турбин. — Г-гадина, да
я тебя. — Турбин во сне полез в ящик стола доставать
браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар,
погнался за ним, и кошмар пропал.
Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а
когда уже начало светать бледно и нежно за окнами
комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину
стал сниться Город.
4
Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил
Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над
Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных
труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел
сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь
этажей громоздились дома. Днем их окна были черны,
а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками,
сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли
478
Михаил Булгаков
электрические шары, высоко подвешенные на закорюч-
ках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным
гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пух-
лыми сидениями, по образцу заграничных. Со ската на
скат, покрикивая, , ехали извозчики, и темные воротни-
ки — мех серебристый и черный — делали женские
лица загадочными и красивыми.
Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные
белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так
много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись
повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами,
оврагами, кленами и липами.
Сады красовались на прекрасных горах, нависших
над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою
пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных
сумерках, царствовал вечный Царский сад. Старые,
сгнившие черные балки парапета не преграждали пути
прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены,
заметенные вьюгою, падали на нижние далекие терра-
сы, а те расходились все дальше и шире, переходили в
береговые рощи над шоссе, вьющимся по берегу вели-
кой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в
дымку, куда даже с городских высот не хватает челове-
ческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и
Херсонес, и дальнее море.
Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на
улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и
Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего
Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных
зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия
Города, накопленная за солнечное и грозовое лето,
выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал
загораться в окнах домов, в круглых электрических
шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огнен-
ными номерами, и в стеклянных сплошных окнах элек-
трических станций, наводящих на мысль о страшном и
суетном электрическом будущем человечества, в их
сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие
свои отчаянные колеса машины, до корня расшатываю-
щие самое основание земли. Играл светом и переливал-
ся, светился, и танцевал, и мерцал Город по ночам до
самого утра, а утром угасал, одевался дымом и Туманом.
Но лучше всего сверкал электрический белый крест
в руках громаднейшего Владимира на Владимирской
горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной
Белая гвардия
479
мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из
ивняка, лодки видели его и находили по его свету водя-
ной путь на Город, к его пристаням. Зимой крест сиял
в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над
темными пологими далями московского берега, от кото-
рого были перекинуты два громадных моста. Один цеп-
ной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том
берегу, другой — высоченный, стреловидный, по которо-
му прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко
сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная
Москва.
*
И вот, в зиму 1918 года, Город жил странною, неес-
тественной жизнью, которая, очень возможно, уже не
повторится в двадцатом столетии. За каменными стена-
ми все квартиры были переполнены. Свои давнишние
исконные жители жались и продолжали сжиматься
дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, ус-
тремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по
ггому стреловидному мосту оттуда, где загадочные си-
зые ДЫМ161.
Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежа-
ли талантливые дельцы, оставившие доверенных помощ-
ников в Москве, которым было поручено не терять связи
с тем новым миром, который нарождался в Московском
царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тай-
ным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты,
общественные деятели. Бежали журналисты, московс-
кие и петербургские, продажные, ’ алчные, трусливые.
Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий.
Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы
г накрашенными карминовыми губами. Бежали секрета-
ри директоров департаментов, юные пассивные педерас-
ты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики,
жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта
масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.
Всю весну, начиная с избрания гетмана, он напол-
нялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали
на диванах и стульях. Обедали огромными обществами
ж столами в богатых квартирах. Открылись бесчислен-
ные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубо-
кой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было
480
Михаил Булгаков
купить женщину, новые театры миниатюр, на подмоет-
ках которых кривлялись и смешили народ все наиболее
известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открыл-
ся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный,
до белого утра гремящий тарелками клуб «Прах» (по-
эты — режиссеры — артисты — художники) на Нико
лаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и луч-
шие перья в России начали писать в них фельетоны и
в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики
целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан,
и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в та-
бачном дыму светились неземной красотой лица белых,
истощенных, закокаиненных проституток.
Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка.
До самого рассвета шелестели игорные клубы, и в них
играли личности петербургские и личности городские,
играли важные и гордые немецкие лейтенанты и май-
оры, которых русские боялись и уважали. Играли ара-
пы из клубов Москвы и украинско-русские, уже вися-
щие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем
свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза
у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым
белком, а волосы — бархатные. Лампы, увитые цыган-
скими шалями, бросали два света — вниз белый элек-
трический, а вбок и вверх — оранжевый. Звездою голу
бого пыльного шелку разливался потолок, в голубых
ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились ры-
жеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом,
спиртом и французскими духами. Все лето восемнадца
того года по Николаевской шаркали дутые лихачи, а
наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели
машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса,
бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и
печатями темно сверкали бутылки прекрасного шампан
ского вина «Абрау».
И все лето, и все лето напирали и напирали новые.
Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетин
кой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглы
ми глазами тенора-солисты, члены Государственной думы
в пенсне, б... со звонкими фамилиями, биллиардные иг-
роки... водили девок в магазины покупать краску для
губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разре-
зом. Покупали девкам лак.
Гнали письма в единственную отдушину, через смут-
ную Польшу (ни один черт не знал, кстати говоря, что
Белая гвардия
491
в ней творится и что это за такая новая страна —
Польша), в Германию, великую страну честных тевто-
нов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может
быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в
коем случае не достигнет страшный бой и грохот боль-
шевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Па-
риже, тосковали при мысли, что попасть туда очень
трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во
время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что
вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах.
— А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный
кордон... И хлынут серые. Ох, страшно...
Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко,
далеко слышались мягкие удары пушек — под Городом
стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое,
когда всюду и везде охраняли покой металлические
немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонь-
кие выстрелы на окраинах:
па-па-пах.
Кто в кого стрелял — никому не известно. Это по
ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по
Крещатику, главной улице, или по Владимирской про-
ходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мох-
натые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйча-
тые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы
торчали стрелами вверх; Лошади в эскадронах шли одна
к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и
серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках,
как чугунные мундиры их грузных германских вождей
на памятниках городка Берлина.
Увидав их, радовались и успокаивались и говорили
далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колю-
чей пограничной проволоки:
— А ну, суньтесь!
Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор,
когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а
ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты.
Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем
в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как
большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам
и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошади-
ным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все — куп-
цы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домо-
иладельцы, кокотки, члены Государственного совета, ин-
женеры, врачи и писатели...
1ft 1*57
482
Михаил Булгаков
♦
Были офицеры. И они бежали и с севера и с за па
да — бывшего фронта, — и все направлялись в Город,
их было очень много и становилось все больше. Рискуя
жизнью, потому что им, большею частью безденежным и
носившим на себе неизгладимую печать своей профес
сии, было труднее всего получить фальшивые докумен
ты и пробраться через границу. Они все-таки сумели
пробраться и появиться в Городе с травлеными взора
ми, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем
приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них
исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с
войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алек
сей Турбин, — отдыхать и отдыхать и устраивать заново
не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были
сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оста
ваться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них —
кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейс
кие гусары — выплывали легко в мутной пене потрево-
женного Города. Гетманский конвой ходил в фантасти
ческих погонах, и за гетманскими столами усаживалось
до двухсот масленых проборов людей, сверкавших гни
лыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого иг
вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми
воротниками и полутемные, резного дуба квартиры п
лучшей части Города — Липках, рестораны и номере
отелей...
Другие — армейские штабс-капитаны конченых и
развалившихся полков, боевые армейские гусары, как
полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручи
ков, бывших студентов, как Степанов — Карась, сбитых
с винтов жизни войной и революцией, и поручики, тоже
бывшие студенты, и конченые для университета навсег
да, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они, в серых
потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с обод
ранными тенями погон на плечах; приезжали в Город и
в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях,
укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и
злобно кипели. Вот эти последние ненавидели больше
виков ненавистью горячей и прямой, той, которая может
двинуть в драку.
Были юнкера. В Городе к началу революции остава*
лось четыре юнкерских училища. — инженерное, артил-
лерийское и два пехотных. Они кончились и развалились
16-а
Белая гвардия
483
в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицы
искалеченных, только что кончивших гимназистов, толь-
ко что начавших студентов, не детей и не взрослых, не
военных и не штатских, а таких, как семнадцатилетний
Николка Турбин...
— Все это, конечно, очень мило, и над всем царству-
ет гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать
не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой
представляет этот невиданный властитель с наименова-
нием, свойственным более веку XVII, нежели XX.
— Да кто он такой, Алексей Васильевич?
— Кавалергард, генерал, сам крупный богатый по-
мещик, и зовут его Павлом Петровичем...
По какой-то странной насмешке судьбы и истории,
избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года,
произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно,
даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в
особенности уже оседлым в Городе и уже испытавшим
первые взрывы междуусобной брани, было не только не
до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений.
Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой — и
слава богу. Гетман воцарился — и прекрасно. Лишь бы
только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не
было стрельбы, и чтобы, ради самого господа, не было
большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что
ж, все это более или менее осуществилось при гетмане,
пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере,
прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство
горожан, хоть и смеялись над странной гетманской стра-
ной, которую они, подобно капитану Тальберту, называ-
ли опереткой, невсамделишным царством, гетмана сла-
вословили искренне... и... «Дай бог, чтобы это продолжа-
лось вечно».
Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы
нс мог сказать, и даже сам гетман. Да-с.
Дело в том, что Город — Городом, в нем и полиция —
Варта, и министерство, и даже войско, и газеты различ-
ных наименований, а вот что делается кругом, в той
настоящей Украине, которая по величине больше Фран-
ции, в которой десятки миллионов людей, — этого не
знал никто. Не знали, ничего не знали, не только о
местах отдаленных, но даже — смешно сказать —. о
деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от само-
го Города. Не знали, но ненавидели всею душой. И ког-
16*
484
Михаил Булгаков
да доходили смутные вести из таинственных областей,
которые носят название — деревня, о том, что немцы
грабят мужиков и безжалостно карают их, расстрели-
вая из пулеметов, не только ни одного голоса возмуще-
ния не раздалось в защиту украинских мужиков, но нс
раз, под шелковыми абажурами в гостиных, скалились
по-волчьи зубы и слышно было бормотание:
— Так им и надо! Так и надо; мало еще! Я бы их
еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат
их немцы — своих не хотели, попробуют чужих!
— Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны.
— Да что вы, Алексей Васильевич!.. Ведь это такие
мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно. Нем-
цы им покажут.
Немцы!!
, Немцы!!
* И повсюду:
Немцы!!!
Немцы!!
Ладно: тут немцы, а там, за далеким кордоном, где
сизые леса, большевики. Только две силы.
5
Так вот-с, нежданно-негаданно появилась третья сила
на громадной шахматной доске. Так плохой и неумелый
игрок, отгородившись пешечным строем от страшного
партнера (к слову говоря, пешки очень похожи ня
немцев в тазах), группирует своих офицеров около игру-
шечного короля. Но коварная ферзь противника внезап-
но находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и
начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет
страшные шахи, а за ферзем приходит стремительный
легкий слон — офицер, подлетают коварными зигзагами
кони, и вот-с, погибает слабый и скверный игрок —
получает его деревянный король мат.
Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшест-
вовали тому, что пришло, некие знамения.
Однажды, в мае месяце, когда Город проснулся сия-
ющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось
освещать царство гетмана, когда граждане уже двину-
лись, как муравьи, по своим делишкам и заспанные
приказчики начали в магазинах открывать рокочущие
16—4
шторы, прокатился по Городу страшный и зловещий
звук. Он был неслыханного тембра - и не пушка и не
гром, — но настолько силен, что многие форточки от-
крылись сами собой и все стекла дрогнули. Затем звук
повторился, прошел вновь по всему верхнему Городу,
скатился волнами в Город нижний — Подол и через
голубой-красивый Днепр ушел в московские дали. Горо-
жане проснулись, и на улицах началось смятёние. Разрос-
лось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего Города —
Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и
визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали
с громом обваливаться в печерских домах стекла, и
почва шатнулась под ногами.
Многие видели тут женщин, бегущих в одних соро-
чках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали,
откуда пришел звук. Он явился с Лысой Горы за Горо-
дом, над самым Днепром, где помещались гигантские
склады снарядов и пороху. На Лысой Горе произошел
взрыв.
Пять дней жил после того Город, в ужасе ожидая,
что потекут с Лысой Горы ядовитые газы. Но удары
прекратились, газы не потекли, окровавленные исчезли,
и Город приобрел мирный вид во всех своих частях, за
исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло
несколько домов. Нечего и говорить, что германское
командование нарядило строгое следствие, и нечего и
говорить, что город ничего не узнал относительно при-
чин взрыва. Говорили разное.
— Взрыв произвели французские шпионы.
— Нет, взрыв произвели большевистские шпионы.
Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли.
Второе знамение пришло летом, когда Город был
полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал и
германские лейтенанты выпивали море содовой воды.
Второе знамение было поистине чудовищно!
Среди бела дня, на Николаевской улице, как раз
там, где стояли лихачи, убили не кого иного, как глав-
нокомандующего германской армией на Украине, фельд-
маршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого гене-
рала, страшного в своем могуществе, заместителя само-
го императора Вильгельма! Убил его, само собой разу-
меется, рабочий и, само собой разумеется, социалист.
Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти
германца не только самого убийцу, но даже извозчика,
который подвез его к месту происшествия. Правда, это
486
Михаил Булгаков
не воскресило нисколько знаменитого генерала, но зато
породило у умных людей замечательные мысли по пово
ду происходящего.
Так, вечером, задыхаясь у открытого окна, расстеги
вая пуговицы чесучовой рубашки, Василиса сидел зи
стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васильеви
чу Турбину таинственным шепотом:
— Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти
к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне
кажется, что под немцами что-то такое (Василиса поше-
велил короткими пальцами в воздухе) шатается. По
думайте, сами... Эйхгорна... и где? А? (Василиса сделал
испуганные глаза.)
Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и
ушел.
Еще предзнаменование явилось на следующее же утро
и обрушилось непосредственно на того же Василису.
Раненько, раненько, когда солнышко заслало веселый
луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в кварти-
ру Василисы, тот, выглянув, увидал в луче знамение.
Оно было бесподобно в сиянии своих тридцати лет, п
блеске монист на царственной екатерининской шее, и
босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди.
Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки
лиловая тень.
— Пятьдэсят сегодня, — сказало знамение голосом
сирены, указывая на бидон с молоком.
— Что ты, Явдоха? — воскликнул жалобно Васили
са. — Побойся бога. Позавчера сорок, вчера сорок пять,
сегодня пятьдесят. Ведь этак невозможно.
— Що ж я зроблю? Усе дорого, — ответила сирена, -
кажут на базаре, будэ и сто.
Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиск
забыл и про пятьдесят, и про сто, про все забыл, и
сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Слад
кий холод, который проходил каждый раз по животу
Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное
видение в солнечном луче. (Василиса вставал раньше
своей супруги.) Про все забыл, почему-то представил
себе поляну в лесу, хвойный дух. Эх, эх...
— Смотри, Явдоха, — сказал Василиса, облизывая
губы и кося глазами (не вышла бы жена), —- уж очень
вы распустились с этой революцией. Смотри, выучат вас
немцы. — «Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» —
подумал мучительно Василиса и не решился.
Широкая лента алебастрового молока упала и запе-
нилась в кувшине.
— Чи воны нас выучуть, чи мы их разучимо, — вдруг
ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело
бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, ста-
ло подниматься из подземелья в солнечный дворик.
«Н-ноги-то — а-ах!!» — застонало в голове у Василисы.
В это мгновение донесся голос супруги, и, повернув-
шись, Василиса столкнулся с ней.
— С кем это ты? — быстро швырнув глазом вверх,
спросила супруга.
— С Явдохой, — равнодушно ответил Василиса, —
представь себе, молоко сегодня пятьдесят.
— К-как? — воскликнула Ванда Михайловна. — Это
безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбе-
сились... Явдоха! Явдоха! — закричала она, высовыва-
ясь в окошко. — Явдоха!
Но видение исчезло и не возвращалось.
Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые
волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того
вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть
не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он
ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая,
что именно гнетет его. Не то Ванда — ему вдруг пред-
ставилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как
связанные оглобли, — не то какая-то неловкость в сло-
вах сладостного видения.
— Разучимо? А? Как вам это нравится? — сам себе
бормотал Василиса. — Ох уж эти мне базары! Нет, что
вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут
бояться... последнее дело. Разучимо. А? А зубы-то у нее —
роскошь...
Явдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему
голой, как ведьма на горе.
— Какая дерзость... Разучимо? А грудь...
И это было так умопомрачительно, что Василисе
сделалось нехорошо, и он отправился умываться холод-
ной водой.
Так-то вот, незаметно, как всегда, подкралась осень.
За наливным золотистым августом пришел светлый и
пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не
знамение, а само событие, и было оно на первый взгляд
совершенно незначительно.
Именно, в городскую тюрьму однажды светлым сен-
тябрьским вечером пришла подписанная соответствую-
488
Михаил Булгаков
щими гетманскими властями бумага, коей предписыва-
лось выпустить из камеры № 666 содержащегося в оз-
наченной камере преступника. Вот и все.
Вот и все. И из-за этой бумажки, несомненно, из-за
нее! — произошли такие беды и несчастья, такие похо-
ды, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас...
Ай, ай, ай!
Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и
незначительное наименование — Семен Васильевич
Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты
периода декабря 1918 — февраля 1919 годов называли
на французский несколько манер — Симон. Прошлое
Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили,
что он будто бы бухгалтер.
— Нет, счетовод.
— Нет, студент.
Был на углу Крещатика и Николаевской улицы боль-
шой и изящный магазин табачных изделий. На продол-
говатой вывеске был очень хорошо изображен кофейный
турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в
мягких желтых туфлях с задранными носами.
Так вот, нашлись и такие, что клятвенно уверяли,
будто видели совсем недавно, как Симон продавал в
этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табач-
ные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же
находились и такие, которые говорили:
— Ничего подобного. Он был уполномоченным союза
городов.
— Не союза городов, а земского союза, — отвечали
третьи, — типичный земгусар.
Четвертые (приезжие), закрывая глаза, чтобы лучше
припомнить, бормотали:
— Позвольте... позвольте-ка...
И рассказывали, что будто бы десять лет назад...
виноват, одиннадцать... они видели, как вечером он шел
по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой
у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И
даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам,
вот поэтому и гитара в коленкоре. Что будто бы шел он
на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяны-
ми землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной
прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным
Грицем...
...Ой, не хо-д-и...
Белая гвардия
489
Потом начинали путаться в описаниях наружности,
путать даты, указания места...
— Вы говорите, бритый?
— Нет, кажется... позвольте... с бородкой.
— Позвольте... разве он московский?
— Да нет, студентом... он был...
— Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он
был в Тараще народным учителем...
Фу ты, черт... А может, и не шел по Бронной. Москва
город большой, на Бронной туманы, изморось, тени...
Какая-то гитара... турок под солнцем... кальян... гита-
ра — дзинь-трень... неясно, туманно... ах, как туманно и
страшно кругом.
...Идут и пою-ют...
Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения,
растрепанные девичьи косы, тюрьма, стрельба и мороз
и полночный крест Владимира.
Идут и поют
Юнкера гвардейской школы...
Трубы, литавры,
Тарелки гремят.
Гремят торбаны, свищет соловей стальным винтом,
засекают шомполами насмерть людей, едет, едет чер-
ношлычная конница на горячих лошадях.
Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Тур-
бина. Спит Турбин, бледный, с намокшей в тепле прядью
волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книж-
ной храп Карася, из Николкиной свист Шервинского...
Муть... ночь... Валяется на полу у постели Алексея не-
дочитанный Достоевский, и глумятся «Бесы» отчаянны-
ми словами... Тихо спит Елена.
— Ну, так вот что я вам скажу: не было. Не было!
Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни
гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского
союза... ни черта. Просто миф, порожденный на Украине
в тумане страшного 18-го года.
...И было другое — лютая ненависть. Было четырес-
та тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз
четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неуто-
ленной злобой. О, много, много скопилось в этих серд-
цах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрап-
нельный беглый огонь по непокорным деревням, спины,
исполосованные шомполами гетманских сердюков, и
490*
Михаил Булгаков
расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейте
найтов германской армии:
«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».
Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто
приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город
И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и
помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои по-
местья при гетмане, — дрожь ненависти при слове «офи
церия».
Вот что было-с.
Да еще слухи о земельной реформе, которую намере-
вался произвести пан гетман,
— увы, увы! только в ноябре 18-го года, когда под
Городом загудели пушки, догадались умные люди, а п
том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого
самого пана гетмана, как бешеную собаку, — и мужиц-
кие мыслишки о том, что никакой этой панской сволоч-
ной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая
мужицкая реформа:
— Вся земля мужикам.
— Каждому по 100 десятин.
— Чтобы никаких помещиков и духу не было.
— И чтобы на каждые эти 100 десятин верная гер
бовая бумага с печатью — во владение вечное, наслед
ственное, от деда к.отцу, от отца к сыну, к внуку и так
далее.
— Чтобы никакая шпана из Города не приезжала
требовать хлеб. Хлеб мужицкий никому его не дадим,
что сами не съедим, закопаем в землю.
— Чтобы из Города привозили керосин.
— Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвес
ти не мог. Да и никакой черт ее не произведет.
Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской
и немецкой напастью могут только большевики, но у
большевиков своя напасть:
— Жиды и комиссары.
— Вот головушка горькая у украинских мужикон!
Ниоткуда нет спасения!!
Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и
умеющих стрелять...
— А выучили сами же офицеры по приказанию на
чальства!
Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятан
ных в клунях и коморах и не сданных, несмотря ни
' Белая гвардия
491
скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки
шомполами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов
в той же земле, и трехдюймовые орудия в каждой пятой
деревне, и пулеметы в каждой второй, во всяком горо-
дишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и папа-
хами.
И в этих же городишках народные учителя, фельдше-
ра, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб
ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов,
штабс-капитаны с украинскими фамилиями... все гово-
рят на украинском языке, все любят Украину волшеб-
ную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей, —
и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из
Галиции.
Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков?.. О-го-го!
Вот это было. А узник... гитара...
Слухи грозные, ужасные...
Наступают на нас...
Дзинь... трень... эх, эх, Николка.
Турок, земгусар, Симон. Да не было его. Не было.
Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором
слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мес-
ти, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной,
жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она
ни была — большевистская ли, царская или еще какая.
И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за
голову, восклицал в знаменитом ноябре: «Quos vult
perdere, dementat!»1 и проклинал гетмана за то, что
тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы.
— Вздорс-с все это. Не он — другой. Не другой —
третий.
Итак, кончились всякие знамения, и наступили собы-
тия... Второе было не пустошное, как какой-то выпуск
мифического человека из тюрьмы, — о нет! — оно было
так величественно, что о нем человечество, наверное, бу-
дет говорить еще сто лет... Галльские петухи в красных
штанах, на далеком европейском Западе, заклевали
толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужас-
ное зрелище: петухи во фригийских колпаках с карта-
вым клекотом налетали на бронированных тевтонов и
рвали из них клочья мяса вместе с броней. Немцы
дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперенные
1 Кого (бог) захочет погубить, того он лишает разума (лат.).
492 Михаил Булгаков
груди, грызли зубами, но не выдержали — и немцы!
немцы! — попросили пощады.
Следующее событие было тесно связано с этим и
вытекло из него, как следствие из причины. Весь мир,
ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек,
имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые
гвозди, были известны всему миру и который был-то уж
наверняка сплошь металлический, без малейших при
знаков дерева, он был повержен. Повержен в прах — он
перестал быть императором. Затем темный ужас про-
шел ветром по всем головам в Городе: видели, сами
видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их
серо-небесных мундиров превращался в подозрительную
вытертую рогожку. И это происходило тут же, на гла-
зах, в течение часов, в течение немногих часов линяли
глаза, и в лейтенантских моноклевых окнах потухал живой
свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть
дырявая реденькая нищета.
Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех,
что с желтыми, твердыми чемоданами и с сдобными
женщинами проскочили через колючий большевистский
лагерь в Город. Они поняли, что судьба их связала с
побежденными, и сердца их исполнились ужасом.
— Немцы побеждены, — сказали гады.
— Мы побеждены, — сказали умные гады.
То же самое поняли и горожане.
О, только тот, кто сам был побежден, знает, как
выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, п
котором испортилось электрическое освещение. Оно
похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая
плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже ня
рахитиков — демонов ребят, на протухшее постное масло,
на матерную ругань женскими голосами в темноте.
Словом, оно похоже на смерть.
Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, значит —
одним бежать, а другим встречать новых, удивительных,
незваных гостей в Городе. И, стало быть, кому-то при-
дется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут, кто
же будет умирать?
— Умигать - не в помигушки иг’ать, — вдруг, кар
тавя, сказал неизвестно откуда появившийся перед спя-
щим Алексеем Турбиным полковник Най-Турс.
Он был в странной форме: на голове светозарный
шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч длинный,
каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых
походов. Райское сияние ходило за Наем облаком.
— Вы в раю, полковник? — спросил Турбин, чувст-
вуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает
человек наяву.
— В гаю, — ответил Най-Турс голосом чистым и
совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах.
— Как странно, как странно, — заговорил Турбин, —
я думал, что рай — это так... мечтание человеческое. И
какая странная форма. Вы, позвольте узнать, полков-
ник, остаетесь и в раю офицером?
— Они в бригаде крестоносцев теперича, господин
доктор, — ответил вахмистр Жилин, заведомо срезан-
ный пулеметным огнем вместе с эскадроном белградс-
ких гусар в 1916-м году на Виленском направлении.
Как огромный витязь возвышался вахмистр, и коль-
чуга его распространяла свет. Грубые его черты, пре-
красно памятные доктору Турбину, собственноручно
перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были
неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с
глазами Най-Турса — чисты, бездонны, освещены из-
нутри.
Больше всего на свете любил сумрачной душой Алек-
сей Турбин женские глаза. Ах, слепил господь бог иг-
рушку — женские глаза!.. Но куда ж им до глаз вах-
мистра.
— Как же вы? — спрашивал с любопытством и
безотчетной радостью доктор Турбин. — Как же это
так, в рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади,
в конце концов, обоз, пики?
— Верите слову, господин доктор, — загудел виолон-
чельным басом Жилин, вахмистр, глядя прямо в глаза
взором голубым, от которого теплело в сердце, — пря-
мо-таки всем эскадроном, в конном строю и подошли.
Гармоника опять же. Оно верно, неудобно... Там, сами
изволите знать, чистота, полы церковные.
— Ну? — поражался Турбин.
— Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский стари-
чок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладаю:
гак и так, 2-й эскадрон белградских гусар в рай подо-
шел благополучно, где прикажете стать? Докладывать-
ю докладываю, а сам, — вахмистр скромно кашлянул
и кулак, — думаю, а ну, думаю, как скажут-то они,
мпостол Петр, а подите вы к чертовой матери... Потому,
сами изволите знать, ведь это куда ж, с конями, и...
(вахмистр смущенно почесал затылок) бабы, говоря по
секрету, кой-какие пристали по дороге. Говорю это я
494
Михаил Булгаков
апостолу, а сам мигаю взводу — мол, баб-то турните
временно, а там видно будет. Пущай пока, до выяснения
обстоятельства, за облаками посидят. А апостол Петр,
хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный.
Глазами — зырк, и вижу я, что баб-то он и увидал на
повозках. Известно, платки на них ясные, за версту
видно. Клюква, думаю. Полная засыпь всему эскад-
рону...
«Эге, говорит, вы что ж, с бабами?» — и головой
покачал.
«Так точно, говорю, но, говорю, не извольте беспоко-
иться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апос-
тол».
«Ну нет, говорит, вы уж тут это ваше рукоприклад-
ство оставьте!»
А? Что прикажете делать? Добродушный старикан.
Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону н
походе без баб невозможно.
И вахмистр хитро подмигнул.
— Это верно, — вынужден был согласиться Алексей
Васильевич, потупляя глаза. Чьи-то глаза, черные, чер-
ные, и родинки на правой щеке, матовой, смутно свер-
кнули в сонной тьме. Он смущенно крякнул, я вахмистр
продолжал:
— Нуте-с, сейчас это он и говорит — доложим.
Отправился, вернулся и сообщает: ладно, устроим. И
такая у нас радость сделалась, невозможно выразить.
Только вышла тут маленькая заминочка. Обождать,
говорит апостол Петр, потребуется. Однако ждали мы
не более минуты. Гляжу, подъезжает, — вахмистр ука
зал на молчащего и горделивого Най-Турса, уходящего
бесследно из сна в неизвестную тьму, — господин эскад
ронный командир рысью на Тушинском Воре. А за ним
немного погодя неизвестный юнкерок в пешем строю, -
тут вахмистр покосился на Турбина и потупился нл
мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но
не печальное, а наоборот, радостный, славный секрет,
потом оправился и продолжал: — Поглядел Петр на
них из-под ручки и говорит: «Ну, теперича, грит, все!» -
и сейчас дверь настежь, и пожалте, говорит, справа
по три.
... Дунька, Дунька, Дунька я!
Дуня, ягода моя, —
зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов, и
заиграла итальянская гармоника.
иод ноги! — закричали на разные голоса взвод-
ные.
Й-эх, Дуня, Дуня, Дуня!
Полюби, Дуня, меня, —
и замер хор вдали.
— С бабами? Так и вперлись? — ахнул Турбин.
Вахмистр рассмеялся возбужденно и радостно взмах-
нул руками.
— Господи боже мой, господин доктор. М£ста-то,
места-то там ведь видимо-невидимо. Чистота... По пер-
вому обозрению говоря, пять корпусов еще можно по-
ставить, и с запасными эскадронами, да что пять —
десять! Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не
видно! Я и говорю: «А разрешите, говорю, спросить, это
для кого же такое?» Потому оригинально: звезды крас-
ные, облака красные, в цвет наших чакчир отливают...
«А это, — говорит апостол Петр, — для большевиков,
с Перекопу которые».
— Какого Перекопу? — тщетно напрягая свой бед-
ный земной ум, спросил Турбин.
— А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь за-
ранее все известно. В 20-м году большевиков-то, когда
брали Перекоп, видимо-невидимо положили. Так, стало
быть, помещение к приему им приготовили.
— Большевиков? — смутилась душа Турбина. —
Путаете вы что-то, Жилин, не может этого быть. Не
пустят их туда.
— Господин доктор, сам так думал. Сам. Смутился
и спрашиваю господа бога...
— Бога? Ой, Жилин?
— Не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю,
врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно.
— Какой же он такой?
Глаза Жилина испустили лучи, и гордо утончились
черты лица.
— Убейте — объяснить не могу. Лик осиянный, а
какой — не поймешь... Бывает, взглянешь — и похоло-
деешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх
такой проймет, думаешь, что же это такое? А потом
ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну, уж а как
говорит, такая радость, такая радость... И сейчас прой-
дет, пройдет свет голубой... Гм... да нет, не голубой
(вахмистр подумал), не могу знать. Верст на тысячу и
скрозь тебя. Ну вот-с я и докладываю, как же так,
говорю, господи, попы-то твои говорят, что большевики
в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в
тебя не верят, а ты им вишь какие казармы взбодрил.
«Ну, не верят?» — спрашивает.
«Истинный бог», — говорю, а сам, знаете ли, боюсь,
помилуйте, богу этакие слова! Только гляжу, а он улы-
бается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю,
когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он
такое скажет. А он и говорит:
«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай.
Ведь мне-то от этого ни жарко ни холодно. Да и тебе,
говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому
мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один верит,
другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые:
сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм,
Жилин, то тут так надо понимать, все вы у меня, Жилин,
одинаковые — в поле брани убиенные. Это, Жилин,
понимать надо, и не всякий это поймет. Да ты, в общем,
Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай.
Живи себе, гуляй».
Кругло объяснил, господин доктор? а? «Попы-то», —
я говорю... Тут он и рукой махнул: «Ты мне, говорит,
Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не при-
ложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как
ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу
тебе, Жилин, срам, а не попы».
«Да, говорю, уволь ты их, господи, вчистую! Чем
дармоедов-то тебе кормить?»
«Жалко, Жилин, вот в чем штука-то», — говорит.
Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъясни-
мая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки
к сверкающему вахмистру, он застонал во сне.
— Жилин, Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устро-
иться врачом у вас в бригаде вашей?
Жилин приветно махнул рукой и ласково и утверди-
тельно закачал головой. Потом стал отодвигаться и
покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед
ним, вместо Жилина, был уже понемногу бледнеющий
квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и
почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал и
утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон потек
теперь ровный, без сновидений...
Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним,
а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим
веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пуле-
Белая гвардия
497
метами. Самое ее не было видно, но, явственно видный,
предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он
бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с
сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках
он нес великую дубину, без которой не обходится ника-
кое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные
петушки. Затем показался в багровом заходящем солн-
це повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в
польской красивой столице Варшаве было видно виде-
ние: Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыль-
нулся. Затем началась просто форменная чертовщина,
вспучилась и запрыгала пузырями. Попы звонили в
колокола под зелеными куполами потревоженных цер-
квушек, а рядом, в помещении школ, с выбитыми ру-
жейными пулями стеклами, пели революционные песни.
По дорогам пошло привидение — некий старец Дегтя-
ренко, полный душистым самогоном и словами страш-
ными, каркающими, не складывающимися в его темных
устах во что-то до чрезвычайности напоминающее дек-
ларацию прав человека и гражданина. Затем этот же
Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомпо-
лами люди с красными бантами на груди. И самый
хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой: ежели
красные банты, то ни в коем случае не допустимы
шомпола, а ежели шомпола — то невозможны красные
банты...
Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну
ее к дьяволу! Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе.
Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда
не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее краси-
вый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый
мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь доро-
ге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что,
сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказыва-
ется на одном и том же перекрестке.
Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся.
И вот появился откуда-то полковник Торопец. Ока-
залось, что он ни более ни менее, как из австрийской
армии...
— Да что вы?
— Уверяю вас. Затем появился писатель Винничен-
ко, прославивший себя двумя вещами — своими рома-
нами и тем, что лишь только колдовская волна еще в
начале восемнадцатого года выдернула его на повер-
хность отчаянного украинского моря, его в сатирических
журналах города Санкт-Петербурга, не медля ни секун-
ды, назвали изменником.
— И поделом...
— Ну, уж это я не знаю. А затем-с и этот самый
таинственный узник из городской тюрьмы.
Еще в сентябре никто в Городе не представлял себе,
что могут соорудить три человека, обладающие талан-
том появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте,
как Белая Церковь. В октябре об этом уже сильно
догадывались, и начали уходить, освещенные сотнями
огней, поезда с Города-1, Пассажирского, в новый, пока
еще широкий лаз через новоявленную Польшу и в Гер-
манию. Полетели телеграммы. Уехали бриллианты, бе-
гающие глаза, проборы и деньги. Рвались и на юг, на
юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяце, увы! —
все уже знали довольно определенно. Слово
— Петлюра!
— Петлюра!!
— Петлюра! —
запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром
с газетных листков оно капало в кофе, и божественный
тропический напиток немедленно превращался во рту в
неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и засту-
чало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами.
В Городе начались чудеса в связи с этим же загадочным
словом, которое немцы произносили по-своему:
— Пэтурра.
Отдельные немецкие солдаты, приобревшие сквер-
ную привычку шататься по окраинам, начали по ночам
исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что
их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие пат-
рули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сия-
ли — не безобразничать! Но никакие фонарики не мог-
ли рассеять той мутной каши, которая заварилась в го-
ловах.
Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже,
немцы уходят, вы знаете?! Троцкого арестовали рабочие
в Москве!! Сукины сыны какие-то остановили поезд под
Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал
посольство в Париж. Опять Вильгельм. Черные сингале-
зы в Одессе. Неизвестное, таинственное имя — консул
Энно. Одесса. Одесса. Генерал Деникин. Опять Виль-
гельм. Немцы уйдут, французы придут.
— Большевики придут, батенька!
Типун вам на язык, батюшка!
Белая гвардия
469
У немцев есть такой аппарат со стрелкой — поста-
вят его на землю, и стрелка показывает, где оружие
зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к боль-
шевикам. Это еще лучше штука. Петлюра. Петлюра.
Петлюра. Петлюра. Пэтурра.
♦
Никто, ни один человек не знал, что, собственно,
хочет устроить этот Пэтурра на Украине, но решительно
все уже знали, что он, таинственный и безликий
(хотя, впрочем, газеты время от времени помещали
на своих страницах первый попавшийся в редакции
снимок католического прелата, каждый раз разного, с
подписью — Симон Петлюра),
желает ее, Украину, завоевать, а для того, чтобы ее
завоевать, он идет брать Город.
6
Магазин «Парижский Шик» мадам Анжу помещался
в самом центре Города, на Театральной улице, проходя-
щей позади оперного театра, в огромном многоэтажном
доме, и именно в первом этаже. Три ступеньки вели с
улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам
стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми
пыльными занавесками. Никому не известно, куда де-
лась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина
было использовано для целей вовсе не торговых. На
левом окне была нарисована цветная дамская шляпа, с
золотыми словами «Шик паризьен», а за стеклом пра-
вого окна большущий плакат желтого картона с нари-
сованными двумя скрещенными севастопольскими пушка-
ми, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху:
«Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан».
Под пушками слова:
«Запись добровольцев в Мортирный Дивизион, имени командующе.-
го, принимается».
У подъезда магазина стояла закопченная и развин-
ченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине
поминутно хлопала, и каждый раз, как она открыва-
500 Михаил Булгаков
лась, над ней звенел великолепный звоночек — бррынь-
брррынь, напоминающий счастливые и недавние време-
на мадам Анжу.
Турбин, Мышлаевский и Карась встали почти одно-
временно после пьяной ночи, и, к своему удивлению, с
совершенно ясными головами, но довольно поздно, около
полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже
нет. Николка спозаранку свернул какой-то таинствен-
ный красненький узелок, покряхтел — эх, эх... и отпра-
вился к себе в дружину, а Шервинский недавно уехал
на службу в штаб командующего.
Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной ком-
нате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колон-
ка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову
струю ледяной воды и, с воплем ужаса и восторга вскри-
кивая:
— Эх! Так его! Здорово! — залил все кругом на два
аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся,
голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину:
— Алеша, эгм... будь другом, дай свои шпоры надеть.
Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор.
— В кабинете возьми, в правом ящике стола.
Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там,
позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернув-
шаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной мете-
лочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса
глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый,
дал крюку и тихо сказал:
— Здравствуйте, Анюточка...
— Елене Васильевне скажу, — тотчас механически и
без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как
обреченный, над которым палач уже занес нож.
— Глупень...
Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало
ядовитым.
— Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так. Краси-
вая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта,
имей в виду, в случае, ежели он будет говорить, что
женится, так не верь, не женится.
— Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком.
Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды,
выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В сто-
ловой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при
этом глаза его беспокойно бегали.
'< ’Г I • ' ОС,'
Белая гвардия 501
— Здравствуй, Лена, ясная, с добрым утром тебя.
Эгм... (Из горла Мышлаевского выходил вместо метал-
лического тенора хриплый низкий баритон.) Лена, яс-
ная, — воскликнул он прочувственно, — не сердись.
Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера,
не обращай внимания. Лена, неужели ты думаешь, что
я какой-нибудь негодяй?
С этими словами он заключил Елену в объятия и
расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком
упала петушья корона. С Анютой всегда происходили
странные вещи, лишь только поручик Мышлаевский
появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные пред-
меты начинали сыпаться из рук Анюты: каскадом пада-
ли ножи, если это было в кухне, сыпались блюдца с
буфетной стойки; Аннушка становилась рассеянной,
бегала без нужды в переднюю и там возилась с кало-
шами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали
короткие, спущенные до каблуков шпоры и не появлял-
ся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие
бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком вы-
биралась из тесного, коварного ущелья. И сейчас в
гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и
смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в се-
рбе, облачное небо.
— Витька, Витька, — говорила Елена, качая голо-
вой, похожей на вычищенную театральную корону, —
посмотреть на тебя, здоровый ты парень, с чего ж ты так
ослабел вчера? Садись, пей чаек, может, тебе полегчает.
— А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь
сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью, — заиски-
вающе говорил Мышлаевский, бросая легкие, быстрые
взоры в зеркальные недра буфета. — Карась, глянь,
какой капот. Совершенно зеленый. Нет, до чего хороша.
— Очень красивая Елена Васильевна, — серьезно и
искренне ответил Карась.
— Это электрйк, — пояснила Елена, — да ты, Ви-
тенька, говори сразу — в чем дело?
— Видишь ли, Лена ясная, после вчерашней истории
мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать
невозможно...
— Ладно, в буфете.
— Вот, вот... Одну рюмку... Лучше всяких пирами-
донов.
Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за
другим проглотил два стаканчика водки и закусил их
502
Михаил Булгаков
обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил,
что будто бы только что родился, и изъявил желание
пить чай с лимоном.
— Ты, Леночка, — хрипловато говорил Турбин, — не
волнуйся и поджидай меня, я съезжу, запишусь и вер-
нусь домой. Касательно военных действий не беспокой-
ся, будем мы сидеть в городе и отражать этого милень-
кого украинского президента — сволочь такую.
— Не послали бы вас куда-нибудь?
Карась успокоительно махнул рукой.
— Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых,
должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион
ни в коем случае и готов не будет, лошадей еще нет и
снарядов. А когда и будет готов, то, без всяких сомне-
ний, останемся мы в Городе. Вся армия, которая сейчас
формируется, несомненно, будет гарнизоном Города. Разве
в дальнейшем, в случае похода на Москву...
— Ну, это когда еще там... Эгм...
— Это с Деникиным нужно будет соединиться рань-
ше...
— Да вы напрасно, господа, меня утешаете, я ничего
ровно не боюсь, напротив, одобряю.
Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее
уже была деловая будничная забота. «Довлеет дневи
злоба его».
— Анюта, — кричала она, — миленькая, там на
веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка,
щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай.
Успокоительнее всего на Елену действовал укладис-
тый, маленький, голубоглазый Карась. Уверенный Ка-
рась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и
щурился.
В передней прощались.
— Ну, да хранит вас господь, — сказала Елена
строго и перекрестила Турбина. Так же перекрестила
она и Карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее,
а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шине-
ли, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.
♦
— Господин полковник, — мягко щелкнув шпорами
и приложив руку к козырьку, сказал Карась, — разре-
шите доложить?
Белая гвардия
503
Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом
будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в
правой части магазина за маленьким письменным сто-
ликом. Груды голубоватых картонок с надписью «Ма-
дам Анжу. Дамские шляпы» возвышались за его спиной,
несколько темня свет из пыльного окна, завешенного
узористым тюлем. Господин полковник держал в руке
перо и был на самом деле не полковником, а подполков-
ником в широких золотых погонах, с двумя просветами
и тремя звездами и со скрещенными золотыми пушечка-
ми. Господин полковник был немногим старше самого
Турбина — было ему лет тридцать, самое большое трид-
цать два. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое,
украшалось черными, подстриженными по-американски
усиками. В высшей степени живые и смышленые глаза
смотрели явно устало, но внимательно.
Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух
шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь,
с узловатых черных труб, тянущихся за перегородку и
пропадавших там в глубине магазина, изредка капала
черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в остальной
части магазина переходивший в какие-то углубления,
был усеян обрывками бумаги и красными и зелеными
лоскутками материи. На высоте, над самой головой пол-
ковника, трещала, как беспокойная птица, пишущая
машинка, и когда Турбин поднял голову, увидал, что
пела она за перилами, висящими под самым потолком
магазина. За этими перилами торчали чьи-то ноги и зад
в синих рейтузах, а головы не было, потому что ее
срезал потолок. Вторая машинка стрекотала в левой
части магазина, в неизвестной яме, из которой видне-
лись яркие погоны вольноопределяющегося и белая го-
лова, но не было ни рук, ни ног.
Много лиц мелькало вокруг полковника, мелькали
золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с
телефонными трубками и проволоками, а рядом с кар-
тонками грудами лежали, похожие на банки с консер-
вами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и не-
сколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная ма-
шина стояла под левым локтем г-на полковника, а у
правой ноги высовывал свое рыльце пулемет. В глубине
и полутьме, за занавесом на блестящем пруте, чей-то
голос надрывался, очевидно, в телефон: «Да... да... гово-
рю. Говорю: да, да. Да, я говорю». Бррынь-ынь, —
проделал звоночек... Пиу, — спела мягкая птичка где-
то в яме, и оттуда молодой басок забормотал:
504
Михаил Булгаков
— Дивизион... слушаю... да... да.
— Я слушаю вас, — сказал полковник Карасю.
— Разрешите представить вам, господин полковник,
поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина.
Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пе-
хотной дружине, в качестве рядового, и желал бы пере-
вестись во вверенный вам дивизион по специальности.
Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача
дивизиона.
Проговорив все это, Карась отнял руку от‘козырька,
а Мышлаевский козырнул. «Черт... надо будет форму
скорее одеть», — досадливо подумал Турбин, чувствуя
себя неприятно без шапки, в качестве какого-то оболту-
са в черном пальто с барашковым воротником. Глаза
полковника бегло скользнули по доктору и переехали на
шинель и лицо Мышлаевского.
— Так, — сказал он, — это даже хорошо. Вы где,
поручик, служили?
— В тяжелом N дивизионе, господин полковник, —
ответил Мышлаевский, указывая таким образом свое
положение во время германской войны.
— В тяжелом? Это совсем хорошо. Черт их знает:
артиллерийских офицеров запихнули чего-то в пехоту.
Путаница.
— Никак нет, господин полковник, — ответил Мыш-
лаевский, прочищая легоньким кашлем непокорный го-
лос, — это я сам добровольно попросился ввиду того,
что спешно требовалось выступить под Пост-Волынский.
Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточ-
ной мере...
— В высшей степени одобряю... хорошо, — сказал
полковник и действительно в высшей степени одобри-
тельно посмотрел в глаза Мышлаевскому. — Рад по-
знакомиться... Итак... ах да, доктор? И вы желаете к
нам? Гм...
Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать «так
точно» в своем барашковом воротнике.
— Гм... — полковник глянул в окно, — знаете, это
мысль, конечно, хорошая. Тем более что на днях воз-
можно... Тэк-с... — Он вдруг приостановился, чуть при-
щурил глазки и заговорил, понизив голос: —- Только...
как бы это выразиться... Тут, видите ли, доктор, один
вопрос... Социальные теории и... гм... вы социалист? Не
правда ли? Как все интеллигентные люди? — Глазки
полковника скользнули в сторону, а вся его фигура,
Белая гвардия
505
губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы
доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-
нибудь иным. — Дивизион у нас так и называется —
студенческий, — полковник задушевно улыбнулся, не
показывая глаз. — Конечно, несколько сентиментально,
но я сам, знаете ли, университетский.
Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт...
Как же Карась говорил?..» Карася он почувствовал в
этот момент где-то у правого своего плеча и, не глядя,
понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять,
но что именно — узнать нельзя.
— Я, — вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, к
сожалению, не социалист, а... монархист. И даже, дол-
жен сказать, не могу выносить самого слова «социа-
лист». А из всех социалистов больше всех ненавижу
Александра Федоровича Керенского.
Какой-то звук вылетел изо рта у Карася, сзади, за
правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с Кара-
сем и Витей, — подумал Турбин, — но шут его возьми,
этот социальный дивизион».
Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и
в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмах-
нул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турби-
ну, и заговорил:
— Это печально. Гм... очень печально... Завоевания
революции и прочее... У меня приказ сверху: избегать
укомплектования монархическими элементами, ввиду того
что население... необходима, видите ли, сдержанность.
Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной
и теснейшей связи, как вам известно... печально... пе-
чально...
Голос полковника при этом не только не выражал
никакой печали, но, наоборот, звучал очень радостно, и
глазки находились в совершеннейшем противоречии с
тем, что он говорил.
«Ага-а, — многозначительно подумал .Турбин, — дурак
я... а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя
по физиономии, но это ничего».
— Не знаю уж, как и быть... ведь в настоящий мо-
мент, — полковник жирно подчеркнул слово «настоя-
щий», — так в настоящий момент, я говорю, непосред-
ственной нашей задачей является защита Города и гет-
мана от банд Петлюры и, возможно, большевиков.
А там, там видно будет... Позвольте узнать, где вы
служили, доктор, до сего времени?
506
Михаил Булгаков
— В тысяча девятьсот пятнадцатом году, по оконча-
нии университета экстерном, в венерологической клини-
ке, затем младшим врачом в Белгородском гусарском
полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного гос-
питаля. В настоящее время демобилизован и занимаюсь
частной практикой.
— Юнкер! — воскликнул полковник. — Попросите
ко мне старшего офицера.
Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед
полковником оказался молодой офицер, черный, живой
и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке, с
малиновым верхом, с перекрещенным галуном, в серой,
длинной, а 1а Мышлаевский, шинели, с туго перетяну-
тым поясом, с револьвером. Его помятые золотые пого-
ны показывали, что он штабс-капитан.
— Капитан Студзинский, — обратился к нему пол-
ковник, — будьте добры отправить в штаб командующе-
го отношение о срочном переводе ко мне поручика... э...
— Мышлаевский, — сказал, козырнув, Мышлаевс-
кий.
— ...Мышлаевского, по специальности, из второй
дружины. И туда же отношение, что лекарь... э?
— Турбин...
— Турбин мне крайне необходим в качестве врача
дивизиона. Просим о срочном его назначении.
— Слушаю, господин полковник, — с неправильными
ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк», -•
подумал Турбин.
— Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину
(это Мышлаевскому). Поручик примет четвертый взвод
(офицеру).
— Слушаю, господин полковник.
— Слушаю, господин полковник.
— А вы, доктор, с этого момента на службе. Пред-
лагаю вам явиться сегодня через час на плац Алексам
дровской гимназии.
— Слушаю, господин полковник.
— Доктору немедленно выдать обмундирование.
— Слушаю.
— Слушаю, слушаю! — кричал басок в яме.
— Случаете? Нет. Говорю: нет... Нет, говорю, -
кричало за перегородкой.
Брры-ынь... Пи... Пи-у, — пела птичка в яме.
— Слушаете?..
Белая гвардия
507
*
«Свободные вести»! «Свободные вести»! Ежедневная
новая газета «Свободные вести»! — кричал газетчик-
мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. —
Разложение Петлюры. Прибытие черных войск в Одес-
су. «Свободные вести»!
Турбин успел за час побывать дома. Серебряные
погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе,
помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примы-
кавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застек-
ленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с
книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками
лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой
простыней. Бедно и тесновато, но уютно.
— Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю и
если кто-нибудь придет, скажи — приема нет. Постоян-
ных больных нет... Поскорее, детка.
Елена торопливо, оттянув ворот гимнастерки, приши-
вала погоны... Вторую пару, защитных зеленых с чер-
ным просветом, она пришила на шинель.
Через несколько минут Турбин выбежал через па-
радный ход, глянул на белую дощечку:
Доктор А. В. Турбин.
Венерические болезни и сифилис.
606-914.
Прием с 4-х до 6-ти.
Приклеил поправку «С 5-ти до 7-ми» и побежал вверх,
по Алексеевскому спуску.
— «Свободные вести»!
Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу
развернул газету:
«Беспартийная демократическая газета.
Выходит ежедневно.
13 декабря 1918 года.
Вопросы внешней торговли, и, в частности, торговли с Германией,
заставляют нас...»
— Позвольте, а где же?.. Руки зябнут.
«По сообщению нашего корреспондента, в Одессе ведутся перегово-
ры о высадке двух дивизий черных колониальных войск. Консул Энно
не допускает мысли, чтобы Петлюра...»
— Ах, сукин сын, мальчишка!
508 Михаил Булгаков
«Перебежчики, явившиеся вчера в штаб нашего командования на
Посту-Волынском, сообщили о все растущем разложении в рядах банд
Петлюры. Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь
по пехотному полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается
сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По
сообщению того же перебежчика, полковник Болботун, взбунтовавший-
ся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком
и четырьмя орудиями. Болботун склоняется к гетманской ориентации.
Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объяв-
ленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами
уклоняются от нее, прячась в лесах».
— Предположим... ах, мороз проклятый... Извини-
те. — Батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома
надо читать...
— Извините...
«Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры...»
— Вот мерзавец! Ах ты ж, мерзавцы...
Кто честен и не волк,
Идет в добровольческий полк...
— Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?
— Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня
болботунит...
Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно
скомкал газету и швырнул ее на тротуар. Прислушался.
Бу-у, пели пушки. У-уух, — откуда-то, из утробы
земли, звучало за городом.
— Что за черт?
Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, рас-
правил его и прочитал еще раз на первой странице
внимательно:
«В районе Ирпеня столкновения наших разведчиков с отдельными
группами бандитов Петлюры.
На Серебрянском направлении спокойно.
В Красном Трактире без перемен.
В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой
рассеял банду в полторы тысячи человек. В плен взято два человека»
Гу... гу... гу... Бу... бу... бу... — ворчала серенькая
зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл
рот и побледнел. Машинально запихнул газету в кар*
ман. От бульвара, по Владимирской улице, чернела и
ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей я
черных пальто. Замелькали бабы на тротуарах. Кон
ный, из Державной варты, ехал, словно предводитель.
Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком.
Белая гвардия 509
Рожа у всадника была растерянная. Он изредка что-то
выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка, и выкри-
ков его никто не слушал. В толпе, в передних рядах,
мелькнули золотые ризы и бороды священников, колых-
нулась хоругвь. Мальчишки сбегались со всех сторон.
— «Вести»! — крикнул газетчик и устремился к
толпе.
Поварята в белых колпаках с плоскими донышками
выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Тол-
па расплывалась по снегу, как чернила по бумаге.
Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда
первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел уголь-
ную корявую надпись на его боку:
«Прапорщик Юцевич».
На следующем:
«Прапорщик Иванов».
На третьем:
«Прапорщик Орлов».
В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, в сбив-
шейся на затылок шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то
свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу.
•— Что это такое? Ваня?! — залился ее голос. Кто-
то, бледнея, побежал в сторону. Взвыла одна баба, за
нею другая.
— Господи Исусе Христе! — забормотали сзади
Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею.
— Господи... последние времена. Что ж это, режут
людей?.. Да что ж это...
— Лучше я уж не знаю что, чем такое видеть.
— Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого
это хоронят?
— Ваня! — завывало в толпе.
— Офицеров, что порезали в Попелюхе, — торопливо,
задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил го-
лос, — выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом,
а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто
исех порезали. Ну, начисто... Глаза повыкалывали, на
плечах погоны повырезали. Форменно изуродовали...
— Вот оно что? Ах, ах, ах...
«Прапорщик Коровин»,
«Прапорщик Гердт», —
проплывали желтые гробы.
510
Михаил Булгаков
— До чего дожили... Подумайте.
— Муждуусобные брани.
—- Да как же?..
— Заснули, говорят...
— Так им и треба... — вдруг свистнул в толпе за
спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него
позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки. Слов
но клещами, ухватил Турбин, просунув руку между двумя
шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и
впал в состояние ужаса.
— Что вы сказали? — шипящим голосом спросил
Турбин и сразу обмяк.
— Помилуйте, господин офицер, — трясясь в ужасе,
ответил голос, — я ничего не говорю. Я молчу. Что
вы-с, — голос прыгал.
Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он
ошибся, схватил не того, кого нужно. Под утиным ба-
рашковым носом торчала исключительной благонаме-
ренности физиономия. Ничего ровно она не могла гово-
рить, и круглые глазки закатывались от страха.
Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал
рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам,
кипевшим вокруг него. Левой рукой он готовился что-то
ухватить, а правой придерживал в кармане ручку бра
унинга. Печальное пение священников проплывало мимо,
и рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать
было решительно некого, голос словно сквозь землю
провалился. Проплывал последний гроб,
«Прапорщик Морской», —
пролетели какие-то сани.
— «Вести»! — вдруг под самым ухом Турбина резнул
сиплый альт.
Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, нс
помня себя, два раза ткнул им мальчишке в физионо
мию, приговаривая со скрипом зубовным:
— Вот тебе вести. Вот тебе. Вот тебе вести. Сволочь!
На этом припадок его бешенства и прошел. Маль
чишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб.
Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, я
глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей
ненавистью.
— Ште это... что вы... за что мине? — загнусил он,
стараясь зареветь и шаря по снегу. Чье-то лицо в удин
лении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь
Белая гвардия
5Ц
сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин во-
брал голову в плечи и, круто свернув, мимо газового
фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания
музея, мимо каких-то разочарованных ям с занесенными
пленкой снега кирпичами выбежал на знакомый громад-
ный плац — сад Александровской гимназии.
— «Вести»! Ежедневная демократическая газета! —
донеслось с улицы.
♦
Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным
покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. Во-
семь лет провел Турбин в ней, в течение восьми лет в
весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами,
когда классы были полны душной пыли и лежал на
плацу холодный важный снег зимнего учебного года,
видел плац из окна. Восемь лет растил и учил кирпич-
ный покой Турбина и младших — Карася и Мышлаев-
ского.
И ровно восемь же лет назад в последний раз видел
Турбин сад гимназии. Его сердце защемило почему-то
от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча засло-
нила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь,
как страшный вал смывает пристань. О, восемь лет
учения! Сколько в них было нелепого и грустного и
отчаянного для мальчишеской души, но сколько было
радостного.Серый день, серый день, серый день, ут кон-
секутивум, Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и
вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но
зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в
зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и,
главное, вечный маяк впереди — университет, значит,
жизнь свободная, — понимаете ли вы, что значит уни-
верситет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава.
И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза
учителей, и страшные, до сих пор еще снящиеся, бассей-
ны, из которых вечно выливается и никак не может
вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем
Ленский отличается от Онегина, и как безобразен Со-
крат, и когда основан орден иезуитов, и высадился
Помпей, и еще кто-то высадился, и высадился и выса-
живается в течение двух тысяч лет...
Мало этого. За восемью годами гимназии, уже вне
всяких бассейнов, трупы анатомического театра, белые
512
Михаил Булгаков
палаты, стеклянное молчание операционных, а затем
три года метания в седле, чужие раны, унижения и
страдания, — о, проклятый бассейн войны... И вот
высадился все там же, на этом самом плацу, в том же
саду. И бежал по плацу достаточно больной и издерган-
ный, сжимал браунинг в кармане, бежал черт знает
куда и зачем. Вероятно, защищать ту самую жизнь —
будущее, из-за которого мучился над бассейнами и теми
проклятыми пешеходами, из которых один идет со стан-
ции «А», а другой навстречу ему со станции «Б».
Черные окна являли полнейший и угрюмейший по-
кой. С первого взгляда становилось понятно, что это
покой мертвый. Странно, в центре города, среди разва-
ла, кипения и суеты, остался мертвый четырехъярусный
корабль, некогда вынесший в открытое море десятки
тысяч жизней. Похоже было, что никто уже его теперь
не охр'анял, ни звука, ни движения не было в окнах и
под стенами, крытыми желтой николаевской краской.
Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой
сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно, и
только несколько разбегающихся дорожек следов пока-
зывали, что истоптали его только что.
И главное: не только никто не знал, но и никто нс
интересовался — куда же все делось? Кто теперь учит-
ся в этом корабле? А если не учится, то почему? Где
сторожа? Почему страшные, тупорылые мортиры торчат
под шеренгою каштанов у решетки, отделяющей внут-
ренний палисадник у внутреннего парадного хода? По-
чему в гимназии цейхгауз? Чей? Кто? Зачем?
Никто этого не знал, как никто не знал, куда дева-
лась мадам Анжу и почему бомбы в ее магазине легли
рядом с пустыми картонками?..
♦
— Накати-и! — прокричал голос. Мортиры шевели
лись и ползали. Человек двести людей шевелились,
перебегали, приседали и вскакивали около громадных
кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки,
серые шинели и папахи, фуражки военные и защитные
и синие студенческие.
Когда Турбин пересек грандиозный плац, четыре
мортиры стали в шеренгу, глядя на него пастью. Спеш
ное учение возле мортир закончилось, и в две шеренги
стал пестрый новобранный строй дивизиона.
Белая гвардия
513
— Господин кап-пи-тан, — пропел голос Мышлаев-
ского, — взвод готов.
Студзинский появился перед шеренгами, попятился и
крикнул:
— Левое плечо вперед, шагом марш!
Строй хрустнул, колыхнулся и, нестройно топча снег,
поплыл.
Замелькали мимо Турбина многие знакомые и типич-
ные студенческие лица. В голове третьего взвода мельк-
нул Карась. Не зная еще, куда и зачем, Турбин захрус-
тел рядом со взводом...
Карась вывернулся из строя и, озабоченный, идя
задом, начал считать:
— Левой. Левой. Ать. Ать.
В черную пасть подвального хода гимназии змеей
втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за
рядом.
Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее,
чем снаружи. Каменную тишину и зыбкий сумрак бро-
шенного здания быстро разбудило эхо военного шага.
Под сводами стали летать какие-то звуки, точно просну-
лись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге —
это потревоженные крысы разбегались по темным зако-
улкам. Строй прошел по бесконечным и черным под-
вальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами,
и пришел в громадный зал, где в узкие прорези решет-
чатых окошек, сквозь мертвую паутину, скуповато при-
текал свет.
Адовый грохот молотков взломал молчание. Вскрыва-
ли деревянные окованные ящики с патронами, вынима-
ли бесконечные ленты и похожие на торты круги для
льюисовских пулеметов. Вылезли черные и серые, похо-
жие на злых комаров, пулеметы. Стучали гайки, рвали
клещи, в углу со свистом что-то резала пила. Юнкера
вынимали кипы слежавшихся холодных папах, шинели в
железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги
в сукне.
— Па-а-живей, — послышался голос Студзинского.
Человек шесть офицеров, в тусклых золотых погонах,
завертелись, как плауны на воде. Что-то выпевал выздо-
ровевший тенор Мышлаевского.
— Господин доктор! — прокричал Студзинский из
тьмы. — Будьте любезны принять команду фельдшеров
и дать ей инструкции.
Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов.
17 1*57
514
Михаил Булгаков
Один из них, низенький и взволнованный, был с крас-
ным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой —
в сером, и папаха налезла ему на глаза, так что он все
время поправлял ее пальцами.
— Там ящики с медикаментами, — проговорил Тур-
бин, — выньте из них сумки, которые через плечо, и мне
докторскую с набором. Потрудитесь выдать каждому из
артиллеристов по два индивидуальных пакета, бегло
объяснив, как их вскрыть в случае надобности.
Голова Мышлаевского выросла над серым копоша-
щимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой,
лязгнул затвором, с треском вложил обойму и затем,
целясь в окно и лязгая, лязгая и целясь, забросал
юнкеров выброшенными патронами. После этого как
фабрика застучала в подвале. Перекатывая стук и лязг,
юнкера зарядили винтовки.
— Кто не умеет, осто-рожнее, юнкера-а, — пел
Мышлаевский, — объясните студентам.
Через головы полезли ремни с подсумками и фляги.
Произошло чудо. Разношерстные пестрые люди пре-
вращались в однородный, компактный слой, над кото-
рым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь,
поднялась щетина штыков.
— Господ офицеров попрошу ко мне, — где-то про-
звучал Студзинский.
В темноте коридора, под малиновый тихонький звук
шпор, Студзинский заговорил негромко:
— Впечатления?
Шпоры потоптались. Мышлаевский, небрежно и лов-
ко ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к
штабс-капитану и сказал:
— У меня во взводе пятнадцать человек не имеют
понятия о винтовке. Трудновато.
Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где
скромно и серенько сквозь стекло лился последний
жиденький светик, молвил:
— Настроение?
Опять заговорил Мышлаевский:
— Кхм... кхм... Гробы напортили. Студентики смути-
лись. На них дурно влияет. Через решетку видели.
Студзинский метнул на него черные упорные глаза.
— Потрудитесь поднять настроение.
И шпоры зазвякали, расходясь.
— Юнкер Павловский! — загремел в цейхгаузе Мыш-
лаевский, как Радамес в «Аиде».
17-
Белая гвардия
515
— Павловского... го!., го!., го!! —- ответил цейхгауз
каменным эхом и ревом юнкерских голосов.
— Й’я!
— Алексеевского училища?
— Точно так, господин поручик.
— А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее. Так,
чтобы Петлюра умер, мать его душу...
Один голос, высокий и чистый, завел под каменными
сводами:
Артиллеристом я рожден...
Тенора откуда-то ответили в гуще штыков:
В семье бригадной я учился.
Вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слу-
ха поймала мотив, и вдруг стихийным басовым хоралом,
стреляя пушечным эхом, взорвало весь цейхгауз:
Ог-неем-ем картечи я крещен
И буйным бархатом об-ви-и-ился.
Огне-е-е-е-е-ем...
Зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных
стеклах, в головах, и какие-то забытые пыльные стака-
ны на покатых подоконниках тряслись и звякали...
И за канаты тормозные
Меня качали номера.
Студзинский, выхватив из толпы шинелей, штыков и
пулеметов двух розовых прапорщиков, торопливым ше-
потом отдавал им приказание:
—- Вестибюль... сорвать кисею... поживее...
И прапорщики унеслись куда-то.
Идут и поют
Юнкера гвардейской школы!
Трубы, литавры,
Тарелки звенят!! *4
Пустая каменная коробка гимназии теперь ревела и
выла в страшном марше, и крысы сидели в глубоких
норах, ошалев от ужаса.
— Ать... ать!.. — резал пронзительным голосом рев
Карась.
— Веселей!.. — прочищенным голосом кричал Мыш-
лаевский. — Алексеевцы, кого хороните?..
17*
516
Михаил Булгаков
Не серая, разрозненная гусеница, а —
Модистки! кухарки! горничные! прачки!!
Вслед юнкерам уходящим глядят!!! —
одетая колючими штыками, валила по коридору шерен-
га, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По
бесконечному коридору и во второй этаж в упор на
гигантский, залитый светом через стеклянный купол
вестибюль шла гусеница, и передние ряды вдруг начали
ошалевать.
На кровном аргамаке, крытом царским вальтрапом с
вензелями, поднимая аргамака на дыбы, сияя улыбкой,
в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном,
лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед
артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, ис-
полненные коварного шарма, Александр взмахивал па-
лашом и острием его указывал юнкерам на Бородинские
полки. Клубочками ядер одевались Бородинские поля, и
черной тучей штыков покрывалась даль на двухсажен-
ном полотне.
...ведь были ж...
схватки боевые?
— Да, говорят... — звенел Павловский.
Да, говорят, еще какие!! —
гремели басы.
Неда-а-а-а-ром помнит вся Россия
Про день Бородина!!
Ослепительный Александр несся на небо, и оборван-
ная кисбя, скрывавшая его целый год, лежала валом у
копыт его коня.
— Императора Александра Благословенного не ви-
дели, что ли? Ровней, ровней! Ать. Ать. Леу. Леу! — выл
Мышлаевский, и гусеница поднималась, осаживая лест-
ницу грузным шагом александровской пехоты. Мимо
победителя Наполеона левым плечом прошел дивизион
в необъятный двухсветный актовый зал и, оборвав пес-
ню, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками. Сум-
рачный белесый свет царил в зале, и мертвенными,
бледными пятнами глядели в простенках громадные,
наглухо завешанные портреты последних царей.
Студзинский попятился и глянул на браслет-часы.
В это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему.
17-4
Белая гвардия
517
— Командир дивизиона, —- расслышали ближайшие.
Студзинский махнул рукой офицерам. Те побежали
между шеренгами и выровняли их. Студзинский вышел
в коридор навстречу командиру.
Звеня шпорами, полковник Малышев по лестнице,
оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко
входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым
темляком болталась у него на левом бедре. Он был в
фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с
огромным разрезом назади. Лицо его было озабоченно.
Студзинский торопливо подошел к нему и остановился,
откозыряв.
Малышев спросил его:
— Одеты?
— Так точно. Все приказания исполнены.
— Ну, как?
— Драться будут. Но полная неопытность. На сто
двадцать юнкеров восемьдесят студентов, не умеющих
держать в руках винтовку.
Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал.
— Великое счастье, что хорошие офицеры попались, —
продолжал Студзинский, — в особенности этот новый,
Мышлаевский. Как-нибудь справимся.
— Так-с. Ну-с, вот что: потрудитесь, после моего
смотра, дивизион, за исключением офицеров и караула
в шестьдесят человек из лучших и опытнейших юнкеров,
которых вы оставите у орудий, в цейхгаузе и на охране
здания, распустить по домам с тем, чтобы завтра Ь семь
часов утра весь дивизион был в сборе здесь.
Дикое изумление разбило Студзинского, глаза его
неприличнейшим образом выкатились на господина пол-
ковника. Рот раскрылся.
— Господин полковник... — все ударения у Студзин-
ского от волнения полезли на предпоследний слог, —
разрешите доложить. Это невозможно. Единственный
способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизи-
он — это задержать его на ночь здесь.
Господин полковник тут же, и очень быстро, обнару-
жил новое свойство — великолепнейшим образом сер-
диться. Шея его и щеки побурели, и глаза загорелись.
— Капитан, — заговорил он неприятным голосом, —
я вам в ведомости прикажу выписать жалование не как
старшему офицеру, а как лектору, читающему команди-
рам дивизионов, и это мне будет неприятно, потому что
я полагал, что в вашем лице я буду иметь именно опыт-
518
Михаил Булгаков
ного старшего офицера, а не штатского профессора.
Ну-с, так вот: лекции мне не нужны. Па-а-прошу вас
советов мне не давать! Слушать, запоминать. А запом-
нив — исполнять!
И тут оба выпятились друг на друга.
Самоварная краска полезла по шее и щекам Студ-
зинского, и губы его дрогнули. Как-то скрипнув горлом,
он произнес:
— Слушаю, господин полковник.
— Да-с, слушать. Распустить по домам. Приказать
выспаться и распустить без оружия, а завтра чтобы
явились в семь часов. Распустить, и мало того: мелкими
партиями, а не взводными ящиками, и без погон, чтобы
не привлекать внимания зевак своим великолепием.
Луч понимания мелькнул в глазах Студзинского, а
обида в них погасла.
— Слушаю, господин полковник.
Господин полковник тут резко изменился.
— Александр Брониславович, я вас знаю не первый
день как опытного и боевого офицера. Но ведь и вы
меня знаете? Стало быть, обиды нет? Обиды в такой час
неуместны. Я неприятно сказал — забудьте, ведь вы
тоже...
Студзинский залился густейшей краской.
— Точно так, господин полковник, я виноват.
— Ну-с, и отлично. Не будем же терять времени,
чтобы их не расхолаживать. Словом, все на завтра. Завтра
яснее будет видно. Во всяком случае, скажу заранее: на
орудия — внимания ноль, имейте в виду — лошадей нс
будет и снарядов тоже. Стало быть, завтра с утра стрель-
ба из винтовок, стрельба и стрельба. Сделайте мне так,
чтобы дивизион завтра к полудню стрелял, как призо-
вой полк. И всем опытным юнкерам — гранаты. Понятно?
Мрачнейшие тени легли на Студзинского. Он напря-
женно слушал.
— Господин полковник, разрешите спросить?
— Знаю-с, что вы хотите спросить. Можете не спра-
шивать. Я сам вам отвечу — погано-с. Бывает хуже, но
редко. Теперь понятно?
— Точно так!
— Ну, так вот-с, — Малышев очень понизил голос, —
понятно, что мне не хочется остаться в этом каменном
мешке на подозрительную ночь и, чего доброго, угробить
двести ребят, из которых сто двадцать даже не умеют
стрелять! v
Белая гвардия
519
Студзинский молчал.
— Ну, так вот-с. А об остальном вечером. Все успе-
ем. Валите к дивизиону.
И они вошли в зал.
— Смир-р-р-но. Га-сааа офицеры! — прокричал
Студзинский.
— Здравствуйте, артиллеристы!
Студзинский из-за спины Малышева, как беспокой-
ный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена
рявкнула так, что дрогнули стекла.
— Здра-рра-жла-гсин... полковник...
Малышев весело оглядел ряды, отнял руку от ко-
зырька и заговорил:
— Бесподобно... Артиллеристы! Слов тратить не буду,
говорить не умею, потому что на митингах не выступал,
и потому скажу коротко. Будем мы бить Петлюру, су-
кина сына, и, будьте покойны, побьем. Среди вас владими-
ровцы, константиновцы, алексеевцы, орлы их ни разу
еще не видали от них сраму. А многие из вас воспитан-
ники этой знаменитой гимназии. Старые ее стены смот-
рят на вас. И я надеюсь, что вы не заставите краснеть
за вас. Артиллеристы мортирного дивизиона! Отстоим
Город великий в часы осады бандитом. Если мы обка-
тим этого милого президента шестью дюймами, небо ему
покажется не более, чем его собственные подштанники,
мать его душу через семь гробов!!!
— Га-а-а... Га-а... — ответила колючая гуща, подав-
ленная бойкостью выражений господина полковника.
— Постарайтесь, артиллеристы!
Студзинский опять, как режиссер из-за кулис, испу-
ганно взмахнул рукой, и опять громада обрушила плас-
ты пыли своим воплем, повторенным громовым эхо:
— Ррр... Ррррр... Стра... Рррррр!!!
Через десять минут в актовом зале, как на Бородин-
ском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых
зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыль-
ной равнины. Где-то в отдалении, внизу, стучали и пе-
рекатывались шаги торопливо расходившихся, согласно
приказу, новоявленных артиллеристов. В коридорах
что-то ковано гремело и стучало, и слышались офицер-
ские выкрики — Студзинский сам разводил караулы.
Затем неожиданно в коридорах запела труба. В ее рва-
520
Михаил Булгаков
ных, застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии,
грозность была надломлена, а слышна явственная тре-
вога и фальшь. В коридоре над пролетом, окаймленным
двумя рамками лестницы в вестибюль, стоял юнкер и
раздувал щеки. Георгиевские потертые ленты свешива-
лись с тусклой медной трубы. Мышлаевский, растопы-
рив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и
пробовал его.
— Не доносите... Теперь так, так. Раздуйте ее, раз-
дуйте. Залежалась, матушка. А ну-ка, тревогу.
«Та-та-там-та-там», — пел трубач, наводя ужас и
тоску на крыс.
Сумерки резко ползли в двусветный зал. Перед по-
лем в козлах остались Малышев и Турбин. Малышев
как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на
лице приветливую улыбку.
— Ну-с, доктор, у вас как? Санитарная часть в
порядке?
— Точно так, господин полковник.
— Вы, доктор, можете отправляться домой. И фельд-
шеров отпустите. И таким образом: фельдшера пусть
явятся завтра в семь часов утра, вместе с остальными...
А вы... (Малышев подумал, прищурился.) Вас попрошу
прибыть сюда завтра в два часа дня. До тех пор вы
свободны. (Малышев опять подумал.) И вот что-с: пого-
ны можете пока не надевать. (Малышев помялся.) В на-
ши планы не входит особенно привлекать к себе внима-
ние. Одним словом, завтра прошу в два часа сюда.
— Слушаю-с, господин полковник.
Турбин потоптался на месте. Малышев вынул порт-
сигар и предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажег
спичку. Загорелись две красные звездочки, и тут же
сразу стало ясно, что значительно потемнело. Малышев
беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые
шары, потом вышел в коридор.
— Поручик Мышлаевский. Пожалуйте сюда. Вот
что-с: поручаю вам электрическое освещение здания пол-
ностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будь-
те любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгно-
вение вы могли его всюду не только зажечь, но и поту-
шить. И ответственность за освещение целиком ваша.
Мышлаевский козырнул, круто повернулся. Трубач
пискнул и прекратил. Мышлаевский, бренча шпорами —
топы-топы-топы, — покатился по парадной лестнице с
такой быстротой, словно поехал на коньках. Через ми-
нуту откуда-то снизу раздались его громовые удары
Белая гвардия
521
кулаками куда-то и командные вопли. И в ответ им в
парадном подъезде, куда вел широченный двускатный
вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра,
вспыхнул свет. Малышев от удовольствия даже приот-
крыл рот и обратился к Турбину:
— Нет, черт возьми... Это действительно офицер.
Видали?
А снизу на лестнице показалась фигурка и медленно
полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на
первой площадке, и Малышев и Турбин, свесившись с
перил, разглядели ее. Фигурка шла на разъезжающихся
больных ногах и трясла белой головой. На фигурке была
широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами
и цветными зелеными петлицами. В прыгающих руках у
фигурки торчал огромный ключ. Мышлаевский подни-
мался сзади и изредка покрикивал:
— Живее, живее, старикан! Что ползешь, как вошь
по струне?
—• Ваше... ваше... — шамкал и шаркал тихонько
старик. Из мглы на площадке вынырнул Карась, за ним
другой, высокий офицер, потом два юнкера и, наконец,
вострорылый пулемет. Фигурка метнулась в ужасе, со-
гнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемету.
— Ваше высокоблагородие, — бормотала она.
Наверху фигурка трясущимися руками, тычась в
полутьме, открыла продолговатый ящик на стене, и белое
пятно глянуло из него. Старик сунул руку куда-то,
щелкнул, и мгновенно залило верхнюю площадь вести-
бюля, вход в актовый зал и коридор.
Тьма свернулась и убежала в его концы. Мышлаев-
ский овладел ключом моментально и, просунув руку в
ящик, начал играть, щелкая черными ручками. Свет,
ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то
загорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погас-
ли. Неожиданно загорелись два шара по концам кори-
дора, и тьма, кувыркнувшись, улизнула совсем.
— Как? Эй! — кричал Мышлаевский.
— Погасло, — отвечали голоса снизу, из провала
вестибюля.
— Есть! Горит! — кричали снизу.
Вдоволь наигравшись, Мышлаевский окончательно
зажег зал, коридор и рефлектор над Александром, за-
пер ящик на ключ и опустил его в карман.
— Катись, старикан, спать, — молвил он успокои-
тельно, — все в полном порядке.
Старик виновато заморгал подслеповатыми глазами:
522
Михаил Булгаков
— А ключик-то? Ключик... ваше высокоблагородие...
Как же? У вас, что ли, будет?
— Ключик у меня будет. Вот именно.
Старик потрясся еще немножко и медленно стал
уходить.
— Юнкер!
Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и
стал неподвижно.
— К ящику пропускать беспрепятственно командира
дивизиона, старшего офицера и меня. Но никого более.
В случае надобности, по приказанию одного из трех,
ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае
не повредить щита.
— Слушаю, господин поручик.
Мышлаевский поравнялся с Турбиным и шепнул:
— Максим-то... видал?
— Господи... видал, видал, — шепнул Турбин.
Командир дивизиона стал у входа в актовый зал, и
тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки.
Он поманил Мышлаевского и сказал:
— Ну, вот-с, поручик, я доволен, что вы попали к
нам в дивизион. Молодцом.
— Рад стараться, господин полковник.
— Вы еще наладите нам отопление здесь, в зале,
чтобы отогревать смены юнкеров, а уж об остальном я
позабочусь сам. Накормлю вас и водки достану, в коли-
честве небольшом, но достаточном, чтобы согреться.
Мышлаевский приятнейшим образом улыбнулся гос-
подину полковнику и внушительно откашлялся:
— Эк... км...
Турбин более не слушал. Наклонившись над балюс-
традой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки,
пока она Не исчезла внизу. Пустая тоска овладела Тур-
биным. Тут же, у холодной балюстрады, с исключитель-
ной ясностью перед ним прошло воспоминание.
...Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхи-
щении валила по этому самому коридору.
Коренастый Максим, старший педель, стремительно
увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие.
— Пущай, пущай, пущай, пущай, — бормотал он, —
пущай по случаю радостного приезда господина попечи-
теля господин инспектор полюбуются на господина Тур-
бина с господином Мышлаевским. Это им будет удо-
вольствие. Прямо-таки замечательное удовольствие!
Надо думать, что последние слова Максима заключа-
ли в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращен-
Белая гвардия
523
ным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевско-
го могло доставить удовольствие, да еще в радостный
час приезда попечителя.
У господина Мышлаевского, ущемленного в левой
руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа и
левый рукав висел на нитке. На господине Турбине,
увлекаемом правою, не было пояса и все пуговицы от-
летели не только на блузе, но даже на разрезе брюк
спереди, так что собственное тело и белье господина
Турбина безобразнейшим образом было открыто для
взоров.
— Пустите нас, миленький Максим, дорогой, — мо-
лили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к
Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.
— Ура! Волоки его, Макс Преподобный! — кричали
сзади взволнованные гимназисты. — Нет такого закону,
чтобы второклассников безнаказанно уродовать!
Ах, боже мой, боже мой! Тогда было солнце, шум и
грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, —
белый, скорбный и голодный. У Максима на голове
была черная сапожная щетка, лишь кое-где тронутая
нитями проседи, у Максима железные клещи вместо рук
и на шее медаль величиною с колесо на экипаже... Ах,
колесо, колесо. Все-то ты ехало из деревни «Б», делая
N оборотов, и вот приехало в каменную пустоту. Боже,
какой холод. Нужно защищать теперь... Но что? Пусто-
ту? Гул шагов?.. Разве ты, ты, Александр, спасешь
Бородинскими полками гибнущий дом? Оживи, сведи их
с полотна! Они побили бы Петлюру.
Ноги Турбина понесли его вниз сами собой. «Мак-
сим!» — хотелось ему крикнуть, потом он стал останав-
ливаться и совсем остановился. Представил себе Мак-
сима внизу, в подвальной квартирке, где жили сторожа.
Наверное, трясется у печки, все забыл и еще будет
плакать. А тут и так тоски по самое горло. Плюнуть
надо на все это. Довольно сентиментальничать. Просен-
тиментальничали свою жизнь. Довольно.
*
И все-таки, когда Турбин отпустил фельдшеров, он
оказался в пустом сумеречном классе. Угольными пят-
нами глядели со стен доски. И парты стояли рядами.
Он не удержался, поднял крышку и присел. Трудно,
тяжело, неудобно. Как близка t черная доска. Да, кля-
524
Михаил Булгаков
нусь, клянусь, тот самый класс или соседний, потому
что вон из окна тот самый вид на Город. Вон черная
умершая громада университета. Стрела бульвара в бе*
лых огнях, коробки домов, провалы тьмы, стены, высь
небес...
А в окнах настоящая опера «Ночь под Рождество»,
снег и огонечки, дрожат и мерцают... «Желал бы я
знать, почему стреляют в Святошине?» И безобидно, и
далеко, пушки, как в вату, бу-у, бу-у...
— Довольно.
Турбин опустил крышку парты, вышел в коридор и
мимо караулов ушел через вестибюль на улицу. В
парадном подъезде стоял пулемет. Прохожих на улице
было мало, и шел крупный снег.
Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много
рейсов совершил он между гимназией и находящейся в
двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина
хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько
шипя, изливали розовый свет калильные фонари в ша-
рах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и
всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библи-
отечных приделах зала.
Юнкера, под командою Мышлаевского, «Отечествен-
ными записками» и «Библиотекой для чтения» за 1863
год разожгли белые печи и потом всю ночь непрерывно,
гремя топорами, старыми партами топили их. Студзин-
ский и Мышлаевский, приняв по два стакана спирта
(господин полковник сдержал свое обещание и доставил
его в количестве достаточном, чтобы согреться, именно —
полведра), сменяясь, спали по два часа вповалку с юн-
керами, на шинелях у печек, и багровые огни и тени
играли на их лицах. Потом вставали, всю ночь ходили
от караула к караулу, проверяя посты. И Карась с
юнкерами-пулеметчиками дежурил у выходов в сад. И в
бараньих тулупах, сменяясь каждый час, стояли четверо
юнкеров у толстомордых мортир.
У мадам Анжу печка раскалилась, как черт, в тру-
бах звенело и несло, один из юнкеров стоял на часах у
двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда, и
пять юнкеров мертво спали в магазине, расстелив ши-
нели. К часу ночи господин полковник окончательно
обосновался у мадам Анжу, зевал, но еще не ложился,
Белая гвардия
525
все время беседуя с кем-то по телефону. А в два часа
ночи, свистя, подъехала мотоциклетка, и из нее вылез
военный человек в серой шинели.
— Пропустить. Это ко мне.
Человек доставил полковнику объемистый узел в
простыне, перевязанный крест-накрест веревкою. Госпо-
дин полковник собственноручно запрятал его в малень-
кую каморочку, находящуюся в приделе магазина, и
запер ее на висячий замок. Серый человек покатил на
мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел
на галерею и там, разложив шинель и положив под
голову груду лоскутов, лег и, приказав дежурному
юнкеру разбудить себя ровно в шесть с половиной, за-
снул.
7
Глубокою ночью угольная тьма залегла на террасах
лучшего места в мире — Владимирской горки. Кирпич-
ные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым
пухлым пластом нетронутого снега.
Ни одна душа в Городе, ни одна нога не беспокоила
зимою многоэтажного массива. Кто пойдет на Горку
ночью, да еще в такое время? Да страшно там просто!
И храбрый человек не пойдет. Да и делать там нечего.
Одно всего освещенное место: стоит на страшном тяже-
лом постаменте уже сто лет чугунный черный Владимир
и держит в руке, стоймя, трехсаженный крест. Каждый
вечер, лишь окутают сумерки обвалы, скаты и террасы,
зажигается крест и горит всю ночь. И далеко виден,
верст за сорок виден в черных далях, ведущих к Москве.
Но тут освещает немного, падает, задев зелено-черный
бок постамента, бледный электрический свет, вырывает
из тьмы балюстраду и кусок решетки, окаймляющей
среднюю террасу. Больше ничего. А уж дальше, даль-
ше!.. Полная тьма. Деревья во тьме, странные, как
люстры в кисее, стоят в шапках снега, и сугробы кругом
по самое горло. Жуть.
Ну, понятное дело, ни один человек и не потащится
сюда. Даже самый отважный. Незачем, самое главное.
Совсем другое дело в Городе. Ночь тревожная, важная,
военная ночь. Фонари горят бусинами. Немцы спят, но
вполглаза спят. В самом темном переулке вдруг рожда-
ется голубой конус.
526
Михаил Булгаков
- Halt!
Хруст... Хруст... посредине улицы ползут пешки в
тазах. Черные наушники... Хруст... Винтовочки не за
плечами, а на руку. С немцами шутки шутить нельзя,
цока что... Что бы там ни было, а немцы — штука
серьезная. Похожи на навозных жуков.
— Докумиэнт!
- Halt!
Конус из фонарика. Эгей!..
И вот тяжелая черная лакированная машина, впере-
ди четыре огня. Не простая машина, потому что вслед
за зеркальной кареткой скачет облегченной рысью кон-
вой — восемь конных. Но немцам это все равно. И
машине кричат:
- Halt!
— Куда? Кто? Зачем?
— Командующий, генерал от кавалерии Белоруков.
Ну, это, конечно, другое дело. Это пожалуйста.
В стеклах кареты, в глубине, бледное усатое лицо. Не-
ясный блеск на плечах генеральской шинели. И тазы
немецкие козырнули. Правда, в глубине души им все
равно, что командующий Белоруков, что Петлюра, что
предводитель зулусов в этой паршивой стране. Но тем
не менее. У зулусов жить — по-зулусьи выть. Козырну-
ли тазы. Международная вежливость, как говорится.
*
Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают
лучи света. В лучах дамские шляпы, и корсеты, и пан-
талоны, и севастопольские пушки. И ходит, ходит маят-
ник-юнкер, зябнет, штыком чертит императорский вен-
зель. И там, в Александровской гимназии, льют шары,
как на балу. Мышлаевский, подкрепившись водкой в
количестве достаточном, ходит, ходит, на Александра
Благословенного поглядывает, на ящик с выключателя-
ми посматривает. В гимназии довольно весело и важно.
В караулах как-никак восемь пулеметов и юнкера —
это вам не студенты!.. Они, знаете ли, драться будут.
Глаза у Мышлаевского, как у кролика, — красные.
Которая уж ночь и сна мало, а водки много и тревоги
порядочно. Ну, в Городе с тревогою пока что легко
справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй.
Правда, раз пять остановят. Но если документы налицо,
Белая гвардия
527
иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешь-
ся, но иди...
А на Горку кто полезет? Абсолютная глупость. Да
еще и ветер там, на высотах... пройдет по сугробным
аллеям, так тебе чертовы голоса померещатся. Если бы
кто и полез на Горку, то уж разве какой-нибудь совсем
отверженный человек, который при всех властях мира
чувствует себя среди людей, как волк в собачьей стае.
Полный мизерабль, как у Гюго. Такой, которому в Го-
род и показываться не следует, а уж если и показывать-
ся, то на свой риск и страх. Проскочишь между патру-
лями — твоя удача, не проскочишь — не прогневайся.
Ежели бы такой человек на Горку и попал, пожалеть
его искренне следовало бы по человечеству.
Ведь это и собаке не пожелаешь. Ветер-то ледяной.
Пять минут на нем побудешь и домой запросишься, а...
— Як часов с пьять? Эх... Эх... померзнем!..
Главное, ходу нет в верхний Город мимо панорамы и
водонапорной башни, там, изволите ли видеть, в Михай-
ловском переулке, в монастырском доме, штаб князя
Белорукова. И поминутно — то машины с конвоем, то
машины с пулеметами, то...
— Офицерня, ах твою душу, щоб вам повылазило!
Патрули, патрули, патрули.
А по террасам вниз в нижний Город — Подол — и
думать нечего, потому что на Александровской улице,
что вьется у подножья Горки, во-первых, фонари цепью,
а во-вторых, немцы, хай им бис! патруль за патрулем!
Разве уж под утро? Да ведь замерзнем до утра. Ледя-
ной ветер — гу-у... — пройдет по аллеям, и мерещится,
что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса.
— Замерзнем, Кирпатый!
— Терпи, Немоляка, терпи. Походят патрули до утра,
заснут. Проскочим на Ввоз, отогреемся у Сычихи.
Пошевелится тьма вдоль решетки, и кажется, что три
чернейших тени жмутся к парапету, тянутся, глядят
вниз, где как на ладони Александровская улица. Вот
она молчит, вот пуста, но вдруг побегут два голубова-
тых конуса — пролетят немецкие машины, или же по-
кажутся черные лепешечки тазов и от них короткие
острые тени... И как на ладони видно...
Отделяется одна тень на Горке, и сипит ее волчий
острый голос:
— Э... Немоляка... Рискуем! Ходим. Может, проско-
чим...
Нехорошо на Горке.
528
Михаил Булгаков
♦
И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Ка-
кая-то странная, неприличная ночью во дворце суета.
Через зал, где стоят аляповатые золоченые стулья, по
лоснящемуся паркету мышиной побежкой пробежал
старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении про-
звучал дробный электрический звоночек, прозвякали чьи-
то шпоры. В спальне зеркала в тусклых рамах с коро-
нами отразили странную неестественную картину. Ху-
дой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем
бритом пергаментном лице человек, в богатой черкеске
с серебряными газырями, заметался у зеркал. Возле
него шевелились три немецких офицера и двое русских.
Один в черкеске, как и сам центральный человек, дру-
гой во френче и рейтузах, обличавших их кавалергардс-
кое происхождение, но в клиновидных гетманских пого-
нах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была
совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные
сапоги. Человека облекли в форму германского майора,
и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров.
Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцо-
вые портьеры и пропустили еще одного человека в
форме военного врача германской армии. Он принес с
собой целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелы-
ми руками забинтовал голову новорожденного герман-
ского майора так, что остался видным лишь правый
лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывавший золо-
тые и платиновые коронки.
Неприличная ночная суета во дворце продолжалась
еще некоторое время. Каким-то офицерам, слоняющим-
ся в зале с аляповатыми стульями и в зале соседнем,
вышедший германец рассказал по-немецки, что майор
фон Шратт, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя
в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в гер-
манский госпиталь. Где-то звенел телефон, еще где-то
пела птичка — пиу! Засим к боковому подъезду дворца,
пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла гер-
манская бесшумная машина с красным крестом, и за-
кутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель
таинственного майора фон Шратта вынесли на носилках
и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее.
Ушла машина, раз глухо рявкнув на повороте при вы-
езде из ворот.
Белая гвардия
529
Во дворце же продолжалась до самого утра суетня
и тревога, горели огни в залах портретных и в залах
золоченых, часто звенел телефон, и лица у лакеев стали
как будто наглыми, и в глазах заиграли веселые огни...
В маленькой узкой комнатке, в первом этаже дворца,
у телефонного аппарата оказался человек в форме ар-
тиллерийского полковника. Он осторожно прикрыл дверь
в маленькую обеленную, совсем не похожую на дворцо-
вую, аппаратную комнату и лишь тогда взялся за труб-
ку. Он попросил бессонную барышню на станции дать
ему номер 212. И, получив его, сказал «мерси», строго
и тревожно сдвинув брови, и спросил интимно и глу-
ховато:
— Это штаб мортирного дивизиона?
Увы, увы! Полковнику Малышеву не пришлось спать
до половины седьмого, как он рассчитывал. В четыре
часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрез-
вычайно настойчиво, и дежурный юнкер вынужден был
господина полковника разбудить. Господин полковник
проснулся с замечательной быстротой и сразу и остро
стал соображать, словно вовсе никогда и не спал. И в
претензии на юнкера за прерванный сон господин пол-
ковник не был. Мотоциклетка увлекла его в начале
пятого утра куда-то, а когда к пяти полковник вернул-
ся к мадам Анжу, он так же тревожно и строго в боевой
нахмуренной думе сдвицул свои брови, как и тот пол-
ковник во дворце, который из аппаратной вызывал мор-
тирный дивизион.
♦
В семь часов на Бородинском поле, освещенном ро-
зоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрассветно-
го холода, гудя и ворча говором, та же растянутая
гусеница, что поднималась по лестнице к портрету
Александра. Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль
ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах
его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у
полковника Малышева начиная с четырех часов утра.
Но всякий, кто увидал бы и полковника, и штабс-капи-
тана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно
сказать, в чем разница: у Студзинского в глазах —
тревога предчувствия, а у Малышева в глазах тревога
определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно
и погано. У Студзинского из-за обшлага его шинели
торчал длинный список артиллеристов дивизиона, Студ-
зинский только что произвел перекличку и убедился, что
двадцати человек не хватает. Поэтому список носил на
себе след резкого движения штабс-капитанских паль-
цев: он был скомкан.
В похолодевшем зале вились дымки — в офицерской
группе курили.
Минута в минуту в семь часов перед строем появил-
ся полковник Малышев, и, как предыдущим днем, его
встретил приветственный грохот в зале. Господин пол-
ковник, как и в предыдущий день, был опоясан сереб-
ряной шашкой, но в силу каких-то причин тысяча огней
уже не играла на серебряной резьбе. На правом бедре
у полковника покоился револьвер в кобуре, и означен-
ная кобура, вероятно, вследствие несвойственной пол-
ковнику Малышеву рассеянности, была расстегнута.
Полковник выступил перед дивизионом, левую руку
в перчатке положил на эфес шашки, а правую без пер-
чатки нежно наложил на кобуру и произнес следующие
слова:
— Приказываю господам офицерам и артиллеристам
мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им
скажу! За ночь в нашем положении, в положении армии
и, я бы сказал, в государственном положении на Укра-
ине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому
я объявляю вам, что дивизион распущен! Предлагаю
каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и
захватив здесь в цейхгаузе все, что каждый из вас
пожелает и что он может унести на себе, разойтись по
домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и
ожидать нового вызова от меня!
Он помолчал и этим как будто бы еще больше под-
черкнул ту абсолютно полную тишину, что была в зале.
Даже фонари перестали шипеть. Все взоры артиллерис-
тов и офицерской группы сосредоточились на одной точке
в зале, именно — на подстриженных усах господина
полковника.
Он заговорил вновь:
— Этот вызов последует с моей стороны немедленно,
лишь произойдет какое-либо изменение в положении. Но
Белая гвардия
531
должен вам сказать, что надежд на него мало... Сейчас
мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка,
но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать
каждый... э... (полковник вдруг выкрикнул следующее
слово) лучший! из вас — это быть отправленным на
Дон. Итак: приказываю всему дивизиону, за исключени-
ем господ офицеров и тех юнкеров, которые сегодня
ночью несли караулы, немедленно разойтись по домам!
— А?! А?! Га, га, га! — прошелестело по всей гро-
маде, и штыки в ней как-то осели. Замелькали расте-
рянные лица, и как будто где-то в шеренгах мелькнуло
несколько обрадованных глаз...
Из офицерской группы выделился штабс-капитан
Студзинский, как-то иссиня-бледноватый, косящий гла-
зами, сделал несколько шагов по направлению к пол-
ковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров.
Мышлаевский смотрел не на него, а все туда же, на усы
полковника Малышева, причем вид у него был такой,
словно он хочет, по своему обыкновению, выругаться
скверными матерными словами. Карась нелепо подбоче-
нился и заморгал глазами. А в отдельной группочке
молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное
разрушительное слово «арест»!..
— Что такое? Как? — где-то баском послышалось в
шеренге среди юнкеров.
— Арест!..
— Измена!!
Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на
светящийся шар над головой, вдруг скосил глаза на
ручку кобуры и крикнул:
— Эй, первый взвод!
Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры
выделились из нее, и произошла странная суета.
— Господин полковник! — совершено сиплым голо-
сом сказал Студзинский. — Вы арестованы.
— Арестовать его!! — вдруг истерически звонко
выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полков-
нику. — Постойте, господа! — крикнул медленно, но
прочно соображающий Карась.
Мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил
экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдер-
нул его назад.
— Пустите меня, господин поручик! — злобно дернув
ртом, выкрикнул прапорщик.
532
Михаил Булгаков
— Тише! — прокричал чрезвычайно уверенный голос
господина полковника. Правда, и ртом он дергал не
хуже самого прапорщика, правда, и лицо его пошло
красными пятнами, но в глазах у него было уверенности
больше, чем у всей офицерской группы. И все остано-
вились.
— Тише! — повторил полковник. — Приказываю вам
стать на места и слушать!
Воцарилось молчание, и у Мышлаевского резко на-
сторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже
проскочила в его голове, и он ждал уже от господина
полковника вещей важных и еще более интересных, чем
те, которые тот уже сообщил.
— Да, да, — заговорил полковник, дергая щекой, —
да... да... Хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким
составом, который мне послал господь бог. Очень был
бы хорош! Но то, что простительно добровольцу-студен-
ту, юноше-юнкеру, в крайнем случае, прапорщику, ни в
коем случае не простительно вам, господин штабс-капи-
тан!
При этом полковник вонзил в Студзинского исключи-
тельной резкости взор. В глазах у господина полковника
по адресу Студзинского прыгали искры настоящего
раздражения. Опять стала тишина.
— Ну, так вот-с, — продолжал полковник. —
В жизнь свою не митинговал, а, видно, сейчас придется.
Что ж, помитингуем! Ну, так вот-с: правда, ваша попыт-
ка арестовать своего командира обличает в вас хороших
патриотов, но она же показывает, что вы, э... офице-
ры — как бы выразиться? — неопытные! Коротко: вре-
мени у меня нет, и, уверяю вас, — зловеще и значитель
но подчеркнул полковник, — и у вас тоже. Вопрос: кого
желаете защищать?
Молчание.
— Кого желаете защищать, я спрашиваю? — грозно
повторил полковник.
Мышлаевский с искрами огромного и теплого инте-
реса выдвинулся из группы, козырнул и молвил:
— Гетмана обязаны защищать, господин полковник.
Глаза его светло и смело глядели на полковника.
— Гетмана? — переспросил полковник. — Отлично-с.
Дивизион, смирно! — вдруг рявкнул он так, что ди-
визион инстинктивно дрогнул. — Слушать!! Гетман се-
годня около четырех часов утра, позорно бросив нас
Белая гвардия
533
всех на произвол судьбы, бежал! Бежал, как последняя
каналья и трус! Сегодня же, через час после гетмана,
бежал туда же, куда и гетман, то есть в германский
поезд, командующий нашей армией генерал от кавале-
рии Белоруков. Не позже чем через несколько часов мы
будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втя-
нутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как
собаки. Слушайте: у Петлюры на подступах к городу
свыше чем стотысячная армия, и завтрашний день... да
что я говорю, не завтрашний, а сегодняшний, — полков-
ник указал рукой на окно, где уже начинал синеть
покров над городом, — разрозненные, разбитые части
несчастных офицеров и юнкеров, брошенные штабными
мерзавцами и этими двумя прохвостами, которых следо-
вало бы повесить, встретятся с прекрасно вооруженны-
ми и превышающими их в двадцать раз численностью
войсками Петлюры... Слушайте, дети мои! — вдруг сор-
вавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по
возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в стар-
шие братья всем стоящим под штыками. — Слушайте!
Я, кадровый офицер, вынесший войну с германцами, чему
свидетель штабс-капитан Студзинский, на свою совесть
беру и ответственность, все!! все!! Вас предупреждаю!
Вас посылаю домой! Понятно? — прокричал он.
— Да... а... га, — ответила масса, и штыки ее зака-
чались. И затем громко и судорожно заплакал во вто-
рой шеренге какой-то юнкер.
Штабс-капитан Студзинский совершенно неожиданно
для всего дивизиона, а вероятно, и для самого себя,
странным, не офицерским, жестом ткнул руками в пер-
чатках в глаза, причем дивизионный список упал на
пол, и заплакал.
Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие
юнкера, шеренги сразу развалились, и голос Радамеса-
Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул тру-
бачу:
— Юнкер Павловский! Бейте отбой!!
— Господин полковник, разрешите поджечь здание
гимназии? — светло глядя на полковника, сказал Мыш-
лаевский.
— Не разрешаю, — вежливо и спокойно ответил ему
Малышев.
— Господин полковник, — задушевно сказал Мыш-
лаевский, — Петлюре достанется цейхгауз, орудия и
534
Михаил Булгаков
главное, — Мышлаевский указал рукою в дверь, где в
вестибюле над пролетом виднелась голова Александра.
— Достанется, — вежливо подтвердил полковник.
— Но как же, господин полковник?..
Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него
внимательно, сказал следующее:
— Господин поручик, Петлюре через три часа доста-
нутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жалею,
что я ценой своей жизни и даже вашей, еще более
дорогой, конечно, их гибели приостановить не могу.
О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со
мною не говорить.
— Господин полковник, — сказал Студзинский, оста-
новившись перед Малышевым, — от моего лица и от
лица офицеров, которых я толкнул на безобразную вы-
ходку, прошу вас принять наши извинения.
— Принимаю, — вежливо ответил полковник.
*
Когда над Городом начал расходиться утренний ту-
ман, тупорылые мортиры стояли у Александровского
плаца без замков, винтовки и пулеметы, развинченные
и разломанные, были разбросаны в тайниках чердака.
В снегу, в ямах и в тайниках подвалов были разбросаны
груды патронов, и шары больше не источали света и
зале и коридорах. Белый щит с выключателями разло
мали штыками юнкера под командой Мышлаевского.
*
В окнах было совершенно сине. И в синеве на пло-
щадке оставались двое, уходящие последними, — Мыш
лаевский и Карась.
— Предупредил ли Алексея командир? — озабочен-
но спросил Мышлаевский Карася.
— Конечно, командир предупредил, ты ж видишь,
что он не явился? — ответил Карась.
— К Турбиным не попадем сегодня днем?
— Нет уж, днем нельзя, придется закапывать... то да
се. Едем к себе на квартиру.
В окнах было сине, а на дворе уже беловато, и
вставал и расходился туман.
Белая гвардия
535
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
8
Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматые
лапы, безлунный, темный, а потом предрассветный снег,
за Городом в далях маковки синих, усеянных сусальны-
ми звездами церквей и не потухающий до рассвета,
приходящего с московского берега Днепра, в бездонной
высоте над городом Владимирский крест.
К утру он потух. И потухли огни над землей. Но день
особенно не разгорался, обещал быть серым, с непрони-
цаемой завесой не очень высоко над Украиной.
Полковник Козырь-Лешко проснулся в пятнадцати
верстах от Города именно на рассвете, когда кисленький
парный светик пролез в подслеповатое оконце хаты в
деревне Попелюхе. Пробуждение Козыря совпало со
словом:
— Диспозиция.
Первоначально ему показалось, что он увидел его в
очень теплом сне и даже хотел отстранить рукой, как
холодное слово. Но слово распухло, влезло в хату вместе
с отвратительными красными прыщами на лице орди-
нарца и смятым конвертом. Из сумки со слюдой и сет-
кой Козырь вытащил под оконцем карту, нашел на ней
деревню Борхуны, за Борхунами нашел Белый Гай,
проверил ногтем рогулю дорог, усеянную, словно муха-
ми, точками кустарников по бокам, а затем и огромное
черное пятно — Город. Воняло махоркой от владельца
красных прыщей, полагавшего, что курить можно и при
Козыре и от этого война ничуть не пострадает, и креп-
ким второсортным табаком, который курил сам Козырь.
Козырю сию минуту предстояло воевать. Он отнесся
к этому бодро, широко зевнул и забренчал сложной
сбруей, перекидывая ремни через плечи. Спал он в
шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Баба заверте-
лась с кринкой молока. Никогда Козырь молока не пил
и сейчас не стал. Откуда-то приползли ребята. И один
из них, самый маленький, полз по лавке совершенно
голым задом, подбираясь к Козыреву маузеру. И не
добрался, потому что Козырь маузер пристроил на себя.
Всю свою жизнь до 1914 года Козырь был сельским
учителем. В четырнадцатом году попал на войну в дра-
гунский полк и к 1917 году был произведен в офицеры.
А рассвет четырнадцатого декабря восемнадцатого года
536
Михаил Булгаков
под оконцем застал Козыря полковником петлюровской
армии, и никто в мире (и менее всего сам Козырь) не
мог бы сказать, как это случилось. А произошло это
потому, что война для него, Козыря, была призванием,
а учительство лишь долгой и крупной ошибкой. Так,
впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни. Целых
лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом,
например, читает римское право, а на двадцать первом —
вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что
он даже не понимает его и не любит, а на самом деле
он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происхо-
дит это, надо полагать, от несовершенства нашего соци-
ального строя, при котором люди сплошь и рядом попа-
дают на свое место только к концу жизни. Козырь по-
пал к сорока пяти годам. А до тех пор был плохим
учителем, жестоким и скучным.
— А нуте, скажить хлопцам, щоб выбирались с хат,
тай по коням, — произнес Козырь и перетянул хруст-
нувший ремень на животе.
Курились белые хатки в деревне Попелюхе, и выез-
жал строй полковника Козыря сабелюк на четыреста.
В рядах над строем курилась махорка, и нервно ходил
под Козырем гнедой пятивершковый жеребец. Скрипели
дровни обоза, на полверсты тянулись за полком. Полк
качался в седлах, и тотчас же за Попелюхой развернул-
ся в голове конной колонны двухцветный прапор —
плат голубой, плат желтый, на древке.
Козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал
утром глоток водки. Царскую водку любил. Не было ее
четыре года, а при гетманщине появилась на всей Ук-
раине. Прошла водка из серой баклажки по жилам
Козыря веселым пламенем. Прошла водка и по рядам
из манерок, взятых еще со склада в Белой Церкви, и
лишь прошла, ударила в голове колонны трехряднам
итальянка и запел фальцет:
Гай, за гаем, гаем,
Гаем зелененьким...
А в пятом ряду рванули басы:
Там орала дивчиненька
Воликом черненьким...
Орала... орала,
Не вмила гукаты.
Тай наняла козаченька
На скрипочке граты.
Белая гвардия
537
— Фью... ах! Ах, тах, тах!.. — засвистал и защелкал
веселым соловьем всадник у прапора. Закачались пики,
и тряслись черные шлыки гробового цвета с позументом
и гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячью кова-
ных копыт. Ударил радостный торбан.
— Так его! Не журись, хлопцы, — одобрительно
сказал Козырь. И завился винтом соловей по снежным
украинским полям.
Прошли Белый Гай, раздернулась завеса тумана, и
по всем дорогам зачернело, зашевелилось, захрустело.
У Гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи
с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты
в передних шеренгах в синие одинакие жупаны доброт-
ного германского сукна, были тоньше лицами, подвиж-
нее, умело несли винтовки — галичане. А в задних
рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты,
подпоясанные желтыми сыромятными ремнями. И на
головах у всех колыхались германские разлапанные
шлемы поверх папах. Кованые боты уминали снег.
От силы начали чернеть белые пути к Городу.
Слава! — кричала проходящая пехота желто-блакит-
ному прапору.
— Слава! — гукал Гай перелесками.
«Славе» ответили пушки позади и на левой руке.
Командир корпуса облоги, полковник Торопец, еще в
ночь послал две батареи к Городскому лесу. Пушки
стали полукругом в снежном море и с рассветом начали
обстрел. Шестидюймовые волнами грохота разбудили
снежные корабельные сосны. По громадному селению
Пуще-Водице два раза прошло по удару, от которых в
четырех просеках в домах, сидящих в снегу, враз выле-
тели все стекла. Несколько сосен развернуло в щепы и
дало много<;аженные фонтаны снегу. Но затем в Пуще
смолкли звуки. Лес стал, как в полусне, и только пот-
ревоженные белки шлялись, шурша лапками, по столет-
ним стволам. Две батареи после этого снялись из-под
Пущи и пошли на правый фланг. Они пересекли необъ-
ятные пахотные земли, лесистое Урочище, повернули по
узкой дороге, дошли до разветвления и там разверну-
лись уже в виду Города. С раннего утра на Подгород-
ней, на Савской, в предместье Города, Куреневке, стали
рваться высокие шрапнели.
В низком снежном небе било погремушками, словно
кто-то играл. Там жители домишек уже с утра сидели
в погребах, и в утренних сумерках было видно, как
538
Михаил Булгаков
иззябшие цепи юнкеров переходили куда-то ближе к
сердцевине Города. Впрочем, пушки вскоре стихли и
сменились веселой тарахтящей стрельбой где-то на ок-
раине на севере. Затем и она утихла.
♦
Поезд командира корпуса облоги Торопца стоял на
разъезде верстах в пяти от занесенного снегом и оглу-
шенного буханьем и перекатами мертвенного поселка
Святошино, в громадных лесах. Всю ночь в шести ваго-
нах не гасло электричество, всю ночь звенел телефон на
разъезде и пищали полевые телефоны в измызганном
салоне полковника Торопца. Когда же снежный день
совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по
линии железной дороги, ведущей из Святошина на Пост-
Волынский, и птички запели в желтых ящиках, и худой,
нервный Торопец сказал своему адъютанту Худяковскому:
—- Взяли Святошино. Запропонуйте, будьте ласковы,
пане адъютант, нехай потяг передадут на Святошино.
Поезд Торопца медленно пошел между стенами стро-
евого зимнего леса и стал близ скрещенья железнодо-
рожной линии с огромным шоссе, стрелой вонзающимся
в Город. И тут, в салоне, полковник Торопец стал вы-
полнять свой план, разработанный им в две бессонные
ночи в этом самом клоповом салоне № 4173.
Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон.
На севере от Городского леса и пахотных земель, на
западе от взятого Святошина, на юго-западе от злосчаст
ного Поста-Волынского, на юге за рощами, кладбища
ми, выгонами и стрельбищем, опоясанными железной
дорогой, повсюду по тропам и путям и безудержно просто
по снежным равнинам чернела и ползла и позвякивала
конница, скрипели тягостные пушки, и шла и увязала а
снегу истомившаяся за месяц облоги пехота Петлюри
ной армии.
В вагон-салоне с зашарканным суконным полом поми-
нутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты Франь-
ко и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть.
— Ти-у... пи-у... слухаю! пи-у..., ти-у...
План Торопца был хитер, хитер был чернобровый,
бритый, нервный полковник Торопец. Недаром послал
он две батареи под Городской лес, недаром грохотал и
морозном воздухе и разбил трамвайную линию на лохма-
тую Пуще-Водицу. Недаром надвинул потом пулеметы
со стороны пахотных земель, приближая их к левому
. . ‘I HI с -• * J I . I • I t t к С I У ) ) - Г J ) t и
Белая гвардия
539
флангу. Хотел Торопец ввести в заблуждение защитни-
ков Города, что он, Торопец, будет брать Город с его,
Торопца, левого фланга (с севера), с предместья Куре-
невки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а
самому ударить в Город в лоб, прямо от Святошина по
Брест-Литовскому шоссе, и, кроме того, с крайнего
правого фланга, с юга, со стороны села Демиевки.
Вот в исполнение плана Торопца — двигались части
Петлюрина войска по дорогам с левого фланга на пра-
вый и шел под свист и гармонику со старшинами в
голове черношлычный полк Козыря-Лешко.
— Слава! — перелесками гукал Гай. — Слава!
Подошли, оставили Гай в стороне и, уже пересекши
железнодорожное полотно по бревенчатому мосту, уви-
дели Город. Он был еще теплый со сна, и над ним
курился не то туман, не то дым. Приподнявшись на
стременах, смотрел в цейссовские стекла Козырь туда,
где громоздились кровли многоэтажных домов и купола
собора старой Софий.
На правой руке у Козыря уже шел бой. Верстах в
двух медно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там
Петлюрина пехота цепочками перебегала к Посту-Во-
лынскому и цепочками же отваливала от Поста, в до-
статочной мере ошеломленная густым огнем, жиденькая
и разношерстная белогвардейская пехота...
♦
Город. Низкое густое небо. Угол. Домишки на окраи-
не, редкие шинели.
— Сейчас передавали, что будто с Петлюрой заклю-
чено соглашение — выпустить все русские части с ору-
жием на Дон к Деникину...
- Ну?
Пушки... Пушки... бух... бу-бу-бу...
А вот завыл пулемет.
Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе:
— Но, позволь, ведь тогда же нужно прекратить
сопротивление?..
Тоска в юнкерском голосе:
— А черт их знает!
Полковника Щеткина уже с утра не было в штабе,
и не было по той простой причине, что штаба этого
более не существовало. Еще в ночь под четырнадцатое
540
Михаил Булгаков
число штаб Щеткина отъехал назад* на вокзал Города-1*
и эту ночь провел в гостинице «Роза Стамбула», у са-
мого телеграфа. Там ночью у Щеткина изредка пела
телефонная птица, но к утру она затихла. А утром двое
адъютантов полковника Щеткина бесследно исчезли. Че-
рез час после этого и сам Щеткин, порывшись зачем-то
в ящиках с бумагами и что-то порвав в клочья, вышел
из заплеванной «Розы», но уже не в серой шинели с
погонами, а в штатском мохнатом пальто и в шляпе
пирожком. Откуда они взялись — никому не известно.
Взяв в квартале расстояния от «Розы» извозчика,
штатский Щеткин уехал в Липки, прибыл в тесную,
хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил,
поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с
нею в затаенную спальню. Прошептав прямо в округ-
лившиеся от ужаса глаза блондинки слова:
— Все кончено! О, как я измучен... — полковник Щет-
кин удалился в альков и там уснул после чашки черного
кофе, изготовленного руками золотистой блондинки.
*
Ничего этого не знали юнкера первой дружины.
А жаль! Если бы знали, то, может быть, осенило бы их
вдохновение и, вместо того чтобы вертеться под шрап-
нельным небом у Поста-Волынского, отправились бы
они в уютную квартиру в Липках, извлекли бы оттуда
сонного полковника Щеткина и, выведя, повесили бы
его на фонаре, как раз напротив квартирки с золотис-
тою особой.
Хорошо бы было это сделать, но они не сделали,
потому что ничего не знали и не понимали.
Да и никто ничего не понимал в Городе, и в буду-
щем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле: в Городе
железные, хотя, правда, уже немножко подточенные
немцы, в Городе усостриженный тонкий Лиса Патрикс-
евна гетман (о ранении в шею таинственного майора
фон Шратта знали утром очень немногие), в Городе его
сиятельство князь Белоруков, в Городе генерал Карту-
зов, формирующий дружины для защиты матери горо-
дов русских, в Городе как-никак и звенят и поют теле-
Белая гвардия 54|
фоны штабов (никто еще не знал, что они с утра уже
начали разбегаться), в Городе густопогонно. В Городе
ярость при слове «Петлюра» и еще в сегодняшнем же
номере газеты «Вести» смеются над ним блудливые
петербургские журналисты, в Городе ходят кадеты, а
там, у Караваевских дач, уже свищет соловьем разно-
цветная шлычная конница и заходят с левого фланга на
правый облегченною рысью лихие гайдамаки. Если они
свищут в пяти верстах, то, спрашивается, на что наде-
ется гетман? Ведь по его душу свищут! Ох, свищут...
Может быть, немцы за него заступятся? Но тогда поче-
му же тумбы-немцы равнодушно улыбаются в свои стри-
женые немцевы усы на станции Фастов, когда мимо них
эшелон за эшелоном к Городу проходят Петлюрины час-
ти? Может быть, с Петлюрой соглашение, чтобы мирно
впустить его в Город? Но тогда какого черта белые
офицерские пушки стреляют в Петлюру?
Нет, никто не поймет, что происходило в Городе днем
четырнадцатого декабря.
Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже, и
реже, и реже...
Реже!
Реже!
Дрррр!..
— Тиу...
— Что у вас делается?
— Тиу...
— Пошлите патроны полковнику...
— Степанову...
— Иванову.
— Антонову!
Стратонову!..
— На Дон... На Дон бы, братцы... что-то ни черта у
нас не выходит.
— Ти-у...
— А, к матери штабную сволочь!
— На Дон!..
Все реже и реже, а к полудню уже совсем редко.
Кругом Города, то здесь, то там, закипит грохот,
потом прервется... Но Город еще в полдень жил, несмот-
ря на грохот, жизнью, похожей на обычную. Магазины
были открыты и торговали. По тротуарам бегала масса
прохожих, хлопали двери, и ходил, позвякивая, трамвай.
И вот в полдень с Печерска завел музыку веселый
пулемет. Печерские холмы отразили дробный грохот, и
542
Михаил Булгаков
он полетел в центр Города. Позвольте, это уже совсем
близко!.. В чем дело? Прохожие останавливались и
начали нюхать воздух. И кой-где на тротуарах сразу
поредело.
Что? Кто?
— Арррррррррррррррррр-па-па-па-па-па! Па! Па! Па!
рррррррррррррррррррр!!
- Кто?
— Як кто? Шо ж вы, добродию, не знаете? Це пол-
ковник Болботун.
*
Да-с, вот тебе и взбунтовался против Петлюры!
Полковник Болботун, наскучив исполнением трудной
генерально-штабной думы полковника Торопца, решил
несколько ускорить события. Померзли Болботуновы
всадники за кладбищем на самом юге, где рукой уже
было подать до мудрого снежного Днепра. Померз и
сам Болботун. И вот поднял Болботун вверх стек, и
тронулся его конный полк справа по три, растянулся по
дороге и подошел к полотну, тесно опоясывающему
предместье Города. Никто тут полковника Болботуна не
встречал. Взвыли шесть Болботуновых пулеметов так.
что пошел раскат по всему урочищу Нижняя Теличка,
В один миг Болботун перерезал линию железной дороги
и остановил пассажирский поезд, который только про-
шел стрелу железнодорожного моста и привез в Город
свежую порцию москвичей и петербуржцев со сдобными
бабами и лохматыми собачками. Поезд совершенно
ошалел, но Болботуну некогда было возиться с собачка
ми в этот момент. Тревожные составы товарных порож
няков с Города-П, Товарного, пошли на Город-1, Пас
сажирский, засвистали маневровые паровозы, а Болбо
туновы пули устроили неожиданный град на крышах
домишек на Святотроицкой улице. И вошел в Город, и
пошел, пошел по улице Болботун, и шел беспрепя!
ственно до самого военного училища, во все переулки
высылая конные разведки. И напоролся Болботун имен
но только у Николаевского облупленного колонного учи
лища. Здесь Болботуна встретил пулемет и жидкий огонь
пачками какой-то цепи. В головном взводе Болботуна в
первой сотне убило казака Буценко, пятерых ранило и
двум лошадям перебило ноги. Болботун несколько за
держался. Показалось ему почему-то, что невесть какие
Белая гвардия
543
силы стоят против него. А на самом деле салютовали
полковнику в синем шлыке тридцать человек юнкеров и
четыре офицера с одним пулеметом.
Шеренги Болботуна по команде спешились, залегли,
прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печерск
наполнился грохотом, эхо заколотило по стенам, и в
районе Миллионной улицы закипело, как в чайнике.
И тотчас Болботуновы поступки получили отражение
в Городе: начали бухать железные шторы на Елисаве-
тинской, Виноградной и Левашовской улицах. Веселые
магазины ослепли. Сразу опустели тротуары и сдела-
лись неприютно-гулкими. Дворники проворно закрыли
ворота.
И в центре Города получилось отражение: стали
потухать петухи в штабных телефонах.
Пищат с батареи в штаб дивизиона. Что за чертов-
щина, не отвечают! Пищат в уши из дружины в штаб
командующего, чего-то добиваются. А голос в ответ
бормочет какую-то чепуху.
— Ваши офицеры в погонах?
— А, что такое?
— Ти-у..
— Ти-у...
— Выслать немедленно отряд на Печерск!
— А, что такое?
— Ти-у...
По улицам поползло: Болботун, Болботун, Болботун,
Болботун...
Откуда узнали, что это именно Болботун, а не кто-
нибудь другой? Неизвестно, но узнали. Может быть, вот
почему: с полудня среди пешеходов и зевак обычного
городского типа появились уже какие-то в пальто с
барашковыми воротниками. Ходили, шныряли. Усы у
них вниз, червячками, как на картинке Лебидя-Юрчика.
Юнкеров, кадетов, золотопогонных офицеров провожали
взглядами долгими и липкими. Шептали:
— Це Бовботун в мисце прийшов.
И шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах
их читалось явственное — «Слава!»
— Сла-ва-ва-вав-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва... —
холмы Печерска.
Поехала околесина на дрожках:
— Болботун — великий князь Михаил Александрович.
— Наоборот: Болботун — великий князь Николай
Николаевич.
544
Михаил Булгаков
Болботун — просто Болботун.
— Будет еврейский погром.
— Наоборот: они с красными бантами.
— Бегите-ка лучше домой.
— Болботун против Петлюры.
— Наоборот: он за большевиков.
— Совсем наоборот: он за царя, только без офицеров.
— Гетман бежал?
— Неужели? Неужели? Неужели? Неужели? Неуже-
ли? Неужели?
— Ти-у. Ти-у. Ти-у.
*
Разведка Болботуна с сотником Галаньбой во главе
пошла по Миллионной улице, и не было ни одной души
на Миллионной улице. И тут, представьте себе, открыл-
ся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвос-
татым гайдамакам не кто иной, как знаменитый подряд-
чик Яков Григорьевич Фельдман. Сдурели вы, что ли,
Яков Григорьевич, что вам понадобилось бегать, когда
тут происходят такие дела? Да, вид у Якова Григорь-
евича был такой, как будто он сдурел. Котиковый пи-
рожок сидел у него на самом затылке, и пальто нарас
пашку. И глаза блуждающие.
Было от чего сдуреть Якову Григорьевичу Фельдма-
ну. Как только заклокотало у военного училища, из
светлой спаленки жены Якова Григорьевича раздался
стон. Он повторился и замер.
— Ой, — ответил стону Яков Григорьевич, глянул я
окно и убедился, что в окне очень нехорошо. Кругом
грохот и пустота.
А стон разросся и, как ножом, резнул сердце Якова
Григорьевича. Сутулая старушка, мамаша Якова Гри-
горьевича, вынырнула из спальни и крикнула:
— Яша! Ты знаешь? Уже!
И рвался мыслями Яков Григорьевич к одной цели —
на самом углу Миллионной улицы у пустыря, где на
угловом домике уютно висела ржавая с золотом вывески;
Повивальная бабка Е. Т. Шадурская.
*
На Миллионной довольно-таки опасно, хоть она и
поперечная, а бьют вдоль с Печерской площади к Ки
евскому спуску.
!/•
Лишь бы проскочить, Лишь бы... Пирожок на затыл-
ке, в глазах ужас, и лепится под стенками Яков Гри-
горьевич Фельдман.
— Стый! Ты куды?
Галаньба перегнулся с седла. Фельдман стал темный
лицом, глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеле-
ные галунные хвосты гайдамаков.
— Я, Панове, мирный житель. Жинка родит. Мне до
бабки треба.
— До бабки? А чему ж це ты под стеной ховаешься?
а? ж-жидюга?..
— Я, панове...
Нагайка змеей прошла по котиковому воротнику и по
шее. Адова боль. Взвизгнул Фельдман. Стал не темным,
а белым, и померещилось между хвостами лицо жены.
— Посвидченя!
Фельдман вытащил бумажник с документами, раз-
вернул, взял первый листик и вдруг затрясся, тут толь-
ко вспомнил... ах, боже мой, боже мой! Что ж он на-
делал? Что вы, Яков Григорьевич, вытащили? Да разве
вспомнишь такую мелочь, выбегая из дому, когда из
спальни жены раздастся первый стон? О, горе Фельдма-
ну! Галаньба мгновенно овладел документом. Всего-то
тоненький листик с печатью, а в этом листике Фельдма-
на смерть.
7
«Предъявителю сего господину Фельдману Якову Григорьевичу
разрешается свободный выезд и въезд из Города по делам снабжения
броневых частей гарнизона Города, а равно и хождение по городу после
12 час. ночи.
Начснабжения — генерал-майор Илларионов.
Адъютант — поручик Лещинский».
Поставлял Фельдман генералу Картузову сало и
вазелин-полусмазку для орудий.
Боже, сотвори чудо!
— Пан сотник, це не тот документ!.. Позвольте...
— Нет, тот, — дьявольски усмехнувшись, молвил
Галаньба, — не журись, сами грамотны, прочитаем.
Боже! Сотвори чудо! Одиннадцать тысяч карбован-
цев... Все берите. Но только дайте жизнь! Дай! Шмаис-
роэль!
Не дал.
Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью.
Некогда было сотнику Галаньбе. Поэтому он просто
отмахнул шашкой Фельдману по голове.
IS-1R57
Мб1
Михаил Булгаков
9
Полковник Болботун, потеряв семерых казаков уби-
тыми и девять ранеными и семерых лошадей, прошел
полверсты от Печерской площади до Резниковской ули-
цы и там вновь остановился. Тут к отступающей юнкер-
ской цепи подошло подкрепление. В нем был один бро-
невик. Серая неуклюжая черепаха с башнями приполз-
ла по Московской улице и три раза прокатила по Пе-
черску удар с хвостом кометы, напоминающим шум
сухих листьев (три дюйма). Болботун мигом спешился,
коноводы увели в переулок лошадей, полк Болботуна
разлегся цепями, немножко осев назад к Печерской пло-
щади, и началась вялая дуэль. Черепаха запирала Мос-
ковскую улицу и изредка грохотала.
Звукам отвечала жидкая трескотня пачками из устья
Суворовской улицы. Там в снегу лежала цепь, отвалив-
шаяся с Печерской под огнем Болботуна, и ее подкреп-
ление, которое получилось таким образом:
- Др-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р...
— Первая дружина?
— Да, слушаю.
— Немедленно две офицерских роты Дайте на Пе-
черск.
— Слушаюсь. Дррррр... Ти... Ти... ти... ти...
И пришло на Печерск: четырнадцать офицеров, три
юнкера, один студент, один кадет и один актер из теат-
ра миниатюр.
♦
Увы. Одной жидкой цепи, конечно, недостаточно. Даже
и при подкреплении одной черепахой. Черепах-то долж-
но было подойти целых четыре. И уверенно можно ска-
зать, что, подойди они, полковник Болботун вынужден
был бы удалиться с Печерска. Но они не подошли.
Случилось это потому, что в броневой дивизион гет-
мана, состоящий из четырех превосходных машин, попал
в качестве командира второй машины не кто иной, как
знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917
года из рук Александра Федоровича Керенского Георги-
евский крест, Михаил Семенович Шполянский.
Михаил Семенович был черный и бритый, с бархат-
ными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онеги-
18-2
эБёЛая гвЬрДйя'5 547
на. Всему Городу Михаил Семенович стал известен не-
медленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга.
Михаил Семенович прославился как превосходный чтец
в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Са-
турна» и как отличнейший организатор поэтов и пред-
седатель городского поэтического ордена «Магнитный
Триолет». Кроме того, Михаил Семеныч не имел себе
равных как оратор, кроме того, управлял машинами как
военными, так и типа гражданского, кроме того, содержал
балерину оперного театра Мусю Форд и еще одну даму,
имени которой Михаил Семенович, как джентльмен, нико-
му не открывал, имел очень много денег и щедро разда-
вал их взаймы членам «Магнитного Триолета»;
пил белое вино,
играл в железку,
купил картину «Купающаяся венецианка»,
ночью жил на Крещатике,
утром в кафе «Бильбока»,
днем — в своем уютном номере лучшей гостиницы
«Континенталь», вечером — в «Прахе»,
на рассвете писал научный труд «Интуитивное у
Гоголя».
Гетманский Город погиб часа на три раньше, чем ему
следовало бы, именно из-за того, что Михаил Семенович
второго декабря 1918 года вечером в «Прахе» заявил
Степанову, Шейеру, Слоных и Черемшину (головка
«Магнитного Триолета») следующее:
— Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра,
кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем,
не в этом. Мне стало скучно,, потому что я давно не
бросал бомб.
По окончании в «Прахе» ужина, за который уплатил
Михаил Семенович, его, Михаила Семеныча, одетого в
дорогую шубу с бобровым воротником и цилиндр, про-
вожал весь «Магнитный Триолет» и пятый — некий
пьяненький в пальто с козьим мехом. О нем Шполянско-
му было известно немного: во-первых, что он болен
сифилисом, во-вторых, что он написал богоборческие
стихи, которые Михаил Семенович, имеющий большие
литературные связи, пристроил в один из московских
сборников, и, в-третьих, что он — Русаков, сын библи-
отекаря.
Человек с сифилисом плакал на свой козий мех под
электрическим фонарем Крещатика и, впиваясь в бобг
ровые манжеты Шполянского, говорил:
18’
— Шполянский, ты самый сильный из всех в этом
городе, который гниет так же, как и я. Ты так хорош,
что тебе можно простить даже твое жуткое сходство с
Онегиным! Слушай, Шполянский... Это неприлично —
походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров... В те-
бе нет благородной червоточины, которая могла бы сде-
лать тебя действительно выдающимся человеком наших
дней... Вот я гнию, и горжусь этим... Ты слишком здоров,
но ты силен, как винт, поэтому винтись туда!.. Винтись
ввысь!.. Вот так...
И сифилитик показал, как нужно это делать. Обхва-
тив фонарь, он действительно винтился возле него, став
каким-то образом длинным и тонким, как уж. Проходи-
ли проститутки мимо, в зеленых, красных, черных и
белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормо-
тали винту:
— Занюхался, т-твою мать?
Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семеныч
действительно походил на Онегина под снегом, летящим
в электрическом свете.
— Иди спать, — говорил он винту-сифилитику, не-
много отворачивая лицо, чтоб тот не кашлянул на него, —
иди. — Он толкал концами пальцев козье пальто в
грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого
шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стек-
лянными. Разошлись. Михаил Семенович подозвал из-
возчика, крикнул ему: «Мало-Провальная», — и уехал,
а козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на
Подол.
*
В квартире библиотекаря, ночью, на Подоле, перед
зеркалом, держа зажженную свечу в руке, стоял обна-
женный до пояса владелец козьего меха. Страх скакал
в глазах у него, как черт, руки дрожали, и сифилитик
говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка.
— Боже мой, боже мой, боже мой... Ужас, ужас,
ужас... Ах, этот вечер! Я несчастлив. Ведь был же со
мной и Шейер, и вот он здоров, он не заразился, потому
что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить
эту самую Лельку? Но какой смысл? Кто мне объяснит,
какой смысл? О господи, господи... Мне двадцать четы-
ре года, и я мог бы, мог бы... Пройдет пятнадцать лет,
4
F r' * , - г <
Белая гвардия
549
может быть, меньше, и вот разные зрачки, гнущиеся
ноги, потом безумные идиотские речи, а потом — я
гнилой, мокрый труп.
Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыль-
ном трюмо, свеча нагорала в высоко поднятой руке, и
на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь.
Слезы неудержимо текли по щекам больного, и тело его
тряслось и колыхалось.
— Мне нужно застрелиться. Но у меня на это нет
сил, к чему тебе, мой бог, я буду лгать? К чему тёбе я
буду лгать, мое отражение?
Он вынул из ящика маленького дамского письменно-
го стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей
серой бумаге. На обложке ее было напечатано красны-
ми буквами:
ФАНТОМИСТЫ—
ФУТУРИСТЫ
Стихи:
М. Шполянского.
Б. Фридмана.
В. Шаркевича.
И. Русакова.
Москва, 1918
На странице тринадцатой раскрыл бедный больной
книгу и увидел знакомые строки:
Ив. Русаков
БОГОВО ЛОГОВО
Раскинут в небе
Дымный лог.
Как зверь, сосущий лапу,
Великий сущий папа
Медведь мохнатый
Бог.
В берлоге
Логе
Бейте бога.
Звук алый .
Боговой битвы
Встречают матерной молитвой.
— Ах-а-ах, — стиснув зубы, болезненно застонал
больной. — Ах, — повторил он в неизбывной муке.
Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу
со стихотворением и бросил книгу на пол, потом опус-
тился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крес-
тами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного
550
Михаил Булгаков
паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безот-
радному окну:
— Господи, прости меня и помилуй за то, что я
написал эти гнусные слова. Но зачем же ты так жесток?
Зачем? Я знаю, что ты меня наказал. О, как страшно
ты меня наказал! Посмотри, пожалуйста, на мою кожу.
Клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете, па-
мятью мамы-покойницы — я достаточно наказан. Я верю
в тебя! Верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю
и прибегаю только к тебе, потому что нигде на свете нет
никого, как бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни
на кого, кроме как на тебя. Прости меня и сделай так,
чтобы лекарства мне помогли! Прости меня, что я ре-
шил, будто бы тебя нет: если бы тебя не было, я был
бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но
я человек и силен только потому, что ты существуешь
и во всякую минуту я могу обратиться к тебе с мольбой
о помощи. И я верю, что ты услышишь мои мольбы,
простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о господи,
забудь о той гнусности, которую я написал в припадке
безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я
клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы,
избавь меня от кокаина, избавь от слабости духа и
избавь меня от Михаила Семеновича Шполянского!..
Свеча наплывала, в комнате холодело, под утро кожа
больного покрылась мелкими пупырышками и на душе
у больного значительно полегчало.
♦
Михаил же Семенович Шполянский провел остаток
ночи на Малой Провальной улице в большой комнате с
низким потолком и старым портретом, на котором туск-
ло глядели, тронутые временем, эполеты сороковых го-
дов. Михаил Семенович, без пиджака, в одной белой
зефирной сорочке, поверх которой красовался черный с
большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке и
говорил женщине с бледным и матовым лицом такие
слова:
— Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к
этой сволочи — гетману в броневой дивизион.
После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый
платок, истерзанная полчаса тому назад и смятая поце-
луями страстного Онегина, ответила так:
Белая гвардия
551
— Я очень жалею, что никогда я не понимала и не
могу понимать твоих планов.
Михаил Семенович взял со столика перед козеткой
стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул
и молвил:
— И не нужно.
*
Через два дня после этого разговора Михаил Семе-
ныч преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась
фуражка блином, с офицерской кокардой, вместо штат-
ского платья — короткий полушубок до колен и на нем
смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструба-
ми, как у Марселя в «Гугенотах», ноги в гетрах. Весь
Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в
машинном масле (даже лицо) и почему-то в саже. Один
раз, и именно девятого декабря, две машины ходили в
бой под Городом и, нужно сказать, успех имели чрезвы-
чайный. Они проползли верст двадцать по шоссе, и после
первых же их трехдюймовых ударов и пулеметного воя
петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страш-
кевич, румяный энтузиаст и командир четвертой маши-
ны, клялся Михаилу Семеновичу, что все четыре маши-
ны, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отсто-
ять Город. Разговор этот происходил девятого вечером,
а одиннадцатого в группе Щура, Копылова и других
(наводчики, два шофера и механик) Шполянский, де-
журный по дивизиону, говорил в сумерки так:
— Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой
вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетма-
на. Мы представляем собой в его руках не что иное, как
дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он
насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть
может, столкновение Петлюры с гетманом исторически
показано и из этого столкновения должна родиться третья
историческая сила, и, возможно, единственно правильная.
Слушатели обожали Михаила Семеныча за то же, за
что его обожали в клубе «Прах», — за исключительное
красноречие.
— Какая же это сила? — спросил Копылов, пыхтя
козьей ножкой.
Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился
и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток.
Группа еще немножко побеседовала и разошлась. Две-
552
Михаил Булгаков
надцатого декабря вечером произошла в той же тесной
компании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за
автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался
неизвестным, но зато хорошо известно, что накануне
четырнадцатого декабря, когда в сараях дивизиона
дежурили Щур, Копылов и курносый Петрухин, Михаил
Семенович явился в сарай, имея при себе большой пакет
в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в
сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка, а
Копылов довольно фамильярно подмигнул на мешок и
спросил:
— Сахар?
— Угу, — ответил Михаил Семенович.
В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая, как
глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с
механиком, приготовляя их к завтрашнему выступлению.
Причина: бумага у командира дивизиона капитана
Плешко — «четырнадцатого декабря, в восемь часов
утра, выступить на Печерск с четырьмя машинами».
Совместные усилия Михаила Семеновича и механика
к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-
то странные результаты. Совершенно здоровые еще
накануне три машины (четвертая была в бою под коман-
дой Страшкевича) в утро четырнадцатого декабря не
могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что
с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь
осела в жиклерах, и сколько их ни продували шинными
насосами, ничего не помогло. Утром возле трех машин
в мутном рассвете была горестная суета с фонарями.
Капитан Плешко был бледен, оглядывался, как волк, и
требовал механика. Тут-то и начались катастрофы.
Механик исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизионе,
вопреки всем правилам, совершенно неизвестен. Прошел
слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом. Это
было в восемь часов, а в восемь часов тридцать минут
капитана Плешко постиг второй удар. Прапорщик
Шполянский, уехавший в четыре часа ночи после возни
с машинами на Печерск на мотоциклетке, управляемой
Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и расска-
зал горестную историю. Мотоциклетка заехала в Верх-
нюю Теличку, и тщетно Щур отговаривал прапорщика
Шполянского от безрассудных поступков. Означенный
Шполянский, известный всему дивизиону своей исклю-
чительной храбростью, оставив Щура и взяв карабин и
ручную гранату, отправился один во тьму на разведку
Белая гвардия
553
к железнодорожному полотну. Щур слышал выстрелы.
Щур совершенно уверен, что передовой разъезд против-
ника, заскочивший в Теличку, встретил Шполянского и,
конечно, убил его в неравном бою. Щур ждал прапорщика
два часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь один
час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвер-
гать опасности себя и казенную мотоциклетку № 8175.
Капитан Плешко стал еще бледнее после рассказа
Щура. Птички в телефоне из штаба гетмана и генерала
Картузова вперебой пели и требовали выхода машин.
В девять часов вернулся на четвертой машине с позиций
румяный энтузиаст Страшкевич, и часть его румянца
передалась на щеки командиру дивизиона. Энтузиаст
повел машину на Печерск, и она, как уже было сказано,
заперла Суворовскую улицу.
В десять часов утра бледность Плешко стала неиз-
менной. Бесследно исчезли два наводчика, два шофера
и один пулеметчик. Все попытки двинуть машины оста-
лись без результата. Не вернулся с позиции Щур, ушед-
ший по приказанию капитана Плешко на мотоциклетке.
Не вернулась, само собою понятно, и мотоциклетка,
потому что не может же она сама вернуться! Птички в
телефонах начали угрожать. Чем больше рассветал день,
тем больше чудес происходило в дивизионе. Исчезли
артиллеристы Дуван и Мальцев и еще парочка пулемет-
чиков. Машины приобрели какой-то загадочный и за-
брошенный вид, возле них валялись гайки, ключи и какие-
то ведра.
А в полдень, в полдень исчез сам командир дивизи-
она капитан Плешко.
10
Странные перетасовки, переброски, то стихийно бое-
вые, то связанные с приездом ординарцев и писком
штабных ящиков, трое суток водили часть полковника
Най-Турса по снежным сугробам и завалам под Горо-
дом, на протяжении от Красного Трактира до Серебрян-
ки на юге и до Поста-Волынского на юго-западе. Вечер
же на четырнадцатое декабря привел эту часть обратно
в Город, в переулок, в здание заброшенных, с наполови-
ну выбитыми стеклами, казарм.
Часть полковника Най-Турса была странная часть.
И всех, кто видел ее, она поражала своими валенками.
554
Михаил Булгаков
При начале последних трех суток в ней было около ста
пятидесяти юнкеров и три прапорщика.
К начальнику первой дружины генерал-майору Бло-
хину в первых числах декабря явился среднего роста,
черный, гладко выбритый, с траурными глазами кавале-
рист в полковничьих гусарских погонах и отрекомендо-
вался полковником Най-Турсом, бывшим эскадронным
командиром второго эскадрона бывшего Белградского
гусарского полка. Траурные глаза Най-Турса были ус-
троены таким образом, что каждый, кто ни встречался
с прихрамывающим полковником с вытертой георгиев-
ской ленточкой на плохой солдатской шинели, вниматель-
нейшим образом выслушивал Най-Турса. Генерал-майор
Блохин после недолгого разговора с Наем поручил ему
формирование второго отдела дружины с таким расче-
том, чтобы оно было закончено к тринадцатому декабря.
Формирование удивительным образом закончилось деся-
того декабря, и десятого же полковник Най-Турс, не-
обычайно скупой на слова вообще, коротко заявил гене-
рал-майору Блохину, терзаемому со всех сторон штаб-
ными птичками, о том, что он, Най-Турс, может высту-
пить уже со своими юнкерами, но при непременном
условии, что ему дадут на весь отряд в сто пятьдесят
человек папахи и валенки, без чего он, Най-Турс, счи-
тает войну совершенно невозможной. Генерал Блохин,
выслушав картавого и лаконического полковника, охот
но выписал ему бумагу в отдел снабжения, но предуп-
редил полковника, что по этой бумаге он наверняка
ничего не получит ранее, чем через неделю, потому что
в этих отделах снабжения и в штабах невероятнейшая
чепуха, кутерьма и безобразье. Картавый Най-Турс
забрал бумагу, по своему обыкновению, дернул левым
подстриженным усом и, не поворачивая головы ни впра-
во, ни влево (он не мог ее поворачивать, потому что
после ранения у него была сведена шея, и в случае
необходимости посмотреть вбок он поворачивался всем
корпусом), отбыл из кабинета генерал-майора Блохина.
В помещении дружины на Львовской улице Най-Турс
взял с собою десять юнкеров (почему-то с винтовками)
и две двуколки и направился с ними в отдел снабжения,
В отделе снабжения, помещавшемся в прекрасней-
шем особнячке на Бульварно-Кудрявской улице, в уют-
ном кабинетике, где висела карта России и со времен
Красного Креста оставшийся портрет Александры Фе-
доровны, полковника Най-Турса встретил маленький.
Белая гвардия
555
румяный странненьким румянцем, одетый в серую ту-
журку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое
белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра
Александра II, Милютина, генерал-лейтенант Макушин.
Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом,
похожим на голос глиняной свистульки, спросил у Ная:
— Что вам угодно, полковник?
— Выступаем сейчас, — лаконически ответил Най, —
пгошу сгочно ваэнки и папахи на двести человек.
— Гм, =г- сказал генерал, пожевав губами и помяв
в руках требование Ная, — видите ли, полковник, сегод-
ня дать не можем. Сегодня составим расписание снаб-
жения частей. Дня через три прошу прислать. И такого
количества все равно дать не могу.
Он положил бумагу Най-Турса на видное место под
пресс в виде голой женщины.
— Валенки, — монотонно ответил Най и, скосив
глаза к носу, посмотрел туда, где находились носки его
сапог.
— Как? — не понял генерал и удивленно уставился
на полковника.
— Валенки сию минуту давайте.
— Что такое? Как? — генерал выпучил глаза до
предела.
Най повернулся к двери, приоткрыл ее и крикнул в
теплый коридор особняка:
— Эй, взвод!
Генерал побледнел серенькой бледностью, перемет-
нул взгляд с лица Ная на трубку телефона, оттуда на
икону Божьей Матери в углу, а затем опять на лицо
Ная.
В коридоре загремело, застучало, и красные околы-
ши алексеевских юнкерских бескозырок и черные штыки
замелькали в дверях. Генерал стал приподниматься с
пухлого кресла.
— Я впервые слышу такую вещь... Это бунт...
— Пишите тгебование, ваше пгевосходительство, —
сказал Най, — нам некогда, нам чегез час выходить.
Непгиятель, говогят, под самым гогодом.
— Как?.. Что это?..
— Живей, — сказал Най каким-то похоронным го-
лосом.
Генерал, вдавив голову в плечи, выпучив глаза, вы-
тянул из-под женщины бумагу и прыгающей ручкой
нацарапал в углу, брызнув чернилами: «Выдать».
556
Михаил * БуйгмкЪв
Най взял бумагу, сунул ее за обшлаг рукава и ска-
зал юнкерам, наследившим на ковре:
— Ггузите валенки. Живо.
Юнкера, стуча и гремя, стали выходить, а Най задер-
жался. Генерал, багровея, сказал ему:
— Я сейчас звоню в штаб командующего и поднимаю
дело о предании вас военному суду. Эт-то что-то...
— Попгобуйте, —- ответил Най и проглотил слюну, —
только попгобуйте. Ну, вот попгобуйте гади любопытст-
ва. — Он взялся за ручку, выглядывающую из расстег-
нутой кобуры. Генерал пошел пятнами и онемел.
— Звякни, гвупый стагик, — вдруг задушевно сказал
Най, — я тебе из кольта звякну в голову, ты ноги
пготянешь.
Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми
складками, а лицо осталось сереньким. Най повернулся
и вышел.
Генерал несколько минут сидел в кожаном кресле,
потом перекрестился на икону, взялся за трубку теле-
фона, поднес ее к уху, услыхал глухое и интимное «стан-
ция»... неожиданно ощутил перед собой траурные глаза
картавого гусара, положил трубку и выглянул в окно.
Увидал, как на дворе суетились юнкера, вынося из черной
двери сарая серые связки валенок. Солдатская рожа
каптенармуса, совершенно ошеломленного, виднелась на
черном фоне. В руках у него была бумага. Най стоял у
двуколки, растопырив ноги, и смотрел на нее. Генерал
слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул ее
и на первой странице прочитал:
«У реки Ирпеня столкновения с разъездами противника, пытавши-
мися проникнуть к Святошину...» —
бросил газету и сказал вслух:
— Будь проклят день и час, когда я ввязался в это...
Дверь открылась, и вошел похожий на бесхвостого
хорька капитан — помощник начальника снабжения. Он
выразительно посмотрел на багровые генеральские склад-
ки над воротничком и молвил:
— Разрешите доложить, господин генерал...
— Вот что, Владимир Федорович, — перебил гене-
рал, задыхаясь и тоскливо блуждая глазами, — я по-
чувствовал себя плохо... прилив... хем... я сейчас поеду
домой, а вы, будьте добры, без меня здесь распорядитесь.
— Слушаю, — любопытно глядя, ответил хорек, -—
как же прикажете быть? Запрашивают из четвертой
дружины и из конно-горной валенки. Вы изволили рас-
порядиться двести пар?
— Да. Да! — пронзительно ответил генерал. — Да,
я распорядился! Я! Сам! Изволил! У них исключение!
Они сейчас выходят. Да. На позиции. Да!!
Любопытные огоньки заиграли в глазах хорька.
— Четыреста пар всего...
— Что ж я сделаю? Что? — сипло вскричал гене-
рал. — Рожу я, что ли?! Рожу валенки? Рожу? Если
будут запрашивать — дайте — дайте — дайте!!
Через пять минут на извозчике генерала Макушина
отвезли домой.
*
В ночь с тринадцатого на четырнадцатое мертвые
казармы в Брест-Литовском переулке ожили. В громад-
ном заслякощенном зале загорелась электрическая лам-
па на стене между окнами (юнкера днем висели на
фонарях и столбах, протягивая какие-то проволоки).
Полтораста винтовок стояли в козлах, и на грязных
нарах вповалку спали юнкера. Най-Турс сидел у дере-
вянного колченогого стола, заваленного краюхами хле-
ба, котелками с остатками простывшей жижи, подсум-
ками и обоймами, разложив пестрый план Города.
Маленькая кухонная лампочка отбрасывала пучок све-
та на разрисованную бумагу, и Днепр был виден на ней
разветвленным, сухим и синим деревом.
Около двух часов ночи сон стал морить Ная. Он
шмыгал носом, клонился несколько раз к плану, как
будто что-то хотел разглядеть в нем. Наконец негромко
крикнул:
— Юнкег?!
— Я, господин полковник, — отозвалось у двери, и
юнкер, шурша валенками, подошел к лампе.
— Я сейчас лягу, — сказал Най, — а вы меня
газбудите чегез тги часа. Если будет телефоног’амма,
газбудите пгапогщика Жагова, и в зависимости от ее
содегжания он будет меня будить или нет.
Никакой телефонограммы не было... Вообще в эту
ночь штаб не беспокоил отряд Ная. Вышел отряд на
рассвете с тремя пулеметами и тремя двуколками и
растянулся по дороге. Окраинные домишки словно вы-
мерли. Но, когда отряд вышел на Политехническую
558
Михаил Булгаков
широчайшую улицу, на ней застал движение. В раннёнь-
ких сумерках мелькали, погромыхивая, фуры, брели серые
отдельные папахи. Все это направлялось назад в Город
и часть Ная обходило с некоторой пугливостью. Медлен-
но и верно рассветало, и над садами казенных дач, над
утоптанным и выбитым шоссе вставал и расходился
туман.
С этого рассвета до трех часов дня Най находился на
Политехнической стреле, потому что днем все-таки при-
ехал юнкер из его связи на четвертой двуколке и привез
ему записку карандашом из штаба:
в
«Охранять Политехническое шоссе и, в случае появления неприяте-
ля, принять бой».
Этого неприятеля Най-Турс увидал впервые в три
часа дня, когда на левой руке, вдали, на заснеженном
плацу военного ведомства, показались многочисленные
всадники. Это и был полковник Козырь-Лешко, согласно
диспозиции полковника Торопца пытающийся войти на
стрелу и по ней проникнуть в сердце Города. Собствен-
но говоря, Козырь-Лешко, не встретивший до самого
подхода к Политехнической стреле никакого сопротив-
ления, не нападал на Город, а вступал в него, вступал
победно и широко, прекрасно зная, что следом за его
полком идет еще курень конных гайдамаков полковника
Сосненко, два полка синей дивизии, полк сечевых стрель-
цов и шесть батарей. Когда на плацу показались кон-
ные точки, шрапнели стали рваться высоко, по-журав-
линому, в густом, обещающем снег небе. Конные точки
собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе,
стали пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатились на
Най-Турса. По цепям юнкеров прокатился грохот затво-
ров, Най вынул свисток, пронзительно свистнул и за-
кричал:
— Пгямо по кавагегии!.. залпами... о-гонь!
Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера
отправили Козырю первый залп. Три раза после этого
рвало штуку полотна от самого неба до стен Политех-
нического института, и три раза, отражаясь хлещущим
громом, стрелял Най-Турсов батальон. Конные черные
ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе.
Вот в это-то время с Наем что-то произошло. Соб-
ственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу
не видел Ная испуганным, а тут показалось юнкерам,
будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, не то
8 Белая' гварДйя
559
услыхал вдали... одним словом, Най приказал отходить
на Город. Один взвод остался и, перекатывая рокот, бил
по стреле, прикрывая отходящие взводы. Затем перебе-
жал и сам. Так две версты бежали, припадая и будя
эхом великую дорогу, пока не оказались на скрещении
стрелы с тем самым Брест-Литовским переулком, где
провели прошлую ночь. Перекресток умер совершенно,
и нигде не было ни одной души.
Здесь Най отделил трех юнкеров и приказал им:
. — Бегом на Полевую и на Богщаговскую, узнать, где
наши части и что с ними. Если встгетите фугы, двуколки
или какие-нибудь сгедства пегедвижения, отступающие
неогганизованно, взять их. В случае сопготивления
уг’ожать оружием, а затем его пгименить...
Юнкера убежали назад и налево и скрылись, а спе-
реди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они
застучали по крышам, стали чаще, и в цепи упал юнкер
лицом в снег и окрасил его кровью. За ним другой,
охнув, отвалился от пулемета. Цепи Ная растянулись и
стали гулко рокотать по стреле беглым непрерывным
огнем, встречая колдовским образом вырастающие из
земли темненькие цепочки неприятеля. Раненых юнке-
ров подняли, размоталась белая марля. Скулы Иая
пошли желваками. Он все чаще и чаще поворачивал
туловище, стараясь далеко заглянуть во фланги, и даже
по его лицу было видно, что он нетерпеливо ждет пос-
ланных юнкеров. И они наконец прибежали, пыхтя, как
загнанные гончие, со свистом и хрипом. Най насторо-
жился и потемнел лицом^ Первый юнкер добежал до
Ная, стал перед ним и сказал, задыхаясь:
— Господин полковник, никаких наших частей нет не
только на Шулявке, но и нигде нет, — он перевел дух. —
У нас в тылу пулеметная стрельба, и неприятельская
конница сейчас прошла вдали по Шулявке, как будто
бы входя в Город...
Слова юнкера в ту же секунду покрыл оглушитель-
ный свист Ная.
Три двуколки с громом выскочили в Брёст-Литов-
ский переулок, простучали по нему, а оттуда по Фонар-
ному и покатили по ухабам. В двуколках увезли двух
раненых юнкеров, пятнадцать вооруженных и здоровых
и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли.
А Най-Турс повернулся лицом к цепям и зычно и кар-
таво отдал юнкерам никогда ими не слыханную, стран-
ную команду...
560
Михаил Булгаков
В облупленном и жарко натопленном помещении
бывших казарм на Львовской улице томился третий отдел
первой пехотной дружины, в составе двадцати восьми
человек юнкеров. Самое интересное в этом томлении
было то, что командиром этих томящихся оказался своей
персоной Николка Турбин. Командир отдела, штабс-
капитан Безруков, и двое его помощников — прапорщи-
ки, утром уехавши в штаб, не возвращались. Николка —
ефрейтор, самый старший, шлялся по казарме, то и
дело подходя к телефону и посматривая на него.
Так дело тянулось до трех часов дня. Лица у юнке-
ров в конце концов стали тоскливыми. Эх... эх...
В три часа запищал полевой телефон.
— Это третий отдел дружины?
- Да.
— Командира к телефону.
— Кто говорит?
— Из штаба...
— Командир не вернулся.
— Кто говорит?
— Унтер-офицер Турбин.
— Вы старший?.
— Так точно.
— Немедленно выведите команду по маршруту.
И Николка вывел двадцать восемь человек и повел
по улице.
*
До двух часов дня Алексей Васильевич спал мерт-
вым сноМ' Проснулся он словно облитый водой, глянул
на часики на стуле, увидел, что на них без десяти минут
два, и заметался по комнате. Алексей Васильевич натя-
нул валенки, насовал в карманы, торопясь и забывая то
одно, то другое, спички, портсигар, платок, браунинг и
две обоймы, затянул потуже шинель, потом припомнил
что-то, но поколебался, — это показалось ему позорным
и трусливым, но все-таки сделал, — вынул из стола
свой гражданский врачебный паспорт. Он повертел его
в руках, решил взять с собой, но Елена окликнула его
в это время, и он забыл его на столе.
— Слушай, Елена, — говорил Турбин, затягивая пояс
и нервничая; сердце его сжималось нехорошим предчув-
ствием, и он страдал при мысли, что Елена останется
Белая гвардия
561
одна с Анютой в пустой большой квартире, — ничего не
поделаешь. Не идти нельзя. Ну, со мной, надо полагать,
ничего не случится. Дивизион не уйдет дальше окраин
Города, а я стану где-нибудь в безопасном месте. Авось
бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что
положение стало немножко посерьезнее, ну, авось ото-
бьем Петлюру. Ну, прощай, прощай...
Елена одна ходила по опустевшей гостиной от пианино,
где, по-прежнему не убранный, виднелся разноцветный
Валентин, к двери в кабинет Алексея. Паркет поскрипы-
вал у нее под ногами. Лицо у нее было несчастное.
*
На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской
Турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился везти,
но, мрачно сопя, назвал чудовищную сумму, и видно
было, что он не уступит. Скрипнув зубами, Турбин сел
в сани и поехал по направлению к музею. Морозило.
На душе у Алексея Васильевича было очень тревож-
но. Он ехал и прислушивался к отдаленной пулеметной
стрельбе, которая взрывами доносилась откуда-то со
стороны Политехнического института и как будто бы по
направлению к вокзалу. Турбин думал о том, что бы это
означало (полуденный визит Болботуна Турбин проспал),
и, вертя головой, всматривался в тротуары. На них было
хоть и тревожное и сумбурное, но все же большое дви-
жение.
— Стой... ст... — сказал пьяный голос.
— Что это значит? —- сердито спросил Турбин.
Извозчик так натянул вожжи, что чуть не свалился
Турбину на колени. Совершенно красное лицо качалось
у оглобли, держась за вожжу и по ней пробираясь к
сиденью. На дубленом полушубке поблескивали смятые
прапорщичьи погоны. Турбина на расстоянии аршина
обдал тяжелый запах перегоревшего спирта и луку.
В руках прапорщика покачивалась винтовка.
— Пав... пав... паварачивай, — сказал красный
пьяный, — выса... высаживай пассажира... — Слово
«пассажир» вдруг показалось красному смешным, и он
хихикнул.
— Что это значит? — сердито повторил Турбин. —
Вы не видите, кто едет? Я на сборный пункт. Прошу
оставить извозчика. Трогай!
56ff
Михаил* Булгаков
— Нет, не трогай... — угрожающе сказал красный и
только тут, поморгав глазами, заметил погоны Турбина. —-
А, доктор, ну, вместе... и я сяду...
— Нам не по дороге... Трогай!
— Па...а-звольте...
— Трогай!
Извозчик, втянув голову в плечи, хотел дернуть, но
потом раздумал; обернувшись, он злобно и боязливо
покосился на красного. Но тот вдруг отстал сам, потому
что заметил пустого извозчика. Пустой хотел уехать, но
не успел. Красный обеими руками поднял винтовку и
погрозил ему. Извозчик застыл на месте, и красный,
спотыкаясь и икая, поплелся к нему.
— Знал бы, за пятьсот не поехал, — злобно бурчал
извозчик, нахлестывая круп клячи, — стрельнет в спи-
ну, что ж с него возьмешь?
Турбин мрачно молчал.
«Вот сволочь... такие вот позорят все дело», — злоб-
но думал он.
На перекрестке у оперного театра кипела суета и
движение. Прямо посредине на трамвайном пути стоял
пулемет, охраняемый маленьким иззябшим кадетом, в
черной шинели и наушниках, и юнкером в сером. Про-
хожие, как мухи, кучками лепились по тротуару, любо-
пытно глядя на пулемет. У аптеки, на углу, Турбин уже
в виду музея отпустил извозчика.
— Прибавить надо, ваше высокоблагородие, — злоб-
но и*настойчиво говорил извозчик, — знал бы, не поехал
бы. Вишь, что делается!
— Будет.
— Детей зачем-то ввязали в это... — послышался
женский голос.
Тут только Турбин увидал толпу вооруженных у музея.
Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между
полами шинелей пулеметы на тротуаре. И тут кипуче
забарабанил пулемет на Печерске.
Вра... вра... вра... вра... вра... вра... вра...
«Чепуха какая-то уже, кажется, делается», — расте-
рянно думал Турбин и, ускорив шаг, направился к музею
через перекресток.
«Неужели опоздал?.. Какой скандал... Могут подумать,
что я сбежал...»
Прапорщики, юнкера, кадеты, очень редкие солдаты
волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда
Белая гвардия '
363
музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац
Александровской гимназии. Громадные стекла двери
дрожали поминутно, двери стонали, и в круглое белое
здание музея, на фронтоне которого красовалась золо-
тая надпись:
«На благое просвещение русского народа»,
вбегали вооруженные, смятые и встревоженные юнкера.
— Боже! — невольно вскрикнул Турбин. — Они уже
ушли.
Мортиры безмолвно щурились на Турбина и, одино-
кие и брошенные, стояли там же, где вчера.
«Ничего не понимаю... что это значит?»
Сам не зная зачем, Турбин побежал по плацу к
пушкам. Они вырастали по мере движения и грозно
смотрели на Турбина. И вот крайняя. Турбин остановил-
ся и застыл: на ней не было замка. Быстрым бегом он
перерезал плац обратно и выскочил вновь на улицу.
Здесь еще больше кипела толпа, кричали многие голоса
сразу и торчали и прыгали штыки.
— Картузова надо ждать! Вот что! — выкрикивал
звонкий встревоженный голос. Какой-то прапорщик пе-
ресек Турбину путь, и тот увидел на спине у него жел-
тое седло с болтающимися стременами.
— Польскому легиону отдать.
— А где он?
— А черт его знает!
— Все в музей! Все в музей!
— На Дон!
Прапорщик вдруг остановился, сбросил седло на
тротуар.
— К чертовой матери! Пусть пропадет все, — ярост-
но завопил он, — ах, штабные!..
Он метнулся в сторону, грозя кому-то кулаками.
«Катастрофа... Теперь понимаю... Но вот в чем ужас —
они, наверно, ушли в пешем строю. Да, да, да... Несом-
ненно. Вероятно, Петлюра подошел неожиданно. Лоша-
дей нет, и они ушли с винтовками, без пушек... Ах ты,
боже мой... к Анжу надо бежать... Может быть, там
узнаю... Даже наверно, ведь кто-нибудь же да остался?»
Турбин выскочил из вертящейся суеты и, больше ни
на что не обращая внимания, побежал назад, к оперно-
му театру. Сухой порыв ветра пролетел по асфальтовой
дорожке, окаймляющей театр, и пошевелил край полу-
W,
М^аил^ Булгаков
оборванной афиши на стене театра, у чернооконного
бокового подъезда. Кармен. Кармен.
И вот Анжу. В окнах нет пушек, в окнах нет золотых
погон. В окнах дрожит и переливается огненный, зыбкий
отсвет. Пожар? Дверь под руками Турбина звякнула, но
не поддалась. Турбин постучал тревожно. Еще раз пос-
тучал. Серая фигура, мелькнув за стеклом двери, от-
крыла ее, и Турбин попал в магазин. Турбин, оторопев,
всмотрелся в неизвестную фигуру. На ней была студен-
ческая черная шинель, а на голове штатская, молью
траченная, шапка с ушами, притянутыми на темя. Лицо
странно знакомое, но как будто чем-то обезображенное
и искаженное. Печь яростно гудела, пожирая какие-то
листки бумаги. Бумагой был усеян весь пол. Фигура,
впустив Турбина, ничего не объясняя, тотчас же метну-
лась от него к печке и села на корточки, причем баг-
ровые отблески заиграли на ее лице.
«Малышев? Да, полковник Малышев», — узнал
Турбин.
Усов на полковнике не было. Гладкое синевыбритое
место было вместо них.
Малышев, широко отмахнув руку, сгреб с полу листы
бумаги и сунул их в печку.
«Ага... а».
— Что это? Кончено? — глухо спросил Турбин.
— Кончено, — лаконически ответил полковник, вско-
чил, рванулся к столу, внимательно обшарил его глаза-
ми, несколько раз хлорнул ящиками, выдвигая и задви-
гая их, быстро согнулся, подобрал последнюю пачку
листков на полу и их засунул в печку. Лишь после этого
он повернулся к Турбину и прибавил иронически спо-
койно: — Повоевали — и будет! — Он полез за пазуху,
вытащил торопливо бумажник, проверил в нем докумен-
ты, два каких-то листка надорвал крест-накрест и бро-
сил в печь. Турбин в это время всматривался в него. Ни
на какого полковника Малышев больше не походил.
Перед Турбиным стоял довольно плотный студент, ак-
тер-любитель с припухшими малиновыми губами.
— Доктор? Что же вы? — Малышев беспокойно
указал на плечи Турбина. — Снимите скорей. Что вы
делаете? Откуда вы? Не знаете, что ли, ничего?
— Я опоздал, полковник, — начал Турбин.
Малышев весело улыбнулся. Потом вдруг улыбка
слетела с лица, он виновато и тревожно качнул головой
и молвил:
Белая' гвардий * ЙЙГ
— Ах ты, боже мой, ведь это я вас подвел! Назначил
вам этот час... Вы, очевидно, днем не выходили из дому?
Ну, ладно. Об этом нечего сейчас говорить. Одним сло-
вом: снимайте скорее погоны и бегите, прячьтесь.
— В чем дело? В чем дело, скажите, ради бога?..
— Дело? — иронически весело переспросил Малы-
шев. — Дело в том, что Петлюра в городе. На Печерске,
если не на Крещатике уже. Город взят. — Малышев
вдруг оскалил зубы, скосил глаза и заговорил опять
неожиданно не как актер-любитель, а как прежний
Малышев: — Штабы предали нас. Еще утром надо было
разбегаться. Но я, по счастью, благодаря хорошим людям,
узнал все еще ночью и дивизион успел разогнать. Док-
тор, некогда думать, снимайте погоны!
— ...а там, в музее, в музее...
Малышев потемнел.
— Не касается, — злобно ответил он, — не касается!
Теперь меня ничего больше не касается. Я только что
был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться.
Больше сделать ничего не могу-с. Своих я всех спас. На
убой не послал! На позор не послал! — Малышев вдруг
начал выкрикивать истерически, очевидно, что-то наго-
рело в нем и лопнуло, и больше себя он сдерживать не
мог. — Ну, генералы! — Он сжал кулаки и стал грозить
кому-то. Лицо его побагровело.
В это время с улицы откуда-то в высоте взвыл пу-
лемет, и показалось, что он трясет большой соседний
дом.
Малышев встрепенулся, сразу стих.
— Ну-с, доктор, ходу! Прощайте. Бегите! Только не
на улицу, а вот отсюда, через черный ход, а там двора-
ми. Там еще открыто. Скорей.
Малышев пожал руку ошеломленному Турбину, кру-
то повернулся и убежал в темное ущелье за перегород-
кой. И сразу стихло в магазине. А на улице стих пу-
лемет.
Наступило одиночество. В печке горела бумага. Тур-
бин, несмотря на окрики Малышева, как-то вяло и
медленно подошел к двери. Нашарил крючок, спустил
его в петлю и вернулся к печке. Несмотря на окрики,
Турбин действовал не спеша, на каких-то вялых ногах,
с вялыми, скомканными мыслями. Непрочный огонь
пожрал бумагу, устье печки из веселого пламенного
превратилось в тихое красноватое, и в магазине сразу
«ММ>
Михаил Булгаков
потемнело. В сереньких тенях лепились полки по сте-
нам. Турбин обвел их глазами и вяло же подумал, что
у мадам Анжу еще до сих пор пахнет духами. Нежно и
слабо, но пахнет.
Мысли в голове у Турбина сбились в бесформенную
кучу, и некоторое время он совершенно бессмысленно
смотрел туда, где исчез побритый полковник. Потом, в
тишине, ком постепенно размотался. Вылез самый глав-
ный и яркий лоскут — Петлюра тут. «Пэтурра, Пэтур-
ра», — слабенько повторил Турбин и усмехнулся, сам
не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке, затя-
нутому слоем пыли, как тафтой.
Бумага догорела, и последний красный язычок, по-
дразнив немного, угас на полу. Стало сумеречно.
— Петлюра, это так дико... В сущности, совершенно
пропащая страна, — пробормотал Турбин в сумерках
магазина, но потом опомнился: — Что же я мечтаю?
Ведь, чего доброго, сюда нагрянут?
Тут он заметался, как и Малышев перед уходом, и
стал срывать погоны. Нитки затрещали, и в руках ос-
тались две серебряных потемневших полоски с гимнас-
терки и еще две зеленых с шинели. Турбин поглядел на
них, повертел в руках, хотел спрятать в карман на
память, но подумал и сообразил, что это опасно, решил
сжечь. В горючем материале недостатка не было, хоть
Малышев и спалил все документы. Турбин нагреб с
полу целый ворох шелковых лоскутов, всунул, его в печь
и поджег. Опять заходили уроды по стенам и по полу,
и опять временно ожило помещенье мадам Анжу.
В пламени серебряные полоски покоробились, вздулись
пузырями, стали смуглыми, потом скорчились...
Возник существенно важный вопрос в турбинской
голове — как быть с дверью? Оставить на крючке или
открыть? Вдруг кто-нибудь из добровольцев, вот так же,
как Турбин, отставший, прибежит, — ан укрыться-то и
негде будет! Турбин открыл крючок. Потом его обожгла
мысль: паспорт? Он ухватился за один карман, другой —
нет. Так и есть! Забыл, ах, это уже скандал. Вдруг
нарвешься на них? Шинель серая. Спросят — кто? До-
ктор... а вот докажи-ка! Ах, чертова рассеянность!
«Скорее», — шепнул голос внутри.
Турбин, больше не раздумывая, бросился в глубь
магазина и по пути, по которому ушел Малышев, через
маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а
оттуда по черному ходу во двор.
Белая гйарДаЯ
-«67
11
Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин
Николай вывел двадцать восемь человек юнкеров и через
весь Город провел их согласно маршруту. Маршрут
привел Турбина с юнкерами на перекресток, совершен-
но мертвенный. Никакой жизни на нем не было, но
грохоту было много. Кругом — в небе, по крышам, по
стенам — гремели пулеметы.
Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, пото-
му что это был последний, конечный пункт, указанный
телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что
не показывалось, и Николка немного запутался — что
делать дальше? Юнкера его, немножко бледные, но все
же храбрые, как и их командир, разлеглись цепью на
снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточки
возле пулемета, у обочины тротуара. Юнкера насторо-
женно глядели вдаль, подымая головы от земли, ждали,
что, собственно, произойдет?
Предводитель же их был полон настолько важных и
значительных мыслей, что даже осунулся и побледнел.
Поражало предводителя, во-первых, отсутствие на пере-
крестке всего того, что было обещано голосом. Здесь, на
перекрестке, Николка должен был застать отряд третьей
дружины и «подкрепить его». Никакого отряда не было.
Даже и следов его не было.
Во-вторых, поражало Николку то обстоятельство, что
боевой пулеметный дробот временами слышался не только
впереди, но и слева, и даже, пожалуй, немножко сзади.
В-третьих, он боялся испугаться и все время проверял
себя: «Не страшно?» — «Нет, не страшно», — отвечал
бодрый голос в голове, и Николка от гордости, что он,
оказывается, храбрый, еще больше бледнел. Гордость
переходила в мысль о том, что если его, Николку, убьют,
то хоронить будут с музыкой. Очень просто: плывет по
улице белый глазетовый гроб, и в гробу погибший в бою
унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом, и
жаль, что крестов теперь не дают, а то непременно с
крестом на груди и георгиевской лентой. Бабы стоят у
ворот. «Кого хоронят, миленькие?» — «Унтер-офицера
Турбина...» — «Ах, какой красавец...» И музыка. В бою,
знаете ли, приятно помереть. Лишь бы только не му-
читься. Размышления о музыке и лентах несколько скра-
сили неуверенное ожидание неприятеля, который, оче-
568 Михаил Булгаков
видно, не повинуясь телефонному голосу, и не думал
показываться.
Ждать будем здесь, — сказал Николка юнкерам,
стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее, но тот не
очень уверенно звучал, потому что кругом все-таки было
немножко не так, как бы следовало, чепуховато как-то.
Где отряд? Где неприятель? Странно, что как будто бы
в тылу стреляют?
*
И предводитель со своим воинством дождался. В по-
перечном переулке, ведущем с перекрестка на Брест-
Литовскую стрелку, неожиданно загремели выстрелы, и
посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге.
Они неслись прямо на Николкиных юнкеров, и винтовки
торчали у них в разные стороны.
«Обошли?» — грянуло в Николкиной голове, он мет-
нулся, не зная, какую команду подать. Но через мгно-
вение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих
на плечах и понял, что это свои.
Тяжелые, рослые, запаренные в беге, константинов-
ские юнкера в папахах вдруг остановились, упали на
одно колено и, бледно сверкнув, дали два залпа по
переулку туда, откуда прибежали. Затем вскочили и,
бросая винтовки, кинулись через перекресток, мимо
Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя пого-
ны, подсумки и пояса, бросали их на разъезженный
снег. Рослый, серый, грузный юнкер, равняясь с Никол-
кой, поворачивая к Николкиному отряду голову, зычно,
задыхаясь, кричал:
— Бегите, бегите с нами! Спасайся кто может!
Николкины юнкера в цепи стали ошеломленно под-
ниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же се-
кунду справился с собой и, молниеносно подумав: «Вот
момент, когда можно быть героем», — закричал своим
пронзительным голосом:
— Не сметь вставать! Слушать команду!!
«Что они делают?» — остервенело подумал Николка.
Константиновцы — их было человек двадцать, —
выскочив с перекрестка без оружия, рассыпались в
поперечном же Фонарном переулке, и часть из них бро-
силась в первые громадные ворота. Страшно загрохота-
ли железные двери, и затопали сапоги в звонком про-
Белая гвардия
669
лете. Вторая кучка в следующие ворота. Остались толь-
ко пятеро, и они, ускоряя бег, понеслись прямо по
Фонарному и исчезли вдали.
Наконец на перекресток выскочил последний бежав-
ший, в бледных золотистых погонах на плечах. Николка
вмиг обострившимся взглядом узнал в нем командира
второго отделения первой дружины, полковника Най-
Турса.
— Господин полковник! — смятенно и в то же время
обрадованно закричал ему навстречу Николка. — Ваши
юнкера бегут в панике.
И тут произошло чудовищное. Най-Турс вбежал на
растоптанный перекресток в шинели, подвернутой с двух
боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка
сидела у него на самом затылке и держалась ремнем
под подбородком. В правой руке у Най-Турса был кольт,
и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно
не бритое, щетинистое лицо его было грозно, глаза
скошены к носу, и теперь вблизи на плечах были яв-
ственно видны гусарские зигзаги. Най-Турс подскочил к
Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и
оборвал с Николки сначала левый, а затем правый погон.
Вощеные лучшие нитки лопнули с треском, причем
правый погон отлетел с шинельным мясом. Николку так
мотнуло, что он тут же убедился, какие у Най-Турса
замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на
что-то нетвердое, и это нетвердое выскочило из-под него
с воплем и оказалось пулеметчиком Ивашиным. Затем
заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и все
полетело к чертовой матери. Не сошел Николка с ума
в этот момент лишь потому, что у него на это не было
времени, так стремительны были поступки полковника
Най-Турса. Обернувшись к разбитому взводу лицом, он
взвыл команду необычным, неслыханным картавым го-
лосом. Николка суеверно подумал, что этакий голос
слышен на десять верст и, уж наверно, по всему городу.
— Юнкегга! Слушай мою команду: сгывай погоны,
кокагды, подсумки, бгосай огужие! По Фонагному пеге-
улку сквозными двогамй на Газъезжую, на Подол! На
Подол!! Гвите документы по догоге, пгячьтесь, гассыпь-
тесь, всех по догоге гоните с собо-о-ой!
Затем, взмахнув кольтом, Най-Турс провыл, как ка-
валерийская труба:
— По Фонагному! Только по Фонагному! Спасайтесь
по домам! Бой кончен! Бегом магш!
570
Михаил Булгаков
Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом
юнкера совершенно побелели. Ивашин перед лицом
Николки рвал погоны, подсумки полетели на снег, ним
товка со стуком покатилась по ледяному горбу тротул
ра. Через полминуты на перекрестке валялись патрон
ные сумки, пояса и чья-то растрепанная фуражка. По
Фонарному переулку, влетая во дворы, ведущие ни
Разъезжую улицу, убегали юнкера.
Най-Турс с размаху всадил кольт в кобуру, поденп
чил к пулемету у тротуара, скорчился, присел, повернул
его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой попри
вил ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он 0г
шено загремел:
—Оглох? Беги!
Странный пьяный экстаз поднялся у Николки отиу
да-то из живота, и во рту моментально пересохло.
— Не желаю, господин полковник, — ответил он
суконным голосом, сел на корточки, обеими руками
ухватился за ленту и пустил ее в пулемет.
Вдали, там, откуда прибежал остаток Най-Турсоа»
отряда, внезапно выскочило несколько конных фигур
Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, мак
будто играют, и что лезвия серых шашек у них в рукав
Най-Турс сдвинул ручки, пулемет грохнул — ар-ра паа
стал, снова грохнул и потом длинно загремел. Все крн
ши на домах сейчас же закипели и справа и елгаа
К конным фигурам прибавилось еще несколько, но ia
тем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в оин"
дома, другая лошадь стала на дыбы, показавшись стран!
но длинной, чуть не до второго этажа, и несколько пгми
ников вовсе исчезли. Затем мгновенно исчезли, как ckihml
землю, всё остальные всадники.
Най-Турс развел ручки, кулаком погрозил небу, при
чем глаза его налились светом, и прокричал:
— Ребят! Ребят!.. Штабные стегвы!..
Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который
показался Николке звуком нежной кавалерийской труби
— Удигай, гвупый мавый! Говогю — удигай!
Он переметнул взгляд назад и убедился, что юнкгрн
уже исчезли все, потом переметнул взгляд с перекрсч
тка вдаль, на улицу, параллельную Брест-Литощмпй
стреле, и выкрикнул с болью и злобой:
— А, чегт!
Николка повернулся за ним и увидел, что дилгии
еще далеко на Кадетской улице, у чахлого, засыпнпнш»<
Белая гвардия
£71
снегом бульвара, появились темные шеренги и начали
припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами
Най-Турса и Николки, на углу Фонарного переулка:
Зубной врач
Берта Яковлевна
Принц-Металл
хлопнула, и где-то за воротами посыпались стекла.
Николка увидал куски штукатурки на тротуаре. Они
прыгнули и поскакали. Николка вопросительно вперил
взор в полковника Най-Турса, желая узнать, как нужно
понимать эти дальние шеренги и штукатурку. И полков-
ник Най-Турс отнесся к ним странно. Он подпрыгнул на
одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и по-
вальному оскалился неуместной улыбкой. Затем полков-
ник Най-Турс оказался лежащим у ног Николки. Никол-
кин мозг задернуло черным туманцем, он сел на корточ-
ки и, неожиданно для себя, сухо, без слез всхлипнувши,
стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять.
Тут он увидел, что из полковника через левый рукав
стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу.
— Господин полковник, господин...
— Унтег-цег, — выговорил Най-Турс, причем кровь
потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал
вытекать по капле, слабея на каждом слове, — бгосьте
гегойствовать, к чегтям, я умигаю... Мало-Пговальная...
Больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его
челюсть стала двигаться. Ровно три раза и судорожно,
словно Най давился, потом перестала, и полковник стал
тяжелый, как большой мешок с мукой.
«Так умирают? — подумал Николка. — Не может
быть. Только что был живой. В бою не страшно, как
видно. В меня же почему-то не попадают...»
Зуб...
...врач, —
затрепетало второй раз над головой, и еще где-то лоп-
нули стекла. «Может быть, он просто в обмороке?» —
в смятении вздорно подумал Николка и тянул полков-
ника. Но поднять того не было никакой возможности.
«Не страшно?» — подумал Николка и почувствовал, что
ему безумно страшно. «Отчего? Отчего?» — думал
Николка и сейчас же понял, что страшно от тоски и
одиночества, что, если бы был сейчас на ногах полков-
ник Най-Турс, никакого бы страха не было... Но полков-
Михаил Булгаков
ник Най-Турс был совершенно недвижим, больше ника-
ких команд не подавал, не обращал внимания ни на то,
что возле его рукава расширялась красная большая
лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен лома-
лась и крошилась, как сумасшедшая. Николке же стало
страшно от того, что он совершенно один. Никакие кон-
ные не наскакивали больше сбоку, но, очевидно, все
были против Николки, а он последний, он совершенно
один... И одиночество погнало Николку с перекрестка.
Он полз на животе, перебирая руками, причем правым
локтем, потому что в ладони он зажимал Най-Турсов
кольт. Самый страх наступает уже в двух шагах от
угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не уползешь,
наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда
лежишь, а тебя рубят. Я буду стрелять, если в кольте
есть патроны... И всего-то полтора шага... подтянуться,
подтянуться... раз... и Николка за стеной в Фонарном
переулке.
«Удивительно, страшно удивительно, что не попали.
Прямо чудо. Это уж чудо господа бога, — думал Никол
ка, поднимаясь, — вот так чудо. Теперь сам видал -
чудо. Собор Парижской богоматери. Виктор Гюго. Что
то теперь с Еленой? А Алексей? Ясно — рвать погоны,
значит, произошла катастрофа».
Николка вскочил, весь до шеи вымазанный снегом,
сунул кольт в карман шинели и полетел по переулку
Первые же ворота на правой руке зияли, Николка вбс
жал в гулкий пролет, выбежал на мрачный, скверный
двор с сараями красного кирпича по правой и кладкой
дров по левой, сообразил, что сквозной проход посреди
не, скользя, бросился туда и напоролся на человеки и
тулупе. Совершенно явственно. Рыжая борода и малень
кие глазки, из которых сочится ненависть. Курносый, к
бараньей шапке, Нерон. Человек, как бы играя в иссе
лую игру, обхватил Николку левой рукой, а праной
уцепился за его левую руку и стал выкручивать ее »п
спину. Николка впал в ошеломление на несколько мгпо
вений. «Боже. Он меня схватил, ненавидит!.. Петлюро
вец...»
—- Ах ты, наволочь! — сипло закричал рыжебородый
и запыхтел. — Куды? Стой! — потом вдруг завопил:
Держи, держи. Юнкерей держи. Погон скинул, думаешь,
сволота, не узнают? Держи!
Бешенство овладело всем Николкой, с головы до hoi
Он резко сел вниз, сразу, так что лопнул сзади хлястик
Белая гвардия
573,
на шинели, повернулся и с неестественной силой выле-
тел из рук рыжего. Секунду он его не видел, потому что
оказался к нему тпиной, но потом повернулся и опять
увидал. У рыжебородого не было никакого оружия, он
даже не был военным, он был дворник. Ярость’проле-
тела мимо Николкиных глаз совершенно красным оде-
ялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и
мороз залетел Николке в жаркий рот, потому что он
оскалился, как волчонок. Николка выбросил руку с
кольтом из кармана, подумав: «Убью гадину, лишь бы
были патроны». Голоса своего он не узнал, до того голос
был чужд и страшен.
— Убью, гад! — Николка просипел, шаря пальцами
в мудреном кольте, и мгновенно сообразил, что он за-
был, как из него стрелять. Желто-рыжий дворник, уви-
давший, что Николка вооружен, в отчаянии и ужасе пал
на колени и взвыл, чудесным образом превратившись из
Нерона в змею:
— А! Ваше благородие! Ваше...
Все равно Николка непременно бы выстрелил, но
кольт не пожелал выстрелить. «Разряжен. Эх, беда!» —
вихрем подумал Николка. Дворник, рукой закрываясь и
пятясь, с колен садился на корточки, отваливаясь на-
зад, и выл истошно, губя Николку. Не зная, что сделать,
чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде,
Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера, как
боевой петух, наскочил на дворника и тяжело ударил
его, рискуя застрелить самого себя, ручкой в зубы.
Николкина злоба вылетела мгновенно. Дворник же вско-
чил на ноги и побежал от Николки в тот пролет, откуда.
Николка появился. Сходя с ума от страху, дворник уже
не выл, бежал, скользя по льду и спотыкаясь, раз обер-
нулся, и Николка увидал, что половина его бороды стала
красной. Затем он исчез. Николка же бросился вниз,
мимо сарая, к воротам на Разъезжую и возле них впал
в отчаяние. «Конечно. Опоздал. Попался. Боже, и не
стреляет». Тщетно он тряс огромный болт и замок. Ничего
сделать было нельзя. Рыжий дворник, лишь только про-
скочили Най-Турсовы юнкера, запер ворота на Разъез-
жую, и перед Николкой была совершенно неодолимая
преграда — гладкая доверху, глухая железная стена.
Николка обернулся, глянул на небо, чрезвычайно низкое
и густое, увидал на брандмауэре легкую черную лестни-
цу, уходившую на самую крышу четырехэтажного дома.
«Полезть разве?» — подумал он, и при этом ему дурац-
574
Михаил Булгакдв
ки вспомнилась пестрая картинка: Нат Пинкертон и
желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет но
такой же самой лестнице. «Э, Нат Пинкертон, Амери
ка... а я вот влезу и потом что? Как идиот буду сидеть
на крыше, а дворник сзовет в это время петлюровцев,
Этот Нерон предаст... Зубы я ему расколотил... Не
простит!»
И точно. Из-под ворот в Фонарный переулок Никол
ка услыхал призывные отчаянные вопли дворника: «Сю
ды! Сюды!» — и копытный топот. Николка понял: roi
что — конница Петлюры заскочила с фланга в Город
Сейчас она уже в Фонарном переулке. То-то Най-Турс
и кричал... на Фонарный возвращаться нельзя.
Все это он сообразил уже, неизвестно каким образом
оказавшись на штабеле дров, рядом с сараем, под сто
ной соседнего дома. Обледеневшие поленья зашатались
под ногами, Николка заковылял, упал, разорвал штани
ну, добрался до стены, глянул через нее и увидал точь
в-точь такой же двор. Настолько такой, что он ждал, «по
опять выскочит рыжий Нерон в полушубке. Но никто нс
выскочил. Страшно оборвалось в животе и в пояснице,
и Николка сел на землю, в ту же секунду его колы
прыгнул в руке и оглушительно выстрелил. Николки
удивился, потом сообразил: «Предохранитель-то был
заперт, а теперь я его сдвинул. Оказия».
Черт. И тут ворота на Разъезжую глухие. Заперты
Значит, опять к стене. Но, увы, дров уже нет. Николки
запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Поле!
по куче битого кирпича, а затем, как муха, по отвесной
стене, вставляя носки в такие норки, что в мирное время
не поместилась бы и копейка. Оборвал ногти, окровенил
пальцы и исцарапался на стену. Лежа на ней животом,
услыхал, что сзади, в первом дворе, раздался оглуши
тельный свист и Неронов голос, а в этом, третьем, дворе
в черном окне из второго этажа на него глянуло иски
женное ужасом женское лицо и тотчас исчезло. Падин
со второй стены, угадал довольно удачно: попал в cyi
роб, но все-таки что-то свернулось в шее и лопнуло и
черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах.
Николка побежал к воротам.
О, ликование! И они заперты, но какой вздор! Сквоз
ная узорная решетка. Николка, как пожарный, полез но
ней, перелез, спустился и оказался на Разъезжей улице
Увидал, что она была совершенно пуста, ни души. «Чс1
Белая гвардия
575
верть минутки подышу, не более, а то сердце лопнет», —
думал Николка и глотал раскаленный воздух. «Да...
документы...» Николка вытащил из кармана блузы пач-
ку замасленных удостоверений и изорвал их. И они
разлетелись, как снег. Услыхал, что сзади, со стороны
того перекрестка, на котором он оставил Иай-Турса,
загремел пулемет и ему отозвались’пулеметы и ружей-
ные залпы впереди Николки, оттуда, из Города. Вот оно
что. Город захватили. В Городе бой. Катастрофа. Ни-
колка, все еще задыхаясь, обеими руками счищал снег.
Кольт бросить? Най-Турсов кольт? Нет, ни за что. Авось
удастся проскочить. Ведь не могут же они быть повсюду
сразу?
Тяжко вздохнув, Николка, чувствуя, что ноги его
значительно ослабели и развинтились, побежал по вы-
мершей Разъезжей и благополучно добрался до пере-
крестка, откуда расходились две улицы: Лубочицкая на
Подол и Ловская, уклоняющаяся в центр Города. Тут
увидал лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных
винтовки и синюю студенческую фуражку. Николка
сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказа-
лась ему мала и придала ему гадкий, залихватский и
гражданский вид. Какой-то босяк, выгнанный из гимна-
зии. Николка осторожно из-за угла заглянул в Ловскую
и очень далеко на ней увидал танцующую конницу с
синими пятнами на папахах. Там была какая-то возня
и хлопушки выстрелов. Дернул по Лубочицкой. Тут
впервые увидал живого человека. Бежала какая-то дама
по противоположному тротуару, и шляпа с черным кры-
лом сидела у нее на боку, а в руках моталась серая
кошелка, из нее выдирался отчаянный петух и кричал
на всю улицу: «Пэтурра, Пэтурра». Из кулька, в левой
руке дамы, сквозь дыру, сыпалась на тротуар морковь.
Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. Вихрем
проскользнул какой-то мещанин, крестился на все сто-
роны и кричал:
— Господисусе! Володька, Володька! Петлюра идет!
В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились
и убегали в ворота. Какой-то человек в черном пальто
ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в решет-
ку свою палку и с треском ее сломал.
А время тем временем летело и летело, и, оказыва-
ется, налетали уже сумерки, и поэтому, когда Николка
с Лубочицкой выскочил в Вольский спуск, на углу вспых-
576
Михаил Булгаков
нул электрический фонарь и зашипел. В лавчонке бух
нула штора и сразу скрыла пестрые коробки с над
писью «мыльный порошок». Извозчик на санях вывер
нул их в сугроб совершенно, заворачивая за угол, н
хлестал зверски клячу кнутом. Мимо Николки прыгнул
назад четырехэтажный дом с тремя подъездами, и но
всех трех лупили двери поминутно, и некий, в котиковом
воротнике, проскочил мимо Николки и завыл в вороти
— Петр! Петр! Ошалел, что ли? Закрывай! Закры
вай ворота!
В подъезде грохнула дверь, и слышно было, как ни
темной лестнице гулкий женский голос прокричал:
— Петлюра идет. Петлюра!
Чем дальше убегал Николка на спасительный Подол,
указанный Най-Турсом, тем больше народу летало, и
суетилось, и моталось по улицам, но страху уже было
меньше, и не все бежали в одном направлении с Никол
кой, а некоторые проносились навстречу.
У самого спуска на Подол из подъезда большою
серокаменного дома вышел торжественно кадетишкн в
серой шинели с белыми погонами и золотой буквой «II*
на них. Нос у кадетика был пуговицей. Глаза его бойко
шныряли по сторонам, и большая винтовка сидели у
него за спиной на ремне. Прохожие сновали, с ужасом
глядели на вооруженного кадета и разбегались. А кадп
постоял на тротуаре, прислушался к стрельбе в верхнем
Городе с видом значительным и разведочным, потянул
носом и захотел куда-то двинуться. Николка резко обор
вал маршрут, двинул поперек тротуара, напер на кадс
тика грудью и сказал шепотом:
— Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь.
Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но
потом угрожающе ухватился за винтовку. Николка же
старым испытанным приемом, напирая и напирая, вдавил
его в подъезд и там уже, между двумя дверями, внушил
— Говорю вам, прячьтесь. Я — юнкер. Катастрофа
Петлюра Город взял.
— Как это так взял? — спросил кадет и открыл pot,
причем оказалось, что у него нет одного зуба с левой
стороны.
— А вот так, — ответил Николка и, махнув рукой по
направлению верхнего Города, добавил: — Слышите^
Там конница Петлюрина на улицах. Я еле спасся. 1>г
гите домой, винтовку спрячьте и всех предупредите
Белая гвардия
577
Кадет окоченел, и так окоченевшим его Николка и
оставил в подъезде, потому что некогда с ним разгова-
ривать, когда он такой непонятливый.
На Подоле не было такой сильной тревоги, но суета
была, и довольно большая. Прохожие учащали шаги,
часто задирали головы, прислушивались, очень часто
выскакивали кухарки в подъезды и ворота, наскоро
кутаясь в серые платки. Из верхнего Города непрерыв-
но слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумеречный
час четырнадцатого декабря уже нигде, ни вдали, ни
вблизи, не было слышно пушек.
Путь Николки был длинен. Пока он пересек Подол,
сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету
и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в
пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелька-
ли огни, в лавчонках и в магазинах весело светилось, но
не во всех: некоторые уже ослепли. Все больше начина-
ло лепить сверху. Когда Николка пришел к началу своей
улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подни-
маться по ней, он увидал у ворот дома № 7 картину:
двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и
шлемах только что скатились на салазках со спуска.
Один из них, маленький и круглый, как шар, залеплен-
ный, снегом, сидел и хохотал. Другой, постарше, тонкий
и серьезный, распутывал узел на веревке. У ворот стоял
парень в тулупе и ковырял в носу. Стрельба стала
слышнее. Она вспыхивала там, наверху, в самых разных
местах.
— Васька, Васька, как я задницей об тумбу! —
кричал маленький.
«Катаются мирно так», — удивленно подумал Ни-
колка и спросил у парня ласковым голосом:
— Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там
наверху?
Парень вынул палец из носа, подумал и сказал
в нос:
— Офицерню бьют наши.
Николка исподлобья посмотрел на него и машиналь-
но пошевелил ручкой кольта в кармане. Старший маль-
чик отозвался сердито:
— С офицерами расправляются. Так им и надо. Их
восемьсот человек на весь Город, а они дурака валяли.
Пришел Петлюра, а у него миллион войска.
Он повернулся и потащил салазки.
578
Михаил Булгаков
*
Сразу распахнулась кремовая штора — с веранды и
маленькую столовую. Часы... тонк-танк...
— Алексей вернулся? — спросил Николка у Елены.
— Нет, — ответила она и заплакала.
*
<
Темно. Темно во всей квартире. В кухне только лам-
па... сидит Анюта и плачет, положив локти на стол.
Конечно, об Алексее Васильевиче... В спальне у Елены
в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают
пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, наплакав-
шись об Алексее, на табуреточке, подперев щеку кула-
ком, а Николка у ее ног на полу»в красном огненном
пятне, расставив ноги ножницами.
Болботун... полковник. У Щегловых сегодня днем
говорили, что это не кто иной, как великий князь Ми
хайл Александрович. В общем, отчаяние здесь в пол уть
ме и огненном блеске. Что ж плакать об Алексее?
Плакать — это, конечно, не поможет. Убили его, несо-
мненно. Все ясно. В плен они не берут. Раз не пришел,
значит, попался вместе с дивизионом, и его убили. Ужас
в том, что у Петлюры, как говорят, восемьсот тысяч
войска, отборного и лучшего. Нас обманули, послали на
смерть...
Откуда же взялась эта страшная армия?.. Соткалась
из морозного тумана в игольчатом синем и сумеречном
воздухе... Ах, страшная страна Украина! ,... Туманно...
туманно...
Елена встала и протянула руку.
— Будь прокляты немцы. Будь они прокляты. Но
если только бор не накажет их, значит, у него нет сира
ведливости. возможно ли, чтобы они за это не ответили?
Они ответят. Будут они мучиться так. же, как и мы,
будут.
Она упрямо повторяла «будут», словно заклинала.
На лице и на шее у нее играл багровый цвет, а пустые
глаза были окрашены в черную ненависть. Николки,
растопырив ноги, впал от таких выкриков в отчаяние и
печаль.
— Может, он еще и жив? — робко спросил он.
Видишь ли, все-таки он врач... Если даже и схватили,
может быть, не убьют, а заберут в плен.
Белая гвардия
579
— Будут кошек есть, будут друг друга убивать, как
и мы, — говорила Елена звонко и ненавистно грозила
огню пальцами.
«Эх, эх... Болботун не может быть великий князь.
Восемьсот тысяч войска не может быть и миллиона
тоже... Впрочем, туман. Вот оно, налетело страшное
времечко. И Тальберг-то, оказывается, умный, вовремя
уехал. Огонь на полу танцует. Ведь вот же были мирные
времена и прекрасные страны. Например, Париж и
Людовик с образками на шляпе, и Клопен Трульефу полз
и грелся в таком же огне. И даже ему, нищему, было
хорошо. Ну нигде, никогда не было такого гнусного гада,
как этот рыжий дворник Нерон. Все, конечно, нас нена-
видят, но ведь он шакал форменный! Сзади за руку».
♦
И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вско-
чил и заметался.
— Ты слышишь? слышишь? слышишь? Может быть,
это немцы? Может быть, союзники подошли на помощь?
Кто? Ведь не могут же они стрелять по Городу, если они
его уже взяли.
Елена сложила руки на груди и сказала:
— Никол, я тебя все равно не пущу. Не пущу. Умо-
ляю тебя никуда не выходить. Не сходи с ума.
— Я только дошел бы до площадки у Андреевской
церкви и оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден
весь Подол.
— Хорошо, иди. Если ты можешь оставить меня одну
в такую минуту — иди.
Николка смутился.
— Ну, тогда я выйду только во двор послушаю.
— И я с тобой.
— Леночка, а если Алексей вернется, ведь с парад-
ного звонка не услышим?
— Да, не услышим. И это ты будешь виноват.
— Ну, тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что
я дальше двора шагу не сделаю.
— Честное слово?
— Честное слово.
— Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не
будешь? Постоишь во дворе?
— Честное слово.
— Иди.
19'
580
Михаил Булгаков
*
Густейший снег шел четырнадцатого декабря 1918
года и застилал Город. И эти странные, неожиданные
пушки стреляли в девять часов вечера. Стреляли они
только четверть часа.
Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с
соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно
было бы увидеть не только Подол, но и часть верхнего
Города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах,
холмы и на них домишки, где лампадками мерцают
окна. Но честного слова не должен нарушать ни один
человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так
полагал Николка. При каждом грозном и отдаленном
грохоте он молился таким образом: «Господи, дай...»
Но пушки смолкли.
«Это были наши пушки», — горестно думал Никол-
ка. Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к
Щегловым. Во флигельке, в окошке, завернулась бе-
ленькая шторка, и видно было: Марья Петровна мыла
Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно пла
кал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марьи
Петровна выжимала на Петьку губку. На веревке висе
ло белье, а над бельем ходила и кланялась большая
тень Марьи Петровны. Николке показалось, что у Щег
ловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шине
ли холодно.
*
В глубоких снегах, верстах в восьми от предместья
Города, на севере, в сторожке, брошенной сторожем и
заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капи-
тан. На столике лежала краюха хлеба, стоял ящик
полевого телефона и малюсенькая трехлинейная лам-
почка с закопченным пузатым стеклом. В печке догорал
огонек. Капитан был маленький, с длинным острым
носом, в шинели с большим воротником. Левой рукой он
щипал и ломал краюху, а правой жал кнопки телефона.
Но телефон словно умер и ничего ему не отвечал.
Кругом капитана, верст на пять, не было ничего,
кроме тьмы и в ней густой метели. Были сугробы снега.
Еще час прошел, и штабс-капитан оставил телефон
в покое. Около девяти вечера он посопел носом и сказал
почему-то вслух:
19-4
Белая гвардия
581
— С ума сойду. В сущности, следовало бы застре-
литься. — И, словно в ответ ему, запел телефон.
— Это шестая батарея? — спросил далекий голос.
— Да, да, — с буйной радостью ответил капитан.
Встревоженный голос издалека казался очень радост-
ным и глухим:
— Откройте немедленно огонь по урочищу... — Да-
лекий смутный собеседник квакал по нити, — ураган-
ный... — Голос перерезало. — У меня такое впечатле-
ние... — И на этом голос опять перерезало.
— Да, слушаю, слушаю, — отчаянно скаля зубы,
вскрикивал капитан в трубку. Прошла долгая пауза.
- Я не могу открыть огня, — сказал капитан в
трубку, отлично чувствуя, что говорит он в полную пус-
тоту, но не говорить не мог. — Вся моя прислуга и трое
прапорщиков разбежались. На батарее я один. Пере-
дайте это на Пост.
Еще час просидел штабс-капитан, потом вышел. Очень
сильно мело. Четыре мрачных и страшных пушки уже
заносило снегом, и на дулах и у замков начало наметать
гребешки. Крутило и вертело, и капитан тыкался в
холодном визге метели, как слепой. Так в слепоте он
долго возился, пока не снял на ощупь, в снежной тьме,
первый замок. Хотел бросить его в колодезь за сторож-
кой, но раздумал и вернулся в сторожку. Выходил еще
три раза и все четыре замка с орудий снял и спрятал
в люк под полом, где лежала картошка. Затем ушел в
тьму, предварительно задув лампу. Часа два он шел,
утопая в снегу, совершенно невидимый и темный, и дошел
до шоссе, ведущего в Город, На шоссе тускло горели
редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили
конные с хвостами на головах Шашками, сняли с него
сапоги и часы.
Тот же голос возник в трубке телефона в шести
верстах от сторожки на запад, в землянке.
— Откройте... огонь по урочищу немедленно. У меня
такое впечатление, что неприятель прошел между вами
и нами на Город.
— Слушаете? слушаете? — ответили ему из землянки.
— Узнайте на Посту... — перерезало.
Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ:
— Беглым по урочищу... по коннице...
И совсем перерезало.
Из землянки с фонарями вылезли три офицера и три
юнкера в тулупах. Четвертый офицер и двое юнкеров
582
Михаил Булгаков
были возле орудий у фонаря, который метель старалась
погасить. Через пять минут пушки стали прыгать и страшно
бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю
местность верст на пятнадцать кругом, донесли до дома
№ 13 по Алексеевскому спуску... Господи, дай...
Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из тем-
ноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, четырех
офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефо-
на, выстрелил себе в рот.
Последними словами командира были:
— Штабная сволочь. Отлично понимаю большевиков.
Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угло-
вой комнате и вырезал у себя на двери большой крест
и изломанную надпись под ним перочинным ножом:
п. Туре, 14-го дек. 1918 г. 4 ч. дня
«Най» откинул для конспирации, на случай, если
придут с обыском петлюровцы.
Хотел не спать, чтобы не пропустить звонка. Елене
в стену постучал и сказал:
— Ты спи, я не буду спать.
И сейчас же после этого заснул как мертвый, оде-
тым, на кровати. Елена же не спала до рассвета и все
слушала и слушала, не раздастся ли звонок. Но не было
никакого звонка, и старший брат Алексей пропал.
♦
Уставшему, разбитому человеку спать нужно, и уж
одиннадцать часов, а все спится и спится... Оригинально
спится, я вам доложу! Сапоги мешают, пояс впился под
ребра, ворот душит, и кошмар уселся лапками на груди.
Николка завалился головой навзничь, лицо побагро-
вело, из горла свист... Свист!.. Снег и паутина какая-
то... Ну, кругом паутина, черт ее дери! Самое главное
пробраться сквозь эту паутину, а то она, проклятая,
нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. И,
чего доброго, окутает так, что и не выберешься! Так и
задохнешься. За сетью паутины чистейший снег, сколько
угодно, целые равнины. Вот на этот снег нужно вы-
Белая гвардия
583
браться, и поскорее, потому что чей-то голос как будто
где-то ахнул: «Никол!» И тут, вообразите, поймалась в
эту паутину какая-то бойкая птица и застучала... Ти-ки-
тики, тики, тики! Фью. Фи-у! Тики! Тики. Фу-ты, черт!
Ее самое не видно, но свистит где-то близко, и еще кто-
то плачется на свою судьбу, и опять голос: «Ник! Ник!
Николка!!»
— Эх! — крякнул Николка, разодрал паутину и разом
сел, всклокоченный, растерзанный, с бляхой на боку.
Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку
долго трепал.
— Кто? Кто? Кто? — в ужасе спросил Николка,
ничего не'понимая.
— Кто. Кто, кто, кто, кто, кто, так! так! Фи-ти! Фи-у!
Фьюх! — ответила паутина, и скорбный голос сказал,
полный внутренних слез:
— Да, с любовником!
Николка в ужасе прижался к стене и уставился на
видение. Видение было в коричневом френче, коричне-
вых же штанах-галифе и сапогах с желтыми жокейски-
ми отворотами. Глаза, мутные и скорбные, глядели из
глубочайших орбит невероятно огромной головы, корот-
ко остриженной. Несомненно, оно было молодо, видение-
то, но кожа у него была на лице старческая, серенькая,
и зубы глядели кривые и желтые. В руках у видения
находилась большая клетка с накинутым на нее черным
платком и распечатанное голубое письмо...
«Это я еще не проснулся», — сообразил Николка и
сделал движение рукой, стараясь разодрать видение,
как паутину, и пребольно ткнулся пальцами в прутья.
В черной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица
и засвистала и затарахтела.
— Николка! — где-то далеко-далеко прокричал Еле-
нин голос в тревоге.
«Господи Иисусе, — подумал Николка, — нет, я
проснулся, но хразу же сошел с ума, и. знаю отчего —
от военного переутомления. Боже мой! И вижу уже че-
пуху... а пальцы? Боже! Алексей не вернулся... ах, да...
он не вернулся... убили... ой, ой, ой!»
— С любовником на том самом диване, — сказало
видение трагическим голосом, — на котором я читал ей
стихи.
Видение оборачивалось к двери, очевидно, к какому-
то слушателю, но потом окончательно устремилось к
Николке:
584
Михаил Булгаков
— Да-с, на этом самом диване... Они теперь сидят и
целуются... после векселей на семьдесят пять тысяч,
которые я подписал не задумываясь, как джентльмен.
Ибо джентльменом был и им останусь всегда. Пусть
целуются!
«О, ей, ей», — подумал Николка. Глаза его выкати-
лись и спина похолодела.
— Впрочем, извиняюсь, — сказало видение, все бо-
лее и более выходя из зыбкого, сонного тумана и пре-
вращаясь в настоящее живое тело, — вам, вероятно, нс
совсем ясно? Так не угодно ли, вот письмо —- оно вам
все объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого,
как джентльмен.
И с этими словами неизвестный вручил Николке
голубое письмо. Совершенно ошалев, Николка взял его
и стал читать, шевеля губами, крупный, разгонистый и
взволнованный почерк. Без всякой даты на нежном
небесном листке было написано:
«Милая, милая Леночка! Я знаю ваше доброе сердце и направляю
его прямо к вам, по-родственному. Телеграмму я, впрочем, послала, он
все вам сам расскажет, бедный мальчик. Лариосика постиг ужасный
удар, и я долго боялась, что он не переживет его. Милочка Рубцова,
на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась
подколодной змеей! Приютите его, умоляю, и согрейте так, как вы
умеете это делать. Я аккуратно буду переводить вам содержание.
Житомир стал ему ненавистен, и я вполне это понимаю. Впрочем, нс
буду больше ничего писать, — я слишком взволнована, и сейчас идет
санитарный поезд, он сам вам все расскажет. Целую вас крепко, крепко
и Сережу!»
После этого стояла неразборчивая подпись.
— Я птицу захватил с собой, — сказал неизвестный,
вздыхая, — птица — лучший друг человека. Многие,
правда, считают ее лишней в доме, но я одно могу
сказать — птица уж, во всяком случае, никому не де-
лает зла.
Последняя фраза очень понравилась Николке. Нс
стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал
непонятным письмом бровь и стал спускать ноги с кро-
вати, думая: «Неприлично... спросить, как его фами-
лия?.. Удивительное происшествие...»
— Это канарейка? — спросил он.
— Но какая! — ответил неизвестный восторженно. —
Собственно, это даже и не канарейка, а настоящий кенар.
Самец. И таких у меня в Житомире пятнадцать штук.
Я перевез их к маме, пусть она кормит их. Этот негодяй,
Белая гвардия
585
наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит
птиц. Разрешите поставить ее пока на ваш письменный
стол?
— Пожалуйста, — ответил Николка. — Вы из Жи-
томира?
— Ну да, — ответил неизвестный, — и, представьте,
совпадение: я прибыл одновременно с вашим братом.
— Каким братом?
— Как с каким? Ваш брат прибыл вместе со мной, —
ответил удивленно неизвестный.
— Какой брат? — жалобно вскричал Николка. —
Какой брат? Из Житомира?!
— Ваш старший брат...
Голос Елены явственно выкрикнул в гостиной: «Ни-
колка! Николка! Илларион Ларионыч! Да будите же
его! Будите!»
— Трики, фит, фит, трики! — протяжно заорала
птица.
Николка уронил голубое письмо и пулей полетел через
книжную в столовую и в ней замер, растопырив руки.
Алексей Турбин в черном чужом пальто с рваной
подкладкой, в черных чужих брюках лежал неподвижно
на диванчике под часами. Его лицо было бледно сине-
ватой бледностью, а зубы стиснуты. Елена металась
возле него, халат ее распахнулся, и были видны черные
чулки и кружево белья. Она хваталась то за пуговицы
на груди Турбина, то за руки, крича: «Никол! Никол!»
Через три минуты Николка в сдвинутой на затылок
студенческой фуражке, в серой шинели нараспашку
бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и
бормотал: «А если его нету? Вот, боже мой, история с
желтыми отворотами! Но Курицкого нельзя звать ни в
коем случае, это совершенно ясно... Кит и кот...» Птица
оглушительно стучала у него в голове — кити, кот, кити,
кот!
Через час в столовой стоял на полу таз, полный
красной жидкой водой, валялись комки красной рваной
марли и белые осколки посуды, которую обрушил с
буфета неизвестный с желтыми отворотами, доставая
стакан. По осколкам все бегали и ходили с хрустом взад
и вперед. Турбин, бледный, но уже не синеватый, лежал
по-прежнему навзничь на подушке. Он пришел в созна-
ние и хотел что-то сказать, но остробородый, с засучен-
ными рукавами, доктор в золотом пенсне, наклонившись
к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки:
586
Михаил Булгаков
— Помолчите, коллега...
Анюта, белая, меловая, с огромными глазами, и Елена,
растрепанная, рыжая, подымали Турбина и снимали с
него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным
рукавом.
— Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть, — ска
зал остробородый.
Рубаху на Турбине искромсали ножницами и сняли
по кускам, обнажив худое желтоватое тело и левую
руку, только что наглухо забинтованную до плеча. Кон-
цы дранок торчали вверху повязки и внизу. Николка
стоял на коленях, осторожно расстегивая пуговицы, и
снимал с Турбина брюки.
— Совсем раздевайте и сейчас же в постель, —
говорил клинобородый басом. Анюта из кувшина лила
ему на руки, и мыло клочьями падало в таз. Неизвест-
ный стоял в сторонке, не принимая участия в толкотне
и суете, и горько смотрел то на разбитые тарелки, то,
краснея, на растерзанную Елену — капот ее совсем
разошелся. Глаза неизвестного были увлажнены слезами.
Несли Турбина из столовой в его комнату все, и тут
неизвестный принял участие: он подсунул руки под
коленки Турбину и нес его ноги.
В гостиной Елена протянула врачу деньги, Тот от-
странил рукой...
— Что вы, ей-богу, — сказал он, — с врача? Тут
поважней вопрос. В сущности, в госпиталь надо...
— Нельзя, — донесся слабый голос Турбина, — нельзя
в госпит...
— Помолчите, коллега, — отозвался доктор, — мы
и без вас управимся. Да, конечно, я сам понимаю...
Черт знает что сейчас делается в городе... — Он кивнул
на окно. — Гм... пожалуй, он прав: нельзя... Ну, что ж,
тогда дома... Сегодня вечером я приеду.
— Опасно это, доктор? — заметила Елена тревожно.
Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей
желтизне и был заключен диагноз, крякнул и, покрутив
бородку, ответил:
— Кость цела... Гм... крупные сосуды не затронуты...
нерв тоже... Но нагноение будет... В рану попали клочья
шерсти от шинели... Температура... — Выдавив из себя
эти малопонятные обрывки мыслей, доктор повысил голос
и уверенно сказал: — Полный покой... Морфий, если будет
мучиться, я сам впрысну вечером. Есть — жидкое... ну,
бульон дадите... Пусть не разговаривает много...
Белая гвардия
587
— Доктор, доктор, я очень вас прошу... он просил,
пожалуйста, никому не говорить...
Доктор искоса закинул на Елену взгляд хмурый и
глубокий и забурчал:
— Да, это я понимаю... Как это он подвернулся?..
Елена только сдержанно вздохнула и развела руками.
— Ладно, — буркнул доктор и боком, как медведь,
полез в переднюю.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
12
В маленькой спальне Турбина на двух окнах, выхо-
дящих на стеклянную веранду, упали темненькие што-
ры. Комнату наполнил сумрак, и Еленина голова засве-
тилась в нем. В ответ ей светилось беловатое пятно на
подушке — лицо и шея Турбина. Провод от штепселя
змеей сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпач-
ке загорелась и день превратила в ночь. Турбин сделал
знак Елене прикрыть дверь.
— Анюту сейчас же предупредить, чтобы молчала...
— Знаю, знаю... Ты не говори, Алеша, много.
— Сам, знаю... Я тихонько.;. Ах, если рука пропадет!
— Ну что ты, Алеша... лежи, молчи... Пальто-то этой
дамы у нас пока будет?
— Да, да. Чтобы Николка не вздумал тащить его.
А то на улице... Слышишь? Вообще, ради бога, не пус-
кай его никуда.
— Дай бог ей здоровья, — искренне и нежно сказала
Елена, — вот, говорят, нет добрых людей на свете...
Слабенькая краска выступила на скулах раненого, и
глаза уперлись в невысокий белый потолок, потом он
перевел их на Елену и, поморщившись, спросил:
— Да, позвольте, а что это за головастик?
Елена наклонилось в розовый луч и вздернула пле-
чами.
— Понимаешь, ну, только что перед тобой, минутки
две, не больше, явление: Сережин племянник из Жито-
мира. .Ты же слышал: Суржанский... Ларион... Ну, зна-
менитый Лариосик.
588
Михаил Булгаков
- Ну?..
— Ну, приехал к нам с письмом. Какая-то драма у
них. Только что начал рассказывать, как она тебя при-
везла.
—Птица какая-то, бог его знает...
Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к
постели:
— Что птица!.. Он ведь жить у нас просится. Я уж
не знаю, как и быть.
— Жи-ить?..
— Ну да... Только молчи и не шевелись, прошу тебя,
Алеша... Мать умоляет, пишет, ведь этот самый Лари-
осик кумир ее... Я такого балбеса, как этот Лариосик,
в жизнь свою не видала. У нас он начал с того, что всю
посуду расхлопал. Синий сервиз. Только две тарелки
осталось.
— Ну вот. Я уже не знаю, как быть...
В розовой тени долго слышался шепот. В отдалении
звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки
и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя
Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст —
взбудораженная Анюта выметала синий сервиз. Нако-
нец было решено в шепоте. Ввиду того, что теперь в
городе будет происходить черт знает что и очень воз-
можно, что придут реквизировать комнаты, ввиду того,
что денег нет, а за Лариосика будут платить, — пустить
Лариосика. Но обязать его соблюдать правила турбин-
ской жизни. Относительно птицы — испытать. Ежели
птица несносна в доме, потребовать ее удаления, а хо-
зяина ее оставить. По поводу сервиза, ввиду того, что у
Елены, конечно, даже язык не повернется и вообще это
хамство и мещанство, — сервиз предать забвению.
Пустить Лариосика в книжную, поставить там кровать
с пружинным матрацем и столик...
Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной
позе, повесив голову и глядя на то место, где некогда
на буфете помещалось стопкой двенадцать тарелок.
Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь. Никол-
ка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая
какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напря-
женнейшим любопытством.
— Нету кожи в Житомире, — растерянно говорил
Лариосик, — понимаете, совершенно нету. Такой кожи,
как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожникам,
предлагая какие угодно деньги, но нету. И вот при-
шлось...
Белая гвардия
589
Увидя Елену, Лариосик побледнел, переступил на
месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти
капота, заговорил так:
— Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазины,
кликну клич, и у вас будет сегодня же сервиз. Я не
знаю, что мне и говорить. Как перед вами извиниться?
Меня, безусловно, следует убить за сервиз. Я ужасный
неудачник, — отнесся он к Николке. — И сейчас же в
магазины, — продолжал он Елене.
— Я вас очень прошу ни в какие магазины не ездить,
тем более что все они, конечно, закрыты. Да позвольте,
неужели вы не знаете, что у нас в Городе происходит?
— Как же не знать! — воскликнул Лариосик. — Я
ведь с санитарным поездом, как вы знаете из телеграммы.
— Из какой телеграммы? — спросила Елена. — Мы
никакой телеграммы не получили.
— Как? — Лариосик открыл широкий рот. — Не
получили? А-га! То-то я смотрю, — он повернулся к
Николке, — что вы на меня с таким удивлением... Но
позвольте... Мама дала вам телеграмму в шестьдесят
три слова.
— Ц...ц... Шестьдесят три слова! —- поразился Ни-
колка. — Какая жалость. Ведь телеграммы теперь так
плохо ходят. Совсем, вернее, не ходят.
— Как же теперь быть? — огорчился Лариосик. —
Вы разрешите мне у вас?.. — Он беспомощно огляделся,
и сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему
очень нравится и никуда он уходить бы не хотел.
— Все устроено, — ответила Елена и милостиво
кивнула, — мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь.
Видите, у нас какое несчастье...
Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволок-
ло слезной дымкой.
— Елена Васильевна! — с чувством сказал он. —
Располагайте мной, как вам угодно. Я, знаете ли, могу
не спать по три и четыре ночи подряд.
— Спасибо, большое спасибо.
— А теперь, — Лариосик обратился к Николке, —
не могу ли я у вас попросить ножницы?
Николка, взъерошенный от удивления и интереса,
слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лариосик взялся
за пуговицу френча, поморгал глазами и опять обратил-
ся к Николке:
— Впрочем, виноват, на минутку в вашу комнату...
590
Михаил Булгаков
* В Николкиной комнате Лариосик снял френч, обна-
ружив необыкновенно грязную рубашку, вооружился
ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку
френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый
сверток денег. Этот сверток он торжественно принес в
столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря:
— Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же
внести деньги за мое содержание.
— Почему же такая спешность, — краснея, спросила
Елена, — это можно было бы и после...
Лариосик горячо запротестовал:
— Нет, нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста,
примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент
деньги всегда остро нужны, я это прекрасно понимаю! —
Он развернул пакет, причем изнутри выпала карточка
какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и
со вздохом спрятал в карман. — Да оно и лучше у вас
будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос ку-
пить и канареечного семени для птицы...
Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный
блеск показался у нее в глазах, настолько обстоятельны
и уместны были действия Лариосика.
«Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально
подумала, — подумала она, — вежлив и добросовестен,
только чудак какой-то. Сервиз безумно жаль».
«Вот тип», — думал Николка. Чудесное появление
Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли.
— Здесь восемь тысяч, — говорил Лариосик, двигая
по столу пачку, похожую на яичницу с луком, — если
мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще.
— Нет, нет, потом, отлично, — ответила Елена. —
Вы вот что: я сейчас попрошу Анюту, чтобы она исто
пила вам ванну, и сейчас же купайтесь. Но скажите,
как же вы приехали, как же вы пробрались, не пони
маю? — Елена стала комкать деньги и прятать их в
громадный карман капота.
Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспомина
ния.
— Это кошмар! — воскликнул он, складывая руки,
как католик на молитве. — Я ведь девять дней... нет,
виноват, десять?., позвольте... воскресенье, ну да, поне-
дельник... одиннадцать дней ехал от Житомира!..
— Одиннадцать дней! — вскричал Николка. — Ви-
дишь! — почему-то укоризненно обратился он к Елене.
Белая гвардия
591
— Да-с, одиннадцать... Выехал я, поезд был гетман-
ский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот
приезжаем мы на станцию, как ее, ну, вот, ну, господи,
забыл... все равно... и тут меня, вообразите, хотели
расстрелять. Явились эти петлюровцы, с хвостами...
— Синие? — спросил Николка с любопытством.
— Красные... да, с красными... и кричат: слазь! Мы
тебя сейчас расстреляем! Они решили, что я офицер и
спрятался в санитарном поезде. А у меня протекция
просто была... у мамы к доктору Курицкому.
— Курицкому? — многозначительно воскликнул
Николка. — Тэк-с, — кот... и кит. Знаем.
— Кити, кот, кити, кот, — за дверями глухо отозва-
лась птичка.
— Да, к нему... он и привел поезд к нам в Житомир...
Боже мой! Я тут начинаю богу молиться. Думаю, все
пропало! И, знаете ли? птица меня спасла. Я говорю, я
не офицер. Я ученый-птицевод, показываю птицу... Тут,
знаете, один ударил меня по затылку и говорит так
нагло — иди себе, бисов птицевод. Вот наглец! Я бы его
убил, как джентльмен, но сами понимаете...
— Еле... — глухо послышалось из спальни Турбина.
Елена быстро повернулась и, не дослушав, бросилась
туда.
*
Пятнадцатого декабря солнце по календарю угасает
в три с половиной часа дня. Сумерки поэтому побежали
по квартире уже с трех часов. Но на лице Елены в три
часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетен-
ный час дня жизни — половину шестого. Обе стрелки
прошли печальные складки у углов рта и стянулись
вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и реши-
мость бороться с бедой.
На лице' у Николки показались колючие и нелепые
без двадцати час оттого, что в Николкиной голове был
хаос и путаница, вызванная важными загадочными сло-
вами «Мало-Провальная...», словами, произнесенными
умирающим на боевом перекрестке вчера, словами, ко-
торые было необходимо разъяснить не позже чем в
ближайшие дни. Хаос и трудности были вызваны и
важным падением с неба в жизнь Турбиных загадочного
и интересного Лариосика, и тем обстоятельством, что
592
Михаил Булгаков
стряслось чудовищное и величественное событие: Пет-
люра взял Город. Тот самый Петлюра и, поймите! — тот
самый Город. И что теперь будет происходить в нем,
для ума человеческого, даже самого развитого, непонят-
но и непостижимо. Совершенно ясно, что вчера стряс-
лась отвратительная катастрофа — всех наших переби-
ли, захватили врасплох. Кровь их, несомненно, вопиет к
небу — это раз. Преступники-генералы и штабные мер-
завцы заслуживают смерти — это два. Но, кроме ужаса,
нарастает и жгучий интерес — что же, в самом деле,
будет? Как будут жить семьсот тысяч людей здесь, в
Городе, под властью загадочной личности, которая но-
сит такое страшное и некрасивое имя — Петлюра? Кто
он такой? Почему?.. Ах, впрочем, все это отходит пока
на задний план по сравнению с самым главным, с кро-
вавым... Эх... эх... ужаснейшая вещь, я вам доложу. Точно,
правда, ничего не известно, но, вернее всего, и Мышла-
евского, и Карася можно считать кончеными.
Николка на скользком и сальном столе колол лед
широким косарем. Льдины или раскалывались с хрус-
том, или выскальзывали из-под косаря и прыгали по
всей кухне, пальцы у Николки занемели. Пузырь с се-
ребристой крышечкой лежал под рукой.
— Мало... Провальная... — шевелил Николка губа-
ми, и в мозгу его мелькали образы Най-Турса, рыжего
Нерона и Мышлаевского. И как только последний об-
раз, в разрезной шинели, пронизывал мысли Николки,
лицо Анюты, хлопочущей в печальном сне и смятении у
жаркой плиты, все явственней показывало без двадца-
ти пяти пять — час угнетения и печали. Целы ли раз-
ноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый
шаг, прихлопывающий шпорным звоном — дрень... дрень...
— Неси лед, — сказала Елена, открывая дверь в
кухню.
— Сейчас, сейчас, — торопливо отозвался Николка,
завинтил крышку и побежал.
— Анюта, милая, — заговорила Елена, — смотри
никому ни слова не говори, что Алексея Васильевича
ранили. Если узнают, храни бог, что он против них
воевал, будет беда.
— Я, Елена Васильевна, понимаю. Что вы! — Анюта
тревожными, расширенными глазами поглядела на Еле-
ну. — Что в городе делается, царица небесная! Тут на
Боричевом Току, иду я, лежат двое без сапог... Крови,
крови!.. Стоит кругом народ, смотрит... Говорит какой-то,
Белая гвардия
593
что двух офицеров убили... Так и лежат, головы без
шапок... У меня и ноги подкосились, убежала, чуть
корзину не бросила...
Анюта зябко передернула плечами, что-то вспомни-
ла, и тотчас из рук ее косо поехали на пол сковородки...
— Тише, тише, ради бога, — молвила Елена, прости-
рая руки.
На сером лице Лариосика стрелки показывали в три
часа дня высший подъем и силу — ровно двенадцать.
Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали
вверх, как острие меча. Происходило это потому, что
после катастрофы, потрясшей Лариосикову нежную душу
в Житомире, после страшного одиннадцатидневного
путешествия в санитарном поезде и сильных ощущений
Лариосику чрезвычайно понравилось в жилище у Тур-
биных. Чем именно — Лариосик пока не мог бы этого
объяснить, потому что и сам себе этого не уяснил точно.
Показалась необычайно заслуживающей почтения и
внимания красавица Елена. И Николка очень понравил-
ся. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучил момент,
когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и
обратно, и стал помогать ему устанавливать и раздви-
гать пружинную узкую кровать в книжной комнате.
— У вас очень открытое лицо, располагающее к себе, —
сказал вежливо Лариосик я до того засмотрелся на
открытое лицо, что не заметил, как сложил сложную
гремящую кровать и ущемил между двумя створками
Николкину руку. Боль была так сильна, что Николка
взвыл, правда, глухо, но настолько сильно, что прибежа-
ла, шурша, Елена. У Николки, напрягающего все силы,
чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные
слезы. Елена и Лариосик вцепились в сложенную авто-
матическую кровать и долго рвали ее в разные стороны,
освобождая посиневшую кисть. Лариосик сам чуть не
заплакал, когда она вылезла мятая и в красных по-
лосах.
— Боже мой! — сказал он, искажая свое и без того
печальное лицо. — Что же это со мной делается?! До
чего мне не везет!.. Вам очень больно? Простите меня,
ради бога.
Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пус-
тила ему на руку, по его распоряжению, струю холодной
воды из крана.
После того, как хитрая патентованная кровать рас-
щелкнулась и разложилась и стало ясно, что особенного
594
Михаил Булгаков
повреждения Николкиной руки нет, Лариосиком вновь
овладел приступ приятной и тихой радости по поводу
книг. У него, кроме страсти и любви к птицам, была
еще и страсть к книгам. Здесь же на открытых много-
полочных шкафах тесным строем стояли сокровища.
Зелеными, красными, тисненными золотом и желтыми
обложками и черными папками со всех четырех стен на
Лариосика глядели книги. Уж давно разложилась кро-
вать и застелилась постель и возле нее стоял стул и на
спинке его висело полотенце, а на сидении среди всяких
необходимых мужчине вещей — мыльницы, папирос,
спичек, часов — утвердилась в наклонном положении
таинственная женская карточка, а Лариосик все еще
находился в книжной, то путешествуя вокруг облеплен-
ных книгами стен, то присаживаясь на корточки у ниж-
них рядов залежей, жадными глазами глядя на перепле-
ты, не зная, за что скорее взяться — за «Посмертные
записки Пиквикского клуба» или за «Русский вестник»
1871 года. Стрелки стояли на двенадцати.
Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все
более и более печаль. Поэтому часы не били двенадцать
раз, стояли молча стрелки и были похожи на сверкаю-
щий меч, обернутый в траурный флаг.
Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах
всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому
турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик. В три
часа в спальне Трубина он показал 39,6. Елена, поблед-
нев, хотела стряхнуть его, но Турбин повернул голову,
повел глазами и слабо, но настойчиво произнес: «Пока-
жи». Елена молча и неохотно подала ему термометр.
Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул.
В пять часов он лежал с холодным серым мешком на
голове, и в мешке таял и плавился мелкий лед. Лицо
его порозовело, а глаза стали блестящими и очень по-
хорошели.
— Тридцать девять и шесть... здорово, — говорил он,
изредка облизывая сухие, потрескавшиеся губы. — Та-
ак... Все может быть... Но, во всяком случае, практике
конец... надолго. Лишь бы руку-то сохранить... а то что
я без руки...
— Алеша, молчи, пожалуйста, — просила Елена,
оправляя у него на плечах одеяло... Турбин умолкал,
закрывая глаза. От раны вверху у самой левой подмыш-
ки тянулся и расползался по телу сухой, колючий жар.
Порой он наполнял всю грудь и туманил голову, но ноги
Белая гвардия
595
неприятно леденели. К вечеру, когда всюду зажглись
лампы и давно в молчании и тревоге отошел обед трех —
Елены, Николки и Лариосика, — ртутный столб,
разбухая и рождаясь колдовским образом из густого
серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления
40,2. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг
стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый
ком, рассевшийся на одеяле, а теперь она превратилась
в желтые струны, которые потянулись, как водоросли в
воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что
все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в
левой части груди, отупела и стала малоподвижной.
Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди порою
превращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в
легком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пу-
зырь и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выво-
рачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить
так, что раненый невольно сухо и слабо произносил
слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал
опять свое место палящей свече, жар тогда наливал
тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и
раненый просил — -«пить». То Николкино, то Еленино,
то Лариосиково лица показывались в дымке, наклоня-
лись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими,
нахмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу
стянулись и стали как у Елены — ровно половина
шестого. Николка поминутно выходил в столовую —
свет почему-то горел в этот вечер тускло и тревожно —-
и смотрел на часы. Тонкрх... тонкрх... — сердито и пре-
достерегающе ходили часы с хрипотой, и стрелки их
показывали то десять, то девять с четвертью, то девять
с половиной...
— Эх, эх, — вздыхал Нико_лка и брел, как сонная
муха, из столовой через прихожую мимо спальни Турби-
на в гостиную, а оттуда в кабинет и выглядывал, отвер-
нув белые занавески, через балконную дверь на улицу...
«Чего доброго, не струсил бы врач... не придёт...» —
думал он. Улица, кривая и крутая, была пустыннее, чем
все эти дни, но все же уж не так ужасна. И шли
изредка и скрипели понемногу извозчичьи сани. Но ред-
ко... Николка соображал, что придется, пожалуй, идти...
И думал, как уломать Елену.
— Если до десяти с половиной он не придет, я пойду
сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежу-
рить у Алеши... Молчи, пожалуйста... Пойми, у тебя
596
Михаил Булгаков
юнкерская физиономия... А Лариосику дадим штатское
Алешино... И его с дамой не тронут...
Лариосик суетился, изъявлял готовность пожертво-
вать собой и идти одному и пошел надевать штатское
платье.
Нож совсем пропал, но жар пошел гуще — поддавал
тиф на каменку, и в жару пришла уже не раз не совсем
ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни
фигура человека. Она была в сером.
— А ты знаешь, он, вероятно, кувыркнулся. Серый? —
вдруг отчетливо и строго молвил Турбин и посмотрел на
Елену внимательно. — Это неприятно... Вообще, в сущ-
ности, все птицы. В кладовую бы в теплую убрать да
посадить, в тепле и опомнились бы.
— Что ты, Алеша? — испуганно спросила Елена,
наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей веет теплом от
лица Турбина. — Птица? Какая птица?
Лариосик в черном штатском стал горбатым, широ-
ким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугал-
ся, глаза его жалобно забегали. На цыпочках, баланси-
руя, он выбегал из спаленки через прихожую в столо-
вую, через книжную повернул в Николкину и там, стро
го взмахивая руками, кинулся к клетке на письменном
столе и набросил на нее черный плат... Но это было
лишнее — птица давно спала в углу, свернувшись и
оперенный клубок, и молчала, не ведая никаких тревог.
Лариосик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книж
ной в столовую.
— Неприятно... ох, неприятно, — беспокойно говорил
Турбин, глядя в угол, — напрасно я застрелил его... Ты
слушай... — Он стал освобождать здоровую руку из-под
одеяла... — Лучший способ пригласить и объяснить,
чего, мол, мечешься, как дураке?.. Я, конечно, беру на
себя вину... Все пропало и глупо...
— Да, да, — тяжко молвил Николка, а Елена пове
сила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься,
но острая боль навалилась, он застонал, потом злобно
сказал:
— Уберите тогда!..
— Может быть, вынести ее в кухню? Я, впрочем,
закрыл ее, она молчит, —- тревожно зашептал Елене
Лариосик.
Елена махнула рукой: «Нет, нет, не то...» — Николка
решительными шагами вышел в столовую. Волосы его
взъерошились, он глядел на циферблат: часы показыва-
Белая гвардия
597
ли около десяти. Встревоженная Анюта вышла из двери
в столовую.
— Что, как Алексей Васильевич? — спросила она.
— Бредит, — с глубоким вздохом ответил Николка.
— Ах ты, боже мой, — зашептала Анюта, — чего же
это доктор не едет?
Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он
прильнул к уху Елены и начал внушать ей:
— Воля твоя, а я отправлюсь за ним. Если нет его,
надо звать другого. Десять часов. На улице совершенно
спокойно.
— Подождем до половины одиннадцатого, — качая
головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шепо-
том, — другого звать неудобно. Я знаю, этот придет.
Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале один-
надцатого поместилась в узкую спаленку. Черт знает
что! Совершенно немыслимо будет жить. Она заняла все
от стены до стены, так что левое колесо прижалось к
постели. Невозможно жить, нужно будет лазить между
тяжелыми спицами, потом сгибаться в дугу и через
второе, правое, колесо протискиваться, да еще с веща-
ми, а вещей навешано на левой руке бог знает сколько.
Тянут руку к земле, бечевой режут подмышку. Мортиру
убрать невозможно, вся квартира стала мортирной, со-
гласно распоряжению, и бестолковый полковник Малы-
шев, и ставшая бестолковой Елена, глядящая из колес,
ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или,
по крайней мере, самого-то больного человека перевести
в другие, сносные условия существования, туда, где нет
никаких мортир. Самая квартира стала, благодаря про-
клятой, тяжелой и холодной штуке, как постоялый двор.
Колокольчик на двери звонит часто... бррынь... и стали
являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев,
нелепый, как лопарь, в ушастой шапке и с золотыми
погонами, и притащил с собой ворох бумаг. Турбин
прикрикнул на него, и Малышев ушел в дуло пушки и
сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым
в своем упрямстве. Николка давал пить, но не холод-
ную, витую струю из фонтана, а лил угеплую противную
воду, отдающую кастрюлей.
— Фу... гадость эту... перестань, — бормотал Турбин.
Николка и пугался, и брови поднимал, но был упрям
и неумел. Елена не раз превращалась в черного и лиш-
него Лариосика, Сережина племянника, и, вновь возвра-
щаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле
598
Михаил Булгаков
лба, и от этого было очень мало облегченья. Еленины
руки, обычно теплые и ловкие, теперь, как грабли, рас-
хаживали длинно, дурацки и делали все самое ненуж-
ное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь
на цейхгаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена
была и причиной палки, на которую насадили туловище
простреленного Турбина. Да еще садилась... что с ней?.,
на конец этой палки, и та под тяжестью начинала мед-
ленно до тошноты вращаться... А попробуйте жить, если
круглая палка врезывается в тело! Нет, нет, нет, они
несносны! И как мог громче, но вышло тихо, Турбин
позвал:
— Юлия!
Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с
золотыми эполетами на портрете сороковых годов, нс
вняла зову больного человека. И совсем бы бедного
больного человека замучили серые фигуры, начавшие
хождение по квартире и спальне, наравне с самими
Турбиными, если бы не приехал толстый, в золотых
очках — настойчивый и очень умелый. В честь его по-
явления в спаленке прибавился еще один свет — свет
стеариновой трепетной свечи в старом тяжелом и чер
ном шандале. Свеча то мерцала на столе, то ходили
вокруг Турбина, а над ней ходил по стене безобразный
Лариосик, похожий на летучую мышь с обрезанными
крыльями. Свеча наклонялась, оплывая белым стеари-
ном. Маленькая спаленка пропахла тяжелым запахом
йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих
коробочек с огнями ^никелированных зеркальцах и горы
театральной ваты — рождественского снега. Турбину
толстый, золотой, с теплыми руками, сделал чудодей
ственный укол в здоровую руку, и через несколько минут
серые фигуры перестали безобразничать. Мортиру вы
двинули на веранду, причем сквозь стекла, завешенные,
ее черное дуло отнюдь не казалось страшным. Стало
свободнее дышать, потому что уехало громадное колесо
и не требовалось лазить между спицами. Свеча потухла,
и со стены исчез угловатый черный, как уголь, Ларион,
Лариосик Суржанский из Житомира, а лик Николки
стал более осмысленным и не таким раздражающе
упрямым, быть может, потому, что стрелка, благодаря
надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не
столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбо-
родке. Назад от половины шестого к без двадцати пять
пошло времечко, а часы в столовой, хоть и не соглаша-
Белая гвардия
599
лись с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки все
вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и
брюзжания, а по-прежнему — чистым, солидным бари-
тоном били — тонк! И башенным боем, как в игрушеч-
ной крепости прекрасных галлов Людовика XIV били на
башне — бом!.. Полночь... слушай... полночь... слушай...
Били предостерегающе, и чьи-то алебарды позвякивали
серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, ибо
башни, тревоги и оружие человек воздвиг, сам того не
зная, для одной лишь цели — охранять человеческий
покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря,
ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует.
Только в очаге покоя Юлия, эгоистка, порочная, но
обольстительная женщина, согласна появиться. Она и
появилась, ее нога в черном чулке, край черного оторо-
ченного мехом ботика мелькнул на легкой кирпичной
лесенке, и торопливому стуку и шороху ответил плещу-
щий колокольчиками гавот оттуда, где Людовик XIV7
нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опь-
яненный своей славой и присутствием обаятельных цвет-
ных женщин.
*
В полночь Николка предпринял важнейшую и, конеч-
но, совершенно своевременную работу. Прежде всего он
пришел с грязной влажной тряпкой из кухни, и с груди
Саардамского Плотника исчезли слова:
Да здравствует Россия...
Да здравствует самодержавие!
Бей Петлюру!
Затем при горячем участии Лариосика были произ-
ведены и более важные работы. Из письменного стола
Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин бра-
унинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка
проверил его и убедился, что из семи патронов старший
шесть где-то расстрелял.
— Здорово... — прошептал Николка.
Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лари-
осик оказался предателем. Ни в коем случае не может
быть на стороне Петлюры интеллигентный человек во-
обще, а джентльмен, подписавший векселей на семьде-
сят пять тысяч и посылающий телеграммы в 63 слова,
в частности... Машинным маслом и керосином наилуч-
600
Михаил Булгаков
шим образом были смазаны и Най-Турсов кольт, и
Алешин браунинг. Лариосик, подобно Николке, засучил
рукава и помогал смазывать и укладывать все в длин-
ную и высокую жестяную коробку из-под карамели.
Работа была спешной, ибо каждому порядочному чело-
веку, участвовавшему в революции, отлично известно,
что обыски при всех властях происходят от 2 ч. 30 м.
ночи до 6 ч. 15 м. утра зимой и от 12 часов ночи до
четырех утра летом. Все же работа задержалась, бла-
годаря Лариосику, который, знакомясь с устройством
десятизарядного пистолета системы «Кольт», вложил в
ручку обойму не тем концом, и, чтобы вытащить ее,
понадобилось значительное усилие и порядочное коли-
чество масла. Кроме, того, произошло второе и неожи-
данное препятствие: коробка, со вложенными в нее ре-
вольверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и
карточкой, наследника Алексея, коробка, выложенная
внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем
швам облепленная липкими полосами электрической
изоляции, не пролезала в форточку.
Дело было вот в чем: прятать так прятать!.. Не все
же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать, Николка
сообразил еще днем. Стена дома № 13 подходила к
стене соседнего 11-го номера почти вплотную — остана
лось не более аршина расстояния. Из дома № 13 в этой
стене было только три окна — одно из Николкиной
угловой, два из соседней книжной, совершенно ненуж
ные (все равно темно), и внизу маленькое подслеповатое
оконце, забранное решеткой, из кладовки Василисы, а
стена соседнего № 11 совершенно глухая. Представьте
себе великолепное ущелье в аршин, темное и невидное
даже с улицы и не доступное со двора ни для кого,
кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз и буду-
чи мальчишкой, Николка, играя в разбойников, лазил в
него, спотыкаясь на грудах кирпичей, и отлично запом-
нил, что по стене тринадцатого номера тянется вверх до
самой крыши ряд костылей. Вероятно, раньше, когда
11-го номера еще не существовало, на этих костылях
держалась пожарная лестница, а потом ее убрали. Кос-
тыли же остались. Высунув сегодня вечером руку в
форточку, Николка и двух секунд не шарил, а сразу
нащупал костыль. Ясно и просто. Но вот* коробка, обвя-
занная накрест тройным слоем прекрасного шпагата,
так называемого сахарного, с приготовленной петлей, не
лезла в форточку.
Белая гвардия
601
— Ясное дело, надо окно вскрывать, — сказал Ни-
колка, слезая с подоконника.
Лариосик отдал дань уму и находчивости Николки,
после чего приступил к распечатыванию окна. Эта ка-
торжная работа заняла не менее полчаса, распухшие
рамы не хотели открываться. Но в конце концов все-
таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую,
причем на Лариосиковой стороне лопнуло длинной изви-
листой трещиной стекло.
— Потушите свет! — скомандовал Николка.
Свет погас, и страшнейший мороз хлынул в комнату.
Николка высунулся до половины в черное обледенелое
пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль.
Коробка прекрасно повисла на двухаршинном шпагате.
С улицы заметить никак нельзя, потому что брандмауэр
13-го номера подходит к улице косо, не под прямым
углом, и потому, что высоко висит вывеска швейной
мастерской. Можно заметить только, если залезть в щель.
Но никто не залезет ранее весны, потому что со двора
намело гигантские сугробы, а с улицы прекраснейший
забор, и, главное, идеально то, что можно контролиро-
вать, не открывая окна; просунул руку в форточку, и
готово: можно потрогать шпагат, как струну. Отлично.
Вновь зажегся свет, и, размяв на подоконнике замаз-
ку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно
наново. Даже если бы каким-нибудь чудом и нашли, то
всегда готов ответ: «Позвольте? Это чья же коробка?
Ах, револьверы... наследник?
— Ничего подобного! Знать не знаю и ведать не
ведаю. Черт его знает кто повесил! С крыши залезли и
повесили. Мало ли кругом народу? Так-то-с. Мы люди
мирные, никаких наследников...»
— Идеально сделано, клянусь богом, — говорил
Лариосик.
Как не идеально! Вещь под руками и в то же время
вне квартиры.
♦
Было три Часа ночи. В эту ночь, по-видимому, никто
не придет. Елена с тяжелыми истомленными веками
вышла на цыпочках в столовую. Николка должен был ее
сменить. Николка с трех до шести,- а с шести до девяти
Лариосик.
602
Михаил Булгаков
Говорили шепотом.
— Значит, так: тиф, — шептала Елена, — имейте в
виду, что сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что
такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть,
тиф... Вероятно, она не поверила, уж очень у нее глазки
бегали... Все расспрашивала — как у нас, да где были
наши, да не ранили ли кого. Насчет раны ни звука.
— Ни, ни, ни, — Николка даже руками замахал, —
Василиса такой трус, какого свет не видал! Ежели н
случае чего, он так и ляпнет кому угодно, что Алексея
ранили, лишь бы только себя выгородить.
— Подлец, — сказал Ларио.сик, — это подло!
В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола
было совершенно спокойно, черты лица обострились и
утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный
яд. Серые фигуры перестали распоряжаться, как у себя
дома, разошлись по своим делишкам, окончательно уб-
рали пушку. Если кто даже совершенно посторонний и
появлялся, то все-таки вел себя прилично, стараясь
связаться с людьми и вещами, коих законное место всегда
в квартире Турбиных. Раз появился полковник Малы-
шев, посидел в кресле, но улыбался таким образом, что
все, мол, хорошо и будет к лучшему, а не бубнил грозно
и зловеще и не набивал комнату бумагой. Правда, он
жег документы, но не посмел тронуть диплом Турбина
и карточки матери, да и жег на приятном и совершенно
синеньком огне от спирта, а это огонь успокоительный,
потому что за ним обычно следует укол. Часто звонил
звоночек к мадам Анжу.
— Брынь... — говорил Турбин, намереваясь передать
звук звонка тому, кто сидел в кресле, а сидели по
очереди то Николка, то неизвестный с глазами монгола
(не смел буянить вследствие укола), то скорбный Мак-
сим, седой и дрожащий. — Брынь... — раненый говорил
ласково и строил из гибких теней движущуюся картину,
мучительную и трудную, но заканчивающуюся необы-
чайным и радостным и больным концом.
Бежали часы, крутилась стрелка в столовой, и, когда
на белом циферблате короткая и широкая пошла к пяти,
настала полудрема. Турбин изредка шевелился, откры-
вал прищуренные глаза и неразборчиво бормотал:
— По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу,
ослабею, упаду... А ноги ее быстрые... ботики... по сне-
гу... След оставишь... волки... Бррынь... бррынь...
Белая гвардия
603
13
«Брынь» в последний раз Турбин услыхал, убегая по
черному ходу из магазина неизвестно где находящейся
и сладострастно пахнущей духами мадам Анжу. Звонок.
Кто-то только что явился в магазин. Быть может, такой
же, как сам Турбин, заблудший, отставший, свой, а
может быть, и чужие — преследователи. Во всяком
случае, вернуться в магазин невозможно. Совершенно
лишнее геройство.
Скользкие ступени вынесли Турбина во двор. Тут он
совершенно явственно услыхал, что стрельба тарахтела
совсем недалеко, где-то на улице, ведущей широким
скатом вниз к Крещатику, да вряд ли и не у музея. Тут
же стало ясно, что слишком много времени он потерял
в сумеречном магазине на печальные размышления и
что Малышев был совершенно прав, советуя ему пото-
ропиться. Сердце забилось тревожно.
Осмотревшись, Турбин убедился, что длинный и бес-
конечно высокий желтый ящик дома, приютившего ма-
дам Анжу, выпирал на громадный двор и тянулся этот
двор вплоть до низкой стенки, отделявшей соседнее
владение управления железных дорог. Турбин, прищу-
рившись, огляделся и пошел, пересекая пустыню, прямо
на эту стенку. В ней оказалась калитка, к великому
удивлению Турбина, не запертая. Через нее он попал в
противный двор управления. Глупые дырки управления
неприятно глядели, и ясно чувствовалось, что все управ-
ление вымерло. Под гулким сводом, пронизывающим
дом, по асфальтовой дороге доктор вышел на улицу.
Было ровно четыре часа дня на старинных часах на
башне дома напротив. Начало чуть-чутЬ темнеть. Улица
совершенно пуста. Мрачно оглянулся Турбин, гонимый
предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз, туда, где
громоздились, присыпанные снегом в жидком сквере,
Золотые ворота. Один лишь пешеход в черном пальто
пробежал навстречу Турбину с испуганным видом и
скрылся.
Улица пустая вообще производит ужасное впечатле-
ние, а тут еще где-то под ложечкой томило и сосало
предчувствие. Злобно морщась, чтобы преодолеть нере-
шительность, — ведь все равно идти нужно, по воздуху
домой не перелетишь, — Турбин приподнял воротник
шинели и двинулся.
Тут он понял, что отчасти томило — внезапное мол-
604
Михаил Булгаков
чание пушек. Две последних недели непрерывно они
гудели вокруг, а теперь в небе наступила тишина. Но
зато в городе, и именно там, внизу, на Крещатике, ясно
пересыпалась пачками стрельба. Нужно было бы Тур-
бину повернуть сейчас от Золотых ворот влево по пере-
улку, а там, прижимаясь за Софийским собором, тихо-
нечко и выбрался бы к себе, переулками, на Алексеев-
ский спуск. Если бы так сделал Турбин, жизнь его
пошла бы по-иному совсем, но вот Турбин так не сде-
лал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть
вниз с обрыва в горах... Тянет к холодку... к обрыву.
И так потянуло к музею. Непременно понадобилось уви-
деть, хоть издали, что там возле него творится. И, вмес-
то того, чтобы свернуть, Турбин сделал десять лишних
шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу
тревога крикнула внутри, и очень отчетливо Малышев-
ский голос шепнул: «Беги!» Турбин повернул голову
вправо и глянул вдаль, к музею. Успел увидать кусок
белого бока, насупившиеся купола, какие-то мелькав-
шие вдали черные фигурочки... больше все равно ничего
не успел увидеть.
В упор на него, по Прорезной покатой улице, с
Крещатика, затянутого далекой морозной дымкой, под-
нимались, рассыпавшись во всю ширину улицы, серень-
кие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко —
шагах в тридцати. Мгновенно стало понятно, что они
бегут уже давно и бег их утомил. Вовсе не глазами, а
каким-то безотчетным движением сердца Турбин сооб-
разил, что это петлюровцы.
«По-пал», — отчетливо сказал под ложечкой голос
Малышева.
Затем несколько секунд вывалились из жизни Турби-
на, и, что во время их происходило, Ьн не знал. Ощутил
он себя лишь за углом, на Владимирской улице, с го-
ловой, втянутой в плечи, на ногах, которые его несли
быстро от рокового угла Прорезной, где конфетница
«Маркиза».
«Ну-ка, ну-ка, ну-ка, еще... еще...» — застучала в
висках кровь.
Еще бы немножечко молчания сзади. Превратиться
бы в лезвие ножа или влипнуть в стену. Ну-ка... Но
молчание прекратилось — его нарушило совершенно
неизбежное.
— Стой! — прокричал сиплый голос в холодную
спину — Турбину.
Белая гвардия
605
«Так», — оборвалось под ложечкой.
— Стой! — серьезно повторил голос.
Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился,
потому что явилась короткая шальная мысль изобра-
зить мирного гражданина. Иду, мол, по своим делам...
Оставьте меня в покое... Преследователь был шагах в
пятнадцати и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь
только доктор повернулся, изумление выросло в глазах
преследователя, и доктору показалось, что это монголь-
ские раскосые глаза. Второй вырвался из-за угла и
дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось
непонятной, зловещей радостью.
— Тю! — крикнул он. — Бачь, Петро: офицер. —
Вид у него при этом был такой, словно внезапно он,
охотник, при самой дороге увидел зайца.
«Что так-кое? Откуда известно?» — грянуло в тур-
бинской голове, как молотком.
Винтовка второго превратилась вся в маленькую
черную дырку, не более гривенника. Затем Турбин по-
чувствовал, что сам он обернулся в стрелу на Влади-
мирской улице и что губят его валенки. Сверху и сзади,
шипя, ударило в воздухе — ч-чах...
— Стой! Ст... Тримай! — Хлопнуло. — Тримай офи-
цера!!! — загремела и заулюлюкала вся Владимирская.
Еще два раза весело трахнуло, разорвав воздух.
Достаточно погнать человека под выстрелами, и он
превращается в мудрого волка; на смену очень слабому
и в действительно трудных случаях ненужному уму
вырастает мудрый звериный инстинкт. По-волчьи обер-
нувшись на угонке на углу Мало-Провальной улицы,
Турбин увидал, как черная дырка сзади оделась совер-
шенно круглым и бледным огнем, и, наддав ходу, он
свернул в Мало-Провальную, второй раз за эти пять
минут резко повернув свою жизнь.
Инстинкт: гонятся настойчиво и упорно, не отстанут,
настигнут и, настигнув, совершенно неизбежно, —- убь-
ют. Убьют, потому что бежал, в кармане ни одного
документа и револьвер, серая шинель; убьют, потому что
в бегу раз свезет, два свезет, а в третий раз — попадут.
Именно в третий. Это с древности известный раз. Зна-
чит, кончено; еще полминуты — и валенки погубят. Все
непреложно, а раз так — страх прямо через все тело и
через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной
водой вернулась ярость и кипятком вышла изо рта на
бегу. Уже совершенно по-волчьи косил на бегу Турбин
606
Михаил Булгаков
глазами. Два серых, за ними третий, выскочили из-за
угла Владимирской, и все трое вперебой свернули. Тур
бин, замедлив бег, скаля зубы, три раза выстрелил н
них, не целясь. Опять наддал ходу, смутно впереди себя
увидел мелькнувшую под самыми стенами у водосточной
трубы хрупкую черную тень, почувствовал, что деревян
ными клещами кто-то рванул его за левую подмышку,
отчего тело его стало бежать странно, косо, боком, не-
ровно. Еще раз обернувшись, он, не спеша, выпустил
три пули и строго остановил себя на шестом выстреле:
«Седьмая — себе. Еленка рыжая и Николка. Конче
но. Будут мучить. Погоны вырежут. Седьмая себе».
Боком стремясь, чувствовал странное: револьвер тя-
нул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще
уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуху,
больше ничего не выйдет. До излома самой фантасти-
ческой улицы в мире Турбин все же дорвался, исчез за
поворотом, и ненадолго получил облегчение. Дальше
безнадежно: глуха запертая решетка, вон ворота грома-
ды заперты, вон заперто... Он вспомнил веселую дурац-
кую пословицу: «Не теряйте, куме, силы, опускайтеся на
дно».
И тут увидал ее в самый момент чуда, в черной
мшистой стене, ограждавшей наглухо снежный узор
деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту
стену и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огром-
нейшими от ужаса глазами, прокричала:
— Офицер! Сюда! Сюда...
Турбин, на немного скользящих валенках, дыша ра-
зодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал
медленно к спасительным рукам и вслед за ними про-
валился в узкую щель калитки в деревянной черной
стене. И все изменилось сразу. Калитка под руками
женщины в черном влипла в стену, и щеколда захлоп-
нулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турби-
на. В них он смутно прочитал решительность, действие
и черноту.
— Бегите сюда. За мной бегите, — шепнула женщи-
на, повернулась и побежала, по узкой кирпичной доро-
жке. Турбин очень медленно побежал за ней. На левой
руке мелькнули стены сараев, и женщина свернула. На
правой руке какой-то белый, сказочный многоярусный
сад. Низкий заборчик перед самым носом, женщина
проникла во вторую калиточку, Турбин, задыхаясь, за
Белая гвардия
607
ней. Она захлопнула калитку, перед глазами мелькнула
нога, очень стройная, в черном чулке, подол взмахнул,
и ноги женщины легко понесли ее вверх по кирпичной
лесенке. Обострившимся слухом Турбин услыхал, что
там, где-то сзади за их бегом, осталась улица и пресле-
дователи. Вот... вот, только что они проскочили за пово-
рот и ищут его. «Спасла бы... спасла бы... — подумал
Турбин, — но, кажется, не добегу... сердце мое». Он
вдруг упал на левое колено и левую руку при самом
конце лесенки. Кругом^ все чуть-чуть закружилось.
Женщина наклонилась и* подхватила Турбина под пра-
вую руку...
— Еще... еще немного! — вскрикнула она; левой
трясущейся рукой открыла третью низенькую калиточ-
ку, протянула за руку спотыкающегося Турбина и броси-
лась по аллейке. «Ишь лабиринт... словно нарочно», —
очень мутно подумал Турбин и оказался в белом
саду, но уже где-то высоко и далеко от роковой Про-
вальной. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его
левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное и
ледяное сердце еле шевелится. «Спасла бы, но тут вот
и конец — кончик... ноги слабеют...» Увиделись рас-
плывчато купы девственной и нетронутой сирени, под
снегом, дверь, стеклянный фонарь старинных сеней,
занесенный снегом. Услышан был еще звон ключа.
Женщина все время была тут, возле правого бока, и,
уже из последних сил, в нитку втянулся за ней Турбин
в фонарь. Потом через второй звон ключа во мрак, в
котором обдало жилым, старым запахом. Во мраке, над
головой, очень тускло загорелся огонек, пол поехал под
ногами влево... Неожиданные ядовито-зеленые, с огнен-
ным ободком, клочья пролетели вправо перед глазами,
и сердцу в полном мраке полегчало сразу...
*
В тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых
шляпочек. Живой холод течет за пазуху, благодаря этому
больше воздуху, а в левом рукаве губительное, влажное
и неживое тепло. «Вот в этом-то вся суть. Я ранен».
Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь
головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки
перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу
не переведешь, — это она льет и брызжет водой.
608
Михаил Булгаков
— Ради бога, — сказал над головой грудной слабый
голос, — глотните, глотните. Вы дышите? Что же теперь
делать?
Стакан стукнул о зубы, и с клокотом Турбин глотнул
очень холодную воду. Теперь он увидал светлые завитки
волос и очень черные глаза близко. Сидящая на корточ-
ках женщина поставила стакан на пол и, мягко обхва-
тив затылок, стала поднимать Турбина.
«Сердце-то есть? — подумал он. — Кажется, ожи-
ваю... может, и не так много крови... надо бороться».
Сердце било, но, трепетное, частое, узлами вязалось в
бесконечную нить, и Турбин сказал слабо:
— Нет. Сдирайте все и чем хотите, но сию минуту
затяните жгутом...
Она, стараясь понять, расширила глаза, поняла, вско-
чила и кинулась к шкафу, оттуда выбросила массу
материи.
Турбин, закусив губу, подумал: «Ох, нет пятна на
полу, мало, к счастью, кажется, крови», — извиваясь,
при ее помощи, вылез из шинели, сел, стараясь не об-
ращать внимание на головокружение. Она стала сни-
мать френч.
— Ножницы, — сказал Турбин.
Говорить было трудно, воздуху не хватало. Та исчез-
ла, взметнув шелковым черным подолом, и в дверях
сорвала с себя шапку и шубку. Вернувшись, она села
на корточки и ножницами, тупо и мучительно въедаясь
в рукав, уже обмякший и жирный от крови, распорола
его и высвободила Турбина. С рубашкой справилась
быстро. Весь левый рукав был густо пропитан, густо-
красен и бок. Тут закапало на пол.
— Рвите смелей...
Рубаха слезла клоками, и Турбин, белый лицом, голый
и желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не
дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой
потряс левое плечо, сквозь зубы сказал:
— Слава бо... цела кость... Рвите полосу или бинт.
— Есть бинт, — радостно и слабо крикнула она.
Исчезла, вернулась, разрывая пакет со словами: —
И никого, никого... Я одна...
Она опять присела. Турбин увидал рану. Это была
маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внут-
ренней поверхности, там, где рука прилегает к телу. Из
нее сочилась узенькой струйкой кровь.
19*
Белая гвардия
609
— Сзади есть? — очень отрывисто, лаконически,
инстинктивно сберегая дух жизни, спросил.
— Есть, — она ответила с испугом.
— Затяните выше... тут... спасете.
Возникла никогда еще не испытанная боль, кольца
зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь,
затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу.
Она затянула, он помогал зубами и правой рукой, и
жгучим узлом, таким образом, выше раны обвили руку.
И тотчас престала течь кровь...
*
Женщина перевела его так: он стал на колени и
правую руку закинул ей на плечо, тогда она помогла
ему Стать на слабые, дрожащие ноги и повела, поддер-
живая его всем телом. Он видел кругом темные тени
полных сумерек в какой-то очень низкой старинной
комнате. Когда же она посадила его на что-то мягкое и
пыльное, под ее рукой сбоку вспыхнула лампа под виш-
невым платком. Он разглядел узоры бархата, край дву-
бортного сюртука на стене в раме и желто-золотой эполет.
Простирая к Турбину руки и тяжело дыша от волнения
и усилий, она сказала:
— Коньяк есть у меня... Может быть, нужно?.. Конь-
як?..
Он ответил:
— Немедленно...
И повалился на правый локоть.
Коньяк как будто помог, по крайней мере, Турбину
показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет
плечо, перетерпит. Женщина, стоя на коленях, бинтом
завязала раненую руку, сползла ниже к его ногам и
стащила с него валенки. Потом принесла подушку и
длинный, пахнущий сладким давним запахом японский
с диковинными букетами халат.
— Ложитесь, — сказала она.
Лег покорно, она набросила на него халат, сверху
одеяло и стала у узкой оттоманки, всматриваясь ему в
лицо.
Он сказал:
— Вы... вы замечательная женщина. — После мол-
чания: — Я полежу немного, пока вернутся силы, под-
нимусь и пойду домой... Потерпите еще немного, беспо-
койство.
‘Д20-1857
610 Михаил Булгаков
В сердце его заполз страх и отчаяние: «Что с Еле-
ной? Боже, боже... Николка. За что Николка погиб?
Наверно, погиб...»
Она молча указала на низенькое оконце, завешенное
шторой с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и
ясно хлопушки выстрелов.
— Вас сейчас же убьют, будьте уверены, — сказала
она.
— Тогда... я вас боюсь... подвести... Вдруг придут...
револьвер... кровь... там в шинели, — он облизал сухие
губы. Голова его тонко кружилась от потери крови и от
коньяку. Лицо женщины стало испуганным. Она приза-
думалась.
— Нет, — решительно сказала она, — нет, если бы
нашли, то уже были бы здесь. Тут такой лабиринт, что
никто не отыщет следов. Мы пробежали три сада. Но
вот убрать нужно сейчас же...
Он слышал плеск воды, шуршанье материи, стук в
шкафах...
Она вернулась, держа в руках за ручку двумя паль-
цами браунинг так, словно он был горячий, и спросила:
— Он заряжен?
Выпростав здоровую руку из-под одеяла, Турбин
ощупал предохранитель и ответил:
— Несите смело, только за ручку.
Она еще раз вернулась и смущенно сказала:
— На случай, если все-таки появятся... Вам нужно
рейтузы снять... Вы будете лежать, я скажу, что вы мой
муж больной...
Он, морщась и кривя лицо, стал расстегивать пуго-
вицы. Она решительно подошла, стала на колени и из-
под одеяла за штрипки вытащила рейтузы и унесла. Ее
не было долго. В это время он видел арку..В сущности
говоря, это были две комнаты. Потолки такие низкие,
что, если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал
бы до них рукой. Там, за аркой в глубине, было темно,
но бок старого пианино блестел лаком, еще что-то по-
блескивало, и, кажется, цветы фикуса. А здесь опять
этот край эполета в раме.
Боже, какая старина!.. Эполеты его приковали... Был
мирный свет сальной свечки в шандале. Был мир, и вот
мир убит. Не возвратятся годы. Еще сзади окна, низкие,
маленькие, и сбоку окно. Что за странный домик? Она
одна. Кто такая? Спасла... Мира нет... Стреляют там...
20-2
Белая гвардия
611
*
Она вошла, нагруженная охапкой дров, и с громом
выронила их в углу у печки.
— Что вы делаете? Зачем? — спросил он в сердцах.
— Все равно мне нужно было топить, — ответила
она, и чуть мелькнула у нее в глазах улыбка, — я сама
топлю...
— Подойдите сюда, — тихо попросил ее Турбин. —
Вот что, я и не поблагодарил вас за все, что вы...
сделали... Да и чем... — Он протянул руку, взял ее
пальцы, она покорно придвинулась, тогда он поцеловал
ее худую кисть два раза. Лицо ее смягчилось, как будто
тень тревоги сбежала с него, и глаза ее показались в
этот момент необычайной красоты.
— Если бы не вы, — продолжал Турбин, — меня бы,
наверное, убили.
— Конечно, — ответила она, — конечно... А так вы
убили одного.
Турбин приподнял голову.
— Я убил? — спросил он, чувствуя вновь слабость
и головокружение.
— Угу. — Она благосклонно кивнула головой и
поглядела на Турбина со страхом и любопытством. —
Ух, как это страшно... они самое меня чуть не застре-
лили. — Она вздрогнула...
— Как убил?
— Ну да... Они выскочили, а вы стали стрелять, и
первый грохнулся... Ну, может быть, ранили... Ну, вы
храбрый... Я думала, что я в обморок упаду... Вы отбе-
жите, стрельнете в них... и опять бежите... Вы, наверное,
капитан?
— Почему вы решили, что я офицер? Почему крича-
ли мне — «офицер»?
Она блеснула глазами.
— Я думаю, решишь, если у вас кокарда на папахе.
Зачем так бравировать?
— Кокарда? Ах, боже... это я... я... — Ему вспомнил-
ся звоночек... зеркало в пыли... — Все снял... а кокарду-
то забыл!.. Я не офицер, — сказал он, — я военный
врач. Меня зовут Алексей Васильевич Турбин... Поз-
вольте мне узнать, кто вы такая?
— Я — Юлия Александровна Рейсс.
— Почему вы одна?
72 20*
612
Михаил Булгаков
Она ответила как-то напряженно и отводя глаза в
сторону:
— Моего мужа сейчас нет. Он уехал. И матери его
тоже. Я одна... — Помолчав, она добавила: — Здесь
холодно... Брр... Я сейчас затоплю.
♦
Дрова разгорались в печке, и одновременно с ними
разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, все
сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом
разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжа-
лась над левой бровью и посылала во все стороны коль-
ца тугой отчаянной боли. Рейсс стояла на коленях у
печки и кочергой шевелила в огне. Мучаясь, то закры-
вая, то открывая глаза, Турбин видел откинутую назад
голову, заслоненную от жара белой кистью, и совершен-
но неопределенные волосы, не то пепельные, пронизан-
ные огнем, не то золотистые, а брови угольные и черные
глаза. Не понять — красив ли этот неправильный про-
филь и нос с горбинкой. Не разберешь, что в глазах.
Кажется, испуг, тревога, а может быть, и порок... Да,
порок.
Когда она так сидит и волна жара ходит по ней, она
представляется чудесной, привлекательной. Спаситель-
ница.
♦
Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке
и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в темя •
нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. «У меня жар, —
сухо и беззвучно повторял Турбин и внушал себе: —
Надо утром встать и перебраться домой...» Гвоздь раз-
рушал мозг и в конце концов разрушил мысль и о
Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. Все стало — все
равно. Пэтурра... Пэтурра... Осталось одно — чтобы
прекратилась боль.
Глубокой же ночью Рейсс в мягких, отороченных мехом
туфлях пришла сюда и сидела возле него, и опять, обвив
рукой ее шею и слабея, он шел через маленькие комна-
ты. Перед этим она собралась с силами и сказала ему:
— Вы встаньте, если только можете. Не обращайте
20-4
Белая гвардия
613
на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляже-
те совсем... Ну, если не можете...
Он ответил:
— Нет, я пойду... только вы мне помогите...
Она привела его к маленькой двери этого таинствен-
ного домика и так же привела обратно. Ложась, лязгая
зубами в ознобе и чувствуя, что сжалилась и утихает
голова, он сказал:
— Клянусь, я вам этого не забуду... Идите спать...
— Молчите, я буду вам гладить голову, — ответила
она.
Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы,
стекла с висков в ее мягкие руки#а по ним и по ее те-
лу — в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там по-
гибла. Вместо боли по всему телу разливался ровный,
приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как
чугунная, поэтому он и не шевелил ею, а лишь закрыл
глаза и отдался на волю жару. Сколько времени он так
пролежал, сказать бы он не сумел: может быть, пять
минут, а может быть, и много часов. Но, во всяком
случае, ему казалось, что так лежать можно было бы
всю вечность, в огне. Когда он открыл глаза, тихонько,
чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел
прежнюю картину: ровно, слабо горела лампочка под
красным абажуром, разливая мирный свет, и профиль
женщины был бессонный близ него. По-детски печально
оттопырив губы, она смотрела в окно. Плывя в жару,
Турбин шевельнулся, потянулся к ней...
— Наклонитесь ко мне, — сказал он. Голос его стал
сух, слаб, высок. Она повернулась к нему, глаза ее
испуганно насторожились и углубились в тенях. Турбин
закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и
поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся
к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удиви-
лась поступку Турбина. Она только пытливее вглядыва-
лась в лицо. Потом заговорила:
— Ох, какой жар у вас. Что же мы будем делать?
Доктора нужно позвать, но как же это сделать?
— Не надо, — тихо ответил Турбин, — доктор не
нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой.
— Я так боюсь, — шептала она, — что вам сдела-
ется плохо. Чем тогда я помогу? Не течет больше? —
Она неслышно коснулась забинтованной руки.
— Нет, вы не бойтесь, ничего со мной не сделается.
Идите спать.
514
Михаил Ьулгаков
— Не пойду, — ответила она и погладила его по
руке. — Жар, — повторила она.
Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к себе.
Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор,
пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему.
Тут он ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную
теплоту ее тела.
— Лежите и не шевелитесь, — прошептала она, —
а я буду вам гладить голову.
Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал
прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от
виска к волосам. Ему стало так хорошо, что он думал
только об одном, кан^бы не заснуть.
И вот он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда
проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке,
что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно
бледнеет да бледнеет. Не только в домике, но во всем
мире и Городе была полная тишина. Стеклянно жидень-
ко-синий свет разливался в щелях штор. Женщина,
согревшаяся и печальная, спала рядом с Турбиным.
И он заснул.
Утром, около девяти часов, случайный извозчик у
вымершей Мало-Провальной принял двух седоков —
мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщи-
ну. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цепляв-
шегося за ее рукав, привезла его на Алексеевской спуск.
Движения на Спуске не было. Только у подъезда № 13
стоял извозчик, только что высадивший странного гостя
с чемоданом, узлом и клеткой.
14
Они нашлись. Никто не вышел в расход, и нашлись
в следующий же вечер.
«Он», — отозвалось в груди Анюты, и сердце ее
прыгнуло, как Лариосикова птица. В занесенное снегом
оконце турбинской кухни осторожно постучали со двора.
Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он, но без
Белая гвардия
615
усов... Он... Анюта обеими руками пригладила черные
волосы, открыла дверь в сени, а из сеней в снежный
двор, и Мышлаевский оказался необыкновенно близко
от нее. Студенческое пальто с барашковым воротником
и фуражка... исчезли усы... Но глаза, даже в полутьме
сеней, можно отлично узнать. Правый в зеленых искор-
ках, как уральский самоцвет, а левый темный... И мень-
ше ростом стал...
Анюта дрожащею рукой закинула крючок, причем
исчез двор, а полосы из кухни исчезли оттого, что паль-
то Мышлаевского обвило Анюту, и очень знакомый го-
лос шепнул:
— Здравствуйте, Анюточка... Вы простудитесь... ‘А в
кухне никого нет, Анюта?
— Никого нет, — не помня, что говорит, и тоже
почему-то шепотом ответила Анюта. «Целует, губы слад-
кие стали», — в сладостнейшей тоске подумала она и
зашептала: — Виктор Викторович... пустите... Елене...
— При чем тут Елена... — укоризненно шепнул го-
лос, пахнущий одеколоном и табаком, — что вы, Аню-
точка...
— Виктор Викторович, пустите, закричу, как бог свят, —
страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлаев-
ского, —- у нас несчастье — Алексея Васильевича ра-
нили...
Удав мгновенно выпустил.
— Как ранили? А Никол?!
— Никол жив-здоров, а Алексей Васильевича ра-
нили.
Полоска света из кухни, двери.
В столовой Елена, увидев Мышлаевского, заплакала
и сказала:
— Витька, ты жив... Слава богу... А вот у нас... —
Она всхлипнула и указала на дверь к Турбину. — Сорок
у него... скверная рана...
— Мать честная, — ответил Мышлаевский, сдвинув
фуражку на самый затылок, — как же это он подвер-
нулся?
Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над
бутылью и какими-то блестящими коробками.
— Вы до'ктор, позвольте узнать?
— Нет, к сожалению, — ответил печальный и туск-
лый голос, — не доктор. Разрешите представиться:
Ларион Суржанский.
616
Михаил Булгаков
Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута
портьера, чтобы шум и голоса не достигали к Турбину.
Из спальни его вышли и только что уехали остроборо-
дый в золотом пенсне, другой бритый — молодой и,
наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе, в
боярской шапке, профессор, самого же Турбина учи-
тель. Елена провожала их, и лицо ее стало каменным.
Говорили — тиф, тиф... и накликали.
— Кроме раны, сыпной тиф...
И ртутный столб на сорока и... «Юлия»... В спаленке
красноватый жар. Тишина, а в тишине бормотанье про
лесенку и звонок «бр-рынь»...
*
— Здоровеньки булы, пане добродзию, — сказал
Мышлаевский ядовитым шепотом и расставил ноги.
Шервинский, густо-красный, косил глазом. Черный кос-
тюм сидел на нем безукоризненно; глядело чудное белье
и галстук бабочкой; на ногах лакированные ботинки.
«Артист оперной студии Крамского». Удостоверение в
кармане. — Чому ж це вы без погон?.. — продолжал
Мышлаевский. — «На Владимирской развеваются рус-
ские флаги... Две дивизии сенегалов в одесском порту и
сербские квартирьеры... Поезжайте, господа офицеры,
на Украину и формируйте части»... за ноги вашу ма-
машу!..
— Чего ты пристал?.. — ответил Шервинский. —
Я, что ль, виноват?.. При чем здесь я?.. Меня самого чуть
не убили. Я вышел из штаба последним ровно в пол-
день, когда с Печерска показались неприятельские цепи.
— Ты — герой, — ответил Мышлаевский, — но
надеюсь, что его сиятельство, главнокомандующий, ус-
пел уйти раньше... Равно как и его светлость, пан гет-
ман... его мать... Льщу себя надеждой, что он в безопас-
ном месте. Родине нужны их жизни. Кстати, не можешь
ли ты мне указать, где именно они находятся?
— Зачем тебе?
— Вот зачем. — Мышлаевский сложил 'правую руку
в кулак и постучал ею по ладони левой. — Ежели бы
мне попалось это самое сиятельство и светлость, я бы
одного взял за левую ногу, а другого за правую, пе-
Белая гвардия
617
ревернул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор,
пока мне это не надоело бы. А вашу штабную ораву в
сортире нужно утопить...
Шервинский побагровел.
— Ну, все-таки ты поосторожней, пожалуйста, —
начал он, — полегче... Имей в виду, что князь и штаб-
ных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, а осталь-
ные на произвол судьбы.
— Ты знаешь, что сейчас в музее сидит тысяча че-
ловек наших, голодные, с пулеметами. Ведь их петлю-
ровцы, как клопов, передушат... Ты знаешь, как убили
полковника Ная?.. Единственный был...
— Отстань от меня, пожалуйста!.. — не на шутку
сердясь, крикнул Шервинский. — Что это за тон?..
Я такой же офицер, как и ты!
— Ну, господа, бросьте, —- Карась вклинился между
Мышлаевским и Шервинским, — совершенно нелепый
разговор. Что ты, в самом деле, лезешь к нему... Бро-
сим, это ни к чему не ведет...
— Тише, тише, — горестно зашептал Николка, — к
нему слышно...
Мышлаевский сконфузился, помялся.
— Ну, не волнуйся, баритон. Это я так... Ведь сам
понимаешь...
— Довольно странно...
— Позвольте, господа, потише... — Николка насторо-
жился и потыкал ногой в пол. Все прислушались. Снизу
из квартиры Василисы донеслись голоса. Глуховато
расслышали, что Василиса весело рассмеялся и немножко
истерически как будто. Как будто в ответ, что-то радост-
но и звонко прокричала Ванда. Потом поутихло. Еще
немного и глухо побубнили голоса.
— Ну, вещь поразительная, — глубокомысленно
сказал Николка, — у Василисы гости... Гости. Да еще
в такое время. Настоящее светопреставление.
— Да, тип ваш Василиса, — скрепил Мышлаевский.
*
Это было около полуночи, когда Турбин после впрыс-
кивания морфия уснул, а Елена расположилась в крес-
ле у его постели. В гостиной составился военный совет.
Решено было всем оставаться ночевать. Во-первых,
ночью, даже с хорошими документами, ходить не к чему.
618
Михаил Булгаков
Во-вторых, тут и Елене лучше — то да се... помочь.
А самое главное, что дома в такое времечко именно
лучше не сидеть, а находиться в гостях. А еще, самое
главное, и делать нечего. А вот винт составить можно.
— Вы играете? — спросил Мышлаевский у Ларио-
сика.
Лариосик покраснел, смутился и сразу все выгово-
рил, и что в винт он играет, но очень, очень плохо...
Лишь бы его не ругали, как ругали в Житомире подат-
ные инспектора... Что он потерпел драму, но здесь, у
Елены Васильевны, оживает душой, потому что это со-
вершенно исключительный человек, Елена Васильевна,
и в квартире у них тепло и уютно, в особенности заме-
чательны кремовые шторы на всех окнах, благодаря
чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира...
А он, этот внешний мир... согласитесь сами, грязен, кровав
и бессмыслен.
— Вы, позвольте узнать, стихи сочиняете? — спросил
Мышлаевский, внимательно всматриваясь в Лариосика.
— Пишу, — скромно, краснея, произнес Лариосик.
— Так... Извините, что я вас перебил... Так бессмыс-
лен, вы говорите... Продолжайте, пожалуйста...
— Да, бессмыслен, а наши израненные души ищут
покоя вот именно за такими кремовыми шторами...
— Ну, знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас
в Житомире, а здесь, в Городе, пожалуй, вы его не
найдете... Ты щетку смочи водой, а то пылишь здорово.
Свечи есть? Бесподобно. Мы вас выходящим в таком
случае запишем... Впятером именно покойная игра...
— И Николка как покойник играет, — вставил
Карась.
— Ну что ты, Федя. Кто в прошлый раз под печкой
проиграл? Ты сам и пошел в ренонс. Зачем клевещешь?
— Блакитный петлюровский крап...
— Именно за кремовыми шторами и жить. Все сме-
ются почему-то над поэтами...
— Да храни бог... Зачем же вы в дурную сторону
мой вопрос приняли. Я против поэтов ничего не имею.
Не читаю я, правда, стихов...
— И других никаких книг, за исключением артилле-
рийского устава и первых пятнадцати страниц римского
права... На шестнадцатой странице война началась, он
и бросил...
— Врет, не слушайте... Ваше имя и отчество — Ларион
Иванович?
Белая гвардия
619
Лариосик объяснил, что он Ларион Ларионович, но
что ему так симпатично все общество, которое даже не
общество, а дружная семья, что он очень желал бы,
чтобы его называли по имени, «Ларион», без отчества...
Если, конечно, никто ничего не имеет против.
— Как будто симпатичный парень... — шепнул сдер-
жанный Карась Шервинскому.
— Ну, что ж... сойдемся поближе... Отчего ж... Врет:
если угодно знать, «Войну и мир» читал... Вот действи-
тельно книга. До самого конца прочитал — и с удоволь-
ствием. А почему? Потому что писал не обормот какой-
нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десятка? Вы со
мной... Карась с Шервинским... Николка, выходи.
— Только вы меня, ради бога, не ругайте, — как-то
нервически попросил Лариосик.
— Ну, что вы, в самом деле. Что мы, папуасы какие-
нибудь? Это у вас, видно, в Житомире такие податные
инспектора отчаянные, они вас и напугали. У нас при-
нят тон строгий.
— Помилуйте, можете быть спокойны, — отозвался
Шервинский, усаживаясь.
— Две пики... Да-с... вот-с писатель был граф Лев
Николаевич Толстой, артиллерии поручик... Жалко, что
бросил служить... пас... до генерала бы дослужился...
Впрочем, что ж, у него имение было... Можно от скуки
и роман написать... зимой делать не черта... В имении
это просто. Без козыря...
— Три бубны, — робко сказал Лариосик.
— Пас, — отозвался Карась.
— Что же вы? Вы прекрасно играете. Вас не ругать,
а хвалить нужно. Ну, если три бубны, то мы скажем —
четыре пики. Я сам бы в имение теперь с удовольствием
поехал...
— Четыре бубны, — подсказал Лариосику Николка,
заглядывая в карты.
Четыре? Пас.
— Пас.
При трепетном стеаринном свете свечей, в дыму
папирос, волнующийся Лариосик купил. Мышлаевский,
словно гильзы из винтовки, разбросал партнерам по
карте.
— М-малый в пиках, — скомандовал он и поощрил
Лариосика, — молодец.
Карты из рук Мышлаевского летели беззвучно, как
кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно, Ка-
520
Михаил Булгаков
рась — не везет — хлестко. Лариосик, вздыхая, тихонь-
ко выкладывал, словно удостоверения личности.
— «Папа-мама», видали мы это, — сказал Карась.
Мышлаевский вдруг побагровел, швырнул карты на
стол и, зверски выкатив глаза на Лариосика, рявкнул:
— Какого же ты лешего мою даму долбанул? Ла-
рион?!
— Здорово. Га-га-га, — хищно обрадовался Карась, —
без одной!
Страшный гвалт поднялся за зеленым столом, и языки
на свечах закачались. Николка, шипя и взмахивая ру-
ками, бросился прикрывать дверь и задергивать порть-
еру.
— Я думал, что у Федора Николаевича король, —
мертвея, вымолвил Лариосик.
— Как это можно думать... — Мышлаевский старал-
ся не кричать, поэтому из горла у него вылетало сипе-
ние, которое делало его еще более страшным, — если
ты его своими руками купил и мне прислал? А? Ведь
это черт знает, —- Мышлаевский ко всем поворачивал-
ся, — ведь это... Он покоя ищет. А? А без одной сидеть —
это покой? Считанная же игра! Надо все-таки вертеть
головой, это же не стихи!
— Постой. Может быть, Карась...
— Что может быть? Ничего не может быть, кроме
ерунды. Вы извините, батюшка, может, в Житомире так
и играют, но это черт знает что такое!.. Вы не серди-
тесь... но Пушкин или Ломоносов хоть стихи и писали,
а такую штуку никогда бы не устроили... или Надсон,
например.
— Тише, ты. Ну, что налетел? Со всяким бывает.
— Я так и знал, — забормотал Лариосик... — Мне
не везет...
— Стой. Ст...
И разом наступила полная тишина. В отдалении за
многими дверями в кухне затрепетал звоночек. Помол-
чали. Послышался стук каблуков, раскрылись двери,
появилась Анюта. Голова Елены мелькнула в передней.
Мышлаевский побарабанил по сукну и сказал:
— Рановато как будто? А?
— Да, рано, — отозвался Николка, считающийся
самым сведущим специалистом по вопросу обысков.
— Открывать идти? — беспокойно спросила Анюта.
— Нет, Анна Тимофеевна, — ответил Мышлаевский, —
повремените, — он, кряхтя, поднялся с кресла, —
Белая гвардия
621
вообще теперь я буду открывать, а вы не затрудняй-
тесь.. ..
— Вместе пойдем, — сказал Карась.
— Ну, — заговорил Мышлаевский и сразу поглядел
так, словно стоял перед взводом, — тэк-с. Там, стало
быть, в порядке... У доктора — сыпной тиф и прочее.
Ты, Лена, — сестра... Карась, ты за медика сойдешь —
студента... Ушейся в спальню... Шприц там какой-ни-
будь возьми... Много нас. Ну, ничего...
Звонок повторился нетерпеливо, Анюта дернулась, и
все стали еще серьезнее.
— Успеется, — сказал Мышлаевский и вынул из
заднего кармана брюк маленький черный револьвер,
похожий на игрушечный.
— Вот это напрасно, —- сказал, темнея, Шервин-
ский, — это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть по-
осторожнее. Как же ты по улице шел?
— Не беспокойся, -— серьезно и вежливо ответил
Мышлаевский, — устроим. Держи, Николка, и играй к
черному ходу или к форточке. Если петлюровские ар-
хангелы, закашляюсь я, сплавь, только чтоб потом
найти. Вещь дорогая, под Варшаву со мной ездила...
У тебя все в порядке?
— Будь покоен, — строго и гордо ответил специа-
лист Николка, овладевая револьвером.
— Итак, — Мышлаевский ткнул пальцем в грудь
Шервинского и сказал: — Певец, в гости пришел, — в
Карася, — медик, — в Николку, — брат, — Лариоси-
ку, — жилец-студент. Удостоверение есть?
— У меня паспорт царский, — бледнея, сказал
Лариосик, — и студенческий харьковский.
— Царский под ноготь, а студенческий показать.
Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал.
— Прочие — чепуха, женщины... — продолжал
Мышлаевский, — нуте-с, удостоверения у всех есть?
В карманах ничего лишнего?.. Эй, Ларион!.. Спроси там
у него, оружия нет ли?
— Эй, Ларион! — окликнул в столовой Николка. —
Оружие?
— Нету, нету, боже сохрани, — откликнулся откуда-
то Лариосик.
Звонок повторился, отчаянный, долгий, нетерпеливый.
— Ну, господи благослови, — сказал Мышлаевский
и двинулся. Карась исчез в спальне Турбина.
522
Михаил Булгаков
— Пасьянс раскладывали, — сказал Шервинский и
задул свечи.
Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая из
передней на лестницу, вторая стеклянная, замыкавшая
собственно владение Турбиных. Внизу за стеклянной
дверью темный холодный парадный ход, в который
выходила сбоку дверь Лисовичей, а коридор замыкала
уже последняя дверь на улицу.
Двери прогремели, и Мышлаевский внизу крикнул:
— Кто там?
Вверху за своей спиной на лестнице почувствовал
какие-то силуэты. Приглушенный голос за дверью взмо-
лился:
— Звонишь, звонишь... Тальберг-Турбина тут?.. Те-
леграмма ей... Откройте...
«Тэк-с», — мелькнуло в голове у Мышлаевского, и он
закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади
на лестнице исчез. Мышлаевский осторожно открыл болт,
повернул ключ и открыл дверь, оставив ее на цепочке.
— Давайте телеграмму, — сказал он, становясь боком
к двери, так, что она прикрывала его. Рука в сером
просунулась и подала ему маленький конвертик. Пора-
женный Мышлаевский увидал, что это действительно
телеграмма.
— Распишитесь, — злобно сказал голос за дверью.
Мышлаевский метнул взгляд и увидал, что на улице
только один.
— Анюта, Анюта, — бодро, выздоровев от бронхита,
вскричал Мышлаевский. — Давай карандаш.’
Вместо Анюты к нему сбежал Карась, подал. На
клочке, выдернутом из квадратика, Мышлаевский наца-
рапал: «Тур», шепнул Карасю:
— Дай двадцать пять...
Дверь загремела... Заперлась...
Ошеломленный Мышлаевский с Карасем поднялись
вверх. Сошлись решительно все. Елена развернула квад-
ратик и машинально вслух прочла слова:
«Страшное несчастье постигло Лариосика точка Ак-
тер оперетки Липский...»
— Боже мой, — вскричал багровый Лариосик, — это
она!
— Шестьдесят три слова, — восхищенно ахнул Ни-
колка, — смотри, кругом исписано.
— Господи! — воскликнула Елена. — .Что же это
такое? Ах, извините, Ларион... что начала читать. Я сов-
сем про нее забыла...
Белая гвардия
623
— Что это такое? — спросил Мышлаевский.
— Жена его бросила, — шепнул на ухо Николка, —
такой скандал...
Страшный грохот в стеклянную дверь, как обвал с
горы, влетел в квартиру. Анюта взвизгнула. Елена поб-
леднела и начала клониться к стене. Грохот был так
чудовищен, страшен, нелеп, что даже Мышлаевский
переменился в лице. Шервинский подхватил Елену, сам
бледный... Из спальни Турбина послышался стон.
— Двери... — крикнула Елена.
По лестнице вниз, спутав стратегический план, побе-
жали Мышлаевский, за ним Карась, Шервинский и
насмерть испуганный Лариосик.
— Это уже хуже, — бормотал Мышлаевский.
За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий
силуэт, оборвался грохот.
— Кто там? — загремел Мышлаевский, как в цейх-
гаузе.
— Ради бога... Ради бога... Откройте, Лисович — я...
Лисович!! — вскричал силуэт. — Лисович — я,.. Лисо-
вич...
Василиса был ужасен... Волосы с просвечивающей
розоватой лысинкой торчали вбок. Галстух висел на
боку, и полы пиджака мотались, как дверцы взломанно-
го шкафа. Глаза Василисы были безумны и мутны, как
у отравленного. Он показался на последней ступеньке,
вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлаевскому. Мыш-
лаевский принял его и еле удержал, сам присел к лест-
нице и сипло, растерянно крикнул:
— Карась! Воды...
15
Был вечер. Время подходило к одиннадцати часам.
По случаю событий значительно раньше, чем обычно,
опустела и без того не очень людная улица.
Шел жидкий снежок, пушинки его мерно летали за
окном, а ветви акации у тротуара, летом темнившие
окна Турбиных, все более обвисали в своих снежных
гребешках.
Началось с-обеда, и пошел нехороший тусклый вечер
с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество
зажглось почему-то вполсвета, а Ванда накормила за
624
Михаил Булгаков
обедом мозгами. Вообще говоря, мозги пища ужасная, а
в Вандином приготовлении — невыносимая. Был перед
мозгами еще суп, в который Ванда налила постного
масла, и хмурый Василиса встал из-за стола с мучи-
тельной мыслью, что будто он и не обедал вовсе. Вече-
ром же была масса хлопот, и все хлопот неприятных,
тяжелых. В столовой стоял столовый стол кверху нож-
ками и пачка Лебидь-Юрчиков лежала на полу.
— Ты дура, — сказал Василиса жене.
Ванда изменилась в лице и ответила:
— Я знала, что ты хам, уже давно. Твое поведение
в последнее время достигло геркулесовых столбов.
Василисе мучительно захотелось ударить ее со всего
размаху косо по лицу так, чтоб она отлетела и стукну-
лась об угол буфета. А потом еще раз, еще и бить ее
до тех пор, пока это проклятое, костлявое существо не
умолкнет, не признает себя побежденным. Он — Васи-
лиса, измучен ведь, он, в конце концов, работает, как
вол, и он требует, требует, чтобы его слушались дома.
Василиса скрипнул зубами и сдержался, нападение на
Ванду было вовсе не так безопасно, как это можно было
предположить.
— Делай так, как я говорю, — сквозь зубы сказал
Василиса, — пойми, что буфет могут отодвинуть, и что
тогда? А это никому не придет в голову. Все в городе
так делают.
Ванда повиновалась ему, и они вдвоем взялись за
работу — к столу с внутренней стороны кнопками при-
шпиливали денежные бумажки.
Скоро вся внутренняя поверхность стола расцвети-
лась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер.
Василиса, кряхтя, с налитым кровью лицом, поднял-
ся и окинул взором денежное поле.
— Неудобно, — сказала Ванда, — понадобится бу-
мажка, нужно стол переворачивать.
—- И перевернешь, руки не отвалятся, — сипло от-
ветил Василиса, — лучше стол перевернуть, чем ли-
шиться всего. Слышала, что в городе делается? Хуже,
чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут,
всё офицеров ищут.
В одиннадцать часов вечера Ванда принесла из кух-
ни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета
достала кулек с черствым хлебом и головку зеленого
сыра. Лампочка, висящая над столом в одном из гнезд
72 20*
Белая гвардия
625
трехгнездной люстры, источала с неполно накаленных
нитей тусклый красноватый свет.
Василиса жевал ломтик французской булки, и зеле-
ный сыр раздражал его до слез, как сверлящая зубная
боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался вмес-
то рта на пиджак и за галстух. Не понимая, что мучает
его, Василиса исподлобья смотрел на жующую Ванду.
— Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук, —
говорила Ванда, обращая взор к потолку, — я была
уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет, все верну-
лись, и сейчас опять квартира полна офицерами...
В другое время слова Ванды не произвели бы на
Василису никакого впечатления, но сейчас, когда вся
его душа горела в тоске, они показались ему невыноси-
мо подлыми.
— Удивляюсь тебе, — ответил он, отводя взор в
сторону, чтобы не расстраиваться, — ты прекрасно
знаешь, что, в сущности, они поступили правильно. Нужно
же кому-нибудь было защищать город от этих (Васили-
са понизил голос) мерзавцев... И притом напрасно ты
думаешь, что так легко сошло с рук... Я думаю, что он...
Ванда впилась глазами и закивала головой.
— Я сама, сама сразу это сообразила... Конечно, его
ранили...
— Ну вот, значит, нечего и радоваться — «сошло,
сошло»...
Ванда лизнула губы.
— Я не радуюсь, я только говорю «сошло», а вот мне
интересно знать, если, не дай бог, к нам явятся и спро-
сят тебя как председателя домового комитета, а кто у
вас наверху? Были они у гетмана? Что ты будешь го-
ворить?
Василиса нахмурился и покосился:
— Можно< будет сказать, что он доктор... Наконец,
откуда я знаю? Откуда?
— Вот то-то, откуда...
На этом слове в передней прозвенел звонок. Васили-
са побледнел, а Ванда повернула жилистую шею.
Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал:
— Знаешь что? Может быть, сейчас сбегать к Тур-
биным, вызвать их?
Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же
минуту повторился.
— Ах, боже мой, — тревожно молвил Василиса, —
нет, нужно идти.
21-1857
Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. Откры-
ли дверь из квартиры в общий коридор. Василиса вы-
шел в коридор, пахнуло холодком, острое лицо Ванды,
с тревожными, расширенными глазами, выглянуло. Над
ее головой в третий раз назойливо затрещало электри-
чество в блестящей чашке.
На мгновенье у Василисы пробежала мысль посту-
чать в стеклянные двери Турбиных — кто-нибудь сейчас
же вышел, и не было бы так страшно. И он побоялся
это сделать. А вдруг: «Ты чего стучал? А? Боишься
чего-то?» — и, кроме того, мелькнула, правда, слабая,
надежда, что, может быть, это не они, а так что-нибудь...
— Кто... там? — слабо спросил Василиса у двери.
Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот
Василисы сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще
затрещал звонок.
— Видчиняй, — хрипнула скважина, — из штабу. Та
не отходи, а то стрельнем через дверь...
— Ах, бож... — выдохнула Ванда.
Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый
крючок, не помнил и сам, как снял цепочку.
— Скорийш... —- грубо сказала скважина.
Темнота с улицы глянула на Василису куском серого
неба, краем акаций, пушинками. Вошло всего трое, но
Василисе показалось, что их гораздо больше.
— Позвольте узнать... по какому поводу?
— С обыском, — ответил первый вошедший волчьим
голосом и как-то сразу надвинулся на Василису. Кори-
дор повернулся, и лицо Ванды в освещенной двери
показалось резко напудренным.
— Тогда, извините, пожалуйста, — голос Василисы
звучал бледно, бескрасочно, — может быть, мандат есть?
Я, собственно, мирный житель... не знаю, почему же ко
мне? У меня — ничего, — Василиса мучительно хотел
сказать по-украински и сказал, — нема.
— Ну, мы побачимо, — ответил первый.
Как во сне двигаясь под напором входящих в двери,
как во сне их видел Василиса. В первом человеке все
было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо
его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа се-
ренькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки запа-
ли сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел
исподлобья и тут, даже в узком пространстве, успел
показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой
привычного к снегу и траве существа. Он говорил на
страшном и неправильном языке — смеси русских и
21-2
Белая гвардия
627
украинских слов, — языке, знакомом жителям Города,
бывающим на Подоле, на берегу Днепра, где летом
пристань свистит и вертит лебедками, где летом обор-
ванные люди выгружают с барж арбузы... На голове у
волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным
позументом, свисал набок.
Второй — гигант, занял почти до потолка переднюю
Василисы. Он был румян бабьим полным и радостным
румянцем, молод, и ничего у него не росло на щеках. На
голове у него был шлык с объеденными молью ушами,
на плечах серая шинель, и на неестественно маленьких
ногах ужасные скверные опорки.
Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку
гноеточащей коростой, и сшитой и изуродованной шра-
мом губой. На голове у него старая офицерская фураж-
ка с красным околышем и следом от кокарды, на теле
двубортный солдатский старинный мундир с медными,
позеленевшими пуговицами, на ногах черные штаны, на
ступнях лапти, поверх пухлых, серых казенных чулок.
Его лицо в свете лампы отливало в два цвета — вос-
ково-желтый и фиолетовый, глаза смотрели страдаль-
чески-злобно.
— Побачимо, побачимо, — повторил волк, — и ман-
дат есть.
С этими словами он полез в карман штанов, выта-
щил смятую бумагу и ткнул ее Василисе. Один глаз его
поразил сердце Василисы, а второй, левый, косой, про-
ткнул бегло сундуки в передней.
На скомканном листке — четвертушке со штампом:
Штаб 1-го сичевого куреня
было написано химическим карандашом косо крупными
каракулями:
«Предписуется зробить обыск у жителя Василия Лисовича, по Алек-
сеевскому спуску, дом № 13.
За сопротивление карается растрилом.
Начальник Штабу Проценко
Адъютант Миклун».
В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя
печать.
Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного
в глазах Василисы, и он сказал, пока волк вновь овла-
девал бумажкой:
— Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего...
21*
628
Михаил Булгаков
Волк вынул из кармана черный, смазанный машин-
ным маслом браунинг и направил его на Василису. Ванда
тихонько вскрикнула: «Ай». Лоснящийся от машинного
масла кольт, длинный и стремительный, оказался в руке
изуродованного. Василиса согнул колени и немного при-
сел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспых-
нуло ярко-бело и радостно.
— Хто в квартире? — сипловато спросил волк.
— Никого нету, — ответил Василиса белыми губа-
ми, — я та жинка.
— Нуте, хлопцы, смотрите, та швидче, — хрипнул
волк, оборачиваясь к своим спутникам, — нема часу.
Гигант тотчас тряхнул сундук, как коробку, а изуро-
дованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались. Изу-
родованный кулаками постучал по стене, со стуком
открыл заслонку, из черной дверцы ударило скуповатым
теплом.
— Оружие е? — спросил волк.
— Честное слово... помилуйте, какое оружие...
— Нет у нас, — одним дыханием подтвердила тень
Ванды.
— Лучше скажи, а то бачил — растрил? — внуши-
тельно сказал волк...
— Ей-богу... откуда же?
В кабинете загорелась зеленая лампа, и Александр II,
возмущенный до глубины чугунной души, глянул на трех.
В зелени кабинета Василиса в первый раз в жизни
узнал, как приходит, грозно кружа голову, предчувствие
обморока. Все трое принялись первым долгом за обои.
Гигант пачками, легко, игрушечно, сбросил с полки ряд
за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам,
выстукивая их... Туп... туп... — глухо постукивала стена.
Тук, — отозвалась внезапно пластинка в тайнике. Ра-
дость сверкнула в волчьих глазах.
— Що я казав? — шепнул он беззвучно. Гигант
продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился
почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальца-
ми гиганта, и он выдрал из стены пластинку. Бумажный
перекрещенный пакет оказался в руках волка. Васили-
са пошатнулся и прислонился к стене. Волк начал ка-
чать головой и долго качал, глядя на полумертвого
Василису.
— Что же ты, зараза, — заговорил он горько, — що
ж ты? Нема, нема, ах ты, сучий хвост. Казал, нема, а
сам гроши в стенку запечатав? Тебя же убить треба!
21-4
Белая гвардия 629
— Что вы! — вскрикнула Ванда.
С Василисой что-то странное сделалось, вследствие
чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом, и смех
этот был ужасен, потому что в голубых глазах Васили-
сы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки.
— Декрета, Панове, помилуйте, никакого же не было.
Тут кой-какие бумаги из банка и вещицы... Денег-то
мало... Заработанные... Ведь теперь же все равно цар-
ские деньги аннулированы...
Василиса говорил и смотрел на волка так, словно тот
доставлял ему жуткое восхищение.
— Тебя заарестовать бы требовалось, — назидатель-
но сказал волк, тряхнул пакетом и запихнул его в без-
донный карман рваной шинели. — Нуте, хлопцы, бери-
тесь за ящики.
Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакива-
ли груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, порт-
сигары. Листы усеяли зеленый ковер и красное сукно
стола, листы, шурша, падали на пол. Урод перевернул
корзину. В гостиной стучали по стенам поверхностно,
как бы нехотя. Гигант сдернул ковер и потопал ногами
в пол, отчего на паркете остались замысловатые, словно
выжженные, следы. Электричество, разгораясь к ночи,
разбрызгивало веселый свет, и блистал цветок граммо-
фона. Василиса шел за тремя, волоча и шаркая ногами.
Тупое спокойствие овладело Василисой, и мысли его
текли как будто складнее. В спальне мгновенно — хаос:
полезли из зеркального шкафа, горбом, одеяла, просты-
ни/кверху ногами встал матрас. Гигант вдруг остано-
вился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз.
Из-под взбудораженной кровати глянули Василисины
шевровые новые ботинки с лакированными носами. Ги-
гант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису.
— Яки гарны ботинки, — сказал он тонким голо-
сом, — а что они, часом, на мене не придутся?
Василиса не придумал еще, что ему ответить, как
гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса
дрогнул.
— Они шевровые, Панове, — сказал он, сам не по-
нимая, что говорит.
Волк обернулся к нему, в косых глазах мелькнул
горький гнев.
— Молчи, гнида, — сказал он мрачно. — Молчать! —
повторил он, внезапно раздражаясь. — Ты спасибо
скажи нам, що мы тебе не расстреляли, як вора и
630
Михаил Булгаков
бандита, за утайку сокровищ. Ты молчи, — продолжал
он, наступая на совершенно бледного Василису и грозно
сверкая глазами. — Накопил вещей, нажрал морду,
розовый, як свинья, а ты бачишь, в чем добрые люди
ходют? Бачишь? У него ноги мороженые, рваные, он в
окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел, на грам-
мофонах играл. У-у, матери твоей, — в глазах его мель-
кнуло желание ударить Василису по уху, он дернул
рукой. Ванда вскрикнула: «Что вы...» Волк не посмел
ударить представительного Василису и только ткнул его
кулаком в грудь. Бледный Василиса пошатнулся, чувст-
вуя острую боль и тоску в груди от удара острого
кулака.
«Вот так революция, — подумал он в своей розовой
и аккуратной голове, — хорошенькая революция. Ве-
шать их надо было всех, а теперь поздно...»
— Василько, обувайсь, — ласково обратился волк к
гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опор-
ки. Ботинки не налезали на серые, толстые чулки. —
Выдай казаку носки, — строго обратился волк к Ванде.
Та мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа
и вынула носки. Гигант сбросил серые чулки, показав
ступни С красноватыми пальцами и черными изъедина-
ми, и натянул носки. С трудом налезли ботинки, шнурок
на левом с треском лопнул. Восхищенно, по-детски улы-
баясь, гигант затянул обрывки и встал. И тотчас как
будто что лопнуло в натянутых отношениях этих стран-
ных пятерых человек, шаг за шагом шедших по кварти-
ре. Появилась простота. Изуродованный, глянув на бо-
тинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисины
брюки, висящие на гвоздике, рядом с умывальником.
Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Васи-
лису — не скажет ли чего, — но Василиса и Ванда
ничего не говорили, и лица их были совершенно одина-
ково белые, с громадными глазами. Спальня стала по-
хожа на уголок магазина готового платья. Изуродован-
ный стоял в одних полосатых, в клочья изодранных
подштанниках и рассматривал на свет брюки.
— Дорогая вещь, шевиот... — гнусаво - сказал он,
присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил
грязную гимнастерку на серый пиджак Василисы, при-
чем вернул Василисе какие-то бумажки со словами:
«Якись бумажки, берите, пане, може, нужные». Со стола
взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно
и черно красовались римские цифры.
Белая гвардия
631
Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно,
как ходили и тикали часы.
— Часы нужная вещь. Без часов — як без рук, —
говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по
отношению к Василисе, — ночью глянуть, сколько вре-
мени, — незаменимая вещь.
Затем все тронулись и пошли обратно через гости-
ную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча шли
позади. В кабинете волк, кося глазами, о чем-то заду-
мался, потом сказал Василисе:
— Вы, пане, дайте нам расписку... (Какая-то дума
беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой.)
— Как? — шепнул Василиса.
— Расписку, що вы нам вещи выдалы, — пояснил
волк, глядя в землю.
Василиса изменился в лице, его щеки порозовели.
— Но как же... Я же... (Он хотел крикнуть: «Как, я
же еще и расписку?!» — но у него не вышли эти слова,
а вышли другие). Вы... Вам надлежит расписаться, так
сказать...
— Ой, убить тебе треба, як собаку. У-у, кровопийца...
Знаю я, что ты думаешь. Знаю. Ты, як бы твоя власть
была, изничтожил бы нас, як насекомых. У-у, вижу я,
добром с тобой не сговоришь. Хлопцы, ставь его к стен-
ке. У, як вдарю...
Он рассердился и нервно притиснул Василису к сте-
не, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгно-
венно стал красным.
— Ах! — в ужасе вскрикнула Ванда и ухватила за
руку волка. — Что вы. Помилуйте... Вася, напиши,
напиши...
Волк выпустил инженерово горло, и с хрустом в
сторону отскочил, как на пружине, воротничок. Васили-
са и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле.
Руки его тряслись. Он оторвал от блокнота листок,
макнул перо. Настала тишина, и в тишине было слыш-
но, как в кармане волка стучал стеклянный глобус.
— Как же писать? — спросил Василиса слабым,
хрипловатым голосом.
Волк задумался, поморгал глазами.
— Пышить... по предписанию штаба сичевого куре-
ня... вещи... вещи... в размере... у целости сдал...
— В разм... — как-то скрипнул Василиса и сейчас
же умолк.
— ...Сдал при обыске. И претензий нияких не маю.
И подпишить...
632
Михаил Булгаков
Тут Василиса собрал остатки последнего духа и
спросил, отведя глаза:
— А кому?
Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдер-
жал негодование и только вздохнул.
— Пишить: получив... получили у целости Немоляка
(он задумался, посмотрел на урода)... Кирпатый и ота-
ман Ураган.
Василиса, мутно глядя в бумагу, писал под его дик-
товку. Написав требуемое, вместо подписи поставил
дрожащую «Василис», протянул бумагу волку. Тот взял
листок и стал в него вглядываться.
В это время далеко на лестнице вверху загремели
стеклянные двери, послышались шаги и грянул голос
Мышлаевского.
Лицо волка резко изменилось, потемнело. Зашевели-
лись его спутники. Волк стал бурым и тихонько крик-
нул: «Ша». Он вытащил из кармана браунинг и напра-
вил его на Василису, и тот страдальчески улыбнулся.
За дверями в коридоре слышались шаги, перекликанья.
Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь —
запирали дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех
мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь, ушли
ввысь замирающие шаги, и все стихло. Урод вышел в
переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда
он вернулся, многозначительно переглянулся с волком,
и все, теснясь, стали выходить в переднюю. Там, в пе-
редней, гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботин-
ках и сказал:
— Холодно буде.
Он надел Василисины галоши.
Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким
голосом, бегая глазами:
— Вы вот що, пане... Вы молчите, що мы были у вас.
Бо як вы накапаете на нас, то вас наши хлопцы вбьють.
С квартиры до утра не выходите, за це строго взыску-
еться...
— Прощении просим, — сказал провалившийся нос
гнилым голосом.
Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво
посмотрел на Василису и искоса, радостно — на сияю-
щие галоши. Шли они из двери Василисы по коридору
к уличной двери, почему-то приподымаясь на цыпочки,
быстро, толкаясь.* Прогремели запоры, глянуло темное
небо, и Василиса холодными руками запер болты, голо-
Белая гвардия
633
ва его кружилась, и мгновенно ему показалось, что он
видит сон. Тотчас сердце его упало, потом заколотилось
часто, часто. В передней рыдала Ванда. Она упала на
сундук, стукнулась головой об стену, крупные слезы
залили ее лицо.
— Боже! Что же это такое?.. Боже. Боже. Вася...
Среди бела дня. Что же это делается?..
Василиса трясся перед ней, как лист, лицо его было
искажено.
— Вася, — вскричала Ванда, — ты знаешь... Это
никакой не штаб, не полк. Вася! Это были бандиты!
— Я сам, сам понял, — бормотал Василиса, в отча-
янии разводя руками.
— Господи! — вскрикнула Ванда. — Нужно бежать
скорей, сию минуту, сию минуту заявить, ловить их.
Ловить! Царица небесная! Все вещи. Все! Все! И хоть
бы кто-нибудь, кто-нибудь... А? — Она затряслась, ска-
тилась с сундука на пол, закрыла лицо руками. Волосы
ее разметались, кофточка расстегнулась на спине...
— Куда ж, куда?.. — спрашивал Василиса.
— Боже мой, в штаб, в Варту! Заявление подать.
Скорей. Что ж это такое?!
Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать
в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял
грохот.
♦
Все, кроме Шервинского и Елены, толпились в квар-
тире Василисы, Лариосик, бледный, стоял в дверях.
Мышлаевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и
лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, по-
вернулся к Василисе.
— Пиши пропало. Это бандиты. Благодарите бога,
что живы остались. Я, сказать по правде, удивлен, что
вы так дешево отделались.
— Боже... что они с нами сделали! — сказала Ванда.
— Они угрожали мне смертью.
— Спасибо, что угрозу не привели в исполнение.
Первый раз такую штуку вижу.
— Чисто сделано, — тихонько подтвердил Карась.
— Что же теперь делать?.. — замирая, спросил
Василиса. — Бежать жаловаться?.. Куда?.. Ради бога,
Виктор Викторович, посоветуйте.
334
Михаил Булгаков
Мышлаевский крякнул, подумал.
— Никуда я вам жаловаться не советую, — молвил
он, — во-первых, их не поймают — раз. — Он загнул
длинный палец. — Во-вторых...
— Вася, ты помнишь, они сказали, что убьют, если
ты заявишь?
— Ну, это вздор, Мышлаевский нахмурился, —
никто не убьет, но, говорю, не поймают их, да и ловить
никто не станет, а второе, — он загнул второй палец, —
ведь вам придется заявить, что у вас взяли, вы говорите,
царские деньги... Нуте-с, вы заявите там в штаб этот
ихний или куда там, а ойи вам, чего доброго, второй
обыск устроят.
— Может быть, очень может быть, — подтвердил
высокий специалист Николка.
Василиса, растерзанный, облитый водой после обмо-
рока, поник головой, Ванда тихо заплакала, прислонив-
шись к притолоке, всем стало их жаль. Лариосик тяже-
ло вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза.
— Вот оно, у каждого свое горе, — прошептал он.
— Чем же они были вооружены? — спросил Николка.
— Боже мой. У обоих револьверы, а третий... Вася,
у третьего ничего не было?
— У двух револьверы, — слабо подтвердил Василиса.
— Какие, не заметили? — деловито добивался Ни-
колка.
— Ведь я ж не знаю, — вздохнув, ответил Васили-
са, — не знаю я систем. Один большой черный, Другой
маленький черный с цепочкой.
— Цепочка, — вздохнула Ванда.
Николка нахмурился и искоса, как птица, посмотрел
на Василису. Он потоптался на месте, потом беспокойно
двинулся и проворно отправился к двери. Лариосик
поплелся за ним. Лариосик не достиг еще столовой,
когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла и
Николкин вопль. Лариосик устремился туда. В Никол-
киной комнате ярко горел свет, в открытую форточку
несло холодом и зияла огромная дыра, которую Никол-
ка устроил коленями, сорвавшись с отчаяния с подокон-
ника. Николкины глаза блуждали.
— Неужели? — вскричал Лариосик, вздымая ру-
ки. — Это настоящее колдовство!
Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь
книжную, через кухню, мимо ошеломленной Анюты,
кричащей: «Никол, Никол, куда ж ты без шапки? Гос-
Белая гвардия 635
поди, аль еще что случилось?..» И выскочил через сени
во двор. Анюта, крестясь, закинула в сенях крючок,
убежала в кухню и припала к окну, но Николка момен-
тально пропал из глаз.
Он круто свернул влево, сбежал вниз и остановился
перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между сте-
нами. Сугроб был совершенно нетронут. «Ничего не
понимаю», — в отчаянии бормотал Николка и храбро
кинулся в сугроб. Ему показалось, что он задохнется.
Он долго месил снег, плевался и фыркал, прорвал на-
конец снеговую преграду и, весь белый, пролез в дикое
ущелье, глянул вверх и увидал: вверху, там, где из
рокового окна его комнаты выпадал снег, черными го-
ловками виднелись костыли и их остренькие густые тени,
но коробки не было.
С последней надеждой, что, может быть, петля обор-
валась, Николка, поминутно падая на колени, шарил по
битым кирпичам. Коробки не было.
Тут яркий свет осветил вдруг Николкину голову.
«А-а», — закричал он и полез дальше, к забору, закры-
вающему ущелье с улицы. Он дополз и ткнул руками,
доски отошли, глянула широкая дыра на черную улицу.
Все понятно... Они отшили доски, ведущие в ущелье,
были здесь и даже, п-о-нимаю, хотели залезть к Васи-
лисе через кладовку, но там решетка на окне.
Николка, весь белый, вошел в кухню молча.
— Господи, дай хоть почищу... — вскричала Анюта.
— Уйди ты от меня, ради бога, — ответил Николка
и прошел в комнаты, обтирая закоченевшие руки об
штаны. — Ларион, дай мне по морде, — обратился он
к Лариосику. Тот заморгал глазами, потом выкатил их
и сказал:
— Что ты, Николаша? Зачем же так впадать в
отчаяние? — Он робко стал шаркать руками по спине
Николки и рукавом сбивать снег.
— Не говоря о том, что Алеша оторвет мне голову,
если, даст бог, поправится, — продолжал Николка, —
но самое главное... Най-Турсов кольт!.. Лучше б меня
убили самого, ей-богу!.. Это бог наказал меня за то, что
я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты
понимаешь, они с этим самым револьвером его и отде-
лали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьве-
ров обобрать как липочку... Такой уже человек. Эх... Вот
какая история. Бери бумагу, Ларион, будем окно за-
клеивать.
636
Михаил Булгаков
*
Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и
молотком Николка, Мышлаевский и Лариосик. Ущелье
было короткими досками забито наглухо. Сам Николка
с остервенением вгонял длинные, толстые гвозди с та-
ким расчетом, чтобы они остриями вылезли наружу.
Еще позже на веранде со свечами ходили, а затем через
холодную кладовую на чердак лезли Николка, Мышла-
евский и Лариосик. На чердаке, над квартирой, со зло-
вещим топотом они лазили всюду, сгибаясь между теп-
лыми трубами, между бельем, и забили слуховое окно.
Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнару-
жил живейший интерес и тоже присоединился и лазил
между балками, одобряя все действия Мышлаевского.
—- Какая жалость, что вы не дали нам как-нибудь
знать. Нужно было бы Ванду Михайловну послать к
нам через черный ход, — говорил Николка, капая со
свечи стеарином.
— Ну, брат, не очень-то, — отозвался Мышлаев-
ский, — когда уже они были в квартире, это, друг, дело
довольно дохлое. Ты думаешь, они не стали бы защи-
щаться? Еще как. Ты, прежде чем в квартиру бы влез,
получил бы пулю в живот. Вот и покойничек. Так-то-с.
А вот не пускать, это дело другого рода.
— Угрожали выстрелить через дверь, Виктор Викто-
рович, — задушевно сказал Василиса.
— Никогда бы не выстрелили, — отозвался Мышла-
евский, гремя молотком, — ни в коем случае. Всю бы
улицу на себя навлекли.
Позже ночью Карась нежился в квартире Лисовичей,
как Людовик XIV. Этому предшествовал такой раз-
говор.
— Не придут же сегодня, что вы! — говорил Мыш-
лаевский.
— Нет, нет, нет, — вперебой отвечали Ванда и
Василиса на лестнице, — мы умоляем, просим вас или
Федора Николаевича, просим!.. Что вам стоит? Ванда
Михайловна чайком вас напоит. Удобно уложим. Очень
просим и завтра тоже. Помилуйте, без мужчины в квар-
тире!
— Я ни за что не засну, — подтвердила Ванда,
кутаясь в пуховый платок.
— Коньячок есть у меня — согреемся, — неожидан-
но залихватски как-то сказал Василиса.
Белая гвардия
637
— Иди, Карась, — сказал Мышлаевский.
Вследствие этого Карась и нежился. Мозги и суп с
постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь
симптомами той омерзительной болезни скупости, кото-
рой Василиса заразил свою жену. На самом деле в
недрах квартиры скрывались сокровища, и они были
известны только одной Ванде. На столе в столовой по-
явилась банка с маринованными грибами, телятина,
вишневое варенье и настоящий, славный коньяк Шусто-
ва с колоколом. Карась потребовал рюмку для Ванды
Михайловны и ей налил.
— Не полную, не полную, — кричала Ванда.
Василиса отчаянно махнул рукой, подчиняясь Кара-
сю, выпил одну рюмку.
— Ты не забывай, Вася, что тебе вредно, — нежно
сказала Ванда.
После авторитетного разъяснения Карася, что нико-
му абсолютно не может быть вреден коньяк и что его
дают даже малокровным с молоком, Василиса выпил
вторую рюмку, и щеки его порозовели, и на лбу высту-
пил пот. Карась выпил пять рюмок и пришел в очень
хорошее расположение духа. «Если б ее откормить, она
вовсе не так уж дурна», — думал он, глядя на Ванду.
Затем Карась похвалил расположение квартиры
Лисовичей и обсудил план сигнализации в квартиру
Турбиных: один звонок из кухни, другой из передней.
Чуть что — наверх звонок. И пожалуйста, выйдет от-
крывать Мышлаевский, это будет совсем другое дело.
Карась очень хвалил квартиру: и уютно, и хорошо
меблирована, и один недостаток — холодно.
Ночью сам Василиса притащил дров и собственно-
ручно затопил печку в гостиной. Карась, раздевшись,
лежал на тахте между двумя великолепнейшими про-
стынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо. Ва-
силиса в рубашке, в подтяжках пришел к нему и присел
на кресло со словами:
— Не спится, знаете ли, вы разрешите с вами немно-
го побеседовать?
Печка догорела, Василиса, круглый, успокоившийся,
сидел в креслах, вздыхал и говорил:
— Вот-с как, Федор Николаевич. Все, что нажито
упорным трудом, в один вечер перешло в карманы ка-
ких-то негодяев... путем насилия... Вы не думайте, чтобы
я отрицал революцию, о нет, я прекрасно понимаю
исторические причины, вызвавшие все это.
338
Михаил Булгаков
Багровый отблеск играл на лице Василисы и застеж-
ках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном рас-
слаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице
вежливое внимани^...
— Но согласитесь сами. У нас в России, в стране,
несомненно, наиболее отсталой, революция уже выроди-
лась в пугачевщину... Ведь что ж такое делается... Мы
лишились в течение.каких-либо двух лет всякой опоры
в законе, минимальной защиты наших прав человека и
гражданина. Англичане говорят...
— М-ме, англичане... они, конечно, — пробормотал
Карась, чувствуя, что мягкая стена начинает отделять
его от Василисы.
— ...А тут какой же «твой дом — твоя крепость»,
когда вы не гарантированы в собственной вашей квар-
тире за семью замками от того, что шайка, вроде той,
что была у меня сегодня, не лишит вас не только иму-
щества, но, чего доброго, и жизни?!
— На сигнализацию и на ставни наляжем, — не
очень удачно, сонным голосом ответил Карась.
— Да ведь, Федор Николаевич! Да ведь дело, голуб-
чик, не в одной сигнализации! Никакой сигнализацией
вы не остановите того развала и разложения, которые
свили теперь гнездо в душах человеческих. Помилуйте,
сигнализация — частный случай, а предположим, она
испортится?
— Починим, — ответил счастливый Карась.
— Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигна-
лизации и каких-либо там револьверах. Не в этом дело.
Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай. Дело в
том, что исчезло самое главное, уважение к собственно-
сти. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли. Я
убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой
отец был простым десятником на железной дороге. Все,
что вы видите здесь, и все, что сегодня у меня отняли
эти мошенники, все это нажито и сделано исключитель-
но моими руками. И, поверьте,, я никогда не стоял на
страже старого режима, напротив, признаюсь вам по
секрету, я кадет, но теперь, когда я своими глазами
увидел, во что все это выливается, клянусь вам, у меня
является зловещая уверенность, что спасти нас может
только одно... — Откуда-то из мягкой пелены, окутыва-
ющей Карася, донесся шепот... — Самодержавие. Да-с...
Злейшая диктатура, какую можно только себе предста-
вить... Самодержавие...
Белая гвардия
639
«Эк разнесло его», — думал блаженный Карась.
— М-да, самодержавие — штука хитрая. Эхе-мм... —
проговорил он сквозь вату.
— Ах, ду-ду-ду-ду — хабеас корпус, ах, ду-ду-ду-ду...
Ай, ду-ду... — бубнил голос через вату, — ай, ду-ду-ду,
напрасно они думают, что такое положение вещей мо-
жет существовать долго, ай, ду-ду-ду, и восклицают
«многие лета». Нет-с! Многие лета это не продолжится,
да и смешно было бы думать, что...
— Крепость Ивангород, — неожиданно перебил
Василису покойный комендант в папахе,
— многая лета!
— И Ардаган и Карс, — подтвердил Карась в ту-
мане,
— многая лета!
Реденький почтительный смех Василисы донесся из-
дали.
— Многая лета!! —
радостно спели голоса в Карасевой голове.
16
Многая ле-ета. Многая лета.
Много-о-о-о-га-ая ле-е-е-т-а... —
вознесли девять басов знаменитого хора Толмашевского.
Мн-о-о-о-о-о-о-о-о-гая л-е-е-е-е-е-та... —
разнесли хрустальные дисканты.
Многая... Многая... Многая... —
рассыпаясь в сопрано, ввинтил в самый купол хор.
— Бачь! Бачь! Сам Петлюра...
— Бачь, Иван...
— У, дурень... Петлюра уже на площади...
Сотни голов на хорах громоздились одна на другую,
давя друг друга, свешивались с балюстрады между
древними колоннами, расписанными черными фресками.
Крутясь, волнуясь, напирая, давя друг друга, лезли к
балюстраде, стараясь глянуть в бездну собора, но сотни
голов, как желтые яблоки, висели тесным, тройным слоем.
В бездне качалась душная тысячеголовая волна, и над
ней плыл, раскаляясь, пот и пар, ладанный дым, нагар
МО
Михаил Булгаков
сотен свечей, копоть тяжелых лампад на цепях. Тяжкая
завеса серо-голубая, скрипя, ползла по кольцам и за-
крывала резные, витые, векового металла, темного и
мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские вра-
та. Огненные хвосты свечей в паникадилах потрескива-
ли, колыхались, тянулись дымной ниткой вверх. Им не
хватало воздуха. В приделе алтаря была невероятная
кутерьма. Из боковых алтарских дверей, по гранитным
истертым плитам сыпались золотые ризы, взмахивали
орари. Лезли из круглых картонок фиолетовые камилав-
ки, со стен, качаясь, снимались хоругви. Страшный бас
протодиакона Серебрякова рычал где-то в гуще. Риза,
безголовая, безрукая, горбом витала над толпой, затем
утонула в толпе, потом вынесло вверх один рукав
ватной рясы, другой. Взмахивали клетчатые платки,
свивались жгуты.
— Отец Аркадий, щеки покрепче подвяжите, мороз
лютый, позвольте, я вам помогу.
Хоругви кланялись в дверях, как побежденные зна-
мена, плылй коричневые лики и таинственные золотые
слова, хвосты мело по полу.
— Посторонитесь...
— Батюшки, куда ж?
— Манька! Задавят»..
— О ком же? (бас, шепот). Украинской Народной
Республике?
— А черт ее знает... (шепот).
— Кто ни поп, тот батька...
— Осторожно...
Многая лета!!! —
зазвенел, разнесся по всему собору хор... Толстый, баг-
ровый Толмашевский угасил восковую жидкую свечу и
камертон засунул в карман. Хор, в коричневых до пят
костюмах, с золотыми позументами, колыша белобрысы-
ми, словно лысыми, головенками дискантов, качаясь ка-
дыками, лошадиными головами басов, потек с темных,
мрачных хор. Лавинами из всех пролетов, густея, давя
друг друга, закипел в водоворотах, зашумел народ.
Из придела выплывали стихари, обвязанные, словно
от зубной боли, головы с растерянными глазами, фиоле-
товые, игрушечные, картонные шапки. Отец Аркадий,
настоятель кафедрального собора, маленький щуплый
человек, водрузивший сверх серого клетчатого платка
самоцветами искрящуюся митру, плыл, семеня ногами в
Белая гвардия
641
потоке. Глаза у отца были отчаянные, тряслась боро-
денка.
— Крестный ход будет. Вали, Митька.
— Тише вы! Куда лезете? Попов подавите...
— Туда им и дорога.
— Православные!! Ребенка задавили...
— Ничего не понимаю...
—- Як вы не понимаете, то вы б ишлы до дому, бо
тут вам робыть нема чого...
— Кошелек вырезали!!!
— Позвольте, они же социалисты. Так ли я говорю?
При чем же здесь попы?
— Выбачайте.
— Попам дай синенькую, так они дьяволу обедню
отслужат.
— Тут бы сейчас на базар да по жидовским лавкам
ударить. Самый раз...
— Я на вашей мови не размовляю.
— Душат женщину, женщину душат...
— Га-а-а-а... Га-а-а-а...
Из боковых заколонных пространств, с хор» со ступе-
ни на ступень, плечо к плечу, не повернуться, не шелох-
нуться, тащило к дверям, вертело. Коричневые с тол-
стыми икрами скоморохи неизвестного века неслись,
приплясывая и наигрывая на дудках, на старых фрес-
ках на стенах. Через все проходы, в шорохе, гуле несло
полузадушенную, опьяненную углекислотой, дымом и
ладаном толпу. То и дело в гуще вспыхивали короткие
болезненные крики женщин. Карманные воры с черны-
ми кашне работали сосредоточенно, тяжело, продвигая
в слипшихся комках человеческого давленого мяса уче-
ные виртуозные руки. Хрустели тысячи ног, шептала,
шуршала толпа.
— Господи боже мой...
— Иисусе Христе... Царица небесная, матушка...
— И не рад, что пошел. Что же это делается?
г- Чтоб тебя, сволочь, раздавило...
— Часы, голубчики, серебряные часы, братцы ро-
дные. Вчера купил...
— Отлитургисали, можно сказать...
—- На каком же языке служили, отцы родные, не
пойму я?
— На божественном, тетка.
— От строго заборонють, щоб не було бильш москов-
ской мови.
642
Михаил Булгаков
— Что ж это, позвольте, как же? Уж и на право-
славном, родном языке говорить не разрешается?
— С корнями серьги вывернули. Пол-уха оборвали...
— Большевика держите, казаки! Шпиен! Большевиц-
кий шпиен!
— Це вам не Россия, добродию.
— Ох, боже мой, с хвостами... Глянь, в галунах,
Маруся.
— Дур...но мне...
— Дурно женщине.
— Всем, матушка, дурно. Всему народу черзвычайно
плохо. Глаз, .глаз выдушите, не напирайте. Что вы, взбе-
сились, анафемы?!
— Геть! В Россию! Геть с Украины!
— Иван Иванович, тут бы полиции сейчас наряды,
помните, бывало, в двунадесятые праздники... Эх, хо, хо.
— Николая вам кровавого давай? Мы знаем, мы все
знаем, какие мысли у вас в голове находятся.
— Отстаньте от меня, ради Христа. Я вас не трогаю.
— Господи, хоть бы выход скорей... Воздуху живого
глотнуть.
— Не дойду. Помру.
Через главный выход напором перло и выпихивало
толпу, вертело, бросало, роняли шапки, гудели, крести-
лись. Через второй боковой, где мгновенно выдавили два
стекла, вылетел, серебряный с золотом, крестный, за-
давленный и ошалевший, ход с хором. Золотые пятна
плыли в черном месиве, торчали камилавки и митры,
хоругви наклонно вылезали из стекол, выпрямлялись и
плыли торчком.
Был сильный мороз. Город курился дымом. Собор-
ный двор, топтанный тясячами ног, звонко, непрерывно
хрустел. Морозная дымка веяла в остывшем воздухе,
поднималась к колокольне. Софийский тяжелый коло-
кол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю
эту страшную, вопящую кутерьму. Маленькие колокола
тявкали, заливаясь, без ладу и складу, вперебой, точно
сатана влез на колокольню, сам дьявол в рясе, и, забав-
ляясь, поднимал гвалт. В черные прорези многоэтажной
колокольни, встречавшей некогда тревожным звоном
косых татар, видно было, как метались и кричали
маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи.
Мороз хрустел, курился. Расплавляло, отпускало душу
на покаяние, и черным-черно разливался по соборному
двору народушко.
Белая гвардия
643
Старцы божии, несмотря на лютый мороз, с обна-
женными головами, то лысыми, как спелые тыквы, то
крытыми дремучим оранжевым волосом, уже сели ря-
дом по-турецки вдоль каменной дорожки, ведущей в
великий пролет старософийской колокольни, и пели
гнусавыми голосами.
Слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о
Страшном суде, и лежали донышком книзу рваные кар-
тузы, и падали, как листья, засаленные карбованцы, и
глядели из картузов трепаные гривны.
Ой, когда конец века искончается,
А тогда Страшный суд приближается...
Страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустя-
щей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых
бандур с кривыми ручками.
— Братики, сестрички, обратите внимание на- убо-
жество мое. Подайте, Христа ради, что милость ваша
будет.
— Бегите на площадь, Федосей Петрович, а то опоз-
даем.
— Молебен будет.
— Крестный ход.
— Молебствие о даровании победы и одоления рево-
люционному оружию народной украинской армии.
— Помилуйте, какие же победы и одоление? Победи-
ли уже.
— Еще побеждать будут!
— Поход буде.
— Куды поход?
— На Москву.
— На какую Москву?
— На самую обыкновенную.
— Руки коротки.
— Як вы казалы? Повторить, як вы казалы? Хлопцы,
слухайте, що вин казав!
— Ничего я не говорил!
— Держи, держи его, вора, держи!!
— Беги, Маруся, через те ворота, здесь не пройдем.
Петлюра, говорят, на площади. Петлюру смотреть.
— Дура, Петлюра в соборе.
— Сама ты дура. Он на белом коне, говорят, едет.
— Слава Петлюри! Украинской Народной Республи-
ке слава!!!
344
Михаил Булгаков
— Дон... дон... дон... Дон-дон-дон... Тирли-бом-бом.
Дон-бом-бом, — бесились колокола.
— Воззрите на сироток, православные граждане,
добрые люди... Слепому... Убогому...
Черный, с обшитым кожей задом, как ломаный жук,
цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полез безно-
гий между ног. Калеки, убогие выставляли язвы на
посиневших голенях, трясли головами, якобы в тике и
параличе, закатывали белесые глаза, притворяясь сле-
пыми. Изводя душу, убивая сердце, напоминая про
нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь сте-
пей, скрипели, как колеса, стонали, выли в гуще про-
клятые лиры.
Вернися, сиротко, далекий свит зайдешь...
Косматые, трясущиеся старухи с клюками совали
вперед иссохшие пергаментные руки, выли:
—• Красавец писаный! Дай тебе бог здоровечка!
— Барыня, пожалей старуху, сироту несчастную.
— Голубчики, милые, господь бог не оставит вас...
Салопницы на плоских ступнях, чуйки в чепцах с
ушами, мужики в бараньих шапках, румяные девушки,
отставные чиновники с пыльными следами кокард, по-
жилые женщины с выпяченным мысом животом, юркие
ребята, казаки в шинелях, в шапках с хвостами цветно-
го верха, синего, красного, зеленого, малинового с галу-
ном, золотыми и серебряными, с кистями золотыми с
углов гроба, черным морем разливались по соборному
двору, а двери собора все источали и источали новые
волны. На воздухе воспрянул духом, глотнул силы крес-
тный ход, перестроился, подтянулся, и поплыли в строй-
ном чине и порядке обнаженные головы в клетчатых
платках, митры и камилавки, буйные гривы дьяконов,
скуфьи монахов, острые кресты на золоченых древках,
хоругви Христа-спасителя и Божьей Матери с младен-
цем< и поплыли разрезные, кованые, золотые, малино-
вые, писанные славянской вязью хвостатые полотнища.
То не серая туча со змеиным брюхом разливается по
городу, то не бурые, мутные реки текут по старым ули-
цам — то сила Петлюры несметная на площадь старой
Софии идет на парад.
Первой, взорвав мороз ревом труб, ударив блестящи-
ми тарелками, разрезав черную реку народа, пошла
густыми рядами синяя дивизия.
Белая гвардия
645
В синих жупанах, в смушковых, лихо заломанных
шапках с синими верхами шли галичане. Два двуцвет-
ных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками,
плыли следом за густым трубным оркестром, а за пра-
порами, мерно давя хрустальный снег, молодецки греме-
ли ряды, одетые в добротное, хоть немецкое, сукно. За
первым батальоном валили черные в длинных халатах,
опоясанных ремнями, и в тазах на головах, и коричневая
заросль штыков колючей тучей лезла на парад.
Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки
сечевых стрельцов. Шли курени гайдамаков, пеших,
курень за куренем, и, высоко танцуя в просветах ба-
тальонов, ехали в седлах бравые полковые, куренные и
ротные командиры. Удалые марши, победные, ревущие,
выли золотом в цветной реке.
За пешим строем, облегченной рысью, мелко прыгая
в седлах, покатили конные полки. Ослепительно резнули
глаза восхищенного народа мятые заломленные папахи
с синими, зелеными и красными шлыками с золотыми
кисточками.
Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на пра-
вые руки. Весело гремящие бунчуки метались среди
конного строя, и рвались вперед от трубного воя кони
командиров и трубачей. Толстый, веселый, как шар,
Болботун катил впереди куреня, подставив морозу блес-
тящий в сале низкий лоб и пухлые радостные щеки.
Рыжая кобыла, кося кровавым глазом, жуя мундштук,
роняя пену, поднималась на дыбы, то и дело встряхивая
шестипудового Болботуна, и гремел, хлопая ножнами,
кривая сабля, и колол легонько шпорами полковник
крутые нервные бока.
Бо старшины з нами,
3 нами, як з братами! —
разливаясь, на рыси пели и прыгали лихие гайдамаки,
и трепались цветные оселедцы.
Трепля простреленным желто-блакитным знаменем,
гремя гармоникой, прокатил полк черного, остроусого,
на громадной лошади, полковника Козыря-Лешко. Был
полковник мрачен и косил глазом и хлестал по крупу
жеребца плетью. Было от чего сердиться полковнику —
побили Най-Турсовы залпы в туманное утро на Брест-
Литовской стреле лучшие Козырины взводы, и шел полк
рысью и выкатывал на площадь сжавшийся, поредев-
ший строй.
646
Михаил Булгаков
За Козырем пришел лихой, никем не битый черно-
морский конный курень имени гетмана Мазепы. Имя
славного гетмана, едва не погубившего императора Петра
под Полтавой, золотистыми буквами сверкало на голу-
бом шелке.
Народ тучей обмывал серые и желтые стены домов,
народ выпирал и лез на тумбы, мальчишки карабкались
на фонари и сидели на перекладинах, торчали на кры-
шах, свистали, кричали: ура... ура...
—- Слава! Слава! — кричали с тротуаров.
Лепешки лиц громоздились в балконных и оконных
стеклах.
Извозчики, балансируя, лезли на козлы саней, взма-
хивая кнутами.
— Ото казалы, банды... Вот тебе и банды. Ура!
— Слава! Слава Петлюри! Слава нашему Батько!
— Ур-ра...
— Маня, глянь, глянь... Сам Петлюра, глянь, на серой.
Какой красавец...
— Що вы, мадам, це полковник.
— Ах, неужели? А где же Петлюра?
— Петлюра во дворце принимает французских пос-
лов с Одессы.
— Що вы, добродию, сдурели? Яких послов?
— Петлюра, Петр Васильевич, говорят (шепотом), в
Париже, а, видали?
— Вот вам и банды... Меллиен войску.
— Где же Петлюра? Голубчики, где Петлюра? Дайте
хоть одним глазком взглянуть.
— Петлюра, сударыня, сейчас на площади принима-
ет парад.
— Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту
представляется по случаю заключения союза.
— Якому президенту?! Чего вы, добродию, распро-
страняете провокацию.
— Берлинскому президенту... По случаю республики...
— Видали? Видали? Який важный... Вин по Рыльско-
му переулку проехал у кареты. Шесть лошадей...
— Виноват, разве они в архиереев верят?
— Я не кажу, верят — не верят... Кажу — проехал,
и больше ничего. Самы истолкуйте факт...
— Факт тот, что попы служат сейчас...
— С попами крепче...
— Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра...
Белая гвардия
647
Гремели страшные тяжкие колеса, тарахтели ящики,
за десятью конными куренями шла лентами бесконеч-
ная артиллерия. Везли тупые, толстые мортиры, кати-
лись тонкие гаубицы; сидела прислуга на ящиках, весе-
лая, кормленая, победная, чинно и мирно ехали ездовые.
Шли, напрягаясь, вытягиваясь, шестидюймовые, сытые
кони, крепкие, крутокрупые, и крестьянские, привычные
к работе, похожие на беременных блох, коняки. Легко
громыхала конно-горная легкая, и пушечки подпрыгива-
ли, окруженные бравыми всадниками.
— Эх... эх... вот тебе и пятнадцать тысяч... Что же
это наврали нам. Пятнадцать... бандит... разложение...
Господи, не сочтешь. Еще батарея... еще, еще...
Толпа мяла и мяла Николку, и он, сунув птичий нос
в воротник студенческой шинели, влез наконец в нишу
в стене и там утвердился. Какая-то веселая бабенка в
валенках уже находилась в нише и сказала Николке
радостно:
— Держитесь за меня, панычу, а я за кирпич, а то
звалимся.
— Спасибо, — уныло просопел Николка в заиндевев-
шем воротнике, — я вот за крюк буду.
—- Де ж сам Петлюра? — болтала словоохотливая
бабенка. — Ох, хочу побачить Петлюру. Кажуть, вин
красавец неописуемый.
— Да, — промычал Николка неопределенно в ба-
рашковом мехе, — неописуемый. — «Еще батарея... Вот
черт... Ну, ну, теперь я понимаю...»
— Вин на автомобиле, кажуть, проехав, — тут... Вы
не бачили?
— Он в Виннице, — гробовым и сухим голосом от-
ветил Николка, шевеля замерзшими в сапогах пальца-
ми. «Какого черта я валенки не надел. Вот мороз».
— Бачь, бачь, Петлюра.
— Та який Петлюра, це начальник Варты.
— Петлюра мае резиденцию в Билой Церкви. Теперь
Била Церковь буде столицей.
— А в Город они разве не придут, позвольте вас
спросить?
— Придут своевременно.
— Так, так, так...
Лязг, лязг, лязг. Глухие раскаты турецких барабанов
неслись с площади Софии, а по улице уже ползли, грозя
пулеметами из амбразур, колыша тяжелыми башнями,
четыре страшных броневика. Но румяного энтузиаста
648
Михаил Булгаков
Страшкевича уже не было внутри. Лежал еще до сих
пор не убранный и совсем уже не румяный, а грязновос-
ковой, неподвижный Страшкевич на Печерске, в Мари-
инском парке, тотчас за воротами. Во лбу у Страшке-
вича была дырочка, другая, запекшаяся, за ухом. Босые
ноги энтузиаста торчали из-под снега, и глядел остек-
левшими глазами энтузиаст прямо в небо сквозь клено-
вые голые ветви. Кругом было очень тихо, в парке ни
живой души, да и на улице редко кто показывался,
музыка сюда не достигала от старой Софии, поэтому
лицо энтузиаста было совершенно спокойно.
Броневики, гудя, разламывая толпу, уплыли в поток
туда, где сидел Богдан Хмельницкий и булавой, чернея
на небе, указывал на северо-восток. Колокол еще плыл
густейшей масляной волной по снежным холмам и кров-
лям города, и бухал, бухал барабан в гуще, и лезли
остервеневшие от радостного возбуждения мальчишки к
копытам черного Богдана. А по улицам уже гремели
грузовики, скрипя цепями, и ехали на площадках в ук-
раинских кожухах, из-под которых торчали разноцвет-
ные плахты, ехали с соломенными венками на головах
девушки и хлопцы в синих шароварах под кожухами,
пели стройно и слабо...
А в Рыльском переулке в то время грохнул залп.
Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в
толпе. Кто-то побежал с воплем:
— Ой, лышечко!
Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, си-
поватый:
— Я знаю. Тримай их! Офицеры. Офицеры. Офице-
ры... Я их бачив в погонах!
Во взводе десятого куреня имени Рады, ожидавшего
выхода на площадь, торопливо спешились хлопцы, вре-
зались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Сла-
бо, надрывно вскрикивал схваченный за руки капитан
Плешко:
— Я не офицер. Ничего подобного. Ничего подобного.
Что вы? Я служащий в банке.
Хватили с ним рядом кого-то, тот, белый, молчал и
извивался в руках...
Потом хлынуло по переулку, словно из прорванного
мешка, давя друг друга. Бежал ошалевший от ужаса
народ. Очистилось место совершенно белое, с одним
только пятном — брошенной чьей-то шапкой. В переул-
ке сверкнуло и трахнуло, и капитан Плешко, трижды
Белая гвардия
649
отрекшийся, заплатил за свое любопытство к пар.адам.
Он лег у палисадника церковного софийского дома
навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал
ему на ноги и откинулся лицом в тротуар. И тотчас
лязгнули тарелки с угла площади, опять попер народ,
зашумел, забухал оркестр. Резнул победный голос: «Кро-
ком рушь!» И ряд за рядом, блестя хвостатыми галуна-
ми, тронулся конный курень Рады.
♦
Совершенно внезапно лопнул в прорезе между купо-
лами серый фон, и показалось в мутной мгле внезапное
солнце. Было оно так велико, как никогда еще никто на
Украине не видал, и совершенно красно, как чистая
кровь. От шара, с трудом сияющего сквозь завесу обла-
ков, мерно и далеко протянулись полосы запекшейся
крови и сукровицы. Солнце окрасило в кровь главный
купол Софии, а на площадь от него легла странная
тень, так что стал в этой тени Богдан фиолетовым, а
толпа мятущегося народа еще чернее, еще гуще, еще
смятеннее. И было видно, как по скале поднимались на
лестницу серые, опоясанные лихими ремнями и штыка-
ми, пытались сбить надпись, глядящую с черного грани-
та. Но бесполезно скользили и срывались с гранита
штыки. Скачущий же Богдан яростно рвал коня со скалы,
пытаясь улететь от тех, кто навис тяжестью на копытах.
Лицо его, обращенное прямо в красный шар, было
яростно, и по-прежнему булавой он указывал в дали.
И в это время над гудящей растекающейся толпой
напротив Богдана, на замерзшую, скользкую чашу фон-
тана, подняли руки человека. Он был в темном пальто
с меховым воротником, а шапку, несмотря на мороз,
снял и держал в руках. Площадь по-прежнему гудела
и кишела, как муравейник, но колокольня на Софии уже
смолкла, и музыка уходила в разные стороны по мороз-
ным улицам. У подножия фонтана сбилась огромная
толпа.
— Петька, Петька. Кого это подняли?..
— Кажись, Петлюра.
— Петлюра речь говорит...
— Що вы брешете... Це простый оратор...
— Маруся, оратор. Гляди... Гляди...
— Декларацию объявляют...
650
Михаил Булгаков
— Ни, це Универсал будут читать.
— Хай живе вильна Украина!
Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысяч-
ной гущи голов куда-то, где все явственнее вылезал
солнечный диск и золотил густым, красным золотом
кресты, взмахнул рукой и слабо выкрикнул:
— Народу слава!
— Петлюра... Петлюра.
— Да який Петлюра. Що вы, сказились?
— Чего на фонтан Петлюра полезет?
— Петлюра в Харькове.
— Петлюра только что проследовал во дворец на
банкет...
— Не брешить, никаких банкетов не буде.
— Слава народу! — повторял человек, и тотчас прядь
светлых волос прыгнула, соскочила ему на лоб.
— Тише!
Голос светлого человека окреп и был слышен ясно
сквозь рокот и хруст ног, сквозь гуденье и прибой, сквозь
отдаленные барабаны.
— Видели Петлюру?
— Как же, господи, только что.
— Ах, счастливица. Какой он? Какой?
— Усы черные кверху, как у Вильгельма, и в шлеме.
Да вот он, вон он, смотрите, смотрите, Марья Федоров-
на, глядите, глядите — едет...
— Що вы провокацию робите! Це начальник Город-
ской пожарной команды.
— Сударыня, Петлюра в Бельгии.
— Зачем же в Бельгию он поехал?
— Улаживать союз с союзниками...
— Та ни. Вин сейчас с эскортом поехал в Думу.
— Чого?..
— Присяга... 1
— Он будет присягать?
— Зачем он? Ему будут присягать.
— Ну, я скорей умру (шепот), а не присягну...
— Та вам и не надо... Женщин не тронут.
— Жидов тронут, это верно...
— И офицеров. Всем им кишки повыпустят.
— И помещиков. Долой!!
—- Тише!
Светлый человек с какой-то страшной тоской и в то
же время решимостью в глазах указал на солнце.
Белая гвардия*' 651
— Вы чулы, громадйне, браты и товарищи, — за-
говорил он, — як козаки пели: «Бо старшины з нами,
з нами, як с братами». 3 нами. 3 нами воны! — Человек
ударил себя шапкой в грудь, на которой алел громадной
волной бант: — 3 нами. Бо тии старшины з народу, з
ним родились, з ним и умрут. 3 нами воны мерзли в
снегу при облоге Города и вот доблестно узяли его, и
прапор червонный уже висит над теми громадами...
- Ура!
— Який червонный? Що вин каже? Жовто-блакит-
ный.
— У большаков тэ ж червонный.
— Тише! Слава!
— А вин погано размовляе на украинской мови...
— Товарищи! Перед вами теперь новая задача —
поднять и укрепить новую незалежну Республику, для
счастия усих трудящих элементов — рабочих и хлеборо-
бов, бо тильки воны, полившие своею свежею кровью и
потом нашу ридну землю, мають право владеть ею!
— Верно! Слава!
— Ты слышишь, «товарищами» называет? Чудеса-а...
— Ти-ше.
— Поэтому, дорогие граждане, присягнем тут в ра-
достный час народной победы, — глаза оратора начали
светиться, он все возбужденнее простирал руки к густо-
му небу, и все меньше в его речи становилось украин-
ских слов, — и дадим клятву, що мы не зложим оружие,
доки червонный прапор — символ свободы — не буде
развеваться над всем миром трудящихся.
— Ура! Ура! Ура!.. Интер...
— Васька, заткнись. Что ты, сдурел?
— Щур, что вы, тише!
— Ей-богу, Михаил Семенович, не могу выдержать —
вставай... прокл...
Черные онегинские баки скрылись в густом бобровом
воротнике, и только видно было, как тревожно сверкну-
ли в сторону восторженного самокатчика, сдавленного в
толпе, глаза, до странности похожие на глаза покойного
прапорщика Шполянского, погибшего в ночь на четыр-
надцатое декабря. Рука в желтой перчатке протянулась
и сдавила руку Щура...
— Ладно. Ладно, не буду, — бормотал Щур, въеда-
ясь глазами в светлого человека.
А тот, уже овладев собой и массой в ближайших
рядах, вскрикивал:
652
Мйкакл Булгаков
— Хай живут Советы рабочих, селянских и казачьих
депутатов. Да здравствует...
Солнце вдруг угасло, и на Софии и куполах легла
тень; лицо Богдана вырезалось четко, лицо человека
тоже. Видно было, как прыгал светлый кок над его
лбом...
— Га-а. Га-а-а, — зашумела толпа...
— ...Советы рабочих, крестьянских и красноармей-
ских депутатов. Пролетарии всех стран, соединяйтесь...
— Как? Как? Что?! Слава!!
В задних рядах несколько мужских и один голос
тонкий и звонкий запели «Як умру, то...».
— Ур-ра! — победно закричали в другом месте. Вдруг
вспыхнул водоворот в третьем.
— Тримай його! Тримай! — закричал мужской над-
треснутый и злобный и плаксивый голос. — Тримай! Це
провокация. Большевик! Москаль! Тримай! Вы слухали,
що вин казав...
Всплеснули чьи-то руки в воздухе. Оратор кинулся
набок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезла и
голова, покрываясь шапкой.
— Тримай! — кричал в ответ первому второй тонкий
тенор. — Це фальшивый оратор. Бери его, хлопцы,
берить, громадяне.
— Га, га, га. Стой! Кто? Кого поймали? Кого? Та
никого!!!
Обладатель тонкого голоса рванулся вперед к фон-
тану, делая такие движения руками, как будто ловил
скользкую большую рыбу. Но бестолковый Щур в дуб-
леном полушубке и треухе завертелся перед ним с во-
плем: «Тримай!» — и вдруг гаркнул:
— Стой, братцы, часы срезали!
Какой-то женщине отдавили ногу, и она взвыла страш-
ным голосом.
— Кого часы? Где? Врешь — не уйдешь!
КЛ-то сзади обладателя тонкого голоса ухватил за
пояс и придержал, в ту минуту большая, холодная ла-
донь разом и его нос, и губы залепила тяжелой оплеу-
хой фунта в полтора весом.
— Уп! — крикнул тонкий голос, и стал бледный как
смерть, и почувствовал, что голова его голая, что на ней
нет шапки. В ту же секунду его адски резнула вторая
оплеуха, и кто-то взвыл в небесах:
— Вот он, ворюга, марвихер, сукин сын. Бей его!!
— Що вы?! — взвыл тонкий голос. — Що вы меня
Белая гвардия.
653
бьете?! Це не я! Не я! Це- большевика держать треба!
О-о! — завопил он...
— Ой, боже мой, боже мой, Маруся, бежим скорей,
что же это делается?
В толпе, близ самого фонтана, завертелся и взбесил-
ся винт, и кого-то били, и кто-то выл, и народ раскиды-
вало, и, главное, оратор пропал. Так пропал чудесно,
колдовски, что словно сквозь землю провалился. Кого-
то вынесли из винта, а впрочем, ничего подобного, ора-
тор фальшивый был в черной шапке, а этот выскочил в
папахе. И через три минуты винт улегся сам собой, как
будто его и не было, потому что нового оратора уже
поднимали на край фонтана и со всех сторон слушать
его лезла, наслаиваясь на центральное ядро, толпа мало-
мало не в две тысячи человек.
*
В белом переулке у палисадника, откуда любопыт-
ный народ уже схлынул вслед за расходящимся вой-
ском, смешливый Щур не вытерпел и с размаху сел
прямо на тротуар.
— Ой, не могу, — загремел он, хватаясь за живот.
Смех полетел из него каскадами, причем рот сверкал
белыми зубами, — сдохну со смеху, как собака. Как же
они его били, господи Иисусе!
-г- Не очень-то рассаживайтесь, Щур, — сказал спут-
ник его, неизвестный в бобровом воротнике, как две
капли воды похожий на знаменитого покойного прапор-
щика и председателя «Магнитного Триолета» Шполян-
ского.
— Сейчас, сейчас, — затормошился Щур, приподни-
маясь.
— Дайте, Михаил Семенович, папироску, — сказал
второй спутник Щура, высокиц человек в черном паль-
то. Он заломил папаху на затылок, и прядь волос свет-
лая налезла ему на брови. Он тяжело дышал и отдувал-
ся, словно ему было жарко на морозе.
— Что? Натерпелись? — ласково спросил неизвест-
ный, отогнул полу пальто и, вытащив маленький золотой
портсигар, предложил светлому безмундштучную немец-
кую папироску; тот закурил, поставив щитком руки, от
огонька на спичке и, только выдохнув дым, молвил:
- Ух! Ух!
664"
Мида и л Булгаков
Затем все трое быстро двинулись, свернули за угол
и исчезли.
В переулочек с площади быстро вышли две студен-
ческие фигуры. Один маленький, укладистый, аккурат-
ный, в блестящих резиновых галошах. Другой высокий,
широкоплечий, ноги длинные циркулем и шагу чуть не
в сажень.
У обоих воротники надвинуты до краев фуражек, а
у высокого даже и бритый рот прикрыт кашне; немуд-
рено — мороз. Обе фигуры словно по команде поверну-
ли головы, глянули на труп капитана Плешко и другой,
лежащий ничком, уткнувши в стороны разметанные
колени, и, ни звука не издав, прошли мимо.
Потом, когда из Рыльского студенты повернули к
Житомирской улице, высокий повернулся к низкому и
молвил хрипловатым тенором:
— Видал-миндал? Видал, я тебя спрашиваю?
Маленький ничего не ответил, но дернулся так и так
промычал, точно у него внезапно заболел зуб.
— Сколько жив буду, не забуду, — продолжал вы-
сокий, идя размашистым шагом, — буду помнить.
Маленький молча шел за ним.
— Спасибо, выучили. Ну, если когда-нибудь встре-
тится мне эта самая каналья... гетман... — из-под кашне
послышалось сипение, — я его, — высокий выпустил
страшное трехэтажное ругательство и не кончил. Вышли
на Большую Житомирскую улицу, и двум преградила
путь процессия, направляющаяся к Старо-Городскому
участку с каланчой. Путь ей с площади был, в сущности
говоря, прям и прост, но Владимирскую еще запирала
не успевшая уйти с парада кавалерия, и процессия
дала крюк, как и все.
Открывалась она стаей мальчишек. Они бежали и
прыгали задом и свистали пронзительно. Затем шел по
истоптанной мостовой человек с блуждающими в ужасе
и тоске глазами в расстегнутой и порванной бекеше и
без шапки. Лицо у него было окровавлено, а из глаз
текли слезы. Расстегнутый открывал широкий рот и
кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, мешая
русские и украинские слова:
— Вы не маете права! Я известный украинский поэт.
Моя фамилия Горболаз. Я написал антологию украин-
ской поэзии. Я жаловаться буду председателю Рады и
министру. Це неописуемо!
— Бей его, стерву, карманщика, — кричали с тро-
туаров.
Белая гвардияЛ? 655
— Я, — отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все
стороны, кричал окровавленный, — зробив попытку
задержать большевика-провокатора...
— Что, что, что, — гремело на тротуарах.
— Кого это?!
— Покушение на Петлюру.
- Ну?!
— Стрелял, сукин сын, в нашего батько.
— Так вин же украинец.
— Сволочь он, не украинец, — бубнил чей-то бас, —
кошельки срезал.
— Ф-юх, — презрительно свистали мальчишки.
— Что такое? По какому праву?
— Большевика-провокатора поймали. Убить его, па-
даль, на месте.
Сзади окровавленного ползла взволнованная толпа,
мелькал на папахе золотогалунный хвост и концы двух
винтовок. Некто, туго перепоясанный цветным поясом,
шел рядом с окровавленным развалистой походкой и
изредка, когда тот особенно громко кричал, механически
ударял его кулаком по шее; тогда злополучный аресто-
ванный, хотевший схватить неуловимое, умолкал и начи-
нал бурно, но беззвучно рыдать.
Двое студентов пропустили процессию. Когда она
отошла, высокий подхватил под руку низенького и за-
шептал злорадным голосом:
— Так его, так его. От сердца отлегло. Ну, одно тебе
скажу, Карась, молодцы большевики. Клянусь честью —
молодцы. Вот работа так работа!. Видал, как ловко ора-
теля сплавили? И смелы. За что люблю — за смелость,
мать их за ногу.
Маленький сказал тихо:
— Если теперь не выпить, повеситься можно.
— Это мысль. Мысль, — оживленно подтвердил
высокий. -* У тебя сколько?
— Двести.
— У меня полтораста. Зайдем к Тамарке, возьмем
полторы...
— Заперто.
— Откроет.
Двое повернули на Владимирскую, дошли до двух-
этажного домика с вывеской: «Бакалейная торговля», а
рядом «Погреб — замок Тамары». Нырнув по ступеням
вниз, двое стали осторожно постукивать в стеклянную
двойную дверь.
656
Михаил Булгаков
17
Заветной цели, о которой Николка думал все эти три
дня, когда события падали в семью, как камни, цели,
связанной с загадочными последними словами распро-
стертого на снегу, цели этой Николка достиг. Но для
этого ему пришлось весь день перед парадом бегать по
городу и посетить не менее девяти адресов. И много раз
в этой беготне Николка терял присутствие духа, и па-
дал, и опять поднимался, и все-таки добился.
На самой окраине, в Литовской улице, в маленьком
домишке он разыскал одного из второго отделения дру-
жины и от него узнал адрес, имя и отчество Ная.
Николка боролся часа два с бурными народными
волнами, пытаясь пересечь Софийскую площадь. Но
площадь нельзя было пересечь, ну просто немыслимо!
Тогда около получаса потерял иззябший Николка, что-
бы выбраться из тесных клещей и вернуться к исходной
точке — к Михайловскому монастырю. От него по Кос-
тельной пытался Николка, дав большого крюку, про-
браться на Крещатик, вниз, а оттуда окольными, нижни-
ми путями на Мало-Провальную. И это оказалось невоз-
можным! По Костельной вверх, густейшей змеей, шло,
так же как и всюду, войско на парад. Тогда еще боль-
ший и выпуклый крюк дал Николка и в полном одино-
честве оказался на Владимирской горке. По террасам и
аллеям бежал Николка^ среди стен белого снега, проби-
раясь вперед. Попадал и на площадки, где снегу было
уже не так много. С террас был виден в море снега
залегший напротив на горах Царский сад, а далее, влево,
бесконечные черниговские пространства в полном зим-
нем покое за рекой Днепром — белым и важным в
зимних берегах.
Был мир и полный покой, но Николке было не до
покоя. Борясь со снегом, он одолевал и одолевал терра-
сы одну за другой и только изредка удивлялся тому,
что снег кое-где уже топтан, есть следы, значит, кто-то
бродит по Горке и зимой.
По аллее спустился наконец Николка, облегченно
вздохнул, увидел, что войска на Крещатике нет, и устре-
мился к заветному, искомому месту. «Мало-Провальная,
21». Таков был Николкой добытый адрес, и этот неза-
писанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу.
21*
Белая гвардия
657
*
Николка волновался и робел... «Кого же и как спро-
сить получше? Ничего не известно...» Позвонил у двери
флигеля, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не
откликались, но наконец зашлепали шаги, и дверь при-
открылась немного под цепочкой. Выглянуло женское
лицо в пенсне и сурово спросило из тьмы передней:
— Вам что надо?
— Позвольте узнать... Здесь живут Най-Турс?
Женское лицо стало совсем неприветливым и хму-
рым, стекла блеснули.
— Никаких Туре тут нету, — сказала женщина низким
голосом.
Николка покраснел, смутился и опечалился...
— Это квартира пять...
— Ну да, — неохотно и подозрительно ответила
женщина, — да вы скажите, -вам что.
— Мне сообщили, что Туре здесь живут...
Лицо выглянуло больше и пытливо шмыгнуло по
садику глазом, стараясь узнать, есть ли еще кто-нибудь
за Николкой... Николка разглядел тут полный, двойной
подбородок дамы.
— Да вам что?.. Вы скажите мне.
Николка вздохнул и, оглянувшись, сказал:
— Я насчет Феликс Феликсовича... у меня сведения.
Лицо резко изменилось. Женщина моргнула и спро-
сила:
— Вы кто?
— Студент.
— Подождите здесь, — захлопнулась дверь, и шаги
стихли.
Через полминуты за дверью застучали каблуки, дверь
открылась совсем и впустила Николку. Свет проникал
в переднюю из гостиной, и Николка разглядел край
пушистого мягкого кресла, а потом даму в пенсне.
Николка снял фуражку, и тотчас перед ним очутилась
сухонькая другая невысокая дама, со следами увядшей
красоты на лице. По каким-то незначительным и неоп-
ределенным чертам, не то на висках, не то по цвету
волос, Николка сообразил, что это мать Ная, и ужаснул-
ся — как же он сообщит... Дама на него устремила
упрямый, блестящий взор, и Николка пуще потерялся.
Сбоку еще очутился кто-то, кажется, молодая и тоже
очень похожая.
22-1857
658
Михаил Булгаков
— Ну, говорите же, ну... — упрямо сказала мать...
Николка смял фуражку, взвел на даму глазами и
вымолвил:
- Я... я...
Сухонькая дама — мать метнула в Николку взор
черный и, как показалось ему, ненавистный и вдруг
крикнула звонко, так, что отозвалось сзади Николки в
стекле двери:
— Феликс убит!
Она сжала кулаки, взмахнула ими перед лицом
Николки и закричала:
— Убили... Ирина, слышишь? Феликса убили!
У Николки в глазах помутилось от страха, и он от-
чаянно подумал: «Я ж ничего не сказал... Боже мой!»
Толстая в пенсне мгновенно захлопнула за Николкой
дверь. Потом быстро, быстро подбежала к сухонькой
даме, охватила ее плечи и торопливо зашептала:
— Ну, Марья Францевна, ну, голубчик, успокойтесь...
Нагнулась к Николке, спросила: — Да может быть, это
не так?.. Господи... Вы же скажите... Неужели?..
Николка ничего на это не мог сказать... Он только
отчаянно глянул вперед и опять увидал край кресла.
— Тише, Марья Францевна, тише, голубчик... Ради
бога... Услышат... Воля божья... — лепетала толстая.
Мать Най-Турса валилась навзничь и кричала:
— Четыре года! Четыре года! Я жду, все жду...
Жду! — Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к
матери и подхватила ее. Николке нужно было бы по-
мочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и
не мог остановиться.
♦ Л
Окна завешаны шторами, в гостиной полумрак и
полное молчание, в котором отвратительно пахнет ле-
карством... ь
Молчание нарушила наконец молодая — эта самая,
сестра. Она повернулась от окна и подошла к Николке.
Николка поднялся с кресла, Bice еще держа в руках
фуражку, с которой не мог разделаться в этих ужасных
обстоятельствах. Сестра поправила машинально завиток
черных волос, дернула ртом и спросила:
— Как же он умер?
— Он умер, — ответил Николка самым своим луч-
шим голосом, — он умер, знаете ли, как герой... Насто-
22-2
Белая гвардия
659
ящий герой... Всех юнкеров вовремя прогнал, в самый
последний момент, а сам, — Николка, рассказывая,
плакал, — а сам их прикрыл огнем. И меня чуть-чуть
не убили вместе с ним. Мы попали под пулеметный
огонь, — Николка и плакал, и рассказывал в одно
время, — мы... только двое остались, и он меня гнал и
ругал и стрелял из пулемета... Со всех сторон наехала
конница, потому что нас посадили в западню. Положи-
тельно, со всех сторон.
— А вдруг его только ранили?
— Нет, — твердо ответил Николка и грязным плат-
ком стал вытирать глаза и нос и рот, — нет, его убили.
Я сам его ощупывал. В голову попала пуля и в грудь.
*
Еще больше потемнело, из соседней комнаты не до-
носилось ни звука, потому что Мария Францевна умол-
кла, а в гостиной, тесно сойдясь, шептались трое: сестра
Ная — Ирина, та толстая в пенсне — хозяйка квартиры
Лидия Павловна, как узнал Николка, и сам Николка.
— У меня с собой денег нет, — шептал Николка, —
если нужно, я сейчас сбегаю за деньгами, и тогда по-
едем.
— Я денег дам сейчас, — гудела Лидия Павловна, —
деньги-то это пустяки, только вы, ради бога, добейтесь
там. Ирина, ей ни слова не говори, где и что... Я прямо
и не знаю, что и делать...
— Яс ним поеду, — шептала Ирина, — и мы добь-
емся. Вы скажете, что он лежит в казармах и что нужно
разрешение, чтобы его видеть.
— Ну, ну... Это хорошо... хорошо...
Толстая тотчас засеменила в соседнюю комнату, и
оттуда послышался ее Голос, шепчущий, убеждающий:
— Мария Францевна, ну, лежите, ради Христа... Они
сейчас поедут и все узнают. Это юнкер сообщил, что он
в казармах лежит.
— На нарах?.. — спросил звонкий и, как показалось
опять Николке, ненавистный голос.
— Что вы, Марья Францевна, в часовне он, в часовне...
— Может, лежит на перекрестке, собаки его грызут.
— Ах, Марья Францевна, ну что вы говорите... Лежи-
те спокойно, умоляю вас...
— Мама стала совсем ненормальной за эти три дня... —
зашептала сестра Ная и опять отбросила непокорную
22'
660
Михаил Булгаков
прядь волос и посмотрела далеко куда-то за Николку, —
а впрочем, теперь все вздор.
— Я поеду с ними, — раздалось из соседней комнаты...
Сестра моментально встрепенулась и побежала.
— Мама, мама, ты не поедешь. Ты не поедешь. Юнкер
отказывается хлопотать, если ты поедешь. Его могут
арестовать. Лежи, лежи, я тебя прошу...
— Ну, Ирина, Ирина, Ирина, Ирина, — раздалось из
соседней комнаты, — убили, убили его, а ты что ж? Что
же?.. Ты, Ирина... Что я буду делать теперь, когда
Феликса убили? Убили... И лежит на снегу... Думаешь
ли ты... — Опять началось рыдание, и заскрипела кро-
вать, и послышался голос хозяйки:
— Ну, Марья Францевна, ну, бедная, ну, терпите,
терпите...
— Ах, господи, господи, — сказала молодая и быст-
ро пробежала через гостиную. Николка, чувствуя ужас
и отчаяние, подумал в смятении: «А как не найдем, что
тогда?»
♦
У самых ужасных дверей, где, несмотря на мороз,
чувствовался уже страшный тяжелый запах, Николка
остановился и сказал:
— Вы, может быть, посидите здесь... А... А то там
такой запах, что, может быть, вам плохо будет.
Ирина посмотрела на зеленую дверь, потом на Ни-
колку и ответила:
— Нет, я с вами пойду.
Николка потянул за ручку тяжелую дверь, и они
вошли. Вначале было темно/Потом замелькали беско-
нечные ряды> вешалок пустых^ Вверху висела тусклая
лампа.
Николка тревожно обернулся на свою спутницу, но
та — ничего — шла рядом с ним, и только лицо ее было
бледно, а брови она нахмурила. Так нахмурила, что
напомнила Николке Най-Турса, впрочем, сходство мимо-
летное — у Ная было железное лицо, простое и муже-
ственное, а эта — красавица, и не такая, как русская,
а, пожалуй, иностранка. Изумительная, замечательная
девушка.
Этот запах, которого так боялся Николка, был всю-
ду. Пахли полы, пахли стены, деревянные вешалки.
Ужасен этот запах был до того, что его можно было
22-4
Белая гвардия
661
даже видеть. Казалось, что стены жирные и липкие, а
вешалки лоснящиеся, что полы жирные, а воздух густой
и сытный, падалью пахнет. К самому запаху, впрочем,
привыкнешь очень быстро, но уже лучше не присматри-
ваться и не думать. Самое главное не думать, а то
сейчас узнаешь, что значит тошнота. Мелькнул студент
в пальто и исчез. За вешалками слева открылась со
скрипом дверь, и оттуда вышел человек в сапогах.
Николка посмотрел на него и быстро отвел глаза, чтобы
не видеть его пиджака. Пиджак лоснился, как вешалка,
и руки человека лоснились.
— Вам что? — спросил человек строго...
— Мы пришли, — заговорил Николка, — по делу,
нам бы заведующего... Нам нужно найти убитого. Здесь
он, вероятно?
— Какого убитого? — спросил человек и поглядел
исподлобья...
— Тут вот на улице, три дня, как его убил’и...
— Ага, стало быть, юнкер или офицер... И гайдамаки
попадали. Он — кто?
Николка побоялся сказать, что Най-Турс именно
офицер, и сказал так:
— Ну да, и его тоже убили...
— Он офицер, мобилизованный гетманом, — сказала
Ирина, — Най-Турс, — и пододвинулась к человеку.
Тому было, по-видимому, все равно, кто такой Най-
Турс, он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и
плюя на пол:
— Я не знаю, як тут быть. Занятия уже кончены, и
никого в залах нема. Другие сторожа ушли. Трудно
искать. Очень трудно. Бо трупы перенесли в нижние
кладовки. Трудно, дуже трудно...
Ирина Най расстегнула сумочку, вынула денежную
бумажку и протянула сторожу. Николка отвернулся,
боясь, что честный человек сторож будет протестовать
против этого. Но сторож не протестовал...
— Спасибо, барышня, — сказал он и оживился, —
найти можно. Только разрешение нужно. Если профес-
сор дозволит, можно забрать труп.
— А где же профессор?.. — спросил Николка.
— Они здесь, только они заняты. Я не знаю... доло-
жить?..
— Пожалуйста, пожалуйста, доложите ему сейчас
же, — попросил Николка, — я его сейчас же узнаю,
убитого...
662
Михаил Булгаков
— Доложить можно, — сказал сторож и повел их.
Они поднялись по ступенькам в коридор, где запах стал
еще страшнее. Потом по коридору, потом влево, и запах
ослабел, и посветлело, потому что коридор был под
стеклянной крышей. Здесь и справа и слева двери были
белы. У одной из них сторож остановился, постучал,
потом снял шапку и вошел. В коридоре было тихо, и
через крышу сеялся свет. В углу вдали начинало смер-
каться. Сторож вышел и сказал:
— Зайдите сюда.
Николка вошел туда, за ним Ирина Най... Николка
снял фуражку и разглядел первым долгом черные пятна
лоснящихся штор в огромной комнате и пучок страшно-
го острого света, падавшего на стол, а в пучке черную
бороду и изможденное лицо в морщинах и горбатый нос.
Потом, подавленный, оглянулся по стенам. В полутьме
поблескивали бесконечные шкафы, и в них мерещились
какие-то уроды, темные и желтые, как страшные китай-
ские фигуры. Еще вдали увидал высокого человека в
жреческом кожаном фартуке и черных перчатках. Тот
склонился над длинным столом, на котором стояли, как
пушки, светлея зеркалами и золотом в свете спущенной
лампочки, под зеленым тюльпаном, микроскопы.
— Что вам? — спросил профессор.
Николка по изможденному лицу и этой бороде узнал,
что он именно профессор, а тот жрец меньше — какой-
то помощник.
Николка кашлянул, все глядя на острый пучок, ко-
торый выходил из лампы, странно изогнутой — блестя-
щей, и на другие вещи — на желтые пальцы от табаку,
на ужасный отвратительный предмет, лежащий перед
профессором, — человеческую шею и подбородок, состо-
ящие из жил и ниток, утыканных, увешанных десятками
блестящих крючков и НОЖНИЦ... '
— Вы родственники? — спрйсил профессор. У него
был глухой голос, соответствующий изможденному лицу
и этой бороде. Ой поднял голову И прищурился на Ирину
Най, йа ее меховую шубку и ббтики.
— Я его сестра, — сказала Най, стараясь не смот-
реть на то, что лежало перед профессором.
— Вот видите, Сергей Николаевич, как с этим труд-
но. Уж не первый случай... Да, может, он еще и не у
нас. В чернорабочую ведь возили трупы?
— Возможно, — отозвался тот высокий и бросил
какой-то инструмент в сторону...
— Федор! — крикнул профессор...
Белая гвардия
663
♦
— Нет, вы туда... Туда вам нельзя... Я сам... — робко
молвил Николка...
— Сомлеете, барышня, — подтвердил сторож. —
Здесь, добавил он, — можно подождать.
Николка отвел его в сторону, дал ему еще две бу-
мажки и попросил его посадить барышню на чистый
табурет. Сторож, пыхтя горящей махоркой, вынес табу-
рет откуда-то, где стояли зеленая лампа и скелеты.
— Вы не медик, панычу? Медики, те привыкают
сразу, — и, открыв большую дверь, щелкнул выключа-
телем. Шар загорелся вверху под стеклянным потолком.
Из комнаты шел тяжкий запах. Цинковые столы белели
рядами. Они были пусты, и где-то со стуком падала
вода в раковину. Под ногами гулко звенел каменный
пол. Николка, страдая от запаха, оставшегося здесь,
должно быть, навеки, шел, стараясь не думать. Они со
сторожем вышли через противоположные двери в со-
всем темный коридор, где сторож зажег маленькую
лампу, затем прошли немного дальше. Сторож отодви-
нул тяжелый засов, открыл чугунную дверь и опять
щелкнул. Холодом обдало Николку. Громадные цилин-
дры стояли в углах черного помещения и доверху, так,
что выпирало из них, были полны кусками и обрезками
человеческого мяса, лоскутами кожи, пальцами, куска-
ми раздробленных костей. Николка отвернулся, глотая
слюну, а сторож сказал ему:
— Понюхайте, панычу.
Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестер-
пимую резь —- запах цащатыря цз склянки.
Как в полусне, Никодка, сощурив глаз, видел вспыхг
нувший огонек в трубке Федора и слышал сладостный
дух горящей, махорки. Федор возился долго с замком у
сетки лмфта, открыл едр* и онц с./Никодкой стали ня
платформу. Федор дернул< ручкуэ g платформа пошла
вниз, скрипя. Снизу тяцуло ледяным холодом. Платфор-'
ма стала. Вошли в огромную кладовую. Николка мутно
видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в шта-
белях, одни на других^ лежали голые, источающие не-
сносный, душащий человека, несмотря на нашатырь,
смрад, человеческие тела. Ноги, закоченевшие или рас-
слабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали
со взбившимися и разметанными волосами, а груди их
были мятыми, жеваными, в синяках.
664
Михаил Булгаков
— Ну, теперь будем ворочать их, а вы глядите, —
сказал сторож, наклоняясь. Он ухватил за ногу труп
женщины, и она, скользкая, со стуком сползла, как по
маслу, на пол. Николке она показалась страшно краси-
вой, как ведьма, и липкой. Глаза ее были раскрыты и
глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел глаза
от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой, и
глядел в сторону. Его мутило, и голова кружилась при
мысли, что нужно будет разворачивать всю эту много-
слитную груду слипшихся тел.
— Не надо. Стойте, — слабо сказал он Федору и
сунул склянку в карман, — вон он. Нашел. Он сверху.
Вон, вон.
Федор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не по-
скользнуться на полу, ухватил Най-Турса за голову и
сильно дернул. На животе у Ная ничком лежала плос-
кая широкобедрая женщина, и в волосах у нее тускло,
как обломок стекла, светился в затылке дешевенький
забытый гребень. Федор ловко попутно выдернул его,
бросил в карман фартука и перехватил Ная под мышки.
Голова того, вылезая со штабеля, размоталась, свисла,
и острый небритый подбородок задрался кверху, одна
рука соскользнула.
Федор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а
бережно, под мышки, сгибая уже расслабленное тело,
повернул его так, что ноги Ная загребли по полу, к
Николке лицом, и сказал:
— Вы смотрите — он? Чтобы не было ошибки...
Николка глянул Наю прямо в глаза, открытые, стек-
лянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека
у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди,
животу расплылись и застыли темные широкие пятна,
вероятно, крови.
— Он, — сказал Николка.
Федор так же под мышки втащил Ная на платформу
лифта и опустил его к ногам Николки. Мертвый раски-
нул руки и опять задрал подбородок. Федор взошел сам,
тронул ручку, и платформа ушла вверх.
*
В ту же ночь в часовне все было сделано так, как
Николка хотел, и совесть его была совершенно спокой-
на, но печальна и строга. При анатомическом театре в
часовне, голой и мрачной, посветлело. Гроб какого-то
Белая гвардия
666
неизвестного в углу закрыли крышкой, и тяжелый, не-
приятный и страшный чужой покойник сосед не смущал
покоя Ная. Сам Най значительно стал радостнее и
повеселел в гробу.
Най — обмытый сторожами, довольными и слово-
охотливыми, Най — чистый, во френче без погон, Най —
с венцом на лбу под тремя огнями, и главное, Най —
с аршином пестрой георгиевской ленты, собственноруч-
но Николкой уложенной под рубаху на холодную его
вязкую грудь. Старуха мать от трех огней повернула к
Николке трясущуюся голову и сказала ему:
— Сын мой. Ну, спасибо тебе.
И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни
на снег. Кругом, над двором анатомического театра, была
ночь, снег, и звезды крестами, и белый Млечный Путь.
18
Турбин стал умирать днем двадцать второго декабря.
День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан от-
блеском грядущего через два дня Рождества. В особен-
ности этот отблеск чувствовался в блеске паркетного
пола в гостиной, натертого совместными усилиями Аню-
ты, Николки и Лариосика, бесшумно шаркавших нака-
нуне. Так же веяло Рождеством от переплетиков лампа-
док, начищенных Анютиными руками. И наконец, пахло
хвоей, и зелень осветила угол у разноцветного Валенти-
на, как бы навеки забытого над открытыми клавишами...
Я за сестру...
Елена вышла около полудня из двери турбийской
комнаты не совсем твердыми шагами и молча прошла
через столовую, где в ‘ совершенном молчании сидели
Карась, Мышлаевский и Лариосик. Ни один из них нё
шевельнулся при ее проходе, боясь ее лица. Елена за-
крыла дверь к себе в комнату, а тяжелая портьера
тотчас улеглась неподвижно.
Мышлаевский шевельнулся.
— Вот, — сиплым шепотом промолвил он, — все
хорошо сделал командир, а Алешку-то неудачно при-
строил...
Карась и Лариосик ничего к этому не добавили.
Лариосик заморгал глазами, и лиловатые тени разлег-
лись у него на щеках.
666
Михаил Булгаков
— Э... черт, — добавил еще Мышлаевский, встал и,
покачиваясь, подобрался к двери, потом остановился в
нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Еле-
ны. — Слушайте, ребята, вы посматривайте... А то...
Он потоптался и вышел в книжную, там его шаги
замерли. Через некоторое время донесся его голос и еще
какие-то странные ноющие звуки, из Николкиной комнаты.
— Плачет Никол, — отчаянным голосом прошептал
Лариосик, вздохнул, на цыпочках подошел к Елениной
двери, наклонился к замочной скважине, но ничего не
разглядел. Он беспомощно оглянулся на Карася, стал
делать ему знаки, беззвучно спрашивать. Карась подо-
шел к двери, помялся, но потом стукнул все-таки ти-
хонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал:
— Елена Васильевна, а Елена Васильевна...
— Ах, не бойтесь вы, —- донесся глуховато Еленин
голос из-за двери, — не входите.
Карась отпрянул, и Лариосик тоже. Они оба верну-
лись на свои места — на стулья под печкой Саардама —
и затихли.
Делать Турбиным и тем, кто с Турбиными был тесно
и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там и
так стало тесно от трех мужчин. Это был тот золото-
глазый медведь, другой, молодой, бритый и стройный,
больше похожий на гвардейца, чем на врача, и, наконец,
третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и
турбинской семье нерадостные вести сразу, как только
он появился шестнадцатого декабря. Он все понял и
тогда же сказал, что у Турбина тиф. И сразу как-то
сквозная рана у подмышки левой руки отошла на вто-
рой цлан. Он же час всего назад вышел с Еленой в
гостиную и там, на ее упорный врпрос, вопрос не только
с языка, но и из сухих глаз и потрескавшихся губ и
развитых прядей, сказал, что надежды мало, и добавил,
глядя в Еленины глаза, глазами очень, очень опытного
и всех поэтому жалеющего ^человека, — «очень мало».
Всем хорошо известно, и Елене тоже, что это означает,
что надежды вовсе никакой нет и, значит, Турбин уми-
рает. После этого Елена прошла в спальню к брату и
долго стояла, глядя ему в лицо, и тут отлично и сама
поняла, что значит — нет надежды. Не обладая искус-
ством седого и доброго старика, можно было знать, что
умирает доктор Алексей Турбин.
Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и
непрочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже
Белая гвардия
667
начало пропускать какие-то странные восковые оттенки,
и нос его изменился, утончился, и какая-то черта без-
надежности вырисовывалась именно у горбинки носа,
особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели,
и стало ей туманно-тоскливо в гнойном камфарном,
сытном воздухе спальни. Но это быстро прошло.
Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и
дышал он с присвистом, через оскаленные зубы притя-
гивая липкую, не влезающую в грудь струю воздуха.
Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не
понимал того, что происходило вокруг него. Елена по-
стояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и
шепнул:
— Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем
делать.
Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профес-
сор ничего не стал больше делать.
Он снял халат, вытер влажными ватными шарами
руки и еще раз посмотрел в лицо Турбину. Синеватая
тень сгущалась у складок губ и носа.
— Безнадежен, — очень тихо сказал на ухо бритому
профессор, — вы, доктор Бродович, оставайтесь возле
него.
— Камфару? — спросил Бродович шепотом.
— Да, да, да.
— По шприцу?
— Нет, — глянул в окно, подумал, — сразу по три
грамма. И чаще. — Он подумал, добавил: — Вы мне
протелефонируйте в случае несчастного исхода, — такие
слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин
даже сквозь завесу бреда и тумана не воспринял их, —
в клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же
после лекции.
Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лам-
падки зажигались у них двадцать четвертого декабря
в сумерки, а вечером дробящимися, теплыми огнями
зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь
коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили
и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки.
Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке
у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла
668
Михаил Булгаков
огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед ста-
рой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел,
затеплился, венчик над смуглым лицом богоматери пре-
вратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Го-
лова, наклоненная набок, глядела на Елену. В двух
квадратах окон стоял белый декабрьский беззвучный
день, в углу зыбкий язычок огня устроил предпразднич-
ный вечер. Елена слезла со стула, сбросила с плеч
платок и опустилась на колени. Она сдвинула край
ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета
и, молча, положила первый земной поклон.
В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с
поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина.
Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам:
— Помирает... — набрал воздуху.
— Вот что, — заговорил Мышлаевский, — не по-
звать ли священника? А, Никол?.. Чтр ж ему так-то, без
покаяния...
— Лене нужно сказать, — испуганно ответил Никол-
ка, — как же без нее. И еще с ней что-нибудь сдела-
ется...
— А что доктор говорит? — спросил Карась.
— Да что тут говорить. Говорить более нечего, —
просипел Мышлаевский.
Они долго тревожно шептались, и слышно было, как
вздыхал бледный отуманенный Лариосик. Еще раз ходи-
ли к доктору Бродовичу. Тот выглянул в переднюю,
закурил папиросу и прошептал, что это агония, что,
конечно, священника можно позвать, что ему это безраз-
лично, потому что больной все равно без сознания и
ничему это не повредит.
— Глухую исповедь...
Шептались, шептались, но не решились пока звать, а
к Елене стучали, она через дверь глухо ответила: «Уй-
дите пока... я выйду...»
И они ушли.
Елена с колен исподлобья смотрела на зубчатый венец
над почерневшим ликом с ясными глазами и, протяги-
вая руки, говорила шепотом:
— Слишком много горя сразу посылаешь, мать-за-
ступница. Так в один год и кончаешь семью. За что?..
Мать взяла у нас, мужа у меня нет и не будет, это я
понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и
старшего отнимаешь. За что?.. Как мы будем вдвоем с
Белая гвардия
669
Николом?.. Посмотри, что делается кругом, ты посмот-
ри... Мать-заступница, неужто ж не сжалишься?..
Может быть, мьГ люди и плохие, но за что же так ка-
рать-то?
Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола,
перекрестилась и, вновь простирая руки, стала просить:
— На тебя одна надежда, пречистая дева. На тебя.
Умоли сына своего, умоли господа бога, чтоб послал
чудо...
Шепот Елены стал страстным, она сбивалась в сло-
вах, но речь ее была непрерывна, шла потоком. Она все
чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтоб сбить
назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь.
День исчез в квадратах окон, исчез и белый сокол,
неслышным прошел плещущий гавот в три часа дня, и
совершенно неслышным пришел тот, к кому через за-
ступничество смуглой девы взывала Елена. Он появился
рядом у развороченной гробницы, совершенно воскрес-
ший, и благостный, и босой. Грудь Елены очень расши-
рилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились
светом, переполнились сухим бесслезным плачем. Она
лбом и щекой прижалась к полу, потом, всей душой
вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже
жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное
лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выма-
нивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная
тишина молчала за дверями и за окнами, день тем-
нел страшно быстро, и еще раз возникло видение —
стеклянный свет небесного купола, какие-то неви-
данные, красно-желтые песчаные глыбы, масличные де-
ревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце
собор.
— Мать-заступница, — бормотала в огне Елена, —
упроси его. Вон он. Что же тебе стоит. Пожалей нас.
Пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может, что-
нибудь доброе сделает он, да и тебя умолю за грехи.
Пусть Сергей не возвращается... Отымаешь — отымай,
но этого смертью не карай... Все мы в крови повинны,
но ты не карай. Не карай. Вон он, вон он...
Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протя-
нулся длинно, длинно к самым глазам Елены. Тут без-
умные ее глаза разглядели, что губы на лике, окаймлен-
ном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие
невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей
сердце, она сникла к полу и больше не поднималась.
670
Михаил Булгаков
♦
По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога,
на цыпочках через столовую пробежал кто-то. Еще кто-
то поцарапался в дверь, возник шепот: «Елена... Елена...
Елена...» Елена, вытирая тылом ладони холодный, сколь-
зкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед
собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий
угол, с совершенно стальным сердцем прошла к двери.
Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама со-
бой, и Никол предстал в обрамлении портьеры. Никол-
кины глаза выпятились на Елену в ужасе, ему не хва-
тало воздуху.
— Ты знаешь, Елена... ты не бойся... не бойся... иди
туда... кажется...
*
Доктор Алексей Турбин, восковой, как ломаная, мятая
в потных руках свеча, выбросив из-под одеяла костис-
тые руки с нестриженными ногтями, лежал, задрав кверху
острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а
высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезах руба-
хи. Он свел голову книзу, уперся подбородком в груди-
ну, расцепил пожелтевшие зубы, приоткрыл глаза. В
них еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но
уже в клочьях черного глянул свет. Очень слабым голо-
сом, сиплым и тонким, он сказал:
— Кризис, Бродович. Что... выживу?.. А-га.
Карась в трясущихся руках держал лампу, и она
освещала вдавленную постель и комья простынь с серы-
ми тенями в складках.
Бритый врач не совсем верной рукой сдавил в щипок
остатки мяса, вкалывая в руку Турбину иглу маленько-
го шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу.
Он был взволнован и потрясен.
19
Пэтурра. Было его жития в Городе сорок семь дней.
Пролетел над Турбиными закованный в лед и снегом
запорошенный январь 1919 года, подлетел февраль и
завертелся в метели.
Белая гвардия
671
Второго февраля по турбинской квартире прошла
черная фигура, с обритой головой, прикрытой черной
шелковой шапочкой. Это был сам воскресший Турбин.
Он резко изменился. На лице, у углов рта, по-видимому,
навсегда присохли две складки, цвет кожи восковой,
глаза запали в тенях и навсегда стали неулыбчивыми и
мрачными.
В гостиной Турбин, как сорок семь дней тому назад,
прижался к стеклу и слушал, и, как тогда, когда в
окнах виднелись теплые огонечки, снег, опера, мягко
слышны были дальние пушечные удары. Сурово смор-
щившись, Турбин всею тяжестью тела налег на палку и
глядел на улицу. Он видел, что дни колдовски удлини-
лись, свету было больше, несмотря на то, что за стеклом
и валилась, рассыпаясь миллионами хлопьев, вьюга.
Мысли текли под шелковой шапочкой суровые, яс-
ные, безрадостные. Голова казалась легкой, опустевшей,
как бы чужой на плечах коробкой, и мысли эти прихо-
дили как будто извне и в том порядке, как им самим
было желательно. Турбин рад был одиночеству у окна
и глядел...
«Пэтурра... Сегодня ночью, не позже, свершится, не
будет больше Пэтурры... А был ли он?.. Или это мне все
снилось? Неизвестно, проверить нельзя. Лариосик очень
симпатичный. Он не мешает в семье, нет, скорее нужен.
Надо его поблагодарить за уход... А Шервинский? А,
черт его знает... Вот наказанье с бабами. Обязательно
Елена с ним свяжется, всенепременно... А что хорошего?
Разве что голос? Голос превосходный, но ведь голос, в
конце концов, можно и так слушать, не вступая в брак,
не правда ли... Впрочем, не важно. А что важно? Да, тот
же Шервинский говорил, что они с красными звездами
на папахах... Вероятно, жуть будет в Городе? О да...
Итак, сегодня ночью... Пожалуй, сейчас обозы уже идут
по улицам... Тем не мёнее я пойду, пойду днем... И
отнесу... Брынь. Тримай! Я убийца. Нет, я застрелил в
бою. Или подстрелил... С кем она живет? Где ее муж?
Брынь. Малышев. Где он теперь? Провалился сквозь
землю. А Максим... Александр Первый?»
Текли мысли, но их прервал звоночек. В квартире
никого не было, кроме Анюты, все ушли в Город, торо-
пясь кончить всякие дела засветло.
— Если это пациент, прими, Анюта.
— Хорошо, Алексей Васильевич.
Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в
672
Михаил Булгаков
передней снял пальто с козьим мехом и прошел в гос-
тиную.
— Пожалуйте, — сказал Турбин.
С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой
человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и
сосредоточенны. Турбин в белом халате посторонился и
пропустил его в кабинет.
— Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?
— У меня сифилис, — хрипловатым голосом сказал
посетитель и посмотрел на Турбина и прямо, и мрачно.
— Лечились уже?
— Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало
помогало.
— Кто направил вас ко мне?
— Настоятель церкви Николая Доброго, отец Алек-
сандр.
- Как?
— Отец Александр.
— Вы что же, знакомы с ним?..
— Я у него исповедался, и беседа святого старика
принесла мне душевное облегчение, —- объяснил посети-
тель, глядя в небо. — Мне не следовало лечиться... Я
так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испыта-
ние, ниспосланное мне богом за мой страшный грех, но
настоятель, внушил мне, что я рассуждаю неправильно.
И я подчинился ему.
Турбин внимательнейшим образом вгляделся' в зрач-
ки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлек-
сы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обык-
новенные, только полные одной печальной чернотой.
— Вот что, — сказал Турбин, отбрасывая молоток, —
вы человек, по-видимому, религиозный.
— Да, я день и ночь думаю о боге и молюсь ему.
Единственному прибежищу и утешителю.
— Это, конечно, очень хорошо, — отозвался Турбин,
не спуская глаз с его глаз, — и я отношусь к этому с
уважением, но вот что я вам посоветую: на время лече-
ния вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о боге.
Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею-
фикс. А в нашем состоянии это вредно. Вам нужны
воздух, движение и сон.
— По ночам я молюсь.
— Нет, это придется изменить. Часы молитвы при-
дется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необ-
ходим покой.
Белая гвардия
673
Больной покорно опустил глаза.
Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся
осмотру.
— Кокаин нюхали?
—- В числе мерзостей и пороков, которым я пре-
давался, был и этот. Теперь нет.
«Черт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо
будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».
Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у боль-
ного знак вопроса. Белый знак превратился в красный.
— Вы перестаньте увлекаться религиозными вопро-
сами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным
размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну
вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вли-
вание.
— Хорошо, доктор.
— Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщин тоже...
— Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от
злых людей, — говорил больной, застегивая рубашку, —
злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в
город дьявола.
— Батюшка, нельзя так, — застонал Турбин, — ведь
вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого
антихриста вы говорите?
— Я говорю про его предчету Михаила Семеновича
Шполянского, человека с глазами змеи и с черными
баками. Он уехал в царство антихриста в Москву, чтобы
подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город
в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Со-
дом и Гоморра...
— Это вы большевиков аггелами? Согласен... Но все-
таки так нельзя... Вы бром будете пить. По столовой
ложке три раза в день...
— Он молод. Но мерзости в нем как в тысячелетнем
дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок,
и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ и
виден над полями лик сатаны, идущего за ним.
— Троцкого?
— Да, это имя его, которое он принял. А настоящее
его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион,
что значит — губитель.
— Серьезно вам говорю, если вы не прекратит^ это,
вы, смотрите... у вас мания развивается...
— Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы
берете за ваш святой труд?
674
Михаил Булгаков
— Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «свя-
той». Ничего особенно святого я в своем труде не вижу.
Беру я за курс как все. Если будете лечиться у меня,
оставьте задаток.
— Очень хорошо.
Френч расстегнулся.
— У вас, может быть, денег мало, — пробурчал
Турбин, глядя на потертые колени: «Нет, он не жулик...
нет... но свихнется».
— Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему
человечество.
— И иногда очень удачйо. Пожалуйста, бром прини-
майте аккуратно.
— Полное облегчение, уважаемый доктор, мы полу-
чим только там, — больной вдохновенно указал в бе-
ленький потолок. — А сейчас ждут нас всех испытания,
коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.
— Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал доста-
точно.
— Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя, — бормо-
тал больной, напяливая козий мех в передней, — ибо
сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и
сделалась кровь.
«Где-то я уже слыхал это... Ах, ну конечно, со свя-
щенником всласть натолковался. Вот подошли друг к
другу — прелесть».
— Убедительно советую, поменьше читайте Апока-
липсис... Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться.
Завтра в шесть часов, пожалуйста. Анюта, выпусти,
пожалуйста...
*
— Вы не откажитесь принять это... Мне хочется,
чтобы спасшая мне жизнь хоть что-нибудь на память
обо мне... это браслет моей покойной матери...
— Не надо... Зачем это... Я не хочу, — ответила
Рейсс и рукой защищалась от Турбина, но он настоял
и застегнул на бледной кисти .тяжкий, кованый и тем-
ный браслет. От этого рука еще больше похорошела и
вся Рейсс показалась еще красивее... Даже в сумерках
было видно, как розовеет ее лицо.
Турбин не выдержал, правой рукой обнял Рейсс за
шею, притянул ее к себе и несколько раз поцеловал ее
Белая гвардия
675
в щеку... При этом выронил из ослабевших рук палку,
и она со стуком упала у ножки стола.
— Уходите... — шепнула Рейсс, — пора... Пора. Обозы
идут на улице. Смотрите, чтоб вас не тронули.
— Вы мне милы, — прошептал Турбин. — Позвольте
мне прийти к вам еще.
— Придите...
— Скажите мне, почему вы одни и чья это карточка
на столе? Черный, с баками.
— Это мой двоюродный брат... — ответила Рейсс и
потупила свои глаза.
— Как его фамилия?
— А зачем вам?
— Вы меня спасли... Я хочу знать.
— Спасла, и вы имеете право знать? Его зовут
Шполянский.
— Он здесь?
— Нет, он уехал... В Москву. Какой вы любопытный.
Что-то дрогнуло в Турбине, и он долго смотрел на
черные баки и черные глаза... Неприятная, сосущая
мысль задержалась дольше других, пока он изучал лоб
и губы председателя «Магнитного Триолета». Но она
была неясна... Предтеча. Этот несчастный в козьем меху...
Что беспокоит? Что сосет? Какое мне дело. Аггелы... Ах,
все равно... Но лишь бы прийти еще сюда, в странный
и тихий домик, где портрет в золотых эполетах.
— Идите. Пора.
*
— Никол? Ты?
Братья столкнулись нос к носу в нижнем ярусе та-
инственного сада у другого домика. Николка почему-то
смутился, как будто его поймали с поличным.
— А я, Алеша, к Най-Турсам ходил, — пояснил он
и вид имел такой, как будто его поймали на заборе во
время кражи яблок.
— Что ж, дело доброе. У него мать осталась?
— И еще сестра, видишь ли, Алеша... Вообще.
Трубин покосился на Николку и более расспросам
его не подвергал.
Полпути братья сделали молча. Потом Турбин пре-
рвал молчание.
676
Михаил Булгаков
— Видно, брат, швырнул нас Пэтурра с тобой на
Мало-Провальную улицу. А. Ну, что ж, будем ходить. А
что из этого выйдет — неизвестно. А?
Николка с величайшим интересом прислушался к этой
загадочной фразе и спросил в свою очередь:
— А ты тоже кого-нибудь навещал, Алеша? В Мало-
Провальной?
— Угу, — ответил Турбин, поднял воротник пальто,
скрылся в нем и до самого дома не произнес более ни
одного звука.
Обедали в этот важный и исторический день у Тур-
биных все — и Мышлаевский с Карасем, и Шервинский.
Это была первая общая трапеза с тех пор, как лег
раненый Турбин. И все было по-прежнему, кроме одно-
го — не стояли на столе мрачные, знойные розы, ибо
давно уже не существовало разгромленной конфетницы
«Маркизы», ушедшей в неизвестную даль, очевидно, туда,
где покоится и мадам Анжу. Не было и погон ни на
одном из сидевших за столом, и погоны уплыли куда-то
и растворились в метели за окнами.
Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Анюта
пришла из кухни и прислонилась к дверям.
— Какие такие звезды? — мрачно расспрашивал
Мышлаевский.
— Маленькие, как кокарды, пятиконечные, — рас-
сказывал Шервинский, — на папахах. Тучей, говорят,
идут... Словом, в полночь будут здесь...
— Почему такая точность: в полночь...
Но Шервинскому не удалось ответить — почему, так
как после звонка в квартире появился Василиса.
Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо
пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал,
скрипя рантоц, прямо к пианино. Елена, солнечно улы-
баясь, протянула ему руку,.и Василиса, как-то подпрыг-
нув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса ка-
кой-то симпатичный стал после того, как у него деньги
поперли, — думал Николка и мысленно пофилософство-
вал: — Может быть, деньги мешают быть симпатичным.
Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпа-
тичные».
Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит.
Очень, очень хорошо. Хе, хе. Как это у вас уютно все
так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет,
покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала
Белая гвардия 677
сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться
домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Василь-
евне письмо. Сейчас открывал ящик у двери, и вот оно.
«Счел своим долгом. Честь имею кланяться». Василиса,
подпрыгивая, попрощался.
Елена ушла с письмом в спальню...
«Письмо из-за границы? Да неужели? Вот бывают
же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а
уже знаешь, что там такое. И как оно пришло. Никакие
письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходит-
ся посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо,
дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в
поезде едет. Почему же, спрашивается, письма не могут
ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь,
такое письмо дойдет, найдет адресата. Вар... Варшава.
Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сер-
дце бьется».
Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елене стало
так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и
резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо
Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо
матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но
сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вы-
шедший из рваного конверта листок рубчатой, серень-
кой бумаги лежал в пучке света.
«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы ви-
дели Сергея Ивановича в посольстве — он уезжает в Париж, вместе с
семьей Герц; говорят, что он женился на Лидочке Герц; как странно все
делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас,
оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра
наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...»
В голове у Елены механически прыгал и стучал
Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешен-
ную Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с
тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять
палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на
лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:
— От Тальберга?
Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело. Но потом
сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турби-
ну: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вце-
пился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал
все до конца, потом еще раз обращение прочитал:
«Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...»
678
Михаил Булгаков
У него на лице заиграли различные краски. Так —
общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из
голубых превратились в черные.
— С каким бы удовольствием... — процедил он сквозь
зубы, — я б ему по морде съездил...
— Кому? — спросила Елена и шмыгнула носом, в
котором скоплялись слезы.
— Самому себе, — ответил, изнывая от стыда, док-
тор Турбин, — за то, что поцеловался тогда с ним.
Елена моментально заплакала.
— Сделай ты мне такое одолжение, — продолжал
Турбин, — убери ты, к чертовой матери, вот эту штуку, —
он рукоятью ткнул в портрет на столе. Елена подала,
всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно
из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в
клочья. Елена по-бабьи заревела, тряся плечами, и ут-
кнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суе-
верно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед
которой все еще горела лампадочка в золотой решетке.
«Вот помолилась... условие поставила... ну, что ж... не
сердись... не сердись, матерь божия». — подумала суе-
верная Елена. Турбин испугался:
— Тише, ну тише... услышат они, что хорошего?
Но в гостиной не слыхали. Пианино под пальцами
Николки изрыгало отчаянный марш «Двуглавый орел»,
и слышался смех.
20
Велик был год и страшен год по Рождестве Христо-
вом 1918, но 1919 был его страшней.
В ночь со второго на третье февраля у входа на
Цепной мост через Днепр человека в разорванном и
черном пальто с лицом синим> и красным в потеках
крови волокли по снегу два хлопца, а пан куренной
бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове.
Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный
уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко
впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и
каждому удару отвечало сипло:
— Ух... а...
— А, жидовская морда! — исступленно кричал пан
куренной. — К штабелям его, на расстрел! Я тебе по-
Белая гвардия
679
кажу, як по темным углам ховаться. Я т-тебе покажу!
Что ты робив за штабелем? Шпион!..
Но окровавленный не отвечал яростному пану курен-
ному. Тогда пан куренной забежал спереди, и хлопцы
отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей, блес-
тящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и
молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней
крякнуло, черный не ответил уже «ух»... Повернув руку
и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко
отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел по-
больше захватить для себя истоптанной и унавоженной
земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли гряз-
ный снег. Потом в темной луже несколько раз дернулся
лежащий в судороге и стих.
Над поверженным шипел электрический фонарь у
входа на мост, вокруг поверженного метались встрево-
женные тени гайдамаков с хвостами на головах, а выше
было черное небо с играющими звездами.
И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда
Марс над Слободкой под Городом вдруг разорвалась в
замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно удари-
ла.
Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая
к Москве, ударила громом тяжко и длинно. И тотчас
хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами,
погребенными под снегом.
И тотчас синяя гайдамацкая дивизия тронулась с
моста и побежала в Город, через Город и навеки вон.
Следом за синей дивизией волчьей побежкой прошел
на померзших лошадях курень Козыря-Лешко, пропля-
сала какая-то кухня... потом исчезло все, как будто
никогда и не было.' Остался только стынущий труп евфея
в черном у входа на моет,- да утоптанйыё хлопья (ена>
да конский навозу л'>ч: г ;• dc.j.?
; И только, труп и свидетельствовал,- что Пэтурряннё
миф, что он действительво<б1ыл...' Дзынь... Трень... гита*1
ра, турок... кованый на Бронной фонарь,., девичьи косы,
метущие снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи,
мороз... Значит, было.
, Он, Гриць, др,, работы...
В Гриця порваны чоботы...
А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли
кто-нибудь за кровь?
Нет. Никто.
680
Михаил Булгаков
Просто растает снег, взойдет зеленая украинская
трава, заплетет землю... выйдут пышные всходы... задро-
жит зной над полями, и крови не останется и следов.
Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее
не будет.
Никто.
*
С вечера жарко натопили Саардамские изразцы, и
до сих пор, до глубокой ночи, печи все еще держали
тепло. Надписи были смыты с Саардамского Плотника,
и осталась только одна:
...Лен... я взял билет на Аид...
Дом на Алексеевском спуске, дом, накрытый шапкой
белого генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дре-
ма ходила за шторами, колыхалась в тенях.
За окнами расцветала все победоноснее студеная ночь
и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжима-
ясь и расширяясь, и особенно высоко в небе была звез-
да красная и пятиконечная — Марс.
В теплых комнатах поселились сны.
Турбин спал в своей спаленке, и сон висел над ним,
как размытая картина. Плыл, качаясь, вестибюль, и
император Александр I жег в печурке списки дивизио-
на... Юлия прошла и поманила и засмеялась, проскака-
ли тени, кричали: «Тримай! Тримай!»
Беззвучно стреляли, и пытался бежать от них Тур-
бин, но ноги прилипали к тротуару на Мало-Проваль-
ной, и погибал во сне Турбин. Проснулся со стоном,
услышал храп Мышлаевского из гостиной, тихий свист
Карася и Лариосика из книжной. Вытер пот со лба,
опомнился, слабо улыбнулся, потянулся к часам.
Было на часиках три.
— Наверно, ушли... Пэтурра... Больше не будет ни-
когда.
И вновь уснул.
*
Ночь расцветала. Тянуло уже к утру, и, погребенный
под мохнатым снегом, спал дом. Истерзанный Василиса
почивал в холодных простынях, согревая их своим поху-
девшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый.
Белая гвардия
681
Будто бы никакой революции не было, все была чепуха
и вздор. Во сне. Сомнительное, зыбкое счастье наплы-
вало на Василису. Будто бы лето и вот Василиса купил
огород. Моментально выросли на нем овощи. Грядки
покрылись веселыми завитками, и зелеными шишами в
них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брю-
ках стоял и глядел на милое заходящее солнышко,
почесывая живот, и бормотал:
— Так-то оно лучше... А то революция. Нет, знаете
ли, с такими свиньями никаких революций производить
нельзя...
Тут Василисе приснились взятые круглые, глобусом,
часы. Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко часов,
но солнышко так приятно сияло, что жалости не полу-
чалось.
И вот в этот хороший миг какие-то розовые, круглые
поросята влетели в огород и тотчас пятачковыми своими
мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля.
Василиса подхватил с земли палку и собирался гнать
поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные —-
у них острые клыки. Они стали наскакивать на Васили-
су, причем подпрыгивали на аршин от земли, потому что
внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне.
Черным боковым косяком накрыло поросят, они прова-
лились в землю, и перед Василисой всплыла черная,
сыроватая его спальня...
*
Ночь расцветала. Сонная дрема прошла над городом,
мутной белой птицей пронеслась, минуя сторонкой крест
Владимира, упала за Днепром, в самую гущу ночи, и
поплыла вдоль железно^ дуги. Доплыла до станции
Дарницы и задержалась над ней. На третьем пути сто-
ял бронепоезд. Наглухо,, до колес, были зажаты пло-
щадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной
глыбой, из брюха его вываливался огненный плат, раз-
летаясь на рельсах, и со стороны казалось, что утроба
паровоза набита раскаленными углями. Он сипел ти-
хонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенках,
тупое рыло его молчало и щурилось в приднепровские
леса. С последней площадки в высь, черную и синюю,
целилось широченное дуло в глухом наморднике верст
на двенадцать и прямо в полночный крест.
682
Михаил Булгаков
Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму и
светилась в ней осовевшими от вечернего грохота глаз-
ками желтых огней. Суета на ее платформах была не-
прерывная, несмотря на предутренний час. В низком
желтом бараке телеграфа три окна горели ярко, и слы-
шался сквозь стекла непрекращающийся стук трех ап-
паратов. По платформе бегали взад и вперед, несмотря
на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по коле-
но, в шинелях и черных бушлатах. В стороне от броне-
поезда и сзади, растянувшись, не спал, перекликался и
гремел дверями теплушек эшелон.
А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым желез-
ным корпусом вагона, ходил, как маятник, человек в
длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном
куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке,
как уставшая мать ребенка, и рядом с ним ходила меж
рельсами, под скупым фонарем, по снегу острая щепка
черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень
сильно устал и зверски, не по-человечески озяб. Руки
его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными
пальцами в рвани рукавов, ища убежища. Из окаймлен-
ной белой накипью и бахромой неровной пасти башлы-
ка, открывавшей мохнатый, обмороженный рот, глядели
глаза в снежных космах ресниц. Глаза эти были голу-
бые, страдальческие, сонные, томные.
Человек ходил методически, свесив штык, и думал
только об одном, когда же истечет наконец морозный
час пытки и он уйдет с озверевшей земли вовнутрь, где
божественным жаром пышут трубы, греющие эшелоны,
где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую
койку, прильнуть к ней и на ней распластаться. Человек
и тень ходили от огненного всплеска броневого брюха к
темной стене первого боевого ящика, до того места, где
чернела надпись:
Бронепоезд, «Црулетарий*. . ?,
' Тёнь, то вырастая,' то Уродливогорбатясь, но неиз-
менно остроголовая, рыла снег своим черным штыком.
Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две
голубоватые луны, не грей и дразня, горели на платфор-
ме. Человек искал Хоть какогб-нибудь огня и нигде не
находил его; стиснув зубы, потеряв надежду согреть
пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался взором к
звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду
Марс, сияющую в небе впереди над Слободкой. И он
Белая гвардия
683
смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст
взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой
звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и
была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек
опускал винтовку прикладом в снег, остановившись,
мгновенно и прозрачно засыпал, и черная стена броне-
поезда не уходила из этого сна, не уходили и некоторые
звуки со станции. Но к ним присоединялись новые.
Вырастал во сне небосвод невиданный. Весь красный,
сверкающий и весь одетый Марсами в их живом свер-
кании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем.
Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге и
братски наплывал на человека. Кажется, совсем соби-
рался провалиться во сне черный бронепоезд, и вместо
него вырастала в снегах зарытая деревня — Малые
Чугры. Он, человек, у околицы Чугров, а навстречу ему
идет сосед и земляк.
— Жилин? — говорил беззвучно, без губ, мозг чело-
века, и тотчас грозный сторожевой голос в груди высту-
кивал три слова:
— Пост., часовой... замерзнешь...
Человек уже совершенно нечеловеческим усилием
отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись,
отдирал ноги и шел опять.
Вперед — назад. Вперед — назад. Исчезал сонный
небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шел-
ком неба, продырявленного черным и губительным хобо-
том орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой
луны фонаря временами поблескивала на груди челове-
ка ответная звезда. Она была маленькая и тоже пяти-
конечная.
♦
Металась и металась потревоженная дрема. Летела
вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала
над Подолом. На нем очень давно погасли огни. Все
спали. Только на углу Волынской в трехэтажном камен-
ном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой,,.как
дешевый номер дешевенькой гостиницы, комнате, сидел
голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом
колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в
желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам
медленно и торжественно.
684
Михаил Булгаков
«И увидал я мертвых и великих, стоящих перед Богом,
и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, кото*
рая есть книга жизни; и судимы были мертвые по на-
писанному в книгах сообразно с делами своими.
Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть
и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был
каждый по делам своим.
и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен
в озеро огненное.
и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо
и прежняя земля миновали и моря уже нет».
По мере того как он читал потрясающую книгу, ум
его становился как сверкающий меч, углубляющийся в
тьму.
Болезни и страдания казались ему неважными, несу-
щественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в
лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу
веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а
мудрую покорность и благоговение. Мир становился в
душе, и в мире он дошел до слов:
«...слезу с очей их, и смерти не будет, уже ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене
поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно
улыбались.
— Я демон, — сказал он, щелкнув каблуками, —- а
он не вернется, Тальберг, — и я пою вам...
Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и
нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна пол-
зли вокруг него, его лицо из клубов выходило ярко-
кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву:
— Жить, будем жить!!
— А смерть придет, помирать будем... — пропел
Николка и вошел.
В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а
на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно
подумала, что он умрет, и горько зарыдала и просну-
лась с криком в ночи:
Белая гвардия
685
— Николка. О, Николка?
И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи.
И ночь все плыла.
*
И, наконец, Петька Щеглов во флигеле видел сон.
Петька был маленький, поэтому он не интересовался
ни большевиками, ни Петлюрой, ни демоном. И сон
привиделся ему простой и радостный, как солнечный
шар.
Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а
на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше
Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, при-
липают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать
ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны.
Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от
радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петь-
ку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. От
удовольствия он расхохотался в ночи. И ему весело
стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные
легкие и радостные сны, а сверчок все пел и пел свою
песню, где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя
сонную, бормочущую ночь в семье.
Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся
тяжелая синева, занавес бога, облекающий мир, покры-
лась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте
за этим синим пологом у царских врат служили всенощ-
ную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на
завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над
Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли
поднимался в черную, мрачную высь полночный крест
Владимира. Издали казалось, что поперечная перекла-
дина исчезла — слилась, с вертикалью, и от этого крест
превратился в угрожающий острый мяч.
Но он не страшен. Йсе пройдет. Страдания, ,ууки,
кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останут-
ся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле.
Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так
почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них?
Почему?
1923—1924 г.
Москва
686
СОДЕРЖАНИЕ
ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА
Полотенце с петухом.........................7
Крещение поворотом.......................... 19
Стальное горло..............................28
Вьюга.......................................35
Тьма египетская.............................47
Пропавший глаз..............................55
Звездная сыпь...............................67
Морфий......................................80
ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ.........................111
РАССКАЗЫ....................................149
Необыкновенные приключения доктора.......... 151
Налет....................................... 162
Богема ....................................168
Похождение Чичикова ...................... 175
№ 13 — Дом Эльпит — Рабкоммуна.............. 186
Сорок сороков...............................194
Ханский огонь...............................201
Багровый остров.............................217
ДЬЯВОЛИАДА..................................235
РОКОВЫЕ ЯЙЦА................................273
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ..............................345
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ...............................437
Булгаков М. А.
Б90 Избранные произведения. В 3-х томах. Т. 1.
Морфий; Записки на манжетах; Дьяволиада; Роко-
вые яйца; Собачье сердце; Белая гвардия; Расска-
зы. — М.: «Наташа», «Литература», «Алгоритм»,
1996. — 688 с.
ISBN 5-85874-084-7
ISBN 5-85874-085-5 (Т. 1)
Библиотека классики
Русская литература
Михаил Афанасьевич
Булгаков
Избранные сочинения
в трех томах
Том первый
Технический редактор Л. А. Афонина
Корректор А. А. Галкина
ТОО фирма «Наташа», 113149, Москва, ул. Азовская, д. 6, кор. 3, 7 эт.
Лицензия ЛР № 061832 от 25.11.92
ООО Издательство «Литература»,
113149, Москва, ул. Азовская, д. 6, кор. 3, 7 эт.
Лицензия ЛР № 064527 от 11.04.96
ТОО «Алгоритм», Москва, ул. Демьяна Бедного, д. 16
Лицензия ЛР № 063845 от 04.01 95
При участии ТКО «АСТ»
Сдано в набор 10.11.95. Подписано в печать 18.01.96.
Формат 84x108/32. Гарнитура литературная.
Бумага типографская № 2. Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,12.
Тираж 10 000 экз. Заказ 1857.
Типография издательства «Самарский Дом печати»,
443086, г. Самара, пр. Карла Маркса, 201.