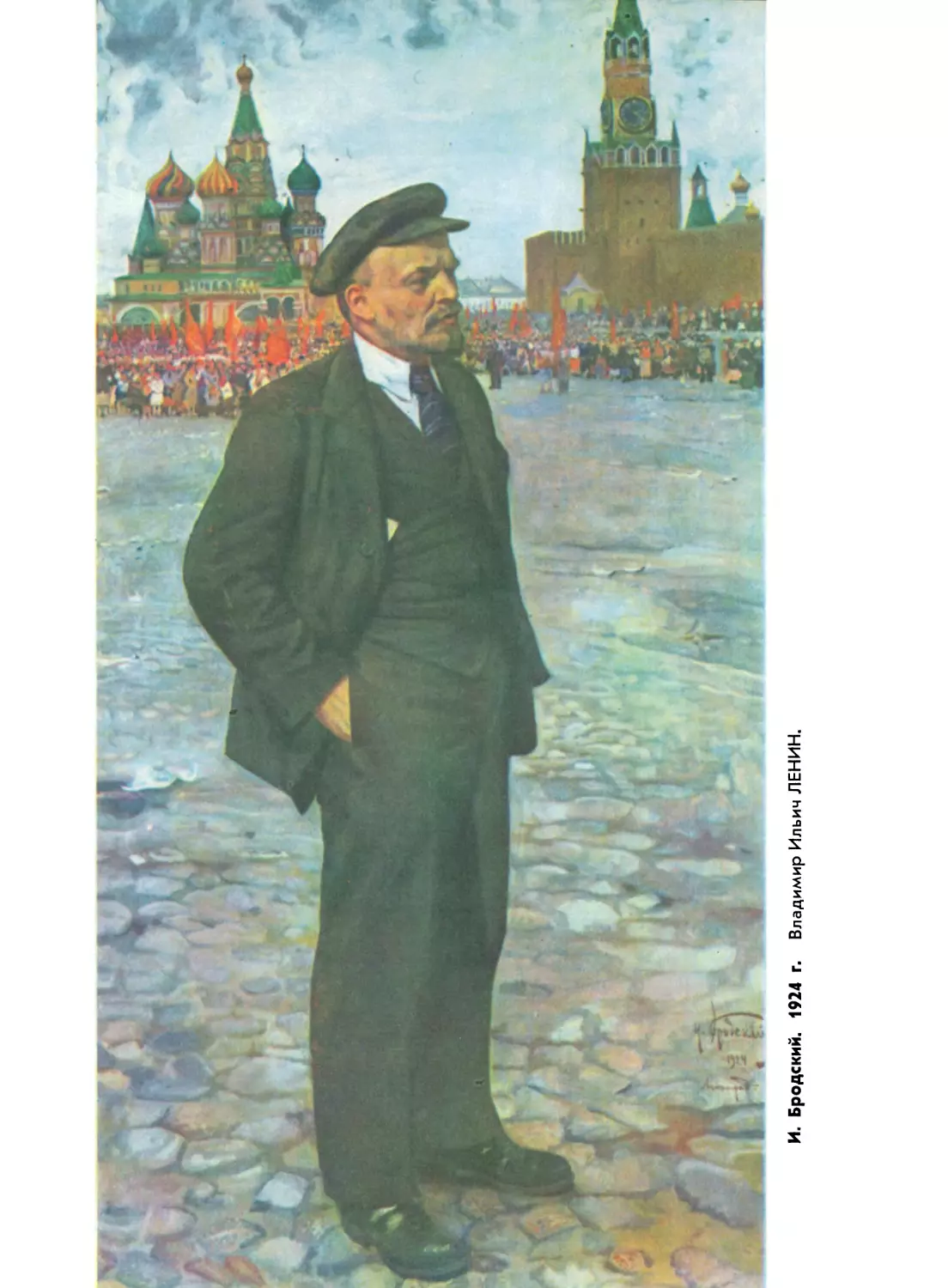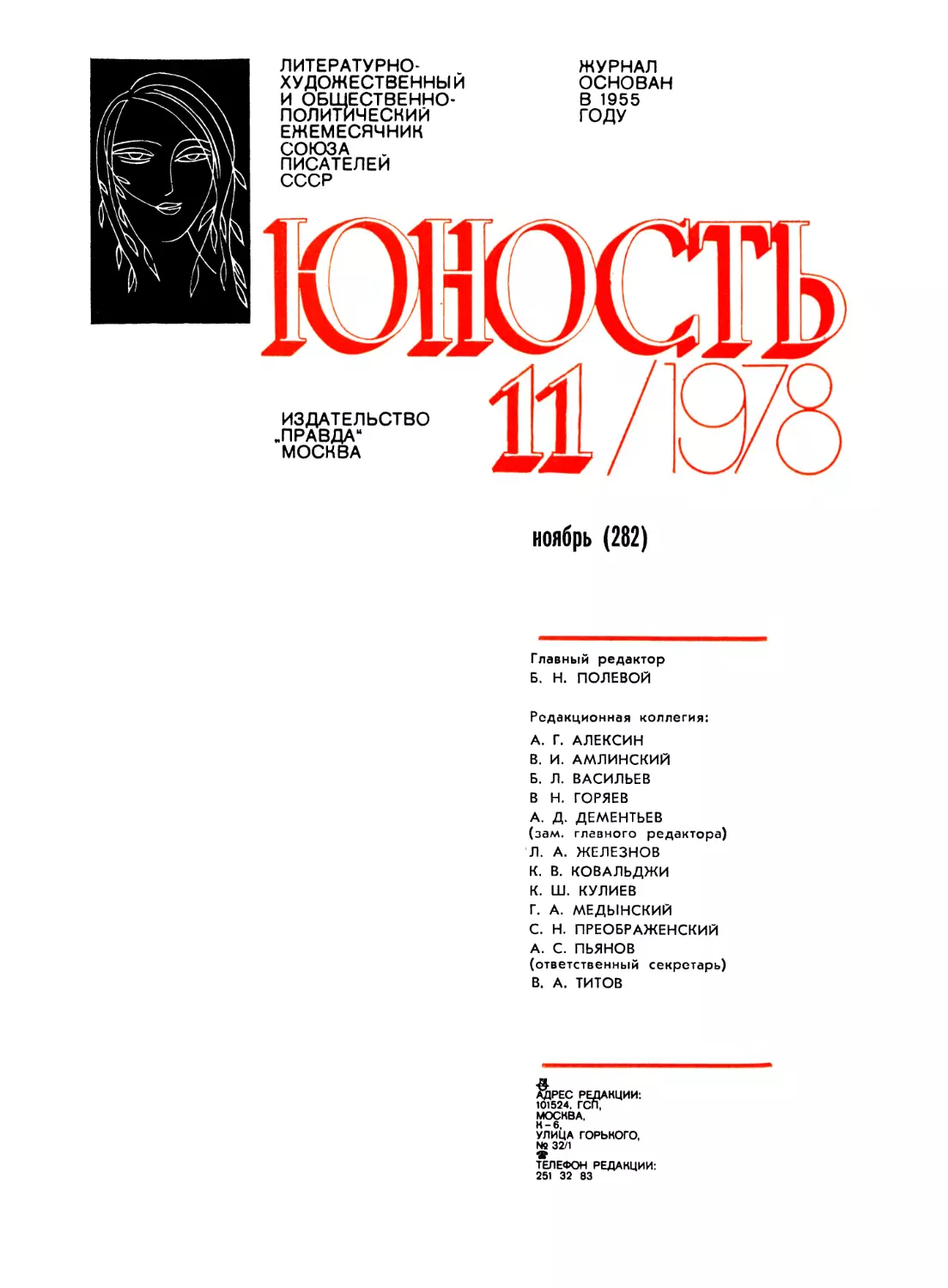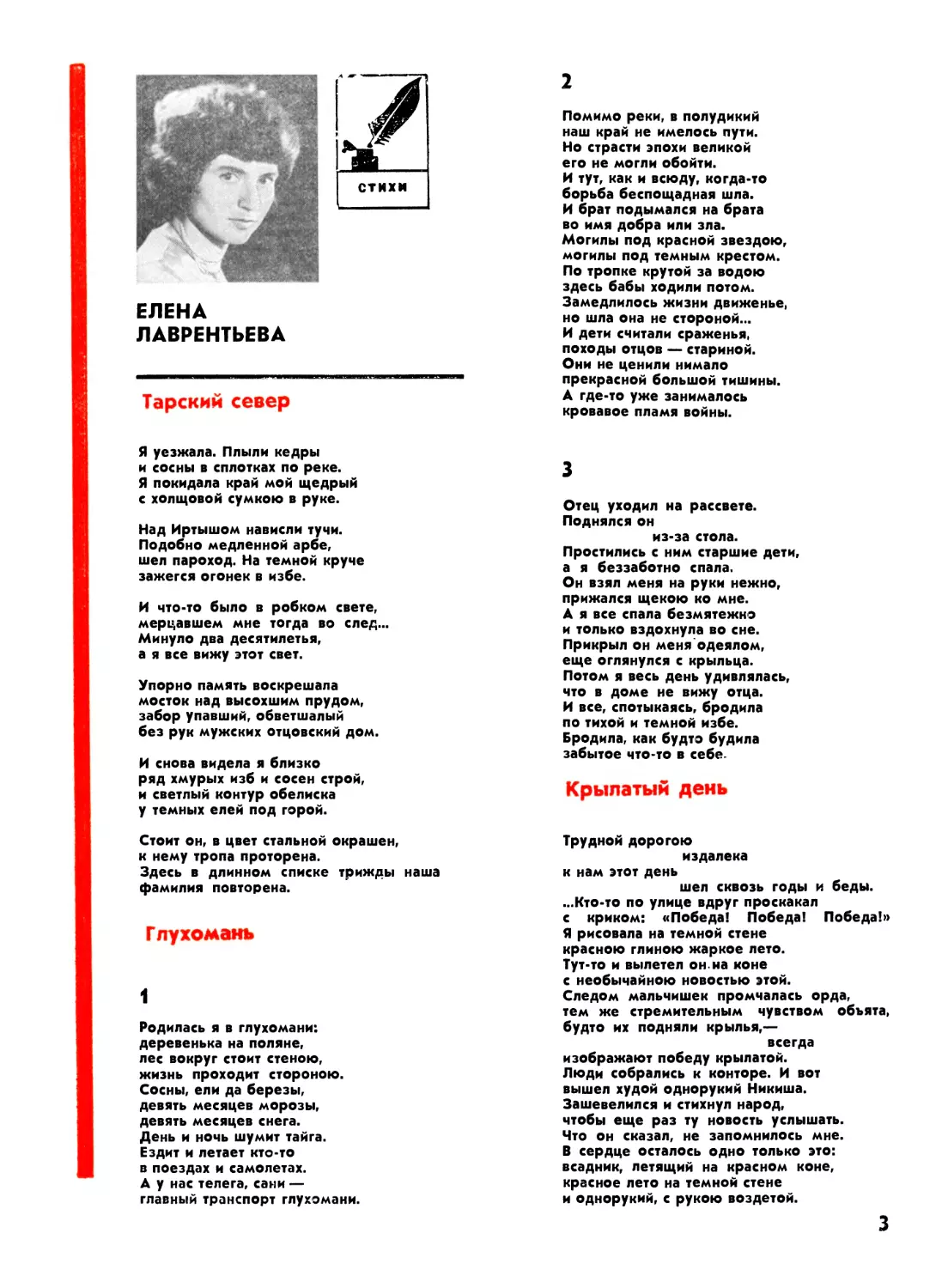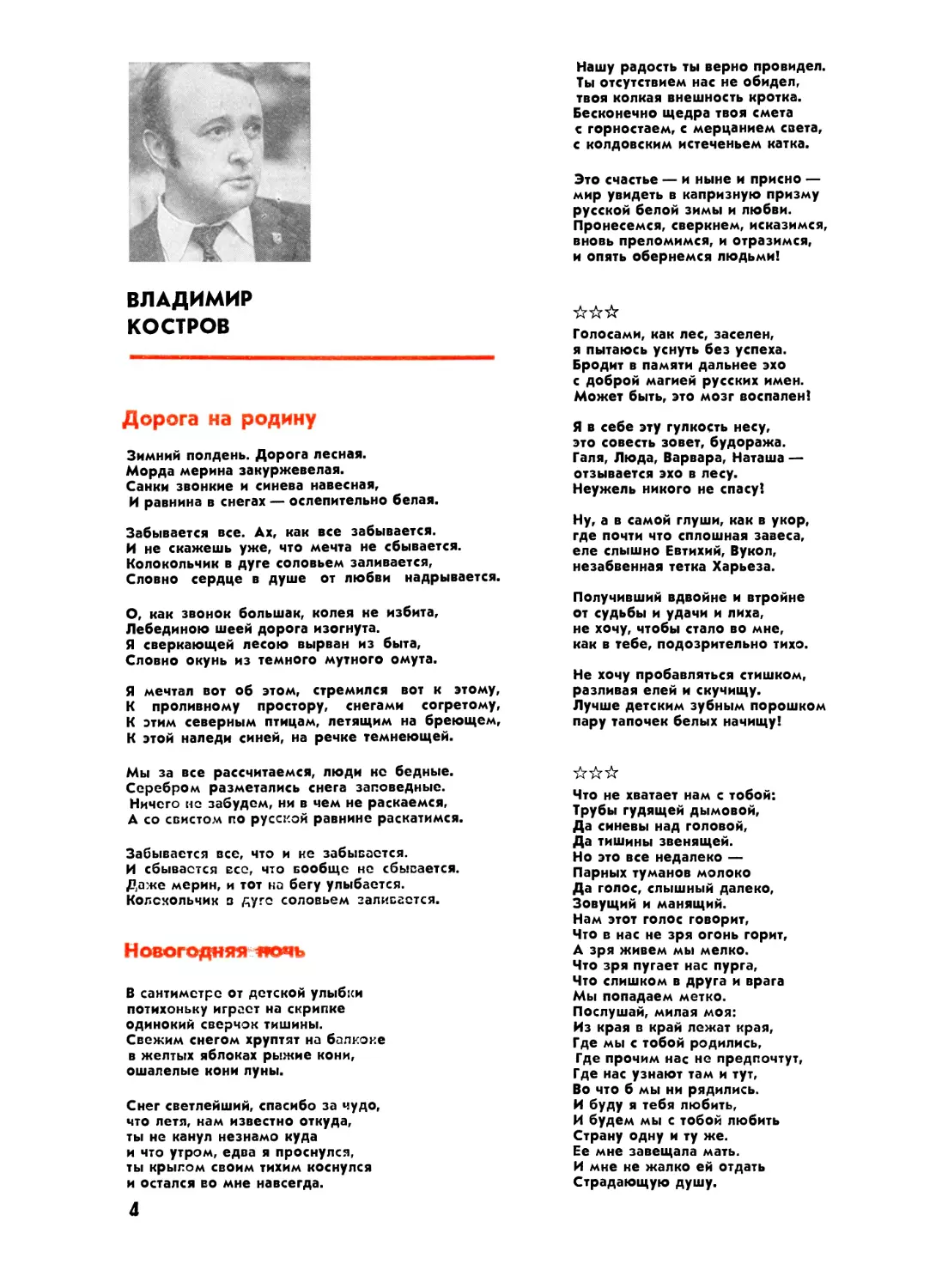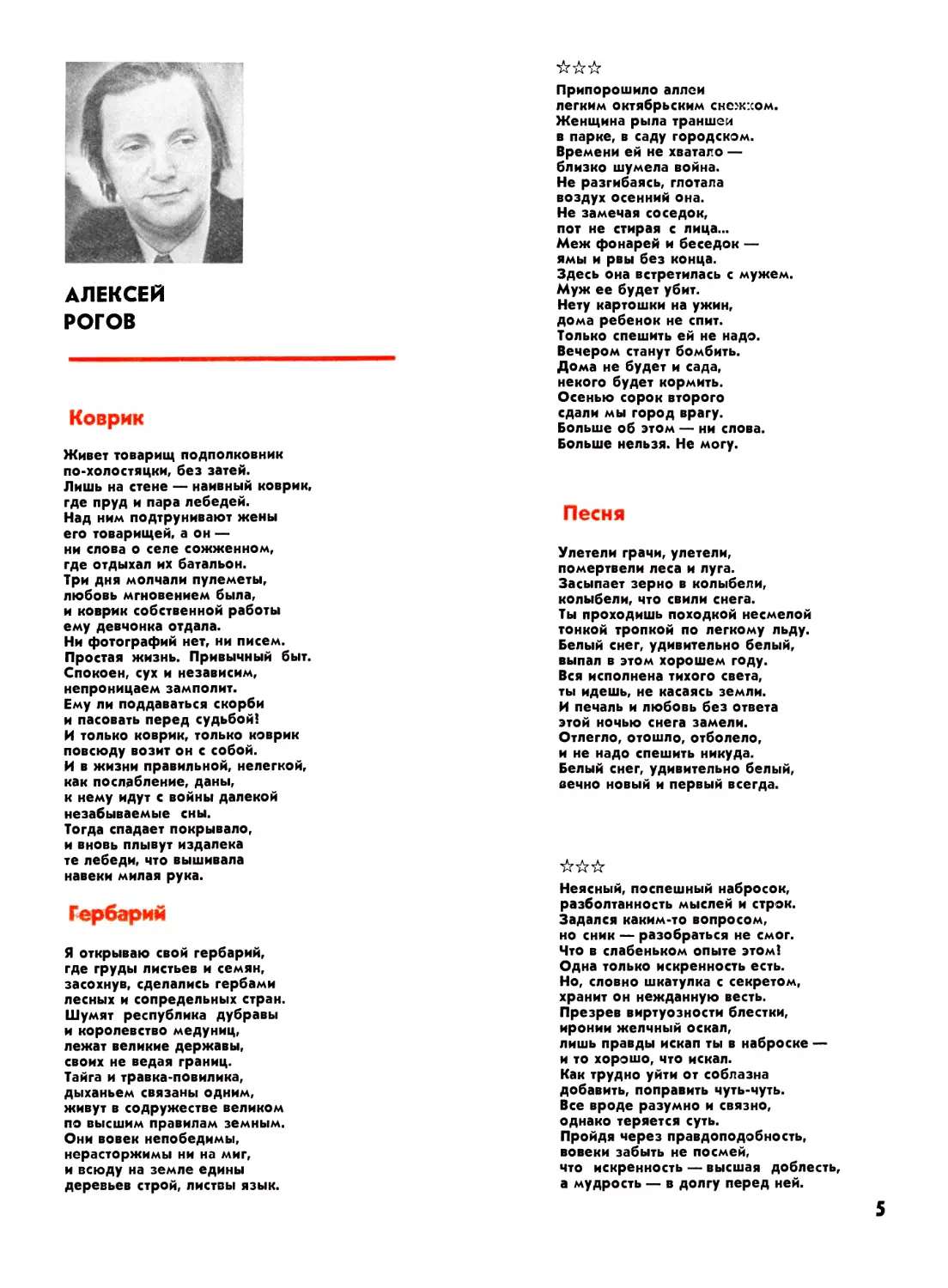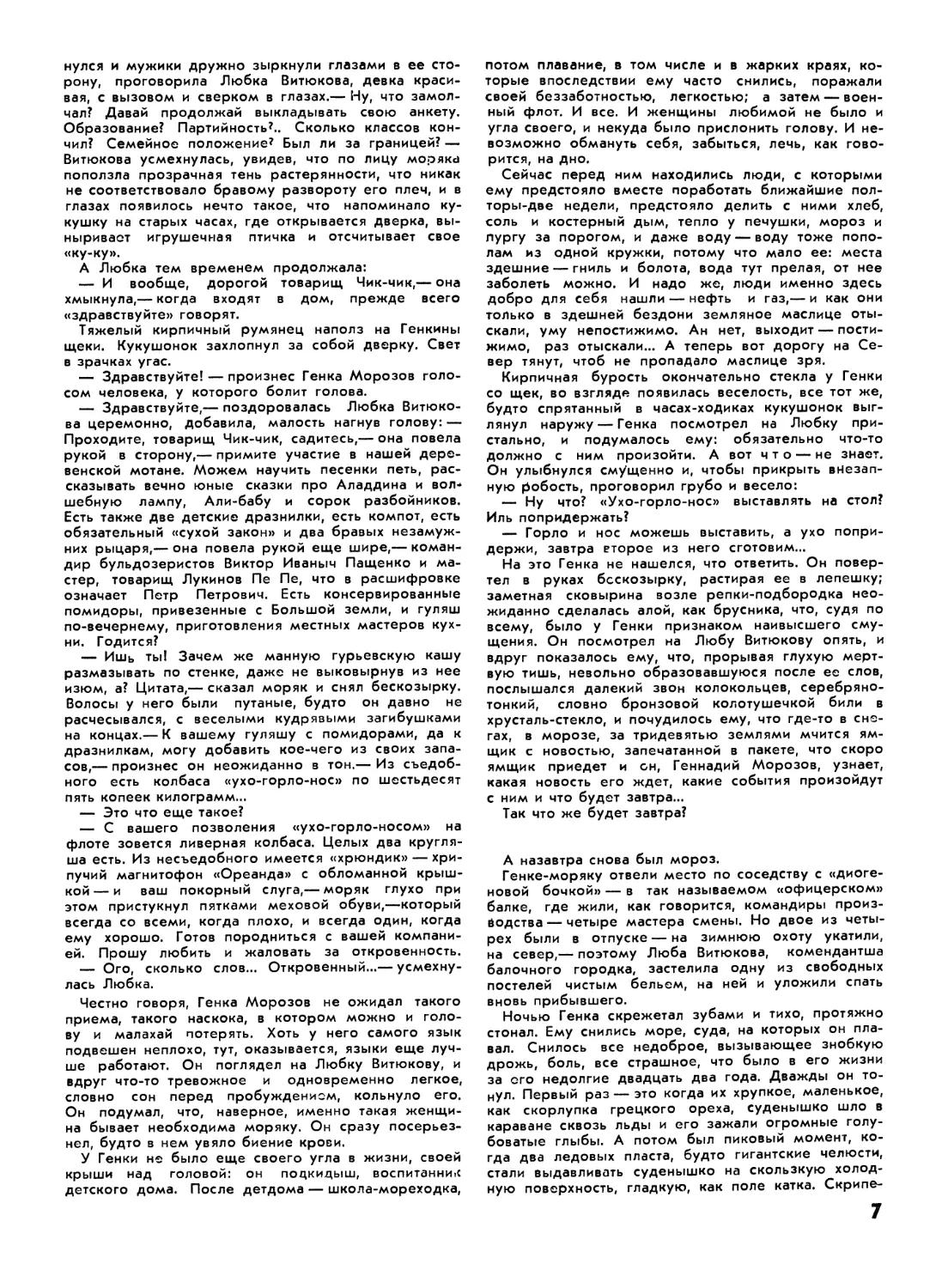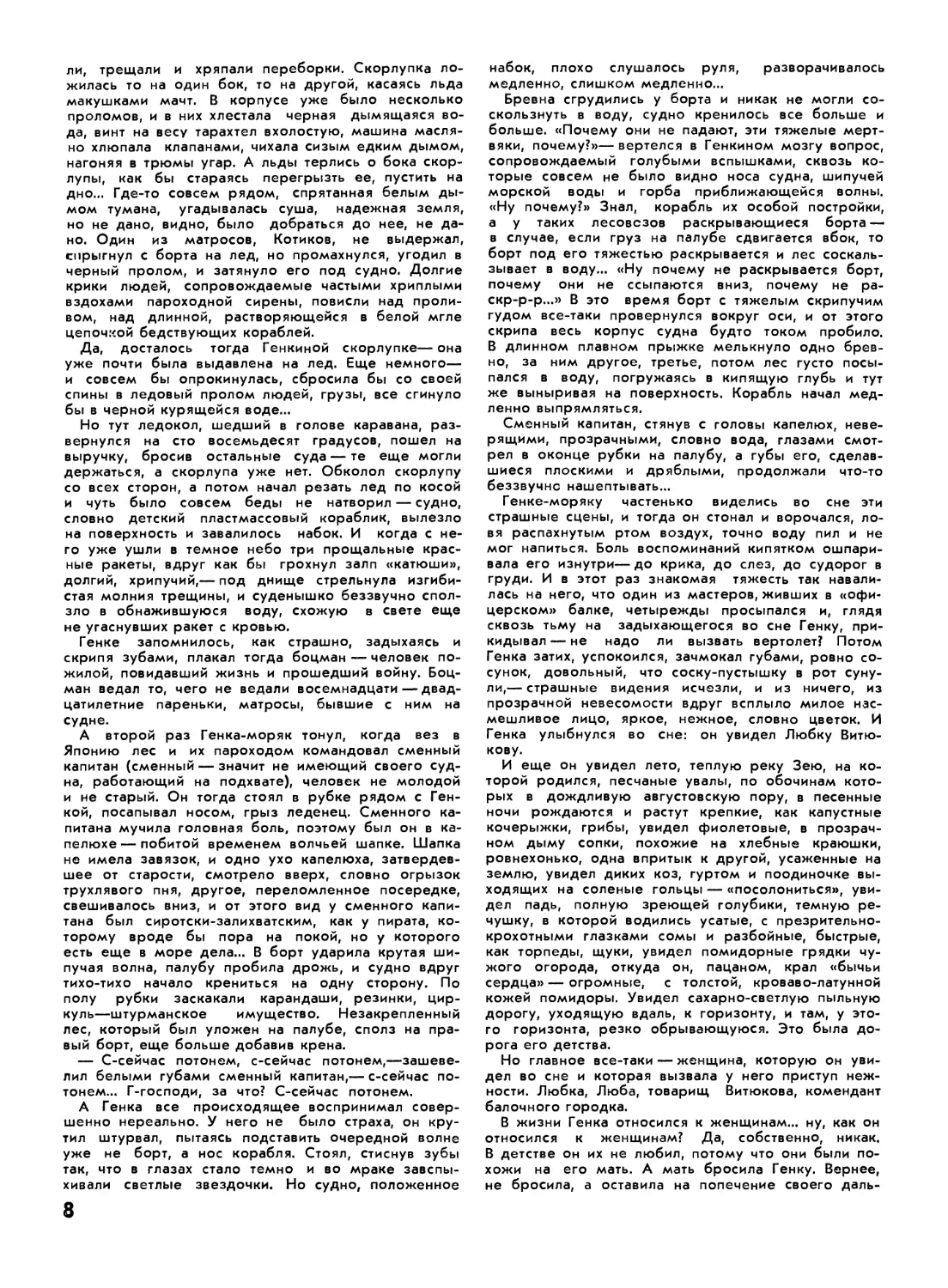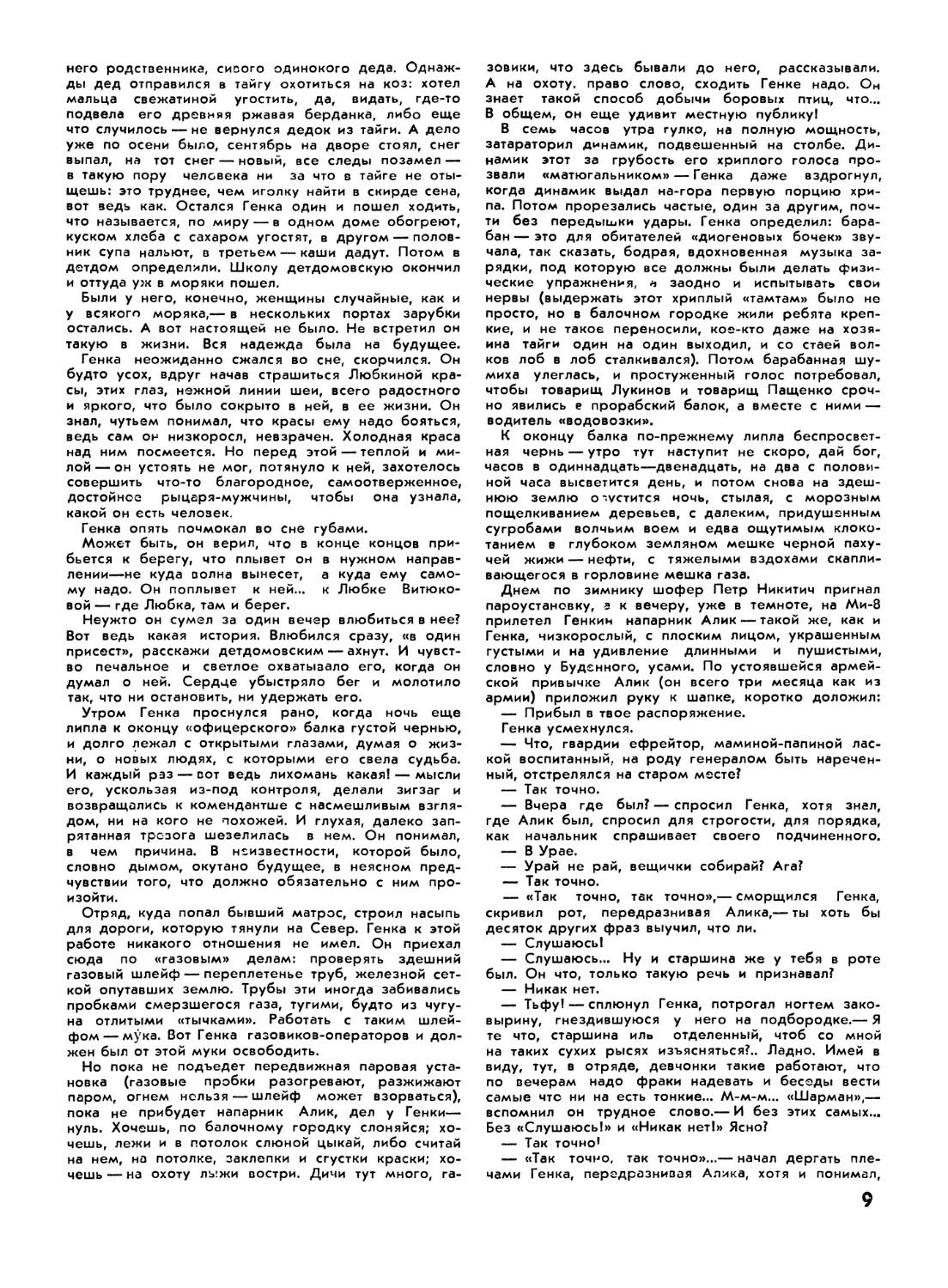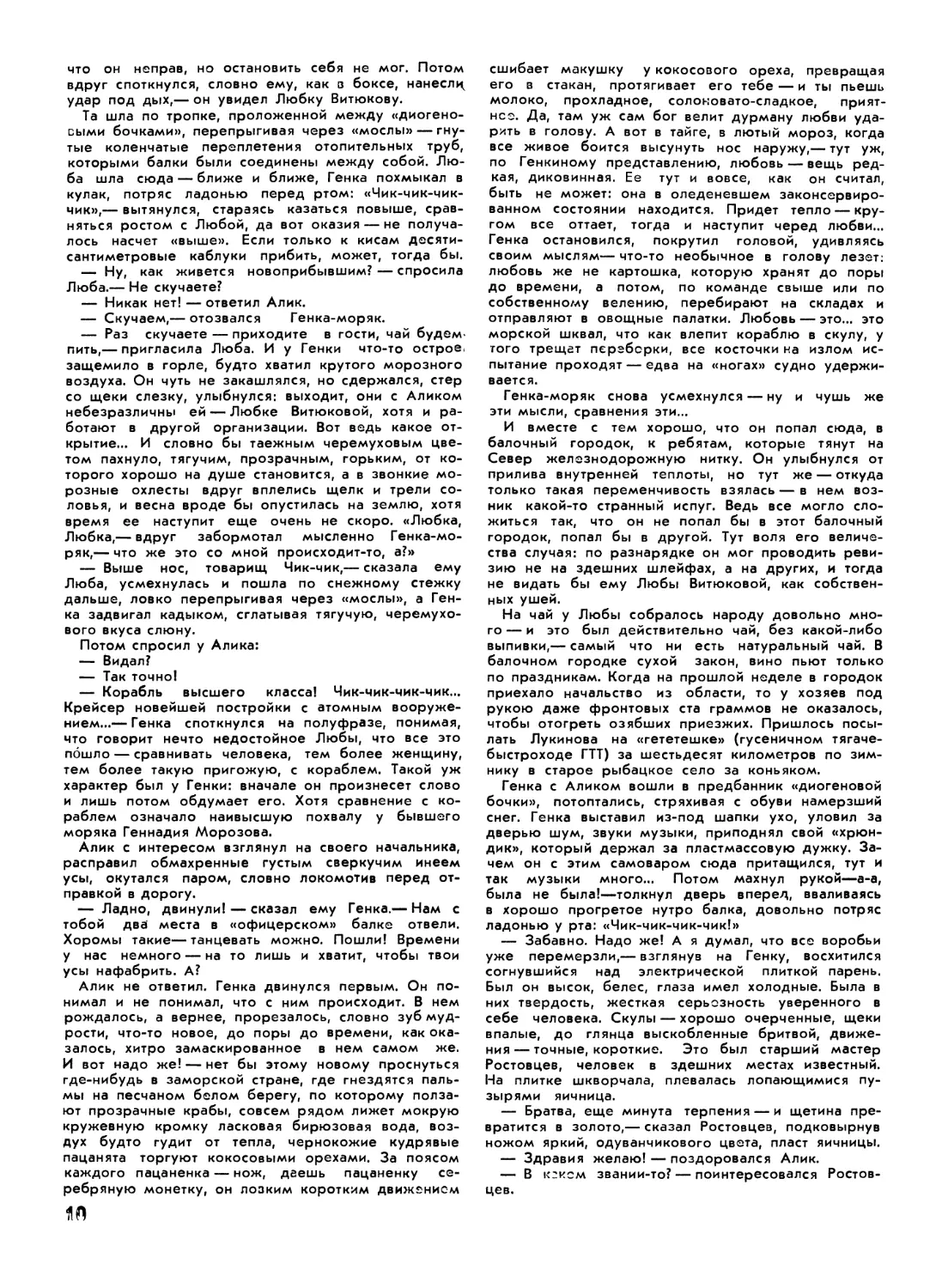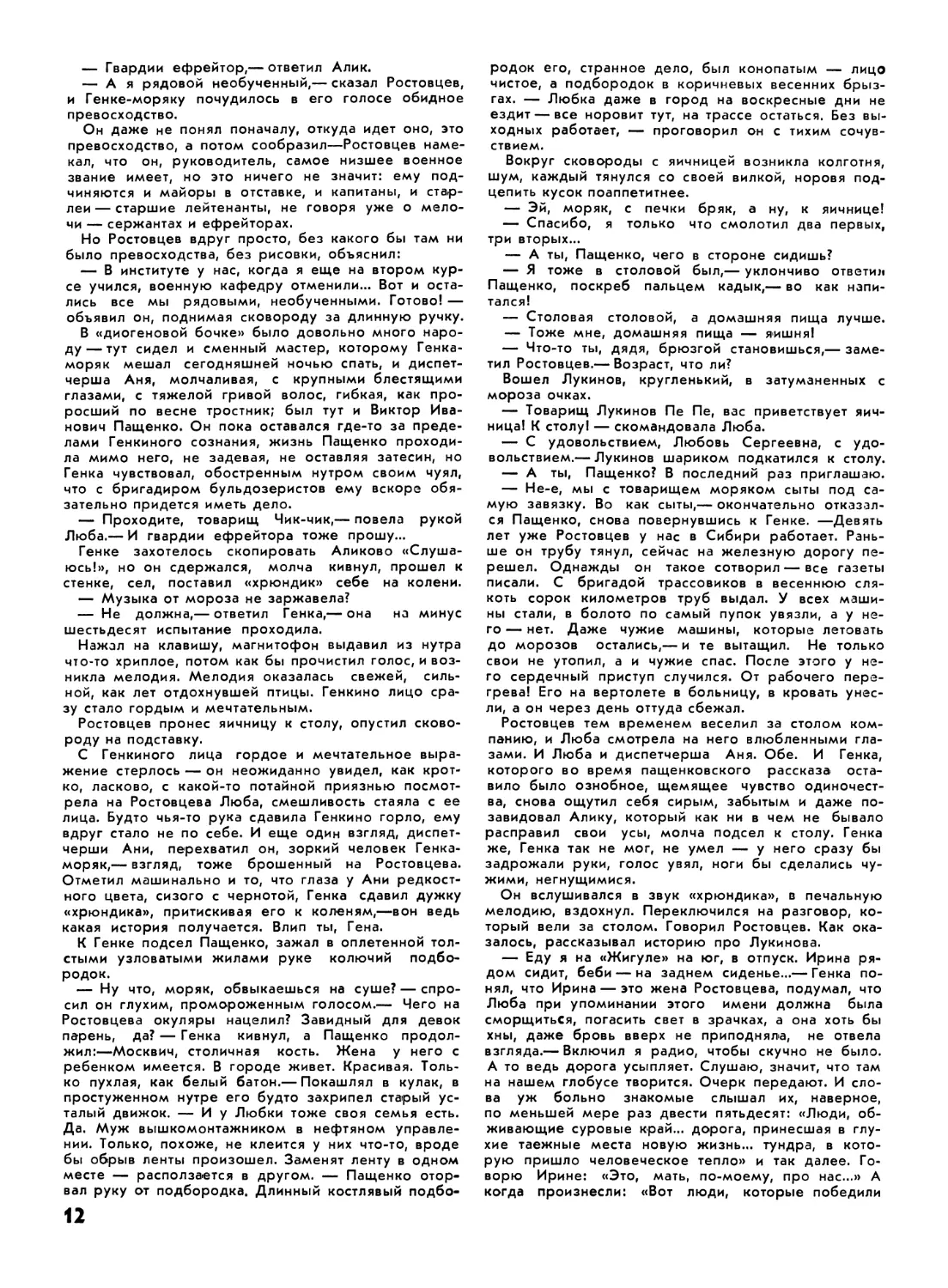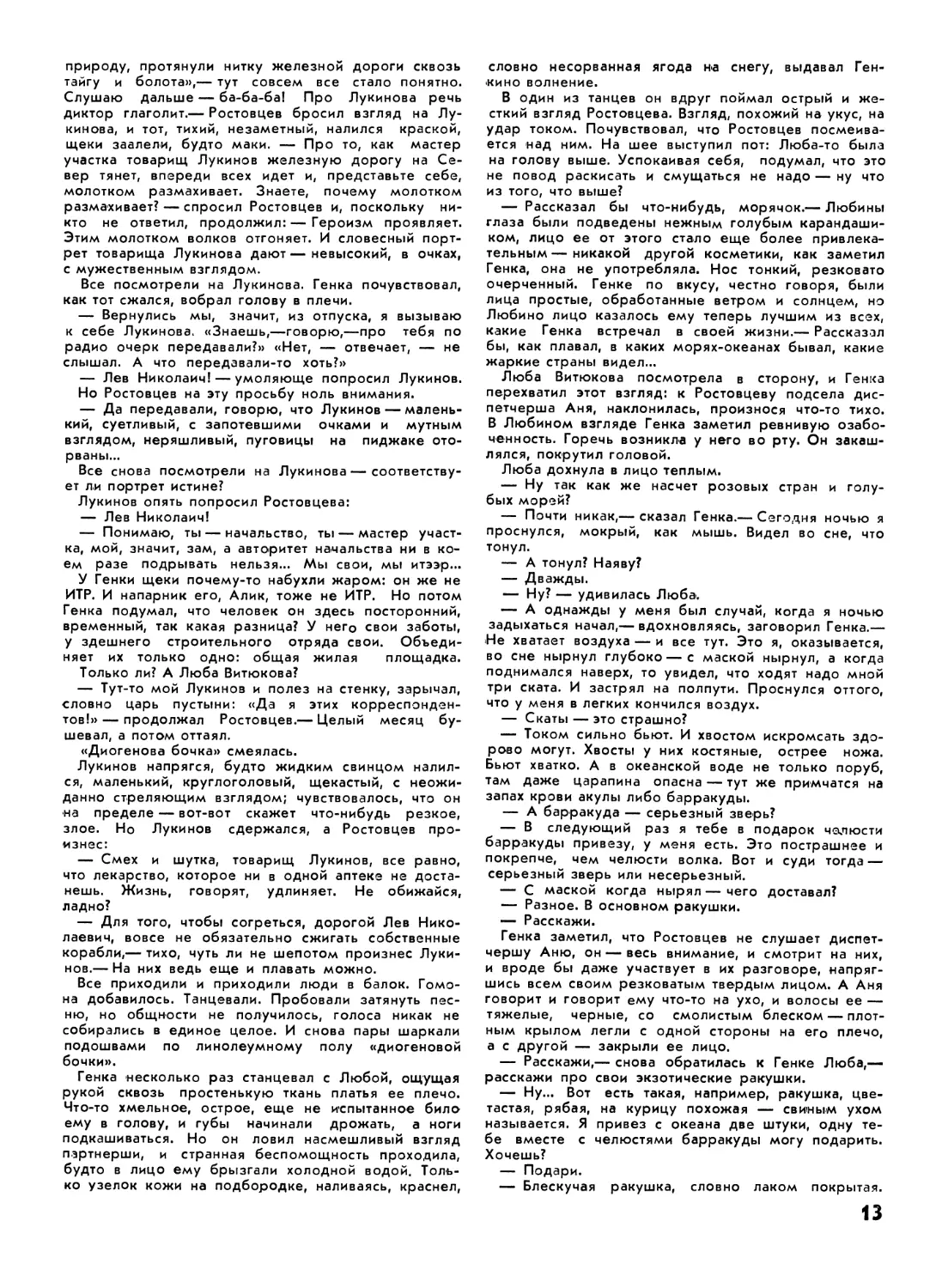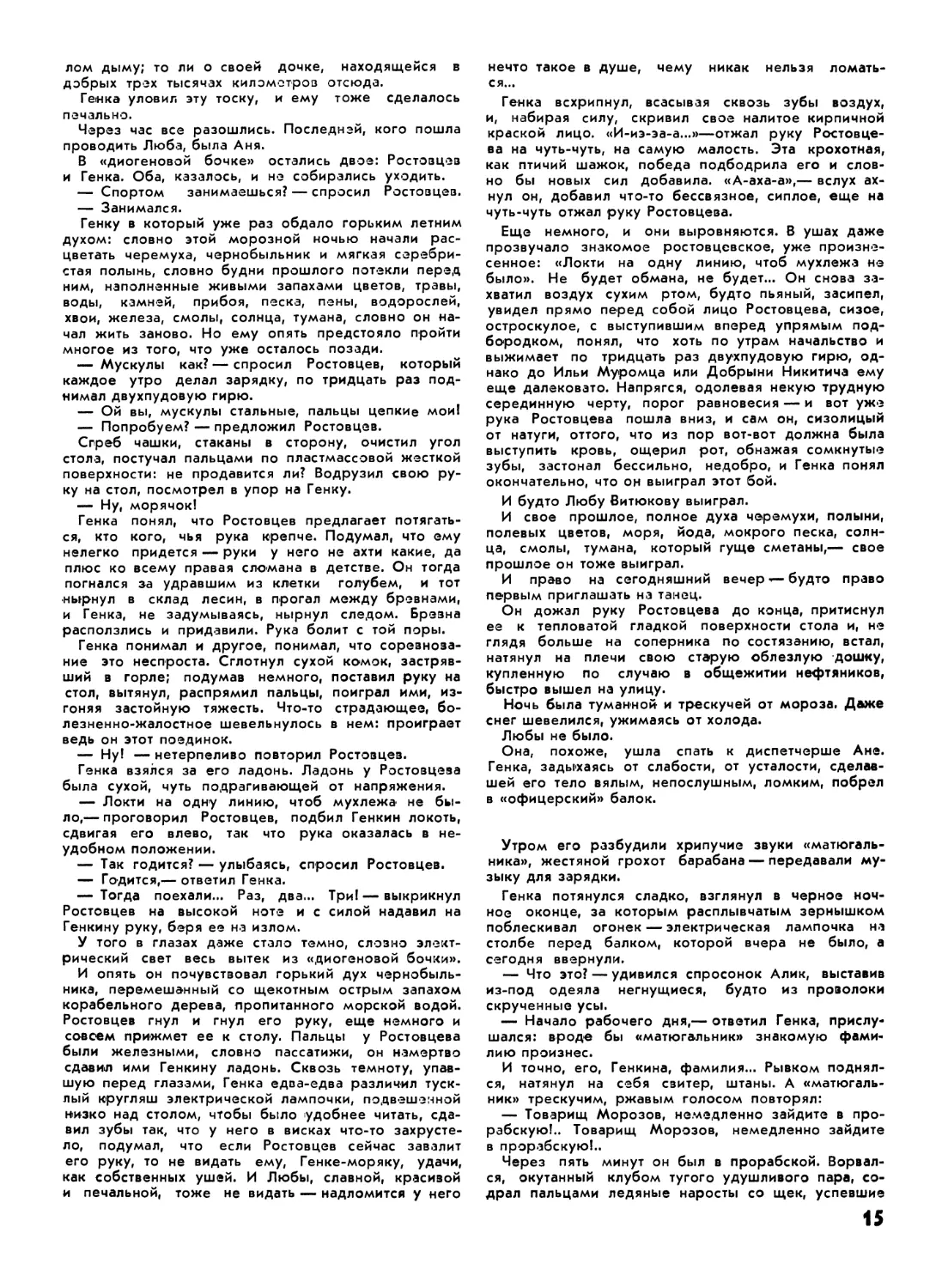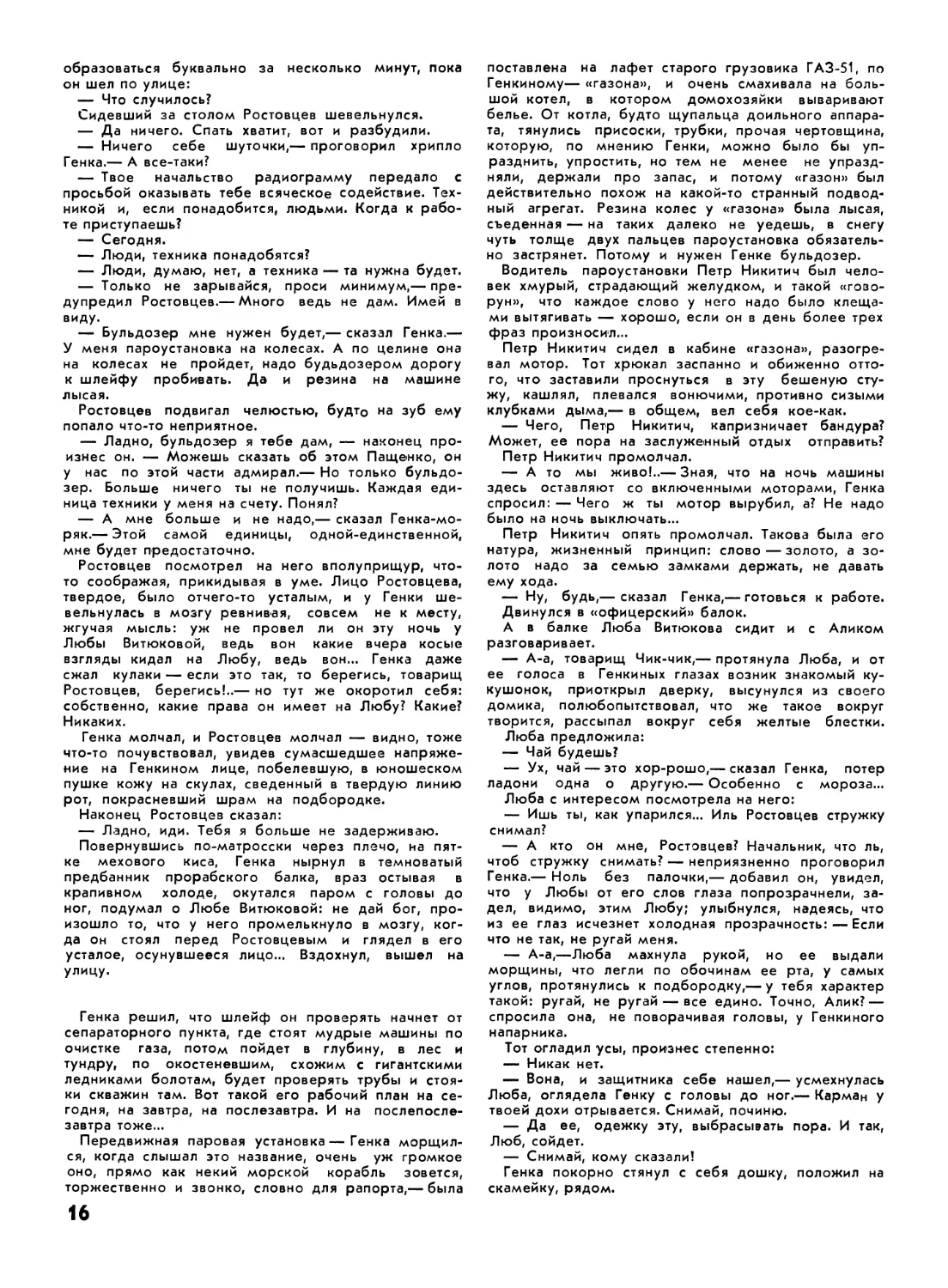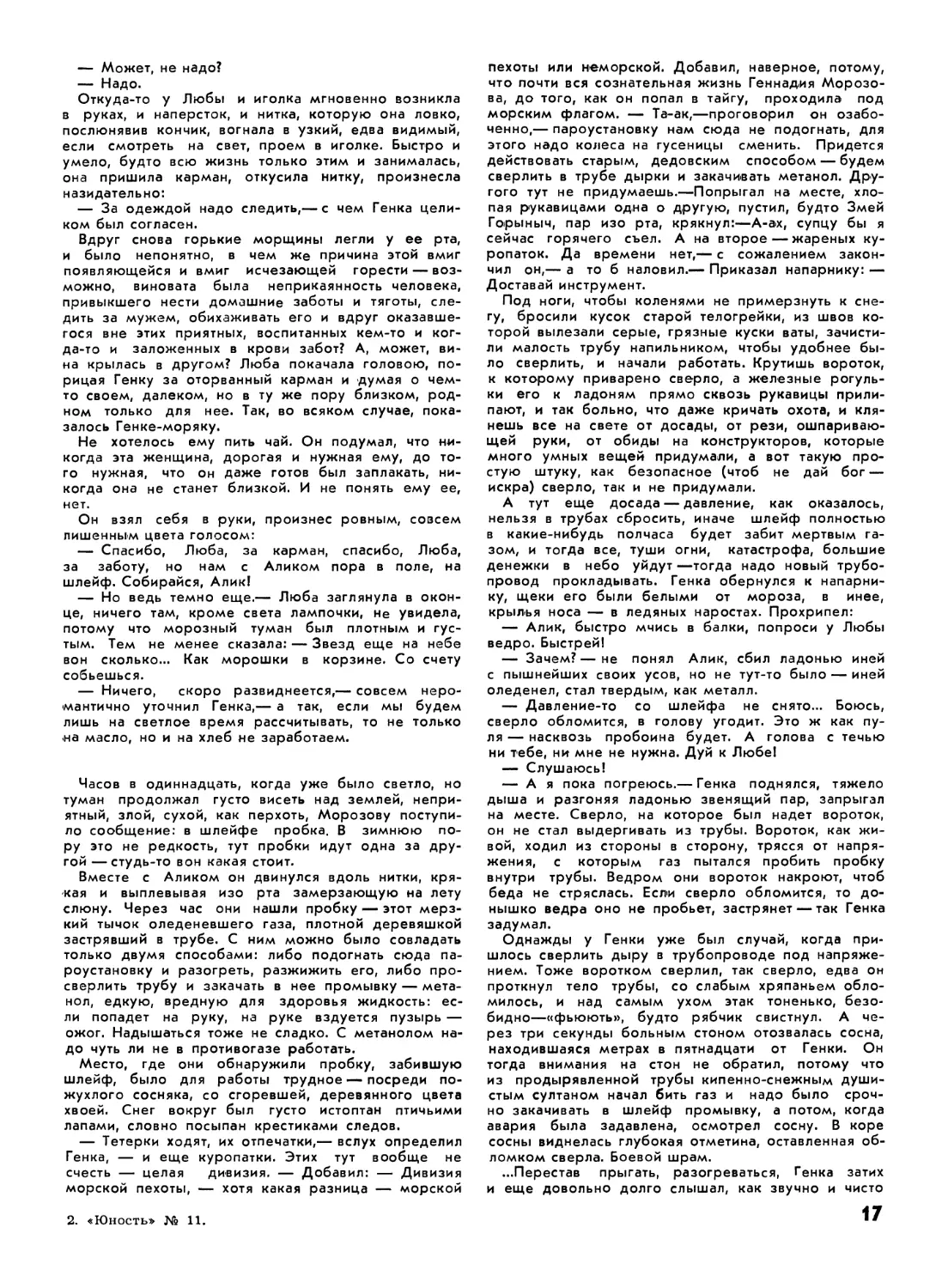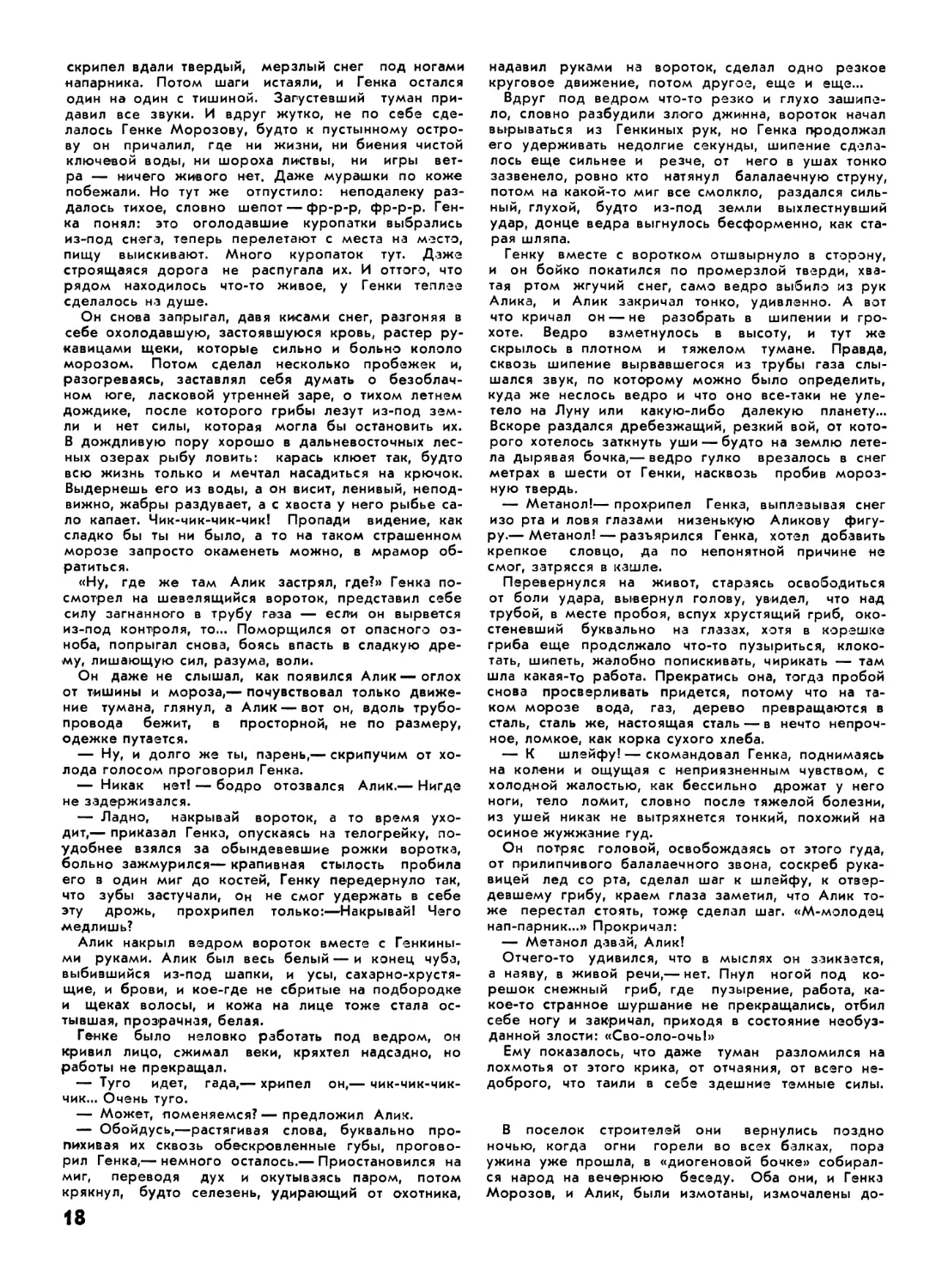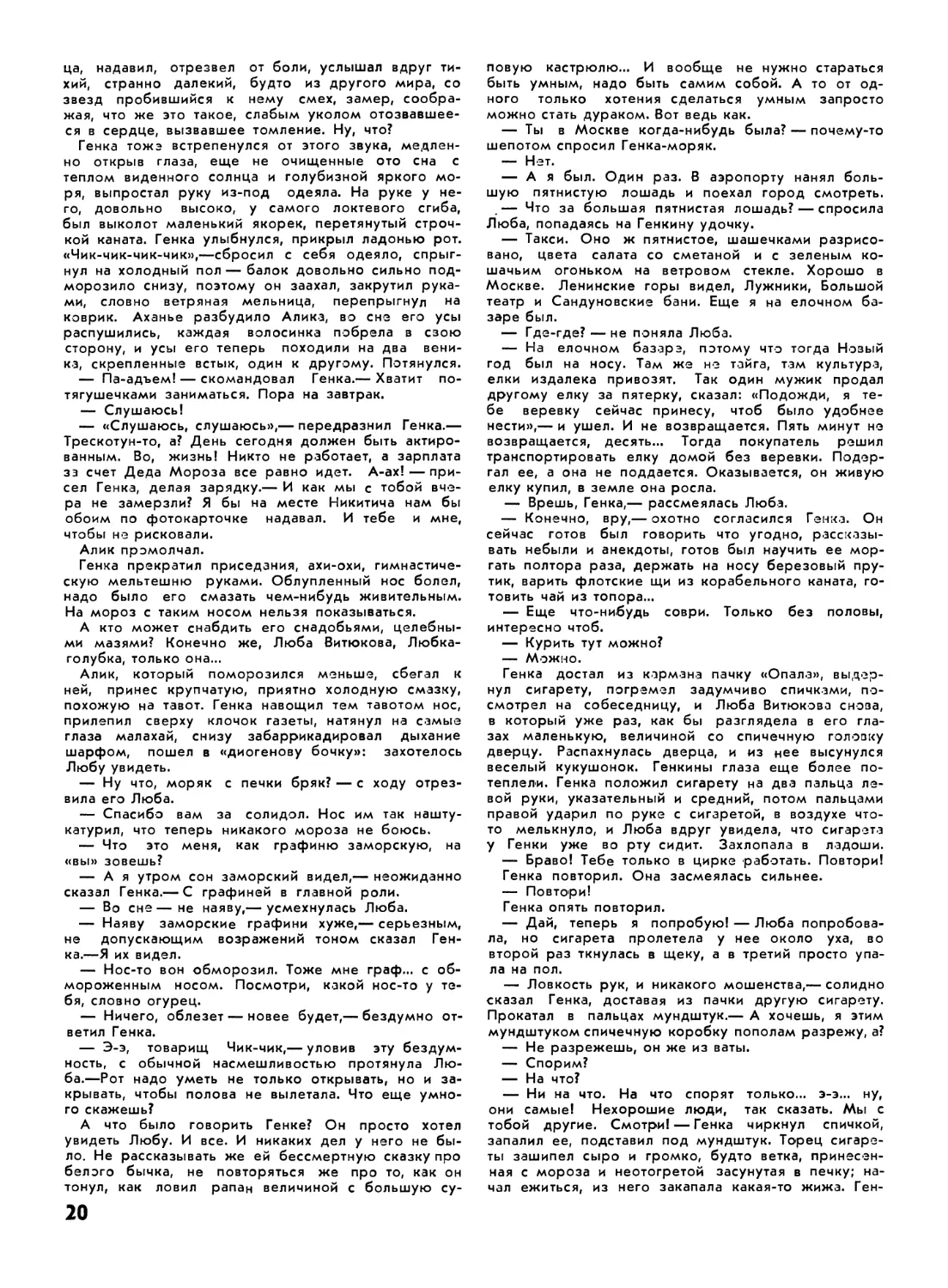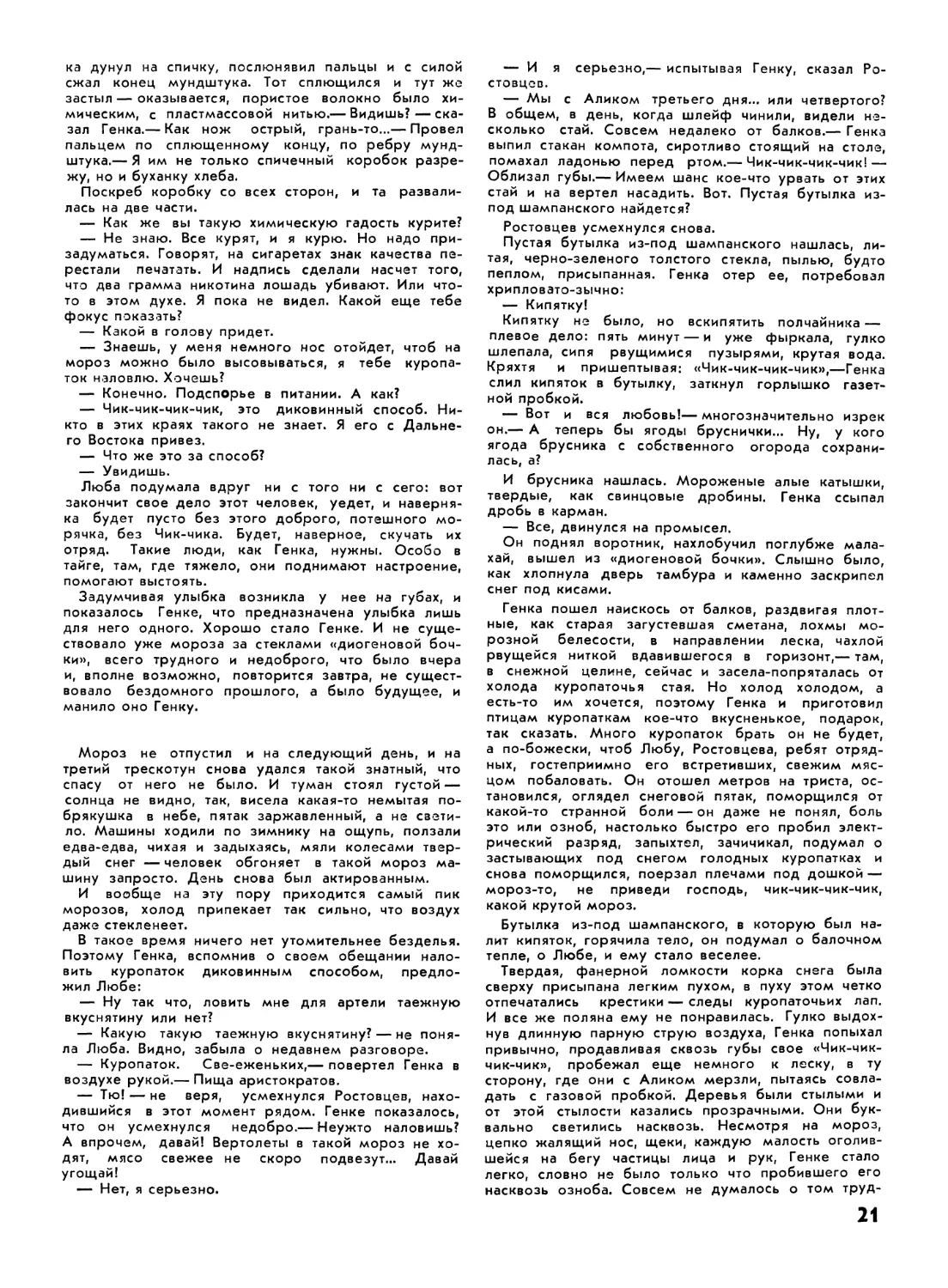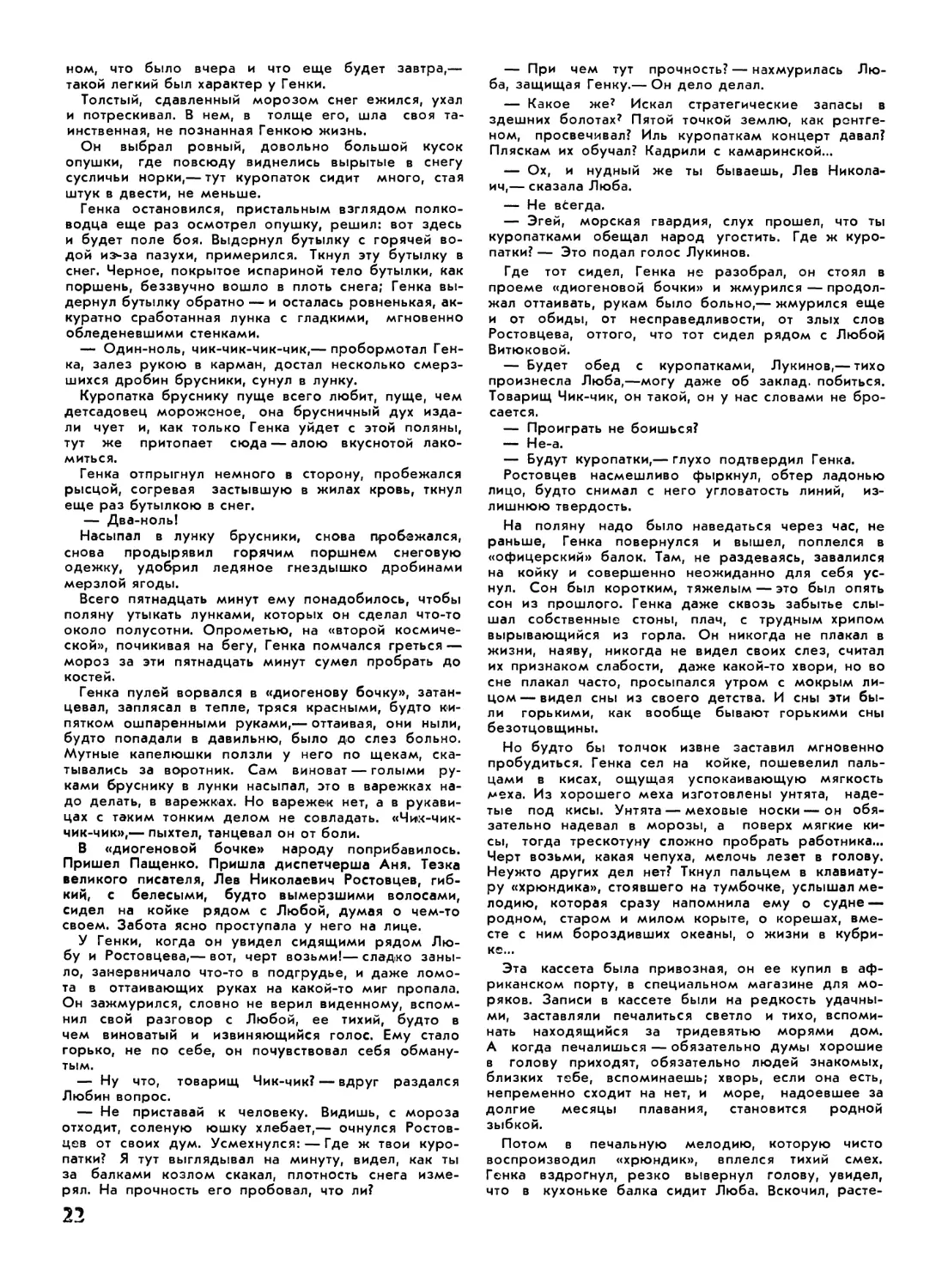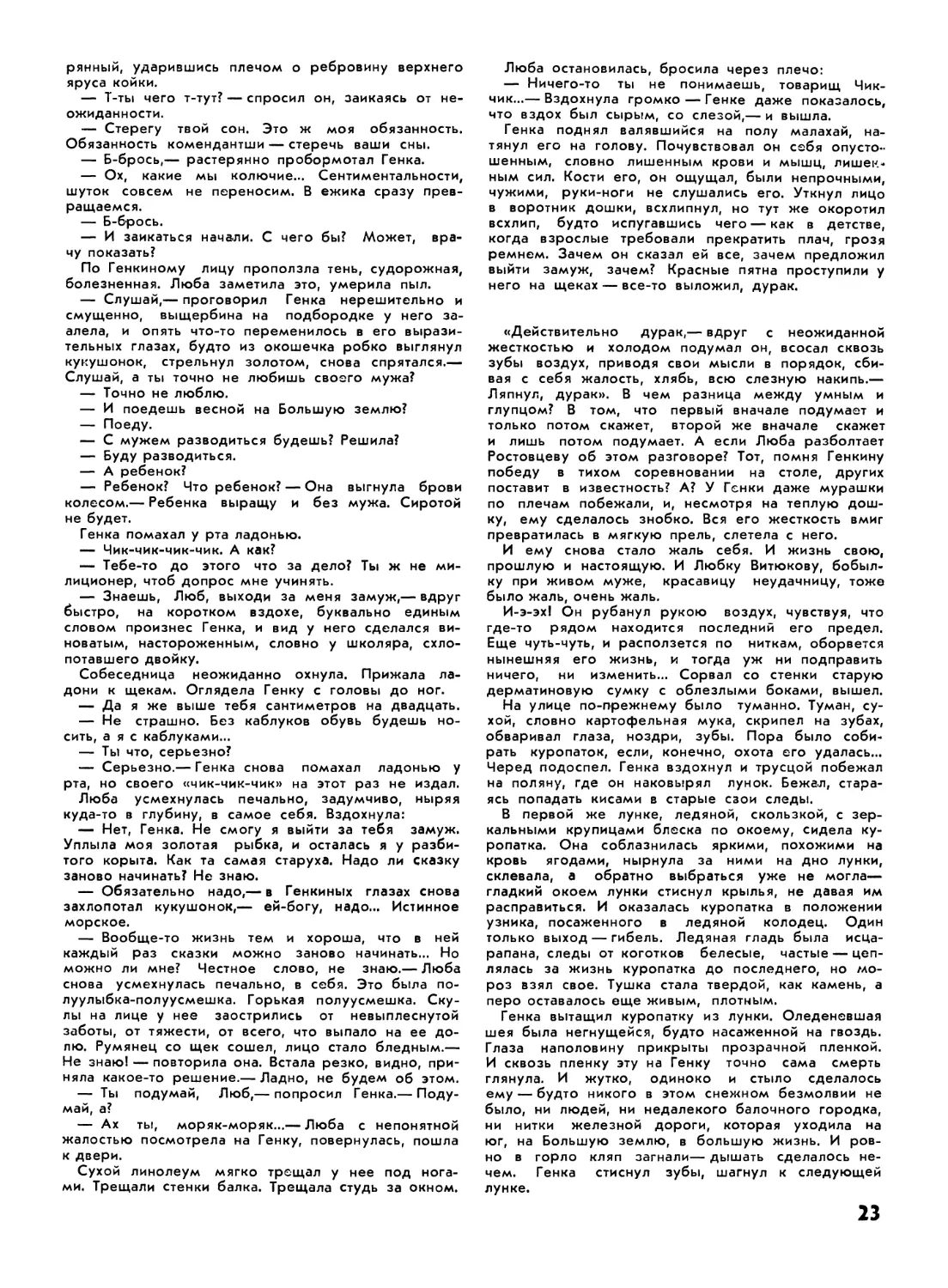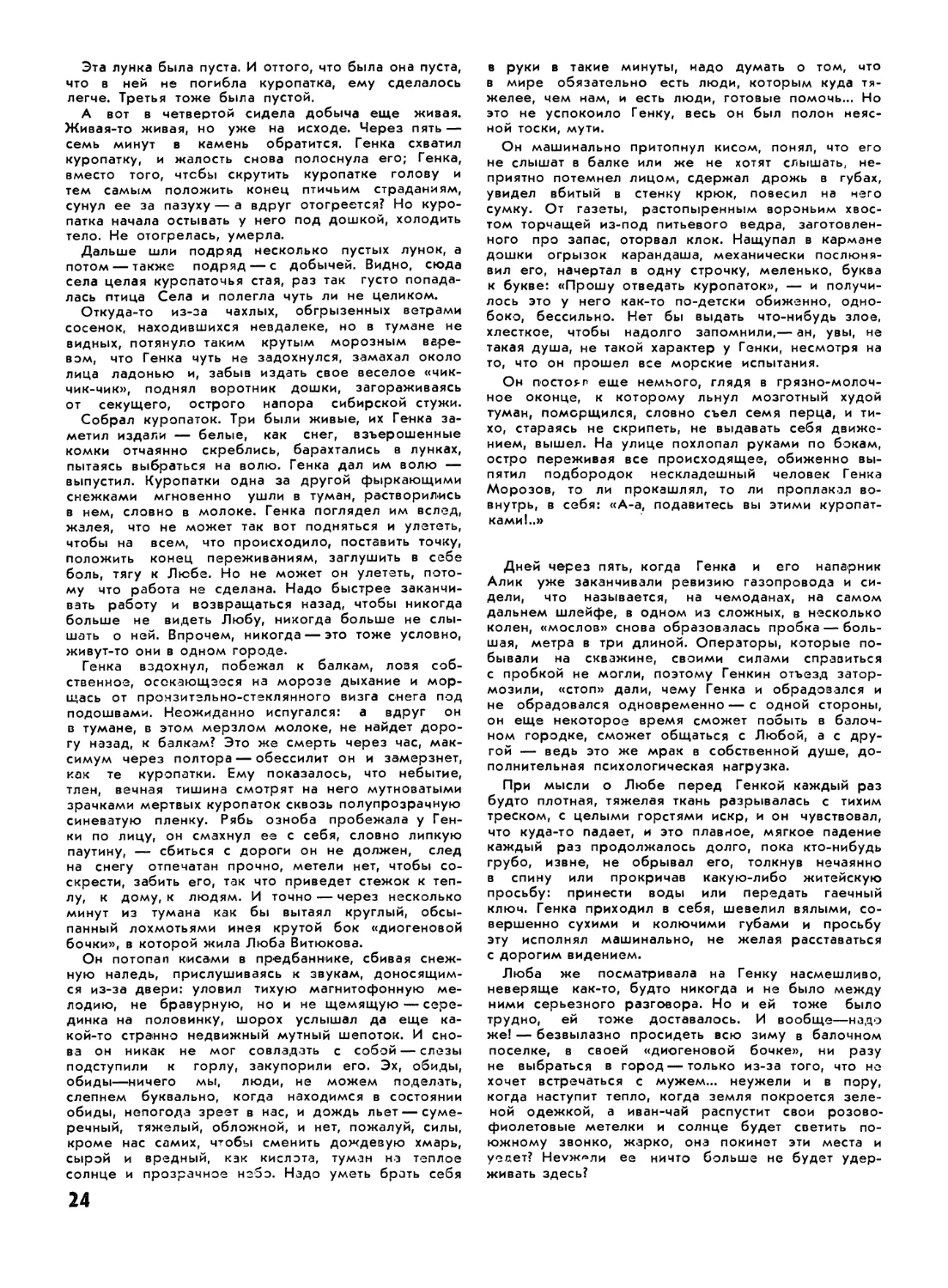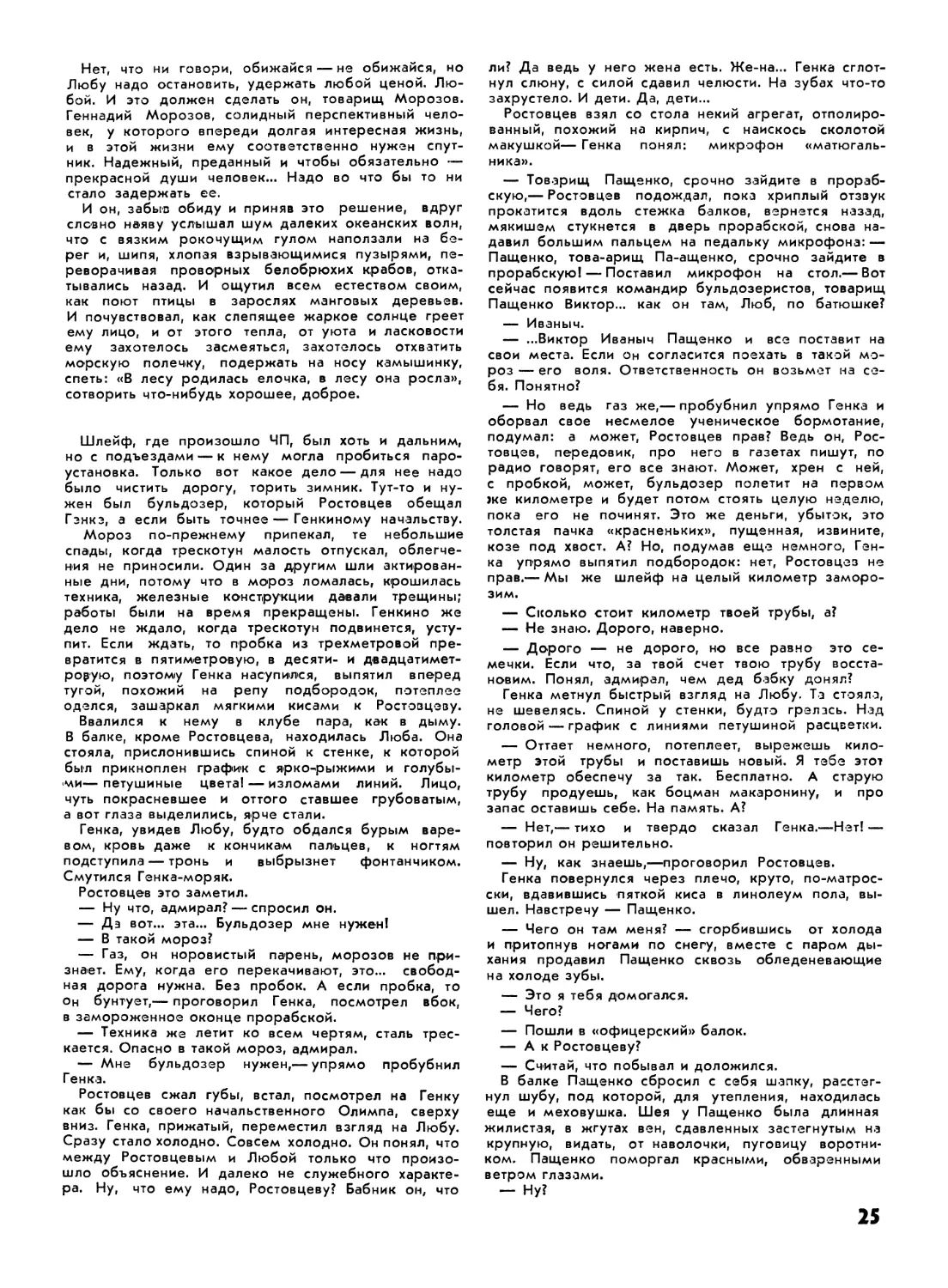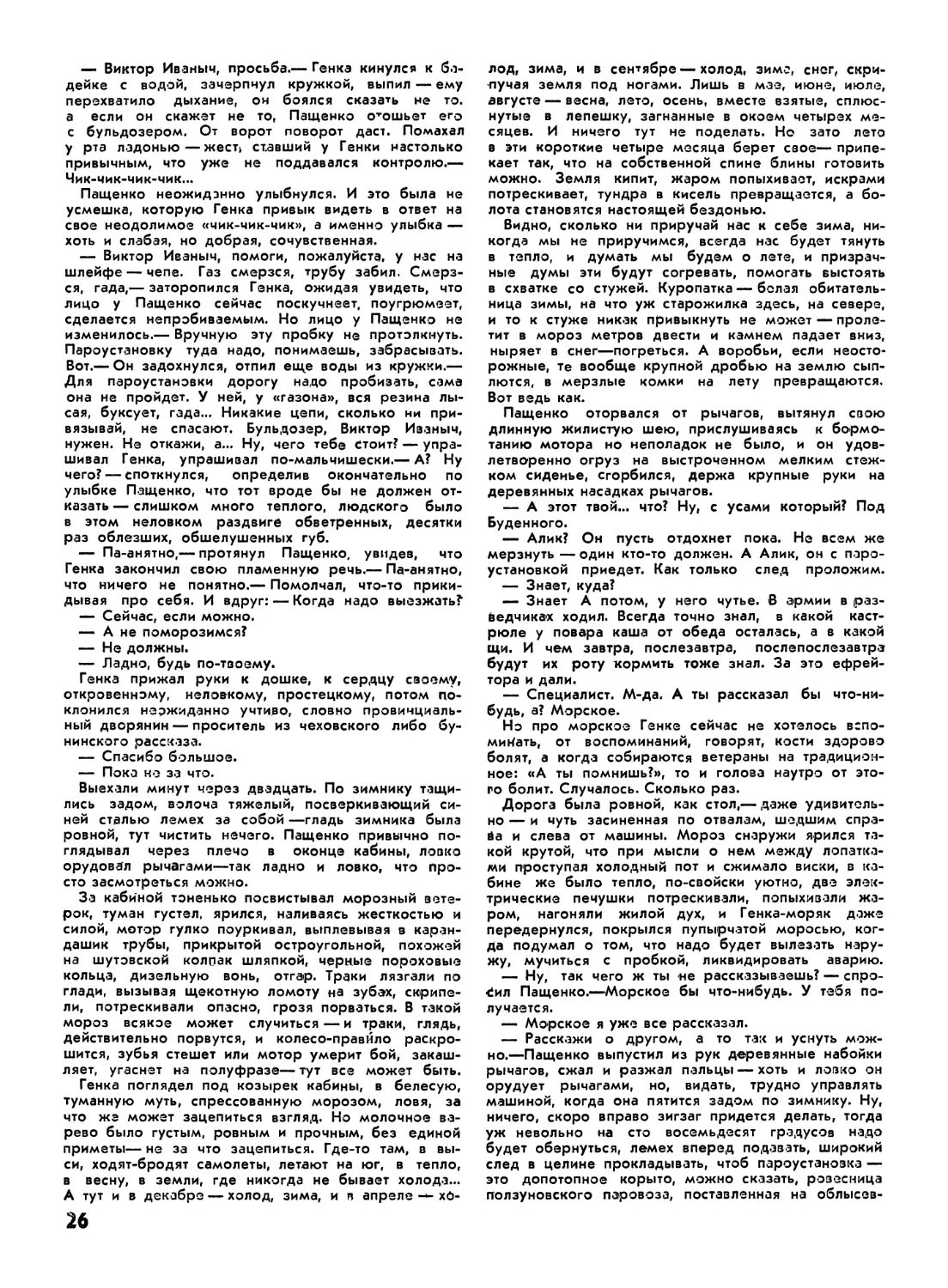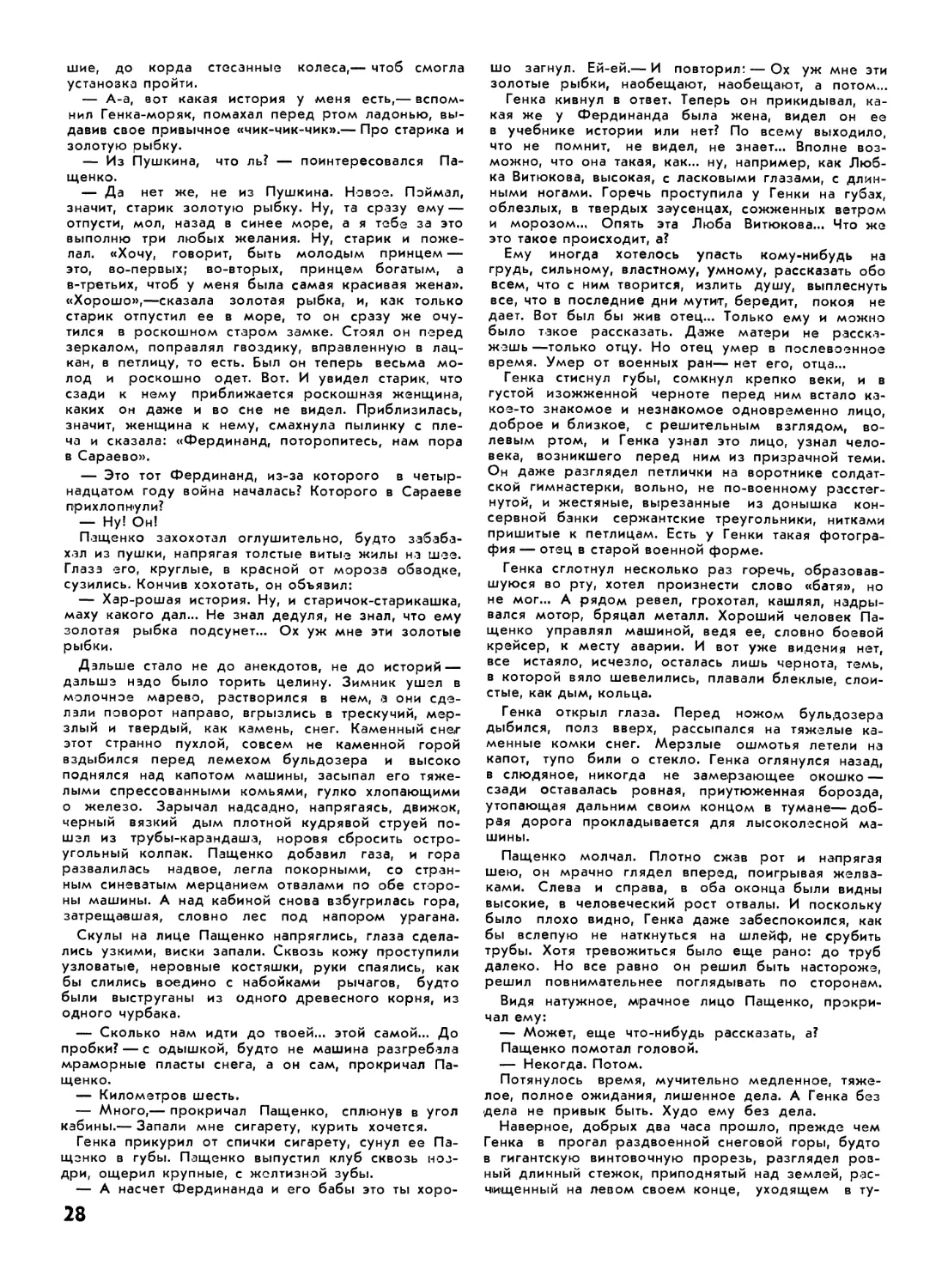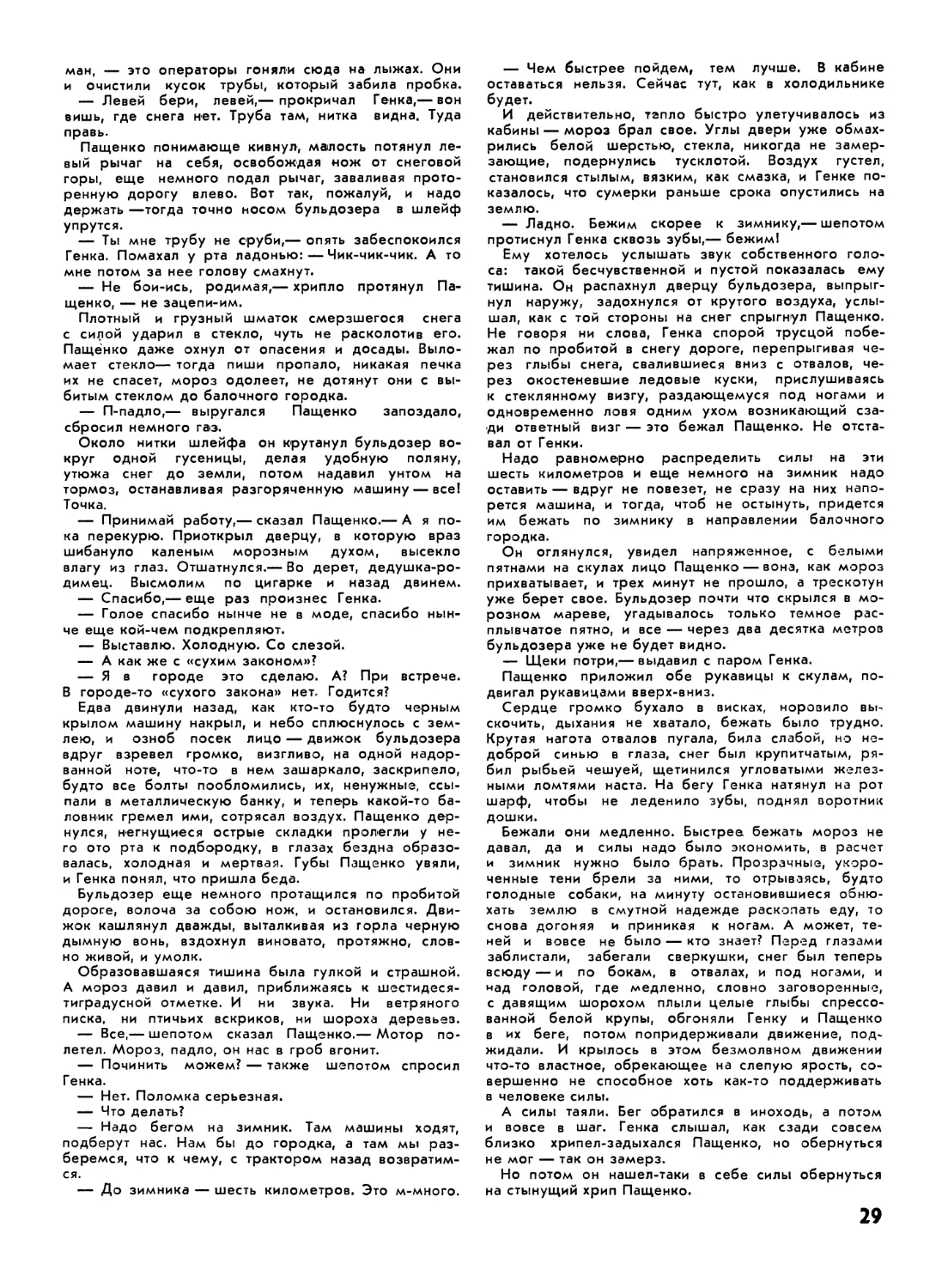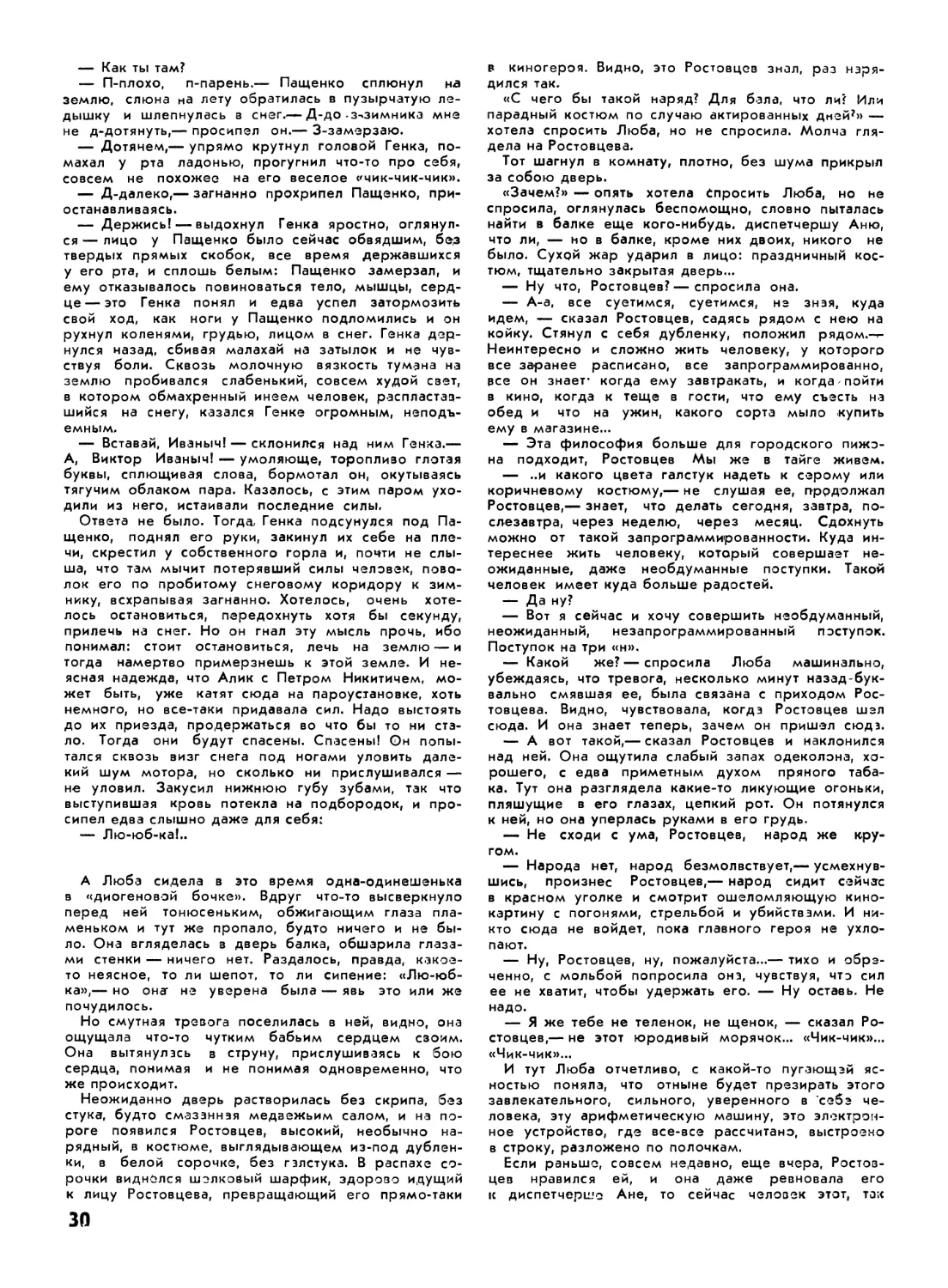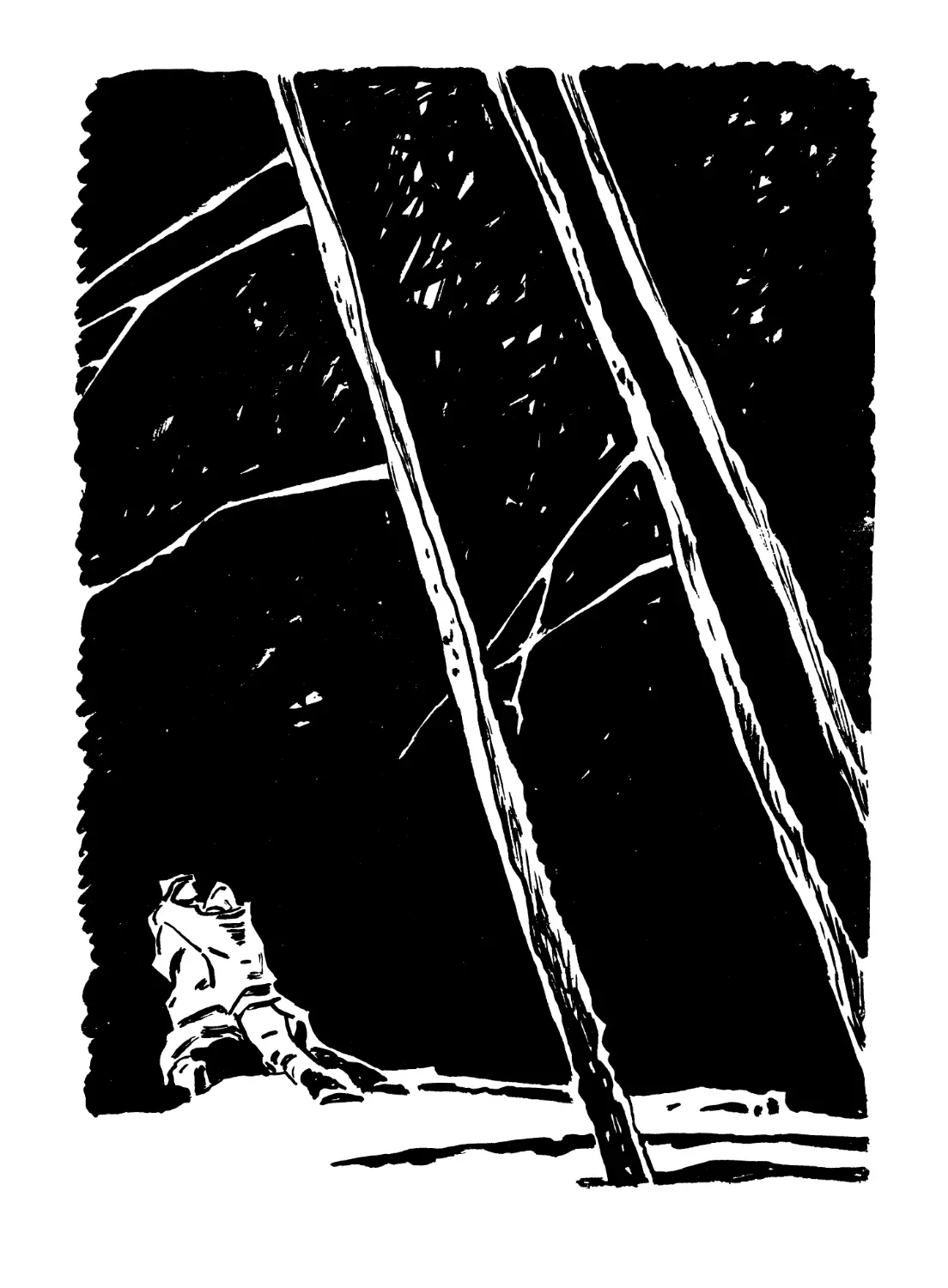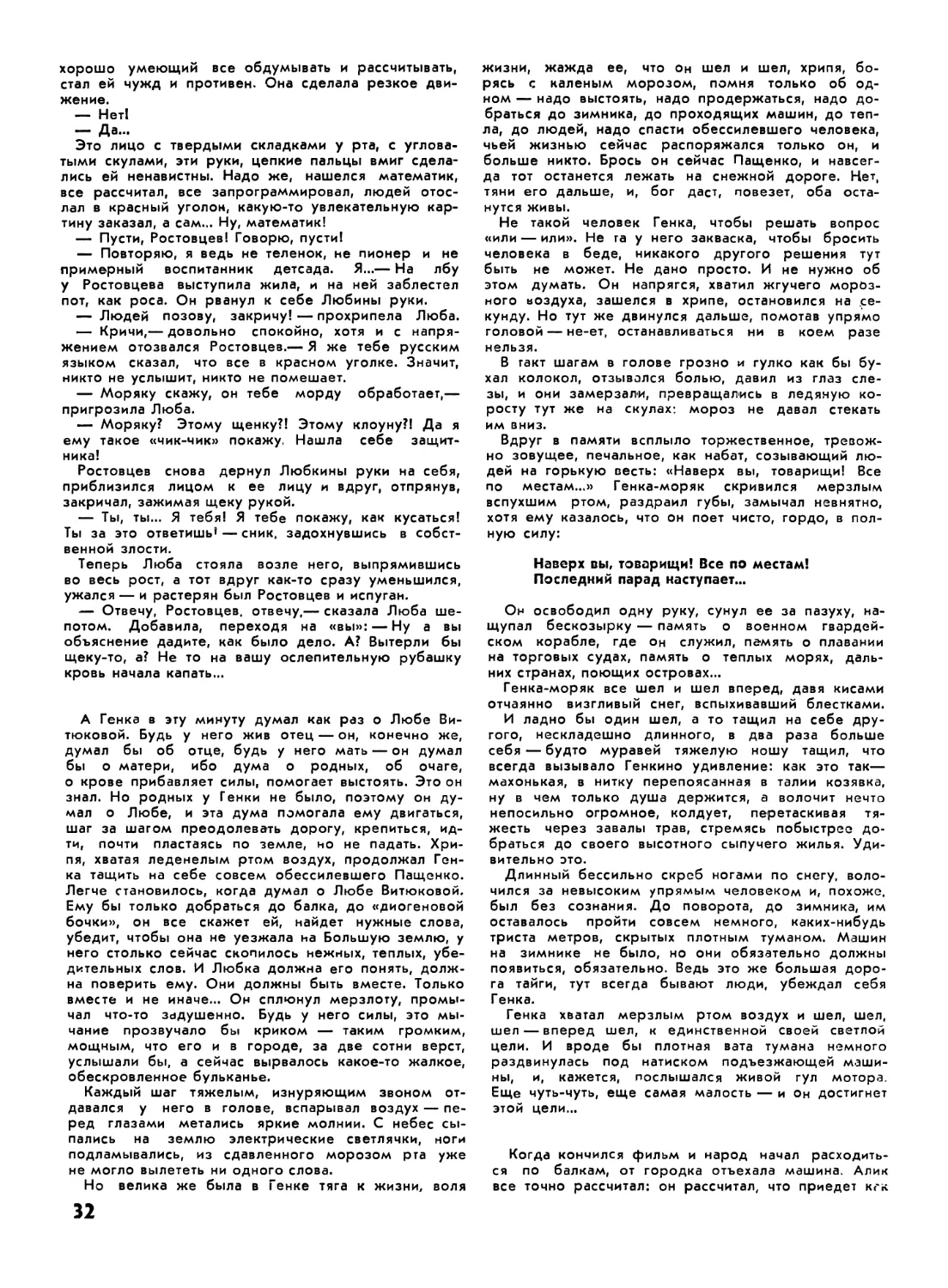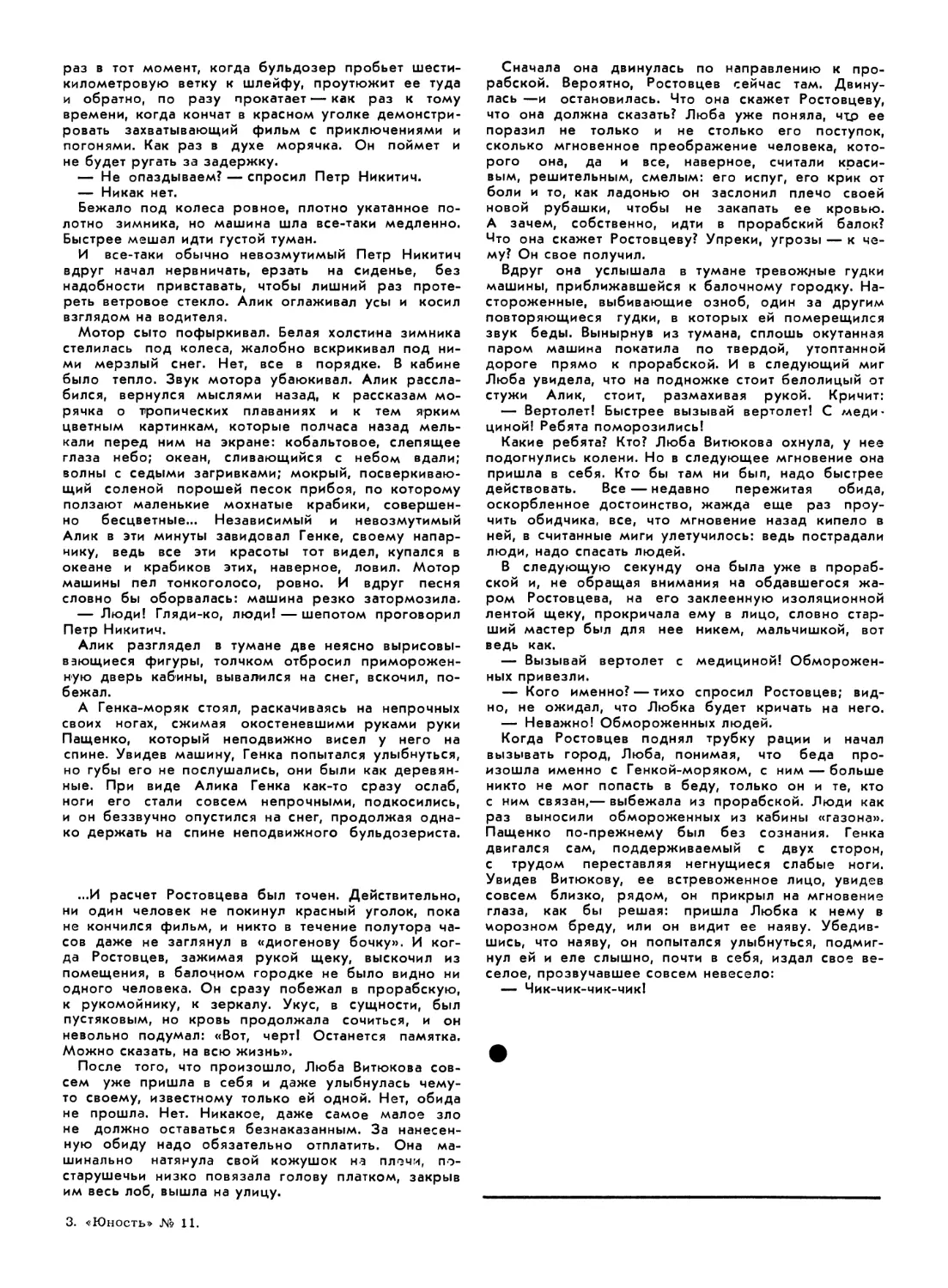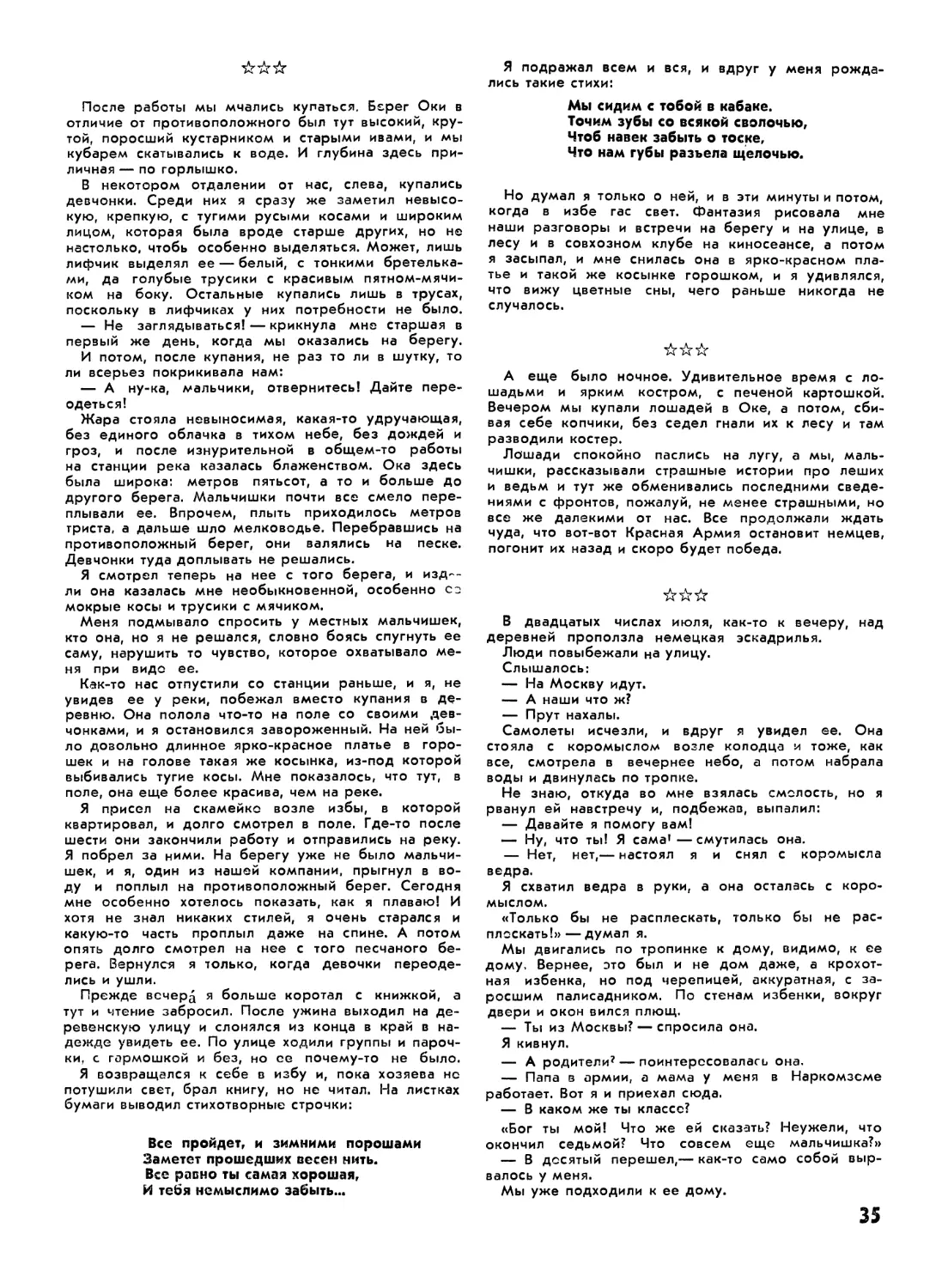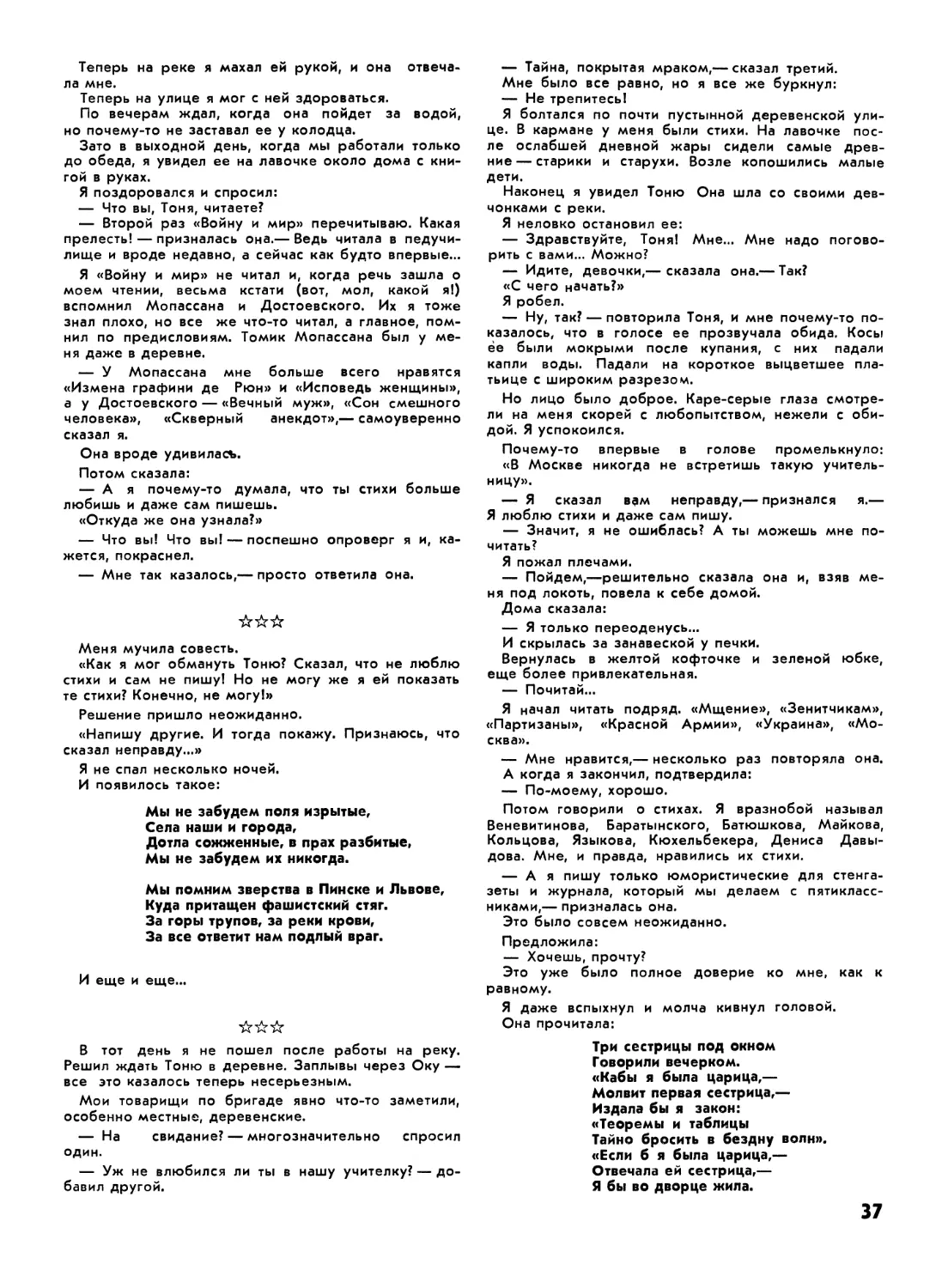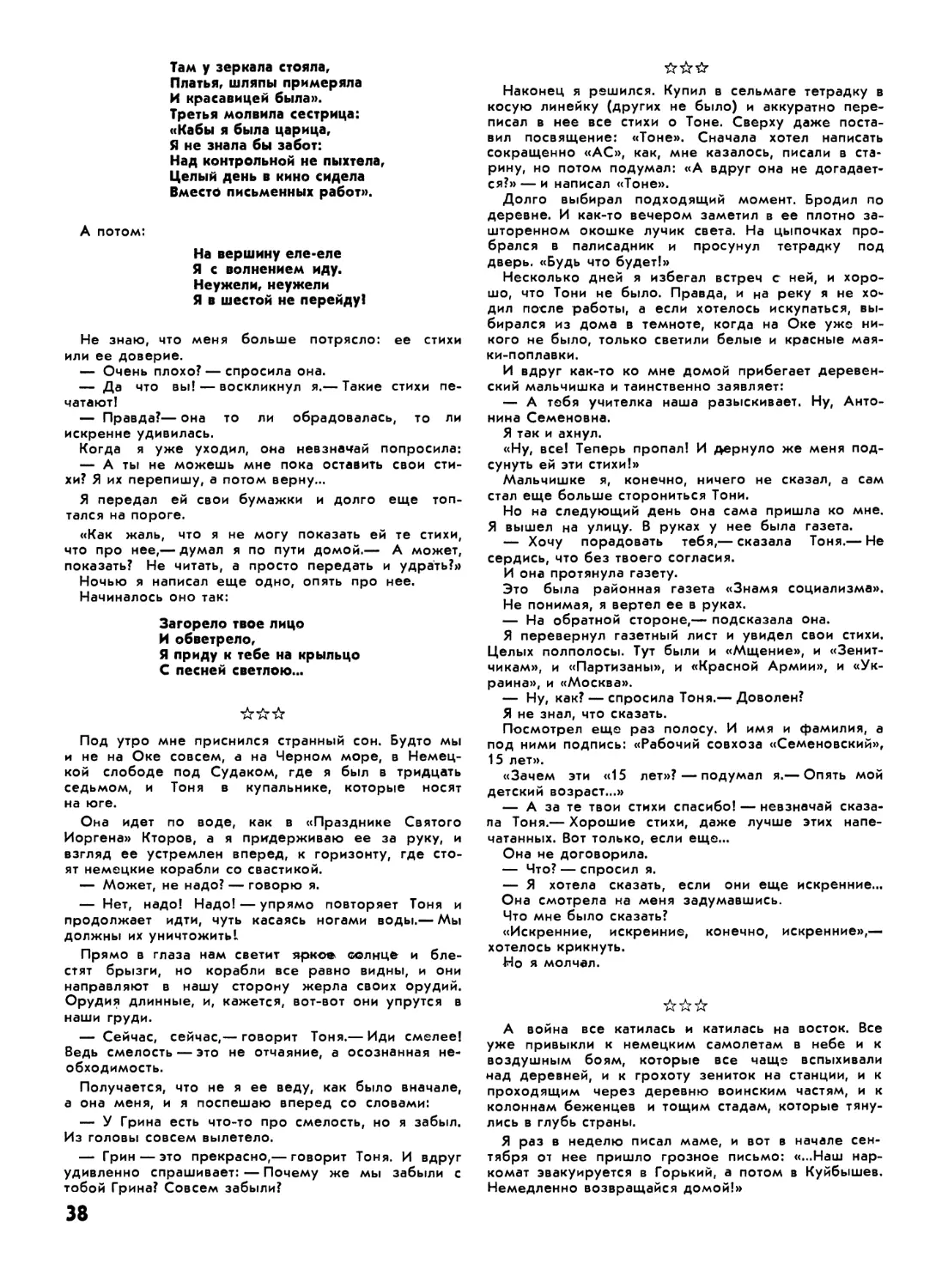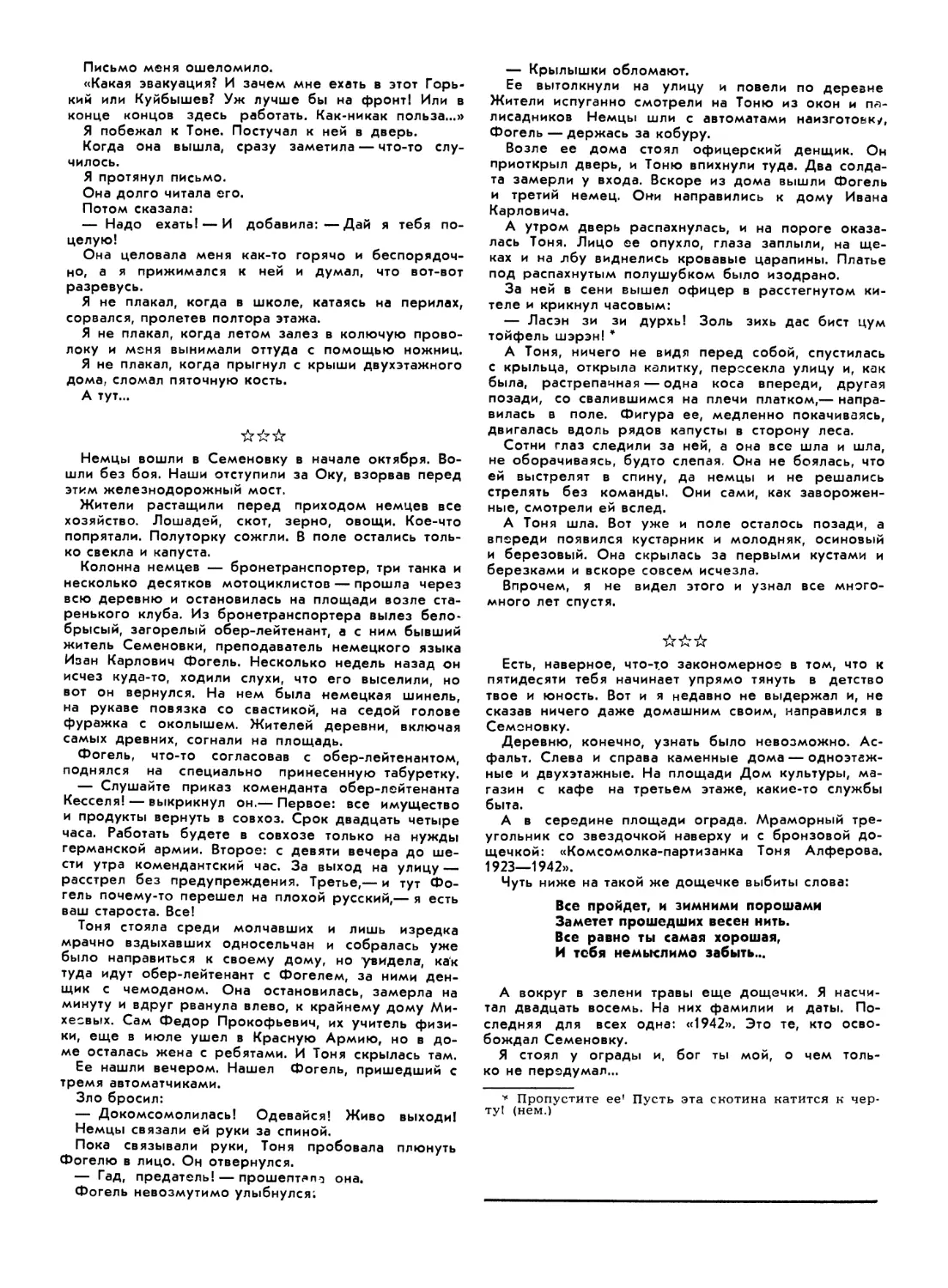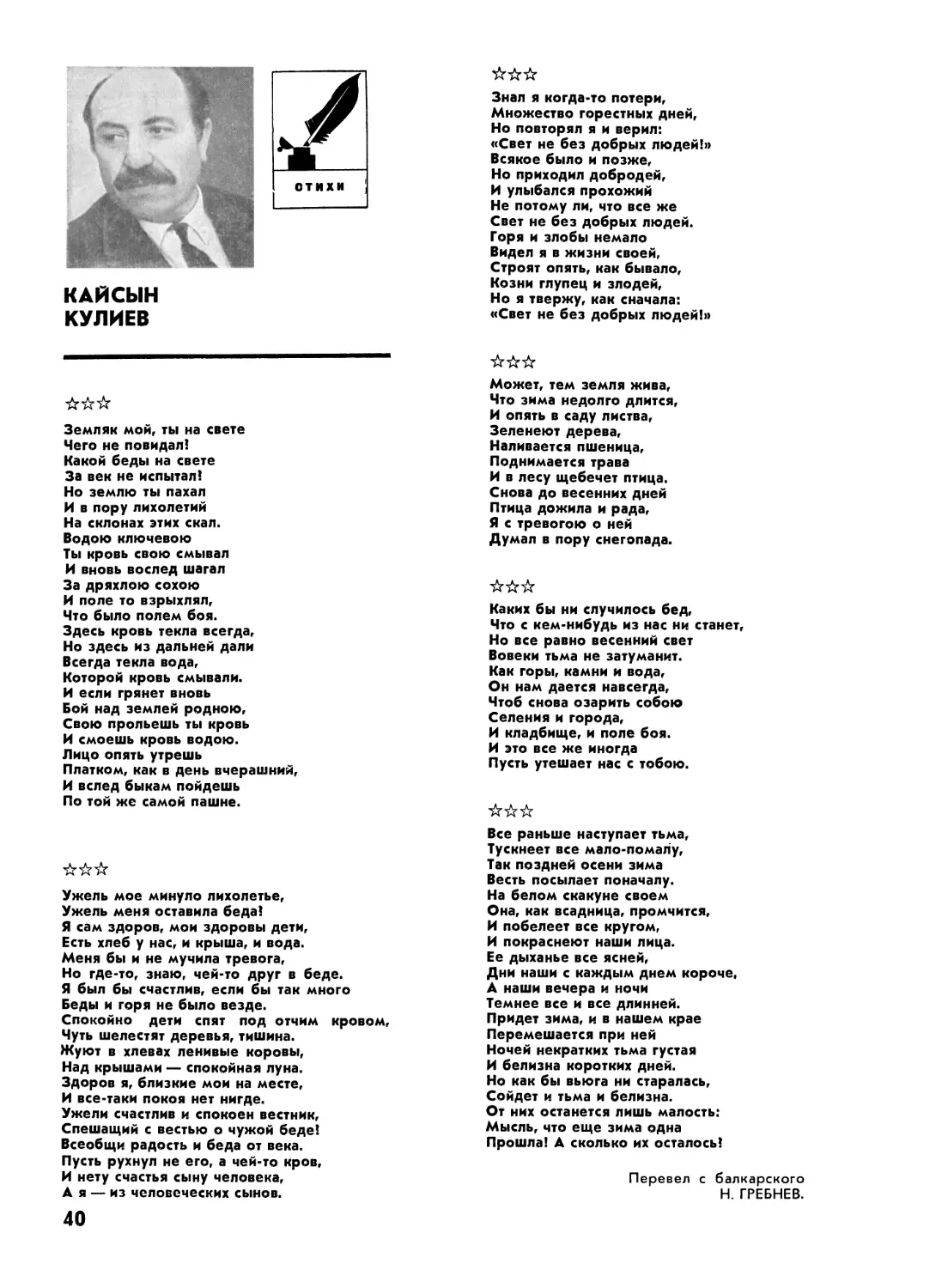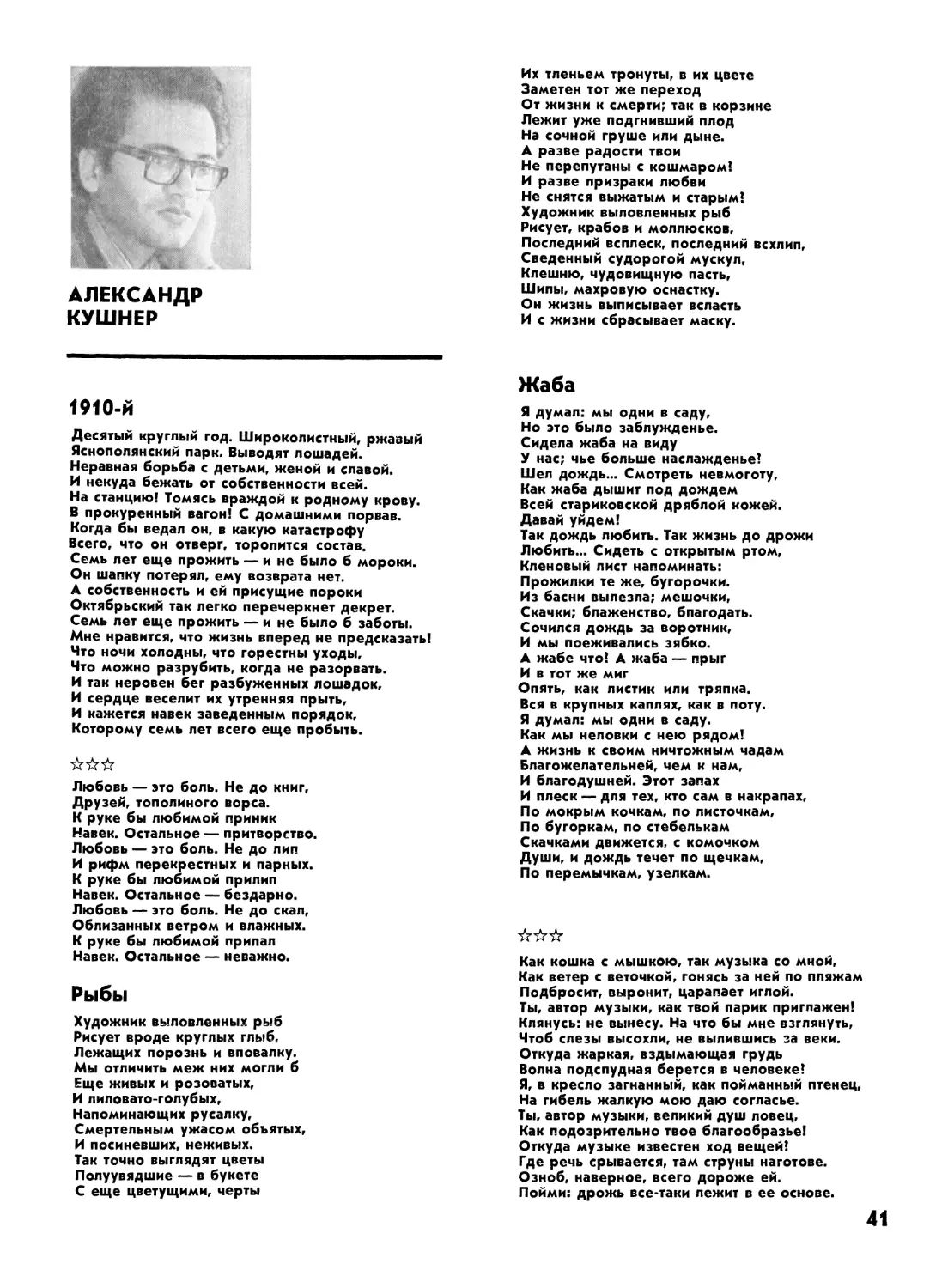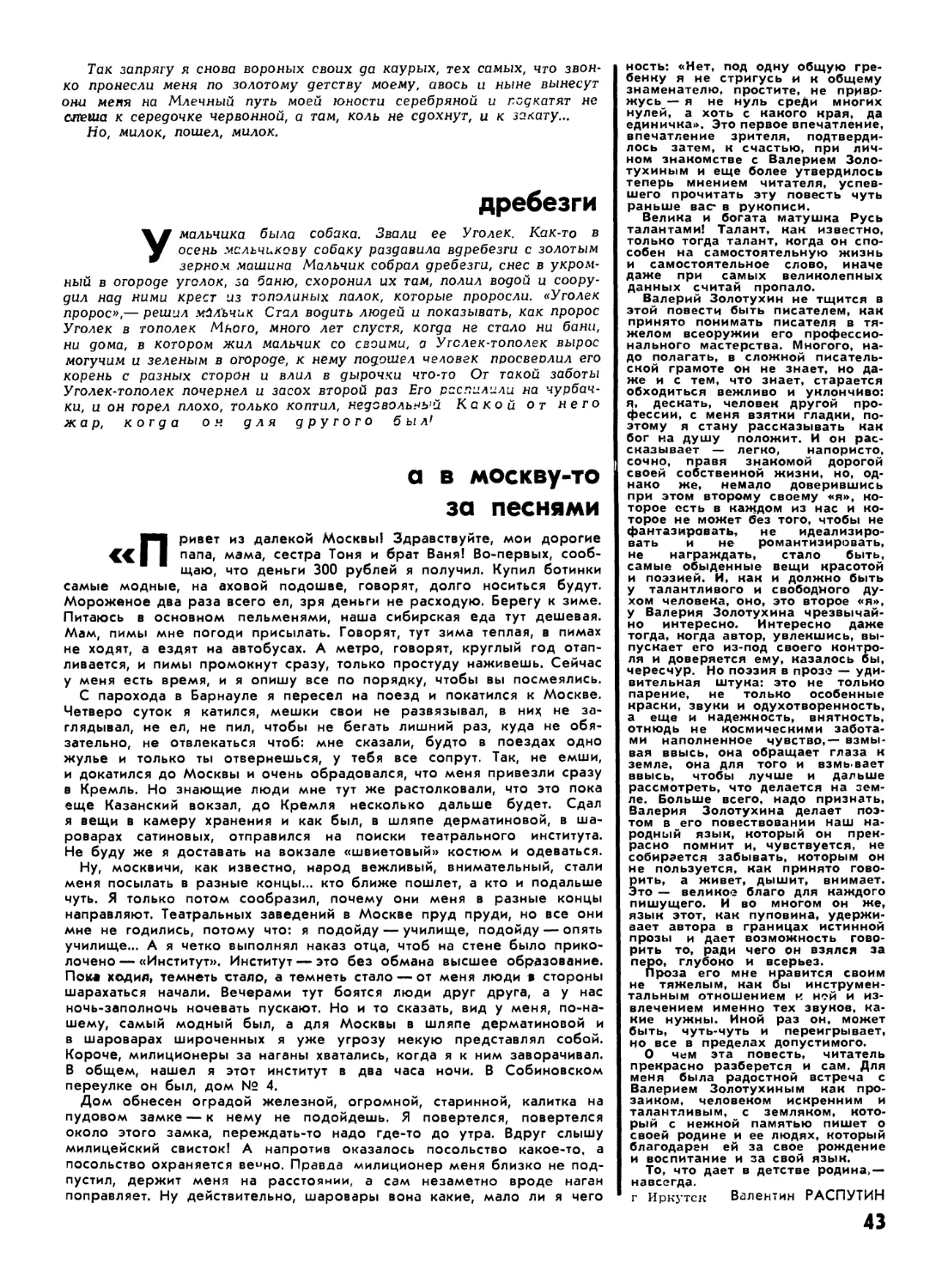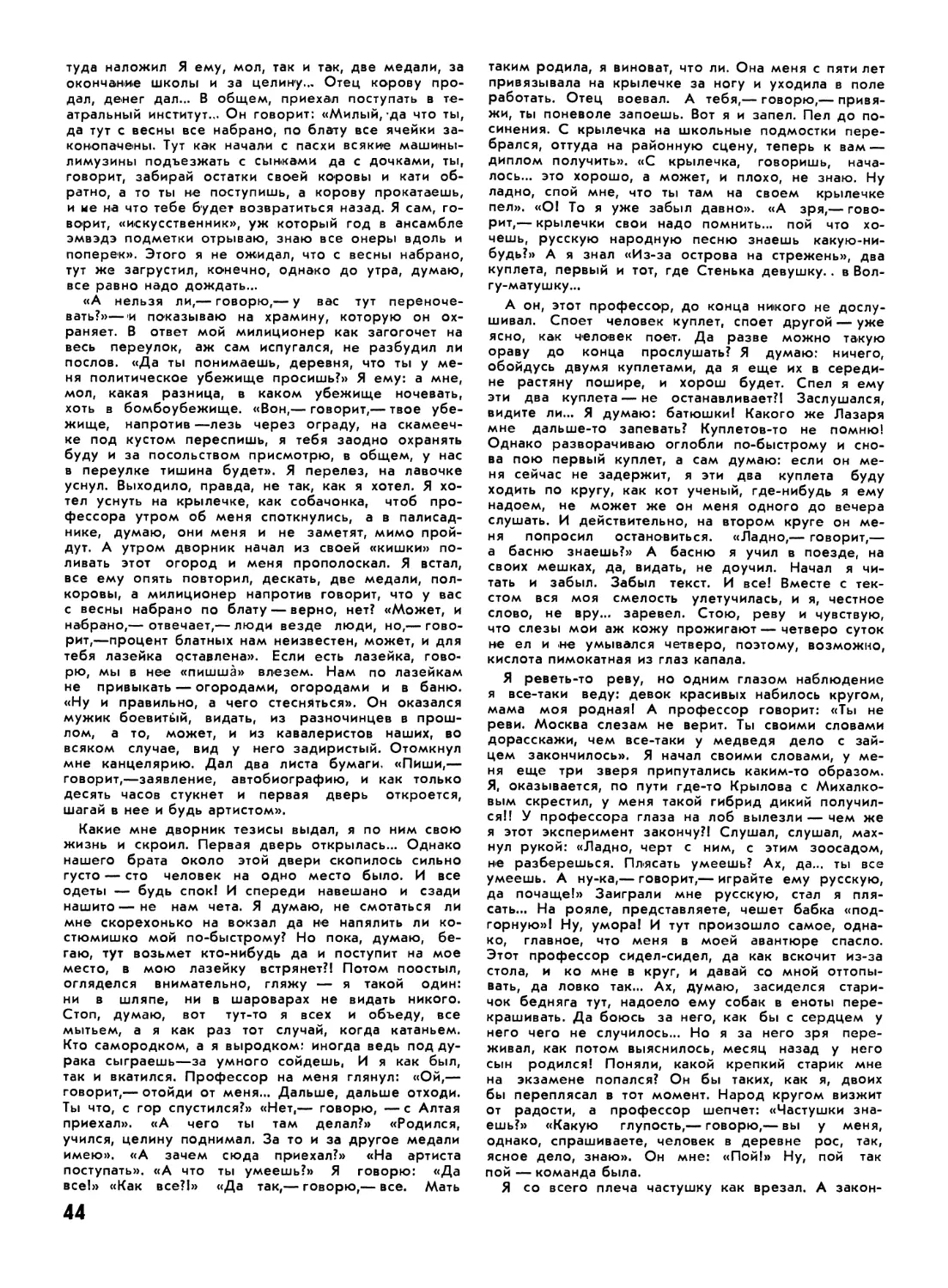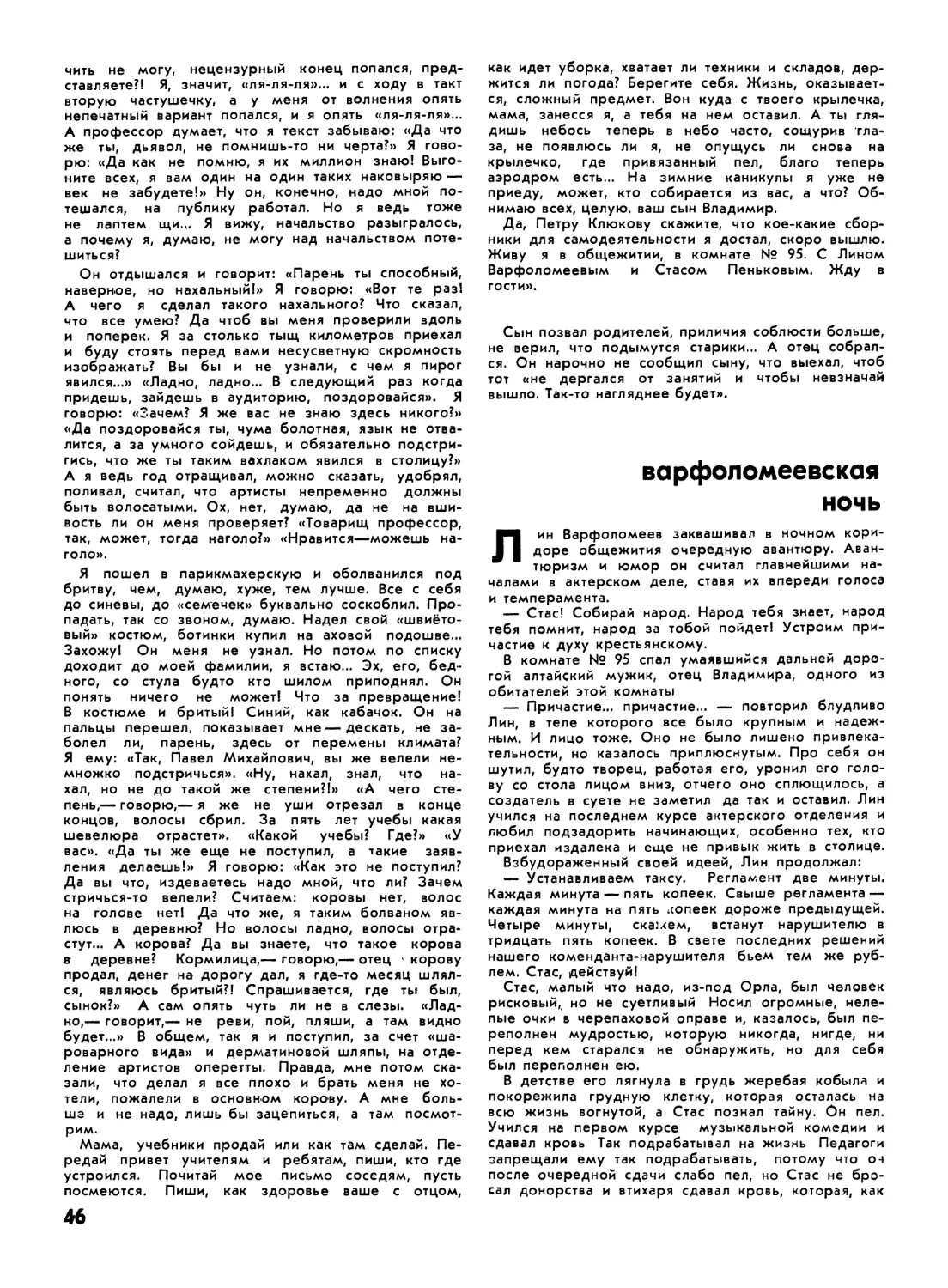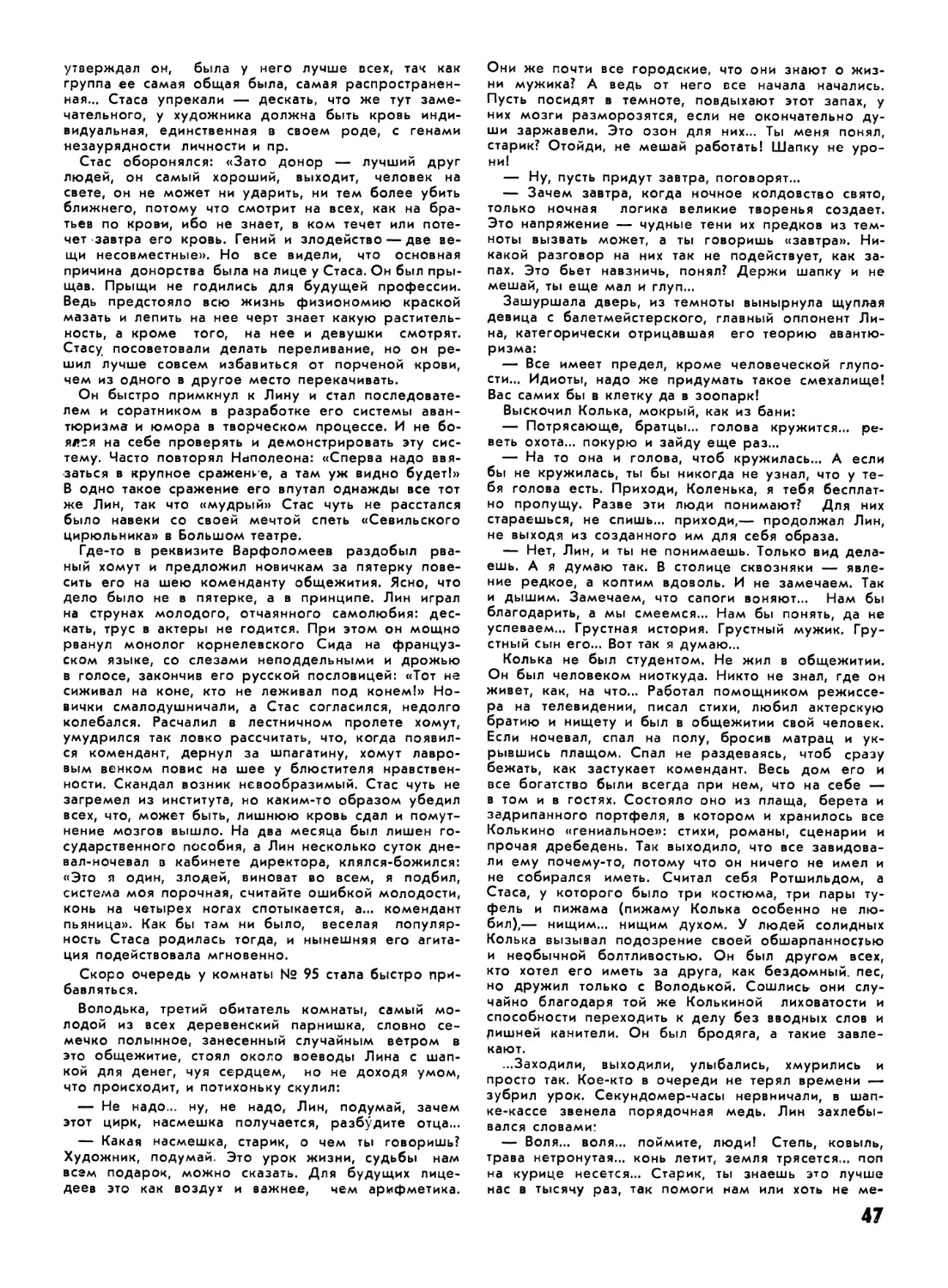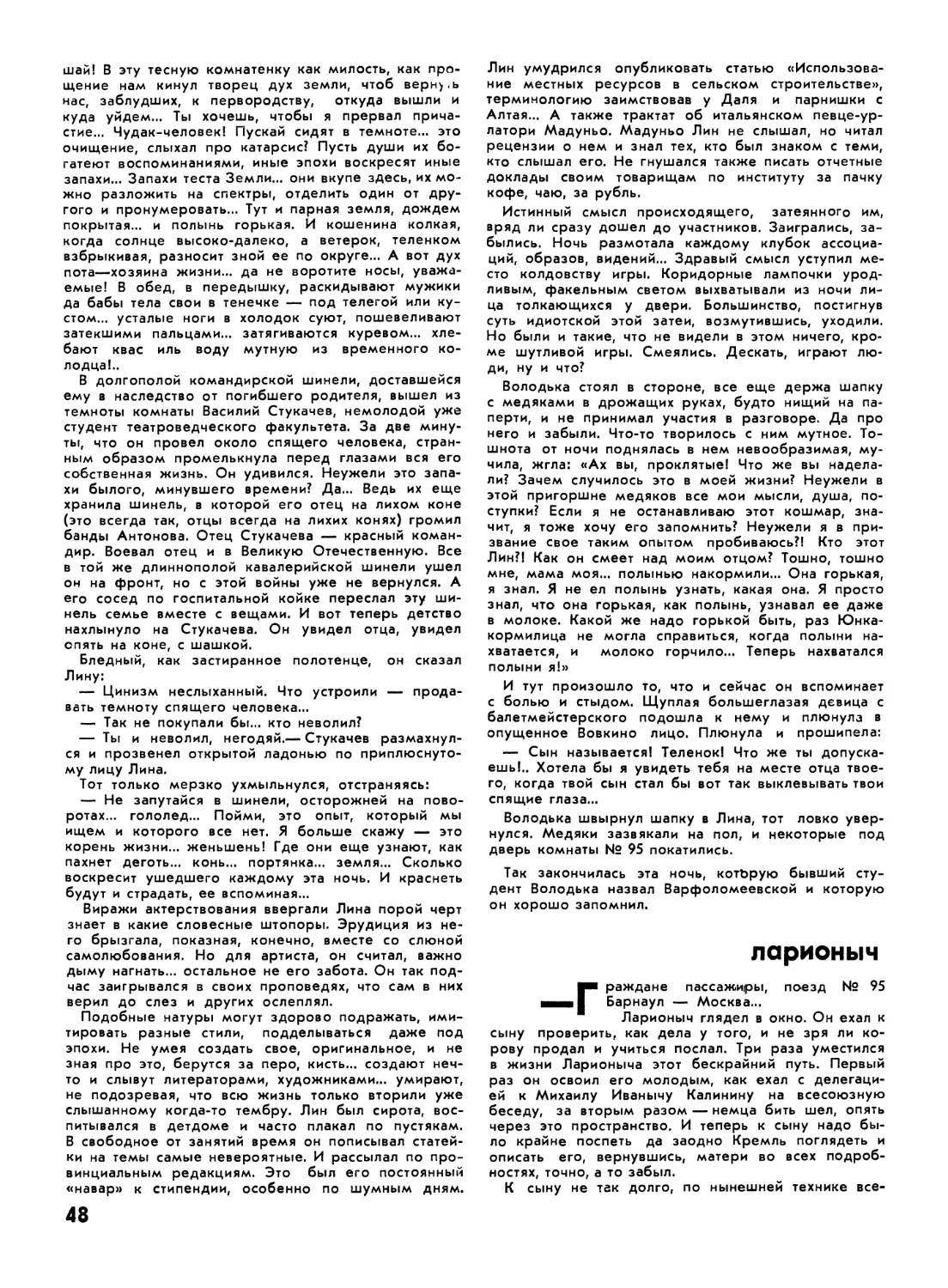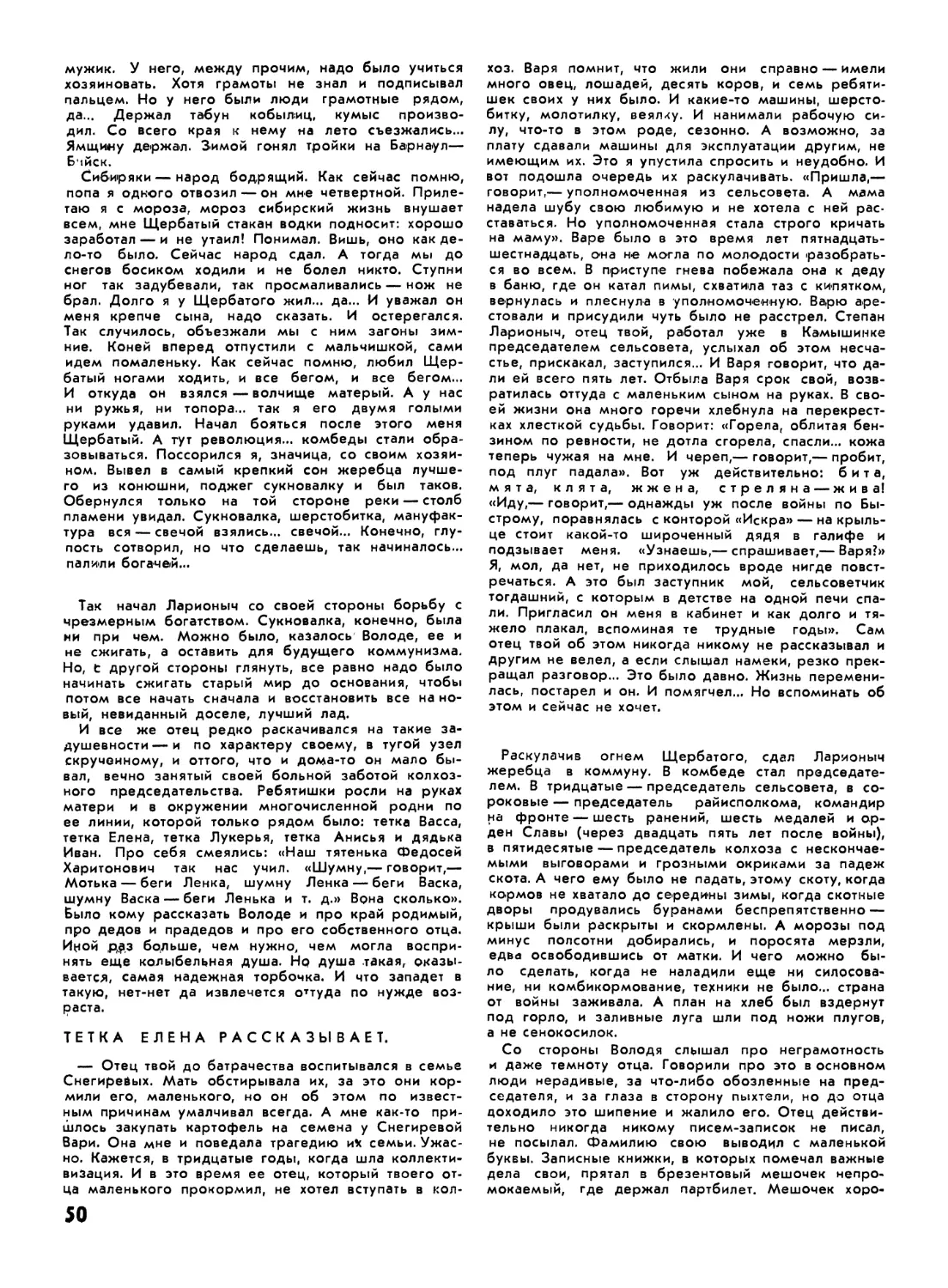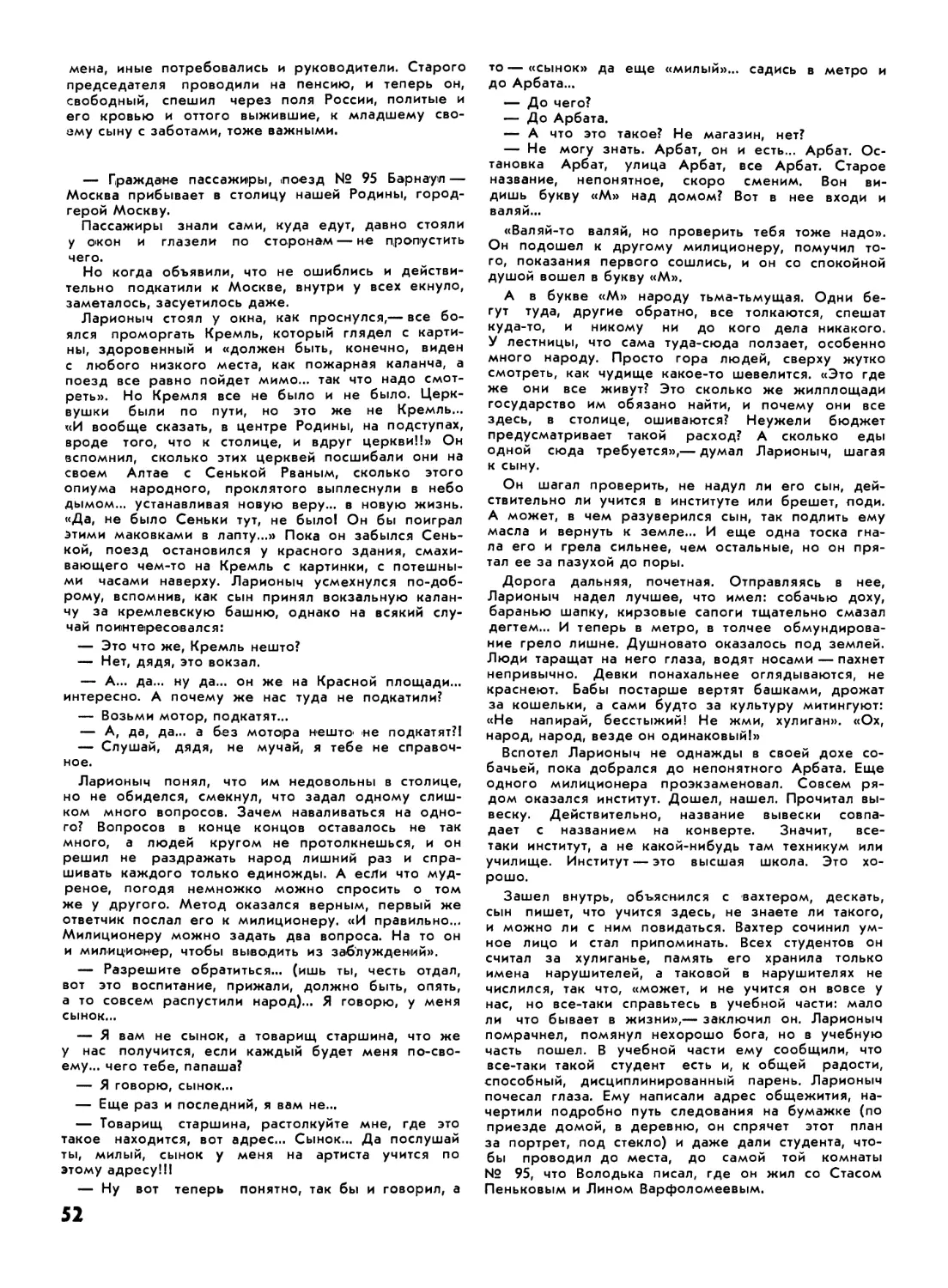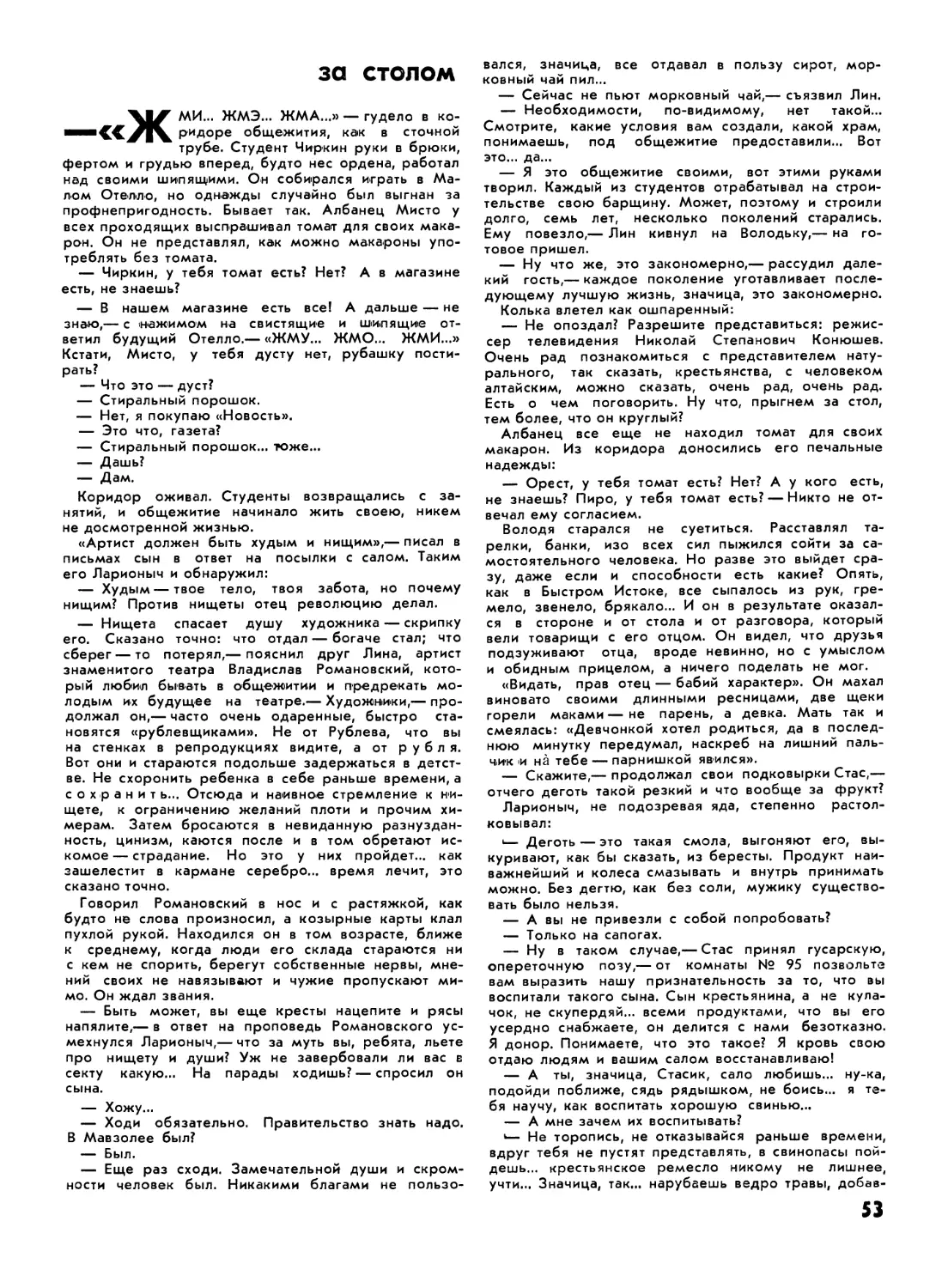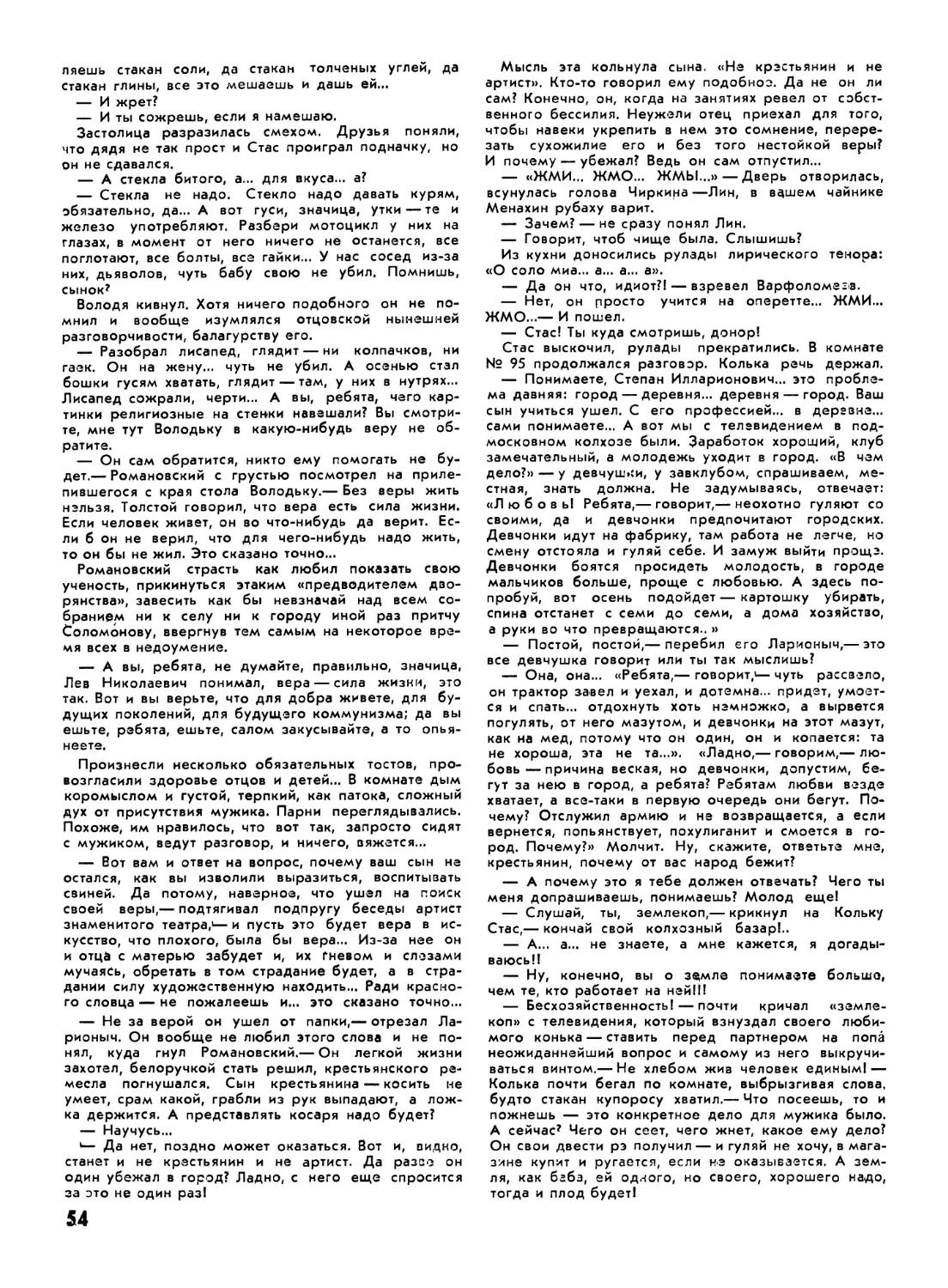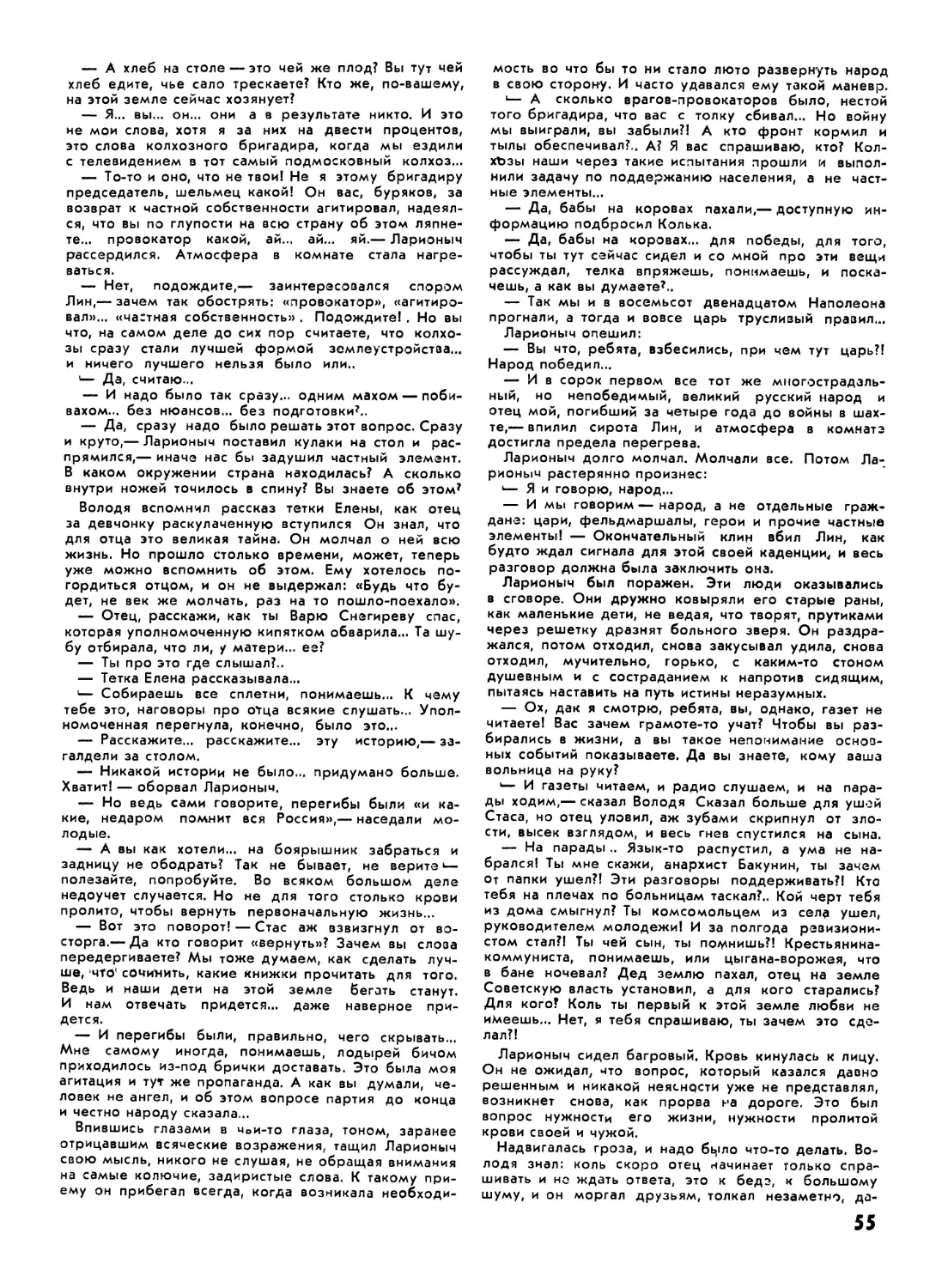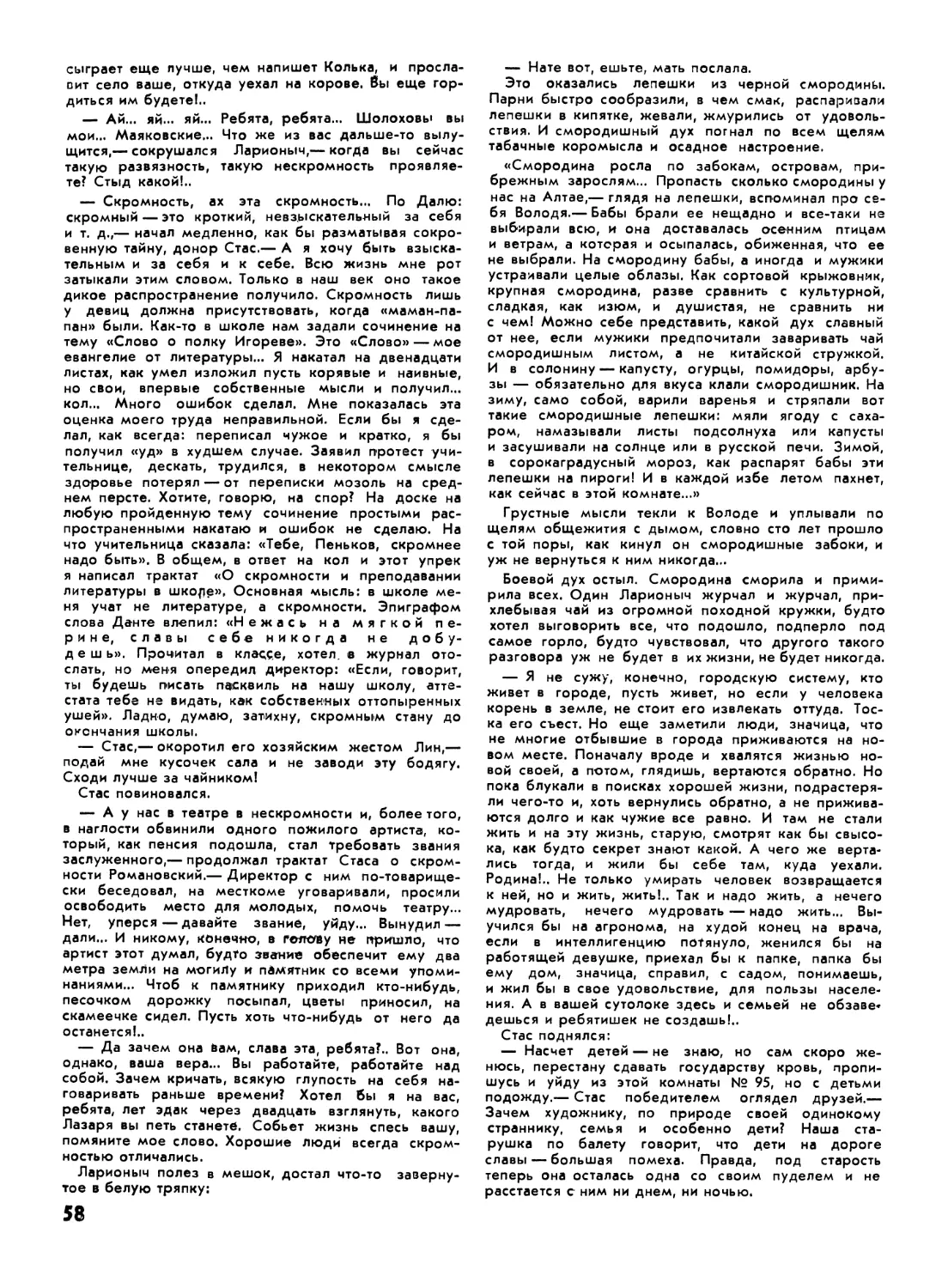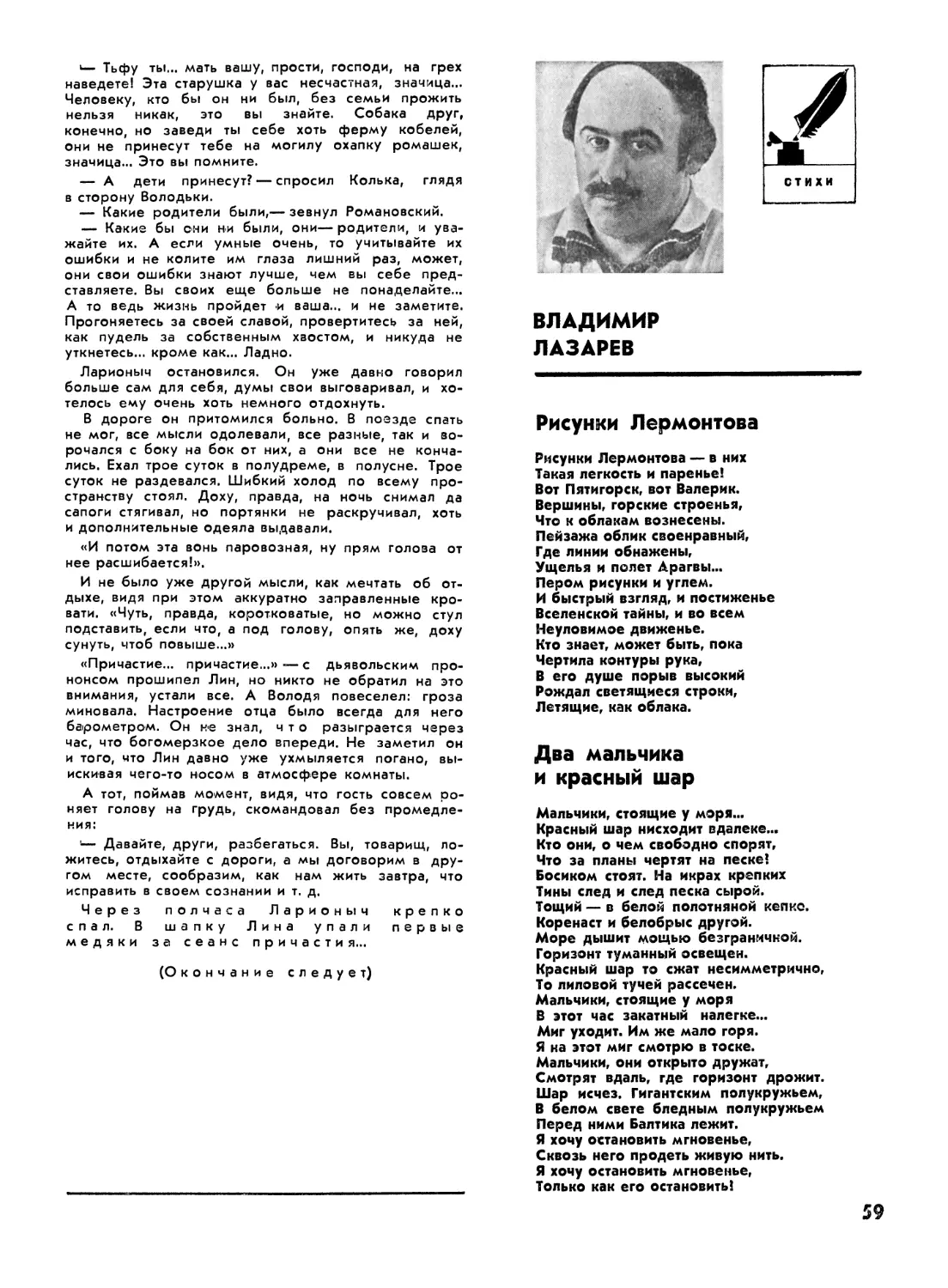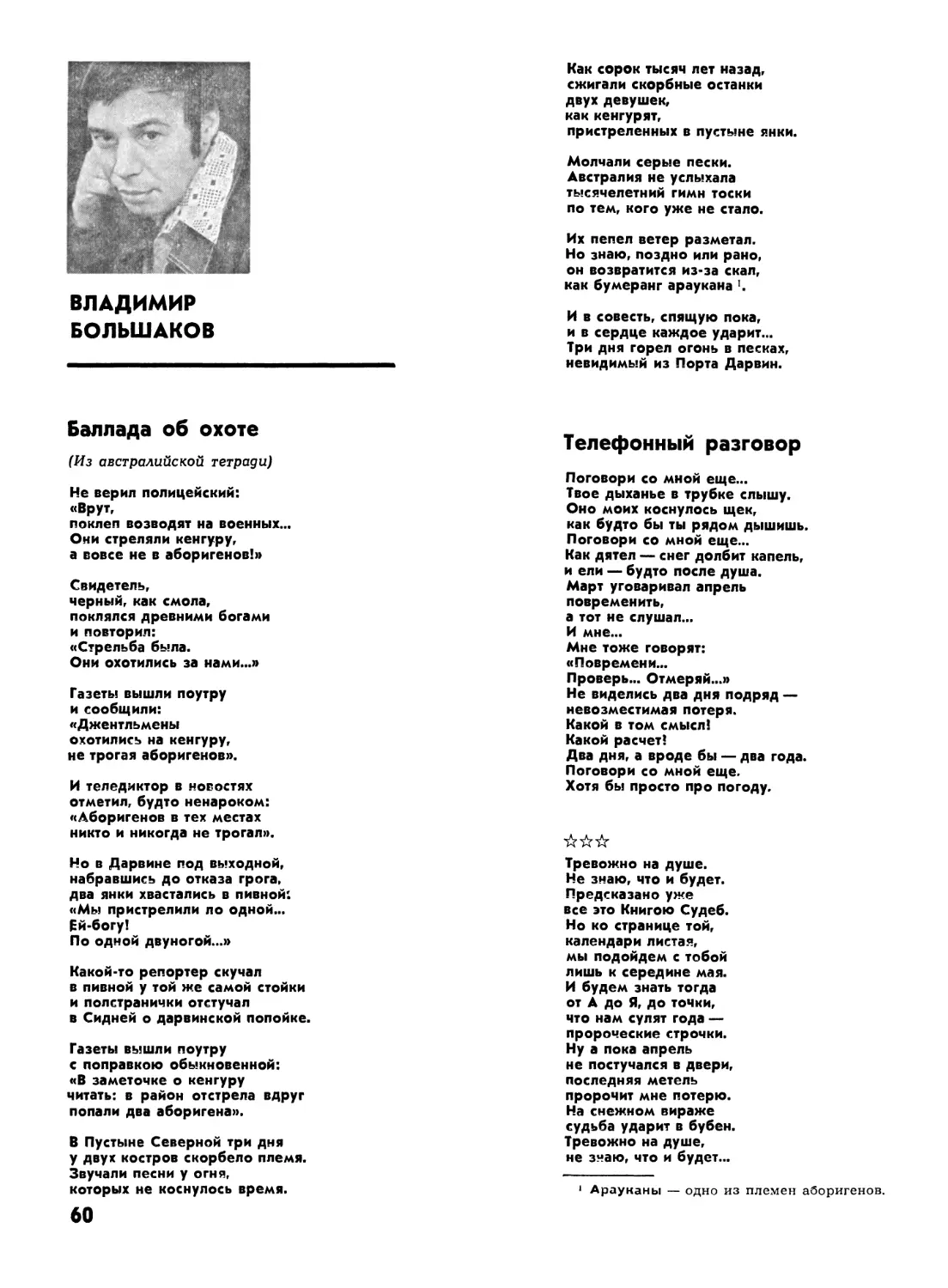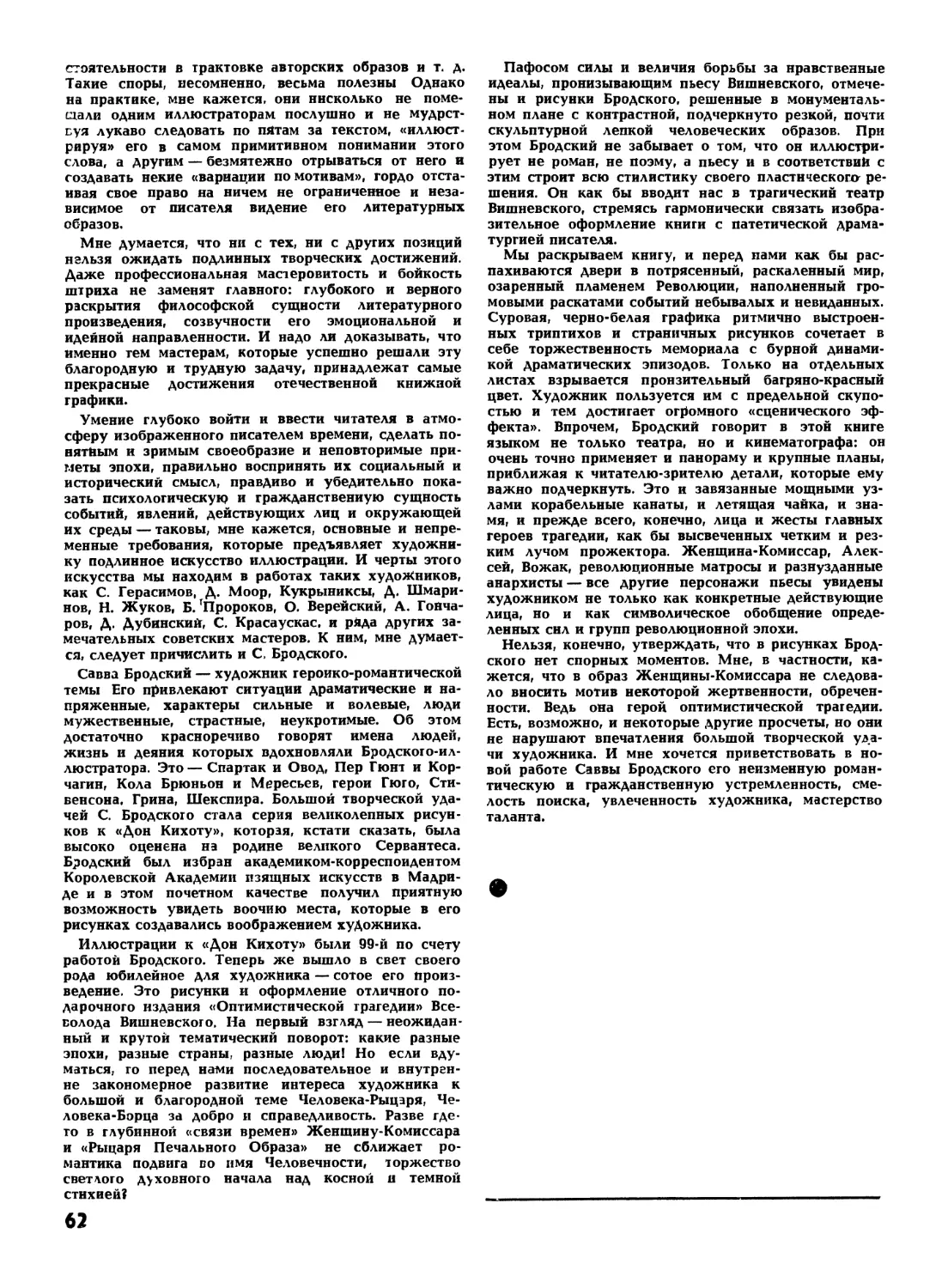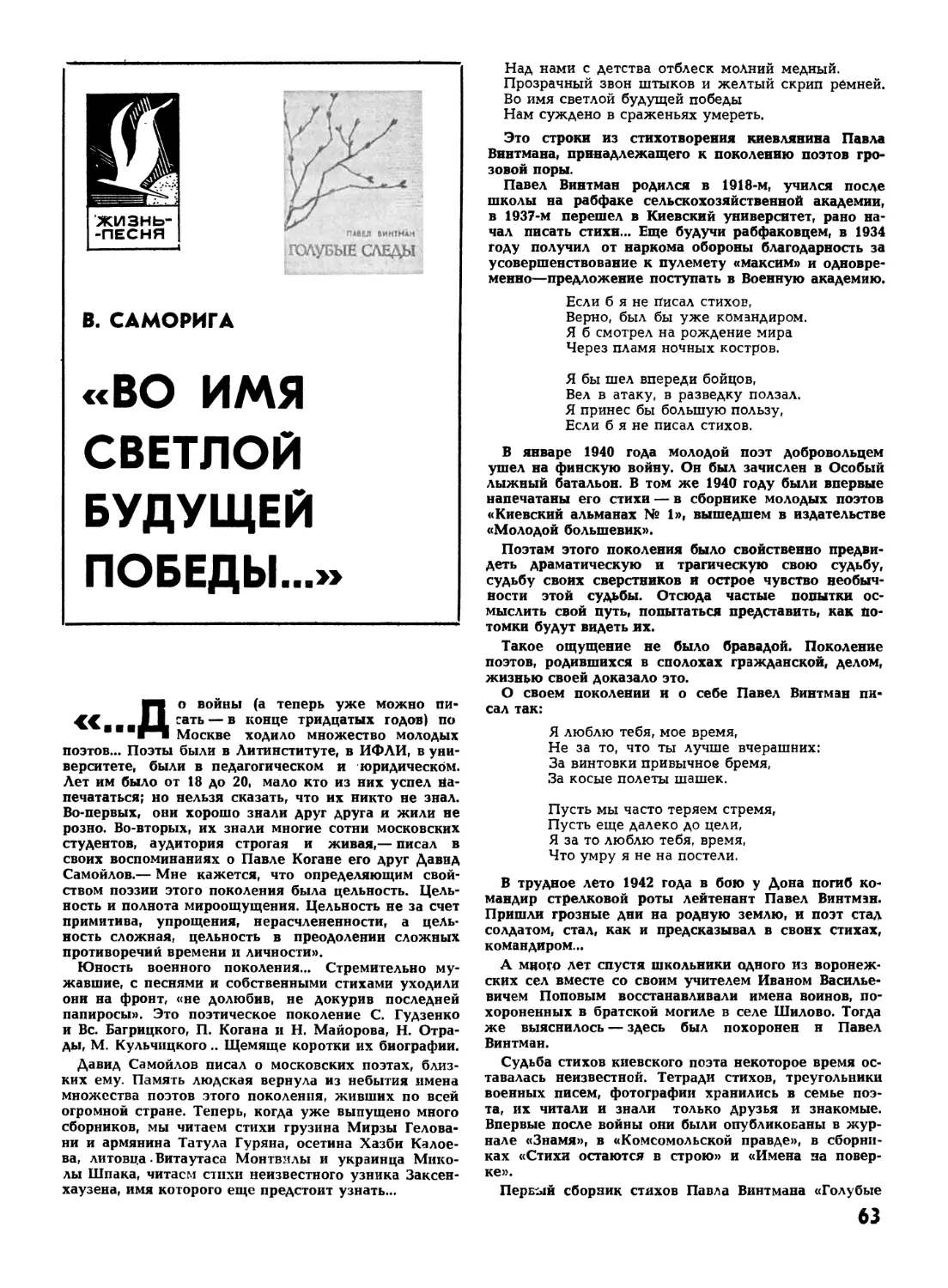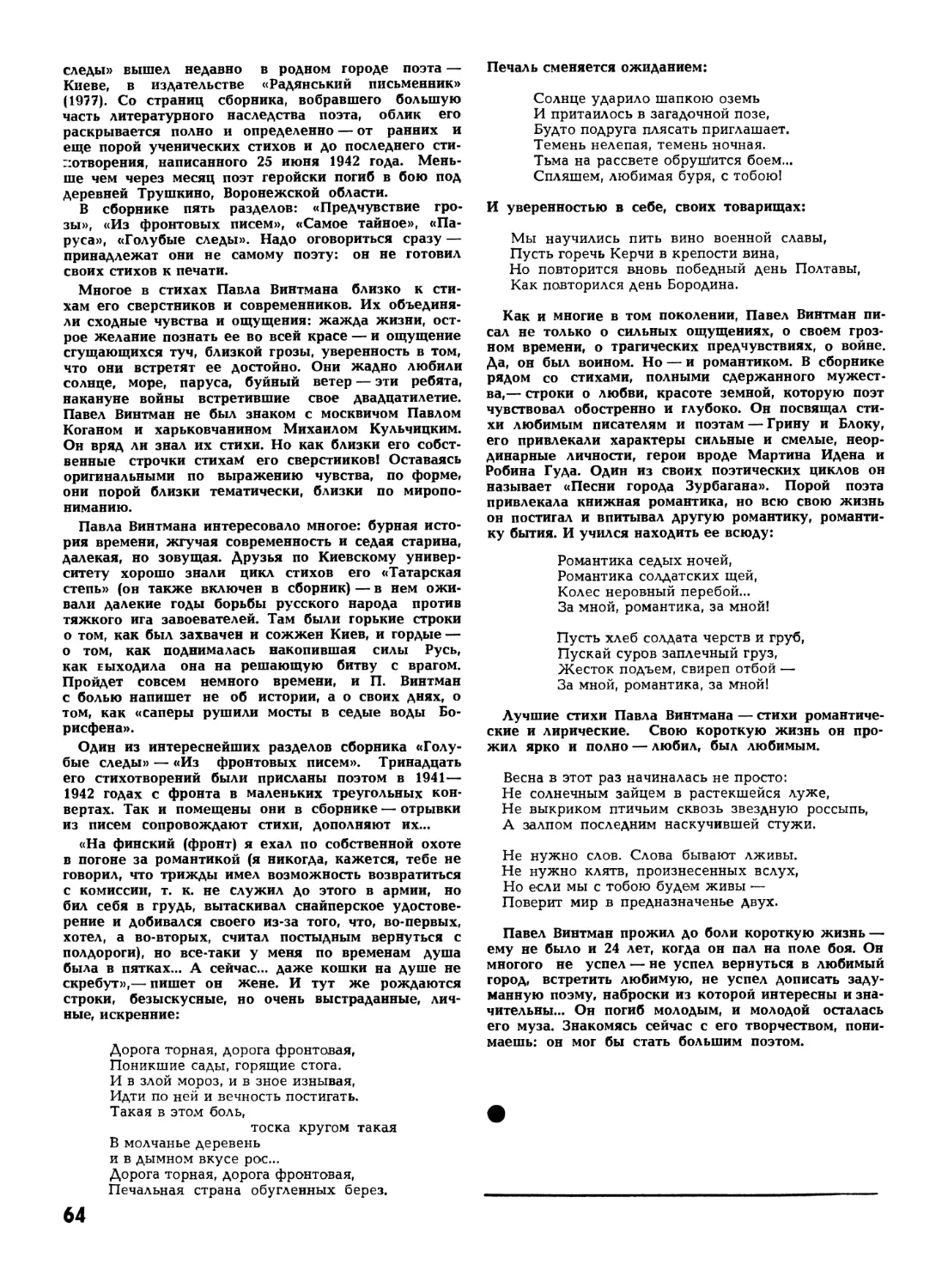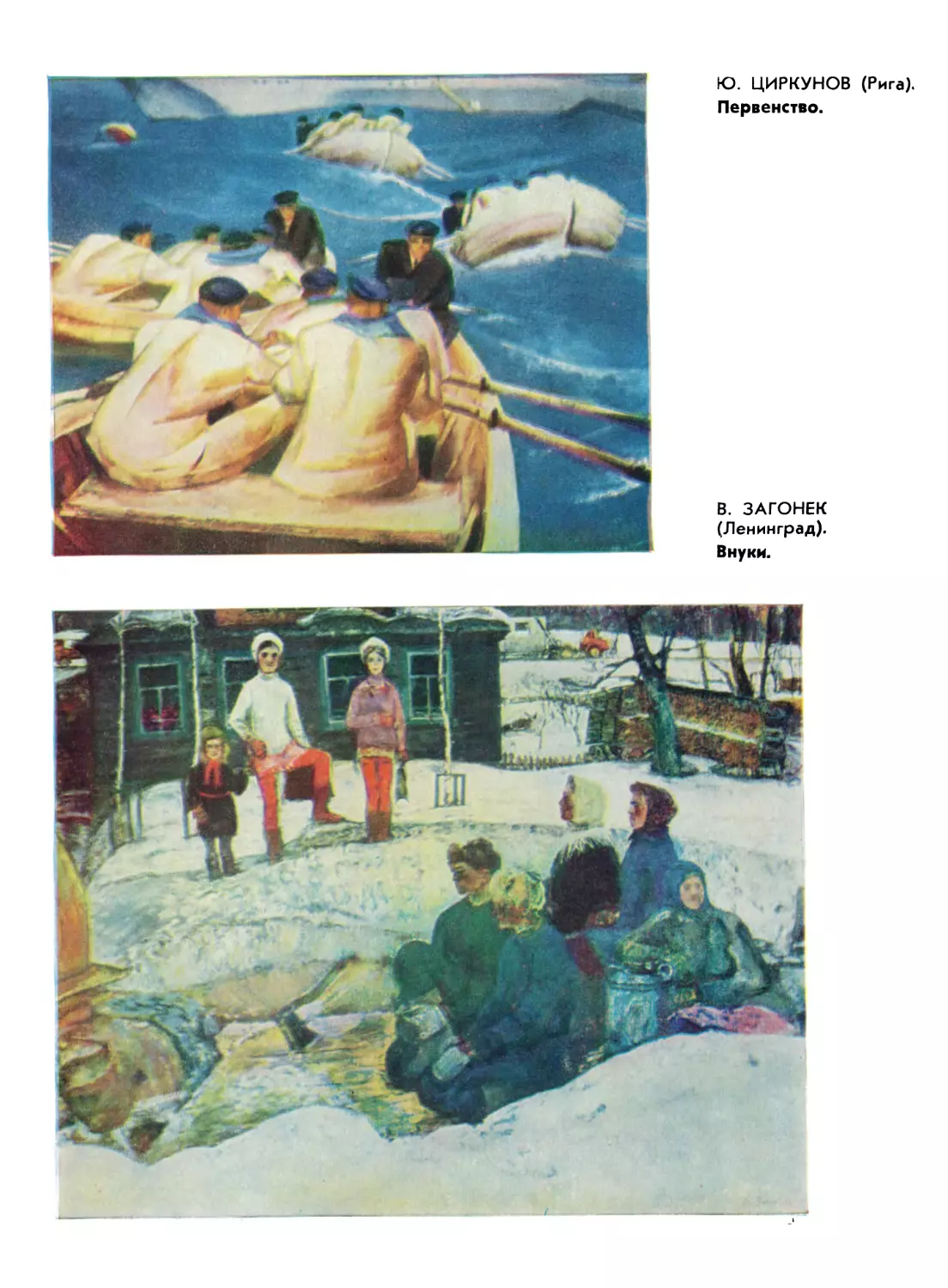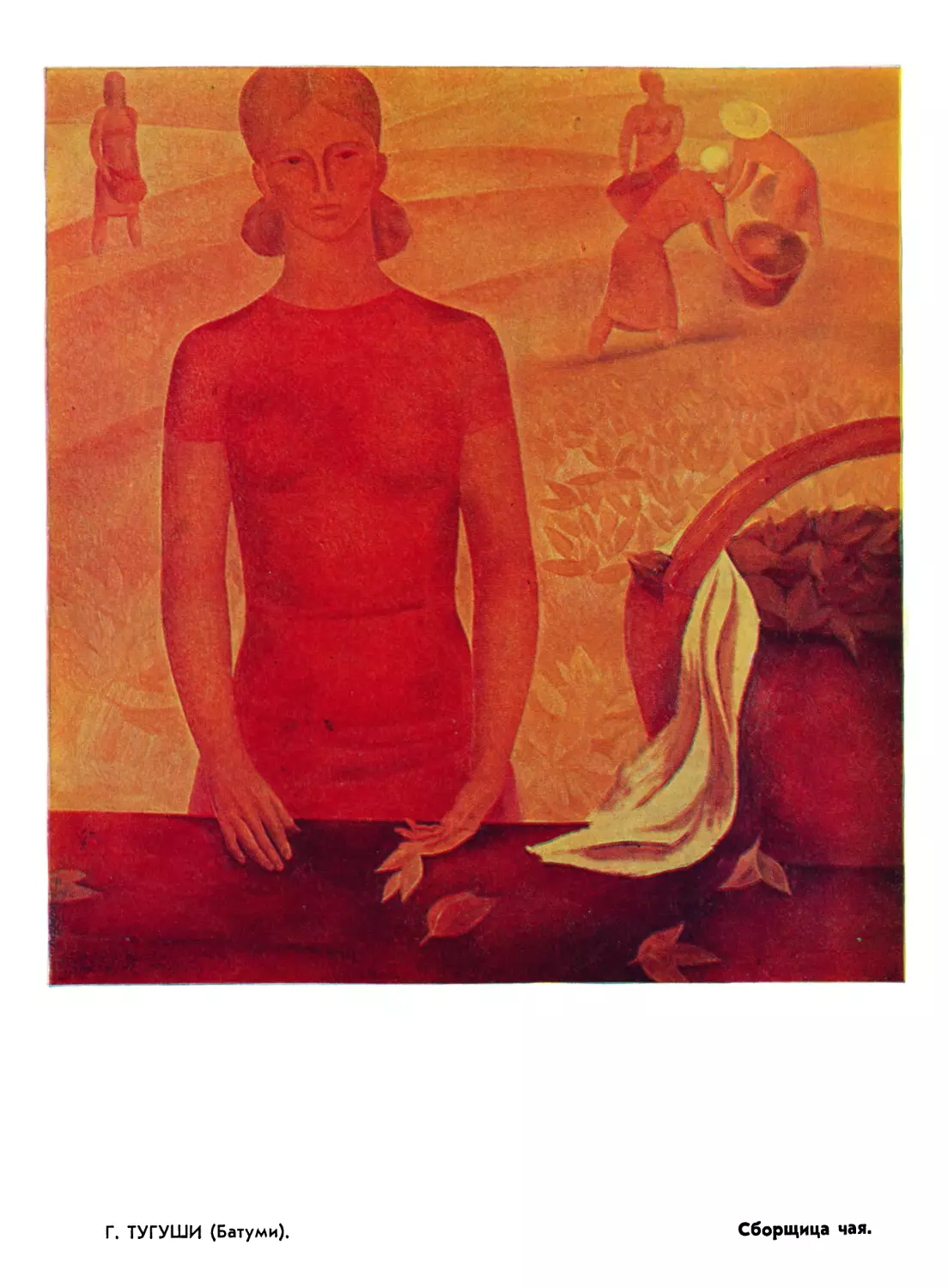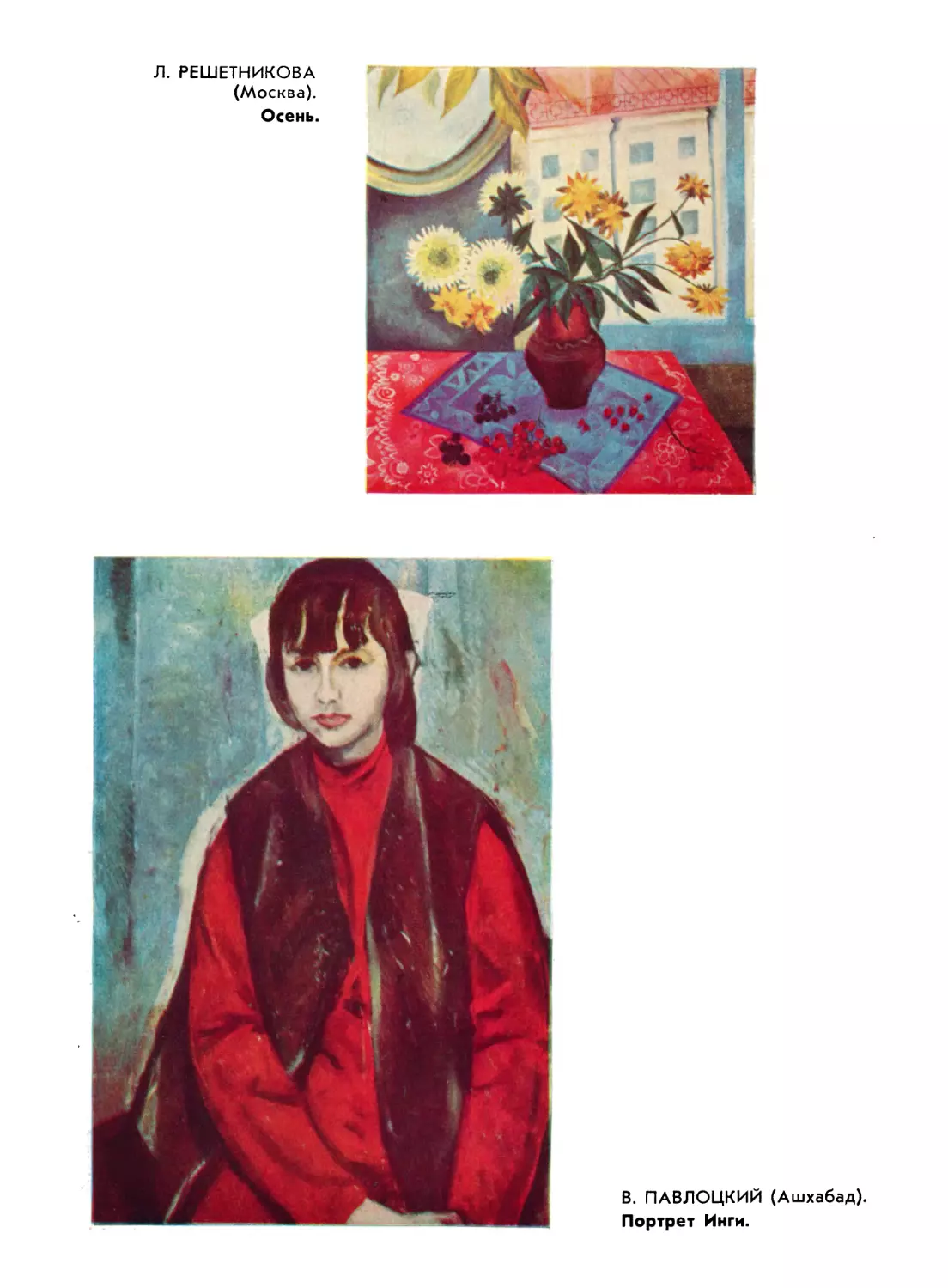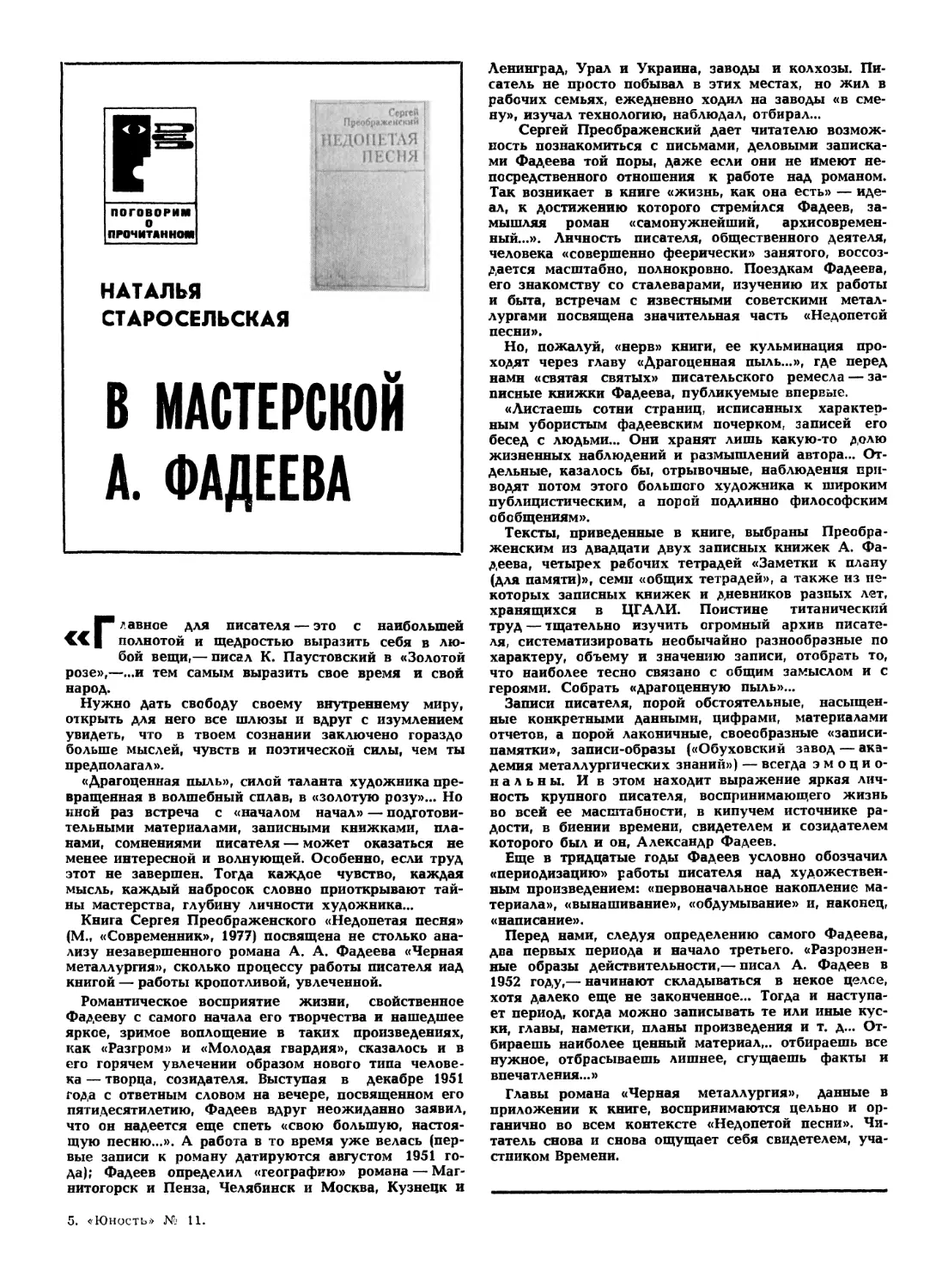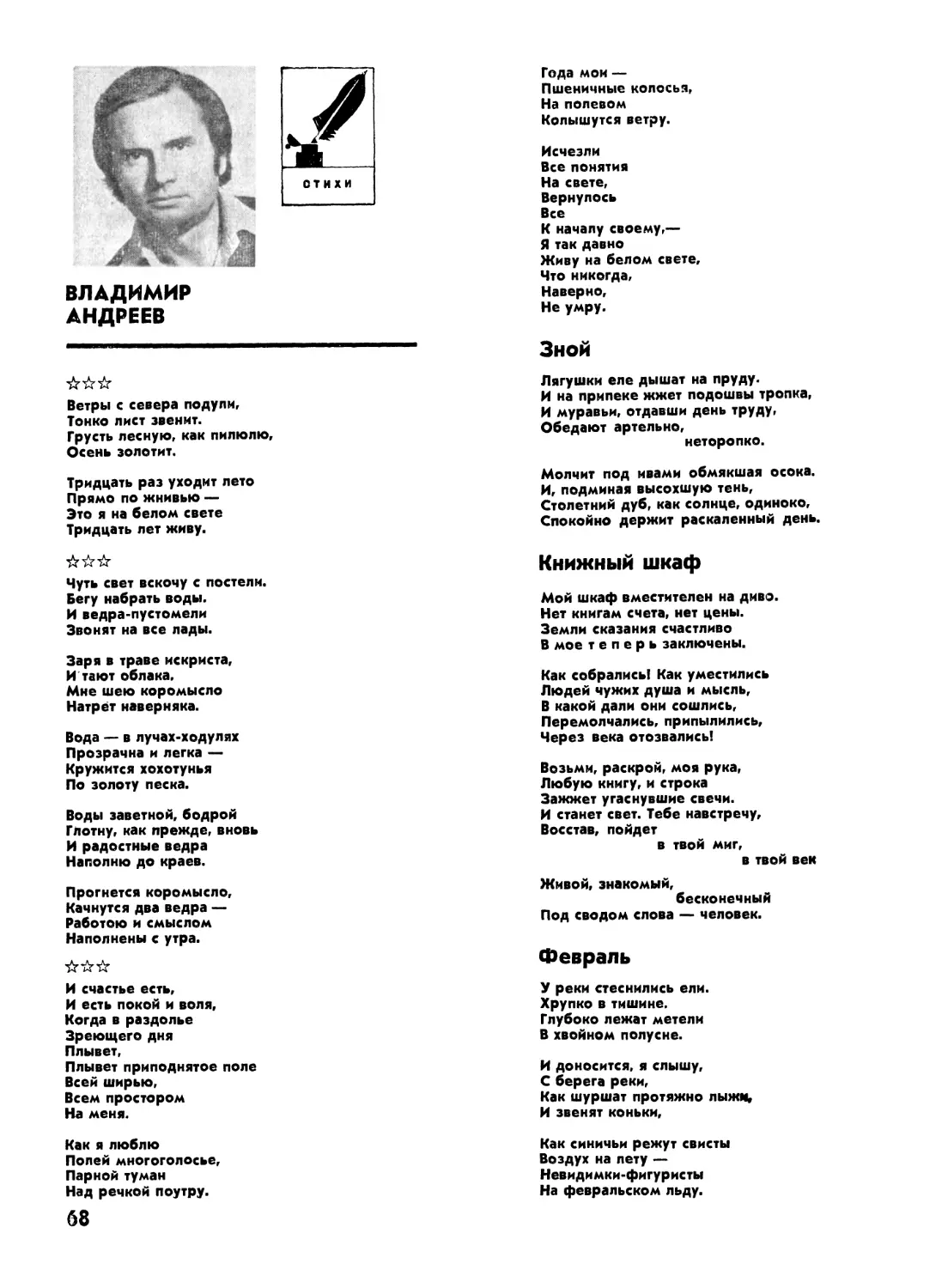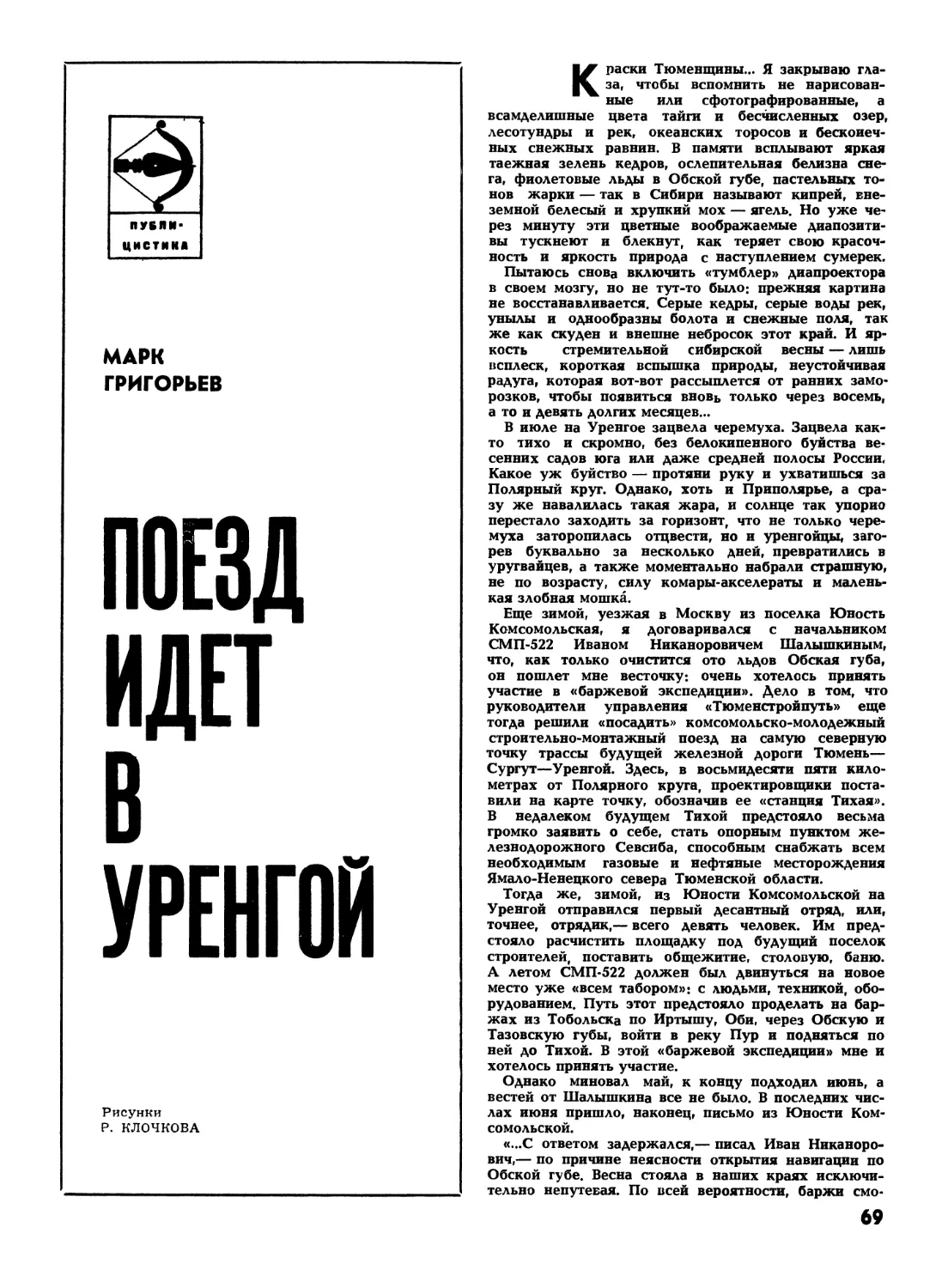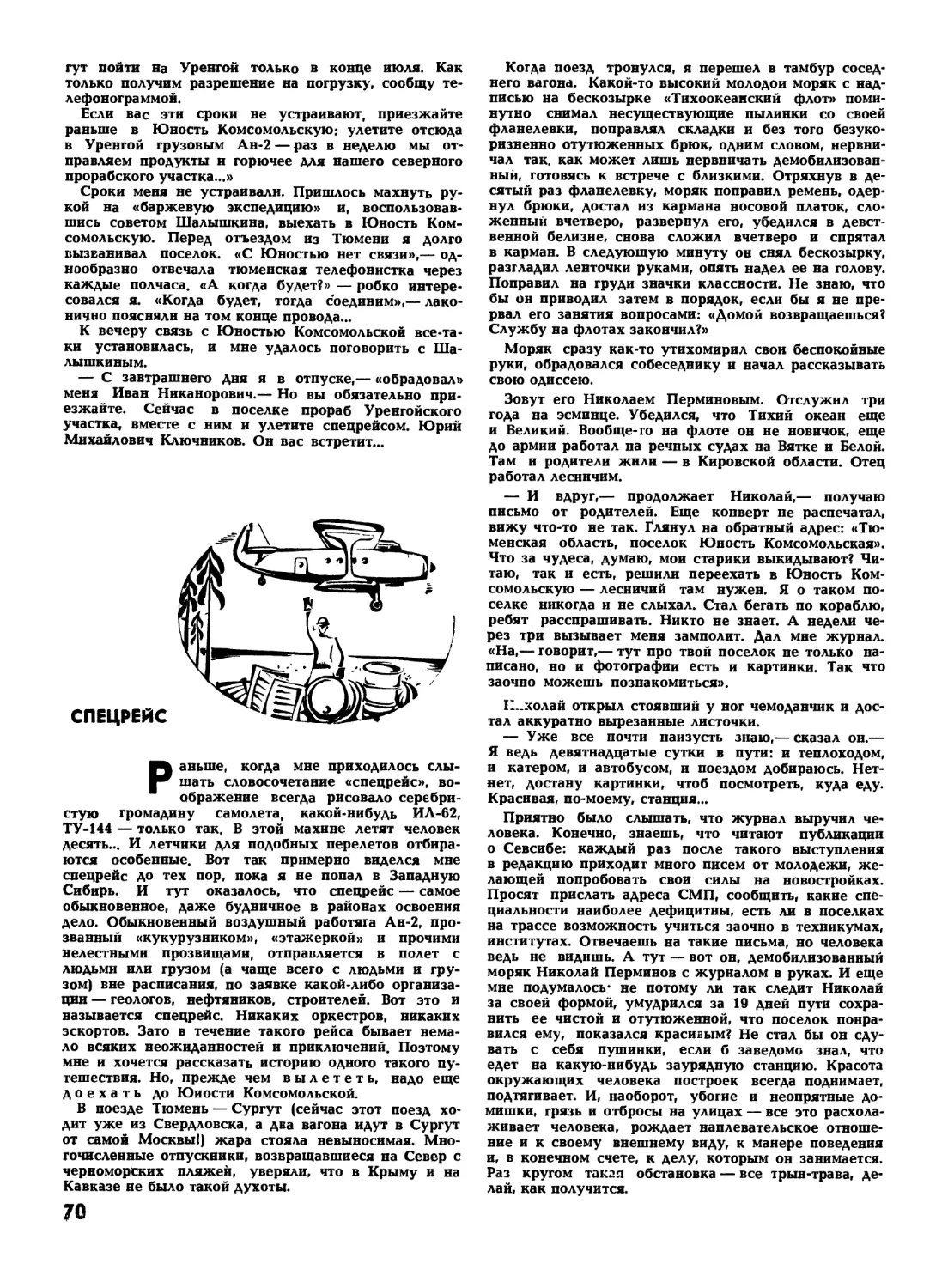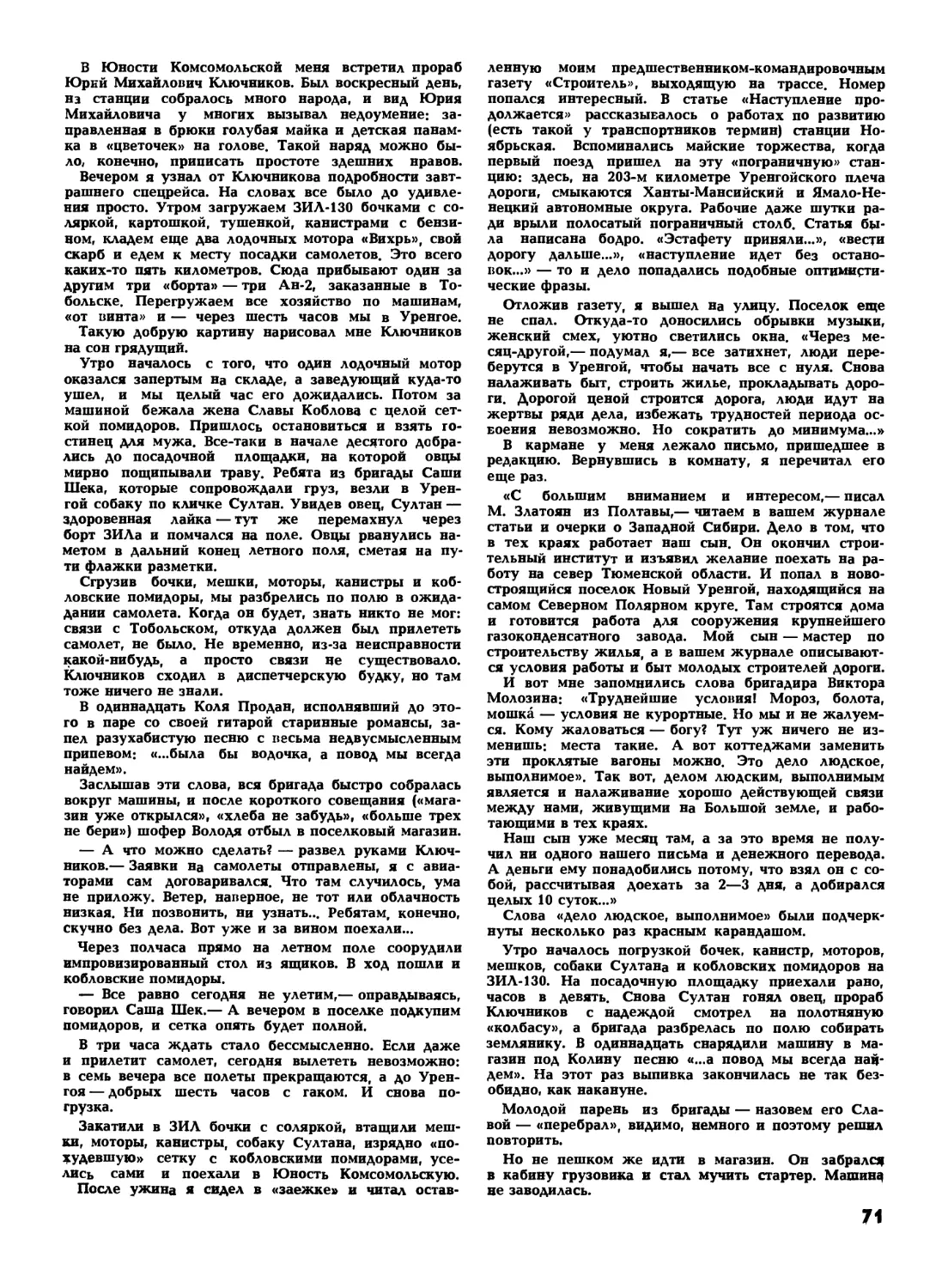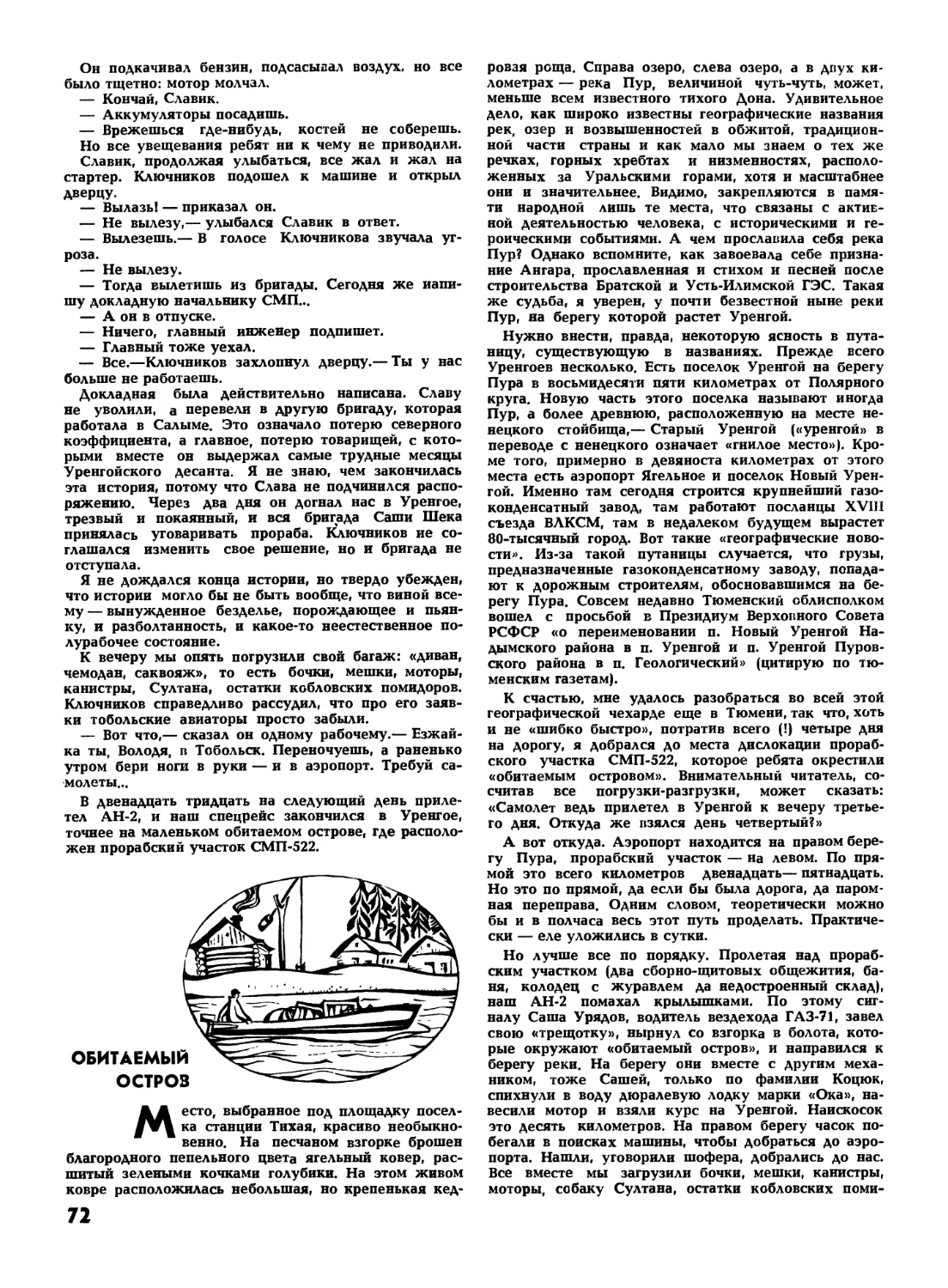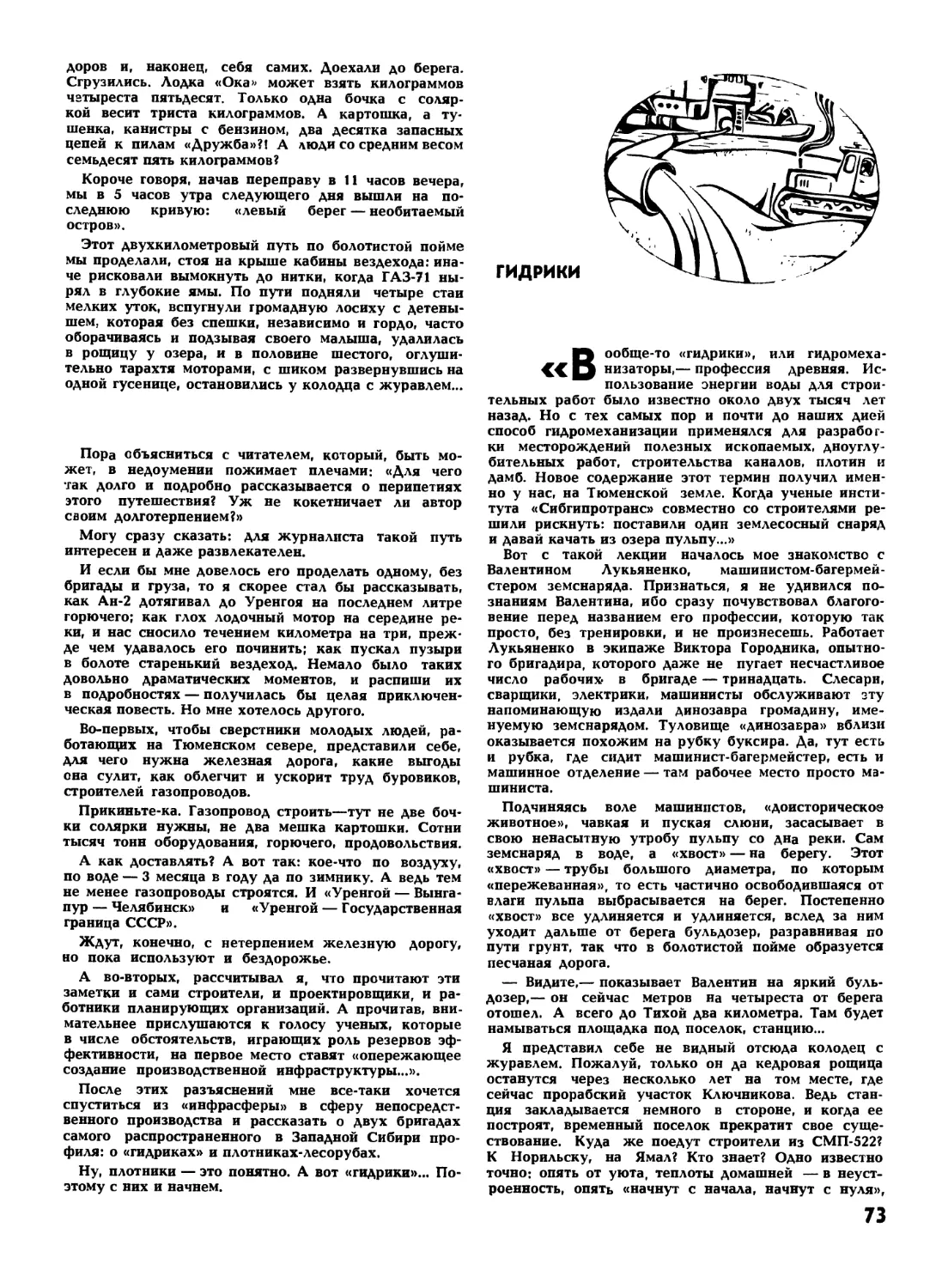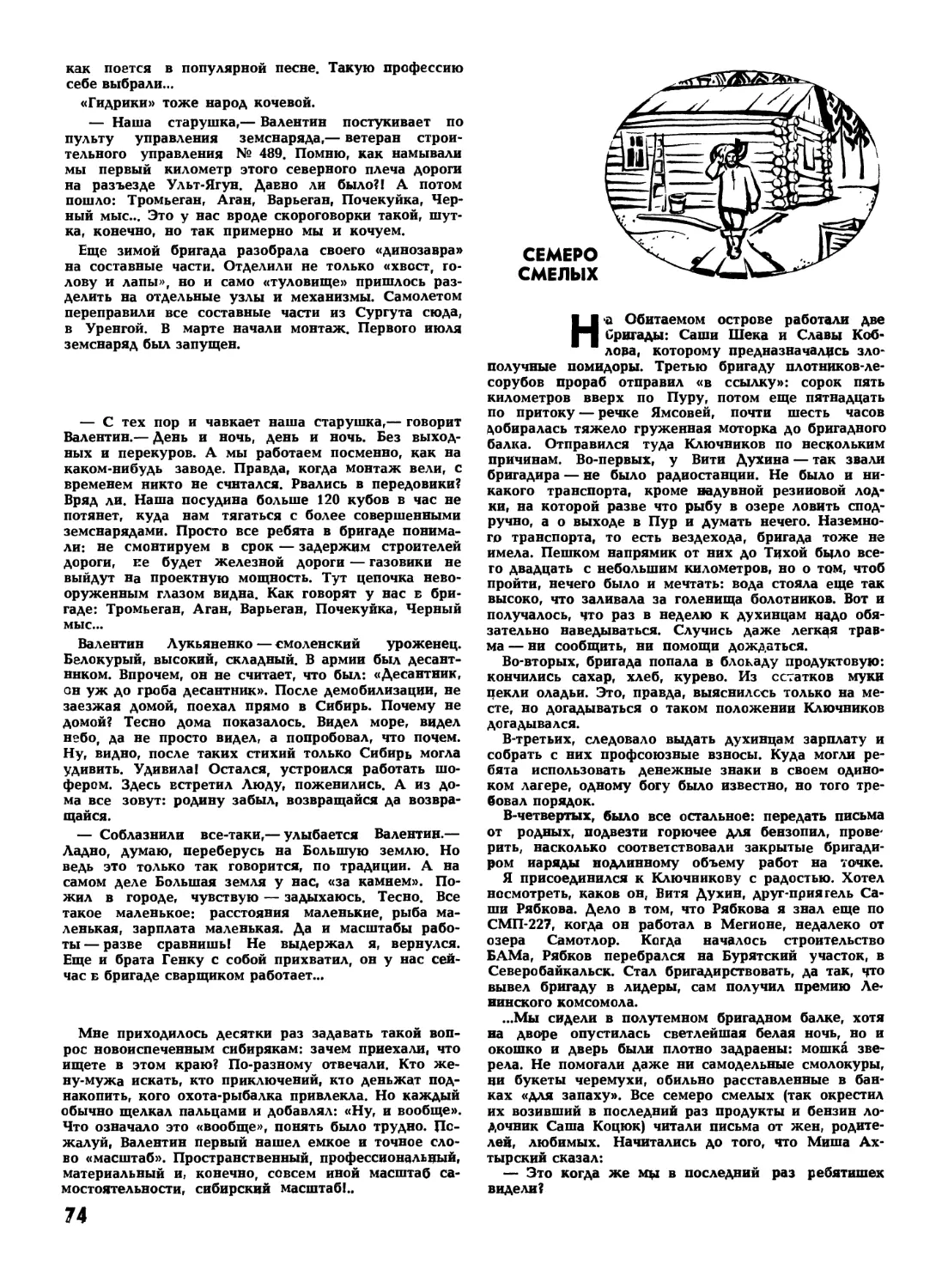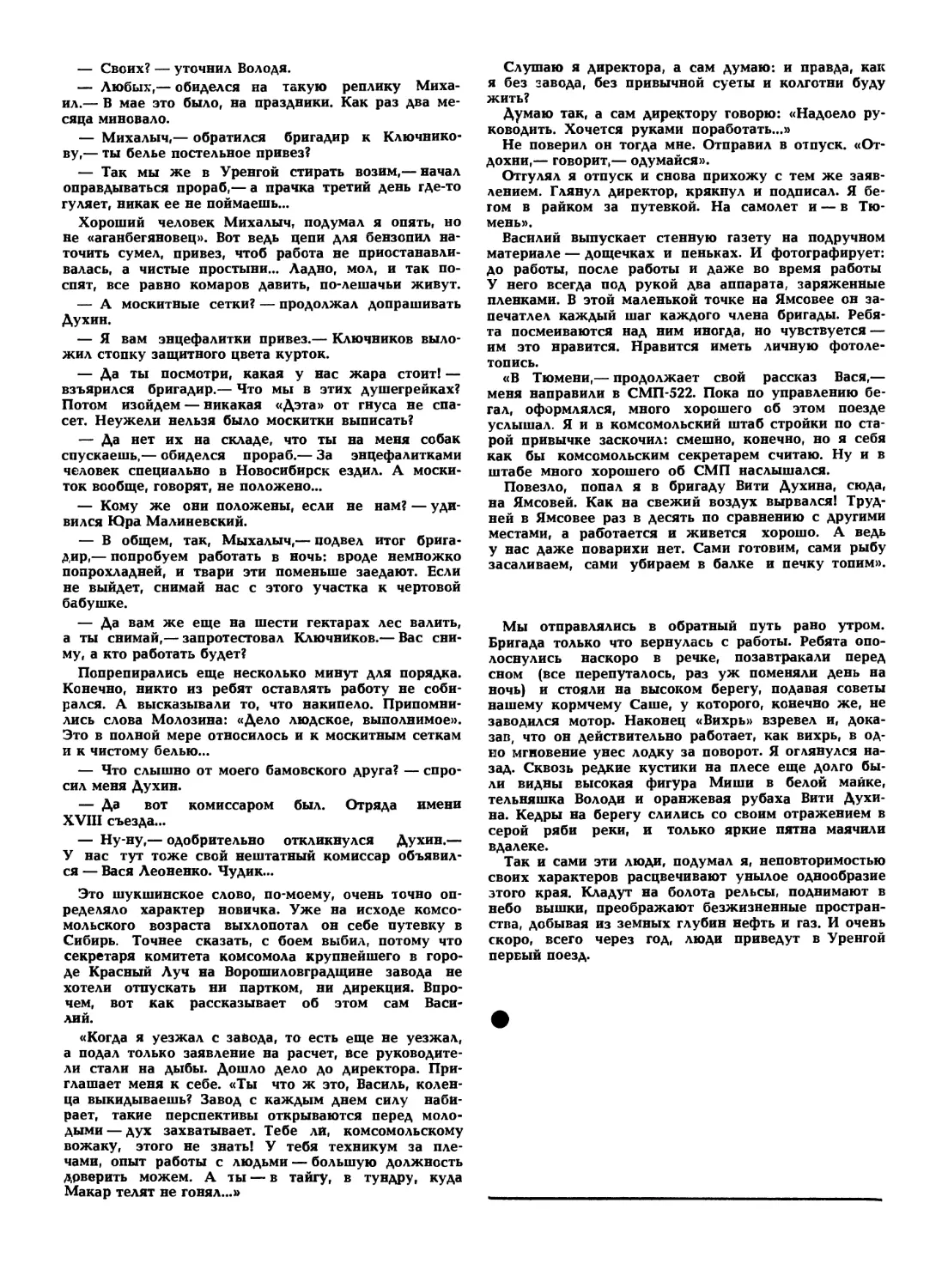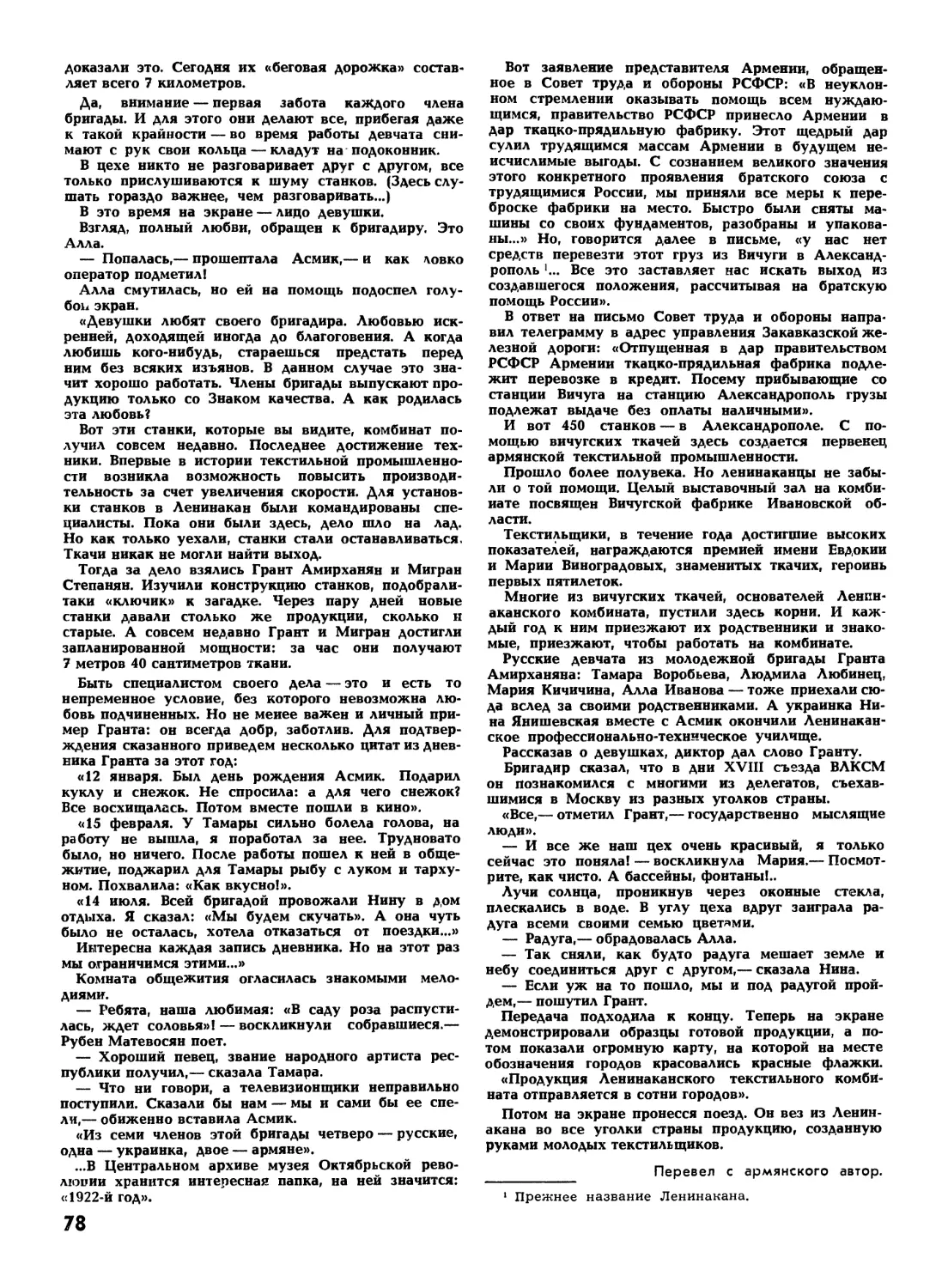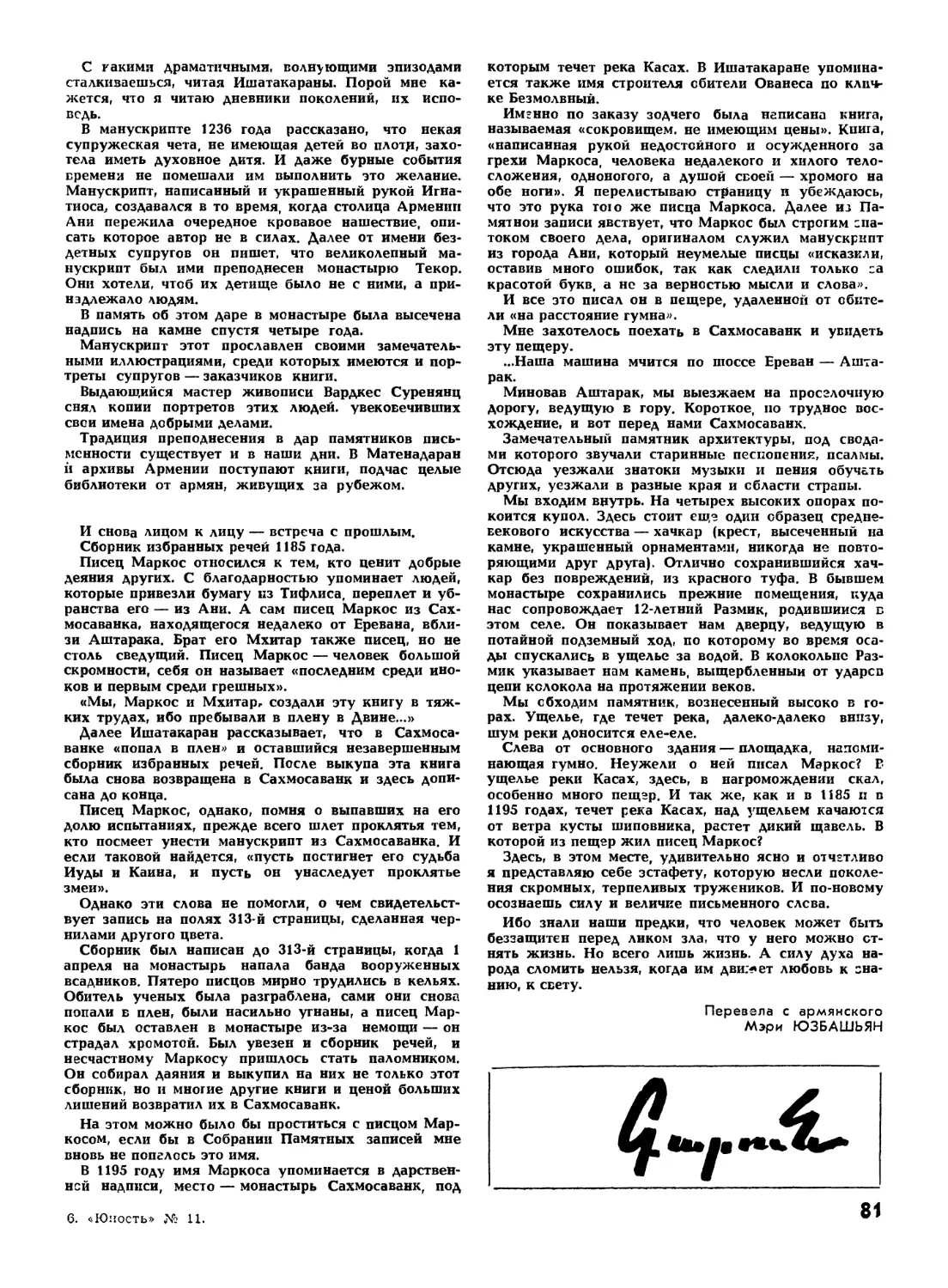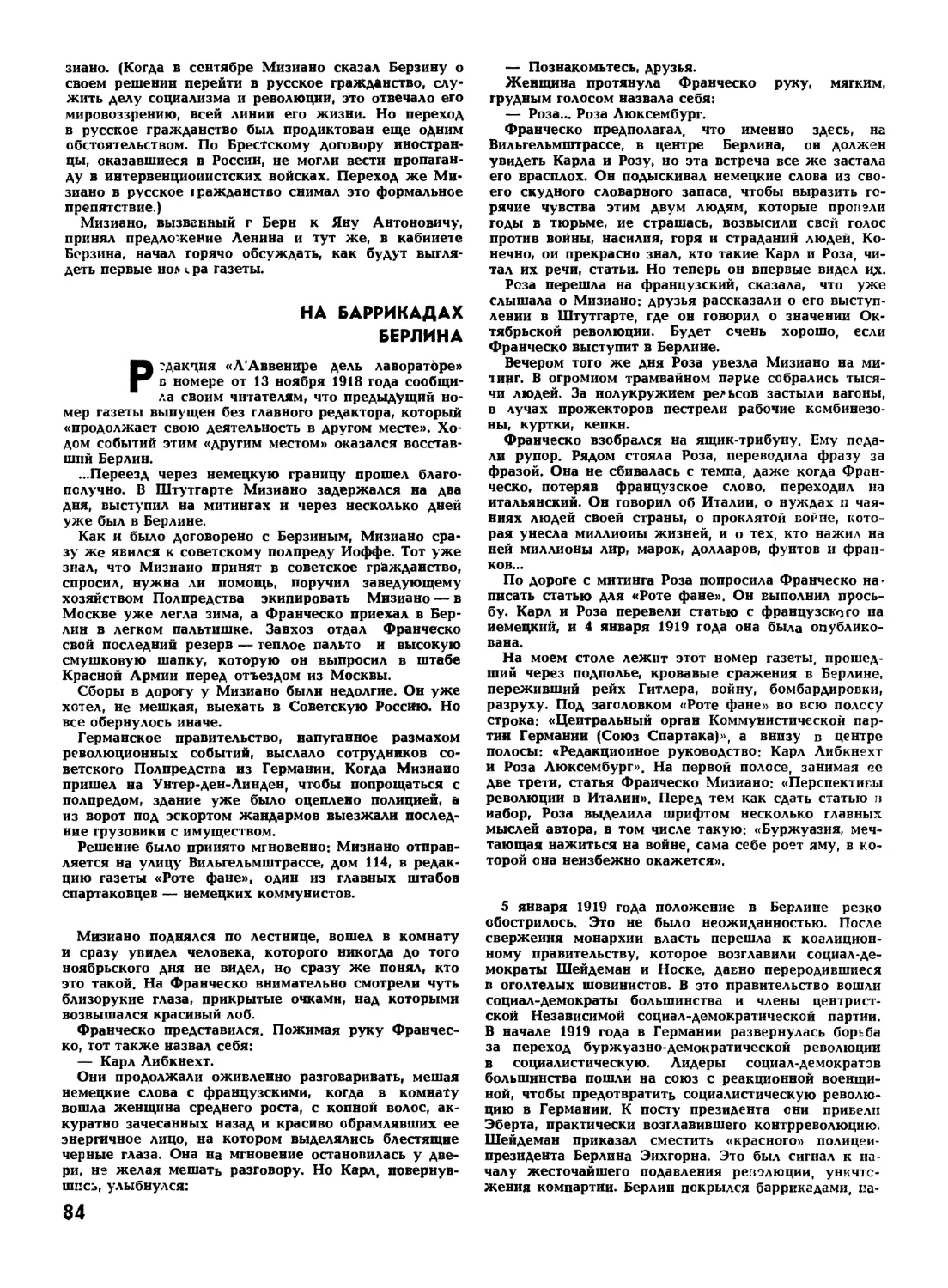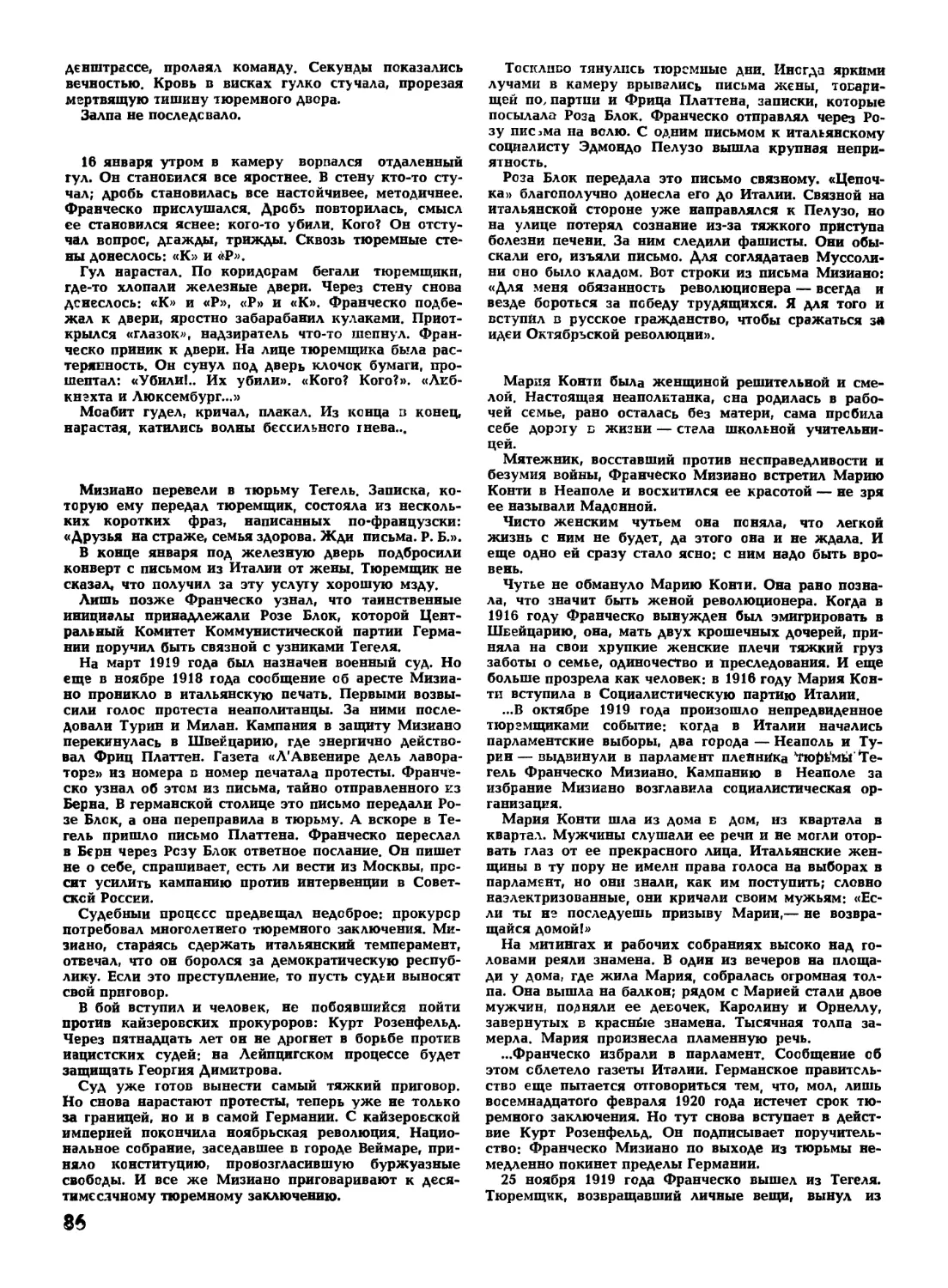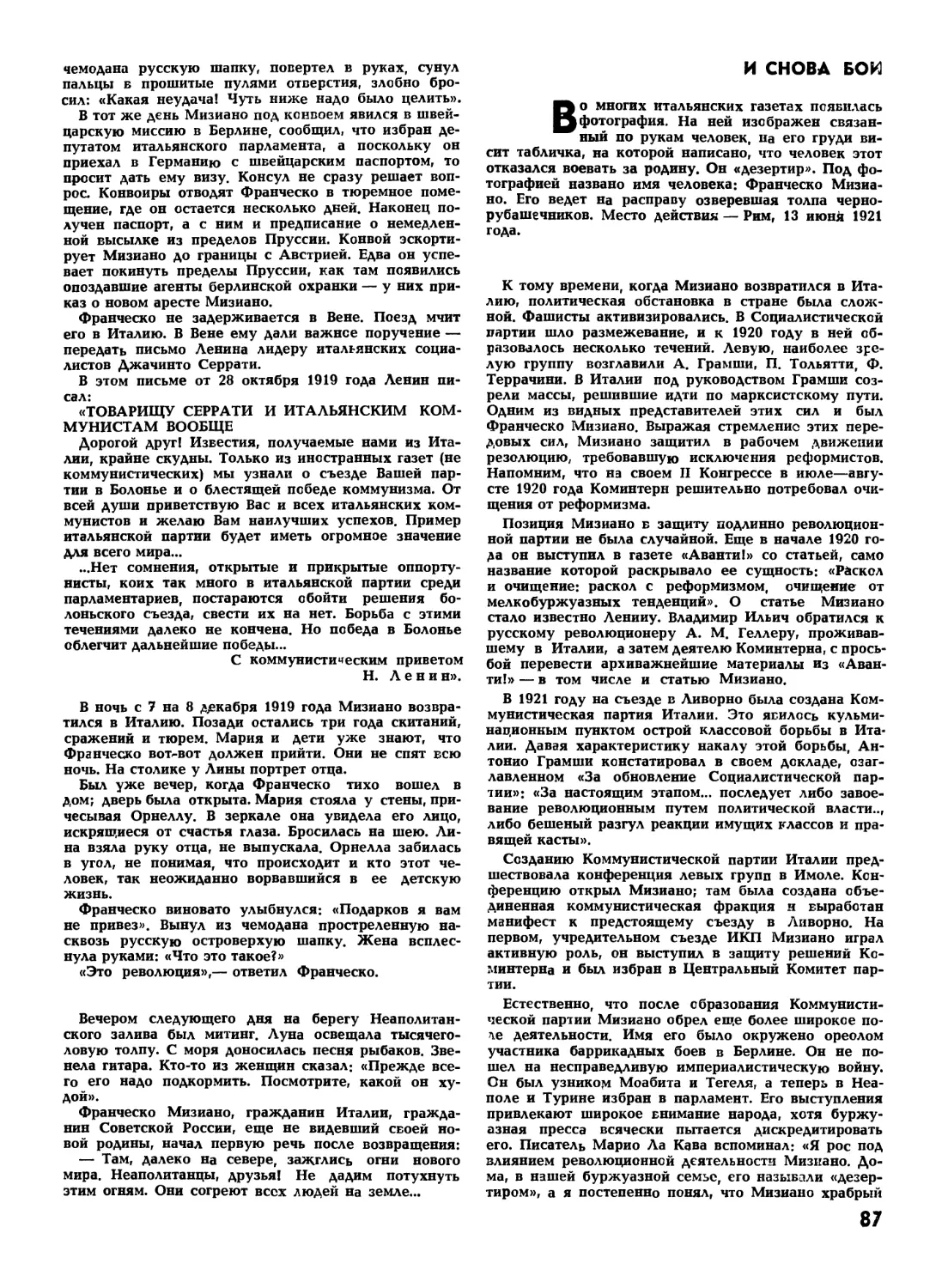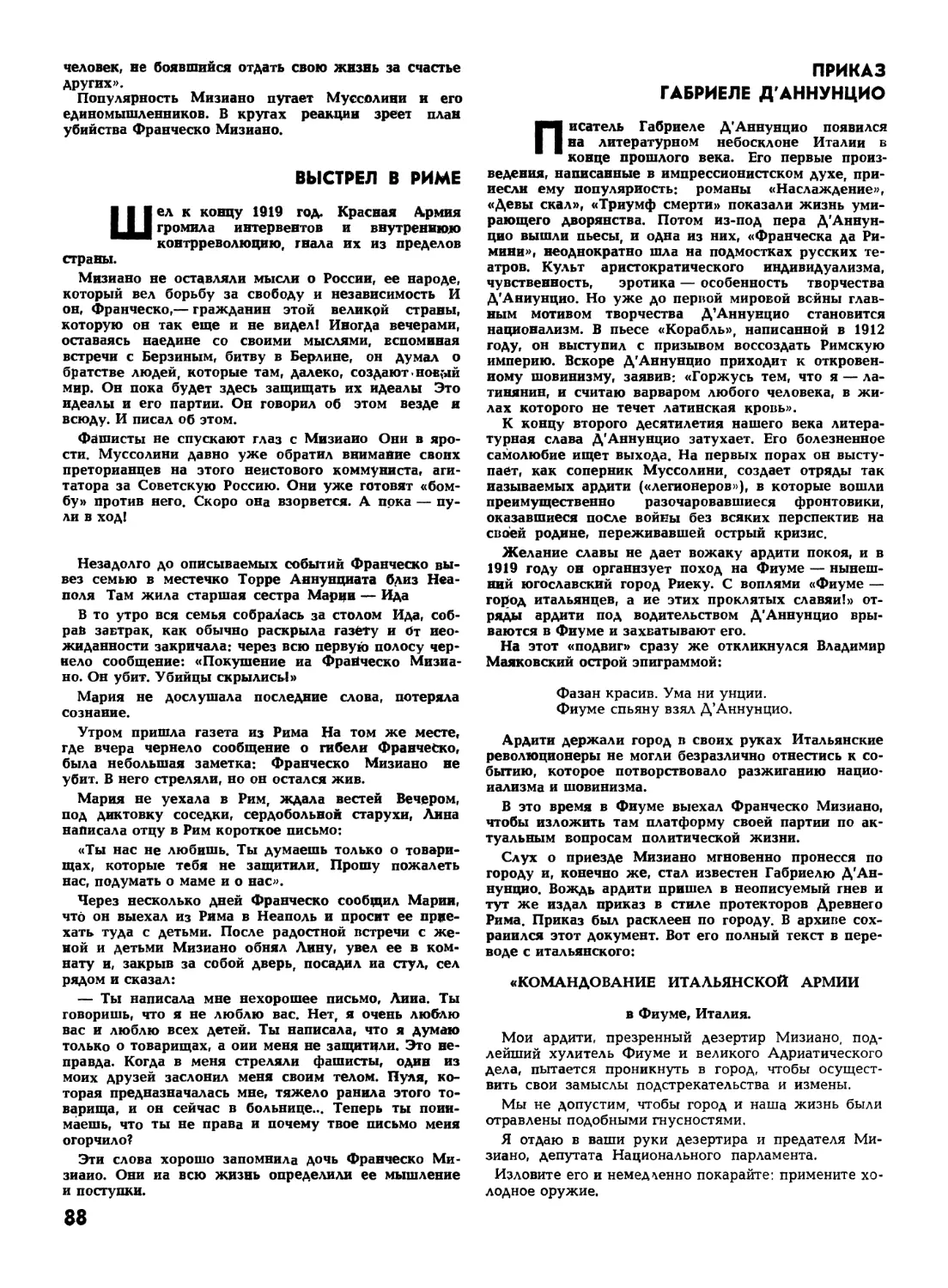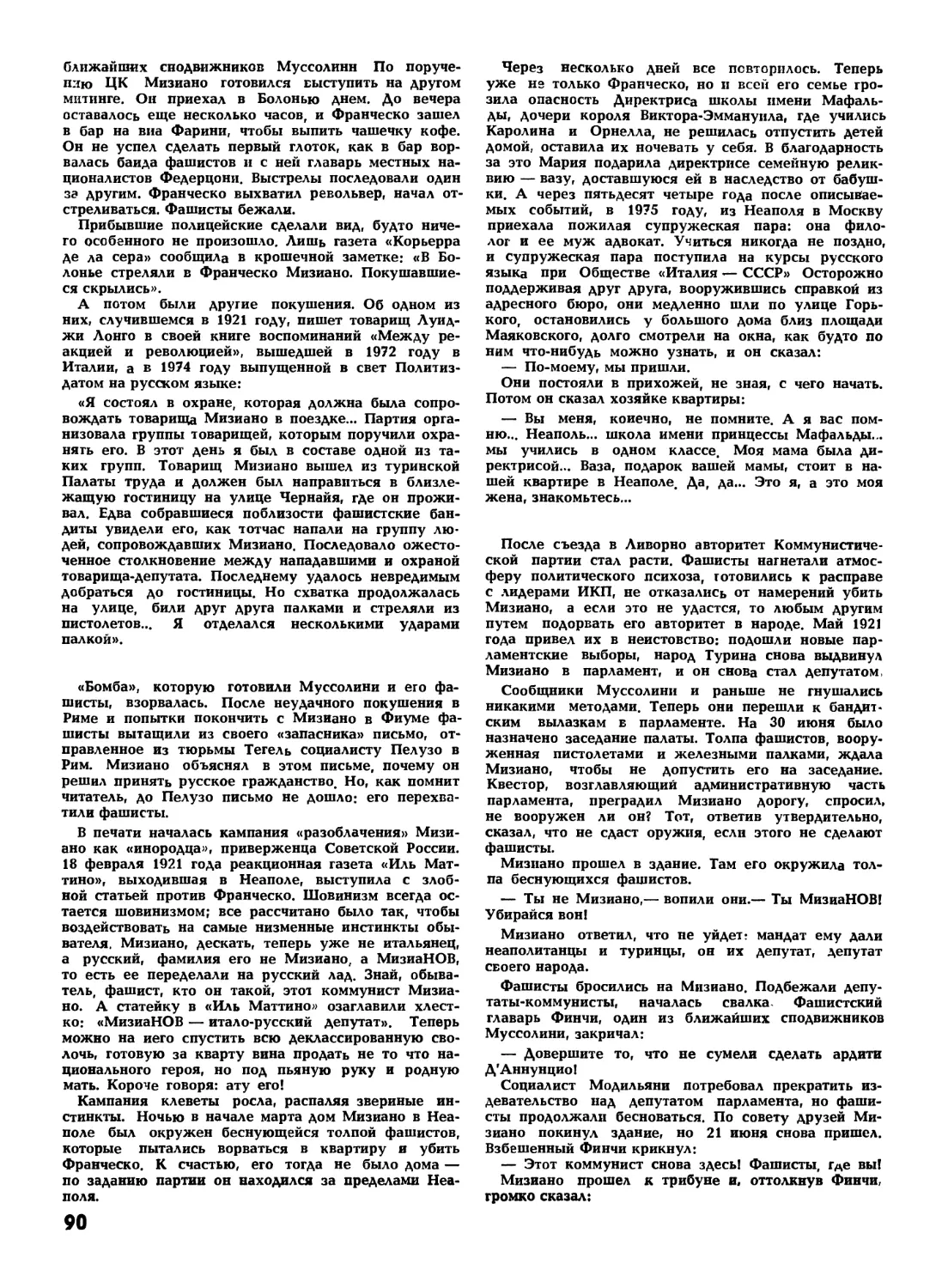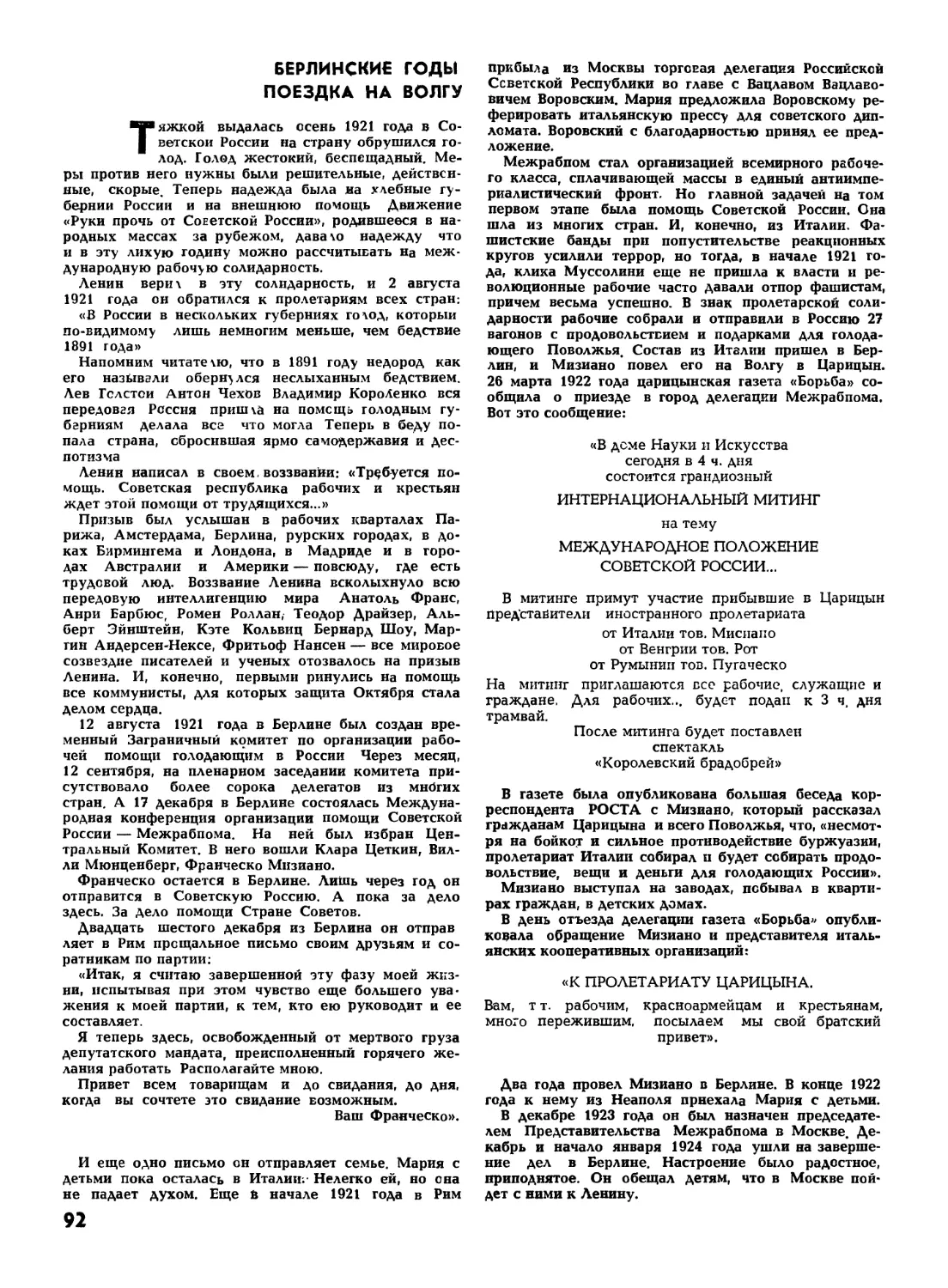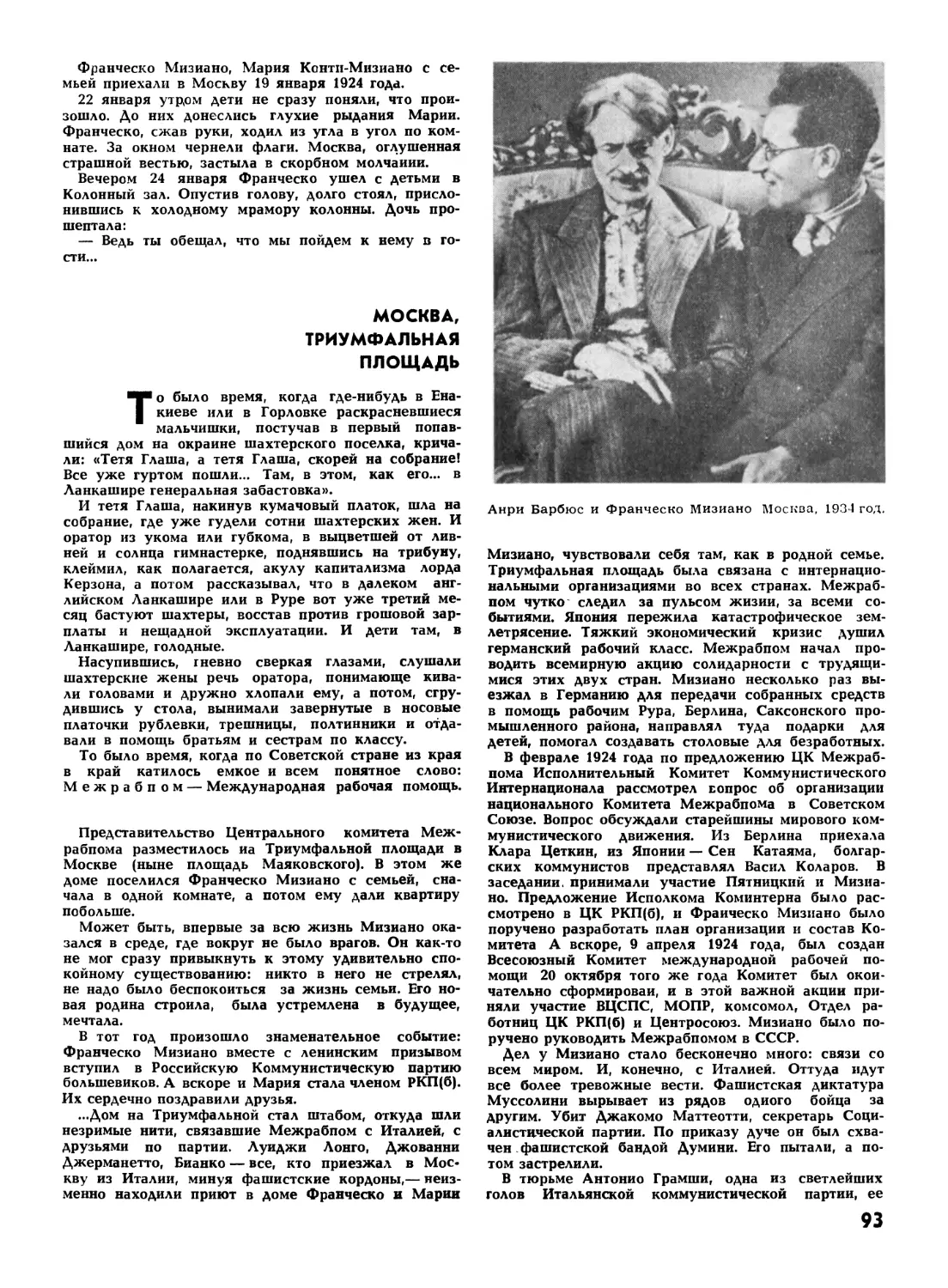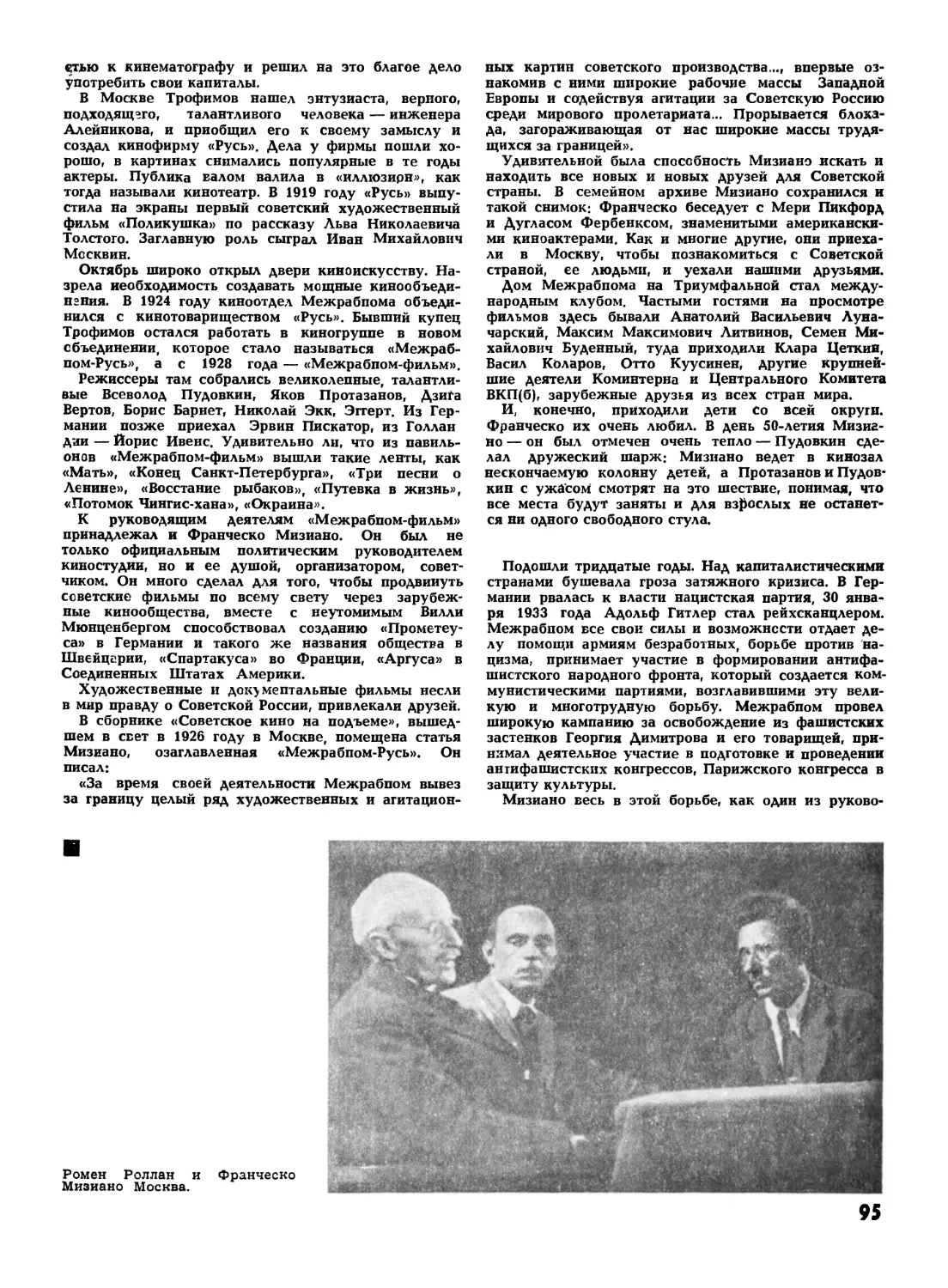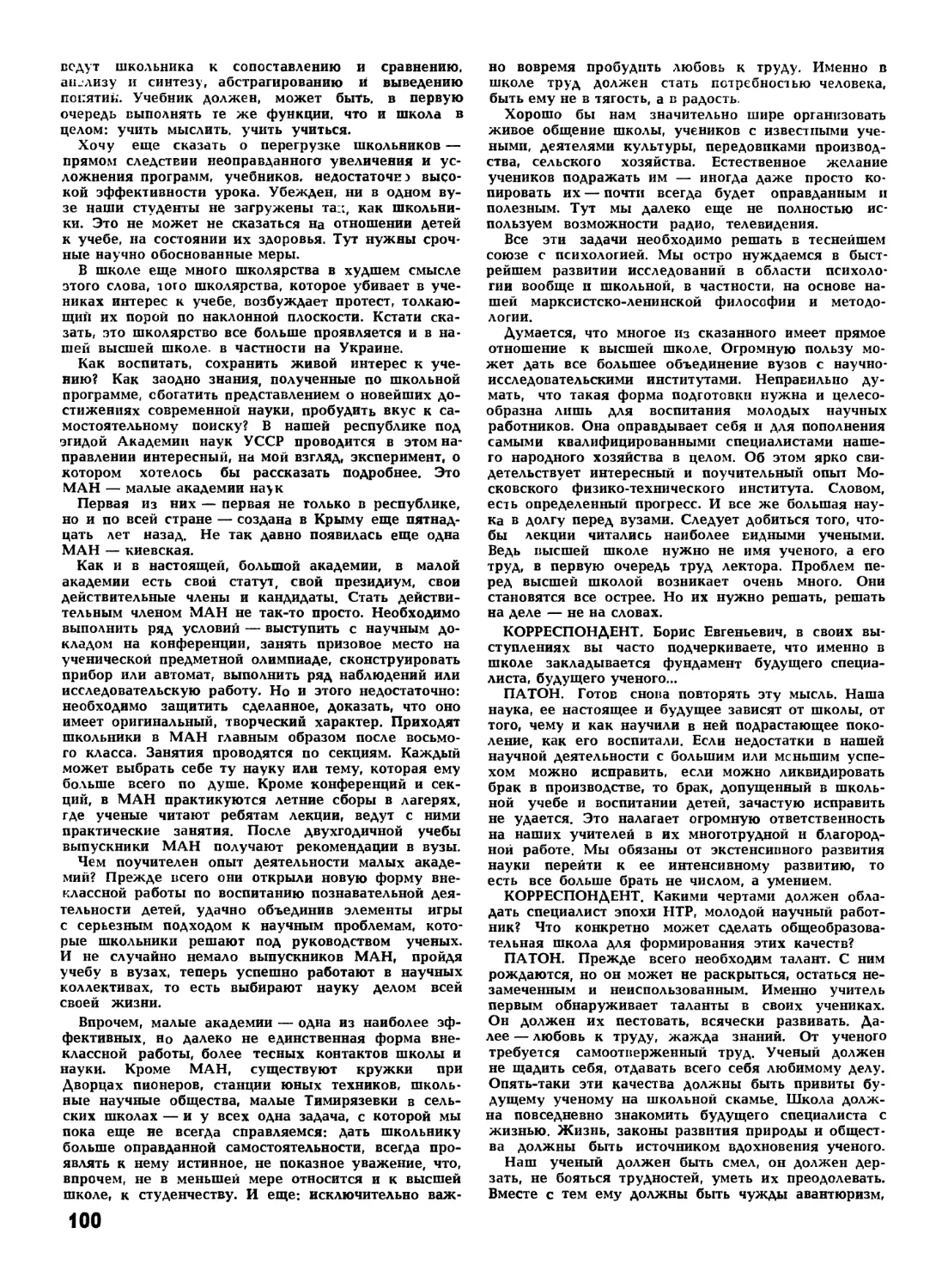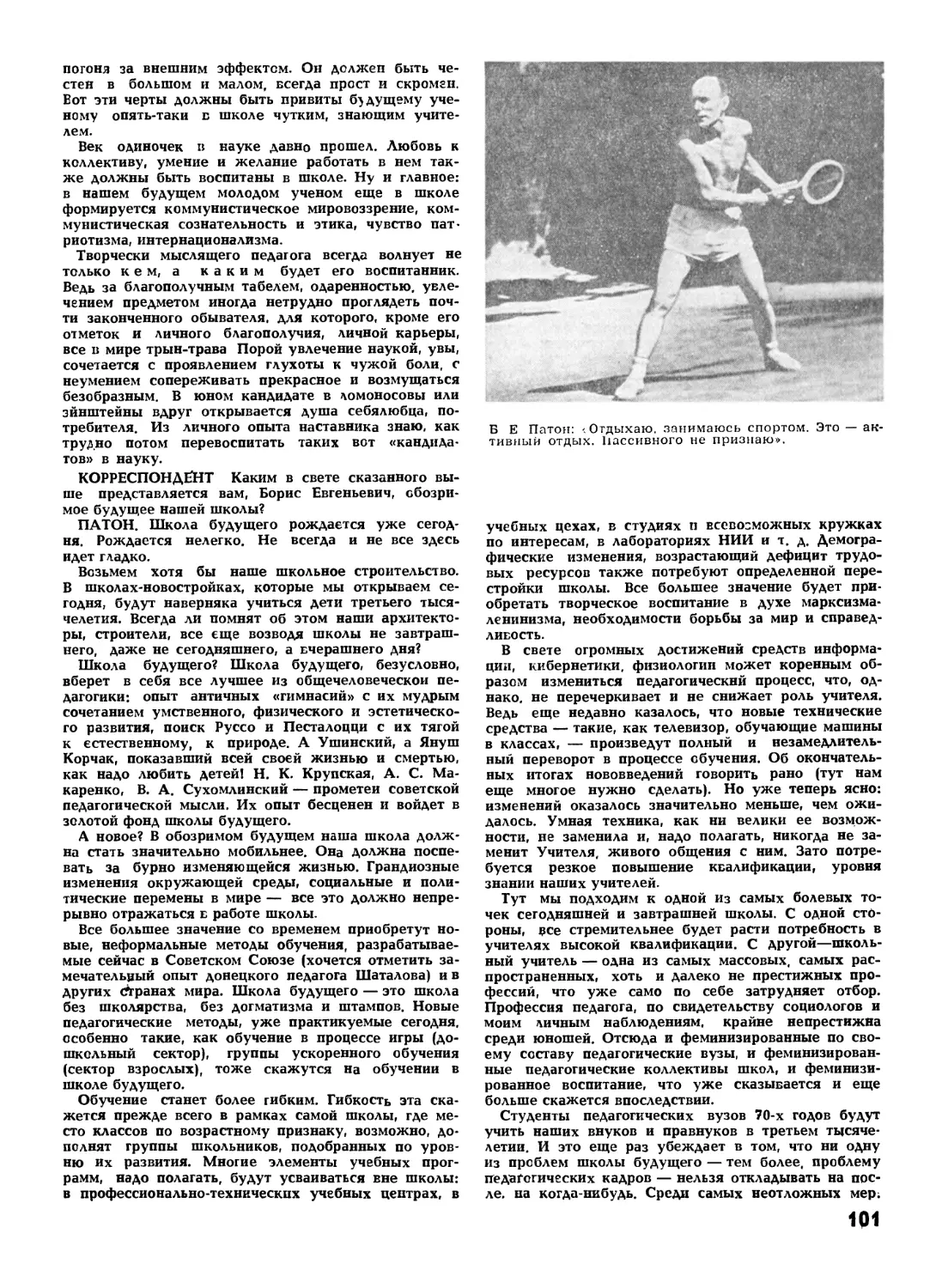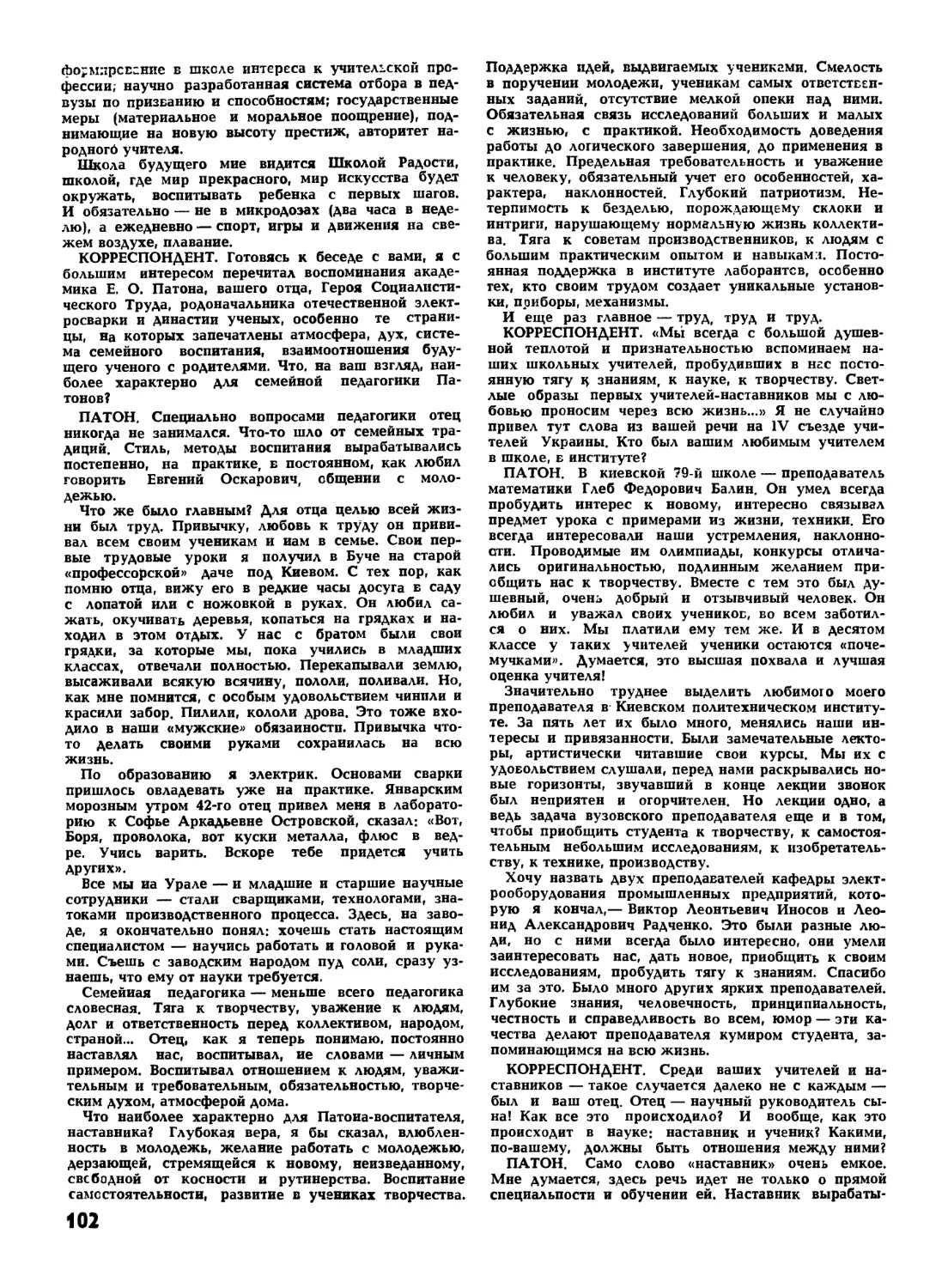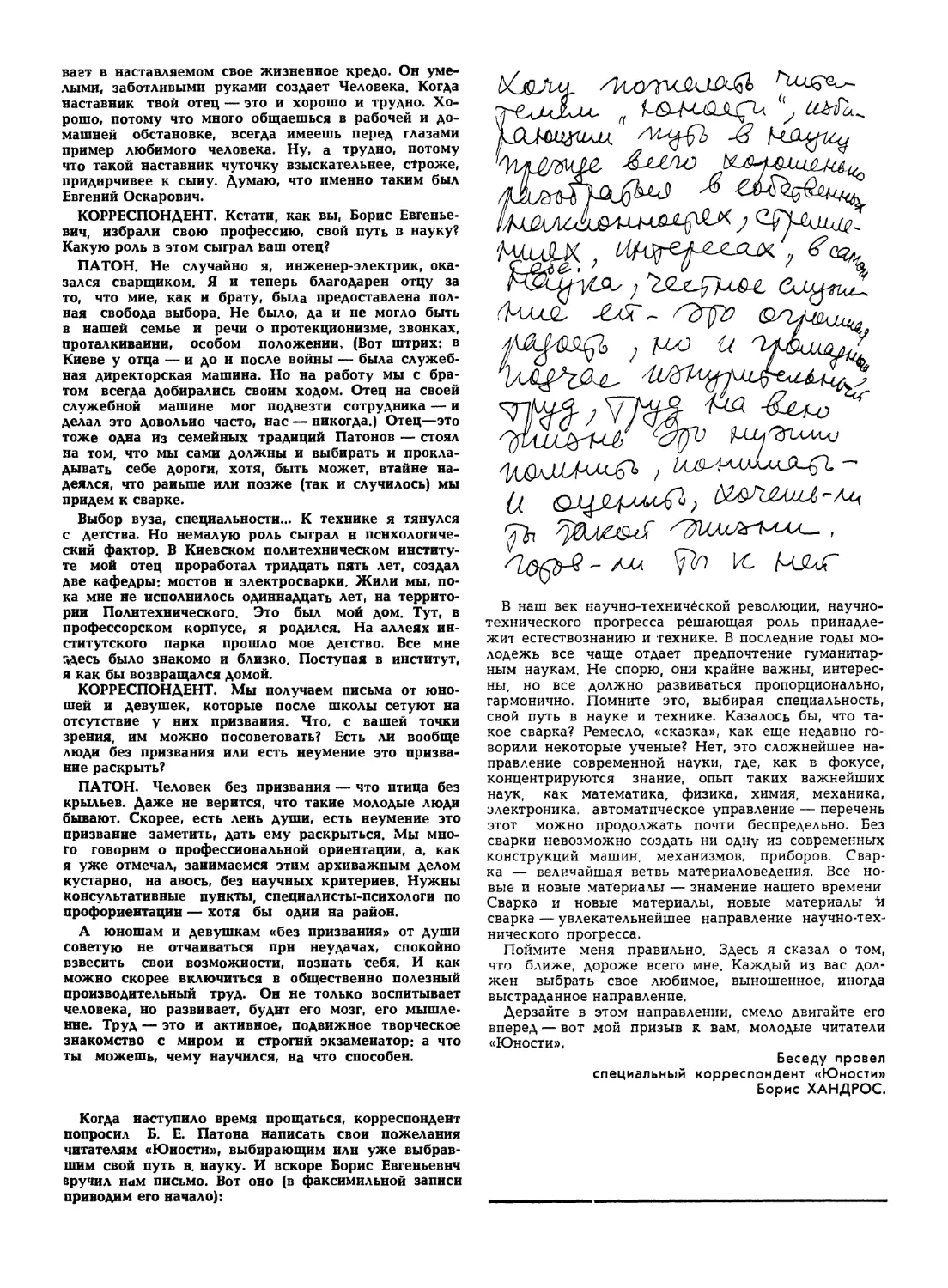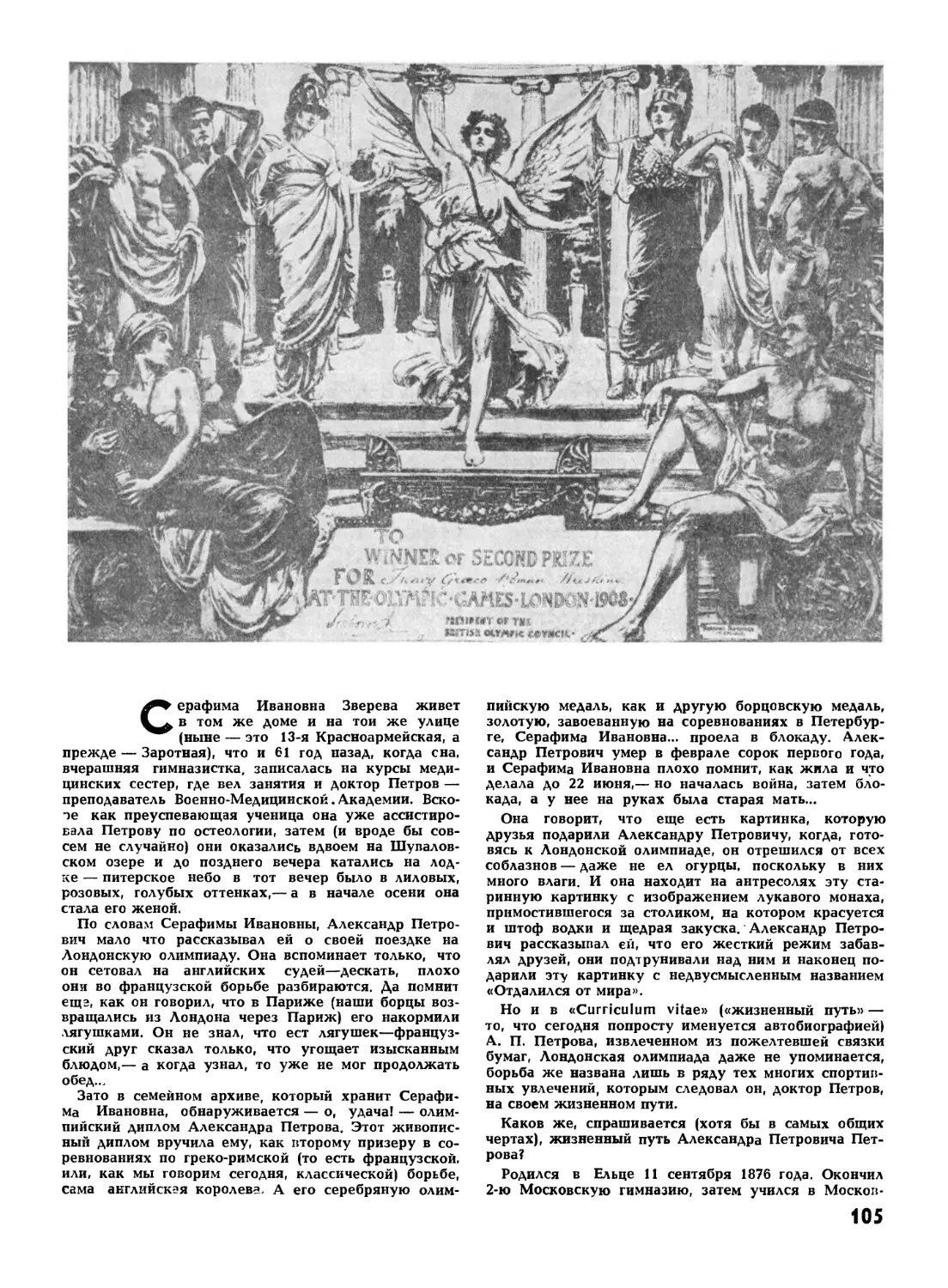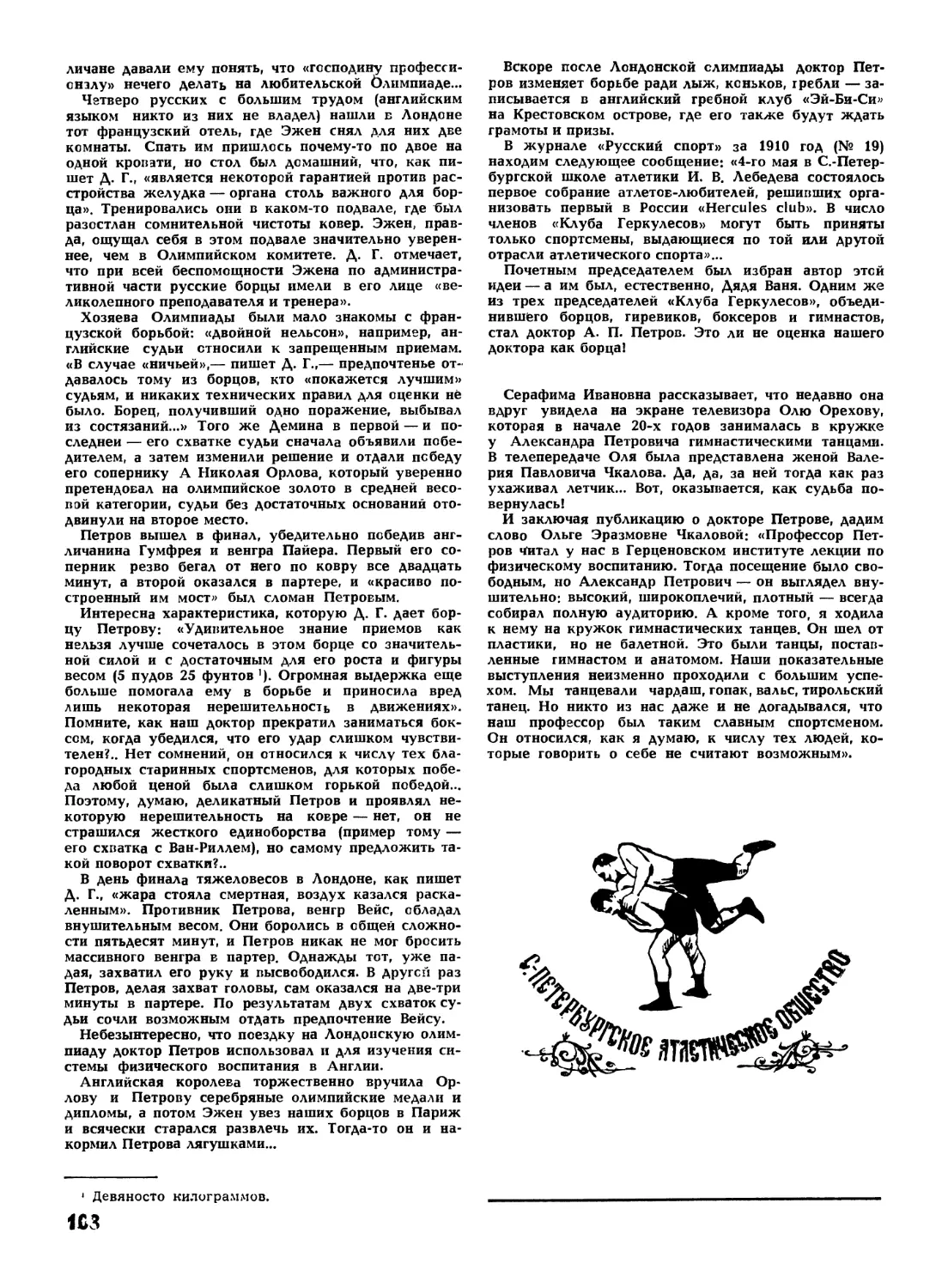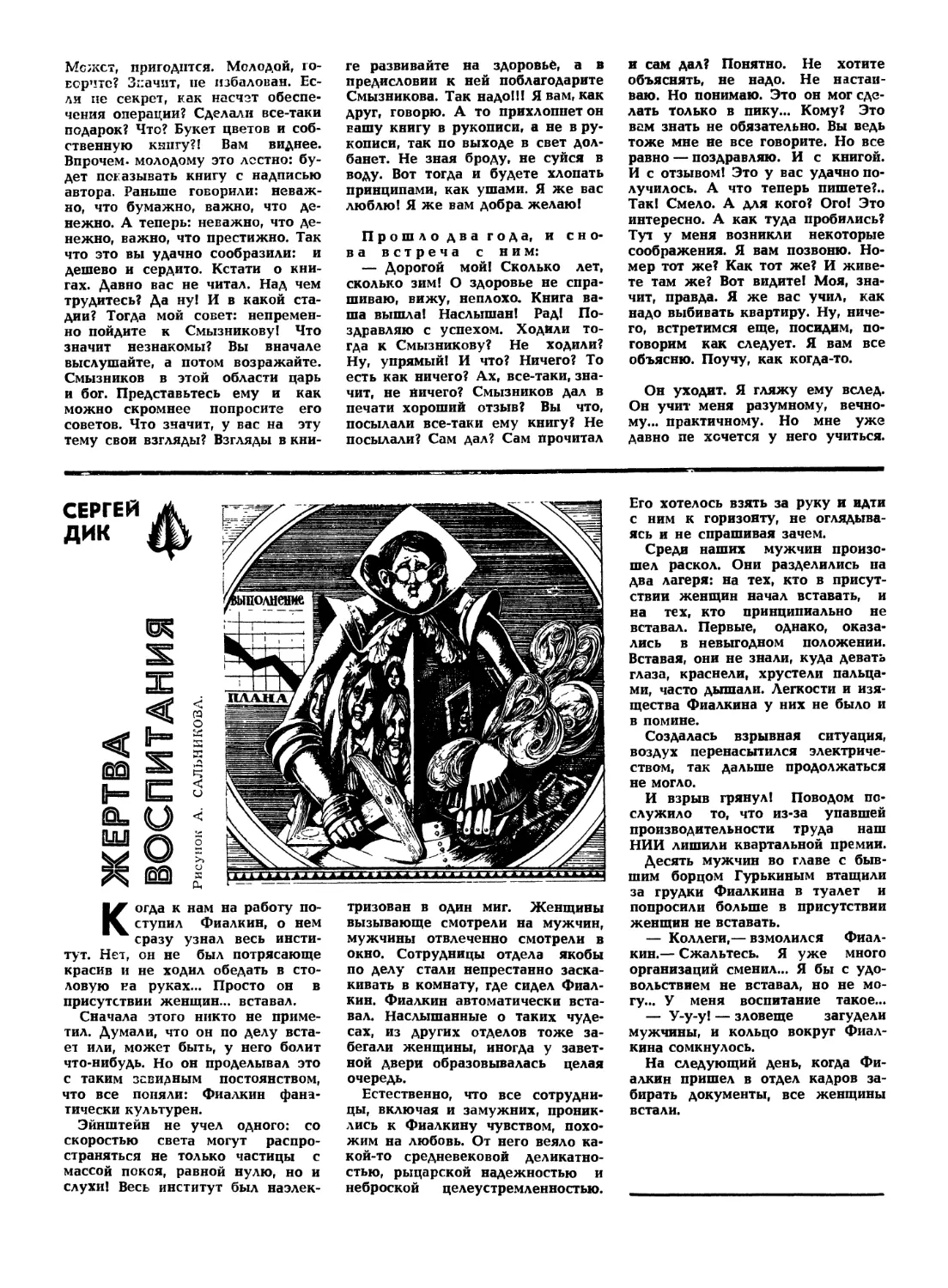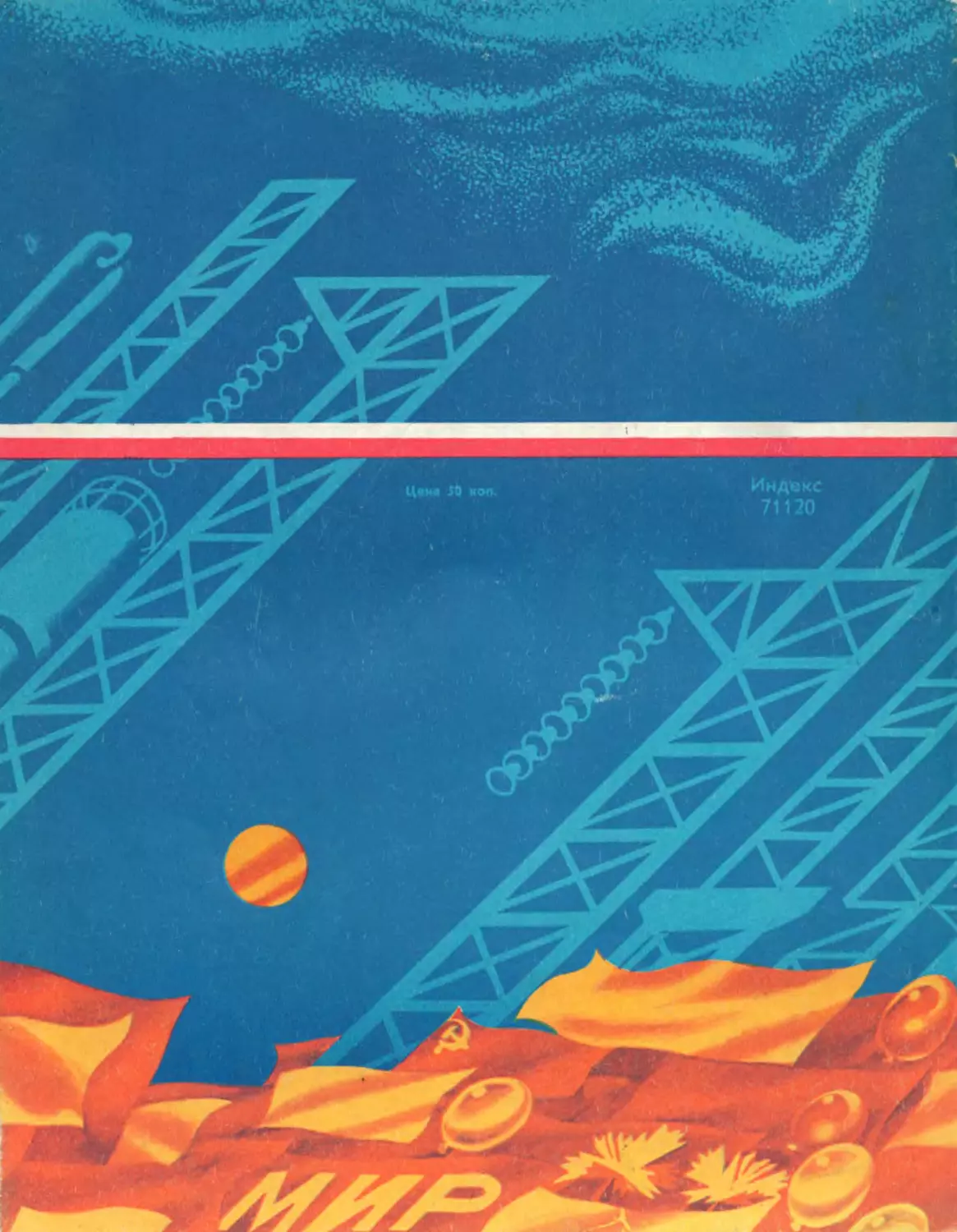Текст
И. Бродский. 1924 г. Владимир Ильич ЛЕНИН.
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА .
ПИСАТЕЛЕН
СССР
ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ
ЮНОСТЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
.ПРАВДА"
МОСКВА
ноябрь (282)
Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ
Редакционная коллегия:
А. Г. АЛЕКСИН
В. И. АМЛИНСКИЙ
Б. Л. ВАСИЛЬЕВ
В Н. ГОРЯЕВ
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора)
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ
К. В. КОВАЛЬДЖИ
К. Ш. КУЛИЕВ
Г. А. МЕДЫНСКИЙ
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
А. С. ПЬЯНОВ
(ответственный секретарь)
В. А. ТИТОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
101524, ГСП,
МОСКВА,
К-6,
УЛИЦА ГОРЬКОГО,
№ 32/1
Ф
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ;
251 32 83
В НОМЕРЕ
ПРОЗА
Валерий ПОВОЛЯЕВ. Таежный моряк. Повесть . . . 6
Сергей БАРУЗДИН. Тоня из Семеновки. Маленькая
повесть......................................34
Валерий ЗОЛОТУХИН. Дребезги. Повесть.............42
/
поэзия
Елена ЛАВРЕНТЬЕВА..............................
Владимир КОСТРОВ...............................
Алексей РОГОВ..................................
Кайсын КУЛИЕВ..................................
Александр КУШНЕР...............................
Владимир ЛАЗАРЕВ...............................
Владимир БОЛЬШАКОВ ....................... . .
Владимир АНДРЕЕВ...............................
3
4
5
40
41
59
60
68
ПУБЛИЦИСТИКА
Марк ГРИГОРЬЕВ. Поезд идет в Уренгой................69
Анжела АКОПЯН. Служить людям........................76
Владимир ЗАДАЯН. Здравствуй, радуга!................77
Марго ГУКАСЯН. Сердце армянских рукописей ... 79
3. ШЕЙНИС. Франческо Мизиано ведет бой............. 82
КРИТИКА
Оформление обложки
А. В. Сальникова
ш
Бор. ЕФИМОВ. Зримые образы «Оптимистической тра-
гедии» ..........................................61
В. САМОРИГА. «Во имя светлой будущей победы...» . . 63
Наталья СТАРОСЕЛЬСКАЯ. В мастерской А. Фадеева 65
Круг чтения (рецензии В. Пискунова, М. Борщевской,
В. Лакшина, А. Горловского)......................66
НАУКА И ТЕХНИКА
Патоны. Беседа с академиком Б. Е. Патоном . . . . . 97
СПОРТ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Жизненный путь славного русского
спортсмена доктора Петрова.................104
ФАКТЫ И ПОИСКИ
И. ЗАХОРОШКО. Книжная река дружбы........109
Главный художник
Ю. А. Цишевский
Художественный редактор
О. С. Кокин
Технический редактор
С. И. Суровцева
Рукописи не возвращаются
Сдано в набор 19 09 1978
Подп. к печ. 12 10 78
А 09461
Формат 84 х 108’/i6.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12.18
Учетно-изд. л. 17,62.
Тираж 2 650 000 экз.
Изд. № 2519
Заказ № 2816.
ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Сергей ЛЬВОВ. Не хочу учиться.........................110
Сергей ДИК. Жертва воспитания.........................111
Алексей ПЬЯНОВ. Литературные пародии..................112
Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина
125865, Москва, А-47, ГСП,
ул. «Правды», 24.
© Издательство «Правда». «Юность». 1978 г.
стихи
ЕЛЕНА
ЛАВРЕНТЬЕВА
Тарский север
2
Помимо реки, в полудикий
наш край не имелось пути.
Но страсти эпохи великой
его не могли обойти.
И тут, как и всюду, когда-то
борьба беспощадная шла.
И брат подымался на брата
во имя добра или зла.
Могилы под красной звездою,
могилы под темным крестом.
По тропке крутой за водою
здесь бабы ходили потом.
Замедлилось жизни движенье,
но шла она не стороной...
И дети считали сраженья,
походы отцов — стариной.
Они не ценили нимало
прекрасной большой тишины.
А где-то уже занималось
кровавое пламя войны.
Я уезжала. Плыли кедры
и сосны в сплотках по реке.
Я покидала край мой щедрый
с холщовой сумкою в руке.
Над Иртышем нависли тучи.
Подобно медленной арбе,
шел пароход. На темной круче
зажегся огонек в избе.
И что-то было в робком свете,
мерцавшем мне тогда во след...
Минуло два десятилетья,
а я все вижу этот свет.
Упорно память воскрешала
мосток над высохшим прудом,
забор упавший, обветшалый
без рук мужских отцовский дом.
И снова видела я близко
ряд хмурых изб и сосен строй,
и светлый контур обелиска
у темных елей под горой.
Стоит он, в цвет стальной окрашен,
к нему тропа проторена.
Здесь в длинном списке трижды наша
фамилия повторена.
Глухомань
1
Родилась я в глухомани:
деревенька на поляне,
лес вокруг стоит стеною,
жизнь проходит стороною.
Сосны, ели да березы,
девять месяцев морозы,
девять месяцев снега.
День и ночь шумит тайга.
Ездит и летает кто-то
в поездах и самолетах.
А у нас телега, сани —
главный транспорт глухомани.
3
Отец уходил на рассвете.
Поднялся он
из-за стола.
Простились с ним старшие дети,
а я беззаботно спала.
Он взял меня на руки нежно,
прижался щекою ко мне.
А я все спала безмятежно
и только вздохнула во сне.
Прикрыл он меня одеялом,
еще оглянулся с крыльца.
Потом я весь день удивлялась,
что в доме не вижу отца.
И все, спотыкаясь, бродила
по тихой и темной избе.
Бродила, как будто будила
забытое что-то в себе.
Крылатый день
Трудной дорогою
издалека
к нам этот день
шел сквозь годы и беды.
...Кто-то по улице вдруг проскакал
с криком: «Победа! Победа! Победа!»
Я рисовала на темной стене
красною глиною жаркое лето.
Тут-то и вылетел он. на коне
с необычайною новостью этой.
Следом мальчишек промчалась орда,
тем же стремительным чувством объята,
будто их подняли крылья,—
всегда
изображают победу крылатой.
Люди собрались к конторе. И вот
вышел худой однорукий Никиша.
Зашевелился и стихнул народ,
чтобы еще раз ту новость услышать.
Что он сказал, не запомнилось мне.
В сердце осталось одно только это:
всадник, летящий на красном коне,
красное лето на темной стене
и однорукий, с рукою воздетой.
3
Нашу радость ты верно провидел.
Ты отсутствием нас не обидел,
твоя колкая внешность кротка.
Бесконечно щедра твоя смета
с горностаем, с мерцанием света,
с колдовским истеченьем катка.
Это счастье — и ныне и присно —
мир увидеть в капризную призму
русской белой зимы и любви.
Пронесемся, сверкнем, исказимся(
вновь преломимся, и отразимся,
и опять обернемся людьми!
ВЛАДИМИР
КОСТРОВ
Дорога на родину
Зимний полдень. Дорога лесная.
Морда мерина закуржевелая.
Санки звонкие и синева навесная,
И равнина в снегах — ослепительно белая.
Забывается все. Ах, как все забывается.
И не скажешь уже, что мечта не сбывается.
Колокольчик в дуге соловьем заливается,
Словно сердце в душе от любви надрывается.
О, как звонок большак, колея не избита,
Лебединою шеей дорога изогнута.
Я сверкающей лесою вырван из быта,
Словно окунь из темного мутного омута.
Я мечтал вот об этом, стремился вот к этому,
К проливному простору, снегами согретому,
К этим северным птицам, летящим на бреющем,
К этой наледи синей, на речке темнеющей.
☆☆☆
Голосами, как лес, заселен,
я пытаюсь уснуть без успеха.
Бродит в памяти дальнее эхо
с доброй магией русских имен.
Может быть, это мозг воспален!
Я в себе эту гулкость несу,
это совесть зовет, будоража.
Галя, Люда, Варвара, Наташа —
отзывается эхо в лесу.
Неужель никого не спасу!
Ну, а в самой глуши, как в укор,
где почти что сплошная завеса,
еле слышно Евтихий, Вукол,
незабвенная тетка Харьеза.
Получивший вдвойне и втройне
от судьбы и удачи и лиха,
не хочу, чтобы стало во мне,
как в тебе, подозрительно тихо.
Не хочу пробавляться стишком,
разливая елей и скучищу.
Лучше детским зубным порошком
пару тапочек белых начищу!
Мы за все рассчитаемся, люди нс бедные.
Серебром разметались снега заповедные.
Ничего но забудем, ни в чем не раскаемся,
А со свистом по русской равнине раскатимся.
Забывается все, что и не забывается.
И сбывается все, что вообще но сбывается.
Даже мерин, и тот на бегу улыбается.
Колокольчик о дуге соловьем заливается.
Новогодняя ночь
В сантиметре от детской улыбки
потихоньку играет на скрипке
одинокий сверчок тишины.
Свежим снегом хруптят на балконе
в желтых яблоках рыжие кони,
ошалелые кони луны.
Снег светлейший, спасибо за чудо,
что летя, нам известно откуда,
ты не канул незнамо куда
и что утром, едва я проснулся,
ты крылом своим тихим коснулся
и остался во мне навсегда.
4
☆☆☆
Что не хватает нам с тобой:
Трубы гудящей дымовой,
Да синевы над головой,
Да тишины звенящей.
Но это все недалеко —
Парных туманов молоко
Да голос, слышный далеко,
Зовущий и манящий.
Нам этот голос говорит,
Что в нас не зря огонь горит,
А зря живем мы мелко.
Что зря пугает нас пурга,
Что слишком в друга и врага
Мы попадаем метко.
Послушай, милая моя:
Из края в край лежат края,
Где мы с тобой родились,
Где прочим нас не предпочтут,
Где нас узнают там и тут,
Во что б мы ни рядились.
И буду я тебя любить,
И будем мы с тобой любить
Страну одну и ту же.
Ее мне завещала мать.
И мне не жалко ей отдать
Страдающую душу.
АЛЕКСЕЙ
РОГОВ
Коврик
Живет товарищ подполковник
по-холостяцки, без затей.
Лишь на стене — наивный коврик,
где пруд и пара лебедей.
Над ним подтрунивают жены
его товарищей, а он —
ни слова о селе сожженном,
где отдыхал их батальон.
Три дня молчали пулеметы,
любовь мгновением была,
и коврик собственной работы
ему девчонка отдала.
Ни фотографий нет, ни писем.
Простая жизнь. Привычный быт.
Спокоен, сух и независим,
непроницаем замполит.
Ему ли поддаваться скорби
и пасовать перед судьбой!
И только коврик, только коврик
повсюду возит он с собой.
И в жизни правильной, нелегкой,
как послабление, даны,
и нему идут с войны далекой
незабываемые сны.
Тогда спадает покрывало,
и вновь плывут издалека
те лебеди, что вышивала
навеки милая рука.
Гербарии
Я открываю свой гербарий,
где груды листьев и семян,
засохнув, сделались гербами
лесных и сопредельных стран.
Шумят республика дубравы
и королевство медуниц,
лежат великие державы,
своих не ведая границ.
Тайга и травка-повилика,
дыханьем связаны одним,
живут в содружестве великом
по высшим правилам земным.
Они вовек непобедимы,
нерасторжимы ни на миг,
и всюду на земле едины
деревьев строй, листвы язык.
☆☆☆
Припорошило аллеи
легким октябрьским снеж:сом.
Женщина рыла траншеи
в парке, в саду городском.
Времени ей не хватало —
близко шумела война.
Не разгибаясь, глотала
воздух осенний она.
Не замечая соседок,
пот не стирая с лица...
Меж фонарей и беседок —
ямы и рвы без конца.
Здесь она встретилась с мужем.
Муж ее будет убит.
Нету картошки на ужин,
дома ребенок не спит.
Только спешить ей не надо.
Вечером станут бомбить.
Дома не будет и сада,
некого будет кормить.
Осенью сорок второго
сдали мы город врагу.
Больше об этом — ни слова.
Больше нельзя. Не могу.
Песня
Улетели грачи, улетели,
помертвели леса и луга.
Засыпает зерно в колыбели,
колыбели, что свили снега.
Ты проходишь походкой несмелой
тонкой тропкой по легкому льду.
Белый снег, удивительно белый,
выпал в этом хорошем году.
Вся исполнена тихого света,
ты идешь, не касаясь земли.
И печаль и любовь без ответа
этой ночью снега замели.
Отлегло, отошло, отболело,
и не надо спешить никуда.
Белый снег, удивительно белый,
вечно новый и первый всегда.
☆☆☆
Неясный, поспешный набросок,
разболтанность мыслей и строи.
Задался каким-то вопросом,
но сник — разобраться не смог.
Что в слабеньком опыте этом!
Одна только искренность есть.
Но, словно шкатулка с секретом,
хранит он нежданную весть.
Презрев виртуозности блестки,
иронии желчный оскал,
лишь правды искал ты в наброске —
и то хорошо, что искал.
Как трудно уйти от соблазна
добавить, поправить чуть-чуть.
Все вроде разумно и связно,
однако теряется суть.
Пройдя через правдоподобность,
вовеки забыть не посмей,
что искренность — высшая доблесть,
а мудрость — в долгу перед ней.
5
ВАЛЕРИЙ
ПОВОЛЯЕВ
ПОВЕСТЬ
н появился у нас под вечер, маленький, крепко сра-
ботанный, о таких говорят «клещистый», с неспешной
походкой, в затертой дошке, в кисах — легких, наряд-
ных, сплошь в цветастых строчках унтах, сшитых из
оленьих лапок—меха вековечной прочности, что ни-
когда не облезает, не тратится молью, не грязнится.
И что самое потрясающее, отчего «прекрасные мира
сего» — девчонки наши — прямо-таки охнули: в пятиде,
сятиградусный мороз, да с ветерком, на голове у него
гнездилась черная, малость поблекшая бескозырка с
бронзово-черной гвардейской лентой, вдоль кото-
рой были тиснуты выцветшим от времени металлом
буквы — название флота, где он служил. Вот так.
Правда, в руках он держал малахай. А это значит,
что по морозу он шел не в бескозырке.
Лицо у него было костистое, с крутым, бугристым
лбом, глаза в постоянном прищуре, будто он все вре-
мя двигался против ветра; на круглом, крепком, как
репа, подбородке — раздвоина, а чуть сбоку выщерби-
на, небольшой, но глубокий шрам. Словно птица клю-
Рисунки
В. ЮДИНА.
6
нула, и след остался.
Ввалившись в «диогенову бочку», как у нас называ-
ли круглые балки — эти жилые домики на колесах,—
пришелец разогнал руками тугой морозный пар, вор-
вавшийся следом за ним в дверь, затем, ни слова не
говоря, прошел к бачку с водой, зачерпнул немного
кружкой, выпил, выдохнул, словно пил не воду, а
хмельной взвар, и вдруг быстро-быстро заработал
раскрытой ладонью у рта, и все услышали немного
странное, вроде бы птичье: «Чик-чик-чик-чик...»
«Отчикавшись», снял бескозырку.
— Генкой меня зовут. Фамилия — Морозов,— сказал
он.— Для женщин сообщу, что лет мне двадцать два.
Был моряком — поначалу торгового флота, а потом
военного. Служил на гвардейском корабле...
— Моря-як, с печки бряк,— выпрямившись на стуле
и вскинув руки так, что свитер у нее на груди обтя-
нулся и мужики дружно зыркнули глазами в ее сто-
рону, проговорила Любка Витюкова, девка краси-
вая, с вызовом и сверком в глазах.— Ну, что замол-
чал? Давай продолжай выкладывать свою анкету.
Образование? Партийность?.. Сколько классов кон-
чил? Семейное положение? Был ли за границей? —
Витюкова усмехнулась, увидев, что по лицу моряка
поползла прозрачная тень растерянности, что никак
не соответствовало бравому развороту его плеч, и в
глазах появилось нечто такое, что напоминало ку-
кушку на старых часах, где открывается дверка, вы-
ныривает игрушечная птичка и отсчитывает свое
«ку-ку».
А Любка тем временем продолжала:
— И вообще, дорогой товарищ Чик-чик,— она
хмыкнула,— когда входят в дом, прежде всего
«здравствуйте» говорят.
Тяжелый кирпичный румянец наполз на Генкины
щеки. Кукушонок захлопнул за собой дверку. Свет
в зрачках угас.
— Здравствуйте! — произнес Генка Морозов голо-
сом человека, у которого болит голова.
— Здравствуйте,— поздоровалась Любка Витюко-
ва церемонно, добавила, малость нагнув голову: —
Проходите, товарищ Чик-чик, садитесь,— она повела
рукой в сторону,— примите участие в нашей дере-
венской мотане. Можем научить песенки петь, рас-
сказывать вечно юные сказки про Аладдина и вол*
шебную лампу, Али-бабу и сорок разбойников.
Есть также две детские дразнилки, есть компот, есть
обязательный «сухой закон» и два бравых незамуж-
них рыцаря,— она повела рукой еще шире,— коман-
дир бульдозеристов Виктор Иваныч Пащенко и ма-
стер, товарищ Лукинов Пе Пе, что в расшифровке
означает Петр Петрович. Есть консервированные
помидоры, привезенные с Большой земли, и гуляш
по-вечернему, приготовления местных мастеров кух-
ни. Годится?
— Ишь ты! Зачем же манную гурьевскую кашу
размазывать по стенке, даже не выковырнув из нее
изюм, а? Цитата,— сказал моряк и снял бескозырку.
Волосы у него были путаные, будто он давно не
расчесывался, с веселыми кудрявыми загибушками
на концах.— К вашему гуляшу с помидорами, да к
дразнилкам, могу добавить кое-чего из своих запа-
сов,— произнес он неожиданно в тон.— Из съедоб-
ного есть колбаса «ухо-горло-нос» по шестьдесят
пять копеек килограмм...
— Это что еще такое?
— С вашего позволения «ухо-горло-носом» на
флоте зовется ливерная колбаса. Целых два кругля-
ша есть. Из несъедобного имеется «хрюндик» — хри-
пучий магнитофон «Ореанда» с обломанной крыш-
кой— и ваш покорный слуга,— моряк глухо при
этом пристукнул пятками меховой обуви,—который
всегда со всеми, когда плохо, и всегда один, когда
ему хорошо. Готов породниться с вашей компани-
ей. Прошу любить и жаловать за откровенность.
— Ого, сколько слов... Откровенный...— усмехну-
лась Любка.
Честно говоря, Генка Морозов не ожидал такого
приема, такого наскока, в котором можно и голо-
ву и малахай потерять. Хоть у него самого язык
подвешен неплохо, тут, оказывается, языки еще луч-
ше работают. Он поглядел на Любку Битюкову, и
вдруг что-то тревожное и одновременно легкое,
словно сон перед пробуждением, кольнуло его.
Он подумал, что, наверное, именно такая женщи-
на бывает необходима моряку. Он сразу посерьез-
нел, будто в нем увяло биение крови.
У Генки не было еще своего угла в жизни, своей
крыши над головой: он подкидыш, воспитанник
детского дома. После детдома — школа-мореходка,
потом плавание, в том числе и в жарких краях, ко-
торые впоследствии ему часто снились, поражали
своей беззаботностью, легкостью; а затем — воен-
ный флот. И все. И женщины любимой не было и
угла своего, и некуда было прислонить голову. И не-
возможно обмануть себя, забыться, лечь, как гово-
рится, на дно.
Сейчас перед ним находились люди, с которыми
ему предстояло вместе поработать ближайшие пол-
торы-две недели, предстояло делить с ними хлеб,
соль и костерный дым, тепло у печушки, мороз и
пургу за порогом, и даже воду — воду тоже попо-
лам из одной кружки, потому что мало ее: места
здешние — гниль и болота, вода тут прелая, от нее
заболеть можно. И надо же, люди именно здесь
добро для себя нашли — нефть и газ,— и как они
только в здешней бездони земляное маслице оты-
скали, уму непостижимо. Ан нет, выходит — пости-
жимо, раз отыскали... А теперь вот дорогу на Се-
вер тянут, чтоб не пропадало маслице зря.
Кирпичная бурость окончательно стекла у Генки
со щек, во взгляде появилась веселость, все тот же,
будто спрятанный в часах-ходиках кукушонок выг-
лянул наружу — Генка посмотрел на Любку при-
стально, и подумалось ему: обязательно что-то
должно с ним произойти. А вот что — не знает.
Он улыбнулся смущенно и, чтобы прикрыть внезап-
ную робость, проговорил грубо и весело:
— Ну что? «Ухо-горло-нос» выставлять на стол?
Иль попридержать?
— Горло и нос можешь выставить, а ухо попри-
держи, завтра второе из него сготовим...
На это Генка не нашелся, что ответить. Он повер-
тел в руках бескозырку, растирая ее в лепешку;
заметная сковырина возле репки-подбородка нео-
жиданно сделалась алой, как брусника, что, судя по
всему, было у Генки признаком наивысшего сму-
щения. Он посмотрел на Любу Битюкову опять, и
вдруг показалось ему, что, прорывая глухую мерт-
вую тишь, невольно образовавшуюся после ее слов,
послышался далекий звон колокольцев, серебряно-
тонкий, словно бронзовой колотушечкой били в
хрусталь-стекло, и почудилось ему, что где-то в сне-
гах, в морозе, за тридевятью землями мчится ям-
щик с новостью, запечатанной в пакете, что скоро
ямщик приедет и он, Геннадий Морозов, узнает,
какая новость его ждет, какие события произойдут
с ним и что будет завтра...
Так что же будет завтра?
А назавтра снова был мороз.
Генке-моряку отвели место по соседству с «Диоге-
новой бочкой» — в так называемом «офицерском»
балке, где жили, как говорится, командиры произ-
водства— четыре мастера смены. Но двое из четы-
рех были в отпуске — на зимнюю охоту укатили,
на север,— поэтому Люба Витюкова, комендантша
балочного городка, застелила одну из свободных
постелей чистым бельем, на ней и уложили спать
вновь прибывшего.
Ночью Генка скрежетал зубами и тихо, протяжно
стонал. Ему снились море, суда, на которых он пла-
вал. Снилось все недоброе, вызывающее знобкую
дрожь, боль, все страшное, что было в его жизни
за его недолгие двадцать два года. Дважды он то-
нул. Первый раз — это когда их хрупкое, маленькое,
как скорлупка грецкого ореха, суденышко шло в
караване сквозь льды и его зажали огромные голу-
боватые глыбы. А потом был пиковый момент, ко-
гда два ледовых пласта, будто гигантские челюсти,
стали выдавливать суденышко на скользкую холод-
ную поверхность, гладкую, как поле катка. Скрипе-
7
ли, трещали и хряпали переборки. Скорлупка ло-
жилась то на один бок, то на другой, касаясь льда
макушками мачт. В корпусе уже было несколько
проломов, и в них хлестала черная дымящаяся во-
да, винт на весу тарахтел вхолостую, машина масля-
но хлюпала клапанами, чихала сизым едким дымом,
нагоняя в трюмы угар. А льды терлись о бока скор-
лупы, как бы стараясь перегрызть ее, пустить на
дно... Где-то совсем рядом, спрятанная белым ды-
мом тумана, угадывалась суша, надежная земля,
но не дано, видно, было добраться до нее, не да-
но. Один из матросов, Котиков, не выдержал,
спрыгнул с борта на лед, но промахнулся, угодил в
черный пролом, и затянуло его под судно. Долгие
крики людей, сопровождаемые частыми хриплыми
вздохами пароходной сирены, повисли над проли-
вом, над длинной, растворяющейся в белой мгле
цепочкой бедствующих кораблей.
Да, досталось тогда Генкиной скорлупке—она
уже почти была выдавлена на лед. Еще немного—
и совсем бы опрокинулась, сбросила бы со своей
спины в ледовый пролом людей, грузы, все сгинуло
бы в черной курящейся воде...
Но тут ледокол, шедший в голове каравана, раз-
вернулся на сто восемьдесят градусов, пошел на
выручку, бросив остальные суда—те еще могли
держаться, а скорлупа уже нет. Обколол скорлупу
со всех сторон, а потом начал резать лед по косой
и чуть было совсем беды не натворил — судно,
словно детский пластмассовый кораблик, вылезло
на поверхность и завалилось набок. И когда с не-
го уже ушли в темное небо три прощальные крас-
ные ракеты, вдруг как бы грохнул залп «катюши»,
долгий, хрипучий,— под днище стрельнула изгиби-
стая молния трещины, и суденышко беззвучно спол-
зло в обнажившуюся воду, схожую в свете еще
не угаснувших ракет с кровью.
Генке запомнилось, как страшно, задыхаясь и
скрипя зубами, плакал тогда боцман—человек по-
жилой, повидавший жизнь и прошедший войну. Боц-
ман ведал то, чего не ведали восемнадцати — двад-
цатилетние пареньки, матросы, бывшие с ним на
судне.
А второй раз Генка-моряк тонул, когда вез в
Японию лес и их пароходом командовал сменный
капитан (сменный — значит не имеющий своего суд-
на, работающий на подхвате), человек не молодой
и не старый. Он тогда стоял в рубке рядом с Ген-
кой, посапывал носом, грыз леденец. Сменного ка-
питана мучила головная боль, поэтому был он в ка-
пелюхе — побитой временем волчьей шапке. Шапка
не имела завязок, и одно ухо капелюха, затвердев-
шее от старости, смотрело вверх, словно огрызок
трухлявого пня, другое, переломленное посередке,
свешивалось вниз, и от этого вид у сменного капи-
тана был сиротски-залихватским, как у пирата, ко-
торому вроде бы пора на покой, но у которого
есть еще в море дела... В борт ударила крутая ши-
пучая волна, палубу пробила дрожь, и судно вдруг
тихо-тихо начало крениться на одну сторону. По
полу рубки заскакали карандаши, резинки, цир-
куль—штурманское имущество. Незакрепленный
лес, который был уложен на палубе, сполз на пра-
вый борт, еще больше добавив крена.
— С-сейчас потонем, с-сейчас потонем,—зашеве-
лил белыми губами сменный капитан,— с-сейчас по-
тонем... Г-господи, за что? С-сейчас потонем.
А Генка все происходящее воспринимал совер-
шенно нереально. У него не было страха, он кру-
тил штурвал, пытаясь подставить очередной волне
уже не борт, а нос корабля. Стоял, стиснув зубы
так, что в глазах стало темно и во мраке завспы-
хивали светлые звездочки. Но судно, положенное
8
набок, плохо слушалось руля, разворачивалось
медленно, слишком медленно...
Бревна сгрудились у борта и никак не могли со-
скользнуть в воду, судно кренилось все больше и
больше. «Почему они не падают, эти тяжелые мерт-
вяки, почему?»—вертелся в Генкином мозгу вопрос,
сопровождаемый голубыми вспышками, сквозь ко-
торые совсем не было видно носа судна, шипучей
морской воды и горба приближающейся волны.
«Ну почему?» Знал, корабль их особой постройки,
а у таких лесовозов раскрывающиеся борта —
в случае, если груз на палубе сдвигается вбок, то
борт под его тяжестью раскрывается и лес соскаль-
зывает в воду... «Ну почему не раскрывается борт,
почему они не ссыпаются вниз, почему не ра-
скр-р-р...» В это время борт с тяжелым скрипучим
гудом все-таки провернулся вокруг оси, и от этого
скрипа весь корпус судна будто током пробило.
В длинном плавном прыжке мелькнуло одно брев-
но, за ним другое, третье, потом лес густо посы-
пался в воду, погружаясь в кипящую глубь и тут
же выныривая на поверхность. Корабль начал мед-
ленно выпрямляться.
Сменный капитан, стянув с головы капелюх, неве-
рящими, прозрачными, словно вода, глазами смот-
рел в оконце рубки на палубу, а губы его, сделав-
шиеся плоскими и дряблыми, продолжали что-то
беззвучно нашептывать...
Генке-моряку частенько виделись во сне эти
страшные сцены, и тогда он стонал и ворочался, ло-
вя распахнутым ртом воздух, точно воду пил и не
мог напиться. Боль воспоминаний кипятком ошпари-
вала его изнутри—до крика, до слез, до судорог в
груди. И в этот раз знакомая тяжесть так навали-
лась на него, что один из мастеров, живших в «офи-
церском» балке, четырежды просыпался и, глядя
сквозь тьму на задыхающегося во сне Генку, при-
кидывал — не надо ли вызвать вертолет? Потом
Генка затих, успокоился, зачмокал губами, ровно со-
сунок, довольный, что соску-пустышку в рот суну-
ли,— страшные видения исчезли, и из ничего, из
прозрачной невесомости вдруг всплыло милое нас-
мешливое лицо, яркое, нежное, словно цветок. И
Генка улыбнулся во сне: он увидел Любку Битю-
кову.
И еще он увидел лето, теплую реку Зею, на ко-
торой родился, песчаные увалы, по обочинам кото-
рых в дождливую августовскую пору, в песенные
ночи рождаются и растут крепкие, как капустные
кочерыжки, грибы, увидел фиолетовые, в прозрач-
ном дыму сопки, похожие на хлебные краюшки,
ровнехонько, одна впритык к другой, усаженные на
землю, увидел диких коз, гуртом и поодиночке вы-
ходящих на соленые гольцы — «посолониться», уви-
дел падь, полную зреющей голубики, темную ре-
чушку, в которой водились усатые, с презрительно-
крохотными глазками сомы и разбойные, быстрые,
как торпеды, щуки, увидел помидорные грядки чу-
жого огорода, откуда он, пацаном, крал «бычьи
сердца» — огромные, с толстой, кроваво-латунной
кожей помидоры. Увидел сахарно-светлую пыльную
дорогу, уходящую вдаль, к горизонту, и там, у это-
го горизонта, резко обрывающуюся. Это была до-
рога его детства.
Но главное все-таки — женщина, которую он уви-
дел во сне и которая вызвала у него приступ неж-
ности. Любка, Люба, товарищ Битюкова, комендант
балочного городка.
В жизни Генка относился к женщинам... ну, как он
относился к женщинам? Да, собственно, никак.
В детстве он их не любил, потому что они были по-
хожи на его мать. А мать бросила Генку. Вернее,
не бросила, а оставила на попечение своего даль-
него родственника, сивого одинокого деда. Однаж-
ды дед отправился в тайгу охотиться на коз: хотел
мальца свежатиной угостить, да, видать, где-то
подвела его древняя ржавая берданка, либо еще
что случилось — не вернулся дедок из тайги. А дело
уже по осени было, сентябрь на дворе стоял, снег
выпал, на тот снег — новый, все следы позамел —
в такую пору человека ни за что в тайге не оты-
щешь: это труднее, чем иголку найти в скирде сена,
вот ведь как. Остался Генка один и пошел ходить,
что называется, по миру — в одном доме обогреют,
куском хлеба с сахаром угостят, в другом — полов-
ник супа нальют, в третьем — каши дадут. Потом в
детдом определили. Школу детдомовскую окончил
и оттуда уж в моряки пошел.
Были у него, конечно, женщины случайные, как и
у всякого моряка,— в нескольких портах зарубки
остались. А вот настоящей не было. Не встретил он
такую в жизни. Вся надежда была на будущее.
Генка неожиданно сжался во сне, скорчился. Он
будто усох, вдруг начав страшиться Любкиной кра-
сы, этих глаз, нежной линии шеи, всего радостного
и яркого, что было сокрыто в ней, в ее жизни. Он
знал, чутьем понимал, что красы ему надо бояться,
ведь сам он низкоросл, невзрачен. Холодная краса
над ним посмеется. Но перед этой—теплой и ми-
лой — он устоять не мог, потянуло к ней, захотелось
совершить что-то благородное, самоотверженное,
достойное рыцаря-мужчины, чтобы она узнала,
какой он есть человек.
Генка опять почмокал во сне губами.
Может быть, он верил, что в конце концов при-
бьется к берегу, что плывет он в нужном направ-
лении—не куда волна вынесет, а куда ему само-
му надо. Он поплывет к ней... к Любке Битюко-
вой — где Любка, там и берег.
Неужто он сумел за один вечер влюбиться в нее?
Вот ведь какая история. Влюбился сразу, «в один
присест», расскажи детдомовским — ахнут. И чувст-
во печальное и светлое охватывало его, когда он
думал о ней. Сердце убыстряло бег и молотило
так, что ни остановить, ни удержать его.
Утром Генка проснулся рано, когда ночь еще
липла к оконцу «офицерского» балка густой чернью,
и долго лежал с открытыми глазами, думая о жиз-
ни, о новых людях, с которыми его свела судьба.
И каждый раз — вот ведь лихомань какая! — мысли
его, ускользая из-под контроля, делали зигзаг и
возвращались к комендантше с насмешливым взгля-
дом, ни на кого не похожей. И глухая, далеко зап-
рятанная трсзога шезелилась в нем. Он понимал,
в чем причина. В неизвестности, которой было,
словно дымом, окутано будущее, в неясном пред-
чувствии того, что должно обязательно с ним про-
изойти.
Отряд, куда попал бывший матрос, строил насыпь
для дороги, которую тянули на Север. Генка к этой
работе никакого отношения не имел. Он приехал
сюда по «газовым» делам: проверять здешний
газовый шлейф — переплетенье труб, железной сет-
кой опутавших землю. Трубы эти иногда забивались
пробками смерзшегося газа, тугими, будто из чугу-
на отлитыми «тычками». Работать с таким шлей-
фом— мука. Вот Генка газовиков-операторов и дол-
жен был от этой муки освободить.
Но пока не подъедет передвижная паровая уста-
новка (газовые пробки разогревают, разжижают
паром, огнем нельзя — шлейф может взорваться),
пока не прибудет напарник Алик, дел у Генки—
нуль. Хочешь, по балочному городку слоняйся; хо-
чешь, лежи и в потолок слюной цыкай, либо считай
на нем, на потолке, заклепки и сгустки краски; хо-
чешь — на охоту лыжи востри. Дичи тут много, га-
зовики, что здесь бывали до него, рассказывали.
А на охоту, право слово, сходить Генке надо. Он
знает такой способ добычи боровых птиц, что...
В общем, он еще удивит местную публику!
В семь часов утра гулко, на полную мощность,
затараторил динамик, подвешенный на столбе. Ди-
намик этот за грубость его хриплого голоса про-
звали «матюгальником» — Генка даже вздрогнул,
когда динамик выдал на-гора первую порцию хри-
па. Потом прорезались частые, один за другим, поч-
ти без передышки удары. Генка определил: бара-
бан— это для обитателей «Диогеновых бочек» зву-
чала, так сказать, бодрая, вдохновенная музыка за-
рядки, под которую все должны были делать физи-
ческие упражнения, а заодно и испытывать свои
нервы (выдержать этот хриплый «тамтам» было не
просто, но в балочном городке жили ребята креп-
кие, и не такое переносили, кое-кто даже на хозя-
ина тайги один на один выходил, и со стаей вол-
ков лоб в лоб сталкивался). Потом барабанная шу-
миха улеглась, и простуженный голос потребовал,
чтобы товарищ Лукинов и товарищ Пащенко сроч-
но явились е прорабский балок, а вместе с ними —
водитель «водовозки».
К оконцу балка по-прежнему липла беспросвет-
ная чернь — утро тут наступит не скоро, дай бог,
часов в одиннадцать—двенадцать, на два с полови-
ной часа высветится день, и потом снова на здеш-
нюю землю опустится ночь, стылая, с морозным
пощелкиванием деревьев, с далеким, придушенным
сугробами волчьим воем и едва ощутимым клоко-
танием в глубоком земляном мешке черной паху-
чей жижи — нефти, с тяжелыми вздохами скапли-
вающегося в горловине мешка газа.
Днем по зимнику шофер Петр Никитич пригнал
пароустановку, а к вечеру, уже в темноте, на Ми-8
прилетел Генкин напарник Алик — такой же, как и
Генка, низкорослый, с плоским лицом, украшенным
густыми и на удивление длинными и пушистыми,
словно у Буденного, усами. По устоявшейся армей-
ской привычке Алик (он всего три месяца как из
армии) приложил руку к шапке, коротко доложил:
— Прибыл в твое распоряжение.
Генка усмехнулся.
— Что, гвардии ефрейтор, маминой-папиной лас-
кой воспитанный, на роду генералом быть наречен-
ный, отстрелялся на старом месте?
— Так точно.
— Вчера где был? — спросил Генка, хотя знал,
где Алик был, спросил для строгости, для порядка,
как начальник спрашивает своего подчиненного.
— В Урае.
— Урай не рай, вещички собирай? Ага?
— Так точно.
— «Так точно, так точно»,— сморщился Генка,
скривил рот, передразнивая Алика,— ты хоть бы
десяток других фраз выучил, что ли.
— Слушаюсь!
— Слушаюсь... Ну и старшина же у тебя в роте
был. Он что, только такую речь и признавал?
— Никак нет.
— Тьфу! — сплюнул Генка, потрогал ногтем зако-
вырину, гнездившуюся у него на подбородке.— Я
те что, старшина иль отделенный, чтоб со мной
на таких сухих рысях изъясняться?.. Ладно. Имей в
виду, тут, в отряде, девчонки такие работают, что
по вечерам надо фраки надевать и беседы вести
самые что ни на есть тонкие... М-м-м... «Шарман»,—
вспомнил он трудное слово.— И без этих самых...
Без «Слушаюсь!» и «Никак нет!» Ясно?
— Так точно*
— «Так точно, так точно»...— начал дергать пле-
чами Генка, передразнивая Алика, хотя и понимал,
что он неправ, но остановить себя не мог. Потом
вдруг споткнулся, словно ему, как в боксе, нанесла
удар под дых,— он увидел Любку Битюкову.
Та шла по тропке, проложенной между «диогено-
сыми бочками», перепрыгивая через «мослы» — гну-
тые коленчатые переплетения отопительных труб,
которыми балки были соединены между собой. Лю-
ба шла сюда — ближе и ближе, Генка похмыкал в
кулак, потряс ладонью перед ртом: «Чик-чик-чик-
чик»,— вытянулся, стараясь казаться повыше, срав-
няться ростом с Любой, да вот оказия — не получа-
лось насчет «выше». Если только к кисам десяти-
сантиметровые каблуки прибить, может, тогда бы.
— Ну, как живется новоприбывшим? — спросила
Люба.— Не скучаете?
— Никак нет! — ответил Алик.
— Скучаем,— отозвался Г енка-моряк.
— Раз скучаете — приходите в гости, чай будем-
пить,— пригласила Люба. И у Генки что-то острое<
защемило в горле, будто хватил крутого морозного
воздуха. Он чуть не закашлялся, но сдержался, стер
со щеки слезку, улыбнулся: выходит, они с Аликом
небезразличны ей — Любке Битюковой, хотя и ра-
ботают в другой организации. Вот ведь какое от-
крытие... И словно бы таежным черемуховым цве-
том пахнуло, тягучим, прозрачным, горьким, от ко-
торого хорошо на душе становится, а в звонкие мо-
розные охлесты вдруг вплелись щелк и трели со-
ловья, и весна вроде бы опустилась на землю, хотя
время ее наступит еще очень не скоро. «Любка,
Любка,— вдруг забормотал мысленно Генка-мо-
ряк,— что же это со мной происходит-то, а?»
— Выше нос, товарищ Чик-чик,— сказала ему
Люба, усмехнулась и пошла по снежному стежку
дальше, ловко перепрыгивая через «мослы», а Ген-
ка задвигал кадыком, сглатывая тягучую, черемухо-
вого вкуса слюну.
Потом спросил у Алика:
— Видал?
— Так точно!
— Корабль высшего класса! Чик-чик-чик-чик...
Крейсер новейшей постройки с атомным вооруже-
нием...— Генка споткнулся на полуфразе, понимая,
что говорит нечто недостойное Любы, что все это
пошло — сравнивать человека, тем более женщину,
тем более такую пригожую, с кораблем. Такой уж
характер был у Генки: вначале он произнесет слово
и лишь потом обдумает его. Хотя сравнение с ко-
раблем означало наивысшую похвалу у бывшего
моряка Геннадия Морозова.
Алик с интересом взглянул на своего начальника,
расправил обмахренные густым сверкучим инеем
усы, окутался паром, словно локомотив перед от-
правкой в дорогу.
— Ладно, двинули! — сказал ему Генка.— Нам с
тобой два места в «офицерском» балке отвели.
Хоромы такие—танцевать можно. Пошли! Времени
у нас немного — на то лишь и хватит, чтобы твои
усы нафабрить. А?
Алик не ответил. Генка двинулся первым. Он по-
нимал и не понимал, что с ним происходит. В нем
рождалось, а вернее, прорезалось, словно зуб муд-
рости, что-то новое, до поры до времени, как ока-
залось, хитро замаскированное в нем самом же.
И вот надо же! — нет бы этому новому проснуться
где-нибудь в заморской стране, где гнездятся паль-
мы на песчаном белом берегу, по которому полза-
ют прозрачные крабы, совсем рядом лижет мокрую
кружевную кромку ласковая бирюзовая вода, воз-
дух будто гудит от тепла, чернокожие кудрявые
пацанята торгуют кокосовыми орехами. За поясом
каждого пацаненка — нож, даешь пацаненку се-
ребряную монетку, он лозким коротким движением
сшибает макушку у кокосового ореха, превращая
его в стакан, протягивает его тебе — и ты пьешь
молоко, прохладное, солоновато-сладкое, прият-
нее. Да, там уж сам бог велит дурману любви уда-
рить в голову. А вот в тайге, в лютый мороз, когда
все живое боится высунуть нос наружу,— тут уж,
по Генкиному представлению, любовь — вещь ред-
кая, диковинная. Ее тут и вовсе, как он считал,
быть не может: она в оледеневшем законсервиро-
ванном состоянии находится. Придет тепло — кру-
гом все оттает, тогда и наступит черед любви...
Г енка остановился, покрутил головой, удивляясь
своим мыслям— что-то необычное в голову лезет:
любовь же не картошка, которую хранят до поры
до времени, а потом, по команде свыше или по
собственно/лу велению, перебирают на складах и
отправляют в овощные палатки. Любовь — это... это
морской шквал, что как влепит кораблю в скулу, у
того трещат переборки, все косточки на излом ис-
пытание проходят — едва на «ногах» судно удержи-
вается.
Генка-моряк снова усмехнулся — ну и чушь же
эти мысли, сравнения эти...
И вместе с тем хорошо, что он попал сюда, в
балочный городок, к ребятам, которые тянут на
Север железнодорожную нитку. Он улыбнулся от
прилива внутренней теплоты, но тут же — откуда
только такая переменчивость взялась — в нем воз-
ник какой-то странный испуг. Ведь все могло сло-
житься так, что он не попал бы в этот балочный
городок, попал бы в другой. Тут воля его величе-
ства случая: по разнарядке он мог проводить реви-
зию не на здешних шлейфах, а на других, и тогда
не видать бы ему Любы Битюковой, как собствен-
ных ушей.
На чай у Любы собралось народу довольно мно-
го— и это был действительно чай, без какой-либо
выпивки,— самый что ни есть натуральный чай. В
балочном городке сухой закон, вино пьют только
по праздникам. Когда на прошлой неделе в городок
приехало начальство из области, то у хозяев под
рукою даже фронтовых ста граммов не оказалось,
чтобы отогреть озябших приезжих. Пришлось посы-
лать Лукинова на «гететешке» (гусеничном тягаче-
быстроходе ГТТ) за шестьдесят километров по зим-
нику в старое рыбацкое село за коньяком,
Генка с Аликом вошли в предбанник «Диогеновой
бочки», потоптались, стряхивая с обуви намерзший
снег. Генка выставил из-под шапки ухо, уловил за
дверью шум, звуки музыки, приподнял свой «хрюн-
дик», который держал за пластмассовую дужку. За-
чем он с этим самоваром сюда притащился, тут и
так музыки много... Потом махнул рукой—а-а,
была не была!—толкнул дверь вперед, вваливаясь
в хорошо прогретое нутро балка, довольно потряс
ладонью у рта: «Чик-чик-чик-чик!»
— Забавно. Надо же! А я думал, что все воробьи
уже перемерзли,— взглянув на Г енку, восхитился
согнувшийся над электрической плиткой парень.
Был он высок, белес, глаза имел холодные. Была в
них твердость, жесткая серьезность уверенного в
себе человека. Скулы — хорошо очерченные, щеки
впалые, до глянца выскобленные бритвой, движе-
ния— точные, короткие. Это был старший мастер
Ростовцев, человек в здешних местах известный.
На плитке шкворчала, плевалась лопающимися пу-
зырями яичница.
— Братва, еще минута терпения — и щетина пре-
вратится в золото,— сказал Ростовцев, подковырнув
ножом яркий, одуванчикового цвета, пласт яичницы.
— Здравия желаю! — поздоровался Алик.
— В K2KCM звании-то? — поинтересовался Ростов-
цев.
— Гвардии ефрейтор,— ответил Алик.
— А я рядовой необученный,— сказал Ростовцев,
и Генке-моряку почудилось в его голосе обидное
превосходство.
Он даже не понял поначалу, откуда идет оно, это
превосходство, а потом сообразил—Ростовцев наме-
кал, что он, руководитель, самое низшее военное
звание имеет, но это ничего не значит: ему под-
чиняются и майоры в отставке, и капитаны, и стар-
леи — старшие лейтенанты, не говоря уже о мело-
чи — сержантах и ефрейторах.
Но Ростовцев вдруг просто, без какого бы там ни
было превосходства, без рисовки, объяснил:
— В институте у нас, когда я еще на втором кур-
се учился, военную кафедру отменили... Вот и оста-
лись все мы рядовыми, необученными. Готово! —
объявил он, поднимая сковороду за длинную ручку.
В «Диогеновой бочке» было довольно много наро-
ду— ТУТ сидел и сменный мастер, которому Генка-
моряк мешал сегодняшней ночью спать, и диспет-
черша Аня, молчаливая, с крупными блестящими
глазами, с тяжелой гривой волос, гибкая, как про-
росший по весне тростник; был тут и Виктор Ива-
нович Пащенко. Он пока оставался где-то за преде-
лами Генкиного сознания, жизнь Пащенко проходи-
ла мимо него, не задевая, не оставляя затесин, но
Генка чувствовал, обостренным нутром своим чуял,
что с бригадиром бульдозеристов ему вскоре обя-
зательно придется иметь дело.
— Проходите, товарищ Чик-чик,— повела рукой
Люба.— И гвардии ефрейтора тоже прошу...
Генке захотелось скопировать Аликово «Слуша-
юсь!», но он сдержался, молча кивнул, прошел к
стенке, сел, поставил «хрюндик» себе на колени.
— Музыка от мороза не заржавела?
— Не должна,— ответил Генка,— она на минус
шестьдесят испытание проходила.
Нажал на клавишу, магнитофон выдавил из нутра
что-то хриплое, потом как бы прочистил голос, и воз-
никла мелодия. Мелодия оказалась свежей, силь-
ной, как лет отдохнувшей птицы. Генкино лицо сра-
зу стало гордым и мечтательным.
Ростовцев пронес яичницу к столу, опустил сково-
роду на подставку.
С Генкиного лица гордое и мечтательное выра-
жение стерлось — он неожиданно увидел, как крот-
ко, ласково, с какой-то потайной приязнью посмот-
рела на Ростовцева Люба, смешливость стаяла с ее
лица. Будто чья-то рука сдавила Генкино горло, ему
вдруг стало не по себе. И еще один взгляд, диспет-
черши Ани, перехватил он, зоркий человек Генка-
моряк,— взгляд, тоже брошенный на Ростовцева.
Отметил машинально и то, что глаза у Ани редкост-
ного цвета, сизого с чернотой, Генка сдавил дужку
«хрюндика», притискивая его к коленям,—вон ведь
какая история получается. Влип ты, Гена.
К Генке подсел Пащенко, зажал в оплетенной тол-
стыми узловатыми жилами руке колючий подбо-
родок.
— Ну что, моряк, обвыкаешься на суше? — спро-
сил он глухим, промороженным голосом.— Чего на
Ростовцева окуляры нацелил? Завидный для девок
парень, да? — Генка кивнул, а Пащенко продол-
жил:—Москвич, столичная кость. Жена у него с
ребенком имеется. В городе живет. Красивая. Толь-
ко пухлая, как белый батон.— Покашлял в кулак, в
простуженном нутре его будто захрипел старый ус-
талый движок. — И у Любки тоже своя семья есть.
Да. Муж вышкомонтажником в нефтяном управле-
нии. Только, похоже, не клеится у них что-то, вроде
бы обрыв ленты произошел. Заменят ленту в одном
месте — расползается в другом. — Пащенко отор-
вал руку от подбородка. Длинный костлявый подбо-
12
родок его, странное дело, был конопатым — лицо
чистое, а подбородок в коричневых весенних брыз-
гах. — Любка даже в город на воскресные дни не
ездит — все норовит тут, на трассе остаться. Без вы-
ходных работает, — проговорил он с тихим сочув-
ствием.
Вокруг сковороды с яичницей возникла колготня,
шум, каждый тянулся со своей вилкой, норовя под-
цепить кусок поаппетитнее.
— Эй, моряк, с печки бряк, а ну, к яичнице!
— Спасибо, я только что смолотил два первых,
три вторых...
— А ты, Пащенко, чего в стороне сидишь?
— Я тоже в столовой был,— уклончиво ответил
Пащенко, поскреб пальцем кадык,— во как напи-
тался!
— Столовая столовой, а домашняя пища лучше.
— Тоже мне, домашняя пища — яишня!
— Что-то ты, дядя, брюзгой становишься,— заме-
тил Ростовцев.— Возраст, что ли?
Вошел Лукинов, кругленький, в затуманенных с
мороза очках.
— Товарищ Лукинов Пе Пе, вас приветствует яич-
ница! К столу! — скомандовала Люба.
— С удовольствием, Любовь Сергеевна, с удо-
вольствием.— Лукинов шариком подкатился к столу.
— А ты, Пащенко? В последний раз приглашаю.
— Не-е, мы с товарищем моряком сыты под са-
мую завязку. Во как сыты,— окончательно отказал-
ся Пащенко, снова повернувшись к Генке. —Девять
лет уже Ростовцев у нас в Сибири работает. Рань-
ше он трубу тянул, сейчас на железную дорогу пе-
решел. Однажды он такое сотворил—все газеты
писали. С бригадой трассовиков в весеннюю сля-
коть сорок километров труб выдал. У всех маши-
ны стали, в болото по самый пупок увязли, а у не-
го — нет. Даже чужие машины, которые летовать
до морозов остались,— и те вытащил. Не только
свои не утопил, а и чужие спас. После этого у не-
го сердечный приступ случился. От рабочего пере-
грева! Его на вертолете в больницу, в кровать унес-
ли, а он через день оттуда сбежал.
Ростовцев тем временем веселил за столом ком-
панию, и Люба смотрела на него влюбленными гла-
зами. И Люба и диспетчерша Аня. Обе. И Генка,
которого во время пащенковского рассказа оста-
вило было ознобное, щемящее чувство одиночест-
ва, снова ощутил себя сирым, забытым и даже по-
завидовал Алику, который как ни в чем не бывало
расправил свои усы, молча подсел к столу. Генка
же, Генка так не мог, не умел — у него сразу бы
задрожали руки, голос увял, ноги бы сделались чу-
жими, негнущимися.
Он вслушивался в звук «хрюндика», в печальную
мелодию, вздохнул. Переключился на разговор, ко-
торый вели за столом. Говорил Ростовцев. Как ока-
залось, рассказывал историю про Лукинова.
— Еду я на «Жигуле» на юг, в отпуск. Ирина ря-
дом сидит, беби — на заднем сиденье...— Генка по-
нял, что Ирина — это жена Ростовцева, подумал, что
Люба при упоминании этого имени должна была
сморщиться, погасить свет в зрачках, а она хоть бы
хны, даже бровь вверх не приподняла, не отвела
взгляда.— Включил я радио, чтобы скучно не было.
А то ведь дорога усыпляет. Слушаю, значит, что там
на нашем глобусе творится. Очерк передают. И сло-
ва уж больно знакомые слышал их, наверное,
по меньшей мере раз двести пятьдесят: «Люди, об-
живающие суровые край... дорога, принесшая в глу-
хие таежные места новую жизнь... тундра, в кото-
рую пришло человеческое тепло» и так далее. Го-
ворю Ирине: «Это, мать, по-моему, про нас...» А
когда произнесли: «Вот люди, которые победили
природу, протянули нитку железной дороги сквозь
тайгу и болота»,— тут совсем все стало понятно.
Слушаю дальше — ба-ба-ба! Про Лукинова речь
диктор глаголит.— Ростовцев бросил взгляд на Лу-
кинова, и тот, тихий, незаметный, налился краской,
щеки заалели, будто маки. — Про то, как мастер
участка товарищ Лукинов железную дорогу на Се-
вер тянет, впереди всех идет и, представьте себе,
молотком размахивает. Знаете, почему молотком
размахивает? — спросил Ростовцев и, поскольку ни-
кто не ответил, продолжил:—Героизм проявляет.
Этим молотком волков отгоняет. И словесный порт-
рет товарища Лукинова дают—невысокий, в очках,
с мужественным взглядом.
Все посмотрели на Лукинова. Генка почувствовал,
как тот сжался, вобрал голову в плечи.
— Вернулись мы, значит, из отпуска, я вызываю
к себе Лукинова. «Знаешь,—говорю,—про тебя по
радио очерк передавали?» «Нет, — отвечает, — не
слышал. А что передавали-то хоть?»
— Лев Николаич! — умоляюще попросил Лукинов.
Но Ростовцев на эту просьбу ноль внимания.
— Да передавали, говорю, что Лукинов — малень-
кий, суетливый, с запотевшими очками и мутным
взглядом, неряшливый, пуговицы на пиджаке ото-
рваны...
Все снова посмотрели на Лукинова—соответству-
ет ли портрет истине?
Лукинов опять попросил Ростовцева:
— Лев Николаич!
— Понимаю, ты — начальство, ты — мастер участ-
ка, мой, значит, зам, а авторитет начальства ни в ко-
ем разе подрывать нельзя... Мы свои, мы итээр...
У Генки щеки почему-то набухли жаром: он же не
ИТР. И напарник его, Алик, тоже не ИТР. Но потом
Генка подумал, что человек он здесь посторонний,
временный, так какая разница? У него свои заботы,
у здешнего строительного отряда свои. Объеди-
няет их только одно: общая жилая площадка.
Только ли? А Люба Витюкова?
— Тут-то мой Лукинов и полез на стенку, зарычал,
словно царь пустыни: «Да я этих корреспонден-
тов!»— продолжал Ростовцев.— Целый месяц бу-
шевал, а потом оттаял.
«Диогенова бочка» смеялась.
Лукинов напрягся, будто жидким свинцом налил-
ся, маленький, круглоголовый, щекастый, с неожи-
данно стреляющим взглядом; чувствовалось, что он
на пределе — вот-вот скажет что-нибудь резкое,
злое. Но Лукинов сдержался, а Ростовцев про-
изнес:
— Смех и шутка, товарищ Лукинов, все равно,
что лекарство, которое ни в одной аптеке не доста-
нешь. Жизнь, говорят, удлиняет. Не обижайся,
ладно?
— Для того, чтобы согреться, дорогой Лев Нико-
лаевич, вовсе не обязательно сжигать собственные
корабли,— тихо, чуть ли не шепотом произнес Луки-
нов.— На них ведь еще и плавать можно.
Все приходили и приходили люди в балок. Гомо-
на добавилось. Танцевали. Пробовали затянуть пес-
ню, но общности не получилось, голоса никак не
собирались в единое целое. И снова пары шаркали
подошвами по линолеумному полу «Диогеновой
бочки».
Генка несколько раз станцевал с Любой, ощущая
рукой сквозь простенькую ткань платья ее плечо.
Что-то хмельное, острое, еще не испытанное било
ему в голову, и губы начинали дрожать, а ноги
подкашиваться. Но он ловил насмешливый взгляд
партнерши, и странная беспомощность проходила,
будто в лицо ему брызгали холодной водой. Толь-
ко узелок кожи на подбородке, наливаясь, краснел,
словно несорванная ягода на снегу, выдавал Ген-
кино волнение.
В один из танцев он вдруг поймал острый и же-
сткий взгляд Ростовцева. Взгляд, похожий на укус, на
удар током. Почувствовал, что Ростовцев посмеива-
ется над ним. На шее выступил пот: Люба-то была
на голову выше. Успокаивая себя, подумал, что это
не повод раскисать и смущаться не надо — ну что
из того, что выше?
— Рассказал бы что-нибудь, морячок.— Любины
глаза были подведены нежным голубым карандаши-
ком, лицо ее от этого стало еще более привлека-
тельным— никакой другой косметики, как заметил
Генка, она не употребляла. Нос тонкий, резковато
очерченный. Генке по вкусу, честно говоря, были
лица простые, обработанные ветром и солнцем, но
Любино лицо казалось ему теперь лучшим из всех,
какие Генка встречал в своей жизни.— Рассказал
бы, как плавал, в каких морях-океанах бывал, какие
жаркие страны видел...
Люба Витюкова посмотрела в сторону, и Генка
перехватил этот взгляд: к Ростовцеву подсела дис-
петчерша Аня, наклонилась, произнося что-то тихо.
В Любином взгляде Генка заметил ревнивую озабо-
ченность. Горечь возникла у него во рту. Он закаш-
лялся, покрутил головой.
Люба дохнула в лицо теплым.
— Ну так как же насчет розовых стран и голу-
бых морей?
— Почти никак,— сказал Генка.— Сегодня ночью я
проснулся, мокрый, как мышь. Видел во сне, что
тонул.
— А тонул? Наяву?
— Дважды.
— Ну? — удивилась Люба.
— А однажды у меня был случай, когда я ночью
задыхаться начал,— вдохновляясь, заговорил Генка.—
Не хватает воздуха — и все тут. Это я, оказывается,
во сне нырнул глубоко—с маской нырнул, а когда
поднимался наверх, то увидел, что ходят надо мной
три ската. И застрял на полпути. Проснулся оттого,
что у меня в легких кончился воздух.
— Скаты — это страшно?
— Током сильно бьют. И хвостом искромсать здо-
рово могут. Хвосты у них костяные, острее ножа.
Бьют хватко. А в океанской воде не только поруб,
там даже царапина опасна — тут же примчатся на
запах крови акулы либо барракуды.
— А барракуда — серьезный зверь?
— В следующий раз я тебе в подарок челюсти
барракуды привезу, у меня есть. Это пострашнее и
покрепче, чем челюсти волка. Вот и суди тогда —
серьезный зверь или несерьезный.
— С маской когда нырял—чего доставал?
— Разное. В основном ракушки.
— Расскажи.
Генка заметил, что Ростовцев не слушает диспет-
чершу Аню, он — весь внимание, и смотрит на них,
и вроде бы даже участвует в их разговоре, напряг-
шись всем своим резковатым твердым лицом. А Аня
говорит и говорит ему что-то на ухо, и волосы ее —
тяжелые, черные, со смолистым блеском — плот-
ным крылом легли с одной стороны на его плечо,
а с другой — закрыли ее лицо.
— Расскажи,— снова обратилась к Генке Люба,—
расскажи про свои экзотические ракушки.
— Ну... Вот есть такая, например, ракушка, цве-
тастая, рябая, на курицу похожая — свиным ухом
называется. Я привез с океана две штуки, одну те-
бе вместе с челюстями барракуды могу подарить.
Хочешь?
— Подари.
— Блескучая ракушка, словно лаком покрытая.
13
Тебе понравится,— увлекаясь, зачастил Генка-мо-
ряк.— Добыть ее со дна не сложно, сложно из-
влечь внутренности из раковины, вот. Если вывари-
вать ее, как рапану, она блескучесть свою потеряет,
и перламутр тоже потеряет. Ну, мы исхитрялись
так: клали ракушку на солнце посередь горячей па-
лубы — клали в неудобном положении. Специально,
чтобы она «ногу» показала. Когда ракушка выпра-
стывала свою пятку с ороговелой «монеткой» на
конце, то ее поддевали крючком за эту «монетку»
и подвешивали на тросе. За ночь она и вывалива-
лась полностью из раковины. Вот. После чего бери
и ставь в свою коллекцию.
— Интересно.
— Есть еще спиралеобразные ракушки... Их по
науке витыми называют,— продолжал Генка, совсем
не замечая, что музыка уже стихла, танцующие рас-
селись по углам, и только они с Любкой посреди
«диогеновои бочки» перебирают ногами в танце,
который уже отзвучал.— Но мы науку побоку, мы
звали их морковками. Добывают морковок так. Вы-
лавливают ракушку и ввинчивают штопор в мякоть.
И потом в чайник с кипятком кладут. Сварят и што-
пором выдергивают мякоть. Как пробку из бу-
тылки.
— Я в прошлом году на юге, в Сухуми была, ви-
дела там, как рапан ловят. Интересно.
— Черноморские рапаны — это что-о... Мелочь
пузатая. В микроскоп надо разглядывать. Вот нам
попадались рапаны—ого! Величиной с суповую ка-
стрюлю...— Тут Генка осекся и замолчал, вдруг по-
чувствовав, что музыки нет, что он увлекся, и Люба
до сих пор не окоротила его.
— Бис! Браво! — шумно захлопал в ладони Ро-
стовцев.— Люб, ты что, в горячие страны, в Кроко-
дилию, где ракушки водятся, собралась7 Инструк-
таж получаешь?
— Ну и что? — тряхнула головой Люба.— Полу-
чаю! Можешь, в свою очередь, Ане дать инст-
руктаж.
Генка увидел, как диспетчерша Аня вскинула го-
лову и обидой налились ее глаза, веки покраснели.
Поразился Любиным словам — резки они были. По-
думал, что Аня обязательно должна ответить, но
Аня смолчала.
Заговорил Ростовцев. Произнес задумчивым голо-
сом:
— Добро, сделанное врагом, так же трудно за-
быть, как трудно запомнить добро, сделанное дру-
гом. За добро мы платим добром только врагу, за
зло мстим и врагу и другу.— Покачал головой.—
Это не я, это Ключевский Василий Осипович, вели-
кий историк, сказал.
Люба усмехнулась, вечерняя тень быстро про-
ползла у нее по лицу, и Генке показалось, что это
неспроста, есть такое, о чем он не знает, но что
связывает Ростовцева и Любу Битюкову. Он попро-
бовал предположить и даже похолодел от мысли,
промелькнувшей у него в голове, и удивился —
как смог, как сумел подумать о Любе такое?
— Впрочем, все это ерунда, фраза, не больше,—
услышал он голос Ростовцева.— Вернемся, как го-
ворится, на круги своя и начнем по новой.
В последних словах Ростовцева Генке почудилось
что-то недоброе.
Раздался печальный высокий звук скрипки — это
пауза в магнитофонной кассете кончилась, и снова
пошла музыка, и снова пары двинулись из своих
углов на середину «Диогеновой бочки». Люба, не
снимая рук с Генкиных плеч, переступила с места
на место, сильным, коротким движением заставила
Генку сдвинуться с точки, на которой он застыл, и
начать новый танец.
14
— Подумаешь, начальство... Отойди на десять
метров — и не видно,— шепотом в себя произнес-
ла она.— При случае можно и мокрым полотенцем
отхлестать. Он мне не муж, и я ему... — Прикусила
язык, увидев, как вытянулось лицо Генки, и вдруг
спросила: — А ты что, никогда не был женат?
— Не был.
— И детей нет?
— Откуда ж они возьмутся, если жены нет? Из
атмосферы?
— Ну, всякое бывает. Вон, у Ростовцева, напри-
мер, есть. И в своей семье и вне семьи.
— Меня это не интересует.
— Правильно, товарищ Чик-чик.
— А у тебя муж есть?
— Есть. Только...— Она издала губами тонкий се-
кущий звук.— И есть и нет. В общем, кончится зи-
ма — уеду я отсюда к черту, на Большую землю.
— Понятно. Мужа с корабля за борт смыло. А
дети?
— Дочка у меня есть.— На Любином лице просту-
пило нечто мягкое, мечтательное.— На Большой
земле живет. У бабушки.
— А муж?
— Что муж? — На мягкость наложилось раздраже-
ние.— Что муж? Объелся груш, вот что... Работает
вышкомонтажником в соседнем управлении. На Ук-
раине мы с ним познакомились, приехала я с ним
сюда, а жизни не получилось.
— Встречаешься?
— Как бы не так. Боюсь,— призналась Люба.—
У нас каждую субботу вертолет людей в город возит,
а я не летаю, сижу, как дура, в балке, ни ша-
гу из тайги. Никуда не вылезаю—боюсь с мужем
встретиться. У нас жилплощадь на двоих. А комнат
всего одна. В Шанхае, знаешь?
Генка знал окраину города, состоящую из наспех
сколоченных когда-то домиков-засыпушек, прозван-
ную Шанхаем. В этих домиках поначалу жили пер-
вопроходцы, потом они переселились в нормальные
квартиры. Их место заняли вновь прибывшие, и они
тоже получили свое жилье. И опять Шанхай засе-
лило очередное пополнение — квартир все еще не
хватало, рано было сносить эти старые засыпушки.
— Уеду я на Большую землю. Как месяц май на-
ступит— так и уеду,— вдруг со щемящей, какой-то
стойкой болью произнесла Люба, поймав косой
взгляд Ростовцева, и сдавила руками Генкины пле-
чи.— Нельзя мне так больше. Не житье, а... Нельзя...
У Генки холодом повело скулы. Он подумал, что
здесь, наверное, и этот самый Ростовцев виноват.
Судя по всему, он к Любе имеет интерес... Жена-
тый... Дети на стороне... Надо с ним поговорить,
чтоб на Любку больше косяки не кидал. Погово-
рить как мужику с мужиком. В крайнем случае су-
нуть кулак под нос — такой язык испокон веков
был весьма убедительным, и на свои кулаки Генка
не жаловался — не подвели еще ни разу.
— Не надо тебе уезжать на Большую землю,—
сказал Генка рассудительно,— тут,— он помахал ла-
донью перед ртом,— чик-чик-чик-чик, твое место.
Тут, а не там.
Люба улыбнулась печально: ах ты, товарищ Чик-
чик, товарищ Чик-чик. Покачала отрицательно голо-
вой.
— Нет, морячок.— Посмотрела на Ростовцеза.—
Ишь, Аня-то как за начальство держится. За руку,
словно дите малое.
И опять щемящие глухие нотки прозвучали в ее
голосе — тосковала Люба о чем-то. То ли о Ростов-
цеве, то ли о родине своей, о Большой земле,
о цветущем мае, когда все яблони и вишни в бе-
лом дыму; то ли о своей дочке, находящейся в
добрых трех тысячах километров отсюда.
Генка уловил эту тоску, и ему тоже сделалось
печально.
Через час все разошлись. Последней, кого пошла
проводить Люба, была Аня.
В «Диогеновой бочке» остались двое: Ростовцев
и Генка. Оба, казалось, и не собирались уходить.
— Спортом занимаешься? — спросил Ростовцев.
— Занимался.
Генку в который уже раз обдало горьким летним
духом: словно этой морозной ночью начали рас-
цветать черемуха, чернобыльник и мягкая серебри-
стая полынь, словно будни прошлого потекли перед
ним, наполненные живыми запахами цветов, травы,
воды, камней, прибоя, песка, пены, водорослей,
хвои, железа, смолы, солнца, тумана, словно он на-
чал жить заново. Но ему опять предстояло пройти
многое из того, что уже осталось позади.
— Мускулы как? — спросил Ростовцев, который
каждое утро делал зарядку, по тридцать раз под-
нимал двухпудовую гирю.
— Ой вы, мускулы стальные, пальцы цепкие мои!
— Попробуем? — предложил Ростовцев.
Сгреб чашки, стаканы в сторону, очистил угол
стола, постучал пальцами по пластмассовой жесткой
поверхности: не продавится ли? Водрузил свою ру-
ку на стол, посмотрел в упор на Генку.
— Ну, морячок!
Генка понял, что Ростовцев предлагает потягать-
ся, кто кого, чья рука крепче. Подумал, что ему
нелегко придется — руки у него не ахти какие, да
плюс ко всему правая сломана в детстве. Он тогда
погнался за удравшим из клетки голубем, и тот
нырнул в склад лесин, в прогал между бревнами,
и Генка, не задумываясь, нырнул следом. Бревна
расползлись и придавили. Рука болит с той поры.
Генка понимал и другое, понимал, что соревнова-
ние это неспроста. Сглотнул сухой комок, застряв-
ший в горле; подумав немного, поставил руку на
стол, вытянул, распрямил пальцы, поиграл ими, из-
гоняя застойную тяжесть. Что-то страдающее, бо-
лезненно-жалостное шевельнулось в нем: проиграет
ведь он этот поединок.
— Ну! — нетерпеливо повторил Ростовцев.
Генка взялся за его ладонь. Ладонь у Ростовцева
была сухой, чуть подрагивающей от напряжения.
— Локти на одну линию, чтоб мухлежа не бы-
ло,— проговорил Ростовцев, подбил Генкин локоть,
сдвигая его влево, так что рука оказалась в не-
удобном положении.
— Так годится? — улыбаясь, спросил Ростовцев.
— Годится,— ответил Генка.
— Тогда поехали... Раз, два... Три!—выкрикнул
Ростовцев на высокой ноте и с силой надавил на
Генкину руку, беря ее на излом.
У того в глазах даже стало темно, словно элект-
рический свет весь вытек из «Диогеновой бочки».
И опять он почувствовал горький дух чернобыль-
ника, перемешанный со щекотным острым запахом
корабельного дерева, пропитанного морской водой.
Ростовцев гнул и гнул его руку, еще немного и
совсем прижмет ее к столу. Пальцы у Ростовцева
были железными, словно пассатижи, он намертво
сдавил ими Генкину ладонь. Сквозь темноту, упав-
шую перед глазами, Генка едва-едва различил туск-
лый кругляш электрической лампочки, подвешенной
низко над столом, чтобы было удобнее читать, сда-
вил зубы так, что у него в висках что-то захрусте-
ло, подумал, что если Ростовцев сейчас завалит
его руку, то не видать ему, Генке-моряку, удачи,
как собственных ушей. И Любы, славной, красивой
и печальной, тоже не видать — надломится у него
нечто такое в душе, чему никак нельзя ломать-
ся...
Генка всхрипнул, всасывая сквозь зубы воздух,
и, набирая силу, скривил свое налитое кирпичной
краской лицо. «И-иэ-эа-а...»—отжал руку Ростовце-
ва на чуть-чуть, на самую малость. Эта крохотная,
как птичий шажок, победа подбодрила его и слов-
но бы новых сил добавила. «А-аха-а»,— вслух ах-
нул он, добавил что-то бессвязное, сиплое, еще на
чуть-чуть отжал руку Ростовцева.
Еще немного, и они выровняются. В ушах даже
прозвучало знакомое ростовцсвское, уже произне-
сенное: «Локти на одну линию, чтоб мухлежа не
было». Не будет обмана, не будет... Он снова за-
хватил воздух сухим ртом, будто пьяный, засипел,
увидел прямо перед собой лицо Ростовцева, сизое,
остроскулое, с выступившим вперед упрямым под-
бородком, понял, что хоть по утрам начальство и
выжимает по тридцать раз двухпудовую гирю, од-
нако до Ильи Муромца или Добрыни Никитича ему
еще далековато. Напрягся, одолевая некую трудную
серединную черту, порог равновесия — и вот уже
рука Ростовцева пошла вниз, и сам он, сизолицый
от натуги, оттого, что из пор вот-вот должна была
выступить кровь, ощерил рот, обнажая сомкнутые
зубы, застонал бессильно, недобро, и Генка понял
окончательно, что он выиграл этот бой.
И будто Любу Битюкову выиграл.
И свое прошлое, полное духа черемухи, полыни,
полевых цветов, моря, йода, мокрого песка, солн-
ца, смолы, тумана, который гуще сметаны,— свое
прошлое он тоже выиграл.
И право на сегодняшний вечер —будто право
первым приглашать на танец.
Он дожал руку Ростовцева до конца, притиснул
ее к тепловатой гладкой поверхности стола и, не
глядя больше на соперника по состязанию, встал,
натянул на плечи свою старую облезлую дошку,
купленную по случаю в общежитии нефтяников,
быстро вышел на улицу.
Ночь была туманной и трескучей от мороза. Даже
снег шевелился, ужимаясь от холода.
Любы не было.
Она, похоже, ушла спать к диспетчерше Ане.
Генка, задыхаясь от слабости, от усталости, сделав-
шей его тело вялым, непослушным, ломким, побрел
в «офицерский» балок.
Утром его разбудили хрипучие звуки «матюгаль-
ника», жестяной грохот барабана — передавали му-
зыку для зарядки.
Генка потянулся сладко, взглянул в черное ноч-
ное оконце, за которым расплывчатым зернышком
поблескивал огонек — электрическая лампочка на
столбе перед балком, которой вчера не было, а
сегодня ввернули.
— Что это? — удивился спросонок Алик, выставив
из-под одеяла негнущиеся, будто из проволоки
скрученные усы.
— Начало рабочего дня,— ответил Генка, прислу-
шался: вроде бы «матюгальник» знакомую фами-
лию произнес.
И точно, его, Генкина, фамилия... Рывком поднял-
ся, натянул на себя свитер, штаны. А «матюгаль-
ник» трескучим, ржавым голосом повторял:
— Товарищ Морозов, немедленно зайдите в про-
рабскую!.. Товарищ Морозов, немедленно зайдите
в прорабскую!..
Через пять минут он был в прорабской. Ворвал-
ся, окутанный клубом тугого удушливого пара, со-
драл пальцами ледяные наросты со щек, успевшие
15
образоваться буквально за несколько минут, пока
он шел по улице:
— Что случилось?
Сидевший за столом Ростовцев шевельнулся.
— Да ничего. Спать хватит, вот и разбудили.
— Ничего себе шуточки,— проговорил хрипло
Генка.— А все-таки?
— Твое начальство радиограмму передало с
просьбой оказывать тебе всяческое содействие. Тех-
никой и, если понадобится, людьми. Когда к рабо-
те приступаешь?
— Сегодня.
— Люди, техника понадобятся?
— Люди, думаю, нет, а техника — та нужна будет.
— Только не зарывайся, проси минимум,— пре-
дупредил Ростовцев.— Много ведь не дам. Имей в
виду.
— Бульдозер мне нужен будет,— сказал Генка.—
У меня пароустановка на колесах. А по целине она
на колесах не пройдет, надо будьдозером дорогу
к шлейфу пробивать. Да и резина на машине
лысая.
Ростовцев подвигал челюстью, будто на зуб ему
попало что-то неприятное.
— Ладно, бульдозер я тебе дам, — наконец про-
изнес он. — Можешь сказать об этом Пащенко, он
у нас по этой части адмирал.— Но только бульдо-
зер. Больше ничего ты не получишь. Каждая еди-
ница техники у меня на счету. Понял?
— А мне больше и не надо,— сказал Генка-мо-
ряк.— Этой самой единицы, одной-единственной,
мне будет предостаточно.
Ростовцев посмотрел на него вполуприщур, что-
то соображая, прикидывая в уме. Лицо Ростовцева,
твердое, было отчего-то усталым, и у Генки ше-
вельнулась в мозгу ревнивая, совсем не к месту,
жгучая мысль: уж не провел ли он эту ночь у
Любы Битюковой, ведь вон какие вчера косые
взгляды кидал на Любу, ведь вон... Генка даже
сжал кулаки — если это так, то берегись, товарищ
Ростовцев, берегись!..— но тут же окоротил себя:
собственно, какие права он имеет на Любу? Какие?
Никаких.
Генка молчал, и Ростовцев молчал — видно, тоже
что-то почувствовал, увидев сумасшедшее напряже-
ние на Генкином лице, побелевшую, в юношеском
пушке кожу на скулах, сведенный в твердую линию
рот, покрасневший шрам на подбородке.
Наконец Ростовцев сказал:
— Ладно, иди. Тебя я больше не задерживаю.
Повернувшись по-матросски через плечо, на пят-
ке мехового киса, Генка нырнул в темноватый
предбанник прорабского балка, враз остывая в
крапивном холоде, окутался паром с головы до
ног, подумал о Любе Битюковой: не дай бог, про-
изошло то, что у него промелькнуло в мозгу, ког-
да он стоял перед Ростовцевым и глядел в его
усталое, осунувшееся лицо... Вздохнул, вышел на
улицу.
Генка решил, что шлейф он проверять начнет от
сепараторного пункта, где стоят мудрые машины по
очистке газа, потом пойдет в глубину, в лес и
тундру, по окостеневшим, схожим с гигантскими
ледниками болотам, будет проверять трубы и стоя-
ки скважин там. Вот такой его рабочий план на се-
годня, на завтра, на послезавтра. И на послепосле-
завтра тоже...
Передвижная паровая установка—Генка морщил-
ся, когда слышал это название, очень уж громкое
оно, прямо как некий морской корабль зовется,
торжественно и звонко, словно для рапорта,— была
16
поставлена на лафет старого грузовика ГАЗ-51, по
Генкиному— «газона», и очень смахивала на боль-
шой котел, в котором домохозяйки вываривают
белье. От котла, будто щупальца доильного аппара-
та, тянулись присоски, трубки, прочая чертовщина,
которую, по мнению Генки, можно было бы уп-
разднить, упростить, но тем не менее не упразд-
няли, держали про запас, и потому «газон» был
действительно похож на какой-то странный подвод-
ный агрегат. Резина колес у «газона» была лысая,
съеденная — на таких далеко не уедешь, в снегу
чуть толще двух пальцев пароустановка обязатель-
но застрянет. Потому и нужен Генке бульдозер.
Водитель пароустановки Петр Никитич был чело-
век хмурый, страдающий желудком, и такой «гово-
рун», что каждое слово у него надо было клеща-
ми вытягивать — хорошо, если он в день более трех
фраз произносил...
Петр Никитич сидел в кабине «газона», разогре-
вал мотор. Тот хрюкал заспанно и обиженно отто-
го, что заставили проснуться в эту бешеную сту-
жу, кашлял, плевался вонючими, противно сизыми
клубками дыма,— в общем, вел себя кое-как.
— Чего, Петр Никитич, капризничает бандура?
Может, ее пора на заслуженный отдых отправить?
Петр Никитич промолчал.
— А то мы живо!..— Зная, что на ночь машины
здесь оставляют со включенными моторами, Генка
спросил: — Чего ж ты мотор вырубил, а? Не надо
было на ночь выключать...
Петр Никитич опять промолчал. Такова была его
натура, жизненный принцип: слово — золото, а зо-
лото надо за семью замками держать, не давать
ему хода.
— Ну, будь,— сказал Генка,— готовься к работе.
Двинулся в «офицерский» балок.
А в балке Люба Витюкова сидит и с Аликом
разговаривает.
— A-а, товарищ Чик-чик,— протянула Люба, и от
ее голоса в Генкиных глазах возник знакомый ку-
кушонок, приоткрыл дверку, высунулся из своего
домика, полюбопытствовал, что же такое вокруг
творится, рассыпал вокруг себя желтые блестки.
Люба предложила:
— Чай будешь?
— Ух, чай — это хор-рошо,— сказал Генка, потер
ладони одна о другую.— Особенно с мороза...
Люба с интересом посмотрела на него:
— Ишь ты, как упарился... Иль Ростовцев стружку
снимал?
— А кто он мне, Ростовцев? Начальник, что ль,
чтоб стружку снимать? — неприязненно проговорил
Генка.— Ноль без палочки,— добавил он, увидел,
что у Любы от его слов глаза попрозрачнели, за-
дел, видимо, этим Любу; улыбнулся, надеясь, что
из ее глаз исчезнет холодная прозрачность:—Если
что не так, не ругай меня.
— А-а,—Люба махнула рукой, но ее выдали
морщины, что легли по обочинам ее рта, у самых
углов, протянулись к подбородку,— у тебя характер
такой: ругай, не ругай — все едино. Точно, Алик? —
спросила она, не поворачивая головы, у Генкиного
напарника.
Тот огладил усы, произнес степенно:
— Никак нет.
— Вона, и защитника себе нашел,— усмехнулась
Люба, оглядела Генку с головы до ног.— Карман у
твоей дохи отрывается. Снимай, починю.
— Да ее, одежку эту, выбрасывать пора. И так,
Люб, сойдет.
— Снимай, кому сказали!
Генка покорно стянул с себя дошку, положил на
скамейку, рядом.
— Может, не надо?
— Надо.
Откуда-то у Любы и иголка мгновенно возникла
в руках, и наперсток, и нитка, которую она ловко,
послюнявив кончик, вогнала в узкий, едва видимый,
если смотреть на свет, проем в иголке. Быстро и
умело, будто всю жизнь только этим и занималась,
она пришила карман, откусила нитку, произнесла
назидательно:
— За одеждой надо следить,— с чем Генка цели-
ком был согласен.
Вдруг снова горькие морщины легли у ее рта,
и было непонятно, в чем же причина этой вмиг
появляющейся и вмиг исчезающей горести — воз-
можно, виновата была неприкаянность человека,
привыкшего нести домашние заботы и тяготы, сле-
дить за мужем, обихаживать его и вдруг оказавше-
гося вне этих приятных, воспитанных кем-то и ког-
да-то и заложенных в крови забот? А, может, ви-
на крылась в другом? Люба покачала головою, по-
рицая Генку за оторванный карман и думая о чем-
то своем, далеком, но в ту же пору близком, род-
ном только для нее. Так, во всяком случае, пока-
залось Генке-моряку.
Не хотелось ему пить чай. Он подумал, что ни-
когда эта женщина, дорогая и нужная ему, до то-
го нужная, что он даже готов был заплакать, ни-
когда она не станет близкой. И не понять ему ее,
нет.
Он взял себя в руки, произнес ровным, совсем
лишенным цвета голосом:
— Спасибо, Люба, за карман, спасибо, Люба,
за заботу, но нам с Аликом пора в поле, на
шлейф. Собирайся, Алик!
— Но ведь темно еще.— Люба заглянула в окон-
це, ничего там, кроме света лампочки, не увидела,
потому что морозный туман был плотным и гус-
тым. Тем не менее сказала: — Звезд еще на небе
вон сколько... Как морошки в корзине. Со счету
собьешься.
— Ничего, скоро развиднеется,— совсем неро-
мантично уточнил Генка,— а так, если мы будем
лишь на светлое время рассчитывать, то не только
на масло, но и на хлеб не заработаем.
Часов в одиннадцать, когда уже было светло, но
туман продолжал густо висеть над землей, непри-
ятный, злой, сухой, как перхоть, Морозову поступи-
ло сообщение: в шлейфе пробка. В зимнюю по-
ру это не редкость, тут пробки идут одна за дру-
гой — студь-то вон какая стоит.
Вместе с Аликом он двинулся вдоль нитки, кря-
кая и выплевывая изо рта замерзающую на лету
слюну. Через час они нашли пробку — этот мерз-
кий тычок оледеневшего газа, плотной деревяшкой
застрявший в трубе. С ним можно было совладать
только двумя способами: либо подогнать сюда пе-
реустановку и разогреть, разжижить его, либо про-
сверлить трубу и закачать в нее промывку — мета-
нол, едкую, вредную для здоровья жидкость: ес-
ли попадет на руку, на руке вздуется пузырь —
ожог. Надышаться тоже не сладко. С метанолом на-
до чуть ли не в противогазе работать.
Место, где они обнаружили пробку, забившую
шлейф, было для работы трудное — посреди по-
жухлого сосняка, со сгоревшей, деревянного цвета
хвоей. Снег вокруг был густо истоптан птичьими
лапами, словно посыпан крестиками следов.
— Тетерки ходят, их отпечатки,— вслух определил
Генка, — и еще куропатки. Этих тут вообще не
счесть — целая дивизия. — Добавил: — Дивизия
морской пехоты, — хотя какая разница — морской
2. «Юность» № 11.
пехоты или неморской. Добавил, наверное, потому,
что почти вся сознательная жизнь Геннадия Морозо-
ва, до того, как он попал в тайгу, проходила под
морским флагом. — Та-ак,—проговорил он озабо-
ченно,— пароустановку нам сюда не подогнать, для
этого надо колеса на гусеницы сменить. Придется
действовать старым, дедовским способом — будем
сверлить в трубе дырки и закачивать метанол. Дру-
гого тут не придумаешь.—Попрыгал на месте, хло-
пая рукавицами одна о другую, пустил, будто Змей
Горыныч, пар изо рта, крякнул:—А-ах, супцу бы я
сейчас горячего съел. А на второе — жареных ку-
ропаток. Да времени нет,— с сожалением закон-
чил он,— а то б наловил.— Приказал напарнику: —
Доставай инструмент.
Под ноги, чтобы коленями не примерзнуть к сне-
гу, бросили кусок старой телогрейки, из швов ко-
торой вылезали серые, грязные куски ваты, зачисти-
ли малость трубу напильником, чтобы удобнее бы-
ло сверлить, и начали работать. Крутишь вороток,
к которому приварено сверло, а железные рогуль-
ки его к ладоням прямо сквозь рукавицы прили-
пают, и так больно, что даже кричать охота, и кля-
нешь все на свете от досады, от рези, ошпариваю-
щей руки, от обиды на конструкторов, которые
много умных вещей придумали, а вот такую про-
стую штуку, как безопасное (чтоб не дай бог —
искра) сверло, так и не придумали.
А тут еще досада — давление, как оказалось,
нельзя в трубах сбросить, иначе шлейф полностью
в какие-нибудь полчаса будет забит мертвым га-
зом, и тогда все, туши огни, катастрофа, большие
денежки в небо уйдут —тогда надо новый трубо-
провод прокладывать. Генка обернулся к напарни-
ку, щеки его были белыми от мороза, в инее,
крылья носа — в ледяных наростах. Прохрипел:
— Алик, быстро мчись в балки, попроси у Любы
ведро. Быстрей!
— Зачем? — не понял Алик, сбил ладонью иней
с пышнейших своих усов, но не тут-то было — иней
оледенел, стал твердым, как металл.
— Давление-то со шлейфа не снято... Боюсь,
сверло обломится, в голову угодит. Это ж как пу-
ля — насквозь пробоина будет. А голова с течью
ни тебе, ни мне не нужна. Дуй к Любе!
— Слушаюсь!
— А я пока погреюсь.— Генка поднялся, тяжело
дыша и разгоняя ладонью звенящий пар, запрыгал
на месте. Сверло, на которое был надет вороток,
он не стал выдергивать из трубы. Вороток, как жи-
вой, ходил из стороны в сторону, трясся от напря-
жения, с которым газ пытался пробить пробку
внутри трубы. Ведром они вороток накроют, чтоб
беда не стряслась. Если сверло обломится, то до-
нышко ведра оно не пробьет, застрянет — так Генка
задумал.
Однажды у Генки уже был случай, когда при-
шлось сверлить дыру в трубопроводе под напряже-
нием. Тоже воротком сверлил, так сверло, едва он
проткнул тело трубы, со слабым хряпаньем обло-
милось, и над самым ухом этак тоненько, безо-
бидно—«фьюють», будто рябчик свистнул. А че-
рез три секунды больным стоном отозвалась сосна,
находившаяся метрах в пятнадцати от Генки. Он
тогда внимания на стон не обратил, потому что
из продырявленной трубы кипенно-снежным души-
стым султаном начал бить газ и надо было сроч-
но закачивать в шлейф промывку, а потом, когда
авария была задавлена, осмотрел сосну. В коре
сосны виднелась глубокая отметина, оставленная об-
ломком сверла. Боевой шрам.
...Перестав прыгать, разогреваться, Генка затих
и еще довольно долго слышал, как звучно и чисто
17
скрипел вдали твердый, мерзлый снег под ногами
напарника. Потом шаги истаяли, и Генка остался
один на один с тишиной. Загустевший туман при-
давил все звуки. И вдруг жутко, не по себе сде-
лалось Генке Морозову, будто к пустынному остро-
ву он причалил, где ни жизни, ни биения чистой
ключевой воды, ни шороха листвы, ни игры вет-
ра — ничего живого нет. Даже мурашки по коже
побежали. Но тут же отпустило: неподалеку раз-
далось тихое, словно шепот — фр-р-р, фр-р-р. Ген-
ка понял: это оголодавшие куропатки выбрались
из-под снега, теперь перелетают с места на место,
пищу выискивают. Много куропаток тут. Даже
строящаяся дорога не распугала их. И оттого, что
рядом находилось что-то живое, у Генки теплее
сделалось на душе.
Он снова запрыгал, давя кисами снег, разгоняя в
себе охолодавшую, застоявшуюся кровь, растер ру-
кавицами щеки, которые сильно и больно кололо
морозом. Потом сделал несколько пробежек и,
разогреваясь, заставлял себя думать о безоблач-
ном юге, ласковой утренней заре, о тихом летнем
дождике, после которого грибы лезут из-под зем-
ли и нет силы, которая могла бы остановить их.
В дождливую пору хорошо в дальневосточных лес-
ных озерах рыбу ловить: карась клюет так, будто
всю жизнь только и мечтал насадиться на крючок.
Выдернешь его из воды, а он висит, ленивый, непод-
вижно, жабры раздувает, а с хвоста у него рыбье са-
ло капает. Чик-чик-чик-чик! Пропади видение, как
сладко бы ты ни было, а то на таком страшенном
морозе запросто окаменеть можно, в мрамор об-
ратиться.
«Ну, где же там Алик застрял, где?» Генка по-
смотрел на шевелящийся вороток, представил себе
силу загнанного в трубу газа — если он вырвется
из-под контроля, то... Поморщился от опасного оз-
ноба, попрыгал снова, боясь впасть в сладкую дре-
му, лишающую сил, разума, воли.
Он даже не слышал, как появился Алик—оглох
от тишины и мороза,— почувствовал только движе-
ние тумана, глянул, а Алик — вот он, вдоль трубо-
провода бежит, в просторной, не по размеру,
одежке путается.
— Ну, и долго же ты, парень,— скрипучим от хо-
лода голосом проговорил Генка.
— Никак нет! — бодро отозвался Алик.— Нигде
не задерживался.
— Ладно, накрывай вороток, а то время ухо-
дит,— приказал Генка, опускаясь на телогрейку, по-
удобнее взялся за обындевевшие рожки воротка,
больно зажмурился— крапивная стылость пробила
его в один миг до костей, Генку передернуло так,
что зубы застучали, он не смог удержать в себе
эту дрожь, прохрипел только:—Накрывай! Чего
медлишь?
Алик накрыл ведром вороток вместе с Генкины-
ми руками. Алик был весь белый — и конец чуба,
выбившийся из-под шапки, и усы, сахарно-хрустя-
щие, и брови, и кое-где не сбритые на подбородке
и щеках волосы, и кожа на лице тоже стала ос-
тывшая, прозрачная, белая.
Генке было неловко работать под ведром, он
кривил лицо, сжимал веки, кряхтел надсадно, но
работы не прекращал.
— Туго идет, гада,— хрипел он,— чик-чик-чик-
чик... Очень туго.
— Может, поменяемся?—предложил Алик.
— Обойдусь,—растягивая слова, буквально про-
пихивая их сквозь обескровленные губы, прогово-
рил Генка,— немного осталось.— Приостановился на
миг, переводя дух и окутываясь паром, потом
крякнул, будто селезень, удирающий от охотника,
18
надавил руками на вороток, сделал одно резкое
круговое движение, потом другое, еще и еще...
Вдруг под ведром что-то резко и глухо зашипе-
ло, словно разбудили злого джинна, вороток начал
вырываться из Генкиных рук, но Генка продолжал
его удерживать недолгие секунды, шипение сдела-
лось еще сильнее и резче, от него в ушах тонко
зазвенело, ровно кто натянул балалаечную струну,
потом на какой-то миг все смолкло, раздался силь-
ный, глухой, будто из-под земли выхлестнувший
удар, донце ведра выгнулось бесформенно, как ста-
рая шляпа.
Генку вместе с воротком отшвырнуло в сторону,
и он бойко покатился по промерзлой тверди, хва-
тая ртом жгучий снег, само ведро выбило из рук
Алика, и Алик закричал тонко, удивленно. А вот
что кричал он — не разобрать в шипении и гро-
хоте. Ведро взметнулось в высоту, и тут же
скрылось в плотном и тяжелом тумане. Правда,
сквозь шипение вырвавшегося из трубы газа слы-
шался звук, по которому можно было определить,
куда же неслось ведро и что оно все-таки не уле-
тело на Луну или какую-либо далекую планету...
Вскоре раздался дребезжащий, резкий вой, от кото-
рого хотелось заткнуть уши — будто на землю лете-
ла дырявая бочка,— ведро гулко врезалось в снег
метрах в шести от Генки, насквозь пробив мороз-
ную твердь.
— Метанол!— прохрипел Генка, выплевывая снег
изо рта и ловя глазами низенькую Аликову фигу-
ру.— Метанол! — разъярился Генка, хотел добавить
крепкое словцо, да по непонятной причине не
смог, затрясся в кашле.
Перевернулся на живот, стараясь освободиться
от боли удара, вывернул голову, увидел, что над
трубой, в месте пробоя, вспух хрустящий гриб, око-
стеневший буквально на глазах, хотя в корешке
гриба еще продолжало что-то пузыриться, клоко-
тать, шипеть, жалобно попискивать, чирикать — там
шла какая-то работа. Прекратись она, тогда пробой
снова просверливать придется, потому что на та-
ком морозе вода, газ, дерево превращаются в
сталь, сталь же, настоящая сталь — в нечто непроч-
ное, ломкое, как корка сухого хлеба.
— К шлейфу! — скомандовал Генка, поднимаясь
на колени и ощущая с неприязненным чувством, с
холодной жалостью, как бессильно дрожат у него
ноги, тело ломит, словно после тяжелой болезни,
из ушей никак не вытряхнется тонкий, похожий на
осиное жужжание гуд.
Он потряс головой, освобождаясь от этого гуда,
от прилипчивого балалаечного звона, соскреб рука-
вицей лед со рта, сделал шаг к шлейфу, к отвер-
девшему грибу, краем глаза заметил, что Алик то-
же перестал стоять, тожр сделал шаг. «М-молодец
нап-парник...» Прокричал:
— Метанол давай, Алик?
Отчего-то удивился, что в мыслях он заикается,
а наяву, в живой речи,— нет. Пнул ногой под ко-
решок снежный гриб, где пузырение, работа, ка-
кое-то странное шуршание не прекращались, отбил
себе ногу и закричал, приходя в состояние необуз-
данной злости: «Сво-оло-очь!»
Ему показалось, что даже туман разломился на
лохмотья от этого крика, от отчаяния, от всего не-
доброго, что таили в себе здешние темные силы.
В поселок строителей они вернулись поздно
ночью, когда огни горели во всех балках, пора
ужина уже прошла, в «диогеновой бочке» собирал-
ся народ на вечернюю беседу. Оба они, и Генка
Морозов, и Алик, были измотаны, измочалены до-
нельзя, едва держались на ногах, ослабевшие и об-
мерзшие. Они точно бы вытаяли из тумана, как
два привидения, поддерживая друг дружку. Обес-
покоенный Петр Никитич, на рысях бегавший во-
круг балков в поисках ребят, уже взялся было за
ружье, чтобы палить в воздух, подавать сигнал, на
звук которого Генка и его напарник могли бы вый-
ти, сориентироваться по выстрелам, да не успел
нажать на курки. Туман разломился, и в щель про-
тиснулись двое.
Петр Никитич кинулся к ним, размахивая на бегу
«ижевкой», губы его приплясывали, жили сами по
себе на обеспокоенном лице, но Петр Никитич по
обыкновению молчал.
— Порядок морской,— остановил его Генка,—
все в ажуре, Никитич. Помоги нам!
Тот повесил «ижевку» себе на шею, протиснул-
ся между ребятами, худой, жилистый, высокий;
подхватывая Генку и Алика под мышки, потащил их
в «офицерский» балок.
— Порядок, чик-чик-чик-чик... Морской поря-
док,— как в бреду, бормотал Генка,— пробили
пробку, все о кей. Все, дед.
Петр Никитич молча кряхтел.
— Инструмент только оставили там, на шлейфе.
Сил не было тащить. Сгубил бы он нас. Завтра на-
до забрать. Все завтра...— продолжал бормотать,
не выходя из состояния полубреда, Генка, но тут
•надвинулась на них темная коробка балка, чему
моряк обрадовался несказанно, будто золотую
рыбку поймал. Облизал мерзлые губы, улыбнул-
ся:—Дош ли-таки...
— Морду бы тебе набить, чтоб без страховки не
ходил.— Петр Никитич переборол свою немоту,
смутился от собственных слов, толкнул унтом дверь
«офицерского» балка. Алика прислонил к косяку —
постой, мол, парень, немного, отдохни; Генку пер-
вым повел внутрь балка.
— Не злись, дед,— проговорил Генка,— мы и не
в таких морях бывали, не такие шторма видели...
Чик-чик-чик... Два человека — это вполне доста-
точно, чтоб одну пробку ликвидировать. Но ты
прав, Никитич, в сильные морозы с собой надо
третьего человека для страховки брать. Кто-то на
спасе должен стоять, да. Чтоб начальство наше
меньше пужэлось и не переживало за нас.
Петр Никитич молча сунул ему под нос кулак,
усадил на койку.
Пошел за Аликом, тоже притащил в балок. Од-
ного за другим разул, раздел, растер ноги. У Ген-
ки за пазухой он неожиданно нашел мятую гвар-
дейскую бескозырку с бронзово-черными ленточка-
ми. Хмуро посмотрел на нее, словно прикидывая, за-
чем же парень носит головной убор за пазухой, и
нахлобучил на Генкину голову. Промолчал по обык-
новению.
На следующий день, когда ребята проснулись,
ящик с инструментом, прочие причиндалы, которые
они оставили на шлейфе,— все это было уже в бал-
ке: Петр Никитич по вчерашнему следу нашел
место пробоя, забрал оставленное добро, принес
в городок.
В этот день не работали: отдыхали после вче-
рашнего. Да и день-то был актированным — мороз
за пятьдесят.
Утром Генка долго ничего не слышал вокруг, ни
один звук не проникал в бездумную голубую Цветь
его сна, в тепло яркой, не знающей снега земли,
где царило солнце, был ясный, прозрачный день,
чистое море с пенной канвой по берегу, отливаю-
щие радужными крапинами валуны, тихий, с метал-
лическим звоном шелест пальм, и еще было их
судно, стоявшее на рейде, и ребята, Генкины бы-
лые друзья, по гибкому веревочному трапу спуска-
ющиеся в воду купаться.
Генка лежал под одеялом, вытянувшись в струн-
ку, задрав вверх подбородок. Лицом он за про-
шедший день исхудал, щеки подобрались, скулы
остро проступили, в глазницах — желтизна, будто
разбавленным йодом помазали, нос облупленный,
в черных застругах помороженной кожи. Люба,
когда вошла, чуть не охнула, но сдержала себя,
боясь разбудить Генку, боясь и другого: вдруг в
ней возьмет верх бабье, жалостливое — то самое,
что не должно брать верх. Ведь не муж ей этот
низкорослый морячок, не старый друг. Никто он
ей, случайный знакомый, гость их строительного
городка — прибило на несколько дней волной, и
скоро та же волна унесет его в другое место. А в
другом месте, может быть, своя Любка есть, еще
краше.
Глаза ее неожиданно обволокло чем-то горя-
чим — вспомнилось вдруг прошлое, песня, которую
пели чисто, высоко ее лучшие товарки—где же
они сейчас? Поди, замуж повыходили— и, дай бог,
удачно, не как она... И чтоб детишки, поколение,
идущее следом, было у них послушным, добрым.
И будто бы мелодия родилась в ней самой,
возвратясь из прошлого, нежная, как липовый цвет,
и слова, которые она уже начала забывать, тоже
будто бы возвернулись, и вместе с ними — щемя-
щее торжество, радость обретения, белая кипень
садов и щекотный сладкий дух весны, проснувших-
ся трав и злаков, дух цветения. И все, что проис-
ходило сейчас вокруг,— показалось ей,— было со-
творено только для нее, для нее одной.
Хотя, собственно, ничего не происходило — были
стоны и всхлипы мороза за стенками «офицерско-
го» балка, бормотание «матюгальника», тяжелое
Генкино дыхание да детское, совсем детское по-
чмокивание, вызывающее сочувствие и даже жа-
лость к этому бывалому и наивному парню.
Она прислушалась к хрипу большого дюралевого
колокола, прибитого к шесту, узнала голос Ростов-
цева, вздохнула. Нет, все-таки не Генка-моряк ей
нравился, маленький, клещистый, смешной, а Ро-
стовцев, гибкий, с волевым ртом, круто обрублен-
ными скулами — красивый мужик этот Ростовцев,
ничего не скажешь. Вышла из «офицерского» балка.
И вот странное дело — Ростовцев в ту минуту
тоже думал о Любе, и что-то тревожное, жесткое,
будто ком верблюжьей колючки, возникло в нем,
какой-то странный злой огонек запалился изнутри,
вначале слабо, будто пламенек лампы-коптюшки, а
потом все сильнее и сильнее, и Ростовцев, словно
враз опьянев, закрутил головой, пытаясь справить-
ся с этим огнем. Потом досадливо потер виски.
Поднялся, вздохнул, решая что-то про себя, по-
думал— хорошо, что в прорабской никого нет, ни-
кто не видел, как он трясет, крутит головой, ровно
одёр, отбивающийся от слепней,— а потом и не-
понятная, вдруг сильно, почти неодолимо вспыхнув-
шая в нем ревность взяла свое. Он сощурил глаза,
поглядел в обмахренное снеговыми морозными ла-
пами оконце, ничего там не увидел, хотел было
подивиться хитрому рисунку мороза, испещривше-
му оконце, да не подивился — то ли не дано бы-
ло, то ли.... а-а, не заслуживающая внимания ме-
лочь— все это! А рисунок хорош был — видать,
природа сильно тосковала по лету, по теплу, по
ласковым дождям, раз такими диковинными рас-
тениями, листами и ветками обиходила простень-
кое, ничем не приметное оконце прорабской. Ро-
стовцев зажал зубами костяшку указательного паль-
19
ца, надавил, отрезвел от боли, услышал вдруг ти-
хий, странно далекий, будто из другого мира, со
звезд пробившийся к нему смех, замер, сообра-
жая, что же это такое, слабым уколом отозвавшее-
ся в сердце, вызвавшее томление. Ну, что?
Генка тоже встрепенулся от этого звука, медлен-
но открыв глаза, еще не очищенные ото сна с
теплом виденного солнца и голубизной яркого мо-
ря, выпростал руку из-под одеяла. На руке у не-
го, довольно высоко, у самого локтевого сгиба,
был выколот маленький якорек, перетянутый строч-
кой каната. Генка улыбнулся, прикрыл ладонью рот.
«Чик-чик-чик-чик»,—сбросил с себя одеяло, спрыг-
нул на холодный пол — балок довольно сильно под-
морозило снизу, поэтому он заахал, закрутил рука-
ми, словно ветряная мельница, перепрыгнул на
коврик. Аханье разбудило Алика, во сне его усы
распушились, каждая волосинка побрела в сзою
сторону, и усы его теперь походили на два вени-
ка, скрепленные встык, один к другому. Потянулся.
— Па-адъем!— скомандовал Генка.— Хватит по-
тягушечками заниматься. Пора на завтрак.
— Слушаюсь!
— «Слушаюсь, слушаюсь»,— передразнил Генка.—
Трескотун-то, а? День сегодня должен быть актиро-
ванным. Во, жизнь! Никто не работает, а зарплата
за счет Деда Мороза все равно идет. А-ах! — при-
сел Генка, делая зарядку.— И как мы с тобой вче-
ра не замерзли? Я бы на месте Никитича нам бы
обоим по фотокарточке надавал. И тебе и мне,
чтобы не рисковали.
Алик промолчал.
Генка прекратил приседания, ахи-охи, гимнастиче-
скую мельтешню руками. Облупленный нос болел,
надо было его смазать чем-нибудь живительным.
На мороз с таким носом нельзя показываться.
А кто может снабдить его снадобьями, целебны-
ми мазями? Конечно же, Люба Битюкова, Любка-
голубка, только она...
Алик, который поморозился меньше, сбегал к
ней, принес крупчатую, приятно холодную смазку,
похожую на тавот. Генка навощил тем тавотом нос,
прилепил сверху клочок газеты, натянул на самые
глаза малахай, снизу забаррикадировал дыхание
шарфом, пошел в «Диогенову бочку»: захотелось
Любу увидеть.
— Ну что, моряк с печки бряк? — с ходу отрез-
вила его Люба.
— Спасибо вам за солидол. Нос им так нашту-
катурил, что теперь никакого мороза не боюсь.
— Что это меня, как графиню заморскую, на
«вы» зовешь?
— А я утром сон заморский видел,— неожиданно
сказал Генка.— С графиней в главной роли.
— Во сне—не наяву,— усмехнулась Люба.
— Наяву заморские графини хуже,— серьезным,
не допускающим возражений тоном сказал Ген-
ка.—Я их видел.
— Нос-то вон обморозил. Тоже мне граф... с об-
мороженным носом. Посмотри, какой нос-то у те-
бя, словно огурец.
— Ничего, облезет — новее будет,— бездумно от-
ветил Генка.
— Э-э, товарищ Чик-чик,— уловив эту бездум-
ность, с обычной насмешливостью протянула Лю-
ба.—Рот надо уметь не только открывать, но и за-
крывать, чтобы полова не вылетала. Что еще умно-
го скажешь?
А что было говорить Генке? Он просто хотел
увидеть Любу. И все. И никаких дел у него не бы-
ло. Не рассказывать же ей бессмертную сказку про
белого бычка, не повторяться же про то, как он
тонул, как ловил рапан величиной с большую су-
20
повую кастрюлю... И вообще не нужно стараться
быть умным, надо быть самим собой. А то от од-
ного только хотения сделаться умным запросто
можно стать дураком. Вот ведь как.
— Ты в Москве когда-нибудь была? — почему-то
шепотом спросил Генка-моряк.
— Нет.
— А я был. Один раз. В аэропорту нанял боль-
шую пятнистую лошадь и поехал город смотреть.
.— Что за большая пятнистая лошадь? — спросила
Люба, попадаясь на Генкину удочку.
— Такси. Оно ж пятнистое, шашечками разрисо-
вано, цвета салата со сметаной и с зеленым ко-
шачьим огоньком на ветровом стекле. Хорошо в
Москве. Ленинские горы видел, Лужники, Большой
театр и Сандуновские бани. Еще я на елочном ба-
заре был.
— Где-где? — не поняла Люба.
— На елочном базаре, потому что тогда Нозый
год был на носу. Там же не тайга, там культура,
елки издалека привозят. Так один мужик продал
другому елку за пятерку, сказал: «Подожди, я те-
бе веревку сейчас принесу, чтоб было удобнее
нести»,— и ушел. И не возвращается. Пять минут не
возвращается, десять... Тогда покупатель решил
транспортировать елку домой без веревки. Подер-
гал ее, а она не поддается. Оказывается, он живую
елку купил, в земле она росла.
— Врешь, Генка,— рассмеялась Люба.
— Конечно, вру,— охотно согласился Генка. Он
сейчас готов был говорить что угодно, рассказы-
вать небыли и анекдоты, готов был научить ее мор-
гать полтора раза, держать на носу березовый пру-
тик, варить флотские щи из корабельного каната, го-
товить чай из топора...
— Еще что-нибудь соври. Только без половы,
интересно чтоб.
— Курить тут можно?
— Можно.
Генка достал из кармана пачку «Опала», выдер-
нул сигарету, погремел задумчиво спичками, по-
смотрел на собеседницу, и Люба Битюкова снова,
в который уже раз, как бы разглядела в его гла-
зах маленькую, величиной со спичечную головку
дверцу. Распахнулась дверца, и из нее высунулся
веселый кукушонок. Генкины глаза еще более по-
теплели. Генка положил сигарету на два пальца ле-
вой руки, указательный и средний, потом пальцами
правой ударил по руке с сигаретой, в воздухе что-
то мелькнуло, и Люба вдруг увидела, что сигарета
у Генки уже во рту сидит. Захлопала в ладоши.
— Браво! Тебе только в цирке работать. Повтори!
Генка повторил. Она засмеялась сильнее.
— Повтори!
Генка опять повторил.
— Дай, теперь я попробую! — Люба попробова-
ла, но сигарета пролетела у нее около уха, во
второй раз ткнулась в щеку, а в третий просто упа-
ла на пол.
— Ловкость рук, и никакого мошенства,— солидно
сказал Генка, доставая из пачки другую сигарету.
Прокатал в пальцах мундштук.— А хочешь, я этим
мундштуком спичечную коробку пополам разрежу, а?
— Не разрежешь, он же из ваты.
— Спорим?
— На что?
— Ни на что. На что спорят только... э-э... ну,
они самые! Нехорошие люди, так сказать. Мы с
тобой другие. Смотри! — Генка чиркнул спичкой,
запалил ее, подставил под мундштук. Торец сигаре-
ты зашипел сыро и громко, будто ветка, принесен-
ная с мороза и неотогретой засунутая в печку; на-
чал ежиться, из него закапала какая-то жижа. Ген-
ка дунул на спичку, послюнявил пальцы и с силой
сжал конец мундштука. Тот сплющился и тут же
застыл — оказывается, пористое волокно было хи-
мическим, с пластмассовой нитью.— Видишь?—ска-
зал Генка.— Как нож острый, грань-то...— Провел
пальцем по сплющенному концу, по ребру мунд-
штука.— Я им не только спичечный коробок разре-
жу, но и буханку хлеба.
Поскреб коробку со всех сторон, и та развали-
лась на две части.
— Как же вы такую химическую гадость курите?
— Не знаю. Все курят, и я курю. Но надо при-
задуматься. Говорят, на сигаретах знак качества пе-
рестали печатать. И надпись сделали насчет того,
что два грамма никотина лошадь убивают. Или что-
то в этом духе. Я пока не видел. Какой еще тебе
фокус показать?
— Какой в голову придет.
— Знаешь, у меня немного нос отойдет, чтоб на
мороз можно было высовываться, я тебе куропа-
ток наловлю. Хочешь?
— Конечно. Подспорье в питании. А как?
— Чик-чик-чик-чик, это диковинный способ. Ни-
кто в этих краях такого не знает. Я его с Дальне-
го Востока привез.
— Что же это за способ?
— Увидишь.
Люба подумала вдруг ни с того ни с сего: вот
закончит свое дело этот человек, уедет, и наверня-
ка будет пусто без этого доброго, потешного мо-
рячка, без Чик-чика. Будет, наверное, скучать их
отряд. Такие люди, как Генка, нужны. Особо в
тайге, там, где тяжело, они поднимают настроение,
помогают выстоять.
Задумчивая улыбка возникла у нее на губах, и
показалось Генке, что предназначена улыбка лишь
для него одного. Хорошо стало Генке. И не суще-
ствовало уже мороза за стеклами «Диогеновой боч-
ки», всего трудного и недоброго, что было вчера
и, вполне возможно, повторится завтра, не сущест-
вовало бездомного прошлого, а было будущее, и
манило оно Генку.
Мороз не отпустил и на следующий день, и на
третий трескотун снова удался такой знатный, что
спасу от него не было. И туман стоял густой —
солнца не видно, так, висела какая-то немытая по-
брякушка в небе, пятак заржавленный, а не свети-
ло. Машины ходили по зимнику на ощупь, ползали
едва-едва, чихая и задыхаясь, мяли колесами твер-
дый снег —человек обгоняет в такой мороз ма-
шину запросто. День снова был актированным.
И вообще на эту пору приходится самый пик
морозов, холод припекает так сильно, что воздух
даже стекленеет.
В такое время ничего нет утомительнее безделья.
Поэтому Генка, вспомнив о своем обещании нало-
вить куропаток диковинным способом, предло-
жил Любе:
— Ну так что, ловить мне для артели таежную
вкуснятину или нет?
— Какую такую таежную вкуснятину? — не поня-
ла Люба. Видно, забыла о недавнем разговоре.
— Куропаток. Све-еженьких,— повертел Генка в
воздухе рукой.— Пища аристократов.
— Тю! — не веря, усмехнулся Ростовцев, нахо-
дившийся в этот момент рядом. Генке показалось,
что он усмехнулся недобро.— Неужто наловишь?
А впрочем, давай! Вертолеты в такой мороз не хо-
дят, мясо свежее не скоро подвезут... Давай
угощай!
— Нет, я серьезно.
— И я серьезно,— испытывая Генку, сказал Ро-
стовцев.
— Мы с Аликом третьего дня... или четвертого?
В общем, в день, когда шлейф чинили, видели не-
сколько стай. Совсем недалеко от балков.— Генка
выпил стакан компота, сиротливо стоящий на столе,
помахал ладонью перед ртом.— Чик-чик-чик-чик! —
Облизал губы.— Имеем шанс кое-что урвать от этих
стай и на вертел насадить. Вот. Пустая бутылка из-
под шампанского найдется?
Ростовцев усмехнулся снова.
Пустая бутылка из-под шампанского нашлась, ли-
тая, черно-зеленого толстого стекла, пылью, будто
пеплом, присыпанная. Генка отер ее, потребовал
хрипловато-зычно:
— Кипятку!
Кипятку не было, но вскипятить полчайника —
плевое дело: пять минут — и уже фыркала, гулко
шлепала, сипя рвущимися пузырями, крутая вода.
Кряхтя и пришептывая: «Чик-чик-чик-чик»,—Генка
слил кипяток в бутылку, заткнул горлышко газет-
ной пробкой.
— Вот и вся любовь!— многозначительно изрек
он.— А теперь бы ягоды бруснички... Ну, у кого
ягода брусника с собственного огорода сохрани-
лась, а?
И брусника нашлась. Мороженые алые катышки,
твердые, как свинцовые дробины. Генка ссыпал
дробь в карман.
— Все, двинулся на промысел.
Он поднял воротник, нахлобучил поглубже мала-
хай, вышел из «Диогеновой бочки». Слышно было,
как хлопнула дверь тамбура и каменно заскрипел
снег под кисами.
Генка пошел наискось от балков, раздвигая плот-
ные, как старая загустевшая сметана, лохмы мо-
розной белесости, в направлении леска, чахлой
рвущейся ниткой вдавившегося в горизонт,— там,
в снежной целине, сейчас и засела-попряталась от
холода куропаточья стая. Но холод холодом, а
есть-то им хочется, поэтому Генка и приготовил
птицам куропаткам кое-что вкусненькое, подарок,
так сказать. Много куропаток брать он не будет,
а по-божески, чтоб Любу, Ростовцева, ребят отряд-
ных, гостеприимно его встретивших, свежим мяс-
цом побаловать. Он отошел метров на триста, ос-
тановился, оглядел снеговой пятак, поморщился от
какой-то странной боли — он даже не понял, боль
это или озноб, настолько быстро его пробил элект-
рический разряд, запыхтел, зачичикал, подумал о
застывающих под снегом голодных куропатках и
снова поморщился, поерзал плечами под дошкой —
мороз-то, не приведи господь, чик-чик-чик-чик,
какой крутой мороз.
Бутылка из-под шампанского, в которую был на-
лит кипяток, горячила тело, он подумал о балочном
тепле, о Любе, и ему стало веселее.
Твердая, фанерной ломкости корка снега была
сверху присыпана легким пухом, в пуху этом четко
отпечатались крестики — следы куропаточьих лап.
И все же поляна ему не понравилась. Гулко выдох-
нув длинную парную струю воздуха, Генка полыхал
привычно, продавливая сквозь губы свое «Чик-чик-
чик-чик», пробежал еще немного к леску, в ту
сторону, где они с Аликом мерзли, пытаясь совла-
дать с газовой пробкой. Деревья были стылыми и
от этой стылости казались прозрачными. Они бук-
вально светились насквозь. Несмотря на мороз,
цепко жалящий нос, щеки, каждую малость оголив-
шейся на бегу частицы лица и рук, Генке стало
легко, словно не было только что пробившего его
насквозь озноба. Совсем не думалось о том труд-
21
ном, что было вчера и что еще будет завтра,—
такой легкий был характер у Генки.
Толстый, сдавленный морозом снег ежился, ухал
и потрескивал. В нем, в толще его, шла своя та-
инственная, не познанная Генкою жизнь.
Он выбрал ровный, довольно большой кусок
опушки, где повсюду виднелись вырытые в снегу
сусличьи норки,— тут куропаток сидит много, стая
штук в двести, не меньше.
Генка остановился, пристальным взглядом полко-
водца еще раз осмотрел опушку, решил: вот здесь
и будет поле боя. Выдернул бутылку с горячей во-
дой из^-за пазухи, примерился. Ткнул эту бутылку в
снег. Черное, покрытое испариной тело бутылки, как
поршень, беззвучно вошло в плоть снега; Генка вы-
дернул бутылку обратно — и осталась ровненькая, ак-
куратно сработанная лунка с гладкими, мгновенно
обледеневшими стенками.
— Один-ноль, чик-чик-чик-чик,— пробормотал Ген-
ка, залез рукою в карман, достал несколько смерз-
шихся дробин брусники, сунул в лунку.
Куропатка бруснику пуще всего любит, пуще, чем
детсадовец мороженое, она брусничный дух изда-
ли чует и, как только Генка уйдет с этой поляны,
тут же притопает сюда — алою вкуснотой лако-
миться.
Генка отпрыгнул немного в сторону, пробежался
рысцой, согревая застывшую в жилах кровь, ткнул
еще раз бутылкою в снег.
— Два-ноль!
Насыпал в лунку брусники, снова пробежался,
снова продырявил горячим поршнем снеговую
одежку, удобрил ледяное гнездышко дробинами
мерзлой ягоды.
Всего пятнадцать минут ему понадобилось, чтобы
поляну утыкать лунками, которых он сделал что-то
около полусотни. Опрометью, на «второй космиче-
ской», почикивая на бегу, Генка помчался греться —
мороз за эти пятнадцать минут сумел пробрать до
костей.
Генка пулей ворвался в «Диогенову бочку», затан-
цевал, заплясал в тепле, тряся красными, будто ки-
пятком ошпаренными руками,— оттаивая, они ныли,
будто попадали в давильню, было до слез больно.
Мутные капелюшки ползли у него по щекам, ска-
тывались за воротник. Сам виноват — голыми ру-
ками бруснику в лунки насыпал, это в варежках на-
до делать, в варежках. Но варежек нет, а в рукави-
цах с таким тонким делом не совладать. «Чик-чик-
чик-чик»,— пыхтел, танцевал он от боли.
В «диогеновой бочке» народу поприбавилось.
Пришел Пащенко. Пришла диспетчерша Аня. Тезка
великого писателя, Лев Николаевич Ростовцев, гиб-
кий, с белесыми, будто вымерзшими волосами,
сидел на койке рядом с Любой, думая о чем-то
своем. Забота ясно проступала у него на лице.
У Генки, когда он увидел сидящими рядом Лю-
бу и Ростовцева,— вот, черт возьми!—сладко заны-
ло, занервничало что-то в подгрудье, и даже ломо-
та в оттаивающих руках на какой-то миг пропала.
Он зажмурился, словно не верил виденному, вспом-
нил свой разговор с Любой, ее тихий, будто в
чем виноватый и извиняющийся голос. Ему стало
горько, не по себе, он почувствовал себя обману-
тым.
— Ну что, товарищ Чик-чик? — вдруг раздался
Любин вопрос.
— Не приставай к человеку. Видишь, с мороза
отходит, соленую юшку хлебает,— очнулся Ростов-
цев от своих дум. Усмехнулся: — Где ж твои куро-
патки? Я тут выглядывал на минуту, видел, как ты
за балками козлом скакал, плотность снега изме-
рял. На прочность его пробовал, что ли?
22
— При чем тут прочность? — нахмурилась Лю-
ба, защищая Генку.— Он дело делал.
— Какое же7 Искал стратегические запасы в
здешних болотах7 Пятой точкой землю, как рентге-
ном, просвечивал? Иль куропаткам концерт давал?
Пляскам их обучал? Кадрили с камаринской...
— Ох, и нудный же ты бываешь, Лев Никола-
ич,— сказала Люба.
— Не всегда.
— Эгей, морская гвардия, слух прошел, что ты
куропатками обещал народ угостить. Где ж куро-
патки? — Это подал голос Лукинов.
Где тот сидел, Генка не разобрал, он стоял в
проеме «диогеновой бочки» и жмурился — продол-
жал оттаивать, рукам было больно,— жмурился еще
и от обиды, от несправедливости, от злых слов
Ростовцева, оттого, что тот сидел рядом с Любой
Битюковой.
— Будет обед с куропатками, Лукинов,— тихо
произнесла Люба,—могу даже об заклад, побиться.
Товарищ Чик-чик, он такой, он у нас словами не бро-
сается.
— Проиграть не боишься?
— Не-а.
— Будут куропатки,— глухо подтвердил Генка.
Ростовцев насмешливо фыркнул, обтер ладонью
лицо, будто снимал с него угловатость линий, из-
лишнюю твердость.
На поляну надо было наведаться через час, не
раньше, Генка повернулся и вышел, поплелся в
«офицерский» балок. Там, не раздеваясь, завалился
на койку и совершенно неожиданно для себя ус-
нул. Сон был коротким, тяжелым — это был опять
сон из прошлого. Генка даже сквозь забытье слы-
шал собственные стоны, плач, с трудным хрипом
вырывающийся из горла. Он никогда не плакал в
жизни, наяву, никогда не видел своих слез, считал
их признаком слабости, даже какой-то хвори, но во
сне плакал часто, просыпался утром с мокрым ли-
цом— видел сны из своего детства. И сны эти бы-
ли горькими, как вообще бывают горькими сны
безотцовщины.
Но будто бы толчок извне заставил мгновенно
пробудиться. Генка сел на койке, пошевелил паль-
цами в кисах, ощущая успокаивающую мягкость
меха. Из хорошего меха изготовлены унтята, наде-
тые под кисы. Унтята — меховые носки—он обя-
зательно надевал в морозы, а поверх мягкие ки-
сы, тогда трескотуну сложно пробрать работника...
Черт возьми, какая чепуха, мелочь лезет в голову.
Неужто других дел нет? Ткнул пальцем в клавиату-
ру «хрюндика», стоявшего на тумбочке, услышал ме-
лодию, которая сразу напомнила ему о судне —
родном, старом и милом корыте, о корешах, вме-
сте с ним бороздивших океаны, о жизни в кубри-
ке...
Эта кассета была привозная, он ее купил в аф-
риканском порту, в специальном магазине для мо-
ряков. Записи в кассете были на редкость удачны-
ми, заставляли печалиться светло и тихо, вспоми-
нать находящийся за тридевятью морями дом.
А когда печалишься — обязательно думы хорошие
в голову приходят, обязательно людей знакомых,
близких тебе, вспоминаешь; хворь, если она есть,
непременно сходит на нет, и море, надоевшее за
долгие месяцы плавания, становится родной
зыбкой.
Потом в печальную мелодию, которую чисто
воспроизводил «хрюндик», вплелся тихий смех.
Генка вздрогнул, резко вывернул голову, увидел,
что в кухоньке балка сидит Люба. Вскочил, расте-
рянный, ударившись плечом о ребровику верхнего
яруса койки.
— Т-ты чего т-тут? — спросил он, заикаясь от не-
ожиданности.
— Стерегу твой сон. Это ж моя обязанность.
Обязанность комендантши — стеречь ваши сны.
— Б-брось,— растерянно пробормотал Генка.
— Ох, какие мы колючие... Сентиментальности,
шуток совсем не переносим. В ежика сразу прев-
ращаемся.
— Б-брось.
— И заикаться начали. С чего бы? Может, вра-
чу показать?
По Генкиному лицу проползла тень, судорожная,
болезненная. Люба заметила это, умерила пыл.
— Слушай,— проговорил Генка нерешительно и
смущенно, выщербина на подбородке у него за-
алела, и опять что-то переменилось в его вырази-
тельных глазах, будто из окошечка робко выглянул
кукушонок, стрельнул золотом, снова спрятался.—
Слушай, а ты точно не любишь своего мужа?
— Точно не люблю.
— И поедешь весной на Большую землю?
— Поеду.
— С мужем разводиться будешь? Решила?
— Буду разводиться.
— А ребенок?
— Ребенок? Что ребенок? — Она выгнула брови
колесом.— Ребенка выращу и без мужа. Сиротой
не будет.
Генка помахал у рта ладонью.
— Чик-чик-чик-чик. А как?
— Тебе-то до этого что за дело? Ты ж не ми-
лиционер, чтоб допрос мне учинять.
— Знаешь, Люб, выходи за меня замуж,— вдруг
быстро, на коротком вздохе, буквально единым
словом произнес Генка, и вид у него сделался ви-
новатым, настороженным, словно у школяра, схло-
потавшего двойку.
Собеседница неожиданно охнула. Прижала ла-
дони к щекам. Оглядела Генку с головы до ног.
— Да я же выше тебя сантиметров на двадцать.
— Не страшно. Без каблуков обувь будешь но-
сить, а я с каблуками...
— Ты что, серьезно?
— Серьезно.— Генка снова помахал ладонью у
рта, но своего «чик-чик-чик» на этот раз не издал.
Люба усмехнулась печально, задумчиво, ныряя
куда-то в глубину, в самое себя. Вздохнула:
— Нет, Генка. Не смогу я выйти за тебя замуж.
Уплыла моя золотая рыбка, и осталась я у разби-
того корыта. Как та самая старуха. Надо ли сказку
заново начинать? Не знаю.
— Обязательно надо,— в Генкиных глазах снова
захлопотал кукушонок,— ей-богу, надо... Истинное
морское.
— Вообще-то жизнь тем и хороша, что в ней
каждый раз сказки можно заново начинать... Но
можно ли мне? Честное слово, не знаю.— Люба
снова усмехнулась печально, в себя. Это была по-
луулыбка-полуусмешка. Горькая полуусмешка. Ску-
лы на лице у нее заострились от невыплеснутой
заботы, от тяжести, от всего, что выпало на ее до-
лю. Румянец со щек сошел, лицо стало бледным.—
Не знаю! — повторила она. Встала резко, видно, при-
няла какое-то решение.— Ладно, не будем об этом.
— Ты подумай, Люб,— попросил Генка.— Поду-
май, а?
— Ах ты, моряк-моряк...— Люба с непонятной
жалостью посмотрела на Генку, повернулась, пошла
к двери.
Сухой линолеум мягко трещал у нее под нога-
ми. Трещали стенки балка. Трещала студь за окном.
Люба остановилась, бросила через плечо:
— Ничего-то ты не понимаешь, товарищ Чик-
чик...— Вздохнула громко — Генке даже показалось,
что вздох был сырым, со слезой,— и вышла.
Генка поднял валявшийся на полу малахай, на-
тянул его на голову. Почувствовал он себя опусто-
шенным, словно лишенным крови и мышц, лишен-
ным сил. Кости его, он ощущал, были непрочными,
чужими, руки-ноги не слушались его. Уткнул лицо
в воротник дошки, всхлипнул, но тут же окоротил
всхлип, будто испугавшись чего — как в детстве,
когда взрослые требовали прекратить плач, грозя
ремнем. Зачем он сказал ей все, зачем предложил
выйти замуж, зачем? Красные пятна проступили у
него на щеках — все-то выложил, дурак.
«Действительно дурак,— вдруг с неожиданной
жесткостью и холодом подумал он, всосал сквозь
зубы воздух, приводя свои мысли в порядок, сби-
вая с себя жалость, хлябь, всю слезную накипь.—
Ляпнул, дурак». В чем разница между умным и
глупцом? В том, что первый вначале подумает и
только потом скажет, второй же вначале скажет
и лишь потом подумает. А если Люба разболтает
Ростовцеву об этом разговоре? Тот, помня Генкину
победу в тихом соревновании на столе, других
поставит в известность? А? У Генки даже мурашки
по плечам побежали, и, несмотря на теплую дош-
ку, ему сделалось знобко. Вся его жесткость вмиг
превратилась в мягкую прель, слетела с него.
И ему снова стало жаль себя. И жизнь свою,
прошлую и настоящую. И Любку Витюкову, бобыл-
ку при живом муже, красавицу неудачницу, тоже
было жаль, очень жаль.
И-э-эх! Он рубанул рукою воздух, чувствуя, что
где-то рядом находится последний его предел.
Еще чуть-чуть, и расползется по ниткам, оборвется
нынешняя его жизнь, и тогда уж ни подправить
ничего, ни изменить... Сорвал со стенки старую
дерматиновую сумку с облезлыми боками, вышел.
На улице по-прежнему было туманно. Туман, су-
хой, словно картофельная мука, скрипел на зубах,
обваривал глаза, ноздри, зубы. Пора было соби-
рать куропаток, если, конечно, охота его удалась...
Черед подоспел. Генка вздохнул и трусцой побежал
на поляну, где он наковырял лунок. Бежал, стара-
ясь попадать кисами в старые сзои следы.
В первой же лунке, ледяной, скользкой, с зер-
кальными крупицами блеска по окоему, сидела ку-
ропатка. Она соблазнилась яркими, похожими на
кровь ягодами, нырнула за ними на дно лунки,
склевала, а обратно выбраться уже не могла—
гладкий окоем лунки стиснул крылья, не давая им
расправиться. И оказалась куропатка в положении
узника, посаженного в ледяной колодец. Один
только выход — гибель. Ледяная гладь была исца-
рапана, следы от коготков белесые, частые — цеп-
лялась за жизнь куропатка до последнего, но мо-
роз взял свое. Тушка стала твердой, как камень, а
перо оставалось еще живым, плотным.
Генка вытащил куропатку из лунки. Оледеневшая
шея была негнущейся, будто насаженной на гвоздь.
Глаза наполовину прикрыты прозрачной пленкой.
И сквозь пленку эту на Генку точно сама смерть
глянула. И жутко, одиноко и стыло сделалось
ему — будто никого в этом снежном безмолвии не
было, ни людей, ни недалекого балочного городка,
ни нитки железной дороги, которая уходила на
юг, на Большую землю, в большую жизнь. И ров-
но в горло кляп загнали— дышать сделалось не-
чем. Генка стиснул зубы, шагнул к следующей
лунке.
23
Эта лунка была пуста. И оттого, что была она пуста,
что в ней не погибла куропатка, ему сделалось
легче. Третья тоже была пустой.
А вот в четвертой сидела добыча еще живая.
Живая-то живая, но уже на исходе. Через пять —
семь минут в камень обратится. Генка схватил
куропатку, и жалость снова полоснула его; Генка,
вместо того, чтобы скрутить куропатке голову и
тем самым положить конец птичьим страданиям,
сунул ее за пазуху — а вдруг отогреется? Но куро-
патка начала остывать у него под дошкой, холодить
тело. Не отогрелась, умерла.
Дальше шли подряд несколько пустых лунок, а
потом — также подряд — с добычей. Видно, сюда
села целая куропаточья стая, раз так густо попада-
лась птица Села и полегла чуть ли не целиком.
Откуда-то из-за чахлых, обгрызенных ветрами
сосенок, находившихся невдалеке, но в тумане не
видных, потянуло таким крутым морозным варе-
вом, что Генка чуть не задохнулся, замахал около
лица ладонью и, забыв издать свое веселое «чик-
чик-чик», поднял воротник дошки, загораживаясь
от секущего, острого напора сибирской стужи.
Собрал куропаток. Три были живые, их Генка за-
метил издали — белые, как снег, взъерошенные
комки отчаянно скреблись, барахтались в лунках,
пытаясь выбраться на волю. Генка дал им волю —
выпустил. Куропатки одна за другой фыркающими
снежками мгновенно ушли в туман, растворились
в нем, словно в молоке. Генка поглядел им вслед,
жалея, что не может так вот подняться и улететь,
чтобы на всем, что происходило, поставить точку,
положить конец переживаниям, заглушить в себе
боль, тягу к Любе. Но не может он улететь, пото-
му что работа не сделана. Надо быстрее заканчи-
вать работу и возвращаться назад, чтобы никогда
больше не видеть Любу, никогда больше не слы-
шать о ней. Впрочем, никогда — это тоже условно,
живут-то они в одном городе.
Генка вздохнул, побежал к балкам, ловя соб-
ственное, осекающееся на морозе дыхание и мор-
щась от пронзительно-стеклянного визга снега под
подошвами. Неожиданно испугался: а вдруг он
в тумане, в этом мерзлом молоке, не найдет доро-
гу назад, к балкам? Это же смерть через час, мак-
симум через полтора — обессилит он и замерзнет,
как те куропатки. Ему показалось, что небытие,
тлен, вечная тишина смотрят на него мутноватыми
зрачками мертвых куропаток сквозь полупрозрачную
синеватую пленку. Рябь озноба пробежала у Ген-
ки по лицу, он смахнул ее с себя, словно липкую
паутину, — сбиться с дороги он не должен, след
на снегу отпечатан прочно, метели нет, чтобы со-
скрести, забить его, так что приведет стежок к теп-
лу, к дому, к людям. И точно — через несколько
минут из тумана как бы вытаял круглый, обсы-
панный лохмотьями инея крутой бок «Диогеновой
бочки», в которой жила Люба Битюкова.
Он потопал кисами в предбаннике, сбивая снеж-
ную наледь, прислушиваясь к звукам, доносящим-
ся из-за двери: уловил тихую магнитофонную ме-
лодию, не бравурную, но и не щемящую — сере-
динка на половинку, шорох услышал да еще ка-
кой-то странно недвижный мутный шепоток. И сно-
ва он никак не мог совладать с собой — слезы
подступили к горлу, закупорили его. Эх, обиды,
обиды—ничего мы, люди, не можем поделать,
слепнем буквально, когда находимся в состоянии
обиды, непогода зреет в нас, и дождь льет — суме-
речный, тяжелый, обложной, и нет, пожалуй, силы,
кроме нас самих, чтобы сменить дождевую хмарь,
сырой и вредный, как кислота, туман на теплое
солнце и прозрачное небо. Надо уметь брать себя
24
в руки в такие минуты, надо думать о том, что
в мире обязательно есть люди, которым куда тя-
желее, чем нам, и есть люди, готовые помочь... Но
это не успокоило Генку, весь он был полон неяс-
ной тоски, мути.
Он машинально притопнул кисом, понял, что его
не слышат в балке или же не хотят слышать, не-
приятно потемнел лицом, сдержал дрожь в губах,
увидел вбитый в стенку крюк, повесил на него
сумку. От газеты, растопыренным вороньим хвос-
том торчащей из-под питьевого ведра, заготовлен-
ного про запас, оторвал клок. Нащупал в кармане
дошки огрызок карандаша, механически послюня-
вил его, начертал в одну строчку, меленько, буква
к букве: «Прошу отведать куропаток», — и получи-
лось это у него как-то по-детски обиженно, одно-
боко, бессильно. Нет бы выдать что-нибудь злое,
хлесткое, чтобы надолго запомнили,— ан, увы, не
такая душа, не такой характер у Генки, несмотря на
то, что он прошел все морские испытания.
Он постоял еще немного, глядя в грязно-молоч-
ное оконце, к которому льнул мозготный худой
туман, поморщился, словно съел семя перца, и ти-
хо, стараясь не скрипеть, не выдавать себя движе-
нием, вышел. На улице похлопал руками по бокам,
остро переживая все происходящее, обиженно вы-
пятил подбородок нескладешный человек Генка
Морозов, то ли прокашлял, то ли проплакал во-
внутрь, в себя: «A-а, подавитесь вы этими куропат-
ками!..»
Дней через пять, когда Генка и его напарник
Алик уже заканчивали ревизию газопровода и си-
дели, что называется, на чемоданах, на самом
дальнем шлейфе, в одном из сложных, в несколько
колен, «мослов» снова образовалась пробка — боль-
шая, метра в три длиной. Операторы, которые по-
бывали на скважине, своими силами справиться
с пробкой не могли, поэтому Генкин отъезд затор-
мозили, «стоп» дали, чему Генка и обрадовался и
не обрадовался одновременно — с одной стороны,
он еще некоторое время сможет побыть в балоч-
ном городке, сможет общаться с Любой, а с дру-
гой — ведь это же мрак в собственной душе, до-
полнительная психологическая нагрузка.
При мысли о Любе перед Генкой каждый раз
будто плотная, тяжелая ткань разрывалась с тихим
треском, с целыми горстями искр, и он чувствовал,
что куда-то падает, и это плавное, мягкое падение
каждый раз продолжалось долго, пока кто-нибудь
грубо, извне, не обрывал его, толкнув нечаянно
в спину или прокричав какую-либо житейскую
просьбу: принести воды или передать гаечный
ключ. Генка приходил в себя, шевелил вялыми, со-
вершенно сухими и колючими губами и просьбу
эту исполнял машинально, не желая расставаться
с дорогим видением.
Люба же посматривала на Генку насмешливо,
неверяще как-то, будто никогда и не было между
ними серьезного разговора. Но и ей тоже было
трудно, ей тоже доставалось. И вообще—надо
же! — безвылазно просидеть всю зиму в балочном
поселке, в своей «Диогеновой бочке», ни разу
не выбраться в город — только из-за того, что но
хочет встречаться с мужем... неужели и в пору,
когда наступит тепло, когда земля покроется зеле-
ной одежкой, а иван-чай распустит свои розово-
фиолетовые метелки и солнце будет светить по-
южному звонко, жарко, она покинет эти места и
уедет? Неужели ее ничто больше не будет удер-
живать здесь?
Нет, что ни говори, обижайся — не обижайся, но
Любу надо остановить, удержать любой ценой. Лю-
бой. И это должен сделать он, товарищ Морозов.
Геннадий Морозов, солидный перспективный чело-
век, у которого впереди долгая интересная жизнь,
и в этой жизни ему соответственно нужен спут-
ник. Надежный, преданный и чтобы обязательно —
прекрасной души человек... Надо во что бы то ни
стало задержать ее.
И он, забыв обиду и приняв это решение, вдруг
словно наяву услышал шум далеких океанских волн,
что с вязким рокочущим гулом наползали на бе-
рег и, шипя, хлопая взрывающимися пузырями, пе-
реворачивая проворных белобрюхих крабов, отка-
тывались назад. И ощутил всем естеством своим,
как поют птицы в зарослях манговых деревьев.
И почувствовал, как слепящее жаркое солнце греет
ему лицо, и от этого тепла, от уюта и ласковости
ему захотелось засмеяться, захотелось отхватить
морскую полечку, подержать на носу камышинку,
спеть: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла»,
сотворить что-нибудь хорошее, доброе.
Шлейф, где произошло ЧП, был хоть и дальним,
но с подъездами — к нему могла пробиться паро-
установка. Только вот какое дело — для нее надо
было чистить дорогу, торить зимник. Тут-то и ну-
жен был бульдозер, который Ростовцев обещал
Гэнкз, а если быть точнее—Генкиному начальству.
Мороз по-прежнему припекал, те небольшие
спады, когда трескотун малость отпускал, облегче-
ния не приносили. Один за другим шли актирован-
ные дни, потому что в мороз ломалась, крошилась
техника, железные конструкции давали трещины;
работы были на время прекращены. Генкино же
дело не ждало, когда трескотун подвинется, усту-
пит. Если ждать, то пробка из трехметровой пре-
вратится в пятиметровую, в десяти- и двадцатимет-
рорую, поэтому Генка насупился, выпятил вперед
тугой, похожий на репу подбородок, потеплее
оделся, зашаркал мягкими кисами к Ростовцеву.
Ввалился к нему в клубе пара, как в дыму.
В балке, кроме Ростовцева, находилась Люба. Она
стояла, прислонившись спиной к стенке, к которой
был прикноплен график с ярко-рыжими и голубы-
ми— петушиные цвета! — изломами линий. Лицо,
чуть покрасневшее и оттого ставшее грубоватым,
а вот глаза выделились, ярче стали.
Генка, увидев Любу, будто обдался бурым варе-
вом, кровь даже к кончикам пальцев, к ногтям
подступила — тронь и выбрызнет фонтанчиком.
Смутился Генка-моряк.
Ростовцев это заметил.
— Ну что, адмирал? — спросил он.
— Да вот... эта... Бульдозер мне нужен!
— В такой мороз?
— Газ, он норовистый парень, морозов не при-
знает. Ему, когда его перекачивают, это... свобод-
ная дорога нужна. Без пробок. А если пробка, то
Он бунтует,— проговорил Генка, посмотрел вбок,
в замороженное оконце прорабской.
— Техника же летит ко всем чертям, сталь трес-
кается. Опасно в такой мороз, адмирал.
— Мне бульдозер нужен,— упрямо пробубнил
Генка.
Ростовцев сжал губы, встал, посмотрел на Генку
как бы со своего начальственного Олимпа, сверху
вниз. Генка, прижатый, переместил взгляд на Любу.
Сразу стало холодно. Совсем холодно. Он понял, что
между Ростовцевым и Любой только что произо-
шло объяснение. И далеко не служебного характе-
ра. Ну, что ему надо, Ростовцеву? Бабник он, что
ли? Да ведь у него жена есть. Же-на... Генка сглот-
нул слюну, с силой сдавил челюсти. На зубах что-то
захрустело. И дети. Да, дети...
Ростовцев взял со стола некий агрегат, отполиро-
ванный, похожий на кирпич, с наискось сколотой
макушкой— Генка понял: микрофон «матюгаль-
ника».
— Товарищ Пащенко, срочно зайдите в прораб-
скую,— Ростовцев подождал, пока хриплый отзвук
прокатится вдоль стежка балков, вернется назад,
мякишем стукнется в дверь прорабской, снова на-
давил большим пальцем на педальку микрофона: —
Пащенко, това-арищ Па-ащенко, срочно зайдите в
прорабскую! — Поставил микрофон на стол.— Вот
сейчас появится командир бульдозеристов, товарищ
Пащенко Виктор... как он там, Люб, по батюшке?
— Иваныч.
— ...Виктор Иваныч Пащенко и все поставит на
свои места. Если он согласится поехать в такой мо-
роз — его воля. Ответственность он возьмет на се-
бя. Понятно?
— Но ведь газ же,— пробубнил упрямо Генка и
оборвал свое несмелое ученическое бормотание,
подумал: а может, Ростовцев прав? Ведь он, Рос-
товцев, передовик, про него в газетах пишут, по
радио говорят, его все знают. Может, хрен с ней,
с пробкой, может, бульдозер полетит на первом
же километре и будет потом стоять целую неделю,
пока его не починят. Это же деньги, убыток, это
толстая пачка «красненьких», пущенная, извините,
козе под хвост. А? Но, подумав еще немного, Ген-
ка упрямо выпятил подбородок: нет, Ростовцез не
прав.— Мы же шлейф на целый километр заморо-
зим.
— Сколько стоит километр твоей трубы, а?
— Не знаю. Дорого, наверно.
— Дорого — не дорого, но все равно это се-
мечки. Если что, за твой счет твою трубу восста-
новим. Понял, адмирал, чем дед бабку донял?
Генка метнул быстрый взгляд на Любу. Та стояла,
не шевелясь. Спиной у стенки, будто грелась. Над
головой — график с линиями петушиной расцветки.
— Оттает немного, потеплеет, вырежешь кило-
метр этой трубы и поставишь новый. Я тебе этот
километр обеспечу за так. Бесплатно. А старую
трубу продуешь, как боцман макаронину, и про
запас оставишь себе. На память. А?
— Нет,— тихо и твердо сказал Генка.—Нет! —
повторил он решительно.
— Ну, как знаешь,—проговорил Ростовцев.
Генка повернулся через плечо, круто, по-матрос-
ски, вдавившись пяткой киса в линолеум пола, вы-
шел. Навстречу — Пащенко.
— Чего он там меня? — сгорбившись от холода
и притопнув ногами по снегу, вместе с паром ды-
хания продавил Пащенко сквозь обледеневающие
на холоде зубы.
— Это я тебя домогался.
— Чего?
— Пошли в «офицерский» балок.
— А к Ростовцеву?
— Считай, что побывал и доложился.
В балке Пащенко сбросил с себя шапку, расстег-
нул шубу, под которой, для утепления, находилась
еще и меховушка. Шея у Пащенко была длинная
жилистая, в жгутах вен, сдавленных застегнутым на
крупную, видать, от наволочки, пуговицу воротни-
ком. Пащенко поморгал красными, обваренными
ветром глазами.
— Ну?
25
— Виктор Иваныч, просьба.— Генка кинулся к ба-
дейке с водой, зачерпнул кружкой, выпил — ему
перехватило дыхание, он боялся сказать не то.
а если он скажет не то, Пащенко отошьет его
с бульдозером. От ворот поворот даст. Помахал
у рта ладонью — жест> ставший у Генки настолько
привычным, что уже не поддавался контролю.—
Чик-чик-чик-чик...
Пащенко неожидзнно улыбнулся. И это была не
усмешка, которую Генка привык видеть в ответ на
свое неодолимое «чик-чик-чик», а именно улыбка —
хоть и слабая, но добрая, сочувственная.
— Виктор Иваныч, помоги, пожалуйста, у нас на
шлейфе — чепе. Газ смерзся, трубу забил, Смерз-
ся, гада,— заторопился Генка, ожидая увидеть, что
лицо у Пащенко сейчас поскучнеет, поугрюмеет,
сделается непробиваемым. Но лицо у Пащенко не
изменилось.— Вручную эту пробку не протолкнуть.
Пароустановку туда надо, понимаешь, забрасывать.
Вот.— Он задохнулся, отпил еще воды из кружки.—
Для пароустановки дорогу надо пробивать, сама
она не пройдет. У ней, у «газона», вся резина лы-
сая, буксует, гада... Никакие цепи, сколько ни при-
вязывай, не спасают. Бульдозер, Виктор Иваныч,
нужен. Не откажи, а... Ну, чего тебе Стоит? — упра-
шивал Генка, упрашивал по-мальчишески.— А? Ну
чего? — споткнулся, определив окончательно по
улыбке Пащенко, что тот вроде бы не должен от-
казать — слишком много теплого, людского было
в этом неловком раздвиге обветренных, десятки
раз облезших, обшелушенных губ.
— Па-анятно,— протянул Пащенко, увидев, что
Генка закончил свою пламенную речь.— Па-анятно,
что ничего не понятно.— Помолчал, что-то прики-
дывая про себя. И вдруг: — Когда надо выезжать?
— Сейчас, если можно.
— А не поморозимся?
— Не должны.
— Ладно, будь по-твоему.
Генка прижал руки к дошке, к сердцу своему,
откровенному, неловкому, простецкому, потом по-
клонился неожиданно учтиво, словно провинциаль-
ный дворянин — проситель из чеховского либо бу-
нинского рассказа.
— Спасибо большое.
— Пока не за что.
Выехали минут через двадцать. По зимнику тащи-
лись задом, волоча тяжелый, посверкивающий си-
ней сталью лемех за собой —гладь зимника была
ровной, тут чистить нечего. Пащенко привычно по-
глядывал через плечо в оконце кабины, ловко
орудовал рычагами—так ладно и ловко, что про-
сто засмотреться можно.
За кабиной тоненько посвистывал морозный вете-
рок, туман густел, ярился, наливаясь жесткостью и
силой, мотор гулко поуркивал, выплевывая в каран-
дашик трубы, прикрытой остроугольной, похожей
на шутовской колпак шляпкой, черные пороховые
кольца, дизельную вонь, отгар. Траки лязгали по
глади, вызывая щекотную ломоту на зубах, скрипе-
ли, потрескивали опасно, грозя порваться. В такой
мороз всякое может случиться — и траки, глядь,
действительно порвутся, и колесо-правило раскро-
шится, зубья стешет или мотор умерит бой, закаш-
ляет, угаснет на полуфразе— тут все может быть.
Генка поглядел под козырек кабины, в белесую,
туманную муть, спрессованную морозом, ловя, за
что же может зацепиться взгляд. Но молочное ва-
рево было густым, ровным и прочным, без единой
приметы— не за что зацепиться. Где-то там, в вы-
си, ходят-бродят самолеты, летают на юг, в тепло,
в весну, в земли, где никогда не бывает холода...
А тут и в декабре — холод, зима, и в апреле — хО-
26
лодг зима, и в сентябре — холод, зима, снег, скри-
пучая земля под ногами. Лишь в мае, июне, июле,
августе — весна, лето, осень, вместе взятые, сплюс-
нутые в лепешку, загнанные в окоем четырех ме-
сяцев. И ничего тут не поделать. Но зато лето
в эти короткие четыре месяца берет свое— припе-
кает так, что на собственной спине блины готовить
можно. Земля кипит, жаром попыхивает, искрами
потрескивает, тундра в кисель превращается, а бо-
лота становятся настоящей бездонью.
Видно, сколько ни приручай нас к себе зима, ни-
когда мы не приручимся, всегда нас будет тянуть
в тепло, и думать мы будем о лете, и призрач-
ные думы эти будут согревать, помогать выстоять
в схватке со стужей. Куропатка—белая обитатель-
ница зимы, на что уж старожилка здесь, на севере,
и то к стуже никак привыкнуть не может — проле-
тит в мороз метров двести и камнем падает вниз,
ныряет в снег—погреться. А воробьи, если неосто-
рожные, те вообще крупной дробью на землю сып-
лются, в мерзлые комки на лету превращаются,
Вот ведь как.
Пащенко оторвался от рычагов, вытянул свою
длинную жилистую шею, прислушиваясь к бормо-
танию мотора но неполадок не было, и он удов-
летворенно огруз на выстроченном мелким стеж-
ком сиденье, сгорбился, держа крупные руки на
деревянных насадках рычагов.
— А этот твой... что? Ну, с усами который? Под
Буденного.
— Алик? Он пусть отдохнет пока. Не всем же
мерзнуть — один кто-то должен. А Алик, он с паро-
установкой приедет. Как только след проложим.
— Знает, куда?
— Знает А потом, у него чутье. В армии в раз-
ведчиках ходил. Всегда точно знал, в какой каст-
рюле у повара каша от обеда осталась, а в какой
щи. И чем завтра, послезавтра, послепослезавтра
будут их роту кормить тоже знал. За это ефрей-
тора и дали.
— Специалист. М-да. А ты рассказал бы что-ни-
будь, а? Морское.
Но про морское Генке сейчас не хотелось вспо-
минать, от воспоминаний, говорят, кости здорово
болят, а когда собираются ветераны на традицион-
ное: «А ты помнишь?», то и голова наутро от это-
го болит. Случалось. Сколько раз.
Дорога была ровной, как стол,— даже удивитель-
но — и чуть засиненная по отвалам, шедшим спра-
ва и слева от машины. Мороз снаружи ярился та-
кой крутой, что при мысли о нем между лопатка-
ми проступал холодный пот и сжимало виски, в ка-
бине же было тепло, по-свойски уютно, две элек-
трические печушки потрескивали, попыхивали жа-
ром, нагоняли жилой дух, и Генка-моряк даже
передернулся, покрылся пупырчатой моросью, ког-
да подумал о том, что надо будет вылезать нару-
жу, мучиться с пробкой, ликвидировать аварию.
— Ну, так чего ж ты не рассказываешь? — спро-
сил Пащенко.—Морское бы что-нибудь. У тебя по-
лучается.
— Морское я уже все рассказал.
— Расскажи о другом, а то так и уснуть мож-
но.—Пащенко выпустил из рук деревянные набойки
рычагов, сжал и разжал пальцы — хоть и ловко он
орудует рычагами, но, видать, трудно управлять
машиной, когда она пятится задом по зимнику. Ну,
ничего, скоро вправо зигзаг придется делать, тогда
уж невольно на сто восемьдесят градусов надо
будет обернуться, лемех вперед подавать, широкий
след в целине прокладывать, чтоб переустановка —
это допотопное корыто, можно сказать, ровесница
ползуновского паровоза, поставленная на облысев-
НГ'П
шие, до корда стесанные колеса,— чтоб смогла
установка пройти.
— A-а, вот какая история у меня есть,— вспом-
нил Генка-моряк, помахал перед ртом ладонью, вы-
давив свое привычное «чик-чик-чик».— Про старика и
золотую рыбку.
— Из Пушкина, что ль? — поинтересовался Па-
щенко.
— Да нет же, не из Пушкина. Новое. Поймал,
значит, старик золотую рыбку. Ну, та сразу ему —
отпусти, мол, назад в синее море, а я тебе за это
выполню три любых желания. Ну, старик и поже-
лал. «Хочу, говорит, быть молодым принцем —
это, во-первых; во-вторых, принцем богатым, а
в-третьих, чтоб у меня была самая красивая жена».
«Хорошо»,—сказала золотая рыбка, и, как только
старик отпустил ее в море, то он сразу же очу-
тился в роскошном старом замке. Стоял он перед
зеркалом, поправлял гвоздику, вправленную в лац-
кан, в петлицу, то есть. Был он теперь весьма мо-
лод и роскошно одет. Вот. И увидел старик, что
сзади к нему приближается роскошная женщина,
каких он даже и во сне не видел. Приблизилась,
значит, женщина к нему, смахнула пылинку с пле-
ча и сказала: «Фердинанд, поторопитесь, нам пора
в Сараево».
— Это тот Фердинанд, из-за которого в четыр-
надцатом году война началась? Которого в Сараеве
прихлопнули?
— Ну! Он!
Пащенко захохотал оглушительно, будто забаба-
хал из пушки, напрягая толстые витые жилы на шее.
Глаза его, круглые, в красной от мороза обводке,
сузились. Кончив хохотать, он объявил:
— Хар-рошая история. Ну, и старичок-старикашка,
маху какого дал... Не знал дедуля, не знал, что ему
золотая рыбка подсунет... Ох уж мне эти золотые
рыбки.
Дальше стало не до анекдотов, не до историй —
дальше надо было торить целину. Зимник ушел в
молочное марево, растворился в нем, а они сде-
лали поворот направо, вгрызлись в трескучий, мер-
злый и твердый, как камень, снег. Каменный снег
этот странно пухлой, совсем не каменной горой
вздыбился перед лемехом бульдозера и высоко
поднялся над капотом машины, засыпал его тяже-
лыми спрессованными комьями, гулко хлопающими
о железо. Зарычал надсадно, напрягаясь, движок,
черный вязкий дым плотной кудрявой струей по-
шел из трубы-карандаша, норовя сбросить остро-
угольный колпак. Пащенко добавил газа, и гора
развалилась надвое, легла покорными, со стран-
ным синеватым мерцанием отвалами по обе сторо-
ны машины. А над кабиной снова взбугрилась гора,
затрещавшая, словно лес под напором урагана.
Скулы на лице Пащенко напряглись, глаза сдела-
лись узкими, виски запали. Сквозь кожу проступили
узловатые, неровные костяшки, руки спаялись, как
бы слились воедино с набойками рычагов, будто
были выструганы из одного древесного корня, из
одного чурбака.
— Сколько нам идти до твоей... этой самой... До
пробки? — с одышкой, будто не машина разгребала
мраморные пласты снега, а он сам, прокричал Па-
щенко.
— Километров шесть.
— Много,— прокричал Пащенко, сплюнув в угол
кабины.— Запали мне сигарету, курить хочется.
Генка прикурил от спички сигарету, сунул ее Па-
щенко в губы. Пащенко выпустил клуб сквозь ноз-
дри, ощерил крупные, с желтизной зубы.
— А насчет Фердинанда и его бабы это ты хоро-
28
шо загнул. Ей-ей.— И повторил: — Ох уж мне эти
золотые рыбки, наобещают, наобещают, а потом...
Генка кивнул в ответ. Теперь он прикидывал, ка-
кая же у Фердинанда была жена, видел он ее
в учебнике истории или нет? По всему выходило,
что не помнит, не видел, не знает... Вполне воз-
можно, что она такая, как... ну, например, как Люб-
ка Витюкова, высокая, с ласковыми глазами, с длин-
ными ногами. Горечь проступила у Генки на губах,
облезлых, в твердых заусенцах, сожженных ветром
и морозом... Опять эта Люба Витюкова... Что же
это такое происходит, а?
Ему иногда хотелось упасть кому-нибудь на
грудь, сильному, властному, умному, рассказать обо
всем, что с ним творится, излить душу, выплеснуть
все, что в последние дни мутит, бередит, покоя не
дает. Вот был бы жив отец... Только ему и можно
было такое рассказать. Даже матери не расска-
жешь —только отцу. Но отец умер в послевоенное
время. Умер от военных ран— нет его, отца...
Генка стиснул губы, сомкнул крепко веки, и в
густой изожженной черноте перед ним встало ка-
кое-то знакомое и незнакомое одновременно лицо,
доброе и близкое, с решительным взглядом, во-
левым ртом, и Генка узнал это лицо, узнал чело-
века, возникшего перед ним из призрачной теми.
Он даже разглядел петлички на воротнике солдат-
ской гимнастерки, вольно, не по-военному расстег-
нутой, и жестяные, вырезанные из донышка кон-
сервной банки сержантские треугольники, нитками
пришитые к петлицам. Есть у Генки такая фотогра-
фия — отец в старой военной форме.
Генка сглотнул несколько раз горечь, образовав-
шуюся во рту, хотел произнести слово «батя», но
не мог... А рядом ревел, грохотал, кашлял, надры-
вался мотор, бряцал металл. Хороший человек Па-
щенко управлял машиной, ведя ее, словно боевой
крейсер, к месту аварии. И вот уже видения нет,
все истаяло, исчезло, осталась лишь чернота, темь,
в которой вяло шевелились, плавали блеклые, слои-
стые, как дым, кольца.
Генка открыл глаза. Перед ножом бульдозера
дыбился, полз вверх, рассыпался на тяжелые ка-
менные комки снег. Мерзлые ошмотья летели на
капот, тупо били о стекло. Генка оглянулся назад,
в слюдяное, никогда не замерзающее окошко —
сзади оставалась ровная, приутюженная борозда,
утопающая дальним своим концом в тумане—доб-
рая дорога прокладывается для лысоколесной ма-
шины.
Пащенко молчал. Плотно сжав рот и напрягая
шею, он мрачно глядел вперед, поигрывая желва-
ками. Слева и справа, в оба оконца были видны
высокие, в человеческий рост отвалы. И поскольку
было плохо видно, Генка даже забеспокоился, как
бы вслепую не наткнуться на шлейф, не срубить
трубы. Хотя тревожиться было еще рано: до труб
далеко. Но все равно он решил быть настороже,
решил повнимательнее поглядывать по сторонам.
Видя натужное, мрачное лицо Пащенко, прокри-
чал ему:
— Может, еще что-нибудь рассказать, а?
Пащенко помотал головой.
— Некогда. Потом.
Потянулось время, мучительно медленное, тяже-
лое, полное ожидания, лишенное дела. А Генка без
дела не привык быть. Худо ему без дела.
Наверное, добрых два часа прошло, прежде чем
Генка в прогал раздвоенной снеговой горы, будто
в гигантскую винтовочную прорезь, разглядел ров-
ный длинный стежок, приподнятый над землей, рас-
хищенный на левом своем конце, уходящем в ту-
ман, — это операторы гоняли сюда на лыжах. Они
и очистили кусок трубы, который забила пробка.
— Левей бери, левей,— прокричал Генка,— вон
вишь, где снега нет. Труба там, нитка видна. Туда
правь.
Пащенко понимающе кивнул, малость потянул ле-
вый рычаг на себя, освобождая нож от снеговой
горы, еще немного подал рычаг, заваливая прото-
ренную дорогу влево. Вот так, пожалуй, и надо
держать —тогда точно носом бульдозера в шлейф
упрутся.
— Ты мне трубу не сруби,— опять забеспокоился
Генка. Помахал у рта ладонью:—Чик-чик-чик. А то
мне потом за нее голову смахнут.
— Не бои-ись, родимая,— хрипло протянул Па-
щенко, — не зацепи-им.
Плотный и грузный шматок смерзшегося снега
с силой ударил в стекло, чуть не расколотив его.
Пащенко даже охнул от опасения и досады. Выло-
мает стекло— тогда пиши пропало, никакая печка
их не спасет, мороз одолеет, не дотянут они с вы-
битым стеклом до балочного городка.
— П-падло,— выругался Пащенко запоздало,
сбросил немного газ.
Около нитки шлейфа он крутанул бульдозер во-
круг одной гусеницы, делая удобную поляну,
утюжа снег до земли, потом надавил унтом на
тормоз, останавливая разгоряченную машину — все!
Точка.
— Принимай работу,— сказал Пащенко.— А я по-
ка перекурю. Приоткрыл дверцу, в которую враз
шибануло каленым морозным духом, высекло
влагу из глаз. Отшатнулся.— Во дерет, дедушка-ро-
димец. Высмолим по цигарке и назад двинем.
— Спасибо,— еще раз произнес Генка.
— Голое спасибо нынче не в моде, спасибо нын-
че еще кой-чем подкрепляют.
— Выставлю. Холодную. Со слезой.
— А как же с «сухим законом»?
— Я в городе это сделаю. А? При встрече.
В городе-то «сухого закона» нет. Годится?
Едва двинули назад, как кто-то будто черным
крылом машину накрыл, и небо сплюснулось с зем-
лею, и озноб посек лицо — движок бульдозера
вдруг взревел громко, визгливо, на одной надор-
ванной ноте, что-то в нем зашаркало, заскрипело,
будто все болты пообломились, их, ненужные, ссы-
пали в металлическую банку, и теперь какой-то ба-
ловник гремел ими, сотрясал воздух. Пащенко дер-
нулся, негнущиеся острые складки пролегли у не-
го ото рта к подбородку, в глазах бездна образо-
валась, холодная и мертвая. Губы Пащенко увяли,
и Генка понял, что пришла беда.
Бульдозер еще немного протащился по пробитой
дороге, волоча за собою нож, и остановился. Дви-
жок кашлянул дважды, выталкивая из горла черную
дымную вонь, вздохнул виновато, протяжно, слов-
но живой, и умолк.
Образовавшаяся тишина была гулкой и страшной.
А мороз давил и давил, приближаясь к шестидеся-
тиградусной отметке. И ни звука. Ни ветряного
писка, ни птичьих вскриков, ни шороха деревьев.
— Все,— шепотом сказал Пащенко.— Мотор по-
летел. Мороз, падло, он нас в гроб вгонит.
— Починить можем? — также шепотом спросил
Генка.
— Нет. Поломка серьезная.
— Что делать?
— Надо бегом на зимник. Там машины ходят,
подберут нас. Нам бы до городка, а там мы раз-
беремся, что к чему, с трактором назад возвратим-
ся.
— До зимника — шесть километров. Это м-много.
— Чем быстрее пойдем, тем лучше. В кабине
оставаться нельзя. Сейчас тут, как в холодильнике
будет.
И действительно, тепло быстро улетучивалось из
кабины — мороз брал свое. Углы двери уже обмах-
рились белой шерстью, стекла, никогда не замер-
зающие, подернулись тусклотой. Воздух густел,
становился стылым, вязким, как смазка, и Генке по-
казалось, что сумерки раньше срока опустились на
землю.
— Ладно. Бежим скорее к зимнику,— шепотом
протиснул Генка сквозь зубы,— бежим!
Ему хотелось услышать звук собственного голо-
са: такой бесчувственной и пустой показалась ему
тишина. Он распахнул дверцу бульдозера, выпрыг-
нул наружу, задохнулся от крутого воздуха, услы-
шал, как с той стороны на снег спрыгнул Пащенко.
Не говоря ни слова, Генка спорой трусцой побе-
жал по пробитой в снегу дороге, перепрыгивая че-
рез глыбы снега, свалившиеся вниз с отвалов, че-
рез окостеневшие ледовые куски, прислушиваясь
к стеклянному визгу, раздающемуся под ногами и
одновременно ловя одним ухом возникающий сза-
ди ответный визг — это бежал Пащенко. Не отста-
вал от Генки.
Надо равномерно распределить силы на эти
шесть километров и еще немного на зимник надо
оставить — вдруг не повезет, не сразу на них напо-
рется машина, и тогда, чтоб не остынуть, придется
им бежать по зимнику в направлении балочного
городка.
Он оглянулся, увидел напряженное, с белыми
пятнами на скулах лицо Пащенко — вона, как мороз
прихватывает, и трех минут не прошло, а трескотун
уже берет свое. Бульдозер почти что скрылся в мо-
розном мареве, угадывалось только темное рас-
плывчатое пятно, и все — через два десятка метров
бульдозера уже не будет видно.
— Щеки потри,— выдавил с паром Генка.
Пащенко приложил обе рукавицы к скулам, по-
двигал рукавицами вверх-вниз.
Сердце громко бухало в висках, норовило вы-
скочить, дыхания не хватало, бежать было трудно.
Крутая нагота отвалов пугала, била слабой, но не-
доброй синью в глаза, снег был крупитчатым, ря-
бил рыбьей чешуей, щетинился угловатыми желез-
ными ломтями наста. На бегу Генка натянул на рот
шарф, чтобы не леденило зубы, поднял воротник
дошки.
Бежали они медленно. Быстрее бежать мороз не
давал, да и силы надо было экономить, в расчет
и зимник нужно было брать. Прозрачные, укоро-
ченные тени брели за ними, то отрываясь, будто
голодные собаки, на минуту остановившиеся обню-
хать землю в смутной надежде раскопать еду, то
снова догоняя и приникая к ногам. А может, те-
ней и вовсе не было — кто знает? Перед глазами
заблистали, забегали сверкушки, снег был теперь
всюду — и по бокам, в отвалах, и под ногами, и
над головой, где медленно, словно заговоренные,
с давящим шорохом плыли целые глыбы спрессо-
ванной белой крупы, обгоняли Генку и Пащенко
в их беге, потом попридерживали движение, под-
жидали. И крылось в этом безмолвном движении
что-то властное, обрекающее на слепую ярость, со-
вершенно не способное хоть как-то поддерживать
в человеке силы.
А силы таяли. Бег обратился в иноходь, а потом
и вовсе в шаг. Генка слышал, как сзади совсем
близко хрипел-задыхался Пащенко, но обернуться
не мог — так он замерз.
Но потом он нашел-таки в себе силы обернуться
на стынущий хрип Пащенко.
29
— Как ты там?
— П-плохо, п-парень.— Пащенко сплюнул на
землю, слюна на лету обратилась в пузырчатую ле-
дышку и шлепнулась в снег.—Д-до зоимника мне
не д-дотянуть,— просипел он.— 3-замерзаю.
— Дотянем,— упрямо крутнул головой Генка, по-
махал у рта ладонью, прогугнил что-то про себя,
совсем не похожее на его веселое «чик-чик-чик».
— Д-далеко,— загнанно прохрипел Пащенко, при-
останавливаясь.
— Держись! — выдохнул Генка яростно, оглянул-
ся — лицо у Пащенко было сейчас обвядшим, бед
твердых прямых скобок, все время державшихся
у его рта, и сплошь белым: Пащенко замерзал, и
ему отказывалось повиноваться тело, мышцы, серд-
це— это Генка понял и едва успел затормозить
свой ход, как ноги у Пащенко подломились и он
рухнул коленями, грудью, лицом в снег. Генка дер-
нулся назад, сбивая малахай на затылок и не чув-
ствуя боли. Сквозь молочную вязкость тумана на
землю пробивался слабенький, совсем худой свет,
в котором обмахренный инеем человек, распластав-
шийся на снегу, казался Генке огромным, неподъ-
емным»
— Вставай, Иваныч! — склонился над ним Генка.—
А, Виктор Иваныч! — умоляюще, торопливо глотая
буквы, сплющивая слова, бормотал он, окутываясь
тягучим облаком пара. Казалось, с этим паром ухо-
дили из него, истаивали последние силы.
Ответа не было. Тогда, Генка подсунулся под Па-
щенко, поднял его руки, закинул их себе на пле-
чи, скрестил у собственного горла и, почти не слы-
ша, что там мычит потерявший силы человек, пово-
лок его по пробитому снеговому коридору к зим-
нику, всхрапывая загнанно. Хотелось, очень хоте-
лось остановиться, передохнуть хотя бы секунду,
прилечь на снег. Но он гнал эту мысль прочь, ибо
понимал: стоит остановиться, лечь на землю — и
тогда намертво примерзнешь к этой земле. И не-
ясная надежда, что Алик с Петром Никитичем, мо-
жет быть, уже катят сюда на пароустановке, хоть
немного, но все-таки придавала сил. Надо выстоять
до их приезда, продержаться во что бы то ни ста-
ло. Тогда они будут спасены. Спасены! Он попы-
тался сквозь визг снега под ногами уловить дале-
кий шум мотора, но сколько ни прислушивался —
не уловил. Закусил нижнюю губу зубами, так что
выступившая кровь потекла на подбородок, и про-
сипел едва слышно даже для себя:
— Лю-юб-ка!..
А Люба сидела в это время одна-одинешенька
в «Диогеновой бочке». Вдруг что-то высверкнуло
перед ней тонюсеньким, обжигающим глаза пла-
меньком и тут же пропало, будто ничего и не бы-
ло. Она вгляделась в дверь балка, обшарила глаза-
ми стенки — ничего нет. Раздалось, правда, какое-
то неясное, то ли шепот, то ли сипение: «Лю-юб-
ка»,— но онаг не уверена была — явь это или же
почудилось.
Но смутная тревога поселилась в ней, видно, она
ощущала что-то чутким бабьим сердцем своим.
Она вытянулась в струну, прислушиваясь к бою
сердца, понимая и не понимая одновременно, что
же происходит.
Неожиданно дверь растворилась без скрипа, без
стука, будто смазанная медвежьим салом, и на по-
роге появился Ростовцев, высокий, необычно на-
рядный, в костюме, выглядывающем из-под дублен-
ки, в белой сорочке, без галстука. В распахе со-
рочки виднелся шелковый шарфик, здорово идущий
к лицу Ростовцева, превращающий его прямо-таки
30
в киногероя. Видно, это Ростовцев знал, раз наря-
дился так.
«С чего бы такой наряд? Для бала, что ли? Или
парадный костюм по случаю актированных дней?» —
хотела спросить Люба, но не спросила. Молча гля-
дела на Ростовцева.
Тот шагнул в комнату, плотно, без шума прикрыл
за собою дверь.
«Зачем?» — опять хотела Спросить Люба, но не
спросила, оглянулась беспомощно, словно пыталась
найти в балке еще кого-нибудь, диспетчершу Аню,
что ли, — но в балке, кроме них двоих, никого не
было. Сухой жар ударил в лицо: праздничный кос-
тюм, тщательно закрытая дверь...
— Ну что, Ростовцев?—спросила она.
— A-а, все суетимся, суетимся, не зная, куда
идем, —• сказал Ростовцев, садясь рядом с нею на
койку. Стянул с себя дубленку, положил рядом.->-
Неинтересно и сложно жить человеку, у которого
все заранее расписано, все запрограммированно,
все он знает- когда ему завтракать, и когда пойти
в кино, когда к теще в гости, что ему съесть на
обед и что на ужин, какого сорта мыло купить
ему в магазине...
— Эта философия больше для городского пижо-
на подходит, Ростовцев Мы же в тайге живем.
— ..и какого цвета галстук надеть к серому или
коричневому костюму,— не слушая ее, продолжал
Ростовцев,— знает, что делать сегодня, завтра, по-
слезавтра, через неделю, через месяц. Сдохнуть
можно от такой запрограммированности. Куда ин-
тереснее жить человеку, который совершает не-
ожиданные, даже необдуманные поступки. Такой
человек имеет куда больше радостей.
— Да ну?
— Вот я сейчас и хочу совершить необдуманный,
неожиданный, незапрограммированный поступок.
Поступок на три «н».
— Какой же? — спросила Люба машинально,
убеждаясь, что тревога, несколько минут назад-бук-
вально смявшая ее, была связана с приходом Рос-
товцева. Видно, чувствовала, когда Ростовцев шел
сюда. И она знает теперь, зачем он пришел сюда.
— А вот такой,— сказал Ростовцев и наклонился
над ней. Она ощутила слабый запах одеколона, хо-
рошего, с едва приметным духом пряного таба-
ка. Тут она разглядела какие-то ликующие огоньки,
пляшущие в его глазах, цепкий рот. Он потянулся
к ней, но она уперлась руками в его грудь.
— Не сходи с ума, Ростовцев, народ же кру-
гом.
— Народа нет, народ безмолвствует,— усмехнув-
шись, произнес Ростовцев,— народ сидит сейчас
в красном уголке и смотрит ошеломляющую кино-
картину с погонями, стрельбой и убийствами. И ни-
кто сюда не войдет, пока главного героя не ухло-
пают.
— Ну, Ростовцев, ну, пожалуйста...— тихо и обре-
ченно, с мольбой попросила она, чувствуя, что сил
ее не хватит, чтобы удержать его. — Ну оставь. Не
надо.
— Я же тебе не теленок, не щенок, — сказал Ро-
стовцев,— не этот юродивый морячок... «Чик-чик»...
«Чик-чик»...
И тут Люба отчетливо, с какой-то пугающэй яс-
ностью поняла, что отныне будет презирать этого
завлекательного, сильного, уверенного в себе че-
ловека, эту арифметическую машину, это электрон-
ное устройство, где все-все рассчитано, выстроено
в строку, разложено по полочкам.
Если раньше, совсем недавно, еще вчера, Ростов-
цев нравился ей, и она даже ревновала его
к диспетчерше Ане, то сейчас человек этот, так
хорошо умеющий все обдумывать и рассчитывать,
стал ей чужд и противен. Она сделала резкое дви-
жение.
— Нет!
- Да...
Это лицо с твердыми складками у рта, с углова-
тыми скулами, эти руки, цепкие пальцы вмиг сдела-
лись ей ненавистны. Надо же, нашелся математик,
все рассчитал, все запрограммировал, людей отос-
лал в красный уголок, какую-то увлекательную кар-
тину заказал, а сам... Ну, математик!
— Пусти, Ростовцев! Говорю, пусти!
— Повторяю, я ведь не теленок, не пионер и не
примерный воспитанник детсада. Я...— На лбу
у Ростовцева выступила жила, и на ней заблестел
пот, как роса. Он рванул к себе Любины руки.
— Людей позову, закричу! — прохрипела Люба.
— Кричи,— довольно спокойно, хотя и с напря-
жением отозвался Ростовцев.— Я же тебе русским
языком сказал, что все в красном уголке. Значит,
никто не услышит, никто не помешает.
— Моряку скажу, он тебе морду обработает,—
пригрозила Люба.
— Моряку? Этому щенку?! Этому клоуну?! Да я
ему такое «чик-чик» покажу. Нашла себе защит-
ника!
Ростовцев снова дернул Любкины руки на себя,
приблизился лицом к ее лицу и вдруг, отпрянув,
закричал, зажимая щеку рукой.
— Ты, ты... Я тебя! Я тебе покажу, как кусаться!
Ты за это ответишь* — сник, задохнувшись в собст-
венной злости.
Теперь Люба стояла возле него, выпрямившись
во весь рост, а тот вдруг как-то сразу уменьшился,
ужался — и растерян был Ростовцев и испуган.
— Отвечу, Ростовцев, отвечу,— сказала Люба ше-
потом. Добавила, переходя на «вы»: — Ну а вы
объяснение дадите, как было дело. А? Вытерли бы
щеку-то, а? Не то на вашу ослепительную рубашку
кровь начала капать...
А Генка в эту минуту думал как раз о Любе Би-
тюковой. Будь у него жив отец — он, конечно же,
думал бы об отце, будь у него мать — он думал
бы о матери, ибо дума о родных, об очаге,
о крове прибавляет силы, помогает выстоять. Это он
знал. Но родных у Генки не было, поэтому он ду-
мал о Любе, и эта дума помогала ему двигаться,
шаг за шагом преодолевать дорогу, крепиться, ид-
ти, почти пластаясь по земле, но не падать. Хри-
пя, хватая леденелым ртом воздух, продолжал Ген-
ка тащить на себе совсем обессилевшего Пащенко.
Легче становилось, когда думал о Любе Битюковой.
Ему бы только добраться до балка, до «Диогеновой
бочки», он все скажет ей, найдет нужные слова,
убедит, чтобы она не уезжала на Большую землю, у
него столько сейчас скопилось нежных, теплых, убе-
дительных слов. И Любка должна его понять, долж-
на поверить ему. Они должны быть вместе. Только
вместе и не иначе... Он сплюнул мерзлоту, промы-
чал что-то задушенно. Будь у него силы, это мы-
чание прозвучало бы криком — таким громким,
мощным, что его и в городе, за две сотни верст,
услышали бы, а сейчас вырвалось какое-то жалкое,
обескровленное бульканье.
Каждый шаг тяжелым, изнуряющим звоном от-
давался у него в голове, вспарывал воздух — пе-
ред глазами метались яркие молнии. С небес сы-
пались на землю электрические светлячки, ноги
подламывались, из сдавленного морозом рта уже
не могло вылететь ни одного слова.
Но велика же была в Генке тяга к жизни, воля
32
жизни, жажда ее, что он шел и шел, хрипя, бо-
рясь с каленым морозом, помня только об од-
ном — надо выстоять, надо продержаться, надо до-
браться до зимника, до проходящих машин, до теп-
ла, до людей, надо спасти обессилевшего человека,
чьей жизнью сейчас распоряжался только он, и
больше никто. Брось он сейчас Пащенко, и навсег-
да тот останется лежать на снежной дороге. Нет,
тяни его дальше, и, бог даст, повезет, оба оста-
нутся живы.
Не такой человек Генка, чтобы решать вопрос
«или — или». Не га у него закваска, чтобы бросить
человека в беде, никакого другого решения тут
быть не может. Не дано просто. И не нужно об
этом думать. Он напрягся, хватил жгучего мороз-
ного воздуха, зашелся в хрипе, остановился на се-
кунду. Но тут же двинулся дальше, помотав упрямо
головой — не-ет, останавливаться ни в коем разе
нельзя.
В такт шагам в голове грозно и гулко как бы бу-
хал колокол, отзывался болью, давил из глаз сле-
зы, и они замерзали, превращались в ледяную ко-
росту тут же на скулах: мороз не давал стекать
им вниз.
Вдруг в памяти всплыло торжественное, тревож-
но зовущее, печальное, как набат, созывающий лю-
дей на горькую весть: «Наверх вы, товарищи! Все
по местам...» Генка-моряк скривился мерзлым
вспухшим ртом, раздраил губы, замычал невнятно,
хотя ему казалось, что он поет чисто, гордо, в пол-
ную силу:
Наверх вы, товарищи! Все по местам!
Последний парад наступает...
Он освободил одну руку, сунул ее за пазуху, на-
щупал бескозырку — память о военном гвардей-
ском корабле, где он служил, память о плавании
на торговых судах, память о теплых морях, даль-
них странах, поющих островах...
Генка-моряк все шел и шел вперед, давя кисами
отчаянно визгливый снег, вспыхивавший блестками.
И ладно бы один шел, а то тащил на себе дру-
гого, нескладешно длинного, в два раза больше
себя — будто муравей тяжелую ношу тащил, что
всегда вызывало Генкино удивление: как это так—
махонькая, в нитку перепоясанная в талии козявка,
ну в чем только душа держится, а волочит нечто
непосильно огромное, колдует, перетаскивая тя-
жесть через завалы трав, стремясь побыстрее до-
браться до своего высотного сыпучего жилья. Уди-
вительно это.
Длинный бессильно скреб ногами по снегу, воло-
чился за невысоким упрямым человеком и, похоже,
был без сознания. До поворота, до зимника, им
оставалось пройти совсем немного, каких-нибудь
триста метров, скрытых плотным туманом. Машин
на зимнике не было, но они обязательно должны
появиться, обязательно. Ведь это же большая доро-
га тайги, тут всегда бывают люди, убеждал себя
Генка.
Генка хватал мерзлым ртом воздух и шел, шел,
шел — вперед шел, к единственной своей светлой
цели. И вроде бы плотная вата тумана немного
раздвинулась под натиском подъезжающей маши-
ны, и, кажется, послышался живой гул мотора.
Еще чуть-чуть, еще самая малость — и он достигнет
этой цели...
Когда кончился фильм и народ начал расходить-
ся по балкам, от городка отъехала машина. Алик
все точно рассчитал: он рассчитал, что приедет кгк
раз в тот момент, когда бульдозер пробьет шести-
километровую ветку к шлейфу, проутюжит ее туда
и обратно, по разу прокатает—как раз к тому
времени, когда кончат в красном уголке демонстри-
ровать захватывающий фильм с приключениями и
погонями. Как раз в духе морячка. Он поймет и
не будет ругать за задержку.
— Не опаздываем? — спросил Петр Никитич.
— Никак нет.
Бежало под колеса ровное, плотно укатанное по-
лотно зимника, но машина шла все-таки медленно.
Быстрее мешал идти густой туман.
И все-таки обычно невозмутимый Петр Никитич
вдруг начал нервничать, ерзать на сиденье, без
надобности привставать, чтобы лишний раз проте-
реть ветровое стекло. Алик оглаживал усы и косил
взглядом на водителя.
Мотор сыто пофыркивал. Белая холстина зимника
стелилась под колеса, жалобно вскрикивал под ни-
ми мерзлый снег. Нет, все в порядке. В кабине
было тепло. Звук мотора убаюкивал. Алик рассла-
бился, вернулся мыслями назад, к рассказам мо-
рячка о тропических плаваниях и к тем ярким
цветным картинкам, которые полчаса назад мель-
кали перед ним на экране: кобальтовое, слепящее
глаза небо; океан, сливающийся с небом вдали;
волны с седыми загривками; мокрый, посверкиваю-
щий соленой порошей песок прибоя, по которому
ползают маленькие мохнатые крабики, совершен-
но бесцветные... Независимый и невозмутимый
Алик в эти минуты завидовал Генке, своему напар-
нику, ведь все эти красоты тот видел, купался в
океане и крабиков этих, наверное, ловил. Мотор
машины пел тонкоголосо, ровно. И вдруг песня
словно бы оборвалась: машина резко затормозила.
— Люди! Гляди-ко, люди! — шепотом проговорил
Петр Никитич.
Алик разглядел в тумане две неясно вырисовы-
вающиеся фигуры, толчком отбросил приморожен-
ную дверь кабины, вывалился на снег, вскочил, по-
бежал.
А Генка-моряк стоял, раскачиваясь на непрочных
своих ногах, сжимая окостеневшими руками руки
Пащенко, который неподвижно висел у него на
спине. Увидев машину, Генка попытался улыбнуться,
но губы его не послушались, они были как деревян-
ные. При виде Алика Генка как-то сразу ослаб,
ноги его стали совсем непрочными, подкосились,
и он беззвучно опустился на снег, продолжая одна-
ко держать на спине неподвижного бульдозериста.
...И расчет Ростовцева был точен. Действительно,
ни один человек не покинул красный уголок, пока
не кончился фильм, и никто в течение полутора ча-
сов даже не заглянул в «Диогенову бочку». И ког-
да Ростовцев, зажимая рукой щеку, выскочил из
помещения, в балочном городке не было видно ни
одного человека. Он сразу побежал в прорабскую,
к рукомойнику, к зеркалу. Укус, в сущности, был
пустяковым, но кровь продолжала сочиться, и он
невольно подумал: «Вот, черт! Останется памятка.
Можно сказать, на всю жизнь».
После того, что произошло, Люба Битюкова сов-
сем уже пришла в себя и даже улыбнулась чему-
то своему, известному только ей одной. Нет, обида
не прошла. Нет. Никакое, даже самое малое зло
не должно оставаться безнаказанным. За нанесен-
ную обиду надо обязательно отплатить. Она ма-
шинально натянула свой кожушок на плечи, по-
старушечьи низко повязала голову платком, закрыв
им весь лоб, вышла на улицу.
3. «Юность» № 11.
Сначала она двинулась по направлению к про-
рабской. Вероятно, Ростовцев сейчас там. Двину-
лась —и остановилась. Что она скажет Ростовцеву,
что она должна сказать? Люба уже поняла, чтр ее
поразил не только и не столько его поступок,
сколько мгновенное преображение человека, кото-
рого она, да и все, наверное, считали краси-
вым, решительным, смелым: его испуг, его крик от
боли и то, как ладонью он заслонил плечо своей
новой рубашки, чтобы не закапать ее кровью.
А зачем, собственно, идти в прорабский балок?
Что она скажет Ростовцеву? Упреки, угрозы — к че-
му? Он свое получил.
Вдруг она услышала в тумане тревожные гудки
машины, приближавшейся к балочному городку. На-
стороженные, выбивающие озноб, один за другим
повторяющиеся гудки, в которых ей померещился
звук беды. Вынырнув из тумана, сплошь окутанная
паром машина покатила по твердой, утоптанной
дороге прямо к прорабской. И в следующий миг
Люба увидела, что на подножке стоит белолицый от
стужи Алик, стоит, размахивая рукой. Кричит:
— Вертолет! Быстрее вызывай вертолет! С /леди’
циной! Ребята поморозились!
Какие ребята? Кто? Люба Битюкова охнула, у нее
подогнулись колени. Но в следующее мгновение она
пришла в себя. Кто бы там ни был, надо быстрее
действовать. Все — недавно пережитая обида,
оскорбленное достоинство, жажда еще раз проу-
чить обидчика, все, что мгновение назад кипело в
ней, в считанные миги улетучилось: ведь пострадали
люди, надо спасать людей.
В следующую секунду она была уже в прораб-
ской и, не обращая внимания на обдавшегося жа-
ром Ростовцева, на его заклеенную изоляционной
лентой щеку, прокричала ему в лицо, словно стар-
ший мастер был для нее никем, мальчишкой, вот
ведь как.
— Вызывай вертолет с медициной! Обморожен-
ных привезли.
— Кого именно? — тихо спросил Ростовцев; вид-
но, не ожидал, что Любка будет кричать на него.
— Неважно! Обмороженных людей.
Когда Ростовцев поднял трубку рации и начал
вызывать город, Люба, понимая, что беда про-
изошла именно с Генкой-моряком, с ним — больше
никто не мог попасть в беду, только он и те, кто
с ним связан,— выбежала из прорабской. Люди как
раз выносили обмороженных из кабины «газона».
Пащенко по-прежнему был без сознания. Генка
двигался сам, поддерживаемый с двух сторон,
с трудом переставляя негнущиеся слабые ноги.
Увидев Битюкову, ее встревоженное лицо, увидев
совсем близко, рядом, он прикрыл на мгновение
глаза, как бы решая: пришла Любка к нему в
морозном бреду, или он видит ее наяву. Убедив-
шись, что наяву, он попытался улыбнуться, подмиг-
нул ей и еле слышно, почти в себя, издал свое ве-
селое, прозвучавшее совсем невесело:
— Чик-чик-чик-чик!
МАЛЕНЬКАЯ
ПОВЕСТЬ
СЕРГЕЙ
БАРУЗДИН
ТОНЯ
ИЗ СЕМЕНОВКИ
не было пятнадцать лет, и я уже всерьез засматривался на молодых женщин. Имен-
но на женщин, а не на ровесниц, которые казались мне несерьезными девчонками.
В Ту пору я не знал, Конечно, что девчонки развиваются быстрее мальчишек. Я ез-
дил в Парк культуры да и по улицам ходил в надежде познакомиться с кем-нибудь
постарше себя. Уверенности придавал и мой рост. Я был выше своих одноклассни-
ков, и в школе меня звали «второгодником». Но, увы, все было бесполезно. Страш-
ная стеснительность обуревала меня, когда надо было действовать. И я пасовал.
Оставалось одно — влюбляться заочно. И дня не проходило, чтобы я не влюблялся.
☆☆☆
Рисунок
В. МОЧАЛОВА.
34
Началась война, и судьба занесла меня в деревню Семеновку под Каширой. Там
был совхоз.
Семеновка — довольно большая, дворов на двести деревня—лежала на берегу
Оки, вся в зелени деревьев и кустарников. Со всех сторон, кроме речной, к ней
подступали леса дикие и саженые. Говорят, в старые времена здесь находилось чье-то
поместье и за лесами ухаживали всерьез. Но это было давно, и леса выросли, смеша-
лись, и рядом со строгими рядами берез и кленов поднялись ели и осин>1, рябины и
дубы, а еще больше повырастало калины и бузины. В лесах было много ландышей,
ежевики и земляники, а редкие поляны усыпало разноцветье с ромашками, коло-
кольчиками, одуванчиками и незабудками.
Дома в деревне разномастные. От изб, крытых соломой и дранкой, до каменных
домов под железом и черепицей, да еще три сарая-общежития—приземистых од-
ноэтажных. К ним чаще всего и подъезжала полуторка, единственная машина в сов-,
хозе, привозя и отвозя рабочих на дальние покосы и торфяники. Зато в совхозе
было много лошадей — крепких, выносливых битюгов, которым здесь хорошо корми-
лось. Трав и сена хоть отбавляй!
Мы жили в деревне, а на работу ходили на станцию пешком всего за полки-
лометра.
Там разгружали пустые бочки и ящики, а чаще мешки с солью — тяжеленные, по
шестьдесят килограммов штука. Со мной работали мальчишки, такие же, как я, по
четырнадцать-пятнадцать лет. Все они были здоровее и крепче меня — и совхозные
и, как я, городские,— хотя и я справлялся. Правда, иные шутили: «Смотри, не пере-
ломись!» — но я пропускал эти шутки, поскольку чувствовал себя хотя бы ростом
старше их, да и с мешками у меня ладилось. Не отставал.
Деревенских мужчин в первые же недели и месяцы подмела война, и работу в
совхозе выполняли женщины да дети, как мы, а то и помладше, школьники третьих —
седьмых классов, в основном девчонки.
Пожалуй, война пока давала знать о себе только этим.
☆☆☆
После работы мы мчались купаться. Берег Оки в
отличие от противоположного был тут высокий, кру-
той, поросший кустарником и старыми ивами, и мы
кубарем скатывались к воде. И глубина здесь при-
личная — по горлышко.
В некотором отдалении от нас, слева, купались
девчонки. Среди них я сразу же заметил невысо-
кую, крепкую, с тугими русыми косами и широким
лицом, которая была вроде старше других, но не
настолько, чтобь особенно выделяться. Может, лишь
лифчик выделял ее — белый, с тонкими бретелька-
ми, да голубые трусики с красивым пятном-мячи-
ком на боку. Остальные купались лишь в трусах,
поскольку в лифчиках у них потребности не было.
— Не заглядываться! — крикнула мне старшая в
первый же день, когда мы оказались на берегу.
И потом, после купания, не раз то ли в шутку, то
ли всерьез покрикивала нам:
— А ну-ка, мальчики, отвернитесь! Дайте пере-
одеться!
Жара стояла невыносимая, какая-то удручающая,
без единого облачка в тихом небе, без дождей и
гроз, и после изнурительной в общем-то работы
на станции река казалась блаженством. Ока здесь
была широка: метров пятьсот, а то и больше до
другого берега. Мальчишки почти все смело пере-
плывали ее. Впрочем, плыть приходилось метров
триста, а дальше шло мелководье. Перебравшись на
противоположный берег, они валялись на песке.
Девчонки туда доплывать не решались.
Я смотрел теперь на нее с того берега, и изда-
ли она казалась мне необыкновенной, особенно сэ
мокрые косы и трусики с мячиком.
Меня подмывало спросить у местных мальчишек,
кто она, но я не решался, словно боясь спугнуть ее
саму, нарушить то чувство, которое охватывало ме-
ня при виде ее.
Как-то нас отпустили со станции раньше, и я, не
увидев ее у реки, побежал вместо купания в де-
ревню. Она полола что-то на поле со своими дев-
чонками, и я остановился завороженный. На ней бы-
ло довольно длинное ярко-красное платье в горо-
шек и на голове такая же косынка, из-под которой
выбивались тугие косы. Мне показалось, что тут, в
поле, она еще более красива, чем на реке.
Я присел на скамейке возле избы, в которой
квартировал, и долго смотрел в поле. Где-то после
шести они закончили работу и отправились на реку.
Я побрел за ними. На берегу уже не было мальчи-
шек, и я, один из нашей компании, прыгнул в во-
ду и поплыл на противоположный берег. Сегодня
мне особенно хотелось показать, как я плаваю! И
хотя не знал никаких стилей, я очень старался и
какую-то часть проплыл даже на спине. А потом
опять долго смотрел на нее с того песчаного бе-
рега. Вернулся я только, когда девочки переоде-
лись и ушли.
Прежде вечера я больше коротал с книжкой, а
тут и чтение забросил. После ужина выходил на де-
ревенскую улицу и слонялся из конца в край в на-
дежде увидеть ее. По улице ходили группы и пароч-
ки, с гармошкой и без, но се почему-то не было.
Я возвращался к себе в избу и, пока хозяева нс
потушили свет, брал книгу, но не читал. На листках
бумаги выводил стихотворные строчки:
Все пройдет, и зимними порошами
Заметет прошедших весен нить.
Все равно ты самая хорошая,
И тебя немыслимо забыть...
Я подражал всем и вся, и вдруг у меня рожда-
лись такие стихи:
Мы сидим с тобой в кабаке.
Точим зубы со всякой сволочью,
Чтоб навек забыть о тоске,
Что нам губы разъела щелочью.
Но думал я только о ней, и в эти минуты и потом,
когда в избе гас свет. Фантазия рисовала мне
наши разговоры и встречи на берегу и на улице, в
лесу и в совхозном клубе на киносеансе, а потом
я засыпал, и мне снилась она в ярко-красном пла-
тье и такой же косынке горошком, и я удивлялся,
что вижу цветные сны, чего раньше никогда не
случалось.
☆ ☆☆
А еще было ночное. Удивительное время с ло-
шадьми и ярким костром, с печеной картошкой.
Вечером мы купали лошадей в Оке, а потом, сби-
вая себе копчики, без седел гнали их к лесу и там
разводили костер.
Лошади спокойно паслись на лугу, а мы, маль-
чишки, рассказывали страшные истории про леших
и ведьм и тут же обменивались последними сведе-
ниями с фронтов, пожалуй, не менее страшными, но
все же далекими от нас. Все продолжали ждать
чуда, что вот-вот Красная Армия остановит немцев,
погонит их назад и скоро будет победа.
☆☆☆
В двадцатых числах июля, как-то к вечеру, над
деревней проползла немецкая эскадрилья.
Люди повыбежали на улицу.
Слышалось:
— На Москву идут.
— А наши что ж?
— Прут нахалы.
Самолеты исчезли, и вдруг я увидел ее. Она
стояла с коромыслом возле колодца и тоже, как
все, смотрела в вечернее небо, а потом набрала
воды и двинулась по тропке.
Не знаю, откуда во мне взялась смелость, но я
рванул ей навстречу и, подбежав, выпалил:
— Давайте я помогу вам!
— Ну, что ты! Я сама’ —смутилась она.
— Нет, нет,— настоял я и снял с коромысла
ведра.
Я схватил ведра в руки, а она осталась с коро-
мыслом.
«Только бы не расплескать, только бы не рас-
плескать!»— думал я.
Мы двигались по тропинке к дому, видимо, к ее
дому, Вернее, это был и не дом даже, а крохот-
ная избенка, но под черепицей, аккуратная, с за-
росшим палисадником. По стенам избенки, вокруг
двери и окон вился плющ.
— Ты из Москвы? — спросила она.
Я кивнул.
— А родители7 — поинтересовалась она.
— Папа в армии, а мама у меня в Наркомзсме
работает. Вот я и приехал сюда.
— В каком же ты классе?
«Бог ты мой! Что же ей сказать? Неужели, что
окончил седьмой? Что совсем еще мальчишка?»
— В десятый перешел,— как-то само собой выр-
валось у меня.
Мы уже подходили к ее дому.
35
— Спасибо тебе! — сказала она и хотела забрать
ведра.
Но я не выпустил.
— Я занесу вам. Дверь только...
Она приоткрыла дверь, и я через крошечные се-
ни прошел в комнату — совсем небольшую, но
очень аккуратную. Кровать с горкой белых поду-
шек, диван, сундук, над которым висели фотогра-
фии; чисто выскобленный стол и несколько венских
стульев вокруг.
— Сюда. — Она показала на лавку возле печи.
Я поставил ведра.
— Как же тебя зовут? — спросила она.
Я ответил.
— Хорошее имя,— сказала она.
— А мне...— Я хотел было признаться, что мое
имя мне очень не нравится.
— Нет, хорошее,— повторила она.
— А вы? Вы одна живете? — робко поинтересо-
вался я.
— Папа в армии,— сказала она,— старшая сестра
в Москве в институте учится, а мама у нас умерла в
тридцать третьем, во время голода...
— Ну, я пойду,— сказал я. Но на пороге остано-
вился: — А зовут вас как?
— В школе Антониной Семеновной,— объяснила
она.— А ты можешь Тоней. Ведь ты почти взро-
слый.
И она улыбнулась.
Мне было радостно и горько. Она со мной го-
ворила, и говорила всерьез, но она, значит, учи-
тельница. И ей не пятнадцать и даже не семнад-
цать, а все девятнадцать. И это «почти взрослый»!
Почему же «почти»?
36
☆☆☆
В этот день на станции работы не было, хотя мы
и пришли туда, но нас послали на уборку гороха.
Мы вернулись в деревню и направились в поле.
Еще издали я увидел Тоню и ее девчонок.
— Помощь принимаете? — крикнул я, когда мы
оказались рядом.
— Смотря как работать будете,— отшутилась
Тоня.
Я снова видел ее совсем близко. Ладная фигура.
Тонкие красивые ноги. Быстрые руки. Косы, спадаю-
щие вперед.
Я механически срывал стручки гороха в подол
рубашки, а сам не отрывал глаз от нее
Горох был вкусный, сладкий, но мне было не до
гороха.
Тоня работала быстро, и я еле поспевал за ней.
Наконец догнал и даже чуть перегнал.
— А у тебя, смотри, хватка,— бросила Тоня на
ходу.
☆☆☆
Теперь я не спал по ночам.
Я писал:
Какая ты!
Такая ты,
Что все
Мечты мои
Пусты...
И еще:
Я бормочу спросонья:
Тоня...
Вместо сна я действительно бормотал стихи.
Теперь на реке я махал ей рукой, и она отвеча-
ла мне.
Теперь на улице я мог с ней здороваться.
По вечерам ждал, когда она пойдет за водой,
но почему-то не заставал ее у колодца.
Зато в выходной день, когда мы работали только
до обеда, я увидел ее на лавочке около дома с кни-
гой в руках.
Я поздоровался и спросил:
— Что вы, Тоня, читаете?
— Второй раз «Войну и мир» перечитываю. Какая
прелесть! — призналась она.— Ведь читала в педучи-
лище и вроде недавно, а сейчас как будто впервые...
Я «Войну и мир» не читал и, когда речь зашла о
моем чтении, весьма кстати (вот, мол, какой я!)
вспомнил Мопассана и Достоевского. Их я тоже
знал плохо, но все же что-то читал, а главное, пом-
нил по предисловиям. Томик Мопассана был у ме-
ня даже в деревне.
— У Мопассана мне больше всего нравятся
«Измена графини де Рюн» и «Исповедь женщины»,
а у Достоевского — «Вечный муж», «Сон смешного
человека», «Скверный анекдот»,— самоуверенно
сказал я.
Она вроде удивилась.
Потом сказала:
— А я почему-то думала, что ты стихи больше
любишь и даже сам пишешь.
«Откуда же она узнала?»
— Что вы! Что вы! — поспешно опроверг я и, ка-
жется, покраснел.
— Мне так казалось,— просто ответила она.
☆☆☆
Меня мучила совесть.
«Как я мог обмануть Тоню? Сказал, что не люблю
стихи и сам не пишу! Но не могу же я ей показать
те стихи? Конечно, не могу!»
Решение пришло неожиданно.
«Напишу другие. И тогда покажу. Признаюсь, что
сказал неправду...»
Я не спал несколько ночей.
И появилось такое:
Мы не забудем поля изрытые,
Села наши и города,
Дотла сожженные, в прах разбитые,
Мы не забудем их никогда.
Мы помним зверства в Пинске и Львове,
Куда притащен фашистский стяг.
За горы трупов, за реки крови,
За все ответит нам подлый враг.
И еще и еще...
☆☆☆
В тот день я не пошел после работы на реку.
Решил ждать Тоню в деревне. Заплывы через Оку —
все это казалось теперь несерьезным.
Мои товарищи по бригаде явно что-то заметили,
особенно местные, деревенские.
— На свидание? — многозначительно спросил
один.
— Уж не влюбился ли ты в нашу учителку? — до-
бавил другой.
— Тайна, покрытая мраком,— сказал третий.
Мне было все равно, но я все же буркнул:
— Не трепитесь!
Я болтался по почти пустынной деревенской ули-
це. В кармане у меня были стихи. На лавочке пос-
ле ослабшей дневной жары сидели самые древ-
ние— старики и старухи. Возле копошились малые
дети.
Наконец я увидел Тоню Она шла со своими дев-
чонками с реки.
Я неловко остановил ее:
— Здравствуйте, Тоня! Мне... Мне надо погово-
рить с вами... Можно?
— Идите, девочки,— сказала она.— Так?
«С чего начать?»
Я робел.
— Ну, так? — повторила Тоня, и мне почему-то по-
казалось, что в голосе ее прозвучала обида. Косы
ее были мокрыми после купания, с них падали
капли воды. Падали на короткое выцветшее пла-
тьице с широким разрезом.
Но лицо было доброе. Каре-серые глаза смотре-
ли на меня скорей с любопытством, нежели с оби-
дой. Я успокоился.
Почему-то впервые в голове промелькнуло:
«В Москве никогда не встретишь такую учитель-
ницу».
— Я сказал в$м неправду,— признался я.—
Я люблю стихи и даже сам пишу.
— Значит, я не ошиблась? А ты можешь мне по-
читать?
Я пожал плечами.
— Пойдем,—решительно сказала она и, взяв ме-
ня под локоть, повела к себе домой.
Дома сказала:
— Я только переоденусь...
И скрылась за занавеской у печки.
Вернулась в желтой кофточке и зеленой юбке,
еще более привлекательная.
— Почитай...
Я начал читать подряд. «Мщение», «Зенитчикам»,
«Партизаны», «Красной Армии», «Украина», «Мо-
сква».
— Мне нравится,— несколько раз повторяла она.
А когда я закончил, подтвердила:
— По-моему, хорошо.
Потом говорили о стихах. Я вразнобой называл
Веневитинова, Баратынского, Батюшкова, Майкова,
Кольцова, Языкова, Кюхельбекера, Дениса Давы-
дова. Мне, и правда, нравились их стихи.
— А я пишу только юмористические для стенга-
зеты и журнала, который мы делаем с пятикласс-
никами,— призналась она.
Это было совсем неожиданно.
Предложила:
— Хочешь, прочту?
Это уже было полное доверие ко мне, как к
равному.
Я даже вспыхнул и молча кивнул головой.
Она прочитала:
Три сестрицы под окном
Говорили вечерком.
«Кабы я была царица,—
Молвит первая сестрица,—
Издала бы я закон:
«Теоремы и таблицы
Тайно бросить в бездну волн».
«Если б я была царица,—
Отвечала ей сестрица,—
Я бы во дворце жила.
37
Там у зеркала стояла,
Платья, шляпы примеряла
И красавицей была».
Третья молвила сестрица:
«Кабы я была царица,
Я не знала бы забот:
Над контрольной не пыхтела,
Целый день в кино сидела
Вместо письменных работ».
А потом:
На вершину еле-еле
Я с волнением иду.
Неужели, неужели
Я в шестой не перейду!
Не знаю, что меня больше потрясло: ее стихи
или ее доверие.
— Очень плохо? — спросила она.
— Да что вы! — воскликнул я.— Такие стихи пе-
чатают!
— Правда?— она то ли обрадовалась, то ли
искренне удивилась.
Когда я уже уходил, она невзначай попросила:
— А ты не можешь мне пока оставить свои сти-
хи? Я их перепишу, а потом верну...
Я передал ей свои бумажки и долго еще топ-
тался на пороге.
«Как жаль, что я не могу показать ей те стихи,
что про нее,— думал я по пути домой.— А может,
показать? Не читать, а просто передать и удрать?»
Ночью я написал еще одно, опять про нее.
Начиналось оно так:
Загорело твое лицо
И обветрело,
Я приду к тебе на крыльцо
С песней светлою...
☆☆☆
Под утро мне приснился странный сон. Будто мы
и не на Оке совсем, а на Черном море, в Немец-
кой слободе под Судаком, где я был в тридцать
седьмом, и Тоня в купальнике, которые носят
на юге.
Она идет по воде, как в «Празднике Святого
Йоргена» Кторов, а я придерживаю ее за руку, и
взгляд ее устремлен вперед, к горизонту, где сто-
ят немецкие корабли со свастикой.
— Может, не надо? — говорю я.
— Нет, надо! Надо! — упрямо повторяет Тоня и
продолжает идти, чуть касаясь ногами воды.— Мы
должны их уничтожить!
Прямо в глаза нам светит яркое солнце и бле-
стят брызги, но корабли все равно видны, и они
направляют в нашу сторону жерла своих орудий.
Орудия длинные, и, кажется, вот-вот они упрутся в
наши груди.
— Сейчас, сейчас,— говорит Тоня.— Иди смелее!
Ведь смелость — это не отчаяние, а осознанная не-
обходимость.
Получается, что не я ее веду, как было вначале,
а она меня, и я поспешаю вперед со словами:
— У Грина есть что-то про смелость, но я забыл.
Из головы совсем вылетело.
— Грин — это прекрасно,— говорит Тоня. И вдруг
удивленно спрашивает: — Почему же мы забыли с
тобой Грина? Совсем забыли?
38
☆☆☆
Наконец я решился. Купил в сельмаге тетрадку в
косую линейку (других не было) и аккуратно пере-
писал в нее все стихи о Тоне. Сверху даже поста-
вил посвящение: «Тоне». Сначала хотел написать
сокращенно «АС», как, мне казалось, писали в ста-
рину, но потом подумал: «А вдруг она не догадает-
ся?»— и написал «Тоне».
Долго выбирал подходящий момент. Бродил по
деревне. И как-то вечером заметил в ее плотно за-
шторенном окошке лучик света. На цыпочках про-
брался в палисадник и просунул тетрадку под
дверь. «Будь что будет!»
Несколько дней я избегал встреч с ней, и хоро-
шо, что Тони не было. Правда, и на реку я не хо-
дил после работы, а если хотелось искупаться, вы-
бирался из дома в темноте, когда на Оке уже ни-
кого не было, только светили белые и красные мая-
ки-поплавки.
И вдруг как-то ко мне домой прибегает деревен-
ский мальчишка и таинственно заявляет:
— А тебя учителка наша разыскивает. Ну, Анто-
нина Семеновна.
Я так и ахнул.
«Ну, все! Теперь пропал! И дернуло же меня под-
сунуть ей эти стихи!»
Мальчишке я, конечно, ничего не сказал, а сам
стал еще больше сторониться Тони.
Но на следующий день она сама пришла ко мне.
Я вышел на улицу. В руках у нее была газета.
— Хочу порадовать тебя,— сказала Тоня.— Не
сердись, что без твоего согласия.
И она протянула газету.
Это была районная газета «Знамя социализма».
Не понимая, я вертел ее в руках.
— На обратной стороне,— подсказала она.
Я перевернул газетный лист и увидел свои стихи.
Целых полполосы. Тут были и «Мщение», и «Зенит-
чикам», и «Партизаны», и «Красной Армии», и «Ук-
раина», и «Москва».
— Ну, как? — спросила Тоня.— Доволен?
Я не знал, что сказать.
Посмотрел еще раз полосу. И имя и фамилия, а
под ними подпись: «Рабочий совхоза «Семеновский»,
15 лет».
«Зачем эти «15 лет»? — подумал я.— Опять мой
детский возраст...»
— А за те твои стихи спасибо! — невзначай сказа-
ла Тоня.— Хорошие стихи, даже лучше этих напе-
чатанных. Вот только, если еще...
Она не договорила.
— Что? — спросил я.
— Я хотела сказать, если они еще искренние...
Она смотрела на меня задумавшись.
Что мне было сказать?
«Искренние, искренние, конечно, искренние»,—
хотелось крикнуть.
Но я молчал.
☆ ☆☆
А война все катилась и катилась на восток. Все
уже привыкли к немецким самолетам в небе и к
воздушным боям, которые все чаще вспыхивали
над деревней, и к грохоту зениток на станции, и к
проходящим через деревню воинским частям, и к
колоннам беженцев и тощим стадам, которые тяну-
лись в глубь страны.
Я раз в неделю писал маме, и вот в начале сен-
тября от нее пришло грозное письмо: «...Наш нар-
комат эвакуируется в Горький, а потом в Куйбышев.
Немедленно возвращайся домой!»
Письмо меня ошеломило.
«Какая эвакуация? И зачем мне ехать в этот Горь-
кий или Куйбышев? Уж лучше бы на фронт! Или в
конце концов здесь работать. Как-никак польза...»
Я побежал к Тоне. Постучал к ней в дверь.
Когда она вышла, сразу заметила — что-то слу-
чилось.
Я протянул письмо.
Она долго читала его.
Потом сказала:
— Надо ехать! — И добавила:—Дай я тебя по-
целую!
Она целовала меня как-то горячо и беспорядоч-
но, а я прижимался к ней и думал, что вот-вот
разревусь.
Я не плакал, когда в школе, катаясь на перилах,
сорвался, пролетев полтора этажа.
Я не плакал, когда летом залез в колючую прово-
локу и меня вынимали оттуда с помощью ножниц.
Я не плакал, когда прыгнул с крыши двухэтажного
дома, сломал пяточную кость.
А тут...
☆ ☆☆
Немцы вошли в Семеновку в начале октября. Во-
шли без боя. Наши отступили за Оку, взорвав перед
этим железнодорожный мост.
Жители растащили перед приходом немцев все
хозяйство. Лошадей, скот, зерно, овощи. Кое-что
попрятали. Полуторку сожгли. В поле остались толь-
ко свекла и капуста.
Колонна немцев — бронетранспортер, три танка и
несколько десятков мотоциклистов — прошла через
всю деревню и остановилась на площади возле ста-
ренького клуба. Из бронетранспортера вылез бело-
брысый, загорелый обер-лейтенант, а с ним бывший
житель Семеновки, преподаватель немецкого языка
Иван Карлович Фогель. Несколько недель назад он
исчез куда-то, ходили слухи, что его выселили, но
вот он вернулся. На нем была немецкая шинель,
на рукаве повязка со свастикой, на седой голове
фуражка с околышем. Жителей деревни, включая
самых древних, согнали на площадь.
Фогель, что-то согласовав с обер-лейтенантом,
поднялся на специально принесенную табуретку.
— Слушайте приказ коменданта обер-лейтенанта
Кесселя! — выкрикнул он.— Первое: все имущество
и продукты вернуть в совхоз. Срок двадцать четыре
часа. Работать будете в совхозе только на нужды
германской армии. Второе: с девяти вечера до ше-
сти утра комендантский час. За выход на улицу —
расстрел без предупреждения. Третье,— и тут Фо-
гель почему-то перешел на плохой русский,— я есть
ваш староста. Все!
Тоня стояла среди молчавших и лишь изредка
мрачно вздыхавших односельчан и собралась уже
было направиться к своему дому, но увидела, как
туда идут обер-лейтенант с Фогелем, за ними ден-
щик с чемоданом. Она остановилась, замерла на
минуту и вдруг рванула влево, к крайнему дому Ми-
хеевых. Сам Федор Прокофьевич, их учитель физи-
ки, еще в июле ушел в Красную Армию, но в до-
ме осталась жена с ребятами. И Тоня скрылась там.
Ее нашли вечером. Нашел Фогель, пришедший с
тремя автоматчиками.
Зло бросил:
— Докомсомолилась! Одевайся! Живо выходи!
Немцы связали ей руки за спиной.
Пока связывали руки, Тоня пробовала плюнуть
Фогелю в лицо. Он отвернулся.
— Гад, предатель! — прошептала она.
Фогель невозмутимо улыбнулся;
— Крылышки обломают.
Ее вытолкнули на улицу и повели по деревне
Жители испуганно смотрели на Тоню из окон и па-
лисадников Немцы шли с автоматами наизготовку,
Фогель — держась за кобуру.
Возле ее дома стоял офицерский денщик. Он
приоткрыл дверь, и Тоню впихнули туда. Два солда-
та замерли у входа. Вскоре из дома вышли Фогель
и третий немец. Они направились к дому Ивана
Карловича.
А утром дверь распахнулась, и на пороге оказа-
лась Тоня. Лицо ее опухло, глаза заплыли, на ще-
ках и на лбу виднелись кровавые царапины. Платье
под распахнутым полушубком было изодрано.
За ней в сени вышел офицер в расстегнутом ки-
теле и крикнул часовым:
— Ласэн зи зи дурхь! Золь зихь дас бист цум
тойфель шэрэн! *
А Тоня, ничего не видя перед собой, спустилась
с крыльца, открыла калитку, пересекла улицу и, как
была, растрепанная — одна коса впереди, другая
позади, со свалившимся на плечи платком,— напра-
вилась в поле. Фигура ее, медленно покачиваясь,
двигалась вдоль рядов капусты в сторону леса.
Сотни глаз следили за ней, а она все шла и шла,
не оборачиваясь, будто слепая. Она не боялась, что
ей выстрелят в спину, да немцы и не решались
стрелять без команды. Они сами, как заворожен-
ные, смотрели ей вслед.
А Тоня шла. Вот уже и поле осталось позади, а
впереди появился кустарник и молодняк, осиновый
и березовый. Она скрылась за первыми кустами и
березками и вскоре совсем исчезла.
Впрочем, я не видел этого и узнал все много-
много лет спустя.
☆☆☆
Есть, наверное, что-то закономерное в том, что к
пятидесяти тебя начинает упрямо тянуть в детство
твое и юность. Вот и я недавно не выдержал и, не
сказав ничего даже домашним своим, направился в
Семеновку.
Деревню, конечно, узнать было невозможно. Ас-
фальт. Слева и справа каменные дома — одноэтаж-
ные и двухэтажные. На площади Дом культуры, ма-
газин с кафе на третьем этаже, какие-то службы
быта.
А в середине площади ограда. Мраморный тре-
угольник со звездочкой наверху и с бронзовой до-
щечкой: «Комсомолка-партизанка Тоня Алферова.
1923—1942».
Чуть ниже на такой же дощечке выбиты слова:
Все пройдет, и зимними порошами
Заметет прошедших весен нить.
Все равно ты самая хорошая,
И тебя немыслимо забыть...
А вокруг в зелени травы еще дощечки. Я насчи-
тал двадцать восемь. На них фамилии и даты. По-
следняя для всех одна: «1942». Это те, кто осво-
бождал Семеновку.
Я стоял у ограды и, бог ты мой, о чем толь-
ко не передумал...
* Пропустите ее' Пусть эта скотина катится к чер-
ту! (нем.)
КАЙСЫН
КУЛИЕВ
☆☆☆
Знал я когда-то потери,
Множество горестных дней,
Но повторял я и верил:
«Свет не без добрых людей!»
Всякое было и позже,
Но приходил добродей,
И улыбался прохожий
Не потому ли, что все же
Свет не без добрых людей.
Горя и злобы немало
Видел я в жизни своей,
Строят опять, как бывало,
Козни глупец и злодей,
Но я твержу, как сначала:
«Свет не без добрых людей!»
☆☆☆
Земляк мой, ты на свете
Чего не повидал!
Какой беды на свете
За век не испытал!
Но землю ты пахал
И в пору лихолетий
На склонах этих скал.
Водою ключевою
Ты кровь свою смывал
И вновь вослед шагал
За дряхлою сохою
И поле то взрыхлял,
Что было полем боя.
Здесь кровь текла всегда,
Но здесь из дальней дали
Всегда текла вода,
Которой кровь смывали.
И если грянет вновь
Бой над землей родною,
Свою прольешь ты кровь
И смоешь кровь водою.
Лицо опять утрешь
Платком, как в день вчерашний,
И вслед быкам пойдешь
По той же самой пашне.
☆☆☆
Ужель мое минуло лихолетье,
Ужель меня оставила беда!
Я сам здоров, мои здоровы дети,
Есть хлеб у нас, и крыша, и вода.
Меня бы и не мучила тревога,
Но где-то, знаю, чей-то друг в беде.
Я был бы счастлив, если бы так много
Беды и горя не было везде.
Спокойно дети спят под отчим кровом,
Чуть шелестят деревья, тишина.
Жуют в хлевах ленивые коровы,
Над крышами — спокойная луна.
Здоров я, близкие мои на месте,
И все-таки покоя нет нигде.
Ужели счастлив и спокоен вестник,
Спешащий с вестью о чужой беде!
Всеобщи радость и беда от века.
Пусть рухнул не его, а чей-то кров,
И нету счастья сыну человека,
А я — из человеческих сынов.
☆☆☆
Может, тем земля жива,
Что зима недолго длится,
И опять в саду листва,
Зеленеют дерева,
Наливается пшеница,
Поднимается трава
И в лесу щебечет птица.
Снова до весенних дней
Птица дожила и рада,
Я с тревогою о ней
Думал в пору снегопада.
☆☆☆
Каких бы ни случилось бед,
Что с кем-нибудь из нас ни станет,
Но все равно весенний свет
Вовеки тьма не затуманит.
Как горы, камни и вода,
Он нам дается навсегда,
Чтоб снова озарить собою
Селения и города,
И кладбище, и поле боя.
И это все же иногда
Пусть утешает нас с тобою.
☆☆☆
Все раньше наступает тьма,
Тускнеет все мало-помалу,
Так поздней осени зима
Весть посылает поначалу.
На белом скакуне своем
Она, как всадница, промчится,
И побелеет все кругом,
И покраснеют наши лица.
Ее дыханье все ясней,
Дни наши с каждым днем короче,
А наши вечера и ночи
Темнее все и все длинней.
Придет зима, и в нашем крае
Перемешается при ней
Ночей некратких тьма густая
И белизна коротких дней.
Но как бы вьюга ни старалась,
Сойдет и тьма и белизна.
От них останется лишь малость:
Мысль, что еще зима одна
Прошла! А сколько их осталось!
Перевел с балкарского
Н. ГРЕБНЕВ.
40
АЛЕКСАНДР
КУШНЕР
Их тленьем тронуты, в их цвете
Заметен тот же переход
От жизни к смерти; так в корзине
Лежит уже подгнивший плод
На сочной груше или дыне.
А разве радости твои
Не перепутаны с кошмаром!
И разве призраки любви
Не снятся выжатым и старым!
Художник выловленных рыб
Рисует, крабов и моллюсков,
Последний всплеск, последний всхлип,
Сведенный судорогой мускул,
Клешню, чудовищную пасть,
Шипы, махровую оснастку.
Он жизнь выписывает всласть
И с жизни сбрасывает маску.
1910-й
Десятый круглый год. Широколистный, ржавый
Яснополянский парк. Выводят лошадей.
Неравная борьба с детьми, женой и славой.
И некуда бежать от собственности всей.
На станцию! Томясь враждой к родному крову.
В прокуренный вагон! С домашними порвав.
Когда бы ведал он, в какую катастрофу
Всего, что он отверг, торопится состав.
Семь лет еще прожить — и не было б мороки.
Он шапку потерял, ему возврата нет.
А собственность и ей присущие пороки
Октябрьский так легко перечеркнет декрет.
Семь лет еще прожить — и не было б заботы.
Мне нравится, что жизнь вперед не предсказать!
Что ночи холодны, что горестны уходы.
Что можно разрубить, когда не разорвать.
И так неровен бег разбуженных лошадок,
И сердце веселит их утренняя прыть,
И кажется навек заведенным порядок.
Которому семь лет всего еще пробыть.
☆☆☆
Любовь — это боль. Не до книг.
Друзей, тополиного ворса.
К руке бы любимой приник
Навек. Остальное — притворство.
Любовь — это боль. Не до лип
И рифм перекрестных и парных.
К руке бы любимой прилип
Навек. Остальное — бездарно.
Любовь — это боль. Не до скал.
Облизанных ветром и влажных.
К руке бы любимой припал
Навек. Остальное — неважно.
Рыбы
Художник выловленных рыб
Рисует вроде круглых глыб,
Лежащих порознь и вповалку.
Мы отличить меж них могли б
Еще живых и розоватых,
И лиловато-голубых.
Напоминающих русалку,
Смертельным ужасом объятых,
И посиневших, неживых.
Так точно выглядят цветы
Полуувядшие — в букете
С еще цветущими, черты
Жаба
Я думал: мы одни в саду.
Но это было заблужденье.
Сидела жаба на виду
У нас; чье больше наслажденье!
Шел дождь... Смотреть невмоготу.
Как жаба дышит под дождем
Всей стариковской дряблой кожей.
Давай уйдем!
Так дождь любить. Так жизнь до дрожи
Любить... Сидеть с открытым ртом,
Кленовый лист напоминать:
Прожилки те же, бугорочки.
Из басни вылезла; мешочки,
Скачки; блаженство, благодать.
Сочился дождь за воротник,
И мы поеживались зябко.
А жабе что! А жаба — прыг
И в тот же миг
Опять, как листик или тряпка.
Вся в крупных каплях, как в поту.
Я думал: мы одни в саду.
Как мы неловки с нею рядом!
А жизнь к своим ничтожным чадам
Благожелательней, чем к нам,
И благодушней. Этот запах
И плеск — для тех, кто сам в накрапах,
По мокрым кочкам, по листочкам,
По бугоркам, по стебелькам
Скачками движется, с комочком
Души, и дождь течет по щечкам.
По перемычкам, узелкам.
☆☆☆
Как кошка с мышкою, так музыка со мной,
Как ветер с веточкой, гонясь за ней по пляжам
Подбросит, выронит, царапает иглой.
Ты, автор музыки, как твой парик приглажен!
Клянусь: не вынесу. На что бы мне взглянуть,
Чтоб слезы высохли, не вылившись за веки.
Откуда жаркая, вздымающая грудь
Волна подспудная берется в человеке!
Я, в кресло загнанный, как пойманный птенец,
На гибель жалкую мою даю согласье.
Ты, автор музыки, великий душ ловец,
Как подозрительно твое благообразье!
Откуда музыке известен ход вещей!
Где речь срывается, там струны наготове.
Озноб, наверное, всего дороже ей.
Пойми: дрожь все-таки лежит в ее основе.
41
ВАЛЕРИЙ
ЗОЛОТУХИН
ПОВЕСТЬ
Рисунки
О. КОКИНА
ЩРЕБЕЗГИ
Помню, в свое время я с ра-
достью узнал, что Валерий Золо-
тухин родом с Алтая. Мало того —
из тех же мест, что и Василий
Шукшин. Кажется мне, я подозре-
вал и втайне надеялся на это с
самого начала, как только отли-
чил Золотухина из многочислен-
ного общества актеров: та же цеп-
кость и смелость во взгляде, та
же самостоятельность, некоторая
даже настырность, совсем не в
плохом смысле этого слова, ха-
рактера, который никакой игрой
не заиграть и никакой ролью не
спрятать, который постоянно и
без стеснения заявляет, что он
рожден в вольных местах и на
всю жизнь собирается остаться
вольным. Я вовсе не пытаюсь
сравнивать Шукшина и Золотухи-
на как актеров и тем более как
писателей, ни тому, ни другому
это не нужно, я хочу лишь обра-
тить внимание, что единая роди-
на как бы угадывалась даже во
внешних проявлениях их натур и
уж, конечно, сказывалась на раз-
витии и работе их талантов. Все
мы в той или иной степени несем
в себе соли и воздух, тайные зна-
ки и «родимые пятна» своей зем-
ли, поэтому мне и приятно приз-
наться, что я сразу, еще из зри-
тельного зала, определил в Вале-
рии Золотухине сибиряка, и не
просто сибиряка по рождению или
некоторому проживанию, таковых
теперь много, но по породе, по
крепкости и прочности характера,
уважению к себе как к личности
и готовности защищать эту лич-
42
ОТ АВТОРА
риходит у человека час, у каждого разный, когда тоска
по истокам своим, по родине, по корням, от которых
случился и прожил до этого дня, становится невыноси-
мой до сердечной боли. Отсюда и пошло. Но это не
I I автобиография. Здесь много выдумано, изобретено для
I I «легенды», в общем — сочинено.
jfiprJBpF* Я говорю это в большей степени для земляков и
родных, которые все в первой моей повести приняли
на свой счет, а некоторые не на шутку обиделись, думая, что читают
про себя, только потому, что я взял живые имена (по неопытности) и
точно обозначил географию происходящего — дескать, имена взял фа-
ктические, а поступки подставил свои и события истолковал по-свое-
му,— как я ни старался уверить, что это не автобиографический доку-
мент, а попытка передать на бумаге мир счастливых утраченных эмо-
ций моего детства, воскресить простые, почти колыбельные чувства,
как это случается с каждым во сне. Обе повести задумывались почти
одновременно. Но первая выскочила на журнальные страницы «Юно-
сти» неожиданно быстро для меня самого. И когда во второй повести
я попытался изменить биографическую интонацию и особенно имена
действующих лиц, у меня ничего не вышло. Было уже поздно, потому
что хочешь не хочешь, а это есть продолжение одного начала.
История, которая легла в основу сюжета, действительная. И записал
я ее тогда же на случайных листках карандашом. Что-то искал в бума-
гах — уже теперь,— наткнулся и на эти листки. И опять^онаг^эта исто-
рия, кольнула меня в сердце, как тогда. В некоторых местах карандаш
потерся, и я решил переписать чернилами. Там, где карандаш исчез
вовсе, нынешнее настроение вставил, нынешнее отношение. Оттого и
лоскутность, оттого и дребезги. Но лоскутное одеяло — оно ведь тоже
одеяло, хоть и лоскутное.
Друзья обвиняли меня в нарочитой запутанности, невнятности по-
строения, а язык порой, дескать, напоминает бормотание юродивого.
Кое-что я смягчил, изменил, но основному ладу остался верен — так
слышится, а выбрасывать ничего не стал. Это ведь как карты — тасовать
можно, а выбросишь одну, уже и в дурака подкидного не получится.
Итак — «Дребезги», повесть в рассказах. Очередность рассказов
авторская, но не обязательная, каждый вправе, прочтя так, располо-
жить их потом по своему разумению и прочитать еще раз: быть мо-
жет, покажется лучше.
Так запрягу я снова вороных своих да каурых, тех самых, что звон-
ко пронесли меня по золотому детству моему, авось и ныне вынесут
они меня на Млечный путь моей юности серебряной и подкатят не
сяеша к середочке червонной, а там, коль не сдохнут, и к закату...
Но, милок, пошел, милок.
дребезги
У мальчика была собака. Звали ее Уголек. Как-то в
осень мальчикову собаку раздавила вдребезги с золотым
зерном машина Мальчик собрал дребезги, снес в укром-
ный в огороде уголок, за баню, схоронил их там, полил водой и соору-
дил над ними крест из тополиных палок, которые проросли. «Уголек
пророс»,— решил мйл'ьчик Стал водить людей и показывать, как пророс
Уголек в тополек Много, много лет спустя, когда не стало ни бани,
ни дома, в котором жил мальчик со своими, а Уголек-тополек вырос
могучим и зеленым в огороде, к нему подошел человек просверлил его
корень с разных сторон и влил в дырочки что-то От такой заботы
Уголек-тополек почернел и засох второй раз Его распилили на чурбач-
ки, и он горел плохо, только коптил, недовольный Какой от него
жар, когда он для другого был1
а в москву-то
за песнями
Привет из далекой Москвы! Здравствуйте, мои дорогие
папа, мама, сестра Тоня и брат Ваня! Во-первых, сооб-
щаю, что деньги 300 рублей я получил. Купил ботинки
самые модные, на аховой подошве, говорят, долго носиться будут.
Мороженое два раза всего ел, зря деньги не расходую. Берегу к зиме.
Питаюсь в основном пельменями, наша сибирская еда тут дешевая.
Мам, пимы мне погоди присылать. Говорят, тут зима теплая, в пимах
не ходят, а ездят на автобусах. А метро, говорят, круглый год отап-
ливается, и пимы промокнут сразу, только простуду наживешь. Сейчас
у меня есть время, и я опишу все по порядку, чтобы вы посмеялись.
С парохода в Барнауле я пересел на поезд и покатился к Москве.
Четверо суток я катился, мешки свои не развязывал, в них не за-
глядывал, не ел, не пил, чтобы не бегать лишний раз, куда не обя-
зательно, не отвлекаться чтоб: мне сказали, будто в поездах одно
жулье и только ты отвернешься, у тебя все сопрут, Так, не емши,
и докатился до Москвы и очень обрадовался, что меня привезли сразу
в Кремль. Но знающие люди мне тут же растолковали, что это пока
еще Казанский вокзал, до Кремля несколько дальше будет. Сдал
я вещи в камеру хранения и как был, в шляпе дерматиновой, в ша-
роварах сатиновых, отправился на поиски театрального института.
Не буду же я доставать на вокзале «швиетовый» костюм и одеваться.
Ну, москвичи, как известно, народ вежливый, внимательный, стали
меня посылать в разные концы... кто ближе пошлет, а кто и подальше
чуть. Я только потом сообразил, почему они меня в разные концы
направляют. Театральных заведений в Москве пруд пруди, но все они
мне не годились, потому что: я подойду — училище, подойду — опять
училище... А я четко выполнял наказ отца, чтоб на стене было прико-
лочено— «Институт». Институт —это без обмана высшее образование.
Пока ходил» темнеть стало, а темнеть стало — от меня люди в стороны
шарахаться начали. Вечерами тут боятся люди друг друга, а у нас
ночь-заполночь ночевать пускают. Но и то сказать, вид у меня, по-на-
шему, самый модный был, а для Москвы в шляпе дерматиновой и
в шароварах широченных я уже угрозу некую представлял собой.
Короче, милиционеры за наганы хватались, когда я к ним заворачивал.
В общем, нашел я этот институт в два часа ночи. В Собиновском
переулке он был, дом № 4.
Дом обнесен оградой железной, огромной, старинной, калитка на
пудовом замке — к нему не подойдешь. Я повертелся, повертелся
около этого замка, переждать-то надо где-то до утра. Вдруг слышу
милицейский свисток! А напротив оказалось посольство какое-то, а
посольство охраняется ве^но. Правда милиционер меня близко не под-
пустил, держит меня на расстоянии, а сам незаметно вроде наган
поправляет. Ну действительно, шаровары вона какие, мало ли я чего
ность: «Нет, под одну общую гре-
бенку я не стригусь и к общему
знаменателю, простите, не приво-
жусь — я не нуль среДи многих
нулей, а хоть с какого края, да
единичка». Это первое впечатление,
впечатление зрителя, подтверди-
лось затем, к счастью, при лич-
ном знакомстве с Валерием Золо-
тухиным и еще более утвердилось
теперь мнением читателя, успев-
шего прочитать эту повесть чуть
раньше вас* в рукописи.
Велика и богата матушка Русь
талантами! Талант, как известно,
только тогда талант, когда он спо-
собен на самостоятельную жизнь
и самостоятельное слово, иначе
даже при самых великолепных
данных считай пропало.
Валерий Золотухин не тщится в
этой повести быть писателем, как
принято понимать писателя в тя-
желом всеоружии его профессио-
нального мастерства. Многого, на-
до полагать, в сложной писатель-
ской грамоте он не знает, но да-
же и с тем, что знает, старается
обходиться вежливо и уклончиво:
Я, дескать, человек другой про-
фессии, с меня взятки гладки, по-
этому я стану рассказывать как
бог на душу положит. И он рас-
сказывает — легко, напористо,
сочно, правя знакомой дорогой
своей собственной жизни, но, од-
нако же, нема/ю доверившись
при этом второму своему «я», ко-
торое есть в каждом из нас и ко-
торое не может без того, чтобы не
фантазировать, не идеализиро-
вать и не романтизировать,
не награждать, стало быть,
самые обыденные вещи красотой
и поэзией. И, как и должно быть
у талантливого и свободного ду-
хом человека, оно, это второе «я»,
у Валерия Золотухина чрезвычай-
но интересно. Интересно даже
тогда, когда автор, увлекшись, вы-
пускает его из-под своего контро-
ля и доверяется ему, казалось бы,
чересчур. Но поэзия в прозе — уди-
вительная штука: это не только
парение, не только особенные
краски, звуки и одухотворенность,
а еще и надежность, внятность,
отнюдь не космическими забота-
ми наполненное чувство,— взмы-
вая ввысь, она обращает глаза к
земле, она для того и взмывает
ввысь, чтобы лучше и дальше
рассмотреть, что делается на зем-
ле. Больше всего, надо признать,
Валерия Золотухина делает поэ-
том в его повествовании наш на-
родный язык, который он прек-
расно помнит и, чувствуется, не
собирается забывать, которым он
не пользуется, как принято гово-
рить, а живет, дышит, внимает.
Это — великое благо для каждого
пишущего. И во многом он же,
язык этот, как пуповина, удержи-
вает автора в границах истинной
прозы и дает возможность гово-
рить то, ради чего он взялся за
перо, глубоко и всерьез.
проза его мне нравится своим
не тяжелым, как бы инструмен-
тальным отношением к ной и из-
влечением именно тех звуков, ка-
кие нужны. Иной раз он, может
быть, чуть-чуть и переигрывает,
но все в пределах допустимого.
О чем эта повесть, читатель
прекрасно разберется и сам. Для
меня была радостной встреча с
Валерием Золотухиным как про-
заиком, человеком искренним и
талантливым, с земляком, кото-
рый с нежной памятью пишет о
своей родине и ее людях, который
благодарен ей за свое рождение
и воспитание и за свой язык.
То, что дает в детстве родина,—
навсегда.
г Иркутск Валентин РАСПУТИН
43
туда наложил Я ему, мол, так и так, две медали, за
окончание школы и за целину... Отец корову про-
дал, денег дал... В общем, приехал поступать в те-
атральный институт... Он говорит: «Милый,‘да что ты,
да тут с весны все набрано, по блату все ячейки за-
конопачены. Тут как начали с пасхи всякие машины-
лимузины подъезжать с сынками да с дочками, ты,
говорит, забирай остатки своей коровы и кати об-
ратно, а то ты не поступишь, а корову прокатаешь,
и не на что тебе будет возвратиться назад. Я сам, го-
ворит, «искусственник», уж который год в ансамбле
эмвэдэ подметки отрываю, знаю все онеры вдоль и
поперек». Этого я не ожидал, что с весны набрано,
тут же загрустил, конечно, однако до утра, думаю,
все равно надо дождать...
«А нельзя ли,— говорю,— у вас тут переноче-
вать?»— и показываю на храмину, которую он ох-
раняет. В ответ мой милиционер как загогочет на
весь переулок, аж сам испугался, не разбудил ли
послов. «Да ты понимаешь, деревня, что ты у ме-
ня политическое убежище просишь?» Я ему: а мне,
мол, какая разница, в каком убежище ночевать,
хоть в бомбоубежище. «Вон,— говорит,— твое убе-
жище, напротив—лезь через ограду, на скамееч-
ке под кустом переспишь, я тебя заодно охранять
буду и за посольством присмотрю, в общем, у нас
в переулке тишина будет». Я перелез, на лавочке
уснул. Выходило, правда, не так, как я хотел. Я хо-
тел уснуть на крылечке, как собачонка, чтоб про-
фессора утром об меня споткнулись, а в палисад-
нике, думаю, они меня и не заметят, мимо прой-
дут. А утром дворник начал из своей «кишки» по-
ливать этот огород и меня прополоскал. Я встал,
все ему опять повторил, дескать, две медали, пол-
коровы, а милиционер напротив говорит, что у вас
с весны набрано по блату — верно, нет? «Может, и
набрано,— отвечает,— люди везде люди, но,— гово-
рит,—процент блатных нам неизвестен, может, и для
тебя лазейка оставлена». Если есть лазейка, гово-
рю, мы в нее «пишша» влезем. Нам по лазейкам
не привыкать — огородами, огородами и в баню.
«Ну и правильно, а чего стесниться». Он оказался
мужик боевитей, видать, из разночинцев в прош-
лом, а то, может, и из кавалеристов наших, во
всяком случае, вид у него задиристый. Отомкнул
мне канцелярию. Дал два листа бумаги, «Пиши,—
говорит,—заявление, автобиографию, и как только
десять часов стукнет и первая дверь откроется,
шагай в нее и будь артистом».
Какие мне дворник тезисы выдал, я по ним свою
жизнь и скроил. Первая дверь открылась... Однако
нашего брата около этой двери скопилось сильно
густо — сто человек на одно место было. И все
одеты — будь спок! И спереди навешано и сзади
нашито—не нам чета. Я думаю, не смотаться ли
мне скорехонько на вокзал да не напялить ли ко-
стюмишко мой по-быстрому? Но пока, думаю, бе-
гаю, тут возьмет кто-нибудь да и поступит на мое
место, в мою лазейку встрянет?! Потом поостыл,
огляделся внимательно, гляжу — я такой один:
ни в шляпе, ни в шароварах не видать никого.
Стоп, думаю, вот тут-то я всех и объеду, все
мытьем, а я как раз тот случай, когда катаньем.
Кто самородком, а я выродком: иногда ведь под ду-
рака сыграешь—за умного сойдешь, И я как был,
так и вкатился. Профессор на меня глянул: «Ой,—
говорит,— отойди от меня... Дальше, дальше отходи.
Ты что, с гор спустился?» «Нет,— говорю, —с Алтая
приехал». «А чего ты там делал?» «Родился,
учился, целину поднимал. За то и за другое медали
имею». «А зачем сюда приехал?» «На артиста
поступать». «А что ты умеешь?» Я говорю: «Да
все!» «Как все?!» «Да так,— говорю,— все. Мать
таким родила, я виноват, что ли. Она меня с пяти лет
привязывала на крылечке за ногу и уходила в поле
работать. Отец воевал. А тебя,— говорю,— привя-
жи, ты поневоле запоешь. Вот я и запел. Пел до по-
синения. С крылечка на школьные подмостки пере-
брался, оттуда на районную сцену, теперь к вам —
диплом получить». «С крылечка, говоришь, нача-
лось... это хорошо, а может, и плохо, не знаю. Ну
ладно, спой мне, что ты там на своем крылечке
пел». «О! То я уже забыл давно». «А зря,— гово-
рит,— крылечки свои надо помнить... пой что хо-
чешь, русскую народную песню знаешь какую-ни-
будь?» А я знал «Из-за острова на стрежень», два
куплета, первый и тот, где Стенька девушку.. в Вол-
гу-матушку...
А он, этот профессор, до конца никого не дослу-
шивал. Споет человек куплет, споет другой — уже
ясно, как человек поет. Да разве можно такую
ораву до конца прослушать? Я думаю: ничего,
обойдусь двумя куплетами, да я еще их в середи-
не растяну пошире, и хорош будет. Спел я ему
эти два куплета — не останавливает?! Заслушался,
видите ли... Я думаю: батюшки! Какого же Лазаря
мне дальше-то запевать? Куплетов-то не помню!
Однако разворачиваю оглобли по-быстрому и сно-
ва пою первый куплет, а сам думаю: если он ме-
ня сейчас не задержит, я эти два куплета буду
ходить по кругу, как кот ученый, где-нибудь я ему
надоем, не может же он меня одного до вечера
слушать. И действительно, на втором круге он ме-
ня попросил остановиться. «Ладно,— говорит,—
а басню знаешь?» А басню я учил в поезде, на
своих мешках, да, видать, не доучил. Начал я чи-
тать и забыл. Забыл текст. И все! Вместе с тек-
стом вся моя смелость улетучилась, и я, честное
слово, не вру... заревел. Стою, реву и чувствую,
что слезы мои аж кожу прожигают—четверо суток
н<е ел и не умывался четверо, поэтому, возможно,
кислота пимокатная из глаз капала.
Я реветь-то реву, но одним глазом наблюдение
я все-таки веду: девок красивых набилось кругом,
мама моя родная! А профессор говорит: «Ты не
реви. Москва слезам не верит. Ты своими словами
дорасскажи, чем все-таки у медведя дело с зай-
цем закончилось». Я начал своими словами, у ме-
ня еще три зверя припутались каким-то образом.
Я, оказывается, по пути где-то Крылова с Михалко-
вым скрестил, у меня такой гибрид дикий получил-
ся!! У профессора глаза на лоб вылезли — чем же
я этот эксперимент закончу?! Слушал, слушал, мах-
нул рукой: «Ладно, черт с ним, с этим зоосадом,
не разберешься. Пл-ясать умеешь? Ах, да... ты все
умеешь. А ну-ка,— говорит,— играйте ему русскую,
да почаще!» Заиграли мне русскую, стал я пля-
сать... На рояле, представляете, чешет бабка «под-
горную»! Ну, умора! И тут произошло самое, одна-
ко, главное, что меня в моей авантюре спасло.
Этот профессор сидел-сидел, да как вскочит из-за
стола, и ко мне в круг, и давай со мной оттопы-
вать, да ловко так... Ах, думаю, засиделся стари-
чок бедняга тут, надоело ему собак в еноты пере-
крашивать. Да боюсь за него, как бы с сердцем у
него чего не случилось... Но я за него зря пере-
живал, как потом выяснилось, месяц назад у него
сын родился! Поняли, какой крепкий старик мне
на экзамене попался? Он бы таких, как я, двоих
бы переплясал в тот момент. Народ кругом визжит
от радости, а профессор шепчет: «Частушки зна-
ешь?» «Какую глупость,— говорю,— вы у меня,
однако, спрашиваете, человек в деревне рос, так,
ясное дело, знаю». Он мне: «Пой!» Ну, пой так
пой — команда была.
Я со всего плеча частушку как врезал. А закон-
44
чить не могу, нецензурный конец попался, пред-
ставляете?! Я, значит, «ля-ля-ля»... и с ходу в такт
вторую частушечку, а у меня от волнения опять
непечатный вариант попался, и я опять «ля-ля-ля»...
А профессор думает, что я текст забываю: «Да что
же ты, дьявол, не помнишь-то ни черта?» Я гово-
рю: «Да как не помню, я их миллион знаю! Выго-
ните всех, я вам один на один таких наковыряю —
век не забудете!» Ну он, конечно, надо мной по-
тешался, на публику работал. Но я ведь тоже
не лаптем щи.ч. Я вижу, начальство разыгралось,
а почему я, думаю, не могу над начальством поте-
шиться?
Он отдышался и говорит: «Парень ты способный,
наверное, но нахальный!» Я говорю: «Вот те раз!
А чего я сделал такого нахального? Что сказал,
что все умею? Да чтоб вы меня проверили вдоль
и поперек. Я за столько тыщ километров приехал
и буду стоять перед вами несусветную скромность
изображать? Вы бы и не узнали, с чем я пирог
явился...» «Ладно, ладно... В следующий раз когда
придешь, зайдешь в аудиторию, поздоровайся». Я
говорю: «Зачем? Я же вас не знаю здесь никого?»
«Да поздоровайся ты, чума болотная, язык не отва-
лится, а за умного сойдешь, и обязательно подстри-
гись, что же ты таким вахлаком явился в столицу?»
А я ведь год отращивал, можно сказать, удобрял,
поливал, считал, что артисты непременно должны
быть волосатыми. Ох, нет, думаю, да не на вши-
вость ли он меня проверяет? «Товарищ профессор,
так, может, тогда наголо?» «Нравится—можешь на-
голо».
Я пошел в парикмахерскую и оболванился под
бритву, чем, думаю, хуже, тем лучше. Все с себя
до синевы, до «семечек» буквально соскоблил. Про-
падать, так со звоном, думаю. Надел свой «швиёто-
вый» костюм, ботинки купил на аховой подошве...
Захожу! Он меня не узнал. Но потом по списку
доходит до моей фамилии, я встаю... Эх, его, бед-
ного, со стула будто кто шилом приподнял. Он
понять ничего не может! Что за превращение!
В костюме и бритый! Синий, как кабачок. Он на
пальцы перешел, показывает мне—дескать, не за-
болел ли, парень, здесь от перемены климата?
Я ему: «Так, Павел Михайлович, вы же велели не-
множко подстричься». «Ну, нахал, знал, что на-
хал, но не до такой же степени?!» «А чего сте-
пень,— говорю,— я же не уши отрезал в конце
концов, волосы сбрил. За пять лет учебы какая
шевелюра отрастет». «Какой учебы? Где?» «У
вас». «Да ты же еще не поступил, а такие заяв-
ления делаешь!» Я говорю: «Как это не поступил?
Да вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Зачем
стричься-то велели? Считаем: коровы нет, волос
на голове нет! Да что же, я таким болваном яв-
люсь в деревню? Но волосы ладно, волосы отра-
стут... А корова? Да вы знаете, что такое корова
в деревне? Кормилица,— говорю,— отец корову
продал, денег на дорогу дал, я где-то месяц шлял-
ся, являюсь бритый?! Спрашивается, где ты был,
сынок?» А сам опять чуть ли не в слезы. «Лад-
но,— говорит,— не реви, пой, пляши, а там видно
будет...» В общем, так я и поступил, за счет «ша-
роварного вида» и дерматиновой шляпы, на отде-
ление артистов оперетты. Правда, мне потом ска-
зали, что делал я все плохо и брать меня не хо-
тели, пожалели в основном корову. А мне боль-
ше и не надо, лишь бы зацепиться, а там посмот-
рим.
Мама, учебники продай или как там сделай. Пе-
редай привет учителям и ребятам, пиши, кто где
устроился. Почитай мое письмо соседям, пусть
посмеются. Пиши, как здоровье ваше с отцом,
46
как идет уборка, хватает ли техники и складов, дер-
жится ли погода? Берегите себя. Жизнь, оказывает-
ся, сложный предмет. Вон куда с твоего крылечка,
мама, занесся я, а тебя на нем оставил. А ты гля-
дишь небось теперь в небо часто, сощурив гла-
за, не появлюсь ли я, не опущусь ли снова на
крылечко, где привязанный пел, благо теперь
аэродром есть... На зимние каникулы я уже не
приеду, может, кто собирается из вас, а что? Об-
нимаю всех, целую, ваш сын Владимир.
Да, Петру Клюкову скажите, что кое-какие сбор-
ники для самодеятельности я достал, скоро вышлю.
Живу я в общежитии, в комнате № 95. С Лином
Варфоломеевым и Стасом Пеньковым. Жду в
гости».
Сын позвал родителей, приличия соблюсти больше,
не верил, что подымутся старики... А отец собрал-
ся. Он нарочно не сообщил сыну, что выехал, чтоб
тот «не дергался от занятий и чтобы невзначай
вышло. Так-то нагляднее будет».
варфоломеевская
ночь
Лин Варфоломеев заквашивал в ночном кори-
доре общежития очередную авантюру. Аван-
тюризм и юмор он считал главнейшими на-
чалами в актерском деле, ставя их впереди голоса
и темперамента.
— Стас! Собирай народ. Народ тебя знает, народ
тебя помнит, народ за тобой пойдет! Устроим при-
частие к духу крестьянскому.
В комнате № 95 спал умаявшийся дальней доро-
гой алтайский мужик, отец Владимира, одного из
обитателей этой комнаты
— Причастие... причастие... — повторил блудливо
Лин, в теле которого все было крупным и надеж-
ным. И лицо тоже. Оно не было лишено привлека-
тельности, но казалось приплюснутым. Про себя он
шутил, будто творец, работая его, уронил его голо-
ву со стола лицом вниз, отчего оно сплющилось, а
создатель в суете не заметил да так и оставил. Лин
учился на последнем курсе актерского отделения и
любил подзадорить начинающих, особенно тех, кто
приехал издалека и еще не привык жить в столице.
Взбудораженный своей идеей, Лин продолжал:
— Устанавливаем таксу. Регламент две минуты.
Каждая минута — пять копеек. Свыше регламента —
каждая минута на пять копеек дороже предыдущей.
Четыре минуты, скаием, встанут нарушителю в
тридцать пять копеек. В свете последних решений
нашего коменданта-нарушителя бьем тем же руб-
лем. Стас, действуй!
Стас, малый что надо, из-под Орла, был человек
рисковый, но не суетливый Носил огромные, неле-
пые очки в черепаховой оправе и, казалось, был пе-
реполнен мудростью, которую никогда, нигде, ни
перед кем старался не обнаружить, но для себя
был переполнен ею.
В детстве его лягнула в грудь жеребая кобыла и
покорежила грудную клетку, которая осталась на
всю жизнь вогнутой, а Стас познал тайну. Он пел.
Учился на первом курсе музыкальной комедии и
сдавал кровь Так подрабатывал на жизнь Педагоги
запрещали ему так подрабатывать, потому что оч
после очередной сдачи слабо пел, но Стас не бро-
сал донорства и втихаря сдавал кровь, которая, как
утверждал он, была у него лучше всех, так как
группа ее самая общая была, самая распространен-
ная... Стаса упрекали — дескать, что же тут заме-
чательного, у художника должна быть кровь инди-
видуальная, единственная в своем роде, с генами
незаурядности личности и пр.
Стас оборонялся: «Зато донор — лучший друг
людей, он самый хороший, выходит, человек на
свете, он не может ни ударить, ни тем более убить
ближнего, потому что смотрит на всех, как на бра-
тьев по крови, ибо не знает, в ком течет или поте-
чет завтра его кровь. Гений и злодейство — две ве-
щи несовместные». Но все видели, что основная
причина донорства была на лице у Стаса. Он был пры-
щав. Прыщи не годились для будущей профессии.
Ведь предстояло всю жизнь физиономию краской
мазать и лепить на нее черт знает какую раститель-
ность, а кроме того, на нее и девушки смотрят.
Стасу посоветовали делать переливание, но он ре-
шил лучше совсем избавиться от порченой крови,
чем из одного в другое место перекачивать.
Он быстро примкнул к Лину и Стал последовате-
лем и соратником в разработке его системы аван-
тюризма и юмора в творческом процессе. И не бо-
ялся на себе проверять и демонстрировать эту сис-
тему. Часто повторял Наполеона: «Сперва надо ввя-
заться в крупное сражение, а там уж видно будет!»
В одно такое сражение его впутал однажды все тот
же Лин, так что «мудрый» Стас чуть не расстался
было навеки со своей мечтой спеть «Севильского
цирюльника» в Большом театре.
Где-то в реквизите Варфоломеев раздобыл рва-
ный хомут и предложил новичкам за пятерку пове-
сить его на шею коменданту общежития. Ясно, что
дело было не в пятерке, а в принципе. Лин играл
на струнах молодого, отчаянного самолюбия: дес-
кать, трус в актеры не годится. При этом он мощно
рванул монолог корнелевского Сида на француз-
ском языке, со слезами неподдельными и дрожью
в голосе, закончив его русской пословицей: «Тот не
сиживал на коне, кто не леживал под конем!» Но-
вички смалодушничали, а Стас согласился, недолго
колебался. Расчалил в лестничном пролете хомут,
умудрился так ловко рассчитать, что, когда появил-
ся комендант, дернул за шпагатину, хомут лавро-
вым венком повис на шее у блюстителя нравствен-
ности. Скандал возник невообразимый. Стас чуть не
загремел из института, но каким-то образом убедил
всех, что, может быть, лишнюю кровь сдал и помут-
нение мозгов вышло. На два месяца был лишен го-
сударственного пособия, а Лин несколько суток дне-
вал-ночевал в кабинете директора, клялся-божился:
«Это я один, злодей, виноват во всем, я подбил,
система моя порочная, считайте ошибкой молодости,
конь на четырех ногах спотыкается, а... комендант
пьяница». Как бы там ни было, веселая популяр-
ность Стаса родилась тогда, и нынешняя его агита-
ция подействовала мгновенно.
Скоро очередь у комнаты № 95 стала быстро при-
бавляться.
Володька, третий обитатель комнаты, самый мо-
лодой из всех деревенский парнишка, словно се-
мечко полынное, занесенный случайным ветром в
это общежитие, стоял около воеводы Лина с шап-
кой для денег, чуя сердцем, но не доходя умом,
что происходит, и потихоньку скулил:
— Не надо... ну, не надо, Лин, подумай, зачем
этот цирк, насмешка получается, разбудите отца...
— Какая насмешка, старик, о чем ты говоришь?
Художник, подумай. Это урок жизни, судьбы нам
всем подарок, можно сказать. Для будущих лице-
деев это как воздух и важнее, чем арифметика.
Они же почти все городские, что они знают о жиз-
ни мужика? А ведь от него все начала начались.
Пусть посидят в темноте, повдыхают этот запах, у
них мозги разморозятся, если не окончательно ду-
ши заржавели. Это озон для них... Ты меня понял,
старик? Отойди, не мешай работать! Шапку не уро-
ни!
— Ну, пусть придут завтра, поговорят...
— Зачем завтра, когда ночное колдовство свято,
только ночная логика великие творенья создает.
Это напряжение — чудные тени их предков из тем-
ноты вызвать может, а ты говоришь «завтра». Ни-
какой разговор на них так не подействует, как за-
пах. Это бьет навзничь, понял? Держи шапку и не
мешай, ты еще мал и глуп...
Зашуршала дверь, из темноты вынырнула щуплая
девица с балетмейстерского, главный оппонент Ли-
на, категорически отрицавшая его теорию авантю-
ризма:
— Все имеет предел, кроме человеческой глупо-
сти... Идиоты, надо же придумать такое смехалище!
Вас самих бы в клетку да в зоопарк!
Выскочил Колька, мокрый, как из бани:
— Потрясающе, братцы... голова кружится... ре-
веть охота... покурю и зайду еще раз...
— На то она и голова, чтоб кружилась... А если
бы не кружилась, ты бы никогда не узнал, что у те-
бя голова есть. Приходи, Коленька, я тебя бесплат-
но пропущу. Разве эти люди понимают? Для них
стараешься, не спишь... приходи,— продолжал Лин,
не выходя из созданного им для себя образа.
— Нет, Лин, и ты не понимаешь. Только вид дела-
ешь. А я думаю так. В столице сквозняки — явле-
ние редкое, а коптим вдоволь. И не замечаем. Так
и дышим. Замечаем, что сапоги воняют... Нам бы
благодарить, а мы смеемся... Нам бы понять, да не
успеваем... Грустная история. Грустный мужик. Гру-
стный сын его... Вот так я думаю...
Колька не был студентом. Не жил в общежитии.
Он был человеком ниоткуда. Никто не знал, где он
живет, как, на что... Работал помощником режиссе-
ра на телевидении, писал стихи, любил актерскую
братию и нищету и был в общежитии свой человек.
Если ночевал, спал на полу, бросив матрац и ук-
рывшись плащом. Спал не раздеваясь, чтоб сразу
бежать, как застукает комендант. Весь дом его и
все богатство были всегда при нем, что на себе —
в том и в гостях. Состояло оно из плаща, берета и
задрипанного портфеля, в котором и хранилось все
Колькино «гениальное»: стихи, романы, сценарии и
прочая дребедень. Так выходило, что все завидова-
ли ему почему-то, потому что он ничего не имел и
не собирался иметь. Считал себя Ротшильдом, а
Стаса, у которого было три костюма, три пары ту-
фель и пижама (пижаму Колька особенно не лю-
бил),— нищим... нищим духом. У людей солидных
Колька вызывал подозрение своей обшарпанностью
и необычной болтливостью. Он был другом всех,
кто хотел его иметь за друга, как бездомный, пес,
но дружил только с Володькой. Сошлись- они слу-
чайно благодаря той же Колькиной лиховатости и
способности переходить к делу без вводных слов и
дишней канители. Он был бродяга, а такие завле-
кают.
...Заходили, выходили, улыбались, хмурились и
просто так. Кое-кто в очереди не терял времени ,—
зубрил урок. Секундомер-часы нервничали, в шап-
ке-кассе звенела порядочная медь. Лин захлебы-
вался словами:
— Воля... воля... поймите, люди! Степь, ковыль,
трава нетронутая... конь летит, земля трясется.., поп
на курице несется... Старик, ты знаешь это лучше
нас в тысячу раз, так помоги нам или хоть не ме-
47
шай! В эту тесную комнатенку как милость, как про-
щение нам кинул творец дух земли, чтоб верну.ь
нас, заблудших, к первородству, откуда вышли и
куда уйдем... Ты хочешь, чтобы я прервал прича-
стие... Чудак-человек! Пускай сидят в темноте... это
очищение, слыхал про катарсис? Пусть души их бо-
гатеют воспоминаниями, иные эпохи воскресят иные
запахи... Запахи теста Земли... они вкупе здесь, их мо-
жно разложить на спектры, отделить один от дру-
гого и пронумеровать... Тут и парная земля, дождем
покрытая... и полынь горькая. И кошенина колкая,
когда солнце высоко-далеко, а ветерок, теленком
взбрыкивая, разносит зной ее по округе... А вот дух
пота—хозяина жизни... да не воротите носы, уважа-
емые! В обед, в передышку, раскидывают мужики
да бабы тела свои в тенечке — под телегой или ку-
стом... усталые ноги в холодок суют, пошевеливают
затекшими пальцами... затягиваются куревом... хле-
бают квас иль воду мутную из временного ко-
лодца!..
В долгополой командирской шинели, доставшейся
ему в наследство от погибшего родителя, вышел из
темноты комнаты Василий Стукачев, немолодой уже
студент театроведческого факультета. За две мину-
ты, что он провел около спящего человека, стран-
ным образом промелькнула перед глазами вся его
собственная жизнь. Он удивился. Неужели это запа-
хи былого, минувшего времени? Да... Ведь их еще
хранила шинель, в которой его отец на лихом коне
(это всегда так, отцы всегда на лихих конях) громил
банды Антонова. Отец Стукачева — красный коман-
дир. Воевал отец и в Великую Отечественную. Все
в той же длиннополой кавалерийской шинели ушел
он на фронт, но с этой войны уже не вернулся. А
его сосед по госпитальной койке переслал эту ши-
нель семье вместе с вещами. И вот теперь детство
нахлынуло на Стукачева. Он увидел отца, увидел
опять на коне, с шашкой.
Бледный, как застиранное полотенце, он сказал
Лину:
— Цинизм неслыханный. Что устроили — прода-
вать темноту спящего человека...
— Так не покупали бы... кто неволил?
— Ты и неволил, негодяй.— Стукачев размахнул-
ся и прозвенел открытой ладонью по приплюснуто-
му лицу Лина.
Тот только мерзко ухмыльнулся, отстраняясь:
— Не запутайся в шинели, осторожней на пово-
ротах... гололед... Пойми, это опыт, который мы
ищем и которого все нет. Я больше скажу — это
корень жизни... женьшень! Где они еще узнают, как
пахнет деготь... конь... портянка... земля... Сколько
воскресит ушедшего каждому эта ночь. И краснеть
будут и страдать, ее вспоминая...
Виражи актерствования ввергали Лина порой черт
знает в какие словесные штопоры. Эрудиция из не-
го брызгала, показная, конечно, вместе со слюной
самолюбования. Но для артиста, он считал, важно
дыму нагнать... остальное не его забота. Он так под-
час заигрывался в своих проповедях, что сам в них
верил до слез и других ослеплял.
Подобные натуры могут здорово подражать, ими-
тировать разные стили, подделываться даже под
эпохи. Не умея создать свое, оригинальное, и не
зная про это, берутся за перо, кисть... создают неч-
то и слывут литераторами, художниками... умирают,
не подозревая, что всю жизнь только вторили уже
слышанному когда-то тембру. Лин был сирота, вос-
питывался в детдоме и часто плакал по пустякам.
В свободное от занятий время он пописывал статей-
ки на темы самые невероятные. И рассылал по про-
винциальным редакциям. Это был его постоянный
«навар» к стипендии, особенно по шумным дням.
48
Лин умудрился опубликовать статью «Использова-
ние местных ресурсов в сельском строительстве»,
терминологию заимствовав у Даля и парнишки с
Алтая... А также трактат об итальянском певце-ур-
латори Мадуньо. Мадуньо Лин не слышал, но читал
рецензии о нем и знал тех, кто был знаком с теми,
кто слышал его. Не гнушался также писать отчетные
доклады своим товарищам по институту за пачку
кофе, чаю, за рубль.
Истинный смысл происходящего, затеянного им,
вряд ли сразу дошел до участников. Заигрались, за-
былись. Ночь размотала каждому клубок ассоциа-
ций, образов, видений... Здравый смысл уступил ме-
сто колдовству игры. Коридорные лампочки урод-
ливым, факельным светом выхватывали из ночи ли-
ца толкающихся у двери. Большинство, постигнув
суть идиотской этой затеи, возмутившись, уходили.
Но были и такие, что не видели в этом ничего, кро-
ме шутливой игры. Смеялись. Дескать, играют лю-
ди, ну и что?
Володька стоял в стороне, все еще держа шапку
с медяками в дрожащих руках, будто нищий на па-
перти, и не принимал участия в разговоре. Да про
него и забыли. Что-то творилось с ним мутное. То-
шнота от ночи поднялась в нем невообразимая, му-
чила, жгла: «Ах вы, проклятые! Что же вы надела-
ли? Зачем случилось это в моей жизни? Неужели в
этой пригоршне медяков все мои мысли, душа, по-
ступки? Если я не останавливаю этот кошмар, зна-
чит, я тоже хочу его запомнить? Неужели я в при-
звание свое таким опытом пробиваюсь?! Кто этот
Лин?! Как он смеет над моим отцом? Тошно, тошно
мне, мама моя... полынью накормили... Она горькая,
я знал. Я не ел полынь узнать, какая она. Я просто
знал, что она горькая, как полынь, узнавал ее даже
в молоке. Какой же надо горькой быть, раз Юнка-
кормилица не могла справиться, когда полыни на-
хватается, и молоко горчило... Теперь нахватался
полыни я!»
И тут произошло то, что и сейчас он вспоминает
с болью и стыдом. Щуплая большеглазая девица с
балетмейстерского подошла к нему и плюнула в
опущенное Вовкино лицо. Плюнула и прошипела:
— Сын называется! Теленок! Что же ты допуска-
ешь!.. Хотела бы я увидеть тебя на месте отца твое-
го, когда твой сын стал бы вот так выклевывать твои
спящие глаза...
Володька швырнул шапку в Лина, тот ловко увер-
нулся. Медяки зазвякали на пол, и некоторые под
дверь комнаты № 95 покатились.
Так закончилась эта ночь, котЬрую бывший сту-
дент Володька назвал Варфоломеевской и которую
он хорошо запомнил.
ларионыч
раждане пассажиры, поезд № 95
Барнаул — Москва...
Ларионыч глядел в окно. Он ехал к
сыну проверить, как дела у того, и не зря ли ко-
рову продал и учиться послал. Три раза уместился
в жизни Ларионыча этот бескрайний путь. Первый
раз он освоил его молодым, как ехал с делегаци-
ей к Михаилу Иванычу Калинину на всесоюзную
беседу, за вторым разом — немца бить шел, опять
через это пространство. И теперь к сыну надо бы-
ло крайне поспеть да заодно Кремль поглядеть и
описать его, вернувшись, матери во всех подроб-
ностях, точно, а то забыл.
К сыну не так долго, по нынешней технике все-
го трое суток с лишком, а значит, на Володькин ма-
нер, легко можно не пить, не есть, чтоб не отяго-
щать себя лишним путейным расстегиванием да
развязыванием, не менять, как говорится, коней на
переправе. И Ларионыч все трое суток мало чего
брал в себя, не пил, не ел, оттого и не шастал по
вагону почем зря, как некоторые.
Отец совсем другой, чем мать. По всему другой,
как плюс и минус, как раскаленная каменка и хо-
лодный ковш. Мать отцу едва до подмышки доста-
вала, а он головой только в своей избе матицу не
задевал. Доху зимой из двенадцати собак таскал.
Ее, разъязви ее, мать с крючка на крючок пере-
весить не могла. В одном сходились — петь люби-
ли, гулять им — хлебом не корми. И все до доныш-
ка выскребали, от души давали жизни всякой за-
баве своей и детей нарожали быстро и крепких.
Удаль их парная поражала глаз. Породы они ока-
зались степной, вольной. Отца не только перепеть,
перепить никто не брался ни в районе, ни в сосед-
них двух. Есть этакое фанфаронство среди мужиков,
в олимпийские игры, слава аллаху, не внесенное со-
ревнование — кто больше водки вылакает за один
присест и под стол не свалится, а свалится — копыта
не отбросит и коней своих засупонит. Он так жереб-
ца племенного — рысака орловского — выиграл,
уложив под стол четырех соседних председателей.
А у самого, хоть и мертв был почти, однако хвати-
ло духу до пары своей добрести, отвязать поводья,
перевалиться в коробок — кони дорогу знают, по-
шли, как почувствовали тяжесть хозяина. Жеребца
он, конечно, не взял, под суд бы товарищ уго-
дил, но шерсти по полцентнера со всех с четырех
содрал для выполнения плана собственного колхо-
за. Была у него в этом питейном деле метода своя.
«Прежде чем за стол лезть, глянь, что на сто-
ле... Чтоб не рыба, а мясо. Чтоб не огурцом, а
салом, как асбестом, желудок сберечь, и ты ни-
когда не окажешься на четвереньках». Из гостей
когда возвращались с матерью, рядом по дороге
не шел, а чтоб снег держал — параллельно целину
сугробов месил. Так две траншеи и оставлял за
собой, в каждой из которых мать схорониться сво-
бодно могла. Наутро, постаршее кто был, узнавали,
если буран не успевал замести, что за человек
след оставил.
Мать — общительная и говорливая, певунья и
хохотунья, с людьми на раз сходилась, за «здоро-
во ночевали». Отец — скупой на улыбку, скупой
на речи, крутой и гневный, часто и не скоро от-
ходчивый. С людьми сходился трудно, долго при-
сматривался, приглядывался, но уж поверит коль —
лучший пар в бане уступит без разговору. Мало
чему радовался и то прятал глубоко. Только к ста-
оости разговорился. Но все же редко, да нет-нет
и прорывалось в сердцах у него: ах, красота... кра-
сота, хорошо... хорошо... золото,— как видел удач-
ный березник, к примеру, или богатый луг. Коней
любил. Пчел любил. Коз и кошек выносить не мог.
А раз молчун был, откуда Володе знать много о
нем и корнях своих по отцовской линии? Но иногда
отец раскачивался. И снова мать — Федосеевна —
ловко настраивала его. Дескать, расскажи, отец,
да расскажи ребятишкам, кто, как не мы, им прав-
ду о нас передаст? А стороной они знаешь чего
могут об нас понаслышаться...
И ОТЕЦ РАССКАЗЫВАЕТ.
— Золотая у нас мать была — Елена Александ-
ровна, царство ей небесное, действительно. Какие
она нам кукурузные лепешки кружевные пекла...
Ты бы, мать, когда ребятишкам сделала...
4. «Юность» № 11.
— Так я не умею, как твоя мать, я умею, как
ихняя мать...
— Отца-то я, Лариона Петровича, плохо помню.
Он на войну первую мировую ушел и не вернул-
ся. А дед-то жил долго, крепкий был — ни одного
зуба не выпало и глаза чистые сохранил до самой
смерти. А как помер? Пошел, значица, к пчелам...
два улья роились, они сбили его, лег он под куст,
сыростью проняло — от притяжения земли умер.
Дед наш прибежал в Сибирь из средней России.
Был он из разночинцев, значица, из интеллигентов
вроде бы по тем временам, а разночинцы были лю-
ди башковитые, грамотные, к осознанию жизни
стремились, за народом шли. Вот и дед наш натво-
рил штой-то против царя и спасся от его расправь»
в горах Алтая, пустил свой корень, и теперь нашей
породы тут много. Петром, как сейчас помню, Гри-
горьевичем звали, да... И вот ночью десятник посту-
чал к отцу: «Ларион Петрович, вставай, иди на сбор-
ню, германец прет на нас». А жил у нас тогда дя-
дя Тихон Петрович, мировой судья. Приезжал из
России, из Воронежа откуда-то. «Ну, добре,— отец
говорит,— добре... давай, Елена Александровна, на-
ливай казенки да провожай». А мама-то знала уже,
сухарей припасла. Как запало, перед глазами сто-
ит — налила она им вот по такой фарфоровой чаш-
ке. А водки-то отец наш сроду не пил... Да... хоро-
ший у нас отец был... Тихон-то Петрович чашку пере-
вернул сразу, а отец все сидел. Потом и отец выпил.
Тихон ему еще и сам чашку опрокинул... Стали про-
щаться... Всех он нас, отец сердечный, погладил,
перекрестил. Стала ему мама ладанку-хранительни-
цу вешать, значица, да не устояла, так и повалилась
снопом — сердце зашлось, отходили еле. Видно, что-
то знала наперед. Она у нас, мама, как потом выяс-
нилось, даром чудесным обладала. Намного даль-
ше знала, что кому предвидится. Вот и прочитала
в глазах у отца неумолимость какую-то, ну, ясно, ка-
кую...
Так руки в колеса совала, чтоб подводу остано-
вить. Но война не подвода. Не вернулся Ларион Пет-
рович. Товарищи его рассказывали, что служил он в
артиллерии, ранило его шибко, газами ослепило,
и в мучениях отошел отец наш. Елене Александ-
ровне кланяться наказывал, прощенья у всех про-
сил и ладанку просил передать. До конца дней,
значица, не снимала мама эту ладанку с себя и ве-
лела с собой похоронить. После похоронной стала
мама нас устраивать по людям, а было нас у нее
шестеро. Попал я в Бащелак к кержакам. Кер-
жаки — это такие мужики, значица, которые бе-
жали после раскола с реки Керженец, от Петра,
однако.
Но и у них много подразделений было: на мир-
скую и правоверскую веру — шепотники, двуперст-
ники, дырники, тополевцы, рябинники, филаретов-
цы и т. д. Из одной посудины не пили, не ели,
каждый имел свою отдельную, такая, значица, ги-
гиена соблюдалась. Не курили и матерных слов не
употребляли. Гостей приглашали в горницу. Заходи-
ли, непременно обувь снимая. Горница застилалась
в два-три слоя половиками-дорожками. Верхние —
будничные, вторые — воскресные. А если это был
христовый праздник, то снимались и вторые. Оста-
вались нижние, значица, самые цветистые и тонко-
вытканные. В эту горницу и зазывались гости, вно-
сили фигурный самовар... и на весь дом дух нава-
ристого лабазника-бодана, значица... И все это сте-
пенно и с церемонией, не как-нибудь... Не торопи-
лись они сроду. Так вот взял меня в работники
зажиточный кержак Новиков, по прозвищу Щер-
батый— два зуба передних у него были ликвиди-
рованы кем-то. Он сам по себе очень умный был
49
мужик. У него, между прочим, надо было учиться
хозяиновать. Хотя грамоты не знал и подписывал
пальцем. Но у него были люди грамотные рядом,
да... Держал табун кобылиц, кумыс произво-
дил. Со всего края к нему на лето съезжались...
Ямщииу держал. Зимой гонял тройки на Барнаул—
Бийск.
Сибиряки — народ бодрящий. Как сейчас помню,
попа я одного отвозил — он мне четвертной. Приле-
таю я с мороза, мороз сибирский жизнь внушает
всем, мне Щербатый стакан водки подносит: хорошо
заработал — и не утаил! Понимал. Вишь, оно как де-
ло-то было. Сейчас народ сдал. А тогда мы до
снегов босиком ходили и не болел никто. Ступни
ног так задубевали, так просмаливались — нож не
брал. Долго я у Щербатого жил... да... И уважал он
меня крепче сына, надо сказать. И остерегался.
Так случилось, объезжали мы с ним загоны зим-
ние. Коней вперед отпустили с мальчишкой, сами
идем помаленьку. Как сейчас помню, любил Щер-
батый ногами ходить, и все бегом, и все бегом...
И откуда он взялся—волчище матерый. А у нас
ни ружья, ни топора... так я его двумя голыми
руками удавил. Начал бояться после этого меня
Щербатый. А тут революция... комбеды стали обра-
зовываться. Поссорился я, значица, со своим хозяи-
ном. Вывел в самый крепкий сон жеребца лучше-
го из конюшни, поджег сукновалку и был таков.
Обернулся только на той стороне реки — столб
пламени увидал. Сукновалка, шерстобитка, мануфак-
тура вся — свечой взялись.,, свечой... Конечно, глу-
пость сотворил, но что сделаешь, так начиналось...
палили богачей...
Так начал Ларионыч со своей стороны борьбу с
чрезмерным богатством. Сукновалка, конечно, была
ни при чем. Можно было, казалось Володе, ее и
не сжигать, а оставить для будущего коммунизма.
Но, е другой стороны глянуть, все равно надо было
начинать сжигать старый мир до основания, чтобы
потом все начать сначала и восстановить все на но-
вый, невиданный доселе, лучший лад.
И все же отец редко раскачивался на такие за-
душевности— и по характеру своему, в тугой узел
скрученному, и оттого, что и дома-то он мало бы-
вал, вечно занятый своей больной заботой колхоз-
ного председательства. Ребятишки росли на руках
матери и в окружении многочисленной родни по
ее линии, которой только рядом было: тетка Васса,
тетка Елена, тетка Лукерья, тетка Анисья и дядька
Иван. Про себя смеялись: «Наш тятенька Федосей
Харитонович так нас учил. «Шумну,— говорит,—
Мотька — беги Ленка, шумну Ленка — беги Васка,
шумну Васка — беги Ленька и т. д.» Вона сколько».
Было кому рассказать Володе и про край родимый,
про дедов и прадедов и про его собственного отца.
Иной раз больше, чем нужно, чем могла воспри-
нять еще колыбельная душа. Нр душа такая, оказы-
вается, самая надежная торбочка. И что западет в
такую, нет-нет да извлечется оттуда по нужде воз-
раста.
ТЕТКА ЕЛЕНА РАССКАЗЫВАЕТ.
— Отец твой до батрачества воспитывался в семье
Снегирейых. Мать обстирывала их, за это они кор-
мили его, маленького, но он об этом по извест-
ным причинам умалчивал всегда. А мне как-то при-
шлось закупать картофель на семена у Снегиревой
Вари. Она мне и поведала трагедию их семьи. Ужас-
но. Кажется, в тридцатые годы, когда шла коллекти-
визация. И в это время ее отец, который твоего от-
ца маленького прокормил, не хотел вступать в кол-
$0
хоз. Варя помнит, что жили они справно — имели
много овец, лошадей, десять коров, и семь ребяти-
шек своих у них было. И какие-то машины, шерсто-
битку, молотилку, веялку. И нанимали рабочую си-
лу, что-то в этом роде, сезонно. А возможно, за
плату сдавали машины для эксплуатации другим, не
имеющим их. Это я упустила спросить и неудобно. И
вот подошла очередь их раскулачивать. «Пришла,—
говорит,— уполномоченная из сельсовета. А мама
надела шубу свою любимую и не хотела с ней рас-
ставаться. Но уполномоченная стала строго кричать
на маму». Варе было в это время лет пятнадцать-
шестнадцать, о-на не могла по молодости разобрать-
ся во всем. В приступе гнева побежала она к деду
в баню, где он катал пимы, схватила таз с кипятком,
вернулась и плеснула в упол-номоченную. Варю аре-
стовали и присудили чуть было не расстрел. Степан
Ларионыч, отец твой, работал уже в Камышинке
председателем сельсовета, услыхал об этом несча-
стье, прискакал, заступился... И Варя говорит, что да-
ли ей всего пять лет. Отбыла Варя срок свой, возв-
ратилась оттуда с маленьким сыном на руках. В сво-
ей жизни она много горечи хлебнула на перекрест-
ках хлесткой судьбы. Говорит: «Горела, облитая бен-
зином по ревности, не дотла сгорела, спасли... кожа
теперь чужая на мне. И череп,— говорит,— пробит,
под плуг падала». Вот уж действительно: бита,
мята, клята, жжена, стреляна — жива!
«Иду,— говорит,— однажды уж после войны по Бы-
строму, поравнялась с конторой «Искра» — на крыль-
це стоит какой-то широченный дядя в галифе и
подзывает меня. «Узнаешь,— спрашивает,— Варя?»
Я, мол, да нет, не приходилось вроде нигде повст-
речаться. А это был заступник мой, сельсоветчик
тогдашний, с которым в детстве на одной печи спа-
ли. Пригласил он меня в кабинет и как долго и тя-
жело плакал, вспоминая те трудные годы». Сам
отец твой об этом никогда никому не рассказывал и
другим не велел, а если слышал намеки, резко прек-
ращал разговор... Это было давно. Жизнь перемени-
лась, постарел и он. И помягчел... Но вспоминать об
этом и сейчас не хочет.
Раскулачив огнем Щербатого, сдал Ларионыч
жеребца в коммуну. В комбеде стал председате-
лем. В тридцатые — председатель сельсовета, в со-
роковые — председатель райисполкома, командир
на фронте — шесть ранений, шесть медалей и ор-
ден Славы (через двадцать пять лет после войны),
в пятидесятые — председатель колхоза с нескончае-
мыми выговорами и грозными окриками за падеж
скота. А чего ему было не падать, этому скоту, когда
кормов не хватало до середины зимы, когда скотные
дворы продувались буранами беспрепятственно —
крыши были раскрыты и скормлены. А морозы под
минус полсотни добирались, и поросята мерзли,
едва освободившись от матки. И чего можно бы-
ло сделать, когда не наладили еще ни силосова-
ние, ни комбикормование, техники не было... страна
от войны заживала. А план на хлеб был вздернут
под горло, и заливные луга шли под ножи плугов,
а не сенокосилок.
Со стороны Володя слышал про неграмотность
и даже темноту отца. Говорили про это в основном
люди нерадивые, за что-либо обозленные на пред-
седателя, и за глаза в сторону пыхтели, но до отца
доходило это шипение и жалило его. Отец действи-
тельно никогда никому писем-записок не писал,
не посылал. Фамилию свою выводил с маленькой
буквы. Записные книжки, в которых помечал важные
дела свои, прятал в брезентовый мешочек непро-
мокаемый, где держал партбилет. Мешочек хоро-
нил в нагрудный карман гимнастерки от лишних
глаз, под пуговицу. Не показывал никому своей
писанины. А читал легко. Володе было жаль отца.
«Но зачем он стыдится того, чего бог не велел,
своей нешибкой грамотности? И чего ему еще на-
до, когда у него кони есть, когда он косить и
петь умеет, лучше незнамо как, когда он сроки
посевной и уборочной, глубину и время пахоты,
знаки на мороз и на солнце — одним словом, весь
крестьянский календарь в уме держит, как устав
нашей партии, гораздо крепче приезжего агроно-
ма, который институт кончил, а никак не может ус-
воить, почем сеют, почем жнут, почем лихо сбы-
вают».
И на беду Вовка с Ванькой — братом (Вовка бра-
та догнал, тот год не учился из-за легких) —
к жене этого агронома в класс попали, в четвер-
тый «Б». И что произошло Ванька сильную книжку
достал: «Генерал Доватор». И так увлекся, так уют-
но устроился на арифметике при свече под пар-
той с «Доватором», что забыл всякую предосторож-
ность и вообще, где он есть. Учительница грохну-
ла партой, задула свечку, отобрала «Доватора» и
выгнала к доске. Ванька не переключился с пере-
пугу на арифметику и, ко всеобщей радости, бойко
стал молотить про фрицев, кое-где «ура» вставляя.
Этими фрицами учительницу он в тупик загнал. Она
обомлела, побелела, подпрыгнула к Ваньке и с
визгом: «Какие фрицы, где «ура», гы думаешь, ты
сын председателя, так тебе все можно, да?!»—
схватила Ваньку за чуб и так притиснула его ко-
чанчик к доске, что элементарные правила ариф-
метики осыпались и исчезли с доски начисто. Вань-
ка не заплакал, конечно, только бровки свел и r/ja-
за зажмурил. Его можно было в три раза сильнее
притиснуть, черта с два из него слезу или покая-
ние вытеснишь.
А Вовка — тот нет, тот, глядя на одно притесне-
ние это, носом зашвыркал. А дальше было еще
хуже. Учительница шла между рядами, проверяя
арифметику, и вдруг вскрикнула, скрючилась и
метнулась из класса. Это Вовка, брат, взял свой
костыль, подождал, когда она подойдет, и ударил
им по ее молодым ногам, что было в нем духу.
Потом прибежал директор. .
Потом пришел отец ..
Потом Ванька долго не ходил в школу, зализы-
вал задницу на печи—ремень у отца широкий, офи-
церский, еще с войны, а рука председательская.
Меньшего не трогали, и так обижен, на костылях
ходит. Вовке было жаль брата. Тот, выходило,
двойное наказание получил за «Доватора» — от учи-
тельницы и от отца. А от отца-то за него, за Вов-
ку, получил — тот ведь учительницу ударил. Значит,
он и виноват! Но Вовка-то ведь за брата заступал-
ся1 За брата1 И Вовка стал высчитывать на бу-
мажке, почему Ванька лежит и кто же в самом де-
ле в этой истории виноватее всех. Начал с конца,
то есть с отцова ремня.
«Отец виноват, что бил. Но ему сделал внуше-
ние директор. Директор не виноват — ему нарыда-
ла учительница. Учительница не виновата — ее уда-
рил ученик. Но ученик не виноват, он мстил за
брата, а кровь за кровь даже судом учитывается.
Значит, виновата учительница все-таки, ведь притис-
нула брата головой к доске так, что правила ариф-
метики улетучились. Но она его за фрицев притис-
нула. Значит, виноват брат. Но он же с перепугу
про фрицев рассказал, не нарочно. И зачем она
отца помянула — «ты думаешь, ты сын председате-
ля, так тебе все можно?!». При чем тут отец?
А при том, оказывается, что этот отец-председатель
не терпел ее мужа-агронома, который институт кон-
чил, а в земле разбирался, как свинья в колбасных
обрезках. Хорошо — тихий был. Забьется со своим
мерином На дальнюю бригаду — с глаз председате-
ля долой, и отсиживается там, а для людей вро-
де тоже делом занят. Вот кто виноват—агроном!
Высшее образование ему, как высшее наказание.
Но где справедливость7 Агроном еще наберется
опыта и не будет прятаться от председателя, у не-
го есть еще время. У агронома время есть. А вре-
мя у председателя выдохнулось. У него три класса,
и никакой бич, никакой партбилет не заменяет ему
институтской «корочки». И выходит, виноватее всех
он, председатель, вернее, его неграмотность. Вот и
вся арифметика. Вся?! Нет, не вся! Он в ней виноват,
что ли?! В этой неграмотности. Да, может, он и в
революцию-то кинулся, чтоб с неграмотностью
своей и темнотой порвать. Где ему было институ-
ты кончать, когда шашкой махать надо было?»
Про все это так или иначе мучился и считал Во-
лодя тогда, когда брат лежал на печи. Просчиты-
вал и позже С возрастом приходили вычеты и по-
правки. И чем больше умом входил в согласие с
осуждающими иные действия председателя, тем
душа его больнее металась в поисках правых и не-
правых путей в защиту судьбы и оправдание по-
ступков отца. И отыскивала их.
...Грамота не грамота, хорошо, когда на своих
плечах своя голова. А как пришло время целину
поднимать? Понаехало люду разного, чуть ли не
всех национальностей, но никакого, как выяснилось,
отношения к земле не имеющего. И со всеми на-
до было разговаривать придумать как.
Конечно, всяко целина оборачивалась. Но, как в
малом бою отдельный солдат не может постигнуть,
да и не должен знать перспективы и масштабы
всей битвы, так и целина многим не доходила до
ума поначалу. «Чего,— казалось приезжим,— та-
щиться надо было в этакую неблизь, когда полез-
нее и проще было бы в своих, среднеполосных
землях разобраться, удобрениями их досыта на-
кормить, тракторов лишних понаделать и не разре-
шать черноземные земли отдавать под стройки,
а оставить под хлеб».
Местным же думалось: «Чего вдруг бросились
распахивать забытые земли и всякие неудобные,
корчевальные, уклонистые, какие только лошадками
раньше обрабатывались, а нынешняя техника зава-
ливается на них.. Казахстан — другое дело, есть
простор, пробуй...»
Поди объясни каждому, что страна не может
ждать, когда возникнут новые заводы по выделке
необходимого миллиардного количества удобрений,
способных поднять плодородие старых почв, а в
мире день и ночь куется и изобретается оружие.
Стране нужен хлеб сегодня, хлеб державный в мас-
штабе бопее чем двухсотмиллионного государства.
И только когда стихией небывалой обрушился ал-
тайский хНеб и дошли ошеломляющие вести и-»
наждачных степей Казахстана, всему миру откры-
лось, чТо народ подвигом, равным подвигу первых
пятилеток, вырвал свою страну от неминуемого
послевоенного оскудения и к тому же заложил
мощные резервные зерновые и промышленные
зоны на будущее.
Об этом говорил секретарь Шматов на школь-
ном митинге по случаю целинного урожая. Так ду-
мал колхозный председатель, раздавая от имени
правительства мальчишкам и девчонкам высокие
награды — блестящие медали, как всамделишным
героям, медали, очень похожие на те, что звенели
у отцов и старших братьев, когда они вертелись с
кровавых полей настоящей войны. Целина продик-
товала иные масштабы хозяйств. Иные пришли вре-
51
мена, иные потребовались и руководители. Старого
председателя проводили на пенсию, и теперь он,
свободный, спешил через поля России, политые и
его кровью и оттого выжившие, к младшему сво-
ему сыну с заботами, тоже важными.
— Граждане пассажиры, поезд № 95 Барнаул —
Москва прибывает в столицу нашей Родины, город-
герой Москву.
Пассажиры знали сами, куда едут, давно стояли
у окон и глазели по сторонам — не пропустить
чего.
Но когда объявили, что не ошиблись и действи-
тельно подкатили к Москве, внутри у всех екнуло,
заметалось, засуетилось даже.
Ларионыч стоял у окна, как проснулся,— все бо-
ялся проморгать Кремль, который глядел с карти-
ны, здоровенный и «должен быть, конечно, виден
с любого низкого места, как пожарная каланча, а
поезд все равно пойдет мимо... так что надо смот-
реть». Но Кремля все не было и не было. Церк-
вушки были по пути, но это же не Кремль...
«И вообще сказать, в центре Родины, на подступах,
вроде того, что к столице, и вдруг церкви!!» Он
вспомнил, сколько этих церквей посшибали они на
своем Алтае с Сенькой Рваным, сколько этого
опиума народного, проклятого выплеснули в небо
дымом... устанавливая новую веру... в новую жизнь.
«Да, не было Сеньки тут, не было! Он бы поиграл
этими маковками в лапту...» Пока он забылся Сень-
кой, поезд остановился у красного здания, смахи-
вающего чем-то на Кремль с картинки, с потешны-
ми часами наверху. Ларионыч усмехнулся по-доб-
рому, вспомнив, как сын принял вокзальную калан-
чу за кремлевскую башню, однако на всякий слу-
чай поинтересовался:
— Это что же, Кремль нешто?
— Нет, дядя, это вокзал.
— А... да... ну да... он же на Красной площади...
интересно. А почему же нас туда не подкатили?
— Возьми мотор, подкатят...
— А, да, да... а без мотора нешто' не подкатят?!
— Слушай, дядя, не мучай, я тебе не справоч-
ное.
Ларионыч понял, что им недовольны в столице,
но не обиделся, смекнул, что задал одному слиш-
ком много вопросов. Зачем наваливаться на одно-
го? Вопросов в конце концов оставалось не так
много, а людей кругом не протолкнешься, и он
решил не раздражать народ лишний раз и спра-
шивать каждого только единожды. А если что муд-
реное, погодя немножко можно спросить о том
же у другого. Метод оказался верным, первый же
ответчик послал его к милиционеру. «И правильно...
Милиционеру можно задать два вопроса. На то он
и милиционер, чтобы выводить из заблуждений».
— Разрешите обратиться... (ишь ты, честь отдал,
вот это воспитание, прижали, должно быть, опять,
а то совсем распустили народ)... Я говорю, у меня
сынок...
— Я вам не сынок, а товарищ старшина, что же
у нас получится, если каждый будет меня по-сво-
ему... чего тебе, папаша?
— Я говорю, сынок...
— Еще раз и последний, я вам не...
— Товарищ старшина, растолкуйте мне, где это
такое находится, вот адрес... Сынок... Да послушай
ты, милый, сынок у меня на артиста учится по
этому адресу!!!
— Ну вот теперь понятно, так бы и говорил, а
52
то — «сынок» да еще «милый»... садись в метро и
до Арбата...
— До чего?
— До Арбата.
— А что это такое? Не магазин, нет?
— Не могу знать. Арбат, он и есть... Арбат. Ос-
тановка Арбат, улица Арбат, все Арбат. Старое
название, непонятное, скоро сменим. Вон ви-
дишь букву «М» над домом? Вот в нее входи и
валяй...
«Валяй-то валяй, но проверить тебя тоже надо».
Он подошел к другому милиционеру, помучил то-
го, показания первого сошлись, и он со спокойной
душой вошел в букву «М»,
А в букве «М» народу тьма-тьмущая. Одни бе-
гут туда, другие обратно, все толкаются, спешат
куда-то, и никому ни до кого дела никакого.
У лестницы, что сама туда-сюда ползает, особенно
много народу. Просто гора людей, сверху жутко
смотреть, как чудище какое-то шевелится. «Это где
же они все живут? Это сколько же жилплощади
государство им обязано найти, и почему они все
здесь, в столице, ошиваются? Неужели бюджет
предусматривает такой расход? А сколько еды
одной сюда требуется»,— думал Ларионыч, шагая
к сыну.
Он шагал проверить, не надул ли его сын, дей-
ствительно ли учится в институте или брешет, поди.
А может, в чем разуверился сын, так подлить ему
масла и вернуть к земле... И еще одна тоска гна-
ла его и грела сильнее, чем остальные, но он пря-
тал ее за пазухой до поры.
Дорога дальняя, почетная. Отправляясь в нее,
Ларионыч надел лучшее, что имел: собачью доху,
баранью шапку, кирзовые сапоги тщательно смазал
дегтем... И теперь в метро, в толчее обмундирова-
ние грело лишне. Душновато оказалось под землей.
Люди таращат на него глаза, водят носами — пахнет
непривычно. Девки понахальнее оглядываются, не
краснеют. Бабы постарше вертят башками, дрожат
за кошельки, а сами будто за культуру митингуют:
«Не напирай, бесстыжий! Не жми, хулиган». «Ох,
народ, народ, везде он одинаковый!»
Вспотел Ларионыч не однажды в своей дохе со-
бачьей, пока добрался до непонятного Арбата. Еще
одного милиционера проэкзаменовал. Совсем ря-
дом оказался институт. Дошел, нашел. Прочитал вы-
веску. Действительно, название вывески совпа-
дает с названием на конверте. Значит, все-
таки институт, а не какой-нибудь там техникум или
училище. Институт — это высшая школа. Это хо-
рошо.
Зашел внутрь, объяснился с вахтером, дескать,
сын пишет, что учится здесь, не знаете ли такого,
и можно ли с ним повидаться. Вахтер сочинил ум-
ное лицо и стал припоминать. Всех студентов он
считал за хулиганье, память его хранила только
имена нарушителей, а таковой в нарушителях не
числился, так что, «может, и не учится он вовсе у
нас, но все-таки справьтесь в учебной части: мало
ли что бывает в жизни»,— заключил он. Ларионыч
помрачнел, помянул нехорошо бога, но в учебную
часть пошел. В учебной части ему сообщили, что
все-таки такой студент есть и, к общей радости,
способный, дисциплинированный парень. Ларионыч
почесал глаза. Ему написали адрес общежития, на-
чертили подробно путь следования на бумажке (по
приезде домой, в деревню, он спрячет этот план
за портрет, под стекло) и даже дали студента, что-
бы проводил до места, до самой той комнаты
№ 95, что Володька писал, где он жил со Стасом
Пеньковым и Лином Варфоломеевым.
за столом
ЖМИ... ЖМЭ... ЖМА...» — гудело в ко-
ридоре общежития, как в сточной
трубе. Студент Чиркин руки в брюки,
фертом и грудью вперед, будто нес ордена, работал
над своими шипящими. Он собирался играть в Ма-
лом Отелло, но однажды случайно был выгнан за
профнепригодность. Бывает так. Албанец Мисто у
всех проходящих выспрашивал томат для своих мака-
рон. Он не представлял, как можно макароны упо-
треблять без томата.
— Чиркин, у тебя томат есть? Нет? А в магазине
есть, не знаешь?
— В нашем магазине есть все! А дальше — не
знаю,— с нажимом на свистящие и шипящие от-
ветил будущий Отелло.— «ЖМУ... ЖМО... ЖМИ...»
Кстати, Мисто, у тебя дусту нет, рубашку пости-
рать?
— Что это — дуст?
— Стиральный порошок.
— Нет, я покупаю «Новость».
— Это что, газета?
— Стиральный порошок... тоже...
— Дашь?
— Дам.
Коридор оживал. Студенты возвращались с за-
нятий, и общежитие начинало жить своею, никем
не досмотренной жизнью.
«Артист должен быть худым и нищим»,— писал в
письмах сын в ответ на посылки с салом. Таким
его Ларионыч и обнаружил:
— Худым—твое тело, твоя забота, но почему
нищим? Против нищеты отец революцию делал.
— Нищета спасает душу художника — скрипку
его. Сказано точно: что отдал — богаче стал; что
сберег — то потерял,— пояснил друг Лина, артист
знаменитого театра Владислав Романовский, кото-
рый любил бывать в общежитии и предрекать мо-
лодым их будущее на театре.— Художники,— про-
должал он,— часто очень одаренные, быстро ста-
новятся «рублевщиками». Не от Рублева, что вы
на стенках в репродукциях видите, а от рубля.
Вот они и стараются подольше задержаться в детст-
ве. Не схоронить ребенка в себе раньше времени, а
сохранить... Отсюда и наивное стремление к ни-
щете, к ограничению желаний плоти и прочим хи-
мерам. Затем бросаются в невиданную разнуздан-
ность, цинизм, каются после и в том обретают ис-
комое — страдание. Но это у них пройдет... как
зашелестит в кармане серебро... время лечит, это
сказано точно.
Говорил Романовский в нос и с растяжкой, как
будто не слова произносил, а козырные карты клал
пухлой рукой. Находился он в том возрасте, ближе
к среднему, когда люди его склада стараются ни
с кем не спорить, берегут собственные нервы, мне-
ний своих не навязывают и чужие пропускают ми-
мо. Он ждал звания.
— Быть может, вы еще кресты нацепите и рясы
напялите,— в ответ на проповедь Романовского ус-
мехнулся Ларионыч,— что за муть вы, ребята, льете
про нищету и души? Уж не завербовали ли вас в
секту какую... На парады ходишь? — спросил он
сына.
— Хожу...
— Ходи обязательно. Правительство знать надо.
В Мавзолее был?
— Был.
— Еще раз сходи. Замечательной души и скром-
ности человек был. Никакими благами не пользо-
вался, значица, все отдавал в пользу сирот, мор-
ковный чай пил...
— Сейчас не пьют морковный чай,— съязвил Лин.
— Необходимости, по-видимому, нет такой...
Смотрите, какие условия вам создали, какой храм,
понимаешь, под общежитие предоставили... Вот
это... да...
— Я это общежитие своими, вот этими руками
творил. Каждый из студентов отрабатывал на строи-
тельстве свою барщину. Может, поэтому и строили
долго, семь лет, несколько поколений старались.
Ему повезло,— Лин кивнул на Володьку,— на го-
товое пришел.
— Ну что же, это закономерно,— рассудил дале-
кий гость,— каждое поколение уготавливает после-
дующему лучшую жизнь, значица, это закономерно.
Колька влетел как ошпаренный:
— Не опоздал? Разрешите представиться: режис-
сер телевидения Николай Степанович Конюшев.
Очень рад познакомиться с представителем нату-
рального, так сказать, крестьянства, с человеком
алтайским, можно сказать, очень рад, очень рад.
Есть о чем поговорить. Ну что, прыгнем за стол,
тем более, что он круглый?
Албанец все еще не находил томат для своих
макарон. Из коридора доносились его печальные
надежды:
— Орест, у тебя томат есть? Нет? А у кого есть,
не знаешь? Пиро, у тебя томат есть? — Никто не от-
вечал ему согласием.
Володя старался не суетиться. Расставлял та-
релки, банки, изо всех сил пыжился сойти за са-
мостоятельного человека. Но разве это выйдет сра-
зу, даже если и способности есть какие? Опять,
как в Быстром Истоке, все сыпалось из рук, гре-
мело, звенело, брякало... И он в результате оказал-
ся в стороне и от стола и от разговора, который
вели товарищи с его отцом. Он видел, что друзья
подзуживают отца, вроде невинно, но с умыслом
и обидным прицелом, а ничего поделать не мог.
«Видать, прав отец — бабий характер». Он махал
виновато своими длинными ресницами, две щеки
горели маками—не парень, а девка. Мать так и
смеялась: «Девчонкой хотел родиться, да в послед-
нюю минутку передумал, наскреб на лишний паль-
чик и на тебе — парнишкой явился».
— Скажите,— продолжал свои подковырки Стас,—
отчего деготь такой резкий и что вообще за фрукт?
Ларионыч, не подозревая яда, степенно растол-
ковывал:
и— Деготь — это такая смола, выгоняют его, вы-
куривают, как бы сказать, из бересты. Продукт наи-
важнейший и колеса смазывать и внутрь принимать
можно. Без дегтю, как без соли, мужику существо-
вать было нельзя.
— А вы не привезли с собой попробовать?
— Только на сапогах.
— Ну в таком случае,— Стас принял гусарскую,
опереточную позу,— от комнаты № 95 позвольте
вам выразить нашу признательность за то, что вы
воспитали такого сына. Сын крестьянина, а не кула-
чок, не скупердяй... всеми продуктами, что вы его
усердно снабжаете, он делится с нами безотказно.
Я донор. Понимаете, что это такое? Я кровь свою
отдаю людям и вашим салом восстанавливаю!
— А ты, значица, Стасик, сало любишь... ну-ка,
подойди поближе, сядь рядышком, не боись... я те-
бя научу, как воспитать хорошую свинью...
— А мне зачем их воспитывать?
ь— Не торопись, не отказывайся раньше времени,
вдруг тебя не пустят представлять, в свинопасы пой-
дешь... крестьянское ремесло никому не лишнее,
учти... Значица, так.,, нарубаешь ведро травы, добав-
53
ляешь стакан соли, да стакан толченых углей, да
стакан глины, все это мешаешь и дашь ей.,.
— И жрет?
— И ты сожрешь, если я намешаю.
Застолица разразилась смехом. Друзья поняли,
что дядя не так прост и Стас проиграл подначку, но
он не сдавался.
— А стекла битого, а... для вкуса... а?
— Стекла не надо. Стекло надо давать курям,
обязательно, да... А вот гуси, значица, утки—те и
железо употребляют. Разбери мотоцикл у них на
глазах, в момент от него ничего не останется, все
поглотают, все болты, все гайки... У нас сосед из-за
них, дьяволов, чуть бабу свою не убил. Помнишь,
сынок7
Володя кивнул. Хотя ничего подобного он не по-
мнил и вообще изумлялся отцовской нынешней
разговорчивости, балагурству его.
— Разобрал лисапед, глядит — ни колпачков, ни
гаек. Он на жену... чуть не убил. А осенью стал
бошки гусям хватать, глядит — там, у них в нутрях...
Лисапед сожрали, черти... А вы, ребята, чего кар-
тинки религиозные на стенки навешали? Вы смотри-
те, мне тут Володьку в какую-нибудь веру не об-
ратите.
— Он сам обратится, никто ему помогать не бу-
дет.— Романовский с грустью посмотрел на приле-
пившегося с края стола Володьку.— Без веры жить
нельзя. Толстой говорил, что вера есть сила жизни.
Если человек живет, он во что-нибудь да верит. Ес-
ли б он не верил, что для чего-нибудь надо жить,
то он бы не жил. Это сказано точно...
Романовский страсть как любил показать свою
ученость, прикинуться этаким «предводителем дво-
рянства», завесить как бы невзначай над всем со-
бранием ни к селу ни к городу иной раз притчу
Соломонову, ввергнув тем самым на некоторое вре-
мя всех в недоумение.
— А вы, ребята, не думайте, правильно, значица,
Лев Николаевич понимал, вера — сила жизни, это
так. Вот и вы верьте, что для добра живете, для бу-
дущих поколений, для будущего коммунизма; да вы
ешьте, ребята, ешьте, салом закусывайте, а то опья-
неете.
Произнесли несколько обязательных тостов, про-
возгласили здоровье отцов и детей... В комнате дым
коромыслом и густой, терпкий, как патока, сложный
дух от присутствия мужика. Парни переглядывались.
Похоже, им нравилось, что вот так, запросто сидят
с мужиком, ведут разговор, и ничего, вяжется...
— Вот вам и ответ на вопрос, почему ваш сын не
остался, как вы изволили выразиться, воспитывать
свиней. Да потому, наверное, что ушел на поиск
своей веры,— подтягивал подпругу беседы артист
знаменитого театра,’— и пусть это будет вера в ис-
кусство, что плохого, была бы вера... Из-за нее он
и отца с матерью забудет и, их Гневом и слезами
мучаясь, обретать в том страдание будет, а в стра-
дании силу художественную находить... Ради красно-
го словца — не пожалеешь и... это сказано точно...
— Не за верой он ушел от папки,— отрезал Ла-
рионыч. Он вообще не любил этого слова и не по-
нял, куда гнул Романовский.— Он легкой жизни
захотел, белоручкой стать решил, крестьянского ре-
месла погнушался. Сын крестьянина — косить не
умеет, срам какой, грабли из рук выпадают, а лож-
ка держится. А представлять косаря надо будет?
— Научусь...
Да нет, поздно может оказаться. Вот и, видно,
станет и не крестьянин и не артист. Да разве он
один убежал в город? Ладно, с него еще спросится
за это не один раз!
Мысль эта кольнула сына. «Не крестьянин и не
артист». Кто-то говорил ему подобное. Да не он ли
сам? Конечно, он, когда на занятиях ревел от собст-
венного бессилия. Неужели отец приехал для того,
чтобы навеки укрепить в нем это сомнение, перере-
зать сухожилие его и без того нестойкой веры?
И почему — убежал? Ведь он сам отпустил...
— «ЖМИ... ЖМО... ЖМЫ...»—Дверь отворилась,
всунулась голова Чиркина—Лин, в вдшем чайнике
Менахин рубаху варит.
— Зачем? — не сразу понял Лин.
— Говорит, чтоб чище была. Слышишь?
Из кухни доносились рулады лирического тенора:
«О соло миа... а... а... а».
— Да он что, идиот?! — взревел Варфоломеев.
— Нет, он просто учится на оперетте... ЖМИ...
ЖМО...— И пошел.
— Стас! Ты куда смотришь, донор!
Стас выскочил, рулады прекратились. В комнате
№ 95 продолжался разговор. Колька речь держал.
— Понимаете, Степан Илларионович... это пробле-
ма давняя: город — деревня... деревня — город. Ваш
сын учиться ушел. С его профессией... в деревне...
сами понимаете... А вот мы с телевидением в под-
московном колхозе были. Заработок хороший, клуб
замечательный, а молодежь уходит в город. «В чем
дело?» — у девчушки, у завклубом, спрашиваем, ме-
стная, знать должна. Не задумываясь, отвечает:
«Любовь! Ребята,— говорит,— неохотно гуляют со
своими, да и девчонки предпочитают городских.
Девчонки идут на фабрику, там работа не легче, но
смену отстояла и гуляй себе. И замуж выйти прощз.
Девчонки боятся просидеть молодость, в городе
мальчиков больше, проще с любовью. А здесь по-
пробуй, вот осень подойдет—картошку убирать,
спина отстанет с семи до семи, а дома хозяйство,
а руки во что превращаются.. »
— Постой, постой,— перебил его Ларионыч,— это
все девчушка говорит или ты так мыслишь?
— Она, она... «Ребята,— говорит,’— чуть рассвело,
он трактор завел и уехал, и дотемна... придет, умоет-
ся и спать... отдохнуть хоть немножко, а вырвется
погулять, от него мазутом, и девчонки на этот мазут,
как на мед, потому что он один, он и копается: та
не хороша, эта не та...». «Ладно,— говорим,— лю-
бовь — причина веская, но девчонки, допустим, бе-
гут за нею в город, а ребята? Ребятам любви везде
хватает, а все-таки в первую очередь они бегут. По-
чему? Отслужил армию и не возвращается, а если
вернется, попьянствует, похулиганит и смоется в го-
род. Почему?» Молчит. Ну, скажите, ответьте мне,
крестьянин, почему от вас народ бежит?
— А почему это я тебе должен отвечать? Чего ты
меня допрашиваешь, понимаешь? Молод еще!
— Слушай, ты, землекоп,— крикнул на Кольку
Стас,— кончай свой колхозный базар!..
— А... а... не знаете, а мне кажется, я догады-
ваюсь!!
— Ну, конечно, вы о земле понимаете больше,
чем те, кто работает на ней!!!
— Бесхозяйственность! — почти кричал «земле-
коп» с телевидения, который взнуздал своего люби-
мого конька — ставить перед партнером на попа
неожиданнейший вопрос и самому из него выкручи-
ваться винтом.— Не хлебом жив человек единым! —
Колька почти бегал по комнате, выбрызгивая слова,
будто стакан купоросу хватил.— Что посеешь, то и
пожнешь — это конкретное дело для мужика было.
А сейчас7 Чего он сеет, чего жнет, какое ему дело?
Он свои двести рэ получил — и гуляй не хочу, в мага-
зине купит и ругается, если не оказывается. А зем-
ля, как баба, ей одного, но своего, хорошего надо,
тогда и плод будет!
54
— А хлеб на столе — это чей же плод? Вы тут чей
хлеб едите, чье сало трескаете? Кто же, по-вашему,
на этой земле сейчас хозянует?
— Я... вы... он... они а в результате никто. И это
не мои слова, хотя я за них на двести процентов,
это слова колхозного бригадира, когда мы ездили
с телевидением в тот самый подмосковный колхоз...
— То-то и оно, что не твои! Не я этому бригадиру
председатель, шельмец какой! Он вас, буряков, за
возврат к частной собственности агитировал, надеял-
ся, что вы по глупости на всю страну об этом ляпне-
те... провокатор какой, ай... ай... яй.— Ларионыч
рассердился. Атмосфера в комнате стала нагре-
ваться.
— Нет, подождите,— заинтересовался спором
Лин,— зачем так обострять: «провокатор», «агитиро-
вал»... «частная собственность» . Подождите! . Но вы
что, на самом деле до сих пор считаете, что колхо-
зы сразу стали лучшей формой землеустройства...
и ничего лучшего нельзя было или..
’— Да, считаю...
— И надо было так сразу... одним махом — поби-
вахом... без нюансов... без подготовки7..
— Да, сразу надо было решать этот вопрос. Сразу
и круто,— Ларионыч поставил кулаки на стол и рас-
прямился,— иначе нас бы задушил частный элемент.
В каком окружении страна находилась? А сколько
внутри ножей точилось в спину? Вы знаете об этом7
Володя вспомнил рассказ тетки Елены, как отец
за девчонку раскулаченную вступился Он знал, что
для отца это великая тайна. Он молчал о ней всю
жизнь. Но прошло столько времени, может, теперь
уже можно вспомнить об этом. Ему хотелось по-
гордиться отцом, и он не выдержал: «Будь что бу-
дет, не век же молчать, раз на то пошло-поехало».
— Отец, расскажи, как ты Варю Снегиреву спас,
которая уполномоченную кипятком обварила... Та шу-
бу отбирала, что ли, у матери... ее?
— Ты про это где слышал?..
— Тетка Елена рассказывала...
1— Собираешь все сплетни, понимаешь... К чему
тебе это, наговоры про отца всякие слушать... Упол-
номоченная перегнула, конечно, было это...
— Расскажите... расскажите... эту историю,— за-
галдели за столом.
— Никакой истории не было... придумано больше.
Хватит! — оборвал Ларионыч.
— Но ведь сами говорите, перегибы были «и ка-
кие, недаром помнит вся Россия»,— наседали мо-
лодые.
— А вы как хотели... на боярышник забраться и
задницу не ободрать? Так не бывает, не верите1—
полезайте, попробуйте. Во всяком большом деле
недоучет случается. Но не для того столько крови
пролито, чтобы вернуть первоначальную жизнь...
— Вот это поворот! — Стас аж взвизгнул от во-
сторга.— Да кто говорит «вернуть»? Зачем вы слова
передергиваете? Мы тоже думаем, как сделать луч-
ше, что’ сочинить, какие книжки прочитать для того.
Ведь и наши дети на этой земле бегать станут.
И нам отвечать придется... даже наверное при-
дется.
— И перегибы были, правильно, чего скрывать...
Мне самому иногда, понимаешь, лодырей бичом
приходилось из-под брички доставать. Это была моя
агитация и тут же пропаганда. А как вы думали, че-
ловек не ангел, и об этом вопросе партия до конца
и честно народу сказала...
Впившись глазами в ч0и-то глаза, тоном, заранее
отрицавшим всяческие возражения, тащил Ларионыч
свою мысль, никого не слушая, не обращая внимания
на самые колючие, задиристые слова. К такому при-
ему он прибегал всегда, когда возникала необходи-
мость во что бы то ни стало люто развернуть народ
в свою сторону. И часто удавался ему такой маневр.
’— А сколько врагов-провокаторов было, нестой
того бригадира, что вас с толку сбивал... Но войну
мы выиграли, вы забыли?! А кто фронт кормил и
тылы обеспечивал?.. А? Я вас спрашиваю, кто? Кол-
хозы наши через такие испытания прошли и выпол-
нили задачу по поддержанию населения, а не част-
ные элементы...
— Да, бабы на коровах пахали,— доступную ин-
формацию подбросил Колька.
— Да, бабы на коровах... для победы, для того,
чтобы ты тут сейчас сидел и со мной про эти вещи
рассуждал, телка впряжешь, понимаешь, и поска-
чешь, а как вы думаете7..
— Так мы и в восемьсот двенадцатом Наполеона
прогнали, а тогда и вовсе царь трусливый правил...
Ларионыч опешил:
— Вы что, ребята, взбесились, при чем тут царь?!
Народ победил...
— Ив сорок первом все тот же многострадаль-
ный, но непобедимый, великий русский народ и
отец мой, погибший за четыре года до войны в шах-
те,— впилил сирота Лин, и атмосфера в комнатэ
достигла предела перегрева.
Ларионыч долго молчал. Молчали все. Потом Ла-
рионыч растерянно произнес:
<— Я и говорю, народ...
— И мы говорим — народ, а не отдельные граж-
дане: цари, фельдмаршалы, герои и прочие частные
элементы! — Окончательный клин вбил Лин, как
будто ждал сигнала для этой своей каденции, и весь
разговор должна была заключить она.
Ларионыч был поражен. Эти люди оказывались
в сговоре. Они дружно ковыряли его старые раны,
как маленькие дети, не ведая, что творят, прутиками
через решетку дразнят больного зверя. Он раздра-
жался, потом отходил, снова закусывал удила, снова
отходил, мучительно, горько, с каким-то стоном
душевным и с состраданием к напротив сидящим,
пытаясь наставить на путь истины неразумных.
— Ох, дак я смотрю, ребята, вы, однако, газет не
читаете! Вас зачем грамоте-то учат? Чтобы вы раз-
бирались в жизни, а вы такое непонимание основ-
ных событий показываете. Да вы знаете, кому ваша
вольница на руку?
И газеты читаем, и радио слушаем, и на пара-
ды ходим,— сказал Володя Сказал больше для ушей
Стаса, но отец уловил, аж зубами скрипнул от зло-
сти, высек взглядом, и весь гнев спустился на сына.
— На парады .. Язык-то распустил, а ума не на-
брался! Ты мне скажи, анархист Бакунин, ты зачем
от папки ушел?! Эти разговоры поддерживать?! Кто
тебя на плечах по больницам таскал?.. Кой черт тебя
из дома смыгнул? Ты комсомольцем из села ушел,
руководителем молодежи! И за полгода ревизиони-
стом стал?! Ты чей сын, ты помнишь?! Крестьянина-
коммуниста, понимаешь, или цыгана-ворожея, что
в бане ночевал? Дед землю пахал, отец на земле
Советскую власть установил, а для кого старались?
Для кого! Коль ты первый к этой земле любви не
имеешь... Нет, я тебя спрашиваю, ты зачем это сде-
лал?!
Ларионыч сидел багровый. Кровь кинулась к лицу.
Он не ожидал^ что вопрос, который казался давно
решенным и никакой неясности уже не представлял,
возникнет снова, как прорва на дороге. Это был
вопрос нужности его жизни, нужности пролитой
крови своей и чужой.
Надвигалась гроза, и надо бц1ло что-то делать. Во-
лодя знал: коль скоро отец начинает только спра-
шивать и нс ждать ответа, это к беде, к большому
шуму, и он моргал друзьям, толкал незаметно, да-
55
вил ноги под столом, дескать, не дразните... отвле-
ките на другое... Да они и сами поняли, испугались,
что перегнули в своей лиховатости, и это уже не тот
мужик, что им про воспитание свиней заливал. Та-
кие глаза, как у этого дяди, они в кино у хороших
артистов видали, когда те о классовой борьбе во-
прос на ячейке ставили... Они впервые наяву почуя-
ли огромный человеческий гнев, что зовется святым,
который не затуши — раздуй, кровавой рекой за-
бурлит.
«Ах, какая запредельная нескладеха вышла! Ну,
помолчи, кто умней, и останься при своих, зачем
гражданскую войну за столом затевать,— мучился
Володька. Ему давно хотелось заступиться за от-
ца, но с какого конца подступиться? И вот на тебе *—<
защитил «парадами».— И есть ли в этом споре,
в этом дыму какой-то правый смысл? И кто прав
и могут ли здесь неправые находиться? Тогда где
они? Просто уступить надо... завтра уедет... зачем
56
злить... и с каким сердцем уедет... Знают ли они, что
он с фронта без всяких гостинцев, без всяких тро-
феев пришел, с одними ранами и пустым чемода-
ном, где только кинжал брякал... Да прожженная
шинель на плечах болталась, которую он берег, как
золотую, и ругался на мать, когда она с видного
места в темный угол ее перевешивала, где бросо-
вые вещи хранились и часа ждали. Могут ли понять
0Н1И, что он потому и дома часто не ночевал — по
колхозному хозяйству своему мотался и в бураны
несусветные дохой своей собачьей свиноматок на-
крывал, чтобы падеж сократить, так стирался авто-
ритет колхозный поднять».
— Быть или не быть? — решал в коридоре свой
бесконечный вопрос высокий, стройный узбек Ибра-
гим, скрестив руки на груди и посылая свой вопрос
кому-то еще выше него, и, видно, не находил отве-
та — ему мешали дерущиеся тут же на шпагах и де-
ревянных ножах трое парней, которым предстояло
решить тот же вопрос завтра перед комиссией по
сценическому движению. Свистели шпаги, падали
деревянные ножи, и комендант смирился: «Пусть
спорят, раз надо».
— Ибрагим,— прервал мысли узбека албанец Ми-
сто,4— у тебя томат есть?
— У меня томат есть, дорогой,— сказал узбек
так, что вздрогнули веки простодушного албанца.
— Дашь?
— Какой может быть разговор: дать или не дать,
всегда лучше дать.
А в комнате № 95 дело, кажется, шло к при-
мирению. Романовский, в который раз за этот ве-
чер рассматривая рублевскую троицу, то прибли-
жая ее к свету, то отдаляя от него, как бы даже
осеняя ею всех, менторски опускал слова на головы
ближних...
— Не сердитесь на них. Это пройдет. Для вас это
глубоко... серьезно, ранимо. Жизнь в защите этих
идей прошла ваша... Для многих из них это пока
еще баловство больше! Показуха! Начитались газет-
ной болтовни типа: нужна или не нужна современ-
ному крестьянину русская печь... Вот и куражатся.
Хоть мало кто из них спал на этой печи. Но не сдер-
живайте их, будьте великодушны... Не натягивайте
на них узду раньше времени, они порвут ее. Вы по-
могите им. Их бесстрашие надо поощрять. Может
быть, кто-то излишнее злорадство проявил — учтем,
он и сам, наверное, понял. А сын ваш, что же... вы
хотите вернуть его к земле, назад, в деревню... Нет,
это невозможно!.. И потом, вы для него и корову
продали. А оттого, что он будет жить в городе, он
не станет меньше любить свою землю, нет. Может
быть, больше. У вашего сына способности к сцене.
Колька, как всегда, напишет гениальный роман...
— Напишу, Владислав, не волнуйся, честью своей
клянусь.
1— Вот видите. Напишет, раз пообещал, а сын ваш
57
сыграет еще лучше, чем напишет Колька, и просла-
вит село ваше, откуда уехал на корове, вы еще гор-
диться им будете!..
— Ай... яй... яй... Ребята, ребята... Шолоховы вы
мои... Маяковские... Что же из вас дальше-то вылу-
щится,—сокрушался Ларионыч,— когда вы сейчас
такую развязность, такую нескромность проявляе-
те? Стыд какой!..
— Скромность, ах эта скромность... По Далю:
скромный — это кроткий, невзыскательный за себя
и т. д.,— начал медленно, как бы разматывая сокро-
венную тайну, донор Стас.— А я хочу быть взыска-
тельным и за себя и к себе. Всю жизнь мне рот
затыкали этим словом. Только в наш век оно такое
дикое распространение получило. Скромность лишь
у девиц должна присутствовать, когда «маман-па-
пан» были. Как-то в школе нам задали сочинение на
тему «Слово о полку Игореве». Это «Слово» — мое
евангелие от литературы... Я накатал на двенадцати
листах, как умел изложил пусть корявые и наивные,
но свои, впервые собственные мысли и получил...
кол... Много ошибок сделал. Мне показалась эта
оценка моего труда неправильной. Если бы я сде-
лал, как всегда: переписал чужое и кратко, я бы
получил «уд» в худшем случае. Заявил протест учи-
тельнице, дескать, трудился, в некотором смысле
здоровье потерял — от переписки мозоль на сред-
нем персте. Хотите, говорю, на спор? На доске на
любую пройденную тему сочинение простыми рас-
пространенными накатаю и ошибок не сделаю. На
что учительница сказала: «Тебе, Пеньков, скромнее
надо быть». В общем, в ответ на кол и этот упрек
я написал трактат «О скромности и преподавании
литературы в шкоре», Основная мысль: в школе ме-
ня учат не литературе, а скромности. Эпиграфом
слова Данте влепил: «Нежась на мягкой пе-
рине, славы себе никогда не добу-
д е ш ь». Прочитал в классе, хотел, в журнал ото-
слать, но меня опередил директор: «Если, говорит,
ты будешь писать пасквиль на нашу школу, атте-
стата тебе не видать, как собственных оттопыренных
ушей». Ладно, думаю, затихну, скромным стану до
окончания школы.
— Стас,— окоротил его хозяйским жестом Лин,—
подай мне кусочек сала и не заводи эту бодягу.
Сходи лучше за чайником!
Стас повиновался.
— А у нас в театре в нескромности и, более того,
в наглости обвинили одного пожилого артиста, ко-
торый, как пенсия подошла, стал требовать звания
заслуженного,— продолжал трактат Стаса о скром-
ности Романовский.— Директор с ним по-товарище-
ски беседовал, на месткоме уговаривали, просили
освободить место для молодых, помочь театру...
Нет, уперся—давайте звание, уйду... Вынудил —
дали... И никому, конечно, в голову не пришло, что
артист этот думал, будто звание обеспечит ему два
метра земли на могилу и памятник со всеми упоми-
наниями... Чтоб к памятнику приходил кто-нибудь,
песочком дорожку посыпал, цветы приносил, на
скамеечке сидел. Пусть хоть что-нибудь от него да
останется!..
— Да зачем она Вам, слава эта, ребята?.. Вот она,
однако, ваша вера... Вы работайте, работайте над
собой. Зачем кричать, всякую глупость на себя на-
говаривать раньше времени? Хотел бы я на вас,
ребята, лет эдак через двадцать взглянуть, какого
Лазаря вы петь станете. Собьет жизнь спесь вашу,
помяните мое слово. Хорошие люди всегда скром-
ностью отличались.
Ларионыч полез в мешок, достал что-то заверну-
тое в белую тряпку:
58
— Нате вот, ешьте, мать послала.
Это оказались лепешки из черной смородины.
Парни быстро сообразили, в чем смак, распаривали
лепешки в кипятке, жевали, жмурились от удоволь-
ствия. И смородишный дух погнал по всем щелям
табачные коромысла и осадное настроение.
«Смородина росла по забокам, островам, при-
брежным зарослям... Пропасть сколько смородины у
нас на Алтае,— глядя на лепешки, вспоминал про се-
бя Володя.— Бабы брали ее нещадно и все-таки не
выбирали всю, и она доставалась осенним птицам
и ветрам, а которая и осыпалась, обиженная, что ее
не выбрали. На смородину бабы, а иногда и мужики
устраивали целые облавы. Как сортовой крыжовник,
крупная смородина, разве сравнить с культурной,
сладкая, как изюм, и душистая, не сравнить ни
с чем! Можно себе представить, какой дух славный
от нее, если мужики предпочитали заваривать чай
смородишным листом, а не китайской стружкой.
И в солонину — капусту, огурцы, помидоры, арбу-
зы — обязательно для вкуса клали смородишник. На
зиму, само собой, варили варенья и стряпали вот
такие смородишные лепешки: мяли ягоду с саха-
ром, намазывали листы подсолнуха или капусты
и засушивали на солнце или в русской печи. Зимой,
в сорокаградусный мороз, как распарят бабы эти
лепешки на пироги! И в каждой избе летом пахнет,
как сейчас в этой комнате...»
Грустные мысли текли к Володе и уплывали по
щелям общежития с дымом, словно сто лет прошло
с той поры, как кинул он смородишные забоки, и
уж не вернуться к ним никогда...
Боевой дух остыл. Смородина сморила и прими-
рила всех. Один Ларионыч журчал и журчал, при-
хлебывая чай из огромной походной кружки, будто
хотел выговорить все, что подошло, подперло под
самое горло, будто чувствовал, что другого такого
разговора уж не будет в их жизни, не будет никогда.
— Я не сужу, конечно, городскую систему, кто
живет в городе, пусть живет, но если у человека
корень в земле, не стоит его извлекать оттуда. Тос-
ка его съест. Но еще заметили люди, значица, что
не многие отбывшие в города приживаются на но-
вом месте. Поначалу вроде и хвалятся жизнью но-
вой своей, а потом, глядишь, вертаются обратно. Но
пока блукали в поисках хорошей жизни, подрастеря-
ли чего-то и, хоть вернулись обратно, а не прижива-
ются долго и как чужие все равно. И там не стали
жить и на эту жизнь, старую, смотрят как бы свысо-
ка, как будто секрет знают какой. А чего же верте-
лись тогда, и жили бы себе там, куда уехали.
Родина!.. Не только умирать человек возвращается
к ней, но и жить, жить!.. Так и надо жить, а нечего
мудровать, нечего мудровать — надо жить... Вы-
учился бы на агронома, на худой конец на врача,
если в интеллигенцию потянуло, женился бы на
работящей девушке, приехал бы к папке, папка бы
ему дом, значица, справил, с садом, понимаешь,
и жил бы в свое удовольствие, для пользы населе-
ния. А в вашей сутолоке здесь и семьей не обзаве*
дешься и ребятишек не создашь!..
Стас поднялся:
— Насчет детей — не знаю, но сам скоро же-
нюсь, перестану сдавать государству кровь, пропи-
шусь и уйду из этой комнаты № 95, но с детьми
подожду.— Стас победителем оглядел друзей.—
Зачем художнику, по природе своей одинокому
страннику, семья и особенно дети? Наша ста-
рушка по балету говорит, что дети на дороге
славы — большая помеха. Правда, под старость
теперь она осталась одна со своим пуделем и не
расстается с ним ни днем, ни ночью.
1— Тьфу ты... мать вашу, прости, господи, на грех
наведете! Эта старушка у вас несчастная, значица...
Человеку, кто бы он ни был, без семьи прожить
нельзя никак, это вы знайте. Собака друг,
конечно, но заведи ты себе хоть ферму кобелей,
они не принесут тебе на могилу охапку ромашек,
значица... Это вы помните.
— А дети принесут? — спросил Колька, глядя
в сторону Володьки.
— Какие родители были,— зевнул Романовский.
— Какие бы они ни были, они— родители, и ува-
жайте их. А если умные очень, то учитывайте их
ошибки и не колите им глаза лишний раз, может,
они свои ошибки знают лучше, чем вы себе пред-
ставляете. Вы своих еще больше не понаделайте...
А то ведь жизнь пройдет и ваша... и не заметите.
Прогоняетесь за своей славой, провертитесь за ней,
как пудель за собственным хвостом, и никуда не
уткнетесь... кроме как... Ладно.
Ларионыч остановился. Он уже давно говорил
больше сам для себя, думы свои выговаривал, и хо-
телось ему очень хоть немного отдохнуть.
В дороге он притомился больно. В поезде спать
не мог, все мысли одолевали, все разные, так и во-
рочался с боку на бок от них, а они все не конча-
лись. Ехал трое суток в полудреме, в полусне. Трое
суток не раздевался. Шибкий холод по всему про-
странству стоял. Доху, правда, на ночь снимал да
сапоги стягивал, но портянки не раскручивал, хоть
и дополнительные одеяла выдавали.
«И потом эта вонь паровозная, ну прям голова от
нее расшибается!».
И не было уже другой мысли, как мечтать об от-
дыхе, видя при этом аккуратно заправленные кро-
вати. «Чуть, правда, коротковатые, но можно стул
подставить, если что, а под голову, опять же, доху
сунуть, чтоб повыше...»
«Причастие... причастие...» — с дьявольским про-
нонсом прошипел Лин, но никто не обратил на это
внимания, устали все. А Володя повеселел: гроза
миновала. Настроение отца было всегда для него
барометром. Он не знал, что разыграется через
час, что богомерзкое дело впереди. Не заметил он
и того, что Лин давно уже ухмыляется погано, вы-
искивая чего-то носом в атмосфере комнаты.
А тот, поймав момент, видя, что гость совсем ро-
няет голову на грудь, скомандовал без промедле-
ния:
1— Давайте, други, разбегаться. Вы, товарищ, ло-
житесь, отдыхайте с дороги, а мы договорим в дру-
гом месте, сообразим, как нам жить завтра, что
исправить в своем сознании и т. д.
Через полчаса Ларионыч крепко
спал. В шапку Лина упали первые
медяки за сеанс причасти я...
(Окончание следует)
ВЛАДИМИР
ЛАЗАРЕВ
Рисунки Лермонтова
Рисунки Лермонтова — в них
Такая легкость и паренье!
Вот Пятигорск, вот Валерик.
Вершины, горские строенья,
Что к облакам вознесены.
Пейзажа облик своенравный,
Где линии обнажены,
Ущелья и полет Арагвы...
Пером рисунки и углем.
И быстрый взгляд, и постиженье
Вселенской тайны, и во всем
Неуловимое движенье.
Кто знает, может быть, пока
Чертила контуры рука,
В его душе порыв высокий
Рождал светящиеся строки,
Летящие, как облака.
Два мальчика
и красный шар
Мальчики, стоящие у моря...
Красный шар нисходит вдалеке...
Кто они, о чем свободно спорят,
Что за планы чертят на песке!
Босиком стоят. На икрах крепких
Тины след и след песка сырой.
Тощий — в белой полотняной кепке.
Коренаст и белобрыс другой.
Море дышит мощью безграничной.
Горизонт туманный освещен.
Красный шар то сжат несимметрично,
То лиловой тучей рассечен.
Мальчики, стоящие у моря
В этот час закатный налегке...
Миг уходит. Им же мало горя.
Я на этот миг смотрю в тоске.
Мальчики, они открыто дружат,
Смотрят вдаль, где горизонт дрожит.
Шар исчез. Гигантским полукружьем,
В белом свете бледным полукружьем
Перед ними Балтика лежит.
Я хочу остановить мгновенье,
Сквозь него продеть живую нить.
Я хочу остановить мгновенье,
Только как его остановить!
59
ВЛАДИМИР
БОЛЬШАКОВ
Как сорок тысяч лет назад,
сжигали скорбные останки
двух девушек,
как кенгурят,
пристреленных в пустыне янки.
Молчали серые пески.
Австралия не услыхала
тысячелетний гимн тоски
по тем, кого уже не стало.
Их пепел ветер разметал.
Но знаю, поздно или рано,
он возвратится из-за скал,
как бумеранг араукана ’.
И в совесть, спящую пока,
и в сердце каждое ударит...
Три дня горел огонь в песках,
невидимый из Порта Дарвин.
Баллада об охоте
(Из австралийской тетради)
Не верил полицейский:
«Врут,
поклеп возводят на военных...
Они стреляли кенгуру,
а вовсе не в аборигенов!»
Свидетель,
черный, как смола,
поклялся древними богами
и повторил:
«Стрельба была.
Они охотились за нами...»
Газеты вышли поутру
и сообщили:
«Джентльмены
охотились на кенгуру,
не трогая аборигенов».
И теледиктор в новостях
отметил, будто ненароком:
«Аборигенов в тех местах
никто и никогда не трогал».
Но в Дарвине под выходной,
набравшись до отказа грога,
два янки хвастались в пивной:
«Мы пристрелили ло одной...
Яй-богу!
По одной двуногой...»
Какой-то репортер скучал
в пивной у той же самой стойки
и полстранички отстучал
в Сидней о дарвинской попойке.
Газеты вышли поутру
с поправкою обыкновенной:
«В заметочке о кенгуру
читать: в район отстрела вдруг
попали два аборигена».
В Пустыне Северной три дня
у двух костров скорбело племя.
Звучали песни у огня,
которых не коснулось время.
60
Телефонный разговор
Поговори со мной еще...
Твое дыханье в трубке слышу.
Оно моих коснулось щек,
как будто бы ты рядом дышишь.
Поговори со мной еще...
Как дятел — снег долбит капель,
и ели — будто после душа.
Март уговаривал апрель
повременить,
а тот не слушал...
И мне...
Мне тоже говорят:
«Повремени...
Проверь... Отмеряй...»
Не виделись два дня подряд —
невозместимая потеря.
Какой в том смысл!
Какой расчет!
Два дня, а вроде бы — два года.
Поговори со мной еще.
Хотя бы просто про погоду.
☆ ☆☆
Тревожно на душе.
Не знаю, что и будет.
Предсказано уже
все это Книгою Судеб.
Но ко странице той,
календари листая,
мы подойдем с тобой
лишь к середине мая.
И будем знать тогда
от А до Я, до точки,
что нам сулят года —
пророческие строчки.
Ну а пока апрель
не постучался в двери,
последняя метель
пророчит мне потерю.
На снежном вираже
судьба ударит в бубен.
Тревожно на душе,
не знаю, что и будет...
1 Арауканы — одно из племен аборигенов.
ОКНО
В МИР
ПРЕКРАСНОГО
БОР. ЕФИМОВ,
народный художник СССР
ЗРИМЫЕ ОБРАЗЫ
«ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ
(Иллюстрации
С Бродского,
см. также
на 3 й стр. обложки )
ТРАГЕДИИ»
Передо мной новая работа известного художника-иллюстратора
Саввы Бродского. К слову сказать, мне не совсем по душе термин «ил-
люстратор». Будучи точным обозначением определенного изобразитель-
ного жанра — рисунка, связанного с конкретным литературным произведением,
он вместе с тем несет в себе некую чуть-чуть снисходительную интонацию.
Такие выражения, как «иллюстративность», «всего лишь иллюстрация» и т. п.,
звучат иногда почти как упрек в пассивном, бескрылом характере изобразитель-
ного решения.
Чего греха таить: подобных иллюстраций появляется у нас более чем до-
статочно, но, к счастью, не они определяют художественный уровень высокого
искусства советской книжной иллюстрации. Это искусство выдвинуло целый ряд
великолепных мастеров, создавших графические работы непреходящей художест-
венной, идейной и исторической ценности, достойно занявшие место рядом с
самыми прославленными литературными произведениями мировой и советской
классики.
Надо сказать, что искусство советской книжной иллюстрации (как, впрочем,
и любое другое искусство) формировалось и развивается в непрекращающихся
жарких спорах о закономерностях и внутренних тенденциях этого сложного и
тонкого жанра. Не раз ломались копья из-за разногласий о правах художника на
то или иное индивидуальное прочтение иллюстрируемого произведения, о степени
«подчинения» иллюстратора литературной первооснове, о пределах его само-
61
стоятельности в трактовке авторских образов и т. д.
Такие споры, несомненно, весьма полезны Однако
на практике, мне кажется, они нисколько не поме-
щали одним иллюстраторам послушно и не мудрст-
вуя лукаво следовать по пЯтам за текстом, «иллюст-
рируя» его в самом примитивном понимании этого
слова, а другим — безмятежно отрываться от него и
создавать некие «вариации по мотивам», гордо отста-
ивая свое право на ничем не ограниченное и неза-
висимое от писателя видение его литературных
образов.
Мне думается, что ни с тех, ни с других позиций
нельзя ожидать подлинных творческих достижений.
Даже профессиональная мастеровитость и бойкость
штриха не заменят главного: глубокого и верного
раскрытия философской сущности литературного
произведения, созвучности его эмоциональной и
идейной направленности. И надо ли доказывать, что
именно тем мастерам, которые успешно решали эту
благородную и трудную задачу, принадлежат самые
прекрасные достижения отечественной книжной
графики.
Умение глубоко войти и ввести читателя в атмо-
сферу изображенного писателем времени, сделать по-
нятным и зримым своеобразие и неповторимые при-
меты эпохи, правильно воспринять их социальный и
исторический смысл, правдиво и убедительно пока-
зать психологическую и гражданственную сущность
событий, явлений, действующих лиц и окружающей
их среды — таковы, мне кажется, основные и непре-
менные требования, которые предъявляет художни-
ку подлинное искусство иллюстрации. И черты этого
искусства мы находим в работах таких художников,
как С. Герасимов, Д. Моор, Кукрыниксы, Д. Шмари-
нов, Н. Жуков, Б. гПророков, О. Верейский, А. Гонча-
ров, Д. Дубинский, С. Красаускас, и ряда других за-
мечательных советских мастеров. К ним, мне думает-
ся, следует причислить и С. Бродского.
Савва Бродский — художник героико-романтической
темы Его привлекают ситуации драматические и на-
пряженные, характеры сильные и волевые, люди
мужественные, страстные, неукротимые. Об этом
достаточно красноречиво говорят имена людей,
жизнь и деяния которых вдохновляли Бродского-ил-
люстратора. Это— Спартак и Овод, Пер Гюнт и Кор-
чагин, Кола Брюньон и Маресьев, герои Гюго, Сти-
венсона, Грина, Шекспира. Большой творческой уда-
чей С. Бродского стала серия великолепных рисун-
ков к «Дон Кихоту», которая, кстати сказать, была
высоко оценена на родине великого Сервантеса.
Бродский был избран академиком-корреспондентом
Королевской Академии изящных искусств в Мадри-
де и в этом почетном качестве получил приятную
возможность увидеть воочию места, которые в его
рисунках создавались воображением художника.
Иллюстрации к «Дон Кихоту» были 99-й по счету
работой Бродского. Теперь же вышло в свет своего
рода юбилейное для художника — сотое его произ-
ведение. Это рисунки и оформление отличного по-
дарочного издания «Оптимистической трагедии» Все-
волода Вишневского. На первый взгляд — неожидан-
ный и крутой тематический поворот: какие разные
эпохи, разные страны, разные люди! Но если вду-
маться, го перед нами последовательное и внутрен-
не закономерное развитие интереса художника к
большой и благородной теме Человека-Рыцаря, Че-
ловека-Борца за добро и справедливость. Разве где-
то в глубинной «связи времен» Женщину-Комиссара
и «Рыцаря Печального Образа» не сближает ро-
мантика подвига во имя Человечности, торжество
светлого духовного начала над косной н темной
стихией?
Пафосом силы и величия борьбы за нравственные
идеалы, пронизывающим пьесу Вишневского, отмече-
ны и рисунки Бродского, решенные в монументаль-
ном плане с контрастной, подчеркнуто резкой, почти
скульптурной лепкой человеческих образов. При
этом Бродский не забывает о том, что он иллюстри-
рует не роман, не поэму, а пьесу и в соответствий с
этим строит всю стилистику своего пластического^ ре-
шения. Он как бы вводит нас в трагический театр
Вишневского, стремясь гармонически связать изобра-
зительное оформление книги с патетической драма-
тургией писателя.
Мы раскрываем книгу, и перед нами как бы рас-
пахиваются двери в потрясенный, раскаленный мир,
озаренный пламенем Революции, наполненный гро-
мовыми раскатами событий небывалых и невиданных.
Суровая, черно-белая графика ритмично выстроен-
ных триптихов и страничных рисунков сочетает в
себе торжественность мемориала с бурной динами-
кой драматических эпизодов. Только на отдельных
листах взрывается пронзительный багряно-красный
цвет. Художник пользуется им с предельной скупо-
стью и тем достигает огромного «сценического эф-
фекта». Впрочем, Бродский говорит в этой книге
языком не только театра, но и кинематографа: он
очень точно применяет и панораму и крупные планы,
приближая к читателю-зрителю детали, которые ему
важно подчеркнуть. Это и завязанные мощными уз-
лами корабельные канаты, и летящая чайка, и зна-
мя, и прежде всего, конечно, лица и жесты главных
героев трагедии, как бы высвеченных четким и рез-
ким лучом прожектора. Женщина-Комиссар, Алек-
сей, Вожак, революционные матросы и разнузданные
анархисты — все другие персонажи пьесы увидены
художником не только как конкретные действующие
лица, но и как символическое обобщение опреде-
ленных сил и групп революционной эпохи.
Нельзя, конечно, утверждать, что в рисунках Брод-
ского нет спорных моментов. Мне, в частности, ка-
жется, что в образ Женщины-Комиссара не следова-
ло вносить мотив некоторой жертвенности, обречен-
ности. Ведь она герой оптимистической трагедии.
Есть, возможно, и некоторые другие просчеты, но они
не нарушают впечатления большой творческой уда-
чи художника. И мне хочется приветствовать в но-
вой работе Саввы Бродского его неизменную роман-
тическую и гражданственную устремленность, сме-
лость поиска, увлеченность художника, мастерство
таланта.
62
ГОЛУБЫЕ СЛЕДЫ
В. САМОРИГА
«ВО имя
СВЕТЛОЙ
БУДУЩЕЙ
ПОБЕДЫ...»
До войны (а теперь уже можно пи-
сать— в конце тридцатых годов) по
Москве ходило множество молодых
поэтов... Поэты были в Литинституте, в ИФЛИ, в уни-
верситете, были в педагогическом и юридическом.
Лет им было от 18 до 20, мало кто из них успел На-
печататься; но нельзя сказать, что их никто не знал.
Во-первых, они хорошо знали друг друга и жили не
розно. Во-вторых, их знали многие сотни московских
студентов, аудитория строгая и живая,— писал в
своих воспоминаниях о Павле Когане его друг Давид
Самойлов.— Мне кажется, что определяющим свой-
ством поэзии этого поколения была цельность. Цель-
ность и полнота мироощущения. Цельность не за счет
примитива, упрощения, нерасчлененности, а цель*
ность сложная, цельность в преодолении сложных
противоречий времени и личности».
Юность военного поколения... Стремительно му-
жавшие, с песнями и собственными стихами уходили
они на фронт, «не долюбив, не докурив последней
папиросы». Это поэтическое поколение С. Гудзенко
и Вс. Багрицкого, П. Когана и Н. Майорова, Н. Отра-
ды, М. Кульчицкого.. Щемяще коротки их биографии.
Давид Самойлов писал о московских поэтах, близ-
ких ему. Память людская вернула из небытия имена
множества поэтов этого поколения, живших по всей
огромной стране. Теперь, когда уже выпущено много
сборников, мы читаем стихи грузина Мирзы Гелова-
ни и армянина Тату ла Гуряна, осетина Хазби Калое-
ва, литовца .Витаутаса Монтвилы и украинца Мико-
лы Шпака, читаем стихи неизвестного узника Заксен-
хаузена, имя которого еще предстоит узнать...
Над нами с детства отблеск молний медный.
Прозрачный звон штыков и желтый скрип рёмней.
Во имя светлой будущей победы
Нам суждено в сраженьях умереть.
Это строки из стихотворения киевлянина Павла
Вннтмана, принадлежащего к поколению поэтов гро-
зовой поры.
Павел Винтмая родился в 1918-м, учился после
школы на рабфаке сельскохозяйственной академии,
в 1937-м перешел в Киевский университет, рано на-
чал писать стихи... Еще будучи рабфаковцем, в 1934
году получил от наркома обороны благодарность за
усовершенствование к пулемету «максим» и одновре-
менно—предложение поступать в Военную академию.
Если б я не писал стихов,
Верно, был бы уже командиром.
Я б смотрел на рождение мира
Через пламя ночных костров.
Я бы шел впереди бойцов,
Вел в атаку, в разведку ползал.
Я принес бы большую пользу,
Если б я не писал стихов.
В январе 1940 года Молодой поэт добровольцем
ушел на финскую войну. Он был зачислен в Особый
лыжный батальон. В том же 1940 году были впервые
напечатаны его стихи — в сборнике молодых поэтов
«Киевский альманах № 1», вышедшем в издательстве
«Молодой большевик».
Поэтам этого поколения было свойственно предви-
деть драматическую и трагическую свою судьбу,
судьбу своих сверстников и острое чувство необыч-
ности этой судьбы. Отсюда частые попытки ос-
мыслить свой путь, попытаться представить, как по-
томки будут видеть их.
Такое ощущение не было бравадой. Поколение
поэтов, родившихся в сполохах гражданской, делом,
жизнью своей доказало это.
О своем поколении и о себе Павел Винтман пи-
сал так:
Я люблю тебя, мое время,
Не за то, что ты лучше вчерашних:
За винтовки привычное бремя,
За косые полеты шашек.
Пусть мы часто теряем стремя,
Пусть еще далеко до цели,
Я за то люблю тебя, время,
Что умру я не на постели.
В трудное лето 1942 года в бою у Дона погиб ко-
мандир стрелковой роты лейтенант Павел Винтман.
Пришли грозные дни на родную землю, и поэт стад
солдатом, стал, как и предсказывал в своих стихах,
командиром...
А много дет спустя школьники одного из воронеж-
ских сел вместе со своим учителем Иваном Василье-
вичем Поповым восстанавливали имена воинов, по-
хороненных в братской могиле в селе Шилово. Тогда
же выяснилось — здесь был похоронен н Павел
Винтман.
Судьба стихов киевского поэта некоторое время ос-
тавалась неизвестной. Тетради стихов, треугольники
военных писем, фотографии хранились в семье поэ-
та, их читали и знали только друзья и знакомые.
Впервые после войны они были опубликованы в жур-
нале «Знамя», в «Комсомольской правде», в сборни-
ках «Стихи остаются в строю» и «Имена на повер-
ке».
Первый сборник стихов Павла Винтмана «Голубые
63
следы» вышел недавно в родном городе поэта —
Киеве, в издательстве «Радянський письменник»
(1977). Со страниц сборника, вобравшего большую
часть литературного наследства поэта, облик его
раскрывается полно и определенно — от ранних и
еще порой ученических стихов и до последнего сти-
хотворения, написанного 25 июня 1942 года. Мень-
ше чем через месяц поэт геройски погиб в бою под
деревней Трушкино, Воронежской области.
В сборнике пять разделов: «Предчувствие гро-
зы», «Из фронтовых писем», «Самое тайное», «Па-
руса», «Голубые следы». Надо оговориться сразу —
принадлежат они не самому поэту: он не готовил
своих стихов к печати.
Многое в стихах Павла Винтмана близко к сти-
хам его сверстников и современников. Их объединя-
ли сходные чувства и ощущения: жажда жизни, ост-
рое желание познать ее во всей красе — и ощущение
сгущающихся туч, близкой грозы, уверенность в том,
что они встретят ее достойно. Они жадно любили
солнце, море, паруса, буйный ветер — эти ребята,
накануне войны встретившие свое двадцатилетие.
Павел Винтман не был знаком с москвичом Павлом
Коганом и харьковчанином Михаилом Кульчицким.
Он вряд ли знал их стихи. Но как близки его собст-
венные строчки стихав его сверстников! Оставаясь
оригинальными по выражению чувства, по формег
они порой близки тематически, близки по миропо-
ниманию.
Павла Винтмана интересовало многое: бурная исто-
рия времени, жгучая современность и седая старина,
далекая, но зовущая. Друзья по Киевскому универ-
ситету хорошо знали цикл стихов его «Татарская
степь» (он также включен в сборник) — в нем ожи-
вали далекие годы борьбы русского народа против
тяжкого ига завоевателей. Там были горькие строки
о том, как был захвачен и сожжен Киев, и гордые —
о том, как поднималась накопившая силы Русь,
как выходила она на решающую битву с врагом.
Пройдет совсем немного времени, и П. Винтман
с болью напишет не об истории, а о своих днях, о
том, как «саперы рушили мосты в седые воды Бо-
рисфена».
Один из интереснейших разделов сборника «Голу-
бые следы» — «Из фронтовых писем». Тринадцать
его стихотворений были присланы поэтом в 1941—
1942 годах с фронта в маленьких треугольных кон-
вертах. Так и помещены они в сборнике — отрывки
из писем сопровождают стихи, дополняют их...
«На финский (фронт) я ехал по собственной охоте
в погоне за романтикой (я никогда, кажется, тебе не
говорил, что трижды имел возможность возвратиться
с комиссии, т. к. не служил до этого в армии, но
бил себя в грудь, вытаскивал снайперское удостове-
рение и добивался своего из-за того, что, во-первых,
хотел, а во-вторых, считал постыдным вернуться с
полдороги), но все-таки у меня по временам душа
была в пятках... А сейчас... даже кошки на душе не
скребут»,— пишет он жене. И тут же рождаются
строки, безыскусные, но очень выстраданные, лич-
ные, искренние:
Дорога торная, дорога фронтовая,
Поникшие сады, горящие стога.
И в злой мороз, и в зное изнывая,
Идти по ней и вечность постигать.
Такая в этом боль,
тоска кругом такая
В молчанье деревень
и в дымном вкусе рос...
Дорога торная, дорога фронтовая,
Печальная страна обугленных берез.
Печаль сменяется ожиданием:
Солнце ударило шапкою оземь
И притаилось в загадочной позе,
Будто подруга плясать приглашает.
Темень нелепая, темень ночная.
Тьма на рассвете обруш'ится боем...
Спляшем, любимая буря, с тобою!
И уверенностью в себе, своих товарищах:
Мы научились пить вино военной славы,
Пусть горечь Керчи в крепости вина,
Но повторится вновь победный день Полтавы,
Как повторился день Бородина.
Как и многие в том поколении, Павел Винтман пи-
сал не только о сильных ощущениях, о своем гроз-
ном времени, о трагических предчувствиях, о войне.
Да, он был воином. Но — и романтиком. В сборнике
рядом со стихами, полными сдержанного мужест-
ва,— строки о любви, красоте земной, которую поэт
чувствовал обостренно и глубоко. Он посвящал сти-
хи любимым писателям и поэтам — Грину и Блоку,
его привлекали характеры сильные и смелые, неор-
динарные личности, герои вроде Мартина Идена и
Робина Гуда. Один из своих поэтических циклов он
называет «Песни города Зурбагана». Порой поэта
привлекала книжная романтика, но всю свою жизнь
он постигал и впитывал другую романтику, романти-
ку бытия. И учился находить ее всюду:
Романтика седых ночей,
Романтика солдатских щей,
Колес неровный перебой...
За мной, романтика, за мной!
Пусть хлеб солдата черств и груб,
Пускай суров заплечный груз,
Жесток подъем, свиреп отбой —
За мной, романтика, за мной!
Лучшие стихи Павла Винтмана — стихи романтиче-
ские и лирические. Свою короткую жизнь он про-
жил ярко и полно — любил, был любимым.
Весна в этот раз начиналась не просто:
Не солнечным зайцем в растекшейся луже,
Не выкриком птичьим сквозь звездную россыпь,
А залпом последним наскучившей стужи.
Не нужно слов. Слова бывают лживы.
Не нужно клятв, произнесенных вслух,
Но если мы с тобою будем живы —
Поверит мир в предназначенье двух.
Павел Винтман прожил до боли короткую жизнь —
ему не было и 24 лет, когда он пал на поле боя. Он
многого не успел — не успел вернуться в любимый
город, встретить любимую, не успел дописать заду-
манную поэму, наброски из которой интересны и зна-
чительны... Он погиб молодым, и молодой осталась
его муза. Знакомясь сейчас с его творчеством, пони-
маешь: он мог бы стать большим поэтом.
64
Е. ГУДИН (Свердловск).
Тюменский север.
Из произведений
советских
художников.
X. ЯКУПОВ. (Казань).
Челненские красавицы.
Ю. ЦИРКУНОВ (Рига).
Первенство.
В. ЗАГОНЕК
(Ленинград).
Внуки.
Mj' ?'
г
Г. ТУГУШИ (Батуми).
Сборщица чая.
Л. РЕШЕТНИКОВА
(Москва).
Осень.
В. ПАВЛОЦКИЙ (Ашхабад).
Портрет Инги.
ПОГОВОРИМ
о
ПРОЧИТАННОМ
Сергей !
Преображенский '
НЕДОИЕТАЯ ।
ПЕСНЯ I
НАТАЛЬЯ
СТАРОСЕЛЬСКАЯ
В МАСТЕРСКОЙ
А. ФАДЕЕВА
Главное для писателя — это с наибольшей
полнотой и щедростью выразить себя в лю-
бой вещи,— писал К. Паустовский в «Золотой
розе»,—...и тем самым выразить свое время и свой
народ.
Нужно дать свободу своему внутреннему миру,
открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением
увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо
больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты
предполагал».
«Драгоценная пыль», силой таланта художника пре-
вращенная в волшебный сплав, в «золотую розу»... Но
иной раз встреча с «началом начал» — подготови-
тельными материалами, записными книжками, пла-
нами, сомнениями писателя — может оказаться не
менее интересной и волнующей. Особенно, если труд
этот не завершен. Тогда каждое чувство, каждая
мысль, каждый набросок словно приоткрывают тай-
ны мастерства, глубину личности художника...
Книга Сергея Преображенского «Недопетая песня»
(М„ «Современник», 1977) посвящена не столько ана-
лизу незавершенного романа А. А. Фадеева «Черная
металлургия», сколько процессу работы писателя иад
книгой — работы кропотливой, увлеченной.
Романтическое восприятие жизни, свойственное
Фадееву с самого начала его творчества и нашедшее
яркое, зримое воплощение в таких произведениях,
как «Разгром» и «Молодая гвардия», сказалось и в
его горячем увлечении образом нового типа челове-
ка— творца, созидателя. Выступая в декабре 1951
года с ответным словом на вечере, посвященном его
пятидесятилетию, Фадеев вдруг неожиданно заявил,
что он надеется еще спеть «свою большую, настоя-
щую песню...». А работа в то время уже велась (пер-
вые записи к роману датируются августом 1951 го-
да); Фадеев определил «географию» романа — Маг-
нитогорск и Пенза, Челябинск и Москва, Кузнецк и
Ленинград, Урал и Украина, заводы и колхозы. Пи-
сатель не просто побывал в этих местах, но жил в
рабочих семьях, ежедневно ходил на заводы «в сме-
ну», изучал технологию, наблюдал, отбирал...
Сергей Преображенский дает читателю возмож-
ность познакомиться с письмами, деловыми записка-
ми Фадеева той поры, даже если они не имеют не-
посредственного отношения к работе над романом.
Так возникает в книге «жизнь, как она есть» — иде-
ал, к достижению которого стремился Фадеев, за-
мышляя роман «самонужнейший, архисовремен-
ный...». Личность писателя, общественного деятеля,
человека «совершенно феерически» занятого, воссоз-
дается масштабно, полнокровно. Поездкам Фадеева,
его знакомству со сталеварами, изучению их работы
и быта, встречам с известными советскими метал-
лургами посвящена значительная часть «Недопетсй
песни».
Но, пожалуй, «нерв» книги, ее кульминация про-
ходят через главу «Драгоценная пыль...», где перед
нами «святая святых» писательского ремесла — за-
писные книжки Фадеева, публикуемые впервые.
«Листаешь сотни страниц, исписанных характер-
ным убористым фадеевским почерком, записей его
бесед с людьми... Они хранят лишь какую-то долю
жизненных наблюдений и размышлений автора... От-
дельные, казалось бы, отрывочные, наблюдения при-
водят потом этого большого художника к широким
публицистическим, а порой подлинно философским
обобщениям».
Тексты, приведенные в книге, выбраны Преобра-
женским из двадцати двух записных книжек А. Фа-
деева, четырех рабочих тетрадей «Заметки к плану
(для памяти)», семи «общих тетрадей», а также из не-
которых записных книжек и дневников разных лет,
хранящихся в ЦГАЛИ. Поистине титанический
труд — тщательно изучить огромный архив писате-
ля, систематизировать необычайно разнообразные по
характеру, объему и значению записи, отобрать то,
что наиболее тесно связано с общим замыслом и с
героями. Собрать «драгоценную пыль»...
Записи писателя, порой обстоятельные, насыщен-
ные конкретными данными, цифрами, материалами
отчетов, а порой лаконичные, своеобразные «записи-
памятки», записи-образы («Обуховский завод — ака-
демия металлургических знаний») — всегда эмоцио-
нальны. Ив этом находит выражение яркая лич-
ность крупного писателя, воспринимающего жизнь
во всей ее масштабности, в кипучем источнике ра-
дости, в биении времени, свидетелем и созидателем
которого был и он, Александр Фадеев.
Еще в тридцатые годы Фадеев условно обозначил
«периодизацию» работы писателя над художествен-
ным произведением: «первоначальное накопление ма-
териала», «вынашивание», «обдумывание» и, наконец,
«написание».
Перед нами, следуя определению самого Фадеева,
два первых периода и начало третьего. «Разрознен-
ные образы действительности,— писал А. Фадеев в
1952 году,— начинают складываться в некое целее,
хотя далеко еще не законченное... Тогда и наступа-
ет период, когда можно записывать те или иные кус-
ки, главы, наметки, планы произведения и т. д... От-
бираешь наиболее ценный материал,., отбираешь все
нужное, отбрасываешь лишнее, сгущаешь факты и
впечатления...»
Главы романа «Черная металлургия», данные в
приложении к книге, воспринимаются цельно и ор-
ганично во всем контексте «Недопетой песни». Чи-
татель снова и снова ощущает себя свидетелем, уча-
стником Времени.
5. «Юность» № 11.
И^УГ
ЧТЕНИЯ
«НАШИ СИЛЫ —
ОТ РЕВОЛЮЦИИ»
НЕПОБЕЖДЕННЫЙ
Книга Виталия Озерова
«Революцией мобилизо-
ванная и призванная» (М.,
«Современник», 1977) —
вклад в общую работу литератур-
ной критики, ее ответ на вопрос
о смысле существования и месте
человека среди людей. Написан-
ная в сдержанной, чтобы не ска-
зать суховатой, манере научного
исследования, она тем не менее
насквозь лирична, приобщает к на-
работанным, выстраданным авто-
рем принципам и убеждениям.
Главы книги воссоздают этапы
формирования, становления и раз-
вития советской литературы от ее
первых шагов, окрыленных при-
зывом А. Блока: «Всем телом, всем
сознанием, всем существом слу-
шайте Революцию», —до сегодняш-
него мощного потока, который во
многом определяет фарватер ми-
рового художественного процесса.
Книга В. Озерова — по сути, ис-
тория советской литературы, бо-
гатая фактами, именами, подроб-
ностями. Но больше всего привле-
кает даже не ее добротная осна-
щенность материалом (хотя и она
важна, так как историк литерату-
ры не вправе усекать истину и
сокращать объем явлений), а фи-
лософичность взгляда на предмет,
последовательность доказательст-
ва и развития ряда идей, имею-
щих первостепенное мировоззрен-
ческое значение, помогающих
нравственному и духовному само-
определению личности.
Многообразный и вовсе не од-
нолинейный опыт нашей литера-
туры, который, бывает, так часто
примитивизируется и упрощается,
уроки советских писателей, по
праву называемых классиками,
служат под пером В. Озерова обо-
снованию мысли о нерасторжи-
мом единстве революционного и
художественного творчества. «На-
ши силы — от революции, равно
как и опыт наш от революции.
Мы, молодые, литературно роди-
лись после семнадцатого года»; —
слова Леонида Леонова могут
быть повторены (и повторялись
неоднократно) писателями разных
призывов, истина, в них заклю-
ченная, стала «почвой и судьбой»
всех литераторов Советского Сою-
за. Напомним, что автор про-
граммно назвал свою книгу о со-
ветской литературе «Революцией
мобилизованная и призванная».
Революция утвердила новые
принципы отношения искусства к
действительности. Она способство-
вала формированию нового типа
художника — бойца, гражданина,
созидателя социалистических об-
щественных отношений, сознатель-
но вливающего свой труд в труд
своей республики. Показу того,
сколь плодотворно было для писа-
телей изживание иллюзий аполи-
тизма, преодоление мифов о бес-
партийности творчества, отведены
многие убедительные страницы
исследования.
Очень важно обратить внимание
и на тс обстоятельство, что В. Озе-
ров осмысляет истинную револю-
ционность как необходимое усло-
вие полного, «неотчужденного»
развития личности. Вся история
советской литературы для него —
«мастерская человечьих воскре-
шений» (напомним слова В. Мая-
ковского), летопись собирания че-
ловеческой силы. Отсюда, в част-
ности, и характерные названия
глав, в которых сконцентрировано
их содержание: «Перестройка жиз-
ни — перестройка душ». «Дела,
чувства, страсти», «Характер —
крупным планом», «Гуманизм су-
ровой борьбы», «Люди активной
жизненной позиции»...
В. Озеров известен как автор
нескольких монографий и книг об
образе коммуниста в советской ли-
тературе. Естественно, что и в но-
вой работе большое место и значе-
ние уделено анализу характеров
коммунистов — героев художест-
венных произведений. Верный
своему исследовательскому прин-
ципу, автор стремится осознать
значение этого образа в эстетике
М. Горького и В. Маяковского,
А. Фадеева и К. Федина, М. Шоло-
хова и Л. Леонова, понять его
смысл для духовных исканий сов-
ременности.
Широк, разнообразен круг воп-
gocoB, разработанных в книге
. Озерова. Читатель приобщится
к размышлениям автора об исто-
ках и природе советского патрио-
тизма, задумается о «герое наше-
го времени», о соотношении «эмо-
ционального порыва и практиче-
ского действия» в его характере,
узнает о восприятии советской ли-
тературы за рубежом. Нет, одна*
ко, ни возможности, ни необходи-
мости заниматься перечислением.
Лучше просто посоветовать взять
эту книгу в руки и вместе с ее
автором передумать опыт литера-
турного развития страны и наро
да за шесть десятилетий после Ок-
тября, превратить его в достояние
труда собственной души.
В. ПИСКУНОВ,
доктор филологических
наук
КНИГА
КОМСОМОЛЬСКОГО
ЖУРНАЛИСТА
На статью Геннадия Боча-
рова о Шукшине в «Ком-
сомольской правде» мно-
гие тогда обратили вни-
мание. Она была опубликована
примерно через месяц после смер-
ти Василия Макаровича. И чита-
лась так, словно речь шла не об
известном писателе, а о близком,
родном человеке.
Статья «Если говорить о Шукши-
не» вызвала поток писем, горя-
чих человеческих признаний. Она
как бы продолжала писаться (бук-
вально!) многими людьми.
...Строки из писем о Шукшине,
расширив эту статью, вошли в кни-
гу (Г. Бочаров, «Непобежденный»,
М., «Молодая гвардия», 1978). И
что же/ Во всем остальном напеча-
танная без изменений, сего-
дня это уже другая статья.
Ушла острота точно переданного
Бочаровым момента...
Она читается по-другому еще и
потому, что она одна из многих в
книге. Жизнь художника стоит
здесь в одном ряду с историями о
человеческом мужестве. Так в
разговор о Шукшине включается
герой другого очерка этой кни-
66
ги — опытнейший человек, лет*
чик, командир корабля. И когда
такой человек говорит о писате-
ле, актере, режиссере: «Я довер-
чив к нему... У Шукшина во всем
правда»,— эта оценка вносит не-
что новое в сердца читателей.
Не станем подсчитывать потери
и приобретения на пути газетного
очерка в книгу. Но даже этот при-
мер показывает, что у писателя,
работающего в газете, свои отно-
шения со словом.
В очерке «Приз имени отца»,
публиковавшемся в газете, а сего-
дня вошедшем в книгу, есть такое
важное для понимания бочаров*
ского мироощущения высказыва-
ние: «Каждый из нас уже сегодня,
а не в далеком будущем, находит-
ся в центре испытаний. Они уже
идут!» Слова эти «работают» в
полную меру именно на газетном
листе, где рядом и вокруг сообще-
ния о событиях в мире, о новом по-
лете в космос, о проблемах школь-
ного образования, о суде над пре-
ступником, о человечности, о под-
лости. В таком контексте тема .че-
ловеческого мужества, тема испы-
таний духа приобретает значи-
мость и глубину (жизнь как непре-
кращающееся испытание). Но вот
иногда та же самая фраза, в том
же тексте перенесенная в книгу,
кажется декларативной...
Хочется представить себе книгу
журналиста с многочисленными
врезами, комментариями, может
быть, высказываниями его живых,
«всамделишных» героев, с датами
газетных публикаций, с профес-
сиональной исповедью — книгу,
по-своему компенсирующую объ-
ективно утраченное; книгу, откры-
вающую в уже, казалось бы, изве-
стном новое...
В «Непобежденном» Геннадия Бо-
чарова это в какой-то степени осу-
ществляется. Вот и увидели лицо-
фото на супере: умное, сосредото-
ченное, мужественное. Узнали, что
был шахтером, монтажником,
строителем, объездил страну,
мир... Многочисленные авторские
врезы с более непосредственным,
личным словом к читателю цемен-
тируют эти очерки, написанные в
разные годы.
И хотя Бочаров из всех журна-
листских жанров предпочитает
очерк со всеми чертами объектив-
ного, лишенного «образа автора»
рассказа, в книге есть обаяние
его личности, его сдержанность и
страстность. Бочаров пишет о
сильных людях, о мужестве, кото-
рое всегда связано у него с благо-
родством и высоким духовным по-
тенциалом. Есть достоверность пе-
режитого во всем, о чем говорит
автор. И тем не менее это журна-
лист-романтик. И по острому чув-
ству жизни и по писательскому
почерку. Бочаров и находит-то
своих героев в момент их высшего
взлета...
Сегодня герои Бочарова при
всем разнообразии их дел, профес-
сий, судеб — это как бы один ге-
рой — молодой, отважный, «непо-
бежденный». Что будет дальше?
Что думает об этом сам автор?
Не знаю, но мне кажется, что он,
говоря о себе, именно на этот воп-
рос и отвечает: «Открытия еще
предстоят — одно за другим. Их
неизбежно сделаешь. Но теперь на
другом уровне, на другом витке...»
СИЛА
ВНИМАТЕЛЬНОГО
ВЗГЛЯДА
Вадим Чернышев начал
свою литературную ра-
боту лет восемь назад.
Он дебютировал расска-
зом «Волк, Волченька». Рассказ
этот рекомендованный журналу
«Новый мир» Иваном Сергеевичем
Соколовым-Микитовым, понравился
Твардовскому, был напечатан и
вызвал сочувственные отклики
читателей. С той поры в журналах
«Нева», «Север» и других В. Чер-
нышев опубликовал не один деся-
ток рассказов. Недавно изданная
«Детской литературой» книга «От-
таявший чиж» (М., 1977) под-
твердила впечатление о нем, как о
сложившемся литераторе.
Несмотря на довольно молодые
свои годы, Чернышов многое по-
видал в жизни: работал инжене-
ром судостроительной промыш-
ленности, охотился, путешество-
вал, а литературой занимался, не
афишируя своей любви к ней и
не стремясь в этом смысле к ран-
ней профессионализации.
Есть два ограничительных оп-
ределения, которые легко было бы
приложить к прозе Чернышева.
Это, во-первых, что он писатель-
анималист, описывающий нравы и
повадки лесных зверей, птиц и до-
машних животных. Во-вторых, это
автор, адресующий свои рассказы
детям.
Но главное — Чернышева отли-
чает сосредоточенная простота,
внушающая веру в подлинность
его слова.
Есть особая сила внимательного
взгляда, когда автор способен
внушить веру в то, что все было
именно так, как он рассказывает.
Это и в очерковых рассказах, где
повествование ведется от первого
лица и где задача проще: и в та-
ких, где, как в превосходном рас-
сказе «Лисий день», передано само
ощущение зверя и как бы приня-
ты исходными его взгляд, его нюх
и слух, его мера времени.
Мало ли пишут у нас о четверо-
ногих? Экологические темы в мо-
де. Но в книгах для детей часто
повествуют о животных и приро-
де умиленно, сентиментально, а
значит, неправдиво. Чернышев не
сентиментален: не зря среди наи-
более удавшихся ему «героев» —
живущий среди людей, но милый
ему своим «неугодливым» харак-
тером вол и дикая, голодная, мыш-
кующая по снежному полю
лиса.
А кроме того, всегда хорошо ви-
ден в прозе Чернышева и рассказ-
чик — деревенский мальчишка,
подросток, юноша, одержимый чув-
ством близости «к братьям нашим
меньшим», но способный на уди-
вительно свободную от собствен-
ничества привязанность к ним.
Чернышев хорошо начал, и я
уверен, что у него еще долгий
путь в литературе, а главные его
успехи — впереди.
ЭНЕРГИЯ
СТИХА
Зеленый томик «Избран*
ного» Тайсто Суммане-
на (изд-во «Карелия»,
Петрозаводск, 1977) во-
брал в себя четыре десятилетия
жизни поэта — нашей жизни... Не
репортаж, не отчет, а лирика —
высшая степень концентрации пе-
режитого.
Вот стихотворение, которое
словно бы оттолкнулось от пуш-
кинского «Пророка». Это притча-
антитеза, показывающая невоз-
можность «обратного» решения.
«Он так им ответил: «Можете вы-
рвать глаза и дать мне другие,
чтоб черное белым представить,
а белое черным... Можете вырвать
язык и поставить другой, чтоб
«да» вместо «нет» говорил и «нет»
вместо «да». Можете сердце из гру-
ди моей вынуть и вставить взамен
холодный, бесчувственный камень,
которому все безразлично, чтоб я
уподобился вам.
И выжгли ему глаза,
и вырезали язык,
и вырвали сердце,
но он
не уподобился им
Он умер».
(Перевод О Мишина)
Вне творчества и правды нет и
не может быть человека. Вие
правды — только смерть.
Т. Сумманену особенно удаются
стихотворения, в которых на пер-
вый план выступает мысль. Чело-
век в его стихах значителен, мас-
штабен: «Надо, чтобы каждый по-
нял, что в собственное бьющееся
сердце судьба планеты нашей вме-
щена». Старая легенда о двух
влюбленных, которые соединяются
и после смерти, переосмыслена
поэтом в «глобальном» плане:
разлученные сердца становятся
силой, которая сдвигает с места
континенты...
Т. Сумманен умеет обновить тра-
диционную тему, умеет повернуть
ее необычной стороной. Казалось
бы, с гордостью рассказывает по-
эт, как нужен он людям: «Ко мне
звонят: могу ли написать о том-то.
Или ждут совета. Ко мне прихо-
дят — слышу я опять: «Есть дело.
Очень важно это». Но, оказывает-
ся, беден человек, если связывают
его с другими людьми только
практические вопросы...
Неожиданность поэтического
мышления проступает в лучших
стихах сборника: о войне — «ко-
варном минере», которая «вложи-
ла в нас, тогдашних мальчишек и
девчонок, крючковатыми пальца-
ми холода и голода мины замед-
ленного действия — грядущие бо-
лезни»; о земле, натянутой, слов-
но лук; об обычном дворе, кото-
рый «не прикрасит, не приврет,
расскажет попросту, без злости,
кто по-хозяйски здесь живет, а кто
во всем подобен rocYk)».
Т. Сумманен и в стихах своих
стремится увидеть в жизни то, что
составляет повседневную человече-
скую заботу. Собствённо. с отзыв-
чивости, с боли за другого начи-
нается для него и сам человек:
«Ведь лишь тогда стал человеком
пращур, когда огонь с другими
стал делить». Одно из лучших его
стихотворений — о малыше, расст-
релянном фашистами. За стихами
Т. Сумманена ощущается опыт
жизни страстной, жизИи сильной и
гордой.
М. БОРЩЕВСКАЯ
В. ЛАКШИН
А. ГОРЛОВСКИЙ
67
ВЛАДИМИР
АНДРЕЕВ
☆☆☆
Ветры с севера подули,
Тонко лист звенит.
Грусть лесную, как пилюлю,
Осень золотит.
Тридцать раз уходит лето
Прямо по жнивью —
Это я на белом свете
Тридцать лет живу.
☆ ☆☆
Чуть свет вскочу с постели.
Бегу набрать воды.
И ведра-пустомели
Звонят на все лады.
Заря в траве искриста,
И тают облака.
Мне шею коромысло
Натрёт наверняка.
Вода — в лучах-ходулях
Прозрачна и легка —
Кружится хохотунья
По золоту песка.
Воды заветной, бодрой
Глотну, как прежде, вновь
И радостные ведра
Наполню до краев.
Прогнется коромысло,
Качнутся два ведра —
Работою и смыслом
Наполнены с утра.
☆☆☆
И счастье есть,
И есть покой и воля,
Когда в раздолье
Зреющего дня
Плывет,
Плывет приподнятое поле
Всей ширью,
Всем простором
На меня.
Как я люблю
Полей многоголосье,
Парной туман
Над речкой поутру.
68
Года мои —
Пшеничные колосья,
На полевом
Колышутся ветру.
Исчезли
Все понятия
На свете,
Вернулось
Все
К началу своему,—
Я так давно
Живу на белом свете.
Что никогда,
Наверно,
Не умру.
Зной
Лягушки еле дышат на пруду.
И на припеке жжет подошвы тропка,
И муравьи, отдавши день труду,
Обедают артельно,
неторопко.
Молчит под ивами обмякшая осока.
И, подминая высохшую тень.
Столетний дуб, как солнце, одиноко.
Спокойно держит раскаленный день.
Книжный шкаф
Мой шкаф вместителен на диво.
Нет книгам счета, нет цены.
Земли сказания счастливо
В мое теперь заключены.
Как собрались! Как уместились
Людей чужих душа и мысль,
В какой дали они сошлись,
Перемолчались, припылились.
Через века отозвались!
Возьми, раскрой, моя рука,
Любую книгу, и строка
Зажжет угаснувшие свечи.
И станет свет. Тебе навстречу.
Восстав, пойдет
в твой миг,
в твой век
Живой, знакомый,
бесконечный
Под сводом слова — человек.
Февраль
У реки стеснились ели.
Хрупко в тишине.
Глубоко лежат метели
В хвойном полусне.
И доносится, я слышу,
С берега реки,
Как шуршат протяжно лыжи,
И звенят коньки,
Как синичьи режут свисты
Воздух на лету —
Невидимки-фигуристы
На февральском льду.
публи-
цистика
МАРК
ГРИГОРЬЕВ
ПОЕЗД
ИДЕТ
В
УРЕНГОЙ
Рисунки
Р. КЛОЧКОВА
Краски Тюменщины... Я закрываю гла-
за, чтобы вспомнить не нарисован-
ные или сфотографированные, а
всамделишные цвета тайги и бесчисленных озер,
лесотундры и рек, океанских торосов и бесконеч-
ных снежных равнин. В памяти всплывают яркая
таежная зелень кедров, ослепительная белизна сне-
га, фиолетовые льды в Обской губе, пастельных то-
нов жарки — так в Сибири называют кипрей, вне-
земной белесый и хрупкий мох — ягель. Но уже че-
рез минуту эти цветные воображаемые диапозити-
вы тускнеют и блекнут, как теряет свою красоч-
ность и яркость природа с наступлением сумерек.
Пытаюсь снова включить «тумблер» диапроектора
в своем мозгу, но не тут-то было: прежняя картина
не восстанавливается. Серые кедры, серые воды рек,
унылы и однообразны болота и снежные поля, так
же как скуден и внешне небросок этот край. И яр-
кость стремительной сибирской весны — лишь
всплеск, короткая вспышка природы, неустойчивая
радуга, которая вот-вот рассыплется от ранних замо-
розков, чтобы появиться вновь только через восемь,
а то и девять долгих месяцев...
В июле на Уренгое зацвела черемуха. Зацвела как-
то тихо и скромно, без белокипенного буйства ве-
сенних садов юга или даже средней полосы России,
Какое уж буйство — протяни руку и ухватишься за
Полярный круг. Однако, хоть и Приполярье, а сра-
зу же навалилась такая жара, и солнце так упорно
перестало заходить за горизонт, что не только чере-
муха заторопилась отцвести, но и уренгойцы, заго-
рев буквально за несколько дней, превратились в
уругвайцев, а также моментально набрали страшную,
не по возрасту, силу комары-акселераты и малень-
кая злобная мошка.
Еще зимой, уезжая в Москву из поселка Юность
Комсомольская, я договаривался с начальником
СМП-522 Иваном Никаноровичем Шалышкиным,
что, как только очистится ото льдов Обская губа,
он пошлет мне весточку: очень хотелось принять
участие в «баржевой экспедиции». Дело в том, что
руководители управления «Тюменстройпуть» еще
тогда решили «посадить» комсомольско-молодежный
строительно-монтажный поезд на самую северную
точку трассы будущей железной дороги Тюмень—
Сургут—Уренгой. Здесь, в восьмидесяти пяти кило-
метрах от Полярного круга, проектировщики поста-
вили на карте точку, обозначив ее «станция Тихая».
В недалеком будущем Тихой предстояло весьма
громко заявить о себе, стать опорным пунктом же-
лезнодорожного Севсиба, способным снабжать всем
необходимым газовые и нефтяные месторождения
Ямало-Ненецкого севера Тюменской области.
Тогда же, зимой, из Юности Комсомольской на
Уренгой отправился первый десантный отряд, или,
точнее, отрядик,— всего девять человек. Им пред-
стояло расчистить площадку под будущий поселок
строителей, поставить общежитие, столовую, баню.
А летом СМП-522 должен был двинуться на новое
место уже «всем табором»: с людьми, техникой, обо-
рудованием. Путь этот предстояло проделать на бар-
жах из Тобольска по Иртышу, Оби, через Обскую и
Тазовскую губы, войти в реку Пур и подняться по
ней до Тихой. В этой «баржевой экспедиции» мне и
хотелось принять участие.
Однако миновал май, к концу подходил июнь, а
вестей от Шалышкина все не было. В последних чис-
лах июня пришло, наконец, письмо из Юности Ком-
сомольской.
«...С ответом задержался,— писал Иван Никаноро-
вич,— по причине неясности открытия навигации по
Обской губе. Весна стояла в наших краях исключи-
тельно непутевая. По всей вероятности, баржи смо-
69
гут пойти на Уренгой только в конце июля. Как
только получим разрешение на погрузку, сообщу те-
лефонограммой.
Если вас эти сроки не устраивают, приезжайте
раньше в Юность Комсомольскую: улетите отсюда
в Уренгой грузовым Ан-2 — раз в неделю мы от-
правляем продукты и горючее для нашего северного
прорабского участка...»
Сроки меня не устраивали. Пришлось махнуть ру-
кой на «баржевую экспедицию» и, воспользовав-
шись советом Шалышкина, выехать в Юность Ком-
сомольскую. Перед отъездом из Тюмени я долго
вызванивал поселок. «С Юностью нет связи»,— од-
нообразно отвечала тюменская телефонистка через
каждые полчаса. «А когда будет?» — робко интере-
совался я. «Когда будет, тогда соединим»,— лако-
нично поясняли на том конце провода...
К вечеру связь с Юностью Комсомольской все-та-
ки установилась, и мне удалось поговорить с Ша-
лышкиным.
— С завтрашнего дня я в отпуске,— «обрадовал»
меня Иван Никанорович.— Но вы обязательно при-
езжайте. Сейчас в поселке прораб Уренгойского
участка, вместе с ним и улетите спецрейсом. Юрий
Михайлович Ключников. Он вас встретит...
Раньше, когда мне приходилось слы-
шать словосочетание «спецрейс», во-
ображение всегда рисовало серебри-
стую громадину самолета, какой-нибудь ИЛ-62,
ТУ-144 — только так. В этой махине летят человек
десять... И летчики для подобных перелетов отбира-
ются особенные. Вот так примерно виделся мне
спецрейс до тех пор, пока я не попал в Западную
Сибирь. И тут оказалось, что спецрейс — самое
обыкновенное, даже будничное в районах освоения
дело. Обыкновенный воздушный работяга Ан-2, про-
званный «кукурузником», «этажеркой» и прочими
нелестными прозвищами, отправляется в полет с
людьми или грузом (а чаще всего с людьми и гру-
зом) вне расписания, по заявке какой-либо организа-
ции — геологов, нефтяников, строителей. Вот это и
называется спецрейс. Никаких оркестров, никаких
эскортов. Зато в течение такого рейса бывает нема-
ло всяких неожиданностей и приключений. Поэтому
мне и хочется рассказать историю одного такого пу-
тешествия. Но, прежде чем вылететь, надо еще
доехать до Юности Комсомольской.
В поезде Тюмень — Сургут (сейчас этот поезд хо-
дит уже из Свердловска, а два вагона идут в Сургут
от самой Москвы!) жара стояла невыносимая. Мно-
гочисленные отпускники, возвращавшиеся на Север с
черноморских пляжей, уверяли, что в Крыму и на
Кавказе не было такой духоты.
70
Когда поезд тронулся, я перешел в тамбур сосед-
него вагона. Какой-то высокий молодой моряк с над-
писью на бескозырке «Тихоокеанский флот» поми-
нутно снимал несуществующие пылинки со своей
фланелевки, поправлял складки и без того безуко-
ризненно отутюженных брюк, одним словом, нервни-
чал так, как может лишь нервничать демобилизован-
ный, готовясь к встрече с близкими. Отряхнув в де-
сятый раз фланелевку, моряк поправил ремень, одер-
нул брюки, достал из кармана носовой платок, сло-
женный вчетверо, развернул его, убедился в девст-
венной белизне, снова сложил вчетверо и спрятал
в карман. В следующую минуту он снял бескозырку,
разгладил ленточки руками, опять надел ее на голову.
Поправил на груди значки классности. Не знаю, что
бы он приводил затем в порядок, если бы я не пре-
рвал его занятия вопросами: «Домой возвращаешься?
Службу на флотах закончил?»
Моряк сразу как-то утихомирил свои беспокойные
руки, обрадовался собеседнику и начал рассказывать
свою одиссею.
Зовут его Николаем Перминовым. Отслужил три
года на эсминце. Убедился, что Тихий океан еще
и Великий. Вообще-то на флоте он не новичок, еще
до армии работал на речных судах на Вятке и Белой.
Там и родители жили — в Кировской области. Отец
работал лесничим.
— И вдруг,— продолжает Николай,— получаю
письмо от родителей. Еще конверт не распечатал,
вижу что-то не так. Глянул на обратный адрес: «Тю-
менская область, поселок Юность Комсомольская».
Что за чудеса, думаю, мои старики выкидывают? Чи-
таю, так и есть, решили переехать в Юность Ком-
сомольскую — лесничий там нужен. Я о таком по-
селке никогда и не слыхал. Стал бегать по кораблю,
ребят расспрашивать. Никто не знает. А недели че-
рез три вызывает меня замполит. Дал мне журнал.
«На,— говорит,— тут про твой поселок не только на-
писано, но и фотографии есть и картинки. Так что
заочно можешь познакомиться».
Е-.холай открыл стоявший у ног чемоданчик и дос-
тал аккуратно вырезанные листочки.
— Уже все почти наизусть знаю,— сказал он.—
Я ведь девятнадцатые сутки в пути: и теплоходом,
и катером, и автобусом, и поездом добираюсь. Нет-
нет, достану картинки, чтоб посмотреть, куда еду.
Красивая, по-моему, станция...
Приятно было слышать, что журнал выручил че-
ловека. Конечно, знаешь, что читают публикации
о Севсибе: каждый раз после такого выступления
в редакцию приходит много писем от молодежи, же-
лающей попробовать свои силы на новостройках.
Просят прислать адреса СМП, сообщить, какие спе-
циальности наиболее дефицитны, есть ли в поселках
на трассе возможность учиться заочно в техникумах,
институтах. Отвечаешь на такие письма, но человека
ведь не видишь. А тут — вот он, демобилизованный
моряк Николай Перминов с журналом в руках. И еще
мне подумалось* не потому ли так следит Николай
за своей формой, умудрился за 19 дней пути сохра-
нить ее чистой и отутюженной, что поселок понра-
вился ему, показался красивым? Не стал бы он сду-
вать с себя пушинки, если б заведомо знал, что
едет на какую-нибудь заурядную станцию. Красота
окружающих человека построек всегда поднимает,
подтягивает. И, наоборот, убогие и неопрятные до-
мишки, грязь и отбросы на улицах — все это расхола-
живает человека, рождает наплевательское отноше-
ние и к своему внешнему виду, к манере поведения
и, в конечном счете, к делу, которым он занимается.
Раз кругом такая обстановка — все трын-трава, де-
лай, как получится.
В Юности Комсомольской меня встретил прораб
Юрий Михайлович Ключников. Был воскресный день,
на станции собралось много народа, и вид Юрия
Михайловича у многих вызывал недоумение: за-
правленная в брюки голубая майка и детская панам-
ка в «цветочек» на голове. Такой наряд можно бы-
ло, конечно, приписать простоте здешних нравов.
Вечером я узнал от Ключникова подробности завт-
рашнего спецрейса. На словах все было до удивле-
ния просто. Утром загружаем ЗИЛ-130 бочками с со-
ляркой, картошкой, тушенкой, канистрами с бензи-
ном, кладем еще два лодочных мотора «Вихрь», свой
скарб и едем к месту посадки самолетов. Это всего
каких-то пять километров. Сюда прибывают один за
другим три «борта» — три Ан-2, заказанные в То-
больске. Перегружаем все хозяйство по машинам,
«от винта» и — через шесть часов мы в Уренгое.
Такую добрую картину нарисовал мне Ключников
на сон грядущий.
Утро началось с того, что один лодочный мотор
оказался запертым на складе, а заведующий куда-то
ушел, и мы целый час его дожидались. Потом за
машиной бежала жена Славы Коблова с целой сет-
кой помидоров. Пришлось остановиться и взять го-
стинец для мужа. Все-таки в начале десятого добра-
лись до посадочной площадки, на которой овцы
мирно пощипывали траву. Ребята из бригады Саши
Шека, которые сопровождали груз, везли в Урен-
гой собаку по кличке Султан. Увидев овец, Султан —
здоровенная лайка — тут же перемахнул через
борт ЗИЛа и помчался на поле. Овцы рванулись на-
метом в дальний конец летного поля, сметая на пу-
ти флажки разметки.
Сгрузив бочки, мешки, моторы, канистры и коб-
ловские помидоры, мы разбрелись по полю в ожида-
дании самолета. Когда он будет, знать никто не мог:
связи с Тобольском, откуда должен был прилететь
самолет, не было. Не временно, из-за неисправности
какой-нибудь, а просто связи не существовало,
ключников сходил в диспетчерскую будку, но там
тоже ничего не знали.
В одиннадцать Коля Продан, исполнявший до это-
го в паре со своей гитарой старинные романсы, за-
пел разухабистую песню с весьма недвусмысленным
припевом: «...была бы водочка, а повод мы всегда
найдем».
Заслышав эти слова, вся бригада быстро собралась
вокруг машины, и после короткого совещания («мага-
зин уже открылся», «хлеба не забудь», «больше трех
не бери») шофер Володя отбыл в поселковый магазин.
— А что можно сделать? — развел руками Ключ-
ников.— Заявки на самолеты отправлены, я с авиа-
торами сам договаривался. Что там случилось, ума
не приложу. Ветер, наверное, не тот или облачность
низкая. Ни позвонить, ни узнать... Ребятам, конечно,
скучно без дела. Вот уже и за вином поехали...
Через полчаса прямо на летном поле соорудили
импровизированный стол из ящиков. В ход пошли и
кобловские помидоры.
— Все равно сегодня не улетим,— оправдываясь,
говорил Саша Шек.— А вечером в поселке подкупим
помидоров, и сетка опять будет полной.
В три часа ждать стало бессмысленно. Если даже
и прилетит самолет, сегодня вылететь невозможно:
в семь вечера все полеты прекращаются, а до Урен-
гоя — добрых шесть часов с гаком. И снова по-
грузка.
Закатили в ЗИЛ бочки с соляркой, втащили меш-
ки, моторы, канистры, собаку Султана, изрядно «по-
гудевшую» сетку с кобловскими помидорами, усе-
лись сами и поехали в Юность Комсомольскую.
После ужина я сидел в «заежке» и читал остав-
ленную моим предшественником-командировочным
газету «Строитель», выходящую на трассе. Номер
попался интересный. В статье «Наступление про-
должается» рассказывалось о работах по развитию
(есть такой у транспортников термин) станции Но-
ябрьская. Вспоминались майские торжества, когда
первый поезд пришел на эту «пограничную» стан-
цию: здесь, на 203-м километре Уренгойского плеча
дороги, смыкаются Ханты-Мансийский и Ямало-Не-
нецкий автономные округа. Рабочие даже шутки ра-
ди врыли полосатый пограничный столб. Статья бы-
ла написана бодро. «Эстафету приняли...», «вести
дорогу дальше...», «наступление идет без остано-
вок...» — то и дело попадались подобные оптимисти-
ческие фразы.
Отложив газету, я вышел на улицу. Поселок еще
не спал. Откуда-то доносились обрывки музыки,
женский смех, уютно светились окна. «Через ме-
сяц-другой,— подумал я,— все затихнет, люди пере-
берутся в Уренгой, чтобы начать все с нуля. Снова
налаживать быт, строить жилье, прокладывать доро-
ги. Дорогой ценой строится дорога, люди идут на
жертвы ряди дела, избежать трудностей периода ос-
воения невозможно. Но сократить до минимума...»
В кармане у меня лежало письмо, пришедшее в
редакцию. Вернувшись в комнату, я перечитал его
еще раз.
«С большим вниманием и интересом,— писал
М. Златоян из Полтавы,— читаем в вашем журнале
статьи и очерки о Западной Сибири. Дело в том, что
в тех краях работает наш сын. Он окончил строи-
тельный институт и изъявил желание поехать на ра-
боту на север Тюменской области. И попал в ново-
строящийся поселок Новый Уренгой, находящийся на
самом Северном Полярном круге. Там строятся дома
и готовится работа для сооружения крупнейшего
газоконденсатного завода. Мой сын — мастер по
строительству жилья, а в вашем журнале описывают-
ся условия работы и быт молодых строителей дороги.
И вот мне запомнились слова бригадира Виктора
Молозина: «Труднейшие условия! Мороз, болота,
мошка — условия не курортные. Но мы и не жалуем-
ся. Кому жаловаться — богу? Тут уж ничего не из-
менишь: места такие. А вот коттеджами заменить
эти проклятые вагоны можно. Это дело людское,
выполнимое». Так вот, делом людским, выполнимым
является и налаживание хорошо действующей связи
между нами, живущими на Большой земле, и рабо-
тающими в тех краях.
Наш сын уже месяц там, а за это время не полу-
чил ни одного нашего письма и денежного перевода.
А деньги ему понадобились потому, что взял он с со-
бой, рассчитывая доехать за 2—3 дня, а добирался
целых 10 суток...»
Слова «дело людское, выполнимое» были подчерк-
нуты несколько раз красным карандашом.
Утро началось погрузкой бочек, канистр, моторов,
мешков, собаки Султана и кобловских помидоров на
ЗИЛ-130. На посадочную площадку приехали рано,
часов в девять. Снова Султан гонял овец, прораб
Ключников с надеждой смотрел на полотняную
«колбасу», а бригада разбрелась по полю собирать
землянику. В одиннадцать снарядили машину в ма-
газин под Колину песню «...а повод мы всегда най-
дем». На этот раз выпивка закончилась не так без-
обидно, как накануне.
Молодой парень из бригады — назовем его Сла-
вой — «перебрал», видимо, немного и поэтому решил
повторить.
Но не пешком же идти в магазин. Он забрале*
в кабину грузовика и стал мучить стартер. Машину
не заводилась.
71
Он подкачивал бензин, подсасывал воздух, но все
было тщетно: мотор молчал.
— Кончай, Славик.
— Аккумуляторы посадишь.
— Врежешься где-нибудь, костей не соберешь.
Но все увещевания ребят ни к чему не приводили.
Славик, продолжая улыбаться, все жал и жал на
стартер. Ключников подошел к машине и открыл
дверцу.
— Вылазь! — приказал он.
— Не вылезу,— улыбался Славик в ответ.
— Вылезешь.— В голосе Ключникова звучала уг-
роза.
— Не вылезу.
— Тогда вылетишь из бригады. Сегодня же напи-
шу докладную начальнику СМП...
— А он в отпуске.
— Ничего, главный инженер подпишет.
— Главный тоже уехал.
— Все.—Ключников захлопнул дверцу.— Ты у нас
больше не работаешь.
Докладная была действительно написана. Славу
не уволили, а перевели в другую бригаду, которая
работала в Салыме. Это означало потерю северного
коэффициента, а главное, потерю товарищей, с кото-
рыми вместе он выдержал самые трудные месяцы
Уренгойского десанта. Я не знаю, чем закончилась
эта история, потому что Слава не подчинился распо-
ряжению. Через два дня он догнал нас в Уренгое,
трезвый и покаянный, и вся бригада Саши Шека
принялась уговаривать прораба. Ключников ие со-
глашался изменить свое решение, но и бригада не
отступала.
Я не дождался конца истории, но твердо убежден,
что истории могло бы не быть вообще, что виной все-
му — вынужденное безделье, порождающее и пьян-
ку, и разболтанность, и какое-то неестественное по-
лурабочее состояние.
К вечеру мы опять погрузили свой багаж: «диван,
чемодан, саквояж», то есть бочки, мешки, моторы,
канистры, Султана, остатки кобловских помидоров.
Ключников справедливо рассудил, что про его заяв-
ки тобольские авиаторы просто забыли.
— Вот что,— сказал он одному рабочему.— Езжай-
ка ты, Володя, в Тобольск. Переночуешь, а раненько
утром бери ноги в руки — ив аэропорт. Требуй са-
молеты...
В двенадцать тридцать на следующий день приле-
тел АН-2, и наш спецрейс закончился в Уренгое,
точнее на маленьком обитаемом острове, где располо-
жен прорабский участок СМП-522.
Место, выбранное под площадку посел-
ка станции Тихая, красиво необыкно-
венно. На песчаном взгорке брошен
благородного пепельного цвета ягельный ковер, рас-
шитый зелеными кочками голубики. На этом живом
ковре расположилась небольшая, но крепенькая кед-
72
ровая роща. Справа озеро, слева озеро, а в двух ки-
лометрах — река Пур, величиной чуть-чуть, может,
меньше всем известного тихого Дона. Удивительное
дело, как широко известны географические названия
рек, озер и возвышенностей в обжитой, традицион-
ной части страны и как мало мы знаем о тех же
речках, горных хребтах и низменностях, располо-
женных за Уральскими горами, хотя и масштабнее
они и значительнее. Видимо, закрепляются в памя-
ти народной лишь те места, что связаны с актив-
ной деятельностью человека, с историческими и ге-
роическими событиями. А чем прославила себя река
Пур? Однако вспомните, как завоевала себе призна-
ние Ангара, прославленная и стихом и песней после
строительства Братской и Усть-Илимской ГЭС. Такая
же судьба, я уверен, у почти безвестной ныне реки
Пур, на берегу которой растет Уренгой.
Нужно внести, правда, некоторую ясность в пута-
ницу, существующую в названиях. Прежде всего
Уренгоев несколько. Есть поселок Уренгой на берегу
Пура в восьмидесяти пяти километрах от Полярного
круга. Новую часть этого поселка называют иногда
Пур, а более древнюю, расположенную на месте не-
нецкого стойбища,— Старый Уренгой («уренгой» в
переводе с ненецкого означает «гнилое место»). Кро-
ме того, примерно в девяноста километрах от этого
места есть аэропорт Ягельное и поселок Новый Урен-
гой. Именно там сегодня строится крупнейший газо-
конденсатный завод, там работают посланцы XVIH
съезда ВЛКСМ, там в недалеком будущем вырастет
80-тысячный город. Вот такие «географические ново-
сти». Из-за такой путаницы случается, что грузы,
предназначенные газоконденсатному заводу, попада-
ют к дорожным строителям, обосновавшимся на бе-
регу Пура. Совсем недавно Тюменский облисполком
вошел с просьбой в Президиум Верховного Совета
РСФСР «о переименовании п. Новый Уренгой На-
дымского района в п. Уренгой и п. Уренгой Пуров-
ского района в п. Геологический» (цитирую по тю-
менским газетам).
К счастью, мне удалось разобраться во всей этой
географической чехарде еще в Тюмени, так что, хоть
и не «шибко быстро», потратив всего (!) четыре дня
на дорогу, я добрался до места дислокации прораб-
ского участка СМП-522, которое ребята окрестили
«обитаемым островом». Внимательный читатель, со-
считав все погрузки-разгрузки, может сказать:
«Самолет ведь прилетел в Уренгой к вечеру третье-
го дня. Откуда же взялся день четвертый?»
А вот откуда. Аэропорт находится на правом бере-
гу Пура, прорабский участок — на левом. По пря-
мой это всего километров двенадцать— пятнадцать.
Но это по прямой, да если бы была дорога, да паром-
ная переправа. Одним словом, теоретически можно
бы и в полчаса весь этот путь проделать. Практиче-
ски — еле уложились в сутки.
Но лучше все по порядку. Пролетая над прораб-
ским участком (два сборно-щитовых общежития, ба-
ня, колодец с журавлем да недостроенный склад),
наш АН-2 помахал крылышками. По этому сиг-
налу Саша Урядов, водитель вездехода ГАЗ-71, завел
свою «трещотку», нырнул со взгорка в болота, кото-
рые окружают «обитаемый остров», и направился к
берегу реки. На берегу они вместе с другим меха-
ником, тоже Сашей, только по фамилии Коцюк,
спихнули в воду дюралевую лодку марки «Ока», на-
весили мотор и взяли курс на Уренгой. Наискосок
это десять километров. На правом берегу часок по-
бегали в поисках машины, чтобы добраться до аэро-
порта. Нашли, уговорили шофера, добрались до нас.
Все вместе мы загрузили бочки, мешки, канистры,
моторы, собаку Султана, остатки кобловских поми-
доров и, наконец, себя самих. Доехали до берега.
Сгрузились. Лодка «Ока» может взять килограммов
четыреста пятьдесят. Только одна бочка с соляр-
кой весит триста килограммов. Л картошка, а ту-
шенка, канистры с бензином, два десятка запасных
цепей к пилам «Дружба»?! А люди со средним весом
семьдесят пять килограммов?
Короче говоря, начав переправу в 11 часов вечера,
мы в 5 часов утра следующего дня вышли на по-
следнюю кривую: «левый берег — необитаемый
остров».
Этот двухкилометровый путь по болотистой пойме
мы проделали, стоя на крыше кабины вездехода: ина-
че рисковали вымокнуть до нитки, когда ГАЗ-71 ны-
рял в глубокие ямы. По пути подняли четыре стаи
мелких уток, вспугнули громадную лосиху с детены-
шем, которая без спешки, независимо и гордо, часто
оборачиваясь и подзывая своего малыша, удалилась
в рощицу у озера, и в половине шестого, оглуши-
тельно тарахтя моторами, с шиком развернувшись на
одной гусенице, остановились у колодца с журавлем...
Пора объясниться с читателем, который, быть мо-
жет, в недоумении пожимает плечами: «Для чего
так долго и подробно рассказывается о перипетиях
этого путешествия? Уж не кокетничает ли автор
своим долготерпением?»
Могу сразу сказать: для журналиста такой путь
интересен и даже развлекателен.
И если бы мне довелось его проделать одному, без
бригады и груза, то я скорее стал бы рассказывать,
как Ан-2 дотягивал до Уренгоя на последнем литре
горючего; как глох лодочный мотор на середине ре-
ки, и нас сносило течением километра на три, преж-
де чем удавалось его починить; как пускал пузыри
в болоте старенький вездеход. Немало было таких
довольно драматических моментов, и распиши их
в подробностях — получилась бы целая приключен-
ческая повесть. Но мне хотелось другого.
Во-первых, чтобы сверстники молодых людей, ра-
ботающих на Тюменском севере, представили себе,
для чего нужна железная дорога, какие выгоды
она сулит, как облегчит и ускорит труд буровиков,
строителей газопроводов.
Прикиньте-ка. Газопровод строить—тут не две боч-
ки солярки нужны, не два мешка картошки. Сотни
тысяч тонн оборудования, горючего, продовольствия.
А как доставлять? А вот так: кое-что по воздуху,
по воде — 3 месяца в году да по зимнику. А ведь тем
не менее газопроводы строятся. И «Уренгой — Вынга-
пур — Челябинск» и «Уренгой — Государственная
граница СССР».
Ждут, конечно, с нетерпением железную дорогу,
но пока используют и бездорожье.
А во-вторых, рассчитывал я, что прочитают эти
заметки и сами строители, и проектировщики, и ра-
ботники планирующих организаций. А прочитав, вни-
мательнее прислушаются к голосу ученых, которые
в числе обстоятельств, играющих роль резервов эф-
фективности, на первое место ставят «опережающее
создание производственной инфраструктуры...».
После этих разъяснений мне все-таки хочется
спуститься из «инфрасферы» в сферу непосредст-
венного производства и рассказать о двух бригадах
самого распространенного в Западной Сибири про-
филя: о «гидриках» и плотниках-лесорубах.
Ну, плотники — это понятно. А вот «гидрики»... По-
этому с них и начнем.
Вообще-то «гидрики», или гидромеха-
низаторы,— профессия древняя. Ис-
пользование энергии воды для строи-
тельных работ было известно около двух тысяч лет
назад. Но с тех самых пор и почти до наших дней
способ гидромеханизации применялся для разработ-
ки месторождений полезных ископаемых, дноуглу-
бительных работ, строительства каналов, плотин и
дамб. Новое содержание этот термин получил имен-
но у нас, на Тюменской земле. Когда ученые инсти-
тута «Сибгипротранс» совместно со строителями ре-
шили рискнуть: поставили один землесосный снаряд
и давай качать из озера пульпу...»
Вот с такой лекции началось мое знакомство с
Валентином Лукьяненко, машинистом-багермей-
стером земснаряда. Признаться, я не удивился по-
знаниям Валентина, ибо сразу почувствовал благого-
вение перед названием его профессии, которую так
просто, без тренировки, и не произнесешь. Работает
Лукьяненко в экипаже Виктора Городника, опытно-
го бригадира, которого даже не пугает несчастливое
число рабочих в бригаде — тринадцать. Слесари,
сварщики, электрики, машинисты обслуживают эту
напоминающую издали динозавра громадину, име-
нуемую земснарядом. Туловище «динозавра» вблизи
оказывается похожим на рубку буксира. Да, тут есть
и рубка, где сидит машинист-багермейстер, есть и
машинное отделение — там рабочее место просто ма-
шиниста.
Подчиняясь воле машинистов, «доисторическое
животное», чавкая и пуская слюни, засасывает в
свою ненасытную утробу пульпу со дна реки. Сам
земснаряд в воде, а «хвост» — на берегу. Этот
«хвост» — трубы большого диаметра, по которым
«пережеванная», то есть частично освободившаяся от
влаги пульпа выбрасывается на берег. Постепенно
«хвост» все удлиняется и удлиняется, вслед за ним
уходит дальше от берега бульдозер, разравнивая по
пути грунт, так что в болотистой пойме образуется
песчаная дорога.
— Видите,— показывает Валентин на яркий буль-
дозер,— он сейчас метров на четыреста от берега
отошел. А всего до Тихой два километра. Там будет
намываться площадка под поселок, станцию...
Я представил себе не видный отсюда колодец с
журавлем. Пожалуй, только он да кедровая рощица
останутся через несколько лет на том месте, где
сейчас прорабский участок Ключникова. Ведь стан-
ция закладывается немного в стороне, и когда ее
построят, временный поселок прекратит свое суще-
ствование. Куда же поедут строители из СМП-522?
К Норильску, на Ямал? Кто знает? Одно известно
точно: опять от уюта, теплоты домашней — в неуст-
роенность, опять «начнут с начала, начнут с нуля»,
73
как поется в популярной песне. Такую профессию
себе выбрали...
«Гидрики» тоже народ кочевой.
— Наша старушка,— Валентин постукивает по
пульту управления земснаряда,— ветеран строи-
тельного управления № 489. Помню, как намывали
мы первый километр этого северного плеча дороги
на разъезде Ульт-Ягун. Давно ли было?! А потом
пошло: Тромьеган, Аган, Варьеган, Почекуйка, Чер-
ный мыс... Это у нас вроде скороговорки такой, шут-
ка, конечно, но так примерно мы и кочуем.
Еще зимой бригада разобрала своего «динозавра»
на составные части. Отделили не только «хвост, го-
лову и лапы», но и само «туловище» пришлось раз-
делить на отдельные узлы и механизмы. Самолетом
переправили все составные части из Сургута сюда,
в Уренгой. В марте начали монтаж. Первого июля
земснаряд был запущен.
— С тех пор и чавкает наша старушка,— говорит
Валентин.— День и ночь, день и ночь. Без выход-
ных и перекуров. А мы работаем посменно, как на
каком-нибудь заводе. Правда, когда монтаж вели, с
временем никто не считался. Рвались в передовики?
Вряд ли. Наша посудина больше 120 кубов в час не
потянет, куда нам тягаться с более совершенными
земснарядами. Просто все ребята в бригаде понима-
ли: не смонтируем в срок — задержим строителей
дороги, не будет железной дороги — газовики не
выйдут на проектную мощность. Тут цепочка нево-
оруженным глазом видна. Как говорят у нас в бри-
гаде: Тромьеган, Аган, Варьеган, Почекуйка, Черный
мыс...
Валентин Лукьяненко — смоленский уроженец.
Белокурый, высокий, складный. В армии был десант-
ником. Впрочем, он не считает, что был: «Десантник,
он уж до гроба десантник». После демобилизации, не
заезжая домой, поехал прямо в Сибирь. Почему не
домой? Тесно дома показалось. Видел море, вцдел
небо, да не просто видел, а попробовал, что почем.
Ну, видно, после таких стихий только Сибирь могла
удивить. Удивила! Остался, устроился работать шо-
фером. Здесь встретил Люду, поженились. А из до-
ма все зовут: родину забыл, возвращайся да возвра-
щайся.
— Соблазнили все-таки,— улыбается Валентин.—
Ладно, думаю, переберусь на Большую землю. Но
ведь это только так говорится, по традиции. А на
самом деле Большая земля у нас, «за камнем». По-
жил в городе, чувствую — задыхаюсь. Тесно. Все
такое маленькое: расстояния маленькие, рыба ма-
ленькая, зарплата маленькая. Да и масштабы рабо-
ты — разве сравнишь! Не выдержал я, вернулся.
Еще и брата Генку с собой прихватил, он у нас сей-
час в бригаде сварщиком работает...
Мне приходилось десятки раз задавать такой воп-
рос новоиспеченным сибирякам: зачем приехали, что
ищете в этом краю? По-разному отвечали. Кто же-
ну-мужа искать, кто приключений, кто деньжат под-
накопить, кого охота-рыбалка привлекла. Но каждый
обычно щелкал пальцами и добавлял: «Ну, и вообще».
Что означало это «вообще», понять было трудно. По-
жалуй, Валентин первый нашел емкое и точное сло-
во «масштаб». Пространственный, профессиональный,
материальный и, конечно, совсем иной масштаб са-
мостоятельности, сибирский масштаб!..
74
Н»а Обитаемом острове работали две
бригады: Саши Шека и Славы Коб-
лора, которому предназначалась зло-
получные помидоры. Третью бригаду плотников-ле-
сорубов прораб отправил «в ссылку»: сорок пять
километров вверх по Пуру, потом еще пятнадцать
по притоку — речке Ямсовей, почти шесть часов
добиралась тяжело груженная моторка до бригадного
балка. Отправился туда Ключников по нескольким
причинам. Во-первых, у Вити Духина — так звали
бригадира — не было радиостанции. Не было и ни-
какого транспорта, кроме надувной резиновой лод-
ки, на которой разве что рыбу в озере ловить спод-
ручно, а о выходе в Пур и думать нечего. Наземно-
го транспорта, то есть вездехода, бригада тоже не
имела. Пешком напрямик от них до Тихой было все-
го двадцать с небольшим километров, но о том, чтоб
пройти, нечего было и мечтать: вода стояла еще так
высоко, что заливала за голенища болотников. Вот и
получалось, что раз в неделю к духинцам надо обя-
зательно наведываться. Случись даже легкая трав-
ма — ни сообщить, ни помощи дождаться.
Во-вторых, бригада попала в блокаду продуктовую:
кончились сахар, хлеб, курево. Из остатков муки
пекли оладьи. Это, правда, выяснилось только на ме-
сте, но догадываться о таком положении Ключников
догадывался.
В-третьих, следовало выдать духинцам зарплату и
собрать с них профсоюзные взносы. Куда могли ре-
бята использовать денежные знаки в своем одино-
ком лагере, одному богу было известно, но того тре-
бовал порядок.
В-четвертых, было все остальное: передать письма
от родных, подвезти горючее для бензопил, прове*
рить, насколько соответствовали закрытые бригади-
ром наряды подлинному объему работ на точке.
Я присоединился к Ключникову с радостью. Хотел
посмотреть, каков он, Витя Духин, друг-приягель Са-
ши Рябкова. Дело в том, что Рябкова я знал еще по
СМП-227, когда он работал в Мегионе, недалеко от
озера Самотлор. Когда началось строительство
БАМа, Рябков перебрался на Бурятский участок, в
Севере байкальск. Стал бригадирствовать, да так, цто
вывел бригаду в лидеры, сам получил премию Ле-
нинского комсомола.
...Мы сидели в полутемном бригадном балке, хотя
на дворе опустилась светлейшая белая ночь, но и
окошко и дверь были плотно задраены: мошка зве-
рела. Не помогали даже ни самодельные смолокуры,
ни букеты черемухи, обильно расставленные в бан-
ках «для запаху». Все семеро смелых (так окрестил
их возивший в последний раз продукты и бензин ло-
дочник Саша Коцюк) читали письма от жен, родите-
лей, любимых. Начитались до того, что Миша Ах-
тырский сказал:
— Это когда же мы в последний раз ребятишек
видели?
— Своих? — уточнил Володя.
— Любых,— обиделся на такую реплику Миха-
ил.— В мае это было, на праздники. Как раз два ме-
сяца миновало.
— Михалыч,— обратился бригадир к Ключнико-
ву,— ты белье постельное привез?
— Так мы же в Уренгой стирать возим,— начал
оправдываться прораб,— а прачка третий день где-то
гуляет, никак ее не поймаешь...
Хороший человек Михалыч, подумал я опять, но
не «аганбегяновец». Вот ведь цепи для бензопил на-
точить сумел, привез, чтоб работа не приостанавли-
валась, а чистые простыни... Ладно, мол, и так по-
спят, все равно комаров давить, по-лешачьи живут.
— А москитные сетки? — продолжал допрашивать
Духин.
— Я вам энцефалитки привез.— Ключников выло-
жил стопку защитного цвета курток.
— Да ты посмотри, какая у нас жара стоит! —
взъярился бригадир.— Что мы в этих душегрейках?
Потом изойдем — никакая «Дэта» от гнуса не спа-
сет. Неужели нельзя было москитки выписать?
— Да нет их на складе, что ты на меня собак
спускаешь,— обиделся прораб.— За энцефалитками
человек специально в Новосибирск ездил. А моски-
ток вообще, говорят, не положено...
— Кому же они положены, если не нам? — уди-
вился Юра Малиневский.
— В общем, так, Мыхалыч,— подвел итог брига-
дир,— попробуем работать в ночь: вроде немножко
попрохладней, и твари эти поменьше заедают. Если
не выйдет, снимай нас с этого участка к чертовой
бабушке.
— Да вам же еще на шести гектарах лес валить,
а ты снимай,— запротестовал Ключников.— Вас сни-
му, а кто работать будет?
Попрепирались еще несколько минут для порядка.
Конечно, никто из ребят оставлять работу не соби-
рался. А высказывали то, что накипело. Припомни-
лись слова Молозина: «Дело людское, выполнимое».
Это в полной мере относилось и к москитным сеткам
и к чистому белью...
— Что слышно от моего бамовского друга? — спро-
сил меня Духин.
— Да вот комиссаром был. Отряда имени
XVIII съезда...
— Ну-ну,— одобрительно откликнулся Духин.—
У нас тут тоже свой нештатный комиссар объявил-
ся — Вася Леоненко. Чудик...
Это шукшинское слово, по-моему, очень точно оп-
ределяло характер новичка. Уже на исходе комсо-
мольского возраста выхлопотал он себе путевку в
Сибирь. Точнее сказать, с боем выбил, потому что
секретаря комитета комсомола крупнейшего в горо-
де Красный Луч на Ворошиловградщине завода не
хотели отпускать ни партком, ни дирекция. Впро-
чем, вот как рассказывает об этом сам Васи-
лий.
«Когда я уезжал с завода, то есть еще не уезжал,
а подал только заявление на расчет, Все руководите-
ли стали на дыбы. Дошло дело до директора. При-
глашает меня к себе. «Ты что ж это, Василь, колен-
ца выкидываешь? Завод с каждым днем силу наби-
рает, такие перспективы открываются перед моло-
дыми— дух захватывает. Тебе лй, комсомольскому
вожаку, этого не знать! У тебя техникум за пле-
чами, опыт работы с людьми — большую должность
доверить можем. А ты — в тайгу, в тундру, куда
Макар телят не гонял...»
Слушаю я директора, а сам думаю: и правда, как
я без завода, без привычной суеты и колготни буду
жить?
Думаю так, а сам директору говорю: «Надоело ру-
ководить. Хочется руками поработать...»
Не поверил он тогда мне. Отправил в отпуск. «От-
дохни,— говорит,— одумайся».
Отгулял я отпуск и снова прихожу с тем же заяв-
лением. Глянул директор, крякнул и подписал. Я бе-
гом в райком за путевкой. На самолет и — в Тю-
мень».
Василий выпускает стенную газету на подручном
материале — дощечках и пеньках. И фотографирует:
до работы, после работы и даже во время работы
У него всегда под рукой два аппарата, заряженные
пленками. В этой маленькой точке на Ямсовее он за-
печатлел каждый шаг каждого члена бригады. Ребя-
та посмеиваются над ним иногда, но чувствуется —
им это нравится. Нравится иметь личную фотоле-
топись.
«В Тюмени,— продолжает свой рассказ Вася,—
меня направили в СМП-522. Пока по управлению бе-
гал, оформлялся, много хорошего об этом поезде
услышал. Я и в комсомольский штаб стройки по ста-
рой привычке заскочил: смешно, конечно, но я себя
как бы комсомольским секретарем считаю. Ну и в
штабе много хорошего об СМП наслышался.
Повезло, попал я в бригаду Вити Духина, сюда,
на Ямсовей. Как на свежий воздух вырвался! Труд-
ней в Ямсовее раз в десять по сравнению с другими
местами, а работается и живется хорошо. А ведь
у нас даже поварихи нет. Сами готовим, сами рыбу
засаливаем, сами убираем в балке и печку топим».
Мы отправлялись в обратный путь рано утром.
Бригада только что вернулась с работы. Ребята опо-
лоснулись наскоро в речке, позавтракали перед
сном (все перепуталось, раз уж поменяли день на
ночь) и стояли на высоком берегу, подавая советы
нашему кормчему Саше, у которого, конечно же, не
заводился мотор. Наконец «Вихрь» взревел и, дока-
зав, что он действительно работает, как вихрь, в од-
но мгновение унес лодку за поворот. Я оглянулся на-
зад. Сквозь редкие кустики на плесе еще долго бы-
ли видны высокая фигура Миши в белой майке,
тельняшка Володи и оранжевая рубаха Вити Духи-
на. Кедры на берегу слились со своим отражением в
серой ряби реки, и только яркие пятна маячили
вдалеке.
Так и сами эти люди, подумал я, неповторимостью
своих характеров расцвечивают унылое однообразие
этого края. Кладут на болота рельсы, поднимают в
небо вышки, преображают безжизненные простран-
ства, добывая из земных глубин нефть и газ. И очень
скоро, всего через год, люди приведут в Уренгой
первый поезд.
СЛУЖИТЬ людям
У НАШИХ
КОЛЛЕГ
стъ у меня друг, он
влюблен в камни Арме-
I 1>| нии- &а клочке земли
I А он Развел са&> построил
I домик и под
I I Л этим домиком копает
jB/g/gr подвал. В этой работе
он со смешной щепе-
тильностью придерживается та-
кого принципа: то, что может
сделать сам, никогда не передо-
веряет другим. И после напря-
женного умственного труда, по
выходным дням, работает на
своем участке. Я побывала как-
то на этом клочке земли. И мой
друг с восторгом рассказывал,
как живут камни, как играет с
ними воздух, как чувствуют они
аромат тимьяна. Нашу беседу
прервал соседский мальчик, ре-
бенок четырех-пяти лет:
— Дядя Вишт, хочешь, приве-
ду своих кроликов и все вместе
мы выроем подвал твоего до-
ма?..
Это наивное, но чистосердеч-
ное желание ребенка очень муд-
ро и символично. Принципами
дружеской помощи, постоянного
вмешательства в дела и заботы
республики и руководствуется в
своей работе «Гарун» («Вес-
на») — журнал армянской моло-
дежи.
Недавно наша республика
стала трехмиллионной. Трех-
миллионная страна, миллион-
ная столица создают необхо-
димость решения уравнений с
многочисленными неизвестны-
ми. Статьи и очерки «Гаруна»
подсказывают: промышленные
объекты, культурно-просвети-
тельные предприятия должны
равномерно распределяться в
больших и малых городах и по-
селках республики. Воспитание
юноши и молодого человека, за-
нимающегося решением этих
важных задач, стало одной из
ведущих проблем «Гаруна».
Публицистика для литератур-
но-художественного, обществен-
но-политического журнала часто
играет роль позвоночника. Имен-
но в этом жанре больше всего
активно проявляется предостав-
ленная возможность социального
поведения.
В канун 1977 года секретари-
ат Союза писателей СССР обсу-
дил публицистику литературной
печати Армянской ССР. В реше-
нии, в частности, был указан
«широкий диапазон» публици-
стики журнала «Гарун». И дей-
ствительно, в течение своего бо-
лее чем десятилетнего существо-
вания «Гарун» обращался к про-
блемам охраны природы, чисто-
ты воды и воздуха, проблемам
нравственного, интернациональ-
ного и эстетического воспитания
молодежи.
Публицистике «Гаруна» при-
суща глубокая проблематич-
ность, страстность, художествен-
ность. Эту линию передали жур-
налу его основатель — редактор
журнала, ныне первый секре-
тарь правления Союза писателей
Армении прозаик Вардгес Пет-
росян, Мушег Галоян, Ованес
Мелконян, Григор Джаникян и
другие.
Меружан Тер-Гуланян пред-
ставляет второе поколение пуб-
лицистов «Гаруна». Еще со сту-
денческой скамьи он начал со-
трудничать в редакции. Первые
трудности не испугали его. Ра-
ботал усердно, получалось с
трудом. До сих пор получается
трудно. Однако, когда читаешь
его статьи и очерки, не чувст-
вуешь, что эти легкие, светлые
строки писались так трудно. В
прошлом году по командировке
редакции Меружан Тер-Гуланян
побывал в Сибири и написал се-
рию очерков о строителях
БАМа. Эта работа «Приближаю-
щийся океан и удаляющиеся лю-
ди» удостоена премии Ленинско-
го комсомола Армении 1978 го-
да.
Как и раньше, одним из веду-
щих публицистов журнала оста-
ется лауреат премии Союза
журналистов СССР 1971 года
Марго Гукасян. Ее перу принад-
лежат многочисленные проблем-
ные статьи и очерки, посвящен-
ные охране природы, жизни и
воспитанию молодежи. Пред-
ставляемый читателям «Юно-
сти» отрывок является частью ее
большого очерка «Сердце армян-
ских рукописей». Этот очерк для
Марго Гукасян — журналистки,
творчество которой от начала до
конца пропитано современными
вопросами и проблемами, не-
сколько необычен. Однако его
яркая публицистичность и вос-
питательная направленность об-
ращены именно к сегодняшнему
молодому поколению.
76
Владимир Задаян — наш не-
штатный автор. Его небольшая
зарисовка «Здравствуй. раду-
га!» — это поэтический рассказ
о дружбе и совместном труде мо-
лодых людей разных националь-
ностей.
Нынешней осенью армянский
народ отмечает 150-летие своего
возрождения. Полтора столетия,
назад восточная часть армянско-
го народа связала свою судьбу с
великим русским народом, брат-
ской рукой которого ц были ос-
вобождены армяне от персидско-
го и турецкого ига. Народ боль-
шой древней культуры приобрел
возможность мирного. созида-
тельного труда благодаря брат
ской дружбе, подтвержденной на
новой социальной основе Ок-
тябрьской революцией.
Одно из таких проявлений
дружбы — приглашение журна-
ла «Гарун» на страницы «Юно
сти».
Должна сказать что «Юность»
помогала нам. группе людей, ос-
новавших «Гарун», сама не зная
этого.
Когда мы планировали наши
первые номера, часто кто-либо из
нас говорил: «Юность» делает
так» или «не делает так». Даже
при определении формата жур-
нала мы ориентировались на
«Юность».
Постепенно «Гарун» нашел
свое русло, очертил границы
своих выступлений, определил
цвет и силу своего слова. Пусть
не создается впечатления, что
это уже оконченный процесс. И
сегодня мы ищем, потому что
жизнь заставляет нас искать
новые краски, новые выразитель-
ные средства.
Анжела АКОПЯН,
главный редактор
журнала «Гарун».
ВЛАДИМИР ЗАДАЯН
здравствуй,
радуга!
ейчас вы посмотрите передачу, которая
расскажет о бригаде, руководимой моло-
дым ткачом Аенинаканского текстильного
комбината, лауреатом премии Ленинского комсомола
Грантом Амирханяном».
— Мы увидим сами себя,— сказали шесть деву-
шек и один парень и удобнее расположились перед
телевизором.
Диктор говорил уже за кадром.
«Ленинакан по праву называют городом текстиль-
щиков, здесь почти в каждой семье есть текстиль-
щики».
Один за другим меняются кадры. Вот по улицам
движется непрерывный людской поток. Веет легкий,
как бы постоянно прописанный в городе ветерок
(говорят, ленинаканцы гостей города узнают издали:
гости непрерывно поправляют развевающиеся на
ветру волосы).
— Грант, а на экране ты красивее,— улыбнулась
Нина (как раз у нее в общежитии и собралась
бригада).
Остальные девушки, чтобы проверить Нинины
слова, сразу оторвались от экрана н повернулись к
Гранту.
— Да погодите вы, вон наша Людмила!—восклик-
нул бригадир.— Идет и, как всегда, глаза — в небо.
— Ну, увидела, что снимают, спустилась бы с не-
бес,— сказала одна из девушек.
— А почему я не имею права быть такой, какая я
есть? — серьезно и обиженно возразила Людмила.—
Ведь я не артистка какая-нибудь...
В кадре уже показался комбинат с его внушитель-
ными корпусами. Мелькнула проходная, потом круп-
ным планом — вахтер.
— Наш дядюшка Саркис так перебирает четки,
как будто это костяшки счетов,— сказала Ася.
— Человек устал,— кратко объяснил Грант.
— С чего бы ему устать? Сидит себе и пропускает
рабочих на комбинат,— удивленно посмотрели на
бригадира девушки.
— А разве это легкая работа? Учтите, каждое ут-
ро, приветствуя наших работников, тысячу раз пов-
торяет «Доброе утро». Раз за разом, непрерывно.
— Грант, первым здороваешься с ним ты, а вот
попробуй не здороваться, и остальные последуют
твоему примеру,— оживилась Нина. Через минуту
появившиеся на экране кадры очень обрадовали и
взволновали ее.
— Ой, Мария, это ты?
— А вот и Асмик...
— Тамара, Алла...
— Наш цех.
«Перед началом работы Грант собирает дёвушей и
рассказывает им какую-нибудь смешную историю.
И вот в таком приподнятом настроении члены брига-
ды занимают свои места у станков».
— Веселый мы все же народ — заметила Нина
Янишевская.
«Грант Амирханян пришел на комбинат после
окончания школы. Профессию ткача освоил всего за
три месяца».
«В истории комбината не так уж много подобных
примеров...»
— Мигран Степанян. Ребята, давайте послушаем.
«Сейчас Грант является одним из наших лучшйх
работников, за эту пятилетку он решил выполнить
задание двух пятилеток. Я уверен, он достигнет сво-
ей цели!».
«Вы слушали знатного текстильщика, лауреата Го-
сударственной премии СССР Миграна Степаняйа».
Нити на станках соединялись друг с другом, и
ткань становилась все длиннее и длиннее.
Грант и девушки сновали между станками, прове-
ряли, не оборвалась ли нить.
«Для ткача самая трудная ч неприятная вещь —
обрыв нити. Ведь тогда он должен делать непреду-
смотренную работу, а на это трудно найти время.
Каждая из шести девушек вместе со своим бригади-
ром обслуживают по 48 станков. Это вдвое больше
нормы».
Как же обеспечить бесперебойную работу стан-
ков? На комбинате подсчитали: в течение дня ткач
«пробегает» в среднем 11 километров. Это — расстоя-
ние между станками. Если быть внимательным, его
можно сократить, и девушки из бригады Гранта
77
доказали это. Сегодня их «беговая дорожка» состав-
ляет всего 7 километров.
Да, внимание — первая забота каждого члена
бригады. И для этого они делают все, прибегая даже
к такой крайности — во время работы девчата сни-
мают с рук свои кольца — кладут на подоконник.
В цехе никто не разговаривает друг с другом, все
только прислушиваются к шуму станков. (Здесь слу-
шать гораздо важнее, чем разговаривать...)
В это время на экране — лицо девушки.
Взгляд, полный любви, обращен к бригадиру. Это
Алла.
— Попалась,— прошептала Асмик,— и как ловко
оператор подметил!
Алла смутилась, но ей на помощь подоспел голу-
бой экран.
«Девушки любят своего бригадира. Любовью иск-
ренней, доходящей иногда до благоговения. А когда
любишь кого-нибудь, стараешься предстать перед
ним без всяких изъянов. В данном случае это зна-
чит хорошо работать. Члены бригады выпускают про-
дукцию только со Знаком качества. А как родилась
эта любовь?
Вот эти станки, которые вы видите, комбинат по-
лучил совсем недавно. Последнее достижение тех-
ники. Впервые в истории текстильной промышленно-
сти возникла возможность повысить производи-
тельность за счет увеличения скорости. Для установ-
ки станков в Ленинакан были командированы спе-
циалисты. Пока они были здесь, дело шло на лад.
Но как только уехали, станки стали останавливаться.
Ткачи никак не могли найти выход.
Тогда за дело взялись Грант Амирханян и Мигран
Степанян. Изучили конструкцию станков, подобрали-
таки «ключик» к загадке. Через пару дней новые
станки давали столько же продукции, сколько и
старые. А совсем недавно Грант и Мигран достигли
запланированной мощности: за час они получают
7 метров 40 сантиметров ткани.
Быть специалистом своего дела — это и есть то
непременное условие, без которого невозможна лю-
бовь подчиненных. Но не меиее важен и личный при-
мер Гранта: он всегда добр, заботлив. Для подтвер-
ждения сказанного приведем несколько цитат из днев-
ника Гранта за этот год:
«12 января. Был день рождения Асмик. Подарил
куклу и снежок. Не спросила: а для чего снежок?
Все восхищалась. Потом вместе пошли в кино».
«15 февраля. У Тамары сильно болела голова, на
работу не вышла, я поработал за нее. Трудновато
было, но ничего. После работы пошел к ней в обще-
житие, поджарил для Тамары рыбу с луком и тарху-
ном. Похвалила: «Как вкусно!».
«14 июля. Всей бригадой провожали Нину в дом
отдыха. Я сказал: «Мы будем скучать». А она чуть
было не осталась, хотела отказаться от поездки...»
Интересна каждая запись дневника. Но на этот раз
мы ограничимся этими...»
Комната общежития огласилась знакомыми мело-
диями.
— Ребята, наша любимая: «В саду роза распусти-
лась, ждет соловья»! — воскликнули собравшиеся.—
Рубен Матевосян поет.
— Хороший певец, звание народного артиста рес-
публики получил,— сказала Тамара.
— Что ни говори, а телевизионщики неправильно
поступили. Сказали бы нам — мы и сами бы ее спе-
ли,— обиженно вставила Асмик.
«Из семи членов этой бригады четверо — русские,
одна — украинка, двое — армяне».
...В Центральном архиве музея Октябрьской рево-
люиии хранится интересная папка, на ней значится:
«1922-й год».
78
Вот заявление представителя Армении, обращен-
ное в Совет труда и обороны РСФСР: «В неуклон-
ном стремлении оказывать помощь всем нуждаю-
щимся, правительство РСФСР принесло Армении в
дар ткацко-прядильную фабрику. Этот щедрый дар
сулил трудящимся массам Армении в будущем не-
исчислимые выгоды. С сознанием великого значения
этого конкретного проявления братского союза с
трудящимися России, мы приняли все меры к пере-
броске фабрики на место. Быстро были сняты ма-
шины со своих фундаментов, разобраны и упакова-
ны...» Но, говорится далее в письме, «у нас нет
средств перевезти этот груз из Вичуги в Александ-
рополь ’... Все это заставляет нас искать выход из
создавшегося положения, рассчитывая на братскую
помощь России».
В ответ на письмо Совет труда и обороны напра-
вил телеграмму в адрес управления Закавказской же-
лезной дороги: «Отпущенная в дар правительством
РСФСР Армении ткацко-прядильная фабрика подле-
жит перевозке в кредит. Посему прибывающие со
станции Вичуга на станцию Александрополь грузы
подлежат выдаче без оплаты наличными».
И вот 450 станков — в Александрополе. С по-
мощью вичугских ткачей здесь создается первенец
армянской текстильной промышленности.
Прошло более полувека. Но ленинаканцы не забы-
ли о той помощи. Целый выставочный зал на комби-
нате посвящен Вичугской фабрике Ивановской об-
ласти.
Текстильщики, в течение года достигшие высоких
показателей, награждаются премией имени Евдокии
и Марии Виноградовых, знаменитых ткачих, героинь
первых пятилеток.
Многие из вичугских ткачей, основателей Ленпн-
аканского комбината, пустили здесь корни. И каж-
дый год к ним приезжают их родственники и знако-
мые, приезжают, чтобы работать на комбинате.
Русские девчата из молодежной бригады Гранта
Амирханяна: Тамара Воробьева, Людмила Любинец,
Мария Кичичина, Алла Иванова — тоже приехали сю-
да вслед за своими родственниками. А украинка Ни-
на Янишевская вместе с Асмик окончили Ленинакан-
ское профессионально-техническое училище.
Рассказав о девушках, диктор дал слово Гранту.
Бригадир сказал, что в дни XVIII съезда ВЛКСМ
он познакомился с многими из делегатов, съехав-
шимися в Москву из разных уголков страны.
«Все,— отметил Грант,— государственно мыслящие
люди».
— И все же наш цех очень красивый, я только
сейчас это поняла! — воскликнула Мария.— Посмот-
рите, как чисто. А бассейны, фонтаны!..
Лучи солнца, проникнув через оконные стекла,
плескались в воде. В углу цеха вдруг заиграла ра-
дуга всеми своими семью цветами.
— Радуга,— обрадовалась Алла.
— Так сняли, как будто радуга мешает земле и
небу соединиться друг с другом,— сказала Нина.
— Если уж на то пошло, мы и под радугой прой-
дем,— пошутил Грант.
Передача подходила к концу. Теперь на экране
демонстрировали образцы готовой продукции, а по-
том показали огромную карту, на которой на месте
обозначения городов красовались красные флажки.
«Продукция Ленинаканского текстильного комби-
ната отправляется в сотни городов».
Потом на экране пронесся поезд. Он вез из Ленин-
акана во все уголки страны продукцию, созданную
руками молодых текстильщиков.
Перевел с армянского автор.
1 Прежнее название Ленинакана.
МАРГО
ГУКАСЯН
сердце
армянских
рукописей
Неизгладимое впечатление производит ереван-
ский Матенадаран имени Месропа Маштоца. По
словам академика Тарле, здесь оказываешься ли-
цом к лицу с историческим народом, который от
классической древности до нынешних времен
славится своей культурой. Академик упоминает и
любовное, бережное отношение современных поко-
лений к великому прошлому народа.
На 1 января 1978 года общий рукописный фонд
книгохранилища составлял 15 799 единиц, из кото-
рых 13041 — армянские, 2428 — иноязычные
манускрипты, а 330 — прочие рукописные мате-
риалы. Число архивных документов превышает
100 тысяч.
Совершенно оригинальны по жанру так назы-
ваемые Памятные записи — Ишатакараны, остав-
ленные в рукописях трудолюбивыми и скромными
переписчиками.
Памятные записи — живое сердце армянских
рукописей. Они сохранились порой на полях, сре-
ди иллюстраций, иногда в конце главы, чаще, од-
нако, на последней странице рукописи, когда пе-
реписчик, завершая труд, оставляет нам краткое
свидетельство о пережитых событиях.
Очевидец, он дает описание исторических собы-
тий того времени и места, где работал, рассказы-
вает подробности о создании книги, не забывая
упомянуть о погоде или стихийных бедствиях.
Множество этих живых свидетельств летописцев
в армянских манускриптах. Одна строка, пять,
двадцать строк, самое большее 4—5 страниц.
Ныне уже собрано, изучено и издано 6 томов
Памятных записей (от 800 до 1200 страниц каж-
дый), столько же готово к изданию, а еще большая
часть ждет своего исследователя, который донесет
до современника голос минувших дней.
Три изношенных листа пергамента, над-
пись на них датируется 1329 или 1330
годом, сделана рукой монаха Ованеса.
Это листы книги, переписанной с армянской летопи-
си 649 года.
Перед глазами читателя возникает картина*, на до-
рогу выходит гонец, держа в руках три изношенных
листа пергамента. Необычен его маршрут. Силой че-
ловеческого духа преодолевается расстояние, и лис-
ты пергамента вручаются следующему, и гонец скло-
няет голову не перед тем, кто продолжит этот путь,
а перед старинными листами.
Эти три листа не дошли до нас, сведения о них мы
получили в записи монаха Ованеса: «Вот мы и наш-
ли древнюю и неразборчивую историю, которая по-
следовательно переписывалась и передавалась сле-
дующим поколениям...»
Манускрипт, называемый Матерь Книг. 893 год.
Почему нет имени переписчика? Может быть, оно
забыто, потому что ему пришлось оставить Памят-
ную запись о бедственных событиях: «Я, смирен-
ный писец, завершил эту рукопись 16 апреля 893 го-
да, в среду, в шестом часу, в царствование армян-
ского царя Смбата. В этом году город Двин был раз-
79
рушен землетрясением, погибли многие, и церкви
обратились в руины».
Когда я прочла эти строки, часы в Матенадаране
пробили одиннадцать раз. С этим звоном часов слов-
но протянулась живая связь от полного бедствий ап-
реля 893 года к нашему времени: от землетрясения
город Двин, бывшая столица Аршакидов, обратилась
в руины, и все церковные колокола прозвенели в
последний раз, перед тем как пали на содрогающую-
ся землю.
Тихо было в читальном зале. Время от времени до-
носился шелест переворачиваемых пергаментных
страниц. Здесь трудились миниатюристы, литерату-
роведы, историки, музыковеды, специалисты по
юриспруденции, медицине, географии, философии,
астрономии.
«Как моряку радостно причалить к берегу, так и
писчу отрадно вписать последнюю строку...»
1046 год. Имя писца — Геворк. Какая тонкая рабо-
та — нанизывать букву за буквой, заполнять строку,
затем страницу, сотню страниц! И, несмотря на стра-
дания, какой благоговейный восторг перед книгой,
письмена сравниваются с молитвой, возносящейся к
небу, нежностью к каждой линии проникнуты по-
желтевшие от времени страницы с затейливо укра-
шенными заглавными буквами.
И, дойдя до последней строки, скромный труже-
ник испытывает ту же радость, что и моряк, ступив-
ший на сушу после бури.
Судьба человеческая. Нет в мире народа, которо-
му были бы незнакомы эти слова. Но «судьба руко-
писей» — быть может, для некоторых эти слова зву-
чат странно и непонятно. Однако в Армении эти два
понятия — синонимы. Взять, к примеру, Мушский
Торжественник (69X51 см), весом 28 килограммов,—
самый большой из дошедших до нас манускриптов.
К стенду в Матенадаране, где он выставлен рядом
с самой крошечной рукописной книгой, подошла
группа туристов. Женщина-экскурсовод рассказала
о судьбе манускрипта-гиганта, состоящего из 675
страниц, изготовленных из шкур 675 телят. А восем-
надцатиграммовый святочный календарь изготовлен
из кожи неродившегося ягненка. И на вопрос удив-
ленного туриста: «Неужели писец был так богат и
щедр?» — женщина ответила: «Для каждой обители
или гражданина была большая честь участвовать в
создании манускрипта. На это ничего не жалели».
Обратимся, однако, к Ишатакаранам манускрипта.
1204 год. Запись ярко разрисованная, в три столбца,
автор ее Вартан Карнеци из Мушского монастыря
Аракелоц, вся запись сделана заглавными буквами.
На сколько вопросов, касающихся судьбы рукопи-
си, проливают свет Ишатакараны? «Будь милостив,
господь, к человеку в трудах». Заказчиком Мушско-
го Торжественника был некто по имени Астваца-
тур. О нем сказано, что он захотел создать книгу, в
которую вошли бы речи, хроникальные документы,
жития святых и панегирики, избранные страницы из
книг историков, толкования, церковные каноны. Об-
щее количество фрагментов — 327. Но где же найти
умельца, которому можно поручить столь важное и
трудное дело? «И нашел он священника по имени
Вартан из области Карин, искусного и умелого в
письме». Вартан приступил к работе и завершил ее
спустя три года.
Перенесемся мысленно в тот радостный день, ког-
да писец Вартан, к своей и общей великой радости,
в награду за три года трудов и стараний смотрел на
готовую книгу, монументальную, как архитектурный
памятник.
80
Автор Памятной записи продолжает: «В год завер-
шения книги султан собрал несметное войско и ис-
полненный ярости вступил в Теодополис (Карин), же-
лая оттуда совершить нашествие на Армению и Гру-
зию».
Заказчик рукописи Аствацатур попадает в плен к
эмиру Аладину, который зверски умерщвляет его и
присваивает все его добро вместе с великолепной
книгой. Затем завоеватель поселяется в городе Хла-
те. Пряча рукописное сокровище в течение двух лет,
решает затем продать его: «И никто не мог выкупить
книгу, потому что цена за нее была назначена непо-
мерная».
Три брата из села Данджан близ города Хлата—
Степанос, Вартапет и Ованес, узнав о местопребы-
вании рукописи, шлют весть членам братии мона-
стыря Аракелоц: мол, «величайшее сокровище нахо-
дится в городе».
Получив благую весть, те, возликовав душой, от-
правились выкупать книгу. Дело было среди суро-
вой зимы, и они остановились на ночлег в другом мо-
настыре. Узнав о миссии направляющихся к нему мо-
нахов, похититель увеличил цену выкупа. Еще год
пролежал у него фолиант. Однако три брата не сми-
рились. Они снова обратились к общественности: «Хо-
тя к этому побуждала нас любовь к книге, но цена
за нее была слишком велика». Тогда Ованес из Мич-
нахпюра вызвался помочь им. Следующими внесли
вклады священник Саркис и пять философов — Усик,
Ростагес, Аветис, Степанос и Нерсес. Но и после все-
го этого не набралась необходимая сумма в 5000 зо-
лотых монет, и, лишь уступая их мольбам, завоева-
тель продал книгу за 4000 золотых.
Шли века, выкупленная рукопись, этот величест-
венный памятник письменности, продолжала вызы-
вать удивление людей, пребывая там же, где была
создана. По ней, этому символу прекрасного и чело-
веческой мудрости, воспитывались поколения. В 1847
году ученый монах из конгрегации Мхитаристов с
острова св. Лазаря в Венеции посетил Мушский мо-
настырь Аракелоц и снял копию с Мушского Тор-
жественника. Он писал о том, что размеры книги и
великолепие украшающих ее миниатюр вызывали
удивление всех, кто посещал монастырь.
1915 год. Год величайшей трагедии армянского на-
рода, когда полтора миллиона армян были истребле-
ны в результате геноцида, осуществленного прави-
тельством младотурков. В 1917 году Мушский Тор-
жественник был доставлен в Тифлис и передан Эт-
нографическому обществу двумя неизвестными жен-
щинами. Огромный манускрипт разделили на две ча-
сти, т^к как беженки, согнанные с родных мест, шли
пешком, преследуемые смертью, и были не в состоя-
нии унести книгу целиком. Тем не менее они суме-
ли спасти частицу духовного богатства народа. Дру-
гую половину манускрипта спас один офицер. А две
страницы, считавшиеся утерянными, оказались в хра-
нилищах Библиотеки имени Ленина и были опознаны
ученым-армяноведом из Бельгии совсем недавно.
Под сводами Матенадарана опять звонят часы. И
этот торжественный звон вновь переносит нас в про-
шлое.
На первом этаже Государственного музея истории
в Ереване в раме за стеклом посетители могут уви-
деть резную деревянную дверь Мушского монасты-
ря Аракелоц (1134 год) с металлической задвижкой.
Вся ее поверхность в тончайшей резьбе. В прихотли-
вом узоре сплелись животные, цветы, всадники. Это
творение рук неизвестного умельца, созданное за не-
сколько лет до Мушского Торжественника. Неволь-
но задумываешься о людях, у которых хватило сил,
терпения и мужества донести на плечах эту мощ-
ную, тяжелую дверь.
С какими драматичными, волнующими эпизодами
сталкиваешься, читая Ишатакараны. Порой мне ка-
жется, что я читаю дневники поколений, их испо-
ведь.
В манускрипте 1236 года рассказано, что некая
супружеская чета, не имеющая детей во плотд, захо-
тела иметь духовное дитя. И даже бурные события
времени не помешали им выполнить это желание.
Манускрипт, написанный и украшенный рукой Игна-
тиоса, создавался в то время, когда столица Армении
Ани пережила очередное кровавое нашествие, опи-
сать которое автор не в силах. Далее от имени без-
детных супругов он пишет, что великолепный ма-
нускрипт был ими преподнесен монастырю Текор.
Они хотели, чтоб их детище было не с ними, а при-
надлежало людям.
В память об этом даре в монастыре была высечена
надпись на камне спустя четыре года.
Манускрипт этот прославлен своими замечатель-
ными иллюстрациями, среди которых имеются и пор-
треты супругов — заказчиков книги.
Выдающийся мастер живописи Вардкес Суренянц
снял копии портретов этих людей, увековечивших
свои имена добрыми делами.
Традиция преподнесения в дар памятников пись-
менности существует и в наши дни. В Матенадаран
и архивы Армении поступают книги, подчас целые
библиотеки от армян, живущих за рубежом.
И снова лицом к лицу — встреча с прошлым.
Сборник избранных речей 1185 года.
Писец Маркос относился к тем, кто ценит добрые
деяния других. С благодарностью упоминает людей,
которые привезли бумагу из Тифлиса, переплет и уб-
ранства его — из Ани. А сам писец Маркос из Сах-
мосаванка, находящегося недалеко от Еревана, вбли-
зи Аштарака. Брат его Мхитар также писец, но не
столь сведущий. Писец Маркос — человек большой
скромности, себя он называет «последним среди ино-
ков и первым среди грешных».
«Мы, Маркос и Мхитар,, создали эту книгу в тяж-
ких трудах, ибо пребывали в плену в Двине...»
Далее Ишатакаран рассказывает, что в Сахмоса-
ванке «попал в плен» и оставшийся незавершенным
сборник избранных речей. После выкупа эта книга
была снова возвращена в Сахмосаванк и здесь допи-
сана до конца.
Писец Маркос, однако, помня о выпавших на его
долю испытаниях, прежде всего шлет проклятья тем,
кто посмеет унести манускрипт из Сахмосаванка. И
если таковой найдется, «пусть постигнет его судьба
Иуды и Каина, и пусть он унаследует проклятье
змеи».
Однако эти слова не помогли, о чем свидетельст-
вует запись на полях 313-й страницы, сделанная чер-
нилами другого цвета.
Сборник был написан до 313-й страницы, когда 1
апреля на монастырь напала банда вооруженных
всадников. Пятеро писцов мирно трудились в кельях.
Обитель ученых была разграблена, сами они снова
попали в плен, были насильно угнаны, а писец Мар-
кос был оставлен в монастыре из-за немощи — он
страдал хромотой. Был увезен и сборник речей, и
несчастному Маркосу пришлось стать паломником.
Он собирал даяния и выкупил на них не только этот
сборник, но и многие другие книги и ценой больших
лишений возвратил их в Сахмосаванк.
На этом можно было бы проститься с писцом Мар-
косом, если бы в Собрании Памятных записей мне
вновь не попалось это имя.
В 1195 году имя Маркоса упоминается в дарствен-
ной надписи, место — монастырь Сахмосаванк, под
которым течет река Касах. В Ишатакаране упомина-
ется также имя строителя обители Ованеса по клич-
ке Безмолвный.
Именно по заказу зодчего была написана книга,
называемая «сокровищем, не имеющим цены». Кпига,
«написанная рукой недостойного и осужденного за
грехи Маркоса, человека недалекого и хилого тело-
сложения, одноногого, а душой своей — хромого на
обе ноги». Я перелистываю страницу и убеждаюсь,
что это рука тою же писца Маркоса. Далее из Па-
мятной записи явствует, что Маркос был строгим спа-
током своего дела, оригиналом служил манускрипт
из города Ани, который неумелые писцы «исказили,
оставив много ошибок, так как следили только за
красотой букв, а не за верностью мысли и слова».
И все это писал он в пещере, удаленной от обите-
ли «на расстояние гумна».
Мне захотелось поехать в Сахмосаванк и увидеть
эту пещеру.
...Наша машина мчится по шоссе Ереван — Ашта-
рак.
Миновав Аштарак, мы выезжаем на проселочную
дорогу, ведущую в гору. Короткое, по трудное вос-
хождение, и вот перед нами Сахмосаванк.
Замечательный памятник архитектуры, под свода-
ми которого звучали старинные песнопения, псалмы.
Отсюда уезжали знатоки музыки и пения обучать
других, уезжали в разные края и области страны.
Мы входим внутрь. На четырех высоких опорах по-
коится купол. Здесь стоит еще один образец средне-
векового искусства — хачкар (крест, высеченный на
камне, украшенный орнаментами, никогда не повто-
ряющими друг друга). Отлично сохранившийся хач-
кар без повреждений, из красного туфа. В бывшем
монастыре сохранились прежние помещения, куда
нас сопровождает 12-летний Размик, родившийся в
этом селе. Он показывает нам дверцу, ведущую в
потайной подземный ход, по которому во время оса-
ды спускались в ущелье за водой. В колокольне Раз-
мик указывает нам камень, выщербленный от ударен
цепи колокола на протяжении веков.
Мы ебходим памятник, вознесенный высоко в го-
рах. Ущелье, где течет река, далеко-далеко внизу,
шум реки доносится еле-еле.
Слева от основного здания — площадка, напоми-
нающая гумно. Неужели о ней писал Маркос? В
ущелье реки Касах, здесь, в нагромождении скал,
особенно много пещер. И так же, как и в 1185 и в
1195 годах, течет река Касах, над ущельем качаются
от ветра кусты шиповника, растет дикий щавель. В
которой из пещер жил писец Маркос?
Здесь, в этом месте, удивительно ясно и отчетливо
я представляю себе эстафету, которую несли поколе-
ния скромных, терпеливых тружеников. И по-новому
осознаешь силу и величие письменного слева.
Ибо знали наши предки, что человек может быть
беззащитен перед ликом зла, что у него можно от-
нять жизнь. Но всего лишь жизнь. А силу духа на-
рода сломить нельзя, когда им двигает любовь к зна-
нию, к свету.
Перевела с армянского
Мэри ЮЗБАШЬЯН
6. «Юность» № 11.
81
СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ
3. ШЕЙНИС
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ
Мизиано Франческо о желании перейти в Русское
Гражданство.
ПОСТАНОВЛЕНО: Заявление удовлетворить».
Кто он, этот итальянец, решивший уехать в Рос-
сию, где холод, война, голод?
11 сентября 1918 года в Берне в дверь здания Со-
ьетской миссии на улице Шваненгассе, 4, постучал-
ся довольно высокий черноволосый человек. Латыш-
ский стрелок, дежуривший в вестибюле, позвал тех-
нического секретаря миссии Любовь Николаевну Пок-
ровскую. Незнакомец сказал, что хочет поговорить с
русским послом Яном Берзиным.
Покровская ответила, что сейчас же передаст эту
просьбу послу, спросила, как доложить Берзину.
— Передайте, что с ним хочет поговорить Фран-
ческо Мизиано. Я только что приехал из Цюриха.
И вот он сидит в кабинете посла Советской России
и внимательно, даже испытующе смотрит в открытые
ФРАНЧЕСКО МИЗИАНО
« Я неизменно восхищался его боевым
духом, бесстрашием, цельностью, благо-
родством его характера»,
Гельмут ЛИБКНЕХТ
Хмурым выдался в Москве день 11 октяб-
ря 1918 года. Накрапывал дождь. В Крем-
левском дворце шло заседание Президи-
ума Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета. Председательствовал Яков Михайлович
Свердлов.
Накануне Ленин попросил Свердлова подготовить
директиву Реввоенсовету Республики о принятии
срочных мер помощи Царицынскому фронту. Там по-
ложение донельзя трудное. А где оно легкое? — со
всех сторон на Москву и Питер наступают интервен-
ты и белогвардейские армии.
Ночью Свердлов не спал, его клонит к дреме.
Сквозь пенсне он оглядывает членов Президиума,
просит доложить очередной пункт повестки дня. Сек-
ретарь сообщает, что в Президиум ВЦИК поступило
из-за границы заявление 34-летнего итальянца Фран-
ческо Мизиано. Он просит предоставить ему совет-
ское гражданство. Секретарь оглашает
«Заявление Мизиано Франческо
Нижеподписавшийся Мизиаио Франческо, сын Джу-
зеппе и Каролины, родившийся в Ардоре (провинция
Реджо Калабрия), итальянский гражданин, желает
перейти в русское гражданство по мотивам полити-
ческим, служить делу социализма и революции.
Франческо Мизиано».
Свердлов опрашивает членов Президиума ВЦИК,
дают ли они согласие на принятие итальянца в со-
ветское гражданство, и в протокол вносится пункт:
«СЛУШАЛИ. 2. Заявление Итальянского гражд.
82
умные глаза Берзина, первого человека новой России,
с которым он встретился, быстро оглядывает его лад-
ную фигуру в дешевом, но хорошо сидящем на нем
костюме.
Берзин также внимательно рассматривает гостя,
рад его приходу. Он много слышал о Мизиано, знает,
что Франческо является руководителем итальянских
социалистов, эмигрировавших в Швейцарию, что он
арестовывался за свою революционную деятельность,
а сейчас — редактор газеты на итальянском языке
«Л'Аввенире дель лавораторе» («Будущее трудяще-
гося»), издающейся в Цюрихе.
Пока Берзин и Мизиано беседуют, я познакомлю
читателей с итальянцем.
Франческо Мизиано родился 26 июня 1884 года в
Калабрии, в горной деревушке, в семье многодетного
крестьянина. Семья была бедна, как многие семьи в
Средней и Южной Италии. Отец его рано ослеп, не
мог кормить семью, а старший брат стал «благород-
ным разбойником»: он отнимал землю у помещиков
и отдавал ее беднякам. Но недолго он «разбойни-
чал»: какой-то негодяй подстрелил его из-за угла.
Путь Франческо был другим. Случай позволил ему
получить хорошее образование. В 1907 году Мизиано
вступает в Социалистическую партию. Ораторские
способности делают его имя популярным в народе,
вскоре его избирают секретарем Социалистической
федерации Неаполя и секретарем профсоюза желез-
нодорожников.
В 1914 году за руководство забастовкой железнодо-
рожников в Неаполе Мизиано был уволен, переехал
в Турин, где его избрали секретарем местного проф-
союза железнодорожников.
К началу империалистической войны популярность
Мизиано еще больше возросла. На митинге в городе
Анконе он произнес речь со страстным призывом не
отдавать свои жизни за буржуазию и помещиков. За
активную антивоенную пропаганду Мизиано был аре-
стован и приговорен к четырем месяцам тюрьмы.
Когда он вышел на свободу, его сразу же решили от-
править в окопы — пусть там образумится, а пули не
разбирают, кто социалист, а кто монархист.
Накануне отправки на фронт он вместе с трид-
цатью пятью другими солдатами оставил ночью ка-
зарму якобы для того, чтобы попрощаться с родны-
ми. Воспользовавшись этим, реакционные круги не-
медленно обвинили Мизиано в дезертирстве. Теперь
ему грозил военный суд. Мизиано эмигрировал в ней-
тральную Швейцарию, чтобы оттуда продолжать
борьбу против шовинизма, против войны.
В те первые часы знакомства Мизиано рассказал
Берзину о своей деятельности в Цюрихе, где он ча-
сто видел Ленина.
.— Ленин знал вас тогда, в Цюрихе? — спросил го-
стя Берзин.
— Нет. Но я уже знал о его роли на Циммервальд-
ВЕДЕТ БОЙ
ской конференции. И это дало мне ориентир на бу-
дущее...
— Мне известно, что вы часто выступаете в «Л’Ав-
венире дель лавораторе».
Ян Антонович подошел к шкафу, извлек оттуда
подшивку итальянской газеты, нашел нужный экзем-
пляр, сказал:
— Вот газета от первого декабря семнадцатого го-
да. Здесь есть передовая по поводу нежелания за-
падных правительств признать Советскую Россию. В
ней говорится: «Правительство Ленина — это прави-
тельство народа, основанное на свободе и раскрепо-
щении масс». Яснее не скажешь,— заметил Берзин,
обращаясь к Мизиано.— Интересно, кто автор этой
статьи; очень хотелось бы с ним познакомиться.
Мизиано улыбнулся.
— Мы с вами уже знакомы.
— Вот как! — ответил Ян Антонович и крепко по-
жал руку итальянского друга.
Правительство правого либерала Орландо, желая
потрафить союзникам, еще в начале 1918 года посла-
ло итальянские части воевать против Советской Рос-
сии. Многие солдаты оказались в русском плену, в
Уфимской губернии, а потом, когда они были осво-
бождены советскими властями и направились в Швей-
царию, им удалось проехать через Москву, где их
принял Ленин. 3 августа 1918 года Владимир Ильич
вручил итальянцам письмо для Берзина. Вот что в нем
говорится:
«Тов. Берзин!
Податели — итальянские военнопленные, предста-
вившие нам рекомендацию председателя Уфимского
Совдепа. Я их видел два раза и очень доволен впе-
чатлением от беседы с ними. Надо соблюсти макси-
мум осторожности и помочь им всячески для орга-
низации работы и изданий среди итальянцев, на
итальянском языке...»
Через три месяца после приезда Берзина и его
миссии в Швейцарию (см. очерк «Миссия Яна Берзи-
на», опубликованный в «Юности», №№ 9 и 10 за
1976 год) группа итальянских военнопленных прибы-
ла из России в Берн.
Берзин подробно беседовал с итальянцами, привез-
шими письмо Ленина, установил контакт с итальян-
скими социалистами, находившимися в Берне. Но с
Мизиано он впервые встретился только теперь, на
Шваненгассе, 4.
Мизиано высказал давно созревшее решение: же-
лаю перейти в русское гражданство, служить делу
социализма и революции.
Вот тогда-то, в кабинете Яна Антоновича Берзина,
Мизиано написал официальное заявление в Президи-
ум ВЦИК о приеме его в русское гражданство.
В эти дни швейцарское правительство начало кам-
панию против миссии Берзина. Вместе с Фрицем
Платтеном и другими швейцарскими социалистами
Мизиано на страницах «Л'Аввенире дель лавораторе»
выступил против преследования Советской миссии.
В конце октября 1918 года Берзину сообщили из
Москвы, что Президиум ВЦИК принял Мизиано в
русское гражданство и что у Ленина есть очень важ-
ное поручение для Франческо. Дело в том, что на се-
вере России высадились английские интервенты. Вме-
сте с англичанами на Мурманском фронте действова-
ли уцелевшие итальянские части.
Сейчас по указанию Владимира Ильича, сообщи-
ли далее Берзииу, создана газета на итальянском
языке. Ее цель — разъяснить итальянским солдатам,
что их обрекли на гибель во имя неправого дела.
Быть редактором этой газеты Ленин предложил Ми-
Франческо Мизиано, Москва, 1935 год.
83
зиано. (Когда в сентябре Мизиано сказал Берзину о
своем решении перейти в русское гражданство, слу-
жить делу социализма и революции, это отвечало его
мировоззрению, всей линии его жизни. Но переход
в русское гражданство был продиктован еще одним
обстоятельством. По Брестскому договору иностран-
цы, оказавшиеся в России, не могли вести пропаган-
ду в интервенционистских войсках. Переход же Ми-
зиано в русское 1ражданство снимал это формальное
препятствие.)
Мизиано, вызванный г Берн к Яну Антоновичу,
принял предложение Ленина и тут же, в кабинете
Берзина, начал горячо обсуждать, как будут выгля-
деть первые но* < ра газеты.
НА БАРРИКАДАХ
БЕРЛИНА
гдакция «Л'Аввенире дель лаворатЬре»
в номере от 13 ноября 1918 года сообщи-
ла своим читателям, что предыдущий но-
мер газеты выпущен без главного редактора, который
«продолжает свою деятельность в другом месте». Хо-
дом событий этим «другим местом» оказался восстав-
ший Берлин.
...Переезд через немецкую границу прошел благо-
получно. В Штутгарте Мизиано задержался на два
дня, выступил на митингах и через несколько дней
уже был в Берлине.
Как и было договорено с Берзиным, Мизиано сра-
зу же явился к советскому полпреду Иоффе. Тот уже
знал, что Мизиаио принят в советское гражданство,
спросил, нужна ли помощь, поручил заведующему
хозяйством Полпредства экипировать Мизиано — в
Москве уже легла зима, а Франческо приехал в Бер-
лин в легком пальтишке. Завхоз отдал Франческо
свой последний резерв — теплое пальто и высокую
смушковую шапку, которую он выпросил в штабе
Красной Армии перед отъездом из Москвы.
Сборы в дорогу у Мизиано были недолгие. Он уже
хотел, не мешкая, выехать в Советскую Россйю. Но
все обернулось иначе.
Германское правительство, напуганное размахом
революционных событий, выслало сотрудников со-
ветского Полпредства из Германии. Когда Мизиаио
пришел на Унтер-ден-Линден, чтобы попрощаться с
полпредом, здание уже было оцеплено полицией, а
из ворот под эскортом жандармов выезжали послед-
ние грузовики с имуществом.
Решение было принято мгновенно: Мизиано отправ-
ляется на улицу Вильгельмштрассе, дом 114, в редак-
цию газеты «Роте фане», один из главных штабов
спартаковцев — немецких коммунистов.
Мизиано поднялся по лестнице, вошел в комнату
и сразу увидел человека, которого никогда до того
ноябрьского дня не видел, но сразу же понял, кто
это такой. На Франческо внимательно смотрели чуть
близорукие глаза, прикрытые очками, над которыми
возвышался красивый лоб.
Франческо представился. Пожимая руку Франчес-
ко, тот также назвал себя:
— Карл Либкнехт.
Они продолжали оживленно разговаривать, мешая
немецкие слова с французскими, когда в комнату
вошла женщина среднего роста, с копной волос, ак-
куратно зачесанных назад и красиво обрамлявших ее
энергичное лицо, на котором выделялись блестящие
черные глаза. Она на мгновение остановилась у две-
ри, не желая мешать разговору. Но Карл, повернув-
шись, улыбнулся:
84
— Познакомьтесь, друзья.
Женщина протянула Франческо руку, мягким,
грудным голосом назвала себя:
— Роза... Роза Люксембург.
Франческо предполагал, что именно здесь, на
Вильгельмштрассе, в центре Берлина, он должен
увидеть Карла и Розу, но эта встреча все же застала
его врасплох. Он подыскивал немецкие слова из сво-
его скудного словарного запаса, чтобы выразить го-
рячие чувства этим двум людям, которые провели
годы в тюрьме, ие страшась, возвысили свой голос
против войны, насилия, горя и страданий людей. Ко-
нечно, ои прекрасно знал, кто такие Карл и Роза, чи-
тал их речи, статьи. Но теперь он впервые видел их.
Роза перешла на французский, сказала, что уже
слышала о Мизиано: друзья рассказали о его выступ-
лении в Штутгарте, где он говорил о значении Ок-
тябрьской революции. Будет очень хорошо, если
Франческо выступит в Берлине.
Вечером того же дня Роза увезла Мизиано на ми-
тинг. В огромном трамвайном парке собрались тыся-
чи людей. За полукружием рельсов застыли вагоны,
в лучах прожекторов пестрели рабочие комбинезо-
ны, куртки, кепки.
Франческо взобрался на ящик-трибуну. Ему пода-
ли рупор. Рядом стояла Роза, переводила фразу за
фразой. Она не сбивалась с темпа, даже когда Фран-
ческо, потеряв французское слово, переходил на
итальянский. Он говорил об Италии, о нуждах и чая-
ниях людей своей страны, о проклятой войне, кото-
рая унесла миллионы жизней, и о тех, кто нажил на
ней миллионы лир, марок, долларов, фунтов и фран-
ков...
По дороге с митинга Роза попросила Франческо на-
писать статью для «Роте фане». Он выполнил прось-
бу. Карл и Роза перевели статью с французского па
немецкий, и 4 января 1919 года она была опублико-
вана.
На моем столе лежит этот номер газеты, прошед-
ший через подполье, кровавые сражения в Берлине,
переживший рейх Гитлера, войну, бомбардировки,
разруху. Под заголовком «Роте фане» во всю полосу
строка: «Центральный орган Коммунистической пар-
тии Германии (Союз Спартака)», а внизу в центре
полосы: «Редакционное руководство: Карл Либкнехт
и Роза Люксембург». На первой полосе, занимая ее
две трети, статья Франческо Мизиано: «Перспективы
революции в Италии». Перед тем как сдать статью в
набор, Роза выделила шрифтом несколько главных
мыслей автора, в том числе такую: «Буржуазия, меч-
тающая нажиться на войне, сама себе роет яму, в ко-
торой она неизбежно окажется».
5 января 1919 года положение в Берлине резко
обострилось. Это не было неожиданностью. После
свержения монархии власть перешла к коалицион-
ному правительству, которое возглавили социал-де-
мократы Шейдеман и Носке, давно переродившиеся
в оголтелых шовинистов. В это правительство вошли
социал-демократы большинства и члены центрист-
ской Независимой социал-демократической партии.
В начале 1919 года в Германии развернулась борьба
за переход буржуазно-демократической революции
в социалистическую. Лидеры социал-демократов
большинства пошли на союз с реакционной военщи-
ной, чтобы предотвратить социалистическую револю-
цию в Германии. К посту президента они привели
Эберта, практически возглавившего контрреволюцию.
Шейдеман приказал сместить «красного» полицеи-
президента Берлина Эихгорна. Это был сигнал к на-
чалу жесточайшего подавления революции, уничто-
жения компартии. Берлин покрылся баррикадами, на-
чались уличные бои, особенно сильные в районе «га-
зетного квартала^, где размещались здания буржуаз-
ных газет. Шестого января революционные отряды
взяли штурмом здание социал-демократической га-
зеты «Форвертс» на Линденштрассе, а затем в руках
восставших оказался весь «газетный квартал».
Отряд, овладевший зданием «Форвертса», состоял
из немцев-спартаковцев, итальянской группы Мизи-
ано, нескольких швейцарских социалистов, молодой
зенгерки и одного русского революционера: после
Октября он не смог выехать в Россию и теперь ре-
шил, что дело русской революции будет защищать в
Берлине.
Русского приставили к единственному пулемету,
который был у спартаковцев. Он его поднял, как иг-
рушку, почистил, смазал все части, поставил рядом
тощую коробку с лентами и сказал: «Ладно, ребята,
повоюем!» Был он высок ростом, с большими силь-
ными руками, и любил старинные песни. Слово «лад-
но» никто не понял, но улыбка русского всех поко-
рила, и его ни о чем не расспрашивали. Когда чело-
век идет на смерть за идею, паспорта у него не тре-
буют...
Чтобы помочь защитникам здания «Форвертс»,
Центральный Комитет КПГ направил на Линден-
штрассе пополнение во главе с членом ЦК Евгением
Левине. Вражеское командование также подтянуло
силы и начало ожесточенный штурм. Бои разверну-
лись на крышах многоэтажных зданий. В этом коль-
це, в самой гуще сражения, был Франческо Мизиа-
но.
Через пятнадцать лет после описываемых событий,
26 июня 1934 года, в здании «Межрабпом-фильма» в
Лиховом переулке в Москве, чествовали старого бой-
ца революционной гвардии. С воспоминанием высту-
пил участник берлинских боев, сын Карла Либкнех-
та — Гельмут Либкнехт. Он говорил по-немецки, речь
его была записана, дошла до наших дней, и вот вы-
держка из нее:
«С Франческо Мизиано,— рассказал Гельмут Либк-
нехт,— я встретился впервые сразу же после того,
как группа Левине пробилась в осажденный дом
«Форвертса». Это произошло в одной из редакцион-
ных комнат, где готовили новую газету «Красный
Форвертс», которая должна была выпускаться вме-
сто социал-демократического органа...
Наше положение было чрезвычайно трудным.
Контрреволюционное командование стянуло в Бер-
лин свои силы. Кольцо вокруг здания «Форвертса»
все сжималось. Через несколько дней наша связь с
внешним миром практически была полностью прер-
вана... Мизиано и его отряду было поручено перей-
ти на верхний этаж, а затем на крышу здания, взять
под обстрел Якобштрассе, ведущую непосредствен-
но к нашей обороне, и не допустить туда врага.
В первую же ночь я пробрался на верхний этаж.
Там был настоящий бивак. Мизиано и его группа
имели пулемет и старые ружья. Итальянцы устрои-
лись довольно «уютно». Как только выпадала сво-
бодная минута между боями, они шутили, пели, дис-
кутировали. Никто не терял присутствия духа...
Тем временем бои принимали все более ожесточен-
ный характер. Стало ясно, насколько невыгодно на-
ше положение: мы были в ловушке. Пробиваться че-
рез прилегающие улицы было бессмысленно — их за-
няли вражеские войска. Нас ждало полное уничто-
жение. Высокие дома мешали нам обстреливать про-
тивника, в то же время вражеские минометы проби-
ли бреши в верхних этажах «Форвертса». Группа
Мизиано перешла в нижние этажи.
Когда Франческо спустился к нам, то мы обратили
внимание на то, что его русская меховая шапка про-
шита пулями в четырех местах, К счастью, шапка не
была глубоко надвинута, снайперские пули прошли
чуть выше головы...»
К 11 января положение осажденных стало катаст-
рофическим. Надежды на присылку подкрепления
растаяли. На прилегающих улицах буйствовали бер-
линские «версальцы». Как и палачи Парижской Ком-
муны в 1871 году, они жаждали кро гт.
Развязка приближалась. После полудня было реше-
но отправить к врагу парламентеров. Мизиано выз-
вался начать переговоры, но предложение отвергли:
итальянцы не знают немецкого языка. Из осажден-
ного здания на улицу спустились парламентеры-нем-
цы. Тишину взрывают озлобленные вопли, а затем
раздаются залпы: один, другой, третий, четвертый,
пятый... Парламентеров расстреляли. Толпа бушует.
Пушка прямой наводкой бьет по массивным дверям,
и в пролом устремляются контрреволюционеры. По-
следние ожесточенные схватки на этажах, и под ду-
лами винтовок па улицу выводят защитников бастио-
на на Линденштрассе: немцев, пятерых итальянцев,
двух швейцарцев, одну венгерку и одного русского.
Их ведут сквозь строй обывателей, алчущих крови.
Как тогда в Версале, в них тычут кулаками, зонтика-
ми. И вдруг раздается вопль: «Смотрите, господа, это
русский». Десятки злобных глаз устремлены на...
Франческо: на нем русская шапка. Офицер коман-
дует: «Стоп!» Мизиано выводят из группы пленных и
ведут к стенке. Толпа злорадствует: сейчас ненавист-
ного русского казнят. Но в это мгновение немка из
отряда спартаковцев закричала: «Он не русский. Он
итальянец!» Офицер в замешательстве. И тут прис-
какавший из штаба вестовой передает приказ: всех
пленных немедленно доставить в тюрьму Моабит
Приказ есть приказ. Солдаты, взявшие винтовки на
изготовку, опускают их к ноге. И последних защит-
ников революционного бастиона на Линденштрассе
под злобное улюлюканье толпы ведут в Моабит.
В ТЮРЬМЕ
Большой куб с зарешеченными окошками
на окраине Берлина, квадратный двор,
скрытый от человеческих глаз. Это Моа-
бит, одна из главных тюрем бывшего кайзеровского
рейха. Туда привели Мизиано и его друзей, втолкну-
ли в одиночные камеры. Каждые три часа выводили
на допрос.
Мизиано ничего не знал о судьбе товарищей — уз-
ников разместили в разных камерах. Тюремщики со-
сбразили, что Мизиано — командир боевой группы,
но никак не могли понять, что заставило его прие-
хать в Германию, покинуть жену, детей, родной дом.
При обыске искали деньги: были уверены, что он хо-
рошо оплаченный наемник-ландскнехт. А в чемодане
обнаружили две пары белья, фотографии жены и де-
тей, номер газеты «Роте фане» от 4 января 1919 года
с его статьей. Это было хорошей уликой. Искали
деньги, награбленные ценности, а нашли прострелен-
ную шапку; вспороли подкладку, но и там не обна-
ружили ничего, кроме тонкого слоя ваты.
Мизиано передали опытнейшему следователю. Тот
применил испытанный способ запугивания: ночью
Мизиано повели на расстрел. Над узким квадратом
тюремного двора высветилась пелена хмурого январ-
ского неба. Франческо подвели к стенке, повернули
лицом к серому шершавому бетону. Он заранее на-
писал прощальное письмо жене и дочерям.
Офицер-пруссак, как несколько дней назад на Лин-
85
денштрассе, пролаял команду. Секунды показались
вечностью. Кровь в висках гулко стучала, прорезая
мертвящую тишину тюремного двора.
Залпа не последе вало.
16 января утром в камеру ворвался отдаленный
гул. Он становился все яростнее. В стену кто-то сту-
чал; дробь становилась все настойчивее, методичнее.
Франческо прислушался. Дробь повторилась, смысл
ее становился яснее: кого-то убили. Кого? Он отсту-
чал вопрос, дважды, трижды. Сквозь тюремные сте-
ны донеслось: «К» и «Р».
Гул нарастал. По коридорам бегали тюремщики,
где-то хлопали железные двери. Через стену снова
донеслось: «К» и «Р», «Р» и «К». Франческо подбе-
жал к двери, яростно забарабанил кулаками. Приот-
крылся «глазок», надзиратель что-то шепнул. Фран-
ческо приник к двери. На лице тюремщика была рас-
терянность. Он сунул под дверь клочок бумаги, про-
шептал: «Убили!.. Их убили». «Кого? Кого?». «Либ-
кнэхта и Люксембург...»
Моабит гудел, кричал, плакал. Из конца в конец,
нарастая, катились волны бессильного гнева...
Мизиано перевели в тюрьму Тегель. Записка, ко-
торую ему передал тюремщик, состояла из несколь-
ких коротких фРазг написанных по-французски:
«Друзья на страже, семья здорова. Жди письма. Р. Б.».
В конце января под железную дверь подбросили
конверт с письмом из Италии от жены. Тюремщик не
сказал, что получил за эту услугу хорошую мзду.
Лишь позже Франческо узнал, что таинственные
инициалы принадлежали Розе Блок, которой Цент-
ральный Комитет Коммунистической партии Герма-
нии поручил быть связной с узниками Тегеля.
На март 1919 года был назначен военный суд. Но
еще в ноябре 1918 года сообщение об аресте Мизиа-
но проникло в итальянскую печать. Первыми возвы-
сили голос протеста неаполитанцы. За ними после-
довали Турин и Милан. Кампания в защиту Мизиано
перекинулась в Швейцарию, где энергично действо-
вал Фриц Платтен. Газета «Л’Аввенире дель лавора-
торе» из номера в номер печатала протесты. Франче-
ско узнал об этом из письма, тайно отправленного из
Берна. В германской столице это письмо передали Ро-
зе Блок, а она переправила в тюрьму. А вскоре в Те-
гель пришло письмо Платтена. Франческо переслал
в Берн через Розу Блок ответное послание. Он пишет
не о себе, спрашивает, есть ли вести из Москвы, про-
сит усилить кампанию против интервенции в Совет-
ской России.
Судебный процесс предвещал недоброе: прокурор
потребовал многолетнего тюремного заключения. Ми-
зиано, стараясь сдержать итальянский темперамент,
отвечал, что он боролся за демократическую респуб-
лику. Если это преступление, то пусть судьи выносят
свой приговор.
В бой вступил и человек, не побоявшийся пойти
против кайзеровских прокуроров: Курт Розенфельд.
Через пятнадцать лет он не дрогнет в борьбе против
нацистских судей: на Лейпцигском процессе будет
защищать Георгия Димитрова.
Суд уже готов вынести самый тяжкий приговор.
Но снова нарастают протесты, теперь уже не только
за границей, но и в самой Германии. С кайзеровской
империей покончила ноябрьская революция. Нацио-
нальное собрание, заседавшее в городе Веймаре, при-
няло конституцию, провозгласившую буржуазные
свободы. И все же Мизиано приговаривают к деся-
тимесячному тюремному заключению.
86
Тоскливо тянулись тюремные дни. Иногда яркими
лучами в камеру врывались письма жены, товари-
щей по, партии и Фрица Платтена, записки, которые
посылала Роза Блок. Франческо отправлял через Ро-
зу письма на волю. С одним письмом к итальянскому
социалисту Эдмондо Пелузо вышла крупная непри-
ятность.
Роза Блок передала это письмо связному. «Цепоч-
ка» благополучно донесла его до Италии. Связной на
итальянской стороне уже направлялся к Пелузо, но
на улице потерял сознание из-за тяжкого приступа
болезни печени. За ним следили фашисты. Они обы-
скали его, изъяли письмо. Для соглядатаев Муссоли-
ни оно было кладом. Вот строки из письма Мизиано:
«Для меня обязанность революционера — всегда и
везде бороться за победу трудящихся. Я для того и
вступил в русское гражданство, чтобы сражаться за
идеи Октябрьской революции».
Мария Конти была женщиной решительной и сме-
лой. Настоящая неаполитанка, сна родилась в рабо-
чей семье, рано осталась без матери, сама пробила
себе дорогу в жизни — стала школьной учительни-
цей.
Мятежник, восставший против несправедливости и
безумия войны, Франчёско Мизиано встретил Марию
Конти в Неаполе и восхитился ее красотой — не зря
ее называли Мадонной.
Чисто женским чутьем она поняла, что легкой
жизнь с ним не будет, да этого она и не ждала. И
еще одно ей сразу стало ясно: с ним надо быть вро-
вень.
Чутье не обмануло Марию Конти. Она рано позна-
ла, что значит быть женой революционера. Когда в
1916 году Франческо вынужден был эмигрировать в
Швейцарию, она, мать двух крошечных дочерей, при-
няла на свои хрупкие женские плечи тяжкий груз
заботы о семье, одиночество и преследования. И еще
больше прозрела как человек: в 1916 году Мария Кон-
ти вступила в Социалистическую партию Италии.
...В октябре 1919 года произошло непредвиденное
тюремщиками событие: когда в Италии начались
парламентские выборы, два города — Неаполь и Ту-
рин— выдвинули в парламент пленника ’Ткфьмы ‘Те-
гель Франческо Мизиано. Кампанию в Неаполе за
избрание Мизиано возглавила социалистическая ор-
ганизация.
Мария Конти шла из дома в дом, из квартала в
квартал. Мужчины слушали ее речи и не могли отор-
вать глаз от ее прекрасного лица. Итальянские жен-
щины в ту пору не имели права голоса на выборах в
парламент, но они знали, как им поступить; словно
наэлектризованные, они кричали своим мужьям: «Ес-
ли ты нэ последуешь призыву Марии,— не возвра-
щайся домой!»
На митингах и рабочих собраниях высоко над го-
ловами реяли знамена. В один из вечеров на площа-
ди у дома, где жила Мария, собралась огромная тол-
па. Она вышла на балкон; рядом с Марией стали двое
мужчин, подняли ее девочек, Каролину и Орнеллу,
завернутых в краснее знамена. Тысячная толпа за-
мерла. Мария произнесла пламенную речь.
...Франческо избрали в парламент. Сообщение об
этом облетело газеты Италии. Германское правитель-
ство еще пытается отговориться тем, что, мол, лишь
восемнадцатого февраля 1920 года истечет срок тю-
ремного заключения. Но тут снова вступает в дейст-
вие Курт Розенфельд. Он подписывает поручитель-
ство: Франческо Мизиано по выходе из тюрьмы не-
медленно покинет пределы Германии.
25 ноября 1919 года Франческо вышел из Тегеля.
Тюремщик, возвращавший личные вещи, вынул из
чемодана русскую шапку, повертел в руках, сунул
пальцы в прошитые пулями отверстия, злобно бро-
сил: «Какая неудача! Чуть ниже надо было целить».
В тот же день Мизиано под конвоем явился в швей-
царскую миссию в Берлине, сообщил, что избран де-
путатом итальянского парламента, а поскольку он
приехал в Германию с швейцарским паспортом, то
просит дать ему визу. Консул не сразу решает воп-
рос. Конвоиры отводят Франческо в тюремное поме-
щение, где он остается несколько дней. Наконец по-
лучен паспорт, а с ним и предписание о немедлен-
ной высылке из пределов Пруссии. Конвой эскорти-
рует Мизиано до границы с Австрией. Едва он успе-
вает покинуть пределы Пруссии, как там появились
опоздавшие агенты берлинской охранки — у них при-
каз о новом аресте Мизиано.
Франческо не задерживается в Вене. Поезд мчит
его в Италию. В Вене ему дали важнее поручение —
передать письмо Ленина лидеру итальянских социа-
листов Джачинто Серрати.
В этом письме от 28 октября 1919 года Ленин пи-
сал:
«ТОВАРИЩУ СЕРРАТИ И ИТАЛЬЯНСКИМ КОМ-
МУНИСТАМ ВООБЩЕ
Дорогой друг! Известия, получаемые нами из Ита-
лии, крайне скудны. Только из иностранных газет (не
коммунистических) мы узнали о съезде Вашей пар-
тии в Болонье и о блестящей победе коммунизма. От
всей души приветствую Вас и всех итальянских ком-
мунистов и желаю Вам наилучших успехов. Пример
итальянской партии будет иметь огромное значение
для всего мира...
...Нет сомнения, открытые и прикрытые оппорту-
нисты, коих так много в итальянской партии среди
парламентариев, постараются обойти решения бо-
лоньского съезда, свести их на нет. Борьба с этими
течениями далеко не кончена. Но победа в Болонье
облегчит дальнейшие победы...
С коммунистическим приветом
Н. Лени н».
В ночь с 7 на 8 декабря 1919 года Мизиано возвра-
тился в Италию. Позади остались три года скитаний,
сражений и тюрем. Мария и дети уже знают, что
Франческо вот-вот должен прийти. Они не спят всю
ночь. На столике у Лины портрет отца.
Был уже вечер, когда Франческо тихо вошел в
дом; дверь была открыта. Мария стояла у стены, при-
чесывая Орнеллу. В зеркале она увидела его лицо,
искрящиеся от счастья глаза. Бросилась на шею. Ли-
на взяла руку отца, не выпускала. Орнелла забилась
в угол, не понимая, что происходит и кто этот че-
ловек, так неожиданно ворвавшийся в ее детскую
жизнь.
Франческо виновато улыбнулся: «Подарков я вам
не привез». Вынул из чемодана простреленную на-
сквозь русскую островерхую шапку. Жена всплес-
нула руками: «Что это такое?»
«Это революция»,— ответил Франческо.
Вечером следующего дня на берегу Неаполитан-
ского залива был митинг. Луна освещала тысячего-
ловую толпу. С моря доносилась песня рыбаков. Зве-
нела гитара. Кто-то из женщин сказал: «Прежде все-
го его надо подкормить. Посмотрите, какой он ху-
дой».
Франческо Мизиано, гражданин Италии, гражда-
нин Советской России, еще не видевший своей но-
вой родины, начал первую речь после возвращения:
— Там, далеко на севере, зажглись огни нового
мира. Неаполитанцы, друзья! Не дадим потухнуть
этим огням. Они согреют всех людей на земле...
И СНОВА БОИ
Во многих итальянских газетах появилась
фотография. На ней изображен связан-
ный по рукам человек, на его груди ви-
сит табличка, на которой написано, что человек этот
отказался воевать за родину. Он «дезертир». Под фо-
тографией названо имя человека: Франческо Мизиа-
но. Его ведет на расправу озверевшая толпа черно-
рубашечников. Место действия — Рим, 13 июнй 1921
года.
К тому времени, когда Мизиано возвратился в Ита-
лию, политическая обстановка в стране была слож-
ной. Фашисты активизировались. В Социалистической
партии шло размежевание, и к 1920 году в ней об-
разовалось несколько течений. Левую, наиболее зре-
лую группу возглавили А. Грамши, П. Тольятти, Ф.
Террачини. В Италии под руководством Грамши соз-
рели массы, решившие идти по марксистскому пути.
Одним из видных представителей этих сил и был
Франческо Мизиано. Выражая стремление этих пере-
довых сил, Мизиано защитил в рабочем движении
резолюцию, требовавшую исключения реформистов.
Напомним, что на своем II Конгрессе в июле—авгу-
сте 1920 года Коминтерн решительно потребовал очи-
щения от реформизма.
Позиция Мизиано в защиту подлинно революцион-
ной партии не была случайной. Еще в начале 1920 го-
да он выступил в газете «Аванти!» со статьей, само
название которой раскрывало ее сущность: «Раскол
и очищение: раскол с реформизмом, очищение от
мелкобуржуазных тенденций». О статье Мизиано
стало известно Ленину. Владимир Ильич обратился к
русскому революционеру А. М. Геллеру, проживав-
шему в Италии, а затем деятелю Коминтерна, с прось-
бой перевести архиважнейшие материалы из «Аван-
ти!» — в том числе и статью Мизиано.
В 1921 году на съезде в Ливорно была создана Ком-
мунистическая партия Италии. Это явилось кульми-
национным пунктом острой классовой борьбы в Ита-
лии. Давая характеристику накалу этой борьбы, Ан-
тонио Грамши констатировал в своем докладе, озаг-
лавленном «За обновление Социалистической пар-
тии»: «За настоящим этапом... последует либо завое-
вание революционным путем политической власти..,
либо бешеный разгул реакции имущих классов и пра-
вящей касты».
Созданию Коммунистической партии Италии пред-
шествовала конференция левых групп в Имоле. Кон-
ференцию открыл Мизиано; там была создана объе-
диненная коммунистическая фракция и выработан
манифест к предстоящему съезду в Ливорно. На
первом, учредительном съезде ИКП Мизиано играл
активную роль, он выступил в защиту решений Ко-
минтерна и был избран в Центральный Комитет пар-
тии.
Естественно, что после образования Коммунисти-
ческой партии Мизиано обрел еще более широкое по-
ле деятельности. Имя его было окружено ореолом
участника баррикадных боев в Берлине. Он не по-
шел на несправедливую империалистическую войну.
Он был узников Моабита и Тегеля, а теперь в Неа-
поле и Турине избран в парламент. Его выступления
привлекают широкое внимание народа, хотя буржу-
азная пресса всячески пытается дискредитировать
его. Писатель Марио Ла Кава вспоминал; «Я рос под
влиянием революционной деятельности Мизиано. До-
ма, в нашей буржуазной семье, его называли «дезер-
тиром», а я постепенно понял, что Мизиано храбрый
87
человек, не боявшийся отдать свою жизнь за счастье
других».
Популярность Мизиано пугает Муссолини и его
единомышленников. В кругах реакции зреет план
убийства Франческо Мизиано.
ВЫСТРЕЛ В РИМЕ
Шел к концу 1919 год. Красная Армия
громила интервентов и внутреннюю
контрреволюцию, гнала их из пределов
страны.
Мизиано не оставляли мысли о России, ее народе,
который вел борьбу за свободу и независимость И
он, Франческо,— гражданин этой великрй страны,
которую он так еще и не видел! Иногда вечерами,
оставаясь наедине со своими мыслями, вспоминая
встречи с Берзиным, битву в Берлине, он думал о
братстве людей, которые там, далеко, создают новда
мир. Он пока будет здесь защищать их идеалы Это
идеалы и его партии. Он говорил об этом везде и
всюду. И писал об этом.
Фашисты не спускают глаз с Мизиаио Они в яро-
сти. Муссолини давно уже обратил внимание своих
преторианцев на этого неистового коммуниста, аги-
татора за Советскую Россию. Они уже готовят «бом-
бу» против него. Скоро она взорвется. А пока — пу-
ли в ход!
Незадолго до описываемых событий Франческо вы-
вез семью в местечко Торре Аннунциата близ Неа-
поля Там жила старшая сестра Марци — Ида
В то утро вся семья собралась за столом Ида, соб-
рав завтрак, как обычно раскрыла газету и От нео-
жиданности закричала: через всю первую полосу чер-
нело сообщение: «Покушение иа ФраПческо Мизиа-
но. Он убит. Убийцы скрылись!»
Мария не дослушала последние слова, потеряла
сознание.
Утром пришла газета из Рима На том же месте,
где вчера чернело сообщение о гибели Франческо,
была небольшая заметка: Франческо Мизиано не
убит. В него стреляли, но он остался жив.
Мария не уехала в Рим, ждала вестей Вечером,
под диктовку соседки, сердобольной старухи, Лина
написала отцу в Рим короткое письмо:
«Ты нас не любишь. Ты думаешь только о товари-
щах, которые тебя не защитили. Прошу пожалеть
нас, подумать о маме и о нас».
Через несколько дней Франческо сообщил Марии,
что он выехал из Рима в Неаполь и просит ее прие-
хать туда с детьми. После радостной встречи с же-
ной и детьми Мизиано обнял Лину, увел ее в ком-
нату и, закрыв за собой дверь, посадил иа стул, сел
рядом и сказал:
— Ты написала мне нехорошее письмо, Лииа. Ты
говоришь, что я не люблю вас. Нет, я очень люблю
вас и люблю всех детей. Ты написала, что я думаю
только о товарищах, а оии меня не защитили. Это не-
правда. Когда в меня стреляли фашисты, один из
моих друзей заслонил меня своим телом. Пуля, ко-
торая предназначалась мне, тяжело ранила этого то-
варища, и он сейчас в больнице... Теперь ты пони-
маешь, что ты не права и почему твое письмо меня
огорчило?
Эти слова хорошо запомнила дочь Франческо Ми-
зиаио. Они иа всю жизнь определили ее мышление
и поступки.
88
ПРИКАЗ
ГАБРИЕЛЕ Д'АННУНЦИО
Писатель Габриеле Д'Аннунцио появился
на литературном небосклоне Италии в
конце прошлого века. Его первые произ-
ведения, написанные в импрессионистском духе, при-
несли ему популярность: романы «Наслаждение»,
«Девы скал», «Триумф смерти» показали жизнь уми-
рающего дворянства. Потом из-под пера Д'Аннун-
цио вышли пьесы, и одна из них, «Франческа да Ри-
мини», неоднократно шла на подмостках русских те-
атров. Культ аристократического индивидуализма,
чувственность, эротика — особенность творчества
Д'Аннунцио. Но уже до первой мировой войны глав-
ным мотивом творчества Д’Аннунцио становится
национализм. В пьесе «Корабль», написанной в 1912
году, он выступил с призывом воссоздать Римскую
империю. Вскоре Д'Аннунцио приходит к откровен-
ному шовинизму, заявив: «Горжусь тем, что я — ла-
тинянин, и считаю варваром любого человека, в жи-
лах которого не течет латинская кровь».
К концу второго десятилетия нашего века литера-
турная слава Д'Аннунцио затухает. Его болезненное
самолюбие ищет выхода. На первых порах он высту-
пает, как соперник Муссолини, создает отряды так
называемых ардити («легионеров»), в которые вошли
преимущественно разочаровавшиеся фронтовики,
оказавшиеся после войны без всяких перспектив на
своей родине, переживавшей острый кризис.
Желание славы не дает вожаку ардити покоя, и в
1919 году он организует поход на Фиуме — нынеш-
ний югославский город Риеку. С воплями «Фиуме —
город итальянцев, а ие этих проклятых славян!» от-
ряды ардити под водительством Д’Аннунцио вры-
ваются в Фиуме и захватывают его.
На этот «подвиг» сразу же откликнулся Владимир
Маяковский острой эпиграммой:
Фазан красив. Ума ни унции.
Фиуме спьяну взял Д’Аннунцио.
Ардити держали город в своих руках Итальянские
революционеры не могли безразлично отнестись к со-
бытию, которое потворствовало разжиганию нацио-
нализма и шовинизма.
В это время в Фиуме выехал Франческо Мизиано,
чтобы изложить там платформу своей партии по ак-
туальным вопросам политической жизни.
Слух о приезде Мизиано мгновенно пронесся по
городу и, конечно же, стал известен Габриелю Д'Ан-
нунцио. Вождь ардити пришел в неописуемый гнев и
тут же издал приказ в стиле протекторов Древнего
Рима. Приказ был расклеен по городу. В архиве сох-
ранился этот документ. Вот его полный текст в пере-
воде с итальянского:
«КОМАНДОВАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ АРМИИ
в Фиуме, Италия.
Мои ардити, презренный дезертир Мизиано, под-
лейший хулитель Фиуме и великого Адриатического
дела, пытается проникнуть в город, чтобы осущест-
вить свои замыслы подстрекательства и измены.
Мы не допустим, чтобы город и наша жизнь были
отравлены подобными гнусностями.
Я отдаю в ваши руки дезертира и предателя Ми-
зиано, депутата Национального парламента.
Изловите его и немедленно покарайте: примените хо-
лодное оружие.
Это приказ. Вы понимаете его значение, и я смело
беру на себя ответственность и выпавшую мне честь
Комендант Габриеле Д'Аннунцио».
Разумеется, Мизиано понимал, что его приезд не
обрадует вожака ардити. Но не мог знать о приказе
убить его.
Был жаркий день. Приехав в Фиуме, Мизиано от-
правился к морю, чтобы немного отдохнуть. Кто-то
донес вооруженным ардити, что видели Мизиано и
что он находится в районе пляжа. Отряд ардити, по-
саженный на грузовик, помчался к берегу Адриати-
ческого моря.
Теперь все решали минуты.
Оставим на некоторое время Мизиано, оставим
ардити, летящих на грузовике к берегу моря, чтобы
выполнить злодейский приказ Д'Аннунцио. Вернем-
ся к событиям конца 1918 года.
Как помнит читатель, вместе с Мизиано и его
товарищами здание газеты «Форвертс» защищала
девятнадцатилетняя венгерка Маргарита Блук. Ее
привели туда революционные события, охватившие
под влиянием Октября всю Западную Европу, в том
числе и старую монархическую Австро-Венгрию Для
контакта с революционными движениями в других
странах, особенно с Германией, венгерские револю-
ционеры послали Маргариту в Берлин в качестве
связной, и она, прибыв туда в разгар боев, пошла
ни баррикады.
После выхода из германской тюрьмы она выеха-
ла в Италию. Когда был решен вопрос о поездке
Мизиано в Фиуме, Маргарите предложили выехать
туда и подготовить вместе с друзьями митинг, на
котором выступит Франческо.
Первое, что увидела Маргарита в Фиуме,— это
мечущихся ардити и расклеенные по городу при-
казы Д'Аннунцио. Маргарита помчалась к друзьям
Те уже слышали, что Мизиано, возможно, находит-
ся на пляже у хижины рыбака. Но как туда быстро
добраться, чтобы предупредить Франческо о грозя-
щей опасности?!
Франческо действительно находился у хижины
рыбака. Он любил такие места, где тихо плещут
волны, где можно не спеша выслушать сетования
людей на тяжелую жизнь. В этих беседах он чер-
пал не только правду жизни, но силу и уверенность
для борьбы за права людей. Эту его близость к на-
роду, умение говорить с людьми подмечали всё,
кто знал Мизиано. Джулио Тревизани, один из ста-
рейших деятелей Итальянской компартии, писал:
«Он был другом всех, кого знал или не знал лич-
но... Люди из народа, особенно бедные женщины,
подходили к нему и без всяких предисловии рас-
сказывали о своих горестях, о трудностях, о неспра-
ведливости. И для всех у него находилось доброе
слово, совет. «Ты подлинный сын народа»,— сказал
я ему однажды. Он ответил: «Это самое высокое
звание, никакое другое родство не могло бы мне
его дать». Я всегда это вспоминаю, ибо в этих сло-
вах весь Мизиано».
В то жаркое августовское утро 1920 года Франче-
ско задержался на берегу моря, обдумывая все, что
скажет людям. Он уже собрался было в город, но
солнце нещадно жгло,, н он решил искупаться. Рас-
секая сильными движениями рук прохладные струи,
доплыл до черневшей невдалеке скалы и, не оста-
навливаясь, поплыл к берегу И тут он увиде\ как
вдали из-за поворота вынырнул автомобиль и на
огромной скорости стал приближаться к хижине ры
бака...
Фиуме лежит у залива Кварнер, образуемого Ад-
риатическим морем и широким, сужающимся рука-
вом, омывающим полуостров Истрия с юга.
Город Триест лежит по другую сторону Истрии,
на берегу Венецианского залива. Кратчайший путь
из Фиуме в Триест ведет через Истрию, прорезая
ее шесгидесятикилометровой шоссейной лентой, по
обе стороны которой мелькают небольшие городки
и деревни
Грузовцк с вооруженными ардити в поисках Ми
зиано направился по главной магистрали, но убийцы
не знали, что их опередили, что к побережью мчит-
ся другой автомобиль.
Маргарите стало ясно, что ардити не остановятся
ни перед чем и выполнят злодейский приказ Д'Ан-
нунцио и что спасти Франческо можно, если удаст-
ся опередить грузовик с фашистами.
Среди друзей Мизиано в Триесте был Пьетро, шо-
фер- владельца фабрики Кабриолет «Линкольн»
обычно находился недалеко от хозяйского особняка,
в гараже Пьетро понял Маргариту с полуслова.
Вывел машину из гаража и, развив бешеную ско-
рость, помчался на побережье к хижине рыбака
Взволнованное лицо Маргариты все объяснило
Франческо. Не успев переодеться, он как был, в
мокром купальном костюме, сел в автомобиль Пьет
ро дал газ и помчался в Триест.
Когда грузовик с фашистами подъехал к хижине,
там уже никого не было Лишь облачко пыли осе-
дало у перевала Старик рыбак, наблюдавший эту
картйиу, уЛыбнулся, продолжая чинить своп снасти.
Ардити помчались по дороге к Триесту, но уже
было поздно. Депутатский мандат Мизиано заставил
пограничную стражу пропустить его, но ардити бы-
ли задержаны
Франческо не сразу выехал из Триеста. Гонка в
мокром купальном костюме дала себя знать: он за-
болел воспалением легких
Марця ничего не ведала о том, что произошло с
Франческо в Фиуме: она ждала третьего ребенка, и
товарищи Франческо по партии щадили ее. Но в
Риме узнали о болезни Мизиано, о ее обострении.
Мария выехала в Триест. То, что она увидела там,
ввергло ее в ужас Мизиано лечил врач-фашист.
Он сделал инъекцию грязной иглой, и у Франческо
начиналось заражение крови, возникла угроза ампу-
тации ноги По тревоге Марии из Рима прибыли
друзья Врач был заменен, а вокруг госпиталя това-
рищи по партии установили охрану, ибо стало из-
вестно, что ардити пытаются прорваться в Триест.
Пришлось и Марии лечь в больницу: приближа-
лись роды Пережитое ею сказалось на здоровье ре-
бенка Мальчика назвали Вальтером.
В октябре Франческо и Мария вернулись в Неа-
поль
В конце декабря 1920 года Мизиано уже в Бо-
лонье. Там предстоял большой митинг фашистской
партии, на котором должен был выступить один из
89
ближайших сподвижников Муссолини По поруче-
нию ЦК Мизиано готовился выступить на другом
митинге. Он приехал в Болонью днем. До вечера
оставалось еще несколько часов, и Франческо зашел
в бар на вна Фарини, чтобы выпить чашечку кофе.
Он не успел сделать первый глоток, как в бар вор-
валась банда фашистов и с ней главарь местных на-
ционалистов Федерцони. Выстрелы последовали один
за другим. Франческо выхватил револьвер, начал от-
стреливаться. Фашисты бежали.
Прибывшие полицейские сделали вид, будто ниче-
го особенного не произошло. Лишь газета «Корьерра
де ла сера» сообщила в крошечной заметке: «В Бо-
лонье стреляли в Франческо Мизиано. Покушавшие-
ся скрылись».
А потом были другие покушения. Об одном из
них, случившемся в 1921 году, пишет товарищ Луид-
жи Лонго в своей книге воспоминаний «Между ре-
акцией и революцией», вышедшей в 1972 году в
Италии, а в 1974 году выпущенной в свет Политиз-
датом на русском языке:
«Я состоял в охране, которая должна была сопро-
вождать товарища Мизиано в поездке... Партия орга-
низовала группы товарищей, которым поручили охра-
нять его. В этот день я был в составе одной из та-
ких групп. Товарищ Мизиано вышел из туринской
Палаты труда и должен был направиться в близле-
жащую гостиницу на улице Чернайя, где он прожи-
вал. Едва собравшиеся поблизости фашистские бан-
диты увидели его, как тотчас напали на группу лю-
дей, сопровождавших Мизиано. Последовало ожесто-
ченное столкновение между нападавшими и охраной
товарища-депутата. Последнему удалось невредимым
добраться до гостиницы. Но схватка продолжалась
на улице, били друг друга палками и стреляли из
пистолетов... Я отделался несколькими ударами
палкой».
«Бомба», которую готовили Муссолини и его фа-
шисты, взорвалась. После неудачного покушения в
Риме и попытки покончить с Мизиано в Фиуме фа-
шисты вытащили из своего «запасника» письмо, от-
правленное из тюрьмы Тегель социалисту Пелузо в
Рим. Мизиано объяснял в этом письме, почему он
решил принять русское гражданство. Но, как помнит
читатель, до Пелузо письмо не дошло: его перехва-
тили фашисты.
В печати началась кампания «разоблачения» Мизи-
ано как «инородца», приверженца Советской России.
18 февраля 1921 года реакционная газета «Иль Мат-
тино», выходившая в Неаполе, выступила с злоб-
ной статьей против Франческо. Шовинизм всегда ос-
тается шовинизмом; все рассчитано было так, чтобы
воздействовать на самые низменные инстинкты обы-
вателя. Мизиано, дескать, теперь уже не итальянец,
а русский, фамилия его не Мизиано, а МизиаНОВ,
то есть ее переделали на русский лад. Знай, обыва-
тель, фашист, кто он такой, этот коммунист Мизиа-
но. А статейку в «Иль Маттино» озаглавили хлест-
ко: «МизиаНОВ — итало-русский депутат». Теперь
можно на него спустить всю деклассированную сво-
лочь, готовую за кварту вина продать не то что на-
ционального героя, но под пьяную руку и родную
мать. Короче говоря: ату его!
Кампания клеветы росла, распаляя звериные ин-
стинкты. Ночью в начале марта дом Мизиано в Неа-
поле был окружен беснующейся толпой фашистов,
которые пытались ворваться в квартиру и убить
Франческо. К счастью, его тогда не было дома —
по заданию партии он находился за пределами Неа-
поля.
Через несколько дней все повторилось. Теперь
уже не только Франческо, но и всей его семье гро-
зила опасность Директриса школы имени Мафаль-
ды, дочери короля Виктора-Эммануила, где учились
Каролина и Орнелла, не решилась отпустить детей
домой, оставила их ночевать у себя. В благодарность
за это Мария подарила директрисе семейную релик-
вию — вазу, доставшуюся ей в наследство от бабуш-
ки. А через пятьдесят четыре года после описывае-
мых событий, в 1975 году, из Неаполя в Москву
приехала пожилая супружеская пара: она фило-
лог и ее муж адвокат. Учиться никогда не поздно,
и супружеская пара поступила на курсы русского
языка при Обществе «Италия — СССР» Осторожно
поддерживая друг друга, вооружившись справкой из
адресного бюро, они медленно шли по улице Горь-
кого, остановились у большого дома близ площади
Маяковского, долго смотрели на окна, как будто по
ним что-нибудь можно узнать, и он сказал:
— По-моему, мы пришли.
Они постояли в прихожей, не зная, с чего начать.
Потом он сказал хозяйке квартиры:
— Вы меня, конечно, не помните. А я вас пом-
ню... Неаполь... школа имени принцессы Мафальды...
мы учились в одном классе. Моя мама была ди-
ректрисой... Ваза, подарок вашей мамы, стоит в на-
шей квартире в Неаполе. Да, да... Это я, а это моя
жена, знакомьтесь...
После съезда в Ливорно авторитет Коммунистиче-
ской партии стал расти. Фашисты нагнетали атмос-
феру политического психоза, готовились к расправе
с лидерами ИКП, не отказались от намерений убить
Мизиано, а если это не удастся, то любым другим
путем подорвать его авторитет в народе. Май 1921
года привел их в неистовство: подошли новые пар-
ламентские выборы, народ Турина снова выдвинул
Мизиано в парламент, и он снова стал депутатом.
Сообщники Муссолини и раньше не гнушались
никакими методами. Теперь они перешли к бандит-
ским вылазкам в парламенте. На 30 июня было
назначено заседание палаты. Толпа фашистов, воору-
женная пистолетами и железными палками, ждала
Мизиано, чтобы не допустить его на заседание.
Квестор, возглавляющий административную часть
парламента, преградил Мизиано дорогу, спросил,
не вооружен ли он? Тот, ответив утвердительно,
сказал, что не сдаст оружия, если этого не сделают
фашисты.
Мизиано прошел в здание. Там его окружила тол-
па беснующихся фашистов.
— Ты не Мизиано,— вопили они.— Ты МизиаНОВ!
Убирайся вон!
Мизиано ответил, что не уйдет: мандат ему дали
неаполитанцы и туринцы, он их депутат, депутат
своего народа.
Фашисты бросились на Мизиано. Подбежали депу-
таты-коммунисты, началась свалка Фашистский
главарь Финчи, один из ближайших сподвижников
Муссолини, закричал:
— Довершите то, что не сумели сделать ардити
Д'Аннунцио!
Социалист Модильяни потребовал прекратить из-
девательство над депутатом парламента, но фаши-
сты продолжали бесноваться. По совету друзей Ми-
зиано покинул здание, но 21 июня снова пришел.
Взбешенный Финчи крикнул:
— Этот коммунист снова здесь! Фашисты, Где вы!
Мизиано прошел к трибуне и, оттолкнув Финчи,
громко сказал:
90
-г- Я действительно коммунист. Да здравствует
коммунизм!
В Риме стало известно, что предстоит III Конгресс
Коминтерна. Руководство Итальянской коммунисти-
ческой партии назначило делегацию, в которую во-
шел член Центрального Комитета Франческо Мпзи-
ано. В двадцатых числах июня 1921 года, несколько
позднее всей делегации, Мизиано выехал в Советскую
Россию.
...Поезд из Рима направился в Швейцарию, затем
пересек Германию и Польшу и в конце июня подо-
шел к советской границе.
Еще издали, высунувшись в окно, Франческо^ уви-
дел пограничный столб и красноармейца с винтов-
кой, помахал ему рукой. Часовой на государственном
посту слегка улыбнулся.
Отсюда начиналась Советская Россия.
КОНГРЕСС КОМИНТЕРНА.
ВСТРЕЧА С ЛЕНИНЫМ
Третий Конгресс Коммунистического Ин-
тернационала открылся 22 июня 1921
года в Москве, куда прибыли делегаты
от 52 стран. Конгресс сосредоточил внимание на во-
просах революционной тактики и стратегии, проана-
лизировал причины временных поражений некото-
рых партий, еще не полностью способных руково-
дить наступлением масс. Это касалось и итальян-
ских товарищей. Владимир Ильич выступил с докла-
дом по вопросам тактики, а затем и по вопросу о
нэпе. Во время Конгресса Мизиано встретился с Ле-
ниным.
Через год после кончины Владимира Ильича Ми-
зиано описал эту встречу. Статья была опубликова-
на в газете «Гудок» в 1925 году, а 20 сентября 1967 го-
да перепечатана в «Известиях». Вот что писал Фран-
ческо Мизиано:
«Вновь я встретился с ним на III Конгрессе Ко-
минтерна. Я приехал из Италии, когда Конгресс был
уже в полном разгаре. Вхожу в Андреевский зал и
сейчас же осведомляюсь о Ленине... «Он скоро бу-
дет»,— отвечают мне. Усаживаюсь за столом, отве-
денным нашей делегации, принимаю участие в рабо-
тах Конгресса. Вдруг весь зал поднимается — Ленин.
Он появляется в задней двери, на 5 ступеньке к
трибуне, занимает место в президиуме. Не спускаю
с него глаз. Тот же скромный цюрихский Ленин,
потребитель 18-копеечного пролетарского обеда. Ни
одной черты, навеянной новым положением.
Я не понимаю русского языка. Однако вниматель-'
но слежу за оживленным лицом оратора, стоящего
нэ трибуне, за его жестами, веселой и умной мими-
кой. Перевожу взгляд на Ленина. Из узких щелок
полузакрытых глаз сверкает лукавый огонек...
Перерыв. Подхожу к Ленину. Принимает меня с
улыбкой и сразу засыпает вопросами:
— Что происходит в Италии? Каковы последние
вести? Что делают товарищи? Как протекает рабо-
та?
Разговариваем, стоя у стола президиума. Стою
спиной к залу и опираюсь на стол. Ленин дает мне
ряд советов относительно работы в Италии; смотрю
ему прямо в глаза. Их нельзя назвать маленькими,
отдают бархатным блеском, полны ума, жизни и
движения... Ленин говорит с всевозрастающей быст-
ротой: «Передайте итальянским товарищам, что ре-
волюция не везде так легко делается, как в России.
В России мы имели половину армии с нами и сла-
бую буржуазию. Скажите им, чтобы они не строили
воздушных замков и считались бы с действительно-
стью... Необходимо сделать все возможное, чтобы
не дать вождям попасть в руки к нашим врагам.
Посмотрите, что случилось в Германии. Карл Либк-
нехт, Роза Люксембург и другие лучшие пали. Гер-
манская партия, оставшись без вождей, лишилась на
время способности к действию. Берегите вождей,—
повторил он,— не обращайте внимания на мнение
врагов. Часто нужно иметь больше мужества, чтобы
прослыть трусом в глазах врага и даже товарищей,
чем бесцельно жертвовать собой...»
После Конгресса Коминтерна Мизиано намеревал-
ся посмотреть города России, проехать на Волгу,
думал, что ее люди помогут ему понять душу на-
рода.
Собьпия, однако, заставили вернуться в Италию.
Фашистская партия готовилась к походу на Рим и
захвату власти.
В Неаполе Франческо не задержался, посетил по
поручению партии разные города, где выступал на
собраниях с сообщениями о Конгрессе Коммунисти-
ческого Интернационала, о беседах с Лениным.
Популярность Мизиано росла. Росла и ярость Мус-
солини и его приспешников; после нескольких поку-
шений Франческо Мизиано остался жив.
Осенью 1921 года фашистская партия начала но-
вую разнузданную кампанию против «итало-русско-
го депутата», делая упор в своей кампании на «де-
зертирство», «нежелание воевать во имя родины».
Фашистов поддержало буржуазное большинство в
парламенте.
В конце ноября 1921 года военный трибунал судил
Мизиано, предъявив ему обвинение в «дезертирстве».
Приговор: десять лет тюрьмы. Муссолини ликовал,
разразился в газете «Пополо д’Италия» статьей, ра-
достно приветствовал этот приговор. Мизиано подал
кассацию в высший суд Итальянского королевства,
хотя тут нечего было ждать помощи.
Тем временем фашисты развернули дикую кампа-
нию за ликвидацию парламентского мандата, а ста-
ло быть, и парламентской неприкосновенности Мизи-
ано. К этому времени либералы уже пошли йа ус-
тупки фашистам. Коммунисты начали кампанию
в защиту Мизиано. Антонио Грамши выступил в га-
зете «Иль комуниста», редактором которой был
Пальмиро Тольятти, со статьей, где заявил, что ли-
шение Мизиано мандата — это «первый удар по де-
мократии». В защиту Мизиано выступил правый
социалист Модильяни, напомнил, что и Джузеппе
Мадзини был приговорен своими врагами к смерт-
ной казни лишь за то, что боролся за освобождение
Италии от иностранного владычества и за объеди-
нение страны. Но шовинизм слеп. Он убивает душу
народа и лишает его способности мыслить. 15 декаб-
ря 1921 года был окончательно решен вопрос о ли-
шении Мизиано парламентской неприкосновенности.
Теперь, когда над жизнью Франческо Мизиано на-
висла новая опасность, Коммунистическая партия
Италии приняла решение о его выезде в Советскую
Россию.
Во второй половине декабря 1921 года Мизиано
тайно выехал в Берлин.
94
БЕРЛИНСКИЕ ГОДЫ
ПОЕЗДКА НА ВОЛГУ
Тяжкой выдалась осень 1921 года в Со-
ветской России на страну обрушился го-
лод. Голод жестокий, беспещадный. Ме-
ры против него нужны были решительные, действен-
ные, скорые. Теперь надежда была на хлебные гу-
бернии России и на внешнюю помощь Движение
«Руки прочь от Советской России», родившееся в на-
родных массах за рубежом, давахо надежду что
и в эту лихую годину можно рассчитывать на меж-
дународную рабочую солидарность.
Денин верих в эту солидарность, и 2 августа
1921 года он обратился к пролетариям всех стран:
«В России в нескольких губерниях го ход, который
по-видимому лишь немногим меньше, чем бедствие
1891 года»
Напомним читатехю, что в 1891 году недород как
его называли обернулся неслыханным бедствием.
Дев Гелетой Антон Чехов Владимир Короленко вся
передовая Россия пришха на помещь голодным гу-
берниям делала все что могла Теперь в беду по-
пала страна, сбросившая ярмо самодержавия и дес-
потизма
Денин написал в своем, воззвании: «Требуется по-
мощь. Советская республика рабочих и крестьян
ждет этой помощи от трудящихся...»
Призыв был услышан в рабочих кварталах Па-
рижа, Амстердама, Берлина, рурских городах, в до-
ках Бирмингема и Дондона, в Мадриде и в горо-
дах Австралии и Америки — повсюду, где есть
трудовой люд. Воззвание Ленина всколыхнуло всю
передовую интеллигенцию мира Анатоль Франс,
Анри Барбюс, Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Аль-
берт Эйнштейн, Кэте Кольвиц Бернард Шоу, Мар-
тин Андерсен-Нексе, Фритьоф Нансен — все мировое
созвездие писателей и ученых отозвалось на призыв
Ленина. И, конечно, первыми ринулись на помощь
все коммунисты, для которых защита Октября стала
делом сердца.
12 августа 1921 года в Берлине был создан вре-
менный Заграничный комитет по организации рабо-
чей помощи голодающим в России Через месяц,
12 сентября, на пленарном заседании комитета при-
сутствовало более сорока делегатов из многих
стран. А 17 декабря в Берлине состоялась Междуна-
родная конференция организации помощи Советской
России — Межрабпома. На ней был избран Цен-
тральный Комитет. В него вошли Клара Цеткин, Вил-
ли Мюнценберг, Франческо Мизиано.
Франческо остается в Берлине. ЛиШь через год он
отправится в Советскую Россию. А пока за дело
здесь. За дело помощи Стране Советов.
Двадцать шестого декабря из Берлина он отправ
ляет в Рим прощальное письмо своим друзьям и со-
ратникам по партии:
«Итак, я считаю завершенной эту фазу моей жиз-
ни, испытывая при этом чувство еще большего ува-
жения к моей партии, к тем, кто ею руководит и ее
составляет.
Я теперь здесь, освобожденный от мертвого груза
депутатского мандата, преисполненный горячего же-
лания работать Располагайте мною.
Привет всем товарищам и до свидания, до дня,
когда вы сочтете это свидание возможным.
Ваш Франческо».
И еще одно письмо он отправляет семье. Мария с
детьми пока осталась в Италии. Нелегко ей, но она
не падает духом. Еще В начале 1921 года в Рим
92
прибыла из Москвы торговая делегация Российской
Советской Республики во главе с Вацлавом Вацлаво-
вичем Воровским. Мария предложила Воровскому ре-
ферировать итальянскую прессу для советского дип-
ломата. Воровский с благодарностью принял ее пред-
ложение.
Межрабпом стал организацией всемирного рабоче-
го класса, сплачивающей массы в единый антиимпе-
риалистический фронт. Но главной задачей на том
первом этапе была помощь Советской России. Она
шла из многих стран. И, конечно, из Италии. Фа-
шистские банды при попустительстве реакционных
кругов усилили террор, но тогда, в начале 1921 го-
да, клика Муссолини еще не пришла к власти и ре-
волюционные рабочие часто давали отпор фашистам,
причем весьма успешно. В знак пролетарской соли-
дарности рабочие собрали и отправили в Россию 27
вагонов с продовольствием и подарками для голода-
ющего Поволжья. Состав из Италии пришел в Бер-
лин, и Мизиано повел его на Волгу в Царицын.
26 марта 1922 года царицынская газета «Борьба» со-
общила о приезде в город делегации Межрабпома.
Вот это сообщение:
«В деме Науки и Искусства
сегодня в 4 ч. дня
состоится грандиозный
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ МИТИНГ
на тему
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СОВЕТСКОЙ РОССИИ...
В митинге примут участие прибывшие в Царицын
представители иностранного пролетариата
от Италии тов. Мисиапо
от Венгрии тов. Рот
от Румынии тов. Пугаческо
На митинг приглашаются все рабочие, служащие и
граждане. Для рабочих... будет подай к 3 ч. дня
трамвай.
После митинга будет поставлен
спектакль
«Королевский брадобрей»
В газете была опубликована большая беседа кор-
респондента РОСТА с Мизиано, который рассказал
гражданам Царицына и всего Поволжья, что, «несмот-
ря на бойкот и сильное противодействие буржуазии,
пролетариат Италии собирал п будет собирать продо-
вольствие, вещи и деньги для голодающих России».
Мизиано выступал на заводах, побывал в кварти-
рах граждан, в детских домах.
В день отъезда делегации газета «Борьба» опубли-
ковала обращение Мизиано и представителя италь-
янских кооперативных организаций:
«К ПРОЛЕТАРИАТУ ЦАРИЦЫНА.
Вам, т т. рабочим, красноармейцам и крестьянам,
много пережившим, посылаем мы свой братский
привет».
Два года провел Мизиано в Берлине. В конце 1922
года к нему из Неаполя приехала Мария с детьми.
В декабре 1923 года он был назначен председате-
лем Представительства Межрабпома в Москве. Де-
кабрь и начало января 1924 года ушли на заверше-
ние дел в Берлине. Настроение было радостное,
приподнятое. Он обещал детям, что в Москве пой-
дет с ними к Ленину.
Франческо Мизиано, Мария Конти-Мнзиано с се-
мьей приехали в Москву 19 января 1924 года.
22 января утр^ом дети не сразу поняли, что прои-
зошло. До них донеслись глухие рыдания Марии.
Франческо, сжав руки, ходил из угла в угол по ком-
нате. За окном чернели флаги. Москва, оглушенная
страшной вестью, застыла в скорбном молчании.
Вечером 24 января Франческо ушел с детьми в
Колонный зал. Опустив голову, долго стоял, присло-
нившись к холодному мрамору колонны. Дочь про-
шептала:
— Ведь ты обещал, что мы пойдем к нему в го-
сти...
МОСКВА,
ТРИУМФАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДЬ
То было время, когда где-нибудь в Ена-
киеве или в Горловке раскрасневшиеся
мальчишки, постучав в первый попав-
шийся дом на окраине шахтерского поселка, крича-
ли: «Тетя Глаша, а тетя Глаша, скорей на собрание!
Все уже гуртом пошли... Там, в этом, как его... в
Ланкашире генеральная забастовка».
И тетя Глаша, накинув кумачовый платок, шла на
собрание, где уже гудели сотни шахтерских жен. И
оратор из укома или губкома, в выцветшей от лив-
ней и солнца гимнастерке, поднявшись на трибуну,
клеймил, как полагается, акулу капитализма лорда
Керзона, а потом рассказывал, что в далеком анг-
лийском Ланкашире или в Руре вот уже третий ме-
сяц бастуют шахтеры, восстав против грошовой зар-
платы и нещадной эксплуатации. И дети там, в
Ланкашире, голодные.
Насупившись, гневно сверкая глазами, слушали
шахтерские жены речь оратора, понимающе кива-
ли головами и дружно хлопали ему, а потом, сгру-
дившись у стола, вынимали завернутые в носовые
платочки рублевки, трешницы, полтинники и отда-
вали в помощь братьям и сестрам по классу.
То было время, когда по Советской стране из края
в край катилось емкое и всем понятное слово:
Межрабпом — Международная рабочая помощь.
Представительство Центрального комитета Меж-
рабпома разместилось иа Триумфальной площади в
Москве (ныне площадь Маяковского). В этом же
доме поселился Франческо Мизиано с семьей, сна-
чала в одной комнате, а потом ему дали квартиру
побольше.
Может быть, впервые за всю жизнь Мизиано ока-
зался в среде, где вокруг не было врагов. Он как-то
не мог сразу привыкнуть к этому удивительно спо-
койному существованию: никто в него не стрелял,
не надо было беспокоиться за жизнь семьи. Его но-
вая родина строила, была устремлена в будущее,
мечтала.
В тот год произошло знаменательное событие:
Франческо Мизиано вместе с ленинским призывом
вступил в Российскую Коммунистическую партию
большевиков. А вскоре и Мария стала членом РКП(б).
Их сердечно поздравили друзья.
...Дом на Триумфальной стал штабом, откуда шли
незримые нити, связавшие Межрабпом с Италией, с
друзьями по партии. Луиджи Лонго, Джованни
Джерманетто, Бианко — все, кто приезжал в Мос-
кву из Италии, минуя фашистские кордоны,— неиз-
менно находили приют в доме Франческо и Марии
Анри Барбюс и Франческо Мизиано Москва, 1934 год.
Мизиано, чувствовали себя там, как в родной семье.
Триумфальная площадь была связана с интернацио-
нальными организациями во всех странах. Межраб-
пом чутко следил за пульсом жизни, за всеми со-
бытиями. Япония пережила катастрофическое зем-
летрясение. Тяжкий экономический кризис душил
германский рабочий класс. Межрабпом начал про-
водить всемирную акцию солидарности с трудящи-
мися этих двух стран. Мизиано несколько раз вы-
езжал в Германию для передачи собранных средств
в помощь рабочим Рура, Берлина, Саксонского про-
мышленного района, направлял туда подарки для
детей, помогал создавать столовые для безработных.
В феврале 1924 года по предложению ЦК Межраб-
пома Исполнительный Комитет Коммунистического
Интернационала рассмотрел вопрос об организации
национального Комитета Межрабпома в Советском
Союзе. Вопрос обсуждали старейшины мирового ком-
мунистического движения. Из Берлина приехала
Клара Цеткин, из Японии — Сен Катаяма, болгар-
ских коммунистов представлял Басил Коларов. В
заседании, принимали участие Пятницкий и Мизиа-
но. Предложение Исполкома Коминтерна было рас-
смотрено в ЦК РКП(б), и Франческо Мизиано было
поручено разработать план организации и состав Ко-
митета А вскоре, 9 апреля 1924 года, был создан
Всесоюзный Комитет международной рабочей по-
мощи 20 октября того же года Комитет был окон-
чательно сформирован, и в этой важной акции при-
няли участие ВЦСПС, МОПР, комсомол, Отдел ра-
ботниц ЦК РКП(б) и Центросоюз. Мизиано было по-
ручено руководить Межрабпомом в СССР.
Дел у Мизиано стало бесконечно много: связи со
всем миром. И, конечно, с Италией. Оттуда идут
все более тревожные вести. Фашистская диктатура
Муссолини вырывает из рядов одного бойца за
другим. Убит Джакомо Маттеотти, секретарь Соци-
алистической партии. По приказу дуче он был схва-
чен фашистской бандой Думини. Его пытали, а по-
том застрелили.
В тюрьме Антонио Грамши, одна из светлейших
голов Итальянской коммунистической партии, ее
93
Франческо Мизиано с амери-
канскими киноактерами Дугла-
сом Фербенксом и Мери Пик-
форд. Москва, 1925 год.
выдающийся руководитель. Фашисты схватили Грам-
ши, тяжко больного, и теперь пытают. Трудными
путями, подчас с риском для жизни поддерживается
связь с Итальянской компартией, но связь есть, Ми-
зиано делает все, что возможно и невозможно, что-
бы помочь своим соратникам.
1926 год принес новые классовые битвы. В Англии
началась всеобщая стачка, в которой приняли уча-
стие 4 миллиона человек. Дольше всех держались
горняки — с 1 мая до конца ноября 1926 года. Тут
уже показал себя не только Ланкашир, но вся Анг-
лия. Весь мир труда напряженно следил за этой
борьбой. Из всех стран шли в Межрабпом рабочие
марки, доллары, франки, гульдены, рупии, иены,
кроны, злотые. Но больше всех помог рабочий
класс Советской страны. С мая по декабрь 1926 го-
да в фонд помощи английским горнякам поступили
И 538121 рубль 79 копеек. Да, и 79 копеек! Учиты-
вался каждый грош, каждая копейка. Сбор средств
продолжался и после конца забастовки. К марту
1927 года было собрано 16 015 009 рублей 85 ко-
пеек— по тому времени сумма громадная. Генераль-
ной секретарь Английской компартии Уильям Гал-
лахер писал: «Замечательная помощь, оказанная ра-
бочим классом СССР, явилась величайшим уроком
изумительной солидарности, когда-либо полученной
рабочими Англии».
Межрабпом всемирный и Межрабпом Советского
Союза действовали, трудились, являя пример беско-
рыстия, формируя сознание миллионов людей в ду-
хе пролетарского интернационализма. Этому помога-
ла* широкая политическая деятельность — конферен-
ции, митинги, поразительная по размаху издатель-
ская деятельность. Популярнейшим стал журнал
«АИЦ» — рабочий иллюстрированный журнал, вы-
ходивший на немецком, французском, Английском и
других языках тиражом до миллиона экземпляров.
Генрих Манн писал: ««АИЦ» богата по содержа-
нию... Она показывает пролетарский мпр, который
странным образом кажется несуществующим для
94
других иллюстрированных изданий, хотя мир этот
огромен». Межрабпом создал «Новое немецкое из-
дательство», «Универсальное издательство для всех»,
другие издательства и издания.
Франческо Мизиано был одним из главнейших мо-
торов всей этой громадной работы. И, оценивая ее,
Анри Барбюс напишет 15 июня 1934 года из Пари-
жа в Москву:
«Мой дорогой Мизиано... В Межрабпоме Вы рабо-
таете уже очень давно, и ни для кого не секрет, что
Вы один из самых активных и драгоценных людей
из тех, кто вдохновляет это большое дело, эту меж-
дународную организацию, являющуюся синтезом ду-
ха солидарности и революционного духа.
Вот несколько слов по существу. Их несет Вам
голос друга, и это всего лишь эхо многих других
голосов. Братски жму Ваши руки».
Франческо Мизиано взял на себя еще одну мно-
готрудную обязанность — политического руководи-
теля созданной тогда киностудии «Межрабпом-
фильм».
Сначала выпустили два документальных фильма:
«Вниз по течению голодной Волги» и «Голод в Со-
ветской России». Назначение их было предельно яс-
ным привлечь внимание к положению в России,
оказавшейся в бедственном положении после импе-
риалистической и гражданской войн, интервенции
и неурожая. Фильмы обошли полмира, их посмотре-
ли сотни миллионов людей. Эти кинокартины спо-
собствовали усилению сбора продовольствия и
средств во всех странах; был выпущен заем помощи
Советской России.
Еще в 1915 году из Костромы в Москву приехал
куцец Михаил Трофимов. Денег у него было много,
но принадлежал он не к тому клану российского ку-
печества, которое разгульно пьянствовало, сорило
деньгами в ресторане «Яр» и других злачных местах.
Человек жадный до всего нового, ищущий, одер-
жимый любовью к просвещению, он воспылал стра-
стью к кинематографу и решил на это благое дело
употребить свои капиталы.
В Москве Трофимов нашел энтузиаста, верного,
подходящего, талантливого человека — инженера
Алейникова, и приобщил его к своему замыслу и
создал кинофирму «Русь». Дела у фирмы пошли хо-
рошо, в картинах снимались популярные в те годы
актеры. Публика валом валила в «иллюзирн», как
тогда называли кинотеатр. В 1919 году «Русь» выпу-
стила на экраны первый советский художественный
фильм «Поликушка» по рассказу Льва Николаевича
Толстого. Заглавную роль сыграл Иван Михайлович
Москвин.
Октябрь широко открыл двери киноискусству. На-
зрела необходимость создавать мощные кинообъеди-
Н2Ния. В 1924 году киноотдел Межрабпома объеди-
нился с кинотовариществом «Русь». Бывший купец
Трофимов остался работать в киногруппе в новом
объединении, которое стало называться «Межраб-
пом-Русь»г а с 1928 года — «Межрабпом-фильм».
Режиссеры там собрались великолепные, талантли-
вые Всеволод Пудовкин, Яков Протазанов, ДзиГа
Вертов, Борис Барнет, Николай Экк, Эггерт. Из Гер-
мании позже приехал Эрвин Пискатор, из Голлан
дии — Иорис Ивенс. Удивительно ли, что из павиль-
онов «Межрабпом-фильм» вышли такие ленты, как
«Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Три песни о
Ленине», «Восстание рыбаков», «Путевка в жизнь»,
«Потомок Чингис-хана», «Окраина».
К руководящим деятелям «Межрабпом-фильм»
принадлежал и Франческо Мизиано. Он был не
только официальным политическим руководителем
киностудии, но и ее душой, организатором, совет-
чиком. Он много сделал для того, чтобы продвинуть
советские фильмы по всему свету через зарубеж-
ные кинообщества, вместе с неутомимым Вилли
Мюнценбергом способствовал созданию «Прометеу-
са» в Германии и такого же названия общества в
Швейцарии, «Спартакуса» во Франции, «Аргуса» в
Соединенных Штатах Америки.
Художественные и документальные фильмы несли
в мир правду о Советской России, привлекали друзей.
В сборнике «Советское кино на подъеме», вышед-
шем в свет в 1926 году в Москве, помещена статья
Мизиано, озаглавленная «Межрабпом-Русь». Он
писал:
«За время своей деятельности Межрабпом вывез
за границу целый ряд художественных и агитацион-
ных картин советского производства..., впервые оз-
накомив с ними широкие рабочие массы Западной
Европы и содействуя агитации за Советскую Россию
среди мирового пролетариата... Прорывается блока-
да, загораживающая от нас широкие массы трудя-
щихся за границей».
Удивительной была способность Мизиано искать и
находить все новых и новых друзей для Советской
страны. В семейном архиве Мизиано сохранился и
такой снимок: Франческо беседует с Мери Пикфорд
и Дугласом Фербенксом, знаменитыми американски-
ми киноактерами. Как и многие другие, они приеха-
ли в Москву, чтобы познакомиться с Советской
страной, ее людьми, и уехали нашими друзьями.
Дом Межрабпома на Триумфальной стал между-
народным клубом. Частыми гостями на просмотре
фильмов здесь бывали Анатолий Васильевич Луна-
чарский, Максим Максимович Литвинов, Семен Ми-
хайлович Буденный, туда приходили Клара Цеткин,
Басил Коларов, Отто Куусинен, другие крупней-
шие деятели Коминтерна и Центрального Комитета
ВКП(б), зарубежные друзья из всех стран мира.
И, конечно, приходили дети Со всей округи.
Франческо их очень любил. В день 50-летия Мизиа-
но — он был отмечен очень тепло — Пудовкин сде-
лал дружеский шарж.* Мизиано ведет в кинозал
нескончаемую колонну детей, а Протазанов и Пудов-
кин с ужасом смотрят на это шествие, понимая, что
все места будут заняты и для взрослых не останет-
ся ни одного свободного стула.
Подошли тридцатые годы. Над капиталистическими
странами бушевала гроза затяжного кризиса. В Гер-
мании рвалась к власти нацистская партия, 30 янва-
ря 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером.
Межрабпом все свои силы и возможности отдает де-
лу помощи армиям безработных, борьбе против на-
цизма, принимает участие в формировании антифа-
шистского народного фронта, который создается ком-
мунистическими партиями, возглавившими эту вели-
кую и многотрудную борьбу. Межрабпом провел
широкую кампанию за освобождение из фашистских
застенков Георгия Димитрова и его товарищей, при-
нимал деятельное участие в подготовке и проведении
антифашистских конгрессов, Парижского конгресса в
защиту культуры.
Мизиано весь в этой борьбе, как один из руково-
Ромен Роллан и Франческо
Мизиано Москва.
95
дителсй Можрабпсма. И как солдат. Фашистская
Шалил .начинает грабительскую всйну против Абис-
синии. Мизиано обращается в Центральный Коми-
тет Итальянской компартии и Коминтерн, просит
отправить его в Восточную Африку для борьбы про-
тив агрессора. Но он туда не может ехать. И он
остается в Москве до последнего дня, когда тяжкий
п?дуг летом 1936 года сразил его...
Девять лет не дожил Франческо Мизиано до тех
времен, когда окончательно рухнул фашистский ре-
жим в Италии. Советская Армия, сломавшая хребет
нацистско-фашистским полчищам завершила освобо-
ждение всей Европы. Дуче Бенито Муссолини, пы-
тавшийся бежать в Швейцарию, переодевшись в фор-
му гитлеровского офицера, с любовницей, спрятан-
ной. в повозке с сеном, был схвачен в апреле 1945
года восставшихМ пародом, расстрелян по приговору
итальянских партизан, а затем повешен вверх нога-
ми на площади Лорето в Милане.
А через неделю, страшась возмездия народов, по-
кончил с собой нацистский фюрер Адольф Гитлер.
Шофер Эрих Кемдка облил труп Гитлера бензином и
сжег его во дворе имперской канцелярии.
Мария Конти-Мизиано со своими дочерьми, сы-
ном и внуками встретила в Москве великий День
Победы над фашизмом. Семья Франческо Мизиано,
как и весь народ, делала все, чтобы приблизить этот
день. После Великой Отечественной войны Мария
все свои силы продолжала отдавать делу укрепле-
ния интернациональных связей, вела большую педа-
гогическую работу.
Мария Конти-Мизиано скончалась в Москве в
1960 году. Как и кончина Франческо, ее уход из
жизни был большой потерей для всех, кто знал эту
удивительную женщину, смелого борца против фа-
шизма. Пальмиро Тольятти писал в телеграмме семье
Мизиано: «Выражаю глубокое соболезнование в свя-
зи с кончиной дорогого товарища Марии, смелого
борца за свободу и прогресс народов».
Летом 1976 года прах Франческо Мизиано и Ма-
рии Конти-Мизиано был перевезен верными руками
в Италию и захоронен в усыпальнице коммунистов в
Верен® — на окраине Рима. Они покоятся под об-
щей мраморной плитой, рядом с соратниками и дру-
зьями. Над ними не высятся монументы. Но имена
и деяния их остались в памяти народов: у нас в
Дружеский шэрж Всеволода Пудовкина.
стрипэ, где Франческо Мизиано и Мария Конти-
Мизиано нашли свою вторую родину, и там, в Ита-
лии Ибо, говоря словами Луиджи Донго, «незабвен-
ный товарищ Франческо Мизиано посвятил всю свою
жизнь борьбе за торжество идеалов мира, свободы
и справедливости идеалов социализма... Вся партия
с глубокой благодарностью и чувством законной
гордости думает о тех товарищах, которые как Ми-
зиано, закладывали основы для создания В Италии
коммунистической организации, находясь в первом
ряду борцов против империалистической войны, за
дело пролетариата и против фашистской реакции
В его деятельности революционного бойца выражен
и глубокий, последовательный интернационализм, ко
торый на протяжении этого полувека неизменно
воодушевлял итальянских коммунистов в их поли-
тике и борьбе»
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Возможно, дорогой читатель,, тебя интересует
судьба некоторых людей, упоминаемых в этом доку-
ментальном повествовании и встретившихся с Фран-
ческо Мизиано на тернистом пути антифашистской
борьбы. Я попытаюсь отозваться на это пожелание.
Клара Цеткин, одна из вождей международного
рабочего движения и основателей Коммунистиче-
ской партии Германии, председатель Межрабпома,
скончалась в Москве в 1933 году. Ее прах покоится
на Красной площади. Франческо Мизиано провожал
свою боевую соратницу в последний путь.
За заслуги перед мировым революционным движе-
нием н Советским государством Клара Цеткин была
награждена орденами Ленина и Красного Знамени.
Лидер итальянских социалистов, а затем комму-
нист Джачинто Серрати, которому Ленин направил
письмо в Италию, трагически погиб в Альпах в
1926 году, выполняя поручение Центрального Коми-
тета Итальянской коммунистической партии.
Трагично сложилась и судьба одного из руководи-
телей Коммунистического Интернационала молодежи,
а затем генерального секретаря Межрабпома Вилли
Мюнценберга. После прихода нацистов к власти он
эмигрировал во Францию. Когда в 1940 году нацист-
ские армии вторглись в эту страну и уже прибли-
жались к Парижу, Вилли Мюнценберг пешком ушел
из Парижа вместе с большой группой антифашистов
и вскоре погиб...
Сын Карла Либкнэхта Гельмут Либкнехт, сражав-
шийся вместе с Мизиано в Берлине, большую часть
жизни работал в Москве, где и скончался в 1974 го-
ду. Прах его в 1976 году был перенесен в столицу
ГДР — Берлин и захоронен в усыпальнице борцов
революции.
Соратница Франческо Мизиано по баррикадным
боям в Берлине, а затем по революционной борьбе
в Италии Маргарита Блук во время второй мировой
войны участвовала в движении Сопротивления, ак-
тивно действовала в тылу немецко-фашистских ар-
мий, а после войны вернулась в родную Венгрию.
Несколько слов следует сказать и о писателе Габ«
риеле Д Аннунцио, вожаке ардити который издал
приказ об убийстве Франческо Мизиано Д'Аннунцио
в последние годы своей жизни разочаровался в фа-
шистском движении, стал отходить от него. Габри-
еле Д Аннунцио скончался в Риме в 1936 году.
Что же касается русского революционера, сражав-
шегося вместе с Мизиано и спартаковцами осенью
1918 года на баррикадах Берлина, то имя и судьба
его еще требуют выяснения.
96
НАУКА
И
ТЕХНИКА
KA'I'I) Sibil
Когда в 1929 году на пороге своего
шестидесятилетия академик Евгении
Оскарович Патон, известный специа-
лист по мостам, впервые увидел сварку и надолго,
не испугавшись крутой ломки, «заболел» ею, многие
его коллеги презрительно называли новое увлечение
маститого профессора «наукой о том, как без закле-
пок сделать бочку».
Жизнь посмеялась над скептиками. Сегодня с име-
нами Е. О. Патона и его сына Бориса Евгеньевича
связана настоящая революция в сварке, без которой
уже невозможно представить себе дальнейшее раз-
витие научно-технического прогресса.
Вот уже четверть века Институт электросварки
имени Патона-отца (ИЭС) возглавляет Патон-сын,
Герой Социалистического Труда, академик Б. Е. Па-
тон, лауреат Ленинской и Государственной премий,
од! н из наиболее видных советских ученых в обла-
сти металлургии и технологии металлов, крупней-
ший организатор науки.
У него много должностей, обязанностей, постов.
Простой пере-тень занял бы, пожалуй, не одну стра-
ницу. Член Президиума Академии наук СССР, Пре-
зидент Академии наук УССР, член Государствен-
ного комитета СССР по науке и технике, член
Президиума Верховного Совета УССР, заместитель
председателя Совета Союза Верховного Совета
СССР, член ЦК КПСС, член ЦК Коммунистической
партии Украины, Герой Социалистического Труда,
кавалер многих отечественных и иностранных орде-
нов, член ряда зарубежных академий, он и в канун
своего €0-летия весь в делах, в планах, в дерзаниях,
в будущем, по-юношески спортивен, подтянут, соб-
ран.
Человек на перевале. Какие новые вершины и да-
ли открываются ему — одному из признанных в ми-
ре лидеров научно-технического прогресса? Что вы-
нес сн из опыта прошлых лет? Что он чувствует,
о чем думает?
Первый урок от Патона я получил (подвел город-
ской транспорт), опоздав на... три минуты и «выпав
из графика» Осталось одно: ждать «окошка».
...Совещания у Патона шли беспрерывно. Как я
потом узнал, по самым различным вопросам: жилье
и пионерские лагеря, сварка в космосе и электрон
но-лучевая пушка.
С «окошком» тогда так ничего п не вышло. Не-
сколько дней я ходил по лабораториям Института
электросварки (ИЭС), нацеленным в третье тысяче-
летие, беседовал с сотрудниками ИЭС: теми, кто
когда-то начинал при. Патоне-отце, и теми, кто срав-
нительно недавно пришел в институт.
Мнения сотрудников о Патоне не всегда совпада-
ли. Одни видели в нем прежде всего редчайший ор-
ганизаторский талант. («Гениальный, знаете, органи-
затор науки»;) Другие — исключительное трудолюбие
и целеустремленность. («Для него, как и для отца,
работа и жизнь — одно и то же».) Третьи на первый
план ставят доброту, врожденный такт. («С ним всег-
да интересно и по-человечески легко. Умеет прийти
на помощь в самый подходящий момент и при этом
остаться в тени».) Находились и такие, которые пре-
дупреждали меня;
— Выдающийся ученый. Но имейте в виду, сухо-
ват. Рационалист. Вряд ли станет тратить время на
темы, столь далекие от проблем, которыми зани-
мается непосредственно. Школа? Гм... Не слишком
На снимках справа — Герой Социалистиче-
ского Труда Евгений Оскарович Патон слева — Ге-
рой Социалистического Труда Борис Евгеньевич Па-
тон.
7. <Юность» № J1.
97
ли мелко для человека такого масштаба? Тем более
не станет говорить о себе, о личном.
...На этот раз встреча состоялась в точно назна-
чспнээ время. Бегло просмотрел вопросы, протянул:
—- Интересно.— Улыбнулся, и лицо его приняло
неожиданно детское, доверительное выражение.—
Ну, что ж, поехали.
Итак, беседа.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Семейная, школьная, вузовская
педагогика, формирование личности молодого учено-
го, будущее школы в свете научно-технической рево-
люции — таков круг вопросов, который хотелось бы
затронуть.
Сначала о школе. Успехи советской общеобразова-
тельной школы известны, о них недавно убедительно
говорилось на Всесоюзном съезде учителей, но отве-
чает ли — и насколько — современная школа зада-
чам научно-технической революции с ее новыми тре-
бованиями к психологическому складу, глубине и
скорости интеллектуальных процессов?
ПАТОН. Мы были бы недальновидными людьми,
плохо понимающими цели, задачи, потребности НТР,
если бы положительно ответили на этот вопрос.
Несмотря на гигантские достижения, очевидные для
всех, наша школа далеко не всегда поспевает за
темпами НТР, не всегда отвечает сегодняшним и тем
более завтрашним требованиям научно-технического
прогресса. Почему? Менялись поколения учителей,
социальные революции взрывали старый мир, но
главный принцип обучения оставался неизменным:
«Делай так, как я. Думай так, как я. Говори то, что
говорю я». Учитель излагал — ученик слушал, заучи-
вал, повторял, в процессе обучения получая объем
знаний и профессиональных навыков, которых ему,
как правило, вполне хватало на всю его трудовую
жизнь. НТР изменила положение в корне.
Знания непрерывно обогащаются. По подсчетам
специалистов, объем информации удваивается на
протяжении десяти, а то и восьми лет. Примерно за
то же время полностью обновляется оборудование в
ведущих отраслях промышленности развитых стран.
Отмирают одни профессии, рождаются новые. При-
обретенные знания и навыки быстро стареют или
становятся ненужными. Все больше ценятся люди,
владеющие двумя, а то и несколькими смежными
профессиями. Умение адаптироваться к изменениям,
приобретать новые знания становится более важным
К142ством, чем обладание конкретными знаниями и
кавыками.
Быть образованным в эпоху НТР — это значит
и» только глубоко овладеть основами наук, но уметь
творчески мыслить и работать, непрерывно учиться
(иначе отставание неизбежно), усваивать и приме-
нять новые достижения науки и техники.
Научить учиться, научить мыслить — требование
времени, программная установка НТР. Надо прямо
сказать, что с этой задачей современная школа в
массе своей пока еще справляется слабо.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Меня ошеломила запись в ди-
ректорской тетради посещения урокдв — одна из
последних, сделанных при жизни В. А. Сухомлин-
ским: «Почему не звучит «почему?» Это и сегодня
выглядит как сигнал тревоги. Не следует ли искать
причину в несоответствии новых требований, новых
задач образования с явно устаревшей методикой
обучения, сложившейся еще в средние века формой
урока?
ПАТОН. И в этом тоже. Школьный урок — это
прежде всего проверка домашнего задания (20—30
mfH/т) и изложение учителем нового материала. Так
98
было сто, двести лет тому назад. Так было и в мои
школьные годы. Так, насколько мне известно, строит-
ся урок и теперь. Время, силы учителя тратятся на
то, чтобы «поймать» лентяя, нерадивого школьника.
При этом заодно убивается у остальных интерес к
знаниям (оскомину «опросов» на некоторых уроках
ощущаю до сих пор).
Устарело, на мой взгляд, и традиционное изложе-
ние нового материала. Ведь «массовый» учитель,
нередко проигрывая в состязании с телевидением,
радио, учебным кино, излагает содержание учебни-
ка. Дома школьник читает учебник сам, а на сле-
дующем уроке в третий и в пятый раз слушает
(«опрос») то же самое из уст своих товарищей. Та-
кая прадедовская метода невольно превращает лю-
бознательного «почемучку» (учителю некогда отве-
чать на «непрограммные» вопросы) в бездумного
«отвечалку». Глушится пытливость, которую мы
впоследствии не всегда успешно пытаемся развить.
Нужна ли такая нерациональная, явно изжившая
себя система обучения с кпд в 10—15 процентов?
Не пора ли смелее переходить, особенно в старших
классах, к уроку-семинару, уроку-диспуту с элемен-
тами консультирования непонятного (учебник читает-
ся не после, а до урока), проведения практиче-
ских упражнений, систематизации и обобщения, с
постоянной гимнастикой ума для всех. В каждом
школьнике дремлет птица пытливости, тяги к знани-
ям, к творчеству. И задача школы не усыпить ее, а
разбудить для полета.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Что же, на ваш взгляд, необ-
ходимо прежде всего изменить в современной школь-
ной и вузовской педагогике?
ПАТОН. Частично на этот вопрос я уже ответил.
Но изменение структуры, функции урока — только
первый шаг. На пути к большей эффективности, ин-
дивидуализации обучения остается преграда в виде
противоречия между единой для всех программой и
неоднородностью состава учащихся по их способно-
стям, интересам. Все громче заявляет о себе пробле-
ма дифференцированного обучения. Шко-
ла все еще плохо готовит своих воспитанников к
трудовой жизни, к сознательному выбору профес-
сии с учетом возможностей, природных данных каж-
дого. К сожалению, все нередко решает самотек,
случай, благие пожелания или воля родителей, а то
и просто погоня за «модной» профессией. Трудно,
просто невозможно подсчитать огромный матери-
альный и нравственный урон, который терпит на-
ше общество, когда человек долгие годы, а то и всю
трудовую жизнь занимается не своим, а, значит,
нелюбимым делом.
Одним из путей, помогающих еще на школьной
скамье определить способности, наклонности, увле-
чения, реакцию ученика, могло бы стать примене-
ние различных тестов. Известно, однако, что многи-
ми нашими педагогами тесты предаются анафеме,
отождествляются с чуждым нам мировоззрением.
Между тем именно тесты — конечно, при умелом,
деликатном их применении — могут серьезно помочь
нам в правильном развитии индивидуальности уче-
ника. Следует также значительно шире, чаще прак-
тиковать различные олимпиады, проводя их с уча-
стием ученых. Здесь можно отметить положитель-
ный опыт новосибирцев.
На мой взгляд, нужно уделять больше внимания
созданию специализированных школ, где будут
учиться дети, проявившие наклонности к гуманитар-
ным, физико-математическим, химическим, биологи-
ческим, техническим наукам. Именно специализиро-
ванные школы (старшие классы), а не школы для
одаренных детей, как недавно их называли. Послед-
ние, по нашему мнению, пе пужпы, опи восплтыва-
Академик А М. Прохоров (сле-
ва) и президент Академии наук
СССР А. П. Александров в го-
стях у директора Института
электросварки академика Б. Е.
Патона.
ют в детях нездоровое представление об их исклю-
чительности, зачастую отрывают от коллектива. Вы-
пускники же специализированных школ необходи-
мы не только для науки, но и для народного хозяй-
ства.
КОРРЕСПОНДЕНТ. К слову, идею специализиро-
ванных школ, классов — об этом свидетельствует и
почта «Юности» — активно поддерживают и школь-
ники. В частности, авторы коллективного письма в
«Комсомольскую правду» (от 12 марта 1978 г.). Не
может не тревожить повод, вызвавший это письмо.
Школьники-старшеклассники из Вильнюса жалуют-
ся на «заумные учебники», на то, что им («с пло-
хими и средними способностями») никак не одолеть
новую программу по математике, физике, химии.
Стараются, решают задачи до умопомрачения, а не
получается («вот и ходим в «дебилах», как называют
нас учителя... Непонятная учеба... Если так будет
продолжаться, то школа будет выпускать психов,
а не всесторонне развитую личность»).
Тревогу школьников разделяют многие опытные
педагоги. Однако некоторая часть педагогов реши-
тельно отвергает идею специализации: она, мол, не-
избежно приведет к «гибели неразвитых талантов»,
к «одностороннему развитию, одновременно задавив
все другие задатки личности». Что бы вы, Борис
Евгеньевич, хотели сказать в связи с этим?
ПАТОН. Прежде всего скажу, что ранний выбор це-
ли, возможность глубже изучить любимый предмет
отнюдь, по моему глубокому убеждению, не ведут к
одностороннему развитию. Ученики новосибирской
школы, насколько мне известно, увлекаются До-
стоевским, Есениным, любят Баха, Шостаковича.
«Гибелью неразвитых талантов» здесь и не пахнет.
Письмо из Вильнюса, свидетельства учителей утвер-
ждают нас в обратном: специализированное обуче-
ние, подчеркиваем, в старших классах не-
обходимо. Имеется в виду, естественно, не отмена
физико-математических и других наук, а програм-
ма, доступная для всех, и программа-максимум для
специализированных классов.
Нет учеников бесталанных, но нет и пе будет
учеников с одинаковыми способностями, одинаковым
складом ума. Не осознав это, мы рискуем задним
числом записать в «дебилы» лицеиста Сашу Пушки-
на; гений русской поэзии, как известно, тоже, мяг-
ко говоря, был не в ладах с математикой. Как посту-
пил учитель Пушкина? Он не стал распекать своего
воспитанника, а, уже этим заслужив вечную благо-
дарность потомков, предоставил ему возможность
больше заниматься любимым делом. Чем кончился
педагогический эксперимент в лицее, известно всем.
Именно в этом, в личной заинтересованности
школьника,— сила углубленного изучения наук.
В специализированных классах отпадает необходи-
мость стращать ученика двойками, стимулировать пя-
терками. Высшим стимулом становится не отметка,
а жажда познания.
Несколько слов о «заумных» учебниках. Некото-
рые из них настолько усложнены (моя дочь сравни-
тельно недавно была школьницей), что не каждый
академик смог бы сегодня помочь своему чаду. На-
рушается принцип доступности — одно из важней-
ших условий успешного учения и воспитания.
Думаю, правы те наши специалисты по школьно-
му образованию, которые считают; современный
учебник должен иметь форму цикла доступных на-
учно-популярных очерков, носить характер проблем-
ного изложения программированных заданий. Вместо
готовых выводов — система вопросов, которые под-
99
ведут школьника к сопоставлению и сравнению,
анализу и синтезу, абстрагированию й выведению
понятий. Учебник должен, может быть, в первую
очередь выполнять те же функции, что и школа в
целом: учить мыслить, учить учиться.
Хочу еще сказать о перегрузке школьников —
прямом следствии неоправданного увеличения и ус-
ложнения программ, учебников, недостаточнэ высо-
кой эффективности урока. Убежден, ни в одном ву-
зе наши студенты не загружены та:;, как школьни-
ки. Это не может не сказаться на отношении детей
к учебе, на состоянии их здоровья. Тут нужны сроч-
ные научно обоснованные меры.
В школе еще много школярства в худшем смысле
этого слова, того школярства, которое убивает в уче-
никах интерес к учебе, возбуждает протест, толкаю-
щий их порой по наклонной плоскости. Кстати ска-
зать, это школярство все больше проявляется и в на-
шей высшей школе, в частности на Украине.
Как воспитать, сохранить живой интерес к уче-
нию? Как заодно знания, полученные по школьной
программе, обогатить представлением о новейших до-
стижениях современной науки, пробудить вкус к са-
мостоятельному поиску? В нашей республике под
эгидой Академии наук УССР проводится в этом на-
правлении интересный, на мой взгляд, эксперимент, о
котором хотелось бы рассказать подробнее. Это
МАН — малые академии наук
Первая из них — первая не только в республике,
но и по всей стране — создана в Крыму еще пятнад-
цать лет назад. Не так давно появилась еще одна
МАН — киевская.
Как и в настоящей, большой академии, в малой
академии есть свой статут, свой президиум, свои
действительные члены и кандидаты. Стать действи-
тельным членом МАН не так-то просто. Необходимо
выполнить ряд условий — выступить с научным до-
кладом на конференции, занять призовое место на
ученической предметной олимпиаде, сконструировать
прибор или автомат, выполнить ряд наблюдений или
исследовательскую работу. Но и этого недостаточно:
необходимо защитить сделанное, доказать, что оно
имеет оригинальный, творческий характер. Приходят
школьники в МАН главным образом после восьмо-
го класса. Занятия проводятся по секциям. Каждый
может выбрать себе ту науку или тему, которая ему
больше всего по душе. Кроме конференций и сек-
ций, в МАН практикуются летние сборы в лагерях,
где ученые читают ребятам лекции, ведут с ними
практические занятия. После двухгодичной учебы
выпускники МАН получают рекомендации в вузы.
Чем поучителен опыт деятельности малых акаде-
мий? Прежде всего они открыли новую форму вне-
классной работы по воспитанию познавательной дея-
тельности детей, удачно объединив элементы игры
с серьезным подходом к научным проблемам, кото-
рые школьники решают под руководством ученых.
И не случайно немало выпускников МАН, пройдя
учебу в вузах, теперь успешно работают в научных
коллективах, то есть выбирают науку делом всей
своей жизни.
Впрочем, малые академии — одна из наиболее эф-
фективных, но далеко не единственная форма вне-
классной работы, более тесных контактов школы и
науки. Кроме МАН, существуют кружки при
Дворцах пионеров, станции юных техников, школь-
ные научные общества, малые Тимирязевки в сель-
ских школах — и у всех одна задача, с которой мы
пока еще не всегда справляемся: дать школьнику
больше оправданной самостоятельности, всегда про-
являть к нему истинное, не показное уважение, что,
впрочем, не в меньшей мере относится и к высшей
школе, к студенчеству. И еще: исключительно важ-
100
но вовремя пробудить любовь к труду. Именно в
школе труд должен стать потребностью человека,
быть ему не в тягость, а в радость.
Хорошо бы нам значительно шире организовать
живое общение школы, учеников с известными уче-
ными, деятелями культуры, передовиками производ-
ства, сельского хозяйства. Естественное желание
учеников подражать им — иногда даже просто ко-
пировать их — почти всегда будет оправданным и
полезным. Тут мы далеко еще не полностью ис-
пользуем возможности радио, телевидения.
Все эти задачи необходимо решать в теснейшем
союзе с психологией. Мы остро нуждаемся в быст-
рейшем развитии исследований в области психоло-
гии вообще и школьной, в частности, на основе на-
шей марксистско-ленинской философии и методо-
логии.
Думается, что многое из сказанного имеет прямое
отношение к высшей школе. Огромную пользу мо-
жет дать все большее объединение вузов с научно-
исследовательскими институтами. Неправильно ду-
мать, что такая форма подготовки нужна и целесо-
образна лишь для воспитания молодых научных
работников. Она оправдывает себя и для пополнения
самыми квалифицированными специалистами наше-
го народного хозяйства в целом. Об этом ярко сви-
детельствует интересный и поучительный опыт Мо-
сковского физико-технического института. Словом,
есть определенный прогресс. И все же большая нау-
ка в долгу перед вузами. Следует добиться того, что-
бы лекции читались наиболее видными учеными.
Ведь высшей школе нужно не имя ученого, а его
труд, в первую очередь труд лектора. Проблем пе-
ред высшей школой возникает очень много. Они
становятся все острее. Но их нужно решать, решать
на деле — не на словах.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Борис Евгеньевич, в своих вы-
ступлениях вы часто подчеркиваете, что именно в
школе закладывается фундамент будущего специа-
листа, будущего ученого...
ПАТОН. Готов снова повторять эту мысль. Наша
наука, ее настоящее и будущее зависят от школы, от
того, чему и как научили в ней подрастающее поко-
ление, как его воспитали. Если недостатки в нашей
научной деятельности с большим или меньшим успе-
хом можно исправить, если можно ликвидировать
брак в производстве, то брак, допущенный в школь-
ной учебе и воспитании детей, зачастую исправить
не удается. Это налагает огромную ответственность
на наших учителей в их многотрудной и благород-
ной работе. Мы обязаны от экстенсивного развития
науки перейти к ее интенсивному развитию, то
есть все больше брать не числом, а умением.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Какими чертами должен обла-
дать специалист эпохи НТР, молодой научный работ-
ник? Что конкретно может сделать общеобразова-
тельная школа для формирования этих качеств?
ПАТОН. Прежде всего необходим талант. С ним
рождаются, но он может не раскрыться, остаться не-
замеченным и неиспользованным. Именно учитель
первым обнаруживает таланты в своих учениках.
Он должен их пестовать, всячески развивать. Да-
лее — любовь к труду, жажда знаний. От ученого
требуется самоотверженный труд. Ученый должен
не щадить себя, отдавать всего себя любимому делу.
Опять-таки эти качества должны быть привиты бу-
дущему ученому на школьной скамье. Школа долж-
на повседневно знакомить будущего специалиста с
жизнью. Жизнь, законы развития природы и общест*
ва должны быть источником вдохновения ученого.
Наш ученый должен быть смел, он должен дер-
зать, не бояться трудностей, уметь их преодолевать.
Вместе с тем ему должны быть чужды авантюризм,
погоня за внешним эффектом. Он должен быть че-
стен в большом и малом, всегда прост и скромен.
Вот эти черты должны быть привиты будущему уче-
ному опять-таки в школе чутким, знающим учите-
лем.
Век одиночек в науке давно прошел. Любовь к
коллективу, умение и желание работать в нем так-
же должны быть воспитаны в школе. Ну и главное:
в нашем будущем молодом ученом еще в школе
формируется коммунистическое мировоззрение, ком-
мунистическая сознательность и этика, чувство пат>
риотизма, интернационализма.
Творчески мыслящего педагога всегда волнует не
только кем, а каким будет его воспитанник.
Ведь за благополучным табелем, одаренностью, увле-
чением предметом иногда нетрудно проглядеть поч-
ти законченного обывателя, для которого, кроме его
отметок и личного благополучия, личной карьеры,
все в мире трын-трава Порой увлечение наукой, увы,
сочетается с проявлением глухоты к чужой боли, с
неумением сопереживать прекрасное и возмущаться
безобразным. В юном кандидате в Ломоносовы или
эйнштейны вдруг открывается душа себялюбца, по-
требителя. Из личного опыта наставника знаю, как
трудно потом перевоспитать таких вот «кандида-
тов» в науку.
КОРРЕСПОНДЕНТ Каким в свете сказанного вы-
ше представляется вам, Борис Евгеньевич, обозри-
мое будущее нашей школы?
ПАТОН. Школа будущего рождается уже сегод-
ня. Рождается нелегко. Не всегда и не все здесь
идет гладко.
Возьмем хотя бы наше школьное строительство.
В школах-новостройках, которые мы открываем се-
годня, будут наверняка учиться дети третьего тыся-
челетия. Всегда ли помнят об этом наши архитекто-
ры, строители, все еще возводя школы не завтраш-
него, даже не сегодняшнего, а вчерашнего дня?
Школа будущего? Школа будущего, безусловно,
вберет в себя все лучшее из общечеловеческой пе-
дагогики*. опыт античных «гимнасий» с их мудрым
сочетанием умственного, физического и эстетическо-
го развития, поиск Руссо и Песталоцци с их тягой
к естественному, к природе. А Ушинский, а Януш
Корчак, показавший всей своей жизнью и смертью,
как надо любить детей! Н. К. Крупская, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинский — прометен советской
педагогической мысли. Их опыт бесценен и войдет в
золотой фонд школы будущего.
А новое? В обозримом будущем наша школа долж-
на стать значительно мобильнее. Она должна поспе-
вать за бурно изменяющейся жизнью. Грандиозные
изменения окружающей среды, социальные и поли-
тические перемены в мире — все это должно непре-
рывно отражаться в работе школы.
Все большее значение со временем приобретут но-
вые, неформальные методы обучения, разрабатывае-
мые сейчас в Советском Союзе (хочется отметить за-
мечательный опыт донецкого педагога Шаталова) и в
других Лранах мира. Школа будущего — это школа
без школярства, без догматизма и штампов. Новые
педагогические методы, уже практикуемые сегодня,
особенно такие, как обучение в процессе игры (до-
школьный сектор), группы ускоренного обучения
(сектор взрослых), тоже скажутся на обучении в
школе будущего.
Обучение станет более гибким. Гибкость эта ска-
жется прежде всего в рамках самой школы, где ме-
сто классов по возрастному признаку, возможно, до-
полнят группы школьников, подобранных по уров-
ню их развития. Многие элементы учебных прог-
рамм, надо полагать, будут усваиваться вне школы:
в профессионально-технических учебных центрах, в
Б Е Патон: < Отдыхаю, занимаюсь спортом. Это — ак-
тивный отдых. Пассивного не признаю».
учебных цехах, в студиях п всевозможных кружках
по интересам, в лабораториях НИИ и т. д. Демогра-
фические изменения, возрастающий дефицит трудо-
вых ресурсов также потребуют определенной пере-
стройки школы. Все большее значение будет при-
обретать творческое воспитание в духе марксизма-
ленинизма, необходимости борьбы за мир и справед-
ливость.
В свете огромных достижений средств информа-
ции, кибернетики, физиологии может коренным об-
разом измениться педагогический процесс, что, од-
нако. не перечеркивает и не снижает роль учителя.
Ведь еще недавно казалось, что новые технические
средства — такие, как телевизор, обучающие машины
в классах, — произведут полный и незамедлитель-
ный переворот в процессе обучения. Об окончатель-
ных итогах нововведений говорить рано (тут нам
еще многое нужно сделать). Но уже теперь ясно:
изменений оказалось значительно меньше, чем ожи-
далось. Умная техника, как ни велики ее возмож-
ности, не заменила и, надо полагать, никогда не за-
менит Учителя, живого общения с ним. Зато потре-
буется резкое повышение квалификации, уровня
знании наших учителей.
Тут мы подходим к одной из самых болевых то-
чек сегодняшней и завтрашней школы. С одной сто-
роны, цсе стремительнее будет расти потребность в
учителях высокой квалификации. С другой—школь-
ный учитель — одна из самых массовых, самых рас-
пространенных, хоть и далеко не престижных про-
фессий, что уже само по себе затрудняет отбор.
Профессия педагога, по свидетельству социологов и
моим личным наблюдениям, крайне непрестижна
среди юношей. Отсюда и феминизированные по сво-
ему составу педагогические вузы, и феминизирован-
ные педагогические коллективы школ, и феминизи-
рованное воспитание, что уже сказывается и еще
больше скажется впоследствии.
Студенты педагогических вузов 70-х годов будут
учить наших внуков и правнуков в третьем тысяче-
летии. И это еще раз убеждает в том, что ни одну
из проблем школы будущего — тем более, проблему
педагогических кадров — нельзя откладывать на пос-
ле. на когда-нибудь. Среди самых неотложных мер;
101
фо;млрсЕсние в школе интереса к учительской про-
фессии; научно разработанная система отбора в пед-
вузы по призванию и способностям; государственные
меры (материальное и моральное поощрение), под-
нимающие на новую высоту престиж, авторитет на-
родногб учителя.
Школа будущего мие видится Школой Радости,
школой, где мир прекрасного, мир искусства будет
окружать, воспитывать ребенка с первых шагов.
И обязательно — не в микродоэах (два часа в неде-
лю), а ежедневно — спорт, игры и движения на све-
жем воздухе, плавание.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Готовясь к беседе с вами, я с
большим интересом перечитал воспоминания акаде-
мика Е. О. Патона, вашего отца, Героя Социалисти-
ческого Труда, родоначальника отечественной элект-
росварки и династии ученых, особенно те страни-
цы, на которых запечатлены атмосфера, дух, систе-
ма семейного воспитания, взаимоотношения буду-
щего ученого с родителями. Что, на ваш взгляд, наи-
более характерно для семейной педагогики Па-
тонов?
ПАТОН, Специально вопросами педагогики отец
никогда не занимался. Что-то шло от семейных тра-
диций. Стиль, методы воспитания вырабатывались
постепенно, на практике, в постоянном, как любил
говорить Евгений Оскарович, общении с моло-
дежью.
Что же было главным? Для отца целью всей жиз-
ни был труд. Привычку, любовь к труду он приви-
вал всем своим ученикам и иам в семье. Свои пер-
вые трудовые уроки я получил в Буче на старой
«профессорской» даче под Киевом. С тех пор, как
помню отца, вижу его в редкие часы досуга в саду
с лопатой или с ножовкой в руках. Он любил са-
жать, окучивать деревья, копаться на грядках и на-
ходил в этом отдых. У нас с братом были свои
грядки, за которые мы, пока учились в младших
классах, отвечали полностью. Перекапывали землю,
высаживали всякую всячину, пололи, поливали. Но,
как мне помнится, с особым удовольствием чинили и
красили забор. Пилили, кололи дрова. Это тоже вхо-
дило в наши «мужские» обязанности. Привычка что-
то делать своими руками сохранилась на всю
жизнь.
По образованию я электрик. Основами сварки
пришлось овладевать уже на практике. Январским
морозным утром 42-го отец привел меня в лаборато-
рию к Софье Аркадьевне Островской, сказал: «Вот,
Боря, проволока, вот куски металла, флюс в вед-
ре. Учись варить. Вскоре тебе придется учить
других».
Все мы иа Урале — и младшие и старшие научные
сотрудники — стали сварщиками, технологами, зна-
токами производственного процесса. Здесь, на заво-
де, я окончательно понял: хочешь стать настоящим
специалистом — научись работать и головой и рука-
ми. Съешь с заводским народом пуд соли, сразу уз-
наешь, что ему от науки требуется.
Семейная педагогика — меньше всего педагогика
словесная. Тяга к творчеству, уважение к людям,
долг и ответственность перед коллективом, народом,
страной... Отец, как я теперь понимаю, постоянно
наставлял нас, воспитывал, ие словами — личным
примером. Воспитывал отношением к людям, уважи-
тельным и требовательным, обязательностью, творче-
ским духом, атмосферой дома.
Что наиболее характерно для Патоиа-воспитателя,
наставника? Глубокая вера, я бы сказал, влюблен-
ность в молодежь, желание работать с молодежью,
дерзающей, стремящейся к новому, неизведанному,
свсбедной от косности и рутинерства. Воспитание
самостоятельности, развитие в учениках творчества.
102
Поддержка идей, выдвигаемых учениками. Смелость
в поручении молодежи, ученикам самых ответствен-
ных заданий, отсутствие мелкой опеки над ними.
Обязательная связь исследований больших и малых
с жизнью, с практикой. Необходимость доведения
работы до логического завершения, до применения в
практике. Предельная требовательность и уважение
к человеку, обязательный учет его особенностей, ха-
рактера, наклонностей. Глубокий патриотизм. Не-
терпимость к безделью, порождающему склоки и
интриги, нарушающему нормальную жизнь коллекти-
ва. Тяга к советам производственников, к людям с
большим практическим опытом и навыками. Посто-
янная поддержка в институте лаборантов, особенно
тех, кто своим трудом создает уникальные установ-
ки, приборы, механизмы.
И еще раз главное — труд, труд и труд.
КОРРЕСПОНДЕНТ. «Мы всегда с большой душев-
ной теплотой и признательностью вспоминаем на-
ших школьных учителей, пробудивших в нас посто-
янную тягу знаниям, к науке, к творчеству. Свет-
лые образы первых учителей-наставников мы с лю-
бовью проносим через всю жизнь...» Я не случайно
привел тут слова из вашей речи на IV съезде учи-
телей Украины. Кто был вашим любимым учителем
в школе, е институте?
ПАТОН. В киевской 79-й школе — преподаватель
математики Глеб Федорович Балин. Он умел всегда
пробудить интерес к новому, интересно связывал
предмет урока с примерами из жизни, техники. Его
всегда интересовали наши устремления, наклонно-
сти. Проводимые им олимпиады, конкурсы отлича-
лись оригинальностью, подлинным желанием при-
общить нас к творчеству. Вместе с тем это был ду-
шевный, очень добрый и отзывчивый человек. Он
любил и уважал своих учеников, во всем заботил-
ся о них. Мы платили ему тем же. И в десятом
классе у таких учителей ученики остаются «поче-
мучками». Думается, это высшая похвала и лучшая
оценка учителя!
Значительно труднее выделить любимого моего
преподавателя в Киевском политехническом институ-
те. За пять лет их было много, менялись наши ин-
тересы и привязанности. Были замечательные лекто-
ры, артистически читавшие свои курсы. Мы их с
удовольствием слушали, перед нами раскрывались но-
вые горизонты, звучавший в конце лекции звонок
был неприятен и огорчителен. Но лекции одно, а
ведь задача вузовского преподавателя еще и в том,
чтобы приобщить студента к творчеству, к самостоя-
тельным небольшим исследованиям, к изобретатель-
ству, к технике, производству.
Хочу назвать двух преподавателей кафедры элект-
рооборудования промышленных предприятий, кото-
рую я кончал,— Виктор Леонтьевич Иносов и Лео-
нид Александрович Радченко. Это были разные лю-
ди, но с ними всегда было интересно, они умели
заинтересовать нас, дать новое, приобщить к своим
исследованиям, пробудить тягу к знаниям. Спасибо
им за это. Было много других ярких преподавателей.
Глубокие знания, человечность, принципиальность,
честность и справедливость во всем, юмор — эти ка-
чества делают преподавателя кумиром студента, за-
поминающимся на всю жизнь.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Среди ваших учителей и на-
ставников — такое случается далеко не с каждым —
был и ваш отец. Отец — научный руководитель сы-
на! Как все это происходило? И вообще, как это
происходит в науке: наставник и ученик? Какими,
по-вашему, должны быть отношения между ними?
ПАТОН. Само слово «наставник» очень емкое.
Мне думается, здесь речь идет не только о прямой
специальности и обучении ей. Наставник вырабаты-
вает в наставляемом свое жизненное кредо. Он уме-
лыми, заботливыми руками создает Человека. Когда
наставник твой отец — это и хорошо и трудно. Хо-
рошо, потому что много общаешься в рабочей и до-
машней обстановке, всегда имеешь перед глазами
пример любимого человека. Ну, а трудно, потому
что такой наставник чуточку взыскательнее, строже,
придирчивее к сыну. Думаю, что именно таким был
Евгений Оскарович.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Кстати, как вы, Борис Евгенье-
вич, избрали свою профессию, свой путь в науку?
Какую роль в этом сыграл ваш отец?
ПАТОН. Не случайно я, инженер-электрик, ока-
зался сварщиком. Я и теперь благодарен отцу за
то, что мие, как и брату, была предоставлена пол-
ная свобода выбора. Не было, да и не могло быть
в нашей семье и речи о протекционизме, звонках,
проталкивании, особом положении, (Вот штрих: в
Киеве у отца — и до и после войны — была служеб-
ная директорская машина. Но на работу мы с бра-
том всегда добирались своим ходом. Отец на своей
служебной машине мог подвезти сотрудника — и
делал это довольно часто, нас — никогда.) Отец—это
тоже одна из семейных традиций Патонов — стоял
на том, что мы сами должны и выбирать и прокла-
дывать себе дороги, хотя, быть может, втайне на-
деялся, что раньше или позже (так и случилось) мы
придем к сварке.
Выбор вуза, специальности... К технике я тянулся
с детства. Но немалую роль сыграл н психологиче-
ский фактор. В Киевском политехническом институ-
те мой отец проработал тридцать пять лет, создал
две кафедры: мостов н электросварки. Жили мы, по-
ка мне не исполнилось одиннадцать лет, на террито-
рии Политехнического. Это был мой дом. Тут, в
профессорском корпусе, я родился. На аллеях ин-
ститутского парка прошло мое детство. Все мне
здесь было знакомо и близко. Поступая в институт,
я как бы возвращался домой.
КОРРЕСПОНДЕНТ. Мы получаем письма от юно-
шей и девушек, которые после школы сетуют на
отсутствие у них призвания. Что, с вашей точки
зрения, им можно посоветовать? Есть ли вообще
люди без призвания или есть неумение это призва-
ние раскрыть?
ПАТОН. Человек без призвания — что птица без
крыльев. Даже не верится, что такие молодые люди
бывают. Скорее, есть лень души, есть неумение это
призвание заметить, дать ему раскрыться. Мы мно-
го говорим о профессиональной ориентации, а, как
я уже отмечал, занимаемся этим архиважным делом
кустарно, на авось, без научных критериев. Нужны
консультативные пункты, специалисты-психологи по
профориентации — хотя бы один на район.
А юношам и девушкам «без призвания» от души
советую не отчаиваться при неудачах, спокойно
взвесить свои возможности, познать себя. И как
можно скорее включиться в общественно полезный
производительный труд. Он не только воспитывает
человека, но развивает, буднт его мозг, его мышле-
ние. Труд — это и активное, подвижное творческое
знакомство с миром и строгий экзаменатор: а что
ты можешь, чему научился, на что способен.
В наш век иаучно-техничёской революции, научно-
технического прогресса решающая роль принадле-
жит естествознанию и технике. В последние годы мо-
лодежь все чаще отдает предпочтение гуманитар-
ным наукам. Не спорю, они крайне важны, интерес-
ны, но все должно развиваться пропорционально,
гармонично. Помните это, выбирая специальность,
свой путь в науке и технике. Казалось бы, что та-
кое сварка? Ремесло, «сказка», как еще недавно го-
ворили некоторые ученые? Нет, это сложнейшее на-
правление современной науки, где, как в фокусе,
концентрируются знание, опыт таких важнейших
наук, как математика, физика, химия, механика,
электроника, автоматическое управление — перечень
этот можно продолжать почти беспредельно. Без
сварки невозможно создать ни одну из современных
конструкций машин, механизмов, приборов. Свар-
ка — величайшая ветвь материаловедения. Все но-
вые и новые материалы — знамение нашего времени
Сварка и новые материалы, новые материалы и
сварка — увлекательнейшее направление научно-тех-
нического прогресса.
Поймите меня правильно. Здесь я сказал о том,
что ближе, дороже всего мне. Каждый из вас дол-
жен выбрать свое любимое, выношенное, иногда
выстраданное направление.
Дерзайте в этом направлении, смело двигайте его
вперед — вот мой призыв к вам, молодые читатели
«Юности».
Беседу провел
специальный корреспондент «Юности»
Борис ХАНДРОС.
Когда наступило время прощаться, корреспондент
попросил Б. Е. Патона написать свои пожелания
читателям «Юности», выбирающим или уже выбрав-
шим свой путь в. науку. И вскоре Борис Евгеньевич
вручил нам письмо. Вот оно (в факсимильной записи
приводим его начало):
СПОРТ
ЮРИЙ
ЗЕРЧАНИНОВ
ЖИЗНЕННЫЙ
ПУТЬ
СЛАВНОГО
РУССКОГО
СПОРТСМЕНА
ДОКТОРА
ПЕТРОВА
В январе наш журнал
обратился к читателям,
предлагая совместно восстановить
малоизвестную страницу истории
отечественного спорта —
историю участия
первых русских спортсменов
в Олимпийских играх.
Мы благодарны всем читателям,
которые откликнулись на публикацию
«Орлов, Петров и другие».
А одно письмо —
от киевлянки Л. А. Николаевской,—
в котором сообщалось,
что в Ленинграде
живет жена серебряного призера
Лондонской олимпиады
1908 года
Александра Петрова,
заставило корреспондента «Юности»
мгновенно выехать в Ленинград...
Два снимка доктора Петрова (стр. 104): первый сни-
мок был сделан вскоре после Лондонской олимпиады
1908 г., а второй — в 1929 г., на конькобежных со-
ревнованиях ветеранов в Ленинграде.
А на стр. 105 — диплом, врученный второму при-
зеру Лондонской олимпиады по греко-римской борь-
бе Александру Петрову.
Серафима Ивановна Зверева живет
в том же доме и на той же улице
(ныне — это 13-я Красноармейская, а
прежде — Заротная), что и 61 год назад, когда сна,
вчерашняя гимназистка, записалась на курсы меди-
цинских сестер, где вел занятия и доктор Петров —
преподаватель Военно-Медицинской. Академии. Вско-
ре как преуспевающая ученица она уже ассистиро-
вала Петрову по остеологии, затем (и вроде бы сов-
сем не случайно) они оказались вдвоем на Шувалов-
ском озере и до позднего вечера катались на лод-
ке — питерское небо в тот вечер было в лиловых,
розовых, голубых оттенках,— а в начале осени она
стала его женой.
По словам Серафимы Ивановны, Александр Петро-
вич мало что рассказывал ей о своей поездке на
Лондонскую олимпиаду. Она вспоминает только, что
он сетовал на английских судей—дескать, плохо
они во французской борьбе разбираются. Да помнит
ещэ, как он говорил, что в Париже (наши борцы воз-
вращались из Лондона через Париж) его накормили
лягушками. Он не знал, что ест лягушек—француз-
ский друг сказал только, что угощает изысканным
блюдом,— а когда узнал, то уже не мог продолжать
обед...
Зато в семейном архиве, который хранит Серафи-
ма Ивановна, обнаруживается — о, удача! — олим-
пийский диплом Александра Петрова. Этот живопис-
ный диплом вручила ему, как второму призеру в со-
ревнованиях по греко-римской (то есть французской,
или, как мы говорим сегодня, классической) борьбе,
сама английская королева. А его серебряную олим-
пийскую медаль, как и другую борцовскую медаль,
золотую, завоеванную на соревнованиях в Петербур-
ге, Серафима Ивановна... проела в блокаду. Алек-
сандр Петрович умер в феврале сорок первого года,
и Серафима Ивановна плохо помнит, как жила и что
делала до 22 июня,— но началась война, затем бло-
када, а у нее на руках была старая мать...
Она говорит, что еще есть картинка, которую
друзья подарили Александру Петровичу, когда, гото-
вясь к Лондонской олимпиаде, он отрешился от всех
соблазнов — даже не ел огурцы, поскольку в них
много влаги. И она находит на антресолях эту ста-
ринную картинку с изображением лукавого монаха,
примостившегося за столиком, на котором красуется
и штоф водки и щедрая закуска. Александр Петро-
вич рассказывал ей, что его жесткий режим забав-
лял друзей, они подтрунивали над ним и наконец по-
дарили эту картинку с недвусмысленным названием
«Отдалился от мира».
Но и в «Curriculum vitae» («жизненный путь» —
то, что сегодня попросту именуется автобиографией)
А. П. Петрова, извлеченном из пожелтевшей связки
бумаг, Лондонская олимпиада даже не упоминается,
борьба же названа лишь в ряду тех многих спортив-
ных увлечений, которым следовал он, доктор Петров,
на своем жизненном пути.
Каков же, спрашивается (хотя бы в самых общих
чертах), жизненный путь Александра Петровича Пет-
рова?
Родился в Ельце 11 сентября 1876 года. Окончил
2-ю Московскую гимназию, затем учился в Москов-
105
ском университете и в Военно-Медицинской Акаде-
мии б Петербурге.
Цитирую его «Curriculum vitae»: «В бытность сту-
дентом Московского университета прослушал специ-
альный курс по ортопедии, врачебной гимнастике и
массажу и 2 года практически занимался в ортопеди-
ческом и гимнастическом заведении приват-доцента
Н. Р. Гагман... В 1900 г. работал в Гейдельбергском
университете и в Гейдельбергском обществе физкуль-
туры... В 1901 году окончил Военно-Медицинскую
Академию первым с занесением имени на мрамор-
ную доску и с присуждением премии «Буша».
Из «Известий Императорской Военно-Медицинской
Академии»: «Военный министр 13.1.1902 г. назначил
младшего врача 7-го запасного кавалерийского полка
лекаря Петрова исправляющим должность ассистента
Академии с возложением на него прозекторских обя-
занностей по кафедре нормальной анатомии».
В 1905 году Петров уже состоит прозектором на
кафедре судебной медицины и токсикологии, и в
дальнейшем, специализируясь в судебной медицине,
он продолжает изучать медицину спортивную и вооб-
ще предмет физической культуры.
В своем «Curriculum vitae» Петров отмечает:
«Имею призы по всем видам спорта: за гимнастику,
плаванье, коньки, лыжи, греблю, легкую атлетику,
фехтование, борьбу, велосипед и т. д.».
Он был и боксером — имел очень сильный удар, но
однажды на тренировке он свернул своему партнеру
челюсть. И хотя тут же, как врач, вправил ее,—
партнер две недели не мог жевать. И с тех пор, рас-
сказывал Александр Петрович жене, он не считал
себя вправе надевать боксерские перчатки.
До встречи с Серафимой Зверевой (он называл ее
«Зверинька») Петров жил с мамой и занимался иск-
лючительно медициной и спортом. Судя по всему, он
способен был быстро добиться успеха в любом виде
спорта. Плаванием, например, всерьез увлекся лишь
в 39 лет. Серафима Ивановна хранит Свидетельство
Школы плаванья в Шувалове Российского общества
спасания на водах, которое удостоверяет, что
А. П. Петров «обучался в школе в продолжении лет-
него сезона 1915 года и успешно сдал экзамены на
звание кандидата плаванья». А экзаменовался он не
только в прыжках, нырянье, плаванье на груди и на
спине, но и в плаванье в одежде, с камнем...
В ту пору, когда началась их совместная жизнь,
о спорте думать не приходилось. Серафима Иванов-
на не была выдающейся спортсменкой, но любила
плавать, бегать на коньках — словом, «мадамистой»
(словечко Александра Петровича) не была. И в двад-
цатые годы, вспоминает она, они ходили иногда на
каток. В 1929 году, кстати, профессор Петров — зва-
ние профессора Александр Петрович получил уже
Лосле революции — еще успешно выступил в город-
ских конькобежных соревнованиях на Кубок ветера-
нов.
Свои спортивно-медицинские идеи Петров был
склонен выражать не в научных работах, а с препо-
давательской кафедры. В своем «Curriculum vitae»
он отмечает: «Состоял преподавателем во многих как
государственных, так и частных учреждениях».
Еще в десятые годы он вел курс лечебной гимна-
стики в Психо-Неврологическом институте и курс
анатомии в Гимнастическом институте, учрежденном
Обществом телесного воспитания «Богатырь»... А в
годы гражданской войны взялся обучать красных ко-
мандиров приемам джиу-джитсу. Расцвет его педаго-
гической деятельности был в советские годы. Он ра-
ботает и в Ортопедическом институте, и в Педагоги-
ческом, и в Институте физического образования, и в
Институте сценических искусств... И при всем этом
продолжал заниматься судебной медициной — в
106
1924 году Петров переходит из Военно-Медицинской
Академии в городское бюро судебно-медицинской
экспертизы, где становится ведущим экспертом-био-
логом.
А Серафима Ивановна, как и прежде, ассистирует
Александру Петровичу — помогает ему теперь в экс-
пертизах. Чтобы у них в семье не возникало проб-
лем с переводом научной литературы, она изучает
английский язык (немецким и французским Петров
владел свободно).
В 1938 году у Александра Петровича обостряется
наследственное заболевание сосудов, он соглашается
на ампутацию правой ноги. Страдает, что лишен воз-
можности заниматься гимнастикой, но до последних
дней продолжает делать свои экспертизы.
Информация, которую предлагает книга «The
Olympic Games», изданная в 1976 году в .Лондо-
не, к 80-летию современных Олимпийских игр (под
редакцией президента МОК лорда Килланена и из-
вестного спортивного обозревателя Джона Родда).
Когда началось современное олимпийское движе-
ние, все выдающиеся борцы были профессионалами,
а профессиональная борьба постепенно превращалась
в чистое зрелище. На Афинской олимпиаде 1896 го-
да борцы греко-римского стиля соревновались только
в тяжелом весе, и первым олимпийским чемпионом
стал немец Шухман. Спустя двенадцать лет устрои-
тели Лондонской олимпиады, решив поддержать
борцов-любителей, хранивших подлинно спортивные
традиции (Международная федерация любительской
борьбы будет создана позже — в 1912 году), вновь
включили в программу Игр борьбу греко-римского
стиля, установив на этот раз четыре весовых катего-
рии: легкую, среднюю, легкотяжелую и тяжелую.
Серафима Ивановна показывает диплом, подписан-
ный президентом С.-Петербургского атлетического
общества графом Рибопьером, который «выдан в удо-
стоверение того, что в состязаниях Всероссийского
чемпионата любителей французской борьбы 1906 го-
да Александр Петрович Петров награжден большой
серебряной медалью».
Показывает и медаль Атлетического кабинета
И. В. Лебедева, врученную в 1907 году Петрову
«За участие в борьбе. Вне конкурса».
Эти двое — граф Григорий Иванович Рибопьер и
Иван Владимирович Лебедев (Дядя Ваня)— во мно-
гом определяли спортивную жизнь Петербурга нача-
ла нашего века. Знакомство с ними, быть может,
позволит хоть несколько прояснить облик борца
Петрова, да, на сей раз именно борца.
Граф Рибопьер был богат и щедр — любил меце-
натствовать. В молодости выкидывал отчаянные «кун-
штюки» — устремлялся, например, на коньках с ле-
дяной горы, на его пути ставили десять стульев, и
он лихо через них перепрыгивал. Был отменным на-
ездником, завел в Петербурге собственную конюш-
ню, да и вообще сыграл не последнюю роль в исто-
рии нашего конского (как тогда говорили) спорта.
А когда в девяностые годы в Петербурге, а затем и
в других городах России началось увлечение фран-
цузской борьбой (борьба и прежде была у нас в по-
чете, но то была борьба на поясах), Рибопьер занял-
ся этой борьбой. В 1896 году он учреждает С.-Петер-
бургское атлетическое общество и отдает борцам и
атлетам свой манеж.
На манеже Рибопьера получили борцовское обра-
зование Георг Гаккеншмит и Иван Поддубный, кото-
рые сделались знаменитыми профессионалами. Но
важно отметить, что преобладал на этом манеже дух
любительства. Общество регулярно, начиная с
1897 года, проводило чемпионаты России среди лю-
бителей. Основные расходы общества нес его состоя-
тельный президент.
Таков этот титулованный спортсмен и меценат, ко-
торому доктор Петров был обязан участием в Лон-
донской олимпиаде.
Уже в наши дни, дожив до почтенного возраста,
Иван Владимирович Лебедев (Дядя Ваня) горделиво
отмечает в своих «Записках счастливца»: «Я имел
все, что может иметь человек, в какие бы перья он
ни рядился». Лебедев был и атлетом и тренером, ко-
торый брался сделать сильным каждого, писал книги
о спорте, издавал популярный журнал «Геркулес» и
подвизался даже в беллетристике, снимался в кино...
А вот как он сам себя рекламировал: «К сожалению,
не мог изобрести телефона и телеграфа, но зато изо-
брел первую «черную маску» в России, Святогора,
Дядю Пуда, Сарикики, Ивана Каина, Авеля и еще
целый ряд других «живых аттракционов».
Дядя Ваня сыскал всероссийскую популярность
именно тогда, когда, надев поддевку и студенческую
фуражку, начал изобретательно конферировать свои
чемпионаты профессиональной борьбы. Чемпионаты
у Дяди Вани были хорошо отрежиссированы и шли
под музыку. Вместе с действительно выдающимися
борцами на парад выходили и «живые аттракционы»:
Святогор, который преподносился как самый высо-
ченный из русских великанов-борцов, или невообра-
зимо толстый Дядя Пуд, которому во время борьбы
оркестр играл «По улице ходила большая крокоди-
ла»... («На бенефис входит в клетку к диким зверям,
которые при виде его падают в обморок»,— реклами-
ровал его Дядя Ваня.) Чемпионаты Дяди Вани были,
кажется, самым кассовым в тогдашней России зрели-
щем. Первый свой чемпионат он провел в 1905 году
в Петербурге. Закончился чемпионат победой Ивана
Поддубного.
В этих турнирах мог попробовать силы и любитель.
Порой вне конкурса. Порой под «черной маской»,
чтобы не компрометировать себя в глазах сослужив-
цев. Надо думать, что и наш доктор Петров захотел
однажды побороться с профессионалами. И, судя по
медали, боролся весьма успешно. А как объяснить
иначе эту медаль, которую вручил ему Дядя Ваня?
(В том же 1907 году Петров согласился быть и чле-
ном жюри женского чемпионата по французской
борьбе, который затеял Лебедев,— судейский жетон
этого чемпионата также хранится в архиве Петрова.)
Есть основания предполагать, что в тот год доктор
Петров, который уже не имел соперников среди бор-
цов-любителей Петербурга, как каждый истинный
спортсмен захотел быть первым среди первых. А у
Дяди Вани не отказывались бороться и Поддубный, и
Шемякин, и Вахтуров, и Кащеев... Русские професси-
ональные борцы славились в мире. В год Лондонской
олимпиады, кстати, в Париже состоится очередной
Всемирный чемпионат, который соберет всех звезд
профессиональной борьбы, и первым в «Казино де
Пари» будет Иван Поддубный, вторым — Иван Заи-
кин, а четвертым — Григорий Кащеев, которого афи-
ши подавали не иначе как Великана Кащеева (да и
сегодня борец ростом в 2 м 15 см, согласитесь, был
бы в диковинку). Но если лавры профессионального
борца и не могли соблазнить Петрова, то разве не
соблазнительно было помериться силами с этими
героями толпы? И он теперь часто наведывался в Ат-
летический кабинет Лебедева, где главным образом
тренировались любители, которые рвались в профес-
сионалы.
И вот однажды Петров встретился у Дяди Вани с
приехавшим в Петербург на гастроли голландским
чемпионом Ван-Риллем. В своей книге «Борцы.
375 портретов «гладиаторов наших дней» с краткими
характеристиками» Лебедев так представляет Ван-
Рилля: «Весь соткан из мышц. Силен не менее, неже-
ли ловок, а ловок как редкий из борцов. В 1908 го-
ду был причиной повальной эпидемии в Москве:
все дамы сделались «ван-риллистками». Выше всего
на свете ставит государственные ассигнации,— осо-
бенно, крупные». В тот день Ван-Рилль, решив немно-
го размяться, сильным рывком вывихнул плечо одно-
му из учеников Дяди Вани. Петрову это не понрави-
лось, и он сказал Ван-Риллю, что хотел бы с ним по-
бороться. Спокойно отразив каскад различных прие-
мов, которые сразу же обрушил на него голландский
чемпион, Петров сам перешел в нападение, поставил
Ван-Рилля на мост, и тот не успел опомниться, как
его мост был «сломан».
13 (26) июля 1908 года петербургская газета «Речь»
поместила небольшую заметку «Русские на олимпий-
ских играх», которая начиналась так: «В Петербург
возвратились четыре атлета-любителя Петров, Орлов,
Демин и Замотин, командированные спб атлетиче-
ским обществом на Международные олимпийские
игры в Лондоне. Спортсмены недовольны поездкой в
Лондон. Из-за отсутствия представителя России, им
пришлось самим о себе хлопотать в Олимпийском
комитете». Репортер сообщает далее, что судьи в
Лондоне были плохо осведомлены в правилах фран-
пузской борьбы, да к тому же были и пристрастны ц
отодвинули Орлова и Петрова на второе место. А
завершается эта заметка довольно забавным абза-
цем: «Кроме борцов из русских спортсменов в ма-
рафонском беге выступал какой-то Лиид и в легкой
атлетике, как говорят, А. С. Петровский, хотя в про-
граммах его имени не было».
А публикация ц журнале Лебедева «Геркулес»
(1913 год, № 6) позволяет представить во всех под-
робностях олимпийскую эпопею доктора Петрова.
С этой публикацией — «IV Олимпиада в Лондоне и
русские борцы» — меня познакомил рязанский врач
Аркадий Александрович Суханов, который уже трид-
цать лет собирает материалы по истории борьбы и
написал даже книгу «Алекс Аберг — загадка ковра»,
изданную в Таллине. И узнав о поиске, который ве-
дет «Юность», Суханов поспешил сообщить то, что
знает.
Судя по всему, автор «Геркулеса» — он подписался
Д. Г.— сам участврвал в Лондонской олимпиаде. Су-
ханов полагает, что Д. Г.— это Демин Георгий, ко-
торый вообще был склонен к литературной деятель-
ности (позднее ои напишет книгу о танцах). На Все-
российских соревнованиях Демину дважды вручался
приз графа Рибопьера (сильнейшему борцу, весящему
не более 160 фунтов), но в Лондоне он, как и Ев-
гений Замотин, был ошибочно записан в более тяже-
лую весовую категорию, и оба они остались без ме-
далей. Эта неудача, возможно, и побудила Демина не
выпячивать собственное «я», рассказывая о Лондон-
ской олимпиаде. Словом, предположения Суханова
выглядят достаточно убедительно.
Читая «Геркулес», узнаешь, что граф Рибопьер, к
сожалению, просчитался, поручив возглавить коман-
ду русских борцов в Лондоне своему старому знако-
мому Эжену де Пари. В свое время Рибопьер нани-
мал Эжена, чтобы обучить французской борьбе Ива-
на Поддубного. С большой симпатией поминает в сво-
их мемуарах Эжена и Иван Заикин. Судя по всему,
старый французский борец Эжен отменно знал свое
дело, был добрым, участливым человеком и... нику-
дышным организатором. Он ухитрился приехать в
Лондон днем позже, чем его подопечные, и совер-
шенно терялся, не знал, как себя вести, когда анг-
107
личане давали ему понять, что «господину професси-
оналу» нечего делать на любительской Олимпиаде...
Четверо русских с большим трудом (английским
языком никто из них не владел) нашли е Лондоне
тот французский отель, где Эжен снял для них две
комнаты. Спать им пришлось почему-то по двое на
одной кровати, но стол был домашний, что, как пи-
шет Д. Г., «является некоторой гарантией против рас-
стройства желудка — органа столь важного для бор-
ца». Тренировались они в каком-то подвале, где был
разостлан сомнительной чистоты ковер. Эжен, прав-
да, ощущал себя в этом подвале значительно уверен-
нее, чем в Олимпийском комитете. Д. Г. отмечает,
что при всей беспомощности Эжена по администра-
тивной части русские борцы имели в его лице «ве-
ликолепного преподавателя и тренера».
Хозяева Олимпиады были мало знакомы с фран-
цузской борьбой: «двойной нельсон», например, ан-
глийские судьи относили к запрещенным приемам.
«В случае «ничьей»,— пишет Д. Г.,— предпочтенье от-
давалось тому из борцов, кто «покажется лучшим»
судьям, и никаких технических правил для оценки не
было. Борец, получивший одно поражение, выбывал
из состязаний...» Того же Демина в первой — и по-
следней — его схватке судьи сначала объявили побе-
дителем, а затем изменили решение и отдали победу
его сопернику А Николая Орлова, который уверенно
претендовал на олимпийское золото в средней весо-
вой категории, судьи без достаточных оснований ото-
двинули на второе место.
Петров вышел в финал, убедительно победив анг-
личанина Гумфрея и венгра Пайера. Первый его со-
перник резво бегал от него по ковру все двадцать
минут, а второй оказался в партере, и «красиво по-
строенный им мост» был сломан Петровым.
Интересна характеристика, которую Д. Г. дает бор-
цу Петрову: «Удивительное знание приемов как
нельзя лучше сочеталось в этом борце со значитель-
ной силой и с достаточным для его роста и фигуры
весом (5 пудов 25 фунтов ’). Огромная выдержка еще
больше помогала ему в борьбе и приносила вред
лишь некоторая нерешительность в движениях».
Помните, как наш доктор прекратил заниматься бок-
сом, когда убедился, что его удар слишком чувстви-
телен?.. Нет сомнений, он относился к числу тех бла-
городных старинных спортсменов, для которых побе-
да любой ценой была слишком горькой победой...
Поэтому, думаю, деликатный Петров и проявлял не-
которую нерешительность на ковре — нет, он не
страшился жесткого единоборства (пример тому —
его схватка с Ван-Риллем), но самому предложить та-
кой поворот схватки?..
В день финала тяжеловесов в Лондоне, как пишет
Д. Г., «жара стояла смертная, воздух казался раска-
ленным». Противник Петрова, венгр Вейс, обладал
внушительным весом. Они боролись в общей сложно-
сти пятьдесят минут, и Петров никак не мог бросить
массивного венгра в партер. Однажды тот, уже па-
дая, захватил его руку и высвободился. В другой раз
Петров, делая захват головы, сам оказался на две-три
минуты в партере. По результатам двух схваток су-
дьи сочли возможным отдать предпочтение Вейсу.
Небезынтересно, что поездку на Лондонскую олим-
пиаду доктор Петров использовал и для изучения си-
стемы физического воспитания в Англии.
Английская королева торжественно вручила Ор-
лову и Петрову серебряные олимпийские медали и
дипломы, а потом Эжен увез наших борцов в Париж
и всячески старался развлечь их. Тогда-то он и на-
кормил Петрова лягушками...
Вскоре после Лондонской олимпиады доктор Пет-
ров изменяет борьбе ради лыж, коньков, гребли — за-
писывается в английский гребной клуб «Эй-Би-Си»
на Крестовском острове, где его также будут ждать
грамоты и призы.
В журнале «Русский спорт» за 1910 год (№ 19)
находим следующее сообщение: «4-го мая в С.-Петер-
бургской школе атлетики И. В. Лебедева состоялось
первое собрание атлетов-любителей, решивших орга-
низовать первый в России «Hercules club». В число
членов «Клуба Геркулесов» могут быть приняты
только спортсмены, выдающиеся по той или другой
отрасли атлетического спорта»...
Почетным председателем был избран автор этой
идеи — а им был, естественно, Дядя Ваня. Одним же
из трех председателей «Клуба Геркулесов», объеди-
нившего борцов, гиревиков, боксеров и гимнастов,
стал доктор А. П. Петров. Это ли не оценка нашего
доктора как борца!
Серафима Ивановна рассказывает, что недавно она
вдруг увидела на экране телевизора Олю Орехову,
которая в начале 20-х годов занималась в кружке
у Александра Петровича гимнастическими танцами.
В телепередаче Оля была представлена женой Вале-
рия Павловича Чкалова. Да, да, за ней тогда как раз
ухаживал летчик... Вот, оказывается, как судьба по-
вернулась!
И заключая публикацию о докторе Петрове, дадим
слово Ольге Эразмовне Чкаловой: «Профессор Пет-
ров Читал у нас в Герценовском институте лекции по
физическому воспитанию. Тогда посещение было сво-
бодным, но Александр Петрович — он выглядел вну-
шительно: высокий, широкоплечий, плотный — всегда
собирал полную аудиторию. А кроме того, я ходила
к нему на кружок гимнастических танцев. Он шел от
пластики, но не балетной. Это были танцы, постав-
ленные гимнастом и анатомом. Наши показательные
выступления неизменно проходили с большим успе-
хом. Мы танцевали чардаш, гопак, вальс, тирольский
танец. Но никто из нас даже и не догадывался, что
наш профессор был таким славным спортсменом.
Он относился, как я думаю, к числу тех людей, ко-
торые говорить о себе не считают возможным».
* Девяносто килограммов.
1СЗ
н
И
ПОИСКИ
И. ЗАХОРОШКО
КНИЖНАЯ
РЕКА
ДРУЖБЫ
История знает немало уникальных собраний
□едких книг. Одни из них безвозвратно ка-
нули в Лету, другие существуют и по сей
день, даря людям радость общения с авторами и
духовное наслаждение. Достойны искреннего восхи-
щения огромные государственные книгохранилища с
миллионами томов и многие частные собрания.
К числу уникальных собраний книг сегодня мы мо-
жем с полным правом отнести единственную в сво-
ем роде библиотеку города Нурека, где руками лю-
дей разных национальностей на бурной горной реке
Вахш в труднейших условиях сооружается гранди-
озная по своим масштабам гидроэлектростанция.
Что же это за библиотека и как она возникла?
Пять лет назад журнал «Дружба народов» взял
шефство над строительством Нурекской ГЭС. Тогда
еще никто не знал, во что выльется это содружество
сотрудников журнала и его многочисленных авторов
со строителями гидростанции, какие оно приобретет
формы.
Много сделал журнал для стройки, регулярно пуб-
ликуя очерки и корреспонденции из Нурека, помогая
строителям решать важные производственные задачи.
Советские писатели Г. Марков, В. Катаев, Н. Ти-
хонов, С. Баруздин, С. ДангуловЕ В. Смирнов, С. Кру-
гилин, М. Алексеев, Ю. Рытхэу, узнав о дружбе
журнала со строителями Нурекской ГЭС, подарили
Центральной городской библиотеке свои книги, вы-
шедшие как приложения «ДН». Это и было началом
создания интернациональной библиотеки Нурека.
В дальнейшем свои книги с автографами через
Журнал «Дружба народов» передали в дар Нурек-
ской городской библиотеке М. Шолохов, К Федин,
М. Шагинян, М. Турсун-заде, К. Симонов, С. Михал-
ков, С. Сартаков, М. Прилежаева, Б. Полевой,
D. Гончар, М. Слуцкие, И. Мележ, И. Абашидзе и
многие другие писатели.
Вскоре не только прозаики и поэты стали посы-
лать книги в Нурек. Немало деятелей культуры и
Мастеров искусств подарили свои книги библиотеке.
Среди них — Л. Утесов, М. Жаров, С. Герасимов,
На снимке. Мариэтта Сергеевна Шагинян под-
писывает свою книгу для библиотеки Нурека.
Фото Л КОВАЛЕВА.
Г. Александров, Бор. Ефимов, Кукрыниксы, М. Улья-
нов и другие. Художники послали свои красочно
оформленные альбомы.
Бережно хранится в библиотеке книга Юрия Га-
гарина «Дорога в космос» с автографами советских
космонавтов.
Библиотека все росла. Ее фонд пополнился книга-
ми выдающихся общественно-политических и госу-
дарственных деятелей: Долорес Ибаррури, Янсшэ
Кадара, Густава Гусака, Басила Биляка, Тодора
Живкова, Эриха Хонеккера, Ле Зуана, Хорхе дель
Прадо, Урхо Калева Кекконена.
Знаменательное событие произошло в июле этого
года в Нуреке. С. А. Баруздин в торжественной об-
становке вручил библиотеке книги с автографами Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича
Брежнева — шеститомник «Ленинским курсом» и
книгу воспоминаний «Малая земля».
Свои книги передали для Нурекской библиотеки
также и другие руководители партии и правитель-
ства: товарищи А. Н. Косыгин, М. А. Суслов,
Б. Н. Пономарев, В. В. Щербицкий, М. С. Соломен-
цев, К. У. Черненко, Ш. Р. Рашидов.
Сейчас в Нурекской библиотеке насчитывается бо-
лее восьми тысяч томов книг с автографами двух
тысяч авторов.
Любое доброе начинание невозможно осущест-
вить без организатора, вдохновителя и энтузиаста.
Таким человеком в деле создания Нурекской интер-
национальной библиотеки можно с полным основа-
нием назвать главного редактора журнала «Дружба
народов» Сергея Алексеевича Баруздина.
Ценность Нурекской библиотеки, ее уникальность,
думается, заключается прежде всего в том, что в
ней собраны книги с автографами знаменитых лю-
дей. Очень хорошо об автографах в свое время ска-
зал А. С. Пушкин: «Всякая строчка великого писате-
ля становится драгоценной для потомства... Нас не-
вольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти
смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же
самым почерком и, может быть, тем же самым пе-
ром написала и великие творения, предмет наших
изучений и восторгов».
ЗЕЛЕНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ
СЕРГЕЙ
ЛЬВОВ
Рисунок
Е. ЗЕЛЕНИНОИ.
НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ
(Из записок бывшего молодого писателя)
Когда-то он нас учил. Ра-
зумному, доброму, веч-
ному. Судил наши пер-
вые литературные опыты. Оцени-
вал наши первые лекции. Был
строг. После премьеры пьесы од-
ного из нас в атмосфере умерен-
но-заслуженного успеха напомнил
о драматургии Шекспира. Когда
дебютант обиженно воскликнул:
«Конечно, если сравнивать с
Шекспиром!..» — наставник строго
сказал: «А с кем вы хотите, что-
бы я вас сравнивал?»
Прошли годы...
И вот я снова встречаю его. Он
бодр, как всегда:
— Кого я вижу! Здравствуйте,
дорогой... Давненько мы не вида-,
лись. Где живете? Там же? В той
же квартире?! Удивили. У вас же
тесно... А это дочь? Совсем взрос-
лая! Не помнит уже дядю Мишу.
А ведь я ее вот такой знал. В ка-
ком классе учишься? Кончила?
Быть не может! Поздравляю! Тебя
поздравляю, родителям сочув-
ствую! Трагическое у них теперь
начинается время. Во-первых, ре-
шать, куда, во-вторых, решать,
как. Какие планы? На какой фа-
культет? Необходимые шаги
предприняты? То есть как какие?
Знакомых разыскать, поговорить,
посоветоваться... Как о чем? Нау-
ка умеет много гитик. Вот об этих
гиткках и посоветоваться. Напри-
110
мер, на что обратить внимание
при подготовке. У кого экзамено-
ваться. Расскажут на консульта-
циях? Дочери такая наивность про-
стительна, но вам? Если вы пусти-
те это на самотек, ваша дочь та-
кой факультет только и видела.
На вещи, деточка, надо смотреть
трезво. Давно готовишься? Пре-
красно! Это не помешает. Грызи
гранит науки своими прекрасными
молодыми зубами, а родители
пусть прогрызают пути... Дядя
Миша плохого не посоветует...
Через три месяца:
— Здравствуйте, мой дорогой!..
То не встречались, не встречались,
а вот тогда, весной, столкнулись
на улице, теперь снова. Закон
парности случаев! А ведь когда-
то, помните, жить друг без друга
не могли. А теперь времени нет!
Все до секунды расписано. Как
дочка? Поступила! Поздравляю!
От всей души. Кто содействовал?
То есть как сама себе? Не хотите
говорить, дело ваше. Мне эти хо-
ды сейчас ни к чему, понадобят-
ся — найду, но странно: такого
пустяка не сказать другу! Набра-
ла девятнадцать баллов из два-
дцати? Понимаю, такой способ
тоже есть. Представляю себе, во
что вам влетели репетиторы! Все
лето занималась сама? Бывает.
Бывает, по трамвайному билету
выигрывают сто тысяч. Обиделся?
Я? Ничуть! Чего мне обижаться.
Рад за вас. Только вы плохо вы-
глядите, мэй хороший. Волнова-
лись, переутомились. Нельзя,
нельзя. Сами себя не побережем,
нас никто не побережет, а боль-
ные кому мы нужны? У вас
сердчишко пошаливало? Как же,
помню. Болезни моих друзей —
мои болезни. В больницу собирае-
тесь? В какую?.. Никогда о та-
кой не слыхал! Да кто же так
ложится? Вы в прошлом человек
военный, фронтовик. Должны
знать термин: «медико-санитарная
разведка». Хотите ложиться в
больницу, с медико-санитарной
разведки и надо начинать. Кто там
главврач, кто заведует отделени-
ем, кто профессор? Выражаясь на
латыни, каждый врач может ска-
зать о себе: «Хомо сум, хумани
нихиль а ме алиенум путо». «Я
человек, и ничто человеческое мне
не чуждо!» Один целитель собира-
ет альбомы репродукций, у друго-
го направление дегустаторское,
третий... ну, с третьим вообще все
просто. Вещественные знаки неве-
щественных отношений, как вы-
ражались в прошлом веке.
Почему гадость? А великий За-
харьин? Я ведь тоже разными ас-
пектами истории интересуюсь.
Какой был диагност, но уж зато
какой сребролюбец! Думаете, от
него школы не осталось? Я вам
добра желаю. Со здоровьем не шу-
тят. НеДеля на разведку и при-
стрелку, потом стрельба по квад-
ратам, где слабое место предпола-
гаемого спасителя, потом пребы-
вание в больнице на заранее под-
готовленной позиции, а после вы-
писки — арьергардная операция —
повторное подношение, закрепле-
ние тылов, боевое обеспечение на
будущее. С дочкой вы без моих
советов обошлись, а тут послу-
шайтесь друга. Я от души. Что
значит не умеете? Что значит не
любите? А месяц очереди ждать и
в палате человек на пятнадцать
лежать любите? Значит, все-таки
не любите... Вот и подумайте. При-
вет супруге. Надо мне ее пови-
дать, посоветовать, чтоб она за
вас взялась.
Еще через полгода:
— Дорогой мой! Вы ли это? А
ведь как я тревожился! Как род-
ному говорю. Собирался позво-
нить, да ведь такая жизнь! Време-
ни ни секунды! Совсем по-друго-
му выглядите теперь. Рад за вас,
поздравляю. Здоровье — главное.
Не умеем себя беречь. Кто вас ле-
чил?.. Не знаю о таком. Не слы-
шал. Молодой? И хорошо лечил?
Скажите на милость! Правда, и
мы были молоды, а дело знали.
Как фамилия вашего целителя?
Может, пригодится. Молодой, го-
ворите? Значит, не избалован. Ес-
ли не секрет, как насчет обеспе-
чения операции? Сделали все-таки
подарок? Что? Букет цветов и соб-
ственную книгу?! Вам виднее.
Впрочем, молодому это лестно: бу-
дет показывать книгу с надписью
автора. Раньше говорили: неваж-
но, что бумажно, важно, что де-
нежно. А теперь: неважно, что де-
нежно, важно, что престижно. Так
что это вы удачно сообразили: и
дешево и сердито. Кстати о кни-
гах. Давно вас не читал. Над чем
трудитесь? Да ну! И в какой ста-
дии? Тогда мой совет: непремен-
но пойдите к Смыз никову! Что
значит незнакомы? Вы вначале
выслушайте, а потом возражайте.
Смызников в этой области царь
и бог. Представьтесь ему и как
можно скромнее попросите его
советов. Что значит, у вас на эту
тему свои взгляды? Взгляды в кни-
ге развивайте на здоровье, а в
предисловии к ней поблагодарите
Смызникова. Так надо!!! Я вам, как
друг, говорю. А то прихлопнет он
вашу книгу в рукописи, а не в ру-
кописи, так по выходе в свет дол-
банет. Не зная броду, не суйся в
воду. Вот тогда и будете хлопать
принципами, как ушами. Я же вас
люблю! Я же вам добра желаю!
Прошло два года, и сно-
ва встреча с ним:
— Дорогой мой! Сколько лет,
сколько зим! О здоровье не спра-
шиваю, вижу, неплохо. Книга ва-
ша вышла! Наслышан! Рад! По-
здравляю с успехом. Ходили то-
гда к Смызникову? Не ходили?
Ну, упрямый! И что? Ничего? То
есть как ничего? Ах, все-таки, зна-
чит, не ничего? Смызников дал в
печати хороший отзыв? Вы что,
посылали все-таки ему книгу? Не
посылали? Сам дал? Сам Прочитал
и сам дал? Понятно. Не хотите
объяснять, не надо. Не настаи-
ваю. Но понимаю. Это он мог сде-
лать только в пику... Кому? Это
вам знать не обязательно. Вы ведь
тоже мне не все говорите. Но все
равно — поздравляю. И с книгой.
И с отзывом! Это у вас удачно по-
лучилось. А что теперь пишете?..
Так! Смело. А для кого? Ого! Это
интересно. А как туда пробились?
Тут у меня возникли некоторые
соображения. Я вам позвоню. Но-
мер тот же? Как тот же? И живе-
те там же? Вот видите! Моя, зна-
чит, правда. Я же вас учил, как
надо выбивать квартиру. Ну, ниче-
го, встретимся еще, посидим, по-
говорим как следует. Я вам все
объясню. Поучу, как когда-то.
Он уходит. Я гляжу ему вслед.
Он учит меня разумному, вечно-
му... практичному. Но мне уже
давно пе хочется у него учиться.
Когда к нам на работу по-
ступил Фиалкин, о нем
сразу узнал весь инсти-
тут. Нет, он не был потрясающе
красив и не ходил обедать в сто-
ловую на руках... Просто он в
присутствии женщин... вставал.
Сначала этого никто не приме-
тил. Думали, что он по делу вста-
ет или, может быть, у него болит
что-нибудь. Но он проделывал это
с таким завидным постоянством,
что все поняли: Фиалкин фана-
тически культурен.
Эйнштейн не учел одного: со
скоростью света могут распро-
страняться не только частицы с
массой покоя, равной нулю, но и
слухи! Весь институт был наэлек-
тризован в один миг. Женщины
вызывающе смотрели на мужчин,
мужчины отвлеченно смотрели в
окно. Сотрудницы отдела якобы
по делу стали непрестанно заска-
кивать в комнату, где сидел Фиал-
кин. Фиалкин автоматически вста-
вал. Наслышанные о таких чуде-
сах, из других отделов тоже за-
бегали женщины, иногда у завет-
ной двери образовывалась целая
очередь.
Естественно, что все сотрудни-
цы, включая и замужних, проник-
лись к Фиалкину чувством, похо-
жим на любовь. От него веяло ка-
кой-то средневековой деликатно-
стью, рыцарской надежностью и
неброской целеустремленностью.
Его хотелось взять за руку и идти
с ним к горизонту, не оглядыва-
ясь и не спрашивая зачем.
Среди наших мужчин произо-
шел раскол. Они разделились па
два лагеря: на тех, кто в присут-
ствии женщин начал вставать, и
на тех, кто принципиально не
вставал. Первые, однако, оказа-
лись в невыгодном положении.
Вставая, они не знали, куда девать
глаза, краснели, хрустели пальца-
ми, часто дышали. Легкости и изя-
щества Фиалкина у них не было и
в помине.
Создалась взрывная ситуация,
воздух перенасытился электриче-
ством, так дальше продолжаться
не могло.
И взрыв грянул! Поводом по-
служило то, что из-за упавшей
производительности труда наш
НИИ лишили квартальной премии.
Десять мужчин во главе с быв-
шим борцом Гурькиным втащили
за грудки Фиалкина в туалет и
попросили больше в присутствии
женщин не вставать.
— Коллеги,— взмолился Фиал-
кин.— Сжальтесь. Я уже много
организаций сменил... Я бы с удо-
вольствием не вставал, но не мо-
гу... У меня воспитание такое...
— У-у-у! — зловеще загудели
мужчины, и кольцо вокруг Фиал-
кина сомкнулось.
На следующий день, когда Фи-
алкин пришел в отдел кадров за-
бирать документы, все женщины
встали.
Треугольный сон
Мне приснился Андрей
Вознесенский
(снятся ведь и
Пушкин и Гоголь?),
был он в пестрой
рубашечке женской
и сияющий, как гоголь-
моголь..,
И, взмахнув своей
левой ногою,
он притопнул ногою
другою...
Евгений ХРАМОВ.
Я охвачен тоскою
вселенской —
Третий день не заходит никто.
Вдруг — о радость! — Андрей
Вознесенский
Входит в плавках и женском
манто.
Снял манто дорогое Андрюша
И остался в одном свитерке.
Треугольную спелую грушу
Он сжимает в изящной руке.
Вдруг как врежет ногой
по дивану,
А другой по буфету как даст!
И забили из ванны фонтаны,
И запел голубой унитаз...
Бушевала андрейства стихия,
Грохотала витийства гроза.
И на очи, давно уж сухие,
Набежала, как искра, слеза.
Начался кавардак антимира.
Я проворно нырнул под тахту,
Но от страха, что гибнет
квартира,
Вдруг проснулся в холодном
поту.
Взял на кухне большую посуду
И налил валерьянки туда.
И поклялся, что больше
не буду
С Вознесенским шутить
никогда.
112
АЛЕКСЕЙ
ПЬЯНОВ
! jluttiefiatniffiHbte
на/годии
Ночь от А до Я
Спят билеты в автобусе,
Спят клубочки котят.
Авторучка. Автограф.
Автокран. Автомат
Петр ВЕГИН.
Спит устало планета,
Спит мой город родной,
Гаражи. Туалеты.
Сторожа в проходной.
Спит бездарная повесть,
Натянув переплет.
Спит нечистая совесть.
Пароход. Самолет.
Спит шофер катафалка.
Спят бутылки вина.
Спит буфетчица Алка
И притом — не одна.
Авторучка. Автограф.
Автокран. Автомат.
Автострада. Автобус.
Автандил. Арарат.
Ахмадулина. Ангел.
Анаконда. Амбал.
Апеннины и Англия.
Спит ансамбль АББА...
Полночь звезды качает,
Ветер воет в трубе.
Все! На А я кончаю.
Начинаю на Б.
Кое-что про поэтесс
С улыбкою гляжу на поэтесс ..
Худущие, издерганные, злые .
готовые друг дружку закусать,
они даруют истину искусства,
когда мужчинам нечего сказать.
Феликс ЧУЕВ.
Конечно, дело наше — темный
лес.
Оно не просто стих, оно —
стихия.
Но мне — ей богу! — жалко
поэтесс:
Худущие, издерганные, злые.
О, как ужасен их земной
УДел!
Какими их страстями
ни кромсало!
Одна подругу насмерть
закусала
На сцене, при народе, в ЦДЛ.
А та моей знакомою была,
И эта смерть меня взывает
к мщенью...
Другая умерла от истощенья,
Не в силах оторваться
от стола.
Их увлеченья, страхи и грехи
Для публики не больше,
чем потеха...
Две поэтессы лопнули
от смеха,
Когда я им прочел свои
стихи...
Пора, как говорится,
завязать,
Хоть автор с этим вряд ли
согласится:
Когда мужчинам нечего
схазеть,
О женщинах слагают
небылицы.
Художник-силуэтист
А ШМОИЛОВ.
Из иллюстраций
Саввы БРОДСКОГО
к новому изданию
пьесы Всеволода Вишневского
«Оптимистическая трагедия».