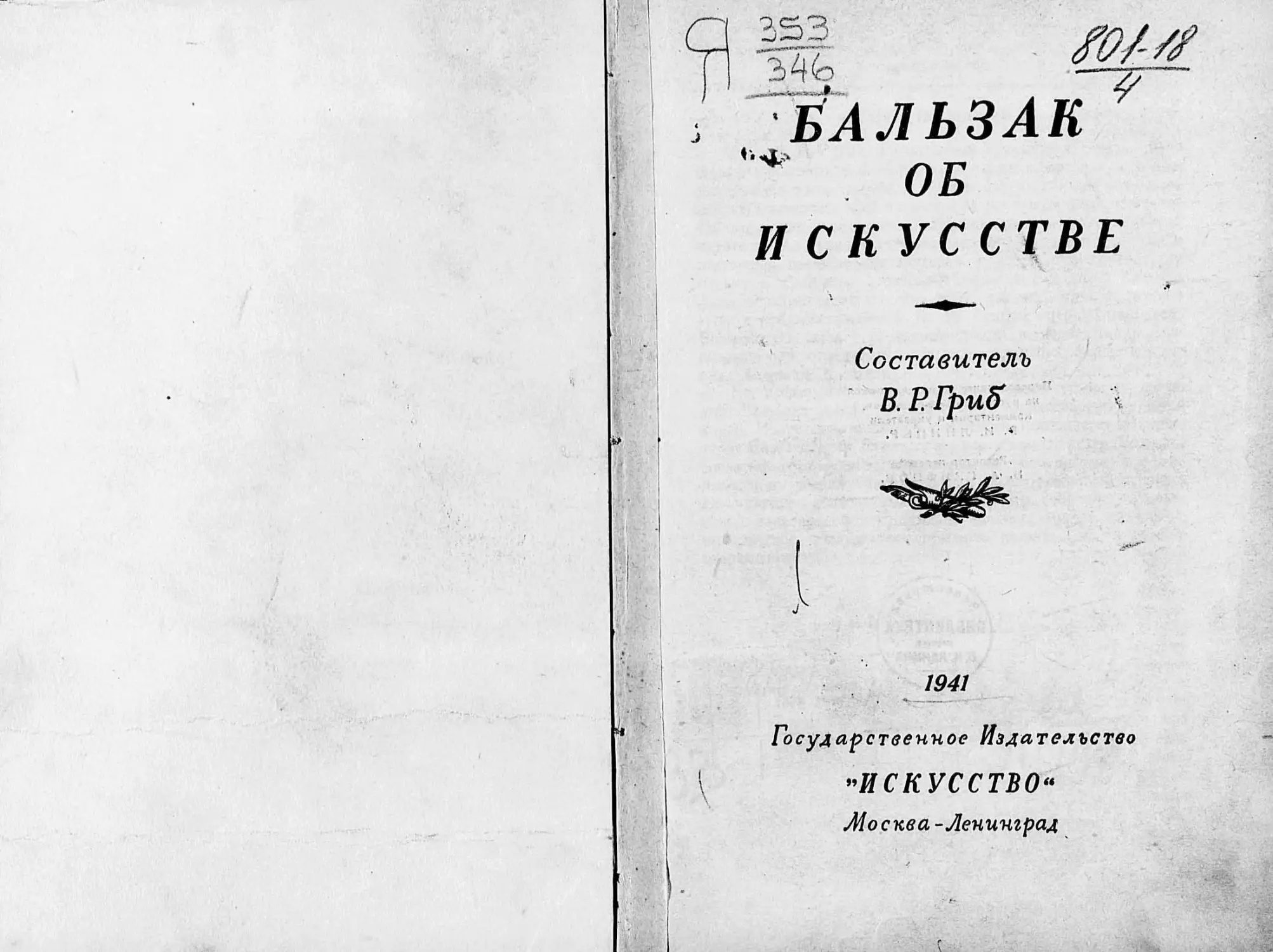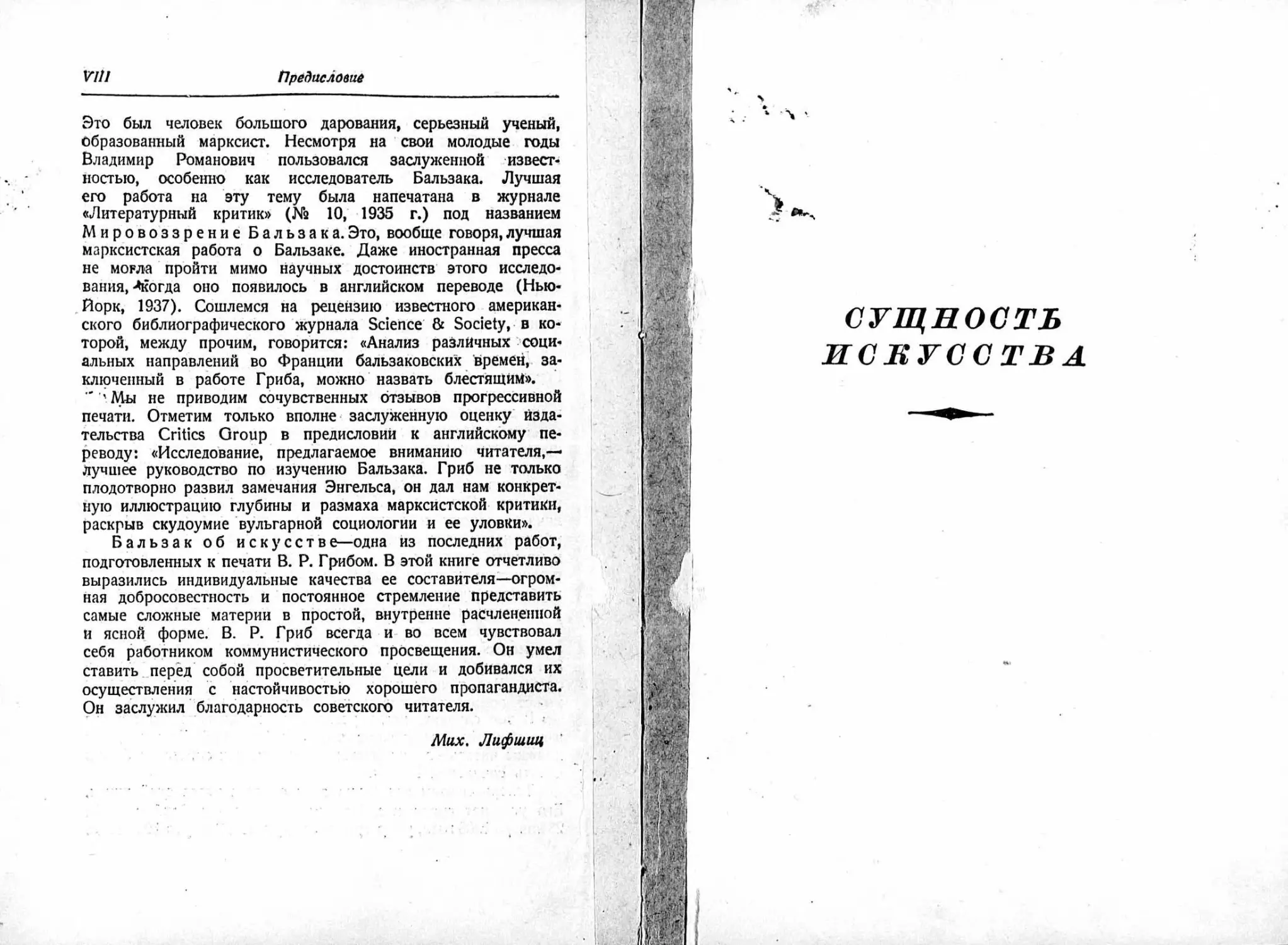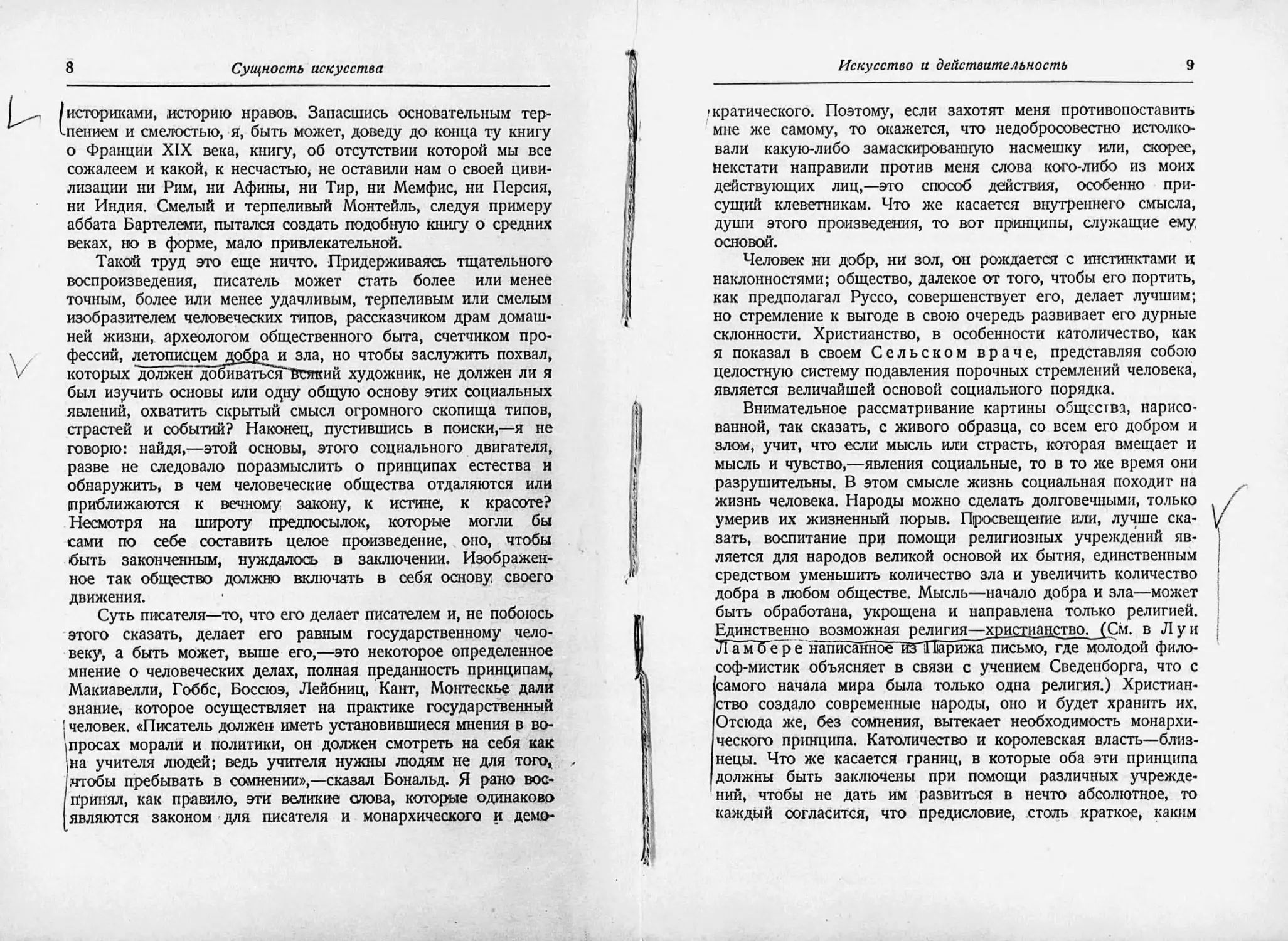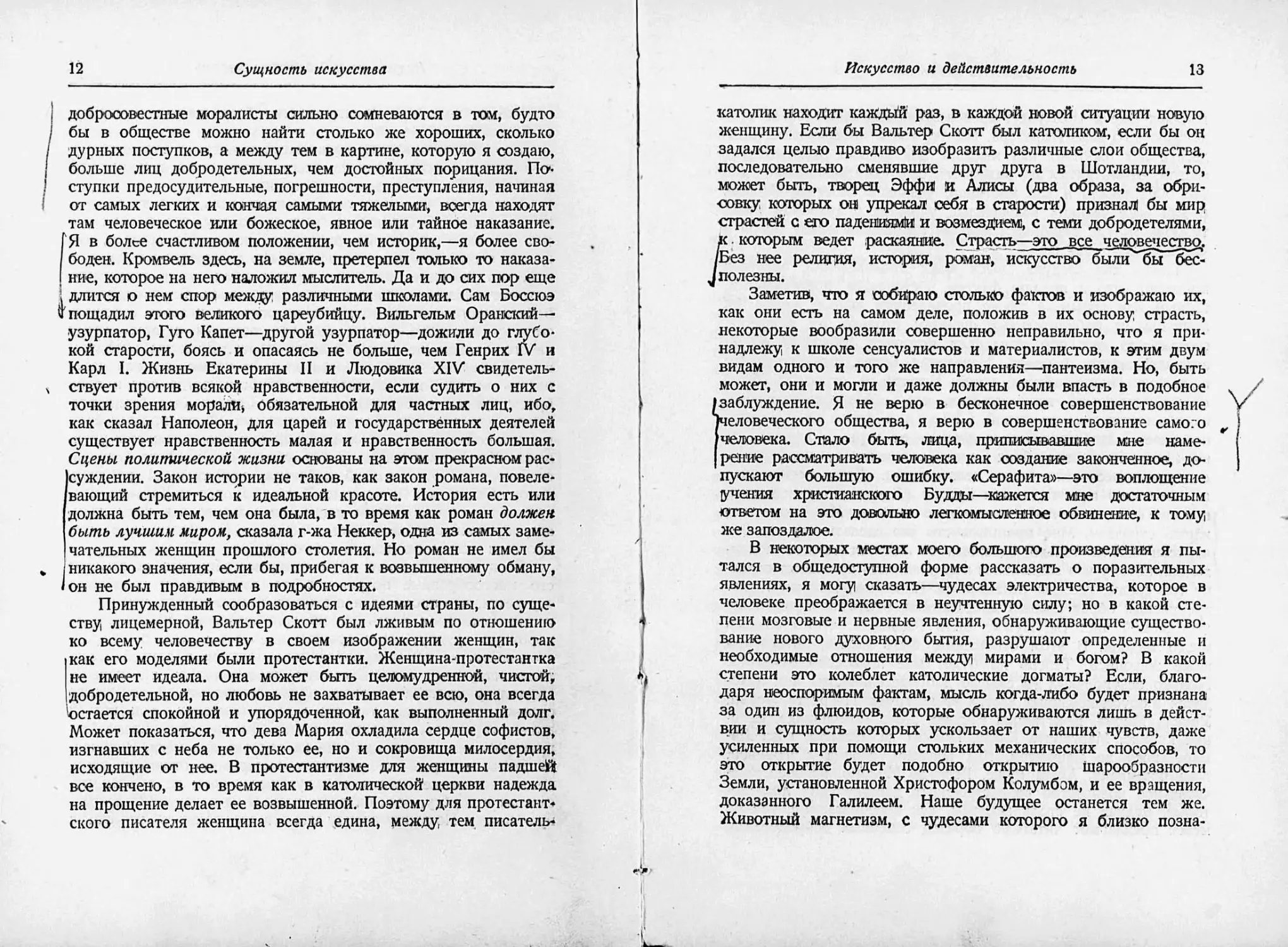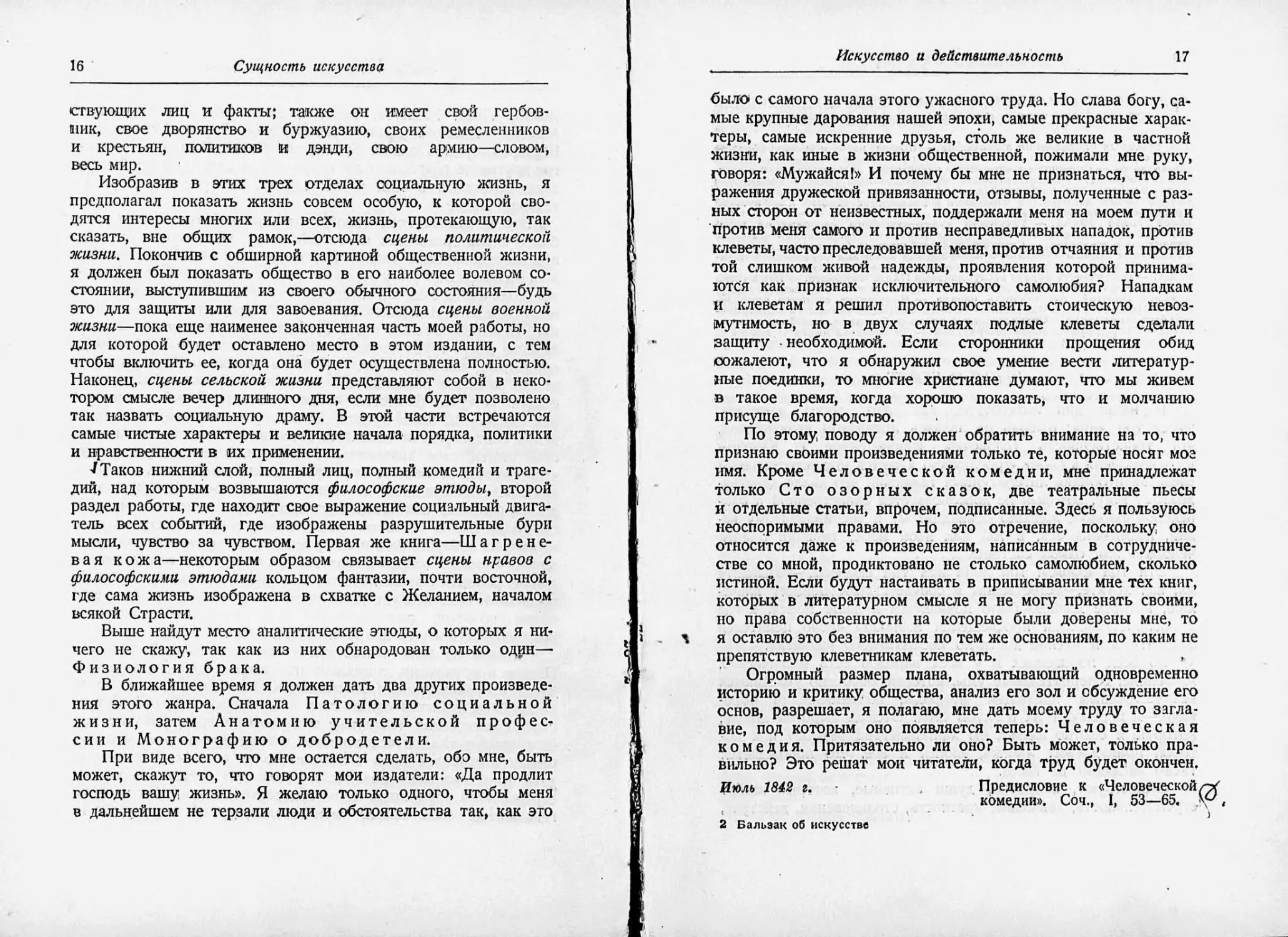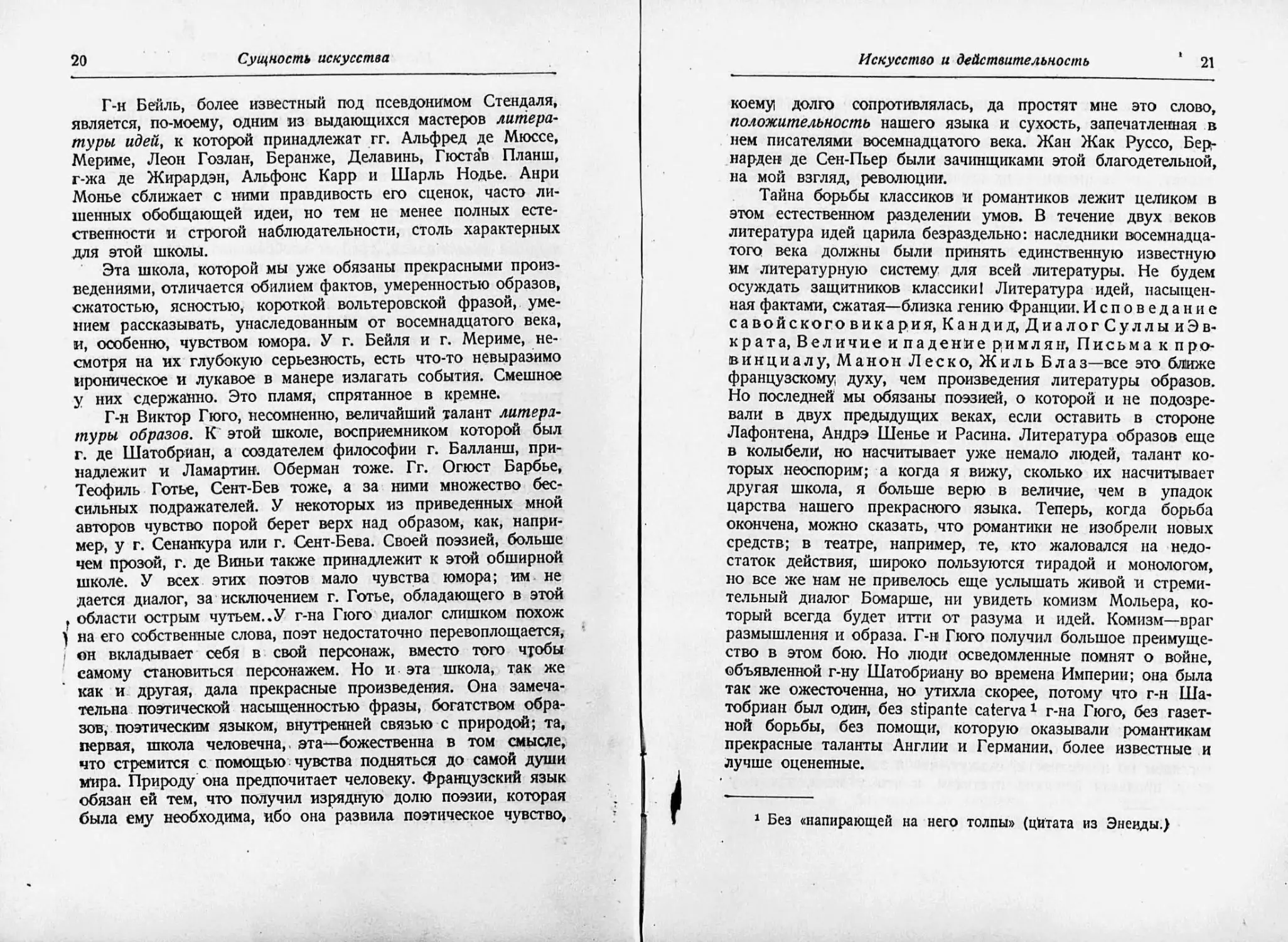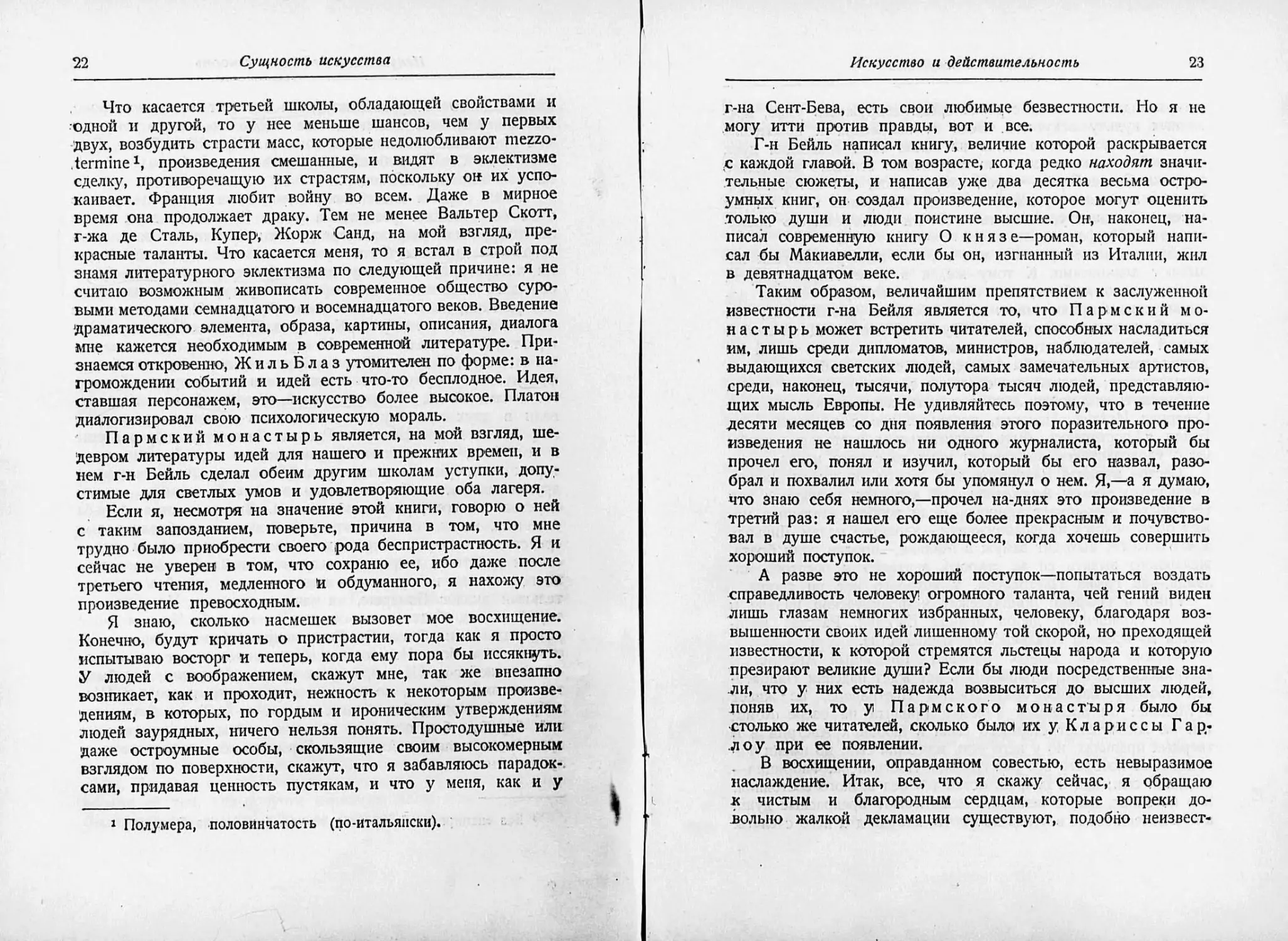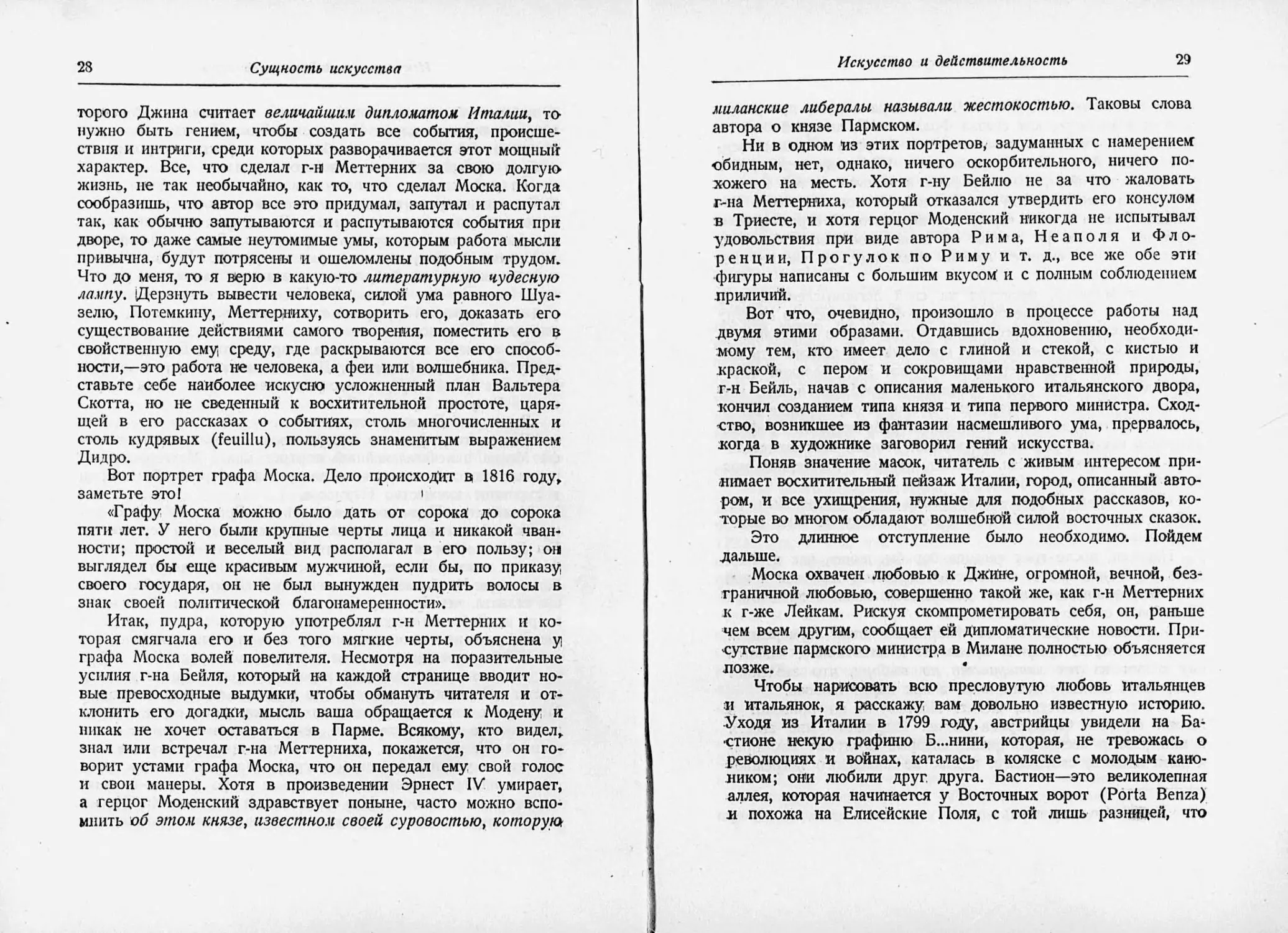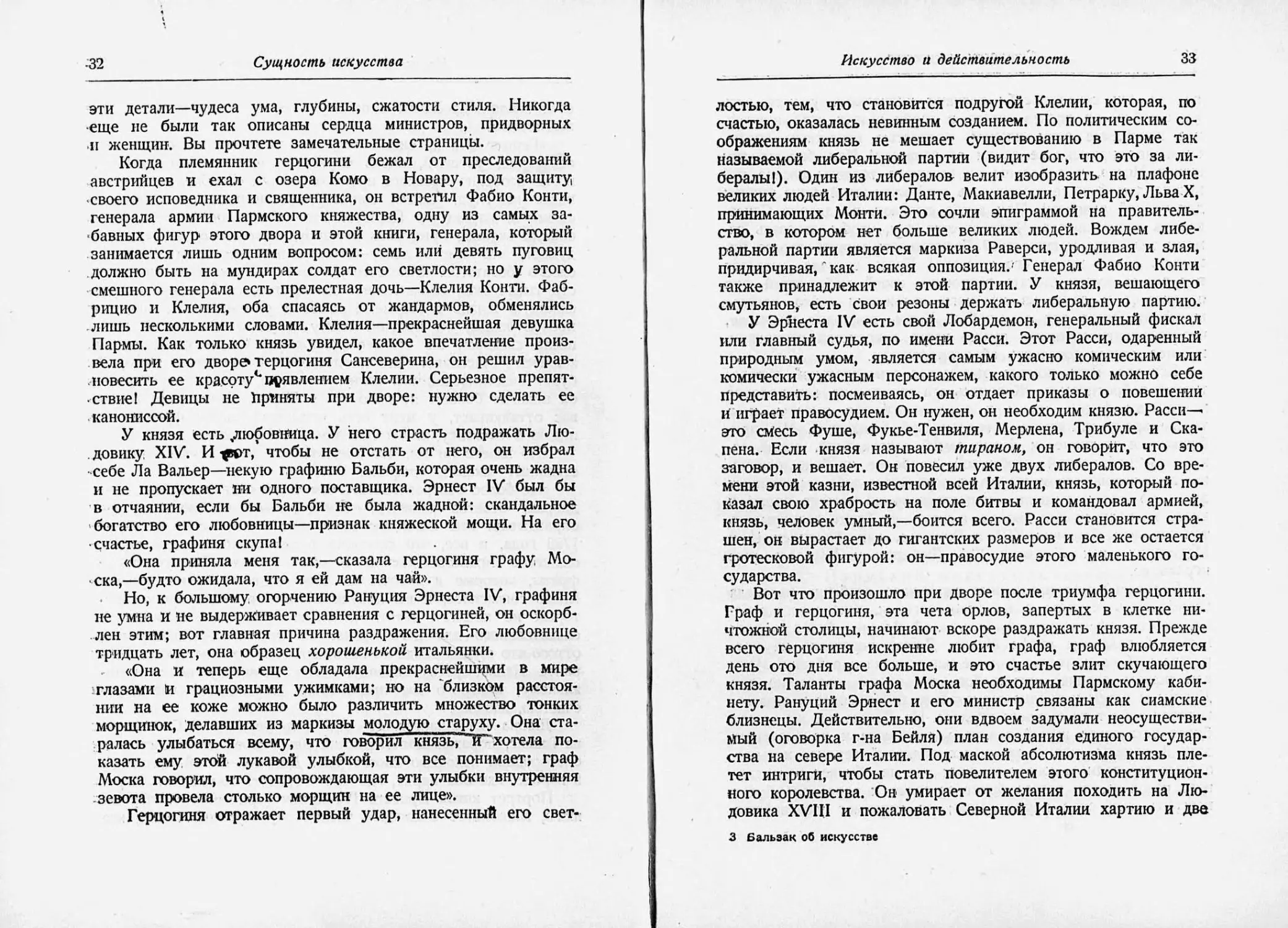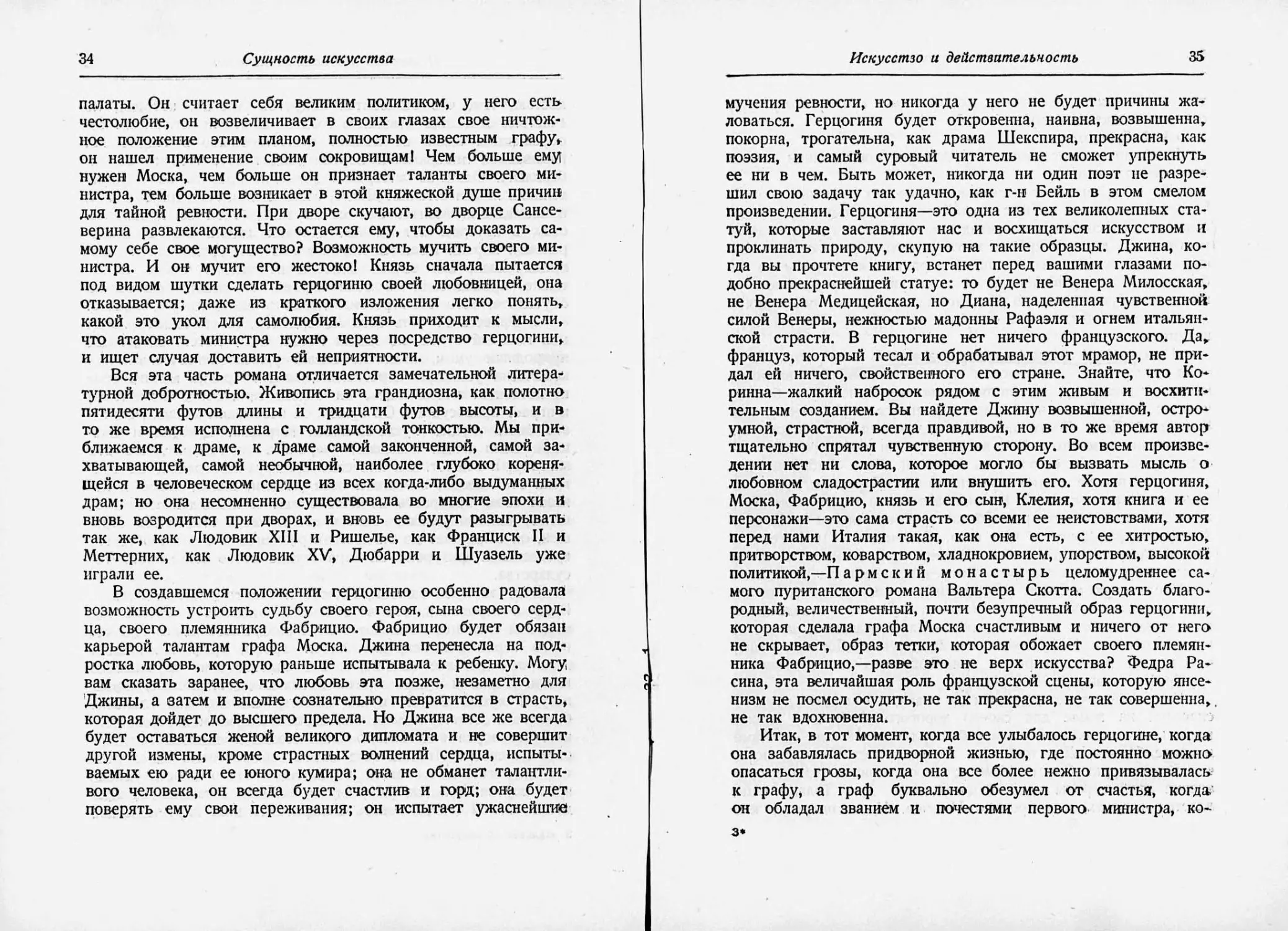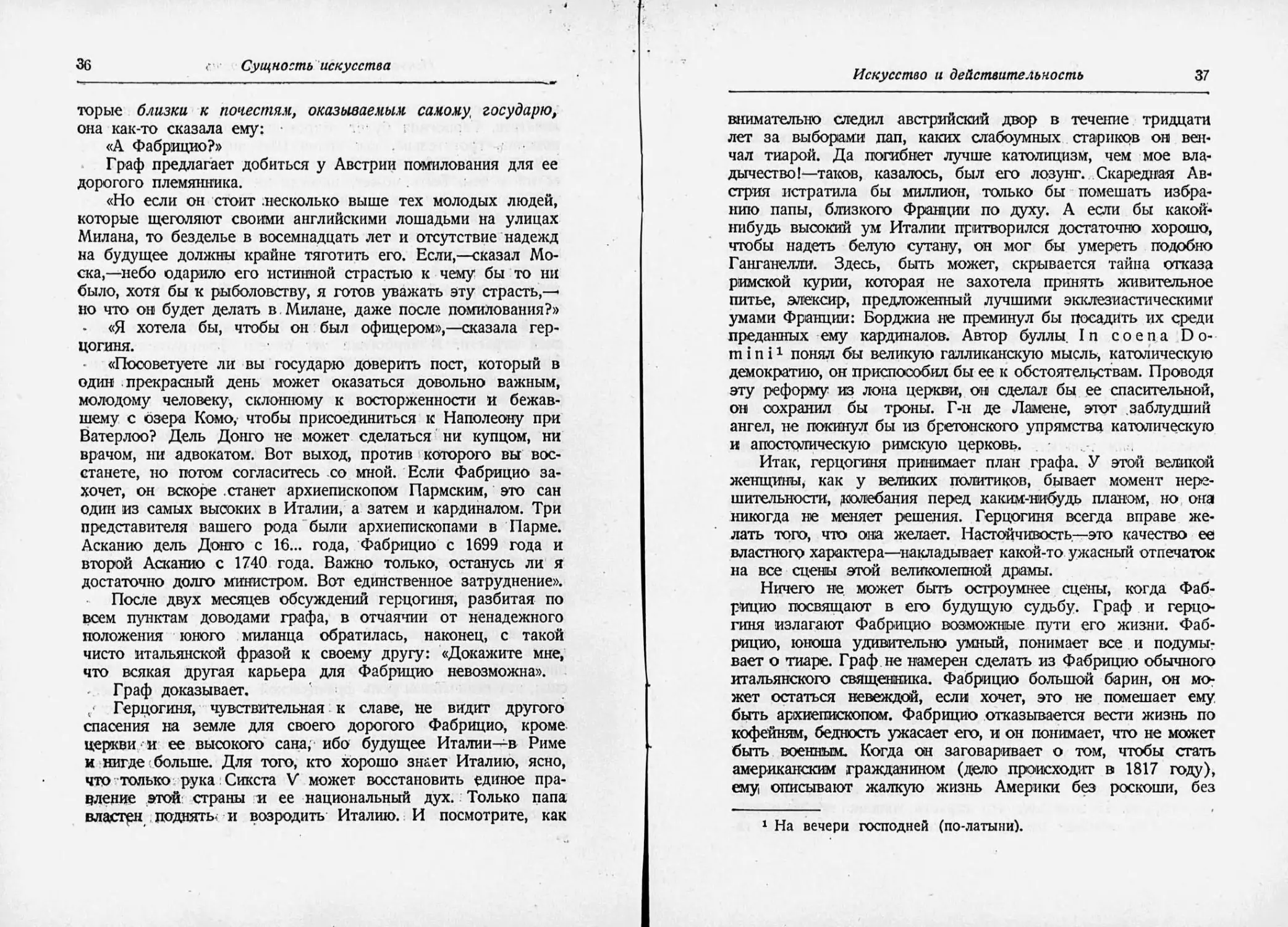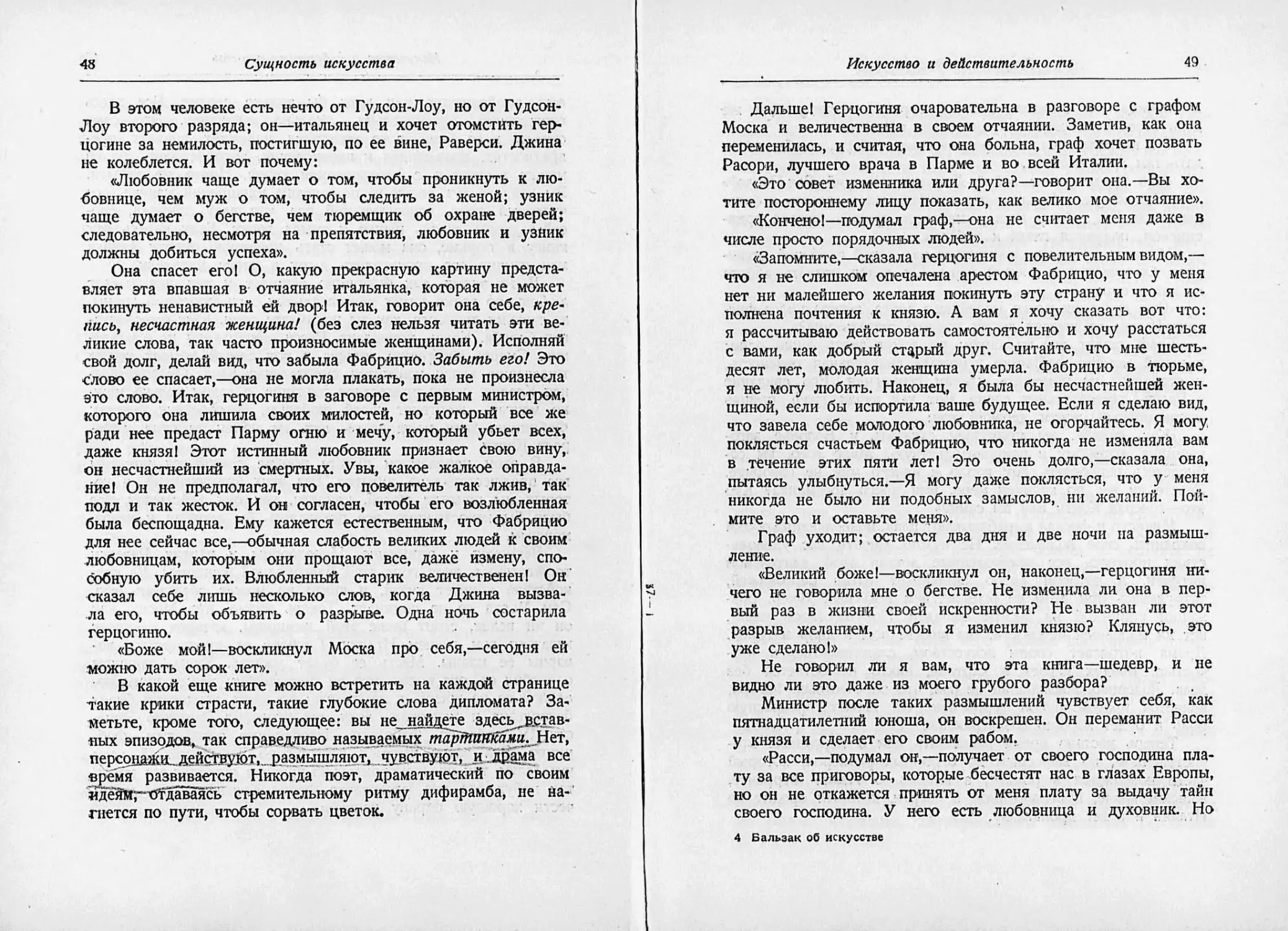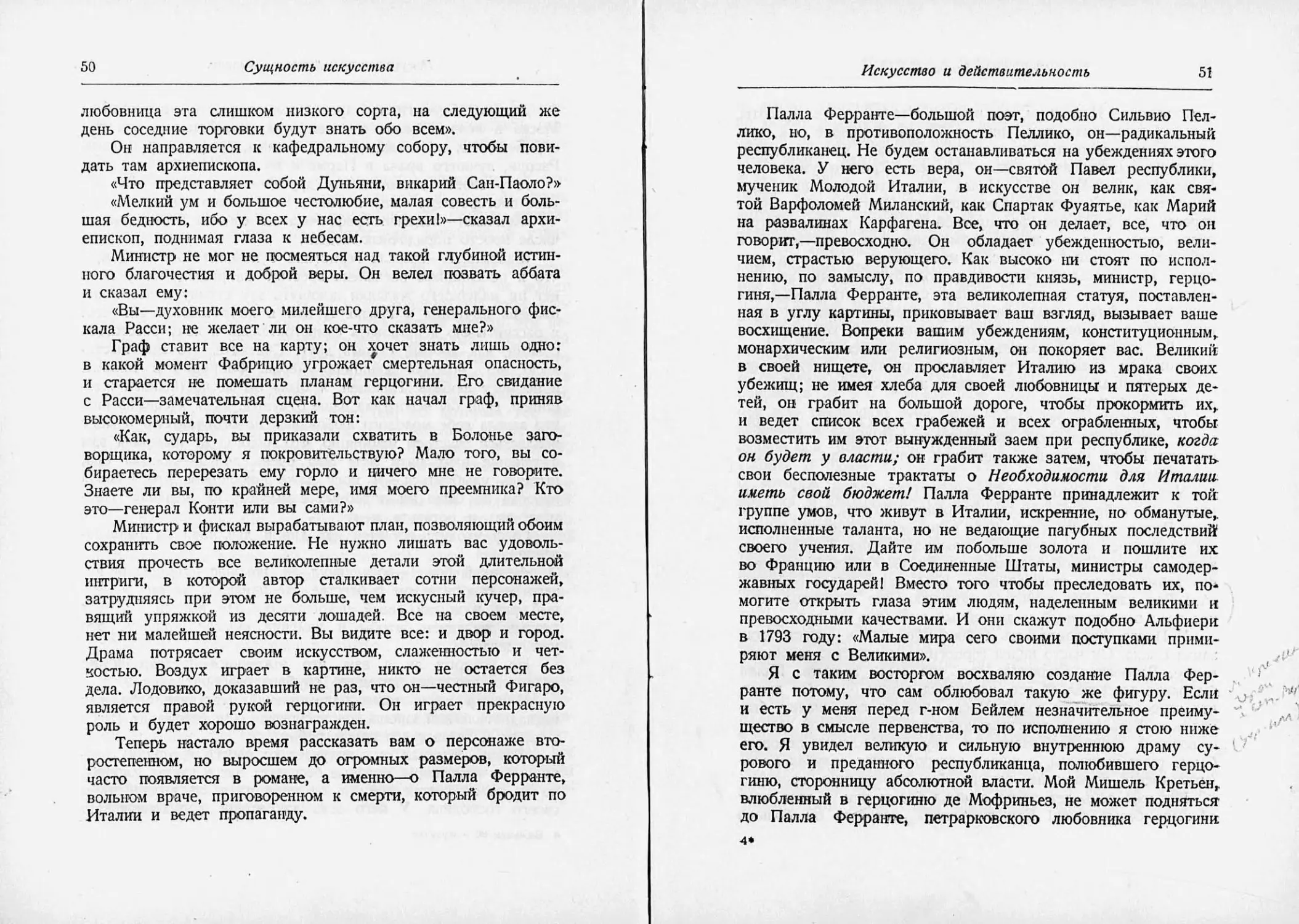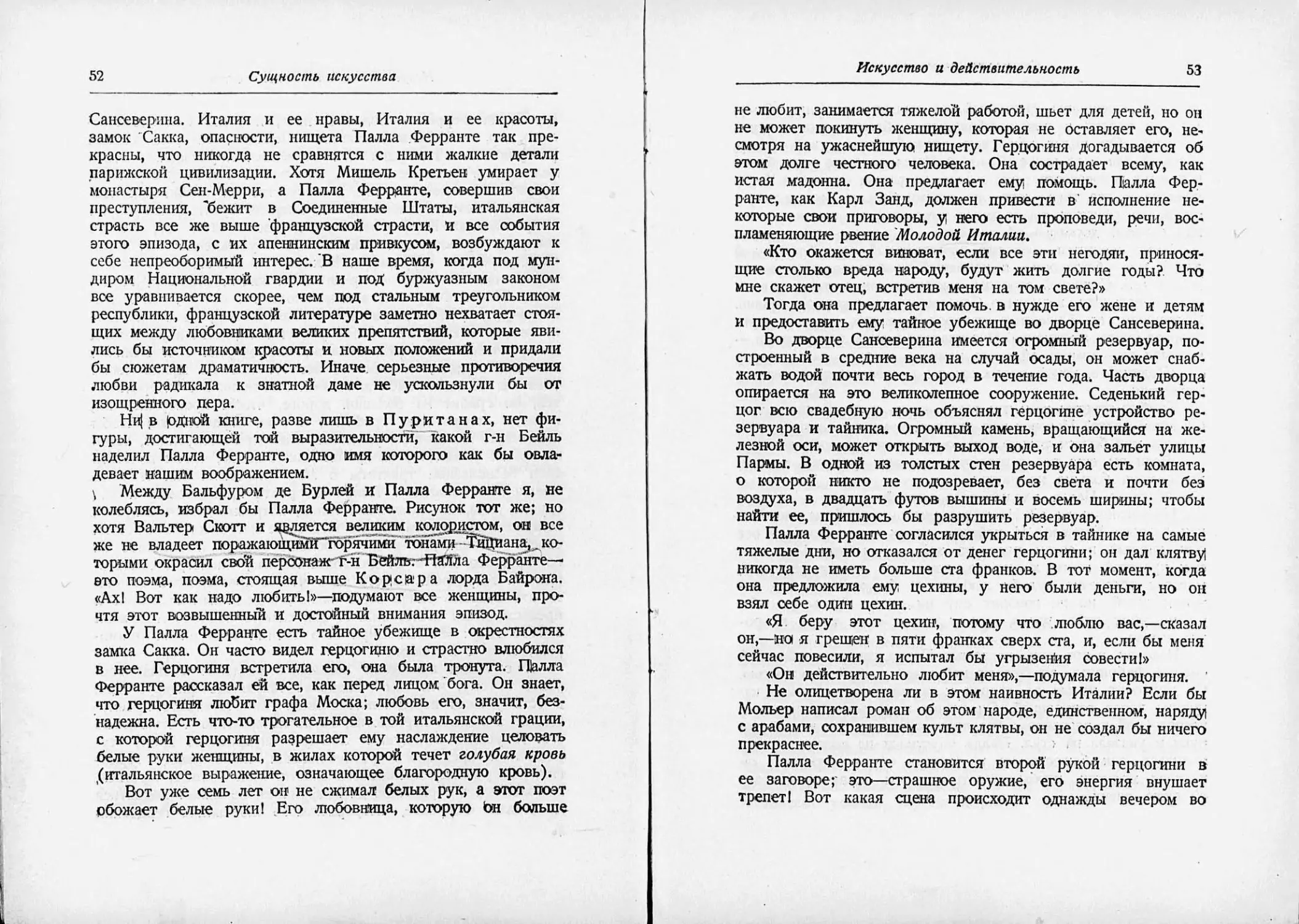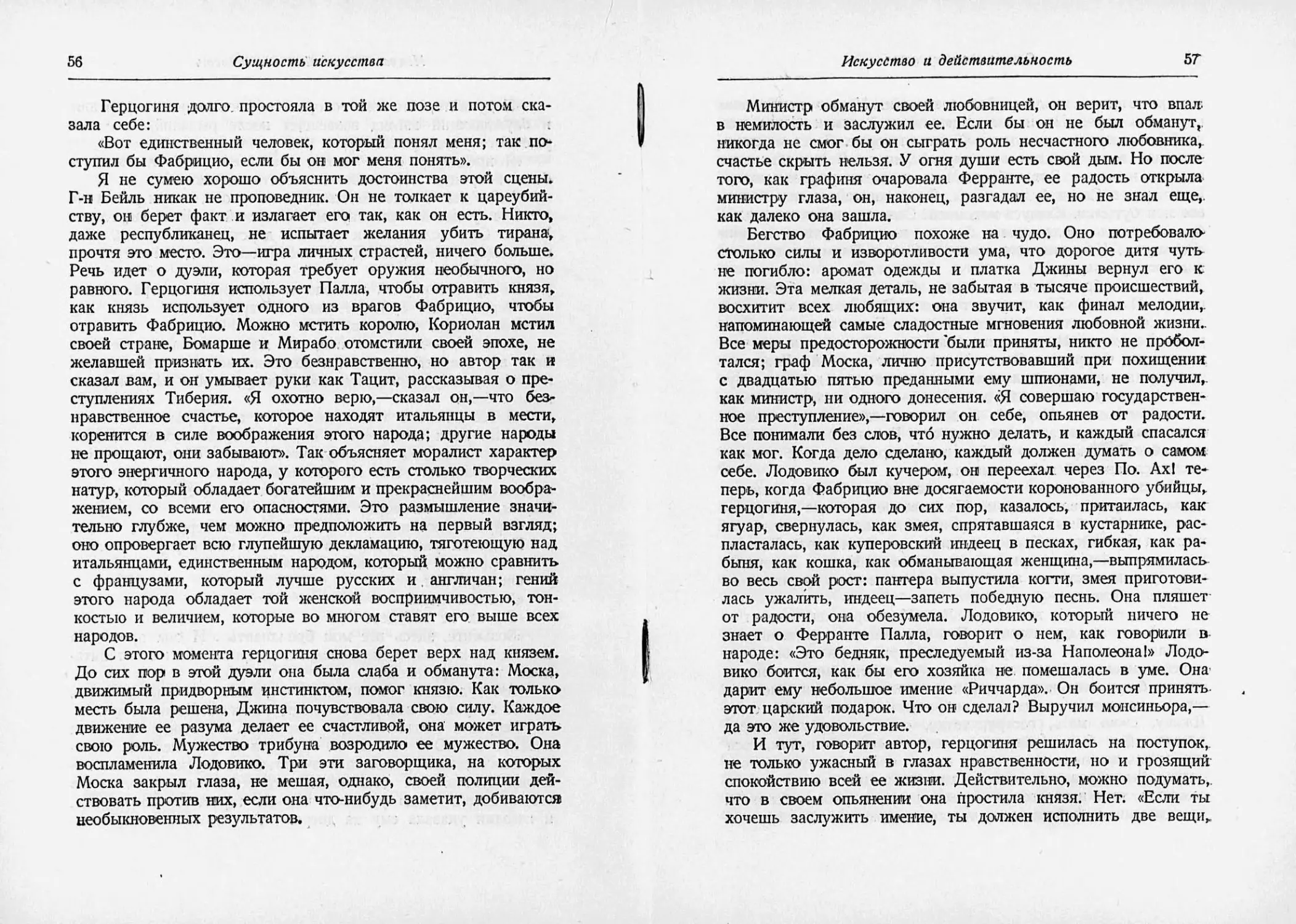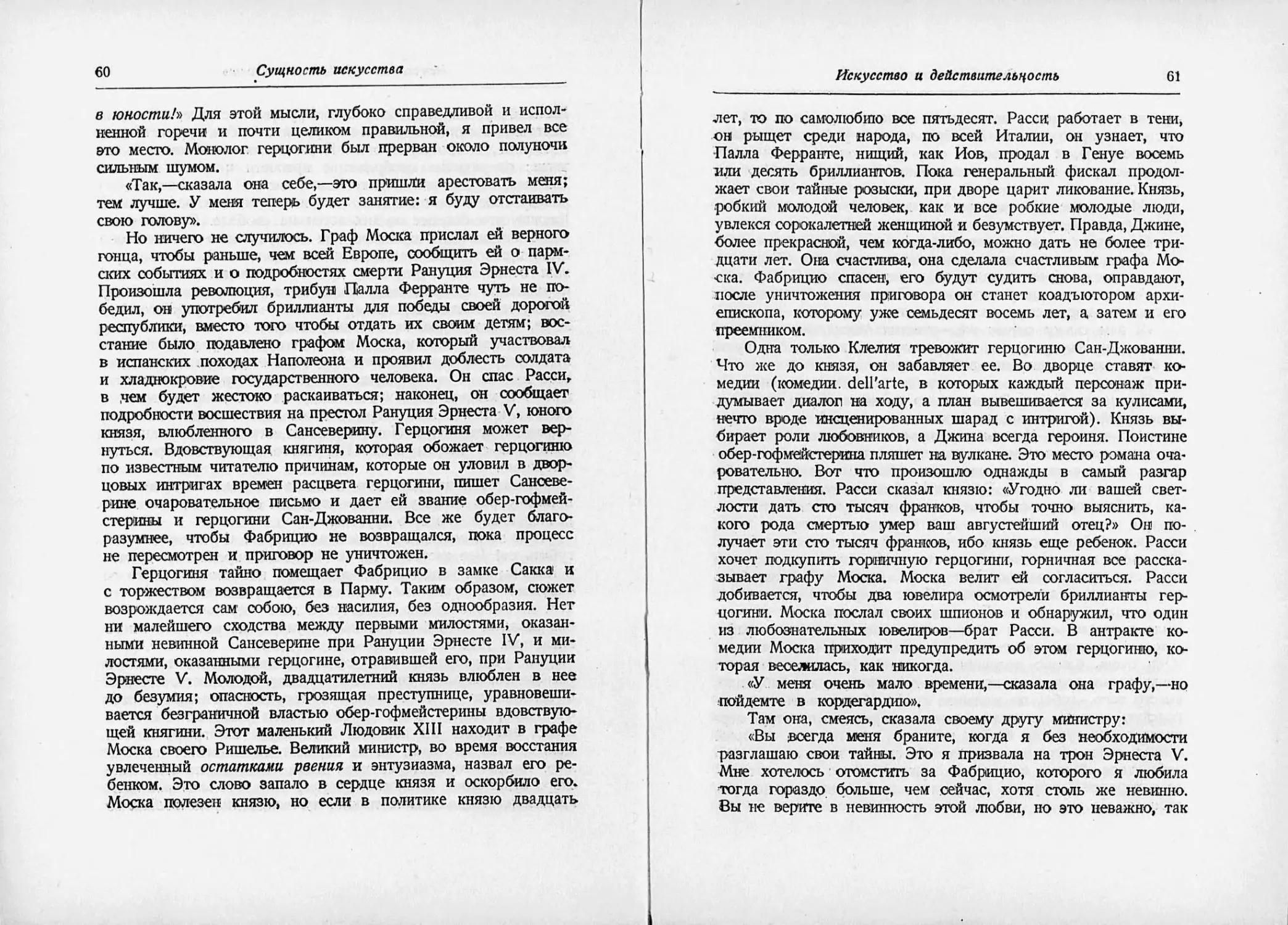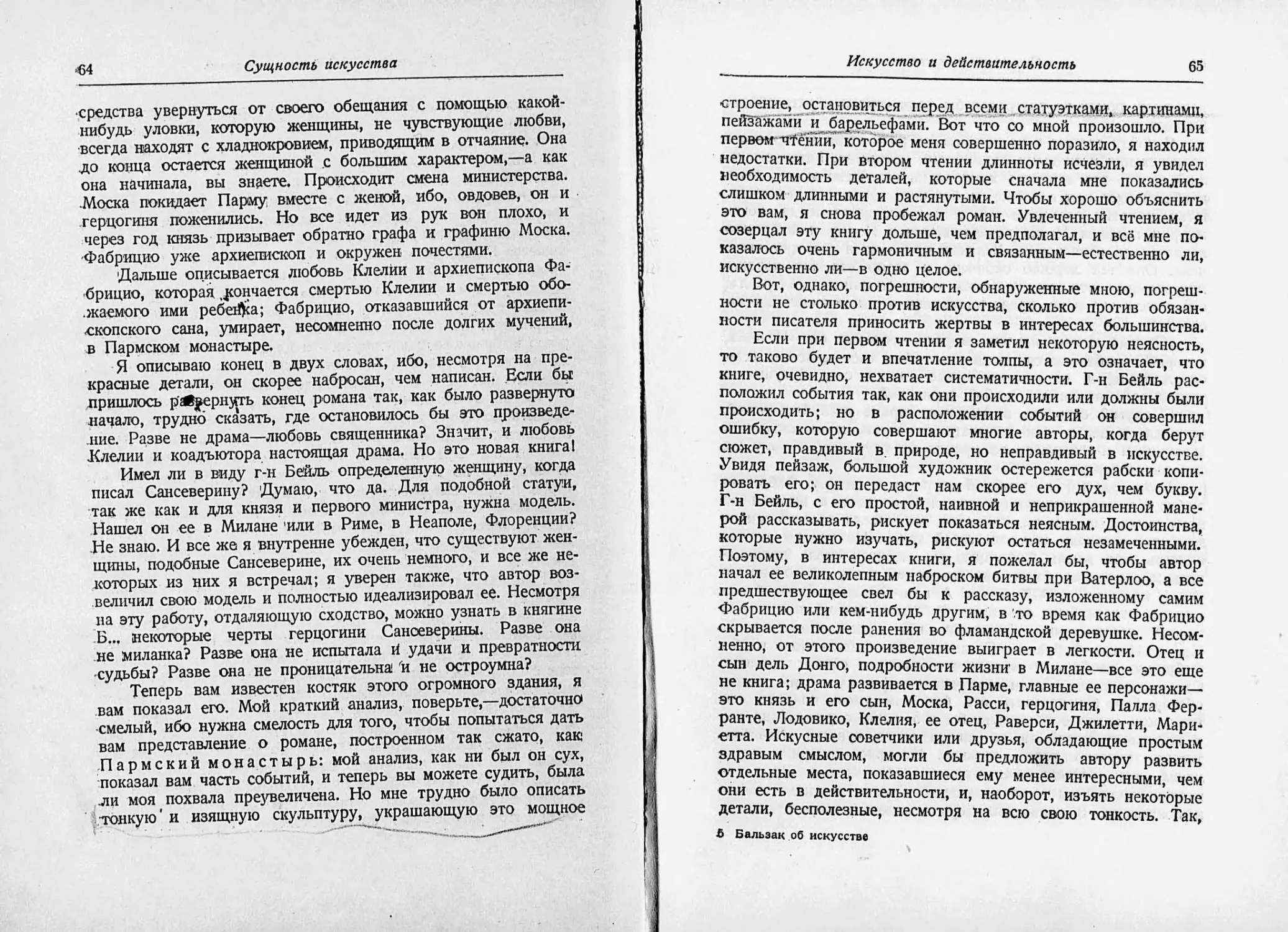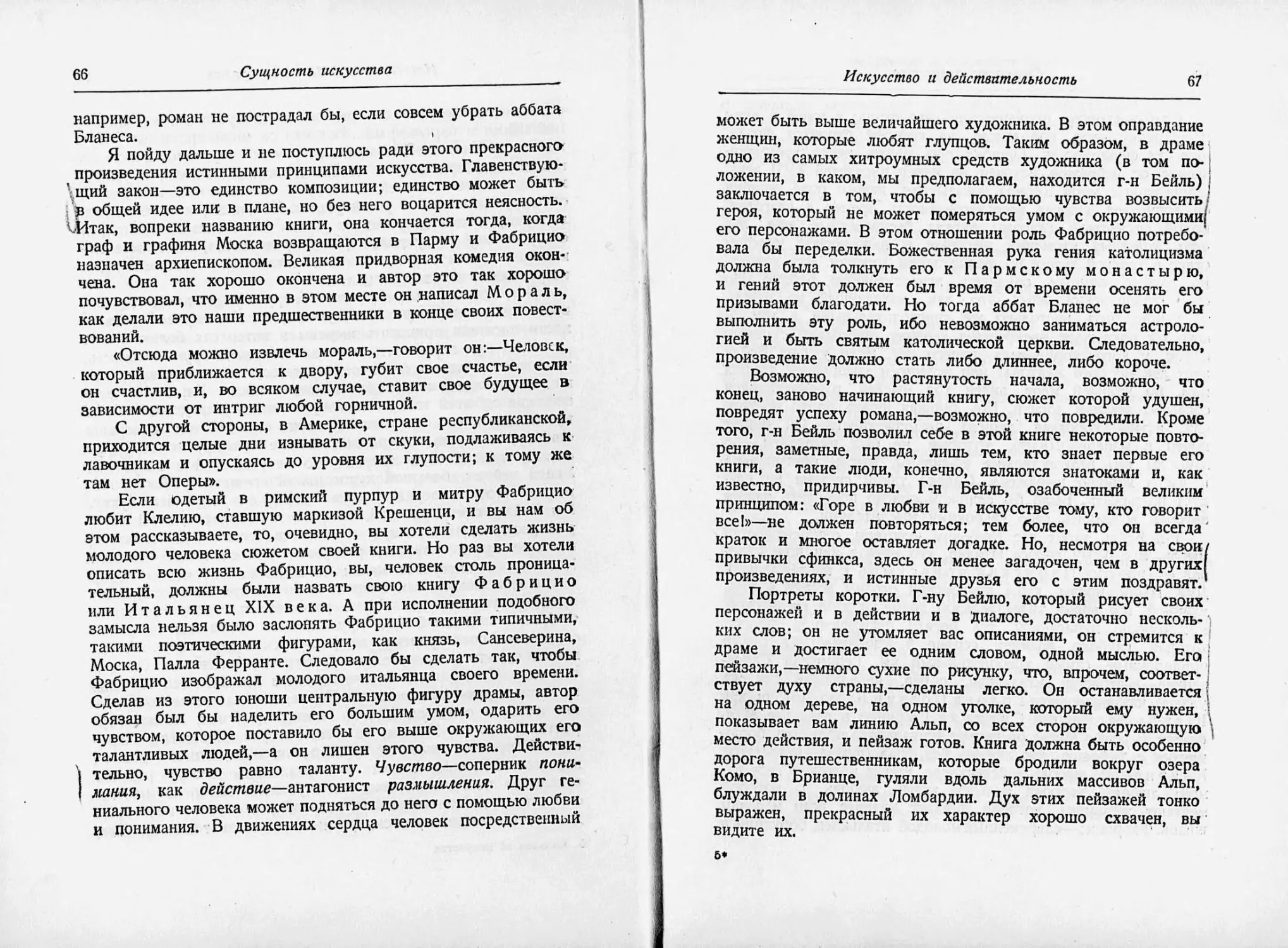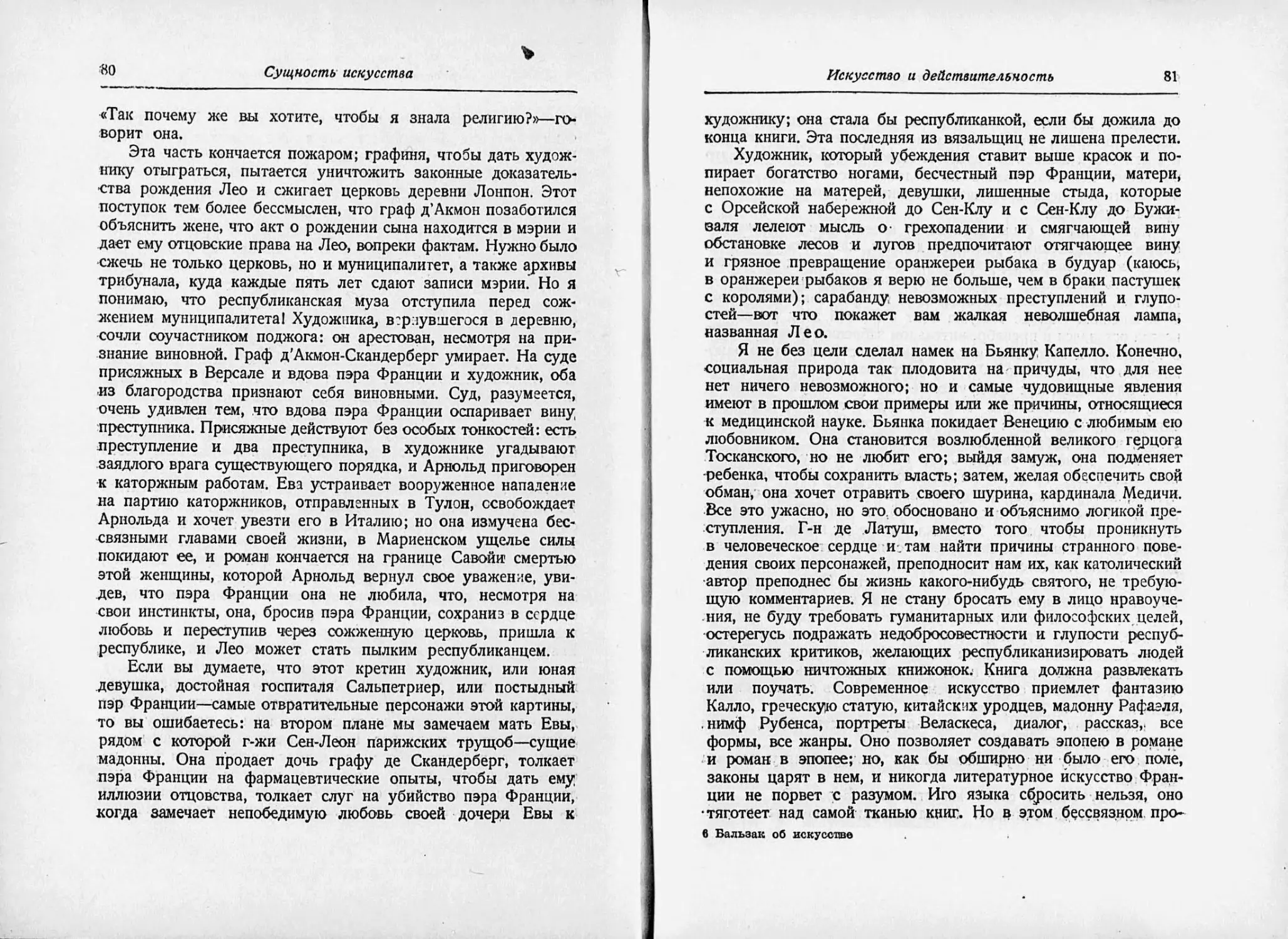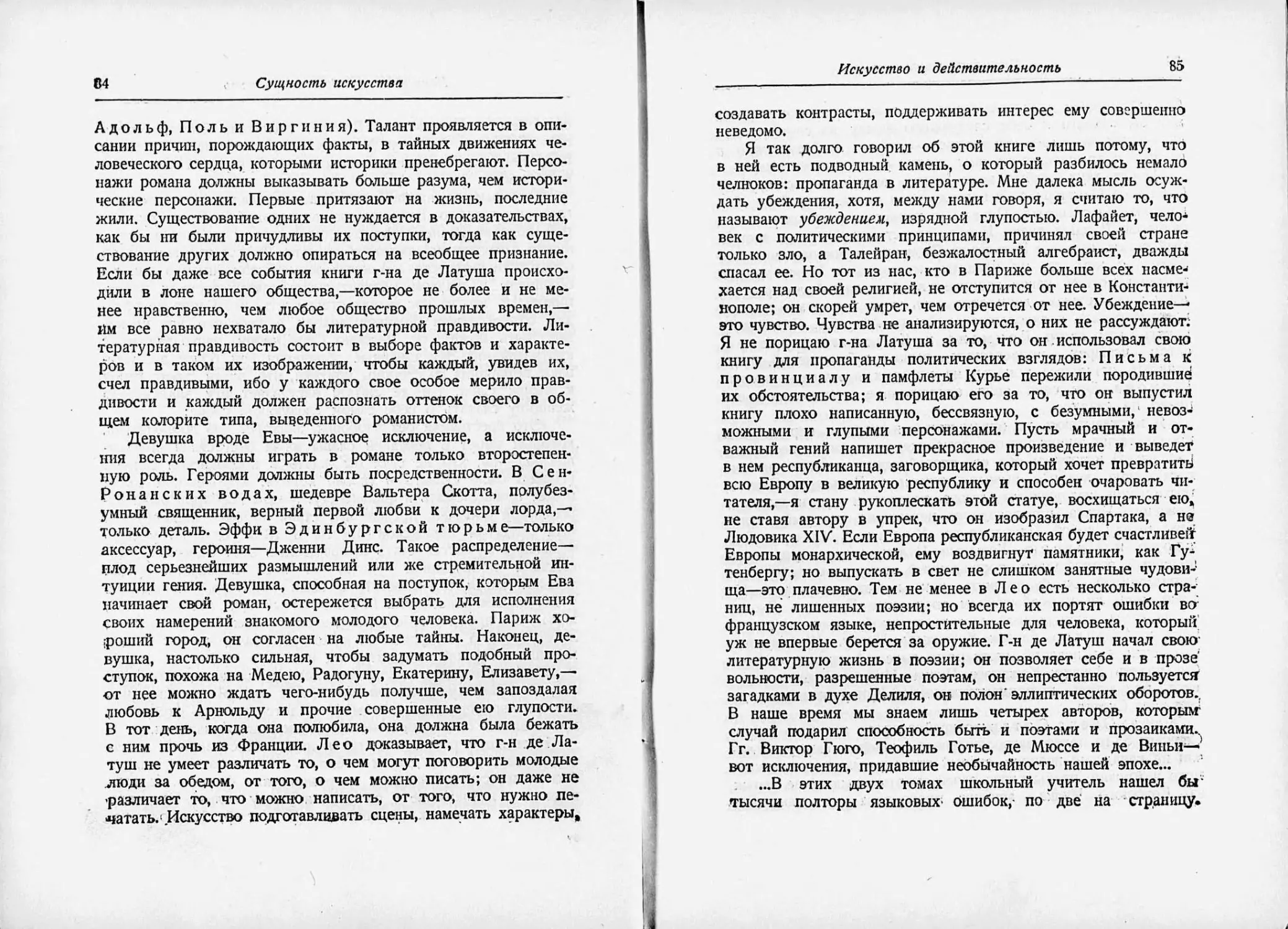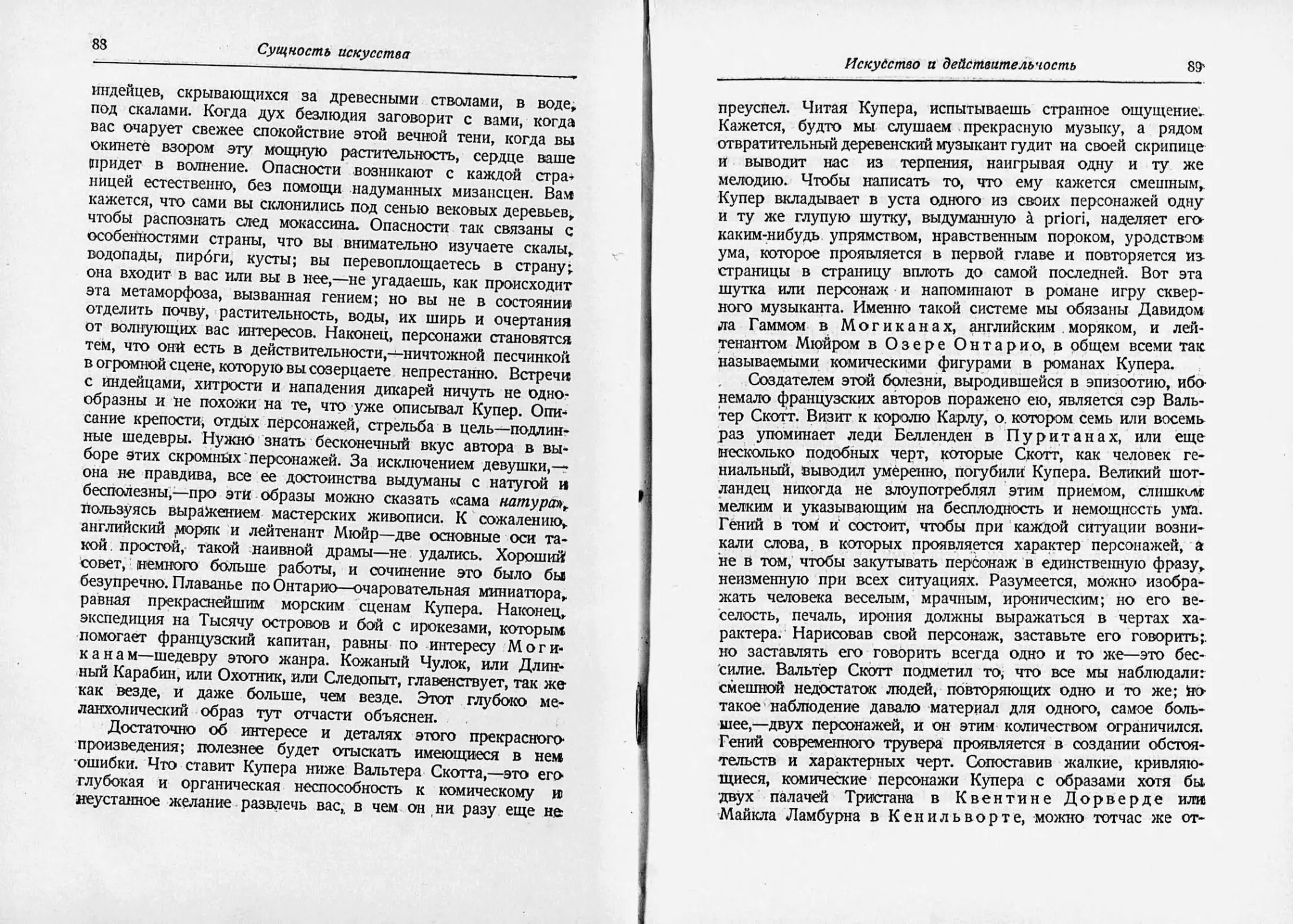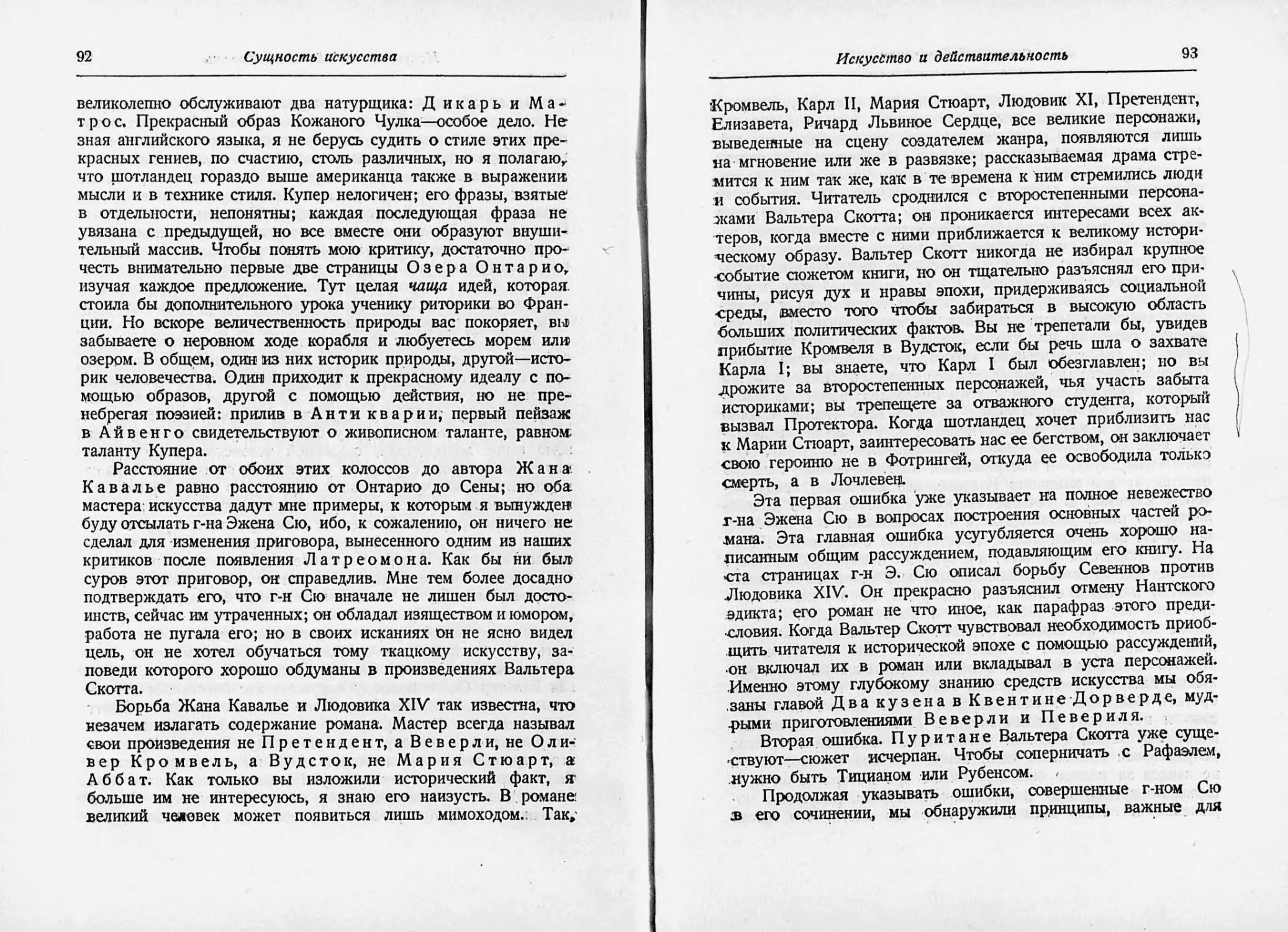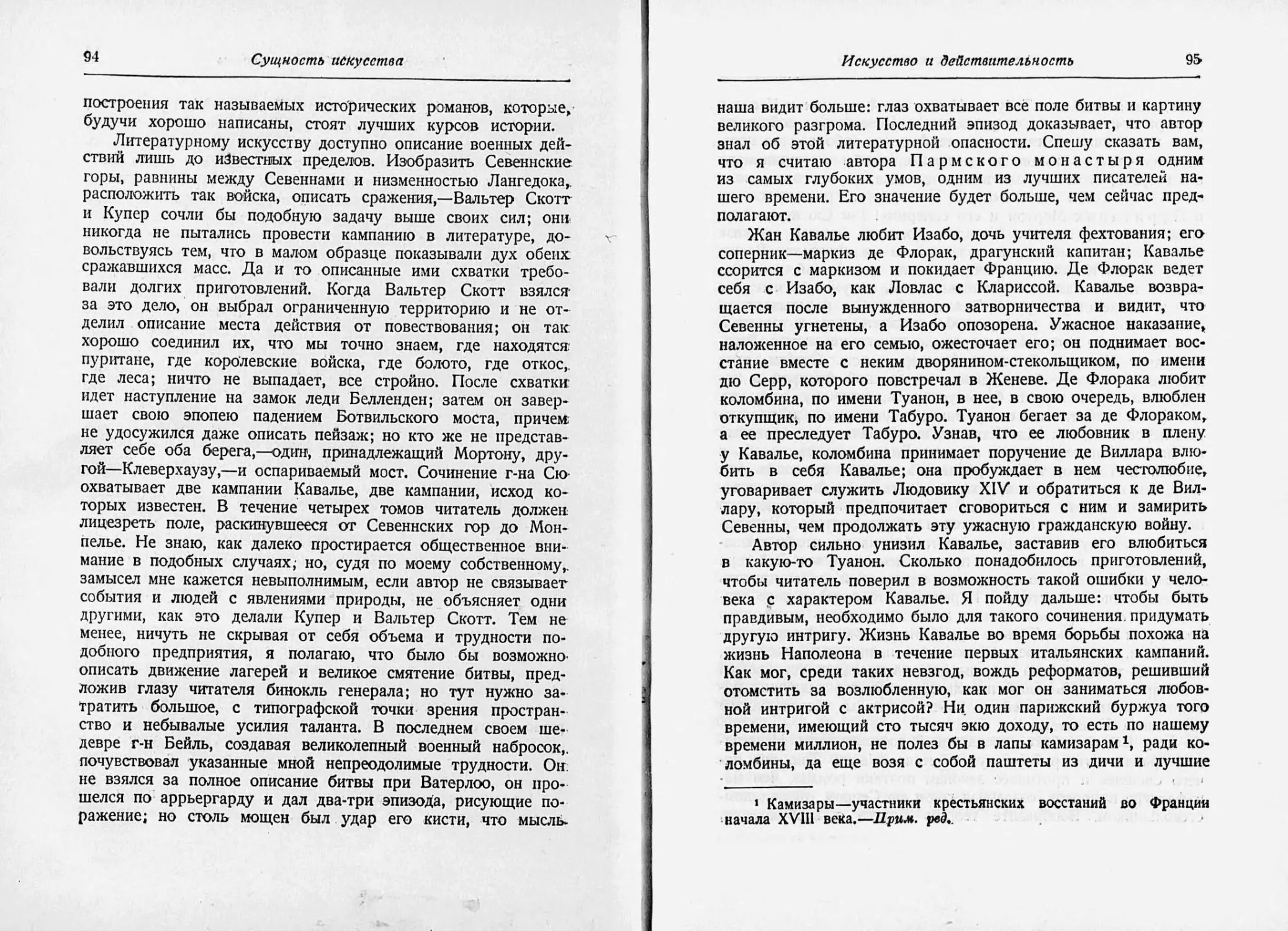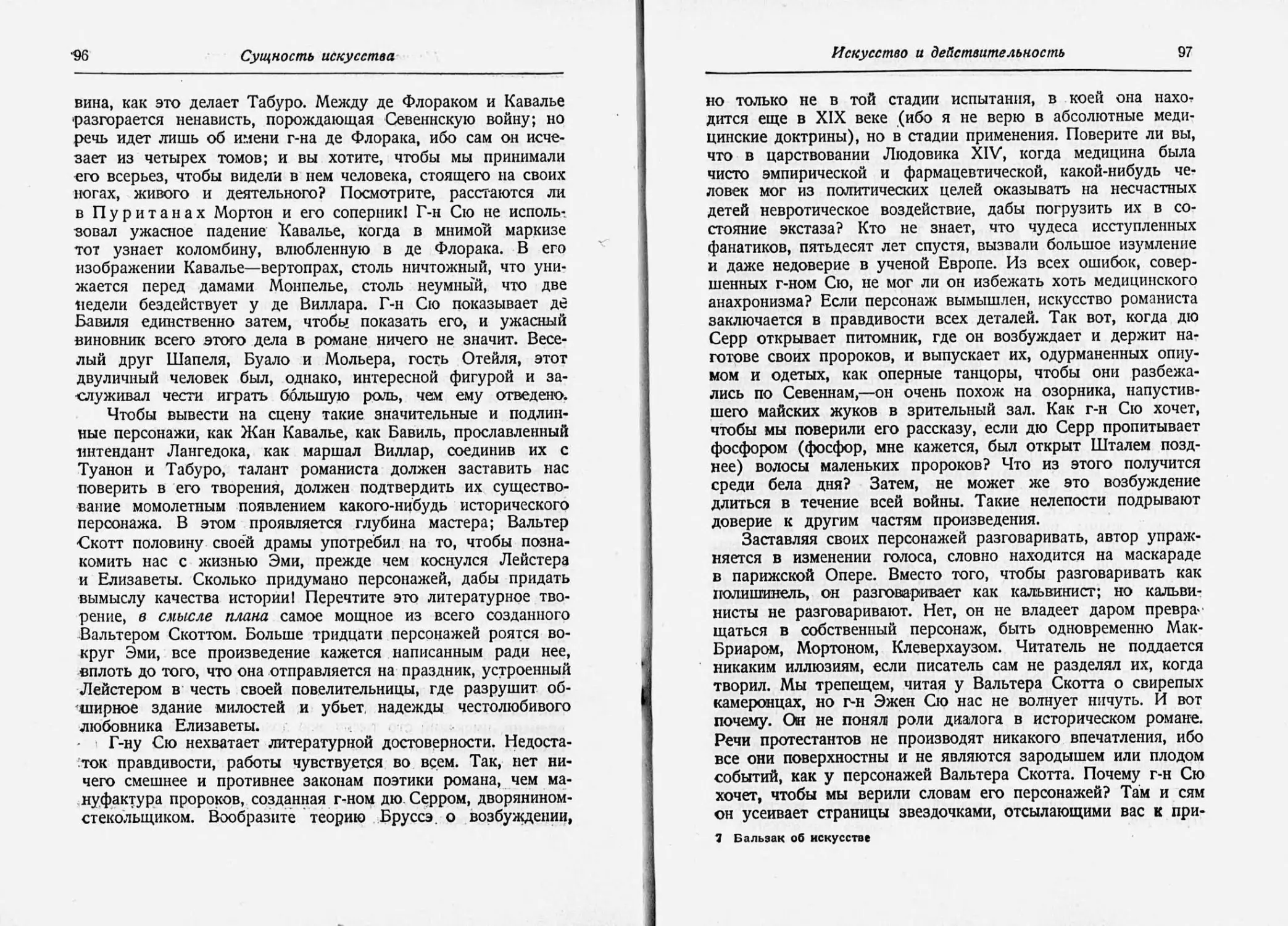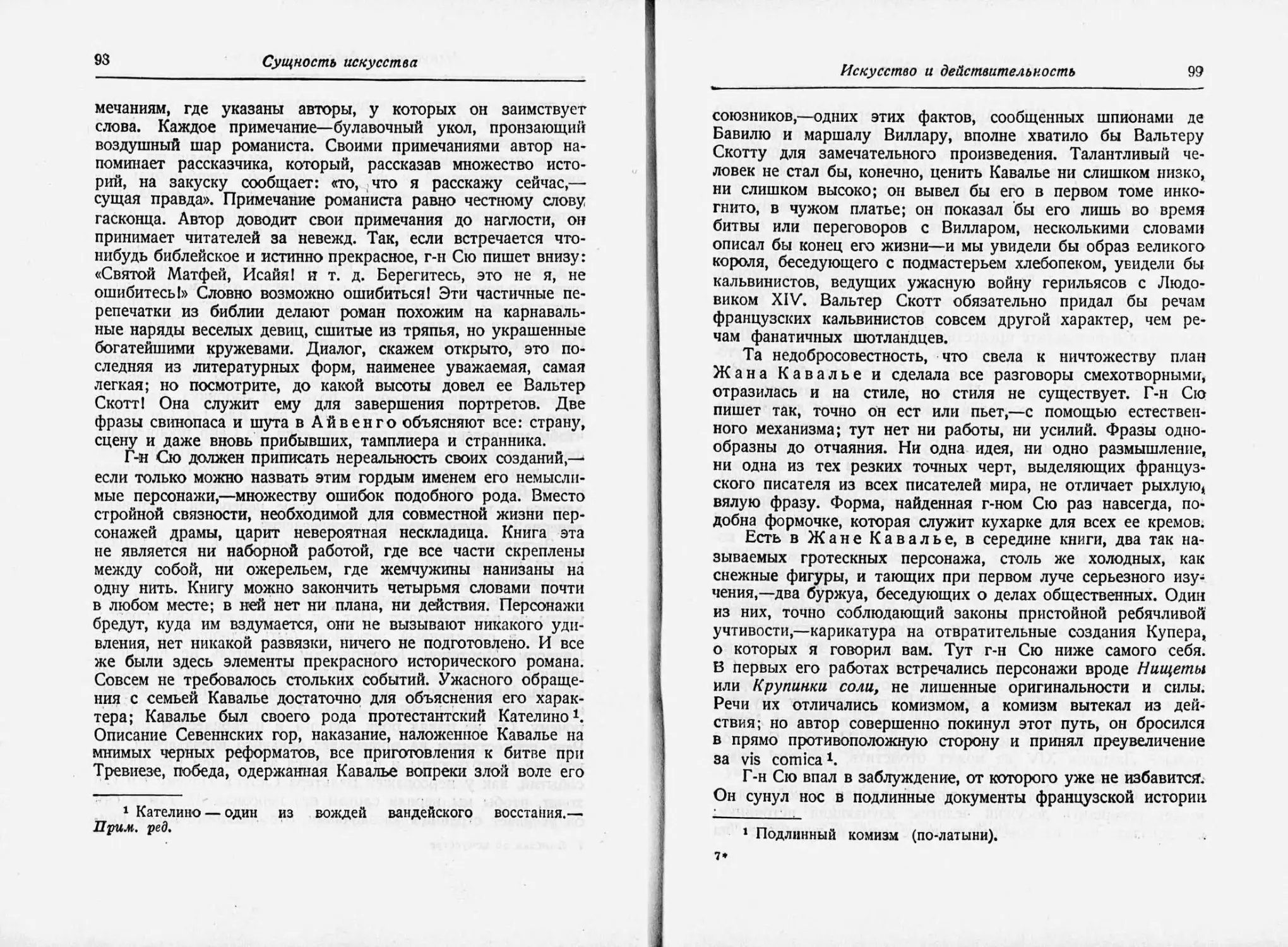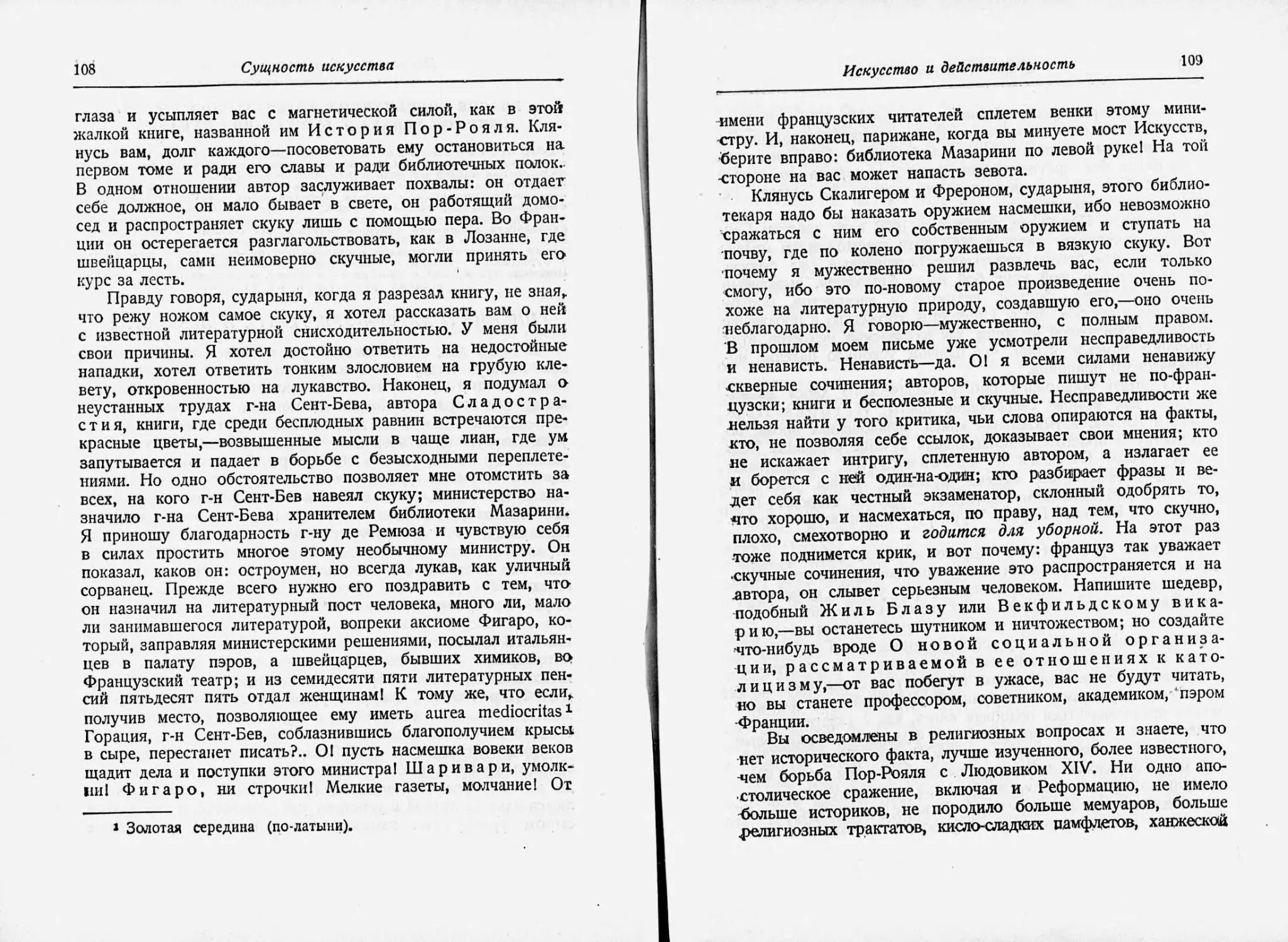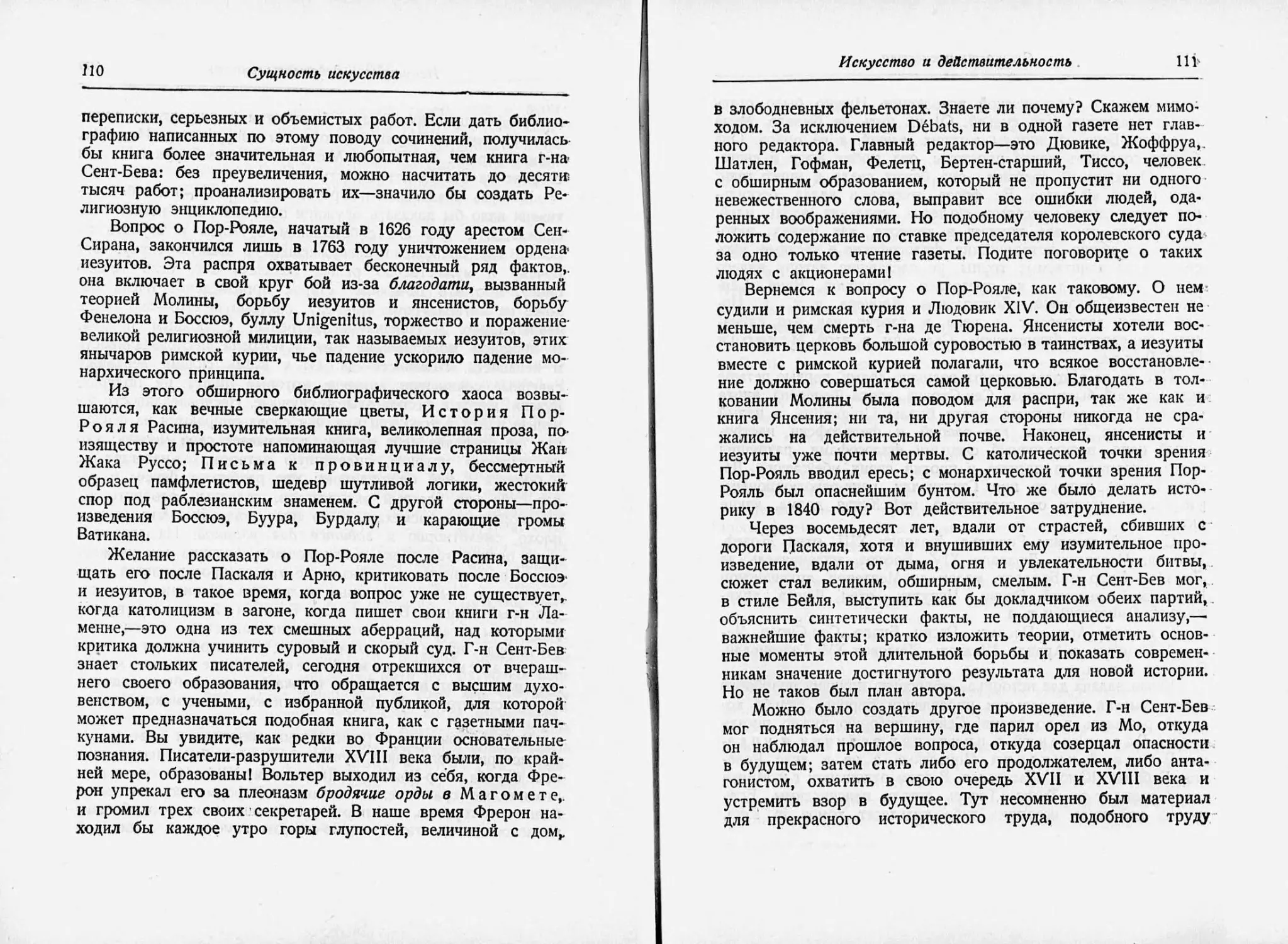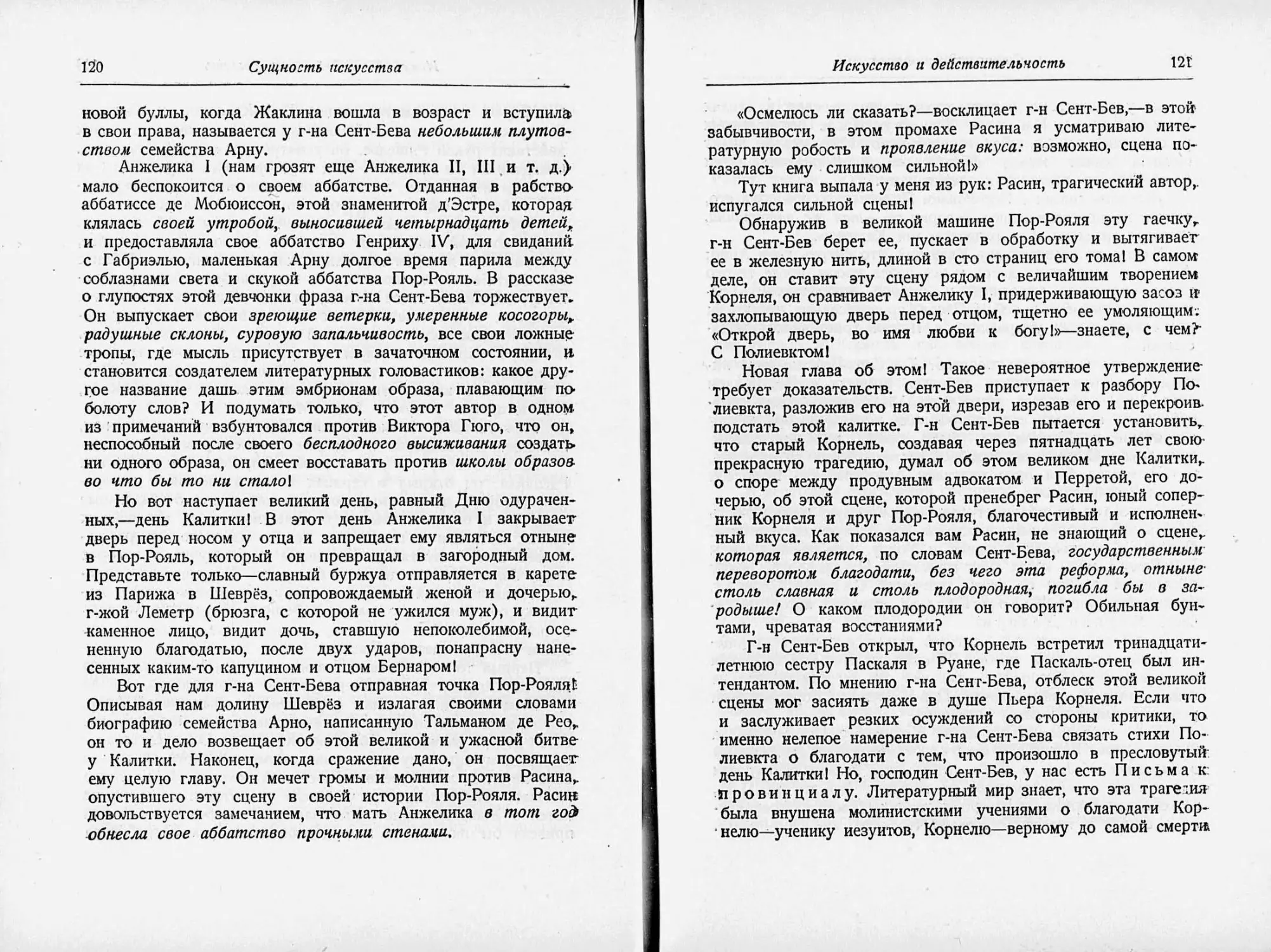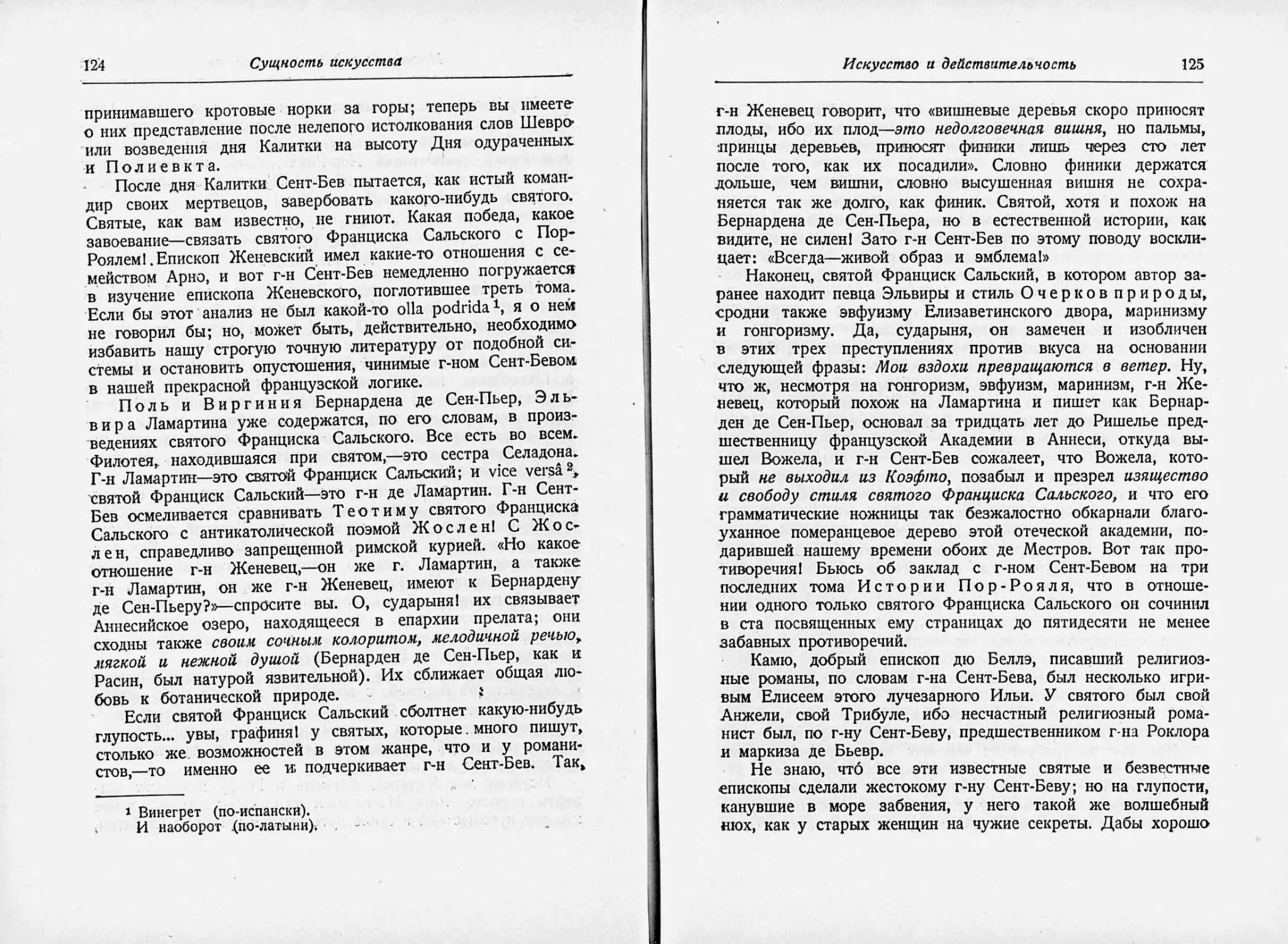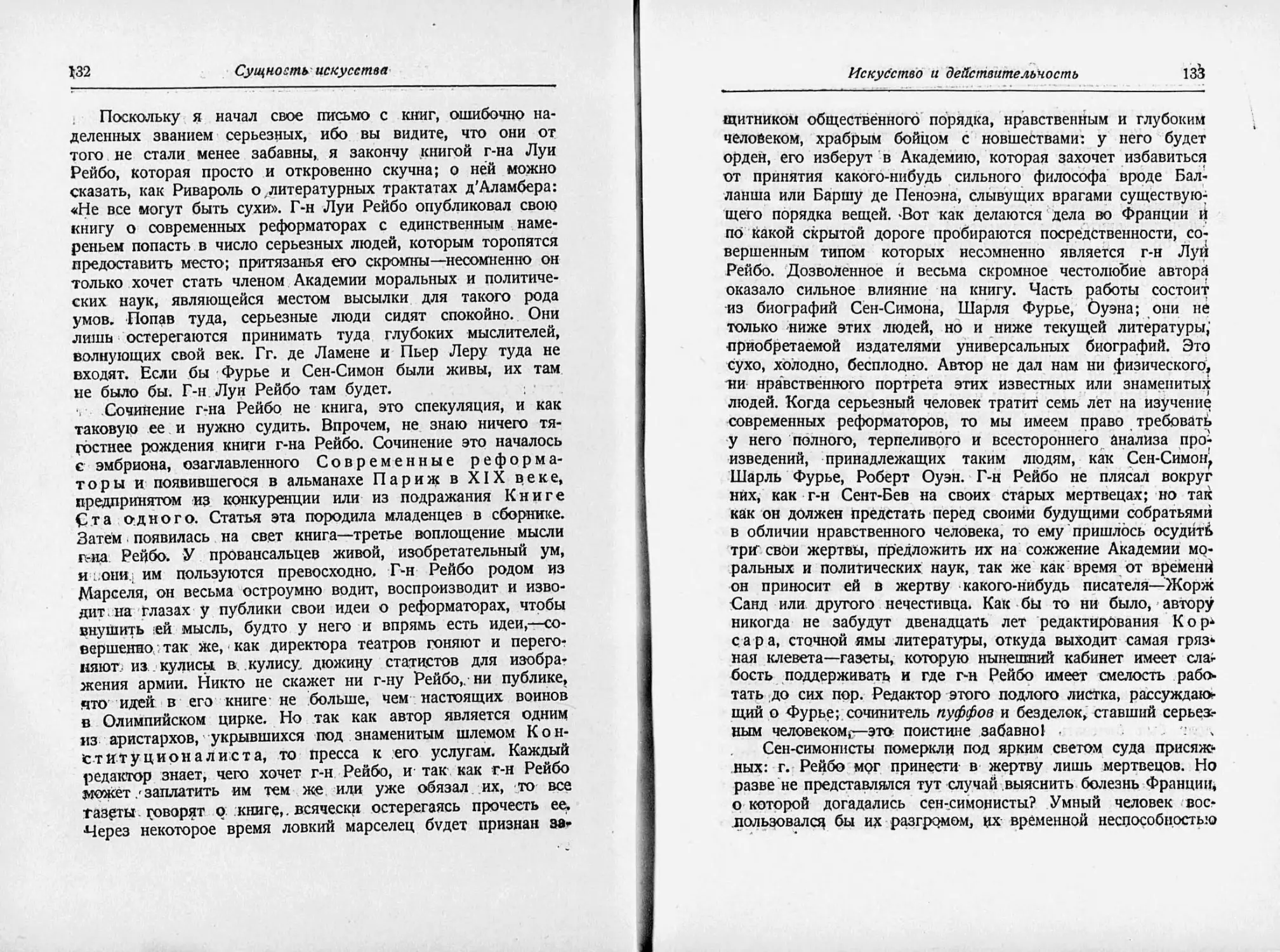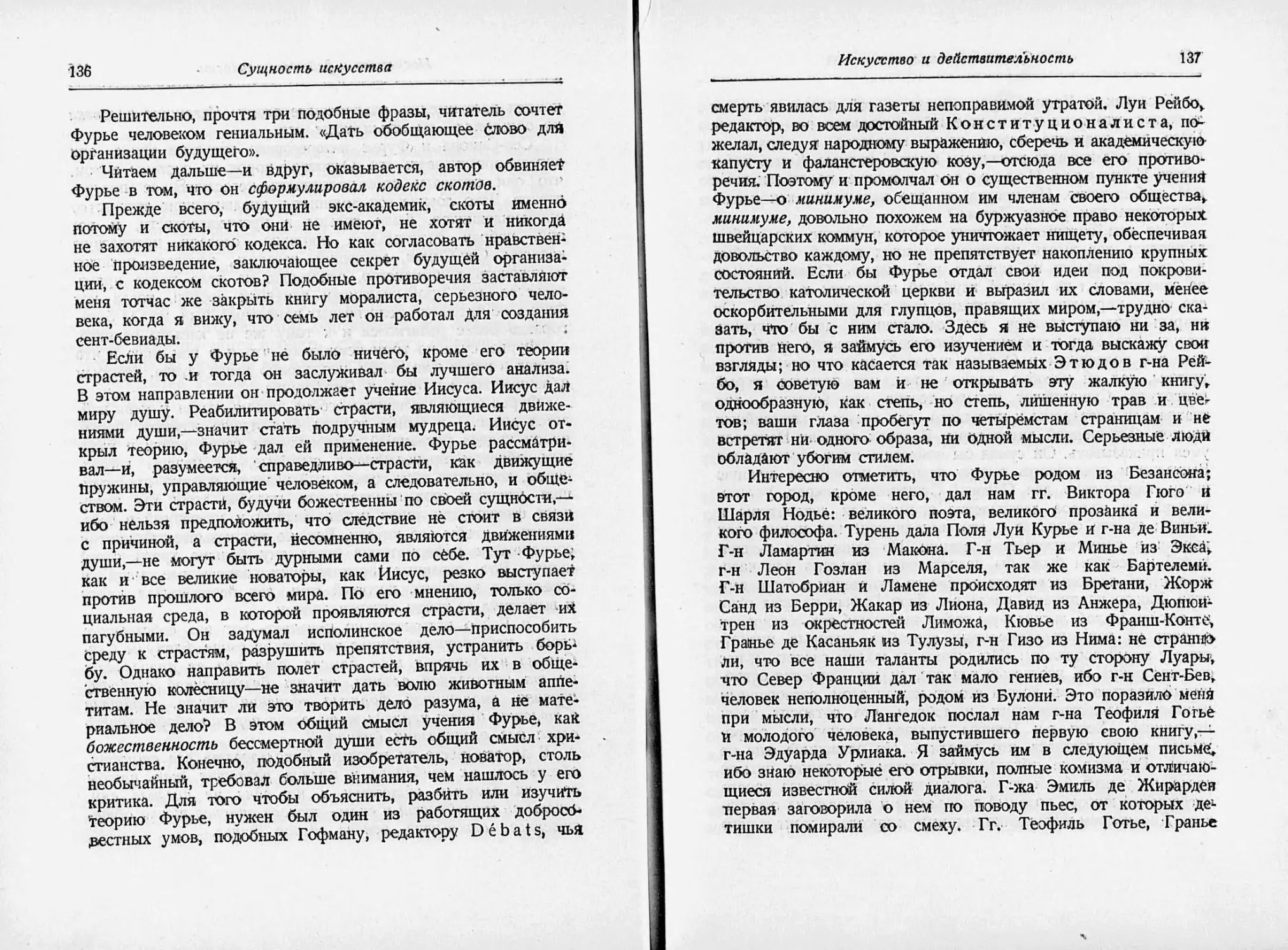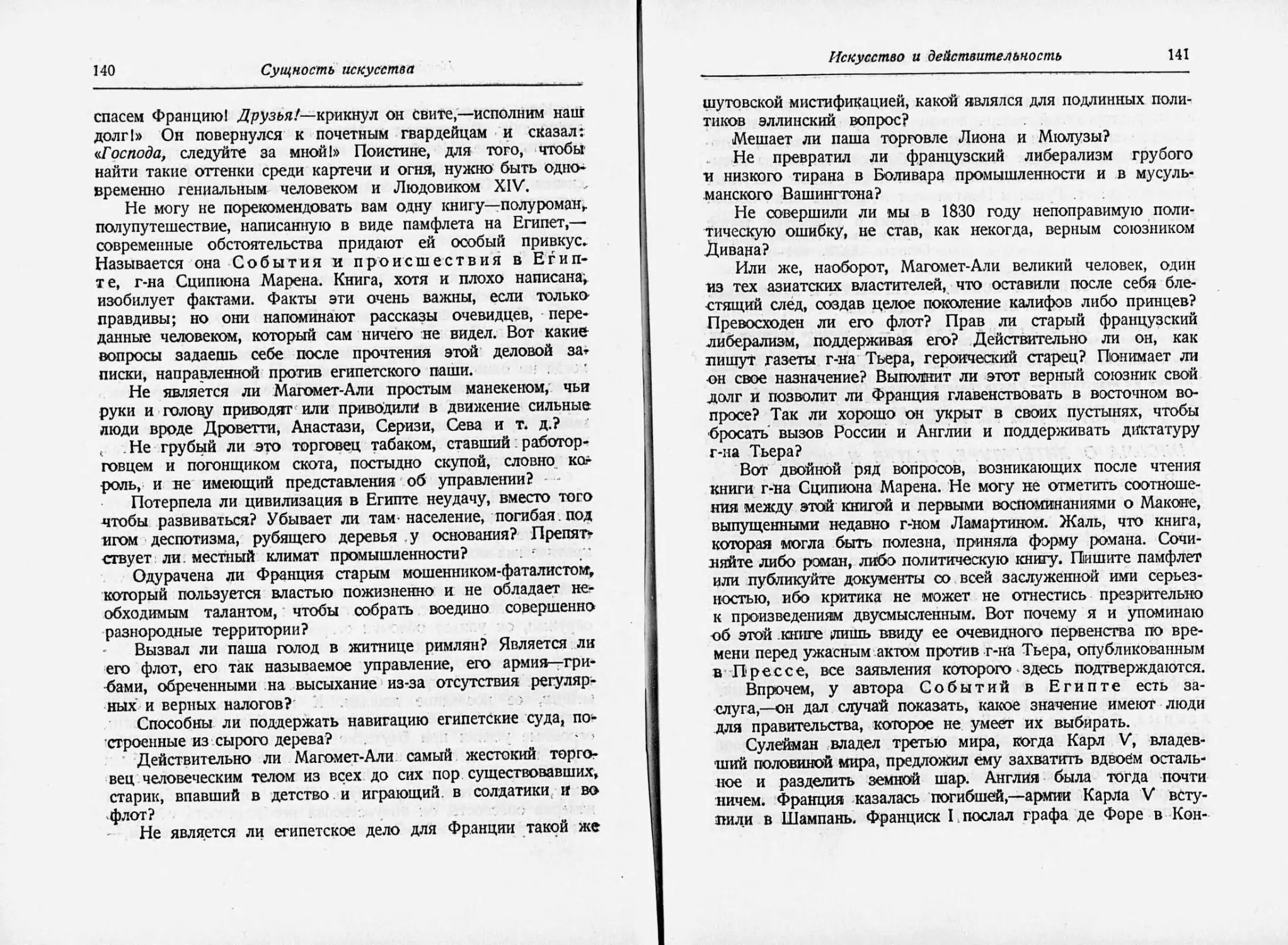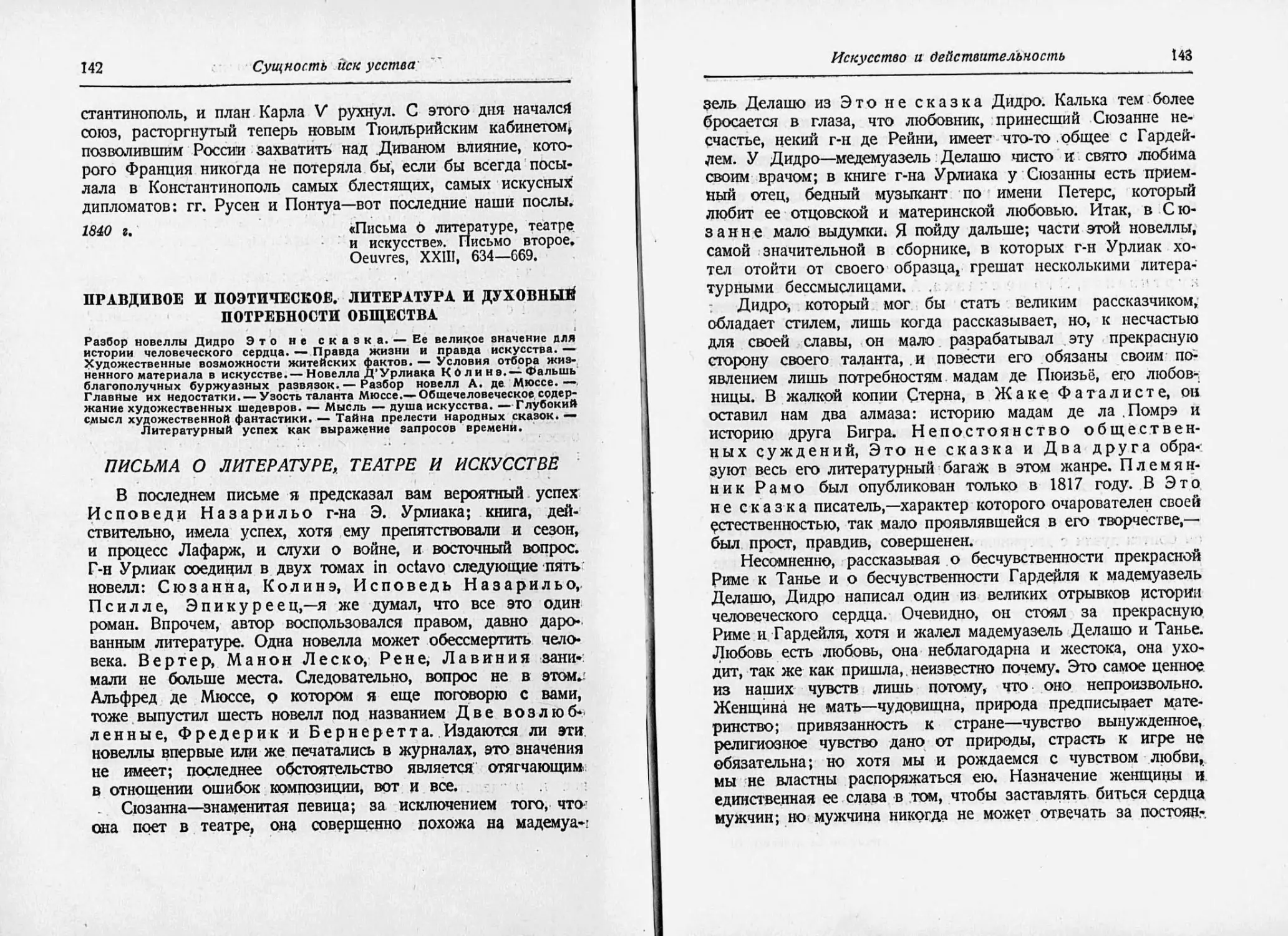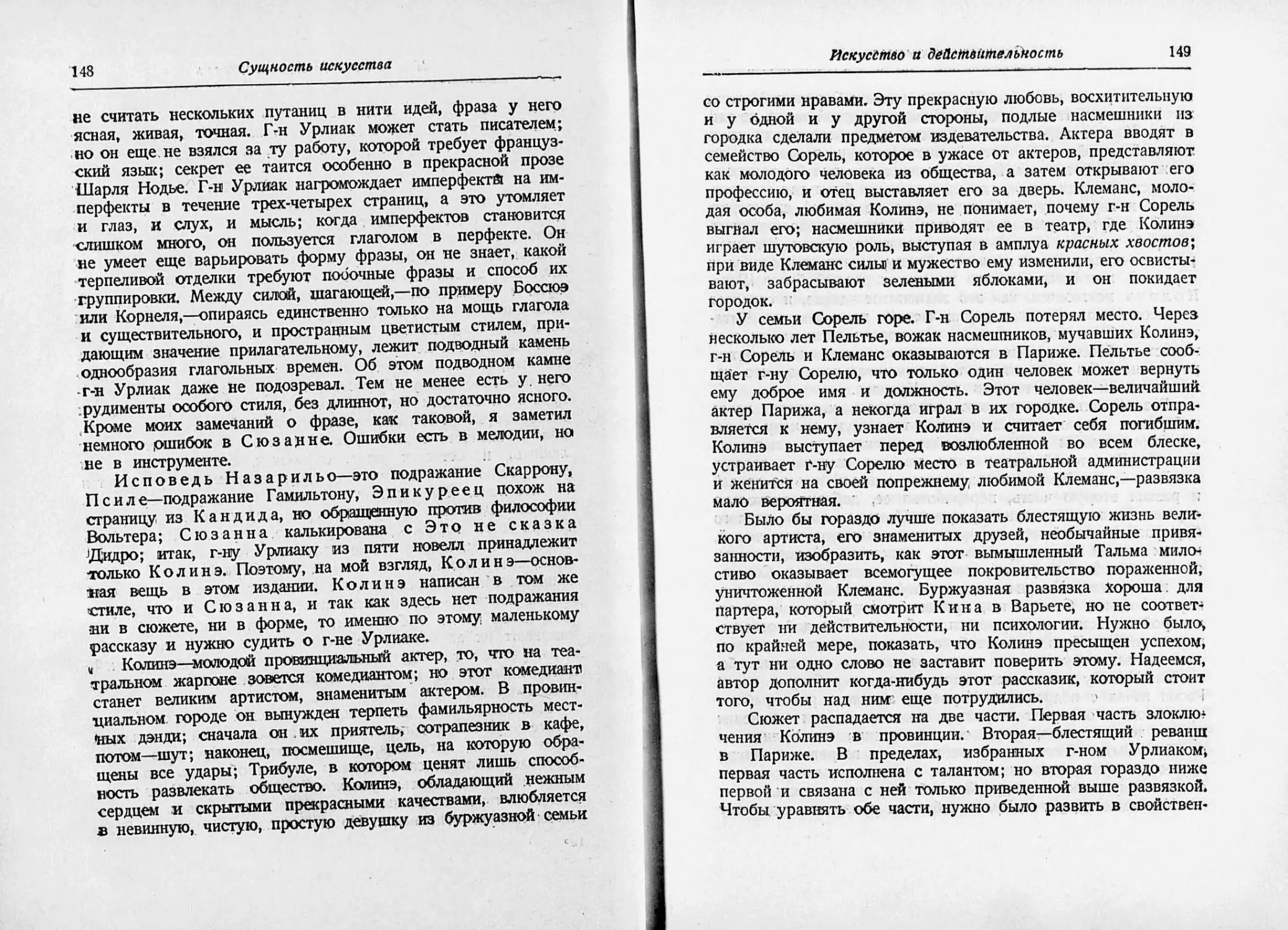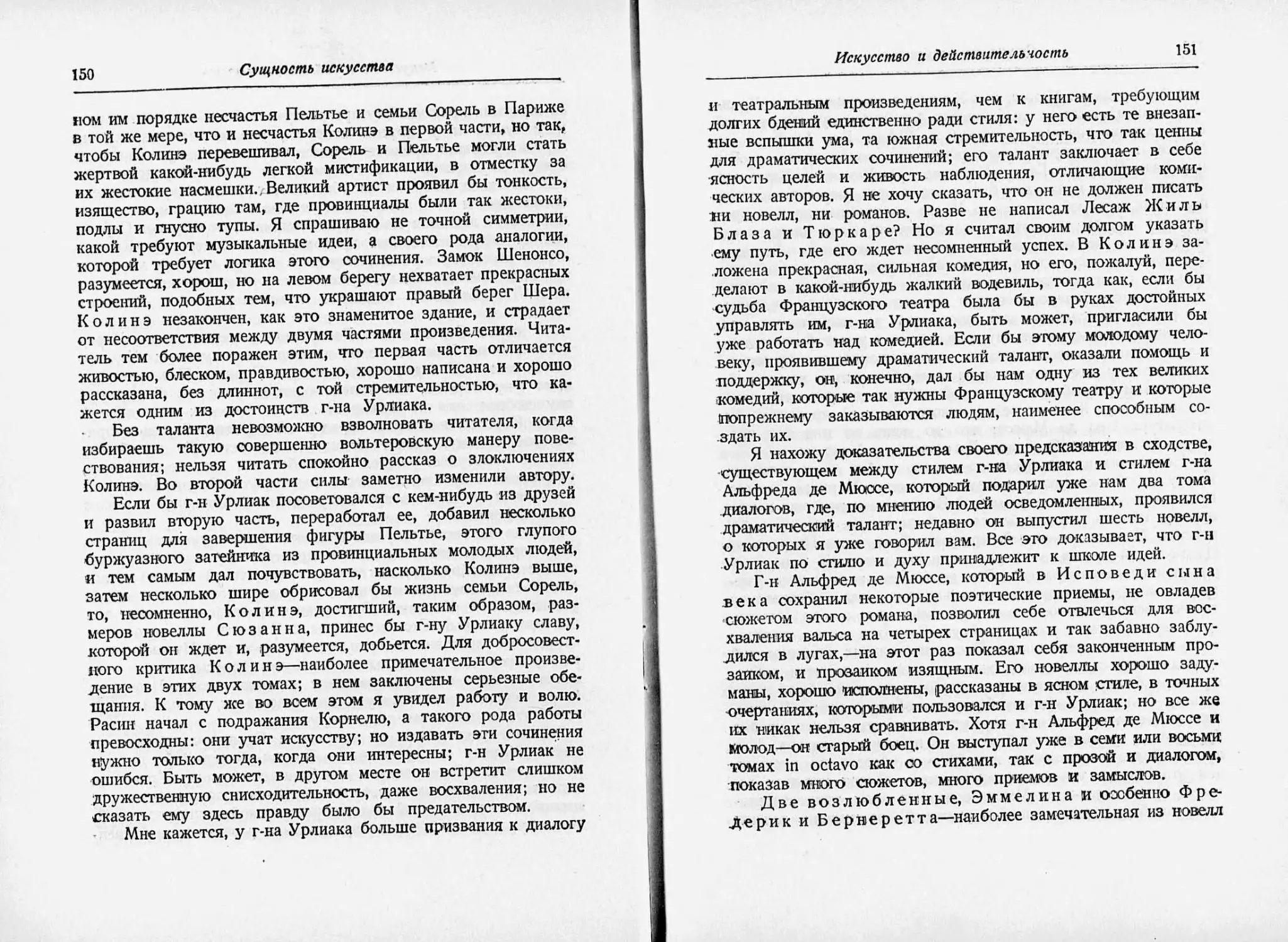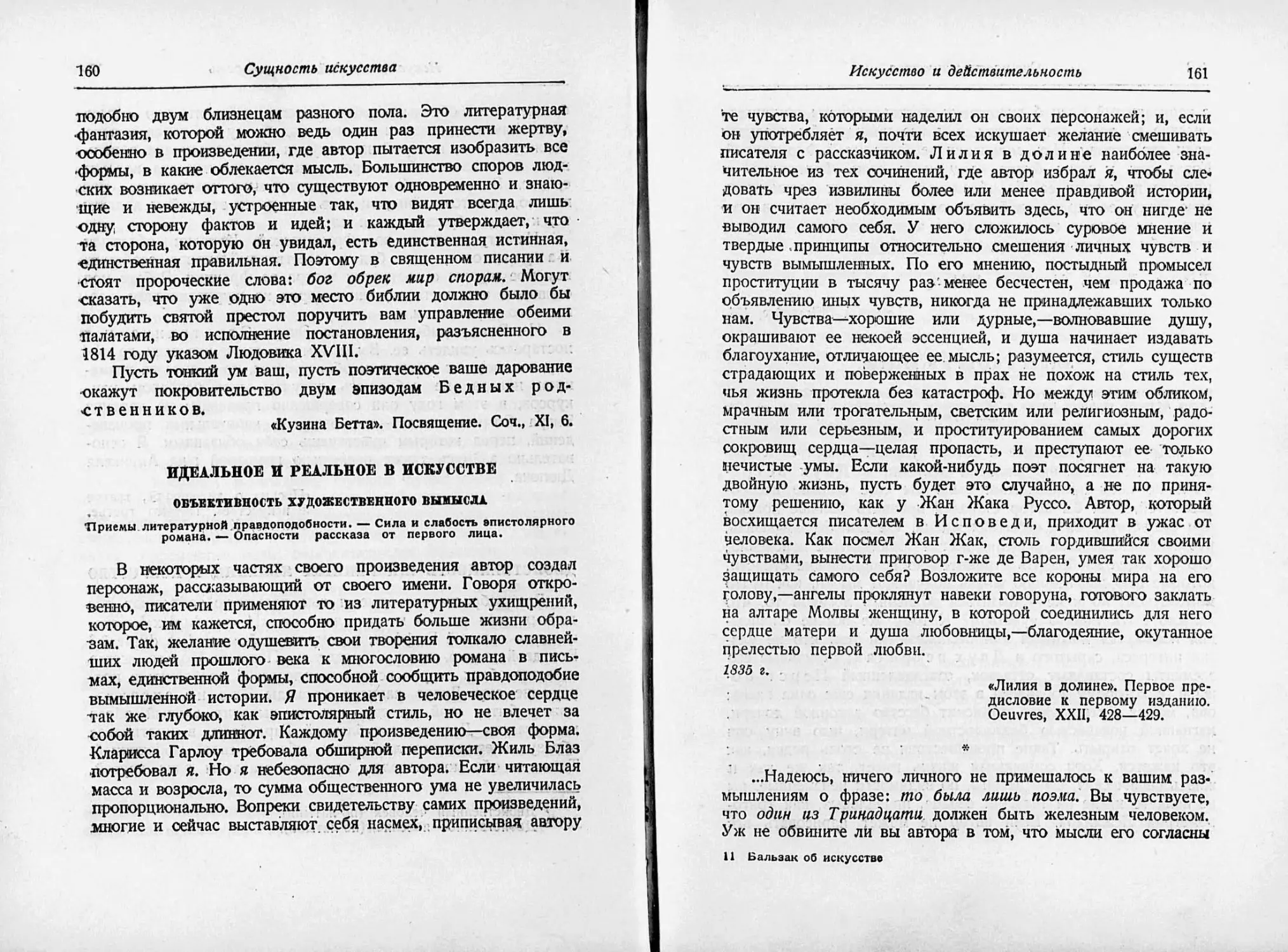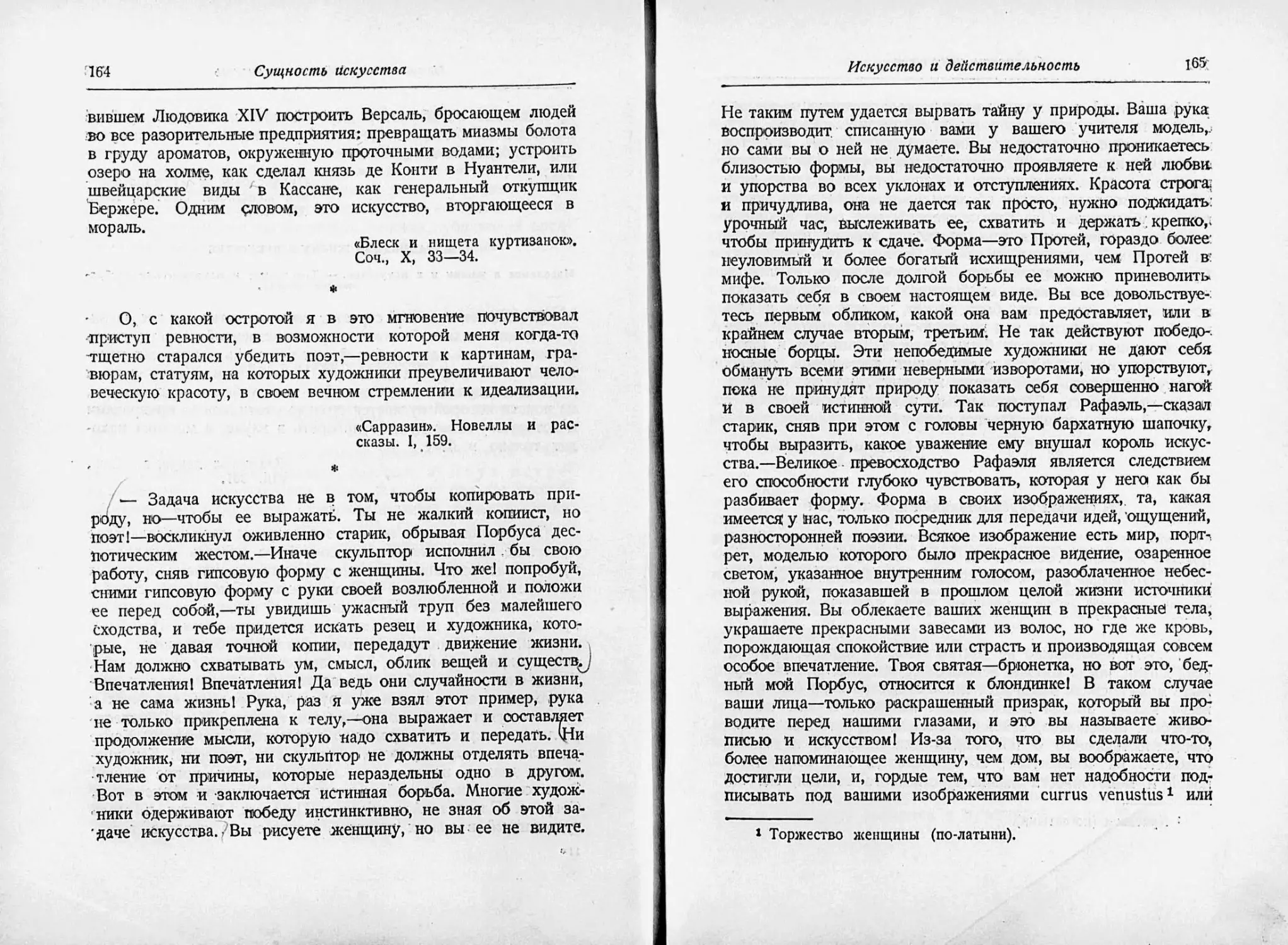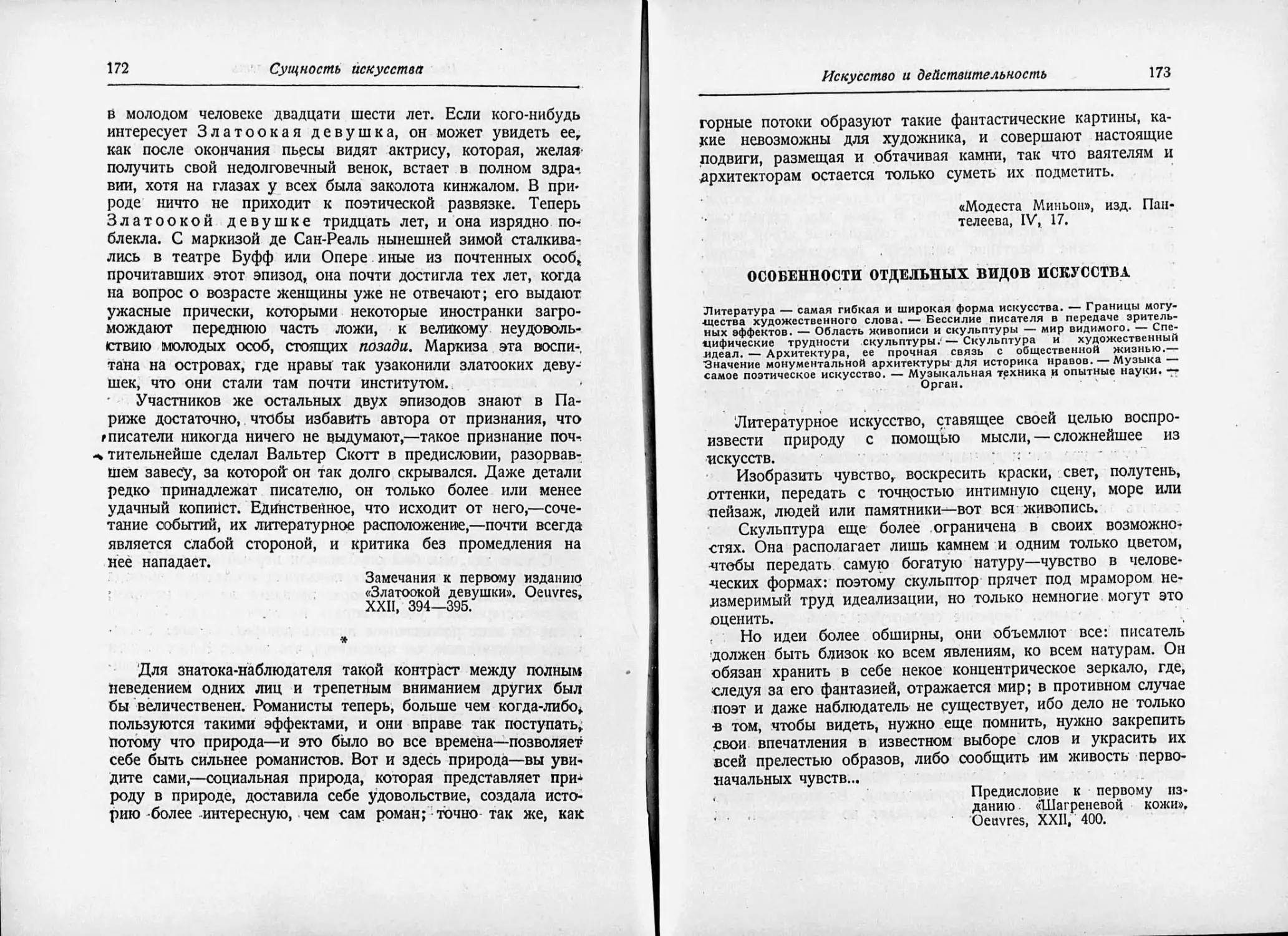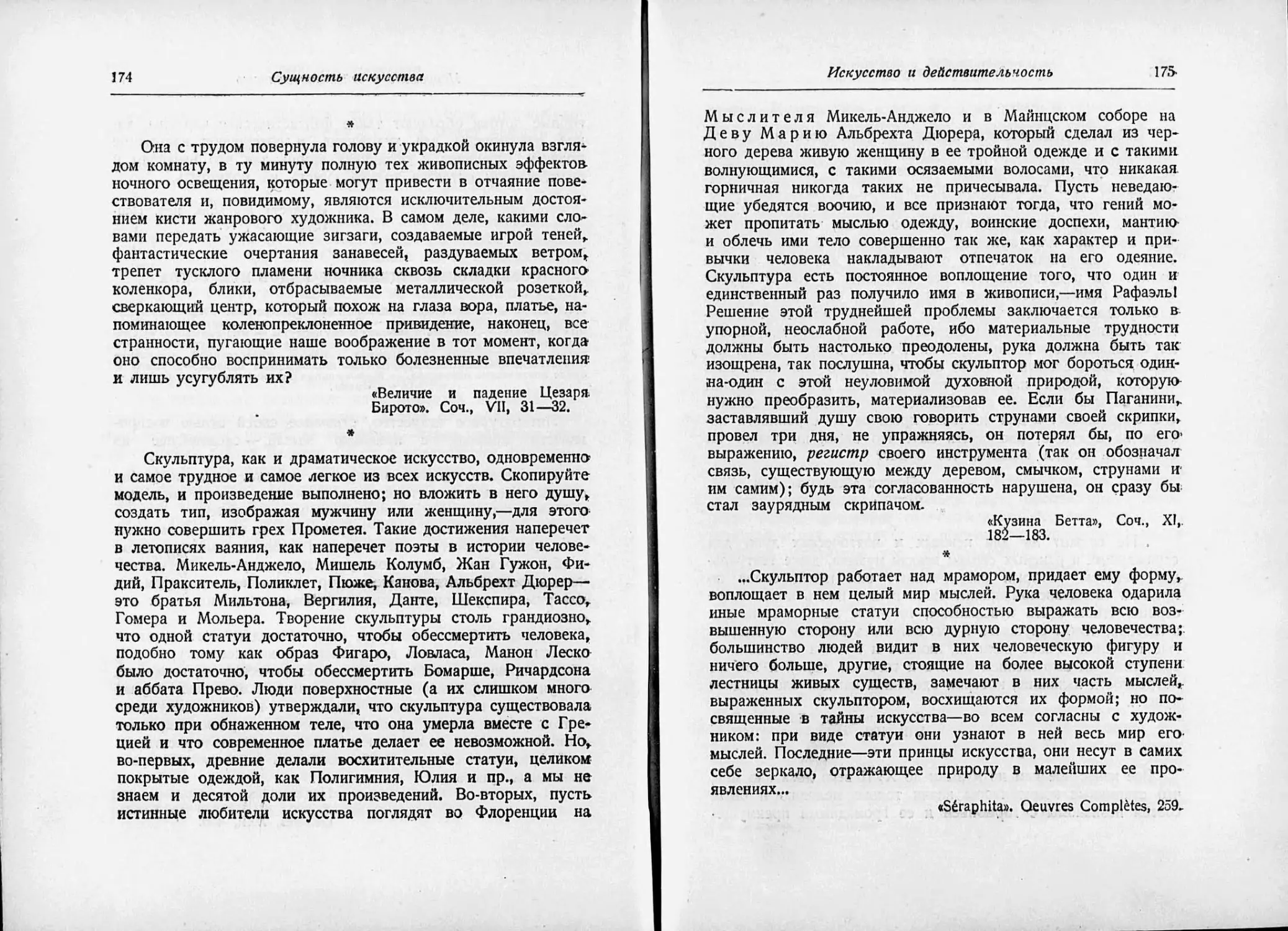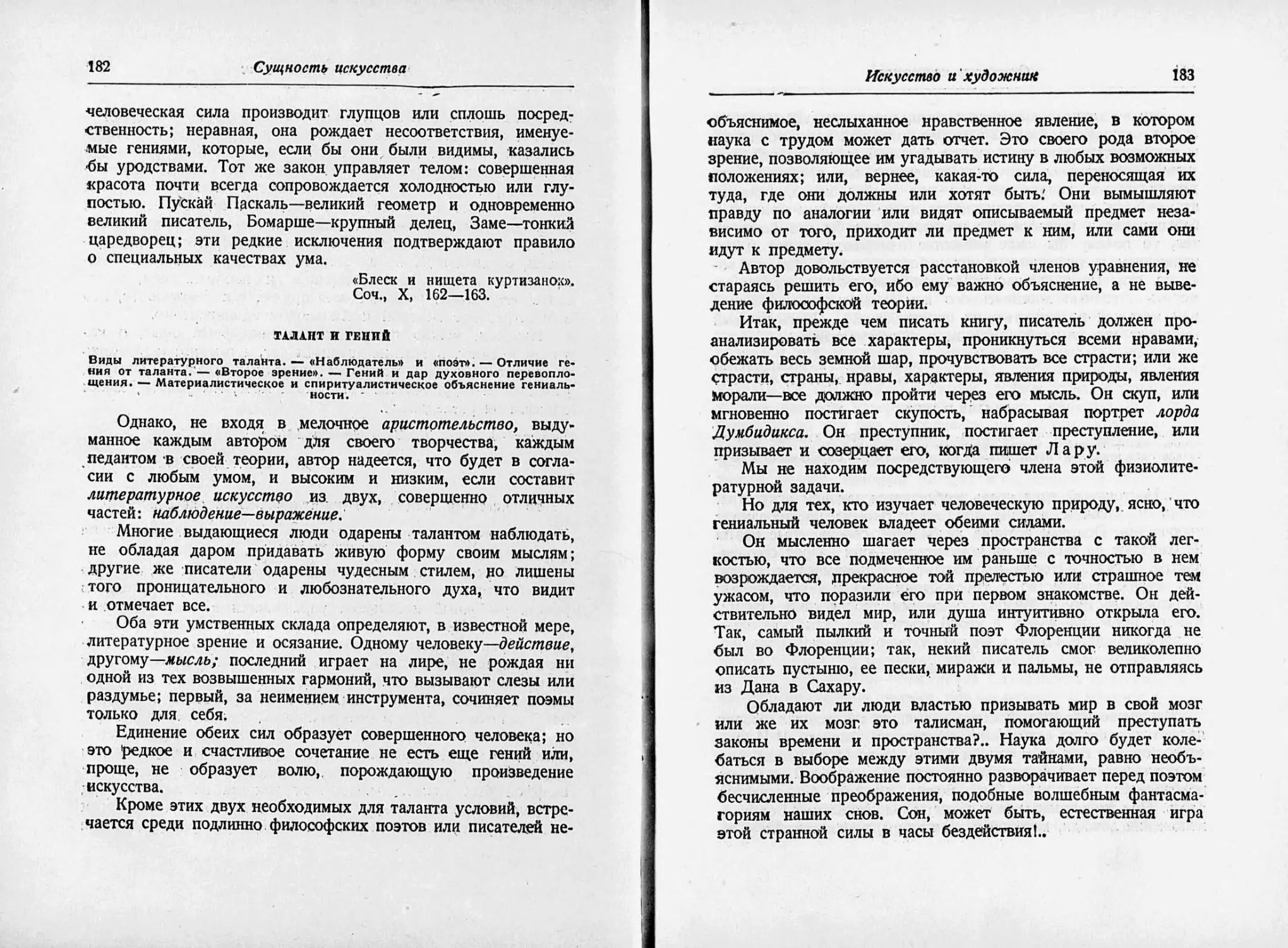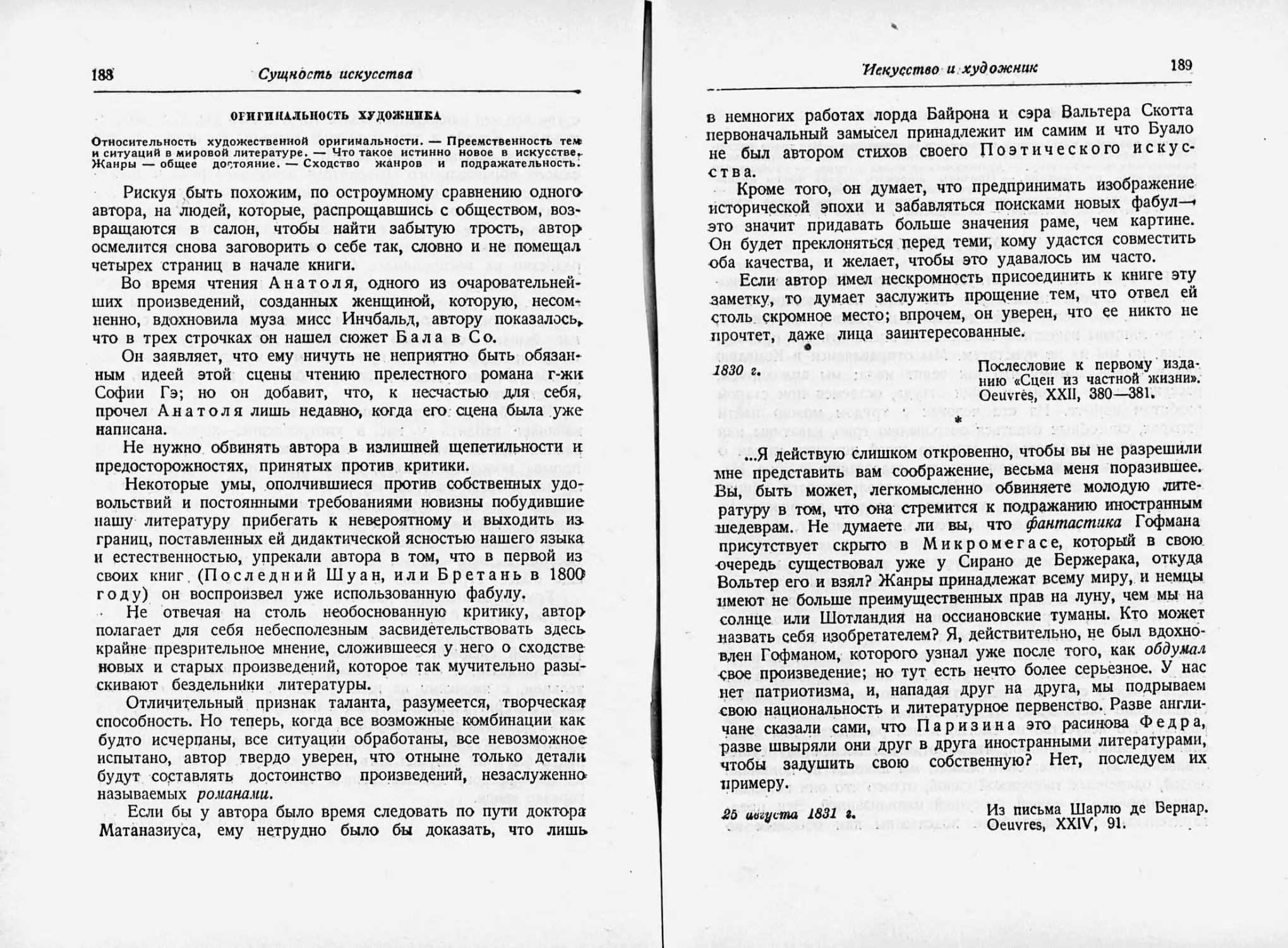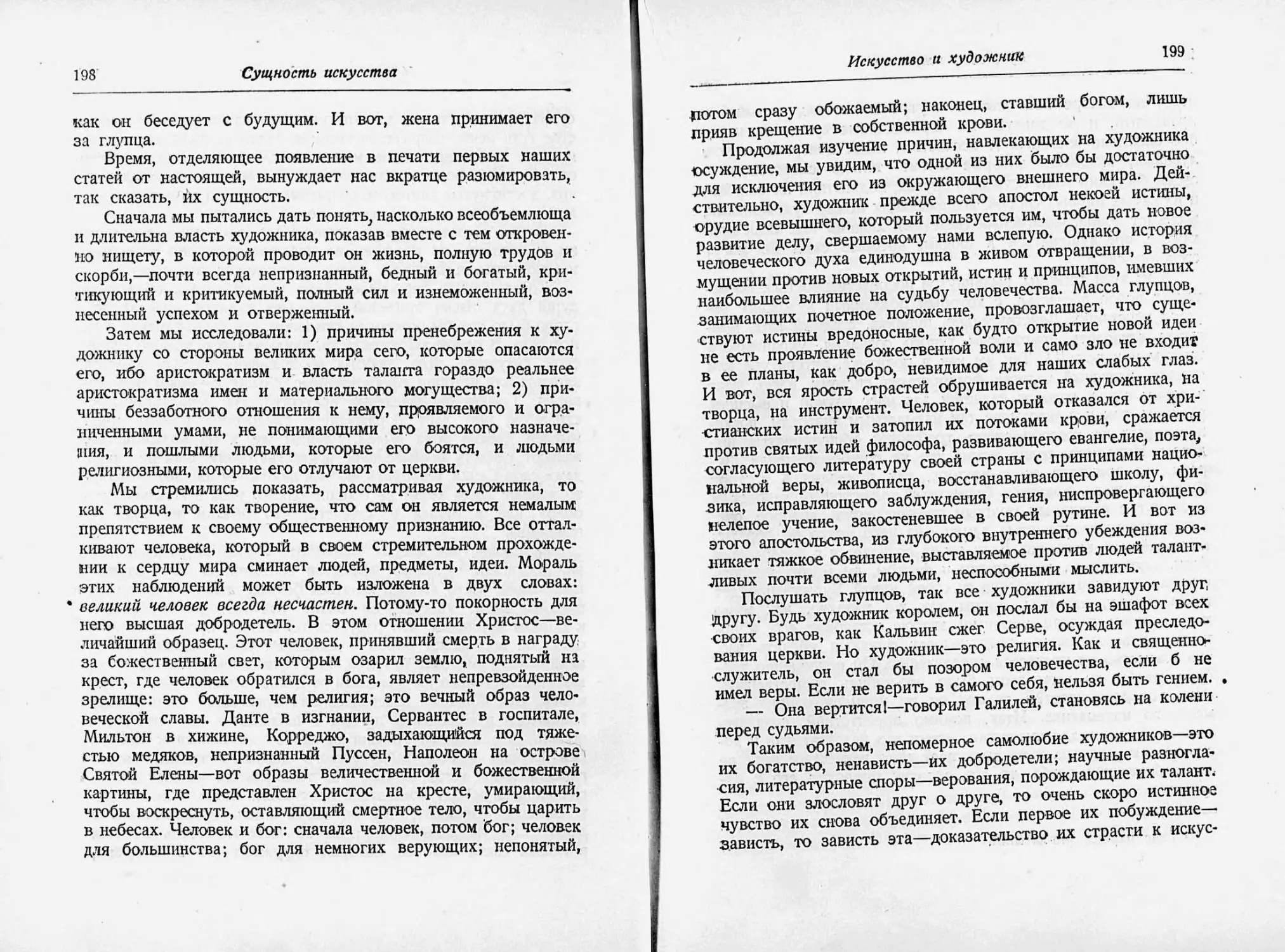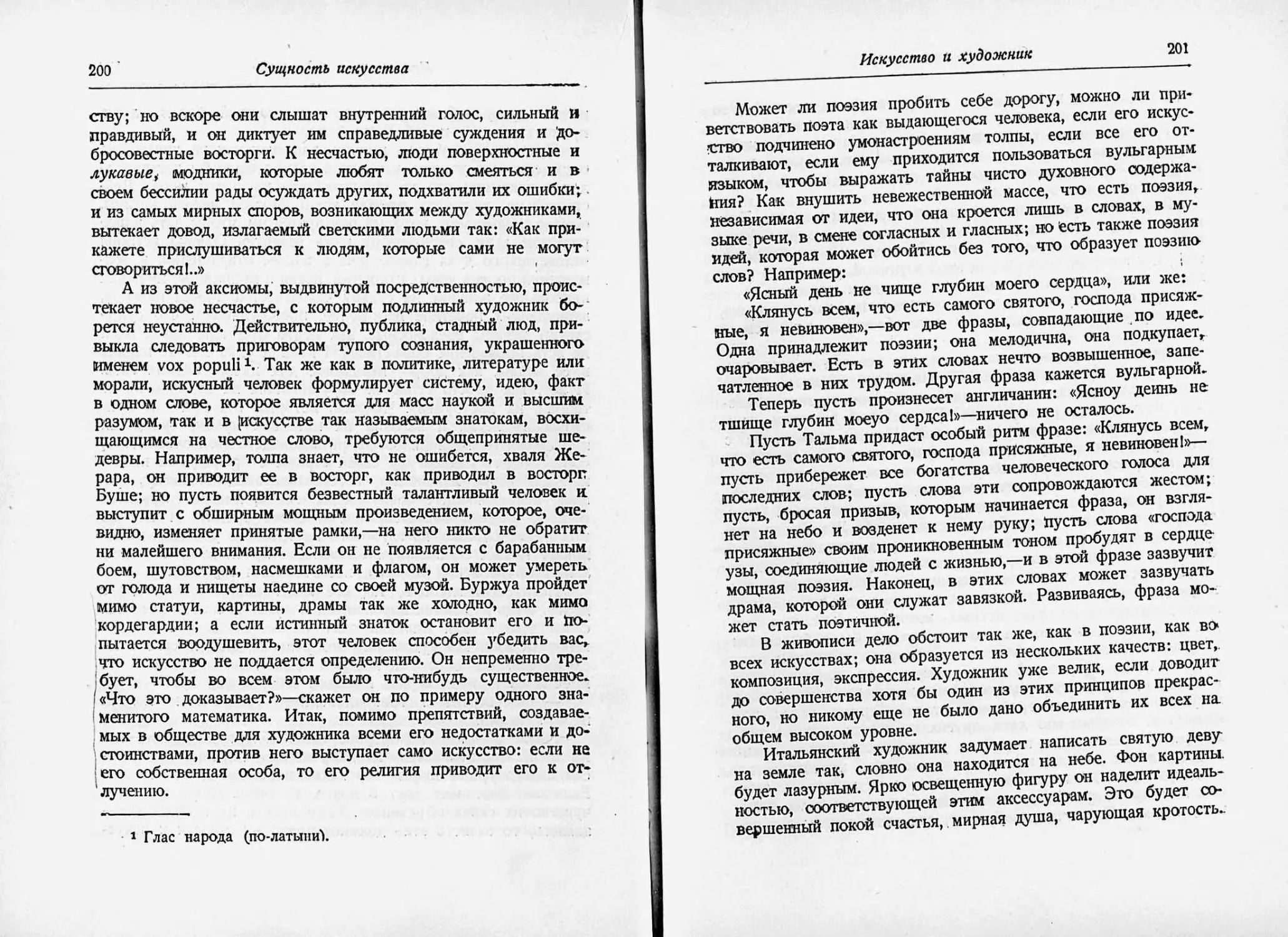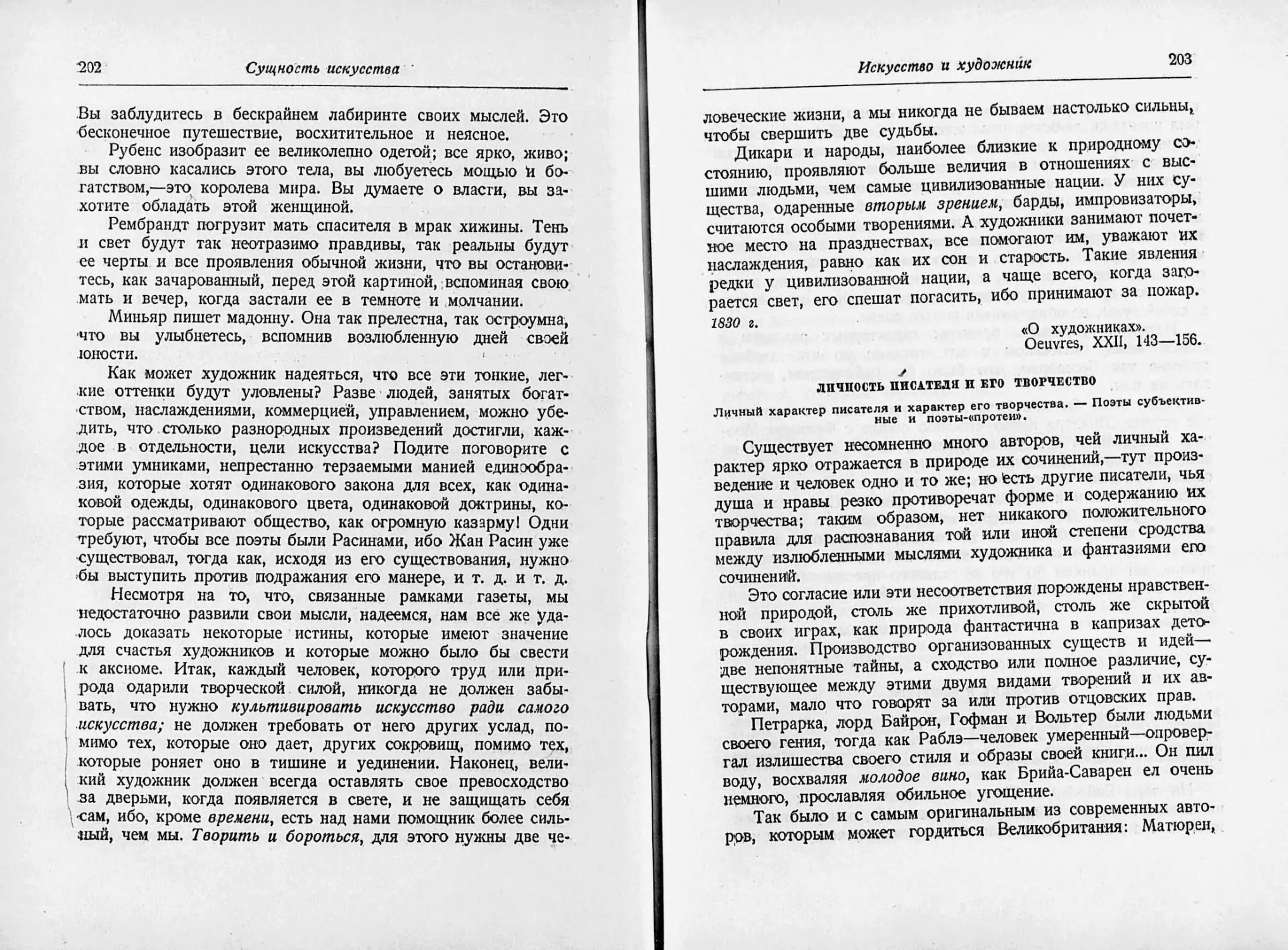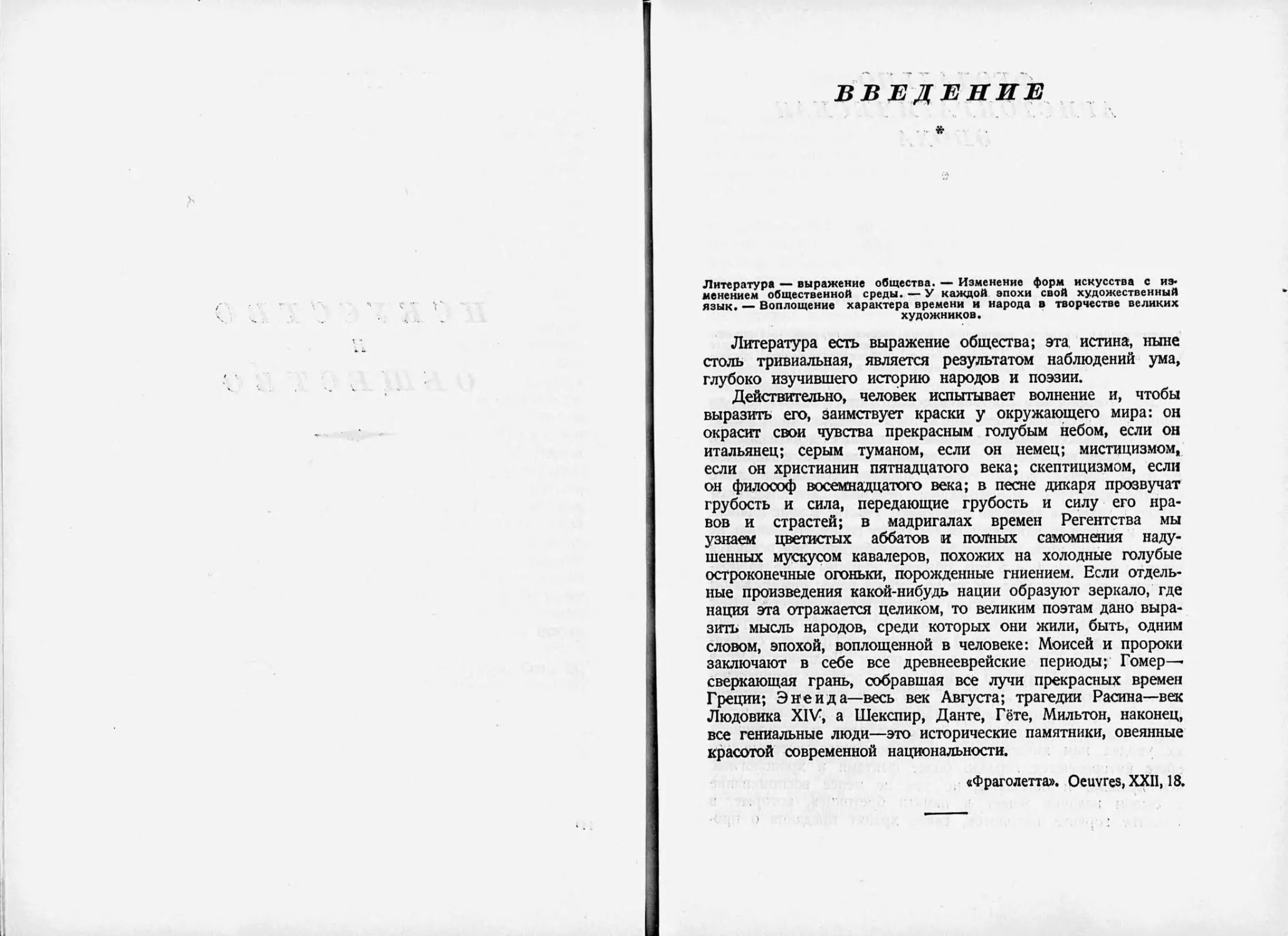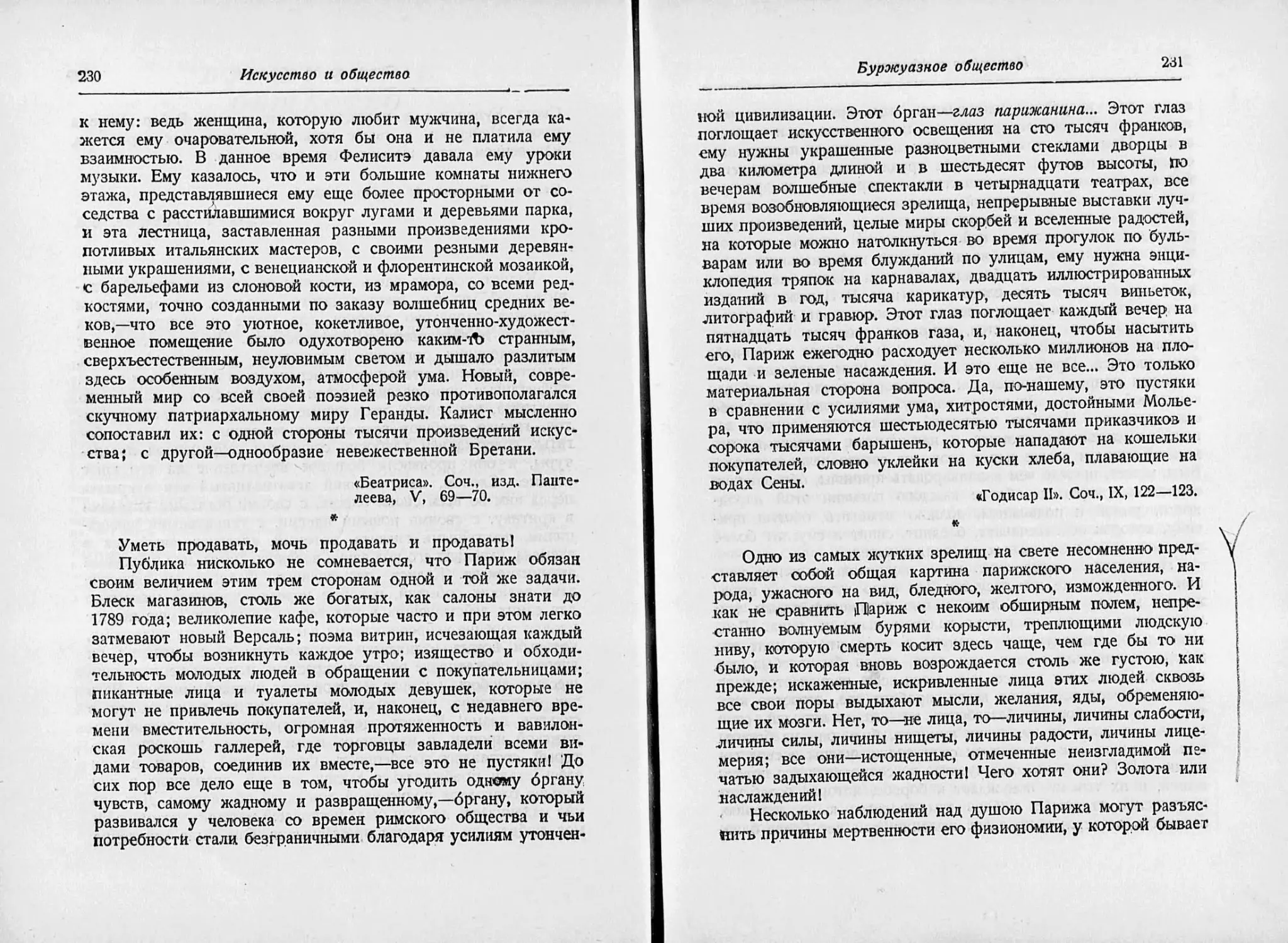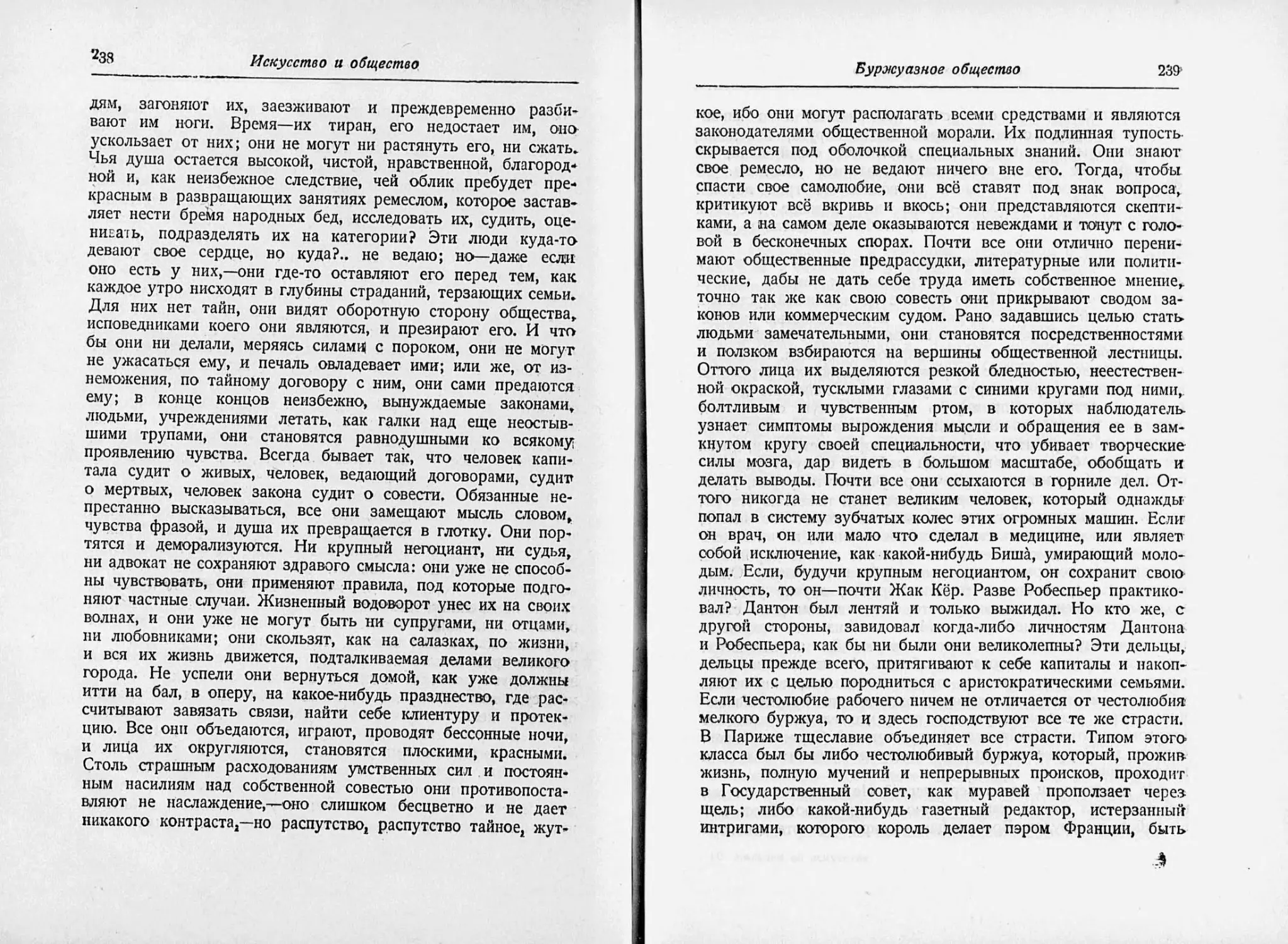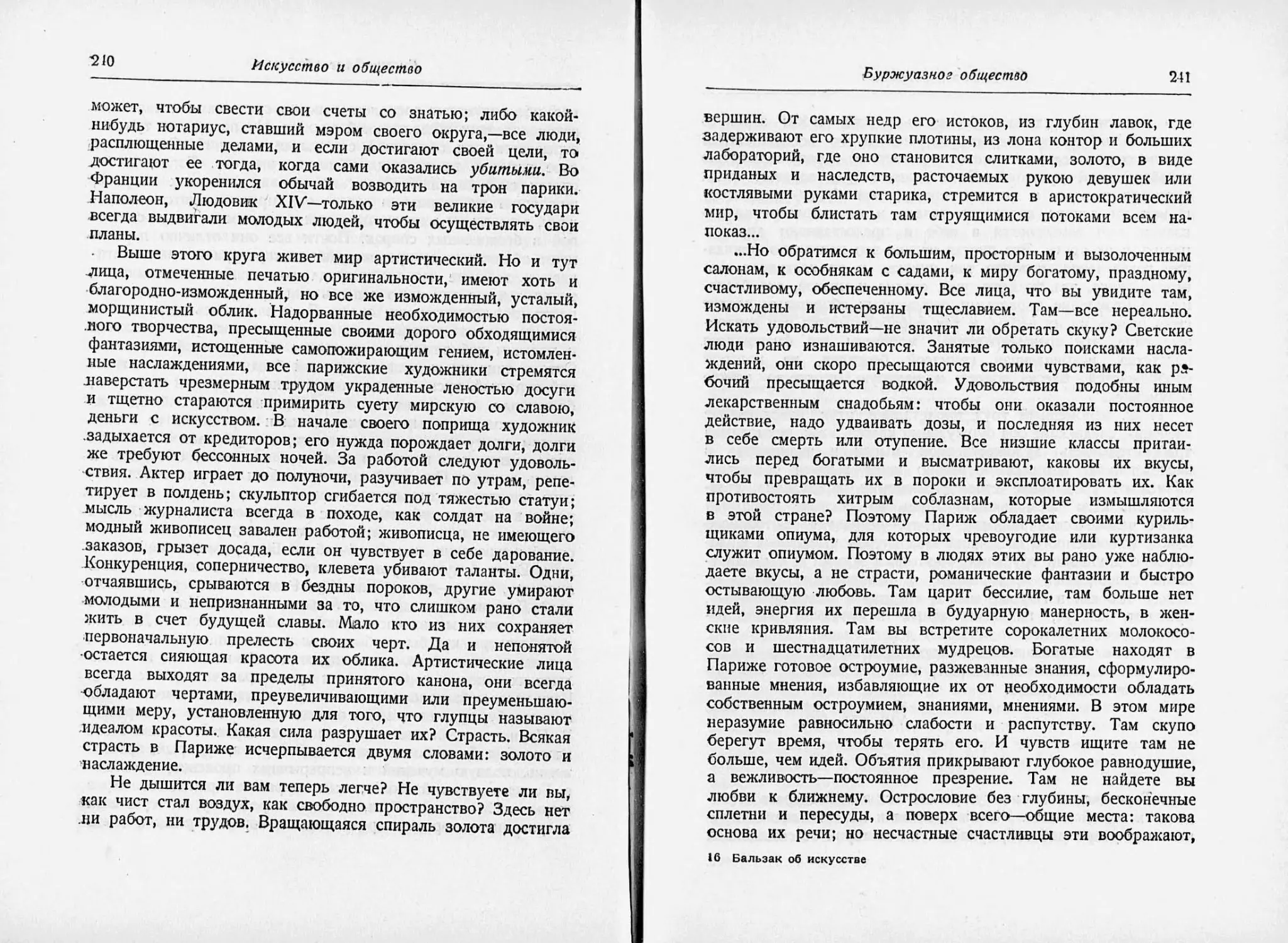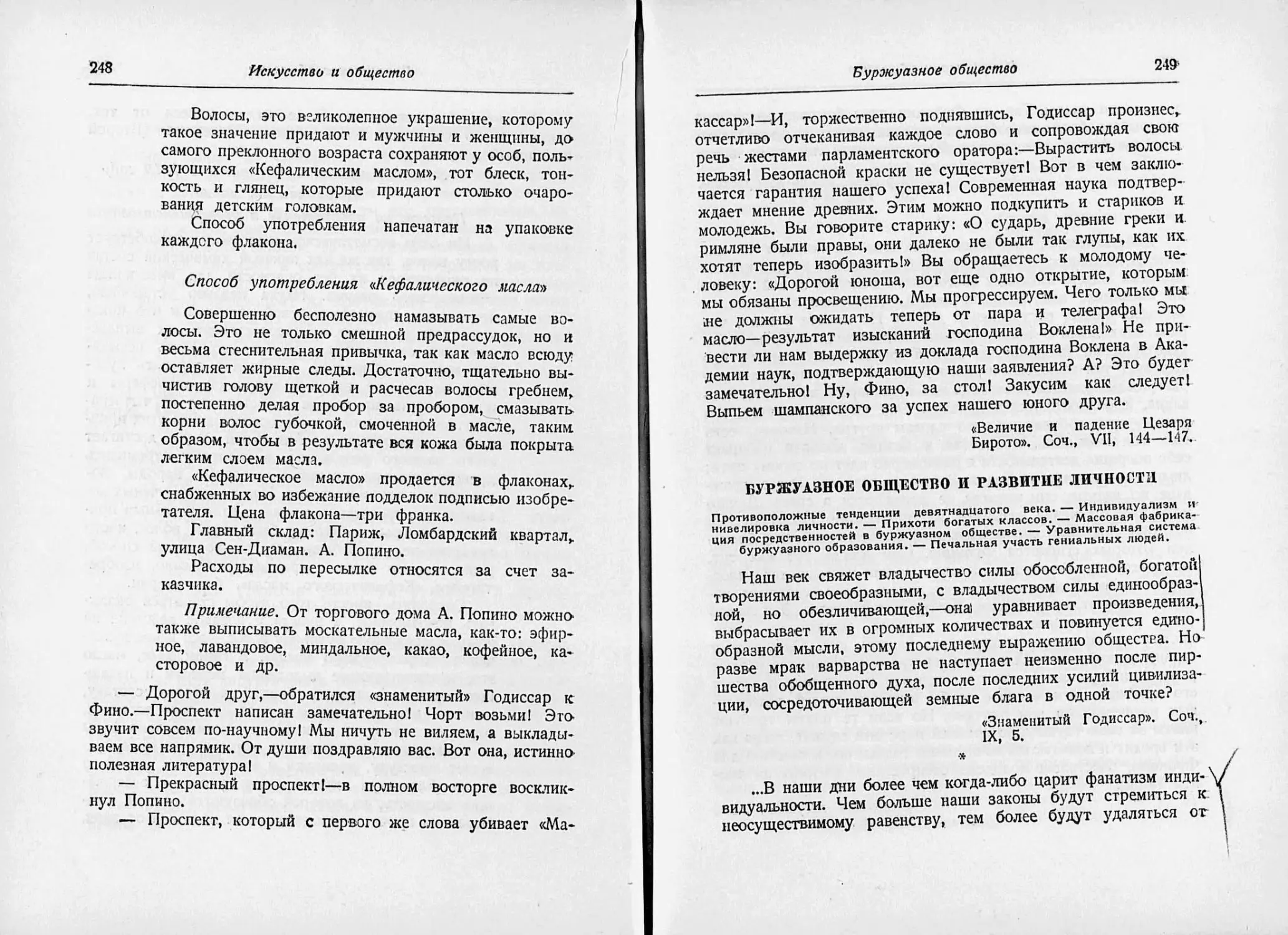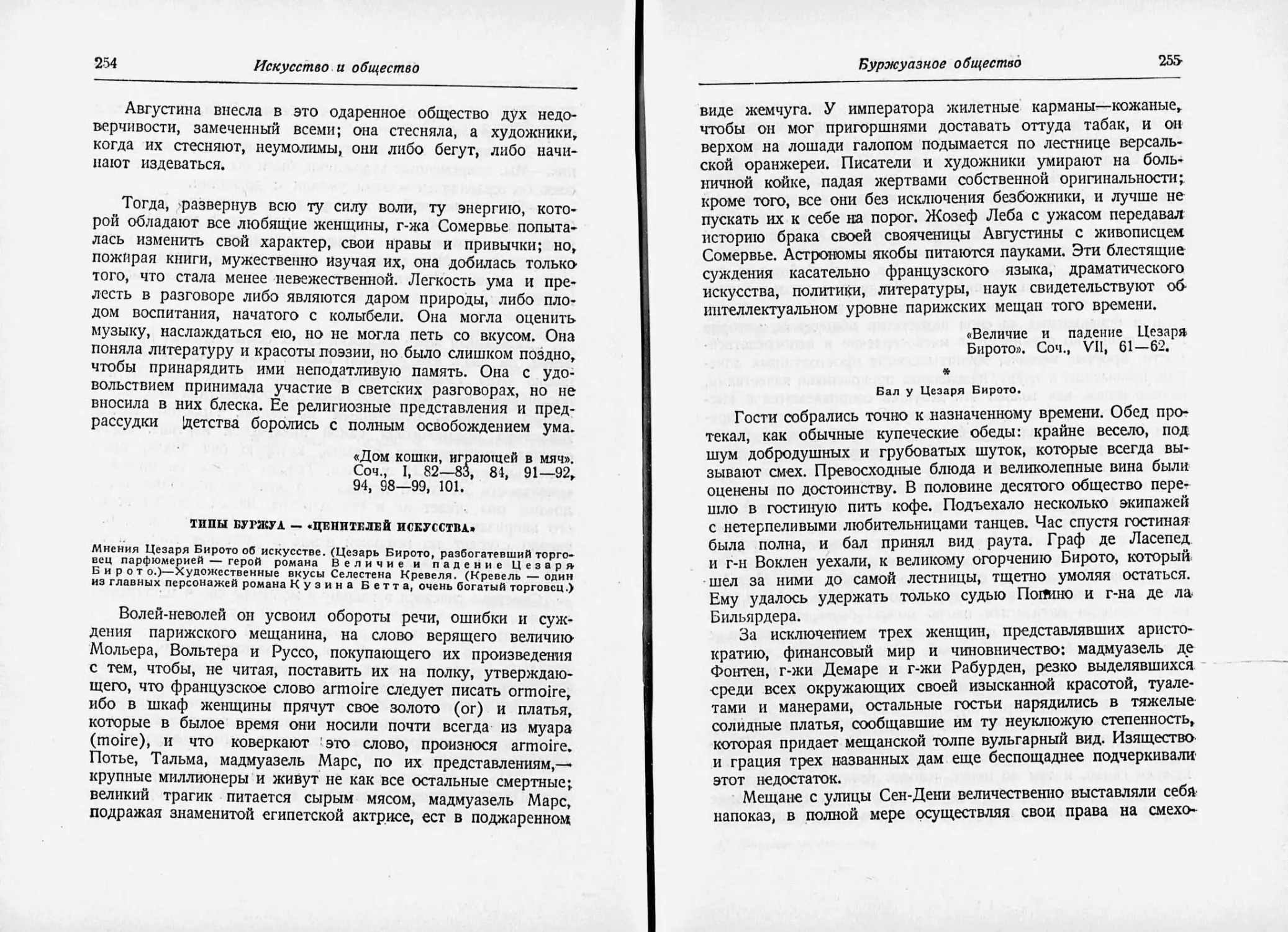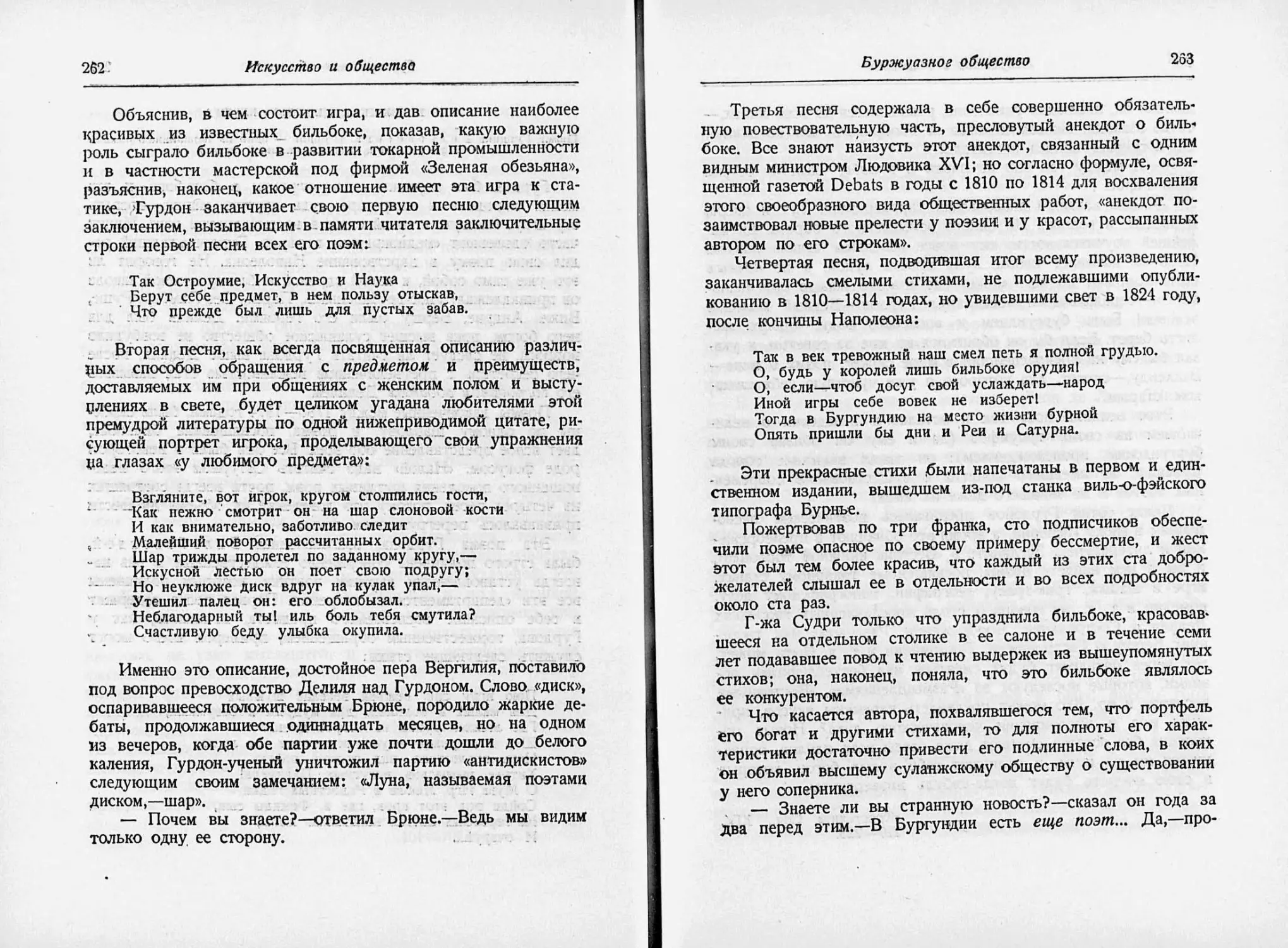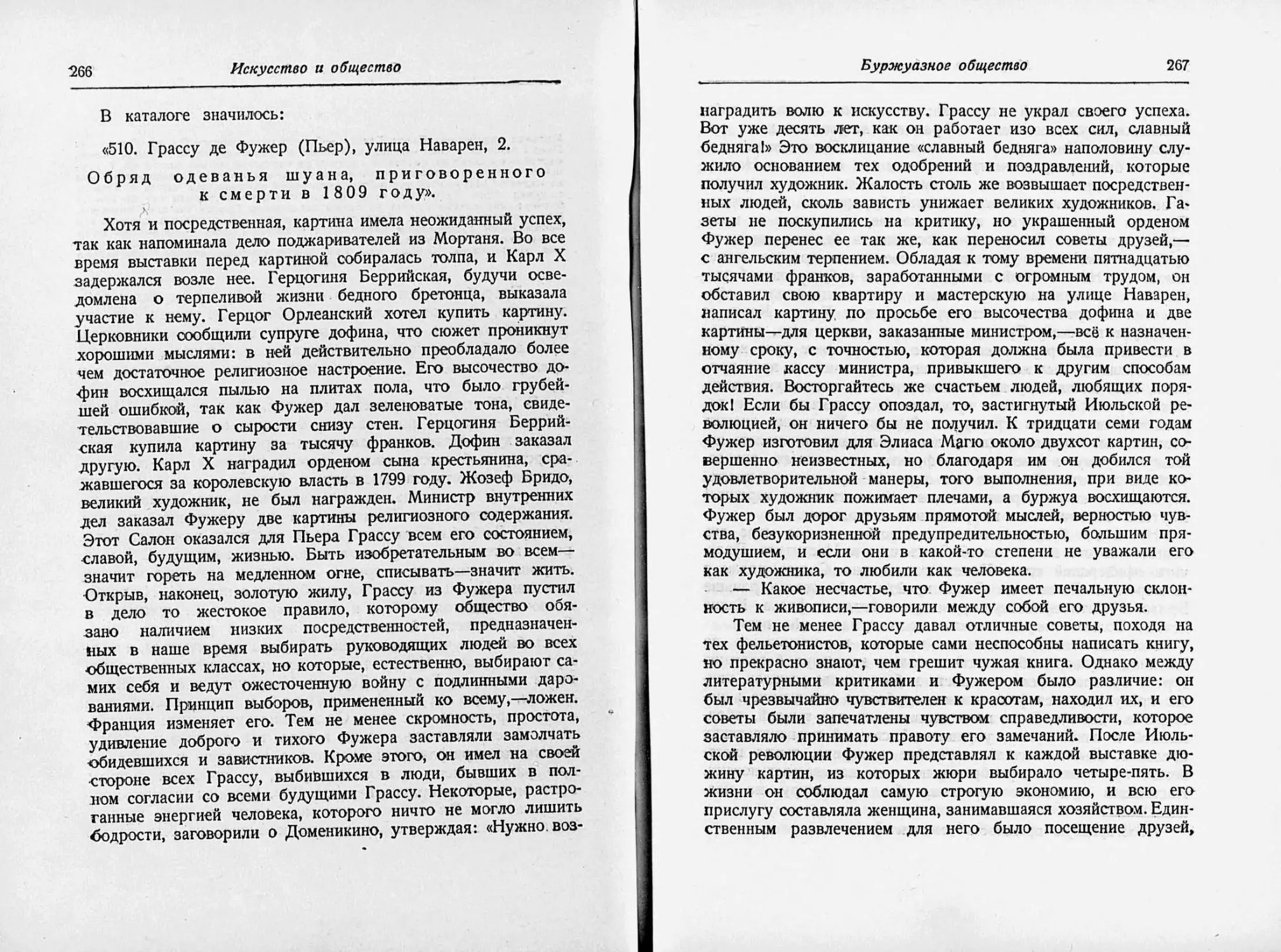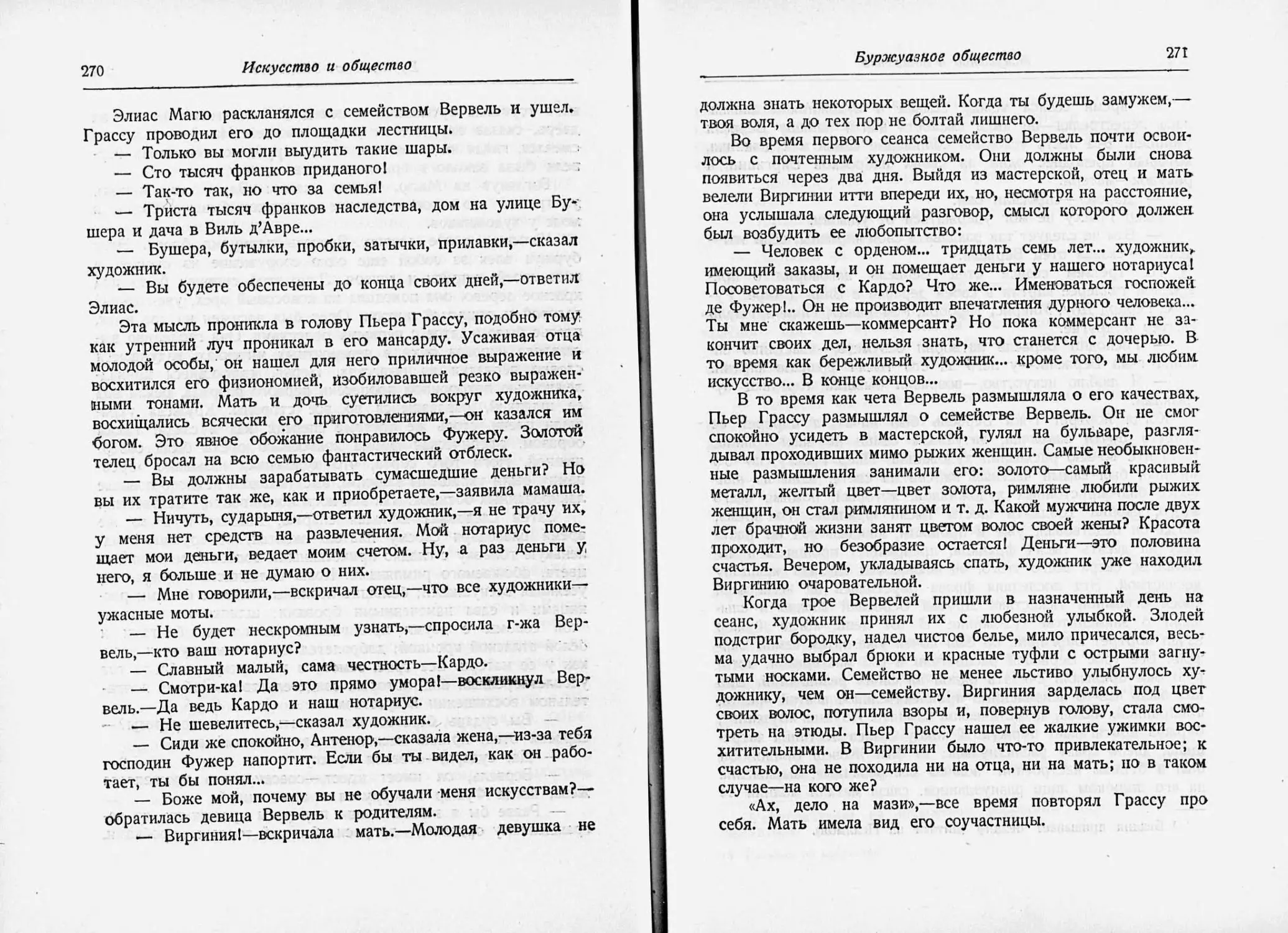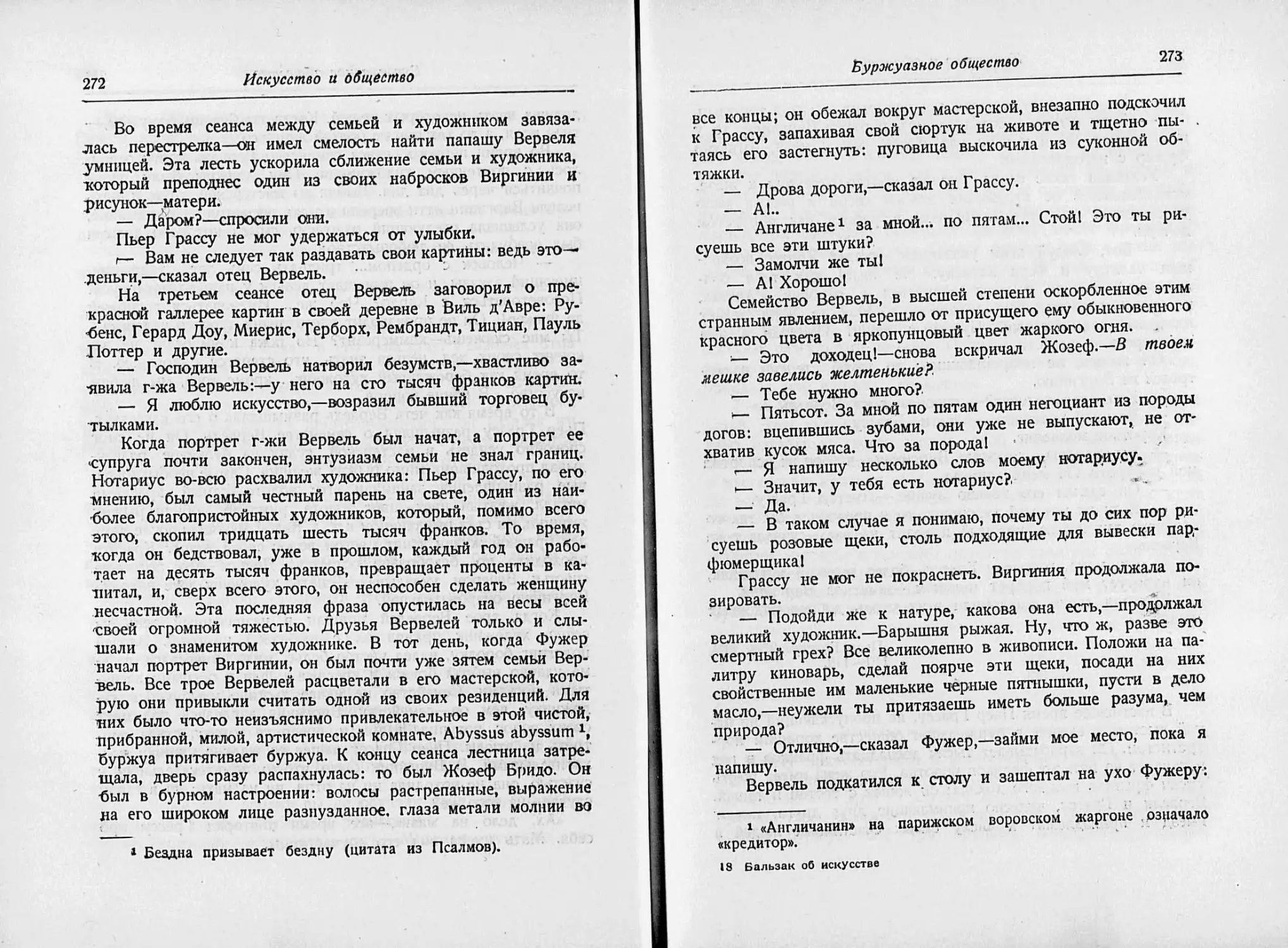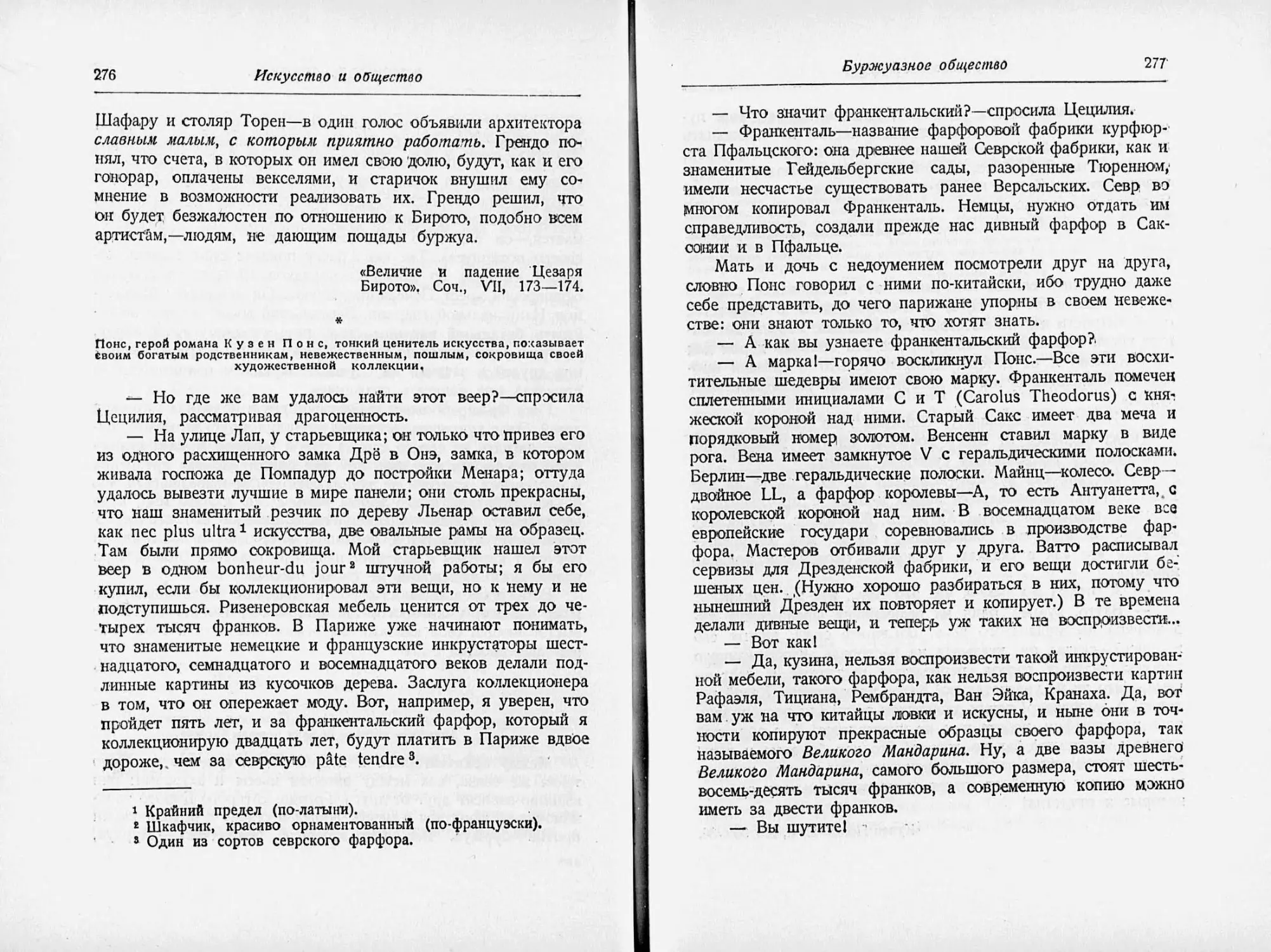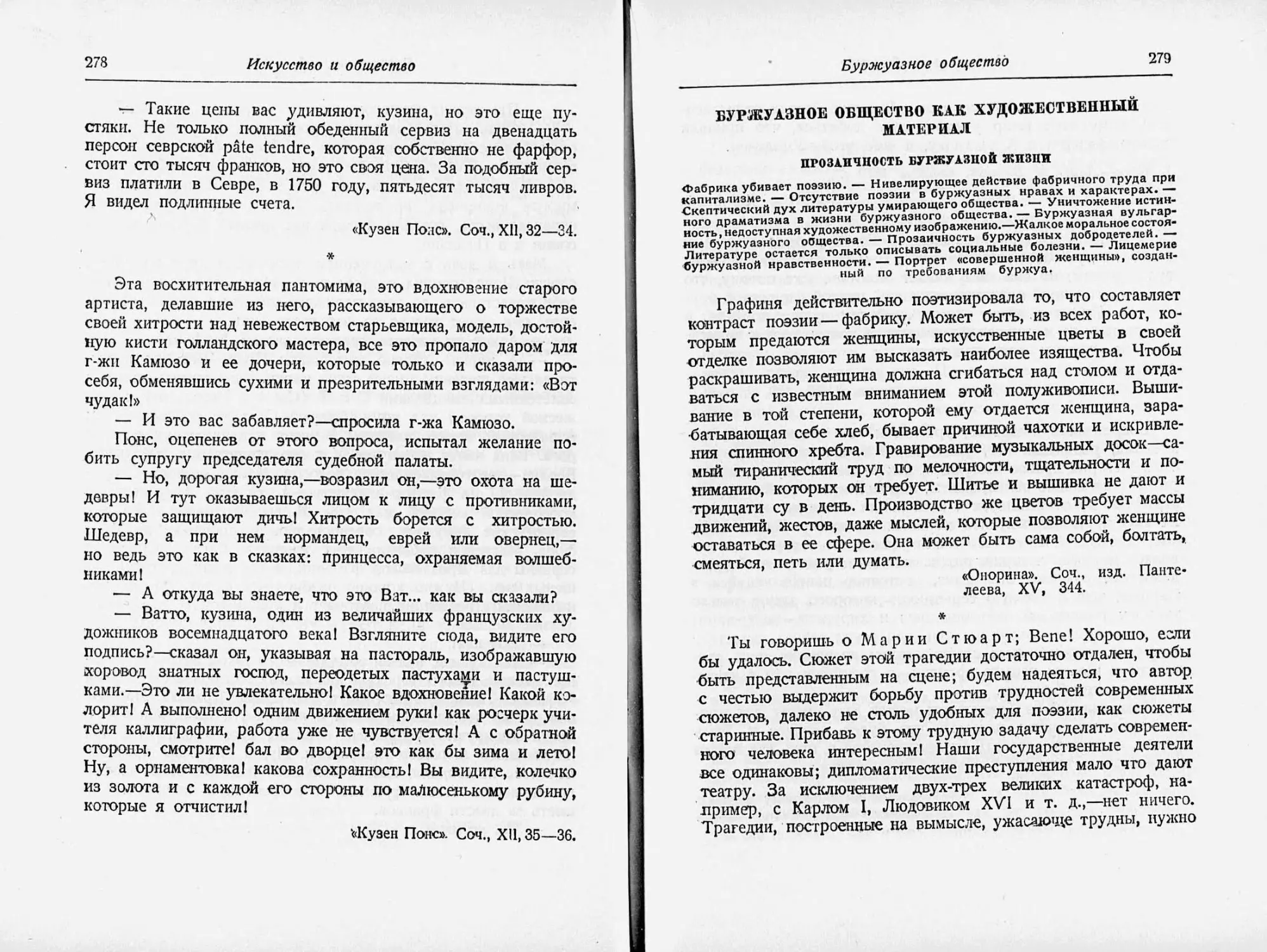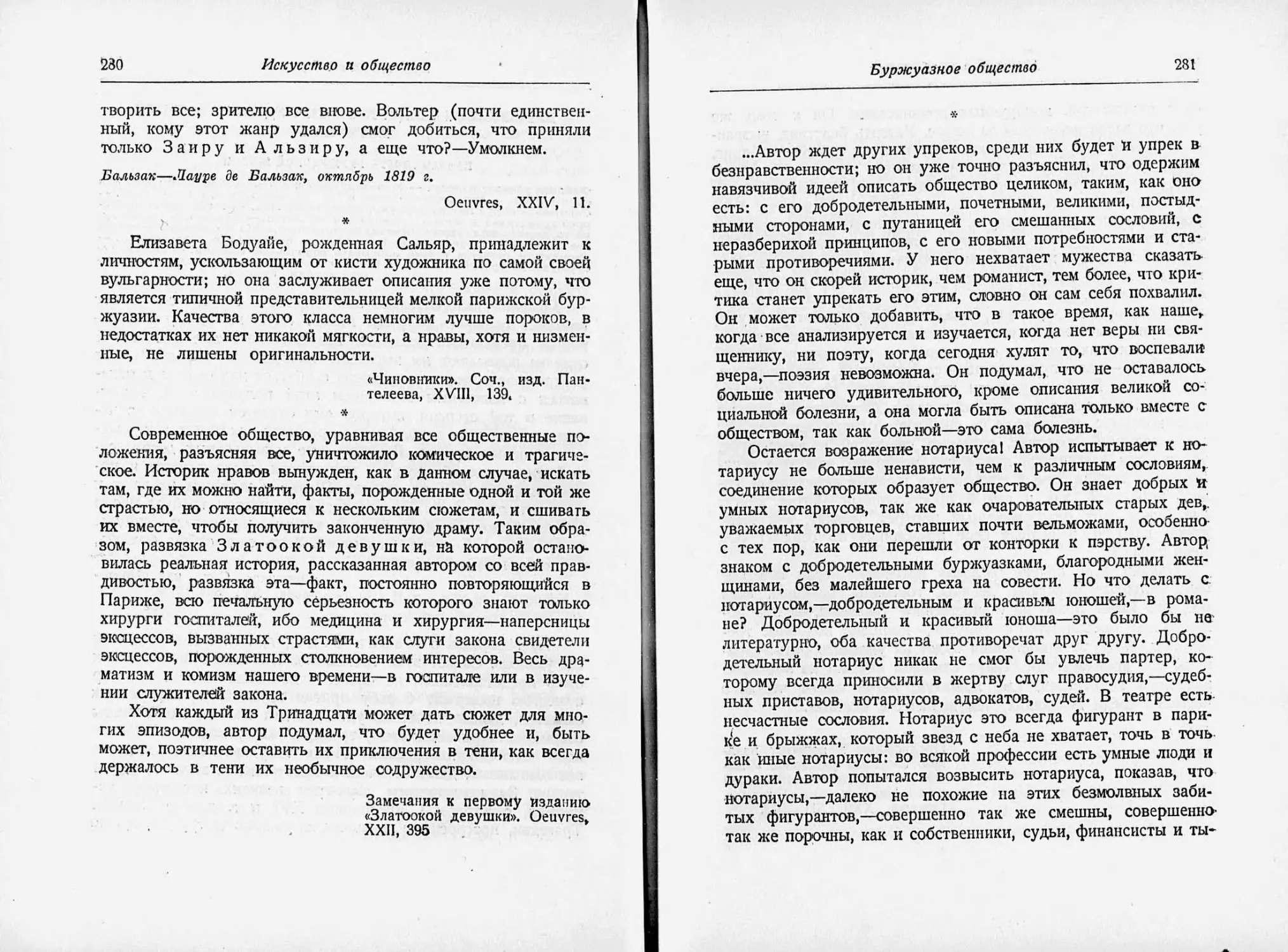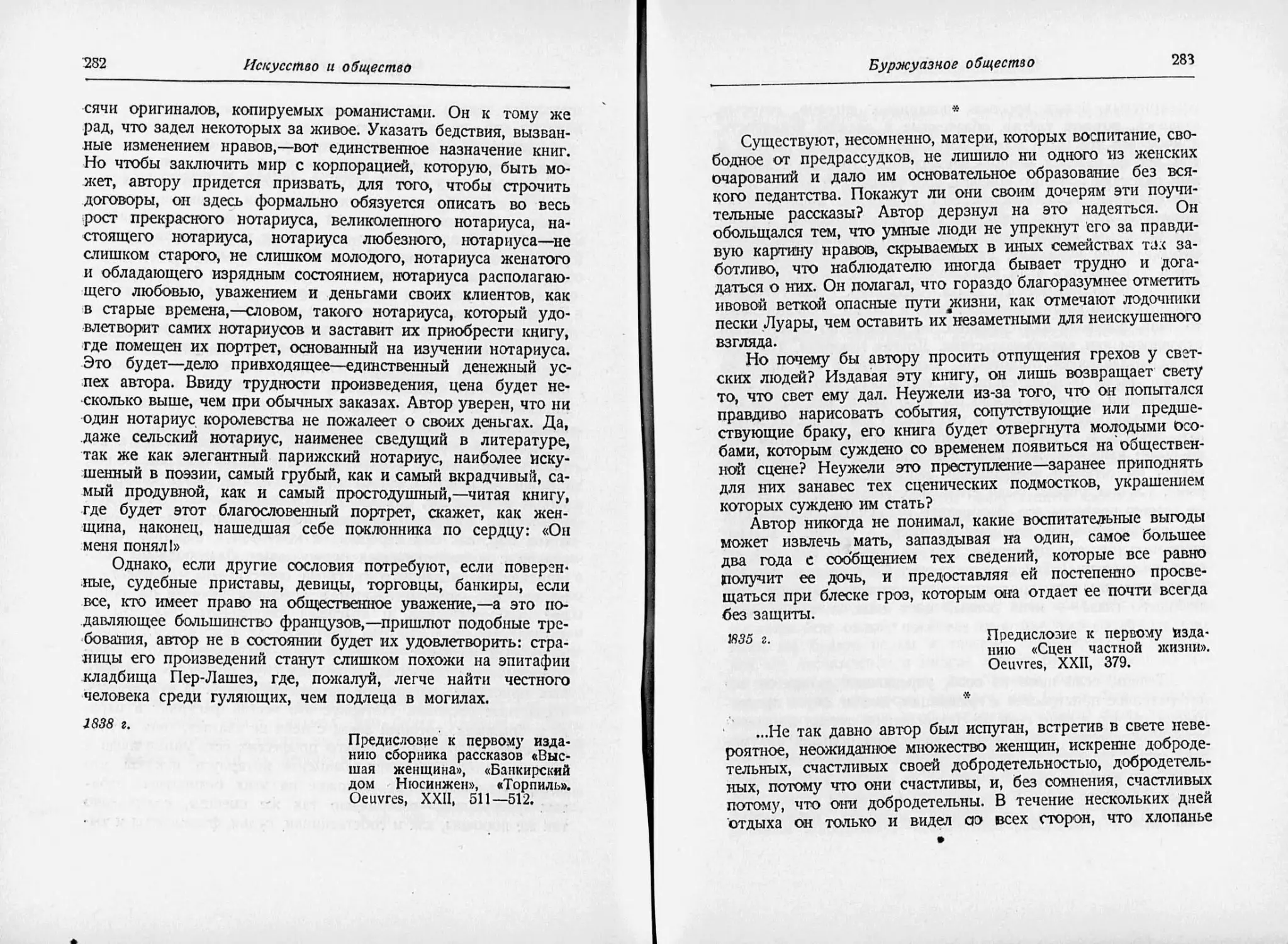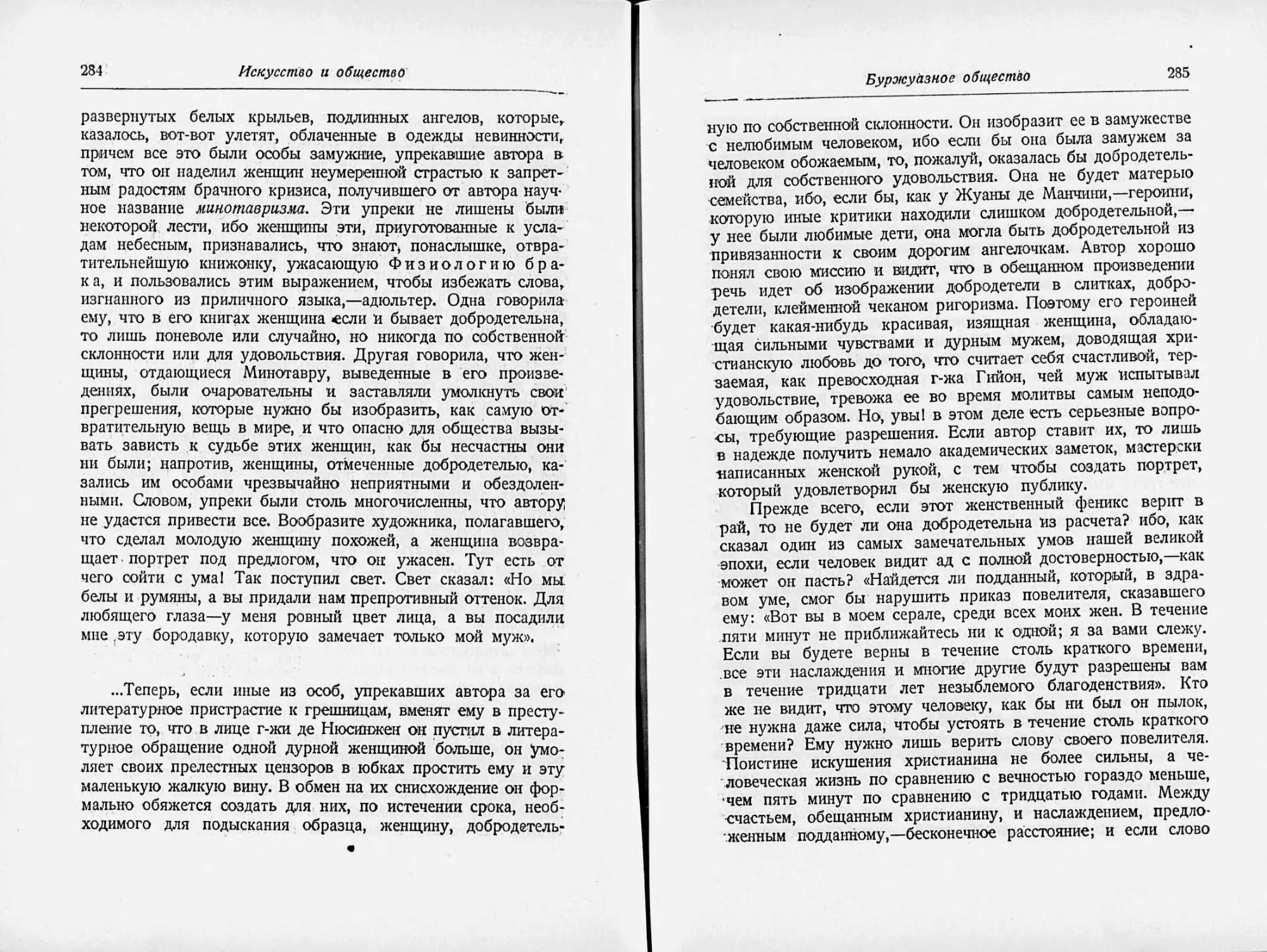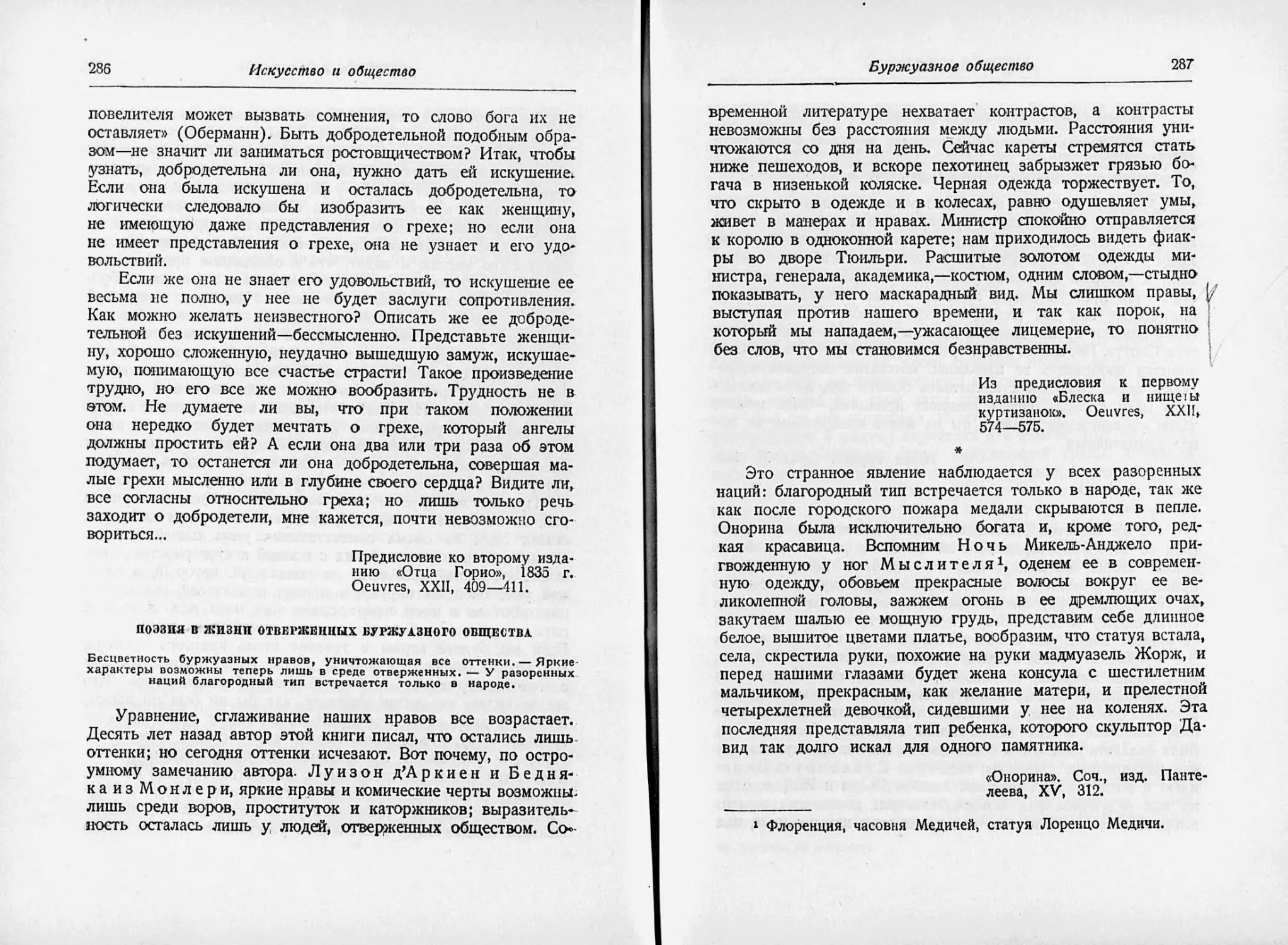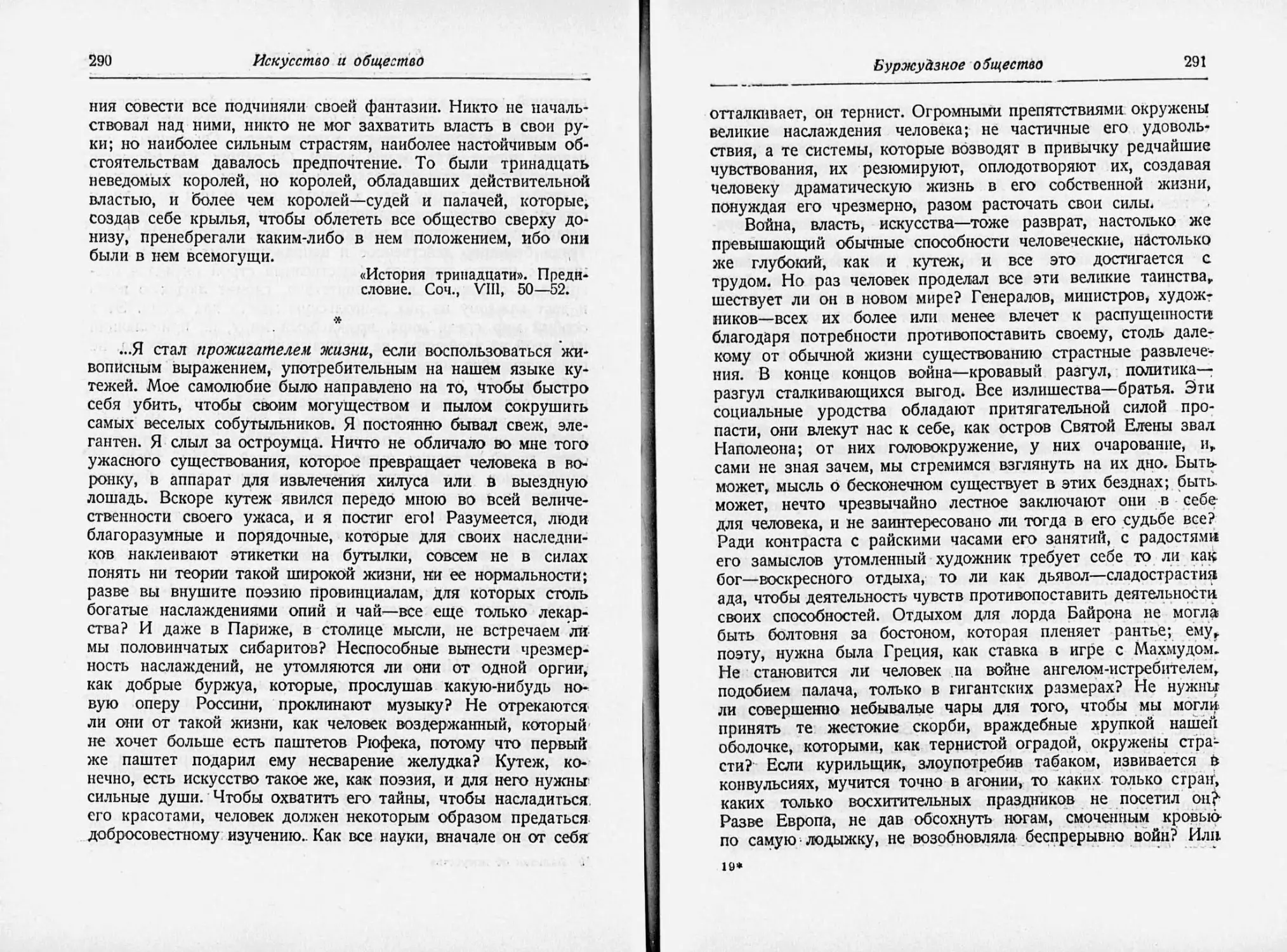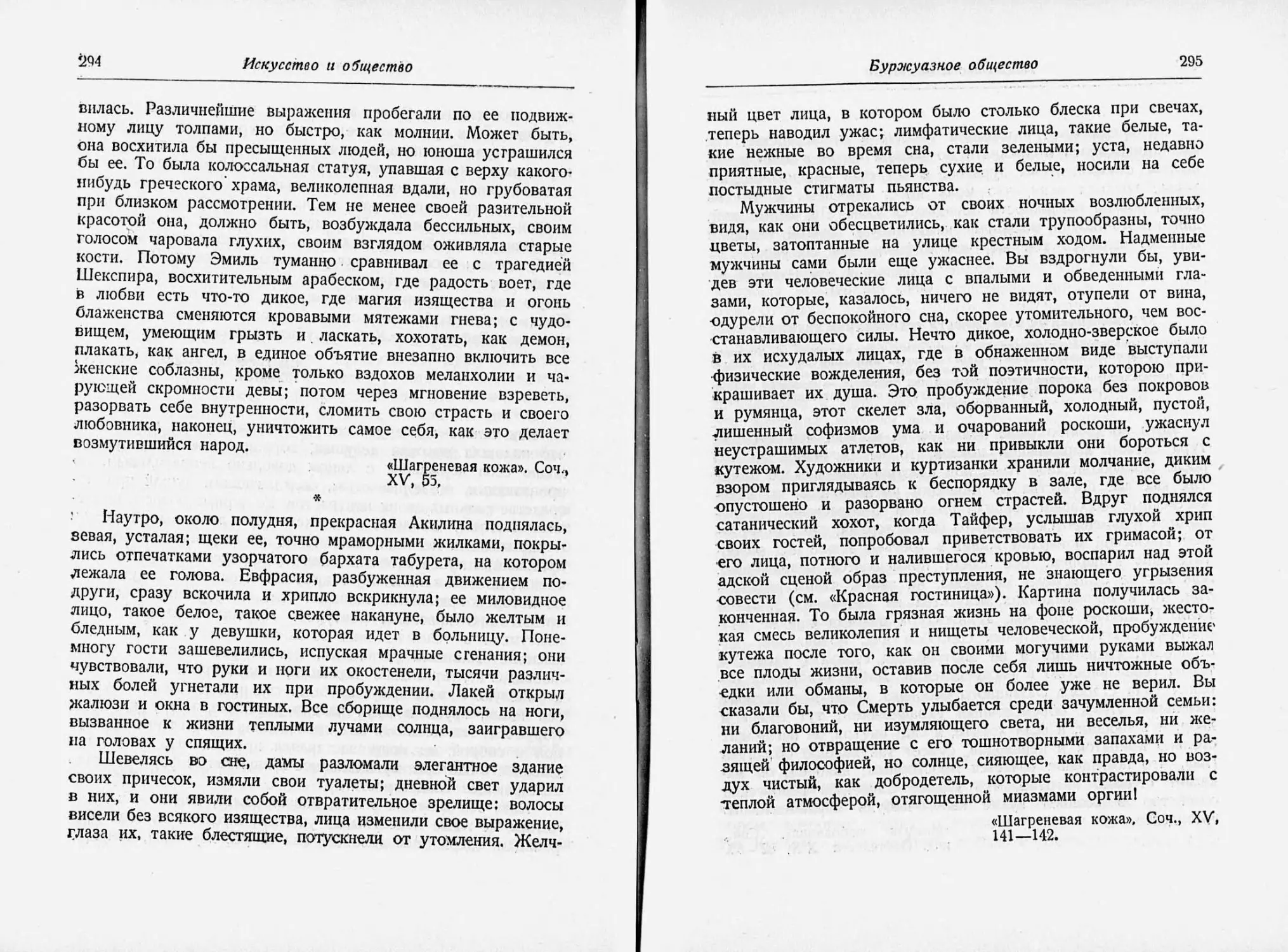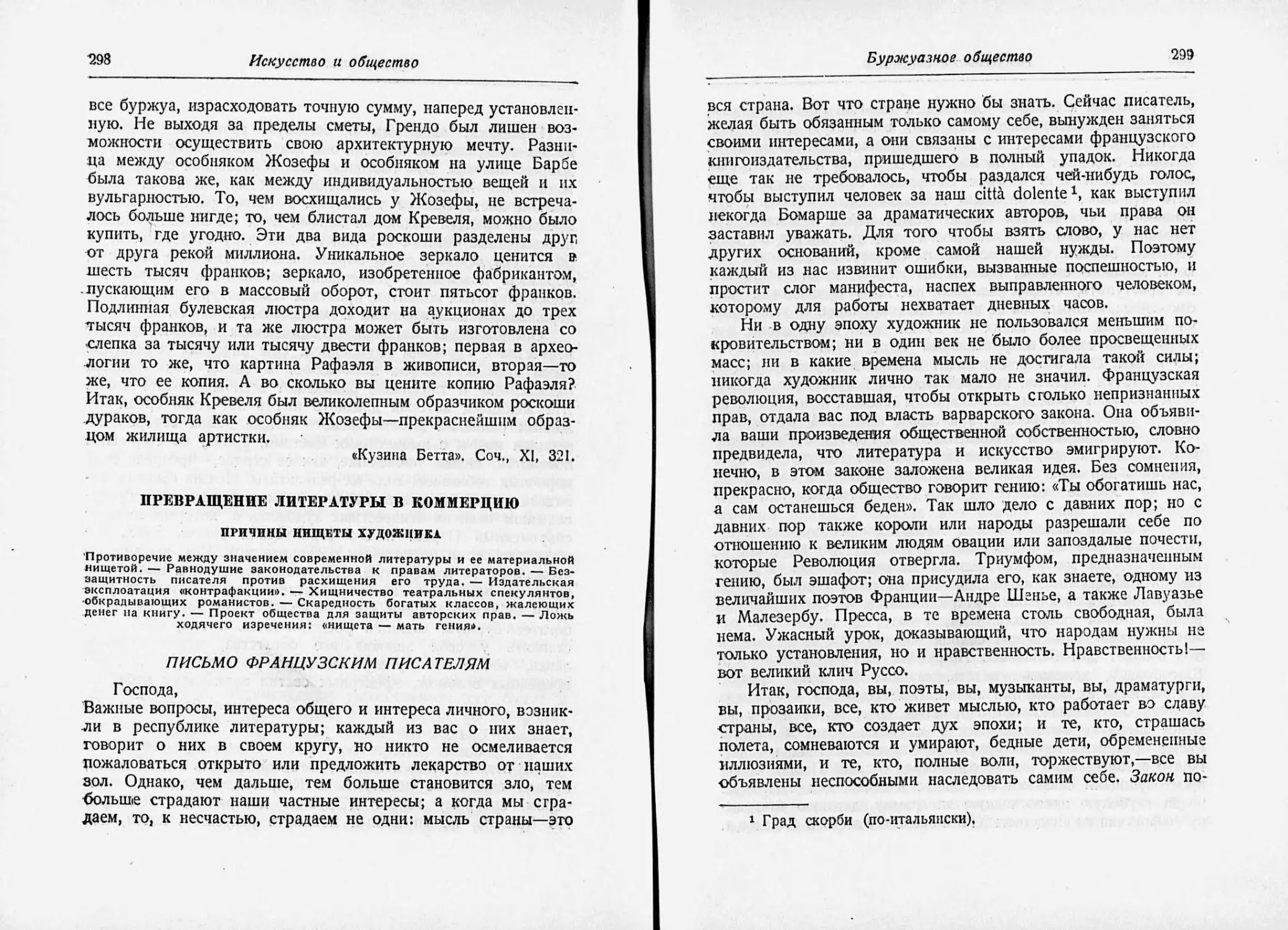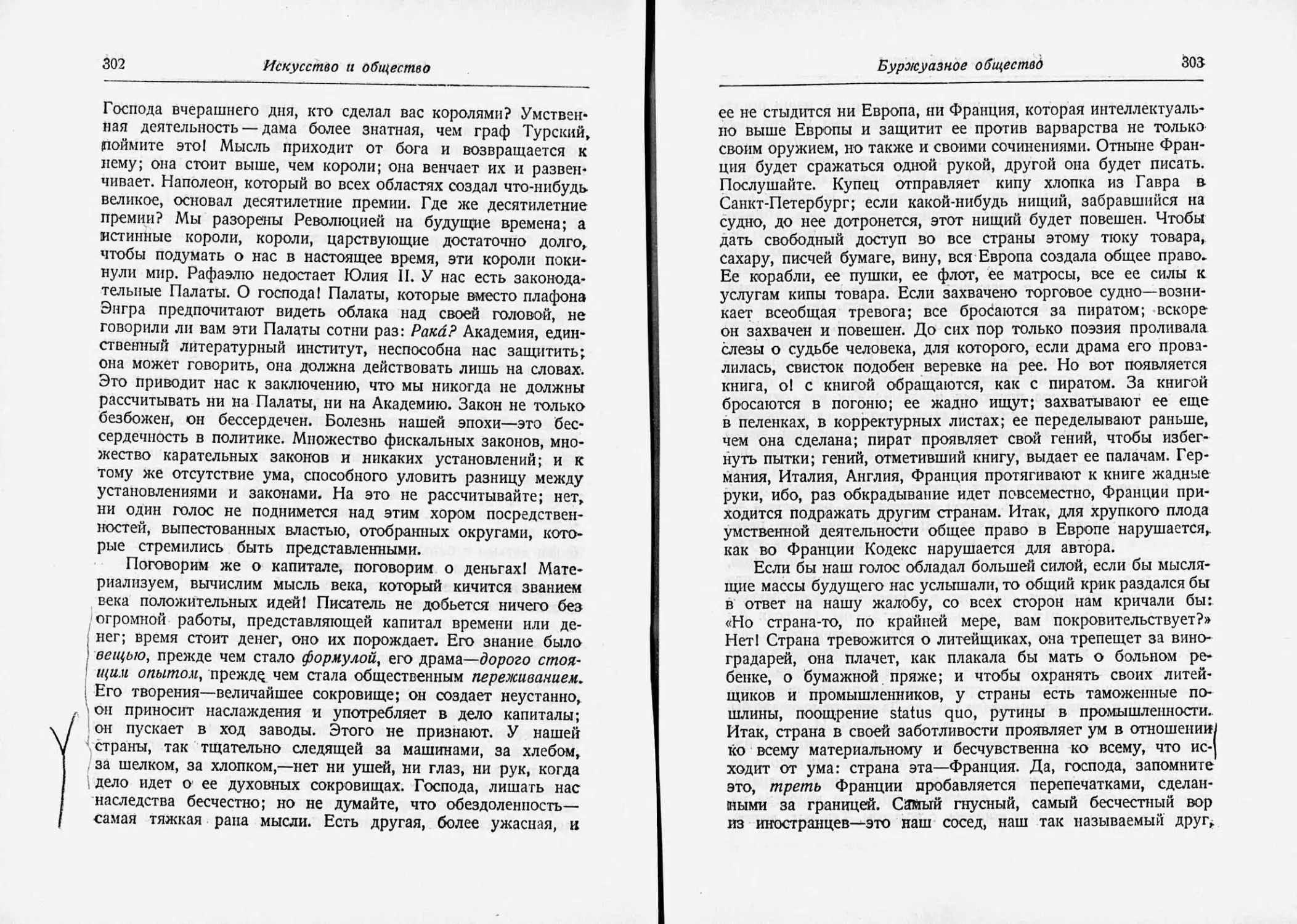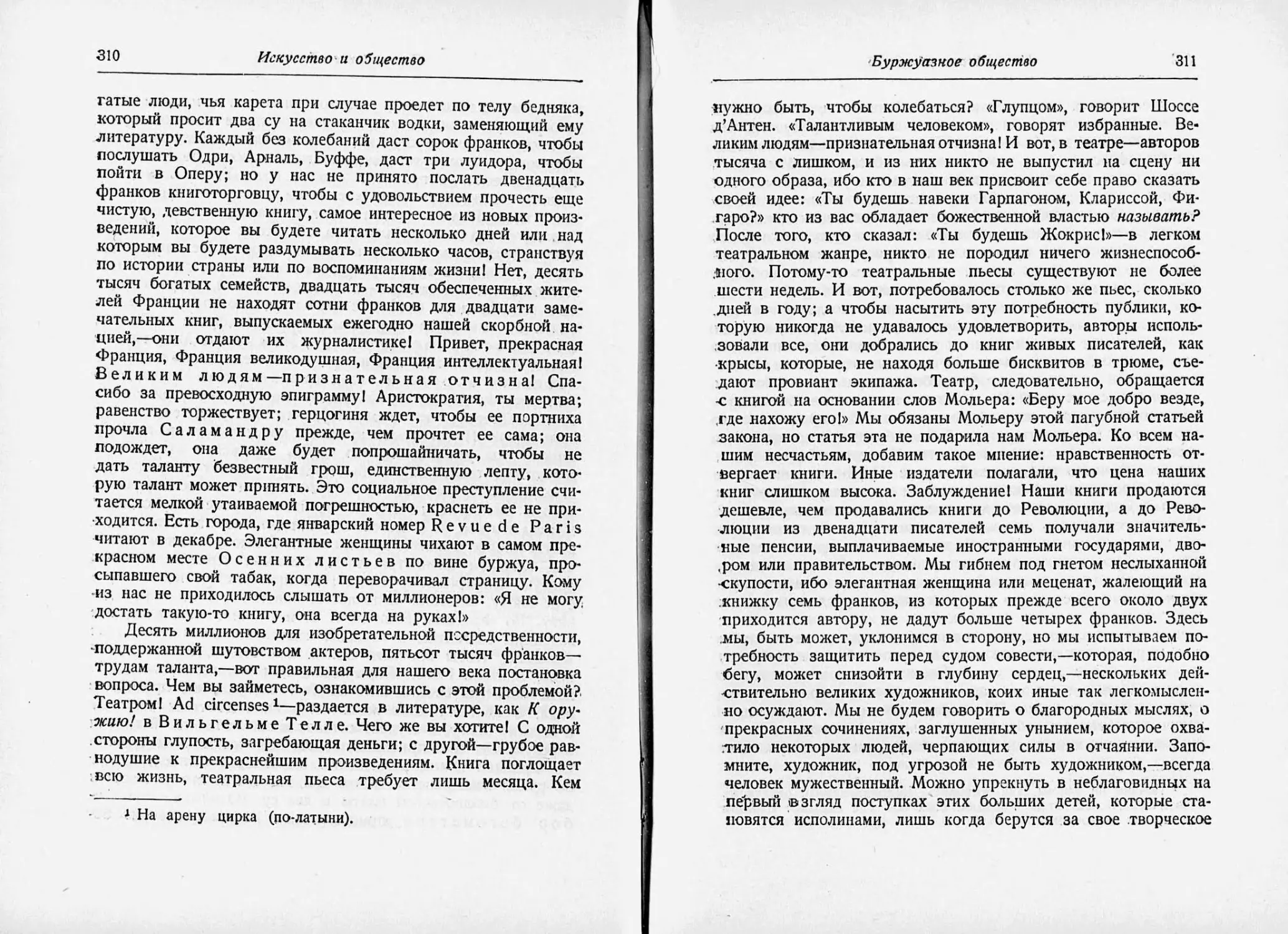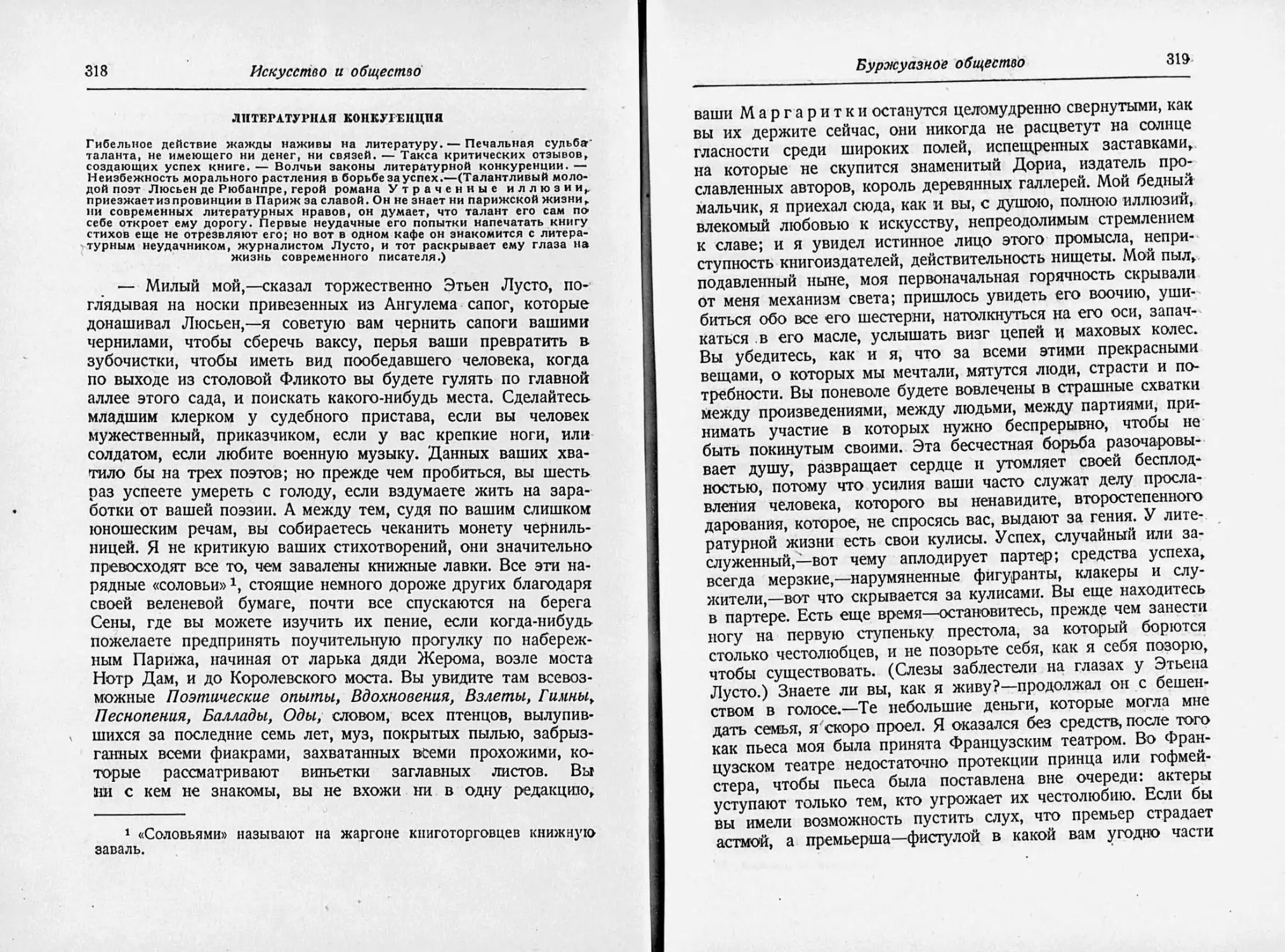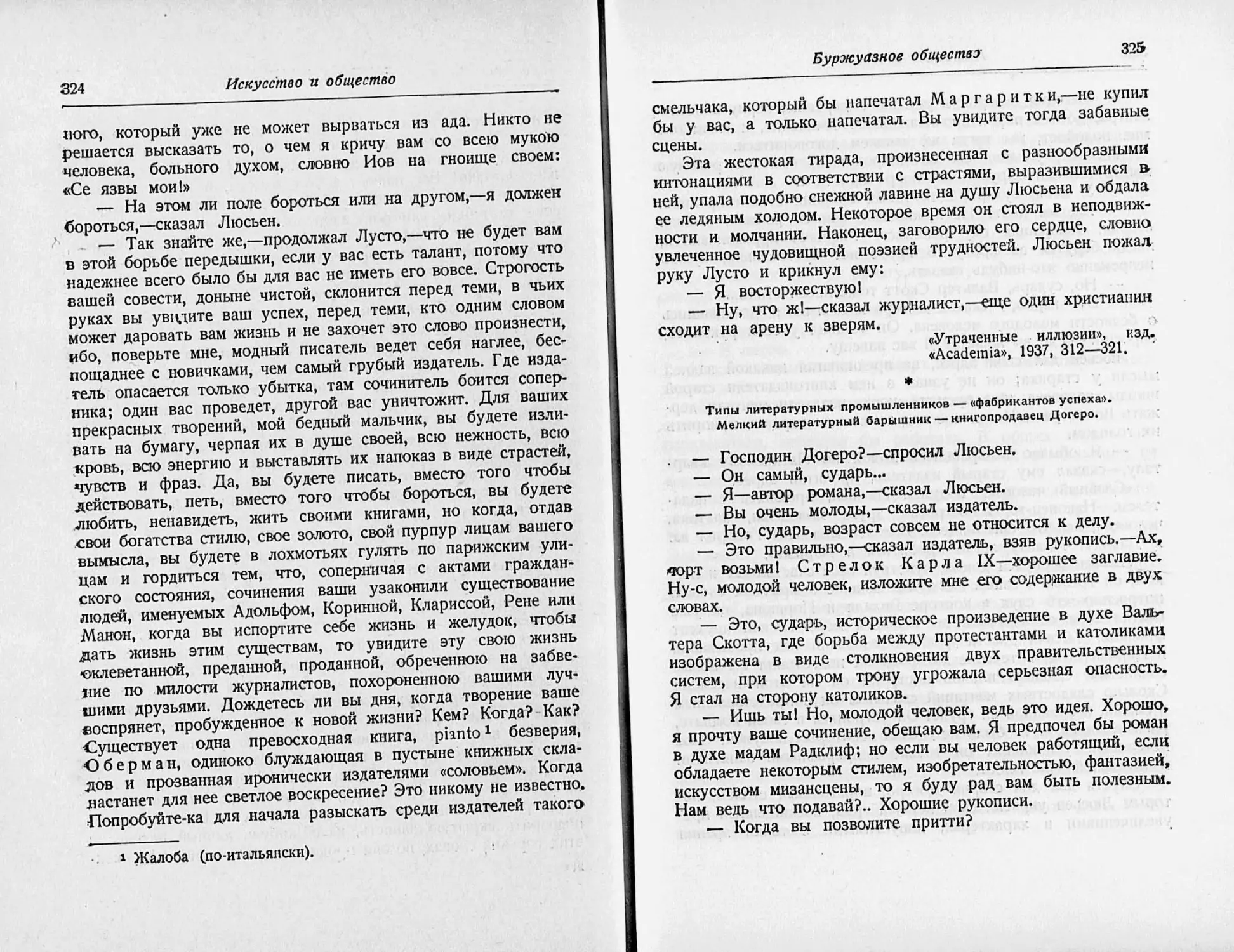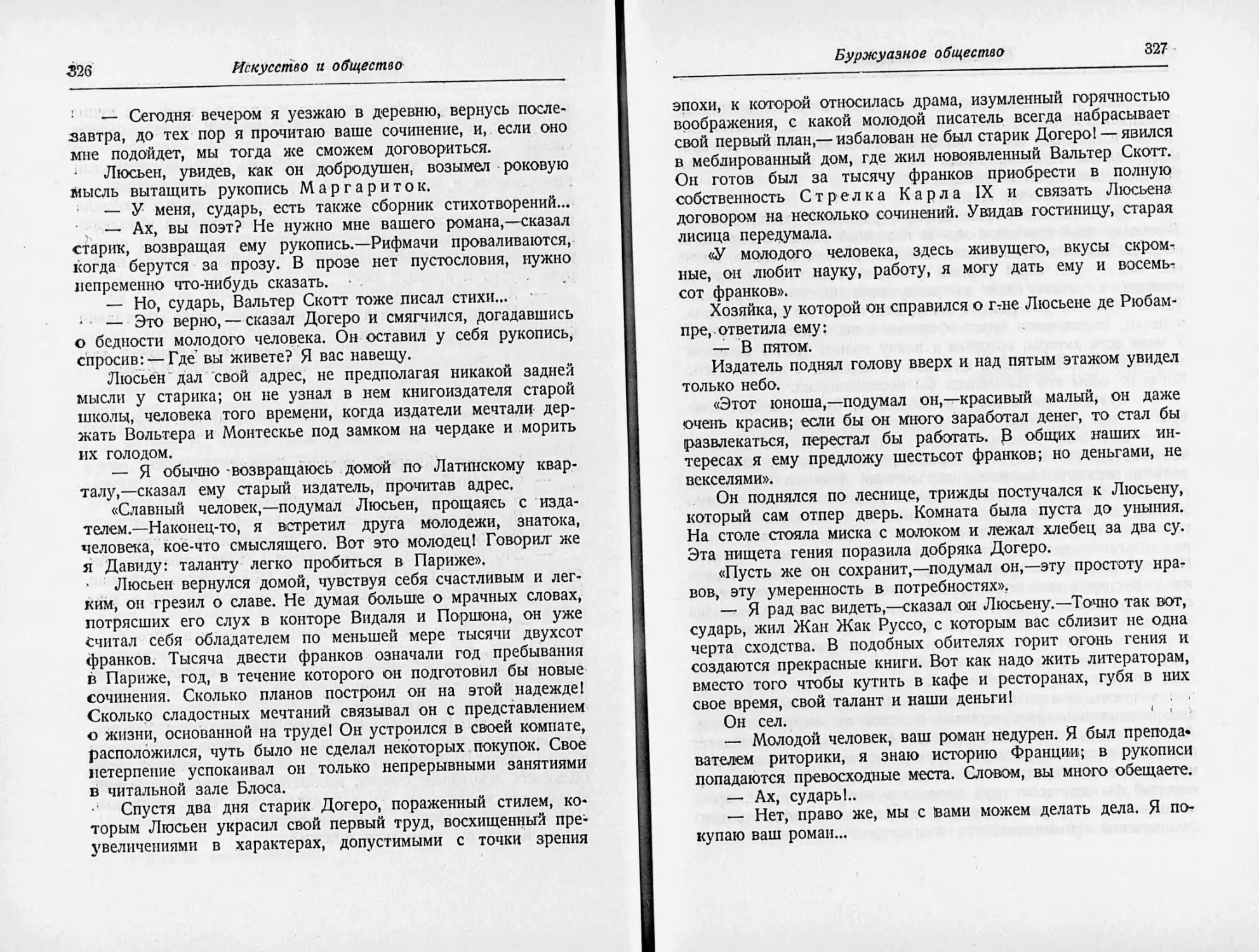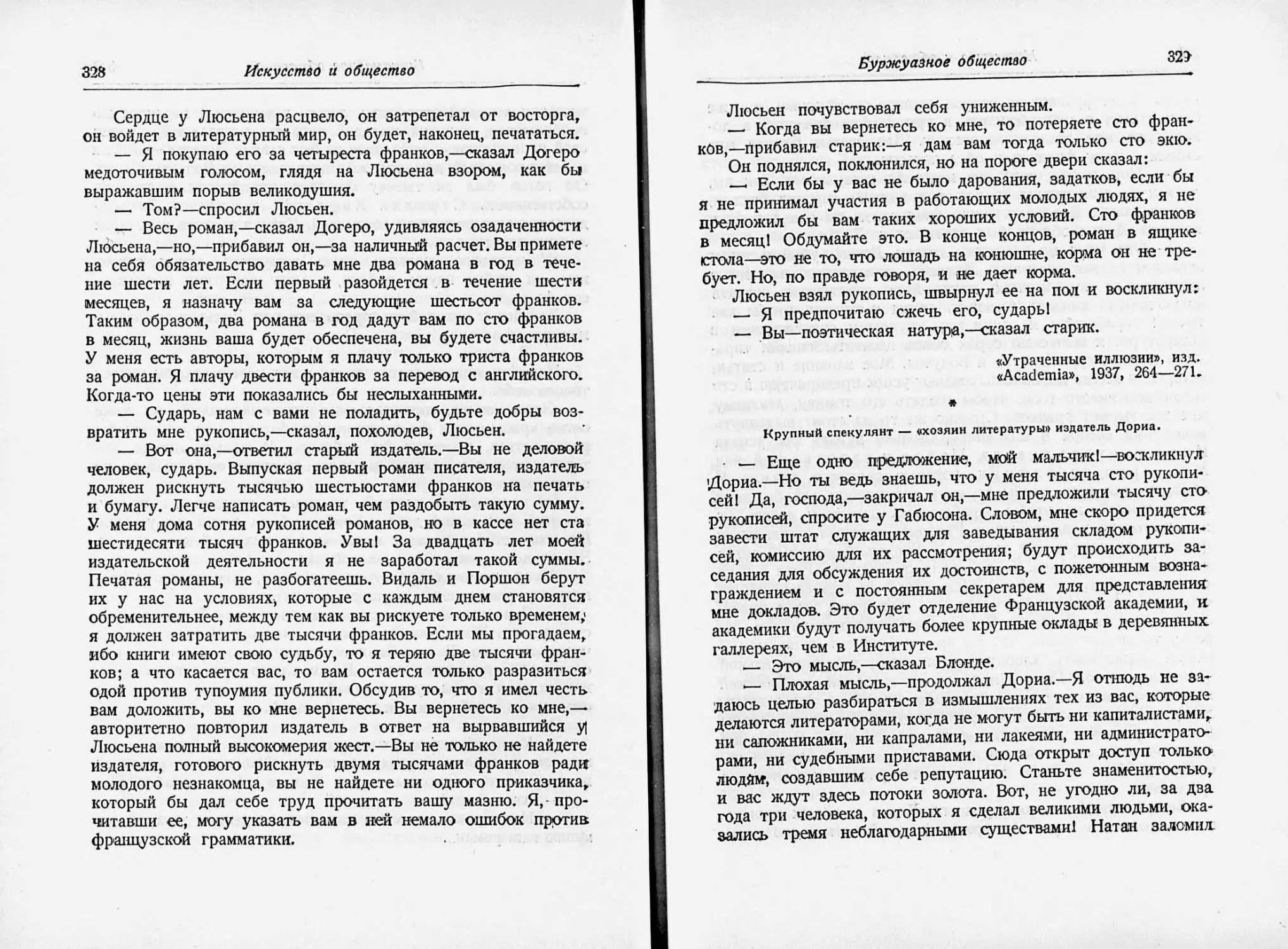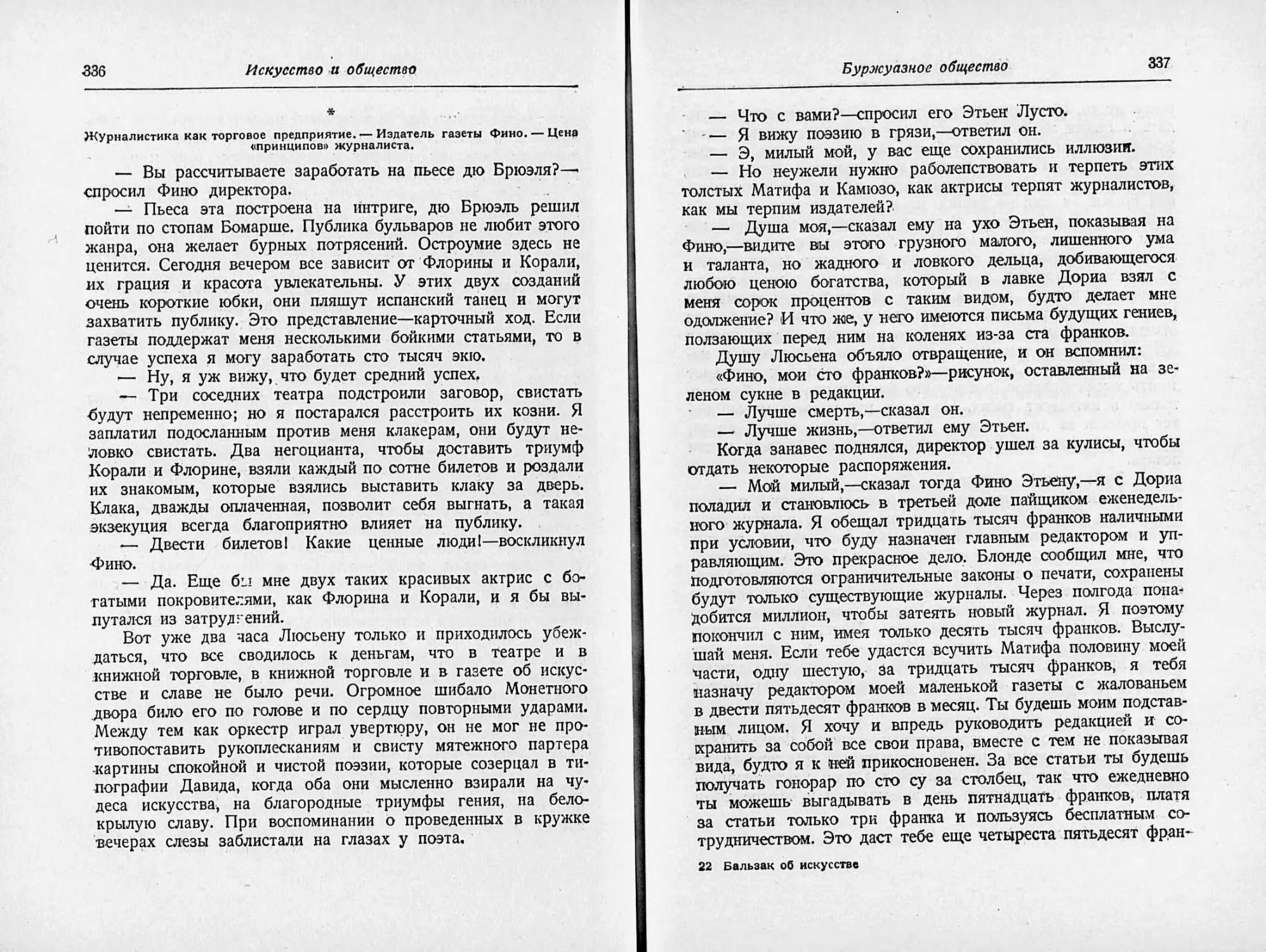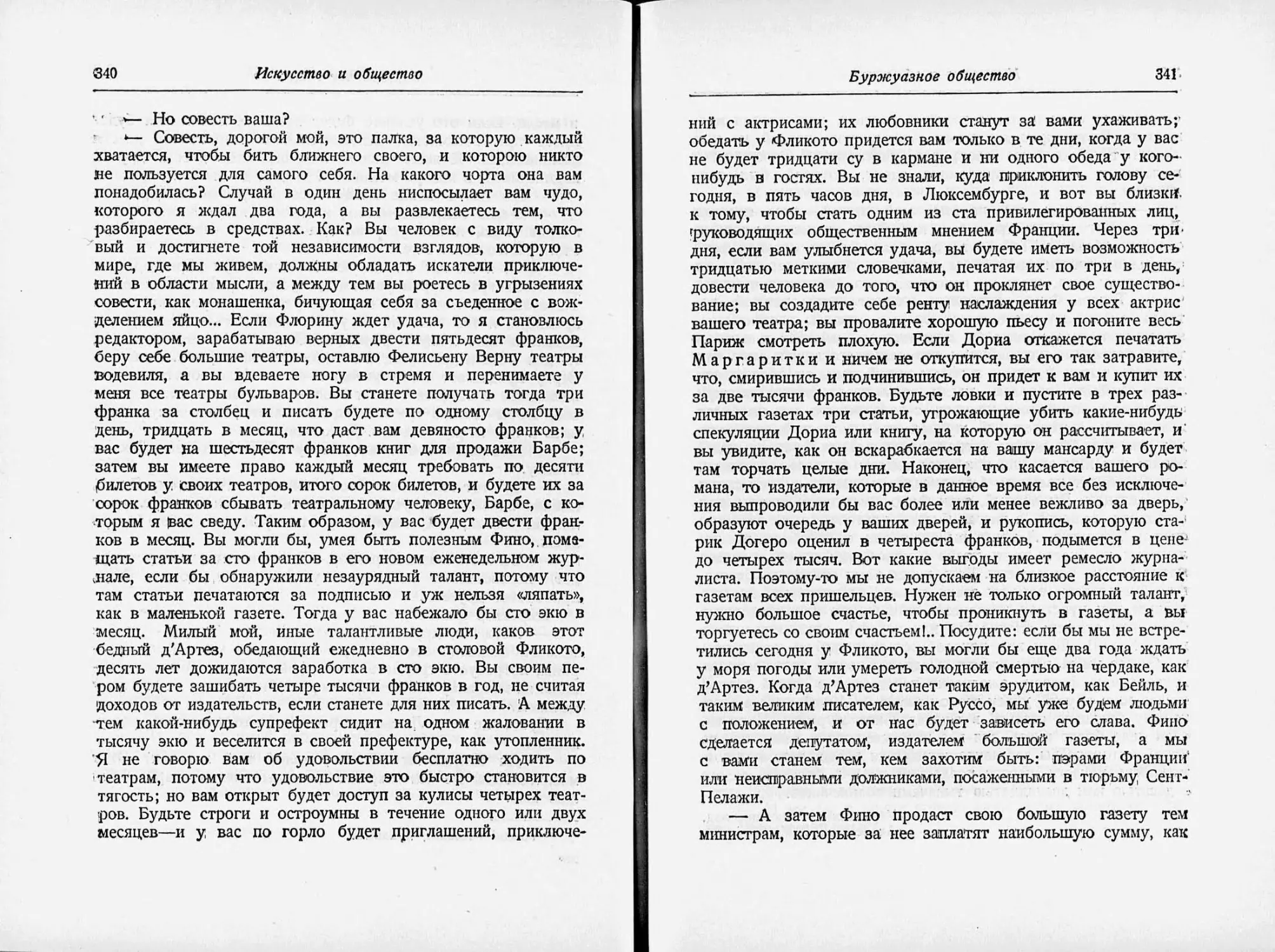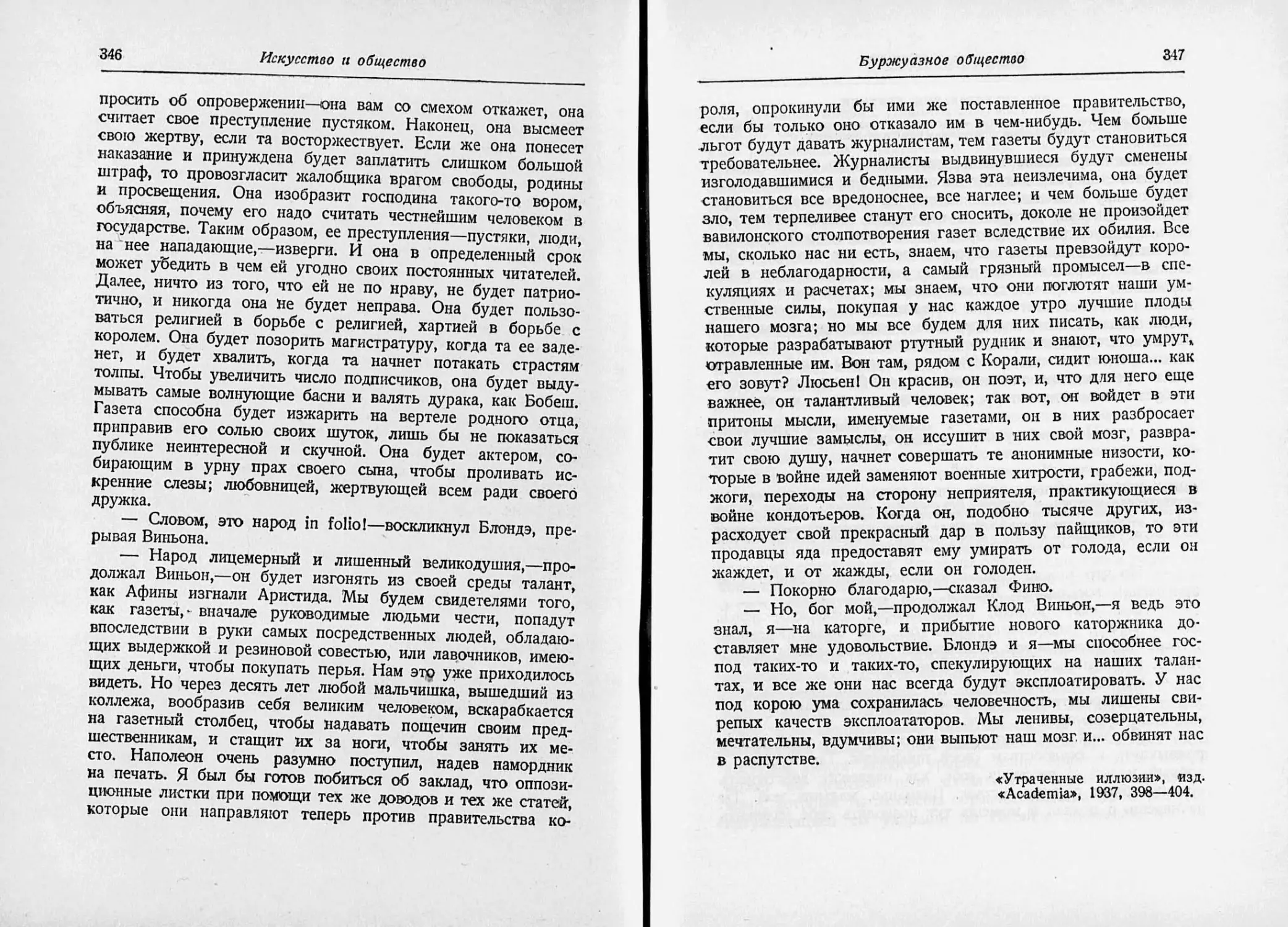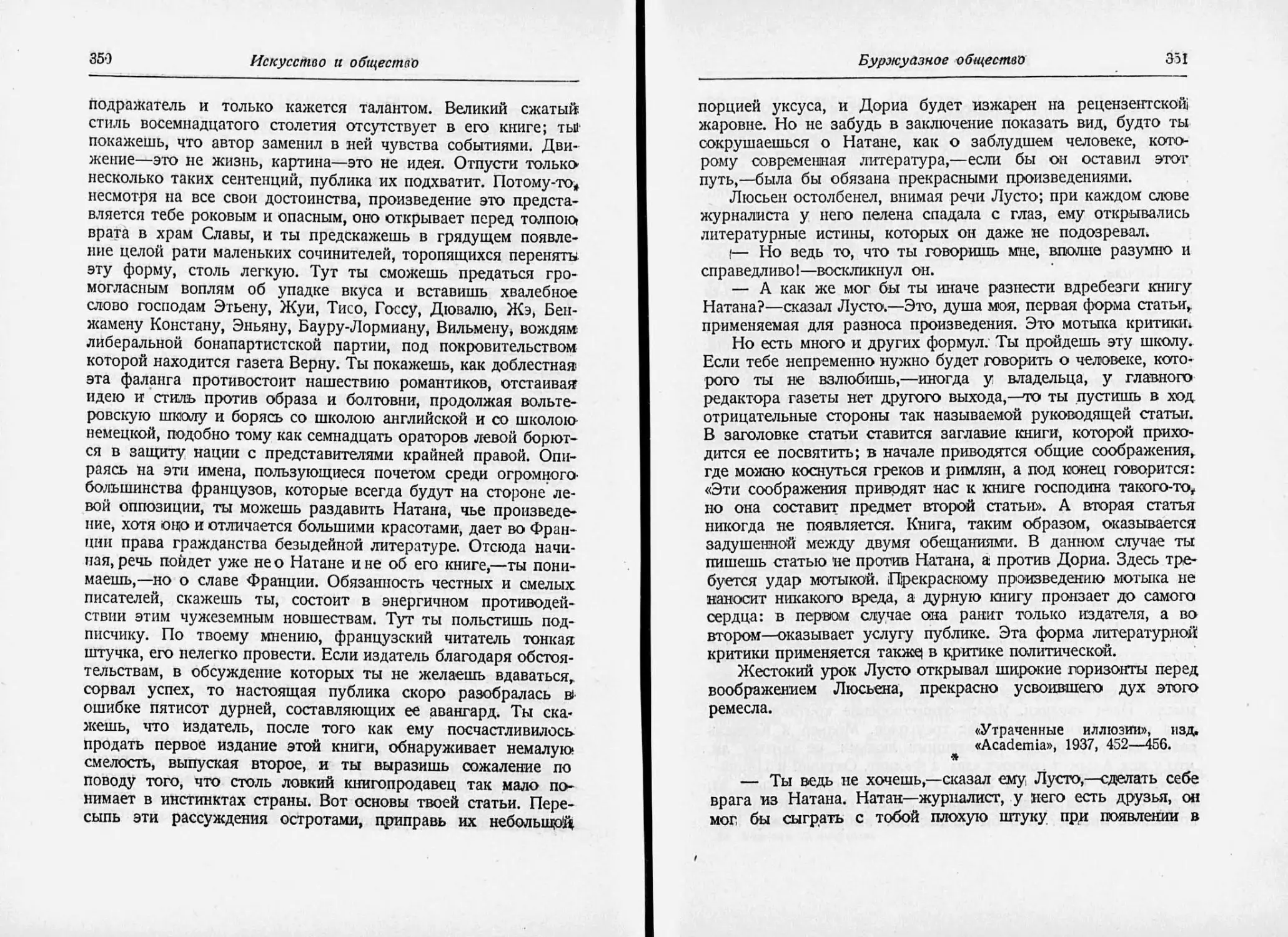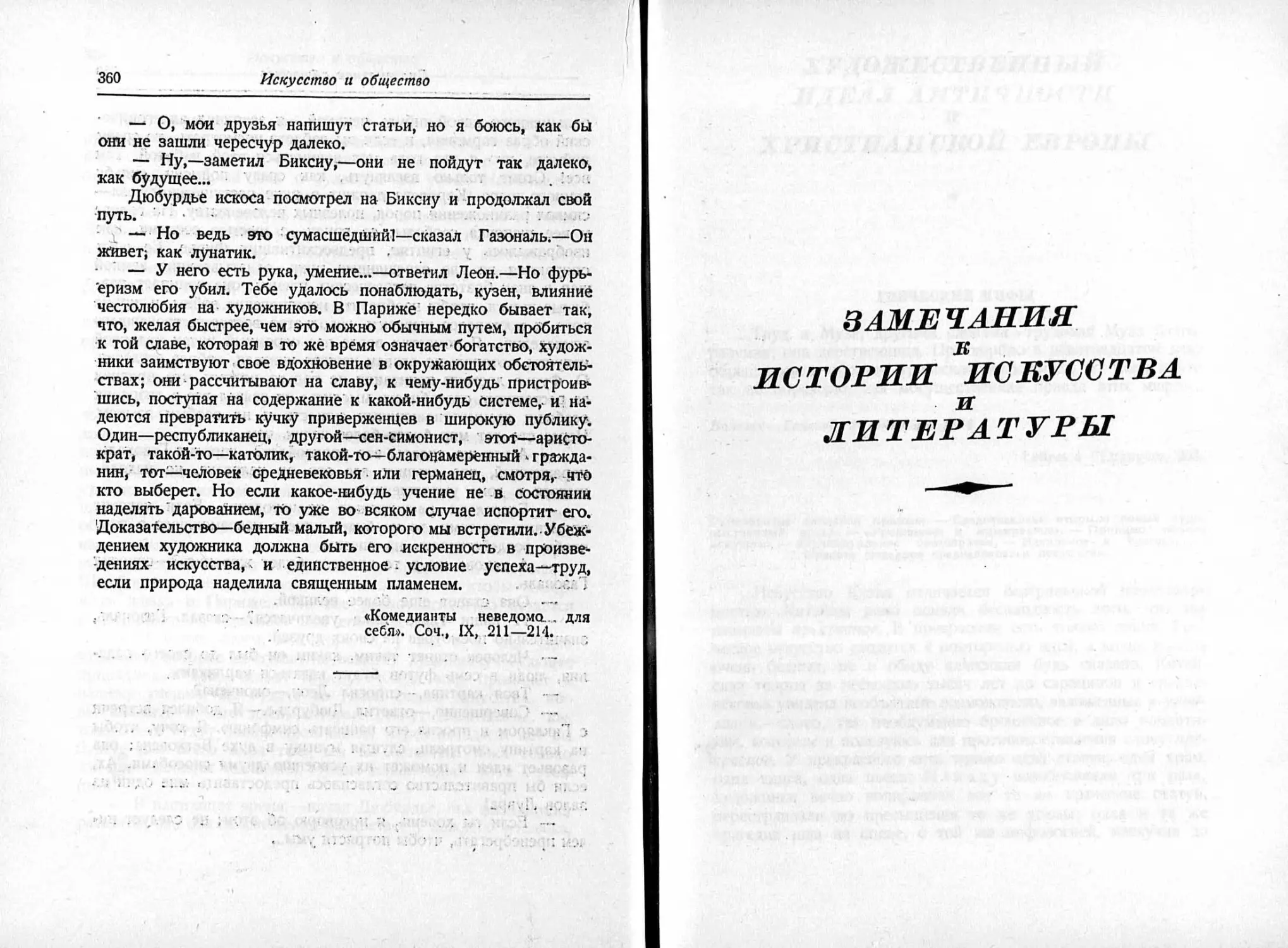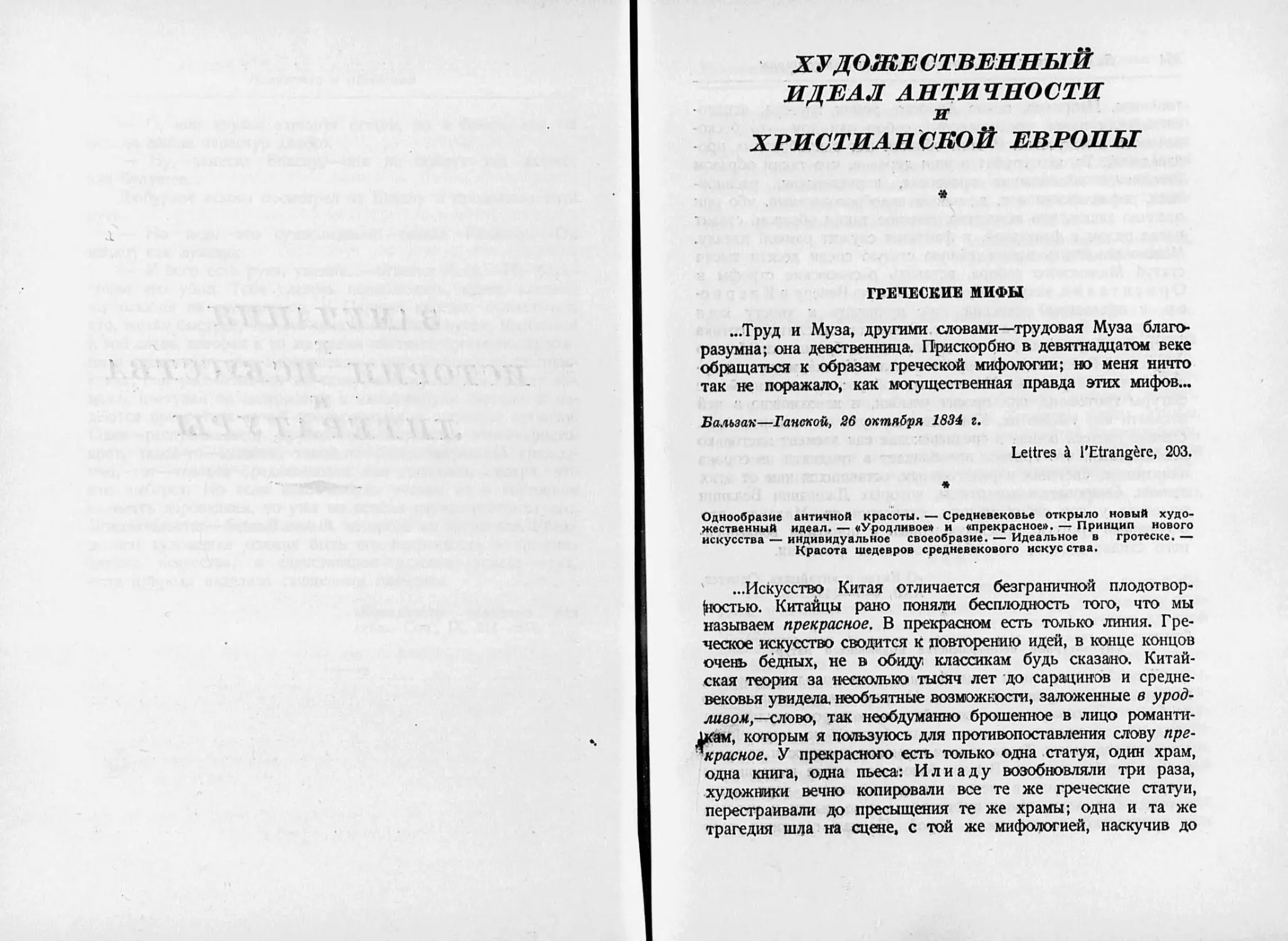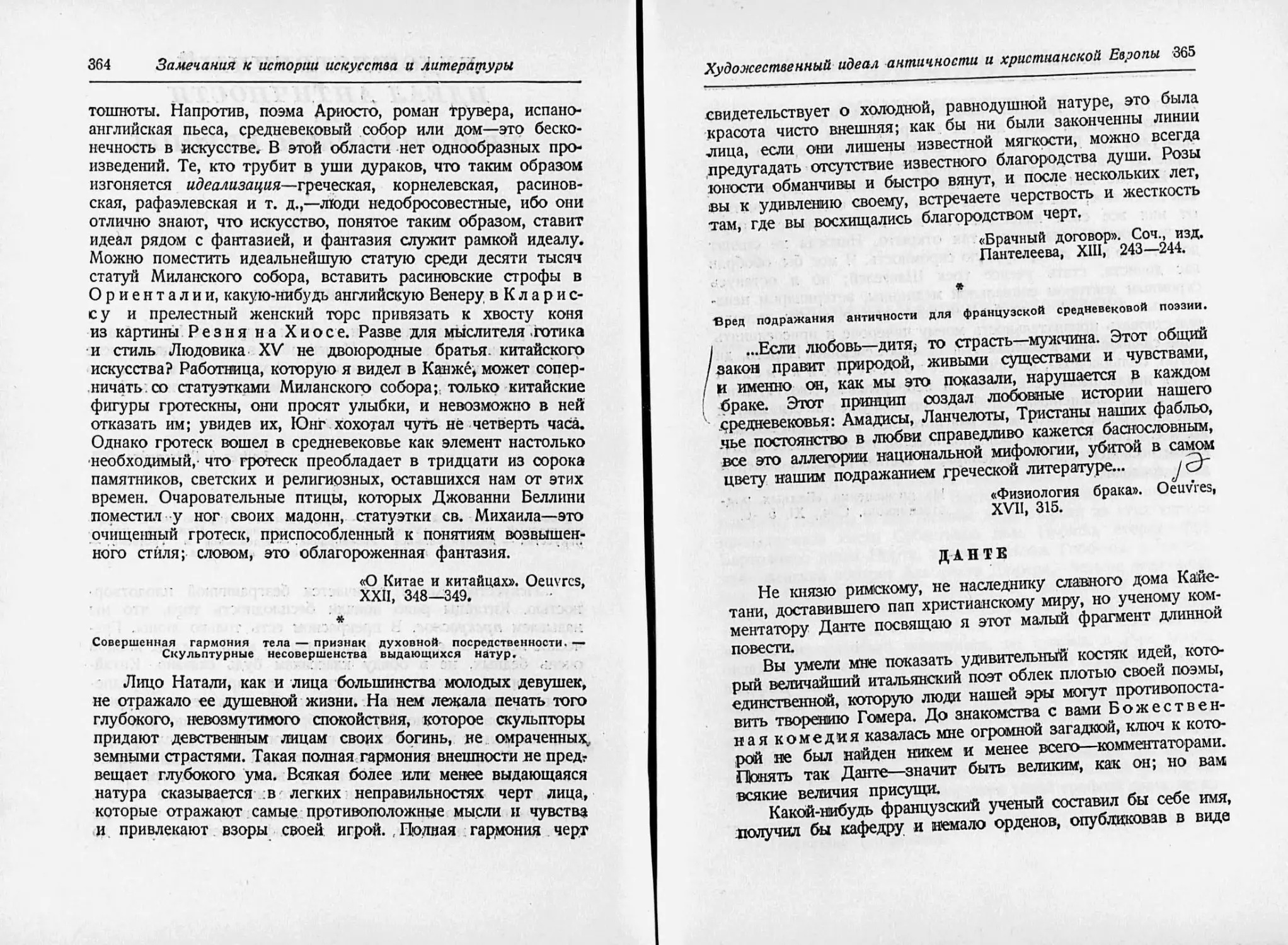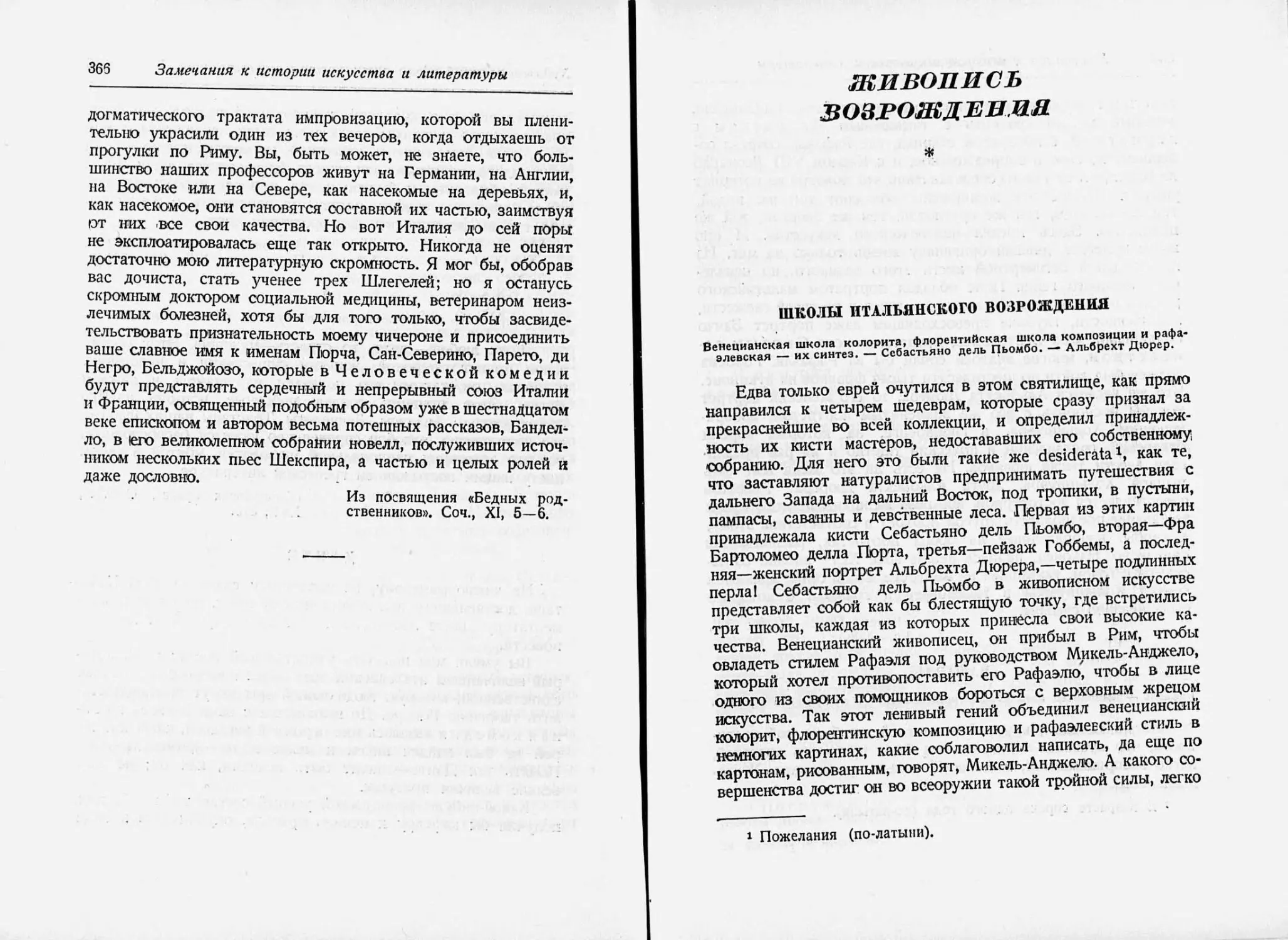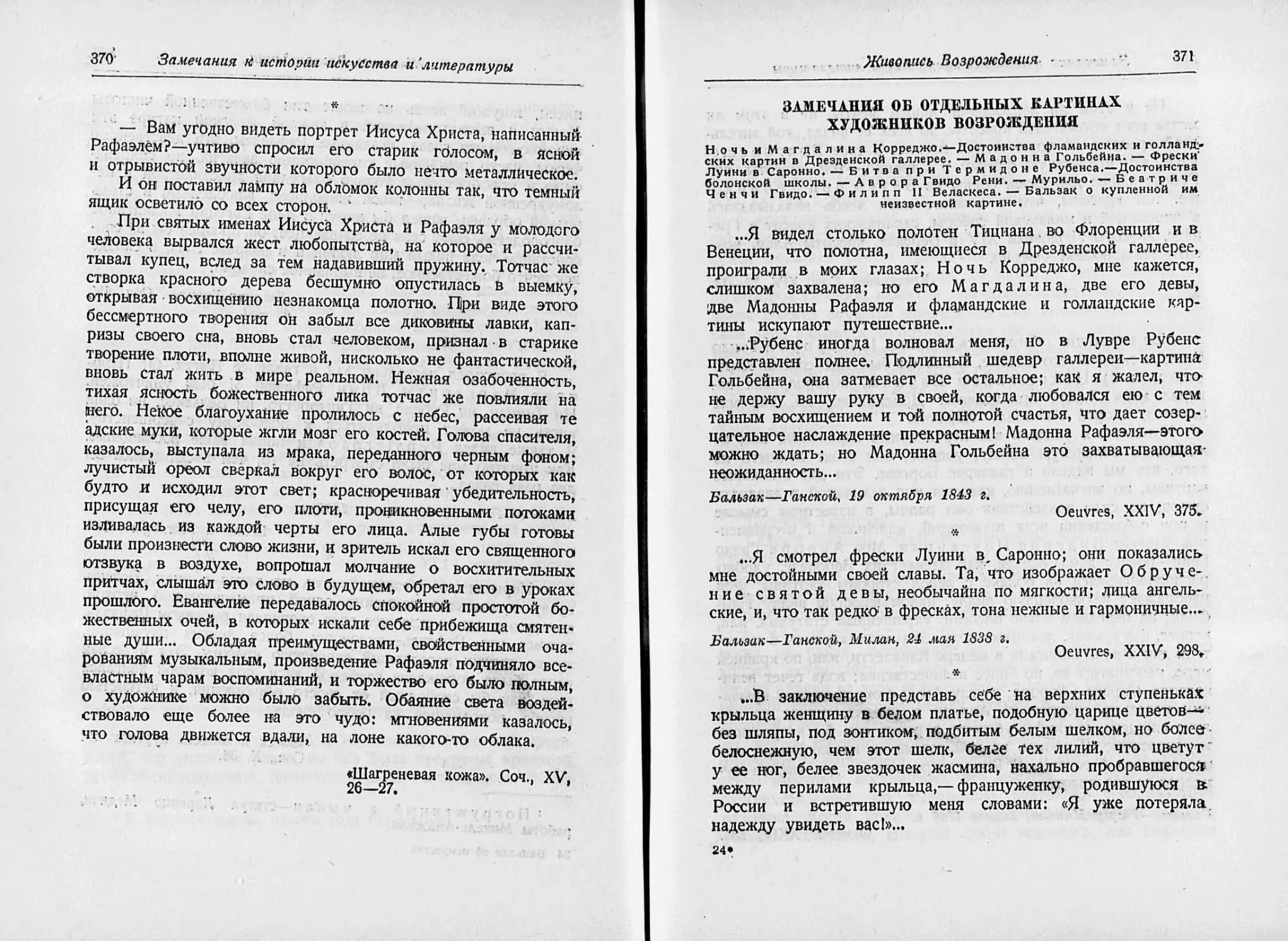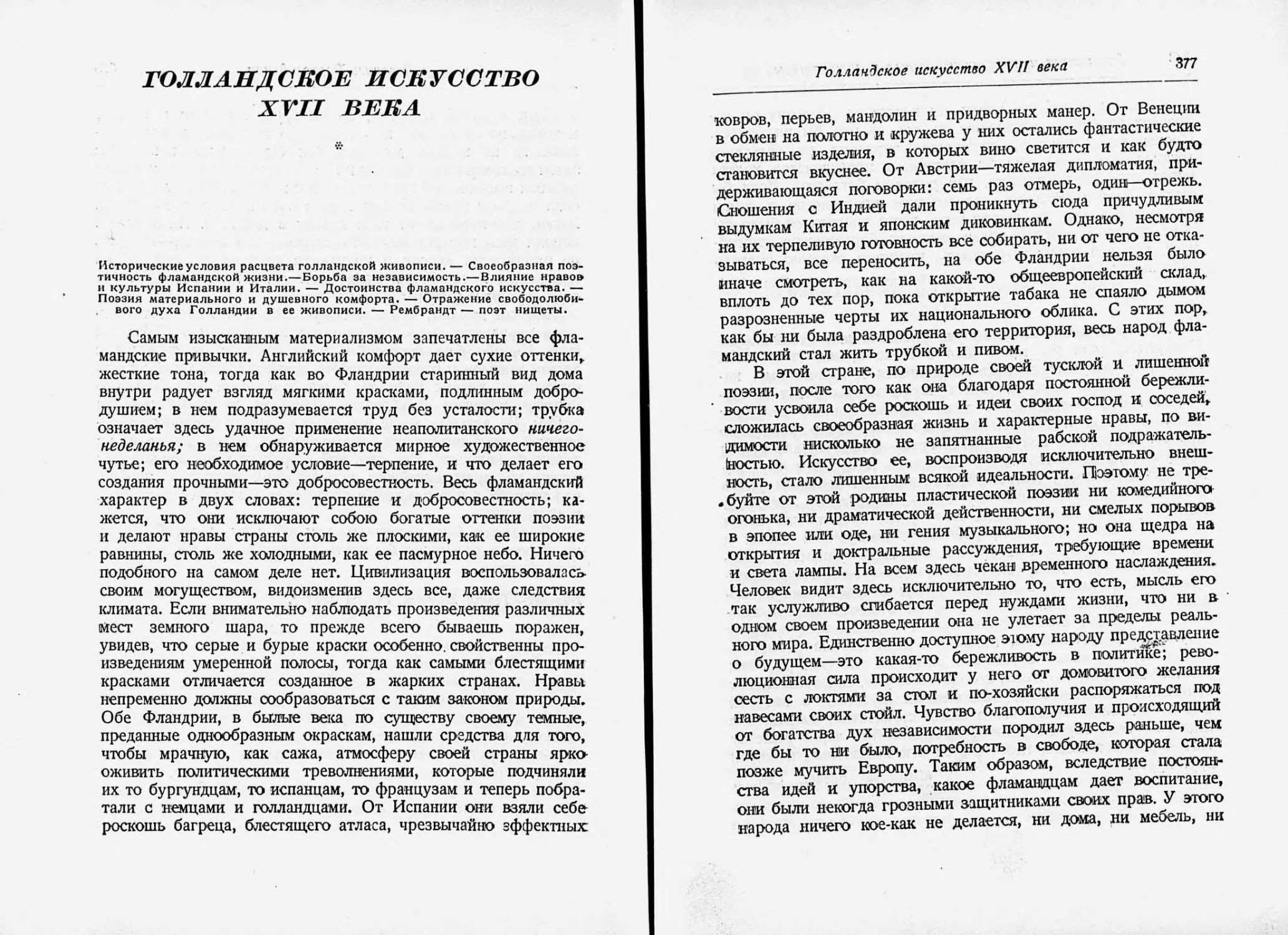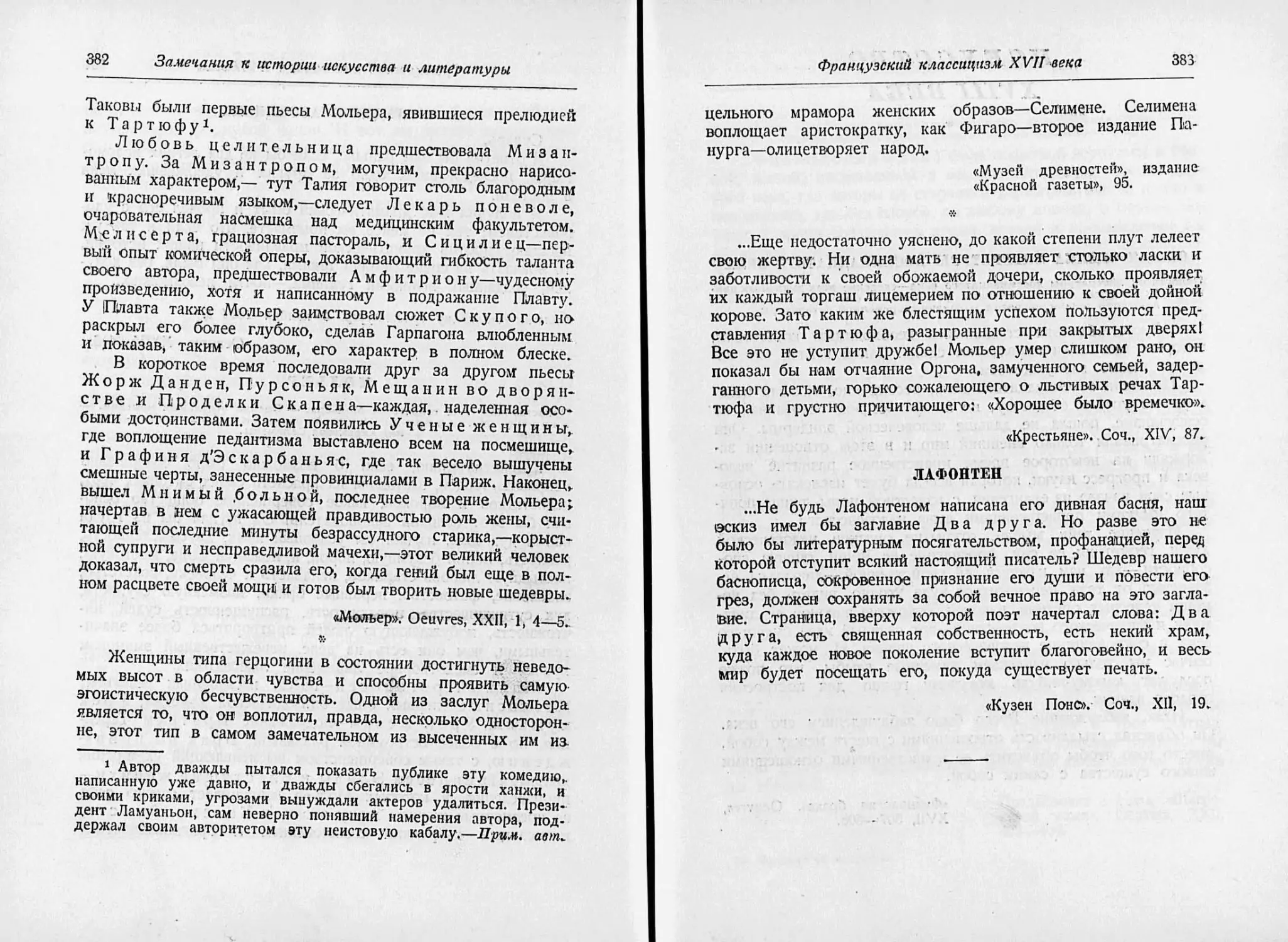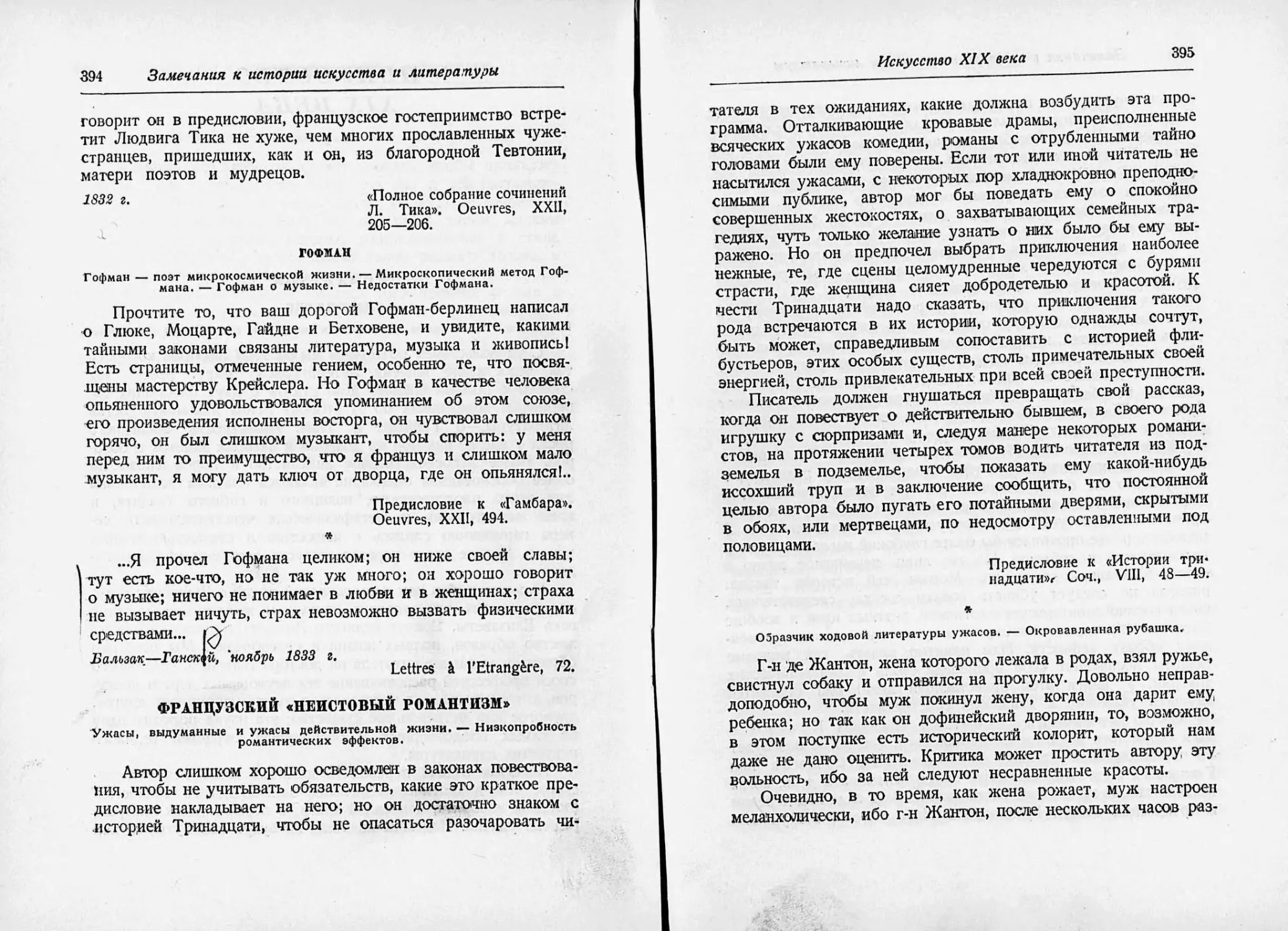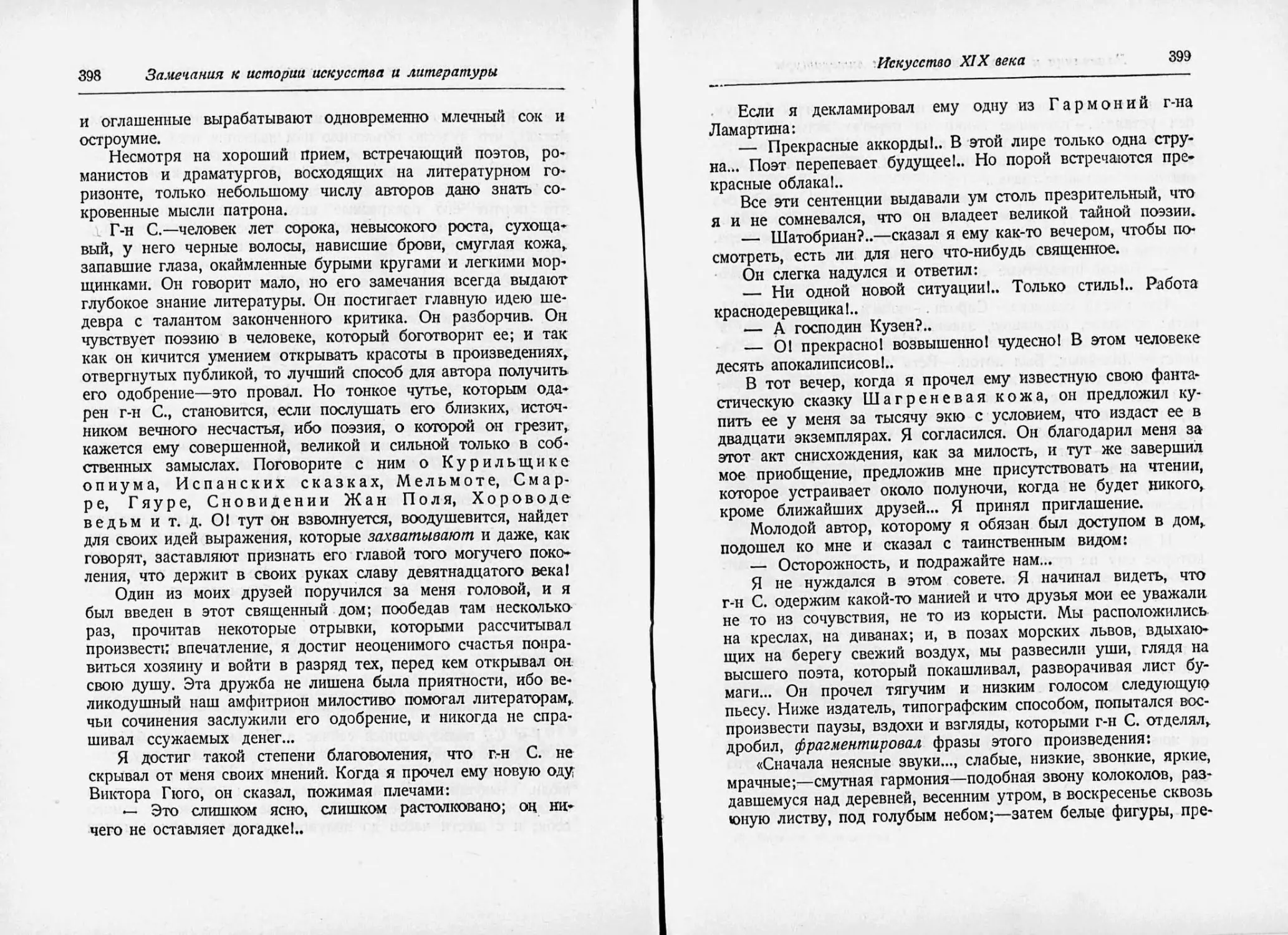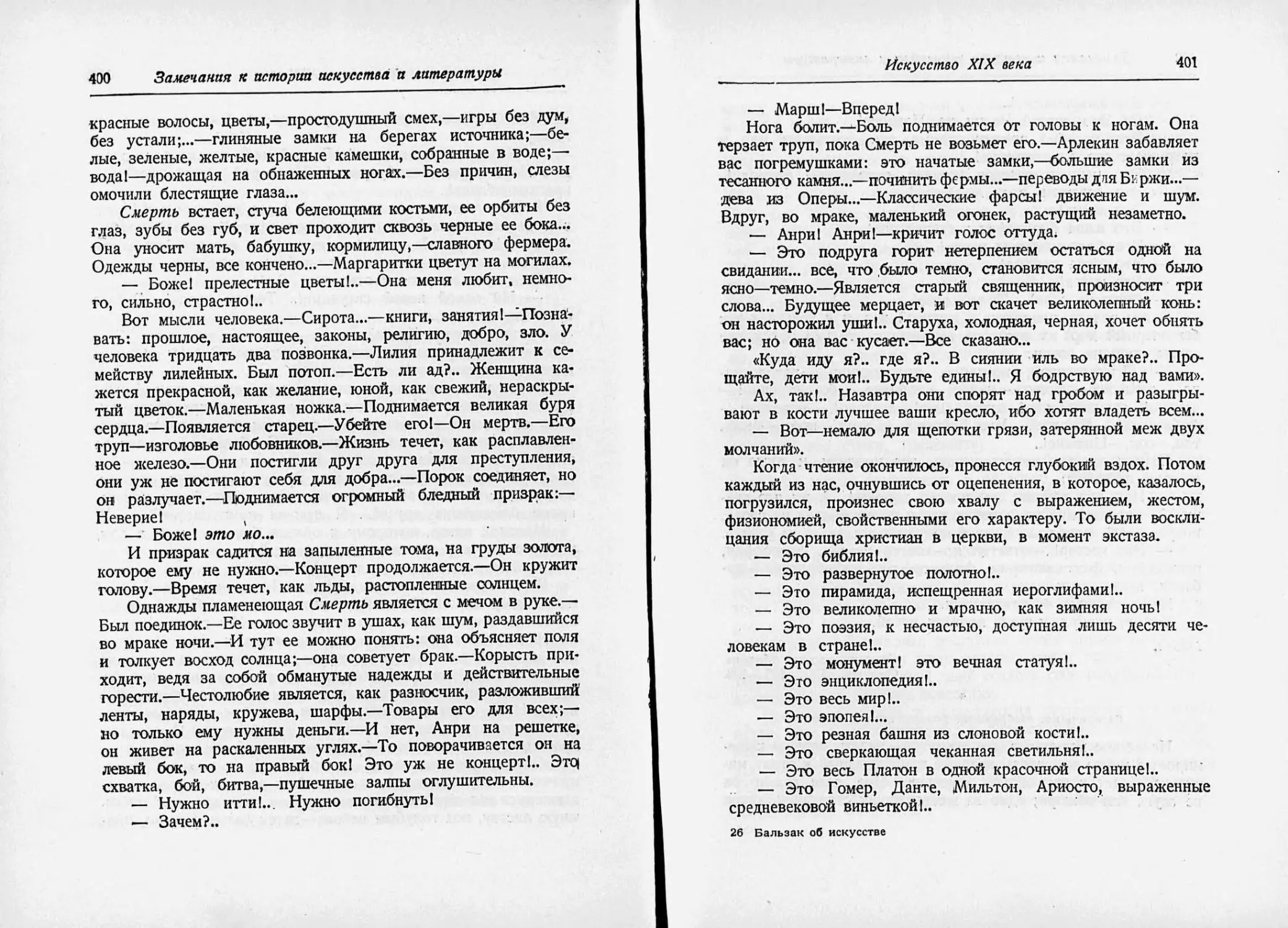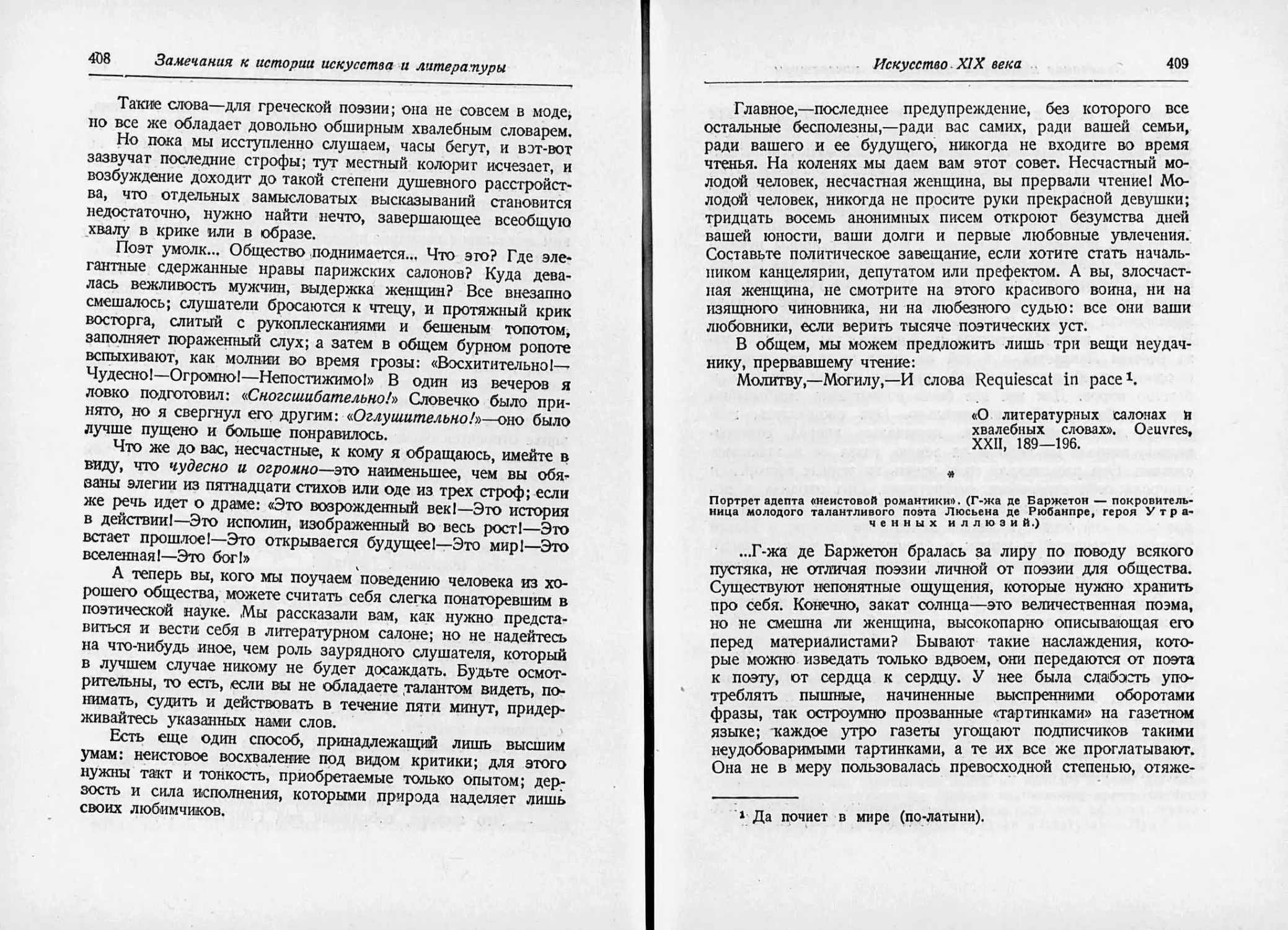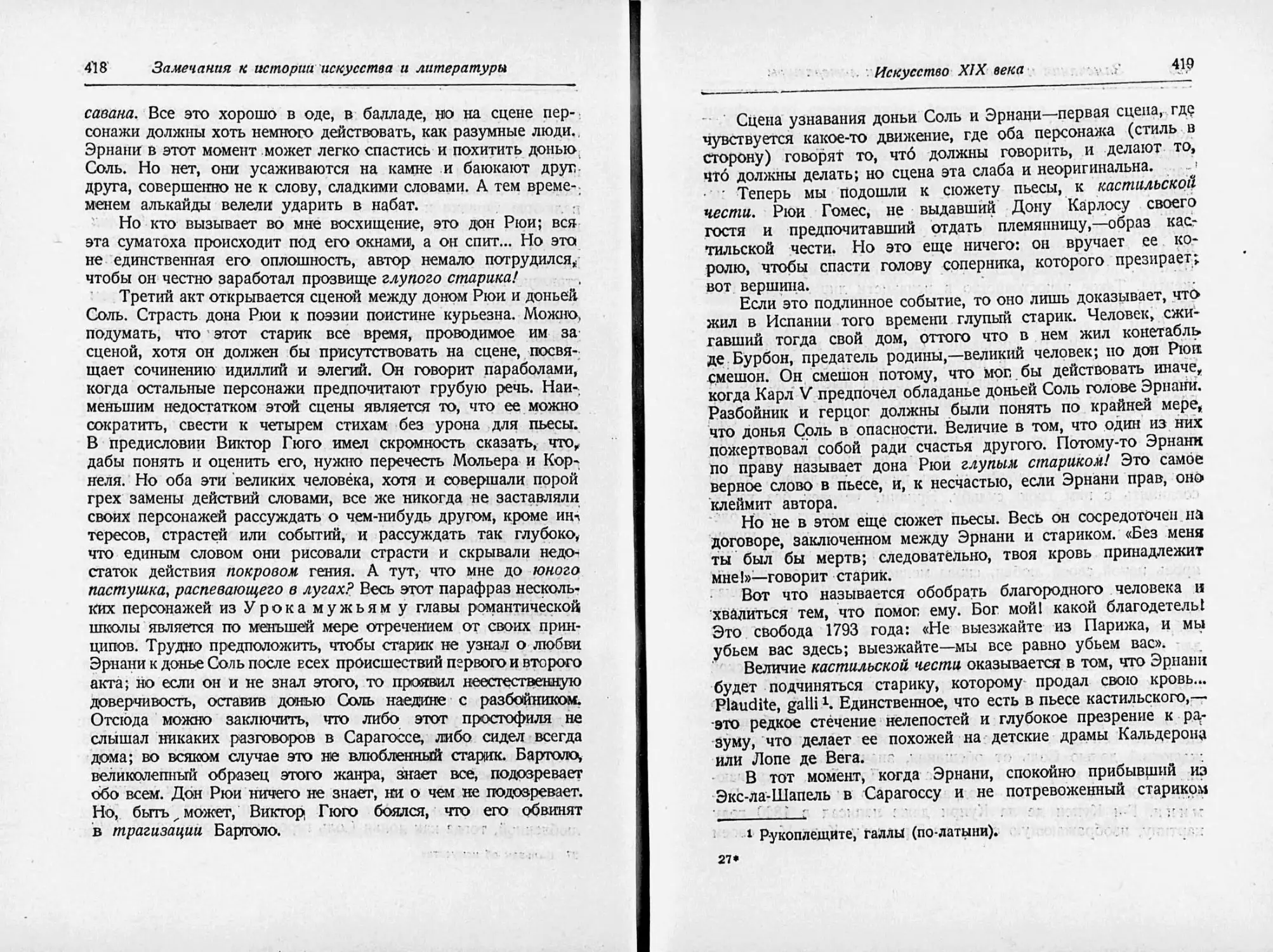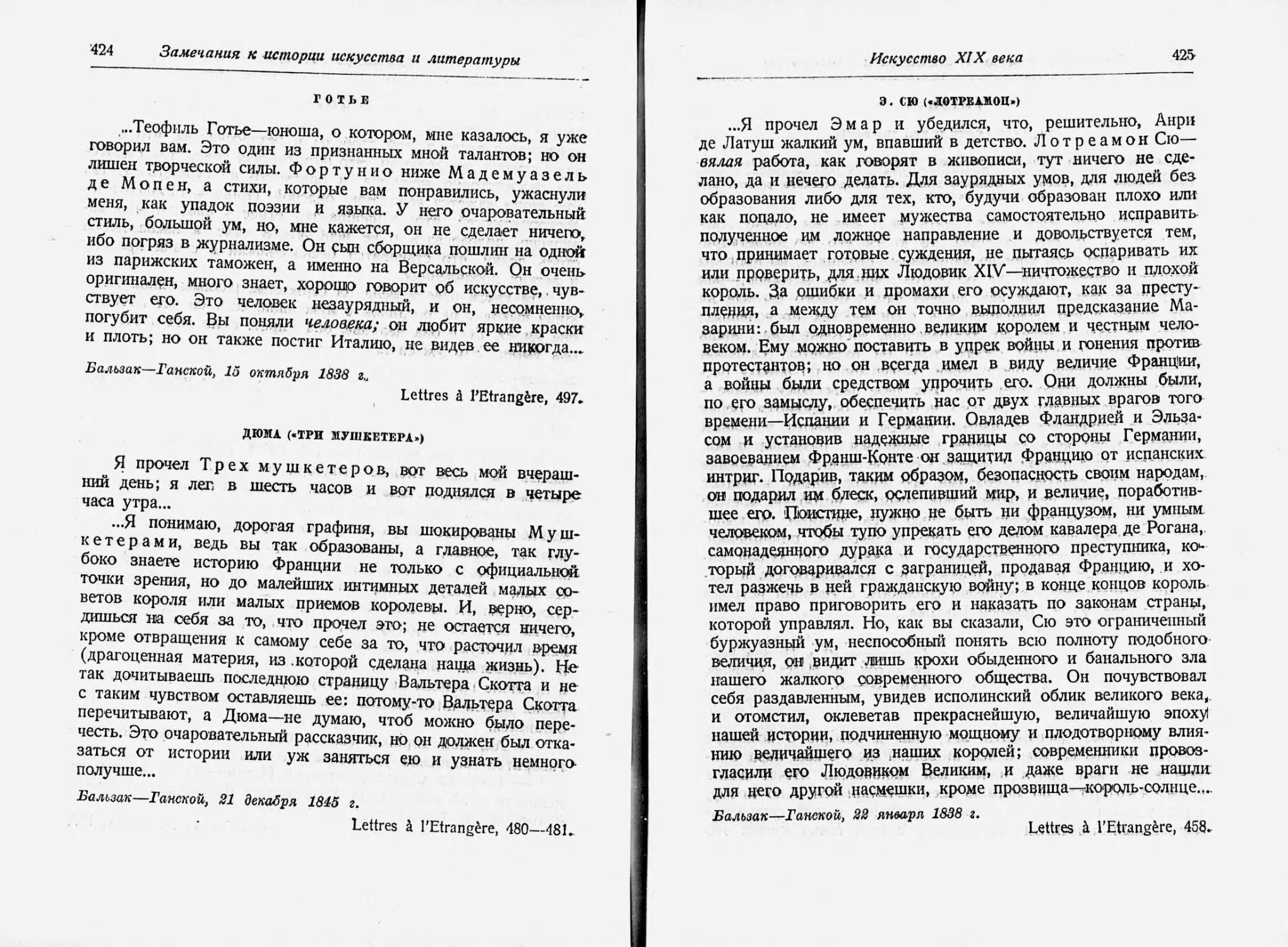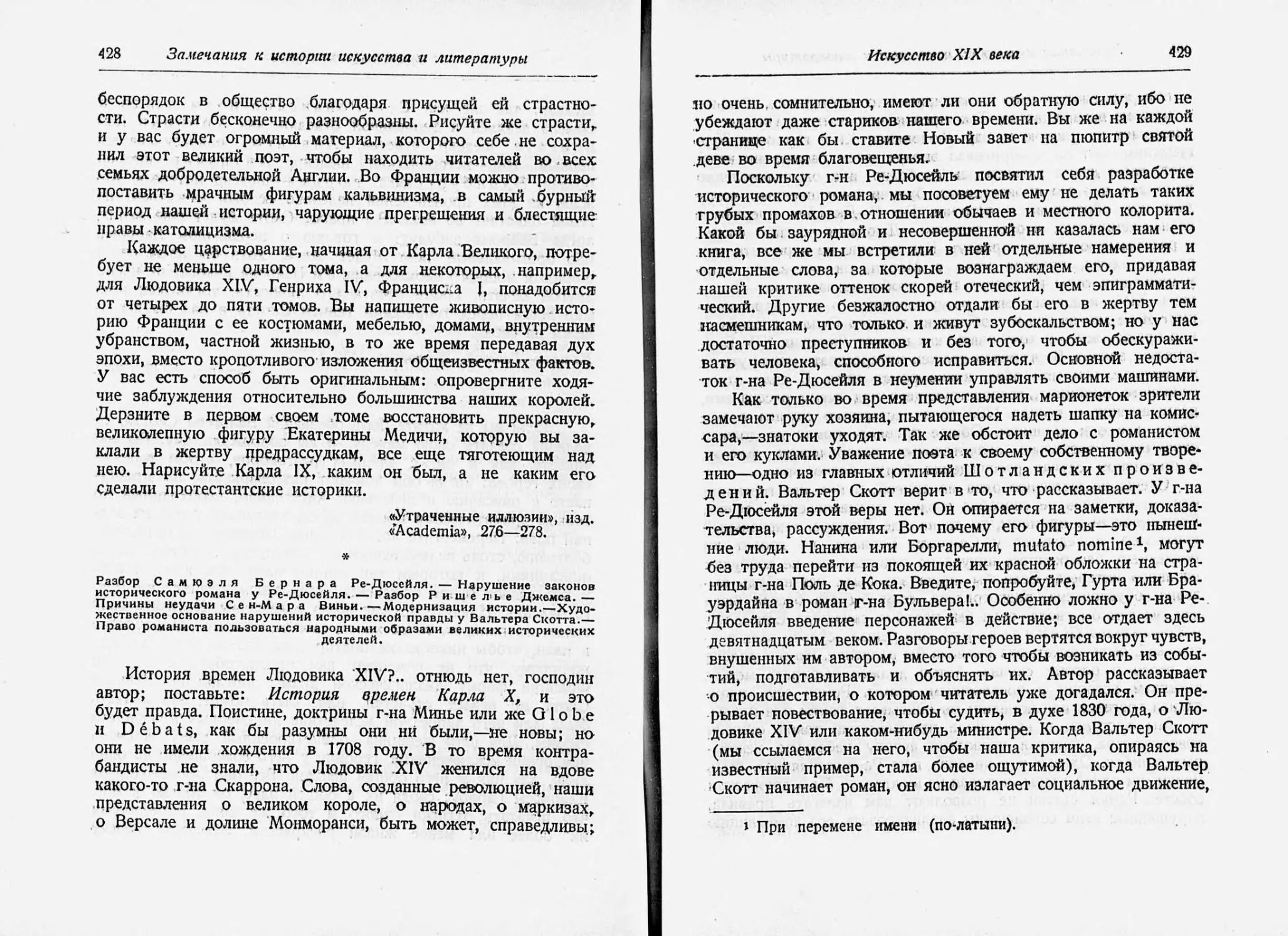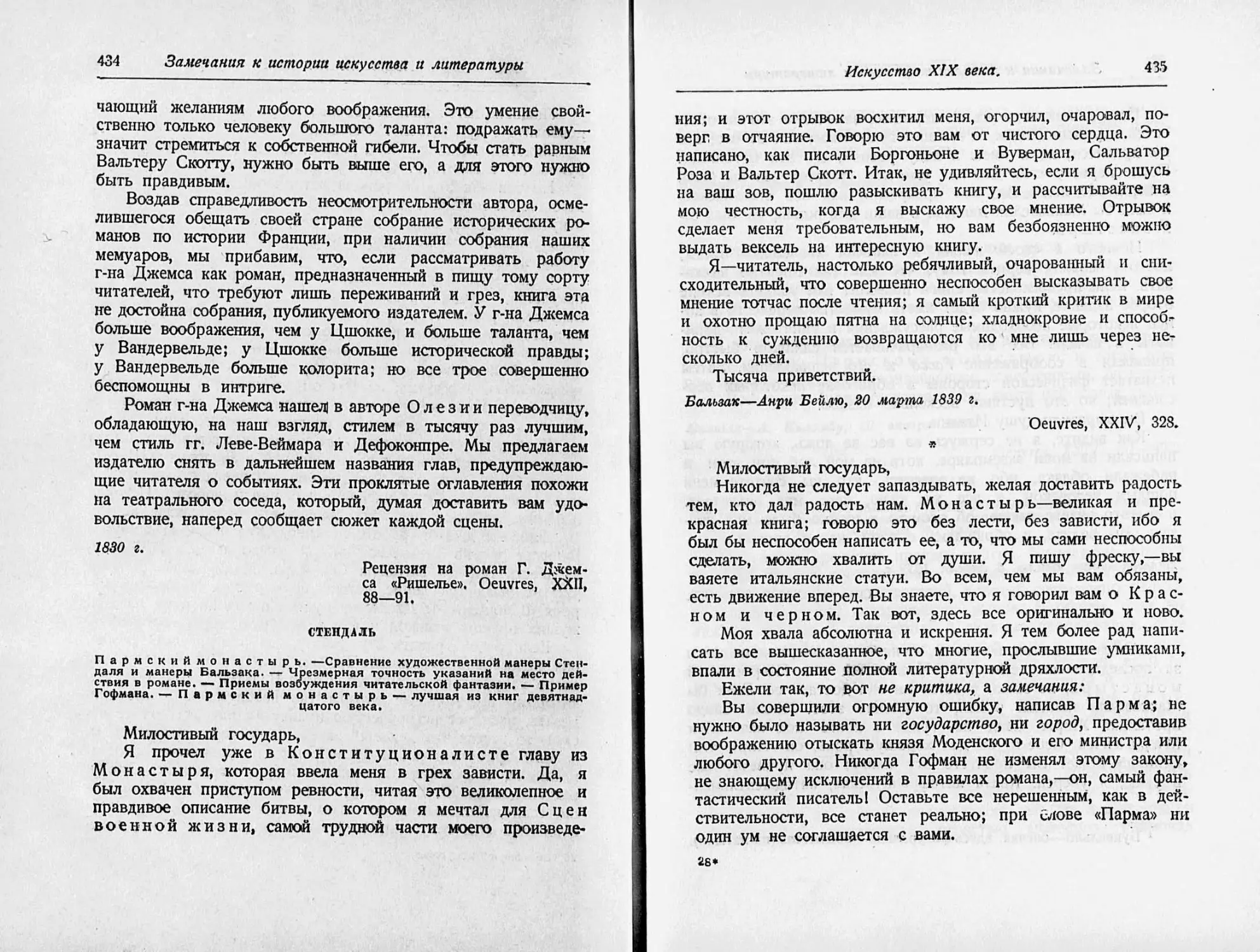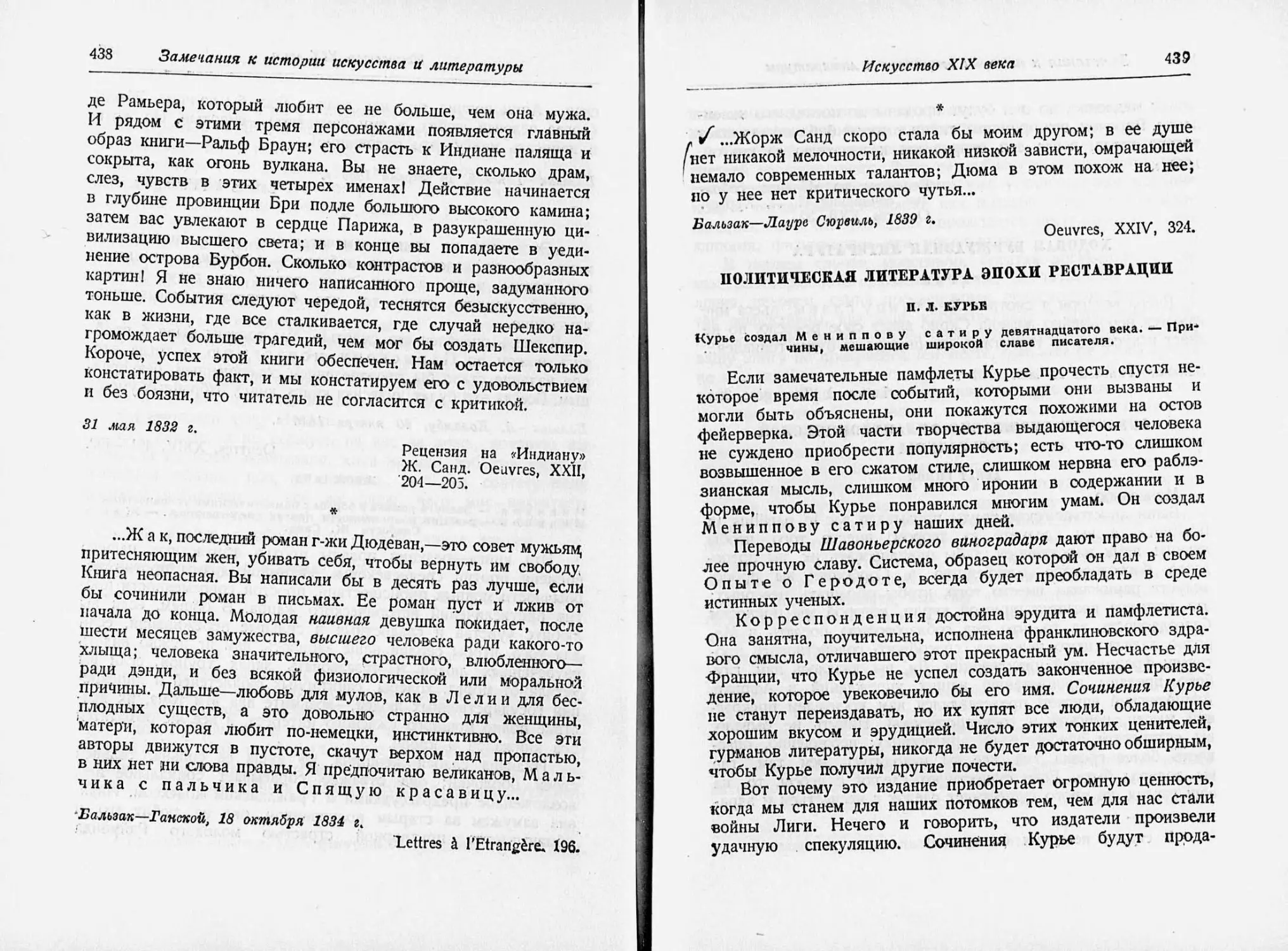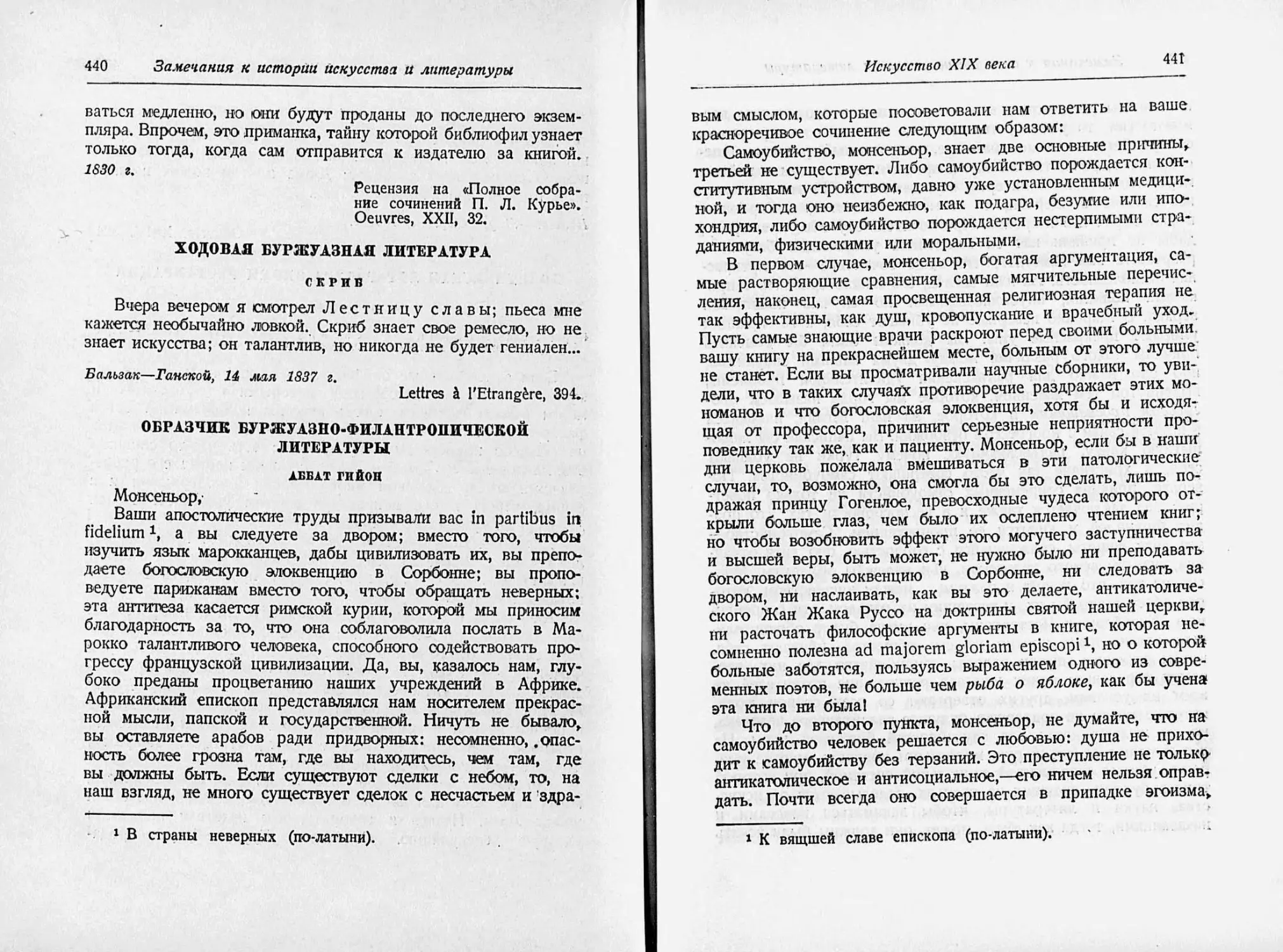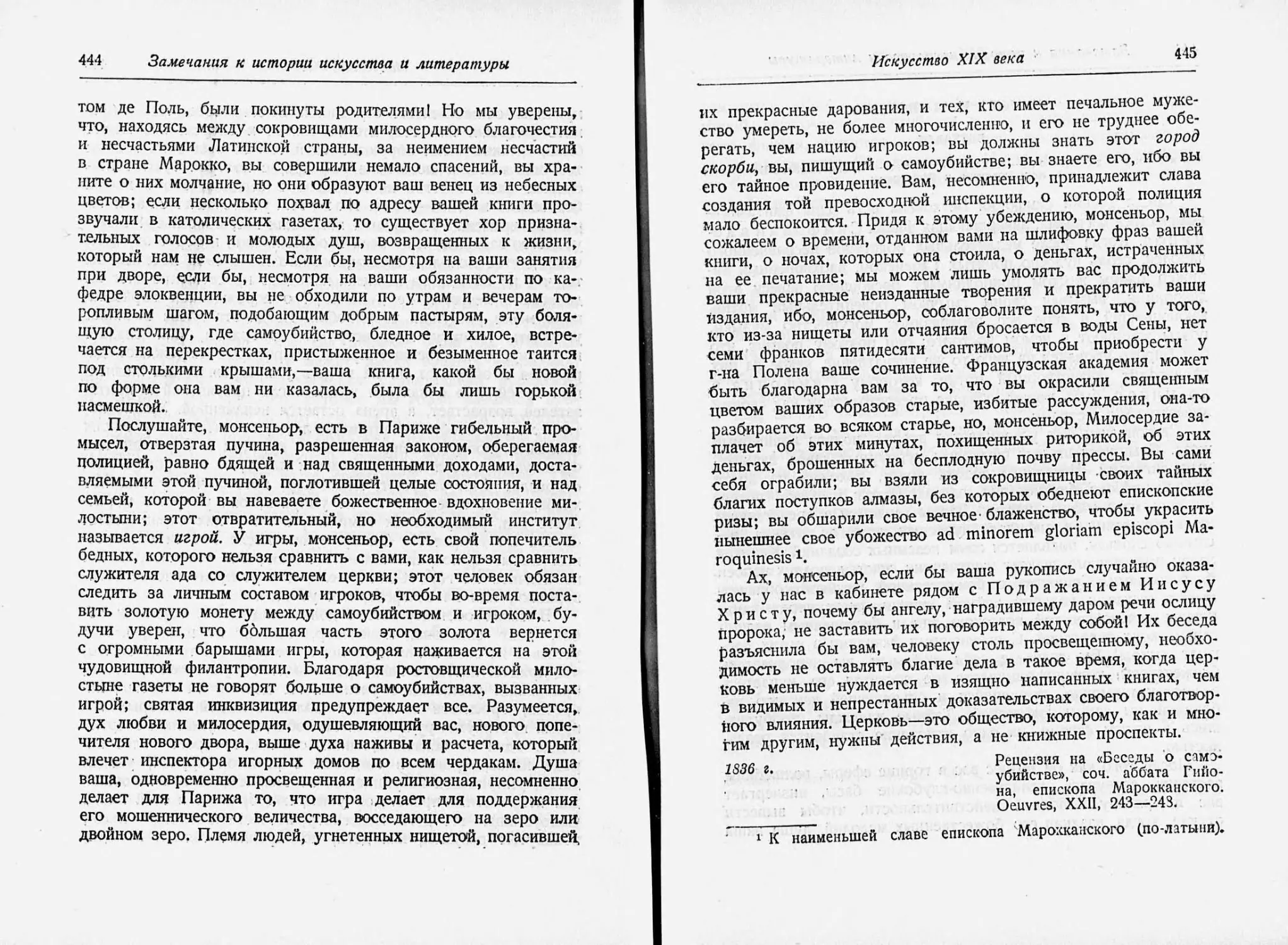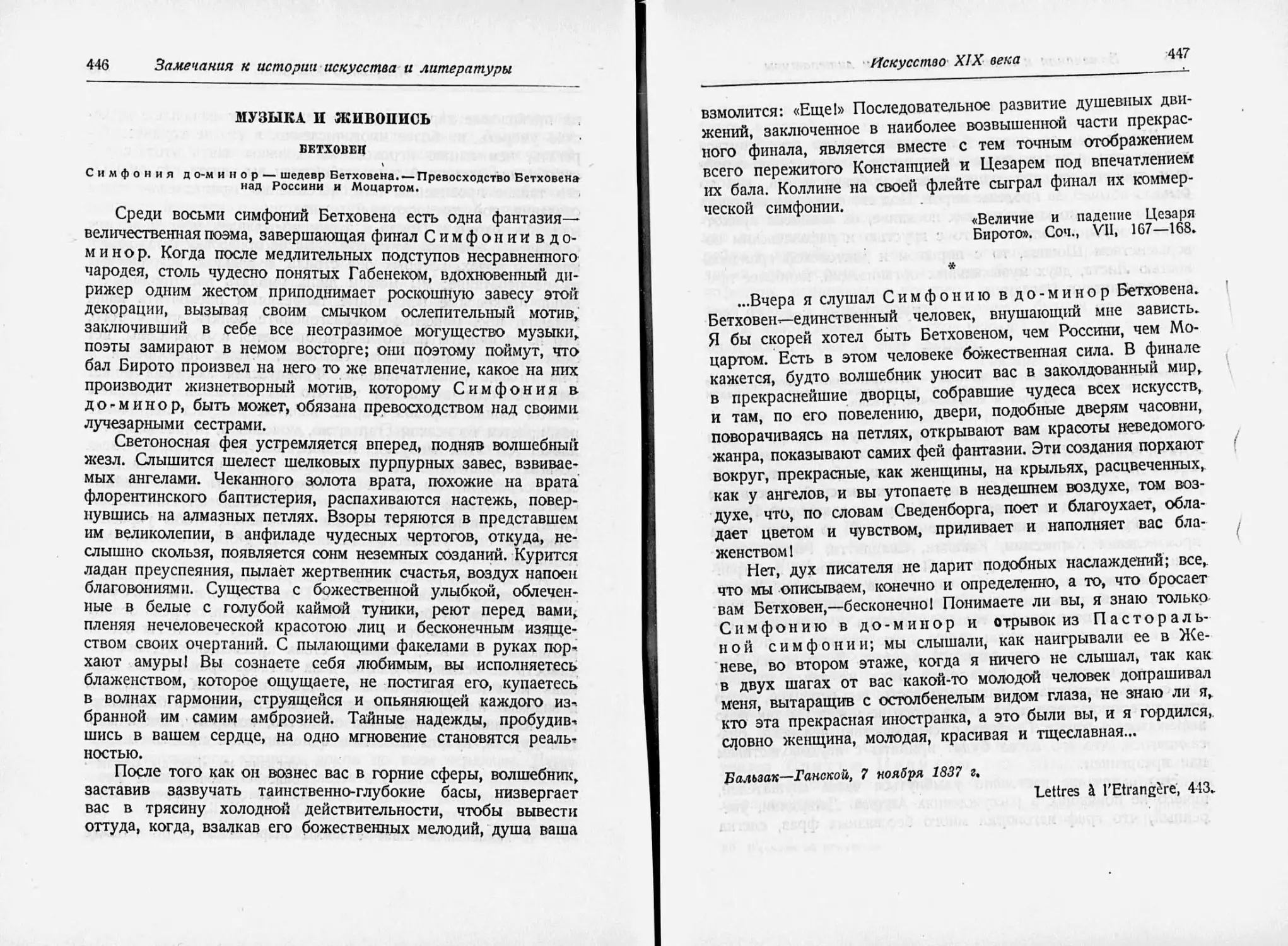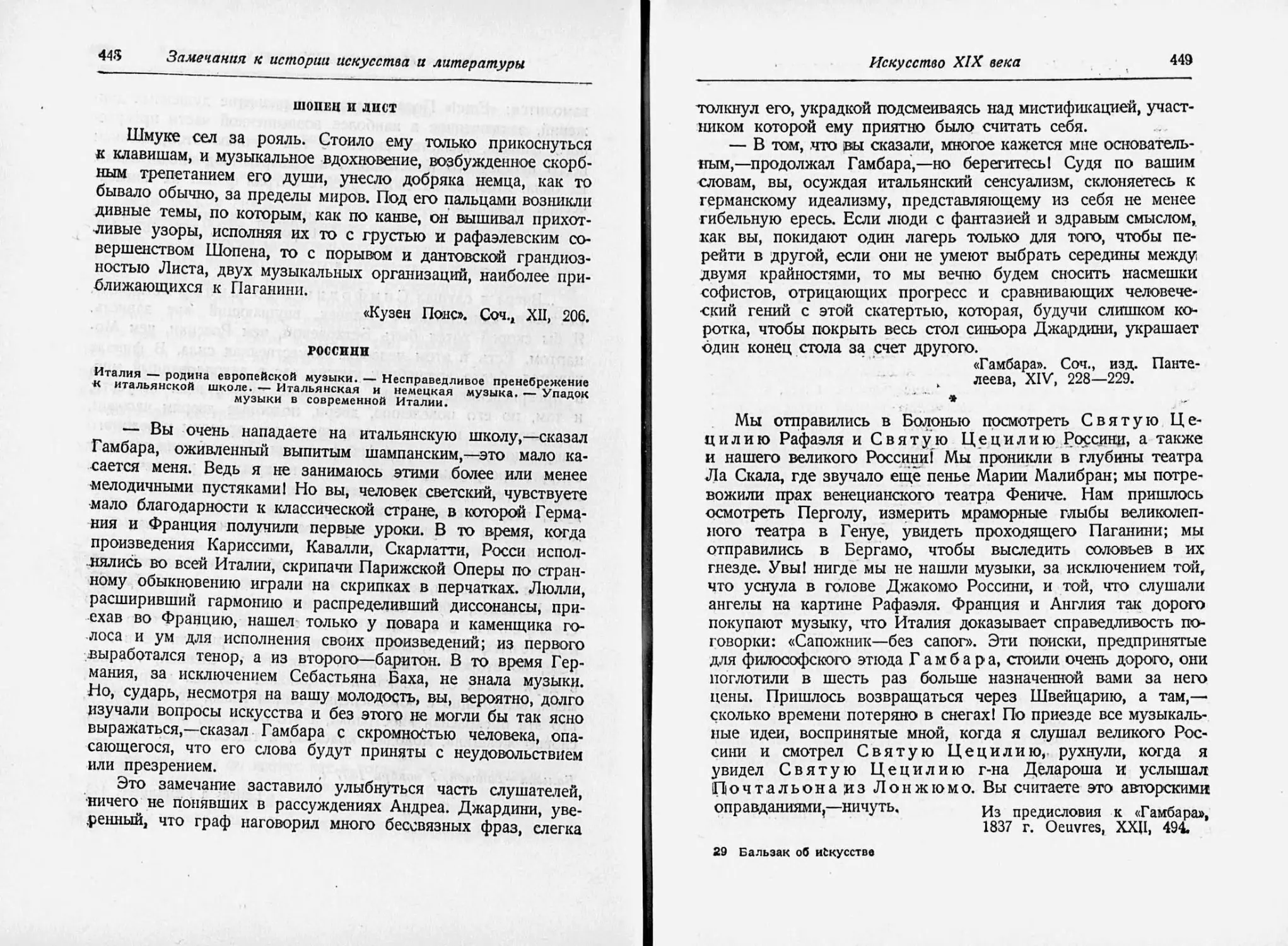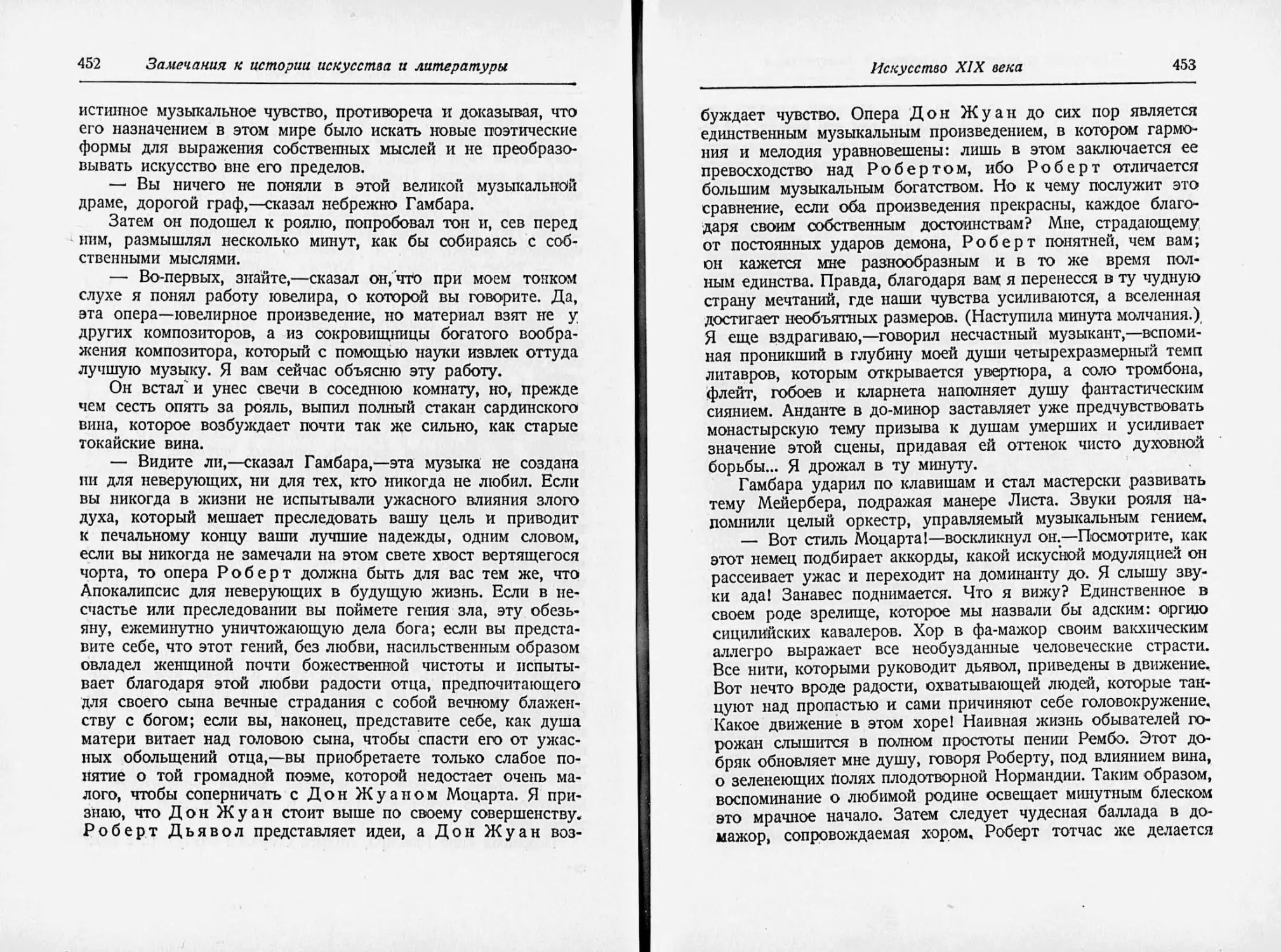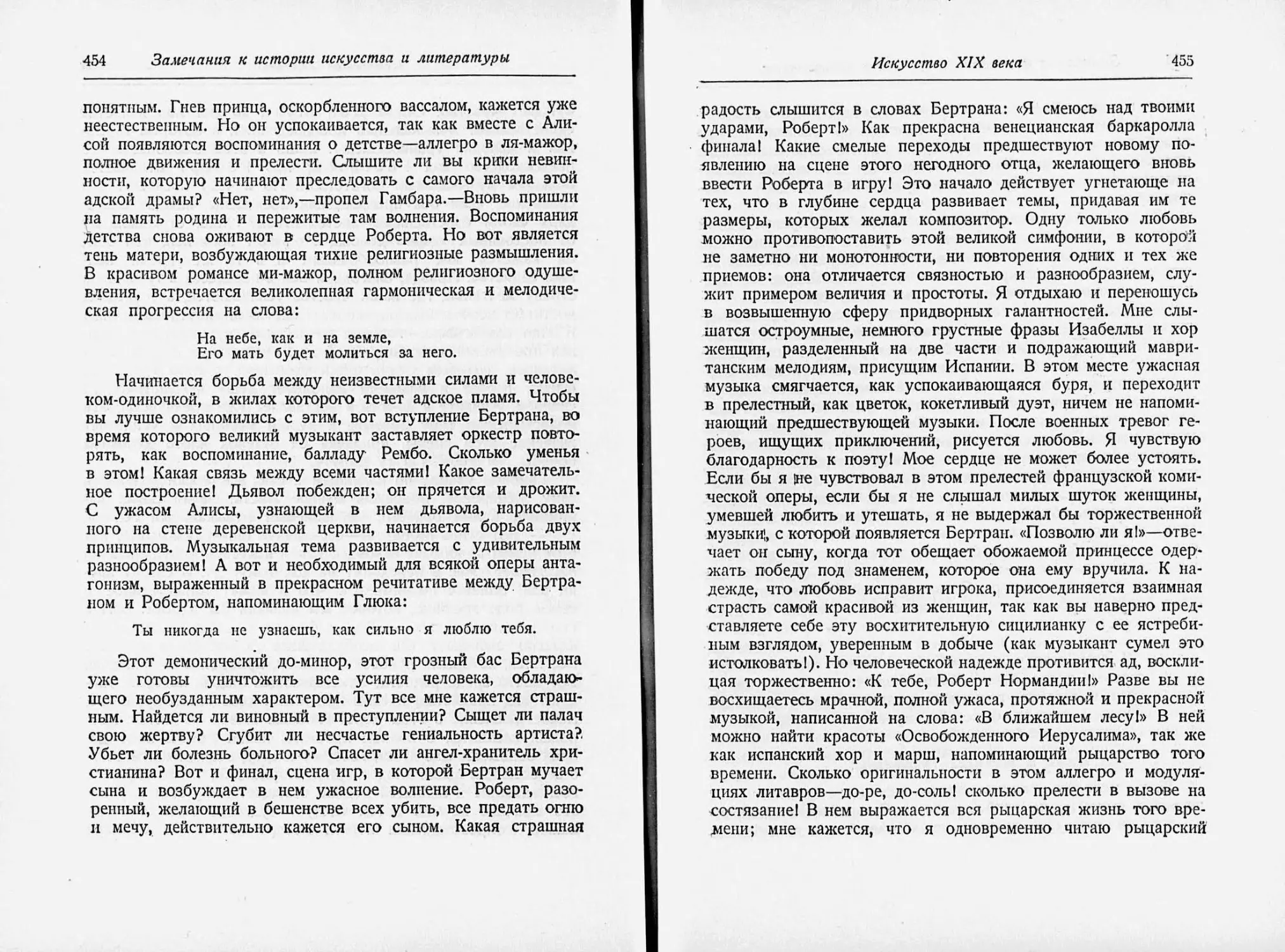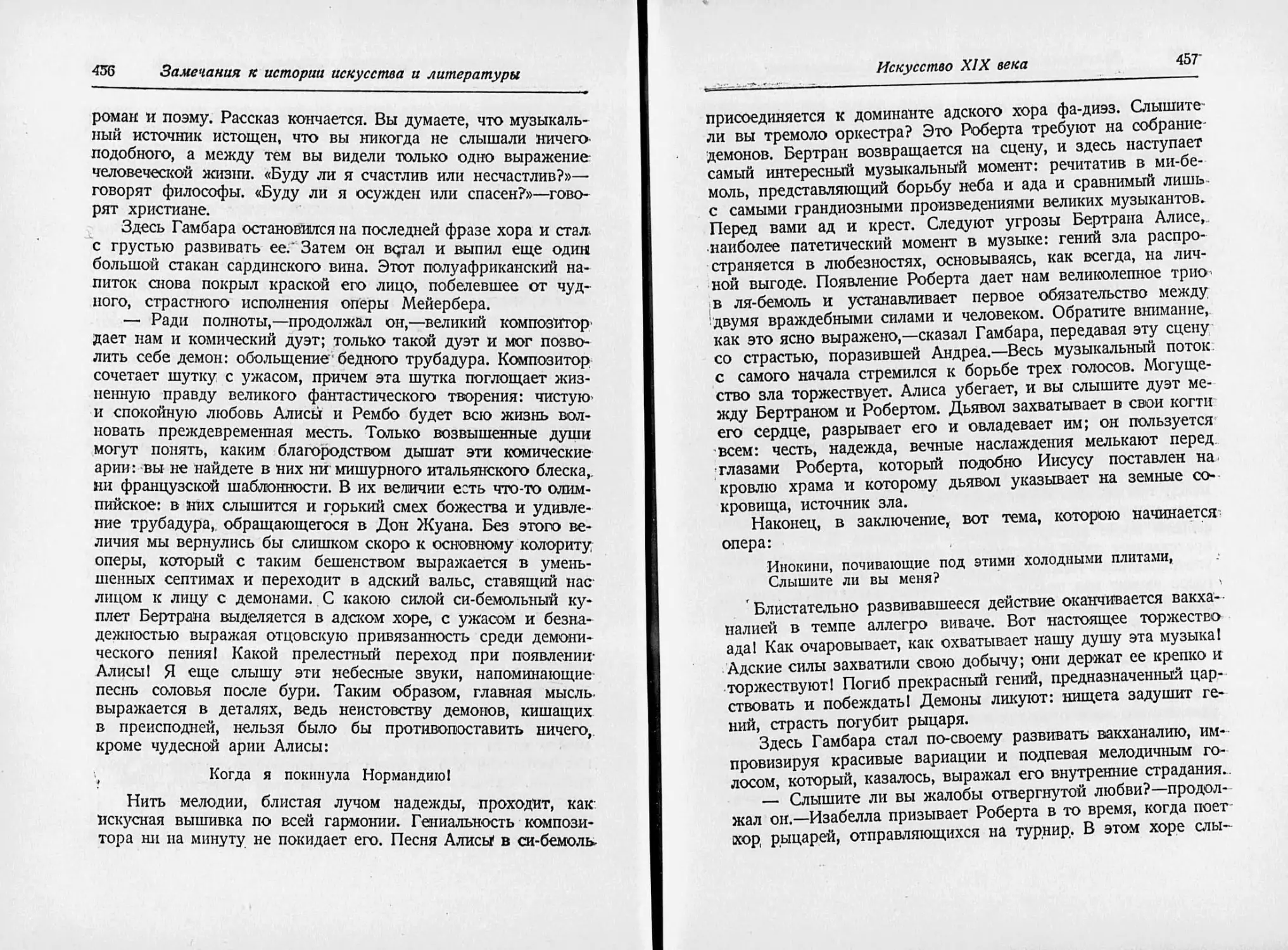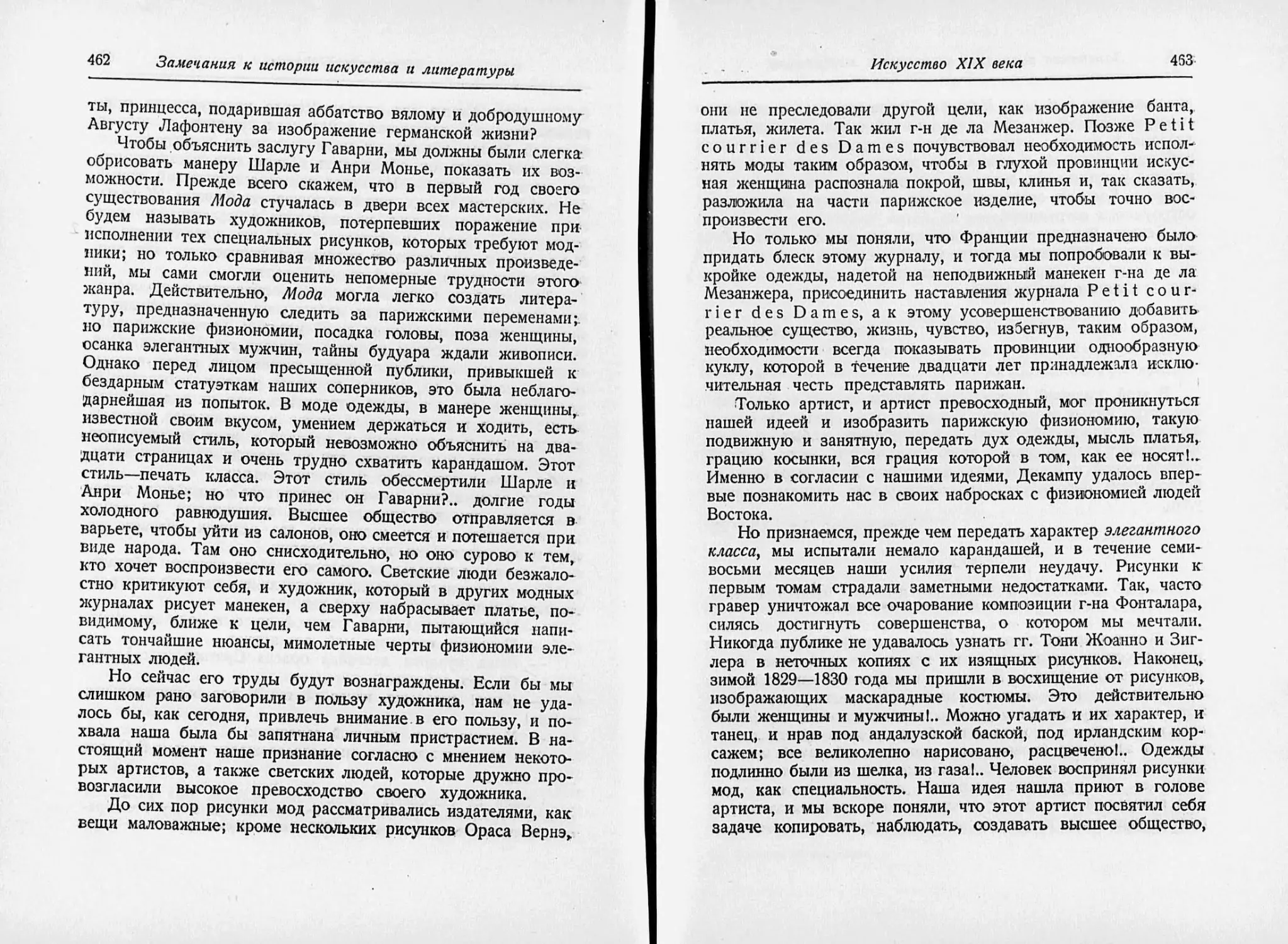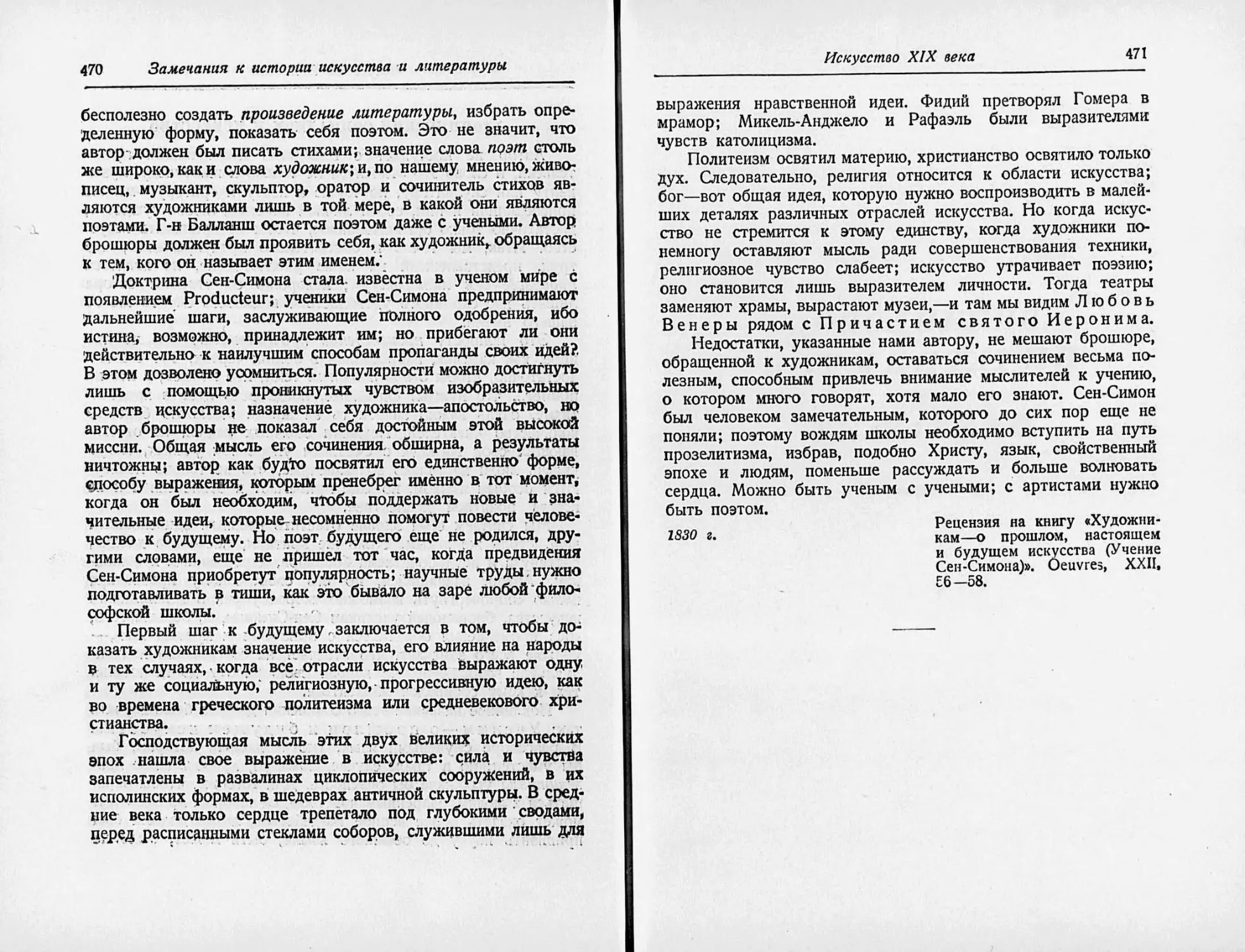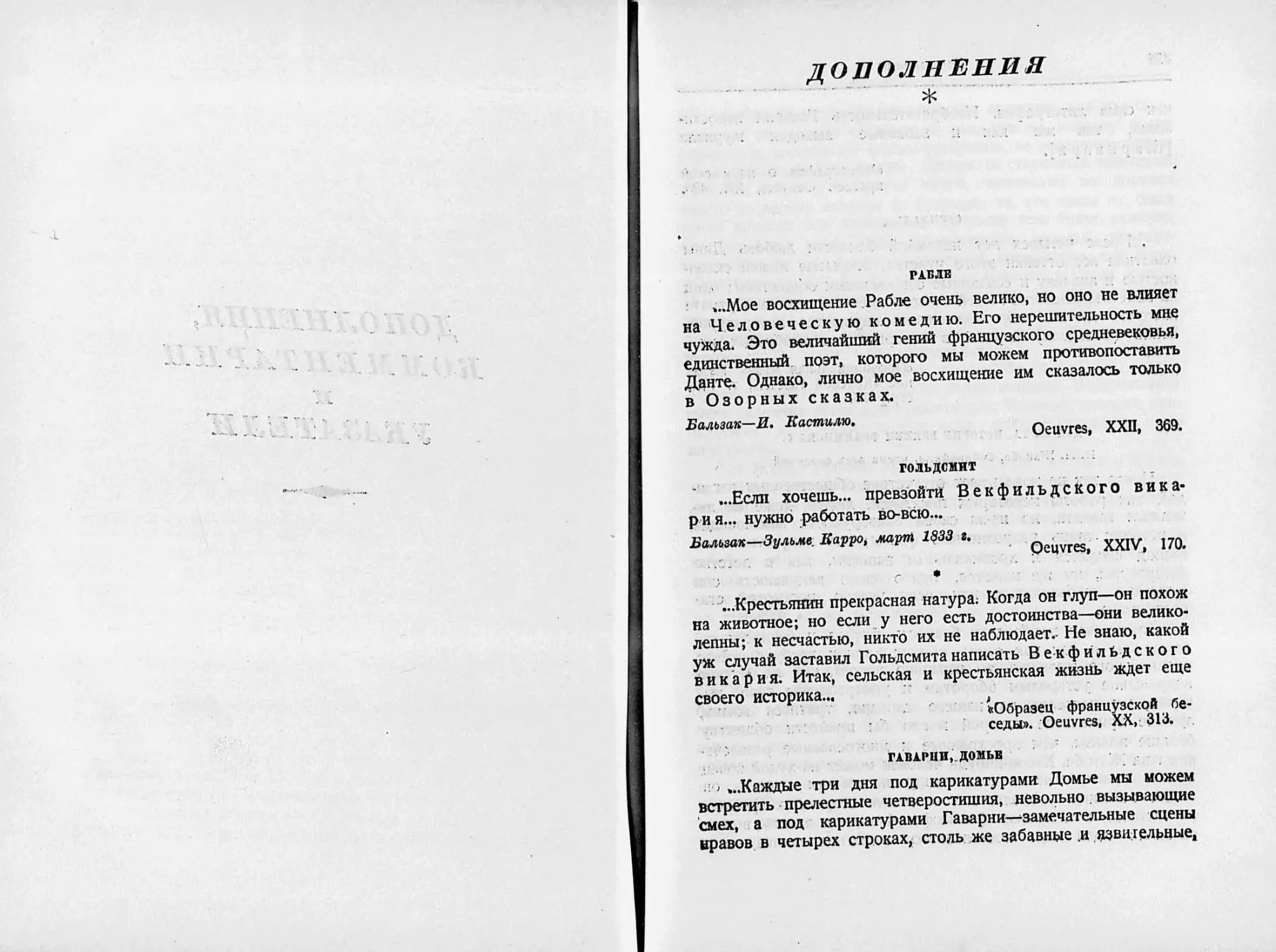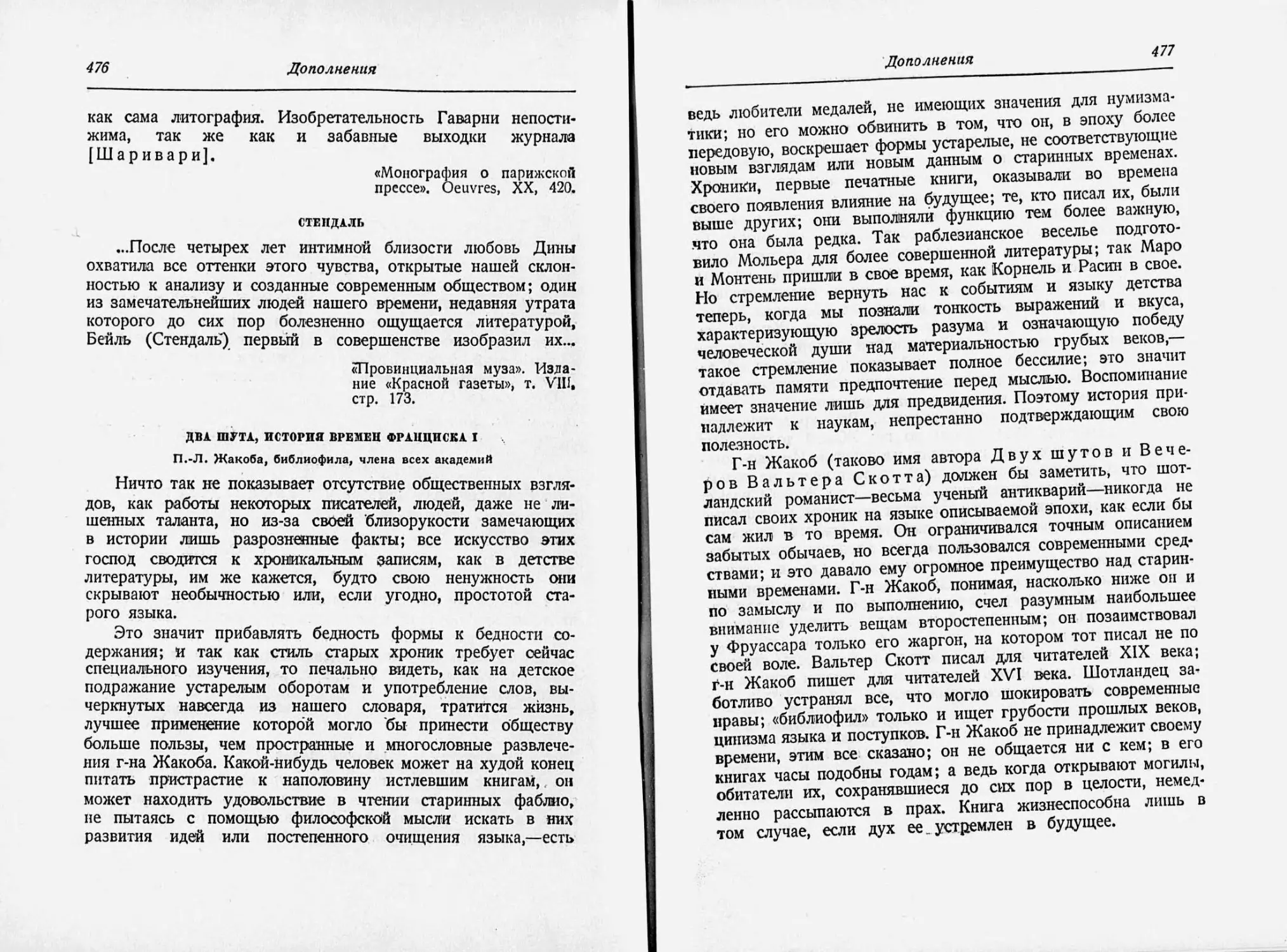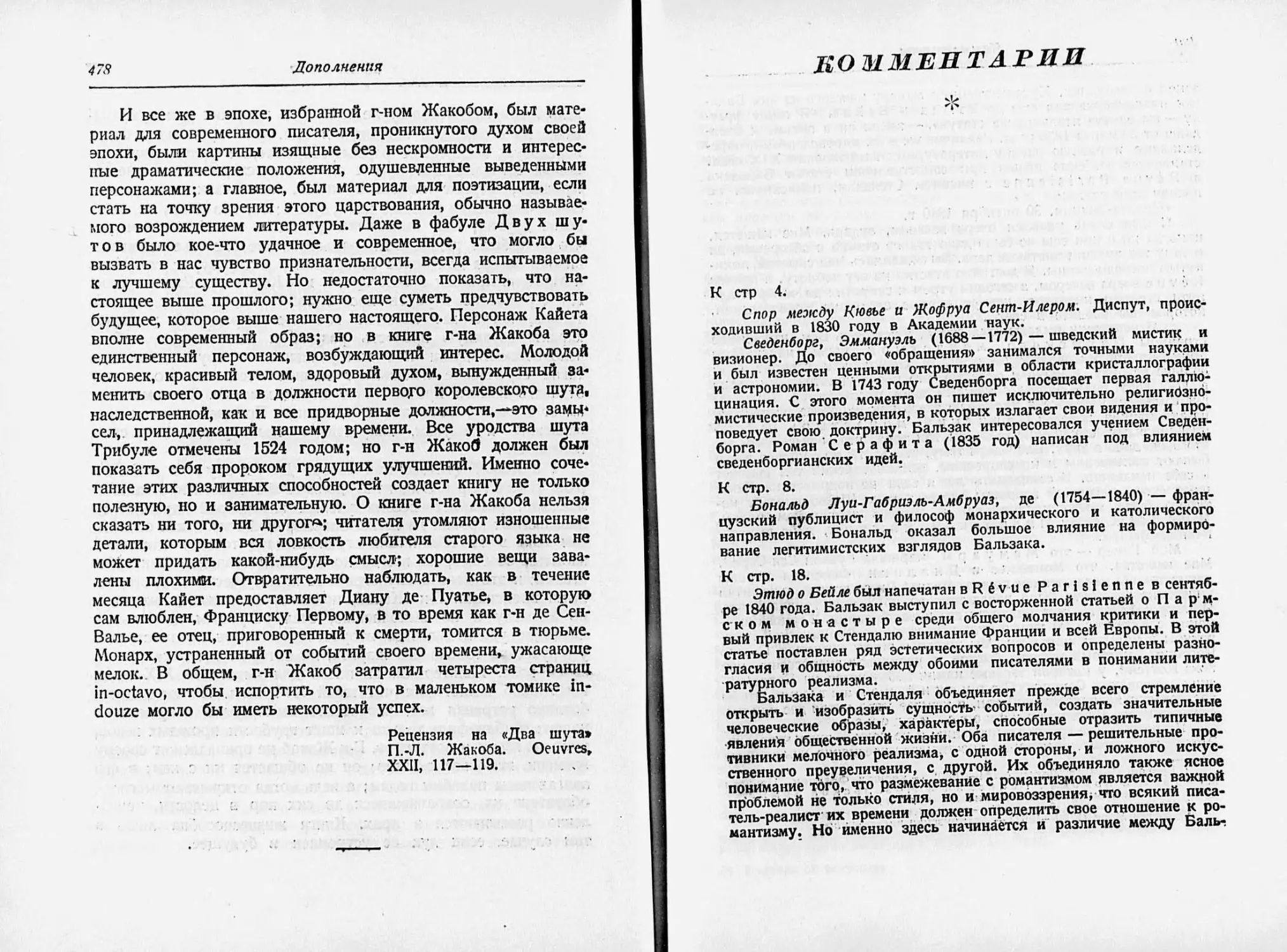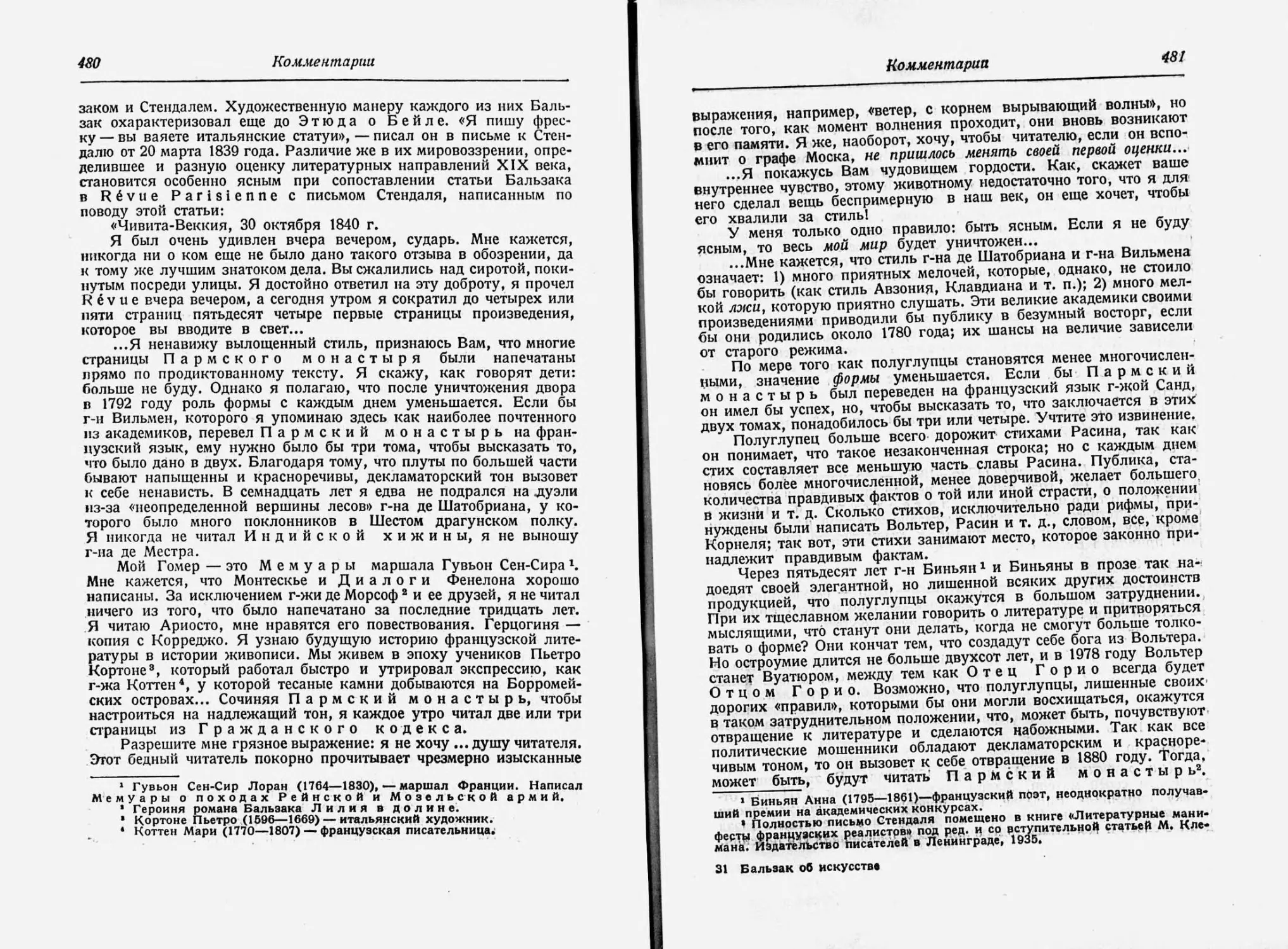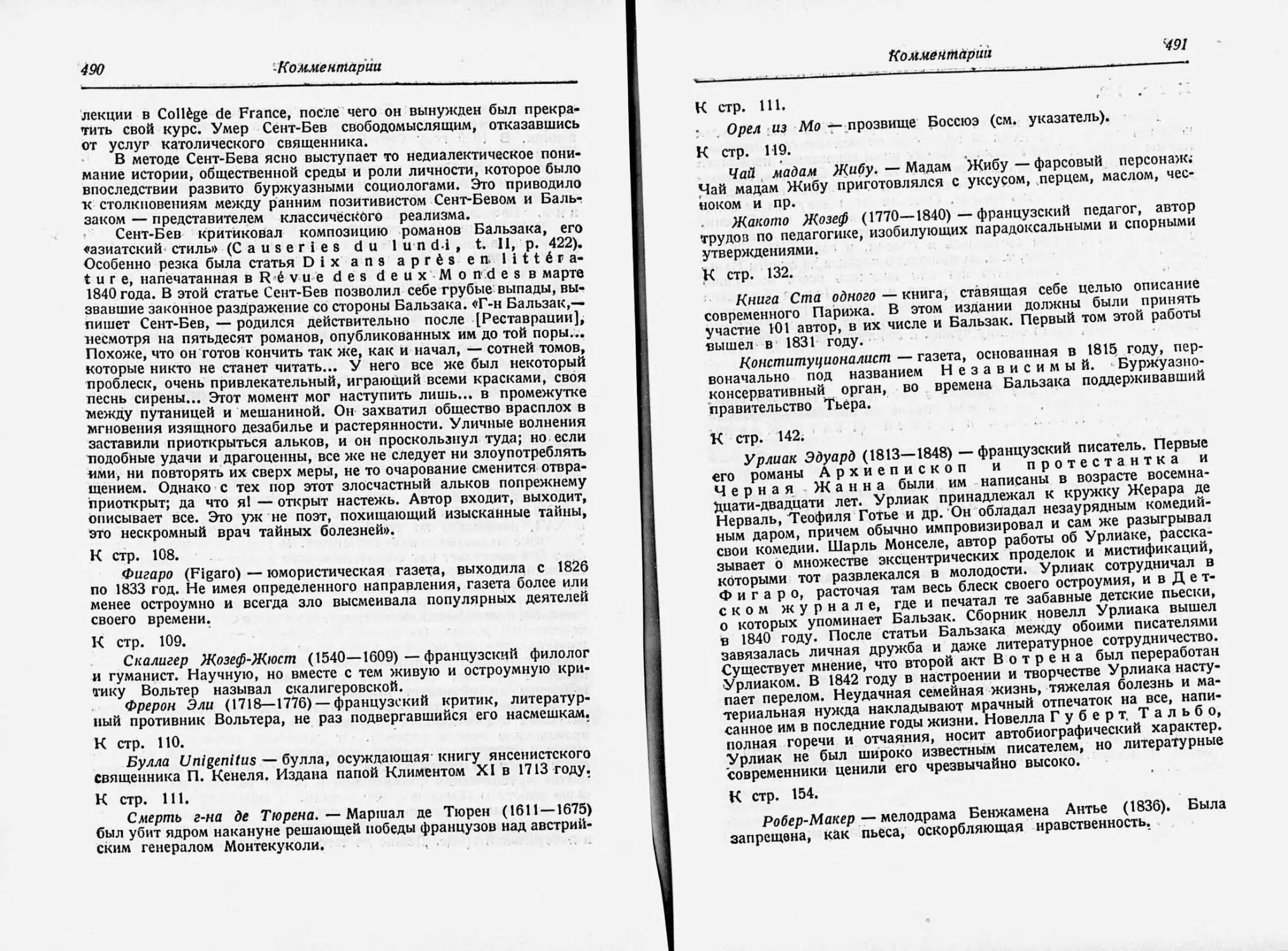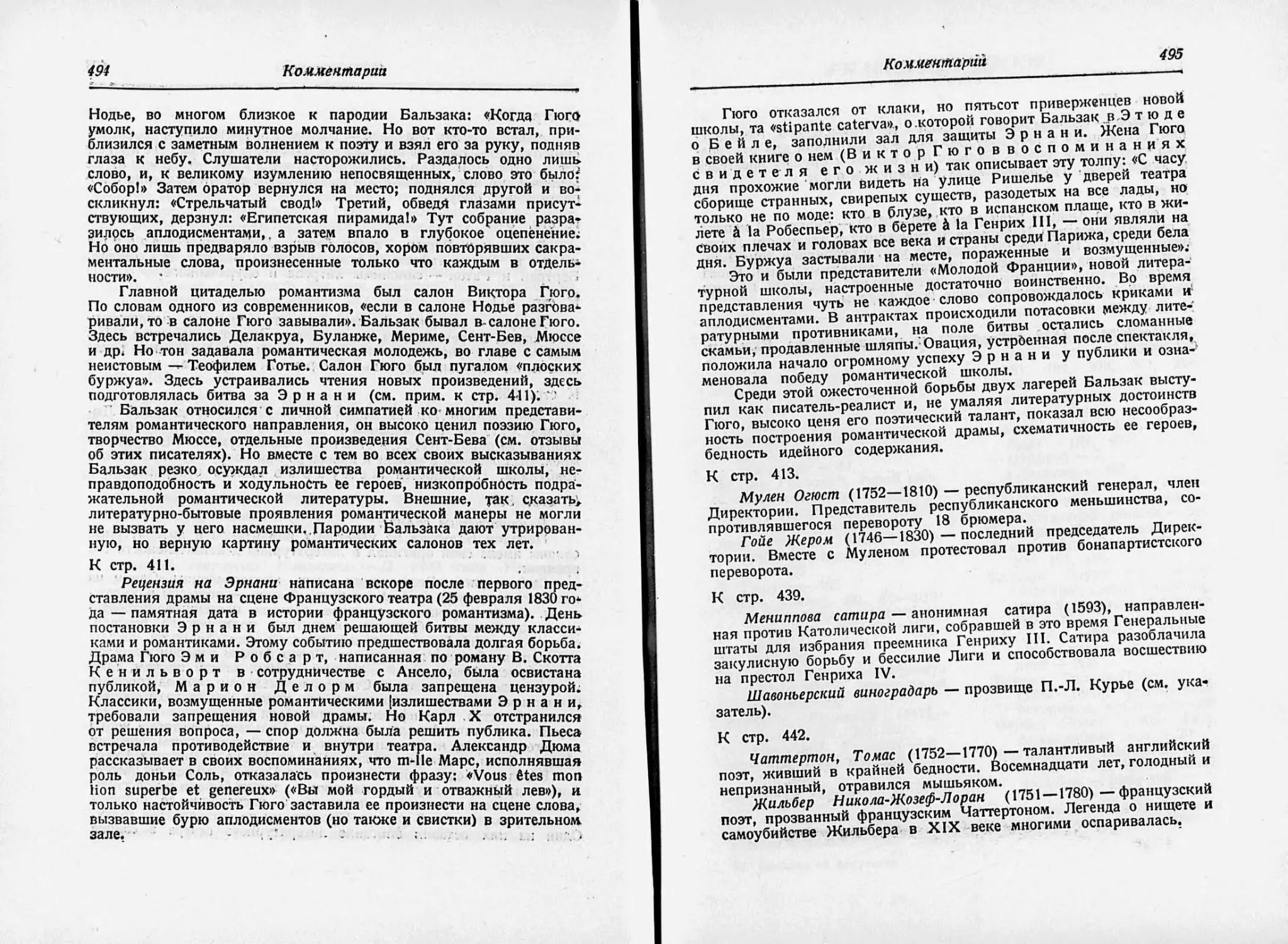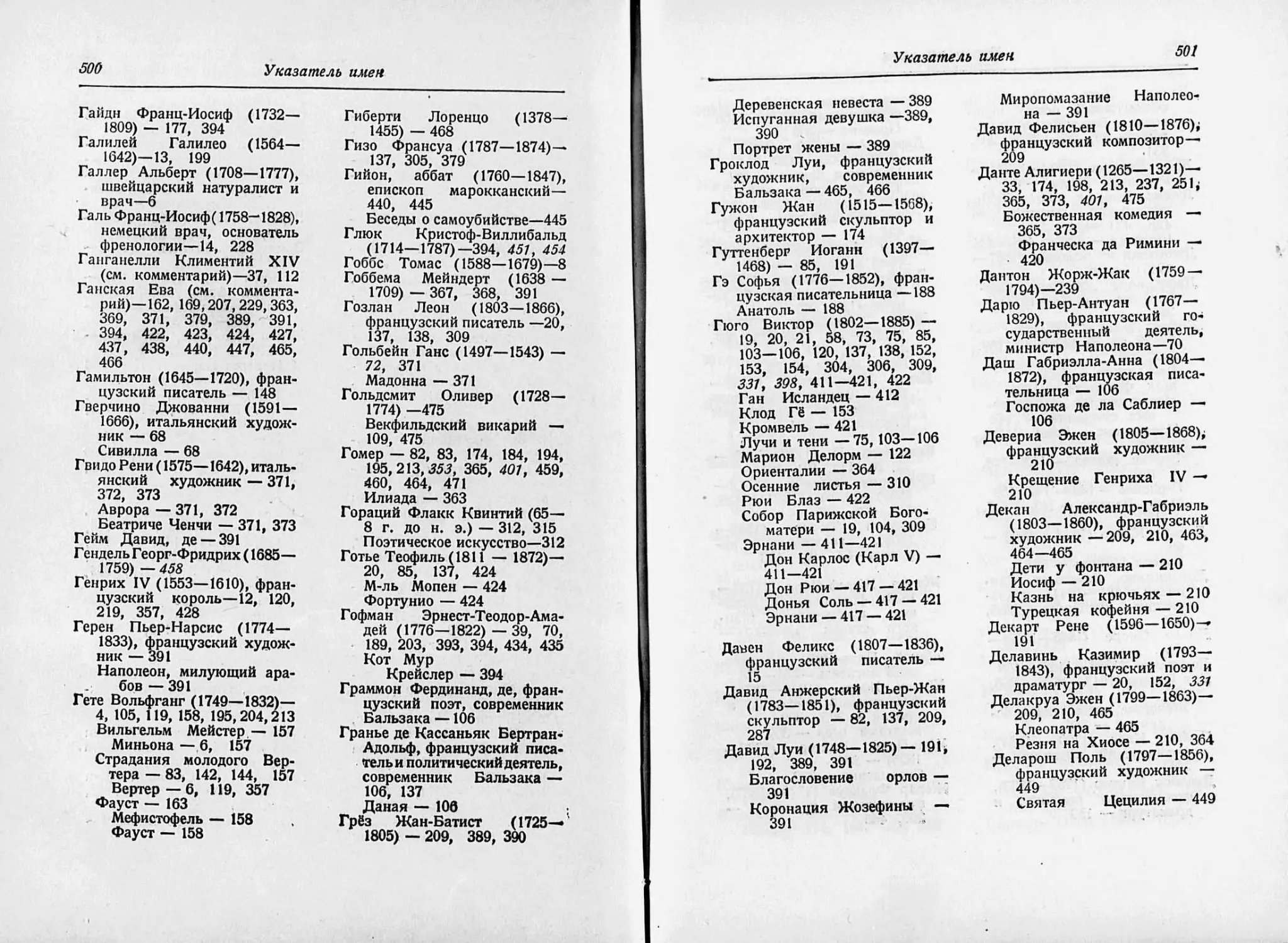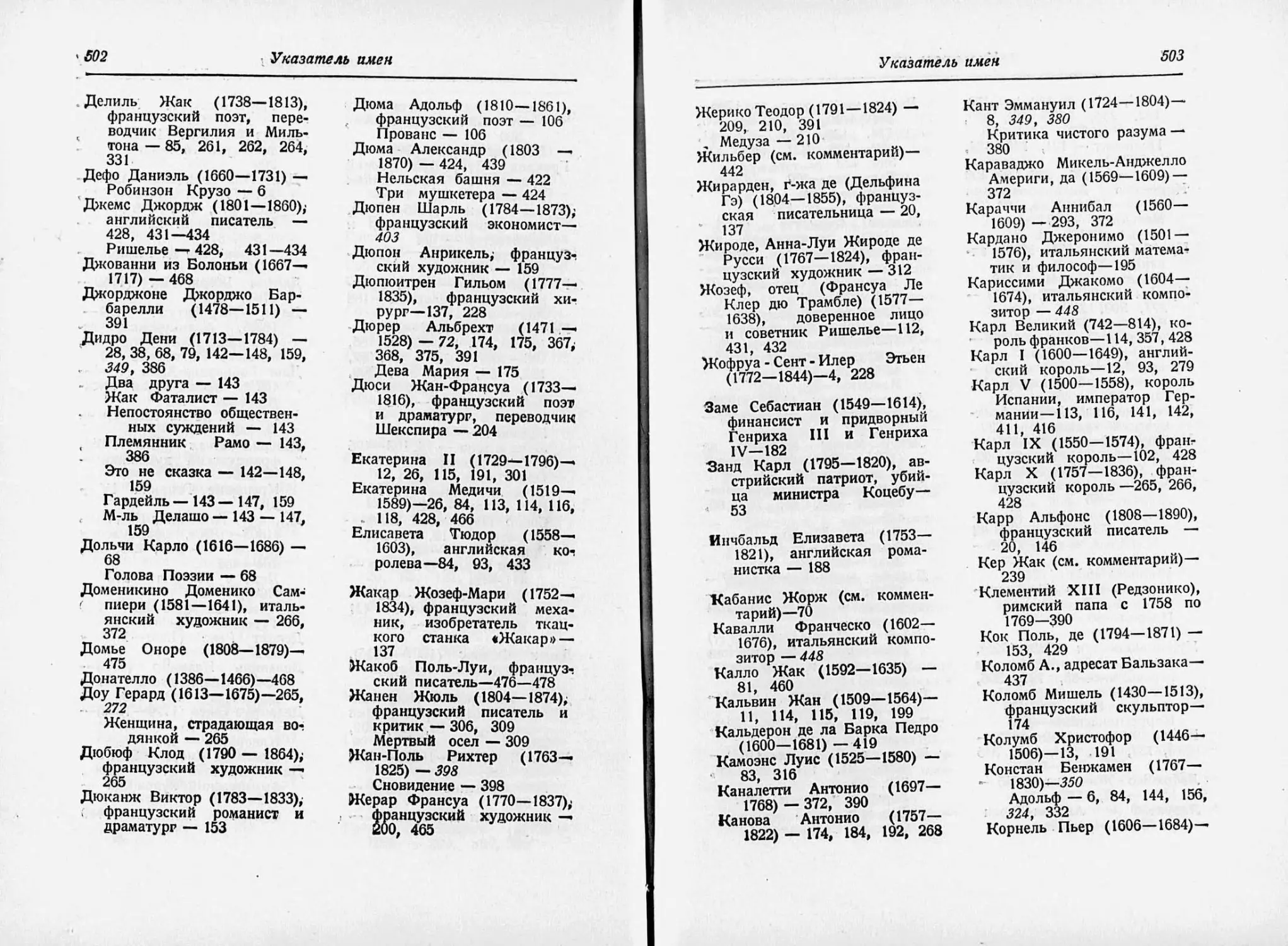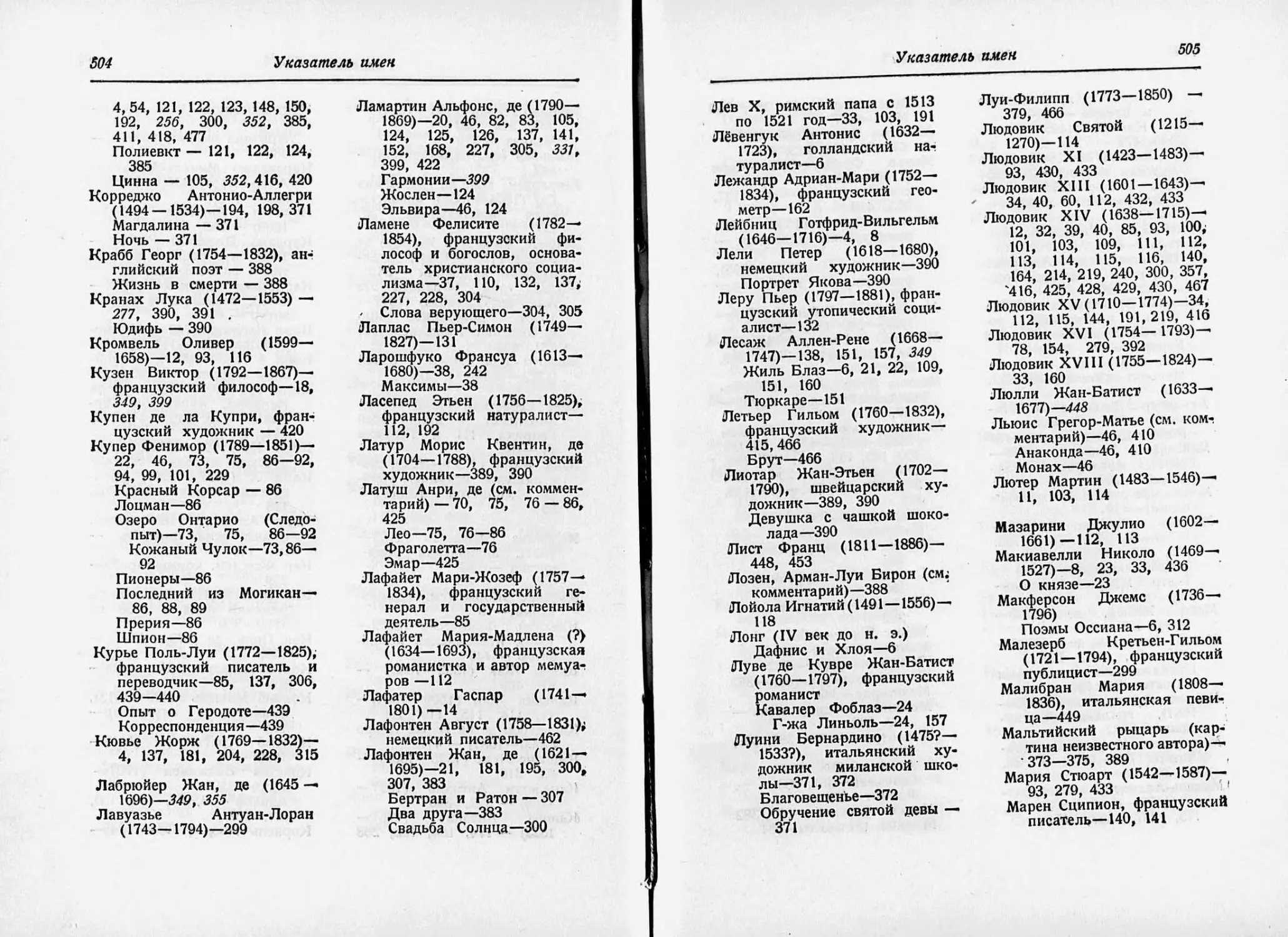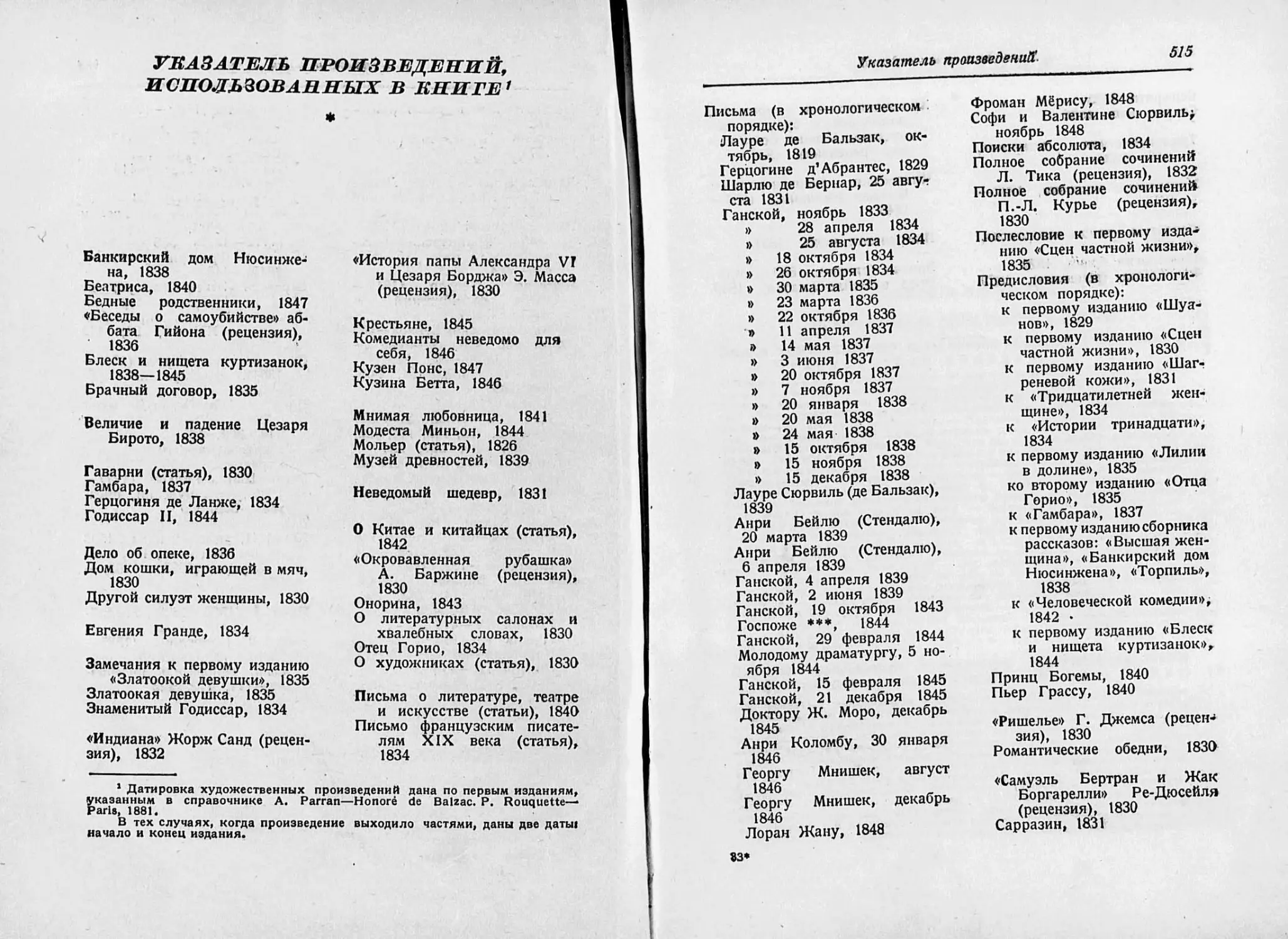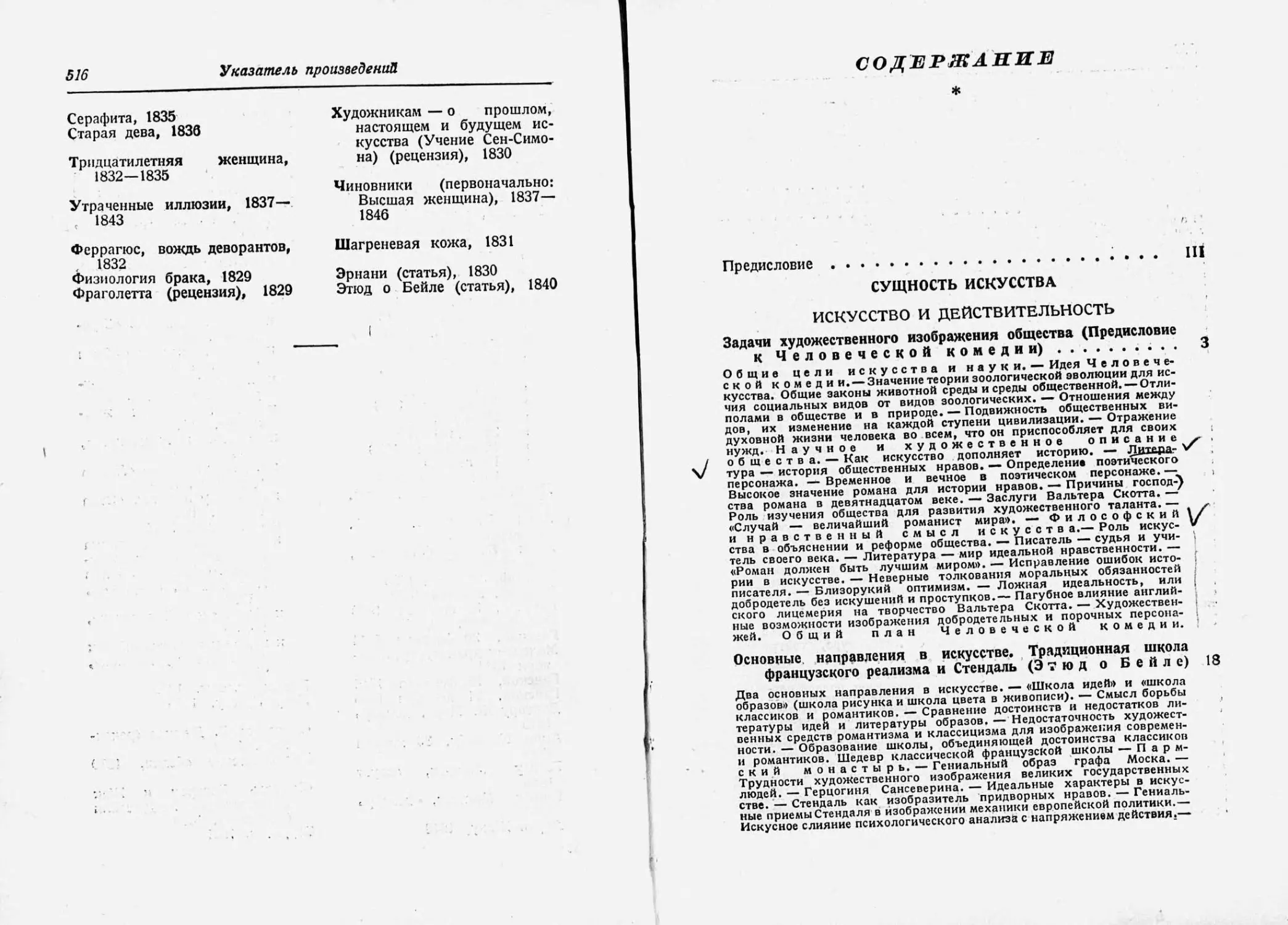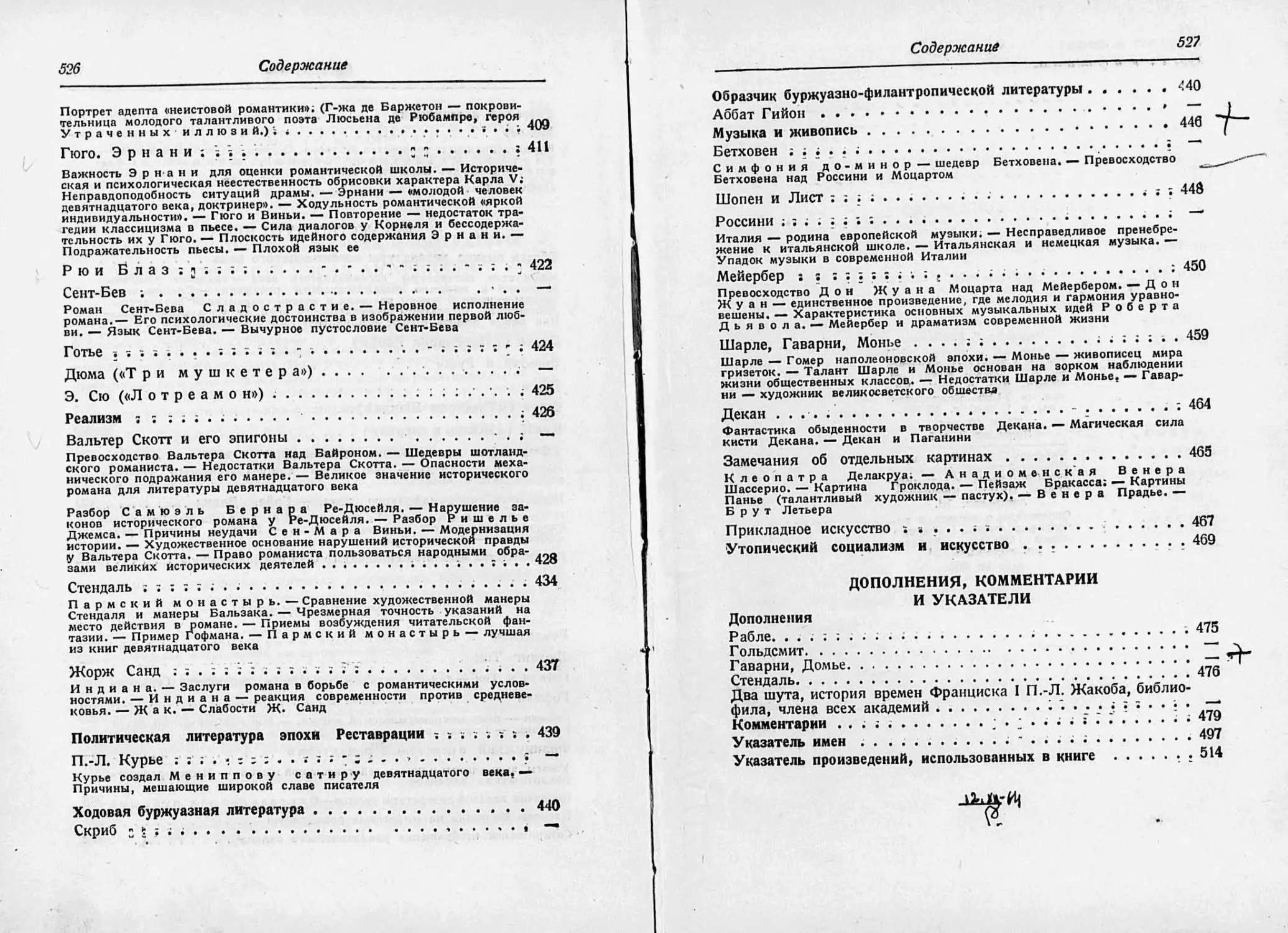Автор: Гриб В.Р.
Теги: искусство художественная литература классическая литература издательство искусство
Год: 1941
Текст
ш
ш
Б а л ь з а к
ОБ
И
С
К У С
С Т В Е
Составитель
В . Р
1941
Государственное
Издательство
"ИСКУССТВО"
Москва-Ленинград
{
2017087095
ML
ПРЕДИСЛОВИЕ
I
\
Перевод ранее не издававшихся
на русском языке отрывков,
комментарии и указатели
Р . И. Л И H Ц Е Р .
Б,
Редактор перевода
А. Г Р И Ф Ц О В .
M
БИБЛИОТЕКА\
Книга В. Р. Гриба, предлагаемая вниманию читателя, имеет
большое просветительное значение—высшая похвала, которую
может заслужить подобная работа.. По внешности эта книга
является хрестоматией, на деле она послужит советскому читателю лучше, чем многие оригинальные сочинения. Опытный
читатель сразу увидит, сколько серьезного труда и настоящего
понимания вложено составителем в отбор, и распределение
отрывков. Собрание сочинений Бальзака в издании. Кальман
Леви образует двадцать четыре объемистых тома. В небольшой книге, составленной В. Р. Грибом, перед нами весь
Бальзак, со всеми его достоинствами и недостатками (поскольку они отразились в литературно-философских воззрениях великого писателя).
Да, несомненно, отрицательные и слабые стороны взглядов Бальзака также должны быть представлены в этой
книге. Иначе она лишилась бы своего исторического характера. Составитель, конечно, не мог редактировать Бальзака
согласно воззрениям более зрелого времени, не^ мог, по
известному выражению, наводить «хрестоматийный глянец».
Но читатель должен иметь в виду, что собрание высказываний Бальзака об искусстве не является книгой, заключающей в себе полную теоретическую истину. Строго говоря,
современный советский читатель не нуждается в подобны^
предупреждениях, он без, труда отличит здоровое верно
от внешней, словесной шелухи, которая, разумеется, сильно
устарела и местами является данью, реакционной общественной философии Бальзака.
і
. .
Полной теоретической истины философия искусства Бальзака отнюдь не содержит и содержать не можег. Но в определенных границах эта философия заслуживает самого пристального внимания. В одном письме к Марксу (от 4 октября
1852 года) Энгельс издевается над неким русским эмигрант
том, настоящее имя которого осталось неизвестным: «Что
сказать о человечке, который, прочитав первый раз роман
Бальзака (да к тому же еще C a b i n e t d e s A n t i q u e s
и P è r e G o r i o t ) , говорит об этом с высокомерием и величайшим презрением как о чем-то будничном и банальном:;.
Он не понял ни манифеста, ни Бальзака; это.он лще довольно
часто доказывал». Сопоставление романов Бальзака с К о м м у н и с т и ч е с к и м м а н и ф е с т о м , которое содержится в этих
строках, не следует понимать буквально, и все же оно напоминает о некоторых действительных отношениях между основоположниками марксизма и великим французским романистом.
К о м м у н и с т и ч е с к и й м а н и ф е с т Маркса и Энгельса
выражает точку зрения нового класса—пролетариата; это манифест коммунистической партии. У Бальзака мы не найдем
• ничего подобного, он вообще принадлежит к тому периоду
мировой истории, который замыкается революцией 1848 года.
Когда появился К о м м у н и с т и ч е с к и й м а н и ф е с т , деятельность Бальзака была на исходе, и сам он, неизлечимо больной, уже стоял на краю могилы. Но в числе других литературных источников, послуживших материалом для гениальной картины общественного состояния, начертанной в К о м м у н и с т и ч е с к о м ма ни ф е с те, была несомненно и Ч е л о в е ч е с к а я
к о м е д и я . Кто не помнит замечательных слов М а н и ф е с т а :
«Всюду, где она достигла господства, буржуазия разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные нити,
связывавшие человека с его наследственными повелителями,
и не оставила между людьми никакой связи, кроме голого
интереса, бессердечного чистогана. В холодной воде эгоистического расчета потопила она священный порыв набожной
мечтательности, рыцарского воодушевления и мещанской сентиментальности. Она превратила в меновую стоимость личное
достоинство человека и на место бесчисленного множества
видов благоприобретенной и патентованной свободы поставила
одну беззастенчивую свободу торговли. Словом, эксплоатацию,
прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она
ваменила эксплоатацией открытой, прямой, бесстыдной и сухой.
Буржуазия лишила обаяния святости все те почетные роды
деятельности, на которые до сих пор смотрели с благоговейным трепетом. Врача и юриста, священника и поэта, человека науки она п; евратила в своих наемных работников.
Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно-сентиментальный покров и превратила, их в дело простого денежного расчета»1.
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Манифест Коммунистической
Партии, Соч., V, стр. 485—48Ö.
^
Самой глубокой и верной иллюстрацией к этому взгляду
Маркса и Энгельса является несомненно Ч е л о в е ч е с к а я
к о м е д и я . Нет нужды напоминать о ростовщиках и банкирах Бальзака, о нарисованной им картине падения сословной дворянской чести, разложения семьи, подчинения
печати и литературного творчества законам капиталистического мира, «нечистому господству буржуазии». Все это
показано у Бальзака в глубокой исторической перспективе,
как длительный процесс разложения патриархально-средневекового общества и воцарения буржуазии, показано не только
в художественных образах, но и при помощи теоретического
анализа—во множестве метких замечаний, полных объективной
иронии, глубокого исторического сарказма.
В книге В. Р. Гриба собраны воедино эти замечания
Бальзака. Мы найдем здесь историю упадка патриархальной
поэзии вещей под соединенным натиском денежных отношений, капиталистической индустрии и «черной банды». Вспомним, например, описание старинного французского городка
Геранды, столь любезного сердцу художника и обреченного
на гибель в XIX веке.
«Промышленность* работающая теперь для широких слоев
населения, беспощадно истребляет создания средневекового
искусства, где на первом плане стояла индивидуальность
как художника, так и потребителя. Теперь у нас мноію ремесленных изделий, но нет почти гениальных творений. Все
древние памятники считаются в наши дни своего рода археологической редкостью; с точки зрения промышленности важны
только каменоломни, копи селитры да склады хлопка. Пройдет еще несколько лет, и последние своеобразные городки
утратят свою оригинальную физиономию, и разве только
на страницах этого очерка сохранится точное описание этих
памятников старины».
Но, понимая враждебный искусству и поэзии характер
капиталистического строя, Бальзак вместе с тем не остается
в пределах романтической элегии, однообразного воспевания
ушедшей в прошлое поэтической старины. Сн смотрит на
-мир не только глазами художника. Его отношение к деятелям буржуазной эпохи и достижениям XIX века двойственно. Если фигуры его ростовщиков и честолюбцев ужасны,
то, с другой стороны, в разрушительных. силах капитала-
стического общества его привлекает величие всемирно-исторического потока, который уничтожает на своем пути всякую
мирную, сословную, патриархальную ограниченность, рассеивает иллюзии и придает обществу бешеное движение вперед
в «поисках абсолюта».
«Постоянные перевороты в производстве,—гласит Маниф е с т к о м м у н и с т и ч е с к о й п а р т и и,—непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечное движение и
вечная неуверенность отличают буржуазную эпоху от всех
предшествовавших. Все прочные заржавелые отношения, с соответствующими им, исстари установившимися воззрениями и
представлениями, разрушаются, все вновь образовавшиеся оказываются устарелыми, прежде чем успеют окостенеть. Все сословное и неподвижное испаряется, все священное оскверняется,
и люди вынуждаются, наконец, взглянуть трезвыми глазами
на свои взаимные отношения и свое жизненное положение»1.
Едва ли возможна другая, более точная формула для
определения исторической основы реализма Бальзака. Революционное значение Ч е л о в е ч е с к о й к о м е д и и заключалось именно в том, что она отражала историческую потребность «взглянуть трезвыми глазами» на человеческие отношения, прикрытые в прошлом цветами социальной мифологии и поэзии. И хотя упадок этой поэзии наносит сознанию
Бальзака глубокую рану, он все же отдает должное буржуазному XIX столетию и понимает, что отрицание символической
Геранды необходимо в конечном счете даже с точки зрения
самого искусства. Так, после описания прелести старинного
бретонского городка, описания, полного самой неподдельной
грусти, Бальзак переносит читателя в квартиру парижанкиписательницы мадемуазель де Туш. «Калист услышал здесь
поэтические аккорды чудной, удивительной музыки девятнадцатого столетия, где мелодия и гармония одинаково хороши, где пение и инструментовка достигли одинакового
совершенства. Он познакомился с произведениями богатейшей
живописи французской школы, заместительницы итальянских,
испанских и фландрских школ: талантливые произведения стали
встречаться так часто, что все глаза, все сердца, утомленные
1 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с , Манифест Коммунистической
партии, Соч., V, стр. 486. .
..
лицезрением только . талантов, громко требуют гениального
творения. Он прочел богатые содержанием глубокие сочинения современной литературы, и они произвели большое
впечатление на его юное сердце. Словом, наш великий девятнадцатый век открылся перед ним во всем своем блеске, со
своими богатыми вкладами в критику, со своими новыми
идеями, с гениальными начинаниями, достойными гиганта,
который, спеленав юный век в знамена, укачивал его под
звуки военного гимна, под пушечный аккомпанемент... Новый,
современный мир со всей своей поэзией резко противополагался скучному патриархальному миру Геранды. Калист мысленно . сопоставил их: с одной стороны тысячи произведений
искусства; с другой—однообразие невежественной Бретани».
Дважды сравнивает Бальзак средневековые достоинства
Геранды с буржуазной цивилизацией XIX века, и оба раза
Итог получается различный. Можно подумать, что перед
нами два различных автора, настолько противоположны эти
суждения. Но двойственность выводов отражает реальные
противоречия истории культуры. Эга глубокая разносторонность, ни перед чем не останавливающаяся диалектическая честность ума образует самое ценное в рассуждениях Бальзака об
искусстве. Где еще в XIX веке можно найти такого художника, которому в одинаковой степени были открыты всемирно-исторические перспективы движения общества вперед
и мрачные картины ада, изображенного великим французским
романистом на страницах Ч е л о в е ч е с к о й к о м е д и и ? По
глубине и художественной честности своего понимания истории культуры Бальзак напоминает величайших представителей
общественной мысли XIX века, представителей «трех источников марксизма», таких людей, как Гегель, Фурье и Рикардо.
Вот почему Энгельс упоминает Бальзака рядом с М а н и ф е с т о м . Вот почему изучение философии искусства Бальзака
может принести большую пользу советскому читателю.
В тех случаях, когда устаревшая идеологическая шелуха
загромождает драгоценное зерно наблюдений Бальзака, мы
должны читать его материалистически, как советовал Ленин
читать сочинения Гегеля.
Теперь скажем несколько слов о составителе этой книги.
Его уже нет среди нас. Владимир Романович Гриб родился
28 января 1908 года, умер тридцати двух лет, 3 марта 1940 года.
Это был человек большого дарования, серьезный ученый,
образованный марксист. Несмотря на свои молодые годы
Владимир Романович пользовался заслуженной известностью, особенно как исследователь Бальзака. Лучшая
его работа на эту тему была напечатана в журнале
«Литературный критик» (№ 10, 1935 г.) под названием
М и р о в о з з р е н и е Б а л ь з а к а . Э т о , вообще говоря,лучшая
марксистская работа о Бальзаке. Даже иностранная пресса
не могла пройти мимо научных достоинств этого исследования,-*когда оно появилось в английском переводе (НьюЙорк, 1937). Сошлемся на рецензию известного американского библиографического журнала Science & Society,-в которой, между прочим, говорится: «Анализ различных социальных направлений во Франции бальзаковских времен, заключенный в работе Гриба, можно назвать блестящим».
" "Мы не приводим сочувственных отзывов прогрессивной
печати. Отметим только вполне заслуженную оценку издательства Critics Group в предисловий к английскому переводу: «Исследование, предлагаемое вниманию читателя,—
лучшее руководство по изучению Бальзака. Гриб не только
плодотворно развил замечания Энгельса, он дал нам конкретную иллюстрацию глубины и размаха марксистской критики,
раскрыв скудоумие вульгарной социологии и ее уловки».
Б а л ь з а к об и с к у с с т в е — о д н а из последних работ,
подготовленных к печати В. Р. Грибом. В этой книге отчетливо
выразились индивидуальные качества ее составителя—огромная добросовестность и постоянное стремление представить
самые сложные материи в простой, внутренне расчлененной
и ясной форме. В. Р. Гриб всегда и во всем чувствовал
себя работником коммунистического просвещения. Он умел
ставить перед собой просветительные цели и добивался их
осуществления с настойчивостью хорошего пропагандиста.
Он заслужил благодарность советского читателя.
Mux. Лифиіиц
СУЩНОСТЬ
ИСКУССТВА
ИСКУССТВО
и
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
*
ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИИ
ОБЩЕСТВА
О б щ и е ц е л и и с к у с с т в а и н а у к и . — И д е я «Человеческой комедии-). — Значение теории зоологической эволюции для искусства. — Общиё
законы животной среды и среды общественной. — Отличия социальных
видов от видов зоологических. — Отношения между полами в обществе и
в природе. — Подвижность общественных видов, их изменение на каждой
ступени цивилизации. — Отражение духовной жизни человека во всем,
что он приспособляет для своих нужд.
Научное
и художественное
описание
общества.—
К а к искусство дополняет историю. — Литература — история общественных
нравов. — Определение поэтического персонажа.
Временное и вечное в
поэтическом персонаже.
В ы с о к о е з н а ч е н и е р о м а н а д л я и с т о р и и н р а в о в . — Причины господства романа в девятнадцатом в е к е . — З а с л у г и Вальтера С к о т т а . —
Роль изучения общества для развития художественного таланта. — « С л у ч а й величайший романист мира». •Ф и л о с о ф с к и й и н р а в с т в е н н ы й с м ы с л и с к у с с т в а . — Роль
искусства в объяснении и реформе общества. — Писатель — судья и
учитель своего в е к а . — Литература — мир идеальной н р а в с т в е н н о с т и . —
«Роман должен быть лучшим миром». — Исправление ошибок истории в
искусстве. —Неверные толкования моральных обязанностей писателя. —
Ьлизорукий оптимизм. — Ложная идеальность, или добродетель без искушения и проступков. — Пагубное влияние английского лицемерия на
творчество Вальтера Скотта.— Художественные возможности изображения
добродетельных и порочных персонажей.
О б щ и й п л а н « Ч е л о в е ч е с к о й к о м е д и и».
ПРЕДИСЛОВИЕ
К «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
КОМЕДИИ»
;
Назвав произведение, начатое лет тринадцать тому назад,
Ч е л о в е ч е с к о й к о м е д и е й , я считаю необходимым выразить его мысль, рассказать о его происхождении, кратко
разъяснить план и в то же время попытаться сказать обо всем
©том так, словно я к этому не причастен.
Задача эта не столь трудная, как то может показаться
читателям. Малое количество произведений питает большое
самолюбие, большая работа внушает исключительную скромность. Это наблюдение объясняет тот разбор, которому под-
вергали Корнель, Мольер и другие великие писатели свои произведения: если невозможно сравняться с ними в их прекрасных замыслах, то можно пожелать сходствовать с ними хотя
бы в намерениях.
•
Первоначальная идея Ч е л о в е ч е с к о й к о м е д и и предстала передо мной вроде некоей грезы, подобно одному из
из тех невыполнимых замыслов, которые лелеешь, но не
можешь осуществить; так насмешливая химера являет свой
женский лик, тотчас развертывает крылья и уносится в небо
фантастики. Но и эта химера, как многие химеры, воплощается; она повелевает, она самовластна, и ей следует подчиниться.
Сама идея родилась из сравнения человечества с животным миром.
Было бы ошибочно думать, что шумный спор, вспыхнувший
в самое последнее время между Кювье и Жофруа Сент-Илером,
основывается на научной новости. Единство организмов уже
занимало под другими названиями самые великие умы двух
последних веков. Перечитывая столь удивительные произведения писателей-мистиков, занимавшихся науками в их связи
с бесконечным: Сведенборга, Сен-Мартена и др., а также
книги самых гениальных естествоиспытателей: Лейбница,
Бюффона, Шарля Бонне и др., находишь в монадах Лейбница,
в органических молекулах Бюффона, в растительной энергии
Нидгэма, в связи подобных частиц Шарля Бонне, имевшего
смелость заявить в 1760 году: «животное развивается, как
растение»,—находишь, повторяю я, зачатки замечательного
закона, каждый для каждого, на котором зиждется единство
организма. Есть только одно живое существо. Создатель
пользовался одним и тем же образцом для всех живых существ. Живое существо—это основа, получающая свою внешнюю форму, или, если говорить более точно, отличительные
йризнаки своей формы в той среде, где ему назначено развираться. Животные виды определяются этими различиями.
Распространение и защита данной системы, согласованной,
впрочем, с теми представлениями, которые мы создаем себе о
божественной власти, будет вечной заслугой Жофруа СентИлера, победителя Кювье в этом вопросе высшей науки, чью
победу приветствовал в своей последней статье великий Гёте.
іПіроникнувацись этой системой, -еще до возникновения тех
споров, которые она возбудила, я понял, что в 5том отношении
общество подобно природе. Не создает ли общество из человека, соответственно среде, где он действует, столько же
разнообразных видов, сколько их существует в животном
мире? Различие между солдатом, рабочим, чиновником, адвокатом, бездельником, ученым, государственным деятелем, коммерсантом, моряком, поэтом, бедняком, священником так же
значительно, хотя несколько труднее уловимо, как то, что отличает друг от друга волка, льва, осла, ворона, акулу, тюленя,
овцу и т. д. Стало быть, существуют и всегда будут существовать виды в человеческом обществе, так же как существуют
они в животном царстве. Есші_Бірффон_создал изумительное
произведение, попытавшись представить в одной книге весь
животный мир, то почему бы не создать подобного же произведения о человеческом обществе? Но разнообразию животного мира природа поставила границы, в которых обществу не
суждено было удержаться. Когда Бюффон изображает львасамца, то ему достаточно всею нескольких фраз, чтобы определить львицу, между тем в человеческом обществе женщина
не всегда может рассматриваться как самка мужчины. В одной
и той же семье можно встретить два совершенно несходных
существа. Жена торговца иногда достойна быть женой принца,
а жена принца часто не стоит жены художника. Общественное
состояние отмечено случайностями, которых не допускает
природа; ведь в данном случае к природе нужно присоединить
общество. Таким образом, описание социальных видов, если
даже принять во внимание только два пола, было бы по меньшей мере двойным по сравнению с животными видами. Наконец, у животных почти не бывает драм, нет никакой путаницы;
они только преследуют друг друга—вот и все. Люди также
нападают друг на друга, но большее или меньшее наличие
разума приводит к борьбе гораздо более сложной. Если
некоторые ученые и не признают, что великий поток жизни
может переместить животное начало в человеке, то все же
несомненно, что бакалейщик порою становится пэром Франции,
а дворянин иногда опускается на самое дно. Затем, Бюффон
обнаружил у животных жизнь, исключительно простую. Животное имеет мало в смысле домашней обстановки, у него
нет ни наук, ни искусств, а человек, в силу закона, который
надлежит еще выяснить, стремится запечатлеть свои нравы,
свою мысль и свою жизнь во всем, что он приспособляет для
своих нужд. Хотя Лёвенгук, Сваммердам, Спалланцани, Реомюр, Шарль Бонне, Мюллер, Галлэр и другие терпеливые
зоографы показали, насколько интересны нравы животных,
•тем не менее повадки каждого из них, по крайней мере на
наш взгляд, одинаковы во все времена, тогда как обычаи,
одежда, речь, жилище князя, банкира, артиста, буржуа, священника, бедняка совершенно различны и меняются на каждой
ступени цивилизации.
Таким образом, задуманное произведение должно было
охватить три формы бытия—мужчин, женщин и вещи, то есть
людей и материальное воплощение их мышления; словом—
•человека и жизнь.
Читая сухой и скучный перечень фактов, именуемый историей, кто не замечал, что во все времена писатели—будь
•то в Египте, Персии, Греции, Риме—забывали дать нам историю нравов? Отрывок Петрония о частной жизни римлян
скорее раздражает, чем удовлетворяет нашу любознательность. Заметив этот огромный пробел в истории, аббат Бартелеми посвятил свою жизнь восстановлению картины нравов
Греции в своем «Анахарсисе».
Но как сделать интересной драму, с тремя или четырьмя
тысячами действующих лиц, составляющих какое-нибудь общество? Как понравиться одновременно поэту, философу и
массам, которые требуют поэзии и философии в захватывающих образах? Если я и понимал значительность. и поэзшо
этой истории человеческого сердца, то не находил никаких
способов воспроизвести ее: ведь вплоть до нашего времени
самые знаменитые повествователи употребляли свое дарование
на созидание. одного-двух типических лиц, на изображение
какой-нибудь одной стороны жизни. С такими мыслями я читал
произведения Вальтера Скотта.. Вальтер Скотт, этот современный трувер, придал тогда гигантский размах тому жанру повествования, которое несправедливо считается второстепенным.
В самом деле, разве не является более трудным вступать в
соперничество с живыми эпохами, давшими Дафниса и Хлою,
Роланда, Амадиса, Панурга, Дон Кихота, Манон Леско, Клариссу, Ловласа, Робинзона Крузо, Жиль Блаза, Оссиана, Жюли
д'Этанж, Моего дядюшку Тоби, Вертера, Ренэ, Коринну,
Адольфа, Поля и Виргинию> Дженни Дине, Клевергауса, Au-
венго, Манфреда, Миньону, чем правильно расположить факты,
потги' одинаковые у всех народов, найти смысл зажню^^вышедших из употребления, изложить теории, вводящие народы
в заблуждение, или, как делают некоторые метафизики,объяснять существующее? Прежде всего такого рода персонажи,
существование которых стало более длительным, более несомненным, чем существование поколении, при которыхши
были созданы, живут только в том случае, если они являются
полным отображением своею времени. Хотя они и зачаты в
утробе определенного века, но под их оболочкой бьется все
, челотеческое сердце, в них часто скрыта целая философия.
' Вальтер Скотт возвысил до степени философии истории роман,
ют род литературы, который из века в век украшает драга/ ценными камнями бессмертия поэтическую корону тех стран,
' где процветает искусство слова. Он внес в него дух прошлого
: соединил в нем драму, диалог, портрет, пейзаж, описание
включил туда и чудесное и повседневное, эти элементы эпоса,
и подкрепил поэзшо непринужденностью самых простых^говоров Но он не столько придумал определенную систему,
Сколько нашел свою манеру в пылу работы или благодаря *
логике этой работы, он не задумался над тем, чтобы связать
свои повести одна с другой и, таким образом, охватить всю
историю, каждая глава которой была бы романом и каждый
роман—эпохой. Заметив этот недостаток связи, что, впрочем,
не умаляет значения шотландца, я в то же время ясно предс т а в себе и план, удобный дая м н е н и я моей работы
и самую возможность ее выполнения. Хотя я и был, так
сказать, ослеплен изумительной плодовитостью Вальтера
Скотта, всегда похожего на самого себя и всегда своеобразного, я не отчаивался, потому что нашел корни такого дарования в бесконечном .разнообразии человеческой природы.
• Сличай—величайший романист^шра^чтобы быть плодовиГтым"Пда5£только е г о й з у о д ^ С ^ Г ^ р и к о м должно было
оказаться французское общество, мне оставалось только был,
его секретарем Составляя^ опись п о р о к о в „ и ^ ^ ^ е и
собирая важнейшие случаи "проявления страстей, изображая
.характеры, выбирая главные события из жизни общества,
создавая іипы путем соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть
\я смогу в конце концов написать историю, забытую столькими
историками, историю нравов. Запасшись основательным терпением и смелостью, я, быть может, доведу до конца ту книгу
о Франции XIX века, книгу, об отсутствии которой мы все
сожалеем и какой, к несчастью, не оставили нам о своей цивилизации ни Рим, ни Афины, ни Тир, ни Мемфис, ни Персия,
ни Индия. Смелый и терпеливый Монтейль, следуя примеру
аббата Бартелеми, пытался создать подобную книгу о средних
веках, но в форме, мало привлекательной.
Такой труд это еще ничто. Придерживаясь тщательного
воспроизведения, писатель может стать более или менее
точным, более или менее удачливым, терпеливым или смелым
изобразителем человеческих типов, рассказчиком драм домашней жизни, археологом общественного быта, счетчиком профессий, летописцем добра и зла, но чтобы заслужить похвал,
которых "должен добиватъоГВсякий художник, не должен ли я
был изучить основы или одну общую основу этих социальных
явлений, охватить скрытый смысл огромного скопища типов,
страстей и событий? Наконец, пустившись в поиски,—я не
говорю: найдя,—этой основы, этого социального двигателя,
разве не следовало поразмыслить о принципах естества и
обнаружить, в чем человеческие общества отдаляются или
[приближаются к вечному закону, к истине, к красоте?
Несмотря на широту предпосылок, которые могли бы
сами по себе составить целое произведение, оно, чтобы
быть законченным, нуждалось в заключении. Изображенное так общество должно включать в себя основу своего
движения.
Суть писателя—то, что его делает писателем и, не побоюсь
этого сказать, делает его равным государственному человеку, а быть может, выше его,—это некоторое определенное
мнение о человеческих делах, полная преданность принципам,
Макиавелли, Гоббс, Боссюэ, Лейбниц, Кант, Монтескье дали
знание, которое осуществляет на практике государственный
' человек. «Писатель должен иметь установившиеся мнения в вопросах морали и политики, он должен смотреть на себя как
на учителя людей; ведь учителя нужны людям не для того,
чтобы пребывать в сомнении»,—сказал Бональд. Я рано воспринял, как правило, эти великие слова, которые одинаково
являются законом для писателя и монархического и демо-
' кратического. Поэтому, если захотят меня противопоставить
мне же самому, то окажется, что недобросовестно истолковали какую-либо замаскированную насмешку или, скорее,
некстати направили против меня слова кого-либо из моих
действующих лиц,—это способ действия, особенно присущий клеветникам. Что же касается внутреннего смысла,
души этого произведения, то вот принципы, служащие ему,
основой.
Человек ни добр, ни зол, он рождается с инстинктами и
наклонностями; общество, далекое от того, чтобы его портить,
как предполагал Руссо, совершенствует его, делает лучшим;
но стремление к выгоде в свою очередь развивает его дурные
склонности. Христианство, в особенности католичество, как
я показал в своем С е л ь с к о м в р а ч е , представляя собою
целостную систему подавления порочных стремлений человека,
является величайшей основой социального порядка.
Внимательное рассматривание картины общества, нарисованной, так сказать, с живого образца, со всем его добром и
злом, учит, что если мысль или страсть, которая вмещает и
мысль и чувство,—явления социальные, то в то же время они
разрушительны. В этом смысле жизнь социальная походит на
жизнь человека. Народы можно сделать долговечными, только
умерив их жизненный порыв. Просвещение или, лучше сказать, воспитание при помощи религиозных учреждений является для народов великой основой их бытия, единственным
средством уменьшить количество зла и увеличить количество
добра в любом обществе. Мысль—начало добра и зла—может
быть обработана, укрощена и направлена только религией.
Единственно возможная религия—христианство. (См. в Л у и
"ЛамІГере написанное из ИІіарйжгГписьмо, где молодой философ-мистик объясняет в связи с учением Сведенборга, что с
самого начала мира была только одна религия.) Христианство создало современные народы, оно и будет хранить их.
Отсюда же, без сомнения, вытекает необходимость монархического принципа. Католичество и королевская власть—близнецы. Что же касается границ, в которые оба эти принципа
должны быть заключены при помощи различных учреждений, чтобы не дать им развиться в нечто абсолютное, то
каждый согласится, что предисловие, столь краткое, каким
оно должно быть, не может превратиться в политический
трактат. Таким образом, мне не следует входить ни в религиозные, ни в политические распри нашего времени. Я пишу,
[при свете двух вечных истин: религии и монархии,—необходимость той и другой вызывается современными событиями, и
каждый писатель, обладающий здравым смыслом, должен
стараться вести к ним нашу страну. Не будучи врагом избирательной системы, этого прекрасного принципа созидания законов, я отвергаю ее, как единственное социальное
средство,
и в особенности столь плохо организованное, как теперь, ибо
она не представляет значительного количества людей, оставшихся в меньшинстве, о духовной жизни и интересах которых подумало бы монархическое правительство. Избиратель^
ная система, распространенная на всех, приводит к управлению
масс, единственному, ни в чем не ответственному, и тирания
которого безгранична, ибо она называется законом. В связи
с этим я рассматриваю семью, а не иидивиды, как подлинную
основу общества. В этом отношении, нёсмотря на возможность
прослыть умом отсталым, я примыкаю к Боссюэ и Бональду,
вместо тою чтобы быть на стороне современных новаторов.
Поскольку избирательная система стала единственным социальным средством, то, если я сам и пользовался ею, все же не
следует искать здесь ни малейшего противоречия между моей
мыслью и поступками. Инженер во всеуслышание заявляет, что
такой-то мост готов обрушиться, что им пользоваться опасно,
и в то же время сам идет по нему, когда этот мост является
единственной дорогой в город. Наполеон изумительно при-'
способ ил избирательную систему к духу нашей страны. Поэтому самые незначительные депутаты его Законодательного
корпуса стали при Реставрации самыми выдающимися
ораторами Палаты. Ни одна палата не стоит Законодательного корпуса, если сравнить поодиночке всех депутатов.Избирательная система времен Империи бесспорно самая
лучшая.
Иные найдут нечто высокомерное и хвастливое в этом
заявлении. Найдут повод упрекнуть романиста в тем, что он
(хочет быть историком, потребуют от него объяснения его
политических взглядов. Я повинуюсь здесь долгу—вот весь
ответ. Труд, начатый мной, будет столь же обширен, как
история, поэтому я считаю необходимым разъяснить его
основания, пока еще не явные, его общие начала и моральный смысл.
По необходимости принужденный изъять предисловия, напечатанные в ответ критике, всегда мимолетной, я хочу остановиться только на одном замечании.
Писателям, имеющим определенную цель, будь то возвращение к идеалам прошлого, именно потому, что идеалы эти
вечаіы, воегда приходится расчищать почву. Но всякого, кто
вносит свою часть в царство идей, кто возвещает о заблуждении, кто указывает на нечто дурное, имея целью отвергнуть
его, тот неизменно слывет безнравственным. Впрочем, упрек
в безнравственности, которого никогда не удалось избежать
смелому писателю,—последнее, что остается сделать, когда
ничего больше не могут сказать поэту. Если вы правдивы
в изображении, если, работая днем и ночью,. вы начинаете
писать языком, небывалым по трудности, тогда вам в лицо
бросят упрек в безнравственности. Сократ был безнравственен, Христос был безнравственен, их обоих преследовали
именем социального строя, который они низвергали или улучшали. Когда кого-нибудь хотят убить, его клеймят безнравственностью. Этот способ действия, свойственный партиям,
позорит всех, кто к немуі прибегает. Лютер и Кальвин прекрасно знали, чтб делают, когда они пользовались, как щитом,
затронутыми материальными интересами. Благодаря этому они
прожили всю свою жизнь благополучно.
< Если романист точно изображает все общество, схватывает
его многообразные потрясения, то случается, и неизбежно
случается, что произведение открывает больше зла, чем добра,
и что некоторая часть картины представляет какую-нибудь
порочную группу: тогда критика начинает вопить о безнравственности, не замечая морального примера в другой части,
долженствующей создать полную противоположность первой.
Поскольку критика не знала плана, я прощал ей тем более
охотно, что критике так же нельзя помешать, как нельзя
помешать видеть, говорить и судить. Кроме этого, время беспристрастного отношения еще не настало для меня. Впрочем,
писатель, который не решается выдержать огонь критики,
не должен вовсе писать, как путешественник не должен пускаться в дорогу, если он рассчитывает на неизменно прекрасную погоду. По этому поводу мне остается заметить, что самые
добросовестные моралисты сильно сомневаются в том, будто
бы в обществе можно найти столько же хороших, сколько
дурных поступков, а между тем в картине, которую я создаю,
больше лиц добродетельных, чем достойных порицания. Поступки предосудительные, погрешности, преступления, начиная
от самых легких и кончая самыми тяжелыми, всегда находят
там человеческое или божеское, явное или тайное наказание.
Я в более счастливом положении, чем историк,—я более свободен. Кромвель здесь, на земле, претерпел только то наказание, которое на нею наложил мыслитель. Да и до сих пор еще
[ длится о нем спор между различными школами. Сам Боссюэ
«пощадил этою великою цареубийцу. Вильгельм Оранскийузурпатор, Гую Капет—другой узурпатор—дожили до глубокой старости, боясь и опасаясь не больше, чем Генрих IV и
Карл I. Жизнь Екатерины II и Людовика XIV свидетельствует против всякой нравственности, если судить о них с
точки зрения морали-, обязательной для частных лиц, ибо,
как сказал Наполеон, для царей и государственных деятелей
существует нравственность малая и нравственность большая.
Сцены политической жизни основаны на этом прекрасном рассуждении. Закон истории не таков, как закон романа, повелевающий стремиться к идеальной красоте. История есть или
должна быть тем, чем она была, в то время как роман должен
быть лучшим миром, сказала г-жа Неккер, одна из самых замечательных женщин прошлого столетия. Но роман не имел бы
(никакого значения, если бы, прибегая к возвышенному обману,
Іон не был правдивым в подробностях.
Принужденный сообразоваться с идеями страны, по существу лицемерной, Вальтер Скотт был лживым по отношению
ко всему человечеству в своем изображении женщин, так
как его моделями были протестантки. Женщина-протестантка
не имеет идеала. Она может быть целомудренной, чистой,
добродетельной, но любовь не захватывает ее всю, она всегда
остается спокойной и упорядоченной, как выполненный долг.
Может показаться, что дева Мария охладила сердце софистов,
изгнавших с неба не только ее, но и сокровища милосердия,
исходящие от нее. В протестантизме для женщины падшей
все кончено, в то время как в католической церкви надежда
на прощение делает ее возвышенной. Поэтому для протестант*
ского писателя женщина всегда едина, между, тем писатель-
католик находит каждый раз, в каждой новой ситуации новую
женщину. Если бы Вальтер Скотт был католиком, если бы он
задался целыо правдиво изобразить различные слои общества,
последовательно сменявшие друг друга в Шотландии, то,
может быть, творец Эффи и Алисы (два образа, за обрисовку, которых он упрекал себя в старости) признал! бы мир
страстей с е ю паденшшіи и возмездием), с теми добродетелями,
к которым ведет раскаяние. Страсть—это все человечество.
/Без нее религия, история, роман, искусство бьшГ*^ы~бео^/полезны.
Заметив, что я ообираю столько фактов и изображаю их,
как они есть на самом деле, положив в их основу страсть,
некоторые вообразили совершенно неправильно, что я принадлежу к школе сенсуалистов и материалистов, к этим двум
видам одного и того же направления—пантеизма. Но, быть
может, они и могли и даже должны были впасть в подобное
/заблуждение. Я не верю в бесконечное совершенствование
/человеческого общества, я верю в совершенствование самого
/человека. Стало быть, лица, приписывавшие мне наме[ремие рассматривать человека как создание законченное, допускают больную ошибку. «Серафита»—это воплощение
учения христианского Будды—кажется мне достаточным
ответом на это довольно легкомысленное обвинение, к тому,
же запоздалое.
В некоторых местах моего большого произведения я пытался в общедоступной форме рассказать о поразительных
явлениях, я могу сказать—чудесах электричества, которое в
человеке преображается в неучтенную силу; но в какой степени мозговые и нервные явления, обнаруживающие существование нового духовного бытия, разрушают определенные и
необходимые отношения между мирами и богом? В какой
степени это колеблет католические догматы? Если, благодаря неоспоримым фактам, мысль когда-либо будет признана
за один из флюидов, которые обнаруживаются лишь в действии и сущность которых ускользает от наших чувств, даже
усиленных при помощи стольких механических способов, то
это открытие будет подобно открытию
шарообразности
Земли, установленной Христофором Колумбом, и ее вращения,
доказанного Галилеем. Наше будущее останется тем же.
Животный магнетизм, с чудесами которого я близко позна-
комился еще в 1820 году, прекрасные разыскания Га л ля, продолжающего дело Лафатера, все те, кто в продолжение пятидесяти лет работает над мыслью, как физики работают над
светом, этими двумя по видимости сходными явлениями,—все
это обнаружило и для мистиков, учеников апостола Иоанна,
и для всех великих мыслителей, учивших о духовном мире,
ту, область, где становятся явными отношения между богом и
Человеком.
.
. !
Поняв как следует смысл моих произведений, • читатели
признают, что я придаю фактам постоянным, повседневным,,
тайным или явным, а также проявлениям личной жизни, их
причинам и побудительным началам столько же значения,
сколько до сих пор придавали историки событиям общественной жизни народов. Неведомая битва, разыгравшаяся
в долине Индра, между г-жой Морсоф и страстью, быть,
может, столь же величественна, как самое блистательное
из известных нам сражений ( Л и л и я в д о л и н е ) . В этом
последнем слава завоевателя зависит от игры, в другом—от
воли неба. Несчастия обоих Бирото, священника и парфюмера,
для меня—несчастия всего человечества. Дочь могильщика
( С е л ь с к и й в р а ч ) и г-жа Грален ( Д е р е в е н с к и й с в я -
І
щенник)—это почти вся женщина вообще. Мы также всю
жизнь страдаем. Мне пришлось сто раз сделать то, что Ричардсон сделал только однажды. У Ловласа тысячи воплощений, потому что социальная испорченность принимает окраску той среды, где она развивается. Наоборот, Кларисса, этот
прекрасный образ пылкой добродетели, отмечена чертами недостижимой чистоты. Нужно быть Рафаэлем, чтобы создать
много мадонн. В этом отношении, быть может, литература
ниже живописи. Теперь да будет мне позволено отметить,
сколько безупречных (в смысле добродетельности) лиц находится в опубликованных частях этого труда: Пьеретта, Лорэн,
Урсула Мируэ, Констанция Бирото, Дочь могильщика, Евгения Гранде, Маргарита Клаэс, Полина де Вильнуа, г-жа Дэмаре, г-жа де Лашантри, Ева Шардон, девица д'Эгриньон,
г-жа Фирмиани, Агата Руже, Рене де Мокомб, наконец, значительное количество второстепенных действующих лиц, которые, будучи не столь заметны, как перечисленные, тем неменее предлагают читателю образец семейных добродетелей;
Жозеф Леба, Женеста, Бенасси, священник Бонне, доктор
Миноре, Пильро, Давид Сешар, двое Бирото, священник
Шаперон, судья Попино, Бурже, оба Совиа, Ташероны и многие другие не разрешают ли трудную литературную проблему,
заключающуюся в том, чтобы сделать интересным добродетельное лицо?
У Это не малый труд—изобразить две или три тысячи наиболее характерных лиц известной эпохи, ибо таково в конечном счете количество типов, представляющих каждое поколение,
а Ч е л о в е ч е с к а я к о м е д и я их столько вместит. Подобное количество лиц, характеров, это множество жизней требовало определенных рамок и, пусть мне простят такое выражение, галлерей. Отсюда столь естественное, уже известное разделение моего труда на сцены частной жизни, провинциальной,
парижской, политической, военной и сельской. По всем этим
шести разделам распределены все очерки нравов, образующие
общую историю общества, собрание всех событий и деяний,
как сказали бы наши предки. Да к тому же все эти шесть разделов соответствуют основным Мыслям. Каждый из них имеет
свой смысл, свое значение и заключает определенную эпоху,
человеческой жизни. Я повторяю здесь, но кратко, то, что
высказал посвященный в мои планы Феликс Давен, молодое дарование, похищенное у литературы преждевременной
смертью. Сцены частной жизни изображают детство, отрочество, их заблуждения, в то время как сцены провинциальной
жизни—зрелый возраст, страсти, расчеты, интересы и честолюбие. Затем в сценах парижской жизни дана картина вкусов,
пороков и всех необузданных проявлений жизни, которые вызваны нравами, свойственными столице, где одновременно
встречаются крайнее добро и крайнее зло.
Каждая из этих частей имеет свойственную ей окраску:
Париж и провинция, социально противоположные, послужили
здесь неограниченными источниками. Не только люди, но и
главнейшие события отливаются в типические образы. Существуют положения, известные типические циклы, которые повторяются в каждой человеческой жизни; именно в этом отнощеиии я старался быть возможно более точным.^ Я старался
дать представление о различных местностях нашей прекрасной
страны. Мой труд имеет свою географию, так же как и свою
генеалогию, свои семьи, свои местности, обстановку, дей-
сгвующих лиц и факты; также он имеет свой гербовтик, свое дворянство и буржуазию, своих ремесленников
и крестьян, политиков и дэнди, свою армию—словом,
весь мир.
Изобразив в этих трех отделах социальную жизнь, я
предполагал показать жизнь совсем особую, к которой сводятся интересы многих или всех, жизнь, протекающую, так
сказать, вне общих рамок,—отсюда сцены
политической
жизни. Покончив с обширной картиной общественной жизни,
я должен был показать общество в его наиболее волевом состоянии, выступившим из своего обычного состояния—будь
это для защиты или для завоевания. Отсюда сцены военной
жизни—пока еще наименее законченная часть моей работы, но
для которой будет оставлено место в этом издании, с тем
чтобы включить ее, когда она будет осуществлена полностью.
Наконец, сцены сельской жизни представляют собой в некотором смысле вечер длинного дня, если мне будет позволено
так назвать социальную драму. В этой части встречаются
самые чистые характеры и великие начала порядка, политики
и нравственности в их применении.
•'Таков нижний слой, полный лиц, полный комедий и трагедий, над которым возвышаются философские этюды, второй
раздел работы, где находит свое выражение социальный двигатель всех событий, где изображены разрушительные бури
мысли, чувство за чувством. Первая же к н и г а — Ш а г р е н е в а я кожа—некоторым образом связывает сцены нравов с
философскими этюдами кольцом фантазии, почти восточной,
где сама жизнь изображена в схватке с Желанием, началом
всякой Страсти.
Выше найдут место аналитические этюды, о которых я ничего не скажу, так как из них обнародован только один—
Физиология брака.
В ближайшее время я должен дать два других произведения этого жанра. Сначала П а т о л о г и ю с о ц и а л ь н о й
ж и з н и , затем А н а т о м и ю у ч и т е л ь с к о й
профессии и М о н о г р а ф и ю о д о б р о д е т е л и .
При виде всего, что мне остается сделать, обо мне, быть
может, скажут то, что говорят мои издатели: «Да продлит
господь вашу жизнь». Я желаю только одного, чтобы меня
в дальнейшем не терзали люди и обстоятельства так, как это
было с самого начала этого ужасного труда. Но слава богу, самые крупные дарования нашей эпохи, самые прекрасные характеры, самые искренние друзья, столь же великие в частной
жизни, как иные в жизни общественной, пожимали мне руку,
говоря: «Мужайся!» И почему бы мне не признаться, что выражения дружеской привязанности, отзывы, полученные с разных сторон от неизвестных, поддержали меня на моем пути и
против меня самого и против несправедливых нападок, против
клеветы, часто преследовавшей меня, против отчаяния и против
той слишком живой надежды, проявления которой принимаются как признак исключительного самолюбия? Нападкам
и клеветам я решил противопоставить стоическую невозімутимость, но в двух случаях подлые клеветы сделали
защиту необходимой. Если сторонники прощения обид
сожалеют, что я обнаружил свое умение вести литературные поединки, то многие христиане думают, что мы живем
в такое время, когда хорошо показать, что и молчанию
присуще благородство.
По этому поводу я должен обратить внимание на то, что
признаю своими произведениями только те, которые носят мог
имя. Кроме Ч е л о в е ч е с к о й к о м е д и и , мне принадлежат
только С т о о з о р н ы х с к а з о к , две театральные пьесы
и отдельные статьи, впрочем, подписанные. Здесь я пользуюсь
неоспоримыми правами. Но это отречение, поскольку оно
относится даже к произведениям, написанным в сотрудничестве со мной, продиктовано не столько самолюбием, сколько
истиной. Если будут настаивать в приписывании мне тех книг,
которых в литературном смысле я не могу признать своими,
но права собственности на которые были доверены мне, то
я оставлю это без внимания по тем же основаниям, по каким не
препятствую клеветникам клеветать.
Огромный размер плана, охватывающий одновременно
историю и критику общества, анализ его зол и обсуждение его
основ, разрешает, я полагаю, мне дать моему труду то заглавие, под которым оно появляется теперь: Ч е л о в е ч е с к а я
к о м е д и я . Притязательно ли оно? Быть может, только правильно? Это решат мои читатели, когда труд будет окончен.
Июль 1842 г.
,
Предисловие к «Человеческой/
комедии». Соч., I, 53—65. >
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ. ТРАДИЦИОННАЯ
ШКОЛА ФРАНЦУЗСКОГО РЕАЛИЗМА И СТЕНДАЛЬ
Д в а основных направления в и с к у с с т в е . — « Ш к о л а идей» и «школа образов»
( Ш к о л а рисунка и школа цвета в живописи.) — Смысл борьбы классиков w
романтиков. — Сравнение достоинств и недостатков литературы идей и литературы образов. — Недостаточность художественных средств романтизма
и классицизма для изображения современности. — Образование школы,
объединяющей достоинства к л а с с и к о в и романтиков. Шедевр классической
французской школы — П а р м с к и й
м о н а с т ы р ь . — Гениальный
образ графа Моска. — Трудности художественного изображения велик и х государственных людей. — Герцогиня
Сан-Северина. — Идеальные
характеры в и с к у с с т в е . — Стендаль к а к изобразитель придворных н р а в о в . —
Гениальные приемы Стендаля в изображении механики европейской политики. — Искусное слияние психологического анализа с напряжением дейс т в и я . — Поэтичность образа республиканца Палла Ф е р р а н т е . — Недостатки
П а р м с к о г о м о н а с т ы р я . — Примитивное «биографическое» расположение событий, растянутость н а ч а л а . — Нарушение единства компози-.
ции. — Неясность роли Фабрицио. — Отчего Фабрицио не годится в центральные фигуры романа? — Стилистические промахи Стендаля. — Общие заслуги
Стендаля перед французской литературой. — Д о с т о и н с т в а книги О л ю б в и .
ЭТЮД О БЕЙЛЕ
•
В наши дни литература, как это легко заметить,
имеет три лица; отнюдь не являясь признаком вырождения,
эта тройственность (словечко, изобретенное г. Кузеном:
из отвращения к слову «троеличие») кажется мне естественным
следствием обилия литературных талантов: это хвала девятнадцатому веку, который не довольствуется единственной и одинаковой формой, подобно семнадцатому, и восемнадцатому векам, подчинявшимся, в той или иной мере, тирании одного
человека или одной системы.
^
Эти три формы, три лица или три системы,—называйте!
их, как хотите,—-естественны и соответствуют общему влечению, которое должно было появляться в наше время, когда
с распространением просвещения возросло число ценителей
литературы и чтение достигло неслыханного развития;
• Во всех поколениях и у всех народов есть элегические,
мыслящие, созерцательные умы, которые особенно увлекаются
величественным зрелищем природы,' возвышенными образами—и дереносят их в глубь себя. Отсюда выросла школа,
которую я охотно назвал бы литературой образов и к которой принадлежит лирика, эпопея и вое, что порождается
таким взглядом на вещи.
' к Существуют-, напротив, души активные, которые любят
стремительность, движение, краткость, столкновения, действие,
драму, которые бегут от словопрений, не любят мечтательности и стремятся к результатам. Отсюда совсем другая
система, породившая то, что я назвал бы, в противоположность первой, литературой
идей.
Р Наконец, иные цельные люди, иные
двусторонние
'(bifrons) умы объемлют все, хотят и лирики и действия,,
драмы и оды, полагая, что совершенство требует полного
обзора явлений. Эта школа; которую я назвал бы литера-,
турным эклектизмом, требует изображения мира таким, каков он есть: образы и идеи, идея в образе или образ в
идее, движение и мечтательность. Вальтер Скотт вполне удовлетворил бы эти эклектические натуры.
Какая школа выше? Не знаю. Я не хотел бы, чтобы
из этого естественного различия извлекали насильственные
выводы. Я также не говорю, что какой-нибудь поэт из школы
образов лишен идей или другой поэт из школы идей не
умеет создавать прекрасные образы. Эти три формулы относятся только к общему впечатлению от творчества поэтов,
к форме, в которую писатель отливает свою мысль, к направлению его ума. Всякий образ соответствует какой-нибудь,
идее, или, точнее, чувству, являющемуся совокупностью идей,
а идея не всегда приводит к образу. Идея требует последовательной работы мысли, которая доступна не всем умам..
Зато образ по существу своему популярен, его легко понять.
Представьте, что С о б о р П а р и ж с к о й Б о г о м а т е р и
Виктора Гюго появился одновременно с М а н о н Л е с ко;.
Собор привлек бы массы гораздо быстрее, чем Маиоп, и показался бы выше ее тем, кто преклоняется перед Vox рорцЦ1,.
Однакож, в каком бы жанре ни было написано произ-,
ведение, оно останется в памяти людей только тогда, если
подчинится законам идеала и формы. В литературе образ,
и идея соответствуют тому, что в живописи называют ри-»
сунком и цветом. Рубенс и Рафаэль—великие художники; ностранным заблуждением было бы полагать, что Рафаэль не
колорист, а те, кто не считает Рубенса рисовальщиком, могли:
бы, воздавая дань восхищения рисунку, преклонить колени:
перед картиной, выставленной великим фламандцем в генуэзской церкви иезуитов.
"
,:
1
Глас народа (по-латыни).
Г-н Бейль, более известный под псевдонимом Стендаля,
является, по-моему, одним из выдающихся мастеров литературы идей, к которой принадлежат гг. Альфред де Мюссе,
Мериме, Леон Гозлан, Беранже, Делавинь, Гюстав Планш,
г-жа де Жирардэн, Альфонс Kapp и Шарль Нодье. Анри
Монье сближает с ними правдивость его сценок, часто лишенных обобщающей идеи, но тем не менее полных естественности и строгой наблюдательности, столь характерных
для этой школы.
Эта школа, которой мы уже обязаны прекрасными произведениями, отличается обилием фактов, умеренностью образов,
сжатостью, ясностью, короткой вольтеровской фразой, умением рассказывать, унаследованным от восемнадцатого века,
и, особенно, чувством юмора. У г. Бейля и г. Мериме, несмотря на их глубокую серьезность, есть что-то невыразимо
ироническое и лукавое в манере излагать события. Смешное
у них сдержанно. Это пламя, спрятанное в кремне.
Г-н Виктор Гюго, несомненно, величайший талант литературы образов. К этой школе, восприемником которой был
г. де Шатобриан, а создателем философии г. Балланш, принадлежит и Ламартин. Оберман тоже. Гг. Огюст Барбье,
Теофиль Готье, Сент-Бев тоже, а за ними множество бессильных подражателей. У некоторых из приведенных мной
авторов чувство порой берет верх над образом, как, например, у г. Сенанкура или г. Сент-Бева. Своей поэзией, больше
чем прозой, г. де Виньи также принадлежит к этой обширной
школе. У всех этих поэтов мало чувства юмора; им не
дается диалог, за исключением г. Готье, обладающего в этой
, области острым чутьем..У г-на Гюго диалог слишком похож
на его собственные слова, поэт недостаточно перевоплощается,
і он вкладывает себя в свой персонаж, вместо того чтобы
самому становиться персонажем. Но и эта школа, так же
' как и другая, дала прекрасные произведения. Она замечательна поэтической насыщенностью фразы, богатством образов, поэтическим языком, внутренней связью с природой; та,
первая, школа человечна,, эта—божественна в том смысле,
что стремится с помощью чувства подняться до самой души
мира. Природу она предпочитает человеку. Французский язык
обязан ей тем, что получил изрядную долю поэзии, которая
была ему необходима, ибо она развила поэтическое чувство,
коемуі долго сопротивлялась, да простят мне это слово,
положительность нашего языка и сухость, запечатленная в
нем писателями восемнадцатого века. Жан Жак Руссо, Бернарден де Сен-Пьер были зачинщиками этой благодетельной,
на мой взгляд, революции.
Тайна борьбы классиков и романтиков лежит целиком в
этом естественном разделении умов. В течение двух веков
литература идей царила безраздельно: наследники восемнадцатого века должны были принять единственную известную
им литературную систему для всей литературы. Не будем
осуждать защитников классики! Литература идей, насыщенная фактами, сжатая—близка гению Ф р а н ц и и . И с п о в е д а н и е
с а вой с к о г о викария, Кандид, Дна лог С у л л ы и Э в к р а т а , В е л и ч и е и п а д е н и е римляіг, П и с ь м а к пров и н ц и а л у , М а н о н Л е е к о, Ж и л ь Б лаз—все это ближе
французскому; духу, чем произведения литературы образов.
Но последней мы обязаны поэзией, о которой и не подозревали в двух предыдущих веках, если оставить в стороне
Лафоитена, Андрэ Шенье и Расина. Литература образов еще
в колыбели, но насчитывает уже немало людей, талант которых неоспорим; а когда я вижу, сколько их насчитывает
другая школа, я больше верю в величие, чем в упадок
царства нашего прекрасного языка. Теперь, когда борьба
окончена, можно сказать, что романтики не изобрели новых
средств; в театре, например, те, кто жаловался на недостаток действия, широко пользуются тирадой и монологом,
но все же нам не привелось еще услышать живой и стремительный диалог Бомарше, ни увидеть комизм Мольера, который всегда будет итти от разума и идей. Комизм—враг
размышления и образа. Г-н Гюго получил большое преимущество в этом бою. Но люди осведомленные помнят о войне,
объявленной г-ну Шатобриану во времена Империи; она была
так же ожесточенна, но утихла скорее, потому что г-н Шатобриан был один, без stipante caterva 1 г-на Гюго, без газетной борьбы, без помощи, которую оказывали романтикам
прекрасные таланты Англии и Германии, более известные и
лучше оцененные.
1
Без «напирающей на него толпы» (цНтата из Энеиды.)
Что касается третьей школы, обладающей свойствами и
одной и другой, то у нее меньше шансов, чем у первых
двух, возбудить страсти масс, которые недолюбливают mezzo,termine1, произведения смешанные, и видят в эклектизме
сделку, противоречащую их страстям, поскольку он их успокаивает. Франция любит войну во всем. Даже в мирное
время она продолжает драку. Тем не менее Вальтер Скотт,
г-жа де Сталь, Купер, Жорж Санд, на мой взгляд, прекрасные таланты. Что касается меня, то я встал в строй под
знамя литературного эклектизма по следующей причине: я не
считаю возможным живописать современное общество суровыми методами семнадцатого и восемнадцатого веков. Введение
драматического элемента, образа, картины, описания, диалога
мне кажется необходимым в современной литературе. Признаемся откровенно, Ж и л ь Б л а з утомителен по форме: в нагромождении событий и идей есть что-то бесплодное. Идея,
ставшая персонажем, это—искусство более высокое. Платон
диалогизировал свою психологическую мораль.
П а р м с к и й м о н а с т ы р ь является, на мой взгляд, шедевром литературы идей для нашего и прежних времен, и в
нем г-н Бейль сделал обеим другим школам уступки, допустимые для светлых умов и удовлетворяющие оба лагеря. ^
Если я, несмотря на значение этой книги, говорю о ней
с таким запозданием, поверьте, причина в том, что мне
трудно было приобрести своего рода беспристрастность. Я и
сейчас не уверен в том, что сохраню ее, ибо даже после
третьего чтения, медленного и обдуманного, я нахожу это
произведение превосходным.
Я знаю, сколько насмешек вызовет мое восхищение.
Конечно, будут кричать о пристрастии, тогда как я просто
испытываю восторг и теперь, когда ему пора бы иссякнуть.
У людей с воображением, скажут мне, так же внезапно
возникает, как и проходит, нежность к некоторым произведениям, в которых, по гордым и ироническим утверждениям
людей заурядных, ничего нельзя понять. Простодушные или
даже остроумные особы, скользящие своим высокомерным
взглядом по поверхности, скажут, что я забавляюсь парадоксами, придавая ценность пустякам, и что у меня, как и у
1
Полумера,
половинчатость
(по-итальяиски).
г-на Сент-Бева, есть свои любимые безвестности. Но я не
могу итти против правды, вот и все.
Г-н Бейль написал книгу, величие которой раскрывается
с каждой главой. В том возрасте, когда редко находят значительные сюжеты, и написав уже два десятка весьма остроумных книг, он создал произведение, которое могут оценить
.только души и люди поистине высшие. Он, наконец, написал современную книгу О князе—роман, который написал бы Макиавелли, если бы он, изгнанный из Италии, жил
в девятнадцатом веке.
Таким образом, величайшим препятствием к заслуженной
известности г-на Бейля является то, что П а р м с к и й мон а с т ы р ь может встретить читателей, способных насладиться
им, лишь среди дипломатов, министров, наблюдателей, самых
выдающихся светских людей, самых замечательных артистов,
среди, наконец, тысячи, ползпора тысяч людей, представляющих мысль Европы. Не удивляйтесь поэтому, что в течение
десяти месяцев со дня появления этого поразительного произведения не нашлось ни одного журналиста, который бы
прочел его, понял и изучил, который бы его назвал, разобрал и похвалил или хотя бы упомянул о нем. Я,—а я думаю,
что знаю себя немного,—прочел на-днях это произведение в
третий раз: я нашел его еще более прекрасным и почувствовал в душе счастье, рождающееся, когда хочешь совершить
хороший поступок.
А разве это не хороший поступок—попытаться воздать
справедливость человеку огромного таланта, чей гений виден
лишь глазам немногих избранных, человеку, благодаря возвышенности своих идей лишенному той скорой, но преходящей
известности, к которой стремятся льстецы народа и которую
презирают великие души? Если бы люди посредственные знали, что у них есть надежда возвыситься до высших людей,
поняв их, то у П а р м с к о г о м о н а с т ы р я было бы
•столько же читателей, сколько былоі их у К л а р и с с ы Г а р л о у при ее появлении.
В восхищении, оправданном совестью, есть невыразимое
наслаждение. Итак, все, что я скажу сейчас, я обращаю
к чистым и благородным сердцам, которые вопреки довольно жалкой декламации существуют, подобно неизвест-
ным плеядам, во всех странах среди содружеств умов, преданных культу искусства. Ведь от поколения к поколению
передает человечество здесь на земле свои созвездия душ,
свое небо, своих ангелов, по выражению великого шведского
пророка Сведенборга,—народ избранников, для которого работают истинные художники и чье одобрение помогает им
переносить нищету, наглость выскочек и небрежность правительства!
Вы, надеюсь, простите мне то, что недоброжелатели называют длиннотами. К тому же, я в этом твердо уверен,
разбор столь любопытного и интересного произведения доставит самым придирчивым особам больше удовольствия, чем
неопубликованная повесть, которую он заменит. Да и любой
другой критик потратил бы не меньше трех статей такой же
длины, как моя, если бы захотел как следует объяснить это
произведение; в одной его странице содержится целая книга,
и объяснить его может лишь тот, кому хоть немного знакома
Северная Италия. Наконец, поверьте, что с помощью г-на
Бейля я постараюсь быть поучительным настолько, чтобье
вы с удовольствием выслушали меня до самого конца.
Сестра маркиза Вальсерра дель Донго, по имени Джина,
уменьшительное от Анджелина, чей характер вначале, в дни
ее юности, напоминает немного,—если вообще итальянка может быть похожа на француженку,—характер мадам Линьоль
в Ф о б л а з е , выходит замуж в Милане,—против воли брата,
желавшего выдать ее за старого, знатного и богатого миланца,—за графа Пьетранера, у которого нет ни гроша.
Граф и графиня принадлежат к французской партии и
служат украшением двора принца Евгения. Рассказ начинается во времена Итальянского королевства.
Маркиз дель Донго, миланец, преданный Австрии и
австрийский шпион, четырнадцать лет ждет падения Наполеона. Поэтому маркиз, брат Джины Пьетранера, не живет
в Милане: он поселился в замке Грианта на озере Комо;
там он воспитывает старшего сына в любви к Австрии и в
твердььх правилах, но у него есть младший сын, по имени Фабрицио, от которого без ума графиня Пьетранера. Фабрицио—
младший сын; как и (она, он останется без всякого состояния.
Кто не знает, какую нежность испытывают прекрасные души
к обездоленным! И вот она хочет что-нибудь для него сделать«
К тому же, по счастью, Фабрицио—очаровательный мальчик..
Она добивается разрешения отдать его в Миланскую иезуитскую коллегию, откуда по временам возит его ко двору,
вице-короля.
Наступает первое падение Наполеона. В то время как.
он находится на острове Эльбе, а в Милане, снова ^захваченном австрийцами, царит реакция,—какой-то молодой человек,
оскорбил итальянскую армию в присутствии графа Пьетранера,
не преминувшего ответить; ссора эта стала причиной егосмерти: его убивают на дуэли.
Поклонник графини отказывается отомстить за мужа;
Джина унижает его местью, столь великолепной по ту сторону Альп; в Париже она показалась бы глуповатой. Вот
эта месть.
Хотя она презирает in petto 1 этого влюбленного, безуспешно обожающего ее в течение шести лет, все же она
оказывает бедняге внимание, а когда тот теряет голову от
надежды, она ему пишет:
«Хотите поступить хоть один раз, как подобает умному
человеку? Вообразите, что вы никогда не знали меня.
Остаюсь, с чувством некоторого презрения,
Ваша покорная слуга
Джина Пьетранера».
Затем, чтобы привести в еще большее отчаяние этого
богача, имеющего двести тысяч ливров ренты, она gingine
(ginginer—это миланский глагол, означающий все, что происходит на расстоянии между влюбленными, прежде чем они
заговорят. Есть существительное от этого глагола—gingino.
Это первая степень любви),—итак, она gingine недолго с
каким-то пустым малым, которого вскоре бросает; затем она
уединяется и живет, получая пенсию в полторы тысячи франков, где-то на третьем этаже, в скромной квартире, куда
съезжается весь Милан, чтобы видеть ее и восхищаться ею.
Ее брат маркиз просит ее приехать в родовой замок на
озеро Комо. Она приезжает, чтобы повидать и поддержать1
В глубине души
(по-итальянски).
своего прелестного племянника "Фабрицио, утешить невестку
-и обсудить свое будущее на лоне прекрасного пейзажа озера
Комо, своей родной страны и родины племянника, которого
она, не имея своих детей, любила как сына. Фабрицио, обожающий Наполеона, узнав, что тот высадился в заливе Жуан,
отправляется служить государю своего дяди Пьетранера. Его
мать, которая была женой богатого маркиза с пятьюстами
тысячами ливров дохода, но не располагала ни одной копейкой, и его тетка Джина, y, которой не было ни гроша,
отдают ему свои бриллианты: для них Фабрицио—герой.
Восторженный доброволец проезжает в Швейцарию, прибывает в Париж, участвует в битве при Ватерлоо, затем возвращается в Италию, где за участие в заговоре 1815 года против безопасности Европы отец проклинает его, а австрийское правительство запрещает ему въезд на родину. Для него
вернуться в Милан—значит попасть в Шпильберг. С этого
момента Фабрицио, этот обожаемый ребенок, несчастный, преследуемый за свой героизм, становится для Джины всем.
Графиня возвращается в Милан, она добивается от Бубны
и умных людей, посланных тогда Австрией в Милан, обещания не преследовать Фабрицио, которого, по совету опытного каноника, скрыла в Новаре. И в разгар всех этих событий—ни гроша денег. Но Джина—женщина необычайной
красоты, она хороша той ломбардской красотой (belezza
folgorante), которую можно понять только в Милане, в театре JIa Скала, где собираются тысячи прекрасных женщин
Ломбардии. События бурной жизни развили в ней великолепный итальянский характер: у нее есть ум, тонкость, итальянская грация, очаровательная манера разговаривать, поразительное умение владеть собой,—одним словом, графиня является одновременно мадам де Монтеспан, Екатериной Медичи
и, если угодно, Екатериной II: самый смелый политический
талант и величайший женский талант, скрытые под восхитительной красотой. Заботиться о своем племяннике, несмотря
на ненависть старшего брата, который ревновал его, несмотря на нелюбовь и равнодушие отца, вырвать его из
опасности, царить при дворе вице-короля Евгения и потомничего! Все эти, потрясения обогатили ее природные силы,
изощрили ее способности и разбудили инстинкты, заглушенные
в ее душе первоначальным благоденствием и замужеством,
в котором было не много радостей вследствие постоянных
отлучек верного слуги Наполеона. Каждый видел или угадывал в ней неисчислимые богатства страсти, сокровища и
алмазы прекраснейшего женского сердца.
Старый каноник, которого она подчинила себе, поручил
Фабрицио покровительству одного священника в
Новаре,
маленьком пьемонтском городке. Священник этот прекратил
розыски полиции следующими словами: «Это яладиіии сын,
недовольный тем, что он не старший». Когда Джина,
мечтавшая увидеть Фабрицио адъютантом Наполеона, узнала,
что Наполеон-на острове Св. Елены, она поняла, что Фабрицио, записанный в черной книге миланской полиции, потерян для нее навсегда.
Во времена замешательства, царившего в Европе к моменту битвы при Ватерлоо, Джина познакомилась с графом
Моска де ла Ровере, министром знаменитого князя Пармского—Рануция Эрнеста IV.
Здесь мы должны остановиться.
Разумеется, прочитав книгу, невозможно не узнать в графе Моска замечательнейший портрет князя Меттерниха, но
перенесенного из великого канцлерства Австрийской империи
в скромное княжество Пармское.
Княжество Пармское и знаменитый Эрнест IV, также кажутся мне похожими на князя Моденского и его герцогство.
Г-н Бейль говорит об Эрнесте IV, что это—один из самых
богатых князей Европы, а герцог Моденский славится своим
богатством. Чтобы избежать личностей, автор употребил больше таланта, чем Вальтер Скотт на создание плана К ей ил ьв о р т а . Действительно, оба сходства внешне так неопределенны, что их можно отрицать, а внутренне так реальны,
что люди осведомленные не могут ошибиться. Г-н Бейль
так восхвалил великолепный характер первого министра княжества Пармского, что можно усомниться, был ли князь
Меттерних столь же велик, как Моска, хотя сердце этого
.знаменитого государственного деятеля показало тем, кто хорошо знает его жизнь, один или два примера страсти, по
размаху не уступающей страсти графа Моска. Счесть австрийского министра способным на величие графа Моска—не значит клеветать на него. Что же касается места графа Моска
во всем произведении, что касается поведения человека, ко-
торого Джина считает величайшим дипломатом Италии, то
нужно быть гением, чтобы создать все события, происшествия и интриги, среди которых разворачивается этот мощный
характер. Все, что сделал г-н Меттерних за свою долгую
жизнь, не так необычайно, как то, что сделал Моска. Когда
сообразишь, что автор все это придумал, запутал и распутал
так, как обычно запутываются и распутываются события при
дворе, то даже самые неутомимые умы, которым работа мысли
привычна, будут потрясены и ошеломлены подобным трудом.
Что до меня, то я верю в какую-то литературную чудесную
лампу. Дерзнуть вывести человека, силой ума равного Шуазелю, Потемкину, Меттерниху, сотворить его, доказать его
существование действиями самого творения, поместить его в
свойственную ему среду, где раскрываются все его способности,—это работа не человека, а феи или волшебника. Представьте себе наиболее искусно усложненный план Вальтера
Скотта, но не сведенный к восхитительной простоте, царящей в его рассказах о событиях, столь многочисленных и
столь кудрявых (feuillu), пользуясь знаменитым выражением
Дидро.
Вот портрет графа Моска. Дело происходит в 1816 году»
заметьте это!
і
«Графу Моска можно было дать от сорока до сорока
пяти лет. У него были крупные черты лица и никакой чванности; простой и веселый вид располагал в его пользу; он
выглядел бы еще красивым мужчиной, если бы, по приказу
своего государя, он не был вынужден пудрить волосы в
знак своей политической благонамеренности».
Итак, пудра, которую употреблял г-н Меттерних и которая смягчала его и без того мягкие черты, объяснена у
графа Моска волей повелителя. Несмотря на поразительные
усилия г-на Бейля, который на каждой странице вводит новые превосходные выдумки, чтобы обмануть читателя и отклонить его догадки, мысль ваша обращается к Модену и
никак не хочет оставаться в Парме. Всякому, кто видел»
знал или встречал г-на Меттерниха, покажется, что он говорит устами графа Моска, что он передал ему свой голос
и свои манеры. Хотя в произведении Эрнест IV умирает,
а герцог Моденский здравствует поныне, часто можно вспомнить об этом князе, известном своей суровостью, которую
миланские либералы называли жестокостью. Таковы слова
автора о князе Пармском.
Ни в одном из этих портретов, задуманных с намерением
обидным, нет, однако, ничего оскорбительного, ничего похожего на месть. Хотя г-ну Бейлю не за что жаловать
г-на Меттерниха, который отказался утвердить его консулом
в Триесте, и хотя герцог Моденский никогда не испытывал
удовольствия при виде автора Рима, Н е а п о л я и Ф л о р е н ц и и , П р о г у л о к по Р и м у и т. д., все же обе эти
фигуры написаны с большим вкусом и с полным соблюдением
приличий.
Вот что, очевидно, произошло в процессе работы над
двумя этими образами. Отдавшись вдохновению, необходимому тем, кто имеет дело с глиной и стекой, с кистыо и
краской, с пером и сокровищами нравственной природы,
г-н Бейль, начав с описания маленького итальянского двора,
кончил созданием типа князя и типа первого министра. Сходство, возникшее из фантазии насмешливого ума, прервалось,
когда в художнике заговорил гений искусства.
Поняв значение масок, читатель с живым интересом принимает восхитительный пейзаж Италии, город, описанный автором, и все ухищрения, нужные для подобных рассказов, которые во многом обладают волшебной силой восточных сказок.
Это длинное отступление было необходимо. Пойдем
дальше.
Моска охвачен любовью к Джине, огромной, вечной, безграничной любовью, совершенно такой же, как г-н Меттерних
к г-же Лейкам. Рискуя скомпрометировать себя, он, раньше
чем всем другим, сообщает ей дипломатические новости. Присутствие пармского министра в Милане полностью объясняется
лозже.
•
Чтобы нарисовать всю пресловутую любовь итальянцев
и итальянок, я расскажу вам довольно известную историю.
-Уходя из Италии в 1799 году, австрийцы увидели на Бастионе некую графиню Б...нини, которая, не тревожась о
революциях и войнах, каталась в коляске с молодым каноником; они любили друг. друга. Бастион—это великолепная
аллея, которая начинается у Восточных ворот (Porta Benza)
н похожа на Елисейские Поля, с той лишь разницей, что
слева возвышается il Duomo 1 , «эта гора золота, превратившегося в мрамор», как сказал Франциск II, который был не
лишен остроумия, а справа—снежная бахрома и величественные зубцы Альп. По возвращении в 1814 году; первое, что
увидели австрийцы, были графиня и каноник в той же коляске, возможно, за той же беседой, на том же месте Бастиона. Я знал в этом городе юношу, который страдал, если
удалялся за две-три улицы от дома своей возлюбленной.
Когда женщина внушает любовь итальянцу, он уж не расстается с ней.
«Этот министр, несмотря на свой легкомысленный вид
и блестящие манеры, не обладал душой французского склада;
он не умел забывать огорчений. Когда тернии появились у
его изголовья, он должен был притуплять и обламывать их,
раня при этом свои трепещущие руки». Этот великий человек постиг великую душу графини и влюбился в нее, как
школьник. «Не есть ли старость,—повторял он,—прежде всего
неспособность к этим восхитительным ребячествам?» Графиня
заметила как-то вечером прекрасный, полный благожелательства взгляд графа Моска. (Взгляд, которым Меттерних мог
бы рбмануть самого бога.)
«Если бы в Парме,—сказала она ему,—у вас был такой рзгляд, они имели бы некоторую надежду не быть повешенными».
,
Наконец, после трех месяцев борьбы, поняв, как необходима эта женщина для его счастья, дипломат является к ней
с тремя различными планами дальнейшей жизни и предлагает
ей избрать самый разумный.
В глазах графа Моска Фабрицио—дитя; неумеренный"
интерес, который графиня проявляет к племяннику, кажется
ему одним из тех материнсгкв по выбору, что забавляет
прекрасные женские души, пока в них царит любовь.
Моска, к несчастью, женат. Поэтому-то он привозит вМилан герцога Сансеверина-Таксис. Разрешите мне ввести
в мой разбор несколько цитат, которые послужат вам примерами живого, свободного, подчас не лишенного погрешно1
Собор
(по-итальянски).
стей стиля г-на Бейля и помогут вам прочесть меня с удовольствием.
«Герцог был красивый старичок, шестидесяти восьми лет,,
седенький,- учтивый, очень опрятный, чрезвычайно богатый,
но неособенно высокого происхождения». «Вообще же герцог
вовсе ѵ не-чѵіуп,—сказал министр,—он выписывает свои костюмы!* парики из Парижа. Это отнюдь не человек, способней'заранее придумать что-нибудь злостное; он серьезно
думает, "что иметь ленту—это великая честь, и стыдится
своего богатства. Выходите за него замуж. Он даст вам
сто тысяч экю, великолепное наследство, свой дворец и роскошную жизій» в Парме. При этом условии я сделаю егопослом (князя, он получит ленту и уедет на другой день
после свадьбы; вы станете герцогиней Сансеверина, и мы
заживем счастливо. Все согласовано с герцогом, который
будет счастливейшим в мире человеком, если все уладится:
он никогда больше не появится в Парме. Если такая жизнь,
вас отталкивает, у меня есть четыреста тысяч франков, я.
подаю в отставку, и мы поселимся в Неаполе».
«Но знаете ли вы, что предложение ваше очень безнравственно?»—сказала графиня.
«Не более безнравственно, чем то, что делается при] всехдворах,—ответил министр.—Самодержавие удобно тем, что
оправдывает все. Ежегодно мы будем считать себя накануне1793 года, и все, что способно будет ослабить этот страх,.
окажется нравственным в высоком смысле. Вы услышите
фразы, которые я говорю на этот счет во время приема..
Князь согласился, и вы получите брата в лице герцога, который не посмеет питать надежды при заключении этогоспасительного для него брака: он считал себя погибшим,,
оттого что ссудил двадцать пять наполеондоров великому Ферранте Палла, республиканцу, поэту, человеку почти гениальному, которого мы приговорили к смертной казни, по*
счастью, заочно».
Джина соглашается. И вот она—герцогиня Сансевери-на-Таксис, поражающая пармский двор своей любезностью и:
благородной ясностью своего ума. Дом ее—самый приятныйв городе, где она царит, где она—гордость маленького двора.
Портрет князя Эрнеста IV, прием герцогини, ее первыешаги, знакомство с каждым членом царствующей семьи, все-
эти детали—чудеса ума, глубины, сжатости стиля. Никогда
•еще не были так описаны сердца министров, придворных
•и женщин. Вы прочтете замечательные страницы.
Когда племянник герцогини бежал от преследований
австрийцев и ехал с озера Комо в Новару, под защиту,
•своего исповедника и священника, он встретил Фабио Конти,
генерала армии Пармского княжества, одну из самых забавных фигур этого двора и этой книги, генерала, который
занимается лишь одним вопросом: семь или девять пуговиц
должно быть на мундирах солдат его светлости; но у этого
смешного генерала есть прелестная дочь—Клелия Конти. Фабрицио и Клелия, оба спасаясь от жандармов, обменялись
лишь несколькими словами. Клелия—прекраснейшая девушка
Пармы. Как только князь увидел, какое впечатление произвела при его дворе» терцогиня Сансеверина, он решил уравновесить ее красоту** ^явлением Клелии. Серьезное препятствие! Девицы не Приняты при дворе: нужно сделать ее
канониссой.
У князя есть ^любовница. У него страсть подражать Лю. довику XIV. И
чтобы не отстать от него, он избрал
себе JIa Вальер—некую графиню Бальби, которая очень жадна
и не пропускает ни одного поставщика. Эрнест IV был бы
в отчаянии, если бы Бальби не была жадной: скандальное
-богатство его любовницы—признак княжеской мощи. На его
• счастье, графиня скупа!
«Она приняла меня так,—сказала герцогиня графу Мо• ска,—будто ожидала, что я ей дам на чай».
Но, к большому, огорчению Рануция Эрнеста IV, графиня
не умна и не выдерживает сравнения с герцогиней, он оскорблен этим; вот главная причина раздражения. Его любовнице
тридцать лет, она образец хорошенькой итальянки.
- «Она и теперь еще обладала прекраснейшими в мире
глазами и грациозными ужимками; но на "близком расстоянии на ее коже можно было различить множество тонких
морщинок, делавших из маркизы молодую старуху. Она старалась улыбаться всему, что говорил князь, и хотела показать ему этой лукавой улыбкой, что все понимает; граф
Моска говорил, что сопровождающая эти улыбки внутренняя
зевота провела столько морщин на ее лице».
Герцогиня отражает первый удар, нанесенный его свет-
лостью, тем, что становится подругой Клелии, которая, по
счастью, оказалась невинным созданием. По политическим соображениям князь не мешает существованию в Парме так
называемой либеральной партии (видит бог, что это за либералы!). Один из либералов велит изобразить на плафоне
великих людей Италии: Данте, Макиавелли, Петрарку, Льва X,
принимающих Монти. Это сочли эпиграммой на правительство, в котором нет больше великих людей. Вождем либеральной партии является маркиза Раверси, уродливая и злая,
придирчивая, " как всякая оппозиция.' Генерал Фабио Конти
также принадлежит к этой партии. У князя, вешающего
смутьянов, есть свои резоны держать либеральную партию.
У Эрнеста IV есть свой Лобардемон, генеральный фискал
или главный судья, по имени Расси. Этот Расси, одаренный
природным умом, является самым ужасно комическим или
комически ужасным персонажем, какого только можно себе
представить: посмеиваясь, он отдает приказы о повешении
и играет правосудием. Он нужен, он необходим князю. Расси—
это смесь Фуше, Фукье-Тенвиля, Мерлена, Трибуле и Скапена. Если князя называют тираном, он говорит, что это
заговор, и вешает. Он повесил уже двух либералов. Со времени этой казни, известной всей Италии, князь, который показал свою храбрость на поле битвы и командовал армией,
князь, человек умный,—боится всего. Расси становится страшен, он вырастает до гигантских размеров и все же остается
гротесковой фигурой: он—правосудие этого маленького государства.
Вот что произошло при дворе после триумфа герцогини.
Граф и герцогиня, эта чета орлов, запертых в клетке ничтожной столицы, начинают вскоре раздражать князя. Прежде
всего герцогиня искренне любит графа, граф влюбляется
день ото дня все больше, и это счастье злит скучающего
князя. Таланты графа Моска необходимы Пармскому кабинету. Рануций Эрнест и его министр связаны как сиамские
близнецы. Действительно, они вдвоем задумали неосуществимый (оговорка г-на Бейля) план создания единого государства на севере Италии. Под маской абсолютизма князь плетет интриги, чтобы стать повелителем этого конституционного королевства. Он умирает от желания походить на Людовика XVIII и пожаловать Северной Италии хартию и две
палаты. Он считает себя великим политиком, у него есть
честолюбие, он возвеличивает в своих глазах свое ничтожное положение этим планом, полностью известным графу»
он нашел применение своим сокровищам! Чем больше ему
нужен Моска, чем больше он признает таланты своего министра, тем больше возникает в этой княжеской душе причин
для тайной ревности. При дворе скучают, во дворце Сансеверина развлекаются. Что остается ему, чтобы доказать самому себе свое могущество? Возможность мучіггь своего министра. И он мучит его жестоко! Князь сначала пытается
под видом шутки сделать герцогиню своей любовницей, она
отказывается; даже из краткого изложения легко понять,
какой это укол для самолюбия. Князь приходит к мысли,
что атаковать министра нужно через посредство герцогини»
и ищет случая доставить ей неприятности.
Вся эта часть романа отличается замечательной литературной добротностью. Живопись эта грандиозна, как полотно
пятидесяти футов длины и тридцати футов высоты, и в
то же время исполнена с голландской тонкостью. Мы приближаемся к драме, к драме самой законченной, самой захватывающей, самой необычной, наиболее глубоко коренящейся в человеческом сердце из всех когда-либо выдуманных
драм; но она несомненно существовала во многие эпохи и
вновь возродится при дворах, и вновь ее будут разыгрывать
так же, как Людовик XIII и Ришелье, как Франциск II и
Меттерних, как Людовик XV, Дюбарри и Шуазель уже
играли ее.
В создавшемся положении герцогиню особенно радовала
возможность устроить судьбу своего героя, сына своего сердца, своего племянника Фабрицио. Фабрицио будет обязан
карьерой талантам графа Моска. Джина перенесла на подростка любовь, которую раньше испытывала к ребенку. Могу,
вам сказать заранее, что любовь эта позже, незаметно для
Джины, а затем и вполне сознательно превратится в страсть,
которая дойдет до высшего предела. Но Джина все же всегда
будет оставаться женой великого дипломата и не совершит
другой измены, кроме страстных волнений сердца, испытываемых ею ради ее юного кумира; она: не обманет талантливого человека, он всегда будет счастлив и горд; она будет
поверять ему свои переживания; он испытает ужаснейшие
мучения ревности, но никогда у него не будет причины жаловаться. Герцогиня будет откровенна, наивна, возвышенна»
покорна, трогательна, как драма Шекспира, прекрасна, как
поэзия, и самый суровый читатель не сможет упрекнуть
ее ни в чем. Быть может, никогда ни один поэт не разрешил свою задачу так удачно, как г-н Бейль в этом смелом
произведении. Герцогиня—это одна из тех великолепных статуй, которые заставляют нас и восхищаться искусством и
проклинать природу, скупую на такие образцы. Джина, когда вы прочтете книгу, встанет перед вашими глазами подобно прекраснейшей статуе: то будет не Венера Милосская»
не Венера Медицейская, но Диана, наделенная чувственной
силой Венеры, нежностью мадонны Рафаэля и огнем итальянской страсти. В герцогине нет ничего французского. Да»
француз, который тесал и обрабатывал этот мрамор, не придал ей ничего, свойственного его стране. Знайте, что Коринна—жалкий набросок рядом с этим живым и восхитительным созданием. Вы найдете Джину возвышенной, остроумной, страстной, всегда правдивой, но в то же время автор
тщательно спрятал чувственную сторону. Во всем произведении нет ни слова, которое могло бы вызвать мысль о
любовном сладострастии или внушить его. Хотя герцогиня,
Моска, Фабрицио, князь и его сын, Клелия, хотя книга и ее
персонажи—это сама страсть со всеми ее неистовствами, хотя
перед нами Италия такая, как она есть, с ее хитростью,
притворством, коварством, хладнокровием, упорством, высокой
политикой,—П а р м с к и й м о н а с т ы р ь целомудреннее самого пуританского романа Вальтера Скотта. Создать благородный, величественный, почти безупречный образ герцогини»
которая сделала графа Моска счастливым и ничего от него
не скрывает, образ тетки, которая обожает своего племянника Фабрицио,—разве это не верх искусства? Федра Расина, эта величайшая роль французской сцены, которую янсенизм не посмел осудить, не так прекрасна, не так совершенна,
не так вдохновенна.
Итак, в тот момент, когда все улыбалось герцогине, когда
она забавлялась придворной жизнью, где постоянно можно
опасаться грозы, когда она все более нежно привязывалась
к графу, а граф буквально обезумел от счастья, когда
он обладал званием и почестями первого министра, ко-
торые близки к почестям, оказываемым самому, государю,
она как-то сказала ему: •
«А Фабрицио?»
.
;..•••
Граф предлагает добиться у Австрии помилования для ее
дорогого племянника.
«Но если он стоит .несколько выше тех молодых людей,
которые щеголяют своими английскими лошадьми на улицах
Милана, то безделье в восемнадцать лет и отсутствие надежд
на будущее должны крайне тяготить его. Если,—сказал Моска,—небо одарило его истинной страстью к чему бы то ни
было, хотя бы к рыболовству, я готов уважать эту страсть,—
но что он будет делать в Милане, даже после помилования?»
- «Я хотела бы, чтобы он был офицером»,—сказала герцогиня.
«Посоветуете ли вы государю доверить пост, который в
один прекрасный день может оказаться довольно важным,
молодому человеку, склонному к восторженности и бежавшему с озера Комо,' чтобы присоединиться к Наполеону при
Ватерлоо? Дель Донго не может сделаться ни купцом, ни
врачом, ни адвокатом. Вот выход, против которого вы восстанете, но потом согласитесь со мной. Если Фабрицио захочет, он вскоре станет архиепископом Пармским, это сан
один из самых высоких в Италии, а затем и кардиналом. Три
представителя вашего рода были архиепископами в Парме.
Асканио дель Донго с 16... года, Фабрицио с 1699 года и
второй Асканио с 1740 года. Важно только, останусь ли я
достаточно долго министром. Вот единственное затруднение».
После двух месяцев обсуждений герцогиня, разбитая по
всем пунктам доводами графа, в отчаянии от ненадежного
положения юного миланца обратилась, наконец, с такой
чисто итальянской фразой к своему другу: «Докажите мне,
что всякая другая карьера для Фабрицио невозможна».
- Граф доказывает.
/ Герцогиня, чувствительная к славе, не видит другого
спасения на земле для своего дорогого Фабрицио, кроме
церкви и ее высокого сана, ибо будущее Италии—в Риме
и нигде больше. Для того, кто хорошо знает Италию, ясно,
что только рука Сикста V может восстановить единое правление этой: страны и ее национальный дух. Только папа
властрн поднять': и возродить Италию. И посмотрите, как
внимательно следил австрийский двор в течение тридцати
лет за выборами лап, каких слабоумных стариков он венчал тиарой. Да погибнет лучше католицизм, чем мое владычество!—таков, казалось, был его лозунг. Скаредная Австрия истратила бы миллион, только бы помешать избранию папы, близкого Франции по духу. А если бы какойнибудь высокий ум Италии притворился достаточно хорошо,
чтобы надеть белую сутану, он мог бы умереть подобно
Ганганелли. Здесь, быть может, скрывается тайна отказа
римской курии, которая не захотела принять живительное
питье, элексир, предложенный лучшими экклезиастическими
умами Франции: Борджиа не преминул бы посадить их среди
преданных ему кардиналов. Автор буллы. I n c o e n a Dom i n i 1 понял бы великую галликанскую мысль, католическую
демократию, он приспособил бы ее к обстоятельствам. Проводя
эту реформу из лона церкви, он сделал бы ее спасительной,
он сохранил бы троны. Г-н де Лямене, этот .заблудший
ангел, не покинул бы из бретонского упрямства католическую
и апостолическую римскую церковь. .
Итак, герцогиня принимает план графа. У этой великой
женщины, как у великих политиков, бывает момент нерешительности, (колебания перед каким-нибудь планом, но она
никогда не меняет решения. Герцогиня всегда вправе желать того, что она желает. Настойчивость.—это качество ее
властного характера—накладывает какой-то ужасный отпечаток
на все сцены этой великолепной драмы.
Ничего не может быть остроумнее сцены, когда Фабрицио посвящают в его будущую судьбу. Граф и герцогиня излагают Фабрицио возможные пути его жизни. Фабрицио, юноша удивительно утиный, понимает все и подумывает о тиаре. Граф. не намерен сделать из Фабрицио обычного
итальянского священника. Фабрицио большой барин, он может остаться невеждой, если хочет, это не помешает ему
быть архиепископом. Фабрицио отказывается вести жизнь по
кофейням, бедность ужасает его, и он понимает, что не может
быть военным. Когда он заговаривает о том, чтобы стать
американским гражданином (дело происходит в 1817 году),
ему, описывают жалкую жизнь Америки без роскоши, без
1
На вечери господней (по-латыии).
музыки, без любви, без войны, культ бога Доллара и уважение к ремесленникам, к массе, которая решает все своим
голосованием. Фабрицио в ужасе перед властью черни.
Речи великого дипломата, показавшего ему жизнь такой, как она есть, рассеивают иллюзии молодого человека.
Слова г-на Талейрана: поменьше рвения, были ему непонятны, как и всем молодым людям.
«Подумайте,—сказал ему Моска,—что любая прокламация,
любой каприз чувства заставляют иногда человека восторженного присоединиться к делу, враждебному его будущим
взглядам».
Какая фраза!
Наставления министра, неофиту, который должен вернуться в Парму монсиньором. в фиолетовых чулках, которого
посылают ві Неаполь, снабдив рекомендательным письмом к
архиепископу, человеку умному, одному из друзей графа,—
наставления эти, произнесенные в гостиной герцогини как
бы шутя,—восхитительны. Одной цитаты достаточно, чтобы
показать вам тонкость взглядов и знание жизни, которыми
автор наделил этот замечательный персонаж.
«Верь или не верь тому, чему тебя будут учить, но
не позволяй себе никаких возражений. Вообрази, что тебя
обучают правилам игры в вист; станешь ли ты спорить против правил виста? А узнав и приняв их, разве ты не захочешь выиграть? Не впадай в пошлость, не говори с ужасом
о Вольтере, Дидро, Рейнале и прочих взбалмошных французах,
предшественниках двухпалатной системы. Говори о них со
спокойной иронией, эти люди давно опровергнуты: девяносто
третий год прошел. Тебе простят ловко проведенную галантную интрижку, но не простят сомнения: с летами интрижки
прекращаются, а сомнения возрастают. Верь всему, не поддавайся искушению блеснуть; храни молчание; люди проницательные угадают твой ум по глазам. У тебя будет достаточно времени проявить остроумие, когда ты станешь архиепископом».
Изумительное умственное превосходство графа Моска не
изменяет ему ни в делах, ни в словах; оно делает эту книгу,
каждую страницу ее столь же глубокой, как М а к с и м ы
Ларошфуко. И заметьте, что страсть толкает графа и герцогиню на ошибки; им нужно пускать в ход все свои та-
ланты, чтобы исправлять их. Человеку, который захотел бы
с ним посоветоваться, граф объяснил бы, какие беды стерегут
его в Парме при дворе Эрнеста IV. Но страсть закрыла
•ему глаза на собственное положение. Только талант может
открыть вам эту поразительную деталь. Великие политики,
в конце концов, лишь эквилибристы, и стоит им ослабить
внимание, как рушатся прекраснейшие их сооружения. Ришелье спасся от опасности в День одураченных лишь благодаря королеве-матери, которая не хотела ехать в Сен-Жермен
без отвара, сохраняющего ей цвет лица. Герцогиня и Моска
живут в постоянном напряжении всех умственных сил, и все
препятствия на их пути так прекрасно задуманы, так остроумно описаны, что читателя, наблюдавшего их жизнь, от
главы к главе охватывает все большее возбуждение. Наконец, заметьте, эти потрясения, эти ужасные сцены вплетены
в самую ткань книга: цветы не приколоты, они срослись
с материей.
«Нужно скрывать нашу любовь»,—печально сказала герцогиня своему другу, когда поняла, что борьба с князем
началась.
День, когда, отвечая на комедию комедией, она дала понять князю, что только слегка увлечена графом, был для
князя счастливым днем; но князь хитер, в конце концов
он видит, что его провели. Его разочаровашіе усиливает
грозу, вызванную злыми умыслами.
Эта огромная работа могла быть задумана и исполнена
лишь пятидесятилетним человеком, достигшим расцвета сил и
зрелости таланта. Совершенство заметно в каждой мелочи.
Роль князя написана рукой мастера, и это, как я уже сказал,— Князь. Вы прекрасно понимаете его как человека и как
государя. Человек этот мог бы стоять во главе Российской
империи, он способен управлять ею, он был бы велик; но
он остался бы тем же человеком, доступным тщеславию,
ревности и страсти. В семнадцатом веке в Версале он был бы
Людовиком XIV и отомстил бы герцогине, как Людовик XIV,
отомстил Фуке. Критике не в чем упрекнуть ни главные,
ни второстепенные персонажи, все они таковы, какими должны
быть. Это сама жизнь, и именно жизнь придворная, нарисованная не карикатурно, как пытался это сделать Гофман,
а серьезно и зло. Наконец, эта книга прекрасно объясняет
все, что терпел Ришелье от камарильи Людовика XIII.
Применить это произведение к обширным интересам кабинета
Людовика XIV, кабинета Питта, кабинета Наполеона, российского кабинета было бы невозможно из-за длиннот и
объяснений, которых потребовало бы такое количество тайных интересов,—в то время как княжество Пармское вы охватываете без труда, и Парма помогает вам, mutato nomine 1 ,
понять интриги более значительного двора. Так обстояло
дело при папе Борджиа, при дворе Тиберия, при дворе
Филиппа II; так, должно быть, обстоит дело при Пекинском дворе 1
Перейдем к ужасной итальянской драме, медленно и верно
назревающей в этой очаровательной книге. Я избавлю вас
от подробного описания двора и его оригинальных фигур:
княгини, которая считает себя несчастной оттого, что у князя
есть своя госпожа Помпадур; молодого наследника, которого
держат в клетке; принцессы Изоты, капеллана, министра
внутренних дел, начальника крепости Фабио Конти. Шутить
нельзя ничем. Если, подобно герцогине, Фабрицио и графу
Моска, вы были бы связаны с Пармским двором, вам пришлось бы играть в вист, зная, что все ваши интересы поставлены на карту. Когда первый министр считает себя побежденным, он говорит совершенно серьезно: «Как только гости
разъедутся, мы поищем средств обезопасить вас на нынешнюю ночь; всего лучше бы вам отправиться немедленно в
ваше имение Сакка на берегу По. Этот дом имеет то преимущество, что находится всего в получасе езды от австрииских
владений».
»
»
Действительно, герцогиня, министр, каждый подданный
Пармы могут окончить свои дни в цитадели.
Когда князь признался герцогине в своих вожделениях»
она сказала ему: «С каким лицом мы показались бы графу
Моска, человеку большого ума и сердца».
«Но,—возразил князь,—я подумал об этом; мы бы не
увидели его больше I У нас есть цитадель».
Сансеверина не замедлила передать эти слова графу
Моска, который принял их во внимание.
Прошло четыре года.
» Если изменить имена (по-латыни).
Министр, все эти четыре года не разрешавший Фабрицио
появляться в Парме, позволил ему приехать, когда папа назначил его монсиньором,—сан, дающий право носить фиолетовые чулки. Фабрицио оправдал надежды своего учителя
и наставника. В Неаполе у него были любовницы, он увлекался древностями, продал своих лошадей, чтобы заниматься,
раскопками, вел себя хорошо, не возбудил ни в ком зависти
он сумеет стать папой. Возвращение в Парму обрадовало,
его и тем, что избавило от притязаний очаровательной герцогини д'А... Его наставник, сделавший его образованным,
человеком, получил орден и подарок. Дебют Фабрицио вПарме, его прибытие, представление ко двору составляют
величайшую комедию нравов, характеров и интриги, какую
только можно прочесть. И не раз люди высшего ума отложат эгѵ книгу, чтобы воскликнуть: «Боже! Как-это прекрасно!
Как искусно построено! Как глубоко!» Они задумаются
над такими, например, словами, над которыми князья должны,
'бы серьезно задуматься ради собственного благополучия.
«Умные люди, которые рождаются на троне или вблизи
него, быстро теряют всякую чуткость и такт; они
связывают свободу бесед, которая кажется им грубостью,
они хотят видеть вокруг себя лишь маски и вместес тем берутся судить о цвете лица. Забавнее всего то,,
что они считают себя очень тактичными».
Тут начинается невинная страсть герцогини к Фабрицио И:
мучения графа Моска. Фабрицио-это алмаз, ничего не потерявший при шлифовке. Джина, пославшая Фабрицио в.
Неаполь, как на смелый и опасный прыжок, при котором
всадник должен крепко сжимать хлыст в руке, увидела, что.
с посторонними он держится благородно и уверенно, а вчастной обстановке горит все тем же огнем юности.
«Ваш племянник—сказал Моска своей подруге—способен украсить любой сан».
Но великий дипломат, сначала обращавший внимание лишьна Фабрицио, взглянул на герцогиню и заметил, что у неестранный взгляд.
«Мне пятьдесят лет»—подумал он.
Герцогиня так счастлива, что забыла о графе. Глубокое
впечатление, произведенное на графа Моска единственным,
взглядом,—неизгладимо.
БИБЛИОТЕКА)
имени
I
В.И.ЛЕНИНА /
Когда Рануций Эрнест догадался, что тетка любит племянника несколько больше, чем дозволяют родственные чувства, а в Парме это считается кровосмешением, он был
на вершине счастья. Он пишет анонимное письмо своему
министру. Когда он уверен в том, что Моска уже прочел
письмо, он посылает за ним, не дав ему зайти к герцогине,
и держит его, как на раскаленных углях, во все время
разговора, полного дружбы и княжеской ласки. Конечно,
любовная скорбь, до крови ранящая прекрасную душу,
всегда привлекает наше сочувствие; но это душа итальянца,
душа талантливого человека, и я не читал ничего более
захватывающего, чем глава о ревности графа Моска.
Фабрицио не любит свою тетку; он обожает ее как
-тетку, но как женщина она не внушает ему никаких желаний; все же при их отношениях один жест, одно слово может
воспламенить его юность, какой-нибудь пустяк может лишить
тетку самообладания, ибо почести и богатство—ничто для
женщины, которая на глазах у всего Милана могла поселиться где-то на третьем этаже и жить на полторы тысячи
франков ренты. Будущий архиеписхоп замечает разверзшуюся
под его ногами бездну. Князь счастлив как король, предвкушая катастрофу в беспечальной жизни своего дорогого
министра. Моска, великий Моска плачет, как дитя. Благоразумие милого Фабрицио, который понимает графа Моска
и понимает свою тетку, предотвращает несчастье. Монсиньор
заставляет себя влюбиться в маленькую Мариетту, актрису
последнего разбора, в Коломбину, у которой есть свой Арлекин, некий Джилетти, бывший наполеоновский драгун и лихой фехтовальщик,—человек, отвратительный душой и телом;
он обирает Мариетту, бьет ее, ворует ее голубые шали
и все, что она зарабатывает.
Моска ожил. Князь обеспокоен, добыча ускользает от
него, он думал овладеть герцогиней с помощью племянника,
но и племянник оказался тонким политиком! Но, несмотря
на любовь к Мариетте, близость с герцогиней так опасна,
страсть ее так наивна, что Фабрицио, желая уладить положение, говорит графу, который тоже был любителем древностей
и занимался раскопками, что отправится в деревню руководить работами. Министр обожает Фабрицио. Труппа, где
играла Мариетта, mamaccia1 Мариетты,—фигура, обрисованная на четырех страницах с поразительной правдивостью и
знанием нравов,—и Джилетти, вся эта театральная компания
покидает Парму. Наше трио, Джилетти, mamaccia и Мариетта, проезжает по дороге как раз в то время, когда
•Фабрицио охотился. Между драгуном, который в припадке
итальянской ревности хочет убить каналью, и Фабрицио,
который поражен, увидев Мариетту посреди дороги, происходит ссора. Неожиданная дуэль принимает серьезный оборот;
когда Фабрицио видит, что одноглазый Джилетти хочет его
изуродовать, он убивает его. Джилетти напал первый, рабочие, занятые на раскопках, все видели, но Фабрицио понимает, как используют Раверси и либералы это нелепое приключение против него, против министерства, против его
тетки; он бежит, он переезжает на другой берег По. Благодаря ловкости Лодовико, старого слуги дома Сансеверина,
мастера на все руки, он находит убежище и приезжает
в Болонью, где встречается с Мариеттой. Лодовико фанатически предан Фабрицио. Этот бывший кучер—одна из лучших второстепенных фигур. Бегство Фабрицио, пейзажи По,
картины знаменитых мест, по которым проходит юный прелат, его приключения во время изгнания из Пармы, переписка с архиепископом (тоже великолепно обрисованный характер),—малейшие детали носят на себе печать гениальности. И все это так по-итальянски, что хочется вскочить
в карету и мчаться в Италию на поиски этой драмы и
этой поэзии. Читатель невольно ставит себя на место
Фабрицио.
Во время своих скитаний Фабрицио посещает родные
места, озеро Комо, отцовский замок, несмотря на опасность,
угрожавшую ему со стороны Австрии, очень в те времена
суровой. Прелат, в котором узнали бы Фабрицио дель Донго,
мог попасть в Шпильберг. В этой • части книги автор дописывает прекрасную голову аббата Бланеса, простого священника, который обожает Фабрицио и увлекается астрологией.
Этот портрет сделан так серьезно, в нем сквозит такая вера
в оккультные науки, что на устах неверующего замрет насмешка, вызываемая порой этими науками, которые еще воз1
Старуха, играющая роль матери (по-итальянски).
родятся и отнюдь не построены, как это думают, на ложных
основаниях. Мне известны взгляды автора, но аббата Бланеса
он сделал убедительным. Аббат Бланес—правдивый для Италии персонаж. Правдивость чувствуется в нем, подобно тому
как в какой-нибудь голове Тициана видно, является ли она
портретом подлинного венецианца или фантазией.
Князь велит разобрать дело Фабрицио, и в этом процессе
проявляются таланты Расси. Генеральный фискал разгоняет
благоприятно настроенных свидетелей, подкупает свидетелей,
обвинения и, как сам он бесстыдно заявляет князю, за эту;
безделицу—убийство какого-то Джилетти маркизом дель Донго
при защите своей жизни, причем дель Донго подвергся нападению,—выносит приговор: двадцать лет заключения в крепости. Князь хотел строгого приговора для того, чтобы затем оказать милость и унизить таким образом герцогиню
Сансеверина.
«Но,—сказал Расси,—я сделал лучше, я сломал: ему шеюг
карьера его погибла навсегда. Римская курия ничего не сделает для убийцы I»
Наконец-то князь держит в своих руках Сансеверину! Ах!
вот момент, когда герцогиня становится прекрасна, когда волнение охватывает Пармский двор, когда драма разражается
и принимает грандиозные размеры. Сцена, где герцогиня
Сансеверина приходит прощаться с государем и ставит ему
ультиматум,—это, несомненно, прекраснейшая сцена современного романа. Сцена Елизаветы, Эми и Лейстера в К е н и льв о р т е не так величественна, не так драматична, не так
ужасна. Тигр застигнут в своем логове, змея захвачена, напрасно она извивается и просит пощады, женщина раздавит
ее. Джина хочет, она требует, она добивается от князя распоряжения, отменяющего весь процесс. Она не хочет помилования, князь напишет, что этот несправедливый
процесс
не будет иметь никаких последствий в дальнейшем: слова*
эти нелепы в устах самодержавного государя. Она требует
этой нелепости и добивается своего. Моска великолепен в.
этой сцеіге, во время которой оба любовника чувствуют себя
то спасенными, то погибшими и могут подвергнуться опасности из-за одного только жеста, одного слова, одного взгляда I
Во всех профессиях подлинные художники обладают непобедимым самолюбием, художественным чувством, ненару-
шимой добросовестностью. Никогда нельзя ни купить, ни продать эту добросовестность. Как бы ни желал актер зла
своему театру или автору, он не в состоянии плохо играть
пьесу. Химик, призванный, чтобы обнаружить мышьяк в
трупе, найдет его, если он есть. Писатель, художник будут
всегда верны своему искусству, даже у подножья эшафота.
Этого нет у женщины. Весь мир—ступенька к ее страсти.
И в этом женщина выше и прекраснее мужчины. Женщина—
это страсть. Мужчина—это действие. Если бы это было
иначе, мужчина не обожал бы женщину. И в придворном
общественном кругу, в котором страсти получают особую
силу, женщина проявляет себя с особым блеском. Лучшая
арена для нее—это мир самодержавной власти. Вот почему
нет больше женщин во Франции. Но граф Моска из самолюбия министра пропустил в распоряжении князя слова, на
которых настаивала герцогиня. Князь полагает, что министр
предпочел его герцогине, и бросает ему взгляд, несомненно
замеченный читателем. Но князь ошибается: Моска—государственный деятель и не хочет написать глупость, вот и все.
•Опьяненная успехом, счастливая тем, что спасла Фабрицио,
герцогиня, доверяя графу Моска, не прочла распоряжения.
Все считали, что она погибла, она приготовилась к отъезду
из Пармы, но вот она возвратилась из дворца, произведя полный переворот. Полагали, что Моска впал в немилость. Приговор Фабрицио был принят, как оскорбление герцогине и
министру. Нисколько. Раверси—в опале. Князь смеется, месть
его подготовлена; женщина, унизившая его, будет умирать
от горя.
'
Маркиза Раверси, вместо того чтобы разыгрывать Т п n t i a 1 Овидия, подобно всем, кто отлучен от двора, где они
пользовались влиянием, принимается за дело. Она догадывается
о том, что произошло во дворце князя. Она вытягивает
•секреты у Расси, который не противится ей, так как знает
намерения князя. У маркизы есть письма герцогини, она
посылает своего любовника в Геную к галерному каторжнику, чтобы тот подделал письмо герцогини к Фабрицио,
•в котором она сообщает о своем успехе и назначает ему,
•свидание в замке Сакка, на берегу По, восхитительный уго* Печали—стихи Овидия, писанные в изгнании.
лок, где она обычно проводит лётние месяцы. Бедный Фабрицио спешит на ее зов, его хватают, заковывают в цепи
и сажают в крепость; и когда его приводят в крепость,.'
он узнает дочь коменданта Фабио Конти, прекрасную и возвышенную Клелию, и загорается к ней той вечной любовью,,
от которой нет пощады.
Фабрицио дель Донго, ее племянник, тот, кто ей дороже
богатства, дороже счастья,—в цитадели!.. Судите сами об
отчаянии герцогини! Она узнает об ошибке графа. Она нехочет видеть графа. Для нее существует только Фабрицио!:
В этой ужасной крепости он может умереть, и умереть
от яда!
Вот система князя: две недели ужаса, две недели надежды!
Он укротит эту горячую лошадь, эту гордую душу, эту
Сансеверину, чьи успеху и счастье хотя и необходимы для
его двора, но в глубине души оскорбляют его. От такой
игры Сансеверина станет худа, стара и безобразна. Он будет
в состоянии месить ее, как тесто!
Ужасная дуэль, в которой герцогиня получила первуюрану, поразившую ее в самое сердце, дуэль, в которой с
каждым днем она будет получать новые раны,—это самоесильное из всего, что создал гений, современного романа.
Обратимся к Фабрицио в тюрьме, чтобы облегчить разбор главы, являющейся одним из алмазов в этой короне.
Эпизод с ворами в М о н а х е Льюиса, А н а к о н д а , лучшее его произведение, интерес последних томов Анны Радклифф, перипетии кровавых романов Купера, все, что я знаюнеобыкновенного о путешествиях и узниках,—ничто нельзя
сравнить с заключением Фабрицио в Пармской крепости,,
в трехстах футах от первой эспланады. Это ужасное место—
для него настоящий Воклюз, он полюбил здесь Клелию, он:
здесь счастлив, он проявил всю изворотливость узника, он
предпочел тюрьму всем чарам, которые предлагает ему мир.
В глазах Эльвиры Ламартина отражается прекрасный Неаполитанский залив, но в глазах Клелии, в звуках ее голоса—
весь мир. Автор рисует с помощью мелких событий, не усту,
пающих по красноречию шекспировскому действию, как перед угрозой неминуемой смерти от отравления растет любовьэтих двух существ. Эту часть книги прочтут, затаив дыхание, вытянув шею, не отрывая жадных глаз, все, у кого
есть воображение или хотя бы только сердце. Все здесь
совершеннее, стремительно, реально, правдиво. Это—сама
страсть в ее славе, в ее терзаниях, надеждах, печалях, превратностях, поражениях и вдохновении, которое одно только
может равняться с вдохновением гения. Ничто не забыто.
Вы найдете тут целую энциклопедию ухищрений узника, его
чудесный язык, использующий все, что дает природа, способы дарить жизнь пению и смысл звуку. Если читать эту
книгу в тюрьме, она может стать причиною смерти узника:
или научит его просверлить дыру в стене цитадели.
В то время, как Фабрицио внушает и сам испытывает
любовь, во время самых увлекательных сцен тюремной драмы,,
за стенами крепости, как вы понимаете сами, идет ожесточенная борьба. Князь, комендант, Расси покушаются на отравление. Смерть Фабрицио решена в тот самый момент, когда
тщеславию князя наносится смертельная рана. Очаровательная Клелия, самое прелестное создание, о каком только можно мечтать, жертвует своей любовью, способствуя бегству
Фабрицио, хотя из-за этого чуть не убили ее отца, генерала Конти.
В этом переломном пункте романа становятся понятны
все предшествующие события. Без этих приключений, в которых мы увидели людей, увидели, как они действуют, все
было бы непостижимо, все показалось бы лживым и невозможным.
Вернемся к герцогине. Царедворцы и партия Раверси
торжествуют, видя горе этой благородной женщины. Ее спокойствие убивает князя, и никто не может объяснить его.
Сам Моска ее не понимает. Теперь видно, что Моска, как
он ни велик, стоит ниже этой женщины, которая начинает
казаться вам гением Италии. Глубоко ее притворство, коварны ее планы. Месть ее будет ужасна. Князь слишком
оскорбил ее, она видит, что он беспощаден; между ними поединок не на жизнь, а на смерть; но месть герцогини будет
бесполезна и ничтожна, если она позволит Рануцию Эрнесту IV отравить Фабрицио. Необходимо освободить Фабрицио. Эта затея кажется совершенно невыполнимой всем
читателям, так предусмотрительно приняла тирания все меры,
так побуждала она коменданта Фабио Конти считать делом
чести хорошую охрану узников.
В этом человеке есть нечто от Гудсон-Лоу, но от ГудсонЛоу второго разряда; он—итальянец и хочет отомстить герцогине за немилость, постигшую, по ее вине, Раверси. Джина
не колеблется. И вот почему:
«Любовник чаще думает о том, чтобы проникнуть к любовнице, чем муж о том, чтобы следить за женой; узник
чаще думает о бегстве, чем тюремщик об охране дверей;
следовательно, несмотря на препятствия, любовник и узйик
должны добиться успеха».
Она спасет егоі О, какую прекрасную картину представляет эта впавшая в отчаяние итальянка, которая не может
покинуть ненавистный ей дворі Итак, говорит она себе, крепись, несчастная женщина! (без слез нельзя читать эти великие слова, так часто произносимые женщинами). Исполняй
свой долг, делай вид, что забыла Фабрицио. Забыть его! Это
слово ее спасает,—она не могла плакать, пока не произнесла
это слово. Итак, герцогиня в заговоре с первым министром,
которого она лишила своих милостей, но который все же
ради нее предаст Парму огню и мечу, который убьет всех,
даже князя I Этот истинный любовник признает свою вину,
он несчастнейший из смертных. Увы, какое жалкое оправдание! Он не предполагал, что его повелитель так лжив, так
подл и так жесток. И он согласен, чтобы его возлюбленная
была беспощадна. Ему кажется естественным, что Фабрицио
для нее сейчас все,—обычная слабость великих людей к своим
любовницам, которым они прощают все, даже измену, способную убить их. Влюбленный старше величественен! Он
сказал себе лишь несколько слов, когда Джина вызвала его, чтобы объявить о разрыве. Одна ночь состарила
герцогиню.
«Боже мой!—воскликнул Моска про себя,—сегодня ей
•можно дать сорок лет».
В какой еще книге можно встретить на каждой странице
такие крики страсти, такие глубокие слова дипломата? Заметьте, кроме того, следующее: вы не найдете здесь^астав•ных эпизодов, так справедливо называемых maprftartfcaMUjJAzr,
персонажи, действуют,... размышляют, . чувствуют, и драма все
в£емя развивается. Никогда поэт, драматический по своим
идеяМрРтдаваясь стремительному ритму дифирамба, не нагнется по пути, чтобы сорвать цветок.
Дальше! Герцогиня очаровательна в разговоре с графом
Моска и величественна в своем отчаянші. Заметив, как она
переменилась, и считая, что она больна, граф хочет позвать
Расори, лучшего врача в Парме и во всей Италии.
«Это совет изменника или друга?—говорит она.—Вы хотите постороннему лицу показать, как велико мое отчаяние».
«Кончено!—подумал граф,—она не считает меня даже в
числе просто порядочных людей».
«Запомните,—сказала герцогиня с повелительным видом,—
что я не слишком опечалена арестом Фабрицио, что у меня
нет ни малейшего желания покинуть эту страну и что я исполнена почтения к князю. А вам я хочу сказать вот что:
я рассчитываю действовать самостоятельно и хочу расстаться
с вами, как добрый старый друг. Считайте, что мне шестьдесят лет, молодая женщина умерла. Фабрицио в тюрьме,
я не могу любить. Наконец, я была бы несчастнейшей женщиной, если бы испортила ваше будущее. Если я сделаю вид,
что завела себе молодого любовника, не огорчайтесь. Я могу
поклясться счастьем Фабрицио, что никогда не изменяла вам
в течение этих пяти лет! Это очень долго,—сказала она,
пытаясь улыбнуться.—Я могу даже поклясться, что у меня
никогда не было ни подобных замыслов, ни желаний. Поймите это и оставьте меня».
Граф уходит; остается два дня и две ночи на размышление.
«Великий боже!—воскликнул он, наконец,—герцогиня ничего не говорила мне о бегстве. Не изменила ли она в первый раз в жизни своей искренности? Не вызван ли этот
разрыв желанием, чтобы я изменил князю? Клянусь, это
уже сделано!»
Не говорил ли я вам, что эта книга—шедевр, и не
видно ли это даже из моего грубого разбора?
Министр после таких размышлений чувствует себя, как
пятнадцатилетний юноша, он воскрешен. Он переманит Расси
у князя и сделает его своим рабом.
«Расси,—подумал он,—получает от своего господина плату за все приговоры, которые бесчестят нас в глазах Европы,
но он не откажется принять от меня плату за выдачу тайн
своего господина. У него есть любовница и духовник. Но
любовница эта слишком низкого сорта, на следующий же
день соседние торговки будут знать обо всем».
Он направляется к кафедральному собору, чтобы повидать там архиепископа.
«Что представляет собой Дуньяни, викарий Сан-Паоло?»
«Мелкий ум и большое честолюбие, малая совесть и большая бедность, ибо у всех у нас есть грехи!»—сказал архиепископ, поднимая глаза к небесам.
Министр не мог не посмеяться над такой глубиной истинного благочестия и доброй веры. Он велел позвать аббата
и сказал ему:
«Вы—духовник моего милейшего друга, генерального фискала Расси; не желает ли он кое-что сказать мне?»
Граф ставит все на карту; он хочет знать лишь одно:
в какой момент Фабрицио угрожает смертельная опасность,
и старается не помешать планам герцогини. Его свидание
с Расси—замечательная сцена. Вот как начал граф, приняв
высокомерный, почти дерзкий тон:
«Как, сударь, вы приказали схватить в Болонье заговорщика, которому я покровительствую? Мало того, вы собираетесь перерезать ему горло и ничего мне не говорите.
Знаете ли вы, по крайней мере, имя моего преемника? Кто
это—генерал Конти или вы сами?»
Министр и фискал вырабатывают план, позволяющий обоим
сохранить свое положение. Не нужно лишать вас удовольствия прочесть все великолепные детали этой длительной
интриги, в которой автор сталкивает сотни персонажей,
затрудняясь при этом не больше, чем искусный кучер, правящий упряжкой из десяти лошадей. Все на своем месте,
нет ни малейшей неясности. Вы видите все: и двор и город.
Драма потрясает своим искусством, слаженностью и четкостью. Воздух играет в картине, никто не остается без
дела. Лодовико, доказавший не раз, что он—честный Фигаро,
является правой рукой герцогини. Он играет прекрасную
роль и будет хорошо вознагражден.
Теперь настало время рассказать вам о персонаже второстепенном, но выросшем до огромных размеров, который
часто появляется в романе, а именно—о Палла Ферранте,
вольном враче, приговоренном к смерти, который бродит по
Италии и ведет пропаганду.
Палла Ферранте—большой поэт, подобно Сильвио Пеллико, но, в противоположность Пеллико, он—радикальный
республиканец. Не будем останавливаться на убеждениях этого
человека. У него есть вера, он—святой Павел республики,
мученик Молодой Италии, в искусстве он велик, как святой Варфоломей Миланский, как Спартак Фуаятье, как Марий
на развалинах Карфагена. Все, что он делает, все, что он
говорит,—превосходно. Он обладает убежденностью, величием, страстью верующего. Как высоко ни стоят по исполнению, по замыслу, по правдивости князь, министр, герцогиня,—Палла Ферранте, эта великолепная статуя, поставленная в углу картины, приковывает ваш взгляд, вызывает ваше
восхищение. Вопреки вашим убеждениям, конституционным»
монархическим или религиозным, он покоряет вас. Великий
в своей нищете, он прославляет Италию из мрака своих
убежищ; не имея хлеба для своей любовницы и пятерых детей, он грабит на большой дороге, чтобы прокормить их»
и ведет список всех грабежей и всех ограбленных, чтобы
возместить им этот вынужденный заем при республике, когда
он будет у власти; он грабит также затем, чтобы печатать
свои бесполезные трактаты о Необходимости для Италии
иметь свой бюджет! Палла Ферранте принадлежит к той
группе умов, что живут в Италии, искренние, но обманутые»
исполненные таланта, но не ведающие пагубных последствий
своего учения. Дайте им побольше золота и пошлите их
во Францию или в Соединенные Штаты, министры самодержавных государей! Вместо того чтобы преследовать их, помогите открыть глаза этим людям, наделенным великими и
превосходными качествами. И они скажут подобно Альфиери
в 1793 году: «Малые мира сего своими поступками примиряют меня с Великими».
Я с таким восторгом восхваляю создание Палла Ферранте потому, что сам облюбовал такую же фигуру. Если
и есть у меня перед г-ном Бейлем незначительное преимущество в смысле первенства, то по исполнению я стою ниже
его. Я увидел великую и сильную внутреннюю драму сурового и преданного республиканца, полюбившего герцогиню, сторонницу абсолютной власти. Мой Мишель Кретьен»
влюбленный в герцогиню де Мофриньез, не может подняться
до Палла Ферранте, петрарковского любовника герцогини
Сансеверина. Италия и ее нравы, Италия и ее красоты,
замок Сакка, опасности, нищета Палла Ферранте так прекрасны, что никогда не сравнятся с ними жалкие детали
парижской цивилизации. Хотя Мишель Кретьен умирает у
монастыря Сен-Мерри, а Палла Ферранте, совершив свои
преступления, 'бежит в Соединенные Штаты, итальянская
страсть все же выше французской страсти, и все события
этого эпизода, с их апеннинским привкусом, возбуждают к
себе непреоборимый интерес. "В наше время, когда под мундиром Национальной гвардии и под буржуазным законом
все уравнивается скорее, чем под стальным треугольником
республики, французской литературе заметно нехватает стоящих между любовниками великих препятствий, которые явились бы источником красоты и новых положений и придали
бы сюжетам драматичность. Иначе серьезные противоречия
любви радикала к знатной даме не ускользнули бы от
изощренного пера.
Ни} в (одной книге, разве лишь в П у р и т а н а х , нет фигуры, достигающей той выразительности, какой г-н Бейль
наделил Палла Ферранте, одно имя которого как бы овладевает нашим воображением.
\ Между Бальфуром де Бурлей и Палла Ферранте я, не
колеблясь, избрал бы Палла Ферранте. Рисунок тот же; но
хотя Вальтер Скотт и является великим колористом, он все
же не владеет поражающимй^горетиші то
которыми окрасил свой персонаж-Т-н Бейлв: -Найла Ферранте—
это поэма, поэма, стоящая выше К о р с а р а лорда Байрона.
«Ах! Вот как надо любить!»—подумают все женщины, прочтя этот возвышенный и достойный внимания эпизод.
У Палла Ферранте есть тайное убежище в окрестностях
замка Сакка. Он часто видел герцогиню и страстно влюбился
в нее. Герцогиня встретила его, она была тронута. Піалла
Ферранте рассказал ей все, как перед лицом; бога. Он знает,
что герцогиня любит графа Моска; любовь его, значит, безнадежна. Есть что-то трогательное в той итальянской грации,
с которой герцогиня разрешает ему наслаждение целовать
белые руки женщины, в жилах которой течет голубая кровь
(итальянское выражение, означающее благородную кровь).
Вот уже семь лет он не сжимал белых рук, а этот поэт
обожает белые руки! Его любовница, которую он больше
не любит, занимается тяжелой работой, шьет для детей, но он
не может покинуть женщину, которая не оставляет его, несмотря на ужаснейшую нищету. Герцогиня догадывается об
этом долге честного человека. Она сострадает всему, как
истая мадонна. Она предлагает ему помощь. Піалла Ферранте, как Карл Занд, должен привести в' исполнение некоторые свои приговоры, у него есть проповеди, речи, воспламеняющие рвение Молодой Италии.
«Кто окажется виноват, если все эти негодяи, приносящие столько вреда народу, будут жить долгие годы? Что
мне скажет отец, встретив меня на том свете?»
Тогда она предлагает помочь, в нужде его жене и детям
и предоставить ему тайное убежище во дворце Сансеверина.
Во дворце Сансеверина имеется огромный резервуар, построенный в средние века на случай осады, он может снабжать водой почти весь город в течение года. Часть дворца
опирается на это великолепное сооружение. Седенький герцог всю свадебную ночь объяснял герцогине устройство резервуара и тайника. Огромный камень, вращающийся на железной оси, может открыть выход воде, и она зальет улицы
Пармы. В одной из толстых стен резервуара есть комната,
о которой никто не подозревает, без света и почти без
воздуха, в двадцать футов вышины и восемь ширины; чтобы
найти ее, пришлось бы разрушить резервуар.
Палла Ферранте согласился укрыться в тайнике на самые
тяжелые дни, но отказался от денег герцогини; он дал клятву!
никогда не иметь больше ста франков. В тот момент, когда
она предложила ему цехины, у него были деньги, но он
взял себе один цехин.
«Я беру этот цехин, потому что люблю вас,—сказал
он,—m я грещен в пяти франках сверх ста, и, если бы меня
сейчас повесили, я испытал бы угрызения совести!»
«Он действительно любит меня»,—подумала герцогиня.
Не олицетворена ли в этом наивность Италии? Если бы
Мольер написал роман об этом народе, единственном, наряду
с арабами, сохранившем культ клятвы, он не создал бы ничего
прекраснее.
>.
Палла Ферранте становится второй рукой герцогини в
ее заговоре;" это—страшное оружие, его энергия внушает
трепет! Вот какая сцена происходит однажды вечером во
дворце Сансеверина. Народный лев вышел из тайника. Впервые он входит в покои, убранные с блеском королевской
роскоши. Он видит там свою возлюбленную, свой кумир,
который для него выше Молодой Италии, выше республики
и счастья человечества; она в горе, на глазах ее слезыI Князь
похитил у нее того, кого она любит больше всех в мире,
он подло обманул ее, и тиран этот держит дамоклов меч
над головой дорогого ей человека.
Здесь творится,—говорит возвышенный республиканский
дон Кихот,—беззаконие, и народный трибун должен расследовать его. С другой стороны, выступая как частное лицо, я
могу предложить герцогине Сансеверина только мою жизнь.
Я приношу ее. Существо, которое у ваших ног,—не придворная кукла, а мужчина. Она плакала в моем присутствии,—
подумал он,—значит, ей стало немного легче.
«Подумайте, какой опасности вы подвергаетесь»,—сказала
герцогиня.
Трибун ответит вам: что такое жизнь в сравнении с требованием долга? Человек вам ответит: у меня железное тело,
и душа моя боится только одного—быть неугодной вам.
«Если вы еще раз заговорите о своих чувствах, вы никогда меня больше не увидите».
Ферранте Палла уходит опечаленный.
Преувеличил ли я? Не прекрасны ли подобные диалоги,
как диалоги Корнеля? И поймите, таких мест много, и все
они—каждый в своем роде—на той же высоте. Пораженная красотой этого характера, герцогиня пишет расписку,
которая обеспечит судьбу любовницы Ферранге и его пятерых детей, но не говорит ему ни слова, боясь, как бы
Ьн не убил себя, узнав, что у семьи есть такое покровительство.
Наконец, в тог день, когда вся Парма говорит о близкой
смерти Фабрицио, трибун пренебрегает всякой опасностью.
Он приходит ночью во дворец и появляется в одежде капуцина перед герцогиней. Он нашел герцогиню в слезах и
неспособной к разговору: она приветствовала его движением
руки и указала на стул. Палла опустился на колени и стал
молиться, так божественна показалась ему ее красота; он
прервал молитву, чтобы сказать, что он снова предлагает
ей свою жизнь.
«Подумайте, что вы говорите!»—воскликнула герцогиня,
и блуждающий взгляд возвещает после рыданий, что гнев
уже готов восторжествовать над умилением.
«Я предлагаю свою жизнь, чтобы воспрепятствовать гибели Фабрицио или чтобы отомстить за него».
«Если бы я согласилась»,—сказала она, глядя на него.
Она увидела вспышку мученической радости в глазах
Палла. Она поднялась и достала дарственную запись, приготовленную месяц назад для любовницы и детей Ферранте.
«Читайте».
Он прочел и упал на колени, он зарыдал от радости.
«Верните мне бумагу»,—сказала герцогиня.
Она сожгла ее на свече.
«Мое имя,—добавила она,—не должно стать известным.
Если вас схватят и казнят, подозрения могут пасть на меня,
и Фабрицио будет в опасности. Я хочу, чтобы вы пожертвовали собой».
«Я все исполню тщательно, точно и осторожно».
«Если меня изобличат и осудят,—гордым тоном продолжала герцогиня,—я не хочу, чтобы меня обвиняли в том,
что я соблазнила вас. Не умерщвляйте его раньше, чем я
не дам вам сигнал. Сигналом будет наводнение на улицах
Пармы, о нем заговорят все».
Ферранте, восхищенный властным тоном герцогини, уходит.
Когда он уже вышел из комнаты, она вернула его.
«Ферранте, доблестный человек!»
Он вернулся.
«А ваши дети?»
«Вы их не забудете».
«Возьмите, здесь все мои бриллианты». И она протянула
ему маленький ларец из оливкового дерева. «Они стоят пятьдесят тысяч франков».
«Ах, сударыня!»—воскликнул Ферранте, отступая в ужасе.
«Я не увижу вас, быть может, никогда. Я так хочу».
Ферранте уходит. Дверь закрылась, но герцогиня снова
позвала его. Она встала, он вернулся встревоженный. Великая Сансеверина бросилась в его объятия. Ферранте почти лишился чувств. Она дала поцеловать себя, высвободилась из
его объятий, когда увидела, что он теряет самообладание,
и глазами указала ему на дверь.
Герцогиня долго, простояла в той же позе и потом сказала себе:
:
«Вот единственный человек, который понял меня; так поступил бы Фабрицио, если бы он мог меня понять».
Я не сумею хорошо объяснить достоинства этой сцены.
Г-н Бейль никак не проповедник. Он не толкает к цареубийству, он берет факт и излагает его так, как он есть. Никто,
даже республиканец, не испытает желания убить тирана;
прочтя это место. Это—игра личных страстей, ничего больше.
Речь идет о дуэли, которая требует оружия необычного, но
равного. Герцогиня использует Палла, чтобы отравить князя,
как князь использует одного из врагов Фабрицио, чтобы
отравить Фабрицио. Можно мстить королю, Кориолан мстил
своей стране, Бомарше и Мирабо отомстили своей эпохе, не
желавшей признать их. Это безнравственно, но автор так и
сказал вам, и он умывает руки как Тацит, рассказывая о преступлениях Тиберия. «Я охотно верю,—сказал он,—что безнравственное счастье, которое находят итальянцы в мести,
коренится в силе воображения этого народа; другие народы
не прощают, они забывают». Так объясняет моралист характер
этого энергичного народа, у которого есть столько творческих
натур, который обладает богатейшим и прекраснейшим воображением, со всеми его опасностями. Это размышление значительно глубже, чем можно предположить на первый взгляд;
оно опровергает всю глупейшую декламацию, тяготеющую над
итальянцами, единственным народом, который можно сравнить
с французами, который лучше русских и. англичан; гений
этого народа обладает той женской восприимчивостью, тонкостью и величием, которые во многом ставят его выше всех
народов.
С этого момента герцогиня снова берет верх над князем.
До сих пор в этой дуэли она была слаба и обманута: Моска,
движимый придворным инстинктом, помог князю. Как только
месть была решена, Джина почувствовала свою силу. Каждое
движение ее разума делает ее счастливой, она может играть
свою роль. Мужество трибуна возродило ее мужество. Она
воспламенила Лодовико. Три эти заговорщика, на которых
Моска закрыл глаза, не мешая, однако, своей полиции действовать против них, если она что-нибудь заметит, добиваются
необыкновенных результатов.
Министр обманут своей любовницей, он верит, что впал;
в немилость и заслужил ее. Если бы он не был обманут,
никогда не смог бы он сыграть роль несчастного любовника,
счастье скрыть нельзя. У огня души есть свой дым. Но после
того, как графиня очаровала Ферранте, ее радость открыла
министру глаза, он, наконец, разгадал ее, но не знал еще,,
как далеко она зашла.
Бегство Фабрицио похоже на чудо. Оно потребовало
столько силы и изворотливости ума, что дорогое дитя чуть
не погибло: аромат одежды и платка Джины вернул его к
жизни. Эта мелкая деталь, не забытая в тысяче происшествий,
восхитит всех любящих: она звучит, как финал мелодии,,
напоминающей самые сладостные мгновения любовной жизни..
Все меры предосторожности "были приняты, никто не проболтался; граф Моска, лично присутствовавший при похищении
с двадцатью пятью преданными ему шпионами, не получил,,
как министр, ни одного донесения. «Я совершаю государственное преступление»,—говорил он себе, опьянев от радости.
Все понимали без слов, что нужно делать, и каждый спасался
как мог. Когда дело сделано, каждый должен думать о самом
себе. Лодовико был кучером, он переехал через По. Ах! теперь, когда Фабрицио вне досягаемости коронованного убийцы,
герцогиня,—которая до сих пор, казалось, притаилась, как
ягуар, свернулась, как змея, спрятавшаяся в кустарнике, распласталась, как куперовский индеец в песках, гибкая, как рабыня, как кошка, как обманывающая женщина,—выпрямилась
во весь свой рост: пантера выпустила когти, змея приготовилась ужалить, индеец—запеть победную песнь. Она пляшет
от радости, она обезумела. Лодовико, который ничего не
знает о Ферранте Палла, говорит о нем, как говорили в
народе: «Это бедняк, преследуемый из-за Наполеона!» Лодовико боится, как бы его хозяйка не. помешалась в уме. Она
дарит ему небольшое имение «Риччарда». Он боится принять
этот царский подарок. Что он сделал? Выручил монсиньора,—
да это же удовольствие.
И тут, говорит автор, герцогиня решилась на поступок,
не только ужасный в глазах нравственности, но и грозящий
спокойствию всей ее жизни. Действительно, можно подумать,,
что в своем опьянении она простила князя. Нет. «Если ты
хочешь заслужить имение, ты должен исполнить две вещи»
но при этом не подвергайся опасности. Нужно немедленно
переехать через По и иллюминовать мой замок Сакка так,
чтобы можно было подумать, будто он горит. Я все приготовила для этого праздника на случай успеха. В погребах есть
плошки и масло. Вот тебе записка к моему управляющему.
Пусть все в Сакка будут пьяны. Опорожните все мои бочки,
все мои бутылки. Клянусь мадонной I Если останется хоть одна
•бутылка, хоть капля вина в бочках, ты не получишь имения
«Риччарда». Исполнив это, возвращайся в Парму и выпусти
воду из резервуара».
«Вино добрым жителям замка Сакка, вода—обитателям
города Пармы!» Это внушает ужас. Вот тот итальянский
дух, в совершенстве выраженный г-ном Гюго, в словах Лукреции Борджиа: «Вы дали мне праздник в Венеции, я отвечаю
ужином в Ферраре». Одна фраза стоит другой. Лодовико
видит в этом поручении только великолепную дерзость, чудесную шутку. Он повторяет: вино—жителям замка Сакка,
•вода—обитателям Пармы 1 Лодовико, исполнив приказания
герцогини, возвращается, поселяется в Бельджирате и отвозит
в швейцарское Локарно Фабрицио, который все еще должен
опасаться австрийской полиции.
Бегство Фабрицио, иллюминация замка Сакка переворачивают Парму вверх дном. На наводнение едва обратили
внимание. Подобный случай произошел уже во времена нашествия французов. Герцогиню ждет ужасная кара. Она замечает, что Фабрицио умирает от любви к Клелии и горюет,
что, будучи викарием архиепископа, не может жениться на
любимой женщине.
Живя со своей теткой на Лаго-Маджоре, он мечтает о
дорогой его сердцу тюрьме. Что переживает эта женщина,
которая пошла на преступление, которая сорвала бы луну
•с неба, извлекая свое дорогое дитя из тюрьмы, и видит,
•что он безучастен и молчалив, занят посторонними мыслями,
ничего не хочет понять, не обращает внимания на свою
Джину, свою мать, сестру, тетку, свою подругу, которая
хотела бы быть для него чем-то еще ббльшим,—вся
эта мука неизъяснима; но в книге она чувствуется, она
видна. Вы страдаете оттого, что Фабрицио покинул Саи-северину, хотя и знаете, что ответить на ее любовь было бы
преступлением. Фабрицио не чувствует лаже признательности.
Бывший узник,—подобно министру в отставке, который
мечтает о коалициях, чтобы вернуться к власти,—думает лишь
о тюрьме, он покупает виды Пармы, столь ненавистной его
тетке; он повесил изображение крепости в своей комнате.
Наконец, он пишет генералу Конти письмо с извинениями по
поводу своего бегства, лишь бы иметь возможность сказать
Клелии, что без нее он несчастен на свободе. Судите сами,
какое впечатление произвело на генерала это письмо (оно
было принято как шедевр иронии церковника). Генерал решил отомстить. Герцогиня, думая о собственном спасении
и ужасаясь бесполезности своей мести, созвала по одному,
гребцу из каждой деревни, расположенной вокруг Лаго-Маджоре, она выехала на середину озера; потом она сказала
им, что Фабрицио преследуют за его службу у Наполеона
при Ватерлоо и чтобы они были на-чеку; она внушает к
себе любовь и послушание; она платит, теперь у нее есть
шпион в каждой деревне; каждому из них дано позволение
входить к ней в любое время, даже ночью, когда она спит.
Однажды вечером, в Локарно, когда она была не одна, ей
сообщили о смерти князя Пармского. Она посмотрела на
Фабрицио.
«Я сделала это для него, я могла бы сделать что-нибудь
в тысячу раз более ужасное,—подумала она,—а он молчалив,
равнодушен и думает о другой».
При этой мысли она упала в обморок. Обморок мог погубить ее! Все засуетились, но Фабрицио продолжал думать
о Клелии; она увидела это, задрожала, но вспомнила1, что ее
окружают любопытные—священники, представители власти
и т. д. Самообладание придворной дамы вернулось к ней, и
она сказала: «Это был'великий государь, на которого много
клеветали. Для нас это огромная потеря».
«Ах!—воскликнула она, когда осталась одна,—теперь я
расплачиваюсь за то счастье, за ту детскую радость, которые
я испытывала в моем пармском дворце, принимая у себя
Фабрицио, только что вернувшегося из Неаполя. Скажи я
слово, все было бы кончено, я покинула бы графа Моска.
Сблизившись со мной, он не обратил бы внимания на Клелию. Клелия торжествует надо мной, ей двадцать лет. Мне
скоро будет вдвое больше. Надо умереть!! Сорокалетняя женщина может привлекать только мужчин, которые любили ее
в юности!-» Для этой мысли, глубоко справедливой и исполненной горечи и почти целиком правильной, я привел все
это место. Монолог герцогини был прерван около полуночи
сильным шумом.
«Так,—сказала она себе,—это пришли арестовать меня;
тем лучше. У меня теперь будет занятие: я буду отстаивать
свою голову».
Но ничего не случилось. Граф Моска прислал ей верного
гонца, чтобы раньше, чем всей Европе, сообщить ей о пармских событиях и о подробностях смерти Рануция Эрнеста IV.
Произошла революция, трибун Палла Ферранте чуть не победил, он употребил бриллианты для победы своей дорогой
республики, вместо того чтобы отдать их своим детям; восстание было подавлено графом Моска, который участвовал
в испанских походах Наполеона и проявил доблесть солдата
и хладнокровие государственного человека. Он спас Расси,
в ,чем будет жестоко раскаиваться; наконец, он сообщает
подробности восшествия на престол Рануция Эрнеста V, юного
князя, влюбленного в Сансеверину. Герцогиня может вернуться. Вдовствующая княгиня, которая обожает герцогиню
по известным читателю причинам, которые он уловил в дворцовых интригах времен расцвета герцогини, пишет Саноеверине очаровательное письмо и дает ей звание обер-гофмейстерины и герцогини Сан-Джованни. Все же будет благоразумнее, чтобы Фабрицио не возвращался, пока процесс
не пересмотрен и приговор не уничтожен.
Герцогиня тайно помещает Фабрицио в замке Сакка и
с торжеством возвращается в Парму. Таким образом, сюжет
возрождается сам собою, без насилия, без однообразия. Нет
ни малейшего сходства между первыми милостями, оказанными невинной Сансеверине при Рануции Эрнесте IV, и милостями, оказанными герцогине, отравившей его, при Рануции
Эрнесте V. Молодой, двадцатилетний князь влюблен в нее
до безумия; опасность, грозящая преступнице, уравновешивается безграничной властью обер-гофмейстерины вдовствующей княгини. Этот маленький Людовик XIII находит в графе
Моска своего Ришелье. Великий министр, во время восстания
увлеченный остатками рвения и энтузиазма, назвал его ребенком. Это слово запало в сердце князя и оскорбило его.
Моска полезен князю, но если в политике князю двадцать
лет, то по самолюбию все пятьдесят. Расси работает в тени,
он рыщет среди народа, по всей Италии, он узнает, что
Палла Ферранте, нищий, как Иов, продал в Генуе восемь
или десять бриллиантов. Пока генеральный фискал продолжает свои тайные розыски, при дворе царит ликование. Князь,
робкий молодой человек, как и все робкие молодые люди,
увлекся сорокалетней женщиной и безумствует. Правда, Джине,
более прекрасной, чем когда-либо, можно дать не более тридцати лет. Она счастлива, она сделала счастливым графа Моска. Фабрицио спасен, его будут судить снова, оправдают,
после уничтожения приговора он станет коадъютором архиепископа, которому уже семьдесят восемь лет, а затем и его
преемником.
Одна только Клелия тревожит герцогиню Сан-Джованни.
Что же до князя, он забавляет ее. Во дворце ставят комедии (комедии, dell'arte, в которых каждый персонаж придумывает диалог на ходу, а план вывешивается за кулисами,
нечто вроде инсценированных шарад с интригой). Князь выбирает роли любовников, а Джина всегда героиня. Поистине
обер-гофмейстерина пляшет на вулкане. Это место романа очаровательно. Вот что произошло однажды в самый разгар
представления. Расси сказал князю: «Угодно ли вашей светлости дать сто тысяч франков, чтобы точно выяснить, какого рода смертью умер ваш августейший отец?» Он получает эти сто тысяч франков, ибо існязь еще ребенок. Расси
хочет подкупить горничную герцогини, горничная все рассказывает графу Моска. Моска велит ей согласиться. Расси
добивается, чтобы два ювелира осмотрели бриллианты герцогини. Моска послал своих шпионов и обнаружил, что один
из любознательных ювелиров—брат Расси. В антракте комедии Моска приходит предупредить об этом герцогиню, которая веселилась, как никогда.
«У меня очень мало времени,—сказала она графу,—но
пойдемте в кордегардию».
Там она, смеясь, сказала своему другу министру:
«Вы всегда меня браните, когда я без необходимости
разглашаю свои тайны. Это я призвала на трон Эрнеста V.
Мне хотелось отомстить за Фабрицио, которого я любила
тогда гораздо больше, чем сейчас, хотя столь же невинно.
Вы не верите в невинность этой любви, но это неважно, так
как вы любите меня, несмотря на мои преступления. Но вот
настоящее преступление: мои бриллианты—у Ферранте Палла.
Больше того, я поцеловала его, чтобы он отравил человека, который хотел отравить нашего Фабрицио. Что тут
плохого?»
«И вы мне рассказываете это здесь!»—сказал немного
ошеломленный граф.
Последние слова очаровательны!
«Потому что я очень тороплюсь,—сказала она,—Расси напал на следы преступления; но я ни слова не говорила о
восстании, я ненавижу якобинцев. Подумайте обо всем этом
и скажите после спектакля, что теперь делать».
«Я вам скажу сейчас же,—ответил Моска, не задумываясь,—князь за кулисами; вскружите ему голову, но пусть
он будет почтителен... по крайней мере!»
Герцогиню позвали на сцену, она убежала за кулисы.
Прощание Палла Ферранте со своим кумиром—одна из
прекраснейших страниц этой книги, в которой столько прекрасных страниц. Но мы подходим к замечательной сцене,,
к сцене, которая венчает все произведение,—к сожжению
бумаг, заключающих расследование Расси; герцогиня добивается этого у Рануция Эрнеста V и вдовствующей княгини.
Во время этой ужасной сцены она чувствует себя то спасенной, то погибшей, она во власти капризов матери и сына,,
которые все же покоряются гению этой принцессы дез-Урсин.
Эта сцена изложена на восьми страницах, но в литературном
искусстве нет ей равных. Нет ничего, с чем бы можно было
ее сравнить, она единственна. Я не буду говорить о ней,
достаточно ее отметить. Герцогиня торжествует, она уничтожила доказательства и даже унесла одну папку для графа,
который записал имена некоторых свидетелей и воскликнул:
«Они очень близко подошли к истине!» Расси « отчаянии:
князь отдал приказ пересмотреть дело Фабрицио. Фабрицио,.
вместо того чтобы, по желанию графа Моска, явиться в городскую тюрьму, подведомственную первому министру, вернулся в дорогую его сердцу цитадель, где генерал, который
считал себя обесчещенным его бегством, задумал от него
избавиться. Моска отвечал за каждый волос на его голове в городской тюрьме; но в цитадели Фабрицио может погибнуть.
Эта новость для герцогини подобна разорвавшейся бомбе,,
она оцепенела. Любовь к Клелин привела Фабрицио в место, готовящее ему смерть, за миг счастья с этой девушкой
он заплатит жизнью! Эта мысль глубоко ранит ее, а опасность, грозящая Фабрицио, ее убивает.
Опасность существовала и раньше, она не создана специально для этой сцены, она явилась следствием страстей,
возбужденных Фабрицио за время первого его ареста, и бешенства Расси, вынужденного подписать приказ о пересмотре
процесса. Таким образом, даже в мельчайших деталях автор
точно придерживается законов поэтики романа. Это точное соблюдение правил,—независимо от того, рождается ли оно
из расчета, из размышления, из естественного развития хорошо выбранного, развернутого и плодотворного сюжета или
же из особого таланта,—является источником мощного и длительного интереса всех великих и прекрасных произведений.
Моска в отчаянии доказывает герцогине невозможность
убедить молодого князя в том, что в его государстве могут
отравить заключенного, и предлагает устранить Расси. «Но,—
говорит он,—вам известно, как я глуп в этом отношении:
до сих пор по вечерам мне вспоминаются два шпиона, которых я приказал расстрелять в Испании».
«Расси обязан жизнью,—отвечает герцогиня,—тому, что
вас я люблю больше, чем Фабрицио; я не хочу отравлять
вам вое вечера, которые нам в старости предстоит провести
вместе».
Герцогиня спешит в крепость и убеждается там в опасности, грозящей Фабрицио; она направляется к князю. Князь—
это ребенок, который, как и предвидел министр, не понимает,
какая опасность грозит невиновному в его государственной
тюрьме. Он не хочет обесчестить себя и подвергнуть суду
свое собственное правосудие. Наконец, под давлением близкой
опасности (яд уже приготовлен) герцогиня вырывает приказ
об освобождении Фабрицио и взамен дает обещание принадлежать молодому князю. Сцена эта почти так же своеобразна,
как сцена сожжения бумаг. Однако во время сожжения для
Джины речь шла лишь о ней самой, теперь же речь идет о
Фабрицио. Когда Фабрицио будет оправдан и назначен коадъютором архиепископа с правом дальнейшей преемственности, что равносильно архиепископству, герцогиня найдет
•средства увернуться от своего обещания с помощью какоинибудь уловки, которую женщины, не чувствующие любви,
всегда находят с хладнокровием, приводящим в отчаяние. Она
до конца остается женщиной с большим характером,—а как
она начинала, вы знаете. Происходит смена министерства.
.Моска покидает Парму, вместе с женой, ибо, овдовев, он и
герцогиня поженились. Но все идет из рук вон плохо, и
через год князь призывает обратно графа и графиню Моска.
•Фабрицио уже архиепископ и окружен почестями.
Дальше описывается любовь КлелИи и архиепископа Фабрицио, которая кончается смертью Клелии и смертью обо.жаемого ими peéerffca; Фабрицио, отказавшийся от архиепископского сана, умирает, несомненно после долгих мучении,
в Пармском монастыре.
Я описываю конец в двух словах, ибо, несмотря на прекрасные детали, он скорее набросан, чем написан. Если оы
пришлось р'гШ&ернуть конец романа так, как было развернуто
начало, трудно сказать, где остановилось бы это произведение. Разве не драма—любовь священника? Значит, и любовь
Клелии и коадъютора настоящая драма. Но это новая книга!
Имел ли в виду г-н Бейль определенную женщину, когда
писал Сансеверину? Думаю, что да. Для подобной статуи,
так же как и для князя и первого министра, нужна модель.
Нашел он ее в Милане 'или в Риме, в Неаполе, Флоренции?
Не знаю. И все же я внутренне убежден, что существуют женщины, подобные Сансеверине, их очень немного, и все же некоторых из них я встречал; я уверен также, что автор возвеличил свою модель и полностью идеализировал ее. Несмотря
на этѵ работу, отдаляющую сходство, можно узнать в княгине
Б . , некоторые черты герцогини Саноеверины. Разве она
не миланка? Разве она не испытала И удачи и превратности
судьбы? Разве она не проницательна! 'и не остроумна?
Теперь вам известен костяк этого огромного здания, я
вам показал его. Мой краткий анализ, поверьте,-достаточно
-смелый, ибо нужна смелость для того, чтобы попытаться дать
вам представление о романе, построенном так сжато, как
П а р м с к и й м о н а с т ы р ь : мой анализ, как ни был он сух
показал вам часть событий, и теперь вы можете судить, была
ли моя похвала преувеличена. Но мне трудно было описать
тонкую ' и изящную скульптуру, украшающую это мощное
строение, остаирвиться перед всеми статуэтками, картинами,
пейзажаміПГ барельефами. Вот что со мной произошло. При
первом -чтении, которое меня совершенно поразило, я находил
недостатки. При втором чтении длинноты исчезли, я увидел
необходимость деталей, которые сначала мне показались
слишком длинными и растянутыми. Чтобы хорошо объяснить
это вам, я снова пробежал роман. Увлеченный чтением, я
созерцал эту книгу дольше, чем предполагал, и всё мне показалось очень гармоничным и связанным—естественно ли,
искусственно ли—в одно целое.
Вот, однако, погрешности, обнаруженные мною, погрешности не столько против искусства, сколько против обязанности писателя приносить жертвы в интересах большинства.
Если при первом чтении я заметил некоторую неясность,
то таково будет и впечатление толпы, а это означает, что
книге, очевидно, нехватает систематичности. Г-н Бейль расположил события так, как они происходили или должны были
происходить; но в расположении событий он совершил
ошибку, которую совершают многие авторы, когда берут
сюжет, правдивый в. природе, но неправдивый в искусстве.
Увидя пейзаж, большой художник остережется рабски копировать его; он передаст нам скорее его дух, чем букву.
Г-н Бейль, с его простой, наивной и неприкрашенной манерой рассказывать, рискует показаться неясным. Достоинства,
которые нужно изучать, рискуют остаться незамеченными.
Поэтому, в интересах книги, я пожелал бы, чтобы автор
начал ее великолепным наброском битвы при Ватерлоо, а все
предшествующее свел бы к рассказу, изложенному самим
Фабрицио или кем-нибудь другим, в то время как Фабрицио
скрывается после ранения во фламандской деревушке. Несомненно, от этого произведение выиграет в легкости. Отец и
сын дель Донго, подробности жизни в Милане—все это еще
не книга; драма развивается в Парме, главные ее персонажи—
это князь и его сын, Моска, Расси, герцогиня, Палла Ферранте, Лодовико, Клелия, ее отец, Раверси, Джилетти, Мариегта. Искусные советчики или друзья, обладающие простым
здравым смыслом, могли бы предложить автору развить
отдельные места, показавшиеся ему менее интересными, чем
они есть в действительности, и, наоборот, изъять некоторые
детали, бесполезные, несмотря на всю свою тонкость. Так,
•б Бальзак об искусстве
например, роман не пострадал бы, если совсем убрать аббата
Бланеса.
'
я пойду дальше и не поступлюсь ради этого прекрасного
произведения истинными принципами искусства. Главенствующ и й закон—это единство композиции; единство может быть
•В общей идее или в плане, но без него воцарится неясность.
Штак, вопреки названию книги, она кончается тогда, когда
граф и графиня Моска возвращаются в Парму и Фабрицио
назначен архиепископом. Великая придворная комедия окончена. Она так хорошо окончена и автор это так хорошо
почувствовал, что именно в этом месте он написал М о р а л ь ,
как делали это наши предшественники в конце своих повествований.
ио,лпГ1,
«Отсюда можно извлечь мораль,—говорит он:—человек,
который приближается к двору, губит свое счастье, если
он счастлив, и, во всяком случае, ставит свое будущее в
зависимости от интриг любой горничной.
С другой стороны, в Америке, стране республиканской,
приходится целые дни изнывать от скуки, подлаживаясь к
лавочникам и опускаясь до уровня их глупости; к тому же
там нет Оперы».
_
Л
Если одетый в римский пурпур и митру Фабрицио
любит Клелию, ставшую маркизой Крешеици, и вы нам об
этом рассказываете, то, очевидно, вы хотели сделать жизнь
молодого человека сюжетом своей книги. Но раз вы хотели
описать всю жизнь Фабрицио, вы, человек столь проницательный, должны были назвать свою книгу Ф а б р и ц и о
или И т а л ь я н е ц XIX в е к а . А при исполнении подобного
замысла нельзя было заслонять Фабрицио такими типичными,
такими поэтическими фигурами, как князь, Сансеверина,
Моска, Палла Ферранте. Следовало бы сделать так, чтобы
Фабрицио изображал молодого итальянца своего времени.
Сделав из этого юноши центральную фигуру драмы, автор
обязан был бы наделить его большим умом, одарить его
чувством, которое поставило бы его выше окружающие его
талантливых людей,-а он лишен этого чувства. Действи\ тельно, чувство равно таланту. Чувство-соперник
пониI мания, как действие—антагонист размышления. Друг гениального человека может подняться до него с помощью любви
и понимания. В движениях сердца человек посредственный
может быть выше величайшего художника. В этом оправдание
женщин, которые любят глупцов. Таким образом, в драме
одно из самых хитроумных средств художника (в том положении, в каком, мы предполагаем, находится г-н Бейль)
заключается в том, чтобы с помощью чувства возвысить
героя, который не может помериться умом с окружающими/
его персонажами. В этом отношении роль Фабрицио потребо-'
вала бы переделки. Божественная рука гения католицизма
должна^ была толкнуть его к П а р м с к о м у м о н а с т ы р ю ,
и гений этот должен был время от времени осенять его
призывами благодати. Но тогда аббат Бланес не мог бы
выполнить эту роль, ибо невозможно заниматься астрологией и быть святым католической церкви. Следовательно,
произведение Должно стать либо длиннее, либо короче.
Возможно, что растянутость начала, возможно, что
конец, заново начинающий книгу, сюжет которой удушен,
повредят успеху романа,—возможно, что повредили. Кроме
того, г-н Бейль позволил себе в этой книге некоторые повторения, заметные, правда, лишь тем, кто знает первые его
книги, а такие люди, конечно, являются знатоками и, как
известно, придирчивы. Г-н Бейль, озабоченный великим
принципом: «Горе в любви и в искусстве тому, кто говорит
все!»—не должен повторяться; тем более, что он всегда
краток и многое оставляет догадке. Но, несмотря на свои/
привычки сфинкса, здесь он менее загадочен, чем в других
произведениях, и истинные друзья его с этим поздравят.'
Портреты коротки. Г-ну Бейлю, который рисует своих
персонажей и в действии и в диалоге, достаточно нескольких слов; он не утомляет вас описаниями, он стремится к
драме и достигает ее одним словом, одной мыслью. Е г о :
пейзажи,—немного сухие по рисунку, что, впрочем, соответ-1
ствует духу страны,—сделаны легко. Он останавливается ;
на одном дереве, на одном уголке, который ему нужен, ;
показывает вам линию Альп, со всех сторон окружающую
место действия, и пейзаж готов. Книга Должна быть особенно
дорога путешественникам, которые бродили вокруг озера
Комо, в Брианце, гуляли вдоль дальних массивов Альп,
блуждали в долинах Ломбардии. Дух этих пейзажей тонко
выражен, прекрасный их характер хорошо схвачен, вы
видите их.
б*
Слабая сторона произведения—это стиль; я имею в виду
расстановку слов, ибо мысль, на которой строится фраза,
целиком французская. Ошибки г-на Бейля-чисто грамматические: он небрежен, неточен, на манер писателен Avil века.
Приведенные мной цитаты показывают, какого рода ошибки
он допускает. Иногда несогласованность времен в глаголах,
порой отсутствие глагола; иногда бесчисленные это, то
что, который утомляют читателя и напоминают путешествие в тряской телеге по французским дорогам. Эти довольно грубые ошибки означают недостаточную работу, н о
если французский язык—это лак, наведенный на мысль,
то нужно быть настолько же снисходительными к тем, у
кого он покрывает прекрасную картину, насколько суровым
к тем, у кого, кроме лака, ничего нет. Если у г-на Ьейля
этот лак местами желтоват или испещрен трещинами, то под
ним, по крайней мере, виден ход мыслей, развивающихся
согласно законам логики. Его длинная фраза плохо построена, фраза короткая лишена закругленности. Он пишет
почти в манере Дидро, который не был писателем,-по
замыслы его величественны и сильны, мысль оригинальна
и часто хорошо выражена. Однако такой системе не следует подражать. Было бы слишком опасно позволить нашим
авторам возомнить себя глубокими мыслителями.
Г-н Бейль дарит нас глубоким чувством, одушевляющим
мысль. Все, кому дорога Италия, кто изучал или почувствопрочтут П а р м с к и й м о н а с т ы р ь с наслаждением
Дух, ганий, нравы, душа прекрасной страны живут в этой
длинной, все время увлекательной драме, в этой гигантской,
Г х о р о ш о написанной, так богато расцвеченной фреске
которая глубоко волнует сердце и удовлетворяет самый
придирчивый, самый требовательный ум. Герцогиня Сансеверина—настоящая ита'льянка, образ, переданный так же
удачно, как знаменитая Г о л о в а П о э з и и Карло Дольчи как
Ю д и ф ь Аллори, как С и в и л л а Гверчино в галлерее Ман-фршш:р графе Моска он рисует гениального политика^орющегося с любовью. Это любовь без фраз (фраза-недостаток
К л а р и с с ы ) , любовь действующая, всегда подобная себе са-мой; любовь, которая сильнее долга, любовь, о которой
мечтают женщины, которая придает интерес всем мелочам
жизни. Фабрицио—современный молодой итальянец, борющийся
с довольно неуклюжим деспотизмом, подавляющим воображение этой прекрасной страны; но, как я уже сказал,
господствующая мысль или чувство, которые побуждают его
отказаться от сана и окончить свои дни в монастыре, недостаточно развиты. Книга восхитительно описывает любовь
Юга. Конечно, на Севере так не любят. У всех персонажей
горячая, бурлящая кровь, живость движений, стремительность
ума, которых нет ни у англичан, ни у германцев, ни у русских; эти народы приходят к тем же результатам только
посредством медлительной мечты, одиноких размышлений,
движений души, охваченной волнением,—жар возникает у
них в лимфе.
Г-н Бейль придал своему сочинению глубокий смысл, чув-J
ство,-^шшрое обеспечивает жизнь литературному замыслу. '
Но, к несчастью, это почти что потаённая наука, которую
надо изучить. П а р м е кий м о н а с т ы р ь стоит на такой
высоте, он требует от читателя такого совершенного знания
двора, страны, народа, что меня ничуть не удивляет полное
молчание, встретившее подобную книгу. Такая, у часть., ожидает
все книги, которые лишены вульгарности. Результаты тайных
выборов, на которых медленно и поодиночке голосуют высшие
умы, создающие славу таким произведениям, обнаружатся
позже. К тому же г-н Бейль отнюдь не льстец и испытывает
глубокий ужас перед газетами. іИз величия характера или из
самолюбия, как только выходит его книга, он скрывается, бежит, уезжает за двести пятьдесят льё, только бы ничего о
ней не слышать. Он не требует статей, не знается с фельетонистами. Он ведет себя так после выхода каждой книги. Мне
нравится эта гордость 'характера или чувствительность самолюбия. Если можно извинить нищенство, то ничем нельзя^
оправдать ту погоню за похвалами и статьями, которой предаются современные авторы. Это—нищенство, пауперизм духа.
Нет шедевров, погибших в забвении. Ложь и угодничество
писак не могут прддеджать_лшзнь дряшіойпШгш
" З а " мужеством критики должно следовать мужество похвалы. Конечно, настало время воздать должное достоинствам
г-на Бейля. Наша эпоха многим ему обязана: не он ли первый
открыл нам Россини, прекрасного гения музыки? Он постоянно защищал его славу, которую Франция не сумела сделать
своей славой. Защитим же и мы в свою очередь писателя,
который лучше всех знает Италию, который мстит ее победителям за клевету на нее, который так хорошо выразил ее
дух и гений.
До того, как я взял на себя смелость похвалить П а р ис к и й м о н а с т ы р ь , встретив г-на Бейля на Итальянском
бульваре, я встречал его в обществе раза два за двенадцать
лет. Всякий раз наша беседа только подтверждала мое мнение
о нем, составленное на основании его произведений. Он рассказывает с тем умом и изяществом, которыми в высокой!
степени обладают гг. Шарль Нодье и де Латуш. Он даже напоминает последнего прелестью своей речи, хотя его внешность (он очень тучен) на первый взгляд противоречит изяществу манер; но порой он заставляет забывать о ней, как доктор Корев, друг Гофмана. У него прекрасный лоб, живой
пронзительный взгляд и сардонический рот,—одним словом,
он совершенно похож на свой талант. Он вносит в разговор ту
загадочность, ту. странность, которая побуждает его не подписываться уже прославленным именем Бейль, а называться
то Котонне, то Фредериком. Он приходится, как мне говорили, племянником знаменитому Дарю, одному из сподвижников Наполеона. Естественно, что император пользовался услугами г-на Бейля. 1814 год, разумеется, прервал его карьеру,
он переехал из Берлина в Милан, и вот разительному контрасту между жизнью Севера и Юга, поразившему его, мы
обязаны появлением этого писателя: г-н Бейль—один из величайших людей нашего времени. Трудно объяснить, почему
этот перворазрядный наблюдатель, этот глубокий дипломат,
доказавший и своими произведениями и словами возвышенность своих идей и обширность практических знаний, остается только консулом! в Чивита-Веккия. Никто не смог бы достойнее представлять Францию в Риме. Г-н Мериме давно
/ знает г-на Бейля; и похож на него; но учитель изящнее и легче.
Произведения г-на Бейля многочисленны и отличаются тонкой
наблюдательностью и обилием идей. Почти все они описывают Италию. Он первый дал точные сведения об ужасном
процессе Ченчи; но он недостаточно объяснил причины казни, которая произошла независимо от процесса и была вызвана
заговором, продиктованным алчностью. Его книга О л ю б в и
выше книги г-на С^нанкура и приближается к великим учениям Кабаниса и Парижской шкалы, но она грешит отсут-
ствием систематичности, которым, как я сказал уже, отмечен
и П а р м с кий м о н а с т ы р ь . Он отважился в этом маленьком трактате на слово кристаллизация, чтобы определить
явление зарождения чувства, слово, которым пользуются сейчас посмеиваясь, но которое останется благодаря своей глубокой точности. Г-н Бейль пишет с 1817 года. ' Вначале у него
заметны были некоторые проявления либерализма; но я сомневаюсь, чтобы этот великий и трезвый ум дал провести себя
пустяками двухпалатной системы управления. В П а р м с к о м
м о н а с т ы р е заложен глубокий смысл, который, конечно,,
не противоречит монархии. Он смеется над тем, что любит,
он—француз.
ГІгТІІатобриан говорил в предисловии к одиннадцатому
изданию А т а л а, что эта книга ничуть не похожа на предыдущие издания, так он выправил ее. Граф де Местр признавался,
что семнадцать раз переписывал П р о к а ж е н н о г о из дол и н ы А о с т ы . Я пожелал бы, чтобы г-н Бейль также принялся за переработку, за шлифовку П а р м с к о г о монас т ы р я и запечатлел в нем то выражение совершенства, тот
блеск безупречной красоты, что гг. Шатобриан и де Местр
придали своим любимым книгам.
1840 г.
«Этюд о Бейле».
XXIII, 687—738.
Oeuvres,
ШКОЛА РИСУНКА И ШКОЛА ЦВЕТА В ЖИВОПИСИ
— Твоя святая мне нравится,—сказал Френхофер,—я заплатил бы тебе десять золотых экю сверх того, что дает королева, но попробуй поооперничаій с ней... чорт возьми 1
— Вам нравится эта вещь?
, —• Хе-хе,—проворчал старик,—нравится ли?.. Да и нет.
Твоя женщина хорошо сложена, но она неживая. Вам, всем
художникам, только нарисовать бы правильно фигуру, чтобы
все было на месте по законам анатомии. Вы раскрашиваете
линейный рисунок телесными тонами красок, заранее составленными на вашей палитре, стараясь при этом делать одну
сторону темнее, чем другую, и потому только, что время от
времени смотрите на голую женщину, поставленную перед
вами на столе, вы полагаете, что воспроизводите природу, вы
воображаете, будто вы—художники и будто вы похитили
тайну у бога... Пррр! Для того, чтобы быть великим поэтом,
недостаточно знать в совершенстве синтаксис и не делать ошибок в языке! Посмотрите на свою святую, Порбусі С первого
взгляда она кажется прелестной, но, рассматривая ее дальше,
замечаешь, что она приделана к полотну и что ее нельзя
было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну
лицевую сторону, только вырезанная поверхность, только изображение, которое не могло бы ни повернуться, ни переменить
положения; я не чувствую воздуха между этими руками и
фоном картины; недостает пространства и глубины; но меж
тем законы удаления вполне выдержаны, воздушная перспектива соблюдена точно; но, несмотря на все эти похвальные
усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было
оживлено теплым дыханием жизни; мне кажется, что, если
я приложу руку к этой полной груди, я почувствую, что она
холодна, как мрамор! Мег, друг мой, кровь не течет под этой
нежной кожей, жизнь не разливается пурпурной росой по
венкам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью виска и груди. Вот это место—дышит, но а вот
другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой
подробности; здесь чувствуется женщина, там—статуя, а дальше—труп. Твое творение несовершенно. Ты сумел вдохнугь
только часть своей души в свое любимое творение. Факел
Прометея угасал не раз в твоих руках, и небесный огонь не
коснулся многих мест твоей картины.
— Но отчего же, дорогой учитель?—почтительно сказал
ГІорбус старику, в то время как юноша еле сдерживался.
— А вот что!—сказал старик.—Ты носился в нерешительности между двумя системами, между рисунком и краской,
между мелочным хладнокровием, точной резкостью старых
немецких мастеров и ослепительной страстностью, счастливым
обилием итальянских художников. Ты хотел подражать одновременно Гансу Гольбейну и Тициану, Альбрехту Дюреру и
Паоло Веронезе. Конечно, то было великолепное притязание.
Но что же из этого получилось? Ты не достиг ни сурового
очарования сухости, ни обманчивого волшебства светотени«
Как расплавленная медь прорывает слишком слабую форму,
так вот в этом месте пышная и светлая краска Тициана прорезалась сквозь строгий контур Альбрехта Дюрера, в кото-
рый ты ее втиснул. В других местах рисунок устоял и выд^джауі великолепный избыток венецианской палитры. В лице
нет ^ни совершенства рисунка, ни совершенства колорита, и
оно* носит следы несчастной нерешительности. Раз ты не чувствова^'за собой достаточной силы, чтобы расплавить вместе
на огне твоего гения оба соперничающие меж собой способа,
то надо. (5ыло откровенно выбрать тот или другой, чтобы
достичь' 'единства, которое сходит за одно из жизненных
условий.
«Неведомый
шедевр».
XVI, 245—247.
Соч.,
ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
П о э т и к а с о в р е м е н н о г о р о м а н а . — Литературная эволюция 2 0 —
40-х годов: распространение школы образов. — Несправедливое отрицание
достоинств писателей семнадцатого-воссмнадцатого в е к о в . — Синтетические
задачи современной литературы.—Правила, необходимые современному роману. — Центральный мотив, определяющий отбор и группировку материала. — С т р о г о е психологическое объяснение поступков, описание тайных
движений человеческого сердца, скрытых от историка. —Преобладание художественного анализа над внешними фактами. — Условия глубины и общезначимости поэтического х а р а к т е р а . — Разбор О з е р а О н т а р и о Фенимора К у п е р а . — Купер к а к пейзажист. — Гениальный тип Кожаного Ч у л к а .
Недостатки К у п е р а : натянутый комизм. — Однообразие персонажей, искусственность приемов характеристики. — Неподготовленность решающих
событий романа. — Ложный патриотизм. — Сравнение Купера и Вальтера
Скотта. — Причины превосходства шотландского романиста. — Общий их
недостаток — боязнь страстей. — Разбор Ж а н а К а в а л ь е
Э. Сю. —
Причины его н е у д а ч и . — Принципы исторического романа. — Выбор сюжета,
и главных героев. — Различие задач исторического романа и гражданской
истории. — К а к исторический романист дополняет историка. — Авторские рассуждения об истории, не связанные с ходом романа и обрисовкой
персонажей. — Границы литературного искусства в описании битв. — Б а тальные сцены у Вальтера Скотта и Стендаля. — Иллюзия исторической
достоверности героев романа. — Как внушает Вальтер Скотт веру в историческое существование своих персонажей: Э м и Р о б с а р т . — Значение
точности и исторических деталей. — Самостоятельная индивидуальность
каждого характера. — Связь диалогов с действием романа. — Роль диалогов
у Вальтера Скотта для характеристики персонажей. — Значение философского кругозора романиста. — Вред узкоморалистической оценки исторических лиц и событий. — Тесная связь добра и зла в прогрессе человечес т в а . — Влияние пошлых буржуазных понятий на роман Сю. — Истинный
и фальшивый исторический колорит. — Вальтер Скотт и его эпигоны. —
Современная поэзия. — Гюго — величайший поэт девятнадцатого века —
победитель Р а с и н а . — Б у р ж у а з н а я эпоха мешает полному развитию еготаланта. — Универсальность
Гюго.
ПИСЬМА О ЛИТЕРАТУРЕ\ ТЕАТРЕ И
ИСКУССТВЕ
Высказывая публично свое мнение о выходящих в свет
книгах, я стану выражать его так же, как если б доверялся
только вам. Туг будет та же свобода суждений, та же непри-
нужденность, тот же стиль. Не бойтесь, что, поступая таким
образом, я окажусь ниже современной критики: в настоящее
время критики не существует. Мы видим злобные нападки человека на человека, подсказанные завистью утверждения, недостойные того, чтобы их опровергали, бесчестную клевету; но
хорошо образованного писателя, который обдумывает выражения, знает возможности искусства, критикует с похвальным намерением объяснить, узаконить методы литературной науки и
читает разбираемые им сочинения,—такого человека нужно
еще найти, и найдется он не скоро. Вот почему это происходит: прочесть сочинение, отдать в нем отчет самому
себе, прежде чем отдавать отчет публике, отыскать его недостатки, в интересах литературы, а не ради жалкого удовольствия огорчить автора,—это задача не одного дня, она требует нескольких недель.
Так поступали старые критики из M e r c u r e de F r a n c e
и из J o u r n a l d e s S a v a n t s,—издание, которому правительство, им ведающее, спокойно дает угасать, как будто
самой литературной нации не важно было бы иметь своего
рода Литературный указатель. Так поступал некогда и
J o u r n a l d e s D é b a t s . Оплата, ожидающая в наши дни
подобный труд, не окупила бы жизни критика и свела бы ее
к существованию младшего лейтенанта зуагов. Говорю это к
нашему стыду, но это сущая правда.
Напротив, для того, чтобы написать вульгарный и низкопробный анекдот, соответствующий уровню подписчиков
газеты, не нужны ни умение писать, ни образование. Это
дрянное изделие, сочиненное за несколько дней, оплачивается
вдвое против работы, стоившей целого месяца какому-нибудь
просвещенному критику.
Я не претендую, сударыня, на. звание критика, а просто
продолжаю выполнять взятую на себя повинность рассказывать вам, что понравилось мне и что я отвергаю в новых
произведениях; но только я тщательно буду обосновывать
свои мнения. Если я ошибусь, вы поправите меня, как это
делаете порой, критикуя критику. Понятно, я буду беседовать
с вами лишь о произведениях, созданных искушенным пером,—
работами новичков я займусь лишь в тех случаях, когда
замечу в них выдающиеся достоинства.
Истинное назначение современной критики заключается
в том, чтобы указывать принципы нового искусства. Литература за последние двадцать пять лет испытала превращение,
изменившее законы поэтики. Драматическая форма, колоритность, наука проникли во все жанры. Самые серьезные книги
должны подчиняться этому движению, которое придает сочинениям такую увлекательность; но человеческий интеллект потеряет все, что выиграет удовольствие, если, при этой метаморфозе, во Франции погибнут и необходимое каждому писателю
образование и та непобедимая логика мысли, что в гораздо
большей мере, чем логика фразы, образует бессмертную красоту французского языка. Я полагаю, что различные достоинства двух предыдущих литературных веков могут и должны
войти в современные произведения. Если некоторые из этих
произведений пользуются мировым успехом, то успех обіясняется соединением старых достоинств с блеском новой формы.
Я не из тех, кто презирает свое время и удручает современных писателей сравнениями с семью или восемью гениями
XVII и XVIII веков; я думаю, что второстепенные таланты
нашего времени настолько выше второстепенных талантов
прошлых времен, что писателям первого ранга стало гораздо
труднее добиться славы, чем в старину. Но я думаю также,
что если нужна была когда-нибудь терпеливая, совершенная,
просвещенная критика, то именно в такой момент, когда множество работ, когда пыл честолюбий вызвали всеобщую
схватку и производят в литературе такое же смятение, как
в живописи, где нет больше ни мастеров, ни школ, где отсутствие дисциплины позорит святое дело искусства и калечит все, даже чувство прекрасного, на котором покоится
творчество.
За последний месяц среди других произведений появились
Лу.чи и Т е н и Виктора Гюго; Л е о г-на де Латуша; О з е р о
О н т а р и о Купера; Ж а н К а в а л ь е Эжена Сю; А в и л ь с к а я Л и г а графа дю Амеля; затем несколько сочинений,
принадлежащих перу женщин, и две-три книги начинающих
писателей. Не знаю, развивала ли когда-нибудь литература
подобную деятельность, ибо многие книги еще находятся в
печати, а время сейчас наименее благоприятное для процгегания литературы.
Самая старая книга—это Л е о ; давно уже собиралась она
появиться под именем Д р у г и н е д р у г . Как это уже случалось с другими сюжетами, избранными г-ном де Латушем,
фабулу Л е о рассказать нелегко; рассказать ее—значит вынести столь суровое осуждение книге, что поэт мог рассчитывать на стыдливое молчание критиков; потому-то о
ней до сих пор не было речи. Однако попытаемся.
В одію прекрасное утро некая юная особа сбежала с
улицы близ Муссо, намереваясь дать себе вечный повод для
слез и увеличить великую французскую нацию еще одним
национальным гвардейцем, если только природа не ошибется
и не подарит ей дочь. Она встречает молодого художникаг
которого видела когда-то в своей семье, и увлекает его за
собой на пароход, следующий из Парижа в Сен-Клу. В Париже
молодые люди всегда подстерегают тайные намеренья молодых девушек, одиноко бродящих по тротуарам, и, судя по
процессу Лафарж, они даже слишком предаются этой охоте.
Молодой человек, хотя он и художник, не узнает свою старую
приятельницу, и на пароходе между ним и девушкой устанавливается таинственное единение, которое делает их любовниками in petto. Художник и его доступная подруга высаживаются вместе, гуляют на высотах холма, который начинается у Сен-Клу, поднимается к горе Валерьен и спускается
к Люсьенне, образуя как бы тетиву огромного лука, описанного Сеной. Вечером чета заходит к Буживальскому рыбаку
и ужинает, сидя на земле подле оранжереи, которая заменяет
им классический грот из Э н е и д ы . В то время как художник
приходит в себя после ошеломления, какая-то девочка подает
ему сложенную вчетверо бумажку; в ней находятся сорок
франков и следующие слова, написанные карандашом: «Оплатите, пожалуйста, счет; остальное вам».
Вам не догадаться о последствиях такого вступления.
Девушка с золотыми монетами возвращается домой, выходит
замуж за пэра Франции, с восторгом ожидающего наследника,
и вот интрига, для которой автор Ф р а г о л е т т ы предназначает этого пэра Франции, девушку по имени Ева, их ребенка, которого назовут Лео, и художника по имени Арнольд.
Арнольд—республиканский художник, недавно о:і создал
за постыдно королевскую сумму (восемьсот франков) замечательное произведение: «он изобразил во всем величии узкий
лоб, висячие щеки, лицо, которое своей округлостью не может
напоминать ничего, кроме безмозглых форм сахарной головы».
Министр, очарованный этим подвигом, пожелал видеть художника, может быть, затем, чтобы заказать ему еще одно
чудо; потому-то, желая заманить его, он предлагает ему
расписать залу в Версале или Фонтенебло и изобразить
там битву при Жемаппе или при Вальми.
— Хватит Жемаппов и Вальми I—восклицает Арнольд.
Художник, который за восемьсот франков сделал копию
портрета, отказывается развернуть свой талант в галлерее.
Арнольд Ферье больше дорожит своими республиканскими
взглядами, чем славой. Министр, который дорожит этим
художником гораздо больше, чем собственным достоинством,
•объявляет ему, что раз он отказывается работать для правительства, то во время выставок двери Лувра будут перед ним
закрыты. Он разрешит ему лишь полотна в тридцать квадратпых дюймов; приговор, по мнению автора, равносильный
смертному приговору, словно Рафаэль не написал на тридцати
квадратных дюймах П о х и щ е н и е Е л и с е я , равное, быть
может, П р е о б р а ж е н и ю , г-н де Латуш должен был видеть
его во дворце Питти.
Если, сударыня, вам покажется странным, что у нас есть
подобного рода министры, девушки, художники и пэры Франции,—подумайте о том, что Франция всем богата; при желании
в ней можно найти консулов и королей, но так же легко найти
и Дейтца; скупость и предательство процветают в ней вот уже
пятнадцать лет; слава и любовь царят в ней столько же,
сколько бесстыдство и подлость. Франция взяла на себя
все издержки современной истории. К тому же, как сказал
покойный Талейран, все случается. И мы знаем, как верны
эти слова.
«
Неприступный художник, приведенный в отчаяние случайной любовью, умирает от горя. Он больше не гуляет по
Парижу и не рисует, чтобы избежать и таких министров и
подобных удач. В один прекрасный день врач сводит его
с бежавшей на пароходе Евой, с ребенком, цветком оранжереи, и глупым пэром Франции—в деревушке Лонпон,
неподалеку от Парижа, где некогда жил автор. Художник, узнав,
что у него есть сын, хочет сделать из него непримиримого
республиканца с прекрасным характером, свободного чело-
века без гроша в кармане, тогда как мать хочет сделать из
него сына пэра Франции, вельможу, богатого и счастливого
джентльмена.
Вот и весь сюжет. Художник выигрывает в перзом туре
игры; он похищает сына и внушает ему любовь к себе. Пэр
Франции выигрывает второй тур, он находит свое дитя и
оставляет его у себя. Когда в романе говорят о пэре Франции,
это значит, что говорят об ужасном персонаже, который присягал шестнадцать раз,—о пэре Франции из Ш а р и в а р и ,
который голосует законы без обсуждения, а главное—подписал приговор маршалу Нею (сошедшему с ума солдату,—
без которого Наполеон должен бы обойтись в 1815 году,—
приговоренному, вопреки народному празу, совершенно как
Людовик XVI): такой пэр Франции—ублюдок всех революций,
способный на бесчисленные политические и прочие преступления.
Ева, жена пэра Франции, вызывает в Арнольде презрение.
.Чтобы вернуть себе благоволение этого гордого сердца, она
покровительствует похищению сына подлинным отцом и помогает им бежать. Она проникается убеждениями художника:
она поняла, что ее ребенок, став бедняком и бродягой, но
республиканцем, будет счастливее, чем если станет пэром
Франции и богачом. Так как миссия поэта—описывать нравы,
то автор, несомненно, верит, что у француженок республиканские чувства преобладают над материнскими. Когда пэр Франции отыскивает ребенка, Ева, желая вернуть Лео художнику,
открывает мужу тайну его рождения, купленного у Буживальского рыбака и обошедшегося ей в двадцать четыре '
франка. И знаете, в каких выражениях? Перо, которое так
хочет быть кокетливым, ум, который всячески добивается
тонкости и рвется, подобно нитке, достигнувшей определенного номера, элегантный человек, казалось, знающий
свет,—г-н де Латуш вкладывает в уста женщины слова,
какие никогда не произнесет ни одна женщина, ни герцогиня,
ни буржуазна, ни продавщица напитка «Коко»: «Мною обладал другой».
Если когда-нибудь женщина имела глупость делать подобные признания, то либо, пылая бешенством и гневом, она
бросала мужу в лицо короткие выразительные слова: «Ребенок
не ваш», либо разыгрывала одну из очаровательных комедий-
ных сцен, вроде сцены графини Альмавива в Ж е н и т ь б е
Ф и г а р о, где Бомарше показал все женское остроумие.
У, женщины хватит таланта заставить самого мужчину, всегда
грубого и жестокого, высказать оскорбительную, постыдную
для него мысль; затем, когда вопрос ей задан, она или плачет,
или краснеет, или опускает то глаза, то голову и, наконец,
роняет: что ж—да! Когда она увидит, какой эффект, в зависимости от характера мужчины, произвело признание, она
выпрямляется, нащупывает почву, насмехается, торжествует и
остается. Или же разыгрывает смиренницу, страд ал ину, Магдалину, Агарь, и уходит. Но всегда она женщина! Ева, которая заявляет графу д'Акмон-Скандерберг (до 1789 года называвшемуся Жиро): «Мною обладал другой!»—лишена пола.
Самая мужеподобная женщина, какую только можно себе представить, никогда этого не скажет! Поверите ли вы, чтоб даже
между собой женщины говорили: «Милочка, мною обладал
такой-то!» Я слышу, вы восклицаете, что автора обуял злой
гений, когда он писал эту чудовищную фразу. Но эта ошибка,
как и многие другие, объясняется недостатком литературного
воспитания.
Пэр Франции, становящийся все больше похожим на пэра
из Ш а р и в а р и , излагает законные основания, позволяющие
ему остаться отцом ребенка. Это адюльтер наизнанку, адюльтер второй степени. Ева в момент своих признаний предоставила случаю возможность отравить ее или супруга; поэтому,
когда он отказывается вернуть ее Арнольду, счастью,—она
заявляет, что судьба решит помимо него, и один из них будет
свободен; но с помощью вечно новой уловки пэр обменивается с женой чашками. Прекрасная, как Бьянка Капелло,
Ева выпивает яд,—и не умирает. Врач, спасший Арнольда,
спасает и ее. В запоздалом отчаянии оттого, что не может
поступить так, как могла бы наутро после буживальской сцены—выйти замуж за Арнольда и отдать ему свое
дитя,—графиня советуется со священником и просит у него
лекарства от стольких бед. Бог оказывается бессильным. Ева
открывает, в бесконечности страдания, чувство для бога не
очень похвальное; графиня разделяет взгляды Дидро и отсылает священника, попрекнув его невежеством. «Знаете ли
вы алгебру?»—«Нет».—«Знаете ли вы контрапункт?»—«Нет»,—.
«Так почему же вы хотите, чтобы я знала религию?»—говорит она.
Эта часть кончается пожаром; графиня, чтобы дать художнику отыграться, пытается уничтожить законные доказательства рождения Лео и сжигает церковь деревни Лонпон. Этот
поступок тем более бессмыслен, что граф д'Акмон позаботился
объяснить жене, что акт о рождении сына находится в мэрии и
дает ему отцовские права на Лео, вопреки фактам. Нужно было
сжечь не только церковь, но и муниципалитет, а также архивы
трибунала, куда каждые пять лет сдают записи мэрии. Но я
понимаю, что республиканская муза отступила перед сожжением муниципалитета! Художника^ в:р:іувшегося в деревню,
сочли соучастником поджога: он арестован, несмотря на признание виновной. Граф д'Акмон-Скандерберг умирает. На суде
присяжных в Версале и вдова пэра Франции и художник, оба
из благородства признают себя виновными. Суд, разумеется,
очень удивлен тем, что вдова пэра Франции оспаривает вину
преступника. Присяжные действуют без особых тонкостей: есть
преступление и два преступника, в художнике угадывают
заядлого врага существующего порядка, и Арнольд приговорен
к каторжным работам. Ева устраивает вооруженное нападение
на партию каторжников, отправленных в Тулон, освобождает
Арнольда и хочет увезти его в Италию; но она измучена бессвязными главами своей жизни, в Мариенском ущелье силы
поісидают ее, и роман кончается на границе Савойи смертью
этой женщины, которой Арнольд вернул свое уважение, увидев, что пэра Франции она не любила, что, несмотря на
свои инстинкты, она, бросив пэра Франции, сохраниз в ссрдце
любовь и переступив через сожженную церковь, пришла к
республике, и Лео может стать пылким республиканцем.
Если вы думаете, что этот кретин художник, или юная
девушка, достойная госпиталя Сальпетриер, или постыдный
пэр Франции—самые отвратительные персонажи этой картины,
то вы ошибаетесь: на втором плане мы замечаем мать Евы,
рядом с которой г-жи Сен-Леон парижских трущоб—сущие
мадонны. Она продает дочь графу де Скандерберг, толкает
пэра Франции на фармацевтические опыты, чтобы дать ему
иллюзии отцовства, толкает слуг на убийство пэра Франции,
когда замечает непобедимую любовь своей дочери Евы к
художнику; она стала бы республиканкой, если бы дожила до
конца книги. Эта последняя из вязальщиц не лишена прелести.
Художник, который убеждения ставит выше красок и попирает богатство ногами, бесчестный пэр Франции, матери,
непохожие на матерей, девушки, лишенные стыда, которые
с Орсейской набережной до Сен-Клу и с Сен-Клу до Бужиѳаля лелеют мысль о- грехопадении и смягчающей вину
обстановке лесов и лугов предпочитают отягчающее вину
и грязное превращение оранжереи рыбака в будуар (каюсь,
в оранжереи рыбаков я верю не больше, чем в браки пастушек
с королями); сарабанду невозможных преступлений и глупостей—вот что покажет вам жалкая неволшебная лампа,
названная Л е о .
Я не без цели сделал намек на Бьянку Капелло. Конечно,
социальная природа так плодовита на причуды, что для нее
нет ничего невозможного; но и самые чудовищные явления
имеют в прошлом свои примеры или же причины, относящиеся
к медицинской науке. Бьянка покидает Венецию с любимым ею
любовником. Она становится возлюбленной великого герцога
Тосканского, но не любит его; выйдя замуж, она подменяет
-ребенка, чтобы сохранить власть; затем, желая обеспечить свой
обман, она хочет отравить своего шурина, кардинала Медичи.
Все это ужасно, но это. обосновано и объяснимо логикой преступления. Г-н де Латуш, вместо того чтобы проникнуть
в человеческое сердце и. там найти причины странного поведения своих персонажей, преподносит нам их, как католический
автор преподнес бы жизнь какого-нибудь святого, не требующую комментариев. Я не стану бросать ему в лицо нравоучения, не буду требовать гуманитарных или философских целей,
остерегусь подражать недобросовестности и глупости республиканских критиков, желающих республиканизироватъ людей
с помощью ничтожных книжонок. Книга должна развлекать
или поучать. Современное искусство приемлет фантазию
Калло, греческую статую, китайских уродцев, мадонну Рафаэля,
нимф Рубенса, портреты Веласкеса, диалог, рассказ,, все
формы, все жанры. Оно позволяет создавать эпопею в романе
и роман в эпопее; но, как бы обширно ни было его поле,
законы царят в нем, и никогда литературное искусство Франции не порвет с разумом. Иго языка сбросить нельзя, оно
•тяготеет над самой тканью книг. Но в этом бессвязном пров Бальзак об искусств
изведении нет ни одного чувства, ни одного поступка, ни
одного интереса, способного увлечь читателя, пленить его
и вести его к желаемой развязке. И все же произведение это
по-своему полезно: только на подобных сочинениях можно
объяснить процесс возникновения литературного замысла и
приемы мастеров.
Каково бы ни было количество аксессуаров и множество
образов, современный романист должен, как Вальтер Скотт,
Гомер этого жанра, сгруппировать их согласно их значению,
подчинить их солнцу своей системы—интересу или герою—и
вести их, как сверкающее созвездие, в определенном порядке.
В сочинениях г-на де Латуша этот основной долг романиста
всегда оставался в пренебрежительном забвении. Между сценой
в Буживале и моментом, когда Арнольд встречает свою однодневную возлюбленную в Лонионе, сто двадцать страниц, треть
тома. Зато здесь, как и в других местах, фабула, утомительная,
вымученная, неспособная заполнить два тома, прерывается
эпизодами, на которые автор привык опираться, как на костыли, чтобы добраться до конца своих книг.
Когда Арнольд увозит Лео, выкрав его у матери, он
показывает ему Францию не столько в интересах этого мальчугана, которым автор не сумел заинтересовать нас, сколько
затем, чтобы ввести нас, читателей, к г-ну Ламартину, к
Жорж Санд, к Беранже. Я не дал бы автору право входить к
своим современникам и спрашивать с них отчета в их мнениях,
доходах или нищете. Во имя французской чести нельзя соглашаться на бесчестный кодекс личности. Инквизация, дозволенная нравами улицы по отношению к политическим деятелям, и так уж достаточно отвратительна. Сколько грязных
газеток, к стыду страны, живет клеветой и шарлатанством,—
в их существовании повинны власть и закон, суд и правительство. Имеет ли право г-н де Латуш упоминать о местечке
Сен-Пуэн рядом со своим героем, чтобы иметь случай сказать:
«Элегия была на выборах»?
По-вашему, плохо, если скульптура и астрономия, Давид
и Араго там побывают?
«ОІ почему первую известность этому таланту создала
партия!»
А кому обяьан своей известностью Беранже?
«Его всегда отличали самодовольство надежды и рай-
екая беспечность. Клюку Гомера, госпиталь Тасса, нищенство Камоэнса, слепоту Мильтона, язвительный скептицизм
Байрона—все заменил он замками в Бургундии и местом
в Академии».
КакІ вам не нравится, что поэт обладает прекрасными
глазами, подобно Байрону, замком, подобно Вольтеру, вс-.
рой, подобно Расину? Неужели, прежде чем взяться за перо,
нужно запастись у какого-нибудь г-на Лойяля протоколом об
отсутствии имущества? А когда дело обстоит именно так, вы
обвиняете в жадном меркантилизме самых горячих работтиков! Но кто из нас может утверждать, что Гомер не обла-.
дал сотней тысяч франков доходу в гросбухе его време-,
ни? Быть может, он, подобно Сен-Симону, растратил их с.
куртизанками! Эти смешные обвинения тем более заслуживают порицания со стороны критики, что, введя своего героя
к Жорж Санд, г-н де Латуш заставляет эту знаменитую»'
женщину сказать о себе самом следующие слова:
«Это крестьянин без здоровья, анахорет без добродетели,
который умрет в передней славы из-за отсутствия товарищества,—он, кто не стал бы ждать в королевском салоне!
(Нужно было сказать в салоне короля. Королевский салон
может принадлежать и финансисту. Мадам Дюбарри была королевской добычей, прежде чем стала добычей короля.) Он
был солдатом парижской прессы в 1830 году, но у него
нехватило мужества стать префектом; и этот литератор, достигший неслыханной удачи,—он ввел варваризм (один;
только? какая скромность!) в язык Вольтера,—никогда не
будет членом Института. Гостеприимный брат всех талантов,
желающих пробить себе дорогу, этот маленький голубой плащлитературы, о котором, мне кажется, писали, что он создал
меньше сочинений, чем авторов», и т. д.
После этих строк остается лишь предложить эпитафию:
г-ну де Латуиіу—признательный XIX век. Я полагаю, что
Лео и пэр Франции—это миф о литературном отцовстве,,
приписанном себе ядовитым критиком г-на Ламартина.
Настоящий роман сводится к двумстам страницам, в которых заключается двести событий. Ничто так не выдает
беспомощность автора, как нагромождение фактов. Не возводя свое наблюдение в систему, я укажу только, как мало
фактов у искусных романистов (В е р т е р, К л а р и с с а
А д о л ь ф , П о л ь и В и р г и н и я ) . Талант проявляется в описании причин, порождающих факты, в тайных движениях человеческого сердца, которыми историки пренебрегают. Персонажи романа должны выказывать больше разума, чем исторические персонажи. Первые притязают на жизнь, последние
жили. Существование одних не нуждается в доказательствах,
как бы ни были причудливы их поступки, тогда как существование других должно опираться на всеобщее признание.
Если бы даже все события книги г-на де Латуша происходили в лоне нашего общества,—которое не более и не менее нравственно, чем любое общество прошлых времен,—
им все равно нехватало бы литературной правдивости. Литературная правдивость состоит в выборе фактов и характеров и в таком их изображении, чтобы каждый, увидев их,
счел правдивыми, ибо у каждого свое особое мерило правдивости и каждый должен распознать оттенок своего в общем колорите типа, выведенного романистом.
Девушка вроде Евы—ужасное исключение, а исключения всегда должны играть в романе только второстепенную роль. Героями должны быть посредственности. В СенР о н а н е к и х в о д а х , шедевре Вальтера Скотта, полубезумный священник, верный первой любви к дочери лорда,—
только деталь. Эффи в Э д и н б у р г с к о й тюрьме—только
аксессуар, героиня—Дженни Дине. Такое распределениеплод серьезнейших размышлений или же стремительной интуиции гения. Девушка, способная на поступок, которым Ева
начинает свой роман, остережется выбрать для исполнения
своих намерений знакомого молодого человека. Париж хоіроший город, он согласен на любые тайны. Наконец, девушка, настолько сильная, чтобы задумать подобный проступок, похожа на Медею, Радогуну, Екатерину, Елизавету,—
от нее можно ждать чего-нибудь получше, чем запоздалая
любовь к Арнольду и прочие совершенные ею глупости.
В тот день, когда она полюбила, она должна была бежать
с ним прочь из Франции. Л е о доказывает, что г-н де Латуш не умеет различать то, о чем могут поговорить молодые
люди за обедом, от того, о чем можно писать; он даже не
•различает то, что можно написать, от того, что нужно печатать/ Искусство подготавливать сцены, намечать характеры.
создавать контрасты, поддерживать интерес ему совершенно
неведомо.
Я так долго говорил об этой книге лишь потому, что
в ней есть подводный камень, о который разбилось немало
челноков: пропаганда в литературе. Мне далека мысль осуждать убеждения, хотя, между нами говоря, я считаю то, что
называют убеждением, изрядной глупостью. Лафайет, человек с политическими принципами, причинял своей стране
только зло, а Талейран, безжалостный алгебраист, дважды
спасал ее. Но тот из нас, кто в Париже больше всех насмехается над своей религией, не отступится от нее в Константинополе; он скорей умрет, чем отречется от нее. Убеждение—
это чувство. Чувства не анализируются, о них не рассуждают:
Я не порицаю г-на Латуша за то, что он использовал свою
книгу для пропаганды политических взглядов: П и с ь м а к
п р о в и н ц и а л у и памфлеты Курье пережили породившие
их обстоятельства; я порицаю его за то, что он выпустил
книгу плохо написанную, бессвязную, с безумными,' невозможными и глупыми персонажами. Пусть мрачный и отважный гений напишет прекрасное произведение и выведет
в нем республиканца, заговорщика, который хочет превратить!
всю Европу в великую республику и способен очаровать читателя,—я стану рукоплескать этой статуе, восхищаться ею,
не ставя автору в упрек, что он изобразил Спартака, а не
Людовика XIV. Если Европа республиканская будет счастливей/
Европы монархической, ему воздвигнут памятники, как Гу*
тенбергу; но выпускать в свет не слишком занятные чудовища—это плачевно. Тем не менее в Л е о есть несколько страниц, не лишенных поэзии; но всегда их портят ошибки во
французском языке, непростительные для человека, который
уж не впервые берется за оружие. Г-н де Латуш начал свою
литературную жизнь в поэзии; он позволяет себе и в прозе
вольности, разрешенные поэтам, он непрестанно пользуется
загадками в духе Делиля, он полон" эллиптических оборотов..
В наше время мы знаем лишь четырех авторов, которымслучай подарил способность быть и поэтами и прозаиками.
Гг. Виктор Гюго, Теофиль Готье, де Мюссе и де Вииьи—
вот исключения, придавшие необычайность нашей эпохе...
...В этих двух томах школьный учитель нашел быѵ
тысячи полторы языковых- ошибок,- по две на страницу.
Столпотворение событий поразило мысль рассказчика; он
мог бы отнести к себе следующую фразу из своей книги:
«Единственный его недостаток—крайнее любопытство и
частые погрешности против логики французского языка».
После двух слабых книг Купер загладил свою неудачу
О з е р о м О н т а р и о . Это прекрасная книга, достойная Мог и к а н , П и о н е р о в , П р е р и и , продолжением которых она
является. В наше время Купер—единственный автор, достойный встать рядом с Вальтером Скоттом; он никогда не сравняется с ним, но их таланты родственны. Купер обязан
высоким местом, какое занимает в современной литературе,
двум способностям—дару описывать море и моряков и дару
идеализировать великолепные пейзажи Америки. Я не могу
понять, как автор Л о ц м а н а и К р а с н о г о к о р с а р а ,
автор четырех
приведенных выше произведений, мог
написать остальные романы, из которых я исключу только
Ш п и о н а . Эти семь книг единственное и подлинное его
рраво на славу.
Я высказываюсь не опрометчиво, я читал и перечитывал
произведения американского романиста, скажем точнее,—американского историка: обе его способности вызывают во мне
Восхищение, которое вызвали они и в Вальтере Скотте;
восхищения заслуживает также величие и оригинальность
Кожаного Чулка, превосходного персонажа, который связывает между собой П и о н е р о в , М о г и к а н , О з е р о Онт а р и о и П р е р и ю . Кожаный Чулок—это статуя, великолепный гермафродит, порожденный состоянием дикости и
цивилизацией, он будет жить, пока живет литература. Не
знаю,, есть ли в необычайном творчестве Вальтера Скотта
образ столь грандиозный, как этот герой саванн и лесов.
Гурт в А й в е н г о близок Кожаному Чулку. Чувствуется,
что, если бы великий шотландец видел Америку, он мог
бы создать фигуру Кожаного Чулка. Именно в этом человеке, полудиком, полущшилизовашюм, Купер поднялся до
Вальтера Скотта.
Сюжет О з е р а О н т а р и о крайне прост, это само озеро.
Сержант 55-го полка, расположенного в крайнем форту англичан на канадской границе, старый вдовец, вызвал дочь, жившую в Англии, чтобы перед своей смертью выдать ее замуж
за. Кожаного Чулка, верного проводника англичан., Де-
вушка приезжает со своим дядей, простым ^ ™ й т ш моряком- вождь краснокожих приводит ее в то место, где ее
ожіідают посланцы отца: К о ж а н ы й Ч у л о к (он же Длинн ы й К а р а б и н , он же О х о т н и к , он же. в новом романе,
С л е д о п ы т ) и Великий Змей-Чингачгук, один из интеоешейших дикарей среди могикан. Вместе с двумя этими
персонажам:? дочь сержанта встречает молодок)-друга Кожажшюго Чулка и Великого Змея, моряка с Онтарио, по имени
Д ж Г е р " девушка, ее дядя, Джаспер, К - а н ь ш Чулок и
Великий Змей в сопровождении вождя, по имени Стрло
псовый и его жены, Июньской росы, достигают крепости не
•fc3 опасных Приключений. Ирокезы, Узнавшие о путешеств.ш
дочери сержанта и ее дяди, хотят захватить их:; они бродят
по лесу Стрелоголовый-их сообщик, он шпион французов и
" х тайный гоюзник. Во время этого опасного перехода девушка влюбляется в Джаспера, друга Кожаного Чушга^ С появившись вместе с сержантом на один из Тысячи островов,
S
n S Z m там снаряжение, посланное французами
Чулок узнает, что дочь сержанта испыТ в а е т к нему только уважение; он от нее отказывается и,
тота"ам любит ее, устраивает ее брак с Джаспером.
мГнравП-ся п ^ ы і сюжеты, они указываютгна большую
творческую силу и всегда преисполнены богатств. В первой
чПтиПтроизведоіия описывается Освего, одна из рек, впаТ а о щ и Т в
Онтарио; вдоль ее берегов Р а ™ и л и с ь дикари/ решившие захватить путешественников. Туг Купер
снова становится великим Купером. Описание лесов реки и
водопадов; хитрости дикарей, разрушаемые Великим Змеем,
Джаспером и Следопытом, дают ряд чудесах карт™ неподражаемых, как и в предшествующих романах. Тут есть от
чего лритти в отчаяние любому романисту, который
захотел бы пойти по стопам американского автора. Нштогда
типографская печать так не затмевала живописи. Вот школа,
™ д?ля£ш учиться литературные пейзажисты, здесь-все таи™ иоогсства Эта волшебная проза не только показывает реку
« б ^ а леса и деревья, но ей удается дать одновременно и
мельчайшие деталиТцелое. Безлюдные
шие вас сразу становятся интересными. Тот же гении, который, б р і и в вас в открытое море, со страстью изображает
^ б ъ і т н у ю ширь океана, умеет внушить вам ужас при виде
индейцев, скрывающихся за древесными стволами, в воде
под скалами. Когда дух безлюдия заговорит с вами K Z a
вас очарует свежее спокойствие этой вечшй тени,Тогда вы
е
"
^
мощную растительность, с е р д ц е "
Придет- в волнение. Опасности возникают с каждой Т а !
кГетояТтоТяТ 663 ™ H
W
™
мизащцен.Х
кажется, что сами вы склонились под сенью вековых деревьев
чтобы распознать след мокассина. Опасности так с в я з к е
особенностями страны, что вы внимательно изучаете скГлы
водопады, пирбги, кусты; вы перевоплощаетесь в страну-*
она входит в вас или вы в н е е , - н е угадаешь, как происходит
эта метаморфоза, вызванная гением! но вы не в Т с Т н и н
отделить почву, растительность, воды, их ширь и очертания
НаКОІІ6Ц' П6рС0НаЖИ
!ем
ч Т онй
^ Т есть
е Т в действительности,-ничтожной
— Т я
тем что
песчинкой
в огромной сцене, которую вы созерцаете непрестанно. Встречи
хитрости и нападения дикарей ничуть не одно
образны и не похожи на те, что уже описывал Купер. Описание крепости отдых персонажей, стрельба в цель-подлинные шедевры. Нужно знать бесконечный вкус а в т о р а Т в ы боре этих скромных персонажей. За исключением девушки,она не правдива, все ее достоинства выдуманы снатугой и
бесполезны,-про эти образы можно сказать «сама натура»
? ^ Я С Ь " В Ь ф а ) К е т і е М м а с т е Р < ™ живописи. К сожалению!
англиискии ^моряк и лейтенант Мюйр-две основные оси т £
кои. простои, такой наивной драмы-не удались. Хороший
совет, немного больше работы, и сочинение это б ы л Т б ы
безупречно. Плаванье по Онтарио-гочаровательная миниатюра
равная прекраокашгим морским сценам Купера. Наконец
Т Ы С Я Ч ^ 0 0 X 1 3 0 3 0 0 и б с > й с ирокезами, которым
помогает французский капитан, равны по интерес^ М о г и -
1 а г й Н ^ М ~ , Ш е Д € В Р У З Г 0 Ю ж а н р а - Кожаный Чулок, или ДлинК а Р а б и н ' ^ и Охотник, или Следопыт, г л а ^ н г а у е т , так
^
как везде, и даже больше, чем везде. Этот
ланхолическии образ тут отчасти объяснен.
Достаточно об интересе и деталях этого прекрасногопроизведения; полезнее будет отыскать имеющи^ в нем
Ч Т О СТаВИТ К у п е р а ™ е
В ^ ь т е р а Скотта,-это его
— Т
глубокая и органическая неспособность к комическому »
неустанное желание развлечь вас, в чем он ни разу еще н I
преуспел. Читая Купера, испытываешь странное ощущение.
Кажется, будто мы слушаем прекрасную музыку, а рядом
отвратительный деревенский музыкант гудит на своей скрипице
и выводит нас из терпения, наигрывая одну и ту же
мелодию. Чтобы написать то, что ему кажется смешным,
Купер вкладывает в уста одного из своих персонажей одну
и ту же глупую шутку, выдуманную à priori, наделяет e r a
каким-нибудь упрямством, нравственным пороком, уродством
ума, которое проявляется в первой главе и повторяется ив
страницы в страницу вплоть до самой последней. Вот эта
шутка или персонаж и напоминают в романе игру скверного музыканта. Именно такой системе мы обязаны Давидом
ла Гаммом в М о г и к а н а х , английским ,моряком, и лейтенантом Мюйром в О з е р е О н т а р и о , в общем всеми так
называемыми комическими фигурами в романах Купера.
Создателем этой болезни, выродившейся в эпизоотию, ибо
немало французских авторов поражено ею, является сэр Вальтер Скотт. Визит к королю Карлу, о. котором семь или восемь
раз упоминает леди Белленден в П у р и т а н а х , или еще
несколько подобных черт, которые Скотт, как человек гениальный, выводил умеренно, погубили Купера. Великий шотландец никогда не злоупотреблял этим приемом, слишком
мелким и указывающим на бесплодность и немощнссть укга.
Гений в том и состоит, чтобы при каждой ситуации возникали слова, в которых проявляется характер персонажей, а
не в том, чтобы закутывать персонаж в единственную фразу,
неизменную при всех ситуациях. Разумеется, можно изображать человека веселым, мрачным, ироническим; но его веселость, печаль, ирония должны выражаться в чертах характера. Нарисовав свой персонаж, заставьте его говорить;,
но заставлять его говорить всегда одно и то же—это бессішие. Вальтер Скотт подметил то, что все мы наблюдали:
смешной недостаток людей, повторяющих одно и то же; Нотакое наблюдение давало материал для одного, самое большее—двух персонажей, и он этим количеством ограничился.
Гений современного трувера проявляется в создании обстоятельств и характерных черт. Сопоставив жалкие, кривляющиеся, комические персонажи Купера с образами хотя бы
двух палачей Тристана в К в е н т и н е Д о р в е р д е или
Майкла Ламбурна в К е н и л ь в о р т е , можно тотчас же от-
крыть закон этого литературного творчества. Если вы не
чувствуете в себе сил творить так же, оставайтесь самим
собой, идите, используйте средства, вам свойственные. В
R e d g o u n t l e t есть старый контрабандист, непрерывно повторяющий: вследствие всех дел; но Вальтер Скотт сделал из
этих слов неистощимый источник юмора и никогда нам не
надоедает. Я был искренне огорчен, когда в прекрасной
книге Купера встретил одну и ту же остроту и у, моряка и
по поводу четырех жен лейтенанта Мюйра.
Создание второстепенных характеров выдает слабость соперника Вальтера Скотта. Чувствуется, что упрямство английского моряка, не желающего слушать моряка пресноводного, нужно, чтобы вызвать катастрофу. Купера нельзя превзойти, когда он приобщает вас к красотам американской
природы, когда скользит с вами по озеру Онтарио, когда
пристает к Тысяче островов, но он гораздо слабее в подготовке драмы и искупает эту слабость лишь красотой деталей.
Вальтер Скотт никогда не совершил бы такой ошибки, как
Купер, возбудивший подозрения о характере Джаспера лишь
в середине романа. Слишком ясно видна цель приема и
•самый прием. Лейтенант Мюйр должен был появиться гораздо
раньше, и автор вызвал бы больший интерес, если бы искусно дал понять его предательскую роль и сношения со»
•Стрелоголовым.
Я обращаюсь к автору с серьезным упреком. Несомненно, Купер ничуть не обязан своей славой соотечественникам,
не' больше он обязан ею и Англии; он обязан славой главным образом страстному восхищению Франции, нашей благородной, прекрасной страны, более внимательной к людям
иноземного гения, чем к собственным поэтам. Купер был
особенно хорошо понят и оценен Францией. Благодаря универсальности нашего языка его имя проникло к народам, не
знающим английского языка. Я поражен тем, что он высмеял в К а п и т а н е С а н г л ь е французских офицеров,
бывших в Канаде в 1750 году. Эги офицеры были джентльменами, история подтвердит, как прекрасно они вели себя.
Достойно ли американца, которого само его положение обязывает к возвышенным мыслям, беспричинно наделять одного из французских офицеров отталкивающим характером,
когда единственная помощь, полученная Америкой во время
войны за независимость, пришла из Франции! Благороден капитан Санглье или нет—от этого план драмы не меняется,
но благородство характера могло бы дать еще одну прекрасную сцену. С какой-то невыразимой печалью смотришь на
то, как великие люди опускаются до уровня толпы. Купер
разделяет эту ошибку с Вальтером Скоттом, заплатившим
П и с ь м а м и П о л я за горячее и искреннее восхищение со
стороны Франции. Мое замечание тем более справедливо,
что, если просмотреть все произведения Купера, в них не найдешь и следа доброжелательного отношения к Франции.
Разница между Вальтером Скоттом и Купером в основном
определяется природой сюжетов, к которым повлек каждого
его гений. Из картин Купера нельзя извлечь ничего философского, ничего поражающего человеческий ум, когда, по
прочтении книги, душа обращает свой взор назад, чтобы
охватить произведение в целом. Оба, несомненно, великие
историки: и у того и у другого холодное сердце; они не
захотели принять страсть, эту божественную эманацию, стоящую выше добродетели, созданной человеком для сохранения общественного строя; они уничтожили ее, они принесли ее
в жертву синим чулкам своей страны; но один приобщает
вас к великим человеческим революциям, другой—к великим
изменениям природы. Последний столкнул литературу с пейзажем и морем, первый борется один-на-один с человечеством. Почитайте Купера, вас особенно поразит это в О з е р е
О н т а р и о : вы не найдете ни одного действующего лица,
которое навело бы вас на мысли, заставило бы задуматься, высказав остроумные рассуждения, объяснило бы события, поступки персонажей; напротив, автор как будто любит окружать вас безлюдием и оставлять наедине с мечтами. Это
іпохоже на впечатления от путешествия в одиночку, тогда
как Вальтер Скотт повсюду окружает вас блестящим и многочисленным обществом. Творчество Купера отъединяет; Скотт
вовлекает вас в свою драму и в т(о же время смелыми чертами рисует свою страну в любую эпоху. Величие Купера—
это отражение величия описываемой им природы, величие
Скотта принадлежит ему самому. Шотландец порождает свои
произведения, американец—дитя своих. У Вальтера Скотта
тысячи обличий, Купер—живописатель моря и пейзажей; его
великолепно обслуживают два натурщика: Д и к а р ь и М а т р о с . Прекрасный образ Кожаного Чулка—особое дело. Не
зная английского языка, я не берусь судить о стиле этих прекрасных гениев, по счастию, столь различных, но я полагаю,:
что шотландец гораздо выше американца также в выражении
мысли и в технике стиля. Купер нелогичен; его фразы, взятые
в отдельности, непонятны; каждая последующая фраза не
увязана с предыдущей, но все вместе они образуют внушительный массив. Чтобы понять мою критику, достаточно прочесть внимательно первые две страницы О з е р а О н т а р и о ,
изучая каждое предложение. Тут целая чаща идей, которая,
стоила бы дополнительного урока ученику риторики во Франции. Но вскоре величественность природы вас покоряет, вы
забываете о неровном ходе корабля и любуетесь морем или
озером. В общем, один из них историк природы, другой—историк человечества. Один приходит к прекрасному идеалу с помощью образов, другой с помощью действия, но не пренебрегая поэзией: прилив в А н т и к в а р и и , - первый пейзаж
в А й в е н г о свидетельствуют о живописном таланте, равномталанту Купера.
Расстояние от обоих этих колоссов до автора Ж а н а .
К а в а л ь е равно расстоянию от Онтарио до Сены; но оба
мастера искусства дадут мне примеры, к которым я вынужден
буду отсылать г-на Эжена Сю, ибо, к сожалению, он ничего не
сделал для изменения приговора, вынесенного одним из наших
критиков после появления Л а т р е о м о н а . Как бы ни был
суров этот приговор, он справедлив. Мне тем более досадно
подтверждать его, что г-н Сю вначале не лишен был достоинств, сейчас им утраченных; он обладал изяществом и юмором,
работа не пугала его; но в своих исканиях он не ясно видел
цель, он не хотел обучаться тому ткацкому искусству, заповеди которого хорошо обдуманы в произведениях Вальтера
Скотта.
Борьба Жана Кавалье и Людовика XIV так известна, что
незачем излагать содержание романа. Мастер всегда называл
свои произведения не П р е т е н д е н т , а Б е в е р л и , не Олив е р К р о м в е л ь , а В у д с т о к , не М а р и я С т ю а р т , а
А б б а т . Как только вы изложили исторический факт, я
больше им не интересуюсь, я знаю его наизусть. В романе
великий человек может появиться лишь мимоходом.: Так,-
•Кромвель, Карл II, Мария Стюарт, Людовик XI, Претендент,
Елизавета, Ричард Львиное Сердце, все великие персонажи,
выведенные на сцену создателем жанра, появляются лишь
на мгновение или же в развязке; рассказываемая драма стремится к ним так же, как в те времена к ним стремились люди
и события. Читатель сроднился с второстепенными персонажами Вальтера Скшта; он проникаегся интересами всех актеров, когда вместе с ними приближается к великому истори-ческому образу. Вальтер Скотт никогда не избирал крупное
событие сюжетом книги, но он тщательно разъяснял его причины, рисуя дух и нравы эпохи, придерживаясь социальной
среды, вместо того чтобы забираться в высокую область
больших политических фактов. Вы не трепетали бы, увидев
прибытие Кромвеля в Вудсток, если бы речь шла о захвате
Карла I; вы знаете, что Карл I был обезглавлен; но вы
дрожите за второстепенных персонажей, чья участь забыта
историками; вы трепещете за отважного студента, который
вызвал Протектора. Когда шотландец хочет приблизить нас
к Марии Стюарт, заинтересовать нас ее бегством, он заключает
свою героиню не в Фогрингей, откуда ее освободила только
смерть, а в Лочлевен.
Эта первая ошибка уже указывает на полное невежество
г-на Эжена Сю в вопросах построения основных частей романа. Эта главная ошибка усугубляется очень хорошо написанным общим рассуждением, подавляющим его книгу. На
ста страницах г-н Э. Сю описал борьбу Севеннов против
Людовика XIV. Он прекрасно разъяснил отмену Нантского
эдикта; его роман не что иное, как парафраз этого предисловия. Когда Вальтер Скотт чувствовал необходимость приобщить читателя к исторической эпохе с помощью рассуждении,
•он включал их в роман или вкладывал в уста персонажей.
Именно этому глубокому знанию средств искусства мы обязаны главой Д в а к у з е н а в К в е н т и н е Д о р в е р д е , муд4>ыми приготовлениями В е в е р л и и П е в е р и л я .
Вторая ошибка. П у р и т а н е Вальтера Скотта уже существуют-сюжет исчерпан. Чтобы соперничать с Рафаэлем,
нужно быть Тицианом или Рубенсом. _
Продолжая указывать ошибки, совершенные г-ном Сю
з его сочинении, мы обнаружили принципы, важные для
построения так называемых исторических романов, которые,будучи хорошо написаны, стоят лучших курсов истории.
Литературному искусству доступно описание военных действий лишь до известных пределов. Изобразить Севеннские
горы, равнины между Севеннами и низменностью Лангедока,,
расположить так войска, описать сражения,—Вальтер Скотт
и Купер сочли бы подобную задачу выше своих сил; они
никогда не пытались провести кампанию в литературе, довольствуясь тем, что в малом образце показывали дух обеих,
сражавшихся масс. Да и то описанные ими схватки требовали долгих приготовлений. Когда Вальтер Скотт взялся
за это дело, он выбрал ограниченную территорию и не отделил описание места действия от повествования; он так
хорошо соединил их, что мы точно знаем, где находятся;
пуритане, где королевские войска, где болото, где откос,,
где леса; ничто не выпадает, все стройно. После схватки
идет наступление на замок леди Белленден; затем он завершает свою эпопею падением Ботвильского моста, причем
не удосужился даже описать пейзаж; но кто же не представляет себе оба берега,-один, принадлежащий Мортону, другой—Клеверхаузу,—и оспариваемый мост. Сочинение г-на Сю
охватывает две кампании Кавалье, две кампании, исход которых известен. В течение четырех томов читатель должен
лицезреть поле, раскинувшееся от Севеннских гор до Монпелье. Не знаю, как далеко простирается общественное внимание в подобных случаях; но, судя по моему собственному,,
замысел мне кажется невыполнимым, если автор не связывает
события и людей с явлениями природы, не объясняет одни
другими, как это делали Купер и Вальтер Скотт. Тем не
менее, ничуть не скрывая от себя объема и трудности подобного предприятия, я полагаю, что было бы возможноописать движение лагерей и великое смятение битвы, предложив глазу читателя бинокль генерала; но тут нужно затратить большое, с типографской точки зрения пространство и небывалые усилия таланта. В последнем своем шедевре г-н Бейль, создавая великолепный военный набросок,,
почувствовал указанные мной непреодолимые трудности. Он.
не взялся за полное описание битвы при Ватерлоо, он прошелся по аррьергарду и дал два-три эпизода, рисующие поражение; но столь мощен был удар его кисти, что мысль.
наша видит больше: глаз охватывает все поле битвы и картину
великого разгрома. Последний эпизод доказывает, что автор
знал об этой литературной опасности. Спешу сказать вам,
что я считаю автора П а р м с к о г о м о н а с т ы р я одним
из самых глубоких умов, одним из лучших писателей нашего времени. Его значение будет больше, чем сейчас предполагают.
Жан Кавалье любит Изабо, дочь учителя фехтования; его
соперник—маркиз де Флорак, драгунский капитан; Кавалье
ссорится с маркизом и покидает Францию. Де Флорак ведет
себя с Изабо, как Ловлас с Клариссой. Кавалье возвращается после вынужденного затворничества и видит, что
Севенны угнетены, а Изабо опозорена. Ужасное наказание,
наложенное на его семью, ожесточает его; он поднимает восстание вместе с неким дворянином-стекольщиком, по имени
дю Серр, которого повстречал в Женеве. Де Флорака любит
коломбина, по имени Туанон, в нее, в свою очередь, влюблен
откупщик, по имени Табуро. Туанон бегает за де Флораком,
а ее преследует Табуро. Узнав, что ее любовник в плену
у Кавалье, коломбина принимает поручение де Виллара влюбить в себя Кавалье; она пробуждает в нем честолюбие,
уговаривает служить Людовику XIV и обратиться к де Виллару, который предпочитает сговориться с ним и замирить
Севенны, чем продолжать эту ужасную гражданскую войну.
Автор сильно унизил Кавалье, заставив его влюбиться
в какую-то Туанон. Сколько понадобилось приготовлений,
чтобы читатель поверил в возможность такой ошибки у человека с характером Кавалье. Я пойду дальше: чтобы быть
правдивым, необходимо было для такого сочинения, придумать
другую интригу. Жизнь Кавалье во время борьбы похожа на
жизнь Наполеона в течение первых итальянских кампаний.
Как мог, среди таких невзгод, вождь реформатов, решивший
отомстить за возлюбленную, как мог он заниматься любовной интригой с актрисой? Ни один парижский буржуа того
времени, имеющий сто тысяч экю доходу, то есть по нашему
времени миллион, не полез бы в лапы камизарам1, ради коломбины, да еще возя с собой паштеты из дичи и лучшие
1 Камизары—участники крестьянских
восстаний во Франции
начала ХѴШ века.—Прим. ред..
вина, как это делает Табуро. Между де Флораком и Кавалье
разгорается ненависть, порождающая Севеннскую войну; но
речь идет лишь об имени г-на де Флорака, ибо сам он исчезает из четырех томов; и вы хотите, чтобы мы принимали
его всерьез, чтобы видели в нем человека, стоящего на своих
ногах, живого и деятельного? Посмотрите, расстаются ли
в П у р и т а н а х Мортон и его соперпикі Г-н Сю не использовал ужасное падение Кавалье, когда в мнимой маркизе
тот узнает коломбину, влюбленную в де Флорака. В его
изображении Кавалье—вертопрах, столь ничтожный, что унижается перед дамами Монпелье, столь неумный, что две
недели бездействует у де Виллара. Г-н Сю показывает дб
Бавиля единственно затем, чтобь» показать его, и ужасный
виновник всего этого дела в романе ничего не значит. Веселый друг Шапеля, Буало и Мольера, гость Отейля, этот
двуличный человек был, однако, интересной фигурой и заслуживал чести играть большую роль, чем ему отведено.
Чтобы вывести на сцену такие значительные и подлинные персонажи, как Жан Кавалье, как Бавиль, прославленный
интендант Лангедока, как маршал Виллар, соединив их с
Туанон и Табуро, талант романиста должен заставить нас
поверить в его творения, должен подтвердить их существование момолетным появлением какого-нибудь исторического
персонажа. В этом проявляется глубина мастера; Вальтер
Скотт половину своей драмы употребил на то, чтобы познакомить нас с жизнью Эми, прежде чем коснулся Лейстера
и Елизаветы. Сколько придумано персонажей, дабы придать
вымыслу качества истории I Перечтите это литературное творение, в смысле плана самое мощное из всего созданного
Вальтером Скоттом. Больше тридцати персонажей роятся вокруг Эми, все произведение кажется написанным ради нее,
вплоть до того, что она отправляется на праздник, устроенный
Лейстером в честь своей повелительницы, где разрушит обширное здание милостей и убьет, надежды честолюбивого
любовника Елизаветы.
Г-ну Сю нехватает литературной достоверности. Недоста:ток правдивости, работы чувствуется во всем. Так, нет ничего смешнее и противнее законам поэтики романа, чем мануфактура пророков, созданная г-ном дю. Серром, дворяниномстекольщиком. Вообразите теорию Бруссэ. о возбуждении,
но только не в той стадии испытания, в коей она нахохлится еще в XIX веке (ибо я не верю в абсолютные медицинские доктрины), но в стадии применения. Поверите ли вы,
что в царствовании Людовика XIV, когда медицина была
чисто эмпирической и фармацевтической, какой-нибудь человек мог из псшггических целей оказывать на несчастных
детей невротическое воздействие, дабы погрузить их в состояние экстаза? Кто не знает, что чудеса исступленных
фанатиков, пятьдесят лет спустя, вызвали большое изумление
и даже недоверие в ученой Европе. Из всех ошибок, совершенных г-ном Сю, не мог ли он избежать хоть медицинского
анахронизма? Если персонаж вымышлен, искусство романиста
заключается в правдивости всех деталей. Так вот, когда дю
Серр открывает питомник, где он возбуждает и держит наготове своих пророков, и выпускает их, одурманенных опиумом и одетых, как оперные танцоры, чтобы они разбежались по Севеннам,—он очень похож на озорника, напустившего майских жуков в зрительный зал. Как г-н Сю хочет,
чтобы мы поверили его рассказу, если дю Серр пропитывает
фосфором (фосфор, мне кажется, был открыт Шталем позднее) волосы маленьких пророков? Что из этого получится
среди бела дня? Затем, не может же это возбуждение
длиться в течение всей войны. Такие нелепости подрывают
доверие к другим частям произведения.
Заставляя своих персонажей разговаривать, автор упражняется в изменении голоса, словно находится на маскараде
в парижской Опере. Вместо того, чтобы разговаривать как
полишинель, он разговаривает как кальвинист; но кальвинисты не разговаривают. Нет, он не владеет даром превращаться в собственный персонаж, быть одновременно МакБриаром, Мортоном, Клеверхаузом. Читатель не поддается
никаким иллюзиям, если писатель сам не разделял их, когда
творил. Мы трепещем, читая у Вальтера Скотта о свирепых
камеронцах, но г-н Эжен Сю нас не волнует ничуть. И вот
почему. Он не понял роли диалога в историческом романе.
Речи протестантов не производят никакого впечатления, ибо
все они поверхностны и не являются зародышем или плодом
событий, как у персонажей Вальтера Скотта. Почему г-н Сю
хочет, чтобы мы верили словам его персонажей? Там и сям
он усеивает страницы звездочками, отсылающими вас к при-
мечаниям, где указаны авторы, у которых он заимствует
слова. Каждое примечание—булавочный укол, пронзающий
воздушный шар романиста. Своими примечаниями автор напоминает рассказчика, который, рассказав множество историй, на закуску сообщает: «то, что я расскажу сейчас,—
сущая правда». Примечание романиста равно честному слову
гасконца. Автор доводит свои примечания до наглости, он
принимает читателей за невежд. Так, если встречается чтонибудь библейское и истинно прекрасное, г-н Сю пишет внизу:
«Святой Матфей, Исайя I и т. д. Берегитесь, это не я, не
ошибитесь!» Словно возможно ошибиться! Эти частичные перепечатки из библии делают роман похожим на карнавальные наряды веселых девиц, сшитые из тряпья, но украшенные
богатейшими кружевами. Диалог, скажем открыто, это последняя из литературных форм, наименее уважаемая, самая
легкая; но посмотрите, до какой высоты довел ее Вальтер
Скотт! Она служит ему для завершения портретов. Две
фразы свинопаса и шута в А й в е н г о объясняют все: страну,
сцену и даже вновь прибывших, тамплиера и странника.
Г-н Сю должен приписать нереальность своих созданий,—
если только можно назвать этим гордым именем его немыслимые персонажи,—множеству ошибок подобного рода. Вместо
стройной связности, необходимой для совместной жизни персонажей драмы, царит невероятная нескладица. Книга эта
не является ни наборной работой, где все части скреплены
между собой, ни ожерельем, где жемчужины нанизаны на
одну нить. Книгу можно закончить четырьмя словами почти
в любом месте; в ней нет ни плана, ни действия. Персонажи
бредут, куда им вздумается, они не вызывают никакого удивления, нет никакой развязки, ничего не подготовлено. И все
же были здесь элементы прекрасного исторического романа.
Совсем не требовалось стольких событий. Ужасного обращения с семьей Кавалье достаточно для объяснения его характера; Кавалье был своего рода протестантский Кателино 1 .
Описание Севеннских гор, наказание, наложенное Кавалье на
мнимых черных реформатов, все приготовления к битве при
Тревиезе, победа, одержанная Кавалье вопреки злой воле его
1
Кателино — один
Прим. ред.
из
вождей
вандейского
восстания.—
союзников,—одних этих фактов, сообщенных шпионами де
Бавилю и маршалу Виллару, вполне хватило бы Вальтеру
Скотту для замечательного произведения. Талантливый человек не стал бы, конечно, ценить Кавалье ни слишком низко,
ни слишком высоко; он вывел бы его в первом томе инкогнито, в чужом платье; он показал бы его лишь во время
битвы или переговоров с Вилларом, несколькими словами
описал бы конец его жизни—и мы увидели бы образ Ееликого
короля, беседующего с подмастерьем хлебопеком, увидели бы
кальвинистов, ведущих ужасную войну герильясов с Людовиком XIV. Вальтер Скотт обязательно придал бы речам
французских кальвинистов совсем другой характер, чем речам фанатичных шотландцев.
Та недобросовестность, что свела к ничтожеству план
Ж а н а К а в а л ь е и сделала все разговоры смехотворными,
отразилась и на стиле, но стиля не существует. Г-н Сю
пишет так, точно он ест или пьет,—с помощью естественного механизма; тут нет ни работы, ни усилий. Фразы однообразны до отчаяния. Ни одна идея, ни одно размышление,
ни одна из тех резких точных черт, выделяющих французского писателя из всех писателей мира, не отличает рыхлую,
вялую фразу. Форма, найденная г-ном Сю раз навсегда, подобна формочке, которая служит кухарке для всех ее кремов.
Есть в Ж а н е К а в а л ь е , в середине книги, два так называемых гротескных персонажа, столь же холодных, как
снежные фигуры, и тающих при первом луче серьезного изучения,—два буржуа, беседующих о делах общественных. Один
из них, точно соблюдающий законы пристойной ребячливой
учтивости,—карикатура на отвратительные создания Купера,
о которых я говорил вам. Тут г-н Сю ниже самого себя.
В первых его работах встречались персонажи вроде Нищеты
или Крупинки соли, не лишенные оригинальности и силы.
Речи их отличались комизмом, а комизм вытекал из действия; но автор совершенно покинул этот путь, он бросился
в прямо противоположную сторону и принял преувеличение
за vis comica 1 .
Г-н Сю впал в заблуждение, от которого уже не избавится.
Он сунул нос в подлинные документы французской истории
1
Подлинный комизм
(по-латыни).
времен Людовика XIV. Архивы министерства иностранных
дел были ему открыты, он увидел изнанку блестящих тканей
этого блестящего царствования, заинтересовался приемами
управления, был поражен ими, как ребенок, впервые попавший в физическую лабораториями решил сотворить чудо,
написав Поваренную книгу этой высокой дипломатии. Он
произвел себя в слепни Людовика XIV. Он кричал о подлости, узнав, что версальский кабинет, желая стать хозяином на море, предоставил голландцам и англичанам сражаться между собой. Ему не понравилось, что у Людовика XIV
были страсти. Нет великого человека без страстей; в противном случае вы получили бы Вашингтона, воплощенную
статую, и в результате прелестную страну Соединенных Штатов! Вместо того чтобы увидеть в великом короле неутомимого созидателя крепостей, отважного творца бурбонского
владычества в Испании и Италии, строителя памятников и
каналов, покровителя торговли и искусств, друга литературы,
который приглашал Мольера к своему столу, подарил сто
тысяч экю Расину и столько же Буало, сделал Фенелона воспитателем дофина, советовался с Боссюэ и понимал его,—
одним словом, творца таких великих дел, что ни молот
Революции, ни воля Наполеона не могли ни уничтожить их,
ни поровняться с ними,—г-н Сю показал человека, который
любил покушать, от которого довольно дурно пахло, который подкладывал себе в башмаки карточные колоды, а на
голову надевал высокий парик; показал человека мстительного. Пусть г-н Сю, по слухам имевший на то причины,
отомстил в Л а т р е о м о н е дому Роганов, изобразив одного
из Роганов лишенным воли и собственного достоинства,—
это можно понять; но Людовик XIV никогда не становился
автору поперек дороги. К роману Ж а н К а в а л ь е г-на Сю
привело развитие его системы,—он хочет открыть Европе
глаза на Людовика XIV. Людовик XIV принадлежит ему, это
его добыча, он тащит его через девять томов, как Ахилл,
протащивший Гектора девять раз вокруг Илиона. С какой
целью? Людовик XIV не может отомстить, дав ему орден
Святого Духа.
Г-н Сю совершил самый тяжкий промах, какой только
может совершить досужий человек, изучающий источники:
сн доказал, что не советуется ни с кем, и настаивает на
ошибке, которая уже в И с т о р и и ф р а н ц у з с к о г о флот а вызвала всеобщий смех. Людовик XIV, желая дать фаворитам доказательство своего благоволения, дозволял им, спеч
циальной грамотой, носить расшитый особым образом голубой камзол, какой сам он носил во время поездок в Марли.
Г-н Сю вообразил, что придворные вечно оставались в этих
голубых камзолах. И в море Кавуа сражается в голубом
камзоле и Виллар в Севешіских горах носит все тот же
голубой камзол. Если кто-нибудь и не был пожалован камзолом, то именно Виллар, сын регистратора из парламента,
человек, ненавистный двору, который сказал Людовику XIV,
вынужденному доверить ему судьбы Франции перед Дененской битвой: «Ваше величество, я брошусь в гущу ваших
врагов, а вас оставлю среди моих врагов». Людовик XIV
приберегал свои милости для маршалов де Вильруа и де
ла Фейад, единственных бездарных его маршалов. В веке
Людовика XIV Виллар появился как генерал-аншеф гораздо
позже; он пришел, когда Тюрены, Конде, Люксембурга были
уже мертвы. В последние свои дни Людовик XIV позабыл
о пустом отличии голубого камзола Марли, создавшего
голубой цвет Марли,—слово, оставшееся в среде торговцев после разрушения Марли; название часто переживает
самую вещь.
•
Кавуа и Виллар, появляющиеся один в Севеннских горах,
другой во Флоте Рейтера, в голубых камзолах Марли,—
одна из тех ошибок, над которыми потешаются образованные люди в салонах Петербурга, Варшавы, Вены, Берлина;
парижский буржуа о них не подозревает, но они способны
обуржуазить литературу. Талант должен быть дворянином,
и изысканные умы не должны совершать подобные ошибки.
Последняя ошибка порождена еще склонностью подражателей Вальтера Скотта создавать историческое с небольшими
затратами; они находят деталь, захватывают ее и расписывают в своей книге. Они обобщают частности, вместо того
чтобы общее сводить к частному,—основной принцип Вальтера Скотта. Что сказал бы г-н Сю о романисте, который,
увидев на портрете Веласкеса герцога Альбу в латах, с жезлом военачальника в руках, привел бы его, одетого таким
образом, в будуар под тем предлогом, что художник передал его потомству именно в этом снаряжении? Водевилист
смело сделает молодого вельможу в голубом камзоле счастливым волокитой. Незаметно ошибка получит распространение; затем нация кончит тем, что будет показывать окно
(так и не прорубленное), откуда Карл IX стрелял в своих
подданных.
В Ж а н е К а в а л ь е нет нй одной детали, которая не вызвала бы подобных замечаний. Сцена между г-ном де Меркером и Табуро у маршала Виллара, придуманная г-ном Сю,
совершенно невозможна. Сцены из М е щ а н и н а в о д в о р я н с т в е Мольера не имеют в виду точно поименованных
вельмож. Мольер нас оставляет в сомнении, мы можем распознать интригана в маркизе и подозрительную женщину
в прелестной маркизе; но утверждать, что у маршала де Виллара молодой де Меркер (потомок Лотарингского дома!) принял борьбу на равных началах с Табуро, предложенную ему
г-ном Сю,—это историческая бессмыслица, столь же грубая в мире идей, как ошибка с камзолом в мире вещей.
Цель исторического романа в том, чтобы выразить дух эпохи,
а не искажать ее характер, рисуя отдельные, исключительные происшествия, исчезающие в движении вещей, идей и
фактов.
Среди ошибок во французском языке есть одна, которую нельзя отнести за счет корректоров. Г-н Сю говорит:
раскрашивать стекла вместо окрашивать. Стекло волшебной лампы было раскрашено; но художники Севрской мануфактуры употребляют окрашенные стекла и окрашивают
стекла. В этом длинном сочинении есть несколько страниц,
показывающих, что мог бы сделать автор, если бы имел
хорошего руководителя, прислушивался к мудрым советам
и замечаниям, если бы держался в пределах эрудиции, которой подчинялся Вальтер Скотт. Битва при Тревиезе насыщена движением, это лучшее место в книге.
От г-на Сю до г-на Виктора дю Амеля, пожалуй, не
меньшее расстояние, чем от г-на Сю до Купера. А в и л ь с к а я
л и г а просто школьное сочинение. Я дочитал эту книгу до
конца лишь из добросовестности. Г-н дю Амель написал свой
роман в стиле покойного Битобэ, обнаружив эпические претензии флориановского Г о н с а л ь в а из К о р д о в ы .
«Холодная мечтательная Германия надела праздничные
одежды и с нетерпением ждет молодого принца, которого
предпочла она обоим соперникам: Франциску I и Генриху XIII».
И это г-н дю Амель говорит о воинственной буйной
Германии, которая перевернула Европу вверх дном в XVI веке, о Германии, что посылала своих рейтаров на все войны
и создала порох, книгопечатание и Лютера,—три черных
пятна, изменившие облик религиозного, военного и гражданского миров! У искусства есть своя оптика, романист рассматривает сюжет в бинокль; но в бинокле два стекла.
Г-н дю Амель рассматривал величайшие события в уменьшительное стекло. Критика подобна королю: там, где нет
ничего, она теряет свои права.
Какое множество мыслей охватывает вас при переходе
от подобного произведения к книге стихов, выпущенной
г-ном Гюго! Около часа я допрашивал науку, природу, бога
о причинах различия между умами, душами и способностями.
Слова «республика литературы»—бессмысленны, никогда тут
не будет равенства. Г-н Гюго, вне всякого сомнения, величайший поэт XIX века. Обладай я властью, я дал бы ему и
почести и богатство, побуждая его написать эпическую поэму.
Но Вергилию нужен Август, Рафаэлю—Лев X и Юлий II,
Аристотелю—Александр, Мольеру—Людовик XIV, Раблэ—
Франциск I. Мы не живем, увы!—вспомним стих из Л у чей,—в те времена,
«Когда среди великих королей росли великие поэты».
Как-то Людовик XIV простодушно спросил у епископа,
что это за «Никтикоракс»1, о котором так много говорится
во время вечерни,—и епископ смело ответил, что это был
.иудейский царь; но Людовик XIV умел отыскивать и выбирать великих полководцев, великих поэтов, великих писателей, великих министров, великих художников, всех талантливых людей своего царства.
Восхищение не закрывает мне глаза. Есть в творчестве
г-на Гюго абсолютная, преобладающая форма, какое-то однообразие, которого хотелось бы избежать; перечисление является у него не просто риторической фигурой, но служит
средством выражения мысли, оно порождает самое сочинение.
Г-н Виктор Гюго может достигнуть новых успехов, лишь
1
Ночной ворон (по-древнегречески).—Прим
ред.
если напишет поэму. Создать это великое произведение, которого ждет Франция и которое он может ей дать,—в гротескной ли форме Ариосто, в героической ли форме Тасса,—
ему поможет направление его поэзии, поразительное чувство
образа, богатство палитры, сила его описаний.
В Л у ч а х и Т е н я х все—фантазия; это очаровательные
арабески, в них нечего порицать и критиковать. Каприз свободней всего в литературе. На этот раз газеты воздали единодушную хвалу великому поэту. Вот почему я смело могу
придраться к грамматическим ошибкам, которых он большене должен делать,—когда-нибудь он будет авторитетом»
Я уверен, что сам он изменит этот стих:
Pourquoi le brouillard d'or qui monte des hameaux?
Ему можно дать три разных толкования. А также этот:
Et le doux rossignol, chantant dans l'ombre obscure.
Подобный плеоназм, особенно между существительными
и прилагательными, недопустим у такого могучего колориста Ь
...Lézards
Courant au clair de lune au fond du grand puisard.
Когда г-н Гюго найдет ящериц в сырых местах, он сделает
ценное открытие, достойное войти в стены музея, которому
придется придумать новый вид этих животных. Ящерица живет на солнце, в сухих местах. Я указываю на эту ошибку
потому, что и в С о б о р е б о г о м а т е р и Эсмеральда кормит ласточек хлебом.
Есть еще:
Là, je rêve en rôdant dans les champs léthargiques.
Я подчеркиваю эти ошибки тем настойчивее, что, на
мой взгляд, никогда еще г-н Гюго не достигал такой яркости,
тонкости, законченности, величия и простоты, как во многих
стихах этого сборника, где, не желая брать Расина за образец, он далеко превзошел его. До сих пор святая святых
французской поэзии были, несомненно, хоры из Э с ф и р и
и А т а л и и ; но первый отрывок, озаглавленный Н а з н а ч е н и е п о э т а , по мысли, по образам, по силе выражения—
гораздо выше этих песнопений, признанных Вольтером неподражаемыми.
Что поистине поразительно в нашем великом поэте, этоживое понимание всех жанров: он первый наш лирик. Одно
лишь это качество должно принести ему единодушное избрание в Академию; но он владеет и фантастическими причудами муз средневековья, он знает секрет множества форм
труверов и романсеро, с его всесильных уст может слететьприпев в духе Маро; он играет рифмами и речью, как играли
поэты XVI века; он, если б захотел, сочинил бы песенку
не хуже Беранже. Вот почему я жалею, что он не создал,по примеру Гёте, трагедию в классическом стиле где ему
Пришлось бы подчиниться суровой системе версификации и
мысли, продиктовавшей Б р и т а н и к а или Ц и н н у . Этим
он заткнул бы рот некоторым критикам.
Обычно г-н Гюго выражает свою мысль с удивительно»
ясностью, его проза достойна его поэзии; он замечательный
прозаик, но на этот раз то блестящие, то туманные фразыпредисловия и его пророческий тон меня обеспокоили. Некоторые сентенции кажутся выводом из долгих рассуждений»,
уничтоженных автором. Этот странный отрывок кончается
так- Дух человека обладает тремя ключами, которые открывают все: цифра, буква, нота. Знание, мысль, мечты,все здесь. Стыжусь сознаться, но я не вижу ни малейшейсвязи между этими прекрасными словами и стихами, помещенными в сборнике. У г-на Гюго, впрочем, полно такихобобщений, отмеченных олимпийским величием, ими изобилуют
его беседы. Это один из остроумнейших людей нашего времени. У него очаровательный ум: он обладает в материальных делах тем здравым смыслом и прямотой, в которых отказывают писателю, наделяя ими глупцов, отсортированных
выборами, словно люди, привыкшие иметь дело с идеями,
не знают фактов 1 Кто может больше всех, тот может меньше
всех. Шестьдесят лет назад г-н д'Аранда нашел задачу Фильдинга более трудной, чем задача посла: дела разрешаютсясами собой, говорил он, а поэт должен придумать развязку
по вкусу всем людям. Г-н Гюго не хуже г-на Ламартинаотомстит однажды за оскорбления, вечно бросаемые буржуазией в лицо литературе. Если он займется политиком, знайте
заранее, он проявит необычайную одаренность. Его способности универсальны, тонкость его равна его гениальностино не в пример современным государственным деятелям, тон-
кость в нем совмещается с благородством и достоинством.
Что же до его способа выражения—он великолепен; это будет самый сведущий докладчик, самый ясновидящий ум. Вам,
быть может, неизвестно, что два его старых издателя имеют
право быть избранными, а он вчера еще этого права не
имел; говорят, сегодня уже имеет. В какое чудесное время
живем мыі Автор О б щ е с т в е н н о г о д о г о в о р а не был
бы депутатом, быть может, его препроводили бы в исправительную полицию.
Прочтите, если достанете, сборник сонетов графа Фердинанда де Грамон. Молодой поэт так верно судил о нашем
времени, что выпустил свои опыты тайком. Книга не продается. Есть какое-то изящество в этой выходке юной музы,
пожелавшей избежать книжных лавок и шума, как сделал
это вначале г-н Балланш. Такое кокетство подстать лишь
красивым женщинам: fugit ad salices! 1 Я ничего не хочу,
говорить вам об этих сонетах, чтобы не лишить вас приятного сюрприза.
У меня нехватает времени поговорить с вами о сочинениях женщин—о Ж о р ж е г-жи Рейбо, о М а д а м д е л а
С а б л и е р г-жи Даш, а также о П р о в а н с е Адольфа
Дюма, о Д а н а е г-на Гранье де Касаньяк, об Э т ю д а х о
с о в р е м е н н ы х р е ф о р м а т о р а х ; такая медлительность
объясняется многословными рассуждениями, к которым приводит добросовестная критика.
Театр сейчас в грозном положении, и ему я посвящу
следующее письмо. Французский театр отдан какому-то швейцарцу, который понимает литературу, как привратник. Вручить будущее лучшего нашего театра подобному человеку—
это доказывает глупость правительства, равную глупости его
протеже; но такое назначение связано со всей системой злобного давления на литературу. В настоящий момент здание
ремонтируют. Лучше уж было собирать публику в грязном
зале и показывать шедевры, чем приглашать ее слушать
убогие глупости в великолепном зале.
1840 г.
1 Буквально—бежит
•„(цитата из Вергилия).
в
ивы,
«Письма о литературе, театре
и искусстве». Письмо первое.
Oeuvres, XXIII, 568—604.
фигурально—бежит спрятаться
УПАДОК «СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ МЫСЛИ.
С Е К Р Е Т Ы УСНЕХА У БУРЖУАЗНОЙ ПУБЛИКИ
Разбор И с т о р и и
П о р-Р о я л я С е н т - Б е в а . Д в а метода исторического
-исследования: беспристрастное восстановление полной картины событий,
философская оценка их роли в прогрессе человечества. — Сент-Бев — тип
псевдоисторика, коллекционера раритетов. — Интерес Сент-Бева к исторически несущественному, к мелким биографическим деталям. — Пороки отвлеченного психологического анализа, пренебрегающего реальными историческими действиями. — Сент-Бев превращает малое в великое, ничтожные
-случайности в причины больших исторических событий. — Психологические аналогии в П о р-Р о я л е . — Реакционность Сент-Бева. — К а к делается литературная карьера в современной Ф р а н ц и и . — Секреты у с п е х а
У буржуазной публики. — К н и г а Рейбо об утопических социалистах. —
Пошлость его мнений о Сен-Симоне и Ф у р ь е . — Действительные промахи
великих утопистов и их з а с л у г и .
ПИСЬМА О ЛИТЕРАТУРЕ,
ТЕАТРЕ И
ИСКУССТВЕ
В наши дни, когда каждый ум избирает живую свободную манеру, когда, желая воздействовать на современников,
каждый автор драматизует свой сюжет и стиль, когда, наконец, все стараются подражать мощной деятельности, запечатленной в своем веке Наполеоном,—г-н Сент-Бев возымел
удивительную идею возродить скучный стиль. Никто еще не
указал ему на порочность его манеры. Быть может, это объясняется страхом французов перед скукой, ибо,—признйем
наших мертвецов,—этот писатель с неудачными намерениями
насчитывает у нас мало читателей, и все же он бесстрашно
продолжает свою литературную систему; ей мы обязаны уже
страницами, где скука развивается так разнообразно, что
одно это заслуживает благодарности. Разнообразить скуку—
гигантский труд. Не этим ли объясняется сотворение
мира? Со временем бесконечность стала бы слишком скучной. Моллюски, не имеющие ни крови, ни сердца, ни чувственной жизни, чья мысль, если только она есть, скрывается
в противной беловатой оболочке,—моллюски тоже представляют некоторое разнообразие. Г-н Сент-Бев говорит в И с т ории П о р - Р о я л я , что умы разделяются на семейства, так
же как в зоологии; разумеется, его ум можно сравнить только
с одной из особей этого животного рода.
Когда читаешь г-на Сент-Бева, скука порой поливает вас,
подобно мелкому дождику, в конце концов пронизывающему
до костей,—фразы с ничтожной, неуловимой мыслью сыплются одна за другой и угнетают ум, беззащитный перед этим
сырым французским языком; а порой скука бросается в
глаза и усыпляет вас с магнетической силой, как в этой
жалкой книге, названной им И с т о р и я П о р - Р о я л я . Клянусь вам, долг каждого—посоветовать ему остановиться на
первом томе и ради его славы и ради библиотечных полок..
В одном отношении автор заслуживает похвалы: он отдает
себе должное, он мало бывает в свете, он работящий домосед и распространяет скуку лишь с помощью пера. Во Франции он остерегается разглагольствовать, как в Лозанне, где
швейцарцы, сами неимоверно скучные, могли принять его
курс за лесть.
Правду говоря, сударыня, когда я разрезал книгу, не зная,,
что режу ножом самое скуку, я хотел рассказать вам о ней
с известной литературной снисходительностью. У меня были
свои причины. Я хотел достойно ответить на недостойные
нападки, хотел ответить тонким злословием на грубую клевету, откровенностью на лукавство. Наконец, я подумал о
неустанных трудах г-на Сент-Бева, автора С л а д о с т р а с т и я , книги, где среди бесплодных равнин встречаются прекрасные цветы,—возвышенные мысли в чаще лиан, где ум
запутывается и падает в борьбе с безысходными переплетениями. Но одно обстоятельство позволяет мне отомстить за
всех, на кого г-н Сент-Бев навеял скуку; министерство назначило г-на Сент-Бева хранителем библиотеки Мазарини.
Я приношу благодарность г-ну де Ремюза и чувствую себя
в силах простить многое этому необычному министру. Он
показал, каков он: остроумен, но всегда лукав, как уличный
сорванец. Прежде всего нужно его поздравить с тем, что
он назначил на литературный пост человека, много ли, мало
ли занимавшегося литературой, вопреки аксиоме Фигаро, который, заправляя министерскими решениями, посылал итальянцев в палату пэров, а швейцарцев, бывших химиков, во
Французский театр; и из семидесяти пяти литературных пенсий пятьдесят пять отдал женщинам! К тому же, что если»
получив место, позволяющее ему иметь aurea mediocritas1
Горация, г-н Сент-Бев, соблазнившись благополучием крысы
в сыре, перестанет писать?.. О! пусть насмешка вовеки веков
щадит дела и поступки этого министра! Ш а р и в а р и , умолкни! Ф и г а р о , ни строчки! Мелкие газеты, молчание! От
* Золотая середина
(цо-латыни).
имени французских читателей сплетем в е н к и э т о щ мини
стру. Инаконец, парижане, когда вы
мост Искусств
•берите вправо: библиотека Мазарини по левой рукеі На той
стороне на вас может напасть зевота.
*„*яил
Клянусь Скалигером и Фрероном, сударыня этого биолиотекаря надо бы наказать оружием насмешки, ибо невозможно
сражаться с ним его собственным оружием и ступать на
•почву, где по колено погружаешься в вязкую скуку. Вот
•почему я мужественно решил развлечь вас, если только
смогу, ибо это по-новому старое произведение очень похоже на литературную природу, создавшую е г о - о н о очень
неблагодарно. Я говорю-мужественно, с полным правом.
В прошлом моем письме уже усмотрели несправедливость
и ненависть. Ненависть-да. О! я всеми силами ненавижу
скверные сочинения; авторов, которые пишут не по-французски; книги и бесполезные и скучные. Несправедливости же
нельзя найти у того критика, чьи слова опираются на факты,
кто, не позволяя себе ссылок, доказывает свои мнения; кто
не искажает интригу, сплетенную автором, а излагает ее
и борется с ней один-на-одош; кто разбирает фразы и ведет себя как честный экзаменатор, склонный одобрять то,
что хорошо, и насмехаться, по праву, над тем что скучно,
плохо, смехотворно и годится для уборной. На этот раз
тоже поднимется крик, и вот почему: француз так уважает
•скучные сочинения, что уважение это распространяется и на
.автора, он слывет серьезным человеком. Напишите шедевр,
подобный Ж и л ь Б л а з у или В е к ф и л ь д с к о м у в и к а о и ю - в ы останетесь шутником и ничтожеством; но создайте
что-нибудь вроде О н о в о й с о ц и а л ь н о й о р г а н и з а ции, р а с с м а т р и в а е м о й в е е о т н о ш е н и я х к к а т о л и ц и з м у , - о т вас побегут в ужасе, вас не будут читать,
но вы станете профессором, советником, академиком, пэром
м и н у е т е
ВыИИосведомлены в религиозных вопросах и знаете, что
нет исторического факта, лучше изученного, более известного,
чем борьба Пор-£>яля с Людовиком XIV. Ни одно апостолическое сражение, включая и Реформацию, не имело
-больше историков, не породило больше мемуаров, больше
религиозных трактатов, кисло-сладких памфлетов, ханжеской
Фра
переписки, серьезных и объемистых работ. Если дать библиографию написанных по этому поводу сочинений, получилась
бы книга более значительная и любопытная, чем книга г-наСент-Бева: без преувеличения, можно насчитать до десяти;
тысяч работ; проанализировать их—значило бы создать Религиозную энциклопедию.
Вопрос о Пор-Рояле, начатый в 1626 году арестом СенСирана, закончился лишь в 1763 году уничтожением орденаиезуитов. Эта распря охватывает бесконечный ряд фактов,,
она включает в свой круг бой из-за благодати,, вызванный
теорией Молины, борьбу иезуитов и янсенистов, борьбу
Фенелона и Боссюэ, буллу Unigenitus, торжество и поражениевеликой религиозной милиции, так называемых иезуитов, этих
янычаров римской курии, чье падение ускорило падение монархического принципа.
Из этого обширного библиографического хаоса возвышаются, как вечные сверкающие цветы, И с т о р и я ПорР о я л я Расина, изумительная книга, великолепная проза, поизяществу и простоте напоминающая лучшие страницы Жан
Жака Руссо; П и с ь м а к п р о в и н ц и а л у , бессмертный
образец памфлетистов, шедевр шутливой логики, жестокий
спор под раблезианским знаменем. С другой стороны—произведения Боссюэ, Буура, Бурдалу и карающие громы
Ватикана.
Желание рассказать о Пор-Рояле после Расина, защищать его после Паскаля и Арно, критиковать после Боссюэи иезуитов, в такое время, когда вопрос уже не существует^
когда католицизм в загоне, когда пишет свои книги г-н Ламенне,—это одна из тех смешных аберраций, над которыми
критика должна учинить суровый и скорый суд. Г-н Сент-Бев
знает стольких писателей, сегодня отрекшихся от вчерашнего своего образования, что обращается с высшим духовенством, с учеными, с избранной публикой, для которой
может предназначаться подобная книга, как с газетными пачкунами. Вы увидите, как редки во Франции основательные
познания. Писатели-разрушители XVIII века были, по крайней мере, образованы! Вольтер выходил из себя, когда Фрерон упрекал его за плеоназм бродячие орды в М а г о м е т е , ,
и громил трех своих секретарей. В наше время Фрерон находил бы каждое утро горы глупостей, величиной с дом,.
в злободневных фельетонах. Знаете ли почему? Скажем мимоходом. За исключением Débats, ни в одной газете нет главного редактора. Главный редактор—это Дювике, Жоффруа,.
Шатлен, Гофман, Фелетц, Бертен-старший, Тиссо, человек
с обширным образованием, который не пропустит ни одного
невежественного слова, выправит все ошибки людей, одаренных воображениями. Но подобному человеку следует положить содержание по ставке председателя королевского суда
за одно только чтение газеты. Подите поговорите о таких
людях с акционерами!
Вернемся к вопросу о Пор-Рояле, как таковому. О нем
судили и римская курия и Людовик XIV. Он общеизвестен не
меньше, чем смерть г-на де Тюрена. Янсенисты хотели восстановить церковь большой суровостью в таинствах, а иезуиты
вместе с римской курией полагали, что всякое восстановление должно совершаться самой церковью. Благодать в толковании Молины была поводом для распри, так же как и
книга Янсения; ни та, ни другая стороны никогда не сражались на действительной почве. Наконец, янсенисты и
иезуиты уже почти мертвы. С католической точки зрения
Пор-Рояль вводил ересь; с монархической точки зрения ПорРояль был опаснейшим бунтом. Что же было делать историку в 1840 году? Вот действительное затруднение.
Через восемьдесят лет, вдали от страстей, сбивших с
дороги Паскаля, хотя и внушивших ему изумительное произведение, вдали от дыма, огня и увлекательности битвы,
сюжет стал великим, обширным, смелым. Г-н Сент-Бев мог,
в стиле Бейля, выступить как бы докладчиком обеих партий,
объяснить синтетически факты, не поддающиеся анализу,—
важнейшие факты; кратко изложить теории, отметить основные моменты этой длительной борьбы и показать современникам значение достигнутого результата для новой истории.
Но не таков был план автора.
Можно было создать другое произведение. Г-н Сент-Бев
мог подняться на вершину, где парил орел из Mo, откуда
он наблюдал прошлое вопроса, откуда созерцал опасности
в будущем; затем стать либо его продолжателем, либо антагонистом, охватить в свою очередь XVII и XVIII века и
устремить взор в будущее. Тут несомненно был материал
для прекрасного исторического труда, подобного труду
г-на Минье о французской революции. Нужно было стать1
•или докладчиком или судьей. ОІ ни чуть не бывало. Муза
г-на Сент-Бева из породы летучих мышей, а не орлов. Она
•боится созерцать такие просторы, она любит мрак и светотень. Отдадим ей должное,—она бежит света и ищет тени:
•свет режет ей глаза. Ее фраза, мягкая и вялая, бессильная и трусливая, касается сюжетов, скользит вдоль идей,
•она боится их; она кружит в темноте, как шакал; заходит на кладбища—исторические, философские и частные; уносит оттуда почитаемые трупы, не сделавшие автору ничего
дурного, чтобы так их тревожить: Луазонов, Вине, СенВикторов, Сенгленов, Дежарденов, Кернера и т. д. Порой кости застревают у него в глотке, как это случилось со святым Франциском Сальским в этой И с т о р и и
Л о р - Рояля.
Нет, он не захотел увидеть великую драму, первые четыре
акта которой были: эпоха Сен-Сирана, эпоха Фенелона, эпоха
отмены Нантского эдикта, эпоха буллы Unigenitus, а пятый
-акт—роковая грамота, где слепой и философски настроенный папа, восхваляемый слепыми философами, разрушил
орден иезуитов, из расчета и против своих убеждений. Да,
дело Боссюэ рухнуло при Ганганелли, папе-революционере,
умершем в ужасе от содеянного им! Какая драма, какие
актеры!
С одной стороны Ришелье, Людовик XIII, отец Жозеф,
Молина, Мазарини, Людовик XIV, Боссюэ, мадемуазель де
Лафайет, Буур и Бурдалу, мадам де Ментенон, архиепископ
Парижский, великий Риччи, Черутти, отец Лашез, архиепископ Реймсский и т. д.
'
С другой—Арно, Паскаль, Расин, Буало, Сен-Сиран, Ян•сений, Помбаль, д'Аранда, Шуазель, Людовик XV, Ганганелли,
Вольтер и т. д.
Какая задача для историка—объяснить причину подобного
недоразумения в моральном управлении Европы, судьба которой решалась в то время! Сейчас историю нужно писать
в духе Р а с с у ж д е н и й о п р и ч и н а х в е л и ч и я и у п а д •ка Р и м с к о й и м п е р и и Монтескье, а не в духе Роленов, Гибонов, Юмов, Ласепедов. В этом отношении г-н Минье
стоит выше г-на Тьера. Теперь детали неисчислимы. Есть
только два вида истории: либо пятьдесят томов in folio,
написанные терпеливым аналистом, бесстрастным докладчиком,
либо том in octavo, написанный мыслителем.
Людовик XIV, запомним это, стал, с помощью Мазарини,
продолжателем Ришелье, продолжавшего в свою очередь
дело Екатерины Медичи: три величайших гения абсолютизма
в нашей стране. Петр Великий хорошо понимал их; обнимая статую кардинала, он, может быть, перенес его дух
на Север! Варфоломеевская ночь, взятие Л а Рошели, отмена
Нантского эдикта связаны между собой. Акт Людовика XIV—
развязка этой огромной эпопеи, зажженной неосторожностью
Карла V; этот великий и отважный акт, несмотря на лицемерные вопли Сент-Бевов всех времен, стоит на высоте
этого исполинского царствования.
Принципы монархии так же абсолютны, как принципы республики. Между двумя этими образами правления я не вижу
для народов ничего жизнеспособного. Все неопределенно и
неполно, заурядно и спорно вне этих форм, тогда как они
совершенны без нескончаемых воззваний: народ или бог.
Власть может исходить лишь сверху или снизу. Желание
извлечь ее из середины—подобно желанию заставить людей
ползать на животе, вести их с помощью грубейшего из
интересов, с помощью индивидуализма. Христианство—это совершенная система противодействия развращенным стремлениям человека, а абсолютизм—совершенная система подавления разнородных интересов общества. Обе системы между
собой связаны. Без католицизма у закона нет меча, и доказательство тому мы видим в наши дни. Заявляю во всеуслышание: бога я предпочитаю народу; но, если я не могу
жить в абсолютной монархии, я предпочитаю республику
низким ублюдочным правительствам, без действия, без морали, без основ, без принципов,—правительствам, которые
развязывают все страсти, не используя ни одну из них, и за
отсутствием власти обрекают нацию на неподвижность. Я преклоняюсь перед королем божьей милостью, я восхищаюсь
избранником народа. Екатерина и Робеспьер творили одно
дело. И одна и другой не знали терпимости. Вот почему
я никогда не порицал и не буду порицать нетерпимость
1793 года, ибо не хочу, чтобы тупые философы и сикофанты
бранили нетерпимость религиозную и монархическую. Реформация во Франции испустила дух после государственного
переворота Людовика XIV, так и нужно было! Дело не в
том чтобы знать, правы или виноваты были Лютер, Кальвин,
Нокс, продолжатели вальденсов, альбигойцев, гусситов, в свою
очередь продолжавших тысячи ересей второго периода в
истории церкви; речь шла о светском правлении общества,
на чьи основы, принципы, сущность нападал дух исследования, перед которым ничто не в силах устоять и при
котором никакая всякая власть невозможна. Будь равен со
иной или я убью тебя, фраза 1793 года,-близнец фразы
Будь католиком или уходи, принадлежащей Филиппу И, Римской курии, Екатерине Медичи, кардиналу Ришелье и Людовику XIV, ибо не знаю, почему бы нам не называть, наконец, вещи своими именами!
Когда великому Риччи, главе иезуитов, предложили мировую, он ответил: Sint ut sunt, aut non sint 1 , и выбрал
смерть своего ордена. Эти слова, не прославленные ни энциклопедистами, ни революционерами, ни поэтами, никем ив
людей, стремившихся к бессильной свободе,-равны всему
самому героическому из сказанного в древности и в среднее века. Слова эти были произнесены в Риме старцем,
который завоевывал для церкви Китай, владел Парагваем
и принес ему счастье, царил на Юге, наблюдал, с помощью
своих исповедников, за всеми королями и держал в руках
обучение половины земного шара.
п,лв„¥ОЯ11
Произнося эту фразу, Риччи услышал, как затрещали
троны; но он понимал, что его орден ничто, если перестал
быть тем, чем являлся до тех пор: правительством талантов, отобранных из поколения в поколение. Это величественное отречение от прекраснейшей из всех рели лозных олигархий, созданных со времен Египта, эта ФР|за является
законом католической церкви, законом всякой монархии
законом республики. Вот что поняла победившая во Франции
партия Пор-Рояля и Реформации.
Бог, король, отец семейства-таково было общество Боссюэ, Людовика XIV, Карла Великого, Людовика Святого,
Наполеона.
.
^ . „ WOTI1 „,
Свобода, выборы, личность-таково общество Реформации.
1 Пусть существуют в таком
не существуют вовсе (по-латыни).
виде,
как сейчас,
или пустЪ
К несчастью, Франция сейчас во власти этой ужасной
формулы. Скажи, о Франция! разве не с помощью единства,
монархического и религиозного, совершили Людовик XIV
и Наполеон великие попытки установить французское владычество? И того и другого постигла одинаковая судьба: они
были покинуты, непоняты в тот самый момент, когда ждали
от нации последнего усилия. И тот и другой присоединили
к Франции два полуострова, простирая руку над Средиземным
морем. Политическая измена регента сломила замысел Людовика XIV, как в 1814 году измена лейтенантов погубила
замысел Наполеона. В настоящее время могущество России
покоится главным образом на объединении религиозного и
монархического принципа. Царь, человек, стоящий на высоте своей империи, достойный великой Екатерины и Петра
Великого,—одновременно папа и император.
Доктрины Пор-Рояля, под маской преувеличенного благочестия, под покровом аскетизма и набожности, были упорным противодействием принципам церкви и монархии. Господа
из Пор-Рояля, несмотря на свое религиозное облачение, были
предшественниками экономистов, энциклопедистов эпохи Людовика XV, нынешних доктринеров, всех, кто хотел отчетов,
гарантий, объяснений и скрывал революции под словами
терпимость и непротивление.
Терпимость, так же как и
свобода,—величайшая политическая глупость. Она порождает
расколы, мятежи и волнения в государстве, а нетерпимость
Кальвина, предавшего сожжению Серве, равняется нетерпимости церкви. Есть ли сейчас в мире что-нибудь более тягостное и деспотическое, чем нетерпимость лицемерных женевских маскарадов и лицемерной Англии? Пор-Рояль это был
бунт, начатый в сфере религиозных идей,—опаснейшая опорная точка искусных оппозиций. Нынешняя буржуазия с ее
подлой, трусливой формой правления, лишенная решимости
и мужества, скупая, ничтожная, неграмотная, предпочитающая,
для своей палаты, облака плафонам Энгра и представленная
известными вам людьми, таилась за спиной господ из ПорРояля. Это скрытое войско и скрытая мысль объясняют,,
почему такие люди, как Мольер, Буало, Расин, Паскаль,
Биньоны, тайно или явно примыкали к Пор-Роялю. Доказательством моего утверждения служит ужасный факт, о котором г-н • Сент-Бев не упоминает в своем вступительном
в*
слове, ставшем предисловием книги: все епископы, все духовные лица, все священники, отрицавшие католическую церковь, нарушавшие присягу, осквернявшие епископский престол—все они были янсенистами. Церковь и монархия не
пренебрегли своим долгом—они задушили Пор-Рояль. Людовик XIV тут, как и во многом другом, оказался выше Карла V.
Теперь это вопрос решенный. Зато г-н Сент-Бев говорит:
«Дювержье де Оранн, аббат де Сен-Сиран, был своего
рода
остроумным Сийесом, который развивал мощную деятельность, скрываясь в тени!»
В 1636 году этот Сен-Сиран гозорил: «Бог просветил
меня, церкви не существуют вот уже шестьсот лет (то есть
с тысячного года)!» Какой лицемер, какой Кромвель в религии! Право, можно ли винить Ришелье и иезуитов в том,
что они разгадали его? Умирая, он сказал, что отказывается
от епископского сана при правительстве, которому нужны
только рабы! Неужели последнее слово недостаточно ясно?
В церкви всякая религиозная оппозиция предшествует ереси,
как в государстве—всякая оппозиция предшествует мятежу:
в государстве она кончается пиками 1790 года или уличными
боями 1830 года, а в церкви—двумя веками войн. К несчастью, янсенистская партия, продолжательница Пор-Рояля, и
Пор-Рояль нашли людей огромного таланта; затем, наследниками их были ужасные бойцы XVIII века; но когда иезуиты,
предмет общей ненависти, пали,—троны зашатались. Вольтер
продолжал дело Паскаля, как Людовик XIV продолжал дело
Екатерины Медичи и Ришелье. Каждая партия была посвоему права.
•„
И вот, вместо того чтобы охватить такой правдивый,
/естественный сюжет, встать над тремя веками, знаете ли,
что сделал г-н Сент-Бев? Он увидел в долине Пор-Рояль
де Шан, в шести льё от Парижа, в Шеврёзе, маленькое кладбище, где он раскопал невинные реликвии, лжесвятых, глупцов из толпы, бедных девушек, бедных женщин, бедняков,
изрядно и заслуженно сгнивших. Его невзрачная муза, так
остроумно названная воскрешающей, открыла гробы, где
спало (и где любой историк оставил бы его спать) упрямое,
тщеславное, надменное, скучное, одураченное и продувное
семейство Арно! Он вдохновился бессмертными и великими,
господами Дюфором, Марионом, Леметром, Сенгленом, Басклем, Витаром, Серикуром,- Флорисом, Илереном, Базилем.
Ах! какое несчастье для г-на Сент-Бева—последний
мертвец был похоронен так глубоко, что пришлось еде-лать примечание: в точности неизвестно, кто был этот
Базиль!
Ребур, Гильбер, Лепелетье, Бурдуаз, Годон, Ферран,
Амон—вот великие люди, забытые в катакомбах истории, которым он выдает права на жизнь. Есть еще отцы Пасифик и
Бернар, отец Архангел, англичанин, чьи ошибки во французском языке, по словам г-на Сент-Бева, обладают изяществом
Перуджино. Да, вот до чего доходит опьянение автора: бормотание ирландца, отца Архангела, он сравнивает с живописью
Перуджино!
Вот как, возможно, возникло это мнение,—объясняя этот
странный случай, я постараюсь отдать отчет во всех нелепостях, бессмыслицах, противоречиях и глупостях, которые
встретятся нам при анализе этой книги, в своем роде примечательной: Перуджино первый, мне кажется, стал рисовать у
ног богородицы маленьких птичёк. Позднее Рафаэль расширил этот прием, изображая ребенка Христа играющим
с прелестнейшими созданиями природы. В одной из церквей
Венеции вы, должно быть, заметили, так же как и я, мадонну, у ног которой изображен ангел с птицами—подлинный шедевр! Ангел этот поразителен. "Говоря по-французски,
англичане издают такой щебет, что их рот можно принять
за птичий садок. Это сравнение возникло в мозгу автора,
он подумал о птицах Перуджино, думая о щебете англичан, но нарушил синтаксическую связь и подарил нам удивительную фразу об ошибках французского языка, обладающих изяществом Перуджино. Когда мы перейдем к другим
ошибкам автора, мы найдем, быть может с большим основанием, в г-не Сент-Беве сходство с безумным художником,
выдающим свою палитру за картину.
Наконец, г-н Сент-Бев узрел в своем сюжете случай откопать матерей: Анжелику I и т. д., сестер Мари Клер, Мари
Брике, Мари Дезанж, даму Морелъ, Мари Сюйро, Христину,
Эжени, Изабеллу, Агнессу и т . д.
А какой важный вопрос для него—узнать, любили ли
і^н Кокре и г-н Фроже г-на Лансело, автора Г р е ч е с к и *
к о р н е й . Г-н Лансело, о! г-н ЛанселоІ Вам никогда не угадать,
кто это! Я наберу таких тысячу.
«Лансело—это невинный Рене до всякого знакомства с
литературой {Рене в первом оттиске?). Вог разница между
поэтическим идеалом и обнаженной действительностью!»
Прости, старый гений, проложивший первые свои борозды
в блестящем, в великолепном XVIII веке! Прости безрассудную профанацию этой музе, что заставляет труп, с трудом
извлеченный из гроба, поцеловать в щеку твое живое творение!
Что касается Бурдуаза и занимаемого им места, то тут
.г-н Сент-Бев достигает высшей степени комизма.
«Из всех простых душ— говорит он—эта фигура наиболее
достойна быть отмеченной в истории религиозного возрождения начала XVII века».
Сей г-н Бурдуаз был охотником, пастухом, мелким писцом,
даже лакеем, недолго швейцаром в коллеже и т. д. Человек
проницательный догадался бы, что этот Фигаро, занимавшийся всем понемногу и позже названный универсальным
церковным старостой, был себе на уме в религиозных вопросах. В религиозных партиях, так же как в политических,
есть ловкачи, интриганы, глупцы и пройдохи. Я думаю, этот
Бурдуаз поладил бы с безвестным Базилем. Какого же героя
представили вы себе после фразы г-на Сент-Бева? Если
Боссюэ не произнес о нем похоронную речь, то только из
партийного пристрастия. Что скажете о религиозном возрождении в XVII веке? Чем же тогда занимались Екатерина
Медичи, Филипп II и Лойола?
Г-н Серикур похож на Вовенарга! Сестра Анна-Евгения,
жалкое существо из роя домашних пчел, при случае превращающихся «в львиц,—это та самая материя, где зародится поэтическая меланхолия страстей, где
расцветет
сестра Рене, где возгорится
высокое мятущееся пламя,
порой называемое пожаром,—та же материя, что сотворила
Лелшоу). Та, что сотворила Лелию и возгорается мятущимся
пламенем, каково?
Эта мозаика противоречивых идей, которой г-н Сент-Бев
обрамляет своих безвестных персонажей, сочиняется им также
для персонажей самых известных, и в результате вы не
узнаете и их. Арно он объясняет с помощью г-на де Монлозье.
Сен-Сиран ему, кажется отцом Ройе-Колларов и Сийесов.
В шутке этого нового Кальвина, остановленного в своих
действиях рукой Ришелье, он усматривает «случай Вертера».
Ожидали ли вы встретить Гёте в истории Сен-Сирана? Я был
поражен изумлением, когда в конце книги этот революционный аббат не оказался немного похожим на Карреля.
Тут я касаюсь самой забавной стороны этой истории,
«втор которой похож на человека, делающего сотни лье,
.прогуливаясь по трем паркетным клеткам. Если в этой книге
г-н Сент-Бев наталкивается на какую-нибудь большую машину, он хватается за колесо, за винт, проделывает чудеса
ловкости, притягивает множество разнообразных рассуждений—человек более страстный сказал бы «безобразных».
В своем бараньем вертуне он увлекает мелочи, крупные
события, средние и заставляет их вращаться вместе с собой;
в результате книга чудесно походит на чай мадам Жибу,
эту потешную выдумку Анри Монье.
Можете поверить моим словам, но я хочу доказать вам,
насколько справедливо и заслуженно это сравнение.
Автор все- время рассматривал Пор-Рояль в микроскоп
Распайля; он открыл в сердцах такие движения и намерения, которые, по его мнению, возводят самые безразличные
поступки и благочестивые безделицы на высоту величаиших
деяний политики и поэзии; и, исходя из этого, он рассказывает нам о пустяках с великим простодушием, которое
.люди более суровые назвали бы иначе. Наконец, он увеличивает число своих незнакомцев другими незнакомцами: Анжелику он объясняет с помощью Феликса Нефа, г-на Коллара
•с помощью Джона Ныотона,—сведения же о них можно
найти у книгоиздателя Рислера.
Первый том построен на сюжете, который я рекомендую
нам как шедевр этой литературы в духе Жакото.^
Отец матери Анжелики I, бывший адвокат, некий Арно,
•знающий толк в делах, мошенническим путем получает для
•своей дочери Жаклины аббатство Пор-Рояль. Он представляет
ее папскому престолу как семнадцатилетнюю, хотя ей только
•семь лет, под вымышленным именем Анжелики. «Рим,—тонко
замечает он,-подозревал, что дело нечисто, и слышать не
хотел о Жаклине Арно». Эта шалость, которая в наши дни
привела бы на скамью подсудимых и которая потребовала
новой буллы, когда Жаклина вошла в возраст и вступила
в свои права, называется у г-на Сент-Бева небольшим плутовством семейства Арну.
Анжелика I (нам грозят еще Анжелика II, III и т. д.)
мало беспокоится о своем аббатстве. Отданная в рабствоаббатиссе де Мобюиссон, этой знаменитой д'Эстре, которая
клялась своей утробой, выносившей четырнадцать
детей,
и предоставляла свое аббатство Генриху IV, для свиданий,
с Габриэлью, маленькая Арну долгое время парила между
соблазнами света и скукой аббатства Пор-Рояль. В рассказе
о глупостях этой девчонки фраза г-на Сент-Бева торжествует.
Он выпускает свои зреющие ветерки, умеренные
косогоры,
радушные склоны, суровую запальчивость, все свои ложные
тропы, где мысль присутствует в зачаточном состоянии, н
становится создателем литературных головастиков: какое другое название дашь этим эмбрионам образа, плавающим по
болоту слов? И подумать только, что этот автор в одномиз примечаний взбунтовался против Виктора Гюго, что он,
неспособный после своего бесплодного высиживания создать
ни одного образа, он смеет восставать против школы образов
во что бы то ни с тало I
Но вот наступает великий день, равный Дню одураченных,—день Калитки! В этот день Анжелика I закрывает
дверь перед носом у отца и запрещает ему являться отныне
в Пор-Рояль, который он превращал в загородный дом.
Представьте только—славный буржуа отправляется в карете
из Парижа в Шеврёз, сопровождаемый женой и дочерыо»
г-жой Леметр (брюзга, с которой не ужился муж), и видит
каменное лицо, видит дочь, ставшую непоколебимой, осененную благодатью, после двух ударов, понапрасну нанесенных каким-то капуцином и отцом Бернаром!
Вот где для г-на Сент-Бева отправная точка Пор-Рояля!
Описывая нам долину Шеврёз и излагая своими словами
биографию семейства Арно, написанную Тальманом де Рео»
он то и дело возвещает об этой великой и ужасной битве
у Калитки. Наконец, когда сражение дано, он посвящает
ему целую главу. Он мечет громы и молнии против Расина»
опустившего эту сцену в своей истории Пор-Рояля. Расиц
довольствуется замечанием, что мать Анжелика в тот го&
обнесла свое аббатство прочными стенами.
«Осмелюсь ли сказать?—восклицает г-н Сент-Бев—в этой
забывчивости, в этом промахе Расина я усматриваю литературную робость и проявление вкуса: возможно, сцена показалась ему слишком сильной!»
Тут книга выпала у меня из рук: Расин, трагический автор,,
испугался сильной сцены!
Обнаружив в великой машине Пор-Рояля эту гаечку»
г-н Сент-Бев берет ее, пускает в обработку и вытягивает
ее в железную нить, длиной в сто страниц его тома! В самом
деле, он ставит эту сцену рядом с величайшим творением
Корнеля, он сравнивает Анжелику I, придерживающую засоз іг
захлопывающую дверь перед отцом, тщетно ее умоляющим.
«Открой дверь, во имя любви к богу 1»—знаете, с чем?С Полиевктом!
Новая глава об этом! Такое невероятное утверждение
требует доказательств. Сент-Бев приступает к разбору По'лиевкта, разложив его на этой двери, изрезав его и перекроив,
подстать этой калитке. Г-н Сент-Бев пытается установить,
что старый Корнель, создавая через пятнадцать лет своюпрекрасную трагедию, думал об этом великом дне Калитки»
о споре между продувным адвокатом и Перретой, его дочерью, об этой сцене, которой пренебрег Расин, юный соперник Корнеля и друг Пор-Рояля, благочестивый и исполненный вкуса. Как показался вам Расин, не знающий о сцене»
которая является, по словам Сент-Бева,
государственным
переворотом
благодати,
без чего эта реформа,
отнынестоль славная и столь плодородная,
погибла бы в зародыше! О каком плодородии он говорит? Обильная бунтами, чреватая восстаниями?
Г-н Сент-Бев открыл, что Корнель встретил тринадцатилетнюю сестру Паскаля в Руане, где Паскаль-отец был интендантом. По мнению г-на Сенг-Бева, отблеск этой великой
сцены мог засиять даже в душе Пьера Корнеля. Если что
и заслуживает резких осуждений со стороны критики, то
именно нелепое намерение г-на Сент-Бева связать стихи Полиевкта о благодати с тем, что произошло в пресловутый
день Калитки! Но, господин Сент-Бев, у нас есть П и с ь м а к:
п р о в и н ц и а л у . Литературный мир знает, что эта трагетил
была внушена молинистскими учениями о благодати Корнелю—ученику иезуитов, Корнелю—верному до самой смерти
-своим учителям, по совету которых он перевел в стихах
. П о д р а ж а н и е И и с у с у Х р и с т у . После бесчисленных
рассуждений г-н Сент-Бев говорит (стр. 129), что не видит
никакой связи между Пор-Роялем и Корнелем; затем
^стр. 134) он приходит к следующему:
«Корнель связан с Пор-Роялем Полиевктом, развязка его,
•если я не преувеличиваю—говорит on—так же патетична,
.так же идеальна, как развязка дня Калитки».
Знаете ли развязку дня Калитки? Это смерть г-жи Арно;
Анжелика захлопнула дверь у нее перед носом, после такого
удара она стала монахиней и, умирая, воскликнула: «Господи, возьми меня к себеі» Слова, произнесенные сто тысяч
раз сотней тысяч умирающих в тысяче христианских монастырей.
Понятно вам такое упорство? Г-н Сент-Бев, не видя никаких способов соединить личность Корнеля с Пор-Роялем
(стр. 129), добивается этого (стр. 134), предположив сродство идей, которые, если вы уловили поводы распри между
иезуитами и Пор-Роялем, были прямо противоположны
друг другу. С помощью подобной системы можно утверждать,
что Ротшильд был продолжателем Агасфера, что Наполеон
-создал Реставрацию.
Ничто так не объяснит вам литературную близорукость
этой хилой, несовершенной натуры, как следующее замечание
Сент-Бева по поводу Корнеля и Ротру, присоединенных к
Пор-Роялю, ибо, когда был притащен П о л и е в к т , Ротру
последовал за ним со своей трагедией С в я т о й Г е н е с т ,
предшественницей К л а р ы Г а с у л ь , говорит автор, и отчасти М а р и о н Д е л о р м І
В той главе, где г-н Сент-Бев пытается создать несуществующие отношения между Корнелем и Пор-Роялем,—хотя
это совершенно бесполезно, так как сам он сказал, что не
видит никакой связи между Пор-Роялем и Корнелем,—он
роняет примечание внизу страницы:
«Есть указание на сношения Корнеля с Пор-Роялем, а
именно—слова Шевро в Ше в р е а н е : Последний раз, что мы
а Корнелем обедали в П.-Р., выйдя из-за стола, он спросил
мое мнение о прочитанных им стихах. Что это за П.-Р.,
где обедали Корнель и Шевро и где так громко разговаривали о стихах и трагедии? Это не что иное, как Пор-Рояль».
Пор-Рояль, где закрывали двери перед родителями, ПорРояль, где г-н Сент-Бев установил голод, Пор-Рояль, где
мать Анжелика ограничивала желудки своих монахинь (какой язык), голодающий Пор-Рояль, более изящно говорит
Расин, где не устраивали обедов I Поистине это напоминает
историю мнимой римской надписи:
Ces. ti. С.
ilec. he.
m. inde. sanes.
Никто не смог прочесть: Здесь дорога ослов! (C'est ici
le chemin des ânes.) Но каким же вы будете библиотекарем, господин Сент-Бев? КакІ вы не видите, что место,
где Шевро и Корнель так громко говорили о стихах и
трагедии, это Пале-Рояль? Увы! сударь, они обедали именно
в Пале-Рояле, называемом так с тех пор, как кардинал
Ришелье принес его в дар королю, а тот принял подарок;
во многих историях того времени он обозначается инициалами. Подобные ошибки непростительны, когда человек работает долгие годы да еще пользуется услугами трех литературных юношей.
В неистовом стремлении соединять несоединимое г-н СентБев позволяет себе на протяжении всей своей книги подобные
арлекинады. Так, чтобы доказать, что Янсений мог (вещь
невозможная) еще в 1621 году подготавливать в Бур-Фонтене известную вам великую религиозную оппозицию вместе
с основателями Пор-Рояля, он вооружается письмами, где
Янсений говорит: «Я уже оправился после головной боли
и каиіля, захваченного мной при нашем совместном путешествии». Если что и можно связать с Бур-Фонтеном,
восклицает г-н Сент-Бев, то именно это!
Представляете ли вы себе кашель, связавший Янсения
с янсенистской партией, с которой у него не было ничего
общего, кроме имени? Янсений—один из примеров того исторического явления, при котором человек после своей смерти
•становится главой партии, чьи действия и поступки ничуть
не согласны с его мыслью.
История дня Калитки, Корнель и Ротру занимают четверть первого тома И с т о р и и П о р - Р о я л я ; остальное
это ряд путешествий в стиле путешествия крысенка из басни,
принимавшего кротовые норки за горы; теперь вы имеете
о них представление после нелепого истолкования слов Шевро
или возведения дня Калитки на высоту Дня одураченных
и Полиевкта.
А
После дня Калитки Сент-Бев пытается, как истыи командир своих мертвецов, завербовать какого-нибудь святого.
Святые, как вам известно, не гниют. Какая победа, какое
завоевание—связать святого Франциска Сальского с 1 ЮрРоялем! Епископ Женевский имел какие-то отношения с семейством Арно, и вот г-н Сент-Бев немедленно погружается
в изучение епископа Женевского, поглотившее треть тома.
Если бы этот анализ не был какой-то olla podrida 1 , я о нем
не говорил бы; но, может быть, действительно, необходимо
избавить нашу строгую точную литературу от подобной системы и остановить опустошения, чинимые г-ном Сент-Ьевом
в нашей прекрасной французской логике.
П о л ь и В и р г и н и я Бернардена де Сен-Пьер, Э л ь в и р а Ламартина уже содержатся, по его словам, в произведениях святого Франциска Сальского. Все есть во всем.
Филотея, находившаяся при святом,—это сестра Селадона.
Г-н Ламартин—это святой Франциск Сальский; и vice versa ,
святой Франциск Сальский—это г-н де Ламартин. Г-н СентБев осмеливается сравнивать Т е о т и м у святого Франциска
Сальского с антикатолической поэмой Ж о с л е н ! С ж о с лен, справедливо запрещенной римской курией. «Но какое
отношение г-н Женевец,-он же г. Ламартин а также
г-н Ламартин, он же г-н Женевец, имеют к Бернардену
де Сен-Пьеру?»—спросите вы. О, сударыня! их связывает
Аннесийское озеро, находящееся в епархии прелата; они
сходны также своим сочным колоритом, мелодичной речью,
мягкой и нежной душой (Бернарден де Сен-Пьер, как и
Расин, был натурой язвительной). Их сближает общая любовь к ботанической природе.
*
Если святой Франциск Сальский сболтнет какую-нибудь
глупость... увы, графиня! у святых, которые. много пишут,
столько же. возможностей в этом жанре, что и у романистов—то именно ее к подчеркивает г-н Сент-Ьев. іак,
1 Винегрет (по-испански).
И наоборот (по-латыни)і
г-н Женевец говорит, что «вишневые деревья скоро приносят
плоды, ибо их плод—это недолговечная вииіня, но пальмы,
•лринцы деревьев, приносят финики лишь через сто лет
после того, как их посадили». Словно финики держатся
дольше, чем вишни, словно высушенная вишня не сохраняется так же долго, как финик. Святой, хотя и похож на
Бернардена де Сен-Пьера, но в естественной истории, как
видите, не силен! Зато г-н Сент-Бев по этому поводу восклицает: «Всегда—живой образ и эмблема!»
Наконец, святой Франциск Сальский, в котором автор заранее находит певца Эльвиры и стиль О ч е р к о в п р и р о д ы ,
сродни также эвфуизму Елизаветинского двора, маринизму
и гонгоризму. Да, сударыня, он замечен и изобличен
в этих трех преступлениях против вкуса на основании
следующей фразы: Мои вздохи превращаются в ветер. Ну,
что ж, несмотря на гонгоризм, эвфуизм, маринизм, г-н Женевец, который похож на Ламартина и пишет как Бернарден де Сен-Пьер, основал за тридцать лет до Ришелье предшественницу французской Академии в Аннеси, откуда вышел Вожела, и г-н Сент-Бев сожалеет, что Вожела, который не выходил из Коэфто, позабыл и презрел изящество
и свободу стиля святого Франциска Сальского, и что его
грамматические ножницы так безжалостно обкарнали благоуханное померанцевое дерево этой отеческой академии, подарившей нашему времени обоих де Местров. Вот так противоречия! Бьюсь об заклад с г-ном Сент-Бевом на три
последних тома И с т о р и и П о р - Р о я л я , что в отношении одного только святого Франциска Сальского он сочинил
в ста посвященных ему страницах до пятидесяти не менее
забавных противоречий.
Камю, добрый епископ дю Беллэ, писавший религиозные романы, по словам г-на Сент-Бева, был несколько игривым Елисеем этого лучезарного Ильи. У святого был свой
Анжели, свой Трибуле, ибо несчастный религиозный романист был, по г-ну Сент-Беву, предшественником г-на Роклора
и маркиза де Бьевр.
Не знаю, чтб все эти известные святые и безвестные
епископы сделали жестокому г-ну Сент-Беву; но на глупости,
канувшие в море забвения, у него такой же волшебный
нюх, как у старых женщин на чужие секреты. Дабы хорошо
растолковать г-на Женевца, он прибегает к Паскалю и на»
лагает руку на промах Паскаля, ибо есть не один промах
в знаменитых М ы с л я х этого великого писателя. Вот
мысль:
«Человек, обладающий какой-нибудь добродетелью вовсей полноте, не вызывает моего восхищения, если вместе
с тем не обладает, в той же степени, противоположной добродетелью, как, например, Эпаминонд, обладавший крайней
степенью мужества в соединении с крайней степенью кротости; в противном случае это означает не подъем, а падение. Величие проявляется не в пристрастии к одной край»
ности, а в умении касаться двух крайностей одновременнои заполнять весь промежуток между ними».
Г-н Сент-Бев называет главу из четырех страниц Святой
Франциск Сальский в полном изложении—Промежуток
Паскаля. Он ищет этот промежуток у Франциска Сальского»
В этом-то промежутке и находятся, несомненно, маринизм,,
эвфуизм, гонгоризм, Ламартин, Бернарден де Сен-Пьер, Ака»
демия и т. д.
Я не знаю ничего более ложного, чем мысль Паскаля..
Имя меня не пугает. Паскаль считал себя хорошим католиком. Значит, для него этот вопрос должен быть либо
религиозным, либо социальным. Есть одна только добродетель, которую римская церковь, с помощью триединой мысли,
разделила на трое: вера, надежда, любовь. Это для религиозного вопроса. Что же до социального вопроса, то, если
рассуждать чисто философски, противоположность доброде»
тели есть порок. Не существует добродетели, имеющей противоположную себе добродетель. Крайнее мужество не является противоположностью кротости. Хотел бы я знать,,
что противоположно справедливости, раскаянию, целомудрию? Мужество Эпаминонда чисто человеческая условность,,
меняющаяся в зависимости от климата, так же как и кротость. Паскаль принял за добродетели моральные качества»,
получившие от общества ярлыки согласно его потребностям.
Нет, бог не требует от человека такого равновесия на
натянутом канате с противоположными добродетелями в каждой руке. Математическая равнозначность Паскаля сделала
бы из человека бессмыслицу. Если бы королевский бюджет
был столь лее щедр, сколь экономен, он бы весь год оста-
вался при своих деньгах, между удовольствием давать и<
удовольствием получать. Паскаль забыл, что по вопросам
морали в обществе нет ничего абсолютного, тогда как в
церкви все абсолютно. Следовательно, если Паскаль рассуждает как католик, он впадает в ересь, если же он переходит на рациональную человеческую почву,—мысль его
ложна. Его восхитительный человек просто воплотил бы то,,
что мы думаем о боге: существо, равное самому себе,
всемогущее во всех точках вселенной. Это настольковерно, что на обороте страницы г-н Сен-Бев заверяет
Нас, будто святой Франциск Сальский был на земле совершенством.
Один из самых тонких шаржей Аири Монье даст вам
полное представление об этой книге. В И м п р о в и з и р о в а н н о м с е м е й с т в е очаровательный шутник создал знаменитый
персонаж Прюдома, ученика Брара и Сент-Омера; он обращается к какому-то глупому буржуа и заставляет его до кровавого пота выслушивать историю об актере Дозенвиле, которую,,
сам того не замечая, перебивает рассказом о каком-то деле
сыновей пэра Франции и продавцов кроличьих шкурок. Наконец, истомленный слушатель говорит ему: «Хотите поговорить о Дозенвиле? Ладно, поговорим о Дозенвиле». Прюдом, согласившись говорить о Дозенвиле, снова заводит речь
о пэре Франции и продавцах кроличьих шкурок. Каждый
читатель, если только найдется хоть один, захочет сказать
г-ну Сент-Беву: «Хотите поговорить о святом Франциске
Сальском, о г-не Ройэ-Коллар, о г-не Вильмене, о Жорж
Санд, о Бернардене де Сен-Пьере? ладно; о Пор-Рояле поговорим потом». Но нет, автор под предлогом Пор-Рояля продолжает смешивать эпохи, соединяя дух одной эпохи с духом
другой, брать немножко от той, немножко от этой; он пользуется своей книгой, чтобы оставить карточки у всех друзей; наконец, он превращает книгу в английский сад, и читатель засыпает в лабиринте, отчаявшись найти дорогу к
дому. Удивляюсь, как это г-н Сент-Бев, найдя столько уморительных аналогий между мертвыми и живыми, не встретил в прошлом литературы никого, хоть сколько-нибудь похожего на г-на Сент-Бева или на Амори; никого, кто,
подобно этому герою С л а д о с т р а с т и я , бросался бы
на девушек вымирающей расы, кто из противоречия еде-
л ал бы систему, а из ясной французской поэзии—китайскую
головоломку.
Есть в книге место, где автор, наконец, разъясняет,
какой зуд побудил его основательно изучить Сен-Сираиа.
Оказывается, то было делание узнать и пересказать многие
хорошие вещи. Я вызываю самого упрямого голландца найти
какой-нибудь толк, какую-нибудь последовательность повествования в И с т о р и и П о р - Р о я л я , если только автор не хотел написать дворянские грамоты господам Дювержье де
Оран—могущественным доктринерам. Тогда я пожалел бы,
•что он пренебрег изучением судьбы семейства Арно. В наше
время существует некий Арно-Робер, наследник великой и
•славной фамилии смутьянов. Он книготорговец; сочтя себя
бедным, он обогатился, продавая библию и старинные картины, ничуть не потемневшие, написанные им самим. В одном
нужно отдать г-ну Сент-Беву справедливость: своего СенСирана он знает досконально. Он сообщает, что лукавый
отец Буур указал в нескольких книгах аббата Сен-Сирана
совершенные образцы галиматьи. Если у кого станет, как
•у меня, терпения прочесть эту книгу, которой моя смелая
критика делает слишком много чести,—он увидит, что
г-н Сент-Бев сущий Сен-Сиран, и даже слишком Сен-Сиран;
по в эпоху, когда химия занимается окисями и двуокисями,
г-н Сент-Бев решил, что необходимо отличиться тройной
галиматьей.
Займемся стилем. Но тут достаточно одного слова—
стиль г-на Сент-Бева нестерпим. Хотя в этой работе меньше
языковых ошибок, чем в С л а д о с т р а с т и и , где они так
ц кишат, однако и здесь язык насилуется непрестанно. Есть
даже такие грубые ошибки (стр. 258): «Чем больше он
-удалялся от святого и тем более предавался своим наслаждениям».
Г-н Сент-Бев в одной из критических статей, порицавшей какого-то автора за неправильное употребление местоимения en, сам пользуется этим местоимением вкривь и
вкось. Пример иного рода (стр. 161): «Меж двух дверей
всегда видится Мефистофель».
Мефистофель видится меж двух дверей,—не означает,
діто его видят, а именно это хотел написать г-н Сент-Бев.
(Мои поздравления трем молодым людям, помогавшим г-ну
Сент-Беву править корректурные листы.)
Г-н. Сент-Бев одержим антиграмматической манией. Он
упорно склоняет все причастия настоящего времени. Для
него глаголы превращаются в прилагательные, существительные переходят в состояние глаголов, прилагательные
превращаются в причастие и vice versâ. Есть настолько
смешные выражения, как знаменитые умеренные
косогоры.
Есть—конец зимы, плодотворной и зреющей. Зреющая зимаі
Плодотворная зима в смысле приносящая плоды! Плодотворный употребляется только в переносном смысле: труд
плодотворен, но осень приносит плоды. Потом сердца, над которыми произведен обряд обрезания, излюбленные кумиры.
Он продолжает терзать слова и сталкивать самые противоречивые идеи: укрыться в брызгах благочестия, укрыться
в чем-то таком, что брызжет 1 Скачки, являющиеся общим
ходом литературы.
В том, что г-н Сент-Бев развлекается, терзая таким образом язык, нет особого зла. До сих пор его последователи
так же многочисленны, как публика во Французской Комедии,
о которой некий шутник, сказал: «Только и .было, что одна
застуженная нога». Но когда, вертясь вокруг самого себя
и касаясь всего, он изрекает такие фразы: «Раблэ мутен
по материалу и содержанию, ибо по стилю он очень чист
и ясен», то можно пожалеть о щвежестве критика, столь же
смешном, как в случае с Шевреаной. Откуда он, явился? Держал ли когда-нибудь в руках Раблэ? Ведь Раблэ в своей
беспримерной книге выразил ясные, беспощадные суждения
о самых возвышенных явлениях человечества, с помощью
нарочито грубого, мужицкого стиля, полного образов, обвиненных в непристойности людьми, которые не знают ни
нравов, ни языка того времени. Г-н Сент-Бев говорит нечто
Прямо противоположное. У здравомыслящего человека руки
опускаются перед такими утверждениями со стороны профессора, слывущего критиком и обязанного своим преходящим авторитетом только невежеству своих читателей.
Г-н Сент-Бев, которого герцогиня д'Абрантес называла
из-за его постоянных бессмыслиц г-ном Сент-Бевю 1 ,—я по1
Bévue—ошибка, промах.
вторяю эту анаграмму, ибо в ней содержится точная литературная оценка,—допускает еще и такие варваризмы: «прояснивание»; «ненасыщающийся»—все это входит в его систему
вооруженного нападения на язык.
Во время чтения меня поддерживали смехотворные наивности, от которых убежденные люди никогда не могут уберечься. Он рассказывает, что во время созревания
благочестивых чувств юная Анна, читая письмо о девственности,
увидела Иисуса Христа, " надевающего
ей на палец свое
кольцо. Мистическая метафора явилась во плоти и стала
реальностью. Она побежала к отцу Архангелу и открыла
ему свое стремление уйти в монастырь: Добрый
человек
(он был англичанин, а англичане народ хитрый) усмотрел
здесь недовольство, вызванное вынужденным браком. Нужно
было, заявляет автор, еще кое-что смирить в ней. Затем
он. восклицает: «.Что. стало бы с подобной натурой через
двадцать лет!» Не знаю, примет ли Жорж Санд это за
комплимент, но т ш Сент-Бев утверждает, что именно так
создаются Лелии! В том же роде еще и Анжелика I, которая говорит, что никогда г-н Женевец, несмотря на его
кротость, - не казался ей мягким, каким многие считали
его. Это объясняет содержание следующей главы: успех
святого Франциска Сальского у женщин! Такие подспорья,
встречавшиеся по временам, помогли мне пересечь эту
ужасную пустыню. Можно прсмеяться, отложить том и, кроме
того, найти те удивительные сравнения, о которых я уже
говорил. Например, мать Анжелика, восклицающая еще до
Мирабо: «Говорите же...» и т. д. Мирабо тоже имел свою мать
Анжелику.
Если отнять у г-на Сент-Бева его дерзкие и неприличные
сравнения, если лишить его манеры извращать слова и их
смысл, что является применением к речи его системы обращения с событиями,—он буквально перестанет существовать;
он не будет-в состоянии ничего сказать, ничего сделать.
Он мог бы применить к самому себе суждение Перрона (по
его мнению, Фонтана того времени) об историке Маттье:
вся история у него содержится в пунктире1.
1 Слово pointillé имеет два значения: пунктир и спор из-за
пустяков, ,
;.
.н G
- Стихи г-на Сент-Бева всегда казались Мне' переведенными
с иностранного языка человеком, который знает этот язык
поверхностно. Он утверждает, " будто понимает свои стихи,
но только из авторского самолюбия. К концу своей жизни
Ньютон и Лаплас сознавались, что сами себя не понимают/
Только геометр мог в этом сознаться. Поэты дадут четвертовать себя, прежде чем пойдут на такие признания.'
Г-на Сент-Бева, всего целиком, объясняет слабость ума,
которая влечет его ко всяческим мнениям, ко всяческим
фактам и сейчас же приводит к прямо противоположным
фактам и мнениям. Этот мечтатель дает нам конец одного
размышления и начало следующего, опуская и то, что предшествует одному, и то, Что следует за другим. Чтобы написать книгу, он бросается в поля истории. Он идет за своей
идеей, как несмышлейое дитя, следующее за матерью по
лугу: срывает цветочек, василек, мак; он хотел собрать
букет, а возвращается нагруженный вязанкой сена. Он хочет
получить плоды от привезенного из Америки зерна, кото-«
рое простодушно посадил на берегах Сены. Мы видели,
как от республики он шел к роялистам, чистосердечно переходил из лагеря в лагерь, изучал глубочайших мистиков и
восторгался протестантами. Вы оставили его в увлечении
Сен-Симоном, а позже увидите, как он прёклоняется перед
тупыми женевскими методистами и ставит некоего г-на Мон-і
нерона выше своих вчерашних богов. Каждый год с простодушием ребенка он сшивает в своем сердце две различ*
ные доктрины, не замечая, что одежда его походит на наряд
арлекина, а сам он сражается деревянной саблей с французским языком. Мы обязаны появлением этого автора грубому
невежеству некоего швейцарца, издавшего сборник, где Его
Простосердечие г-н Сент-Бев спокойно предается : своим
упражнениям.'
«
В конце книги г-н Сент-Бев почел долгом отметить перед
литературной Европой любезность трех своих друзей, помогавших ему править корректуру и писать эту . великую исто-»
рию, а именно: господ Лабита, Шабайля и Луандра. ІЯ навел
справки и могу вас заверить, что поименованные три госпо*
дина с честью выдержали это жестокое испытание. Труд
родился нежизнеспособным, но отец и акушеры чувствуют
себя отлично, л л ;
:
в?
Поскольку я начал свое письмо с книг, ошибочно наделенных званием серьезных, ибо вы видите, что они от
того не стали менее забавны,, я закончу книгой г-на Луи
Рейбо, которая просто и откровенно скучна; о ней можно
сказать, как Ривароль о,литературных трактатах д'Аламбера:
«Не все могут быть сухи». Г-н Луи Рейбо опубликовал свою
книгу о современных реформаторах с единственным намереньем попасть в число серьезных людей, которым торопятся
предоставить место; притязанъя его скромны—несомненно он
только хочет стать членом Академии моральных и политических наук, являющейся местом высылки для такого рода
умов. Попав туда, серьезные люди сидят спокойно. Они
лишь остерегаются принимать туда глубоких мыслителей,
волнующих свой век. Гг. де Ламене и Пьер Леру туда не
входят. Если бы Фурье и Сен-Симон были живы, их там
не было бы. Г-н Луи Рейбо там будет.
V .Сочинение г-на Рейбо не книга, это спекуляция, и как
таковую ее и нужно судить. Впрочем, не знаю ничего тягостнее рождения книги г-на Рейбо. Сочинение это началось
с эмбриона, озаглавленного С о в р е м е н н ы е
реформат о р ы и появившегося в альманахе П а р и ж в X I X в е к е ,
предпринятом из конкуренции или из подражания К н и г е
С т а о д н о г о . Статья эта породила младенцев в сборнике.
Затем « появилась на свет книга—третье воплощение мысли
гтка Рейбо. У провансальцев живой, изобретательный ум,
и ; .они. им пользуются превосходно. Г-н Рейбо родом из
Марселя, он весьма остроумно водит, воспроизводит и изводит, на глазах у публики свои идеи о реформаторах, чтобы
внушить ;ей мысль, будто у него и впрямь есть идеи,—совершенно так Же, < как директора театров гоняют и перегоняют из кулисы в. кулису, дюжину статистов для изображения армии. Никто не скажет ни г-ну Рейбо,. ни публике,
ято идей в его книге не больше, чем настоящих воинов
в Олимпийском цирке. Но так как автор является одним
из аристархов, укрывшихся под знаменитым шлемом Конс т и т у ц и о н а л и с т а , то пресса к его услугам. Каждый
редактор знает, чего хочет г-н Рейбо, и так как г-н Рейбо
іѵгожет / заплатить им тем же или уже обязал их, то все
газеты. говорят о книге,, всячески остерегаясь прочесть ее.
Через некоторое время ловкий марселец бѵдет признан за-
щитником обществённого порядка, нравственным и глубоким
человеком, храбрым бойцом с новшествами: у него будет
орден, его изберут в Академию, которая захочет избавиться
от принятия какого-нибудь сильного философа вроде Балланша или Баршу де Пеноэна, слывущих врагами существую^
щего порядка вещей. «Вот как делаются дела во Франции и
по какой скрытой дороге пробираются посредственности, совершенным типом которых несомненно является г-н Луи
Рейбо. Дозволенное и весьма скромное честолюбие автора
оказало сильное влияние на книгу. Часть работы состоит
•из биографий Сен-Симона, Шарля Фурье, Оуэна; они не
только ниже этих людей, но и ниже текущей литературы,"
•приобретаемой издателями универсальных биографий. Это
сухо, холодно, бесплодно. Автор не дал нам ни физического,
ни нравственного портрета этих известных или знаменитых
людей. Когда серьезный человек тратит семь лет на изучение
современных реформаторов, то мы имеем право требовать
у него полного, терпеливого и всестороннего анализа произведений, принадлежащих таким людям, как Сен-Симон^
Шарль Фурье, Роберт Оуэн. Г-н Рейбо не плясал вокруг
них, как г-н Сент-Бев на своих старых мертвецах; но так
как он должен предстать перед своими будущими собратьями
в обличии нравственного человека, то ему пришлось осудить
тріг свои жертвы, предложить их на сожжение Академии моральных и политических наук, так же как время от временй
он приносит ей в жертву какого-нибудь писателя—Жорж
Санд или другого нечестивца. Как бы то ни было, - автору
никогда не забудут двенадцать лет редактирования Кор*
c a p а, сточной ямы литературы, откуда выходит самая грязная клевета—газеты, которую нынешний кабинет имеет слабость поддерживать и где г-н Рейбо имеет смелость работать до сих пор. Редактор этого подлого листка, рассуждающий о Фурье; сочинитель пуффов и безделок, ставший серьез:ным человеком*—это поистине забавно! •
Сен-симонисты померкли под ярким светом суда присяжных: г. Рейбо мфг принести в жертву лишь мертвецов. Но
разве не представлялся тут случай выяснить болезнь Франции*
о которой догадались сен-симонисты? Умный человек воспользовался бы их разгромом, их временной неспособностью
к действиям, чтобы просветить нынешнее правительство,
раздув искры истины, которыми зажгли они огонь этого
морального мятежа. Сен симонисты хотели восстановить орден
иезуитов, который был. теократией и великолепным распределителем ерархических степеней. Зло нашего времени в не?
подчинении умов, в отсутствии ерархии. Современный пэр
Франции—ничто. Двадцатилетний юноша, выйдя из коллежа,
^де бросал в преподавателя бумажными катышками, обстреливает остротами министра, нападает на великого поэта,
великого писателя, государственного деятеля с криком: «Убирайся отсюда, я здесь встану I» Отсутствие выхода для честолюбия, узаконенного талантом, оправдывает все желания. Все
Молодые люди пытаются пробить себе дорогу общими силами.
Her больше во Франции ни достоинства, ни достойных уважения должностей. Никакое положение не защитит человека. Печать и мораль в 1830 году идут дальше Робеспьера: вместо
того чтобы уравнивать, они унижают. Увыі нравственные люди,
сикофанты, вы на собственной шкуре испытаете, что мораль
не религия, а факт не право. Что же до сен-симонистов,
г. Рейбо сшил старые пошлости, взятые из вызванных ими
спбров;'.тут его книга не дала ничего нового, великого, ни
Одного значительного соображения. О его ничтожестве вы
можете судить по следующей фразе.
«Сен-Симон,—говорит он,—нашел самую прекрасную свою
формулу на самом высоком уровне развития своих идей. Из
поговорки Любите друг друга он извлекает следующий принцип: Религия должна направлять общество к великой цели
скорейшего улучшения судьбы класса, самого многочисленного
и самого бедного». Можно ли представить себе писателя
невежественным настолько, чтобы назвать поговоркой великие
слова Любите друг друга, сказанные любимым апостолом
Иисуса Христа? «Вот,—говорит он,—в трех строчках новое
христианство». Что сказать о подобной критике? Да ведь ваш
долг был бичевать Сен-Симонаі Три эти строчки—просто
изложение старого, современного и вечного христианства. Католическая религия ничего другого не делает. Если бы- у СенСимона только и была эта прекрасная формула, он не стал бы
отцом сен-симонистов. Книга г-на Рейбо принадлежит к школе
Прюдома, созданного Анри Монье. На каждом' шагу ветре-
чаются рассуждения, равноценные этому: Изгоните, человека
рз общества—вы
изолируете
его.
Сен-Симона и Фурье интересовало значение труда, они
хотели организовать его. Основной порок их системы в том,
что они отдавали промышленности незаслуженное предпочтение. Зато ловкие сен-симонисты, предвидевшие торжество
промышленников, были сильны в промышленности, и все
они, избрав специальные поприща, сделали прекрасную
карьеру. Сен-Симон, хотевший, казалось, основать религию
и укрепить христианство, основывал на деле новое правительство, где промышленники заменяли дворян, тогда как
Фурье, не питавший религиозных намерений, был, может быть,
гораздо более религиозен и к тому же не касался религии.
Фурье, судя по тому немногому, что я о нем знаю и что
прочел в книге г-на Рейбо, неоспоримо выше Оуэна, которым
я заниматься не буду, и Сен-Симона.
Фурье будет посвящено особое письмо, когда у меня найдется досуг. Г-н Рейбо должен был лучше изучить Фурье,
но он увидел рекламный материал для своей книги и главным образом преувеличивал смешные, на первый взгляд,
черты, которыми этот гениальный человек, полный простодушия, уснащал свои произведения, подобно тому как зажигают факелы для ловли рыбы. Бедный и уверенный в себе,
он хотел, чтобы его читали. Все же так называемый критик
современных реформаторов отвел ему больше трети своей
книги. Вот странные противоречия, замеченные мной у
серьезного человека, который семь лет пережевывал книгу,
и выплюнул ее тремя отхаркиваниями.
Г-н Рейбо положительно признает—вот его собственные
слова,—1что формула Фурье неоспоримо выше формулы СенСимона и Оуэна, в том смысле, что она не происходит
ни от непомерной власти, ни от безграничной
свободы;
наконец, знаменитой формуле единения труда, капитала
и таланта будет принадлежать слава первого
обобщающего
слова для организации будущего.
,
В другом месте он говорит: Использовать все страстиf
обеспечить их свободное и полное развитие так, чтобы,
рее они служили обществу и ни одна не вредила ему,
сочетать способности и силы,—такова опорная точка обще*
ственного открытия, основа здания Фурье.
Решительно, прочтя три подобные фразы, читатель сочтет
Фурье человеком гениальным. «Дать обобщающее слово для
организации будущего».
'
•
.
.
Читаем дальше—и вдруг, оказывается, автор обвиняет
Фурье в том, что он сформулировал кодекс скотов.
Прежде всего, будущий экс-академик, скоты именно
потому и скоты, что они не имеют, не хотят и никогда
не захотят никакого кодекса. Но как согласовать нравственное произведение, заключающее секрет будущей организации, с кодексом скотов? Подобные противоречия заставляют
меня тотчас же закрыть книгу моралиста, серьезного человека, когда я вижу, что семь лет он работал для создания
сент-бевиады.
Е С Л И бы у Фурье не было ничего, кроме его теории
страстей, то .и тогда он заслуживал бы лучшего анализа.
В этом направлении он продолжает учение Иисуса. Иисус даЛ
миру душу. Реабилитировать' страсти, являющиеся движениями души,—значит стать подручным мудреца. Иисус открыл теорию, Фурье дал ей применение. Фурье рассматривал—и, разумеется, ' справедливо-страсти, как движущие
пружины, управляющие человеком, а следовательно, и общет
ством. Эти страсти, будучи божественны по своей сущности,—
ибо нельзя предположить, что следствие не стоит в связи
с причиной, а страсти, несомненно, являются Движениями
души,—не могут быть дурными сами по cè6e. Тут Фурье»
как и все великие новаторы, как Иисус, резко выступает
против прошлого всего мира. По его мнению, только социальная среда, в которой проявляются страсти, делает их
пагубными. Он задумал исполинское дело-приспособить
среду к страстям, разрушить препятствия, устранить борь*
6у Однако направить полет страстей, впрячь их в общественную колесницу—не'значит дать волю животным аппетитам. Не значит ли это творить дело разума, а не материальное дело? В этом общий смысл учения Фурье, как
божественность
бессмертной души есть общии смысл христианства. Конечно, подобный изобретатель, новатор, столь
необычайный, требовал больше внимания, чем нашлось у его
критика. Для того чтобы объяснить, разбить или изучить
теорию Фурье, нѵжен был один из работящих добросбэестных умов, подобных Гофману, редактору D é b a t s , чья
смерть явилась для газеты непоправимой утратой. Луи Рейбо»
редактор, во всем достойный К о н с т и т у ц и о н а л и с т а , пожелал, следуя народному выражению, сберечь и академическую
капусту и фаланстеровскую козу,—отсюда все его противоречия. Поэтому и промолчал он о существенном пункте учения
Фурье—о минимуме, обещанном им членам своего общества»
минимуме, довольно похожем на буржуазное право некоторых
швейцарских коммун, которое уничтожает нищету, обеспечивая
довольство каждому, но не препятствует накоплению крупных
состояний. Если бы Фурье отдал свои идеи под покровительство католической церкви и выразил их словами, меніее
оскорбительными для глупцов, правящих миром,—трудно сказать, что бы с ним стало. Здесь я не выступаю ни за, ни
против Него, я займусь его изучением и тогда выскажу свои
взгляды; но что касается так называемых Э т ю д о в г-на Рейбо, я советую вам И не ' открывать эту жалкую книгу»
однообразную, как степь, но степь, лишенную трав и цветов; ваши глаза пробегут по четыремстам страницам и не
встретят ни одного образа, ни Одной мысли. Серьезные ЛюДй
:
Обладают убогим стилем.
'
j
Интересно отметить, что Фурье родом из Безанеона;
этот город, кроме него, дал нам гг. Виктора Гюго й
Шарля Нодьё: великого поэта, великого прозаика и великого философа. Турень дала Поля Луи Курье и г-на де Виньи.
Г-н Ламартин из Макона. Г-н Тьер и Минье из Экса»
г-н Леон Гозлан из Марселя, так же как Бартелемй.
Г-н Шатобриан й Ламене происходят из Бретани, Жорж
Санд из Берри, Жакар из Лиона, Давид из Анжера, Дюпюйтрен из окрестностей Лиможа, Кювье из Франш-Конте,
Граиье де Касаньяк из Тулузы, г-н Гизо из Нима: не странно
ли, что все наши таланты родились по ту сторону Луары;
что Север Франции дал так мало гениев, ибо г-н Сент-Бев»
человек неполноценный, родом из Булони. Это поразило менй
при мысли, что Лангедок послал нам г-на Теофиля Гогьё
и молодого человека, выпустившего первую свою книгу,—
г-на Эдуарда Урдиака. Я займусь им в следующем письме,
ибо знаю некоторые его отрывки, полные комизма и отличающиеся известной силой диалога. Г-жа Эмиль де Жирарден
•первая заговорила о нем по поводу пьес, от которых детишки помирали со смеху. Гг. Теэфиль Готье, Гранье
де Кдсаньяк. и . .Урлиак принадлежат к той плеяде молодых
талантов, что первые искренне приветствовали г-на Виктора
Гюго . как великого поэта; такое мужество в выражении
восторга мне кажется признаком высшей натуры. Книга называется И. с п о в е д ь H а,з а р и л ь о—заглавие, подстрекнувшее
мое любопытство. Не правда ли, это заманчиво, как испанская книга или роман Лесажа?
Вот вам отложенный мною отзыв о театре, не люблю
заставлять вас ждать исполнения ваших просьб. Я не был
в Опере и ничего не могу о ней сказать. Однако нельзя
не, заметить у г-на Ремюзй глубокой ненависти к профессии
его отца, управлявшего театрами императорского двора. Он
закрыл столько театров, что современной драме ступить
некуда» Его отец испросил у Наполеона средства, необходимые для поддержки в Одеоне высокой драматической литературы,, дал ей пособие, равное .тому, что получал старый
репертуар. Существуют четыре театра для водевиля, три
театра для мелодрамы и ни одного—для драмы и комедийных
Опытов современной литературы. В таких случаях Наполеон
умел приказывать. Он сумел бы поместить итальянцев в зале
Вентадур и предложить тысячу франков премии за лучшую
пьесу, написанную для Одеона! Существует декрет, установивший на каждое десятилетие премии для литературы и
театра; подите спросите о его выполнении! вас примут как
короля в коммунистической секции. Но заниматься литературой и театром было бы недостаточно серьезно для человека/столь легкомысленного до своего вхождения в министерство. Как-то на приеме, когда г-н Леон Гозлан излагал одну
из тысячи жалоб литературы этому министру, его остановили
одними из ; тех отлагательных
способов, которые препятствуют всему хорошему:, «Мы ничего не можем сделать, у нас
связаны руки»! «К несчастью для вас, сударь,—ответил остроумный писатель—вы всегда стоите между злом, сотворенным
вашими предшественниками, и добром, что сотворят, ваши
преемники». Хотя г-н Ремюза человек неоспоримо остроумный, он не нашелся,; что ответить. Но остроумие еще не
мысль. Ришелье не обладал остроумием в точном смысле
слова, но у-, него были великие мысли. Г-н де Ремюза просто
остроумный юноша, который провалится и никогда не отыграется! Директором управления изящных искусств состоит у него
Г-н Каве, которого поддерживает г-н Тьер, хотя тот и связан
тайно с гг. Дюшателем и Монталцве, Г-н Ремюза хотел бы
уволить, Каве. Но. бывший журналист, увидев грозившую
опасность, защитился одним словом: «Я пишу Мемуары»,—
сказал .он. Он был замешан во многих делах, знал немало
скрытых пружин, и его оставили в покое.
- .
P. S. Когда я уже кончал письмо, ко мне в кабинет
с криком ворвался один из моих друзей, имеющий слабость
любить современный двор::
— Ну, что теперь скажете? Вот что король французов
произнес в. Булони: «Вы знаете, дорогие товарищи, что
все славные имена Франции мне одинаково дороги, что никогда ни одно, тягостное воспоминание, никакое личное пристрастие не омрачало блеск почестей, которыми я стремлюсь
окружить их...» Слышите? «Дорогие товарищи, все. славные
имена Франции мне одшіаково дороги, все, все, все!»—
кричал мой друг—Литературе окажут покровительство,
театры расцветут!
.
— Это напоминает. мне,—сказал я, остановив, его,—
анекдот о Наполеоне, показывающий, каким чувством императорского достоинства обладал этот человек. При Монтеро,—
в если не. при Монтеро, то во всяком случае в один из самых
критических моментов бессмертной: кампании 1814 года, коегорая вся обстояла из одного сражения,—итак, в этот момент
император вынужден был действовать сам, чтобы выбраться
из места, где его могли захватить. Он ,оглядел всех, кто его
окружал, он увидел обломки старой гвардии и остатки блестящей почетной гвардии под командованием господина де Матана, от которого я и слышал этот рассказ. Эта гвардия была
последней каплей крови Франции,—ее последние сыны семейств, ее последние лошади. К несчастью, этого было
недостаточно! Если бы в то время было больше преданности,
огромные усилия при Баутцене и Лютцене не пропали бы
даром из-за отсутствия кавалерии. В почетной гвардии были
только порядочные люди. Он увидел еще подле себя свою
свиту/ по счастью, невредимую. Одним : орлиным взглядом
измерив опасность, он почувствовал необходимость ободрить
эти три группы людей:: «Солдаты— крикнул он гренадерам,—/
спасем Францию! Друзья!—крикнул он свите,—исполним наш
долг!» Он повернулся к почетным гвардейцам и сказал:
«Господа, следуйте за мной!» Поистине, для того, чтобы
найти такие оттенки среди картечи и огня, нужно быть одновременно гениальным человеком и Людовиком XIV.
Не могу не порекомендовать вам одну книгу—полу роман,,
полупутешествие, написанную в виде памфлета на Египет,—
современные обстоятельства придают ей особый привкус*
Называется она С о б ы т и я и п р о и с ш е с т в и я в Е г и п т е , г-на Сципиона Марена. Книга, хотя и плохо написана»
изобилует фактами. Факты эти очень важны, если толькоправдивы; но они напоминают рассказы очевидцев, переданные человеком, который сам ничего не видел. Вот какие
вопросы задаешь себе после прочтения этой деловой за*
писки, направленной против египетского паши.
Не является ли Магомет-Али простым манекеном, чьи
руки и голову приводят или приводили в движение сильные
люди вроде Дровегги, Анастази, Серизи, Сева и т. д.?
.Не грубый ли это торговец табаком, ставший : работорговцем и погонщиком скота, постыдно скупой, словно король, и не имеющий представления об управлении? Потерпела ли цивилизация в Египте неудачу, вместо того
чтобы развиваться? Убывает ли там- население, погибая, под
игом деспотизма, рубящего деревья .у основания? Лрегопч
сгвует ли . местный климат промышленности?
Одурачена ли Франция старым мошенником-фаталистом,
который пользуется властью пожизненно и не обладает необходимым талантом, : чтобы собрать воедино совершенно
разнородные территории?
Вызвал ли паша голод в житнице римлян? Является ли
его флот, его так называемое управление, его армия—грибами, обреченными на высыхание из-за отсутствия регулярных и верных налогов?
Способны ли поддержать навигацию египетские суда, построенные из сырого дерева?
'. •
•
Действительно ли Магомет-Али самый жестокии торговец человеческим телом из всех до сих пор существовавших,
старик, впавший в детство. и играющий, в солдатики и во
.флот?
' .
Не является ли египетское дело для Франции такой же
шутовской мистификацией, какой являлся для подлинных политиков эллинский вопрос?
Мешает ли паша торговле Лиона и Мюлузы?
_ Не превратил ли французский либерализм грубого
и низкого тирана в Боливара промышленности и в мусульманского Вашингтона?
Не совершили ли мы в 1830 году непоправимую политическую ошибку, не став, как некогда, верным союзником
Дивана?
Или же, наоборот, Магомет-Али великий человек, один
из тех азиатских властителей, что оставили после себя блестящий след, создав целое поколение калифов либо принцев?
Превосходен ли его флот? Прав ли старый французский
либерализм, поддерживая его? Действительно ли он, как
пишут газеты г-на Тьера, героический старец? Понимает ли
он свое назначение? Выполнит ли этот верный союзник свой
долг и позволит ли Франция главенствовать в восточном вопросе? Так ли хорошо он укрыт в своих пустынях, чтобы
•бросать' вызов России и Англии и поддерживать диктатуру
г-на Тьера?
Вот двойной ряд вопросов, возникающих после чтения
книги г-на Сципиона Марена. Не могу не отметить соотношения между этой книгой и первыми воспоминаниями о Маконе,
выпущенными недавно г-ном Ламартином. Жаль, что книга,
которая могла быть полезна, приняла форму романа. Сочиняйте либо роман, либо политическую книгу. Пишите памфлет
или публикуйте документы со всей заслуженной ими серьезностью, ибо критика не может не отнестись презрительно
к произведениям двусмысленным. Вот почему я и упоминаю
об этой .книге лишь ввиду ее очевидного первенства по времени перед ужасным актом против г-на Тьера, опубликованным
в П р е с с е , все заявления которого здесь подтверждаются.
Впрочем, у автора С о б ы т и й в Е г и п т е есть заслуга,—он дал случай показать, какое значение имеют люди
для правительства, которое не умеет их выбирать.
Сулейман владел третью мира, когда Карл V, владевший половиной мира, предложил ему захватить вдвоем остальное и разделить земной шар. Англия была тогда почти
ничем. Франция казалась погибшей,—армии Карла V вступили в Шампань. Франциск I послал графа де Форе в Кон-
стантинополь, и план Карла V рухнул. С этого дня начался
союз, расторгнутый теперь новым Тюильрийским кабинетом,
позволившим России захватить над Диваном влияние, которого Франция никогда не потеряла бы, если бы всегда посылала в Константинополь самых блестящих, самых искусны*
дипломатов: гг. Русен и Понтуа—вот последние наши послы.
1840 г.
«Письма о литературе, театре
и искусстве». Письмо второе.
Oeuvres, XXIII, 634—669.
ПРАВДИВОЕ И ПОЭТИЧЕСКОЕ. ЛИТЕРАТУРА И ДУХОВНЫЙ
ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА
Разбор новеллы Дидро Э т о н е с к а з к а . — Ее великое вначение для
истории человеческого сердца. — П р а в д а жизни и правда и с к у с с т в а . —
Х у д о ж е с т в е н н ы е возможности житейских фактов. — У с л о в и я отбора жизненного материала в и с к у с с т в е . — Н о в е л л а Д ' У р л и а к а К О л и и в . — Ф а л ь ш ь
благополучных б у р ж у а з н ы х р а з в я з о к . — Разбор новелл А . де М ю с с е . —
Г л а в н ы е их недостатки. — У з о с т ь таланта Мюссе.—Общечеловеческое содержание х у д о ж е с т в е н н ы х шедевров. — Мысль — душа и с к у с с т в а . — Г л у б о к и й
смысл художественной фантастики. — Т а й н а прелести народных с к а з о к . —
Литературный у с п е х к а к выражение запросов времени.
ПИСЬМА О ЛИТЕРАТУРЕ,
ТЕАТРЕ
И
ИСКУССТВЕ
В последнем письме я предсказал вам вероятный успех
И с п о в е д и Н а з а р и л ь о г-на Э. Урлиака; книга, действительно, имела успех, хотя ему препятствовали и сезон,
и процесс Лафарж, и слухи о войне, и восточный вопрос.
Г-н Урлиак соединил в двух томах in octavo следующие пять
новелл: С ю з а н н а , К о л и н э , И с п о в е д ь Н а з а р и л ь о , .
П с и л л е , Э п и к у р е е ц , — я же думал, что все это один
роман. Впрочем, автор воспользовался правом, давно дарованным литературе. Одна новелла может обессмертить человека. В е р т е р , М а н о н Л е с к о , Р е н е , Л а в и н и я занимали не больше места. Следовательно, вопрос не в этом.:
Альфред де Мюссе, о котором я еще поговорю с вами,
тоже выпустил шесть новелл под названием Д в е в о з л ю б л е н н ы е , Ф р е д е р и к и Б е р н е р е т т а . Издаются ли эти
новеллы впервые или же печатались в журналах, это значения
не имеет; последнее обстоятельство является отягчающим
в отношении ошибок композиции, вот и все.
Сюзанна—знаменитая певица; за исключением того, что
она поет в театре, она совершенно похожа на мадемуа-і
зель Делашо из Э т о н е с к а з к а Дидро. Калька тем более
бросается в глаза, что любовник, принесший Сюзанне несчастье, некий г-н де Рейни, имеет что-то общее с Гардейлем. У Дидро—медемуазель Делашо чисто и свято любима
своим врачом; в книге г-на Урлиака у Сюзанны есть приемный отец, бедный музыкант по имени Петере, который
любит ее отцовской и материнской любовью. Итак, в Сюз а н н е мало выдумки. Я пойду дальше; части этой новеллы,
самой значительной в сборнике, в которых г-н Урлиак хотел отойти от своего образца, грешат несколькими литературными бессмыслицами.
:
Дидро, который мог бы стать великим рассказчиком,
обладает стилем, лишь когда рассказывает, но, к несчастью
для своей славы, он мало разрабатывал эту прекрасную
сторону своего таланта, .и повести его обязаны своим появлением лишь потребностям мадам де Пюизьё, его любовницы. В жалкой копии Стерна, в Ж а к е Ф а т а л и с т е , он
оставил нам два алмаза: историю мадам де ла .Помрэ и
историю друга Бигра. Н е п о с т о я н с т в о о б щ е с т в е н н ы х с у ж д е н и й , Э т о н е с к а з к а и Д в а д р у г а образуют весь его литературный багаж в этом жанре. П л е м я н н и к Р а м о был опубликован только в 1817 году. В Э т о
не с к а з к а писатель,—характер которого очарователен своей
естественностью, так мало проявлявшейся в его творчестве,—
был прост, правдив, совершенен.
Несомненно, рассказывая о бесчувственности прекрасной
Риме к Танье и о бесчувственности Гардейля к мадемуазель
Делашо, Дидро написал один из великих отрывков истории
человеческого сердца. Очевидно, он стоял за прекрасную
Риме и Гардейля, хотя и жалел мадемуазель Делашо и Танье.
Любовь есть любовь, она неблагодарна и жестока, она уходит, так же как пришла, неизвестно почему. Это самое ценное
из наших чувств лишь потому, что оно непроизвольно.
Женщина не мать—чудовищна, природа предписывает материнство; привязанность к стране—чувство вынужденное,
религиозное чувство дано от природы, страсть к игре не
обязательна; но хотя мы и рождаемся с чувством любви,
мы не властны распоряжаться ею. Назначение женщины и
единственная ее слава в том, чтобы заставлять биться сердца
мужчин; но мужчина никогда не может отвечать за постоян-
ство этого явления. Женщина больше хозяин своей любви,
чем мужчина. Природа и общество в вечном противоречии
по этому поводу. Затем-то, чтобы заглушить противоречие,
все общества и были построены на порабощении женщины.
Как только благодаря любви женщина возвращается к природе, она испытывает все горести своей первоначальной судьбы. Прекрасная Риме пользуется всеми правами, какие дает
ей общество. У Гардейля—естественное право. Если бы дело
обстояло иначе, страсть не была бы прекраснейшей из поэм:
женщины любят поэзию. М а н о н Л е с к о , В л ю б л е н н а я
к у р т и з а н к а , Э т о не с к а з к а , А д о л ь ф , В е р т е р , Клар и с с а , Ф е д р а и Р е н е дают нам ключ почти ко всем
положениям человеческого сердца, захваченного любовью.
Гардейль у Дидро поступает именно так, как должна
была поступать эта южная натура. Если он разлюбил—то
разлюбил: он мог бы смотреть на смерть мадемуазель Делашо без слезинки, как Людовик XV смотрел на похороны
Помпадур.
Г-н Урлиак, чтобы привести к развязке совершенно похожую историю, придумал невозможное возвращение Ла
Рейни к его жертве. Гардейль, перестав любить мадемуазель
Делашо, попрежнему остается человеком, внушающим уважение. Пусть кто-нибудь третий начнет докучать ему с мадемуазель Делашо,- он схватится за шпагу. Но Ла Рейни трус,
он боится дуэли с дворянином, влюбленным в Сюзанну, которого велел выгнать из ее дома. Он труслив с ней там, где
Гардейль откровенен; любовница должна быть очаровательна,
здорова, привлекательна во всех отношениях;, мадемуазель
Делашо стала ему противна, он так и говорит ей: это
жестоко, но зато честно. Ла Рейни мучает Сюзанну, когда
она молода, красива, прелестна, когда весь Париж ею восхищается и рукоплещет ей в театре. Возможно ли это?
Исследуем дальше эту -поучительную- параллель.
Дидро, как большой художник, не показал прошлую
жизнь Гардейля и мадемуазель Делашо. В его живом сжатом
рассказе вы не увидите у Гардейля, как у Ла Рейни г-на Урлиака, заранее принятого решения овладеть мадемуазель Делашо. Его возлюбленные оба равно несчастны и равно
любят друг друга. Их любовь погибла, быть может, только
из-за постоянного сожительства, из-за незаконного брака. Но
если бы они- поженились, то были бы несчастнейшими людьми
в мире. Разлука—наименьшее из несчастий, их ожидавших.
Не думайте, что это случайная удача гения, ведь мы всегда
интересуемся историей, если она хорошо рассказана. Каждый
сюжет имеет свою особую форму. Дидро в Э т о н е с к а з к а
излучает правду каждой фразой.
• , я не утверждаю, что в наши дни, так же как и во все
времена, нет молодых людей, подобных Ла Рейни, которые,
увидев на подмостках красивую танцовщицу или певицу, замышляют сделать ее своей любовницей, упорствуют в . своих
планах, заметив, что ее окружает роскошь куртизанки, что
успех доставляет ей мешки золота, и разыгрывают беспредельную любовь, чтобы достигнуть цели; но когда у
жертвы ничего не остается, когда она стара и безобразна,
они покидают ее, они откровенно эгоистичны и не собираются
жениться на ней, как это делает Ла Рейни, in extremis1, на
чердаке, среди лохмотьев, ветоши и отрепьев нищеты. Пусть
ужасное зрелище результатов его бессердечия взволновало
этого несчастного, пусть он становится священником,—это
случайность; такой отдельно взятый факт не создает еще
характера. Ла Рейни г-на Урлиака у себя на родине любил
из честолюбия знатную девушку, прежде чем приехал в
Париж, чтобы убить очаровательную Сюзанну. К чему эта
бесполезная деталь? Разве две эти женщины должны встретиться, действовать, беседовать о развязке драмы, породить
антагонизм? Нет. Ничто их между собой не связывает. Вели.чайшая из возможных ошибок—это введение в начале книги
какого-нибудь персонажа, который ни к чему не нужен и
больше не показывается. Если убрать мадемуазель де Сеилак,
в романе ничего не изменится. Такая бессвязность, такое
неправдоподобие действия, часто допускаемое природои,
гибельно для жизни романа.
/
Я не устану повторять, что /правда природы не может
быть и никогда не будет правдой искусства; а если искусство
и природа точно совпадают в каком-нибудь произведении,
это значит, что природа, неожиданностям которой нет числа,
подчинилась условиям искусства^ Гений художника и состоит
в умении выбрать естественные обстоятельства и превратить
;
\ Перед самой смертью (по-латыни).
10
Б а л ь з а к об искусстве
их в элементы литературной жизни; если же он не может
хорошо спаять их, если из его металлов не выходит монолитная статуя прекрасного стиля,—увыі произведение не удалось.
Обращение Ла Рейни к (религии, после жизни, полной позора
и трусости, согласно с южной натурой. Но чтобы объяснить
[нам этот поступок, потребовалась бы целая книга. Граф
де Коменж приходит на свидание к любовнице, видит ее
мертвой в гробу и становится трапистом; не нужна ли целая
книга, чтобы претворить этот случай в правдоподобную развязку! Природа не нуждается в книге, факт объясняется
самим своим существованием. Чтобы перевести его из житейского действия к правдоподобному книжному действию, писатель должен показать нам все его корни. Трапист отдавал
отчет только богу, авторы обязаны отчитываться перед всеми.
Когда мы читаем книгу, чувство правдивого кричит нам:
невероятно! при каждой неверной детали. Если это чувство
кричит слишком часто и кричит всем, то книга не имеет
и не будет иметь никакой ценности. (Секрет всемирного,
вечного успеха в правдивостц.
Благороден или неблагороден человек,—действия его
всегда будут противоречить действиям Ла Рейни. Благородный
человек решит поступить, как изгнанный любовник, как
г-н д'Обершан, он будет обожать Сюзанну. Неблагородный
остережется убивать, мучить, увозить из театра, разорять
очаровательную талантливую женщину, которая имеет успех
и доставляет ему все суетные наслаждения, счастливую жизнь
и своего рода гостиницу, где можно поджидать случайные
удачи парижской жизни и осуществлять честолюбивые мечты.
Негодяй, вроде Ла Рейни, является ужасным исключением.
Я, кажется, говорил уже об этом, но иногда неплохо и повторить—герои романа никогда не должны быть исключениями.
В двух второстепенных характерах—в Петерсе и дворянине
д'Обершан—также нет ничего нового: давно уже туляют
они по площадям литературы. В Петерсе есть кое-что от
Ральфа из И н д и а н ы , а также нечто немецкое, простодушное,
напоминающее персонажи Альфонса Kappa: в обоих этих
образах нет ничего оригинального.
Но, оставив в стороне замечания, которые я должен был
вам представить, С ю з а н н а несомненно читается с удовольствием. Этот томик- выше многих расхваленных книг;
в страсти Сюзанны к Ла Рейни есть очаровательные детали.
Г-н Урлиак понимает всю тонкость женской натуры. Несомненно, даже столь разборчивая особа, как вы, с удовольствием
прочтет книгу, где можно встретить такие сцены: разорившаяся Сюзанна, оставшись без крова и без хлеба, добывает
деньги, чтобы принести Ла Рейни цветы в фарфоровых
горшках, а он разбивает их; или же Ла Рейни в одной из
вспышек энергии, столь частых у южан, является без приглашения на ужин к певице, оскорбляет гостей, компрометирует
Сюзанну, до сих пор столь целомудренную, чистую и прекрасную, и в конце концов за этот проблеск силы, .симулировавший любовь, получает награду, которой не добилась истинная
любовь д'Обершана. В двух этих сценах проявился подлинный талант. Их нет у Дидро. Но я хочу объяснить вам, на
что направлена моя критика. Все же ясно, что в мадемуазель
Делашо заложено уже чувство, толкнувшее Сюзанну пожертвовать последним куском хлеба, чтобы подарить цветы
неблагодарному. Когда для мадемуазель Делашо все кончено,
она объясняет своему доктору, что больше не может
любить, и остается одна, спокойная, безмолвно скрывая
свою боль. Сюзанна приходит, уходит, мечется, валяется
на лестнице. Мадемуазель Делашо благородно бросилась
из окна. Одна из них немного гризетка, тогда как в героине
Дидро есть гордость, благородство, порода. Чтобы быть
справедливым, нужно также признать, что единственная сторона, которой Ла Рейни отличается от Гардейля, разработана
неплохо. Многие превосходные женщины, из-за случайностей
любви попавшие в руки этих ничтожеств, которые завидуют
всем, даже своим любовницам, недовольны сами собой и наказывают их за обманутые расчеты, в которых сами виноваты, узнают точный, но печальный портрет этих палачей„
доставляющих им мучения, чтобы придать себе видимость
превосходства.
Наконец, в этой книге есть подлинный интерес. Не все
читатели равны вам по силе и обладают вашей памятью, а
книга занятна, интересна, она понравится. Издателю не на :
что будет жаловаться. Но автор должен обдумать эти замечания и не обманываться успехом, тем более, что С ю з а н н а ;
свидетельствует о ценных литературных качествах. За сю«
жетом следует исполнение. Но его исполнение чудесно. Если.
не считать нескольких путаниц в нити идей, фраза у него
ясная, живая, точная. Г-н Урлиак может стать писателем;
но он еще не взялся за ту работу, которой требует Французский язык; секрет ее таится особенно в прекрасной прозе
Шарля Нодье. Г-н Урлиак нагромождает имперфект® на имперфекты в течение трех-четырех страниц, а это утомляет
и Т а з , и слух, и мысль; когда имперфектов становится
слишком много, он пользуется глаголом в перфекте^ Он
не умеет еще варьировать форму фразы, он не знает какой
терпеливой отделки требуют побочные фразы и способ их
группировки. Между силой, шагающей,-по пр^шеру Бскооэ
или Корнеля,-опираясь единственно только на мощь глагола
и существительного, и пространным цветистым стилем^придающим значение прилагательному, лежит подводныйІ камень
однообразия глагольных времен. Об этом подводном камне
г . „ урлиак даже не подозревал. Тем не менее есть у. него
"рудимГты особого стиля, без длиннот, но д о с т ^ ч ц о яснога
Кроме моих замечаний о фразе, как таковой я^заметил
немного іошибок в С ю з а н н е . Ошибки есть в мелодии, но
И с ^ п о Г д Т Н а з а р и л ь о - э т о подражшие
«
Псиле-подражание Гамильтону, Э п и к у р е е ц пох^к на
страш^из
К а н д и д а , но обратившую
^ J « ^ ™
Бллктепа- С ю з а н н а калькирована с Э т о н е с к а з к а
Двдро^ итак, г-ну Урлиаку из пяти н о в ^
п р и н = т
»
К о л и н э . Поэтому, на мой взгляд, К о л и н э - о с н о в !ешь в этом издании. К о л и н э написан в том же
етиле что и С ю з а н н а , и так как здесь нет подражания
Г в сюжеге, ни в форме, то именно по этому, маленькому
рассказу и нужно судить о г-не Урлиаке.
u
Колинэ—молодой провинциальным актер^ т о ^ г г о > т теа
^гтльном жаргоне зовется комедиантом; но этот комедиант
станет ^елиюм^артистом, знаменитым f тором. В провиншіатшном городе он вынужден терпеть фамильярность мест-
Не
«
5
S
Ъ
ь
-
s a s
^ - s
^
я
T
s
^
т
а
:
Ä ' = r < = =
t â s u -
g
Ï
M
:
- Я ;
S S
со строгими нравами. Эту прекрасную любовь, восхитительную
и у одной и у другой стороны, подлые насмешники из
городка сделали предметом издевательства. Актера вводят в
семейство Сорель, которое в ужасе от актеров, представляют
как молодого человека из общества, а затем открывают его
профессию, и отец выставляет его за дверь. Клеманс, молодая особа, любимая Колинэ, не понимает, почему г-н Сорель
выгнал его; насмешники приводят ее в театр, где Колинэ
играет шутовскую роль, выступая в амплуа красных
хвостов;
при виде Клеманс силы) и мужество ему изменили, его освистывают, забрасывают зелеными яблоками, и он покидает
городок. :
У семьи Сорель горе. Г-н Сорель потерял место. Через
несколько лет Пельтье, вожак насмешников, мучавших Колинэ,
г-н Сорель и Клеманс оказываются в Париже. Пельтье сообщает г-ну Сорелю, что только один человек может вернуть
ему доброе имя и должность. Этот человек—величайший
актер Парижа, а некогда играл в их городке. Сорель отправляется к нему, узнает Колинэ и считает себя погибшим.
Колинэ выступает перед возлюбленной во всем блеске,
устраивает Г-ну Сорелю место в театральной администрации
и женится на своей попрежнему любимой Клеманс,—развязка
мало вероятная. "
Было бы гораздо лучше показать блестящую жизнь великого артиста, его знаменитых друзей, необычайные привязанности, изобразить, как этот вымышленный Тальма мило*
стиво оказывает всемогущее покровительство пораженной,
уничтоженной Клеманс. Буржуазная развязка хороша, для
партера, который смотрит К и к а в Варьете, но не соответствует ни действительности, ни психологии. Нужно было,
по крайней мере, показать, что Колинэ пресыщен успехом,
а тут ни одно слою не заставит поверить этому. Надеемся,
автор дополнит когда-нибудь этот рассказик, который стоит
того, чтобы над ним еще потрудились.
Сюжет распадается на две части. Первая часть злоклкн
чения Колинэ в провинции." Вторая—блестящий реванш
в
Париже. В пределах, избранных г-ном Урлиаком^
первая часть исполнена с талантом; но вторая гораздо ниже
первой и связана с ней только приведенной выше развязкой.
Чтобы уравнять обе части, нужно было развить в свойствен-
ном им порядке несчастья Пельтье и семьи Сорельив»ГІариже
в той же мере, что и несчастья Колинэ в первой части, но так
чтобы Колинэ перевешивал, Сорель и Пельтье могли стать
жертвой какой-нибудь легкой мистификации, в отместку за
их жестокие насмешки..Великий артист проявил бы тонкость,
изящество, грацию там, где провинциалы были так ж е ^ к и ,
подлы и гнусно тупы. Я спрашиваю не точной симметрии,
какой требутот музыкальные идеи, а своего рода аналогии,
которой требует логика этого сочинения. Замок Шенонсо,
разумеется^хорош, но на левом берегу нехватает прекрасн^
строений, подобных тем, что украшают правый берег Щера
К о л и н э незакончен, как это знаменитое здание, и страдает
от несоответствия между двумя частями произведения. Читатель тем более поражен этим, что первая часть отличается
живостью, блеском, правдивостью, хорошо написана и хорошо
рассказана, без длиннот, с той стремительностью, что кажется одним из достоинств г-на Урлиака.
Без таланта невозможно взволновать читателя, когда
избираешь такую совершенно вольтеровскую манеру повествования; нельзя читать спокойно рассказ о злоключениях
Колинэ. Во второй части силы заметно изменили автору.
Если бы г-н Урлиак посоветовался с кем-нибудь из друзей
и развил вторую часть, переработал ее, добавил несколько
страниц для завершения фигуры Пельтье, этого глупого
буржуазного затейника из провинциальных молодых людей,
и тем самым дал почувствовать, насколько Колинэ выше,
затем несколько шире обрисовал бы жизнь семьи Сорель,
то, несомненно, К о л и н э , достигший, таким образом размеров новеллы С ю з а н н а , принес бы г-ну Урлиаку славу,
которой он ждет и, разумеется, добьется. Для добросовестного критика Колинэ-наиболее примечательное произведение в этих двух томах; в нем заключены серьезные обещания. К тому же во всем этом я увидел работу и волю.
Расіш начал с подражания Корнелю, а такого рода работы
превосходны: они учат искусству; но издавать эти сочинения
нужно только тогда, когда они интересны; ™ Урлиак не
ошибся. Быть может, в другом месте он встретит слишком
дружественную снисходительность, даже восхваления; но не
сказать ему здесь правду было бы предательством.
Мне кажется, у г-на Урлиака больше призвания к диалогу
и театральным произведениям, чем к книгам, требующим
долгих бдений единственно ради стиля: у него есть те внезапные вспышки ума, та южная стремительность, что так ценны
для драматических сочинений; его талант заключает в сеое
•ясность целей и живость наблюдения, отличающие комических авторов. Я не хочу сказать, что он не Д ™ ж € "
ни новелл, ни романов. Разве не написал Лесаж Ж и л ь
Б л а з а и Т ю р к а ре? Но я считал своим долгом указать
ему путь, где его ждет несомненный успех. В К о л и н э заложена прекрасная, сильная комедия, но его, пожалуй, переделают в какой-нибудь жалкий водевиль, тогда как, если бы
судьба Французского театра была бы в руках достойных
управлять им, г-на Урлиака, быть может, пригласили бы
уже работать над комедией. Если бы этому молодому человеку/проявившему драматический талант, оказали помощь и
поддержку, он, конечно, дал бы нам одну из тех великих
комедий, которые так нужны Французскому театру и которые
иопрежнему заказываются людям, наименее способным созлзть их
я нахожу доказательства своего предсказания в сходстве,
существующем между стилем г-на Урлиака и стилем г-на
Альфреда де Мюссе, который подарил уже нам два тома
диалогов, где, по мнению людей осведомленных, проявился
драматический талант; недавно он выпустил шесть новелл,
о которых я уже говорил вам. Все это доказывает, что г-н
.Урлиак по стилю и духу принадлежит к школе идеи
Г-н Альфред де Мюссе, который в И с п о в е д и с ы н а
в е к а сохранил некоторые поэтические приемы, не овладев
сюжетом этого романа, позволил себе отвлечься для восхваления вальса на четырех страницах и так забавно заблудился в лугах,-на этот раз показал себя законченным прозаиком, и прозаиком изящным. Его новеллы хорошо задуманы, хорошо исполнены, рассказаны в ясном стиле, в точных
очертаниях, которыми пользовался и г-н Урлиак; н о в с е ж е
их никак нельзя сравнивать. Хотя г-н Альфред де Мюссе и
молод-он старый боец. Он выступал уже в семи или^ восьми
томах in octavo как со стихами, так с прозой и диалогом,
показав много сюжетов, много приемов и замыслов
Д в е в о з л ю б л е н н ы е , Э м м е л и н а и особенно Ф р е д е р и к и Б е р н е р е т т а - н а и б о л е е замечательная из новелл
г-на Альфреда де Мюссе, как К о л и н э из новелл г-на Урлиака,—принадлежат к тому чисто французскому жанру, что.
был охарактеризован в этюде о Бейле. Г-н Альфред де
Мюссе—поэт, который сумел занять свое место среди гг. Ламартина, Виктора Гюго, Беранже, де Виньи и Казимира
Делавинь. Его муза—это благородная муза, веселая, нежная»
шутливая и порой эпическая. У нее прекрасные идеи и прекрасные образы; она гордо и остроумно ведет диалог; она.
любезна со всеми странами; она поет немецкую балладу;,
она сочиняет [испанскую драму и рассказывает сказки; она
обувает полусапожки или котурны; вооружается кастаньетами и пляшет болеро,-распевает песенки—настоящие шедевры»,
которые подхватывает весь мир; она то насмехается над.
Байроном, то подражает ему; она может и умеет быть меланхоличной; она то знатная дама, то куртизанка; она нравится»
а главное, у нее нет никаких оскорбительных намерений»,
хотя она и не забывает о самой себе и говорит, что влюблена в славу. Я не встречал никою, кому, не нравилась бы
литература г-на де Мюссе; что до меня, то мне она нравится бесконечно. Вот вам Д в е в о з л ю б л е н н ы е .
Некий юноша из среднего класса любит двух похожих
между собой женщин—маркизу и мещанку. Маркиза—символ,
и осуществление всех стремлений Валентина к ,роскоши и изяществу, ибо ои, как все бедные молодые люди, мечтает о богатстве. Мещанка—нежный, кроткий образ, г-жа Пьерсон изИ с п о в е д и с ы н а в е к а , симпатичная женщина (как говорят итальянцы simpatica). Г-н де Мюссе взял слово, употребляемое современными итальянцами для обозначениятысячи вещей, но оно в ходу только на севере Италии.
В Риме и Неаполе его не поймут. Валентин очень счастлив/
с двумя этими женщинами. После нескольких столкновений
этой двойной страсти, ибо она не могла всегда итти ровно»
как пара быков в упряжке, и неизбежно должна была запутаться—Валентин выбирает бедную, любящую вдову Делоне,,
хотя маркиза предлагает ему уехать вместе. Такая крайне
буржуазная развязка вообще не в привычках автора. Нет
(ничего более . кокетливого, изящного и чистого по рисунку,
чем эта легкая, • увлекательная повесть, полная удачных деталей. И все же г-н де Мюссе совершил здесь непростительную ошибку; .такие ошибки каждый рассказчик должен.
выправлять, предоставляя их гг. Поль де Коку, Виктору
Дюканжу и Шго-Лебрену. Как только автор появляется я
произведении и говорит от своего имени, иллюзия исчезает.
Автор, говоря от своего имени, производит в уме читателя тот
же эффект, что вызвал бы во внимательном театральном,
зале актер, прервавший свою роль, дабы приблизиться к.
рампе и после трех поклонов объявить: «Господа, наша товарка мадемуазель Марс не совсем здорова и просит вашего
снисхождения». В. таких случаях я тут же берусь за шляпу,,
предлагаю руку своему другу и говорю: «Пошли». Я уже не
буду в состоянии видеть ни Тартюфа, ни Эльмиры, я вижу
актера Флери И мадемуазель Марс. Очарование нарушено..
Но еще хуже, когда, держа книгу в постели, читая ее при.
свете свечей, веря, что Валентин, г-жа Делоне, маркиза де
Пари существуют, наблюдая, как все эти персонажи разговаривают и проходят передо мной,—я вдруг читаю:
Переверните страницу, сейчас они появятся, или же: наш.
герой. Я отлично знаю, что г-н де Мюссе как бы обращается
с рассказом к женщине; но когда принимаешь эту вполне
допустимую форму, нужно ее заполнить, подать историю,
в виде отрывка разговора и завершить обрамление. Начиная,
такой фразой: «Піовериге ли вы, сударыня, что можно влюбиться в двух женщин одновременно?»—нельзя говорить ^
«Переверните страницу». Если это письмо, пусть будет онописьмом. Если это разговор, пусть будет разговором. Если,
это драма, не нужно показывать публике мальчика, зажигающего лампы за кулисами. Вера, так же как и сгыдли~:
вость —крылатая женщина, улетающая при малейшем шуме»,
при малейшем подозрении, ее можно спугнуть одним жестом.
Э м м е л и н а , вторая новелла, в этом отношении безукоризненна.
Э м м е л и н а , как М а р к и з а Жорж Санд, как М а т е о Ф а л ь к о н е Мериме, как К л о д Г е Виктора Гюго, как
Р е н е Шатобриана,—это одна из тех страниц, где художник,,
писатель, поэт дают полную меру своего таланта; но Эммел и н е нехватает одной существенной стороны, и это ставит
ее ниже остальных новелл. И все же эти сто страниц, ибо вЭммелине сто страниц, насыщены. Они стбят длинного, двухт
томного романа. Если бы сюжет был оригинален, это было бы.
совершенство современной новеллы. Непростительная ошиб-
ка Э м м е л и н ы в том, что она пришла после литературного
десятилетия, в течение которого талантливые люди, умные
люди, хорошие и плохие авторы открывали, анализировали
язвы, терзающие женщину, не излечивая их. Непонятые женщины стали смешны. На время адюльтер, убит в литературе,
хотя в свете он понемножку перебивается. Я не утверждаю,
что сильный ум не сумеет извлечь прекрасное произведение
из той каменоломни, откуда уже вышло столько каменных
глыб, но в Э м м е л и н е нет ничего нового. Публика неспособна почувствовать отличия, внесенные стилем г-на Мюссе,
среди одолевших нас пошлостей. Стиль не торжествует
здесь ни над характером, ни над банальными ситуациями.
Г-н де Мюссе достаточно проницателен, чтобы понять, что
Франция каждые пять лет обновляет свое литературное
имущество; кинжал, труп, ужас, средневековье, адюльтер,
интимность, история,—все избито. Наконец, даже система насмешки должна меняться. Робер Макер устарел. Тем не
менее даже те, кто говорит: Хватит рыбных
паштетов,
с удовольствием прочтут Э м м е л и н у . Приложив такую же
сумму таланта к оригинальному сюжету, автор, разумеется,
оказался бы на высоте предыдущих новелл.
С ы н Т и ц и а н а , следующая новелла, замечательна пониманием и превосходной обрисовкой чувства неполноценности, мешающего сыну следовать по стопам отца, если
отец—прославленный исполин. Этот сюжет более оригинален, чем сюжет Э м м е л и н ы . Любовь, внушенная Тицианелло прекрасной патрицианке, которая верит в превосходство гения над аристократизмом,—прекрасная деталь.
В этих трех новеллах нас особенно пленяет изысканность, свойственная только поэту; она встречается также
у гг. Гюго и де Виньи: ничто здесь не пошло—ни идея,
ни фраза, ни сюжет; на всем лежит печать, отмечающая
произведения поэтов, свойственная только им,—так во времена великих властелинов все делалось для них, по их приказу и не встречалось больше нигде.
-•
Первый том выше второго: мне не нравится ни К р у а в и л ь , ни М а р г о . К р у а з и л ь — э т о не эскиз, не новелла,
вообще ничего. Г-н де Мюссе помещает генерального откупщика в Гавре, тогда как всем известно, что генеральные
•откупщики, особенно при Людовике XVI, жили в Париже,
а в провинции держали сборщиков и управляющих. До
революции Гавр был незначительным портом и не мог быть
местом приключения Круазиля, для которого требовался большой- морской порт. В Бордо, у генерального сборщика
области Гиень, все это было бы возможно. Не знаю, зачем
навлекать на себя беду неправдоподобия, когда достаточна
изменить имя.
„
Ф р е д е р и к и Бе.рнеретта—прелестный маленький
роман, полный естественности, вкуса и печали, достойный
первых трех новелл и даже неизмеримо выше их. Проза
г-на де Мюссе в этой очаровательной странице легка и
стройна. Она полна фактов, мыслей, наблюдений, она близка
к прозе гг. Мериме и Бейля, но превосходит их чистотои.
История (ибо подобные романы по значению равны истории)
полна глубокого драматизма, пугающей правдивости, жестокого смысла и вместе с тем увлекательна.
Г-н де Мюссе часто вводит стихи в свои рассказы, за
некоторыми исключениями, я сурово осуждаю этот обычай.
Вот почему. Опыт был против самого Вольтера, против
всех сочинений, где стихи чередуются с прозой, даже когда
стихи не принадлежат поэзии, а приближаются к прозе, как,
например, у Вольтера. Причины такого отвращения публики—чисто инстинктивного—н айти нетрудно. Во французском
языке особенно, умонастроение, располагающее к чтению
прозы, прямо противоположно тому умонастроению, что позволяет—некоторым особам это дается с трудом,—держаться
наравне с поэзией. Одним словом, в прозе мы остаемся на
твердой земле, а в поэзии должны подниматься на неизмеримые высоты. И это не какие-нибудь дорожные рытвины, это
взлет и стремительное падение. Что греха таить, такие умственные операции невыносимы, и никто не хочет ими заниматься, тем более, когда стихи полны поэзии.
Г-н де Мюссе—писатель слишком выдающийся, чтобы
не сказать ему, что слово был не является какой бы то
ни было формой глагола итти. Если большая часть писателей семнадцатого века совершала эту ошибку, то писателю
девятнадцатого века запрещается принимать глагол быть
за глагол итти. Кроме того, он ошибочно употребляет так
же вместо так. Так же требует сравнения. Две эти ошибки
и некоторые другие тем более режут слух, что г-н де Мюссе
пишет хорошо, варьирует форму, не страдает тем однообразием, в котором упрекал я г-на Урлиака, и заслуживает
величайших похвал за свой стиль. Г-н де Мюссе—чисто
французская натура, он одарен способностью к живым и.
ясным выводам, он щедр на обобщения, полные ума, сжатые»,
отчеканенные, словно золотые монеты, и всегда ими связывает какой-нибудь портрет, событие, сцену—с моралью, с человеческой жизнью, с философией. Такие способности—
достояние людей подлинно плодотворного, мощного таланта.
Итак, из двух томов можно извлечь два замечательных произведения— Э м м е л и н а, Ф р е д е р и к и Б е р н е р е т т а л
другие два—Сын Т и ц и а н а и Д в е в о з л ю б л е н н ы е ;
Их не мог бы написать и задумать первый встречный. И
все же книга ли это? Будут ли жить эти вещи? Не думаю.
Дочитывая эти шесть новелл, спрашиваешь себя каіс
математик: «Что это доказывает? Хочет ли автор доказать
что-либо? Есть ли тут какой-нибудь глубокий, большой, символ, как в А д о л ь ф е , как в П о л е и В и р г и н и и , как в
других страницах, оставшихся подобно памятникам среди
развалин литературы?» У меня хватит мужества сказать: нет.
После моего последнего письма о Сент-Беве вы можете мне
верить. Пожалуй, несмотря на многочисленные недостатки,
несмотря на вычурный стиль, у такой книги, как С л а д о с т р а с т и е , больше шансов на литературную жизнь, чем
у этих драгоценных безделушек. Г-жа де Куаэн, героиня
С л а д о с т р а с т и я , представляет одну из сторон женского
сердца—сдержанную любовь. Немало робких и неловких
людей испытают то же, что и герой, что и Амори, разбившийся
о подводный » камень, вместо того чтобы избежать его.
Наконец, такая ситуация, как священник, налагающий епитимию на ту, которую любил, не менее значительна, чем
положение Брута, осуждающего своих детей. П о л ь и В и р г и н и я всегда будут напоминать всем народам о переживаниях детских лет, о первых желаниях сердца. Р е н е—это образ
несбыточной любви, меланхолии и непостоянства. Подобными
же причинами можно объяснить успех А д о л ь ф а . Но Ф р е д е р и к и Б е р н е р е т т а , но Э м м е л и н а — э т о лишь происшествия в нашем современном обществе, а отнюдь не весь
(облик этого общества. Пусть некий студент, изучающий
право, то любит, -го покидает гризетку, пусть гризетка любит
его с .высокой самоотверженностью и умирает; пусть Эммелина—своего рода г-жа де Линьоль, простая, правдивая и
естественная, будет обманута именно из-за прелести своего
характера, пусть не нашла она по свободному: выбору подходящего ей мужа, пусть полюбит через два года другого
человека; пусть муж, любовник и жена будут все благородны,
как это часто теперь случается при столь обыденной драме,—
но поднял ли г-н де Мюссе хоть один из этих рассказов
на такую высоту, где.они становятся типичными, показал ли
одно из тех всеобщих чувств, что неминуемо покоряют сердца?.
Нет, Я противопоставляю г-ну де Мюссе великие произведения,
ибо для меня бесспорно, что если бы он потратил больше
труда и размышлений, избрал сюжеты более изученные им
и более удачные, то сумел бы создать одну из тех прекрасных
книг, что составляют гордость и славу литературы. Раблэ,
Сервантес, Стерн, Лесаж обязаны своими великими произведениями именно такой мысли. Вдохновение гения свойственно только ему и одушевляет малейшие его творения. В е р т е р не длиннее Ф р е д е р и к а и Б е р н е р е т т ы , но В е р т е р будет жить. Флипота Мольера удивительно живое создание, а о ней только упоминается; но зато какой отблеск
бросает на нее семья! Наверное, это кажется странным. Роль
Миньоны в В и л ь г е л ь м е М е й с т е р е не занимаег и ста
страниц, а ее существование в памяти людей более несомненно, чем существование жителей Бадена в загробном мире.
Я попытаюсь объяснить вам причину этой силы в конце
письма.
Те, кто, подобно г-ну Мюссе, одарен редким талантом,
должны изучать причины этих проявлений человеческого духа,
дабы приумножить их божественный список. В литературе
недостаточно развлекать или нравиться, шутке необходимо
придавать какой-нибудь смысл. Рассказ ради рассказа—это
литературный арабеск; но арабеск становится шедевром лишь
под кистью Рафаэля,—посредственный художник напишет его,
но разве лишь для кафе; только гениальный человек может
придать ему значение, хотя и смутное, но останавливающее
взгляд и наводящее на мысли, как дым зажженной сигары.
В сказке, этой великолепной, мощной форме человеческой
мысли, форме всеобъемлющей,—свидетель тому О с л и н а я
шкура, Синяя борода, Влюбленная куртизанка,
Р о м е о и Д ж у л ь е т та,—заложен какой-то секрет, ибо она
завоевала себе жизнь, в которой отказано стольким произве-»
дениям. Ведь как бы приятно, художественно и интересно
ни был отделан фонарь, он должен освещать. Разумеется,
по исполнению, по уму, по изяществу я ставлю Ф р е д е р и к а
И Б е р н е р е т т у гораздо выше П р о к а ж е н н о г о из дол и н ы А о с т ы ; впрочем, между ними нет никакого сход«
ства,—я сравниваю их только по самому существу; но книгаг-на де Месгра озарена вечным светом. Жизнь произведения
порождается этим светом, этим глубоким внутренним чувством, которого нет, как! я с болью замечаю, во многих совре^
менных произведениях; в них встречаются все предпосылки
подлинных шедевров, и все же они не шедевры. Если б я стал
искать причин этой странности, вызвавшей выражение habent
sua fata libelli (у книг есть своя судьба), то я зашел бы
слишком далеко. Получился бы трактат, требующий времени,
и Академия нашла бы его дерзким. Я ограничусь небольшой
заметкой, чтобы сдержать свое обещание.
Люди, которым мы обязаны этими поэмами, всегда изучали состояние атмосферы человеческих чувств. Они, так
сказать, носились в воздухе, щупали пульс своей эпохи,
чувствовали ее болезни, наблюдали ее физиономию, изучали
ее настроения; их книга или персонаж всегда были звучным,
сверкающим призывом, которому отвечали в каждую данную
эпоху современные идеи, зарождающиеся фантазии, тайные
страсти. Говоря шутливым языком, потребность в их книге
чувствовалась повсюду. Книгу требовали молча и невидимо.
Гений слышит эти немые желания или догадывается о них.
Я поясню свою мысль примером, который сделает ее
более ощутимой и полезной для литературы. Конечно, Мефистофель Гёте—слабый драматический персонаж; любой слуга
на сцене Французской Комедии оказался бы живее и остро«
умнее, "действовал бы с большей логичностью и проницательностью, чем этот мнимый дьявол. Изучите хорошенько
роль! он просто жалок. Так вот» каждый читатель нарядил
его в соответственные представления о дьяволе, каждый
использовал его, чтобы дать имя своим ужасам, сомнениям
и образам. Весь мир пришел к поэту, который бросил ему
это имя, и Мефистофель, особенно в соединении с Фаустом,
начал жить. Панург, Таргантюа, Пантагрюэль, превосходные
/
бессмертные образы, кроме своего действительно огромного значения, обязаны жизнью подобному же соответствию.
Также и Рене, который не получил бы и странички в журнале и показался бы посредственным, появись эта новелласейчас. В этом наблюдении, которым я заканчиваю свое
письмо, кроются тайны; оценить и изучить эти тайны должныте, к, кому обращены мои слова.
На эту неделю во Французской Комедии объявилиЛ а т р е о м о н а , — в о т будет естественный повод сообщитьвам мое мнение о состоянии театра во Франции. Работа моя
окончена, она составит, как говорят на журналистском жаргоне, голову статьи.
Из Рима прибыла картина Энгра С т р а т о н и к а , и я
постараюсь увидеть ее. Вы понимаете сами, что если до сих
пор я ничего не писал вам об искусстве, ; то только за неимением повода; . не собираюсь ; докучать вам разбором конкурсов, в этом году они совершенно плачевны; но картина;
Энгра С т р а т о н и к а — э т о одно из, капитальных произведений, перед которым чувствуешь себя обязанным. Я основательно займусь также последнею гравюрой г-на. Анрикеля
Дюпона.
«Письма о литературе, театре
и искусстве». Письмо третье..
Oeuvres, XXIII, 739--756.
ДВОЙСТВЕННОСТЬ Ж И З Н Е Н Н Ы Х ЯВЛЕНИЙ И ИСКУССТВО
Два наброска, которые я вам посвящаю, образуют два
вечных лика одного и того явления. «Homo duplex»1,—сказал наш великий Бюффон; почему не добавить: Res duplex? 2
Все двойственно, даже добродетель. Поэтому Мольер всегда
касается обеих сторон всякой человеческой проблемы; в подражание ему Дидро написал однажды Э т о н е с к а з к а —
может быть, свой шедевр, где он выводит дивный образ
мадемуазель Делашо, загубленной Гардейлем, в противовес
образу совершенного любовника, убитого своей любовницей,
Также и обе мои новеллы противопоставлены одна другой,.
Двойственный чёловек (по-латыни).
* Двойственное явление (по-латыни).
1
•подобно двум близнецам разного пола. Это литературная
•фантазия, которой можно ведь один раз принести жертву,
особенно в произведении, где автор пытается изобразить все
•формы, в какие облекается мысль. Большинство споров людских возникает оттого, что существуют одновременно и знающие и невежды, устроенные так, что видят всегда лишь
одну, сторону фактов и идей; и каждый утверждает, что •
т а сторона, которую он увидал, есть единственная истинная,
единственная правильная. Поэтому в священном писании и
стоят пророческие слова: бог обрек мир спорам. Могут
•сказать, что уже одно это место библии должно было бы
побудить святой престол поручить вам управление обеими
палатами, во исполнение постановления, разъясненного в
1814 году указом Людовика XVIII.
Пусть тонкий ум ваш, пусть поэтическое ваше дарование
окажут покровительство двум эпизодам Б е д н ы х родственников.
«Кузина Бетта».
ИДЕАЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ
Посвящение.
В
Соч.,
XI, о.
ИСКУССТВЕ
ОБЪЕКТИВНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫМЫСЛА
•Приемы литературной правдоподобности. — Сила и слабость впистолярного
романа. — Опасности
р а с с к а з а от первого лица.
В некоторых частях своего произведения автор создал
персонаж, рассказывающий от своего имени. Говоря откровенно, писатели применяют то из литературных ухищрений,
которое, им кажется, способно придать больше жизни образам. Так, желание одушевить свои творения толкало славнейших людей прошлого века к многословию романа в письмах, единственной формы, способной сообщить правдоподобие
вымышленной истории. Я проникает в человеческое сердце
так же глубоко, как эпистолярный стиль, но не влечет за
собой таких длиннот. Каждому произведению—своя форма.
Кларисса Гарлоу требовала обширной переписки. Жиль Блаз
потребовал я. Но я небезопасно для автора. Если читающая
масса и возросла, то сумма общественного ума не увеличилась
пропорционально. Вопреки свидетельству самих произведений,
многие и сейчас выставляют себя насмех, приписывая автору
те чувства, которыми наделил он своих персонажей ; и, если
он употребляет я, почти всех искушает желание смешивать
писателя с рассказчиком. Л и л и я в д о л и н е наиболее значительное из тех сочинений, где автор избрал я, чтобы следовать чрез извилины более или менее правдивой истории,
и он считает необходимым объявить здесь, что он нигде' не
выводил самого себя. У него сложилось суровое мнение и
твердые .принципы относительно смешения личных чувств и
чувств вымышленных. По его мнению, постыдный промысел
проституции в тысячу раз-менее бесчестен, чем продажа по
объявлению ШІЬІХ чувств, никогда не принадлежавших только
нам. Чувства—хорошие или дурные,—волновавшие душу,
окрашивают ее некоей эссенцией, и душа начинает издавать
благоухание, отличающее ее.мысль; разумеется, стиль существ
страдающих и поверженных в прах не похож на стиль тех,
чья жизнь протекла без катастроф. Но между этим обликом,
мрачным или трогательным, светским или религиозным, радостным или серьезным, и проституированием самых дорогих
сокровищ сердца—целая пропасть, и преступают ее только
нечистые умы. Если какой-нибудь поэт посягнет на такую
двойную жизнь, пусть будет это случайно, а не по принятому решению, как у Жан Жака Руссо. Автор, который
восхищается писателем в И с п о в е д и , приходит в ужас от
человека. Как посмел Жан Жак, столь гордившийся своими
чувствами, вынести приговор г-же де Варен, умея так хорошо
защищать самого себя? Возложите все короны мира на его
голову,—ангелы проклянут навеки говоруна, готового заклать
на алтаре Молвы женщину, в которой соединились для него
сердце матери и душа любовницы,—благодеяние, окутанное
прелестью первой любви.
1S35
г.
.
«Лилия в долине». Первое предисловие к первому изданию.
Oeuvres, XXII, 428—429.
...Надеюсь, ничего личного не примешалось к вашим размышлениям о фразе: то была лииіь поэма. Вы чувствуете,
что один из Тринадцати должен быть железным человеком.
Уж не обвините ли вы автора в том, что мысли его согласны
с написанным? Если б художники, поэты, артисты принимали
участие во всем, что рисуют, они все умирали бы двадцати
пяти лет отроду. Нет, герцогиня не была моей Форнариной.
Когда она у меня будет,—а у меня есть Форнарина,—я
никогда не опишу ее.' Ее обожаемый ум может вдохновлять
мою душу, ее сердце—войти в мое сердце, ее жизнь—в мою
жизнь, но описать ее, но выставить напоказ публике,—я предпочел бы умереть с голоду, ибо умер бы от стыда...
прихотливые изгибы этой двойной жизни, ему, по крайней
мере, должно быть позволено выбирать те, которые покажутся
ему наиболее поэтичными.
1834 г.
Предисловие к «Тридцатилетней женщине». Oeuvres, XXII,
383—384.
ИДЕАЛИЗАЦИЯ ЖИ8НИ В ИСКУССТВЕ
Идеальное в жизни и в и с к у с с т в е . — Творческое и механическое изображение ж и з н и .
Бальзак—Ганской, 28 апреля 1834 г.
Lettres à l'Etrangère, 151.
Л 0 Г П К 1 В НАУКЕ И ИСКУССТВЕ
Границы отвлеченной логики в понимании ж и з н е н н ы х событий; — Б е с силие методов «точных наук» в объяснении общественных н р а в о в . — «Логика ч у в с т в » .
...Другие, обращенные к автору упреки относятся к внезапному исчезновению молодой девушки в Д в у х в с т р е ч а х . Во всем произведении было бы еще больше несообразностей, если бы автор старался проявить больше логики,
чем существует ее в событиях жизни. Он мог бы возразить,
что наиболее важные решения всегда принимаются мгновенно;
что он хотел изобразить стремительно возникающие страсти,
которые всю дальнейшую жизнь подчиняют мысли, как будто
мимолетной ; но к чему пытаться объяснять логикой то, что
должно быть понято чувством? К тому же всякие оправдания покажутся ложными или бесполезными тем, кто не уловил интереса, скрытого в Д в у х в с т р е ч а х ; отдельные его
элементы составляют отрывок, озаглавленный П е р с т бож и й , к которому добавлена в этом издании еще одна глава;
она, может быть, лучше объяснит бегство законной дочери,
изгнанной ненавистью безжалостной матери, чью вину она
не хочет открыть. Такие происшествия не столь редки, как
это кажется. Хотя социальная жизнь имеет, так же как и)
жизнь физическая, свои законы, по видимости неизменные, вы
не найдете нигде ни тела, ни сердца, правильных, как тригонометрия Лежандра. Если автор не может нарисовать все
Пакита отвечала той страсти, какую испытывают все истинно великие люди к бесконечному, таинственной страсти, столь
драматически выраженной в Ф а у с т е , столь поэтически переданной в М а н ф р е д е , которая толкала дон Жуана рыться
в женском сердце в надежде найти там ту безграничную идею,
на поиски которой пускается столько охотников за призраками
и которую ученые думают прозреть в науке, а мистики находят только в боге.
«Златоокая девушка». Соч.,
VIII, 331.
*
Священник понял, почему эта девушка заслуживала свое
прозвище. Он понял, как трудно было устоять перед этим
прелестным созданием, он вдруг разгадал, почему полюбил
ее Люсьен, что могло пленить поэта. У подобной страсти
меж тысячью прелестей спрятан острый крючок, вонзающийся
прежде всего в возвышенную душу художников. Подобные
страсти, необъяснимые для толпы, отлично объясняются жаждой прекрасного идеала, отличающего творческие существа.
Разве очищать подобное существо—не значит походить немного на ангелов, которым поручено возвращать виновных к
лучшим чувствам, не значит ли это творить? Какая прелесть
согласовать красоту моральную с красотой физической 1 Какое
удовольствие для гордости, когда в этом успеешь! Как прекрасно деяние, не имеющее другого орудия, кроме любви!
Этот союз, освященный к тому же примером Аристотеля,
Сократа, Платона, Алкивиада и Цетегуса, Помпея и столь
чудовищный в глазах пошляка, зиждется на чувстве, застап*
вившем Людовика XIV построить Версаль, бросающем людей
во все разорительные предприятия; превращать миазмы болота
в груду ароматов, окруженную проточными водами; устроить
озеро на холме, как сделал князь де Конти в Нуантели, или
швейцарские виды в Кассане, как генеральный откупщик
Бержере. Одним ÇTOBOM, ЭТО искусство, вторгающееся в
мораль.
«Блеск и нищета куртизанок».
Соч., X, 33—34.
*
О, с какой остротой я в это мгновение почувствовал
приступ ревности, в возможности которой меня когда-то
-тщетно старался убедить поэт,—ревности к картинам, гравюрам, статуям, на которых художники преувеличивают человеческую красоту, в своем вечном стремлении к идеализации.
«Сарразин». Новеллы и рассказы. I, 159.
•
*
— Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но—чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но
поэт!—воскликнул оживленно старик, обрывая Порбуса деспотическим жестом.—Иначе скульптор исполнил бы свою
работу, сняв гипсовую форму с женщины. Что же^ попробуй,
сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи
ее перед собой,—ты увидишь ужасный труп без малейшего
сходства, и тебе придется искать резец и художника, которые, не давая точной копии, передадут движение жизни. ,
Нам должно схватывать ум, смысл, облик вещей и существ^/
Впечатления! Впечатления! Да ведь они случайности в жизни,
а не сама жизнь! Рука, раз я уже взял этот пример, рука
не только прикреплена к телу,—она выражает и составляет
продолжение мысли, которую надо схватить и передать, ^ и
художник, ни поэт, ни скульптор не должны отделять впечатление от причины, которые нераздельны одно в другом.
Вот в этом и -заключается истинная борьба. Многие художники одерживают победу инстинктивно, не зная об этой задаче искусства./Вы рисуете женщину, но вы ее не видите.
Не таким путем удается вырвать тайну у природы. Ваша рука
воспроизводит, списанную вами у вашего учителя модель,,
но сами вы о ней не думаете. Вы недостаточно проникаетесь
близостью формы, вы недостаточно проявляете к ней любви
и упорства во всех уклонах и отступлениях. Красота строга,
и причудлива, она не дается так просто, нужно поджидать:
урочный час, выслеживать ее, схватить и держать : крепко,,
чтобы принудить к сдаче. Форма—это Протей, гораздо более:
неуловимый и более богатый исхищрениями, чем Протей в:
мифе. Только после долгой борьбы ее можно приневолить
показать себя в своем настоящем виде. Вы все довольствуетесь первым обликом, какой она вам предоставляет, или в
крайнем случае вторым, третьим. Не так действуют ітобедо-.
носные борцы. Эти непобедимые художники не дают себя
обмануть всеми этими неверными изворотами, но упорствуют,
пока не принудят природу показать себя совершенно нагой
и в своей истинной сути. Так поступал Рафаэль,—сказал
старик, сняв при этом с головы черную бархатную шапочку,
чтобы выразить, какое уважение ему внушал король искусства.—Великое превосходство Рафаэля является следствием
его способности глубоко чувствовать, которая у него как бы
разбивает форму. Форма в своих изображениях,, та, какая
имеется у нас, только посредник для передачи идей, ощущений,
разносторонней поэзии. Всякое изображение есть мир, іюртп
рет, моделью которого было прекрасное видение, озаренное
светом, указанное внутренним голосом, разоблаченное небесной рукой, показавшей в прошлом целой жизни источникивыражения. Вы облекаете ваших женщин в прекрасные тела,
украшаете прекрасными завесами из волос, но где же кровь,
порождающая спокойствие или страсть и производящая совсем
особое впечатление. Твоя святая—брюнетка, но вот это, бедный мой Порбус, относится к блондинке! В таком случае
ваши лица—только раскрашенный призрак, который вы проводите перед нашими глазами, и это вы называете живописью и искусством! Из-за того, что вы сделали что-то,
более напоминающее женщину, чем дом, вы воображаете, что
достигли цели, и, гордые тем, что вам нет надобности подписывать под вашими изображениями currus venustus 1 или
1
Торжество женщины (по-латыни).
pulcher homo 1 , как подписывали первые живописцы, вы воображаете себя удивительными художниками!.. Ха-ха... Нет,
вы этого еще не достигли, мои милые товарищи, придется
вам исчертить немало карандашей, извести немало полотен,
раньше чем стать художниками. Совершенно справедливо, женщина держит голову таким образом, на ней бывает так надето
платье, утомление в ее глазах светится вот такой покорной
нежностью, трепещущая тень ее ресниц дрожит именно так
на ее щеках. Бее это так—и не так! Чего же здесь недостает?.
Пустяка, но этот пустяк—все. Вы охватываете внешность
жизни, но не выражаете ее бьющего через край избытка,
не выражаете того, что, быть может, и есть душа и что,
подобно облаку, витает над поверхностью, той, наконец, жизненной сущности, которая была схвачена Тицианом^ и Рафаэлем. Исходя из крайней точки ваших достижений, можно,
пожалуй, получить прекрасную живопись, но вы слишком
скоро утомляетесь. Обыкновенный человек восторгается, а
истинный знаток ограничивается улыбкой.
«Неведомый шедевр».
XVI, 247—248.
«Поиски абсолюта». Соч.,
XVI, 32.
Соч.,
ДВА СПОСОБА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИДЕАЛИЗАЦИИ
С в я з ь художественной идеализации с общим идеалом с у щ е с т в о в а н и я . T Ä ? H b
«А ппмянпская» и жизнь с т р а с т е й . - К р а с о т а ровной силы и силы чрезмерной.—
KTHHÄ SOS^HOSTH романических эффектов. - К р а с о т а сильной страсти"^— Сильные страсти Ѵак же редки, к а к и великие произведения и с к у с с т в а . — Идеализация добра и идеализация з л а в и с к у с с т в е . - Счастливая
жизнь — неблагодарная тема для х у д о ж н и к а . — Неудача литературных
Е Г а о в счастливой любви. — Сравнение порока и добродетели к а к худож е с т в е н н о г о М а т е р и а л а . - Идеализация в «Человеческой комедии» и в романах Ж . Сайд.
...почти невозможно не растрогаться от картин фламандской жизни, когда хорошо переданы ее подробности. Почему?
Быть может, среди различных типов существования она лучше
всего кладет предел недоумениям человека. В ней немало
всяческих праздников, семейных связей, жирного довольства,
свидетельствующего о постоянном благополучии, и отдыха,
похожего на блаженство; но особенно в ней выражается
покой и монотонность наивно-чувственного счастья, где на» Красавец (по-латыни).
слаждением угашается постоянно предупреждаемое желание.
Какую бы цену ни придавал страстный человек смятениям
чувств, он никогда не может видеть без волнения образы
той социальной природы, где биение сердца так равномерно,
что люди поверхностные обвиняют ее в холодности. Толпа
вообще предпочитает ненормальную силу, переливающуюся
через край, силе ровной и постоянной. Толпе нехватает ни
времени, ни терпения удостовериться в том, какая огромная
мощь скрыта под однообразной внешностью. Таким образом, чтобы поразить увлекаемую потоком жизни толпу, у страсти, так же" как и у великого художника, есть одно лишь
средство—перешагнуть за предел, что и делали МикельАнжело, Бьянка Капелло, г-жа Делавальер, Бетховен и Паганини. Одни великие калькуляторы думают, что никогда
не нужно хватать, через край, и. питают уважение только к
способностям, сказавшимся в совершенстве выполнения, сообщающим всякому произведению глубокое спокойствие, очарование которого захватывает высших людей..,
*
— Ты влюблен?—спросил он его. Они оба знали, что
Самые прекрасные портреты Тициана, Рафаэля и Леонардо да Винчи обязаны своим происхождением тем пламенным
чувствам, которые, хотя и при разных условиях, порождают
все шедевры. Молодой художник вместо ответа наклонил
голову.
«Дом кошки, играющей в мяч».
• Соч., I, 80.
Папаша Горио был прекрасен. Евгению еще не доводилось' видеть его озаренным этой отцовской страстью. За-,
мечательно, какою силой наития обладают чувства. Как бы
ни был груб человек, но, если он проявляет подлинную
и сильную любовь, от него исходит особый ток, который
преображает его лицо, оживляет жесты, окрашивает голос.
И часто последний тупица под действием страсти достигает
самого высокого красноречия—если не в словах, то в мыслях—и как будто движется в лучезарной сфере. В эту ми-
нуту в голосе, в движениях старика была та заражающая
сила, что отличает великих, актеров. Но не являются ли наши
высокие чувства поэзией воли?
«Отец Горио». Соч., III, 106.
•/
д.
*
...Сильные страсти так же редки, как и великие произведения искусства... Те женские души, которые довольно
сильны для того, чтобы заключить в чувстве любви бесконечность, составляют ангелоподобное исключение, и в среде
женщин они то же, что гении среди мужчин...
Феррагюс, вождь деворантов.
Соч., VIII, 62.
*
Жак Колен, прозванный на каторге Надуй-смерть и не
нуждающийся теперь в другом имени, кроме его собственного, находился со времени его обратного водворения в секретную камеру, согласно приказанию Камюзо, во власти той
тоски, которой он никогда не испытывал в течение своей
жизни, отмеченной столькими преступлениями, тремя бегствами с каторги и двумя приговорами в суде присяжных.
Разве этот человек, в котором выразились жизнь, силы, дух,
страсти каторги и который являет вам их высшее выражение,
не чудовищно прекрасен своей привязанностью, отличающей
собачью породу, к тому, кого он делает своим другом? Достойный осуждения, бесчестный и отвратительный со стольких сторон, в этой абсолютной преданности своему кумиру
не делается ли он действительно столь интересным, что наша
повесть, уже и так пространная, показалась бы незаконченной,
урезанной, если бы развязка этой преступной жизни не была
рассказана вслед за кончиной Люсьена де Рюбампре? Когда
умерла болонка, спрашиваешь себя, будет ли жить ее ужас-,
ный сотоварищ леві
«Блеск и нищета куртизанок»*
. .
Соч., X, 347—348.
*
Гнусный каторжник, воплощая поэму, лелеянную столькими поэтами,—Муром, лордом Байроном, Матюреном, Кана-'
лиоом. (демон, овладевший ангелом, привлеченным в ад, чтобы'
освежить его росой, похищенной из рая),—Жак Колен, если
хорошенько проникнуть в это бронзовое сердце, отрекся,
от самого себя уже семь лет тому назад. Его могучие способности, поглощенные Люсьеном, работали только дл&
Люсьена; он наслаждался его успехами, его любовью, его
честолюбием. Для него Люсьен был его видимой душой.
«Блеск и нищета куртизанок»*
Соч., X, 348.
*
;
...Я никогда не видел книги, где была бы описана счастливая любовь, удовлетворенная любовь. У Руссо слишком
много риторики, у Ричардсона слишком много проповедей;
поэты всегда слшком украшатели; повествующие романисты
слишком рабы фактов; Петрарка слишком занят своими
образами, своими Concetti 1 : он больше смотрит на поэзию,
чем на женщину. Поп дал, может быть, слишком много раскаяния Элоизе, он задумал ее лучшей, чем в природе, а лучшее, говорят, враг хорошего. В общем, наверное, один только,
бог, создавший любовь вместе с человечеством, понял ее,
ибо никто из его творений не написал, по-моему, элегии,
фантазии или поэмы об этой божественной страсти, которую все восхваляют, но столь немногие познали.
Бальзак-Ганской,
20 мая 1838 г.
Oeuvres, XXIV, 295,
Здесь, на земле, нет ничего совершенного, кроме несчастия.
„
«Шагреневая кожа». Соч.»
XV, 9.
*
...порок более заметен; он изобилен и, как говорят торговцы о шали, очень выигрышен; добродетель, напротив, являет для кисти лишь необычайно тонкие линии. Добродетельабсолютна, она едина и неделима, как была Республика;
порок же многообразен, многоцветен, неровен, причудлив*
' * Игрою слов (по-итальянски).
Впрочем, когда автор нарисует фантастическую добродетельную женщину, на поиски которой он отправится во все будуары Европы, ему воздадут справедливость, и упреки
смолкнут сами собой.
Некоторые утонченные критики замечали, что автор изображает грешниц несравненно более привлекательными, чем
женщин безупречных, но этот факт кажется автору столь
•естественным, что он упоминает о критике лишь затем,
•чтобы показать ее нелепость. Каждый отлично знает, что,
к несчастью, мужской природе свойственно не любить порок,
когда он уродлив, и бежать добродетели, когда она отталкивающа.
.1835 г.
Предисловие ко второму изданию «Отца Горио». Oeuvres.
XXII, 415.
ГРАНИЦЫ ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДЫ
Ж ? * ? У ч е " о г о и правда романиста. — Искусство без наблюдения бесЖ Ь Н & к 7 п п Х у Д ° К е Н Н а я Ф а н т а з и я - не вымысел, а комбинация реальrïnuta=T?,!" Г Ж и з н ь
опережает воображение. — Талант писателя состоит в уменье выбирать из жизни события, сами по себе поэтические.
Взяв сюжет своего сочинения из наиболее серьезной и
•сложной части современной истории, автор почел необходимым
•объявить здесь с некоторой торжественностью, что никогда
не имел намерения предавать осмеянию или презрению ни
взгляды, ни личности. Он уважает убеждения; а личности,"
по большей части, ему неизвестны. Не его вина, если дела
говорят сами за себя, и говорят так громко. Он не сотворил
их и не открыл. Здесь страна есть страна, люди суть люди,
а слова—сами слова. Факты не были опровергнуты ни мемуарами, опубликованными в различные моменты Реставрации,
ни Французской республикой; только Империя погребла их
во мраке цензуры. Сказать, что сочинение это не увидело бы
•света в царствование Наполеона,—не значит ли почтить
общественное мнение,' завоевавшее нам свободу?
Автор попытался изобразить одно из тех событий,—
печально поучительных для всех народов,—которыми так богата была Французская революция.
Присутствие нескольких заинтересованных лиц предпиз
сывало ему изображать физиономии со строжайшей точ-
ностью и проявлять только страсть, дозволенную художнику,
а именно: стремление хорошо исполнить портрет, естественно распределить свет и внушить веру, в жизненность персонажей.
Но слово точность требует объяснения.
Автор не намерен подписывать обязательство сухо излагать отдельные факты, превращая тем самым историю в скелет с тщательно пронумерованными костями. Сейчас великие
уроки, развернутые на страницах истории, должны стать
общим достоянием. Согласно этой системе, принятой за последние годы талантливыми людьми, автор попытался вдохнуть в свою книгу дух эпохи и событий, отдавая предпочтение спору перед протоколом, сражению перед бюллетенем,
драме перед рассказом. Итак, ни одно из событий национального раздора, как бы незначительно оно ни было, ни
одна катастрофа, заливавшая кровью ныне мирные поля* не
были забыты: персонажи увидят себя здесь в фас и в профиль, в темноте и при свете; малейшие горести будут показаны тут в развитии или в зарождении.
1829 г.
Из предисловия к первому
изданию «Шуанов>. Oeuvres,
XXII, 371—372.
*
С того дня, как был опубликован первый эпизод И с т о рии т р и н а д ц а т и , до дня появления последнего эпизода
многие допытывались у автора, правдива ли эта история;
но он остерегался удовлетворить их любопытство. Уступка
могла бы всех рассказчиков лишить доверия. Однако, заканчивая произведение, он признается, что эпизод З л а т о о к а я
д е в у ш к а правдив в большинстве своих деталей и что наиболее поэтическое обстоятельство, являющееся его завязкой,—сходство двух главных персонажей—соответствует действительности. Герой приключения, сам рассказавший его с
просьбой опубликовать, будет несомненно удовлетворен, увидев свое желание исполненным, хотя вначале автор считал
предприятие невозможным. Особенно трудно казалось заставить читателей поверить в чудесную полуженскую красоту,
отличавшую героя в семнадцать лет, следы которой я узнал
в молодом человеке двадцати шести лет. Если кого-нибудь
интересует З л а т о о к а я д е в у ш к а , он может увидеть ее,
как после окончания пьесы видят актрису, которая, желая
получить свой недолговечный венок, встает в полном здравии, хотя на глазах у всех была заколота кинжалом. В природе ничто не приходит к поэтической развязке. Теперь
З л а т о о к о й д е в у ш к е тридцать лет, и она изрядно поблекла. С маркизой де Сан-Реаль нынешней зимой сталкивались в театре Буфф или Опере иные из почтенных особ»
прочитавших этот эпизод, она почти достигла тех лет, когда
на вопрос о возрасте женщины уже не отвечают; его выдают
ужасные прически, которыми некоторые иностранки загромождают переднюю часть ложи, к великому неудовольствию молодых особ, стоящих позади. Маркиза эта воспитана на островах, где нравы так узаконили златооких девушек, что они стали там почти институтом.
Участников же остальных двух эпизодов знают в Париже достаточно, чтобы избавить автора от признания, что
f писатели никогда ничего не выдумают,—такое признание поч-.
ч» тительнейше сделал Вальтер Скотт в предисловии, разорвавшем завесу, за которой" он так долго скрывался. Даже детали
редко принадлежат писателю, он только более или менее
удачный копиист. Единственное, что исходит от него,—сочетание событий, их литературное расположение,—почти всегда
является слабой стороной, и критика без промедления на
нее нападает.
Замечания к первому изданию
«Златоокой девушки». Oeuvres,
XXII, 394—395.
*
Для знатока-наблюдателя такой контраст между полным
неведением одних лиц и трепетным вниманием других был
бы величественен. Романисты теперь, больше чем когда-либо*
пользуются такими эффектами, и они вправе так поступать;
потому что природа—и это было во все времена—позволяет
себе быть сильнее романистов. Вот и здесь природа—вы увидите сами,—социальная природа, которая представляет природу в природе, доставила себе удовольствие, создала историю более -интересную, чем сам роман; точно так же, как
горные потоки образуют такие фантастические картины, какие невозможны для художника, и совершают настоящие
подвиги, размещая и обтачивая камни, так что ваятелям и
архитекторам остается только суметь их подметить.
«Модеста Миньон», изд. Пантелеева, IV, 17.
ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВА
Литература — самая гибкая и широкая форма искусства. — Границы могущества художественного слова. — Бессилие писателя в передаче зрительных эффектов. — Область живописи и скульптуры — мир видимого. — специфические трудности с к у л ь п т у р ы . ' — С к у л ь п т у р а
и
художественный
идеал. — Архитектура, ее прочная связь с общественной ж и з н ь ю . —
"Значение монументальной архитектуры дЛя историка нравов. — Музыка —
самое поэтическое искусство. — Музыкальная техника и опытные науки. —
Орган.
'Литературное искусство, ставящее своей целью воспроизвести природу с помощью мысли, — сложнейшее из
искусств.
Изобразить чувство,, воскресить краски, свет, полутень,
оттенки, передать с точностью интимиую сцену, море или
пейзаж, людей или памятники—вот вся живопись.
Скульптура еще более ограничена в своих возможностях. Она располагает лишь камнем и одним только цветом,
чтобы передать самую богатую натуру—чувство в человеческих формах: поэтому скульптор прячет под мрамором неизмеримый труд идеализации, но только немногие могут это
оценить.
Но идеи более обширны, они объемлют все: писатель
должен быть близок ко всем явлениям, ко всем натурам. Он
обязан хранить в себе некое концентрическое зеркало, где,
следуя за его фантазией, отражается мир; в противном случае
поэт и даже наблюдатель не существует, ибо дело не только
•в том, чтобы видеть, нужно еще помнить, нужно закрепить
свои впечатления в известном выборе слов и украсить их
всей прелестью образов, либо сообщить им живость первоначальных чувств...
Предисловие к первому изданию «Шагреневой кожи»,
•• •
Oeuvres, XXII, 400.
*
Она с трудом повернула голову и украдкой окинула взглядом комнату, в ту минуту полную тех живописных эффектовночного освещения, которые могут привести в отчаяние повествователя и, повидимому, являются исключительным достоянием кисти жанрового художника. В самом деле, какими словами передать ужасающие зигзаги, создаваемые игрой теней»
фантастические очертания занавесей, раздуваемых ветром,
трепет тусклого пламени ночника сквозь складки красного
коленкора, блики, отбрасываемые металлической розеткой»
сверкающий центр, который похож на глаза вора, платье, напоминающее коленопреклоненное привидение, наконец, все
странности, пугающие наше воображение в тот момент, когда
оно способно воспринимать только болезненные впечатления:
и лишь усугублять их?
«Величие и падение Цезаря.
Бирото». Соч., VII, 31—32.
*
Скульптура, как и драматическое искусство, одновременна
и самое трудное и самое легкое из всех искусств. Скопируйте
модель, и произведение выполнено; но вложить в него душу,
создать тип, изображая мужчину или женщину,—для этого
нужно совершить грех Прометея. Такие достижения наперечет
в летописях ваяния, как наперечет поэты в истории человечества. Микель-Анджело, Мишель Колумб, Жан Гужон, Фидий, Пракситель, Поликлет, Пюже, Канова, Альбрехт Дюрер—
это братья Мильтона, Вергилия, Данте, Шекспира, Тассо»
Гомера и Мольера. Творение скульптуры столь грандиозно»
что одной статуи достаточно, чтобы обессмертить человека,
подобно тому как образ Фигаро, Ловласа, Манон Леско
было достаточно, чтобы обессмертить Бомарше, Ричардсона
и аббата Прево. Люди поверхностные (а их слишком много
среди художников) утверждали, что скульптура существовала
только при обнаженном теле, что она умерла вместе с Грецией и что современное платье делает ее невозможной. Но,
во-первых, древние делали восхитительные статуи, целиком
покрытые одеждой, как Полигимния, Юлия и пр., а мы не
знаем и десятой доли их произведений. Во-вторых, пусть
истинные любители искусства поглядят во Флоренции на
М ы с л и т е л я Микель-Анджело и в Майнцском соборе на
Д е в у М а р и ю Альбрехта Дюрера, который сделал из черного дерева живую женщину в ее тройной одежде и с такими
волнующимися, с такими осязаемыми волосами, что никакая
горничная никогда таких не причесывала. Пусть неведающие убедятся воочию, и все признают тогда, что гений может пропитать мыслью одежду, воинские доспехи, мантию
и облечь ими тело совершенно так же, как характер и привычки человека накладывают отпечаток на его одеяние.
Скульптура есть постоянное воплощение того, что один и
единственный раз получило имя в живописи,—имя РафаэльI
Решение этой труднейшей проблемы заключается только в
упорной, неослабной работе, ибо материальные трудности
должны быть настолько преодолены, рука должна быть так
изощрена, так послушна, чтобы скульптор мог бороться одинна-один с этой неуловимой духовной природой, которую
нужно преобразить, материализовав ее. Если бы Паганини»
заставлявший душу свою говорить струнами своей скрипки»
провел три дня, не упражняясь, он потерял бы, по его>
выражению, регистр своего инструмента (так он обозначал
связь, существующую между деревом, смычком, струнами иим самим); будь эта согласованность нарушена, он сразу бы
стал заурядным скрипачом.
«Кузина Бетта», Соч., XI,.
182—183.
*
...Скульптор работает над мрамором, придает ему форму»
воплощает в нем целый мир мыслей. Рука человека одарила
иные мраморные статуи способностью выражать всю возвышенную сторону или всю дурную сторону человечества;,
большинство людей видит в них человеческую фигуру и
ничего больше, другие, стоящие на более высокой ступени
лестницы живых существ, замечают в них часть мыслей»
выраженных скульптором, восхищаются их формой; но посвященные в тайны искусства—во всем согласны с художником: при виде статуи они узнают в ней весь мир егомыслей. Последние—эти принцы искусства, они несут в самих
себе зеркало, отражающее природу в малейших ее проявлениях...
«Séraphita». Oeuvres Complètes, 259*
*
События человеческой жизни, общественной и частной,
так тесно связаны с архитектурой, что большинство наблюдателей могут восстановить жизнь нации или отдельных
людей во всей подлинности их обычаев по остаткам общественных памятников или изучая их домашние реликвии. Археология для природы социальной—это то же, что сравнительная анатомия для природы органической. В какой-нибудь *
мозаике обнаруживается все общество так же, как в скелете .
ихтиозавра подразумевается все творение. С той и другой
стороны все логически можно вывести, все сцеплено. Причина
дает угадать следствие, и всякое следствие позволяет восходить к причине. Ученый воскрешает таким образом все, вплоть
до бородавок давнишних времен. Отсюда и происходит, конечно, удивительный интерес архитектурного описания, если
только фантазия писателя нисколько не искажает основ;
разве не может всякий при помощи строгих выводов связать
«его с прошлым; а для человека прошлое до странности похоже на будущее; рассказать ему, что было, не значит ли
это почти всегда сказать, что будет?.
*
«Поиски абсолюта». Соч., XVI,
31—32.
...Не служит ли для нежных и поэтических душ, для
страждущих и раненых сердец всякая музыка, даже театральная, текстом, который развертывают они перед собой по
прихоти своих воспоминаний? Если нужно иметь поэтическое
•сердце, чтобы стать музыкантом, то разве не нужны поэзия
и любовь, чтобы слушать, чтобы понимать великие музыкальные творения? Разве религия, любовь и музыка не являются
тройственным выражением одного и того же, одной и той же
потребности излияния, которой одержима каждая благородная
•. душа?..
«Герцогиня де Ланже». Соч.,
VIII, 162.
•
Все известное нам из музыки до XVII века доказало мне,
что старинные композиторы знали только мелодию и были
•совсем незнакомы с гармонией и ее громадными преимуще-
ствами. Музыка есть в одно и то же время и наука и искусство. Физика и математика, из которых она берет свое начало, делают из нее науку; но она становится искусством
благодаря вдохновению, которое по своему произволу пользуется выводами науки. Она связана с физикой, так как
звук является следствием видоизменения воздуха. Воздух состоит из первоначальных элементов, которые, без сомнения,
встречают в нас подобные же, соответствующие им элементы, развивающиеся благодаря мышлению. Таким образом,
воздух должен содержать столько же частиц различной упругости и способных к разным степеням вибраций, сколько
тонов в звучащих телах. Эти частицы приводятся в действие
музыкантами, становятся доступными нашему слуху и, смотря по нашей организации, соответствуют различным идеям.
По моему мнению, происхождение звука тождественно происхождению света. Звук тот же свет, только в другой форме:
и тот и другой являются вследствие вибрации, достигающей
человека, который преобразует ее в своих нервных центрах.
В музыке, так же как и в живописи, употребляются тела,
имеющие способность обнаруживать те или другие свойства первоосновного вещества и составлять из них картины.
В музыке инструменты выполняют функцию красок, употребляемых живописцем. Поскольку звук, производимый звучащим телом, неизменно сопровождается большой терцией и
квинтой и так действует на песчинки, расположенные на натянутом пергаменте, что они принимают, смотря по объему
звука, форму геометрической фигуры совершенно правильную, когда звучит аккорд, и беспорядочную, когда звучит
диссонанс,—я утверждаю, что музыка есть искусство, возник- *
шее в самых недрах природы.
Музыка подчиняется законам физическим и математическим. Законы физические малоизвестны, а математические
еще менее; с тех пор, как начали изучать их связь, явилась
гармония, которой мы обязаны Гайдну, Моцарту, Бетховену
и Россини. Музыка этих гениев, без сомнения, более усовершенствована, чем у предшественников, хотя таланты этих
последних неоспоримы. Старые композиторы пели, вместо
того чтобы пользоваться искусством и наукой, связь которых
позволяет слить воедино прекрасную мелодию с могучей
гармонией. Таким образом, если открытие законов матема-
тических дало четырех великих музыкантов, то как далека
мы бы ушли, узнав законы физические 1 В силу этих законов
(поймите это хорошенько!) мы собрали бы более или менее
значительное количество, смотря по тому, сколько бы нам
требовалось того эфирного вещества, которое находится в.
воздухе и дает нам музыку и свет, чудеса мира растительного
и мира животного! Понимаете ли вы? Эти новые законы дали
бы композиторам новую силу, предоставляя в их распоряжение
инструменты, бодее совершенные, чем те, которые мы имеем
теперь, и, может быть, гармонию еще более величественную,
чем та, которою располагает современная музыка. Если вой
кий звук соответствует известной силе, то надо изучить эти
силы, чтобы пользоваться ими по верно установленным законам. Композиторы работают над субстанциями, им не известными. Почему звуки инструментов металлических и деревянных, фаготов и валторн так мало похожи друг на друга,
хотя все пользуются составными частями воздуха? Их различие происходит или от какого-нибудь изменения газов,
или от задержания свойственных им элементов, которые они
отражают видоизмененными в силу не известных нам свойств.
Если бы нам были известны эти свойства, наука и искусство
выиграли бы от этого. То, что расширяет науку, расширяет
и искусство. И вот после долгих поисков я догадался, как
добиться этих открытий, и добился их. Да,—сказал Гамбара,
оживляясь,—до сих пор человек отмечал только действия,
а не причины. Если бы он проник в эти причины, музыка
стала бы самым великим из искусств! Разве она не действует
более, всего на душу? Вы видите только то, что показывает
вам живопись; вы слышите только то, что вам говорит поэт;
музыка же идет гораздо далее: не дает ли она направление
вашей мысли, не возбуждает ли она заглохшие воспоминания? В зале сотни людей. Паста поет какой-то мотив, и ее
исполнение соответствует мыслям, сверкавшим в душе Россини, когда он писал эту арию; фраза Россини, переносясь
в их души, развивает там самые разнообразные поэмы: этому
представляется женщина, о которой он долго мечтал; тому—
берег, по которому он когда-то. бродил, плакучие ивы, чистые воды и надежды, мелькавшие перед ним под густою
листвой; одна женщина вспоминает тысячи чувств, которые
Мучшт ее в минуты ревности; другая думает о неосуществив-
шихся желаниях и в мечтах рисует яркими красками свои
идеал, отдается ему, испытывает наслаждение, ласкает мечту;
третья думает, что в тот же вечер исполнится ее желание,
и заранее погружается в поток сладострастия, ощущая колыхание волн на своей пылающей груди.
Одна только музыка имеет силу заставить нас воити в
глубь самих себя, между тем как другие искусства дают нам
только строго ограниченные наслаждения.
«Гамбара». Соч., изд. Пантелеева, XIV, 230—232. ч
*
Орган—поистине самый великий, самый смелый, самый
великолепный из всех инструментов, созданных человеческим,
гением. Это целый оркестр, от которого искусная рука может
всего добитбся, он же может все выразить. Это своего рода
пьедестал, на который восходит душа, чтобы ринуться в
пространство, когда в своем полете она пытается начертать
тысячу картин, живописать жизнь, пробежать бесконечность,
отделяющую небо от земли! Чем больше вслушивается поэт
в грандиозные его гармонии, т.ем лучше постигает он, что
между преклоненным человечеством и богом, скрытым^ ослепительным сиянием святилища, только этот стоглавый хор
земли может заполнить все пространство и быть единственным достаточно сильным посредником, чтобы передать небу
человеческие молитвы во всемогуществе их выражении, во
всем разнообразии их печалей, со всеми оттенками их созерцательных экстазов, со стремительными порывами их раскаяний и тысячами фантазий всяческих верований. Да, под
этими высокими сводами мелодии, порожденные религиозным
гением, приобретают неслыханное величие, которое облекает
их красой и мощью. Полусвет, глубокая тишина, песнопения,
чередующиеся с громом органа, образуют как бы покров
божества, сквозь который сияют лучи его славы.
«Герцогиня де Ланже». Соч.,
ѴШ, 160—161.
И С
МУССтво
U
ХУДОЖНИК
СУЩНОСТЬ Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О ДАРОВАНИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОРОНА ТВОРЧЕСТВА
Т е л е с н а я конституция и духовное творчество. — Причины д у ш е в н ы х
лезней у х у д о ж н и к о в .
бо-
*
Мы не даем себе свои характеры, мы получаем их при
рождении, от причудливого устройства наших органов (вот
почему я всегда считал нелепым осуждать гордость гениального человека, так же как восхвалять его скромность).
Ѣальзак—герцогине д'Абрантес, 1829 г.
Oeuvres, XXIV, 63.
*
V ч Сударь,
V Я получил вашу книгу об умопомешательстве и принялся
ее читать; мне хочется поблагодарить вас и за удовольствие,
доставленное мне началом, и за ваше внимание.
• г Мне тоже приходила мысль искать причин безумия в причинах наших мгновенных заблуждений или возбуждений. Вы
знаете,—а быть может, не знаете,—что вот уже скоро двадцать семь лет, как я занимаюсь так называемыми физиологическими вопросами; но я недостаточно знаю анатомию и
особенно миологию, чтобы принести какую-нибудь пользу.
Позже я серьезно займусь этим. Вот почему. Я думаю,
чѵто мы не сделаем ничего хорошего, пока не будет определена
роль органов мысли, именно как органов, в случаях безумия.
Другими словами, органы есть оболочка неких флюидов, пока
еще неопределимых. Я считаю это доказанным. И вот, есть
некоторый quantum
органов, которые оказываются повре-
жденными по собственной вше, из-за своей конституции, и
другие, которые оказываются поврежденными из-за слишком
сильного прилива. Итак, тех, кто (например, Кювье, Вольтер
и т. д.) смолоду упражнял свои органы, сделали их настолько
мощными, что ничего не может привести их к безумию, тех
никакие эксцессы не задевают, тогда как те, кто относится,
по некоторым качествам, к идеальной мозговой системе, которую мы представляем себе в виде лаборатории мысли,—
поэты, оставляющие в бездействии дедукцию, анализ и пользующиеся исключительно сердцем и воображением, могут
стать безумными; но неизбежно приходят к безумию те, кто
злоупотребляет Венерой и Аполлоном одновременно.
Наконец, можно произвести замечательный опыт, о котором я думал в течение двадцати лет, а именно: переделать
мозг кретина, узнать, можно ли создать мыслительный аппарат,
развивая его рудименты. Налаживая мозг, мы узнаем, каким
образом он разладился...
Бальзак—доктору Ж. Моро, декабрь 1845 г.
Oeuvres, XXIV, 484—485.
ТВОРЧЕСТВО И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
Талант
и специальные качества у м а . — Односторонний душевный
гениальных натур.
склад
...С дарованиями нашего ума дело обстоит так же, как и со
способностями тела. У танцора сила в ногах, у кузнеца—в
руках; рыночный носильщик упражняется в ношении тяжестей, певец обрабатывает свою гортань, а пианист укрепляет
кисть руки. Банкир привыкает комбинировать дела, разбираться в них^ двигать прибыли, как водевилист выучивается
комбинировать положения, разбираться в сюжетах, заставлять
двигаться действующих лиц. Не надо требовать от барона
де Нюсинжена остроумного разговора, как и образов поэта
от разумения математика. Много ли встречается в каждую
эпоху поэтов, которые были бы одновременно прозаиками или
были бы остроумны в быту, наподобие г-жи Корнюэль?
Бюффон был тяжелодум. Ньютон никогда не любил, лорд
Байрон никого не любил, кроме себя. Руссо был мрачен и
почти безумен, Лафонтен рассеян. Равномерно распределенная
человеческая сила производит глупцов или сплошь посредственность; неравная, она рождает несоответствия, именуемые гениями, которые, если бы они были видимы, казались
бы уродствами. Тот же закон управляет телом: совершенная
красота почти всегда сопровождается холодностью или глупостью. Пускай Паскаль—великий геометр и одновременно
великий писатель, Бомарше—крупный делец, Заме—тонкий
царедворец; эти редкие исключения подтверждают правило
о специальных качествах ума.
«Блеск и нищета куртизанок».
Соч., X, 162—163.
ТАЛАНТ И ГЕНИЙ
Виды литературного т а л а н т а . — «Наблюдатель» и «поэт». — Отличие гения от таланта. — «Второе зрение». — Гений и дар д у х о в н о г о перевоплощения. — Материалистическое и спиритуалистическое объяснение гениальности. " •
Однако, не входя в мелочное аристотельство,
выдуманное каждым автором для своего творчества, каждым
педантом в своей теории, автор надеется, что будет в согласии с любым умом, и высоким и низким, если составит
литературное искусство
из. двух, совершенно отличных
частей : наблюдение—выражение.
Многие выдающиеся люди одарены талантом наблюдать,
не обладая даром придавать живую форму своим мыслям;
другие же писатели одарены чудесным стилем, но лишены
того проницательного и любознательного духа, что видит
и отмечает все.
Оба эти умственных склада определяют, в известной мере,
литературное зрение и осязание. Одному человеку—действие,
другому—мысль; последний играет на лире, не рождая ни
одной из тех возвышенных гармоний, что вызывают слезы или
раздумье; первый, за неимением инструмента, сочиняет поэмы
только для. себя.
Единение обеих сил образует совершенного человека; но
это редкое и счастливое сочетание не есть еще гений или,
проще, не образует волю, порождающую произведение
искусства.
Кроме этих двух необходимых для таланта условий, встречается среди подлинно философских поэтов или писателей не-
объяснимое, неслыханное нравственное явление, в котором
наука с трудом может дать отчет. Это своего рода второе
зрение, позволяющее им угадывать истину в любых возможных
положениях; или, вернее, какая-то сила, переносящая их
туда, где они должны или хотят быть.' Они вымышляют
правду по аналогии или видят описываемый предмет независимо от того, приходит ли предмет к ним, или сами они
идут к предмету.
Автор довольствуется расстановкой членов уравнения, не
стараясь решить его, ибо ему важно объяснение, а не выведение философской теории.
Итак, прежде чем писать книгу, писатель должен проанализировать все характеры, проникнуться всеми нравами,
обежать весь земной шар, прочувствовать все страсти; или же
страсти, страны, нравы, характеры, явления природы, явления
морали—вое должно пройти через его мысль. Он скуп, или
мгновенно постигает скупость, набрасывая портрет лорда
Думбидикса. Он преступник, постигает преступление, или
призывает и созерцает его, когда пишет Л а р у .
Мы не находим посредствующего члена этой физиолитературной задачи.
Но для тех, кто изучает человеческую природу,, ясно, что
гениальный человек владеет обеими силами.
Он мысленно шагает через пространства с такой легкостью, что все подмеченное им раньше с точностью в нем
возрождается, прекрасное той прелестью или страшное тем
ужасом, что поразили éro при первом знакомстве. Он действительно видел мир, или душа интуитивно открыла его.
Так, самый пылкий и точный поэт Флоренции никогда не
был во Флоренции; так, некий писатель смог великолепно
описать пустышо, ее пески, миражи и пальмы, не отправляясь
из Дана в Сахару.
Обладают ли люди властью призывать мир в свой мозг
или же их мозг это талисман, помогающий преступать
законы времени и пространства?.. Наука долго будет колебаться в выборе между этими двумя тайнами, равно необъяснимыми. Воображение постоянно разворачивает перед поэтом
бесчисленные преображения, подобные волшебным фантасмагориям наших снов. Сон, может быть, естественная игра
этой странной силы в часы бездействия!..
Эти восхитительные способности, которыми люди справедливо восхищаются, бывают у автора более или менее обширны
в зависимости, может быть, от большей или меньшей степени совершенства или несовершенства его органов. Быть
может также, творческий дар-это слабая искра, упавшая
на человека с неба, а преклонение перед великими гениями—
благородная и возвышенная молитва I Если бы это было не
так, то почему бы наше уважение измерялось силой и напряжением сверкающего в них небесного луча? Или же восторг, охватывающий нас перед великими людьми, нужно измерять степенью доставленного нам удовольствия, большей
или меньшей полезностью их произведений?.. Пусть каждый
выбирает между материализмом и спиритуализмом!..
Предисловие
к «Шагреневой
коже». Oeuvres, XXII, 400—402.
ТАЛАНТ И ТРУД
RJPiï2oTrac^KOMH.wCvyCCTBa- - П о 9 3 и я и п Р° эа художественного
XTcïSï
Го^Г„^.Т^'
Пропасть
между
замыслом
и произведением.
— Тяжесть
писательского труда.
- Гибель
таланта
от праздности.
- Случайное™
в тв2£ѵ
честве. — «Врио».
...Постоянный труд столь же является законом искусства,
сколь и законом жизни, ибо искусство—идеализированное
творчество.. Поэтому великие художники, совершенные поэты
не ожидают ни заказов, ни покупателей,-они творят сегодня,
завтра, всегда. Отсюда происходит эта привычка к труду',
это вечное знакомство с трудностями, что и поддерживает
их сожительство с Музой, со своими творческими силами.
Канова проводил жизнь в своей мастерской, как Вольтера
в своем кабинете. Гомер и Фидий, должно быть, жили так же.
.
«Кузина Бетта». Соч., XI, 183.
Внутренняя работа, искания в высших умственных сферах
являются одним из величайших стремлений человека. В Искусстве, понимая под этим словом все создания Мысли, особенно-*
заслуживает славы выдержка,—выдержка, о которой чернь не
подозревает и которая, быть может, впервые разъясняется'
здесь. Под страшным гнетом нищеты, удерживаемой Беттой в
положении лошади, которой надели шоры, препятствующие ей
смотреть по сторонам, подстегиваемый старой девой, олицетворением Необходимости, этого низшего вида Судьбы, Венцеслав, рожденный поэтом и мечтателем, перешел от Замысла
к Выполнению, преодолев неизмеримые бездны, разделяющие
эти два полушария Искусства. Думать, мечтать, замышлять
прекрасные произведения—пленительное занятие. Это все
равно, что курить чарующие сигары, что вести жизнь курти-.
заики, занятой своими фантазиями. Творение является тогда
во всей прелести детства, во всей безумной радости рождения,,
с благоухающими красками цветка и с живыми соками плода,
испробованного заранее. Таков творческий Замысел и его
удовольствия. Тот, кто может словом обрисовать свой план*,
считается уже человеком незаурядным. Этой способностью
обладают все художники и писатели. Но создать; но родить
на свет; но старательно выходить ребенка, всякий вечер
укладывать его, напоив молоком, всякое утро обнимать его
с неистощимой материнской любовью, обмывать его, грязненького, по сту раз переодевать его в самые красивые платьица, которые он непрестанно рвет; но не отвращаться от
судорог этой шальной жизни, а уметь претворить ее в
живой шедевр, который говорит всем взорам—в скульптуре»,
всем умам—в литературе, всем воспоминаниям—в живописи,
всем сердцам—В музыке,—вот в чем заключается Выполнение
и Труд, связанный с ним. Рука должна быть всегда в движении, готовая всегда повиноваться голове. И голова располагает творческими способностями лишь в той же мере, как
любовь хранит свое постоянство.
Эта привычка к творчеству, эта неутомимая любовь Материнства, создающая мать (шедевр природы, столь хорошопонятый Рафаэлем!),—словом, это мозговое материнство, с
таким трудом достигаемое, утрачивается с невероятной легкостью. Вдохновение—счастливая Случайность для Гения. Его
не поймать голыми руками, оно—в воздухе и улетает с недоверчивостью воронов, у него нет повязки, за которую поэт
мог бы его схватить, его волосы—огонь, оно ускользает От
преследования, как эти красивые бело-розовые фламинго, отчаяние охотников. Поэтому творческая работа—утомительная
борьба, которой боятся и которую нежно любят прекрасные
и могучие натуры, часто надламывающие в ней свои силы..
Великий поэт нашего времени говорил об этом ужасающем
труде: «Я принимаюсь за него с отчаянием и покидаю его с
сожалением». Пусть знают это неведаюіцие! Если художник
не бросается в свое творчество, как Курций—в пропасть, как
солдат—на редут, не рассуждая; и если в этом кратере он
не работает, как рудокоп, засыпанный обвалом; если, наконец,
он глазеет на трудности, вместо того, чтобы их побеждать
одну за другой, по примеру тех сказочных любовников, которые, чтобы завоевать свою принцессу, преодолевали чары,
возникающие вновь и вновь,—произведение остается недоделанным, оно гибнет в недрах мастерской, где творчество
становится невозможным и художник присутствует при самоубийстве своего таланта. Россини, этот брат Рафаэля по гению,
являет тому разительный пример, если сопоставить его нищую
молодость с богатством его зрелого возраста. Вот причина
такого воздаяния, такого триумфа, тех лавров, коими венчают
и великих поэтов и великих полководцев.
«Кузина
*
178—180.
Бетта».
Соч.,
XI,
...Проскользнув в лавку, Гортензия сразу же отыскала
тлазами знаменитую группу, выставленную напоказ на столе
прямо против двери. И без тех обстоятельств, которые заинтересовали ее в ней, этот шедевр, вероятно, поразил бы
молодую девушку тем, что можно назвать брио1 великих произведений, ее, которая, конечно сама могла бы позировать
в Италии для Статуи Брио.
Гениальные произведения не все в равной степени обладают этим блеском, этим великолепием, очевидным для всякого
.зрителя, даже для невежды. Так, некоторые картины Рафаэля,
например, знаменитое П р е о б р а ж е н и е , М а д о н н а Фол и н ь о , фрески С т а н ц в Ватикане не вызовут того внезапного восхищения, как Ю н о ш а , и г р а ю щ и й н а с к р и п к е
галлереи Шьярра, портреты Донн и В и д е н и е И е з е к и и л я
галлереи Питти, Н е с е н и е к р е с т а галлереи Боргезе, Обр у ч е н и е б о г о м а т е р и музея Брера в Милане, И о а н н
К р е с т и т е л ь Трибуны, Е в а н г е л и с т Л у к а , п и ш у щ и й
•богом а т е р ь . . из Римской ' Академии не обладают очарованием портрета Львэі X и дрезденской богоматери. И вместе
1
Живость, веселость,
задор
(по-итальянски).
с тем все это равноценно. Более тогоі С т а н ц ы , П р е о б р а ж е н и е , Камайе и три станковые картины Ватикана-предел
высоты и совершенства. Но эти шедевры требуют даже от
самого образованного созерцателя известного рода напряжения, изучения, чтобы быть воспринятыми во всех своих деталях; тогда как С к р и п а ч , О б р у ч е н и е б о г о м а т е р и ,
В и д е н и е И е з е к и и л я сами собой проникают вам в сердце
через двойные двери очей и занимают в нем свое место; вам
радостно их воспринимать без всякого напряжения; тут не
вершина искусства, тут особая удача искусства. Это докавывает, что художественные произведения подвержены таким же случайностям рождения, какие наблюдаются в семьях,
где бывают счастливо одаренные дегги, которые рождаются красивыми и не причиняя мук матери, которым все
улыбается, все удается,—словом, бывают цветы гения, как
и цветы любви.
Это брио,—непереводимое итальянское слово, которое
начинает входить у нас в употребление—характерно для
ранних произведений. Оно—плод живости и дерзновенного
порыва молодого таланта, живости, которая позднее возвращается в иные счастливые часы; но это брио тогда уже не
исходит из сердца художника, и, вместо того, чтобы самопроизвольно воспламенять им свои творения, как вулкан мечет
огни, художник подчиняется ему, он обязан им привходящим
обстоятельствам-любви, соперничеству, часто ненависти, а
еще более—стремлению поддержать свою славу.
_
Группа Венцеслава для его будущих произведений была
тем же, что О б р у ч е н и е б о г о м а т е р и для всего рафаэлева творения, первым шагом таланта, сделанным с неподражаемой грацией, с увлечением детства и милой его переполненностью, с силой ребенка, таящейся под розово-белым
тельцем, с ямочками на щеках, как бы откликающимися на
смех матери. Принц Евгений заплатил, говорят, четыреста
тысяч франков за эту картину, которую не дорого было оы
купить и за миллион стране, лишенной картин Рафаэля, а
никто бы и не подумал дать такую сумму за прекраснейшую
из его фресок, художественная ценность которых, однако,
гораздо выше.
«Кузина
74—75. -
Бетта».
Соч.,
XI,
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА
Относительность художественной оригинальности. — Преемственность т е «
и ситуаций в мировой литературе. — Что такое истинно новое в искусстве»
Жанры — общее достояние. — Сходство
жанров
и
подражательность;
Рискуя быть похожим, по остроумному сравнению одногоавтора, на людей, которые, распрощавшись с обществом, возвращаются в салон, чтобы найти забытую трость, автор
осмелится снова заговорить о себе так, словно и не помещал
четырех страниц в начале книги.
Во время чтения А н а т о л я , одного из очаровательнейших произведений, созданных женщиной, которую, несомненно, вдохновила муза мисс Инчбальд, автору показалось»
что в трех строчках он нашел сюжет Б а л а в Со.
Он заявляет, что ему ничуть не неприятно быть обязанным идеей этой сцены чтению прелестного романа г-жи
Софии Гэ; но он добавит, что, к несчастью для себя,
прочел А н а т о л я лишь недавно, когда его сцена была уже
написана.
:
Не нужно обвинять автора в излишней щепетильности и
предосторожностях, принятых против критики.
Некоторые умы, ополчившиеся против собственных удовольствий и постоянными требованиями новизны побудившие
нашу литературу прибегать к невероятному и выходить из
границ, поставленных ей дидактической ясностью нашего языка
и естественностью, упрекали автора в теш, что в первой из
своих книг. ( П о с л е д н и й Ш у а н , или Б р е т а н ь в 180Q
г о д у ) он воспроизвел уже использованную фабулу.
Не отвечая на столь необоснованную критику, автор
полагает для себя небесполезным засвидетельствовать здесь
крайне презрительное мнение, сложившееся у него о сходстве
новых и старых произведений, которое так мучительно разыскивают бездельники литературы.
Отличительный признак таланта, разумеется, творческая
способность. Но теперь, когда все возможные комбинации как
будто исчерпаны, все ситуации обработаны, все невозможное
испытано, автор твердо уверен, что отныне только детали
будут составлять достоинство произведений, незаслуженно
называемых романами.
Если бы у автора было время следовать по пути доктора
Матаназиуса, ему нетрудно было бы доказать, что лишь
в немногих работах лорда Байрона и сэра Вальтера Скотта
первоначальный замысел принадлежит им самим и что Буало
не был автором стихов своего П о э т и ч е с к о г о и с к у с ства.
Кроме того, он думает, что предпринимать изображение
исторической эпохи и забавляться поисками новых фабул—«
это значит придавать больше значения раме, чем картине.
Он будет преклоняться перед теми, кому удастся совместить
оба качества, и желает, чтобы это удавалось им часто.
Если автор имел нескромность присоединить к книге эту
заметку, то думает заслужить прощение тем, что отвел ей
столь скромное место; впрочем, он уверен, что ее никто не
прочтет, даже лица заинтересованные.
Послесловие к первому изданию «Сцен из частной жизни».
Oeuvres, XXII, 380—381.
1830 г.
*
...Я действую слишком откровенно, чтобы вы не разрешили
мне представить вам соображение, весьма меня поразившее.
Вы, быть может, легкомысленно обвиняете молодую литературу в том, что она стремится к подражанию иностранным
шедеврам. Не думаете ли вы, что фантастика Гофмана
присутствует скрыто в М и к р о м е г а с е , который в свою
-очередь существовал уже у Сирано де Бержерака, откуда
Вольтер его и взял? Жанры принадлежат всему миру, и немцы
имеют не больше преимущественных прав на луну, чем мы на
солнце или Шотландия на оссиановские туманы. Кто может
назвать себя изобретателем? Я, действительно, не был вдохновлен Гофманом, которого узнал уже после того, как обдумал
свое произведение; но тут есть нечто более серьезное. У нас
нет патриотизма, и, нападая друг на друга, мы подрываем
свою национальность и литературное первенство. Разве англичане сказали сами, что П а р и з и н а это расинова Ф е д р а ,
разве швыряли они друг в друга иностранными литературами,
чтобы задушить свою собственную? Нет, последуем их
примеру."
2Ь августа 1831 і.
Из письма Шарлю де Бернар.
Oeuvres, X X I V , 91.
АРТИСТИЧЕСКИЙ СКЛАД ХАРАКТЕРА
Великое значение художников в прогрессе человечества.—Что такое художник в широком смысле с л о в а . — Меркантильные причины современного
равнодушия к и с к у с с т в у . — Артистический склад натуры. — Особенности
поэтического вдохновения. — Причины широкого образа жизни художн и к о в . — Х у д о ж н и к и мещанская п р а к т и ч н о с т ь . — Х у д о ж н и к и п у б л и к а . —
Вечная трагедия новаторов и с к у с с т в а . — Буржуазные требования «существенности» в поэзии. — Бескорыстие истинных артистов.
О
ХУДОЖНИКАХ
Во Франции мысль заглушает чувство. Из этого национального порока происходят все беды, постигающие наше
искусство. Мы великолепно понимаем искусство, как таковое,
мы не лишены известной способности оценивать его произведения, но мы их не чувствуем. Мы отправляемся в Комедию
или в Салон, потому что так велит мода; мы аплодируем,
рассуждаем со вкусом; и, уйдя оттуда, остаемся при старом
разбитом корыте. Из ста человек с трудом можно найти
четырех, способных отдаться очарованию трио, каватины или
найти в музыке отдельные отрывки своей истории, мысли о
любви, свежие воспоминания юности, сладостную поэзию. Наконец, почти все посетители Музея довольствуются общим
осмотром, и редко-редко увидишь человека, погруженного
в созерцание произведения искусства. Быть может, этим непостоянством ума, принимающим движение за цель, страстью
к переменам, жадностью к зрительным впечатлениям мы обязаны той роковой стремительности, с какой наш климат в
течение нескольких дней сменяет над нами серое небо Англии,
туманы Севера, сверкающее солнце Италии? Не знаю. Быть
может, наше национальное воспитание еще не закончено и
чувство искусства недостаточно развито в наших нравах?
Быть может, мы усвоили пагубную привычку предоставлять
газетам заботу судить об искусстве; возможно также, события,
отделяющие нашу эпоху от Ренессанса, так истерзали нашу
родину, что искусство не смогло в ней расцвести. Мы были
слишком заняты войнами, чтобы отдаться беспечному существованию художника; быть может, мы никогда не понимали
людей, одаренных творческой силой, оттого что они вступали
в дисгармонию с нашей растущей цивилизацией. Эти предварительные замечания были подсказаны нам обычным во
Франции неуважением к людям, которые создали славу
нации.
Человек, повелевающий мыслью,—самодержец. Короли ч
правят народами в течение определенного времени; худож-*
ник правит целыми веками; он изменяет лицо вещей;
бросает революцию в литейную форму, мнет и формует
земной шар.
Таковы были Гутенберг, Колумб, Шварц, Декарт, Рафаэль,
Вольтер, Давид. Все они художники, ибо они творили, направляли мысль на новое производство человеческих сил, на новое
сочетание элементов природы; физической и духовной. Художник связан нитями—более или менее тонкими, узами,—более
или менее интимными, с (нарождающимся движением. Он—несбходимая часть огромной машины, независимо от того, обдумывает ли ой какую-нибудь доктрину или вызывает дальнейший
прогресс искусства в целом. Потому-то уважение, оказываемое
умершим великим людям или вождям, должно относиться и
к этим отважным солдатам, которым нехватало, быть может,
самой малости, чтобы стать командирами. Откуда же в столь
просвещенный век, как наш, могло появиться такое пренебрежение к артистам, поэтам, художникам, музыкантам, скульпторам, архитекторам? Короли бросают им кресты, ленты, безделушки, день ото дня теряющие ценность, отличия, ничегоне дающие художнику; скорее он придает им цену, чем получает что-нибудь от них. Что же касается денег, то никогда
искусство не имело от правительства меньше, чем теперь»
Презрение это не новость. Как-то за ужином маршал де Ришелье упрекнул Людовика XV в равнодушии к великим людям его царствования; он привел в пример Екатерину и короля Прусского.
, -г- Я принял бы,—возразил король,—Вольтера, Монтескье,
Руссо, д'Аламбера, Берне (Людовик XV насчитал по пальцам человек двенадцать); с такими людьми нужно жить ь
мире и дружбе 1
Потом, с жестом отвращения:
— Я уступаю слово королю Пруссии,—добавил он.
Давно уже забыли, что Юлий II принимал Рафаэля в своем
дворце, что Лев X хотел сделать его кардиналом, что некогда
короли обращались с принцами мысли, как равные с равными»
Наполеон, из прихоти или по необходимости не любивший,
когда способные люди возбуждали волнение в массах, сознавал, однако, свой долг императора достаточно, чтобы предложить миллионы и сенаторское пожалование Канове; чтобы,
вскричать при имени Корнеля: «Я сделал бы его принцем»;
•чтобы назначить, на худой конец, Ласепеда и Нефшато сенаторами; чтобы посещать Давида; чтобы основать десятилетние
премии и заказывать монументы. Откуда же могло произойти
такое беззаботное отношение к художникам? Нужно ли искать
причины в распространении просвещения, которое оплодотворило человеческий ум, почву, промышленность и, умножив
в наш век число людей, обладающих суммой знаний, сделало
необычайные явления более редкими? Нужно ли привлекать
к ответу конституционное правительство, этих четырехсот
собственников, торговцев или адвокатов, которые не поймут
никогда, что нужно послать тысячу франков художнику, как
послал Франциск I Рафаэлю, за что тот, в знак признательности, написал для короля Франции единственную картину,
вышедшую целиком из-под его кисти? Нужно ли упрекать в
этом экономистов, которые требуют хлеба для всех и пар пред*
почитают краскам, как сказал бы Шарле? Или, быть может,
причины этого неуважения нужно искать в нравах, характерах,
привычках художников? Виновны ли они, что не желают подражать поведению шапочника с улицы Сен-Дени? или же достоин порицания промышленник, не понимающий, что искусство—это одежда нации, и, следовательно, художник стоит
шапочника?
Неужели забыли, что, начішая с фрески и скульптуры,
которые являются живой историей, выражением времени, языком народов, кончая карикатурой (если говорить об одном
только роде искусства), искусство—это могучая сила? Кто
не помнит сатирическую гравюру, появившуюся в 1815 году,
где полк (не будем называть его имени), изображенный в
виде стульев, восклицает: «Мы ждем лишь людей, чтобы броситься вперед!» Эта карикатура имела необычайное, влияние»
Когда деспотическая власть больна, она падает и от меньших
причин;
Может быть, изучив все эти причины и обсудив каждую
мелочь, можно прийти к новым соображениям относительно
положения художников во Франции... Попробуем.
Начнем с соображений, так сказать, лично касающихся
художника в поднятом нами немаловажном вопросе о достоинстве искусств. Многие социальные трудности исходят от
художника, ибо все непохожее на толпу коробит, стесняет и
раздражает толпу.
Завоевал ли художник свою власть, упражняя способность,
свойственную всем людям; порождается ли его могущество
уродством мозга и гений является человеческим недугом,
как жемчуг болезнью раковины; отдает ли он всю свою
жизнь разработке одного текста, одной единственной мысли,
запечатленной в нем богом,—общепризнанно, что сам он не
посвящен в тайну своего дарования. Он действует под влиянием определенных обстоятельств, сочетание которых окутано
тайной. Он не принадлежит себе. Он игрушка крайне прихотливой силы.
Когда-нибудь, незаметно для него, повеет ветерок, и вдруг
оказывается, что тетива спущена. За целое королевство, за
миллионы не прикоснется он к кисти, не разомнет ни кусочка
воска для отливки, не напишет ни строчки; а если и попробует, то не он будет держать кисть, воск шіи перо, а)
другой, его двойник, его созий—тот, что ездит верхом, сочиияет каламбуры, хочет пить, спать, у кого ума хватает
лишь для придумывания сумасбродств.
Но вот вечером, посреди улицы, утром, в час пробуждения,
или в разгар веселого пира пылающий уголь коснется его
мозга, рук, языка; внезапно слово пробуждает мысли; они
родятся, растут, бродят. Трагедия, картииа, статуя, комедия
показывают свои кинжалы, краски, контуры, сценические
трюки. Это видение, столь же преходящее и краткое, как
жизнь и смерть; это глубоко, как пропасть, возвышенно,
как шум моря; это ослепительное богатство красок; это
группа, достойная Пигмалиона, женщина, обладание которой
убило бы сердце самого сатаны; ситуация, способная рассмешить умирающего. Приходит труд и зажигает все печи;
молчание, одиночество открывают свои сокровища; нет ничего
невозможного. Экстаз творчества заглушает раздирающие
муки рождения.
•
Таков художник: жалкое орудие деспотической воли, он
подчиняется хозяину. Когда он кажется свободным—он раб;
когда по видимости он действует, отдается огню безумств
и наслаждений—он бессилен, безволен, он мертв. Вечная антитеза, кроющаяся в величии его могущества, как и в небытии
его жизни: всегда он бог или труп.
Существует масса людей, спекулирующих плодами мысли.
Большинство из них жадны. Но надежду, набросанную на
бумаге, никогда не удается реализовать достаточно быстро.
Отсюда обещания, расточаемые художниками и так редко
выполняемые; отсюда обвинения, ибо люди, занятые денежными делами, не понимают людей мысли. Светские люди воображают, будто художник может творить регулярно, как
конторский мальчик, ежедневно смахивающий пыль с бумаг
чиновников. Отсюда тоже несчастья.
Действительно, часто идея равна сокровищу; но идеи эти
так же редки, как алмазные россыпи на земном шаре. Их
нужно долго искать, или, пожалуй, даже ждать; нужно плыть
по безбрежному океану раздумья и забрасывать в воду
грузило.
Произведение искусства—это идея столь же могущественная, как идея, породившая лотерею, как физическое наблюдение, подарившее нам пар, как психологический анализ,
заменивший системы координации и сравнения фактов. Итак,
все проявления интеллекта идут вровень, и Наполеон столь
же великий поэт, что и Гомер; он творил поэзию, а второй
вел бои. Шатобриан был не менее великим живописцем, чем
Рафаэль, а Пуссен был таким же великим поэтом, как Андрэ
Шенье.
!
Но для человека, погруженного в неизведанную сферу
вещей, не существующих для пастуха, который, вырезывая
прелестную женскую фигуру из куска дерева, говорит: «Я обтешу ее I»—другими словами, для художников—внешний мир
ничто! Они всегда неточно рассказывают о том, что видели
в чудесном мире мысли. Корреджо опьянялся счастьем созерцать свою мадонну, сияющую лучезарной красотой, задолго
до того, как сотворил ее. Он отдал вам ее, надменный султан,
лишь упоительно насладившись ею. Когда поэт, художник,
скульптор наделяют мощной жизнью свое произведение, это
значит, что замысел возник в момент творчества. Лучшие работы художников именно таковы, тогда как произведения, которыми они особенно дорожат, напротив, оказываются самыми
слабыми; художник заранее слишком сжился с их идеальными
образами. Он слишком много чувствовал, чтобы выражать.
Трудно передать счастье, испытываемое художниками в
этой погоне за идеями. Говорят, что Ныотон как-то утром •
глубоко задумался; на следующее утро его застали в той же
„ позе, а он и не заметил, что прошли целые сутки. Подобные же факты рассказывают о Лафонтене и Кардане.
Эти услады вдохновения, свойственные художникам, являются, после капризного непостоянства их творческих сил,
второй причиной, навлекающей на них общественное осуждение аккуратных людей. В часы беспамятства, во время долгой
охоты ничто человеческое их не трогает, никакие денежные
соображения их не волнуют: они забывают все. В этом смысле
слова г-на Корбьера верны. Да, очень часто художнику нужны
лишь «чердак да хлеб». Но после долгих странствований
мысли, после жизни в многолюдных пустынях, в волшебных
дворцах он, больше чем кто бы то ни было, нуждается в
средствах развлечения, созданных цивилизацией для богачей
и бездельников. Принцесса Леонора, подобная той, что Гёте
создал рядом с Тассом, должна оправлять их золотые мантии
и кружевные воротники. Неумеренное пользование властью
вдохновенья, долгое созерцание своей цели—вот что приводит
1
великих художников к нищете.
•
Если есть подвиг, достойный человеческой признательности—это преданность женщин, посвятивших себя заботам
об этих сынах славы, о слепцах, которые владеют миром
и не имеют куска хлеба. Если бы Гомер встретил свою Антигону, она разделила бы его бессмертие. Фориарина и г-жа де
ла Саблиер умиляли всех друзей Рафаэля и Лафонтена.
Итак, прежде всего художник не является, по выражению
Ришелье, человеком из свиты и не обладает почтенной жаждой богатства, одушевляющей все мысли торговца. Он гонится
за деньгами в случае непосредственной нужды. Ибо скупость
означает смерть гения: душа творца должна быть слишком
благородна, чтобы столь низменное чувство нашло в ней
/место. Его гений—вечный дар.
'
Во-вторых, в глазах толпы он лентяй; эти две странности,
неизбежные следствия неумеренной работы мысли, считаются
пороками. К тому, же талантливый человек—почти всегда *
выходец из народа. Сын миллионера или патриция, выхолен-
ный, сытый, привыкший жить в роскоши, мало расположен
избрать поприще, пугающее трудностями. Если и обладает он
чувством искусства, чувство это рассеется в преждевременных
наслаждениях благами общественной жизни. Итак, два основных порока талантливого человека становятся тем более отвратительны, что они кажутся, в силу его положения в свете,
результатом лени и добровольной нищеты; ибо часы его работы называют ленью, а его бескорыстность—трусостью.
Но это еще ничего. Человеку, привыкшему превращать
свою душу в зеркало, где отражается целый мир, где появляются по его воле страны и их нравы, люди и их страсти,
такому человеку, конечно, нехватает того рода логики, того
упрямства, что обычно называют характером. Он немного
распутен (да простят мне это выражение). Он увлекается,
как дитя, всем, что его поражает. Он все понимает, все
изведывает. Эту способность видеть обе стороны человеческой медали толпа называет ложными суждениями. Так, художник будет трусом в сражении, отважен на эшафоте; он
может любить свою любовницу до поклонения и покинуть ее
без видимой причины; он простодушно выскажет свою мысль
о пустяках, обожествленных увлечением и восторгами глупцов; он охотно будет защитником любого правительства или
безудержным республиканцем. В том, что люди называют
характером, он проявляет непостоянство, правящее его творческой мыслью; он охотно отдает свое тело игре житейских
событий, ибо душа его парит непрестанно. Он шествует,
головой касаясь неба, а ногами попирая землю. Это дитя,
это исполин. Какое торжество для царедворцев, просыпающихся с навязчивой идеей, посмотреть, как человек надевает
рубашку, или отправиться для своих низких интриг к министру,—эти постоянные контрасты в человеке низкого происхождения, бедном и одиноком. Они подождут, пока он
умрет и станет королем, чтобы следовать за его гробом.
Это еще не все. Мысль есть нечто противоестественное.
В раннем возрасте мира человек был существом чисто внешним. Искусство же есть излишество мысли. Мы этого не замечаем; подобно наследникам, получившим огромное состояние, не подозревая, с каким трудом оно досталось родителям,
мы приняли завещание двадцати веков; но если мы хотим
полностью понять художника, беды и невзгоды его земного
существования, то не должны упускать из виду, что в искусстве есть нечто сверхъестественное. Никогда даже самое прекрасное произведение не может быть понято. Его простота
отталкивает, ибо ценителю нужно нечто загадочное. Наслаждения, достигнутые знатоком, сокрыты в храме, и первый встречный не всегда сумеет сказать: «Сезам, отворисьI»
Чтобы выразить более логично это замечание, которому,
ни художники, ни профаны не уделяют должного внимания,
мы попытаемся показать цель произведения искусства.
Когда Тальма, произнося одно только слово, объединял
души двух тысяч зрителей в порыве единого чувства, это
слово было как бы огромным символом, это было слияние всех
искусств. В одном выражении он заключал всю поэзию эпической ситуации. Для любого воображения тут находились
картина или история, пробужденные образы, глубокие пережи• вания. Таково произведение искусства. На небольшом пространстве оно дает поражающее средоточие целого мира
• мыслей, своего рода вывод. Глупцы же, а их большинство,
желают увидеть произведение искусства сразу. Они не знают
даже слов Сезам, отворись, но они любуются дверью. Потомуто добрые люди ходят не больше одного раза в Итальянскую
оперу или в Музей и клянутся, что больше йх туда не
заманишь.
Художник, чья миссия улавливать самые отдаленные связи, достигать чудесных эффектов сближением двух заурядных вещей, часто должен казаться безрассудным. Там, где вся
публика видит красное, он видит голубое. Он так близок
к тайным причинам, что радуется несчастью, проклинает красоту; он восхваляет порок и защищает преступление; в нем
видны все симптомы безумия, ибо применяемые им средства
кажутся настолько же далекими от цели, насколько они близки
к ней. Вся Франция издевалась над ореховыми скорлупками
Наполеона в Булонском лагере, а пятнадцать лет спустя мы
поняли, что никогда Англия не была так близка к гибели.
Вся Европа узнала тайну самого дерзкого замысла этого
гиганта, лишь когда он пал. Так талантливый человек десять %
раз на день может показаться простаком. Люди, блистающие
в салонах, изрекают, что он годен лишь прислуживать в
лавке. Его ум дальнозорок; он не замечает столь важных
в глазах света мелочей, которые окружают его в то время,
как он беседует с будущим. И вот, жена принимает его
за глупца.
Время, отделяющее появление в печати первых наших
статей от настоящей, вынуждает нас вкратце разюмировать,
так сказать, их сущность.
Сначала мы пытались дать понять, насколько всеобъемлюща
и длительна власть художника, показав вместе с тем откровенно нищету, в которой проводит он жизнь, полную трудов и
скорби,—почти всегда непризнанный, бедный и богатый, критикующий и критикуемый, полный сил и изнеможенный, вознесенный успехом и отверженный.
Затем мы исследовали: 1) причины пренебрежения к художнику со стороны великих мира сего, которые опасаются
его, ибо аристократизм и власть таланта гораздо реальнее
аристократизма имен и материального могущества; 2) причины беззаботного отношения к нему, проявляемого и ограниченными умами, не понимающими его высокого назначения, и пошлыми людьми, которые его боятся, и людьми
религиозными, которые его отлучают от церкви.
Мы стремились показать, рассматривая художника, то
как творца, то как творение, что сам он является немалым
препятствием к своему общественному признанию. Все отталкивают человека, который в своем стремительном прохождении к сердцу мира сминает людей, предметы, идеи. Мораль
этих наблюдений может быть изложена в двух словах:
• великий человек всегда несчастен. Потому-то покорность для
него высшая добродетель. В этом отношении Христос—величайший образец. Этот человек, принявший смерть в награду
за божественный свет, которым озарил землю, поднятый на
крест, где человек обратился в бога, являет непревзойденное
зрелище: это больше, чем религия; это вечный образ человеческой славы. Данте в изгнании, Сервантес в госпитале,
Мильтон в хижине, Корреджо, задыхающийся под тяжестью медяков, непризнанный Пуссен, Наполеон на острове
Святой Елены—вот образы величественной и божественной
картины, где представлен Христос на кресте, умирающий,
чтобы воскреснуть, оставляющий смертное тело, чтобы царить
в небесах. Человек и бог: сначала человек, потом бог; человек
для большинства; бог для немногих верующих; непонятый,
потом
сразу
обожаемый; наконец, ставший богом,
лишь
« с ѵ н ~ МЫ увидим, что одной из них было бы достаточно
^ля исключения его из окружающего внешнего мира. ДеиС ™ Ь Н Г Х У Д О Г И К
прежде всего апостол некоей истины
^ ^ е в ы ш н е г о , который пользуется им, чтобы дать новое
пазвитиГ д а д , свершаемому нами вслепую. Однако история
ЧЯ
з
S
тшяюших почетное положение, провозглашает,
а
s
=
?
Ä
S
r
K S T Ü
Sкяния
ч т о «
церкви. Но
ä
s
t
r
f
-
s
s
r
=
e
S Ä - S S w
S
художник-это религия.
-
іто суще
s
—
Как и
r
s
^
s
s
s
S
священш>
ил/яство их снова объединяет. Если первое их побуждение
То зГисть эта-доказательство их страсти к искус-
сгву; но вскоре они слышат внутренний голос, сильный и
правдивый, и он диктует им справедливые суждения и 'добросовестные восторги. К несчастью, люди поверхностные и
лукавые,
модники, которые любят только смеяться и в
своем бессилии рады осуждать других, подхватили их ошибки;.
и из самых мирных споров, возникающих между художниками,
вытекает довод, излагаемый светскими людьми так: «Как прикажете прислушиваться к людям, которые сами не могут
сговориться!..»
А из этой аксиомы, выдвинутой посредственностью, проистекает новое несчастье, с которым подлинный художник борется неустанно. Действительно, публика, стадный люд, привыкла следовать приговорам тупого сознания, украшенного
именем vox populi 1 . Так же как в политике, литературе или
морали, искусный человек формулирует систему, идею, факт
в одном слове, которое является для масс наукой и высшим
разумом, так и в (искусстве так называемым знатокам, восхищающимся на честное слово, требуются общепринятые шедевры. Например, толпа знает, что не ошибется, хваля Жерара, он приводит ее в восторг, как приводил в восторг
Буше; но пусть появится безвестный талантливый человек и.
выступит с обширным мощным произведением, которое, очевидно, изменяет принятые рамки,—на него никто не обратит
ни малейшего внимания. Если он не появляется с барабанным
боем, шутовством, насмешками и флагом, он может умереть
от голода и нищеты наедине со своей музой. Буржуа пройдет
мимо статуи, картины, драмы так же холодно, как мимо
'кордегардии; а если истинный знаток остановит его и Попытается воодушевить, этот человек способен з'бедить вас»
что искусство не поддается определению. Он непременно требует, чтобы во всем этом было что-нибудь существенное»
«Что это доказывает?»—скажет он по примеру одного знаменитого математика. Итак, помимо препятствий, создаваемых в обществе для художника всеми его недостатками и достоинствами, против него выступает само искусство: если не
его собственная особа, то его религия приводит его к отлучению.
1
Глас народа (по-латыни\
s
a
s
=
г
Н
tara? Как внушить невежественной массе, что есть
»
НИЛ г іъал
j
кооется Ллишь в словах, в му
независимая от идеи, что она кроете
поэзия
S
«Клянусь всем,
" ^ ^ а з ь ,
соГадающие по идее,
вые, я невиновен»,-вот две фразы, совпада щ д
одна принадлежит
™ ^ Д ~ « н н о Г з а п е очаровывает. Есть в этих слотах не
вульгарной»
чатленное в них трудом.
д е ш і не
Тепеоь пѵсть произнесет англичанин, «пснцу д
пусть прибережет ю в богэтства
узы, с о е д и н я й т е /юдей С
тся
словах может
жестом;
зазвучать
драма^которой' о м стуж'ат завязкой. Развиваясь, фраза мо~
В С — Г д Г о обстоит так
І . "
всех искусствах; она образуется из нескойхих качеств^ц
композиция, экспрессия. Художник уже ^ Щ и п о в п р е крас- Г Г ™
Г
п б е Ы б Г д И а н о о б в и н и т ь их всех на
Ж е Т
0
б
Т
т
~
Л
—
„а земле так, словно « .
будет лазурным. Ярко
задумает написать „
" Т и ^ р у
=
он н а ^ п т г идеальЭго
будет со-
мирная дала, чарующая кротость..
Вы заблудитесь в бескрайнем лабиринте своих мыслей. Это
бесконечное путешествие, восхитительное и неясное.
Рубенс изобразит ее великолепно одетой; все ярко, живо;
вы словно касались этого тела, вы любуетесь мощью И богатством—это королева мира. Вы думаете о власти, вы захотите обладать этой женщиной.
Рембрандт погрузит мать спасителя в мрак хижины. Тень
и свет будут так неотразимо правдивы, так реальны будут
ее черты и все проявления обычной жизни, что вы остановитесь, как зачарованный, перед этой картиной, ; вспоминая свою
мать и вечер, когда застали ее в темноте и молчании.
Миньяр пишет мадонну. Она так прелестна, так остроумна,
что вы улыбнетесь, вспомнив возлюбленную дней своей
юности.
<
Как может художник надеяться, что все эти тонкие, легкие оттенки будут уловлены? Разве людей, занятых богатством, наслаждениями, коммерцией, управлением, можно убедить, что столько разнородных произведений достигли, каждое в отдельности, цели искусства? Подите поговорите с
этими умниками, непрестанно терзаемыми манией единообразия, которые хотят одинакового закона для всех, как одинаковой одежды, одинакового цвета, одинаковой доктрины, которые рассматривают общество, как огромную казарму! Одни
требуют, чтобы все поэты были Расинами, ибо Жан Расин уже
существовал, тогда как, исходя из его существования, нужно
бы выступить против подражания его манере, и т. д. и т. д.
Несмотря на то, что, связанные рамками газеты, мы
недостаточно развили свои мысли, надеемся, нам все же удалось доказать некоторые истины, которые имеют значение
для счастья художников и которые можно было бы свести
к аксиоме. Итак, каждый человек, которого труд или природа одарили творческой силой, никогда не должен забывать, что нужно культивировать
искусство ради самого
искусства; не должен требовать от него других услад, помимо тех, которые оно дает, других сокровищ, помимо тех,
которые роняет оно в тишине и уединении. Наконец, великий художник должен всегда оставлять свое превосходство
за дверьми, когда появляется в свете, и не защищать себя
-сам, ибо, кроме времени, есть над нами помощник более сильный, чем мы. Творить и бороться, для этого нужны две че-
ловеческие жизни, а мы никогда не бываем настолько сильны,
чтобы свершить две судьбы.
Дикари и народы, наиболее близкие к природному состоянию, проявляют больше величия в отношениях с высшими людьми, чем самые цивилизованные нации. У них существа, одаренные вторым зрением, барды, импровизаторы,
считаются особыми творениями. А художники занимают почетное место на празднествах, все помогают им, уважают их
наслаждения, равно как их сон и старость. Такие явления
редки у цивилизованной нации, а чаще всего, когда загорается свет, его спешат погасить, ибо принимают за пожар.
1830
г
'
«О художниках».
Oeuvres, XXII, 143—156.
ЛИЧНОСТЬ ПИСАТЕЛЯ И ЕГО
Личный х а р а к т е р писателя и W
W
™
™
*
ТВОРЧЕСТВО
™
*
'
-
Поэты субъектив-
Сѵществует несомненно много авторов, чей личный характер ярко отражается в природе их сочинений-тут произведение и человек одно и то же; но есть другие писатели, чья
душа и нравы резко противоречат форме и содержанию их
творчества; такім образом, нет никакого положительного
п З Т д а распознавания той или иной степени сродства
между излюбленными мыслями художника и фантазиями его
^
согласие или эти несоответствия порождены нравственной природой, столь же прихотливой, столь же скрытой
в своих играх, как природа фантастична в капризах деторождения. Производство организованных существ и идеи—
две непонятные тайны, а сходство или полное различие, существующее между этими двумя видами творении и их авторами, мало что говорят за или против отцовских прав.
Петрарка, лорд Байрон, Гофман и Вольтер были людьми
своего гения, тогда как Раблэ-человек умеренныи-опровергал излишества своего стиля и образы своей книги... Он пил
воду, восхваляя молодое вино, как Брийа-Саварен ел очень
немного, прославляя обильное угощение.
Так было и с самым оригинальным из современных авторов, которым может гордиться Великобритания: Матюр.ен,
священник, подаривший нам Е в у , М е л ь м о т а , Б е р т р а м а ,
был кокетлив, любезен, чтил женщин, и по вечерам человек,
творящий ужасы, превращался в дамского угодника, в дэнди.
То же с Буало, чьи мягкие, изысканные беседы ничуть не
соответствовали сатирическому духу его дерзкого стиха.
Большинство грациозных поэтов весьма беззаботно относились к собственной грации, подобію скульпторам, которые
неустанно стремятся идеализировать прекраснейшие человеческие формы, выразить сладострастие линий, сочетать
отдельные черты красоты, а сами почти все довольно плохо
одеваются, презирают украшения и хранят образ прекрасного
в своей душе, не обнаруживая ничего вовне.
Нетрудно умножить примеры характерных разладов и
связей между человеком и его мыслью; но это двойное
явление так бесспорно, что было бы ребячеством настаивать на нем.
Разве была бы возможна литература, если бы благородное сердце Шиллера имело что-либо общее с Францом Моором, ужаснейшим созданием, злодеем, самым закоснелым из
всех, когда-либо выведенных драматургом на сцену?.. Разве
самые мрачные из трагических авторов не были обычно
людьми кроткими и патриархальных нравов? Свидетель—достойный Дюси. Даже теперь, взглянув на того из наших
Фаваров, кто с наибольшей тонкостью, изяществом и умом
передает неуловимые оттенки наших ничтожных буржуазных
Нравов, вы приняли бы его за славного крестьянина из области Бос, разбогатевшего на торговле быками...
1831 г.
Из предисловия к первому
изданию «Шагреневой кожи».
Oeuvres, XXII, 396—397.
ХУДОЖНИК И ОБЩЕСТВО
Мнимый эгоизм х у д о ж н и к а . — Аскетический х а р а к т е р его жизни. — Одиночество х у д о ж н и к а в светском обществе. — Равнодушие б у р ж у а к судьбе
х у д о ж н и к а . — Х у д о ж н и к и современная женщина. — Вред буржуазного
покровительства
т а л а н т о в . — Система к о н к у р с о в . — Упадок
истинного
соревнования талантов в девятнадцатом в е к е . — Пагубность уничтожения
салонов.
Ни лорд Байрон, ни Гёте, ни Вальтер Скотт, ни Кювье,
ни изобретатели не принадлежат самим себе, они рабы своей
идеи, а эта таинственная сила более ревнива, чем женщина,
она их поглощает, она заставляет их жить или умереть ради
своей пользы. Только внешнее развитие этой скрытой жизни
по своему результату походит на эгоизм; но как осмелишься назвать эгоистом человека, который посвятил свою
жизнь наслаждениям, образованию или возвеличению своей
эпохи? Разве можно сказать, что мать охвачена самолюбием,
когда она жертвует всем для своего ребенка?.. И сами хулители гения не видят его плодоносной, производительной
способности,—вот и все. Жизнь поэта есть непрестанная
жертва, ему нужна организация великана, чтобы он в состоянии был предаваться еще удовольствиям обыденной жизни;
каким несчастиям не подвергается он, когда, подобно Мольеру, вздумает жить чувством, изображая это чувство в моменты самых мучительных кризисов, п<лшу J ^ ™ " ™
взгляд, комизм Мольера, если его применить к частной жизни
писателя, способен внушить ужас.
«Модеста Миньон». Соч., изд.
Пантелеева, IV, 92.
•
Венцеслав Стейнбок стоял на тернистом пути этих великих людей на пѵти, ведущем к вершинам славы, когда лизбета Ішточила его в макарде. Счастье в образе Гортензии
вернуло поэта к лени, нормальному состоянию всех худржшшов, ибо их лень есть тоже своего рода занятие. Э т о наслаждение паши в серале: они лелеют свои идеи упиваются
Y истоков мысли. Большие художники, вроде Стеинбока, одор•жймые мечтой, справедливо именуются мечтателями. Эти
кгоилыцики опиума все впадают в нищету, между тем как
в суровых жизненных условиях они стали бы великими
людьми. Но эти полухудожники очаровательны, все их любят,
все их захваливают, они кажутся выше истинных художников, обвиняемых в индивидуализме, в дикости, в бунте
против законов общества. И вот почему. Великие люди принадлежат своим творениям; их отрешенность от всего, их
преданность труду делают их эгоистами в глазах невежд ибо
люди хотят их видеть в облике дэнди, выполняющих социальные эволюции, именуемые светскими обязанностями. Они хо' тели бы, чтобы африканские львы были причесаны и надушены,
как болонки маркизы. Эти люди, которые насчитывают мало
себе подобных и редко встречают таких, как они, обречены на
полное одиночество; они становятся непонятны для большинства, состоящего, как известно, из дураков, завистников, невежд и поверхностных людей.
«Кузина Бетта». Соч., XI,
183—184.
*
Нельзя отрицать при виде той страстности, с какой люди
читают автографы, чтобы знаменитость не возбуждала живого
общественного любопытства. Бблыная часть людей, живущих
в провинции, очевидно, не дает себе ясного отчета в том,
какие способы употребляют знаменитые люди, чтобы завязать себе галстук на шее, пройтись по бульвару, поротозейничать или съесть котлету, потому что, когда они видят человека, осененного лучами моды или же сияющего славою,
которая более или менее скоропроходяща, но все-таки возбуждает зависть, одни из них говорят: «О! вот это так!» или
же: «Это смешно!» и тому подобные странные замечания.
Одним словом, того особого очарования, которое порождает
всякая слава, даже справедливо заслуженная, не существует
на свете. Для людей поверхностных, зубоскалов или завистников впечатление, производимое ею, исчезает, как молния, и не повторяется больше. И кажется, что слава, подобно
солнцу, светла и тепла на расстоянии, а если подойти к ней
поближе, то она оказывается холодна, как вершины Альп.
Может быть, человек представляется действительно великим
только в глазах людей, равных ему; может быть, недостатки,
присущие человеческой доле, скорее исчезают в глазах этих
. людей, чем в глазах вульгарных поклонников. Чтобы по• стоянно нравиться, поэт принужден прибегать к фальшивым
любезностям обыкновенных людей, которые делают так, что
все готовы простить им их неизвестность благодаря, любезному обращению и угодливым речам; ведь каждый помимо
таланта требует от поэта и низменных качеств, нужных для
гостинной и для семьи.
«Модеста Миньон». Соч., изд„
Пантелеева, IV, 196.
*
...Взгляните, как все общество объединяется, чтоб изолировать высшие натуры, как оно гонит их к высотам! Наши
подруги, которые должны быть с нами исключительно добры
и нежны, не должны никогда осуждать нас, делать из мухи
слона и из слона муху,—они же терзают нас фантастическими
требованиями, осыпают нас булавочными уколами по пустякам,
требуют доверия к себе и не чувствуют его к нам; они не
хотят внести в свои чувства то величие, что сразу выделяет
их. Оно не отвлекает их, как нас, от всей земной грязи. Поддержка, которую мы оказываем слабым,—точно отдохнувшая
лошадь, еще стремительнее мчит нас к безвыходным материальным затруднениям. Равнодушные верят клевете, которую
повторяют завистники, а создают враги. Никто не приходит
к нам на помощь. Массы не понимают нас; люди высшие не
имеют времени читать и защищать нас. Слава озаряет могилу,
потомство не приносит доходов, и мне хочется воскликнуть,
как тот country gentelman
который, слыша, что в спорах
•постоянно говорят о потомстве, поднялся на трибуну и сказал: «Я слышу, как постоянно говорят о потомстве; мне
хотелось бы знать, что уже сделала эта сила для Англии!»Бальзак—Ганской, 22 октября 1836 г.
Lettres à l'Etrangère, 355—356*
Таким образом, все пылкие и живые гении, вынужденныеопираться на независимость нищеты, должны покидать ту
холодную область, где мысль преследуется грубым равнодушием, где ни одна женщина не может и Не захочет сделаться
сестрою милосердия для человека науки или художника. Кто
поймет страсть Атаназа к мадемуазель Кормон? Уж, конечно,
не богачи, эти султаны общества, которые находят там свои
гаремы, не буржуа, которые идут по большой дороге, пробитой предрассудками, не женщины, которые, не желая вникать в страсти художников, требуют от них возмездия за
свою добродетель, воображая, что оба пола управляются одинаковыми законами. В настоящем случае, пожалуй, нужно
* Помещик (по-английски).
обратиться к молодым людям, которых мучат их первые желания, подавляемые в момент напряжения всех сил, к художникам, таланты которых парализуются нищетой, и к даровитым людям вообще, которые подвергаются сначала гонениям,
не встречают поддержки, часто не имеют друзей, но в конце
концов одерживают победу над двойною мукою души и тела,
истерзанных одинаково. Те хорошо поймут грызущую боль
язвы, точившей Атаназа; они испытали эти долгие жестокие колебания ввиду грандиозных целей, для которых совсем
не находится средств; они подвергались этим неведомым неудачам, где производительность гения растрачивается понапрасну, попадая на бесплодную почву. Таким людям известно,
что размеры желаний соответствуют пылкости воображения.
Чем выше они стремятся, тем ниже падают, и сколько разбивается уз при этих паденияхI Их острое зрение, как у
Атаназа, открыло блестящее будущее, которое им суждено и
от которого они отделены как будто тонким флером; но общество обращало этот тонкий флер, мешавший их взору, в
железную стену. Вынуждаемые призванием, пониманием искусства, они также сто раз пытались обратить в средство для
своих целей чувства, беспрестанно материализуемые обществом. Как! Провинция, подчиняясь расчету, устраивает брак,
имея в виду создать себе благосостояние, а бедному художнику или человеку науки не позволительно давать браку
двойное назначение—спасти его мысль, обеспечивая существование?,
«Старая дева». Соч., изд., Пантелеева, XV, 31.
*
Постарайтесь же пересчитать по пальцам за истекшее
столетие всех лауреатов, оказавшихся действительно людьми
гениальными. Прежде всего никогда никакие усилия администрации и школы не заменят той чудесной игры случая,
которой мы обязаны великими людьми. Из всех тайн зарождения это наиболее недоступная для нашего самоуверенного
современного анализа. Далее, что бы вы подумали о египтянах,
которые, говорят, изобрели печи для вывода цыплят, если
бы они сразу же не стали давать корму этим цыплятам? А ведь
именно так поступает Франция, когда старается производить
артистов в теплице конкурса; и как только скульптор, живописец, гравер, музыкант получены таким механическим способом, она беспокоится о них не больше, чем дэнди заботится
вечером о цветах, воткнутых им себе в петлицу. Вот и оказывается, что настоящие таланты—это Грез и Ватто, Фелисьен
Давид и Панье, Жерико и Декан, Обер и Давид Анжерский,
Делакруа и Мейсонье, люди, мало заботившиеся о первых
премиях и возросшие на воле под лучами незримого солнца,
именуемого Призванием.
«Кузен Поно>. Соч., XII, 11.
*
Всякий раз, когда вы с серьезными намерениями отправляетесь на выставку скульптуры и живописи, устроенную так,
как она устраивается после революции 1830 года, не испытываете ли вы чувства беспокойства, скуки и тоски при виде
длинных загроможденных галлерей? С 1830 года Салон больше
не существует. Во второй раз Лувр был взят приступом толпой
художников, утвердившихся там. Прежде, выставляя избранные произведения искусства, Салон оказывал им высокую
честь. Среди двухсот избранных картин публика в свою
очередь производила выбор: лавровый венок присуждался
лучшему произведению неведомыми судьями. Страстные споры
возникали по поводу той или иной картины. Ругательства,
в изобилии сыпавшиеся на Делакруа, Энгра, способствовали их
славе не меньше, чем похвалы и слепая приверженность их
сторонников. Теперь ни толпа, ни критика не воспламеняются
произведениями этого базара. Обязанные сделать выбор, который раньше был возложен на жюри, они чувствуют, что их
«внимание не выдерживает подобной работы, и, когда она
закончена, выставка закрывается. До 1817 года принятые
картины никогда не развешивались дальше двух первых колонн
длинной галлерей, где находятся произведения старых мастеров, а в нынешнем году, к великому изумлению посетителей,
они заполнили все это пространство. Жанр исторический,
жанр в собственном смысле этого слова, станковые картины, пейзаж, цветы, животные и акварель—все эти семь
специальностей не могли бы дать больше двадцати картин,
достойных рассмотрения публики, которая и не в силах ^сосредоточить свое внимание на большем количестве вещей.
Чем больше возрастало: число художников, тем болынуіо
строгость должна была обнаружить комиссия-по приему. Все
погибло, как только Салон распространился в галлерею. Он
должен был пребывать в строго ограниченном месте, сжатый,
с неизменным соотношением частей, где * каждый жанр мог
бы выставйть свои лучшие вещи. Десятилетний опыт доказал
добротность старого учреждения. Вместо поединка—перед
вами свалка, .вместо выдающейся выставки—суматошливый
базар, вместо избранного—перед вами все целиком. Что же
происходит?-Большой художник здесь только теряет. Т у р е ц к а я к о ф е й н я , Д е т и у ф о н т а н а , К а з н ь на крюч ь я х и И о с и ф Декана, если бы их выставить в большом
Салоне • вместе с сотней лучших :жартин этого года, больше
способствовали бы его славе, чем двадцать картин, затерявшихся среди тр£х тысяч-других, перемешанных в шести гал?
лереях. По странной причуде, как только двери открылись
для всех, заговорили о гениях, пребывающих в неизвестности.
Когда двенадцать лет тому назад К у р т и з а н к а . Энгра и
К у р т и з а н к а Сигалона^ М е д у з а Жерико, Р е з н я н а
о. Х и о с е Делакруа, К р е щ е н и е Г е н р и х а IV Эжена
Девериа, принятые снедаемыми ревностью знаменитостями*
установили во всеобщее сведение, несмотря на отрицатель»
ное отношение критики, наличие молодых, пылких художников,
не послышалось ни единой жалобы. Теперь же, когда самый
ничтожный маратель холста может прислать свое произведет
ние, только и разговоров, что о непонятых людях. Там, где
больше не судят, нет и предмета обсуждения. Что бы ни делали
художники, они снова придут к испытанию, предназначающему
их произведения восторгам толпы, на которую они работают:
Без выбора Академии не будет Салона, и без Салона искусство может погибнуть.
.
.
.
-
«Пьер' Грасу». Соч., IX,
102-103.
ИСКУССТВ
о
И
ОБЩЕСТВ
О
ВВЕДЕНИЕ
N
Ч :
с ••
V
#
Литература — выражение общества. — Изменение форм искусства с иэменением общественной среды. — У каждой впохи свой художественный
я з ы к . — Воплощение характера времени и народа в творчестве великих
художников.
Литература есть выражение общества; эта истина, ныне
столь тривиальная, является результатом наблюдений ума,
глубоко изучившего историю народов и поэзии.
Действительно, человек испытывает волнение и, чтобы
выразить его, заимствует краски у окружающего мира: он
окрасит свои чувства прекрасным голубым небом, если он
итальянец; серым туманом, если он немец; мистицизмом,
если он христианин пятнадцатого века; скептицизмом, если
он философ восемнадцатого века; в песне дикаря прозвучат
грубость и сила, передающие грубость и силу его нравов и страстей; в мадригалах времен Регентства мы
узнаем цветистых аббатов и полных самомнения надушенных мускусом кавалеров, похожих на холодные голубые
остроконечные огоньки, порожденные гниением. Если отдельные произведения какой-нибудь нации образуют зеркало, где
нация эта отражается целиком, то великим поэтам дано выразить мысль народов, среди которых они жили, быть, одним
словом, эпохой, воплощенной в человеке: Моисей и пророки
заключают в себе все древнееврейские периоды; Гомера
сверкающая грань, собравшая все лучи прекрасных времен
Греции; Энеида—весь век Августа; трагедии Расина—век
Людовика XIV, а Шекспир, Данте, Гёте, Мильтон, наконец,
все гениальные люди—это исторические памятники, овеянные
красотой современной национальности.
«Фраголетта». Oeuvres, XXII, 18.
ФЕОДАЛЬНОАРИ àТОÉРАТИНЕ
СНА Я
ЭПОХА
КРАСОТА СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА
.ь
:
Архитектурная .прелесть старинных французских
городов. — Причины
оригинальности
старинных
г о р о д о в . — Преобладание
индивидуального
• к у с а в бытовом искусстве с р е д н е в е к о в ь я . — Привлекательность средневекового города для художника и поэта.
Во Франции, а в Бретани в особенности, уцелело еще до
гіаших дней несколько городков, которых совершенно не коснулось социальное движение, характеризующее девятнадцатый
Йек. Не имея постоянных и оживленных сношений с'Парижем
и из-за плохих дорог только изредка сообщаясь даже
с субпрефектурой и окружным центром, эти, местечки
только в качестве зрителей принимают участие в ходе цивилизации и, невольно удивляясь ее быстрому распространению, не
выражают при этом никаких знаков одобрёния; они остаются
верны вкоренившимся в них обычаям старины и не то подсмеиваются над прогрессом, не то робеют перед ним. Если бы
какой-нибудь археолог вздумал отправиться путешествовать с
целью произвести научные изыскания не в области- минералогии, а над людьми, то в одной из деревушек Прованса он увидал бы. точное воспроизведение времен Людовика XV, в
дальнем уголке Пуату он нашел бы во всей ее неприкосновенности жизнь века Людовика XIV, а в глухих местностях
Бретани—нравы еще более отдаленных веков. Большинство
таких горрдков имеет свое славное прошлое, но о причинах
их упадка нам ничего не говорят историки, которые вообще , интересуются гораздо более фактами и хронологией,
чем нравами-и' обычаями; но тем не менее воспоминание
о былом величии живет в памяти бретонцев, которые, в
качестве горячих патриотов, свято хранят предания о про-
адлом своей страны. Многие из- этих городков' были когда-то
столицами маленьких феодальных государств, разных графств,
»герцогств, завоеванных впоследствии королем или^ разделенных между наследниками за прекращением мужской линии
потомства.
«
•
• •
Оставшись с тех пор не у дел, города эти, бывшие
когда-то властелинами над другими, стали теперь простыми par
•бочими силами, которые прозябают и сохнут за неимением,
никакой поддержки. Впрочем, за последние тридцать лет
такие остатки старины стали попадаться все реже. Промышленность, работающая теперь для широких слоев населения,
беспощадно истребляет создание средневекового искусства,
где на первом плане стояла индивидуальность, как художника,
так и потребителя. Теперь у нас много ремесленных изделии,
«о нет почти гениальных творений. Все древние памятники
считаются в наши дни своего рода археологическими» редкостями; с точки зрения промышленности важны только каменоломни, копи селитры да склады хлопка. Пройдет, еще несколько лет, и последние своеобразные городки утратят свою,
оригинальную физиономию, и разве только на страницах этого
очерка сохранится точное описание этих памятников старины.
. Геранда-один из городков, где наиболее верно сохранился
дух феодализма. Самое имя этого городка пробудит тысячу,
воспоминаний у художников, артистов и мыслителен и вообще
у всех туристов, когда-либо посетивших Геранду, перл феодальных времен, властвовавший над морем и заливом с вершины холма, по склонам которого расположены . не менее
интересные для наблюдателя Круазик и местечко Батц. После
Геранды разве только Витре, находящийся в центре Бретани,
и Авиньон на юге сохранили в полной неприкосновенности
свой средневековый вид. Геранда и до наших дней окружена
крепкими стенами: ее рвы полны водою, зубцы стен все целы,
бойницы не закрыты деревьями, квадратные и круглые башни
не перевиты плющем. Сохранились и трое ворот с кольцами
•от опускных решеток; войти в город нельзя иначе, как через
подъемный мост из дерева, скрепленного железом: мост
больше не поднимается, но его можно было бы поднять. I ородская мэрия получила выговор за то, что в 1820 люду она
насадила тополей вдоль водоотводных каналов, чтобы гуляющие могли пользоваться тенью. Мэрия возразила, на это, что.
вот уже целое столетие, как длинная красивая площадь,
около дюн, где находятся укрепления, усаженная рядом тенистых вязов, обращена в место прогулки, излюбленное всеми
городскими жителями. Дома в этой части города ни на йоту
не изменили своего старинного первоначального вида: они и
не увеличились и не уменьшились. Ни один дом не ощутил
на своем фасаде молотка архитектора или кисти маляра, ни
один не почувствовал тяжести надстроенного этажа. Все они
сохранили свой первобытный вид. Некоторые дома подперты
деревянными столбами, образующими галлереи, по которым
проходят жители и доски которых гнутся, но не ломаются.
Дома купцов все очень низки и малы, с фасадами, украшенными черепицей. На окнах уцелели рельефные украшения из
перегнившего дерева, и местами еще видны какие-то уродливые фигуры людей и фантастических животных, которые
когда-то благодаря волшебной силе искусства дышали полной
жизненностью. Эти уцелевшие остатки старины особенно
должны нравиться художникам своими темными красками и
полуизгладившимися очертаниями. Улицы остались такими же»
как и четыреста лет тому назад. Но так как число жителей
не велико и общественная жизнь мало заметна, то, есл»
какой-нибудь турист полюбопытствовал бы осмотреть этот город, прекрасный, как старинное вооружение, ему пришлось бы
в грустном одиночестве ходить по пустынной улице, где
часто в домах попадаются окна, замазанные глиной во избежание добавочного налога. Эта улица ведет к. потайному
выходу из города, прикрытому каменной стеной и спрятанному под живописно раскинувшейся группой деревьев, насаженных самою бретонской природой, которая создает растительность более разнообразную и роскошную, чем где бы то
ни было во Франции. Поэт или художник, случайно занесенный
судьбой в эти места, наверное, долго просидел бы здесь,
наслаждаясь безмятежным покоем, царящим под этими сводами, куда не долетает никакой шум из тихого городка;
бойницы, где в былые времена помещались стрелки, теперь,
имеют вид окошечек-бельведеров, с чудным видом на окрестности. Гуляя по городу, нельзя не перенестись мысленно
к обычаям и нравам старины; сами камни говорят вам о ней;
словом, старинные воззрения уцелели здесь и до наших дней.
Появление жандарма в обшитой галуном треуголке пока»
жется вам своего рода анахронизмом, неприятно поражающим
ваш взгляд; но здесь редко можно встретить лица и вещи
современного нам мира. Жители даже избегают современной
одежды и выбирают из нее только то, что гармонирует с их
застывшим бытом и неподвижностью. На рынках можно встретить бретонцев в оригинальных местных одеждах, ради которых сюда нарочно приезжают художники. Белая холщовая
одежда рабочих, добывающих соль из солончаковых болот,
представляет резкий контраст с синими и коричневыми куртками крестьян и с оригинальными старинными головными уборами женщин. Тут же толкаются и моряки в матросских
круглых лакированных шляпах; все эти слои общества здесь
так же строго разграничены между собой, как индииские
касты, так что здесь еще уцелело разделение жителей на три
класса: на горожан, дворян и духовенство. Революция не
могла осилить эти старинные, плотно вкоренившиеся традиции,
быть может, потому, что здешние жители точно окаменели
в своем развитии; здесь природа оделила людей такой же неспособностью к видоизменяемости, какую мы видим в царстве
животных. Даже после революции 1830 года Геранда продолжала представлять совершенно особенный город, с ярким
отпечатком национальных бретонских черт, город крайне
благочестивый, молчаливый, сосредоточенный, точно застывший в своей неподвижности и мало знакомый с новыми
веяниями...
Нельзя опустить еще одной старомодной подробности, которая имеет большое значение для археологов. По винтовой
лестнице, которая находится в угловой башенке, лишенной
окон и украшенной коньком наверху, можно через стрельчатую
арку небольшой дверцы выйти к тому месту, где дом прикасается к каменной ограде со стороны конюшен. Такая же
башенка есть и у сада, но для разнообразия она имеет пятиугольную форму и заканчивается маленькой колоколенкой.
Вот как искусно варьировали тогдашние архитекторы форму
построек. В первом этаже эти две башенки соединены
каменной галлереей, украшенной подобием тех фигур с человеческими лицами, которые можно видеть на носу корабля.
Эта галлерея украшена удивительно изящно сделанной балюстрадой, а на фасаде дома сделан из камня навес, вроде тех
балдахинов, какие встречаются в церквах над статуями святых.
В обеих башенках-прорублены двери со стрельчатым кружалом, выходящим на галлерею. Вот как украшали архитекторы восемнадцатого века фасады домов, которые у. нас теперь имеют
всегда' такой холодный, бедный вид. Не представляете ли
вы себе мысленно красавиц}', которая выходила, бывало, по
утрам на балкон и любовалась, как позади Геранды солнцезолотило морской лесок и играло в водах океана? Разве
не восхитителен этот фасад дома, весь покрытый скульптурой, с двумя угловыми башенками, из которых одна закруглена
наверху, точно гнездо ласточки, а другая заканчивается стрельчатой дверкой, над которой изображена рука, вооруженная
шпагой?- Симметрия, которой тщательно придерживались
архитекторы того времени, здесь соблюдена в том, что cö
•стороны сада есть тоже бащенка, вполне похожая на башенку фасада, где помещается лестница, соединяющая столовую и кухню. В первом этаже, там, где кончается лестница,
сделан небольшой купол, под которым помещается статуя
св. Калиста.
Сад, раскинутый на полдесятине, очень хорошо содержится. У ограды растут шпалерные деревья и разбиты гряды
для овощей, за которыми ухаживает слуга, по имени Гаселен;
он же и конюх. В конце сада уцелела беседка со скамейкой.
Дорожки посыпаны песком; в,середине сада находятся солнечные часы. Со стороны сада дом имеет только одну,, башенку,
тогда как с фасада их две, но зато здесь есть витая колонка,
«ад которой, по всей вероятности, в былые времена развевалось фамильное знамя, потому что на верхушке колонки сохранилась заржавленная железная петля, вокруг которой
теперь растет какая-то жалкая травка. Судя по всей скульптуре
и по- стилю колонки, можно утверждать, что архитектор принадлежал к венецианской школе: как изящна Эта колонка, как
ярко отразилась на ней тонкость вкуса и рыцарство Венеции
восемнадцатого века. Но особенно резко видно это из общего
•стиля украшений на замке де Гуэзников; изображенные на стенах трйлистники всюду имеют не три листа, а четыре. Произошла эта ересь оттого, что венецианцы, ведя постоянные
-сношения с Востоком, стали применяться к принятому там
мавританскими архитекторами изображению трилистника с
четырьмя листиками, тогда как христианские архитекторы
оставались верны символическому изображению Троицы. Глядя
на эти особняки, невольно спрашиваешь себя: почему бы нашим
современникам не подновить все эти редкие памятники искусства? Вероятно*, потому, что . в наше время такие особняки
чаще всего поступают « продажу, их срывают до основания
и вместо них
новые, улицы. Теперь члены какоинибудь фамилии не. уверены, что их поколение сохранит за
собой родовое наследие, и сами они живут в нем, точно в гостинице, как временные постояльцы. Между тем в былые времена дома воздвигались для нескольких поколении, на вечные
времена. Оттого-то так много обращали внимания на красоту
архитектуры. Что касается внутреннего убранства и расположения жилых комнат, то на них всецело отражались привычки
и дух обитателей.
. . .
«Беатриса». Соч., изд. Панте..........
леева, V, 6—8 и 15—16.
. . с
if. t
• - • *-- I • •
п р о л а г а ю т
АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ К У Л Ь Т У Р А Б Ы Т А
Художественное
превосходство старинных у с а д е б .
-
« т о т а . — 'Истинный смысл с л о в Т а л е й р а н а : Ф а н е р ы - это все». «.тота.
«
н ы е
нравы гораздо поэтичнее в е л и к о с в е т с к и х .
Народ-
• В настоящее время все это скопище богатств принадлежит маленькой женщине с тонким художественным вкусом,
которая не довольствуется тем, что великолепно реставрировала эти сокровища, но любовно оберегает их. Люди, претендующие на звание философов и занятые только собой, делая вид, что они заняты судьбами человечества, называют все
эти прекрасные вещи чудачеством. Они обмирают перед какоиішбудь фабрикой миткаля или каким-нибудь скучным достижением современной промышленной техники, как будто мы сейчас
стали более великими и более счастливыми, чем во времена
Генриха IV, Людовика XIV и Людовика XV, которые все
наложили отпечаток своего" царствования на Эги*. какие
дворцы, какие королевские замки, какие жилые дома, какие
красоты искусства, какие шитые золотом ткани оставим мы
, 1 Эпи—название имения, где происходит действие в Крестьянах.
^ • Д I• -
после себя? Юбки наших бабушек вытаскиваются из сундуков,чтобы служить обивкой для кресел. В качестве эгоистичных и
скаредных пользователей мы всё равняем под гребенку и сажаем
капусту там, где возвышались чудеснейшие /произведения
искусства. Не дальше как вчера соха прошлась по Персану,
великолепному поместью, куда ушло все состбяние канцлера
Мопу; пал под ударами молотка замок Монморанси, стоивший
безумных денег одному из итальянцев, группировавшихся
вокруг Наполеона; разрушен Валь, создание Реньо де СенЖан д'Анжели; разрушен Кассан, построенный для любовницы принца Конти,—в итоге четыре царственных жилища
исчезли с лица земли в одной только долине Уазы. Мы
готовим Парижу окрестности Рима к тому дню, когда пронесшийся с севера ураган разгромит наши гипсовые замки и все:
наше картонное великолепие.
«Крестьяне». Соч., XIV, 16—17.
»
...Г-жа де Сомервье до сих пор еще не бывала в старинных
и пышных особняках Сен-Жерменского предместья. Пройдя
по величественным прихожим, громадным лестницам и обширным гостиным, уставленным, несмотря на зимние холода,;
цветами и украшенным с тем особым вкусом, который свойственен женщинам, рожденным; в богатстве 'или с изысканными
привычками аристократии, Августина почувствовала, как ее
сердце болезненно сжимается; она завидовала тайнам этого
изящества, о котором она даже не имела ни малейшего
представления, она вдыхала воздух величия и поняла, почему
этот дом так привлекателен для ее мужа. Дойдя до комнаток
герцогини, она испытала ревность и нечто вроде отчаяния:
ее восхитило внушавшее негу расположение мебели, драпировок и тканей. Здесь самый беспорядок превращался в изысканную красоту, здесь роскошь подчеркивала какое-то презрение
к богатству. Ароматы, насыщавшие сладостный воздух, ласкали обоняние, не оскорбляли его. Мелочи обстановки соответствовали виду, открывающемуся из зеркальных окон на лужайки сада и зеленые деревья. Тут все было соблазном—
расчет не чувствовался совсем.
«Дом кошки, играющей в мяч».
Соч., I, 107.
*
Труднее объяснить разницу, существующую между высшим кругом и буржуазией, чем буржуазии уничтожить ее. Все
эти женщины, которых стесняли их платья, чувствовали сеоя
нарядными и простодушно обнаруживали свою радость, свидетельствовавшую о том, что бал был редким явлением в их
трудовой жизни, тогда как три женщины, представлявшие
каждая определенный круг общества, были сегодня такими
же, какими им предстояло быть завтра; они не казались нарядившимися нарочно для этого случая, не вспоминали поминутно о своих драгоценностях, не заботились о том, какое
впечатление они производят; для них все было кончено,
когда, стоя у себя перед зеркалом, они в последний раз
оглядели свой бальный туалет. Их лица не выражали ничего
особенного, они танцовали с той непринужденной грациеи,
которой безвестные гении наделили античные статуи. Другие же отмеченные печатью повседневного труда, сохраняли
и теперь свои вульгарные позы и предавались необузданному
веселью; взглядам их было присуще чрезмерное любопытство,
голоса их не привыкли к тому легкому шопоту, который придает неподражаемую пикантность бальным разговорам. А главное, у них не было ни дерзкой серьезности, содержащей в
себе зародыш эпиграммы, ни спокойной выдержки, по которой узнаются люди, привыкшие при всяких обстоятельствах
сохранять полную власть над собой. Поэтому г-жа Рабурден,
г-жа Демаре и мадемуазель де Фонтен, заранее предвкушавшие
неограниченное удовольствие от бала у торговца парфюмерией, выделялись среди всех мещанок своей тонкой грацией туалетами безукоризненного вкуса и свободным изяществом движений, подобно тому как три оперные ' примадонны выделяются на фоне тяжелой кавалерии статисток. Их
преследовали тупые, завистливые взоры.
«Величие и падение Цезаря
Бирото». Соч., VII, 163—164.
*
— Но все это не говорит мне, что же такое светская женщина!—воскликнул с некоторым нетерпением молодой поляк.
— Тогда я вам это объясню,—ответил Эмиль Блонде
графу Адаму—В один прекрасный день вы шатаетесь по
Парижу. Уже больше двух часов, но пяти еще нет. К вам
приближается женщина; по первому вашему взгляду, брошенному на нее, вы узнаете предисловие к хорошей книге, предчувствуется целый мир изящных и тонких вещей. Как ботаник, собирающий по горам и долам свой гербарий, среди
парижских обыденностей вы встречаете; наконец, редкий цветок. Или двое мужчин, выделяющихся своим весьма приличным
видом, сопровождают эту женщину,—причем по крайней мере
один из них со знаком отличия,—или же слуга в простой
ливрее следует за нею в десяти шагах. Она не носит ни
ярких цветов, ни прозрачных чулок, ни чересчур вычурных
пряжек: на-поясе, .ни панталон;с вышивкой, собранных кругг
лыми складками у щиколотки. Вы видите н а ' е е ногах или
прюнелевые башмаки с очень толстой подошвой, завязанные
на бумажном чулке исключительной тонкости, а иногда и на
шелковом простом чулке серого, цвета, или же полусапожки
самой совершенной простоты. Вы заметите ее платье из хорошенькой, но недорогой материи, фасон его поражает многих
буржуазок; это почти всегда подобие сюртука, завязанного
бантами и нежно окаймленного шнурком или незаметным
кантиком. У незнакомки особая, собственная манера закутываться в шаль или в накидку; она умеет охватить себя с
боков до шеи как бы панцырем, который обратил бы буржуазку в черепаху, но у нее, скрывая несколько ее формы, он
указывает на их красоту. Каким способом? Она хранит эту
тайну без всякого патента ца изобретение. Она придает себе
походкой какое-то концентрическое, гармоничное движение,
от "которого содрогаются под материей ее пленительные или
опасные формы: так в полдень колышется уж под зеленым
покровом травы. Обязана ли она ангелу или дьяволу тем
грациозным волнообразным колебанием, которое играет под
длинной одеждой из .черного шелка, : волнует . кружево по
его краям, распространяет легкий аромат, который я охотно
назову ветерком парижанки? Вы заметите на руках, у талии,
вокруг шеи целую науку складок, драпирующую самую непокорную материю так, что вспоминается древняя Мнемозина.
Ах, как она понимает рисунок походки,—простите мне это выражение! Рассмотрите хорошенько, с какой благопристойной
уверенностью она заносит ногу, натягивает платье так, что
вызывает у прохожего восхищение, смешанное .с желанием;
но сдерживаемое глубоким почтением. Когда англичанка пробует иттй этой походкой* она похожа на гренадера, выступающего вперед, чтобы атаковать редут. Гений походки принадлежит женщине Парижа! Поэтому муниципалитет должен
был покрыть асфальтом тротуары. Эта - незнакомка никого
не заденет. С горделивой скромностью ожидает она, чтобы ей
дали • дорогу. Особое отличие хорошо воспитанных женщинобнаруживается в манере* с какой они придерживают, сходя-'' ,
щуюся на груди шаль или накидку.'-И в то время, как она идет;
сохраняет она достойный й невозмутимый вид, подобно ра-і
фаэлевским мадоннам в их рамкеі Ее поѳа, одновременно спо-'
койная и презрйтельная, заставляет самого-- дерзкого дэнди
посторониться перед ней. Шляпа-ее, замечательной простоты*"
отделана свежими лентами. Быть может, бывают и цветы, но
самые искусные из этих женщин носят только банты. Перья
требуют экипажа, цветы чересчур привлекают взгляды. Под
шляпой вы видите свежее, спокойное лица женщины, уверенной в себе, но без глупого самодовольства ; - она ни на что не
смотрит и все видйт; тщеславие ее, постоянно удовлетворенное, придает ей безразличное выражение, которое подстрекает'
любопытство. Ей известно, что ее изучают, что все, даже женщины, оборачиваются, чтобы еще раз на нее посмотреть.'
И она проносится по Парижу, как паутинка во время бабьего
лета, белая и нетронутая. Эта прекрасная порода любит широты самые теплые и долготы самые чистые в Париже; вы
найдете ее между десятой и сто десятой аркадой улицы Ри-;
воли; на линии бульваров, от экватора Панорамы, где процветают индийские производства, где развертываются самые
последние творения индустрии, до мьіса Мадлен, в местностях,
наименее испачканных буржуазией, между тридцатым и сто
пятидесятым номером улицы Фобур-Сент-Оноре. Зимой она
любит ходить по террасе Фельянов, но не по' асфальтовому
тротуару, идущему вдоль нее. Смотря по погоде, пролетает
она по аллее Елисейских Полей, отграниченной с востока площадью Людовика XV, с {запада—проспектом Мариньи, с юга—;
шоссе и с севера—садами предместья Сент-Оноре. Никогда
Не встретите вы Этой красивой разновидности женщин в ледяных областях : улицы Сент-Дени, ни на Камчатке маленьких, грязных, торговых улиц; никогда не увидите ее в дурную погоду. Эти парижские цветы распускаются в солнечную
погоду, благоухают во время прогулок и после пяти часов
закрываются, как повилика. Женщины, которых вы увидите
несколько позже, слегка их напоминают и пробуют с них
обезьяничать: это женщины как бы светские, тогда как прекрасная незнакомка, ваша дневная Беатриче—это настоящая
светская женщина. Трудно бывает иностранцам, дорогой граф,
заметить различия, по которым умелые наблюдатели их отличают,—до такой степени женщины хорошо притворяются; но
эти различия бьют в глаза парижанам: плохо скрытые застежки, порыжелые шнурки, выглядывающие из полураскрытой
прорехи на спине платья, потертые башмаки, выглаженные
ленты на шляпе, слишком пышное платье, чересчур щеголеватая осанка. Вы заметите какое-то усилие в преднамеренном
опускании век. Чувствуется условность во всей ее позе. Что
касается женщины из буржуазии, ее невозможно смешать со
светской женщиной, которую она отлично подчеркивает, объясняя, чем именно вас очаровала незнакомка. Буржуазная женщина суетлива, она выходит во всякую погоду, торопится итти
туда и сюда, смотрит, не знает, войти ли ей в магазин или
не войти. Тогда как светская женщина знает, чего она хочет
и что делает, женщина из буржуазии пребывает в нерешительности, она приподымает платье, чтобы пройти через канаву, и тащит за собой ребенка, принуждающего ее остерегаться экипажей, она—мать на глазах у всех и разговаривает
со своей дочерью; деньги она несет в корзиночке, а на ногах
у нее ажурные чулки; зимой она надевает боа поверх меховой пелерины, и летом—шарф поверх шали; она восхитительно
понимает плеоназмы в одежде. Вашу прекрасную незнакомку
вы вновь встретите у Итальянцев, в Опере, на каком-нибудь
балу. Тут предстанет она совсем в другом обличии, вы сказали бы, что это два существа безо всякого сходства. Женщина вышла из своей таинственной одежды, как бабочка из
шелковистой куколки. Как лакомство подает она вашим восхищенным взорам свой стан, едва обозначавшийся днем под
корсажем. В театре, за исключением Итальянской оперы, она
никогда не сидит выше второго яруса. Вы сможете тогда
вполне изучить искусную медлительность ее движений. Очаровательная обманщица пользуется мелкими женскими хитростями с естественностью, исключающей всякую мысль об
искусстве и преднамеренности. Если у нее исключительно
красивая рука, самый острый человек поверит, что ей было
совершенно необходимо закрутить, приподнять или откинуть
лют ее локон или завиток, которого она касается. Если
профиль у нее красив, вам покажется, что она придает иронию
или любезность своим словам, обращенным к соседу, тогда
как она поворачивается таким образом, чтобы произьести магическое впечатление полного профиля, столь излюбленного
великими художниками: он привлекает свет на щеку, причем
обрисовывается ясной линией нос, освещается розоватость
ноздрей, перерезается лоб острым углом, но остается огненная блестка взгляда, хотя и направленного в пространство,
и осыпается лучами света белая округлость подбородка. Если
у нее хорошенькая ножка, она бросится на диван с кокетливостью кошечки на солнце, выставив вперед ножки, и вы не
найдете в этой ее позе ничего, кроме самого прелестного
.образца усталости, переданного скульптурой. Только светская
женщина чувствует себя удобно в своем наряде: ничто ее
не стесняет. Вы никогда не застигнете ее на том, что она, как
женщина из буржуазии, подтягивает упрямую пройму, старается опустить непокорную планшетку, смотрит, хорошо ли
совершает шейная косынка свою неверную службу сторожа
.около двух блистающих белизной сокровищ, или на том, что
она смотрится в зеркало, желая узнать, не испортилась ли
ее прическа. Ее наряд всегда в соответствии с особенностям}!
ее внешности; она имела время изучить себя, решить, чтб
к ней идет, так как она давно знает, что к ней не идет. Вы
не увидите ее при разъезде, она исчезнет до окончания спектакля. Если случайно она и покажется, спокойная и величественная, на красном ковре лестницы, то это" значит, что она
испытывает сильные чувства. Она тут нарочно, ей нужно
бросить украдкой какие-то взгляды, получить какие-то обещания. Быть может, она так медленно спускается для того,
чтобы удовлетворить тщеславие раба, которому она сама
-подчас повинуется. Если ваша встреча с ней произошла на
балу или на вечере, вы соберете напускную или естественную
медоточивость ее вкрадчивого голоса; вы будете в восторге
от ее пустых слов, неподражаемым приемом она сумеет придать им ценность мысли.
;
«Другой силуэт женщины».
Соч., И, 221—225. •
...И действительно, в каждой стране высшие классы об'
щества говорят на особом, мишурном жаргоне, который, будучи промыт в литературной или философской золе, оставляет бесконечно мало золота на дне. Во всех ярусах общества, за исключением некоторых парижских салонов, наблюдатель находит все те же смешные черты, различающиеся
между собой лишь степенью прозрачности или густоты лакировки. Таким образом, содержательные разговоры составляют в обществе исключение, а тупоумие, как правило, распространено повсеместно в светских слоях. Если в высших
сферах принуждены много говорить, то думают там мало.
Думать—утомительно, а люди богатые любят, чтобы жизнь их
текла без больших усилий. Поэтому, только сравнивая по
ступеням сущность шуток, от парижского уличного мальчишки до пэра Франции, наблюдатель уразумеет слова Талейрана: Манеры—это все,—являющиеся изящным переводом
юридической аксиомы: Форт заслоняет сущность дела. В
глазах поэта преимущество останется за низшими классами,
которые никогда не преминут придать резкий отпечаток
поэзии своим мыслям. Это замечание, быть может, даст также понять бесплодность салонов, их пустоту, их мелочность
и то отвращение к обмену там мыслями, которое испытывают
люди незаурядные.
«Герцогиня де Ланже». Соч.*
VIII,
251.
УПАДОК ДВОРЯНСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы В ЭПОХУ
РЕСТАВРАЦИИ
Мелочность и прозаичность Реставрации. — Презрение вождей
ского д в о р я н с т в а к и с к у с с т в у н н а у к е .
француз-
В 1814 году, но оообенно в 1820 году, французское дворянство призвано было стать во главе самой образованной эпохи*
самой аристократической буржуазии, самой женственной
страны мира. Сен-Жерменское предместье могло бы очень
легко вести за собой и занять собою средний класс, опьяненный светским тщеславием, влюбленный в искусство и
науки. Но жалкие вожаки этой великой умственной эпохи
ненавидели всякое искусство и науку. Оші не сумели даже
представить религию, которая им была нужна, в тех поэтических красках, какие заставили бы ее полюбить. Когда
Ламартин, Ламене, Монталамбер и некоторые другие талантливые писатели позлащали поэзией, обновляли или возвел ичивали религиозные идеи, все те, кто кое-как составили
правительство, дали почувствовать горечь религии.
«Герцогиня де
VIII, 177.
Ланже».
Соч.,
БУРЖУАЗНОЕ
ОБЩЕСТВО
*
Скотт, Купер и т. д. принадлежат этому веку. Вебер также, а
также Мейербер, а также несколько парижских сорванцов,
мановением руки вызывающих революцию.
Бальзак—Ганской, 15 ноября 1838 г.
Л'
Lettres
à
l'Etrangère,
503.
•»
ДВОЙСТВЕННОСТЬ БУРЖУАЗНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Д у х о в н о е величие девятнадцатого в е к а . — Богатство науки, литературы и
"искусства.—Превосходство современности над патриархальной косностью.
Материальная
основа
буржуазной
цивилизации. — Конкуренция
как
источник материального и умственного развития.—Страшная цена блеска
современной жизни. — Деградация физического облика парижанина и ее
причины. — С увеличением возможностей наслаждения усиливается к о н к у ренция и жажда денег. — Размен д у х о в н ы х ценностей в социальном водовороте Парижа. — Приманка наслаждений и система капиталистическойэксплоатации.—Развращающее действие фальсифицированных наслаждений, фабрикуемых капиталом для рабочих, физическая деградация пролетариата.—
Истощающая жажда богатства. — Тупость идеала наслаждений мелкого
б у р ж у а . — Усиление житейской конкуренции вместе с усилением аппетитов. — Нравственное одичание капиталистов. — Равнодушие капиталистов
к высшим духовным запросам, их умственное ничтожество. — Преобладающий тип капиталиста — полная посредственность. — Художественная сред а . — Гибель таланта вследствие непрестанной конкуренции. — Истощение
сил х у д о ж н и к а чрезмерным трудом и чрезмерными наслаждениями. —
Светская ж и з н ь . — Излишества паразитических к л а с с о в . — Грязные удовольствия большого с в е т а . — Пустота и бессодержательность салонной
жизни. — Моральный и физический упадок высшего общества. — Уродливость облика парижан — р е з у л ь т а т современного существования. — Б у р жуазное общество превращает уродство в норму. — Дилемма человеческого
руществования в буржуазном обществе.
...Как! вы посмели сказать, что в этом глупом XIX веке
есть только один человек 1 Наполеон, не так ли? А Кювье,
сага 1 ! А Дюпюитрен, caral А Жофруа Сент-Илэр, сага! А
Масена, carina! А Россини, carissima 2 ! А наши химики, а наши
второстепенные люди, стоящие первоклассных талантов! А
Ламене, Жорж Санд, Тальма, Галь, Бруссэ, недавно умерший,
и т. д.! Полно, вы несправедливы. Лорд Байрон и Вальтер.
1
8
Сага—дорогая (по-итальянски).
Carissima—дражайшая (по-итальянски).
Калист услыхал здесь поэтические аккорды чудной, удивительной музыки девятнадцатого столетия, где мелодия и
гармония одинаково хороши, где пение и инструментовка
достигли необыкновенного совершенства. Он познакомился с
произведениями богатейшей живописи французской школы,
заместительницы итальянских, испанских и фландрских школ:
талантливые произведения стали встречаться так часто, что
все глаза, все сердца, утомленные лицезрением только талантов, громко требуют гениального творения. Он прочел богатые содержанием глубокие сочинения современной литературы, и они произвели большое впечатление на его юное
сердце. Словом, наш великий девятнадцатый век открылся
перед ним во всем своем блеске, с своими богатыми вкладами
в критику, с своими новыми идеями, с гениальными начинаниями, достойными гиганта, который, спеленав юный век в
знамена, укачивал его под звуки военного гимна, под пушечный
аккомпанемент. Калист, посвященный Фелиситэ в значение
этих великих событий, которые нередко проходят незаметно
для самих действующих в них героях, нашел в Туше полное
удовлетворение непреодолимому влечению ко всему чудесному,
которым всегда отличается его возраст; здесь испытал он
впервые преклонение перед прекрасным, испытал первую юношескую любовь, которая не переносит никакой критики. Ведь
так естественно, что легкий огонек быстро разрастается в
сильное пламя 1 Калист здесь прислушивался к легкой парижской иронии, к изящному, насмешливому разговору, который составляет особенность французской нации; в нем
здесь стали пробуждаться тысячи мыслей, дремавших в нем
раньше благодаря полусонной домашней обстановке. Для его
ума мадемуазель де Туш была настоящей матерью, которую он
мог любить, не совершая преступления. Она была так добра
к нему: ведь женщина, которую любит мужчина, всегда кажется ему очаровательной, хотя бы она и не платила ему
взаимностью. В данное время Фелиситэ давала ему уроки
музыки. Ему казалось, что и эти большие комнаты нижнего
этажа, представлявшиеся ему еще более просторными от соседства с расстилавшимися вокруг лугами и деревьями парка,
и эта лестница, заставленная разными произведениями кропотливых итальянских мастеров, с своими резными деревянными украшениями, с венецианской и флорентинской мозаикой,
с барельефами из слоновой кости, из мрамора, со всеми редкостями, точно созданными по заказу волшебниц средних веков,—что все это уютное, кокетливое, утонченно-художественное помещение было одухотворено каким-тЪ странным,
сверхъестественным, неуловимым светом и дышало разлитым
здесь особенным воздухом, атмосферой ума. Новый, современный мир со всей своей поэзией резко противополагался
скучному патриархальному миру Геранды. Калист мысленно
сопоставил их: с одной стороны тысячи произведений искусства; с другой—однообразие невежественной Бретани.
«Беатриса». Соч., изд. Пантелеева, V, 69—70.
*
Уметь продавать, мочь продавать и продавать 1
Публика нисколько не сомневается, что Париж обязан
своим величием этим трем сторонам одной и той же задачи.
Блеск магазинов, столь же богатых, как салоны знати до
1789 года; великолепие кафе, которые часто и при этом легко
затмевают новый Версаль; поэма витрин, исчезающая каждый
вечер, чтобы возникнуть каждое утро; изящество и обходительность молодых людей в обращении с покупательницами;
пикантные лица и туалеты молодых девушек, которые не
могут не привлечь покупателей, и, наконец, с недавнего времени вместительность, огромная протяженность и вавилонская роскошь галлерей, где торговцы завладели всеми видами товаров, соединив их вместе,—все это не пустяки! До
сих пор все дело еще в том, чтобы угодить одному бргану
чувств, самому жадному и развращенному,—бргану, который
развивался у человека со времен римского общества и чьи
потребности стали безграничными благодаря усилиям утончен-
ной цивилизации. Этот брган—глаз парижанина... Этот глаз
поглощает искусственного освещения на сто тысяч франков,
ему нужны украшенные разноцветными стеклами дворцы в
два километра длиной и в шестьдесят футов высоты, по
вечерам волшебные спектакли в четырнадцати театрах, все
время возобновляющиеся зрелища, непрерывные выставки лучших произведений, целые миры скорбей и вселенные радостей,
на которые можно натолкнуться во время прогулок по бульварам или во время блужданий по улицам, ему нужна энциклопедия тряпок на карнавалах, двадцать иллюстрированных
изданий в год, тысяча карикатур, десять тысяч ^ виньеток,
литографий и гравюр. Этот глаз поглощает каждый вечер на
пятнадцать тысяч франков газа, и, наконец, чтобы насытить
его Париж ежегодно расходует несколько миллионов на площади и зеленые насаждения. И это еще не все... Это только
материальная сторона вопроса. Да, по-нашему, это пустяки
в сравнении с усилиями ума, хитростями, достоиными Мольера что применяются шестьюдесятью тысячами приказчиков и
сорока тысячами барышень, которые нападают на кошельки
покупателей, словно уклейки на куски хлеба, плавающие на
ШДаХ
СеНЫ
'
«Годисар II». Соч., IX, 122-123.
к
Одно из самых жутких зрелищ на свете несомненно представляет собой общая картина парижского населения, народа, ужасного на вид, бледного, желтого, изможденного. И
как не сравнить Париж с некоим обширным полем, непрестанно волнуемым бурями корысти, треплющими людскую
ниву которую смерть косит здесь чаще, чем где бы то ни
было, и которая вновь возрождается столь же густою, как
прежде; искаженные, искривленные лица этих людей сквозь
все свои поры выдыхают мысли, желания, яды, обременяющие их мозги. Нет, т о - н е лица, то-личины, личины слабости,
личины силы, личины нищеты, личины радости, личины лицемерия; все они-истощенные, отмеченные неизгладимом печатью задыхающейся жадности! Чего хотят они? Золота или
наслаждений!
_
Несколько наблюдений над душою Парижа могут разъяснить причины мертвенности его физиономии, у которой бывает
лишь два возраста: или юность, или дряхлость,—юностьтусклая и бесцветная, дряхлость подрумяненная и молодящаяся. При виде этого из могилы изведенного народа иностранцы, которые не дают себе труда призадуматься, испытывают первым делом инстинктивное отвращение к французской столице, этой обширной мастерской наслаждений, откуда
вскоре сами же они не могут вырваться и добровольно уродуют себя, оставаясь в ней. Достаточно нескольких слов,,
чтобы физиологически объяснить почти инфернальную окраску облика парижан, ибо адом прозван Париж не тольков шутку. Считайте это слово за истину. В Париже все дымит, все горит, все блестит, все кипит, все пылает, испаряется,,
потухает, вновь зажигается, искрится, сверкает и увядает»
Никогда ни в одной стране жизнь не была более пламенной,,
более жгучей. Пребывая всегда в состоянии плавления, социальная природа Парижа как бы говорит после каждой за-,
конченной работы: «За новую работу!»—как говорит то себе
сама природа. Подобно последней, социальная природа занята однодневными цветами и насекомыми, пустяками, мимодетностями и также мечет огонь из своего вечного жерла»
Быть может, прежде чем анализировать причины, образующие
социальные черты в облике каждого племени этой народности, умной и подвижной, должно отметить общую причину, которая обесцвечивает, бледнит, синит и смуглит более
или менее всех отдельных ее представителей.
Непрестанно интересуясь всем, парижанин в конце концов ничем уже не интересуется. Ни одно чувство не выражается на его потертом лице, и оно становится серым, как.
штукатурка домов, покрытая налетом пыли и дыма. Действительно, равнодушный накануне к тсэду, что опьянит его
завтра, парижанин живет, как дитя, кащв бы ни был еговозраст. Он ворчит на все, утешается всЯ^. насмехается надовсем, забывает все, хочет всего, пробует все, страстно хватается за все, бросает беззаботно все—своих королей, свои
завоевания, свою славу, своих кумиров, будь они из бронзы,
или из стекла, как бросает он свои чулки, шляпы и свое состояние. В Париже ни одно чувство не сопротивляется потоку
вещей, и их течение понуждает к борьбе, которая ослабляетнапряжение страстей; любовь там сводится к вожделению»
ненависть остается в пределах желания; там нет более близ^
кого родственника, чем стофранковый билет, нет иного |
друга, кроме закладной конторы. Эта общая податливость,
приносит свои плоды; в гостиной, как и на улице, никто
не является лишним, никто не бывает там ни до конца полезным, ни до конца вредным—дураки и мошенники в той.
же мере, как и люди умные и порядочные. Терпимость простирается на все: на правительство и на гильотину, на религию и на холеру. Вы никогда не оказываетесь неподходящим
обществу, вы всегда найдете в нем себе место. Кто же господствует в этой стране без нравов, без верований, без единого чувства, но где берут начало и где находят конец,
всякие чувства, всякие верования и всяческие нравы? Золото
и наслаждение. Воспользуйтесь как светочем этими, двумя
словами и обозрите эту громадную оштукатуренную клеть,,
это людское гнездо, с черными водостоками, и проследите
извивы мысли, которая волнует его, возбуждает, терзает».
Смотрите. Исследуйте сначала мир неимущих.^
Рабочий, пролетарий, человек, шевелящий ногами, кулаками, языком, спиной, только своей рукой и пятью своими,
пальцами, чтобы жить,—так вот, этот человек, который большевсех других должен бы бережливо расходовать основу своей
жизни, превозмогает свои силы, запрягает жену в какуюнибудь машину, заставляет работать своего ребенка, пригвождая и его к одному из колес механизма. Фабрикант, представляющий собой самую что ни на есть второстепенную пружину,,
приводящую в движение этот народ, который грязными руками обделывает и золотит фарфор, шьет мужские и дамские платья, делает тончайшую работу из железа и дерева,,
филигранит сталь, придает платность и крепость пеньковым
волокнам, матовый, блеск бронзе, гранит фестонами хрусталь,
имитирует цветы, вышивает шерстью, дрессирует лошадей»
плетет сбруи и позументы, вырезывает по меди, расписывает кареты, округляет старые вязы, выпаривает хлопок,,
выдувает стекло, травит алмазы, полирует металлы, превращает в лепестки мрамор, обглаживает булыжник, придает
внешнюю красивость всякому замыслу, красит, белит и чернит
все, что угодно,—так вот, этот подиачальник явился к людям
пота и воли, труда и терпения с обещанием огромного заработка, то соблазняя их столичными прихотями, то маня их.
на зов чудовища, именуемого Спекуляцией. Тогда эти чет-
верорукие принялись бодрствовать, страдать, работать, ругаться, голодать, шагать; все оіга выбиваются из сил, чтобы
добыть себе золото, которое их заворожило. Затем, не заботясь о будущем, жаждущие наслаждений, полагающиеся
на свои руки, как живописец на свою палитру, они, эти калифы на час, уже на следующий день швыряют нажитые
деньги по кабакам, опоясывающим город грязным кольцом,
поясом самой бесстыдной из Венер, непрестанно свертывающимся и развертывающимся, где как в игре гибнет периодически накапливаемое состояние этого народа, столь же яростного в наслаждении, сколь он спокоен в работе. И так в
течение пяти дней никакой передышки для этой действенной
части Парижа! Она—вся в движении, от которого кривится,
толстеет, худеет, бледнеет, растекается тысячью струй творческой воли. Затем ее удовольствия, ее отдых представляют
собой не что иное, как утомительное распутство,—темнолицое,
черное от синяков, бледное от пьянства или желтое от расстройства желудка,—распутство, которое длится всего лишь
два дня, но успевает поглотить будущий хлеб, недельную
похлебку, платья жены и пеленки ребенка, остающихся в лохмотьях. Люди эти, рожденные, несомненно, для того, чтобы
быть прекрасными, ибо каждое существо обладает своей относительной красотой, с самого детства завербованы в полк
под командой силы, приписаны в подданные молота, ножниц,
прядильной машины и быстро вулканизуются. Разве Вулкан,
•со всем своим уродством и силой, не есть эмблема этой уродливой и сильной нации, которая превосходна своим механически работающим рассудком, терпелива в положенные часы,
но ужасна один раз в век, воспламеняема, как порох, и водкой подготовлена к революционному пожару, наконец, достаточно жива и восприимчива, чтобы загореться от одного
заманчивого слова, которое всегда для нее означает: золото
и наслаждение! Включая всех тех, кто протягивает руку за
подаянием, за законной оплатой труда или же за пятью франками, причитающимися в Париже проституции во всех ее
видах, одним словом, за всякой монетой, правым или неправым
путем добытой, народ этот насчитывает триста тысяч пред•ставителей. При отсутствии кабаков, не было ли бы правительство низвергаемо всякий вторник? К счастью, по вторникам
этот народ тяжелеет, переваривает свои удовольствия, остает-
ся без гроша в кармане и возвращается к труду, к хлебу в
сухомятку, побуждаемый потребностью в материальной продукции, которая для него уже стала привычкой. Тем не
менее народ этот обладает своими проявлениями доблести,
своими совершенными личностями, своими неведомыми Наполеонами, которые представляют собой типический образ его
сил в высшем их выражении и воплощают его общественное
значение в том бытии, где мысль и движение сочетаются
между собой не столько для достижения радости, сколько
для того, чтобы регулировать страдание.
Случай сделал рабочего бережливым, случай одарил его
мыслью, и рабочий смог направить свой взгляд на будущее,
он нашел себе жену, он оказался отцом, и после нескольких
дет суровых лишений заводит небольшую мелочную торговлю,
снимает в наем лавку...
Подымитесь этажом выше и направьтесь в антресоли или
опуститесь с чердака и остановитесь в четвертом этаже, одним словом, проникните в то общество, которое уже имеет
кое-что за душой: выводы будут те же самые. Оптовые
торговцы со своими подручными, должностные лица, люди
небольшого достатка и большой честности, плуты, погибшие
души, старшие и младшие приказчики, судейские чиновники,
клерки адвокатов и нотариусов,—словом, действующие,
мыслящие, спекулирующие члены той мелкой буржуазии,
что заботится об интересах Парижа и блюдет свою выгоду,
скупает припасы, набивает свои амбары продуктами пролетарского труда, наполняет бочонки южными фруктами, океанской рыбой, вином обласканных солнцем побережий; что простирает руки к Востоку, забирает там шали, коими пренебрегли турки и русские, пускается за наживой вплоть до Индии, сидит, сложа руки, поджидая продажи, хлопочег о прибыли, учитывает векселя, пускает в оборот и приходует всевозможные ценности, упаковывает и перевозит по мелочам весь
Париж, присматривается к детским капризам и выслеживает
прихоти и пороки взрослых, выжимает свои выгоды из их
болезней,—так вот, не напиваясь водкой, как рабочие, не
валяясь в грязи городских окраин, эти люди и без того расточают все свои силы, обоюдно напрягают сверх меры свое
тело и свой дух, сохнут от желаний, гибнут в бешеной скачке.
Физическое кручение у них совершается под кнутом корысти,
под бичом честолюбия, терзающего высшие круги чудовищного города, в то время как у пролетариев этот процесс
совершался под жестоким гнетом материальных работ, непрестанно требуемых деспотизмом аристократического хочу
того. И здесь также, повинуясь тому мировому владыке,,
имя которого наслаждение или золото, приходится пожирать
свое время, торопить свое время, умещать в сутки больше
двадцати четырех часов, подстегивать нервы, убивать себя,
продавать тридцать лет старости за два года болезненногоотдохновения. Разница лишь в том, что рабочий умирает в
больнице, когда хирение его достигло предела, тогда как
мелкий буржуа упорствует и продолжает жить, но уже в
состоянии кретинизма: вы встретите его с лицом потрепанным»
вялым, старческим, без блеска в глазах, без твердости в
походке, ковыляющего с отупевшим видом по бульварам»
этому поясу его Венеры, его дорогого города. Чего добивался
буржуа? Тесака Национальной гвардии, неизбежного говяжьего бульона к обеду, пристойного места на кладбище ПерЛашез и немножко золота, законно приобретенного на старость. Его понедельник—для него воскресенье; его о т д ы х прогулка в наемном экипаже, загородная поездка, во время
которой жена и дети весело поглощают пыль или жарятся
на солнце; его пригородные развлечения—ресторатор, прославленные обеды которого губительны для желудка, или же
семейные балы, на которых потеют до полуночи. Есть простаки, изумляющиеся виттовой пляске монад, видимых в капле
воды под микроскопом; но что бы сказал Гаргантюа, непонятый в своей дивной дерзости образ Раблэ, что бы сказал
этот гигант, ниспавший из небесных сфер, если бы он позабавился созерцанием движения этого, второго . .круга^рд^сдр^
жизни, одна из формул коего такова? Случалось ли вам
видеть базарные лавчонки, вовсе не отапливаемые летом»
а зимой согреваемые лишь жалкой жаровней, помещающиеся
под просторным медным колпаком, прикрывающим хлебный
рынок? Жена с самого утра уже там, она—комисснонерша
на рынке и вырабатывает на этом деле, говорят, до двенадцати тысяч франков годовых. Муж, когда жена встает, направляется в темный кабинет, где дает краткосрочные ссуды
под ростовщические проценты соседним торговцам. В девятьчасов он—в паспортном бюро, где он—один из помощников-.
столоначальника. Вечером он стоит у кассы Итальянского
или любого иного театра. Дети сданы кормилице, пока не
.подрастут и не будут помещены в коллеж или в пансион.
Родители живут в четвертом этаже, держат только кухарку,
дают балы в зале двенадцати футов длиной и восемь шириной,
освещаемой кенкетами; но они дают сто пятьдесят тысяч
приданого за дочерью и, наконец, отдыхают от дел, достигнув пятидесятилетнего возраста и появляясь тогда в ложах
третьего яруса Оперы, на фиакре в Лоншане, или же в поблекших туалетах в солнечные дни на бульварах, своего рода
іыпалерах, на которых произросли эти плоды. Они достигли
уважения соседей, любви начальства, связей с крупной буржуазией,- и к шестидесяти пяти годам супруг удостаивается
-ордена Почетного легиона, а отец его зятя, окружный мэр,
приглашает его к себе на вечера. Труд всей их жизни идет»
на пользу детей, которых эта мелкая буржуазия фатально
стремится возвести в ранг крупной. Каждый круг общества
мечет всю свою икру в круг высший. Сын богатого лавочника
делается нотариусом, сын лесоторговца становится судейским
чиновником. Все зубцы колеса на месте, и все способствует
прогрессивному росту капитала.
Вот мы и подошли теперь к третьему кругу нашего ада,
-который, может быть, однажды обретет своего Данте. В этом
третьем общественном круге, своего рода чреве Парижа,
где перевариваются городские интересы и где они сгущаются
в- форму, именуемую делами, движется и волнуется под
воздействием терпкого и желчного кишечного процесса
толпа поверенных, врачей, нотариусов, адвокатов, дельцов,
банкиров, крупных коммерсантов, биржевиков, судеиских
чиновников. Тут еще больше, чем где-либо, причин для разрушения физического и морального. Почти все представители
этого круга проводят жизнь в вонючих конторах, в смрадных судебных камерах, в маленьких кабинетах за решетками,
проводят день, согнувшись под бременем дел, подымаются
вместе с зарей, чтобы чего-нибудь не просрочить, чтобы не
•оказаться ограбленными, чтобы все приобрести или ничего
не потерять, чтобы завладеть человеком или его деньгами,
чтобы наладить или разладить какое-нибудь дело, чтобы
воспользоваться подвернувшимся случаем, чтобы добиться
казни или оправдания подсудимого. Они не дают отдыха лоша-
дям, загоняют их, заезживают и преждевременно разбивают им ноги. Время—их тиран, его недостает им, оно
ускользает от них; они не могут ни растянуть его, ни сжать.
Чья душа остается высокой, чистой, нравственной, благородной и, как неизбежное следствие, чей облик пребудет прекрасным в развращающих занятиях ремеслом, которое заставляет нести бремя народных бед, исследовать их, судить, оценивать, подразделять их на категории? Эти люди куда-то
девают свое сердце, но куда?., не ведаю; но—даже если
оно есть у них,—они где-то оставляют его перед тем, как
каждое утро нисходят в глубины страданий, терзающих семьи.
Для них нет тайн, они видят оборотную сторону общества,
исповедниками коего они являются, и презирают его. И что
бы они ни делали, меряясь силами) с пороком, они не могут
не ужасаться ему, и печаль овладевает ими; или же, от изнеможения, по тайному договору с ним, они сами предаются
ему; в конце концов неизбежно, вынуждаемые законами,
людьми, учреждениями летать, как галки над еще неостывшими трупами, они становятся равнодушными ко всякому
проявлению чувства. Всегда бывает так, что человек капитала судит о живых, человек, ведающий договорами, судит
о мертвых, человек закона судит о совести. Обязанные непрестанно высказываться, все они замещают мысль словом,
чувства фразой, и душа их превращается в глотку. Они портятся и деморализуются. Ни крупный негоциант, ни судья,
ни адвокат не сохраняют здравого смысла: они уже не способны чувствовать, они применяют правила, под которые подгоняют частные случаи. Жизненный водоворот унес их на своих
волнах, и они уже не могут быть ни супругами, ни отцами,
ни любовниками; они скользят, как на салазках, по жизни,
и вся их жизнь движется, подталкиваемая делами великого
города. Не успели они вернуться домой, как уже должны
итти на бал, в оперу, на какое-нибудь празднество, где рассчитывают завязать связи, найти себе клиентуру и протекцию. Все онн объедаются, играют, проводят бессонные ночи,
и лица их округляются, становятся плоскими, красными.'
Столь страшным расходованиям умственных сил и постоянным насилиям над собственной совестью они противопоставляют не наслаждение,—оно слишком бесцветно и не дает
никакого контраста,—но распутство, распутство тайное, жут-
кое, ибо они могут располагать всеми средствами и являются
законодателями общественной морали. Их подлинная тупостьскрывается под оболочкой специальных знаний. Они знают
свое ремесло, но не ведают ничего вне его. Тогда, чтобы
спасти свое самолюбие, они всё ставят под знак вопроса,
критикуют всё вкривь и вкось; они представляются скептиками, а на самом деле оказываются невеждами и тонут с головой в бесконечных спорах. Почти все они отлично перенимают общественные предрассудки, литературные или политические, дабы не дать себе труда иметь собственное мнение,,
точно так же как свою совесть они прикрывают сводом законов или коммерческим судом. Рано задавшись целью статьлюдьми замечательными, они становятся посредственностями
и ползком взбираются на вершины общественной лестницы.
Оттого лица их выделяются резкой бледностью, неестественной окраской, тусклыми глазами с синими кругами под ними,
болтливым и чувственным ртом, в которых наблюдательузнает симптомы вырождения мысли и обращения ее в замкнутом кругу своей специальности, что убивает творческие
силы мозга, дар видеть в большом масштабе, обобщать и
делать выводы. Почти все они ссыхаются в горниле дел. Оттого никогда не станет великим человек, который однажды
попал в систему зубчатых колес этих огромных машин. Если
он врач, он или мало что сделал в медицине, или являет
собой исключение, как какой-нибудь Биіш, умирающий молодым. Если, будучи крупным негоциантом, он сохранит свою
личность, то он—почти Жак Кёр. Разве Робеспьер практиковал? Дантон был лентяй и только выжидал. Но кто же, с
другой стороны, завидовал когда-либо личностям Дантона
и Робеспьера, как бы ни были они великолепны? Эти дельцы,
дельцы прежде всего, притягивают к себе капиталы и накопляют их с целью породниться с аристократическими семьями.
Если честолюбие рабочего ничем не отличается от честолюбия
мелкого буржуа, то и здесь господствуют все те же страсти.
В Париже тщеславие объединяет все страсти. Типом этого
класса был бы либо честолюбивый буржуа, который, прожив
жизнь, полную мучений и непрерывных происков, проходит
в Государственный совет, как муравей проползает черев
щель; либо какой-нибудь газетный редактор, истерзанный
интригами, которого король делает пэром Франции, быть
Л
может, чтобы свести свои счеты со знатью; либо какойнибудь нотариус, ставший мэром своего округа,-все люди
расплющенные делами, и если достигают своей цели, то
достигают ее тогда, когда сами оказались убитыми. Во
Франции укоренился обычай возводить на трон парики.
Наполеон, Людовик ХІѴ-только эти великие государи
всегда выдвигали молодых людей, чтобы осуществлять свои
планы.
Выше этого круга живет мир артистический. Но и тут
лица, отмеченные печатью оригинальности, имеют хоть и
благородно-изможденный, но все же изможденный, усталый
морщинистый облик. Надорванные необходимостью постояного творчества, пресыщенные своими дорого обходящимися
фантазиями, истощенные самопожирающим гением, истомленные наслаждениями, все парижские художники стремятся
наверстать чрезмерным трудом украденные леностью досуги
и тщетно стараются примирить суету мирскую со славою
деньги с искусством. В начале своего поприща художник
.задыхается от кредиторов; его нужда порождает долги, долги
же требуют бессонных ночей. За работой следуют удовольствия. Актер играет до полуночи, разучивает по утрам, репетирует в полдень; скульптор сгибается под тяжестью статѵимысль и журналиста всегда в походе, как солдат на войне-'
модный живописец завален работой; живописца, не имеющего
заказов, грызет досада, если он чувствует в себе дарование.
Конкуренция, соперничество, клевета убивают таланты. Одни
отчаявшись, срываются в бездны пороков, другие умирают
молодыми и непризнанными за то, что слишком рано стали
жить в счет будущей славы. Мало кто из них сохраняет
первоначальную прелесть своих черт. Да и непонятой
•остается сияющая красота их облика. Артистические лица
всегда выходят за пределы принятого канона, они всегда
обладают чертами, преувеличивающими или преуменьшающими меру, установленную для того, что глупцы называют
-идеалом красоты. Какая сила разрушает их? Страсть. Всякая
страсть в Париже исчерпывается двумя словами: золото и
наслаждение.
Не дышится ли вам теперь легче? Не чувствуете ли вы
как чист стал воздух, как свободно пространство? Здесь нет
.ни работ, ни трудов. Вращающаяся спираль золота достигла
вершин. От самых недр его истоков, из глубин лавок, где
задерживают его хрупкие плотины, из лона контор и больших
лабораторий, где оно становится слитками, золото, в виде
приданых и наследств, расточаемых рукою девушек или
костлявыми руками старика, стремится в аристократический
мир, чтобы блистать там струящимися потоками всем напоказ...
...Но обратимся к большим, просторным и вызолоченным
салонам, к особнякам с садами, к миру богатому, праздному,
счастливому, обеспеченному. Все лица, что вы увидите там,
измождены и истерзаны тщеславием. Там—все нереально.
Искать удовольствий—не значит ли обретать скуку? Светские
люди рано изнашиваются. Занятые только поисками наслаждений, они скоро пресыщаются своими чувствами, как рабочий пресыщается водкой. Удовольствия подобны иным
лекарственным снадобьям: чтобы они оказали постоянное
действие, надо удваивать дозы, и последняя из них несет
в себе смерть или отупение. Все низшие классы притаились перед богатыми и высматривают, каковы их вкусы,
чтобы превращать их в пороки и эксплоатировать их. Как
противостоять хитрым соблазнам, которые измышляются
в этой стране? Поэтому Париж обладает своими курильщиками опиума, для которых чревоугодие или куртизанка
служит опиумом. Поэтому в людях этих вы рано уже наблюдаете вкусы, а не страсти, романические фантазии и быстро
остывающую любовь. Там царит бессилие, там больше нет
идей, энергия их перешла в будуарную манерность, в женские кривляния. Там вы встретите сорокалетних молокососов и шестнадцатилетних мудрецов. Богатые находят в
Париже готовое остроумие, разжеванные знания, сформулированные мнения, избавляющие их от необходимости обладать
собственным остроумием, знаниями, мнениями. В этом мире
неразумие равносильно слабости и распутству. Там скупо
берегут время, чтобы терять его. И чувств ищите там не
больше, чем идей. Объятия прикрывают глубокое равнодушие,
а вежливость—постоянное презрение. Там не найдете вы
любви к ближнему. Острословие без глубины, бесконечные
сплетни и пересуды, а поверх всего—общие места: такова
основа их речи; но несчастные счастливцы эти воображают,
что они не для того собираются вместе, чтобы изрекать
максимы на манер Ларошфуко, как будто восемнадцатый
век не открыл середины между чрезмерной переполненностью
и абсолютной пустотой. Если какие-нибудь здравые люди
отпустят тонкую и легкую шутку, она будет непонятой*
и вот им вскоре надоедает давать и не получать ничего
взамен, они замыкаются в себе и предоставляют дуракам
царить в их кругу. Эта пустая жизнь, это постоянное ожидание развлечения, которое так никогда и не наступает, эта
вечная скука, эта скудость ума, сердца и мозгов, это бесконечное утомление парадными парижскими сборищами кладут
свою печать на их черты, и так вырабатываются эти картонные лица, эти преждевременные морщины, эта физиономия
богатства, искривленная гримасой бессилия, на которой
отображается блеск золота и которую покинуло всякое
разумение...
Итак, непомерный труд пролетариев, итак, извращенные
влечения, снедающие оба буржуазных класса, итак, неумолимая
требовательность художественной мысли и излишества в
наслаждениях, которых постоянно ищет высшее общество,
объясняют уродливые черты физиономии парижанина, ставшие для него нормальными. Лишь на Востоке прекрасен
облик человеческой породы; но то—результат постоянного
покоя, излюбленного состояния этих глубокомысленных философов с длинными трубками, короткими ногами и с квадратными туловищами, презирающих и ненавидящих движение,
между тем как в Париже малые, средние и большие бегают,
прыгают, скачут, подхлестываемые неумолимой богиней—
Необходимостью: необходимостью денег, славы, развлечений.
Оттого самым необычайным исключением явится здесь всякое
лицо свежее, покойное, изящное, поистине молодое, и встречается оно здесь редко.
«Златоокая девушка». Соч.,
VIII, 274—287.
*
»..Твои две системы могут уместиться! в одной фразе и сводимы к одной мысли. Жизнь простая и механическая, заглушая наш разум работой приводит к некоторой бессмысленной
мудрости, тогда как жизнь, проходящая в пустоте абстракций
или в пропастях мира нравственного, доводит до некоей
мудрости безумной. Словом, убить чувства и дожить до
старости или умереть юным, приняв мученичество страстей,—
вот наша участь. Добавляю, что этот приговор вступает в
борьбу с темпераментами, которыми наделил нас жестокий
шутник, заготовивший выкройки всех созданий.
«Шагреневая
XV, 61.
кожа».
Соч.,
ПОСЛЕДСТВИЯ МАССОВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ОБРАЗОВАННОСТИ
Девятнадцатый век превратил писателей в руководителей человечества. —
В л а с т ь мысли и слова в современном обществе. — Мировой интеллектуальный прогресс в девятнадцатом в е к е . — Превращение идеи в предмет коммерции. — Вторжение капиталистической эксплоатации в н а у к у и и с к у с с т в о . — Спекуляция идеями. — Современные фабрики интеллектуальных
продуктов.
Время посвящений прошло. Теперь писатель заменил священника, он облачился в хламиду мученика, он страдает от
тысячи зол, он берет свет в алтаре и несет его в глубь народов; он принц, он нищий; он утешает, он проклинает, он
просит, он пророчествует; его голос звучит не только в соборе,
он может порой прогреметь на весь мир, из конца в конец;
человечество, ставшее его паствой, слушает его поэзию, размышляет о ней, и одно слово, один стих весят сейчас на политических весах не меньше, чем некогда весила победа. Пресса
организовала мысль, и мысль вскоре будет эксплоатировать
мир; листок бумаги, хрупкое орудие бессмертной идеи, может
выровнять земной шар; жрец этой ужасной и величественной силы не восхваляет ни королей, ни великих мира сего;
он получил свою миссию от бога; его сердце и ум объемлют мир и стремятся объединить его в единую семью. Произведение нельзя отметить гербом клана, предложить финансисту, проституировать проститутке; стихи, орошенные слезами, трудовые и плодотворные бдения не унижаются у ног
власти,—власть это они.
Писателю принадлежат все формы творчества; ему—
стрелы иронии, ему нежные легкие слова, падающие мягко»
как снег на вершины холмов; ему театральные персонажи»
ему; необъятные лабиринты сказок и вымыслов; ему все
цветы, ему все шипы; он возлагает на себя все одежды,
проникает в глубь всех сердец, испытывает все страсти,
постигает все интересы. Его душа стремится к миру и отражает его. Книгопечатание приблизило будущее, все выросло:
кругозор, зрение, слово и человек.
Вальзак—госпоже ***, 1841 г.
'
~
wnr «лс
Oeuvres, XXIV, 405.
Перемещение 1830 года, как всем известно, родило много
старых идей, молодить которые пытались ловкие спекулянты.
Более точно: с 1830 года идеи приобрели ценность, и, как
выразился один писатель, достаточно умный, чтобы ничего
не печатать, в нынешнее время воруют больше идей, чем
носовых платков. Быть может, как-нибудь однажды мы увидим
биржу идей; но и сейчас они—идеи,—хорошие или плохие,
подсчитываются, подбираются, вывозятся, продаются, превращаются в нечто осязаемое и приносят доход. Если нет продажных идей, Спекуляция старается пустить в ход слова,
сообщить им крепость идей и питаться словами, как птицазернами проса. Не смейтесь! В стране, где более прельщаются этикеткой на коробке, чем ее содержимым, слово
стоит идеи. Разве мы не видели издательства, эксплоатирующего слово «живописный», когда литература убила слово
«фантастический»? И казна тотчас прозрела возможность налога на произведения ума. Она прекрасно сумела измерить
поле извещений, учесть объявления и взвесить мысль на
улице Мира в Гербовом управлении. Став источником получения доходов, разум и его произведения, естественно, подчинились способу, применяемому в мануфактурных доходных
предприятиях. Таким образом, идеи, после выпивки зачатые
в мозгах парижан, по видимости—бездельников, когда те
устраивают духовные битвы, осушая бутылку вина или отрезая фазанью ножку, были переданы на следующий же
день после своего мозгового рождения коммивояжерам,
уполномоченным ловко подставлять под нос urbi et orbi 1 ,
в Париже и в провинции жареное сальце извещений и объяв1
Риму и всему миру (по-латыни).
лений, на которое ловится в мышеловку предприятия известная провинциальная крыса, в просторечии именуемая то абонентом, то акционером, то членом-корреспондентом, иногда—
подписчиком или покровителем, но всюду—простофилей.
— Я—простофиля!—воскликнул не один бедный собственник, привлеченный возможностью стать «основателем»
чего-то и в конце концов пустивший по ветру тысячу или
тысячу двести франков.
— Абоненты—простофили; они не желают понять, что
для движения вперед в царство идей нужно больше денег,
чем для путешествия по Европе,—говорит спекулянт.
Таким образом, налицо непрерывная схватка между, отсталой публикой, отказывающейся платить парижскую дань,
и сборщиками этого налога, которые, существуя на свои
получения, нашпиговывают публику новыми идеями, обкладывают ее сальцем каких-нибудь затей, поджаривают ее
объявлениями, сажают на вертел лести и в конце концов
съедают ее под каким-нибудь новым соусом, а она в нем
барахтается и дуреет от него, как муха от отравы. Итак, чего
только не выдумывали с 1830 года, чтобы возбудить во
Франции рвение, самолюбие интеллектуальных и прогрессивных пасс. Почетные звания, медали, дипломы, своего рода
Почетный легион, изобретенный для общины мучеников,
быстро следовали друг за другом. Наконец, все фаорики
интеллектуальных продуктов изобрели некий перец, особый
нмбирь, свое возбуждающее средство. Отсюда—премии, досрочные дивиденды; отсюда—рекрутский набор знаменитых
имен, похищенных у несчастных художников без их ведома,
которые таким образом оказываются вовлеченными в большее
количество предприятий, чем имеется дней в году, ибо закон
не предвидел похищения имен; отсюда же похищение идеи,
которые предприниматели по части общественного мнения,
похожие на азиатских торговцев рабами, вырывают из породившего их мозга едва раскрывшимися и обнажают и волокут
на глазах своего тупоумного султана Шагабагама, этой ужасной публики,—ведь если она не позабавится, то оторвет им
голову, отняв у них причитающуюся им меру золота.
«Знаменитый Годиссар». Соч.,
IX, 9—11.
Реклама как специфическое явление девятнадцатого века
Попино взирал на «литератора» с тревогой. Настоящие
купцы глядят на писателя со смешанным чувством страха,
жалости и любопытства. Хотя Попино получил хорошее воспитание, но привычки и склонности его родственников, их
взгляды на жизнь, притупляющая атмосфера лавки и конторы
оказали неизбежное влйяние на молодого человека, приведя
образ мыслей Ансельма в соответствие с избранной им профессией. Явление это можно заметить, наблюдая метаморфозы, которые переживает на протяжении десяти лет сотня
товарищей, вышедших из коллежа или пансиона почти одинаковыми по своим воззрениям. Андош принял растерянность
Попино за глубокое восхищение.
— Давайте-ка проштудируем проспект до обеда,—предложил Годиссар.—Тогда мы можем пить без всяких задних
мыслей. После обеда читается с трудом. Язык ведь тоже
бывает занят пищеварением.
— Сударь,—сказал Попино,—в проспекте нередко бывает
заключено целое богатство.
— А для таких бедняков, как я,—ответил Андош,—все
богатство—только в проспекте.
— Отлично сказано!—воскликнул Годиссар.—У этого
шутника Андоша остроумия хватит на сорок человек.
— На сто,—внес поправку Попино, пораженный только
что высказанной мыслью.
Нетерпеливый Годиссар развернул рукопись и прочел
громким, торжественным голосом:
— «Кефалическое масло» 1
— Мне нравится больше—«Цезарево»,—заметил "Попино.
— Друг мой,—возразил Годиссар,—ты не знаешь провинциалов. Есть хирургическая операция, носящая это же название, а они настолько глупы, что примут его за родовспомогательное средство, и разубедить их в этом будет не
так-то легко.
— Не желая настаивать на этом названии,—сказал автор
объявления,—должен заметить вам, что слово «кефалическое»
значит «головное» и полностью выражает вашу идею.
— Ладно, послушаем,—сказал Попино, сгорая от нетерпения.
Вот это объявление, ничем не отличающееся от тех
какими и по сей день блещет наша коммерция. (Второй
подлинный документ.)
Золотая медаль на выставке в J81У гооу
Кефалическое
масло
Патент на изобретение и усовершенствование
Ни одно косметическое средство не способствует
росту волос, так же как никакой химическии состав
не окрашивает их без опасности для вместилища
человеческого разума. Наука недавно установила,
что волосы являются мертвой материеи и что никакие силы не могут воспрепятствовать их выпадению или седине. Но чтобы предупредить иссыхание волос и облысение, достаточно охранять луковицу волоса от влияний наружной атмосферы и
поддерживать на голове свойственную ей температуру. «Кефалическое масло», основанное на этих принципах, установленных Академией наук, достигает
этого важного результата, к которому стремились
древние римляне, греки и северные народы, дорожившие своими волосами. Изысканиями ученых доказано что представители знати, отличительным признаком которых в старину была д лина волос, иного
средства не употребляли, но только самый спосоО,
ныне искусно вновь открытый А. Попино, изобретателем «Кефалического масла», был утерян.
Сохранять, вместе того чтобы стараться оказывать невозможное, а иногда и вредное действие на
кожу, содержащую луковицу волос,—вот какое назначение «Кефалического масла». В самом деле, масло
это, препятствующее выделению перхоти и издающее приятный аромат, благодаря своему составу,
главную роль в котором играет ореховая эссенция,
охраняет голову от влияний окружающей атмосферы
и поддерживая внутреннюю температуру, предупреждает простуду, насморки и все болезни головного
мозга. Благодаря этому составу луковицы, содержащие жидкость, из которой образуются , волосы, оказываются прочно защищенными от холода и от зноя.
Волосы, это великолепное украшение, которому
такое значение придают и мужчины и женщины, до
самого преклонного возраста сохраняют у особ, пользующихся «Кефалическим маслом», тот блеск, тонкость и глянец, которые придают столько очарования детским головкам.
Способ употребления напечатан на упаковке
каждого флакона.
Способ употребления
«Кефаличсского
пасла»
Совершенно бесполезно намазывать самые волосы. Это не только смешной предрассудок, но и
весьма стеснительная привычка, так как масло всюду
оставляет жирные следы. Достаточно, тщательно вычистив голову щеткой и расчесав волосы гребнем,
постепенно делая пробор за пробором, смазывать
корни волос губочкой, смоченной в масле, таким
образом, чтобы в результате вся кожа была покрыта
легким слоем масла.
«Кефалическое масло» продается в флаконах,
снабженных во избежание подделок подписью изобретателя. Цена флакона—три франка.
Главный склад: Париж, Ломбардский квартал,
улица Сен-Диаман. А. Попино.
Расходы по пересылке относятся за счет заказчика.
Примечание. От торгового дома А. Попино можно
также выписывать москательные масла, как-то: эфирное, лавандовое, миндальное, какао, кофейное, касторовое и др.
— Дорогой друг,—обратился «знаменитый» Годиссар к
Фино.—Проспект написан замечательно! Чорт возьми! Это
звучит совсем по-научному! Мы ничуть не виляем, а выкладываем все напрямик. От души поздравляю вас. Вот она, истиннополезная литература!
— Прекрасный проспект!—в полном восторге воскликнул Попино.
— Проспект, который с первого же слова убивает «Ма-
кассар»!—И, торжественно поднявшись, Годиссар произнес,
отчетливо отчеканивая каждое слово и сопровождая свою
речь жестами парламентского оратора :-Выраститъ волош.
нельзя! Безопасной краски не существует! Вот в чем заклю
чается гарантия нашего успеха! Современная наука подтвер-ждает мнение древних. Этим можно подкупить и стариков и
молодежь. Вы говорите старику: «О сударь древние греки
римляне были правы, они далеко не были так глупы как их
хотят теперь изобразить!» Вы обращаетесь к молодому человеку: «Дорогой юноша, вот еще одно открытие, которым
мьГ обязаны просвещению. Мы прогрессируем.
іне должны ожидать теперь от пара и телеграфа! Это
масло-результат изысканий господина Вокленаі» Не привести ли нам выдержку из доклада п>сподина Воклена в Ака ;
демии наук, подтверждающую наши заявления? А? Это будет
замечательно! Ну, Фино, за стол! Закусим как следует!
Выпьем шампанского за успех нашего юного друга.
«Величие и падение Цезаря
Вирою». Соч., VII, 144—147.
БУРЖУАЗНОЕ ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
противоположные
тенденции
нивелировка личности. ЦИЯ
буржуазного^
Прихоти богатых к л а с с «
е л ь н а я
система
гениальных людей.
Наш век свяжет владычество силы
творениями своеобразными, с владычеством
^
ной но обезличивающей,-она) уравнивает произведения,
выбрасывает их в огромных количествах и повинуется едино-1
образной мысли, этому последнему выражению общества Но
разве мрак варварства не наступает неизменно после пирншсгГва обобщенного духа, после последних усилии цигализации, сосредоточивающей земные блага в одной точке^
«Знаменитый Годиссар».
IX, 5.
Соч.,
В наши дни более чем когда-либо царит фанатизм инди^
видуальности. Чем больше наши законы будут стремиться к
неосуществимому равенству, тем более б у № удаляться o r
него наши нравы. Так, во Франции лица богатые проявляют
теперь все более своеобразия в своих вкусах в принадлежащих им вещах, нежели это было тридцать лет тому назад.
h
«Феррагюс, вождь девсрантов».
Соч., VIII, 93—94.
*
...Пусть не восхваляют нынешнего века, когда, как и во
все века, талант умирает от равнодушия, такого же грубого,
что и в те времена, когда умерли Данте, Сервантес, Тассо
е tutti quanti1. Народы еще позже понимают создания гения,
чем понимали короли.
«Поиски абсолюта».
XVI, 180.
*
Действительно, парижская молодежь не походит на молодежь ни одного другого города. Она делится на два класса:
молодых людей, имеющих состояние, и молодых людей, ничего
•не имеющих; или молодых людей, расточающих мысли, и
молодых людей, расточающих деньги. Но имейте в виду, что
речь идет лишь о тех природных парижанах, которые пользуются всеми усладами элегантной жизни своего города. Существует там молодежь и иного рода, но то—младенцы, которым поздно удается уразуметь всю суть парижского существования, и они остаются в дураках. Они не спекулируют, они
учатся, они добиваются,—по словам других. Наконец, есть
там еще молодежь, и богатая и бедная, которая избирает
•себе поприще деятельности и равномерно идет по своему пути;
люди эти слегка напоминают Эмиля из трактата Руссо, граждане по натуре, они никогда не появляются в свете. Дипломаты без стеснения называют их простаками. Простаки или
нет, они умножают собой число посредственностей, под бременем которых сгибается Франция. Они всегда тут как тут,
всегда готовы обделать общественные или частные дела плоской лопаточкой посредственности, кичась своим бессилием, которое именуют они добрыми нравами и честностью. Эти своего
рода общественные первые
ученики наводняют администрацию, армию, магистратуру, палаты, суд. Они делают
•страну мелкой, плоской и в государственном организме играют
роль, подобную лимфе, которая переобременяет тело и делает
его дряблым. Эти честные особы именуют людей талантливых распутниками или плутами. Но если те плуты требуют
платы за свою службу, по крайней мере они служат, тогда как
эти вредят и пользуются почитанием толпы; но, к счастью для
Франции, блестящая молодежь беспрестанно клеймит их именем тупиц.
.
.
«Златоокая девушка».
VIII. 292—293.
Соч.,
Соч.,
УМСТВЕННЫЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ БУРЖУА
РАВНОДУШИЕ БУРЖУА К ИСКУССТВУ
S
S
T
S
Ä
f
c
^
^
стина умирает от горя.
— Вот что приносят домой после всех этих зрелищ—
головную боль I—воскликнула г-жа Гильом.—Что же тут интересного видеть нарисованным то, что каждый день видишь
на нашей улице? Не говорите мне об этих художниках,—они,
как и ваши писатели, дохнут от голода. На кой чорт им понадобился мой дом, чтобы малевать его на своих картинах?
— Быть может, благодаря этому мы продадим сукна
несколькими кусками больше—сказал Жозеф Леба.
Это замечание не помешало тому, что искусство и мысль
еще раз были прокляты в судилище торговли. Легко понять,
что такие рассуждения не слишком обнадеживали Августину,
которая ночыо предалась впервые думам о своей любви.
...Августина послала своему Теодору список родственников
и друзей семейства, к которым молодому художнику следовало
проникнуть, чтобы заинтересовать их своими любовными планами, если это вообще возможно по отношению к людям,
1 И им подобные (по-итальянски).
занятым деньгами, торговлей, к людям, которым настоящая
страсть должна казаться самой чудовищной спекуляцией, спе.куляцией беспримерной.
...Отдавшись неиспытанному очароваішю рассказа о своих:
чувствах, она нашла в себе достаточно мужества, чтобы заявить с целомудренной твердостью, что любит де Сомервье»
что ему об этом писала, и прибавила со слезами на глазах:
— Отдать меня другому—значит сделать меня несчастной на всю жизнь.
— Но, Августина, вы, вероятно, не знаете, что представляет из себя живописец?—с ужасом воскликнула ее маты.
— Госпожа Гильом!—воскликнул старик-отец, заставляя свою жену замолчать.—Августина,—продолжал он,—художники, почти все без исключения, помирают с голоду. Они
слишком расточительны и потому всегда оказываются негодными людьми. Я был поставщиком у покойного Жозефа Берне»
покойного Лекена и покойного Новерра. Ах, если бы ты знала»
какие штуки откалывали они с беднягой Шеврелем, твоим
дедушкой: и господин Новгрр, и кавалер де Сент-Жорж, и в
особенности господин Филидор, все это шутники, я знаю; все
они прельщают болтовней, манерами... Ах, никогда твой.
Сюмер... Сом...
— Де Сомервье, отец.
— Ну, хорошо, пусть де Сомервье. Никогда он не будет
так любезен с тобой в обхождении, как кавалер де СентЖорж был со мной в тот день, когда я добился в Торговом
суде приговора против него. Таковы были знатные господа
в былое время.
,
...Их удовольствие достигло предела, когда за десертом
Теодор преподнес им свою изумительную картину, которую им
не удалось увидеть на выставке, на ней была изображена
внутренняя обстановка лавки, которой все были обязаны»
таким счастьем.
— Как мило!—воскликнул Гильом.—Подумать только»
что за это давали тридцать тысяч франков!
— Здесь мой чепец с лентами!—в свою очередь вскричала г-жа Гильом.
— А эти отрезы сукон,—прибавил Леба,—их хочется
потрогать рукой.
—Драпировки всегда выходят хорошо—ответил худож- і
лик.—Мы, современные художники, были бы очень счастливы,
если бы сравнялись в этом умении с древними.
— Значит, вы любите драпировки?—воскликнул Гильом.—
•Отлично, чорг побери! По рукам, мой юный друг. Раз вы
уважаете торговлю, мы поймем друг друга. А почему бы
ее презирать? Мир начался с торговли, раз Адам продал
рай за яблоко. Кстати сказать, это было не такое уж выгодное дельце 1
. Показывая жене наброски своих самых лучших произведений он знал, что услышит восклицание, подобное восклііS
отца
Гильом а: «Очень мило!» Такое бесстрастное
восхищение не было следствием добросовестной оценки а
только доверием, основанным на любви. Простой взгляд
Августина предпочитала самой прекрасной картине. Единственная возвышенная область которую она ^ л а
была
областью чувства. И, наконец, Теодор не мог не
-очевидности жестокой истины: его жена не воспршшчива к
поэзш? она живег не в его царстве, не следует за« всеми
•его капризами, неожиданностями, радостями и печалями она
твердо ступает по реальной земле в реальном мире, а он
•сам парил в облаках.
Сомервье спасался в тишину и молчанье своей мастерской,
надеясь, что постоянная жизнь среди художников сможет
образовать его жену и разовьет в ней спящие зародьшш
•того высшего духовного бытия, возможность которых особо
-одаренные умы допускают у всех; но Августина была слишком искренне религиозна, чтобы не испугаться тона, свойственного художникам. На первом же обеде, данном Теодором,
она услышала, как один молодой художник говорил с детским
легкомыслием, которого она не поняла и которое оправдывает
безбожную шутку:
— Но, сударыня, ваш рай ведь не более прекрасен,
чем «Преображение» Рафаэля? А ведь и на «Преображение»
.мне надоело смотреть.
Августина внесла в это одаренное общество дух недоверчивости, замеченный всеми; она стесняла, а художники,
когда их стесняют, неумолимы, они либо бегут, либо начинают издеваться.
Тогда, -развернув всю ту силу воли, ту энергию, которой обладают все любящие женщины, г-жа Сомервье попыталась изменить свой характер, свои нравы и привычки; но,
пожирая книги, мужественно изучая их, она добилась только
того, что стала менее невежественной. Легкость ума и прелесть в разговоре либо являются даром природы, либо плодом воспитания, начатого с колыбели. Она могла оценить
музыку, наслаждаться ею, но не могла петь со вкусом. Она
поняла литературу и красоты поэзии, но было слишком поздно,
чтобы принарядить ими неподатливую память. Она с удовольствием принимала участие в светских разговорах, но не
вносила в них блеска. Ее религиозные представления и предрассудки
[детства боролись с полным освобождением ума.
«Дом кошки, играющей в мяч».
Соч., I, 82—83, 84, 91—92,
94, 98—99, 101.
ТИПЫ БУГЖУА -
«ЦЕЛИТЕЛЕЙ ИСКУССТВА»
^м "
Р"
Бирото об искусстве. (Цезарь Бирото, разбогатевший торговец парфюмерией — герой романа В е л и ч и е м п а д е н и е
Цезаря
Б и р о т о.)—Художественные вкусы Селестена К р е в е л я . (Кревель — один
из главных персонажей романа К у з и н а Б е т т а , очень богатый торговец.)
е
ИЯ
а р Я
Волей-неволей он усвоил обороты речи, ошибки и суждения парижского мещанина, на слово верящего величию
Мольера, Вольтера и Руссо, покупающего их произведения
с тем, чтобы, не читая, поставить их на полку, утверждающего, что французское слово armoire следует писать ormoire,
ибо в шкаф женщины прячут свое золото (or) и платья,
которые в былое время они носили почти всегда из муара
(moire), и что коверкают 'это слово, произнося armoire.
Потье, Тальма, мадмуазель Марс, по их представлениям,^
крупные миллионеры и живут не как все остальные смертные;
великий трагик питается сырым мясом, мадмуазель Марс,"
подражая знаменитой египетской актрисе, ест в поджаренном
виде жемчуга. У императора жилетные карманы—кожаные»
чтобы он мог пригоршнями доставать оттуда табак, и он
верхом на лошади галопом подымается по лестнице версальской оранжереи. Писатели и художники умирают на больничной койке, падая жертвами собственной оригинальности;,
кроме того, все они без исключения безбожники, и лучше не
пускать их к себе іи порог. Жозеф Леба с ужасом передавал
историю брака своей свояченицы Августины с живописцем
Сомервье. Астрономы якобы питаются пауками. Эти блестящие
суждения касательно французского языка, драматического
искусства, политики, литературы, наук свидетельствуют обинтеллектуальном уровне парижских мещан того времени.
«Величие и падение Цезаря
Бирото». Соч., VII, 61—62.
*
Б а л у Цезаря Бирото.
Гости собрались точно к назначенному времени. Обед протекал, как обычные купеческие обеды: крайне весело, под
шум добродушных и грубоватых шуток, которые всегда вызывают смех. Превосходные блюда и великолепные вина были
оценены по достоинству. В половине десятого общество перешло в гостиную пить кофе. Подъехало несколько экипажей
с нетерпеливыми любительницами танцев. Час спустя гостиная
была полна, и бал принял вид раута. Граф де Ласепед
и г-н Воклен уехали, к великому огорчению Бирото, который
шел за ними до самой лестницы, тщетно умоляя остаться.
Ему удалось удержать только судыо Попино и г-на де лаБильярдера.
За исключением трех женщин, представлявших аристократию, финансовый мир и чиновничество: мадмуазель де
Фонтен, г-жи Демаре и г-жи Рабурден, резко выделявшихся
среди всех окружающих своей изысканной красотой, туалетами и манерами, остальные гостьи нарядились в тяжелые
солидные платья, сообщавшие им ту неуклюжую степенность,
которая придает мещанской толпе вульгарный вид. Изящество
и грация трех названных дам еще беспощаднее подчеркивали'
этот недостаток.
Мещане с улицы Сен-Дени величественно выставляли себя
напоказ, в полной мере осуществляя свои права на смехо-
творную глупость. Это были именно те мещане, которые
одевают своих детей уланами или национальными гвардейцами, покупают лубочные картинки П о б е д ы и з а в о е в а н и я С о л д а т а - п а х а р я , восхищаются П о х о р о н а м и б е д н я к а, присутствуют на парадах, отправляются по воскресеньям к себе на дачу, стремятся иметь аристократический
вид мечтают о муниципальных почестях; мещане, всему завидующие и тем не менее добрые, готовые к услугам, преданные, чувствительные, жалостливые, жертвующие в пользу
детей генерала Фуа, в пользу греков, о разбойничьих поступках которых они не знают, в пользу уже упраздненного
«Полевого убежища», расплачивающиеся за свои добродетели и осмеиваемые за свои недостатки обществом, которое
их не стоит, но презирает за мягкосердечие и непосредственность; простые мещане, воспитывающие простодушных дочерей привыкших к труду, наделенных прекрасными качествами,
исчезающими, как только эти девушки соприкасаются с высшими классами, бесхитростных девушек, среди которых простак Кризаль выбрал бы себе жену; словом, мещане, типичными представителями которых были супруги Матифа, москателыцики с Ломбардской улицы, чья фирма в продолжение
шестидесяти лет поставляла сырье для «Королевы роз». _
Г-жа Матифа, постаравшаяся придать себе почтенный вид,
танцовала с тюрбаном на голове, в тяжелом пунцовом, расшитом золотом платье, вполне соответствовавшем ее гордой
•осанке, римскому носу и яркобагровому цвету лица. Эта
Екатерина II прилавка совершенно затмила г-на Матифа,
-столь великолепного на смотру Национальной гвардии, где
на расстоянии пятидесяти шагов можно было заметить его
круглое брюшко, на котором сверкала часовая цепочка с
целой связкой брелоков. Толстый, низенького роста, в очках,
нарядившийся в сорочку с высоким, подпиравшим уши воротником, он обращал на себя внимание своим баритоном и Оогат•ством своего словаря.
„
Он никогда не говорил «Корнель», но «возвышенный корнель». Расин был «сладостным Расином». Вольтер — о ! Вольтер! «Второй во всех родах литературы, больше остроумия,
нежели гения, и тем не менее человек гениальный!» Р у с с о брачный дух, снедаемый гордостью человек, который в конце
^концов повесился». Он потихоньку рассказывал двусмысленные
анекдоты о Пироне, слывшем среди мещан ужасной личностью. Матифа, поклонник актрис, питал некоторую слабость
к непристойностям. Поговаривали даже, что, в подражание
Кардо и богачу Камюзо, он завел себе любовницу.
Иногда г-жа Матифа, видя, что он собирается позабавить
окружающих каким-нибудь анекдотом, громогласно перебивала
его: «Мой толстячок, подумай сперва о том, что ты хочешь
нам рассказать». Она фамильярно называла его своим толстячком. Эта объемистая москательная королева заставила
мадмуазель де Фонтен утратить свое аристократическое спокойствие: высокомерная девица не сумела удержать улыбки,
услыхав, как г-жа Матифа наказывала мужу: «Не набрасывайся
на мороженое, мой толстячок! Это дурной тон!»
«Величие и падение Цезаря
Бирото». Соч., VI!, 161—163.
*
• Однако Селестин Кревель, столь откровенный и подлинный представитель парижанина, пробившегося в люди, что
трудно без всяких церемоний войти в дом сего счастливого
преемника Цезаря Бирото, Селестин Кревель сам по себе
представляется целым миром, почему и заслуживает больше,
чем Риве, кисти портретиста, ввиду важной своей роли во
всей этой домашней драме.
Замечали ли вы, как в детстве или в начале общественной жизни мы собственноручно создаем для себя какойнибудь образец, часто сами того не ведая? Так, банковский
служащий, входя в гостиную своего патрона, мечтает обладать подобной же. Если он составит себе состояние, то, даже
двадцать лет спустя, он не подумает завести у себя роскошную
обстановку по современной моде, но останется верен той устарелой роскоши, которая пленила его в былые времена. Нельзя
и представить себе все глупости, порождаемые этой завистливой оглядкой назад, так же как невозможно вообразить
Все причуды, порождаемые этим затаенным соперничеством,
толкающим людей на подражание типу, который они поставили себе в образец, на расходование всех своих сил ради
того, чтобы сиять отраженным светом луны. Кревель стал
адъюнктом, потому что его патрон был адъюнктом, он стал
батальонным командиром, потому что завидовал эполетам Цезаря Бирото. Также, пораженный чудесами, воплощенными в
жизнь архитектором Греидо, в тот момент, когда колесо
фортуны вознесло его патрона на высшую точку, Кревель,
как выражался он на своем языке, не стал долго смекать,
раз дело шло об украшении его квартиры, он обратился,
закрыв глаза и открыв кошелек* к тогда уже совершенно
забытому архитектору Грендо. Мало кто представляет себе,
сколько времени еще длится угасшая слава, поддерживаемая
запоздалым восхищением.
Грендо в тысячный раз принялся за свою излюбленную
белую с золотом гостиную, обтянутую красным дамй. Мебель палисандрового дерева, грубо и наспех сработанная,
в провинции составила бы гордость парижского производства
в эпоху промышленной выставки. Столовые и стенные подсвечники, подставка для угольев перед камином, люстра, часы—
все было в стиле «рокай». Круглый стол, не сдвигавшийся с
середины гостиной, был выложен всякими итальянскими и
античными мраморами, привезенными из Рима, где фабрикуются такого рода минералогические карты, подобные портновским образчикам, и вызывал постоянное восхищение всех буржуа, посещавших Кревеля. Портреты покойной г-жи Кревель,
самого Кревеля, его дочери и зятя кисти Пьера Грассу,
живописца, пользовавшегося славой среди буржуазии, которому Кревель был обязан смехотворностью своей байронической позы, были развешаны на стенах попарно. Рамы,
каждая стоимостью в тысячу франков, вполне подходили ко
всей этой ресторанной роскоши, которая истинного художника,
разумеется, заставила бы только пожать плечами.
Никогда золото не теряло малейшего случая обнаружить
всю свою глупость. Париж насчитывал бы уже десять Венеции у себя, если бы наши коммерсанты на покое обладали
чутьем великих вещей, отличающим итальянцев. Еще в наши
дни миланский негоциант может отлично завещать сто тысяч
франков своему Duomo 1 на позолоту колоссальной богоматери, увенчивающей его купол. Канова приказывает в завещании своему брату построить церковь в четыре миллиона,
а брат добавляет еще из своих. Придет ли когда-нибудь в
1 Собор (по-итальянски).
парижскому буржуа (а все они, как Риве, питают
в сердце любовь к своему Парижу) воздвигнуть колокольни,
недостающие башням Собора богоматери? Теперь подсчитайте суммы, собранные государством по вымороченным наследствам. Ценою глупостей в виде кровельного толя, аляповатой позолоты, фальшивой скульптуры, на которые в течение пятнадцати последних лет тратят деньги личности типа
Кревеля, можно было бы довести до конца все работы по
украшению Парижа.
В конце гостиной находился великолепный кабинет, обставленный столами и шкапами, имитирующими Буля.
Спальня, обитая персидской набойкой, выходила также в
гостиную. Красное дерево во всем своем блеске заполняло
столовую, где стены были увешаны швейцарскими видами в
богатых 'рамах. Старик Кревель, мечтавший о поездке в
Швейцарию, хотел обладать этой страной в виде живописных
изображений, пока не соберется посмотреть на нее в действие
тельности.
' :
Бывший адъюнкт мэра, орденский кавалер, офицер Национальной гвардии, Кревель, как видит читатель, даже в
обстановке верно воспроизводит все великолепие несчастного
своего предшественника. Там, где один при Реставрации пал,
другой, о котором совсем и забыли, поднялся не по какойлибо счастливой игре судьбы, но силою вещей. При революциях, как при морских бурях, все, что обладает большим
весом, идет ко дну, а легковесное выносится волной на по*
верхность воды. Цезарь Бирото, роялист, осыпанный милостями и окруженный завистью, попал под прицел буржуаз*
ной оппозиции, тогда как торжествующая буржуазия увидела
в лице Кревеля своего собственного представителя.
Его квартира, обходившаяся в тысячу экю и переполнен»
ная доотказа пошлой роскошью, купленной за деньги, заниѵ
мала первый этаж старого особняка, расположенного между
двором и садом. Все сохранялось здесь, как жуки в коллекции энтомолога, ибо Кревель бывал дома очень редко.
:
Это пышное помещение составляло законное место жительства тщеславного буржуа. Обслуживаемый в нем кухаркой и -лакеем, он нанимал, кроме того, двух официантов и
заказывал парадный обед у Шеве, когда потчивал своих поли-
г о л о в у
Тических друзей, которых надо было ослепить, или когда принимал у себя свою семью. Настоящее же постоянное ^местопребывание Кревеля, ранее бывшее на улице Лоретской бого*
матери, у мадмуазель Элоизы Бризту, было перенесено теперь, как уже говорилось, на улицу Шоша. Каждое утро
бывший^ негоциант (все буржуа на покое титулуют себя
бывшими негоциантами) проводил два часа на улице де Сосэ,
занимаясь своими делами, а остальное время посвящал Заире,
что весьма надоедало Заире. Оросман—Кревель заключил
твердую сделку с мадмуазель Элоизой: она обязана была ему
угождать за пятьсот франков, уплачиваемых ежемесячно и
без отсрочек. Кревель оплачивал, кроме того, ее обеды и
всякие сверхсметные счета. Такой договор с премиями,—ибо
он делал много подарков,—представлялся экономным экс-любовнику знаменитой певицы. По этому поводу он говаривал
вдовым коммерсантам, слишком любившим своих дочерей, что
выгоднее нанимать лошадей помесячно, чем иметь собственную
конюшню. Тем не менее, если припомним болтовню швейцара
на улице Шоша с бароном, Кревель не обходился ни без кучеров, ни без грумов.
Кревель, как мы видели, обратил чрезвычайную любовь
свою к дочери в пользу своих удовольствий. Безнравственность его положения оправдывалась доводами высшей
морали. Кроме того, бывший парфюмерный торговец извлекал
из этой жизни (жизни необходимой, жизни разнузданной, Регентство, Помпадур, маршал де Ришелье и пр.) внешний
лоск превосходства. Кревель выступал в роли человека широкого кругозора, большого барина в миниатюре, человека
щедрого, не узко мыслящего, и все это основывалось на
ежемесячном расходе, примерно, от тысячи двухсот до тысячи
пятисот франков. То не было результатом политического
лицемерия, но результатом буржуазного тщеславия, которое,
впрочем, вело к тому же. На бирже Кревель слыл за существо высшего порядка для своей эпохи, а главное—за человека,
любящего хорошо пожить.
В этом Кревель, как он думал, оставил далеко позади
простака Бирото.
«Кузина Бетта». Соч., XI,
'
101—104.
ТПП ХУДОЖНИКА, ЦЕНИМОГО БУРЖУА
Поэма Г ѵ р д о н а Б и л ь б о к е и д а . ( Г у р д о н — один из персонажей романа
К р е с т ь я н е , провинциальный «лев».)
"Ч
Гурдон был первоклассным игроком в бильбоке,, и эта
мания породила в секретаре суда другую манию—воспеть
эту игру, бывшую в такой славе в восемнадцатом веке. Мании
часто одолевают «медиократов» попарно. Гурдон-младший роі
дил свою поэму в царствование Наполеона. Не говорит ли
это уже само собой, к какой здравой и благоразумной школе
он принадлежал? Люс-де-Лансиваль, Парни, Сен-Ламбер, Руше,
Виже, Андрие, Бершу были его героями. Дели ль был для
него богом, пока высшее суланжское общество не возбудило
вопроса, не следует ли считать Гурдона выше Делиля, после
чего секретарь с преувеличенной вежливостью стал называть
его господином аббатом Делилем.
Поэмы, законченные между 1780-1814 годами, были скрое-,
ны по одному шаблону, и поэма, посвященная бильбоке,
дает ясное представление обо всех. Все они были в некотором
роде фокусом. «Налой» надо считать Сатурном этого недоношенного поколения шутливых поэм, почти всегда состоящих
из четырех песен, потому что доведение их объема до шести
признавалось перегружением темы.
Эта поэма Гурдона, озаглавленная Б и л ь б о к е и д о и ,
была строго подчинена совершенно тождественным и раз навсегда установленным законам поэтики, которым подчинены
все эти «департаментские» творения; Первая песня содержит
в себе описание воспеваемого предмета, начинаясь, как уі
Гурдона, торжественным обращением* примером коего могут
служить следующие стихи: .,
Пою игру сию нежней веселий шумных
Для малых и больших, для мудрых и безумных,
Где ловкою рукой на острое древко
Шар с дырками двумя подхватим мы легко.
Игра прелестная, над скукою победа,
Хитрее вымыслов искусных ПаламедаГ
О Муза Игр, Любви и Радостных годйн,»
Сойди под этот кров, где я, Фемиды сын,
На гербовых листах нанизываю ямбы, •
И очаруй...
•
.
' 1 '
(
Объяснив, в чем состоит игра, и дав описание наиболее
красивых из известных, бильбоке, показав, какую важную
роль сыграло бильбоке в развитии токарной промышленности
и в частности мастерской под фирмой «Зеленая обезьяна»,
разъяснив, наконец, какое отношение имеет эта игра к статике, Гурдои заканчивает свою первую песню следующим
заключением, вызывающим-в.памяти читателя заключительные
строки первой песни всех его поэм:
L
Так Остроумие, Искусство и Наука
Берут себе предмет, в нем пользу отыскав,
' Что прежде был лишь для пустых забав.
Вторая песня, как всегда посвященная описанию различных способов обращения с предметом
и преимуществ,
доставляемых им при общениях с женским полом и выступлениях в свете, будет целиком угадана любителями этой
премудрой литературы по одной нижеприводимой цитате, рисующей портрет игрока, проделывающего "свои упражнения
ца глазах «у любимого предмета»:
"
£
,
Взгляните, вот игрок, кругом столпились гости,
"Как пежно смотрит он на шар слоновой кости
И как внимательно, заботливо следит
Малейший поворот рассчитанных орбит.
Шар трижды пролетел по заданному кругу,—
Искусной лестью он поет свою подругу;
Но неуклюже диск вдруг на кулак упал,—
Утешил палец он: его облобызал.
Неблагодарный тыі иль боль тебя смутила?
Счастливую беду улыбка окупила.
Именно это описание, достойное пера Вергилия, поставило
под вопрос превосходство Делиля над Гурдоном. Слово «диск»,
оспаривавшееся положительным Брюне, породило жаркие дебаты, продолжавшиеся одиннадцать месяцев, но на одном
из вечеров, когда обе партии уже почти дошли до белого
каления, Гурдон-ученый уничтожил партию «антидискистов»
следующим своим замечанием: «Луна, называемая поэтами
диском,—шар».
— Почем вы знаете?—ответил Брюне.—Ведь мы видим
только одну ее сторону.
Третья песня содержала в себе совершенно обязательную повествовательную часть, пресловутый анекдот о бильбоке. Все знают наизусть этот анекдот, связанный с одним
видным министром Людовика XVI; но согласно формуле, освященной газетой Débats в годы с 1810 по 1814 для восхваления
этого своеобразного вида общественных работ, «анекдот позаимствовал новые прелести у поэзии и у красот, рассыпанных
автором по его строкам».
Четвертая песня, подводившая итог всему произведению,
заканчивалась смелыми стихами, не подлежавшими опубликованию в 1810—1814 годах, но увидевшими свет в 1824 году,
после кончины Наполеона:
Так в век тревожный наш смел петь я полной грудыо.
О, будь у королей лишь бильбоке орудияі
О, если—чтоб досуг свой услаждать—народ
Иной игры себе вовек не изберет!
Тогда в Бургундию на место жизни бурной
Опять пришли бы дни и Реи и Сатурна.
Эти прекрасные стихи были напечатаны в первом и^ единственном издании, вышедшем из-под станка вилью-фэйского
типографа Бурнье.
Пожертвовав по три франка, сто подписчиков обеспечили поэме опасное по своему примеру бессмертие, и жест
этот был тем более красив, что каждый из этих ста доброжелателей слышал ее в отдельности и во всех подробностях
около ста раз.
Г-жа Судри только что упразднила бильбоке, красовавшееся на отдельном столике в ее салоне и в течение семи
лет подававшее повод к чтению выдержек из вышеупомянутых
стихов; она, наконец, поняла, что это бильбоке являлось
ее конкурентом.
Что касается автора, похвалявшегося тем, что портфель
его богат и другими стихами, то для полноты его характеристики достаточно привести его подлинные слова, в коих
он объявил высшему суланжскому обществу о существовании
у него соперника.
_ Знаете ли вы странную новость?—сказал он года за
два перед этим.-В Бургундии есть еще поэт... Да,-про-
должал он, наблюдая удивление, разлившееся на всех лицах,—
он из Макона. Но вам никогда не вообразить, чем он зянят!"
Он воспевает облака в стихах...
— А между тем они не плохи и в небе,—заметил остряк
дядя Гербе.
— Это какая-то дьявольская тарабарщина! Тут и озера,
и звезды, и волны... Ни одного осмысленного образа, ни малейшей поучительности, ему вовсе неведомы начала поэзии.
Небо он называет небом, луну просто луной, а не ночным
светилом. Вот до чего может нас довести жажда оригинальности!—страдальчески воскликнул Гурдон.—Бедный молодой
человек! Быть бургундцем и воспевать воду,—просто жалость берет. Если бы он обратился ко мне за советом, я указал бы ему на прекраснейший в мире сюжет, поэму о вине—
Вакхеиду,—сюжет, для которого я уже чувствую себя слишком старым.
Этот великий поэт так и остался в неведении о величайшем из своих триумфов (да и ему он обязан своим
бургундским происхождением): он занял внимание города
Суланжа, не имевшего понятия о существовании современных поэтов и не знавшего даже их имен!
Целая сотня Гурдонов предавалась поэтическим песнопениям в эпоху Империи, а время это обвиняют в пренебрежении к литературе... Загляните в «Вестник книжной торговли»,
и вы в нем найдете поэмы, посвященные токарному станку,
игре в шашки, трик-траку, географии, типографскому делу,
комедии и т. д., не говоря о столь прославленных творениях
Делиля о Сострадании, Воображении, Разговоре или творениях Вершу о Гастрономии, Танцомании и т. д. Быть может,
лет через пятьдесят будут смеяться над бесчисленными поэмами, которые последуют за «Размышлениями», «Восточными
песнями» и пр. Кто может предвидеть перемены вкусов, причуды мод и преломления человеческого духа? Новые поколения без остатка сметают даже следы всех идолов, попавшихся им на пути, и отливают себе новых богов, которые
в свою очередь будут когда-нибудь низвергнуты.
«Крестьяне». Соч., XIV.
220-223.
*
Vf я пьіРпл хѵпожника П ь е р а Г р а с с у . — С о д е р ж а н и е повести П ь е р Г р а с с уі
П ь е Г г о а с с ѵ ^ Ф у ж е р - б е з д а р н ы й молодой х у д о ж н и к . О н очень т р у д о л ю б и в .
н а с т о й ч и в и У ш л е т У н Т в ы с т а в к и картину за картиной, но все напрасно У д р у з е й - х у д о ж н и к о в его имя стало нарицательным именем бездарности. Одна,
из к а ^ н Г р а с с у своей роялистической темой понравилась К а р л у X . Г р а с с у
получРил ордРен Репутация человека з а с л у ж е н н о г о доставила ему з а к а з ы от
б ѵ р ж ѵ а . На дочери одного из т а к и х з а к а з ч и к о в Г р а с с у выгодно ж е н и л с я .
F г о ^ о л и п н о е положение, богатство, «сходство» его портретов сделали его.
любимейшим художником парижского б у р ж у а . Г р а с с у - на верном пути
к а к а д е ^ ч е с к о й к а р ь е р е , с л а в е , почестям, а его талантливые товарищи все?ще неТризн К а н Ы ^ а Р бедньі, т а к ' к а к они презирают мнения б у р ж у а з н о *
^
публики.
...Проработав непрерывно семь лет, Фужер научился компоновать, выполнять основные работы. Он писал так же
хорошо, как все художники второго сорта. Элиас покупал»
продавал бедного бретонца, который зарабатывал едва сотнюлуидоров в год и не расходовал больше тысячи двухсот
франков.
В 1829 году, ко времени выставки, Леон де Лора, шинер
и Бридо—они все пользовались большим весом и стояли во
главе художественного движения—прониклись жалостью к.
упорству и бедности своего старого приятеля; они-то и заставили принять на выставку в большом салоне картину
Фужера. Эта картина, весьма захватывающая внимание, почувству напоминала Виньерона, а по исполнению-первую
манеру Дюбюфа; она изображала молодого человека, которому в темнице выбривают волосы на затылке. С одной
стороны—священник, с другой-старуха и плачущая молодаяженщина. Писец читает указ по бумаге с печатью. На грубосколоченном столе—обед, к которому никто не прикасался..
Свет пробивается в высокое, с железной решеткой, окно..
Здесь было кое-что, заставлявшее буржуа содрогнуться, и буржуа содрогались. Между тем Фужер просто-напросто вдохновился шедевром Герарда Доу: он повернул группу из Ж е н щины, с т р а ж д у щ е й в о д я н к о й к окну, вместо того,
чтобы нарисовать ее с лица. Он заменил умирающую осужденным; та же бледность, тот же взгляд, тот же призыв к богу.
Вместо доктора-фламандца нарисовал холодную и официальную фигуру писца, одетого в черное, но прибавил старуху
возле молодой, женщины Герарда Доу. Наконец жестоко-простодушный па^ч занимал основное место в этой группе.
Этот плагиат, очень ловко замаскированный, не был узнан.
В каталоге значилось:
«510. Грассу де Фужер (Пьер), улица Наварен, 2.
Обряд
о д е в а н ь я шуана,
приговоренного
к с м е р т и в 1 8 0 9 году».
Хотя и посредственная, картина имела неожиданный успех,
так как напоминала дело поджаривателей из Мортаня. Во все
время выставки перед картиной собиралась толпа, и Карл X
задержался возле нее. Герцогиня Беррийская, будучи осведомлена о терпеливой жизни бедного бретонца, выказала
участие к нему. Герцог Орлеанский хотел купить картину.
Церковники сообщили супруге дофина, что сюжет проникнут
хорошими мыслями: в ней действительно преобладало более
чем достаточное религиозное настроение. Его высочество дофин восхищался пылью на плитах пола, что было грубейшей ошибкой, так как Фужер дал зеленоватые тона, свидетельствовавшие о сырости снизу стен. Герцогиня Беррийская купила картину за тысячу франков. Дофин заказал
другую. Карл X наградил орденом сына крестьянина, сражавшегося за королевскую власть в 1799 году. Жозеф Бридо,
великий художник, не был награжден. Министр внутренних
дел заказал Фужеру две картины религиозного содержания.
Этот Салон оказался для Пьера Грассу всем его состоянием,
славой, будущим, жизнью. Быть изобретательным во всем—
значит гореть на медленном огне, списывать—значит жить.
Открыв, наконец, золотую жилу, Грассу из Фужера пустил
в дело то жестокое правило, которому общество ооязано наличием низких посредственностей, предназначенных в наше время выбирать руководящих людей во всех
общественных классах, но которые, естественно, выбирают самих себя и ведут ожесточенную войну с подлинными дарованиями. Принцип выборов, примененный ко всему,—ложен.
-Франция изменяет его. Тем не менее скромность, простота,
удивление доброго и тихого Фужера заставляли замолчать
обидевшихся и завистников. Кроме этого, он имел на своей
стороне всех Грассу, выбившихся в люди, бывших в полном согласии со всеми будущими Грассу. Некоторые, растроганные энергией человека, которого ничто не могло лишить
бодрости, заговорили о Доменикино, утверждая: «Нужно, воз-
наградить волю к искусству. Грассу не украл своего успеха.
Вот уже десять лет, как он работает изо всех сил, славный
бедняга 1» Это восклицание «славный бедняга» наполовину служило основанием тех одобрений и поздравлений, которые
получил художник. Жалость столь же возвышает посредственных людей, сколь зависть унижает великих художников. Газеты не поскупились на критику, но украшенный орденом
Фужер перенес ее так же, как переносил советы друзей,—
с ангельским терпением. Обладая к тому времени пятнадцатью
тысячами франков, заработанными с огромным трудом, он
обставил свою квартиру и мастерскую на улице Наварен,
написал картину по просьбе его высочества дофина и две
картины—для церкви, заказанные министром,—всё к назначенному сроку, с точностью, которая должна была привести в
отчаяние кассу министра, привыкшего к другим способам
действия. Восторгайтесь же счастьем людей, любящих порядок! Если бы Грассу опоздал, то, застигнутый Июльской революцией, он ничего бы не получил. К тридцати семи годам
Фужер изготовил для Элиаса Мало около двухсот картин, совершенно неизвестных, но благодаря им он добился той
удовлетворительной манеры, того выполнения, при виде которых художник пожимает плечами, а буржуа восхищаются.
Фужер был дорог друзьям прямотой мыслей, верностью чувства, безукоризненной предупредительностью, большим прямодушием, и если они в какой-то степени не уважали его
как художника, то любили как человека.
— Какое несчастье, что Фужер имеет печальную склонность к живописи,—говорили между собой его друзья.
Тем не менее Грассу давал отличные советы, походя на
тех фельетонистов, которые сами неспособны написать книгу,
но прекрасно знают, чем грешит чужая книга. Однако между
литературными критиками и Фужером было различие: он
был чрезвычайно чувствителен к красотам, находил их, и его
советы были запечатлены чувством справедливости, которое
заставляло принимать правоту его замечаний. После Июльской революции Фужер представлял к каждой выставке дюжину картин, из которых жюри выбирало четыре-пять. В
жизни он соблюдал самую строгую экономию, и всю его
прислугу составляла женщина, занимавшаяся хозяйством. Единственным развлечением для него было посещение друзей,
осмотр произведений искусства; иногда он позволял себемаленькое путешествие по Франции, задумывал даже отправиться в Швейцарию за вдохновением. Этот плохой художник был прекрасным гражданином: он состоял в Национальной гвардии, являлся на смотры, платил за квартиру
и за необходимые припасы с самой буржуазной точностью.
Проводя жизнь в трудах и ничтожестве, он никогда не имел
времени любить. Оставаясь холостяком и бедным, он и не
думал о том, чтобы усложнить свое столь простое существование. Неспособный придумать какой-нибудь способ умножить свои капиталы, он каждые три месяца относил сбережения и прибытки к своему нотариусу Кардо. Когда у
нотариуса по счету Грассу набиралось тысячу экю, тот по-,
мещал их под первую закладную с ограничением прав жены,
если закладчик был женат, а также с ограничением прав продажи, если закладчику предстояло уплатить известную сумму.
Нотариус сам заботился о процентах и приписывал их к периодическим взносам Грассу из Фужера. Художник ожидал
благословенного дня, когда его договоры станут приносить солидную сумму в две тысячи франков ежегодного дохода,
чтобы позволить себе otium cum dignitate1 художника и писать
картины, о, какие картины, наконец-то, настоящие картины!
Картины законченные, из ряда вон выходящие.
Ну, а его будущее, мечты о счастье, высшая мера его
надежд—хотите вы их знать? Стать членом Института. Получить офицерский крест Почетного легиона. Сидеть рядом с
Шинером и Леоном де Лора, пройти в Академию раньше
Бридо. Носить орденскую розетку в петлице фрака. Какие
мечты! Только посредственные люди думают обо всем!
Услышав топот нескольких человек, поднимавшихся по
лестнице, Фужер взбил свой хохолок, застегнул бархатную
куртку бутылочно-зеленого цвета и был немало удивлен, увидев просунувшуюся физиономию, грубовато именуемую в ма?
стерских «дыней». Этот плод возвышался над тыквой, обря?
женной в синее сукно, украшенной связкой позвякивающих
брелоков. Дыня пыхтела наподобие дельфина, тыква шествовала при помощи двух брюкв, не точно называемых ногами.
Настоящий художник нарисовал бы карикатуру на мелI Благородную праздность
(по-латыни).
кого торговца бутылками и немедленно выставил бы его за
дверь, сказав ему, что не рисует овощей. Но Фужер не засмеялся, глядя на заказчика, так как рубашка господина Вервеля была заколота бриллиантом в тысячу экю.
Взглянув на Магю, Фужер сказал: «Здесь есть жирок»,
^употребив это простонародное словечко, бывшее тогда в
моде у художников.
Услышав такое словцо, Вервель нахмурил брови. Этот
буржуа влек за собой еще одно сооружение из овощей в
виде своей супруги и дочери. Лицо этой супруги было под
красное дерево, она походила на кокосовый орех, увенчанный
головой и стянутый поясом. Орех был насажен на две ноги,
платье было желтое с черными полосками. Она горделиво выставляла напоказ руки в невероятных митенках, вздувшиеся
словно перчатки на вывесках. Перья, являющиеся принадлежностью похоронной процессии первого разряда, реяли над
ее шляпкой, раздавшейся во все стороны. Кружева украшали плечи, столь же круглые спереди, как и сзади. Таким
образом, сферическая форма кокосового ореха была совершенной. Ноги того сорта, что художники называют «бревнами», были украшены валиком, выступавшим немного повыше
лакированных ботинок. Как эти ноги могли войти,—неизвестно.
Затем следовала молодая спаржа, зеленая и в то же
время благодаря своему платью—желтая, обнаруживая маленькую головку с гладко причесанными волосами морковного
цвета, обожаемого- римлянами. Кожа волокнистая, беловатая,
усеянная веснушками; большие невинные глаза с белыми ресницами и едва намеченными бровями; шляпка из итальянтой соломы с двумя приличными шелковыми бантами и
белой атласной кромкой; добродетельно красные руки и ноги,
как у ее матери. Все трое, осмотрев мастерскую, обрели тот
удовлетворенный вид, который свидетельствовал об их почтительном восхищении искусством.
— Вы, сударь, беретесь нам сделать похожие портреты?—
•спросил отец, приняв несколько воинственный вид.
— Да, сударь,—ответил Грассу.
— Вервель, он имеет крест,—совсем тихо прошептала
жена, когда Фужер повернулся к ним спиной.
— Разве бы я заказал наши портреты художнику, не насажденному орденом?—вопросил бывший торговец пробками.
Элиас Магю раскланялся с семейством Вервель и ушел.
Грассу проводил его до площадки лестницы.
— Только вы могли выудить такие шары.
— Сто тысяч франков приданого 1
•
— Так-то так, но что за семья!
— Триста тысяч франков наследства, дом на улице Ьушера и дача в Виль д'Авре...
— Бушера, бутылки, пробки, затычки, прилавки—сказал
художник.
„ „
— Вы будете обеспечены до конца своих дней,—ответил
Эта мысль проникла в голову Пьера Грассу, подобно тому
как утренний луч проникал в его мансарду. Усаживая отца
молодой особы, он нашел для него приличное выражение и
восхитился его физиономией, изобиловавшей резко выраженными тонами. Мать и дочь суетились вокруг художника,
восхищались всячески его приготовлениями,-ой казался им
богом. Это явное обожание понравилось Фужеру. Золотой
телец бросал на всю семью фантастический отблеск.
— Вы должны зарабатывать сумасшедшие деньги? но
вы их тратите так же, как и приобретаете,-заявила мамаша.
— Ничуть, сударьшя,—ответил художник,—я не трачу их,
у меня нет средств на развлечения. Мой нотариус помещает мои деньги, ведает моим счетом. Ну, а раз деньги у
ЭЛИ
него, я больше и не думаю о них.
— Мне говорили,—вскричал отец,-что все художникиужасные моты.
R
:
— Не будет нескромным узнать,—спросила г-жа Вервель—кто ваш нотариус?
— Славный малый, сама честность—Кардо.
- - Смотри-ка! Да это прямо умора!-воскликнул Вервель.—Да ведь Кардо и наш нотариус.
- — Не шевелитесь,—сказал художник.
— Сиди же спокойно, Антенор-сказала жена,-из-за тебя
господин Фужер напортит. Если бы ты видел, как он работает. ты бы понял...
— Боже мой, почему вы не обучали меня искусствам?обратилась девица Вервель к родителям.
^
— Виргинияі-вскричала мать.-Молодая девушка не
должна знать некоторых вещей. Когда ты будешь замужем,—
твоя воля, а до тех пор не болтай лишнего.
Во время первого сеанса семейство Вервель почти освоилось с почтенным художником. Они должны были снова
появиться через два дня. Выйдя из мастерской, отец и мать
велели Виргинии итти впереди их, но, несмотря на расстояние,
она услышала следующий разговор, смысл которого должен
был возбудить ее любопытство:
— Человек с орденом... тридцать семь лет... художник,,
имеющий заказы, и он помещает деньги у нашего нотариуса!
Посоветоваться с Кардо? Что же... Именоваться госпожей
де Фужер!.. Он не производит впечатления дурного человека...
Ты мне скажешь—коммерсант? Но пока коммерсант не закончит своих дел, нельзя знать, что станется с дочерью. В
то время как бережливый художник... кроме того, мы любим
искусство... В конце концов...
В то время как чета Вервель размышляла о его качествах,
Пьер Грассу размышлял о семействе Вервель. Он не смог
спокойно усидеть в мастерской, гулял на бульваре, разглядывал проходивших мимо рыжих женщин. Самые необыкновенные размышления занимали его: золото—самый красивый
металл, желтый цвет—цвет золота, римляне любили рыжих
женщин, он стал римлянином и т. д. Какой мужчина после двух
лет брачной жизни занят цветом волос своей жены? Красота
проходит, но безобразие остается! Деньги—это половина
счастья. Вечером, укладываясь спать, художник уже находил
Виргинию очаровательной.
Когда трое Вервелей пришли в назначенный день на
сеанс, художник принял их с любезной улыбкой. Злодей
подстриг бородку, надел чистое белье, мило причесался, весьма удачно выбрал брюки и красные туфли с острыми загнутыми носками. Семейство не менее льстиво улыбнулось художнику, чем он—семейству. Виргиния зарделась под цвет
своих волос, потупила взоры и, повернув голову, стала смотреть на этюды. Пьер Грассу нашел ее жалкие ужимки восхитительными. В Виргинии было что-то привлекательное; к
счастью, она не походила ни на отца, ни на мать; но в таком
случае—на кого же?
«Ах, дело на мази»,—все время повторял Грассу про
себя. Мать имела вид его соучастницы.
Во время сеанса между семьей и художником завязалась перестрелка-он имел смелость найти папашу Вервеля
умницей. Эта лесть ускорила сближение семьи и художника,
который преподнес один из своих набросков Виргинии и
рисунок—матери.
— Даром?—спросили они.
Пьер Грассу не мог удержаться от улыбки.
г - Вам не следует так раздавать свои картины: ведь это—
деньги,—сказал отец Вервель.
На третьем сеансе отец Вервель заговорил о прекрасной галлерее картин в своей деревне в Виль д'Авре: Рубенс, Герард Доу, Миерис, Терборх, Рембрандт, Тициан, Пауль
Лоттер и другие.
— Господин Вервель натворил безумств,—хвастливо заявила г-жа Вервель:—у него на сто тысяч франков картин.
— Я люблю искусство,—возразил бывший торговец бутылками.
Когда портрет г-жи Вервель был начат, а портрет ее
«супруга почти закончен, энтузиазм семьи не знал границ.
Нотариус во-всю расхвалил художника: Пьер Грассу, по его
мнению, был самый честный парень на свете, один из наиболее благопристойных художников, который, помимо всего
этого, скопил тридцать шесть тысяч франков. То время,
когда он бедствовал, уже в прошлом, каждый год он работает на десять тысяч франков, превращает проценты в капитал, и, сверх всего этого, он неспособен сделать женщину
несчастной. Эта последняя фраза опустилась на весы всей
•своей огромной тяжестью. Друзья Вервелей только и слышали о знаменитом художнике. В тот день, когда Фужер
начал портрет Виргинии, он был почти уже зятем семьи Вервель. Все трое Вервелей расцветали в его мастерской, которую они привыкли считать одной из своих резиденций. Для
них было что-то неизъяснимо привлекательное в этой чистой,
прибранной, милой, артистической комнате, Abyssus abyssum ,
буржуа притягивает буржуа. К концу сеанса лестница затрещала, дверь сразу распахнулась: то был Жозеф Бридо. Он
был в бурном настроении: волосы растрепанные, выражение
ла его широком лице разнузданное, глаза метали молнии во
» Бездна призывает бездну (цитата из Псалмов).
все концы- он обежал вокруг мастерской, внезапно подскочил
Грассу
запахивая свой сюртук на животе и тщетно пы- .
таясь его застегнуть: пуговица выскочила из суконной об-
Г
тяжки»
Дрова дороги,—сказал он Грассу.
Z Англичане 1 за мной... по пятам... Стой! Это ты рисуешь все эти штуки?
— Замолчи же ты!
сёмейство°Вервель, в высшей степени оскорбленное этим
с т р а н " « перешло от присущего,
эд-об—ного
мешке завелись
Z
догов:
хватив
™
_
желтенькие?.
йтІсГзГ S R
пятам один н е — и з породы
вцепившись зубами, они уже не выпускают,, не от
кусок мяса. Что за породаі
я напишу несколько слов моему нотариусу,
Значит, у тебя есть нотариус?,
Z вязком случае я понимаю, почему ты до сих пор рисуешь розовые Х и , столь подходящие для вывески пар,
фюмерщика^ ^
^ ^
^
В и р п п ш я п р о д „
п0.
ЗИР
°Л а Подойди же к натуре, какова она есть,-продолжал
S
»
h
'
S
масло,-неужели ты притязаешь иметь больше разума, чем
"^Отлично,-сказал
,іаП
Фужер,-займи мое место, пока я
вТрвель подкатился к. столу и зашептал на ухо Фужеру:
• .Англичанин,
«кредитор».
на
парижском
воровском
жаргоне
означало
— Но ведь этот мужлан все испортит,—сказал торговец.
«— Если бы он захотел сделать портрет Виргинии, то у;
него вышло бы в тысячу раз лучше, чем у меня,—ответил
Фужер с негодованием.
Услышав такие слова, буржуа кротко отступил к жене,
остолбеневшей от вторжения дикого зверя и весьма мало
успокоенной его сотрудничеством в работе над портретом
дочери.
— Вот, следуй этим указаниям,—сказал Бридо, возвращая палитру и беря записку.—Не знаю, как тебя благодарить! Теперь я могу вернуться в особняк д'Артеза,
которому я расписываю столовую, а Леон де Лора делает
плафоны над дверьми. Чудесные вещи! Приходи к нам
посмотреть.
Он вышел, не попрощавшись: до такой степени насмотрелся на Виргинию.
— Кто этот человек?—спросила г-жа Вервель.
— Великий художник,—ответил Грассу.
Короткое молчание.
— Вы уверены,—спросила Виргиния,—что он не испортил
мой портрет? Он меня напугал.
— Он сделал его только лучше,—ответил Грассу.
— Если он великий художник, то я предпочла бы такого
великого художника, который походит на вас,—сказала г-жа
Вервель.
— Ах, мама, господин Грассу—более великий художник,
он нарисует мой портрет целиком,—заметила Виргиния.
Выходки гения ошеломили этих столь добропорядочных
мещан.
«Пьер Грассу». Соч., IX,
110—118.
мире. Пьер Грассу не выходит за пределы буржуазного круга,
где его считают величайшим художником эпохи. Между оградой улицы Трона и улицей Тамплъ не пишут ни одного семейного портрета, иначе как у, этого великого художника, и
платят не меньше пятисот франков. Веские основания для того,
чтобы обращаться к нему, таковы: «Говорите, чго вам вздумается,—он ежегодно помещает двадцать тысяч франков у,
своего нотариуса». Так как Грассу показал себя с очень хорошей стороны во время беспорядков 12 мая, то получил
офицерский крест Почетного легиона. Он командует батальоном Национальной гвардии. Версальский музей не мог не заказать батальной картины столь превосходному гражданину,
который разгуливает по всему Парижу, чтобы встретить прежних друзей и заявить им с удовлетворенным видом: «Король
приказал мне написать сражение».
Г-жа Фужер обожает своего супруга и подарила ему двух
детей. Этот художник, хороший отец и супруг, не может, однако, изгнать из своего сердца одной роковой мысли: художники издеваются над ним, его имя служит знаком презрения
в мастерских, критики не занимаются его произведениями. Но
он всё работает, и его взоры устремлены к Академии, куда
он попадет. Затем—мщение, успокаивающее его сердце! У
знаменитых художников, попавших в трудное положение, он
покупает картины и заменяет пачкотню галлерей Виль д'Авре
настоящими шедеврами не своей работы.
Есть посредственности более задорные и злобные, чем
Пьер Грассу, у которого, так или иначе, налицо черты не
выставляющей себя напоказ благотворительности и совершенной любезности.
«Пьер Грассу». Соч., IX,
120—121.
*
*
В настоящее время Пьер Грассу, не пропускающий ни одной выставки, слывет в буржуазном обществе хорошим портретистом. Он зарабатывает тысяч двенадцать франков в год
и пачкает на пятьсот франков полотна. Его жена имеет шесть
тысяч франков годового дохода; он живет с тестем и тещей.
Вервели и Грассу, чудесно понимающие друг друга, имеют
выезд и принадлежат к числу самых счастливых людей в
Истинные артисты не дают пощады б у р ж у а .
Между архитекторами и подрядчиками существует точно
такая же связь, как между автором пьесы и актерами: они
взаимно зависят друг от друга. Греидо, которого Бирото уполномочил уговориться о ценах, вошел в стачку с подрядчиками
против буржуа. Все три крупных подрядчика — Лурдуа,
Шафару и столяр Торен—в один голос объявили архитектора
славным малым, с которым приятно работать. Грендо понял, что счета, в которых он имел свою долю, будут, как и его
гонорар, оплачены векселями, и старичок внушил ему сомнение в возможности реализовать их. Грендо решил, что
он будет безжалостен по отношению к Бирото, подобно всем
артистам,—людям, не дающим пощады буржуа.
«Величие и падение Цезаря
Бирото». Соч., VII, 173—174.
*
П о н с , герой романа К у з е н П о н с , тонкий ценитель и с к у с с т в а , показывает
Своим богатым родственникам, невежественным, пошлым, сокровища своей
художественной
коллекции.
— Но где же вам удалось найти этот веер?—спросила
Цецилия, рассматривая драгоценность.
— На улице Лап, у старьевщика; он только что привез его
из одного расхищенного замка Дрѳ в Онэ, замка, в котором
живала госпожа де Помпадур до постройки Менара; оттуда
удалось вывезти лучшие в мире панели; они столь прекрасны,
что наш знаменитый резчик по дереву Льенар оставил себе,
как пес plus ultra 1 искусства, две овальные рамы на образец.
Там были прямо сокровища. Мой старьевщик нашел этот
веер в одном bonheur-du jour 2 штучной работы; я бы его
купил, если бы коллекционировал эти вещи, но к нему и не
подступишься. Ризенеровская мебель ценится от трех до четырех тысяч франков. В Париже уже начинают понимать,
что знаменитые немецкие и французские инкрустаторы шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков делали подлинные картины из кусочков дерева. Заслуга коллекционера
в том, что он опережает моду. Вот, например, я уверен, что
пройдет пять лет, и за франкентальский фарфор, который я
коллекционирую двадцать лет, будут платить в Париже вдвое
дороже,. чем за севрскую pâte tendre 3 .
1 Крайний предел (по-латыни).
2 Шкафчик, красиво орнаментованный (по-француэски).
8 Один из сортов севрского фарфора.
— Что значит франкентальский?—спросила Цецилия.
— Франкенталь—назваігае фарфоровой фабрики курфюрста Пфальцского: она древнее нашей Севрской фабрики, как и
знаменитые Гейдельбергские сады, разоренные Тюренном;
имели несчастье существовать ранее Версальских. Севр во
імногом копировал Франкенталь. Немцы, нужно отдать им
справедливость, создали прежде нас дивный фарфор в Саксонии и в Пфальце.
Мать и дочь с недоумением посмотрели друг на друга,
словно Понс говорил с ними по-китайски, ибо трудно даже
себе представить, до чего парижане упорны в своем невежестве: они знают только то, что хотят знать.
— А как вы узнаете франкентальский фарфор?
— А марка 1—горячо воскликнул Понс—Все эти восхитительные шедевры имеют свою марку. Франкенталь помечен
сплетенными инициалами С и Т (Carolus Theodoras) с княжеской короной над ними. Старый Сакс имеет два меча и
порядковый номер золотом. Венсенн ставил марку в виде
рога. Вена имеет замкнутое V с геральдическими полосками.
Берлин—две геральдические полоски. Майнц—колесо. С е в р двойное LL, а фарфор королевы—А, то есть Антуанетта,. с
королевской короной над ним. В восемнадцатом веке все
европейские государи соревновались в производстве фарфора. Мастеров отбивали друг у друга. Ватто расписывал
сервизы для Дрезденской фабрики, и его вещи достигли бешеных цен. (Нужно хорошо разбираться в них, потому что
нынешний Дрезден их повторяет и копирует.) В те времена
делали дивные вещи, и теперь уж таких на воспроизвести...
— Вот какі
— Да, кузина, нельзя воспроизвести такой инкрустированной мебели, такого фарфора, как нельзя воспроизвести картин
Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Ван Эйка, Кранаха. Да, вот
вам. уж на что китайцы ловки и искусны, и ныне они в точности копируют прекрасные образцы своего фарфора, так
называемого Великого Мандарина. Ну, а две вазы древнего
Великого Мандарина, самого большого размера, стоят шестьвосемь-десять тысяч франков, а современную копию можно
иметь за двести франков.
— Вы шутите!
— Такие цены вас удивляют, кузина, но это еще пустяки. Не только полный обеденный сервиз на двенадцать
персон севрской pâte tendre, которая собственно не фарфор,
стоит сто тысяч франков, но это своя цена. За подобный сервиз платили в Севре, в 1750 году, пятьдесят тысяч ливров.
Я видел подлинные счета.
«Кузен Поле». Соч., XII, 32—34.
*
БУРЖУАЗНОЕ ОБЩЕСТВО КАК Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
МАТЕРИАЛ
ПРОЗАИЧНОСТЬ БУРЖУАЗНОЙ ЖИЗПИ
ного
»
а
Эта восхитительная пантомима, это вдохновение старого
артиста, делавшие из него, рассказывающего о торжестве
своей хитрости над невежеством старьевщика, модель, достойную кисти голландского мастера, все это пропало даром для
г-жи Камюзо и ее дочери, которые только и сказали просебя, обменявшись сухими и презрительными взглядами: «Вот
чудак I»
— И это вас забавляет?—спросила г-жа Камюзо.
Понс, оцепенев от этого вопроса, испытал желание побить супругу председателя судебной палаты.
— Но, дорогая кузина,—возразил он,—это охота на шедевры! И тут оказываешься лицом к лицу с противниками,
которые защищают дичь! Хитрость борется с хитростью.
Шедевр, а при нем нормандец, еврей или овернец,—
но ведь это как в сказках: принцесса, охраняемая волшебниками!
— А откуда вы знаете, что это Ват... как вы сказали?
— Ватто, кузина, один из величайших французских художников восемнадцатого века! Взгляните сюда, видите его
подпись?—сказал он, указывая на пастораль, изображавшую
хоровод знатных господ, переодетых пастухами и пастушками.—Это ли не увлекательно! Какое вдохновение! Какой колорит! А выполнено! одним движением руки! как росчерк учителя каллиграфии, работа уже не чувствуется! А с обратной
стороны, смотрите! бал во дворце! это как бы зима и лето!
Ну, а орнаментовка! какова сохранность! Вы видите, колечко
из золота и с каждой его стороны по малюсенькому рубину,
которые я отчистил!
•«Кузен Понс». Соч., XII, 35—36.
«
=
S
ï
s
s
s
Ä
с
о
з
д
а
н
'
Графиня действительно поэтизировала то, что составляет
контраст поэзии-фабрику. Может быть, из всех работ, которым предаются женщины, искусственные цветы в своей
отделке позволяют им высказать наиболее изящества. Чтобы
раскрашивать, женщина должна сгибаться над столом и отдаваться с известным вниманием этой полуживописи. Вышивание в той степени, которой ему отдается женщина, зарабатывающая себе хлеб, бывает причиной чахотки и искривления спинного хребта. Гравирование музыкальных досок-самый тиранический труд по мелочности, тщательности и пониманию, которых он требует. Шитье и вышивка не дают и
тридцати су в день. Производство же цветов требует массы
движений, жестов, даже мыслей, которые позволяют женщине
оставаться в ее сфере. Она может быть сама собой, болтать,
смеяться, петь или думать.
.
,
иол
«Оиорина». Соч., изд.
леева, X V , 344.
Пя
пт Р .
Панте-
*
Ты говоришь о М а р и и С т ю а р т ; Bene! Хорошо, е ^ и
бы удалось. Сюжет этой трагедии достаточно отдален, чтобы
быть представленным на сцене; будем надеяться, что автор
с честью выдержит борьбу против трудностей современных
сюжетов, далеко не столь удобных для поэзии, как сюжеты
старинные. Прибавь к этому трудную задачу сделать современного человека интересным! Наши государственные деятели
все одинаковы; дипломатические преступления мало что дают
театру. За исключением двух-трех великих катастроф, например, с Карлом I, Людовиком XVI и т. д . - н е т ничего
Трагедии, построенные на вымысле, ужасающе трудны, нужно
творить все; зрителю все вігове. Вольтер (почти единственный, кому этот жанр удался) смог добиться, что приняли
только З а и р у и А л ь з и р у , а еще что?—Умолкнем.
Бальзак—Лауре
де Бальзак, октябрь 1819 г.
Oeuvres, XXIV, 11.
*
Елизавета Бодуайе, рожденная Сальяр, принадлежит к
личностям, ускользающим от кисти художника по самой своей
вульгарности; но она заслуживает описания уже потому, что
является типичной представительницей мелкой парижской буржуазии. Качества этого класса немногим лучше пороков, в
недостатках их нет никакой мягкости, а нравы, хотя и низменные, не лишены оригинальности.
«Чиновники». Соч., изд. Пантелеева, XVIII, 139.
*
Современное общество, уравнивая все общественные положения, разъясняя все, уничтожило комическое и трагическое. Историк нравов вынужден, как в данном случае, искать
там, где их можно найти, факты, порожденные одной и той же
страстью, но относящиеся к нескольким сюжетам, и сшивать
их вместе, чтобы получить законченную драму. Таким образом, развязка З л а т о о к о й д е в у ш к и , на которой остановилась реальная история, рассказанная автором со всей правдивостью, развязка эта—факт, постоянно повторяющийся в
Париже, всю печальную серьезность которого знают только
хирурги госпиталей, ибо медицина и хирургия—наперсницы
эксцессов, вызванных страстями, как слуги закона свидетели
эксцессов, порожденных столкновением интересов. Весь драматизм и комизм нашего времени—в госпитале или в изучении служителей закона.
Хотя каждый из Тринадцати может дать сюжет для многих эпизодов, автор подумал, что будет удобнее и, быть
может, поэтичнее оставить их приключения в тени, как всегда
держалось в тени их необычное содружество.
Замечания к первому изданию
«Златоокой девушки». Oeuvres.
XXII, 395
*
...Автор ждет других упреков, среди них будет И упрек в
безнравственности; но он уже точно разъяснил, что одержим
навязчивой идеей описать общество целиком, таким, как оно
есть: с его добродетельными, почетными, великими, постыдными сторонами, с путаницей его смешанных сословий, с
неразберихой принципов, с его новыми потребностями и старыми противоречиями. У него нехватает мужества сказать
еще, что он скорей историк, чем романист, тем более, что критика станет упрекать его этим, словно он сам себя похвалил.
Он может только добавить, что в такое время, как наше,
когда все анализируется и изучается, когда нет веры ни священнику, ни поэту, когда сегодня хулят то, что воспевали
вчера—поэзия невозможна. Он подумал, что не оставалось
больше ничего удивительного, кроме описания великои социальной болезни, а она могла быть описана только вместе с
обществом, так как больной—это сама болезнь.
Остается возражение нотариуса! Автор испытывает к нотариусу не больше ненависти, чем к различным сословиям»
соединение которых образует общество. Он знает добрых и
умных нотариусов, так же как очаровательных старых дев»
уважаемых торговцев, ставших почти вельможами, особенно
с тех пор, как они перешли от конторки к пэрству. Автор
знаком с добродетельными буржуазками, благородными женщинами, без малейшего греха на совести. Но что делать с
нотариусом,—добродетельным и красивым юношей,—в романе? Добродетельный и красивый юноша—это было бы не
литературно, оба качества противоречат друг другу. Добродетельный нотариус никак не смог бы увлечь партер, которому всегда приносили в жертву слуг правосудия,—судебных приставов, нотариусов, адвокатов, судей. В театре есть
несчастные сословия. Нотариус это всегда фигурант в парите и брыжжах, который звезд с неба не хватает, точь в точь
как иные нотариусы: во всякой профессии есть умные люди и
дураки. Автор попытался возвысить нотариуса, показав, что
нотариусы,—далеко не похожие на этих безмолвных забитых фигурантов,—совершенно так же смешны, совершеннотак же порочны, как и собственники, судьи, финансисты и ты-
сячи оригиналов, копируемых романистами. Он к тому же
рад, что задел некоторых за живое. Указать бедствия, вызванные изменением нравов,—вот единственное назначение книг.
Но чтобы заключить мир с корпорацией, которую, быть может, автору придется призвать, для того, чтобы строчить
договоры, он здесь формально обязуется описать во весь
рост прекрасного нотариуса, великолепного нотариуса, настоящего нотариуса, нотариуса любезного, нотариуса—не
слишком старого, не слишком молодого, нотариуса женатого
и обладающего изрядным состоянием, нотариуса располагающего любовью, уважением и деньгами своих клиентов, как
в старые времена,—словом, такого нотариуса, который удовлетворит самих нотариусов и заставит их приобрести книгу,
где помещен их портрет, основанный на изучении нотариуса.
Это будет—дело привходящее—единственный денежный успех автора. Ввиду трудности произведения, цена будет несколько выше, чем при обычных заказах. Автор уверен, что ни
один нотариус королевства не пожалеет о своих деньгах. Да,
даже сельский нотариус, наименее сведущий в литературе,
так же как элегантный парижский нотариус, наиболее искушенный в поэзии, самый грубый, как и самый вкрадчивый, самый продувной, как и самый простодушный,—читая книгу,
где будет этот благословенный портрет, скажет, как женщина, наконец, нашедшая себе поклонника по сердцу: «Он
меня понял!»
Однако, если другие сословия потребуют, если поверенные, судебные приставы, девицы, торговцы, банкиры, если
все, кто имеет право на общественное уважение,—а это подавляющее большинство французов,—пришлют подобные требования, автор не в состоянии будет их удовлетворить: страницы его произведений станут слишком похожи на эпитафии
кладбища Пер-Лашез, где, пожалуй, легче найти честного
человека среди гуляющих, чем подлеца в могилах.
1838 г.
Предисловие к первому изданию сборника рассказов «Высшая женщина», «Банкирский
дом Нюсинжен», «Торпиль».
Oeuvres, XXII, 511—512.
*
Существуют, несомненно, матери, которых воспитание, свободное от предрассудков, не лишило ни одного из женских
очарований и дало им основательное образование без всякого педантства. Покажут ли они своим дочерям эти поучительные рассказы? Автор дерзнул на это надеяться. Он
обольщался тем, что умные люди не упрекнут его за правдивую картину нравов, скрываемых в иных семействах тих заботливо, что наблюдателю иногда бывает трудно и догадаться о них. Он полагал, что гораздо благоразумнее отметить
ивовой веткой опасные пути жизни, как отмечают лодочники
пески Луары, чем оставить их незаметными для неискушенного
взгляда.
Но почему бы автору просить отпущения грехов у светских людей? Издавая эту книгу, он лишь возвращает свету
то, что свет ему дал. Неужели из-за того, что он попытался
правдиво нарисовать события, сопутствующие или предшествующие браку, его книга будет отвергнута молодыми "особами, которым суждено со временем появиться на общественной сцене? Неужели это преступление—заранее приподнять
для них занавес тех сценических подмостков, украшением
которых суждено им стать?
Автор никогда не понимал, какие воспитательные выгоды
может извлечь мать, запаздывая на один, самое большее
два года с сообщением тех сведений, которые все равно
Получит ее дочь, и предоставляя ей постепенно просвещаться при блеске гроз, которым она отдает ее почти всегда
без защиты.
ГЪедислозие к первому Изда1835 г.
нию «Сцен частной жизни».
Oeuvres, XXII, 379.
...Не так давно автор был испуган, встретив в свете невероятное, неожиданное множество женщин, искренне добродетельных, счастливых своей добродетельностью, добродетельных, потому что они счастливы, и, без сомнения, счастливых
потому, что они добродетельны. В течение нескольких дней
отдыха он только и видел до всех сторон, что хлопанье
развернутых белых крыльев, подлинных ангелов, которые»
казалось, вот-вот улетят, облаченные в одежды невинности,
причем все это были особы замужние, упрекавшие автора в
том, что он наделил женщин неумереіпіой страстью к запретным радостям брачного кризиса, получившего от автора научное название минотавризт.
Эти упреки не лишены были
некоторой лести, ибо женщины эти, приуготованные к усладам небесным, признавались, что знают, понаслышке, отвратительнейшую книжонку, ужасающую Ф и з и о л о г и ю б р а к а, и пользовались этим выражением, чтобы избежать слова,
изгнанного из приличного языка,—адюльтер. Одна говорила
ему, что в его книгах женщина если и бывает добродетельна,
то лишь поневоле или случайно, но никогда по собственной"
склонности или для удовольствия. Другая говорила, что женщины, отдающиеся Минотавру, выведенные в его произведениях, были очаровательны и заставляли умолкнуть свои
прегрешения, которые нужно бы изобразить, как самую отвратительную вещь в мире, и что опасно для общества вызывать зависть к судьбе этих женщин, как бы несчастны они
ни были; напротив, женщины, отмеченные добродетелью, казались им особами чрезвычайно неприятными и обездоленными. Словом, упреки были столь многочисленны, что автору
не удастся привести все. Вообразите художника, полагавшего,
что сделал молодую женщину похожей, а женщина возвращает • портрет под предлогом, что он ужасен. Тут есть от
чего сойти с умаі Так поступил свет. Свет сказал: «Но мы.
белы и румяны, а вы придали нам препротивный оттенок. Для
любящего глаза—у меня ровный цвет лица, а вы посадили
мне гэту бородавку, которую замечает только мой муж».
...Теперь, если иные из особ, упрекавших автора за его
литературное пристрастие к грешницам, вменят ему в преступление то, что в лице г-жи де Нюсинжен он пустил в литературное обращение одной дурной женщиной больше, он умоляет своих прелестных цензоров в юбках простить ему и эту
маленькую жалкую вшу. В обмен на их снисхождение он формально обяжется создать для них, по истечении срока, необходимого для подыскания образца, женщину, добродетель-
собственной склонности. Он изобразит ее в замужестве
с нелюбимым человеком, ибо если бы она была замужем за
человеком обожаемым, то, пожалуй, оказалась бы добродетельігай для собственного удовольствия. Она не будет матерыо
семейства, ибо, если бы, как у Жуаны де Манчиш,—героини,
которую иные критики находили слишком добродетельной,—
у нее были любимые дети, она могла быть добродетельной из
привязанности к своим дорогим ангелочкам. Автор хорошо
понял свою миссию и видит, что в обещанном произведении
речь идет об изображении добродетели в слитках, добродетели, клейменной чеканом ригоризма. Поѳтому его героиней
будет какая-нибудь красивая, изящная женщина, обладающая сильными чувствами и дурным мужем, доводящая христианскую любовь до того, что считает себя счастливой, терзаемая, как превосходная г-жа Гийон, чей муж испытывал
удовольствие, тревожа ее во время молитвы самым неподобающим образом. Но, увы! в этом деле есть серьезные вопросы, требующие разрешения. Если автор ставит их, то лишь
в надежде получить немало академических заметок, мастерски
написанных женской рукой, с тем чтобы создать портрет,
который удовлетворил бы женскую публику.
НУІО ПО
Прежде всего, если этот женственный феникс верит в
рай, то не будет ли она добродетельна из расчета? ибо, как
сказал один из самых замечательных умов пашей великои
эпохи, если человек видит ад с полной достоверностью—как
может он пасть? «Найдется ли подданный, который, в здравом уме, смог бы нарушить приказ повелителя, сказавшего
ему: «Вот вы в моем серале, среди всех моих жен. В течение
пяти минут не приближайтесь ни к одной; я за вами слежу.
Если вы будете верны в течение столь краткого времени,
все эти наслаждения и многие другие будут разрешены вам
в течение тридцати лет незыблемого благоденствия». Кто
же не видит, что этому человеку, как бы ни был он пылок,
•не нужна даже сила, чтобы устоять в течение столь краткого
времени? Ему нужно лишь верить слову своего повелителя.
•Поистине искушения христианина не более сильны, а че• ловеческая жизнь по сравнению с вечностью гораздо меньше,
•чем пять минут по сравнению с тридцатью годами. Между
счастьем, обещанным христианину, и наслаждением, предложенным подданному,—бесконечное расстояние; и если слово
повелителя может вызвать сомнения, то слово бога их не
оставляет» (Оберманн). Быть добродетельной подобным образом—не значит ли заниматься ростовщичеством? Итак, чтобы
узнать, добродетельна ли она, нужно дать ей искушение»
Если она была искушена и осталась добродетельна, то
логически следовало бы изобразить ее как женщину,
не имеющую даже представления о грехе; но если она
не имеет представления о грехе, она не узнает и его удовольствий.
Если же она не знает его удовольствий, то искушение ее
весьма не полно, у нее не будет заслуги сопротивления.
Как можно желать неизвестного? Описать же ее добродетельной без искушений—бессмысленно. Представьте женщину, хорошо сложенную, неудачно вышедшую замуж, искушаемую, понимающую все счастье страсти! Такое произведение
трудно, но его все же можно вообразить. Трз'дность не в
этом. Не думаете ли вы, что при таком положении
она нередко будет мечтать о грехе, который ангелы
должны простить ей? А если она два или три раза об этом
подумает, то останется ли она добродетельна, совершая малые грехи мысленно или в глубине своего сердца? Видите ли,
все согласны относительно греха; но лишь только речь
заходит о добродетели, мне кажется, почти невозможно сговориться...
Предисловие ко второму изданию «Отца Горио», І835 г.
Oeuvres, XXII, 409—411.
ПОЭЗПЯ в ЗКИЗІІП ОТВЕРЖЕННЫХ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА
Бесцветность б у р ж у а з н ы х н р а в о в , уничтожающая все оттенки. — Яркие
характеры возможны теперь лишь в среде о т в е р ж е н н ы х . — У разоренных
наций благородный тип встречается только в народе.
Уравнение, сглаживание наших нравов все возрастает.
Десять лет назад автор этой книги писал, что остались лишь
оттенки; но сегодня оттенки исчезают. Вот почему, по остроумному замечанию автора. Л у и з о н д ' А р к и е н и Б е д н я к а и з М о н л е р и , яркие нравы и комические черты возможны,
лишь среди воров, проституток и каторжников; выразительность осталась лишь у людей, отверженных обществом. Со-
временной литературе нехватает контрастов, а контрасты
невозможны без расстояния между людьми. Расстояния уничтожаются со дня на день. Сейчас кареты стремятся стать
ниже пешеходов, и вскоре пехотинец забрызжет грязью богача в низенькой коляске. Черная одежда торжествует. То,
что скрыто в одежде и в колесах, равно одушевляет умы,
живет в манерах и нравах. Министр спокойно отправляется
к королю в одноконной карете; нам приходилось видеть фиакры во дворе Тюильри. Расшитые золотом одежды министра, генерала, академика,—костюм, одним словом,—стыдно
показывать, у него маскарадный вид. Мы слишком правы,
выступая против нашего времени, и так как порок, на
который мы нападаем,—ужасающее лицемерие, то понятно
без слов, что мы становимся безнравственны.
Из предисловия к первому
изданию «Блеска и ниіцеш
куртизанок». Oeuvres, XXI !»
574—575.
*
Это странное явление наблюдается у всех разоренных
наций: благородный тип встречается только в народе, так же
как после городского пожара медали скрываются в пепле.
Онорина была исключительно богата и, кроме того, редкая красавица. Вспомним Н о ч ь Микель-Анджел о пригвожденную у ног М ы с л и т е л я 1 , оденем ее в современную одежду, обовьем прекрасные волосы вокруг ее великолепной головы, зажжем огонь в ее дремлющих очах,
закутаем шалью ее мощную грудь, представим себе длинное
белое, вышитое цветами платье, вообразим, что статуя встала,
села, скрестила руки, похожие на руки мадмуазель Жорж, и
перед нашими глазами будет жена консула с шестилетним
мальчиком, прекрасным, как желание матери, и прелестной
четырехлетней девочкой, сидевшими у нее на коленях. Эта
последняя представляла тип ребенка, которого скульптор Давид так долго искал для одного памятника.
«Онорина». Соч., изд. Пантелеева, XV, 312.
1
Флоренция, часовня Медичей, статуя Лоренцо Медичи.
ПОЭЗПЯ Г А З Р У Ш П Т Е Л Ы Ш Х СПЛ БУРЖУАЗНОГО ОБЩЕСТВА
Поэзия п а т р и а р х а л ь н ы х добродетелей"и поэзия житейской борьбы честолюбца. — Поэтический интерес в с я к о г о я в л е н и я , нарушающего монотонность б у р ж у а з н о й ж и з н и . — Величие п р е с т у п н и к о в , восстающих против
буржуазного общества. — Поэзия р а з р у ш и т е л ь н ы х с т р а с т е й .
...Через цепь сделок подобного рода люди приходят к той
разнузданной морали, какой придерживается нынешняя эпоха,
где реже, чем когда-либо, встречаются прямолинейные люди,
люди высокой воли, которые никогда не сгибаются перед
влом и которым малейшее уклонение от прямого пути представляется преступлением: величественные образы честности,
подарившие нам два шедевра—мольеровского Альцеста и, в
более близкое время, Дженни Дине и ее отца в романе Вальтера Скотта. Но, может быть, произведение обратного порядка,
попытка изобразить те извилины, которыми светский честолюбец ведет свою совесть, пытаясь обойти зло, дабы достигнуть цели с соблюдением внешних приличий,—быть может,
такое произведение явилось бы не менее прекрасным, не менее драматичным.
«Отец Горио», Соч., III, 103.
Что же касается Тринадцати, автор достаточно чувствует
себя во всеоружии подробностей их почти романической истории, чтобы отказаться еще от одной из прекраснейших
привилегий романиста, какие только существуют, несмотря
на то, что на торгу литераіуры она могла бы получить высокую оценку и дать автору возможность навязать публике
не меньше томов, чем В о с п о м и н а н и я с о в р е м е н н и ц ы .
Все Трішадцать были людьми того же закала, что Трелони,
друг, лорда Байрона, и, говорят, оригинал его К о р с а р а ;
все—фаталисты, смелые и поэтические,—они пресытились пошлостью своей жизни и бросились искать азиатских наслаждений, влекомые к ним необычайной страстью, какая должна
была овладеть ими, когда после долгой спячки проснулись они
как разъяренные. Однажды, перечитав С п а с е н н у ю В е н е ц и ю и восхитившись высоким союзом Пьера и Жафье, один
из них задумался над исключительными качествами людей,
выброшенных из общества, над честностью каторжников, над
взаимной верностью воров друг другу, над преимуществами
того непомерного могущества, какое умеют завоевать эти л\оди, сливая все мысли свои в единую волю. Он открыл, что
человек может стать выше людей. Он решил, что общество
должно все целиком принадлежать избранным людям, которые
к своему природному уму, к приобретенным ими знаниям, к
своему богатству присоединили бы фанатизм, достаточно горячий, чтобы сплавить воедино все эти разнородные силы.
Тогда безмерно действенное и напряженное их тайное могущество,. против которого общественный строй окажется бессильным, опрокинет все препятствия, сломит людскую волю
и даст каждому из них дьявольскую власть над всеми. Этот
особый мир среди мира, враждебный миру, не приемлющий
ни одной из идей мира, не признающий ни одного закона, не
подчиняющийся ничему, кроме сознания необходимости в чемлибо для себя, не покоряющийся ничему, кроме долга преданности, отдавая все свои силы своему сообщнику, когда тот
или иной из них потребует общего их содействия; эта жизнь
флибустьеров в желтых перчатках и в карете, этот интимный
союз людей, стоящих выше окружающей среды, холодных
насмешников, улыбающихся и проклинающих, среди общества
лживого и мелочного; уверенность, что все согнется перед
ними по их прихоти, что месть их будет ловко задумана, что
каждый из них живет в тринадцати сердцах; затем это постоянное блаженство обладания тайною своей ненависти перед
лицом людей, блаженство быть всегда вооруженными против них и могущими замкнуться в себе, унося с собою одной
идеей больше сверх всех идей, составлявших достояние самых достопримечательных людей,—этот культ наслаждения и
эгоизма воодушевлял тринадцать человек, которые восстановили Общество. Иисуса на пользу дьявола. То было ужасно и
великолепно. Затем был заключен договор, и он существовал именно потому, что представлялся немыслимым. Итак,
было в Париже тринадцать братьев, которые принадлежали,
друг другу, а в свете друг друга не признавали; но по вечерам
они сходились, вместе, как заговорщики, не тая друг от друга ни единой мысли и поочередно пользуясь богатством, подобным богатству горного духа; они. были вхожи во все
светские гостиные, запускали руки во все денежные ящики,,
толкались по улицам, лежали на всех подушках и без зазре-
ния совести все подчиняли своей фантазии. Никто не начальствовал над ними, никто не мог захватить власть в свои руки; но наиболее сильным страстям, наиболее настойчивым обстоятельствам давалось предпочтение. То были тринадцать
неведомых королей, но королей, обладавших действительной
властью, и более чем королей—судей и палачей, которые,
создав себе крылья, чтобы облететь все общество сверху донизу, пренебрегали каким-либо в нем положением, ибо они
были в нем всемогущи.
«История тринадцати». Предисловие. Соч., VIII, 50—52.
...Я стал прожигателем жизни, если воспользоваться живописным выражением, употребительным на нашем языке кутежей. Мое самолюбие было направлено на то, чтобы быстро
себя убить, чтобы своим могуществом и пылом сокрушить
самых веселых собутыльников. Я постоянно бывал свеж, элегантен. Я слыл за остроумца. Ничто не обличало во мне того
ужасного существования, которое превращает человека в воронку, в аппарат для извлечения хилуса или в выездную
лошадь. Вскоре кутеж явился передо мною во всей величественности своего ужаса, и я постиг егоі Разумеется, люди
благоразумные и порядочные, которые для своих наследников наклеивают этикетки на бутылки, совсем не в силах
понять ни теории такой широкой жизни, ни ее нормальности;
разве вы внушите поэзию провинциалам, для которых столь
богатые наслаждениями опий и чай—все еще только лекарства? И даже в Париже, в столице мысли, не встречаем ли
мы половинчатых сибаритов? Неспособные вынести чрезмерность наслаждений, не утомляются ли они от одной оргин,
как добрые буржуа, которые, прослушав какую-нибудь новую оперу Россини, проклинают музыку? Не отрекаются
ли они от такой жизни, как человек воздержанный, который
не хочет больше есть паштетов Рюфека, потому что первый
же паштет подарил ему несварение желудка? Кутеж, конечно, есть искусство такое же, как поэзия, и для него нужны
сильные души. Чтобы охватить его тайны, чтобы насладиться
его красотами, человек должен некоторым образом предаться
добросовестному изучению.. Как все науки, вначале он от себя
отталкивает, он тернист. Огромными препятствиями окружены
великие наслаждения человека; не частичные его удовольствия, а те системы, которые возводят в привычку редчайшие
чувствования, их резюмируют, оплодотворяют их, создавая
человеку драматическую жизнь в его собственной жизни,
понуждая его чрезмерно, разом расточать свои силы.
Война, власть, искусства—тоже разврат, настолько же
превышающий обычные способности человеческие, настолько
же глубокий, как и кутеж, и все это достигается с
трудом. Но раз человек проделал все эти великие таинства,,
шествует ли он в новом мире? Генералов, министров* художников—всех их более или менее влечет к распущенности!
благодаря потребности противопоставить своему, столь далекому от обычной жизни существованию страстные развлечения. В конце концов война—кровавый разгул, политикаразгул сталкивающихся выгод. Все излишества—братья. Эти
социальные уродства обладают притягательной силой пропасти, они влекут нас к себе, как остров Святой Елены звал
Наполеона; от них головокружение, у них очарование, и»
сами не зная зачем, мы стремимся взглянуть на их дно. Быть
может, мысль о бесконечном существует в этих безднах; быть
может, нечто чрезвычайно лестное заключают они в себе
для человека, и не заинтересовано ли тогда в его судьбе все?
Ради контраста с райскими часами его занятий, с радостями
его замыслов утомленный художник требует себе то ли как
бог—воскресного отдыха, то ли как дьявол—сладострастия
ада, чтобы деятельность чувств противопоставить деятельности
своих способностей. Отдыхом для лорда Байрона не могла
быть болтовня за бостоном, которая пленяет рантье; ему»
поэту, нужна была Греция, как ставка в игре с Махмудом.
Не становится ли человек на войне ангелом-истребителем,
подобием палача, только в гигантских размерах? Не нужны
ли совершенно небывалые чары для того, чтобы мы могли
принять те жестокие скорби, враждебные хрупкой нашей
оболочке, которыми, как тернистой оградой, окружены страсти? Если курильщик, злоупотребив табаком, извивается в
конвульсиях, мучится точно в агонии, то каких только с гран ,
каких только восхитительных праздников не посетил он?Разве Европа, не дав обсохнуть ногам, смоченным кровью
по самую лодыжку, не возобновляла беспрерывно войн? Или.
у людей в массе также бывает опьянение, как у природы
есть свои приступы любви? Для частного человека, для
какого-нибудь Мирабо, прозябающего в мирное время и мечтающего о бурях, в кутеже заключено все; кутеж—это непрестанная схватка, или, лучше сказать, поединок. всей жизни
с неведомыми силами, с чудовищем: сначала чудовище пугает, нужно схватить его за рога; это—неслыханные трудности. Природа дала нам какой-то тесный или ленивый желудок; вы укрощаете его, расширяете, учите переносить вино,
вы приручаете пьянство, проводите ночи без сна, вырабатываете себе, наконец, темперамент кирасирского полковника,
вторично творя себя, точно для того, чтобы поглумиться
над богом! Когда человек так преобразился, когда, став
старым солдатом, новобранец приспособил душу к артиллерийской пальбе и ноги к походу, еще не принадлежа
Чудовищу, когда между ними не условлено, кто из них господин,—они наваливаются друг на друга то как победители, то
как побежденные в той сфере, где все чудесно, где дремлют
скорби души и оживают только призраки идей. Уже необходимой стала эта жестокая борьба.
Являясь воплощением тех сказочных людей, которые, согласно легендам, продали душу дьяволу, чтобы получить злодейское могущество, расточитель выменивает смерть на все
радости жизни, но изобильные, но плодоносные! Вместо того
чтобы течь между двух монотонных берегов в глубине конторы или канцелярии, существование кипит и бежит, как поток. Наконец, без сомнения, кутеж—то же самое для тела,
•что отрады мистические для души. Пьянство погружает нас
в мечтания с фантасмагориями, которые так же любопытны,
как при экстазе. У вас бывают часы восхитительные, как причуды молодой девушки, бывают приятные беседы с друзьями,
слова, обрисовывающие всю жизнь, радости откровенные,
без задней мысли, путешествия без утомления, поэмы, которые
развернулись в нескольких фразах. За скотским удовлетворением зверя, в недрах которого науке долго пришлось бы
разыскивать душу, следует чарующее оцепенение, по которому
вздыхают люди, соскучившись от своего ума. Разве не ощущают они необходимости полного покоя, и кутеж—не подобие ли это налога, который гений платит злу? Взгляни на
всех великих людей: если они не сладострастники, природа
делает их хилыми. Сила насмешливая или ревнивая, придает
порочность их . душе или телу, чтобы уравновесить действие
их талантов. В эти пьяные часы люди и вещи появляются
перед вами, одетые в ваше облачение. Царь творения, вы
видоизменяете его по своему желанию. Сквозь беспрерывный бред игра вливает вам, по вашей доброй воле, расплавленный свинец в жилы. Настанет день, когда вы во власти
чудовища; у вас бывает тогда, как это было у меня, яростное
пробуждение: бессилие сидит у вашего изголовия. Вы старый
вояка, вас пожирает чахотка; вы дипліомат, в вашем сердце
самую смерть аневризм подвешивает на ниточке, а может
быть, легочная болезнь скажет «пора!»—как когда-то сказала она Рафаэлю из Урбино, убитому излишеством любви.
«Шагреневая кожа». Соч., X V ,
132—131.
*
Как только два друга сели на мягкий диван, к ним тотчас подошла высокая девушка, хорошо сложенная, превосходно себя держащая, с лицом довольно неправильным, но
пронзающим, но порывистым, овладевающим душой при посредстве сильных своих контрастов. Ее черные волосы, похотливо завитые, казалось, выдержали уже любовные поединки
и рассыпались легкими прядями по ее широким плечам, открывающим привлекательные для взора перспективы. Длинные
темные локоны наполовину закрывали ее величественную шею,
по которой временами скользил свет, обнаруживая тонкость
чрезвычайно красивых контуров. На матово-бледной коже
выступали в теплых тонах ее живые краски. Глаза, обрамленные длинными ресницами, метали смелое пламя, искры
любви! Рот, красивый, влажный, полуоткрытый, призывал
к поцелую. У этой девушки была сильная, но любовно-упругая талия, грудь и руки пышно развитые, как у красавиц
Карраччи; тем не менее она производила впечатление проворной и гибкой, ее мощь заставляла предполагать в ней подвижность пантеры, мужественное изящество ее форм обещало
пожирающее сладострастие.
Хотя эта девушка умела, должно быть, смеяться и дурачиться, ее глаза и ее улыбка ужасали мысль. Подобная пророчицам, одержимым демоном, она скорее изумляла, чем нра-
вилась. Различнейшие выражения пробегали по ее подвижному лицу толпами, но быстро, как молнии. Может быть,
она восхитила бы пресыщенных людей, но юноша устрашился
бы^ ее. То была колоссальная статуя, упавшая с верху какогонибудь греческого храма, великолепная вдали, но грубоватая
при близком рассмотрении. Тем не менее своей разительной
красотой она, должно быть, возбуждала бессильных, своим
голосом чаровала глухих, своим взглядом оживляла старые
кости. Потому Эмиль туманно сравнивал ее с трагедией
Шекспира, восхитительным арабеском, где радость воет, где
в любви есть что-то дикое, где магия изящества и огонь
блаженства сменяются кровавыми мятежами гнева; с чудовищем, умеющим грызть и. ласкать, хохотать, как демон,
плакать, как ангел, в единое объятие внезапно включить все
женские соблазны, кроме только вздохов меланхолии и чарующей скромности девы; потом через мгновение взреветь,
разорвать себе внутренности, сломить свою страсть и своего
любовника, наконец, уничтожить самое себя, как это делает
возмутившийся народ.
«Шагреневая кожа». Соч.,
XV, 55,
*
Наутро, около полудня, прекрасная Акилина поднялась,
зевая, усталая; щеки ее, точно мраморными жилками, покрылись отпечатками узорчатого бархата табурета, на котором
лежала ее голова. Евфрасия, разбуженная движением подруги, сразу вскочила и хрипло вскрикнула; ее миловидное
лицо, такое белое, такое свежее накануне, было желтым и
бледным, как у девушки, которая идет в больниц}'. Понемногу гости зашевелились, испуская мрачные стенания; они
чувствовали, что руки и ноги их окостенели, тысячи различных болей угнетали их при пробуждении. Лакей открыл
жалюзи и окна в гостиных. Все сборище поднялось на ноги,
вызванное к жизни теплыми лучами солнца, заигравшего
на головах у спящих.
Шевелясь во сне, дамы разломали элегантное здание
своих причесок, измяли свои туалеты; дневной свет ударил
в них, и они явили собой отвратительное зрелище: волосы
висели без всякого изящества, лица изменили свое выражение
глаза их, такие блестящие, потускнели от утомления. Желч-
ный цвет лица, в котором было столько блеска при свечах,
теперь наводил ужас; лимфатические лица, такие белые, такие нежные во время сна, стали зелеными; уста, недавно
приятные, красные, теперь сухие и белые, носили на себе
постыдные стигматы пьянства.
Мужчины отрекались от своих ночных возлюбленных,
видя, как они обесцветились, как стали трупообразны, точно
цветы, затоптанные на улице крестным ходом. Надменные
мужчины сами были еще ужаснее. Вы вздрогнули бы, увидев эти человеческие лица с впалыми и обведенными глазами, которые, казалось, ничего не видят, отупели от вина,
-одурели от беспокойного сна, скорее утомительного, чем восстанавливающего силы. Нечто дикое, холодно-зверское было
в их исхудалых лицах, где в обнаженном виде выступали
физические вожделения, без той поэтичности, которою прикрашивает их душа. Это пробуждение порока без покровов
и румянца, этот скелет зла, оборванный, холодный, пустой,
лишенный софизмов ума и очарований роскоши, ужаснул
неустрашимых атлетов, как ни привыкли они бороться с
кутежом. Художники и куртизанки хранили молчание, диким
взором приглядываясь к беспорядку в зале, где все было
опустошено и разорвано огнем страстей. Вдруг поднялся
сатанический хохот, когда Тайфер, услышав глухой ^хрип
своих гостей, попробовал приветствовать их гримасои; от
его лица, потного и налившегося кровью, воспарил над этой
адской сценой образ преступления, не знающего угрызения
совести (см. «Красная гостиница»). Картина получилась законченная. То была грязная жизнь на фоне роскоши, жестокая смесь великолепия и нищеты человеческой, пробуждение
кутежа после того, как он своими могучими руками выжал
все плоды жизни, оставив после себя лишь ничтожные ооъ•едки или обманы, в которые он более уже не верил. Вы
сказали бы, что Смерть улыбается среди зачумленной семьи:
ни благовоний, ни изумляющего света, ни веселья, ни желаний- но отвращение с его тошнотворными запахами и разящей' философией, но солнце, сияющее, как правда, но воздух чистый, как добродетель, которые контрастировали с
-теплой атмосферой, отягощенной миазмами оргии!
,
«Шагреневая кожа». Соч., XV,
141—142.
*
*
Во время моей каторжной работы в министерстве, где
мне приходилось отсиживать по восьми часов в день в обтопыГ ѵ с ™ р 0 ц е н т н ы х ДУРак°в, я встречал оригиналов, которые убедили меня, что мрак имеет просветы и чті на
самой ровной поверхности попадаются углы. Да, милый мой
для какого-нибудь мещанина какой-нибудь
м^анин
нередко является тем же, чем Рафаэль для'Натуара
другой
«Банкирский дом Нюсинжепа».
Соч., VII, 341.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ
^ в а И со в р" м е н н о й° а р х и теіггу р ь Г — H е о б х ^ д и^о ст ь Я
~ Достоинтательность. — У с п е х и и м и т а ц и и
рождает изобреское превосходство современней ппгі/пи^ы ы Т И В Н О Г О и с к У " т в а . - Техниченика и пошлая р о с к о ш Г б у р ж у а
Ь у о ж ѵ ^ Г ^ и Г Р°СК°ШЬ худож"
искусству.
обращает т е х н и к у во вред
Если когда-либо была доказана та истина, что архитектура служит выражением нравов, то не случилось ли это
после револющш 1830 года, под властью Орлеанского дома?
Так как все богатства во Франции уменьшились, то вели™ , ы е
«юбняки наших предков беспрестанно разрушаются и заменяются какими-то фаланстерами, где пэр Франции Июльской монархии живет в третьем этаже над разбогатевшим имперцем. Все стили применяются безразлично
тон
п е п ^ Щ е С Т В у е Т Ш Д В о р а ' н и з н а т и > чтобы задавать
ДеНИЯХ ИСКуССТВа н е з а м е ч а е т с я
S
^ дпѵіѵѵ"
никакой
цели. С другой стороны, архитектура никогда еще не изобретала столько экономных способов для подражания кат я щ е м у , солидному и не употребляла стольких удавок с
такою гениальностью в распределении. Дайте художнику окраину сада старого сломанною особняка, и он вам устроит
маленький Лувр, обремененный украшениями; тут б у д Г £
двор, и конюшни, а если хотите, и сад; внутри он нагородит
столько комнаток и переходов, сумеет так хорошо обмануть
глаз, что помещение сочтется просторным; наконец, он насшей^тГ0?1^
президента.
Квар
™р'
^
И
ЧТ0
с
У м е € т п у с т и т ь герцогское
° - ™ б У Х > парламентского
каког
«Мнимая
любовница».
Соч„
изд. Пантелеева, Х!Х, 82 —83.
Баронесса, введенная в большую гостиную Жозефы,
не заметила, сколько времени она там провела, хотя прождала
добрых полчаса. Эта гостиная, уже обновленная со времени
водворения Жозефы в маленький особняк, была вся обита
шелком цвета пассат с золотом. Роскошь, расточавшаяся в
прежние времена большими барами в их маленьких домиках,
великолепные остатки которой по сию пору свидетельствуют
об их безумствах, столь оправдывающих это свое название,
поражала новейшими усовершенствованиями в четырех настежь открытых комнатах, приятная температура которых поддерживалась калориферами с невидимыми топками.
Ошеломленная баронесса разглядывала каждый предмет
искусства с глубоким изумлением. Она находила объяснение
здесь этим богатствам, плавящимся в тигле, под которым
наслаждение и тщеславие разжигают всепожирающий огонь.
Эта женщина, которая двадцать шесть лет жила среди холодных реликвий императорского блеска, глаза которой созерцали ковры с выцветшими цветами, бронзу со стершейся
позолотой, шелка, поблекшие, как ее сердце—прозрела силу
порочных соблазнов, видя их результаты. Нельзя было не завидовать этим прекрасным вещам, этим восхитительным произведениям великих неизвестных художников, которые создают
современный Париж и его европейский рынок. Здесь все
поражало своим уникальным совершенством. Раз модели уничтожались, то все фигуры, статуэтки, скульптуры имели всюценность оригинала. Таково последнее слово нынешней роскоши. Обладать вещами, которые не опошлены двумя тысячами
богатеев-буржуа, видящих роскошь лишь в том, чтобы выставлять у себя напоказ все богатства, переполняющие
лавки,—вот в чем признак истинной роскоши, роскоши современных вельмож, эфемерных светил парижского неба.
«Кузина Бетта». Соч., XI,.
301—302.
*
...В отделке этого особняка, который Кревель считал своим,.
Грендо попытался поспорить с Клеретти, модным архитектором, которому герцог д'Эрувиль доверил дом Жозефы.
Но Кревель, не способный понимать искусство, хотел, как
все буржуа, израсходовать точную сумму, наперед установленную. Не выходя за пределы сметы, Грендо был лишен возможности осуществить свою архитектурную мечту. Разница между особняком Жозефы и особняком на улице Бар бе
была такова же, как между индивидуальностью вещей и их
вульгарностью. То, чем восхищались у Жозефы, не встречалось больше нигде; то, чем блистал дом Кревеля, можно было
купить, где угодно. Эти два вида роскоши разделены друг
от друга рекой миллиона. Уникальное зеркало ценится в
шесть тысяч франков; зеркало, изобретенное фабрикантом,
-пускающим его в массовый оборот, стоит пятьсот франков.
Подлинная булевская люстра доходит на аукционах до трех
тысяч франков, и та же люстра может быть изготовлена со
•слепка за тысячу или тысячу двести франков; первая в археологии то же, что картина Рафаэля в живописи, вторая—то
же, что ее копия. А во сколько вы цените копию Рафаэля?
Итак, особняк Кревеля был великолепным образчиком роскоши
дураков, тогда как особняк Жозефы—прекраснейшим образцом жилища артистки.
«Кузина Бетта». Соч., XI, 321.
П Р Е В Р А Щ Е Н И Е Л И Т Е Р А Т У Р Ы В КОММЕРЦИЮ
ПРИЧИНЫ НИЩЕТЫ ХУДОЖНИКА
Противоречие между значением современной литературы и ее материальной
нищетой. — Равнодушие законодательства к правам литераторов. — Беззащитность писателя
против расхищения
его т р у д а . — Издательская
эксплоатация «контрафакции». — Хищничество театральных с п е к у л я н т о в ,
•обкрадывающих романистов. — Скаредность богатых к л а с с о в , жалеющих
денег на к н и г у . — Проект общества для защиты авторских прав. — Л о ж ь
ходячего изречения: «нищета — мать гения».
ПИСЬМО ФРАНЦУЗСКИМ ПИСАТЕЛЯМ
Господа,
Важные вопросы, интереса общего и интереса личного, возникли в республике литературы; каждый из вас о них знает,
говорит о них в своем кругу, но никто не осмеливается
пожаловаться открыто или предложить лекарство от наших
зол. Однако, чем дальше, тем больше становится зло, тем
больше страдают наши частные интересы; а когда мы страдаем, то, к несчастью, страдаем не одни: мысль страны—это
вся страна. Вот что стране нужно бы знать. Сейчас писатель,
желая быть обязанным только самому себе, вынужден заняться
своими интересами, а они связаны с интересами французского
книгоиздательства, пришедшего в полный упадок. Никогда
еще так не требовалось, чтобы раздался чей-нибудь голос,
чтобы выступил человек за наш città dolente1, как выступил
некогда Бомарше за драматических авторов, чьи права он
заставил уважать. Для того чтобы взять слово, у нас нет
других оснований, кроме самой нашей нужды. Поэтому
каждый из нас извинит ошибки, вызванные поспешностью, и
простит слог манифеста, наспех выправленного человеком,
которому для работы нехватает дневных часов.
Ни в одну эпоху художник не пользовался меньшим покровительством; ни в один век не было более просвещенных
масс; ни в какие времена мысль не достигала такой силы;
никогда художник лично так мало не значил. Французская
революция, восставшая, чтобы открыть столько непризнанных
прав, отдала вас под власть варварского закона. Она объявила ваши произведения общественной собственностью, словно
предвидела, что литература и искусство эмигрируют. Конечно, в этом законе заложена великая идея. Без сомнения,
прекрасно, когда общество говорит гению: «Ты обогатишь нас,
а сам останешься беден». Так шло дело с давних пор; но с
давних пор также короли или народы разрешали себе по
отношению к великим людям овации или запоздалые почести,
которые Революция отвергла. Триумфом, предназначенным
гению, был эшафот; она присудила его, как знаете, одному из
величайших поэтов Франции—Андре Шенье, а также Лавуазье
и Малезербу. Пресса, в те времена столь свободная, была
нема. Ужасный урок, доказывающий, что народам нужны не
только установления, но и нравственность. Нравственность 1—
вот великий клич Руссо.
Итак, господа, вы, поэты, вы, музыканты, вы, драматурги,
вы, прозаики, все, кто живет мыслью, кто работает во славу
страны, все, кто создает дух эпохи; и те, кто, страшась
полета, сомневаются и умирают, бедные дети, обремененные
иллюзиями, и те, кто, полные воли, торжествуют,—все вы
объявлены неспособными наследовать самим себе. Закон по1 Град скорби (по-итальянски).
лон уважения к товарам торговца, к деньгам, приобретенным,
так сказать, материальным трудом, а зачастую ценою подлости; закон охраняет землю, он охраняет дом пролетария,
который проливал пот; он конфискует работу поэта, который
мыслил. Если есть в мире священная собственность, если
есть что-либо, действительно принадлежащее человеку, это
именно то, что человек творит между небом и землей, что
вырастает только из деятельности ума, что цветет во всех
сердцах. Законы божественные и человеческие, жалкие законы здравого смысла, все законы за нас; нужно было все
их преступить, чтобы разорить нас. Мы приносим стране
I сокровища, которых она не имела бы, сокровища, не зависящие
{ни от почвы, ни от каких бы то ни было соглашений; и в
награду за самый изнурительный труд страна конфискует
его плоды. Она без стыда видит потомков Корнеля, нищих,
вкруг статуи Корнеля, который наделил богатствами все амбары, породил урожаи, не боявшиеся никакой непогоды, и из
века в век будет обогащать актеров, издателей, бумаготорговцев, переплетчиков и комментаторов. Города, преисполненные жалости к тем, кто уже не страдает! Повторяйте этот
спектакль для всех своих гениев, повторяйте его ежедневно,
вы не больше будете думать о спасении тех, кто
страдает!
В лишении наследства есть отвратительная сторона, которую никто еще не подчеркивал; красноречивые писатели ее
подхватят, мы же только укажем на нее. Господа, я обращаюсь к вам, умные люди, для которых иные идеи не имеют
оборотной стороны и потому принимаются без спора. Многие
великие гении опередили века, некоторые таланты опережают только годы. Вчера солнце взошло для Вико; завтра
оно взойдет для Балланша. Немногим, подобно Вольтеру и
Шагобриану, довелось увидеть, сказали бы наши предки,
как воссияла их слава при жизни. Век Людовика XIV, когда
публика составляла узкий избранный круг, проявил тем не
менее высшую несправедливость к своим великим людям.
Расин прекратил литературную работу на шестнадцать лет.
Никто в тот великий век не подозревал о славе Перро, чьими
простодушными сказками мы сейчас восхищаемся. Никто нэ
понял глубокую превосходную эпиграмму, дерзкую эпиграмму Лафонтена на Людовика XIV в басне С в а д ь б а С о л н ц а .
Отважный простак мог крикнуть: «Наш враг—наш повелитель» не попав за это в Бастилию. В прошлом веке, когда
возросла читающая и мыслящая масса,—если бы Монтескье
не был богат, Д у х з а к о н о в оставил бы его в нищете;
ему пришлось бы писать П е р с и д с к и е п и с ь м а , чтоОы
жить. Не стану рассказывать вам о злоключениях П о л я и
В и р г и н и и , встречавших всюду отказ, ни о первом издании Д у х а х р и с т и а н с т в а , на которое осмелились
братья Балланш: тут, по крайней мере, гений поверил гению.
•Первые шаги—это несчастье, которое все вы в большей или
.меньшей степени испытали, рана, от которой вы, без сомнения,
оправитесь. Подлинно высшие натуры не. должны быть злопамятны и завистливы.
Итак, господа, закон, под властью которого мы умираем,
похищает у семьи мыслителя, поэта, драматурга, угасших ог
нищеты,-его трактат, поэзию, книгу, комедию, драму в тот
момент, когда блеснул рассвет успеха. Закон похищает их
у нее одной рукой, чтобы другой отдать... Кому? Дикари
засмеялись бы! Открыть ли? Да это не останется в тайне.
Так вот, закон отдает их издателям! Талантливому человеку
во время смертельной агонии не придет утешительная мысль:
«Если я умру, по крайней мере моим детям, моей семье, моим
родным принесет счастье моя славаі» Люди закрепили навеки богатства за старшими детьми знатных семей, за младшими детьми в банкирских домах; они оговорили наследственность пота; они лишили наследства ночные бдения и мозг.
Встарь ничего не было установлено об этой бессмертной преемственности; но короли предоставляли дворец в своем дворце сокровища из своих сокровищ принцам слова, которых
облекали в свой пурпур: и с радостью венчали своей короной.
Теперь Рудольф Габсбург предоставляет суровую тюрьму Пеллико; теперь прусский король и императоры России отрекаются от традиций Екатерины и Фридриха; теперь Франция
оплачивает черных людей, которые шпионят за мыслью и облагают ее гербовым сбором, В общем, наследник XVIII века и
Революции, наследный принц прессы, продолжает это занятие после Июля, в еще дымящихся развалинах монархии,
которая пала, желая переделать умственный мир, моральный
мир, религиозный мир, политический мир обдуманным подавлением мысли, ибо не сумела править в согласии с мыслью.
Господа вчерашнего дня, кто сделал вас королями? Умственная деятельность — дама более знатная, чем граф Турский,
(поймите это! Мысль приходит от бога и возвращается к
нему; она стоит выше, чем короли; она венчает их и развенчивает. Наполеон, который во всех областях создал что-нибудь
великое, основал десятилетние премии. Где же десятилетние
премии? Мы разорены Революцией на будущие времена; а
истинные короли, короли, царствующие достаточно долго,
чтобы подумать о нас в настоящее время, эти короли покинули мир. Рафаэлю недостает Юлия II. У нас есть законодательные Палаты. О господа! Палаты, которые вместо плафона
Энгра предпочитают видеть облака над своей головой, не
говорили ли вам эти Палаты сотни раз: Рака? Академия, единственный литературный институт, неспособна нас защитить;
она может говорить, она должна действовать лишь на словах.
Это приводит нас к заключению, что мы никогда не должны
рассчитывать ни на Палаты, ни на Академию. Закон не только
безбожен, он бессердечен. Болезнь нашей эпохи—это бессердечность в политике. Множество фискальных законов, множество карательных законов и никаких установлений; и к
тому же отсутствие ума, способного уловить разницу между
установлениями и законами. На это не рассчитывайте; нет,
ни один голос не поднимется над этим хором посредственностей, выпестованных властью, отобранных округами, которые стремились быть представленными.
Поговорим же о капитале, поговорим о деньгах! Материализуем, вычислим мысль века, который кичится званием
века положительных идей! Писатель не добьется ничего без
огромной работы, представляющей капитал времени или денег; время стоит денег, оно их порождает. Его знание было
1 вещыо, прежде чем стало формулой, его драма—дорого стоящим опытом, прежде чем стала общественным переживанием.
Его творения—величайшее сокровище; он создает неустанно,
он приносит наслаждения и употребляет в дело капиталы;
он пускает в ход заводы. Этого не признают. У нашей
страны, так тщательно следящей за машинами, за хлебом,
за шелком, за хлопком,—нет ни ушей, ни глаз, ни рук, когда
1 дело идет о ее духовных сокровищах. Господа, лишать нас
наследства бесчестно; но не думайте, что обездоленность—
самая тяжкая рана мысли. Есть другая, более ужасная, и
ее не стыдится ни Европа, ни Франция, которая интеллектуально выше Европы и защитит ее против варварства не только
своим оружием, но также и своими сочинениями. Отныне Франция будет сражаться одной рукой, другой она будет писать.
Послушайте. Купец отправляет кипу хлопка из Гавра в
Санкт-Петербург; если какой-нибудь нищий, забравшийся на
судно, до нее дотронется, этот нищий будет повешен. Чтобы
дать свободный доступ во все страны этому тюку товара,
сахару, писчей бумаге, вину, вся Европа создала общее право.
Ее корабли, ее пушки, ее флот, ее матросы, все ее силы к
услугам кипы товара. Если захвачено торговое судно—возникает всеобщая тревога; все бросаются за пиратом; вскоре
он захвачен и повешен. До сих пор только поэзия проливала
слезы о судьбе человека, для которого, если драма его провалилась, свисток подобен веревке на рее. Но вот появляется
книга, о! с книгой обращаются, как с пиратом. За книгой
бросаются в погоню; ее жадно ищут; захватывают ее еще
в пеленках, в корректурных листах; ее переделывают раньше,
чем она сделана; пират проявляет свой гений, чтобы избегнуть пытки; гений, отметивший книгу, выдает ее палачам. Германия, Италия, Англия, Франция протягивают к книге жадные
руки, ибо, раз обкрадывание идет повсеместно, Франции приходится подражать другим странам. Итак, для хрупкого плода
умственной деятельности общее право в Европе нарушается,,
как во Франции Кодекс нарушается для автора.
Если бы наш голос обладал большей силой, если бы мыслящие массы будущего нас услышали, то общий крик раздался бы
в ответ на нашу жалобу, со всех сторон нам кричали бы:
«Но страна-то, по крайней мере, вам покровительствует?»
Нет! Страна тревожится о литейщиках, она трепещет за виноградарей, она плачет, как плакала бы мать о больном ребенке, о бумажной пряже; и чтобы охранять своих литейщиков и промышленников, у страны есть таможенные пошлины, поощрение status quo, рутины в промышленности.
Итак, страна в своей заботливости проявляет ум в отношении!
ко всему материальному и бесчувственна ко всему, что ис-|
ходит от ума: страна эта—Франция. Да, господа, запомните
это, треть Франции пробавляется перепечатками, сделанными за границей. Сш>гй гнусный, самый бесчестный вор
из иностранцев—это наш сосед, наш так называемый друг,.
народ, которому мы отдали недавно нашу кровь, наши богатства, которому мы уступаем наших талантливых и отважных
людей, за что он, вместо благодарности, имеет актив в счете
наших самоубийств, ибо воровство, совершенное вдали от
нас, здесь превращается в убийство. В то время как несчастный
французский издатель с трудом продает одну из ваших книг,
тысяче жалких литературных кабинетов для чтения, убивающих нашу литературу,—одна только Бельгия продает богатой европейской аристократии со скидкой две тысячи книг.
И какие-нибудь элегантные молодые люди, любители литературы, с торжеством показывают, возвратись из путешествия,
полное, собрание Гюго, купленное за шесть франков. Из
подписчиков журнала, принявшего это письмо, большинство
подписалось ради перепечаток, а не ради оригинального материала. В нашей стране есть таможни 1 К чему нужны таможни? Какие пустяки таможни I Что может быть легче, как
запретить ввоз тюков печатных изданий? Так вот, отправьтесь ко всем нашим границам и сами спросите свои произведения; вы увидите, что они стали общим достоянием, точно
вы уже умерли. Но это еще ничего. Недавно крупный писатель г-н де Ламене опубликовал книгу С л о в а в е р у ю щ е г о (здесь я излагаю факт просто и без прикрас) и выпустил. ее из рук. Десять тысяч экземпляров продаются на
Юге, куда издатель не послал и пятисот. Сочинение пере-,
печатано в Тулузе. Издатель узнает об этом, бросается туда.
Но, прибыв в город, находящийся к тому же во Франции,
он не мог добиться возмещения расходов, потому ли, что
автор, очевидец кражи, был, что называется, человек мягкотелый, потому ли, что улики были уничтожены. 01 если бы
это был какой-нибудь памфлет, с каким рвением общество,
воплощенное в королевском прокуроре, помчалось бы, в лице
этого королевского прокурора, по следам преступления, призвало бы своих альгвасилов, сравнивало бы шрифт перепечатанной книги со шрифтом книги г-на де Ламене, отыскивало бы
литейщика: «Кому вы продали этот шрифт?» И так, следуя от станка к станку, трибуналы нашли бы человека, повинного гнить в тюрьме из-за плохо отлитых маленького а из
наборной кассы или курсивного и. В этой кражб, однако,
налицо все обстоятельства, способные привести человека на
галеры, если бы он украл кошелек с золотом. Так вот, десять
тысяч экземпляров С л о в в е р у ю щ е г о — э т о двадцать тысяч франков. Памфлет разжег бы желчь судей,—новый Д у х
з а к о н о в не дождался бы от них и капли чернил. Закон
квалифицирует, как преступление, эту кражу, ужаснейшую
из всех краж, а чтобы преследовать преступление, нужна
жалоба. Кто же из нас пожалуется? Пожалуемся ли мы
сами? Поднять голос—не значит ли присвоить себе право
говорить от имени всех? Тут, господа, правительство,—вместо
внутренних органов имеющее систему железных касс, именуемых фиском,—даже не понимает своих интересов. Оно требует с литературных журналов гербовый сбор. Revue de Deux
Mondes и журнал принявший наш печальный вопль, должны
выплачивать фиску около восьмисот франков в месяц, прежде
чем напечатать хоть одну вашу строчку. Восемьсот франков!..
Треть цены, назначенной за ваши страницы! Фиск требует
сборов, а правительство не защищает журнальную машину,
которая должна платить сборы его фиску. Не поступает ли
оно так же глупо, как дикарь, срубающий дерево, чтобы получить плоды, или Арлекин, не кормивший свою лошадь?
Итак, беззаконное лишение наследства, карающее наша
семьи,—вот наше будущее; изъятия из общего права в отношении литературного пиратства—вот настоящее; никакой поддержки внутри страны—вот деяния правительства, учрежденного, не скажу для счастья, но для охраны прав всех людей.
Здесь, господа, иные поверхностные умы, может быть,
скажут, что ни в одну эпоху литература, или, если употребить
более широкое определение, мысль, не создавала больших
богатств, как политических, так и металлических, и приведут в пример гг. Этьена, Скриба, Шатобриана, Тьера,
Минье. Гизо, Ламартина и т. д. Но, господа, не нужно делать
выводы, направленные против нас, людей обычно слабых и страдающих, стремящихся только к работе мысли, мало разбирающихся в делах, честолюбивых только из прихоти, обладающихмалым наследством,—из того, что встречаются среди нас люди, прочные у основания и у вершины, которых хватает и на
политику и на поэзию, люди, которые мирно спят, полагаясь на Кодекс, не лишивший их наследства дядюшек;
люди, принявшие литературу, как чистилище, откуда » c t y
1
30
Revue de Paris. Прим.
ь а л ь з а к об искусстве
астора,
пают в рай высоких должностей; люди, умеющие одновременно делать шедевры и делать дела. Нельзя упрекать нассамыми последствиями величайшего зла. Если великий поэт
получает известность благодаря своему творчеству, ораторским успехам и крупному состоянию, которое принесли бы его
произведения, когда бы он их использовал, то напомним на-«
шей эпохе, что многие поэты, сравнявшиеся с самыми великими нашими поэтами, ходят пешком, в то время как иные
спекулянты держат лошадей; что перепечатка разоряет Альфреда де Мюссе, как Виктора Гюго, Виктора Гюго, как де
Виньи, де Виньи, как Жюля Жанена, Жюля Жанена, какНодье, Нодье, как Жорж Санд, Жорж Санд, как Мериме,
Мериме, как Курье, Курье, как Бартелеми, Бартелеми, как
Беранже, Беранже, как и всех вас. Подумайте, растет новое
поколение, которому принадлежит будущее, и с нашей стороны будет благородно и возвышенно приготовить им будущее более прекрасное, чем то, что получили мы.
После того, как мы указали на две самые серьезные язвы,
угнетающие нас, нужно сказать о третьей, которую мы хотели бы скрыть; но она поражает мысль в самое сердце, это
пожирающий рак, болезнь литературного тела, а не рана,
нанесенная законом, правительством или веком.
Едва один из вас, после того, как проработал пятнадцать лет, пятнадцать лет стонал, бледнел, страдал, терпел
нужду, после затраты немалых трудов и денег, после пролитых слез, после того, как узнал свет и людей, узнал мир,
прошел через все несчастья; едва человек, который потел над
каждой фразой, платил за корректуру, подобно Бюффону;
едва писатель выпустит книгу, создаст персонажи, придумает интригу, набросает драму, как эта драма, интрига, персонажи, книга—захвачены и превращены в театральную пьесу.
Благородный человек, неспособный взять у вас каминные
щипцы, берет у вас без труда самое драгоценное ваше достояние: совесть его не более смущена, чем если бы он взял
вашу жену; но любовник берет женщину с ее согласия, тогда
как драматический чичисбей насилует вашу идею; вот почему этот адюльтер непростителен; он ужасен и тем более
(убыточен, что никому еще не случалось встретить пьесу, переделанную в книгу. Вы не посетуете, господа, на то, что
данный вопрос мы исследуем оружием насмешки. Здесь мы
вступаем на территорию, где нас не щадили, и, кроме того»
обсуждение приведет нас в высокие сферы, где таятся новые
причины наших страданий.
Мы публикуем книгу для того, чтобы ее читали, а не для
того, чтобы ее хромолитографировали в драму или процеживали в водевиль. Это вопрос, над которым стоит подумать.
Захват идеи, книги, сюжета, без согласия автора, вызвал бы
всеобщее негодование в восемнадцатом веке, который, к
стыду нашему, доводил до изысканнейшей вежливости чувство литературных приличий. Драматическому автору небезызвестно, что книга, стоившая вам тяжелых трудов, потребовавшая терпеливой отделки стиля (а стиль—это весь человек, его
впечатления и его сущность), не приносит и полторы тысячи
франков, тогда как пьеса, сделанная из этой книги, даег
в три раза больше, чем книга, в тех случаях, когда пьеса
проваливается, и стоит земельного налога с целой деревни,
если имеет успех. Одним словом, Лафонтен рассказал нам наш
случай в басне о Бертране и Ратоне. Я тороплюсь поставить
финансовый вопрос, чтобы скорей с ним разделаться. Деньги
не имеют значения для иных благородных умов. О пашем:
благородстве свидетельствует наше молчание. Если мы нарушаем его, господа, приписывайте это не личной заинтересованности, а желанию всесторонне обсудить вопросы, вызванные нашим литературным кризисом, основные причины
которого мы здесь увидим.
Итак, мы публикуем нашу мысль, чтобы она получила известность. Как ни наивно это заявление, оно означает, что мы
публикуем ее не для того, чтобы ее изрезали, изорвали, раздели, четвертовали, поставили на огни рампы и подали театральным завсегдатаям, как франтам из ресторана «Канкальская скала» подают лакомое блюдо. Поищем аналогий. Государство строит церковь св. Магдалины, оно предоставляет
памятник публике; во Франции государство всегда боится публики, оно ставит решетку, чтобы помешать шутникам царапать на стенах забавные рисунки, чтобы помешать Кредвилю
поставить там свое загадочное имя. Почему бы нам не иметь
литературно-муниципальный закон, гласящий по поводу прекрасных книг: «Делать отстой для театральных пьес здесь
запрещается». Никто из нас не станет оспаривать аналогию»
мы все считаем себя вправе написать на своей книге: Exegi
monumentum К Дворец или хибарка, собор или хижина—это
произведение принадлежит нам. Если бы книга была бочонком
вина, ее -бы уважали. Сосед, которому удалось бы процедить
его и продать, разбавив лучшим вином, совершил бы преступление, заслуживающее порядочного наказания; но что
говорить, господа,—коммерческие суды приговаривают к огромным штрафам одеколон без померанцевого цвета, но выдаваемый за подлинное изделие самого Фарина. Всякий раз,
как дело касается тюка с товаром, право, видите ли, оказывается точным! Но если речь идет о написанной странице,
об идее, правосудие перестает понимать, что такое судебный процесс; его законы направлены только против нас!
Тут мы чувствуем себя тем более свободно, что не задеваем
ничьей славы: речь идет о коммерческих интересах; если
только нам кто-нибудь не назовет произведения, достигшего
двадцатилетнего возраста, которое могло бы единственно
своими достоинствами привлечь тысячу человек в любой зрительный зал, исключая Французскую Комедию. Деньги, заработанные тремя или четырьмя людьми, которые принимаются
за сочинение, как живодер за лошадь,—ибо нередко они набрасываются на коня Ролана,—еще не самая болезненная рана.
Если бы мы что-нибудь решали в этом вопросе, то охотно
сказали б, как все вы: Слава мне! Деньги им! Но, господа,
театральная пьеса влечет за собой немало других зол. Когда
рождение нашего ребенка совершилось, то, кроме этой работы,
в театрах нас ждут еще тяжелые последствия родов. Наше
произведение может заслужить там свистки, в то время как
где-нибудь в глубокой провинции читатели им восхищаются.
На улице Шартр вы отвратительны, в Блуа вы великолепны.
Тут мы подходим к одному из величайших и действительных наших несчастий, язве более жестокой, чем материальная
или духовная подделка. Господа, число тех, кто смотрит
водевили, превышает число читающих книги.
Чтобы оценить прекрасные литературные произведения
(а наш век породил их не меньше, чем самый литературный
из прошлых веков, не в обиду критике будь сказано), нужно
» Я памятник себе воздвиг (по-латыпи).
возвышенное воспитание, развитой интеллект и известное напряжение ума, тогда как драматической пьесе достаточно уделить свое зрение и слух в дремотные часы пищеварения. В
Париже двенадцать театров; ни один из ішх не может сущс«
ствовать, если не приносит дохода, который по всем теат^
ралыіым залам составляет в среднем две тысячи франков в
день; итак, Париж предоставляет драматической литературе
бюджет около десяти миллионов, а к этому следует добавить
делартаментальиые налоги, исчислять которые бесполезно. Ну,
что ж, господа, а какой суммы, вы полагаете, достигает бюджет большой литературы—доля произведений, разрабатываемых годами, доля С л а д о с т р а с т и я , С о б о р а П а р и ж с к о й б о г о м а т е р и , чудесных стихов Альфреда де Мюссе,
С о в е т о в ч е р н о г о доктора, Индианы, М е р т в о г о
о с л а , великолепной книги под названием И с т о р и я Бог е м с к о г о к о р о л я и с е м и е г о з а м к о в ? Какую долю
выделяют Фредерику Сулье, Эжену Сю, сценкам Анри Монье,
братьям Тьерри, г-ну де Баранту, г-ну Вильмеиу, терпеливому
Монтейлю? Пусть стыд, краснея, проскользнет в глубину
сердец! Мы утверждаем, что десять парижских издательств,
достаточно отважных, чтобы предпринять эту рискованную
коммерцию, не получают по всей Франции и миллиона франков
дохода. Знаете ли, почему мы предаем анафеме нашу страну?.
Мы скажем это, не боясь обвинений в денежной заинтересованности. Вопрос слишком велик, слишком мелок, слишком необычен, слишком антипатриотичен, слишком странен, слишком
присущ человеческому сердцу; он принадлежит нам, он рисует эпоху, обличает мелочность, охватившую ее сверху донизу. Во Франции, господа, в этой прекрасной стране, где
женщины элегантны и изящны, как нигде, самая прелестная
женщина, чтобы прочесть Эжена Сю, Нодье, Гозлана, Жалена, Виктора Гюго, Жорж Санд, Мериме, терпеливо ждет,
пока модистка вечерком не прочтет книгу, лежа, притом не
одна, в постели, пока жена колбасника дочитает развязку
и засалит книгу, а студент оставит в ней запах своей трубки
и разукрасит ее непристойными или шутовскими замечаниями.
Во Франции книга, являющаяся жертвоприношением, гуляет
по рукам всех родственников. Да, это о тех, кто уклоняется
даже от библиотечной платы в два су. «Одолжите мне Соб о р б о г о м а т е р и , пришлите мне Ж а к а!»—говорят бо-
гатые люди, чья карета при случае проедет по телу бедняка,
который просит два су на стаканчик водки, заменяющий ему
литературу. Каждый без колебаний даст сорок франков, чтобы
послушать Одри, Арналь, Буффе, даст три луидора, чтобы
поити в Оперу; но у нас не принято послать двенадцать
франков книготорговцу, чтобы с удовольствием прочесть еще
чистую, девственную книгу, самое интересное из новых произведений, которое вы будете читать несколько дней или над
которым вы будете раздумывать несколько часов, странствуя
по истории страны или по воспоминаниям жизни! Нет, десять
тысяч богатых семейств, двадцать тысяч обеспеченных жителей Франции не находят сотни франков для двадцати замечательных книг, выпускаемых ежегодно нашей скорбной нацией,—они отдают их журналистике! Привет, прекрасная
Франция, Франция великодушная, Франция интеллектуальная!
В е л и к и м л ю д я м — п р и з н а т е л ь н а я о т ч и з н а ! Спасибо за превосходную эпиграмму! Аристократия, ты мертва;
равенство торжествует; герцогиня ждет, чтобы ее портниха
прочла С а л а м а н д р у прежде, чем прочтет ее сама; она
подождет, она даже будет попрошайничать, чтобы не
дать таланту безвестный грош, единственную лепту, которую талант может прішять. Это социальное преступление считается мелкой утаиваемой погрешностью, краснеть ее не приходится. Есть города, где январский номер R e v u e d e P a r i s
читают в декабре. Элегантные женщины чихают в самом прекрасном месте О с е н н и х л и с т ь е в по вине буржуа, просыпавшего свой табак, когда переворачивал страницу. Кому
-из нас не приходилось слышать от миллионеров: «Я не могу
достать такую-то книгу, она всегда на руках!»
Десять миллионов для изобретательной посредственности,
-поддержанной шутовством актеров, пятьсот тысяч франков—
трудам таланта,—вот правильная для нашею века постановка
вопроса. Чем вы займетесь, ознакомившись с этой проблемой?.
Театром! Ad circenses
раздается в литературе, как К оружию! в В и л ь г е л ь м е Т е л л е. Чего же вы хотите! С одной
.стороны глупость, загребающая деньги; с другой—грубое равнодушие к прекраснейшим произведениям. Книга поглощает
всю жизнь, театральная пьеса требует лишь месяца. Кем
1
На арену цирка (по-латыни).
нужно быть, чтобы колебаться? «Глупцом», говорит Шоссе
д'Антен. «Талантливым человеком», говорят избранные. Великим людям—признательная отчизна! И вот, в театре—авторов
тысяча с лишком, и из них никто не выпустил на сцену ни
одного образа, ибо кто в наш век присвоит себе право сказать
своей идее: «Ты будешь навеки Гарпагоном, Клариссой, Фигаро?» кто из вас обладает божественной властью называть?
После того, кто сказал: «Ты будешь Жокрис!»—в легком
театральном жанре, никто не породил ничего жизнеспособного. Потому-то театральные пьесы существуют не более
шести недель. И вот, потребовалось столько же пьес, сколько
.дней в году; а чтобы насытить эту потребность публики, которую никогда не удавалось удовлетворить, авторы исполь,зовали все, они добрались до книг живых писателей, как
•крысы, которые, не находя больше бисквитов в трюме, съедают провиант экипажа. Театр, следовательно, обращается
•с книгой на основании слов Мольера: «Беру мое добро везде,
,где нахожу его!» Мы обязаны Мольеру этой пагубной статьей
закона, но статья эта не подарила нам Мольера. Ко всем нашим несчастьям, добавим такое мнение: нравственность отвергает книги. Иные издатели полагали, что цена наших
книг слишком высока. Заблуждение! Наши книги продаются
дешевле, чем продавались книги до Революции, а до Революции из двенадцати писателей семь получали значительные пенсии, выплачиваемые иностранными государями, дво.ром или правительством. Мы гибнем под гнетом неслыханной
•скупости, ибо элегантная женщина или меценат, жалеющий на
книжку семь франков, из которых прежде всего около двух
приходится автору, не дадут больше четырех франков. Здесь
мы, быть может, уклонимся в сторону, но мы испытываем потребность защитить перед судом совести,—которая, подобно
бегу, может снизойти в глубину сердец,—нескольких действительно великих художников, коих иные так легкомысленно осуждают. Мы не будем говорить о благородных мыслях, о
прекрасных сочинениях, заглушённых унынием, которое охватило некоторых людей, черпающих силы в отчаянии. Запомните, художник, под угрозой не быть художником,—всегда
человек мужественный. Можно упрекнуть в неблаговидных на
первый взгляд поступках этих больших детей, которые становятся исполинами, лишь когда берутся за свое творческое
орудие. Прочтя эти страницы, не обвиняйте их больше- их
провинности всегда были плодом вашей скаредности ' Им
остается несчастье, вам-грех. Измеряйте прощение мощью
их способностей, а не своим холодным бессилием. Мы пишем
эти строки в тревоге перед грядущими несчастиями. Axt
если бы наш голос мог быть услышан, мы унизились бы до
мшьбы, обращенной ко всей стране, в стремлении одушевить
ее патриотизм и спасти от самоубийства немало благородных
сердец. Господа, мы приступили к вопросу, который затрагивает интересы многих людей, может задеть их самолюбие а
если бы мы могли сказать «их славу», вопрос был бы решен.
Когда один из наших великих художников создал О с и а н а
желая соперничать с воздушными дворцами Жироде, каждый
из них остался доволен. Non ut pictura poesis i ; но никто из
нас не способен сердиться на удачливых торговцев. Не достаточно ли это понять, чтобы любой литератор не заботился
о прошлом своих пьес? Мы полагаем, каждому из господ драматических авторов, кто оборотится на себя, придет мысль
что с точки зрения литературной было бы лучше придумывать
свои сюжеты, чем их заимствовать. Мы констатируем факт
мы ставим чисто юридический вопрос. Имеют или не имеют
право перечеканивать книгу штампом водевиля или молотом
драмы? Является ли это право полным и неограниченным?
Подчиняется ли оно или должно подчиняться согласию автора названной книги? Как! В распоряжении доаматического
автора имеются законченные исторические события, анекдоты
посвященные двадцати векам, происшествия настоящего времени, и ему еще нужно распространять юрисдикцию своих
погремушек и песенок, своих кубков и кинжалов на живые
или мертвые произведения человека, не ожидавшего, чтобы
для мирного наслаждения славой нужно было приобрести
страховой полис против пьес! Такое положение существует
только десять лет, но дело зашло слишком далеко, чтобы литература не занялась им. Признаем, впрочем, что нередко драматические авторы обходятся с нами вежливо, они не
указывают ни книги, ни имеии обокраденного автора. Они
п
* РОЭЗИЯ
не
такова
' ш
і а к Г Г ^ ж и Г п ^ Г
Г
живопись. Видоизмененная цитата из
°РаЦИЯ'
СТИХ
361
' ™
сказаі
«Поэзия
могли бы возразить, что некоторые писатели соглашаются;
на такую переделку. Чего ж вы хотите? Мы видим самоубийства ежедневно. Они будут ссылаться на наше молчание?:
Но не следует человеку допытываться причины своих несчастий- процессы скучны, а данный процесс можно вести толькомежду двумя массами, между корпорацией авторов драм и корпорацией авторов книг. Мы, несомненно, обидели оы драматических авторов, сказав, что все они одинаково талантливы;
Они были бы еще более недовольны, если бы мы сказали, что
талант распределен между ними неравномерно; но мы уверены, что примирим их, если признаем за ними строжайшую
безукоризненную честность. Однако, поскольку многие из
них являются авторами in utroque \ юридический вопрос, касающийся оспариваемого некоторыми из нас права переделывать книгу в пьесу, будет обсужден при закрытых дверях
и соответственно продебатирован, дабы превратить приговор в статью закона, если столь деликатная материя допускает что-нибудь иное, кроме соглашения между обоими обществами.
Слово общество—естественный переход к средствам защиты, которые мы как будто нашли, и считаем необходимым
употребить против легального угнетения, против угнетения
со стороны заграницы, против внутреннего угнетения, нами
отмеченного. Эти бедствия, приносящие жестокие страдания»
близко соприкасаются со многими коммерческими^ отношениями, в том числе с важной политической проблемой коммерческого баланса, а установить баланс с соседями в своюпользу стремится каждая страна.
Но хотя вопрос литературного интереса становится здесьвопросом общественного интереса, не ждите, чтобы правительство занялось обследованием состояния литературы, рассматриваемой, как материальная ценность, как огромная продукция, как способ влиять на Европу, царить над Европой с
помощью мысли, вместо того чтобы царить с помощью оружия. Нет, правительство не сделает ничего. Современное правительство, детище прессы, довольно положением вещей я
продлит его, если сможет: доказательством тому его инертность. Наше спасение в наших руках. Оно в понима» И в тон и в другой области (по-латыни).
нии наших прав, во взаимном признании нашей силы.
Следовательно, для нас чрезвычайно важно объединиться и
образовать свое общество, как драматические авторы образовали свое.
Автор этого письма достаточно знает свет, чтобы не пытаться навязать вам свои идеи; он хочет только изложить
их, дабы они породили в вас лучшие идеи, если сами будут
отвергнуты. Однако, будучи любителем покоя, приверженцем молчания и лишь случайным трибуном, мы никогда не
выступили бы, если б не нашли средства помешать в дальнейшем всякого рода заграничным перепечаткам. Отнюдь не
направленное к уничтожению книгоиздательства, чего добиваются с некоторых пор спекулянты, наше средство оставило бы всех вас в тех же отношениях с издательствами,
в какие каждый из вас может вступить. Если некоторые из
книгоиздателей позволяют себе не читать ни тех книг, что
они покупают, ни тех, что продают, если у других хватает
ума, чтобы отсутствие образования подлакировать нахальством, то встречаются среди них, как и всюду, люди порядочные, благородные, образованные, с которыми вы договаривались бы о своих обязательствах. Наше общество могло бы
еще оказать влияние на возрождение книгоиздательства; но
никакое благое дело невозможно без общего стремления всех
воль к результату, который увеличит благосостояние всех и
послужит спасением пошатнувшейся коммерции. Учрежденное
нами общество сумеет потребовать новых законов о литературной собственности, заставит разрешить открытые вопросы
и воспрепятствует всяким заграничным перепечаткам. Средства, которые нас занимают и кажутся нам эффективными, вызывают необходимость такой ассоциации, ибо только она может сделать шаги, способствующие успеху,—шаги, к тому же
недорого стоящие. Несомненно, было бы прекрасно, если б
республика литературы имела своих послов, посылала бы в
соседние страны выдающихся людей, окруженных ббльшим
блеском, чем полномочные министры, и обсуждала свои интересы из уст в уста, возвращая этим словам смысл, присвоенный им Мальтийским орденом; но сейчас уж очень смешным
показалось бы зрелище, лишенное веры и чувств, некогда делавших его великолепным.
Надеюсь, господа, что люди, предназначенные просвещать
и направлять свою эпоху, вести ее по пути прогресса, не
лишены здравого смысла, который не изменял ни одной из самых ничтожных групп общества. У любой профессии есть свои
филантропические ассоциации, и госпиталь не грозит ни нашим печатникам, ни нашим переплетчикам. Нет рабочего, который не имел бы своего материнского общества, дающего ему,
помощь и поддержку в тяжелые времена. Только мы, художники, писатели, лишены общей связи. Правда, что только
мы и не должны были бы защищать себя сами; мы должны
-быть под охраной всех, вся Франция должна быть нашим
опекуном. Позор для нашего времени, что мы вынуждены
объединиться, как купцы средневековья, всеми обкрадываемые, изгнанные из общества феодальной силой, но сумевшие
учредить ганзы для своей защиты и подавить Европу величием своей торговли, для которой работает сейчас все—
корабли, фиск и парламенты. Объединившись, мы встанем
выше закона, ибо законы подчиняются нравам. А разве не
мы устанавливаем нравы? Цивилизация—ничто, если она не выражена словами. Мы, ученые, мы, писатели, мы, художники,
предназначены выражать ее. Мы новые жрецы неведомого
будущего и готовим его творение. Восемнадцатый век оправдал такое предположение. Объединившись, мы будем на вершине власти, которая убивает нас каждого в отдельности.
Объединимся же и заставим ее признать права и величие
мысли. Итак, мы сможем протянуть руку непризнанному гению, когда завоюем общее сокровище, отвоевав свои права.
Скажем открыто, таланту нужна помощь и поддержка. Одно
из величайших заблуждений, получивших известность,—это
мнение, что в счастье гений бездеятелен. Нет, прекраснейшие произведения были детьми изобилия. Раблэ творил только
в часы досуга. Рафаэль полными пригоршнями черпал из сокровищницы римской курии. Монтескье, Бюффон, Вольтер
были богаты. Бэкон был канцлером. В и л ь г е л ь м Т е л л ь ,
величайшая опера Россини, относится к тому времени, когда
этот прекрасный гений не знал больше нужды, между тем
как Моцарт и Вебер умерли в нищете, унеся с собой свои
шедевры. Сенека, Вергилий, Гораций, Цицерон, Кювье, Стерн,
ГІоп, ліэрд Байрон, Вальтер Скотт создали лучшие ироиз-
ведения, когда пользовались почестями и богатством. Бетховен, Руссо, Сервантес и Камоэнс—спорные исключения.
Никто не осмелится решать, была или не была добровольная
бедность Жан Жака игрой гордости, проявлением болезненного самолюбия. Затем, нужно отдать должное взбалмошным
артистам, благородным сердцам, у которых богатство не задерживается. Наконец, есть гении, столь же гордые, сколь
бедные, и в этом их богатство. Так перестаньте же изображать нищету матерью гения; не указывайте на тех, кто
восторжествовал, ибо мы видим и оплакиваем тех, кто гибнет,
и не можем им предложить ничего, кроме своего лихорадочного сочувствия. Кто из нас мог прочесть, не ощутив слезу
у себя на глазах, гордую фразу, сказанную гг. Ру и Бюше
в предисловии к прекрасному сочинению: Болезнь или голод
могут прервать нашу жизнь, поспешим же
обнародовать
мысли, которые мы считаем полезными для
человеческой
науки. КТО не приветствовал издали эти благородные умы? Кто
не кричал им: «Вы будете жить!» Разве не была бы пощажена
гордость людей молодых и уже великих, если бы вся республика бросилась к ним, чтобы приветствовать их, поддержать
их первые шаги, утешить их старость, если несчастная судьба
наказала их бедностью на склоне лет? Но даже, если наше
общество распадется после того, как искоренит зло перепечаток и гербового сбора и добьется новых законов о
литературной собственности, то и тогда оно сделает немало и
для настоящего и для будущего.
Мы станем поджидать еще нескольких приверженцев,
чтобы продолжить правое дело, которое никогда не оставим.
Необходимо будет созвать подготовительное собр:ние, чтобы
принять некоторые обязательные меры предосторожности. При
этих обстоятельствах у всех в мыслях возникнет славное
имя, которое будет для нас звездой, имя, которое заставит
умолкнуть наши споры, имя, которое я не назову и которое,
несомненно, будет эгидой, охотно принятой нами всеми. Подобно купцам средневековья, оставлявшим распри за дЕерыо
своей сборной залы, мы оставим за дверью свои мнения,
антипатии, тщеславие, чтобы заниматься только общим
делом, и, быть может, уходя домой, уже не станем вспоминать о них.
Мы закончим, указав, что это не клич восстания, не призыв к страстям: это крик нищеты, крик нации, поставленной
вне закона, жертвы отказа в правосудии. Пусть этот крик
найдет себе отклик, пробудит симпатии, накажет несправедливость, одушевит чувства агонизирующего патриотизма! Мы
поднимаем голос за тех, кто бодрствует, за тех, кто страждет,
за тех, кто стремится лишь внести свою дань в сокровищницу
языка. Мы просим закрыть, одним только словом, ужасные
пути к бездне, куда падают лучшие стремления, где гибнут
великие мысли и знания. Мы не просим ни помощи, ни защиты,
мы не протягиваем руки; мы умоляем приравнять мысль к
тюку товара; мы не угрожаем, мы молим, чтобы нас больше
не разоряли. В настоящее время Франция теряет в Европе
пятнадцать миллионов. Если бы вы предоставили это нам,
мы их вернули бы. Мы просим нескольких часов у депугатов
страны, чтобы сохранить ее таланты. Италия, господа сочинители законов, обязана своим прекрасным гениям двумя третями гиней, приходящих из Англии. Охраняйте же искусства
и язык, ибо, когда исчезнут ваши материальные интересы, вы
будете жить в наших мыслях, которые восстанут и,—если
может страна исчезнуть,—скажут: Тут была Франция!
1834
Письмо французским писателям XIX века. Oeuvres, XXII,
211—229.
и
*
Бальзак—покровитель украинского художника-самоучки.
...Тут есть человек, поразительно работающий по железу;
«если бы ты прислал рисунок чаши, как бы ни была она
сложна, он исполнит ее в железе или в серебре. Это Бенвенуто Челлиии, выросший в полях Украины, как гриб.
В общем, если бы ты смог присоединить к этому рисунку несколько хороших гравюр, которые часто продаются за бесценок, и составить небольшую коллекцию орнаментов, я с радостью возместил бы тебе эти расходы; я сообщу тебе, как
все это доставить, и, таким образом, мы помогли бы достойному и великому художнику, дав ему образцы...
Бальзак—Лоран
Жану, 1S48 г.
Oeuvres, XXIV,
577.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
Г и б е л ь н о е действие ж а ж д ы н а ж и в ы на л и т е р а т у р у . — П е ч а л ь н а я с у д ь б а т а л а н т а , не имеющего ни д е н е г , ни с в я з е й . — Т а к с а к р и т и ч е с к и х о т з ы в о в ,
с о з д а ю щ и х у с п е х к н и г е . — В о л ч ь и з а к о н ы литературной к о н к у р е н ц и и . —
Н е и з б е ж н о с т ь м о р а л ь н о г о растления в борьбе за у с п е х . — ( Т а л а н т л и в ы й молодой поэт Л ю с ь е н де Р ю б а н п р е , герой романа У т р а ч е н н ы е
иллюзии,
приезжает из провинции в П а р и ж за с л а в о й . Он не з н а е т ни парижской ж и з н и ,
ни современных л и т е р а т у р н ы х н р а в о в , он д у м а е т , что т а л а н т его сам посеве откроет ему д о р о г у . Первые неудачные его попытки напечатать к н и г у
с т и х о в еще не о т р е з в л я ю т е г о ; но в о т в одном кафе он знакомится с литературным н е у д а ч н и к о м , ж у р н а л и с т о м Л у с т о , и тот р а с к р ы в а е т ему г л а з а н а
ж и з н ь современного п и с а т е л я . )
— Милый мой,—сказал торжественно Этьен Лусто, поглядывая на носки привезенных из Ангулема сапог, которые
донашивал Люсьен,—я советую вам чернить сапоги вашими
чернилами, чтобы сберечь ваксу, перья ваши превратить в
зубочистки, чтобы иметь вид пообедавшего человека, когда
по выходе из столовой Фликото вы будете гулять по главной
аллее этого сада, и поискать какого-нибудь места. Сделайтесь
младшим клерком у судебного пристава, если вы человек
мужественный, приказчиком, если у вас крепкие ноги, или
солдатом, если любите военную музыку. Данных ваших хватило бы на трех поэтов; но прежде чем пробиться, вы шесть
раз успеете умереть с голоду, если вздумаете жить на заработки от вашей поэзии. А между тем, судя по вашим слишком
юношеским речам, вы собираетесь чеканить монету чернильницей. Я не критикую ваших стихотворений, они значительно
превосходят все то, чем завалены книжные лавки. Все эти нарядные «соловьи»1, стоящие немного дороже других благодаря
своей веленевой бумаге, почти все спускаются на берега
Сены, где вы можете изучить их пение, если когда-нибудь
пожелаете предпринять поучительную прогулку по набережным Парижа, начиная от ларька дяди Жерома, возле моста
Нотр Дам, и до Королевского моста. Вы увидите там всевозможные Поэтические опыты, Вдохновения, Взлеты, Гимны,
Песнопения, Баллады, Оды, словом, всех птенцов, вылупившихся за последние семь лет, муз, покрытых пылью, забрызганных всеми фиакрами, захватанных всеми прохожими, которые рассматривают виньетки заглавных листов. Вы
ни с кем не знакомы, вы не вхожи ни в одну редакцию,
1 «Соловьями» называют на жаргоне книготорговцев книжную
заваль.
ваши М а р г а р и т к и останутся целомудренно свернутыми, как
вы их держите сейчас, они никогда не расцветут на солнце
гласности среди широких полей, испещренных заставками,
на которые не скупится знаменитый Дориа, издатель прославленных авторов, король деревянных галлерей. Мой бедный
мальчик, я приехал сюда, как и вы, с душою, полною иллюзии,
влекомый любовью к искусству, непреодолимым стремлением
к славе; и я увидел истинное лицо этого промысла, неприступность книгоиздателей, действительность нищеты. Мой пыл,
подавленный ныне, моя первоначальная горячность скрывали
от меня механизм света; пришлось увидеть его воочию, ушибиться обо все его шестерни, натолкнуться на его оси, запачкаться в его масле, услышать визг цепей и маховых колес.
Вы убедитесь, как и я, что за всеми этими прекрасными
вещами, о которых мы мечтали, мятутся люди, страсти и потребности. Вы поневоле будете вовлечены в страшные схватки
между произведениями, между людьми, между партиями принимать участие в которых нужно беспрерывно, чтобы не
быть покинутым своими. Эта бесчестная борьба разочаровывает душу, развращает сердце и утомляет своей бесплодностью потому что усилия ваши часто служат делу прославления'человека, которого вы ненавидите, второстепенного
дарования, которое, не спросясь вас, выдают за гения. У литературной жизни есть свои кулисы. Успех, случайный или заслуженный,-вот чему аплодирует партер; средства успеха,
всегда мерзкие,—нарумяненные фигуранты, клакеры и служители - в о т что скрывается за кулисами. Вы еще находитесь
в партере. Есть еще время—остановитесь, прежде чем занести
ногу на первую ступеньку престола, за который борются
столько честолюбцев, и не позорьте себя, как я себя позорю,
чтобы существовать. (Слезы заблестели на глазах у ^тьена
Лусто.) Знаете ли вы, как я живу?-продолжал он с бешенством в голосе.—Те небольшие деньги, которые могла мне
дать семья, я скоро проел. Я оказался без средств, после того
как пьеса моя была принята Французским театром. Во Французском театре недостаточно протекции принца или гофмейстера чтобы пьеса была поставлена вне очереди: актеры
уступают только тем, кто угрожает их честолюбию. Если бы
вы имели возможность пустить слух, что премьер страдает
астмой, а премьерша-фистулой в какой вам угодно части
тела, что у субретки дурной запах изо рта, то завтра же
поставили вашу пьесу. Я не знаю, удастся ли вашему
покорному слуге и через два года получить такую власть:
слишком много нужно иметь друзей. Где, как и чем зарабатывать хлеб?—вот вопрос, которым я задался, чувствуя первые приступы голода. После многих попыток, после того, как
я написал анонимный роман, за который Догеро заплатил
'двести франков, не очень-то много на нем заработав, я
-убедился, что могу кормиться только газетной работой. Но
как прошікнуть в эти лавочки? Я не стану вам рассказывать
ни о своих бесплодных хлопотах и просьбах, ни о шести
месяцах, которые я провел, работая сверхштатно и выслушивая замечания, будто я отпугиваю подписчика, между тем
как я, напротив, его привлекал. Пройдем мимо этих унижений.
Теперь я даю отчеты о театрах бульвара почти бесплатно
в газете, принадлежащей Фино, этому толстому малому, который еще ходит два-три раза в месяц завтракать в кафе
Вольтера (но вы туда не ходите!). Фино—главный редактор.
Я живу тем, что продаю билеты, которые получаю от директоров этих театров за свое благосклонное к- ним отношение ' в
газете, и книги, которые посылают мне для отзыва издатели.
Наконец, когда Фино получит свою долю, я сбываю дань
•натурой, взимаемую с промышленников, в пользу или против
которых он позволяет мне направлять статьи. Карминовая
пода, Крем султанш, Масло для ращения волос, Бразильская
микстура платят за хлесткую статейку двадцать или тридцать
франков. Я принужден травить книгоиздателей, которые посылают в редакцию мало экземпляров: редакция берет себе
два экземпляра, которые продает Фино, и мне нужны два
для продажи. Пусть бы издатель выпустил в свет гениальное произведение,—если он скуп на экземпляры, его ждет
расправа. Это гнусно, но я живу этим ремеслом, как и сотня
мне подобных. Не думайте, что политический мир много
лучше, чем мир литературный: все в этих двух мирках основано на подкупе, каждый человек там либо лихоимец, либо лиходатель. Если речь идет о сколько-нибудь значительном предприятии, то издатель платит мне из боязни нападок. Поэтому доходы мои пропорциональны числу проспектов. Когда проспекты появляются в изобилии, деньги
гпотоком текут в мой карман; тогда я угощаю своих прияте-
лей. А когда в книжном деле затишье, р обедаю у Фликото.
Актрисы также платят за хвалебные отзывы, но самые ловкие
из них платят за критику: самое страшное для них—молчание. А поэтому критический отзыв, написанный для того,
чтобы сам же критик в другом месте опроверг его, больше
ценится и дороже оплачивается, чем сухая похвала, на следующий день забываемая. Полемика, мой милый,—это пьедестал для знаменитостей. На этом ремесле наемного убийцы
идей и репутаций промышленных, литературных, сценических
я зарабатываю пятьдесят экю в месяц, я могу взять за роман
пятьсот франков и начинаю считаться опасным человеком.
Когда вместо того, чтобы жить у Флорины, за счет богатого
торговца аптекарскими товарами, разыгрывающего английского милорда, я устроюсь в собственной квартире, когда я
перейду в большую газету, где мне будет поручен фельетон,—
в тот же день, мой милый, Флорина станет великой актрисой;
что касается меня, то я не знаю, чем тогда могу стать:
министром или честным человеком, тут открыты всякие возможности.—Он поднял свою униженную голову и бросил в
сторону деревьев Люксембургского парка взгляд, полный
страшного отчаяния и упрека.—А ведь у меня есть хорошая
трагедия, принятая к постановке! И среди бумаг моих есть
поэма, которая умрет! И я был честен! У меня была чистая
душа: я живу с актрисой из «Драматической панорамы»—
я, мечтавший о прекрасном романе с какой-нибудь из самых
изысканных женщин большого света. Наконец, за отказ издателя дать лишний экземпляр редакции моей газеты я хулю
книгу, которую нахожу прекрасной.
Люсьен, растроганный до слез, пожал Этьену руку.
— Среди людей, чуждых литературному ^ миру,—сказал
журналист, поднимаясь и направляясь к большой аллее Обсерватории, по которой оба поэта стали ходить, как бы для
того, чтобы дать больше работы легким,—нет ни одного
человека, который бы знал, какую страшную нужно претерпеть одиссею, чтобы достигнуть того, что, смотря по талантливости, следует назвать известностью, модой, репутацией,
популярностью, именем, общественными симпатиями, различными этими ступенями, которые ведут к славе и никогда не
заменяют ее. Это поучительное явление, столь блестящее
с виду, слагается из множества случайностей, видоизмени-
ющихся с такою быстротою, что ист примера, чтобы два
человека пробились одним и тем же путем. Каналис и Натан—
два разнородных явления, которые не повторяются. Д'Артез,
который надрывается в работе, станет знаменит благодаря
другой случайности. Эта столь желанная популярность почти
всегда является увенчанной проституткой. Да, среди черной
работы литературы она представляет собою жалкую потаскушку, зябнущую на панели; в литературе второразрядной
это—содержанка, вышедшая из притонов журналистики, и при
ней я 'состою сутенером.:; а в литературе, добившейся успеха,—
это блестящая, наглая куртизанка, у которой есть обстановка,
которая платит государству налоги, пршшмает у себя знатных
господ, задает им пиры и помыкает ими, содержит ливрейных
лакеев, карету и может заставлять ждать своих алчных кредиторов. Ах, те люди, которым она, как мне когда-то, как
вам теперь, рисуется ангелом с радужными крыльями, одетым
в белую тунику, с зеленой пальмовой ветвыо в одной руке,
со сверкающим мечом в другой, напоминающим одновремеішо
и мифологически отвлеченное существо, живущее на дне ко*
лодца, и бедную добродетельную девушку, загнанную в предместье, обогащающуюся только при свете доблести усилиями
благородного мужества и возносящуюся на небо в незапятнанной чистоте, если только ее не увозят на кладбище, загрязненную, затоптанную, захваташую, забытую на нищенских дрогах,—эти люди с оправленным в бронзу мозгом,
с душами, еще сохранившими теплоту под снежным покровом
опыта, эти люди редки в местности, которую вы видите у
ног своих I—и он указал на великий город, дымившийся в наступавших сумерках.
Быстро мелькнул перед глазами Люсьена кружок его
друзей и привел его в смущение, но его увлек Лусто,
продолжавший свою страшную жалобу.
— Редки они и рассеяны в этом бродильном чане, редки,
как истинные любовники в мире любви, редки, как честным
путем добытые состояния в мире дельцов, редки, как чистый
человек в журналистике. Опыт первого, кто говорил мне то же,
что я рам говорю, пропал даром, как и мой опыт, несомненно,
будет бесполезен для вас. Все тот же пыл неизменно влечет
сюда из года в год одинаковое, а быть может, и возрастающее
число безбородых честолюбцев с гордо поднятым челом,
с надменной душою, на приступ Моды, этой своего рода принцессы Турандот из Т ы с я ч и и о д н о г о д н я , для которой
каждый хочет стать принцем Калафом. Но никто не разгадывает загадки! Все падают в яму нужды, в грязь газеты, в
трясину книгоиздательства. Пожива этих нищих—биографические статейки, заметки, злободневная хроника или книги,
заказываемые ловкачами, которые, торгуя печатной бумагой,
предпочитают чепуху, сбываемую с рук в две недели, великому
произведению, расходящемуся медленно. Эти гусеницы, гибнущие под сапогом, прежде чем они успеют превратиться в
бабочек, живут ценою позора и бесчестья, готовые искусать
или превознести модное дарование по приказу какого-нибудь
паши из К о н с т и т у ц и о н а л и с т а или К о т и д ь ей или
Д е б а , по сигналу издателей, по просьбе завистлиЕОго собрата, нередко за обед. Кто преодолевает препятствия, тот забывает о невзгодах своих первых шагов. Ваш покорный слуга втечение полугода писал статьи, вкладывая в них цвет своих мыслей, писал их для негодяя, который выдавал их за свои, и на
основании этих образцов стал заведывать отделом фельетонов;
он не взял меня в сотрудники, он не дал мне и ста су, я принужден протягивать ему свою руку и обмениваться с ним рукопожатием.
— Почему же?—гордо спросил Люсьен.
— Мне может понадобиться несколько строк в его фельетоне,—холодно ответил Лусто,—Словом, милый мой, ключ к
литературному успеху не в том, чтобы работать, а в том*
чтобы пользоваться чужою работой. Хозяева газет—подрядчики, а мы—каменщики. Поэтому, чем посредственнее
человек, тем скорее он пробивается; он способен глотатьобиды, со всем мириться, льстить низким страстишкам султанов литературы, подобно одному новичку из Лиможа, Гектору
Мерлену, который уже заведует политическим отделом в.
одной из газет правого центра и работает в нашей газетке:
я видел, как он поднял шляпу, которую уронил редактор;Никого не задевая, этот паренек проберется вперед между
соперничающими честолюбцами, пока они будут бороться. Мне
жаль вас. Я помню себя таким, каковы теперь вы, и я уверен»
что через два года вы будете таким, как я. Вы можете заподозрить скрытую зависть, какой-нибудь личный интерес в
этих горьких словах, но они продиктованы отчаянием обречен-
лого который уже не может вырваться из ада. Никто не
р е ш а е т с я ^ ы с к а ^ т ь то, о чем я кричу вам со в мукою
человека, больного духом, словно Иов на гноище
<<Се
" З В На М этом ли поле бороться или на д р у г о м , - я должен
бороться,—сказал^ ^
^
Л у с т о
,_
т о
не будет вам
В этой борьбе Передышки^есл и у вас
надежнее всего было бы для вас не иметь его вовсе, Стртгость
«
s
r
:
^ у п а л Г ^ о д о б н о снежной лавине на душу Люсьена и обдала
"ее ледяным холодом. Некоторое время он стоял в неподвижности и молчании. Наконец, заговорило его сердце словно
увлеченное чудовищной поэзией трудностей. Люсьен пожал
руку Лусто и крикнул ему:
I
ÏÏÂ
журналист,
сходит на арену к зверям.
еще один христианин
нные
ИЛЛЮЗИ
и»
изд.
«Academia», 1937, 3 1 2 - 3 2 1 .
•
і:
Т и п ы литературных промышленников - «фабрикантов у с п е х а » .
М е л к и Т л и ^ р а т у р н ы й барышник - книгопродавец Д о г е р о .
—
—
__
—
—
—
®«>т
НуР!
^' Э т 0
OTapb)
историческое произведение в духе Вальтера Скотта где борьба между протестантами и католиками
изображена в виде столкновения двух правительственных
систем, при котором трону угрожала серьезная опасность.
Я стал на сторону католиков.
Y_n„Ilir)
— Ишь ты! Но, молодой человек, ведь это идея Хорошо,
я прочту ваше сочинение, обещаю вам. Я предпочел бы роман
в духе мадам Радклиф; но если вы человек работящий, е о ш
обладаете некоторым стилем, изобретательностью, фантазиен,
искусстдом мизансцены, то я буду рад вам быть полезным.
Нам ведь что подавай?.. Хорошие рукописи.
— Когда вы позволите притти?
СЛОВ
l
i
Г р Г у Г к Г д л
l
С
™ л а
f
ü
разыскать среди издателей такого
1 Жалоба (по-итальянски).
Господин Догеро?—спросил Люсьен.
Он самый, сударь...
я—автор романа,—сказал Люсьен.
Вы очень молоды,—сказал издатель.
Но, сударь, возраст совсем не относится к делу.
Это правильно,—сказал издатель, взяв рукопись.-Ах,
юзьмиі С т р е л о к К а р л а І Х - х о р о ш е е заглавие.
молодой человек, изложите мне е ю содержание в двух
— Сегодня вечером я уезжаю в деревню, вернусь послезавтра, до тех пор я прочитаю ваше сочинение, и, если оно
мне подойдет, мы тогда же сможем договориться.
• Люсьен, увидев, как он добродушен, возымел роковую
мысль вытащить рукопись М а р г а р и т о к .
— У меня, сударь, есть также сборник стихотворении...
— Ах, вы поэт? Не нужно мне вашего романа,—сказал
старик, возвращая ему рукопись.—Рифмачи проваливаются,
когда берутся за прозу. В прозе нет пустословия, нужно
непременно что-нибудь сказать. • .
— Но, сударь, Вальтер Скотт тоже писал стихи...
• — Это верно, — сказал Догеро и смягчился, догадавшись
о бедности молодого человека. Он оставил у себя рукопись,
спросив: — Г д е вы живете? Я вас навещу.
Люсьен" дал свой адрес, не предполагая никакой задней
мысли у старика; он не узнал в нем книгоиздателя старой
школы, человека того времени, когда издатели мечтали держать Вольтера и Монтескье под замком на чердаке и морить
их голодом.
— я обычно «возвращаюсь домой по Латинскому кварталу,—сказал ему старый издатель, прочитав адрес.
«Славный человек,—подумал Люсьен, прощаясь с издателем—Наконец-то, я встретил друга молодежи, знатока,
человека, кое-что смыслящего. Вот это молодец! Говорил" же
я Давиду: таланту легко пробиться в Париже».
• Люсьен вернулся домой, чувствуя себя счастливым и легким, он грезил о славе. Не думая больше о мрачных словах,
потрясших его слух в конторе Видаля и Поршона, он уже
считал себя обладателем по меньшей мере тысячи двухсот
франков. Тысяча двести франков означали год пребывания
в Париже, год, в течение которого он подготовил бы новые
сочинения. Сколько планов построил он на этой надежде!
Сколько сладостных мечтаний связывал он с представлением
о жизни, основанной на труде! Он устроился в своей комнате,
расположился, чуть было не сделал некоторых покупок. Свое
нетерпение успокаивал он только непрерывными занятиями
в читальной зале Блоса.
Спустя два дня старик Догеро, пораженный стилем, которым Люсьен украсил свой первый труд, восхищенный преувеличениями в характерах, допустимыми с точки зрения
эпохи, к которой относилась драма, изумленный горячностью
воображения, с какой молодой писатель всегда набрасывает
свой первый план,—избалован не был старик Догеро! - явился
в меблированный дом, где жил новоявленный Вальтер Скотт.
Он готов был за тысячу франков приобрести в полную
собственность С т р е л к а К а р л а IX и связать Люсьена
договором на несколько сочинений. Увидав гостиницу, старая
лисица передумала.
«У молодого человека, здесь живущего, вкусы скромные, он любит науку, работу, я могу дать ему и восемьсот франков».
„
„
Хозяйка, у которой он справился о г«не Люсьене де Рюбампре, ответила ему:
— В пятом.
Издатель поднял голову вверх и над пятым этажом увидел
только небо.
„
„
«Этот юноша-подумал он,-красивыи малый, он даже
очень красив; если бы он много заработал денег, то стал бы
развлекаться, перестал бы работать, ß общих наших интересах я ему предложу шестьсот франков; но деньгами, не
векселями».
п
Он поднялся по леснице, трижды постучался к Люсьену,
который сам отпер дверь. Комната была пуста до уныния.
На столе стояла миска с молоком и лежал хлебец за два су.
Эта нищета гения поразила добряка Догеро.
«Пусть же он сохранит,—подумал он,—эту простоту нравов, эту умеренность в потребностях»,
— Я рад вас видеть,-сказал он Люсьену.—Точно так вот,
сударь, жил Жан Жак Руссо, с которым вас сблизит не одна
черта сходства. В подобных обителях горит огонь гения и
создаются прекрасные книги. Вот как надо жить литераторам,
вместо того чтобы кутить в кафе и ресторанах, губя в них
свое время, свой талант и наши деньги 1
( •
Он сел.
_ .
— Молодой человек, ваш роман недурен. Я был препода,
вателем риторики, я знаю историю Франции; в рукописи
попадаются превосходные места. Словом, вы много обещаете.
— Ах, сударь 1..
— Нет, право же, мы с Івами можем делать дела. Я покупаю ваш роман...
Сердце у Люсьена расцвело, он затрепетал от восторга,
он войдет в литературный мир, он будет, наконец, печататься.
— Я покупаю его за четыреста франков,—сказал Догеро
медоточивым голосом, глядя на Люсьена взором, как бы
выражавшим порыв великодушия.
— Том?—спросил Люсьен.
— Весь роман,—сказал Догеро, удивляясь озадаченности
Люсьена,—но,—прибавил он,—за наличный расчет. Вы примете
на себя обязательство давать мне два романа в год в течение шести лет. Если первый разойдется в течение шести
месяцев, я назначу вам за следующие шестьсот франков.
Таким образом, два романа в год дадут вам по сто франков
в месяц, жизнь ваша будет обеспечена, вы будете счастливы.
У меня есть авторы, которым я плачу только триста франков
за роман. Я плачу двести франков за перевод с английского.
Когда-то цены эти показались бы неслыханными.
— Сударь, нам с вами не поладить, будьте добры возвратить мне рукопись,—сказал, похолодев, Люсьен.
— Вот она,—ответил старый издатель.—Вы не деловой
человек, сударь. Выпуская первый роман писателя, издатель
должен рискнуть тысячью шестьюстами франков на печать
и бумагу. Легче написать роман, чем раздобыть такую сумму.
У меня дома сотня рукописей романов, но в кассе нет ста
шестидесяти тысяч франков. Увы! За двадцать лет моей
издательской деятельности я не заработал такой суммы.
Печатая романы, не разбогатеешь. Видаль и Поршон берут
их у нас на условиях, которые с каждым днем становятся
обременительнее, между тем как вы рискуете только временем;
я должен затратить две тысячи франков. Если мы прогадаем,
ибо книги имеют свою судьбу, то я теряю две тысячи франков; а что касается вас, то вам остается только разразиться
одой против тупоумия публики. Обсудив то, что я имел честь
вам доложить, вы ко мне вернетесь. Вы вернетесь ко мне,—
авторитетно повторил издатель в ответ на вырвавшийся у)
Люсьена полный высокомерия жест.—Вы не только не найдете
издателя, готового рискнуть двумя тысячами франков ради
молодого незнакомца, вы не найдете ни одного приказчика,
который бы дал себе труд прочитать вашу мазню. Я,- прочитавши ее, могу указать вам в ней немало ошибок против
французской грамматики.
Люсьен почувствовал себя униженным.
— Когда вы вернетесь ко мне, то потеряете сто франков—прибавил старик:—я дам вам тогда только сто экю.
Он поднялся, поклонился, но на пороге двери сказал:
— Если бы у вас не было дарования, задатков, если бы
я не принимал участия в работающих молодых людях, я не
предложил бы вам таких хороших условий. Сто франков
в месяц! Обдумайте это. В конце концов, роман в ящике
к-года—это не то, что лошадь на конюшне, корма он не требует. Но, по правде говоря, и не дает корма.
Люсьен взял рукопись, швырнул ее на пол и воскликнул:
— Я предпочитаю сжечь его, сударь!
— Вы—поэтическая натура,—сказал старик.
«Утраченные иллюзии», изд.
«Academia», 1937, 264—271.
*
К р у п н ы й с п е к у л я н т — «хозяин литературы» издатель Д о р н а .
• — Еще одно предложение, мой мальчик!—воскликнул
іДориа.—Но ты ведь знаешь, что у меня тысяча сто рукописей! Да, господа,—закричал он,-мне предложили тысячу сто
рукописей, спросите у Габюсона. Словом, мне скоро придется
завести штат служащих для заведывания складом рукописей комиссию для их рассмотрения; будут происходить заседания для обсуждения их достоинств, с пожетонным вознаграждением и с постоянным секретарем для представления
мне докладов. Это будет отделение Французской академии, и
академики будут получать более крупные оклады в деревянных
галлереях, чем в Институте.
— Это мысль,—сказал Блонде.
— Плохая мысль,-продолжал Дориа.-Я отнюдь не задаюсь целью разбираться в измышлениях тех из вас, которые
делаются литераторами, когда не могут бьггь ни капиталистами»
ни сапожниками, ни капралами, ни лакеями, ни администраторами ни судебными приставами. Сюда открыт доступ только
людям, создавшим себе репутацию. Станьте знаменитостью,
и вас ждут здесь потоки золота. Вот, не угодно ли, за два
года три человека, которых я сделал великими людьми, оказались тремя неблагодарными существами! Натан заломил
шесть тысяч франков за второе издание своей книги, мне же
одни статьи о ней обошлись в три тысячи франков, а доходу она мне дала всего тысячу. Две статьи Блонде мне
стоили тысячу франков и обед пятьсот...
— Но, сударь, если все издатели рассуждают, как вы,
то как же выпустить в свет первую книгу?—спросил Люсьен,
в чьих глазах Блонде страшно упал, когда он узнал цифру,
которой Дориа обязан был статьями в Д е б а .
— Это меня не касается,—сказал Дориа, убийственным
взглядом сразив красивого Люсьена, смотревшего на него с
приветливым выражением лица.—Мне неинтересно издать
какую-нибудь книжку, рискнуть двумя тысячами, чтобы две
тысячи заработать; я занимаюсь крупными спекуляциями в
литературе: я выпускаю сорок томов десятитысячными тиражами по примеру Панкука и Бодуэна. Мое влияние и статьи,
которых я всегда добиваюсь, создают успех предприятию в сто
тысяч экю вместо того, чтобы создать его томику, дающему
мне две тысячи франков. Столько же труда стоит выдвинуть
новое имя автора и его книгу, сколько нужно для успеха
И н о с т р а н н о г о т е а т р а , П о б е д и з а в о е в а н и й или
М е м у а р о в р е в о л ю ц и и , которые являются кладом. Я
здесь не для того, чтобы служить трамплином для будущих
знаменитостей, но чтобы зарабатывать деньги и давать их
знаменитостям существующим. Рукопись, стоящая сотню тысяч
франков, обходится мне дешевле рукописи, безвестный автор,
которой просит у меня за нее шестьсот франков. Если я и не
совсем меценат, то все же заслуживаю признательности со
стороны литературы: благодаря мне уже почти вдвое поднялись цены на рукописи. Если я вам представляю эти доводы, то потому лишь, что вы приятель Лусто, душа моя,-*
сказал Дориа поэту, хлопнув его по плечу с возмутительной
фамильярностью—Говори я со всеми авторами, желающими
видеть во мне своего' издателя, мне пришлось бы закрыть
лавку, потому что все мое время уходило бы на разговоры
весьма приятные, но слишком дорого стоящие. Я еще не
достаточно богат, чтобы выслушивать монологи каждого честолюбца. Это принято только в театрах, в классических
трагедиях.
Великолепный костюм грозного Дориа в глазах провинциального поэта служил опорою жестокой логике его речи.
А что это за вещь?—спросил Лусто.
— Великолепный сборник стихотворений.
Услышав эти слова, Дориа повернулся к Габюсону с жестом, достойным Тальма.
, _ Габюсон, друг мой, начиная с сегодняшнего дня, кто бы
ни пришел сюда предложить мне рукопись... Вы там, слышите ли?—сказал он, обращаясь к трем приказчикам, которые вынырнули из-за книжных колонн на холерический
окрик своего хозяина, разглядывавшего свои ногти и руку,
отличавшиеся красотой—Каждого, кто придет ко мне с рукописью, вы будете опрашивать, стихи ли это или проза.
Если это стихи, то немедленно его выпроваживайте. Стихи
сожрут книжное дело.
— Браво! Ловко сказано, Дориа!-воскликнули
журна-
листы.
-- „
— Да право же,—воскликнул издатель, шагая по своей
лавке с рукописью Люсьена в руке,-вы не знаете, господа,
столько зла натворил успех лорда Байрона, Ламартина, Виктора Гюго, Казимира Делавиня, Каналиса и Беранже. Слава
Их навлекла на нас нашествие варваров. Я уверен, что в
данный момент у издателей набралось не меньше тысячи
сборников стихотворений, начинающихся с оборванного повествования, не имеющих ни конца, ни начала, в подражание
К о р с а р у и Л а р е . Под предлогом оригинальности молодые
люди выдумывают непостижимые строки, описательные поэмы,
которыми молодежь думает сказать новое слово, вновь изобретая Делиля. За два года поэты расплодились, как маиские жуки. Я потерял на них в прошлом году двадцать
тысяч франков 1 Спросите у Габюсона. На свете, может быть,
и существуют бессмертные поэты, я знаю таких розовеньких
и свежих, у которых еще борода не растет,—сказал он Люс ь е н у _ н о для книжника, молодой человек, существуют только
четыре поэта: Беранже, Казимир Делавинь, Ламартин и Виктор Гюго, ибо Каналис... это поэт, созданный при помощи
газетных статей.
Люсьен не почувствовал в себе смелости выпрямиться и
принять гордый вид перед этими влиятельными людьми, чи• » Игра слов: les vers означает и «стихи» и «черви».
стосердечно смеявшимися. Он понял, что был бы смешон
и этим погубил бы себя, но испытывал сильнейшее желание
схватить за горло этого издателя, растрепать оскорбительно
нарядный бант его галстука, порвать золотую цепочку, блестевшую на его груди, растоптать ногами его часы, разорвать
его на части. Уязвленное самолюбие открыло двери мстительности, он поклялся себе стать смертельным врагом этого издателя, которому теперь приветливо улыбался.
— Поэзия подобна солнцу, которая растит вечные леса
и порождает комаров, мух, москитов,—сказал Блондэ.—Нет
добродетели без подкладки порока. Порождает же литература издателей...
•— И журналистов,—добавил Лусто.
Дориа расхохотался.
— Но что же это, собственно говоря, такое?—спросил
он, указывая на рукопись.
—- Сборник сонетов, которые за пояс заткнут Петрарку,^—
сказал Лусто.
— Что ты хочешь этим сказать?—спросил Дориа.
— То, что сказал,—ответил Лусто, увидев тонкую усмешку на всех устах.
Люсьен не мог сердиться, но задыхался от жары в своем
хомуте.
— Ну, ладно, я это прочту,—сказал Дориа, сделав царственный жест, который выражал все значение такой
уступки.—Если твои сонеты стоят на высоте девятнадцатого
века, я" сделаю из тебя, мой мальчик, великого поэта.
— Если он так же даровит, как хорош собою, то вы
немногим рискуете,—сказал один из известнейших ораторов
Палаты, который беседовал с сотрудником газеты К о н с т и т у ц и о н а л и с т и главным редактором М и н е р в ы .
— Генерал,—возразил Дориа,—слава—это двенадцать тысяч франков за статьи и тысяча экю на обеды... Спросите у;
автора О т ш е л ь н и к а , так ли это. Если господин Бенжамен де Констан согласится написать статью об этом молодом поэте, то за мною дело не станет.
«Утраченные иллюзии», изд.
«Academia», 1937, 347—551.
*
Хозяин
_
I
актерской
слазь, -
начальник
клакеров
Бролар.
Господин Бролар дома?-спросил он привратника.
К а к ? ^тсподин?—спросил Люсьен.-Начальник клаке-
' J Ш л ы " Ь м о Г у Х л а р а двадцать тысяч ливров головоТо дохода он держит в своих когтях сочинителен пьес
мвГтеатшв бульвара, они у него все имеют текущии счет,
S
Г б а ш и Р а У Авторские билеты и контрамарки продаются.
Чтпт товТо сбывает Бролар. Займись-ка немного статистикой это наука полезная, е£ли ею не злоупотреблять. Если
о ч и т а Г к а ж т й вечер пі пятидесяти контрамарок на театр,
то в итоге
двести пятьдесят контрамарок в день;
™ иВ о н Т в среднем стоят по сорока су
то^лар
ежедневно
P 0 B
^т^столько^е.^ким^
авторские биДІЮТ ему около сорока восьми тысяч франков в год.
Г ^ Ж т к у
двадцать тысяч франков, потому что
ему не всегда удается сбыть билеты...
I
0°Чбиле?ты, продаваемые в кассе, конкурируют с кон«
трамарками, по которым не отведено о п р е д е л е н "
а за
театром сохраняется право размещать публику. Затем слу
~
Z
Г Г л Ц
"
é
Далее^он
д у
П
»
U
Z
^
l
^
т ь ^ ч франков дохосодержит клакеров, это уже другой, промысел
n
r
Â
-
J
зал при каждом Г о Г е
Лу е сю давал эти объяснения вполголоса, поднимаясь по
Париж-удивительное
место,-сказал
«ЯК в каждом уголке гнездится корысть.
Л е С
™
И Ц
Люсьен,
видя,
столюдина: серые, полные лукавства глаза, руки клакера,
грубое лицо, полинявшее от оргий, как кровля от дождя,
седые волосы и довольно глухой голос.
— Вы пожаловали, конечно, из-за мадмуазель Флорины,
а ваш друг из-за мадмуазель Коралл. Вы мне знакомы,
будьте спокойны, сударь,—сказал он Люсьеиу,—я покупаю
клиентуру Жимназа, я буду опекать вашу возлюбленную
и предупреждать о готовящихся каверзах.
— Об этом мы потолкуем, дорогой мой Бролар,—сказал
Лусто,—но мы пришли по поводу редакционных билетов во
все театры бульвара, я—в качестве главного редактора, а
друг мой—в качестве рецензента.
— Ах, да, Фино продал свою газету. Мне говорили. Дела
хороши у Фино! Я его угощаю обедом в конце этой недели.
Если вы пожелаете доставить мне честь и удовольствие
пожаловать на обед, то можете притти со своими супругами, мы кутнем во-всю; у меня будут Адель, Дюпьи,
Дюканж, Фредерик дю Птимере, мадмуазель Мийо, моя
возлюбленная; мы будем веселиться напропалую, а пить
и того более.
— Дюканж, должно быть, в стесненном положении, он
проиграл свой процесс.
— Я его ссудил десятью тысячами франков, успех Кал а с а вернет мне эти деньги; я уже подогрел его, Дюканж—
человек способный, с головой...
Услышав, что человек этот высказывает суждение о дарованиях писателей, Люсьен подумал, что грезит.
— Корали сделала успехи,—сказал ему Бролар с видом
знатока.—Если она будет со мной ладить, я ее тайно поддержу против враждебной клаки при ее дебюте в Жимназе.
Послушайте: для нее я посажу на галерку прилично одетых людей, которые будут посмеиваться и перешептываться, чтобы вызвать аплодисменты. Этот маневр очень
выгоден для женщины. Корали мне нравится, и вы должны
быть ею довольны, она сердечная девушка. О, я могу провалить кого хочу.
— Но покончим вопрос с билетами,—сказал Лусто.
— Что ж, я буду заходить за ними к вашему приятелю
в первых числах каждого месяца. Он ваш друг, я предложу
ему те же условия, что и вам. У вас пять театров, вам да-
дут тридцать билетов. Это составит примерно семьдесят пять
франков в месяц. Не хотите ли получить аванс?—спросил
торговец билетами, подойдя к письменному столу и выдвинув ящик, наполненный серебром.
I— Нет, нет,—сказал Лусто,—мы сохраним этот источник
про черный день.
— Сударь,—обратился снова Бролар к люсьену,—я
на этих днях приду договариваться с Корали, мы с вами
поладим.
Люсьен не без глубокого изумления осматривал кабинет Бролара, где увидел книжный шкаф, гравюры, приличную
мебель. Проходя по гостиной, он заметил в ней обстановку»
одинаково далекую и от дешевки и от чрезмерной роскоши.
Столовая показалась ему комнатой, отделанной наиболее тщательно. Он пошутил по этому поводу.
— Да ведь Бролар гастроном,—сказал Лусто.—Обеды
его, упоминаемые в драматической литературе, находятся В
соответствии с его капиталами.
— У меня хорошие вина,—скромно заметил Ьролар.—
А вот и мои молодцы,-сказал он, услышав сиплые голоса
и топот ног на лестнице.
Когда Люсьен выходил, мимо него проследовал смрадный
отряд клакеров и театральных барышников. Все они были
в картузах, поношенных панталонах, потрепанных сюртуках,
с физиономиями висельников, синеватыми, зеленоватыми,
грязными, уродливыми, с длинными бородами, с глазами свирепыми и в то же время лукавыми: страшное племя, которое
живет и множится на парижских бульварах, которое по утрам
продает предохранительные цепочки, золотые украшения по
двадцать пять су, а по вечерам хлопает в ладоши под люстрами, которое, словом, приспособляется ко всем грязным.
нуждам Парижа.
— Вот они, римляне!—сказал смеясь Лусто.—Вот она,
слава актрис и драматургов! На близком расстоянии она
не привлекательнее нашей.
— Трудно,—заметил Люсьен, возвращаясь домой—питать в Париже какую бы то ни было иллюзию. На все существуют здесь налоги, все здесь продается, все фабрикуется, даже успех.
«Утраченные иллюзии», изд.
«Academia», 488—492.
Ж у р н а л и с т и к а к а к торговое предприятие. — И з д а т е л ь газеты Ф и н о . — Цена
«принципов» ж у р н а л и с т а .
— Вы рассчитываете заработать на пьесе дю Брюэля?—•
спросил Фино директора.
— Пьеса эта построена на интриге, дю Брюэль решил
пойти по стопам Бомарше. Публика бульваров не любит этого
жанра, она желает бурных потрясений. Остроумие здесь не
ценится. Сегодня вечером все зависит от Флорины и Корали,
их грация и красота увлекательны. У этих двух созданий
очень короткие юбки, они пляшут испанский танец и могут
захватить публику. Это представление—карточный ход. Если
газеты поддержат меня несколькими бойкими статьями, то в
случае успеха я могу заработать сто тысяч экю.
-— Ну, я уж вижу, что будет средний успех.
— Три соседних театра подстроили заговор, свистать
будут непременно; но я постарался расстроить их козни. Я
заплатил подосланным против меня клакерам, они будут неловко свистать. Два негоцианта, чтобы доставить триумф
Корали и Флорине, взяли каждый по сотне билетов и роздали
их знакомым, которые взялись выставить клаку за дверь.
Клака, дважды оплаченная, позволит себя выгнать, а такая
экзекуция всегда благоприятно влияет на публику.
— Двести билетов! Какие ценные люди!—воскликнул
Фино.
— Да. Еще бы мне двух таких красивых актрис с богатыми покровителями, как Флорина и Корали, и я бы выпутался из затрудгений.
Вот уже два часа Люсьеиу только и приходилось убеждаться, что все сводилось к деньгам, что в театре и в
книжной торговле, в книжной торговле и в газете об искусстве и славе не было речи. Огромное шибало Монетного
двора било его по голове и по сердцу повторными ударами.
Между тем как оркестр играл увертюру, он не мог не противопоставить рукоплесканиям и свисту мятежного партера
картины спокойной и чистой поэзии, которые созерцал в типографии Давида, когда оба они мысленно взирали на чудеса искусства, на благородные триумфы гения, на белокрылую славу. При воспоминании о проведенных в кружке
вечерах слезы заблистали на глазах у поэта.
— Что с вами?—спросил его Этьен Лусто.
- - — Я вижу поэзию в грязи,—ответил он.
— Э, милый мой, у вас еще сохранились иллюзии.
— Но неужели нужно раболепствовать и терпеть этих
толстых Матифа и Камюзо, как актрисы терпят журналистов,
как мы терпим издателей?.
— Душа моя,—сказал ему на ухо Этьен, показывая на
Фино,—видите вы этого грузного малого, лишенного ума
и таланта, но жадного и ловкого дельца, добивающегося
любою ценою богатства, который в лавке Дориа взял с
меня сорок процентов с таким видом, будто делает мне
одолжение? И что же, у него имеются письма будущих гениев,
ползающих перед ним на коленях из-за ста франков.
Душу Люсьена объяло отвращение, и он вспомнил:
«Фино, мои сто франков?»—рисунок, оставленный на зеленом сукне в редакции.
— Лучше смерть,—сказал он.
— Лучше жизнь,—ответил ему Этьен.
Когда занавес поднялся, директор ушел за кулисы, чтобы
отдать некоторые распоряжения.
— Мой милый,—сказал тогда Фино Этьену,—я с Дориа
поладил и становлюсь в третьей доле пайщиком еженедельного журнала. Я обещал тридцать тысяч франков наличными
при условии, что буду назначен главным редактором и управляющим. Это прекрасное дело. Блонде сообщил мне, что
подготовляются ограничительные законы о печати, сохранены
будут только существующие журналы. Через полгода понадобится миллион, чтобы затеять новый журнал. Я поэтому
покончил с ним, имея только десять тысяч франков. Выслушай меня. Если тебе удастся всучить Матифа половину моей
части, одну шестую, за тридцать тысяч франков, я тебя
назначу редактором моей маленькой газеты с жалованьем
в двести пятьдесят франков в месяц. Ты будешь моим подставным лицом. Я хочу и впредь руководить редакцией и сокранить за собой все свои права, вместе с тем не показывая
вида будто я к ией прикосновенен. За все статьи ты оудешь
получать гонорар по сто су за столбец, так что ежедневно
ты можешь выгадывать в день пятнадцать франков, платя
за статьи только три франка и пользуясь бесплатным сотрудничеством. Это даст тебе еще четыреста пятьдесят фран-
кіо® в месяц. Hjo я хочу сохранить за собой возможность нападать в газете на людей и дела или защищать их по своему;
усмотрению, предоставляя тебе то же право травить или хвалить всегда, когда это не перечит моей политике. Может быть»
я сделаюсь сторонником министерства или сторонником крайней правой—я еще не решил: но я хочу негласно сохранить
свои связи с либералами. Я говорю с тобой откровенно, потому что ты славный малый. Может быть, я поручу тебе парламентскую хронику в газете, где я ее веду; наверно, мне
не удастся сохранить ее за собой. Словом, пусть Флорина
помаклачит в этом деле, и скажи ей, чтобы она посильнее
нажала на москательщика, у меня только двое суток срока для
отказа, если я не буду в состоянии заплатить. Дориа продал
другую треть за тридцать тысяч франков типографу и поставщику бумаги. Свою треть он имеет gratis 1 "и наживает
десять тысяч франков, потому что вся покупка ему обошлась
только в пятьдесят тысяч. Но через год журнал можно будет продать за двести тысяч франков двору, если у двора,
как утверждают, хватит здравого смысла прибрать к рукам
печать.
— Тебе везет!—воскликнул Лусто.
«— Если бы ты прошел через нищету, которую я изведал, то не сказал бы это. Но и теперь еще, видишь ли, я
страдаю неизлечимым недугом: я сын шляпочника, до сих
пор, торгующего шлялами на улице Кок. Только революция
способна помочь мне пробиться; а пока общественного переворота нет, мне нужно быть миллионером. Не знаю, не легче ли
из этих двух задач революция. Будь у меня фамилия твоего
друга, я был бы на хорошем пути. Тише! Вот директор.
До свиданья,—сказал, вставая, Фино.—Еду в Оперу, мне
завтра предстоит, быть может, дуэль: я пускаю за подписью
Ф. громовую статью против двух танцовщиц, генеральских
содержанок. Я веду ожесточенную атаку на Оперу.
— Вот как I—сказал директор.
— Да, все со мной скряжничают,—ответил Фино.—Один
меня обходит ложами, другой отказывается подписаться на
пятьдесят экземпляров. Я предъявил Опере ультиматум. Я
требую теперь подписки на сто экземпляров и четыре ложи
1
Даром (по-латыни).
в месяц. Если это условие будет принято, моя газета будет
иметь при восьмистах действительных подписчиках двести
номинальных. Я знаю способ получить еще двести других
подписчиков; в январе месяце мы дойдем до тысячи двухсот...
• — Вы нас в конце концов разорите,—сказал директор.
— Очень вам, подумаешь, в тягость ваши десять экземпляров. Ведь я вам устроил два хороших отзыва в К о н ституционалисте.
— О, я на вас не жалуюсь!—воскликнул директор.
— Завтра вечером увидимся, Лусто,—продолжал Фино.—
Ты сообщишь мне ответ во Французском театре, там завтра
премьера, и так как мне не удается написать статью, то ты
возьмешь мою ложу в редакции. Отдаю тебе преимущество,,
ты для меня надрывался, а я человек благодарный. Фелисьен
Верну предлагает такие условия: он не будет брать у меня
жалованья в течение года и вносить двенадцать тысяч франков, чтобы стать в трети пайщиком газеты, но я хочу сохранить в ней полную власть. До свиданья.
— Недаром этого молодца зовут Фино 1 ,—сказал Люсьен
Этьену.
— О, этот висельник далеко пойдет,—ответил ему Этьен,
Нимало не заботясь, услышит ли эти слова или не услышит
ловкий малый, закрывавший в это время за собою дверь
ложи.
— Он-то?—сказал директор.—Он станет миллионером, будет пользоваться всеобщим уважением и, может быть»
приобретет друзей...
Директор вышел.
— Неужели, друг мой,—сказал Люсьен Этьену,—вы без
всякого зазрения совести, при посредстве мадмуазель Флорины, потребуете тридцать тысяч франков у этого москательщика за половину той вещи, которую Фино купил за эту цену
целиком?,
Лусто не дал Люсьену времени закончить свое рассуйідение.
«— Да откуда вы явились, милый мой мальчик? Этот
москательщик Не человек, это денежный мешок, дарованный
любовью.
1
Finaud—тонкий, лукавый.
' '
>— Но совесть ваша?
Совесть, дорогой мой, это палка, за которую каждый
хватается, чтобы бить ближнего своего, и которою никто
не пользуется для самого себя. На какого чорта она вам
понадобилась? Случай в один день ниспосылает вам чудо,
которого я ждал два года, а вы развлекаетесь тем, что
разбираетесь в средствах. Как? Вы человек с виду толковый и достигнете той независимости взглядов, которую в
мире, где мы живем, должны обладать искатели приключений в области мысли, а между тем вы роетесь в угрызениях
совести, как монашенка, бичующая себя за съеденное с вожделением яйцо... Если Флорину ждет удача, то я становлюсь
редактором, зарабатываю верных двести пятьдесят фрашсов,
беру себе большие театры, оставлю Фелисьену Верну театры
водевиля, а вы вдеваете ногу в стремя и перенимаете у
меня все театры бульваров. Вы станете получать тогда три
франка за столбец и писать будете по одному столбцу в
день, тридцать в месяц, что даст вам девяносто франков; у
вас будет на шестьдесят франков книг для продажи Барбе;
затем вы имеете право каждый месяц требовать по десяти
билетов у своих театров, итого сорок билетов, и будете их за
сорок франков сбывать театральному человеку, Барбе, с которым я |вас сведу. Таким образом, у вас будет двести франков в месяц. Вы могли бы, умея быть полезным Фино, помещать статьи за сто франков в его новом еженедельном журнале, если бы обнаружили незаурядный талант, потому что
там статьи печатаются за подписью и уж нельзя «ляпать»,
как в маленькой газете. Тогда у вас набежало бы сто экю в
месяц. Милый мой, иные талантливые люди, каков этот
бедный д'Артез, обедающий ежедневно в столовой Фликото,
десять лет дожидаются заработка в сто экю. Вы своим пером будете зашибать четыре тысячи франков в год, не считая
доходов от издательств, если станете для них писать. А между
тем какой-нибудь супрефект сидит на одном жаловании в
тысячу экю и веселится в своей префектуре, как утопленник.
Я не говорю вам об удовольствии бесплатно ходить по
театрам, потому что удовольствие это быстро становится в
тягость; но вам открыт будет доступ за кулисы четырех театров. Будьте строги и остроумны в течение одного или двух
месяцев—и у, вас по горло будет приглашений, приключе-
ний с актрисами; их любовники станут за вами ухаживать;обедать у Фликото придется вам только в те дни, когда у вас
не будет тридцати су в кармане и ни одного обеда у когонибудь в гостях. Вы не знали, куда приклонить голову сегодня, в пять часов дня, в Люксембурге, и вот вы близки,
к тому, чтобы стать одним из ста привилегированных лиц,
(руководящих общественным мнением Франции. Через тридня, если вам улыбнется удача, вы будете иметь возможность
тридцатью меткими словечками, печатая их по три в день,
довести человека до того, что он проклянет свое существование; вы создадите себе ренту наслаждения у всех актрис
вашего театра; вы провалите хорошую пьесу и погоните весь
Париж смотреть плохую. Если Дориа откажется печатать
М а р г а р и т к и и ничем не откупится, вы его так затравите,
что, смирившись и подчинившись, он придет к вам и купит их
за две тысячи франков. Будьте ловки и пустите в трех различных газетах три статьи, угрожающие убить какие-нибудь
спекуляции Дориа или книгу, на которую он рассчитывает, и
вы увидите, как он вскарабкается на вашу мансарду и будет
там торчать целые дни. Наконец, что касается вашего романа, то издатели, которые в данное время все без исключения выпроводили бы вас более или менее вежливо за дверь,
образуют очередь у ваших дверей, и рукопись, которую старик Догеро оценил в четыреста франков, подымется в ценедо четырех тысяч. Вот какие выгоды имеет ремесло журналиста. Поэтому-то мы не допускаем на близкое расстояние к
газетам всех пришельцев. Нужен не только огромный талант,
нужно большое счастье, чтобы проникнуть в газеты, а вы
торгуетесь со своим счастьем!.. Посудите: если бы мы не встретились сегодня у Фликото, вы могли бы еще два года ждать
у моря погоды или умереть голодной смертью на чердаке, как
д'Артез. Когда д'Артез станет таким эрудитом, как Бейль, и
таким великим писателем, как Руссо, мы ужо будем людьми
с положением, и от нас будет зависеть его слава. Фино
сделается депутатом, издателем большой газеты, а мы
с вами станем тем, кем захотим быть: пэрами Франции'
или неисправными должниками, посаженными в тюрьму СентПелажи.
— А затем Фино продаст свою большую газету тем
министрам, которые за нее заплатят наибольшую сумму, как
он продает свои похвалы госпоже Бастьен, развенчивая мадмуазель Виржини и доказывая, что шляпки первой из них
лучше тех, которые газета его расхваливала накануне! —
воскликнул Люсьен, припомнив сцену, которой был свидетелем.
— Уж очень вы просты, мой милый,—сухо ответил
Лусто.—Нет еще и трех лет, как Фино ходил в дырявых
сапогах, обедал у Табара за восемнадцать су, стряпал проспекты по десяти франков за штуку, и сюртук держался на
нем в силу чуда, столь же непостижимого, как непорочное зачатие. Теперь Фино единолично владеет своею газетой, которую оценивают в сто тысяч франков; взносы подписчиков,
не получающих газеты, и подписчиков действительных, а
также негласные контрибуции, взимаемые его дядей, дают ему,
двадцать тысяч франков в год; каждый день он обедает великолепнейшим образом, месяц тому назад обзавелся собственным кабриолетом; наконец, с завтрашнего дня он будет
возглавлять еженедельный журнал, став в шестой доле владельцем его, без всяких затрат, с пятьюстами франков жалования; и к ним он еще прибавит тысячу франков за статьи,
которые будет получать безвозмездно и ставить и счет своим
совладельцам. Вы первый, если Фино согласится платить вам
пятьдесят франков с листа, будете охотно давать ему три
статьи бесплатно. А когда вы окажетесь в подобном же положении, то будете иметь право судить Фино; судить человека
могут только равные ему. Ведь перед вами откроется блестящая будущность, если вы слепо станете повиноваться предписанным вам чувствам ненависти, если будете нападать, когда
Фино вам скажет: «Нападай I», или хвалить, когда он скажет
Бам: «Хвали I» Если вам понадобится кому-нибудь отомстить,
вы будете иметь возможность раздавить своего друга или недруга одною фразою, ежедневно печатаемой в вашей газете,
сказав мне: «Лусто, убьем этого человека!» А добьете вы свою
жертву большою статьей в еженедельном журнале. Наконец,
если дело будет иметь для вас первостепенную важность, то
Фино, которого вы заставите нуждаться в вас, даст вам возможность нанести жертве последний удар в большой газете
с десятью или двенадцатью тысячами подписчиков.
«Утраченные иллюзии», изд.
«Academia», 1937, 365—374.
*
Н а у ж и н е , устроенном парижской богемой, журналисты Блондэ и В и н ь о н ,
новые приятели Л ю с ь е н а , объясняют немецкому дипломату секреты ж у р н а листики.
— Я неизменно испытываю трепет, когда ужинаю с французскими журналистами, — сказал немецкий дипломат со спокойным и полным достоинства добродушием, обращаясь к
Блондэ, с которым он уже встречался у графини де Монкорне—Есть одно предсказание Блюхера, которое вы призваны осуществить.
— Какое предсказание?—спросил Натан.
— Когда Блюхер с Сакеном взошли на высоты Монмартра в 1814 году,—простите, господа, что я напоминаю
вам этот роковой для вас день,—то Сакен, человек грубый,
спросил: «Мы, стало быть, сожжем Париж?»—«Боже избави,
Франция погибнет только вот от этого!»—ответил Блюхер,
указывая на огромный гнойник, простершийся у их ног,
раскаленный и дымный, в долине Сены.—Я благословляю небо за то, что в моей стране нет газет,—продолжал посланник,
помолчав.—Я еще не оправился от испуга, который нагнал
на меня этот карапуз в бумажном колпаке, обнаруживающий
в десятилетнем возрасте ум старого дипломата. Вот и сегодня
вечером мне представляется, будто я ужинаю с львами и
пантерами, которые оказывают мне честь тем, что прячут
когти в своих бархатных лапах.
— Несомненно,—сказал Блондэ,—мы в состоянии объявить и доказать Европе, что ваше высокопревосходительство
сегодня вечером изрыгнули змею, которая чуть было не укусила мадмуазель Туллию, самую красивую из наших танцовщиц, и по этому поводу мы можем пуститься в комментарии насчет Евы, библии, первого и последнего греха. Но
будьте спокойны, вы наш гость.
— Это было бы забавно,—сказал Фино.
— Мы бы напечатали научные диссертации о всех змеях,
находимых в сердце и корпусе человека, чтобы перейти затем
к дипломатическому корпусу,—сказал Лусто.
Мы бы могли показать вам какую угодно змею в
этом графине вишневки,—добавил Верну.
— И вы бы в конце концов сами этому поверили,—сказал Виньон дипломату.
— Господа, не показывайте своих спрятанных когтейI—
воскликнул герцог де Реторе.
— Влияние и могущество газет еще только начинаюг
расцветать,—сказал Фино,—журналистика еще переживаег
младенческий возраст, она подрастет. Через десять лет все
будет подчинено гласности. Мысль все озарит, она...
— Она все растлит,—закончил Блондэ, перебив Фино.
— Метко сказано,—заметил Клод Виньон.
— Она будет создавать королей,
сказал Лусто.
— Она будет разрушать монархии,—перебил дипломат.
— Таким образом,—сказал Блондэ,—если бы прессы не
существовало, ее нужно было бы не изобретать; но она существует, мы ею живем.
— Она вас убьет,—ответил дипломат.—Разве вам не ясно, что возвышение масс, если предположить, что вы их просветите, затруднит возвышение личности, что, сея критику
среди низших классов, вы пожнете восстание и будете первыми его жертвами? Что в Париже разбивают прежде всего
во-время беспорядков?
— Фонари,—сказал Натан;—но мы настолько скромны,
что не испытываем опасений, нам угрожают только трещины.
— Вы слишком остроумная нация, чтобы позволить какому бы то ни было правительству укрепиться,—заметил посланник—Если бы не это обстоятельство, то перьями своими
вы бы снова начали завоевывать Европу, которую вам не
удалось удержать мечом.
— Газеты —зло!—воскликнул
Клод Виньон.— Можно
было бы извлечь пользу из этого зла, ію правительство хочет
с ним бороться. Возникнет борьба. Кто будет побежден? Вот
в чем вопрос.
— Готов до хрипоты кричать, что правительство,—ответил Блондэ.—Во Франции остроумие всесильно, а газеты, помимо остроумия остроумнейших людей, обладают еще лицемерием Тартюфа.
— Блондэ, Блондэ,—сказал Фино,—ты заходишь слишком далеко, здесь сидят подписчики.
— Ты владелец одного из этих складов ядовитых веществ, ты должен их бояться; а мне нет дела до всех ваших
лавочек, хотя они меня и кормят.
— Блондэ прав,—сказал Клод Виньон.—Газетное дело
вместо того, чтобы быть священнослужением, стало орудием в
руках партий; из орудия оно превратилось в промысел и,
как все промыслы, не знает ни стыда, ни совести. Всякая газета—это, как Блондэ выразился, лавка, где продаются публике слова какого угодно цвета. Если бы существовала газета горбунов, то она бы утром и вечером расхваливала красоту, добрые качества, необходимость горбунов. Газета существует уже не для того, чтобы воспитывать общественное
мнение, а чтобы пресмыкаться перед ним. Поэтому все газеты
спустя некоторое время станут трусливы, лицемерны, подлыг
лживы, смертоносны; они будут убивать идеи, учения, людей и
по этой самой причине будут процветать. Они будут пользоваться привилегией всех фиктивных существ: зло будет твориться, но никто в нем не будет повинен. Я лично буду Виньоном; вы будете кто—Лусто, кто—Блондэ, кто—Фино,—Аристидами, Платонами, Катонами, героями Плутарха; мы будем все
невинны и будем умывать руки, совершая какую-нибудь низость. Наполеон объяснил этот феномен (моральный или
аморальный, как вам его угодно будет назвать), дав ему великолепную формулировку, продиктованную из учения истории Конвента: «Коллективные преступления никого не запутывают в дело». Газета может себе позволить самое гнусное
поведение, никто не чувствует себя лично запачканным.
Но власть издаст репрессивные законы,—сказал дю
Брюэль,—она их подготовляет.
— Баі Закон бессилен против французского склада ума,
этой самой едкой из кислот.
Идеи могут быть нейтрализованы только идеями,—•
продолжал Виньон—Только террор и деспотизм могут удушить французский гений, язык которого удивительно приноровлен к намекам и двусмысленностям. Чем строже будут
законы, тем будут сильнее взрывы ума, подобного пару в
машине, лишенной клапана. Так, предположим, король совершит хороший поступок. Если газета настроена против него, то,
по ее словам, все сделал министр, и наоборот. Если газета
пустит какую-нибудь гнусную клевету, то представит дело
так, будто ей клевету передали. От жалобщика она отделается
тем, что попросит извинения за допущенную ею вольность.
Если ее притянут к суду, она начнет жаловаться, что к ней
не явились просить об опровержении. Но попробуйте-ка по-
просить об опровержении—она вам со смехом откажет она
считает свое преступление пустяком. Наконец, она высмеет
свою жертву, если та восторжествует. Если же она понесет
н а к _ и принуждена будет заплатить слишком большой
штрафу то провозгласит жалобщика врагом свободы, родины
и просвещения. Она изобразит господина такого-то вором
°* Н З Д О С Ч И Т Э Т Ь ч е с т ™ м человеком в
государстве. Таким образом, ее преступления-пустяки, люди
на нее нападающие,-изверги. И она в определенныйТрок
может убедить в чем ей угодно своих n o c r o L L x Ттатздей
Далее, ничто из того, что ей не по нраву, не будет натрий
тично, и никогда она не будет неправа. Она будет пользо
еГ
ZoZMPn"rHf
В
б0рьбе
С
Р
™ '
хартиейУв борьбе с
королем Она будет позорить магистратуру, когда та ее задеT n ' J и Г х в а л и і ъ ' « о ™ та начнет потакать страстям
толгш. Чтобы увеличить число подписчиков, она будет выдуГяТД?
волнующие басни и валять дурака, как Бобеш.
буДеТ изжаРить
ппппг3 п?"°
на вертеле родного отца,
лишь
S i
« е Г ° С°ЛЬЮ. с в о и х
бы не показаться
публике неинтересной и скучной. Она будет актером сен
бирающим в урну прах своего сына, чтобы проливато ист
дружка! С Л € З Ы ; Л К > б о в н и ц е й ' жертвующей всем ради своего
ІП
рывая Виньона!
^
Блондэ, пре— Народ лицемерный и лишенный великодушия,—продолжал Виньон, он будет изгонять из своей среды талант
ИЗГНаЛИ АрИСТИДа- М ы
б ^ д е м свидетелями того,'
Z
как газеты,- вначале руководимые людьми чести, попадут
впоследствии в руки самых посредственных людей, обладающих выдержкой и резиновой совестью, или лавочников, имеюK
Г п ^ н ™ ' Ч Т О б Ы П 0 К у п а т ь п е Р ь я - Н а м э т 9 Уже приходилось
видеть. Но через десять лет любой мальчишка, вышедший из
коллежа, вообразив себя великим человеком, вскарабкается
на газетный столбец, чтобы надавать пощечин своим предшественникам, и стащит их за ноги, чтобы занять их мет Т Ь
разуМНО
п о с Ч ™ ,
надев намордник
на печать. Я был бы готов побиться об заклад, что оппозиционные листки при помощи тех же доводов и тех же статей
которые они направляют теперь против правительства ко-'
роля, опрокинули бы ими же поставленное правительство,
если'бы только оно отказало им в чем-нибудь. Чем больше
льгот будут давать журналистам, тем газеты будут становиться
требовательнее. Журналисты выдвинувшиеся будут сменены
изголодавшимися и бедными. Язва эта неизлечима, она будет
становиться все вредоноснее, все наглее; и чем больше будет
зло, тем терпеливее станут его сносить, доколе не произойдет
вавилонского столпотворения газет вследствие их обилия. Все
мы, сколько нас ни есть, знаем, что газеты превзойдут королей в неблагодарности, а самый грязный промысел—в спекуляциях и расчетах; мы знаем, что они поглотят наши умственные силы, покупая у нас каждое утро лучшие плоды
нашего мозга; но мы все будем для них писать, как люди,
которые разрабатывают ртутный рудник и знают, что умрут,
отравленные им. Вон там, рядом с Корали, сидит юноша... как
его зовут? Люсьен 1 Он красив, он поэт, и, что для него еще
важнее, он талантливый человек; так вот, он войдет в эти
притоны мысли, именуемые газетами, он в них разбросает
свои лучшие замыслы, он иссушит в них свой мозг, развратит свою душу, начнет совершать те анонимные низости, которые в войне идей заменяют военные хитрости, грабежи, поджоги, переходы на сторону неприятеля, практикующиеся в
войне кондотьеров. Когда он, подобно тысяче других, израсходует свой прекрасный дар в пользу пайщиков, то эти
продавцы яда предоставят ему умирать от голода, если он
жаждет, и от жажды, если он голоден.
— Покорно благодарю,—сказал Фино.
— Но, бог мой,—продолжал Клод Виньон,—я ведь это
знал, я—на каторге, и прибытие нового каторжника доставляет мне удовольствие. Блондэ и я—мы способнее господ таких-то и таких-то, спекулирующих на наших талантах, и все же они нас всегда будут эксплоатировать. У нас
под корою ума сохранилась человечность, мы лишены свирепых качеств эксплоататоров. Мы ленивы, созерцательны,
мечтательны, вдумчивы; они выпьют наш мозг. и... обвинят нас
в распутстве.
«Утраченные иллюзии», <изд.
«Academia», 1937, 398—404.
ПРОСТИТУИРОВАНИЕ
Тайны
КРИТИКИ
критической, с о ф и с т и к и . - И с к у с с т в о
разругать
и
с о д и н а к о в ы м о с н о в а н и е м одну и т у ж е к н и г у .
расхвалить
Женщины, ведшие жизнь, так своевольно отвергнутую в
то время Эсфирью, доходят до полного безразличия к внешнему облику мужчины. Они похожи на современного литературного критика, который в некоторых отношениях может
быть с ним сравнен и который доходит до полной пренебрежительности к канонам искусства; он прочел столько работ»
сколько их проходит мимо него, он так привык к исписанным
страницам, он пережил столько развязок, видел столько драм,
написал столько статей, не высказав своих суждений, так
часто предавал интересы искусства в угоду дружества и неприязни, что он доходит до отвращения ко всему и тем не
менее продолжает судить. Нужно чудо, чтобы такой писатель
создал произведение, так же как чистая и благородная любовь
требует тоже чуда, чтобы расцвесть в сердце куртизанки.
«Блеск и нищета куртизанок».
Соч., X, 31.
*
( В ы х о д и т т а л а н т л и в а я к н и г а п и с а т е л я Н а т а н а , в о с х и т и в ш а я ЛІОРКРН» M «
к
К 0 Т 0 Р 0 Й
S S S S S S ^ n ^ ^
принадлежит^ Л ю с ™ е „ 7 ^ е Й и з д шАнГа®
Ж * « ?
Дорна» и з д а т е л я к н и г и . П л а н котерии т а к о в — р а з р у г а т ь к и и г ѵ
Н а т а н а , чтобы н а п у г а т ь Д о р и а п л о х и м ее сбытом, а к о г д а т о т о а с к о ш е л ы т с я
н а п о д к у п , р а с х в а л и т ь е е . Эту з а д а ч у п о р у ч а ю т Л ю с ь е н у . Б л о н д э и Л ^ о
обучают его секретам критики.)
«у*.«
— Но что можно сказать дурного об этой книге? Она
прекрасна!—воскликнул Люсьен.
- н Вот как? Милый, учись своему ремеслу,—смеясь
сказал Лусто,— книга эта, пусть бы она была шедевром'
должна под твоим пером превратиться в бессмысленную болтовню, в произведение вредное и нездоровое.
— Но каким образом?
— Ты представишь красоты в виде недостатков.
— Я неспособен на такой фокус.
— Дорогой мой, журналист—это акробат, тебе нужно
привыкнуть к неудобствам своей профессии. Так и быть, я
добрый малый и расскажу тебе, как надлежит действовать
при подобных обстоятельствах. Вниманье, мальчик мой. Ты
начішаешь с похвал и можешь тут позволить себе изложить
свое истинное мнение. Публика подумает: «Этот критик чужд
зависти, он, наверное, будет беспристрастен». Тем самым ты
уже расположишь читателей к тому, чтобы считать твою
критику добросовестной. Приобретя уважение читателя ты
пожалеешь о необходимости отнестись отрицательно к тому
направлению, которое подобные книги сообщают французской
литературе. «Разве Франция,-скажешь т ы , - н е руководит умственной жизнью всего мира? Доселе, из века в век, Французские писатели удерживали Европу на пути анализа, философс^ого исследов^ія благодаря мощному стилю и оригинальной
^ р м е в которую они облекали идею». Здесь ты вставишь
похвальное слою Вольтеру, Дидро, Монтескье Бюффону
Ты объяснишь, насколько во Франции беспощаден язык, ты
покажешь, что он подобен лаку, покрывающему мысли[Ты
накатаешь ряд аксиом, вроде: «Во Франции великии писатель
всегда велший человек, самый язык вынуждает его всегда
мыслить; не так обстоит дело в других с т р а н у и т д Ты
докажешь это положение путем сопоставления Рабенера,
немецкого моралиста-сатирика, с Лабрюйером. Ничто не придает критику столько веса, как ссылка на неизвестного иностранного автора. Кант-это пьедестал Кузена. Вступив на
эту почву, ты бросаешь слово, объясняющее ДУРакам н а ^ а
вление и£пих гениальных людей минувшего века, назвав их
литературу литературою
идейной.
Вооружившись этим
™оюм ты бьешь писателей здравствующих по голове всем
Р е Г и м и покойниками. Затем ты
возникает литература, злоупотребляющая диалогом (самой
™
л ^ е р а ^ Д ' формой) и описаниями о<
ітшмн автооа от необходимости мыслить. Ты противопоста
влятіь
романы Вольтера, Дидро, Стерна и Лесажа
с »
содержательные, столь яркие, современному роману г д е * *
передается посредством образов и который Вальтер скотт
только выдумка. «Роман в духе Вальтера Скотта-это только
жанр а не направление»,—скажешь ты. Ты разгромишь этот
Г л о в ^ д а й ж а т , который разжижает идеи, принижает их и
уровня, жанр, при котором всякий
• 2
по дешевой цене сделаться сочинителем словомж а н Г который ты назовешь образною литературой. Этою-то
аргументацией ты ударишь по Натану, доказывая, что он
подражатель и только кажется талантом. Великий сжатый
стиль восемнадцатого столетия отсутствует в его книге; ты!
покажешь, что автор заменил в ней чувства событиями. Движение—это не жизнь, картина—это не идея. Отпусти только
несколько таких сентенций, публика их подхватит. Потому-то*
несмотря на все свои достоинства, произведение это представляется тебе роковым и опасным, оно открывает перед толпою
врата в храм Славы, и ты предскажешь в грядущем появление целой рати маленьких сочинителей, торопящихся перенять
эту форму, столь легкую. Тут ты сможешь продаться громогласным воплям об упадке вкуса и вставишь хвалебное
слово господам Этьену, Жуй, Тисо, Госсу, Дювалю, Жэ, Бенжамену Констану, Эньяну, Бауру-Лормиану, Вильмену, вождям
либеральной бонапартистской партии, под покровительством
которой находится газета Верну. Ты покажешь, как доблестная
эта фаланга противостоит нашествию романтиков, отстаивая
идею и стиль против образа и болтовни, продолжая вольтеровскую школу и борясь со школою английской и со школою
немецкой, подобно тому как семнадцать ораторов левой борются в защиту нации с представителями крайней правой. Опираясь на эти имена, пользующиеся почетом среди огромногобольшинства французов, которые всегда будут на стороне' левой оппозиции, ты можешь раздавить Натана, чье произведение, хотя оцо и отличается большими красотами, дает во Франции права гражданства безыдейной литературе. Отсюда начиная, речь пойдет уже не о Натане и не об его книге,—ты понимаешь,—но о славе Франции. Обязанность честных и смелых
писателей, скажешь ты, состоит в энергичном противодействии этим чужеземным новшествам. Тут ты польстишь подписчику. По твоему мнению, французский читатель тонкая
штучка, его нелегко провести. Если издатель благодаря обстоятельствам, в обсуждение которых ты не желаешь вдаваться»
сорвал успех, то настоящая публика скоро разобралась ві
ошибке пятисот дурней, составляющих ее авангард. Ты скажешь, что издатель, после того как ему посчастливилось
продать первое издание этой книги, обнаруживает немалую
смелость, выпуская второе, и ты выразишь сожаление по
поводу того, что столь ловкий книгопродавец так мало понимает в инстинктах страны. Вот основы твоей статьи. Пересыпь эти рассуждения остротами, приправь их небольшой*
порцией уксуса, и Дориа будет изжарен на рецензентской
жаровне. Но не забудь в заключение показать вид, будто ты
сокрушаешься о Натане, как о заблудшем человеке, которому современная литература,—если бы он оставил этот
путь,—была бы обязана прекрасными произведениями.
Люсьен остолбенел, внимая речи Лусто; при каждом слове
журналиста у него пелена спадала с глаз, ему открывались
литературные истины, которых он даже не подозревал,
I— Но ведь то, что ты говоришь мне, вполне разумно и
справедливо!—воскликнул он.
— А как же мог бы ты иначе разнести вдребезги книгу
Натана?—сказал Лусто.—Это, душа моя, первая форма статьи»
применяемая для разноса произведения. Это мотьпса критики.
Но есть много и других формул. Ты пройдешь эту школу.
Если тебе непременно нужно будет говорить о человеке, которого ты не взлюбишь,—иногда у владельца, у главного
редактора газеты нет другого выхода,—то ты пустишь в ход
отрицательные стороны так называемой руководящей статьи.
В заголовке статьи ставится заглавие книги, которой приходится ее посвятить; в начале приводятся общие соображения»
где можно коснуться греков и римлян, а под конец говорится:
«Эти соображения приводят нас к книге господина такого-то*
но она составит предмет второй статьи». А вторая статья
никогда не появляется. Книга, таким образом, оказывается
задушенной между двумя обещаниями. В данном случае ты
пишешь статью не против Натана, а против Дориа. Здесь требуется удар мотыкой. Прекрасному произведению мотыка не
наносит никакого вреда, а дурную книгу пронзает до самого
сердца: в первом случае она ранит только издателя, а во
втором—оказывает услугу публике. Эта форма литературной
критики применяется также) в критике политической.
Жестокий урок Лусто открывал широкие горизонты перед
воображением Люсьена, прекрасно усвоившего дух этого
ремесла.
«Утраченные иллюзии», изд,
«Academia», 1937, 452—456.
*
— Ты ведь не хочешь,—сказал ему, Лусто,—сделать себе
врага из Натана. Натан—журналист, у него есть друзья, он
мог, бы сыграть с тобой плохую штуку при появлении в
свет твоего первого произведения. Ведь тебе предстоит пристроить С т р е л к а К а р л а IX. Мы сегодня утром видели
Натана, он—в отчаянии; но ты напишешь для него статью,
где закидаешь его похвалами.
— Как? После твоей статьи против его книги вы хотите,
чтобы я...—спросил Люсьен.
Эмиль Блондэ, Гектор Мерлен, Этьен Лусто, Фелисьеи
Верну—все прервали Люсьена взрывом хохота.
— Ты пригласил его ужинать здесь послезавтра?—спросил Блондэ.
— Твоя статья не подписана,—сказал Лусто.—1Фелисьен
не так неопытен, как ты, он не упустил поместить под нею
букву С, которою ты сможешь впредь подписывать свои статьи
в его газете, придерживающейся чисто левого направления.
Все мы—на стороне оппозиции. Фелисьен был настолько тактичен, что не связал тебя относительно твоих будущих убеждений. В лавочке Гектора, чья газета принадлежит правому,
центру, ты можешь подписываться буквою Л. Нападения производятся анонимно, но похвальные статьи идут за полной
подписью.
,— Меня не подписи беспокоят,—сказал Люсьен,—но я
решительно не знаю, что сказать хорошего о книге.
t— Стало быть, ты написал то, что думал?—спросил
Гектор Люсьена.
— Да.
— Ну, милый мой,—проговорил Блондэ,—я думал, что
ты не так прост. Нет, честное слово, глядя на твой лоб, я
наделял тебя тем всемогуществом, каким обладают великие
умы, которые всегда достаточно крепко скроены, чтобы уметь
рассматривать каждую вещь в ее двояком виде. Голубчик, в
литературе всякая мысль имеет свою лицевую и оборотную
•сторону; никто не может с уверенностью утверждать, что
такая-то сторона;—оборотная. Все двусторонне в области
мысли. Идеи двулики. Янус—олицетворение критики и символа гения. Один только бог треуголен. Мольер и Корнель
являются из ряда вон выходящими людьми. „ не потому ли,
что у (них Альцест говорит «да», а Филинт, Октавий и Цинна—
«нет». Руссо в Н о в о й Э л о и з е написал одно письмо за,
а другое против дуэли; осмелился ли бы ты определить его
подлинное мнение? Кто бы из нас мог. выбрать между Кла-
риссой и Ловеласом, Гектором и Ахиллом? Кто истинный
герой Гомера? Каково было намерение Ричардсона? Критика
должна рассматривать произведение со всех точек зрения.
Вообще говоря, для нас все относительно.
— Так вы, значит, дорожите тем, что пишете?—насмешливо сказал ему Верну.—Но ведь мы торгуем фразами и
живем этим промыслом. Когда вы захотите написать большое
и прекрасное произведение, словом, книгу, то вы сможете
вложить в нее свои мысли, свою душу, привязаться к ней, отстаивать ее; но статьи, сегодня прочитанные, завтра забытые,
стоят, на мой взгляд, ровно столько, сколько за них платят.
Если вы будете придавать значение подобным глупостям, то,
повидимому, станете осенять себя крестным знаменем и призывать имя божье, прежде чем написать проспект?
Все, видимо, удивлялись колебаниям Люсьена и, наконец,
разодрали на нем отроческую одежду, чтобы облачить, его
в тогу мужа и журналиста.
— Знаешь ли ты, каким изречением утешился Натан,
прочитав твою статью?—сказал Лусто.
— Почем мне это знать 1
— Натан воскликнул: «Статейки преходящи, великие творения пребывают вовеки». Этот человек через два дня придет
сюда ужинать, нужно, чтобы он простерся у ног твоих, поцеловал тебя в пятку и провозгласил тебя великим человеком.
— Это было бы забавно,—сказал Люсьен.
— Забавно!—повторил Блондэ.—Это необходимо.
— Друзья мои, я к вашим услугам,—сказал Люсьен, бывший немного навеселе,—но как быть?
А вот как,—сказал Лусто:—нашшіи для газеты Мерлена
три хороших столбца и опровергни в них самого себя. Насладившись яростью Натана, мы только что сказали ему, что
он скоро поблагодарит нас за предпринятую жестокую полемику, которую мы наладили с тем, чтобы книга его разошлась
в одну неделю. В данную минуту ты ему представляешься
шпионом, канальей, мошенником; послезавтра ты будешь великим человеком, замечательной головой, героем Плутарха.
Натан прижмет тебя к груди, как своего лучшего друга.
Дориа к тебе явился, ты получил три тысячефранковых
билета: твое дело сделано. Теперь тебе надо снискать себе
дружбу и уважение Натана. Ущемлен должен быть только
издатель. Уничтожать и преследовать мы должны только
врагов. Если бы речь шла о человеке, составившем себе имя
без нашей помощи, о неудобном нам таланте, подлежащем
упразднению, мы не прибегли бы к такого рода реплике; но
Натан принадлежит к числу наших друзей, Блондэ нападал
на него в М е р к у р и и , чтобы доставить себе удовольствие
ответить в Д е б а . Вот почему разошлось первое издание
его книги.
— Друзья мои, клянусь честью, я и двух слов одобрения
не способен написать об этой книге.
—• Ты получишь еще сто франков,—сказал Мерлен,—
таким образом, ты заработаешь на Натане уже десять луидоров, не считая статьи, которую можешь поместить в еженедельнике Фино и за которую получишь сто франков от
Дориа и сто от еженедельника; итого—двадцать луидоров.
—! Но что же мне написать?—спросил Люсьен.
— Ты вот как можешь выйти из затруднения, дитя мое,—
ответил Блондэ, собравшись с мыслями.—«Зависть, которая
въедается во всякое прекрасное произведение, как черви—в
хорошие плоды, попыталась уязвить эту книгу,—скажешь
ты.—Чтобы найти в ней изъяны, критика принуждена была
построить целую теорию по поводу этой книги, провести различие между двумя родами литературы: литературою, служащей идеям, и литературою, посвящающей себя образам». Тут;
голубчик мой, ты скажешь, что последнее слово литературного искусства заключается в выражении идеи посредством»
образа. Стараясь доказать, что вся поэзия сводится к образности, ты будешь сокрушаться о недостаточной поэтичности
нашего языка, расскажешь о том, как иностранцы упрекают
наш стиль в «позитивизме», и похвалишь господина де Каналиса и Натана за услуги, которые они оказывают Франции
тем, что изгоняют прозаичность из языка. Опровергни свою
предыдущую аргументацию указанием на прогресс, осуществленный нами по сравнению с восемнадцатым веком. Напирай
на прогресс (этим словом можно восхитительно мистифицировать мещан). Наша молодая литература творит картины,
объединяющие все жанры, комедию и драму, описания, характеристики, диалог, связуя их блистательными узлами захватывающей интриги. Роман, требующий чувства, стиля и образов,
^является самым крупным завоеванием современности. Ощохва-
тывает события и идеи в своих построениях, которые требуют
и остроумия Лабрюйера, и его язвительной морали, трактовки
характеров, как ее понимал Мольер, гигантских механизмов
Шекспира, и живописания тончайших оттенков страсти, единственного сокровища, завещанного нам предшественниками.
Поэтому роман значительно превосходит холодное и математическое рассуждение, сухой анализ восемнадцатого столетия.
«Роман,—скажешь ты сентенциозно,—это занимательная эпопея—Сошлись на К о р и н н у, обопрись на госпожу де Сталь,—
восемнадцатое столетие все оставило под знаком вопроса, девятнадцатое столетие призвано на все ответить: и оно отвечает изображением действительности, но действительности,
которая живет и движется; наконец, оно привносит в литературу страсть, стихию, неведомую Вольтеру.—Следует тирада
против Вольтера.—Что касается Руссо, то он только и
занимался тем, что напяливал одежды на рассуждения И
доктрины. Юлия и Клара суть схемы, без плоти и крови».
Ты можешь распространиться на эту тему и сказать, что молодой и оригинальной литературой мы обязаны мирным ДОГОВОР
рам и Бурбонам, ибо ты пишешь для газеты правого центра.
Подтруни над изобретателями доктрин. Затем ты можешь воскликнуть в благородном порыве: «Как много ошибок, как много неправды допустил наш собрат 1 А для чего? Для того,
чтобы развенчать прекрасное произведение, чтобы обмануть
публику и притти к такому выводу: книга, которая находит
сбыт, не находит сбыта. Proh pudor 1 !» Так и напиши: Ргоіт
pudor! Такое пристойное ругательство оживит читателя.
Наконец, объяви, что критика находится в упадке. Заключение:
«Существует только одна литература—литература занимательная. Натан ступил на новый путь, он понял свою эпоху
и ответил на ее запрос. Эпоха требует драмы. Драма является
потребностью века, в котором политика представляет собою
вечную мимическую драму. Разве не прошли перед нашими:
глазами,—скажешь ты,—за двадцать лет четыре драмы—Рево«
люция, Директория, Империя И Реставрация?» Отсюда ты
переходишь к хвалебному дифирамбу—и второе издание
расхватывается. Сделай вот как: в эту субботу ты сочинишь
статью в (лист для нашего журнала и подпишешь ее полностью
т о,
позор!
(по-латыни).
де Рюбанпре. В этой последней статье ты скажешь: «Прекрасным произведениям свойственно порождать бурные споры,
на этой неделе такая-то газета сказала то-то о книге Натана,
а другая газета ответила ей резкой отповедью». Критиков С.
и JI. ты подвергнешь критике, мимоходом отпустишь комплимент по моему адресу, по поводу первой статьи, которую я
поместил в Д е б а , и в заключение объявишь книгу Натана
самою выдающейся книгой эпохи. Это сказать ничего не стоит,
это говорится обо всех книгах. Ты заработаешь четыреста
франков за неделю, помимо удовольствия от сознания, что
в одной из газет ты сказал правду. Люди мыслящие согласятся
дибо с С., либо с Л., либо с Рюбампре, а может быть,
и со всеми тремя. Мифология, несомненно являющаяся одним
из самых великих человеческих измышлений, поселила Истину
на дне колодца,—так не нужны ли ведра, чтобы ее оттуда
извлечь? Ты снабдишь публику тремя ведрами вместо одного.
Вот оно как, дитя мое. Смелей I
Люсьен был ошеломлен. Блондэ поцеловал его в обе
щеки и сказал:
— Еду в свою лавочку.
«
«Утраченные иллюзии», изд.
«Academia», 473—478.
"
...Богема, которую следовало бы назвать доктриной Итальянского бульвара, состоит из молодых людей не моложе двадцати и не старше тридцати лет. Все они талантливы в своем
роде, пока еще мало известны, но в будущем покажут себя
и станут весьма заметными. Их уже и теперь замечают во
время карнавала, когда , они разряжают в выходках, более
или менее забавных, избыток своего ума, которому слишком
тесно в остальное время года. В самом деле, в какую эпоху;
мы живем? Что за нелепая власть допускает такую растрату
необъятных сил? Среди богемы можно найти дипломатов,
способных, если бы они чувствовали поддержку Франции,
расстроить замыслы России. Там можно встретить писателей,
администраторов, журналистов, артистов. Решительно дарования всех видов, способности самые разнообразные представлены в ней. Это—своего рода микрокосм. Если бы русский
император за двадцать миллионов купил богему—допустим,
что она захотела бы покинуть асфальт бульваров,-и перевез
ее в Одессу, то через год Одесса стала бы Парижем, Здесь
у нас бесплодно прозябает и сохнет цвет изумительнои французской молодежи, которую искал Наполеон и Людовик XIV,
и которой уже тридцать лет пренебрегает стариковское правление, губящее во Франции все. Об этой прекрасной молодежи
не далее как на-днях профессор Тиссо, человек далеко не пристрастный, сказал: «Император всюду находил место для
такой молодежи, действительно достойной его: в советах, государственной администрации, в правительстве завоеванных
стран, давал ей поручения исключительно трудные или опасные, и всюду она отвечала своему назначению. Молодые люди
были для него то же, что missi dominici1 для Карла Великого».
Слово «богема» говорит все. Богема ничего не имеет и
живет только тем, что у нее есть. Ее религия-Надежда,
Вера в самого себя-ее кодекс, любовь к ближнему-ее приходо-расходная книга. Все эти молодые люди поднимаются над
своими несчастьями, они—у подножья удачи, но выше судьбы.
Всегда во всеоружии, остроумные, как фельетонисты, веселые,
как люди в долгах,-а они должают так же, как и пьют,—и,
наконец,-отсюда мне нужно было начать-все они влюблены.
Но как влюблены! Вообразите Ловеласа, Генриха IV, регенга,
Вертера, Сен-Прё, Рене, маршала Ришелье соединенными в
одном человеке, и вы-получите представление об их любви.
Какова же эта любовь? В любви они чрезвычайно разнообразны: они любят так, как захочет женщина Их сердце похоже
на ресторанное меню; они, не зная книги Стендаля «О любви»
и быть может, не прочитав ее, осуществляют ее на практике,
У них есть отделение любви по склонности, любви-страсти,
любви-каприза, любви кристаллизованной и в особенности
любви скоропроходящей. Все им годится. «Все женщи^і равны
для мужчины»—таково их грубо-насмешливое правило^Звучит
это изречение более сильно, но так как, по-моему, его смысл
ложен, то я не принимаю его буквально.
«Принц богемы». Соч., IX*
133—134.
» Посланцы повелителя (по-ла*ыни).
*
Трос неразлучных, по крайней мере на этот день, направились под предводительством пейзажиста так, чтобы столкнуться лицом к лицу с человеком лет сорока, с орденской
петличкой, который шел с бульвара по улице Нев-Вивьен.
— О чем же ты мечтаешь, мой милый Дюбурдье?
Наверное, о какой-нибудь прекрасной символической группе?
Дорогой кузен, я имею удовольствие представить вас нашему
известному художнику Дюбурдье, не менее знаменитому
своим дарованием, чем своими гуманитарными убеждениями...
Дюбурдье, это мой кузен Палафокс!
Дюбурдье, человек небольшого роста, бледный, с меланхоличными голубыми глазами, слегка поклонился Гаэоналю,
приветствовавшему гения.
— Значит, вы выбрали Штидмана на место...
— Да что ты! Я и не был там,—ответил Леон.
— Вы подорвете уважение к Академии,—продолжал художник.—Остановить свой выбор на таком человеке... Я не
хочу сказать ничего дурного, но ведь он-ремесленник! К чему
приведет первое из всех искусств, создающее самые долговечные произведения, воскрешающее народы, после того, как мир
утратил даже воспоминание об них,-искусство, которое освящает великих людей? Скульптура-ведь это жречество, она
обобщает идеи своей эпохи, а вы завербовали мастера по
части обывательских физиономий и каминов, делающего лепные штуки, одного из торгующих во храме! Ах, как сказал
Шамфор, каждое утро нужно глотать гадюку, чтобы выдержать жизнь в Париже... Но все равно: искусство остается
у нас, никто не помешает нам его лелеять...
— И кроме этого, мой дорогой, у вас есть еще одно
утешение, которое доступно не всякому художнику: будущее
принадлежит вам,-сказал Биксиу.-Когда мир примкнет к
нашему учению, вы будете во главе своего искусства, ибо
вы вложите в него идеи, которые станут понятными... как
только они будут общим достоянием! Через пягьдесяг лет вы
будете для всего мира тем, чем вы остаетесь пока только
для нас—великим человеком. Нужно только одно—игти к этой
цели!
— В настоящее время,—начал Дюбурдье, чья физиономия
расцвела, как она обыкновенно расцветает у каждого человека.
польщенного какой-нибудь чепухой,—я закончил аллегорический образ гармонии, и если вы зайдете посмотреть, то^сразу
поймете, что я два года мог заниматься этой работой. Там
все! Стоит только взглянуть, как сразу поймешь судьбу
земного шара. Королева держит в руке пастушеский ж е з л символ размножения пород, полезных человечеству. На голове
у нее шапочка свободы; ее груди—с шестью сосцами, как
изображалось у египтян, предвосхитивших Фурье. Ее ноги
опираются на две скрещенные руки, охватывающие земной
шар в знак братства человеческих племен; она попирает разбитые пушки, чтобы изобразить исчезновение войны, и, кроме
того, я постарался выразить довольство восторжествовавшего
земледелия... Я поместил возле нее огромный кочан кудрявой
капусты, которая, по словам нашего учителя,—образ согласия.
О, Фурье достоин почитания не только потому, что признал
за растениями способность мыслить: он связал все в творении
особыми взаимоотношениями существ и их особым языком»
Через сто лет цир будет более велик, чем...
— А как же, сударь, это произойдет?—спросил Газональ,
пораженный, что слышит все это от человека, не находящегося в доме умалишенных.
— Благодаря расширению производства. Если захотят
применить систему, то не будет ничего невозможного в том,
чтобы воздействовать на звезды.
— А какова же в те времена будет живопись?—спросил
Газональ.
— Она станет еще более великой.
— И наши глаза тоже увеличатся?—сказал Газональ,
значительно посмотрев на своих друзей.
— Человек станет таким, каким он был до своего падения, люди в семь футов будут казаться карликами.
— Твоя картина,—спросил Леон,—окончена?
— Совершенно,—ответил Дюбурдье.—Я добился встречи
с Гикляром и просил его написать симфонию. Я хочу, чтобы
на картину смотрели, слушая музыку в духе Бетховена: она
разовьет идеи и поможет их усвоению двумя способами. Ах,
если бы правительство согласилось предоставить мне один из
залов Лувра!
— Если ты хочешь, я поговорю об этом; не следует ничем пренебрегать, чтобы потрясти умы...
— О, мои друзья напишут статьи, но я боюсь, как бы
они не зашли чересчур далеко.
— Ну,—заметил Биксиу,—они не пойдут так далеко,
как будущее... •
.-'•'•
Дюбурдье искоса посмотрел на Биксиу и продолжал свой
путь. -' '
• •
.X — Но ведь это сумасшедший!—сказал Газональ—Он
живет; как лунатик.
' .
— У него есть рука, умение...—ответил Леон.—Но фурьеризм его убил. Тебе удалось понаблюдать, кузен, влияние
честолюбия на художников. В Париже нередко бывает так,
что, желая быстрее, чем это можно обычным путем, пробиться
к той славе, которая в то же время означает богатство, художники заимствуют свое вдохновение в окружающих обстоятельствах; они рассчитывают на славу, к чему-нибудь пристроившись, поступая на содержание к какой-нибудь системе,- и" надеются превратить кучку приверженцев в широкую публику.
Один—республиканец, другой—сен-еимонист,
этот—аристократ, такой-то—католик, такой-то—благонамеренный ^ гражданин, тот—человек средневековья или германец, смотря,- что
кто выберет. Но если какое-нибудь учение не в состоянии
наделять дарованием, то уже во всяком случае испортит его.
Доказательство—бедный малый, которого мы встретили. Убеждением художника должна быть его искренность в произведениях искусства,- и единственное - условие успеха—труд,
если природа наделила священным пламенем.
- '„'
«Комедианты неведома. , для
себя». Соч., IX, .211—214.
ü
ЗАМЕЧАНИЯ
ИСТОРИИ
ИСКУССТВА
И
ЛИТЕРАТУРЫ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИДЕАЛ
АНТИЧНОСТИ
ж
ХРИСТИАНСКОЙ
ЕВРОПЫ
*
ГРЕЧЕСКИЕ МИФЫ
...Труд и Муза, другими словами—трудовая Муза благоразумна; она девственница. Прискорбно в девятнадцатом веке
обращаться к образам греческой мифологии; но меня ничто
так не поражало, как могущественная правда этих мифов...
Бальзак—Ганской, 26 октября 1834 г.
Lettres à l'Etrangère, 203.
*
Однообразие античной к р а с о т ы . — Средневековье открыло новый х у д о жественный идеал. — «Уродливое» н «прекрасное». — Принцип
нового
и с к у с с т в а — индивидуальное
своеобразие. — Идеальное в
гротеске. —
К р а с о т а шедевров средневекового и с к у с с т в а .
...Искусство Китая отличается безграничной плодотвор|ностью. Китайцы рано поняли бесплодность того, что мы
называем прекрасное. В прекрасном есть только линия. Греческое искусство сводится к повторению идей, в конце концов
очень бедных, не в обиду классикам будь сказано. Китайская теория за несколько тысяч лет до сарацшгов и средневековья увидела, необъятные возможности, заложенные в уродливом,—слово, так необдуманно брошенное в лицо романтикам, которым я пользуюсь для противопоставления слову прекрасное.
У прекрасного есть только одна статуя, один храм,
одна книга, одна пьеса: И л и а д у возобновляли три раза,
художники вечно копировали все те же греческие статуи,
перестраивали до пресыщения те же храмы; одна и та же
трагедия шла на сцене, с той же мифологией, наскучив до
тошноты. Напротив, поэма Ариосто, роман Трувера, испаноанглийская пьеса, средневековый собор или дом—это бесконечность в искусстве. В этой области нет однообразных произведений. Те, кто трубит в уши дураков, что таким образом
изгоняется идеализация—греческая,
корнелевская, расиновская, рафаэлевская и т. д.,—люди недобросовестные, ибо они
отлично знают, что искусство, понятое таким образом, ставит
идеал рядом с фантазией, и фантазия служит рамкой идеалу.
Можно поместить идеальнейшую статую среди десяти тысяч
статуй Миланского собора, вставить расиновские строфы в
О р и е н т а л и и , какую-нибудь английскую Венеру в К л а р и сс у и прелестный женский торс привязать к хвосту коня
из картины Р е з н я н а Х и о с е . Разве для мыслителя готика
и стиль Людовика XV не двоюродные братья, китайского
искусства? Работница, которую я видел в Канжё, может соперничать, со статуэтками Миланского собора; только китайские
фигуры гротескны, они просят улыбки, и невозможно в ней
отказать им; увидев их, Юнг хохотал чуть не четверть часа.
Однако гротеск вошел в средневековье как элемент настолько
•необходимый,- что гротеск преобладает в тридцати из сорока
памятников, светских и религиозных, оставшихся нам от этих
времен. Очаровательные птицы, которых Джованни Беллини
поместил у ног своих мадонн, статуэтки св. Михаила—это
очищенный гротеск, приспособленный к понятиям возвышен;
ного стиля; словом, это облагороженная фантазия.
«О Китае и китайцах». Oeuvres,
XXII, 348—349.
„ *
Совершенная гармония тела — признак
Скульптурные несовершенства
-
вы к удивлению своему, встречаете
там где вы восхищались благородством черт.
«Брачный ДОговор>> Соч изд.
Пантелеева, XIII, і ы — л ѵ ъ .
*
Вр.д
•
S
подражания
антияности
для
французе,«.»
сре»н«екоао»
поззии.
...Если любовь—дитя, то сярасть-мрюшю.
s
s
s
s
s
s
i
s
s
ц ^ т Г н а ш Г ^ о д р а ж а и и с м греческой литературе...
J
«Физиология брака». Oeuvres,
XVII, 315.
ДАНТЕ
Не князю римскому, не
иаследаику-сяюк»»SÄ.
духовной- посредственности. -—
выдающихся н а т у р .
Лицо Натали, как и лица большинства молодых девушек,
не отражало ее душевной жизни. На нем лежала печать того
глубокого, невозмутимого спокойствия, которое скульпторы
придают девственным лицам своих богинь, не омраченных^
земными страстями. Такая полная гармония внешности не пред«
вещает глубокого ума. Всякая более или менее выдающаяся
натура сказывается : в легких неправильностях черт лица,
которые отражают самые противоположные мысли и чувства
и привлекают взоры своей игрой. , Полная гармония черт
ПОБе
^Гллцели мне показать удивительный костяк идей, кото-
Йято «
S
T
S
V
-
великим, как он; но вам
™ Т а к ^ " & с к и й ученый составил бы себе имя,
„ о л з ^ Г б Г ^ Д Р У и немало орденов, опубликовав в вида
догматического трактата импровизацию, которой вы пленительно украсили один из тех вечеров, когда отдыхаешь от
прогулки по Риму. Вы, быть может, не знаете, что большинство наших профессоров живут на Германии, на Англии,
на Востоке или на Севере, как насекомые на деревьях, и,
как насекомое, они становятся составной их частью, заимствуя
от них .все свои качества. Но вот Италия до сей поры
не эксплоатировалась еще так открыто. Никогда не оценят
достаточно мою литературную скромность. Я мог бы, обобрав
вас дочиста, стать ученее трех Шлегелей; но я останусь
скромным доктором социальной медицины, ветеринаром неизлечимых болезней, хотя бы для того только, чтобы засвидетельствовать признательность моему чичероне и присоединить
ваше славное имя к именам Порча, Сан-Северино, Парею, ди
Негро, Бельджойозо, которые в Ч е л о в е ч е с к о й к о м е д и и
будут представлять сердечный и непрерывный союз Италии
и Франции, освященный подобным образом уже в шестнадцатом
веке епископом и автором весьма потешных рассказов, Банделло, в іего великолепном собрании новелл, послуживших источником нескольких пьес Шекспира, а частью и целых ролей и
даже дословно.
Из посвящения «Бедных родственников». Соч., XI, 5 — 6 .
ЖИВОПИСЬ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
*
ш к о л ы ИТАЛЬЯНСКОГО В О З Р О Ж Д Е Н И Я
Едва только еврей очутился в этом святилище, как прямо
направилоГ к четырем шедеврам, которые сразу признал за
птекмснейшие во всей коллекции, и определил принадлеж" Г Т с т и
мастеров „едоставаВшихего
спбоанию Для него это были такие же desiderata \ как те,
что заставляют
натуралистов
предпринимать
путешесгшш
с
дальнего Запада на дальний Восток, под трошпш, в
пампасы, саванны и девственные леса. П е Р ^ " 3 этих
принадлежала кисти Себастьяно дель П ь о ^ вторая Фра
Еяптоломео делла Порта, третья—пейзаж Гоббемы, а послед
ш Г ж е н с ^ и й шртрет Альбрехта Дюрера,-четыре подлинных
п е м а Г себотьяно дель Пьомбо в живописном искусстве
как бы блестящую точку где
три школы, каждая из которых принесла с и я ^ ы ^ к и е к а
чества. Венецианский живописец, он ^ б ы л в Рим чтобь,
овладеть стилем Рафаэля под руководством ^ ^ А ч д ж м о ,
когопый хотел противопоставить его Рафаэлю, чтобы в лице
o S o иГсвоих помощников бороться с верховным жрецом
Z Z Z ™ т П т о т лешшый гений объединил венециански»
S ^ r
Флорентийскую композицию и рафаэлевский стиль в
Z m o r a k каошнах, какие соблаговолил написать да еще по
рисованным, говорят, Микель-Анджело А какогс,еовершенегаа достиг он во всеоружии такой тройной силы, легко
1 Пожелания
(по-латыни).
видеть в 'Парижском музее по его портрету Баччо Бандинелли,
который можно сравнить с тициановым Ч е л о в е к о м с
п е р ч а т к о й , с портретом старика, где Рафаэль сочетал совершенство свое и корреджевскОе, и с Карлом VIII Леонардо
да Винчи,—и от такого сопоставления это полотно не потерпит
ущерба. Четыре эти жемчужины обладают той же водой,
тем же сиянием, той же круглотой, тем же блеском, той же
ценностью. Здесь предел человеческого искусства. И оно
выше природы, давшей оригиналу жизнь только на миг. Из
произведений бессмертной кисти этого великого, но неизлечимо ленивого гения Понс обладал портретом мальтийского
рыцаря на молитве, написанным на доске и по своей свежести,
законченности, глубине превосходящим даже портрет Баччо
Бандинелли. Фра Бартоломео, представленного С в я т ы м с е м е й с т в о м , многие знатоки сочли бы за Рафаэля. Гоббема
должен был дойти до шестидесяти тысяч франков на аукционе.
Что же касается Альбрехта Дюрера, то его женский портрет
мог бы поспорить с его же знаменитым портретом, изображающим Хольцшуэра, в Нюрнберге, за который короли
баварский, голландский и прусский тщетно и не раз предлагали двести тысяч франков. Не есть ли это жена или дочь
рыцаря Хольцшуэра, друга Альбрехта Дюрера? Гипотеза
представляется достоверной, ибо поза женщины понсова музея
заставляет предполагать другой портрет в соответствие этому,
а гербы, изображенные на обоих портретах, расположены
одинаково. Наконец, надпись aetatis suae X L I 1 вполне согласуются с годом, указанным на портрете, столь свято хранимом
семьей Хольцшуэров в Нюрнберге и гравюра с которого
была недавно сделана.
«Кузен Поно. Соч., XII,
г
,
писец, ищущий здесь
М а р и и
и ^ З Г ѵ Т а д а и и ь Г р а ф а э л " ™ деленные
скромно-гордые
^
зачатия, но сохранячерты, часто рождшпяе случаадода»
христианской и цеемые и приобретаемые:
тошно
^ л е н „ ы й в столь
S
"
^
т
T
Ä
Ä
= Т в ' разрезе "глаз, в складе
божественное, не выразимое словами.
о
«Евгения Гранде». Соч., IV,
49—50.
' •
• :
*
•• "
я посмотрел н е с — зал = > « е е з Ш г т . Д П о р т р е т М а р г а р и т ы Д 0 » ^ ^ , „Гвеласкес, ни одна
Ни Тициан, ни Рубенс, ни Іинторетго,
ршепсгву.
кисть не можег при ли 3 ить™ і к п о д « ^
М
Ь
Г
^
два года назад... ..
Б„М„_ГаНс*ой,
U
Е
^
„а то, чем восхищались вы
Ш,
треЛЯ
Мщение.
,
^
à
.
iiEtrangèrei
337
...Нервная до чрезвычайности, но^ихая с^ виду, Э с ф ^ ь
сразу привлекала вшшожеодной " Р " ™ ^
РафРаэлЬі
которую в
Т " е е других изучивший,
122—123.
S
РАФАЭЛЬ
Р а ф а э л ь — ж и в о п и с е ц идеальной ж е н с т в е н н о с т и . — П о р т р е т ы
!
Рафаѳля
Р
S
Г к
a
б
Г
б
ы
О
Г
б
*
S
четкостью
походившей на ребро свода.
«Блеск и нищета куртизанок».
Соч., X, 38.
Нет, в Евгении, крупной и плотной, не было той красивости, что нравится толпе, но она была прекрасна красотой,
легко воспринимаемой, пленяющей только художников. ЖивоГпТгруженный
1 В возрасте сорока одного года (по-латыни).
П
работы
24
Микель-Анджело.
Б а л ь з а к об искусстве
в
мысли-статуя
Лоренцо
Медичи,
— Вам угодно видеть портрет Иисуса Христа, написанный
Рафаэлем?—учтиво спросил его старик голосом, в ясной
и отрывистой звучности которого было нечто металлическое.
И он поставил лампу на обломок колонны так, что темный
ящик осветило со всех сторон. 1
При святых именах Иисуса Христа и Рафаэля у молодого
человека вырвался жест любопытства, на которое и рассчитывал купец, вслед за тем надавивший пружину. Тотчас-же
створка красного дерева бесшумно опустилась в выемку
открывая восхищению незнакомца полотно. При виде этого
бессмертного творения он забыл все диковины лавки, капризы своего сиа, вновь стал человеком, признал в старике
творение плоти, вполне живой, нисколько не фантастической,
вновь стал жить в мире реальном. Нежная озабоченность'
тихая ясность божественного лика тотчас же повлияли на
него. Некое благоухание пролилось с небес, рассеивая те
адские муки, которые жгли мозг его костей. Голова спасителя,
казалось, выступала из мрака, переданного черным фоном;
лучистый ореол сверкал вокруг его волос, от которых как
будто и исходил этот свет; красноречивая ' убедительность,
присущая его челу, его плоти, проникновенными потоками
изливалась из каждой черты его лица. Алые губы готовы
были произнести слово жизни, и зритель искал его священного
отзвука в воздухе, вопрошал молчание о восхитительных
притчах, слышал это слово в будущем, обретал его в уроках
прошлого. Евангелие передавалось спокойной простотой божественных очей, в которых искали себе прибежища смятенные души... Обладая преимуществами, свойственными очарованиям музыкальным, произведение Рафаэля подчиняло всевластным чарам воспоминаний, и торжество его было полным
о художнике можно было забыть. Обаяние света воздействовало еще более на это чудо: мгновениями казалось,
что голова движется вдали, на лоне какого-то облака.
«Шагреневая кожа». Соч., X V ,
ЗАМЕЧАНИЯ ОБ О Т Д Е Л Ь Н Ы Х КАРТИНАХ
ХУДОЖНИКОВ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Н о ч ь и М а г д а л и н а К о р р е д ж о . — Д о с т о и н с т в а фламандских и г о л л а н д с к и х картин в Дрезденской галлерее. — М а д о н н а Гольбейна. — Ф р е с к и
Л у и н и в Саронно. - Б и т в а п р и Т е р м и д о н е
Рубенса.-Достоинства
болонской ш к о л ы . — А в р о р а Г в и д о Р е н и . — Мурильо. — - Б е і а т р и ч е
Ч е н ч и Гвидо. — Ф и л и п п
II В е л а с к е с а . — Б а л ь з а к о купленной им
неизвестной к а р т и н е .
...Я видел столько полотен Тициана. во Флоренции и в
Венеции, что полотна, имеющиеся в Дрезденской галлерее,
проиграли в моих глазах; Н о ч ь Корреджо, мне кажется,
слишком захвалена; но его М а г д а л и н а , две его девы,
две Мадошіы Рафаэля и фламандские и голландские картины искупают путешествие...
...Рубенс иногда волновал меня, но в Лувре Рубенс
представлен полнее. Подлинный шедевр галлереи—картина
Гольбейна, она затмевает все остальное; как я жалел, что
не держу вашу руку в своей, когда любовался ею с тем
тайным восхищением и той полнотой счастья, что дает созерцательное наслаждение прекрасным! Мадонна Рафаэля—этого
можно ждать; но Мадонна Гольбейна это захватывающаянеожиданность...
Бальзак—Ганской. 19 октября 1843 г.
Oeuvres, XXIV, 375.
...Я смотрел фрески Луини в, Саронно; они показались
мне достойными своей славы. Та, что изображает О б р у ч е - ,
н и е с в я т о й д е в ы , необычайна по мягкости; лица ангельские, и, что так редко в фресках, тона нежные и гармоничные..Бальзак—Ганской, Милан, 24 мая 1838 г.
*
Oeuvres, XXIV, 298»
•
- •*
...В заключение представь себе на верхних ступеньках
крыльца женщину в белом платье, подобную царице цветов-^«
без шляпы, под зонтиком, подбитым белым шелком, но болеетбелоснежную, чем этот шелк, белее тех лилий, что цветут
у ее ног, белее звездочек жасмина, нахально пробравшегося
между перилами крыльца,— француженку, родившуюся ь
России и встретившую меня словами: «Я уже потеряла,
надежду увидеть вас!»...
І-Іе в этом ЛИ воплощение нашей мечты, не в этом ли
мечта всех обожателей красоты, во всех ее видах, той ангельской красоты, которую Луиии вложил в свое Б л а г о в е щ е н и е , эту прелестную фреску в Саронно,—той красоты, что
Рубенс нашел для своей сцены из Б и т в ы п р и Т е р м и д о не, той красоты, что в течение пяти веков вкладывалась
в севильский и миланский соборы, сарацинских красот в Гренаде, красоты Людовика XIV в Версале, красоты Альп, красоты плодоносной Оверни.
«Крестьяне». Соч., XIV, 13—14.
Моя Коллекция обогатилась недавно: 1) А в р о р о й Гвидо
Рени, в сильной его манере, когда он был еще совсем Караваджо, и 2) П о х и щ е н и е м Е в р о п ы , которое, как заверял меня Лазар, принадлежит Доменикино, но, как мне
кажется, скорей Аннибалу Караччи.
Хотел бы я увидеть вас перед этими картинами, вас, не
любящего болонскую школу; уверяю, они стоят лучшего из
того, что мы видели в галлерее Боргезе. Эти две станковые
картины, по впечатлению, кажутся мне величиной в двадцать
футов; по силе воздействия они равны, в известном смысле
и при соблюдении всех пропорций, маленькой и несравненной картине В и д е н и е И е з е к и и л я . Моя А в р о р а Гвидо
Рени—рослая дама, одетая, как одевает их Веронезе, удобно
расположившаяся на облаке с левой стороны картины. Фон
изображает великолепную виллу, напоминающую виллу Памфили; на переднем плане бассейн, украшенный статуями, или,
вернее, фигурками, льющими воду. Эта часть картины в светотени дня и ночи написана в манере Каналетти, или, по крайней
мере, напоминает ее, но более величественна; вода течет великолепно. Справа—Аврора; в углу Амур с юкрашенными крыльями лечалыю смотрит на Аврору и уходит, тетива на его
луке спущена, и нимфы убегают в рощи, как бы напуганные
и удивленные. В общем, на мой взгляд по крайней мере, это
несравненно блестяще. В Риме запросили бы две тысячи луидоров за это полотно...
Бальзак—Георгу Мнишек, август 1846 г.
"
Oeuvres, XXIV, 535.
*
...Она была одним из тех типов, которые, среди тысячи
отвергнутых из-за недостатка характерности, останавливают
вас на минуту, заставляют вас задуматься, как среди множества картин в музее на вас производит сильное впечатление
то божественная голова, в которой Мурильо изобразил материнскую скорбь, то лицо Беатриче Ченчи, в котором Гвидо
сумел показать самую трогательную невинность в глубине
самого ужасного преступления, то мрачный лик Филиппа II,
на котором Веласкес навсегда запечатлел величественный ужас,
какой должен внушить королевский сан. Некоторые человеческие лица являются деспотическими образами, которые с вами
говорят, вас оспаривают, отвечают на ваши тайные мысли и
создают даже целые поэмы. Застывшее лицо г-жи д'Эгльмон
было одною из тех ужасных поэм, одним из тех ликов, которые тысячами рассеяны в Б о ж е с т в е н н о й к о м е д и и
Данте Алигьери.
«Тридцатилетняя
Соч., И, 150.
женщина».
*
•Дорогой Гренгале,
Старый Бальзак обладает, благодаря вам, одним из тех
блистательных шедевров, что, подобно С к р и п а ч у , являются
солнцем галлереи. Вы не можете вообразить себе всю прелесть
выбранного вами М а л ь т и й с к о г о р ы ц а р я , так же как
и невежественную подлость римских торговцев. Мингетти
затемнил картину бистром, чтобы скрыть изъян на лбу, капли
івоска на руках, испугавшие его, а главное, густой слой
копоти, оставшийся от дыма свечей и прочих экклезиастических причин на этом великолепном полотне. Помните, Шнетц
находил несоответствие между руками и лицом, и сами вы,
дорогой Георг, опасались подделки. Да нет же, все гармонично, как в хорошо сохранившемся оригинале Тициана. Руки
получают больше света, чем лицо, вот и все; но что больше
всего вызывает восхищение, это одежда, которую вы едва
разглядели,—она, по выражению знатоков,
поддерживает
человека. Когда пришел рекомендованный мне реставратор
^(славный старичок, который любит живопись, как Паганини
любил музыку), он сказал: «Сударь, это шедевр; но что мы
найдем под всем этим?»
И ушел, взволнованный.
Через три дня он вернулся, на этот раз со своими снадобьями. Разложил Р ы ц а р я на столе, составил сильную
смесь и сказал: «Итак, приступаем! Начнем с угла».
Он смочил снадобьем вату, потер: масляная краска запенилась, и все побелело. «Отлично,—сказал он,—теперь можно
итти дальше».
Он протер всю доску и за час снял с нее добрый фунт
ваты в виде черных шариков. «Вот,—сказал он,—что намазал
римский торговец. (Ничего еще не было видно.) Но зачем?
зачем? у него были причины: картина, возможно, испорчена,
полна подрисовок, может быть, ее вообще не существует,
ибо вот новая пачкотня! Это уж посерьезней; итти ли нам
дальше?»
Он пошел дальше, взял новые три снадобья, и краска
давай пениться, белеть и исчезать в этой битве снадобий.
Он надел двойные очки и заявил: «Теперь я отвечаю за
картину!»
Я же видел только пивную пену. Наконец, с торжествующим видом он спросил мягкую зубную щетку и мыла. «'Сейчас
вы увидите,—сказал он,—настоящий шедевр!»
Я попрежнему не видел ничего, кроме пивной пены. «Но
так же,—добавил он,—мы узнаем, почему римский торговец
наложил свой бистр».
И вот, под стиркой славного старика, картина, как солнце,
засняла во всем своем блеске. Я вижу тона трепещущего тела,
сияющие оттенки; золото цепей и шпаги, руки, одежда, фон
открылись мне внезапно, как восход весенней зари.
Он обмыл картину водой и сказал: «Взгляните!» Действительно, то было воскресение; под губкой появлялся человек,
написанный с такой потрясающей правдивостью, что, казалось,
в гостиной присутствует кто-то третий. Трудно представить
себе этот образ; уверяю вас, дорогой Георг, он выступает
из полотна. Старик вынес его в сад, чтобы просушить на
солнце; это был человек, настоящий мальтийский рыцарь, с
живой плотью и костьми! Несчастная картина, возродившаяся
на моих глазах, через триста лет казалась законченной только
вчера.
Тут, с лупой в руках, он обнаружил редину в холсте,
начинающуюся на лбу и исчезающую под глазом, она образовалась из мелких дырочек, как бы наколотых иголкой;
затем восковое пятно на лбу и восковые капли на руках. Когда
картина высохла, он взял иголку; и с поразительной легкостью
снял острием пятна, снимая только воск и не касаясь краски.
Затем, кончиком кисти ввел краску в дырочки. Наконец, он
напоил весь портрет какой-то смесью,—его секрет,—которая,
не пропитывая краску и ничуть не изменяя ее, придает ей
прочность, проявляет и закрепляет ее. За восемь дней все
стало ярким и свежим; сущее чудо.
Многие думают, что я мистификатор и что картина написана вчерашний день. Реставратор заявляет, что Себастьян
(дель Пьомбо был неспособен написать это; он согласен с
вашим мнением и говорит, что это, должно быть, какой-нибудь
фламандец, ученик Рафаэля; я же льщу себя надеждой, что
картина написана Альбрехтом Дюрером во время поездки
в Рим. Во всяком случае это одно из прекраснейших произведений итальянского Возрождения; это школа Рафаэля, но
лучше по колориту. Наконец, мой старикашка считает картину
одним из драгоценнейших произведений искусства потому,
что находит в ней последнее слово трех школ: Венеции, Рима
и Фландрии.
Я должен был рассказать вам об этом, дорогой Георг,
но, конечно, предпочел бы явить вашему восхищенному взору,
само полотно.
_
•
Бальзак—Георгу
Мнишек, август
1846 г.
Oeuvres, XXIV, 532—534.
ГОЛЛАНДСКОЕ
ХУІІ
ИСКУССТВО
ВЕКА
Исторические условия расцвета голландской живописи. — Своеобразная поэтичность фламандской ж и з н и . — Б о р ь б а за независимость.—Влияние н р а в о в
и к у л ь т у р ы Испании и Италии. — Достоинства фламандского и с к у с с т в а . —
Поэзия материального и душевного комфорта. — Отражение свободолюбивого д у х а Голландии в ее живописи. — Рембрандт — поэт нищеты.
Самым изысканным материализмом запечатлены все фламандские привычки. Английский комфорт дает сухие оттенки»
жесткие тона, тогда как во Фландрии старинный вид дома
внутри радует взгляд мягкими красками, подлинным добродушием; в нем подразумевается труд без усталости; трубка
означает здесь удачное применение неаполитанского ничегонеделанья; в нем обнаруживается мирное художественное
чутье; его необходимое условие—терпение, и что делает его
создания прочными—это добросовестность. Весь фламандский
характер в двух словах: терпение и добросовестность; кажется, что они исключают собою богатые оттенки поэзии
и делают нравы страны столь же плоскими, как ее широкие
равнины, столь же холодными, как ее пасмурное небо. Ничего
подобного на самом деле нет. Цивилизация воспользоваласьсвоим могуществом, видоизменив здесь все, даже следствия
климата. Если внимательно наблюдать произведения различных
мест земного шара, то прежде всего бываешь поражен,
увидев, что серые и бурые краски особенно, свойственны произведениям умеренной полосы, тогда как самыми блестящими
красками отличается созданное в жарких странах. Нравы
непременно должны сообразоваться с таким законом природы.
Обе Фландрии, в быльге века по существу своему темные,
преданные однообразным окраскам, нашли средства для того,
чтобы мрачную, как сажа, атмосферу своей страны яркооживить политическими треволнениями, которые подчиняли
их то бургундцам, то испанцам, то французам и теперь побратали с немцами и голландцами. От Испании они взяли себе
роскошь багреца, блестящего атласа, чрезвычайно эффектных:
ковров, перьев, мандолин и придворных манер. От Венеции
Гобмен на полотно и нружева у них остались
стеклянные изделия, в которых вино светится и как будто
становится вкуснее. От Австрии-тяжелая диплома^ придерживающаяся поговорки: семь раз отмерь, о д ш ^ т р е ж ы
Сношения с Индией дали проникнуть сюда причудливым
выдумкам Китая и японским диковинкам. Однакснесмотря
на их терпеливую готовность все собирать, ни от чего не отказываться, все переносить, на обе Фландрии нельзя было
иначе смотреть, как на какой-то общеевропеискии склад,
вплоть до тех пор, пока открытие табшса не спаяло дымом
разрозненные черты их национального облика. С этих пор,
как бы ни была раздроблена его территория, весь народ фламандский стал жить трубкой и пивом.
^t,TiTpm»
В этой стране, по природе своей тусклой и лишенной
поэзии, после того как она благодаря постоянной бережли' вости усвоила себе роскошь и идеи своих господ и соседей»
сложилась своеобразная жизнь и характерные нравы, по видамости нисколько не запятнанные рабской подражательностью. Искусство ее, воспроизводя исключительно внешность стало лишенным всякой идеальности. Поэтому не требуйте от этой родины пластической поэзии ни комедийного
'огонька, ни драматической действенности, ни смелых порывов
в э ш п 4 или оде, ни гения музыкального; но она щедра на
открытия и доктральные рассуждения, требующие времени
™ L r a лампы. На всем здесь чекаи временного наслаждения.
Человек видит здесь исключительно то, что есть, мысль его
так услужливо сгибается перед нуждами жизни, что ни в
одном своем произведении она не улетает за пред«^і реального мира. Единственно доступное этому народу представление
о будущем—это какая-то бережливость в политике; революционная сила происходит у него от домовитого желатшя
сесть с локтями за стол и по-хозяйски распоряжаться под
навесами своих стойл. Чувство благополучия и проводящий
от богатства дух независимости породил здесь раньше, чем
где бы то ни было, потребность в свободе, которая стала
позже мучить Европу. Таким образом, вследствие постоянства идей и упорства, какое фламандцам дает воспитание,
они были некогда грозными защитниками своих п р » У этого
народа ничего кое-как не делается, ни дома, ш мебель, ни
плотина, ни обработка земли, ни восстание. Поэтому он сохраняет за собою монополию на все, за что бы ни брался.
Производство кружев, требующее терпения от сельского
хозяина, а больше еще от мастера, и производство холста
передаются по наследству, как родовые богатства. Если бы
нужно было изобразить человеческое постоянство в самой
чистой его форме, то, может быть, всего правильнее было , бы
взять портрет доброго нидерландского бургомистра, способного, как это часто встречалось, честно и скромно умереть
ради выгод Ганзы.
«Поиски абсолюта». Соч., XVI,
33—34.
...Без сомнения, какой-нибудь рисовальщик, какой-нибудь
Рембрандт, если бы такой жил в наше время, увидя этих
нищих, непринужденно расположившихся и молчаливых, наметил бы здесь одну из самых изумительных своих композиций. Здесь морщинистое лицо величественного старца с
белой бородой и головой апостола совершенно подходило
для св. Петра; его полуоткрытая грудь обнаруживала рубцы
мускулов, признак железного сложения, помогшего ему выдержать всю поэму несчастий. Там молодая женщина уняла
-своего маленького, ткнув ему грудь, а другого, лет пяти,
держит у себя между колен. Эта грудь, сверкающая среди
лохмотьев своей белизной, ребенок с прозрачной кожей и
его брат, чья поза предвещает будущего уличного мальчишку, смягчают душу впечатлением какого-то милого контраста по сравнению с длинным рядом покрасневших от холода лиц, среди которых выделяется эта семья. Дальше—
старуха, бледная и замерзшая, являет отталкивающую маску
взбунтовавшейся нищеты, готовой в день мятежа отомстить
за все свои прошлые страдания. Здесь же молодой рабочий,
хилый, уставший; его глаза, исполненные ума, свидетельствуют
о высших способностях, задавленных нуждой, с чсоторой
тщетно боролся; он молчит о своих страданиях, смерть уже
недалека—ведь ему не удалось проскользнуть через решетку
того огромного садка, где борются эти несчастные, пожирая
- д РУ г д РУ г а -
«Дело об опеке». Соч., I,
239—240.
ФРАНЦУЗСКИЙ
ХУІІ
КЛАССИЦИЗМ
ВЕКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Ясность и остроумие французской мысли, французское и с к у с с т в о - в ы р а ж е н и е
*
поэзии порядка.
...Мы, французы, веселы и остроумны,—и мы любим,
мы веселы и остроумны,—и умираем, мы веселы и остроумны—и творим, мы веселы и остроумны,-и тем не менее
конституционалисты, мы веселы и остроумны,—и создаем великие и глубокие вещи!.. Мы ненавидим скуку, но от этого
в нас не меньше мужества, мы идем на все. веселые и остроумные, завитые, напомаженные и улыбающиеся! Вот почему
мы говорим, высокомерно:
Победа с песней нам путь открывает!
из-за чего нас почитают легкомысленным народом, нас, восхваляющих в этот миг стряпню Жорж Санд, Эжена Сю,
Густава де Бсмон, Токвиля, барона д'Экштеина и г-на 1 изо.
Мы легкомысленны! под властью денежного мешка и его
величества Луи-Филиппа!..
Бальзак-Ганской,
15 февраля 1845 г.
^
^
^
•s
. .Гармония есть поэзия порядка, а народы имеют живую
потребность в порядке. Согласованность вещей между собой,
одним словом, единство—разве не в этом заключается простейшее выражение порядка? Архитектура, музыка, поэзия-все
зиждется во Франции, более чем в какой-либо иной стране,
па этом принципе, который, кроме того, заложен в основе
ее ясного и чистого языка, а язык всегда будет наиболее
непреложной формулой нации. И вот вы видите народ, приспособляющий к этому принципу наиболее поэтичные, наилучше модулированные арии, стремящийся к самым простым
идеям, любящий четкие слова, которые содержат наибольшее
количество мыслей. Франция—единственная страна, в которой
какая-нибудь ничтожная фраза может совершить великую
революцию.
«Герцогиня д е
VIII, 172.
Лаиже».
Соч.,
— Если бы Блондэ не был под хмельком, я огорчился бы.
Из нас четверых он один обладает настоящим литературным вкусом. Ради него я удостаиваю обращаться со всеми
вами, как с ценителями. Я взвешиваю каждое слово, а он меня
критикует. Друзья, самым очевидным признаком духовного
бесплодия является нагромождение фактов. Подлинно прекрасная комедия М и з а н т р о п доказывает, что искусство состоит в умении построить дворец на острие иголки. Волшебство мысли заключается в магическом жезле, который в десять
секунд (вот пока я пью этот бокал) может превратить песчаную равігину в Интерлакен. Неужели вы хотите, чтобы мое
повествование походило на пушечное ядро или на рапорт
главнокомандующего? Мы болтаем, смеемся, а этот журналист,
этот изголодавшийся библиофоб, высказывает спьяна пожелание, чтобы я придал моей живой речи какую-то глупую
книжность.
В его голосе послышались плаксивые ноты.
— Горе французскому воображению! Нашлись люди, желающие затупить острие его шуток. Dies irae 1 1 Прольем слезу
о К а н д и д е , и да здравствуют К р и т и к а ч и с т о г о р а з у ма, С и м в о л и к а и системы в пяти убористых томах, напечатанные немцами, не знавшими, что все это уже существовало
в Париже с 1750 года в нескольких остроумных фразах,
в алмазах нашего национального гения.
«Банкирский дом Нюсинжена».
Соч., VII, 338—339.
1
День гнева (по-латыни).
Т Р А Г Е Д И Я
К Л А С С И Ц И З М А
ЯУотвРеЬтил бы вам раньше, если бы не два легких недомошифровавших одно за другим и удержавших меня
гания,
Т Г л Ѵ ч и л ваш . драматический опыт и прочел его с удовольстоием; тем не менее вы понимаете, что если и так уж
^ Г т
пштив драматической правдивости наших истории,
то показатіГна сцене римлян такими, как они были, без ходуГей созданных в е л и к и гениями,-почти невозможно...
В
Бальзак-молодому
драматургу,
б ноября 1844 г.
Oeuvres, XXIV, 416.
М О Л Ь Е Р
мглтъ » " " а Ѵ т Т г Г с * Т п
Тартюф,
мизан.р
нііе
Ь
Х L I V R E R
х а р а к т е р а
селимены.
глг^т.
--Действительно, если б возможно было совершенно
исправить людей, заставляя их краснеть своих с м — черт
недостатков и пороков, какое совершенное о б д а э т о осш
вал бы этот великий законодатель! Он изгнал бы из груда
нации дух лжи, изгнал бы условный я з ы к двусмыслеьшость
ревность, порой безумную, порой, и, пожалуй чаще, жестокою
постыдную любовь стариков, ненависть к человеку, кокетство,
злословие, фатовство, неравные браки, н и з = о скупость
дух сутяжничества, продажность, Р ^ д а о с т ь с у д е ^ и ни
чтожность, побуждающую людей притворять^ ^ л е е значи
тельными, чем они есть на деле, невежественный эмпиризм
врачей и смехотворное лицемерие лжесвятош...
М н и м ы й р о г о н о с е ц - п ь е с а , насыщенная весельем
Н е с н о с н ы е-первый опыт эпизодической комедии; У р о к
м у ж ь я м , У р о к женам-подражание Б р а т ь я м іеренттия но с более остроумной развязкой; Б р а к п о п р и н у ж д е н и ю , стаким совершенством высмеивающий ухищрения
школы- П р и н ц е с с а Э л и д ы и Б л е с т я щ и е ж е н и х и - - ,
прстгаведения, в которых Мольер вышучивает самого^ себя
за чрезмерные жертвы вкусу эпохи, и К а м е н н ы и г о с т ь ,
лацисанный с редким вдохновением и оригин № нрстыо л
Таковы были первые пьесы Мольера, явившиеся прелюдией
к I ар т юфу
Л ю б о в ь ц е л и т е л ь н и ц а предшествовала М и з а н B ^ m n f ѵ Г п а ^ " 3 ан т р о по м, могучим, прекрасно нарисованным характером,- тут Талия говорит столь благородным
и красноречивым языком,-следует Л е к а р ь п о н е в о л е
очаровательная насмешка над медицинским факультетом.'
М^ л ис ер та, грациозная пастораль, и С и ц и л и е ц - п е р выи опыт комической оперы, доказывающий гибкость таланта
своего автора, предшествовали А м ф и т р и о н у—чудесному
произведению, хотя и написанному в подражание Плавту.
Ц 1 я а в т а т а к ж е Мольер заимствовал сюжет С к у п о г о
но
раскрыл его более глубоко, сделав Гарпагопа влюбленным
и показав, таким образом, его характер в полном блеске
В короткое время последовали друг за другом пьесьг
Ж о р ж Данден, П у р с о н ь я к , Мещаиин во д в о р я н с т в е и П р о д е л к и С к а п е и а—каждая,. наделенная особыми достоинствами. Затем появились У ч е н ы е ж е н щ и н ы
где воплощение педантизма выставлено всем на посмешище"
и 1 р а ф и н я д Э с к а р б а н ь я с , где так весело вышучены
смешные черты, занесенные провинциалами в Париж. Наконец
вышел M и и м ы й . б о л ь н о й , последнее творение Мольера"
начертав в нем с ужасающей правдивостью роль жены считающей последние минуты безрассудного старика,-корыстной супруги и несправедливой мачехи,—этот великий человек
доказал, что смерть сразила его, когда гений был еще в полном расцвете своей мощи, и готов был творить новые шедевры.
«Мольер». Oeuvres, XXII, 1, 4—5.
Женщины типа герцогиии в состоянии достигнуть неведомых высот в области чувства и способны проявить самуюэгоистическую бесчувственность. Одной из заслуг Мольера
является то, что он воплотил, правда, несколько односторонне, этот тип в самом замечательном из высеченных им из
Автор дважды пытался показать публике эту комедию
написанную уже давно, и дважды сбегались в проста ханжи и
Л ? , " М п к Р и к а м и > Угрозами вынуждали актеров у д а л и т ь с я П о е з и ; i î a l a » b 0 1 1 ' с а м неверно понявший намерения автора , п а д держал своим авторитетом эту неистовую к а б а л у . - Л р и м Тот
цельного мрамора женских образов—Селимене. Селимеиа
воплощает аристократку, как Фигаро—второе издание Панурга—олицетворяет народ.
«Музей древностей», издание
«Красной газеты», 95.
х...Еще недостаточно уяснено, до какой степени плут лелеет
свою жертву. Ни одна мать не проявляет столько ласки и
заботливости к своей обожаемой дочери, сколько проявляет
их каждый торгаш лицемерием по отношению к своей дойной
корове. Зато каким же блестящим успехом пользуются представления Т а р т ю ф а , разыгранные при закрытых дверяхI
Все это не уступит дружбе I Мольер умер слишком рано, он
показал бы нам отчаяние Оргона, замученного семьей, задерганного детьми, горько сожалеющего о льстивых речах Тартюфа и грустно причитающего: «Хорошее было времечко».
«Крестьяне». Соч., XIV, 87.
ЛАФОНТЕН
...Не будь Лафонтеном написана его дивная басня, наш
эскиз имел бы заглавие Д в а д р у г а . Но разве ^это не
было бы литературным посягательством, профанацией, перед
которой отступит всякий настоящий писатель? Шедевр нашего
баснописца, сокровенное признание его души и повести его
грез, должен сохранять за собой вечное право на это заглавие. Страница, вверху которой поэт начертал слова: Д в а
д р у г а , есть священная собственность, есть некий храм,
куда каждое новое поколение вступит благоговейно, и весь
мир будет посещать его, покуда существует печать.
«Кузен Пон©>. Соч., XII, 19.
ХУІІІ
ВЕКА
Достоинства^литературы^ - с е м н а д ц а ^
*
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЛИТЕРАТУРЫ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА
Недостаток литературы восемнадцатого века—сведение в с е х д у ш е в н ы х движений к простым физиологическим реакциям. — Специфические законы
душевной жизни человека и задачи современной литературы.
...Руссо объяснял стыдливость необходимым кокетством,
которым все самки привлекают самца. Такой взгляд нам кажется новым заблуждением.
Писатели восемнадцатого века, несомненно, оказали неизмеримые услуги обществу; но их философия, основанная на
сенсуализме, пошла не дальше человеческой эпидермы. Они
рассматривали только внешний мир и в этом отношении задержали на некоторое время нравственное развитие человека и прогресс науки, которая всегда будет извлекать основные свои начала из евангелия, с известной поры лучше понятого пылкими приверженцами сына человеческого.
Изучение тайн мысли, открытие органов человеческой
души, геометрия ее сил, проявление ее мощи, оценка способности,—как нам кажется, ей свойственной,—двигаться независимо от тела, переноситься куда угодно, видеть без помощи телесных органов, наконец, открытие законов ее динамики и физического воздействия—вот славный удел будущего
века в сокровищнице человеческого знания. И, может быть,
сейчас мы только извлекаем каменные глыбы, что позлее
послужат какому-нибудь могучему гению для построения
гордого здания. •
Итак, заблуждение Руссо было заблуждением его века.
Он объяснял стыдливость отношениями существ между собой,
вместо того чтобы объяснить ее нравственными отношениями
живого существа с самим собой.
«Физиология брака». Oeuvres,
XVII, 507—508.
"
Ф и з и о л о г и я б р а к а была попыткой вернуться к тонкой," живой, насмешливой и веселой литературе восемнадцатого века, где авторы не старались держаться всегда прямо и
неподвижно, где без спорое, по любому поводу, о поэзии, морали и драме создавались драма, поэзия и произведения величайшей моральной силы. Автор этой книги хочет способствовать литературной реакции, подготовляемой отдельными светлыми умами, которым наскучил современный вандализм и
надоело смотреть, как люди нагромождают камни, не создавая ни одного памятника. Он не понимает нетерпимости и
лицемерия наших нравов и к тому же не признает у, пресыщенных людей права быть разборчивыми.
Со всех сторон раздаются жалобы на кровавую окраску
современных писаний. Свирепость, пытки, люда, брошенные
в море, висельники, виселицы, каторжники, холодная и пылкая
жестокость, палачи—все превратилось в шутовство 1
Некогда публика отказалась сочувствовать больным и выздоравливающим юношам и сладостным сокровищам меланхолии, скрытым в литературном убожестве. Она сказала «прощай» печальным, прокаженным, томным элегиям. Она устала
от туманных бардов и сильфов так же, как сегодня пресытилась Испанией, Востоком, пытками, пиратами и историеи Франции по-вальтерскоттовски. Что же нам остается?..
Если публика осудит усилия писателей, пытающихся вернуть почетное место вольной литературе наших предков,придется пожелать нашествия варваров, сожжения библиотек,
нового средневековья; тогда авторы легче возобновят вечный
круг, ів котором кружит человеческий дух, как манежная
лошадь.^
П о л и е в к т не существовал, многие из современных поэтов способны были бы заново создать Корнеля,—и вы
увидели бы, как расцветает эта трагедия в трех театрах
од новременно, не считая водевилей, где Полиевкт распевал бы
свою проповедь христианской веры на какой-нибудь мотив
из Н е м о й .
Предисловие к I изд. «Шагреневой кожи». Oeuvres, XXII,
403—404.
Д И Д Р О
( « П Л Е М Я Н Н И К
Р А М О » )
П л е м я н н и к Р а м о, памфлет на человечество, который
Дидро не решился опубликовать,—книга, где все обнажено с
нарочитой целыо показать людские язвы, одна лишь способна
сравниться с устным памфлетом, авторами которого были наши
соседи, не имевшие в виду читателя, и в котором поэтому
^ р в Я П не останавливалось даже перед тем, что вызывало
колебания Мыслителя,—памфлетом, целиком построенном на
одних развалинах, где отрицается все решительно, где восхищение вызывает лишь то, с чем мирігпЯР скептицизм: всемогущество, всеведение, всепригодность денег.
«Банкирский дом Нюсинжена».
Соч., VII, 305.
В О Л Ь Т Е Р
И
Р У С С О
Вольтер обладал невероятным умом, он обладал гениальностью. Но в общей массе его характера доля ума сильнее,
чем доля гениальности, между тем как, с другой стороны, у
Руссо почти нет ума, но зато много гениальности.
Бальзак—герцогине д'Лбраптес, 1829 г,
, Oeuvres, XXIV, 63.
РУССО
, ...Женщины и брак станут уважаемы во Франции лишь
после радикального изменения наших нравов, к которому мы
взываем. Эта глубокая мысль одушевляет два прекраснейших
произведения бессмертного гения. Э м и л ь и Н о в а я Э л о и з а—красноречивая защита этой системы. Голос писателя
прозвучит в веках, ибо он понял истинные движущие силы
законов и нравов грядущих веков. Отдавая детей матери, Жан
Жак уже оказал неизмеримую услугу добродетели; но его век
был слишком глубоко поражен гангреной, чтобы понять высокий урок, заключавшийся в обеих поэмах;, нужно также добавить, что поэт победил философа, ибо, оставив в сердце
Юлии, после замужества, пережитки первой любви, автор был
соблазнен поэтической ситуацией, более трогательной, чем
правда, которую хотел он изложить, но менее полезной...
«Физиология брака». Oeuvres,
XVII, 341.
*
...Мужчина, только что упившийся наслаждением, испытывает склонность к забвению, какую-то неблагодарность, желание свободы, фантазию пойти гулять, легкое презрение и,
может быть, даже отвращение к своему кумиру, испытывает,
словом, необъяснимые чувства, которые делают его подлым и ^ ^
низким. Несомненность этого смутного, но вполіе реалыЯШЦР
ощущения у душ, которые не просветлены тем небесным
светом, не помазаны теми святыми благовониями, что порождают постоянство #Ьшего чувства, вероятно, продиктовало
Руссо историю приключений милорда Эдуарда, которыми
заканчиваются письма Н о в о й Э л о и з ы . Если и очевидно,
что Руссо вдохновился произведениями Ричардсона, то он
отошел от них во множестве подробностей, которые делают
столь восхитительно своеобразным этот памятник его творчества; он оставил потомству в наследие великие идеи, которые
трудно выделить путем анализа, когда читаешь в юности его
роман, ища в нем пламенных описаний наиболее физического
из наших чувств, тогда как писателями серьезными и философами картинные образы применяются только как следствие
или необходимая иллюстрация какой-нибудь обобщающей
мысли. И приключения милорда Эдуарда представляют собой
одну из Наиболее утонченных по-европейски идей этого произведения.
«Златоокая девушка». Соч.,
VIII, 323.
С Т Е Р Н
( « Т Р И С Т Р А М
Ш Е Н Д И » )
...Ко всему невежественному сонму людей, предназначенных к вечному блаженству, к легионам жующих, курящих
и нюхающих табак, к старикам, ворчунам! и т. д. обращался
Стерн с письмом из Т р и с т р а м а Ш е н д и , написанным
Готье Шенди брату своему Гоби, собиравшемуся жениться
на вдове Уэдмен.
Оригинальнейший из английских писателей дал в этом
письме замечательные наставления, способные, за некоторыми
исключениями, пополнить наши мысли о том, как следует
вести себя с женщинами...
\
«Физиология брака». Oeuvres,
XVII, 295.
К Р А Б Б («ЖИЗНЬ В СМЕРТИ»)
...Как! сказал я, прерывая его, уж не догадались ли вы
случайно о тех удивительных обманчивых видениях, что я
собирался описать в Рассуждении, озаглавленном И с к у с с т в о в в о д и т ь с м е р т ь в ж и з н ь ! . . Увы! я полагал, что
первый открыл эту науку. Это краткое название внушил мне
рассказ одного молодого врача об изумительном неизданном сочинении Крабба. В этом произведении английский
поэт персонифицировал фантастическое, существо, именуемое
Ж и з н ь в с м е р т и . Этот персонаж преследует среди людского океана одушевленный скелет, названный Смерть в
жизни. Мне помнится, немногие из гостей изящного переводчика английской поэзии поняли таинственный смысл этой
истории, столь же правдивой, сколь фантастичной...
«Физиология
•XVII, 388.
брака».
Oeuvres,
«ФИЛОСОФИЯ НАСЛАЖДЕНИЯ» ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА
. М е м у а р ы Лозена.—Ничтожество аристократического Ловеласа
дцатого в е к а .
восемна-
...По пути я купил на набережной, за пятнадцать су,
М е м у а р ы Лозена; никогда не читал их; я пробежал их в
омнибусе, возвращаясь в Пасси, где снова водворил раба вашего в кресло, сидя в котором он и пишет вам эти строки, в
ожидании обеда. Как странно, что храбрый, отважный человек,
казалось, проявлявший мужество во всех случаях, когда оно
было необходимо, может так легкомысленно бесчестить женщин, которых, по его утверждению, любил! Мне думается,
фатовство, главенствующая черта его характера, заглушало
все, что в нем было действительно хорошего и благородного.
Не дал ли он понять, что пренебрег Марией-Антуанеттой в
расцвете ее молодости и обаянии величия? Это и отвратительная клевета и ненужная жестокость, если вспомнить о положении несчастной королевы в то время, как писались эти
М е м у а р ы . Впрочем, бедняга Лозен внушает жалость! он
и не подозревает, что никогда не был любим, даже слегка, хотя
и мнил, что его обожают. Большинство женщин с трудом
могли бы вынести столь суетного человека, они требуют
исключительного поклонения себе и разве лишь на мгновение
признают права за столь же агрессивным, сколь ненасытным
соперничеством человека влюбленного... в самого себя. Зато
вспомните, как ловко покинула его принцесса С...; это
ужасно!..
Бальзак—Ганской, Париж, 29 февраля 1844 г.
Oeuvres, XXIV, 394»
ЖИВОПИСЬ ВОСЕМНАДЦАТОГО ВЕКА. ГРЁЗ, ДАВИД
П о р т р е т ж е н ы и И с п у г а н н а я д е в у ш к а Г р е з а . — Ротари —
итальянский подражатель Грбза. — Пастели Натура, Грёза и Лиотара. —
Величие Д а в и д а . — Недостатки его школы.
Славный старичок уступил мне за бесценок (относительно),
так он полюбил меня, великолепную находку, недавно им
сделанную, портрет жены Грёза, написанный Грёзом и послуживший ему моделью для знаменитой Д е р е в е н с к о й нев е с т ы . Пока вы не увидите ею, поверьте, вы не узнаете, что
такое французская школа. В известном смысле Рубенс, Рембрандт, Рафаэль и Тициан не выше. Это трепетная плоть,
это сама жизнь, здесь нет труда, это вдохновение, furia francese 1 , помогающая нам восторжествовать даже над ошибками,
на которые сама нас толкает; это набросано за два часа остатками палитры, в мгновение страсти и восторга, охвативших
1
артиста.
•
Грёз подарил этот набросок жене, запретив продавать
его. Она завещала его сестре. Сестра эта была жива еще
двадцать лет назад. Случайно полотно разорвали, и она, решив,
что картина погибла, отдала ее соседке, которая в свою
очередь сбыла ее с рук, как вещь бесполезную и обременительную в ее ,скудном хозяйстве. Мой реставратор зашил,;
или, вернее, заштопал полотно; следов не осталось, и,
уверяю вас, в своем жанре это так же прекрасно, как
Мальтийский рыцарь.
Бальзак—Георгу Мнишек, август 1846 г.
'
•
1 Французское
Oeuvres, XXIV, 534.
неистовство
(по-Итальянски).
*
...Домик на улице Фортюне вскоре обогатится прекрасными картинами; среди них есть очаровательная головка
Грёза, известная под именем И с п у г а н н о й д е в у ш к и ,
пришедшая из галлерей последнего польского короля; два
Каналетти, принадлежавшие папе Клементию XIII (Редзонико); портрег первой жены Якова II, дочери Гайд Кларендона, кисти Нетчера, и (портрет Якова в молодости—Лели; два
Ван Хейсума, один Ван Дейк и т. д. Есть также три полотна
Рогари, венецианского художника восемнадцатого века, почти
не известного во Франции, писавшего в Вене, в Дрездене,
в Варшаве, в Санкт-Петербурге. Он достиг большого богатства с помощью кисти, и императрица Мария-Тереза сделала его графом Римской империи; это итальянский Грёз.
Его картины di primo cartello 1 и не обезобразят самую прекрасную галлерею. Кроме того, есть Ю д и ф ь Кранаха,—
просго
чудо. Вот судьба картин—вечно странствовать, уходить, возвращаться, подобно кисти, создавшей их!..
Достаточно опытные, чтобы избежать неудобств, связанных с выходом на сцену, женщины явились первыми они хотели владеть поэзией. ГЪнс представил Шмуке своим родствен
лицам, в т о р ы м он показался идиотом. Всецело занятые женихом, четырехкратным миллион ром, обе н е = поверхностно
слушали художественные объяснения добряка Понса. Они
равнодушно отогрели на эмали Птито, размещенные по красному бархату в трех чудеснейших р а м а х Цветы Ван Хеисума,
Давида де Гейма, насекомые Абраама Миньона, Ван Эики,
Альбрехты Дюреры, подлинные Кранахи, Джорд^не С
бастьяно дель Пьомбо, Бакейзен, Гоббема Жерико, никакие
ишвописные редкости не задевали их
^
что они ждали солнца, которое должно б ы л о озарить эти
богатства; и все-таки они были поражены красотой некоторых
Г
™
вещей и действительной ценностью табакерок. Они
— и Г и з
любезности, держа
бпонзы когда г-жа Сибо доложила о г-не Бруннере! ини и
не подумгш? обернуться и воспользоваться превосходным венецианским зеркалом в рамке из о г р о м н ы , ^ » Д
черного дерева, чтобы рассмотреть этого феникса женихов.
Бальзак—Софи и Валентине Сюрвиль, ноябрь 1848 г.
«Кузен Понс». Соч., XII, 70.
Oeuvres, XXIV, 583.
I *•
...Понс и Шмуке наводили чистоту в музее Понса и во
всей квартире, обтирали пыль с мебели так ловко и проворно,
как матросы, моющие адмиральское судно 1 Ни одной пылинки
не осталось на деревянной резьбе. Вся медь блестела. Под
стеклами рам четко выделялись пастели Латура, Грёза и
Лиотара, знаменитого творца Д е в у ш к и с ч а ш к о й шок о л а д а , чуда из чудес этой живописи, увы! столь недолговечной. Неподражаемая эмаль флорентинской бронзы огливала
разными оттенками. Цветные стекла церковных окон сияли
прозрачными красками. Все сверкало и говорило душе в этом
концерте шедевров, организованном двумя музыкантами, каждый из которых был и поэтом.
/
1 Первоклассные (по-итальянски).
...я видел Версаль, и это благое дело, ибо оя спас д в >
neu- но это пошлейшая и глупейшая штука из всего, мной
ш д ™
так это плохо в смысле искусства и мелочно в
смысле исполнения...
Но что прекрасно, так Тициан, и единственное, что
хорошо из живописи, это М и р о п о м а з а н и е Н а п о л е о н а
и К о р о н а ц и я Ж о з е ф и н ы , Б . л ^ г о с л о в е н и е о р л в,
Н а п о л е о н , м и л у ю щ и й а р а б о в Давида и Г е р е н а Л ^
"ой великий живописец Давид! Это колоссально. Я никогда
раньше не видел эти три картины.
Бальзак-Ганской,
20 октября 1837 г.
Lettres à l'Etrangère, 437.
ИСКУССТВО
XIX
ВЕКА
«•
Преимущества мебели восемнадцатого века над современной.
...Я купил для комнаты друзей кровать, якобы принадлежавшую г-же Помпадур; не знаю, чья она в действительности, но, уверяю вас, она великолепна; ее золотят заново. В
общем, салон особняка Бильбоке показался таким жалким
рядом с двумя резными вещами, разрисованными в стиле
Людовика XVI, что я купил целый салон резного дерева, в
смысле искусства непревзойденный; сомневаюсь, чтобы подобный нашелся в Париже. Резчики того времени резали с
натуральных живых цветов, ©то видно по расположению
и легкости резьбы.
Бальзак—Георгу Мниіиек, декабрь 1846
Oeuvres, XXIV, 554—555*
Р О М А Н Т И З М
j
лгодвиг тик
Гофман
и
Тик-самые
выдающиеся
писатели
современной
Германии-.
с удовольствием объявляем мы об этом издании, которого
так недоставало нашему литературному миру. Теперь мы
с м о ж Г ? полным знанием дела судить о двух блестящих го
перинках, поделивших по ту сторону Рейна п а р о в у ю .ветвь
^ Г у н а с до сих пор на доверни к авторам заметок и обзо^
Ъолее непосредственное знакомство и порожденная им
более^боснованная оценка не являются о
=
и — е м
в
•для етюго плодотворного, изящного и
коем мечтательная и метафизическая чувствительность сев ^ гармонично слилась с жижхпъю и свежестъю юиошх
Г у ^ г в . Чтение этого первого выпуска даст ему права гражХ е щ е н н ы й в йем исторический роман о Шекспире и ега
современниках представляет точную и живописную картину
в е к Г Ешсаветы. Вокруг великого Вильяма группируется множ^твоТбрадов, полных жизни и своеобразия. Мы особенно
« а е м внимание читателя на доктора Багггисга ;
З й профессией распознавание тех неуловимых черт и кошуо ^ которшш каждая человеческая голова напоминает другое,
л в ѵ н о ^
^Гчетвероногое существо; эта наука породит одну
Г ^ х
ш — X
И остроумных отраслей великого
АаН
^ ™ ^ Г п е р е в о д и т о писателя более психологического чем драматического, более замечательного тонкостью
S c o b колорита, чем силой кисти; в первых томах она раз~ у д Г о Р Надежды издателя не будут обмануты, и, как
И
говорит он в предисловии, французское гостеприимство встретит Людвига Тика не хуже, чем многих прославленных чужестранцев, пришедших, как и он, из благородной Тевтонии,
матери поэтов и мудрецов.
183
о
«Полное собрание сочинений
JI. Тика». Oeuvres, XXII,
205—206.
г
ГОФМАН
Гофман — поэт микрокосмической жизни. — Микроскопический метод Гофмана. — Гофман о музыке. — Недостатки Гофмана.
Прочтите то, что ваш дорогой Гофман-берлинец написал
о Глюке, Моцарте, Гайдне и Бетховене, и увидите, какими
тайными законами связаны литература, музыка и живопись I
Есть страницы, отмеченные гением, особенно те, что посвящены мастерству Крейслера. Но Гофман в качестве человека
опьяненного удовольствовался упоминанием об этом союзе,
его произведения исполнены восторга, он чувствовал слишком
горячо, он был слишком музыкант, чтобы спорить: у меня
перед ним то преимущество, что я француз и слишком мало
музыкант, я могу дать ключ от дворца, где он опьянялся!..
Предисловие к «Гамбара».
Oeuvres, XXII, 494.
...Я прочел Гофмана целиком; он ниже своей славы;
тут "есть кое-что, но не так уж много; он хорошо говорит
о музыке; ничего не понимаег в любви и в женщинах; страха
не вызывает ничуть, страх невозможно вызвать физическими
средствами... I X
Бальзак—Ганскій,
1
'ноябрь 1833
Ф Р А Н Ц У З С К И Й
Ужасы,
выдуманные
г.
« Н Е И С Т О В Ы Й
Lettres à l'Etrangère, 72.
Р О М А Н Т И З М »
и у ж а с ы действительной жизни. — Низкопробность
романтических эффектов.
Автор слишком хорошо осведомлен в законах повествования, чтобы не учитывать обязательств, какие это краткое предисловие накладывает на него; но он достаточно знаком с
.исторцей Тринадцати, чтобы не опасаться разочаровать чи-
тателя в тех ожиданиях, какие должна возбудить эта программа. Отталкивающие кровавые драмы, преисполненные
всяческих ужасов комедии, романы с отрубленными тайно
головами были ему поверены. Если тот или инои читатель.не
насытился ужасами, с некоторых пор хладнокровно преподнос и
публике, автор мог бы поведать ему о спокойно
совершенных жестокостях, о захватывающих семейных трагедиях, чуть только желание узнать о них было бы ему выраГно. Но он предпочел выбрать приключения наиболее
нежные, те, где сцены целомудренные чередуются с бурями
страсти где женщина сияет добродетелью и красотой. К
нести Тринадцати надо сказать, что приключения такого
рода встречаются в их истории, которую однажды сочтут,
быть может, справедливым сопоставить с историеи флибустьеров, этих особых существ, столь примечательных своей
энергией/столь привлекательных при всей своей преступности.
Писатель должен гнушаться превращать свои рассказ,
когда он повествует о действительно бывшем, в своего рода
„грушку с сюрпризами и, следуя манере некоторых романистов, на протяжении четырех томов водить читателя из подзш^іья в подземелье, чтобы показать ему какои-нибудь
E Ï Ï труп и в заключение сообщить, что постоянной
целью автора было пугать его потайными дверями, скрытыми
в обоях, или мертвецами, по недосмотру оставленными под
половицами.
Предисловие к «Истории три«
иадцати»«- Соч., VIII, 43—49.
*
Образчик ходовой литературы у ж а с о в . -
Окровавленная рубашка.
Г-н де Жантон, жена которого лежала в родах, взял ружье,
свистнул собаку и отправился на прогулку. Довольно неправдоподобно, чтобы муж покинул жену, когда она дарит ему
ребенка; но так как он дофинейский дворянин, то, возможно,
в этом поступке есть исторический колорит, который нам
даже не дано оценить. Критика может простить автору, эту
вольность, ибо за ней следуют несравненные красоты.
Очевидно, в то время, как жена рожает, муж настроен
меланхолически, ибо г-н Жантон, после нескольких часов раз-
думья, очутился во владениях своего соседа, некоего г-на де
Рошблава, с которым был не в ладах, как это часто случается
в деревне. Г-н де Рошблав выражает недовольство тем, что
г-н де Жантон охотится на его земле и прицеливается в его
собаку. Г-н Жантон целится в соседа и предупреждает,
что, если тот выстрелит, он последует его примеру. В одно
мгновенье собака и дворянин, душа за душу, тело за тело*
падают замертво. Вот сюжет. Г-жа де Рошблав, самая мстительная женщина века Людовика XIV, заказывает шкаф
(ибо шкафы сейчас модны в литературе) и запирает там
рубашку своего мужа. Великолепно задумано 1
Она хранит эту рубашку в продолжение восемнадцати
лет. Затем в годовщину смерти мужа она собирает двенадцать своих детей, которых имела счастье сохранить; она приглашает их к обеду и вместо десерта показывает рубашку
человека, давшего им жизнь: ужасное зрелищеI.. Шпаги обнажены, все бегут к Жантонам, сжигают их замок, убивают
тридцать Жантонов! Жантоны, прежде чем дать себя зарезать,
убивают одиннадцать Рошблавов!..
Критика позволит себе лишь одно замечание. Г-н Баржине
не проявил оригинальности, убив столько народу ради дворянина; было бы более логично, раз уж первопричиной этой
дофинейской И л и а д ы явилась собака, принести всех этих
драматических истуканов в жертву собаке, а не дворянину. В
подобном плане проявился бы более глубокий взгляд на судьбу
человеческую и собачью. Но это лишь незаметное пятно в
столь блестящем сочинении.—Мораль сей истории такова:
никогда не следует убивать собаку соседа; следовательно,
книга горячо заинтересует охотников, знатных вдов и вообще
всех, кто привязан к этому благородному животному, 'вечному образу верности. Нам приятно видеть, как молодые
таланты посвящают себя проповеди столь филантропических
доктрин. У книги этой нравственная цель: она стремится
внушить уважение к движимой собственности.
О к р о в а в л е н н а я р у б а ш к а достойна К р а с н о г о
к а м з о л а того же автора. ,Мы надеемся, что он не позабудет
об интереснейшей хронике П р о н з е н н ы й б а ш м а к или
Г о л у б а я к у р т к а . Мы долго будем вспоминать день, когда
славная старая крестьянка рассказала их нам, сидя под деревом
в прекрасной долине Грезиводана. Небо синело, воздух был
чист... Кругом бегало с полдюжины маленьких ш у ю в і з лох-
-
S
д
Z
A
а
T
я
S
—
ь
3
-
я
5
S
—
-
1
«
—
Ä
я
-
«
З
»
»
-
r
Я
.
v
Ц
s
x
5
b
.
M* Он наносит вшГ дружеский визит и прерывает ваше
дах. Он наносит вам ді г
продолжает нить
удовольствие, как гошритОдри ^ затем род
^
Г и ^ С Г и ^ Г к о ^ ы м
Вальтер Скотт грешил
В ^ 6 9 0 году протестантка спокойно
™Поразтедьное І произведение! С помощью старойсобаки,
старой рубавши и отарой женщины автор.сумел.так горячо заинтересовать нас! Мы в
Ж
Ä
Ä
б
"
т
а
ли у г-на Баржине врагов?..
«его Осмыслен?,.. Уж нет
^
^
,0
авленную
рубашку», соч. А. Баржине.
Oeuvres, XXII, 36-38.
Пародия
Г н С
Бальзака
на
«неистовых
романтиков»;
пользующийся сейчас в Париже той особойиз-
и оглашенные вырабатывают одновременно млечный сок и
остроумие.
Несмотря на хороший прием, встречающий поэтов, романистов и драматургов, восходящих на литературном горизонте, только небольшому числу авторов дано знать сокровенные мысли патрона.
Г-н С.—человек лет сорока, невысокого роста, сухощавый, у него черные волосы, нависшие брови, смуглая кожа,,
запавшие глаза, окаймленные бурыми кругами и легкими морщинками. Он говорит мало, но его замечания всегда выдают
глубокое знание литературы. Он постигает главную идею шедевра с талантом законченного критика. Он разборчив. Он
чувствует поэзию в человеке, который боготворит ее; и так
как он кичится умением открывать красоты в произведениях,
отвергнутых публикой, то лучший способ для автора получить
его одобрение—это провал. Но тонкое чутье, которым одарен г-н С., становится, если послушать его близких, источником вечного несчастья, ибо поэзия, о которой он грезит,
кажется ему совершенной, великой и сильной только в собственных замыслах. Поговорите с ним о К у р и л ь щ и к е
опиума, И с п а н с к и х с к а з к а х , М е л ь м о т е , Смарре, Г я у р е , С н о в и д е н и и Ж а н П о л я , Х о р о в о д е
в е д ь м и т. д. 01 тут он взволнуется, воодушевится, найдет
для своих идей выражения, которые захватывают и даже, как
говорят, заставляют признать его главой того могучего поколения, что держит в своих руках славу девятнадцатого века!
Один из моих друзей поручился за меня головой, и я
был введен в этот священный дом; пообедав там несколькораз, прочитав некоторые отрывки, которыми рассчитывал
произвести впечатление, я достиг неоценимого счастья понравиться хозяину и войти в разряд тех, перед кем открывал он
свою душу. Эта дружба не лишена была приятности, ибо великодушный наш амфитрион милостиво помогал литераторам,
чьи сочинения заслужили его одобрение, и никогда не спрашивал ссужаемых денег...
Я достиг такой степени благоволения, что г-н С. не
скрывал от меня своих мнений. Когда я прочел ему новую оду
Виктора Гюго, он сказал, пожимая плечами:
— Это слишком ясно, слишком растолковано; он ничего не оставляет догадке !..
Если я декламировал ему одну из Г а р м о н и й г-на
Ламартина:
— Прекрасные аккорды!.. В этой лире только одна струна... Поэт перепевает будущее!.. Но порой встречаются прекрасные облака!..
„
Все эти сентенции выдавали ум столь презрительный, что
я и не сомневался, что он владеет великой тайной поэзии.
— Шатобриан?..—сказал я ему как-то вечером, чтобы посмотреть, есть ли для него что-нибудь священное.
Он слегка надулся и ответил:
— Ни одной новой ситуации!.. Только стиль!.. Работа
краснодеревщика!..
— А господин Кузен?..
— О! прекрасно! возвышенно! чудесно! В этом человеке
десять апокалипсисов!..
В тот вечер, когда я прочел ему известную свою фантастическую сказку Ш а г р е н е в а я к о ж а , он предложил купить ее у меня за тысячу экю с условием, что издаст ее в
двадцати экземплярах. Я согласился. Он благодарил меня за
этот акт снисхождения, как за милость, и тут же завершил
мое приобщение, предложив мне присутствовать на чтении,
которое устраивает около полуночи, когда не будет никого,
кроме ближайших друзей... Я принял приглашение.
Молодой автор, которому я обязан был доступом в дом,
подошел ко мне и сказал с таинственным видом:
— Осторожность, и подражайте нам...
Я не нуждался в этом совете. Я начинал видеть, что
г-н С одержим какой-то манией и что друзья мои ее уважали
не то из сочувствия, не то из корысти. Мы расположились,
на креслах, на диванах; и, в позах морских львов, вдыхающих на берегу свежий воздух, мы развесили уши, глядя на
высшего поэта, который покашливал, разворачивая лист бумаги.. Он прочел тягучим и низким голосом следующую
пьесу. Ниже издатель, типографским способом, попытался воспроизвести паузы, вздохи и взгляды, которыми г-н С. отделял,
дробил, фрагментировал фразы этого произведения:
«Сначала неясные звуки..., слабые, низкие, звонкие, яркие,
мрачные;—смутная гармония—подобная звону колоколов, раздавшемуся над деревней, весенним утром, в воскресенье сквозь
юную листву, под голубым небом;—затем белые фигуры, пре-
красные волосы, цветы,—простодушный смех,—игры без дум,
без устали;...—глиняные замки на берегах источника;—белые, зеленые, желтые, красные камешки, собранные в воде;—
вода!—дрожащая на обнаженных ногах.—Без причин, слезы
омочили блестящие глаза...
Смерть встает, стуча белеющими костьми, ее орбиты без
глаз, зубы без губ, и свет проходит сквозь черные ее бока...
Она уносит мать, бабушку, кормилицу,—славного фермера.
Одежды черны, все кончено...—Маргаритки цветут на могилах.
— Боже! прелестные цветы!..—Она меня любит, немного, сильно, страстно!..
Вот мысли человека.—Сирота...—книги, занятия!—Познавать: прошлое, настоящее, законы, религию, добро, зло. У
человека тридцать два позвонка.—Лилия принадлежит к семейству лилейных. Был потоп.—Есть ли ад?.. Женщина кажется прекрасной, как желание, юной, как свежий, нераскрытый цветок—Маленькая ножка—Поднимается великая буря
сердца.—Появляется старец—Убейте его!—Он мертв—Его
труп—изголовье любовников.—Жизнь течет, как расплавленное железо—Они постигли друг друга для преступления,
они уж не постигают себя для добра...—Порок соединяет, но
он разлучает.—Поднимается огромный бледный призрак:—
Неверие!
,
— Боже! это мо...
И призрак садится на запыленные тома, на груды золота,
которое ему не нужно—Концерт продолжается.—Он кружит
голову.—Время течет, как льды, растопленные солнцем.
Однажды пламенеющая Смерть является с мечом в руке.—
Был поединок.—Ее голос звучит в ушах, как шум, раздавшийся
во мраке ночи—И тут ее можно понять: она объясняет поля
и толкует восход солнца;—она советует брак—Корысть приходит, ведя за собой обманутые надежды и действительные
горести—Честолюбие является, как разносчик, разложивший'
ленты, наряды, кружева, шарфы.—Товары его для всех;—
но только ему нужны деньги.—И нет, Анри на решетке,
он живет на раскаленных углях—То поворачивается он на
левый бок, то на правый бок! Это уж не концерт!.. Эщ
схватка, бой, битва,—пушечные залпы оглушительны.
— Нужно итти!... Нужно погибнуть!
— Зачем?..
— Марш!—Вперед!
Нога болит—Боль поднимается от головы к ногам. Она
терзает труп, пока Смерть не возьмет его.—Арлекин забавляет
вас погремушками: это начатые замки,—большие замки из
тесанного камня...—починить фермы...—переводы для Биржи...—
дева из Оперы...—Классические фарсы! движение и шум.
Вдруг, во мраке, маленький огонек, растущий незаметно.
— Анри! Анри!—кричит голос оттуда.
— Это подруга горит нетерпением остаться одной на
свидании... все, что .было темно, становится ясным, что было
ясно—темно.—Является старый священник, произносит три
слова... Будущее мерцает, и вот скачет великолепный конь:
он насторожил уши!.. Старуха, холодная, черная, хочет обнять
вас; но она вас кусает.—Все сказано...
«Куда иду я?., где я?.. В сиянии иль во мраке?.. Прощайте, дети мои!.. Будьте едины!.. Я бодрствую над вами».
Ах, так!.. Назавтра они спорят над гробом и разыгрывают в кости лучшее ваши кресло, ибо хотят владеть всем...
— Вот—немало для щепотки грязи, затерянной меж двух
молчаний».
Когда чтение окончилось, пронесся глубокий вздох. Потом
каждый из нас, очнувшись от оцепенения, в которое, казалось,
погрузился, произнес свою хвалу с выражением, жестом,
физиономией, свойственными его характеру. То были восклицания сборища христиан в церкви, в момент экстаза.
— Это библия!..
— Это развернутое полотно!..
— Это пирамида, испещренная иероглифами!..
— Это великолепно и мрачно, как зимняя ночь!
— Это поэзия, к несчастью, доступная лишь десяти человекам в стране!..
— Это монумент! это вечная статуя!..
— Это энциклопедия!..
— Это весь мир!..
— Это эпопея!...
— Это резная башня из слоновой кости!..
— Это сверкающая чеканная светильня!..
— Это весь Платон в одной красочной странице!..
— Это Гомер, Данте, Мильтон, Ариосто, выраженные
средневековой виньеткой!..
— Это апокалипсис!..
— 01 Это святой Иоанн на Патмосе!..
— Это подобно приему опиума, что открывает мир и
погружает его в сновидение!
— Это концентрическое зеркало, отразившее природу!..
— Это летопись рода людского!..
— Это поэма!..
— Это наша биография в стереотипе!..
— Это флореіггинская черць!..
— Это окна собора!..
— Это книга!..
— Сколько слові. Полно слов!
Затем голоса смешались в неясный гул, и я услышал как
бы оперный хор, из которого вырывались только отдельные
самые громкие звуки:
—
Психологично,—всемирно,—политехнично,—патологичн о — типично,— лично,— нично,— занятно,- божественно!—
честью!., оглушительно !—хит ите л ьно !—ательно I.. поэтично,—
библейски !..—Байрон!..—Что Байрон?..-Скотт,-крот,-быль,
тон,—сон,—Цшокке!..
Л
Патрон захотел что-то сказать, все умолкли, и тогда он
скромно произнес:
•
— Нет это хорошо, это просто хорошо!.. А вы что скажет е?..—воскликнул он, заметив, что я не промолвил ни слова,
потрясенный ловкостью, с какой мои друзья п л я с а л и на канате.
— Это костер!..—ответил я;—костер поэзии, философии,
психологии, фантасмагории, филантропии, амфибологии-добавил, кусая язык.
Но, к счастью, он отвернулся.
Хозяин кивнул, и пунш полился рекой.
1 6 3 0
г
'
«Романтические
обедни».
Oeuvres, XXI, 493-498.
Сатирическое изображение романтического с а л о н а ;
Не легкое испытание для гризетки-надеть первую кашемировую шаль; проситель, впервые приглашенный к ст™У мишстра, будет в величайшем замешательстве, если только он
не слуга или обжора; одно из жесточайших страданий, какое
может вынести общественный человек,—это представление семейству своей суженой. Исчисление неловкостей, возможных
в этих трех случаях жизни, утомило бы изобретательного
Шарля Дюпена; все же можно надеяться избежать их, хотя
бы потому, что ни одна светская женщина не была гризеткой и
никто не обязан, несмотря на примеры, быть просителем или
жениться. Но несчастье, которого мужчіша из хорошего оощсства или женщина, следующая моде, избежать не могут,
это посещение салонного чтения. Берегитесь, тут вы вступаете на почву, где спотыкаются и самые ловкие. Вы искуснейший танцор Парижа, искуснейший всадник Булонского
леса, скромнейший сотрапезник, всеми любимый собеседшік,—
берегитесь! И вы, чья небрежная грация так хороша в глубине коляски, вы, чей салон—образец хороших приемов»
вы, имеющая терпение выслушивать глупца, внимательная к
таланту, насмешливая в любовном разговоре, холодная с
человеком, волнующим вас, достаточно умная для того, чтобы
все переживать, берегитесь, если вас приглашают на какойнибудь литературный вечер! бойтесь, если речь идет о прозе;
если же это стихи, трепещите!
В основном каждый человек, знающий, что у таікой-то женщины не нужно спрашивать о ее муже, знающий, что есть
банкиры, при которых не говорят о банкротстве; человек»
который, рассказывая анекдот, касающийся ныне здравствующей красавицы, постарается не сказать: «Лет двадцать назад»;
тот, кто догадается поговорить с уродливой женщиной о
неизъяснимом очаровании ее личности; игрок, умеющий
ссужать деньги и забывать их в кармане должника; фат, который клянется, что неспособен призиаться, чей он любовник;
робкий, молчаливый провинциал; злоречивый рассказчик, повествующий об ужасных поступках своих друзей лишь пяти
лицам сразу—все эти люди отлично могут жить в обычном
течении светской жизни и даже создать себе репутацию порядочности и достойного поведения.
Но как ничтожна и недостаточна становится эта малая
наука, если вы приближаетесь к литературному салону, поэтическому миру, золотому кругу, где Часы летят по вэле Муз.
Да простит мне бог, но я думаю, что придворный монарха
там показался бы мужланом. Жить жизнью литераторов,
посещающих наши сборища, это непостижимое искусство»
работа галерника, исполняемая с улыбкой на губах, муки и
пытки с пением хвалы богу.
Сколько нужно сделать наблюдений, подметить оттенков,
обогнуть подводных камней, и не для того, чтобы не показаться смешным, а чтобы оградить себя от проклятия генияI
Ибо необходимо проникнуться мыслью, что здесь речь идет
не о насмешке, наказывающей неловкость, не о всеобщем
молчании, подчеркивающем нарушение приличий, нет, вся
жизнь зависит от одного жеста, от одного слова, и смертельная
ненависть будет карой за оплошность или холодность.
Прежде всего вы входите в салон, где в общем шуме
беседуют мужчины с высокими лбами и женщины, которые
кажутся забытыми на земле ангелами. Не обижайтесь, если
ваше приветствие не будет замечено. Почитайте себя счастливым, если не натворили уже трех глупостей: первую—представившись хозяйке дома, следящей за порядком чтения; вторую—
поздоровавшись с женой знакомого, которая устремила на вас
неподвижный взор, а вы при этом не сообразили, что она думает, мечтает или размышляет; и третью—ответив «А? Что?»
рассеянному поэту, который повторял свои стихи, шепча их
вам на ухо.
Садитесь, кружок образовался. Теперь из всех поз поскорее изберите наиболее для вас подходящую, ибо о том,
чтобы сесть просто, без затей, нечего и думать. Вот господин оперся локтями на колени и закрыл лицо руками, боясь,
как бы случайный взгляд или заметный предмет не нарушил
глубдкого внимания к обещанному произведению; другой
опустился в уютное кресло, полузакрыв глаза, готовый отдаться убаюкивающей сладостной гармонии волшебных стихов; красавица с высоким лбом и нетерпеливым взглядом
устремила орлиный взор на поэтические уста, так хорошо говорящие о любви; молодой адепт, склонив голову, опустив
глаза ІИІ слегка согнувшись, изящно модулированными покачиваниями сопровождает ритм и действие поэмы; совсем еще
юный поклонник прячется позади всех, чтобы иметь право,
поднявшись на носках, опереться о плечо соседа и показать
только кончик своего носа, на котором написан весь пыл
его внимания; друг поместился подле чтеца и жестом призывает к молчанию; соперник прислонился спиной к камину,
Ц щеголяет своим поражением; этот забился в угол, чтобы во-
образитъ себе пение отдаленного голоса; тот, более смелый
или порой возвышенный, оставшись без стула и позабывшись в
середине круга, в конце концов садится на пол, как лакедемонянин; все эти люди знают свой мир. Но вы, еще незрелый
в поэзии, хотя и считаете себя человеком опытным, вы не
станете покушаться на эти превосходные позиции, а если
увидите плотную и неопределенную группу или пустой стул,
скрытый широкополой шляпой какого-нибудь синего чулка,
спрячьте там свою неопытность.
Слушайте, слушайте, чтение начинается. Молчание пустыни, неподвижность ее пирамид встречают первый стих элегии,
оды, размышления или дифирамба.
«Хотел бы знать я, что есть женщина...»
— Простите, простите,—прерывает молодая полная особа,
надушенным платком заглушающая жестокий кашель, коему
суждено пресечь ее дни,—название, сударь, название?
— Да, да, название?—повторяет общество.
И молчание воцаряется снова после легкого ропота, как
ночь после сумерек.
«И возвращаясь легним вечером...
В девять часов... в девять часов с половиной... в день
Воскресенья».
— Удачная манера письмаI—Тут есть изящество!—Новизна!—Я понял.—Я слушаю.—Да, да.
Начинается элегия и вместе с ней сражение, ибо идет бой
между декламирующим поэтом и восхваляющим слушателем.
Стоит одному произнести двустишие, как второй бросает:
«Прекрасно! О! О!..» А восхищенная улыбка близкого друга,
который знает наизусть читаемую поэму и предвидит волнующий стих; за пять минут кроткая радость начинает проступать
на его лице, она разливается с каждым двустишием, растет,
сияет и с долгожданным стихом разражается в восклицаниях:
«Ах! браво! восхитительно!—Какое очарование!—Это поэтическая удача! Шаг вперед!—Открытие!—Тш!.. пусть продолжает.—Он сам и его потрясающие стихи виноваты в этих
перерывах!—Да замолчите же!..»
Первые перерывы исходят обычно от наименее искусной
группы хвалителей. Пусть продолжится чтение, пусть восстановится глубокое молчание, в котором звучит хрупкий и
нежный голос поэта. Вот слушатель,—полуоткрытый рот и
вытянутая шея свидетельствуют о крайнем восхищении; у
другого вырываются вполголоса неясные слова радости и
удовлетворения; взор этой женщины так блуждает, что можно
усомниться: в ,ее рассудке; спинка стула, занятого другом,
трещит от судорог охватившего его восторга; самый бесстрашный испускает по временам идиотский смех человека, пораженного и испуганного высшими тайнами, к которым он приобщился; этот вытаскивает платок и словно стыдится невольных слез; более стоический борется с волнением и закаляет
свою душу против власти поэта; другой не принадлежит
больше земле; иные задыхаются; но вот, наконец, какой-нибудь
стих вызывает извержение восторженного вулкана. Внезапно
пылающая лава выходит из берегов, и душа слушателя, так
долго принуждавшего себя, изливается в. криках, кашле, рукоплесканиях, топоте, восторженных «ах!» и «о!» всех тонов; и
так до тех пор, пока близкий друг не успокаивает публику
жестом, обещающим еще лучшее, и поэт, оправившись от смущения, вызванного таким триумфом, отважно возобновляет
течение начатых строк.
Жалкий слушатель, впервые допущенный к этой социальной мистерии, как вы будете вести себя? рукоплескать?
кричать «браво»? Дерзкий критик! вы пропали, если произнесете такое оскорбление. У вас есть только один способ приветствия: изобразить то задыхающееся молчание, что останавливает похвалу в горле, так как хочется сказать слишком
много; если же вы представлены завсегдатаем, у вас есть еще
возможность подойти к нему со слезами признательности на
глазах и горячо пожать ему руку, говоря:
— Спасибо, друг мой, спасибо!..
Это тонко, это заметно и не лишено изящества.
Отметим, однако, что мы дошли только до мимики восхищения, а разговорные формулы гогозятся мастерами, как заключительная вспышка фейерверка. Прежде чем г.ерейти к
этому ужасному взрыву страстных чувств, я еще должен
поговорить с вами о перерывах драматических.
Я знавал молодого избранника, который, будучи одержим
владевшим им семейным гением, вцепился в рукав одной из
прекрасных соседок и в припадке энтузиазма 'вырвал из него
целый лоскут; другой раз, повиснув на занавесе, он бесконечно
топал ногами от восхищения, пока, ослабев от переживаний,
не увлек за собой и железный прут, и золоченый карниз,
и красный шелк, и белый муслин, поглотив заодно какую-то
внимательную красавицу и любителя гротесков, причем не
то набил им шишки на лбу и выколол глаза, не то выбил
три зуба.
Случается—в один из тех зловещих моментов, когда
лучшие умы оказываются ниже своего назначения,—что слишком молчаливое внимание кружка начинает походить на скуку,
но нет поэта с сильной грудью, с сердцем, исполненным меда
Hли желчи, у которого не было бы помощника, готового
воодушевить собрание. Если нужно, он бросается из оконной
ниши через стулья, через кресла и, остановившись посреди
кружка, топает ногами, беснуется, произносит бессвязные
слова, пока, овладев волнением, не поспешит укрыться в
своей нише, где восторг его еще бурлит некоторое время,
как затухающий пожар.
Однако тем временем чтение продолжается, и начинают
появляться прерывающие его .слова. К какому жанру, к какой
эпохе относится опьяняющее вас стихотворение? Быть может,
девушки Гренады, серенады, променады рассказывают вам
о тайниках Альгамбры, об усладе апельсиновых лесов.
О! здесь нечто мавританское!—говорит тот.
— О! это Африка!—восклицает этот.
— И вместе с тем Испания!—прибавляет другой.
— В этом стихе чувствуются минареты!
— Это подлинная Гренада!
— Это подлинный Восток! ,
Даю святое честное слово, при мне об Африке и Испании
было сказано: «Это подлинный Восток!»
Если же случится, что суровое средневековье, его ступени
и пени, его жилища и кладбища, его трубадуры и амбразуры
наполнят ваш слух рыцарскими рассказами: стрельчатая а р к а архитектурная розетка—пилястр—камень, превращенный в
кружево,—все это у колористов-поэтов превращается в восторженные эпитеты.
— Эти стихи изящны, как колонна Парфенона.
— Эта элегия подобна статуе из паросского мрамора,
найденной на берегу источника.
— Это шествие, завершающееся жертвоприношением.
— Это амфора, добравшая мед Гиметской горы.
Такие слова—для греческой поэзии; она не совсем в моде,
но все же обладает довольно обширным хвалебным словарем.
н о пока мы исступленно слушаем, часы бегут, и вот-вот
зазвучат последние строфы; тут местный колорит исчезает и
возбуждение доходит до такой степени душевного расстройства, что отдельных замысловатых высказываний становится
недостаточно, нужно найти нечто, завершающее всеобщую
хвалу в крике или в образе.
Поэт умолк... Общество поднимается... Что это? Где элегантные сдержанные нравы парижских салонов? Куда девалась вежливость мужчин, выдержка женщин? Все внезапно
смешалось; слушатели бросаются к чтецу, и протяжный крик
восторга, слитый с рукоплесканиями и бешеным топотом
заполняет пораженный слух; а затем в общем бурном ропот^
вспыхивают как молнии во время грозы: «ВосхитительноIЧудесноІ-Огромно!—Непостижимо!» В один из вечеров я
ловко подготовил: «Сногсшибательно/» Словечко было принято, но я свергнул его другим: «Оглушительно h-ono
было
лучше пущено и больше понравилось.
Что же до вас, несчастные, к кому я обращаюсь, имейте в
виду, что чудесно и огромно-это наименьшее, чем вы обязаны элегии из пятнадцати стихов или оде из трех строф; если
же речь идет о драме: «Это возрожденный век!-Эго7стория
в действии!—Это исполин, изображенный во весь рост!—Это
встает прошлое!-Это открывается будущее!-Это мир!-Это
вселенная!—Это бог!»
А теперь вы, кого мы поучаем поведению человека из хорошего общества, можете считать себя слегка понаторевшим в
поэтической науке. Мы рассказали вам, как нужно представиться и вести себя в литературном салоне; но не надейтесь
на что-нибудь иное, чем роль заурядною слушателя, который
в лучшем случае никому не будет досаждать. Будьте осмотрительны, то есть, если вы не обладаете .талантом видеть, понимать, судить и действовать в течение пяти минут, придерживайтесь указанных нами слов.
^
Есть еще один способ, принадлежащий лишь высшим
умам: неистовое восхваление под видом критики; для этого
нужны такт и тонкость, приобретаемые только опытом; дерзость и сила исполнения, которыми природа наделяет лишь
своих любимчиков.
Главное,—последнее предупреждение, без которого все
остальные бесполезны,—ради вас самих, ради вашей семьи,
ради вашего и ее будущего, никогда не входите во время
чтенья. На коленях мы даем вам этот совет. Несчастный молодой человек, несчастная женщина, вы прервали чтение 1 Молодой человек, никогда не просите руки прекрасной девушки;
тридцать восемь анонимных писем откроют безумства дней
вашей юности, ваши долги и первые любовные увлечения.
Составьте политическое завещание, если хотите стать начальником канцелярии, депутатом или префектом. А вы, злосчастная женщина, не смотрите на этого красивого воина, ни на
изящного чиновника, ни на любезного судью: все они ваши
любовники, если верить тысяче поэтических уст.
В общем, мы можем предложить лишь три вещи неудачнику, прервавшему чтение:
Молитву,—Могилу,—И слова Requiescat in расе 1 .
«О литературных салонах й
хвалебных словах». Oeuvres,
XXII, 189—196.
•»
Портрет адепта «неистовой романтики». ( Г - ж а де Баржетон — покровительница молодого талантливого поэта Люсьена де Рюбанпре, героя У т р а ч е н н ы х
иллюзий.)
...Г-жа де Баржетон бралась за лиру по поводу всякого
пустяка, не отличая поэзии личной от поэзии для общества.
Существуют непонятные ощущения, которые нужно хранить
про себя. Конечно, закат солнца—это величественная поэма,
но не смешна ли женщина, высокопарно описывающая его
перед материалистами? Бывают такие наслаждения, которые можно изведать только вдвоем, они передаются от поэта
к поэту, от сердца к сердцу. У нее была слабость употреблять пышные, начиненные выспренними оборотами
фразы, так остроумно прозванные «тартинками» на газетном
языке; каждое утро газеты угощают подписчиков такими
неудобоваримыми тартинками, а те их все же проглатывают.
Она не в меру пользовалась превосходной степенью, отяже1
Да почиет в мире (по-латыни).
лявшей ее речь, и мельчайшие обстоятельства принимали
в ее изображении гигантские пропорции. Она издавна начала всё «типизировать», «индивидуализировать», «синтезировать», «драматизировать», «сублимировать», «анализировать»,
«поэтизировать», «прозаизирозать», «колоссифицирозать», «ангелизировать», «неологизировать» и «стратифицировать», ибо
нельзя не прибегнуть на минуту к насилию над языком, характеризуя новомодные вычуры, к которым склонны некототорые дамы. Мысль ее воспламенялась, впрочем, так же как
и речь. Дифирамб у нее был и в душе и на устах, она трепетала, млела, приходила в восторг по всякому поводу: из-за
преданности сиделки и из-за казии братьев Фоше; из-за
И пси бои г-на д'Арленкура и А н о к о н д ы Льюиса; изза бегства Лавалетта и в той же мере из-за приключения
с одною своей приятельницей, которая криком обратила в
бегство воров. Для нее все было возвышенно, необычайна
странно, божественно, изумительно. Она оживлялась, гневалась, никла обессиленная, порывалась вперед, отшатывалась, взирала на небо и на землю, глаза ее наполнялись
слезами. Она расходовала свою жизнь на вечные восторги и
изнуряла себя странными антипатиями. Она входила в положение янинского паши, готова была бы с ним вместе
драться в его серале и видела нечто возвышенное в участи
женщины, зашитой в мешок и брошенной в море. Завидовала леди Эстер Стенхоп, этому синему чулку, попавшему
в пустыню. Мечтала о том, чтобы стать сестрою ордена
св. Камиллы, ухаживать в Барселоне за больными и умереть
от желтой лихорадки: вот это великий, благородный жребий!
Короче, жаждала всего, что могло бы замутить чистый
поток ее жизни. Боготворила лорда Байрона, Жан Жака
Руссо, все поэтические и драматические судьбы. Проливала
слезы над всеми бедствиями и торжествовала по поводу
всех побед. Сочувствовала побежденному Наполеону, сочувствовала Магомету-Али, истребляющему египетских тиранов.
Окружала гениальных людей ореолом и думала, что они
питаются ароматами и светом.
«Утраченные иллюзии»,
изд.
«Academia», 1937, 52—54.
ГЮГО «ЭРНАІШ»
В а ж н о с т ь Э р н а н и для оценки романтической школы. — Историческая
и психологическая неестественность обрисовки характера К а р л а V . — Неправдоподобность ситуаций драмы. — Эриани — «молодой человек девятнадцатого в е к а , доктринер». — Х о д у л ь н о с т ь романтической «яркой индивидуальности». — Г ю г о и В и н ь и . — Повторение — недостаток
трагедии
классицизма в пьесе. — Сила диалогов у Корнеля и бессодержательность
их у Г ю г о . — Плоскость идейного содержания Э р н а н и. — Подражательность пьесы. — Плохой язык ее.
Если бы Виктор Гюго не был, возможно против своей
воли, главой новой школы, мы не нарушили бы ради этой
пьесы принятый нами закон—судить о литературном произведении кратко; но его имя—это знамя, его работа—выражение доктрины, а сам он державный властелин. Итак, тщательно обсудить эту драму тем более полезно, что, если
автор находится на ложном пути, многие за ним последуют,
и все мы при этом потеряем, мы—несомненно, шедевры,
а он—будущность.
Вое журналы поместили у себя разбор Э р и а н и , поэтому
мы уклонимся здесь от рассмотрения сюжета. Наша критика,
вопреки принятому в этом журнале обычаю, будет обращена,
так сказать, только к автору и лицам, досконально ознакомившимся с пьесой. Мы последовательно рассмотрим поведение каждого персонажа, затем всю драму в общем и ее
цель; наконец, мы выясним, является ли это произведение
новым шагом в драматическом искусстве, и если так, то в
каком направлении.
Так как Карл V (Дои Карлос)—очевидно, наиболее
значительная роль в пьесе, то свою статью мы и посвятим
анализу этого персонажа.
Первый акт. Дои Карлос внезапно входит в комнату
доньи Соль. Дуэнья поджидает там Эриани. Почему принц
поспешил спрятаться в шкаф1? Не затем ли, чтобы высле1 Объяснить
существование шкафа у доньи Соль было бы
трудно даже самому опытному антиквару. "Нынешнее применение
этой мебели было тогда совершенно неизвестно. Шкаф (une armoire)
служил для хранения оружия (des armes), как указывает самая
этимология слова. Достаточно зайти не надолго к г-ну дю Соммерар, тщанию которого мы обязаны сохранением драгоценнейшей
мебели эпохи Ренессанса, чтобы убедиться, что во всех странах
в те времена у дам были только сундуки и шкатулки.—Прим. авт.
дить Эрнани? Но Дон Карлос давно уже бродит вокруг
дома; ему известно все; он знает все, кроме имени Эрнани,
которое старуха неосторожно произнесла, но которого не
услышал король. Это первый из акустических феноменов,
встречающихся в пьесе. Почему старая дуэнья не позвала
на помощь, когда этот неизвестный ей кавалер так глупо позволил запереть себя в шкафу? Человек угрожал ей. Он
объявляет о враждебных намерениях. Он отдается во власть
дуэньи, а она только и говорит: «Что, если закричать?..»
И это дуэнья, испанская дуэнья 1 Появляется донья Соль,
а вскоре за ней Эрнани.—Они разговаривают, но шкаф
устроен так, что король ничего не слышит... Виктор Гюго
оказался ниже самого себя: не поджег ли он в Г а н с е
И с л а н д ц е пучком соломы гранитную тюрьму?—как! предусмотрительный Дон Карлос не узнал прежде, чем войти
в шкаф, сможет ли он по крайней мере подслушивать, раз
уж пришел шпионить?.. Наконец, он король, в его распоряжении преданные слуги, он знает, что возлюбленный
часто навещает донью Соль, и не придумал ничего лучшего
для своей цели, чем спрятаться там!..
Пойдем дальше. Король выходит из шкафа, потому что
задыхается; нетрудно было предвидеть это: человек, который не может судить о толщине шкафа, должно быть,
неспособен измерить и его глубину. Является дон Рюи.
'Дон Карлос позволяет ему довольно долго предаваться
нравоучениям и гневу, хотя одним словом может привести
его к молчанию; и слово это: Я король! Он произносит
его лишь тогда, когда это нужно автору, чтобы положить
конец балладе дона Рюи. Заметим здесь, раз навсегда, что
Дон Карлос страдает подлинной мономанией в отношении
слова король и дальше повторяет его так часто, что слово
становится смешным.
Этот столь хитроумный повелитель советуется о своих
делах при незнакомце (Эрнани); правда, он узнает час свидания, назначенного доньей Соль Эрнани на следующий
день. Странные любовники! поверяя друг другу такие тайны,
они говорят достаточно громко, чтобы их враг все услышал! Странное противоречие: Дон Карлос не слышит ничего в своем шкафу, когда любовники кричат, и слышит
все, когда они шепчутся!.. Уши короля построены по за-
конам совершенно особой акустики: уж не оглохнут ли они
ad libitum 1 ?
Второй акт. Карл V ждет под окном доньи Соль часа
свидания. Его сопровождают три сеньора, которым поручено
следить поблизости за действиями другого;
но эти несчастные глупцы не слишком преданы, ибо дают окружить
своего повелителя, в центре Сарагоссы, шестидесяти людям
из банды Эрнани.
,
Перед этим театральным эффектом, обосновать который
попытался бы последний сочинитель мелодрам, Дону Карлосу
удается завлечь донью Соль на улицу. Допустим, что женщина, которая имеет двух поклонников и накануне стала
жертвой коварства, может выйти, как она, по первому зову.
Возможно, это правда, но это ничуть не правдоподобно.
Слова короля, обращенные к донье Соль,—грех, недостойный прощения. И притом донья Соль на коленях посреди улицы перед принцем!.. Виктор Гюго почти убедил
нас в необходимости классических портиков; и, наконец,
с вечера лил дождь ручьем!.. Он позаботился сообщить об
этом зрителям.
Наконец, Эрнани перед лицом короля. Эрнани живет
и дышит лишь затем, чтобы вонзить свой нож ему в сердце.
Дон Карлос хотел взять силой его возлюбленную; Эрнани
знает об этом, за Эрнани стоят шестьдесят человек, а он
вступает в длинные пререкания со своим соперником. Он
хочет сразить его на дуэли, в то время как король предпочитает быть убитым.
Оба принимаются географически выяснять, существует ли
часть света, где могущество короля не угрожало бы
Эрнани. Виктор Гюго, быть может, прав. Разве не
видели мы, как Мулен и Гойе отмечали булавками статьи
конституции, которые Бонапарт уничтожил 18 брюмера!
Враги Виктора Гюго совершают преступление, терзая человека, так мало понимающего чувство ненависти. Эта сцена
подобна современному диспуту: Эрнани дискуссирует, вместо
того чтобы убить своего противника, так же, как наши
поэты пишут пространные предисловия, вместо того чтобы
поражать врагов шедеврами.
1
По своему усмотрению (по-латыни).
Третий акт. Дои Карлос требует выдачи Эрнани,
ставшего гостем дона Рюи. Король видит почти так же,
как слышит; действительно, в первой части сцены донья
Соль сидит в кресле, опустив вуаль; и вуали достаточно,
чтобы король не узнал свою возлюбленную. Кажется, Виктор
Гюго понимает любовь так же хорошо, как и ненависть.
Желания Дона Карлоса весьма переменчивы. Он знает, что
Эриани в замке; он грозит герцогу сравнять с землей его
горделивое жилище; он так стремится захватить Эрнани,
что требует либо мятежника, либо голозу старца; но как
только он увидел донью Соль, он начинает торговаться
о девушке, старшее и мятежнике с достоинством, не имеющим
примеров в театре. Он может осадить замок, захватить
Эрнани, старика, доныо Соль... Довольно! он хочет закончить дело полюбовно и продает спокойствие Испании за
удовольствие получить в заложницы донью Соль. Великий
политик, правящий Европой, показан тут во весь рост. Этуі
сцену не поняли; Карл V всю жизнь торговал королевствами:
здесь, конечно, символ.
Четвертый
акт. Король в Германии. Его избирают
императором. Люди, одобряющие это произведение, утверждают, что именно тут сосредоточена великая мысль Виктора
Гюго и что этот акт являет великолепный контраст между,
легкомысленным Дон Карлосом (трудно придумать более
точный эпитет), который был всего лишь королем, и Карлом V—императором. Нам кажется, все время действует
один и тот же человек, только в первом акте он прятался
в шкафу, а в четвертом—в гробнице Карла Великого.
Драма развивается от затменъя к затменыо. Трудно было
бы доказать, что дверь гробницы Карла Великого вращалась на своих стержнях достаточно свободно, чтобы подчиняться желаниям автора.
Пустяки!.. Все же печальная участь родиться в девятнадцатом веке, чтобы придумать гробницу Нинуса. Дои
Карлос мирно дожидается в своем тайнике, пока три пушечных выстрела возвестят об его избрании; но, о чудо! человек,
не слыхавший имя Эрнани, произнесенное перед его носом,
ничего не слыхавший в шкафу, настолько свободно слышит
сквозь стены или мраморные плиты гробницы Карла Вели-,
кого, что не пропускает ни слова из речей, вполголоса про-
нанесенных заговорщиками в обширном подземелье. Нужно
надеяться, что Академия наук подарит нам когда-нибудь
замечательные записки о слухе Карла V.
Так как заговорщики в известной степени способствуют
пониманию роли Дона Карлоса, мы разберем здесь сцену
заговора. Волей автора смерть императора замышляют люди,
у которых можно предполагать некоторую осторожность.
Обычно первая забота заговорщиков—принять строжайшие
меры, обеспечивающие безопасность их свидания. У нихготь
часовые, шпионы. Избиратель от Трира, предоставившим им
подземелье, должен знать все его ходы и выходы.. н о
тщетно!.. Заговорщики оцеплены воисками Карла ѵ , как
сам он во втором акте был окружен сообщниками Эриани.
Когда император выходит из гробницы, столь решительные люди пугаются. Никто не двинулся с места. Они гасят
свои светильни и позволяют императору, который
назвал
себя, продекламировать восемь стихов, даже не попытавшись
заткнуть ему рот ударом кинжала!
Но Карлом V овладел поистине странный замысел. Он
задумал устроить иллюминацию. Эта мысль так поглощает
его, что повторяется в стихах три раза.
Солдаты, несущие факелы, заливают подземелье морем
СВ6ТЗ
Здесь мы позволим себе несколько вопросов, которые
автор, без сомнения, легко разрешит. Что сделал бы император, если бы заговорщики не погасили своих факелов?
Уж не страдали ли заговорщики куриной слепотой, раз не
заметили в нескольких шагах от себя столько света? Солдаты того времени, как видно, вели себя очень осторожно,
чтобы не выдать своего присутствия в достаточно гулком
по природе подземелье, ибо, если мы правильно прочли
они появляются со всех сторон подземелья, из всех глубин!
Если бы среди заговорщиков не было столько стариков,
их можно бы принять за детей. Наконец, город Экс-ла-Шалель
не настолько велик, чтобы солдаты могли маневрировать
в нем незаметно для заговорщиков.
Все персонажи этой пьесы слегка страдают недугом
Карла V, ибо Эрнани, взявшийся убить императора, не слышит, как Дон Карлос восклицает: «Разите, я Карл Пятый!»,
и этот бандит, храбрец, не робеющий ни перед чем, спокойно
говорит: «Я полагал, что это Карл Великий, тогда как это
только Карл Пятый».
Император прощает своих врагов, особенно Эрнани, он
восстанавливает его в правах и обручает с доньей Соль.
Сцена эта напоминает сцену из Ц и н н ы ; но... О, нет! не будем сравнивать... Безжалостная ненависть Эрнани падает, как
лист в ноябре, она падает при первом дуновении милости.
Здесь кончается роль императора. И это Карл V? Боже
милостивый! где Виктор Гюго изучал историю? Что в его
топорной работе указывает на глубокое знание этой царственной души? Пусть пойдет Виктор Гюго в музей или в
галлерею монсеиьора герцога Орлеанского; пусть постоит
лишь полчаса перед портретом Карла V, и, быть может, он
сам признается, что даже Дону Карлосу невозможно приписать хоть одно действие или слово е ю роли. Мы делаем
исключение для некоторых мыслей монолога; но детали мы
рассмотрим ниже.
Драма—это выражение человеческой страсти, индивидуальности или крупного события: Федра—пример драмы,
выражающей страсти; Г е н р и х IV, Г е н р и х V или
Р и ч а р д III—примеры драмы, выражающей индивидуальность. И в первом и во втором случае оба поэта оригинально изображают человеческую жизнь, хотя Расин идеализирует ее, а Шекспир передает все ее оттенки. Шиллер в
В и л ь г е л ь м е Т е л л е представил событие с его аксессуарами: людьми, страстями, интересами. Все трое достигли
цели, которую должно себе ставить искусство. Но характер
Карла V не принадлежит ни к одной из трех изложенных
теорий. Дои Карлос не выражает ни события, ни характера,
ни страсти. Он мог бы называться Людовик XIV или Людовик XV. Быть может, Виктор Гюго хотел дать воплощение
королевского достоинства.
Если наш разбор не всегда держится на трагической
высоте сюжета, сама пьеса легко нас оправдает. Следующую
свою статью мы посвятим разбору доньи Соль, Эрнани,
дона Рюи и суждению о всех частях драмы.
В первом акте Эрнани входит к донье Соль. Любовник
сообщает своей возлюбленной множество вещей, которые ей
и без того известны. Эрнани произносит своего рода пролог.
Он, очевидно, обращается к зрителю. Мы были вправе думать,
что по крайней мере Виктор Гюго, столь суровый к классикам,
позаимствует у них только красоты, но не станет заимствовать
недостатки. Мы рассчитывали увидеть, как всюду действие
заменяет слова. Позволено было надеяться, что нас посвятят
в любовь Эрнани и что, переходя от оттенка к оттенку, мы
постигнем испанскую страсть! Ничуть не бывало. Эрнани
любит донью Соль. Довольствуйся этим, глупый партер.
Но по крайней мере, еслй это алгебраическое равенство поставлено во главе драмы, следовало итти вперед, от ситуации
к ситуации! Ничуть не бывало. Этим любящим существам
остается еще—донье Соль узнать, что Эрнани бандит, а
Эрнани спросить свою возлюбленную, хочет ли она следовать
за ним, другими словами—любим ли он.
Раз уж поэма началась подобным образом, драматический
автор вывел бы Эрнани на сцену, дабы тот сказал своей возлюбленной: «Дон Рюи женится на тебе, нужно бежать!»
А донья Соль ответила бы: «Бежим завтра». Вместо того,
чтобы действовать, как Мериме, Виктор Гюго уныло побрел
по классической борозде.
В монолОТе, завершающем первый акт, Эрнани—это молодой человек девятнадцатого века, доктринер, рассуждающий
о лентах и золотом руне, украшающем шею, как рассуждал бы всякий молодой человек, еще не получивший ордена.
Когда наделяешь своих персонажей даром ясновиденья, нужно
предупреждать об этом читателя или публику, тем более,
что Эрнани охотно примет награды, благодеяния и подачки
от Карла V. Но автор сказал себе: «Это будет яркая индивидуальность. Молодой бандит выразит ненависть к Дону
Карлосу в монологе; он не убьет его во втором акте; а в
четвертом они будут друзьями. Образ Эрнани будет отвечать
правде, правде г-на де Виньи, придуманной поэтической
правде, которая так же похожа на действительность, как цветы
в драгоценных уборах Фоссена похожи на полевые цветы».
Мы уже критиковали встречу Эрнани с Дон Карлосом; во
втором акте, следовательно, нам остается лишь сцена между
ним и доньей Соль. Эрнани, взявший с собой для защиты
шестьдесят разбойников, боится, что ему не удастся убежать.
Он видит впереди эшафот и не хочет предлагать его возлюбленной, тогда как донья Соль героически хочет^своей доли
савана. Все это хорошо в оде, в балладе, но на сцене персонажи должны хоть немного действовать, как разумные люди.,
Эриани в этот момент может легко спастись и похитить донью
Соль. Но нет, они усаживаются на камне и баюкают друг
друга, совершенно не к слову, сладкими словами. А тем времеменем алькайды велели ударить в набат.
Но кто вызывает во мне восхищение, это дон Рюи; вся
эта суматоха происходит под его окнами, а он спит... Но это
не единственная его оплошность, автор немало потрудился*
чтобы он честно заработал прозвище глупого старика!
Третий акт открывается сценой между доном Рюи и доньей
Соль. Страсть дона Рюи к поэзии поистине курьезна. Можно,
подумать, что этот старик все время, проводимое им за
сценой, хотя он должен бы присутствовать на сцене, посвящает сочинению идиллий и элегий. Он говорит параболами,
когда остальные персонажи предпочитают грубую речь. Наименьшим недостатком этой сцены является то, что ее можно
сократить, свести к четырем стихам без урона для пьесы.
В предисловии Виктор Гюго имел скромность сказать, что*
дабы понять и оценить его, нужно перечесть Мольера и Корнеля. Но оба эти великих человёка, хотя и совершали порой
грех замены действий словами, все же никогда не заставляли
своих персонажей рассуждать о чем-нибудь другом, кроме ин-і
тересов, страстей или событий, и рассуждать так глубоко,
что единым словом они рисовали страсти и скрывали недостаток действия покровом, гения. А тут, что мне до юного
пастуиіка, распевающего в лугах? Весь этот парафраз нескольких персонажей из У р о к а м у ж ь я м у главы романтической
школы является по меньшей мере отречением от своих принципов. Трудно предположить, чтобы старик не узнал о любви
Эрнани к донье Соль после Есех происшествий первого и второго
акта; но если он и не знал этого, то проявил неестественную
доверчивость, оставив донью Соль наедине с разбойником.
Отсюда можно заключить, что либо этот простофиля не
слышал никаких разговоров в Сарагоссе, либо сидел всегда
дома; во всяком случае это не влюбленный старик. Бартоло,
великолепный образец этого жанра, знает все, подозревает
обо всем. Дон Рюи ничего не знает, ни о чем не подозревает.
Но, быть может, Виктор, Гюго боялся, что его обвинят
в трагизации Баргполо.
Сцена узнавания доньи Соль и Эрнани-первая сцена, где
чувствуется какое-то движение, где оба персонажа (стиль в
сторону) говорят то, чт0 должны говорить, и делают то,
4TÖ должны делать; но сцена эта слаба и неоригинальна. . <
• Теперь мы Подошли к сюжету пьесы, к кастильскои
чести. Рюи Гомес, не выдавший Дону Карлосу своего
гостя и предпочитавший отдать племянницу—образ кастильской чести. Но это еще ничего: он вручает ее королю, чтобы спасти голову соперника, которого презирает,
вот вершина.
. •
•
Если это подлинное событие, то оно лишь доказывает, что
жил в Испании того времени глупый старик. Человек, сжигавший тогда свой дом, оттого что в нем жил конетаоль
де Бурбон, предатель родины,—великий человек; но дон ион
смешон. Он смешон потому, что мог.бы действовать иначе*
когда Карл V предпочел обладание доньей Соль голове Эрнани.
Разбойник и герцог должны были понять по крайней мере,
что донья Соль в опасности. Величие в том, что один из них
пожертвовал собой ради счастья другого. Потому-то Эрнанн
по праву называет дона Рюи глупым стариком! Это самое
верное слово в пьесе, и, к несчастью, если Эрнани прав, оно
клеймит автора.
Но не в этом еще сюжет пьесы. Весь он сосредоточен на
договоре, заключенном между Эрнани и стариком. «Без меня
ты был бы мертв; следовательно, твоя кровь принадлежит
мне!»—говорит старик.
Вот что называется обобрать благородного человека и
хвалиться тем, что помог ему. Бог мой! какой благодетель!
Это свобода 1793 года: «Не выезжайте из Парижа, и мы
убьем вас здесь; выезжайте—мы все равно убьем вас».
Величие кастильской чести оказывается в том, что Эрнани
будет подчиняться старику, которому продал свою кровь...
Plaudite, galli К Единственное, что есть в пьесе кастильского,—
•это редкое стечение нелепостей и глубокое презрение к разуму, что делает ее похожей на детские драмы Кальдероиа
или Лопе де Вега. л .•
„
.
, •
'
В тот момент, когда Эрнани, спокойно прибывший из
Экс-ла-Шапель в Сарагоссу и не потревоженный стариком
1 Рукоплещите, галлы (по-латыни).
в своем счастье, готовится дойти в брачную комнату,—
дон Рюи, этот король скрытников, приходит требовать принадлежащую ему жизнь. Какое милосердие! Дон Рюи предлагал отказаться от права на жизнь и на смерть своей жертвы,
если Эрнани уступит ему убийство Карла V; значит, его ненависть к Эрнани была не так уж непобедима.. Если бы он
получил право убить Карла V, он оставил бы в живых Эрнани,
но раз ему не удалось воспользоваться кинжалом в Экс-лаШапель, он воспользуется рогом в Сарагоссе. Ему необходима
жертва. Такое непостоянство в ненависти лишает дона Рюи
всякого доверия.
Если бы автор имел намерение сделать из этого старика
живой образ смерти, срезающей своей косой весенние радости любви и юности, в пятом акте могли бы встретиться
прекрасные черты, но у него была другая мысль. Где же тот
персонаж, чья судьба может заинтересовать нас? Быть может,
донья Соль? В ее характере нет ничего выдающегося. Она
.любит Эрнани, но ее любовь похожа на всякую любовь. Она
•повторяет с первой сцены до последней, что стремится
к своему милому разбойнику, но ничего не делает, чтобы
соединить с ним свою судьбу. Эрнани? человек без характера, надевающий и снимающий сдою ненависть, как оде;жду? Или дон Рюи?
Старик, который спит, когда нужно
бодрствовать, продает свои услуги, покупает человеческую
кровь ценой своей любви, снова меняет ее на удар кинжала
и низко мстит за отнятое у него счастье? Какова главная
идея пьесы? В чем она заключается? В том ли, что нужно
добросовестно выполнять свои обещания? Мораль хороша
для нынешнего времени.
Но когда начинаешь изучать пьесу со стороны творческой
выдумки, сведущего критика сразу поражает общий недостаток. Все произведение подражательно. Пятый акт—это
искаженная развязка Р о м е о . Сцена Карла V в гробнице—
сцена из Ц и н н ы , без ее правдоподобия. Эрнани, освобождающий донью Соль от обещания, значительно ниже развязки Л а м е р м у р с к о й н е в е с т ы . Дон Рюи, открывающий любовь доньи Соль,—подражание Ф р а н ч е с к е д а Римини. Г-н Купен де ла Купри даже написал в 1820 году
картину, изображающую сцену из Э р н а н и . Карл V в своем
шкафу—это спрятавшийся Нерон, только тут мы не чувствуем ужаса. Итак, пьеса поражена коренным пороком: она
известна во всех своих частях, нет ничего нового. Напрасно
было делать Эрнани и разбойником и принцем. Это ошибка:
будь он только разбойником, он не стал бы оригинальнее;
как принц, он похож на всех принцев.
Что же касается стиля, не будем заниматься им в интересах автора, хотя, возможно, это было бы необходимо для
воспитания людей, находящих здесь мужественные мысли и
корнелевский аромат; но мы думаем, что нужно уважать талантливого человека, которого и без того уже слишком высмеивали...
Для нашего времени и, быть может, для самого Виктора
Гюго важно, чтобы поэму Э р н а н и обсудили беспристрастно,
чтобы доброжелательный человек выступил с возражением,—
далеко неполным, в силу ограничений, поставленных критике в данном журнале,—против успеха, шрорый нас сделал
бы посмешищем для всей Европы, если'оы мы ему, способствовали.
Нас могут обвинить в том, что мы подчеркнули только
недостатки этого произведения; мы должны были так поступить: слишком много газет восхваляли его красоты!..
Мы заключаем свою критику, говоря, что все пружины
этой пьесы изношены; сюжет неприемлем, даже если б он
опирался на подлинное событие, ибо ни одно приключение не
поддается драматизации; характеры фальшивы; поведение
персонажей противоречит здравому смыслу; и через несколько лет поклонники первой части обещанной Виктором
Гюго трилогии будут немало удивляться своему увлечению
Э р н а н и . Пока, нам кажется, автор—скорее прозаик, чем
поэт, и больше поэт, чем драматург.
Виктор Гюго может найти естественную черту лишь случайно; без тщательной работы, без полного послушания советам строгих Друзей сцена ему запрещена. Между предисловием к К р о м в е л ю и драмой Э р н а н и огромное расстояние. Э р н а н и в лучшем случае мог бы дать сожет для
баллады.
Рецензия на «Эрнани» В. Гюго.
Март 1830 г.
Oeuvres, XXII, 44—56.
«ГІОП-БДАЗ»
...Я слишком неспокоен, чтобы писать для театра. Пьеса—
это либо немецкая игрушка, либо бессмертная статуя, полишинель или Венера, М и з а н т р о п и Ф и г а р о или Л е с т н и ц а с л а в ы и Н е л ь с к а я б а ш н я . Убогие мелодрамы
Гюго меня ужасают. Мне нужна целая зима в Вижховне,
чтобы наладить пьесу, а я только после четырех месяцев
изнурительных трудов узнаю, получу ли я деньги, когда я
их получу и как я их получуI
Бальзак—Ганской, 3 июня 1887 г.
*
Lettres à l'Etrangère, 405.
•
•
;
.
Виктор Гюго, Ламартин и Мюссе, взятые вместе, составляют поэтическую монету, ибо каждый в отдельности не
полноценен. Кстати, Р ю и - Б л а з это неимоверная глупость-,
гнусность в стихах. Никогда уродство и нелепость не плясали более бесстыдной сарабанды.
Бальзак—Ганской, 15 ноября 1833 г.
Lettres à l'Etrangère, 503.
СЕНТ-ВЕВ
Роман Сент-Бёва
С л а д о с т р а с т и е . — Неровное исполнение
ром а н а . — Е г о психологические достоинства в. изображении первой любви. —
Я з ы к С е н т - Б ё в а . — В ы ч у р н о е пустословие Сент-Бёва.
...Вышла книга, прекрасная для шіых душ, местами плохо
написанная, слабая, вялая, многословная; ее осудили все,
но я (мужественно прочел ее и нашел в пей прекрасные места.
Это С л а д о с т р а с т и е Сент-Бёва. Тот, у кого не было
ісвоей г-жи
де
Куаэн,
недостоин жить. -Есть в этой
.опасной дружбе с замужней женщиной,—подле которой душа
склоняется, возвышается, унижается, колеблется, никогда на
решается на дерзость, жаждет греха, но его не совершает,-^
вся прелесть ранней юности. Есть в этой книге прекрасные
фразы, прекрасные страницы, но есть и нечто неуловимое.
Именно неуловимое мне нравится, неуловимое, позволяющее
мне к этому приобщиться. Да, первая женщина, которую
встречает человек, полный иллюзий молодости, есть нечто
•святое и священное. К сожалению, нет . в этой книге того
дразнящего веселья, той свободы и безрассудства, что отмечают страсть во Франции. Это пуританская книга. Г-жа де Куаэн недостаточно женщина, и опасности не существует. Но
мне книга кажется вероломно опасной. Принято столько предосторожностей, чтобы изобразить страсть слабой, что начинаешь подозревать о ее необъятной силе, а наслаждения
столь редки, что становятся бесконечными в своих кратких
и лёгких проявлениях. '
Эта книга навела меня на серьезные размышления, женщина выходит на поединок с мужчиной, если она не победит,
она умрет. Если она неправа, она умрет. Если она несчастна,
•она умрет. Это ужасно...
Бальзак—Ганской, 25 августа 1834 г.
Lettres à l'Etrangère, 186.
*
В эпоху столь моральную, как наша, нужно строго накапывать за такие смелые выходки, и в то же время эта
палочка ячменного сахара может указать молодым девушкам
на опасность ухаживания, сначала преисполненного мечтательности, более чарующего, чем серьезного, усеянного розами и цветами, но гибельного и приводящего к ощутительным эксцессам, к ошибкам, отмеченным сомнительной пылкостью, к результатам, слишком заметным. Этот анекдот
рисует живой и законченный ум Па'льферина, потому что
в нем есть та перегородка, которой требовал Паскаль; он
нежен и неумолим; подобно Эпаминонду, он одинаково велик
в крайностях. Впрочем, его ответ точно передает эпоху;
в прежние времена не было акушеров. Таким образом, ухищ- рения нашей цивилизации объясняются этой чертой, которая
останется.
— Ах, мой дорогой Натай, что это за чепуху вы мне
< говорите?—спросила удивленная маркиза.
— Госпожа маркиза,—ответил Натан,—вы не понимаете
ценности этих изысканных фраз нового французского языка:
я говорю по Сент.-Бёву.Л
^
IY' 1 W
«Приіш. богемы». Соч., IX, 137.
Г О ТЬЕ
Э . СЮ («ЛОТРЕАМОП»)
».Теофиль Готье—юноша, о котором, мне казалось, я уже
говорил вам. Это один из признанных мной талантов; но он
лишен творческой силы. Ф о р т у н и о ниже М а д е м у а з е л ь
д е М о п е н , а стихи, которые вам понравились, ужаснули
меня, как упадок поэзии и языка. У него очаровательный
стиль, большой ум, но, мне кажется, он не сделает ничего
ибо погряз в журнализме. Он сын сборщика пошлин на одной
из парижских таможен, а именно на Версальской. Он очень
оригинален, много знает, хорошо говорит об искусстве, чувствует его Это человек незаурядный, и он, несомненно,
погубит себя. Вы поняли человека; он любит яркие краски
и плоть; но он также постиг Италшо, не видев ее никогда...
Бальзак—Ганской, 15 октября 1838 г..
Lettres à l'Etrangère, 497.
ДЮМА («ТРИ МУШКЕТЕРА»)
Я прочел Т р е х м у ш к е т е р о в , вот весь мой вчерашшш день; я лет в шесть часов и вот поднялся в четыре
часа утра...
" О Н И М а Ю ' Д о р о г а я гРафиня, вы шокированы М у ш к е т е р а м и , ведь вы так образованы, а главное, так глубоко знаете историю Франции не только с официальной
точки зрения, но до малейших интимных деталей малых советов короля или малых приемов королевы. И, верно сердишься на себя за то, что прочел это; не остается нечего
кроме отвращения к самому себе за то, что расточил время
(драгоценная материя, из .которой сделана наша жизнь) Не
так дочитываешь последнюю страницу Вальтера Скогга и не
с таким чувством оставляешь ее: потому-то Вдльтера Скотта
перечитывают, а Д ю м а - н е думаю, чтоб можно было перечесть. Это очаровательный рассказчик, но он должен был откападучшеОТ.
ИСТ0РШ
Ш
УЖ
3аНЯТЬСЯ
610
И у з н а т ь
немного
-
Бальзак—Ганской, 21 декабря 1845 г.
Lettres à l'Etrangère, 480—481.
...Я прочел Э м а р и убедился, что, решительно, Анри
де Латуш жалкий ум, впавший в детство. Л о т р е а м о н Сю—
вялая работа, как говорят в живописи, тут ничего не сделано, да и нечего делать. Для заурядных умов, для людей без
образования либо для тех, кто, будучи образован плохо или
как попало, не имеет мужества самостоятельно исправить
полученное им ложное направление и довольствуется тем,
что принимает готовые суждения, не пытаясь оспаривать их
или проверить, для.них Людовик XIV—ничтожество и плохой
король. З.а ошибки и промахи его осуждают, как за преступления, а между тем он точно выполнил предсказание Мазарини: был одновременно великим королем и честным человеком. Ему можно поставить в уцрек войны и гонения против
протестантов; но он всегда имел в виду величие Франции,
а войны были средством упрочить его. Они должны были,
по его замьісду, обеспечить нас от двух главных врагов того
времени—Испании и Германии. Овладев Фландрией и Эльзасом и установив надежные границы со стороны Германии,
завоеванием Франш-Конте он защитил Францию от испанских
интриг. Подарив, таким образом, безопасность своим народам,
он подарил им блеск, ослепивший мир, и величие, поработившее его. 'Поистине, нужно не быть ни французом, ни умным
человеком, чтобы тупо упрекать его делом кавалера де Рогана,.
самонадеянного дурака и государственного преступника, который договаривался с заграницей, продавая Францию, и хотел разжечь в ней гражданскую войну; в конце концов король
имел право приговорить его и наказать по законам страны,
которой управлял. Но, как вы сказали, Сю это ограниченный
буржуазный ум, неспособный понять всю полноту подобного
величия, он видит лишь крохи обыденного и банального зла
нашего жалкого современного общества. Он почувствовал
себя раздавленным, увидев исполинский облик великого века,,
и отомстил, оклеветав прекраснейшую, величайшую эпоху!
нашей истории, подчиненную мощному и плодотворному влиянию величайшего из наших королей; современники провозгласили его Людовиком Великим, и даже враги не нашли
для него другой иадмешки, кроме прозвища—король-солнце.,..
Бальзак—Ганской, 22 января 1838 г.
Lettres à l'Etrangère, 458.
Р Е А Л И З М
ВАЛЬТЁР СКОТТ И ЕГО ЭППГОІШ
дрожания
его « а н е р е . — Великое значение исторического
литературы девятнадцатого в е к а .
романа
для
...Если г-н Масс хотел дать нам жизнеописание Александра VI и его бастарда, то книга его неудовлетворительна; в пей есть хорошо написанные страницы, но провалы
слишком часты; если же он хотел написать историю,—она)
мало значительна, так как лишена философского взгляда на
дух эпохи в его, религиозных и политических проявлениях;
автор не поднимается до соображений, достойных нас; лишь
в последней четверти своего тома он пускается," слишком
•поздно, в длинное и бесполезное отступление по поводу рассказанного; а несвоевременное холодное философствование^
.большой недостаток. Сколько читателей остановится перед
наиболее существенной. частью работы и прочтет неполный
рассказ автора, не желая потом знакомиться с размышлениями
к которым уже потеряли интерес! Всякое философское мнение
должно быть связано с фактами, его породившими; моралист
должен искусно скрываться под плащом историка; прежде
всего его задача передать читателю идеи, которые он выносил, которые являются для него верованием, • принципами,
доктриной. Без этого стремления, которое стало душой писателей прошлого века и помогло им достигнуть столь быстрых результатов, бесполезно совлекать с гемоний истории)
Александров VI и Цезарей Борджа...
•• -
Рецензия на «Историю папы
Александра VI и Цезаря Борджа», соч. Э. Масса. Oeuvres,
XXII, 30—31.
•
*
_ - В о т Уже двенадцать лет, как я -говорю о Вальтере
Скотте то, что вы мне о нем пишете. Рядом с ним лорд Байрон шічто или почти ничто. Вы ошибаетесь насчет плана
К е н и л ь в о р т а ; по мнению всех сочинителей и по моему,
план этого произведения—самый великий, самый совершен- ный, самый замечательный из всех; с этой точки зрения это
шедевр, так же как С е н - Р о н а н с к и е в о д ы шедевр в
смысле деталей и терпеливой отделки, как Х р о н и к и К а нонгата
шедевр чувства, А й в е н г о ,
подразумевается
первый том,—исторический шедевр, А н т и к в а р—шедевр
поэзии, Э д и н б у р г с к а я т ю р ь м а — ш е д е в р интереса. Каждое из этих произведений наделено особым качеством, но
гений блистает во всех. Вы правы, Скотт будет еще велик*
когда Байрона забудут: я говорю о переводном Байроне,
ибо оригинальный поэт будет жить, хотя бы из-за своей
формы и мощного вдохновения. Ум Байрона никогда не носил
другой печати, кроме печати его личности, тогда как весь
мир встал перед творческим гением Скотта и как бы загляделся на себя...
Бальзак—Ганской, 20 января 1838 г.
*;
;
Oeuvres, XXIV, 27b.
...
•
.
•
...Если вы не хотите быть обезьяной Вальтера Скотта, то
должны создать свою манеру, а вы подражали ему. Вы начинаете, как и он, с длинных разговоров, чтобы вывести
своих героев; когда они кончают разговаривать, вы приступаете к описанию и действию. Антагонизм, необходимый во
всяком драматическом произведеиии, отступает у вас на задний план. Переместите части здания. Замените расплывчатую
болтовню, столь великолепную у Скотта, а у вас бесцветную,
описаниями, к которым так приноровлен наш язык, пусть
у вас диалог будет ожидаемым следствием, венчающим приготовления. Начните прежде всего с действия. Хватайте свой
сюжет то поперек, то за хвост, словом, вносите разнообразие
в план, чтобы никогда не повторяться. Вы заговорите тогда
по-новому» что не помешает вам приспособить к истории
Франций форму диалогической драмы шотландца. Вальтер
Скотт не ведает страстей, или, быть может, эта область
была для него запретной вследствие лицемерных нравов его
страны. Для него женщина—олицетворенный долг. За очень
немногими исключениями, героини у него совершенно на одно
лицо, для них у него общий шаблон. Все они происходят от
Клариссы Гарлоу; сводя их к общей идее, он только и мог,
что печатать оттиски одного и того же типа, разнообразя
их более или менее живой раскраской. Женщина вносит
беспорядок в общество благодаря присущей ей страстности. Страсти бесконечно разнообразны. Рисуйте же страсти,,
и у вас будет огромный материал, которого себе не сохранил этот великий поэт, чтобы находить читателей во.всех
семьях добродетельной Англии. Во Франции можно противопоставить мрачным фигурам кальвинизма, в самый бурный
период нашей истории, чарующие прегрешения и блестящие
нравы католицизма.
Каждое царствование, начиная от Карла Великого, потребует не меньше одного тома, а для некоторых, например,
для Людовика XIV, Генриха IV, Франциска I, понадобится
от четырех до пяти томов. Вы напишете живописную историю Франции с ее костюмами, мебелью, домами, внутренним
убранством, частной жизиью, в то же время передавая дух
эпохи, вместо кропотливого изложения общеизвестных фактов.
У вас есть способ быть оригинальным: опровергните ходячие заблуждения относительно большинства наших королей.
Дерзните в первом своем томе восстановить прекрасную,
великолепную фигуру Екатерины Медичи, которую вы заклали в жертву цредрассудкам, все еще тяготеющим над
нею. Нарисуйте Карла IX, каким он был, а не каким его
сделали протестантские историки.
«Утраченные иллюзии», изд.
«'Academia», 27.6—278.
Разбор С а м ю э л я
Б е р н а р а
Р е - Д ю с с й л я . — Нарушение
законов
исторического романа у Р е - Д ю с е й л я . — Разбор Р и ш е л ь е
Джемса.—
Причины неудачи С е н - М а р а
Виньи.—Модернизация истории.—Художественное основание нарушений исторической правды у В а л ь т е р а Скотта.
Право романиста п о л ь з о в а т ь с я народными образами в е л и к и х исторических
деятелей.
История времен Людовика XIV?.. отнюдь нет, господин
автор; поставьте: История
времен
Карла
X, и это
будет правда. Поистине, доктрины г-на Минье или же G 1 о b е
и D é b a t s , как бы разумны они ни были,—не новы; но
они не имели хождения в 1708 году. В то время контрабандисты не знали, что Людовик XIV женился на вдове
какого-то г-на Скаррона. Слова, созданные революцией, наши
представления о великом короле, о народах, о маркизах,
о Версале и долине Монморанси, быть может, справедливы;
но очень, сомнительно, имеют ли они обратную силу, ибо не
убеждают даже стариков нашего времени. Вы же на каждой
•странице как бы ставите Новый завет на пюпитр святой
деве во время благовещенья.
Поскольку г-н Ре-Дюсейль посвятил себя разработке
исторического романа, мы посоветуем ему не делать таких
грубых промахов в отношении обычаев и местного колорита.
Какой бы заурядной и несовершенной ни казалась нам его
книга, все же мы встретили в ней отдельные намерения и
отдельные слова, за которые вознаграждаем его, придавая
нашей критике оттенок скорей отеческий, чем эпиграмматический. Другие безжалостно отдали бы его в жертву тем
насмешникам, что только, и живут зубоскальством; но у нас
достаточно преступников и без того, чтобы обескураживать человека, способного исправиться. Основной недостаток г-на Ре-Дюсейля в неумении управлять своими машинами.
Как только во время представления марионеток зрители
замечают руку хозяина, пытающегося надеть шапку на комиссара,—знатоки уходят. Так же обстоит дело с романистом
и его куклами. Уважение поэта к своему собственному творению—одно из главных отличий Ш о т л а н д с к и х п р о и з в е д е н и й . Вальтер Скотт верит в то, что рассказывает. У г-на
Ре-Дюсейля этой веры нет. Он опирается на заметки, доказательства, рассуждения. Вот почему его фигуры—это нынешние люди. Нанина или Боргарелли, mutato nomine 1 , могут
без труда перейти из покоящей их красной обложки на страницы г-на Поль де Кока. Введите, попробуйте, Гурта или Брауэрдайна в роман г-на Бульвера!.. Особенно ложно у г-на РеДюсейля введение персонажей в действие; все отдает здесь
девятнадцатым веком. Разговоры героев вертятся вокруг чувств,
внушенных им автором, вместо того чтобы возникать из событий, подготавливать и объяснять их. Автор рассказывает
о происшествии, о котором читатель уже догадался. Он прерывает повествование, чтобы судить, в духе 1830 года, о Людовике XIV или каком-нибудь министре. Когда Вальтер Скотт
(мы ссылаемся на него, чтобы наша критика, опираясь на
известный пример, стала более ощутимой), когда Вальтер
•Скотт начинает роман, он ясно излагает социальное движение,
1 При перемене имени (по-латыни).
в которое вводит вас, и, закончив это вступление, больше
к нему, не возвращается. Так, прежде чем войти в Плесси, он
указывает на распрю между Людовиком XI и герцогом Бургундским—вот он и обрисовал эпоху; затем рассказчик исчезает, дабы драма развивалась свободно, ибо он великолепно
понимает, что его произведение, будучи вымышленным, охладеет при обращении к истории. Г-н Ре-Дюсейль прерывает
себя ежеминутно, чтобы сказать: «Даю вам честное слово,
я рассказываю сущую правду». Как же мне не перестать ему
верить, когда, приведя меня в Марли, он оставляет меня
у подножия горы и, вместо того чтобы показать мне Людовика XIV, надоедает мне рассуждениями о его царствовании? Я не дам за это и словечка из диалога Суллы и Евкрата,
ибо прежде всего я хочу знать, как примет Людовик XIV Боргарелли; значит, Боргарелли должен интересовать меня чуть ли
не больше, чем мой обед, иначе роман плох. В силу этого
основного принципа, господствующего над всеми рассказами,
размышления о голоде 1709 года нестерпимо скучны в том*
месте, где они пришиты. Общее правило: роман не должен
охватывать несколько значительных исторических фактов,,
в противном случае рассуждения будут бесконечны.
Сцены не вытекают одна из другой; в них нет гармонии
Или же их связь не способна создать драматический эффект.
Если приводить примеры, то сцена, где Дюмаре, генеральный
контролер, выведывает у Самюэля Бернара, не грозит ли
последнему банкротство, никуда не годится; она не возбудит
никакого интереса. Если бы сцена эта была чем-нибудь вызвана, обусловлена, подготовлена, если бы эта беседа была
как бы замкбм свода, если бы, подобно свиданию Елизаветы
и Трессилиана ( К е н и л ь в о р т ) , она решала судьбу всех персонажей, быть может, она вызвала бы волнение. Но она далека
от этого и потому скучна. Автор должен выбирать между!
писанием истории и построением драмы. Роман есть написанная трагедия или комедия; он описывает факты или нравы.
Мы достигли в этом роде произведений такой степени
совершенства, которая позволяет автору избегнуть некоторых ошибок. Однако в сочинении г-на Ре-Дюсейля нет, быть
может, ни одной главы, которая не. нуждалась бы в дружеском
совете. Рамки статьи не позволяют нам излагать правила,
нарушенные этим сочинением;-анализировать его композицию-
значило бы написать трактат об искусстве романиста. Мы
ограничиваемся указаниями на основные пороки. Итак, из
романа с теми же персонажами}, с теми же интересами, с теми
же сценами можно было бы создать интересное произведение.
Но для этого не нужно рисовать фигуры на первом плане,
когда они должны быть в глубине, или создавать персонаж
и забывать о ном, как забывают про д'Озье, например. Искусный человек поднял бы всех своих актеров до одного уровня,
связал бы их общим действием. Но в этом сочинении нет ни
плана, ни замысла; оно не обдумано, не построено, не согласовано; оно не развивает ни одной нравственной мысли, не
рисует ни одного факта. Большую часть времени автор отдается жалкой мании излагать всем известные вещи. Его
произведение подражательно. Исключите Реньяра, исключите
Миньо, и произведение не пострадает. Что сказать о здании,,
которое не падает, если убрать его колонны?
u
Мы подождем следующей работы г-на Ре-Дюсеиля. Что же
касается данного произведения, то, чтобы отдать ему справедливость в глазах людей, непременно желающих приговора,
мы скажем, что оно не выіне и не ниже современных романов.
Рецензия на роман Ре-Дюсейля «Самуэль Бернар и Жак
Боргарелли».
Oeuvres,
XXII,
1830 г.
60—63.
-
-
*
Если г-н Джемс действительно в течение нескольких лет
занимался изучением наших хроник, как утверждает издатель
в предисловии, помещенном в начале книги, то спешим сообщить г-ну Джемсу, что ему не повезло ни в его занятиях,
ни в выборе сюжета.
• Событие, которое автор пытается воспроизвести,—заговор
Сен-Мара против Ришелье. Однакоже, хотя сочинение г-на
де Винъи произведение не очень выдающееся, опасно было
вступать в борьбу] с автором, чью книгу публика полюбила.
Впрочем, эта дерзость могла быть оправдана успехом.
.' Полный презрения к исторической правде, г-н де Викьи
заставил отца Жозефа жить семь лет спустя после его смерти;
он изобразил его глупцом, которого обманул Ришелье, шпионом Танталом кардинальского сана. Он наделил восемнадцати-
летним возрастом принцесс, которым было не меньше сорока.
Сына Лобардемона он заставил украсть договор, подписанный
Сен-МарОМ' с Испанией. Он привел умалишенную в палатку
Ришелье; чтобы создать поэзию. Бассонпьера он посадил
в Шомон, тогда как тот был в Бастилии. Словом, он измял
историю, как старый холст, которым скульптор укутал молодую статую; он увидел несколько поэтических сцен и бросил их в лицо Истине, дабы убедить нас, что артист живет
вымыслом и что гораздо важнее ввести вымысел в правду,
чем правду в вымысел.
Итак, предстояло выіЮлнить задачу, не бесславную для
антагониста. Было бы глубокой заслугой написать эту великую сцену правдивыми красками, восстановить подлинный
смысл событий и разыграть драМу в книге так, как некогда
она произошла во Франции.
Теперь и самый скромный читатель наших хроник зиает,
что сам Оливарес послал Ришелье договор, подписанный СенМаром с Испанией. Однако г-н Джемс по-новому построил
•сцену с украденным договором, выдуманную г-ном де Виньи.
Ничуть не стремясь изложить событие с простотой, г-н Джемс
нагромоздил небылицы на небылицы, ошибки на ошибки.
Он показывает нам двор Людовика XIII в Шантильи, тогда как достоверно известно, что король этот за всю жизнь
провел там одну только ночь и уехал, снедаемый угрызениями совести и преследуемый тенью Монморанси, голову
которого он отдал на эшафот.
Г-н Джемс наделяет Шавиньи, королевского министра,
поведением, недостойным последнего злодея мелодрамы. Теперь известно, что Ришелье имел счастье найти в Шавиньи
второе провиденье, после того как потерял отца Жозефа. Для
людей, изучавших историю того времени, почти доказано,
что Шавиньи был сыном кардинала. Он выполнял немало
трудных поручений, но он не отправлялся в притоны разбойников сговариваться с ними об убийстве.
В те времена «окружавший королевское жилище Сен-Жерменский лес, где король охотился почти ежедневно, был,
возможно, безопаснее, чем в наши дни. Там не могли устроить
ловушку такому почтенному человеку, каким кажется герой
романа г-н де Блено.
Людовик XIII слишком ревниво оберегал свои права, чтобы
позволить г-ну де Блено охотиться в Сен-Жерменском лесу.
Никогда Людовик XIII, и ни один король Франции, не
руководил в Бастилии допросом обвиняемого.
Но так как в этом романе нет ни одной сцены, которая
не была бы смешна с исторической точки зрения и не была бы
неправдоподобна, если судить о ней, как о сцене вымышленного романа, мы не будем продолжать свои замечания по
этому поводу.
.
#с
Молодость автора и недостаточность работы в области
искусства, столь трудного, каким является в наши дни
искусство романиста, проявляются на каждом шагу^ lo он
начинает главу предисловием, то соединяет нити своей плохо
слаженной интриги, рассказывая читателю, как вел себя тот
или иной персонаж, много позже, чем действия персонажей
возымели свой эффект; в этом он подражает г-же I адклиф,
которая, написав четыре тома, доказывает в заключении реальность событий, сначала казавшихся волшебными.
К тому же в персонажах нет ничего характерного Автор
словно не знает, как и г-н де Виньи, что Людовик XIII был
заикой, что Фонтрайль был весьма жизнерадостным горбуном, что кардинал был внешне очень мил и любезен.^ История
искажена во всем; начиная с внешности персонажей, кончая
сценами, все в этой работе неверно. Обвинение, выдвинутое
Ришелье против Аігны Австрийской, имело место в 1755 году,
за шесть лет до заговора Сен-Мара. Мадмуазель дОтфор
уже не была при дворе, когда Сен-Map стал фаворитом короля. В общем, г-н Джемс не пустил в ход ни одну из движущих пружин великой интриги, которую хотел изобразить.
Если рассматривать эту работу как историческии роман,
она недостойна внимания. Что же касается исполнения, то
автор нарушил все приличия. Когда Вальтер Скотт, образец,
которому все молодые авторы так необдуманно хотят следовать, насилует историческую правду (а насилует он ее часто) то всегда это делается затем, чтобы произвести необычайный эффект; и он не пренебрегает популярными представлениями, сложившимися о каком-нибудь персонаже. Описывая Людовика XI, Елизавету, Марию Стюарт или Якова I , он если не описывает их такими, какими они были в действительности, то по крайней меое придает им образ, отве-
чающий желаниям любого воображения. Это умение свойственно только человеку большого таланта: подражать ему—
значит стремиться к собственной гибели. Чтобы стать равным
Вальтеру Скоггу, нужно быть выше ею, а для этого нужно
быть правдивым.
Воздав справедливость неосмотрительности автора, осмелившегося обещать своей стране собрание исторических романов по истории Франции, при наличии собрания наших
мемуаров, мы прибавим, что, если рассматривать работу
г-на Джемса как роман, предназначенный в пищу тому сорту
читателей, что требуют лишь переживаний и грез, книга эта
не достойна собрания, публикуемою издателем. У г-на Джемса
больше воображения, чем у Цшокке, и больше таланта, чем
у Вандервельде; у Цшокке больше исторической правды;
у Вандервельде больше колорита; но все трое совершенно
беспомощны в интриге.
Роман г-на Джемса нашел] в авторе О л е з и и переводчицу,
обладающую, на наш взгляд, стилем в тысячу раз лучшим,
чем стиль гг. Леве-Веймара и Дефоконпре. Мы предлагаем
издателю снять в дальнейшем названия глав, предупреждающие читателя о событиях. Эти проклятые оглавления похожи
на театрального соседа, который, думая доставить вам удовольствие, наперед сообщает сюжет каждой сцены.
1830 г.
Рецензия на роман Г. Джемса «Ришелье». Oeuvres, ХХіІ,
88—91.
СТЕПДАЛЬ
П а р м с к и й м о н а с т ы р ь . — С р а в н е н и е х у д о ж е с т в е н н о й манеры Стенд а л я и манеры Б а л ь з а к а . — Чрезмерная точность у к а з а н и й н а место дейс т в и я в романе. — Приемы в о з б у ж д е н и я читательской фантазии. — Пример
Г о ф м а н а . — П а р м с к и й м о н а с т ы р ь — л у ч ш а я из к н и г д е в я т н а д цатого в е к а .
Милостивый государь,
Я прочел уже в К о н с т и т у ц и о н а л и с т е главу из
М о н а с т ы р я , которая ввела меня в грех зависти. Да, я
был охвачен приступом ревности, читая это великолепное и
правдивое описание битвы, о котором я мечтал для С ц е н
в о е н н о й ж и з н и , самой трудной части моего произведе-
ния; и этот отрывок восхитил меня, огорчил, очаровал, поверг в отчаяние. Говорю это вам от чистого сердца. Это
написано, как писали Боргоньоне и Вуверман, Сальвагор
Роза и Вальтер Скотт. Итак, не удивляйтесь, если я брошусь
на ваш зов, пошлю разыскивать книгу, и рассчитывайте на
мою честность, когда я выскажу свое мнение. Отрывок
сделает меня требовательным, но вам безбоязненно можно
выдать вексель на интересную книгу.
Я—читатель, настолько ребячливый, очарованный и снисходительный, что совершенно неспособен высказывать свое
мнение тотчас после чтения; я самый кроткий критик в мире
и охотно прощаю пятна на солнце; хладнокровие и способ^
ность к суждению возвращаются ко мне лишь через несколько дней.
Тысяча приветствий.
Бальзак—Лнри Бейлю, 20 марта 1839 г.
Oeuvres, XXIV, 328.
Милостивый государь,
Никогда не следует запаздывать, желая доставить радость
тем, кто дал радость нам. M о н а с т ы р ь—великая и прекрасная кгшга; говорю это без лести, без зависти, ибо я
был бы неспособен написать ее, а то, что мы сами неспособны
сделать, можно хвалить от души. Я пишу фреску,—вы
ваяете итальянские статуи. Во всем, чем мы вам обязаны,
есть движение вперед. Вы знаете, что я говорил вам о К р а с н о м и ч е р н о м . Так вот, здесь все оригинально и ново.
Моя хвала абсолютна и искрения. Я тем более рад написать все вышесказанное, что многие, прослывшие умниками,
впали в состояние полной литературной дряхлости.
Ежели так, то вот не критика, а замечания:
Вы совершили огромную ошибку, написав П а р м а ; не
нужно было называть ни государство,
ни город, предоставив
воображению отыскать князя Моденского и его министра или
любого другого. Никогда Гофман не изменял этому закону,
не знающему исключений в правилах романа,—он, самый фантастический писатель! Оставьте все нерешенным, как в действительности, все станет реально; при Слове «Парма» ни
один ум не соглашается с вами.
Есть длинноты; я их не порицаю, замечание это не относится к умным людям, к высшим существам; они за вас; это
им нравится; но я имею в виду pecus 1 , его это оттолкнет.
После первого тома длиішот уже нет. На этот раз вы были
совершенно ясны. Ах! это прекрасно, как все итальянское,
и если бы Макиавелли написал в наши дни роман, то был бы
Монастырь.
Немного в своей жизни я написал хвалебных писем;
поэтому можете верить тому, что мне так приятно высказать. Если превосходство книги позволит вам увидеть вскоре
второе издание, нужно будет иметь мужество перенести в конец некоторые необходимые рассуждения и уничтожить длинноты в начале. Все это разворачивается слишком быстро,
принимая в соображение Тассо
и его великолепия. Затем
иехватает физической стороны в обрисовке некоторых персонажей; но это пустяки, несколько мазков.
Вы выразили душу Италии.
Как видите, я не сержусь на вас за ложь, которую вы
написали на моем экземпляре, хотя на мой лоб при этом и
набежали облака, ибо, не опасаясь, что вы сочтете меня
пошлым человеком, я все же знаю, чего мне нехватает,
и вы это знаете также; об этом-то и нужно было мне сказать. Вы видите, я обращаюсь с вами, как с другом.
Бальзак—Анри Бейлю, 6 апреля 1839 г.
Oeuvres, XXIV, 329—330.
*
...Бейль выпустил, по-моему, лучшую из книг, появившихся
за последние пятьдесят лет. Называется она П а р м с к и й
м о н а с т ы р ь , не знаю, удастся ли вам достать ее. Если бы
Макиавелли написал роман, то именно этот. Жюль Сандо
протащил Жорж Сайд по грязи в книге под названием
М а р и а н н а . Себе-то он дал хорошую роль, он—Анри. Он!
Великий боже! Вы прочтёте эту книгу; она приведет вас
в ужас, я уверен. Книга антифранцузская, антиджентльмен1
Буквально—овечка, здесь фигурально—обыватель (по-латыни).
екая... Анри кончил так, как должен был бы кончить Жюль
(когда человек любит, а ему изменяют),-смертью. Но жить
и написать книгу—это чудовищно!»
Бальзак-Ганской,
14 апреля 1839 г.
*
^ ^
à
^
^
.
509
:
...Это один из самых замечательных умов нашего времени; но он недостаточно заботился о форме;
он писал,
как птицы поют, а наш язык похож на г-жу Онесту,
которой хорошо лишь то, что безупречно, отчеканенно,
изысканно.
Я очень
тись ножом
рое издание
ным. Всегда
„
- „__й
опечален его смертью. Мы должны были б пройпо П а р м с к о м у м о н а с т ы р ю , и тогда втостало бы произведением совершенным, безупречэто будет чудесная книга, книга избранных умов...
Бальзак—А. Ііоломбу,
30 января 1846 г.
Oeuvres, XXIV, 491-492.
ЖОГІК САИД
И н д и а н а . - З а с л у г и романа в борьбе с романтическими у с л о м о е т я м и . И н д и а н а - реакция современности против с р е д н е в е к о в ь я . - Ж а к .
Слабости Ж . С а н д .
Эта книга—реакция правды против фантастики, нашего
времени против средневековья, интимной драмы против необычности модных происшествий, простой современности против преувеличений исторического жанра. В общем, если вы
любите чувства и сладостные и сильные переживания, если
для того, чтобы сердце ваше забилось, вам не нужно видеть
изувеченных людей и чувствовать запах трупов, если вы
устали от морга, холеры, санитарных бюллетеней и лицезрения государственных людей,—возьмите два эти тома их действие полно мощного ужасного интереса, и все же обходится
без кинжалов и крови.
„ trTtt .v
Индиана слабая женщина, но душа ее сильна, сильнеи
своей оболочки; она отважно сбрасывает социальное иго,
возложенное предрассудками и Гражданским кодексом. Индиана замужем за старым полковником, она не любит его и
обманывается притворной страстью молодого Раймонда
И пялом г ! ° Т 0 Р Ь Ш Л Ю б и т е е и е б о л ь ш е т чем она мужа,
обпаз'Zr„ Р
а. Т с Р е М Я п е Р с о н а ж » и появляется главный
Ф
БРЗУН; еГ°
СТраС1Ъ
К И н л , І а н е палі"Ца и
"Г .
Ь
В
у
Л
К
а
Н
а
В
ы
н
е
з
н
аете'
сколько
слез н ѵ в Г »
'
драм,
Э
Т
И
Х
Ы
р
е
Х
И
М
е
н
а
х
І
Д
е
й
с
т
в
и е
ГглѴбіе п *
Г
начинается
затем Z
^ В И Н Ц И И Б Р И п о л л е большою в ы с о к о г о к а м ш
BZJZT
вилизацию
—
Г
я
' в Разукрашенную цивысшего света; и в конце вы попадаете в уедиБУР60Н" СК0ЛЫ<0 контРастов
Т
» Разнообразных
В
Сердце
Парижа
тоньше События 310 Н И Ч е Г О И а п и с ™ п Р°Щ е . задуманною
еДУЮТ ЧереД0Й' т е с н я т с я
как в жи,„„
безыскусственно,
как в жизни, где все сталкивается, где случай нередко на
громождает больше трагедий, чем мог бы юздать Шекспир
кмстат'иоовать Г ®
^ 4 6 " - НаМ ^ается Гьк'о
н без боязни Ф
' " М Ы к о н с т а ™ Р У а » е ю с удовольствием
H без боязни, что читатель ие согласятся с критикой.
31 мая 1833 г.
Рецензия на кИндиану»
Ж. Санд. Oeuvres, XXII,
204—205.
*
„ ; : Ж а к ' последний роман г-жи Дюдеван,-это совет мужьям
притесняющим жен, убивать себя, чтобы вернуть H M C S
Книга.неопасная. Вы написали бы в десять'р'аз л у ч ш е й
бы сочинили роман в письмах. Ее роман пуст и лжив от
начала до конца. Молодая наивная д^ущт<а п а д а е т после
^іы^а- M !?ejif>Rp з а м У ж е с т в а » высшего
человека радТГакогото
Ъ а Г л э і Г Т ^ З Н а ч и т е ^ ! ь н ? г о ' страстного, влюбленногопоишшы П п ^ п ? ^ Я К 0 И Ф и з и о л о г и ч е с к ° й или моральной
" Р " ™ - Дальше—любовь для мулов, как в Л е л и и для б е с
плодных существ, а это довольно странно для женщины
матери которая любит по-немецки, ннсганктивш
Вс^Ти
авторы движутся в пустоте, скачут верхом над пропастью
в них нет ни слова правды. Я предпочитаю в е л и к а н о в а л S
чика с пальчика и Спящую красавицу...
ПП
•Бальзак—Ганской, 18 октября 1834 г.
Lettres à l'Etrangère. 196.
*
/
Жорж Санд скоро стала бы моим другом; в ее душе
нет никакой мелочности, никакой низкой зависти, омрачающей
немало современных талантов; Дюма в этом похож на нее,
но у нее нет критического чутья...
Г
Бальзак—Лауре
Сюрвиль, 1839 г.
П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Oeuvres, XXIV, 324.
Л И Т Е Р А Т У Р А
Э П О Х И
Р Е С Т А В Р А Ц И И
П. Л. Е У Р Ь В
Курье
яхунве
создал M е н и п п о в у с а т и р у Девятнадцатого века. - Прим 4 H H U j мешающие широкой славе писателя.
Если замечательные памфлеты Курье прочесть спустя некоторое время после событий, которыми они вызваны и
могли быть объяснены, они покажутся похожими на остов
фейерверка. Этой части творчества выдающегося человека
не суждено приобрести популярность; есть что-то слишком
возвышенное в его сжатом стиле, слишком нервна его раблэзианская мысль, слишком много иронии в содержании и в
форме, чтобы Курье понравился многим умам. Он создал
М е н и п п о в у с а т и р у наших дней.
Переводы Шавоньерского
виноградаря
дают право на более прочную славу. Система, образец которой он дал в своем
О п ы т е о Г е р о д о т е , всегда будет преобладать в среде
истинных ученых.
.
К о р р е с п о н д е н ц и я
достойна
эрудита
и
памфлетиста.
Она занятна, поучительна, исполнена франклиновского здравого смысла, отличавшего этот прекрасный ум. Несчастье для
Франции, что Курье не успел создать законченное произведение, которое увековечило бы его имя. Сочинения
Курье
не станут переиздавать, но их купят все люди, обладающие
хорошим вкусом и эрудицией. Число этих тонких ценггтслеи,
гурманов литературы, никогда не будет достаточно обширным,
чтобы Курье получил другие почести.
Вот почему это издание приобретает огромную ценность,
когда мы станем для наших потомков тем, чем для нас стали
войны Лиги. Нечего и говорить, что издатоди произвели
удачную
спекуляцию.
Сочинения Курье
будут прода-
ваться медленно, но они будут проданы до последнего экземпляра. Впрочем, это приманка, тайну которой библиофил узнает
только тогда, когда сам отправится к издателю за книгой.
1830 г.
Рецензия на «Полное собрание сочинений П. Л. Курье».
Oeuvres, XXII, 32.
ХОДОВАЯ Б У Р Ж У А З Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А
СКРИВ
Вчера вечером я смотрел Л е с т н и ц у с л а в ы ; пьеса мне
кажется необычайно ловкой. Скриб знает свое ремесло, но не
знает искусства; он талантлив, но никогда не будет гениален...'
Бальзак—Ганской, 14 мая 1837 г.
ОБРАЗЧИК
Lettres à l'Etrangère, 394.
БУРЖУАЗНО-ФИЛАНТРОПИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
АББАТ ГИЙОП
Монсеньор,Ваши апостолические труды призывали вас in partibus in
fidelium 1 , а вы следуете за двором; вместо того, чтобы
изучить язык марокканцев, дабы цивилизовать их, вы преподаете богословскую элоквенцию в Сорбонне; вы проповедуете парижанам вместо того, чтобы обращать неверных;
эта антитеза касается римской курии, которой мы приносим
благодарность за то, что она соблаговолила послать в Марокко талантливого человека, способного содействовать прогрессу французской цивилизации. Да, вы, казалось нам, глубоко преданы процветанию наших учреждений в Африке.
Африканский епископ представлялся нам носителем прекрасной мысли, папской и государственной. Ничуть не бывало*
вы оставляете арабов ради придворных: несомненно, .опасность более грозна там, где вы находитесь, чем там, где
вы должны быть. Если существуют сделки с небом, то, на
наш взгляд, не много существует сделок с несчастьем и 'здра1
В
страны неверных
(по-латыни).
вым смыслом, которые посоветовали нам ответить на ваше
красноречивое сочинение следующим образом:
Самоубийство, монсеньор, знает две основные причины*
третьей не существует. Либо самоубийство порождается конститутивным устройством, давно уже установленным медициной, и тогда оно неизбежно, как подагра, безумие или ипохондрия, либо самоубийство порождается нестерпимыми страданиями, физическими или моральными.
В первом случае, монсеньор, богатая аргументация, самые растворяющие сравнения, самые мягчительные перечисления, наконец, самая просвещенная религиозная терапия не
так эффективны, как душ, кровопускание и врачебный уход.
Пусть самые знающие врачи раскроют перед своими больными,
вашу книгу на прекраснейшем месте, больным от этого лучше,
не станет. Если вы просматривали научные сборники, то увидели, что в таких случаях противоречие раздражает этих мономанов и что богословская элоквенция, хотя бы и исходящая от профессора, причинит серьезные неприятности проповеднику так же, как и пациенту. Монсеньор, если бы в наши
дни церковь пожелала вмешиваться в эти патологические
случаи, то, возможно, она смогла бы это сделать, лишь подражая принцу Гогенлое, превосходные чудеса (которого открыли больше глаз, чем было их ослеплено чтением книг,
но чтобы возобновить эффект этого могучего заступничества
и высшей веры, быть может, не нужно было ни преподавать
богословскую элоквенцию в Сорбонне, ни следовать за
двором, ни наслаивать, как вы это делаете, антикатолического Жан Жака Руссо на доктрины святой нашей церкви*
ни расточать философские аргументы в книге, которая несомненно полезна ad majorem gloriam episcopi 1 , но о которой
больные заботятся, пользуясь выражением одного из современных поэтов, не больше чем рыба о яблоке, как бы учена
эта книга ни былаі
„
тгл
Что до второго пункта, монсеньор, не думайте, что на
самоубийство человек решается с любовью: душа не приходит к самоубийству без терзаний. Это преступление не только
антикатолическое и антисоциальное,-его ничем нельзя оправдать Почти всегда оно совершается в припадке эгоизма*
» К вящшей славе епископа (по-латыни).
можностям Р ~ Р И М е Г ° В
к социальным возможностям, то увидим, что оно еще запятнано и глѵпостыл.
- Г Г м о Г Г
н
е
с
о
м
н
е
н
и
е
'
э
г
о
—
р а с ч Т Х :
Р
™
' Т а к ж е к а к 11 христианство, разум в той же
все^ сказано T r f
° С у Ж д а ю т €го- П о
поводу
все сказано в Церкви, в светском обществе в Совбонне
д а б ы ' н е ^ п И В М а Р 0 К К а П Р О ^ г л а с н в эту о^щук,
„у
разрешите вам^чя Н а С 3 3 3 а Щ И г а и к а д а ю щ и х б е з Д е в
разрешите вам заметить, что ваше сочинеиие-это прекоас
—
" Г " ' H a f m ВЗГЛЯД> е г о ™
фавнитъ с приопублик°ва™ь™и
веркал в м Г
по случаю похищения
Р 0 К К ° Н € в е Р н ы е не убивают себя, а во Франции
Г
"
п т о
тако К г Р ораС
Г УМЫ' В Ы ДОЛЖНЫ б ы л я б ы
о ™
~
° а з л и ч и я м е ж д У двумя вашими епархиями,
вьДшѵѴ
Р а з ъ я с н е » ™ удивительной проблемы
' К 0 Т О р о е м ы гоРдо называем проЩ Н М
и КОтор:>е' н а
н з ш
T 1 Z Z T
взгляд, находится
C n ? 0 r p e c c o M б « 6 0 * ™ - Вы написали бы лю?о
таГкГѵ"
ЯЮЩУЮ'
П0Чему
турки
не
себяУ а х о и с ™ я Г
Убивают
аК
Ч а с Т ° С0ВеРшают
верьте Г
™
самоубийства. Посовременных самоубийств не только поветрие, она заключается также и в неспособности тех кто поа
вит Францией и кичитея ее процветанием С а м о у б и ^ г в о это дитя шіщеты, сражавшейся с гордостью, оно дитя о Г а я ДЛЯ
teZTZZl
ЯВЛеНИеМ
Ч £ Л О М К О М ' Ч Ь И Н а д е ж д ы обмануты
Г'из
техТГГ
Z Р ^ обесчести™ Г У Т В Р а З Д у М Ь е ' м е ж д у нищенством, когои т е с н я щ и м их голодом, эти современш = ™ Л 0
6
Р
Ы
И
Ч
а
т
т
е
™
*;
Р г о н ы , чьи имена б у д ^ обвинительчтобы ^ Т Ч е Н И е М П Р 0 Т И В н а ш е г о общества, убившот себя
Удля
номия стралашія• n " T O K У Ж З С а е Т самоубийств
Z - Z
всем и Г ѵсилГм
п
Р ав нодунше правителей ко
всем их усилиям, других отвергают со всех
™ ™
н Г
"" "
Г
Д
е
™
ю
Не
т
б у д у щ е е талантливою человека
случайностей биржевой игры. Не
ПОДДерЖаТ
денег
для
n Z ^ T * ОТ С В О И Х р у к ' монсеньорі поверьте, многие умирают, убитые современной социальной системой при Z o Z l
Н 3 С К З М Ь Я Х ' отделывайся' о т Т ^ ' !
с т в а Т а наѵкіТУ и
литеРатУРы.
наказаниями
чтобы заниматься налогами и
наказаниями, тогда как, быть может, они должны были и™ать
причины общественных страданий. Вместо того ™ б ы бранить умерших или тех, кто готовится к смерти, вы, может
быть, должны были обрушить свой том in octavo на головы
тех, над кем вас поставила кафедра, с которой гремел Ma.
сильон. Самоубийство не заложено в сердцах, оно в наших
безбожных законах-сынах К о н с т и т у ц и о н а л и с т а который во времена Реставрации восхвалял вас, монсеньор! Самоубийство заложено и во всяком образовании, которое опрометчиво дается молодым людям, возлагающим свои надежды на
то что по выходе из коллежа народное просвещение даст им
достойное место, и не думающим о порожденной образова
нием массе растущих честолюбий. Когда эта волна начинает
угрожать граниту административных границ, она спадает
в бездну. Общественные нравы непрестанно порождают дарования и обрекают их на смерть у прегражденных жизненных путей, ибо с каждым годом число притязании и притязателей возрастает, а арена остается неизменной. Уж не хотите ли вы, чтобы талантливые люди, воспитаітьіе в ваших
коллежах, воодушевленные вашими курсами в Сорбонне или
Французском коллеже, вернулись к плугу, от которого вы их
оторвали? Они умирают, монсеньор, потому что у них нет
хлеба а вы с о і т у е т е им не умирать; они умирают в расцвете сил, разбуженных вами же, а вы у них спрашиваете:
«Зачем вы умираете?» Они умирают после тысячи бесполезных попыток, получив тысячу отказов; они умирают, чтобы
не кончить на горе Сен-Мишель, как республиканские заговорщики, или на эшафоте, как убиицы.
В таких обстоятельствах долг священника, господин аббат, долг епископа, монсеньор, состоит не в том, чтобы
усесться за стол и написать поучение в целый том in octavo,
что придает пастырю некоторое сходство с учителем из басни,
бранившим утопающего ученика. Не должен ли он был, напротив, броситься на поиски молодых людей, которых вот
время протянутая рука могла бы избавить от ужасной смерти?
Когда один из недавних наших святых, которою голос народа канонизировал в согласии с римской куриеи, увидел
детей, умирающих на улице, он не стал писать том m octavo
для исправления нравов: он ушел, подобрав их в свои плащ.
Самоѵбийцы-это дети, монсеньор, несчастные молодые люди,
покинутые разумом, как дети, подобранные святым Винцен-
том де Поль, были покинуты родителями! Но мы уверены,
что, находясь между сокровищами милосердного благочестия,
и несчастьями Латинской страны, за неимением несчастий
в стране Марокко, вы совершили немало спасений, вы храните о них молчание, но они образуют ваш венец из небесных
цветов; если несколько похвал по адресу вашей кішги прозвучали в католических газетах, то существует хор признательных голосов и молодых душ, возвращенных к жизни,
который нам не слышен. Если бы, несмотря на ваши занятия
при дворе, если бы, несмотря на ваши обязанности по кафедре элоквенции, вы не обходили по утрам и вечерам торопливым шагом, подобающим добрым пастырям, эту болящую столицу, где самоубийство, бледное и хилое, встречается на перекрестках, пристыженное и безыменное таится
под столькими крышами,—ваша книга, какой бы новой
по форме она вам ни казалась, была бы лишь горькой
насмешкой.
Послушайте, монсепьор, есть в Париже гибельный промысел, отверзтая пучина, разрешенная законом, оберегаемая
полицией, равно бдящей и над священными доходами, доставляемыми этой пучиной, поглотившей целые состояния, и над
семьей, которой вы навеваете божественное вдохновение милостыни; этот отвратительный, но необходимый институт
называется игрой. У игры, монсеньор, есть свой попечитель
бедных, которого нельзя сравнить с вами, как нельзя сравнить
служителя ада со служителем церкви; этот человек обязан
следить за личным составом игроков, чтобы во-время поставить золотую монету между самоубийством и игроком, будучи уверен, что большая часть этого золота вернется
с огромными барышами игры, которая наживается на этой
чудовищной филантропии. Благодаря ростовщической милостыне газеты не говорят больше о самоубийствах, вызванных
игрой; святая инквизиция предупреждает все. Разумеется,
дух любви и милосердия, одушевляющий вас, нового попечителя нового двора, выше духа наживы и расчета, который
влечет инспектора игорных домов по всем чердакам. Душа
ваша, одновременно просвещенная и религиозная, несомненно
делает для Парижа то, что игра делает для поддержания
его мошеннического величества, восседающего на зеро или
двойном зеро. Племя людей, угнетенных нищетой, погасившей,
их прекрасные дарования, и тех, кто
ство умереть, не более многочисленно, и его не труднее обе
регать, чем нацию игроков; вы должны знать этот
город
скорби, вы, пишущий о самоубийстве; вы знаете его, ибо вы
его тайное провидение. Вам, несомненно, принадлежит слава
создания той превосходной инспекции, о которой полиция
мало беспокоится. Придя к этому убеждению, монс^ьор мы
сожалеем о времени, отданном вами на шлифовку фраз вашей
Г Г о ночах, которых она стоила, о деньгах, истраченных
на ее печатаіше; мы' можем лишь умолять вас продолжить
ваши прекрасные неизданные творения и прекратить ваши
издания, ибо, монсеньор, соблаговолите п о н я т о . ч т о у т о г ^
кто из-за нищеты или отчаяния бросается в воды Сены, нет
семи франков пятидесяти сантимов, чтобы приобрести у
г ?на Полена ваше сочинение. Французская академия может
быть благодарна вам за то, что вы окрасили священным
цветом ваших образов старые, избитые рассуждения ша-то
разбираетоя во всяком старье, но, м о н с е н ь о р ^ ш о ^ т *
^
плачет об этих минутах, похищенных риторикои, об этих
деньгах, брошенных на бесплодную почву прессы. Вы сами
себя ограбили; вы взяли из сокровищницы своих тайных
благах поступков алмазы, без которых обеднеют епископские
ризы; вы обшарили свое вечное- блаженство, чтобы украсить
нынешнее свое убожество ad minorem glomm episcopi MaAx eS MOHceiibop, если бы ваша рукопись случайно оказалась у н а Г в кабинете рядом с П о д р а ж а н и е м И и с у с у
Х р и с т у , почему бы ангелу, наградившему даром речи ослицу
йророка, не заставить их поговорить между собой! Их беседа
разъяснила бы вам, человеку столь просвещенному, неоохоГ ь
не оставлять благие дела в такое время, когда церковь меньше нуждается в изящно написанных книгах, чем
Г в и д и Г х и непрестанных доказательствах своего благотворного Сияния. Церковь-это общество, с о р о м у как и мно"им другим, нужны действия, а не книжные проспекты.
r0q
ш
!
г
ь
Рецензия на «Беседы о с а м >
убийстве», соч. аббата Гийона, епископа Марокканского.
Oeuvres, XXII, 2 4 3 - 2 4 8 .
•
г
1 К наименьшей
славе
епископа 'Марокканского
(по-латыни).
МУЗЫКА И Ж И В О П И С Ь
БЕТХОВЕН
Симфония
д о - м и н о р — шедевр Б е т х о в е н а . — Превосходство Б е т х о в е н а
над Россини и Моцартом.
Среди восьми симфоний Бетховена есть одна фантазия—величественная поэма, завершающая финал С и м ф о н и и в д ом и н о р . Когда после медлительных подступов несравненного
чародея, столь чудесно понятых Габенеком, вдохновенный дирижер одним жестом приподнимает роскошную завесу этой
декорации, вызывая своим смычком ослепительный мотив,
заключивший в себе все неотразимое могущество музыки,
поэты замирают в немом восторге; они поэтому поймут, что
бал Бирото произвел на него то же впечатление, какое на них
производит жизнетворный мотив, которому С и м ф о н и я в
д о - м и н о р , быть может, обязана превосходством над своими
лучезарными сестрами.
Светоносная фея устремляется вперед, подняв волшебный
жезл. Слышится шелест шелковых пурпурных завес, взвиваемых ангелами. Чеканного золота врата, похожие на врата
флорентинского баптистерия, распахиваются настежь, повернувшись на алмазных петлях. Взоры теряются в представшем
им великолепии, в анфиладе чудесных чертогов, откуда, неслышно скользя, появляется сонм неземных созданий. Курится
ладан преуспеяния, пылает жертвенник счастья, воздух напоен
благовониями. Существа с божественной улыбкой, облеченные в белые с голубой каймой туники, реют перед вами,
пленяя нечеловеческой красотою лиц и бесконечным изяществом своих очертаний. С пылающими факелами в руках порхают амуры 1 Вы сознаете себя любимым, вы исполняетесь
блаженством, которое ощущаете, не постигая его, купаетесь
в волнах гармонии, струящейся и опьяняющей каждого избранной им самим амброзией. Тайные надежды, пробудившись в вашем сердце, на одно мгновение становятся реальностью.
После того как он вознес вас в горние сферы, волшебник,
заставив зазвучать таинственно-глубокие басы, низвергает
вас в трясину холодной действительности, чтобы вывести
оттуда, когда, взалкав его божественных мелодий, душа ваша
взмолится: «ЕщеІ» Последовательное развитие душевных движений, заключенное в наиболее возвышенной части прекрасного финала, является вместе с тем точным отображением
всего пережитого Констанцией и Цезарем под впечатлением
их бала. Коллине на своей флейте сыграл финал их коммерческой симфонии.
•
<<величие
и
падение Цезаря
Бирото». Соч., VII, 167—1Ъ8.
*
Вчера я слушал С и м ф о н и ю в д о - м и н о р Бетховена.
Бетховен^—единственный человек, внушающий мне зависть.
Я бы скорей хотел быть Бетховеном, чем Россини чем Моцартом. Есть в этом человеке божественная сила. В финале
кажется, будто волшебник уносит вас в заколдованный мир,
в прекраснейшие дворцы, собравшие чудеса всех искусств,
и там, по его повелению, двери, подобные дверям часовни,
поворачиваясь на петлях, открывают вам красоты неведомогожанра, показывают самих фей фантазии. Эти создания порхают
вокруг, прекрасные, как женщины, на крыльях, расцвеченных,,
как у ангелов, и вы утопаете в нездешнем воздухе, том воздухе, что, по словам Сведенборга, поет и благоухает, обладает цветом и чувством, приливает и наполняет вас блаженством !
„
Нет, дух писателя не дарит подобных наслаждении; все,.
что мы описываем, конечно и определенно, а то, что бросает
вам Бетховен-бесконечно! Понимаете ли вы, я знаю толькоС и м ф о н и ю в д о - м и н о р и отрывок из П а с т о р а л ь н о й с и м ф о н и и ; мы слышали, как наигрывали ее в Женеве во втором этаже, когда я ничего не слышал, так как
в двух шагах от вас какой-то молодой человек допрашивал
меня вытаращив с остолбенелым видом глаза, не знаю ли я,
кто эта прекрасная иностранка, а это были вы, и я гордился,,
сдовно женщина, молодая, красивая и тщеславная...
Бальзак—Ганской,
7 ноября 1837 г.
Lettres à l'Etrangère, 443.
ШОПЕЦ и ЛИСТ
Шмуке сел за рояль. Стоило ему только прикоснуться
к клавишам, и музыкальное вдохновение, возбужденное скорбным трепетанием его души, унесло добряка немца, как то
бывало обычно, за пределы миров. Под его пальцами возникли
дивные темы, по которым, как по канве, он вышивал прихотливые узоры, исполняя их то с грустью и рафаэлевским совершенством Шопена, то с порывом и дантовегой грандиозностью Листа, двух музыкальных организаций, наиболее приближающихся к Паганини.
«Кузен Понс». Соч., XII, 206.
РОССИНИ
музыки в современной
Италии.
толкнул его, украдкой подсмеиваясь над мистификацией, участником которой ему приятно было считать себя.
— В том, что вы сказали, многое кажется мне основательным,—продолжал Гамбара,—но берегитесь 1 Судя по вашим
словам, вы, осуждая итальянский сенсуализм, склоняетесь к
германскому идеализму, представляющему из себя не менее
гибельную ересь. Если люди с фантазией и здравым смыслом,
как вы, покидают один лагерь только для того, чтобы перейти в другой, если они не умеют выбрать середины между
двумя крайностями, то мы вечно будем сносить насмешки
софистов, отрицающих прогресс и сравнивающих человеческий гений с этой скатертью, которая, будучи слишком коротка, чтобы покрыть весь стол синьора Джардини, украшает
один конец стола за счет другого.
«Гамбара». Соч., изд. Пантелеева, XIV, 228—229.
^»«адок
— Вы очень нападаете на итальянскую школу,—сказал
I амбара, оживленный выпитым шампанским,—это мало касается меня. Ведь я не занимаюсь этими более или менее
•мелодичными пустяками I Но вы, человек светский, чувствуете
мало благодарности к классической стране, в которой Германия и Франция получили первые уроки. В то время, когда
произведения Кариссими, Кавалли, Скарлатги, Росси исполнялись во всей Италии, скрипачи Парижской Оперы по странному обыкновению играли на скрипках в перчатках. Люлли,
расширивший гармонию и распределивший диссонансы, приехав во Францию, нашел только у повара и каменщика голоса и ум для исполнения своих произведений; из первого
выработался тенор, а из второго—баритон. В то время Германия, за исключением Себастьяна Баха, не знала музыки.
По, сударь, несмотря на вашу молодость, вы, вероятно, долго
изучали вопросы искусства и без этого не могли бы так ясно
выражаться,—сказал Гамбара с скромностью человека, опасающегося, что его слова будут приняты с неудовольствием
или презрением.
Это замечание заставило улыбнуться часть слушателей
•ничего не понявших в рассуждениях Андреа. Джардини, уверенный, что граф наговорил много бессвязных фраз, слегка
Мы отправились в Болонью посмотреть С в я т у ю Цец и л и ю Рафаэля и С в я т у ю Ц е ц и л и ю Россини, а также
и нашего великого Россини! Мы проникли в глубины театра
JIa Скала, где звучало ещё пенье Марии Малибран; мы потревожили прах венецианского театра Фениче. Нам пришлось
осмотреть Перголу, измерить мраморные глыбы великолепного театра в Генуе, увидеть проходящего Паганини; мы
отправились в Бергамо, чтобы выследить соловьев в их
гнезде. Увы! нигде мы не нашли музыки, за исключением той,
что уснула в голове Джакомо Россини, и той, что слушали
ангелы на картине Рафаэля. Франция и Англия так дорого
покупают музыку, что Италия доказывает справедливость поговорки: «Сапожник—без сапог». Эти поиски, предпринятые
для философского этюда Г а м б а р а , стоили очень дорого, они
поглотили в шесть раз больше назначенной вами за него
цены. Пришлось возвращаться через Швейцарию, а там,—
сколько времени потеряно в снегах 1 По приезде все музыкальные идеи, воспринятые мной, когда я слушал великого Россини и смотрел С в я т у ю Ц е ц и л и ю , рухнули, когда я
увидел С в я т у ю Ц е ц и л и ю г-на Делароша и услышал
П о ч т а л ь о н а и з Л о н ж ю м о . Вы считаете это авторскими
оправданиями—ничуть,
Из
предисловия к «Гамбара»,
1837 г. Oeuvres, XXII, 494.
МЕІЕРИЕГ
« H H C T C a : S " o ? n Ä H ° " e i S . L a "r„a М о І 1 а Р т а н а Д М е й е р б е р о м . — Д о н Ж у а н —
рактеристика
o ^ S ^ b S a S T ^ e e " р Т б Т п
Мейербер и « р а Г і Х е м е н н Ѵ й
Ѵ и з ^
НОЙ паотитѵпр ~ Ш н а ш л и п Р и т я г а т е л ь н о г о в этой бессвяз" Т А З ; 1 Л И М О Г Л И в п а с т ь в с о с т о я » « в лунатизма?а Л ь „ 7 „ Т а а П О п р и е э д е Д°м°й-—Конечно, сюжет Р о б е в ши і о в лоаме е п И Ш £ Н " И Н 1 е р б С а : ° Л Ь т е И о ч е н ь У д а ч и 0 Разно^^фрашѵзские 'n„ п ° И Т Р У Д Н Ы Х И и н т е Р ^ ь . х положений,
ZfiJ™ ^
писатели нашли возможным извлечь из нее
Везагж' » m « К ° Т ° Р 0 Й И Н е п Р я ДУ«аешь. Глупые либретто
ера
бе от т/ьяноа
" е М 0 Г у т равняться с поэмою РоЭ
Т
М
гнетѵшим
" н а с т о я ш 1 ™ Драматическим кошмаром,
8
Х
О
Т Я о и и н е вызывает сильных ощущенийі Г й і г і /
'
Б " т ^ 7 А І г Т Л 0 С і а т Л ДЬЯВОЛу
красивую роль,
ьертран и Алиса олицетворяют борьбу добра и зла кототая
шзит0иГпп Р р С Т а М Н д а е т С Э М Ы Й благородный материаТком
Р Л е С т а ы е М е л о д и и д о л ж н ы б ы л я естественно чередоваться с резким и грубым пением, а в партитуре немецХ о Т Г ч И а Т ДеМ°НЫ П°ЮТ ЛУЧШ6 свя™х- ^жествешое
топ оТхолит п Л И 3 м е н я е т е м У' и е с л и даже иногда композиЗДСКИХ
М О Т И В О В ' то б ы с т Р ° Утомляется и спе3
Г „
шит вновь вернуться к ним. Нить мелодша, которая никоч а с т Г и с ™ П Р е Р Ы В а Т Ь С Я л , В Т а К О М ° б ш и р н о " произведении,
часто исчезает в музыке Мейербера. Чувства и сердце не
грают там никакой роли. Там совсем нетчарующиЛотивов
которые будят мечты и оставляют в глубине дунш такое п №
ГаГ°НИЯ
тоТчтобГГИе™ C T B W надо всем вместо
того чтобы служить фоном, на котором выделяются группы
музыкальной картины. Нестройные аккорды не ™ Г а ю Т ™у
шателя, а только возбуждают в его сердце ч у в с ™ подобий
тому, которое он испытывает при виде акроба™' висящего
мин Л и ™ 3 н ь ю и сме РДью. Привлекательные м Л о д Г Г н Л
дѵматТ
^ С П 0 к а и в а ю т утомительного волнения. Можно нот
Х а з а к « т о У томпозитора не было другой цели, как только
ПрИЧудЫ
и
зпвйЛа
фантазию: он спешит воспольЧІОбы
I T Z
произвести необычное впен е - з а б о т я с ь пи О правде, ни о музыкальном един™
орке'стра
" " Г0Л°С0В' n p o n a ™ l x
неистовства
— Перестаньте, мой друг,—сказал Гамбара,—я еще нахожусь под впечатлением прекрасного адского пения, кото^
рому звуки труб придают особенный ужас. Это совсем новый
прием в оркестре! Прерванные каденции так способствуют
энергии в музыке Р о б е р т а ! А каватина четвертого действия
и финал первого очаровали меня какой-то сверхъестественной
силою. Нет, декламация самого Глюка не производила такого
чудесного впечатления. Я удивляюсь такому уменыо.
— Маэстро,—возразил Андреа улыбаясь,—позвольте не
согласиться с вами. Глюк долго размышлял, прежде чем
писать. Он рассчитывал все шансы и намечал план, который
не позволял ему сбиваться с дороги, хотя подробности он
отделывал потом по вдохновению. Следствием этого являются
энергические ударения и дышащая правдой декламация. Я согласен с вами, что умение очень велико в опере Мейербера,
но оно является недостатком, когда в нем не чувствуется
вдохновенности, и мне кажется, что в этом произведении
видна тяжелая работа умного человека, набиравшего свою
музыку из миллионов забытых оперных мотивов, развивая
их и соединяя. Но с ним случилось то, что всегда бывает
при подобных заимствованиях: злоупотребление прекрасным.
Этот искусный собиратель нот расточает диссонансы, режущие
при частом повторении ухо и приучающие его к эффектам,
с которыми композитор должен обходиться очень осторожно,
чтобы извлечь из них при случае наиболее выгодное впечатление. Энгармонические переходы, повторяющиеся до пресыщения, злоупотребление плагальной каденцией отнимают
наибольшую долю религиозной торжественности. Я знаю, что
у всякого композитора бывают свойственные ему формы,
к которым он невольно возвращается, но необходимо следить
за собой и избегать этого недостатка. Картина, колорит которой ограничивался бы только синею и красною краской,
была бы далека от действительности и утомляла бы глаз. Таким образом, почти одинаковый ритм во всей партии Роберта
придает ей монотонность. Что же касается труб, о которых
вы говорили, то этот прием давно известен в Германии: то,
что Мейербер выдает за новость, всегда употреблялось
Моцартом: хор демонов в его Д о н Ж у а н е поет именно
таким образом.
Подливая вино Гамбара, Андреа старался возбудить в нем.
истинное музыкальное чувство, противореча и доказывая, что
его назначением в этом мире было искать новые поэтические
формы для выражения собственных мыслей и не преобразовывать искусство вне его пределов.
— Вы ничего не поняли в этой великой музыкальной
драме, дорогой граф,—сказал небрежно Гамбара.
Затем он подошел к роялю, попробовал тон и, сев перед
ним, размышлял несколько минут, как бы собираясь с собственными мыслями.
— Во-первых, знайте,—сказал он, что при моем тонком
слухе я понял работу ювелира, о которой вы говорите. Да,
эта опера—ювелирное произведение, но материал взят не у
других композиторов, а из сокровищницы богатого воображения композитора, который с помощью науки извлек оттуда
лучшую музыку. Я вам сейчас объясню эту работу.
Он встал и унес свечи в соседнюю комнату, но, прежде
чем сесть опять за рояль, выпил полный стакан сардинского
вина, которое возбуждает почти так же сильно, как старые
токайские вина.
— Видите ли,—сказал Гамбара,—эта музыка не создана
ни для неверующих, ни для тех, кто никогда не любил. Если
вы никогда в жизни не испытывали ужасного влияния злого
духа, который мешает преследовать вашу цель и приводит
к печальному концу ваши лучшие надежды, одним словом,
если вы никогда не замечали на этом свете хвост вертящегося
чорта, то опера Р о б е р т должна быть для вас тем же, что
Апокалипсис для неверующих в будущую жизнь. Если в несчастье или преследовании вы поймете геішя зла, эту обезьяну, ежеминутно уничтожающую дела бога; если вы представите себе, что этот гений, без любви, насильственным образом
овладел женщиной почти божественной чистоты и испытывает благодаря этой любви радости отца, предпочитающего
для своего сына вечные страдания с собой вечному блаженству с богом; если вы, наконец, представите себе, как душа
матери витает над головою сына, чтобы спасти его от ужасных обольщений отца,—вы приобретаете только слабое понятие о той громадной поэме, которой недостает очень малого, чтобы соперничать с Д о н Ж у а н о м Моцарта. Я признаю, что Д о н Ж у а н стоит выше по своему совершенству.
Р о б е р т Д ь я в о л представляет идеи, а Д о н Ж у а н воз-
буждает чувство. Опера Д о н Ж у а н до сих пор является
единственным музыкальным произведением, в котором гармония и мелодия уравновешены: лишь в этом заключается ее
превосходство над Р о б е р т о м , ибо Р о б е р т отличается
большим музыкальным богатством. Но к чему послужит это
сравнение, если оба произведения прекрасны, каждое благодаря своим собственным достоинствам? Мне, страдающему
от постоянных ударов демона, Р о б е р т понятней, чем вам;
он кажется мне разнообразным и в то же время полным единства. Правда, благодаря вам я перенесся в ту чудную
страну мечтаний, где наши чувства усиливаются, а вселенная
достигает необъятных размеров. (Наступила минута молчания.)
Я еще вздрагиваю,—говорил несчастный музыкант,—вспоминая проникший в глубину моей души четырехразмерньгй темп
литавров, которым открывается увертюра, а соло тромбона,
флейт, гобоев и кларнета наполняет душу фантастическим
сиянием. Анданте в до-минор заставляет уже предчувствовать
монастырскую тему призыва к душам умерших и усиливает
значение этой сцены, придавая ей оттенок чисто духовной
борьбы... Я дрожал в ту минуту.
Гамбара ударил по клавишам и стал мастерски развивать
тему Мейербера, подражая манере Листа. Звуки рояля напомнили целый оркестр, управляемый музыкальным гением,
— Вот стиль Моцарта!—воскликнул он.—Посмотрите, как
этот немец подбирает аккорды, какой искусной модуляцией он
рассеивает ужас и переходит на доминанту до. Я слышу звуки ада! Занавес поднимается. Что я вижу? Единственное в
своем роде зрелище, которое мы назвали бы адским: оргидо
сицилийских кавалеров. Хор в фа-мажор своим вакхическим
аллегро выражает все необузданные человеческие страсти.
Все нити, которыми руководит дьявол, приведены в движение.
Вот нечто вроде радости, охватывающей людей, которые танцуют над пропастью и сами причиняют себе головокружение.
Какое движение в этом хоре! Наивная жизнь обывателей горожан слышится в полном простоты пении Рембо. Этот добряк обновляет мне душу, говоря Роберту, под влиянием вина,
о зеленеющих Полях плодотворной Нормандии. Таким образом,
воспоминание о любимой родине освещает мшіутным блеском
это мрачное начало. Затем следует чудесная баллада в домажор, сопровождаемая хором, Роберт тотчас же делается
понятным. Гнев принца, оскорбленного вассалом, кажется уже
неестественным. Но он успокаивается, так как вместе с Алисой появляются воспоминания о детстве—аллегро в ля-мажор,
полное движения и прелести. Слышите ли вы крики невинности, которую начинают преследовать с самого начала этой
адской драмы? «Нет, нет»,—пропел Гамбара.—Вновь пришли
на память родина и пережитые там волнения. Воспоминания
детства снова оживают в сердце Роберта. Но вот является
тень матери, возбуждающая тихие религиозные размышления.
В красивом романсе ми-мажор, полном религиозного одушевления, встречается великолепная гармоническая и мелодическая прогрессия на слова:
На небе, как и на земле,
Его мать будет молиться за него.
Начинается борьба между неизвестными силами и человеком-одиночкой, в жилах которого течет адское пламя. Чтобы
вы лучше ознакомились с этим, вот вступление Бертрана, во
время которого великий музыкант заставляет оркестр повторять, как воспоминание, балладу Рембо. Сколько уменья
в этом! Какая связь между всеми частями! Какое замечательное построение! Дьявол побежден; он прячется и дрожит.
С ужасом Алисы, узнающей в нем дьявола, нарисованного на стене деревенской церкви, начинается борьба двух
принципов. Музыкальная тема развивается с удивительным
разнообразием! А вот и необходимый для всякой оперы антагонизм, выраженный в прекрасном речитативе между Бертраном и Робертом, напоминающим Глюка:
Ты никогда не узнаешь, как сильно я люблю тебя.
Этот демонический до-минор, этот грозный бас Бертрана
уже готовы уничтожить все усилия человека, обладающего необузданным характером. Тут все мне кажется страшным. Найдется ли виновный в преступлении? Сыщет ли палач
свою жертву? Сгубит ли несчастье гениальность артиста?
Убьет ли болезнь больного? Спасет ли ангел-хранитель христианина? Вот и финал, сцена игр, в которой Бертран мучает
сына и возбуждает в нем ужасное волнение. Роберт, разоренный, желающий в бешенстве всех убить, все предать огню
и мечу, действительно кажется его сыном. Какая страшная
радость слышится в словах Бертрана: «Я смеюсь над твоими
ударами, Роберт!» Как прекрасна венецианская баркаролла
финала! Какие смелые переходы предшествуют новому появлению на сцене этого негодного отца, желающего вновь
ввести Роберта в игру! Это начало действует угнетающе на
тех, что в глубине сердца развивает темы, придавая им те
размеры, которых желал композитор. Одну только любовь
можно противопоставить этой великой симфонии, в которой
не заметно ни монотонности, ни повторения одних и тех же
приемов: она отличается связностью и разнообразием, служит примером величия и простоты. Я отдыхаю и переношусь
в возвышенную сферу придворных галантностей. Мне слышатся остроумные, немного грустные фразы Изабеллы и хор
женщин, разделенный на две части и подражающий мавританским мелодиям, присущим Испании. В этом месте ужасная
музыка смягчается, как успокаивающаяся буря, и переходит
в прелестный, как цветок, кокетливый дуэт, ничем не напоминающий предшествующей музыки. После военных тревог героев, ищущих приключений, рисуется любовь. Я чувствую
благодарность к поэту! Мое сердце не может более устоять.
Если бы я іне чувствовал в этом прелестей французской комической оперы, если бы я не слышал милых шуток женщины,
умевшей любить и утешать, я не выдержал бы торжественной
музыки;, с которой появляется Бертран. «Позволю ли я!»—отвечает он сыну, когда тот обещает обожаемой принцессе одержать победу под знаменем, которое она ему вручила. К надежде, что любовь исправит игрока, присоединяется взаимная
страсть самой красивой из женщин, так как вы наверно представляете себе эту восхитительную сицилианку с ее ястребиным взглядом, уверенным в добыче (как музыкант сумел это
истолковатьі). Но человеческой надежде противится ад, восклицая торжественно: «К тебе, Роберт Нормандии!» Разве вы не
восхищаетесь мрачной, полной ужаса, протяжной и прекрасной
музыкой, написанной на слова: «В ближайшем лесу!» В ней
можно найти красоты «Освобожденного Иерусалима», так же
как испанский хор и марш, напоминающий рыцарство того
времени. Сколько оригинальности в этом аллегро и модуляциях литавров—до-ре, до-соль! сколько прелести в вызове на
состязание! В нем выражается вся рыцарская жизнь того времени; мне кажется, что я одновременно читаю рыцарский
роман и поэму. Рассказ кончается. Вы думаете, что музыкальный источник истощен, что вы никогда не слышали ничего,
подобного, а между тем вы видели только одно выражение
человеческой жизни. «Буду ли я счастлив или несчастлив?»—
говорят философы. «Буду ли я осужден или спасен?»—говорят христиане.
Здесь Гамбара остановился на последней фразе хора и стал
с грустью развивать ее." Затем он в^гал и выпил еще одни
большой стакан сардинского вина. Этот полуафриканский напиток снова покрыл краской его лицо, побелевшее от чудного, страстного исполнения оперы Мейербера.
— Ради полноты,—продолжал он,—великий композитор,
дает нам и комический дуэт; только такой дуэт и мог позволить себе демон: обольщение" бедного трубадура. Композитор
сочетает шутку с ужасом, причем эта шутка поглощает жизненную правду великого фантастического творения: чистую
и спокойную любовь Алисы и Рембо будет всю жизнь волновать преждевременная месть. Только возвышенные души
могут понять, каким благородством дышат эти комические
арии: вы не найдете в них ни мишурного итальянского блеска,,
ни французской шаблонности. В их величии есть что-то олимпийское: в них слышится и горький смех божества и удивление трубадура,, обращающегося в Дон Жуана. Без этого величия мы вернулись бы слишком скоро к основному колориту,
оперы, который с таким бешенством выражается в уменьшенных септимах и переходит в адский вальс, ставящий нас
лицом к лицу с демонами. С какою силой си-бемольный куплет Бертрана выделяется в адском хоре, с ужасом и безнадежностью выражая отцовскую привязанность среди демонического пенияI Какой прелестный переход при появленииАлисы! Я еще слышу эти небесные звуки, напоминающие
песнь соловья после бури. Таким образом, главная мысль,
выражается в деталях, ведь неистовству демонов, кишащих
в преисподней, нельзя было бы противопоставить ничего,
кроме чудесной арии Алисы:
Когда я покинула Нормандию!
Нить мелодии, блистая лучом надежды, проходит, как
искусная вышивка по всей гармонии. Гениальность композитора ші на минуту не покидает его. Песня Алисы1 в си-бемоль»
присоединяется к доминанте адского хора фа-диэз. ^ ш и т е ли вы тремоло оркестра? Это Роберта требуют на собрание
демонов. Бертран возвращается на сцену, и здесь наступает
самый интересный музыкальный момент: речитатив в. ми-бемоль, представляющий борьбу неба и ада и сравнимый лишьс самыми грандиозными произведениями вели™х музыкянтов.
Перед вами ад и крест. Следуют угрозы Бертрана Алисе,,
.наиболее патетический момент в музыке: гении зла распространяется в любезностях, основываясь, как всегда на личной выгоде. Появление Роберта дает нам великолепное триот
в ля-бемоль и устанавливает первое обязательство между,
двумя враадебными силами и человеком. Обратите внимание
как это ясно выражено,-сказал Гамбара, передавая эту сцену
со страстью, поразившей Андреа.-Весь музыкальный поток,
с самого начала стремился к борьбе трех голосов. Могущество зла торжествует. Алиса убегает, и вы слышите дуэт меаду Бертраном и Робертом. Дьявш захватывает в свои когти
его сердце, разрывает его и овладевает им; он пользуется
всем- честь, надежда, вечные наслаждения мелькают перед.,
•гаазами Роберта, который подобно Иисусу поставлен на.
кроГю храма и которому дьявол указывает на земные с о К
°
Р
Г
к
в
о
т
тема,
которою начинается^
опера:
Инокини, починающие под этими холодными плитами,
Слышите ли вы меня?
'Блистательно развивавшееся действие оканчивается вакханалией в темпе аллегро виваче. Вот настоящее торжество
ада Как очаровывает, как охватывает нашу душу эта музыка
Адские силы захватили свою добычу; они держат ее крепко и
торжествуют! Погиб прекрасный гений, предназначенный цар™ т ь и побеждать. Демоны ликуют: нищета задушит ге« " ^ ' з д е с ь ^ а м ^ ^ / ^ а л ^ о ю в о е м у развивать вакханалию, импповизируя красивые вариации и подпевая мелодичным годном который, казалось? выражал ето внутренние страдания.
Слышите ли вы жалобы отвергнутой любви?-продолжал он-Изабелла призывает Роберта в то время, когда поет
хор рыцарей, отправляющихся на турнир, В этом хоре ель,-
шатся мотивы второго акта, и таким образом делается понятТ Т Ь е f й с т в и е совершилось в сфере сверхъестественной. Жизнь берет свое. Хор смолкает при приближении
чар ада, которые приносит Роберт вместе с талисманом; чудеса третьего акта продолжаются. Здесь начинается дуэт насильственного обольщения; в его ритме выражаются грубые
желания человека, решившегося на все. Принцесса жалобными
стенаниями старается привести в себя своего возлюбленного,
адесь композитор очутился в очень затруднительном положении, но вышел из него победителем. Какая прелестная мелодия
в этой каватине: «Ради тебя самого!» Женщины были сильно
взволнованы этой сценой и прекрасно поняли ее смысл. Одного
этого отрывка было бы достаточно для того, чтобы опера
имела успех: всем женщинам кажется в эту минуту, что их
обольщает какой-нибудь рыцарь! Я еще никогда не слышал
такой страстной и драматической музыки! Целый мир ожесточается против проклятого. Этот финал можно упрекнуть в
сходстве с финалом Д о н Ж у а н а , н о в положениях громадная разница: здесь светится благородная уверенность в Изабелле и искренняя любовь, спасающая Роберта; он с пренебрежением отвергает адскую власть, которою располагает
между тем как Дон Жуан упорствует в своем неверии. Вообще
этот упрек можно сделать всем композиторам, писавшим
финалы после Моцарта, потому что финал Д о н Ж у а н а
представляет собой классическую форму, которая будет всегда
употребляться. Наконец, религия торжествует над всем ее
голос звучит над целым миром, утешая несчастных, помогая
кающимся. Весь театр волнуется при возгласах хора:
Несчастные
или
преступные,
спешите
сюда!
При ужасном волнении разнузданных страстей божественный голос не был слышен, но в этот критический момент сияющая блеском католическая церковь может громить. Я был
удивлен, что после стольких музыкальных богатств композитор
нашел еще новые сокровища для «Хвалы провидению», напоминающей Генделя. Является растерянный Роберт с разрывающим душу криком: «Если бы я мог молиться!» По требованию ада Бертран преследует своего сына и делает последнюю попытку. Алиса вызывает мать, и вы слышите величественное трио, к которому сводится вся опера: торж--
ство души над телом, добра над злом. Религиозное пен е
заставляет умолкнуть адские голоса, счастье сияет; но тут
музыка начинает ослабевать: я видел церковь вместо того,
чтобы слышать счастливое пение ангелов или молитву праведных душ, радующихся соединению Роберта и Изабеллы. Мы
не должны были чувствовать себя под гнетом адских чар мы
должны бы уйти с надеждой в сердце. Для меня, католического композитора, нужна другая молитва, ^ н е хотелось бы
послушать, как Германия будет бороться с Италиеи что
сделал бы Мейербер ради победы над Россини. Но тем не
S e
несмотря на этот легкий недостаток, композитор может
сказать себе, что, прослушав в течение пяти часов очень
содержательную музыку, парижане все-таки предпочитают
внешние эффекты подлинному музыкальному шедевру! Вы
слышали возгласы одобрения, вызванные этой оперой? Она
выдержит пятьсот представлений! Французы поняли эту, му-,
зыку только потому, что...
— В ней есть мысли,—подхватил граф.
< - Нет потому что она представляет борьбу, в которой
гибнет столько людей, и потому что каждый человек находит
в ней общее со своими воспоминаниями. И я, несчастный, почувствовал себя удовлетворенным, услышав небесные голоса,,
о которых я так много мечтал.
Гамбара. Соч., изд. Пантелеева,
XIV, 249—257.
ШАРЛЕ, ГАВАГНП, МОІІЬЕ
Шарле Г б щ е
К
Гомер _ н о в с к о Т I
с Ѵ ^ н и ы х ^ л а « о в .
общественных KJiauwu
Л
^
-
эпохи
-
Недостатки Шарле и М о н ь е . великосветского общества.
Гаварни -
худож-
!-• ' В воображении, в памяти каждого француза, под соломенной крышей н в мансарде, жил в глубине сердец властный
образ пятифутового исполина. Окруженный императорской
пышностью или разбитыми орлами, пороховым дымом или
пальмами Святой Елены,-Бонапарт, консул, император не
раз возникал перед глазами, вызванный к жизни каким-нибудь
именем, словом или воспоминанием. Вокруг него всегда стояли
суровые, молчаливые фигуры, голубые мундиры, поблекшие
в сражениях, изувеченные солдаты, французы, итальянцы, бельгийцы, вернувшиеся из Египта, из Москвы, из Кабреры, с
английских понтонов. Эта толпа получала от него, как деревья
от солнца, свет, выделяющий их из окружающей среды; и
хотя они стали землепашцами, кучерами, кузнецами, никогда
вульгарность не коснулась этих простых людей: они жили в
народе как особый народ со своей религией и нравами, сосвоей солдатской покорностью и отвагой. Июль 1830 года
снова увидел их... Нашелся во времена Реставрации гений,
который понял этот мир поэтический и народный, великий и
простой, а главное, не забыл о смешном контрасте армии
Бурбонов, гарцовавшей среди этих человеческих обломков...
И вот, художник, поэт, историк, Шарле стал Гомером этой
части Франции. Рядом с этими созданиями, то забавными, то
величественными, его редкий талант поместил мир детей.
Можно ли забыть грациозные, свежие сцены, их удивительное
простодушие, подкупающее даже закоренелых холостяков.
Шарле с неслыханной свободой может перейти от самых резких тонов старого ворчуна, грозящего единственным оставшимся у него кулаком Тюильрийскому дворцу, осаду которого
предвидел, к тонким и мягким оттенкам ребенка, спрашивающего: «А правда, что у вас деревянная нога от рождения?»
Этот человек разгадал два типа, и они обессмертили его:
солдат, ребенок. Ребенок почти всегда солдат во Франции,
а солдат так часто бывает ребенком, открытым и пррстодушным.
Человек, может быть, столь же поражающий, более язвительный, почти столь же остроумный, талант которого вы не
оцените, если не видели безграничность его возможностей
в мастерской, где он готовит картины, этот человек, настоящий артист, воскликнул, увидев чиновников, гризеток, глупцов (г-н Прюдом): «Вот нация, принадлежащая мнеі мое достояние! мое добро!»
Анри Монье (о фланеры! кто не узнает его?) сумел как
бы инстинктивно подметить нравы, позы, контуры, язык, тайны
этих разнообразных и живописных существ. Он стал особым
человеком, как Шарле, как Хогарт, как Калло. Неподражаемый,
как они, он сотворил, он пустил в духовное обращение
живые существа, которые без него погибли бы, унесенные
потоком неведомых лет. Это его существа, они принадлежат
ему, ибо всякий поклонник обоих талантов невольно говорит:
«Гризетка Анри Монье, ребенок Шарле»«
У Анри Монье есть перед Шарле преимущестео ори-
м о л о д о г о ч е л о в е к а , произведение неизвестное, но уже
^уря^™ отряжающих своих детей улаяами кончая г ^ ц а м и
-совершеннейшим типом которых я^яется гщ Прюдом. Они
поняли, сколько возможностей дает
одежда, походка; но, отнюдь не желая умалить неоспоримые
достоинства, мы осмелимся утверждать, что их задача шля
S a
они встречали столько углов и неровностей, столько
разительных и почти грубых отличий ^ J ^ T H O Z
им достаточно было видеть эти проявления оригинальности,
чтобы стать в свою очередь оригинальными.
Это размышление может привести нас к воздаянию спра
ведливости другому артисту, менее
™
же искусному, как и указанные два великих человека из
^
ч т о б ы
Л
™
-
K
Ä
^
Ä
— о м обязана,
огДичиваться о б ь т ы м признанием, нередко употребЧорГХшіТшй ^ртшй
чудесно одевает меня.
Пригласи его, друг мой, это а Р т и £ Ваша кухарка достойна ордена Святого духа .
О! это артистка!
Боже! сударыня, какая обувь! У вас восхитительная
ножкаі ^
очень хороший сапожник!
Вот как, к стыду века, мы вознаграждаем таланты! О, где
1 Один из старейших французских орденов, і б ы л W P ^ M f
пеовой буржуазной революцией, восстановлен в эпоху. Реставра
Гіии и существовал вплоть до 1830 года.-Лрим. ред.
ты, принцесса, подарившая аббатство вялому и добродушному
Августу Лафонтену за изображение германской жизни?
І И Т Ь т т з а с л у г у Г а в а Р 1 1 И > МЬІ Должны были слегка°
м " Т Ь п М а Н е р У Ш а р л е и А н р и М о н ь е > п о к а з а т ь "X возможности. Прежде всего скажем, что в первый год своего
существования Мода стучалась в двери всех мастерских. Не
оудем называть художников, потерпевших поражение при
исполнении тех специальных рисунков, которых требуют модники; но только сравнивая множество различных произведении, мы сами смогли оценить непомерные трудности этого
жанра. Действительно, Мода могла легко создать литературу, предназначенную следить за парижскими переменами;
но парижские физиономии, посадка головы, поза женщины,
осанка элегантных мужчин, тайны будуара ждали живописи,
однако перед лицом пресыщенной публики, привыкшей к
оездарным статуэткам наших соперников, это была неблагодарнеишая из попыток. В моде одежды, в манере женщины
известной своим вкусом, умением держаться и ходить, есть
неописуемый стиль, который невозможно объяснить на двадцати страницах и очень трудно схватить карандашом. Этот
стиль-печать класса. Этот стиль обессмертили Шарле и
Анри Монье; но что принес он Гаварни?.. долгие годы
холодного равнодушия. Высшее общество отправляется в
варьете, чтобы уйти из салонов, оно смеется и потешается при
виде народа. Там оно снисходительно, но оно сурово к тем
кто хочет воспроизвести его самого. Светские люди безжалсь
стно критикуют себя, и художник, который в других модных
журналах рисует манекен, а сверху набрасывает платье, повидимому, ближе к цели, чем Гаварни, пытающийся написать тончаишие нюансы, мимолетные черты физиономии элегантных людей.
Но сейчас его труды будут вознаграждены. Если бы мы
слишком рано заговорили в пользу художника, нам не удалось бы, как сегодня, привлечь внимание в его пользу, и похвала наша была бы запятнана личным пристрастием. В настоящий момент наше признание согласно с мнением некоторых артистов, а также светских людей, которые дружно провозгласили высокое превосходство своего художника.
До сих пор рисунки мод рассматривались издателями, как
вещи маловажные; кроме нескольких рисунков Ораса Вернэ,
они не преследовали другой цели, как изображение банта,
платья, жилета. Так жил г-н де ла Мезанжер. Позже P e t i t
c o u r r i e r d e s D a m e s почувствовал необходимость исполнять моды таким образом, чтобы в глухой провинции искусная женщина распозналіа покрой, швы, клинья и, так сказать,
разложила на части парижское изделие, чтобы точно воспроизвести его.
Но только мы поняли, что Франции предназначено было
придать блеск этому журналу, и тогда мы попробовали к выкройке одежды, надетой на неподвижный манекен г-на де ла
Мезанжера, присоединить наставления журнала P e t i t c o u r r i e r d e s D a m e s , a к этому усовершенствованию добавить
реальное существо, жизнь, чувство, избегнув, таким образом,
необходимости всегда показывать провинции однообразную
куклу, которой в течение двадцати лет принадлежала исключительная честь представлять парижан.
Только артист, и артист превосходный, мог проникнуться
нашей идеей и изобразить парижскую физиономию, такую
подвижную и занятную, передать дух одежды, мысль платья,,
грацию косынки, вся грация которой в том, как ее носят U
Именно в согласии с нашими идеями, Декампу удалось впервые познакомить нас в своих набросках с физиономией людей
Востока.
Но признаемся, прежде чем передать характер элегантного
класса, мы испытали немало карандашей, и в течение семивосьми месяцев наши усилия терпели неудачу. Рисунки к
первым томам страдали заметными недостатками. Так, часто
гравер уничтожал все очарование композиции г-на Фонталара,
силясь достигнуть совершенства, о котором мы мечтали.
Никогда публике не удавалось узнать гг. Тони Жоанно и Зиглера в неточных копиях с их изящных рисунков. Наконец,
зимой 1829—1830 года мы пришли в восхищение от рисунков,
изображающих маскарадные костюмы. Это действительно
были женщины и мужчины!.. Можно угадать и их характер, и
танец, и нрав под андалузской баской, под ирландским корсажем; все великолепно нарисовано, расцвечено!.. Одежды
подлинно были из шелка, из газа!.. Человек воспринял рисунки
мод, как специальность. Наша идея нашла приют в голове
артиста, и мы вскоре поняли, что этот артист посвятил себя
задаче копировать, наблюдать, создавать высшее общество,
-подобно тому, как Анри Монье и Шарле извлекли из небытия
гризеток, солдат, детей и глупцов. Ободренный нашими похвалами и нашими жертвами, Гаварни согласился следить за
работами граверов, и вскоре его рисунки, значительно выигравшие в исполнении, поразили публику. Выставка оригиналов
в музее Кольбер окончательно укрепила репутацию нашего
остроумного сотрудника.
Теперь, мы уверены, что некогда эти рисунки явят собой
-живописную историю хорошего общества наших дней, и любители будут разыскивать их не меньше, чем любое произведение художника или гравера.
. , 1830 г.
Л
«Гаварни». Oeuvres, XXII,
183—187.
*
В этой скромной личности он признал одного из тех старцев, столь милых карандашу Шарле, которые крепостью своего
сложения, приспособленного к перенесению любых невзгод,
напоминают старых служак этого солдатского Гомера, а своей
сине-багровой и морщинистой физиономией, не выражающей
безропотной покорности,—его бессмертных подметальщиков
улиц.
«Крестьяне». Соч., XIV, 29.
ДЕКАН
Фантастика
обыденности в творчестве
кисти Д е к а н а . — Д е к а н и
и он перекинет мост между тайной поэзией своего воображения и поэзией, готовой развернуться в вашем воображении.
Ужаснув вас этой метлой, он завтра нарисует какую-нибудь
другую; возле нее будет лежать спящая кошка, но сон ее
будет таинственным, и он убедит, что на этой метле жена
какого-нибудь немецкого сапожника летает на Брокен. Или
же это будет невинная метла, на которую он повесит одежду
какого-нибудь казначейского чиновника. В кисти Декампа есть
/то же самое, что в смычке Паганини,—магнетически передающаяся сила.
«Дело об опеке». Соч., 1, 258.
ЗАМЕЧАНИЯ OB ОТДЕЛЬНЫХ КАРТИНАХ
К л е о п а т р а Делакруа. — А н а д и о м е н с к а я
В е н е р а
Шассерио. — Картина
Гроклода. — П е й з а ж
Б р а к а с а . — Картины
Панье
(талантливый х у д о ж н и к - п а с т у х ) . — В е н е р а П р а д ь е . — Б р у т Л е т ь е р а .
...Наша выставка живописи была очень хороша; там нашлось семь или восемь шедевров всех жанров: превосходный
Декамп ; великолепная К л е о п а т р а Делакруа ; замечательный
П о р т р е т Амори Дюваля; очаровательная А н а д и о м е н с к а я В е н е р а Шассерио, ученика Энгра. Какое несчастье
иметь артистическое сердце и быть бедняком...
ральзак—Ганской, 2 июня 1839 г.
Lettres à l'Etrangère, 514.
*
Декана. — Магическая
Паганини.
сила
...В наше время художник Декан в высокой степени владеет искусством заинтересовывать тем, что он изображает, будь
это камень или человек. В этом отношении его карандаш более искусен, чем его кисть. Он может нарисовать пустую комнату, поставить там метлу у стены; и если захочет, вы содрогнетесь: вы решите, что эта метла была орудием преступления,
•что она запачкана кровью; она окажется той самой метлой,
которой вдова Банкаль подметала комнату, где был зарезан
Фуальдез. Да, художник растреплет метлу, как если бы это1
был вышедший из себя от ярости человек, он взъерошит ее
-прутья, как если бы это были ваши вздыбившиеся волосы,
...Наша выставка картин довольно хороша. Есть семь
или восемь настоящих шедевров. Картина Гроклода всем очень
нравится. Его поместили с почетом в большом Салоне. Но
находят, будто у Гроклода только и есть, что цвет и рисунок,
будто ему нехватает души и композиции. Жерар, однако,
нашел его просто талантливым человеком. Он это откровенно
сказал ему и повторил мне, говоря, что такому человеку
только и творить, что это хорошая, прекрасная живопись.
Большое счастье (для него!) появиться без ущерба в нашем
Салоне, где имеется десять-двенадцать великолепных картин.
Там есть П е й з а ж с б ы к о м Бракаса, за который можно отдать шесть тысяч франков, а будет он стоить сто тысяч. Этот
П е й з а ж и П о р т р е т Панье приводят в отчаяние художников. Бракаса, как и Панье,—бедный чахоточный юноша. Это
пастух, оторванный искусством, как скульптор Фуаятье, от
своего стада, и если он выживет, то будет великим художником. Наш девятнадцатый век будет велик. Мы об этом
не подозреваем. Тут просто наводнение талантов.
Я очень жалел о вас. Мне так хотелось видеть вас этой
зимой в Париже. Выставка, итальянцы, давшие неслыханный
подбор, Лаблаке, Тамбурини, Рубини. Затем Бетхозен, исполнявшийся в консерватории, как нигде. Затем Париж, наконец,
отделанный, подчищенный, благодаря стараниям Луи-Филиппа.
Но в Лувре еще хватит работы на сто лет. Когда я прохожу
по -Тюильрийской набережной, мое сердце художника обливается кровью при виде камней, положенных Катериной
Медичи, изъеденных солнцем прежде, чем их обтесали, а ведь
с тех пор прошло ровно триста лет...
весь интерес, все внимание зрителя сосредоточены на пер
сонажах первого плана, ибо художник употребил все свое
искусство на создание этой иллюзии; каждое движение рук,
каждая искаженная черта, все, даже п ^ ^ а я ^ в д щ ш ,
тяготеет к тому центру, что называется единством, без кото£ было бы произведения. Но когда вы удаляетесь от
картины все ваше существо, потрясенное драмой, развернувшейся на ваших г л Г а х , сохраняет не только упоминание
о непоколебимом Бруте, о его плачущем с о р ™
о двух
юношах,-один уже мертв, другой удручен тем, что сам отец
—
ему приговор,-но и воспоминание о великом городе,
его Сенаторах,' д в о р а х и народе; цель художника достигнута, вы узнали Рим...
вфраголетш.
oeuvres, XXII, 20;
Бальзак—Ганской, 30 марта 1835 г.
Lettres à l'Etrangère, 244—245.
»
...Я дважды ходил! на Выставку в Музей. Мы не сильны.
Но если вы располагаете деньгами для предметов искусства, я
все же посоветовал бы вам неплохие приобретения, ибо есть
две-три вещи, действительно прекрасные, например, статуя
В е н е р ы Прадье и одна-две картины. Ваш друг Гроклод не
выставил ничего, и я больше о нем не слышал...
Бальзак—Ганской, 23 марта 1836 г.
Lettres à l'Etrangère, 308.
*
...Вы видели Б р у т а г-на Летьера и поняли, что великий
художник задумал не только изобразить в живописи одну из
самых драматических сцен, известных нам, но и хотел воспроизвести весь древний Рим и что Брут, обрекающий сыновей
на смерть, был для него лишь наиболее подходящим поводом
собрать основателей Вечного города избранной им эпохи.
И действительно, не встает ли перед вами на площади, где
решались судьбы мира, великая страница истории—Рим первых консулов, простой, возвышенный, суровый и великолепный, его сенаторы, одетые в льняные ткани, торжественные
колоннады храмов, толпа, буйная и нищая, но зато свободная
и величественная? Все это, однако, кажется аксессуарами, ц
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Гостиные были убраны с изысканным вкусом. Я увидел
лучшие произведения живописи. Каждая комната, „как эго
принято у очень состоятельных англичан, имела свои особый
характер; шелковые обои, отделка, форма мебели, всякая
мелочь украшения соответствовали основному замыслу. В готическом будуаре, на дверях которого висели драпри, обрамление обивки, часы, рисунки к о в р а - в с е было
в г = ш
стиле; на потолке с темными резными балками открывались
взору кессоны, изящные и оригинальные; панель была художественной работы; ничто не нарушало цельности этой красивои
декорации! даже окна с их цветными и драгоценными стеклами.
Я был поражен видом небольшой гостиной в современном
стиле, для которой какой-то художник исчерпал приемы нынешнего декоративного искусства,
приятного, без блеска и умеренного в позолоте. Оно было
тѵманно и любовно, как немецкая баллада, это подлинное
убежище для страсти 1827 года, с благоухающими в жардиньерках редкими цветами. В анфиладе за этой гостинои
Г у в в д е л комнату с позолотой, в которой воскресали вкусы
века Людовика XIV, представлявшие собой странный, но
приятный контраст живописи нашего времени.
/,.: .
,:•/.
/Л
«Шагреневая
XV, 88.
ко^ка».
Соч.,
*
...Я хочу, чтобы чашу поддерживали по краям две фигуры,
одна, изображающая Надежду, другая—Веру. Вы найдете
аллегории в гробнице герцога Бретонского или в каких-нибудь
рисунках. При нужде г-н Лоран-Жан вам нарисует их для
меня, если попросите. Надежда держит скрижаль, на которой
выгравировано по голубой эмали: Невшатель, 1833, а Вера—
другую
скрижаль
с
изображением
коленопреклоненной
Любви, руками поддерживающей чашу. Подставка, на которую
все опирается, изображает кактусы, колючие растения и терновник; на полях подставки—барельефы, изображающие арабески и гирлянды цветов и фруктов. Все алого цвета...
Бальзак—Фроману Мёргсс, 1848 г.
Oeuvres, XXIV, 574.
*
Этот подарок представлял собой серебряную печать, состоящую' из трех стоящих друг к другу спиной статуэток,
обвитых листвой и поддерживающих шар. Три эти фигуры
изображали Веру, Надежду и Любовь. Ноги их покоились на
раздиравших друг друга чудовищах, среди которых извивался
символический змей. В 1846 году, после огромного шага вперед
в искусстве Бенвенуто Челлини, который сделали мадмуазель
де Фово, Вагнеры, Жанесты, Фроман-Мёрисы и такие скульпторы по дереву, как Льенар, этот шедевр никого бы не поразил; но в то время молоденькая девушка, знающая толк в ювелирных изделиях, должна была прямо обомлеть, взяв в руки
эту печать, когда кузина Бетта ей преподнесла ее со словами:
«Ну, что ты скажешь?» Статуэтки по своему рисунку, по драпировке и по движению принадлежали к школе Рафаэля; по
исполнению они напоминали школу флорентинских мастеров
бронзы, которую создали Донателло, Брунелески, Гиберти,
Бенвенуто Челлини, Джованни из Болоньи и пр. Французский
Ренессанс не выкручивал более причудливых чудовищ, чем те,
что символизировали здесь дурные страсти. Пальмы, папоротники, камыш, тростник, обвивавшие Добродетели, эффектностью, вкусом, расположением возбудили бы зависть любого
мастера. Лёнта связывала три головы между собой и в промежутках ее между каждой парой можно было разглядеть
•букву. W , серну и слово fecit.
. . .
«Кузина Бетта». Соч., XI, 40.
УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И ИСКУССТВО
Автор не поступает с господами художниками предательски, и слово это относится не только к живописцу, музыканту или скульптору, но также к поэту и оратору,—мы же
присоединили к ним, своей личной властью, любое существо,
достаточно тонко организованное, чтобы воспринимать искусство. Итак, мы точно и обстоятельно предупреждены, что
труд, представленный на наше рассмотрение, не является
произведением
литературы,
нехорошо со стороны автора
лишать нас скромного удовольствия высказать ему то же от
нашего имени.
Это попросту произведение
прозелитизма;
это не что
иное, как картина, набросанная в общих чертах. Тут сказано
достаточно, чтобы быть понятым теми, кто поймет; а кто не
поймет... что нужды! Однакоже, когда речь идет о прозелитизме, очень важно затронуть за живое возможно большее
количество читателей. Неужели обычных людей, не отстаивающих свои взгляды с смешным упорством ученых, могут
увлечь люди настолько возвышенные, что не только пользуются особым языком, но еще прибегают к отвлеченной и не
всегда понятной диалектике.
Мы считаем себя вправе ответить грозным односложным
нет,, столь же ясным, столь же кратким, насколько длинна,
растянута и неудобочитаема брошюра, адресованная художникам. Автор, задавшийся, по его собственному признанию,
целью «опровергнуть возможно скорее упрек в непонимании
искусства, брошенный ученикам Сен-Симона», и, больше того,
«без промедления обратиться с призывом к художникам»,—
меньше всего замечает, что отвечает на совершенно индивидуальное возражение, не доводя свою работу до понимания
тех, к кому собирался обратиться.
Подлинное название этого сочинения должно было звучать
так: У ч е н ы м — о п р о ш л о м и б у д у щ е м и с к у с с т в а .
В разговоре с учеными язык, употребляемый автором, был
бы уместен; но в таком случае, пожалуй, произведению
прозелитизма угрожала бы опасность. Для того же, чтобы обращаться к людям, одаренным чувством, на которых прозелитизм
может оказать более верное воздействие, автор должен был
принизить науку до обычного языка; быть может, было -не
бесполезно создать произведение
литературы,
избрать определенную форму, показать себя поэтом. Это не значит, что
автор должен был писать стихами; значение слова прэт столь
же широко, как и слова художник-, и, по нашему мнению, живописец, музыкант, скульптор, оратор и сочинитель стихов являются художниками лишь в той мере, в какой они являются
поэтами. Г-н Балланш остается поэтом даже с учеными. Автор
брошюры должен был проявить себя, как художник, обращаясь
к тем, кого он называет этим именем:
Доктрина Сен-Симона стала, извёстна в ученом мире с
появлением Producteur; ученики Сен-Симона предпринимают
дальнейшие шаги, заслуживающие полного одобрения, ибо
истина, возможно, принадлежит им; но прибегают ли они
действительно к наилучшим способам пропаганды своих идей?.
В этом дозволено усомниться. Популярности можно достигнуть
лишь с помощью проникнутых чувством изобразительных
средств искусства; назначение художника—апостольство, но
автор брошюры не показал себя достойным этой высокой
миссии. Общая мысль его сочинения обширна, а результаты
ничтожны; автор как буд^о посвятил его единственно форме,
способу выражения, которым пренебрег именно в тот момент,
когда он был необходим, чтобы поддержать новые и значительные идеи, которые несомненно помогут повести человечество к будущему. Но поэт будущего еще не родился, другими словами, еще не пришел тот час, когда предвидения
Сен-Симона приобретут популярность; научные труды, нужно
подготавливать в тиши, как это бывало на заре любой философской школы.
•
Первый шаг к будущему,заключается в том, чтобы; да
казать художникам значение искусства, его влияние на народы
в тех случаях, когда всё отрасли искусства выражают одну
и ту же социальную," религиозную,-прогрессивную идею, как
во времена греческого политеизма или средневекового христианства.
-.. . ;
. , •
.
•
Господствующая мысль этих двух велики* исторических
эпох нашла свое выражение в искусстве: сила и чувства
запечатлены в развалинах циклопических сооружений, в их
исполинских формах, в шедеврах античной скульптуры. В средние века только сердце трепетало под глубокими сводами,
перед расписанными стеклами соборов, служившими лишь для
выражения нравственной идеи. Фидий претворял Гомера в
мрамор; Микель-Анджело и Рафаэль были выразителями
чувств католицизма.
Политеизм освятил материю, христианство освятило только
дух. Следовательно, религия относится к области искусства;
бог—вот общая идея, которую нужно воспроизводить в малейших деталях различных отраслей искусства. Но когда искусство не стремится к этому единству, когда художники понемногу оставляют мысль ради совершенствования техники,
религиозное чувство слабеет; искусство утрачивает поэзию;
оно становится лишь выразителем личности. Тогда театры
заменяют храмы, вырастают музеи,—и там мы видим Л ю б о в ь
В е н е р ы рядом с П р и ч а с т и е м с в я т о г о И е р о н и м а .
Недостатки, указанные нами автору, не мешают брошюре,
обращенной к художникам, оставаться сочинением весьма полезным, способным привлечь внимание мыслителей к учению,
о котором много говорят, хотя мало его знают. Сен-Симон
был человеком замечательным, которого до сих пор еще не
поняли; поэтому вождям школы необходимо вступить на путь
прозелитизма, избрав, подобно Христу, язык, свойственный
эпохе и людям, поменьше рассуждать и больше волновать
сердца. Можно быть ученым с учеными; с артистами нужно
быть поэтом.
1830 г.
Рецензия на книгу «Художниам—о прошлом, настоящем
и будущем искусства (Учение
Сен-Симона)». Oeuvres, XXII,
£6 —58.
К
J .
ДОПОЛНЕНИЯ,
КОММЕНТАРИИ
и
УКАЗАТЕЛИ
ДОПОЛНЕНИЯ
РАБЛЕ
; Мое восхищение Рабле очень велико, но оно не влияет
на Ч е л о в е ч е с к у ю к о м е д и ю . Его нерешительность мне
чужда Это величайший гений французского средневековье
едшютвданый поэт, которого мы можем противопоставить
Д а Т т о . ™ к о , лично мое восхищение им сказалось только
в Озорных
Бальзак-И.
сказках.
Кастилю.
Oeuvres, ХХП,
369.
гольдснит
"
...Если хочешь...
р и я . . .
превзойти В е к ф и л ъ д с і с о г о
вика-
нужно работать во-всю...
Бальзак—Зульме. Кауро,
март 1833 г.
Г
Q e u Y r e s , XXIV,
*
і
170.
:
Крестьянин прекрасная натура, Когда он г л у п - о н п о х о ж
на животное; но если у него есть
f ^ u T Z ^ ^ Z
лепны; к несчастью, никто их не наблюдает.- Не знаю какой
уж случай заставил Гольдсмитанаписать В е к ф и л ь д с к о г о
в и к а р и я . Итак, сельская и крестьянская жизнь ждет еще
своего историка...
:
.
Образец французской беседы». Oeuvres, XX,L 313.
ГАВАРІШ,.. ДОМЬЕ
? . Каждые три дня под карикатурами Домье мы можем
встмлить прелестные четверостишия, невольно вызывающие
с м е Г а под карикатурами Гаварни-замечательные сцены
нраюв в четырех строках, столь же забавные .и язвительные,
как сама литография. Изобретательность Гаварни непостижима,
так же
как и забавные
выходки
журнала
[Шаривари].
«Монография о парижской
прессе». Oeuvres, XX, 420.
ведь любители медалей, не имеющих значения для нумизма.
Ш
Ш
ё
Ш
к
щ
.
грубых
веков,-
СТЕНДАЛЬ
...После четырех лет интимной близости любовь Дины
охватила все оттенки этого чувства, открытые нашей склонностью к анализу и созданные современным обществом; один
из замечательнейших людей нашего времени, недавняя утрата
которого до сих пор болезненно ощущается литературой,
Бейль (Стендаль) первьій в совершенстве изобразил их...
««Провинциальная муза». Издание «Красной газеты», т. VIII,
стр. 173.
г
З
s
ДВА ШУТА, ИСТОРИЯ ВРЕМЕН ФРАИЦИСКА I
П . - Л . Ж а к о б а , библиофила, члена в с е х академий
Ничто так не показывает отсутствие общественных взглядов, как работы некоторых писателей, людей, даже не лишенных таланта, но из-за своей близорукости замечающих
в истории лишь разрозненные факты; все искусство этих
господ сводится к хроникальным записям, как в детстве
литературы, им же кажется, будто свою ненужность они
скрывают необычностью или, если угодно, простотой старого языка.
Это значит прибавлять бедность формы к бедности содержания; и так как стиль старых хроник требует сейчас
специального изучения, то печально видеть, как на детское
подражание устарелым оборотам и употребление слов, вычеркнутых навсегда из нашего словаря, тратится жизнь,
лучшее применение которой могло бы принести обществу
больше пользы, чем пространные и многословные развлечения г-на Жакоба. Какой-нибудь человек может на худой конец
питать пристрастие к наполовину истлевшим книгам,. он
может находить удовольствие в чтении старинных фаблио,
не пытаясь с помощью философской мысли искать в них
развития идей или постепенного очищения языка,—есть
s
арпопечесжой души над материальностью
s
s
полезность
s
имя
ê
ав1Ч>ра
œ
д
в у х
s
шутов и Вече-
n R а л ь т е г) а С к о т т а ) должен бы заметить, что тот-
забытых обычаев но всегда пользовался современными сред„ в а м Т и это давало ему огромное преимущество над старині ш м и временами. Г-н Жакоб, понимая, насколько ниже он и
по замы™Ги
выполнению, счел разумным наибольшее
внимание уделить вещам второстепенным; он позаимствовал
у Фр^ссара только сто жаргон, на котором тот писал не: по
с в о й воле. Вальтер Скотт писал дли читателей XIX века
Л Жакоб пишет для читателей XVI века. Шотландец заботливо ѵстГашл все, что могло шокировать современные
иоавЛ«б У блиофил» только и ищет грубости прошлых веков
цішшша языка ? поступков. Г-н Жакоб не n p ™ « своему
пг.емени этим все сказано; он не общается ни с кем, в его
к н и г а Л а с ы подобны годам; а ведь когда скрывают могилы,
обитатеші их, Сохранявшиеся до сих пор в целости, немедленно ^ассьгааются в прах. Книга жизнеспособна лишь в
том случае, если дух ее. устремлен в будущее.
по
КОМ31ЕВТАРИИ
Дополнения
478
И все же в эпохе, избранной г-ном Жакобом, был материал для современного писателя, проникнутого духом своей
эпохи, были картины изящные без нескромности и интересные драматические положения, одушевленные выведенными
персонажами; а главное, был материал для поэтизации, если
стать на точку зрения этого царствования, обычно называемого возрождением литературы. Даже в фабуле Д в у х шут о в было кое-что удачное и современное, что могло бы
вызвать в нас чувство признательности, всегда испытываемое
к лучшему существу. Но недостаточно показать, что настоящее выше прошлого; нужно еще суметь предчувствовать
будущее, которое выше нашего настоящего. Персонаж Кайета
вполне современный образ; но в книге г-на Жакоба это
единственный персонаж, возбуждающий интерес. Молодой
человек, красивый телом, здоровый духом, вынужденный заменить своего отца в должности первого королевского шутд,
наследственной, как и все придворные должности,—это замы*
сел, принадлежащий нашему времени. Все уродства шута
Трибуле отмечены 1524 годом; но г-н Жаков должен был
показать себя пророком грядущих улучшений. Именно сочетание этих различных способностей создает книгу не только
полезную, но и занимательную. О книге г-на Жакоба нельзя
сказать ни того, ни другого; читателя утомляют изношенные
детали, которым вся ловкость любителя старого языка не
может придать какой-нибудь смысл; хорошие вещи завалены плохими. Отвратительно наблюдать, как в течение
месяца Кайет предоставляет Диану де Пуатье, в которую
сам влюблен, Франциску Первому, в то время как г-н де СенВалье, ее отец, приговоренный к смерти, томится в тюрьме.
Монарх, устраненный от событий своего времени, ужасающе
мелок. В общем, г-н Жакоб затратил четыреста страниц
in-octavo, чтобы испортить то, что в маленьком томике indouze могло бы иметь некоторый успех.
•
Рецензия на «Два шута»
П.-Л. Жакоба.
Oeuvres,
XXII, 117—119.
VU
ф
К стр
•
4.
Спор между Кювье и Жофруа Сент-Илером. Диспут, проис-
ви
,ионѴо
Г
б
ы
л
До своего1«обращения» занимался точными науками
Честен
ценными Открытиями в области кристаллографии
и астоономии В 1743 году Сведенборга посещает первая галлюц и н Х с этого момента он пишет исключительно религиозносведенборгианских идей.
Рональд
Луи-Габриэль-Амбру аз, де (1754-1840) - французский публицист и философ монархического и католического
направления. Бональд оказал большое влияние на формирование легитимистских взглядов Бальзака.
К
"ІтюдІБейле был напечатан в R é v u e Р a r i s j e r i n e^в сентябое l ä o года. Бальзак выступил с восторженной статьей о П а рм? к ом м о н а с т ы р е среди общего молчания критики и первый пвивлек к Стендалю внимание Франции и всей Европы. В этой
статье поставлен ряд эстетических вопросов и определены разногласия и ^бщнЬсть между обоими писателями в понимании лите-
К
^&а0льзакааЛи3Стендаля объединяет прежде всего стремление
и изобразить сущность- событий, создать значительные
челов^еские обраЗы, характеры, способные отразить типичные
явленияОбщественной жизни. Оба писателя - решительные проJZHKH мелочного реализма, с одной стороны, и ложного искусанного^преувеличения, с другой. Их объединяло также ясное
понимание того/ что размежевание с романтизмом является важной
S
S
Т о л ь к о стиля, но и мировоззрения* что всякий писатель-^^лист их времени должен определить свое отношение к романтиэдГ Но іш^нно здесь начинается и различие между Баль-
Ра
откоыта
заком и Стендалем. Художественную манеру каждого из них Бальзак охарактеризовал еще до Э т ю д а о Б е й л е. «Я пишу фреску — вы ваяете итальянские статуи», — писал он в письме к Стендалю от 20 марта 1839 года. Различие же в их мировоззрении, определившее и разную оценку литературных направлений X I X века,
становится особенно ясным при сопоставлении статьи Бальзака
в R é v u e P a r i s i e n n e с письмом Стендаля, написанным по
поводу этой статьи:
«Чивита-Веккия, 30 октября 1840 г.
Я был очень удивлен вчера вечером, сударь. Мне кажется,
никогда ни о ком еще не было дано такого отзыва в обозрении, да
к тому же лучшим знатоком дела. Вы сжалились над сиротой, покинутым посреди улицы. Я достойно ответил на эту доброту, я прочел
R é v u e вчера вечером, а сегодня утром я сократил до четырех или
пяти страниц пятьдесят четыре первые страницы произведения,
которое вы вводите в свет...
. . . Я ненавижу вылощенный стиль, признаюсь Вам, что многие
страницы П а р м с к о г о
монастыря
были напечатаны
прямо по продиктованному тексту. Я скажу, как говорят дети:
больше не буду. Однако я полагаю, что после уничтожения двора
в 1792 году роль формы с каждым днем уменьшается. Если бы
г-н Вильмен, которого я упоминаю здесь как наиболее почтенного
из академиков, перевел П а р м с к и й
м о н а с т ы р ь на французский язык, ему нужно было бы три тома, чтобы высказать то,
что было дано в двух. Благодаря тому, что плуты по большей части
бывают напыщенны и красноречивы, декламаторский тон вызовет
к себе ненависть. В семнадцать лет я едва не подрался на дуэли
из-за «неопределенной вершины лесов» г-на де Шатобриана, у которого было много поклонников в Шестом драгунском полку.
Я никогда не читал И н д и й с к о й
х и ж и н ы, я не выношу
г-на де Местра.
Мой Гомер — это М е м у а р ы
маршала Гувьон Сен-Сира К
Мне кажется, что Монтескье и Д и а л о г и
Фенелона хорошо
написаны. За исключением г-жи де Морсоф 2 и ее друзей, я не читал
ничего из того, что было напечатано за последние тридцать лет.
Я читаю Ариосто, мне нравятся его повествования. Герцогиня —
копия с Корреджо. Я узнаю будущую историю французской литературы в истории живописи. Мы живем в эпоху учеников Пьетро
Нортоне 8 , который работал быстро и утрировал экспрессию, как
г-жа Коттен 4 , у которой тесаные камни добываются на Борромейских островах... Сочиняя П а р м с к и й м о н а с т ы р ь , чтобы
настроиться на надлежащий тон, я каждое утро читал две или три
страницы из Г р а ж д а н с к о г о
кодекса.
Разрешите мне грязное выражение: я не хочу ... душу читателя.
Этот бедный читатель покорно прочитывает чрезмерно изысканные
1 Гувьон
Сен-Сир Лоран (1764—1830), — маршал Франции. Написал
Мемуары о походах Рейнской и Мозельской
армий.
' Героиня романа Б а л ь з а к а Л и л и я в д о л и н е .
» Кортоне Пьетро (1596—1669) — итальянский художник.
* Коттен Мари (1770—1807) — французская писательница.
мнит о графе mo
,
чудовищем гордости. Как, скажет ваше
внутреннее чувство, этому животному недостаточно того, что я для
него сделал вещь беспримерную в наш век, он еще хочет, чтобы
еГ
° у В меня* т о л ь Г " о д н о правило: быть ясным. Если я не буду
Ce Ï
Ä
Ä
S
i
a
n
a
и г-на Вильмена
о з н а ч а е м 1 ) Т н о г о * приятных мелочей, которые однако, не стоило
бы говорить (как стиль Авзония, Клавдиана и т. п.), 2) много мел
кой
которую приятно слушать. Эти великие академики своими
Я С Н Ь Ш
°Т
ПоР°мереР того" как полуглупць, становятся менее «яогочяслся-
С
Г о Т а с З Н тТр И ь «
Ä
^
Ä
я а ^ Ж ^ "
« „ имел бы успех но, чтобы высказать то, что заключается в этик
двух томах, понадобилось бы три или ч е т ы р е ^ ч т и т е зто извинение
Попѵглѵпеи больше всего дорожит стихами Расина, так как
он понимает, что такое незаконченная строка; но с каждым днем
стих составляет все меньшую часть славы Расина. Публика, становясьболёе^многочисленной, менее доверчивой, желает большего,
количества правдивых фактов о той или иной страсти, о положении
Г ж и з н и и ? Р д сколько стихов, исключительно ради рифмьі, присуждены были написать Вольтер, Расин и т. д., словом, все, кроме
КУор2еСя; таС вот, эти стихи занимают место, которое законно приЧ*ре Т з пятьдесят 1 лет'Г-ИБИНЬЯН * и Биньяны в прозе так « н
доедят своей э^етантной, но лишенной всяких других достоинств
Соодѵкцией что полуглупцы окажутся в большом затруднении
П ^ ^ и х тщеславном желаІии говорить о литературв и « B ^ J ^
мыслящими что станут они делать, когда не смогут больше толковать С форме?Они кончат тем, что создадут себе Jюга из' ВольтеР 3 Но остроумие длится не больше двухсот лет и в 1978 году Вольтер
стянет Вѵатюоом, между тем как О т е ц Г о р и о всегда оудсг
О т7ом
Г о р и О. Возможно, что полуглупцы, лишенные своихдорогих «правил», которыми бы они могли восхищаться, окажутся
НаДЛ
в - т к о м затруднительном положении,
^ ^ S S ^
птипяшение к литературе и сделаются набожными,
политические мошеЕнГи обладают Декламаторским
чивым тоном, то он вызовет к себе отвращение в 1880
может быть, будут читать П а р м с к и й
мо
^ ï S T S
і а к как все
и краснорегоду. Тогда
настырь.
» Б и н ь я н Анна ( 1 7 9 5 - 1 8 6 1 ) - ф р а н ц у з с к и й поэт, неоднократно
2 К
31
Издательство Ъисателей в Ленинграде, 1935.
Б а л ь з а к об искусство
получав-
В письме Стендаля заметна некоторая двойственность. Он нб
мог не чувствовать искренней благодарности; статья Бальзака
написана с глубоким пониманием его замысла и с беспримерным
благородством. Вместе с тем Стендаль был слишком убежденным
человеком, чтобы не выразить, хотя бы в осторожной форме, свой
протест против некоторых утверждений Бальзака, в частности
против его оценки романтизма. Бальзак, не причисляя себя к романтической школе («литературе образов», по его выражению), все
же высоко ценил отдельных ее представителей и в своем творчестве
отдал немалую дань романтизму. Стендаль «не выносит, презирает,
ненавидит» писателей, подобных Шатобриану, он упрекает себя за
малейшую уступку романтической манере. Это расхождение не
является простым различием стиля, оно коренится в самом мировоззрении писателей.
Литературное общение Бальзака и Стендаля, осветившей
основные литературные споры того времени, было значительным
событием X I X века и не потеряло своего значения и теперь. (Подробнее об этом вопросе см. статью Г . Лукача, Б а л ь з а к —
к р и т и к С т е н д а л я в книге К и с т о р и и
реализма).
К стр. 19;
Картины
больных» и
Рубенса, в Генуе — «Святой
«Обрезание господне».
Игнатий,
исцеляющий
К
стр. 20.
'
Балланиі
Пьер-Симон
(1776—1847) — французский философ
и писатель. В 1802 году вышла его первая книга — О ч у в с т в е
в
егй
отношении
к
литературе
и
искусс т в у . Эстетические взгляды, высказанные в этой работе, нашли
поддержку со стороны Шатобриана, к литературной группе которого примкнул Балланш.
К стр. 33.
Лобардемон
Жак-Мартен,
де (1590—1653) — государственный
советник при Людовике X I I I . Доверенное лицо и агент Ришелье,
известный своим вероломством и беспощадностью.
К
стр. 37.
Ганганелли,
Климент XIV
(1705—1774) — римский папа с
1769 года. Распустил орден иезуитов в 1773 году, вскоре после
чего умер. По некоторым предположениям был отравлен.
Булла In соепа Domini — булла, провозглашающая отлучение
от церкви всех еретиков и врагов святого престола. Издана папой
Павлом 111 в . 1536 году.
К
стр. 39.
День одураченных — 11 ноября 1630 года. В этот день под
давлением своей матери, Марии Медичи, Людовик X I I I дал,отставку кардиналу Ришелье. Но, пробравшись в покои короля
по потайной лестнице, Ришелье без труда уговорил его взять назад
данное слово и тем самым «одурачил» всех, ожидавших его падения,
Враги Ришелье понесли суровую кару, а его власть еще более
упрочилась.
К
стр. 46.
РаЛияшЛЛ Анна (1764—1823) — английская романистка;
Ль^оис Грегор-Матье
( 1 7 7 3 - 1 8 1 8 ) - английский
романист
ТашслУифГф и Льюис являются создателями жанра так назьн
ваемого «готического» или «черного» романа К этому ™ р а в л ^
нию ппинадлежал и Чарльз Матюрен (см. стр. 203). «1 отическии»
пом а н в известно й степени был реакцией против рационализма
литеоатVоы Х Ѵ И I века. Роковые страсти, злодейства, приключения ѵокасы, мрачный, таинственный колорит, драматическое
Гостооен^е характерны для романов Радклифф, Льюиса и Ма-по-
И
рена^ « Ч е р н ы й » р о м а н п о л у ч и л ш и р о к о е
распространение во
фран-
т , и ппемен Империи, здесь он стал достоянием бульварной и развлекатеГьной Литературы. Несомненно влияние «черного» романа
н а ^ а н н е г о Б а л ь з а к а ; е г о первые печатные произведения полны
йз В ' а Г т о р о в Т о Г ч Г о г о » "
Бальзак, особенно любил
Матюоена и сохранил эту любовь навсегда. Что же касается подра-
У>Ка(
i
S
тура. за выдающееся литературное произведение Пародия^альзака
на «черный» роман озаглавлена О л и м п и я , и л и Р и и с к а я
м е с т ь Вот несколько отрывков из этого пародийного романа:
« Ринальдо [атаман разбойников], открыв с зоркостью, кот п п о й его наделила природа, потайную дверь в стене, моментально
скрылся Страшная м ъ к 5 ь озарила сознание Ринальдо, т о ч н а
мппния
рассекающая тучи. Он заточил себя в тюрьму!.. Дверь,
— о
сделанная) чтобы служить орудием мести герцогини, не
Р
! под1емеГе Р рТ„ал И ьТнГх0дет герцога, заключенного в клетку
женой распиливает прутья клетки и вооружает герцога
кинжалом В назначенный час невидимая пружина должна поднять терцога в спальню Олимпии, где он принужден каждый вечер
г т е п н а т ь ее в объятиях любовника.
« . Увидя Адольфа, сладострастно раскинувшегося на груде
подушек, она воскликнула:
— Ты прекрасен!
.
— И ты Олимпия!.;
— Ты попрежнему меня любишь?
• •
— Больше, чем когда-либо, — ответил Адольф..-а
— Ты хорошо будешь любить меня сегодня?..
М 0 Г Л
с в о е й
- П р и д и ко м н е ! - и движением ненависти и любви... герцогиня нажала пружину и про...» ч - /
.
(На этом макулатурная рукопись обрывается)
.. ..
.
К
Воклюз - деревня во Франции, близ города Авиньона, где
жил и писал Петрарка.
К сто 48
ГѵОсон Лоѵ ( 1 7 7 0 - 1 8 4 4 ) - английский полковник, начальник
стражи на" острове Святой Елены, куда был сослан Наполеон Бонапарт после окончательного поражения«
К
СГ
Шлод'ая
К
СТ
Италия
-
тайная организация, основанная Мадзини
стр. 74;
Mercure de France — газета, основанная в 1672 году. На ее
страницах находили отражение происшествия, л и т ® Р а Д Р а »
новости дня и т. д., но политические вопросы в газете не осве
^Journal
des Savants - старейший французский литературный
журнал, выходивший без перерыва с 1665 по 1792 год. В 1816 году
журнал был восстановлен. В нем принимали участие виднеишие
эрудиты и критики времен Реставрации. Журналу УДалось избежать давления правительства, и до 1838 года он считался лучшим
литературным органом Европы. Во времена Луи-Филиппа журнал
j o u r n a l ITûéiatsгазета, основанная в П 8 9 г о у пе р о н а
чально лишь для политической информации С . 1 7 9 9 года в ней
появляется литературный отдел и постепенно J o u r n a l
a es
D é b a t s превращается в крупный политический и литературный
опган Несмотря на свое роялистское направление, газета просу^ествовала все^ революционные годы и продолжала выходить после
18 брюмера, изменив название на J o u r n a l d e l b m p i r e
• п о к р ы в а я с ь прямой лестью по адресу существующего режима
Пои Лѵи-Филиппе становится правительственным органом. В литературіюм отделе газеты постоянно сотрудничали виднейшие
французские литераторы и критики.
Д
ном движении.
К стр
. .
52
•'
«Единственные люди, о которых он говорит с не н
шением, это его наиболее ярые противники, респуоликанс
и
С l oi t r T Saint-Mer г i, люди, к о т о р ы е в т о в р е м я ( 8 3 0 - 1 8 3 6 ) были
действительно представителями народных масс» .
К стр. 62.
Принцесса
0с,-Урсйн
-
Анна : Мария де ла Гре^лъ
/шлч
0643-
К стр. 75;
Де Латуш Анри ( 1 7 8 5 - 1 8 5 1 ) - французский писатель Начал
писать с 1811 года. Первые его произведения - » « б о л ь ш и е ^ с т и хотворные комедии - ставились в Одеоне и театре Фавар. В 1 8 1 8 *821 годах выпустил ряд прозаических произведений написанных наД самые "злободневные сюжеты, как
«
jg, Д » о
Ф у а л ь д е з а (см. прим. к стр. 464). В 1819 году Латуш издал
неопубликованные до тех пор произведения Андре Шенье. « П и л и кания стихов Андое Шенье, — пишет Сент-Бев, — дает де латушу
право на славу? это литературное событие, которое всегда будет
ПравдГ, тотже " е в , а за ним и другие упрекали Латуша
в недостаточно бережном отношении к публикуемым текстам
Но это обвинение было опровергнуто Л е ф е в р о м - Д е м ь е
которь
произвел тщательное сличение издания Латуша^с
текстом и обнаружил лишь незначительные поправки. Возможно
что нападки на Латуша были вызваны его известной всем страстью
к литературным мистификациям, часто не вполне безобидным и
приносящим ему немало врагов. В 1828 году Латуш вошел в редакцию Ф и г а р о , где решил свести литературные счеты, не без
Остроумия высмеивая своЯс собратьев по
трй - - Л и т е р а т у р н о е
товарищество,
напечатанная
B R é v u e d e P a r i s , вызвала резкий ответ Гюстава ГІланша Литературная
ненависть,
после чего Латуш зам е л о смягчи Л Р свой тон. В разные годы Латуш выпустил ряд.
СВЯЗ
дворе.
д ? х о в Я і е явления физическими причинами.
'письма
о литературе,
^ и ^ с с ш . ^ Й Й К
критические статьи Бальзака написанные в виде писем . g . е n п е >
в июле, августе и сентябре 1840 года в к е ѵ и е
К
„ Э н г е л ь с о б и с КУ с с тве, изд-во «Искусство», М. 1937.
стр. ПИ*
s
романов ( М и р а ж * А д р и е н н а и др.), написании* в / й я Г
манере, что и Л е о, столь справедливо раскритикованный Бальзаком. В одном лишь замечании Бальзак неправ. Хотя заявления
Латѵша о своей роли покровителя литературы и не отличаются
скромностью, все же они соответствуют действительности. Он первый напечатал в Ф и г а р о Жорж Санд, поддержал ее и- нашел
ей издателя; об его публикации Андре Шенье уже говорилось выше.
По этому поводу Сент-Бев замечает не без яда: «Ему всегда было
дано открывать вход в обетованную землю другим, но не входить
с^МЖн
( 1 8 0 4 - 1 8 5 7 ) - французский романист. Хирург
по профессии, шесть лет проплавал в качестве судового врача
Морские путешествия дали ему богатый материал для дальнейшей
литературной деятельности. В 1830 по 1833 год Сю выпустил ряд
так называемых морских романов ( П и р а т К е р н о к, П лі и к
и
Плок,
Саламандра,
А т а р - Г юл ь . и
др.),
имевших шумный успех. Но, занявшись историей флота* Сю, как
историк, проявил полную беспомощность. Упоминаемая Бальзаком
История
ф р а и ц у з с к о го
ф л от а
так же как и
История
военно-морского
флота
всех
нар о д о в , не представляет никакого интереса. Ряд исторических
романов, вышедших с 1835 по 1840 год, среди них Л а т р е о м о н
и разбираемый Бальзаком Ж а н
К а в а л ь е, упрочили за Сю
славу романиста. Однако и-эти романы, несмотря на внешнюю занимательность, страдают серьезными грехами против исторической
и художественной правды, заслужившими с п Р а н е Д д и в я о критику
Бальзака. В 1841 году аристократические и байронические настроения Сю сменяются увлечением теориями утопического. социализма., Он пишет ряд социальных романов в которых рисует
нищету и пороки общественных низов и ищет излечения oj_ социального зла. В этот период ир написаны M а т и л ь д а
Парижс к ие
тайны,
Вечный
жид,
Мартин-найден ы ш Тайны
народа
и т. д. Романы имели огромный
успех.' Увлекательность фабулы, попытка поставить современные социальные вопросы не могли не привлечь внимание пуо-
Т У Д а
М а р к с и Энгельс в С в я т о м / с е м е й с т в е ,
по^рш
уничтожающей критике один из наиболее популярных романов
Сю — П а р и ж с к и е т а й н ы , жестоко высмеяв его художественные недостатки и охарактеризовав общественные взгляды
автора, как «жалкие отбросы социалистической литературы, подо-
К
стр
.
76,
п'тесс
" Г о '
яении . Лафаржа его женой
•
^
^
минание
Ю
на
1'еСЩ
К
Л
стр.
Х
142). .
tt"U:°"832
иыл
Т
о
Париж специально
придаете Л а ^ ж с», еще упо-
,
^году6 поднятъИІвосстан^
^ - Ф и л и п п а . Дейтц выдал " в н , о п р а = £ т в у ,
лучил вознаграждение в полмиллиона франков.
"шаіиеари
К
за что но-
(Charivari)
ности двадцать раз.
'"•^остМІШ
Салъпетриергоспиталь >
релых женщин и душевнобольных.
округа
в
палату
Париже для преста-
депутатов.
* Z Z ' o ä
„ л а в , . - « ч е л о в е к в го л ^ о « „ >
известного благотворителя Эдма Шампиона V 1 ' "
.К стр. 95.
д в 0 р я н « н - =
-зом разрешил дворянам заниматься і.
-прозвище
Геноих IV особым укабез
о в а л и м р я Д при-
ЛИК
" р Г а . Г с ™ в л я ю т сотни томов, почти все они переводились на иностранные языки. Некоторые из них Сю переделал для
театра, в частности Л а т р е о м о н (см. характеристику Бальзака, стр. 425) и П а р и ж с к и е
тайны.
б р а
' м а р к е и Э н г е л ь с о 0 и с к у с с т в е,1 изд-во «Искусство», М<
1937, стр. 478,
• -„
' - •»
,
Ä
W
S
•страиено
S
в
»
2
живописная
К
в
-
Лотарингии.
о
с
о
б
дерев"Я е «лиз
Парижа
CTD
102.
стилем*. • •
н
в
J e ^ B a c —
т С к о и И д 0 р с е и Т р у г и е литсратсры X V I I и ХѴ Р .ІІ веков.
К
е
.
*
'
о
р
а
К
стр.
107.
Пор-Рояль — женский монастырь, основанный в 1204 году
возле деревни ЦІеврез, неподалеку от Парижа. В 1599 году коадьютрисой настоятельницы была назначена Жаклина-Мария Арно,
в 1608 году она вступает в обязанности настоятельницы. Жаклина
Арно, в монашестве мать Анжелика, провела коренную реформу
монастыря, подчинив его религиозному руководству аббата СенСирана (см. именной указатель). Пор-Рояль становится оплотом
янсенизма в его борьбе с орденом иезуитов. Противники янсенистов — иезуиты — проповедывали приспособление церкви и ее
морали к потребностям абсолютной монархии, янсенизм же являлся
своеобразной оппозицией к абсолютизму, скрытой под религиозной
оболочкой, оппозиционным центром, в котором переплетались
всевозможные прогрессивные и реакционные тенденции. Вокруг
Пор-Рояля сгруппировались виднейшие представители янсенизма — Арно, Лансело, Николь, Паскаль и др. Многие из них (отшельники Пор-Рояля) поселяются возле монастыря и в 1638 году
основывают так называемые «маленькие школы». В школах ПорРояля педагоги вырабатывали новые методы преподавания, создавали новые учебники по логике, грамматике и греческому языку.
Ученики воспитывались в духе янсенизма. Одним из воспитанников «маленьких школ» был Жан Расин. Иезуиты, желавшие
сосредоточить воспитание молодежи в руках ордена, не переставали преследовать школы Пор-Рояля и их руководителей. В 1653 году
Сорбонна и Римская курия осудили П я т ь
положений,
извлеченные из А в г у с т и н а Янсения, в 1656 году Арно (см. у к . )
был изгнан из богословского факультета. В ответ на преследования иезуитов Паскаль в 1656—1657 годах выпускает П и с ь м а
к провинциалу,
имевшие огромный успех. Они вызвали
еще большую ненависть иезуитов и правительства. В 1660 году
«маленькие школы» были распущены. Это был сигнал к разгрому
янсенизма. Людовик X I V решил покончить с Пор-Роялем.
Отшельники Пор-Рояля были выселены из монастыря, монахини
подверглись жестоким репрессиям. Все же Пор-Рояль продолжал
привлекать внимание общества. В 1709 году по приказу Людовика X I V монастырь был закрыт, а в 1712 году разрушен до основания.
выходит
второй
=
*
Г
п о э з и и
Сент-Бева
о%ицательно.
В 1832 году появился роман Сент-Бева С л а д о с т р а с т и е
Н И
выходила в
1840—1842 годах.
„ппьчѵется как
критик.
« я т ѵ п н ы е п о р т р е т ы (löoz—ioo»j, »» ^ v r / 1 Q . f t .
S, и V P(1844), С о ^ м е н н ь
- р т р е т ы ,846)
?
^ ^ ^ J L S S ^
Х Р ѴІ М П а осѴяі И Спа0
X I X веке написано свыше ста статей . В
S
S
г
к
^
^
_
Б е_
к
Р
^
І
Г
^КО_бСИОГрафИческой
т
а
г
о
т
ж
^ р Т т Г р н ^
История
Пор-Рояля
Сент-Бева — одна из известнейших работ по этому вопросу. Антиисторичность Сент-Бева,
злоупотребление психологическим анализом, пренебрежение к
фактам справедливо осуждены Бальзаком в его разборе.
извеетное он ^бадсняет^ — ™ » 1
Сент-Бев Шарль-Огюстен (1804—1869) — французский критик,
прозаик и поэт. Свою литературную деятельность начал в журнале
G l o b e , где печатал статьи по современной литературе, главным
образом об авторах романтической школы. Его статьи (1826 г . ) о
С е н-М а р е Виньи и о книге стихов Гюго О д ы и б а л л а д ы
сблизили его с новым направлением. Несмотря на свою принадлежность к школе Гюго, Сент-Бев критиковал его поэтические
" р = Т и =
Б
е
в
а
М
у
в
н е п ь я н ™
л т -
ратурныхіГ
S
Ä
2
S
P
У
5
°
T
Л
=
,
н Г л о =
А .
=
на У т е -
Д о ш Г д о Ï X M T O его оевнетали „а nepoo«
лекции в Collège de France, после чего он вынужден был прекратить свой курс. Умер Сент-Бев свободомыслящим, отказавшись
от услуг католического священника.
В методе Сент-Бева ясно выступает то недиалектическое понимание истории, общественной среды и роли личности, которое было
впоследствии развито буржуазными социологами. Это приводило
к столкновениям между ранним позитивистом Сент-Бевом и Бальзаком — представителем классического реализма.
Сент-Бев критиковал композицию романов Бальзака, его
«азиатский стиль» ( C a u s e r i e s d u l u n d i , t. II, p. 422).
Особенно резка была статья D i x a n s a p r è s e n . l i t t é r a t u r e , напечатанная в R é v u e d e s d e u x M o n d e s в марте
1840 года. В этой статье Сент-Бев позволил себе грубые выпады, вызвавшие законное раздражение со стороны Бальзака. «Г-н Бальзак,—
пишет Сент-Бев, — родился действительно после [Реставрации],
несмотря на пятьдесят романов, опубликованных им до той поры...
Похоже, что он готов кончить так же, как и начал, — сотней томов,
которые никто не станет читать... У него все же был некоторый
проблеск, очень привлекательный, играющий всеми красками, своя
песнь сирены... Этот момент мог наступить лишь... в промежутке
между путаницей и мешаниной. Он захватил общество врасплох в
мгновения изящного дезабилье и растерянности. Уличные волнения
заставили приоткрыться альков, и он проскользнул туда; но_если
подобные удачи и драгоценны, все же не следует ни злоупотреблять
ими, ни повторять их сверх меры, не то очарование сменится отвращением. Однако с тех пор этот злосчастный альков попрежнему
приоткрыт; да что яі — открыт настежь. Автор входит, выходит,
описывает все. Это уж не поэт, похищающий изысканные тайны,
это нескромный врач тайных болезней».
К стр. 108.
Фигаро (Figaro) — юмористическая газета, выходила с 1826
по 1833 год. Не имея определенного направления, газета более или
менее остроумно и всегда зло высмеивала популярных деятелей
своего времени.
1< стр. 109.
Скалигер Жозеф-Жюст
( 1 5 4 0 - 1 6 0 9 ) - французский филолог
и гуманист. Научную, но вместе с тем живую и остроумную критику Вольтер называл скалигеровской.
Фрерон Эли (1718—1776) —французский критик, литературный противник Вольтера, не раз подвергавшийся его насмешкам.
К стр. 110.
Булла Unigenitus - булла, осуждающая книгу янсенистского
священника П. Кенеля. Издана папой Климентом X I в 1713 году.
К
стр. 111.
Смерть 'г-на де Тюрена. — Маршал де Тюрен (1611 —1675)
был убит ядром накануне решающей победы французов над австрийским генералом Монтекуколи.
< • ' ••
К стр. 1И.
.
Орел из Mo —- прозвище Боссюэ (см. указатель).
L
^
Ä
e
e
.
Ä
t
S
S
-
..
Ä
S
утверждениями.
К
стр.
132.
':-
Ста
Книга
оШго
'
-
книга,
Г а с™Гіт ав?о р в „х
Ч Р
0
а РИ Ка
- ™
консервативньійД о ^ Г Т
правительство
К
стр.
142
Б а Г Г . Первый то* эгой работы
з 0 — я
в » . 5 Ä e p в ^ е / а Бальзака поддерживавший
Тьера.
-
— Аоанцѵзский писатель. Первые
свои комедии. Шарль Монселе, автор и
мистификации,
зывает о множестве э к с ^ н т Г Г л 0 д о с т и
Урлиак сотрудничал в
которыми тот развлекался ® g
° ™ ô e r o остроумия, и в Д е т Ф и г а р о , расточая там весь блеск своего
с п ь е с к и ,
с к о м ж у р н а л е , где и печатал
те
Урлиака
вышел
о которых упоминает Бальзак. Сборник
к писателями
в 1840 году. Псише « т а и и Ба паже литературное сотрудничество,
завязалась личная дружба и ддаке ліитіера j б ы л
переработан
Существует мнение что «торой акт В т р н ^
^ на
Урлиаком. В 1842 году в настроен*
£
л
б о л е з н ь и М апает перелом. Неудачная семейная жизнь,»
в с е , Н апи"ериальная нужда н
а
и
:
л
а
*
т
.
Т а л ь б о,
санное им в последние ігоды >«изни. 1^автобиографический характер.
~
литературные
соРвРеменники ценилиР его чрезвычайно высоко.
К стр.
154.
.
а
д
в
г
i
s
a
s
e
s
Ä
s
r
К
стр.
162;
..
Ганская Ева — жена Бальзака; В феврале 1832 года Бальзак
получил письмо из России за подписью «Чужестранка».,Это было
первое письмо от Евы Ганской. Между ними завязалась переписка
а в 1833 году состоялось знакомство и началась близость, продолжавшаяся семнадцать лет. Бальзак мечтал о женитьбе на Ганской,
но этому препятствовало многое. Ганская была замужем за польским графом, владевшим крупными поместьями на юге России.
Но и после смерти мужа она продолжает откладывать свой брак
с Бальзаком. Свадьба состоялась в России, в городе Бердичеве,
лишь в марте 1850 года, т. е. за несколько месяцев до смерти Бальзака. В течение семнадцати лет они виделись всего несколько
раз, но переписка продолжалась все время. Письма Бальзака
к Ганской представляют большой историко-литературный интерес.
В них он часто высказывал свои литературные взгляды, делился
своими планами, давал оценку чужих и собственных произведений.
К
етр;
188;
Последний Шуан, или Бретань в 1800 году. — Критика упрекала Бальзака в том, что в этом романе он использовал фабулу
драмы Мериме И с п а н ц ы в Д а н и и
(Театр
Клары
Г а с у л ь).
К стр.
192;
Картина,
написанная
Рафаэлем для Франциска I — мадонна,
известная под названием L a b e l l e
Jardinière.
ский писатель. Бальзак поручи* т у ^ з а к о н
К
стр.
239.
Кёр Жак (1400—1456)—французский коммерсант, один из
богатейших людей своего времени, казначей Карла V I I . По проискам придворных был посажен в тюрьму в 1453 году. Бежал в Рим,
где папа Каликст III назначил его командующим частью флота,
снаряженного против турок. Умер во время кампании.
К
стр.
258.
Стиль «рокай» (rocaille •»- раковина) — изощренный стиль
мебели и декоративного искусства, модный во времена Людовика X V .
К
стр.
полнениями
Поэт из Макона.
— Гурдон имеет в виду Ламартина,
р ж
у а
,
не
Рабу.
Z p l Z
К
и Ратон
-
комедийный
«ого слуги,
Г о с о н а ж ^риобрЯ в X V I I I веке после
Особую попул ярность этот персонаж ѵ
^
появления комедии Дорвиньи ю р е
К
К стр. 388.
Лозен Арман-Луи
àeBupoH
/17А7—17931 — придворный Лю-
О^^Яральных
штатов от
довика X V I , после революции — Р е й „ с к о й
ардворянства округа K e P ™ » ^ к г ^ н п о и р н ѵ о в о р у Революционного
мией. Был обвинен в измене іиі казнен по ѵ
^
оспаривается.
трибунала. Подлинность M е м у a p u
К
стр.
397;
Романтические салоньц
00
мантиков и литературные
дейстоительности его
^ Т а л о н ы эпохи
наиболее известных Б«^ сало» M m.* АНС
ПО чтенные
литератоницы. Здесь встречались главным о о ^
иолитичеСкие
деятели,
ры - настоящие и б УДУШ^ а к а л е ^ ^ романтической школы
светские людш Представивши молодо^ р ^ н е д а р о м с ч и т а л с я
приглашали: больше для к у р ь ^ а - ѵ а л о
^
прочим, • пропреддверием < И > а н ^ з с ю і * J ' Ж Г л Ѵ в ы д а в ш и м себя за торговца
изошел известный 9 п и з ^ ^ ^ Т я е " „ цто немало шокировало собрав•бумажнымй носками и ^ л п а к а м и , что нем^
а т у р н о г о
салона,
шееся общество. С п А е ц » < ^ ч е ™ * л а ^ т ь Б а л ь з а к у некоторые черты
царившая у m-me Ансело, могла дать о
£
«романтических
для его пародии, но п 0 ^ я н п н п ы " М ш ^ л я Нодье и Виктора Гюго;
«беден» были, конечно,
Альфред де Мюссе.
В салоне Нодье собирались Виктор »
б ы в 7 л и и классики,
«
263.
б
А р С И
К стр. 197.
Ореховые скорлупки
Наполеона. — В 1803 году Наполеон
подготавливал в Булонском лагере десант для высадки в Англии.
Р
„ м
РоманьГ эти вышли после смерти Бальзака с до^.
законченные им. Романы эти во
о т
S
S
SOBH3P0H
T
' ^ j S ^ ^ t Z A
ТпГани?Ж^рного
вечера в
Ж
салоне
Нодье, во многом близкое к пародии Бальзака: «Когда Гюго
умолк, наступило минутное молчание. Но вот кто-то встал, приблизился с заметным волнением к поэту и взял его за руку, подняв
глаза к небу. Слушатели насторожились. Раздалось одно лишь
слово, и, к великому изумлению непосвященных, слово это было:*
«Собор!» Затем оратор вернулся на место; поднялся другой и воскликнул: «Стрельчатый свод!» Третий, обведя глазами присутствующих, дерзнул: «Египетская пирамида!» Тут собрание разра^
зилось аплодисментами,, а затем впало в глубокое оцепенение;
Но оно лишь предваряло взрыв голосов, хором повторявших сакраментальные слова, произнесенные только что каждым в отдель*
ности».
'
.
Главной цитаделью романтизма был салон Виктора Гюго.
По словам одного из современников, «если в салоне Нодье разгбва*
ривали,то в салоне Гюго завывали». Бальзак бывал в-салоне Гюго.
Здесь встречались Делакруа, Буланже, Мериме, Сент-Бев, Мюссе
и др, Но тон задавала романтическая молодежь, во главе с самым
неистовым -т- Теофилем Готье. Салон Гюго был пугалом «плоских
буржуа». Здесь устраивались чтения новых произведений, здесь
подготовлялась битва за Э р н а н и (см. прим. к стр. 4-11).
Бальзак относился с личной симпатией ко-многим представителям романтического направления, он высоко ценил поэзию Гюго,
творчество Мюссе, отдельные произведения Сент-Бева (см. отзывы
об этих писателях). Но вместе с тем во всех своих высказываниях
Бальзак резко осуждал излишества романтической школы, неправдоподобность и ходульность ее героев, низкопробность подражательной романтической литературы. Внешние, так, сказать,
литературно-бытовые проявления романтической манеры не могли
не вызвать у него насмешки.. Пародии Бальзака дают утрированную, но верную картину романтических салонов тех лет.
К стр. 411.
Рецензия на Эрнани написана вскоре после первого представления драмы на сцене Французского театра (25 февраля 1830 го*
да — памятная дата в истории французского романтизма). День
постановки Э р н а н и был днем решающей битвы между класси*
ками и романтиками. Этому событию предшествовала долгая борьба.
Драма Гюго Э м и Р о б с а р т , написанная по роману В. Скотта
Кенильворт
в сотрудничестве с Ансело, была освистана
публикой, М а р и о н
Д е л о рм
была запрещена цензурой;
Классики, возмущенные романтическими [излишествами Э р н а н и ,
требовали запрещения новой драмы. Но Карл X отстранился
от решения вопроса, — спор должна была решить публика. Пьеса
встречала противодействие и внутри театра. Александр Дюма
рассказывает в своих воспоминаниях, что ш-ІІе Марс, исполнявшая
роль доньи Соль, отказалась произнести фразу: «Vous êtes mon
lion superbe et genereux» («Вы мой гордый и отважный лев»), и
только настойчивость Гюго заставила ее произнести на сцене слова,
вызвавшие бурю аплодисментов (но также и свистки) в зрительном
зале. • •
• - •..*•.
- ..:;..,
.
. : ,
-
а
м
и
м
в
й
й
й
Я
И
Н
З
с в и д е т е л я е г о жи
н и, i«m
дверей театра
дня прохожие М О Г і ™
сѵиюств разодетых на все лады, но
сборише странных, ^ Р ^ з е
кто в Испанском плаще, кто в житолько не по моде: кто в блузе^ кто.в» испан
_
ли
н а
турной школы, настроенные достаточм вринотенно.
^
представления.чуть не
* е £ д У литеаплодисментами. В антрактах приж. А
остались
сломанные
ратурными противниками на поле оитв
спектакля,
скамьи, продавленные шляпы Овация
я
к и и озна_.
положила начало огромному успеху à р н а н
У
меновала победу романтической школы.
Б а л ь з а к выстуСреди этой ожесточенной ^ Р ь б ь . двух лагере ^ ^
^
пил как писатель-реалист и, не умаляя литер ум
нес00бразÏÏS
п^се„ЦГяЯр10анГе^ѴамьаГ^а™Ч„осТЬ
ее героев,
бедность идейного содержания.
К
стр.
z
413.
f
s
î
&
s
s
i
s
t
s
u
s
переворота.
К
стр.
439.
"шавонье^ски^виног'радарь
затель).
,Ш
К
H
стр. 442.
e
n
p
5
Ä
прозвище П , Л . Курье (см. ука-
н
УКАЗАТЕЛЬ
#
ИМЕН:1
К
стр. 462.
Мода — еженедельный сборник легитимистского направлейия, основанный в 1829 году Эмилем де Жирарденом для руководства «элегантным миром». Бальзак был близок к кружку писателей
и художников, группировавшихся вокруг М о д ы .
К стр. 464.
Фуальдез Антуан Бернарден (1761—1817) — имперский консул
в городе Родесе при Наполеоне I, смещенный с должности Людовиком X V I I I . 19 марта 1817 года был убит в публичном доме Банкаль отчасти из политических, отчасти из корыстных целей. Вдова
Банкаль — одна из соучастниц преступления. Судебный процесс
,по этому делу привлек внимание всей Европы.
К
стр. 468.
Невиіатель,
с Ганской.
1833
год — место
и год
знакомства
Бальзака
Абрантес Лаура, д' О 7 » * —
1838), французскаяписательница - 129, 18U, aöo
Август Октавиан (63 г . до
и. Э . - 1 4 г. н. э . ) - 1 0 3
Аламбер Жан ле Рон, д (1717
1783)—132, 191
Александр Македонский (IV век
до н. э.)— ЮЗ
Аллори Кристофор ( 1571
1621), флорентийскии художник — 68
Юдифь — 68
Альфиери Витгорио
(17491803), итальянский поэт и
драматург — 51
Амадис Гальский, герой наиболее популярного в АѴ
X V I веках испанского рыцарского Р о м ана — 6
Амори-Дюваль Эжен (1808—
1885), французский художник—465
^
А м ^ Т К т о р , дю, французский писатель, современник
Б а л ь з а к а - 7 5 , 102-103
Авильская лига —
о,
102—103
_
Араго
Доминик-Франсуа
(1786—1853), французский
астроном—82
Ариосто
Лодовико
(1474
Р 1533) 104 , 364, 401.
Неистовый Ролланд — о
Аристотель (IV век до н. э.)—
103, 163
,
Арленкур
(1789іленкур Шарль, «д V
„
героями Б а л ь з а к а .
1856), французский писатель — 410
Ипсибоя—410
Арно Антуан
(1612-1694),
французский богослов-янт
сенист—110, U2, U 8
Байрон Джордж-Гордон (1788—
1824) — 52, 83, 152, 168,
181, 189, '203, 204, 228
288, 291, 315, 331,
402,
410, 426, 427.
Корсар"—^52, 288, 331
Лара - 183 331
Манфред — 7, iw %
Паризина — 189
Бакейзен
Лудольф
(тэт
1709), художник-маринист
голландской школы — иуі
Балланш
Пьер-Симон
(см.
комментарий)—20, іио, юо,
300, 301, 470
Бальзак Лаура
(по мужу
Сюрвиль), сестра писателя,
автор воспоминаний о нем—
280, 439
/1 ляп—
Банделло
Матгео
(148U
1561), итальянский новеллист — 366
Барант Гильом-Проспер, де
( 1 7 8 2 - 1 8 6 6 ) , французский
историк и публицист-309
Барбье Огюст
(1805-1882),
французский поэт — 2U
Баржине
Александр-Пьер
(1797—1843), французский
писатель — 396—398
„и и ѵѵппжников указаны названия произведений
» S B E ^ U *
г » , имена у п о м и н а л с я
Окровавленная рубашка—
396—398
Красный камзол — 396
Баршу де Пеноэн
(1801—
1855), французский историк и публицист—133
Бартелеми Жан-Жак (1716—
1795), аббат, французский
писатель и ученый — 6, 8,
137, 306
Анахарсис
(Путешествие
молодого Анахарсиса по
Греции в середине IV века до новой эры) — 6
Бартоломео, фра — см. Фра
Бартоломео
Б а х Иоганн-Себастьян (1685—
1750) — 448
Бейль Анри — см.
Стендаль
Беллини Джованни (1426—
1516),
итальянский
художник — 364
Беранже Пьер-Жан, де (1780—
1857) — 20, 82, 105, 152,
306, 331
Бернар Шарль, де (1804—
1850), французский писатель — 189
Бернарден де Сен-Пьер Жак*
Анри
(1737—1814)—21,
124, 125, 126
Поль и Виргиния — 6,
84, 124, 156, 301
Бетховен Людвиг, ван ( 1 7 7 0 —
1827) — 167, 177, 316, 394,
446—447, 466
Симфония до-минор — 446,
447
Пасторальная симфония—
447
Биньон Жером (1589—1656),
французский
юрист, и
Биньон
Жан-Поль
(1661 —
1743),
французский ученый—115
Биша
Мари-Франсуа-Ксавье
(1771—1802), французский
врач, анатом и физиолог—
239
•
•
Бомарше Пьер-Огюстен,
де
( 1 7 3 2 — 1 7 9 9 ) — 2 1 , 56, 79,
174,182, 299, 336
Женитьба Фигаро—79, 422
Графиня Альмавива—79
Фигаро—118,174, 3 1 1 , 3 8 3
Севильский цырюльник
Бартоло — 418
Бомон
Гюстав-Огюст,
де
(1802—1866), французский
писатель и публицист —
379
Бональд Луи, де (см. комментарий)—8, 10
Бонне Шарль
(1720—1793),
швейцарский философ и натуралист—4, 6
Боргоньоне Амброзио (1486—
1523),
итальянский
художник — 435
Борджа Александр V I , римский
папа с
1492
по
1503—37, 40, 426
Борджа Цезарь (1476—1507),
кардинал—426
Боссюэ Жак-Бенинь (1627—
1704) - 8 , 10, 12, 100, 110,
112, 114, 117, 148
Бракаса,
французский
художник, современник Бальзака — 465
Пейзаж с быком — 465
Брийа-Саварен
Антельм
( 1755—1826), французский
писатель — 203
Брунелески Филипп (1377—
1446) — 468
Бруссе
Франсуа-Жозеф-Виктор
(1772—1838),
французский врач, основатель
физиологической школы—
96,228
Буало-Депрео Никола (1636—
1 7 1 1 ) - 9 6 , 100, 112, 115,
189, 204
Налой — 261
Поэтическое искусство —
189 '
Бульвер - Литтон
Эдуард*
Джордж (1803 — 1 8 7 3 ) — 4 2 9
Бурдалу Луи (1632—1704), религиозный оратор, иезуч
и т - П О , 1.12
Б у у р , отец Доминик (1628—
1702), французский грамматик и литератор, иезуит—
110, 112, 128
Буше Франсуа ( 1 7 0 3 - 1 7 7 0 ) 200
Бэкон Френсис (1561—1626)—
315
Бюффон
Жорж-Луи-Леклер,
де (1749—1789) — 4 , 5, 159,
181, 306, 315, 349
Бюше Филипп (1796—1865);
французский
философ и
историк. Совместно с Р у
(см.) написал «Парламентскую историю французских
революций»—316
Вагнер Иоганн-Мартин (1777—
1858),
немецкий с к у л ь «
тор — 468
Ван-Дейк
Антуан
(1599—
1641) — 390
Вандервельде
Карл-Франц
(1779—1824), немецкий рог
манист — 434
Ван-Хейсум Ян (1682—1749),
голландский художник —
390, 391
Ван-Эйк Ян (1386—1441) —
277, 391
Ватто Антуан (1684—1721) —
209, 277, 278
Вашингтон
Георр
(1732—
1799)—100, 141
Вебер Карл (1786—1826), немецкий композитор — 229, 315
Вега Карпио
Лопе-Феликс,
. де (1562—1635)—419
Веласкес
Диего
де-Сильва
(1599—1660) — 81,101, 369,
37.1, 373
Филипп II — 371, 373
Венера Медицейская — 35
Венера Милосская — 35
Вергилий" Марон Публий (I век
до н. э . ) - ЮЗ, 174, 315
Энеида — 2 1 3
Берне Клод-Жозеф
(1714—
1789), французский художч
ник — 191
А
Вернэ Орас ( 1789—1863), ф р а «
цузский художник — 462
Веронезе Паоло ( 1 5 2 8 - 1 5 8 8 ) —
72, 372
Вико Джамбаттиста
(1668—
1744)—300
Вильмен
Франсуа
(1790—
1870), французский литератор и профессор лите^
р а т у р ы - 3 0 9 , 350
Винчи Леонардо, да (140Z—
1519) - 167, 368
Портрет Карла V I I I — 368
Виньи Альфред, де О 7 9 ? . " "
1 8 6 3 ) - 2 0 , 85, 137, 152;
154, 306, 411, 417, 428;
431—433
Сен-Map — 428, 4 3 1 - 4 3 4
Советы черного доктора—809 s
Вожла
Клод
(1595-1650), •
французский грамматик—
125
Вольтер
Мари-Франсуа-Аруэ
(1694—1778)—38, 83, 104; ,
110, 112, 116, 148, 155, 181;
184, 189, 1 9 1 , 2 0 3 , 2 5 4 , 256;
280, 300, 315, 349,
355,
386
Альзира — 280
Заира — 280
К а н д и д - 2 1 , 148, 380
Магомет — 110
Микромегас — 189
Вуверман Филипп ( 1 6 2 0 —
1668), голландский худож*
• ник — 435
-j 1
Габенек,
Франсуа-Антуан
(1781—1849),
французский
муізыкант — 446
Гаварни
Сюплис-Гильом
(1804—г 1866) — 4 5 9 , 4 6 1 , 4 6 2 ;
464,475
Жизнь молодого человека—
461
- " -
Гайдн Франц-Иосиф (1732—
1809) — 177, 394
Галилей
Галилео
(1564—
1642)—13, 199
Га л л ер Альберт (1708—1777),
швейцарский натуралист и
врач—6
Галь Франц-Иосиф( 1758-1828),
немецкий врач, основатель
френологии—14, 228
Ганганелли Климентий X I V
(см. комментарий)—37, 112
Ганская Ева (см. комментарий)—162, 169,207,229,363,
369, 371, 379, 389, 391,
394, 422, 423, 424, 427,
437, 438, 440, 447, 465,
466
Гамильтон (1645—1720), французский писатель — 148
Гверчино Джованни (1591—
1666), итальянский художник — 68
Сивилла — 68
Гвидо Рени (1575—1642), итальянский
художник — 371.
372, 373
Аврора — 371, 372
Беатриче Ченчи — 371, 373
Гейм Давид, де —391
Гендель Георг-Фридрих ( 1685—
1759) — 458
Генрих IV (1553—1610), французский король—12, 120,
219, 357, 428
Герен Пьер-Нарсис (1774—
1833), французский художник — 391
Наполеон, милующий арабов — 391
Гете Вольфганг (1749—1832)—
4, 105, 119, 158, 195,204,213
Вильгельм Мейстер — 157
Миньона — 6, 157
Страдания молодого Вертера — 83, 142, 144, 157
Вертер — 6 , 119, 357
Фауст — 163
Мефистофель — 158
Фауст — 158
Гиберти
Лоренцо
(1378—
1455) — 468
Гизо Франсуа (1787—1874)—
137, 305, 379
Гийон,
аббат
(1760—1847),
епископ
марокканский—
440, 445
Беседы о самоубийстве—445
Глюк
Кристоф-Виллибальд
(1714—1787)—394, 451, 454
Гоббс Томас (1588—1679)—8
Гоббема
Мейндерт (1638 —
1709) — 367, 368, 391
Гозлан
Леон
(1803—1866),
французский писатель —20,
137, 138, 309
Гольбейн Ганс (1497—1543) —
72, 371
Мадонна — 371
Гольдсмит
Оливер
(1728—
1774) —475
Векфильдский викарий —
109 475
Гомер — 82, 83, 174, 184, 194,
195,213,353, 365, 401, 459,
460, 464, 471
Илиада — 363
Гораций Флакк Квинтий (65—
8 г . до н. э.) — 312, 315
Поэтическое искусство—312
Готье Теофиль(1811 — 1872)—
20, 85, 137, 424
М-ль Мопен — 424
Фортунио — 424
Гофман
Эрнест-Теодор-Амадей ( 1 7 7 6 — 1 8 2 2 ) — 3 9 , 70,
189, 203, 393, 394, 434, 435
Кот Мур
Крейслер — 394
Граммон Фердинанд, де, французский поэт, современник
Бальзака — 1 0 6
Гранье де Кассаньяк БертранАдольф, французский писатель и политический деятель,
современник
Бальзака —
106, 137
Даная — 106
Грёз
Жан-Батист
(1725—
1805) — 209, 389, 390
Деревенская невеста — 389
Испуганная девушка —389,
390 v
Портрет жены — 389
Гроклод
Луи, французский
художник,
современник
Бальзака — 465, 466
Гужон
Жан
(1515—1568),
французский скульптор и
архитектор — 174
Гуттенберр
Иоганн
(1397—
1468) - 85, 191
Гэ Софья (1776—1852), французская писательница —188
Анатоль — 188
Гюго Виктор (1802—1885) —
19, 20, 21, 58, 73, 75, 85,
1 0 3 - 1 0 6 , 120, 137, 138, 152,
153, 154, 304, 306, 309,
331, 398, 4 1 1 - 4 2 1 , 422
Ган Исландец — 412
Клод Гё — 153
Кромвель — 421
Лучи и тени — 7 5 , 1 0 3 — 1 0 6
Марион Делорм — 122
Ориенталии — 364
Осенние листья — 310
Рюи Блаз — 422
Собор Парижской Богоматери - 19, 104, 309
Эрнани — 411—421
Дон Карлос (Карл V) —
411-421
Дон Рюи —417 —421
Донья С о л ь - 4 1 7 - 4 2 1
Эрнани — 417 — 421
Давен Феликс (1807—1836),
французский
писатель —
15
Давид Анжерский Пьер-Жан
(1783—1851), французский
скульптор — 82, 137, 209,
287
Давид Луи (1748—1825)— 191;
192, 389, 391
Благословение
орлов —
391
Коронация Жозефины
—
391
Миропомазание
Наполеона — 391
Давид Фелисьен (1810—1876);
французский композитор—
209
•
.
Данте Алигиери (1265—1321)—
33, 174, 198, 213, 237, 251;
365, 373, 401, 475
Божественная комедия —
365, 373
Франческа да Римини —
• 420
Дантон Жорж-Жак
(1759 —
1794)—239
Дарю Пьер-Антуан (1767—
1829),
французский
государственный
деятель,
министр Наполеона—70
Даш Габриэлла-Анна (1804—
1872), французская писательница — 106
Госпожа де ла Саблиер —
106
Девериа Эжен (1805—1868);
французский художник —
210
Крещение Генриха IV —
210
Декан
Александр-Габриэль
(1803—1860), французский
художник—209, 210,463,
464—465
Дети у фонтана — 210
Иосиф—210
Казнь на крючьях — 210
Турецкая кофейня — 210
Декарт Рене
(1596—1650)—
191
Делавинь
Казимир
(1793—
1843), французский поэт и
драматург — 20, 152, 331
Делакруа Эжен ( 1 7 9 9 - 1 8 6 3 ) 209, 210, 465
Клеопатра — 465
Резня на Хиосе — 210, 364
Деларош Поль (1797—1856),
французский художник —
449
Святая
Цецилия — 449
.Делиль
Жак
(1738—1813),
французский поэт,
переводчик Вергилия и Мильт о н а — 8 5 , 261, 262, 264,
331
Дефо Даниэль (1660—1731) —
Робинзон Крузо — 6
Джемс Джордж (1801—1860),английский
писатель
—
428, 431—434
Ришелье —г 428,
431—434
Джованни из Болоньи (1667—
1717) - 4 6 8
Джорджоне Джорджо Барбарелли
(1478—1511) —
391
Дидро Дени (1713—1784) —
28, 38, 68, 79, 142—148, 159,
349, 386
„ Д в а друга — 143
Жак Фаталист — 143
Непостоянство общественных суждений — 143
Племянник
Рамо — 143,
386
Это не сказка — 142—148,
159
Гардейль— 1 4 3 — 147, 159
с м - л ь Делашо — 143 — 147,
159
Дольчи Карло (1616—1686) —
68
Голова Поэзии — 68
Доменикино Доменико Сам• пиери (1581—1641), итальянский
художник — 266,
372
Домье Оноре (1808—1879)—
475
Донателло (1386—1466)—468
Доу Герард (1613—1675)—265,
.
272
Женщина, страдающая водянкой — 265
Дюбюф Клод (1790 — 1864),
французский художник —
265
Дюканж Виктор (1783—1833),
І французский романист и
драматург — 153
Дюма Адольф (1810—1861),
французский поэт — 106
Прованс — 106
Дюма Александр (1803
—
1870) — 424, 439
Нельская башня — 422
Три мушкетера — 424
Дюпен Шарль (1784—1873);
французский
экономист—
403
Дюпон Анрикель,- француз-;
ский художник — 159
Дюпюитрен Гильом
(1777—
1835),
французский хит
рург—137, 228
Дюрер
Альбрехт
(1471 —
1528) — 7 2 , 174, 175, 367;
368, 375, 391
Дева Мария — 175
Дюси
Жан-Франсуа (1733—
1816), французский
поэт
и драматург,
переводчик
Шекспира — 204
Екатерина II (1729—1796)—
12, 26, 115, 191, 301
Екатерина
Медичи
(1519—
1589)—26, 84, 113, 114, 116,
.. 118, 428, 466
Елисавета
Тюдор
( 1558—
1603),
английская
королева—84, 93, 433
Жакар Жозеф-Мари (1752—
1834), французский
механик,
изобретатель ткацкого станка
«Жакар» —
137
Жакоб Поль-Луи, французский писатель—476—478
Жанен Жюль (1804—1874);
французский писатель и
критик — 3 0 6 , 309
Мертвый осел — 309
Жан-Поль
Рихтер
(1763—
1825) — 398
Сновидение — 398
Жерар Франсуа (1770—1837);
^ а н ц у э с к и й художник —
Жерико Теодор (1791—1824) —
209, 210, 391
, Медуза—210
Жильбер (см. комментарий)—
442
/тт
д.
Жирарден, г-жа де (Дельфина
Гэ) ( 1 8 0 4 - 1 8 5 5 ) , французская
писательница — 20,
ѵ
137
Жироде, Анна-Луи Жироде де
Русси (1767—1824), французский художник — 312
Жозеф, отец
(Франсуа Ле
Клер дю Трамбле) ( 1 5 / / —
1638),
доверенное лицо
и
советник
Ришелье—112,
431»
432
Жофруа - Сент - Илер
Этьен
(1772—1844)—4, 228
Заме Себастиан (1549—1614)^
финансист и придворныи
Генриха
I I I и Генриха
IV—182
Занд Карл ( 1 7 9 5 - 1 8 2 0 ) , австрийский патриот, убиица
министра
Коцебу—
1
53
Инчбальд Елизавета (1753—
1821), английская романистка — 188
Кабанис Жорж (см. комментарий)—70
Кавалли
Франческо (1602—
1676), итальянский композитор — 448
Калло Жак ( 1 5 9 2 - 1 6 3 5 )
81, 460
Кальвин Жан ( 1 5 0 9 - 1 5 6 4 ) 11, 114, 115, 119, 199
Кальдерон де ла Барка Педро
(1600—1681) — 4 1 9
Камоэнс Луис (1525—1580) —
83, 316
Каналетги Антонио
(1697—
1768) — 3 7 2 , 390
Канова
Антонио
(1757—
1822) - 174, 184, 192, 268
Кант Эммануил (1724—1804)—
8, 349, 380
Критика чистого разума —
« 380
Караваджо Микель-Анджелло
Америги, да ( 1 5 6 9 - 1 6 0 9 ) 372
Караччи
Аннибал
(1560—
1609) — 293, 372
Кардано Джеронимо (1501 —
1576), итальянский математик и философ—195
Кариссими Джакомо (1604—
1674), итальянский композитор — 448
Карл Великий (742—814), король франков—114, 357, 428
Карл I (1600—1649), английский король—12, 93, 279
Карл V (1500—1558), король
Испании, император Германии—113, 116, 141, 142,
411, 416
Карл I X (1550—1574), французский король—102, 428
Карл X ( 1 7 5 7 - 1 8 3 6 ) , французский король —265, 266,
428
Kapp Альфонс (1808—1890),
французский писатель —
20, 146
Кер Жак (см. комментарий)—
239
КлементиЙ X I I I (Редзонико),
римский папа с 1758 по
1769—390
Кок Поль, де ( 1 7 9 4 - 1 8 7 1 ) 153, 429
Коломб А., адресат Бальзака—
437
Коломб Мишель (1430—1513),
французский
скульптор—
174
Колумб Христофор
(1446—
1506)—13, 191
Констан Бенжамен (1767—
1830)—350
А д о л ь ф - 6 , 84, 144, 156,
324, 332
Корнель Пьер ( 1 6 0 6 - 1 6 8 4 ) -
4 , 5 4 , 121, 122, 123, 148, 150,
192, 256, 300, 352, 385,
411, 418, 477
Полиевкт — 121, 122, 124,
385
Цинна — 105, 352,416, 420
Корреджо
Антонио-Аллегри
(1494 —1534)—194, 198, 371
Магдалина — 371
Ночь — 371
Крабб Георг (1754—1832), ан*
глийский поэт — 388
Жизнь в смерти — 388
Кранах Лука (1472—1553) —
277, 390, 391 .
Юдифь — 390
Кромвель
Оливер
(1599—
1658)—12, 93, 116
Кузен Виктор (1792—1867)—
французский философ—18,
349, 399
Купен де ла Купри, фран*
цузский художник — 420
Купер Фенимор (1789—1851)—
22, 46, 73, 75, 86—92,
94, 99, 101, 229
Красный Корсар — 86
Лоцман—86
Озеро
Онтарио
(Следопыт)—73,
75,
86—92
Кожаный Чулок—73,86—
92
Пионеры—86
Последний из Могикан—
86, 88, 89
Прерия—86
Шпион—86
Курье Поль-Луи (1772—1825),
французский писатель и
переводчик—85, 137, 306,
439—440
Опыт о Геродоте—43Э
Корреспонденция—439
Кювье Жорж (1769—1832)—
4, 137, 181, 204, 228, 315
Лабрюйер Жан, де (1645 —
1696)—349, 355
Лавуазье
Антуан-Лоран
(1743—1794)—299
Ламартин Альфонс, де (1790—
1869)—20, 46, 82, 83, 105,
124, 125, 126, 137, 141,
152, 168, 227, 305, 331,
399, 422
Гармонии—399
Жослен—124
Эльвира—46, 124
Ламене
Фелисите
(1782—»
1854),
французский
философ и богослов, основатель христианского социализма—37, 110, 132, 137;
227, 228, 304
» Слова верующего—304, 305
Лаплас Пьер-Симон
(1749—
1827)—131
Ларошфуко Франсуа (1613—
1680)—38, 242
Максимы—38
Ласепед Этьен (1756—1825),
французский натуралист—
112, 192
Латур Морис
Квентин, де
(1704—1788), французский
художник—389, 390
Латуш Анри, де (см. комментарий)—70, 75, 76 — 86,
425
Лео—75, 76—86
Фраголетта—76
Эмар—425
Лафайет Мари-Жозеф (1757—
1834),
французский
генерал и государственный
деятель—85
Лафайет Мария-Мадлена (?)
(1634—1693), французская
романистка и автор мемуа-?
ров —112
Лафатер
Гаспар
(1741—»
1801)—14
Лафонтен Август (1758—1831);
немецкий писатель—462
Лафонтен Жан, де ( 1621—
1695)—21,
181, 195, 300,
307, 383
Бертран и Ратон — 307
Два друга—383
Свадьба Солнца—300
Лев X , римский папа с 1513
по 1521 год—33, 103 191
Лёвенгук
Антонис
(1632—
1723),
голландский
натуралист—6
Лежандр Адриан-Мари (1752—
1834), французский
геометр—162
Лейбниц
Готфрид-Вильгельм
(1646—1716)—4, 8
Лели
Петер
(1618-1680),
немецкий
художник—390
Портрет Якова—390
Леру Пьер (1797—1881), французский утопический социалист—132
Десаж
Аллен-Рене
(1668—
1747)—138, 151, 157, 349
Жиль Б л а з - 6 , 21, 22, 109,
151, 160
Тюркаре—151
Летьер Гильом (1760—1832),
французский
художник—
415,466
Брут—466
Лиотар
Жаи-Этьен
(1702—
1790),
швейцарский
художник—389, 390
Девушка с чашкой шоколада—390
Лист Франц (1811—1886)—
448, 453
Лозен, Арман-Луи Бирон (см;
комментарий)—388
Лойола Игнатий (1491—1556)—
118
Лонг (IV век до н. э.)
Дафнис и Хлоя—6
Луве де Кувре Жан-Батист
(1760—1797), французский
романист
Кавалер Фоблаз—24
Г-жа Линьоль—24, 157
Луини Бернардино (1475?—
1533?), итальянский
художник
миланской школы—371, 372
Благовещенье—372
Обручение святой девы —
371
Луи-Филипп ( 1 7 7 3 - 1 8 5 0 )
379, 466
Людовик
Святой
(1215—
1270)—114
Людовик X I
(1423-1483)93, 430, 433
Людовик X I I I ( 1 6 0 1 - 1 6 4 3 ) —
34, 40, 60, 112, 432, 433
Людовик X I V ( 1 6 3 8 - 1 7 1 5 ) 12, 32, 39, 40, 85 93, 00,
101, ЮЗ, 109,
1,
12,
113
114, 115, 116, 140,
164 214, 219, 240, 300 357
4 1 6 425, 428, 429, 430, 467
Людовик X V ( 1710—1774)—-34,
112, 115, 144, 1 9 1 , 2 9, 416
Людовик X V I ( 1 7 5 4 - 1 7 9 3 ) 78, 154, 279, 392
Людовик X V I I I ( 1 7 5 5 - 1 8 2 4 ) 33, 160
Люлли Жан-Батист
(1633—
1677)—448
Льюис Грегор-Матье (см. комментарий)—46, 410
Анаконда—46, 410
Монах—46
Лютер Мартин ( 1 4 8 3 - 1 5 4 6 ) —
11, 103, 114
Мазарини
Джулио
1661)-И2, ИЗ
(1602—
Макиавелли Николо (1469—
1527)—8, 23, 33, 436
О князе—23
Макферсон
Джемс
(1736-
> Оссиана—
^
«6, чю
Поэмы
512
Малезерб
Кретьен-Гильом
(1721—1794), французский
публицист—299
Малибран
Мария
(1808—
1836), итальянская певица—449
Мальтийский
рыцарь
(картина неизвестного автора)—
• 373—375, 389
Мария Стюарт (1542—1587)—
93, 279, 433
н'
Марен Сципион, французский
писатель—140, 141
1796
События и происшествия
в Египте—140—141
Маро Клеман (1495—1544)—
105, 477
Марс, м-ль (1779—1847), французская актриса—153, 254
Масена Андре (1756—1817),
французский
маршал—
228
Масс Э., французский писатель — 426
История папы Александра VI и Цезаря. Борджа—426
Матюрен
Чарльз
(1782—
1824),
ирландский
романист и поэт—168, 203
Бертрам—204
Ева—204
Мельмот-скиталец—204,398,
461
Мейербер Джакомо
(1791—
1864)—229, 450—459
Роберт-Дьявол — 450—459
Мейсонье
Эрнест
(1815—
1891),
французский
художник—209
Мениппова сатира (см. комментарий)—439
Мериме
Проспер
(1803—
1870)—20, 70, 153, 155,
306, 309, 417
Матео Фальконе—153
Театр Клары Гасуль —
122
Местр Жозеф, де
(1752—
1821)—125
Местр Ксавье,
де
(1763—
1852)—71, 125, 158
Прокаженный из долины
Аосты—71, 158
Миерис Франц, ван (1635—
1681),
голландский
художник—272
Меттерних Клемент-ВенцельЛотар (1773—1859)—27, 28,
29, 30, 34
Мнкель-Анджелло
Буонаротти (1475—1564)—167, 174,
175, 2874 367, 471
Мыслитель — 175, 287, 369
Ночь—287
Мильтон Джон (1608—1674)—
83, 174, 198, 213, 401
Минье
Франсуа-Огюст-Мари
(1796-1884),
французский
историк—112, 137,
305, 428
Миньон Абрагам (1639—1679),
французский художник —
391
Миньяр Пьер
(1610—1695),
французский
художник—
Мирабо Оноре-Габриэль(1749—
1791)—56, 130, 292
Мнишек
Георг,
адресат
Бальзака—372, 375, 389,
392
»
»
.
Молина Луис (1535—1600), испанский богослов, иезуит—
110, 111, 112
Мольер Жан-Батист Поклеа
(1622—1673)—4, 21, 53, 96,
100, 102, ЮЗ, 115, 157, 159
174, 205, 231, 254, 288,
311, 352, 355, 381—383, 418.
477
Амфитрион—382
Блестящие
женихи —381
Брак по принуждению —
381
Господин де Пурсоньяк —
382
Графиня д'Эскарбаньяс —
382
Жорж Данден—382
Каменный гость—381
Лекарь поневоле—382
Любовь целительница—382
Мелисерда—382
Мещанин во дворянстве —
102, 382
Мизантроп —380, 381, 382.
422
Альцест—288, 352
Селимена—381, 383
Филинт—352
Мнимый больной — 381, 382
Мнимый рогоносецт-381
Несносные—381
Принцесса Элиды—381
Проделки Ска пена
Скапен—33
Сицилиец—382
Скупой 381, 382
Гарпагон—311, 382
Тартюф—153, 344, 381,382,
383
Г-н Лойяль—83
Оргон—383
Флипота—157
Эльмира—ІвЗ
Урок женам—381
Урок мужьям—381, 418
Ученые женщины — 382
Монталамбер Шарль (1810—
1870),
французский
публицист и политический
деятель—227
Монтейль
Аман-Алексио
(1769—1850), французский
историк—8, 309
Монтень
Мишель
(1533 —
1592)—477
Монтескье
Шарль
(1689—
1755)—8,
112, 191, 301;
315, 349
Величие и падение Римл я н - 2 1 , 112
Диалог Суллы и Эвкрата—
21, 430
Дух законов—301, 305
Персидские письма—301
Монти Винцент (1754—1828),
итальянский поэт—33
Монье
Анри
(1805—1877),
французский юмористический писатель и карикатурист—20, 119, 127, 134,
309, 459—464
Импровизированное семейство—127
Г-н Прюдом—127, 134;
460 461
Моро Жак-Жозеф, французский
психиатр,
адресат
Бальзака—181
Моцарт
Вольфганг-Амедей
(1756—1791)—177, 315, 394,
446, 447, 450, 451—453, 458
Дон Жуан—450, 451—453,
458
Мур Томас (1779—1852)—168
Мурильо
Бартоломео-Эстебан (1617—1682)—371, 373
хМюллер Иоганн (1801 — 1858),
немецкий физиолог—6
Мюссе Альфред, де (1810—
1857)—20, 85, 142, 151 —
• 158, 306, 309, 422
Две возлюбленные — Фредерик и Бернеретта—
142, 151—158
Исповедь сына века—151,
152
Г-жа Пьерсон—152
Испанские сказки (испанские
и
итальянские
сказки)—398
Сын Тициана—54, 56
Эммелина—151, 153—157
Наполеон I Бонапарт (1769—
'
1821)—10, 12, 2 5 , 2 7 , 4 0 , 70,
78, 100, 107, 114, 115, 138,
_ 139, 170, 192, 194, 197;
198, 220, 228, 240, 291,
302, 345, 346, 357, 410, 459
Натуар Шарль-Жозеф (1700—
1777),
французский
художник—296
Ней Мишель (1769—1815), маршал Наполеона—78
Неккер, г-жа—см. Сталь, г-жа
Нетчер Гаспар ( 1 6 3 9 - 1 6 8 4 ) ,
немецкий художник—390
Портрет жены Якова I I —
390
_
!
Нефшато
Франсуа
(1750—
1828), французский государственный деятель и лиг
тератор—192
Нодье Шарль
(1780-1844);
французский
писатель—
20, 70, 137, 148, 306, 309
История Богемского
короля и семи его зам-:
ков—309
Смарра—398
Ньютон Исаак (1642—1727)—
131, 181, 195
Обер Даниэль-Франсуа (1782—
1871), французский композитор—209
Овидий Назон Публий (43 г.
до и. э.—16 г . н. э . ) — 4 5
Tristia— 45
Отвей
Томас
(1651—1685),
английский драматург
Спасенная
Венеция—288
Оуэн Роберт (1771'—1858)—
133—137
Паганини
Никколо
(1784—
1840) — 167, 175, 373, 448,
449, 464, 465
Панье французский художник —209, 465
Пейзаж—465
Портрет—465
Паскаль Влез (1623—1662) —
110, 111, 112, 115, 116, 121,
126, 127, 182, 423
Мысли—126
Письма к провинциалу—
21, 85, 110, 121
Паста Джудита (1798—1865),
итальянская
певица—178
Пелико Сильвио (1789—1854),
итальянский писатель, девять лет просидел в австрийских
тюрьмах — 51,
301
Перро Шарль (1628—1703)—
300
Мальчик с пальчик—438
Ослиная шкура—157
Синяя борода—157
Спящая красавица—438
Перуджино Вануччи (1446—
1524) —117
Петр Великий (1672—1725)—
113, 115
Петрарка Франческо (1304—
1374)—33, 169, 203, 332
Петроний Арбитр (I век н.э.)—6
Пигмалион, греческий скульптор—193
Пиго-Лебрен
(1753—1835),
французский писатель—153
Плавт (ок. 254—184 гг. до
н. э.)—382
Скупой—382
Планш Гюстав (1808—1857),
французский критик—20
Платон (V—IV век до н. э.)—
22, 163, 401
Плутарх 46/48—20 гг. II века
н. э.—345, 353
Подражание
Иисусу
Христу —анонимное религиозное произведение начала
X V века, излагающее теорию аскетизма—122, 44(
Поликлет (V век до н. э.)—174.
Поп Александр (1688—1744)—
169, 315
Потемкин, князь
Григорий
Александрович
(1739 —
1791)—28
Поттер Пауль (1625—1654)—
272
Потье Шарль=Габриэль (1774—
1838),
французский
акч
тер—254
Почтальон из Лонжюмо, оперетта Адама (1803—1856)—
449
Прадье Джемс (1794—1852),
французский скульптор—
465, 466
Птито Жан (1607—1691), французский миниатюрист —391
Венера—465, 466
Пракситель (IV век до н. э.)—
174
Прево, аббат (1697—1763)—174
Манон Леско—6, 19, 21,
142, 144, 174, 324
Пуссен Никола (1594—1665)—
194, 198
Пюже
Пьер
(1622—1694),
французский скульптор и
художник—174
Пьомбо
Себастьяно,
дель
(1485—1547)—367, 375, 391
Портрет Баччо Бандинелли—368
Рабенер
Теофил-Вильгельм,
(1714—1771), немецкий писатель— 349
,
5 3 ) * Р ш Г і 2 0 . ( Іэт.
m
236, 315, 475
Гаргантюа и Пантагрюэль
Гаргантюа—158, 236
Пантагрюэль—158
Панург—6, 158, 888
Радклифф Анна (см. комментарий)—46, 325, 433
Расин
Жан
(1639-1699)21, 35, 73, 83, 100,
04,
110, 112, 115, 120, 121,
123
150, 189, 202, 213,
256, 3 0 0 , 4 1 6 , 477
Аталия—104
Британник—105
История Пор-Рояля—11U
Федра—35, 144, 189, 416
Эсфирь—104
Рафаэль
Санцио
(1488
1520)—14, 1 9 , 3 5 , 7 7 81, 93,
103, 117, 157, 165 166
167
175, 185, 186, 187
191
192, 194, 195, 253,
277 293 296, 298, 302,
315, 367, 368, 369 370
375, 389, 449, 468, 471
Раб Л5е
Видение Иезикииля—180,
187, 372
Дрезденская богоматерь—
186
Евангелист Лука—186
Иоанн Креститель—186
Мадонна Фолиньо—186
Несение креста—186
Обручение
богоматери —
186, 187
Портрет Иисуса Христа —
370
Портрет Льва X—186
Портрет Маргариты Дони—186, 369
Портрет старика—368
Похищение Елисея—77
Преображение — 77,
186,
I 87 »
Святая
253
Цецилия—44»
Станцы—186, 187
Юноша,
играющий
на
скрипке—186, 187, 373
Ре-Дюсейль
Антуан (1800—
1850),
французский
пиг
сатель—428—431
Самюэль Бернар и Ж а к
Богарелли — 428—431
Рейбо Генриетта, французская
писательница, современница
Бальзака—106
Жорж—106
Рейбо Луи ( 1 7 9 9 - 1 8 7 9 ) , французский литератор и экономист—107, 1 3 2 - 1 3 7
Этюды о современных реформаторах—106, 132—
137
Рембрандт ван Рин < 1 6 0 6 1669)—202, 272, 277, 376,
378
'
389
,,«QQ
Реомюр Рене-Антуан (1683—
1757) 6
Ривароль Антуан (1753—1801),
французский журналист —
Рихтер Жан-Поль —см. ЖанПоль Рихтер
Ричард Львиное Сердце (1157—
1199), английский король—
93
Ричардсон Самюэль ( 1 6 8 ^ Г Г
1761)—169, 174, 353, 387
Кларисса Гарлоу—23, б»,
83, 144, 160, 364, 427
Кларисса—6,95, 311,324,
353
Ловлас—6, 95, 174, 353,
357
Риччи
Лаврентий
(1703
1775), глава ордена иезуиРишелье Арман (1696—1788),
маршал Франции —191.3&/
Ришелье Арман-Жан дю Плесси
(1586—1642)—34, 39, 40, 60,
112, 113, 114, 116, 119 123,
125, 138, 195, 4 3 1 - 4 3 4
Робеспьер Максимилиан (1758—
1794)—113, 134, 239
Россини Джоакино (1792—
1868)—177, 178, 186, 228;
290, 315, 446, 447, 448, 449,
459
Вильгельм Телль—310, 315
Святая Цецилия—449
Ротари Пьетро (1707—1764),
итальянский
художник—
389 390
Р о т р у ' Ж а н , де (1609—1650);
французский поэт и драматург—122, 123
Святой Генест—122
Рубенс (1577—1640)—19, 81,
93, 202, 272, 369, 371, 389
Битва при
Термидоне—
371 372
Ру-Лавернь Пьер (1802—1874),
французский историк—316
Руссо Жан-Жак (1712—1778)—
9, 21, 106, 110, 161, 169,
181, 191, 250, 254, 256,
299, 316, 341, 352,
355,
384, 386, 387, 410, 441
Исповедание савойского викария—21
Исповедь—161
Новая Элоиза—352,386,387
Сен-Пре—357
Жюли—6, 355, 386
Общественный договор—106
Эмиль—250, 386
Сальватор Роза (1615—1673) —
435
Санд Жорж (Аврора Дюдеван)
(1804—1876)—22, 82, 83,
- 130, 133, 137, 153, 166,
228, 306, 309, 379, 436,
437 439
Жак—309, 437, 438
Индиана—146, 309, 437—
438
Ральф—146, 438
Лелия—118, 130, 438
Маркиза—153
Сандо Жюль (1811—1883),
французский писатель—
•
436
Марианна—436
Сваммердам Ян (1637—1680);
голландский натуралист—6
Сведенборр
Эммануэль (см^
комментарий) — 4, 9, 24;
447
Сенанкур Этьен, де (1770—
1846),
французский
писатель—20, 70
Оберманн—286, 324
Сенека (2—66)—315
Сен-Мартен (так наз; Неизвестный Философ) (1743—
1803), французский философ-мистик—4
Сен-Симон Клод-Анри (1760—
1825)—83, 107, 131, 132—
137, 469—471
Сен-Сиран (Жан Дювержье де
Оран) (1581—1643), аббат,
французский богослов-янсенист—110, 112, 116, 119;
128
Сент-Бев (см. комментарий)-*»
20, 23, 107—131, 137, 156,
422, 423
История
Пор-Рояля —
107—131
Сладострастие — 108, 127,
128, 156, 309, 422
Амори—127, 156
Г-жа де Куаэн—156, 422,
423
Сервантес Сааведра Мигель;
де (1547—1616)—157, 198,
251, 316
Дон-Кихот —6, 54
Серве Мишель (1509 — 1553),
французский врач и богослов—L15, 199
Сигалон Ксавье (1788—1837),
французский художник—210
Куртизанка—210
Сийес, аббат( 1748—1836), французский публицист, депутат Генеральных штатов—
116, 119
Сикст V, римский папа с 1585
/
по , 1590 год—36
Сирано де Бержерак (1619—
1655)—189 ,
Скалигер Жозеф-Жюст (см.
комментарий)—109
Скарлатги Александр (1659—
1725)—448
Скаррон Поль (1610—1660)—
148, 428
Скотт Вальтер (1771—1832)—
3, 6, 7, 12, 13, 19, 22, 28,
35, 52, 73, 83, 84,86, 8 8 - 9 9 ,
101, 102, 172, 189, 204,
229, 288, 315, 325, 349,
385, 397, 402, 424, 426, 427,
428, 429, 433, 434, 435, 477
Аббат—92
Мария Стюарт—92
Айвенго—6, 86, 92, 98, 427
Гурт—86, 429
Антикварий—92, 427
Веверли—92, 93, 397
Претендент—92
Вудсток—92
Алиса—13
Кромвель—92
Квентин Дорверд—89, 93
Кенильворт—27,44, 89, 426,
430
Елисавета—44, 96, 430
Лейстер—44, 96
Эми—44, 73, 96
Майкл Ламбурн—89
Ламермурская невеста—420
Певериль Пик—93
Письма Поля—91
Пуритане—52, 89, 93, 96
Бальфур де Бурлей—52
Леди Беленден—89, 94
Мортон—94, 96
Клевергаус—6, 94
Redgountiet—90
Сен-Ронанские
воды—84,
427
Эдинбургская тюрьма—84,
427
Дженни
Дине—6,
84,
288
Эффи—13, 84
Лэрд Думбидикс—183
Хроники Каногата—427
Скриб Эжен (1791—1861) —
305, 440
Лестница славы—422, 440
Сократ (V век до н. э.)—11, 163
Спалланцани Лазаро (1729—
1799), итальянский натуралист—6
Спартак (I век до н. э.)—85
Сталь, г-жа де ( 1 7 6 6 - 1 8 1 7 ) — 1 2
Коринна—6, 22, 35, 324, 355
Стендаль (Анри Бейль) (1783—
1842)—18—71, 73, 94, 95,
111, 152, 155, 341, 357, 434—
437, 476
Красное и черное—435
О любви—18, 70, 357
Пармский
монастырь —
18—71, 95, 434—437
Стерн Лоуренс ( 1 7 1 3 - 1 7 6 8 ) —
143, 157, 315, 349, 387
Тристрам Шенди—387
Готье Шенди—387
Дядюшка Тоби—б, 387
Сулье Фредерик (1800—1841),
французский романист и
драматург—309
Сю Эжен (см. комментарий)—
73, 75, 9 2 - 1 0 2 , 309, 379, 425
Жан Кавалье—73, 75, 9 2 —
102
История французского флота—101
Латреомон—92,100, 159,425
Саламандра—310
Сюрвиль Лаура—см. Бальзак
Сюрвиль Софи и Валентина,
дочери Лауры
Сюрвиль,
адресаты Бальзака—390
Тзлейран Шарль-Морис, князь
де Перигор (1754—1838)—
.38, 77, 85, 219, 226
Тальма (1763—1826) —149,197,
201, 228, 254
Тальман де Рео Гедеон (1619—
Г692),
французский
мемуарист—120
Тассо
Торквато
(1544—
1595)—83, 104, 174, 251, 436
Освобожденный
Иерусалим—455
Тацит ( I — I I век н. э.)—56
Терборх
Герард
(1617—
1681)—272
Тик Людвиг (1773—1853) 393,
304
Тииторетго
Джакопо-Робусти (1512—1594)—-369
Тициан
(Тициано
Вечелли)
( 1 4 7 7 - 1 5 7 6 ) - 4 4 , 52, 72,
93, 166, 167, 272, 2 7 7 , 3 6 7 ,
369, 371, 373, 389, 391
Человек с перчаткой—db»
Теренций
(194—159
г г . до
и. э.) —381
Братья—381
Токвиль Алексис, де ( 1 8 0 5 —
1859), французский публицист и историк—379
Тьер Адольф
(1797-1877)112, 137, 141, 305
Тьерри
(братья)
Огюстен
( 1 7 9 5 - 1 8 5 6 ) , Амедей(1797—
1873)—309
Урлиак Эдуард (см. комментарий)—137,
138,
142151, 152, 156
Исповедь Назарильо— 138,
142—151
Колинэ—142—151
Псилле—142—151
Сюзанна—142—151
Эпикуреец—142—151
Фавар
Антуан
(1784 — ?),
французский писатель—2U4
Фенелон
(1651—1715)—100,
11°»
112
V
Фидий (V век до н. э.)—174,
184, 471
Филипп II ( 1 5 2 7 - 1 5 9 8 ) , ис• панский король—40,114,118
Фильдинг
Генри
(1707—
1754)—105
Флориан
Жан-Пьер-Кларис
(1755—1794), французский
писатель—102
Гонсальв из Кордовы —102
Фово Фелиси, м-ль де (1799—
1886), французский скульптор—468
Форнарина, подруга и натурщица Рафаэля—162, 195
Фпа Бартоломео делла Порта
(1469—1517)—367, 368
Святое семейство—368
Франциск I (1494—1547) французский король—103, 141,
192, 428
Франц (Франциск) II ( 1 7 6 8 —
1835), австрийский император—30, 34
Франциск Сальский ( 1 5 6 7 —
1622), женевский епископ,
канонизирован
католической церковью—112, 124,
125, 126, 127, 130
Фрерон Эли (см. комментарий)—109, 110
Фридрих II Великий ( 1 7 1 2 —
1786), король Пруссии—
191, 301
Фроман-Мёрис Франсуа-Дезире
( 1 8 0 2 - 1 8 5 5 ) , французский
ювелир и скульптор—468
Фуаятье Дени
(1793-1863),
французский скульптор —
51, 466
ФукеаРНикола
(1615-1680),
главный интендант финансов при Людовике X I V — 3 9
Фѵкье-Тенвиль
Антуан-Квентин
(1747—1795), общественный обвинитель
во
времена якобинского террора, казнен
термидора
анцами—33
.„„„ѵ
Фурье Шарль (1772—1837) —
107, 1 3 2 - 1 3 7 , 359
фуше Жозеф ( 1 7 5 9 - 1 8 2 0 ) - 3 3
Хоггарт
Вильям
1764)—460, 461
(1697—
Цицерон Марк Тулий ( 1 0 6 —
43 г г . до н. э.)—315
Цшокке
Иоганн-Генрих-Даниэль (1771—1848), немецкий писатель и историк—
402, 434
Чатгертон (см. комментарий)—
442
Челлини Бенвенуто
(1500—
1571)—317, 468
Шапель Клод-Эмануэль Люлье
(1626—1686), французский
поэт—96
Шарле Тусен-Никола ( 1 7 9 2 —
1845), французский рисовальщик и литограф—192,
459—464
Шассерио
Теодор
(1819—
1856),
французский
художник—465
Анадиоменская Венера—465
Шатобрнан Франсуа-Рене, де
(1768—1848)—20, 21, 71,
118, 137, 153, 194, 300,
305, 399
Атала—71
Дух
христианства — 301
Р е н е - 6 , 118, 142, 144, 153,
156, 159, 324, 357
Шварц Бертольд (нач. X I V века), бенедектинский монах,
предполагаемый изобретатель пороха—191
Шевро
Урбэн
(1615—1701),
французский
литератор
и эрудит—122,
123, 124
Шевреана—122, 129
Шекспир
Вильям
(1564—
1616)—35, 174, 213, 294,
355, 366, 416, 438
Генрих IV—416
Генрих V—416
Кориолан—56
Ричард I I I — 4 1 6
Ромео и Д ж у л ь е т т а — 158,
420
Шенье Андре ( 1 7 6 2 — 1794)—21,
194, 299
Шиллер
Фридрих
(1759—
1805)—204, 416
Вильгельм Телль—416
Разбойники
Франц Моор—204
Шлегели (братья) Вильгельм
( 1767—1845),
Фридрих
(1772—1829)-366
Шопен
Фредерик
(1810—
1849)—448
Шуазель Этьен-Франсуа,
де
(1719—1785), министр иностранных дел
при
Людовике X V — 2 8 , 34,
112
Экштейн Фердинанд, де (1790—
1861), французский
публицист—379
Энгр
Жан-Огюст-Доминик
( 1 7 8 0 - 1 8 6 7 ) - 1 1 5 , 159,209,
210, 302, 465
Куртизанка—210
Стратоника—159
Этьен Шарль-Гильом ( 1 7 7 7 —
1845), французский писатель—305, 350
Юлий I I , римский папа с 1503
по 1513 г о д - Ю З , 191, 302
Юнг Эдуард ( 1683 — 1765) —?
364
Я к о в I (1566—1625), английский король—433
Янсений Корнелиус
(1585—
1638), голландский
богослов, основатель янсенизм а - 111, 112, 123
УКАЗАТЕЛЬ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
В
КНИГЕ1
*
Банкирский дом
Нюсинже*
на, 1838
Беатриса, 1840
Бедные
родственники, 1847
«Беседы о самоубийстве» аббата Гийона (рецензия),
' 1836
Блеск и нищета куртизанок,
1838—1845
Брачный договор, 1835
Величие и падение
Бирото, 1838
Цезаря
Гаварни (статья), 1830
Гамбара, 1837
Герцогиня де Ланже, 1834
Годиссар II, 1844
Дело об опеке, 1836
Дом кошки, играющей в мяч,
1830
Другой силуэт женщины, 1830
Евгения Гранде,
1834
Замечания к первому изданию
«Златоокой девушки», 1835
Златоокая девушка, 1835
Знаменитый Годиссар, 1834
«Индиана» Жорж Санд (рецензия), 1832
«История папы Александра ѴГ
и Цезаря Борджа» Э. Масса
(рецензия), 1830
Крестьяне, 1845
Комедианты неведомо
себя, 1846
Кузен Понс, 1847
Кузина Бетта, 1846
для
Мнимая любовница, 1841
Модеста Миньон, 1844
Мольер (статья), 1826
Музей древностей, 1839
Неведомый
шедевр,
1831
О Китае и китайцах (статья),
1842
«Окровавленная
рубашка»
А.
Баржине
(рецензия),
1830
Онорина, 1843
О литературных салонах и
хвалебных словах,
1830
Отец Горио, 1834
О художниках (статья), 1830
Письма о литературе, театре
и искусстве (статьи), 1840
Письмо французским писателям X I X века (статья),
1834
Д а т и р о в к а х у д о ж е с т в е н н ы х произведений дана по первым изданиям,
у к а з а н н ы м в справочнике А. Раггап—Honoré de Balzac. P . R o u q u e t t e —
Parie, 1881.
В тех с л у ч а я х , когда произведение выходило частями, даны две датыі
начало и конец издания.
Письма (в хронологическом
порядке):
Лауре
де
Бальзак,
октябрь, 1819
Герцогине д'Абрантес, 182У
Шарлю де Бернар, 25 августа 1831
Ганской, ноябрь 1833
»
28 апреля 1834
»
25 августа 1834
»
18 октября 1834
»
26 октября 1834
»
30 марта 1835
»
23 марта 1836
»
22 октября 1836
»
И апреля 1837
»
14 мая 1837
»
3 июня 1837
»> 20 октября 1837
»
7 ноября 1837
»
20 января
1838
»
20 мая 1838
»
24 мая 1838
»
15 октября
1838
»
15 ноября 1838
»
15 декабря 1838
Лауре Сюрвиль (де Бальзак),
1839
Анри
Бейлю (Стендалю),
20 марта 1839
Анри
Бейлю
(Стендалю),
6 апреля 1839
Ганской, 4 апреля 1839
Ганской, 2 июня 1839
Ганской, 19 октября
1843
Госпоже * * * ,
1844
Ганской, 29 февраля 1844
Молодому драматургу, 5 ноября 1844
Ганской, 15 февраля 1845
Ганской, 21 декабря 1845
Доктору
Ж . Моро, декабрь
1845
Анри Коломбу, 30 января
1846
Георгу
Мнишек,
август
1846
Георгу
Мнишек,
декабрь
1846
Лоран Жану, 1848
Фроман Мёрису, 1848
Софи и Валентине Сюрвиль;
ноябрь 1848
Поиски абсолюта, 1834
Полное собрание сочинений
Л . Тика (рецензия), 1832
Полное собрание сочинений
П.-Л. Курье
(рецензия),
1830
Послесловие к первому изданию «Сцен частной жизни»,
1835
Предисловия (в хронологическом порядке):
к первому изданию «Шуанов», 1829
к первому изданию «Сцен
частной жизни», 1830
к первому изданию «Шагреневой кожи», 1831
к «Тридцатилетней
женщине», 1834
к «Истории тринадцати»,
1834
к первому изданию «Лилии
в долине», 1835
ко второму изданию «Отца
Гѳрио», 1835
к «Гамбара», 1837
к первому изданию сборника
рассказов: «Высшая женщина», «Банкирский дом
Нюсинжена», «Торпиль»,
1838
к «Человеческой комедии»,
1842 •
к первому изданию «Блеск
и нищета куртизанок»,
1844
Принц Богемы, 1840
Пьер Грассу, 1840
«Ришелье» Г . Джемса (рецеи*
зия), 1830
Романтические обедни,
1830
«Самуэль
Бертран
и Жак
Боргарелли»
Ре-Дюсейля
(рецензия), 1830
Сарразин, 1831
*
Серафита, 1835
Старая дева, 1830
Тридцатилетняя
1832—1835
женщина,
Утраченные иллюзии,
с
1843
1837—
Феррагюс, вождь деворантов,
. 1832
Физиология брака, 1829
Фраголетта (рецензия), 1829
Художникам — о
прошлом,
настоящем и будущем искусства (Учение Сен-Симона) (рецензия), 1830
Чиновники
(первоначально:
Высшая женщина), 1837—
1846
Шагреневая кожа,
1831
Эрнани (статья), 1830
Этюд о Бейле (статья),
Предисловие
СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА
1840
ИСКУССТВО И Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь
Задачи художественного изображения общества (Предисловие
к Ч е л о в е ч е с к о й
комедии) ..
^ •^ • •
О б щ и в Це л и ис к у
е ° Т е 0 ри и з о ал o r и ческ ой*э в о л юци и Д
^ "
с к о й к о м е д и и . — з н а ч е н и е ісин
с о е Д ы общественной. — Отлик у с с т в а . Общие з а к о н ы животной з о о л о г и ч е с к и х . - О т н о ш е н и я между
чия с о ц и а л ь н ы х видов от видов з о о л о г и ч е с к и х .
с т в е н Н ы х
виполами в обществе и в " Р Х й с ^ п е н и цивилизации. Отражение
№
о» „ р н с п о ^ л я « д л я СВОИХ
»„We
г
І
- Y ^ J s S S T Î S r ^ U S S S S - .=пЙ58£
В ы с о к о е значение романа д л я исторш«
Вальтера С к о т т а . —
с т в а романа в д е в я т н а д ц а т о м в е к е - З а с л у г и ь ^ ^
т а л £ Ш Т
Р о л ь изучения общества Д ппманист '
Ф и л о с о ф с к и й
«Случай — величайший
романист мир*>.
Р о л ь
ИСКуси н р а в с т в е н н ы й
с м ы с: лі
и cj< Писатель - с у д ь я и учиства в объяснении и р е ф о р м е общества
Писате
_
т и .
тель своего в е к а . — Л и т е р а т у р а
мии
с п о а в л е н и е ошибок исто«Роман должен быть лучшим м и р о ш - И с п р а ^ и е
о б я з а н н о с т е й
рии в и с к у с с т в е . — Неверные толковей» ».
•
идеальность,
или
писателя. - Близорукий
о п т и м и з м - Ложная
ид
английдобродетель без и с к у ш е н и й и п р о с т у п к о в
«іа. у
_
о ж е с т в е н .
с к о г о лицемерия на
персонажей В 0 3 О ° б К щ и Т й И З ° п Р лЖа н
Ч е л о в е ч е с к о йР
к о м е д и и .
Основные, направления в искусстве. Традиционная
французского реализма и Стендаль (Э . ю д о
школа
;
д в а основных
g g f i
образов» ( ш к о л а Р и с У * " і а
^ п а в н е н и е Д о с т о и н с т в и н е д о с т а т к о в лик л а с с и к о в и романтиков. — Сравнение ^ с ™
а т 0 Ч Н 0 С ТЬ
художестт е р а т у р ы идей и л и т е р а т у р " образов.
д л я изображения современв е н н ы х с р е д с т в романтизма и к л а с с и ц и з м а д л я
£
а
классиков
ности. - Образование
ф р а н ц у з с к о й ш к о л ы - ГІ а р ми романтиков. Шедевр к л а с с и ч е с к о й фрй му
Моска.—
с к и й
м о н а с т ы р ь . — Гениальный
иг
государственных
Трудности художественного и з о б р а ж е н
и с к у с .
стее?
*Сте н д а ль к а к »
K 3 Ï Ï S S X S S
Ä
S
S
!
^
S
S
п ' о ^ Г а н а л и з а с напряжением д е й с т в и я , -
и поэтическое. Литература и духовные потребности
общества (Письма о литературе, театре и искусстве) . . 142
П р а в д и в о е
^еОРдлНя°Ви^о%?ТловеЭчІскогоН сердца"? т е р а г у р о й . — Достоинства книги О
любви
Школа рисунка и школа цвета в живописи : . - Принципы
современного искусства (Письма о литературе,
театре и искусстве)
Î S C ' " * * * * *
* " * * - *
71
73
Î J » ° Â k - V X ° годо^г распространение ь ь м
мд
внешними ф 2 т а м и . -
neot^
K
—пм
К
к а К о л ни а. — Ф а л ь ш ь благополучных б у р ж у а з н ы х р а з в я з о к . . Р аз«пп новелл Ä . де Мюссе. — Г л а в н ы е их недостатки. — У з о с т ь тал а н т "
м ю с с е . — Общечеловеческое содержание художественных ше-.
ПРВООВ — Мысль — душа
и с к у с с т в а . — Глубокий
смысл
художественной ф а н т а с т и к и . - Т а й н а прелести народных с к а з о к . - Литературный у с п е х к а к выражение запросов времени
Двойственность жизненных явлений и искусство
159
Идеальное и реальное в искусстве ; ; ; ; . . ; -- «
160
Объективность художественного вымысла : . .
У с л о в и я глубины и общезначимости поэ-
к а к 8 п е й з а ж и с т ? - — Ѵ е н и а л ь н ы й тип I^ojwnîoro
П ^ ^ и Х Т п р Ж
:
•
Приемы литературной правдоподобности. - Сила и . с л а б о с т ь эпистолярного романа? - Опасности р а с с к а з а от первого лица
лка;
••
Логика в науке и искусстве ; .
BOB. — «Логика
чувств»
Идеализация жизни в искусстве
s
- -
- • 162
- 163
Идеальное в жизни и в и с к у с с т в е . - Творческое и механическое изображение жизни
Два способа художественной идеализации
т
ш
ш
персонажей
— Значение
Вр Р д у з к о м о р а л и с т и ч е с к о й
т
У
ж
ш
м
идеаломJV^^SA
- Я ы - Ж и з н ь ^ f f ^ S p S S S Сп?пауСлТяПрноТтиКРрао°мТааниРч0е?кЙ
Связь
в
Ь а з н М
^ а я° Р п оэзия**1-— П о го —"ве л ича'й ши І? К поэт " д е в я т н а д ц а т о г о в е к а ^ ^ п о бе дит" л ь
Р аси н а . — Б у р ж у а з н а я
эпоха мешает полному
развитию его т а л а н т а . — У н и в е р с а л ь н о с т ь Г ю г о
Î
S
исследования:
Ï
Â
^
S
S
E
тины событий, философская оценка их роли в прогрессе человечества.
С е н т - Б е в — тип псевдоисторика, коллекционера р а р и т е т о в . — Интерес
С е н т - Б е в а к исторически несущественному, к мелким биографическим
деталям? - Пороки отвлеченного психологического а н а л и з а , і ф е - .
идеализации
с
Границы творческой свободы ; ;
^
з
ш
поэтические
Особенности
т
отдельных
т
видов
ж
искусства . ; ï ï
к а л ь н а я техника и опытные н а у к и . — Орган
промахи великих утопистов и и х
заслуги
166
общим
ШИЯИВШ
философского
кругозора р о м а н и с т а . оценки исторических лиц и с «быт й
Упадок современной литературной мысли. Секреты успеха
у буржуазной публики (Письма о литературе, театре
и искусстве)
*•
художественной
1
170
ш
173
ИСКУССТВО И
ФЕОДАЛЬНО-АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ
ХУДОЖНИК
180
Сущность художественного дарования
Физиологическая сторона .творчества
Телесная конституция и духовное творчество. болезней у х у д о ж н и к о в
Причины
Красота средневекового города . .
душевных
î
ума. -
Односторонний
ПтпниИй
Талант и труд. ; :
и
кпатического
спиритуалистическое
•»
Относительность
K S
и
художественной
. .
184
SSSSRÎI
~ z ~è [по
художников
в
оригинальности.
прогрессе
Личность писателя и его творчество
Личный характер писателя и характер
с у б ъ е к т и в н ы е и поэты-«протеи»
его
творчества. -
. . .
Художник и общество
190
S
Беско-
И
Поэты
. . .
\
-
-
' ' Ѵ
а ри ст
аристократа
и
изящества. — Различив
»
„условность
аристо-
У
-
^
«
"
A S Б
S УRР Ж
E УMА ЗSН-ОRЕ A ОБЩЕСТВО
»
-
228
•
непрестанной к о н к у р е н ц и и . —• истоще
__ С в е т с к а я
ж и з н ь . — Изт о у д о м И чрезмерными н а с л а ^ е 1 и £ " я з н ы е у д о в о л ь с т в и я б о л ь ш о г о
г
я
3
е
лишества паразитических классов^ ~
Р с ^ 0 н ^ й ж и з н и . Моральный
204
м В ^ з и а д с к и й Т у Т щ ^ о к в ы с ш е й обществ
ж а І Г — результат ^ ш е н н о г о с у ^ с « « « ^ е т в о превращает у р о д с т в о в н о р м у .
.м,
ствования в буржуазно» обществ.
ОБЩЕСТВО
Литератѵра - выражение
общества. - И з м е н е н и е
форм и с к у с с т в а і
с изменением общественной с р е д ы . - V к а ж д о й
1
с т в е н н ы й я з ы к . — Воплощение х а р а к т е р а времени и н а р о д а в творче^
стве в е л и к и х х у д о ж н и к о в
* *
^ К с к о г о
Последствия массового раснростраиення образованности
А К Г Н Й
ВВЕДЕНИЕ
ч
усад
^
203
х а Р « ^ Р е у г ° и ^ И б 3 у Н ^ ~
Мнимый эгоизм х у д о ж н и к а . - А с к е т и ч е с к и й
Одиночество х у д о ж н и к а в с в е т с к о м о б щ е с т в е . Р»мвяуш
к судьбе художника. - Х у д о ж н и к и с о а Р е м е " " ^ р м ^ е Н 1 ^ " н к у р с о в .
буржуазного
покровительства
т а л а н т о в . — Система
конкурсов.
У п а д о к истинного с о р е в н о в а н и я т а л а н т о в в д е в я т н а д ц а т о м в е к е .
Пагубность уничтожения салонов
ИСКУССТВО
быта - . . • •
старинных
и поэта
НОЙ к о с н о с т ь ю . — М а т е р и а л ь м я о с н о в « и у м с т в е н н о г о р а з в и т и я . —
К о н к у р е н ц и я к а к источник м а " Ы ь н ° Г и 0 з н И : - Д е г р а д а ц и я
физичеС т р а ш н а я цена б я е с к а современной жизни^
^ e H H e M возможнос к о г о облика п а р и ж а н и н а и ее причины.
у ж а Ж д а денег. Разстей н а с л а ж д е н и я у с и л и в а е т с я к о н к у р е н П а р и ж а . - П р и меи д у х о в н ы х ценностей в с о ц и а л ь н о м ^
эксплоатации. —
м а н к а н а с л а ж д е н и й и система'
фабриР а з в р а щ а ю щ е е действие Ф ^ с и ф и ц и р о в а н н ы х
„ролетариа-
^ХнТильныГпрКины
S
s
S
s
w
f
e
r
a
n
H
J
S
с т в і - Б у р ж у а з н ы е т р е б о в а н и я «существенности» в поэзии. рыстие и с т и н н ы х а р т и с т о в
художника
Двойственность буржуазной цнвилиз,.Ш-и
a ^ ^ T Ä S S S o S S p -
Артистический склад характера (О художниках)
значение
культура
превосходство
Упадок дворянской «
подражательность
Великое
города ^ л я
объяо
П о с т о я н н ы й т р у д — з а к о н и с к у с с т в а . — Поэзия и проза х у д о ж е с т в е н н о г о т в о о ч е с т в і . - П р о п а с т ь между замыслом и произведением. Тяж е с т ь п и с а т е л ь с к о г о т р у д а . - Г и б е л ь т а л а н т а от праздности . - С л у ч а й ности в т в о р ч е с т в е . " — «Брио»
Оригинальность художника .
средневекового
214
; о р о ' д о в . _ при-
182
гения от " а к а н т а " . 0 — « ^ т о ^ ^ з ^ н и е і Г . ^ ^ Г е ш Щ ^ и
вопло^ния -материалистическое
нение г е н и а л ь н о с т и
S
Художественное
душевный
Талант и гении
ï
Аристократическая
Творчество и специализация человеческих способностей . . , , 181
Т а л а н т и специальные качества
склад гениальных натур
i
ЭПОХА
^
обшссуше-
. . .
surrs\
..в
. . „ , . . , " «
Буржуазное общество и развитие личности . . . .
;
249
Противоположные тенденции д е в я т н а д ц а т о г о в е к а . — И н д и в и д у а л и з м
и нивелировка личности. — Прихоти богатых к л а с с о в . — Массовая
ф а б р и к а ц и я посредственностей в б у р ж у а з н о м о б щ е с т в е . — У р а в н и т е л ь н а я система б у р ж у а з н о г о о б р а з о в а н и я . — П е ч а л ь н а я у ч а с т ь ген и а л ь н ы х людей
Умственный и эстетический уровень буржуа ; Ï
Равнодушие буржуа к искусству ; : ; ; . . . ;
.•Типы буржуа — «ценителей искусства» . ; . . ;
—
Тип художника, ценимого буржуа
261
романа
; ;
Ф а б р и к а у б и в а е т поэзию. — H и в е л и р у ю щ е е действие фабричного т р у д а
при к а п и т а л и з м е . — О т с у т с т в и е поэзии в . б у р ж у а з н ы х н р а в а х и х а р а к т е рах.—Скептический д у х литературы умирающего общества.— Уничтожение и с т и н н о г о д р а м а т и з м а в ж и з н и б у р ж у а з н о г о о б щ е с т в а , — Б у р ж у а з -
преступников,
Поэзия
разруши-
добродетелей
страстей
современной
техники
. .
^
; - - •
Превращение литературы в коммерцию
Причины нищеты художника (Письм~о французским писателям)
-
ГтГ-
Ж
р
М
І
^
Издательская эксплуатация
ных спекулянтов,
^ТиГичЯесетГв0о театра л ь- Скаредность богатых
S
общества д л я з а щ и т ы
Р
гу. -
n
а в т о р с к и ^ п р а ^ . - ^ Л о ж ь х о д ^ ч е г ^ и з р е ч е н и я : «нищета -
мать
гения»
покровитель украинского художника-самоучки : ;
Литературная
конкуренция
ЗІО
;
Г и б е л ь н о е действие ж а ж д ы н а ж и в ы ™ Г и т е р а Я Ф У .
-
n
^
M
W
*
275
_
Буржуазное общество как художественный материал . ; ; . ; 279
. ; . ; ; . ; ; . ; ; . ;
ж и т е й с к о й ^ борьбы
Бальзак -
К а р ь е р а х у д о ж н и к а П ь е р а Г р а с с у . — Содержание повести
П ь е р
Г р а с с у : П ь е р Г р а с с у де Ф у ж е р — бездарный молодой х у д о ж н и к .
Он очень т р у д о л ю б и в , н а с т о й ч и в и шлет на в ы с т а в к и к а р т и н у з а к а р т и н о й , но в с е н а п р а с н о . У д р у з е й - х у д о ж н и к о в е г о имя с т а л о нариц а т е л ь н ы м именем б е з д а р н о с т и . О д н а из к а р т и н Г р а с с у с в о е й роялистической темой п о н р а в и л а с ь К а р л у X . Г р а с с у п о л у ч и л о р д е н . Р е п у тация ч е л о в е к а з а с л у ж е н н о г о д о с т а в и л а ему з а к а з ы от б у р ж у а . Н а дочери одного из т а к и х з а к а з ч и к о в Г р а с с у в ы г о д н о ж е н и л с я . Е г о солидное
п о л о ж е н и е , б о г а т с т в о , «сходство» е г о портретов с д е л а л и е г о любимейшим х у д о ж н и к о м п а р и ж с к о г о б у р ж у а . Г р а с с у — на верном пути к а к а д е м и ч е с к о й к а р ь е р е , с л а в е , почестям, а е г о т а л а н т л и в ы е товарищи в с е
еще не п р и з н а н ы , б е д н ы , т а к к а к они п р е з и р а ю т м н е н и я б у р ж у а з н о й
публики
4
буржуазной жизни
патр^а^альных
Противоречие^«е^а
265
Прозаичность
и поэзИЯ
честолюбца. - П о э т и ч е с к и й
интерм
всяко
Гс0таюМГх0НпНр-в бУЖГнЙогоЖИГщества. -
Буржуазные требования Д — н ы "
^gS^^SSSSSS'pT.
Д о с т о и н с т в о современной
ЛХУ1Ь}110Т0
исждает изобретательность. — у с п е х и
ныне™
роскоши
над
К Г ж Ъ ' Г - Р Т К О Ш Г художника ™ п о ш л я
роскошь б у р ж у а . Б у р ж у а з и я обращает т е х н и к у во вред и с к у с с т в у
Б а л у Цезаря Бирото
П о н с , герой романа К у з е н
П о н с , т о н к и й ценитель и с к у с с т в а , пок а з ы в а е т своим б о г а т ы м р о д с т в е н н и к а м , н е в е ж е с т в е н н ы м , пошлым, сокровища своей художественной коллекции
Поэзия разрушительных сил буржуазного общества - . , • .
Поэзия
Художественные возможности
254
И с т и н н ы е артисты не д а ю т пощады б у р ж у а ; . ; . ; ; . . ; ; . . . . .
\
\
ВесГность
«УР—жХныНРтаеВп°еВрь ^ Э Т Й Г
S p S S E S
Z
? Р Газор^н Р нТх е Р н Ы аци^ГлГо Ы род Т нТй Р Ь ти Л п в с т р е ч а й с я т о л ь к о в н а р о д е ;
тельных
М н е н и я Ц е з а р я Б и р о т о об и с к у с с т в е ( Ц е з а р ь Б и р о т о , р а з б о г а т е в ш и й
т о р г о в е ц парфюмерии, — герой романа В е л и ч и е
и
п а д е н и е
Ц е з а р я
Б и р о т о ) . Художественные вкусы Селестена Кревеля
( К р е в е л ь — один из г л а в н ы х п е р с о н а ж е й романа К у з и н а
Б е т т а ,
о ч е н ь богатый т о р г о в е ц )
Поэма Г у р д о н а Б и л ь б о к е и д а ( Г у р д о н — один из п е р с о н а ж е й
К р е с т ь я н е , п р о в и н ц и а л ь н ы й «лев»)
S Ä ? . ^ » ?
т о л ь к о о п и с ы в а т ь сонравСтвенности. Портпо т р е б о в а н и я м б у р ж у а ;
Поэзия в жизни отверженных буржуазного общества , - . . 286
. 251
Образец мнений б у р ж у а об и с к у с с т в е и х у д о ж н и к а х . — Семья Г и л ь ом.
Содержание
повести
Дом
к о ш к и ,
и г р а ю щ е й
в м я ч : б л е с т я щ и й молодой х у д о ж н и к Т е о д о р де Сомервье полюбил
красавицу Августину Гильом, дочь богатого торговца сукнами. На
в ы в е с к е л а в к и Г и л ь о м а н а р и с о в а н а к о ш к а , и г р а ю щ а я в м я ч , отсюда и
н а з в а н и е п о в е с т и . А в г у с т и н а любит Т е о д о р а , но д л я с т а р и к о в Г и л ь о м о в
х у д о ж н и к — непременно р а з в р а т н и к , м о т , ч е л о в е к о п а с н ы й . Они с н а ч а л а п р о т и в я т с я ее б р а к у , н о , у з н а в , что Т е о д о р х о р о ш о з а р а б а т ы в а е т ,
да и к тому же д в о р я н и н , к а в а л е р ордена П о ч е т н о г о л е г и о н а , у с т у п а ю т .
Б р а к Теодора и Августины, сперва счастливый, вскоре рушится. Авгус т и н а в о с п и т а н а в у з к и х б у р ж у а з н ы х п о н я т и я х , р а в н о д у ш н а к поэзии,
и с к у с с т в у , с в о б о д н о й м ы с л и , она ничего не понимает в т в о р ч е с т в е с в о е г о м у ж а . . О н постепенно о х л а д е в а е т к ней. А в г у с т и н а у м и р а е т от г о р я
„ая вульгарность,
кое моральное с о с т о я н и е б у р ж у а з н о г о " ^
ж у а з н ы х добродетелей. — Л и т е р а т у р у о
s r s Й в % й И й К Г 2 а і . і 1 н - й
—
менного п и с а т е л я . )
,
Типы литературных промышленников --«фабрикантов_успеха». Мелкий
литературный барышник Крупный спекулянт Хозяин
книгопродавец Догеро .
« х о з я и н литературы» и з д а т е л ь Д о р и а ; ; . . .
актерской славы -
начальник клакеров
Ж у р н а л и с т и к а к а к торговое предприятие. Ц е н а «принципов» ж у р н а л и с т а Î ; ; .
секреты
журналистики
Г
Бролар
^
Издатель газеты
Ж
, , . . ; . « * • • * * • * « • *
-
Ä
Фино.
?
^
343
3 8 1
348
Проституирование критики ; ;
К
ИСТОРИИ
Лафонтен
_
.
гротеске. — Красота шедевров средневекового искусства
Совершенная гармония т е л а - п р и з н а к духовной посредственности. Скульптурные несовершенства выдающихся натур
Вред подражания античности для французской средневековой поэзии.
.
.
.
. . . .
. . . . . . ;
Рафадль — живописец "идеальной женственности. -
S
»
к е с а " -
и
М а г д а л и н а
Корреджо. -
ё ГаИНтСрТВи К Г 5 Я
Г. . ; •
ÄÖ
Г О Л Л А Н Д С К О Е ИСКУССТВО X V I I
восемнадцатого
ЖИВОПИСЬ
368
;
b
r
Ä
Ä
;
:
:
3 3 6
: : : ' ' * : • •
__
_
' ' '
387
388
'."...
века
389
восемнадцатого
века. Г п / я
П^
у " К а Грвза.
-
Ротари ^ и т а л ь я н с к и й й о д р ^ Г т е ^ Г Р £ а . - ЙаетеХи Латура. Г р . з а
и Лиотара. — Величие Давида.
іц
.
.
.
Преимущества мебели восемнадцатого века над современной
ИСКУССТВО X I X В Е К А .
-
Ф Р А Н Ц У З С К И Й КЛАССИЦИЗМ X V I I
Романтизм
392
Гофман
^ ^
. . .'•.•••'•'
*
. 394
376
^
романтических эффектов
О О П Р Н „ а я
Образчик ходовой литературы у ж а с о в - О к р о в а в л е н н а я
ВЕКА
Национальные особенности фрайцузской литературы . . . . . .
я с н о с т ь и остроумие французской мысли. Французское искусство ражение поэзии порядка . , . , .
393
J 4
;
ЙГ. г2 - ~
ВЕКА
Истопические условия расцвета голландской.живописи. —Своеобразная
i
. .
Крабб ( « Ж и з н ь в смерти»)
Достоинства Фламандских
Б а л ь з І к оР купленной им неизвестной картине
i
S
поэт нищеты.
384
Портреты Рафаэля
идо^ Wf-VÏTіГвелас-
Д С
.
333
Руссо
Стерн («Тристрам Ш е н д и » )
3 ß 4
Замечания об отдельных картинах художников Возрождения 371,
Ночь
ь
Вольтер и Руссо
; : : : •
_
л
^ а к о н ы душевно'й жизни ^ Г а д ц а т о Г века, ее моральная сила. Он^м^ожет 8 помоть ^ ^ б Ж с романтическим идеальничанием
. . . .
ЖИВОПИСЬ В О З Р О Ж Д Е Н И Я
д ю р е р
б 0
ИСКУССТВО X V I I I В Е К А
"
Общая оценка литературы восемнадцатого в е к а . ^ .
•••••г:
Школы итальянского Возрождения
и м Ы Й
•
Дидро («Племянник Р а м о » )
Данте
—
оценка отдельных комедий —
н о й. Т -—'значение характера ёелимены^
363
Греческие мифы
' ' '
. . . . .
V нравственная сила т в о р ч е с т в а М о л ь е р а . О пенка. ^
ИСКУССТВА И Л И Т Е Р А Т У Р Ы
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й И Д Е А Л АНТИЧНОСТИ
И ХРИСТИАНСКОЙ Е В Р О П Ы
Л '
Мольер
Тайны критической софистики. — Искусство разругать и расхвалить с одинаковым основанием одну и ту же книгу
(Выходит талантливая книга писателя Натана, восхитившая Люсьена.
Но литературная котерия, к которой принадлежит
решила
шантажировать Дориа, издателя книги. План котерии таков - разnvrJru ^ и г Г н а т а н а
чтобы напугать Дориа плохим ее сбытом, а
когда т о т ^ ^ о ш е л и т с я н Т п о д к у п / р а с х в а ^ ь ее. Эту задачу поручают
Л ю с ь е н у . Блондэ и Лусто обучают его секретам критики)
ЗАМЕЧАНИЯ
Трагедия классицизма
вы-
379
Пародия Б а л ь з а к а на «неистовых романтиков»
Сатирическое изображение романтического салона
о ѵ б а ш к а 3 9 5
руба
' • •
^
4 0 2
Образчик буржуазно-филантропической литературы
Портрет адепта «неистовой романтики»; ( Г - ж а де Баржетон — п о к р о в и тельница молодого талантливого поэта Люсьена де Рюбампре, героя
Утраченных
иллюзий.)'; *
• • • *. * • ?
Гюго. Э р н а н и : ' ; " ; ; .
: :
„
?
411
р
Ю
и Б лаз ; j ; : : ;
Сент-Бев
••
1
• ' • • ~~
- . : : : : : : 424
Дюма («Т р и м у ш к е т е р а»)
—
Э. Сю («J1 о т р е а м о н»)
Реализм
\ ; ; 425
з : : ; : •
Вальтер Скотт и его эпигоны
:
426
; •:
—'
Превосходство Вальтера Скотта над Байроном. — Шедевры шотландского романиста. - Недостатки Вальтера Скотта. - Опасности механического подражания его манере. — Великое значение исторического
романа для литературы девятнадцатого века
. . . . . . . . .
П а р м е к и й м о н а с т ы р ь . — Сравнение художественной манеры
Стендаля и манеры Б а л ь з а к а . — Чрезмерная точность указаний на
место действия в романе. — Приемы возбуждения читательской фантазии. — Пример Гофмана. — П а р м с к и й м о н а с т ы р ь — лучшая
из книг девятнадцатого века
Жорж
Санд : ; . : : : : ; ; ; ; Ï Ï Ï": •
И н д и а н а . — Заслуги романа в борьбе с романтическими условностями. — И н д и а н а — реакция современности против средневек о в ь я . — Ж а к . — Слабости Ж . Санд
Политическая
П.-Л. Курье
литература
эпохи
5 s : ..
Реставрации
* î S : : - - . »
;
Ходовая буржуазная литература
Скриб 2 § ; ; ;
, ; ; 440
?
' '
s s s ï •?••'•
^
1
г
X
;
•••'***
459
Шарле - Гомер наполеоновской эпохи. - Монье гоизеток — Талант Шарле и Монье основан на зорком наблюдении
жРизни Общественных классов.. - Недостатки Шарле и Монье, - Г а в а р ни — художник великосветского общества
1
„
Декан
Фантастика обыденности в творчестве
кисти Д е к а н а . — Декан и Паганини
об отдельных
Панье (талантливый
Б р у т
Летьера
Декана. -
:
Магическая
художник -
434
Дополнения
?
века« —
440
—
464
сила
картинах
4 6 3
пастух), — В е н е р а
Прикладное искусство s s . . . ; ï
Утопический социализм и искусство
437
^
*п * '
-
Шарле, Гаварни, Монье
й,а"сс%°рГ 1Ѵар™Г а Тр а ;кГо д а А 1 4 L M J '
; . ѵ ; ; ; . 439
Курье создал М е н и п п о в у
сатиру
девятнадцатого
Причины, мешающие широкой славе писателя
Мейербер
j
(
Превосходство
Италия — родина европейской музыки. — Несправедливое пренебрежение к итальянской школе. - Итальянская и немецкая музыка. Упадок музыки в современной Италии
Замечания
Разбор С а м ю э л ь
Б е р н а р а
Ре-Дюсейля. — Нарушение законов исторического романа у Ре-Дюсейля. — Разбор Р и ш е л ь е
Джемса. — Причины неудачи С е н - M а р а Виньи. — Модернизация
И С Т О Р И И . — Художественное основание нарушений исторической
правды
у Вальтера Скотта. — Право романиста пользоваться народными образами великих исторических деятелей
. . . . . . . : ; . .
Стендаль
Бетховена. -
Шопен и Лист
Россини
Роман
Сент-Бева
С л а д о с т р а с т и е . — Неровное
исполнение
р о м а н а . — Е г о психологические достоинства в изображении первой любви.
Я з ы к С е н т - Б е в а . — Вычурное пустословие Сент-Бева
Готье
^
* __
' ' ' " Л
С
422
;
Аббат Гийон
Музыка и живопись
Бетховен
и м ф о н и я "
д о - м и н о р - шедевр
Бетховена над Россини и Моцартом
Важность Э р н а н и для оценки романтической школы. — Историческая и психологическая неестественность обрисовки характера К а р л а V ;
Неправдоподобность ситуаций драмы. — Эрнани — «моііодой человек
девятнадцатого в е к а , доктринер». — Ходульность романтической «яркой
индивидуальности». — Г ю г о и В и н ь и . - Повторение - недостаток трагедии классицизма в пьесе. — Сила диалогов у Корнеля и бессодержательность их у Г ю г о . — Плоскость идейного содержания Э р н а н и . —
Подражательность пьесы. — Плохой язык ее
440
. ;
ДОПОЛНЕНИЯ,КОММЕНТАРИИ
И УКАЗАТЕЛИ
.fft^M
Прадье. —
:
4 0 9
_
Переплет
и титул
худ. Г. Р иф тин
ai
ВАЖНЕЙШИЕ ОПЕЧАТКИ
Редактор Г. Бандалин
Подписано к печатй "10/II
1941 г. А 30.677. «Искусство»
N9 41. Ttepa® 4 ООО вкз.
Колич. печ. л. 33%. Уч.изд. ли 31,36. Колич печ.
вн. в 1 пѳч. л. .38124.
Цена 19 руб.
Переплет 2 руб.
Набрано
в
типографии
«Красный пролетарий» Огиза
РОФОР треста «Полиграфкнига». Москва, Краснопролетарская, 16.
Отпечатано ю матриц в типографии газеты «Правда»
имени Огалина, Москва,
ул. «Правды», 24.
Зак. № 653.
Следует
читать:
Стр.
Строка
Напечатано;
82
120
187
195
198
353
14 снизу
3 и 9 сверху
2 сверху
Инквизация,
Инквизиция,
Арну
Камайе
Кардане.
разюмировать
Арно
камайе
Кардано.
резюмировать
знамением
387
397
410
410
448
449
463
486
497
508
Бальзак
7 сверху
4 сверху
13 сверху
8 снизу
16 сверху
13 сверху
16 сверху
16 снизу
18-Г-19 сверху
20 снизу
14 сверху
18 снизу (левая
колонка)
15 снизу (правая колонка)
об искусстве
знаменем
Гоби
Уоверл и
Аноконды
необычайно
Росси
Тоби
Веверл и
Анаконды
необычайно,
Россини
В 1830
Портрем
и также С в я т у ю
Ц е ц и л и ю Россини,
нашего
Декану
С 1830
Портрет
Венера
/
[относится к предыдущему имени]
и С в я т у ю Це
л и ю Россини, а т
и нашего
Декампу