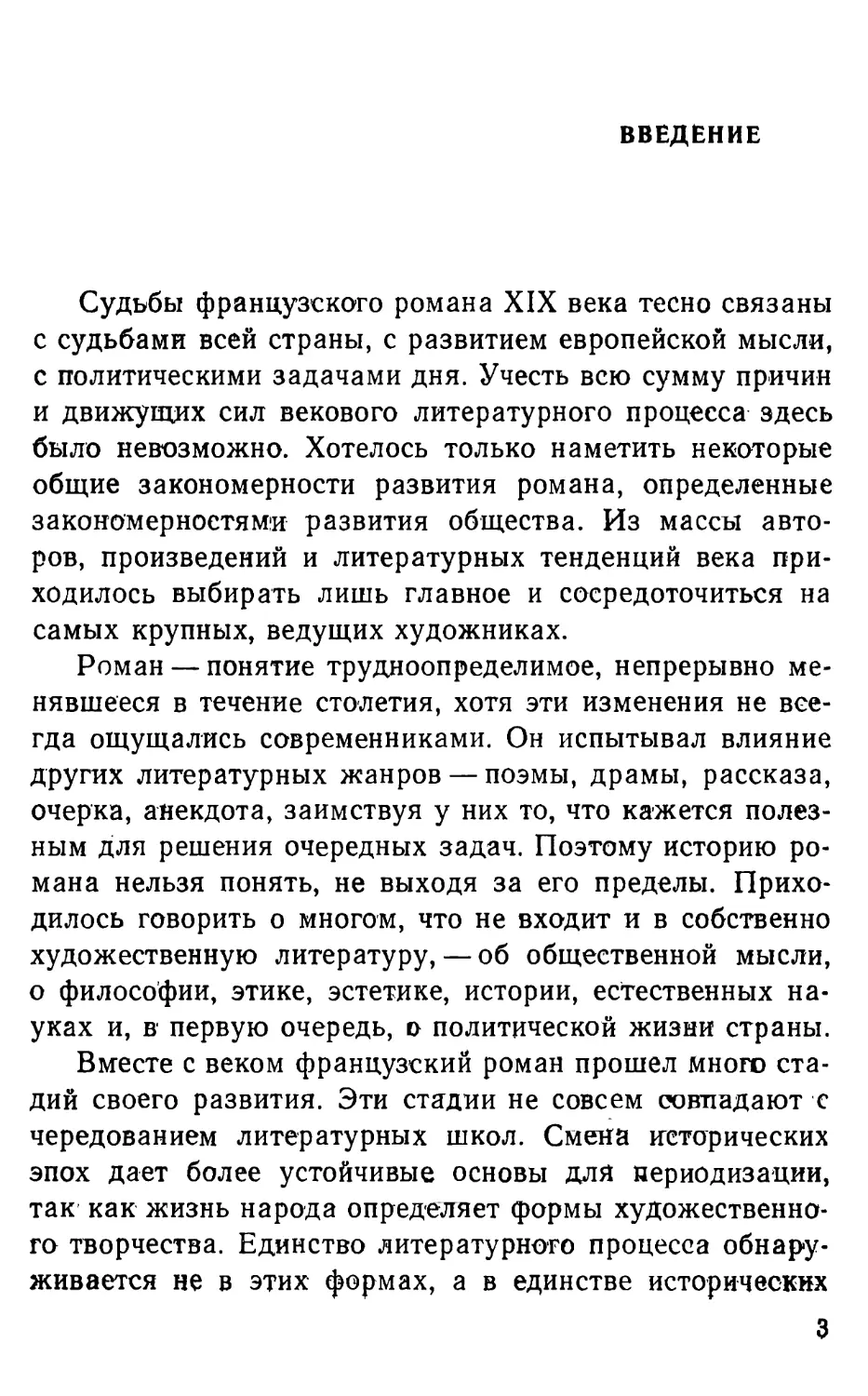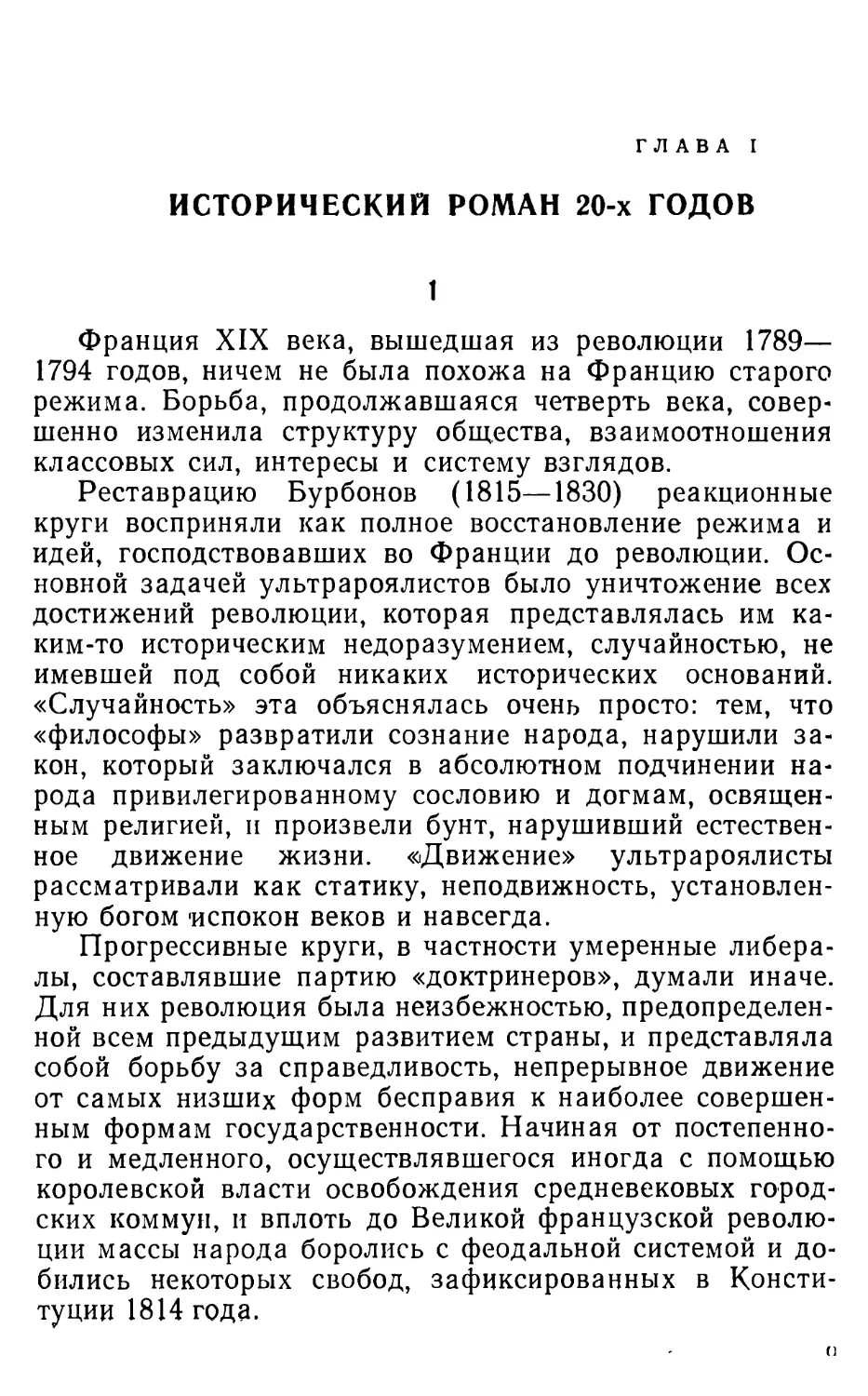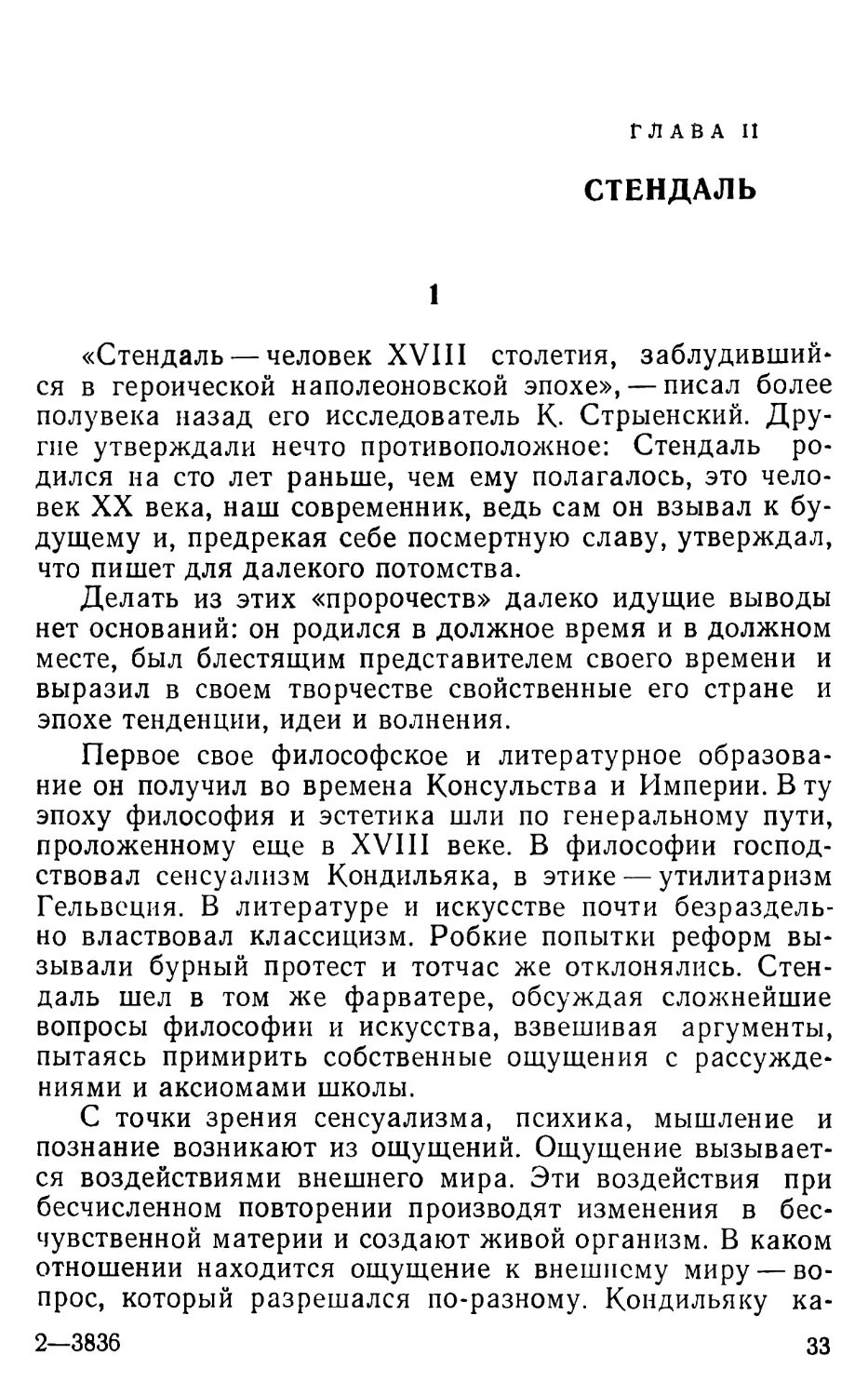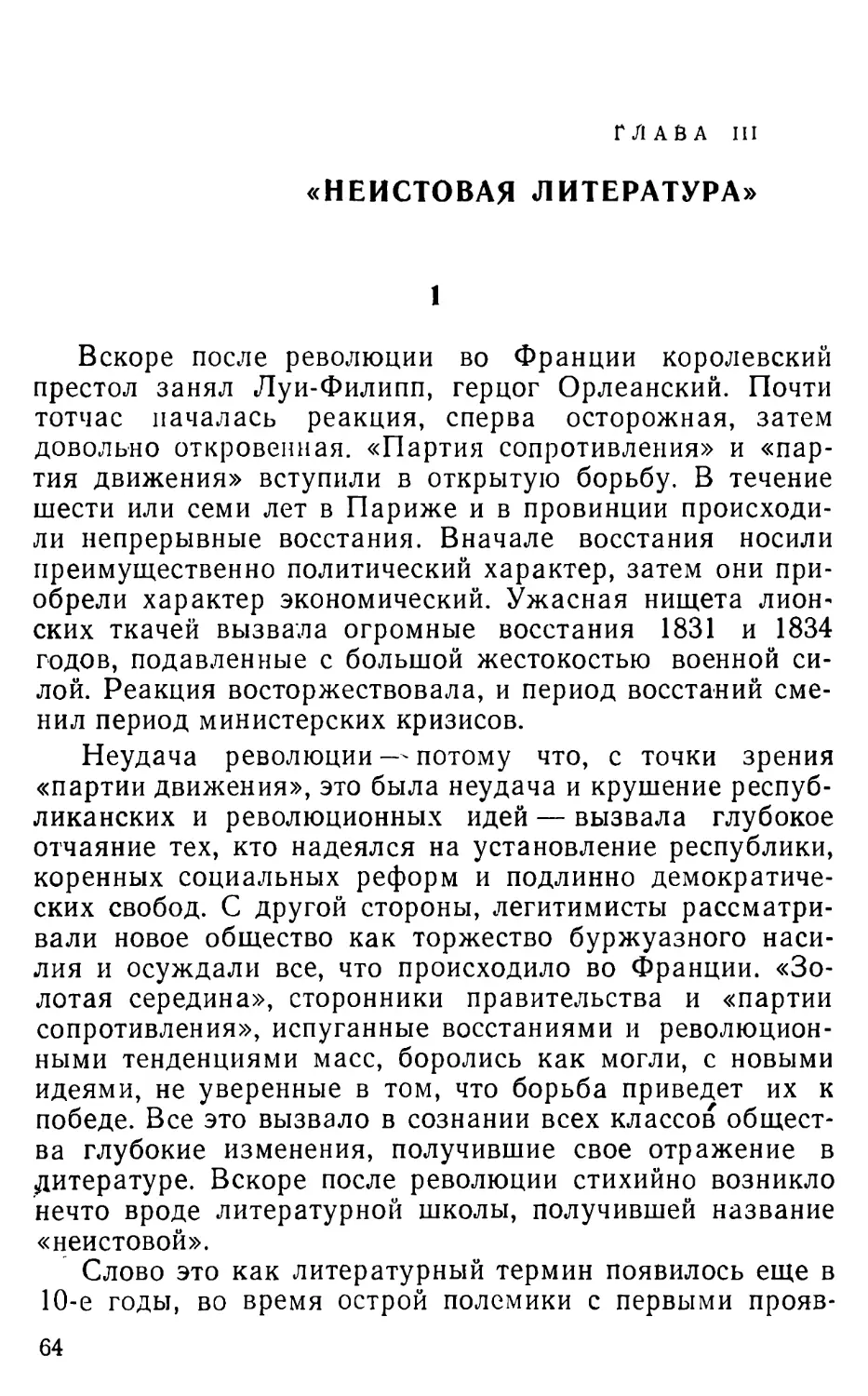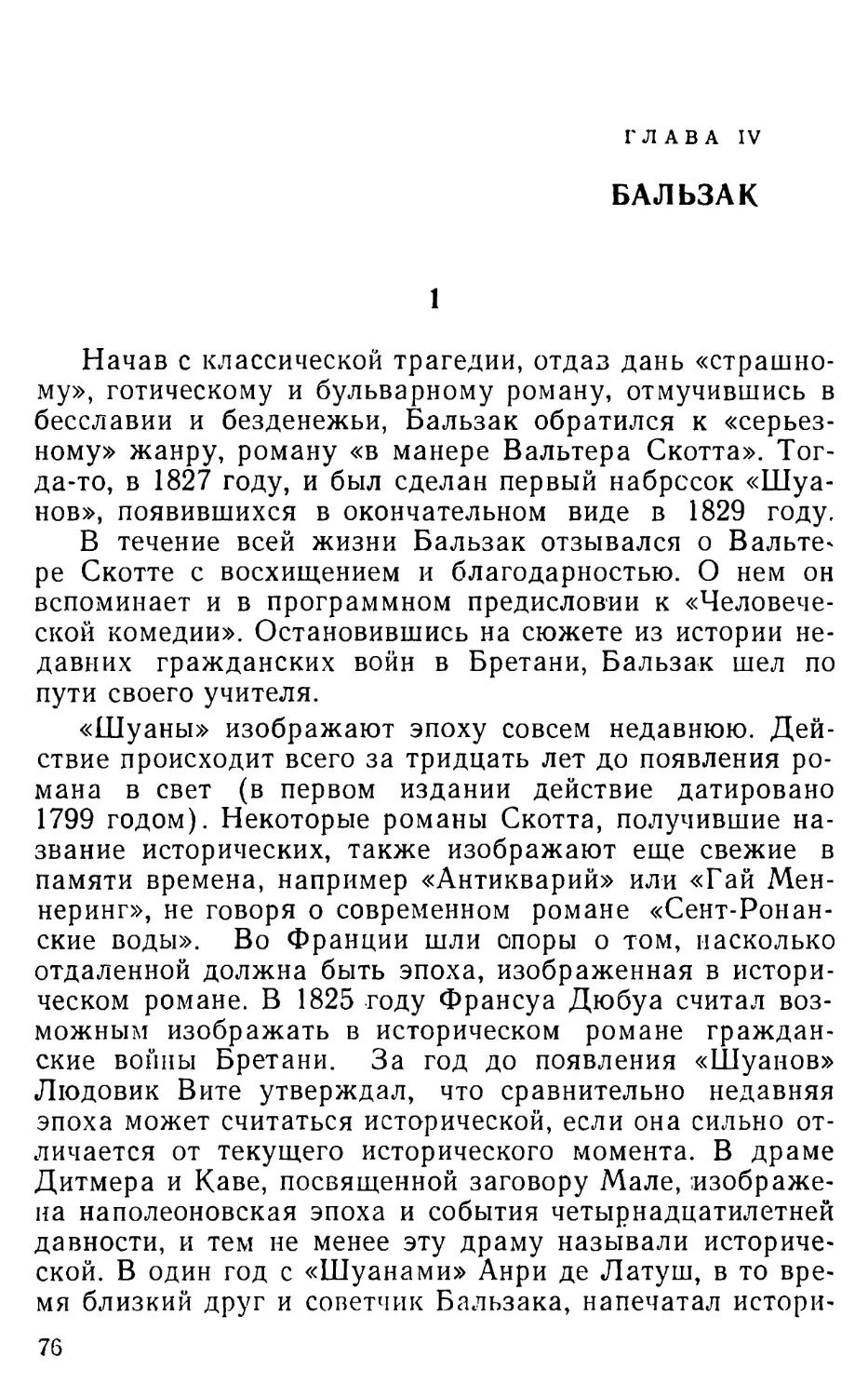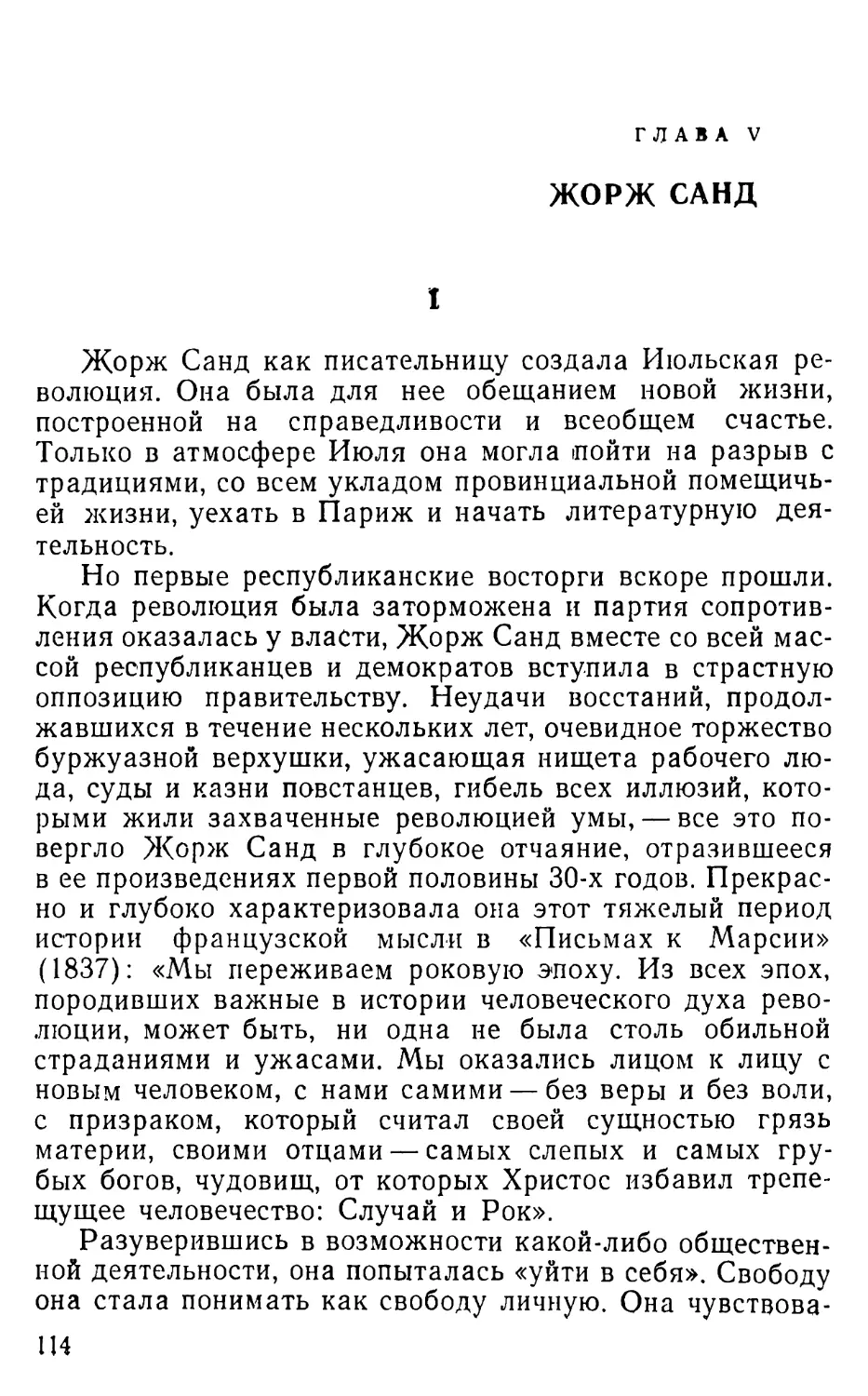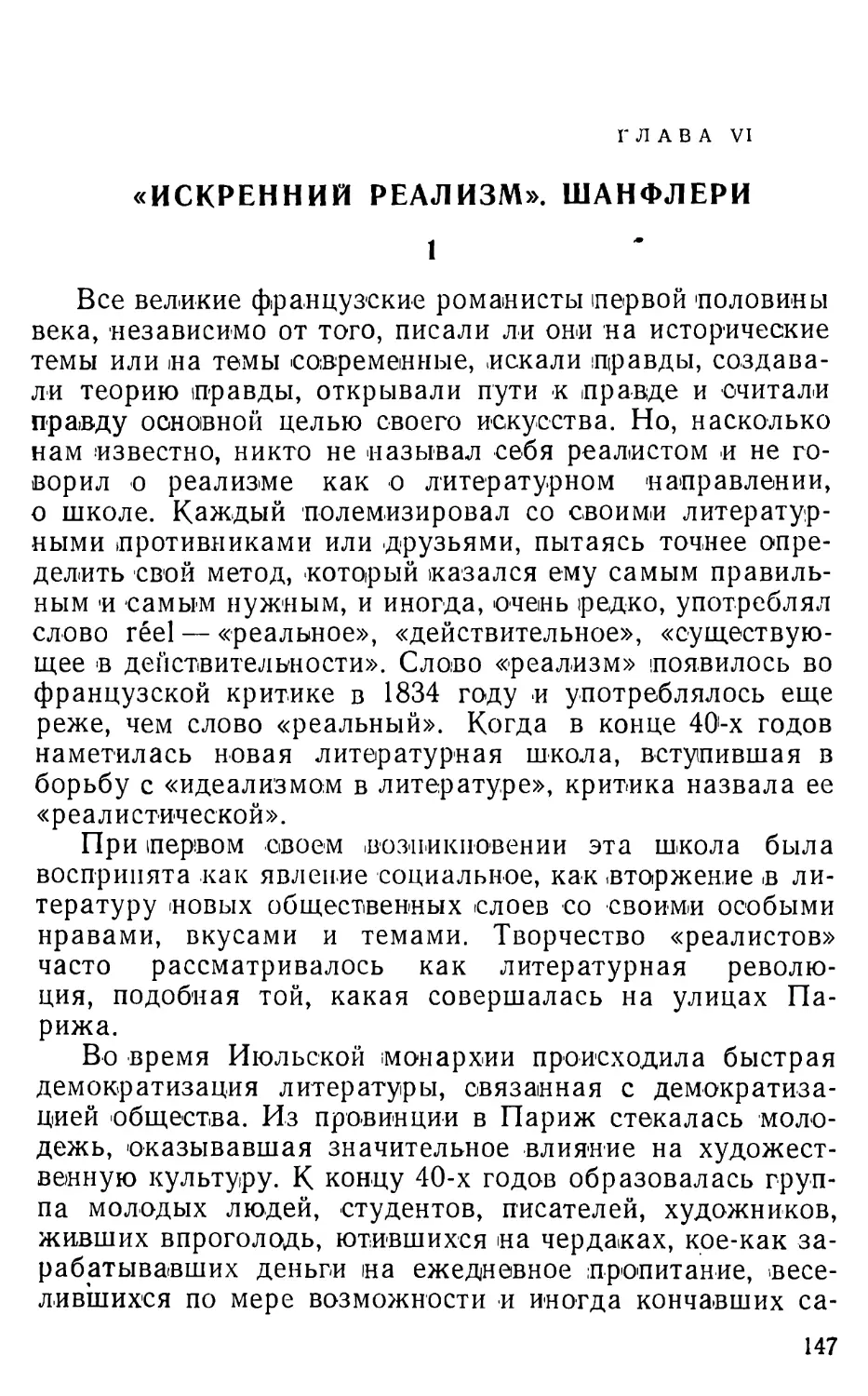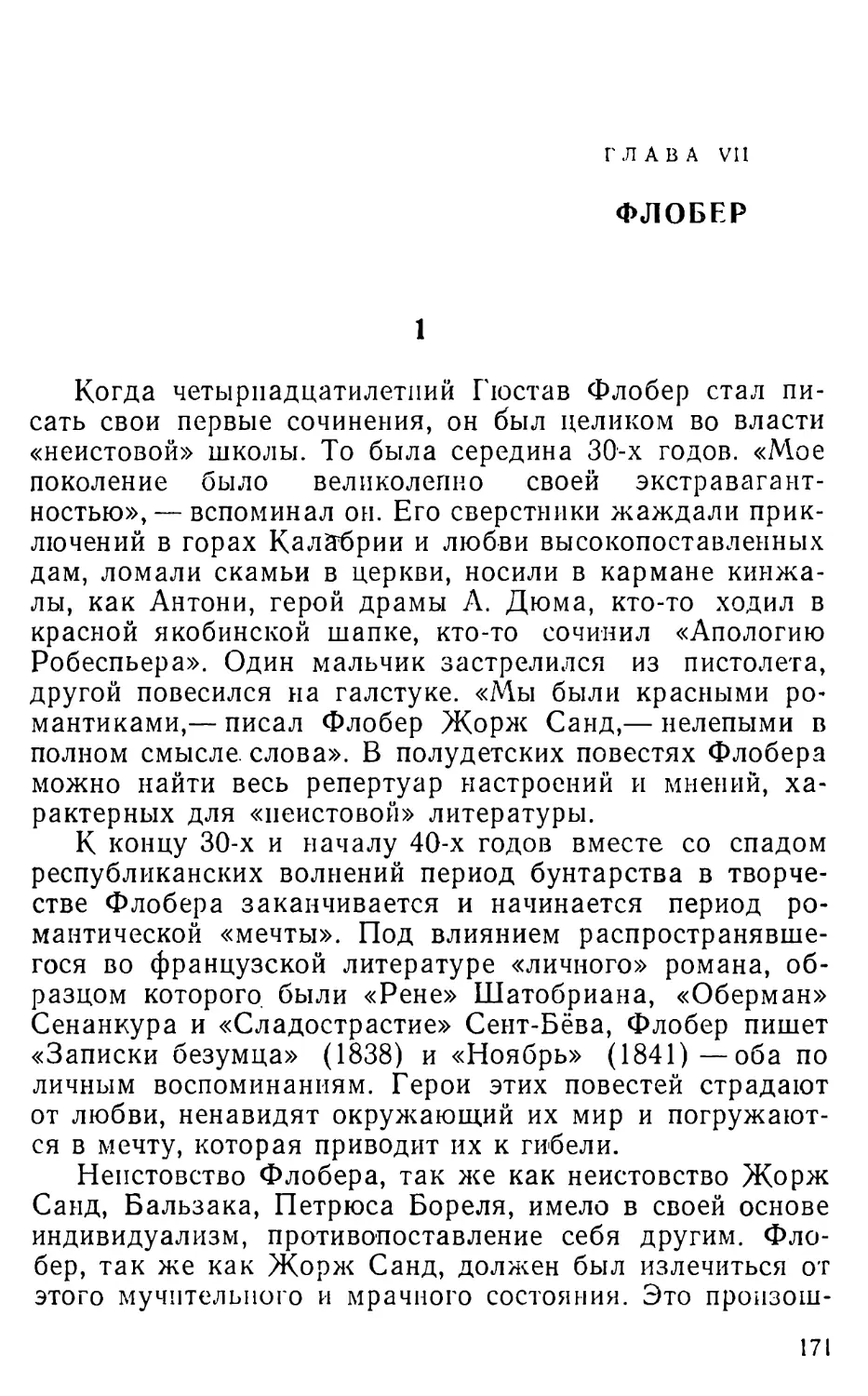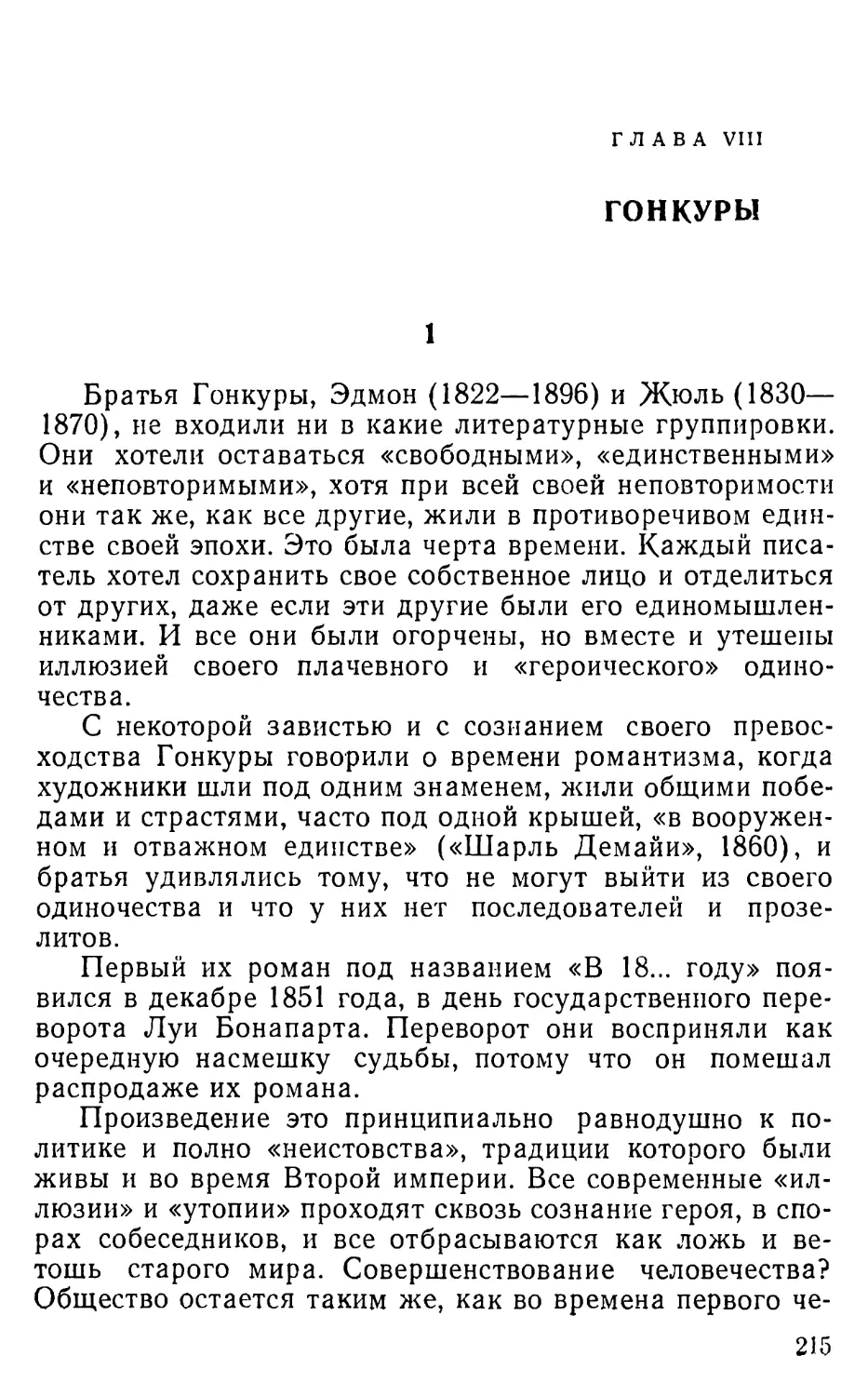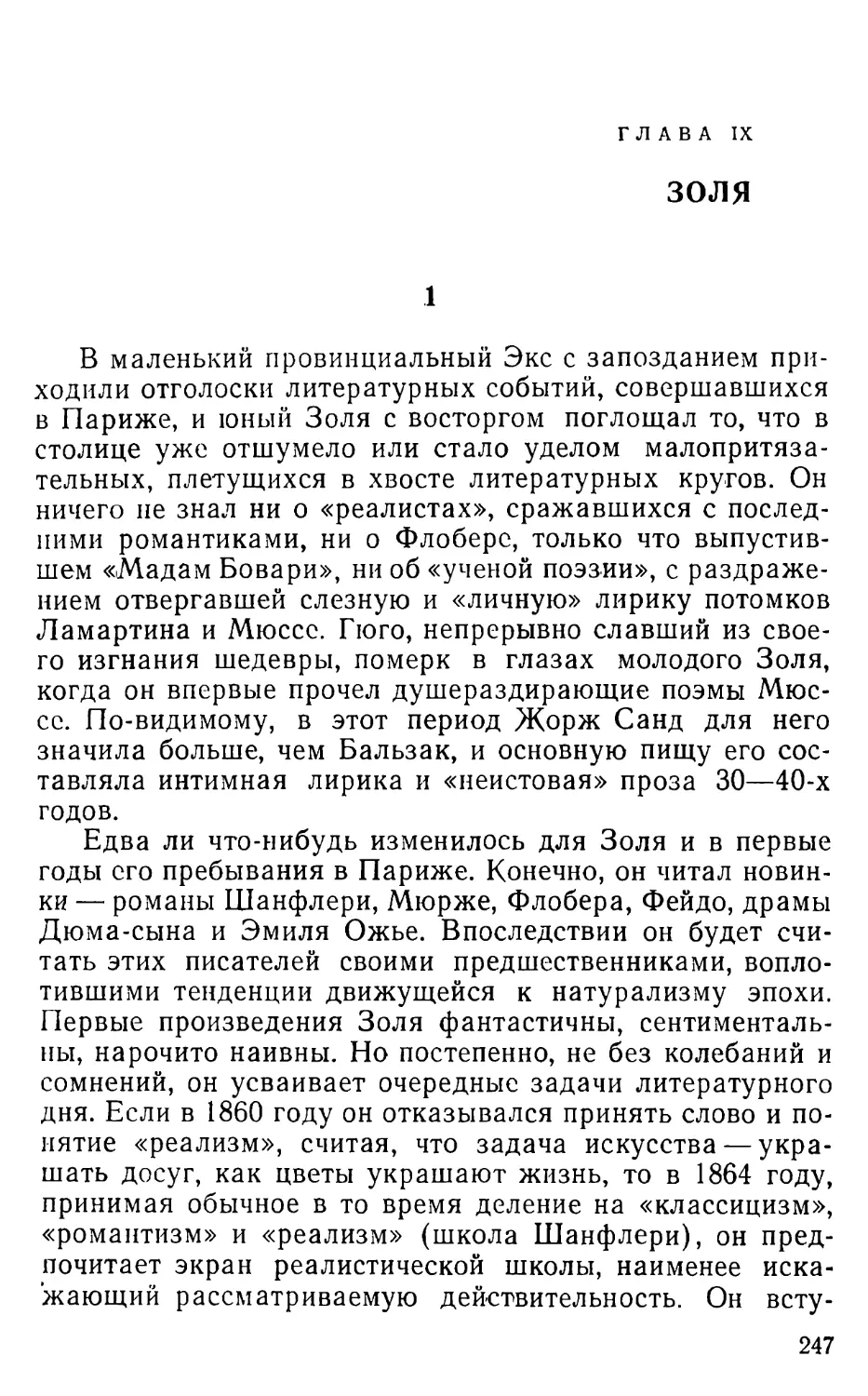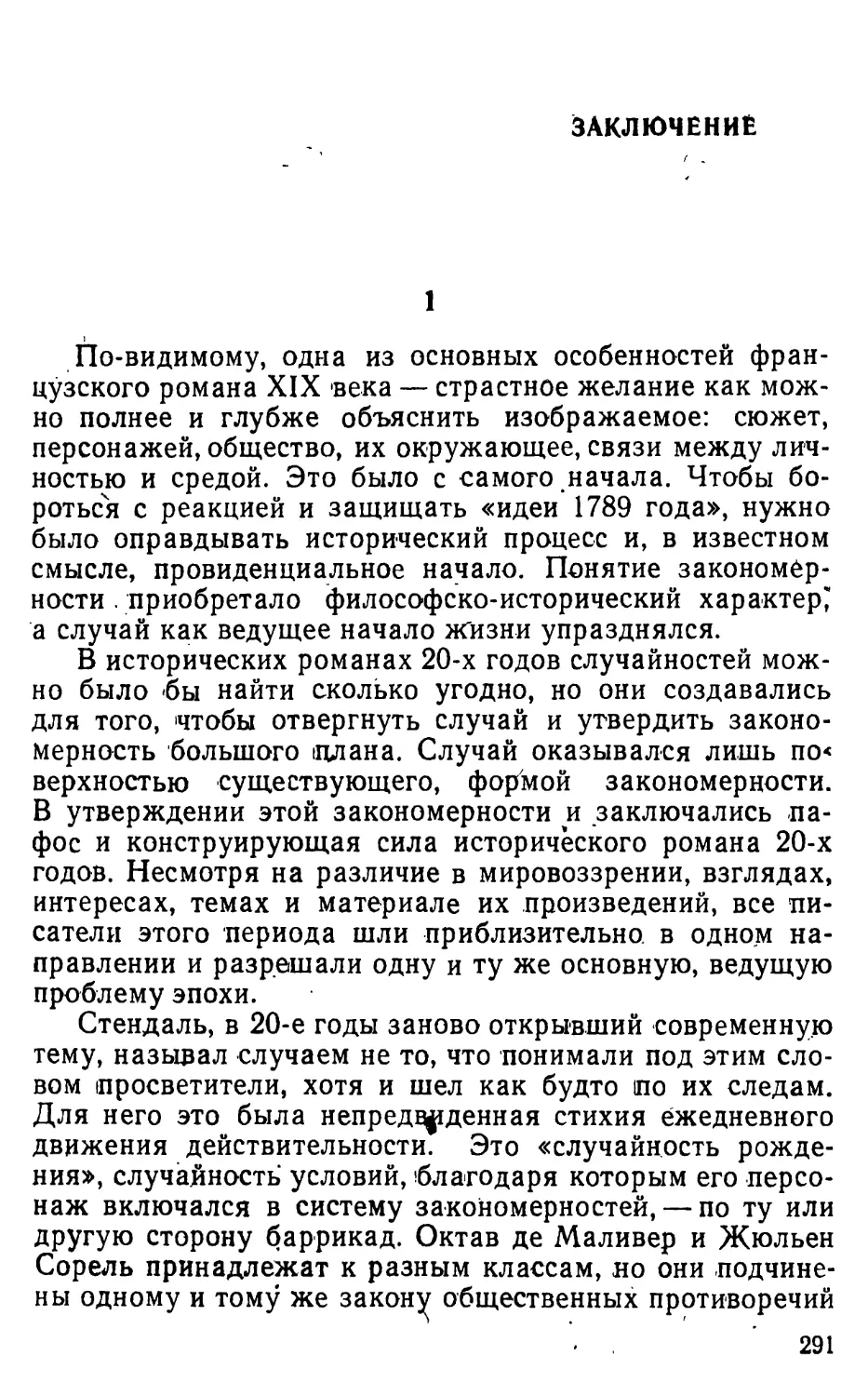Текст
Ш КРеизев
*/&1
XIX века
Б. Г Реизов
французский
РОМАН
XIX века
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА»
МОСКВА 1969
8И (Фр)
Р35
В книге рассмотрена история французского романа
начиная от исторического романа эпохи романтизма и
кончая натуралистическим романом .последних десятиле-
тий века. Отдельные главы посвящены творчеству круп-
нейших писателей столетия и эстетике литературных
направлений, представителями которых они являются.
7-2-2
БЗ — 34/22—69
ВВЕДЕНИЕ
Судьбы французского романа XIX века тесно связаны
с судьбами всей страны, с развитием европейской мысли,
с политическими задачами дня. Учесть всю сумму причин
и движущих сил векового литературного процесса здесь
было невозможно. Хотелось только наметить некоторые
общие закономерности развития романа, определенные
закономерностями развития общества. Из массы авто-
ров; произведений и литературных тенденций века при-
ходилось выбирать лишь главное и сосредоточиться на
самых крупных, ведущих художниках.
Роман — понятие трудноопределимое, непрерывно ме-
нявшееся в течение столетия, хотя эти изменения не все-
гда ощущались современниками. Он испытывал влияние
других литературных жанров — поэмы, драмы, рассказа,
очерка, анекдота, заимствуя у них то, что кажется полез-
ным для решения очередных задач. Поэтому историю ро-
мана нельзя понять, не выходя за его пределы. Прихо-
дилось говорить о многом, что не входит и в собственно
художественную литературу,— об общественной мысли,
о философии, этике, эстетике, истории, естественных на-
уках и, в первую очередь, о политической жизни страны.
Вместе с веком французский роман прошел много ста-
дий своего развития. Эти стадии не совсем совпадают с
чередованием литературных школ. Смена исторических
эпох дает более устойчивые основы для периодизации,
так как жизнь народа определяет формы художественно-
го творчества. Единство литературного процесса обнару-
живается не в этих формах, а в единстве исторических
3
задач, разрешавшихся французским обществом в тече-
ние этого столетия.
На рубеже XVIII и XIX веков во Франции соверша-
лись события, за четверть столетия изменившие страну
до неузнаваемости. Изменилась и литература. Новые за-
дачи, которые стояли перед обществом, вышедшим из
революции и продолжавшим ее, должны были получить
свое отражение в романе. Выросла роль романа, ставше-
го основной формой литературного выражения, измени-
лись его социальная функция, его художественные инте-
ресы, контингент читающих масс. То новое, что появилось
в общественном и художественном бытии романа, в из-
вестной мере было отрицанием традиций XVIII века, но
вместе с тем и переосмыслением их.
XVIII век был рационалистическим и натуралистиче-
ским одновременно. Рационалистическим потому, что в
момент наивысшего развития Просвещения все, что не
соответствовало разуму, т. е. строго логической схеме
рассуждений и отчетливо разработанной системе «разум-
ных понятий», отвергалось как заблуждение, как истори-
ческая случайность. Все, что в мировой истории отклоня-
лось от этой «разумной нормы», объяснялось только
одной причиной: беспредельным невежеством, среди кото-
рого действовал обман, изготовлявший полезный для
обманщиков вздор. История казалась единообразной в
безумствах народов и терзающих их деспотов. Только
иногда появлялся какой-нибудь просвещенный монарх —
Август, Карл Великий, Генрих IV, Людовик XIV,— рас-
пространявший здравые понятия и благодетельствовав-
ший простертому во прахе народу. Эти монархи были все
на одно лицо, потому что разум, так же как невежество,
был всегда один и тот же. По той же причине понятие
развития было очень относительное. Знаменитая книга
Кондорсе «Очерк исторического развития человеческого
ума» была написана после революции, в тюрьме, и го-
ворила только об успехах просвещения, которое понима-
4
лось в том же плане — как результат деятельности не-
многих просвещенных людей, логическим рассуждением
преодолевших всеобщее невежество.
XVIII век был натуралистическим потому, что отож-
дествлял природу с разумом. Логическое рассуждение
должно было привести к познанию вечных и неизменных
законов природы. Просветители апеллировали к одному
единственному, неподвижному идеалу общественных от-
ношений, основанных на_ неоспоримых, а следовательно,
неизменных доводах разума и законах природы. При-
знать историческую изменяемость логики и разума зна-
чило бы разрушить логику и разум, а вместе с тем и всю
систему аргументации в пользу нового общества. В этом
сходились и материалисты, и деисты. Материалисты счи-
тали материю пребывающей от века, деисты, допуская
божественное миротворчество, все же считали, что после
единого акта творения бог не вмешивается в жизнь мира,
который существует по раз навсегда установленным за-
конам. Законы органической жизни, законы мысли так
же неизменны, как законы математики и физики. Сен-
суализм объяснял познание с той же строгой последова-
тельностью и неоспоримостью, с какой астрономы опреде-
ляли движение планет, а геометры свойства треугольни-
ка— вне истории, вне развития, sub specie aeternitatis.
Истинное познание возможно только под знаком вечно-
сти. Платонизм, спинозизм и картезианство в этом смыс-
ле были сходны с беконианством и ньютонизмом. Госу-
дарствоведение, история, моральные сентенции, филоло-
гические исследования, философская трагедия, роман —
все подчинялось этому основному ходу мысли, избежать
которого было невозможно, так как невозможно было
представить себе какой-либо другой ход. Историческая
необходимость не позволяла выйти за пределы этой га-
лактики, открытой в результате героического самоогра-
ничения.
5
Существует, единый, идеал, красоты—классическая
эстетика в своей .платонической основе не ,могла, отка-
заться от этого. Но люди цоцидоаю.т красоту в меру сво-
его .разумения. Африканец, считает прекрасной африкан-
ку, француз — француженку и жаба —; жабу., Вольтер,
выражая эту мысль со своим рационалистическим скец-
сисом, в то же время яростно отстаивает вечную, и все-
общую истинность классического вкуса.
Ориентация на всеобщность и вечность почти исклю-
чала понятие исторического развития и .качественного
изменения как принцип познания мира. Это. определило,
в частности, и внутреннюю статичность художественного
образа, постоянство его основных свойств. В этой непод-
вижности свойств и заключался характер, или, вернее,
тип. Почти так же, как в комедии, герой на различные
впечатления и толчки среды реагировал, совершенно оди-
наково,— так, как требовал его раз навсегда данный,.за-
ранее определенный характер.
Среда тоже, при всем своем своеобразии, была всегда
одинакова. Куда бы ни попал герой —в притон разбой-
ников, в помещичью усадьбу или к королевскому двору,
он видел все того же «человека», с его обычными стра-
стями, движимого приблизительно теми же чувствами.
Среда-.не..заключала в себе движущего начала, законо-
мерно формирующего личность. , Существовали только
несколько типов, повторяющихся из романа в роман: спе-
сивого придворного, грубого, разбойника, наивного кре-
стьянина, чувствительной девушки благородного проис-
хождения. Общество как. единое целое,, развивающееся
силой внутренних противоречий, процессы, в нем совер-
шающиеся, отсутствовали. .Роман, строился преимущест-
венно по принципу перемены мест.—герой странствовал
из страны в страну, попадал из одной среды в другую,
всходу вел себя, приблизительно одинаково, преуспевал
или бежал от преследований. Автор показывал забавные
или страшные картинки, жанр или пейзаж, соединенные
'О
Лишь героем, на биографию которого нанизывались при-
ключения приблизительно стандартного типа.
События менялись быстро, и приключения сыпались,
как из мешка. Главным режиссером был случай, он-то
изумлял и восхищал читателя, который ожидал неожи-
данного, не углубляясь в причины и не ища закономер-
ного.
Но случай тоже имел философский смысл. Это было
целое мировоззрение. Согласно Эпикуру, мир создается
из элементарных частиц, вступающих в различные соче-
тания благодаря случаю. Не нужно ничего бояться. Нет
ни богов, ни фатума, нет помех для наслаждения жизнью,
а случай непостижим и не контролируем. Поэма Лукре-
ция «О природе вещей» была как бы символом веры.
Гельвеций уделяет случаю ведущее место. «Каждая но-
вая мысль — дар случая» называется глава из книги «О
человеке». «Случай оказывает значительное и неизбеж-
ное влияние на наше воспитание. События нашей жизни
часто бывают следствием самых мелких случайностей».
Случай формирует гениев. Комедия интриги, где главный
интерес заключается в событиях, определенных случай-
ным стечением обстоятельств, была реабилитирована
Луиджи Риккобони и сочтена «столь же оригинальной,
сколь любопытной». Оправдание комедии интриги было
«философической» новостью эстетики XVIII века.
Случай был противопоставлен католическому прови-
дению и протестантскому предопределению. «Философы»
не могли понять идею закономерности иначе как мисти-
ческую телеологию и считали более прогрессивным гово-
рить о случае как о единственном законе существования.
Действительно, феодальное общество, борьба с которым
составляла задачу эпохи, в глазах просветителей была
сплошным беззаконием. Какие могут быть закономерно-
сти в обществе, построенном на насилии и произволе?
Освобождая от закономерностей общественного плана,
от «благодати» и религиозных запретов, случай развя-
7
Зывал лйчйукгинициативу, которая должйа была в Море
всяких «стечений обстоятельств» и «комбинаций частиц»
найти возможности личного преуспеяния и даже общест-
венно полезного действия. Фигаро и в этом отношении
был типичен для эпохи. «Законы случая» редко кому при-
ходили в голову, теория вероятностей имела значение
для следующей эпохи, а споры по этому поводу, имевшие
целью дискредитацию случая, возникали только в нача-
ле XIX века. «Случай существует только для тех, кто до-
веряет мошенникам и становится их жертвой», — писал
реакционный литературный критик Жоффруа 20 января
1814 года, ссылаясь на слова Бартоло в «Севильском
цирюльнике».
Конечно, существовали закономерности не обществен-
ного, а естественного плана, «законы природы». Но эти
законы попирались обществом, и патетические романы
XVIII века были построены на этом противоречии. Точка
зрения остается почти той же после вторжения в роман,
«бури страстей», потому что они всегда сопровождаются
«капризами фортуны». Руссоистические романы конца
века в этом плане продолжали то, что делалось в сере-
дине столетия, разрушая препоны, ставившиеся челове-
ческой воле феодальной юрисдикцией, католической мо-|
ралью и неразумной традицией.
С этим романом XVIII века, рационалистическим, на-
туралистическим, приключенческим и чувствительным,
вступает в борьбу новый роман, начавший свой путь во
французской литературе в первые же годы Реставрации.
Характерной особенностью нового романа было понятие
исторической закономерности, определившей творческую
методологию целого столетия.
ГЛАВА I
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 20-х ГОДОВ
1
Франция XIX века, вышедшая из революции 1789—
1794 годов, ничем не была похожа на Францию старого
режима. Борьба, продолжавшаяся четверть века, совер-
шенно изменила структуру общества, взаимоотношения
классовых сил, интересы и систему взглядов.
Реставрацию Бурбонов (1815—1830) реакционные
круги восприняли как полное восстановление режима и
идей, господствовавших во Франции до революции. Ос-
новной задачей ультрароялистов было уничтожение всех
достижений революции, которая представлялась им ка-
ким-то историческим недоразумением, случайностью, не
имевшей под собой никаких исторических оснований.
«Случайность» эта объяснялась очень просто: тем, что
«философы» развратили сознание народа, нарушили за-
кон, который заключался в абсолютном подчинении на-
рода привилегированному сословию и догмам, освящен-
ным религией, и произвели бунт, нарушивший естествен-
ное движение жизни. «(Движение» ультрароялисты
рассматривали как статику, неподвижность, установлен-
ную богом -испокон веков и навсегда.
Прогрессивные круги, в частности умеренные либера-
лы, составлявшие партию «доктринеров», думали иначе.
Для них революция была неизбежностью, предопределен-
ной всем предыдущим развитием страны, и представляла
собой борьбу за справедливость, непрерывное движение
от самых низших форм бесправия к наиболее совершен-
ным формам государственности. Начиная от постепенно-
го и медленного, осуществлявшегося иногда с помощью
королевской власти освобождения средневековых город-
ских коммун, и вплоть до Великой французской револю-
ции массы народа боролись с феодальной системой и до-
бились некоторых свобод, зафиксированных в Консти-
туции 1814 года.
п
Основной задачей либеральной философско-историче-
ской мысли стало доказательство идеи непрерывного раз-
вития, происходившего в истории не только Франции, но
и всего человечества.
Идея развития и исторической закономерности пред-
ставляет собой необходимый элемент новой философии
истории, создававшейся в течение двух десятилетий и
получившей выражение в работах таких историков, как
Огюстен Тьерри, Франсуа Гизо, Проспер де Барант,
Пьер-Симон Баланш, Минье, Тьер и др. Так возникла
единая в своей основе, разнообразная в своих формах
система взглядов не только философско-исторического,
но и общественно-политического и нравственного плана.
Та же идея развивалась в собственно философских тру-
дах, например, Виктора Кузена.
Эстетическая мысль и собственно художественное
творчество двигались в том же направлении. По сущест-
ву, вся теория литературы, вся тектоника романтической
литературы и романа, в частности, была определена ли-
беральной философией и историографией 20-х годов.
Теоретиками литературы были те же самые лица, ко-
торые вели линию, политического либерализма, так назы-
ваемой «доктрины»: Франсуа Гизо, автор замечательной
«Жизни Шекспира» (1821), Проспер де Барант, автор
почти столь же замечательной «Жизни Шиллера» (1821),
Вильмен, построивший теорию развития французской
литературы на протяжении двух веков, Баланш, рассмат-
ривавший романтизм как выражение духовных нужд но-
вого общества.
В литературе возникает новый жанр—исторический
роман, совершенно трансформировавший французскую
литературу. Решающее значение в этом процессе имело
творчество Вальтера Скотта, романы которого стали из-
вестны во Франции с 1816 года. Без Вальтера Скотта
нельзя представить себе французскую историографию
эпохи. Огюстен Тьерри, автор «Истории завоевания Анг-
лии норманнами» (1825), Проспер де Барант, автор
«Истории герцогов Бургундских», выходившей с 1824 го-
да, прямо говорили о своей зависимости от английского
романиста, рассматривая его как одного из самых вы-
дающихся мыслителей нового времени.
Одной из характерных особенностей французской
исторической школы было отрицание рационализма.
10
Историческое развитие не соответствует законам фор;-!?
мальной логики. Это скорее диалектика, борьба лротиво-,
речий, которые в каждый данный момент создают особую^
систему постоянно меняющихся обстоятельств и опреде-
ляют нравы,; культуру, и характер мышления данной;
эпохи.
Французские историки понимали, что история — это
история классовой борьбы. Они вкладывали в понятие
исторического процесса нравственный смысл. Они утвер-
ждали, что исторический процесс является завоеванием
неких высших нравственных ценностей, которые сводятся
к одному понятию — справедливости. Сумма справедли-
вости, заключенная в данном обществе, определяет его
материальное и нравственное благополучие, его совер-
шенство. Вместе с тем они понимали, что, классовая
борьба предполагает насилие, которое осуществляет один
класс над другим, а общественная справедливость, цель
исторического развития, осуществляется в результате
тяжелых и кровавых столкновений.
Каждая эпоха представляет собой высший по сравне-
нию с предыдущей этап всеобщего развития, с большим
содержанием справедливости и нравственности. То, что
тяжело поражало просветителей, не видевших в истории
сложного процесса совершенствования, доктринеры вос-
принимали как свидетельство нравственного здоровья
человека вообще и исторического человека в частности.
Это было основой исторического оптимизма, характерно-
го для мировоззрения либералов 20-х годов.
. 2
История —правдивое повествование о событиях прош-
лого. Роман — вымысел. «Исторический роман», таким
образом, можно было бы определить как «правдивый
вымысел». В самом названии жанра заключалось проти-
воречие: название сочетало, казалось бы, несовместимые,
взаимоисключающие понятия. Задача теоретиков и апо-
логетов жанра состояла в том, чтобы доказать возмож-
ность правдивого вымысла и выдуманной правды.
Понятие правды — одно из центральных в романти-
ческой эстетике. Для романтиков 20-х годов правда почти
отождествлялась с историей, «Метафизическая», абсо-
лютная правда, которую искали рационалисты XVIII ве-
ка, правда для всех времен и народов уступила место
il
правде исторического развития, вечно меняющейся, под-
вижной, но неуклонно шествующей к идеалам справедли-
вости.
В новом ее понимании правда получила наиболее пол-
ное выражение в историческом романе. Историческая
правда, слагающаяся из массы относительных истин, тре-
бовала широких обобщений и вместе с тем максимальной
конкретности. И то и другое достигалось средствами ис-
кусства, сливающего воедино работу философского ума
и художественного воображения.
Исторический процесс, т. е. непрерывное становление
человеческого ума и общества, —это процесс борьбы. Что-
бы понять его, нужно понять глубокий внутренний конф-
ликт, в котором заключена причина движения. Такова
задача исторического романа; который всегда изображал
борьбу не столько отдельных лиц, сколько исторических
сил, классов и государств.
Конфликт и борьба существуют всегда, но иногда из
латентного состояния они переходят в открытое восста-
ние, революцию и гражданскую войну. Тогда-то с наи-
большей отчетливостью обнажаются противоречия, раз-
вивающие историю, и проявляются характеры, обуслов-
ленные структурой общества, средой, обстоятельствами.
Кроме того, такие «кризисные моменты» отмечают смену
эпох, движение истории, которое и составляет ее сущ-
ность и ее тайну, увлекавшую историков 20-х годов.
Чтобы понять эти противоречия и это движение до
последних глубин, нужно угадать и воспроизвести эпоху
с максимальной точностью. Так возникает «местный коло-
рит», одна из важных особенностей исторического рома-
на. Быт, орудия труда, одежда, жилища, нравы, завися-
щие от обстоятельств жизни и традиций, уходящих в
глубокую древность, сознание народа, его верования, пре-
дания и песни, им сложенные, — все это составляет про-
блему «местного колорита».
Нравы особенно интересовали романтиков — больше,
чем характеры. Характеры были в основном свойством
индивидуума, между тем как нравы были свойством на-
ции, общества и эпохи и потому представляли более
общую истину. По той же причине они играли боль-
шую роль в истории. Нравы были специфически роман-
тическим понятием, завоеванием новой литературной
школы.
12
Французский психологический роман XVIII века изу-
чал главным образом страсти и в меньшей степени ха-
рактеры. Он описывал переживания парижанина, пред-
ставителя столичной, т. е. наиболее совершенной циви-
лизации, как «екую психическую норму, которая как
будто не заключала в себе ничего местного и казалась
всеобщей. Исторический роман изучал нравы, и нравы
эти были иные, чем современные парижские. Роман стал
более разнообразным и красочным, полным оттенков и
неожиданностей.
Французские нравы включают в себя нравы многих
провинций, каждая из которых имеет свою «биографию»,
свой древний национальный субстрат, свою форму куль-
туры. Не зная местной культуры, нельзя понять ни исто-
рию государства, ни духовную жизнь современной Фран-
ции. Отсюда внимание к провинции, к тем тайным, а ино-
гда и явным противоречиям между столицей и остальной
страной, которые сыграли такую роль в недавних собы-
тиях революции.
Интерес к прошлому влек за собой интерес к почве,
на которой происходили исторические события и склады-
вались нравы. Место действия приобретало особый
смысл, так как определяло формы труда ,и жизни, усло-
вия действия и реальные возможности событий. Средне-
вековый замок — целая система социальных отношений.
Это крепость, созданная для того, чтобы защитить фео-
дала от нападений соседа, так же как от нападений кре-
стьян. Там есть башни и бойницы, из которых стреляют и
бросают камни на осаждающих; там есть застенки для
того, чтобы пытать врага, и пиршественные залы, в ко-
торых растрачивается награбленное. Замок немыслим без
соседней голодной деревни, потому что деревня кормит
замок;, но в этих лачугах нельзя защищаться от набегов
соседнего барона, и при приближении врага крестьяне
спасаются в замке своего хозяина. Роскошь королевского
дворца не может быть понята без нищеты целой страны,
так же как нищета, вызывающая восстания и классовую
борьбу, была бы непонятна без роскоши королей и сень-
оров. Королевский дворец, замок, болота и лачуги вхо-
дят в роман со своим особым смыслом, живописуя, объ-
ясняя и конструируя эпоху.
История, по мнению романтиков, — это жизнь народа,
поэтому его интересы и страсти, его мнения входят в со-
13
держание истории. То или иное событие может приоб-
рести значение в зависимости от того, как отразилось оно
в сознании народа. Поэтому история фактов и история
нравов должна быть дополнена историей мнений. Так
романисты открывали себе путь к изучению народного
сознания и реально интерпретировали суеверия и леген-
ды, которые рационалистам XVIII века казались смехо-
творной нелепостью или массовым психозом.
Широкой струей вошел в роман фольклор во всех его
формах, от преданий и песен до поверий и пословиц.
Историческая правда настойчиво требовала чудесного,
так как чудесное жило в сознании далеких эпох, отра-
жало интересы народа и побуждало его к действию.
3
Либеральная философия истории разработала поня-
тие эпохи, без которого невозможно было мыслить исто-
рическое развитие. Каждая эпоха решает особую стоя-
щую перед ней задачу, которая определяет все ее процес-
сы, создает ее единство и отличает ее от других.
Исторический роман должен понять эту задачу и это
единство и объяснить изображаемые события не мелки-
ми причинами психологического характера, не случай-
ностями, возникающими в толчее обыденной жизни, не
прихотью государя и не капризами двора, а законами
эпохи.
Однако все, даже особо прославленные исторические
романы полны и биографических, бытовых, психолошче-
аких деталей, и всякого рода случайностей, вторгающих-
ся в мирную жизнь героя и увлекающих его на новые,
неожиданные iny-ли. Приключение никак не исключено из
хозяйства исторического романа,—напротив, оно для
него характерно, но случай, вдруг переворачивающий
ход событий, утрачивает свою 'самостоятельность.'Он яв-
ляется результатом обстоятельств и тенденций, взаимо-
отношений борющихся сил эпохи. Вторжение случайно-
сти есть проявление заишномерности и доказательство ее.
Средневековье, как оно представлялось историкам
20-х годов, было временем энергичного действия. Макбет
был героем этой эпохи, между тем как Гамлет характерен
для новых времен, подвергших сомнению все традиции и
разрешающих трудные нравственные проблемы. Поэтому
в исторических романах, посвященных средневековью,
14
сюжет полон действия, которое немыслимо было бы в
романах из современности. Импульсивные герои дейст-
вуют под влиянием страсти, под впечатлением минуты и
бросаются в предприятия, о смысле и исходе 'которых не
задумываются. Они (поступают так потому, что созданы
своей эпохой. Импульсы, которые заставляют их дейст-
вовать, определены интересами и обстоятельствами, в ко-
торых они живут, состоянием природы, нравов и цивили-
зации.
Одним из законов исторического жанра был закон
перспективы, без которой невозможно было бы осмыс-
лить события и создать единство произведения, — а об
этом романисты-романтики беспокоились не меньше, чем
драматурги-классики. Нужно было показать, куда вле-
кут события, к чему приходит эпоха, показать будущее,
возникающее из развалин прошлого в катастрофах на-
стоящего. Романы, изображающие средневековье, полны
трагических и страшных событий,— иначе историческая
правда будет искажена. Но чем страшнее и трагичнее со-
бытия, тем светлее горизонты, отчетливее поступатель-
ный ход истории и целесообразность происходящего.
Борьба эпохи не заканчивается окончательной и абсо-
лютной победой одной партии, — либеральная мысль
20-х годов стремилась к другим заключениям. Диалекти-
ка немецкой философии, исторический опыт Англии, по-
лучивший свое выражение в ром,анах Вальтера Скотта,
и, самое важное, осмысленный в том же свете историче-
ский опыт Франции, подсказывали, что тезис и антитезис
должны заключаться синтезом, который иногда понимал-
ся как компромисс.
В некоторых романах эпохи этот синтез обнаружива-
ется с полной ясностью. Так, в «Шуанах» Бальзака
(1829) умирающий маркиз де Монторан завещает свое-
му брату правило политического поведения, которое яв-
ляется очевидным синтезом его личного опыта и истори-
ческого опыта всего поколения: всегда сохранять вер-
ность королю и никогда не сражаться с родиной. Этот
вывод открывает перспективу — читатель видит в неда-
леком будущем Хартию, понимаемую как согласие по-
рядка и свободы.
«Ган-Иеландец» Виктора Гюго (1824) заключается
надеждой на новый более благополучный порядок.
В «Соборе Парижской богоматери» (1831) погибают все
15
главные герои — Эсмеральда, Клод Фролло, Жан Фрол-
ло, Квазимодо. Но Клод Фролло погиб как реликт, про-
тивоестественной средневековой культуры, Эсмеральда
превратила Квазимодо в человека из бессловесного раба,
каким он был до того, и в судью своего господина и це-
лой цивилизации. Роман заключается смертью жертв
уходящей эпохи, неся ib себе перспективы будущего.
Счастливое окончание для исторического романа от-
нюдь не обязательно. Благополучие влюбленной пары
всегда сопровождается трагической гибелью других ге-
роев, иногда более значительных, чем носители любов-
ной интриги. Гибелью центральных героев заканчивают-
ся «Сен-Map» Виньи, «Шуаны» Бальзака, «Собор Па-
рижской богоматери» Гюго и, по существу, «Хроника вре-
мен Карла IX» Мериме. Но перспектива сохраняется по-
чти всегда, и читатель понимает, что катастрофа, изо-
браженная в романе, — необходимое испытание, урок и
даже искупление, шаг вперед по пути демократии и спра-
ведливости.
Франция эпохи Реставрации отнюдь не представляла
собой ^синтеза, о котором мечтали доктринеры. Одни хо-
тели уничтожить Хартию, другие — сохранить ее. Стра-
сти опрокидывались в прошлое, и события давно ушед-
ших эпох приобретали необычайную злободневность.
Чтобы достичь хоть какого-нибудь политического синте-
за, исторический роман должен был стать беспристраст-
ным, воспроизводить исторические обстоятельства и со-
бытия как целесообразную неизбежность. Художник
должен был воспитать в себе «безграничное сочувст-
вие»,— иначе нельзя было понять историю и поверить в
прогресс.
В «Сен-Маре» Альфреда де Виньи есть попытка оп-
равдать даже Ришелье, который, по мнению автора, по-
губил Францию своим политическим аморализмом и без-
удержной жаждой власти. Герои Бальзака тоже как
будто изображены объективно, шуаны и «синие» пока-
заны без инвектив, без той бешеной ненависти, которая,
несомненно, сохранилась в отношении к ним разных по-
литических партий. Клод Фролло («Собор Парижской
богоматери») объяснен пороком цивилизации, и отвра-
щению, котдрое он внушает, сопутствует сострадание.
Но беспристрастие не исключает оценки исторической
и политической. Маркиз др=Монтор1ан-ойаятеле*ыпо сво-
1Ç < ч.-;.~" .О ■•:.•; -
им душеьным свойствам, самоотвержен .и героичен, .но
его политическая неправота и историческая обреченность
очевидны, и при всем .'сочувствии к нему читатель это
остро ощущает. То же можно сказать о любом истори-
ческом романе: вне оценки он не мог бы существовать,
так как утратил бы свой смысл и ^познавательное зна-
чение.
4
История как материал изучения неисчерпаема. Ска-
зать об эпохе ©се, что известно, восстановить ее целиком,
пожалуй, невозможно. Тем более невозможно изобра-
зить ее в историческом романе. Романисту приходится
выбирать. Он должен выбрать явления, которые харак-
теризуют данный исторический процесс и указывают пути
развития. Требование «перспективы» предполагает имен-
но такой выбор.
Нагромождение фактов, извлеченных из старых хро-
ник, согласно новым представлениям, не является исто-
рией, а потому не является и правдой. Это внешняя прав-
да, правда документов, а не подлинная и высшая.
Противопоставление подлинной и высшей правды
правде фактической и, так сказать, случайной было ши-
роко распространено в поэтике романтизма. Под факти-
ческой правдой понималось то, что было засвидетельст-
вовано документами. Высшая правда — шире: она вклю-
чает в себя смысл событий, дух эпохи. Чтобы раскрыть
ее, историк должен по скудным данным, пользуясь прав-
дой фактической и преодолевая ее, отгадать самое глав-
ное—сознание и чувства народа, творившего историю.
Этого нельзя найти ни в каких памятниках и документах,
это нужно воссоздать или вообразить. Эрудиция может
восстановить лишь следы исторического творчества на-
родов и общий путь, который они прошли до нашего вре-
мени. Чтобы понять причины, вызывавшие войны, восста-
ния, долгие века молчания, упадки и расцветы, нужно
воображение. Пропасть, лежащая между скудной эмпи-
рией и прозрев а ем ой в ней идеей, должна быть преодо-
лена вымыслом. В этом и заключается задача историче-
ского романа.
Кл ас сическ а я эстетика обычно против опост а в л я л а
правду и вымысел. В романтической эстетике .воображе-
ние было признано средством познания.
17
В историческом романе в первые годы его существо-
вания четко различались две составляющие его части:
правда и вымысел, т. е. исторические события и истори-
ческие 'персонажи, с одной стороны, и романическая инт-
рига и вымышленные персонажи — с другой. Но ведь
задача исторического романа—история нрашв. Он дол-
жен 'рассматривать прошлое с его обыденной, «домашней
стороны», делать то, что не в состоянии сделать собствен-
но история. Таким образом, он восстанавливает подлин-
ную правду наряду с правдой фактической.
Вымысел не должен противоречить широко известным
фактам, чтобы не подорвать доверие читателя; но рома-
нист может допустить анахронизмы, дать вымышленные
портреты исторических деятелей, ввести в политическую
интригу вымышленных лиц и объяснить поведение исто-
рических персонажей причинами, о которых ничего не
говорилось оз документах.
Затем, вместе с развитием исторического романа,
эстетическая мысль сделала следующий шаг. Документы
показались малодостоверными вследствие своей сухости
и неполноты. Хронист и сам не 'слишком хорошо понимал,
что вокруг него происходило, и потому его рассказы тре-
буют проверки. К тому же факты, им изложенные, — про-
сто случайность, осевшая в хронике, между тем как дру-
гие, может быть, более существенные и важные, исчезли
бесследно. Не лучше ли на основании общих сведений
об эпохе создать вымысел более правдивый, -чем 'истори-
ческий документ?
В десятках статей эта мысль высказывается в той
или иной, более или менее уклончивой форме, в десятках
романов воображение переходит за положенные ему пре-
делы и создает историю, освобождаясь от мешающих ему
фактов.
Некоторые авторы, как, например, Поль Лакруа, на-
писав роман, уже не могут отличить, где в нем история,
а где вымысел. Писатель, говорит Бальзак, не только мо-
жет, но и должен изменять исторические 'события. Исто-
рия, т. е. достоверные факты, должна составлять только
фон, на котором развивается вымысел более правдивый,
чем факт.
И тут, в связи с исторической правдой, возникает
проблема героя, пережившая за 20-е годы ряд интерес-
ных превращений.
18
Каких героев должен изображать'"роман-йст,'претен-
дующий на историческую правду?
В начале 20-х годов, тем более в XVIII веке ив эпоху
Империи, исторический персонаж—неотъемлемая /при-
надлежность исторического (романа и, пожалуй, единст-
венный конструктивный его признак. Но чтобы оживить
исторические фигуры, чтобы приблизить их к читателю
с его (Пониманием жизни и людей, они .награждались
страстью. Для романа необходим романический, т. е.
прежде всего любовный интерес. Роман (понимался имен-
но как история любви, — таким он был в средние века,
в XVII и тем более в XVIII веке с его -чувствительностью
и бурями страстей. Поэтому и исторический роман был
немыслим без любви.
Романисты XVIII века своих исторических персона-
жей, будь то Юлий Цезарь, Сократ или кардинал Ри-
шелье, непременно наделяли нежной страстью. История
их любви 'составляла содержание (романа. Но когда исто-
рия 'перестала быть историей государей и придворных
интриг и превратилась (в биографию народов, любовь
должна была отойти на задний план.
Объяснить галльский лоход Цезаря или его борьбу с
Помпеем тем, что он был в кого-нибудь влюблен, каза-
лось нелепостью; заставить Сократа влюбиться ,в моло-
денькую гречанку казалось недопустимой уступкой мало-
компетентному читателю. Поэтому романисты 20-х годов
изображали исторических персонажей лриблизительно
такими, какими они были в документах и сохранялись в
памяти потомков. Они были освобождены от любви, пото-
му что она искажала не только исторические факты, но
и самое понятие истории «как системы определенных со-
циальных закономерностей.
Но если любовь как движущая сила истории была уп-
разднена, то она должна была остаться как выражение
чувств, а носителями ее оказались вымышленные персо-
нажи, с которыми романист мог делать все, что ему
угодно.
Вальтер Скотт открыл способ сочетать романический
интерес с историческим, отделив романических, т. е. лю-
бовных, героев от исторических. Последним он предоста-
вил эпизодическую роль, первым — главную, основную,
любовную и сюжетную. Любовь, оставив королей и ми-
нистров, вступила в жизнь частных лиц.
19
Обычно ведущую роль в развитии сюжета играют по-
литические события. Частная жизнь вымышленного ге-
роя развивается в тени грандиозных общественных ката-
строф и определена исторической неизбежностью совер-
шающегося. Вот почему любовный интерес неизбежно
связан с сюжетом историческим. Героем владеет не толь-
ко любовь, но и другие, более .высокие чувства — наци-
ональные, политические, нравственные интересы. Часто
он жертвует ради них своей любовью. Политические со-
бытия являются помехой в любовных делах, посреди бур-
ных событий любовники расстаются, переживают слож-
ную психологическую эволюцию, мужают и умнеют. Пос-
ле того как завершается цикл исторических событий, они
получают возможность вступить в брак и продолжать
безоблачное существование. Вместе с исторической ли-
нией действия кончается и романическая.
Любовь играет важную роль: она связывает между
собой представителей двух лагерей—девушка принадле-
жит к одному сословию или политической партии, ее воз-
любленный — выходец из другого сословия и принимает
сторону другой партии. Это позволяет объяснить слож-
ную обстановку данного политического «момента и харак-
теризовать психологию различных классов в их столкно-
вениях и контрастах.
Девушка в плену у своих врагов. Среди этих врагов
находится ее возлюбленный. Как он должен поступить,
чтобы спасти ее от бедствий, казни, бесчестья? Он дол-
жен преодолеть трудности психологического характера,
постараться понять партию, к которой принадлежит его
возлюбленная. Это стоит ему больших усилий, потому что
в моменты социальных конфликтов примирение трудно и
взаимопонимание невозможно.
С точки зрения Вальтера Скотта, победа одной пар-
тии над другой может быть осуществлена, если противо-
речия, вызвавшие взрыв, в какой-то мере преодолены или
приобрели другую социальную и историческую, форму.
Соединение двух влюбленных в конце романа приобрета-
ет общественно-политический смысл: счастливый брак
символизирует тот исторический синтез, который был не-
обходим французским либералам и обещан историческим
опытом Франции.
И тем не менее французским романистам труднее
было завершать роман счастливым браком. Эпоха Ре-
20
стйврации была синтезом только в теории и в мечте. К
концу 20-х годов политическая борьба все более обостря-
лась. Трагический конец казался более правдивым и бо-
лее нужным, чем традиционный «happy end», скрываю-
щий под своим фальшивым благополучием не разрешен-
ный в действительности конфликт.
Преобладание вымышленных героев над исторически-
ми имело и другие причины. Предметом исторического
исследования должна быть не столько личность короля,
сколько эпоха, этого короля породившая, ее проблема-
тика, выражающая нужды и волю масс. Но массы оста-
лись безымянными, о них ничего не говорится в хрониках
и договорах. Значит, народные персонажи, выносившие
на своих плечах ©сю тяжесть событий, должны быть вы-
мышлены. Любовь для них совсем не обязательна. Мно-
гим критикам такие «герои нравов» казались более прав-
дивыми и, следовательно, более интересными, чем герои
любви. Подлинные представители мнений данной эпохи,
писал критик 1824 года, не те, кто полон «страстью
сердца», а те, кто полон «страстью духа», т. е. борцы за
убеждения, за интересы общества, за идею.
Из всего этого следует вывод: в историческом романе
историческое лицо — только помеха. Закованное © свои
документы, оно недостаточно гибко для романа и только
стесняет повествующего в его работе над правдой.
Так, ради исторической правды роман расстается с
историческими событиями и персонажами. Он превраща-
ется из романа об исторических событиях в роман об ис-
торических нравах. Вырываясь из плена фактов, он по-
лучает свО)боду и в сюжетосложении, и в типотворчестве.
Но изображение нравов также может показаться ог-
раниченным в своих познавательных возможностях, сли-
шком эмпиричным и замкнутым в данной эпохе. Великие
деятели прошлого живут в народной памяти дольше, чем
события и нравы. Их значение перерастает эпоху. Леген-
да создает их заново, не считаясь с документами и хро-
никами, в согласии с желаниями народа, с законами ис-
тории. В созданных преданием образах воплощаются це-
лые стадии в жизни человечества, проблемы, разрешав-
шиеся поколениями. Миф об Эдипе, говорит критик
1830 года, создал образ добродетели, вступающей в борь-
бу с роком, народные суеверия Германии персонифици-
ровались под именем Фауста. П.-С. Баланш, опираясь на
21
обширную традицию XVIII века, дал историческую ин-
терпретацию мифа, а Алыфред де Виньи в 1829 году в
предисловии к роману «Сен-Map» создал из теории мифа
теорию художественного творчества.
5
Проблема двойной интриги и двойного героя сказа-
лась и в композиции романа. Вальтер Скотт создал еди-
ный роман с двумя интригами, чтобы спасти этим истори-
ческое правдоподобие. Это нововведение принесло боль-
шие результаты, но тотчас же подверглось обсуждениям,
продолжавшимся целое десятилетие. Французский чита-
тель, привыкший к классическим единствам в драме, с
трудом переносил двойную интригу; необходимость пере*
ходить все время от одной системы событий к другой
утомляла внимание и расхолаживала интерес.
Французские романисты пытались решить эту задачу
разными средствами. Альфред де Виньи, обсуждая проб-
лематику своего «Сен-Мара» (1826), пришел к заключе-
нию, что исторический и романический интересы нужно
соединить в одном лице, которое должно быть одно-
временно ,и политическим деятелем, и любовником. В та-
ком случае исчезнет необходимость вымышленного героя
и вымышленной интриги и основные события романа сов-
падут с историческими событиями. Для этого нужно вы-
брать такого деятеля, который по возрасту мог бы нести
и любовную .нагрузку. Сен-Map, глава заговора, органи-
зованного против кардинала Ришелье, удовлетворял всем
этим требованиям.
Альфред де Виньи мало беспокоился о достоверности
приводимых им фактов, ему важен был только их фило-
софско-исторический смысл. Опираясь на очень неопре-
деленные данные, он заставил своего героя влюбиться в
героиню, которую для этой цели сделал значительно мо-
ложе, чем она была в действительности, и допустил мно-
го других анахронизмов и неточностей. Таким образом,
попытавшись объединить в одном персонаже политиче-
скую и романическую интриги, он должен был пожертво-
вать правдоподобием больше, чем то казалось допусти-
мым.
Исправить «ошибку» Скотта можно было и другим
способом: избрать сюжетом малоизвестное историческое
событие, которое можно было бы интерпретировать и пе-
22
рестраивать, как того хотелось автору,—переделка не
вызвала бы протеста по той причине, что самое -событие
было никому не известно.
Так поступил Бальзак. В своем романе «Шуаны»
(1829) он уничтожил двойственность тем, что избрал сво-
им героем одного из вождей шуанов, мелкого дворянина
Буагарди, убитого в глухом бретонском лесу. Бальзак,
с одной стороны, сохранил принцип исторического рома-
на, требовавший непременно исторического события,
с другой — открыл себе неограниченные возможности
свободного творчества. Событие, которое сам он изучил
довольно подробно по рассказам свидетелей, давало ему
общую канву, "поддерживавшую его в поисках сюжетных
вариантов. Он чувствовал, что пишет достоверную исто-
рию, и вместе с тем создавал «свободную» биографию и
психологию исторического деятеля, не подчиняясь ника-
ким историческим документам.
Роман Мериме «Хроника времен Карла IX», вышед-
ший вскоре после «Шуанов» в том же 1829 году, обна-
руживает те же беспокойства. Мериме иронизирует над
историческими персонажами, особенно интересовавшими
читателей, над традиционными приемами, при помощи
которых они вводятся в действие, над их портретами и
речами, заимствованными из старых хроник или мемуа-
ров. Все это он считает вымыслом и потому очень мало
говорит об исторических деятелях, не играющих роли в
развитии романа: «Я лучше расскажу вам о моем друге
Мержи», — заканчивает он свой «Разговор читателя с
автором» (гл. VIII). Мержи, вымышленный с начала до
конца, очевидно, интереснее и показательнее, чем -вкривь
и вкось истолкованные исторические персонажи.
Была и еще одна возможность, которой воспользовал-
ся Гюго в «Соборе Парижской богоматери»: совсем от-
казаться от исторических событий и тем устранить все
препятствия к свободному воспроизведению истории.
Пользуясь всеми данными исторического анализа, нужно
было определить основные особенности эпохи и пути ее
развития, чтобы «синтезировать» ее в специально ддя
того вымышленном сюжете и вымышленных персонажах.
В романе указано только одно историческое событие,
не играющее, кстати сказать, никакой «роли в сюжете —
приезд послов для заключения брака дофина и Марга-
риты Фландрской в январе 1482 года. Кардинал Бурбон
23
один только раз упоминается на первых страницах рома-
на 'и не "Принимает никакого участия в действии. Образ
Людовика XI возникает дважды,—в первый раз в келье
монаха, чтобы присутствовать при ученом споре, затем
в конце романа, чтобы отдать приказ, никакими докумен-
тами не оправданный и исторически невозможный. Все
остальное — чистый вымысел и,вместе с тем, чистая исто-
рия, но не событий, а нравов.
Это даже не история нравов. Точнее было бы говорить
о философии истории, потому что герои символизируют
идеи и движущие силы эпохи. «Собор Парижской бого-
матери» можно было бы назвать романом «символиче-
ским», имея в виду теорию мифа, оказавшую влияние
на романтическую теорию искусства. В этом смысле Гюго
как бы продолжал, хотя в другом плане, то, что с такой
ясностью выразил в своем романе и в предисловии к
нему Альфред де Виньи.
Если сравнить «Сен-Мара» с «Собором Парижской
богоматери», можно было 'бы наметить «путь, который
прошел французский исторический роман за какие-ни-
будь пять лет. В вопросе о правде и вымысле авторы
придерживаются как будто прямо противоположных
взглядов. Виньи пытался сделать роман максимально до-
стоверным, Гюго совершенно пренебрег достоверностью.
Но это была деталь для теории исторического романа
второстепенная. По существу же, тот и другой строили
свои романы на одной и той же философской и эстети-
ческой основе. Исторический роман 20-х годов был выз-
ван к жизни несколькими идеями, тесно связанными с за-
дачами эпохи: идеей исторического развития, историче-
ской закономерности, нравственного смысла истории,
нравственной ответственности человека за то, что он со-
вершает в своем историческом существовании, и коллек-
тивной ответственности народов и классов, создающих
историю и обстоятельства, в которых протекает историче-
ский процесс. Но в пределах этих общих идей возможны
были различия в мировоззрении, в политических взгля-
дах, в понимании государственных задач и форм даль-
нейшего развития, в оценке тех или иных эпох, государ-
ственных деятелей и событий.
Первым философско-историческим, а потому подлинно
историческим романом нового типа критики признали
роман Альфреда де Виньи,
24
Эпоха Людовика XIII — время утверждения француз*
ского абсолютизма, начало процесса, который должен
был закончиться Французской революцией. 1789 и
1793 годы — историческая перспектива, определяющая
смысл романа, его «философию». Чтобы объяснить рево-
люцию, нужно было вскрыть ее причины. В известной
мере это было бы оправданием революции как неизбеж-
ного зла и в данных условиях — столь же неизбежного
добра. Виньи уже был затронут либеральными веяниями
эпохи, и его политическую позицию можно было бы оп-
ределить как правый фланг доктрины.
Абсолютизм он считал причиной, вызвавшей револю-
цию. Кардинал Ришелье ввел систему государственной
необходимости, допускающую любое нарушение законов,
X. е. насилие и произвол, уничтожающую всякую справед-
ливость в управлении государством и всякую возмож-
ность внести в него разумное и нравственное начало. Та-
кая система должна была вызвать революцию, которая
своими «эксцессами» во время якобинской диктатуры
уничтожила только что завоеванную свободу и вновь вне-
сла в государственную жизнь произвол.
Насилие рождает насилие, и главное преступление
Ришелье, по мнению Виньи, заключалось в том, что он
отделил политику от нравственности, противопоставив
понятию закона и справедливости понятие государствен-
ной необходимости. Виньи придерживается кантовской
этики и утверждает, что всякое нарушение нравственного
долга имеет своим результатом бедствия государства так
же, как бедствия индивидуума. Герой романа, Сен-Мар,
погибает потому, что и он нарушил строгие законы нрав-
ственности и вступил в политическую игру с не совсем
чистыми руками. Жажда утвердить в управлении госу-
дарством свободу и справедливость заставляет Виньи оп-
равдать революцию, осудив лишь ее «эксцессы», и при-
знать представительное правление как единственную
возможность дальнейшего развития.
Бальзак в «Шуанах» объяснил гражданские войны в
;Бретани полной оторванностью этой провинции от идей-
ной жизни страны, невежеством крестьян, сражающихся
против собственных интересов, сословной психологией
руководивших ими дворян и, с другой стороны, просве-
щенным патриотизмом революционной армии.
Как объяснить Варфоломеевскую ночь, одно из самых
25
крупных государственных преступлений в истории Фран^
ции? Кто ответствен за это преступление? Один человек
или состояние нравов всего общества? Можно ли понять
исторические события, оценивая их с современной нрав-
ственной точки зрения? Как уберечь страну от новой Вар-
фоломеевской ночи, которая угрожает Франции со сто-
роны тех же сил? Ответы на эти вопросы вошли в содер-
жание «Хроники времен Карла IX» Проспера Мериме.
Показывая бедствия гражданской войны, которую пра-
вительство Карла X готово было начать, как начало ее
правительство Карла IX, Мериме, уверенный в общем
здоровье нации и в правильной ориентации широких кру*
гов общества, предупреждал от ренегатства, на которое
люди идут из личных соображений и из безразличия к
политическим вопросам, и прославлял борьбу за убеж-
дения и справедливость. В 1829 году это было не менее
важно, чем то, что делал в своем романе Бальзак. Виктор
Гюго занялся XV веком, так как, по мнению современных
историков, это был критический момент в истории Фран-
ции— переход от средневековья к новому времени. Ста-
рая политическая и идеологическая структура общества
начинает разваливаться. Возникает коллективное созна-
ние справедливости. Монах разочаровывается в своей
религии и в своей науке, стоящая вне классов и вне об-
щества девушка-цыганка, пожалев преступника, пробуж-
дает в нем идею справедливости. Новые времена не дают-
ся легко, они требуют жертв, которыми полна история,
Герои «Собора Парижской богоматери» погибают, но их
смерть, будь то кара за преступление или искупительная
жертва, по нравственному своему смыслу есть предвеща-
ние той справедливости, которая приведет к революциям
1789 и 1830 годов.
6
С появлением исторического романа возник не только
новый жанр,—самое понятие романа ;и точка зрения на
него изменились. Прежде это был только вымысел —
«легкомысленный», по определению Буало-, потом все бо-
лее серьезный, философский и чувствительный к концу
XVIII века. В 20-е годы XIX века он превратился в иссле-
дование. Исторический роман требовал знаний, знаком-
ства с хрониками, со старым языком, с философией и,
в частности, с философией истории. Если он противопо-
26
етавлялся истории, то только как жанр более серьезный,
трудный, и.познавательный.
И в XVIII веке писали романы для того, чтобы позна-
комить читателя с 'историческими фактами и ,внушить
здравые .понятия. Особенно много .романов было: посвя-
щено античности. «Телемах» Фенелона, «Сиф» Террасо-
на, «Путешествие юного Анахарсиса в Грецию» Бартеле-
.ми являются представителями этого типа романов,
получивших название «классико-историко-археолог-иче-
ских». Это была «развлекательная наука», рассчитанная
на учащуюся молодежь. Исторический роман романти-
ков не был «развлекательной наукой». Это была «высо-
кая литература», притязавшая на положение, которое
занимала высокая трагедия. Это был жанр философский,
ученый и учительный.
Исторический роман вступил в 'борьбу с романом го-
тическим, развивавшим свои страшные истории на фоне
средневековых замков и подземелий, и с «женским» ро-
маном, любовным и психологическим, не содержащим,
так же как и «готический», никаких исторических сведе-
ний,, ни глубокой философии, ни учености. Серьезный
исторический роман в 20-е годы считался жанром «муж-
ским».
Взгляд на роман как на жанр научный сыграл боль-
шую роль в дальнейшем его развитии. Когда историче-
скую тему сменила современная, ее тоже поняли как
предмет исследования. Роман стал свидетельством со-
стояния и структуры общества, психологии сменявших
друг друга поколений. Он приближался к науке -и по сво-
ей объективности.
Материал 'исторического романа требовал особого к
себе подхода. Нужно было изображать множество со-
вершенно различных персонажей, каждый из которых
был порождением особой среды, выражал особую психо-
логию и принадлежал эпохе, (мало -похожей на современ-
ную. Нельзя, было писать только ««кровью сердца», пере-
носить в. другую эпоху и среду то, что автор-чувствовал
сам. Исторический роман требовал 'искусства перевопло-
щения.
В историческом романе особое место занял диалог -т-
не только как средство характеристики, но и как средство
объективации 'изображаемого. Автор хотел уйти:..из по-
вествования, стать незаметным, чтобы предоставить сво-
27
им героям самостоятельность, чтобы не затемнять их
исторического существа собственными взглядами и сим-
патиями. Эта тенденция позволила роману достигнуть
объективности, которая была недоступна роману
XVIII века, да и не являлась его целью. Благодаря этому
исторический роман мог охватить такой огромный .и раз-
нообразный материал.
Чтобы быть правдивым, исторический роман должен
был изображать всю эпоху, во 'всех ее уголках и оттен-
ках. Но условия жизни, интересы и «мнения» отдельных
социальных слоев совершенно различны. Они должны
получить свое выражение в персонажах, взятых из раз-
ных сред и «имеющих свою особую биографию. Так всту-
пают в роман несколько сюжетов, автономных друг к
другу, но связанных общ.ими для всех действующих лиц
интересами эпохи. Образуется несколько сюжетных
центров и возникает -полицентризм. Вместе с тем понятие
драматического единства становится более сложным.
Самое понятие эпохи предполагало такое разнообра-
зие и такое единство. «История, — писал Проспер де Ба-
рант, — делится на естественные периоды, на драмы,
которые 'имеют свое начало, свое развитие и свою раз-
вязку». Драматическое понимание эпохи подсказывало
и драматическое построение романа.
Отказавшись от строгой сюжетной последовательно-
сти, которой педантически придерживались в XVIII веке,
исторический роман заимствовал у драмы и так называе-
мый «метод картин». Разные среды и группы персонажей
выступали на сцену неожиданно, прерывая последова-
тельное течение рассказа, вторгаясь со своим особым сю-
жетом, интересом и конфликтом. Художественную цен-
ность такой драматической композиции видели и в разно-
образии, и во внешней разорванности действия, и в
единстве — основной проблеме всякого исторического со-
чине ни я.
Была и другая композиция исторического романа —
хроникальная. Увлечение мемуарами и хрониками, в ко-
торых повествование ведется со дня на день, так же, как
течет ежедневное существование, подсказало аналогич-
ную композицию романа. Авторы таких повествований
пытались воспроизвести не только -порядок изложения, но
и наивное восприятие жизни, и архаический язык персо-
нажей. Хроникальные романы вызвали некоторый инте-
28
pec как забавный эксперимент, но мало кого увлекали
по-настоящему. Критика стала беспокоиться: отсутствие
драматической .композиции мешало .изображению глубо-
ких конфликтов эпохи, осмыслению событий, роман утра-
чивал свою «философию», самое драгоценное свое каче-
ство. Прожив несколько лет на окраинах большой лите-
ратуры, хроникальные романы и повести прекратили
свое существование.
7
В 1828 и особенно в 1829 году во Франции складыва-
лась революционная ситуация. Потеряв реакционное
большинство в Палате депутатов, Карл X (готовил госу-
дарственный переворот. Наступил момент, когда бороть-
ся с реакцией дискуссиями, доказывать необходимость
революции 1789 года и неизбежность дальнейшего демо-
кратического развития средствами исторического романа
было 'бесполезно. Нужно было действовать, а для этого
понять свою современность, .взвесить силы, знать, на что
опереться.
1829 год был рубежом, за который успех историческо-
го романа как 'ведущего жанра французской литературы
не перешел. Возрастал интерес к современности. Те, кто
прежде писали исторические романы, отказались от ста-
рых тем и перешли к современности.
Вместе с исторической темой подверглась критике и
форма большого повествования эпического плана. Нача-
лось царство повести.
Повесть была более откровенна, проста и непретенци-
озна и легче передавала непосредственное, четкое отно-
шение -к действительности, к проблемам сегодняшнего
дня. Повесть на современном материале, приближаясь
к очерку, могла быть более точна, изобразительна и
«правдива» в новом понимании этого слова. Это были
фрагменты действительности, клочки впечатлений, отра-
жавшие с большей или меньшей полнотой проблемы
современности. Проблемы эти сперва были как будто
какие-то мелкие: семья и брак, любовные измены, байро-
нические личности, разрушавшие мирное счастье мещан-
ских интерьеров, 'мошенничество судей и банкиров, бла-
городство и бедствия маленьких людей... Но в этих мел-
ких темах намечалась острая критика современного
общества, росло чувство неблагополучия и вместе с тем
29
интерес к классу людей, составлявших большинство на-
селения Парижа -и .провинции.
После Июльской революции эти тенденции прояви-
лись с большей силой. Политическая острота повести ста-
ла возрастать, она наполнилась трагизмом. Затем под
руками Жорж Сайд и Бальзака она стала разрастаться
в большой роман, подхвативший некоторые традиции
исторического романа, но значительно их трансформиро-
вавший.
Здесь не было исторических персонажей — нельзя
было сделать героем романа ныне царствующего короля
или министра. По тем же причинам невозможен был и
политический сюжет. Историческая арматура романа
исчезла. Изображение всех слоев общества, связанных
одним сюжетом, было затруднительно: сочетание герцо-
гини и .крестьянки в современном сюжете как будто не
Иимело оснований. Нравы нового общества не были столь
живописны, как нравы средневековья. Но они не менее
интересны, <по своему внутреннему содержанию — в про-
блематике долга, катастрофах совести, отношениях лич-
ности и общества. Роман о современности должен был
стать психологическим и интимным, не утрачивая ни ши-
роких социальных перспектив, ни драматической пате-
тики.
-, Многие завоевания исторического романа, перейдя в
роман из современной жизни, сохранились в литературе
надолго. Роман стал жанром серьезным. Осталась идея
правды, теоретически и практически разработанная исто-
рическим романом. Эта правда стала результатом глу-
бокого изучения действительности и, вместе с тем, боль-
ше, чем в историческом романе, плодом воображения,
В течение всего века романисты утверждали, что они
писали по собственным наблюдениям, и тут же призна-
вались, что это не было точное воспроизведение действи-
тельности, что моделей у них было множество и что со-
зданная ими правда была вымышлена — конечно, на
достаточном основании. Такая точка зрения оказалась
вдвойне полезной: с одной стороны, она требовала от
вымысла глубокого познания, с другой—она не стесня-
ла художника слишком узкой аргументацией и предупре-
ждала от эмпиризма, отвергнутого уже в 20-е годы.
Роман из современной жизни не следовал строго пра-
вилу, которое исторический роман считал почти обяза-
30
Тельным: изображения всей эпохи целиком ô пределах
одного романа. Но если этого не происходило в сюжете и
в .персонажах, то в большинстве романов присутствовало
понятие эпохи, просвечивавшее сквозь все события рома-
на, каким бы малым социальным кругом ни ограничива-
лось поле его наблюдений. Это завоевание — одно из са-
мых 'плодотворных и конструктивных -в истории француз-
ской литературы XIX века.
Столь же прочным осталось требование социальной
характеристики героев. Персонажи могли быть плотно
вставлены в свою среду или, наоборот, освобождены от
нее силой ума, «прозрения, воли и обстоятельств, но как
бы они ни были индивидуализированы, подняты над бы-
том или личньш интересом, «свободны» от .классовой
психологии или преданы высшей идее, они сохраняют
свою общественную природу, и писатель всегда трудится
над тем, 'чтобы объяснить общественными -причинами и
эту природу, и эту свободу. Тем самым персонаж выра-
жает общественные силы, его создавшие, и является сим-
волом эпохи в том -или ином ее аспекте. В первое время,
в начале 30-х годов, случалось, что персонаж отрывался
от реальных условий своего бытия, от системы общест-
венных причинностей, чтобы с тем большей ясностью,
вознесясь над данным, символизировать эпоху. К этому
стремилась «философская», или «символическая», или
«фантастическая» повесть вроде «Шагреневой кожи»
Бальзака. Она просуществовала недолго, но сыграла не-
которую роль при разработке более убедительных худо-
жественных форм.
Почти столь же важной и обязательной оказалась
драматическая композиция. Роман из современной жиз-
ни не обладал теми ресурсами, какие были в распоряже-
нии исторического романа, но псе же современную жизнь
он представлял себе -в виде драматического действия с
обязательным конфликтом, строго рассчитанным разви-
тием противоречий, с катастрофой, эти противоречия
устраняющей. Иногда катастрофа открывает как некое
обещание новые противоречия, иногда все заканчивается
вместе с романом, но драма всегда неизбежна, потому
что без нее непонятен был бы смысл современности, пол-
ной противоречий и 'борьбы.
И еще один урок, почерпнутый из исторического рома-
на, — урок объективности. Романисты стремятся к бес-
31
Пристрастию, чтобы teta сильнее поразить читателя зре-
лищем его современности. Они ставят его перед сложны-
ми нравственными проблемами, заставляют его
догадываться о мотивах, движущих героем, спорить .или
соглашаться \и с ним вместе искать -верного пути. И когда
читатель все увидел, понял и взвесил, он сам решает то,
что должен был решить, и лрих-одит к тому, ради чего
был написан роман. Эта объективность, более или менее
совершенная, казалась романистам XIX века самым на-
дежным средством убеждения и самым лучшим орудием
борьбы.
ГЛАВА II
СТЕНДАЛЬ
1
«Стендаль — человек XVIII столетия, заблудивший*
ся в героической наполеоновской эпохе», — писал более
полувека назад его исследователь К. Стрыенский. Дру-
гие утверждали нечто противоположное: Стендаль ро-
дился на сто лет раньше, чем ему полагалось, это чело-
век XX века, наш современник, ведь сам он взывал к бу-
дущему и, предрекая себе посмертную славу, утверждал,
что пишет для далекого потомства.
Делать из этих «пророчеств» далеко идущие выводы
нет оснований: он родился в должное время и в должном
месте, был блестящим представителем своего времени и
выразил в своем творчестве свойственные его стране и
эпохе тенденции, идеи и волнения.
Первое свое философское и литературное образова-
ние он получил во времена Консульства и Империи. В ту
эпоху философия и эстетика шли по генеральному пути,
проложенному еще в XVIII веке. В философии господ-
ствовал сенсуализм Кондильяка, в этике — утилитаризм
Гельвеция. В литературе и искусстве почти безраздель-
но властвовал классицизм. Робкие попытки реформ вы-
зывали бурный протест и тотчас же отклонялись. Стен-
даль шел в том же фарватере, обсуждая сложнейшие
вопросы философии и искусства, взвешивая аргументы,
пытаясь примирить собственные ощущения с рассужде-
ниями и аксиомами школы.
С точки зрения сенсуализма, психика, мышление и
познание возникают из ощущений. Ощущение вызывает-
ся воздействиями внешнего мира. Эти воздействия при
бесчисленном повторении производят изменения в бес-
чувственной материи и создают живой организм. В каком
отношении находится ощущение к внешнему миру — во-
прос, который разрешался по-разному. Кондильяку ка-
2—3836
33
залось невозможным определить это отношение, иначе
говоря, степень достоверности познания. Большинство
философов XVIII века склонялись к более оптимистиче-
ским взглядам материалистического характера. Даль-
нейшим развитием сенсуализма была философия Дестю-
та де Траси, изложенная в его многотомном сочинении
под названием «Идеология». Стендаль был его убежден-
ным и страстным учеником.
Основная задача Траси заключается в том, чтобы про-
следить превращение ощущений в понятия и, вместе
с тем, определить достоверность нашего познания и при-
чины возможных ошибок. Согласно Траси, ощущение ни-
когда не бывает ошибочным, потому что оно лишь ре-
гистрирует воздействия среды. Оно может быть непол-
ным— тогда одно ощущение может быть дополнено
другим. Ощущения, испытанные органом зрения, допол-
няются слухом, осязанием и т. д. При помощи пяти
внешних чувств мы создаем наши представления о ве-
щах. Для того чтобы произвести суждения, чтобы со-
ставить более полное представление о мире, открыть
причины явлений и постичь их природу, необходима ра-
бота ума. Ошибка может произойти тогда, когда мы
составляем суждения, делаем выводы и на основании
наших ощущений создаем общие понятия, «идеи». «Идео-
логия» и есть наука об идеях, их происхождении, их по-
знавательной ценности, а также о правилах, согласно ко-
торым можно сделать их соответствующими действитель-
ности.
Ошибочное суждение мы можем произвести, если
пользуемся не непосредственными ощущениями, а вос-
поминаниями о них. Воспоминания могут исказить под-
линное ощущение, на следы первичных ощущений могут
наслоиться воспоминания о других ощущениях. При со-
здании суждения мы могли сопоставить наши ощущения
со сведениями, полученными из других, непроверенных,
искажающих факты источников. Так возникает ложные
идеи, которые мешают познать реальный мир, оценить
процессы, в нем происходящие, нашу роль в окружаю-
щей среде и потому повести нас по ложному пути.
Чтобы избежать ошибок при составлении суждения
или освободиться от ложных суждений, вкравшихся
в наше сознание и руководящих нашим поведением, нуж-
но проверить идеи данными ощущений. Таков способ по-
34
строения новых понятий, более соответствующих дей-
ствительности, т. е. более истинных. Процесс построения
истинных идей подчинен правилам, которые изучаются
особой наукой, логикой. Этой науке Дестют де Траси по-
святил отдельный том своей «Идеологии» под названием
«Логика».
Другой том сочинений Дестюта де Траси называется
«Грамматикой». Грамматика для Дестюта де Траси есть
не что иное, как логика, примененная к языку. Слово
должно дать нам средство постижения действительности,
но оно часто содействует искажению действительности и
вводит в заблуждение. Логика и грамматика являются
орудиями, которые при правильном пользовании ими мо-
гут создать правильное представление о действитель-
ности.
Ощущение сопровождается чувством удовольствия и
страдания, и это единственное, что побуждает к дей-
ствию нашу волю, единственное, на чем мы можем стро-
ить систему жизненных ценностей и систему поведения.
Так Дестют де Траси приходит к философии утилитариз-
ма, самым заметным представителем которой в XVIII ве-
ке был Гельвеций.
Гельвеций утверждал, что все поступки человека вы-
званы стремлением к счастью. Исходя из этого, он строил
свою систему этики. Нужно было объяснить, почему,
зная только свое наслаждение и стремясь только к нему,
человек жертвует жизнью, чтобы спасти кого-то другого,
отечество, общество. Так возникает проблема взаимоот-
ношения личного и общего (или общественного) ин-
тереса.
Личный интерес присущ каждому — это биологиче-
ское свойство организма. Но человек живет в обществе
других людей, и каждый стремится к своему счастью.
Различно направленные воли могут сталкиваться и тер-
петь от этого урон. Чтобы обеспечить общественную
жизнь и, следовательно, наибольшее благополучие каж-
дого данного индивидуума, люди вступают в договор —
теория договора торжествует в общественных науках, на-
чиная с XVII и вплоть до начала XIX века. Этот договор
предполагает, что человеку полезно и даже необходимо
вызывать к себе симпатию других людей. Но для этого
он сам должен приносить людям добро. Сумма действий,
которые совершает человек на благо своих соотечествен-
9*
35
ников или членов общества, составляет его добродетель.
Максимальное количество добродетели в данном обще-
стве определяет его благополучие и, следовательно,
счастье каждого его члена. «Погоня за счастьем», кото-
рую Стендаль проповедовал всю свою жизнь, в конечном
счете не что иное, как искусство добродетели, добытое
строгим логическим мышлением и ясным пониманием
среды, в которой живешь.
Опираясь на философию сенсуализма, он должен был
с особым вниманием относиться к физиологическим ос-
новам психики. Если ощущение является первичным ак-
том познания, при помощи которого следует проверять
общие идеи, то, следовательно, физиологические про-
цессы, делающие ощущение возможным или ему мешаю-
щие, представляют первостепенную важность. Как вос-
принимается мир тем или иным организмом, как реаги-
рует этот организм на впечатления, превращая их
в страсть или волю? От этого зависит не только жизнь
человека, но и жизнь общества и искусства.
Еще в древности существовало созданное Гиппокра-
том учение о темпераментах — о «равновесии жидкостей»
в организме человека. В зависимости от преобладания
той или иной жидкости меняется система равновесия,
т. е. темперамент. Гиппократ различал четыре темпера-
мента — флегматический, меланхолический, сангвиниче-
ский и холерический. Кабанис, врач и физиолог, автор
книги «Об отношениях физического и духовного в чело-
веке», на которую Стендаль часто ссылался, добавил
к этим четырем еще два: нервный и атлетический. Стен-
даль, изложивший эту теорию в «Истории живописи
в Италии» (1817), часто пользуется ею для характеристи-
ки своих персонажей. Ею он объясняет различие нацио-
нальных характеров. Темперамент, т. е. преобладание
того или иного «сока», зависит от климата, пищи, образа
жизни и труда, следовательно, от общественного суще-
ствования в первую очередь.. Таким образом, и в этом
плане «Идеология» тесно связана с социологией.
^ Когда психология основывается на физиологии, то
в игру вступает понятие подсознательного. Утверждая,
что склад ума и жизнь страстей зависят от соотношения
жидкостей, от объема грудной клетки, от мускульной
массы и т. д., «идеологи» должны были признать, что
причины наших переживаний скрываются р глубинах бес?
3S
сознательного, и побуждения, заставляющие нас дей-
ствовать, могут быть неизвестны нам самим.
Стендаль отлично понимал это и часто говорил о пси-
хике подсознательного, в то время уже изучавшейся и
в немецкой, и в английской науке. Маркиз де Ла Моль
(«Красное и черное») в трудную минуту непроизвольно,
по непонятным ему побуждениям произносит бранные
слова, которых он никогда прежде не употреблял, и Стен-
даль отмечает, что эти слова дают облегчение маркизу
своей непривычностью и неожиданностью; Мадам де Ша-
стелле («Люсьен Левен») вдруг, неожиданно для себя
самой, говорит Люсьену Левену фразу, которая может
выдать тайну ее любви, и сама удивляется этому. В запи-
си на полях Стендаль грубовато, даже цинично объяс-
няет это ее женской физиологией и подсознанием. Кле-
лия Конти, спасая Фабрицио дель Донго, говорит себе:
«Я спасаю своего мужа», — слова, которые никогда не
произнесла бы, если бы все, что люди говорят, шло от
разума. То же происходит с Матильдой де Ла Моль.
Можно было бы найти много примеров вторжения под-
сознания в сознательную жизнь героев Стендаля.
Но этот таинственный и трогательный диктат тела
он тут же объясняет строгим расчетом рассудка. Наблю-
дая подсознательную жизнь души, он рационализирует
ее, чтобы понять и объяснить ее читателю. Это метод
старого рационализма XVIII века, пытавшегося понять
природу по аналогии с разумом. Стендаль мыслит и фи-
зиологию, и психологию как единый, строго целесообраз-
ный процесс, имеющий одну цель — наслаждение,
счастье.
Подсознательная жизнь души, тесно связанная
с жизнью тела, подчинена тем же законам — стремлению
к счастью и бегством от страдания, а следовательно, она
неразрывно связана со средой. Для Стендаля не суще-
ствует психологии человека, живущего в пустоте, потому
что такого человека нет. Мы можем познать только пси-
хологию общественного человека, а она определяется
не только чисто биологическими процессами, в нем проис-
ходящими, но и общественными потребностями среды,
Таким образом, интерес Стендаля к иррациональным
процессам, происходящим на дне души, только обостряет
его интерес к историческому миру, к жизни общества, Он
пытается объяснить то, что происходит под порогом ро-
37
знания, социальными причинами. Будучи психологом, он
становится одновременно социологом, чтобы до конца
объяснить сумму психических процессов, определяю-
щих поведение, самочувствие и характер индивиду-
ума.
Общество меняется с каждой эпохой и, может быть,
даже с каждым годом, и человек, вернее, общество со-
здает свои нравы в зависимости от политических и жи-
тейских нужд. Таким образом, нравственность и нравы
меняются вместе с государством и обществом. Поведе-
ние человека, каким бы странным и неразумным оно ни
казалось, может быть понято и объяснено законами,
существующими в данном обществе, его структурой, ин-
тересами отдельных классов, навыками и даже ошибка-
ми, вошедшими в плоть и кровь данного слоя. Тайны
истории можно разгадать изучением среды в бесконечной
сложности ее деталей и в чрезвычайной простоте основ-
ных движущих пружин.
Вместе с нравами и обычаями, вместе с необходимо-
стями данного общества меняются и его вкусы. Понятие
прекрасного возникает из суммы потребностей данного
общества.
Огромные тела и могучие мышцы героев древнегре-
ческой скульптуры объясняются тем, что физическая си-
ла была необходима для защиты семьи и страны во вре-
мена, когда не существовало огнестрельного оружия и
жизнь города зависела от быстрого бега и сильного уда-
ра. Мощное тело было, по выражению Стендаля, «обе-
щанием счастья», а потому стало идеалом красоты. Ге-
рой средневековой живописи, немощный старичок, из-
можденный бдениями и постом, страстотерпец, истекаю-
щий кровью, был идеалом красоты для людей, жаждав-
ших за гробом награды за мучения в земной жизни.
Во времена Ренессанса изменились обстоятельства
жизни, взгляды, а вместе с ними и художественные вкусы.
В эту эпоху индивидуализма и реабилитации личности
особое значение приобретают ум, находчивость человека,
который должен заново познавать мир, создавать пауку,
строить новое общество. Искусство Ренессанса, заим-
ствуя те или иные элементы из античности, создает но-
вые типы красоты, новый характер творчества и эстетиче-
ского переживания. Эта теория изложена Стендалем
в книге «История живописи в Италии»,
m
Искусство классицизма существует во Франции уже
два столетия. Создавшее его общество было монархиче-
ское, полное сословных предрассудков, общество при-
дворной знати — дворянство, утратившее свои политиче-
ские права, праздно проживающее наследственное со-
стояние и ждущее подачек с монаршего стола. Отсюда
характер французского классического искусства и, в част-
ности, драматургии, которая, по мнению Стендаля, была
самым полным и самым блестящим выражением монар-
хической, придворной и салонной культуры.
Это искусство просуществовало еще целое столетие,
поддерживаемое старыми традициями, интересами и вку-
сами того же дворянства. Затем произошла революция,
общество перестроилось чрезвычайно, роль дворянства
стала ничтожно мала. События, происходившие в тече-
ние последних 25 лет, создали новых людей, новые ин-
тересы и, следовательно, новые вкусы. Искусство
XIX века должно удовлетворить этим вкусам и создать
новое искусство. Это искусство должно быть романти-
ческим.
Стендаль заговорил о романтизме еще в 1814 году,
в своем первом печатном труде, посвященном музыке и
музыкальной драме: «Жизнь Гайдна, Моцарта и Мета-
стазио». В это время он читал книгу А. В. Шлегеля,
только что переведенную на французский язык под на-
званием «Курс драматической литературы». Его раздра-
жали феодальные и католические тенденции книги, но
привлекала резко выраженная в ней идея нового искус-
ства, противопоставленного старому классическому. Ха-
рактеристика французского классицизма как специфиче-
ски придворного и салонного, противопоставление Раси-
ну древнегреческих драматургов и, главное, Шекспира,
отрицание единства места и времени, благородного язы-
ка и античных сюжетов, свобода творчества, которая
должна была изумить и обрадовать тех, кто привык к ма-
лому кругу классических тем, сюжетов и образов, — все
это показалось Стендалю интересным и важным для
дальнейшего развития французской культуры и фран-
цузского характера.
К 1817 году, когда он заканчивал «Историю живопи-
си в Италии», он познакомился с романтическими тео-
риями более глубоко и в совсем другом аспекте. В Ита-
лии с 1816 года началась бурная полемика между класси-
3£
камй и романтиками, причем романтики настаивали tiâ
необходимости более тесной связи искусства с жизнью.
Новое искусство в их понимании должно было стать бо-
лее национальным, глубже связаться с проблемами,
стоявшими перед современной Италией, обратиться к
сюжетам из итальянской истории. Оно должно было про-
поведовать освобождение страны от австрийского влады-
чества, объединение и преобразование ее в плане демо-
кратических и либеральных идей 1789 года. Итальян-
ский романтизм был тесно связан с карбонарским
национально-освободительным движением, которому при-
надлежали все симпатии Стендаля. В теориях итальян-
ских романтиков он нашел основания, на которых мож-
но было построить современный идеал красоты, или,
вернее, программу нового искусства.
Кто же герой этого искусства, тип, характерный для
послереволюционного общества и им созданный? Стен-
даль не отвечает на этот .вопрос с полной отчетливостью.
Иногда он утверждает, что это пронырливый, ласковый,
находчивый и бесхребетный придворный, испуганный со-
бытиями и не обладающий энергией для решительных
действий. Однако это образ иронический, и Стендаль, осо-
бенно в 20-е годы, не смог бы счесть его представителем
послереволюционной Франции. В определении современ-
ного героя он, как всегда, учитывал сложность обста-
новки, общественные противоречия и классовую борьбу.
Мысля историческими категориями, он ощущал время и
направление, в котором, с остановками и возвращениями
вспять, двигалась история. Для него было ясно, что об-
щество— противоречивое и динамическое единство, а си-
лы, которые в нем борются, не однозначны и, с точки зре-
ния исторической, не одноценны. Современное общество
составляют две или, вернее, три силы: феодальное дво-
рянство, крупная буржуазия и народные массы, которые
Стендаль представлял себе преимущественно в виде
мелкобуржуазной интеллигенции. Первая — реликт про-
шлого, сила скорее политическая, чем социальная. Вто-
рая— сила социальная, завоевывающая и экономиче-
ские, и политические позиции. Наконец, третья — сила
действенная, очень молодая, но наиболее энергичная, на-
родная в том смысле, что защищает идеи, соответствую-
щие интересам огромных масс, идеи свободы и, прежде
всего, равенства. Это класс, впервые осознавший себя во
40
время революции, полный воспоминаний об Империи и
охотно, в любую минуту готовый с оружием в руках
принять участие в политической борьбе. Это слои, из ко-
торых вышел Жюльен Сорель.
Качества, необходимые новому искусству, Стендаль
определяет через зрителя и читателя. Тому, кто был
участником наполеоновских походов, отступления из Рос-
сии, событий последних лет, нужны не салонные траге-
дии, в которых действуют вышколенные светом и прили-
чиями царедворцы Людовика XIV, а энергичные деятели,
создавшие революцию и защищавшие Францию в вели-
ких боях. Ведь сам Стендаль, как писал он в своих не
предназначенных для печати воспоминаниях, любил «че-
ловека 1793 года», с яростью и энергией ломавшего ста-
рую Францию, чтобы построить новую.
Разумеется, определения типичного современного ге-
роя не могли быть равнозначными, во-первых, потому,
что героев было много, начиная от придворного маркиза
или интригана-монаха и кончая студентом Политехниче-
ской школы Октавом де Маливером, сыном плотника
Жюльеном Сорелем и карбонарием Миссирилли. Одни
характеризовали явления уходящего прошлого и вызы-
вали ироническое к себе отношение, другие имели в ви-
ду становящееся будущее, едва прозреваемое сквозь
сомнения и неудачи, третьи были трагическим порожде-
нием обстоятельств и типическим исключением среди бес-
славных будней Реставрации. Определяя современного
героя, Стендаль хотел скорее пропагандировать желае-
мое и становящееся, чем указать на широко распростра-
ненное в обществе явление.
2
Итак, романтическое искусство должно изображать
современность. Но понятие современности довольно ши-
роко. В сознании романтиков оно противопоставлялось
античности, а поэтому включало в себя не только едва на-
чавшееся XIX столетие, но и средние века.
Средневековье было тесно связано с тем, что происхо-
дило совсем недавно и происходит еще при Реставрации.
В средние века происходила та же борьба, что и теперь,
и поэтому они были так поучительны и в этом смысле
современны. А главное они живут и до сих пор в виде
41
остатков феодализма. И Стендаль рекомендовал драма-
тургам как современные темы — «Смерть Генриха IV»,
«Смерть герцога Гиза в Блуа», «Жанна д'Арк и англи-
чане».
*~ В начале 20-х годов Стендаль считал Вальтера Скот-
та величайшим романистом эпохи, но уже к 1826 году
мнение его об этом авторе изменилось. Исторический ро-
ман в его глазах утратил свою актуальность. Его влекут
более острые темы — условия, в которых протекает борь-
ба сегодняшнего дня. Наши сверстники нам интереснее,
чем сверстники Ричарда Львиное сердце или Людови-
ка XI. И словно в доказательство этого Стендаль пишет
роман «Арманс» с подзаголовком «Сцены из жизни од-
ного салона 1827 года» (1827).
Октав де Маливер — герой сомнения. По своим убеж-
дениям он либерал, но он сын маркиза и не может по-
рвать со своим классом и семьей, чтобы отказаться от со-
словных привилегий и огромного богатства. Это мучает
его не меньше, чем его физический недостаток. О проти-
воречии между «идеями» и «нравами» в то время много
говорили, потому что оно было характерно для эпохи:
«нравы», традиции, навыки, от которых трудно избавить-
ся, тянули назад, к старой феодальной монархии, а про-
грессивные идеи влекли вперед, что и вызывало мучи-
тельные колебания и противоречивость поступков. Октав
де Маливер — вариант этой двойственности и, по мне-
нию Стендаля, типичное явление современности. Такова
«проблема Гамлета», также широко обсуждавшаяся в ли-
тературе.
Гамлет казался современным героем. Во времена Им-
перии размышления были не в моде. Несколько поколе-
ний французов маршировали по Европе и бросались
в бой, ни о чем не задумываясь и ни в чем не сомне-
ваясь. То были люди действия. Поколение 20-х годов
поражало своей ученостью, интересом к отвлеченным во-
просам и беспощадным анализом всех бытовавших \\ об-
ществе понятий — политических, философских п художе-
ственных. Эти аналитические наклонности казались Стен-
далю даже чрезмерными, так как они парализовали волю
и мешали действовать. Нравственные колебания, по мне-
нию Стендаля, не столько болезнь, сколько участь совре-
менной молодежи. Виновата в этом эпоха, заново ре-
шающая важнейшие вопросы жизни,
42
Но не все герои Стендаля таковы. Жюльен СорелЬ
посмеялся бы над Октавом, если бы встретил его в ка-
ком-нибудь салоне Реставрации, потому что Жюльен Со-
рель не принадлежит к аристократическому сословию и
не находится в положении «кающихся дворян». Для него
пес ясно, ему почти не приходится сомневаться, а только
выбирать путь. Поэтому он похож не на Гамлета, а на
«человека 1793 года».
Но вот наступает 1830 год. Общественная ситуация
сильно меняется. Через несколько лет после появления
«Красного и черного» Стендаль начинает роман, посвя-
щенный Франции Июльской монархии. Герой романа,
Люсьен Левей, сын банкира, тоже учившийся в Политех-
нической школе, не находит полезного применения своим
силам — ни в армии, так как ее заставляют подавлять го-
лодные восстания рабочих, ни в администрации, так как
там совершаются подлоги и гадости. Он колеблется. Но
он не уйдет в праздный политический скептицизм, он
останется на государственной службе — не для того, что-
бы охранять Июльский режим или создавать пока еще
невозможную республику, но чтобы медленно совершен^
ствовать общество, в котором живет. Это синтез двух
типов, противопоставлявшихся в предыдущем творчестве
Стендаля, как и в литературе эпохи: размышляющего и
замкнувшегося в бездействии, с одной стороны, и дей-
ствующего без раздумья, с другой.
В 20-е годы Стендаль утверждал, что французы утра-
тили волю, страсть и энергию, личную и политическую,
и потому не верил в возможность революции. Молодость
его прошла в один из самых бурных периодов француз-
ской истории, и Реставрация по сравнению с Империей
казалась эпохой гибельного застоя. В этом отношении
Июльская революция ничего не изменила. В 30-е годы
проблема оскудения личности встала во весь рост и об-
суждалась во всех слоях общества.
Демократия нивелировала всех до среднего уровня,
и потому крупная личность не может возникнуть. Одни
радовались, полагая, что это избавит страну от полити-
ческого авантюризма, а общий высокий уровень культу-
ры приведет к подлинному равенству. Другие видели
в демократическом равенстве и темные стороны — пото-
му что только выдающаяся личность смогла бы овладеть
умами и повести нацию на крупные политические дела,
43
Необходимые для движения вперед и утверждения спра-
ведливости.
Стендаль говорил о нивелировке личности и с удовле-
творением, и с досадой. Будучи сторонником демокра-
. тии, он ненавидел демократию денежного мешка. Он
|не хотел тирании одного человека, но желал бы видеть
1более крупных, отважных и дальнозорких государствен-
ных деятелей. «Остановка в грязи», топтание на ме-
сте, жажда мелкой наживы и боязнь смелых политиче-
ских акций казались ему нравственным упадком нации
и позором современного режима. Вот почему он искал
сильные характеры всюду, где их можно было найти или
придумать, — в итальянском Возрождении, во Фран-
цузской революции, среди карбонариев так же, как сре-
\ди каторжников.
Тоска по сильной личности сказалась в его творче-
стве уже в 20-е годы. Октав де Маливер, Пьетро Мис-
сирилли, Жюльен Сорель, несмотря на разные положе-
ния и судьбы, противопоставлены современной серости.
Люсьен Левен, искавший действия сквозь грязь испро-
бованных им профессий, должен был его обрести.
В «Итальянских хрониках» живут люди железной воли
и исступленного действия. Теория итальянского характе-
ра, о котором Стендаль толковал во всех своих книгах,
касающихся Италии и ее искусства, получила здесь свое
полное художественное выражение.
Упадок личной энергии и общественной отваги в со-
временном обществе заставлял восхищаться энергией и
отвагой независимо от того, на что она была направле-
на. Злодеи и жертвы, убийцы или влюбленные, Витто-
рия Аккорамбони, Беатриче Ченчи или аббатисса из
Кастро — все они, отвратительные или трогательные, яв-
ляют читателю зрелище поучительное и волнующее.
Энергия — вещь заразительная, и Стендаль показывал
своих неистовых героев убогим мещанам и хрупким ин-
теллигентам затем, чтобы способствовать возрождению
личной отваги в те времена, когда правящей верхушке
всякий энтузиазм казался опасным.
«Пармский монастырь» возник из тех же материа-
лов, что и «Хроники». В этом романе — те же итальян-
ские характеры, не любящие власти, но преданные тому,
кто смело действует ради собственных своих страстей.
Но на фоне грубейшего произвола и придворных интриг
44
пробиваются характеры, обеспокоенные чувством долга.
Тревоги совести мучат героев, которых деспотия не при-
учила размышлять, и нравственные проблемы возникают
в душах, как будто совсем к тому не подготовленных.
В этом смысле «Пармский монастырь» сильно отличается
от «Хроник», — настолько же, насколько XIX век, вы-
шедший из революции, отличается от XVI, утверждав-
шего тирании на развалинах республик.
3
В записях к роману «Люсьен Левен» указано много
лиц, послуживших для Стендаля «натурой» или «моде-
лями». Он советовал начинающей писательнице, ру-
копись которой стала канвой для «Люсьена Левена»:
«Описывая мужчину, женщину, местность, думайте
о ком-то, о чем-то реальном». Даже мебель, столы, дива-
ны Стендаль переносил в романы из квартир своих зна-
комых. Физиономии, носы, ухватки и интонации государ-
ственных деятелей, врачей, торговцев, чьих-то жен запол-
няют целые страницы «Люсьена Левена», а в записи на
полях получают свою расшифровку. Пейзажи Стендаль,
очевидно, писал по памяти, четко сохранявшей впечатле-
ния, пережитые в бесконечных путешествиях по Европе.
Но это не значит, что Стендаль в своей работе пред-
почитал метод безопасного и нетрудного эмпиризма.
Если присмотреться к записям «Люсьена Левена», можно
заметить, с какой свободой он пользовался своими ма-
териалами. Его героиня делает какой-нибудь жест, про-
износит слово, сердится, и Стендаль указывает женщи-
ну, которая когда-то произнесла это слово или сделала
этот жест. Но чаще он представляет себе, как эта жен-
щина могла бы вести себя, если бы она попала в усло-
вия, в которых оказалась героиня, и тут копирование
превращается в творчество, предметом которого являет-
ся одновременно и героиня романа, и реальное лицо.
Иногда моделей для одного персонажа оказывается не-
сколько, потому что модели дают автору только какую-
нибудь краску или деталь, позволяющую точнее пред-
ставить себе образ или искомое состояние души, между
тем как общая линия сюжета, особые, часто неожидан-
ные закономерности переживаний возникают вне всякой
связи с той или иной моделью.
45
Иногда героиня, сперва очень похожая на какую-ни-
будь модель — гадкую, изъеденную тщеславием францу-
женку, вдруг преображается: разгорается страсть, возни-
кает любовь, и из пустого эгоистического существа вы-
растает трагическая героиня, напоминающая образы Ра-
сина или Корнеля.
Все это свидетельствует о том, что творчество Стен-
даля шло не от моделей, которые сами по себе мало зна-
чат, а от проблемы, возникшей из общего представления
о личной и общественной жизни. Для разрешения ее он
пользовался любым материалом, попавшимся под руку
и пригодным для его цели. Жизнь персонажей в романе—
это жизнь проблемы. Если персонажи повелевают худож-
ником, то только потому, что они должны довести до
конца возложенную на них миссию, и если художник
спорит или не соглашается с ними, то потому, что ищет
новое решение, более адекватное тому, что он считает
истиной.
Следовательно, в романах Стендаля действуют не
личности, вторгшиеся туда из жизни, а типы, созданные
художником для постановки мучивших его вопросов.
Правда этих типов для Стендаля не в том, что они по-
хожи на знакомых или незнакомых ему лиц, а в том, что
они формулируют законы психологии и истории, конден-
сируют в своем несовершенстве и схематизме, свойствен-
ном каждому сотворенному образу, созидающие или раз-
рушающие силы действительности.
Когда Мериме упрекал Стендаля в том, что он «ужас-
но оболгал» Мари де Невиль, одну из предполагаемых
моделей Матильды де Ла Моль, автор остался совер-
шенно спокоен: ему казалось, что Мари де Невиль, о ко-
торой он знал очень немного, при тех же обстоятельствах
могла бы поступить так, как поступила его героиня. Но
это — чистая гипотеза. Мари де Невиль действовала
в других обстоятельствах, побуждаемая другими моти-
вами, и психология ее едва ли походила на психологию
Матильды. Сходство было в другом: обе героини, реаль-
ная и сотворенная, принадлежали к высшей знати. Мари
де Невиль была племянницей морского министра Кар-
ла X, Матильда де Ла Моль — дочерью высокопостав-
ленного лица. И та и другая отдали свою жизнь пле-
бею— пошли на мезальянс, влюбившись в человека, ни-
чем не походившего на молодых аристократов высшего
46
света и одного с ними круга. Почему «прелестная» Мари
избрала предметом своей любви столь неподходящую
особу? Здесь вступают в игру закономерности общегс
порядка: высокая знать не может создать большую лич-
ность, обладающую энергией и талантами, и виной тому
не наследственность, а социальные условия жизни. Че-
ловек, который только дал себе труд родиться, не дол-
жен упражнять свои умственные силы, разрабатывать
волю и характер, чтобы добыть необходимые жизненные
блага. Он имеет все, что можно иметь, и заботиться ему
нужно только об одном: быть похожим на всех. Поэтому
при прочих равных условиях его всегда превзойдет пле-
бей, который с детства должен трудиться и брать с бою
свое место под солнцем. Мари де Невиль, бежавшая
с плебеем в Англию, послужила только лишним доказа-
тельством теории, которую Стендаль принял давно, если
не при Империи, то, вероятно, уже в начале Реставра-
ции. Матильда для Стендаля была хороша не сход-
ством своим с Мари, а тем, что своим характером, лю-
бовью и ненавистью она воплотила мысль, важную, по
мнению Стендаля, для характеристики современного об-
щества и для предсказания дальнейших перемен.
В XVIII и в первое десятилетие XIX века много спо-
рили о том, как понимать «личный интерес», т. е. стрем-
ление к счастью, иначе говоря, спорили о том, что такое
счастье. Почему человек, стремясь только к своему соб-
ственному наслаждению, идет на пытки и смерть, чтобы
принести пользу государству, народу, соседу или род-
ственнику, жертвуя всем ради славы или ради идеи?
Гельвеций все сводил к физическому наслаждению.
Тот, кто спасает человека или государство, будет одобрен
всем народом, и женщины предпочтут его всем осталь-
ным. Стендаль отказался от такой точки зрения довольно
рано. В полемической заметке 1826 года Стендаль рас-
сказывает, как некий вымышленный лейтенант Луо бро-
сился в воду, чтобы спасти утопающего. Он не стал бы
этого делать, если бы не услышал в глубине своего со-
знания голос: «Лейтенант Луо, вы — подлец». Чтобы не
слышать этих слов, Луо бросился в воду, спас человека
и долгое время страдал ревматизмом. Он мог бы изба-
вить себя от опасности и ревматизма и остаться в глазах
всего света порядочным человеком. Следовательно, все
дело было только в том, что он сам почитал бы себя под-
47
лецом и предпочел заболеть ревматизмом, чем потерять
уважение к себе. Но что это был за голос и почему лей-
тенант Луо прислушался к нему? Этого нельзя объяс-
нить никаким материальным и утилитарным расчетом.
Это сознание, воспитанное общей нравственной куль-
турой, окружающей человека, это идея долга, необходи-
мость более властная, чем жажда физического наслаж-
дения или страх перед физическим страданием. И, сле-
довательно, это явление общественное. Принимая тео-
рию сенсуализма, Стендаль интерпретировал ее широко
и свободно, подчиняясь духу эпохи и учитывая современ-
ную философию. Во Франции при Реставрации распро-
странялась теория кантовского «категорического импе-
ратива». Совсем отбросить эту теорию Стендаль не мог,
потому что она оперировала несомненными фактами, но
он не мог и принять ее, потому что она приводила к по-
рочным выводам. В пределах своего утилитаризма он,
в сущности, строил новую этическую систему.
Каждый герой Стендаля объяснен или, вернее, со-
здан с помощью философии утилитаризма. Каждый всту-
пает в жизнь с более или менее осознанной жаждой
счастья. И каждый борется с низкими расчетами и ин-
стинктами, чтобы подняться в более высокие области
мысли и чувств.
Жюльен Сорель несчастен на своей лесопилке и хо-
чет уйти оттуда. Он лицемерит, чтобы попасть в дом Ре-
налей, затем в семинарию, в Париж и т. д. Но он охвачен
ярко выраженным классовым чувством негодования и
ненависти. Он сознает себя плебеем, глубоко презирает
провинциальных и столичных дворян и даже гордится
тем, что вышел из низов. Охотясь за жизненными блага-
ми, он считает себя чуть ли не революционером и
жаждет «славы для себя» и «счастья для всех», т. е. для
тех, чьим представителем он является. Но это классовая
психология и классовая этика, которую никак нельзя
объяснить прямой, непосредственной погоней за личным
счастьем. Ему, так же как лейтенанту Луо, невыносимо
было бы слышать внутренний голос, называющий его
подлецом.
Жюльен завоевывает женщин, которых не любит, что-
бы утвердить свою власть и свою личность, но затем ис-
чезают честолюбивые замыслы и он любит по-настояще-
му. Наступает разочарование во всем — в богатстве, в
48
высоком общественном положении. Он отказывается от
того, чего достиг, и предпочитает смерть. Эта удивитель-
ная психологическая находка стоит как будто в противо-
речии с утилитаризмом, но она придает образу Жюльена
высокую правдивость и глубину, которой недоставало ему,
когда он неопытным юношей начинал свой путь. Нравст-
венная эволюция привела его к чему-то более важному и
несомненному, чем счастье.
И другие герои Стендаля, как, например, Люсьен Ле-
вен или Фабрицио дель Донго, думают об «общем интере-
се» не меньше, чем о своем собственном, и мотивы, ими
движущие, отличаются от тех, которые вдохновляли
Гельвеция и его единомышленников.
Правдивы или неправдивы герои Стендаля? Современ-
ники смотрели на это по-разному, в зависимости от вку-
сов, взглядов, желаний каждого, Многим его герои каза-
лись злодеями, недостойными изображения, клеветой на
французскую молодежь или пропагандой общественно
вредных идей. Даже близкие друзья позволяли себе кри-
тику, к которой Стендаль относился спокойно и отвечал,
отшучиваясь и соглашаясь. Но какую правду хотел он
вложить в свои романы?
Прежде всего он хотел создать типы, в которых дол-
жен был отразиться век с его горячкой застоя и движе-
ния. Чем же в таком случае объяснить, что все его глав-
ные, глубоко изученные и любовно описанные герои
кажутся исключениями? Неужели Жюльен Сорель или
Люсьен Левен типичны потому, что в конце Реставрации
или в начале Июльской монархии все или большинство
молодых людей были на них похожи? Неужели так уж
легко было встретить безумных карьеристов, готовых
убить любимую женщину, испортившую ему будущее,
или богачей-республиканцев, готовых стать чиновниками
и офицерами, чтобы служить народу? Является ли тип
коллективным портретом огромной массы современни-
ков? Может ли он быть единичным случаем, неожиданно
возникшим в море ничуть не похожих на него людей? Или
он типичен по каким-нибудь другим причинам?
Эти вопросы приобретали особую остроту, когда ухо-
дил исторический жанр и возникал роман из современной
жизни. Здесь не существовало привычных шаблонов и
отстоявшихся типов — рыцаря, аббата, разбойника, про-
тестанта или ведьмы. Все нужно было создавать заново,
49
всматриваться в эпоху, находить нечто устойчивое в быст-
ром потоке действительности. Романист говорил о том,
что еще не осуществилось вполне, о возникающем, но еще
не возникшем и никем не описанном. Герой современного
романа был судом над эпохой, оценкой ее, решением со-
циальной проблемы, и каждый читатель считал себя впра-
ве отвергнуть это решение и осудить автора.
Главный герой у Стендаля всегда отличается ориги-
нальностью. Таких, как он, в обществе чрезвычайно мало,
и в массе людей, составляющих эпоху, их трудно найти.
Действительно, на Октава де Маливера и Арманс, на
Жюльена Сореля, Люсьена Левена, Фабрицио, Ламьель
окружающие смотрят, как на чудаков, не столько смеш-
ных, сколько опасных. Такого человека не понимают.
Все другие совсем на него не похожи, а он ищет подоб-
ную себе душу и находит с великим трудом. Остальные
персонажи, оживленные другими интересами, составля-
ют «толпу», более или менее дифференцированную. Ка-
залось бы, эта толпа и должна представлять для худож-
ника наибольший интерес, так как она — большинство и,
значит, лучше, чем единица и исключение, свидетельству-
ет об эпохе. Но Стендаль за этим свидетельством обра-
щается к придуманному им самим одиночке.
Читатель привык к Жюльену Сорелю, к Фабрицио
дель Донго, и все, что они думают и делают, кажется ему
вполне естественным. Его не шокирует то, что Жюльену
приходит в голову убить в церкви женщину, любившую
его больше всего на свете, ни то, что Фабрицио, с таким
трудом выбравшийся из тюрьмы, добровольно туда воз-
вращается. Но такие вещи случаются очень редко, может
быть, не случаются никогда. Мы удивляемся поступкам
Жюльена и Фабрицио, но не протестуем с точки зрения
правдоподобия по той причине, что они подготовлены за-
ранее и объяснены обстоятельствами и страстями. Значит,
правдоподобие поступка Жюльена Сореля не в том, что
Антуан Берте, бедный учитель, в приходской церкви зас-
трелил свою возлюбленную, а в том, что этот поступок
причинно объяснен. Похож Жюльен Сорель на своего
прототипа или нет — ничего не значит и ничего не дока-
зывает. Важно только то, что то же самое событие объяс-
нено другим рядом причин, более правдоподобных, чем
те, о которых поведал суду Антуан Берте. То же можно
сказать и о «характере» Жюльена.
50
Очевидно, Стендаль считал, что типичность героя не
заключается ни в его массовости, пи в его сходстве с дру-
гими, ни даже в его элементарном правдоподобии. Он
правдоподобен потому, что объяснен причинами, которые
действуют в данном обществе, которые известны всем —
и тем не менее поражает читателя как великая правда и
великое открытие.
Разумеется, в романе Стендаля действуют не только
одни исключение Какой-нибудь господин де Реналь или
Вально задуманы и выполнены как персонажи обыкно-
венные, встречающиеся на каждом шагу, — в этом и за-
ключается их типичность. Реналь и Вально похожи на
других представителей того же класса, они не выходят
за круг идей и вожделений, характерных для данного со-
циального гнезда. Жюльен Сорель в этом отношении бо-
лее свободен, лесопилка ему ни к чему, да и заработок
тоже. Он вырастает за пределы породившей его среды, но
он сохраняет общеплебейскую идеологию, которой будет
верен всегда, даже когда попадет в высший свет. В сов-
сем другом положении находится Люсьен Левен. Сын
банкира и хозяин страны, он становится ненавистником
режима и готов вступить с ним в борьбу, оставаясь в
пределах воспитавшей его среды. Октав де Маливер не
оставит своей аристократической среды, но чужд и враж-
дебен ей по своей идеологии. Стендаль отлично понимает
разницу между средой и классом, между бытом и идеоло-
гией, и в этих трех образах он с изумительной отчетли-
востью показал различные решения проблемы, данные
самой действительностью 20—30-х годов.
Тенденции времени заставляют образованных и та-
лантливых аристократов усваивать прогрессивные идеи,
потому что за ними справедливость и логика. Выйдя за
узкий круг своих классовых интересов, они не порвали
связей с обществом, не нарушили исторических законо-
мерностей. Они вступили в закономерность более общего
порядка и тем еще теснее связали себя с жизнью совре-
менности.
Итак, типичность для Стендаля не заключалась в
сходстве с представителями той или иной среды. Тип не
был ни коллективным портретом, ни идеализированным
представителем класса. Это был герой (или жертва) об-
щественных закономерностей, выражение исторического
времени, логическое следствие процессов, меняющих об-
51
щество и создающих новые эпохи. Поэтому во многих его
героях мы ощущаем предвестие будущего. Ни один из
них не опережает свою эпоху. По замыслу Стендаля, все
они — дети своего времени, но время есть движение, пос-
тоянный переход из одного состояния в другое, и новые
качества столь же реальны, как и то, с чем они вступают
в борьбу. Герои Стендаля — люди своей эпохи и могут
быть названы людьми будущего только потому, что во-
площают движение вперед.
Но ни «люди будущего», ни какие-либо другие герои
Стендаля не являются «идеальными» героями. Он очень
не любил таких героев, которыми была полна литература
XVIII века и особенно эпохи Империи. Идеальный ге-
рой— это фикция, создание воображения. Положитель-
ный герой может быть объяснен общественными предста-
влениями, бытом, потребностями эпохи, психологии и
класса, но причинно-обусловленный герой теряет ореол
добродетели, которым окружали своих героев писатели-
дидактики предшествующей поры: ведь он не свалился с
неба в полное противоречий и бедствий общество, он вы-
шел из него, он создан им, и если есть у него какие-ни-
будь достоинства, то это не столько его личное завоева-
ние, сколько необходимости данной среды и данного
момента. Каждый герой внедрен в процессы, происходя-
щие в обществе, и ограничен ими; с наступлением новой
эпохи его добродетели, если они поняты как категории
исторические, утрачивают свой «вечный», т. е. «идеаль-
ный» смысл. Идеальный герой противопоказан новой
литературе, потому что он не историчен, а следовательно,
не объяснен и не правдив. Но, дискредитируя идеальных
героев, Стендаль с любовью и радостью создает героев
положительных, потому что видит в них движение эпохи
и историческую глубину.
4
Изображая в своих новеллах и хрониках современных
итальянцев или людей Ренессанса, Стендаль мог объяс-
нить их психологию и нравственное содержание, не при-
бегая к долгим комментариям. Характеры этих персона-
жей совершенно отчетливы и целенаправлены, побужде-
ния почти всегда ясны, и интерес заключается только в
52
том, чтобы угадать приемы борьбы с обстоятельствами,
удивиться изобретательности сражающихся и их неукро-
тимой энергии. Уже в «Ванине Ванини», первой итальян-
ской новелле Стендаля, психологический анализ занимает
очень немного места и все почти препоручено действию.
Одновременно с этой новеллой создавалось «Красное и
черное», герой которого тоже обладал неисчерпаемым
запасом энергии. Но это был француз, захваченный нрав-
ственными проблемами эпохи. Понять его только сквозь
его поведение было невозможно, поэтому в романе появ-
ляются психологический анализ, диалоги героя наедине
с собой, авторские комментарии к речам и поступкам и,
в более редких случаях, общие рассуждения о его пере-
живаниях и эпохе. То же можно сказать о г-же де Реналь
и Матильде де Ла Моль.
Но в «Красном и черном» все же много действия. Ро-
манические предприятия Жюльена Сореля, дуэль, свида-
ния, бегство, приемы, которыми он втирается в доверие
и обманывает покровителей, свидетельствуют о том, что
речь идет о поведении человека, попавшего в чужую и
враждебную среду и добывающего ловкостью и силой то,
что полагается ему по праву.
В «Люсьене Левене» действия чрезвычайно мало.
Сомневающийся и размышляющий герой — герой мысли,
а не действия. Задача его не в том, чтобы пробиться, —
он все получил по наследству, и его не беспокоит ни ма-
териальное благополучие, ни проблема карьеры. Это
роман о выборе пути, о решении нравственной проблемы.
Последней итальянской хроникой была «Аббатисса из
Кастро». Эта новелла эволюционирует в направлении к
роману даже по объему, в ней сильнее развита психологи-
ческая сторона, потому что и герой, и героиня менее
понятны, а ход их мысли и переживаний более сложен.
Объяснить развязку при помощи одного только действия
было невозможно. Понадобилось посмертное письмо
героини, которое было бы немыслимо в ранних хрониках.
Оно меняет ритм и стиль повествования и неожиданно
переводит его в другую художественную стихию. Это не
только возвращение к анализу, но и возвращение -к ро-
ману. «Аббатисса из Кастро», заключая хроники, предва-
ряет «Пармский монастырь».
Действие этого романа длится около сорока лет и
проходит все этапы исторической жизни Италии, начи-
53
Пая французским вторжением и кончая откликами на
Июльскую революцию 1830 года. Фабрицио дель Донго
вырастает из итальянской действительности этого бурно-
го периода. Эпоха изображена с точностью, прошедшей
сквозь дымку личных воспоминаний. В романе множест-
во фактов, почерпнутых из современной политической
жизни, но краски и мотивы Стендаль черпал из тех же
хроник и других более или менее достоверных докумен-
тов XVI—XVII веков. ,
«Пармский монастырь» связан с хрониками не только
сюжетными нитями. Стендаль уверен в том, что харак-
тер современного итальянца имеет древнее происхожде-
ние. Он складывался в эпоху средневековых городских
коммун, в эпоху «свободы», прошел через мрачную тира-
нию местных князьков, через испанскую и австрийскую
деспотию. К началу XIX века итальянец сохранил жаж-
ду свободы, но не общественной, а индивидуальной, не-
нависть к какой бы то ни было власти, личную отвагу и
осторожность человека, не рассчитывающего на общест-
венную справедливость. Но французская революция и
долгое ее влияние пробудили патриотизм и националь-
ное самосознание, без которого немыслим современный
итальянец. Фабрицио дель Донго, участвовавший в сра-
жении при Ватерлоо, никак не карбонарий и не похож
на безумного Ферранте Паллу, но это все тот же нацио-
нальный итальянский характер в новой формации, соз-
данной революционной эпохой. Поэтому возможны были
и воспоминания из старинных хроник и их сочетание с
глубоко личными впечатлениями, создавшее взволнован-
ный и иронический роман, в известном смысле синтези-
ровавший все творчество Стендаля.
Он богат действием. Говорили, что этим богатством он
обязан хроникам. Это несомненно. Говорили также, что
хроники сделали его романом средневековым, а не сов-
ременным. Это не имеет под собой никаких оснований.
Итальянская действительность эпохи долгих войн, рево-
люций, завоеваний, карбонарских восстаний и заговоров,
за которыми следовали ссылки, побеги и казни, совер-
шенно оправдывала напряженное, авантюрное, почти
фантастическое действие романа. Упрек, который крити-
ки XX века обращали «Пармскому монастырю», объяс-
няется нелюбовью к острым сюжетам и симпатией к
медлительному психологическому роману, развивающе-
54
муся на фоне современного мещанского сознания,
индифферентного к рискованным акциям и большим об-
щественным потрясениям.
Психология Фабрицио дель Донго и его современ-
ность сложнее, чем психология людей XVI века. Это
XIX век, при всем своем меркантилизме интересующийся
идеей больше, чем ужином, всегда чем-то в корне
неудовлетворенный, прозревающий за сегодняшним
днем день грядущий. После больших доз действия сле-
дуют разговоры на трудные, центральные для эпохи те-
мы, портреты, полные психологического и политического
смысла, анализ и самоанализ — комментарий, без кото-
рого нельзя было бы осмыслить события, героев и время.
5
Пристальное изучение творчества Стендаля позво-
лило обнаружить множество источников, из которых он
черпал сюжеты, образы и всякого рода материалы для
своих романов. Это была особенность творческого про-
цесса и творческой психологии, имеющей своей причиной
любовь к факту, недоверие к собственной фантазии и же-
лание, превратившееся в необходимость, — как можно
точнее проверять пути познания, идущие от ощущения к
общим идеям. Стендаль, прошедший школу «идеоло-
гии», должен был с большим вниманием относиться к
процессу формирования идей. Его дневники свидетель-
ствуют о том, как тщательно он разгадывал мотивы по-
ведения своих друзей и знакомых, как придирчиво и
строго проверял собственные впечатления. Поэтому ему
спокойнее было работать с фактами, засвидетельство-
ванными историей, судебным следствием или скандаль-
ной хроникой дня. Это был способ обуздывать свое
слишком бурное, как ему казалось, воображение.
«Идеологическая» тренировка, несомненно, должна
была дать свои результаты. Но большое значение в
формировании этой творческой манеры имела и тради-
ция исторического романа, требовавшая максимальной
правды, изучения прошлого во всех его аспектах, доку-
мента и, прежде всего, исторического события. Романи-
сты привыкли работать по заранее данной канве, кото-
рая сдерживала их в пределах реального или возможно-
го. Этот способ работы помог преодолеть «романиче-
55
ский», галантно-героический, приключенческий, сенти-
ментальный и бульварный роман и создать совсем осо-
бое, новое искусство и новую психологию творчества.
Обилие «источников» у Стендаля объясняется «жаждой
истины», «мелких правдивых фактов», из которых он из-
влекал содержание своих произведений.
Приключения, заимствованные из книги или газеты,
сами по себе не представляли для него интереса. Они
оборачивались к нему своей психологической стороной и
превращались в «документ». Они определяли личность,
их переживавшую, и характеризовали особенности души
и эпохи. Уже в тот момент, когда они включались в ра-
боту художественного воображения, заимствования под-
чинялись общему замыслу и существовали в романе не
как инородное тело, а как доказательство и иллюстра-
ция идеи.
Сюжетосложен'ие у Стендаля имеет тот же характер,
что и типотворчество. Не обладая собственным интере-
сом, сюжет, так же как и отдельные составляющие его
события, лишь развивал психологию героя, который в
своих колебаниях, делах или бездействии был величи-
ной, определенной законами своей психологии, законами
не только биологическими, но и историческими. Поэто-
му, каково бы ни было происхождение сюжета, состав-
лен ли он из одного или из многих гетерогенных элемен-
тов, заимствован из одного или из нескольких памятни-
ков разных эпох, под руками Стендаля он получал
единый смысл, выражал закономерности эпохи, о кото-
рой шла речь в романе, и психологии, этой эпохой соз-
данной.
Эти закономерности могли сказаться в фактической
стороне сюжета, которая должна была соответствовать
реальным возможностям данной страны и времени.
Смерть на кресте, сожжение ведьмы или осада замка
были бы невозможны в XIX веке, так же как невозможны
были бы парламентские дебаты в Византии или в Древ-
нем Египте. Но это проблема, сравнительно просто раз-
решаемая. Важнее обнаружить в душе персонажа побу-
ждения, заставляющие его действовать, чувства, воз-
можные, мыслимые в данной среде и в данный истори-
ческий момент.
«Арманс» имеет своим подзаголовком «Несколько
сцен из жизни одного салона 1827 года». «Сцены» —
56
обычное название романтических «книжных Драм», от-
казывавшихся от классических правил, от благородного
языка, от строгой и торжественной структуры трагедии
ради краткой, изобразительной, разбросанной на отдель-
ные картины композиции исторической драмы. В 1830
году «Красное и черное» появилось с подзаголовком
«Хроника XIX века». «Хроника» ориентирует читателя
на жанр летописи, не претендующей ни на полноту изо-
бражения, ни на «философию», лишенной рассуждений
и оценок, предоставляющей читателю самому делать вы-
воды и размышлять. «Книжная драма» пыталась вос-
произвести стиль и композицию мемуаров, пользовав-
шихся в то время чрезвычайной популярностью. Она
превращала театр в диалогическое повествование, почти
лишенное конфликта.
Стендаль не был уверен в том, что драматическая
композиция может решить задачу новой литературы, так
как видел в этой композиции условность, искусствен-
ность и помеху для свободного творчества и «наивного»
стиля. Возможно, что его склонность к анализу толкала
его к хроникальной или «мемуарной» композиции. Ког-
да после нескольких лет работы над «Хрониками» он
принялся за «Пармский монастырь», его мыслью было —
описать жизненный путь молодого человека. Таким об-
разом, принцип композиции оказался биографическим, и
Стендаль дал себе свободу повествовать обо всем, что
встретится на его пути. Он мог бы определить свой ро-
ман сравнением Скотта, характеризовавшего «Тома
Джонса» Филдинга: большая река, которая течет, не
останавливаясь, и заходит, словно по естественному вле-
чению, всюду, где местность представляет интересные
для наблюдения зрелища.
В таком построении романа не было ничего предна-
меренного. Стендаль никогда не думал, что именно так
следует располагать действие. Композиция возникла
стихийно, как в «Красном и черяом». После выхода в
свет «Пармского монастыря» Стендаль заметил недоста-
ток, на который обратили внимание и его знакомые.
Это была ошибка композиции, противоречащая за-
кону классической поэтики^ согласно которому все
персонажи должны появляться сразу, чтобы с само-
го начала завязался узел действия и зритель дер-
жал в уме все нити интриги. Стендаль попытался испра-
57
Ьйть этот «недостаток», но оставил эту работу незакон-
ченной.
То же случилось и в «Красном и черном». Во второй
части романа нет ни одного персонажа, действующего в
первой части. И здесь также персонажи вступают в дей-
ствие, когда в них ощущается надобность, когда набре-
дет на них герой.
Бальзак, написавший восторженную статью о «Парм-
ском монастыре», отметил эту особенность в первую
очередь. Для него единственно правильной композицией
была драматическая. По его мнению, Стендаль слишком
приблизился к жизненной правде, которая не всегда бы-
вает правдой в искусстве. Роман показался Бальзаку
растянутым во времени. Он хотел бы сосредоточить дей-
ствие вокруг Пармы, все предшествующее передать в рас-
сказе какого-нибудь персонажа, вычеркнуть совсем абба-
та Бланеса и т. д.
Бальзак предлагал и другой вариант: сделать глав-
ным героем романа Фабрицио и уменьшить роль осталь-
ных персонажей, чтобы столь замечательные образы,
как Сансеверина, Моска, Ферранте Палла не отвлека-
ли внимания от главного героя. Такую рассеянную ком-
позицию французские критики и романисты находили у
Вальтера Скотта.
Прочтя статью, обрадованный похвалами величай-
шего романиста эпохи, Стендаль захотел прислушаться
к его советам и стал исправлять свое произведение. Он
вычеркнул первую главу, решил пожертвовать эпизодом
Фаусты, аббатом Бланесом, некоторыми другими. Но пос-
ле мучительных размышлений он оставил роман в его
первоначальном виде. Композиция была связана с его
пониманием жизни и искусства и не могла быть «ис-
правлена», потому что эти «исправления» противоречи-
ли бы замыслу и содержанию. В этом Стендаль убедил-
ся после того, как вновь провел через свое сознание тот
труд, который совершил спонтанно, в быстрой импрови-
зации, за пятьдесят три дня.
«У меня только одно правило, — писал Стендаль
Бальзаку, — быть ясным. Если я не буду ясным, весь
мой мир будет уничтожен». Стремление к точности Стен-
даль считал первым долгом писателя. Душевные движе-
ния и философские выводы он пытался определять число-
выми отношениями, и в юности ему казалось, что это и
58
есть та точность, которая привлекала его в матема-
тике.
Однако в «Истории живописи в Италии» он пользо-
вался другими средствами. Он рассматривает свою кни-
гу как поэму, строки называет стихами и стремится
придать фразам музыкальный ритм, чтобы воспроизве-
сти впечатление от описываемой картины или эпохи. За-
тем он охладевает к стиху, предпочитает прозу Вальте-
ра Скотта поэзии Байрона, александрийский классиче-
ский стих называет покровом для глупости. Стилистиче-
ские тенденции поэтов-романтиков его раздражают, так
же как метафорический стиль Бальзака и эмоциональ-
ный стиль Жорж Санд. Но еще до того как он познако-
мился с этими великими прозаиками, он, может быть,
противодействуя и романтикам и классикам и, вместе с
тем, осуществляя собственные взгляды, пишет «Красное
и черное» нарочито прозаическим, кратким, лишенным
украшений языком. «Писатель должен заставить пове-
рить в «жгучую страсть», но никогда не называть ее».
Перечитывая этот роман через пять лет после его вы-
хода в свет, Стендаль нашел, что стиль его отрывист,
слишком краток и «сух». Он утверждал, что решился на
это из отвращения к стилю Шатобриана и Сальванди. Но
другие записи на полях не столь полемичны и, нужно
думать, больше соответствуют действительности. «Во
время работы я думал только о содержании», — замеча-
ет Стендаль. Очевидно, и здесь дала себя знать «идеоло-
гия», требовавшая осторожного пользования словом,
точности прежде всего, чтобы не обмануть читателя фра-
зеологией, напускающей туман, волнующей неясностью
и устанавливающей случайные ассоциации, которые мо-
гут сбить с толку и исказить мысль. В 1835 году он счи-
тает, что стиль романа должен быть более плавным, что-
бы не раздражать читателя излишней сухостью и
«рубленым» ритмом.
Кроме того, необходимо «помочь читателю предста-
вить себе сцены», а для этого следует добавить кое-ка-
кие описания, сообщить о внешней обстановке, о наруж-
ности героев. Быстрота психологического анализа, дей-
ствия, смены чувств и мыслей затрудняет восприятие, и,
хотя Стендаль называет своих читателей «полуглупца-
ми», но все же относится к ним с уважением, так как пи-
|иет не для себя, а для них.
,™
Таким образом, понятие точности утрачивает свой
первоначальный «математический» смысл, Стендаль от-
казывается от своего стилистического ригоризма и от-
крывает себе более широкие возможности выражения —
живописного, музыкального и лирического плана.
6
Сенсуализм и рационализм XVIII века, дополненный
«идеологией», рано наметившиеся шекспировские ориен-
тации, либеральный романтизм итальянского толка,
французская философия истории, английский «вальтер-
скоттовский» исторический роман — таковы основные
этапы художественного развития Стендаля вплоть до
начала творчества. Очевидно, необходимо было совер-
шить этот путь, чтобы от беспомощных набросков,
из которых ни один не получил завершения, прийти к
роману, открывшему Стендалю его настоящее при-
звание.
«Идеология» как философская школа и метод иссле-
дования как будто чужда историзма. Однако, учитывая
роль климата, пищи, государственного строя и формиро-
вания личности, она допускала некоторые элементарные
представления об историческом развитии, вырабатывав-
шиеся в просветительской теории совершенствования.
Вместе с тем идеология объясняла относительность вку-
сов, различие характеров и причины заблуждений. Прой-
дя эту школу и переработав ее уроки для своих на-
добностей, Стендаль, не ломая основ своего мировоз-
зрения, мог усвоить новые литературные теории, воз-
никшие на прямо противоположных философских осно-
ваниях.
Несмотря на многие несогласия Стендаля с умерен-
ными либералами, «доктринерами», как их называли, их
философско-исторические взгляды были ему довольно
близки. Совершенно неприемлем был для него «психо-
логический метод» Кузена, строившего свою философию,
вслед за немецкими идеалистами, на «внутреннем чувст-
ве». Стендаль оказался страстным приверженцем и од-
ним из вождей французского романтизма, который ом
пытался поставить на базу политического либерализма,
Творчество Скотта с его почти материалистическим
объяснением истории, ç глубоким вниманием к пробле-
00
мам нравственности, с неистовыми и философскими ге-
роями показалось Стендалю разрешением всех проблем
и образцом искусства, необходимого современному чело-
веку. Его восхищали у Скотта изображение страстей и
нравов, знание психологии, «зрелище дел человеческих»,
«простые и естественные образы», великолепные описа-
ния, драматизм и историзм. Ему нравилось и то, что ро-
маны Скотта увлекают читателя без любовных сцен, обя-
зательных для французской трагедии так же, как для
французского романа.
К концу 20-х годов его взгляды меняются. Теперь он
укоряет Скотта за то, что прежде восхищало: Скотт не
умеет изображать любовь, он не разбирается в психоло-
гии, описания его скучны и произведения заполнены
только антиквариатом и пейзажами.
Но вот, перечитывая «Красное и черное», Стендаль
обнаруживает, что его роману не хватает как раз тех
качеств, которые он счел недостатками Скотта. «Скуч-
ные» описания необходимы для каждого романа, и Стен-
даль огорчен тем, что к ним неспособен. Затем, работая
над «Люсьеном Левеном», он замечает, что заполнил
описаниями 193 страницы. Все это нужно как будто вы-
черкнуть, но все это так правдиво! И не решаясь пожерт-
вовать двумястами страницами, он ссылается на Скотта:
ведь в романах «шотландского чародея» описания пейза-
жей занимают сотни страниц! В «Красном и черном» он
совершил ошибку, отойдя от Скотта и приняв «римский»,
т. е. деловой и суховатый тон.
«Никто еще не изобразил сколько-нибудь подробно
нравы французов, созданные различными правительст-
вами, тяготевшими над ними в течение первой трети
XIX века. Когда-нибудь в романе сохранится изображе-
ние этих древних нравов, как в романах Вальтера Скот-
та»,— писал Стендаль, определив тем самым роль Скот-
та в развитии романа из современной жизни.
Но вот настала пора, когда на место исторической те-
мы должна была прийти современная. Просто перенести
на новый материал методы, выработанные историческим
романом, было невозможно. Нужно было переоцени-
вать старые ценности.
Стендаля привлекла страсть, которую, по его мне-
нию, Скотт заменил респектабельностью. Но респекта-
бельность казалась Стендалю косным и рабьим началом,
61
препятствующим развитию личности и общества. Он об-
ратился к старой французской традиции, существовав-
шей уже больше столетия на третьем плане литературы,
к «женскому» роману, писавшемуся женщинами о жен-
щинах и преимущественно для женщин. И Стендаль го-
ворит о мадам Коттен с ее патетическим языком, пылки-
ми чувствами и трагическими судьбами героев, о мадам
де Флао с ее «тонкими описаниями любви», о мадам
Кюбьер и, конечно, о мадам де Лафайет, авторе «Прин-
цессы Клевской», которую через несколько лет он про-
тивопоставит Скотту в программной статье «Вальтер
Скотт и Принцесса Клевская» (1830).
Все эти писательницы, за исключением только мадам
де Лафайет, обладают, по мнению Стендаля, огромными
недостатками: одна, при всей пылкости души, мелодра-
матична, другая, отлично разбираясь в тонкостях любви,
недостаточно энергична и слишком «женственна». Но
все же хорошо было бы «исправить» Скотта при помощи
этих француженок. В «Арманс», так же как во всех дру-
гих романах Стендаля, разработано то, чего, по мнению
Стендаля, не хватало Скотту.
Наконец, еще одна традиция совсем недавнего проис-
хождения. В начале века в Англии возник роман, кото-
рый получил название «великосветского». «О большом
свете» писали очень много и всегда, — «Принцессу Клев-
скую» тоже можно бЬгло бы причислить к этому жанру,
если бы мадам де Лафайет имела своей целью «разобла-
чить» нравы, страсти, особые законы и заботы именно
этого «высшего общества». Мисс Эджуорт, лорд Норман-
би, Дизраэли создали жанр, получивший отклик и во
Франции. «Большой свет», в своем противопоставлении
остальному населению страны, был характерен для элохи
Реставрации; это было явление типично современное, иг-
равшее немалую роль и в политической жизни. Говори-
ли о том, что виной близорукой политики Карла X являл-
ся его двор, мешавший королю понять желания всей
Франции. Стендаль рассматривает свой роман в плане
этой ультрасовременной традиции.
Октав де Маливер кончает самоубийством, оставляя
безутешными мать и жену. Миссирилли отправляется на
каторгу. Жюльен Сорель совершает убийство. Мрачные
и даже страшные сюжеты напоминали современникам
«неистовую» литературу, з начале 30-х годов завоевав-
Г>2
шую едва ли не Первое место на литературном рынке.
Ощущение несправедливости государственного строя и
трагизма общественной и личной жизни с особенной ост-
ротой проявилось накануне революции и вскоре после
нее. Стендаль также ощущал это, хотя никогда не пропо-
ведовал пессимизма и не культивировал таких настрое-
ний ни в жизни, ни в литературе — даже тогда, когда
мечтал о самоубийстве и рисовал пистолеты на полях
своих рукописей. Но все же мрачные сюжеты и трагиче-
ские окончания позволяют рассматривать его творчество
в некоторой связи с тенденциями «неистовой» литера-
туры.
Стендаль был первым, кто отважился открыть совре-
менную тему в глубоком аналитическом и философско-
историческом романе. Историческая- обусловленность
персонажей, закономерность их сознания и поведения,
обусловленная общественным бытием, борьба с прош-
лым и усвоение традиций, перспективы будущего, про-
бивающиеся сквозь трагические сюжеты, понимание на-
стоящего как движения вперед и эпохи как разрешения
проблемы в тяжелой борьбе, ряд вытекающих из всего
этого эстетических положений, меняющихся в своих де-
талях в зависимости от материала и художественных за-
дач,— все это и многое другое определило значение и
роль Стендаля в литературе XIX века. Шедший в ногу
с временем и искавший более кратких и прямых путей,
он казался своим современникам оригинальным до край-
ности, а кое-что в его взглядах представлялось устаре-
лым и ненужным. Но это не значит, что он был одинок и
непонят. У него были непосредственные ученики и после-
дователи, единомышленники и почитатели, он оказал ог-
ромное влияние на литературу 20-х и 30-х годов, и без
внесенного им вклада нельзя представить себе процессы,
происходившие в современной ему литературе.
ГЛАВА III
«НЕИСТОВАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1
Вскоре после революции во Франции королевский
престол занял Луи-Филипп, герцог Орлеанский. Почти
тотчас началась реакция, сперва осторожная, затем
довольно откровенная. «Партия сопротивления» и «пар-
тия движения» вступили в открытую борьбу. В течение
шести или семи лет в Париже и в провинции происходи-
ли непрерывные восстания. Вначале восстания носили
преимущественно политический характер, затем они при-
обрели характер экономический. Ужасная нищета лион-
ских ткачей вызвала огромные восстания 1831 и 1834
годов, подавленные с большой жестокостью военной си-
лой. Реакция восторжествовала, и период восстаний сме-
нил период министерских кризисов.
Неудача революции — потому что, с точки зрения
«партии движения», это была неудача и крушение респуб-
ликанских и революционных идей — вызвала глубокое
отчаяние тех, кто надеялся на установление республики,
коренных социальных реформ и подлинно демократиче-
ских свобод. С другой стороны, легитимисты рассматри-
вали новое общество как торжество буржуазного наси-
лия и осуждали все, что происходило во Франции. «Зо-
лотая середина», сторонники правительства и «партии
сопротивления», испуганные восстаниями и революцион-
ными тенденциями масс, боролись как могли, с новыми
идеями, не уверенные в том, что борьба приведет их к
победе. Все это вызвало в сознании всех классов общест-
ва глубокие изменения, получившие свое отражение в
дитературе. Вскоре после революции стихийно возникло
нечто вроде литературной школы, получившей название
«неистовой».
Слово это как литературный термин появилось еще в
10-е годы, во время острой полемики с первыми прояв-
64
лениями романтизма, в борьбе со вторгшейся во Фран-
цию «северной» литературой. Речь шла, прежде всего, о
немецких драмах, изобилующих «страшными» и «небла-
городными» сценами казней и убийств, о драмах Шек-
спира, о «черном» или готическом английском романе, о
немецком «рыцарском» и «разбойничьем» романе с при-
видениями и «чертовщиной». В сравнении с привычными
формами «благородной» классической трагедии такие
драмы и романы казались проявлением безумия, умст-
венного исступления и болезненного неистовства, опас-
ного для нравственного здоровья нации. Дальнейшее рас-
пространение получил этот термин в 20-е годы. В 1823 го-
ду его употребил Шарль Нодье в программной статье о
«страшном» романе Шписа «Маленький Петер», переве-
денном с немецкого Анри де Латушем.
Говорить о «литературе отчаяния» в 20-е годы не бы-
ло больших оснований, и «неистовая» литература в то
время означала лишь страшные сюжеты, претившие
французскому вкусу и не допускавшиеся к постановке
на классической сцене. Особый характер этот термин при-
обрел лишь в 30-е годы. Отчаяние, овладевшее широкими
кругами писателей, придало новый смысл самому тер-
мину. Создал этот жанр критик и писатель Жюль Жа-
нен, а первым его произведением этого рода был «Мерт-
вый осел и гильотинированная женщина». Предисловие
к роману, появившемуся в апреле 1829 года, стало чем-
то вроде литературного манифеста новой школы.
Жюль Жанен осмеивает модные жанры романтиче-
ской литературы: исторический роман с длинными описа-
ниями неинтересного антиквариата, пышную восточную
экзотику, изображение ужасных душевных терзаний. Он
имел в виду «Айвенго» Вальтера Скотта, «Ориенталии»
Виктора Гюго и его же «Последний день приговоренного
к казни». С первого взгляда могло бы показаться, что
Жюль Жанен отстаивает классические позиции, повто-
ряя аргументы, которыми пользовались классики в борь-
бе с романтиками. Но искусство, которое он пытался ут-
вердить, было ничуть не похоже на классическое.
Жанен поднимает вопрос, долго дебатировавшийся в
20-е годы, вопрос о правде в искусстве. Он сомневается в
том, что правду можно показать всю целиком, ничего не
скрывая. Нет! Искусство не терпит этой «жестокой» и
«грязной» правды, ему нужны вымысел и ложь — вол-
3—3836
65
шебные сады Армиды, сражения небесных воинств и f. Д.
Он протестует против «вкуса к уродливому», против эм-
пиризма, пытающегося изображать только то, что мож-
но увидеть и услышать, познать пятью внешними чувст-
вами. Он утверждает, что роман его является пародией
на современную романтическую школу с ее «извраще-
ниями», низким натурализмом и ненавистью к идеаль-
ному.
Но это был только ловкий полемический ход. В сво-
ей так называемой пародии он скорее превозносил то, что
осмеивал, и развивал тенденции, наметившиеся во фран-
цузском романтизме. Обвиняя романтиков в том, что они
слишком правдивы, он доказывал, что они недостаточно
правдивы. Утверждая, что отвратительная правда в ис-
кусстве невозможна, что, вступая в искусство, она его
уничтожает, он предложил читателю образец такого
«отвратительного» искусства, которое оказалось возмож-
ным и привлекательным именно благодаря своей беспо-
щадной реальности. Пародируя беспорядочную компози-
цию романтического романа, Жанен развивал и оправ-
дывал ее. Осмеивая ужасы исторического романа, он
отвергал не ужасы, а самую историческую тему, обнару-
живая в современности вещи, куда более страшные и
убедительные. Роман Жанена был защитой современной
темы и разоблачением современности. Он утверждал,
что современность возможна в искусстве лишь потому,
что она отвратительна. Только благодаря этому своему
качеству она могла соперничать с историей и победить
ее. В этом и заключалась новация, которую он внес в
литературное развитие эпохи.
«Мертвый осел и гильотинированная женщина» в ря-
де глав, построенных по 'Принципу «сцен» и хроник, рас-
сказывает историю молодой невинной девушки, попавшей
в трущобу большого города и закончившей жизнь на
гильотине. Ряд сцен изображает этапы ее падения: про-
ституция, венерологическая больница, убийство, казнь.
Параллельно показана история молодого ослика: в пер-
вой главе он несет на своей спине веселую девушку, ко-
торой предстоит пройти все круги парижского ада, пос-
ледняя сцена — в живодерне, где искалеченного осла
загрызают собаки, и этим зрелищем наслаждаются лю-
ди, заплатившие за вход в живодерню. Ни одного поло-
жительного героя, никакого просвета, ничего, что могло
66
бы примирить читателя с жизнью—,одно только универ-
сальное отрицание и самое откровенное отчаяние.
Следующий роман, «Исповедь», появился в начале
1830 года и уже не нуждался в оправдании. Здесь почти
нет жестоких и физически невыносимых зрелищ, но кри-
тика современного общества носит более серьезный ха-
рактер. Роман является иллюстрацией знаменитого в то
время сочинения Ламеннэ «О безразличии в отношении
к религии» (1817—1824).
Общество утратило веру, а вместе с тем началось
моральное оскудение и грубый утилитаризм, разлагаю-
щий общественные устои, — так рассуждали люди, убо-
явшиеся бурного развития революционных идей. Моло-
дой человек по имени Анатоль женился, не сообразив, на
ком женится, и тотчас же после бракосочетания убедил-
ся в том, что жена совершенно чужда ему по духу.
В бреду и отчаянии он душит свою жену в первую брач-
ную ночь. Смерть объясняют апоплексией, и муж — вне
подозрений. Но его мучат угрызения совести, и он ищет
священника, чтобы исповедаться. Такового не находится
в обществе, изверившемся в религии, в нравственности,
во всем. В этом и заключается вывод романа, нашедшего
широкий отклик в прессе. Все, кто был недоволен совре-
менным состоянием общества, начиная от ярых ультра-
роялистов и кончая самыми левыми республиканцами,
нашли это произведение правдивым, точно рисующим
нравы и пустоту современной души, в которой, не встре-
чая никакого сопротивления, пышно цветет эгоизм, тще-
славие и всяческие пороки.
Третий роман Жанена, «Барнав», появился через не-
сколько месяцев после революции, в 1831 году. В это
время Жанен — убежденный легитимист, ненавидящий
революцию и все, что с нею связано, в том числе и новую
конституционную монархию. «Барнав» — роман истори-
ческий, хотя автор в предисловии возражает против это-
го названия. Время действия — Великая французская
революция, которая изображается как разгул неистовых
страстей и ряд бессмысленных преступлений. Герой ее —
деятель революции, перешедший на сторону двора. Зло-
бодневность романа заключается в том, что это памфлет
и на Июльскую революцию, прошедшую под теми же
лозунгами, что и революция 1789 года, и на Орлеанскую
династию — отец Луи-Филиппа, Июльского короля, гер-
3*
67
цог Орлеанский принял во время Революции имя Филип-
па Эгалите (Филипп Равенство) и голосовал за казнь
короля.
«Мертвый осел 'и гильотинированная женщина» был
рядом сцен, выхваченных из преступного мира, куда ув-
лекают девушек нездоровые склонности. «Исповедь»
изображает современное общество в сравнительно узком
разрезе и в плане только одной проблемы — неверия,
вызывающего нравственное равнодушие и эгоизм. «Бар-
нав» пытается показать причины нравственного состоя-
ния современной Франции и для этого изображает целую
эпоху и ряд событий мирового значения.
Историческим в том смысле, в каком понимали этот
жанр в 20-е годы, назвать его трудно, потому что Жанен
совсем не интересуется философско-историческими во-
просами, закономерностями исторического развития,
целесообразностью процессов, общими причинами объ-
ективного характера. Он называет изрядное количество
исторических имен, говорит о событиях, более или менее
широко известных, — только для того, чтобы очернить
все, что связано с революцией и не принадлежит слепо и
безраздельно к партии короля.
Рассматривать историю полувека как плачевную слу-
чайность, объясняемую нравственной испорченностью от-
дельных лиц, отказаться от поисков более глубоких, бо-
лее обязательных и устойчивых причин, значит отка-
заться от истории и, по существу, от самого понятия
причинности. Действительно, Жюль Жанен возвращает-
ся к тому пониманию истории, какое существовало до
возникновения новой историографии, до Вальтера Скот-
та и исторических романов 20-х годов. Легитимизм вернул
философию истории на пути, с которых увели ее доктри-
неры эпохи Реставрации.
О революции 1789—1794 годов высказано так много
суждений, что разобраться в них нет никакой возможно-
сти. Значит, история непознаваема, делает свой вывод
Жюль Жанен.
Историки 20-х годов думали иначе: разбираться в
бесчисленных подробностях, устанавливать мелкие фак-
ты из биографии крупных деятелей и т. д. не составляет
задачу истории. Достоверность факта — не самое глав-
ное, тем более, что абсолютная точность в этих делах не-
возможна. История объясняет общее направление исто-
68
рического развития, причины событий— не мелких и ма-
лозначащих в этом огромном процессе, а больших и ве-
дущих, определенных суммой всех сил, вступающих в
борьбу в данном обществе и в данный момент. Жюль
Жанен как будто забыл о том, что совсем еще недавно
было сделано исторической наукой.
Великие люди в 20-е годы вызывали интерес тем, что
они были представителями развивающих историю сил.
Для Жанена великий или малый человек, — а он почти
не делает различия между тем и другим, так как не име-
ет для этого критерия, — представляет чисто эмоцио-
нальный интерес, и история вновь из науки с достаточно
разработанными методами превращается в плачевное и
пугающее зрелище. «Я понял, — пишет он, — что не смо-
гу воссоздать историю такой, какой она была на самом
деле, а так как мне все же нужна была какая-нибудь ис-
тория, я создал ее на свой собственный лад и, так ска-
зать, для собственного своего употребления». И дальше
Жанен определяет свою цель — цель не столько истори-
ка, сколько сочинителя и агитатора, не задумывающего-
ся о средствах: «Только два больших события возникали
передо мною отчетливо и несомненно: крушение древ-
нейшей монархии Европы в течение нескольких дней и
голова короля, скатившаяся с плахи на городской пло-
щади. Затем несчастие, талант, заблуждение, преступле-
ние, сопровождавшие эту великую катастрофу. Вот это
я хотел представить в нескольких собственных именах».
В собственных именах резюмированы не политиче-
ческие силы, а психологические состояния и способности.
Иначе говоря, история перестает быть движением и раз-
витием, это вечная статика, топтание на месте. Психоло-
гические ситуации, несчастье и преступление всегда оди-
наковы. Даже талант и заблуждение, по мысли Жане-
на,— качества в известном смысле постоянные и от
динамики общества не зависящие. Простившись с поня-
тием исторической закономерности и развития, Жюль
Жанен раскрывает двери перед понятием исторической
случайности.
В XVIII веке случайность господствовала и в исто-
рии, и в романе. Но функции ее были иные. Случай унич-
тожал мистическое предопределение, открывал возмож-
ность сознательной борьбы с вредными силами и был
средством механистического, но все же необходимого для
69
эпохи объяснения мира. В «неистовом» романе случай
опровергает смысл истории и возможность разумного
вмешательства в нее отдельного лица и целых коллек-
тивов. Он торжествует и в романе из современной жиз-
ни, и в драме, и в комедии, объясняя действительность
как неуправляемый хаос, как абсурд. В исторической
комедии Скриба «Стакан воды, или следствия и причи-
ны» (1840) случай приобретает программный смысл: ка-
кие-то невесомые пустяки, вздорные поступки и гнусные
комбинации определяют ход истории. Вывод из этой
комедии напрашивается сам собой: «Вот тайные причи-
ны великих событий, вот чем объясняется история!».
Скриб забавной интригой в остроумных шутках выразил
основную мысль своей эпохи.
Так в «неистовом» романе оптимистическое знание
превращается в пессимистическую непознаваемость. Те
же взгляды получили выражение и в композиции ро-
мана. ,
Упорное нежелание Жанена называть свои произве-
дения романами или определять их как тот или иной
жанр можно возвести к принципам романтической эсте-
тики, ломавшей жанровые перегородки, чтобы впустить
в искусство самый разнообразный материал действитель-
ности и изобразить его адекватными средствами. Но у
Жанена этот отказ от жанра имеет другой смысл.
Бальзак, рецензировавший «Исповедь», отметил
странную композицию романа: «То это Дидро и его пре-
рывистый и жгучий язык; то Стерн и его тонкая и мяг-
кая речь; вот образ мрачный и сатанический, а вот чис-
тая и святая картина, которая дает отдохнуть от страст-
ных порывов отчаявшейся души... Тщетно вы будете
искать в этой книге крепко сколоченный, глубоко проду-
манный план, последовательно вытекающие одна из дру-
гой главы, ясное и логично рассчитанное действие. Ни-
чего этого здесь нет. Это произведение, бредущее наугад,
полное живых подробностей и эпизодов; это пылкое во-
ображение, которое обольщает, отталкивает, вводит в
заблуждение и наводит грусть; это волшебство захваты-
вающего стиля, ради которого автор жертвует драмой».
Бальзак больше всего любил драматическую компо-
зицию, полагая, что только в такой композиции можно
передать глубокие причины изображенных в романе со-
бытий. Жюль Жанен искал прямо противоположного.
70
Он хотел показать не закономерности, а абсурд. Идея
случайности, казалось ему, должна была получить свое
отражение в нелепом беспорядке событий и сцен, в от-
сутствии логической последовательности действия. Он
отстаивает свое право на хаос: «Хаос — всеобщее досто-
яние, особенно тогда, когда кроме хаоса не существует
ничего», — пишет он в предисловии к «Мертвому ослу...».
«Произведение неясное, которое нельзя поставить на ка-
кую-нибудь определенную полку библиотеки, не нару-
шив тонкую гармонию книг, собранных под одной общей
им всем этикеткой», — характеризует он своего «Вар-
нава».
Современники особенно охотно сближали Жанена со
Стерном, композиция которого как будто не подчиня-
лась никаким законам, кроме законов каприза и неожи-
данности. «Школой Стерна» называли школу, созданную
Жаненом. Однако Стерн создал свою манеру, чтобы вы-
разить непостижимое для элементарной логики движе-
ние чувств, быструю реакцию души на впечатления
извне, тонкость восприятия и симпатию ко всему на све-
те, которая является высшим достоинством нового, «чув-
ствительного» человека. У Жанена сходная как будто
манера повествования выражает нечто прямо противо-
положное: непостижимость внешнего мира, нелогичность
действительности, враждебной человеку и ему непод-
властной.
2
У Жанена оказалось много учеников. Некоторые из
них прямо говорили, что на литературный труд их
вдохновил автор «Мертвого осла и гильотинированной
женщины». Они измышляли самые чудовищные преступ-
ления, самые ужасные ситуации, какие только можно
было вообразить. Герои их были безумно влюблены в
бесчувственных или коварных красавиц и погибали от
любви либо убивали своих возлюбленных из ревности,
более или менее обоснованной, или из мести ко всему
современному обществу. Это были отцеубийцы, жено-
убийцы, детоубийцы, самоубийцы, прожженные негодяи,
продающие своих любовниц за деньги, судьи, пригова-
ривающие к казни своих жертв из корысти, или ради
карьеры, или чтобы замять следы собственного преступ-
ления.
71
Одним из первых пôcлeдoвaîeлeй Жюля Жанена был
Ренье-Детурбе, автор романа «Луиза, или страдания
женщины веселых нравов», вышедшего за месяц до Июль-
ской революции и посвященного Жанену. Это история
«пылкого сердца в его борьбе с препятствиями, которые
ставит на его пути общество», как сообщает автор в пре-
дисловии.
История страстной любви «женщины веселых нравов»
переплетается сценами в публичном доме, в венерологи-
ческой больнице, в тюрьме, — автор шаг за шагом сле-
дует за «Мертвым ослом...», словно подчеркивая тради-
цию и утверждая школу.
В апреле следующего 1831 года вышел роман Бюра
де Гюржи «Примадонна и подручный мясника». Певи-
ца влюблена в некоего юношу, но мать продает ее бога-
тому развратнику. Между тем ее любит молодой рабо-
чий-мясник, который от любви сходит с ума. После дол-
гого ряда трагических приключений мясник закалывает
героиню и тут же убивает себя.
Во множестве повестей, печатающихся в журналах,
преимущественно в «Revue de Paris» и в «Revue des
Deux Mondes», разрабатываются те же сюжеты, с убий-
ствами и неестественными страстями, граничащими с ис-
ступлением и сумасшествием.
Блестящим примером таких повестей была вышед-
шая в 1833 году книга «Шампавер. Безнравственные рас-
сказы». Автором ее был Петрюс Борель, назвавший себя
ликантропом, т. е. волкочеловеком. В предисловии сооб-
щается, что Шампавер, автор рассказов, страдал мелан-
холией и в очень молодом возрасте покончил жизнь са-
моубийством. Из записных книжек его издатель извлек
изречения и стихи, полные безнадежного отчаяния. Эти
изречения дают жестокую картину современного общест-
ва. Небольшой отрывок назван: «Торговец и вор — си-
нонимы». «Не думаю, что можно разбогатеть, не будучи
жестоким», говорится в другой записи. «Крупная торгов-
ля грабит среднего торговца, средний — мелкого, мел-
кий — ремесленника, ремесленник — рабочего, а рабо-
чий умирает с голоду. Достигают успеха не те, кто тру-
дится, а те, кто эксплуатирует людей». «В Париже есть
два притона: один — притон воров, другой — убийц. При-
тон воров — биржа, притон убийц — Дворец право-
судия».
72
Книга Бореля, пожалуй, — наиболее мрачная, ирони-
ческая и безнадежная из обширной «неистовой» литера-
туры. Она острее, чем другие произведения того же
жанра, разоблачает современное общество и делает это
более беспощадно, убедительно и художественно. Вместе
с тем, здесь можно ясно видеть истоки пессимизма, отра-
вившего-целое поколение. Общественные бедствия, узако-
ненная несправедливость, не оставляющая никакой на-
дежды на улучшение, нищета, бесправие и страдания
народа вырывают у героини Бореля проклятия всему ми-
розданию: «Палачи, перестаньте терзать меня! Мучения
озлобили мое сердце. Я ненавижу тебя, бог, мир, приро-
да, ненавижу все то, о чем я когда-то мечтала. Прежде
чем умрет мое тело на колесе, на котором распластала
меня судьба, моя душа погибнет, и я предаю ее навеки
Сатане». Но об осмысленной борьбе со злом во всех
этих «неистовых» повестях нет и речи.
С 1832 года появляются многочисленные сборники по-
вестей или рассказов нескольких авторов. Рассказы не
связаны один с другим общей тематикой, но все они бо-
лее или менее мрачны. Первым таким коллективным
сборником, как утверждали современники, были «Корич-
невые рассказы опрокинутой головы» (1832), в котором
принял участие молодой Бальзак. По примеру этого сбор-
ника стали выходить и другие: «Рассказы всех цветов»
(1833), затем многотомный сборник «Вечерние часы.
Книга женщин» (1833) и десятки других. Почти все рас-
сказы и повести, включенные в «Вечерние часы», напи-
саны женщинами. Некоторая часть принадлежит муж-
чинам, которые переделали свои имена на женские (Эми-
ли вместо Эмиль и т. д.). Но от прежних женских рома-
нов с тонким психологическим анализом, посвященных
преимущественно любви целомудренной, незаслуженно
оскорбленной и в конце обычно награжденной по заслу-
гам, здесь нет и следа. Ужасы торжествуют в рассказах
Анаис Сегала, Амабль Тастю, Элиза Меркёр, Меннесье
Нодье, Элиз Вуайяр, Ортенс Аллар. Очень немногие из
более или менее известных писательниц, получивших свое
первое воспитание в предшествующий период, например,
мадам де Бор (de Bawr) сохраняли старую манеру пись-
ма, и деликатную мягкость психологического анализа, и
неприязнь к чудовищному, и некоторую симпатию к
изображаемым ими женщинам и мужчинам.
73
Жестокие сюжеты и мрачные сцены можно было бы
найти в большинстве исторических романов, печатав-
шихся в 20-е годы. Чтобы изобразить средневековье
сколько-нибудь правдоподобно, нужно было говорить о
чудовищных насилиях и попрании человеческих прав, а
это требовало густых красок. Писатели 30-х годов в на-
следство от исторического романа получили и эту палит-
ру, которой пользовались в зависимости от замысла и
намерений. «Марион Делорм» и «Лукреция Борджиа»
Виктора Гюго, «Антони», «Ричард Дарлингтон» и дру-
гие драмы Александра Дюма, повести и рассказы Баль-
зака, Жорж Санд, Мериме, хроники Стендаля свидетель-
ствуют о том, что неистовство носилось в воздухе как
отклик на события времени. Без «неистовой» школы
нельзя было бы понять ни состояния умов в эту эпо-
ху, ни выбора сюжетов и тем, ни экстравагантного стиля
прозы.
В «неистовых» романах разрабатывались и средневе-
ковые сюжеты, хотя исторический роман в это время
быстро сходил на нет. Но характерной особенностью ог-
ромного большинства «неистовых» произведений была
современная тема. Именно о современности хотели ска-
зать свое слово отчаявшиеся, так как универсальный
пессимизм, даже если он проникал в естественные науки,
имел своим источником современное состояние общества
в его послеиюльской фазе.
Современность не была исключительной привилегией
неистовствующих. Бальзак, открывший эту тему в сво-
ем творчестве «Физиологией брака» (1829), понял ее
как необходимость вмешаться в общественные дела не
только категорическим и всеобщим отрицанием, но ана-
лизом существующего и проповедью того, что ему каза-
лось необходимым. «Сцены частной жизни», вышедшие
за три месяца до Июльской революции, по замыслу
Бальзака, должны были иллюстрировать и доказать по-
ложения, изложенные в «Физиологии брака» в шутли-
вой, иронической и озорной форме.
Жорж Санд печатала свои первые повести и романы,
чтобы указать пути сопротивления господствующему злу,
требовать законодательных реформ и противопоставить
торжествующему мещанскому сознанию свое понимание
нравственных задач и общественного существования.
74
Следы этого направления сохранились в литературе
надолго, но уже со второй половины 30-х годов оно стало
утрачивать свое значение. Задача дальнейшего литера-
турного развития заключалась, между прочим, и в том,
чтобы ликвидировать неистовство и найти точки опоры
для конструктивного решения художественных и общест-
венных проблем.
ГЛАВА IV
БАЛЬЗАК
1
Начав с классической трагедии, отдав дань «страшно-
му», готическому и бульварному роману, отмучившись в
бесславии и безденежьи, Бальзак обратился к «серьез-
ному» жанру, роману «в манере Вальтера Скотта». Тог-
да-то, в 1827 году, и был сделан первый набросок «Шуа-
нов», появившихся в окончательном виде в 1829 году.
В течение всей жизни Бальзак отзывался о Вальте-
ре Скотте с восхищением и благодарностью. О нем он
вспоминает и в программном предисловии к «Человече-
ской комедии». Остановившись на сюжете из истории не-
давних гражданских войн в Бретани, Бальзак шел по
пути своего учителя.
«Шуаны» изображают эпоху совсем недавнюю. Дей-
ствие происходит всего за тридцать лет до появления ро-
мана в свет (в первом издании действие датировано
1799 годом). Некоторые романы Скотта, получившие на-
звание исторических, также изображают еще свежие в
памяти времена, например «Антикварий» или «Гай Мен-
неринг», не говоря о современном романе «Сент-Ронан-
ские воды». Во Франции шли опоры о том, насколько
отдаленной должна быть эпоха, изображенная в истори-
ческом романе. В 1825 году Франсуа Дюбуа считал воз-
можным изображать в историческом романе граждан-
ские войны Бретани. За год до появления «Шуанов»
Людовик Вите утверждал, что сравнительно недавняя
эпоха может считаться исторической, если она сильно от-
личается от текущего исторического момента. В драме
Дитмера и Каве, посвященной заговору Мале, изображе-
на наполеоновская эпоха и события четырнадцатилетней
давности, и тем не менее эту драму называли историче-
ской. В один год с «Шуанами» Анри де Латуш, в то вре-
мя близкий друг и советчик Бальзака, напечатал истори-
76
ческий роман «Фраголетта», действие которого происхо-
дит в 1799 году. Таким образом, «Шуаны» были
задуманы и выполнены как роман исторический.
Но события, в нем изображенные, были как бы интро-
дукцией к эпохе Реставрации. Самая темная и отсталая
провинция Франции была постоянной угрозой всякому
прогрессу, :и Бурбоны рассчитывали на бретонских кре-
стьян в случае возможных революционных восстаний.
В 1832 году герцогиня Беррийская пыталась поднять
бретонцев-крестьян на борьбу с Июльской монархией.
Шуаннерия все еще не отходила в прошлое.
Уже в 30-е годы Бальзак рассматривал свой роман
как современный. В 1842 году он сделал барона Гюло,
героя «Кузины Бетты», братом капитана Гюло, героя
«Шуанов», и в том же году включил этот роман в «Чело-
веческую комедию», которая должна была изображать
современную Францию. События «Темного дела» проис-
ходят почти одновременно с «Шуанами». Многие герои
других его романов вступают в жизнь во время Револю-
ции, которой, по его мнению, начиналась новая Фран-
ция. Сам он не видел большой разницы между методом,
которым был создан этот первый подписанный его име-
нем роман, и методом, который он применял в произве-
дениях своего зрелого периода.
В «Шуанах» история не является внешним добавле-
нием к романической интриге, — Бальзак сумел соеди-
нить на одном герое обе линии, историческую и любов-
ную. Таким образом, любовная интрига должна была
иметь исторический смысл, т. е. характеризовать эпоху,
страну и историческую проблематику. Исторические пер-
сонажи в романе не фигурируют, они только названы в
разговорах действующих лиц. Их не много: Дантон,
гильотинированный за несколько лет до этого, Фуше, в
то время всесильный министр, и Наполеон, слава которо-
го светила далеко на горизонте. Слияние исторического
романа с романом современных нравов в творчестве
Бальзака совершается, пожалуй, наиболее полно и спо-
койно.
Перечитывая роман перед тем как включить его в
«Человеческую комедию», Бальзак почувствовал прин-
ципиальное отличие «Шуанов» от романов Скотта и свя-
занной с ними исторической традиции. Ему всегда каза-
лось, что Скотту недостает страсти — он мог бы присое-
77
диниться к Стендалю, почувствовавшему этот «недоста-
ток» Скотта уже к середине 20-х годов. «Здесь весь
Купер и весь Вальтер Скотт, — писал он Ганской в 1843
году, — но кроме того страсть и остроумие, которых нет
ни у одного из них. Страсть здесь великолепна...». Таков
был один из этапов «преодоления» Скотта.
Одним из первых он почувствовал интерес к совре-
менной теме. Он говорил о ней в предисловии к первому
изданию «Шуанов». Через полгода вышла в свет «Физи-
ология брака», ориентированная на проблемы сегодняш-
него дня, и готовились «Сцены частной жизни», сборник
повестей, появившихся в двух томах в апреле следующе-
го 1830 года.
Но это были только первые шаги. В 1831 году он от-
крыл нечто новое — роман символический, связанный с
теорией мифа и символа и с философией истории, раз-
рабатывавшейся в 20-е годы: «Шагреневая кожа» поя-
вилась в 1831 году.
Виктор Кузен, создававший свой вариант немецкой
идеалистической «философии тождества», П.-С. Баланш,
строивший свою философию истории на основе учения
Вико, Жюль Мишле, переводивший «Новую науку»
Вико и делавший из нее выводы весьма прогрессивно-
го характера, Эдгар Кине, переводивший Гердера и
увлекавшийся натурфилософией Шеллинга и «Феноме-
нологией духа» Гегеля, — все эти теоретики и историки
рассматривали миф как конденсированное отражение
исторических событий и процессов в сознании народных
масс. Художественное творчество, иначе говоря, вымы-
сел, тоже должно стать мифотворчеством. В 30-е годы,
когда историческая тема утрачивала свой интерес, эта
теория оторвалась от конкретного исторического мате-
риала. Символы «освободились» от истории и стали
бесплотными образами, живущими вне времени и про-
странства, как Фауст, Каин или Прометей. Антикварий
в «Шагреневой коже» похож на Мефистофеля, а героем
«Эликсира долголетия» Бальзак сделал Дон-Жуана.
В «Шагреневой коже» — «все миф и символ», говорил
Бальзак. «Формула» ее — современный эгоизм, «дитя
исследования и испытующего разума, постоянно воз-
вращающего нас к нашей личности», — писал Филарет
Шаль в предисловии к «Философским повестям», инспи-
рированном Бальзаком (1831). В фантастическом сю-
78
жете «Эликсира долголетия» (1830) символизирована
та же мысль — об эгоистическом характере современ-
ного общества, построенного на одном только денежном
интересе. «Философские повести» и особенно такие, как
«Луи Ламбер» (1832) и «Серафита» (1835), входящие
в «Мистическую книгу», являются характерными образ-
цами этого жанра.
Но речь идет не только о жанре. Это особое пони-
мание образа, типа, художественного творчества во-
обще.
В философских повестях обобщение существовало
отдельно от плоти художественного произведения. Оно
либо выражалось в абстракциях, вставленных в условно
исторические декорации, как, например, в «Эликсире
долголетия», либо добавлялось к тщательно выписан-
ным картинам современности, как мораль к басне или
вывеска к магазину. В «Шагреневой коже», говорили
рецензенты, «мораль» существует отдельно от повест-
вования: читатель должен много размышлять, чтобы
обнаружить философскую символику в живописных
сценах действительной жизни.
Фантастика вскоре исчезнет из произведений Баль-
зака,— «Серафита» (1835), в сущности, будет послед-
ним романом этой традиции. Но навсегда останется
более существенное и эстетически более важное: пони-
мание художественного образа как символического вы-
ражения тенденций современного общества и челове-
ческих страстей. Отказавшись от символического стиля
и философского жанра, Бальзак постарается выразить
в совершенно конкретных, исторически точных героях
то обобщение, которое станет постоянной целью его ис-
кусства.
«/Философские повести», как и вся почти литература
начала 30-х годов, были густо окрашены неистовством.
Здесь были обычные гости неистового романа: отвра-
тительные преступники, убийцы, самоубийцы, пираты с
гипнотическим взором, всякого рода сумасшедшие.
Бальзак объяснял неистовый характер своих ранних
произведений потребностями сбыта. Вместе со многими
другими своими современниками он жаловался на рав-
нодушие публики к литературе, вызывавшееся острым
интересом к политическим событиям. Желая привлечь
внимание читателя, привыкшего к страшным и драма-
79
тическим зрелищам на улицах, на баррикадах, на виду
у всех, писатели будто бы старались в сво.их произведе-
ниях превзойти действительность и впадали в неистов-
ство: «Литература, борясь против всеобщего равноду-
шия, объяснявшегося драмой политической жизни, со-
здавала произведения более или менее байронические,
где только и говорилось о преступлениях против супру-
жеской чести».
Но это было сказано гораздо позднее, когда были
забыты причины, вызвавшие эту литературную «моду».
Смысл неистовства Бальзака, так же как и почти всей
этой литературы, заключался в резком неприятии со-
временного общества, буржуазного прежде всего. Кри-
тика этого общества, прежде чем стать глубоко проду-
манной теорией современности, приняла у Бальзака
«неистовые» формы.
В 1830—1831 годы Бальзак переживает значитель-
ную эволюцию. Из либерала, каким он был в 1829 году,
он превращается в легитимиста. Увидев меркантилизм
своей эпохи, утрату других стимулов к деятельности,
кроме погони за деньгами, обнаружив в этом основную
тенденцию времени, которая была определена самой
структурой общества, Бальзак отпрянул от результатов
революции, . которую готов был приветствовать вместе
со всеми. Но это не увлекло его в направлении, в кото-
ром пошли прогрессивные демократические круги. Ряд
республиканских восстаний, вызвавших страх не только
у правящей верхушки, показался Бальзаку угрозой са-
мому существованию общества. В этих настойчивых
поисках социальной справедливости он увидел проявле-
ние того же эгоизма, погони за наслаждениями и за-
висти к более обеспеченным. Он упрекал Июльский
режим не в том, что он не довел революцию до конца,
а в том, что разнуздал эгоистические инстинкты массы,
опьянил ее ложными и опасными обещаниями свободы
и тем самым подорвал устои, на которых покоится об-
щество. Отныне всякое проявление какой-либо свободы
и самую идею народовластия он стал рассматривать как
катастрофу. Отсюда его переход к монархии «милостию
божией», какой была монархия Бурбонов, а не «волею
народа», как именовала себя Июльская монархия. Эта
политическая позиция многое изменила в его мировоз-
зрении и творчестве, полном критики современного об-
80
щества, поисков будущего и пропаганды навсегда ушед-
ших эпох.
Тем не менее он восхищается XIX веком, — его буй-
ной работой ума и воображения, его жаждой социаль-
ного, философского и художественного творчества. В
доме Камиллы Мопен, которая несколько напоминает
Жорж Санд, взорам Калиста, героя «Беатриче», пред-
стал «наш великий XIX век, со своим коллективным ве-
ликолепием, со своей критикой, со своим стремлением к
всякому обновлению, со своими огромными начинания-
ми, из которых почти каждое было по плечу гиганту,
баюкавшему в знаменах детство этого века и певшему
ему гимны под аккомпанемент страшного баса пушек».
«Калист услыхал там новый мелодичный язык. Он слу-
шал поэтические звуки прекраснейшей музыки, изуми-
тельной музыки XIX века, в которой борются мелодия и
гармония, одинаково могучие, в которой мелодия и ин-
струментовка достигли неслыханного совершенства. Он
увидел там произведения великолепной живописи, жи-
вописи французской школы, теперешней наследницы
Италии, Испании и Нидерландов, в, которой талант стал
так обычен, что все взоры, все сердца, наскучив талан-
тами, ожидают гения. Он прочел там художественные
произведения, удивительные создания современной ли-
тературы, которые со всей своей силой подействовали
на его неискушенное сердце».
Славословие веку, так же как яростная его критика,
проходит сквозь все творчество Бальзака и составляет
характерную его особенность. Иначе невозможно было
бы изображать этот век с такой тщательностью и объек-
тивностью,— с ненавистью и восторгом одновременно.
И, по-видимому, одним из самых удивительных свойств
этого века были его противоречия, раскрывающиеся в
бесконечном разнообразии оттенков. Романтическая эс-
тетика позволяла понять как предмет художественного
изображения все это разнообразие и противоречия. Ис-
кусство не может быть односторонним, оно должно по-
нять и увидеть все.
Но прежде чем прийти к оправданию современности
как темы искусства, Бальзак должен был осмыслить ее
противоречия и закономерности, — иначе она предстала
бы перед ним непонятная, нерасчленепная и певозмож-
«J
ная для изображения. Он и делает это в своих критичес-
ких статьях, предисловиях к романам и в предисловии к
«Человеческой комедии».
2
Первые опыты в «современном жанре» не решили
вопроса — годится ли современное общество как матери-
ал высокого искусства. Безобразие Июльской действи-
тельности заставляло ответить на этот -вопрос отрица-
тельно: «Люди требуют от нас прекрасных картин, но где
же модели для них? Неужели ваши убогие одежды, ваши
неудавшиеся -революции, ваши короли на половинном
окладе настолько -поэтичны, что стоит их изображать?».
Так должен был думать писатель, еще не оставивший
стихии исторического романа, со -взором, привыкшим к
необычайному колориту средневековья. «Неистовая» ли-
тература не могла его утешить—колорит, которым она
пользовалась, был преимущественно «отвратительным».
Значит, прежде всего нужно было отказаться от сравне-
ний и аналогий. Сравнивать современность со средними
веками и темный костюм «третьего сословия» с заткан-
ным золотом камзолом какого-нибудь -средневекового
герцога было -бы нелепо. Разница между средневековым
сервом и властительным бароном могла лишь ослепить
взор, которому нужно было исследовать серую и -всюду
одинаково скучную со-временность.
Еще в середине 30-х годов Шарль де Ванденес, один
из персонажей «Тридцатилетней женщины», разглядывал
танцующих на балу дам и делал заключения, волновав-
шие и -молодого Бальзака: «Я не вижу ни одной женщи-
ны, с которой мне захотелось бы вступить в борьбу,
которая могла бы увлечь в (бездну. Да разве есть -в Па-
риже энергия? Кинжал кажется здесь диковинкой и,
вдев -в изящные ножны, его вешают на золотой гвоздик.
Женщины, мысли, чувства — все здесь однообразно.
Нет уж больше страстей, так же как исчезла индивиду-
альность. Общественное положение, ум, состояние — все
низведено .к одному уровню, и мы все надели черный
костюм, словно траур по умершей Франции... Наша ску-
ка, наш монотонный уклад жизни являются следствием
политической системы. Зато в Италии все ярко, индиви-
дуально. Женщины там еще похожи на злых животных,
82
на опасных сирен; для них не существует благоразумия
и логики, ,кроме логики влечений и желаний. Их следует
остерегаться, как тигров».
В XIX веке, oio мнению Бальзака, произошла -всеоб-
щая социальная нивелировка, уничтожены в значитель-
ной мере сословные деления. Прежде все было выпукло,
теперь все таится в глубине. Искусство -изменилось.
«В стране, где моральное лицемерие достигло высочай-
шей степени, Вальтер Скотт верно угадал эту социаль-
ную .перемену». Поэтому-то он и обратился к историче-
скому роману, -в котором мог изображать фигуры, обла-
дающие своеобразным и глубоким рельефом. В XIX веке
«у пэра Франции и у торговца, у художника и буржуа,
у студента и военного — почти одинаковый .внешний
вид... Нужен проницательный взор для того, чтобы отыс-
кать в кабинете поверенного, в конторе нотариуса, <в
глубине 'Провинции, под обивкой парижских будуаров ту
драму, которую все требуют, которая, как змея при при-
ближении зимы, скрывается в самых темных расселинах
скал».
Вальтер Скотт, который так еще недавно был самым
выдающимся человеком эпохи, теперь со своим средне-
вековьем и колоритом оказался препятствием на пути к
современности. Он испортил зрение целому поколению.
Когда-то, осваивая исторический роман и учась у Скот-
та, вместе с тем приходилось его преодолевать. Теперь,
отказавшись от исторического романа и преодолевая
Скотта, вместе с тем приходилось у него учиться.
В салоне графини Маффеи, удивляя своих слушате-
лей, Бальзак утверждал, что он нашел свой способ изо-
бражать нравы у Вальтера Скотта, но заменил средневе-
ковых героев, паладинов, трубадуров, владелиц замков
чиновниками, столоначальниками, менялами, ростовщи-
ками, 'полицейскими и химиками. Бальзак чрезвычайно
упрощал этот процесс усвоения традиции, — заменить
паладинов чиновниками было не так легко. Для этого
потребовалось много труда и размышлений. Однако пре-
емственность между Скоттом и Бальзаком несомненна.
Через четыре года -после того, как Феликс де Ванде-
нес скорбел по поводу художественного убожества -своей
современности, Бальзак уже говорил о ее великом, -почти
не использованном богатстве. В сравнении с нею «Тысяча
и одна ночь» и европейское средневековье скучны и одно-
83
образны. На Востоке нет общества, женщина не участву-
ет в социальной жизни, и Шехерезада придает своим
рассказам интерес только тем, что 'вводит в них случай-
ное и чудесное. Скотт исчерпал все темы средневековья,
рассказав о борьбе крепостного крестьянства и буржуа-
зии с аристократией, аристократии с духовенством, ари-
стократии и духовенства с королевской властью.
В старину все было просто — упрощено монархией.
Но если несколько лет тому назад Бальзак находил эти
условия чрезвычайно выгодными для романа, то теперь
он утверждает как раз обратное: с уничтожением резких
сословных различий, с установлением буржуазного ра-
венства появились более тонкие оттенки, невозможные
в старину. В изучении этих оттенков, бесконечно слож-
ных и многочисленных, и заключается задача рома-
ниста.
Любопытно, что в этом движении от экзотики к совре-
менности, от густых и чистых красок к едва различимым
тонам помогла Бальзаку женщина-писательница, впо-
следствии известная своими рассказами для детей,
Зюльма Карро. «Для изучения человеческого сердца,—
писала она Бальзаку, — Вы не найдете в Италии богато-
го 'материала... На той ступени, на которую мы теперь
поднялись, различия -почти сгладились, и только умствен-
ное развитие может создать контрасты, сильные эффек-
ты, правда, незаметные для черни». Женские вкусы и
женские интересы прошли сквозь все фазы, испытанные
литературой за десять бурных лет, чтобы вернуть вели-
чайших романистов, Стендаля так же, как Бальзака, к
современной теме, к искусству оттенков и к психологии
женской души. Мысль Зюльмы Карро Бальзак в -бли-
жайшие годы будет высказывать неоднократно.
По количеству душевных оттенков, по игре «тончай-
ших движений человеческого сердца» на первом месте
среди европейских народов, по мнению Бальзака, стоит
Франция. Индивидуализм, который он считает коренным
злом современной цивилизации, порождает бесчисленные
оттенки, необходимые для романиста. Французское об-
щество, наиболее развитое в смысле индивидуальной,
моральной и интеллектуальной свободы, «в литератур-
ном отношении стоит гораздо выше других стран про раз-
нообразию типов, по драматизму, по остроумию, по дви-
жению жизни; здесь обо всем говорят, все мыслят, все
84
совершают». Вальзак не хочет суди!ъ, он только конста-
тирует факх: он «радуется величию, разнообразию,
красоте, изобилию своего материала, как бы плачевен
он ни был в социальном отношении... Этот беспорядок—■
источник красоты. И не из ^национального тщеславия или
патриотизма он избрал нравы своей страны, но потому,
что его страна представляла лучше всякой другой со-
циального человека в аспектах, более многочисленных,
чем где-либо».
Феликс Давен в предисловии к «Философским пове-
стям» отмечал .как особо важную особенность его твор-
чества подробное изучение бытовых деталей и мелких
фактов, начиная от походки, складок галстука, расти-
тельности на -пальцах :и кончая обстановкой убогой квар-
тиры или роскошного особняка.
Бальзак 'был увлечен теориями Галля и Лафатера и
верил, что по строению черепа или чертам лица можно
определить душевные свойства, а вместе с тем « социаль-
ный характер человека. На основании какого-нибудь
едва заметного .признака можно сделать важный вывод,
подобно тому как Кювье при помощи ископаемого клыка
воспроизводил вымершую породу животных. Бальзак не-
редко применяет метод Кювье, исследуя и трагические,
и комические персонажи. Об этом «научном» мето-
де он говорил как о необходимости современного искус-
ства.
Тот же интерес к деталям характерен и для Стенда-
ля, хотя «мелочи» у него скорее .психологического, чем
вещественного и бытового характера. Стремление
вскрыть общие законы изучением бесконечно малых, дви-
жение к синтезу через анализ свойственно обоим писате-
лям, «открывшим» свою современность. У Стендаля этот
метод связан больше с «Идеологией» Дестюта де Траси,
у Бальзака — больше с Вальтером Скоттом, но и у того
и у другого — с развитием современной естественной и
исторической науки.
Бальзак пользовался «микрологией», чтобы вскрыть
разнообразие под безразлично одинаковой внешностью,
обнаружить драму всюду, где бьется жизнь, потому что
жизнь в существе своем —драма. При таком изучении
современности в ней можно найти все, что восхищало
читателей у Скотта и Купера, у Анны Редклиф, Гоф-
мана и Байрона. Филарет Шаль утверждал, что Бальзак
85
«открыл фантастику нашего времени», сочетав в «Ша-
греневой коже» «празднества, остроумие, бесстыдство,
роскошные материи, неистовые наслаждения, игру, лю-
бовь, поэзию костюма, встречающиеся в больших го-
родах».
Уклон в фантастику наличествовал во французском
романтизме. Упорно звучит в нем и мотив «фантасмаго-
рии реального», проявляющийся либо в смешении ре-
ального и фантастического, либо в прямом отождествле-
нии того и другого. В период «Шагреневой кожи» и сим-
волической повести Бальзак скользит на грани .между
фантастическим и реальным, наблюдая (игру чудесного
за кулисами действительности. Но вскоре он переходит
на другую точку зрения, утверждаясь по сю сторону
явлений. У настоящих фантастов действительность ока-
зывается только миражем, для Бальзака фантастика —
лишь слабый отблеск реальности. Действительность бо-
гаче, чем воображение Шехерезады, нужно лишь при-
смотреться к ней, чтобы увидеть ее сказочное великоле-
пие.
Современность, рассмотренная внимательно и поня-
тая глубоко, заключает в себе все, что поражает в рома-
нах Скотта и Купера, драмах Шекспира, сказках Гофма-
на. Процесс Пейтеля, нотариуса, убившего свою жену и
ее любовника, напоминает Бальзаку величайших драма-
тургов — «то, чем мы восхищаемся у Кальдерона, Ше-
кспира и «Попе де Беги, было гильотинировано в Бурге».
И это свидетельствует о том, что в образе пошлого про-
винциального нотариуса, в образе архибуржуазном, мно-
го раз осмеянном авторами сатирических «физиологии»
и 'бытовых романов, можно найти все то, чего будто бы
лишена современность !И чем она в действительности бо-
гата больше, чем какая-либо другая эпоха.
3
В мае 1832 года, устав от «неистовых» тем, Бальзак
прочел «Индиану» :и нашел в ней то, чего искал. В этом
романе нет ни кинжалов, ни крови, но, несмотря на это,
он полон могучего и захватывающего интереса. Жорж
Санд облегчила ему поиски.
На первых порах, чтобы поднять современность до
уровня искусства, Бальзак должен был обнаружить в
86
ней то, чем были богаты другие эпохи. Теперь он как
будто возвращается к «Сценам частной жизни», но в
действительности создает нечто новое, — сочетает «чис-
тые» и «простые» персонажи своих первых повестей со
страстным интересом «неистовых».
В «Истории тринадцати», .в некоторых эпизодах
«Французских бесед», в «Полковнике Шабере», несмотря
на весь их «модернизм», все же рассказаны случаи
экстраординарные, свидетельствующие о том, что автор
искал необычайного « странного, скрытого среди совре-
менности. Отстраняя обыденное, он находит под ним эле-
мент ужасного. Этот годный для искусства материал,
полный драматизма и «ужаса», противопоставляется
обыденному и пошлому. Теперь остается сделать еще
один шаг, но шаг принципиально важный: уничтожить
противоречие между драматическим и пошлым, показать
необычность обыденного, найти драму чисто буржуаз-
ных отношений. «Евгения Гранде» (1833) открыла, по
словам самого Бальзака, новый этап в его творчестве и
ознаменовала революцию, которую он произвел в рома-
не: «Здесь завершилось завоевание абсолютной правды
в искусстве: здесь драма заключена .в самых простых об-
стоятельствах частной жизни».
Историческая тема для 20-х годов ассоциировалась с
большой формой романа, с тотальным изображением
эпохи, с -политическим действием широкого размаха и
множеством действующих л,иц. Современную тему мыс-
лили как нечто прямо противоположное — в форме не-
больших новелл, изображающих закрытые семейные
интерьеры. «Сцены частной жизни», казалось Бальзаку,
лучше всего могут изобразить эту искомую, трудноуло-
вимую современность. «Абсолютная правда» могла осу-
ществиться только в «самых простых обстоятельствах
частной жизни».
Реакция во имя современности на первых порах по-
влекла за собой и дискредитацию больших полотен,
политической .интриги, массовых сюжетов. Бальзак на-
стаивает на этом еще в 1842 году: «Неведомое сражение,
происходящее в долине Эндра .между г-жой де Морсоф
и страстью, может быть, столь же велико, как знамени-
тейшее из исторических сражений... Несчастия Биротто,
священника m парфюмера, выражают в моих глазах не-
счастия человечества». В то же время он приветствовал
87
«Пар^кий монастырь» и обдумывал одну из своих
«Сцен политической жизни», роман «Депутат от Арси».
Считая себя духовным вождем человечества -и государ-
ственным мужем в потенции, Бальзак сосредоточивает
внимание на мелких событиях частной жизни. Но ведь
эти мелкие события отражают закономерности целого
общества. Когда человек борется с судьбой (а это из-
любленная тема античного и классического театра), то
судьба воплощается в квартирохозяине, в квартирной
плате, в .прачке ,и т. д. — так лонимает Бальзак идею сво-
ей комедии «Меркаде-делец». Деньги — религия нового
мира, говорил доктор Бьяншон, .играющий в «Человече-
ской комедии» роль наблюдателя. Следовательно, это
сила, которая должна стать пружиной драматического
действия романа.
Изменились условия драматической коллизии, а
вместе с тем и средства ее художественного воспроизве-
дения. Законы, бытовая среда, моральная атмосфера
объясняют драму: это воздух, без которого не может
жить .искусство. Отсюда все эти юридические, историче-
ские, биографические справки и долгие описания, кото-
рые раздражали неподготовленных читателей и друзей
Бальзака, требовавших от него только увлекательного
сюжета.
В 20-е годы ощущение правды вызывал исторический
роман; теперь это ощущение можно было вызвать только
картинами современности. Сочетание низменного и воз-
вышенного, т. е. основной закон романтической поэтики,
легко было осуществить и на современном материале.
В глазах художника 30-х годов что может быть .пошлее
ежедневного 1мещанского быта? Вскрыть в этом мире ге-
роизм, найти в нем светлый образ — это подлинная на-
ходка, потому что в этих противоречиях, в борьбе добра
и зла заключается .полное видение жизни, правда искус-
ства. В «Евгении Гранде», совершившей «революцию в
романе» и достигшей «абсолютной истины», Феликс Да-
вен 'Констатирует «страшное слияние пошлого и возвы-
шенного, патетического >и гротескного; словом, это
жизнь, какова она есть, и роман такой, каким он должен
быть». ~
Но, развиваясь дальше, понятие «современности»,
отождествленной с «правдой», почти сливается с отвра-
тительным и пошлым. Прежде всего, оно противопостав-
ят
ляется «красоте»: .ведь Kpacofa есть «.идеал», умственный
феномен, иллюзия; правда, «современная» правда — все
то неприглядное, что ежедневно оскорбляет взор в окру-
жающем мире. Это крайний -вывод из такой точки зре-
ния, но он часто встречается под пером Бальзака: «Лорд
Байрон вложил в уста Тассо весьма красивые сетова-
ния, но все же им было очень далеко до глубокой прав-
дивости сетований, вырывавшихся у г-жи Воке» («Отец
Горио»).
Подчеркивая жестокую обыденность и пошлость зре-
лища, Бальзак создает впечатление правды, «жестокой»
правды, напоминающей эстетику «неистовой» школы. Ма-
дам Воке со своими юбками и своим безобразием, окру-
женная ароматами прогорклого жира, — зрелище «пре-
красное», потому что «правдивое», и правдивое, потому
что отвратительное. «Это было куда страшнее, чем рас-
сказы романистов и сцены из немецких драм, — пишет
Бальзак, — это было -потрясающе правдиво».
4
Но что значит «правда» в словаре Бальзака? Иначе
говоря, как относится она к действительности и какими
средствами можно ее добыть? Для Бальзака словом
«правда» могут быть обозначены чуть ли не три понятия
одновременно.
Это, прежде всего, действительность, реальный эмпи-
рический факт, существующий независимо от искусства,
сам по себе, вне постигающего его субъекта.
Второе понятие — эстетического характера: это пред-
ставление, которое огромное большинство людей имеет о
действительности. Оно уже эмпирической действительно-
сти, но в своей ограниченности и узости оно необходимо
для искусства, так как без этой правды читатель не
поверит тому, что рассказывает художник. Это та прав-
да, которая в поэтиках классицизма называлась прав-
доподобием.
Третье понятие правды — романтическое. Оно очень
отличается от правдоподобия, которое классики считали
высшей необходимостью искусства.
В «Пармском монастыре» события расположены так,
как они происходили или должны были происходить в
89
действительности. Вальзак отлично знает, что события
«Пармского монастыря» никогда не происходили.
«Должны были .происходить» — это значит, что события
эти правдоподобны, они не вызывают внутреннего про-
теста, читатель охотно верит тому, что рассказано в
романе. Но этого недостаточно: то, что правдиво в жиз-
ни, не всегда бывает правдиво в искусстве, — и здесь
Бальзак апеллирует к третьей, высшей правде, к правде
искусства. Художник должен заботиться не о правдопо-
добии, а об истине. Истина, с точки зрения Бальзака, это
закономерность, или, вернее, факт, действительный или
придуманный, объясненный общими и неотвратимыми за-
конами.
Но это легче сказать, чем осуществить. Как выбить
эту драгоценную истину из непокорной, упрямой массы
действительно происходящего или даже вымышленного?
Или, иначе говоря, как превратить «действительность» в
«идею»?
Веками разработанная система классической поэтики
на каждый вопрос имела свой готовый ответ. Нельзя
брать из действительности все, что она в себе заключает.
Из правды жизни нужно выбирать правдоподобное, по-
тому что изображать нужно только «прекрасную приро-
ду», которая встречается не так часто. Выбор — это и
есть открытие идеально прекрасного.
Сперва Бальзак как будто пошел по традиции, ро-
мантиками отвергнутой и давно уже ставшей ненужной.
Он решил выбирать, причем выбирать по частям. То, что
хорошо начато, но плохо закончено в одном уголке дей-
ствительности, в другом ее уголке плохо начато, но за-
кончено хорошо. Значит, нужно взять начало из одного
события и окончание из другого. Художник должен
«синтезировать» события действительности. Он заим-
ствует для своего персонажа черты у нескольких моделей
или, наоборот, очищает модель от ненужного материала,
если его у нее -слишком много. Бальзак приводит италь-
янскую пословицу: «Этот хвост не от этой кошки». Ху-
дожник подбирает хвост к кошке и кошку к хвосту, что-
бы создать идеальную и правильную .кошку. Романисты
подобны скульпторам, «постоянно занятым идеализаци-
ей прекраснейших человеческих форм, передачей сладо-
стных линий, сочетанием рассеянных элементов красо-
ты». Так Бальзак писал в 1831 году в предисловии к
«Шагреневой коже».
90
Но творческая мысль .продолжает развиваться, и во-
прос об отношении правды .искусства к правде жизни
приобретает другие формы.
Наделив кошку не подходящим ей хвостом, природа,
очевидно, ошиблась. Очевидно, это -была случайная
ошибка, иначе никто бы ее не заметил, — если бы это не
была случайность, то это (была бы закономерность, и
художник мог бы спокойно, ничего не меняя, 'Перенести
эту кошку на свое .полотно. Следовательно, в дело .приро-
ды вмешался Случай. Художник, отвергнув Случай,
должен восстановить Закон. Какой это закон? Очевидно,
закон правдоподобия, закон статистический, утверждаю-
щий наиболее частую повторяемость явления.
Таким образом, искусство вступает в противоречие с
природой. Его правда противоречит действительной
правде жизни, и художник отдает .предпочтение своей
правде, которая является только правдоподобием. Сле-
довательно, он искажает действительность. Он отдается
своему, издавна дозволенному художническому произ-
волу.
Но возможен ли случай в -природе, в жизни или в об-
ществе? Существуют ли события, не имеющие причины?
Вся романтическая философия истории отвергала
идею случая, — иначе нельзя было бы объяснить истори-
ческий процесс и установить хотя бы приблизительно за-
коны общественной жизни. Естественные науки также
разрабатывали понятие причинности, заменяя теорию
катаклизмов теорией эволюции, решительно идущей к
господству начиная уже с конца XVIII века. Может ли
художник, живущий в такую эпоху, сохранять веру в
случай, если он хочет что-то понять и в чем-то убедить?
В своих произведениях 30-х годов Бальзак уделяет
случаю большое внимание. «Случай — гениальный чело-
век!» — говорит он в «Златоокой девушке». Многие его
произведения словно намеренно построены на случайно-
сти: все три эпизода из «Истории тринадцати», «Отец
Горио», «Тайны .княгини де Кадиньян», «Темное дело»,
«Кузина Бетта». Но почти всегда случай оказывается
упраздненным, он свидетельствует о нашей неосведом-
ленности, и только. Мы просто не знаем причин удивив-
шего нас события, и потому оно кажется нам делом слу-
чая. Писатель не может апеллировать к случаю, так как
ему никто не поверит. Случаю можно поверить только в
91
жизни, события .которой не нуждаются в доказательствах.
Писатель должен доказать то, о чем он повествует, а для
этого нужно объяснить. «Талант (.писателя) проявляется
в изображении причин, порождающих события, в тайнах
человеческого сердца, движения которого не привлекли
внимания .историков», — пишет Бальзак в 1840 году.
С такой точки зрения основная задача художника не
в том, чтобы вы-брать нужные факты -или события и
склеить их с должной ловкостью. Дело не .в выборе, а в
объяснении. Да и самые события не очень уже важны;
важнее тот ряд (причин и следствий, который за ними
скрывается и их создает. Но писатель, так же ка.к «исто-
рик, в лучшем случае может знать только результаты.
О причинах он может только догадаться, домыслить их
при -помощи логики и воображения. Здесь Бальзак слов-
но возвращается к проблеме, о которой с такой настой-
чивостью -говорили романтические историки 20-х годов.
Разница между писателем и историком в том, что
историк должен объяснить реальный, происшедший в
действительности, записанный в документах факт, а пи-
сатель может не -считаться ни с какими реальными фак-
тами и придумать их с начала до конца. Значит, факт
может быть вымышленным или .найденным в книге, га-
зете, рассказе очевидца или в какой-нибудь сплетне,
проверять его не нужно, нужно только объяснить его
сложной цепью обстоятельств, связью нескольких при-
чинно-следственных -рядов, потому что эти ряды по свое-
му художественному и, вместе с тем, познавательному
значению несравненно важнее факта. Факт важен толь-
ко потому, что он обнаруживает причины.
Чем глубже объяснено изображаемое событие, чем
более общий характер имеют вскрытые художником
причины, тем необходимее оказывается это событие и тем
больше сила его убеждения.
Закон истины в искусстве здесь предстает в несколько
ином виде. Если прежде казалось, что далеко не все
истинное в жизни может стать истинным в искусстве, что
случайные, исключительные явления действительности
кажутся ложными в художественном произведении, то
теперь вопрос решается иначе: лишь от недостатка
искусства некоторые сюжеты кажутся в искусстве лож-
ными. Искусство заключается в том, чтобы разрушить
видимую случайность события, вещи, поступка и обнару-
п?
жить скрытую за этой видимостью причину, общее. Это
значит—.поднять «случайность жизни» до высшей прав-
ды /искусства. С такой точки зрения художник должен
не столько выбирать, сколько осмысливать явления жиз-
ни. Это значит также, что любое явление действительно-
сти может стать предметом искусства, но только при
условии, если оно будет познано в его общих закономер-
ностях. Если художник не в состоянии поднять данный1
сюжет до высшей правды искусства, он должен оста-
вить его и приняться за другой, более податливый или
более ему понятный.
Теория .правды в той же мере относится к персонажу
романа, как к его сюжету. Бальзак .постоянно говорит о
необходимости типизировать, обобщать героя.
Что же такое «тип» у Бальзака? Прежде всего это не
портрет какого-либо реального лица, Бальзак категори-
чески протестует против такого понимания типотворче-
ства. По его словам, за всю свою жизнь он написал толь-
ко два портрета — Жорж Санд под именем Камиллы Мо-
лен и Гюстава Планша под именем Клода Виньона, оба
в романе «Беатриче». Но эти портреты очень не похожи
на оригиналы. Бальзак заимствовал у своих .моделей
только некоторые, самые общие черты биографии, на-
ружности и, как в Клоде Виньоке, характера. Все
остальное, особенно в более разработанном образе Ка-
миллы Молен, придумано самим Бальзаком в связи с
надобностями его романа, с идеей персонажа, который
выполняет порученную ему и заранее продуманную
функцию. Можно угадывать сколько угодно схожих черт
между героями Бальзака и его знакомыми, о которых мы
имеем приблизительно точные сведения, или другими
лицами, известньими нам только по имени и, может быть,
неизвестными самому Бальзаку, но это ничего не приба-
вит к нашему пониманию данного романа и всего твор-
чества. Десятки исследователей трудятся над тем, чтобы
извлечь ий произведений Бальзака воспоминания о нем
самом, о его судьбе, характере и любовницах. Нужно
признать, что эти попытки до оих пор не увенчались
успехом. Вспоминал ли Бальзак о мадам де Берни, когда
писал свою «Лилию в долине», или о графине Гвидобони-
Висконти, или о некоей мадам Ландриев, или о ком-ни-
будь другом? Похож ли лоб его героини на лоб Эвелины
Ганской и если ттохож, то почему? Насколько чувства его
93
героев воспроизводят его -собственные чувства, пережи-
тые им в детстве или в зрелом возрасте? Эти догадки в
огромном 'большинстве «случаев не имеют (под собой ни-
каких оснований. Может быть, поиски прототипов когда-
нибудь докажут, что Бальзак для воплощения своей идеи
иногда — очень редко — пользовался воспоминаниями о
знакомых лицах или о лично пережитом, и только.
Сам Бальзак понимал процесс своего творчества сов-
сем иначе. Он говорил о «ясновидении», при помощи ко-
торого можно увидеть, понять, ощутить переживания
лица, (созданного воображением, догадаться о том, что
должен чувствовать человек определенного класса и
нравственного уровня, попав в те или иные обстоятель-
ства. Это дар перевоплощения, которым обладали все
писатели, но в наибольшей степени те, кто создавал мно-
жество разнообразнейших персонажей и заставлял их
действовать по-разному, в зависимости от авторского за-
мысла. Таким был Бальзак.
В начале своей литературной работы он больше гово-
рил о наблюдательности, .которая позволяла ему соби-
рать материалы для его романов. Затем наблюдатель-
ность отошла на второй план, и особое внимание при-
влекло «ясновидение», удивлявшее самого Бальзака.
Разумная, логическая и философская работа над обра-
зом, связанная с сопереживанием, в зрелый период его
творчества казалась ему более важной и более творче-
ской, чем наблюдение, предполагавшее только фиксацию
эмпирических фактов и накопление сведений.
5
Бальзак часто пользовался словами «тип» и «индиви-
дуальность» для обозначения одного и того же понятия.
Действительно, каждого подробно ра^зработанного героя
«Человеческой комедии» можно было бы назвать и тем,
и другим именем. Тип Бальзак понимал как обществен-
ное явление, страсть или нравственное свойство, вопло-
щенное в данном образе. Индивидуальностью он назы-
вал все то, что делало* это явление или свойство
конкретным персонажем, живым человеком. Тип и инди-
видуальность были для него двумя сторонами одного
творческого процесса, предполагавшего обобщение, с
одной стороны, и конкретизацию — с другой.
94
И здесь он продолжает традиции романистов-исто-
риков, видевших в исторических деятелях (представите-
лей общественных групп или партий,—«общее» и «част-
ное», по выражению В-иктора Кузена. Присоединяясь к
такому пониманию великих людей, Бальзак утверждает,
что то же можно сказать о героях «нравов», т. е. никому
не 'известных, не записанных \т\ в каких документах
людях современности.
Главные герои отличаются от второстепенных тем,
что они более обобщены, т. е. своим существованием
обязаны больше воображению и мысли, чем наблюде-
нию. Второстепенные персонажи не столь объемпы, тес-
нее связаны с эмпирически данным материалом, они
ближе к быту, от которого не могут оторваться, и обычно
воплощают среду, в .которой подвизается главный герой.
Это люди в большинстве случаев пошлые, которые своей
серостью должны оттенять более псключителыных, ред-
костных по своим нравственным свойствам главных
героев. «Из моих женских созданий, — говорит Бальзак
о герцогине де Ланже, — это самое .крупное. Ни одна
женщина (Сен-Жерменского) предместья не .может срав-
ниться с ним». Значит, чем меньше сходства, тем худо-
жественнее образ; персопаж, который превосходит своим
велич'ием все свои модели, всех тех, кого он должен был
представить и типизировать, является наиболее совер-
шенным типом. Вот как будто явное противоречие. Но
рассмотрим наиболее известных героев Бальзака, и мы
обнаружим, что противоречие это — кажущееся.
Люсьен дс Рюбампре — представитель журнального
мира, так же, впрочем, iKaiK и Клод В инь он. Разница меж-
ду нимп в том, что Люсьен — главный герой, а Клод
Виньон— второстепенный. Это значит, 'что Вииьон яв-
ляется массой, общим фоном, на котором особенно ярко
должен выступать Люсьен, т\ на кого не похожий.
Действительно, Люсьен не похож пи на одного из ге-
роев «Утраченных иллюзий». Редко кто из них попадает
в такое положение. Из всех современных журналистов
только один Морис Алуа принужден был сочинять непри-
стойные песенки, чтобы похоронить свою возлюбленную.
Редко кто приезжал из провинции в Париж вместе со
стареющей аристократической дамой, уезжал обратно на
рессорах ее экипажа, писал разносные рецензии на вос-
хищавшие его книги и приходил ночью к своей жертве,
95
чгобы покаяться в 'собственной подлости. 6 этом смысле
Люсьен, конечно, исключение. Почему же Бальзак счи-
тает его обобщением и типом?
Тот, кто in опадает в -круги журнализма, неизбежно
испытывает <на себе действие обстоятельств и сил, о кото-
рых подробно сказано в ро)мане. Это закономерность и
необходимость, избежать которую нельзя. Люсьен, может
быть, талантлив, как все, или чуть больше других, но
честолюбив, легкомыслен и слегка коварен, как все или
многие. Но силы, действующие на всех, повлияли на него
больше, чем на других, и привели его к катастрофе, осо-
бенно -показательной и 1почти смертельной. Его судьба
исключительна, но она типична потому, что является
лишь наиболее ярким выражением закономерностей,
действующих в данной среде, профессии и обществе.
Люсьен де Рюбампре, столь непохожий на других
журналистов, служащих для него фоном, является типом
более ярким, чем они. В нем больше вымысла, потому
что обобщение требует больше труда и мысли, чем едва
очерченные наброски людей, бегло показанных и не при-
влекающих к себе пристального внимания.
Вотрем, герой «Отца Горио», несомненно, личность
исключительная. Никому не придет в голову, что все ка-
торжники или большинство их похожи на этого «Напо-
леона каторги». Каково происхождение этого образа?
Заимствовал ли Бальзак для своего любимого героя чер-
ты из биотрафии Видока, или Куаньяра, или Антельма
Коле, или какого-нибудь другого неизвестного истории
бандита, в данном случае неважно. Важно только то, что
те, у кого Бальзак заимствовал свои материалы, тоже
были исключениями, хотя, вероятно, не столь поразитель-
ными, как Вот-рен. Тем не менее Вотрен тоже, по замыс-
лу Бальзака, является типом. Причины очевидны.
Всякий вор <и убийца, всякий, кто нарушает закон
столь явным образом, находится в борьбе с обществом.
Таких много, —целые толпы, работающие на каторге
или скрывающиеся в трущобах больших городов. Вино-
ваты в этом не только они, но и общество, заставляющее
их нарушать законы. Чтобы поставить эту проблему
во весь ipocT, чтобы показать эту основную, принципиаль-
ную несправедливость строя, а вместе с тем следствия,
которые эта несправедливость вызывает в судьбе и нрав-
ственности масс, нужно было сделать каторжником не-
96
заурядную, редкую личность, человека, который -принес
бы огромную пользу, если бы занял в обществе подобаю-
щее ему место. Обо 'всем этом открыто говорит сам Баль-
зак. Следовательно, как личность огромного таланта и
поражающей воли, Вотрен, несомненно, исключение. Но
его поведение и судьба — необходимое следствие строя,
юрисдикции, общественной структуры. Он — жертва об-
щества, вступившая с ним в открытую, осознанную и
непримиримую войну, он — наиболее яркое, доведенное
до .крайней степени (выражение страшной закономер-
ности.
Если бы кто-нибудь упрекнул Бальзака в том, что он
изобразил человека, в действительности невозможного,
то он смог бы отвести этот упрек ссылкой на Куаньяра,
Видока или Коле. Но этой ссылкой нельзя было бы дока-
зать типичности Вотрена. Ее ,можно было бы доказать
анализом общества и рассуждением, т. е. теми же сред-
ствами, какими был создан этот исключительный и ти-
пический образ.
Люсьен де Рюбампре, Вотрен, Растиньяк, Цезарь Би-
ротто, кузина Бетта, любой другой герой любого другого
романа Бальзака может быть примером этого неразрыв-
ного ^единства исключительности и типичности, потому
что типичность у Бальзака определяется не сходством с
большинством и, следовательно, не пошлостью героя,
а общественными закономерностями, в нем проявляющи-
мися. В этом вопросе Стендаль и Бальзак придержива-
лись одинаковых взглядов.
6
В предисловии к «Человеческой комедии» Бальзак
пытается обосновать свои литературные взгляды дости-
жениями естественных наук. Он говорит о «единстве
строения», вызвавшем знаменитый спор между Кювье и
Жоффруа Сент-Илером. Эволюционная теория отнюдь
не нова, она восходит к XVII веку, и Бальзак называет
Лейбница, Бюффона, Нидема и Шарля Бонне вместе с
чистыми .мистиками, как Сен-Мартен и Сведенборг. Су-
ществует лишь одно животное, все организмы созданы по
одному и тому же образцу, и это дает возможность гово-
рить о «прекрасном» законе: «Каждый за себя». Уже в
1842 году Бальзак формулирует теорию «борьбы за
4—3836
97
жизнь», в которой отражается типично буржуазное отно-
шение к действительности. Эта теория связана с его ох-
ранительными политическими взглядами.
«Борьба за жизнь» дополняет «единство строения»,
так как объясняет развитие и дифференциацию форм
органической жизни. Но речь идет также о (Приспособле-
нии к среде: «Животное — это закон, который получает
свою внешнюю форму, мли, говоря точнее, различие в
. своей форме, от той среды, в которой ему суждено раз-
виваться. Следствием этого развития являются зоологи-
ческие 1В1ИДЫ».
Разумеется, не только зоологические, потому что
Бальзака интересует не животное, а человек и общество.
Человек—тоже организм, он тоже находится в постоян-
ной 'борьбе за жизнь и тоже должен приспособляться к
среде. «Общество создает из человека столько различ-
ных людей, -сколько видов в зоологии, — в зависимости'
от среды, в которой развивается его деятельность. Раз-
личие между солдатом, рабочим, чиновником, адвокатом,
бездельником, ученым, государственным деятелем, ком-
мерсантом, моряком, поэтом, бедняком, священником
так же значительно, хотя и не так заметно, как различие
между волком, львом, ослом, вороной, акулой, тюленем,
овцой и т. д. Следовательно, существовали и всегда бу-
дут существовать социальные виды, как и виды зоологи-
ческие».
Бальзак перечисляет профессии, а не классы, так как
имеет в виду деятельность, функции, а не (производствен-
ные отношения, не структуру общества. Эволюционная
теория здесь поставлена на службу буржуазному кон-
серватизму и преуспеянию. По существу, Бальзак изла-
гает теорию неравенства и с этой точки зрения пытается
изучать общество, в котором происходит «борьба всех
против всех».
Но естественнонаучная теория среды, если она и по-
мешала точно формулировать общественную проблему,
все же помогла ее поставить. В творческом методе Баль-
зака изучение персонажа перерастает в изучение 'среды,
и психология смыкается с социологией.
Другой вывод, вытекающий из того же принципа, —
социальный и -биологический детерминизм. Индивидуум
предопределен своим темпераментом, строением черепа,
пищей, климатом, профессией, бытом и социальным стро-
98
ем, к которому он -принадлежит. Все это влияет на его
способности, нравственные свойства и жизненную судь-
бу. Детерминирующие обстоятельства ограничены узким
кругом непосредственных прямых влияний среды и об-
становки, факторами, имеющими естественнонаучный,
физиологический характер.
Такой, детерминизм мог .бы .превратиться в обыкно-
венный фатализм. Человек рождается .преступником, или
тупицей, или развратником и двоеженцем. Он зависит от
обстоятельств, из-под власти (которых выйти не .в состоя-
нии по той причине, что ничего, -кроме этих обстоя-
тельств, он не знает и знать не может. Таким образом,
и общественная борьба сводится к борьбе биологическо-
го плана, а тяга к более совершенным нравственным
нормам, брожение идей, процессы воспитания и развития
являются как бы эпифеноменом, значение которого мо-
жет быть сведено к нулю.
Френология Галля и физиогномика Лафатера дейст-
вительно имели фаталистический характер. В скором
времени они были отвергнуты наблюдением, но в 30-е и
40-е годы их рассматривали как научное, материалисти-
ческое объяснение психологических и социальных про-
блем. Уверовав в эти теории, Бальзак, однако, сохранил
убеждение в неограниченном могуществе человеческой
воли: нравственное начало в человеке может преодолеть
препятствия, которые ставят на его пути природа и об-
стоятельства. Шишки черепа и условия быта были для
него не только средством объяснения тех или иных яв-
лений действительности: он рассматривал их как препят-
ствие, которое человек должен преодолеть.
Среда не является для Бальзака чем-то однородным.
На общем фоне выступают отдельные индивидуальности,
воздействующие на окружающую обстановку в том на-
правлении, какое они считают наиболее целесообразным.
Фатальный детерминизм распространяется в большей
степени на натуры низменные, заключенные в области
инстинктов, 'непреодолимых, неразумных страстей и фи-
зических вожделений.
Для Бальзака наибольший интерес представляет
личность, вступающая в борьбу с внешними обстоятель-
ствами, следовательно, творческое воздействие ее. на
среду. Под внешним единообразием так называемой
«толпы» таятся возможности ярких индивидуальностей,
4*
99
ведущих самостоятельную партию в симфонии жизни.
Вот (почему, несмотря на «зоолопизм» 'рассуждений, вы-
сказанных в 'предисловии к «Человеческой комедии»,
творчество Бальзака обладает неизменно «героическим»
характером.
Создавая свои типы, Бальзак всегда определял идею,
ими /выражаемую, или воплощенную в них страсть.
И идея, 1и страсть у него связаны с естественнонаучными
теориями, идущими из глубокой древности.
Согласно учению Гиппократа, темперамент определя-
ет характер и поведение человека, а вместе с тем и его
господствующую страсть или способность. Та 1и другая
зависят от условий жизни и среды, поскольку условия
жизни и среда меняют темперамент. Бальзак, так же
как Стендаль, изучая человека, хотел приблизиться к
научной несомненности и синтезировать душевный хаос
своего персонажа в некоей равнодействующей, не -боясь
ни упрощения, ни авторского насилия над изображаемой
личностью. Поэтому в его психологическом анализе боль-
шую роль играет господствующая страсть.
Она существовала еще в классической драматургии
и особенно четкое выражение получила в комедии.
У Бальзака она является основной пружиной развития
действия и, следовательно, конструирует весь роман. Это
особенно заметно в романах середины 30-х годов. Вот-
рен, наблюдающий пансионеров мадам Воке, каждого
из них определяет одним словом, содержащим не только
их характер, но и интересы, судьбу и возможности.
Страсть становится маниакальной. Старик Горио живет
в пансионе Воже, где происходят интриги и катастрофы,
но ничего не видит и ничем не интересуется, кроме своей
страсти. Судьба таких героев ясна. Они обречены: их
страсть их погубит. Гранде, терроризировав семью и со-
ставив несчастье дочери, умрет у своих сундуков, Горио
разорится и погибнет в нищете, Бальтазар Клаэс сожжет
свои богатства в тигле, а жена его, также награжденная
«страстью» — покорностью мужу, — станет жертвой его
мании.
К -концу 30-х годов господствующая страсть в типо-
твор'честве Бальзака утрачивает свою силу, душевная
жизнь персонажей становится сложнее, богаче, они жи-
вее откликаются на воздействия среды, вступают в более
тесное с ней общение и вопринимают ее уроки, под влия-
100
нием которых :меняют ювое отношение к вещам и меняют-
ся сами. Они проявляют способность к таким пережива-
ниям, которых, -казалось бы, не может допустить их
«мания». Одной господствующей страсти для героя мало.
У него (бывает их -несколько. Стоит сравнить сложную
психику кузена Понса, увлекаемого своей 'гастрономиче-
ской страстью, со стариком Горио или Гранде, чтобы за-
метить эту эволюцию. Кузина Бетта, противопоставлен-
ная Пенсу как персонаж активный персонажу пассивно-
му «и как палач жертве, — натура куда сложнее, чем
какой-нибудь Клаэс ;или Гобсек. Правда, Бальзак и в бо-
лее поздних романах указывает на господствующую
страсть персонажей, чтобы сократить экспозицию и зара-
нее определить значение каждой из своих фигур, но iBce
же 'психическая динамика теперь привлекает его больше,
чем статическая характеристика неподвижного образа, а
психический процесс кажется интереснее, чем его резуль-
тат. Такие романы, как «Беатриче», «Провинциальная
муза», «Депутат от Арси», заключают образцы глубокого
психологического анализа, который трудно было бы най-
ти в романах предыдущего периода.
7
20-е годы оставили в наследство 30-м два типа компо-
зиции, одинаково восходящие к историческому роману:
драматическую и хроникальную. Бальзак с особой остро-
той должен был воспринять композицию драматическую,
так как понимал действительность как сплошную драму,
героем которой является каждый член общества. Ведь
общество, по мнению Бальзака, представляет собой
систему насилия над естественными страстями человека,
а государственные законы противоречат законам приро-
ды: их цель—подавить естественные склонности челове-
ка, чтобы сделать возможной жизнь. В изображении этой
драмы и заключается правда искусства.
Новеллы, которые он печатает в начале 30-х годов, в
большинстве своем удовлетворяли этим требованиям.
Это были маленькие драмы с конфликтом, подготовлен-
ным длинными описаниями, с катастрофой, разыгранной
точно и полно благодаря непримиримым противоречиям
объективного, преимущественно общественного характе-
ра. В этом смысле особенно характерны «Сцены частной
101
жизни», ставшие ядром будущей «Человеческой коме-
дии». Накануне революции они демонстрировали разли-
чие интересов, нравов 'и культуры классов, 'вступивших в
борьбу во время Реставрации, а также необходимость
уступок и компромиссов ради возможности существова-
ния. Это и есть та большая общественная драма, которая
распалась на множество частных драм.
«Ряд действий, речей, переживаний, которые стремят-
ся к катастрофе», — определяет Бальзак драму и в согла-
сии с этим определением конструирует свои романы.
Многие из них кончаются смертью, убийством, гибелью
героев. Но затем понятие катастрофы эволюционирует.
«Евгения Гранде», роман, который очень дорог авто-
ру, заканчивается без крови и кинжалов. Рецензируя
«Индиану» Жорж Санд, появившуюся за несколько меся-
цев до «Евгении Гранде», он одобряет ее за то, что она
отошла от мелодраматической традиции и не закончила
свой роман насильственной смертью, — очевидно, он знал
о первом, ненапечатанном, варианте романа, в котором
Индиана должна была покончить самоубийством.
В дальнейшем творчестве Бальзак, словно из принци-
па, будет избегать кинжалов и крови, потому что они не
соответствуют характеру современного общества. Драмы
современности кончаются не так. Рассудительность, при-
личия и полиция не позволяют нарушать законы, и пре-
ступления совершаются более прозаическим способом.
Изменившую жену не убивают, а позорят и оставляют без
средств к существованию, или же муж примиряется с
адюльтером, а пылкая страсть заканчивается пошлым со-
жительством надоевших друг другу и во всем разуверив-
шихся любовников, — как в «Провинциальной музе».
«Я не верю в развязки», — говорит героиня «Князя
богемы».
Но, изгоняя кинжалы, современность не уничтожает
драму. Напротив, драма пошлости и компромисса еще
более страшна, а главное, более распространена. Это не
исключение, которое нужно искать среди вороха негод-
ных, т. е. недраматнчиых материалов, а правило, из кото-
рого нет исключений. Драма повсюду, — теперь Бальзак,
смеявшийся над этой тенденцией романтической эстети-
ки, приходит к тому же выводу: он научился ничего не
презирать, всему сочувствовать и всюду находить гото-
вый, подготовленный самою жизнью материал.
J 02
Так эстетика романа Бальзака эволюционирует вместе
с его 'пониманием действительности. Сперва он высказы-
вал сомнение в том, что современность может заинтере-
совать читателя, вкусившего Анну Редклиф, Вальтера
Скотта, Шехерезаду и Купера. Затем ему показалось, что
и в современности бывают неистовые страсти и преступ-
ления, стоит лишь -поискать как следует и приподнять
покровы, которыми приличия и страх одевают общество.
Наконец, Бальзак убедился в том, что драма в современ-
ном обществе не является случайностью: самая пошлость
современного существования заключает в себе драму, по-
тому что она порождается присущим обществу извечным
конфликтом между законами и страстями, природой и
долгом.
Такое понимание современного общества отражается
и в общем колорите романа. После густых красок «Исто-
рии тринадцати» поражает серый тон «Евгении Гранде»,
«Цезаря Биротто», «Кузена Понса» или «Кузины Бет-
ты», — тон мещанского процветания и ничтожества.
Скудные буржуазные интерьеры иногда освежаются
внешней роскошью великосветских салонов, в которых
царит та же духовная нищета, не нарушаемая никакой
смелой мыслью и светлой перспективой. Местный колорит
должен вызвать впечатление скуки по преимуществу, и
только иногда, сло,вно вопреки всему, как будто опровер-
гая всякие законы, в этой тишайшей обстановке в какой-
нибудь девичьей душе вдруг пробьется чувство, заранее
обреченное на увядание,— самоотверженная и «вечная»
любовь, героизм чести, неутолимая ненависть.
Но уже в таком понимании драмы заключается нача-
ло, разрушающее драматическую композицию. Катастро-
фа, наступающая .медленно, не нарушая внешнего бла-
гополучия, без взрыва и гибели — совсем aie то, что пони-
малось под этим именем в поэтиках и придавало
драматическим произведениям поражающий эффект.
Если сравнить «катастрофу» «Евгении Гранде» с «ката-
строфой», например, любого эпизода «Истории тринад-
цати» или даже «Отца Горио», тона первый взгляд мож-
но бы и не заметить драматической структуры повести о
бедной покинутой девушке. Но были и другие обстоятель-
ства, разрушавшие драматическую композицию.
Чтобы построить интригу, завершающуюся катастро-
фой, нужно объяснить причины конфликта. Бальзак не
103
удовлетворялся дешевыми приемами, при помощи кото-
рых драматурги .вызывали ненависть, -соперничество, рев-
ность или борьбу за престол. Процессы, -происходящие в
его романе, он хотел объяснить более глубоко, иногда
причинами, лежащими за пределами данной ситуации.
Нужно было хорошо знать героев, их -предыдущую био-
графию, пути, которыми они пришли к конфликту, сред-
ства, которыми 0;ни хотят достичь цели. Нужно было
окружить их средой—не безразличными статистами в
роли «гостей», (безучастно наблюдающих события, но ак-
терами, энергично действующими, заинтересованными
тем, что происходит на сцене, играющими со страстью
порученные им роли. Нужно было изучить целый ком-
плекс обстоятельств и условий, без которых Бальзак
обойтись не мог.
Материал разрастался. Из небольшого анекдота воз-
никала повесть, затем отдельные ее эпизоды или детали
пускали отростки, грозившие перерасти в самостоятель-
ные рассказы. Эти отростки также требовали детального
объяснения, — иначе они не могли'бы выполнить свою
функцию, — и составляли целые главы. Тут Бальзак
иногда использовал замыслы, заготовленные для само-
стоятельных новелл. Происходило сращивание несколь-
ких замыслов, на основной конфликт наслаивались по-
бочные и служебные, и роман превращался из одной дра-
мы в целую серию драм, подчиненных одна другой, пояс-
няющих одна другую и создающих все вместе огромное
■полотно. И все части этого сооружения связывались за-
кономерностями общественной жизни, тесно переплетаю-
щимися причинно-следственными рядами, часто выходя-
щими за пределы сюжета.
Говорят, Бальзак задумал «Человеческую комедию»,
или, во всяком случае, систему взаимосвязанных художе-
ственных произведений, еще в 1833 году. Вероятно, так
оно и было. Замысел этот должен был возникнуть из са-
мой творческой практики, так как, разрастаясь вширь,
многие повести или романы не могли быть закончены в
момент, копда заканчивалась история главных героев,
основной причинно-следственный ряд. Герой был окружен
плотной стеной второстепенных, но потенциально столь
же интересных героев, и оставить их без всяких перс-
пектив, бросить их на произвол судьбы было невоз-
можно.
104
«Возвращение персонажей», т. е. переход персонажа
из одного романа в другие, начинается только с «Отца
Горио». Именно в этом романе обнаружилась необходи-
мость довести до конца судьбы Расти-ньяка, Вотрена, мо-
жет быть, некоторых других, игра!вших здесь второсте-
пенную роль. Независимо от того, будет ли выполнено
это обещание, читатель упорно думает о том, что слу-
чится дальше с Вотреном и Растиньяком, а (Потому сни-
мается острота «катастрофы»: смерть Горио не решает
всех проблем, возбужденных романом.
«Отец Горио» явно состоит из трех замыслов или сю-
жетов: отец, покинутый своими дочерьми, молодой 'Про-
винциал, развращающийся .в'-Париже, каторжник, нахо-
дящийся в 'борьбе с обществом и соблазняющий невин-
ного юношу. Каждый из этих сюжетов необходим для то-
го, чтобы объяснить общее целое и, в частности, судьбу
Горио. «Утраченные иллюзии» тоже состоят из трех сю-
жетов, которые можно было бы определить названиями
трех частей романа: «Два поэта», «Провинциальная зна-
менитость в Париже» и «Страдания изобретателя». Оче-
видно, «понять» судьбу Люсьена де Рюбампре без его
«брата» Давида Сет ар а было бы невозможно, так же
как невозможно было бы представить себе «страдания
изобретателя» без легкомысленного, безвольного и эгои-
стического 'поэта-журналиста. В «Кузине Бетте» — мно-
жество сюжетов, сложившихся вокруг протагониста,
злобной старой девы, руководящей судьбами семьи из
тьмы кулиге. Мадам Марнеф, мадам Гюло со своим му-
жем, Вотрен со своей сестрой — все это более или менее
самостоятельные, слитые в огромном ансамбле, объясня-
ющие друг друга «идеи-сюжеты». Так путем аггломера-
ции нескольких сюжетов или нескольких драм возникают
большие романы со многими сюжетными центрами ,и дра-
мами неравной энергии и значения.
Вместе с тем, «понятие единства, о котором Бальзак
всегда заботился, приобретает теперь иной смысл.
8
Это понятие играло большую роль .в 'период организа-
ции романтической эстетики, когда отвергнуты были
классические правила трех единств. Для исторического
романа это было единство не формы, а содержания,
105
т. е. единство исторического события, изображенного в
романе. Трансформированное в соответствии с особенно-
стями 'современной темы, такое единство (перешло и к
Бальзаку. Большую роль у него стала играть романи-
ческая или любовная интрига, 'присутствующая -почти во
всех его -повестях начала 30-х годов. Но затем ома утра-
чивает свое значение. В «Турскам священнике» нет ника-
кой любви, нет ее ни в «Цезаре Биротто», ни в «Кузе-
не Понсе». Очень мало любви и в «Отце Горио», «и во
многих других романах. Она отходит на второй план, что-
бы уступить место менее личным и более широким инте-
ресам. Теперь единство рассматривается не как история
одной любви и двух героев, вокруг которых описывают
круги другие, (препятствующие или '.помогающие им персо-
нажи. Оно 'понимается скорее'.как единство изображаемо-
го материала. В «Отце Горио» пансион мадам Ваке явля-
ется топографическим центром событий, но интриг —
множество. Судьба Горио, судьба Растиньяка, его связь
с мадам Нюсенжен, его намечающаяся интрига с маде-
муазель Тайефер, его разговоры с Вотреном, .наконец,
судьба Вотрена с его золотом, крашеными бакенбардами
и агентурой во всех кругах общества привлекают внима-
ние и как будто нарушают единство, если его 'Понимать
как единство интриги и героя.
Единство «Отца Горио» заключается в зрелище пан-
сиона, в котором укрываются те, кто л отерт ел .крушение
в житейских бурях, ил<и те, ikto ожидает случая, чтобы
вырваться в мир действия. «Ноев ковчег», в котором схо-
дится столько интриг, где разрешается столько -проблем,
составляет -не только топографическое и живописное, но
также идейное и композиционное единство романа, вклю-
чающее картины высшего света Парижа и отсветы его
«дна».
Единство для Бальзака не означало ясности. Его -пер-
сонажи не всегда объяснены и разжеваны с самого нача-
ла,— он считает, что это -можно сделать по ходу дейст-
вия, -но только так, чтобы читатель всегда ощущал ан-
самбль. В глубине романа у Бальзака часто заключена
тайна, и читатель должен чувствовать ее как непрерывно
действующую силу.
Бальзак не ищет ясности и в самом течении повество-
вания. Он придерживается метода «картин», тоже веду-
щего свое происхождение от драмы. Это скорее сцены, чем
100
строго последовательный рассказ о событиях, каждое из
которых известно автору и потому должно быть известно
читателю. Автор (поднимает занавес, (показывает декора-
цию, выпускает актеров, разыгрывающих одну сцену
огромной драмы. Затем на подмостки выходят другие
действующие лица, связанные, пока еще не отчетливо, с
первой группой, и только очень не скоро становятся ясны-
ми их соотношения и дело, которое они делают вместе, —
в согласии, в --противоречии или в борьбе. Драматизм ро-
мана, по мнению Бальзака, заключается также и в этом.
Углубляется исследование причин и закономерностей,
сюжет ветвится и обрастает обстоятельствами, — и твор-
ческий интерес Бальзака перемещается с катастрофы на
условия, ее подготовившие, с события на -вызвавшие его
процессы, с следствий на причины.
Действительно, катастрофы, ,как бы ни были они бур-
жуазны и пошлы, случаются не каждый день и не со
всеми. Современная жизнь драматична не потому, что
она полна катастроф, а потому, что все в ней ведет к
катастрофам, и все идет не так, как надо. Следовательно,
составляет жизнь процесс становления событий, между
тем как само событие является лишь краткой случай-
ностью в ее течении.
Кроме того, познать причины и закономерности труд-
нее, чем описать катастрофы, которые у всех на виду, и
важнее, потому что такое познание позволит воздейство-
вать на общественный организм и исправить его плохо
функционирующие органы.
■Наследование причин изменяет характер романа.
Появляются «второй план», тайны, режиссеры действия,
которые, следуя собственным интересам и расчетам, руко-
водят поведением других персонажей. В этом смысле осо-
бенно важен Вотрен, который, взяв на себя роль прови-
дения, пытается руководить Растиньяком и целиком ов-
ладевает Люсьеном де Рюбампре. Действие романа
усложняется. Кузен Понс оказывается жертвой интриги,
о которой он не имеет никакого понятия. В «Кузине Бет-
те» обольщение безумного Поло и месть его сына — ре-
зультат деятельности двух режиссеров — кузины Бет-
ты и Вотрена. В «Утраченных иллюзиях» «свет» и журна-
листы губят Люсьена тонкими, хотя и не очень глубокими
расчетами. «Крестьяне» построены на тайной борьбе
крестьян с помещиком, который не может разобраться в
107
хитросплетениях и интригах своих врагов. Роман Баль-
зака приобретает детективный характер, как, например,
в «Темном деле», в «Кузине Бетте», в «Крестьянах», в
«Депутате от Араи». И это тоже делает драматическую
композицию романа и более сложной, и менее отчетли-
вой, так ,как и здесь акцент переносится с «катастрофы на
процесс, ее подготавливающий.
Господствующая страсть, придававшая героям Баль-
зака монолитность и, вместе с тем, мешавшая им разви-
ваться вместе с обстоятельствами, способствовала драма-
тизму, как он его в то время понимал. Затем герои его
стали размышлять, эволюционировать, тоньше реагиро-
вать на события. Место господствующей страсти заняла
проблема, которую герой должен разрешать всей силой,
своего ума и сердца. Если Горио наделен господствующей
страстью, то Растиньяк свободен от нее, — он стоит леред
проблемой нравственного характера, в этом и заключа-
ется смысл его поведения. На первый план выступает -про-
цесс нравственного развития, взаимодействие личности и
среды, а не (простой, всегда одинаковый отклик страсти
на внешние раздражители.
Второй -план, который развивается ib романах Бальза-
ка, выходит за пределы частной, личной интриги. Внача-
ле роль его заключалась в том, чтобы объяснить события
и вырвать интригу из рук случая. Но злая (или добрая)
воля, стоящая за кулисами действия, — это тоже случай-
ность, так ;как общество «тринадцати», берущее на себя
роль провидения, или деятельность шайки .бандитов во
главе с гениальным каторжником Вотреном слабо связа-
ны с общими закономерностями общественной жизни.
Если погибнет Вотрен или распадется компания светских
львов, то, очевидно, исчезнут и причины, которыми мож-
но было объяснить сумасшедшую пляску событий.
В романах Анны Редклиф «режиссеры» действовали
преимущественно на свой страх и риск, повинуясь собст-
венной корысти. У Скотта ими руководил главным обра-
зом -политический расчет, страсти класса и эпохи. Баль-
зак в поисках больших причин и закономерностей отхо-
дит от английской готической традиции и движется в
сторону Вальтера Скотта.
Режиссеры «Истории тринадцати» преследуют свои
личные цели. Они вступают в борьбу с обществом, чтобы
попирать его законы и завоевать личные блага. Конечно,
108
и эти соображения, как всякие другие, имеют обществен-
ные причины, но они не входят в поле зрения автора,—
это только ожесточившаяся индивидуалистическая воля
людей, презревших все на свете, (кроме самих себя.
В «Отце Горио» Вотрен играет более осмысленную роль,
представляя социальное дно — исковерканных обществом
и вступивших € ним в борьбу отверженных. В «Крестья-
нах» дело обстоит совсем иначе. Сельский ростовщик и
крестьянин, борющийся за землю, — силы социальные, и
борьба, которую они ведут с крупным землевладением,
является очевидной общественной необходимостью. Здесь
интрига является выражением более общей закономер-
ности. Роман все глубже проникает под поверхность бы-
та и случайных обстоятельств, .и увлекательная интрига
превращается в философию современной жизни.
Бальзак с радостью замечал, что в его романы все
свободнее и шире вступают целые толпы действующих
лиц. Происходило это .потому, что, объясняя интригу ро-
мана и поведение персонажей, он нуждался в большом
количестве участников событий. Малое количество их —
лишь малый фрагмент жизни, чем их больше, тем полнее
действие внедряется в обстановку, погружается в неиз-
бежность, как бы само становится общественной неиз-
бежностью.
В 30-е годы герой Бальзака был представителем об-
щественных сил и более или менее широко понимаемых
масс. Но вскоре, обнаруживая сложность действитель-
ности или не доверяя личности столь ответственной роли,
он решил окружить героя подобными ему людьми, раз-
нообразя их насколько возможно, и в то же время направ-
лял по одной дороге. Герой, сохраняя типичность, пере-
стает быть трибуном своего класса, потому что на сцену
выступают «многие представители класса, сам класс, и
личность утрачивает свое первоначальное значение. Это
разница между «Цезарем Биротто» и «Мелкой буржуа-
зией», с одной стороны, «Деревенским врачом» и «Кре-
стьянами»— с другой. Аналогичные тенденции можно
наблюдать в «Урсуле Мируэ», в «Блеске и нищете курти-
занок», в «Депутате от Арси» и даже в «Старой деве» по
сравнению с «Историей тринадцати», «Отцом Горио» и
«Евгенией Гранде».
Обсуждая «Пармский монастырь» Стендаля, Баль-
зак предложил два возможных типа композиции, которые
109
можно было бы назвать «роман-событие» и «роман-био-
графия».
«Роман-событие» по композиции больше напоминает
драму, «pOiMa'H-биография», как бы он ни был драматичен
по существу, больше огохож на традиционный '.повество-
вательный жанр.
«Роман-событие» типичен для 30-х годов. Он полон
неожиданностей, патетических ситуаций, конфликтов
между героями. Последний акт более эффектен и силь-
нее поражает читателя. В «романе-биографии» внимание
обращено на внутреннюю эволюцию героя; это история
жизненного опыта, просветление сознания, смущенного
непостижимостью жизни, и конечный этап воопитания
героя, — нечто 'подобное «Вильгельму Мейстеру» Гёте.
Этот тип романа возникает в творчестве Бальзака
позже. Если не считать «Луи Ламбера», который являет-
ся типичной философской совестью, таких романов нет
вплоть до «Утраченных иллюзий». Биографический ха-
рактер(в таком смысле слова имеют «Мелкая буржуа-
зия», ^«Мемуары двух новобрачных», «Сельский священ-
ник», «Депутат от Арси». В «Отце Горою» также намеча-
лась эта возможность, но она не (получила своего
развития, так >как Бальзак мыслил свой роман как «собы-
тие», и главным героем сделал Горио,— на него-то ху-
дожник, по словам Бальзака, «должен был натравить
весь свет овоей картины». Можно предположить, что, если
бы Бальзак обрабатывал этот сюжет несколько лет спус-
тя, внимание его было бы сосредоточено в большей мере
на Растиньяке, а Горио стал бы лишь вехой 'на его пути к
неким высшим нравственным и, следовательно, общест-
венным нормам. Разумеется, это только предположение,
смысл которого — иллюстрировать тайную, не проявив-
шуюся до конца и в полной ясности эволюцию творческой
мысли Бальзака.
Бальзака обвиняли в «материализме», имея в виду его
интерес к «вещам», — быту, обстановке, костюму, мате-
риальному положению его персонажей, их заработку и их
погоне за деньгами. Приблизительно в том же обвиняли и
Гюго — за его «Ориенталии» и за «Собор Парижской
богоматери». Это была реакция против исторического ро-
мана, с его широким м^ром вещей и событий. В 30-е годы
наметился острый и принципиальный интерес к психоло-
гическому роману, к медленно развивающимся событиям
110
«души». Бальзак отдал дань этим интересам. Во многих
его романах история души занимала первое место, хотя
внешний мир упорно продолжал существовать —без него
Бальзак не мог себе представить анализ сознания и ре-
шение нравственных проблем. «Лилия в долине», напи-
санная в противопоставлении «Сладострастию» Сент-Бё-
ва, при всем ее драматическом психологизме точно изоб-
ражает семейную жизнь героини, ее хозяйственную
деятельность, семью и усадьбу.
Романы с обильным действием и быстрым чередова-
нием перипетий, но мнению Бальзака, легко и быстро
приобретают популярность у читателя. Но со временем
романы без событий, полные анализа души и обстоя-
тельств, сильнее привлекают к себе симпатии и «торже-
ствуют над предательством фельетона».
Бальзак имеет в виду «роман-фельетон», получивший
это название после того, как Эмиль де Жирарден стал
печатать романы в фельетонах в своей газете «Пресса».
Эти романы должны были завлекать читателей чисто
внешним интересом: каждый фельетон, т. е. глава рома-
на, прерывался «на самом интересном месте», чтобы чи-
татель непременно купил следующий номер газеты.
Однако, предпочитая анализ, Бальзак не пренебрегал
острым сюжетом и бурным действием, если это соответ-
ствовало материалу и замыслу. «Каждому произведению
своя форма», — этими словами заключил он свои рассуж-
дения. Роман без действия, роман аналитический господ-
ствовал в течение всего столетия и считался высшей фор-
мой литературы.
Художественная эволюция Бальзака за двадцать лет
напряженного творческого труда была значительна и по-
казательна для эпохи. После чрезвычайного жанрового
разнообразия, которым отличалось творчество Бальзака
начала 30-х годов, он вскоре сосредоточился на одной
форме современного романа — драматической. Психоло-
гическому роману, расплывавшемуся в анализе более или
менее пассивных переживаний, он хотел противопоста-
вить произведение, крепко связанное с внешним миром,
и героев, более активно откликавшихся па его воздейст-
вия. Нужно было показать драматизм современного об-
1П
щества, происходящую в нем борьбу между законами
естественными и государственными. С другой стороны,
нужно было противопоставить четкую и прочную конст-
рукцию, отражающую рациональное понимание действи-
тельности, преднамеренному «хаосу» «неистового» ро-
мана.
Затем, утвердившись на позиции глубокого анализа
общества, Бальзак пошел дальше. Этот анализ обнару-
жил в действительной жизни новые материалы и пробле-
мы, которые требовали других конструкций, более слож-
ных и гибких, чтобы полнее и свободнее отразить богатую,
серую с виду, но бесконечно разнообразную по существу
современность. И Бальзак радостно подчинился новым,
открывшимся перед ним необходимостям жизни, мысли и
искусства.
По мере того как яснее обозначались задачи и пер-
спективы творчества, возникала мысль об объединении
всех романов в одно целое. Реальное общество должно
было получить свое отражение и своего «соперника» в ис-
кусстве. Так возникла система «возвращения персона-
жей», название, не точно определяющее замысел Бальза-
ка. «Возвращение персонажей» было только техническим
средством решения задачи — создать вымышленное об-
щество по аналогии с реальным, менее многочисленное,
чем население Франции, всего две или три тысячи чело-
век, но, может быть, еще более реальное, потому что за-
кономерности, определяющие движение большого трид-
цатимиллионного общества, должны были действовать
яснее и неопровержимее в меньшем, вымышленном об-
ществе «Человеческой комедии».
Возвращение персонажей, продолжение сюжетов или
проблем в двух или более романах, противопоставление
одного романа другому — все это связывало части «Че-
ловеческой комедии» и укрепляло ее единство. Тема
«бедных родственников» разрабатывалась в двух рома-
нах, один другому противопоставленных: «Кузен Понс» и
«Кузина Бетта», тема «холостяков» — в трех: «Пьеретта»,
«Старая дева», «Семейство холостяка», затем шла серия
«Соперничества в Провинции» — и как бы случайны ни
были принципы сочетания или противопоставления этих
романов, вдумчивый читатель обобщал результаты своих
чтений и из всего этого разнообразия извлекал единую
мысль.
112
Процессу объединения и противопоставления способ-
ствовали силы, действовавшие внутри каждого романа.
В каждом романе вокруг основного действия возникало
несколько других, более или менее тесно с ним связанных
или тяготевших к нему, — подобно планетам, тяготеющим
к солнцу, но сохраняющим свою особую орбиту. Каждое
из этих действий имело свою драму, но в пределах одного
романа часто разрешалась только одна основная, осталь-
ные иногда переходили в другие романы как основные
или побочные. Отдельные драмы в своей совокупности
составляли одно огромное эпическое произведение. Оно
возникало стихийно, без заранее обдуманного плана, на-
громождением романов, изучающих самые разнообраз-
ные проблемы, слои населения, тенденции и нравы Фран-
ции. В идее своей и в общей конструкции этот эпос совре-
менной Франции является последним этапом непрерывно
развивавшейся художественной мысли Бальзака, все
больше избегавшего окончания, остановки, статики.
Жизнь длится в пространстве и времени, она не может
остановиться, и за каждым новым ее этапом, драмой,
конфликтом и катастрофой есть еще нечто движущееся,
продолжающееся и возникающее. Вот почему и роман
нельзя закончить совсем и навсегда, — это было бы ошиб-
кой мысли и ошибкой искусства. Ощутив и поняв это,
Бальзак пытался передать это ощущение в каждом рома-
не и во всей «Человеческой комедии».
Он подсчитывал количество напечатанных им произве-
дений и даже1 как будто всерьез собирался когда-нибудь
закончить свой эпос. Но за каждым завоеванным рубе-
жом возникали другие, за каждой разработанной пробле-
мой— новая, поставленная жизнью, подготовленная про-
цессом творчества, незримой, но непрестанной работой
всех созданных им людей и судеб. В мозгу продолжали
роиться замыслы, требуя жизни, соблазнительные и не-
обходимые.
Эволюция Бальзака от первых юношеских произведе-
ний до «Человеческой комедии» весьма показательна.
Она характерна для всей французской литературы первой
половины века. Но вопросы, поставленные Бальзаком в
своем творчестве и обсуждавшиеся им в статьях и преди-
словиях, не были закрыты с его смертью. Они разрабаты-
вались широко и полно следующими поколениями писа-
телей— с других позиций и с другими целями.
ИЗ
ГЛАВА V
ЖОРЖ САНД
I
Жорж Санд как писательницу создала Июльская ре-
волюция. Она была для нее обещанием новой жизни,
построенной на справедливости и всеобщем счастье.
Только в атмосфере Июля она могла пойти на разрыв с
традициями, со всем укладом провинциальной помещичь-
ей жизни, уехать в Париж и начать литературную дея-
тельность.
Но первые республиканские восторги вскоре прошли.
Когда революция была заторможена и партия сопротив-
ления оказалась у власти, Жорж Санд вместе со всей мас-
сой республиканцев и демократов вступила в страстную
оппозицию правительству. Неудачи восстаний, продол-
жавшихся в течение нескольких лет, очевидное торжество
буржуазной верхушки, ужасающая нищета рабочего лю-
да, суды и казни повстанцев, гибель всех иллюзий, кото-
рыми жили захваченные революцией умы, — все это по-
вергло Жорж Санд в глубокое отчаяние, отразившееся
в ее произведениях первой половины 30-х годов. Прекрас-
но и глубоко характеризовала она этот тяжелый период
истории французской мысли в «Письмах к Марсии»
(1837): «Мы переживаем роковую эпоху. Из всех эпох,
породивших важные в истории человеческого духа рево-
люции, может быть, ни одна не была столь обильной
страданиями и ужасами. Мы оказались лицом к лицу с
новым человеком, с нами самими — без веры и без воли,
с призраком, который считал своей сущностью грязь
материи, своими отцами — самых слепых и самых гру-
бых богов, чудовищ, от которых Христос избавил трепе-
щущее человечество: Случай и Рок».
Разуверившись в возможности какой-либо обществен-
ной деятельности, она попыталась «уйти в себя». Свободу
она стала понимать как свободу личную. Она чувствова-
114
ла себя, по ее собственным словам, Совершенно свобод-
ной, т. е. не связанной никакими узами с другими людь-
ми. Это было чувство одиночества* безразличие к жизни,
доводившее ее до мысли о самоубийстве, «ненасытная
гордыня», «беспечное самолюбование», «наглый геро-
изм» — так характеризовала она «болезнь», -которой стра-
дало ее поколение.
Причины этого состояния духа вскрываются в письме
1831 года: «Я ненавижу всех людей, королей и республи-
канцев, абсолютистов, так называемых умеренных, я
чувствую к ним презрение и отвращение».
«Индиана» была написана весной 1832 года, когда
шел к своему апогею весь этот «неистовый» комплекс.
Роман этот объясняли событиями личной жизни автора,
ее отношениями к мужу и не видели в нем ничего друго-
го. Но проблема, в нем поставленная, бесконечно шире, и
ее нельзя свести к одному только «женскому вопросу».
«Если герои страдают от общественных недостатков и
мечтают о более совершенном общественном строе, — пи-
шет она в предисловии к первому изданию, — то обвинять
в этом можно только общество с его неравенством или
капризы судьбы». Бесправное положение женщины при
Реставрации было лишь одной из форм универсальной
несправедливости. В романе говорилось о «язвах агони-
зирующей цивилизации», о «подавленных законом страс-
тях, о воле в борьбе с необходимостью».
Основной чертой современности Жорж Санд считает
доведенный до предела эгоизм. Индивидуализм Реймона
де Рамьера — особенность доктринеров, которые свели
на нет революцию и занимаются политикой из тщеславия
и ради острых ощущений. Его характеризует «ненасыт-
ная жажда событий и волнений» — один из весьма важ-
ных элементов байронического комплекса. «Вы скажете,
что эгоизм — это мораль, это разум. Реймон, — ответит
автор, — это ложный разум, ложная мораль, управляю-
щие обществом».
Индивидуализм Реймона свойствен и тем, кто ищет
идеал, созданный воображением и невозможный в дейст-
вительности. Другая форма этой современной болезни
получила свое изображение в романе «Лелия». Над этим
романом Жорж Санд работала долго, пытаясь осмыслить
судьбу своего поколения.
115
«Книга была написана под бременем почти смертель-
ного страдания, чисто духовного, философского и религи-
озного, вызывавшего тоску, необъяснимую для тех, кто
живет, не заботясь о причине и цели жизни... Многие стра-
дали из-за проблемы жизни в тысячу раз больше, чем
из-за реальных событий и несчастий, которые она нам
приносит».
Страдания эти были «метафизические», и тем более
они интересны. «Как можете вы, молодой человек, ду-
мать, что мы идем по пути прогресса, когда вокруг вас
гибнут все убеждения и никакие другие не приходят им
на смену, когда общество мечется в ослабленных узах,
не возвращаясь к истинной справедливости, ... когда все
священные когда-то принципы подвергаются сомнению
и становятся забавой для детей?» Все прах и тлен, ничто
не достойно уважения — ни люди, ни учреждения. Лелия
ищет недостижимый идеал. Юный поэт Стенио любит ее,
но он слишком низмен в своих страстях; он — воплощение
современного индивидуализма. Мир, казалось ему, был
создан для его эгоизма, который и привел его к нравст-
венному падению и самоубийству. Лелия проклинает эго-
изм своей эпохи и всеобщий эгоизм, но, стремясь к своему
собственному совершенству и противопоставляя себя дру-
гим, Лелия идет по тому же пути. Ее совершенство играет
разрушительную роль; оно — бремя не только для нее,
но и для других. Самоубийство является естественным
выходом для этой отчаявшейся души. Такова была Лелия
в первой редакции романа, напечатанной в 1833 году.
Лелия, Стенио, Тренмор, Магнус не задуманы как
живые люди. Это горестно жестикулирующие абстракции,
идущие навстречу своей судьбе без надежды ее избежать
и без попытки ее исправить. Роман этот можно было бы
назвать «философским» и «символическим», какие рас-
пространены были в первой половине 30-х годов. В этом
смысле показательны ссылки на Рене (Шатобриан),
Вертера (Гёте), Обермана (Сенанкур), Конрада и Ман-
фреда (Байрон), «которые, — по словам Жорж Санд,—
принадлежат скорее философической истории человечес-
кого рода, чем его поэтическим анналам».
«Жак» — роман, появившийся в следующем, 1834 году,
близок «Лелии». Главный герой его так же идеален, как
Лелия, как и она он чувствует непреодолимое отвращение
к миру зла. Жак любит свою молодую жену, но кончает
116
самоубийством, так как не может найти в ней совершен-
ства.
Проблема та же, что в «Лелии», но решается она
чуть-чуть иначе. Читателю кажется, что Жак в чем-то не-
прав, и он симпатизирует его жене, не только оправдывая,
но и оплакивая ее как жертву. Требовать от обычного,
среднего, хотя бы даже и добродетельного человека не-
возможного значит совершать несправедливость и жесто-
кость. Лелия и Жак больны одной болезнью — любовью
к себе, которая заставляет противопоставлять себя другим
и мучительно презирать все, что не соответствует их иде-
алу, придуманному в противоречии всему существующе-
му. Так начинается борьба с идеалом и пантеистическая
реабилитация нормы.
Неистовые мысли «Лелии» предполагали соответству-
ющую композицию. «Я написала „Лелиюа,не задумы-
ваясь о последовательности рассказа, без плана, как при-
дется, и в основном для себя самой. У меня не было ни-
какой теории, я не принадлежала ни к какой школе, я
почти не думала о читателях». Состояние духа, очевидно,
было «растерзанное», такое же, как композиция. Герои
появляются, когда им вздумается, сцены и лейзажи сле-
дуют друг за другом по произволу автора, и смысл этого
произвола — только в том, чтобы установить беспорядок,
«хаос», смятение духа, не ожидающего никакого благо-
получия ни для своих героев, ни для описываемого мира.
Тот же композиционный принцип и в «Индиане». Ав-
тор как будто не беспокоился о том, чтобы придать собы-
тиям логическую последовательность, чтобы наметить
стадии в психологическом развитии героини. Катастрофы,
удары судьбы, оскорбления нагромождаются только для
того, чтобы показать низость утонченного и талантливого
политического деятеля, стоящего у кормила правления.
В «Валентине», появившейся вскоре после «Индианы»,
события больше обусловлены средой. Она определяет соз-
нание героев и ход действия, который с неизбежной зако-
номерностью приводит к конечной катастрофе. Причинно-
следственная связь событий разработана более тщатель-
но, и это было основной задачей автора.
«Лелия» 1833 года не имеет перед собой цели. Роман
не должен никуда прийти. Он начат так же, как закончен,
в том же состоянии духа и в той же атмосфере неподвиж-
ного томления. Меняется обстановка, 'появляются новые
117
люди, но встречи, конфликты и споры не вносят ничего
нового в сознание героев и в их поведение. Это только
испытания, неудавшиеся опыты приятия жизни. Второй
вариант романа, написанный с другой точки зрения, не-
сколько меняет композицию, придает динамику повес-
твованию и ведет к заключению, обещающему буду-
щее.
В 1834 году в творчестве Жорж Санд намечается пе-
релом, возникают новые качества, новое отношение к
действительности и более четкое разрешение волновав-
ших поколение проблем. В письме к Альфреду де Мюссе
1834 года Жорж Санд, исследуя индивидуалистическую
психологию большого поэта, родственную ее собственной,
приходит к конструктивным решениям. Человек не дол-
жен быть одинок и презирать людей меньших, чем он.
Великие люди должны знать, в чем смысл их величия.
Талант не является их собственностью — это собствен-
ность общая, и они не могут им распоряжаться по своему
произволу. Так начинается преодоление индивиду-
ализма.
Но это только первая стадия. Жорж Санд еще нахо-
дится во власти «великих людей». Она выделяет их из
«толпы», из числа «других». «Другие» могут принадле-
жать себе, потому что у них нет никаких духовных цен-
ностей. Этими ценностями владеет «великий человек»,
«поэт».
Мысль о том, что «великий человек» осуществляет
волю масс и в своих действиях выражает историческую
необходимость, исчезла в катастрофах 30-х годов. Теперь
величие обнаруживается только в отчужденности от ок-
ружающего общества, в непохожести на других. Еще в
«Письмах к Марсии» Жорж Санд противопоставляла
избранные натуры вульгарным, требуя от избранных того,
что не могут сделать другие, неспособные ни к высшим
страданиям, ни к высшим добродетелям.
Теория «великих людей» была последним препятстви-
ем на пути от индивидуализма и праздности к демократии
и труду. Это был путь, по которому шел ее век.
«Письма путешественника» свидетельствуют о том,
что самая тяжелая пора метафизического отчаяния Жорж
Санд миновала. Весной 1834 года путешественник, или,
вернее, автор письма, идет по альпийским скалам, вгля-
дывается в пейзажи, старается понять жизнь природы. Он
118
забывает о себе. Внешний мир входит в сознание и дока-
зывает, что он существует, что человек не одинок, и что
одиночество — ошибка и ложь. Лелия, искавшая приду-
,манного ею совершенства, ненавидела природу с ее «глу-
пой красотой» и вечным молчанием. Путешественник
1834 года восхищен природой, ее красотой, полной смыс-
ла, разнообразием голосов и благостным отношением к
человеку. Пейзажи Венеции, лукавые гондольеры, весе-
лое общество, не думающее о невозможном, и доктор
Паджелло, спутник и друг Жорж Санд, предпочитаю-
щий солнце и краски Италии фантастике и туманам
Германии, — все способствовало новому ощугцению
жизни.
В это время Сент-Бёв, которому Жорж Санд поверяла
свои душевные страдания, дал ей совет: «Выйдите за пре-
делы самое себя». Слова эти навсегда сохранились в ее
памяти. Особенную роль они сыграли в этот тяжелый и
важный 1834 год, когда она начинала долгую, прошедшую
много фаз борьбу за приятие мира.
2
Этот год был богат событиями. В апреле вспыхнуло
восстание в Лионе, имевшее отклик в других городах
Франции, а также в Париже. Восстания были подавлены
с жестокостью, вызвавшей смятение и негодование в ши-
роких слоях общества. Весной 1835 года начался процесс
«апрельских заговорщиков», который слушался в пала-
те пэров. Это было одно из центральных событий 30-х
годов, имевшее важные следствия для общественного
сознания.
Весной 1835 года Жорж Санд познакомилась с Мише-
лем, который присоединил к своей фамилии название го-
рода, где он жил: «из Буржа». Пылкий республиканец,
он был одним из самых видных защитников в процессе
апрельских заговорщиков. Этот «Робеспьер», как его на-
зывали, пугал Жорж Санд своими крайними политичес-
кими теориями. Она боялась насильственного захвата
власти, господства одной партии, террора и предпочитала
оставаться в стороне от схватки.
Но вскоре она почувствовала себя солдатом. Она упре-
кает сен-симонистов за то, что они предпочли «евангель-
U9
ский» путь, путь увещания, и принимает сторону воинст-
вующих республиканцев.
Вместе с тем исчезает противопоставление людей мыс-
ли и людей действия, с такой отчетливостью возникающее
в 30-е годы. Исчезает и культ великих людей, страдаю-
щих одиночек, оторванных от простых смертных. Жорж
Санд отвергает величие непонятых страданий, за кото-
рыми хочет укрыться праздность и нравственное безраз-
личие. «Не к чему возноситься над окружающими и пре-
зирать обыденные условия жизни. Не к чему искать оди-
ночества, бежать в пустыни и жаждать освежающих гроз.
Наши жалобы — пустословие и богохульство. Что вели-
кого мы совершили, чтобы считать окружающих нас лю-
дей столь ничтожными и избегать даже следов их ног?...
Вместо того, чтобы искать вокруг себя простые души и
честные умы, мы начинаем ненавидеть род человеческий,
мы становимся гордецами». «Умники» требуют восхвале-
ний и памятников, но «народ голодает; пусть умники раз-
решат нам подумать о хлебе для народа прежде, чем
сооружать им храмы». В 1835 году она предостерегает
своего двенадцатилетнего сына Мориса: «Порок, которо-
го ты должен избегать, — это слишком большая любовь
к самому себе... У одних она порождает сословную гор-
дость, у других — гордость своим богатством, и почти у
всех —эгоизм. Никогда, ни в какие времена люди не бы-
ли так преданы отвратительному эгоизму, как в наше
время. Полвека тому назад началась яростная война меж-
ду чувством справедливости и чувством жадности. Эта
война далеко еще не закончена, хотя жадные все еще
побеждают».
Проблема поставлена ясно, и характеристика времени
достаточно точная, а вместе с тем и оптимистическая, по-
тому что, по мнению Жорж Санд, недалеко то время,
когда победит справедливость.
Теперь и вопрос самоубийства решается иначе. Еще
в 1835 году Жорж Санд сохраняла некоторую симпатию
к самоубийцам и не знала, что предпочесть: «эшафот»,
т. е. добровольную смерть, или «пожизненную каторгу»,
т. е. жизнь. Но затем все меняется: самоубийство — это
тоже болезнь гордости, нежелание принять свою обыч-
ную, среднюю судьбу и неумение победить препятствия.
Трагическое неистовство Жорж Санд не перешло за по-
рог 1835 года.
120
В 3Û-e годы поэты и публицисты сравнивали свою эпо-
ху с сумерками. Был ли это вечерний сумрак или пред-
рассветная мгла? Этот вопрос обсуждался в «Песнях су-
мерек» Виктора Гюго, в философско-исторических раз-
мышлениях Баланша, в журнальных статьях и решался
по-разному. Для Жорж Санд теперь не было сомнения в
том, что наступает утро. Утешая опечаленную жизнью
Марсию, героиню своего незаконченного романа, она
пишет символические слова: «Взгляни! сквозь виноград-
ные ветви и левкои твоего окна спускается к тебе утро.
Твоя одинокая лампа борется с зарей и бледнеет; сейчас
взойдет солнце».
Около этого времени Жорж Санд близко познакоми-
лась с философией Пьера Леру. Учение Леру было типич-
ным пантеизмом, который в другой форме распростра-
нялся во Франции уже в 20-е годы, в немецкой философии
тождества, переработанной Виктором Кузеном. Но если
в 20-е годы пантеизм в его гегельянском варианте прев-
ращался в философию истории, то в 30-е он приобретал
натурфилософский смысл. Это была философия демокра-
тии, противопоставленная гегельянству, спиритуализму
всякого рода и прежде всего христианской религии.
Единство духа и материи одухотворило материю и лиши-
ло дух независимости, которая необходима была христи-
анству. Пантеизм утверждал всеобщее равенство и оправ-
дывал борьбу за материальные блага. Широкое оправда-
ние всего существующего у Пьера Леру отнюдь не
превращалось в фатализм и безразличие, но требовало
демократического развития.
Если человек — ничто как особь и представляет собой
нечто лишь как частица человечества, то страдание всего
человечества или каждой отдельной его частицы являет-
ся страданием всех остальных частиц. Пантеизм отрицал
существование зла самого по себе, зла в природе и рас-
сматривал его как явление дурно организованного об-
щества, следовательно, по существу своему был оптимис-
тичен. Учение Леру не было статично, как учение Спинозы.
Мир находится в непрерывном движении и совершенство-
вании, говорит он, подхватывая взгляды немецкого идеа-
лизма и теории тождества. Развитие идет от камня к богу.
Нравственная задача человека в том, чтобы помогать
этому одухотворению материи, утверждению единства
материи и духа в самом человеке. Счастье заключается
121
ttê в том, чтобы подавлять человеческие страсти, а в том,
чтобы направлять их к благу не только собственному, но
и всеобщему.
Жорж Санд была подготовлена к этой философии и
эклектизмом Виктора Кузена, и общим движением демо-
кратической мысли. Тем не менее она восприняла панте-
изм как откровение. Она почитала Леру «как нового
Платона, как нового Христа». Пантеизм победил сомне-
ния, с которыми она все еще не могла окончательно спра-
виться. «Меня спас Леру», — говорила она в старости.
3
Отождествление материи и духа имело следствия,
значение которых нельзя переоценить.
Прежде всего, это отождествление проявилось в уче-
нии о человеке, т. е. в антропологии. Душа и плоть стали
едины. Были оправданы страсти, воспринимавшиеся
прежде как покушение плоти на чистоту духа. «Душа»
стала богаче, пышнее и понятнее, потому что она срос-
лась с телом, а тело оказалось душой и, следовательно,
получило право на внимание.
Но это не было подчинением факту, всякому факту,
только потому, что он существует, — понятие бесконечно-
го развития и совершенствования требовало оценки этих
фактов. И критерии такой оценки заключались в принци-
пе, конструирующем всю эту философию.
Принцип единства, вступая в область философии при-
роды, связывает неразрывными узами мир человеческий
и мир естественный. Человек выходит из своего одиночест-
ва «царя природы», из своей отчужденности единственно-
го одухотворенного существа. Весь органический и неор-
ганический мир вступает в братское единство с человеком.
Это тождество позволяет сделать выводы гносеологичес-
кого и, следовательно, художественного порядка.
Человек может познать и понять все, так как он всему
сопричастен. Природа живет согласно законам, управля-
ющим жизнью человека, а потому переживания и мысли
человека могут найти свои аналогии в жизни природы.
Это не антропоморфизм, не навязывание природе челове-
ческих форм и свойств, не насилие над природой, но вклю-
чение природы и человека в некое высшее единство.
Естественные науки — науки о нас самих. Наблюдая
природу, мы смотримся в нее, как в волшебное зеркало,
и в бесконечном разнообразии форм улавливаем наше
собственное бесконечно измененное лицо. Наши понятия
и чувства изобретены не нами, а потому не являются толь-
ко нашим достоянием. Борьба страстей в нашей душе,
борьба классов в обществе, борьба стихий в .природе, по
мысли Жорж Санд, имеют один общий смысл, и тот, кто
не одухотворяет природу, кто не видит в природе этого
всеобщего закона, не в состоянии ни изучать, ни изобра-
жать ее в искусстве. Мир обладает причиной и целью, так
как мы, равноправная частица мира, обладаем этими по-
нятиями. В мире существует неравенство, но существует
и справедливость, только в особых формах. Наши чело-
веческие желания и цели осуществимы, так как они явля-
ются законами всеобщей жизни. Все в природе прекрас-
но, потому что всё — это мы. Все стремится к жизни, к
счастью и добру, потому что мы к этому стремимся.
Ощущение родства со всякой жизнью на земле часто
наводило на мысль о переселении душ. Жорж Санд, ко-
нечно, не верила в метемпсихоз в прямом и наивном смыс-
ле этого слова, предполагавшем веру в существование
душ отдельно от плоти. Когда Флобер писал ей, что в
своей прежней жизни он был рыцарем-крестоносцем и
умер, объевшись виноградом в Палестине, Жорж Санд
объясняла это ощущение не столько воспоминанием,
сколько воображением. Метемпсихоз для нее, как для
писателя, был возможен в форме художественного пере-
воплощения.
В «Рассказах бабушки» господин Лешьен вспоминает
о своем прежнем существовании в виде собаки, какой-то
англичанин рассказывает о своей жизни в виде слона,
обиженный деревенский мальчик бежит в лес и живет в
дупле дуба, с которым ведет разговоры, — и кажется,
что это не выдумка, а реальный факт, входящий в законо-
мерности жизни.
Родство со всеми живыми существами необходимо
предполагало родство со всеми людьми. Те, кто жил за
тысячелетия до нас, шли тем же путем, переживали то же,
что мы, — это были мы, только в другой форме и в других
условиях. Чувство исторических различий у Жорж Санд
подавлялось чувством сходства и тождества, — и в этом
также демократы 30—40-х годов далеко ушли от либера-
лов 20-х: и в исторических, и в современных сюжетах
123
Жорж Санд больше интересовалась внутренним родством
людей и страстей, чем различиями нравов.
При Июльской монархии демократическия натурфи-
лософия, так же как либеральная философия истории при
Реставрации, была основой для прогрессивных идей. Но
натурфилософия не откладывала будущее в долгий ящик,
не ожидала медленного развития общественных отноше-
ний, чтобы осуществлять программу действия. После
1830 года умеренные либералы или доктринеры оказались
в партии сопротивления. Отход демократических кругов
от исторического принципа философствования и бурное
развитие натурфилософии было исторической необходи-
мостью эпохи.
Те, кто работает на земле, в мастерских и страдает от
нищеты, те, кто создает ценности и умирает от голода,
уже сейчас имеют право на равенство и не только сослов-
ное— сословное равенство не принесло того, на что наде-
ялись и что обещали либералы — но и на равенство ма-
териальных благ, образования, участия в управлении
государством. И нечего ждать, когда что-то отомрет и
что-то изменится: единство, существующее в природе,—
достаточное доказательство того, что полная демократия
должна наступить здесь и теперь (hic et nunc).
Эта мысль жила в сознании едва ли не каждого демо-
крата эпохи и напоминала натуралистическую позицию
просветителей, апеллировавших к природе для решения
социальных проблем. Закономерно -и то, что демократы
30-х и 40-х годов, так же как либералы 20-х, обращались
к революционной традиции XVIII века, но уже не столько
к «принципам 1789 года», сколько к идеологии 1793 года,
принимая якобинскую демократическую программу и от-
вергая якобинский террор.
Теми же тенденциями пантеизма Пьера Леру объясня-
ется и утопический характер его общественно-политичес-
ких учений. Жорж Санд заимствовала у него и крайний
демократизм, и утопизм, получивший выражение в ряде
ее романов.
С этого времени Жорж Санд исповедует социализм в
той форме, в какой он был ей доступен. Во время Фев-
ральской революции она — в самом авангарде и тяжело
переживает ее неудачи. Переворот 1851 года окончательно
разбил ее надежды, а распри между прогрессивными пар-
тиями, мешавшие совместным действиям, убедили ее в
124
том, что в данных условиях людям доброй воли остается
только идеологическая работа и медленное воспитание
масс. В этом плане особое значение приобрели естествен-
ные науки.
В «Новых письмах путешественника» (1850—1860)
философия истории отсутствует. Ботаника, энтомология,
геология приобретают особый интерес. Гербарии, коллек-
ции бабочек и минералов доставляют Жорж Санд эсте-
тическое и философское наслаждение. Цветы, насекомые,
камни — это все те же «мы», но только в другой стадии
развития. Роман «Вальведр» (1861) становится манифес-
том естественнонаучным и натурфилософским так же, как
эстетическим.
Индивидуалистическая страсть, основанная на эгоизме
и самовлюбленности, подрывает нравственное здоровье
двух молодых героев. Страсть эта — ложная, самообман,
приводящий к катастрофе, бунт, не заключающий в себе
никакого общественного смысла и никакой справедливой
идеи.
Молодому поэту, который хочет влюбиться, чтобы
стать гением, противопоставлен ученый-естествоиспыта-
тель, самоотверженно отдавший себя науке и лишенный
неврастенического стремления к наслаждению. Изучение
природы обогащает его сознание и освобождает от бед-
ствий индивидуализма. Естественные науки являются
средством борьбы с эгоцентризмом, эгоизмом и мещанст-
вом. Посвящая свой роман сыну, Жорж Санд формули-
рует заключенную в пей мысль: «В продолжение многих
веков человек считал себя средоточием и целью мирозда-
ния. Теперь мам открыто учение более справедливое и бо-
лее широкое... Оно может быть выражено в трех словах:
... выйти за пределы самого себя».
Уже в «Индиане» Жорж Санд изобразила «неисто-
вую», т. е. эгоистическую, раздраженную и злую любовь,
основанную не столько на жажде наслаждений, сколько
на тщеславии: любовь к самому себе. В разных вариан-
тах этот тип повторяется в других романах — «Леоне
Леони», «Странствующий подмастерье», «Орас», «Кон-
суэло». Психологический анализ в последних романах
становится особенно тонким благодаря тому, что теперь
эгоистической любви, «любви к себе», противостоит дру-
гое начало, пантеистическое отключение от собственной
личности ради наиболее 'полного постижения внешнего
125
мира, чужой души, «не я». Вместе с тем, тип себялюбца
в любви принимает отчетливый социальный смысл. То,
что намечено уже в «Индиане», в «Орасе» дано на фоне
больших политических событий —трагической республи-
канской борьбы начала 30-х годов. Пантеистическая фи-
лософия определяет задачи, цели и глубину психологи-
ческого анализа Жорж Санд, опирающегося на твердо
разработанные общественно-политические и психологи-
ческие взгляды.
Это также продолжение борьбы с «неистовой» литера-
турой. Орас — разновидность Антони, героя одноимен-
ной драмы Дюма 1831 года. Санд толкует драму по-свое-
му. «Быть одновременно любовником, подобным Антони,
и гражданином, как вы, невозможно. Нужно выби-
рать»,— говорит Орас, и его собеседник отвечает, давая
ключ для понимания романа: «Это как раз то, что я ду-
мал, слушая этого Антони, презирающего общество, раз-
драженного им, протестующего против всего того, что
препятствует его любви».
Книга, которую написал Орас, — апофеоз эгоизма.
Это переложение «Адольфа» Бенжамена Констана, книги
«вредной», так как она равнодушна к важнейшим вопро-
сам жизни.
Единство духа и материи предполагает чувствитель-
ность или одухотворенность всякой материи. Очевидно, и
вещество, составляющее человеческое тело, тоже одухо-
творено или обладает психикой. Но психическую жизнь
своего тела человек не осознает и ничего о ней не знает.
Между тем он поступает так, как подсказывает ему плоть.
Это значит, что, помимо сознания, есть еще другая пси-
хическая жизнь, подсознательная.
Теория подсознательной, или бессознательной, психи-
ческой жизни возникает в пантеистических системах и
играет некоторую роль в творчестве Жорж Санд. Она от-
лично понимает, что страсти зависят иногда от состояния
тела. «Если есть нечто фатальное в сильной страсти, то
эта фатальность всегда осуществляется и объясняется
совершенно естественными обстоятельствами», — пишет
она в «Лукреции Флориани». Свобода воли может иногда
отсутствовать, — так, Франсия в бессознательном состоя-
нии убивает своего возлюбленного («Франсия»). Уже в
1842 году Жорж Санд, объясняя сложную механику ду-
шевной жизни, ссылалась на науку: «Да, можно плакать
126
из аффектации так же, как из подлинного чувства. Такие
случаи можно наблюдать ежедневно, — таково физиоло-
гико-психологическое открытие, сделанное наукой XIX ве-
ка, открытие, которое я долго оспаривала, пока не увиде-
ла поразительные, неопровержимые, жестокие доказа-
тельства этого факта» («Орас»).
Противоречия между сознанием и влечением и прежде
всего в вопросах любви Жорж Санд изображала доволь-
но часто. Если Индиана избавилась от своей любви толь-
ко после того как окончательно убедилась в низости
своего возлюбленного, то в «Леоне Леони» и в «Орасе»
происходит нечто другое: героиня не может справиться с
собой и продолжает любить человека, к которому испы-
тывает презрение. Это факт, который можно было бы
объяснить двойной жизнью души.
Теория подсознательного обогащает художественную
психологию, но Жорж Санд не хочет отдавать человека
во власть физиологии. «Человек, весь целиком, таков,
каков он есть, — целый мир, безбрежный океан противо-
речий, самых различных свойств духовной нищеты и ве-
личия, логики и непоследовательности». Таков Карл Рос-
вальд, герой «Лукреции Флориани». Такими же были и
другие ее персонажи, несовершенные, неустойчивые в
своих нравственных свойствах, поддающиеся мелким
страстям. Положительные герои обычно более целостны
и в большей степени подчинены нравственному императи-
ву. Сознание у них побеждает низкие инстинкты.
Жорж Санд очень интересовалась френологией Гал-
ля, объяснявшего психику строением черепа. В романе
«Мопра» она восстает против этой новой формы фатализ-
ма, и роман имеет целью показать победу свободной воли
над слепой случайностью рождения и среды. Пантеизм,
каким приняла его Жорж Санд, необходимо предполагал
свободу воли, потому что без нее невозможно нравствен-
ное и, следовательно, общественное совершенствование
человечества.
4
Пантеистическая эстетика Жорж Санд требует пер-
спективы для того, чтобы изобразить любую мелочь
жизни. «Живописец должен быть видящим глазом. Но
для того чтобы видеть, нужно понимать», — говорил ге-
рой «Даниеллы», отправляющийся в Италию на поиски
127
внешего мира. «Я отлично знаю, —продолжает он, —что
перед лицом необъятной природы пейзажист может из-
брать один только маленький клочок местности, годный
для условий его ремесла; но ведь прежде чем взяться за
него, нужно понять все вместе, структуру этого большого
организма, который в каждой стране имеет свою особую
физиономию, особую душу. Может ли маленький уголок
что-нибудь открыть, когда вся местность еще ничего нам
не сказала?».
Это размышления живописца. Но Жорж Санд говорит
о познании вообще и об искусстве и литературе в част-
ности. В понимании Жорж Санд искусство приближается
к науке, так же как наука приближается к искусству; в
том и в другом случае понимание целого необходимо для
понимания частности.
Тереза, героиня романа «Она и он», намучившись с
«гением», доведшим ее до отчаяния, видит, что этому
«гению» не хватает разума. «Ей всегда казалось, что ра-
зум— это сумма представлений, а не одна какая-нибудь
деталь; что все способности хорошо организованного су-
щества что-нибудь заимствуют у разума и ему отдают;
что это одновременно средство и цель, и даже самое
прекрасное произведение искусства не может пренебречь
его законами, так же как никто не может представлять
собою какую-нибудь ценность, поправ законы разума».
Разум выступает здесь как некая объективная сила,
связующая личность с внешним миром. Художник не мо-
жет жить только собой. Заключиться «в своем уедине-
иьи», значит отказаться от искусства. «Нельзя жить и
чувствовать отдельно от всего. Художник — не инстру-
мент, который играет сам по себе. Пусть это будет хоть
шарманка, — необходима рука, которая бы ее вертела.
Эта рука, внешний импульс, ветер, от которого содрога-
ются струны Эоловых арф, — коллективное чувство,
жизнь человечества, которая сообщается инструменту,
художнику».
Художник не может писать для какой-нибудь дю-
жины таких же, как он, художников, потому что им он не
нужен. «Ведь и вам, — пишет она Флоберу, — не нужен
был ни один из остальных одиннадцати, чтобы стать са-
мим собой. Значит пишешь для всех — для тех, кому
нужно приобщиться; когда тебя не понимают, смиряешься
и начинаешь снова. Если же тебя поймут, радуешься и
128
Продолжаешь. В этом cekpeî йаших упорных трудов й
нашей любви к искусству».
Это было ответом на теорию «искусства для немно-
гих», «искусства для искусства», возникшую после не-
удачи Июльской революции. Художники ощущали на
себе нажим буржуазного правительства и вкусов мещан-
ского потребителя, с которым не хотели считаться. Тео-
рия «искусства для искусства» была также ответом на
сенсимонистские и республиканские требования социаль-
ных тем и открытой пропаганды — требования, которые
многим писателям тоже казались насилием и уничтоже-
нием искусства.
Дискредитация разума, которая происходила вместе
с дискредитацией истории, причинности и общественных
закономерностей, привела к пониманию искусства как
иррациональной, непроизвольной деятельности, напоми-
нающей физиологический процесс. Творчество уподобля-
лось пению птиц или воплям души, не желающей знать
ничего, кроме собственных своих мучений. Оно должно
быть «свободным», не подчиняясь контролю разума, дру-
гих душевных способностей, так же как внешнего мира и
объективной правды. Орас, мелкотравчатая личность не
без способностей, очень сочувствует этим идеям, так как
они льстят его эгоизму, тщеславию и лени. «Я хотел бы
выразить себя с первого же разу, без труда, без усилия,
как рокочет волна и поет соловей».
Теория бессознательного творчества раздражает
Жорж Санд. Она видит в этом все то же гедоническое
понимание искусства, искусства «для себя», безответ-
ственность художника.
Вдохновение не противоречит разуму, оно подчиняет-
ся ему. Разум владеет поэзией так же, как наукой и фи-
лософией, но получает в искусстве особое выражение.
Поэзия не рассуждает и не спорит. Она овладевает тобой
и уносит в области, где ты чувствуешь себя свободным.
Говоря о какой-нибудь былинке, она может вызвать «тре-
пет бесконечного». Поэт не говориттебе, как философ:
«Верь или отрицай, ты свободен!». Он говорит: «Виждь
и внемли, ты освобожден!». Эти слова были вдохновлены
стихами Гюго «Песни улиц и лесов».
Жорж Санд сходится с теоретиками «искусства для
искусства» в том, что не всякое произведение должно
обязательно и немедленно приносить реальную, практи-
5—3836
129
ческую пользу. «Будущее, — пишет она, — освободит нас
от излишнего утилитаризма, и мы, наконец, поймем, что
предметы, нас окружающие, должны обладать изяще-
ством и гармонией, и что чувство социальной, религиоз-
ной и даже политической гармонии должно проникать
в нас через зрение, подобно тому как хорошая музыка
проникает в наш ум через слух, как истина передается
нам чарами красноречия, как красота мирового поряд-
ка — каждой деталью прекрасного пейзажа».
Жорж Санд казалось, что она недостаточно рассу-
дочна, слишком созерцательна в своем отношении к ми-
ру и в этом смысле похожа на ребенка. Она хочет все
объять, охватить, понять, но после этих «мгновений тще-
славия» она вдруг увлечется какой-нибудь былинкой,
крохотным насекомым, который чарует и волнует ее и
кажется таким же значительным, как моря, вулканы,
царства с их повелителями, развалины Колизея... «Что
меня делает до такой степени глупой? Я сама этого
не знаю».
Она отлично знает это. Она любит природу, как
мудрую закономерность, как счастливую необходимость,
у природы можно научиться разуму и счастью.
Непосредственное созерцание есть постижение мира,
более глубокое и подлинное, чем исследование какой-ни-
будь мелочи, и столь же художественное, сколь философ-
ское. Ведь «красота — это сияние истины».
Но что такое истина, так непосредственно раскрываю-
щаяся в красоте?
Жорж Санд, вступившая на литературное поприще,
когда исторический роман ничего не мог ей дать, разра-
батывала свои взгляды на материале современности. Она
пришла приблизительно к тем же результатам, к кото-
рым пришел Бальзак, но формулировала свои идеи сво-
боднее, меньше связывала себя полемикой с критиками
и не искала оправданий ссылкой на реальные факты, про-
тотипы и источники.
Прежде всего, изображение в искусстве не может
точно соответствовать предмету, в нем изображенному.
Сухое и подробное описание какого-нибудь памятника
нужно разве что для статистики, пишет Жорж Санд
в апреле 1831 года в явном противоречии и с описания-
ми Жюля Жанена и с описаниями Бальзака. «Читатель—
невыносимое животное: он хочет, чтобы его заставили
130
попять и почувствовать, но не желает слушать «ника-
ких объяснений». Эта мысль останется в ее эстетике на-
всегда, но получит более полное и глубокое обоснова-
ние.
Искусство не подражает природе, а выражает волне-
ние, вызванное действительностью. Чтобы изобразить бу-
рю, нужно изобразить великое бедствие, пишет она
в «Консуэло» и в письме к Шарлю Понси, рабочему-поэ-
ту. Вместе с тем, она постоянно, как основной тезис своей
эстетики, повторяет, что художник не должен вкладывать
в произведение искусства свое собственное чувство,
свою личность: он должен изображать не себя, а объек-
тивный мир.
Будем любить и воспевать только любовь и женщину!
Чем больше любить и страдать, тем более гениальными
будут произведения, которые вырвутся из поэтического
сердца! Так думает молодой поэт, герой «Вальведра»,
называя всех тех, кто думает иначе, «жалкими натура-
листами». Конечно, он ошибается.
Но какое же волнение должно выражать искусство?
Очевидно, волнение, которое вызывает в нас объектив-
ный мир. Но почему это волнение выразит подлинную
правду природы? Почему оно будет объективным?
Бурю на море нужно изображать как великое бед-
ствие, иначе говоря, нужно выразить чувство, которое
великое бедствие в нас вызывает, иначе мы не проник-
нем в смысл изображаемого. Ведь буря действительно
бедствие, катастрофа, только не для тех, кто спокойно
наблюдает море с берега, а для моря, ветра и прибреж-
ных скал. Это конфликт, в котором что-то пострадает,—
потому что материальный мир духовен. Процессы, про-
исходящие в материи, бессознательны, но это те же про-
цессы, конфликты и катастрофы, которые происходят и
с нами, поэтому лучший способ познания их — это со-
чувствие. Изображая таким образом природу, поэт вос-
производит то, что заключено в объекте, не перенося на
природу свои собственные чувства. Чтобы понять приро-
ду и правдиво ее изобразить, нужно совершить акт пе-
ревоплощения, т. е. освободиться от своего «я», от лич-
ных чувств, забот и обязанностей. Это и есть та свобод-
ная область, куда переносит нас искусство.
Волнение, возбуждаемое бурей, позволяет нам по-
стичь не «факт», не бессмысленную эмпирию существую-
5*
131
щего, а «принцип», подлинную сущность явления. То же
относится к человеческому миру. Нужно вкладывать себя
в свои персонажи, говорит Жорж Санд. Это — не просто
«переодевание» автора в одежды его героев, маскарад,
в результате которого в каждом персонаже читатель тот-
час же узнает одно и то же лицо. Это — перевоплощение,
высший способ познания и высший закон искусства.
Различение «факта» и «принципа» имеет не только
эстетический смысл. Это теория познания вообще и вме-
сте с тем руководство практической жизни. Нужно от-
важно принимать то, что есть, «факты», и твердо верить
в «принципы», в то, что должно быть и будет. Мы часто
приходим в отчаяние, когда видим, как рушатся наши
надежды. Это только потому, что мы плохо знаем зако-
ны жизни человечества. Следовало бы изучать общество
так, как мы наблюдаем человека, в его физическом и
духовном развитии. Тогда бы мы в мальчике провидели
мужчину и в бедственной современности обнаружили за-
ключенное в ней более совершенное будущее. Так, по
мнению Жорж Санд, должен был бы рассуждать Пьер
Югенен, странствующий подмастерье, если бы он был
более опытен в общественных делах.
Значит, правда — это идеал, а факт, эмпирически
данное, — ложь. Бог, говорит Жорж Санд в письме
1851 года, терпит факт, но не принимает его: так же как
мы жаждем идеала, но не можем его достичь. Тем не ме-
нее, он существует, потому что он должен стать реаль-
ностью в лоне бога и даже, будем надеяться на это ради
будущего человечества, реальностью на земле.
В переводе на язык более точных понятий это зна-
чит приблизительно следующее. Люди стремятся к спра-
ведливости— это значит, она существует, но они не пред-
ставляют себе ясно, в чем она заключается. Она будет
понята и формулирована, потому что идеал примет
реальные формы в сознании людей. Тогда настанет вре-
мя для его реализации в практической жизни и начнется
борьба за справедливый общественный строй, который,
к счастью для будущего человечества, будет когда-ни-
будь установлен.
В «Странствующем подмастерье» тип романа, по-
строенного на таком понимании исторического процесса
и на таком понимании истины, получил свое полное осу-
ществление.
132
В предисловии к этому роману Жорж Санд отстаи-
вает свое право на «идеализацию» персонажей. «Идеа-
лизация» здесь понимается как «улучшение» в искусстве
людей, взятых из действительности. В этом смысле Жорж
Санд противопоставляет себя Бальзаку: он изображал
людей такими, какими он их видел в действительности,
а она — такими, какими, по ее мнению, они далжны быть.
«Должны быть» в данном контексте значит «неизбежно
будут».
Если идеализацию понимать как типизацию, т. е. пе-
реработку жизненного материала ради наибольшей ти-
пичности или выразительности, то, несомненно, у Баль-
зака такую идеализацию можно было бы найти в любом
количестве — это был его метод работы с материалом,
оправданный в его творчестве теоретически и практи-
чески.
Для Жорж Санд, так же как для Бальзака, наиболь-
ший интерес представляло движение общества, тенден-
ция его развития, закономерности его становления. Пьер
Югенен — не несбыточная мечта, а несомненность, пото-
му что он существует уже и сейчас. Примером могли бы
служить такие люди, как Агриколь Пердигье, автор кни-
ги об организациях ремесленников, из которой Жорж
Санд взяла нужные ей сведения, Пьер Леру, который
был каменщиком и наборщиком, а затем философом и
выдающимся общественным деятелем, многочисленные
рабочие-поэты, печатавшиеся в 30-е годы и переписывав-
шиеся с Жорж Санд. «Рабочий — это человек, совершен-
но подобный другому человеку, так же как какой-нибудь
monsieur совершенно подобен другому monsieur. Я удив-
ляюсь тому, что это кого-то удивляет». И Жорж Санд
говорит о кастовых предрассудках, которые мешают ее
современникам понять такие простые вещи.
Таким образом, Жорж Санд изобразила в своем Юге-
нене «человека будущего» в самом прямом и подлинном
смысле слова. Это, несомненно, высшая победа искус-
ства, которое предсказывает, что должно произойти, и
намечает пути развития. Но это также вторжение в дей-
ствительность— и не только путем критики существую-
щего. Жорж Санд объясняет своим читателям то, что
совершается на ее глазах, с тем, чтобы они могли помочь
в этом всеобщем труде общественного развития. Прочтя
«Странствующего подмастерья», все мыслящие и добрые
133
рабочие захотят ему подражать, — это значит, что зада-
ча литературы выполнена.
Но как воплотить в искусстве эту новую личность, как
найти тип, представители которого так редки в обще-
стве, что кажутся исключениями, и так для него важны,
что вызывают яростные, непрекращающиеся споры? Оче-
видно, так же, как создаются другие персонажи, вымыш-
ленные и правдивые одновременно.
В одном из позднейших своих произведений Жорж
Санд, вернувшись к историческому жанру, характеризо-
вала метод создания персонажа, несомненно применяв-
шийся ею и в романах из современной жизни. Она взяла
вымышленное лицо и постаралась представить себе, как
должны были отразиться на психологии и поведении это-
го лица исторические события. Никому не ведомый ван-
дейский крестьянин Кадио, по имени которого названа
историческая драма-хроника, попадает в водоворот вос-
стания и неожиданно для всех становится крупным дея-
телем революции.
Жорж Санд, как говорит она в предисловии, при по-
мощи логики попыталась воспроизвести чувства, которые
должны были испытать люди особого склада ума,
оказавшись среди необычайных событий гражданской
войны.
Теория правды Жорж Санд получила особенно пол-
ное выражение в крестьянских романах. Это было вовре-
мя Февральской революции. Крестьяне не хотели рес-
публики и не поддержали революцию. Жорж Санд при-
ходилось расставаться с надеждами, возлагавшимися,
в частности, на крестьян. Она не может в своих произве-
дениях бичевать крестьян, потому что думает «о страда-
ниях и несчастьях этого виновного и так жестоко нака-
занного народа». И тут на помощь приходит воображе-
ние: она «создает в своих повестях народные типы,
какие уже не существуют, но должны и могли бы суще-
ствовать».
Это «мечта», говорит она. Но значит ли это, что пре-
лестные крестьяне, включенные в свой быт, в свой пей-
заж и в свои заботы, не существуют вовсе и являются
вымыслом, который не имеет никакого отношения к дей-
ствительности? Очевидно, нет. Речь идет о политической
ошибке крестьянина, о его непонимании собственных ин-
тересов.
134
Крестьянин раздражен. Он не хочет лишиться того,
чего никто у него не отнимает. Он держится за свой
клочок^ земли, за свой труд, за свою пашню и упряжку
быков. Он предал — по невежеству и непониманию — де-
ло революции, но никогда Жорж Санд не отречется от
правды своих крестьян, которых она создала в «Жанне»,
в «Чертовой луже», в «Франсуа-найденыше», и всегда
будет почитать Тургенева за то, что он «почувствовал
жалость и глубокое уважение к человеческому существу,
какими бы лохмотьями оно ни было покрыто и какое бы
ярмо оно ни влачило».
5
Крестьянство стало предметом особого внимания
только с середины 40-х годов. После крушения восста-
ний 30-х годов, неизменно подавлявшихся военной силой,
приходилось искать более широкую социальную базу
для политической борьбы. Рабочие Парижа и провинции
неизменно терпели поражение, так как их не поддержи-
вали массы крестьянства. Большинство французского на-
селения, главная сила страны в хозяйственном и воен-
ном отношении, молчало в глубине своих деревень. Что
оно собой представляло? Чего можно было ожидать от
него в событиях, которые должны были когда-нибудь на-
ступить? Очевидно, накануне Февральской революции
эти вопросы волновали тех, кто ожидал ее с надеждой
или страхом.
В 1834 году Бальзак задумал своих «Крестьян»,
включив их в «Сцены деревенской жизни». Правда,
о крестьянах он писал еще в «Шуанах» и в «Деревен-
ском враче». Но с тех пор прошло несколько лет. Если
в «Деревенском враче» крестьяне, облагодетельствован-
ные врачом их деревни, выглядят идиллически, то
в «Крестьянах» — это эксплуатируемые ростовщиком
звери, готовые на любое преступление, чтобы только
оторвать клочок земли и поживиться за счет помещика.
В 40-е годы обратилась к крестьянской теме и Жорж
Санд. Всю свою жизнь она жила в деревне, в непосред-
ственной близости с теми, кто пахал и сеял на своем
крохотном участке земли, и знала, что люди в этой глу-
ши сохраняют качества, часто выветривающиеся в боль-
ших городах. Эта мысль, распространенная в литературе
со времен Руссо, не казалась ей устаревшей иллюзией.
135
Историю своих крестьянских романов она рассказала
в предисловии к ним.
Первый из них был «бегством от цивилизации», кото-
рое не было ни бегством от действительности, ни бег-
ством от искусства. Мадонна Гольбейна напомнила ей
задумавшуюся крестьянскую девушку, суровую и стро-
гую. Наивность души, глубокое чувство, безотчетное со-
зерцание, которое не укладывается в мысль, — такова
женщина золотого века, которую теперь можно найти
только в деревне или в пустыне, на первобытной земле,
сохраняющей таинственные следы древнейших эпох.
Жорж Санд хотела создать «суровый оазис», чтобы за-
быть в нем современный мир и действительную жизнь.
Так возникла повесть «Жанна».
Она не справилась со своей задачей, так как, по ее
словам, не посмела изобразить свою героиню в ее под-
линной деревенской среде и окружить ее крестьянами,
соответствовавшими представлениям и чувствам дере-
венской девушки. Жорж Санд говорила о своей героине,
как о друидической жрице, как о Жанне д'Арк, нарушая
иллюзию, примешивая себя к создаваемому образу.
«Чертова лужа» удалась лучше, но и здесь встречались
слова, явни принадлежащие автору. Перевоплощения не
произошло: это была картина, которую автор демонстри-
ровал своим зрителям и объяснял ее особенности, не поз-
воляя зрителю перевоплотиться в персонажей и жить
их жизнью. Наконец, последний, «Франсуа-найденыш»
показался ей более удовлетворительным. Она писала его
не на диалекте, слова которого нужно было бы объяснять
читателю, и не на современном литературном языке, ко-
торый непременно исказил бы психологию, переживания
и речь ее героев. Она избрала простой, наивный, почти
детский язык, не затрудняющий читателя слишком на-
рочитым «местным колоритом» и вместе с тем соответ-
ствующий духовной сущности персонажей. Так она раз-
решила проблему, которая волновала исторических
романистов, не очень беспокоила Бальзака, охотно поль-
зовавшегося, где было нужно, парижским и воровским
жаргоном, и составляла предмет мучительных размыш-
лений Флобера.
Но все это пришло только после того, как стало ясно
главное: отношение к деревне и ее жителям.
В «Чертовой луже» опять появляется Ганс Гольбейн
136
со своим изумительным средневековым примитивизмом.
Но теперь на картине не задумчивая мадонна, а старик-
хлебопашец с сохой, запряженной четырьмя клячами, и
рядом понукающая упряжку Смерть — горькая судьба
крестьянина, показанная многими живописцами. Изобра-
жение зла в искусстве необходимо, говорит Жорж Санд,
но еще лучше было бы изобразить нечто более радостное
и более правдивое — современного крестьянина, какого
она видела на французских полях: здорового и молодого
за плугом, запряженным огромными быками. Поэзия на-
чинается уже с предисловия.
Люди давно мечтают о равенстве, даже при королев-
ском дворе. В ласторалях (пастухи и пастушки были на-
помажены и раздушены, и это была фальшь. Затем, же-
лая найти любой ценой равенство, стали изображать всех
людей грубыми и яростными, чтобы пробудить страсти
и инстинкты, свойственные людям всех состояний.
Настало время изобразить «деревенский идеал» та-
кой, каков он есть, не принижая его и не приукрашивая.
Нужно отыскать в нем то, чего не замечали горожане,
чего, вероятно, не замечали в себе и сами крестьяне,—
нравственные качества, соединенные с наивным и необ-
работанным, но точным, «природным» умом.
«Франсуа-найденыш» — один из немногих крестьян-
ских романов, где нет ни снисхождения к этим «недораз-
витым» низам, ни похвал с высоты собственного превос-
ходства, ни насмешки, хотя бы и добродушной, над «низ-
шими», хотя бы даже и славными, существами. И вместе
с тем в пределах наивности и неизбежной ограниченно-
сти— необычайная, высокая простота чувств, речей и
поступков. Перевоплощение, слияние автора с героями,
осуществившее, наконец, мечту о равенстве, в этом ро-
мане достигает совершенства, которое Жорж Санд иска-
ла в течение многих лет. «Франсуа-найденыш» открыл
французской литературе пути, по которым сумели пойти
немногие.
Жорж Санд думала, что новое демократическое и
справедливое общество может возникнуть без катастроф
и насилий, если все классы общества придут к убежде-
нию, что так будет лучше для всех. Февральскую рево-
люцию она встретила с радостью, так же как Июльскую,
надеясь на глубокие перемены в социальном строе Фран-
ции. Но Июньское восстание она считала ошибкой, так
m
как, по ее мнению, оно нарушило мир между классами
и сделало невозможным постепенное, хотя бы и медлен-
ное решение социальных вопросов.
Отчаяние, овладевшее ею после поражения рабочих,
не нарушило ее утопических надежд. В 1847 году в ро-
мане «Грех господина Антуана» богатый помещик остав-
ляет свои земли молодому демократу, сыну капиталиста,
чтобы он организовал в его поместье крестьянскую ком-
муну. В 1861 году, в романе «Черный город», владелица
промышленного предприятия передает его рабочим и со-
здает кооперацию. Такой Жорж Санд осталась до конца
жизни.
Следуя социалистам-утопистам и, в частности, Фурье,
Жорж Санд считает важным фактором сближения клас-
сов любовь. Несчастная или счастливая любовь между
представителями разных классов часто встречается в ее
романах, словно возобновляя традицию «любви между
двух лагерей», столь характерную для исторического ро-
мана. В «Валентине» (1832) эта любовь завершается ка-
тастрофой по вине образованного крестьянина, в «Грехе
господина Антуана» все кончается совершенно благопо-
лучно. Тяжелый двойной конфликт, различно разрешае-
мый, возникает в «Странствующем подмастерье» (1840).
Приключения Консуэло заканчиваются браком венециан-
ской сироты с чешским графом. В «Орасе» обедневший
дворянин и врач по специальности живет в счастливом
союзе без брачного договора с швеей. В крестьянку Жан-
ну влюбляется блестящий представитель высокой город-
ской культуры. Теверино, безродный авантюрист, вну-
шает любовь богатой и благородной леди. Аналогичные
ситуации в разных вариантах и сюжетных условиях по-
вторяются в «Пиччинино», в «Снеговике», в «Двух брать-
ях», в «Нинон».
Любовь между представителями двух враждующих
классов дает возможность наметить не только близость,
естественную и общечеловеческую, между людьми, раз-
деленными классовыми перегородками, как то было
в «Новой Элоизе». Эти встречипомогают определить раз-
личия в психологии, традициях, умственных навыках и
предрассудках. Так возникает вновь и в других условиях
тенденция исторического романа — изображать все об-
щество целиком, во всех его противоречиях и в его един-
стве. То же пытался делать и Бальзак, показывая связи
138
ростовщика и каторжника с высшим светом. У Жорж
Санд «тотальный» показ общества осуществляется иначе.
Она пытается найти и другие возможности взаимо-
проникновения классов. Господин Антуан, обеднев, зани-
мается плотничьим ремеслом («Грех господина Антуа-
на»). Столяр Амори на деньги графа отправляется в Ита-
лию учиться искусству («Странствующий подмастерье»).
Невежественный крестьянин Кадио превращается в боль-
шого политического деятеля («Кадио»). Обедневший
аристократ делается врачом и поучает Ораса. Это пути,
к которым Бальзак относился с осторожностью и даже
с опаской, хотя и считал необходимым извлекать талан-
ты из низов общества, чтобы использовать их на благо
государства и на утверждение порядка.
Взаимопроникновение классов — факт, не только воз-
можный, но и реальный, который, однако, не влечет за
собой, как думала Жорж Санд, объединения классов.
Тем не менее, оно свидетельствует о единстве противо-
речивого и неладно построенного общества, и Жорж
Санд изображает эти процессы единства и отталкивания
с вниманием и тонкостью, которым не очень мешает ее
утопизм.
6
Изображая своих персонажей, Жорж Санд почти
не прибегала к насмешке. Только иногда можно найту
у нее едва заметный, всегда добрый юмор.
Человек — это нечто серьезное, глубокое, почти свя-
щенное. Она относится к людям с заботой и вниманием,
даже когда они ошибаются или, увлеченные страстью,
причиняют страдания другим. В «Фламмаранде» и
в «Двух братьях» мы не разлучаемся с человеком, кото-
рый преследует несчастную женщину, увозит ее ребенка,
скрывает его от нее в течение долгих лет, — и мы склон-
ны простить ему так же, как прощает ему его жертва, по-
тому что делает он это из любви и ревности и обманывает
сам себя более или менее убедительными софизмами.
Орас, изъеденный эгоизмом, приносит несчастье полю-
бившей его женщине, которая не может избавиться от
своей любви, — и Жорж Санд продолжает его рассмат-
ривать как человека, все же достойного в чем-то участия
и сожаления. Другой себялюбец, вообразивший, что лю-
бит мадемуазель Меркем, преследует ее, мешает ей вый-
139
ти замуж, считает себя ее жертвой —и мадемуазель Мер-
кем вместе с автором сочувствует своему преследовате-
лю, человеку жалкому и добродушному, страдающему от
того, что не может выйти за пределы своего эгоизма.
Но Жорж Санд не безразлична к добру и злу, — ана-
лизируя процессы и парадоксы души, она ищет причины
страданий и ошибок. Это глубокое понимание того, что
человек — создание эпохи, обстоятельств, среды, что он
не всегда виноват в своих преступлениях и в своей нена-
висти. «Ходить за человеком, как за больным», — писал
Достоевский в последнем своем романе. Жорж Санд так
и относится к своим героям — с заботливостью, не ис-
ключающей беспощадного анализа. Она проникает в са-
мые тайные помыслы и влечения, непостижимые самому
герою. Для нее это способ лечения и спасения души.-Так
создается в ее романе особая нравственная атмосфера,
в которую читатель погружается с первых же страниц.
Атмосферу эту едва ли можно назвать утопической, если
не считать утопией веру в нравственные возможности че-
ловека.
Жорж Санд мало заботилась о вещах и обстановке,
в которой живут ее персонажи. Ей достаточно двух-трех
штрихов, чтобы ввести читателя в курс дела. Об убоже-
стве или мещанской претенциозности интерьеров дога-
даться нетрудно, и подробно описывать трехногие стулья
или штофные обои значило бы, с ее точки зрения, отвле-
кать внимание от главного и разрушать иллюзию.
Исключение составляют только средневековые соору-
жения, часто стоящие на заднем фоне или даже в центре
ее повествования. Это удивительно для писателя, все
интересы которого лежат в современности. Стоит вспом-
нить такие романы, как «Мопра», «Странствующий под-
мастерье», «Консуэло», «Грех господина Антуана», «Пич-
чинино», «Даниэлла», «Снеговик», «Жан де Ларош»,
«Фламмаранд», «Два брата» и др., чтобы представить
себе власть старинных замков над воображением Жорж
Санд. Но замок для нее— не только средневековый пей-
заж, это действующее лицо, хранящее тайну, чтобы
в должное время раскрыть ее, как, например, в «Снего-
вике», или укрывающее в своих стенах жестокие нравы
другого века, как в «Мопра», или напоминающее о герои-
ческом прошлом, как в «Консуэло». Это также фоль-
клор— народное мнение о старине и о справедливости.
140
Замок господина Антуана должен напомнить читателю
о контрасте между древней мощью рода и теперешним
положением владельца, превратившегося по закону ис-
тории из феодального деспота в добродушного плотника.
В каждом из этих романов замок противопоставлен но-
вому времени как каменное воспоминание о давно ми-
нувшем, как историческое поучение, необходимое каждо-
му современнику.
Но всегда в ощущении читателя и в неотчетливом за-
мысле Жорж Санд средневековому замку или городу
противопоставлен свежий пейзаж, чистая природа без
построек — леса, луга, горы. Природа присутствует чуть
ли не в каждом романе Жорж Санд. Это зрелище со
своей особой музыкой, это воздух и ветер, влага и духо-
та, запах листьев и болот. Природа вступает в сознание
читателя как что-то очень близкое и родное даже в мо-
менты стихийных катастроф.
Стендаль любил пейзажи, которые были «смычком,
игравшим на его душе», но он никогда не изображал их
в своих романах, потому ли, что это казалось ему скуч-
ным, или потому, что не мог связать пейзаж с действием
и найти в нем более глубокий смысл. Бальзак ограничи-
вался городом и в основном интерьерами, которые ка-
зались ему важными, ибо были созданы человеком для
самого себя и свидетельствовали о тайной жизни его
души. Пейзажи у Бальзака важны как условия суще-
ствования,— например, в «Шуанах», где действие зави-
сит от местности, или в «Деревенском священнике», где
тайна убийства может быть разгадана только при по-
мощи топографии. В данном случае пейзаж нужен ему
приблизительно так же, как карта военному историку, по-
тому что историю сражения нельзя понять без простран-
ства, на котором оно происходило.
Совсем другое у Жорж Санд. Ее пантеизм наполняет
природу жизнью, потому что природа — в прямом и точ-
ном смысле слова мать и наставница. Она живет вме-
сте с персонажами, заставляет их забывать ненужное и
напоминает о большом и важном. И все герои, за исклю-
чением тех, кто интересуется только своей корыстью,
слушают, что говорит им пейзаж, и начинают жить в не-
уловимом контакте с ним.
Романы Жорж Санд в большинстве случаев читать
легко, но темы, о которых она думала и писала, были
141
трудны для понимания. Философия пантеизма, разум и
подсознание, божественная сущность крестьянина, чело-
века, ребенка, связь личности с природой и обществом,
опасности поэзии и спасительная роль естественных наук,
интуитивное восприятие мира, которое и есть высшая
правда, — понять все это было нелегко, тем более чело-
веку, который никогда ни о чем подобном не задумы-
вался.
С первого взгляда могло бы показаться, что Жорж
Санд чрезвычайно усложняет простые вещи. Между тем,
она стремилась к простоте и утверждала, что у нее это
получается. Она была права, потому что простота для
нее значила прежде всего общедоступность.
Самое понятие простоты, составлявшее одну из
стержневых проблем ее эстетики, требовало размышле-
ний. Очевидно, -пантеистическая интуиция, это «глупое
созерцание», которое было для нее формой перевопло-
щения, казалось ей самым простым и вместе с тем самым
глубоким способом познания.
«Потребности сердца влекут меня к простоте и есте-
ственности больше, чем к кичливому разуму», — писала
она какой-то себялюбивой корреспондентке. Кичливый
разум — все тот же индивидуализм, противопоставление
своей личности всем другим и всему вообще.
«У меня вкусы невинные, поэтому я пишу только ве-
щи, простые как день», — писала она Дюма-сыну, про-
тивопоставляя себя Дюма-отцу, который «носит в себе
целый мир событий, героев, предателей, магов, приклю-
чений и сам является воплощенной драмой».
«Я так же глупа и так же мудра, как народ», — отве-
чает она Мадзини, запасаясь терпением в ожидании луч-
ших времен.
Ей нравится народная музыка, песня пахаря, идущего
за плугом, музыка простая, «естественная», без «правил»,
которым подчинили ее, так же как трагедию, искусники
и хитроумцы. Очарование этой музыки можно понять
только тем «глупым созерцанием»,.при помощи которого
понимаешь простые вещи, правду природы. Консуэло
восхищается славянской народной музыкой, противопо-
ставляя ее музыке искусственной.
Вкус к простоте, «ясной как день», сближает Жорж
Санд с народом, носителем особого, непостижимо про-
стого понимания мира. Простота в общении с людьми
142
имеет ту же природу, что простота чувств и искусства.
«Я уцидела, я почувствовала прелесть простоты, но ви-
деть и изображать — разные вещи», — пишет она в пре-
дисловии к «Чертовой луже», имея в виду пройденный
ею путь от «Жанны» к «Франсуа-найденышу».
Очевидно, простоте нужно учиться, но как? Совершен-
ствуя художественную технику? Жорж Санд не очень
доверяет технике, — учить искусству нужно совсем ина-
че. «Чисто художественное воспитание не является вер-
ным средством для развития в человеке чувства прекрас-
ного и истинного», — пишет она в статье «Впечатлений
и воспоминаний». Мало того, техника может погубить
подлинный талант, подлинное художественное понимание
мира. Гений певца Адриани, героя одноименного рома-
на,— только в том, что он «не утратил в изучении тех-
ники и в отношениях с пресыщенным светом вкус к той
простоте и правде, которые чаровали его в ранние дет-
ские годы».
Бальзак тоже искал простоты, выдумывая запутан-
ные интриги и разрабатывая сложный метафорический
стиль. Но то была другая простота. Он хотел простого
плана, при котором самая сложная композиция была бы
легко обозримой и понятной. Он тоже любил простых
героев, но пробивался к этим героям путем возвышенных
рассуждений и многозначительных словесных конструк-
ций. Для Стендаля простота заключалась в терминоло-
гической точности стиля, с одной стороны, и в редукции
сложных психических процессов к элементарному гедо-
ническому сознанию — с другой.
Простота у Жорж Санд — это, прежде всего, просто-
та того, о чем говорится в романе. Нужно свести все
сложности жизни к тому, что всем попятно и известно,
что есть в каждой не исковерканной обществом душе.
Заумные чувства, вызванные неправильным отношением
к действительности, загромождают душевную жизнь
хламом и фальшью. Освободить сознание от противоре-
чий, в которых человек сам не может разобраться, зна-
чит свести все к изначальной простоте, к норме и
к правде.
Простые чувства, по мысли Жорж Санд, не требуют
сложного стиля, метафорических определений, микроско-
пического исследования. Анализ ради анализа убивает
чувство, которое он хочет объяснить, и писатель рабо-
143
тает в пустоте, над призраком, не заключающим в себе
никакой реальности. .
Простота стиля является прямым выражением про-
стоты мысли. Стиль Жорж Санд, восхищавший ее совре-
менников, при своей необычайной выразительности
в описаниях, — не аналитический. Он стремится дать
синтетическое представление о предмете, человеке и чув-
стве, потому что в синтезе, в общем, прямом, непосред-
ственном впечатлении отражается целокупность пред-
мета, которая и есть правда, между тем как анализ в
чистом виде разрушает целостность восприятия, а следо-
вательно, и вещи, и вместо предмета дает не имеющие
смысла частицы.
Конечно, у Жорж Санд есть и тонкое исследование
души, ее мимолетных состояний и долгих мучительных
язв. Но это исследование в большинстве случаев являет-
ся и лечением, — сведением искусственного и ложного,
\а потому и мучительного, к естественной простоте созна-
ния и чувств.
Другой аспект той же проблемы — простота сюжета.
Еще в мае 1830 года, посмотрев драму Дюма «Сток-
гольм, Фонтенбло и Рим», Жорж Санд высказала недо-
вольство большим количеством повешений, отравлений,
убийств и самоубийств, которыми полны современные
романтические пьесы. Она утверждала, что театр нахо-
дится в упадке.
Но дело не только в казнях и убийствах. Жорж Санд
печалило обилие приключений и событий, за которыми
исчезала психологическая и нравственная проблематика.
В 1837 году она взялась за роман без всякого действия,
без всяких событий, кроме волнений огорченной души,
ищущей свой путь к спасению и покою. Героиня «Писем
к Марсии» не появляется на сцене и даже не пишет пи-
сем, но ее нравственное состояние обнаруживается в
письмах, которые посылает ей некий утешитель.
Романы-фельетоны Жорж Санд писать не умела, ее
раздражала необходимость подчинять свой замысел
внешнему интересу. Цель романа, по ее мнению, — изо-
бражение человека в борьбе с идеей или со страстью,
с внешним или внутренним миром и в любой среде.
Но Жорж Санд не была исключительна: «Признаюсь,
что в романе я очень люблю романические события, не-
144
ожиданности, интригу, действие. Я хотела бы, чтобы в
романе, так же как в драме, кто-нибудь нашел способ
соединить драматическое движение с глубоким изучени-
ем человеческих характеров и чувств». «Роман-действие»
в 20-х годах занял в литературе господствующее поло-
жение, и Жорж Санд выступила на защиту психологиче-
ского романа, «мирного озера», чтобы противопоставить
его «бурному потоку», не желая, однако, победы ни тому,
ни другому.
У нее есть и к<бурные потоки», и «мирные озера» с
медленным исследованием души. Но чаще всего она
сочетает то и другое и осуществляет примирение, которо-
го пожелала в предисловии к «Лукреции Флориани».
Однако дело не в этих «элементах» романа, а в той
функции, которую они по воле автора выполняют. При-
ключение, рассуждение, пейзаж, портрет могут иметь в
романе разный смысл и преследовать разные цели. Осво-
бождая художника от каких-либо запретов, предписаний
или правил поэтики, Жорж Санд подчиняла его другим,
более высоким, но не внешним и не формальным обяза-
тельствам— нравственным задачам, общественным необ-
ходимостям, гражданскому долгу. В этом отношении, при
всей ее терпимости и благожелательности, она была не-
преклонна и строга к себе так же, как к другим. Стрем-
ление к простоте не мешало ей принимать всякий роман,
с действием или без действия, лишь бы смысл его заклю-
чал в себе простоту, выходившую далеко за пределы сти-
ля, жанра, темы или сюжета и приобретавшую философ-
ско-психологический и нравственный смысл.
В те времена, когда поэты и прозаики с яростью от-
чаяния проповедовали искусство «для немногих», Жорж
Санд писала «для всех», что также обязывало к простоте
мысли и стиля.
Творчество Жорж Санд тесно связано с трудом, кото-
рый совершал XIX век. В течение всей своей литератур-
ной деятельности она прямо и непосредственно участво-
вала в политической и общественной жизни страны. Каж-
дое крупное событие бурной французской истории
вызывало отклик в ее творчестве, и каждый роман был
ответом на ту или иную волновавшую общество проблему.
145
Прогрессивные, республиканские; социалистические пар-
тии находили в ее романах выражение своих взглядов.
Сотни произведений, которые трудно подсчитать и
классифицировать, десятки критических, публицистиче-
ских, философских и эстетических статей, смелость реше-
ний труднейших вопросов, от которых укрывались в сво-
ем «объективном» и «бесстрастном» искусстве многие
современные ей писатели, огромный потенциал мысли и
эмоции, заключенный в ее бесчисленных героях, высокая
«правда», которой она искала, не страшась осуждений
и без оглядки на «правила», сделали ее одним из круп-
нейших писателей эпохи. Значение ее в истории мысли и
искусства засвидетельствовано величайшими писателями,
критиками, мыслителями века, видевшими в ней, по сло-
вам И. С. Тургенева, «одну из наших святых».
ГЛАВА VI
«ИСКРЕННИЙ РЕАЛИЗМ». ШАНФЛЕРИ
1
Все великие французские романисты тервой половины
века, независимо от того, писали ли они на исторические
темы или «а темы современные, искали правды, создава-
ли теорию правды, открывали пути к правде и считали
правду основной целью своего искусства. Но, насколько
нам известно, никто не называл себя реалистом и не го-
ворил о реализме как о литературном направлении,
о школе. Каждый полемизировал со своими литератур-
ными противниками или друзьями, пытаясь точнее опре-
делить свой метод, который казался ему самым правиль-
ным и самым нужным, и иногда, очень редко, употреблял
слово réel — «реальное», «действительное», «существую-
щее в действительности». Слово «реализм» появилось во
французской критике в 1834 году и употреблялось еще
реже, чем слово «реальный». Когда в конце 40-х годов
наметилась новая литературная школа, вступившая в
борьбу с «идеализмом в литературе», критика назвала ее
«реалистической».
При первом своем возникновении эта школа была
воспринята как явление социальное, как вторжение .в ли-
тературу новых общественных слоев со своими особыми
нравами, вкусами и темами. Творчество «реалистов»
часто рассматривалось как литературная револю-
ция, подобная той, какая совершалась на улицах Па-
рижа.
Во время Июльской монархии происходила быстрая
демократизация литературы, связанная с демократиза-
цией общества. Из провинции в Париж стекалась моло-
дежь, оказывавшая значительное влияние на художест-
венную культуру. К концу 40-х годов образовалась груп-
па молодых людей, студентов, писателей, художников,
живших впроголодь, ютившихся на чердаках, кое-как за-
рабатывавших деньги на ежедневное пропитание, весе-
лившихся по мере возможности и иногда кончавших са-
147
моубийством. Это была так называемая богема, наимено-
вание, получившее широкое распространение после по-
явления книги Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы»
(1849).
Члены этой группы вышли из среды мелкой буржуа-
зии, городской бедноты, из крестьян. Мюрже был сыном
швейцара, занимавшегося также портняжньим делом,
Шанфлери — сыном секретаря мэрии провинциального
городка, Барбара — сыном мелкого торговца музыкаль-
ными инструментами. Помощь от семьи была небольшая,
а заработки скудные. Одни писали статейки в газетах и
журналах, другие — пьесы для бульварных театров, кое-
кто давал уроки и т. д. Настроение этой 'молодежи было
несомненно республиканское. Она приняла революцию
1848 года с восторгом. Почти все представители группы
находились в оппозиции к правительству как Июльской
монархии, так и Второй империи. В этой группе бедняц-
кой интеллигенции и возникло литературное направление,
получившее название «реализма».
У «реалистов» 50-х годов не было полного согласия
ни в вопросах эстетики, ни в вопросах мировоззрения.
Не было и детально разработанной поэтики; их объеди-
няла скорее общая эстетическая ориентация, чем сколь-
ко-нибудь определенный свод литературных догм. Да
в сущности они к этому и не стремились. Эстетические
рассуждения казались им бесполезными хитросплетения-
ми, мешающими непосредственному, «искреннему» твор-
честву и восприятию искусства. И все же группа имела
свою программу, резко отрицательно относилась к дру-
гим литературным группировкам, противопоставляла
себя «романтикам» и считала своим предшественником
и учителем Бальзака.
«Реалисты» — будем так в кавычках называть пред-
ставителей этого направления конца 40—50-х годов — не
создали ни одного произведения, которое сохранило бы
свое художственное значение после 60-х годов. Разве
только книга Мюрже «Сцены из жизни богемы» пережи-
ла своего автора и лерепечатывается и до сих пор. Но
группа сыграла большую роль в развитии литературы и,
несмотря на раздражение, с которым о ней говорили кри-
тики, оставила свой след в истории художственной мыс-
ли. Она создала то, что Виктор Гюго мог бы назвать
«новым трепетом».
148
Одним из первых теоретиков «реализма» в :КОнце 40-х
и начале 50-х годов был Жюль Юссон (1821 — 1889), пи-
савший под псевдонимом Шанфлери.
В его деятельности, как :и .в истории всей школы, мож-
но различать несколько периодов: (первый, «(подготови-
тельный», охватывающий вторую половину 40-х годов
вплоть до Февральской революции, затем «период ожесто-
ченных полемических боев, толчок к которым был дан
живописью Курбе, и, наконец, вторая половина 50-х го-
дов, когда 'полемика вокруг Кур'бе и Шанфлери начинает
утихать, а -внимание публики и критики «все больше пере-
носится на писателей, к кружку Шанфлери и творчеству
Курбе непосредственного отношения не имевших, — на
Гюстава Флобера, Эрнеста Фейдо и др. В 60-е годы Шан-
флери оставляет литературную полемику, все меньше
уделяет внимания художественному творчеству и занима-
ется историей живописи, керамики, народного творчест-
ва, фольклора ;и литературы. Этим трудам посвящены и
последние годы его жизни.
Приехавший из провинции двадцатидвухлетний юно-
ша стоял далеко от каких бы то ни было литературных
школ и течений, и в его статьях 1844—1848 годов на-
прасно было бы искать какую-либо эстетическую теорию
или систематизированные литературные взгляды. Эти
взгляды сложатся позднее, в шуме литературной полеми-
ки, из откликов на текущую литературную жизнь. Но уже
и в этих его работах заметны тенденции, которые позд-
нее составят теорию «реализма».
В это время во Франции не существовало никакой
господствующей школы, не было ни «законодателей вку-
са», ни «властителей дум». Это поражало тех, кто /близко
наблюдал литературную жизнь и мог сравнить ее с пред-
шествовавшим периодом. Многие радовались тому, что в
литературной жизни отсутствует «авторитет», который
мог бы привести к шаблону и застою. Другие сожалели,
что политические интересы подавили интересы художест-
венные. Третьи обвиняли правительство и мещанскую
публику в том, что искусство утратило свое прежнее зна-
чение в умственной жизни. Наконец, говорили о разброде
мнений и вкусов и, как всегда в таких случаях, об упад-
ке искусства. Между тем искусство продолжало разви-
ваться: возникали сотни шедевров, которые надолго пе-
режили создавшую их эпоху.
149
В 30-е годы термин «романтизм» кажется еще более
расплывчатым, чем прежде. Те, кто боролся за роман-
тизм в 20-е годы, предпочитают говорить о «новой» ли-
тературе или о литературе XIX века, возникшей как син-
тез противоречивых тенденций прошедшего периода.
Эти -новые термины или определения в 30-е годы боль-
ше соответствовали действительности, чем термин «ро-
мантизм». Сопротивление классиков прекратилось или,
во всяком случае, утратило свою остроту. Романтизм
развивался-в самых различных направлениях. Вторжение
современной темы устранило одну из самых характерных
его особенностей, историческую тему, и романтическим
можно было назвать едва ли не каждое произведение,
которое не придерживалось старой классической тра-
диции.
Большинство будущих «реалистов» в начале своей де-
ятельности принадлежало к «новой» литературе, предо-
ставлявшей больше свободы творчеству и более совре-
менной по проблематике и темам. Мюрже в юности писал
стихи, напоминающие субъективную лирику «Ночей»
Альфреда де Мюссе. Презрение к «мещанам» и прослав-
ление одинокого поэта ведет к романтической традиции
30-х годов так же, как бунтарство, напоминающее «не-
истовую» школу. Близость богемы к романтикам сказа-
лась и © единодушии, с каким те и другие объединились
против общего врага, — «школы здравого смысла», пы-
тавшейся ,в формах классической трагедии рекомендо-
вать мораль мещанского благополучия и буржуазные
«устои».
Сам Шанфлери преклоняется перед корифеями ро-
мантического искусства — Виктором Гюго, Теофилем
Готье, Эженом Делакруа, что не мешает ему уже в пер-
вых критических статьях осмеивать некоторые довольно
характерные черты романтической поэзии. Он смеется
над трафаретными романтическими персонажами: над
типом непонятой поэтессы, находящейся в разладе с про-
заической действительностью и прозаическим мужем, над
типом чахоточного поэта, заблудившегося iB мире грубо-
го буржуазного практицизма. Однако те же проблемы
возникали и в творчестве самих реалистов и разреша-
лись приблизительно в том же направлении. В этот пе-
риод Шанфлери отдал дань и «неистовой» литературе,
к которой вскоре охладел.
150
Много лет спустя Шанфлери характеризовал свои
ранние годы как колебание между двумя дорогами. Его
влекло к сентиментальной немецкой поэзии и музыке,
и это отразилось в нескольких написанных в то время
балладах в прозе. Вместе с тем он чувствовал интерес
к сатирическому, без всякой сентиментальности, изобра-
жению банальной мещанской действительности, к за-
рисовкам бытовых сцен и пошлых типов, хорошо извест-
ных литературе и карикатуре эпохи. В одной из статей о
Шанфлери говорилось: «Есть у него сочетание взволно-
ванной насмешки, в духе английских юмористов, и холод-
ных наблюдений, в духе юмористов французских».
Замечание это тонко определяет литературные тради-
ции, получившие свое отражение в творчестве Шанфлери.
Английский юморист, которого имел в виду Лемонье, ко-
нечно, Диккенс, известный во Франции уже в 40-е годы.
Он поразил французов своим сентиментальным юмо-
ром и страстной жалостью к маленьким, забитым
нуждой, незлобивым людям. «Холодные наблюдения»
французских юмористов привлекали Шанфлери
меньше, чем «взволнованная насмешка» английского
писателя.
Одним из вождей «реализма» был живописец Гюстав
Курбе. В течение всего предыдущего периода живопись
развивалась под влиянием литературы. Классики и ро-
мантики писали картины на литературные сюжеты, будь
то трагедии Расина, поэмы Оссиана или драмы Шекспи-
ра и Гёте. В конце 40-х годов произошло нечто противо-
положное: картины Курбе словно формулировали языком
живописи стремления реалистов и послужили плацдар-
мом, на котором реалистическая критика давала бои
своим противникам.
Курбе впервые обратил на себя 'внимание публики в
1849 году своей картиной «После обеда ib Орнане». Сле-
дующий, 1850, год дал две картины: «Похороны в Орна-
не» и «Каменщики». Затем последовали «Купальщицы»
(1853), «Встреча» (1855), «Мастерская» (1855), ряд дру-
гих. Каждое из этих произведений возбуждало острый
интерес зрителей и бурное негодование сторонников ста-
рого письма. Кульминационным пунктом полемики был
1855 год, когда, получив отказ в праве выставить свои
картины в Салоне, Курбе организовал отдельную выстав-
ку своих произведений.
151
Дружба Шанфлери и Курбе началась с того момента,
когда в газете «Силуэт» от 22 июля 1849 года появился
восторженный отзыв Шанфлери о картинах орнанского
художника. Сотрудничество критика и художника оказа-
лось чрезвычайно 'плодотворным. Многие теоретические
положения, высказывавшиеся Курбе в острой и намерен-
но грубой форме, были подсказаны ему Шанфлери.
С другой стороны, вкусы и взгляды Шанфлери во многом
были определены творчеством Курбе.
В пивной Андлера на левом берегу Сены Курбе по-
ражал слушателей 'взглядами, выраженными в кратких,
надолго запоминавшихся афоризмах. Необходимо по-
рвать с традицией, отбросить рецепты учителей и созда-
вать собственный стиль и метод работы. «Я — курбе-
тист», — определял он свое направление. Подражая об-
разцам, можно создать только клише, а не произведение
искусства. Сам Курбе хочет точно воспроизводить при-
роду, только то, что он видит собственными глазами: не
приукрашивать, не «идеализировать» ее, а передавать
такой, какова она есть. В свое время производили впе-
чатление его презрительные отзывы о художнике «идеа-
ла», «господине Рафайеле», как он его называл.
Ко времени выступления Курбе кружок, сгруппиро-
вавшийся вокруг Шанфлери в 40-е годы, начал распа-
даться. В начале 50-х годов образуется новый кружок,
более тесно связанный общими взглядами. Здесь и раз-
рабатывается эстетика «реализма».
2
Как возникло название школы? Сами ли «реалисты»
определили себя этим словом или постарались об этом
их критики и литературные противники?
Слово «реализм» в устах критики означало отсутствие
идеала, неумение или нежелание изображать прекрас-
ное и положительное, эмпиризм, не поднимающийся над
грубой и, уродливой действительностью. Творчество Кур-
бе казалось враждебной критике именно таким. Худож-
ник искал в жизни только отвратительные явления и на-
слаждался зрелищем безобразного. Эстетика Курбе —
эстетика уродливого, теория и система, и потому не толь-
ко изображение реального, но и «реализм». Самые темы
этих поражающих полотен подсказывали такое понима-
ние. Курбе изображал низшие классы так, что сжима-
15?
лось сердце, а провинциальное мещанство на его карти-
нах выглядело безнадежным и чудовищным. И ни одной
герцогини, ни одалиски, ни даже пастушки, хотя бы от-
даленно напоминающей традиционную Аркадию.
Но под «реализмом» можно было понимать и нечто
другое: систематические и упорные 'поиски .правды, отказ
от приукрашивания действительности, от лживой идеали-
зации. Как бы безобразна ни была действительность,
правда все же лучше, чем «идеал», который есть ложь и
обман. Честный художник может изображать только
правду.
«Реалисты» не без некоторых колебаний приняли этот
бранный термин, понимая его как систему правдивого ис-
кусства. Курбе был первый, кто согласился с этим наз-
ванием. Шанфлери употребляет его в одной из ранних
своих статей о Курбе от 21 сентября 1850 года.
Посвящая свои «Домашние повести» матери, Шан-
флери писал: «Если ты случайно прочтешь, что меня об-
виняют в «реализме», не обращай внимания на это сло-
во, которое насильно, как бубенец, привязывают 1мне на
шею». Это было написано 10 июня 1852 года. В 1857 году,
т. е. через десять лет после начала реалистических боев,
в предисловии к сборнику своих статей под названием
«Реализм» Шанфлери повторяет то же самое: «Реа-
лизм»— «бубенец, который против его воли привязывают
ему на шею». Он не хочет связывать себя ни с какой док-
триной или группой и всячески открещивается от класси-
фикаций и определений, которыми его награждают кри-
тики.
Термин «реализм», принятый и использованный Кур-
бе, по мнению Шанфлери, неудачен: реализм, т. е. правда
в искусстве, существовал всегда, во все времена, и, следо-
вательно, это название не может характеризовать нарож-
дающийся литературный стиль. С другой стороны, с име-
нем реализма в сознании публики и критики связан ряд
отрицательных качеств, и это слово, таким образом, яв-
ляется бранным именем, заранее определяющим отноше-
ние к «школе».
Единственным правилом искусства, пишет Шанфлери
в том же предисловии, является искренность. В этом и за-
ключается реформа, которую «реалисты» пытались со-
вершить. Искусство должно быть «наивным, личным и
независимым» — таков был их лозунг.
153
«Независимость» искусства требует прежде всего ос-
вобождения художника от традиций и авторитетов, от
всякого рода поэтик, связывающих художника и подчи-
няющих его тем или иным «правилам», классическим или
романтическим — безразлично. Вред этих правил в том,
что, пытаясь их соблюдать, художник забывает о цели
искусства, о передаче своего собственного ощущения дей-
ствительности, «правды», которую он познал в непосред-
ственных встречах с нею. «Правила», «форма», традиции,
оглядка на авторитеты и образцы создают вторую цель,
не имеющую никакого отношения к искусству и заслоня-
ющую от него правду.
«Независимость» предполагает также свободу от тен-
денциозности, т. е. от предвзятости. Художник не должен
пропагандировать те или иные политические или общест-
венные взгляды, не должен искажать свое видение
мира заранее данной задачей — это «будет тоже насилие
над искусством. «Реалисты» протестуют против так на-
зываемого «социального» романа, представителями ко-
торого в 40-е годы были Эжен Сю, автор «Парижских
тайн» (1843|), «Агасфера» (1844—1845), «Семи смертных
грехов» (1847—1849), и Александр Дюма, автор «Графа
Монте-Кристо» (1844—1845). Шанфлери считал тенден-
циозными и утопические романы Жорж Сайд, и «Хижину
дяди Тома» Бичер Стоу.
Чтобы создавать «личное» или «искреннее» искусство,
писатель должен научиться воспринимать и оценивать
действительность ib непосредственном общении с ней, не
веря никому на слово, полагаясь только на собственное
чувство. Только в таком случае его произведение будет
индивидуально и неповторимо. Оно будет «наивным»,
если художник не будет размышлять о «форме», беспо-
коиться об изяществе выражений, об эффекте, который
должна произвести фраза, метафора, материал, изобра-
женный в произведении. Это протест против школы «ис-
кусства для искусства», против изощренной и «холодной»
поэзии Готье, против пышной поэзии Гюго и, несколько
позднее, против глубоко продуманной живописи Флобера.
Так возникает теория «искренности», которая и со-
ставляет центральную мысль школы. Поэтому «реализм»
этой школы можно было бы условно назвать «искрен-
ним». «Давите ваше сердце и, как губку, выжимайте его
в вашу чернильницу», — писал Шанфлери. Таков творче-
154
ский рецепт «искреннего реализма». Это главное. Все
остальное есть лишь развитие этого принципа.
Никакие литературные теории, декларации и лозунги
не будут понятны, если их рассматривать вне художест-
венного творчества школы. Борьба с социальным рома-
ном могла бы навести на мысль, что «реалисты» отказы-
ваются от какого бы то ни было социального смысла ис-
кусства и его общественного действия. Писать кровью
собственного сердца могло бы означать, что «реалисты»
не признавали в искусстве ничего, кроме самых интимных
чувств. Требование «личного» искусства можно было бы
понять как желание ограничить творчество узким кругом
собственных переживаний. Между тем, намерения «реа-
листов» были прямо противоположны. Их произведения
вызывают болезненно острое сочувствие к обездоленным
классам, крестьянам, ремесленникам, городской бедно-
те, ко всем «униженным и оскорбленным» современного
общества и, с другой стороны, ненависть к тем, кто, за-
черствев в своем благополучии, с восторгом 'попирает че-
ловеческие права других. И никогда «реалисты» не реко-
мендовали поэзии интимных чувств тоскующего интел-
лигента, погруженного в свои воспоминания. Поэтому
реалисты резко отрицательно отзывались о Мюссе и Ла-
мартине. «Искренность» была для них единственно воз-
можным мостом к объективному миру.
Искренность в искусстве (предполагала передачу впе-
чатлений, сохранивших еще жизненную теплоту и ин-
тимную недавпость. Но в таком случае драгоценным ма-
териалом «реалиста» должно было стать действительно
пережитое, познанное и прочувствованное самим авто-
ром. Для представителей парижской богемы самым бла-
годарным, потому что самым известным клочком дейст-
вительности, все еще возбуждающим «искреннее», бес-
примесное волнение, была парижская богема. По этой
причине первые произведения «реалистов» были посвя-
щены богеме.
На первых порах, в самом начале 50-х годов, для кри-
тики и публики «реализм» действительно означал не что
иное, как изображение богемы, и враждебный реализму
критик Гюстав Мерле писал: «Если богеме не суждено
было стать могилой реализма, то во всяком случае она
была его колыбелью». Изображению богемы и ее типов
посвящены произведения Шанфлери («Шьен-Кайу»,
155
1847; «Признания Сильвиуса», 1849; «Приключения маде-
муазель Мариэтты», 1856), Мюрже («Сцены из жизни
богемы», 1849; «Латинская страна», 1851;. «Сцены юно-
шеской жизни», 1851 « др.). Приключения, рассказанные
в этих произведениях, любовные горести и радости (полу-
нищих студентов и художников, попойки, раздобыванис
денег, неприятности с .квартирохозяином, -продранные
локти и обувь без подошвы создавали в романе впечат-
ление напряженной реальности и «наивности», как кре-
стьянская поэзия Петера Гебеля или Макса Бюшона.
Во всех этих произведениях заключается большая
доза автобиографического. У Мюрже в большинстве слу-
чаев мы встречаем довольно близкий к действительности
рассказ о событиях его жизни и жизни его ближайших
приятелей. В первой новелле Шанфлери «Шьен-Кайу»,
получившей высокую оценку Виктора Гюго, изображен
друг Шанфлери, художник Родольф Вреден, «Признания
Сильвиуса» — признания самого Шанфлери, «Приключе-
ния Мариэтты» — история его любви .к некоей гризетке.
Многие главы «Наследства Лекамю» написаны ino лич-
ным детским воспоминаниям: г-жа и г->н Мэ— мать и
отец Шанфлери, а скупец Лекамю —его дядя.
Из принципа «искренности» вытекает требование
современного материала и дискриминация исторического
романа. Мушкетеры, инквизиторы, тираны и ведьмы ни-
какого отношения не имеют к заботам -и интересам чита-
теля XIX века. Любой исторический роман —ложь. Ведь
мы сами никогда не видели мушкетеров, мы не знаем,
что чувствовали и даже думали люди XVII века. Никакие
ученые сочинения нам 'помочь не могут, (потому что мы
не найдем в них того непосредственного волнения, кото-
рое составляет правду искусства. Курбе сделал в живо-
писи то, что в литературе сделал Бальзак: он стал исто-
риком современного общества. «Еще не .пришло время, —
пишет Шанфлери о Курбе,—говорить о впечатлении,
которое произведут эти домашние сцены исторической
живописи величиною с полотна, где автор не отступил пе-
ред задачей написать современную буржуазию во весь
рост, в ее провинциальном вычищенном костюме. Многие
сожалеют о костюмах Ван-Дейка, но г-н Курбе атонял,
что живопись не должна обманывать грядущие века от-
носительно вашего костюма».
Литература должна соответствовать действительнее
15Q
сти, — только в таком случае она может заинтересовать
по-настоящему. Искусство, созданное не наблюдением
действительности, а воображением, только развращает
читателя, приучая его рассматривать ложь как необхо-
димый элемент художественного творчества. Искусст-
во— не забава, а серьезное дело, и чтобы возвратить ему
его значение, из него должна быть изгнана искусствен-
ность. «То, что я вижу, — пишет Шанфлери, — проникает
в мою голову, спускается к моему перу и становится тем,
что я видел. Метод прост и всем доступен. Однако сколь-
ко нужно времени, чтобы избавиться от воспоминаний,
подражаний, от среды, в которой живешь, и отыскать
свою собственную природу!» Курбе считал эрудицию и
учение у мастеров полезными лишь для того, чтобы луч-
ше от них освободиться и обрести собственную индиви-
дуальность.
Таким образом, в эстетике Шанфлери непосредствен-
ное восприятие действительности является гарантией ху-
дожественной правды. Это очень похоже на то понимание
правды, которое развивали французские сенсуалисты,
«идеологи», а вслед за ними и Стендаль. Однако сходст-
во только внешнее: по существу, шравда «идеологов» и
правда Шанфлери — два разных понятия. Для Стендаля
правда не заключается во впечатлении, которое вещь
производит на наблюдателя. Впечатление необходимо
подтвердить размышлениями и внимательным, повтор-
ным, холодным наблюдением. Для Шанфлери правда ис-
чезнет, если впечатление подвергнуть проверке, потому
что правда заключается не в изображении действитель-
ности, а в изображении впечатления от нее.
Вот почему искренность в понимании Шанфлери не-
обходимо предполагает объективность — это понятия
почти тождественные. Наивное изображение действи-
тельности есть синоним правдивого искусства.
В эстетике Шанфлери «наивное» искусство (Противопо-
ставлено «личному» так же, как «объективное» искусст-
во— «безличному». «Искренняя» объективность предпо-
лагает глубокую интимность 'переживания. Произведение
искусства должно сохранять связь .с автором, и в этом
плане «объективность» реалистов противоположна «объ-
ективности» Флобера. Различное понимание цели искус-
ства или средств, которыми она может быть достигнута,
сказалось и в статье о «Мадам Бовари», которую Дюран-
157
ти, верный ученик Шанфлери, напечатал в газете «Реа-
лизм»: «Роман — из тех, что напоминает линейный рису-
нок... расчерченный, отшлифованный, весь в 'прямых уг-
лах и, в конце концов, сухой и.бесплодный. Говорят, мно-
го лет было потрачено на его написание. В этом романе
нет ни эмоции, ни чувства, ни жизни, но много арифмети-
ки, высчитавшей и собравшей все жесты, комбинации и
случайности почвы в данных персонажах, событиях и ме-
стности... Я повторяю: все время описание материального
мира, и никогда — описание впечатления... Слишком тща-
тельное изучение не заменяет непосредственности, проис-
ходящей от чувства». Следовательно, отделанная форма
мешает искренности: это скорее недостаток, чем достоин-
ство.
Объективная искренность сочетается у Шанфлери
с тщательным изучением действительности. Он рекомен-
дует писателям упорный и систематический труд, наблю-
дение и собирание материалов. Для подготовки романа
«Г-н де Буадивер», посвященного жизни провинциального
духовенства, Шанфлери на три года удалился из литера-
турного мира,— «я изучал, я много размышлял, посещал
незнакомые мне классы общества, путешествовал с зна-
менитыми христианскими ораторами... прочел много бла-
гочестивых книг, одно название которых вызывает у ме-
ня зевоту».
Кропотливое изучение скучного материала как будто
противоречит непосредственности впечатлений. Однако
никакого противоречия здесь нет. Чтобы возникло это ин-
тимное, личное впечатление от какого-нибудь явления
действительности, нужно это явление долго изучать.
Только проникнув в его тайну, обнаружив скрытый в нем
смысл, можно ощутить то волнение, которое стоит в на-
чале творчества и создает искусство.
Это-то волнение, возникающее при встрече с внешним
миром, интимное и вместе объективное, кажется Шанф-
лери подлинно творческим. Психологический и «личный»
роман — «Адольф» Констана, «Манон Леско» Прево,
«Рене» Шатобриана — создавались при помощи интрос-
пекции, самонаблюдения. Роман, изображающий нравы,
возникает из наблюдений внешнего мира. Таковы романы
Бальзака, которому Шанфлери отдает все свои симпатии.
Писатель-реалист может изображать все явления со-
временной жизни. «Семейные отношения, болезни ума,
158
светское общество, курьезы улицы, картины деревенской
жизни, игра страстей — все это одинаково принадлежит
реализму»,— пишет Шанфлери в посвящении своих «До-
машних рассказов» (1852). «Реализм», следовательно, не
ограничен одними только бытовыми и низкими темами,
в чем упрекали его критики. Психология интеллигента и
высший свет также находятся в его компетенции.
Но у Шанфлери есть некоторые предпочтения. «Логи-
чески рассуждая,— пишет он в предисловии к сборнику
«Реализм», — лучше сперва изображать низшие классы,
где искренность чувств, действий и слов проявляется яс-
нее, чем в высшем обществе». Об этом писали уже Стен-
даль и Жорж Санд, а через четверть века те же слова
повторят Гонкуры и Золя, у которого это положение
получит очень важный не только эстетический, но и со-
циальный смысл.
Таким искренним, не затронутым светской ложью
классом Шанфлери считает крестьянство.
В «Рождественских гусях» крестьяне изображены как
настоящие дети природы, откровенные, чистые, честные.
Это ничуть не идиллия. Фермер и его жена, легко прихо-
дящие в отчаяние от трудностей и неудач, попадают в ла-
пы деревенского ростовщика, уже сжившего со свету не
одну из своих жертв. Какой-то крестьянин и вор поджи-
гает их дом и во время пожара крадет у них последние
деньги. Местный песенник, хранящий в памяти песни сто-
летней давности и сочиняющий экспромтом новые и зло-
бодневные, раскрывает преступление, ростовщик умирает,
и все становится па свои места. Трогательная любовь мо-
лодого паренька к крестьянской девушке увенчивается
счастливым браком, и рождественские гуси оказываются
символом справедливости и нравственной связи между
всеми добрыми людьми поселка.
Повесть навеяна крестьянскими повестями Жорж
Санд, но также и «Рождественскими рассказами» Дик-
кенса с его умилительными картинами бедных интерье-
ров, с ростовщиками, терзающими бедняков, с благопо-
лучными окончаниями, имеющими почти волшебный
характер.
Но эта повесть выдержана в стиле народной поэзии —
сказки и песни. Отчасти это связано с «поэзией деревни»,
главными представителями которой в 40—50-х годах бы-
ли Пьер Дюпон, Постав Матье и друг Шанфлери Макс
159
еюшон (1818—186&), переводивший немецкого «Дере-
венского» поэта Петера Гебеля. Особое значение приоб-
ретал крестьянский фольклор. Песни деревенского певца
в «Рождественских гусях» играют большую роль в раз-
витии действия. Шанфлери много труда отдал собиранию
и публикации народного творчества, начиная от лубка
и керамики и кончая песней. Это было демонстративное
противопоставление безыскусственного народного твор-
чества надуманной, усложненной и в высшей степени ус-
ловной «литературной» поэзии. Среди «реалистов» поль-
зовалась широкой популярностью песня «Жена возчи-
ка», опубликованная Жан-Жаком Ампером в собрании
народных песен. Задолго до появления этого сборника
«Жена возчика» стала чем-то вроде реалистического
гимна.
В 1853 году Шанфлери напечатал статью об этой пес-
не, которая «мещанам» казалась непристойной. Однооб-
разная мелодия ее характерна для «мощной народной
поэзии, внешняя грубость которой напоминает крестьян-
ский суп из капусты». «Музыка эта проста и потому вы-
ражает то, что заключено в словах, и прекрасна, потому
что отвечает замыслу автора». Жена возчика ищет му-
жа, находит его в кабаке в обществе какой-то девки.
Она упрекает его в том, что он тратит деньги на пьянст-
во, в то время как дети голодают. Тогда муж «назло»
требует еще вина. Жена рассказывает об этом детям,
которые говорят, что отец — развратник и что они будут
такими же, как он. Неправильный стих этой песни, как
и других подобных ей, по мнению Шанфлери, восхитите-
лен, и если они хоть одному человеку помешают изучать
правила стихосложения, сборник Ампера принесет боль-
шую пользу литературе. В совсем недавнее время «Же-
на возчика» была возрождена и исполняется с эстрады.
3
В начале своей творческой деятельности Шанфлери
писал преимущественно мелкие повести и рассказы, чув-
ствительные и юмористические зарисовки разного рода
«чудаков», физиологические очерки, наброски, вырываю-
щие из потока действительности тот или иной клочок,
анекдот или тип и изображающие его в изолированном,
статичном виде. Это типы, встреченные на улице, в бала-
160
ганах бродячих комедиантов, в кафе; ряд карикатур,
шаржированных портретов знакомых лиц, иногда даже
исторических деятелей. Такие зарисовки Шанфлери
впоследствии использовал в своих крупных произведе-
ниях, а методом карикатуры и сатирического портрета
он пользовался в продолжение всей своей творческой
работы. В 1852 году Шанфлери собрал и напечатал эти
произведения в одном томе под названием «Эксцент-
рики».
Ненависть к мещанству уже с первых лет Июльской
монархии стала у артистической молодежи чем-то вро-
де исповедания веры. Мещанин воплотился в образе
«бакалейщика» (épicier), а слово это стало именем на-
рицательным. «Бакалейщик» был героем бесчисленных
карикатур и шуток в сатирических журналах, очерков,
романов, комедий и драм. Бальзак в 1830 году написал
физиологический очерк «Бакалейщик», дополненный и
переработанный в 1839 году, в 1831 году напечатал
«Мнение моего бакалейщика», а позднее заявил: «Те-
перь бакалейщики становятся пэрами Франции». Так
формулировал он политический смысл этого символиче-
ского образа и объяснил причины его феноменального
успеха.
Специализировался в жанре физиологического очер-
ка и в изучении глупца знаменитый в свое время Монье,
сочетавший таланты писателя, рисовальщика-карикату-
риста и актера. В конце 20-х годов Монье выступил с се-
риями рисунков, часто сопровождавшихся поясняющим
их литературным текстом. Это были: «Парижские эски-
зы» (1827), «Нравы администрации» (1828), «Народные
сцены» (1835—1839), «Сцены города и деревни» (1841)
и др.
С 1830 года появляется в этих сериях тип Жозефа
Прюдома, знаменитого героя комедии «Величие и паде-
ние Жозефа Прюдома», поставленной на сцене Одеона
в 1852 году. Жозеф Прюдом был не бакалейщиком, а
учителем чистописания, привыкшим благодаря своим
профессиональным занятиям к «прописным истинам».
Это ограниченный, самодовольный, претенциозный ме-
щанин, усвоивший газетный и чиновничий жаргон, гово-
рящий лишенными смысла торжественными и трафарет-
ными фразами. Наиболее знаменитые его фразы вошли
в поговорку, как, например: «Колесница государства
6—3836
161
плавает на вулкане» или «Эта сабля останется прекрас-
нейшим днем моей жизни» и т. д.
Жозеф Прюдом пользовался колоссальным успехом.
Бальзак вдохновлялся им для многих своих героев. Це-
зарь Биротто, герои романа «Чиновники», множество
других, второстепенных и случайных персонажей «Чело-
веческой комедии» несут на себе печать созданного
Монье образа. Флобер воспроизвел его в аптекаре Оме
и, в. другом варианте, — в советнике Льевене из того же
романа, ораторствующем на сельскохозяйственной вы-
ставке («Мадам Бовари»). Тартарен Альфонса Доде
(«Тартарен из Тараскона») имеет то же происхож-
дение.
Широко воспользовался этим образом и Шанфлери.
Он посвятил Монье специальное исследование, напеча-
танное в 1879 году. Один из его ранних очерков носит
название «Жозеф Прюдом на выставке»: учитель чисто-
писания произносит свои феноменально-глупые фра-
зы, осматривая картины и вступая в споры с другими
посетителями Салона. «Знаменитый карикатурист,— пи-
шет Шанфлери,— сам того не сознавая, создал величай-
шую фигуру XIX века».
Карикатура 30—40-х годов сыграла большую роль в
развитии литературы и, в частности, в истории реалисти-
ческой школы 50-х годов. Своих «Эксцентриков» Шанф-
лери посвятил знаменитому рисовальщику, живописцу и
карикатуристу Оноре Домье, а позднее, словно отдавая
дань благодарности своим учителям и соратникам, на-
печатал «Историю современной карикатуры», в которой
основное внимание обращено на народные и городские
«нравы», получившие свое отражение в карикатуре.
Мещане — эксцентрики, люди, живущие в своей осо-
бой сфере мысли. Глупые, жестокие, ничего не понима-
ющие в других людях, они мыслят и действуют по штам-
пам, создававшимся в среде, которая не может допус-
тить ничего, кроме данного штампа. Они пошлы до
умопомрачения и фантастически обыденны. Шанфлери
утверждает, что все это типичные, хотя и редкостные
экземпляры той человеческой породы, которая создана
современной действительностью. Это то, что можно бы-
ло бы назвать реалистической фантастикой.
Но есть у Шанфлери и другие эксцентрики, которые
являются более или менее открытыми антагонистами ба-
162
калейщиков: жертвы мещанского мира, общества Июль-
ской монархии, современной буржуазной цивилизации
вообще. «Странные музыканты, повредившиеся в уме
изобретатели, ученые-маниаки, полугаллюцинаты, сло-
вом, все те, кто ищет и не находит», — так характери-
зует он эксцентриков в 1851 году в предисловии к свое-
му «Аббату Шателю».
Такие эксцентрики связаны явной преемственностью
с персонажами Э. Т. А. Гофмана. Известный во Франции
с середины 20-х годов, Гофман вошел во французскую
литературу в 1829 году, когда появилось собрание его
сочинений, получивших название «Фантастических по-
вестей». Он был воспринят во Франции как изобрази-
тель и критик своей современности. Фантастика его бы-
ла понята как поиски необычайного — того, что лежит
за пределами пошлого мещанского миропонимания. Его
художники, энтузиасты, странствующие музыканты, ду-
хи огня, бедные студенты, влюбленные в золотисто-зеле-
ную змейку, казались символическими образами людей,
попавших в орбиту мещанского мира и продолжающих
бескорыстную борьбу за духовные ценности, скрытые от
глаз большинства. Для Бальзака фантастические пове-
сти Гофмана имели значение как образец «символиче-
ской» или «философской» повести в духе «Шагреневой
кожи». Для Жорж Санд это был мастер грустного юмо-
ра, изображающий настойчивую поэтическую реаль-
ность в мире «чистогана». Приблизительно так же понял
его и Шанфлери. «Поклонники Гофмана,— пишет он,—
называют его фантастическим писателем, между тем
как это фантастическое — не что иное, как самая реаль-
ная реальность». Шанфлери был страстным почитателем
и пропагандистом Гофмана: в 1856 году он издал его
«Посмертные произведения» во французском переводе.
Эксцентрики Шанфлери напоминали персонажей Гоф-
мана, и это дало критикам основание назвать его школу
«фантастической».
С 1852 и особенно с 1853 года Шанфлери переходит
к изображению широких социальных слоев — главным
образом провинциальной буржуазии. Эти задачи осуще-
ставляются в формах большого романа. Но усвоить этот
жанр, привыкнув к беглым зарисовкам, было нелегко.
«Отсутствие плана,— пишет Шанфлери Бюшону,— не
имеет большого значения, пока мы будем писать новел-
г»*'
163
лы; но возьмитесь за большой роман — и вы увидите, что
метод совершенно необходим». В 1854 году под впечатле-
нием «Записок охотника» он пишет тому же Бюшону:
«Этот человек (Тургенев) с первого же раза создает за-
мечательные главы. Реализм легко осуществить в корот-
ких рассказах; всякий сможет достигнуть этого, когда
приемы реалистического письма будут известны всем.
Но насколько труднее написать книгу, где страсть раз-
вивается подробно, реалистически! Вот что меня трево-
жит, вот чего я ищу и что не дает мне покоя». В этот
момент «Человеческая комедия» приобрела особенное
значение для дальнейшего развития школы.
Шанфлери называет Бальзака учителем уже в сере-
дине 40-х годов, а в 1847 году, при посвящении ему свое-
го очерка «Покойный Мьетт», от имени целой, группы на-
чинающих писателей говорит о «благоговении», с каким
они относятся к автору «Человеческой комедии». «Баль-
зак создал метод,— пишет он в 1848 году,— и только его
метод стоит изучать». О том, что Шанфлери уловил осо-
бенность драматической композиции бальзаковских ро-
манов, свидетельствуют, в частности, слова, под которыми
мог бы подписаться и сам Бальзак: «Те, кто еще гово-
рит о „Жиль Блазе ", этом долгом и утомительном
повествовании, не умеют читать „Человеческую коме-
дию"».
Первый крупный роман Шанфлери «Страдания учи-
теля Дельтейля» (1853) вводит читателя в мещанское
общество маленького провинциального городка. Учитель
Дельтейль, ученый, составитель греческого словаря и
«чудак», подвергается преследованиям школьников и
школьного начальства. Проказы детей описаны с боль-
шой подробностью и, конечно, по личным воспоминаниям
автора. Интрига незамысловата: семья, в которой посе-
лился учитель, состоит из трех сестер; у одной из них —
незаконный сын, которого она выдает за приемного.
Мальчика, как и его учителя, преследуют и школьники,
и преподаватели как незаконнорожденного. Дело кон-
чается тем, что мать ребенка выходит замуж за пожи-
лого доктора и тоже чудака, предлагает учителю., уво-
ленному из школы, поселиться в их семье, и все вместе
покидают город. Уже в этом романе выступает постоян-
ная тема — добродетельных и кротких преследует злое
и глупое провинциальное общество.
164
В той же социальной среде происходит действие ро-
мана «Буржуа Моленшара» (1855). Сюжет его харак-
терен для реалистической литературы середины XIX ве-
ка: это история провинциального адюльтера. В глухом
захолустье живет непроходимо-глупый буржуа, адвокат
и «эксцентрик». Его молодую жену прекрасного поведе-
ния ненавидит золовка, набожная и злая старая дева.
Случайно с семьей адвоката познакомился молодой
граф, замок которого находится по соседству. После
многих происшествий влюбленному графу удается со-
блазнить жену поверенного и увезти ее в Париж. Муж
начинает судебное преследование и сажает похитителя
в тюрьму. Но беда в том, что граф охладевает к своей
возлюбленной и предвидит трагедии в будущем. На этом
роман и заканчивается. Мораль очевидна: недозволен-
ное счастье приносит беду. Но кто виноват в этом? Ответ
не вызывает сомнений: виноваты законы и нравы об-
щества.
Один из лучших романов Шанфлери «Наследство Ле-
камю» изображает группу провинциальных буржуа, ожи-
дающих наследство богачей Лекамю. Роман написан
в том общем колорите, в каком, по словам Гонкуров,
Флобер писал свой роман провинциальных нравов: «вее-
ром цвете, характерном для существования мокриц». На-
следники стараются подольститься к старикам Лекамю
и к их компаньонке. Контраст составляет только моло-
дой многообещающий ученый, переехавший из провин-
ции в Париж и поселившийся среди трудящейся и та-
лантливой богемы.
Из главнейших произведений этого периода остается
упомянуть лишь два романа: «Приключения мадемуа-
зель Мариэтты» (1853) и «Г-н де Буадивер» (1856).
В первом романе повествуется трагическая история люб-
ви молодого человека к девице легких нравов. Весь сю-
жет слагается из ссор, измен и примирений между влюб-
ленными. Это все та же богема, но здесь подчеркнута
«проза жизни». Шанфлери сгущает банальный фон кар-
тины и характер событий, чтобы противопоставить свою
жестокую «правду» полным юмора «Сценам из жизни
богемы» Мюрже.
«Г-н де Буадивер» изображает борьбу просвещенно-
го епископа, по имени которого назван роман, с фана-
тической и нетерпимой частью клира. На фоне этой
165
борьбы развивается трагедия помощника епископа, юно-
го семинариста Сиприена, обольщающего одну из своих
прихожанок. Связь эта прерывается. Сиприен уезжает,
а героиня выходит замуж за влюбленного в нее чинов-
ника. Через несколько лет Сиприен возвращается в род-
ной город, и Сюзанна, чувство которой все еще не осты-
ло, приходит к нему на исповедь. «Этот этюд, — пишет
о романе Дюранти, — воспроизводит чрезвычайно важ-
ную сторону социальной жизни и свидетельствует о боль-
шом знании человеческой природы».
Вслед за своим учителем Бальзаком Шанфлери пы-
тается расширить диапазон своих изображений. Он
изучает среду. У него, так же как у Бальзака, подробные
описания внешности и костюма, жилища, города объяс-
няют действие и характер героев. Приблизительно ту же
роль играют третьестепенные персонажи, не принимаю-
щие участия в действии, но характеризующие среду и
вызванную ею драму. Обилие подробностей, необходи-
мых для воплощения замысла, раздражало даже сочув-
ствующую критику. Она видела в этом недостаток худо-
жественной формы, между тем как это был сознательно
принятый метод построения действия и характеристики
героев.
4
Творчество Шанфлери со временем приобретало все
более мрачный характер: юмор ранних его произведений
превращался в злую сатиру, благополучные окончания
исчезали, и на первый план выступала безнадежная жиз-
ненная тина, неизбежно засасывающая всех положитель-
ных героев.
Не только враждебная, но и сочувствующая критика
говорила о пессимизме Шанфлери и всех «реалистов» во-
обще, в том числе и Бальзака. Реализм понимали как
изображение зла, болезненных и безобразных явлений
действительности. Любое произведение, в котором можно
было обнаружить пессимизм, называли реалистическим.
В частности, стихотворение Бодлера «Падаль» было при-
нято как типичное явление реализма, да и сам Бодлер
симпатизировал произведениям, считавшимся реалисти-
ческими. Обнаружив в «Мадам Бовари» выражение со-
временного отчаяния и бесполезный трагический про*
JGÔ
тест, он написал об этом романе восторженную статью.
В 1848 году с большой похвалой отзывался он и о рас-
сказах Шанфлери: «Было бы ошибкой думать, что все
эти небольшие истории имеют своею целью позабавить
и развеселить читателя. Трудно поверить, сколько скор-
би и неподдельной грусти Шанфлери умеет в них вло-
жить или, вернее, увидеть».
Однако в творчестве Шанфлери нет никакого песси-
мизма, но есть острая критика современного общества.
Для тех, кто считал это общество последним словом че-
ловеческой истории, любая критика могла показаться
пессимизмом, а Поль Бурже увидел «трагическую зарю
пессимизма» даже в творчестве Стендаля.
Политическая обстановка после 1851 года не была
обнадеживающей. Разгул спекуляций и наслажденчест-
ва во время Второй империи не радовал людей, жаж-
давших справедливости и равенства состояний. Собы-
тия, происходившие во Франции в 40—50-е годы, в среде
«реалистов» вызывали смятение.
«Реализм» не был догмой. Скорее это была тенден-
ция, в каждом данном сознании получавшая особые фор-
мы. Вот почему кружок, сформировавшийся около
1850 года вокруг Курбе и Шанфлери, в скором времени
стал распадаться. Члены старой богемы, как, например,
Мюрже, отошли от группы, сохраняя симпатию к ее тру-
дам и идеям, другие, отойдя от нее, вступили с ней в рез-
кую полемику.
Реалистические теории разного рода поддерживались
в нескольких мелких журналах. Из них наиболее серьез-
ный и значительный — журнал «Реализм», просущество-
вавший недолго — от декабря 1856 до апреля-мая
1857 года. Постоянных сотрудников журнала было око-
ло десятка, а главным вдохновителем был Луи-Эмиль
Дюранти, опубликовавший с 1860 по 1862 год три рома-
на, богатых психологическим анализом *. В 1856 году
это был двадцатитрехлетний юноша, ярый сторонник
«реализма» и ненавистник романтизма. Он изображен
1 «Несчастья Генриетты Жерар» (1860), роман, который Барбе
д'Оревильи считал лучшим из последовавших за «Мадам Бовари» и
напоминающим романы Стендаля; «Трость г-жи Дэрие, эпоха 1822
года»; «Дело красивого Гильома», 1862. Другие художественные
произведения Дюранти появляются лишь в 70-е годы.
167
вместе с Шанфлери как страстный его приверженец
в романе Гонкуров «Шарль Демайи».
Другим редактором журнала был Жюль Ассеза,
впоследствии литературный критик и историк литерату-
ры, организовавший превосходное издание полного соб-
рания сочинений Дидро.
Журнал пропагандировал почти те же идеи, что и
Шанфлери, только здесь они выражены в гораздо более
резкой форме. Борьба с романтизмом принимает оже-
сточенный характер. Журнал развенчивает писателей,
на которых не посягал и сам Шанфлери; Гюго назван
чудовищем, Ламартин — креолкой, Мюссе — тенью Дон-
Жуана. Бранными кличками награждены Готье, Мишле
и многие другие. Говорили даже, что Шанфлери и Кур-
бе испугались своих смелых защитников и старались
постепенно от них отмежеваться. Шанфлери навсегда
сохранил дружеские чувства к Виктору Гюго, авто-
ру «Отверженных», и ставил этот рома« в пример Фло-
беру.
В первый ранг литературных величин «Реализм»
возводил тех, кого «реалисты» считали своими предше-
ственниками: из писателей XVIII века Дидро, вознесен-
ный на чрезвычайную высоту Ретиф де ла Бретон и ни-
кому не известный писатель Шаль, о котором Шанфлери
написал почти восторженную статью под названием
«Авантюрист Шаль». Основоположниками «реализма»
журнал признает Стендаля, Бальзака, Макса Бюшона и
Шанфлери, произведения которых получали на страни-
цах журнала высокую оценку. Так, роман Шанфлери
«Приключения мадемуазель Мариэтты» был признан
«одной из самых замечательных и самых оригинальных
книг нашего времени; она отказывается от всех литера-
турных штампов, отходит от всех традиций. Кажется, нет
другого произведения, которое было бы написано с та-
кой независимостью, с таким пренебрежением к приня-
тым формам и правилам. В нем нельзя обнаружить ни
следа каких-бы то ни было приемов, каких бы то ни
было стараний».
К концу 50-х годов «реализм» как воинствующая
школа сходит на нет. Одной из причин было то, что тер-
мин «реализм», истолкованный враждебной критикой,
стал применяться к очень широкому кругу явлений. Реа^
листическими стали называться произведения, мало об*
168
щего имевшие с эстетикой школы. Обвиняли в реализме
Флобера («Мадам Бовари»), Фейдо («Фанни»), Гонку-
ров («Жермини Ласерте»). «Реалисты» не признавали
эти произведения «своими», но читатели и критики имен-
но эти романы рассматривали как типичное явление
«реализма», а сочинения Шанфлери и других членов
группы забывались или не привлекали внимания.
Нужно ли было столько лет вести эту упорную борь-
бу, стоившую таких усилий и жертв? Принесла ли она
какие-нибудь результаты?
Шанфлери, несомненно, задавал себе этот вопрос,
покинув поле боя, утратив способность быстро писать,
отдавшись историческим трудам. Все же ему казалось,
что он сделал что-то доброе. В 1875 году он писал свое-
му бельгийскому поклоннику Камиллу Лемонье: «С те-
чением времени я все больше убеждаюсь в том, что
слово «реализм» имело право на существование хотя бы
даже как слово — нужно было сказать людям, что на
заводе делается что-то необычное».
Те, кто сменил его на переднем крае борьбы, не вы-
зывали его сочувствия. «Мадам Бовари» казалась ему
сухой и искусственной, «Западня» Золя отвратительной,
«Девка Элиза» Гонкура — тем более. Когда-то он пред-
сказывал в ближайшем будущем великое произведение,
которое воплотит в себе все эстетические истины реали-
стической школы и навсегда обличит лживость господст-
вующего стиля. В прощальной статье журнала «Реализм»
также звучит неясное обещание книги, которая вот-вот,
наконец, появится и докажет глубокую истину реалисти-
ческих идей. Теоретики «реализма», так же как в свое
время теоретики романтизма, не столько отстаивали уже
добытые и завоеванные ценности, сколько боролись за
литературу будущего, построенную в согласии с их прин-
ципами.
На такой взрыхленной ожесточенными спорами поч-
ве, в подготовленном критикой сознании читателей пер-
вый роман Флобера, выросший в стороне от «школы»
и в иных литературных традициях, произвел впечатле-
ние этого желанного и обещанного произведения, разре-
шающего все сомнения и утверждающего новую эпоху
в искусстве. Это было довольно неожиданно и для
«реалистов», и для самого Флобера. «Мадам Бовари»,
совмещая тематику, быт, типологию, симпатичные «реа-
169
листам», с тщательностью стилистической отделки, столь
ценимой их литературными противниками, была призна-
на крупнейшим произведением школы. Благонамеренная
и либеральная критика была раздражена, и «реализм»
оказался одной из причин судебного преследования, ко-
торому подвергся этот стоявший «в стороне от схватки»,
выполненный по всем законам «чистого искусства» и та-
кой как будто «объективный» роман.
ГЛАВА Vil
ФЛОБЕР
1
Когда четырнадцатилетний Постав Флобер стал пи-
сать свои первые сочинения, он был целиком во власти
«неистовой» школы. То была середина 30-х годов. «Мое
поколение было великолепно своей экстравагант-
ностью»,— вспоминал он. Его сверстники жаждали прик-
лючений в горах Калабрии и любви высокопоставленных
дам, ломали скамьи в церкви, носили в кармане кинжа-
лы, как Антони, герой драмы А. Дюма, кто-то ходил в
красной якобинской шапке, кто-то сочинил «Апологию
Робеспьера». Один мальчик застрелился из пистолета,
другой повесился на галстуке. «Мы были красными ро-
мантиками,— писал Флобер Жорж Санд,— нелепыми в
полном смысле, слова». В полудетских повестях Флобера
можно найти весь репертуар настроений и мнений, ха-
рактерных для «неистовой» литературы.
К концу 30-х и началу 40-х годов вместе со спадом
республиканских волнений период бунтарства в творче-
стве Флобера заканчивается и начинается период ро-
мантической «мечты». Под влиянием распространявше-
гося во французской литературе «личного» романа, об-
разцом которого были «Рене» Шатобриана, «Оберман»
Сенанкура и «Сладострастие» Сент-Бёва, Флобер пишет
«Записки безумца» (1838) и «Ноябрь» (1841)—оба по
личным воспоминаниям. Герои этих повестей страдают
от любви, ненавидят окружающий их мир и погружают-
ся в мечту, которая приводит их к гибели.
Неистовство Флобера, так же как неистовство Жорж
Санд, Бальзака, Петрюса Бореля, имело в своей основе
индивидуализм, противопоставление себя другим. Фло-
бер, так же как Жорж Санд, должен был излечиться от
этого мучительного и мрачного состояния. Это произош-
171
ло в начале 40-х годов, когда он стал писать свое первое
«Воспитание чувств».
Два героя, два друга: Анри, преуспевший в любви
и в жизни, и Жюль, огорченный любимой женщиной и
презревший житейскую карьеру. Анри, развращенный и
погубленный успехом, стал продажным журналистом.
Жюль, побитый жизнью, обрел свое счастье в искусстве.
Роман показывал два возможных «воспитания»: одно
можно было бы назвать развращением, другое — прозре-
нием. Опыт убеждает Жюля в том, что наслаждения
чувств приводят к беде. Счастье доступно лишь мудре-
цам и художникам. Искусство — не мечта и не иллюзия,
это реальность и устойчивое благо.
Мечты и труды Жюля имеют для Флобера програм-
мный смысл. Высокие радости художника и мыслителя
являются спасением от бедствий жизни и оправданием
человеческого существования. Жюль подробно и востор-
женно излагает философию, прямо противоположную
байронизму. Он пантеист, и его учителями оказываются
Гёте и Спиноза. В эпоху «министерских кризисов», ни-
чего не менявших ни в политике, ни в системе мысли,
Флобер искал выход из бесполезного бунтарства и ме-
ланхолии в мудром спокойствии природы, в вечной не-
изменности ее превращений. В природе и заключаются
закономерности, которые предшествующие поколения
искали в истории и обществе. На место философии исто-
рии после краткого торжества хаоса и универсального
отрицания пришли естественные науки. Неистовство
Флобера было словно антрактом между двумя законо-
мерностями: философско-исторической и натурфило-
софской.
Пантеизм в его спинозистской форме определил ми-
ровоззрение Флобера, его эстетику и творчество. На
смену трагическому дуализму пришел успокаивающий
монизм; вместо хаоса непостижимых и враждебных сил
утвердился математически-незыблемый порядок; лич-
ность, противопоставлявшая свое одиночество миру, ока-
залась лишь его ничтожной частицей и ощутила свое
единство с целым; чувство, казавшееся высшей душев-
ной способностью, уступило место познанию, а искусство
из «выражения» превратилось в «творчество».
Однако пантеизм почти не устранил настроений, вну-
шенных прежним универсальным отрицанием, но позво-
172
лил утвердить это отрицание на философской основе, дал
логическое разрешение отчаянию и тем самым сиял его:
ведь зло, царящее вокруг,— неизбежность, но именно
поэтому от него есть спасение — в познании и творчест-
ве. В пантеизме получили оправдание и общественная
позиция Флобера, и его художественные наклонности, и
его уход в искусство. Вот почему весь этот процесс пе-
рестройки мировоззрения прошел так быстро и сопро-
вождался острой радостью и некоторым успокоением.
«Психологический метод» Кузена предполагал, что
мир подобен человеку, и потому мир можно познать при
помощи самонаблюдения. Содержание сознания есть со-
держание мира, только в более сжатом, очищенном,
идейно оформленном виде. Это был антропоцентризм, ко-
торый Флоберу, очутившемуся перед непостижимым хао-
сом действительности, казался смехотворным и ребяче-
ским. Это был монизм, который не мог устоять перед
пессимистическим дуализмом 30-х годов. «Мир не для
человека» — эта мысль торжествовала и в спинозистском
пантеизме, но получала в нем новую и даже оптимисти-
ческую интерпретацию.
Человек исчез из мироздания как «царь природы», как
цель и достижение. Существует лишь естественная при-
чинность, лишь математическая предопределенность
атрибута протяжения и атрибута мысли, — и, очевидно,
многих других атрибутов, постичь которые человек не в
состоянии из-за неадекватности форм познания предмету
познания.
Та же причинность господствует и в мире обществен-
ном: здесь то же отсутствие телеологии и свободы, отсут-
ствие антропоморфных начал.
При отсутствии цели есть движение и даже измене-
ние. В этом движении есть нечто постоянное и нечто пре-
ходящее— вещи бесконечные и пребывающие всегда, и
вещи конечные, возникающие и исчезающие. Если гово-
рить языком Спинозы, то первое — это сущность, вто-
рое — существование. Это, конечно, трансформированное
платоновское учение об идеях и их отражении в мире
вещей.
Идеи для Флобера — это система естественных зако-
номерностей, не зависящая от вечно меняющихся собы-
тий и мнений. Идея противостоит эмпирической реаль-
ности, она даже отрицает ее. Флобер презирает реаль-
173
ность и изменение и пытается жить в идее и познании»
Устраняя свободу воли в действии, он допускает ее в
познании, противопоставленном действию.
Воздержание от деятельности согласуется с общест-
венной позицией Флобера и в известном смысле опреде-
ляется ею. Если каждое изменение предопределено не-
изменными законами, то действование, любое вмеша-
тельство в политическую жизнь,— бесполезно и потому
для мудреца даже оскорбительно. «Какое значение име-
ет действие? — говорит Логика Антонию в первом
„Искушении " (1848). — Оно всегда стремится к какой-ни-
будь цели, возникает из какой-нибудь потребности, оп-
ределяется материей, в которой оно происходит. Хоро-
шее сегодня, дурное завтра и всегда одинаковое, неза-
висимо от того, восхваляют ли его или порицают, разве
оно заключает в себе какую-нибудь природную цен-
ность?... Нет, оно происходит от зла, его создал Дьявол,
оно принадлежит царству плоти, силы и случая». И не-
зависимо от того, в какой мере логичны эти рассуждения
Логики, они прекрасно характеризуют взгляды Флобера.
Действие — вне власти того, кто действует, а потому
радеть о нашем социальном будущем, по мнению Флобе-
ра, так же нелепо, как сожалеть о том, что ты не бог.
Постижение вечных идей, законов, которые являются
«неподвижной геометрией», осуществляется научным зна-
нием, но также и интуицией. Художественное познание
включает познание научное и интуитивное и потому яв-
ляется высшим доступным для человека постижением
реальности.
Развития, следовательно, не существует, все остается
таким, каким было, и смена событий и веков — только
иллюзия. Иногда эта «иллюзия» овладевала Флобером,
как это было, например, во время Февральской револю-
ции, потому что и он, несмотря на свой скептицизм и
неверие в действие, вдруг стал надеяться на нечто луч-
шее, на некое реальное изменение. Но «политическое со-
стояние страны,— пишет Флобер,— подтвердило мои ста-
рые априорные взгляды на двуногое бесперое животное,
которое я считаю вместе индюшкой и коршуном» К Это
было написано через два года после декабрьского пере-
ворота 1851 года.
1 Индюшка по-французски — символ глупости.
174
Эти философские взгляды не всегда определяли его
поведение. Каждый раз, как происходила с Францией
какая-нибудь катастрофа, он терял спокойствие, что-то
хотел предпринять и действовать и, выстрадав всю свою
боль, снова возвращался к той же идее неподвижности
и неизменности.
Так он приходил к теории «искусства для искусства».
Вспоминая «органические» и «критические» эпохи Сен-
Симона или философско-исторические построения Гегеля,
он утверждал, что в XIX веке произошел разрыв между
личностью и массами, что массы перестали чувствовать
искусство, и оно оказалось уделом немногих избранных.
Трагическое чувство оторванности от народа было харак-
терно для многих крупнейших писателей эпохи и вызыва-
ло следствия, вредные для общества и для литературы.
Его нетрудно объяснить обстоятельствами — кругом по-
требителей, интересами заказчика, задачами правитель-
ства. Для Флобера эта теория была средством самообо-
роны от мещанских вкусов и критики. Художественное
творчество должно быть наслаждением и подвигом од-
новременно, познанием мира и освобождением от личных
интересов и пристрастий.
И все же проблемы, которые Флобер разрешал во всех
своих произведениях, были остро актуальны для его со-
временности и подсказаны нуждами дня.
2
Познание, по учению Спинозы, есть отождествление
человека с миром. В этом познании человек достигает со-
вершенной свободы, так как познание есть в то же время
свободное признание естественных законов, внешней не-
обходимости. Это также — наиболее напряженная дея-
тельность души и высшее блаженство. Флобер принял
это учение и сделал из него выводы эстетического
плана. ; ,
Высшее или абсолютное познание у него превратилось
в эстетическое восприятие мира, в творческий акт, т. е.
в наиболее активную форму душевной деятельности.
Эстетическое созерцание освобождает человека от всяких
личных соображений или страстей, и потому искусство
есть свобода и высшее блаженство. Таково пантеистиче-
ское слияние с миром, перевоплощение, при котором объ-
175
ект, словно меч, проникает в сердце, вызывая страдание
и наслаждение одновременно. Этот высший вид познания
является «непосредственным» и «адекватным».
Так определяется характер художественного позна-
ния: художник должен изображать не отдельные пред-
меты, но сущности в их вечной связи одна с другой, в их
единстве и в их необходимости. Только целостное видение
мира есть подлинное знание и необходимое условие под-
линного искусства. Явление мыслится лишь в связи с дру-
гими, как частица и составная часть, непонятная вне
целокупности. Потому и художник должен быть «более
логичным, чем случайность явлений». Явления могут по-
казаться случайными, когда они не познаны. Художник
не имеет права на случайность, которую может себе по-
зволить действительность. Здесь Флобер словно повторя-
ет правило, которое формулировал и осуществлял в своем
творчестве Бальзак.
В каждом атоме материи, говорит Флобер, заключает-
ся мысль, а следовательно, и поэзия. Совершенная поэ-
зия заключается в великом синтезе, в слиянии противо-
положностей, в постижении единства. Подъезжая к Яффе,
Флобер почувствовал аромат лимонных деревьев и труп-
ный смрад. В небе покачивались зеленые ветви с золо-
тыми плодами, а под ногами в раскрытых могилах вид-
нелись полусгнившие трупы. Это и есть «совершенная по-
эзия», «великий синтез». В искусстве даже самое
«низкое» существо может представить величайший инте-
рес: все зависит от того, насколько полно художник обна-
ружит заключенную в этом существе идею. Поэтому
«история вши может быть прекраснее, чем история Алек-
сандра Македонского».
В 30-е годы в романтической эстетике больше всего
привлекала Флобера теория гротеска, понятая в свете
байронической иронии. Но теперь особенное значение для
него получает романтическая теория «универсального»
искусства, поколебленная «неистовым» отрицанием и от-
вергнутая охранительной идеологией. Но романтики, ори-
ентируясь на историю, требовали изображения общест-
венных противоречий и борьбы противоположно направ-
ленных сил, между тем как Флобер ориентируется на
«природу» и, следовательно, на методологию естествен-
ных наук. Таким образом, динамическая противоречи-
вость развития превращается у него в статическую проти-
176
воречивость существования, в неизбывное сочетание по-
лярно противоположных начал.
Чтобы создать такую поэзию, Флобер ищет обобщаю-
щего, «эклектического» или, вернее, синтетического стиля,
совмещающего достоинства всех литературных школ. Вот
почему с таким отвращением он говорит о «хорошем вку-
се», который «выбирает», отбрасывает, нарушает единст-
во, искажает действительность и мешает свободному
творчеству. «Я же, напротив, в искренности моего сердца
восхищаюсь всем, и если я хоть чего-нибудь стою, то
лишь благодаря этой пантеистической способности».
Это борьба с антропоцентризмом, рассматривающим
природу с точки зрения интересов и вкусов человека и да-
же по аналогии с ним. Вся старая наука, вплоть до Бюф-
фона, определявшего животных по их нравственным ка-
чествам, все религии и самые новые философские систе-
мы, в частности философия тождества и эклектизм
Кузена, объясняли природу по аналогии с человеком.
Мыслительные навыки современного европейца неадек-
ватны" природе вещей. Отбросив свою «человеческую»
точку зрения, человек в результате долгого научного раз-
вития может, если не до конца, то в значительном прибли-
жении познать «нечеловеческую» жизнь природы.
Не только в природе, но и в истории, в психике перво-
бытного человека и в беспокойной современной душе есть
вещи, недоступные практическому, бытовому рассудку.
Отказ от «человеческой», «мещанской», «своей» точки
зрения требует «безличного», или «объективного», искус-
ства. Личное волнение мешает художнику в его работе
познания, и первой своей задачей Флобер считает полное
освобождение от «себя».
Во времена своего неистовства он верил, что искусст-
во создается какой-то особой, непостижимой силой, нере-
гулируемой сознанием страстью, животным инстинктом.
«Я тоже верил, что алкоголь и разврат вдохновляют».
Нет, «страсть не создает стихов! Чем более личным будет
твое искусство, тем оно будет слабее... Чем меньше испы-
тываешь какое-нибудь чувство, тем лучше можешь его
выразить (таким, каким оно всегда бывает в себе, в его
постоянных свойствах, освобожденным от всех преходя-
щих случайностей). Но нужно обладать способностью
заставить себя почувствовать его. Эта способность и есть
гений: видеть, иметь перед собой позирующую природу».
177
Он долго работал над собой, чтобы отказаться от
творческих «маскарадов воображения, откуда поэт воз-
вращается со смертью в сердце, в изнеможении, насмот-
ревшись и наслышавшись лжи и вздора». Он должен был
подчинить вдохновение, которое может ослепить и обма-
нуть, сознанию, какой-то иной, творческой и созидатель-
ной силе.
Всякое личное переживание, если оно включается в
творческий процесс и проникает в искусство, может толь-
ко повредить, потому что оно случайно. За завесой этого
случайного затемняется общее, которое составляет цель
искусства. «Конечное», выражаясь терминами Спино-
зы, подавляет «бесконечное», и познание оказывается
несовершенным. Поэтому всякая «искренняя» поэзия,
поэзия «непосредственных впечатлений» невозмож-
на. Такая «искренность» прямо противоречит «творче-
ству».
Флобер вступает в противоречие и со школой «лич-
ных» поэтов, особенно многочисленных в 30-е годы, и со
школой «реалистов», принявших рецепт Шанфлери: «Да-
вите ваше сердце и, как губку, выжимайте его в вашу
чернильницу». Это правило должно было показаться
Флоберу чудовищным, так как, по его мнению, оно со-
вершенно соответствовало правилу Мюссе: «Волновать,
будучи взволнованным» и было столь же гибельно для
искусства.
Однако разница между эстетикой Шанфлери и Флобе-
ра была не столь значительна: и тот, и другой искали
средств отбросить личное и условное и проникнуть в «ду-
шу вещей». «Я всегда пытался проникнуть в душу ве-
щей,— писал Флобер,— воспроизводить лишь наиболее
общее и всегда отказывался от случайного и драматиче-
ского».
«Только порядочный человек может обладать даром
наблюдения, потому что видеть вещи такими, каковы они
в действительности, может только тот, кто свободен от
всякого личного интереса».
Следовательно, в «безличности» есть нечто самоотре-
ченное и высоконравственное. «Поменьше думайте о се-
бе,— пишет Флобер м-ль Леруайе де Шантепи.—
В страстных занятиях наукой заключаются духовные ра-
дости, созданные для благородных душ. Приобщитесь
мыслью к вашим братьям, жившим три тысячи лет тому
17а
Назад, примите на себя все их страдания, все их мечты, и
вы почувствуете, как расширяется ваш ум и ваше сердце;
глубокое, безграничное сочувствие словно плащом обле-
чет все призраки и все существа. Постарайтесь не жить
в себе».
Проблема морали, следовательно, переносится в дру-
гую плоскость. Она — не в оценке, «навязываемой» пред-
метам, а в понимании этих предметов со всеми их свой-
ствами и качествами, т. е. в перевоплощении.
«Глубокое и безграничное сочувствие» лишний раз
свидетельствует о том, что «бесстрастие» не требует бес-
чувственности. Это скорее беспристрастие, чем равноду-
шие. Оно нисколько не исключает, а наоборот, предпо-
лагает симпатию. Так устанавливается тождество: исти-
на есть сочувствие.
В произведении искусства вещи действительного ми-
ра — все, дурные и хорошие,— должны предстать в своем
подлинном виде, как на полотне. «Я ограничиваюсь изло-
жением того, что мне кажется истиной... Не пора ли вве-
сти в Искусство Справедливость? Тогда беспристрастие
живописи возвысится до величия закона,— и до точности
науки.»
Вот еще одно тождество: истина есть справедливость.
То и другое возможно лишь при самоотречении. Таким
образом, искусство со своим безличием и бесстрастием, в
своей свободе от оценок и морализирования является
истиной, справедливостью, самоотречением и актом выс-
шей нравственности, так как оно осуществляет беспри-
страстный суд и утверждает Закон.
Говоря о специфических вопросах творчества, о мето-
де искусства, о качестве собственных произведений, Фло-
бер приходит к древнему триединству: истины, добра и
красоты. Оказывается, «чистое» искусство служит не для
одной только красоты, которая, очевидно, сама по себе,
без двух других членов тождества, не существует. И те-
перь уж никак нельзя определить, что в этом триединстве
главное: красота, истина или добро.
Вместе с тем, в этом высшем единстве уничтожается
разделение «способностей», так долго существовавшее в
философии и эстетике. При конкретном анализе художе-
ственного творчества и эстетического наслаждения эти
три «способности» оказались едины — к счастью для всех
трех.
179
В споре между Жорж Санд и Флобером о безличном
искусстве оба утверждали одно и то же. Оба хотели,
чтобы личный интерес, личная точка зрения были изгна-
ны из искусства, и оба считали искусство выражением
того неличного волнения, которое приходит к человеку
при глубоком, «незаинтересованном», нравственно сво-
бодном постижении истины. В споре их заключалось
скорее недоразумение, чем противоречие. Но, согласные
в самом главном, они осуществляли один и тот же прин-
цип по-разному. Флобер не хотел убеждать читателя и
проповедовать, а только показать ему все, что нужно, и
не сомневался в том, что убедит его. Жорж Санд посту-
пала приблизительно так же, но свободнее вступала в
дискуссию и не боялась, что ее голос расслышат за го-
лосами ее героев. Положительные персонажи ее были
более положительными, чем то казалось допустимым
Флоберу, и это было основным расхождением между
спорившими.
По отношению к персонажам «безличность» понима-
лась как перевоплощение. Нужно было «превратиться в
другого». Жорж Санд, по мнению Флобера, совершала
прямо противоположный акт: она превращала другого в
себя. Но как доказать это? Все зависит от того, как пред-
ставляет себе писатель этого другого, что он хочет в нем
найти. Очевидно, Жорж Санд иначе смотрела на людей,
чем Флобер, ждала от них совсем не того, чего ждал ее
корреспондент, и потому оба они критиковали друг дру-
га, не понимая и не желая перевоплотиться в своего со-
беседника.
По мысли Флобера, стать на точку зрения другого
человека, жить его страхами и аппетитами, желать того,
чего он желает, переживать его поступки, как свои, мож-
но лишь усилием ума и воображения. На помощь писа-
телю приходят физиология и психология, медицина, пси-
хиатрия и все науки об обществе. Личный опыт тоже
важен, хотя нет надобности самому переживать то, что
изображаешь в искусстве. В душе художника живут сот-
ни чувств и желаний, которые, не осуществляясь в дейст-
вительности, с тем большей силой реализуются в вообра-
жении и помогают ему понять самые разнообразные и
самые редкостные переживания. С одинаковой легкостью
художник может стать Клеопатрой или императором Ко-
хинхины, рыбаком или крестоносцем, средневековым
180
аскетом или современным аптекарем. Мало того, неудов-
летворенное желание оставляет более сильные воспоми-
нания, более глубокие следы, обогащая воображение и
увеличивая его творческие возможности.
3
«История и естествознание — вот две музы современ*
ной эпохи»,— пишет Флобер. У этих муз нужно заимст-
вовать «беспощадный метод, точность физических наук».
Самое главное — наблюдать. Наблюдать, но не делать
выводов. «Писатель искажает действительность, когда
хочет подвести ее к заключению... Желание во что бы то
ни стало делать выводы — одна из самых пагубных и
самых безумных маний человечества». Естественные
науки хороши тем, что они ничего не хотят доказывать.
А результат этого — безграничная широта материала и
просторы для мысли.
Заключения и выводы, против которых Флобер про-
тестует,— это все то же «личное», «человеческое», «ме-
щанское» отношение к вещам. «Станете ли вы сердиться
на копыта осла или на челюсть какого-нибудь другого
животного? Покажите их, сделайте из них чучело, поло-
жите их в спирт, и все; но оценивать их — нет. Да и кто
такие вы сами, ничтожные жабы?»
Явления личной и общественной жизни нужно рас-
сматривать вне оценок, как геометрические линии, по-
верхности и тела. «Когда же, наконец, историю будут
писать так, как нужно было бы писать роман, без любви
и ненависти к кому бы то ни было из своих персонажей?»
«Романист не имеет права высказывать свое мнение о чем
бы то ни было. Разве бог когда-нибудь высказывает свое
мнение?»
Историки 20-х годов утверждали, что «бог высказы-
вает свое мнение». Историческое развитие, осуществляв-
шееся в борьбе классов, старого с новым, справедливости
с бесправием, демократии с теократией, аристократией,
деспотизмом было суждением, если не бога, то провиде-
ния, исторической закономерности. Идея развития заклю-
чала в себе мнение,— иначе история превратилась бы в
хаос и бессмыслицу. Флобер апеллирует к лрироде, а не
к истории, история для него мыслима как неподвижная
геометрия. Он хочет, чтобы ее изучали, как линии, тела
181
и пространства, й красоту он тоже хочет определить как
«сущность», вне исторических категорий, как красоту для
всех и навсегда. Это естественнонаучный или «геометри-
ческий» метод на службе древнего платонизма.
Но если сам Флобер мечтал о том, чтобы построить
свою эстетику «под знаком вечности», то эта эстетика,
как всякое явление культуры, носила на себе печать со-
здавшего ее времени.
И здесь нужно вновь возвратиться к кризису 1830 года.
Как в медленном крушении революции XVIII века погиб-
ла мысль о быстром пришествии всеобщего счастья и
сошел на нет просветительский рационализм, не считав-
шийся с историческими возможностями страны и народа,
так и в наступившей после 1830 года реакции погибла
идея закономерности и развития. Желание затормозить
революцию, т. е. остановить ее, определило всю политику
«доктринеров», «партии сопротивления», правительства.
«Золотая середина» была предана идее остановки, поли-
тической неподвижности и неизменности, под сенью ко-
торой спокойно развивались капиталы и крупнопромыш-
ленные предприятия. «Отдых»,— называл оратор Рестав-
рации мирную политику Людовика XVIII. «Остановка в
грязи»,— отвечал ему генерал Ламарк. Эти слова часто
повторяли во время Июльской монархии с раздражением
и горечью. Статика режима стала ощущаться как все-
мирный закон. Есть, конечно, разница между королем
божией милостью и королем волею народа, но эта раз-
ница кажущаяся, разница формы. По существу, ничто
не изменилось,— «и не изменится никогда», напрашива-
лась мысль, как неопровержимый вывод из всего проис-
ходящего.
Обе партии принимали эту мысль, продиктованную
действительностью, одни с удовлетворением, другие с
яростью или со спокойствием отчаяния. Неудачи восста-
ний, а затем бессмыслица министерских кризисов под-
крепляли ощущение статики.
Революция 1848 года произвела то же впечатление,
что и революция 1830 года. Первые мгновения надежды и
восторга, которые пережил и Флобер, сменились годами
мертвого покоя. Казалось, опять повторяется все то же:
топтание в грязи, разнузданное торжество наживы... До
1848 года и после него Флобер входил в свою безнадеж-
ность, как в башню из слоновой кости, чтобы спастись,
182
как он говорил, от моря нечистот, бушевавшего у ее под-
ножия.
Для Флобера было очевидно, что оргии Второй импе-
рии, славословия императору и режиму, торжество
капитала и клерикалов, блеск финансового преуспеяния
приведут страну к катастрофе. Во Франции бурно раз-
вивались естественные науки, строгий метод мышления.
В тишине кабинетов, в библиотеках, больницах и лабора-
ториях происходила работа, менявшая мысль XIX века
и создававшая науку, характер которой Флобер мог бы
определить как тяготение к бесстрастной доказательно-
сти и несомненной точности. Между тем в политической
жизни страны все было построено на лозунгах и идеях,
не имевших под собой никакого основания. Задачей по-
литических деятелей и стоявших у власти людей было —
шумом официальной пропаганды убедить население в
том, что страна под руководством императора идет к
процветанию и всемогуществу. Но и оппозиционные груп-
пы, казалось Флоберу, тоже ориентируются на лозунги,
не подтвержденные наукой и практикой. Демократиче-
ские идеи Жорж Санд, ее надежды на народ, на справед-
ливость, на некое утопическое согласие всех классов в
борьбе за общие идеалы казались ему ошибкой, которая
может только усугубить беду. Его пропаганда точных
наук и беспощадного, критического анализа современно-
сти казалась ему более эффективной.
Началась война 1870 года, результаты которой по-
трясли даже Флобера. Ему казалось, что все, что про-
изошло, было, прежде всего, результатом нежелания
точно и методически мыслить, неверия в науку, жонгли-
рования пустыми идейными штампами. «Нас победил
немецкий учитель», учитель средней школы, сообщавший
детям точные сведения естественнонаучного характера.
Это было широко распространенное в то время убежде-
ние. Очевидно, оно далеко не соответствовало действи-
тельности, и немецкий учитель прививал своим ученикам
не только любовь к естественным наукам.
Парижскую коммуну Флобер не понял. Ему казалось,
что самая теория социализма и коммунизма представ-
ляла собой утопию, неосуществимую на практике и по-
тому вредную для общества. И, жестоко страдая от всего
того, что происходило в эти страшные для Франции годы,
он убеждался, что главное — не торопиться с «вывода-
193
ми» и ожидать «естественного» развития человечества к
более благополучному и разумному состоянию.
Эстетика Флобера, так же как и его теория творче-
ства, была полным и строгим выражением его философии
действительности.
4
«Если мы хотим хорошо воспроизвести внешнюю ре-
альность, она должна войти в нас так, чтобы мы закри-
чали от боли», — писал Флобер. Он мог определить этот
процесс отождествления с миром только негативно: не
должно быть собственной личности, предвзятых оценок и
суждений, не должно быть ни размышлений, ни остро-
умия. «Мы стали очень серьезными, и каким глупым ка-
жется нам остроумие!... Любопытный факт интересует
нас больше, чем рассуждение или игривая шутка».
«Остроумие несовместимо с поэзией». «Оно годится толь-
ко для того, чтобы помешать энтузиазму и отрицать ге-
ний, вот и все».
Поднимаясь по течению Нила, где-то в верхнем Егип-
те, Флобер видел пейзаж, навсегда сохранившийся в
памяти: «...Я почувствовал, как из глубины моего суще-
ства поднимается торжественное чувство счастья, идущее
навстречу этому зрелищу, и в сердце своем возблагода-
рил бога за то, что он дал мне способность наслаждаться
всем этим; я чувствовал себя счастливым силою мысли,
хотя мне казалось, что я ни о чем не думаю; все мое
существо испытывало глубокое наслаждение».
Задача искусства и заключается в том, чтобы дать
такое чувство счастья. «По-моему, высшее (и самое труд-
ное) достижение Искусства не в том, чтобы вызвать смех
или слезы, похоть или ярость, а в том, чтобы воздейство-
вать тем же способом, что и природа, т. е. вызвать мечту.
Действительно, все лучшие произведения обладают этим
свойством. Они безмятежны с виду и непостижимы».
«Непостижимы», очевидно, для рассуждающего разу-
ма, а «мечту» Флобер понимает как особый способ по-
стижения действительности, которое включает в себя
раздумье, созерцание, деятельность воображения и по-
знания одновременно.
Особенно близка его поэтическому идеалу была по-
эзия Гюго с ее «нечеловеческой» образностью, с метафо-
рами, логический смысл которых остается нераскрытым,
184
с мыслью, таящейся под/пышной символикой. Гёте и Шек-
спир казались ему непревзойденными мастерами этой
мудрой поэзии без размышлений. Мастером такой поэзии
был и Леконт де Лиль, хотя даже у него Флобер находил
слишком навязчивую мысль и тенденцию к философство-
ванию, вредную для искусства. «Он больше идеалист,
чем философ, больше поэт, чем художник». И, цитируя
стихи Булье («Огромные быки лежали на полянах»),он
восклицает: «Вот та поэзия, которую я люблю, спокой-
ная и тупая, как природа, без единой острой мысли.
Каждый стих здесь открывает горизонты, над которыми
можно мечтать целый день». Поэзию без острот, вызы-
вающую ощущение правды и долгую «мечту», Флобер
находил и в творчестве Бальзака и Золя, хотя и призна-
вал, что проза должна иметь больше мысли, чем поэзия.
Жорж Санд понимала художественное переживание
приблизительно так же: созерцание без мысли, без остро-
умия (она не выносила остроумия), отрешение от соб-
ственной личности, восторг, который нельзя объяснить
никаким логическим актом мысли,— постижение действи-
тельности, полное наслаждения и боли. Подобное пере-
живание было знакомо и Бальзаку, и Шанфлери.
Не нужно строить на этом основании никаких догадок
о мистической или непознаваемой природе художествен-
ного творчества. Бальзак, Жорж Санд и Флобер твердо
ориентировались на науку и разум. То «непостижимое»
для них самих, удивлявшее их состояние духа, было син-
тезом долгих поисков мысли, наблюдения и опыта.
Искусство, по мнению Флобера, не есть ни «выраже-
ние», ни «изображение» в прямом смысле этого слова.
Искусство есть «творчество», созидание нового мира.
Творчество — это изображение не видимого, а прозревае-
мого мира, «принципа» или «идеи», а не «феномена». Эта
правда не дана в опыте, она должна быть создана. Мир,
создаваемый искусством, это мир «сущностей», его зако-
ны более обнажены. Он подобен действительному, т. е.
правдоподобен, но это правдоподобие касается только
внешности. Правда — в закономерностях внутреннего по-
рядка, в глубине изображения. Это мир той «неопреде-
лимой Красоты», которая представляет собой «велико-
лепное проявление Истины, как сказал бы Платон».
Однако истина эта — отнюдь не «платоническая», она
извлечена из повседневной житейской или исторической
185
данности. Творчество заключается в том, чтобы осво-
бодиться от эмпирического копирования действительно-
сти и, согласно с законами действительности, «приду-
мать» новую действительность, в которой эти законы
были бы более отчетливы. Искусство — выявление зако-
нов реального мира, облеченных в наиболее типичную
и, следовательно, закономерную форму. Искусство есть
мир типического. Флобер словно воспроизводит мысли,
высказывавшиеся в 20-е годы романтиками, а затем
Бальзаком и Жорж Санд.
Отождествление красоты и истины позволяет решить
основной для Флобера вопрос о форме и содержании.
Единство красоты и истины предполагает единство
формы и содержания. Не может быть прекрасной формы
без содержания. «Пока мне в какой-нибудь фразе не от-
делят формы от содержания, я буду утверждать, что это
слова, лишенные смысла. Нет прекрасных мыслей без
прекрасных форм, и наоборот... Так же, как нельзя из-
влечь из физического тела составляющих его качеств,
т. е. цвета, протяженности, твердости, не сделав из него
пустой абстракции, словом, не уничтожив его, так же
нельзя отнять у Мысли форму, так как Мысль существует
лишь благодаря своей форме. Представь себе идею, у ко-
торой не было бы формы,— это невозможно, так же как
невозможна форма, которая не выражает Мысли. Вот те
глупости, которыми живет критика. Людей, пишущих
хорошим стилем, упрекают в том, что они пренебрегают
Мыслью, нравственной целью, как будто цель врача —
не в том, чтобы лечить, живописца — не в том, чтобы
живописать, цель соловья — не в том, чтобы петь, как
будто целью Искусства не является прежде всего Пре-
красное!»
Прекрасное для Флобера не может быть определено
заранее данными свойствами предметов и свойствами
художественного произведения. Никакими правилами
нельзя определить прекрасное, потому что оно существует
везде, где есть познание и истина. В более узком смысле
прекрасное понимается как художественное, т. е. создан-
ное искусством.
Форма и содержание нерасторжимы. Утверждая это,
Флобер как будто принимал точку зрения «искусства
для искусства» и боролся с морализирующей школой
«здравого смысла». Однако для многих сторонников
186
чистого искусства исключительный восторг перед формой
имел своей задачей освобождение искусства от сколько-
нибудь важных философских, нравственных и общест-
венных вопросов. Сторонники «здравого смысла» пре-
небрегали так называемой «формой», чтобы видеть в ис-
кусстве только пропаганду общественно-политических
рецептов и буржуазных добродетелей. Флобер считал ту
и другую тенденцию ошибочной и вредной для Красоты
так же, как для Истины. «Эти молодцы,— пишет он
о представителях „школы здравого смысла", — придер-
живаются старого сравнения: форма — это плащ. Нет!
Форма — это самое тело мысли, так же как мысль — ее
душа, ее жизнь». Тот, кто не понимает этого, утверждает
Флобер, приходит к чистому формализму, к понятию
«внешней формы» и вместе с тем к жестокой лжи. «Стиль
это есть способ мыслить, поэтому если ваш замысел слаб,
никогда вы не напишите складно». И он приводит при-
мер из собственного своего опыта: «Я только что еще
раз исправил мою IV главу (из„Саламбо"). Это, по-мо-
ему, тур-де-форс по сжатости и отчетливости, если рас-
сматривать ее фразу за фразой; и тем не менее глава эта
убийственно скучна и кажется очень длинной и непонят-
ной, потому что замысел, материал или план (я еще сам
не знаю, что именно) имеют какой-то тайный порок, ко-
торый я должен обнаружить. Стиль так же за словами,
как и в словах. Это так же душа, как и тело произве-
дения».
Содержание должно овладеть писателем, мысль дол-
жна достигнуть величайшего напряжения, чтобы возник-
ла нетленная форма, последний идеал художества. «Если
я сейчас ничего не могу написать, если все, что я пишу,
пусто и пошло, то это потому, что я не испытываю чувств
моих героев, вот и все. Возвышенные слова, о которых
сообщает история, часто были сказаны простыми людь-
ми. Но это никак не служит аргументом против Искус-
ства, напротив,— они (эти простые люди) обладали тем,
что составляет Искусство, а именно конкретизированной
мыслью, чувством ^захватывающим и дошедшим до выс-
шей точки идеала. „Если будете иметь веру, будете дви-
гать горами"—является также и законом Прекрасного.
Это можно было бы перевести более прозаически: „Если
бы вы знали точно, что вы хотите сказать, вы бы пре-
красно выразили это" ».
187
«Ты ищешь только хорошо построенных фраз,— упре-
кала Флобера Жорж Санд, не понимавшая многих поло-
жений флоберовской эстетики,— это кое-что, но только
кое-что, это не все искусство, даже не половина его, но
самое большее — четверть, а когда другие три четверти
прекрасны, можно обойтись и без той, которая негодна».
«Вы меня огорчаете, приписывая мне эстетические
взгляды, которые мне чужды,— отвечал Флобер.— Я счи-
таю, что закругленные фразы — ничто, но хорошо
писать — это все, потому что „ хорошо писать значит
одновременно хорошо чувствовать, хорошо мыслить и хо-
рошо выражаться" (Бюффон). Значит, последний термин
зависит от двух первых, так как нужно глубоко чувст-
вовать, чтобы мыслить, и мыслить, чтобы выражать».
Работа над художественной формой должна стать
уничтожением формализма в искусстве, а задачей этой
работы является освобождение творческой мысли от стес-
няющей ее косной массы традиций, от посторонних ей
правил. Необычайное достоинство «Дон-Кихота» заклю-
чается в том, что в нем «отсутствует искусство». Это
значит, что в произведении Сервантеса жанровые пра-
вила и традиции не препятствуют свободно льющемуся
содержанию. Флоберу казалось, что мысль все больше
освобождается от формы, понимаемой как «внешняя
форма». Теперь она «сходит на нет», она не знает ника-
ких правил и установлений и свободна, как порождающая
ее воля. С искусством происходит то же, что происходит
с человечеством: оно освобождается. «Такое освобожде-
ние от материальности происходит повсюду, также и в
государственных системах, развивающихся от восточного
деспотизма к будущему социализму». Освобождение
художественной мысли и непосредственной эмоции от
условностей, навязанных традицией, было одним из важ-
нейших положений «искреннего» реализма, эстетику
которого Флобер не хотел или не мог понять.
Теория красоты-истины предполагала необычайное
расширение тематики искусства. Нет ни плохих, ни хоро-
ших сюжетов. Сюжеты все одинаковы, потому что каж-
дый может воплотить какую-нибудь истину, принцип,
идею, а следовательно, и красоту. Поэтому какой-нибудь
городок Ивето из песенки Беранже не уступит Констан-
тинополю, и «можно писать о чем угодно так же хорошо,
как и о чем бы то ни было другом».
188
Но если возможны любые сюжеты, то не все они оди-
наково легки. «Есть идеи, столь тяжелые сами по себе,
что они раздавят всякого, кто захотел бы их поднять».
Так, например, Клеопатра — «хороший» сюжет, так же
как Сарданапал или Юлий Цезарь. Но трагедия «Клео-
патра» не удалась мадам де Жирарден, а «Сарданапал»
не удался Байрону. Современный писатель не может
понять великих людей древности, а значит и не стоит за
них браться. Поэтому и сам Флобер принимался за «хо-
роший» сюжет «Саламбо» с трепетом. Здесь он повторя-
ет то же, что с такой энергией говорил Бальзак.
В искусстве один материал ничего не решает. Важно,
как этот материал осмыслен. «Сюжетный» интерес не
есть интерес художественный, а потому не определяет
эстетического качества произведения. Он может даже
помешать художественному действию искусства, потому
что отвлекает читателя от «мысли» и от «красоты».
5
Первое «Искушение святого Антония», законченное к
1848 году, было символической драмой, в то время весьма
распространенной во всей Европе. Затем началось долгое
восточное путешествие. По возвращении Флобер принял-
ся за свой современный роман, принесший ему мировую
славу.
В 40-е годы появилось много исторических романов,
но никто не был ими очарован. Все предпочитали совре-
менные темы. Мещанский читатель хотел видеть в рома-
не себя, а политические деятели эпохи потворствовали
этой мелкобуржуазной страсти. Те, кто, оставаясь в ос-
новных вопросах мещанами, ненавидел мещанство, не
могли оторвать взора от этого зрелища, как Уголино в
аду не мог оторвать своих губ от «мерзостного брашна».
Некоторые искали утешения в домашних добродетелях
мелких торговцев, другие находили в буржуазном мире
«блудных сынов», вырывавшихся за рамки своего класса,
третьи интересовались закономерностями его существо-
вания и гибели, которую предвидели в близком или да-
леком будущем.
Еще в эпоху «Искушения» Флобер постоянно обсуж-
дал вопрос о современной теме. Путешествуя по Бретани,
он жалеет о том, что краски прежних веков погасли и что
189
на улицах не найти ни куртизанок, ни канатных плясу-
ний. Но тут же он восхищается Бальзаком, изобретателем
или Колумбом современности. «Тридцатилетняя женщи-
на»,— это целый мир, за который нужно благодарить его
создателя.
Особенно остро он почувствовал свою современность,
вернувшись с Востока и познакомившись с некоторыми,
казалось ему, типичными сочинениями, художественны-
ми и философскими, начиная от романов Эжена Сю и
кончая «Курсом позитивной философии» Огюста Конта.
«Бывал ли когда-нибудь буржуа более чудовищным, чем
теперь? Разве может сравниться с ним мещанин Молье-
ра? Г-н Журден в подметки не годится любому торговцу,
которого встречаешь на улице. А завистливая физионо-
мия неимущего? А молодой человек, делающий карьеру?
А чиновник? А все, что бродит в мозгу дураков, а все,
что кипит в сердцах проходимцев?»
И Флобер снова возвращается к проблеме, открытой
Бальзаком. Показать специфику современности значит
показать ее пошлость. Нужно писать о «среднем» герое,
так как именно такой герой типичен. Но в этом и заклю-
чается трагедия современности. Следовательно, типично
современный роман должен стать трагедией пошлости.
Так Флобер приходит к замыслу «Мадам Бовари».
Протест против всего окружающего мира, жажда
чего-то другого, более совершенного, невозможность при-
мириться и успокоиться наедине с данным было в начале
века, в эпоху символической драмы, достоянием титанов,
полубогов, благодетельствовавших человеческому роду,
или людей, вступивших в сделку с сверхъестественными
силами,— Прометея, Каина, Фауста, Манфреда, Моисея.
Эти герои демократизировались и стали людьми — Рене,
Чайльд-Гарольдом, Оберманом, наконец, Жюльеном Со-
релем, Эрнани, Антони. Все эти столь различные герои
имели нечто общее друг с другом и были связаны между
собой тесной преемственностью. Пассивные и бурно дей-
ствующие, живущие в легенде или в точно датированной
современности, все они были героями высокого плана.
Они отличались умом, образованием, волей, феноменаль-
ной энергией. Они были исключениями, никто из них не
походил на толпу.
Пантеистическая мысль Флобера не благоприятство-
вала индивидуализму. В его творчестве мало великих
190
людей, пожалуй, даже нет их совсем. Но современная
тоска не требует ни знатного происхождения, ни образо-
вания, ни богатства. «Совсем не обязательно получить
степень бакалавра, чтобы застрелиться»,— писал Флобер
во время эпидемии самоубийств.
Мучившее всех томление духа Флобер объяснял со-
стоянием общества. Об этом говорили сотни писателей,
публицистов, философов. Шатобриан считал, что основ-
ное отличие новых времен от древней языческой цивили-
зации — меланхолия, завоевание и результат христиан-
ства. Другие объясняли тоску упадком утешительной
религии, прозаическим спокойствием посленаполеонов-
ской эпохи. Писатели говорили о чувстве неустойчивости,
об остром ощущении будущего, ожидание которого со-
четается с отвращением к настоящему. Говорили также
о несоответствии образования имущественному положе-
нию молодежи, о меркантилизме эпохи, препятствующем
нормальной жизни души. «Душа измеряется мерою сво-
его желания, подобно тому как о соборе судят прежде
всего по высоте его колоколен»,— писал Флобер во время
работы над «Мадам Бовари». «Мы стоим чего-нибудь,
может быть, только благодаря своим страданиям, так как
всякое страдание является стремлением. Так много есть
людей, радости которых отвратительны и идеалы ограни-
чены, что мы должны благословлять наше несчастье,
если оно делает нас более достойными». Даже самая
высокая деятельность, творчество и мышление, мучитель-
ны, и «гений, в сущности, не что иное, как утонченное
страдание, т. е. более полное и сильное проникновение
объекта в вашу душу».
Эмма Бовари оказалась типом и символом современ-
ности. Это существо пошлое, необразованное, не умею-
щее рассуждать, непривлекательное ничем, кроме внеш-
ности. Но в ней заложены качества, которые делают ее
интересной и типичной — неприятие действительности,
жажда того, чего нет, стремление и неизбежно связанное
с ним страдание.
В первом «Воспитании чувств» Флобер утверждал,
что счастье возможно лишь в познании. Жюль, потер-
певший неудачу в жизни, счастливее, чем преуспевший
Анри. Чувство, как всякое стремление, бесконечно и ни-
когда не может быть удовлетворено. Мадам Бовари
искала свое счастье в чувстве.
191
Встретившись после смерти Эммы с Родольфом,
Шарль Бовари сказал «первое и последнее в своей жиз-
ни высокое слово: Во всем виноват рок!» Это «высокое
слово» многозначно. Его можно понять как бессмыслен-
ную, слепую силу древних религий, как фатализм, уп-
раздняющий свободную волю человека, или как естест-
веннонаучный детерминизм, который является законом
эстетики Флобера.
Жена скульптора Прадье, уличенная в адюльтере и
разведенная с мужем, сделала то, что хотела, и поступи-
ла как будто по собственному свободному выбору. Встре-
тившись с этой женщиной, от которой отвернулось обще-
ство, Флобер записал в своем дневнике мысль, сыграв-
шую свою роль в создании «Мадам Бовари»: «Поэзия
прелюбодейной жены истинна только потому, что она
сама (прелюбодейная жена) свободна в лоне рока».
В эстетическом плане это значит, что «истинной» эта
трагическая поэзия может стать только в том случае,
если автор покажет свободные поступки героини как за-
кономерный результат действующих в ней и вокруг нее
сил.
Героиня Флобера не привыкла разбираться в своих
чувствах, она подчиняется влечениям, не подвергая их
критике сознания, она не ведает, что творит. Флобер
должен был разбираться во всем этом сам, без помощи
героини, понять то, чего она не могла понять, проникнуть
в подсознание, иначе говоря, отказаться от метода ста-
рых мастеров, объяснявших поведение своих героев как
результат логических, хотя, может быть, и непоследова-
тельных рассуждений. Для Флобера рассуждения пред-
ставляли наименьший интерес. Он хотел обнаружить"
логику страстей, которая не похожа на логику мысли. ^
У Флобера нет «господствующей страсти», которая
такую большую, принципиально важную роль играла в
художественной психологии Вальтера Скотта, Стендаля,
Бальзака, Жорж Санд,— всех писателей первой полови-
ны XIX века. Томление духа, испытываемое его героиней,
не может быть названо страстью, оно для этого недоста-
точно ясно, так как, имея свои причины, оно не имеет
цели. В этом особенность психологии Флобера, который
отказывается от «характера» в узком смысле этого слова.
Характер более логичен, теснее связан со страстью. Это
физиологическая предопределенность, вполне удовлетво-
192
рявшая детерминизм писателей первой половины века.
Причины, которые движут героями Флобера, лежат глуб-
же, они во тьме подсознательного. Герой не осознает их
так отчетливо, как, например, Жюльен Сорель или Рас-
тиньяк. Поэтому реакция героя на воздействия среды
менее предопределена, более неожиданна и по этой при-
чине может показаться более свободной.
Флобер не ищет логического замысла за кажущейся
нелепостью поступка. Переживание идет своим особым
путем, который нельзя объяснить элементарной логикой
рассуждения. Но именно потому его персонажи более
детерминированы, чем персонажи его предшественников:
ведь тот, кто действует согласно законам логики, более
свободен, чем тот, кто повинуется повелениям, идущим из
темных областей души.
Так вошла в художественную литературу психология
логически неосмысленных побуждений, то, что на языке
эпохи называлось «физиологией». Убежденный в том, что
душа и тело составляют единство, Флобер был уверен и
в том, что естественные науки, физиология, медицина,
психология, психиатрия могут открыть тайны души и
помочь художнику создать свой воображаемый мир, по-
строенный на естественнонаучных, а следовательно, и
общественных закономерностях.
«Мадам Бовари» — первый роман, в котором «объек-
тивная» эстетика Флобера получила свое полное выра-
жение. Он должен был преодолеть пропасть между
«личными» романами своей юности и «неличным» рома-
ном наступившей творческой зрелости. Эмма Бовари
страдает тем же, чем страдали герои его юношеских
произведений, «Записок безумца» и «Ноября»: тоской, не
имеющей предела и исхода. Но теперь эта тоска кажется
Флоберу ошибкой. Чтобы оторваться от того, чем болен
был он сам, что раздражало его у «личных» поэтов, что-
бы найти правду, заключающуюся в объективности и в
отчужденности от изображаемого, Флобер должен был
прийти к иронии. Ирония является средством познания,
поскольку познание есть свобода от личных страстей, за-
темняющих взор. Смех — это высший способ смотреть на
мир, так как это «презрение и понимание одновременно».
Ирония разрушает восторг, превращает эстетическое на-
слаждение в познание и делает возможным постижение
действительности в ее величии и пустоте, в ее красоте и
7—3836
193
уродстве, т. е. в высшем синтезе. Высшая поэзия, по сло-
вам Флобера, это поэзия «ничтожества бытия, снаши-
вающейся одежды или исчезающего чувства». Разумеет-
ся, ирония не имеет ничего общего с «остроумием», кото-
рое так раздражало Флобера.
Задача заключалась в том, чтобы в этом крохотном
сюжете, в скаредном мещанском городке, в ничтожной
провинциальной даме изобразить «все»,— комплексное,
противоречивое и единое в своих противоречиях впечат-
ление от действительности. Действительность должна вы-
зывать двойное чувство, и симпатию, и смех. Одно из этих
чувств не отразило бы всей истины, это было бы искаже-
нием действительности и свидетельствовало бы о непо-
нимании ее. Насмешка и сочувствие одновременно явля-
ются высшей правдой н высшей болью и датот йпаибтаее
отчетливое ойд-етпге мира. В «Мадам Бовари» насмешка
и сочувствие выступали в таком единстве, что от этого
захватывало дух. В этом единстве ни один из составля-
ющих его элементов не был принесен в жертву, каждый
усиливал эффект другого. «Ирония нисколько не снижа-
ет патетизма, она усиливает его»,— писал Флобер. Не
щадя ни себя, ни читателя, он осмеивал свою героиню
за все,— за любовь, ничтожество, жестокость, непонима-
ние жизни, за пороки и нелепости, присущие всем людям.
Флобер утверждал, что в его романе нет никакой
«предвзятой» идеи, никаких собственных мнений о вещах
и людях, в нем изображенных. Действительно, здесь каж-
дый персонаж говорит за себя, но это не значит, что
автор устраняется от всякой оценки вообще. Городок
Ионвиль, в котором Эмма Бовари терпит свою муку, яв-
ляется страшной инвективой миру преуспеяния и бед-
ствий, не уступающей по глубине и силе действия рома-
нам Бальзака.
Перед Флобером возникала та же проблема, что и
перед Бальзаком: нужно было изобразить в искусстве
нечто чрезвычайно непривлекательное, существование
пошлых людей, скуку провинции, мерзость современно-
сти. Поиски Бальзака, пытавшегося соревноваться со
сказками «Тысячи и одной ночи», с романами Скотта,
с «неистовой» литературой, остались далеко позади.
Флобер усвоил мысль, к которой Бальзак пробился
сквозь все стоявшие на его пути жанры. Он понял, что
нельзя приукрашивать действительность, видеть в ней
194
прелести «большого света», отыскивать какие-то исклю-
чительные казусы или находить древних богинь в графи-
нях Сен-Жерменского предместья. Нужно принимать
жизнь такой, какова она есть, и в этом видеть смысл сво-
его искусства.
«■ Флобер отказывается от драмы. Драма — это исклю-
чение, а он должен изобразить правило. Он повествовал
о стоячем болоте, в котором не было никакого движения.
Очевидно, главным персонажем является Эмма, но роман
пишется в виде биографии Шарля. Он начинается с по-
явления несуразного мальчика в школе, рассказывает
о первой жене Шарля, и после смерти Эммы, вопреки
традиционному эффектному концу, Шарль, уже один,
продолжает свою унылую биографическую повесть.
Бальзак, любивший концентрированные композиции, мог
бы упрекнуть роман в рассеянном интересе и в непроду-
манности плана. Долгое описание похорон словно на-
меренно снимает драматизм события и переводит его в
тот же обыденный, пошлый, глупый план ежедневного
существования.
Флобер предоставляет читателю самому разбираться
в повествовании, не делает никаких акцентов, не подска-
зывает, что главное, а что второстепенное,— он изобра-
жает события в том же беспорядке, в каком они следо-
вали в действительности. Но этот беспорядок стоил тяже-
лого труда и долгих размышлений.
Придать повествованию больше внешнего интереса
значило бы уничтожить всю систему романа. «Если бы я
захотел ввести в повествование действие, я подчинился
бы предвзятой идее и все бы испортил». Смысл романа,
а вместе с тем интерес его Флобер искал в психологиче-
ском анализе. Он хотел сделать увлекательными, иначе
говоря, художественно значимыми нравственные собы-
тия романа. Если обнаружить в этих событиях движение,
т. е. закономерность и внутреннюю связь, то они могут
захватить так же, как и события внешние.
Пользуясь термином френологии, Флобер говорил
о своей «шишке причинности». Все его внимание устрем-
лено на исследование причин, а потому для действия,
которое является их следствием, не остается ни времени,
ни места. Не противоречит ли это законам искусства?
Законы искусства вдруг оказались в противоречии с
законами правды. Но эти сомнения, навещавшие его по-
7*
195
стоянно, он разрешал, ссылаясь на правду. Так поступи^.,
он и теперь: «Жизнь сама по себе такова. Удар длится
одну минуту, но ожидаешь его месяцы! Наши страсти,
подобны вулканам: гул их слышен всегда, но извержение
происходит лишь изредка». Поэтому подготовка события
интереснее, чем само событие. Смысл романа заключает-'
ся в процессе подготовки, а не в самом действии. Здесь
Флобер смыкается с Бальзаком, так же как с Стендалем
и Жорж Санд, с той только разницей, что он проводит
свои взгляды с большей последовательностью, всегда
избегая неподготовленного действия и внешнего эффекта.
В этом направлении развивается вся большая литература
XIX века.
В «Мадам Бовари» Флобер ничего не писал «от себя»,
он должен был изображать то, что было ему органически
чуждо. Ему приходилось «выдумывать», а не излагать
то, что чувствовал и познал на собственном опыте. Это
было «пантеистическое» или «натуралистическое» искус-
ство, которое требовало не личного чувства, всегда огра-
ниченного и заинтересованного, а проникновения в объ-
ект творческой волей, усилием ума и воображения. Таким
образом, чем более объективным становилось искусство,
тем больше возрастала активность художника по отно-
шению к своему материалу.
Флобер боролся с собой, со «стихией», которая сво-
бодно проявлялась в его ранних, детских и юношеских
произведениях и, по его мнению, портила их. В первом
слое рукописи было множество описаний, любопытных
деталей, похожих на мелочные комментарии к действию.
Флобер подробно разрабатывал обстановку сцены, чтобы
сделать действие более убедительным и зримым, и тем
самым загромождал и затруднял его. Во втором и в тре-
тьем слое рукописи он отказывался от того, что казалось
не очень нужным. Что делали ученики, когда в класс во-
шел директор с Шарлем Бовари? Рисовали ли они чело-
вечков, дремали за партами или читали мелодраму,— не
имеет значения для общего смысла картины. То, что учи-
теля звали господин Роже и что он стоял на кафедре из
уважения к начальнику,— бытовая деталь, вполне реаль-
ная и в данном случае естественная, но она отвлекает от
главного, рассредоточивает внимание и становится само-
целью, между тем как ничто в романе не должно быть
самоцелью. Роман — это иерархия целей, все более об-
196
щих, подчиненных одной главной, это система подчине-
ния, и только в таком случае он приобретает единство и
интерес.
В первых слоях рукописи описания необычайно под-
робны. Глаза Эммы Бовари, которые рассматривает
влюбленный муж, описаны на двух страницах. Цвет
радужной оболочки разобран так, что его можно было бы
точно воспроизвести средствами живописи. В этих без-
донных зрачках Шарль видит себя, с фуляром на голове,
с фуфайкой и расстегнутым воротником рубашки. В окон-
чательном тексте фуфайка исчезла. Она была слишком
смешна, и читатель на мгновение терял из виду эту непо-
нятную, равнодушную красавицу, отраженную в созна-
нии Шарля, и слишком энергично думал о самом Шарле.
Внимание раздваивалось, и впечатление менялось. Смысл
сцены, желаемый, полный, совершенный, расцветал вме-
сте с вычеркиванием деталей.
В первом слое рукописи Флобер следовал так назы-
ваемому микрологическому методу, имевшему в то время
преимущественно сатирический смысл. Это описательная
манера физиологического очерка, манера Диккенса и Го-
голя, которой Флобер придерживался не только в сати-
рических зарисовках, но и в серьезных психологических
характеристиках. В этом он следовал за Бальзаком и
физиологиями. Когда он сжимал сцену или описание,
жертвуя подробностями ради общего впечатления, начи-
налась его борьба с Бальзаком и сближение с Жорж
Санд. Он переходил от описания к показу. Работая над
«Мадам Бовари», он убедился в том, что описания вредят
показу: чем больше автор описывает, тем меньше чита-
тель видит. Очевидно, видеть можно не все, а только
кое-что и очень немногое. И это немногое должно обоб-
щать все остальное, быть выражением и символом кар-
тины. Описания у Флобера становятся более подробны-
ми, когда они выполняют сатирические функции.
Бальзак писал детальные и точные до мелочей порт-
реты своих героев. Флобер почти избегал портретов. Он
их заменял беглыми штрихами. Это были скорее намеки,
чем описания. О наружности главных действующих лиц
мы не знаем почти ничего. Зато довольно подробно
описаны их костюмы, словно рамка, менее волнующая,
чем сама картина, а потому лучше поддающаяся ана-
лизу.
197
Бальзак описывает своих персонажей, пейзажи и ин-
терьеры такими, какими их мог бы увидеть «объектив-
ный» взор постороннего наблюдателя, который оценивает
обстановку, чтобы определить течение событий, поведе-
ние героя или его характер. Флобер рассматривает среду
сквозь сознание героя. Это результат перевоплощения,
нежелание внести дисгармонию в мир, созданный для
героя и самим героем. Флобер иногда отклоняется от
этого правила, чтобы показать контраст между героем и
средой, подчеркнуть его неспособность вопринимать
окружающую его действительность. Такие случаи особен-
но часты, когда Флобер изображает сатирический персо-
наж, показанный не изнутри, а извне. Перевоплощение
происходит и здесь,— чтобы понять аптекаря Оме, нужно
влезть в его шкуру, говорит Флобер, но этот акт он со-
вершает не до конца: он сохраняет к герою свое собствен-
ное отношение, подчеркивает его смешные стороны, не-
лепые взгляды, чудовищные суждения, а для этого
показывает чуждый герою непонятный, искаженный в его
восприятии мир. Оме, разговаривающий с Леоном,— при-
мер такого частичного перевоплощения, которое встре-
чается и при изображении других героев, более важных,
центральных. Полное перевоплощение, разумеется,
невозможно, в таком случае мир растворился бы в
иллюзиях нескольких персонажей. Это грозило бы агно-
стицизмом, который Флоберу был чужд.
Воспроизводя отражение внешнего мира в сознании
наблюдателя, Флобер объясняет это впечатление, пере-
дает его своими словами, более умными и точными, чем
формы мысли и выражения, которыми мог бы восполь-
зоваться сам наблюдающий. Мало того, передавая внут-
реннюю речь своей героини, Флобер пользуется образами
и выражениями, для нее недоступными. И все же это —
внутренняя речь, свободно использованная ради общего
впечатления, ради точности образа и идеи, а не ради
эмпирического воспроизведения факта. Это творческая
свобода, которую отстаивали и оправдывали такие ху-
дожники, как Стендаль и Бальзак, в полном единстве с
Жорж Санд и Флобером, хотя мера и принцип этой сво-
боды и, следовательно, «неточности» у каждого данного
писателя и в каждом данном случае были иные. Так
Флобер открывает для себя несобственную прямую речь
и пользуется ею как средством перевоплощения и пере-
198
дачи мысли персонажа в наиболее адекватной, хотя й не-
точной форме.
Все эти вопросы в новых условиях возникли перед
ним, когда он стал писать роман о совсем другой эпохе
и изображать людей, о психологии которых мог только
догадываться на основании исторических и естественно-
научных данных. «Саламбо» стала романом историче-
ским по материалу и, как полагал сам Флобер, естествен-
нонаучным по методу.
«Саламбо» была создана не на главной магистрали
развития романа. В то время история разошлась с худо-
жественной литературой. Культурно-исторические сцен-
ки в стихотворениях Леконта де Лиля, «Роман Мумии»
Теофиля Готье, некоторые другие малоизвестные опыты
в этом жанре не привлекали к себе большого внимания
и казались поделками прикладного искусства, больше
украшениями «в историческом стиле», чем большими
событиями проблемного характера. Литература развива-
лась на материале современности.
Проработав над «Саламбо» пять лет, Флобер не изба-
вился от своего отвращения к «господам и дамам» и тот-
час же после выхода в свет своего исторического романа
взялся за роман из современной жизни.
6
«Воспитание чувств» больше, чем какой-либо другой
роман Флобера, пришелся по вкусу приверженцам био-
графического метода. Каждый персонаж, начиная с глав-
ного героя, подвергался обследованию с этой точки зре-
ния. Оказалось, что это рассказ о самом себе, о своих
близких знакомых, мертвых и живых, любимых и нена-
вистных. Кроме этих воспоминаний, в романе не осталось
ничего, никакой мысли, никаких проблем. Между тем,
сам Флобер говорил, что он хотел изобразить свое поко-
ление, т. е. тех, кто делал Февральскую революцию и
проиграл ее, кто потворствовал реакции или примирился
с нею, кто видел утверждение Империи с огорчением и
равнодушием и своим непониманием, нежеланием дейст-
вовать и неверием в действие, своей неспособностью
научно мыслить вызвал катастрофу 1870 года и последу-
ющих лет.
199
Основной грех современности, полагал Флобер,— от-
вращение к мысли и непонимание ее закойов. Люди не
привыкли и не хотят мыслить. Они больше доверяют
«сердцу», «первому движению». Так легче жить: ни
«сердце», ни «первое движение» не требуют никаких уси-
лий, им нужно только поддаться. Люди верят в то, чего
желают. Они дурманят себя словами, которые вызывают
приятное волнение и льстят самолюбию, но не заключают
в себе никакого реального смысла. Люди отданы во
власть слов, которыми пользуются политические прохо-
димцы ради самых реакционных и преступных целей.
Все события последнего двадцатилетия свидетельст-
вовали, по мнению Флобера, о нежелании научно мыс-
лить и о полном торжестве «личного» начала.
Это проявляется во всех областях знания и творче-
ства. Доверие к чувству и отказ от разума сказались
одинаково разрушительно в эстетике Мюссе и Ламарти-
на и их слезливого «охвостья», в возрождении самых гру-
бых форм католицизма, в фантастических измышлениях
эклектизма, давно вступившего на путь реакции. Флобер
видит в этом результат принципиального нежелания под-
чиниться объективным закономерностям, принимать ре-
шения не по минутным влечениям «сердца», а в связи с
неизменными законами природы. Это также страх перед
суровой истиной и, как средство спасения от нее, бегство
в утопию. Это все то же «ячество» и мещанское самолю-
бование, обнаруживающееся в самом примитивном шо-
винизме.
Индивидуализм, который культивируют поэты в своей
поэзии, в практической жизни оказывается свирепым,
беспощадным эгоизмом. «Мещанство» приводит людей
к обожествлению своего личного интереса, заслоняю-
щего более широкие горизонты интереса общественного.
Выгода сегодняшнего дня ослепляет людей и скрывает от
них проблему завтрашнего. Флобер рассматривает
страсть к чистогану как мещанскую ограниченность, как
недостаток научности. В сутолоке мнений, одинаково
нелепых, потому что они не подчинены закону, в фана-
тизме личного интереса заключается, по мысли Флобера,
причина всех социальных преступлений, совершенных
буржуазией во время Февральской революции. Вся
Франция больна индивидуализмом, который есть глу-
пость и мещанство, а единственное возможное спасе-
200
ние — выход за пределы своего интереса в область науч-
ного познания, которое создаст право, справедливость
и новую культуру. Объективное, безличное, научное ис-
кусство также должно сыграть в этом свою, и немалую,
роль.
В таком свете возвращение к 40-м и началу 50-х годов
приобретало философско-исторический смысл. Стоит
лишь присмотреться к панораме революции, вдуматься в
судьбы действующих лиц, вслушаться в их разговоры,
которых в этом романе больше, чем в предыдущих, чтобы
вскрыть мысль, лежащую в глубине романа и определя-
ющую каждую его молекулу. Разнообразнейшие типы,
стоящие на разных ступенях общественной лестницы и
умственного развития, представляют с поражающей и
страшной конкретностью панораму эпохи.
Делорье, фальшивый друг детства Фредерика, меняет
свои убеждения, как только к этому побуждает выгода.
И всякий раз он искренне верит тому, что говорит. Это
не продажность, это естественный, хотя и отвратитель-
ный, «личный интерес». Он формирует мнения, перестраи-
вает психику, заставляет совершать поступки, которые в
другой ситуации самому Делорье показались бы гнус-
ными. Путь, который проделал Делорье, это путь Фев-
ральской революции, путь «выгод», которые обещает
каждая ее фаза, проходящая перед нашими глазами.
Делорье восхваляет революцию и якобинцев, Демулена,
потому что сам хотел бы быть им и потому что обстоя-
тельства 1848 года кажутся ему аналогичными обстоя-
тельствам 1789. Потом он жаждет «научной» политики,
понимая ее как политику беспринципную, при которой
можно менять свое поведение в зависимости от обстоя-
тельств. Делорье и дальше пойдет по течению, руковод-
ствуясь личной выгодой, но сознавая свои взгляды как
объективное понимание общественных надобностей.
Художник Пеллерен ненавидит власть, потому что его
произведения не принимают на выставку. Юсонне нена-
видит актеров, потому что его пьеса была отвергнута
театральным комитетом. Более откровенно проявляется
личный и классовый интерес в салоне «либерального»
банкира. Посетители защищают собственность, оказав-
шуюся в явной опасности, ссылкой на ее «естественную»
необходимость, органическую для каждого живого суще-
ства. «Лев, если бы смог заговорить, объявил бы себя
201
собственником»,— утверждает один из персонажей, по-
вторяя довольно популярную в то время фразу. Букет
глупостей, вызванных испугом мещан и собственников,
подобран с мастерством и убедительностью, которая сви-
детельствует о глубоком знакомстве с современными
социальными науками и об изумительной, не только
бытовой, но и научной наблюдательности. Лучше, чем
кто-либо другой из современных ему писателей, Флобер
обнажил заинтересованность самых как будто возвышен-
ных и объективных мнений, классовую природу идеоло-
гий. В этом помог ему все тот же пантеизм, идея един-
ства духа и тела, предполагающая зависимость самых
«идеальных» взглядов от нужд тела и материальных
расчетов.
Во времена острых общественных столкновений иска-
жение действительности в классовом сознании становит-
ся особенно сильным. Это отлично было известно и Валь-
теру Скотту, строившему многие свои романы на этом
законе. Чем ожесточеннее классовая борьба, тем полнее
торжество «чувства» и тем больше парализуется «пони-
мание». Так в наиболее ответственные моменты своей
жизни общество приходит к наиболее абсурдным реше-
ниям: крушением Февральской революции Флобер объяс-
няет несчастья, терзающие современную Францию. После
страхов, испытанных мещанами в 1848 году, пишет он,
«даже умные люди на всю жизнь остались идиотами».
Фредерик Моро не мечтает о деньгах, тратит их легко
и глупо, а о карьере думает от случая к случаю, интере-
суясь больше всего любовью. Но он — жертва той же бо-
лезни: неспособности анализировать идеи и мыслить
самостоятельно. Он мыслит штампами, модными, обще-
принятыми представлениями, не задумываясь о том, на-
сколько они соответствуют действительности. Его мечты
также банальны, как мечты мадам Бовари. Ум его ленив,
потому что отравлен всеми нелепостяхми эпохи. Он тоже
заключен в круг своей личности и своего эгоизма и не
может выйти за пределы своего интереса.
Фредерик, несомненно, персонаж разоблачительный.
И все же он внушает к себе симпатию, потому что он
не только носитель современного абсурда, но и жертва
его. Но главное — то, что у него есть некое нравственное,
незаинтересованное и в данном случае свободное от эго-
изма чувство, неудачная любовь, которая проходит неиз-
202
менной сквозь все измены, разлуки и житейские ката-
строфы. Это делает его исключением среди толпы
разнообразных, но понятных и весьма обыденных персо-
нажей. В сущности, это все тот же неудовлетворенный и,
с точки зрения Флобера, в высшей степени современный
тип. Фредерик ищет того, чего ему не может дать дейст-
вительность. Это те же поиски идеала, принимающего
самые различные формы, начиная от художественного
творчества, живописи, литературы и кончая женщинами
и карьерой. Любовь его к мадам Арну — это синяя пти-
ца, никогда не дающаяся в руки ищущему.
Фредерик совершает ту же ошибку, что мадам Бо-
вари: он ищет счастье в наслаждении чувств. Поэтому
он не понимает ни искусства, ни действительности, и
судьба его та же, что судьба Эммы,— за исключением
только самоубийства. Это «личное» и заинтересованное
отношение к миру и к вещам.
Задумав изобразить в своем романе современную
Францию во всех ее разрезах, Флобер должен был вспом-
нить о Бальзаке. Он мог пользоваться «Человеческой
комедией» как источником сведений об описываемой
эпохе, об интересах, волновавших людей, об их образе
жизни.
Общая структура и типаж «Воспитания чувств» на-
поминает романы Бальзака. Прежде всего, обычный для
Бальзака, много раз повторенный сюжет провинциально-
го юноши, приехавшего в Париж, чтобы сделать карьеру,
и потерпевшего крушение в водовороте столицы. Патри-
архальная семья, оставшаяся в провинции, парижская
богема, высший свет, противоречия нищеты и роскоши,
сцены в студенческой квартире,— все это словно написа-
но по внушению Бальзака, хотя существовало в действи-
тельности с той же реальностью, что и в «Человеческой
комедии». И молодые люди, толкущиеся в Париже в эту
смутную эпоху, увлечены теми же страстями, какие вла-
дели героями Бальзака. Однако это влияние предпола-
гало полемику. Флобер противопоставил свое понимание
жизни бальзаковскому.
«Безнравственные герои Бальзака,— писал Флобер в
письме 1853 года,—мне кажется, многим вскружили го-
ловы. Немощное поколение, которое сейчас суетится в
Париже вокруг власти и славы, почерпнуло в этих рома-
нах дурацкое восхищение перед мещанским аморализ-
203
мом, которого оно и хочет достигнуть... Теперь хотят быть
не Вертером и не Сен-Пре, а Растиньяком или Люсьеном
де Рюбампре».
Бальзак без симпатии относился к Люсьену де Рю-
бампре, сделав его человеком слабым, эгоистическим и
коварным. Растиньяк, человек «средний» по своим ду-
ховным качествам, однако правильно решает тяжелую
нравственную проблему, перед которой его поставил Вот-
рен. Но в атмосфере Второй империи эти персонажи
должны были приобрести совсем другой смысл и стать
сверхчеловеками с завидными способностями упорства,
бессовестности и вездеходности.
В это время широко распространилась «философия
успеха», которую проповедовали философы, как Виктор
Кузен, историки, как Франсуа Минье и особенно Тьер,
ссылавшийся на Наполеона I и тем самым облегчивший
приход к власти Наполеону III. Луи-Наполеон в своих
сочинениях прославлял цезаризм и теорию государствен-
ной необходимости, оправдывавшую низкие средства
благой целью. Споры вокруг этих вопросов после пере-
ворота 1851 года приобрели особенную остроту. Они по-
лучили отражение и в «Воспитании чувств».
Герои романа ссылаются на Бальзака в ситуациях,
близких к бальзаковским. Делорье советует Фредерику
поступать, как Растиньяк, и сам хочет стать то ли Ферра-
гюсом, то ли Анри де Марсе. Однако все происходит
иначе. Боевой союз между Делорье и Фредериком кон-
чается разрывом, Фредерик становится любовником мил-
лионерши, но карьеры не получается — «героический»
карьеризм слишком уж отвратителен, и Фредерик воз-
вращается в свое ничтожество, когда остается только
подписать брачный контракт. Делорье «верил в куртиза-
нок, дающих советы дипломатам, в богатые браки, за-
ключенные при помощи интриг, в гений каторжников, в
то, что случай покоряется сильной воле». Все это —
излюбленные темы или, вернее, проблемы «Человеческой
комедии», и все это Флобер отвергает как романические
измышления, как иллюзии, искажающие действитель-
ность и принесшие немало вреда. Достигнутое желание
не приносит счастья, стремиться к счастью — значит
ввергнуть себя в беду. Фредерик постигает это на соб-
ственном опыте. Его мучают «противоречивые жела-
ния»,— это термин, которым постоянно пользуется Стен-
204
даль. Но Стендаль считал возможным избавиться от
этого несчастного состояния логической работой ума, а
Фредерик не борется с противоречивыми желаниями,
зная, что это ни к чему не приведет.
Флоберу казалось, что мгновенные обогащения, за-
говоры, тайные интриги, мудрые «режиссеры» действия,
руководящие героями из-за кулис, имморалисты, вступа-
ющие в борьбу с обществом и «покоряющие судьбу»,—
все то, чем богата «Человеческая комедия», неправдо-
подобно, вредно для научного познания мира и безнрав-
ственно, потому что построено на индивидуализме и про-
славлении произвола. Жизнь серее и скучнее, прозаич-
нее, чем то казалось Бальзаку, и, вместе с тем, она по-
винуется законам, которые сильнее личного произ-
вола и справедливее, чем мелкий человеческий иммора-
лизм.
Таким образом, Флобер воспринимал современное ему
общество сквозь «Человеческую комедию». Он имел на
это некоторое право, во-первых, потому, что эти романы
обладают в известной степени документальной ценно-
стью, во-вторых, потому, что Бальзак, создавая Фран-
цию, которую он изображал, внушал новым поколениям
свои представления о современности. Это засвидетельст-
вовано «Воспитанием чувств», которое также обладает
значением документа. Герои Флобера не только походят
на героев Бальзака, но и пытаются им подражать.
Но влияние Бальзака было особого рода. Флобер
принял его диагноз общественной болезни и даже создан-
ные им образы, но он разрушил обаяние, которым Баль-
зак окружил своих имморалистов, констатировал их
внутреннее ничтожество и осмеивал их мещанские взгля-
ды. Он утверждал бессмысленность и невозможность их
карьеры, он выворачивал наизнанку бальзаковские сюже-
ты. Это было несомненное влияние Бальзака и столь же
несомненное его развенчание.
Особое место занимает в романе изображение рево-
люции. Споры представителей разных партий, речи в
«Клубе Разума», обиды и вздорные соображения людей,
видящих революцию сквозь призму собственных интере-
сов, примкнувших к ней или отошедших от нее из глупых
соображений тщеславия, следуя различным шаблонам
мысли,— такова была революция, отраженная в сознании
буржуазных героев Флобера.
205
Для него было безразлично, прогрессивны или реак-
ционны их взгляды, и какова была роль партий, к кото-
рым они принадлежали. Задача его — не в том, чтобы
оправдать революцию, и не в том, чтобы ее отвергнуть.
Он хочет показать ненаучность современных идеологий,
независимо от их функций в разыгравшейся политиче-
ской борьбе. Он сочувствует рабочим, преданным и раз-
битым в тяжелом сражении, но в их поведении он не
видит разума, потому что и они действуют, соображаясь
с собственными представлениями о справедливости, не
задумываясь о возможности ее осуществления. Флобер
не оценивает отдельных революционных актов,— это по-
казалось бы ему мелочным и смешным. Перед его взо-
ром— общая картина огромного события, долгие судоро-
ги государства, приводящие к катастрофе переворота.
Ему кажется, что делить действующих лиц этой трагедии
на правых и виноватых нельзя, потому что виноваты все,
но есть жертвы, которым можно сочувствовать, и палачи,
вызывающие отвращение,— и в этом плане перспектива
революции получает более отчетливый и вместе с тем бо-
лее драматический характер.
Из всех персонажей, преданных своему интересу,
вступающих в революцию с легкомыслием или корыстью,
только один вышел за пределы своего эгоизма и, в конце
концов, освободился от шаблонов мысли. Дюссардье не
понимает политической игры, которую дельцы ведут за
спиной народа, и поступает так, как подсказывает ему
совесть. Это единственный, кто задумывается над нрав-
ственными проблемами революции и искупает свою ошиб-
ку смертью.
И здесь, как всегда, Флобер оценил то, что изобра-
жал, и, осмеяв победителей, нашел человека, которого
можно было противопоставить всем остальным, наивного
самоучку, безродного и бездомного рабочего — «человека
будущего», того будущего, в которое Флобер едва осме-
ливался верить.
Дюссардье, подобно Фредерику, составляет исключе-
ние в море обыденного и тоже является типом. Так же,
как для его предшественников, для Флобера тип был не
только констатацией общераспространенного и пошлого,
но производным от действующих в обществе сил, реакци-
ей, хотя бы и необычной, на окружающую среду. Ни Фре-
дерика, ни Дюссардье нельзя назвать массовым героем
206
Июльской монархии или Февральской революции, но они
глубже, чем все, восприняли закономерности времени и
реагировали на них непротивлением или действием, со-
знанием и подсознанием. Фредерик безволен и пассивен,
потому что обеспеченность, воспитание, условия жизни и
навыки мысли побудили его к пассивному ответу на им-
пульсы действительности. Дюссардье активен, потому
что его класс по своему положению в обществе под дав-
лением обстоятельств был и должен был быть самым
действующим и энергичным классом эпохи. Эти прямо
противоположные герои равным образом исключительны
и равным образом типичны, но не «вообще», а как пред-
ставители противоположных классов и разных общест-
венных сред. Остальные герои — просто масса, тоже ти-
пичная, но типичная своей массовостью, инерцией, кос-
ным сопротивлением будущему.
Эпическое единство противоречий в кризисе целого
государства выглядит в романе несколько статично.
В этих мучительных сценах не ощущается движения и
прогресса, хотя движение и прогресс для Флобера, не-
смотря на весь его скептицизм, существуют,— иначе не-
зачем было бы кого-то поучать, высказывать свои мыс-
ли, проповедовать науку и писать «Воспитание чувств».
Он открывает еще одно противоречивое единство,
единство противоречивых чувств. Ложь и правда всегда
рассматривались как явления прямо противоположные,
согласно общепринятым представлениям и евангельско-
му требованию: «Пусть твое „да" будет „да", и „нет" —
„нет"». В различных условиях «да» превращается в «нет»
и наоборот. Смысл слов меняется, оценка поступка —
также. Ложь иногда заключает в себе правду, и человек
остается честен, несмотря на измену. Эта проблема в
«Воспитании чувств» ставится в разных планах. Перемена
политических взглядов у Делорье никак не похожа на
такую же перемену у Дюссардье. Колебания Фредерика
между противоположными решениями — новый аспект
той же проблемы. В его отношениях к мадам Арну она
принимает другой вид.
Между мадам Арну и Фредериком нет как будто ни-
каких недоразумений, и в этом «Воспитание чувств» со-
вершенно непохоже на психологические и любовные
романы предшествовавшей поры. Тем не менее они тер-
зают друг друга. Фредерик лжет всем окружающим:
207
Делорье, Розанетте, мадам Дамбрез, м-ль Рок. Так же,
как другим, он лжет мадам Арну. Он поставлен в такие
обстоятельства, что его как будто ни в чем нельзя обви-
нить. Во всей этой лжи, посреди влечений и отвращений
он сам не может разобраться. Однако в этом неподвиж-
ном хаосе заключается одна правда,— его постоянное, в
приливах и отливах, чувство к мадам Арну. Изолгавший-
ся, изобличенный, примирившийся с неизбежной грязью
существования, он оправдан своей жертвой, мадам Арну.
Когда-то Флобер говорил о «мужской проституции»,
еще более трагичной и мучительной, чем проституция
женская. Фредерик находится в том же положении, что
и Амори, герой романа Сент-Бёва «Сладострастие». Он
изменяет мадам Арну, сохраняя ей верность. Фредерик и
Розанетта, обнявшись, плачут по разным причинам. Фре-
дерик рыдает после первого свидания с Розанеттой. Он
порывает с ней, после того как она ворвалась в квартиру
мадам Арну и увела его с собой. Он порывает с мадам
Дамбрез, после того как та купила принадлежавший
мадам Арну ларец. Где здесь измена, где верность? По-
следняя встреча с мадам Арну является кульминацией
этих противоречий. В словах Фредерика — ложь и правда
одновременно. Он говорит ей о своей любви и страшится
этой любви. Он лжет и верит тому, что говорит. Мадам
Арну верит всему и толкует его поведение не так, как
он сам мог бы его объяснить. Он отказался от этой
любви, потому что боялся ее как кровосмешения. Мадам
Арну, не поняв причины, считает это высшей деликатно-
стью. Она ошибается, но она права больше, чем он.
В этом противоречии чувств, мотивов, страха и любви,
лжи и правды — высшая правда и единство пережива-
ния, обусловленное новой научной психологией и
переданное с высшим мастерством художественного
перевоплощения.
Когда исчез из обращения геометрический метод и
психика стала рассматриваться не только как процесс
логических выкладок, а как деятельность всего организ-
ма, живущего в контакте со средой, волевое решение ока-
залось результатом чрезвычайно разнообразных процес-
сов, происходящих во всей области психики, сознательной
и бессознательной.
Физиологическую основу психики Флобер изучал уже
в первых своих романах, но всякий раз по-разному.
208
Саламбо находится во власти мистических представле-
ний. Она не осознает своих влечений и считает свою
любовь ненавистью,— в этом заключается та же истина
единства противоречий, ярко проявляющаяся в перво-
бытном сознании. Фредерик образован: он представитель
сложной современной цивилизации. Он пытается разо-
браться в своих переживаниях, но это ему не удается.
Больше, чем Саламбо, и больше, чем Эмма Бовари, он
находится во власти подводных течений. Он слышит в
себе множество голосов, но не может их назвать и ана-
лизировать. Задача Флобера заключалась в том, чтобы
обнаружить борьбу побуждений, подсмотреть возникно-
вение волевого акта, увидеть в противоречивых поступ-
ках различные комбинации все тех же постоянно дейст-
вующих сил и понять, как результат этой борьбы, целую
жизнь в ее видимой нелепости.
Сложные комплексы чувств, диалектика переживаний
не поддаются определениям формальной логики. Логика
руководит Фредериком меньше, чем другими персонажа-
ми романа, даже импульсивными и чувственными, как,
например, Розапетта. Флобер поставил его в особые
условия. Бедность воли и скудость событий, несмотря
на множество бестолковых поступков, объясняются мно-
жеством противоречивых побуждений. Поступок сам по
себе Флобера не интересует,— он не означает ничего,
если мы не знаем вызвавших его побуждений.
Поступки, которые Фредерик совершает по внушению
рассудка, поступки, обдуманные, обычно не приводят ни
к каким результатам, и он отказывается от них с легко-
стью, поражающей его самого. Долгое построение ума
разрушается одним жестом, возникшим из глубин под-
сознательного. Непосредственные, необдуманные дейст-
вия оказываются более великодушными и нравственны-
ми, чем рассчитанные, взвешенные и проверенные умом.
Это характерно не для одного только Флобера. У мно-
гих его предшественников и современников персонажи
делятся на две более или менее отчетливые категории:
людей «нутра» и людей «разума». Первые всегда благо-
родны, вторые — эгоистичны, преданы низменным страс-
тям, особенно тщеславию и честолюбию. Есть такие
герои и у Стендаля, противопоставлявшего простых
духом — мадам де Реналь, Фуке, аббата Шелана — более
сложным и интеллектуально богатым, как Жюльен Со-
209
рель, м-ль де Ла Моль. «Святые» Бальзака почти всегда
изумительно просты, а «злодеи» — люди светские, дипло-
маты, ростовщики — «философы» даже тогда, когда они
оказываются каторжниками. Особенно отчетливо это
противопоставление у Гюго. Сострадание и самопожерт-
вование у безродной плясуньи и уродливого звонаря, ве-
ликое нравственное начало у невежественного рабочего,
беглого каторжника и уличного клоуна — и механизм
эгоистических страстей у ученого монаха, законников и
герцогинь. То же можно обнаружить у Доде, Теккерея,
Диккенса и с особенной силой у Льва Толстого и До-
стоевского.
Умники, пользующиеся разумом как механическим ин-
струментом, полезным для намеченной операции, не пони-
мают мир в его сложности и нравственной глубине. Они
принимают ту или иную идею, потому что она наиболее
подходит их практическим интересам, потому что она
согласуется с их духовными потребностями. Эта «заин-
тересованная» идеология ложна, так как обусловлена
практическими надобностями индивида или класса.
Результат этой заинтересованной логики — заблуждение
и несправедливость. Инстинкт, по мнению Флобера, всег-
да более нравствен. В той или иной форме, в различных
условиях эта мысль проходит через все его творчество.
7
Рецензируя «Воспитание чувств», Жорж Санд отме-
тила одну из его особенностей — множество действующих
лиц. В обычном, традиционном романе в центре стоят два
или три персонажа, остальные теснятся на заднем пла-
не, появляясь лишь для того, чтобы помочь главным ге-
роям проявить себя, как задумано автором. У Флобера
главные герои мало активны, они не руководят действи-
ем, а скорее идут по течению. Роман не централизован
так, как мог бы этого пожелать Бальзак. В композици-
онном отношении он не «драматичен». «Захватывающе-
го», сюжетного интереса в нем не найти. Драматический
сюжет ему просто не нужен.
Роман как будто исторический, но совсем не в том
плане, в каком понимали этот жанр в 20-е годы. Дейст-
вие не зависит от политических событий. Герой не при-
нимает в них участия, и они мало отражаются на его
210
психологии. Полагая, что все меняется и все остается
таким же, как прежде, Флобер не говорил о влиянии
революционных событий на общество, не говорил и об
этапах в его развитии. Историзм романа заключается в
изображении общественной психологии. Флобер говорит
об идеологии и интересах общества, о характере мышле-
ния, который был до революции, определил ее события
и остался таким же после нее. Он изучал не столько дви-
жение, сколько топтание на месте. Революция пришла и
ушла, ничего не изменив и ничего не вылечив. Таким,
образом, этот исторический роман с тем же правом мож-
но было бы назвать романом о современных нравах.
^Флобер не акцентирует те или иные моменты дейст-
вия, словно не хочет подсказывать читателю, что в рома-
не важно, а что второстепенно. В этом он почти противо-
положен Бальзаку, который ведет читателей за руку по
своему роману и объясняет каждый его поворот. У Фло-
бера действие рассыпано на мелкие эпизоды, которые
идут сплошным потоком, без пауз, не разделенные ни
объяснениями, ни рассказом о результатах того или
иного события. Эпизоды эти ничтожны, и о них как будто
можно было бы совсем не говорить. Ссоры, попойки, ви-
зиты, бесконечные, ни к чему не ведущие и ничего не из-
меняющие разговоры... Весь этот житейский хлам, запол-
няющий сотни страниц, подобран ради максимальной
художественной правды.
«В жизни все не так, как в романе»,— сказал Баль-
зак о трагическом конце «Адольфа» Бенжамена
Констана. Почти теми же словами Флобер осудил «Гра-
циеллу» Ламартина: покинутые девушки не умирают, а
утешаются,— это более обыденно и более горько. Эта
концепций жизни и искусства, отражающаяся уже в
«Мадам Бовари», получила полное развитие в «Воспита-
нии чувств». Здесь никто не умирает, но никто и не уте-
шается. К последней сцене романа, несмотря на все
перемены, все остается на своих местах.
В судьбе Эммы Бовари есть резкие переломы, ради-
кально меняющие ее жизнь, характер ее поступков, ко-
лорит существования. В «Воспитании чувств» нет ника-
ких логических толчков, узловых событий, даже ката-
строф. Все утопает в прозе жизни или в правде жизни,
той, какая была создана обществом XIX века. Скудость
действия и растянутость его, неподвижность ситуаций,
211
несмотря на их перемены, обусловлены самим замыслом.
Флоберу казалось, что в поисках правды он дошел до
пределов искусства, что более точной и полной правды
искусство вынести не может.
Им овладевали те же сомнения, что и в работе над
«Мадам Бовари». Ему казалось, что роман слишком
правдив и потому не удовлетворяет законам искусства.
Но правда не противоречит искусству, и потому одно
другому помешать не может. Очевидно, речь шла о дру-
гом. Изображая скуку ежедневного существования, нуж-
но было поднять материал на высоту большой поэзии. Не
впал ли автор в бессодержательный эмпиризм, пытаясь
передать бессодержательность современной жизни? Не
стал ли роман скучным благодаря недостаточно худо-
жественному изображению скуки? Или, еще точнее и в
полном согласии со взглядами Флобера: достаточно ли
правдиво изображена эта скука, чтобы стать понятной
для всех поэзией?
Некоторый неуспех романа у читателей смутил Фло-
бера и заставил его усомниться в своей правоте. Но круп-
нейшие писатели и критики эпохи сразу же высоко оцени-
ли роман. И основным оправданием этой формы была
«правдивость». Она-то и преодолела традиционные вкусы
и заставила эстетически воспринять произведение, столь
противоречившее эстетическим условностям эпохи.
Этот психологический роман, как его иногда называл
Флобер, обходится без психологического анализа, хотя
почти все события показаны сквозь его восприятие.
В «Мадам Бовари» десятки страниц посвящены мечтам
Эммы и Шарля, размьпилениям ее о неудавшейся жизни
и т. д. В «Воспитании чувств» вместо рассказа — показ.
Этот метод получает теперь чрезвычайное развитие.
В сознании Фредерика движутся вещи, которые про-
ходят перед его взором, и как раз тогда, когда им владе-
ет мыслб о мадам Арну и о том, что с ней связано. Эти
вещи имеют свой смысл, т. е. получают свой смысл от
содержания его сознания. Подробное описание бульвара,
по которому он проходит, не имеющее как будто никако-
го отношения к мадам Арну, неожиданно заканчивается
двумя краткими фразами о состоянии его духа,— и чита-
тель понимает, что без бульвара, мужчин и женщин на
тротуаре, без кафе и цветов на столиках нельзя было
передать содержание сознания Фредерика.
212
Иногда поток вещей не соответствует тому, что проис-
ходит в душе героя, как, например, в ночном путешест-
вии Луизы Рок к Фредерику, и это несоответствие зара-
жает читателя чувствами героини и объясняет ее траге-
дию, хотя о ее переживаниях не сказано ни слова.
В первом «Искушении святого Антония» были целые
гроздья метафор, самых разнообразных, неожиданных,
заимствованных из истории, мифологии, быта, из жизни
природы. В «Мадам Бовари» их гораздо меньше, они
символизируют состояние духа героини, жизнь Ионвиля,
мысли его обитателей. В «Воспитании чувств» метафор
почти нет. Их заменяют точные слова, наименования ве-
щей, иногда их очертания и колорит. В описаниях пред-
метов нет ни скрупулезной точности Бальзака, ни симво-
лических кадров Золя, ни «галлюцинаций» Верхарна. Это
только общий характер зрелища, возникающий из множе-
ства мелких деталей, которые бросаются в глаза благо-
даря освещению или настроению зрителя. Живописная
манера в «Воспитании чувств» связана с проблематикой
импрессионизма, близкой по своему методологическому
смыслу эстетике Флобера, между тем как живопись «Ма-
дам Бовари» и особенно «Саламбо» родственна искусст-
ву романтиков с густыми тонами, с игрой светотени, с ни-
чем не смущаемой яркостью колорита.
В «Воспитании чувств» почти исчезает внутренняя
речь, так широко использованная в «Мадам Бовари».
Очевидно, теперь она' кажется Флоберу слишком интим-
ной, субъективной и нескромной,— во внутренней речи
персонажа авторская воля проявляется как насилие над
читателем.
Стремясь к большей объективности, Флобер предпо-
читает вещи словам, хотя бы даже в несобственной 'пря-
мой речи.
Но зато — и, может быть, отчасти по той же причи-
не— роман изобилует диалогами, которых мало в «Ма-
дам Бовари» и еще меньше в «Саламбо». И тот же прин-
цип, что и в «Мадам Бовари»: чрезвычайно много гово-
рят «герои среды», люди-механизмы,— очевидно, потому,
что в словах они вполне могут выразить свои неглубокие
мысли, полные собственного интереса и потому ясные,
как личная выгода. Фредерик говорит мало, так же как
мадам Арну, потому что им трудно, почти невозможно
выразить словами то, что хотелось бы передать, а то, что
213
они могут сказать другим, не имеет отношения к содер-
жанию их сознания, к их личности.
495 исправлений, которые Флобер внес в новое изда-
ние романа в 1879 году, преследуют те же цели: роман
должен не повествовать, а показывать. Вычеркнутые на-
речия и частицы (в самом деле, однако, потом, все же)
устанавливали между эпизодами или состояниями души
связь, которая была явным авторским добавлением к
объективной действительности. Это было пояснение,
вторжение повествователя в реальный мир, в душу пер-
сонажа, которая должна предстать читателю в своем
первозданном виде, без авторских пояснений. Вычерки-
вая эти связующие слова, Флобер уничтожал и остатки
«внутренней речи». Роман эволюционировал и после
своего появления в свет.
Это был последний роман Флобера. «Искушение свя-
того Антония», вышедшее, наконец, в свет после тридца-
тилетнего труда в своем последнем, третьем, варианте,
«Три повести», античная, средневековая и современная,
незаконченный «Бувар и Пекюше» продолжают идеи и
эстетику, разрабатывавшиеся с такими издержками и до-
стижениями в течение всей жизни. Основной темой двух
больших произведений последнего периода была старая
мысль — о методе познания мира средствами науки и ис-
кусства. «Искушение святого Антония» ставит широчай-
шие проблемы познания, этики, смысла жизни. Сияющая
фигура Иллариона, воплощающего науку, головой упира-
ющаяся в небо, стояла перед Флобером так же, как перед
египетским пустынником, внушая уверенность и вдохнов-
ляя на непрерывный труд. Бувар и Пекюше, дилетанты
науки явно фарсового типа, изображали нечто прямо про-
тивоположное — современный, неадекватный объекту, ме-
щанский метод изучения «нечеловеческого», но «пантеи-
стического» мира.
Флобер не любил литературных школ, считая, что
школа всегда ограничивает творчество и затемняет взор.
Но все же ему пришлось, помимо воли, стать главой ли-
тературной школы, названной натурализмом. И самым
типичным, «подлинным», настоящим натуралистическим
романом было признано «Воспитание чувств». В конце
70-х годов это было ясно всем. Слава, пришедшая с го-
дами, способствовала распространению школы, развивав-
шейся под знаком Флобера, но руководимой Золя.
214
ГЛАВА VIII
ГОНКУРЫ
1
Братья Гонкуры, Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—
1870), не входили ни в какие литературные группировки.
Они хотели оставаться «свободными», «единственными»
и «неповторимыми», хотя при всей своей неповторимости
они так же, как все другие, жили в противоречивом един-
стве своей эпохи. Это была черта времени. Каждый писа-
тель хотел сохранить свое собственное лицо и отделиться
от других, даже если эти другие были его единомышлен-
никами. И все они были огорчены, но вместе и утешены
иллюзией своего плачевного и «героического» одино-
чества.
С некоторой завистью и с сознанием своего превос-
ходства Гонкуры говорили о времени романтизма, когда
художники шли под одним знаменем, жили общими побе-
дами и страстями, часто под одной крышей, «в вооружен-
ном и отважном единстве» («Шарль Демайи», 1860), и
братья удивлялись тому, что не могут выйти из своего
одиночества и что у них нет последователей и прозе-
литов.
Первый их роман под названием «В 18... году» поя-
вился в декабре 1851 года, в день государственного пере-
ворота Луи Бонапарта. Переворот они восприняли как
очередную насмешку судьбы, потому что он помешал
распродаже их романа.
Произведение это принципиально равнодушно к по-
литике и полно «неистовства», традиции которого были
живы и во время Второй империи. Все современные «ил-
люзии» и «утопии» проходят сквозь сознание героя, в спо-
рах собеседников, и все отбрасываются как ложь и ве-
тошь старого мира. Совершенствование человечества?
Общество остается таким же, как во времена первого че-
215
ловека. Люди по природе своей жестоки — взгляните на
ребенка, и вы убедитесь в этом. Несчастье — всеобщий
закон, и «может быть, умирающий от голода не менее
счастлив, чем министр-миллионер».
Герой романа любил двух женщин; узнав, что одна —
шпионка, а другая — натурщица, герой кончает «само-
убийством»,— так и называется последняя глава. Но са-
моубийство — только в отказе от мысли и творчества и
в изучении бессмысленных наук.
Причины этого пессимизма — неудачи революций,
торжество несправедливости, результат всех катастроф,
постигавших Францию в течение полувека. Революция?
Через головы глупцов, превратившихся в трупы, ловкачи
передают один другому портфели. «Так вот что вы назы-
ваете революциями?»
Гонкуры переживали Февральскую революцию приб-
лизительно так же, как Флобер: герою «Шарля Демайи»
«политические идеи 1848 года возвратили прежнее ожив-
ление и молодость. Когда эти идеи были убиты, им еще
сильнее овладели скука, апатия, умственная пустота и
отсутствие стремлений».
Спасение от такого состояния духа можно найти в ис-
кусстве.
Искусство должно изображать современность — она
более правдива, потому что больше, чем какая-либо дру-
гая эпоха, обнажает бессмыслицу жизни. В этой бессмыс-
лице и заключается истина, а вместе с тем и драма, так
как истина по существу своему драматична. Только сов-
ременность в обнаженности своих язв, в крушении своих
иллюзий составляет достойный предмет искусства, тако-
го же изъявленного и отчаявшегося. Гонкуры продолжа-
ют борьбу с ложью «идеала», с классицизмом. Благора-
зумная, уравновешенная и здоровая античность, какой
увидел ее Винкельман и объяснил Гегель, приводит их в
ярость. Это борьба с оптимизмом, а потому и с морали-
зирующим искусством. «В чем заключается мораль искус-
ства?» — спрашивает один из героев первого романа.
«В том, чтобы быть прекрасным, кретин!» — отвечает ему
кто-то, облеченный доверием авторов. Так Гонкуры при-
ходят к теории «чистого искусства», которое должно быть
таким же безнадежным как жизнь.
Авторы сами указывают на свои связи с «неистовой»
школой 30-х годов и в предисловии ко второму изданию
216
романа ссылаются на Жюля Жанена и на Теофиля Готье.
Вместе с тем они рассматривают свою первую книгу как
«интересный зародыш последовавших за нею романов».
Но, восхищаясь современностью, они вдруг на долгие
годы вернулись назад, к XVIII веку, которому посвятили
два десятка книг.
Гонкуры обратились к истории не для того, чтобы
найти в ней законы развития. Историческим законом бы-
ла для них, так же как для «неистовых» и для Флобера,
вечная статика. В пределах неизменного резвится случай,
но фантастические узоры, которые он вышивает по зара-
нее данной канве, интересны только реакцией на них че-
ловеческого сознания, которая может быть понята лишь
в сумме обстоятельств, в пейзаже эпохи.
Пейзаж этот не похож на те, что открывались истори-
кам 20-х годов. Большие исторические события не при-
влекают Гонкуров, потому что события — это поверхность
жизни, ее случайность. Подлинная ее сущность — в тай-
не ощущения, не очень связанного с судьбами страны.
Нравы интересуют их больше событий.
Когда-то, в романах Вальтера Скотта и его школы,
нравы создавались структурой общества, его «необходи-
мостями» и в свою очередь объясняли исторический про-
цесс и ритм эпохи. Гонкуры понимают нравы иначе, вне
исторических перспектив и моральных оценок. У Гонку-
ров нравы объясняют не столько эпоху, сколько индиви-
дуальность с ее особым, личным переживанием мира.
В 20-е годы исторические романы рассматривались
как дополнение к политической истории и пользовались
художественным вымыслом, чтобы лучше понять причины
исторического процесса. Гонкуры тоже переносят методы
романа в историю, но не прибегают к вымыслу и не пи-
шут исторических романов. Их исторический труд заклю-
чается в собирании документов и в их психологической
интерпретации.
Историки времен Реставрации изучали безымянную
народную массу, а романисты в исторических или вы-
мышленных персонажах воплощали силы, этими массами
двигавшие. Гонкуры интересуются только историческими
лицами, и только «забытыми и пренебреженными», как
выразился Э. Гонкур, вспомнив книгу критика Монселе.
«Мы в то время были страстно увлечены „неизданным",
мы тщились, и, пожалуй, напрасно, написать историю за-
217
ново, чрезмерно презирая сведения и книги, всем извест-
ные». Их метод кажется им высоко современным, хотя
им пользовался, как сами они говорят, еще Тацит: он пер-
вый стал писать «историю человека» и тем самым от-
крыл современную эру исторической науки («Любовницы
Людовика XV»).
История интимная, человеческая — больше история
отдельных людей, чем общества. Это скорее история бы-
та, порождающего особые формы нравственного волнения
при встрече со всякими мелочами жизни. Отсюда и
страсть к «неизданному», к анекдотам, говорящим о част-
ных делах и интимных интересах, к предметам обихода и
украшениям столетней давности. В книгах об обществе
Революции и Директории Гонкуры хотят изобразить
Францию, нравы, душу, физиономию нации, колорит ве-
щей, жизнь и людей от 1789 до 1800 года. «Колорит ве-
щей» и «аромат эпохи» интереснее, чем смысл процессов,
создававших будущее. Какой-нибудь жилет XVIII века,
перламутровый веер, старинная гравюра, автограф, нечто
невесомое и невнятное больше скажут о людях прошлого,
чем всем известное, изжеванное историками событие.
Затаив дыхание, Гонкуры слушают этот шепот прошлого,
потому что голосом истории трудно назвать приключения
любовниц Людовика XV и куртизанок времен Рево-
люции.
Современность более спокойна, чем средние века,
Возрождение или эпоха Революции, события ее не столь
буйны. «Пришел Гамлет. Рождается психология. Анализ
проникает в „ пещеру" Бекона К Человек прислушивается
к тому, что в нем происходит». Потому и история должна
стать интимной историей людей, т. е. историей психологи-
ческих деталей, изученных при помощи автографов, ко-
стюмов и вееров. Актрисы и куртизанки XVIII века при-
влекают Гонкуров больше, чем Вольтер и Руссо, потому
что великие просветители жили больше идеями, чем ощу-
щениями, и теснее были связаны с общим развитием
века.
Около девяти лет Гонкуры вели, как им казалось,
странную жизнь: «между изысканным прошлым и урод-
ливым настоящим». Но это была только видимость. Жен-
щины XVIII века, которых они изучали сквозь Ретифа
1 «Пещера», о которой идет речь, очевидно, не Бекона, а Платона.
218
де ла Бретона и подобных ему писателей, быт Директо-
рии, кулисы театров в эпоху, когда куртизанки записы-
вались в актрисы, чтобы беспрепятственно заниматься
своим ремеслом,— все это едва ли могло показаться та-
ким уж изысканным. С другой стороны, XVIII век вос-
хищал их своим поражающим сходством с современно-
стью, а в современности они видели то, что, казалось им,
было выражено «изящным» XVIII веком. «Этот век соз-
дал наше время... Его гений продолжает свою борьбу в
современном мире», — писали Гонкуры в предисловии
к «Женщине XVIII века».
Гений этого века они не стали бы определять ни как
гений революции, о которой они так много писали, ни как
идеи Просвещения. Это скорее неудовлетворенность дей-
ствительностью, противоречие между жаждой прекрасно-
го и средой, между тонкостью переживаний и грубостью
окружающего. «В мире искусства встречаются благород-
ные души, души меланхолические, отчаявшиеся»,— пишут
они в Дневнике 1858 года. В современной меланхолии и
заключается изысканность XVIII века.
В «Искусстве XVIII века» главное место занимает
Ватто. Даже в самых как будто «веселых» его произве-
дениях есть нечто, отдающее грустью,— в этом сочетании
и заключалась его прелесть: «Это Кифера Ватто. Это лю-
бовь, но любовь поэтическая, мечтающая и размышляю-
щая, современная любовь с ее стремлениями и венчаю-
щей ее меланхолией».
Понятие современности принимает особые формы,
Оно уже не обозначает времени и не определяет какую-
нибудь эпоху. Современным оказывается не только Ватто,
но и Дидро: «Племянник Рамо» — самая современная
книга; кажется, что она создана мозгом и пером сегод-
няшнего дня, писал Эдмон в 1895 году, повторяя то, что
записывал Жюль в 1858. Современным может быть автор
любой эпохи, если он во всем сомневается, надо всем
смеется и проявляет более или менее отчетливые призна-
ки меланхолии. Диалоги Лукиана, софиста эллинистиче-
ской эпохи, поражают их «изумительной современ-
ностью» так же, как японские художники, затмившие в
глазах старшего брата французских мастеров XVIII ве-
ка. Таким образом, история оказывается историей вечно-
го современника, а «среды», в которых в разные времена
плещется этот бессмертный меланхолик,— скорее обста-
219
новкой и условиями быта, нежели эпохами ib 'полном
смысле этого слова.
По той же причине, при всей документальности своих
исследований, Гонкуры мыслили историю как роман —
на основе документально точного сюжета они создавали
особую психологию и систему причин, определявших сю-
жет. Историческая работа дала Гонкурам возможность
создать свою теорию романа.
«История — это роман, который происходил; роман —
это история, которая могла бы произойти». Разница меж-
ду наукой и искусством стирается — на пользу науке и
искусству, думают Гонкуры. «Теперь роман создается при
помощи документов, рассказанных или списанных с нату-
ры, как история создается при помощи письменных доку-
ментов». Этот новый тип «научного» романа был, по мне-
нию Гонкуров, создан Бальзаком.
Бальзак утверждал, что он историк, а не романист,
и что основная его задача — писать правду, а не созда-
вать искусство. Это не пустое фанфаронство или смеш-
ные претензии, но особая позиция по отношению к мате-
риалу и продуманная эстетическая теория. Он также го-
ворил о документах, которые собирал для своих «иссле-
дований», причем имел в виду материал современный,
почерпнутый из личных наблюдений. То же говорили
«реалисты», в частности Шанфлери, затем Флобер и, не-
сколько позже, прошедший ту же школу Золя.
Словно повторяя Бальзака, в 1861 году Гонкуры обе-
щают создать «самые исторические романы нашего вре-
мени, романы, которые заключат в себе наибольшее коли-
чество фактов и реальной правды для нравственной исто-
рии этого века». Это с точки зрения истории. А с точки
зрения искусства «идеальным является такой роман, ко-
торый при помощи искусства создает самое сильное впе-
чатление правды о человеке, какова бы она ни была».
2
Основой своего мировоззрения и творчества Гонкуры
приняли то, что называлось пантеизмом и натурализмом,
выбирая варианты этого учения в связи с собственным
пониманием жизни и искусства. Они убеждены в том, что
познание осуществляется при помощи ощущения и что
без ощущения психическая жизнь невозможна. Они не
220
верят в бога и в провидение, потому что слишком уж мно-
го на свете жестокостей и мошенничеств, они безразлич-
ны к загробной жизни и потому близки к материализму.
«Но когда я подумаю,— записывает Жюль в 1858 году,—
что мои идеи это только столкновение ощущений, и все,
что есть во мне сверхъестественного и духовного,— толь-
ко ощущения, которые высекают огонь, я тотчас же ста-
новлюсь спиритуалистом». Это очевидный протест против
вульгарно-материалистического решения проблемы и
вместе с тем преодоление сенсуализма средствами панте-
изма. В этом отношении Гонкуры ближе к убежденному
пантеисту Флоберу, чем к Золя, явно склонявшемуся к
материализму.
Но так же как Золя и Флобер, они связывают жизнь
души с жизнью тела. В 1865 году они с нежностью гово-
рят о Клоде Бернаре, «великом и обольстительном уче-
ном», и то же впечатление от этого «апостола науки» за-
писывает старший брат в 1874 году.
Поглощенные кропотливым изучением действительно-
сти, видя в этом единственное спасение от религии; от
социальных утопий, от мистического восторга перед мо-
нархией, Гонкуры боялись широких обобщений. Так же
как Флобер, они не хотели делать выводы из фактов, ко-
торые наблюдают и описывают. Они предпочитали пози-
цию скептика-экспериментатора, который ставит опыт и
следит за его результатами, но не восходит к причине
причин. Им кажется неправильным и неприятным жела-
ние Тэна объяснить всю историю искусства теорией расы,
среды и момента. Ведь кроме этих трех понятий есть еще
что-то, и, так же как Флобер, они пытались спасти от по-
кушений Тэна драгоценное для них понятие личности. Но
борьба с теорией среды у Тэна была для них борьбой не
с натурализмом, а с историей, с идеей исторической из-
меняемости: человек, и тем более художник, со своими
особыми качествами восприятия, тонкостью ощущений и
неврозами во все времена один и тот же.
Сенсуалистический характер пантеизма Гонкуров ска-
зался и на их отношении к природе. В начале творчества,
когда они увлекались XVIII веком, чувства природы для
них не существовало. Демайи был «почти нечувствителен
к природе, его больше трогала картина, чем пейзаж,
больше человек, чем бог». На загородной прогулке с По-
лем де Сен-Виктором Гонкуры почувствовали, что приро-
221
да враждебна человеку. Небо, деревья, река не вызыва-
ют у них ничего, кроме мысли о смерти. Никогда они не
испытывали никакого «растворения в космосе», столь ха-
рактерного для пантеизма первой половины века.
Но уже в 1867 году, в «Манетт Саломон», с удивитель-
ным искусством перевоплощения они изобразили худож-
ника-пантеиста Крессана, крестьянина по происхожде-
нию, который из какой-нибудь грязной реки и жалкого
ручейка «умел извлечь выражение, чувство, почти стра-
дание». Бродячая жизнь пейзажиста, изучающего приро-
ду, вызвала у Крессана «опьянение бессознательного
пантеизма». Великолепные страницы, посвященные этому
художнику, все же отсвечивают иронией, симпатизирую-
щей и благодушной, свидетельствующей о тайном чувст-
ве превосходства тех, для кого удовольствие и интерес
вызывает только «физиономия женщины и речь муж-
чины».
Вот почему и отвлеченный, философский, гегельянский
пантеизм современных ученых, который растворяет бо-
га в одухотворенной природе и превращает его в безлич-
ную материю, Гонкурам непонятен. Слушая рассуждения
Тэна, Ренана, Вертело, они думали о том, что только се-
веряне и германцы могут мыслить такого отвлеченного
бога. Для них, латинян, он существует только как лич-
ность, традиционный бог с бородой. Но и этот весьма ка-
толический бородатый бог был для них только образом,
так как они были совершенно нерелигиозны.
Они не хотят отрываться от действительности, от опы-
та и ощущения, от единственно данного. Они напуганы
рационалистическими теориями и утопиями века и, как
многие другие пантеисты, видят в рационализме общест-
венную опасность. Сенсуалистический уклон их пантеиз-
ма и здесь проявляет себя с полной отчетливостью.
Вольтер и Руссо, два величайших представителя Про-
свещения, раздражают Гонкуров. С их точки зрения и
Вольтер, и Руссо, несмотря на их чувствительность и де-
изм, были рационалистами и, следовательно, строили свои
теории на голом месте, не считаясь с данным, не ощущая
своей эпохи, ломая все, чем жило современное им общест-
во, чтобы средствами одной логики и разума конструиро-
вать нечто невиданное. Это и было, по мнению Гонкуров,
«безумие», которое заключается в утрате контакта с дей-
ствительностью, в отрыве разума от ощущения. Пример
222
этому можно видеть в Шарле Демайи. Другая форма бе-
зумия — мадам Жервезе, подпавшая под влияние ощу-
щений и утратившая способность анализировать их ра-
зумом.
Рационализм — не только односторонность познава-
тельных способностей и, следовательно, узость информа-
ции, но и насилие над ощущением, древнейшим, самым
верным средством познания. Медленные темпы животной
и растительной жизни должны быть сохранены и в жизни
общества, и поспешные решения трудных проблем, по
мнению Гонкуров, вызывают революции, к которым они,
особенно к концу жизни, относились с недоверием.
Они и вообще не любят рационально живущих людей,
практиков, утилитаристов, чуждых бескорыстных востор-
гов и сочувствий, не любят женщин XVIII века, потому
что у них не было «первого движения», по пословице
всегда благородного, не было веры в доброе, незаинтере-
сованное чувство — все они, за исключением двух или *
трех, пропитаны позитивизмом и скептицизмом. Не пото-
му ли и жизнь стала так скучна и бесплодна, что рассу-
док восторжествовал над ощущением? «В событиях этого
мира,— говорится в Дневнике 1860 года,— нет ничего из
ряда вон выходящего. События благоразумны».
В XVIII веке сенсуализм развивался бок о бок с ра-
ционализмом. Обращение к ощущению, естественному,
подсказанному природой средству познания, было обра-
щением к естественному разуму, так как природа была
разумна. Рационализм был утверждением природного ра-
зума и отрицанием навязанных обществом заблуждений.
В XIX веке все изменилось. Для ученых естествоиспы-
тателей рационализм казался насилием над природой,
над действительностью, которую нельзя постичь геомет-
рическим методом. Ощущение казалось не только коррек-
тивом для рационалистических построений, но иногда и
антагонистом разума. Для естественных наук единствен-
но возможным средством изучения действительности бы-
ли наблюдение и эксперимент. Гонкуры готовы были,
вслед за Флобером и многими другими, назвать бахваль-
ством или болтовней все, что казалось несоответствую-
щим действительности и недоказанным опытом: недоо-
ценка военной мощи Германии, бессмысленное прослав-
ление императора, взрывы патриотизма, не подкреп-
ленные делом, но также и жажда коренных социаль-
223
ных изменений, мечта о счастливом будущем страны й
всего человечества в тот момент, когда все во Франции,
начиная от политического строя и кончая состоянием нра-
вов, казалось безнадежно прогнившим и никуда негод-
ным. «Старое общество погибнет от болтовни», — говори-
ли Гонкуры в 1868 году вместе с теми, кто находился в
оппозиции к правительству и обществу Второй империи.
Сомнение становится для них необходимостью.
«Скептицизм XVIII века был условием его здоровья; мы
же скептичны мучительно и горестно», — писали они
в 1866 году. В этом нет ничего удивительного. В XVIII ве-
ке скептицизм был средством борьбы с отживающим ста-
рым режимом, а скептики были представителями нового
класса, уверенные в том, что разум, отвергнувший пред-
рассудки, обеспечит счастье огромной массы людей.
Скептицизм Гонкуров отвергал какую бы то ни было
возможность дальнейшего развития. Гонкуры не хотели
задумываться над социальными проблемами, так как бы*
ли убеждены, что никакого разумного или хотя бы бла-
гополучного выхода не найти. Они ненавидели всякую
государственную и общественную деятельность и прези-
рали политических деятелей и правительство, так как
видели в министрах и префектах честолюбцев и стяжа-
телей. Кроме того, они считали общественную деятель-
ность «неискренней», потому что она была подчинена не
требованиям действительности и нравственности, а при-
вычным шаблонам мысли, оторваться от которых «дель-
цы» не хотели и не могли. Из всех бесполезных минис-
терств единственное, какое следовало бы организовать,
это «министерство общественного страдания», писал
Жюль в 1863 году. Об этом министерстве Эдмон вспом-
нил через много лет после падения Империи.
3
Противопоставляя свою чувствительность и нервоз-
ность рационализму и здоровью всех других, Гонкуры
имели в виду тонкость ощущений, быстрый и адекватный
отклик на воздействия окружающего мира, т. е. превос-
ходство своего познания действительности по сравнению
с теми, кто познает ее мыслью, с помощью отвлеченных
идей. В большинстве случаев это идеи «готовые» — пред-
рассудки, остающиеся в силе, несмотря на изменчивость
224
мира, и исключающие возможность нового познания. Че-
ловек получает готовые идеи от школы, от газет, журна-
лов, среды. Он заранее знает, что такое добро и зло, во-
ровство, лень, проституция. Для него эти понятия заранее
взвешены и оценены, и он спокойно применяет их ко всем
случаям, встречающимся ему в действительности. Жер-
мини Ласерте, подстерегающая мужчин на перекрестках,
с точки зрения цотовых понятий не представила бы ника-
ких затруднений и получила бы точную и, конечно, не-
верную квалификацию. Девка Элиза была бы только дев-
кой и убийцей, а Клод Ге или Жан Вальжан Виктора
Гюго, встреться они с такими готовыми понятиями, на-
всегда остались бы ворами и каторжниками.
Только ощущение, непосредственное чувство, нравст-
венное волнение может обнаружить истину, скрытую под
покровом готовых понятий. Поэтому острота ощущений,
чувствительность нервов кажутся Гонкурам необходимым
свойством каждого, кто хочет писать и мыслить, и каж-
дого гражданина вообще.
«Мы первые были писателями нервов»,— записывают
они в Дневнике в 1868 году, в день, когда была закончена
«Мадам Жервезе»: Шарль Демайи обладал «острым, по-
чти болезненным восприятием каждого предмета и жизни
вообще». Это сделало его талантливым и несчастным и,
наконец, привело к безумию. Сами Гонкуры были талант-
ливы, чувствительны и несчастны, слегка гордились этим
и жаловались на неврастению, граничащую с ненормаль-
ностью. Их книги, как сообщают они своему будущему
читателю в 1869 году, «написаны нашими нервами и на-
шим страданием».
Здоровье несовместимо с талантом. Болезнь печени,
сердца, легких обостряет чувствительность и, следова-
тельно, художественное постижение мира. Свой талант
Гонкуры определяют как сочетание болезни сердца с бо-
лезнью печени, Художник должен жить ощущением, и
тот, кто хочет обосновать искусство теорией и рациона-
лизировать творчество, к нему неспособен. Таков Шас-
саньоль из «Манетт Саломон», один из художников-тео-
ретиков, которыми богата была современная литерату-
ра,— как Пеллерен из «Воспитания чувств» Флобера и
Лабан из «Тощего кота» Анатоля Франса.
Следовательно, сенситивное познание — не что иное,
как познание художественное, более глубокое и полное,
8—3836
225
чем научное или понятийное. Своим особым путем Гонку-
ры пришли к выводу, который с других позиций формули-
ровали Жорж Санд, Шанфлери и Флобер.
Критикуя выставку 1885 года, они определяли живо-
пись как пламенное воспроизведение того, что только и
может быть воспроизведено кистью: солнца и тела. При-
рода всегда отказывала в этом художникам-спиритуали-
стам, так как они всегда смотрели на нее сквозь свои
идеи-штампы. Но это не значит, что живопись, изобража-
ющая солнце и тело, лишена чувства и идеи. Напротив,
только такая живопись может вызвать волнение и мысль,
потому что только через ощущение можно проникнуть в
глубины человеческой души.
В борьбе со «спиритуалистами» и «предателями» Гон-
куры утверждают, что живопись — искусство материали-
стическое, когда оно пользуется колоритом, а рисунок по
самой природе своей идеалистичен, так как природа вос-
принимается в колорите, между тем как рисунок извле-
кает -из природы то, чего в ней нет, и конструирует некую
холодную и ложную абстракцию.
Как же при таких взглядах определить прекрасное?
«Прекрасное — то, что кажется отйратительным нево-
спитанному глазу», — пишут они в 1858 году. «Невоспи-
танный глаз» — это глаз, не научившийся ощущать,
и только. Но невозможность определить прекрасное как
форму и догму обнаруживается и здесь достаточно ясно.
Через несколько лет прекрасное оказывается прямым
отрицанием формы: «Мучение мыслящего человека за-
ключается в том, чтобы стремиться к прекрасному, не
имея отчетливого и твердого представления о нем»
(1862).
Гонкуры отчетливо чувствовали множественность пре-
красного, которое может возникнуть и исчезнуть вместе
с движением действительности, при неожиданных ассо-
циациях, в фантастическом сочетании вещей и ощущений.
Художник Кориолис, герой «Манетт Саломон», пытался
«уловить на лету красоту мгновения, эпохи, человечест-
ва,... красоту парижанки, которую невозможно опреде-
лить».
Он хотел «найти линию, точно выражающую жизнь,
характеризующую индивидуальность, особенность — жи-
вую, человеческую, интимную линию», которой нет ни
у Микеланджело, ни у Рафаэля.
226
Значит, красота — в единичном, неповторимом, небы-
валом. Это всегда нечто, возникающее и творимое заново.
Вот почему они не любят школ: «Как только создается
школа чего-нибудь, это что-нибудь перестает существо-
вать»,— пишут они в книге «Идеи и ощущения». Вот по-
чему и талант, по словам Гонкуров, это «способность
создавать новое..., то новое, что каждый человек носит в
себе» («Манетт Саломон»).
Поскольку смысл искусства — правда, то определить
его можно только как познание. С такой точки зрения
смешными кажутся рецепты стиля, которые, споря и пре-
пираясь, пытаются найти Флобер и Фейдо: одежда идеи
для них интереснее самой идеи, пишут Гонкуры в
1857 году, искажая мысль Флобера.
Они не принимают теорию искусства как выражения,
соблазнявшую их, когда они писали свой первый роман.
«Писателю нужна большая сила духа, чтобы поднять
свою мысль над текущей жизнью и заставить ее работать
свободной от всяких уз, окрыленной. Он должен отвлечь-
ся от огорчений, неприятностей, суеты, тягот существова-
ния, чтобы подняться к умственной ясности, необходимой
для творчества... И, поверьте, этого нельзя достичь меха-
ническим усилием и простым прилежанием, как в ариф-
метике». Так писали они в 1862 году, переходя от истории
к собственно художественному труду. Так же как Фло-
бер, они боялись впустить в свое произведение личное
начало, потому что личные переживания могут стать пред-
метом искусства, только если они будут познаны, объек-
тивированы, отчуждены.
Прямым антиподом такого искусства является грече-
ское. В течение столетий теоретики классицизма искали
и греческой литературе и пластике правил прекрасного.
Считалось, что эти правила непременно должны сущест-
вовать, и не только потому, что о них говорили Аристо-
тель и Гораций. Красота — совершенство, идеал и закон,
а закон может быть постигнут разумом. Искусство, со-
гласное с незыблемыми законами разума, строго регла-
ментированное, подчиненное правилам и ориентирую-
щееся на некую вечную древность, — это как раз то, что
Гонкурам казалось профанацией искусства или, вернее,
его уничтожением.
Греческая красота — красота формы, не связанная с
эстетическим переживанием. Красота современного
8* 227
лица — нечто прямо противоположное: это «выражение
волнующей его страсти». Греческая цивилизация каза-
лась Гонкурам цивилизацией атлетов и гимнастов, куль-
турой здоровых людей. Еще Кант говорил, что греческие
статуи имеют глупый вид, и Стендаль, раздражавшийся
при одном имени Канта, придерживался того же взгляда.
Мадонны Рафаэля, пишут Гонкуры в 1858 году, очевидно,
имея в ©иду римских мадонн, писанных с Форнарины,
походят на античных богинь, на Юнону. Это «совершен-
ство вульгарной красоты», в них есть нечто мещанское,
и потому они прямо противоположны мадоннам Леонар-
до, искавшего ;красоту в «изысканности типа -и необыч-
ности выражения». Мадам Сабатье, знаменитая «прези-
дентша», восхищавшая Бодлера, обладает чисто антич-
ной, телесной красотой, а манеры ее низменны и вульгар-
ны. Ее можно было бы назвать, по выражению Гонкуров,
«маркитанткой фавнов». Осмотрев древности Рима и вос-
хитившись знаменитым «Торсом», Гонкуры и в нем на-
шли то, что показалось им плоскостным «реализмом»,
заземленным воспроизведением физической правды без
мечты, фантазии, тайны, «без крупицы опиума», которая
в их глазах создает подлинную и загадочную ценность
искусства.
«Ваш Гомер изображает только страдания тела»,—
спорил Эдмон с «грекоманом» Сен-Виктором в 1863 году.
Гораздо труднее изобразить нравственные страдания,
а потому «Адольф» Бенжамена Констана интереснее
«Илиады». Шекспир тоже недостаточно современен. Ког-
да-то подлинно современным произведением Гонкуры
считали «Гамлета», но в 1885 году Э. Гонкур от него от-
рекся: «Отбросив мое литературное воспитание, я считаю,
что Бальзак более гениален, чем Шекспир, и заявляю,
что его барон Гюло больше действует на мое -воображе-
ние, чем скандинав Гамлет. Многие, может быть, думают
так же, но никто не смеет признаться в этом даже само-
му себе». Великими гениями XIX века нужно считать
только Бальзака и Гаварни, утверждали братья в книге
о Гаварни (1868|). Еще раньше, в 1863 году, Эдмон при-
знался, что предпочитает мадам Марнефф, героиню «Ку-
зины Бетты» Бальзака, Андромахе — и расиновой, и ан-
тичной.
Бальзак противопоставляется и Мольеру, которого
Гонкуры не любили за его рационализм, «здравый смысл»
228
« «простонародность». Очевидно, они были согласны с
Готье, называвшего Мольера мещанином, «Жозефом
Прюдомом, сочиняющим пьесы».
Но все же Бальзак для них был слишком «здоров», он
не любил истерии. Заканчивая «Жермини Ласерте»,
Жюль увидел во сне Бальзака и рассказал ему о своем
романе, но когда речь зашла об истерии Жермини, Баль-
зак возмутился. Очевидно, 'полного согласия быть не
могло, и братья это отлично понимали.
4
Античные художники не страдали нервным расстрой-
ством, потому что изображали здоровых людей, живших
ограниченной жизнью тела и не знавших ни мечты, ни
меланхолии, ни экстазов. Современный художник — во
власти неврозов, потому что такова изображаемая им на-
тура. Собеседники «Шарля Демайи» пережевывают то,
о чем говорили в 30-х годах и, в частности, Бальзак: о
черных костюмах XIX века и цветных XVIII с его «сла-
достью жизни», закончившейся великой революцией. Еще.
в 1876 году Гонкур счел нужным отметить в своем днев-
нике, что Пьер Гаварни искал «характер, стиль черного
костюма, словом, героизм современной жизни».
Писатель, ищущий страдания, — излюбленный тип
Гонкуров, заключающий в себе нечто программное.
В 1877 году Эдмон называет себя и брата «Иоаннами-
крестителями современного невроза», в 1880 он с инте-,
ресом наблюдает тоску и отчаяние Золя, слава которого
гремит по всему свету, и записывает слова «физиолога-
психолога» Шарко о Гамбетте: «Конечно, это человек
одаренный, но ему недостает... меланхолии». В 1888 году
писатель Рони огорчался тем, что совершенно здоров,
так как здоровый человек не может быть талантлив.
В действительности он был болен многими нервными
болезнями, и Эдмон этим объясняет его литературный
талант. В 1896 году Роденбах называл Гонкуров «брать-
ями в нашей общей матери Нервозности, мадонне наше-
го века». Что хороший вкус свойствен только разлагаю-
щимся цивилизациям, «народам меланхолическим и
анемичным», Гонкуры записали в дневнике еще в
1858 году. В этом отношении они были ультрасовременны.
229
Давно уже во Франции существовала связанная с
прогрессивными тенденциями века «психология потреб-
ностей», соединявшая науку о природе с наукой об об-
ществе. Убеждение в том, что нельзя изучать человека
вне среды и общество вне естественных потребностей его
членов, стало основой этой науки и методом ее исследо-
ваний.
Невозможность удовлетворить в данных условиях
естественные потребности организма вызывала, согласно
этой теории, вместе с неврозом, восстание чувств и мысли
против данных форм жизни и нравственности, против
быта и общества. Таким образом, психология переходила
в психиатрию, с одной стороны, и в социологию — с
другой.
Гонкуры с радостью приняли это учение, потому что
оно хорошо объясняло их собственное состояние духа.
Ни один из их романов не обходится без нервных заболе-
ваний, и Эдмон, почти кощунствуя, назвал Федру Расина
«великой легендарной истеричкой». «Голубой цветок» вы-
растает из мерзости реального, как протест против него
в виде мечты, бездеятельной, безнадежной и неизменно
обрушивающейся в катастрофу. «Из грязи 'можно изв-
лечь возвышенное», — записал Жюль Гонкур во время
работы над «Мадам Жервезе».
Эта мысль жила во французской литературе всех на-
правлений, начиная от Гюго и Теофиля Готье и кончая
Флобером и Золя. Любовь проститутки к убийцам, писал
Гюго, это «потребность идеала».
Грязь, из которой вырастают голубые цветы, должна
быть изучена глубоко и подробно. Глубоко — потому что
иначе причина современной болезни, т. е. состояние об-
щества, останется не вскрытой; подробно — потому что
без точных контактов между средой и личностью не будет
понятен путь от причины к следствию. Поиски причин и
объясняющих действие деталей составляют, по мнению
Гонкуров, специфический метод нового искусства: это
«литература, поднимающаяся от события к тому, что
движет этим событием, от предметов к душе, от поступка
к человеку, от Гомера к Бальзаку».
Но цветы и грязь, из которой они возникают, не со-
ставляют того действенного противоречия/которого иска-
ли романтики 20-х годов. Гонкуры хотели скорее отожде-
ствить, чем противопоставить то и другое. Здесь нет ни
230
движения, ни развития, нет созидающей силы диалекти-
ки, которая есть у Бальзака. Метания героев — только
форма вечной неподвижности. Тоска по неведомому не
спасает от мерзости обыденного, она возвращается в
то же лоно пошлости, уйти из которого не дано ни-
кому.
Жермини Ласерте в своей жажде нежности, любви и
жертв скатывается до низкого разврата, и любовь пре-
вращается в истерическую ненависть. Мадам Жервезе
теряет разум, охладевает к своему ребенку и в
мистическом восторге приходит к почти животному эго-
изму. Элиза убивает того, от кого ждала высокой люб-
ви, из отвращения к своему ремеслу и без признака
раскаяния. Шарль Демайи сходит с ума, художники
теряют талант, писатели превращаются в разбойников
прессы, гениальная актриса Фостен, пожертвовав своим
искусством ради любви, не выносит тяжести жертвы, ох-
ладевает к любовнику и копирует его «сардоническую
агонию», придуманную автором специально для данного
случая. Юная Шери, (полная всех очарований, теряет в
светских удовольствиях невинность души и умирает от
невозможности выйти замуж. Потому что дух -и мате-
рия —- одно и то же, идея — это только движение нервных
тканей, а личность, бьющаяся как в клетке в окружаю-
щей ее среде, составляет с ней безнадежное тождество.
Мадам Бовари, Жермини Ласерте и девка Элиза во
власти тех же сил и того же закона, и в этом отношении
они прямо противопоставлены героям Жорж Санд, Баль-
зака и Виктора Гюго.
Гонкуры часто пытались формулировать эту разру-
шительную меланхолию, сопровождавшуюся иронией,
мрачную насмешку, подобную самоубийству, но не при-
водящую к смерти, истину, которая напоминает разобла-
чение и исключает непосредственную, наивную и дейст-
венную симпатию. В 1855 году, когда еще не были
изжиты воспоминания о первой «неистовой» книге, Гонку-
ры размышляли о «современной французской1 меланхо-
лии, не самоубийственной, не богохульствующей, не от-
чаявшейся, но юмористической: грусти с некоторой долей
приятности, с иронической усмешкой». Через несколько
лет ироническая усмешка получит более широкий смысл:-
так же как у Флобера, она станет средством познания.
Гонкуры жаждут издевательской истины, показывающей
231
Деградацию человечества. Они пишут об этом в Дневни-
ке 1866 года.
Всегда оптимистический Мишле объяснял овладев-
шую обществом меланхолию сложностью современной
мысли, оказавшейся на перекрестке многих путей, испу-
ганной бесчисленными открывшимися перед нею горизон-
тами. Гонкуров это объяснение не удовлетворяет. Мелан-
холия превратилась в отчаяние, и причина ее не в том,
что приходится размышлять о непостижимых горизонтах
и искать истину. Истина найдена, она-то и поражает их
изощренные чувства. Осознав свою тоску и перебрав все,
что есть в душе, они хотят найти опасение от своего горь-
кого благополучия в -мерзостях лондонской проституции.
Таков финал «голубого цветка», возникшего из грязи и
в грязь возвращающегося.
Те, кто болен этой «болезнью, неврозом или тонкостью
чувств, кто обладает способностью к безграничному са-
мопожертвованию и безнадежной любви, — это «аристо-
краты духа», ничуть не связанные с аристократией крови
или воспитания. Аристократом духа может быть кто
угодно. Актриса Фостен, *вышедшая из народа и остав-
шаяся плебейкой, была «избранной натурой» и обладала
«высшим изяществом души и тела», которое трудно най-
ти в аристократических кругах. Об аристократии тела,,
не сопровождающейся аристократией духа, говорится и
в «Манетт Саломон».
Все любимые герои Гонкуров обладают этим качест-
вом души. В ранних произведениях они ищут таких ари-
стократов в низших слоях общества. Сестра Филомена,
Франсуаза из «Шарля Демайи», Жермини Ласерте, са-
мые замечательные создания обоих братьев, заключают
в себе крупицу благородства и безумия. Эдмон продол*
жает эти поиски после смерти брата, о чем свидетельст-
вуют девка Элиза, братья Земганно и Фостен.
«Сестра Филомена» в этом отношении является от-
крытием нового мира и результатом долгой работы мыс-
ли. В дочери кухарки они нашли драгоценный аристокра-
тизм духа, который при их страсти к терминам психиат-
рии они могли бы назвать неврозом. Этот образ можно
рассматривать как синтез долгого развития французской
философской, эстетической и общественной мысли, про-
явившейся у таких различных писателей, как Стендаль с
его мадам де Реналь, как Флобер с Эммой Бовари и ге~
232
роиней «Простого сердца», как Жорж Санд с ее кресть-
янками, соединяющими самоотверженную любовь с не-
порочной чистотой души.
5
Исследовать роль ощущений в жизни человека —
значит понять законы познания и поведения, а вместе
с тем и характер среды. С такой точки зрения особо ин-
тересным предметом исследования является художник,
потому что у него тонкость ощущения особенно велика.
Несколько романов Гонкуров посвящены художникам:
«Шарль Демайи»—писателю, «Манетт Саломон» — жи-
вописцу, «Фостен» — актрисе (в русском переводе этот
роман назван «Актриса»). Здесь открывается целый мир
ощущений, вызванных точно определенными раздраже-
ниями (внешнего мира. В других случаях это неясные, не-
определенные потоки ощущений, меняющихся, ускольза-
ющих от взора. Настроения наплывают, покрывают
сознание какими-то туманами, из которых, как некое от-
кровение разума, вырастают образ и мысль. В этом, по
мнению Гонкуров, и заключается специфика художест-
венного творчества.
Душевная жизнь простых людей, более свободных в.
выражении своих чувств, в реакции на действие среды,
легче поддается изучению. Их никто не учил мыслить и
остерегаться, они живут, отдаваясь своим добрым чув-
ствам, -своему «первому движению», — об этом, вслед за
Жорж Сайд и Шанфлери, писал и Эдмон Гонкур. Но
после необычайного успеха Золя, изображавшего с наро-
читой, пугающей грубостью правду обездоленных, заму-
ченных трудом и нищетой классов, Гонкур хотел напра-
вить литературу на изучение «изящных сфер», в которых
он сам вращался с нескрываемым удовольствием,— бо-
гатых парижских салонов, купающихся в роскоши дам и
бездельных молодых людей: «Женщина и мужчина из
народа, ближе стоящие к природе и дикости,— создания
простые и несложные, между тем как яркая оригиналь-
ность светской парижанки и парижанина, людей чрез-
мерной цивилизации, заключается в оттенках, полутонах,,
неуловимых мелких деталях, постигнуть которые можно
только после многих лет изучения. Жилище рабочего
или работницы наблюдатель поймет за одно посещение;
но чтобы уловить душу парижского салона, нужно про-
233
тереть до дыр шелк его кресел и подслушать исповедь
его палисандрового дерева и позолоты». И тем не менее
этот хорошо знакомый мир казался ему фальшивым,
рациональным и если не диким, то неестественным, раз-
давленным традициями и предрассудками.
Демократические герои Гонкуров чище и наивнее ве-
ликосветских. Они живут подсознанием, ими руководят
силы, которых они не могут понять и анализировать. Меч-
та, живущая в душе Жермини Ласерте, выступает из
тьмы неосознанного как душевная нежность, потребность
самопожертвования и восхищения. Оскорбления и уда-
ры жизни превращают все это в нечто прямо противопо-
ложное и низводят внутреннюю святость до непреодоли-
мого распутства. С девкой Элизой происходит, по суще-
ству, то же, только в другом порядке. Привыкнув к
житейской грязи, она хочет избавиться от зависимости и
физических лишений и делает то, что делали все вокруг
нее. И как реакция на окружающее вырастает в этой
исковерканной душе все та же мечта, приводящая ее к
убийству, тюрьме и безумию.
В высших слоях общества, как и в низших, аристо-
краты духа живут силой своего подсознания и так же,
как кухарки и проститутки, приходят к неврозу, сума-
сшествию и смерти. Мадам Жервезе и Шери, охваченные
мистическим восторгом или тоской по жениху, подчине-
ны тем же законам, что и все другие «аристократы» —
в кабаке, в больнице или в публичном доме. И так же
как в любых других условиях, ощущение, физиология
или подсознание является мостом, соединяющим психику
со средой. Причина этих мечтаний невидима для тех, кто
ими страдает: они. возникают из глубин психики, недо-
ступных сознанию. Человек стремится к чему-то неизве-
стному с роковой необходимостью тела, которое есть то
же, что душа.
Находится ли человек в согласии со средой или в кон-
фликте с ней, они составляют некое нерасторжимое един-
ство. Чтобы объяснить данную сложившуюся или слага-
ющуюся психику, нужно знать историю ее контактов со
средой. Так возникают в романах Гонкуров длинные,
подробные биографии, которые должны объяснить все
свойства и возможности персонажа и тем самым пред-
сказать развитие действия. Конечно, биография эта
является также историей среды.
234
Но что это за среда?
Так же как историческую эпоху, Гонкуры изучали сов-
ременность скорее ощущением, чем разумом. Исследо-
вать ее как процесс они не могли — их метод не был аде-
кватен материалу движущейся действительности. И тем
не менее они открыли некоторые черты времени, склады-
вающиеся в общую картину, которая присутствует во
всех романах, несмотря на разнообразие описанных ими
сред.
Прежде всего, строение общества. При всем отчужде-
нии их от народа, они остро ощущали сострадание к
нему. В «Сестре Филомене», в «Жермини Ласерте», в
«Девке Элизе» жизнь низших слоев, крестьян, городской
бедноты описана с такой силой сочувствия, что читатель
заранее готов понять и оправдать все, на что толкнет
героинь их подсознательная душа. Эти сцены «натура-
листичны» в том омысле, что ничто в них не смгячено и
не скрыто, все подано с жестокой деликатностью неумо-
лимой истины, не как драматическое исключение, а как
нечто обыденное и естественное в своей чудовищности.
Гонкуры заносили в свой дневник впечатления, сви-
детельствовавшие об их понимании общих законов.
Встреча <в дороге с двумя спутниками, изображенными
при помощи необычайно выразительных деталей, приво-
дит к неожиданному, но совершенно закономерному вы-
воду: «Я чувствую, что богатство и жир этих людей воз-
никли на крови зарезанных ими крестьян» (1877). И ка-
кое глубокое понимание современных буржуазных
демократов в беглом замечании 1880 года — о том, что
все эти «народолюбцы» зарабатывали на нищете крестьян
сотни процентов, за исключением одного только Барбеса,
«любившего народ бесплатно» — и за это почти всю
жизнь просидевшего в тюрьме!
Или обобщение частного случая, фразы, сказанной
больной девушкой: «Можно ли представить себе тайные
страдания, ежедневную крестную муку, которую терпят
бедные девушки из народа, когда они чувствуют, что у
них нет физических сил, чтобы зарабатывать себе на
жизнь?» (1885).
Жестокий быт крестьян, бедняков, зарабатывающих
хлеб в оскорбительных для человека условиях, особая
психология, определенная этими условиями, вызывали у
Гонкуров вместе с состраданием неприязнь и раздраже-
235
ние, и они говорили о том, какое мучение доставляло им
долгое исследование столь чуждой им среды. Эта отчуж-
денность иногда отдавала презрением: «Провинциалы,
крестьяне, словом, вся остальная часть человечества для
меня — только естественная история» (1881). И это от-
ношение к тем, кто внизу, кто не может наслаждаться
искусством и прихлебательствовать при богачах и интел-
лигентах, уживается с мучительной мыслью о неизлечи-
мых бедах огромной массы человечества.
Затем преуспевающие. Это, конечно, эксплуататоры,
утилитаристы и злодеи. Другое дело — богачи-интелли-
генты, владельцы наследственного состояния, бросающие
деньги на прихоти, живущие -в роскоши по той причине,
что чувства у них изысканные. Политические деятели
всегда карьеристы и честолюбцы. Кроме того, они враги
писателей — и Гонкуры с удовольствием занесли в свой
дневник эту мысль, высказанную Золя в 1885 году.
Писатели, художники, ученые — одиночки. В лучшем
случае они встречаются друг с другом в салонах и ресто-
ранах и о чем-то спорят, кого-то поносят, над кем-то сме-
ются— или сообщают свои научные открытия тем, кто
сидит с ними за одним столом. Мир интеллигенции ог-
раничивается очень немногими индивидуумами, большая
часть которых меланхолики, невротики и парижане.
Это все мужчины. Женщина предстает в другом свете.
После государственного переворота наступила эпоха
поразительной распущенности нравов. Безудержная по-
гоня за наслаждениями, пример которой подавал двор,
мошеннические финансовые операции и биржевая игра,
коррупция во всех сферах, откровенное пренебрежение
всякой моралью — все это вызывало раздражение даже
у тех, кто сам был заражен той же распущенностью и
легкомыслием.
В такой обстановке женщина стала играть заметную
роль не только в частной жизни. Крупные поли-
тические деятели содержали дорогостоящих куртизанок,
в салоне которых принимали просителей. Через посред-
ство этих дам дельцы добивались нужных им правитель-
ственных решений. Великосветские женщины в своем по-
ведении и туалетах подражали публичным женщинам
высокого полета. Для банкиров, мошенников и проходим-
цев содержание всем известной куртизанки было средст-
вом обеспечить себе кредит. Факты и документы говорят
236
об этом с достаточной ясностью. Вот почему и отноше-
ние к женщине сильно изменилось. В литературе тема
куртизанки вспыхнула с новой силой.
Идеализация падшей женщины, восстанавливающей
свою невинность любовью, теперь кажется наивным и
глупым вздором. Широкая публика, а потому и наблю-
дающие ее писатели с раздражением отвергают сенти-
ментальное отношение к пороку, которое прошло сквозь
гуманистическую, пантеистическую, демократическую ли-
тературу предшествующего периода. Марион Делорм и
Фантина Виктора Гюго, дама с камелиями Александра
Дюма, гризетки Анри Мюрже — все это казалось иска-
жением действительности, вредно действующим на нра-
вы и общество..
Драма «Дама с камелиями» датируется 1852 годом,
т. е. началом Империи. Она произвела сильное впечатле-
ние и вызвала множество подражаний. Реабилитация
куртизанки была реабилитацией оскорбленной доброде-
тели и даже чем-то героическим. Но в это же время Шан-
флери пишет роман из жизни богемы, в котором гризетки
и содержанки губят многообещающих и влюбчивых мо-
лодых людей. Анри Мюрже в свете тех же проблем изо-
бражает «Латинскую страну». Незаконная любовь рас-
сматривается как бедствие. «Школа здравого смысла»
посвящает свои усилия реабилитации брака. Несколько
позже сам Александр Дюма проклинает адюльтер и оп-
лакивает обманутых мужей. Мишле советует Гонкурам
написать историю горничных, утверждая, что горничные
сыграли большую роль в истории Франции.
Гонкуры находят, что женщина уходит из современ-
ного общества, ее почти нет. Это только предмет любов-
ных упражнений с налетом сентиментальности в духе
Жюля Сандо. Женщина — врат мужчины. Она убивает в
нем идею, жажду высокой художественной деятельности,
она низводит его до степени рабочего скота или сводит
с ума. Ропс, с такой тонкостью и презрением изучавший
в своих картинах женщину, говорил Гонкурам, что тепе-
решние живописцы ничего не понимают в женщине, «в
нравственной стороне современной плоти». В стальном
взгляде, в каждом движении женского тела Ропс видит
откровенную, плотскую ненависть к мужчине. Но курти-
занки с их ненавистью делают и доброе дело: они, гово-
рят Гонкуры, мстят разбогатевшим мошенникам за их
237
гнусную наживу, «дают пощечину банковому билету» и
вносят в серое однообразие жизни резкие, кричащие тона.
У Гонкуров все -классы и слои 01бщества не столько
показаны, сколько разоблачены. Масса у них — всегда
непривлекательна, будь то журналисты, мелкие торгов-
цы, римские священники или парижские куртизанки. Это
не случайность, а точка зрения. Привлекательны лишь
отдельные индивидуумы, исключения. Вот почему пред-
метом своих изучений они избирают Париж, полный кон-
трастов, скуки и иногда безнадежных поисков красоты.
По той же причине метод изображения массы и лич-
ности очень отличен. Масса — нечто однородное, движи-
мое одними и теми же импульсами, которые угадать не-
трудно: это грубые, почти животные страсти, корысть,
выгода. Определив одного, можно понять всех. Типич-
ность этого изображения заключается именно в том, что
все личности, составляющие массу, однородны и не ин-
дивидуализированы. Определяется масса краткой харак-
теристикой, которой достаточно для понимания действия.
Изучение ищущей души требует прямо противоположно-
го метода — тщательного анализа, мелких штрихов, за-
меток по ходу действия и ни в коем случае не штампо-
ванных, стандартных характеристик. Этот индивиду-
альный тип возникает постепенно и до самого конца ос-
тается не вполне разгаданным.
Личность, так же как и вся масса данной социальной
группы, определена средой, но контакты с ней совершен-
но различны. В этой особой, обусловленной свойствами
данного организма реакции на воздействие среды, заклю-
чается индивидуальность образа и вместе его типичность.
Значит, типичность — не только в сходстве данной пси-
хологии с психологией толпы, но и в отличии от нее. Лю-
бая реакция на среду, приспособляемость к ней или не-
возможность приспособления, согласие или протест соз-
дает типичный образ, если эта реакция объяснена на
достаточном основании и обнаруживает закономерности
широкого плана.
Гонкуры впускают в свои романы странности и неожи-
данности, редкие случаи и в психологии своих персона-
жей, и в событиях действительности. Они любят чрезмер-
ность, в чем бы она ни заключалась — в таланте, пош-
лости или болезни. Для искусства нужна не только прав-
да, но и преувеличение, пишут они в «Манетт Саломон».
238
И, пожалуй, в каждом их романе можно найти это пре-
увеличение— в «Мадам Жервезе», умирающей в рели-
гиозном экстазе, в «Шарле Демайи», умирающем от не-
удачного брака, в «Шери», умирающей от невозможно-
сти выйти замуж, в «Жермини Ласерте», умирающей от
невозможности любви. Может быть, наиболее откровен-
ная чрезмерность допущена в «Актрисе», где герой,
влюбленный в очаровательную актрису, тоскует по анг-
лийским домам разврата, а его друг является отврати-
тельным садистом. Последний штрих этой чрезмерно-
сти— в «сардонической агонии», венчающей всю эту
анормальность й грустное счастье героини.
6
При всем внимании Гонкуров к персонажам и мель-
чайшим подробностям их жизни, романы их не бывают
биографическими ни по композиции, ни по смыслу. Ро-
ман-биография обычно предполагает идею развития, вос-
питания или развращения, эволюцию героя или хотя бы
среды. Гонкуры интересуются больше всего казусом,
столкновением человека со средой. В этом враждебном
и роковом толчке возникает драма, в которой погибает
слабая сторона, т. е. личность. Биография нужна только
на первом этапе повествования. Это всегда предыстория,
долгий подступ к катастрофе, которая неизбежно должна
произойти. При всем разнообразии событий и обилии де-
талей, романы Гонкуров, каждый в отдельности и все
вместе, производят впечатление если не застоя, то не-
подвижности.
По окончании романа, после завершающей его ката-
строфы ничто не меняется, и все остается на своих ме-
стах. Порвались связи, погибли герои, еще раз Париж
поглотил возмечтавшего и ослушавшегося, и драма, со-
вершившаяся перед нами, лишь демонстрировала закон
вечного коловращения.
Впечатление почти то же, какое производят романы
Флобера, увидевшего в этой пессимистической статике
цель познания и цель искусства. Но это совсем не похо-
же на романы Бальзака.
Так же как Бальзак, Гонкуры долго и тщательно под-
готавливают свою драму, исследуют среду, обстановку,
быт, проникают в психологию героя, следят за тем, как
в комплексе ощущений и условий жизни складывается
239
непонятная для самой себя, полусознательная душа. Эта
подготовка неизбежного. Затем происходит событие, поз-
воляющее доказать мрачную истину, которую ;можно уга-
дать заранее.
Но подготовка и выводы совсем не те, что у Бальзака.
Его герои знают, чего хотят. Они участвуют в игре сил,,
создающих или разрушающих общество, ставят себе
цель, которой добиваются более или менее продуманны-
ми средствами. Они достигают своей цели, если расчеты
их правильны, если они используют силы, определяющие
движение общества, — а среди этих сил существует и тог
что называется совестью и нравственностью. Совершив
ошибку, они терпят поражение.
У Гонкуров нет борьбы. Герои не строят никаких пла-
нов. Они ищут открытий и счастья ощупью, в темноте
подсознательного, и Гонкурам кажется, что это самый
верный путь. Их поражение не есть результат ошибки,
это закон, постигающий все доброе и прекрасное.
Герои Гонкуров пассивны, так как бороться беспо-
лезно и унизительно. И потому заканчивающая роман
катастрофа не заключает ib себе глубоких выводов и по-
учений. Гонкуры, так же как Флобер, были убеждены в
том, что художник не должен делать выводов, так как
выводы — искажение действительности. Такова психоло-
гия, получившая развитие во время Второй империи. Для
Золя, воспитывавшегося в конце этого периода, необхо-
димость выводов становилась более очевидной.
Таким образом, действие для Гонкуров оказывается
явлением вторичным. Это только следствие причин, ко-
торые -подлежат исследованию. И это тоже как будто
сближает их с Бальзаком. Но у Бальзака причины были
другие: структура общества, законы эпохи и, следова-
тельно, законы борьбы. Для Гонкуров причины заклю-
чались в давлении окружающей среды.
Поиски причин, объяснение действия могли идти по
разным линиям. Козни людей, пытающихся ради собст-
венных интересов погубить или спасти героя, цель, ко-
торую поставил себе герой, или мания, толкающая его
на психологически неизбежные поступки, глубоко про-
думанный заговор, в котором участвуют целые толпы лю-
дей, или противоборствующие расчеты отдельных персо-
нажей, которыми управляет скрытый за кулисами режис-
сер, конструкция детективного романа, увлекавшая
240
Гонкуров в творчестве Эдгара По, — все это было для
них слишком рационально, а потому и ложно. Поведение
людей, т. е. действие романа, определяется не расчетами,
а тем, что происходит в подсознании. Поэтому анализ
событий и людей имеет не столько логический, сколько
психологический смысл.
Французская литература давно отказалась от непре-
рывного принципа повествования, характерного для
драматургии и романа эпохи классицизма. Метод картин,
усвоенный романтической драмой шекспировского типа и
историческим романом типа Вальтера Скотта, приучил
читателей к перерывам в действии, -к неожиданным втор-
жениям новых групп персонажей, событий и мотивов. Но
у Гонкуров было и нечто другое. Таинственное течение
подсознания, толчки ощущений, не контролируемых ра-
зумом, «логика чувств», не всегда совпадающая с логи-
кой понятиу, разрушает рациональное развитие событий
и организует действие по-своему. Это и вводит в роман
ту кажущуюся непоследовательность, которую критики
считали непоследовательностью авторов.
По мнению Гонкуров, анализ должен занимать цент-
ральное место. Бурное действие может только отвлечь
внимание от главного и снизить художественное и позна-
вательное значение романа. Но самое главное соображе-
ние, беспокоившее Стендаля, формулированное Бальза-
ком и лринятое на вооружение едва ли не всеми круп-
ными писателями XIX века, заключалось в том, что и
сама современная жизнь небогата действием — в ней
мало приключений, убийств, уличных боев, похищений
и преследований. Законы и полиция свели приключения
до минимума. В XIX веке мысль играет большую роль,
чем действие. Поэтому драма современности таится глу-
боко под поверхностью, она живет на дне души, и обна-
ружить ее можно не наблюдением фактов, а психологи-
ческим анализом. Внешний драматизм — ложь, от кото-
рой нужно избавляться. Однообразное, скучное течение
жизни, без густых красок и широких жестов — наиболее
правдоподобно и наименее шокирует читателя, привык-
шего скрывать свои мечты и страсти, которых и вообще-
то не так много в душе современного человека.
Снижение внешнего драматизма и действия — задача
трудная, так как чисто аналитический роман может по-
казаться скучным читателю, привыкшему к повествова-
24 Г.
нию другого типа. И все же в XIX веке, особенно во вто-
рой его половине, все крупные романисты старались во
имя правды изгнать драматизм из своих произведений и
упрекали друг друга в недостаточном .преодолении этого
архаизма. В частности, драматическое окончание «Мадам
Жервезе» подвергалось осуждению со стороны Золя.
В 1876 году Эдмон Гонкур увидел в японской живописи
антидраматические тенденции, столь противоположные
вкусам европейцев: им достаточно двух желтых осенних
листьев, чтобы вызвать художественное волнение, будь
то эфес меча или сюжет стихотворения. В предисловии к
«Шери» он писал, что хотел бы обойтись без всяких пе-
рипетий, без смерти, интриги и происшествий, создать
книгу чистого анализа, — но такая книга вышла бы за
пределы жанра. Нужно было бы назвать этот новый сов-
ременный роман каким-нибудь другим именем, размыш-
лял Эдмон в своем Дневнике, заканчивая «Шери».
Большое место в романах Гонкуров принадлежит
повествованию. Подготовка действия, сложение характе-
ра, психологический анализ легче всего осуществляется
при помощи этого самого простого, связанного с устной
традицией средства. Предыстория героя, 'без которой не-
возможно ничего понять, сообщается спокойным, нето-
ропливым, лишенным внешнего драматизма рассказом.
Повествование естественно переходит в описание, за-
полняющее десятки страниц и придающее .роману осо-
бый, замедленный ритм. Анализ осуществляется преиму-
щественно в описании. Однако в «Шарле Демайи», в
«Манетт Саломон», в романах, где дебатируются про-
блемы литературы, живописи, искусства в широком
смысле слова, огромное место занимает диалог. В речи
персонажа яснее всего выражаются мнения, касающие-
ся отвлеченных предметов. Это даже не диалог, а целая
серия монологов, нечто 1вроде страстных, эмоционально
окрашенных статей о вопросах искусства. В сумме этих
монологов вырисовывается общая картина состояния ис-
кусства и бесконечное разнообразие взглядов, каждый из
которых захватывает и увлекает. В последующих рома-
нах Гонкуры предпочитают описание в чистом виде.
Обильные описания вначале должны ©вести читателя
не столько в действие, сколько в атмосферу романа. Но
это только подмалевка холста, которой роль описания не
ограничивается. Бальзак тоже сосредоточивал описания
242
в самом начале. Все характеризовано, описано, объясне-
но и оценено с полной ясностью и даже с избытком, чтобы
можно было вести игру с заранее определенными фигу-
рами. Описания у Бальзака заключали некое предска-
зание. У Гонкуров они были менее подробными и менее
«пророческими»: подсознательные реакции на возбужде-
ния среды не*поддавались точному учету, а, главное, они
должны были поразить читателя своей иррациональ-
ностью и, следовательно, неожиданностью. С другой сто-
роны, так же как Флобер, Гонкуры старались рассыпать
описательный элемент по ©сему роману, чтобы, варьируя
обстановку, физиономии своих героев и новые формы его
переживания действительности сделать каждую сцену бо-
лее доказанной п более впечатляющей. В этом они, так
же как Флобер, не столько следовали Бальзаку, сколько
вступали с ним в более или менее явное противоречие.
Описание Гонкуров по своему характеру и методу
было литературным открытием. Оно находится в очевид-
ной связи с современной живописью.
Гонкуры, как известно, в течение многих лет занима-
лись живописью, которая в их художественных интере-
сах соперничала с литературой. Это долгое 'сосущество-
вание слова и краски должно было отразиться и на их
творчестве. В своих юношеских путешествиях братья
фиксировали свои впечатления рисунком и акварелью.
В 1849 году, путешествуя по Алжиру, они переводили
акварельные записи словами, и литературный текст в те-
чение долгого времени был переводом с языка живописи.
Пейзаж и интерьеры, которыми полны их ранние и позд-
ние романы, кажутся воспроизведением не столько дей-
ствительности, сколько картин, которые они хотели бы
написать на эти сюжеты. В живописи они предпочитают
эскизы, мимолетные наброски впечатлений, а не точно
выписанные предметы. Они не любят ни Энгра, ни Де-
лакруа, но в восторге от Прюдона, с его неопределенны-
ми сияниями и мглой, одевающей фигуры. Затем на сме-
ну XVIII веку пришли японцы. По самому характеру сво-
его метода Гонкуры были ближе всего к импрессионизму.
Действительно, эстетика Гонкуров, в которой ощуще-
ние рассматривалось как метод познания, а люди и вещи
понимались.© их неразрывной связи со средой, была,
в сущности, та же, что эстетика импрессионизма. Вещи,
купающиеся в среде, люди, схваченные как масса, чело-
243
век в пандемониуме современного общества — все это оп^
ределило характер литературной живописи Гонкуров.
Литературные картины их динамичны — и это сближа-
ет их с живописью импрессионизма. Больница в «Сестре
Филомене» полна движения — отблески света во мгле
палаты, тени на потолке, ряды кроватей, халаты сестер
в этот мертвый час движутся в своем особом бессозна-
тельном ритме вещей. Картина воспроизводит не только
место действия, но и эмоциональный фон романа, харак-
тер главной героини, общий 'психологический колорит.
И совсем в другом плане — пейзаж на Сене, по кото-
рой плывут Шарль Демайи и Марта, пейзаж, постоянно
меняющийся, с неожиданными живописными открытия-
ми, игрой света и тени, мелкими деталями и широкими
перспективами, возникающими из этих деталей.
«Материальное описание предметов и места в романе,
как мы его понимаем, не является описанием ради опи-
сания. Оно имеет своею целью перенести читателя <з сре-
ду, которая может вызвать нравственное волнение, про-
изводимое этим предметом и местом», — так Гонкуры оп-
ределяют задачу своей литературной живописи.
Но все эти «формы» и «элементы» мастерства, повест-
вование, диалог, описания, действие и т. д., всегда под-
чинены общей проблеме романа и часто выполняют одну
и ту же функцию. Они так тесно связаны и переплетены
друг с другом, что только в .некоей абстракции можно их
отделить и характеризовать. Описание прерывается крат-
ким диалогом, одной фразой, восклицанием, которое дает
решающий мазок картине, в потоке вещей угадывается
мысль героя, а «движение красок», как писали они в
1869 году, выражает «душу вещей» и вместе с тем смут-
ное движение ощущений, которое трудно было бы пере-
дать другими средствами. Поток вещей у Гонкуров напо-
минает способ психологического анализа, примененный
Флобером в «Воспитании чувств».
В этих аналитических романах, имеющих задачей изу-
чить душевную жизнь современного человека, почти нет
несобственной -прямой речи. Мы не слышим разговоров
персонажа с самим собой, не слышим его переживаний
в том виде, © каком он мог бы их выразить в устной речи
или формулировать в процессе обсуждения и осознания.
Герои Гонкуров не размышляют ни вслух, ни в душе. Ав-
торы рассматривают их душевную жизнь извне, как вра-
244
чи-психиатры, анализирующие болезнь и ее причины. Это
та же позиция объективности, что у Флобера, но в стиле
Гонкуров она получила совсем иное выражение.
«Сейчас в литературе самое главное, — писал Эдмон
в 1874 году, — не в том, чтобы создать героев, которые не
показались бы публике старыми знакомцами, и не в том,
чтобы найти оригинальный стиль: самое важное — изо-
брести оптический прибор и при его помощи показать
людей и вещи сквозь стекла, которыми еще никто не
пользовался, показать действительность под углом зре-
ния, еще неизвестным, создать новую оптику».
Вероятно, каждый писатель создает свою особую оп-
тику, чем-нибудь отличающуюся от оптики своего соседа
по школе или политического единомышленника. Гонкуры
создали свой стиль, который они назвали «художествен-
ным письмом». Это письмо было естественным результа-
том тех задач, которые они себе ставили во всем своем
творчестве.
Стиль должен быть прежде всего оригинальным, ут-
верждают Гонкуры. Но оригинальность заключается не
в том, чтобы писать не так, как другие. Напротив, они
хотели пользоваться языком, ,на котором говорят все.
Для Гонкуров оригинальное значит современное.
Современность должна быть понята и отражена не
только в ее тревогах и неврозах, но и в ее языке, сильно
отличающемся от традиционного, литературного и «пра-
вильного».
Это язык, на котором говорят люди твоей эпохи; в ли-
тературе он кажется оригинальным потому, что на нем
никто не пишет. Это язык .разговорный. И, как всегда
в такие моменты литературной истории, этот обычный
язык бульваров, салонов и кабаков, перенесенный в ли-
тературу, показался чрезвычайно странным, выдуманным
и полным ошибок.
Язык, так же как художественное творчество, не мо-
жет быть регламентирован — иначе он утратит свои вы-
разительные свойства. Он должен возникать, так же как
искусство, из непосредственного переживания действи-
тельности. Он свободнее, чем язык литературы, отшлифо-
ванный писаной и неписаной традицией, весь в запретах,
шаблонах и комплексах. Разговорный язык более спосо-
бен к словотворчеству, к изобретению новых оборотов,
ритмов, ассоциаций. И потому он более точен.
245
Жермини Ласерте, когда она приехала в Париж, была
покрыта ©шами, но издатель потребовал, чтобы она была
покрыта не вшами, а паразитами — «из уважения к пуб-
лике». «К черту публику, от которой нужно скрывать все,
что правдиво и грубо!» «Художественное письмо» должно
быть не только изящным, но и грубым, так как грубость
может быть так же правдива, как изящество.
Так же как разговорная речь, язык литературы дол-
жен заключать в себе бытовые и технические слова, без
которых не может обойтись современный человек. Но
точность языка — не только в обозначении материальных
предметов. Точно нужно описывать и состояния души,
неосознанные влечения, переживания природы. Для это-
го нужно говорить намеками, вызывать далекие ассоци-
ации и избегать шаблонов. Современные критики не при-
нимали этой неясности стиля, и «душа вещей» Сент-Бёву,
например, казалась нелепостью. Критики более позднего
времени удивлялись парадоксальному сочетанию поэти-
ческих и непоэтических слов, как будто слово в любом
контексте сохраняет свой «поэтический» или «непоэтиче-
ский» характер. Для Гонкуров все, что точно выражало
предмет, эмоцию, «душу вещей», было поэтичным, так
как было правдивым в высоком смысле слова.
Они определяли свой творческий метод как работу с
натуры, иногда называя этот метод натурализмом. Изу-
чать натуру, рассматривать ее во всех деталях, анализи-
ровать каждую морщинку и каждый жест будущего ге-
роя было для них необходимостью, — иначе невозможно
было «вчувствование», бездействовала творческая мысль
и не возникало художественное обобщение.
Им казалось, что имея перед собой модель, разгады-
вая ее тайны и чувства, которые она должна была испы-
тывать .в данной ситуации, они стояли на твердой почве
факта и точно воспроизводили действительность. Но
осмысление факта зависело от тех ассоциаций, в какие
он вступал в сознании художника, от панорамы общества,
в которую художник включал героя или событие, от по-
нимания общих законов действительности, которые этот
факт или эта модель должны были иллюстрировать. От
этой особой «оптики» и зависел характер их творчества,
неразрывно связанного с эпохой и своими корнями ухо-
дившего в ее проблематику.
ГЛАВА IX
золя
1
В маленький провинциальный Экс с запозданием при-
ходили отголоски литературных событий, совершавшихся
в Париже, и юный Золя с восторгом поглощал то, что в
столице уже отшумело или стало уделом малопритяза-
тельных, плетущихся в хвосте литературных кругов. Он
ничего не знал ни о «реалистах», сражавшихся с послед-
ними романтиками, ни о Флобере, только что выпустив-
шем «Мадам Бовари», ни об «ученой поэзии», с раздраже-
нием отвергавшей слезную и «личную» лирику потомков
Ламартина и Мюссс. Гюго, непрерывно славший из свое-
го изгнания шедевры, померк в глазах молодого Золя,
когда он впервые прочел душераздирающие поэмы Мюс-
сс. По-видимому, в этот период Жорж Санд для него
значила больше, чем Бальзак, и основную пищу его сос-
тавляла интимная лирика и «неистовая» проза 30—40-х
годов.
Едва ли что-нибудь изменилось для Золя и в первые
годы его пребывания в Париже. Конечно, он читал новин-
ки — романы Шанфлери, Мюрже, Флобера, Фейдо, драмы
Дюма-сына и Эмиля Ожье. Впоследствии он будет счи-
тать этих писателей своими предшественниками, вопло-
тившими тенденции движущейся к натурализму эпохи.
Первые произведения Золя фантастичны, сентименталь-
ны, нарочито наивны. Но постепенно, не без колебаний и
сомнений, он усваивает очередные задачи литературного
дня. Если в 1860 году он отказывался принять слово и по-
нятие «реализм», считая, что задача искусства — укра-
шать досуг, как цветы украшают жизнь, то в 1864 году,
принимая обычное в то время деление на «классицизм»,
«романтизм» и «реализм» (школа Шанфлери), он пред-
почитает экран реалистической школы, наименее иска-
жающий рассматриваемую действительность. Он всту-
247
пает в литературную полемику, в острых теоретических
статьях формулирует свои эстетические взгляды и соз-
дает «школу», которую называет «натурализмом», под-
хватив термин, с разным значением употреблявшийся
в литературе эпохи 1.
Золя все резче противопоставляет «реализм» «роман-
тизму». В 1866 году он близок эстетике Шанфлери. Веж-
ливо, но жестоко он критикует Гюго за его «Песни улиц
и лесов», восхищается «Жермини Ласерте» Гонкуров,
упрекает Гюстава Доре за слишком буйное воображение,
протестует против утилитаризма Прудона и против его
интерпретации Курбе, ценность которого, как утверждает
Золя, не в «морали», а в точности и правдивости. Сюжет
произведения, в конце концов, не так уж важен: «Пишите
розы, но пишите их живыми, и я буду удовлетворен; но
главное — пишите индивидуально и живо, я буду еще бо-
лее доволен».
Однако термин «реализм» не удовлетворяет Золя
своей неопределенностью: если понимать под этим словом
необходимость изучать действительность, то все худож-
ники должны быть реалистами. Но как изображать дей-
ствительность, об этом термин не говорит ничего.
Он восхищается Мане: это реалист, изучающий дейст-
вительность вне академических условностей, видящий
свет и вещи в нем такими, каковы они есть, вне всяких
моральных претензий. Мане удалось «энергично и своим
особым языком выразить правду света и тени реальных
предметов и людей».
Золя обнаруживает у Мане научные тенденции, ха-
рактерные для эпохи: его мастерство колориста покоится
на теории среды; Мане видит вещи в световой среде, в
окружении других предметов, с которыми они соотносят-
ся. Отсюда — простота и единство картины. Мане «видит
массами». Осно:вное в его искусстве — чувство соотноше-
ний, которое и создает правду.
В это время Золя уже задумывал свой первый «физио-
логический» роман.
1 Статьи эти перепечатывались в сборниках: «Что я ненавижу»
(1866). «Экспериментальный роман» (1880), «Кампания» (1880—1881),
«Натурализм на сцене» (1881), «Наши драматурги» (1881), «Рома-
нистьинатуралисты» (1881), «Литературные документы» (1881), «Но-
вая кампания» (1896).
248
«В основе литературных споров всегда лежит фило-
софская проблема», — писал Золя в 1880 году. В полеми-
ке за и против натурализма философская проблема осо-
бенно заметна. Сам Золя, в сущности, только о ней и
говорит, связывая ее с широкими задачами общественно-
го .развития.
Он считал, что нужно громко говорить о болезнях
современного общества, чтобы вылечить его. Казалось,
что спасти может только холодное исследование, научный
анализ фактов, кропотливое, медленное, микроскопичес-
кое изучение действительности. Нельзя ли изучить чело-
века и общество с той же точностью, с какой натуралис-
ты изучают природу, чтобы открыть законы общественной
жизни и, разумно пользуясь ими, прийти к совершенному
и справедливому строю? Для этого нужно отказаться от
предрассудков, от шовинистического бахвальства, от пус-
того морализирования. И прежде всего нужно познать
людей, атомы, из которых слагается общество.
Естественные науки поражали своими успехами. Гео-
логия уводила историю земли в головокружительную
давность и с живописною точностью реконструировала
эры. Эволюционная теория в биологии устанавливала
родство всех живых организмов и изменяемость видов в
зависимости от среды. Дарвин объяснял эволюцию жи-
вотного мира естественными законами, которые были как
будто выведены из опыта и психологии каждого среднего
его современника. Проблема гибридизации волновала
воображение: это было вмешательство свободного чело-
веческого ума в «необходимости» природы, торжество
над древним фатумом естества. Опыты улучшения пород
окрыляли надеждой на совершенствование человека в бо-
лее нормальных и справедливых общественных условиях.
И мостом к этому будущему, основой для этих размыш-
лений казалась физиология, при помощи эксперимен-
тального метода ставшая точной наукой и открывшая
поразительные законы деятельности, организма.
Экспериментальная наука вступила в область, где
почти безраздельно господствовали философические спе-
куляции и безудержная фантазия. Организм стал жить
особой жизнью, глубокой, изумительно сложной и в то
же время простой в своих физических и химических осно-
вах. Подчинение бесчисленных органов единой задаче
жизни, республика клеток, живущих в организованном
9-3836
249
коллективе со строго распределенными функциями, тро-
гательная мудрость тела, казалось, более соее{цленного,
чем любое создание человеческого ума, внушали уваже-
ние к бессознательной целесообразности природы и веру
в силу и благость естественного развития. Это была та
«плоть», презирать и топтать которую учила все еще мо-
гущественная церковь. В сравнении с целесообразностью
биологических процессов какими ничтожными и грубыми
казались построения спиритуалистической школы, навя-
зывающей природе сбои-домыслы! Ум должен отказаться
от работы в собственной пустоте. Припасть к природе,
выпытывать ее тайны, терпеливо и самоотреченно экс-
периментировать, не допуская ни одного необоснованного
вывода, — таким путем,^ казалось, человечество придет к
великим открытиям и, наконец, к полному торжеству над
мрачным фатумом жизни.
Физиология выходит за пределы лабораторий. Она ка-
жется идеальной, образцовой наукой. Она стремится вы-
теснить философию с ее руководящего поста и занять
ее место. Ученые посмеиваются над «системами» и
«доктринами» с их «неизменными принципами» и про-
тивопоставляют этой «схоластике» свои эксперименты,
каждый из которых утверждает новую истину и меняет
лицо науки. Клод Бернар кажется чуть ли не знаменос-
цем прогресса. Его «Введение в изучение эксперимен-
тальной медицины», переведенное на многие европейские
языки, становится руководством научного мышления.
Клод Бернар «ввел физиологию в общую "литературу», —
это признал даже Брюнетьер, страстный враг физиологии
в литературе. Натурализм отождествили с наукой вооб-
ще, и натуралистический метод обозначал всякое научное
изучение всякого объекта действительности.
При всех успехах естественных наук и благотворном
влиянии их на развитие научного мышления апофеоз на-
турализма таил в себе серьезную опасность. Возникала
тенденция — подменять социальные проблемы проблема-
ми биологическими и уподоблять общественную жизнь
физиологическим процессам: создаются биологическая
школа в социологии, социал-дарвинизм и другие учения,
уводящие социологическую мысль в сторону от насущных
задач и преследующие явно реакционные цели.
«Физиология» приобретала другой смысл, когда она
попадала в руки передовых мыслителей. Натурализм бо-
250
ролся è реакционным спиритуализмом и с религией, с
авантюристской политикой Наполеона III, с официальным
буржуазным оптимизмом, считавшим господствующий
строй самым лучшим из всех возможных. Он был крити-
чен по отношению к старой идеалистической философии,
к литературе, не имевшей серьезного познавательного
значения, к режиму и к обществу. Именно так воспринял
его и Золя.
С натурализмом впервые познакомила Золя «История
английской литературы» И. Тэна (1863). Эта книга по-
служила для него мостом от литературы к науке, навела
его на мысль о связи художественного творчества с об-
щественной жизнью и открыла перспективы,. навсегда
рленившие его воображение. В 1866 году в восторженной
статье он называет Тэна своим учителем и повторяет
это в 1880 году, утверждая, что романисты-натуралисты
в своем творчестве пользуются методом Тэна.
Сражаясь с произволом вкусовых оценок, с понятием
хорошего вкуса, с абсолютными критериями красоты, с
телеологическим принципом историко-литературных пос-
троений, Тэн объяснял литературу причинами материаль-
ного характера. Филология оказывалась прикладной
психологией и почти сливалась с физиологией. Высокие
понятия вдохновения, красоты, творчества были сведены с
неба на землю и подверглись .историческому и «физиоло-
гическому» объяснению. «Гений» приблизился к массе/
так как стал плотью от плоти ее, выразителем ее чувств
и стремлений. В этом детерминизме и заключался пафос
теории.
Но, растворяя литературу и историю в некоей коллек-
тивной психологии, Тэн рассматривал общество как един-
ство, сверху донизу проникнутое одними и теми же инте-
ресами и страстями. Золя, совсем иначе смотревший на
общественную жизнь и изучавший среду более конкретно,
чем это делал Тэн в своих-исторических трудах, столк-
нулся с проблемой.различных сред в пределах современ-
ного общества и должен был ощутить классовый харак-
тер каждой индивидуальной психологии. Таким образом,
уже в 60-е годы и особенно после опыта Парижской ком-
муны теория среды приняла у него острый общественный
смысл.
Усвоив теорию среды, Золя тотчас попытался приме-
нить ее в своем творчестве. В «Терезе Ракен» (1867) он
9*
251
следует заветам Т^^ однако анализирует; уерзду и фи-
зиологию Своих героев с ^гьраадо большей конкретность^!).
В *Мадлене ^;<>%]рЖ?^?' ' ■(■1-8Й8>);-' "■* -ив^-^Е^.воИ^ей невероятный
физиологический казус, семейная трагедия так ж# как
в «Терезе Ракен»,объяснена с точки зрения физиолога и
психолога. В предисловии ко второму изданию «Терезы
Ракен» (1868) Золя соглашается с критическими замеча-
ниями Тэна, сделанными в частном письме* Эти замеча-
ния он в полной мере использует, обдумывая замысел
«Ругон-Маккаров». К моменту появления в свет «Карье-
ры Ругонов» (1871) он детально разрабатывает свою
методологию и определяет свой путь на долгие годы._Об-
щий замысел огромной серии эволюционирует, взгляд
художника, «ратуралиста» я социолога обостряется, воз-
никают новые темы и задачи, но система его эстетических
взглядов и творческая платформа остаются приблизи-
тельно теми же вплоть до новой серии «Три города» и
последних утопических романов «Четвероевангелия».
2
Основным положением-эстетики Золя, является детер-
минизм: сознание человека определяется условиями мате-
риального бытия. Приняв этот тезис, Золя вступил в ре-
шительную борьбу с религией и официальным спиритуа-
лизмом и вместе с тем в одпозицию к современным
общественным институтам: если условия жизни определя-
ют сознание, то, следователвно, во всех бедствиях, поро-
ках и преступлениях виноваты эти условия, жертвой
которых является человек. Тезис этот проводится во мно-
гих сочинениях эпохи, публицистических и юридических;
Ондарактерен для «Отверженных» Виктора Гюго. Физио-
логи также говорили о том, что страсти, не получающие
своего удовлетворения в неправильно организованной об-
щественной среде, приводят к безумию и преступлению, —
об этом Золя мог прочесть в «Физиологии страстей»
Шарля Летурно, которую он штудировал в 1868 году.
Эта идея должна была привести Золя к весьма важ-
ным политическим выводам.
Уже в предисловий к «Терезе Ракен» Золя определял
основную проблему своего творчества как «изучение тем-
перамента и глубоких :ii3j^ под давле-
нием среды и обстоятельств'*. Это решительный отказ-от
252
идеалистической моралиг от абстрактаа-психблргйчески^
категорий и терминов, от «души», от «добродетели». Золя
не интересует ; «характер» — он изучае^ ^темперамент»,
т. е. психологию в ее обусловленности материальными
факторами или, согласно терминологии эпохи, «физиоло-
гию» своих героев. Золя полемизирует с виталистами сло-
вами Клода Бернара: «Они рассматривают жизнь как
некое таинственное и сверхъестественное влияние, дейст-
вующее по собственной свободной воле независимо от
каких-Либо причин, и называют материалистом всякого,
кто пытается свести явления- жизни к органическим и
физико-химическим условиям... Всякое явление в живых
организмах, так же как в мертвых телах, целиком детер-
минировано».
Задача романиста, по мнению Золя, в том, чтобы «соз-
дать нечто вроде научной психологии, дополняющей
научную физиологию... Мы должны изучать, характеры,
страсти, явления индивидуальйой и общественной жизни
так же, как химик и- физик изучают неорганическую ма-
терию, как физиолог изучает живое тело... Детерми-
низм —тот же повсюду. Это научное исследование, это
экспериментальное рассуждение, разрушающее одну за
другой все гипотезы идеалистов».
Теория среды приобретает для Золя особое значение
и становится центром его методологии. «Когда-нибудь
физиология объяснит нам механизм мысли и страсти. Мы
узнаем, как" функционирует индивидуальныйорганизм че-
ловека, как он думает, как любит, как приходит от разу-
ма к страсти и к безумию. Но эти процессы совершаются
не изолированно и не в пустоте, человек живет не один,4 а"
в обществе, з социальной среде, а потому для нас, рома-
нистов, приобретает значение.социальная среда, посто-
янно изменяющая эти явления. Больше ^того, главный
предмет нашего изучения — это постоянное воздействие
общества на человека и человека на общество». v
Золи отлично знает, что нет аналогий между мертвым
тело^ и живым существом,^ между зверем и человеком.
Ведь социальная среда — явление человеческое по су-
ществу, это не. физико-химические условий жизни неорга-
нического мира, не естественная среда животного. Это
общество. Поэтому задача романиста-натуралиста несов*
падает с задачей физиолога: романист «берет изолирован-
ного человека из рук физиологау^тобы продолжить иссле-
253
давание и научно решить вопрос, как ведут себя люди,
вступившие в общество».
Значит, основной задачей романиста является иссле-
дование среды, определяющей реальное бытие^ этого фи-
зиологического, абстрактного и потому несуществующего
человека. Значит, романист, изучающий своего героя,
оказывается прежде всего и больше всего социологом.
Таково ясное и твердое теоретическое положение Золя.
Ориентируясь на естественные науки, Золя переносит
в свою эстетику закон, разработанный современными ему
физиологами. Он мог найти его и у Клода Бернара в его
«Введении в изучение экспериментальной медицины».
«Условия жизни, — пишет Клод Бернар, — не заключают-
ся ни в организме, ни во внешней среде, но и в том, и в
другом вместе. Действительно, стоит уничтожить или пов-
редить организм, и жизнь прекращается, хотя среда оста-
ется; но жизнь прекращается и в том случае, если уда-
лить или испортить среду, хотя бы организм и не был
уничтожен. Таким образом, явления (жизни) предстают
нам как простой результат соотношения тела с его средой.
Если мысленно мы совершенно изолируем тело, мы тем
самым его уничтожим; если же, напротив, мы сделаем его
связи с внещней средой более тесными и многочисленны-
ми, мы увеличим и количество его свойств».
Этот закон, возведенный во всеобщий философский
принцип, Золя мог найти у Герберта Спенсера и у Тэна:
живое существо немыслимо без среды, в которой оно жи-
вет, вместе со средой оно составляет нерасторжимое
единство. Жизнь есть процесс связи живого существа со
средой; возникнув из процессов неорганических, жизнь
связана с ними прочной, хотя все более сложной и много-
образной связью. Перенося этот принцип в общественную
жизнь и, следовательно, переосмысляя его, Золя берет
пример из энтомологии, в которой эта связь особенно
наглядна. Зоолог, изучающий насекомое, должен под-
робно изучить растение, на котором оно живет, из кото-
рого оно извлекает свою плоть: он должен подробно опи-
сать это растение, вплоть до его формы и цвета — и^это
описание явится анализом самого насекомого.
Индивидуальные, «физиологические» особенности че-
ловека оказываются особенностями общественными. Го-
воря, что в практической политике приходится иметь де-
ло не только с логикой, но и с «хаосом идей, воль, често-
254
любий, безумств», Золя имеет 'в виду общественные
страсти, а не чистую физиологию, каковы бы ни были эти
неврозы и безумства. Изучая «язвы» современного об-
щества, проституцию и адюльтер, он объясняет то и дру-
гое не прирожденными пороками, но влиянием среды,
которая в результате обратного действия разлагается под
влиянием вызванного ею зла. \
Природа менее подвижна, чем общество, она следует
своим извечнкм законам. В ее спокойной незыблемости
она часто противопоставлялась бурному развитию и ка-
таклизмам общественной жизни. Поэтому естественнона-
учный детерминизм, так же как детерминизм «среды»,
весьма напоминал фатализм со всеми вытекающими из
него следствиями.
Однако Золя и природу рассматривает как непрерыв-
ное развитие, а в эволюционной науке и философии ви-
дит характерную черту эпохи. Он нисколько не отрицает
власти человека над своей судьбой. Постигнув законы
природы, поняв систему причин и следствий, человек мо-
жет покорить природу и, руководствуясь наукой, напра-
вить жизнь к возможному идеалу. Это и есть свобода:
«Если мы воздействуем на причинную обусловленность
явлений, изменяя, например, среду, то, значит, мы не
фаталисты».
Здесь обнаруживается нравственный смысл натура-
листического романа, его «мораль». Все изучить, все об-
наружить, не смущаясь «грязью», мерзостью действитель-
ности,— такова нравственная задача романиста. «Отсту-
пать перед вопросом на том основании, что он вызывает
беспокойство — подло. Это эгоизм счастливого человека
и удовлетворенное лицемерие, возведенное в принцип:
«Не будем касаться этого, скроем зло, прославим несу-
ществующую добродетель и запьем все это прохладным
вином!» Я понимаю нравственность иначе. Она заклю-
чается не в лирических декламациях, но в точном позна-
нии действительности. А это-и есть натурализм, который
так осмеивают и так глупо забрасывают грязью». И Золя
снова ссылается на Клода Бернара, формулировавшего
задачи естественных наук: «Теперь понимают, что нельзя
оставаться равнодушным свидетелем добра и зла, поль-
зуясь первым и отстраняясь от второго. Современная мо-
раль хочет большего: она ищет причин, она хочет объяс-
нить их и воздействовать на них; словом, оца хочет
255
владеть добром и' âjiOM. Вызывать д развивать первое,
бороться со вторым, чтобы искоренить его и уничтожить».
С этих позиций он решительно и страстно защищает свою
«Западню».
Золя постоянно говорит об общественной функции
своего творчества: нужно овладеть жизнью, чтобы управ-
лять ею. .Когда-нибудь врачи будут излечивать все болез-
ни, и «мы вступим в эпоху, когда всемогущий человек
подчинит природу и использует ее законы, чтобы утвер-
дить на земле как можно большую сумму справедливости
и свободы. Нет более благородной, более высокой, более
великой задачи. Наша роль разумных существ — в том,
чтобы познать причины вещей, чтобы стать сильнее вещей
и сделать их своими послушными орудиями».
Золя продолжает мысль, лежащую в основе «Физио-
логии страстей» Летурно: изучать человека, его страсти,
неврозы и ^болезни, к которым приводит страсть, чтобы
лечить его воспитанием, а для этого — перестроить об-
щество на новых началах, согласных с данными физиоло-
гии. Основным выводом книги Летурно является отрица-
ние биологизма. Физиология уничтожает «враждебные
идеи», она рассматривает преступников как жертвы об-
щества, а не как чудовища, которых нужно запирать в
тюрьмы, мучить и убивать. Общество, сведущее в физио-
логии, приложит все усилия, чтобы предупреждать прес-
тупления при помощи воспитания и перевоспитания.
Основываясь на знании человека и его потребностей,
можно организовать новое, более совершенное общество,
поднять человека и человеческий род к жизни более вы-
сокой в нравственном и умственном отношении К
Это задача не только натуралиста-исследователя, но
и романиста-натуралиста: «Мы тоже хотим подчинить се-
бе явления ума и страсти, чтобы управлять ими, — пишет
Золя. — Словом, мы моралисты-экспериментаторы, пока-
зывающие на опыте, как ведет себя та или иная страсть
в той или иной социальной среде. В тот день, когда мы
поймем механизм этой страсти, мы сможем .лечить и
облегчить ее или лотя бы сделать ее как можно более
1 С h. L е t о ur ne а и. Physiologie des passions. 1868,
pp. 228—229. Во втором издании эти мотивы разработаны в специ-
альных главах. Gp. йзд, 2,у 1878, стр. 267—268—'страницы/ явно
навеянные франко^п русской войной.
256
безвредной. Вот в-чем заключается практическая польза
и высокий нравственный смысл" наших натуралистичес-
ких произведений, ставящих опыты над, человеком, раз-
бирающих и собирающих человеческую машину, чтобы
заставить ее работать под влиянием среды. Придет вре-
мя, и мы познаем законы;-тогда останется только воздей-
ствовать на личность и среду, чтобы прийти к лучшему
общественному устройству. Так мы занимаемся практи-
ческой социологией, и так наш труд помогает (политиче-
ским « экономическим наукам».
Страстный интерес к конкретным проблемам знания и
нежелание заниматься вненаучными вопросами «души»
и «первопричины» многие критики считали чуть ли не
агностицизмом. Действительно, Золя вплотную подходит
к вопросу о пределах и задачах знания. И здесь он также
ссылается на Клода Бернара: «Если мы не знаем, почему
опий и его алкалоиды усыпляют, мы можем изучить ме-
ханизм сна и узнать, как опий и его производные усыпля-
ют». Вопрос «почему» здесь явно нелеп, он не существует
для материалистически мыслящего ученого, утверждает
Золя и продолжает цитату: «Привилегия науки —объяс-
нять нам то, че;о мы не знаем, ставя разум и опыт на
место чувства и ясно показывая нам границы нашего
теперешнего знания. Но наука прекрасно компенсирует
это, так как, принижая нашу гордость, она увеличивает
наше могущество».
«Чувство», о котором, говорят Клод Бернар и Золя, —
несомненно, религиозное чувство, создающее фантазии о
загробном существовании души, о сотворении мира, о
происхождении материи и т. д. Бернар и Золя отбрасы-
вают религиозные догматы; Многого наука еще не знает,
но с каждым днем она будет знать все больше и больше.
«Чтобы не заблудиться в философских спекуляциях, что-
бы заменить идеалистические гипотезы медленными заво-
еваниями науки, романист должен ответить только на
вопрос „почемуа. В этом и заключается его роль, в этом
он должен искать оправдание своего труда и свою мо-
раль».
По ошибке, весьма знаменательной, Золя вместо/«как»
Клода Бернара поставил «почему». «Почему» для него
было основой efo художественногоч мышления, а то, что
Клод Бернар называл «почему*. Золя назвал «философ-
скими спекуляциями» и «идеалистическими гипотезами».
257
Отвергнув идеалистические построения относительно
души и духа, бога и бесконечности, Золя оказался не аг-
ностиком, а скорее стихийным материалистом, ищущим
в законах материи последнее знание о человеке и мире.
Золя'верит в безграничную мощь научного познания.
Он сам упрекает в агностицизме Ренана, который, не от-
рицая бесконечного прогресса науки, все же для успоко^
ения совести оставляет в мире тайну, нечто неведомое,
чтобы торжество науки сделать торжеством идеализма.
Этот кусочек непостижимого, этот идеалистический туман
раздражают Золя. Он уверен, что «когда-нибудь наука
совершенно уничтожит неизвестное». «Непостижимое»
фигурирует у Золя только в ироническом плане, когда он
говорит о религиозных догмах или спиритуалистических
спекуляциях. В этом отношении Бернар был более осто-
рожен и не выходил за пределы достижений еврей лабо-
ратории.
Золя часто заявлял, что не имеет никаких предвзятых
мнений, что он просто экспериментирует, наблюдает и
показывает. Но это не значит, что он не имеет никаких
мнений, — его публицистика и творчество противоречат
этому. Говоря о своем беспристрастии, Золя хотел под-
черкнуть строгую «научность» и объективность своих про-
изведений. С этим связан и «безличный» способ изложе-
ния в его романах. Он не хочет подсказывать читателю
свое отношение к предмету специальными сентенциями
или оценочными эпитетами. Задача его в том, чтобы,
правдиво изобразив общественное явление, вскрыть его
сущность, его причины и социальную роль, а это и есть
объективная оценка, с его точки зрения, более значимая
и действенная, чем прямые ламентации или восхваления.
Натурализм Золя выходит далеко за пределы искусст-
ва. Это не сумма литературных правил,.не поэтика, огра-
ничивающая свои задачи советами «как писать». Натура-
лизм для Золя — мировоззрение, особая позиция по отно-
шению к действительности и особый метод исследования.
Поэтому он должен проникнуть во все науки и во всякую
теоретическую и практическую деятельность. И прежде
всего натуралистической должна быть политика. Она
тоже должна опираться на реальные факты, на данные
опыта, она тоже должна стать наукой. Спасение Франций
зависит от того, примет ли французская молодежь нату-
рализм, как свое мировоззрение, или обратится к идеа-
258
лизму. В 1872 году Тьер произнес крылатую фразу, выз-
вавшую негодование прогрессивных кругов: «Республика
будет консервативной или ее не будет вовсе». В противо-
поставление Тьеру Золя создает свою знаменитую форму-
лу: «Республика будет натуралистической или ее не бу-
дет вовсе».
Над этими словами многие смеялись, даже Флобер,
мысливший в этом отношении почти так ж~е. Золя хотел
сказать, что политику нельзя строить на «порыве», на
предвыборной лжи, на красноречивом пустословии, на
узком практицизме дельца. Она не может быть механи-
ческим осуществлением абстрактной формулы «республи-
ка», так как политика имеет дело с людьми, с их страстя-
ми, привычками, традициями. Чтобы действительно учре-
дить республику, нужно знать материал, из которого
строится государство, — общественные, силы, историчес-
кого, общественного человека. А это знание, по мнению
Золя, может дать только натуралистическая наука и, в
частности, натуралистическая литература. И под названи-
ем «Экспериментальная политика» он пишет програм-
мную статью, в которой жажда более справедливого
строя и более «научной» политики сочетается с идеями
эволюционизма. Он снова говорит о «воспитании» и «про-
свещении», которые должны превратить старую монархи-
ческую страну в подлинную республику. Статья заканчи-
вается не очень радужными перспективами: «Я лично
убежден, что медленная эволюция ведет к Республике все
народы; но это совершается при faKHx несхожих обстоя-
тельствах среди народов и в странах* столь различных,
что даже в мечте нельзя предсказать эпоху, когда уста-
новится всеобщее равновесие».
К современной политической «кухне» Золя относился
резко отрицательно. Свое презрение к политическим дель-
цам он выражал неоднократно, видя в них низких и без-
дарных карьеристов, ничего не разумеющих в нуждах
страны и потребностях времени, в природе человека и в
эволюции общества. Он считал бесполезной политическую
работу и не советовал порядочным людям заниматься ею.
Лучше быть образованным человеком, чем министром.
Труд исследователя, ученого, натуралиста ведет челове-
чество к лучшему будущему, между тем как министры
лишь вредят своей политической трескотней, отвлекая умы
от практической работы и сбивая с толку граждан. Демо-
259
кратйя развивается независимо от политики и вопреки
ей. В этих рассуждениях заключается явная недооценка
политической деятельности, йо никак не общественный
индифферентизм.
Таким образом, в социальном процессе- решающую
роль играет наука,.наука вообще, следовательно, ее пред-
ставители и «жрецы», учёные. Республика, по мнению
Золя, должна быть республике^ ученых. В этом он впол-
не солидарен с Тэном, политические взгляды которого он
не разделял, с Ренаном, с которым резко полемизировал,
с Литтре, с Летурно, с Флобером и Гонкурами. При всем
своем демократизме он все же опасается подлинной де-
мократии,— ведь не все французы одинаково просвещены,
а «потому не всех следует допускать к управлению госу-
дарством. Математическое равенство Золя принять не
может. По его мнению, цивилизацией движет разум, а
носителем разума является интеллигенция. Этот столь
распространенный в то время взгляд объясняется полити-
ческим опытом эпохи. Стоит вспомнить плебисциты, уст-
раивавшиеся Луи-Наполеоном в начале своей империи и
в конце ее и всякий раз поддерживавшие этот режим,
или буржуазные «национальные собрания», неизменно
толкавшие Францию на путь реакции и дискредитировав-
шие самую идею парламентаризма. Золя был не в состоя-
нии глубоко и правильно анализировать все эти события
и, как многие другие,,не доверяя «массам», искал выхода
в аристократии ученых.
3
, В предисловии к «Терезе Ракен» Золя формулировал
свои любимые идеи: «Я избрал персонажей, отданных во
власть нервов и крови, лишенных свободы воли, в каждом
своем поступке увлекаемых роком своих плотских побуж-
дений... То, что я принужден был назвать угрызениями
совести, есть просто органическое расстройство, восстание
нервной системы, напряженной до крайности. Душа здесс
совершенно отсутствует».
4 Золя пытается устранить всякие психологические кате-
гории и заменить их физиологическими —угрызения со-
вести превращаются в расстройство нервной системы,
любовь — в вожделение плоти, мысль — в секрецию моз-
га. Однако роман полон тонких и разнообразных психо-
логических наблюдений: здесь есть и нравственная борь-
260
ба, ;и ужас перед содеянным, и', любовь, и раскаяние, и
угрызения совести — не по названию, а по существу. Сле-
довательно, откаеаЁшись от души, Золя не отрекается от
психологии. Психика для него -г производное от физиоло-
гии, или, вернее, обратная ее сторона. Устраняя «душу»',
Золя вместе с тем уничтожает автономность дознания и
рассматривает его как простую регистрацию физиологи-
ческих процессов. Причины поведения он открывает в
глубине подсознательного. И здесь он использует дости-
жения и ошибки современной ему науки.
Только к середине века психика, прежде служившая
объектом самых головокружительных философских спе-
куляций, подверглась во Франции научному исследова-
нию. К этому времени возникает так называемая экспери-
ментальная или «физиологическая» психология, связы-
вавшая психику с физиологическими процессами и
жизнью нервной системы.
Большую роль в изучении психологии сыграла теория
эволюции. Развитие организма от'одноклеточного живот-
ного до человека заставляло предполагать, что и сознание
эволюционирует вместе с организмом и на различных
стадиях приобретает различные формы.
Весь круг фактов и рассуждений в середине XIX века
приводил к проблеме, особенно привлекавшей внимание
ученых. Эволюционная теория подсказывала, что психика
не исчерпывается сознанием, так как животное, не обла-
дая сознанием, все же обладает сложной психикой, поз-
воляющей ему осуществлять жизненные процессы. Об
этом убедительно говорили труды Дарвина. Однако еще
Лейбниц в согласии со своей монадологией и теорией
бесконечно малых говорил о «малых ощущениях», почти
не различимых сознанием, но определяющих наши вкусы
и отношение к внешнему миру. Шарль Бонне, подверг-
шийся влиянию Лейбница, также говорил о «малых ощу-
щениях», делая из этих наблюдений фантастические вы-
воды. Особенно важное значение приобрело понятие
бессознательного в эволюционной «философии тождест-
ва» Фихте, Шеллинга и Гегеля. Согласно этой философии,
бессознательное предшествует сознанию, которое возни-
кает из него и постоянно обогащается из его глубин.
Психология, связанная с философией тождества, хотела
найти ключ к пониманию сознательной душевной жизни
в области бессознательного. Здесь* утверждали психоло-
261
ги-философы, и происходит постоянная творческая рабо-
та, от которой зависят даже акты высококонцентрирован-
ного сознания.
С другой стороны, сознание рассматривалось как от-
рицание бессознательного. Оно вступает с ним в борьбу,
как свобода с необходимостью, как нравственное принуж-
дение с властью природных инстинктов. Все противоре-
чия в поведении, бессилие выполнить должное, мучитель-
ная неудовлетворенность, — все это коренится в сознании
и возникает вместе с чувством нравственной ответствен-
ности, между тем как область бессознательного не знает
ни противоречий, ни борьбы, ни болезненных сомнений.
Бессознательное — это механизм стремлений, неосознан-
ная целесообразность, которая, поднявшись до-сознания,
оказывается разумом. Отсюда — противопоставление ин-
стинкта и сознания. В Германии эти идеи развивает
шеллингианец Карус («Психея», 1846). В некоторых на-
блюдениях его обнаруживаются крупицы истины, которые
сыграют, свою роль в дальнейшем развитии психологии.
В противопоставлении инстинкта разуму, целесообраз-
ного и мудрого бессознательного усложненному и мучи-
тельному сознанию, отражается мысль, характерная для
многих философов XIX века, о неизбывном противоречии
между естественными потребностями человека и форма-
ми общественной жизни, между природным инстинктом
и нравственным сознанием, между естественным правом
и правом гражданским. В другой философской обстанов-
ке и иначе ориентированная, эта -мысль возникла и у
Золя и получила в его творчестве немалое значение.
В немецкой идеалистической философии понятие бес-,
сознательного долго служило аргументом в пользу ду-
ховности мира. На этом'понятии строились идеалистичес-
кие системы, как, например, пессимистическая «Филосо-
фия бессознательного» Эдуарда Гартмана. Сквозь все
препятствия во всех философских системах, в каждом
психологическом наблюдении, в трудах физиологов, ма-
териалистов, идеалистов проблема бессознательного при-
ходила к тому состоянию, в каком она могла стать пред-
метом опытного исследования. Все более исчезало пред-
ставление о «душе», о сознании, противопоставленном
материи, и возникала уверенность, что физиология нерв-
ной системы является средством психологического иссле-
дования. Спиритуалист Фортлаге («Система психологии»,
262
1855) рассматривал сознание как продукт 'бессознатель-
ного стремления, которое становится доступным^ самона-
блюдению, т. е. сознательным, в тот момент, когда встре-
чает на своем пути препятствие. Из великого резервуара
бессознательного исходит почти все содержание сознания,
и туда же оно уходит как материал памяти и механизи-
рованного движения. Объясняя сознание как результат
бессознательного стремления, Фортлаге приходит к вы-
воду* что сознание может возникнуть не только в мозгу,
но и в любом пункте нервной системы и организма. С ге-
гельянской точки зрения Шаллер («Психология», т. 1,
1860) рассматривает сознание как акт борьбы с бессозна-
тельным и этой борьбой объясняет внутренние противо-
речия, победу нравственного начала над инстинктом или
его поражение. В бессознательном покоятся корни созна-
ния и хранятся плоды его трудов, память и т. д.
Им.-Г. Фихте («Антропология», 1856; «Психология», 1864),
теист, пытавшийся сочетать учение своего отца с учением
Лейбница, рассматривает сознание как придаток к духу,
основу которого составляет бессознательное, отрицает
«производительность» сознания и предоставляет ему пас-
сивную, регистрирующую роль. Любопытно, что в этом
отношении он приходит к тому же, к чему приходил вуль-
гарный материализм, рассматривавший сознание как
«эпифеномен».
Если эпигоны философии тождества видели в бессоз-
нательном источник сознания, то от французской рацио-
налистической философии XVIII века ведет свое проис-
хождение мысль, что бессознательное — лишь остаток
сознания: это сознательные акты, механизировавшиеся
и потому уже не сознаваемые. Такого взгляда придержи-
вается, например, Фехнер («Зенд-Авеста», 1851). Он от-
крывает закон «порога»: слабые раздражения, не доходя-
щие до этого порога, живут в бессознательной области
и, не возбуждая ощущения, могут вызвать в организме
другие процессы. В этой области постоянно пребывают
«низшие души» — животные и растения. Наряду с спи-
ритуалистическими фантазиями в сочинениях Фехнера
возникает ряд научных проблем, составивших содержа-
ние экспериментальной психологии и получивших выра-
жение в его «Элементах психофизики» (1859—1860).
Экспериментальная психология, создававшаяся в Гер-
мании в 1850—1860 годы, неизбежно приходила к пробле-
263
ме бессознательного: Гельмгольц ( в. «Учении о восприя-
тии звуков», 1862, и в других более ранних сочинениях),
экспериментальным путем разложил простое ощущение
на элементы, сознанием не воспринимаемые. Вильгельм
Вундт делает эту проблему центром своих исследований
(«Лекции о душе человека и животных», 1863). Экспери-
ментальная психология имеет своей целью проникнуть в
темную лабораторию психики, где происходят важные
психические акты и находятся корни сознания. «Если,
исходя из запутанных явлений, данных в наблюдении,
экспериментатор восходит-к законам, ими управляющимг
он лишь открывает перед нашими глазами бессознатель-
ную основу, на которой возникают события». В дальней-
шем, уже с 1874 года, Вундт резко полемизирует с пси-
хическим бессознательным, называя самое это понятие
противоречивым.
Английская психология также интересовалась этой
проблемой, оказывая значительное влияние на психоло-
гию французскую. «Скипетр психологии, — писал в
1859 году Дж.-Ст. Милль», — окончательно перешел к
Англии»/и французские ученые эпохи, как, например,
Тэн, Рибо и др., готовы были с ним согласиться.
К проблеме бессознательного английская 'психология
подошла в связи с популярной в Англии ассоциационной
теорией. Еще В. Гамильтон, противник ассоциационной
психологии, обратил внимание на то, что в психике, кроме
сознательных процессов, .происходят процессы бессозна-
тельные, о существовании которых мы можем только до-
гадываться. Он подтверждал это явлениями языковой па-
мяти, всякого рода бессознательных поступков и, нако-
нец, некоторых ассоциаций идей, которые могут быть
объяснены, только если предположить какие-то (промежу-
точные ассоциации, протекающие вне сознания. Гамиль-
тон, очевидно, опирался на учение Лейбница о бесконеч-
но малых ощущениях, не достигающих сознания. «Сфера
сознательных изменений психики — лишь малый круг в
центре гораздо более обширной сферы деятельности и
возбуждения, которые мы сознаем только в результатах
-их действий». Дж.-Ст. Милль подтверждает мысль Га-
мильтона: переход от одного представления к другому
оказывается прыжком только в сознании; минимальные
*промежуточные идеи представляют собой изменения в
нервах.
264
В психологии Г. Спенсера бессознательное также иЬ.
рает некоторую роль, хотя он и ограничивает психику
.сознанием. Эволюционная точка зрения приводит его к
мысли, что сознание возникает из бессознательного, из';
усложненного инстинкта. Бэн утверждает, что психика
связана не только с корой головного мозга, она сущест-
вует всюду, где совершаются нервные процессы, — в моз-
гу, в нервах, в мышцах, в органах чувств и во внутрен-
них органах. Но эта психика, разлитая по всему телу,
лишена сознания.
Книга Льюиса «Физиология обыденной жизни»
(1859), благодаря остроумному и живописному изложе-
нию, была очень .популярна и во Франции,,и у нас1.
Здесь подробно изложена теория бессознательных психи-
ческих процессов, которые Льюис называет «непознан-
ными». Чувствительность — свойство ганглиозной клетки,
и потому она существует всюду, где есть нервная ткань.
Сознание — совокупность возбуждений всех нервных цен-.
тров организма. Но мы можем и не знать обо всем, что
происходит в нашем сознании, — и Льюис противопостав-
ляет знание сознанию, как часть целому. Непознанные
ощущения могут побудить к действию или вызвать ряд
идей. «Душевная деятельность — это психический аспект
жизни, это общая сумма всего чувствительного организ-
ма, так же, как жизнь —сумма всего живого организма».
Во Франции в течение ©сего XIX века продолжалась
работа физиологов-медиков, говоривших о зависимости
психической жизни от жизни организма. В 60-е годы пе-.
реводились труды немецких и английских психологов,
печатались статьи и книги, в которых - популяризирова-
лись достижения зарубежной и отечественной науки.
Переводились сочинения Бюхнера, а также Молешота,
рассматривавших сознание как эпифеномен и отрицав-
ших всякую творческую его роль.
В том же направлении двигался и Огюст Конт: он уп-
разднил психологию как науку и сделал ее частью физи-
ологии. Его ученики, например Литтре, 'придерживались
того же взгляда. Этим и объясняются восторженные от-
. 1 Соня Мармеладова («Преступление и наказание») читала-ату
книгу, которую одолжил ей Лебезятников, несомненно, в переводе
1861—1862 "годов;
265
зывы Золя о Литтре. Ш. Летурно такж^ приходил к мыс-
ли о бессознательных психических процессах.
Золя читал «Физиологию страстей» в 1868 году и де-
лал из нее выписки, разрабатывая замысел «Ругон-Мак-
каров». На «первых страницах книги он мог .найти, вместе
с определением жизни и отношения особи к среде, основы
«натуралистической» психологии: «Если бы мы сознавали
все жизненные акты, совершающиеся га нашем организме,
если бы мы могли по желанию изменять ее течение, то
у нас было бы столько же потребностей, сколько органов,
тканей, элементов... Но большая часть этих процессов
протекает за пределами сознания, и нам ничего неизвест-
но о наиболее глубинных жизненных процессах... Естест-
венные мозговые следствия этих растительных процес-
сов— хорошее или плохое расположение духа, сила, сла-
бость». Более близки к сознанию процессы, связанные
с органами чувств, с половой жизнью и т. д. Каждый
орган, каждая специальная ткань должны жить соответ-
ственно своей.организации, отсюда ряд 'второстепенных
потребностей, более осознанных, хотя и менее деспотич-
ных.
И Летурно посвящает анализу потребностей специаль-
ные главы, так как именно потребности превращаются в
желания и являются основой психической деятельности.
Это дает возможность изучать потребности чувства, т. е.
потребности социальные, которым и посвящены дальней-
шие главы.
Такова эта «физиология потребностей», идущая во
французской науке от XVIII века и приводившая к важ-
ным социальным выводам.
Еще большее значение для Золя в этом вопросе имел
Тэн. Из его философских статей, собранных в книге
«Французские философы XIX века» (1857), из «Истори-
ческих и критических опытов», из личных бесед Золя ус-
ваивал психологические взгляды Тэна, получившие свое
полное выражение в 1870 году в книге «Об уме и позна-
нии» («De l'Intelligence»), над которой Тэн работал с
1867 года.
В своих критических статьях, так поразивших Золя,
Тэн дает образчики рекомендованной Миллем «этоно-
мии», науки о характерах, которая несомненно оказала
влияние на методологию Тэна. Свои историко-литератур-
ные труды Тэн рассматривал как историческую психоло-
266
гию и, с Другой стороны, как подготовку философско-
психологического исследования общего характера, осу-
ществленного лишь в 1870 году. Поэтому и Золя в крити-
ческих работах Тэна видел фрагменты общей психологии,
труды теоретические по основной своей задаче. В тео-
рии познания и в психологии Тэн определял познание
как «правдивую галлюцинацию» и одухотворял матери-
альный мир. Но Золя интересовало лрежде всего психо-
логическое учение Тэна, возникшее на почве современ-
ной экспериментальной психологии.
Тэн продолжает школу Кондильяка, отвергнутую шко-
лой Кузена. В основе психической жизни^лежит ощуще-
ние, вызываемое воздействием внешнего мира. Поэтому
психика немыслима без внешнего мира и находится в
непрерывной и теснейшей связи с ним. Всякий психиче-
ский акт сопровождается изменениями в нервной ткани,
следовательно, и всякое возбуждение нерва сопровожда-
ется психическим явлением. «Как представления, так и
движения в нервах ;борются друг с другом за господство,
стремясь к дальнейшему распространению в системе, до-
стигая господства или утрачивая его».
Но господство не есть одиночество. Побежденные
образы сохраняются в латентном, неясном виде. В цен-
тре, в ярком свете находится господствующее представ-
ление, которое окружают созвездия меркнущих пред-
ставлений, все менее различимых, а за ними млечный
путь совершенно неотчетливых представлений, которые
мы познаем только благодаря их общему действию,—
печальному или радостному настроению. Человеческое
сознание, пишет Тэн, развивая образное сравнение
Льюиса, можно сравнить с театром бесконечной вмести-
мости; рампа его очень узка, но сцена, начиная с рампы,
все более расширяется. Перед освещенной рампой может
поместиться только один актер. За ним на сцене нахо-
дятся другие группы, тем менее заметные, чем дальше
они от рампы. За кулисами и на далеком фоне—множе-
ство неясных форм. Из этого муравейника актеров
выдвигается Корифей, он становится повелителем, ясный
образ переходит в волевой акт. «Мириады представле-
ний и, следовательно, мириады кортикальных движений
сосуществуют одновременно, более или менее отчетливые
и энергичные, темные и светлые... В психике и в мозгу
пробегают бесчисленные токи, которых мы не сознаем;
267
И обычно они появляются в сознании только тогда, когда,
превращаясь в моторные, они переходят в другое русло».
Итак, молекулярное движение нервных центров опре-
деляет и те психические явления, которые протекают за
порогом сознания. За пределами маленького светлого
пространства сознания,—обширная область полутьмы, а
затем — беспредельная ночь. Но события, происходящие
в полутьме и во мраке, говорит Тэн, столь же реальны,
как и события светлого пространства. Всюду, где есть
нервная ткань, раздражения и возбуждения, существует
и психическая кизнь. В животном организме со многими
нервными центрами связано много групп психических
явлений, ощущений и представлений. В этих группах
первичных ощущений, лежащих вне нашего сознания,
можно видеть рудиментарные «души». Таким образом,
психический индивидуум является системой неравномер-
но развитых «душ», так же, как нервная система пред-
ставляет собой систему органов различной сложности.
Животное является симбиозом психических организ-
мов. Чем ниже спускаемся мы по лестнице существ, тем
яснее этот психический «плюрализм» и проще взаимо-
отношения между душами. Чем выше,* тем сложнее
иерархия, система подчинения, которая, однако, нисколь-
ко не уничтожает самостоятельных функций низших
центров. С такой точки зрения психика неразрывными
узами связывается с организмом, она живет в каждой
частице тела, становится почти материальной и, с другой
стороны, одухотворяет тело, грубую животную плоть, на-
полняя ее тонкой чувствительностью.
Тэн делает дальнейшие выводы из своего положения.
Рефлекторные движения, т. е. простейшая психика, су-
ществует и у животных, лишенных нервной ткани. Следо-
вательно, ни по внутреннему строению, ни по химическо-
му составу нет никакой принципиальной разницы между
животным и растением. Но нет принципиальной разницы
в химическом составе и между органической и неоргани-
ческой природой: от высших функций головного мозга
до самых примитивных явлений физического мира —
всюду только механическое движение атомов, усложняю-
щееся по мере усложнения системы. То же относится и к
психическим явлениям: простейшему физическому явле-
нию должно соответствовать простейшее психическое
переживание..Природа оживает, растение и камень чув-
268 - :*"
ствуют. Уничтожается пропасть между человеком и жи-
вотным, растением, минералом. Природа состоит в
единстве психического и физического, и это единство,
подкрепляется «объективной» и «экспериментальной»
наукой.
Таким образом, идея подсознательного прочно вошла
в современную-философию и науку о человеке. Ее можно
было найти повсюду — в научных сочинениях, в журна-
лах, в художественных произведениях. Она витала в
воздухе, и в трудах Тэна Золя должен был встретить ее
как свою старую знакомую. Художественная психология
Золя часто казалась каким-то умственным и нравствен-
ным вывихом писателя, фантазирующего наедине с со-
бой. В действительности она была естественным и зако-
номерным результатом почти векового развития наук о
человеке.
Золя с восторгом принял представление о психике как
о республике нервных центров с их сложной иерархией
и непрерывным психическим трудом. Душа, растворенная
во всем теле, неразлучно связанная с каждой клеткой
и тем самым со всей окружающей средой, единство внеш-
него и внутреннего мира, констатируемое каждым пси-
хическим движением, отчетливые материальные корни
самых сложных и алогичных страстей, страхов и на-
строений, родство между растительным и животным ми-
ром, — все это вызывало у Золя научное вдохновение и
жажду художественного творчества.
В предисловии к своей книге Тэн писал, что метод
экспериментальной психологии теперь применяют уже и
писатели. Конечно, он имел в виду Флобера и Гонкуров,
но прежде всего Золя с его «Терезой Ракен». У него были
все основания считать его своим учеником. Трансформи-
руя учение Тэна, контролируя его наблюдением и опытом,
отбрасывая то, что казалось в нем невероятным, сохра-
няя нужное и полезное, Золя скроил свой психологичес-
кий метод.
4
«Романисты и поэты, — говорит герой „ Творчестваtt
Сандоз, — должны обращаться к науке; в настоящее вре-
мя это единственно возможный источник. Но вот в чем
дело: что взять у нее, как идти с ней в ногу? Я тотчас же
начинаю чувствовать, что сбиваюсь с пути. Ах, если бы
у269
я знал, если бы я знал, какую серию книг швырнул бы
я в лицо толпе!»
К концу 60-х годов Золя уже представлял себе путь,
по которому следовало идти. Вводя в свои романы всю
эту науку, он хотел расширить человеческую психику за
пределы логически действующего «рассудка» и отчетливо
осознанных представлений. «Господствующая страсть»,
вторгшаяся раз навсегда в сознание героев, эти слишком
отчетливые размышления, побуждающие их к действию,
монотонное единое чувство и единая идея не удовлетво-
ряют Золя. Он хочет расслышать в своем герое целый
оркестр чувств, неведомых самому герою, работу мно-
жества сил, происходящую в недрах физиологии, в глу-
бине организма. Всякий орган, все нервные центры, все
«души» участвуют в этой симфонии, а поведение и соз-
нание возникают из коллективной жизни тела, из демо-
кратии клеток, так как абсолютная монархия сознания
свергнута, и вместо одного голоса, идеи или страсти,
звучат десятки голосов — воспоминаний, инстинктов,
ощущений и чувств.
Чтобы понять, что творится на поверхности, нужно
прислушаться к подземной работе созидающих сил. Там,
в глубине — подлинное творчество, закономерное и ра-
зумное в своей инстинктивности и бессознательности.
«Изобразить человека таким, каков он есть, не мета-
физическую куклу, но человека, определенного средой,
действующего под влиянием всех его органов, — говорит
Сандоз. — Мысль вырабатывается всем организмом...
Быть психологом — значит предавать истину. Впрочем,
психология, физиология — все эти слова ровно ничего не
-означают: одна проникает в другую, и в настоящее время
обе они составляют единство, так как человеческий орга-
низм является суммой его функций».
«Психологией» Золя называет спиритуалистическую
и эклектическую психологию с ее разделением способ-
ностей, «внутренним чувством» и априорными рассужде-
ниями, характерными для школы Кузена, все еще гос-
подствовавшей в университетском преподавании.
Устами своего героя он определяет задачи собствен-
ного творчества. С тех же позиций он критикует и своих
предшественников.
«Стендаль прежде всего психолог», — пишет он, и в
его устах это не звучит похвалой. «Для Стендаля чело-
270
век —только мозг, другие .органы не заслуживают вни-
мания,— конечно, я включаю чувства, страсти, характе-
ры в мозг, в мыслящую и действующую материю. Он не
допускает, что другие части тела могут влиять на этот
благородный орган, — во всяком случае, влияние это
кажется ему не настолько значительным или достойным,
чтобы учитывать его. К тому же, он мало внимания обра-
щает на среду, т. е. на воздух, в который погружен его
персонаж. Внешний мир едва существует; его не интере-
сует ни дом, в котором вырос его герой, ни вид местно-
сти, где он жил. В сущности его роман сводится только к
изучению душевного механизма из любопытства к этому
механизму, к чисто философскому и психологическому
изучению человека, рассматриваемого вне природы и
только в его способности мыслить и испытывать
страсть». По мнению Золя, герои Стендаля слишком
мыслят, слишком отчетливо сознают цсе, что с ними про-
исходит, иначе говоря, они мало физиологичны. Золя
особенно нравятся те.персонажи Стендаля, у которых
слабо развита рефлексия. Он с радостью вспоминает де-
тали психологического анализа, вскрывающие игру под-
сознательного. Но и здесь он видит недостатки: сцена
в саду между мадам де Реналь и Жюльеном неубеди-
тельна, так как здесь нет природной среды. Сад бездей-
ствует. Ароматы ночных цветов, испарения почвы, теплое
дыхание воздуха очень помогли бы мадам де Реналь.
Без такой среды сцена, по мнению Золя, неправдо-
подобна.
В «Братьях Земганно» Э. Гонкура герои слишком
отчетливо сознают все свои утонченные переживания.
Сами по себе эти чувства вполне возможны, «даже гру-
бые люди могут переживать эти события и испытывать
эти чувства, но эти грубые люди переживали бы все это
иначе, более смутно». Смутные чувства Гонкур сделал
слишком сознательными и потому отошел от «натурали-
стической» правды.
Психология героев Золя подчиняется особым зако-
нам. В логику сознания неожиданно вторгаются чувства
естественные, но удивляющие самих героев. Иногда это
даже не чувства, а поступки, диктуемые инстинктом,
противоречащие собственным намерениям и желаниям
человека. Герои далеко не всегда и не во всем распоря-
жаются собой, и борьба чувств и идей, колебания и про-
271
тиворечия создают внутренние конфликты, объясняемые
сложностью этой республики нервных Центров и душ,
толкающих сознание на различные решения или решаю-
щих за него и без его ведома. В любом романе Золя
можно найти множество примеров этой психологии.
Вот, например, сестра Сержа Муре, любящая живот-
ных и убивающая их с той же любовью и спокойствием.
Нормальное это существо или извращенное средой?
Покой, заключенный во всем ее существе, отсутствие
какой-либо тревоги при встрече с действительностью сви-
детельствует о том, что никаких конфликтов между под-
сознанием и сознанием, между «физиологией» и средой
не существует. Как возникло это единство, счастливое
согласие всех «душ»? Может быть, оно было выработано
долгим контактом среды с человеком, и жестокость в
единстве с любовью есть результат привычки к обычным
процессам домашнего хозяйства, в котором забота ô жи-
вотных имеет своей целью их убийство и поедание? Или
это нечто более глубокое, идущее от законов природы,
которые не делают различия между любовью и едой?
Может быть, домашнее хозяйство в глазах Золя соответ-
ствует законам природы? Так или иначе, но сестра Сержа
Муре живет в согласии с этими законами, хотя и пред-
ставляется нам неким чудовищем, аномалией, вызываю-
щей противоречивые чувства симпатии.и отвращения,—
очевидно, #ак раз то впечатление, которое хотел вызвать
Золя, демонстративно отрицая «высшее» и «низшее»,
«грязь» и «чистоту».
Серж Муре — тип прямо противоположный. Он на-
ходится в состоянии тяжелой внутренней борьбы между
природой и средой, в которую поставило его общество.
Законы наследственности, также являющиеся наследием
некоей древней среды, .создают предрасположение для
того, чтобы внушения церкви восторжествовали над ин-
стинктами и соблазнами «рая». Эта борьба никогда не
кончится, и аскеза требует постоянных усилий, приводя-
щих к исступлению и духовной смерти.
Все сомневающиеся, ищущие, колеблющиеся герои'
Золя в той или иной форме переживают эту борьбу меж-
ду средой и природой или между воздействиями двух
сред: дурной и хорошей, социальной, неблагоприятной
для человека, и природной, благоприятствующей его
естественному развитию.
272
Но как бы ни повернулась психология и судьба чело-
века, превратится ли он в аскета-священника #ли в убий-
цу и разбойника, Золя не видел в натуральном человеке
ничего принципиально звериного. Физиологии никогда не
была для него ни пороком, ни гнусностью, но законом,:
психической жизни, à натуралистический метод не был
средством разоблачения человека вообще. Напротив: Зо- г
ля защищал физиологию от религии и спиритуализма. Бо-
лее того, физиология, как всякий естественный процесс,
обладает разумом, которого часто'лишено сознание,—
она разумна тогда, когда не подвергается гибельным
влияниям «дурной» среды, когда она не развращена бе-
дами современной цивилизации. Понятие среды у Золя
необычайно сложно, сложнее, чем в сочинениях Тэна, и
здесь он является новатором не только в истории социо-
логических наук, но и в художественном творчестве.
Среда неисчерпаема. Сандоз мечтает написать книгу,
в которой были бы описаны «вещи, звери, люди, весь
огромный ковчег! и не в том порядке, в каком он располо-
жен в ^руководствах по философии, в глупой иерархии,
которой баюкает себя наша гордость, но в широком
потоке мировой жизни; мир, в котором мы—только, слу-
чайность, в котором бродячая, собака и даже придорож-
ный камень дополняют и объясняют нас; словом, великий
универсум, без высшего и низшего, без грязи и чистоты,
но такой, каким он живет».
Но универсум влияет на человека не всем своим со-
держанием, и понятие среды требует* дифференциации.
Побуждаемый задачей искусства и собственного творче-
ства, Золя производит анализ среды, ее природы и фун-
кций с точностью и глубиной художника-исследователя.
Прежде всего, традиционное понятие среды как
«климата», связанное еще с учением древнегреческого
врача Гиппократа. Начиная с XVI века, теория климата
символизировала материалистическую тенденцию в ан-
тропологии и истории культуры, и Тэн, применив ее в
своей «Философии искусства», не-скрывал ее древнего
происхождения. В «Проступку аббата Муре» среда в
форме природы выступает особенно отчетливо. Серж
Муре перерождается в чудесном саду, который возвра-
щает ему вместе с физическим здоровьем и нравствен-
ное. N • '
Но здесь природа воздействует особым образом.
273
Сквозь «научную» и «экспериментальную» методологию
Тана и его предшественников пробивается пантеистичес-
кая идея психологического единства всего органического
мира. Одни и те же законы определяют природу и чело-
века, и потому воздействие природы на человека может
превратиться в прямое поучение. Природа подает пример
человеку, сбитому с пути человеческими измышлениями,
ложной цивилизацией, и пример этот, не достигая созна-
ния, воспринимается подсознательными психическими
центрами.
Дерево, под которым аббат совершает свой «просту-
пок», не только символ. Это подлинный наставник, и сад
по-настоящему втягивает двух молодых людей в свою
стихийную жизнь. Он торжествует над ними через под-
сознательные ощущения, т. е., по терминологии Золя,
«физиологически». Здесь-то и играют роль «ароматы»,
«испарения» и «теплые дыхания», которых Золя не нашел
в «Красном и черном».
Человек — это частица природы, он ей не противо-
поставлен, но включен в нее. Не только физической, но
и психической жизнью он связан с природой и подчинен
ее закономерностям. «Трава живет!» — восклицает аб-
бат Муре, возвращающийся к законам естественной
жизни и эместе с тем к единству с природой. Он изумлен
этой идеей и счастлив ею. В «Ракушках господина Шаб-
ра» роль дерева аббата Муре играет море, и его воздей-
ствием определено поведение Эстеллы.
Иначе функционирует среда, когда она понята как
быт. Быт — это первое, что формирует сознание. Пища,
воздух, квартира, одежда, скученность, обеспеченность,
праздность и труд действуют на героев Золя с полной
отчетливостью. Тот, кто торгует на рынке, и тот, кто в
шахтах добывает уголь, уже самым процессом своего
труда предрасположены к различному восприятию мира.
Иногда условия труда замыкают человека в его кварти-
ре и семье, в других случаях они сталкивают его с боль-
шим коллективом таких же, как и он, тружеников, свя-
занных общими интересами. Горняк Мае в «Жермина-
ле» и банкир Саккар в «Деньгах» работают вместе с
людьми, но отношения между ними и людьми прямо
противоположны. Интересы Мае связывают его с други-
ми рабочими, интересы Саккара противопоставляют его
другим биржевикам.
274
Крестьяне на своем клочке земли должны копить,
округлять участок, добывать хлеб дешевле и продавать
его дороже. Инстинкты собственника властвуют над ними
безраздельно и доводят до умопомрачения. Приблизи-
тельно то же самое происходит с хозяевами рынка. Это
«личная выгода» в самом чистом ее виде. Горняки ощу-
щают свой интерес иначе. Совместный труд в шахтах,
одинаковые условия жизни, начиная от общего рынка и
общих магазинов и кончая одинаковой заработной пла-
той, заставляют их, наконец, понять возможные формы
борьбы с предпринимателями, коллективные так же, как
формы труда.
Если крестьянин и мелкий торговец заключен, как
устрица в раковину, в свой маленький эгоизм и не может
из него выйти, чтобы не потерять возможность жить, то
рабочий огромного предприятия должен ощутить себя
как коллективное существо, чтобы не умереть с голоду и
сохранить право на жизнь.
Золя увидел разницу между бедняком деревни или
бедствующим торговцем, с одной стороны, и рабочим —
с другой. В этом ему помогла большая социалистическая
литература, которой он интересовался постоянно, так же,
как всеми проблемами общественной жизни.
Он понял, что никакие организованные действия не-
возможны среди крестьянства, которые либо будут уми-
рать по одиночке, либо пойдут на ближайший завод. Он
понял также, что организованные политические акции
почти неизбежны среди рабочих. Терпя экономические
катастрофы, крестьянин будет держаться за свое хозяй-
ство и тем усугублять общественную язву. Рабочий
естественно и закономерно будет взрывать эксплуати-
рующий его общественный строй. Эти взгляды получили
свое выражение в «Земле» и в «Жерминале».
Золя считал, что путем забастовок и восстаний рабо-
чие не добьются удовлетворения самых элементарных
своих нужд, что только пропаганда социалистических
идей и разумное рабочее законодательство приведут к
некоей общественной справедливости. С этим убеждени-
ем он не расставался до конца жизни.
~ В «Чреве Парижа», в «Деньгах», в «Жерминале» Зо-
ля показал формирование социалистического сознания,
идущего мыслью к бесклассовому обществу. В «Чреве
Парижа» борьба между толстыми и тощими убеждает
275
фйорана в, том, что когда-нибудь эта борьба прекратит-
ся. Эта мысль приходит ему в голову потому, что он вы-
шел из революции. В «Деньгах» зрелище биржевого
разбоя внушает ту же мысль «мечтателю» и «теоретику»
Сигизмунду Бушу. В «Жерминале» Этьен Лантье уходит
с завода, чтобы мирным путем, при помощи убеждения
торопить пришествие нового общества. В «Дамском сча-
стье» разорение десятков мелких торговцев и организа-
ция огромного предприятия позволяет Денизе Бодю соз-
дать нечто вроде кооператива, который, как и кооператив
в «Черном городе» или в «Грехе господина Антуана»
Жорж Санд, откроет новую страницу в истории челове-
чества.
По мнению Золя, эта новая страница потребует мно-
гих жертв, хотя откроет ее не насилие, а согласие.
Как видим, функции сред и характер их воздействия
чрезвычайно разнообразны. От быта и обстановки среда
возвышается в более общую и идеологическую область.
Она срастается с человеком, но в то же время толкает
его на размышления, определяет характеры, но вместе
с тем и идеологию, вызывает сопротивление не только
индивидуальное, но и классовое, и ее изучение превра-
щается в глубокое и воинствующее изучение обще-
ства.
Часто изображение среды у Золя утрачивает свою
спокойную описательную точность, среда оживает, жи-
вет своей - собственной чудесной и многозначительной
жизнью. Цветы и растения в Параду живут и мыслят,
совершают свой жизненный процесс почти как сознатель-
ные существа. Оживает паровоз в «Человеке-звере», кол-
басы в лавке Лизы Кеню, снедь и самый рынок в «Чреве
Парижа» кажутся живыми существами с их особой глу-
хой, чудовищной жизнью. «Великий универсум», в кото-
ром бродячая собака и придорожный камень дополняют
ч объясняют нас, раскинулся в романах Золя во всю
свою широту. Камни и деревья становятся средой, если
они оказывают на героев свое действие. Тогда они ожи-
вают, становятся антропоморфными, между вещами и
людьми протягиваются нити симпатии. Паровоз, не ожи-
вленный воображением машиниста и кочегара, не стал
бы средой, цветы и деревья, которые ничего не говорят
Человеку, не окажут на него влияния, и только глухие,
почти подсознательные ассоциации определяют дейст-
276
веняость колбас в «Чреве Парижа» и знаменитого жа>
рёного гуся в «Западне». .,
Эти предметы идут сквозь весь роман, уже оторвав-
шись от восприятия окружающих. Оказывая свое дей-
ствие на героев, принимая от них свой смысл,- они стано*
вятся символом. Паровоз Лизон воплощает безумие всей
Франции и влечет ее к катастрофе. Вход в шахту ока-
зывается жерлом ненасытного чудовища, двери из пали-
сандрового дерева, хранящие за собою «целые бездны
порядочности», внушают благоговейный трепет прохо-
жим и символизируют гниение всей социальной группы.
Здание биржи в «Деньгах», здание рынка в «Чреве Па-
рижа», черная земля, предмет всеобщих вожделений, в
«Земле», кабак в «Западне» играют такую же символи-
ческую роль. Романы все больше наполняются символа-
ми, символическими образами, повторяющимися, как
рефрены, десятки раз. В «Четвероевангелии» рефрены
заполняют целые страницы, настойчиво вбивая в созна-
ние -читателя одну и ту же идею.
5
Увлеченный современной экспериментальной наукой,
Золя пытался применить эксперимент и к художествен-
ному творчеству. Эксперимент в литературе, по мысли
Золя, заключался в том, чтобы, определиа темперамент
героя, подвергнуть его воздействию среды и следить за
результатами.. Давно уже было указано, в чем была
ошибка Золя: ведь персонаж романа — не реальный че-
ловек, так же как среда, изображенная в романе, — не
реальное общество, и потому опыт, который производил
Золя со своими персонажами, остается с начала до кон-
ца вымыслом, автора. Но в чем заключается эстетический
и творческий смысл этой теории, которую Золя пропове-
довал с непоколебимым упорством?
Французское слово experiment (эксперимент), так же
как русское слово «опыт», употребляется в более широ-
ком смысле—не только как лабораторный эксперимент,
riô и как результат наблюдений над природой, над дан-
ным. Школу Френсиса Бекона издавна называли «экспе-
риментальной» школой. Этим именем назвал Кузен фи-
лософию Дугальда-Отюарта. Дж.-Ст, Милль говорит об
экспериментальном методе в логике, имея в виду простое
277
наблюдение и анализ. Когда аббат Ботен хотел обосно-
вать свои фантастические идеи на почве науки, он назвал
свое /сочинение «Экспериментальной психологией»
(1839). Феликс де Гама напечатал книгу «Элементы
философии рациональной и экспериментальной» (1848),
Эспинас —книгу «Экспериментальная философиям Ита-
лии» (1880). Кювилье-Флёри называл критику Сент-Бё-
ва экспериментальной, имея в виду «бесстрастное» отно-
шение к писателям, которых Сент-Бёв будто бы изучает
как историческую данность, не одобряя и не порицая К
В политических науках опыт понимался как исторический
опыт нации, — и Золя говорит об экспериментальной по-
литике будущего, которая должна сделать научный
вывод из уроков прошлого. В 1885 году появилась
книга Леона Донна под названием «Эксперименталь-
ная политика», задачей которой было приложить
к политике научный (т. е. экспериментальный)
метод. Таким образом, экспериментальным можно
было бы назвать роман, основанный на наблюдении
действительности.
Клод Бернар, на которого Золя все время ссылается,
определяет понятия «наблюдение», «исследование»,
«опыт», «эксперимент» в первой главе своей книги, и хо-
тя он противопоставляет обозначаемые одним словом
понятия «опыт» (накопленный наукой) и «эксперимент»
(поставленный в лаборатории), в его словах Золя мог
найти основание для того, чтобы понять «эксперимент»
как «опыт». Но, желая приблизить искусство к науке, он
стал говорить о лабораторном эксперименте и навлек на
себя упреки, под которыми утонуло реальное эстетиче-
ское значение понятия «экспериментальный роман».
Эксперимент, о котором говорит Золя, должен ре-
шить основную проблему произведения — взаимодейст-
вие среды и человека. Вместе с тем, эксперимент требует
особой творческой дисциплины. Писатель должен рас-
сматривать свое произведение как нечто независящее
от его желаний. Он просто констатирует реакцию лич-
ности на возбуждение среды и наблюдает за течением
1 Cuvillier-Fleury. Etudes historiques et littéraires. T. 2,
1854, pp, 223-240. Ответ Сент-Бёва в «Causeries du lundi», т. 2,
p. 325.
278
опыта. В творчество вносится новая черта — «научность»,-
определяющая не столько результат творческого процес-
са, сколько характер его. .Писатель не смеет фантазиро-
вать, изображать поступки или чувства, не обусловлен-
ные средой, он должен «проверять и объяснять судьбу ге-
роя материальными причинами, фактами окружающей
его действительности. Герой должен быть изображен вме-
сте со средой, в непрерывном взаимодействии с нею — в
этом и заключается смысл художественного экспери-
мента.
Такой эксперимент был поставлен уже в «Терезе Ра-
кен»: «Взять сильного мужчину и неудовлетворенную
женщину, отыскать в них животное начало, видеть только
это начало, вызвать жестокую драму и тщательно отме-
чать переживания и поступки этих людей... Изучить тем-
перамент и глубокие изменения организма под влиянием
среды и обстоятельств». Таким образом, теория экспери-
мента существовала у Золя еще за 12 лет до появления
статьи «Экспериментальный роман», а следовательно,
объяснять ее возникновение задачами полемики или пот-
ребностями рекламы нельзя.
Художественный эксперимент не допускает воображе-
ния. Золя противопоставляет воображению наблюдение
и опыт. Под воображением он понимает способность вы-
думывать события и чувства, не существующие в дей-
ствительности.
Эта способность характерна для романтиков, утвер-
ждает Золя, хотя в эстетике романтиков воображение
играло совсем другую роль, — реконструкции действи-
тельности на основе науки и опыта.
Эксперимент, который производил Золя в своих ро-
манах, кажется ему логическим выводом из несомненных
научных данных. «Личное чувство должно быть подчи-
нено контролю истины». Истина — это цель, и задача за-
ключается в бесконечном приближении к ней. Старое
определение произведения искусства, данное Золя в
1866 году, — «кусочек природы, рассмотренный сквозь
тот или иной темперамент»,— теперь интерпретируется
иначе. Тогда Золя особенно настаивал на личном начале,
на оригинальном видении мира. Через пятнадцать лет
темперамент оказывается для него лишь фактором, иска-
жающим природу. Художник должен стремиться к мате-
матической точности. Творчество есть самоотречение, от-
279
каз от Собственной личности. Этот ригоризм лежит в ос-*
Hojse его понимания искусства.
-Первым врагом Золя оказывается «романтизм» в том
значении, какое получил этот термин в 60-е и особенно
в 70^е годы. Это лакировка действительности, нелепая
выдумка, ложь. «Чертова лужа», «эклога» Жорж Санд,
очаровательца, но задача литературы не в том, чтобы
услаждать и утешать. Гюго — великолепный версифика-
тора и стилист, его стихи и проза могут даже доставить
удовольствие, но он творит при «помощи воображения и
улетает за сто верст от правды, а потому с ним нужно
бороться. У Доде есть некоторые очаровательные, но
ложные детали, и эти детали Золя подвергает беспощад-
ной критике. Он часто заявляет, что и у него самого есть
еще много романтического, корит себя за это и обещает
исправиться в дальнейшем.
С этих позиций определяется и понятие типического.
Тип оказывается результатом эксперимента: художник
берет некое физиологически определенное существо, под-
вергает его воздействию обстоятельств и следит за резуль-
татами. Поведение героя составляет роман, характер его
реакции на воздействие среды — содержание образа. Ти-
пическое— в закономерности этой реакции. Золя допу-
скает в свои романы любой персонаж: ведь в современ-
ной Франции живут миллионы людей, занимающихся
всевозможными профессиями и реагирующих по-разному
на самые различные среды. Исключить из своего поля
зрения хоть одну разновидность этой толпы — значит ис-
казить действительность и ограничить искусство. Выби-
рать героев или складывать их из подобранных в разных
местах кусочков—такое же искажение действительности,
произвол и отрицание науки. Для Золя творчество за-
ключается в объяснении того, что есть, а не в вымысле
несуществующего, следовательно, главным предметом его
интереса оказывае^я система закономерностей, управля-
ющая общественной жизнью. Герой становится типиче-
ским лишь в той мере, в "какой его поведение, его реак-
ция на окружающую обстановку, его характер и идеоло-
гия объяснены автором в системе этих естественных и
общественных закономерностей. Понятие типа и процесс
типизации в понимании Золя в основном совладает с тем,
что думали и.писали об этом почти все крупные романи-
сты XIX века.
280
6
Итак, роман должен быть дневником экспериментато-
ра или, 'по выражению Золя, «протоколом». «Кузина Бет-
та», роман, в котором Бальзак доставил эксперимент с
сластолюбцем Гюло, тоже, то словам Золя, является
протоколом. Писатель — это писец, записывающий под
диктовку событий,— ведь и Бальзак, вслед за Вальтером
Скоттом, называл себя только секретарем общества, дик-
товавшего ему «Человеческую комедию». Поэтому писа-
тель должен воздерживаться от каких-либо комментари-.
ев или оценок и, главное, отказаться от всяких выдумок,
оставляя правду в неприкрашенном, чистом виде.
Вся поэтика Золя определяется этим основным эсте-
тическим принципом. Он всегда протестовал против фор-
малистических правил, против «риторики», подчеркивая
определяющее значение материала.
Прежде всего это относится к композиции. Не следу-
ет .комбинировать события так, чтобы вызвать драмати-
ческий эффект. «Интрига не имеет большого значения
для романиста, который не 'беспокоится ни об экспози-
ции, ни о завязке, ни о развязке; иначе говоря, он не дол-
жен вмешиваться, отсекать от действительности или до-
бавлять к ней что-нибудь, он не должен строить весь ос-
тов целиком для доказательства заранее придуманной
идеи. Нужно исходить из того взгляда, что одной дейст-
вительности достаточно».
Это, конечно, реакция против тонко построенной инт-
риги таких мастеров, как Вальтер Скотт или Гюго или,
в другом, плане, Александр Дюма. Золя полемизирует
также с Жорж Санд, находя, что ее роман «Мопра» сли-
шком уж хорошо построен, слишком живописен и красив,
чтобы быть правдивым. Он утверждает, что рассчитан-
ная, логическая композиция «Мопра» обнажает тенден-
циозность романа, свидетельствует о том, что Жорж
Санд написала его специально для доказательства некое-
го тезиса и потому выдумывает факты, а не изучает их.
Чем банальнее и обыденнее сюжет, тем он более правдив.
«Заставить реальных героев жить в реальной среде, дать
читателю ломоть человеческой жизни — в этом весь нату-
ралистический роман». Золя приводит в пример Бальзака
и констатирует эту простую, обнаженную интригу у сво-
их учеников, у Гюисманса, у Алексиса, но также и у
10-3836
281
флобера, особенно в «Воспитании чувств». «Милейший
человеческий документ хватает вас за душу сильнее, чем
любая выдуманная интрига. Когда-нибудь писатели бу-
дут писать простые этюды, без перипетий и без развязки,
анализ одного года жизни, историю одной страсти, жизнь
одного человека, записи, сделанные с действительности
и распределенные в известном порядке». Й Золя восхи-
щается окончанием повести Сеара «Чудесный день»:
«Какой ужасающе банальный конец!»
Жорж Санд, говорит Золя, хотела быть апостолом
блаженной жизни, она отвергла действительность и пото-
му вымышляла другую, более ее удовлетворявшую. Нет,
не нужно утешать читателя розовыми вымыслами, нуж-
но показать ему всю скудость, серость, тоску нашего
существования! И Золя словно повторяет урок, данный
Бальзаком в «Провинциальной музе», заканчивающейся
обычной и ничуть не (поэтической пошлостью, и Флобером
в «Воспитании чувств». Жизнь не так хороша, но и не
так плоха, как иногда кажется,— эти слова Флобера, ко-
торыми Мопассан закончил свою «Жизнь», выражают
точку зрения Золя, обнаруживающуюся во многих его ро-
манах. Натуралисты погружаются в пошлое течение
жизни, показывают, как все на свете пусто и печально,
чтобы "протестовать против нелепого апофеоза и ложных
великих чувств. Но трагическая смерть, самоубийство,
безысходное отчаяние героев Жорж Санд удивляют Золя.
Действительно, несмотря на всю пошлость и срамоту,
«Жизнь, к счастью, неплохая девушка. С ней всегда мож-
но сговориться, если имеешь немножко добродушия, что-
бы выносить неприятные минуты»,
Примирение с жизнью не есть примирение с действи-
тельностью. Жить — значит трудиться для улучшения
жизни. «Чтобы быть сильным в наше время, не нужно
смеяться над мещанами, которые являются глубоко ин-
тересными объектами для изучения; нужно знать Фран-
цию, прежде чем ехать в Китай курить опиум; нужно
любить новый ПариЖ... Не нужно сражаться с наукой во
имя какой-то убогой фантазии, из жажды каких-то по-
брякушек и украшений». Принять жизнь ради науки и
ради борьбы — такова философская основа этой новой
«банальной», «серой», «монотонной» натуралистической
композиции.
В этом отношении Золя ориентируется не на «Мадам
282
Боварй», а на «Воспитание чувств», так как трагическая:
смерть Эммы Боварй проигрывала р сравнении с безна-
дежным существованием Фредерика Моро. Окончание
«Мадам Жервезе» Гон-куров казалось ему романтичен
ским. Однако у самого Золя сколько угодно таких окон*
чаний. Мржет быть, их-то он и считал йлачевными остат-
ками своего прежнего романтизма.
Золя и людей изображает так, словно наблюдает за
результатами опыта: он описывает только их наруж-
ность— внутренние качества обнаруживаются в их по-
ступках, в их реакции на события, т. е. так, как эти каче-
ства раскрываются наблюдателю и экспериментатору.
Ведь Золя интересует не физиология человека, а общест-
венный человек, не отвлеченное «качество», в действи-
тельности не существующее, а поведение, так как «каче-
ства» обнаруживаются только в реакции на внешний мир.
В романе приключений рассказывается главным обра-
зом о внешних поступках людей, в романе шсихологиче-
ском автора занимает внутренний психический процесс.
В том и в другом случае описание может быть сведено до
минимума и заменено повествованием. Для натуралиста
важны не поступки и не переживания сами по себе, но их
причины и их связь со средой. Поэтому повествование в
натуралистическом романе часто отодвинуто на второй
план, а первую роль играет описание, занимающее боль-
шую часть романа.
Враждебная критика, а после появления «Земли» и
бывшие друзья дружно упрекали Золя за любовь к низ-
ким словам, к жаргону, к грязным выражениям, видя в
этом чуть ли не нравственное извращение и принципи-
альное желание исковеркать французский язык. С вос-
торгом вспоминали о сообщении Алексиса, будто бы пер-
вое слово, которое Золя научился произносить, было co-
chon (свинья). Такие обвинения казались Золя особенно
оскорбительными. Ведь стиль, как и все произведение,
был определен методом и материалом, а не произволом
и не вкусом автора, «Язык — это логика, естественное и
научное явление. Лучше, всего пишет не тот, кто с наи-
большей непринужденностью резвится посреди гипотез,
а тот,гКто идет прямо посреди истин».
Литературный язык должен быть ближе к обычному
разговорному языку. Не нужно совсем отказываться от
живописных эпитетов и музыки фразы. Но нужно больше
ю*
283
ясности и логики, чем в современном «хорошем» языке,—
поменьше искусства и побольше «прочности». Язык пер-
сонажей не должен-блистать остроумием, не должен изо-
биловать лиризмом, переходящим в исступление. Он дол-
жен быть «правдивым, соответствовать переживаниям ге-
роя, определенного средой; характеризуя героя, он дол-
жен в то же время характеризовать среду. Для этой цели
Золя широко пользуется несобственной прямой речью.
С точки зрения натурализма, литература может изо-
бражать все, мещанскую действительность и идиллию в
запущенном саду, салон и лачугу, спекуляции зачерст-
вевшего в разбое банкира и мечты влюбленной девицы.
Весь этот «Ноев ковчег» современности должен быть изу-
чен при помощи того же натуралистического анализа.
В «Проступке аббата Муре», в «Мечте», в «Странице
любви», в «Творчестве» применен тот же отныне неизбеж-
ный для Золя метод, метод ««жестокого» анализа. Поэ-
тому нельзя противопоставлять так называемые «доку-
ментальные» романы Золя его так называемым «лири-
ческим» романам, — документ и чувство для Золя неот-
делимы: в самом документальном романе есть лириче-
ские персонажи, и в любом лирическом романе есть
документация. Меняется только характер этой докумен-
тации, потому что меняется материал.
Враждебной критике натуралистический метод Золя,
объясняющий «свободную» деятельность человека и са-
мые высокие его чувства причинами материалистического
характера, казался оскорбительным для человечества.
Основной темой почти всех критических отзывов было
отсутствие положительных героев. Золя действительно
считал «идеальных» героев выдумкой. Чтобы получить
«симпатичного» героя, писал он, нужно коверкать 'при-
роду, нужно не только наделять героя безупречной доб-
родетелью, но и замалчивать его недостатки, вернее, при-
думывать его заново, согласно правилам хорошего тона
и «порядочности».
Прикрашивание действительности в период Третьей
республики распространялось на все классы общества,
в том числе и на рабочих. Так же, как официальная кре-
постническая литература создавала образы «положи-
тельных» пейзан, довольных своей жизнью и верно испол-
няющих свой долг по отношению к помещикам, так в
эпоху Третьей республики была тенденция — восхвалять
284
«счастливых» рабочих, которые и не думают бунтовать,
но ходят в церковь и всей душой преданы фабрикантам.
Золя понял смысл этих изображений: «Я знаю поли-
тическую школу, которая спекулирует на лжи, людей,
которые кадят рабочему, чтобы украсть у него его голос,
они зарабатывают на язвах, к которым они не [позволяют
прикасаться. Но почему бы нам не осветить все это яр-
ким светом, почему бы не оздоровить наши предместья и,
поработав заступом, не впустить туда свежий воздух?
Сказали же мы правду о высших классах, скажем правду
и о народе, — пусть придут в ужас, пожалеют его и об-
легчат его участь. Это дело отважных людей. Да, такова
истина... И все отлично знают это; они лгут в интересах
своей лавочки, и только».
Золя как будто отказывается от-положительных геро-
ев. Но неужели эти люди, участь которых должна вну-
шить ужас и сострадание, жертвы общества и жертвы
демагогов, являются отрицательными героями? Конечно,
нет. Они замучены работой, испачканы углем, необразо-
ваны, они не могут служить примером хорошего тона для
буржуазных девиц, но они вызывают сострадание и сим-
патию, иногда восхищение. И среди всех этих банкиров,
министров, иезуитов и торговцев совестью неужели этих
простых героев нельзя назвать положительными?
Конечно, «в «Ругон-Маккарах» почти нет программных
героев, которых Золя мог бы рекомендовать,как образец
для подражания. Ни Катрина Мае («Жерминаль»), ни
Франсуаза Муш («Земля»), ни Каролина Гамлен («День-
ги»), ми Жак Маккар с его медленным умом («Раз-
гром»!), ни Полина Кеню с ее кругозором, не выходящим
за пределы домика на берегу («Радость жизни»), ни
Этьен Лантье с его необузданной страстью («Жерми-
наль») — никто из них не соответствует эстетике идеаль-
ных героев. Но нравственная красота, тонкость чувств,
самоотверженность, доходящая до героизма, нежность и
восхищение, с которыми относится к ним автор, глубина
жизни, которой он их наделил, ставят их в один ряд с
лучшими положительными образами французской лите-
ратуры. «Жестокий» анализ, о котором говорит Золя,
только подчеркивает их положительную ценность, делая
их более правдивыми. Высокое нравственное начало, ко-
торому они вольно или невольно подчиняют свое ловеде^
ние, придает им подлинное величие.
285
С особой симпатией Золя изображает ря0очую среду.
Семья Мае обрисована "без малейшей лакировки, расска-
зано все, что противоречит буржуазным представлениям
о нравственности, условия жизни изображены сопредель-
ной откровенностью, ничто не утаено, to тем не менее
семья эта вызывает не только сострадание, но и глубо-
кую симпатию. В рабочей среде Золя обнаружил такие
качества и такое духовное богатство, каким не могут ото*
хвастаться самые обеспеченные и самые интеллигентные
классы его «Ругон-Маккаров».
Тон меняется, когда Золя говорит о кругах высокой
аристократии или буржуазии. Полемизируя с Гонкуром
при помощи его же собственных романов, он хорошо оде-
тому, благоухающему и мерзкому герою «Рене Мопрен»
противопоставляет Жермини Ласерте, «эту бедную боль-
ную девушку, умирающую от потребности любить».
И если Гонкур напишет роман о высшем свете, то ему
придется писать о гнусностях тем белее отвратительных,
что они вырастут на более культурной почве.
Жестокая (правда литературы ненавистна (правящим
кругам, всем правительствам, когда-либо угнетавшим
Францию, — от абсолютной монархии до Третьей респуб-
лики: «Писатели-натуралисты имеют своего врага
в Республике, так как теперь Республика окончательно
утвердилась... кроме того, против них республиканцы-док-
тринеры, республиканцы-романтики, республиканцы-фа-
натики, словом, самые влиятельные группы партии, кото-
рым они мешают в их лицемерии, в их интересах или в их
верованиях». Быть объективным значило для Золя быть
разоблачителем и борцом.
7
«Охватить всю землю, сжать ее в своем объятии, все
видеть, все знать, все сказать. Я хотел бы на странице
бумаги уместить все человечество, все существа, всё
вещи», — Говорил Сандоз. Этот замысел вылился в «Есте-
ственную и социальную историю одной семьи в период
Второй империи». О возникновении ее было рассказано
не раз. Обращали внимание на «проблему наследственно-
сти. Указывали на сочинение Люка, из которого Золя по-
дарпнул эту терриЮг
В теории научного романа, как ее формулировал
Золя, наследст]венно<!ть имеет Небольшое значение. Она
возникает после того, как «научный» метод «получил свое
выражение в «Терезе Ракен».
В «Ругон-Маккарах» наследственность конструирует
серию, мотивирует переход от одной среды к другой и
самую постановку проблемы взаимодействия человека на
общество и общества на человека: отдельные члены
семьи, унаследовавшие те или иные склонности или «фи-
зиологии», (попадая в различные среды, дают возмож-
ность не только «.поставить эксперимент», но и показать
среду в наиболее полном, сгущенном виде.
Среди массы действующих лиц серии количество Ру-
гон-Маккаров ничтожно. К тому же они далеко не всегда
играют первую роль. Жан Маккар в «Земле» и в «Раз-
громе», Этьен Лантье в «Жерминале», Марта Муре в
«Завоевании-Плассана», Октав Муре в «Кипящем горш-
ке» не являются главными героями. Они растворены в
среде, иногда даже .противопоставлены ей, они отодвину-
ты в тень действительными протагонистами, ради кото-
рых и написаны эти романы. В других (произведениях, где
первую роль играют потомки Аделаиды Фук, вопрос о
наследственности едва намечен — ни Саккар в «Добыче»
и «Деньгах», ни его превосходительство Эжен Ругон, ни
Жервеза Маккар в «Западне», ни Анжелика в «Мечте»
ничего не объясняют в проблеме наследственности.
К тому же, законы наследственности, в понимании Золя
столь неопределенны, и столь неожиданны бывают ре-
зультаты различных комбинаций, что любой характер
можно было бы объяснить любой наследственностью,—
так, в сущности, Золя и поступает. То, что он называет
наследственными дефектами, проявляется только под
влиянием среды и обстоятельств — Марта, вполне урав-
новешенная в первой половине романа, сходит с ума
только после появления рокового Фожа («Завоевание
Плассана»), Жервеза гибнет под влиянием среды и под
ударами обстоятельств («Западня»), Нана развращается
потому, что с детства попадает на улицу («Нана»!). С дру-
гой стороны, остается непонятным здоровье Октава Муре
и здоровье Жака Маккара. Поэтому «читатель легко за-
бывает об этой непостижимой наследственности, — так
же, как забывал о ней и сам Золя. В своих рукописях он
должен был напомнить себе: «Не забыть о ^аследствен-.
ностшч ,'
i
287
Теорию наследственности Золя подчинил своим обще-
ственным интересам. На двух страничках предисловия к
«Карьере Ругонов» он формулировал свой социально-по-
литический замысел. Оказалось, что врожденный дефект
семьи характеризует целую эпоху исторической жизни
Франции, а по существу, и всю вторую половину XIX века.
Ругон-Маккары, писал Золя Луи Юльбаку, «отлича-
ются разнузданностью вожделений, всеобщим, свойствен-
ным нашей элохе яростным стремлением к наслажде-
нию». Психическая и наследственная болезнь Ругон-Мак-
каров послужила для Золя определением целой эполи «от
преступления 2 декабря до предательства Седана». Раз-
нузданные эгоисты, как звери, бросаются в жизнь, чтобы
когтями и зубами урвать свой кусок добычи, и преуспе-
вают только в этой зараженной атмосфере, в гнилом об-
ществе Второй империи, между тем как другие, более
приличные представители семьи ведут полуголодное су-
ществование, либо гибнут, либо идут в революцию. Тем
самым, фатум наследственности оказывается как бы ней
трализованным.
Врожденная болезнь принимает различные формы в
зависимости от среды, в которую попадают отдельные
представители рода.
Среда может исцелить этот наследственный дефект,
погасить болезнь окончательно. Золя не раз подчеркива-
ет это: человека можно воспитать и перевоспитать ухо-
дом, заботой, трудом. Человек сам может перевоспитать
себя, -г- таким образом, общественное и нравственное на-
чало торжествует над бессильным роком наследствен-
ности.
В завершающем серию романе, подводящем итог всей
естественной и социальной истории «Ругон-Маккаров,
этот фатализм наследственности, как будто получает свое
последнее и наиболее полное выражение. Доктор Пас-
каль со своими папками и родословными словно венчает
это здание биологическим детерминизмом. Однако имен-
но в этом романе, больше чем в других, биологический
фатализм преодолен и отвергнут. Он преодолен той са-
мой наукой, которая установила эти законы наследствен-
ности. Ведь познать историю болезни, причины ее воз-
никновения и способы лечения, разоблачить общество,
в котором процветают хищники и преступники, — значит
сделать шаг к преодолению зла, приблизиться к новому
288
обществу, построенному на более разумных началах бо-
лее здоровыми людьми. \
«Теперь каждый раз, принимаясь за роман, я натал-
киваюсь на социализм», — писал Золя Сантен-Кольфу в
1890 году, работая над «Деньгами». Изучая современное
общество, он все больше убеждался в том, что капита-
лизм отживает свой век, и ничто не остановит крушения
этого прогнившего в своих основаниях общества. «Жер-
миналь» говорит об этом с полной ясностью, показывая
силы,, которые уничтожат эту «гнилую машину». В сущ-
ности, об этом свидетельствуют оочти все его романы.
И сам Золя замечательно-характеризует свою эволюцию:
«Старый республиканец, каким я сейчас являюсь, и со-
циалист, каким я, без сомнения, когда-нибудь стану».
В скором времени Золя выступит на политическую арену
с знаменитым «Я обвиняю». Естественно и закономерно
от своего пренебрежения к политике Золя приходит к ре-
шительному политическому акту, сочувствовав, что «на-
учного» романа недостаточно для борьбы с обществен-
ным злом.
К концу жизни Золя действительно стал социалистом,
но его социализм был утопическим. «Четвероевангелие»
свидетельствует об этом с достаточной ясностью. В трех
написанных романах из четырех задуманных много вер-
ных наблюдений, трезвых выводов и четких 'перспектив,
но фурьеризм, не подтвержденный никакими фактами, де-
лает эти романы по-детски наивными и неубедительными
даже в том, что есть в них несомненного. Вот почему в
мировой культуре остались не эти его романы, написан-
ные зрелым мастером и убежденным социалистом, а про-
изведения -первой серии, в которых социализм проявлял-
ся только в плане критики современного общества.
Видя и даже оправдывая классовую борьбу как есте-
ственную реакцию на эксплуатацию и несправедливость/
Золя все же считал, что попытки насильственного свер-
жения капитализма ни к чему не (приведут и скорее по-
мешают, чем помогут будущему. Если классовая борь-
ба является следствием не только плохой среды, но и
дурно направленных инстинктов, то следует постепенно"
улучшать среду, лечить и воспитывать людей. Революци-
онные стремления пролетариата кажутся Золя заблужде-
ниями и, как всякое заблуждение, болезнью, вызванной
соответствующей средой. Окончательно правыми оказы-
289
ваются люди, поднявшиеся выше «инстинктов», выше не-
посредственных воздействий быта, руководимые идеей
справедливости, страстной жалостью и гуманизмом. Эть-
ен Лантье стал политическим деятелем после того, как,
убедившись 'в бесполезности насильственных действий,
освобсдился от «инстинктов» и от внушений быта и, дви-
жимый гуманистической идеей справедливости, стал дей-
ствовать разумом и убеждением, т. е. «наукой».
Но большинство героев Золя, отрицательных и поло-
жительных, связано физиологией и бытом, "словно они
еще не совсем вышли из естественной руды, не очисти-
лись сознанием. Мы словно присутствуем при рождении
HOiBoro мира. В этом зрелище есть нечто величественное
и трогательное. На наших глазах человек вырастает из
грубого быта и из области темных инстинктов вступает в
сферу высших идей. Он не порывает связи со своей при-
родой, но чувство все более просветляется разумом, сфе-
ра ассоциаций расширяется, интересы и страсти стано-
вятся все более общественными и нравственными. Так воз-
никает будущее. В «Чреве Парижа», в испарениях снеди,
среди торжествующего сытого мещанства бьется чистая
революционная мысль Флорана и зреют художественные
замыслы Клода Лантье. Полина Кеню озаряет радостью
своего самопожертвования жалкое гнездо безумцев и
эгоистов. Дениза Бодю превращает грандиозный магазин
«Дамское счастье» в счастливую идиллию. Каролина
Гамлен в царстве денег представляет собой человечество,
которое в великих бедствиях сохраняет великую надеж-
ду и сквозь все катастрофы шридет когда-нибудь к
счастью и справедливости. Этьен Лантье предвещает ги-
бель капитализма, доктор Паскаль создает новую науку,
Сандоз — новую литературу, и все это разрушает старые
традиции мысли и утверждает новый, более благородный,
более высокий строй чувств, а тем самым предвещает бо-
лее справедливый общественный строй.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1
По-видимому, одна из основных особенностей фран-
цузского романа XIX века — страстное желание как мож-
но полнее и глубже объяснить изображаемое: сюжет,
персонажей, общество, их окружающее, связи между лич-
ностью и средой. Это было с самого начала. Чтобы бо-
роться с реакцией и защищать «идеи 1789 года», нужно
было оправдывать исторический процесс и, в известном
смысле, провиденциальное начало. Понятие закономер-
ности .приобретало философско-исторический характера
а случай как ведущее начало жизни упразднялся.
В исторических романах 20-х годов случайностей мож-
но было бы найти сколько угодно, но они создавались
для того, чтобы отвергнуть случай и утвердить законо-
мерность большого шлана. Случай оказывался лишь по<
верхностью существующего, формой закономерности.
В утверждении этой закономерности и заключались па-
фос и конструирующая сила исторического романа 20-х
годов. Несмотря на различие в мировоззрении, взглядах,
интересах, темах и материале их произведений, все пи-
сатели этого периода шли приблизительно в одном на-
правлении и разрешали одну и ту же основную, ведущую
проблему эпохи.
Стендаль, в 20-е годы заново открывший современную
тему, называл случаем не то, что понимали под этим сло-
вом просветители, хотя и шел как будто по их следам.
Для него это была непред^денная стихия ежедневного
движения действительности. Это «случайность рожде-
ния», случайность условий, благодаря которым его персо-
наж включался в систему закономерностей, — по ту или
другую сторону баррикад. Октав де Маливер и Жюльен
Сорель принадлежат к разным классам, но они подчине-
ны одному и тому же закону общественных противоречий
291
эпохи. Случай в системе Стендаля носит, так сказать,
«случайный» характер.
После Июльской революции все изменилось. Истори-
ческий оптимизм, создавший философско-исторические
конструкции 20-х годов, был, казалось, опровергнут хо-
дом послереволюционных событий, Конечно, многие со-
хранили непоколебимую веру в совершенствование рода
человеческого, в прогресс, и если не в революцию, то в
развитие. Однако большинство, особенно молодое поко-
ление, вступившее в литературу после Июля, как будто
считало своей задачей опровергнуть все то, что казалось
хотя бы минимальной реабилитацией действительности,
внушающей какую-то надежду на будущее. Была отверг-
нута самая идея исторической закономерности, и ее ме-
сто занял случай. Но это не был тот «оптимистический»
случай, который торжествовал в литературе и философии
XVIII века даже в период «бури страстей». Это был слу-
чай мрачный, уничтожающий возможность .целесообраз-
ного труда, разумного вторжения личности в хаос обще-
ственной жизни. Это был скорее древний рок, торжество
бессмысленных и потому непостижимых сил, а человече-
ство превратилось в толпу злодеев, погибающих в борьбе
друг с другом, с обстоятельствами, и несчастных не столь-
ко от собственной неполноценности* сколько от принци-
пиальной нелепости существования. Добродетельные ге-
рои появлялись в «неистовой» литературе только для
того, чтобы стать жертвой негодяев. Романы эти должны
были привести читателя в отчаяние и убедить его в бес-
полезности борьбы и труда.
Романистам, которые хотели выйти из неистовств!а,
отказавшегося от всякой телеологии и движения, нужно
было найФи в этой современности точку опоры для того,
чтобы открыть в ней новые закономерности, если не ис-
торического характера, — они были дискредитированы
надолго, — то нравственного или биологического.
Этот тяжкий труд ума и совести произвели два пи-
сателя, работавшие над теми же проблемами, имевшие
между собой много общего и вместе с тем придерживав-
шиеся прямо противоположных общественно-политиче-
ских взглядов: Бальзак и Жорж Санд.
Испугавшись революции и непрерывных восстаний,
грозивших, по его мнению, уничтожить общество, Баль-
зак отрекся от своего прежнего либерализма и обратился
292
к абсолютной монархии, подкрепленной религией. Инди*
видуализм казался ему неизбежным следствием буржу-
азного общества. Опасение от этой нравственной порчи
он видел в государственном насилии и в .подавлении лич-
ного начала. Общественная добродетель есть результат
мудрого управления государством.
Исследуя общество с проницательностью, позволив-
шей ему создать «Человеческую комедию», он обнаружи-
вал материальные причины, разлагавшиенравственность
и разрушавшие общественные связи. Эти материальные
стимулы поведения он соотносил с биологической основой
психики и индивидуализм современного ему общества
объяснял гедоническим сознанием — неизбежным стрем-
лением к наслаждению и бегством от страдания. В этом
отношении он вполне смыкался со Стендалем. Деля сво-
их героев на «грешников» и «святых», он не мог объяс-
нить тех и других иначе как на основе чистой нравствен-
ности. Общественные основания для такой характеристи-
ки отсутствовали.
Жорж Санд шла прямо противоположным путем. Она
видела пути к будущему не в .подавлении личности мо-
наршим произволом, т. е. произволом одной личности, са-
мой сильной из всех, а в расширении понятия личности
до пределов человечества. Не личность, а обособление
личности от других, себе подобных, казалось ей бедстви-
ем и причиной эгоизма. Ее художественные достижения
заключались в развитии этого нового понятия личности,
как тождества с народом и человечеством. Ее пантеизм
является теорией нравственной и революционной. Так же,
как Бальзак она увидела нравственную язву современно-
го общества и так же, как Бальзак объяснила ее инди-
видуализмом, свойственным системе буржуазного произ-
водства и распределения. В этом ее сходство с Баль-
заком. Расхождение с политической точки зрения — в
разных способах излечения общества: монархическом у
Бальзака, демократическом у Жорж Санд.
На вековом отдалении творчество Бальзака представ-
ляется как могучее отрицание существующего, построен-
ное на глубоком анализе общественных отношений. Твор-
чество Жорж Санд кажется великим утверждением жиз-
ни, построенным на могучем историческом синтезе и твер-
дой вере в человека. При -ближайшем рассмотрении это
противоречие сглаживается. Каждый из этих писателей
293
обладает одинаково мощными средствами айализа'и син-
теза. В исторической перспективе столетия они дополня-
Ш друг друга, и глубокая картина современности, кото-
рую они набросади в сотнях произведений, кажется не
только изображением данного, но и пророчеством дале-
кого будущего.
Строгое объяснение общественных шроцессов, -пришед-
шее на смену неистовому 'отрицанию, вызвало изменение
и в композиции романа. Разорванность и неожиданность,
характерная для «неистовой» литературы первой полови-
ны 30-х годов, ^«случайность» чередования событий сменя-
ются драматической композицией у Бальзака. Сюжет ро-
мана развивает определенную тезу, доказывает тот или
иной закон общественной жизни, строгую механику пси-
хических 'процессов, вызванных закономерностями дейст-
вительности. На каком бы материале ни был построен
роман Бальзака, сюжет его неизбежно объяснен, а сум-
ма причин, разработанных с подчеркнутой точностью и
полнотой, создает замкнутую конструкцию, логику кото-
рой не нарушает принцип «возвращения персонажей».
У Жорж Санд в центре обычно стоит не событие,
а биография. Длинный ряд происшествий и переживаний
показывает становление личности, определяемое побуж-
дениями среды, диалектикой мысли и вечно действующим
нравственным началом, которое и создает не только чело-
века, но и общество. Поэтому композиция ее романов
«произвольная». Иначе говоря, она определяется материа-
лом й нуждами замысла, которые могут создать роман,
лишенный внешнегочсюжета, роман, полный приключений,
роман личный, сосредоточенный вокруг одного героя,
и более широкий, изображающий несколько групп людей,
принадлежащих к различным слоям общества.
. И Стендаль, и Жорж Санд, и Бальзак, отдаваясь глу-
боким исследованиям общественных закономерностей и
обусловленной ими психологии, тем не менее постоянно
вводили в свои размышления биологический фактор.
Стендаль изучал темпераменты, которыми он объяснял
национальные особенности своих героев, Бальзак срав-
нивал законы общества с законами животного мира и
людей —со зверями, находящимися в постоянной борьбе
за существование. Жорж Санд рассматривала человека
как частицу, мироздания,' находя аналогии и сходства
между жизнью цветка и мыслью человека.
294
Пантеизм Жорж Санд был динамичен,— развитие <Ш
понимал как всеобщий закон. Пантеизм Флобера оказал-
ся статичным, во всяком случае идея развития в ту Щ
ощущалась. В философии Спинозы Флобера привлекала
отсутствие движения. Воспитавшись на «неистовой» лщ
тературе, он смог принять мир только во имя чистой мыс-
ли и познания, основанного на.отказе от деятельности и
личного житейского счастья. Единство духовного и мате-
риального было для него средством психологического
анализа. Болезни духа он рассматривал в связи с про-
цессами, совершающимися в нервных клетках, среда при-
обретала определяющее значение для жизни духа, и это
позволило ему прийти к глубокому анализу классовой
идеологии и интерпретации общественной жизни s ее ста-
тике и в ее революционной, с точки зрения Флобера, от-
носительной, динамике. В этом плане он и смыкается и
расходится со Стендалем, Бальзаком и Жорж Санд.
Тот же монизм позволял ему с неверием относиться к
историческому движению,— ведь материя не развивается
совсем или развивается чрезвычайно медленно, а потому
историческое изменение есть феномен, а не сущность,
скорее иллюзия, чем истина. Статика торжествует в пер-
вом «Искушении святого Антония» и ъ последнем «Вое-»
питании чувств». Только познание, научное и художествен-
ное, позволит сдвинуться с места и обеспечит HeKOfорую
гармонию между человеком и миром, естественным так
же, как и созданным им самим. Теория «искусства для
искусства», которая у Флобера почти аналогична теории
«познания для познания», требует свободы искусства от
насилия власти, общественного мнения, критики, но вме-
сте с тем и некоторого, хотя бы даже кажущегося, от-
ключения художника от деятельности, от участия в соци-
альном творчестве. Жорж Санд также требует свободы,
но вместе с тем и социальной борьбы. Флобер, отказы-
ваясь от социальной борьбы, тем не менее своим творче-
ством пытался преподать современникам истины, кото-
рые, по его мнению, должны были спасти общество от
роковых ошибок. По существу, тот и другая шли к одной
и той же цели — творческого воздействия на действитель-
ность.
Если у Стендаля, Бальзака и Жорж Санд биологиче-
ский фактор играл второстепенную, хотя иногда доволь-
но значительную роль, то у Флобера, при.его неверии в
29Ï
историю, этот фактор оказался на первом месте. По этой
причине, но также и по некоторым другим, автор «Воспи-
тания чувств> оказалсй главою школы «натуралистов».
Золя был вождем этой школы, так как принял физиоло-
гию как метод изучения сознания, с одной стороны, и как
метод социологического исследования — с другой. Так же,
как все его предшественники, как все ведущие писатели
XIX века, он был охвачен одним интересом — изучением
общества, его дефектов, его бед, несчастий народа и при-
чин современной чудовищной несправедливости. Его ге-
роев со всей их физиологией определяли общественные
закономерности, наследственность-была явлением вторич-
ным и в системе его романа —случайным. Если Флобер
пытался заключиться в башне из слоновой кости, то Золя,
при всей его нелюбви к политическим комбинациям и
интригам, с первого же романа ,«Ругон-Маккаров» всту-
пил в открытую, хотя и сохранявшую пресловутую «объ-
ективность», общественную борьбу. «Воспитание чувств»
было столь же объективно и остро критично по отноше-
нию к современности, как любой роман Золя.
2
«Башня из слоновой кости» была предметом обсужде-
ний и споров, хотя противоречия были больше кажущие-
ся, чЬм принципиальные. Но они заключали в себе дру-
гую проблему, не менее тяжелую и, может быть, еще
более важную: это было противопоставление мысли и
действия, возникшее уже в 30-е годы и прошедшее сквозь
все столетие. Презрение к действию сопровождалось
тоской по действию. От него отказывались из безнадежно-
сти и неверия в него, которое приходилось в себе воспи-
тывать. Отказ от действия означал разрыв между интел-
лигенцией и политическими деятелями — не только недо-
оценку, но и прямое недоверие к любой политике, а
вместе с тем отключение литературы от жизни. Многие
политические трагедии XIX века имели одной из своих при-
чин это сознательное, принципиальное, гибельное отчуж-
дение писателя не только от тех, кто делал политику, но
и от всех, кто по своей профессии не был интеллиген-
том,—■ иначе говоря, от народа. Это было формой инди-
видуализма, составляющего больную проблему века.
Решали этот вопрос по-разному, иногда не очень раз-
бираясь в нем и не различая оттенков возмсжных реше-
Ж
ний. Было очевидно, что личность имеет -право на полное
развитие своих способностей и признание своих заслуг —
«права человека» были декларированы Французской ре-
волюцией еще в прошлом столетии. Стендаль видел в
сильной личности, вышедшей из низов, единственное спа-
сение того демократического общества, о котором он меч-
тал. Бальзак из ненависти к современному либерализму
стал .пылким проповедником единоначалия и всеобщего
подчинения одному. Он приветствовал борьбу сильных и
слабых, потому что победившие в этой борьбе смогут ру-
ководить страной разумнее, чем «пятьсот тупиц», заседа-
ющих в палате депутатов. С другой стороны, он наказы-
вал своих индивидуалистов-неудачников страшными
карами и заставлял их горько раскаиваться в своих дерза-
ниях. Жорж Санд последовательно уничтожала в своих
произведениях всех, кто возомнил себя лучше других.
Флобер проклинал мещанство как ячество и вместе с тем
противопоставлял себя мещанству, иначе говоря, всем.
Приблизительно тех же взглядов держались «искренние
реалисты». Золя уже в период «Ругон-Маккаров» думал
об «апостолах», призванных спасти мир от капиталисти-
ческой скверны и готовил в уме героев «Трех городов» и
«Четвероевангелия». «Социальные» романы —■ «Париж-
ские тайны» Эжена Сю, «Граф Монте-Крнсто» Александ-
ра Дюма, «Отверженные» Гюго — возлагали надежды на
героя, который, вопреки правительству, без помощи пар-
тий и масс, спасет эти массы и наведет справедливость
частной благотворительностью и расправой с теми, кто в
недрах общества, на «дне» и в «трущобах» творил жесто-
кости и нарушал законы.
Очевидно, проблема индивидуализма должна была по-
влечь за собой дискуссию о роли личности в истории. В
политическом плане она была связана с бонапартизмом,
с теорией средств, оправдываемых целью, с теорией госу-
дарственной необходимости. Ютчаянные усилия мысли,
встречавшей на своем пути как будто непреодолимые
трудности, приводили, однако, к одному неотчетливому,
но несомненному результату: широкую свободу личности
следуелт сочетать с наиболее -полным демократизмом.
К этому приходил даже Бальзак, требовавший свободы
для того, чтобы открыть путь к деятельности потенциаль-
ным «вождям». Человек один не может быть свободным.
Это иллюзия, за которую личности и обществу приходит -
297
ся дорого расплачиваться. Человек мож^т быть свобод-
ным только в других и.вместе со всеми. Литература есть
служение — не себе-' самому, но всем, объективным на-
добностям, закону. Понятие свободы как осознанной не-
обходимости пробивается сквозь все эти поиски и препят-
ствия. Необходимость воспринимается не как слепой рок,
но как разумная закономерность. Идея индивидуалисти-
ческого бунта, который пришел к пустоте, сменяется иде-
ей целесообразного труда, находящего удовлетворение в
самом себе. Глубокий, изумительный сто своему упорству
и результатам анализ современного общества и современ-
ной души, желание открыть закономерности, которые
превращают одиночек в типы и в воп/ющения идеи, все
эти теории искусства и поиски художественной правды,
противопоставленной неосмысленным фактам жизни,
имели своей далекой целью 'построение общества, в кото-
ром свобода личности осознается как долг и как коллек-
тивное творчество.
Совершенно очевидно, что большая литература пред-
лагала демократическое решение проблемы личности.
В той же связи появляется в искусстве и демократиче-
ский герой.
Уже в историческом романе 20-х годов крестьяне ста-
ли играть важную роль, особенно во время восстаний.
Бальзак, Жорж Санд, Шанфлери посвящали им целые
произведения. Гюго изображал Клода Гё и Жана Валь-
жана, рыбака и уличного клоуна. Гонкуры создали свою
Жермини Ласерте, один из самых важных образов эпо-
хи, Флобер — «простое сердце», Золя — крестьян, угле-
копов, ремесленников. Избежать этой темы было невоз:
.можно,' на ней настаивали интересы дня. Демократия в
виде самого обездоленного и самого революционного
класса стучалась в двери, и нельзя было не влустить ее.
Без нее не получилось бы ни общества, ни среды.
С каждым десятилетием демократические герои все
более «демократизируются» и их общественное положе-
ние падает все ниже. Они становятся бедняками, охотят-
ся за копейкой, умирают с голоду. Судьбы их чрезвычай-
но разнообразны, а психология приобретает изумитель-
ную глубину и обогащается множеством оттенков. Они
жертвуют жизнью ради любимого человека или ради
идеи. Из фанатической скаредности они убивают отцов
и сестер. Они бывают отвратительны, но вместе с тем,
298 *
хотя бы и в самой малой 'Степени, оправданы, средой.
Они бывают почти святыми, сходят с ума >или спива-
ются.
3
Почему HCKyccYBO должно стремиться к 'правде? Этого
вопроса как будто никто не задавал всерьез. Каждый пи-
сатель стремился к правде, а те, кто отрекался от нее, по-
нимали под правдой эмпирию и фактографию, или наме-
ренный отказ от «идеала». Очевидно, романисты стреми-
лись к правде для того, чтобы внушить читателю свое
понимание действительности, иначе говоря, оценить то,
что есть, показать то, что должно быть, и найти средства,
которыми можно достигнуть лучшего.
Чтобы понять историю и современность, нужно их
изображать как можно более подробно и полно. Истори-
ческий роман доказал это с несомненностью, которой ни-
кто не опровергал в течение целого столетия. Но подроб-
ность и точность не означали достоверности, — историче-
ский роман доказал и это, хотя в течение целого столетия
вопрос пргодолжал обсуждаться и волновать художников.
Переход от истории к современности для романа не был
прост,— нужно былолонять, что современность .пригодна
для искусства, и оправдать ее с эстетической точки зре-
ния, отвергая ее с политической, общественной и нравст-
венной. Но, вытеснив историю из романа, современность
так увлекла и/покорила, что возвращение к истории в
XIX веке было лишь эпизодическим. Исторические аргу-
менты ничем не могли помочь, а современность требова-
ла внимания и забот.
Детали были необходимы для лучшего понимания ма-
териала,— исторического или современного безразлично,
но они трогали сами по себе, вызывая трудноопредели-
мые ассоциации и волнение, с, которым не хотелось
расставаться. Так же, как исторические романисты, писа-
тели, разрабатывавшие современные темы, иногда отказы-
вались от широких философскогисторических или социо-
логических конструкций и перспектив, довольствуясь тро-
гательной живописью мелочей. И у Бальзака, и у Жорж
Санд, и у Флобера можно встретить это любование ста-
рой вещью и модной вещью^но за этим всегда стоит широ-
299
Кай .паиора,ма эпохи, и деталь является лишь толчком для
работы обобщающей мысли.
В 50-е годы школа, выросшая на наследстве Бальзака,
намеренно отказывалась от «выводов», — в этом она пря-
мо противоречила Бальзаку и предвосхищала основное
положение Флобера. «Искренние реалисты» ограничива-
ли себя воспроизведением того, что можно непосредствен-
но увидеть глазом: ведь все остальное — только домыс-
лы, произвол художника, фантазии, которые, как всякая
фальшь, должны быть отброшены v за пределы искус-
ства.
Шанфлери, Дюранти, Мюрже, Барбара рассматрива-
ют искусство как искусство деталей. Они хотят не столь-
ко понять эпоху, сколько внушить симпатию к тем или
иным ее элементам. Старуха, пекущая лироги, достойна
симпатии, потому что о<на печет пироги и не делает ниче-
го дурного, а также потому, что со своим передником,
салом и ложкой она датирована сегодняшним днем и
точно локализована в определенном городке Франции
или квартале Парижа. Симпатия к старухе и отвращение
к отставному бакалейщику, терзающему своей пош-
лостью жену и делающему гадости соседу, — этого до-
статочно для того, чтобы оправдать современную тему и
труд художника. «Искреннее» искусство, чтобы сохранить
правду непосредственного переживания, отказывалось от
рассуждений и масштабов. Ради интима часто терялись
горизонты, и за бакалейщиками и торговками временами
исчезало общество.
«Социальный» роман, вроде «Парижских тайн» и
«Графа Монте-Кристо», не очень беспокоился о законо-
мерностях, поскольку движение обществу дает один чело-
век, который собственной волей, как -средневековый ры-
царь, наказывает преступников и восстанавливает спра-
ведливость. Самый замысел «социального» романа таков,
что он не требует глубокого изучения общества. Напро-
тив, исследование его природы обнаружило бы нелепость
самого сюжета и невозможность столь благотворного
вмешательства индивидуальной воли в железные законо-
мерности социальной жизни. Это оптативная форма лите-
ратуры.
Но правда деталей подвергалась сомнению. Если бы
все смотрели на мир одними и теми же глазами, не по-
требовалось бы развивать сложные эстетические теории,
300
анализиройать понятие правды й утверждать, что дело не
в деталях, а в идее, и не в точности, а в правдоподобии.
Точки зрения меняются, и правда одного писателя не со-
ответствует правде другого. Чтобы доказать свою правду,
нужно опровергнуть чужую, и в этих трудах возникают
сложные и прекрасные теории искусства, эстетического
наслаждения и творчества,— теории, которые сами по себе
являются созданием искусства и художественной цен-
ностью.
Виньи и Гюго, Стендаль и Бальзак, Жорж Санд, Фло-
бер, Гонкуры, Золя — все утверждали, что точное воспро-
изведение факта недостаточно для искусства, что за по-
верхностью явлений нужно вскрывать их сущность, что
мир познаваем не потому, что его можно рассматривать
и осязать, а потому, что в нем можно обнаружить «веч-
ные» идеи,-принципы или законы. Эта мысль, древняя как
мир, идущая от Платона и Аристотеля, осела в виде дог-
мы в классицизме и в значительно измененном виде полу-
чила свое выражение в теориях романтизма. Сменявшие
друг друга философские учения продолжали открытия
древних философов в новой форме в связи с потребно-
стями эпо^и и методом размышлений.
Учение это приобретало различный смысл в зависи-
мости от того, какие задачи ставил себе принимавший ее
автор и как он понимал действительность. «Идея» и
«принцип», о которых говорили все писатели, даже тогда,
когда они стремились к одной цели, приводили каждого
к различным формам искусства.
«Идея» или «принцип» вырабатывались с трудом,
сперва в историческом романе, — очевидно, материал об-
легчал процессы обобщения и дифференциации, потом в
современном романе Стендаля, где современные типы
ясно и глубоко были объяснены как «необходимости»
эпохи. Бальзак пытался объяснить процесс создания ти-
пического сюжета и персонажа, сперва пользуясь выбо-
ром, потом комбинацией элементов и, наконец, придя к
вымыслу, основанному на изучении закономерностей. Он
говорил о «ясновидении», и независимо от него, в других
выражениях о том же говорили Жорж Санд и Флобер,
имея в виду интуитивное постижение реальности. Стен-
даль, вероятно,,протестовал бы против термина, но нечто
подобное есть и в его понимании художественного твор-
чества. На интуиции, никогда не употребляя этого слова,
301
одаривали «искренние реалисты»,' искавшие-«наивного»
искусства, подобного средневековому или народному. Но
щодин из этих писателей не выключал логического, по-
нятийного мышления из творческого процесса, 1ЦОлагая<
что разум, т. е. Целительная способность, так же, как
научное знание, является первой необходимостью искус-
ства.
Для литературы XIX века наука имела чрезвычайное
значение. Все .писатели ориентировались на ту или иную
науку, на науку вообще. Началось это, как и многое дру-
гое, с исторического романа, конститутивным признаком
которого являлась историческая эрудиция. Стендаль был
историком, теоретиком искусства и, прежде всего, «идео-
логом» со всеми вытекающими из этого последствиями.
Бальзак всегда гордился/ученостью неосведомленностью
в философии, биологии и праве. Жорж Санд была стра-
стным естествоиспытателем, Шанфлери —знатоком не-
мецкой литературы, фольклора, /народного искусства,
начиная от песни и живописи и кончая керамикой. Фло-
бер занимался всем, что было нужно для очередного ро-
мана,— философией, историей, ботаникой, психиатрией и
медициной. Золя изучал действительность во всех ее раз-
резах и в первую очередь естественные науки. Теофиль
Готье гордился знанием мало распространенных наук и
особенно сведениями, плохо известными даже специали-
стам. Рене Гиль писал стихи о (последних достижениях
физики. Все они прославляли науку, уповали на нее,
искали у нее поддержки и гордились своей ученостью.
Более или менее откровенно они вводили ее в свои ро-
маны. Термин «научный», введенный Золя для определе-
ния романа натуралистического, подвергался осмеянию,
но определение было бы справедливо для всего романа
XIX веса.
4
Новым было и понятие героя. За исключением срав-
нительно редких случаев, это не был только злодей или
только святой, подходящий для мелодраматического сю-
жета. Герои подбирались не по признаку своего положи-
тельного или отрицательного качества. Представители
того или иного класса со всеми его характерными особен-
ностями перестали быть только емешйыми персонажами,
как в английских юмористических или сатирических ро-
302
манах XVIII века. Они стали типами в полйом смь&ле
этого слова. И изображали их не дЛя того, чтобы посме-
яться над деревенскими помещиками, :пожилыми кокет-
ками или стряпчими. Это были силы, движущие общест-
вом, вступающие друг с другом в борьбу.
Чтобы стать типом, внешнего сходства с массовым,
стандартным представителем класса, профессии или кру-
га было недостаточно. Герой должен «был стать неповто,-
римым и даже исключительным.. Типичность перестали
понимать как сходство с общераспространенным шабло-
ном. Это было проявление той или «ной обнаруженной
писателем общественной закономерности. Оригиналь-
ность типотворчества заключалась главным образом в
этом. Это открытие Вальтера Скотта получило дальней-
шее развитие в романе из современной жизни.
Неважно, существует ли данный персонаж или что-
нибудь ему подобное в действительности. Важно, что су-
ществуют данные закономерности, причины, вызывающие
такую психологию и такое поведение. Конечно, в 'боль-
шинстве случаев реальное лицо, уже испытавшее на себе
эти закономерности и отреагировавшее на них прибли-
зительно так, как это показано в романе, могло сущест-
вовать,— это облегчало автору работу воображения. Так
случилось с подмастерьем Жорж Санд, с ее же крестья-
нами, с некоторыми героями Бальзака, хотя бы с Вотре-
ном. Но в большинстве случаев это были прототипы, не
имевшие того огромного смысла, который вложил в них
автор, как, например, прототипы Жюльена Сореля или
Вотрена. Или это были аргументы, при помощи которых
можно было доказать возможность данного персонажа в
жизни.
В каждом данном романе могли действовать несколь-
ко подобных типов-закономерностей. Они вступали в кон-
фликт или в контакт, создавали содружества или начина-
ли упорную борьбу. В «Красном и черном» почти каждый
персонаж можно рассматривать как представителя той
или иной общественной силы или класса. Матильда де
Ла Моль в своей громадной индивидуальности детерми-
нирована классом, средой и моментом так же, как Жюль-
ен Сорель, а жизнь главного героя в основных ее пери-
петиях представляет хобой классовую борьбу в скрытой,
а в конце явной форме. В пример можно чбыло бы приве-
сти многие романы Жорж Санд й Золя.
303
Типы-исключения могут принадлежать к любому со-
словию и классу, но, пожалуй, наиболее характерны для
века демократические герои, ничем как будто не замеча-
тельные, взятые из самых низших слоев общества. Мадам
Бовари в этом смысле совершенно подобна Жермини Ла-
серте, Фелисите, героине «Простого сердца», Фредерику
Моро, Этьеиу Лантье. Они замечательны тем, что не мо-
гут адаптироваться в своей среде. Флобер в первом наб-
роске «Мадам Бовари» обнаружил у своей героини ка-
кую-то нервную аномалию, которую затушевал в окон-
чательном тексте. Героиня «Простого сердца» сходит с
ума. Жермини Ласерте явно ненормальна, и болезнь ее
четко обозначена. Гонкуры утверждают, что их интере-
суют только аномалии. Здоровые люди в современном
обществе не представляют интереса. Это люди пустые,
лишенные мечты, стремления, глубины и неожиданно-
стей. В современном обществе, по мысли Гонкуров, нев-
роз— единственное, что осталось человеку от его перво-
родства, что отличает его от мещанина. Это еще одна
разновидность типа-исключения и типа-закономерности.
Меняется и роль главного героя.
В XVIII веке это был персонаж пассивный, хотя и
много действующий. Активная роль принадлежала внеш-
нему миру, вернее, всякого рода неожиданным событиям,
которые бросались на героя из-за каждого угла и вызы-
вали его физическую реакцию. Он действовал по прихоти
судьбы, скорее подчиняясь событиям, чем навязывая им
свою волю. Так определял роль героя в романе и Гёте,
который воспользовался этой схемой для своего «романа
воспитания», включив в него замысел, принадлежащий
не самому герою, а группе находящихся за кулисами ре-
жиссеров.
В XIX веке герой стал активен, — таким, каким в
XVIII веке он мог быть только в трагедии. Он вступает
в борьбу, увлеченный идеей, преследуя цели иногда дале-
ко не личного характера. Он является центром событий,
и ему принадлежит ведущая роль. Роман, как правило,
называется именем героя.
Когда (приключенческий роман потерял свою власть
над умами читателей, внимание" с приключения перешло
на персонажей и, вместе с тем, на среду. По мере того
как герой приобретал большое общественное содержание,
вокруг него и с его помощью развивалось сложное дейст-
304
вие — иначе eto характер, его смысл не был оы разра-
ботан до конца. Если психологический роман накануне
романтизма стремился к созданию выразительных, более
или менее Неподвижных портретов, вроде «Рене» Шато-
бриана или «Обермана» Сенанкура, то роман послеваль-
терскоттовекого периода должен был характеризовать
героя динамикой общества и потому вовлекать его в дей-
ствие. Так вновь развивается в романе XIX века дина-
мизм внешнего мира, и (Персонаж глубже, теснее и непре-
рывнее, в борьбе или в контакте связывается с окружаю-
щим его обществом.
Вместе с тем, все писатели, создававшие тип романа
XIX века, говорили о том, что их интересует не столько
действие, сколько анализ, психология, исследование лю-
дей и общества. Стендаль, Жорж Санд и Бальзак, утвер-
ждая это, писали романы, полные событий и действия.
Флобер отказался от анализа в прямом смысле этого
слова и перешел к «движению вещей». Нечто подобное
происходило у Гюго, у Гонкуров, у Золя. Не противоре-
чие ли это между теорией и практикой, мировоззрением и
творчеством или, может быть, между содержанием и
формой?
Все дело в том, какой смысл вкладывается в те или
иные слова, что значит то или иное понятие в системе ху-
дожественной мысли данного писателя или целой эпохи.
«Анализ» или психологическое исследование может поль-
зоваться различными средствами: медленным описанием
процессов, происходящих в сознании, ограничиваясь
узким кругом близлежащих впечатлений, или реги-
страцией реакции этого сознания на широкие впечатле-
ния общественной жизни и проблемы, стоящие перед стра-
ной или человечеством. Для писателей XIX века.второй
метод анализа был, пожалуй, более важным и более глу-
боким. Контакты со средой заключались для них не в
быстрой смене внешних ситуаций, но в связи сознания
(или подсознания) с жизнью большой среды.
В «Сен-Маре» Виньи или «Соборе Парижской богома-
тери» Гюго среда фигурировала иначе, чем в «Красном
и черном» Стендаля или в «Кузене Понсе»- Бальзака.
В «Воспитании чувств» среда и контакты с ней были
иные, чем в «Мадам Бовари» или в «Жермини Ласерте».
То же можно сказать о «Радости жизни» или «Странице
Любви», с одной стороны, и «Жерминале» — с другой. Ко-
305
количество событий, наполняющих тот или иной роман, не
играет решающей роли, имеет значение функция, какую
они в романе выполняют. Задачи, им порученные, - ана-
лиз современного сознания в связи с сознанием и жизнью
общества, и это основная задача литературы .полного со-
бытий и революций, живущего бурной идейной жизнью
века. Вот -почему, вместе с углублением анализа, в рома-
не развивается внутренний динамизм, не всегда совпада-
ющий с нагромождением внешних событий.
5
В XVIII веке роман был «свободным», т. е, не регла-
ментированным жанром. Критическая мысль почти цели-
ком была занята трагедией и отчасти эпопеей. В XIX веке
роман стал ведущим, во всяком случае, основным лите-
ратурным жанром, и эстетические теории строились пре-
имущественно с перспективой на -повествовательную про-
зу крупных размеров.
Эстетика в XIX веке получила особое значение, и каж-
дый романист высказывал свое художественное кредо в
статьях, письмах, «предисловиях или в самом тексте своих
романов. Но характер всех этих размышлений был непо-
хож на рассуждения классиков. В них почти совершенно
отсутствовал технический аспект* и особенно догматизм,
свойственный XVIII веку. Освободившись от классиче-
ских требований и запретов, все писатели заговорили о
том, что наступила эпоха свободы, что форма исчезает
вместе с деспотией правительств и сословий. Раздавались
и голоса, указывавшие на другую опасность: небрежно-
сти, непродуманности, нечеткости выражения мысли.
Были даже -попытки возвращения к традициям класси-
цизма, но это были спорадические, внушенные моментом
опасения. В XIX веке, при всем внимании к проблемам
творчества, красной нитью проходит борьба с технициз-
мом, с догматами формы. Форма как понятие, отличное
от содержания, перестает существовать, либо утрачивает/
свое былое значение. Именно это случилось в эстетике
Флобера, так много старавшегося над адекватным выра-
жением мысли в искусстве.
Остро ощущалась в искусстве «боязнь «шаблона». Тор-
жество тех или иных «правил», «техники», «привычки»
казалось одной из серьезных опасностей для искусства,
306
т. è; Для художественной правды, В конце 20-х годов вы-
звал раздражение «шаблон» исторического романа
начале 30-х—«шаблон» романтической драмы. Символик-
ческая повесть рызвала сопротивление уже во второй
полойпне Зб-х годов, эстетика «неистового» ройаиа была
осмеяна и отброшена к началу 40-х. Вместе с тем, дра-
матическая композиция^ стремившаяся к господству в
20—30-е годы и широко распространившаяся в романе
первой половины века, постепенно утрачивала свой преж-
ний ригоризм, а драматизм принимал другие формы, ме-
нее связанные с композицией.
Крепко сколоченная, строго расчисленная, логически
ясная, хотя и широко ветвящаяся композиция, такая, ка-
кую* по аналогии с историческим романом создал Баль-
заков его же творчестве размывалась «принципом кауза-
лизации, желанием все объяснить и все обосновать, и,
вместе с тем, рассматривать роман и заключенную в нем
драму не как некое единичное или исключительное явле-
ние, неожиданно обнаружившееся в действительности, а
как ее сущность и норму, как обычное, постоянное ее
свойство. Драматизмом исполнена вся «Человеческая ко-
медия», но драматическая композиция в ней постепенно
сходит на нет. Жорж Санд она никогда не казалась обя-
зательной, и в этом отношении эстетика Жорж Санд
была более свободна, чем эстетика Бальзака, отча-
сти потому, что она не прошла школы исторического ро-
мана и воспиталась в эпоху неистовства и всеобщего от-
рицания как общественного, так и эстетического. Флобер,
начав с довольно драматической композиции «Мадам Бо-
вари», закончил намеренно лишенной всякого драматиз-
ма композицией «Воспитания чувств». Для Гонкуров дра-
матизм композиции был противопоказан,— их роман был
историей души, находящейся в постоянных поисках,, и
случайные драматические окончания вызывали осторож-
ную критику Золя, Продолжая общую тенденцию, Золя
энергично протестовал .против драматизма, противопо-
ставляя ей свой протокол эксперимента. Тем не менее и
в его романах, как бы они ни были «протокольные встре-
чались драмы, взрывы и катастрофы, потому что прото-
кол должен заканчиваться и теорема должна быть дока-
зана выводом.
Объективное, научное изложение, в исторических
романах выражавшееся в изобилии диалогов, т. е, в макси-
307
мальной отчужденности автора от своих героев, и в опи-
саниях, имевших тот же смысл, получило свое выраже-
ние у Бальзака преимущественно в описаниях, поражав-
ших современных читателей не только своим качеством,
но и местом, которое они занимали в романе. Диалогов
было меньше,— они часто (превращались в монологи, при
помощи которых было удобно высказать свое собствен-
ное мнение. У Жорж Санд вновь восторжествовало по-
вествование, — автор проникал в душу своего героя, рас-
сказывая то, что невозможно было показать в действии,
и создавая ту форму объективного психологического ро-
мана, которая «искренним реалистам», Флоберу и Золя
казалась «личной». У Флобера как средство объектива-
ции сюжета появляется, наряду с обильными описания-
ми, несобственная прямая речь, в выражениях несвойст-
венных, даже невозможных для его героини; затем несоб-
ственная прямая речь исчезает почти совершенно,
неточное, импрессионистическое описание приобретает
чрезвычайное развитие, диалоги остаются только для
характеристики политических и нравственных взгля-
дов, а функции психологического анализа передают-
ся «потоку вещей». Золя, продолжая Флобера,
часто строил романы в основном на несобственной
прямой речи, все более приближая ее к персона-
жу, пользуясь его словами и синтаксисом и пре-
небрегая приличиями. У Гонкуров, живописцев по самой
природе их таланта, господствует тонко разработанная,
замедленная, глубоко прочувствованная импрессионисти-
ческая живопись. Все больше уходит из романа господст-
вующая страсть и все больше работает в нем физиология,
понятая как 'психология подсознательного, обогащая пер-
сонаж, своеобразно демократизируя его, укрепляя его
связи с бытом, со средой, с обществом.
6
«Никто в одиночку не делает революций, но бывают,
особенно в искусстве, такие революции, которые челове-
чество совершает, само того не замечая, потому что в них
принимают участие все». Так писала Жорж Санд, имея в
виду свои крестьянские романы. То же можно было бы
сказать о великой революции, которая произошла во
французском романе XIX века. Ее совершил не один че-
ловек, не два и не три, но все писатели, которые действо-
308
вали под диктовку времени с помощью публицистов, кри-
тиков, ученых и читателей.
Французское общество XIX века развивалось в тяже-
лой борьбе с реакцией. Противоречия в идеологии отра-
жались и на литературе. Политические взгляды Бальза-
ка и Стендаля, Флобера и Жорж Санд, Гонкуров и Шан-
флери были очень несхожи, иногда несовместимы,
эстетические системы и художественное творчество раз-
лично направлены, и даже писатели, наиболее близкие
друг к другу, не могли принять целиком эстетику и про-
изведения своих друзей и соратников.
Несмотря на все это, литература «в своей совокупно-
сти двигалась в одном направлении, увлекаемая общим
движением эпохи. Проблемы, стоявшие перед обществом
и страной, подсказывали методы и решения и создавали
общий плацдарм и формы отражения действительности в
литературе. Как бы ни были несхожи взгляды и творчест-
во крупнейших романистов эпохи, все они создавали ис-
кусство, подчиненное общим законам, хотя и противоре-
чивое по своим индивидуальным и общественным тенден-
циям. Это и дает возможность говорить о едином в своих
противоречиях искусстве XIX века и противопоставлять
его другому единству и другим противоречиям искусства
XVIII и XX столетий.
Это трудноопределимое единство романа сопровожда-
лось постоянной борьбой, которая в глазах современни-
ков иногда заслоняла то общее, что связывало всех ро-
манистов нерасторжимыми узами общих задач, интересов
и исторических необходимостей. С векового отдаления
опоры между величайшими писателями эпохи, суждения
их друг о друге, такие суровые и часто несправедливые,
словно это были жители разных планет, могут показать-
ся каким-то недоразумением. Флобер, преклоняясь перед
Жорж Санд, раздражался, читая ее .произведения,
а Жорж Санд отказывалась принять его эстетику. Про-
тиворечия между Бальзаком и Жорж Санд, о которых
она сама говорит, кажутся невесомыми мелочами по срав-
нению с тем общим, что заставляло их обоих высоко друг
друга ценить. Шанфлери восхищался художественной
наивностью Бальзака, который был наименее наивным из
романистов эпохи. Советы Бальзака Стендалю, которого
он так высоко ценил, могут привести в удивление. То, что
Золя говорил о своих предшественниках, похоже на за-
309
блуждение и неблагодарность, а похвалы в адрес журна-
ла «Реализм» кажутся простой любезностью преуспева-
ющего писателя "к давно забытым неудачникам.
И все же, несмотря на это, существовала тесная пре-
емственность и взаимодействие между всеми этими пи-
сателями, которое заключалось в учении и несогласии од-
новременно. Непонимание было средством утверждения
собственных точек зрения, в чем-то расходившихся со
взглядами предшественника, современника или ученика.
Непонятные для нас восторги вызваны естественным пе-
реосмыслением творчества одного писателя в соанании
другого/ Эти разногласия и контакты мало изучены и
трудно поддаются изучению — несомненно только то, что
каждый романист оценивал другого в той мере, в какой
это чужое творчество помогало ему осознать свои собст-
венные потребности или открывало еще не знакомые, но
важные для него горизонты. И эта традиция, заключаю-
щаяся в учении и в борьбе, также была исторической за-
кономерностью, неизбежной для того времени формой
наследования и развития.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
В в е д е н и е 3
Глава I. Исторический роман 20-х годов 9
Глава II. Стендаль , 33
Глава III. «Неистовая литература». 64
Глава IV. Бальзак 76
Глава V. Жорж Санд 114
Глава VI. «Искренний реализм». Шанфлери . . ..... . 147
Глава VII. Флобер ..... 171
Глава VIII. Гонкуры 215
Глава IX. Золя 247
Заключение 291
Борис Георгиевич Реизов
Французский роман XIX века
Редактор А. Б. Гуськова
Издательский редактор 3. И. Кулейкина
Художник В. Б. Торгашев
Художественный .редактор С. Г. Абелин
Технический редактор Е. И. Герасимова
Корректор Е. К. Штурм
А-04994 Сдано в набор 17/IV 1969 г.
Подп. к печати 3/IX 1969 г. Формат 84Х1081/32
Объем 9,75 печ. л. 16,38 усл. п. л. Уч.-изд. л. 16,26
Изд. № РЛ-21/67 Тираж 5000 экз. Цена 84 коп.
БЗ — 34/22 от 15 мая 1969 г.
Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14,
Издательство «Высшая школа»
Московская типография № 8 Главполиграфпрома
Комитета по печати лри Совете Министров СССР,
Хохловский пер., 7. Зак. 3836.