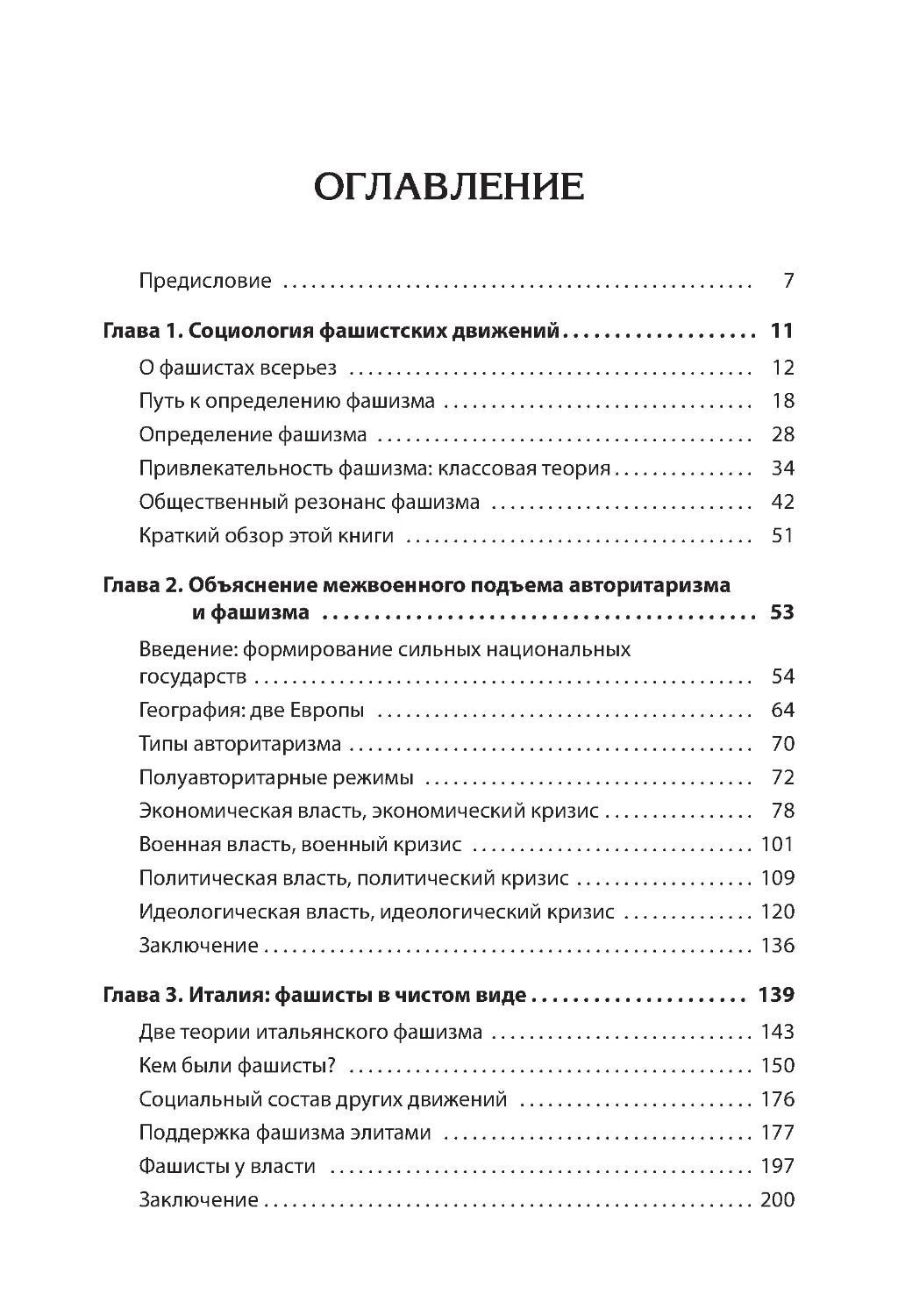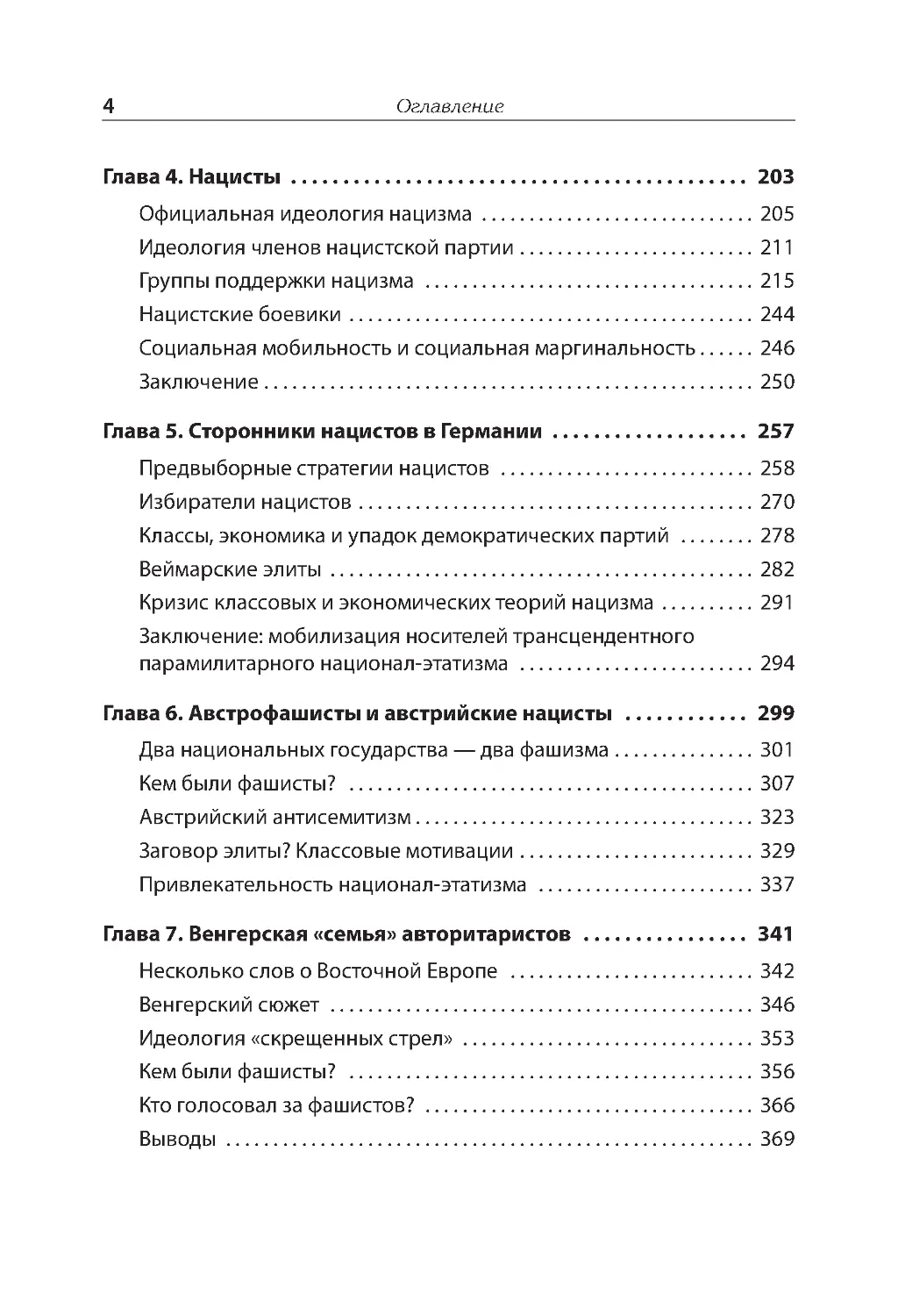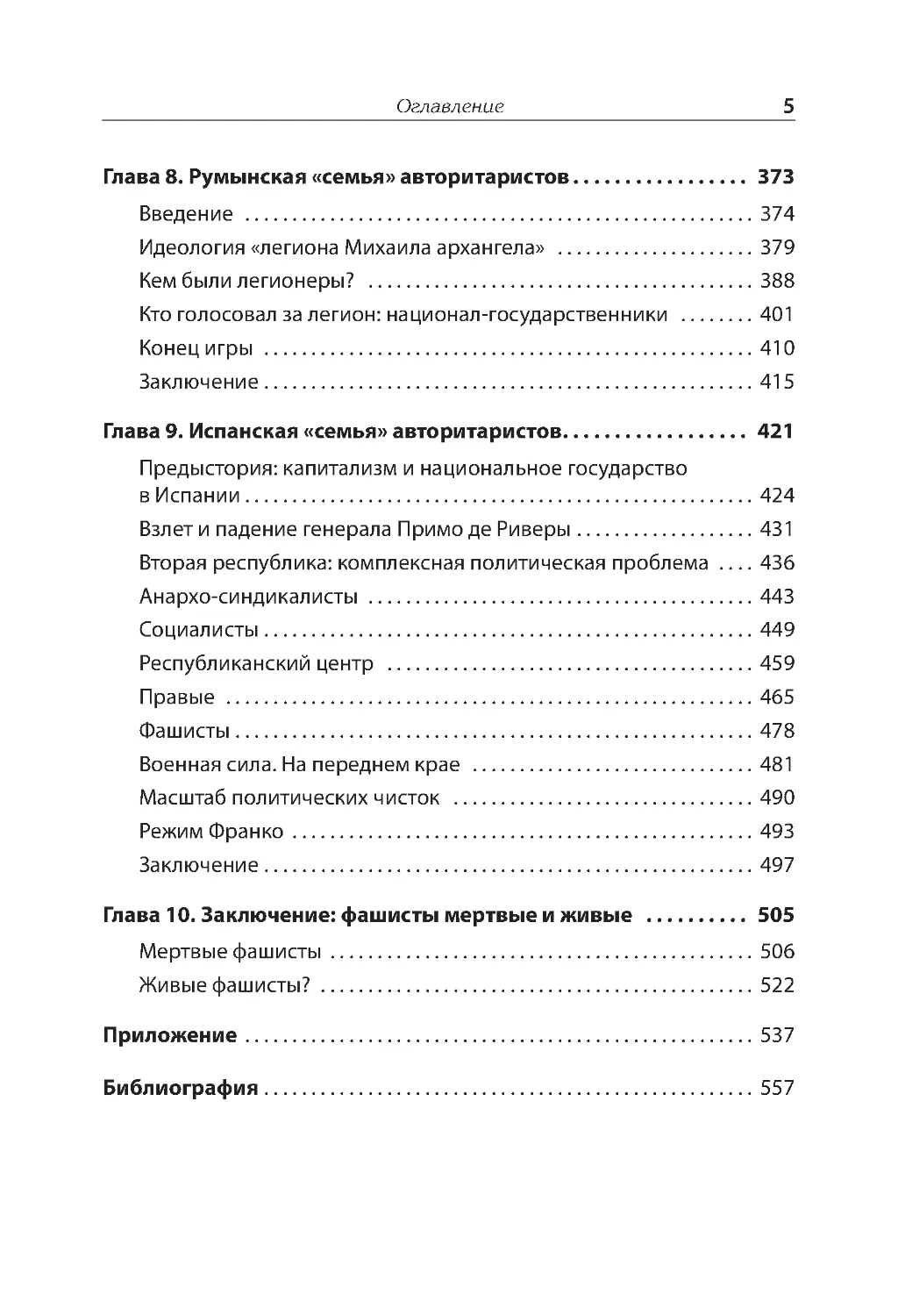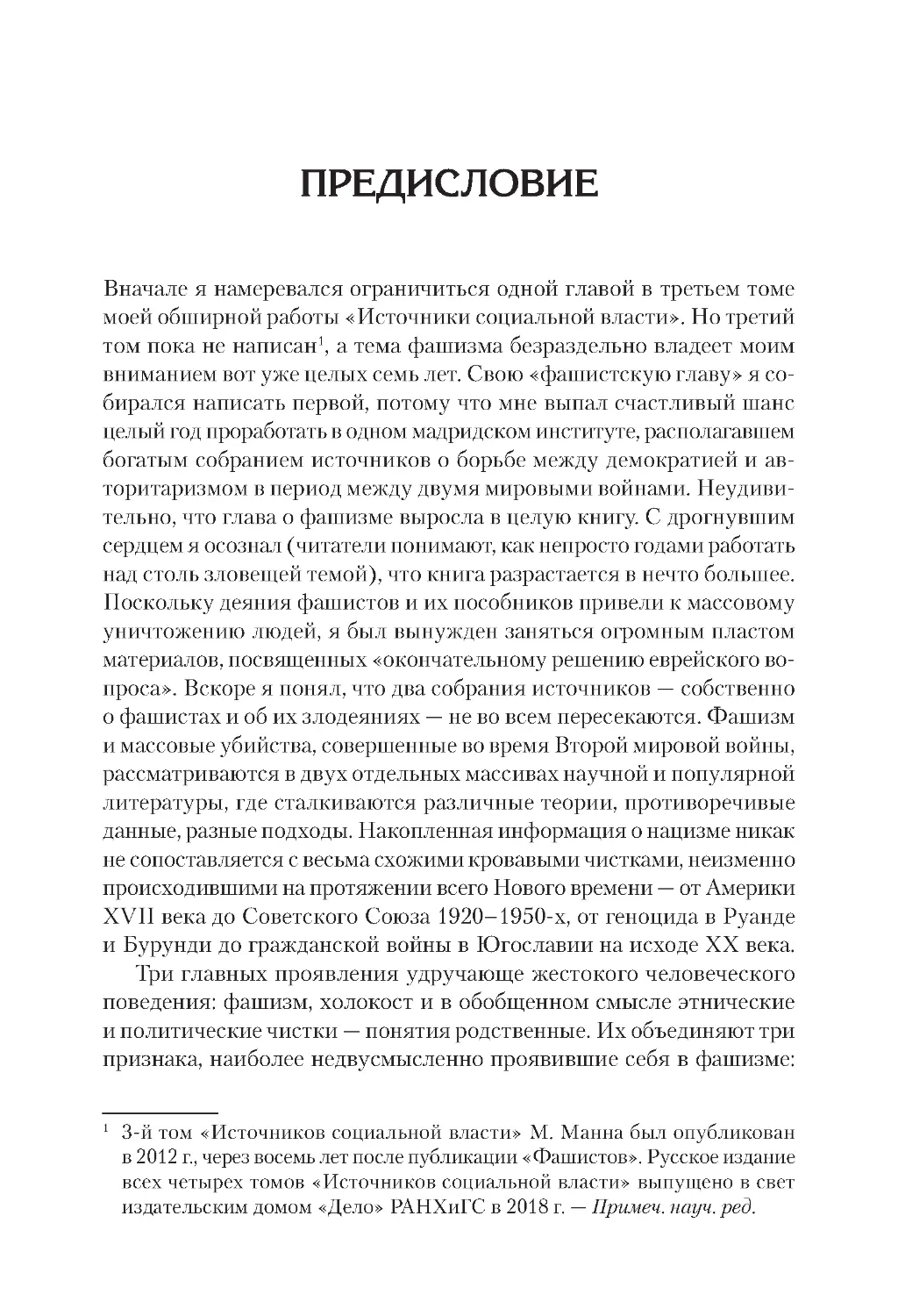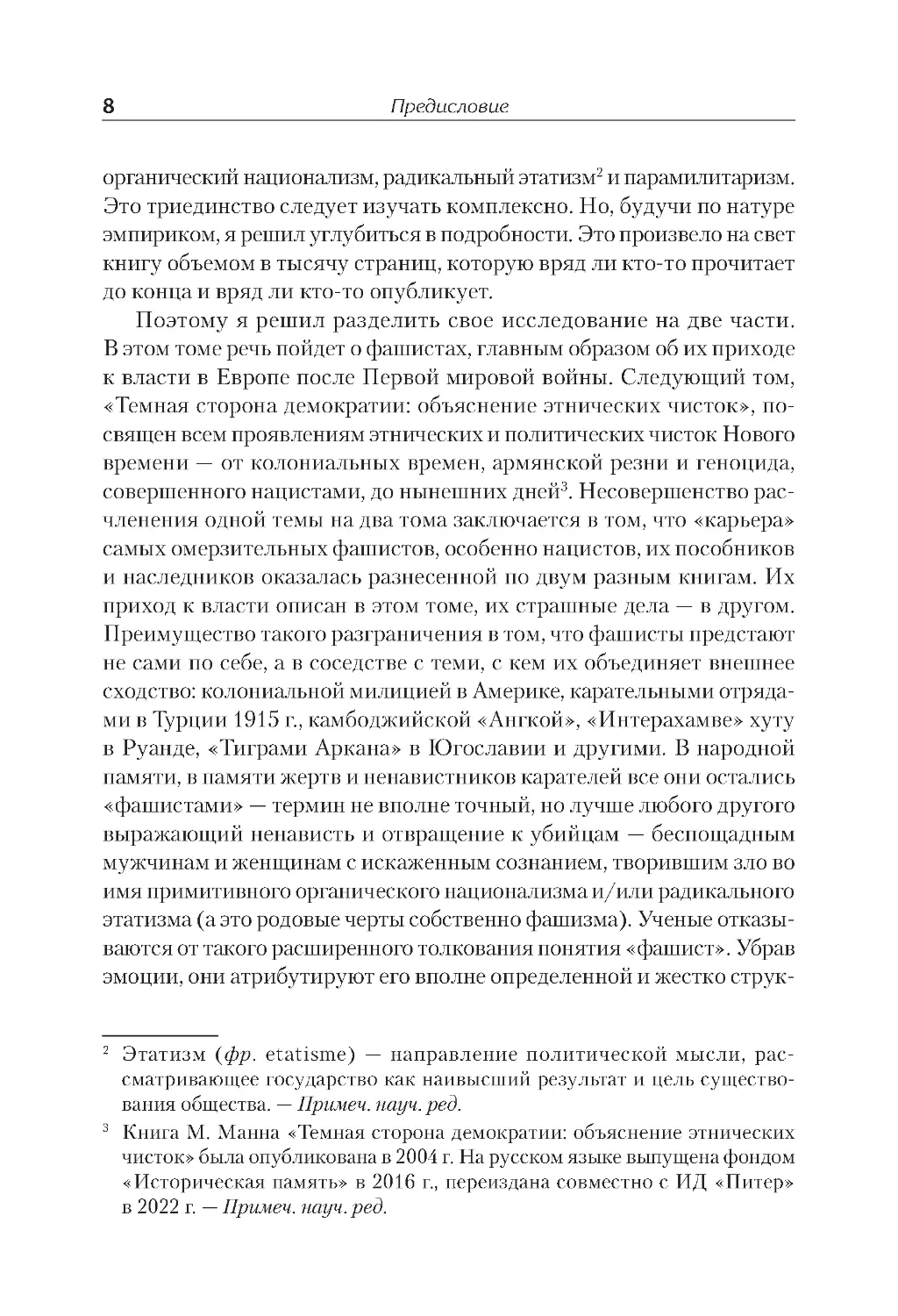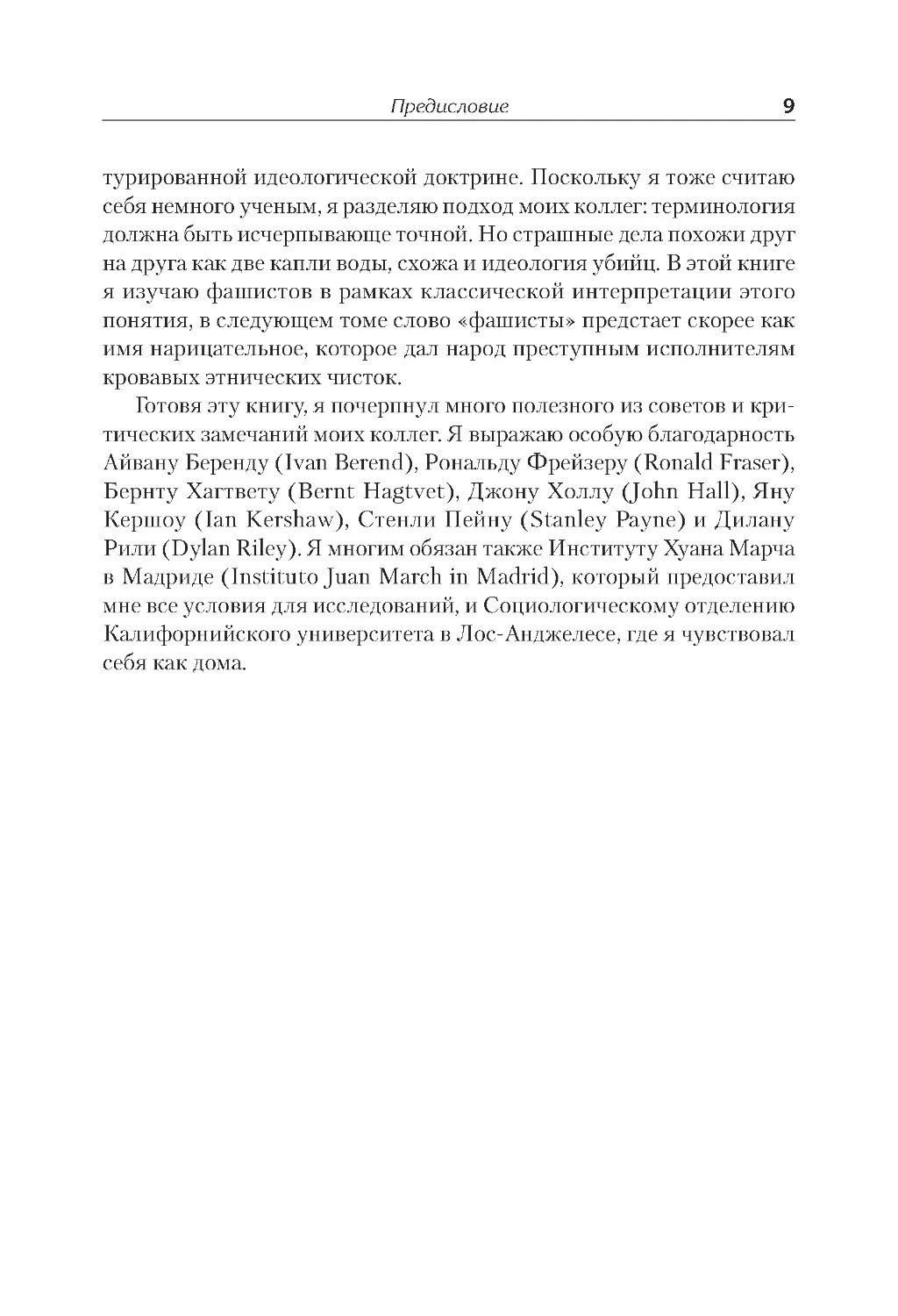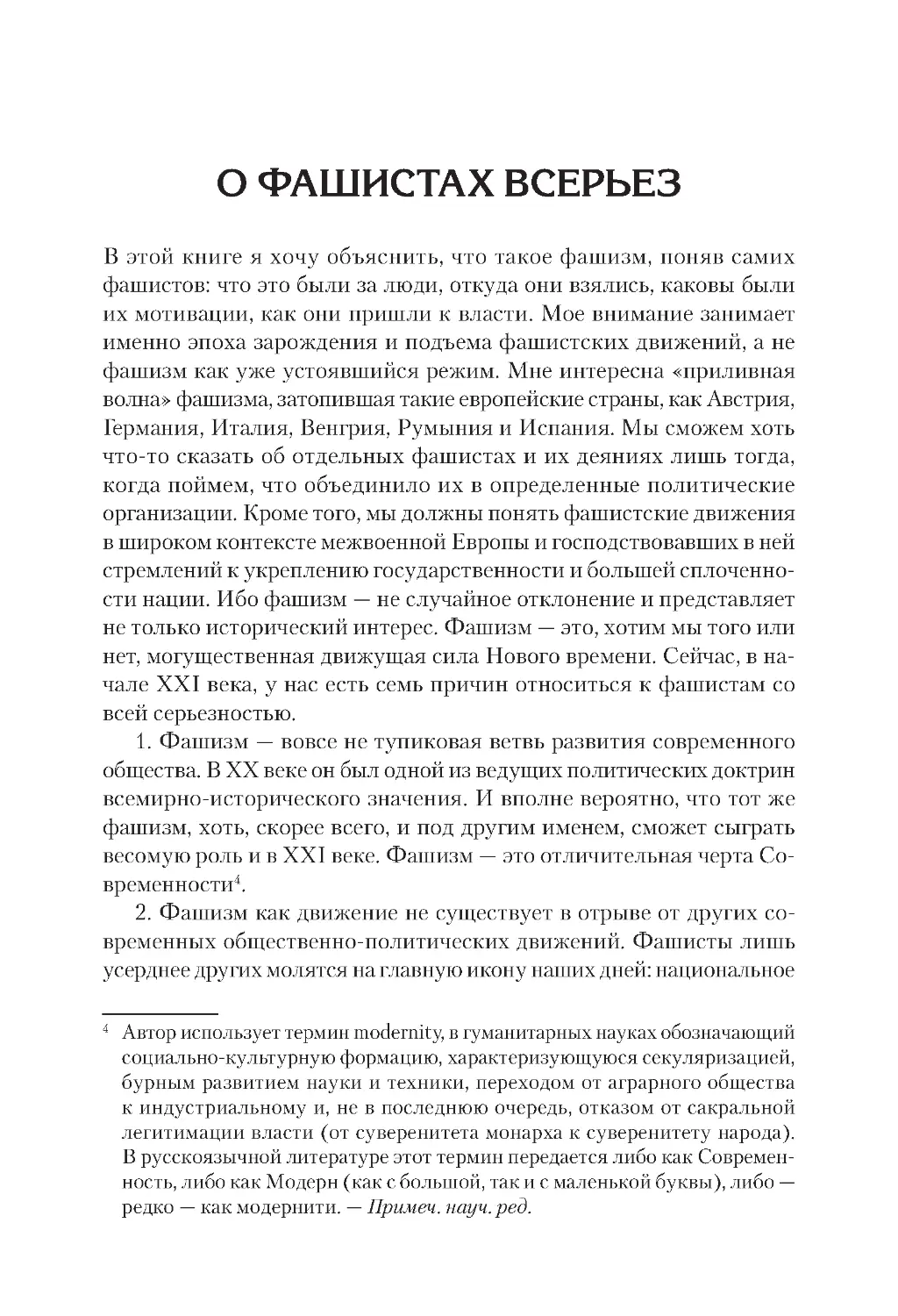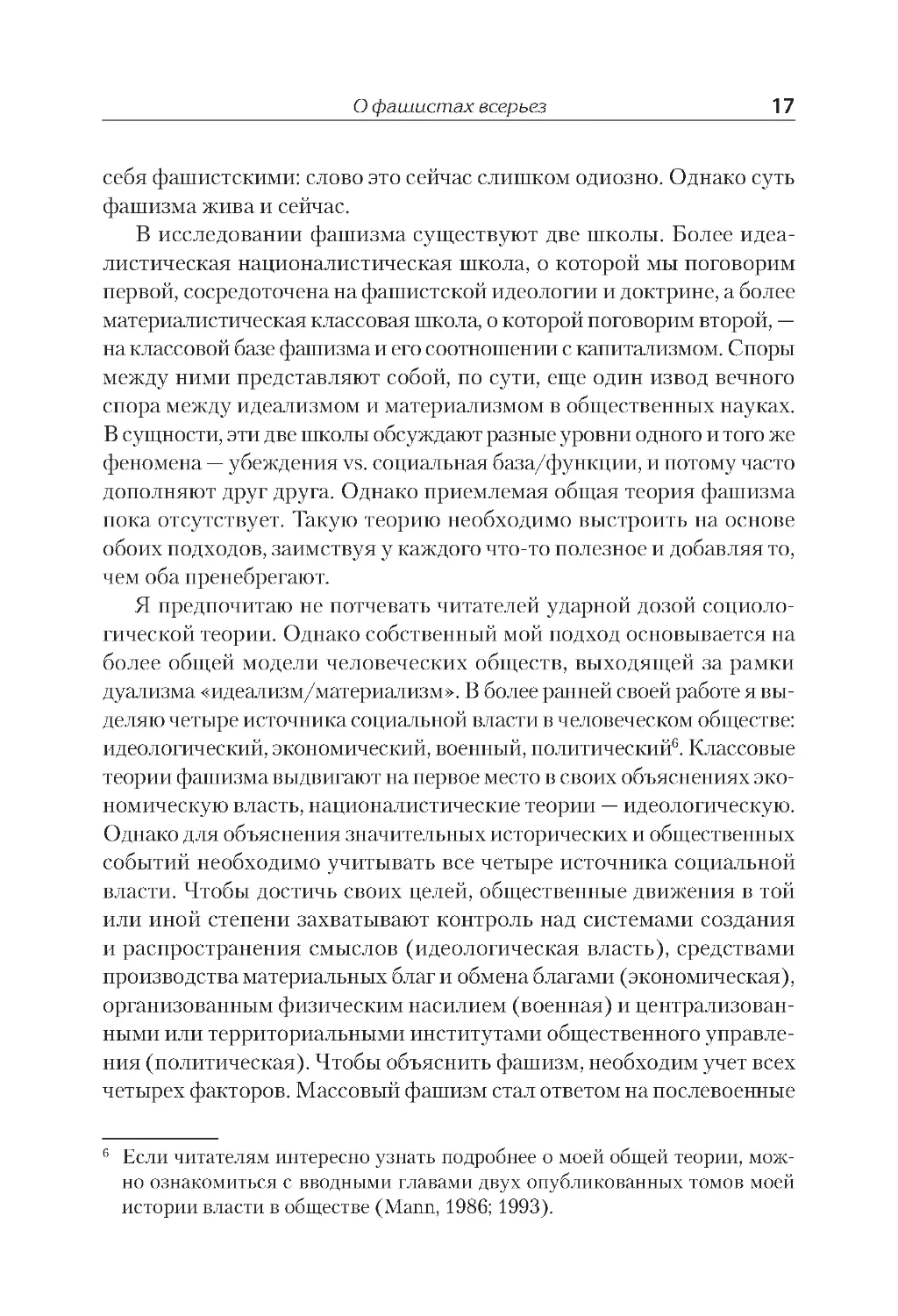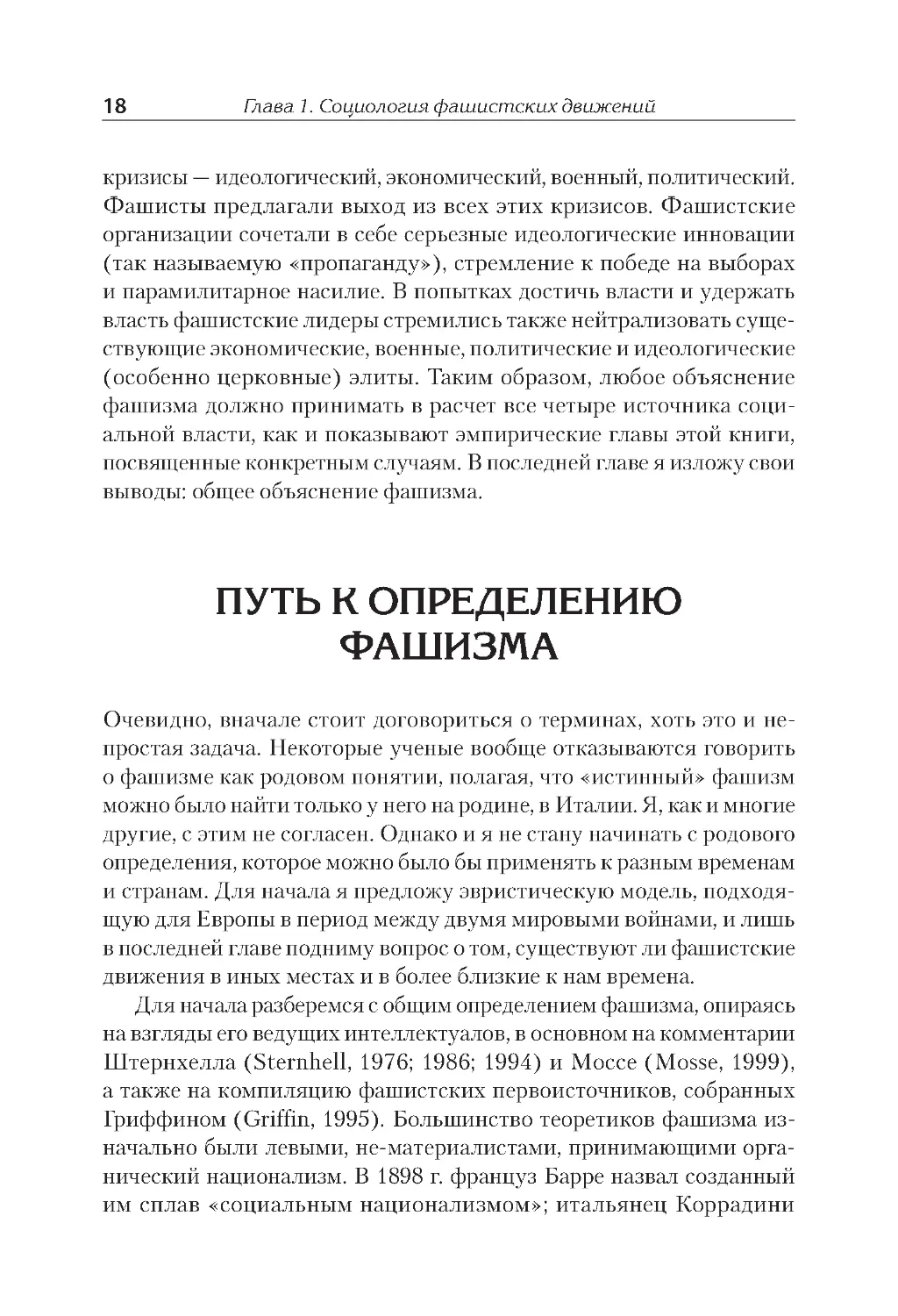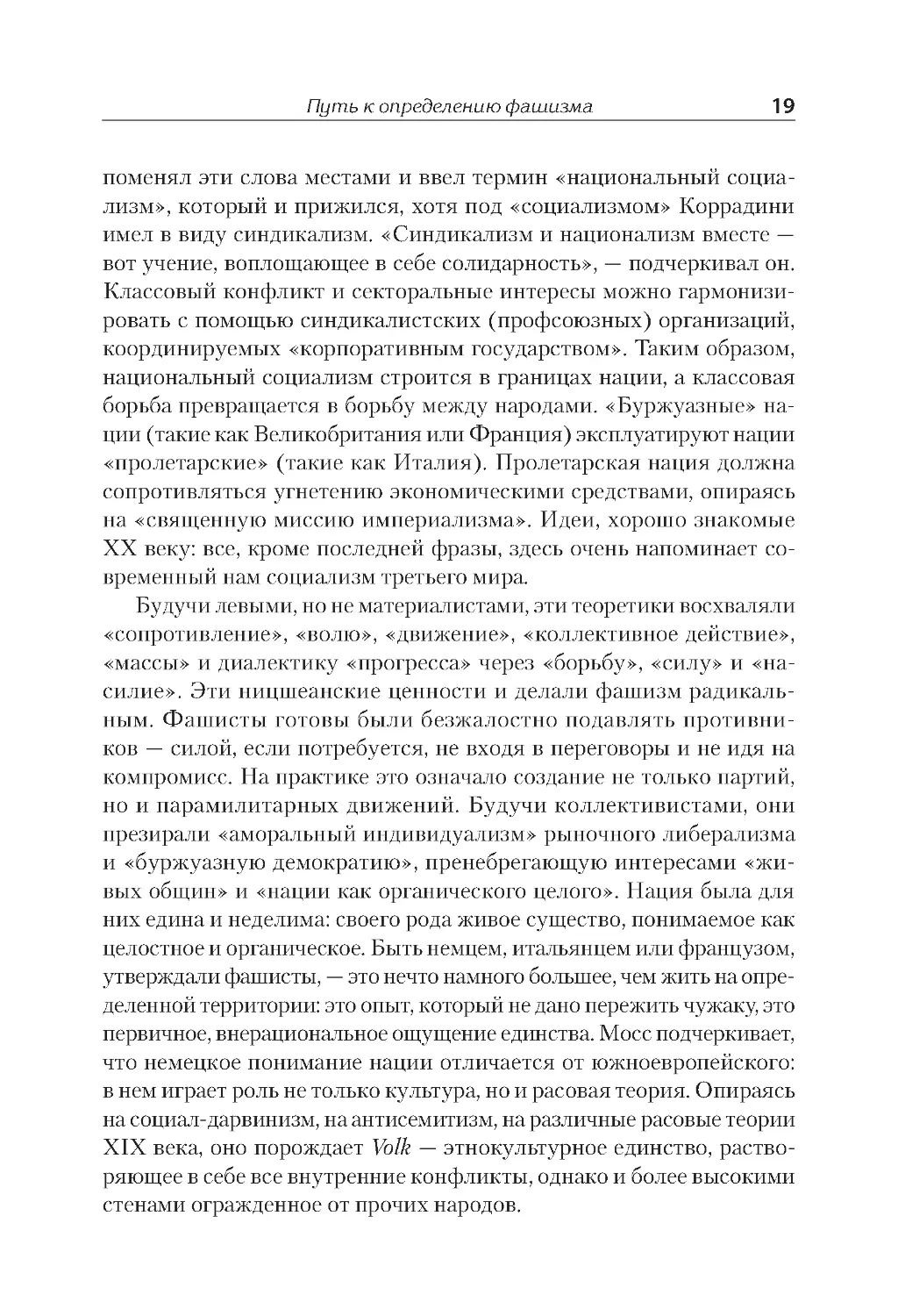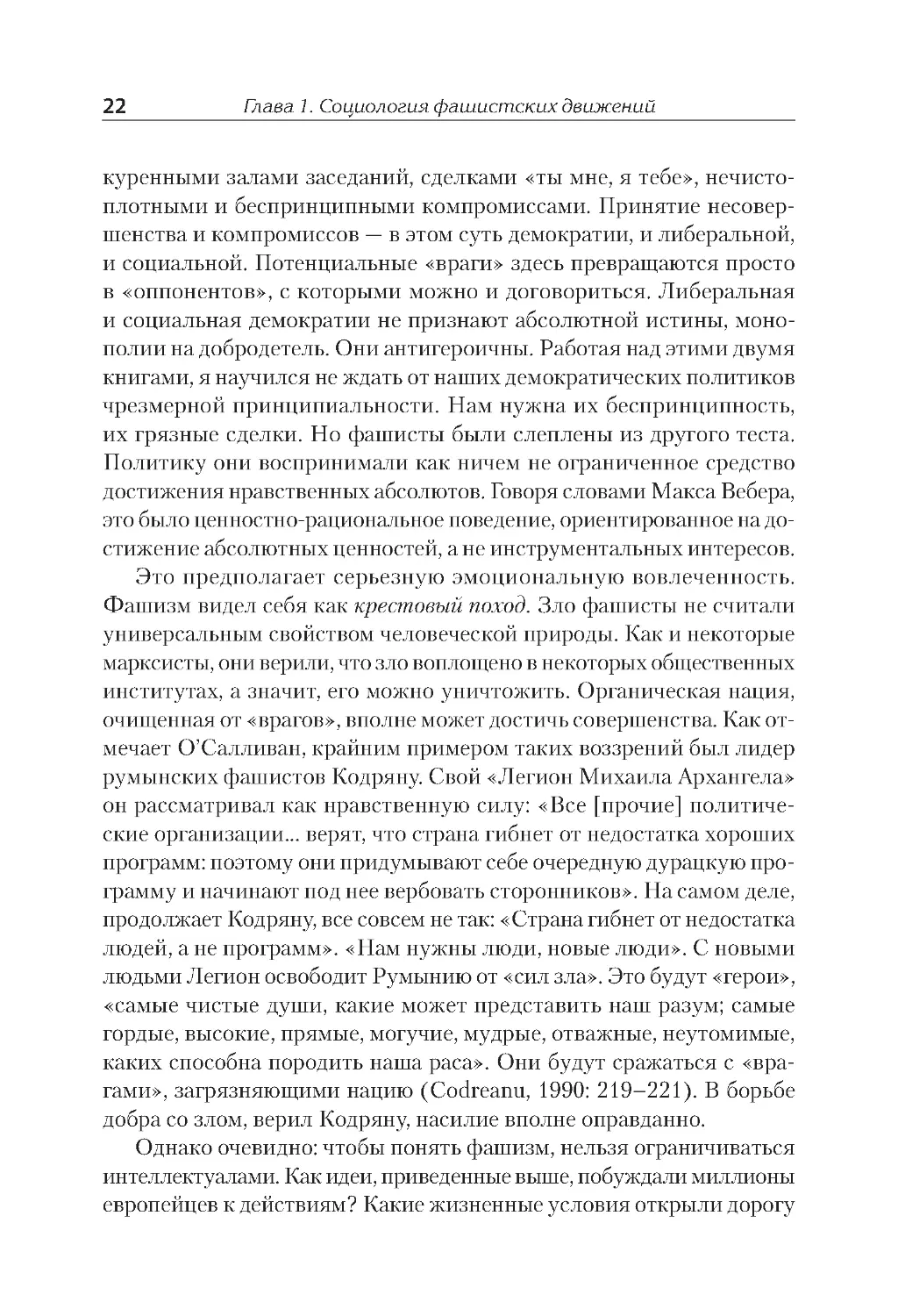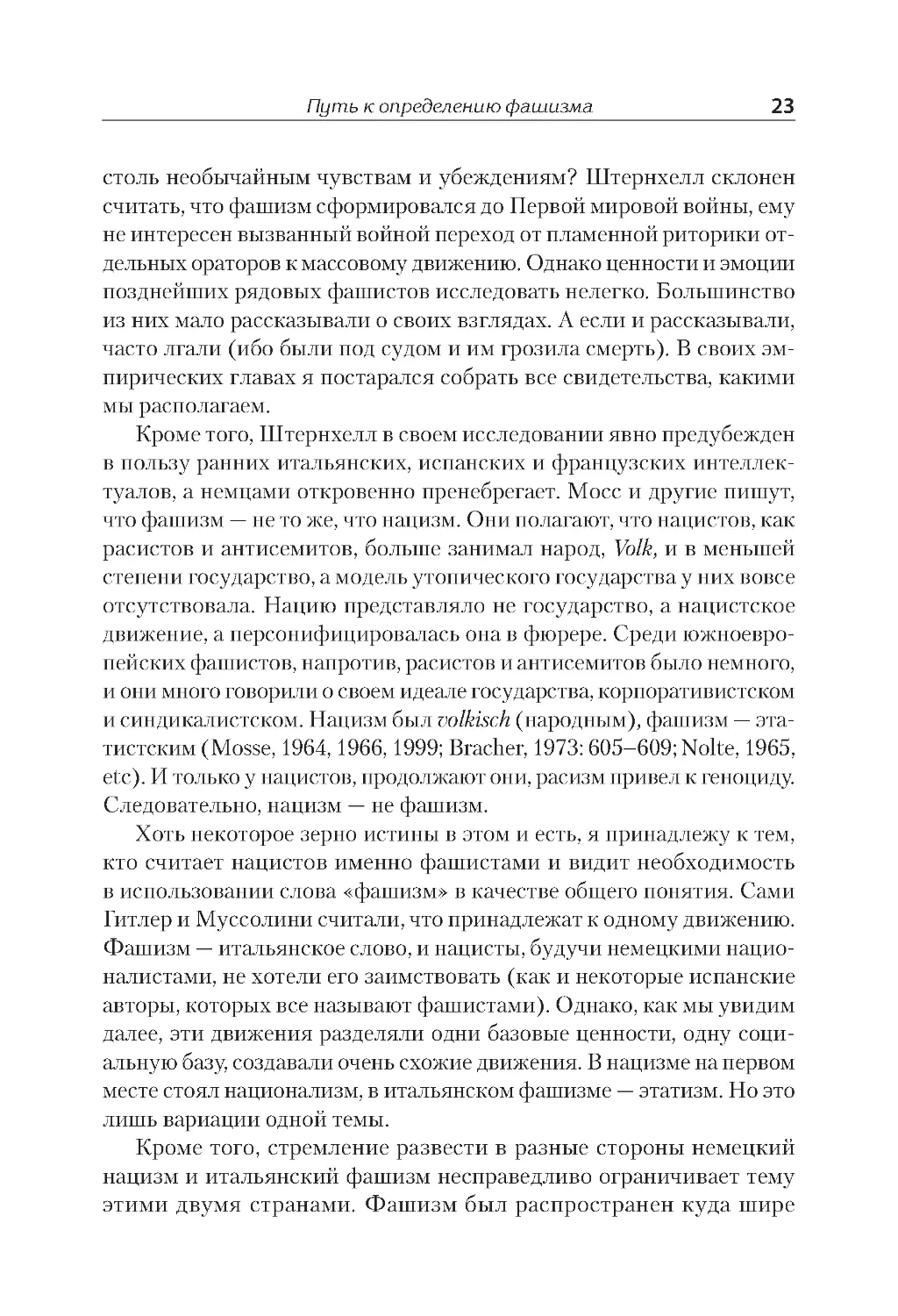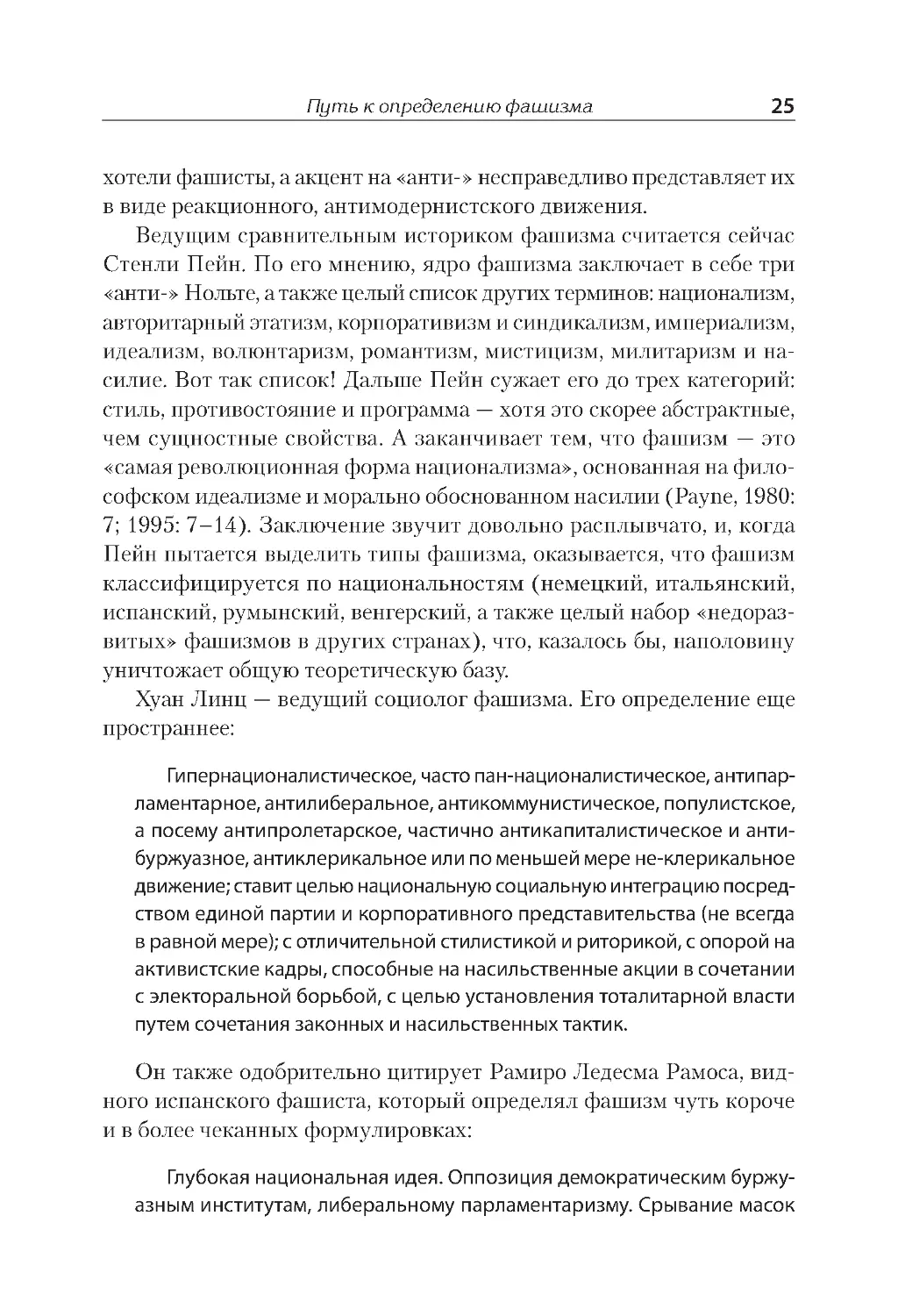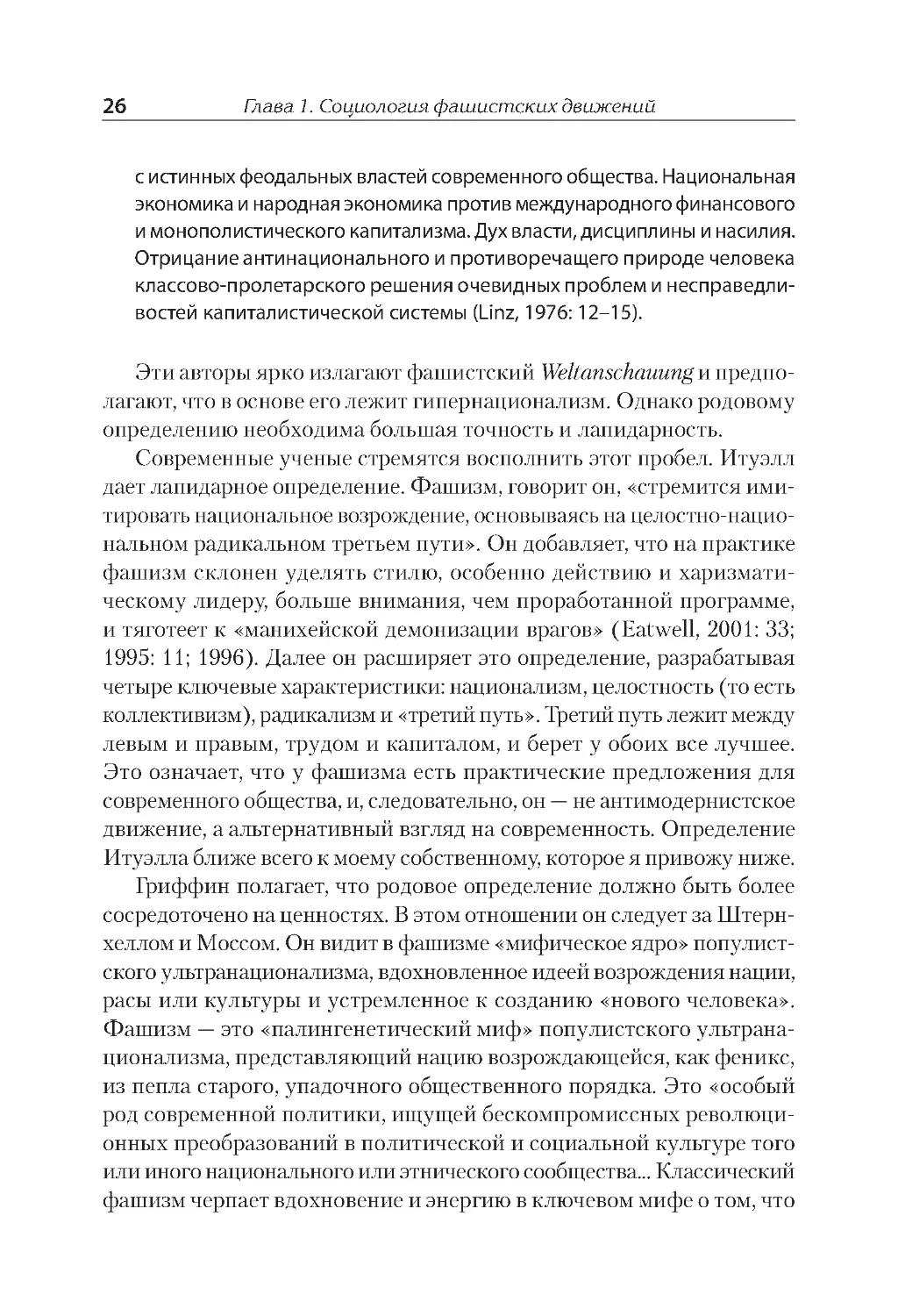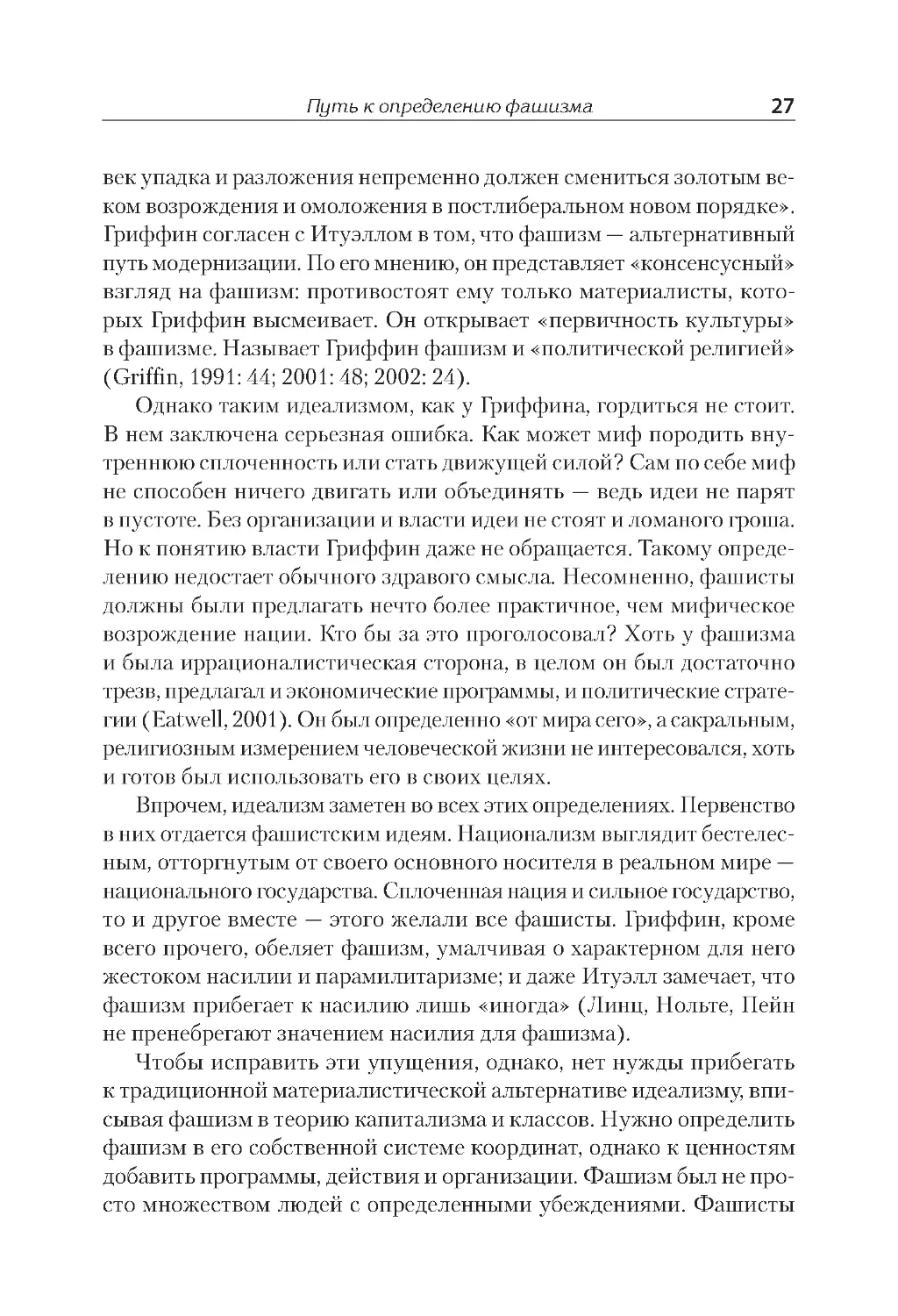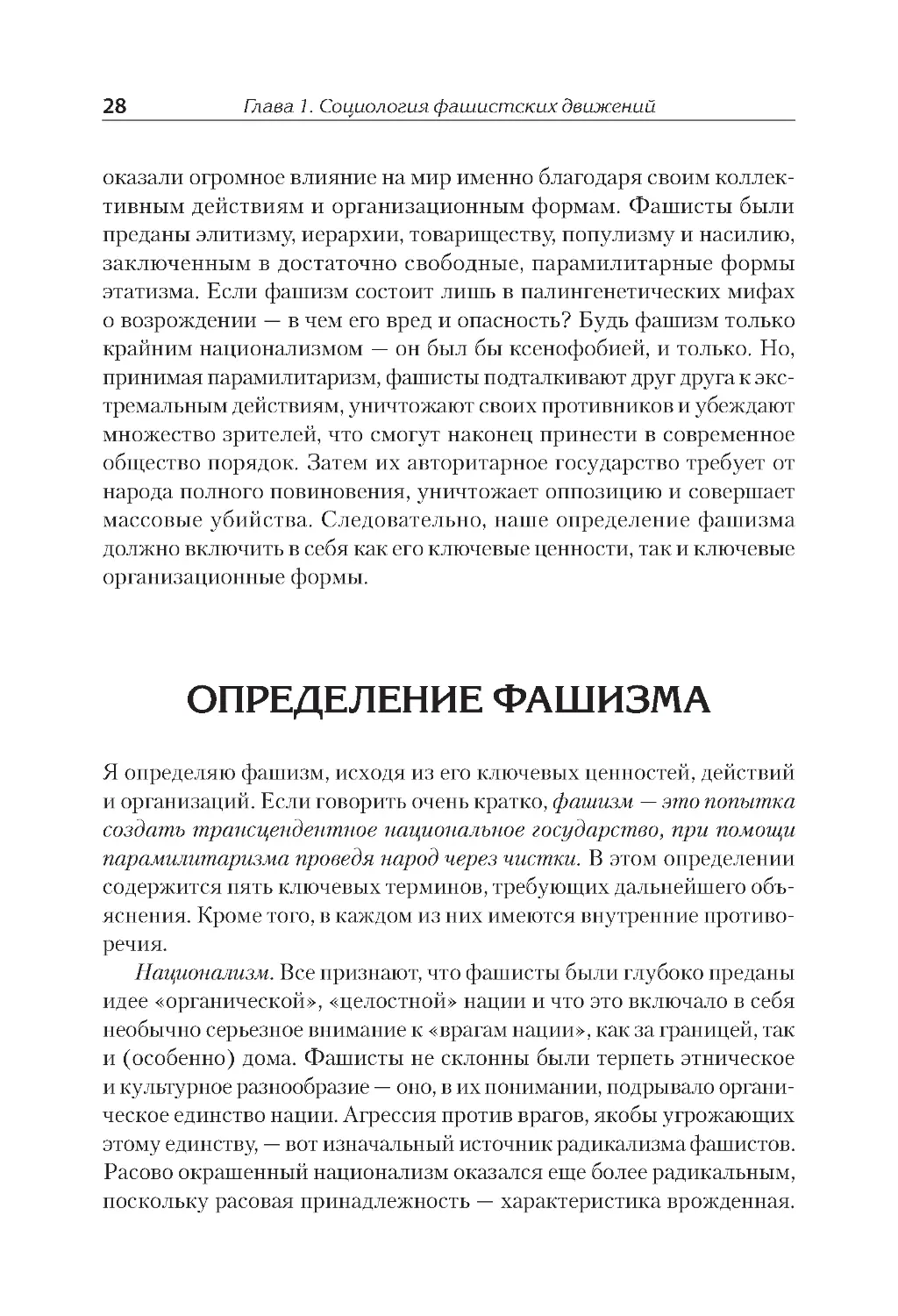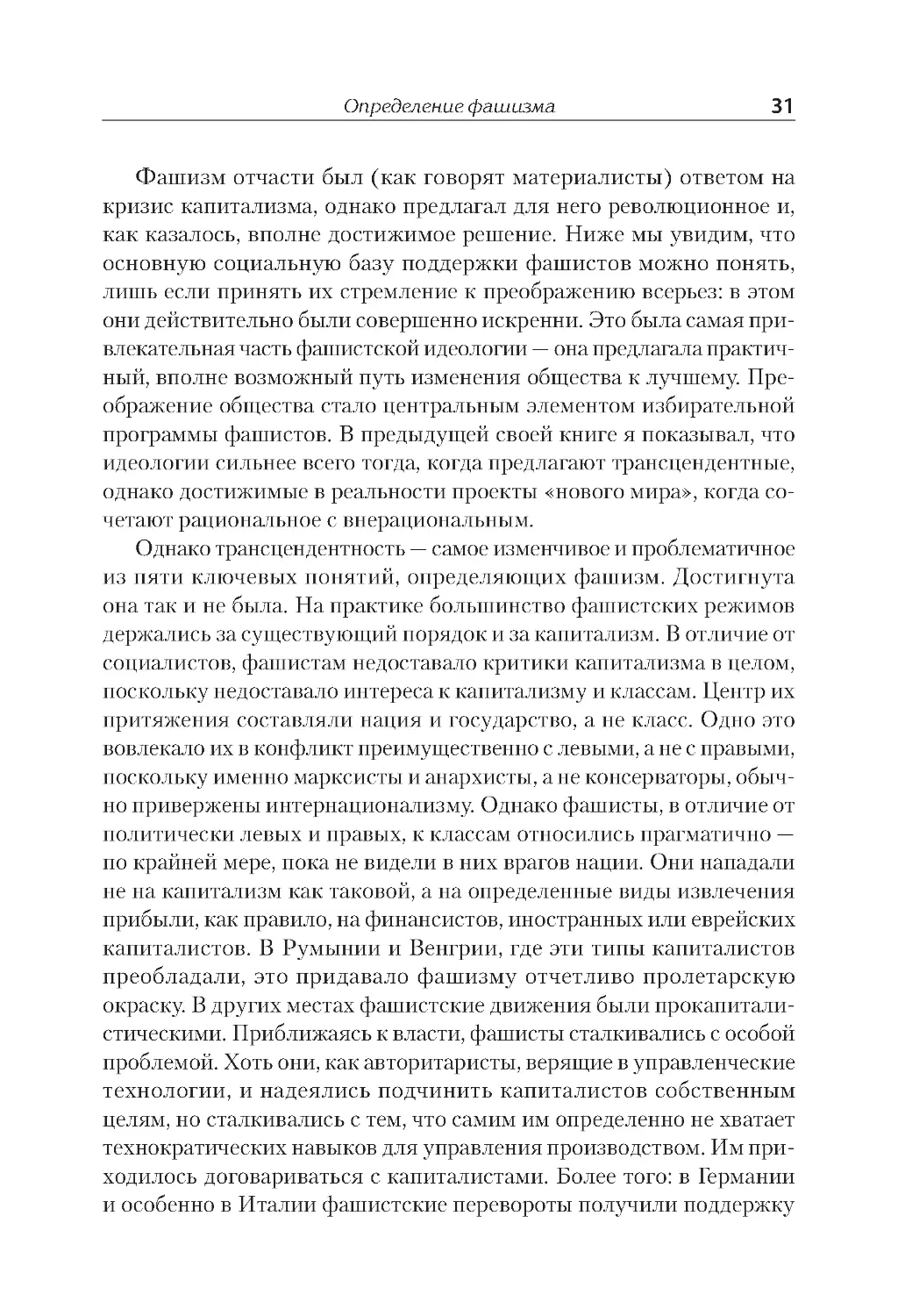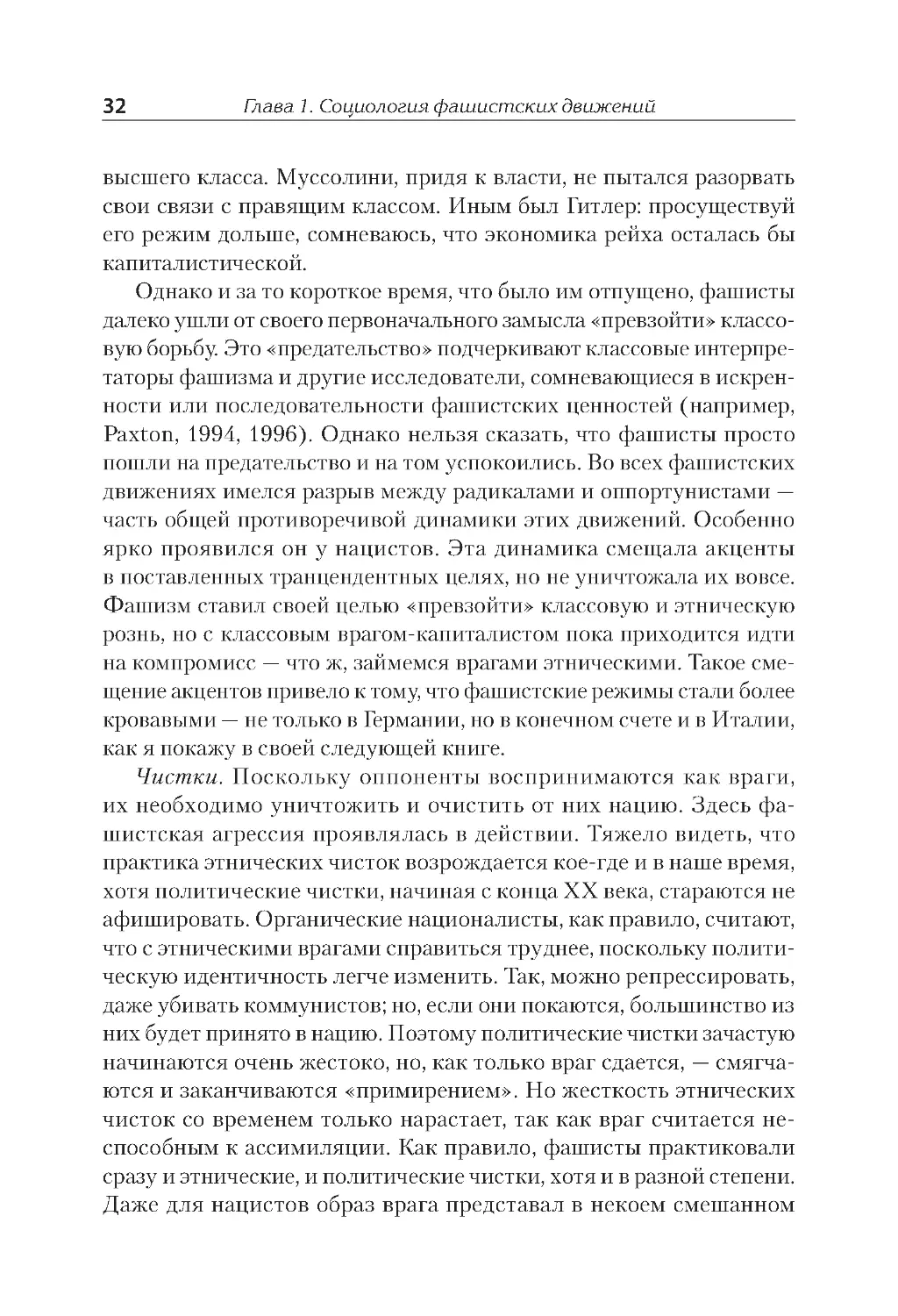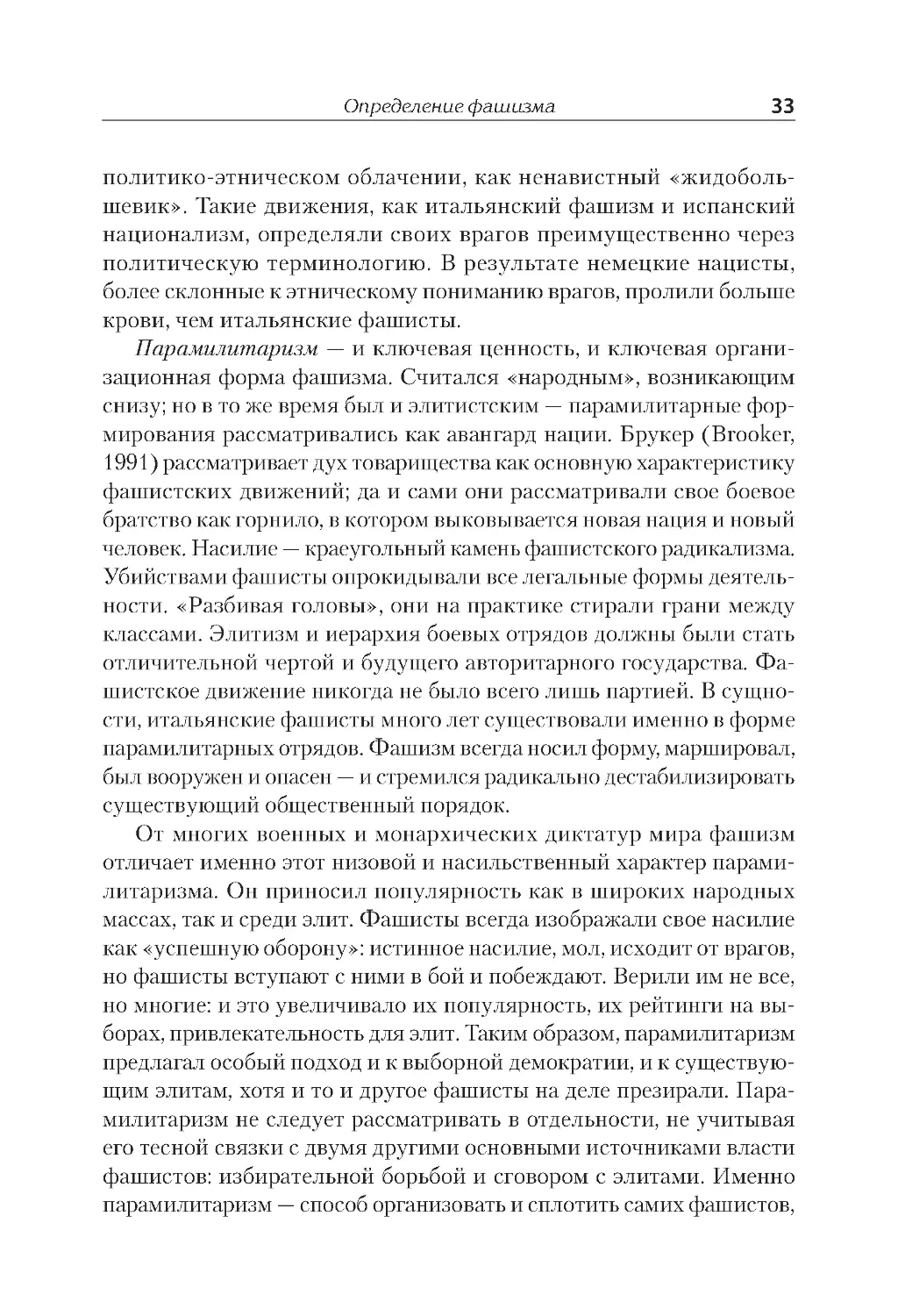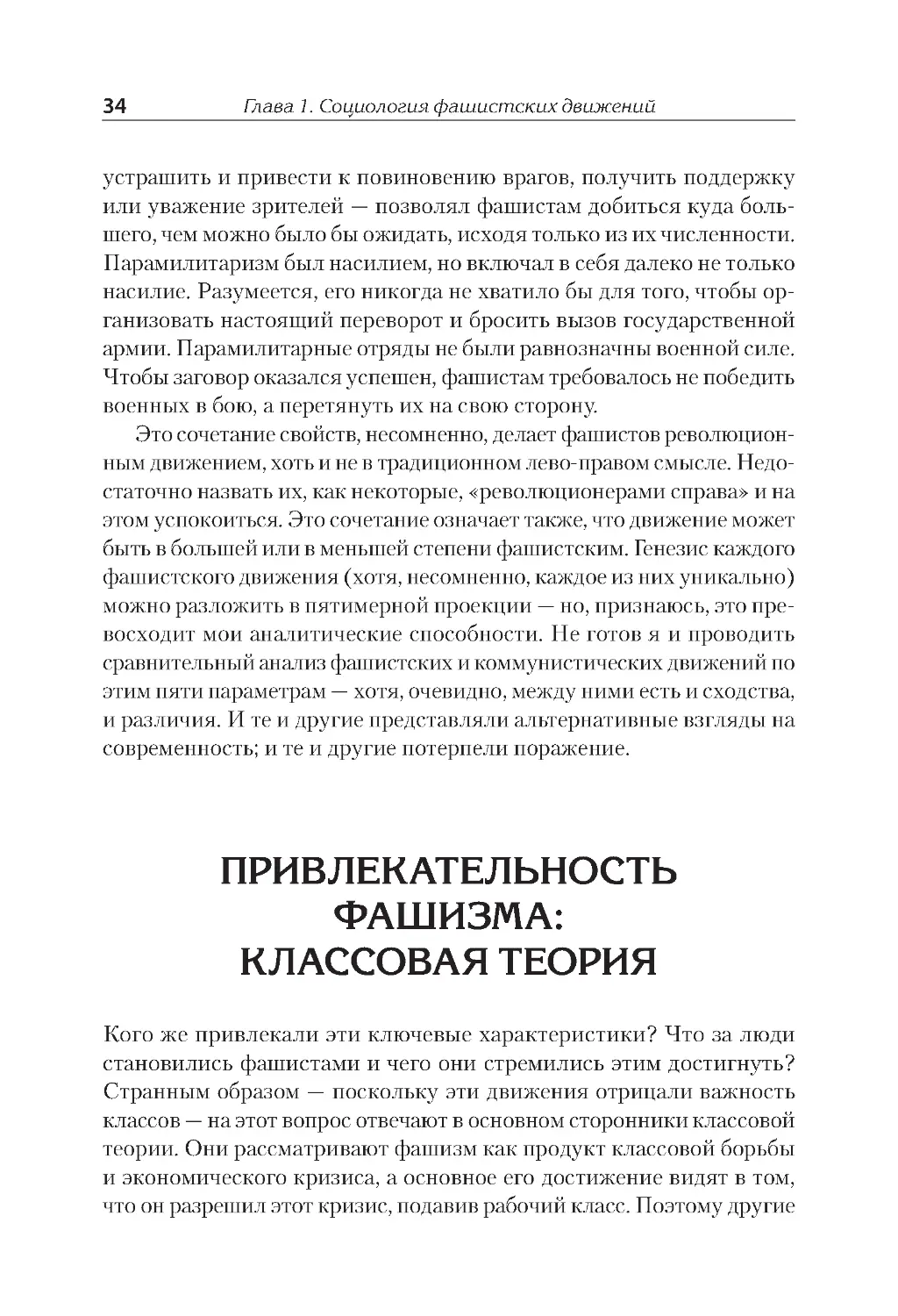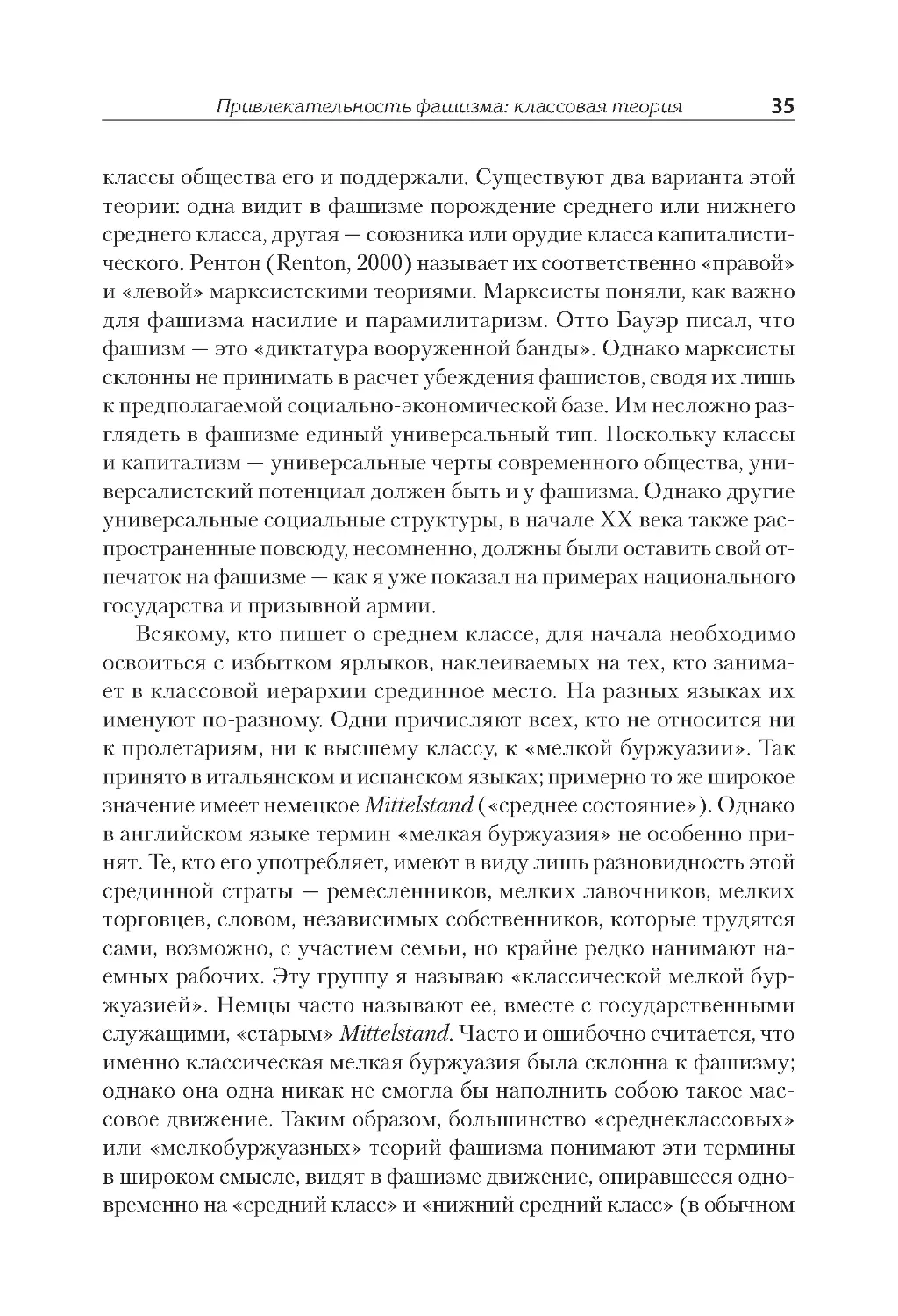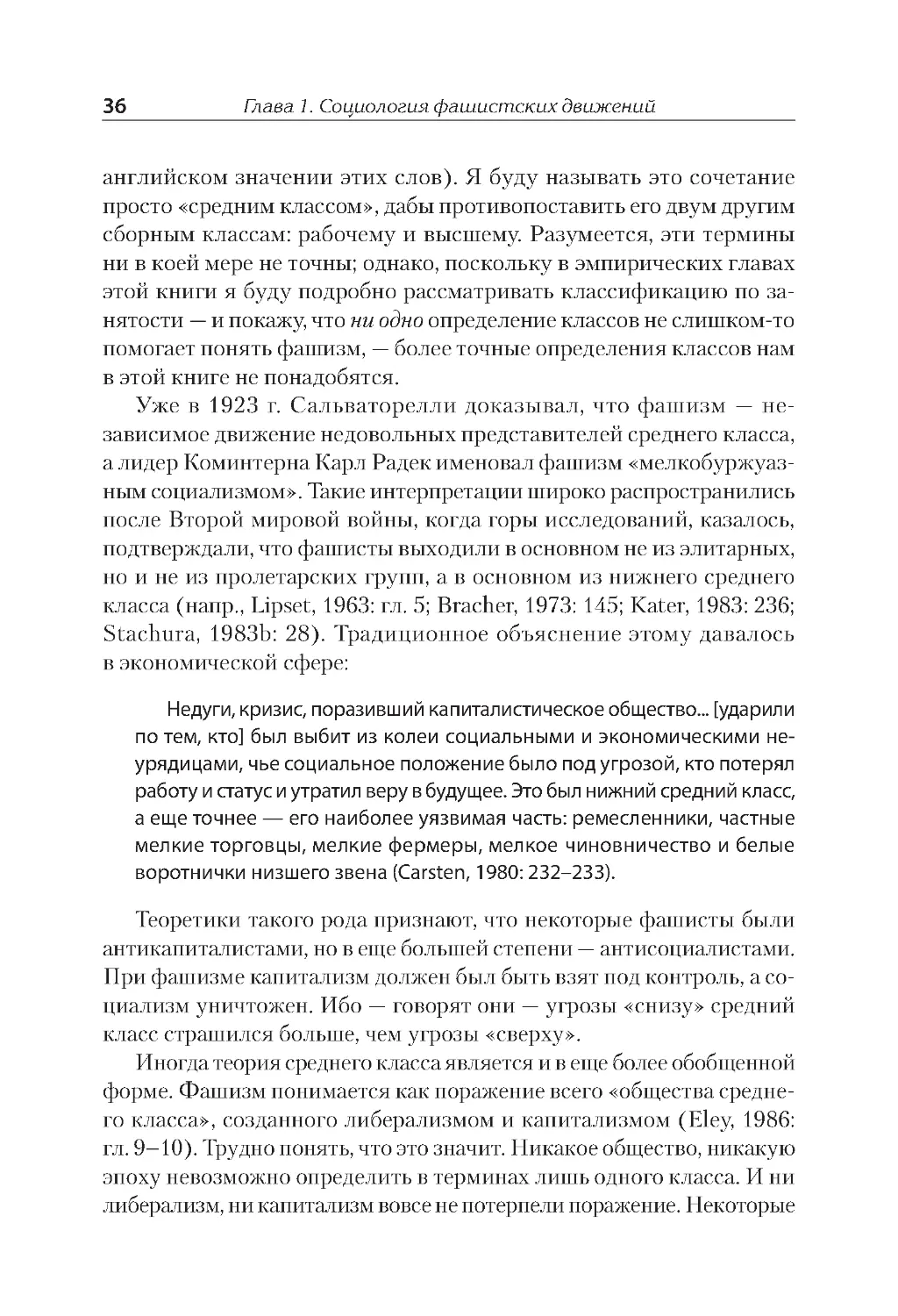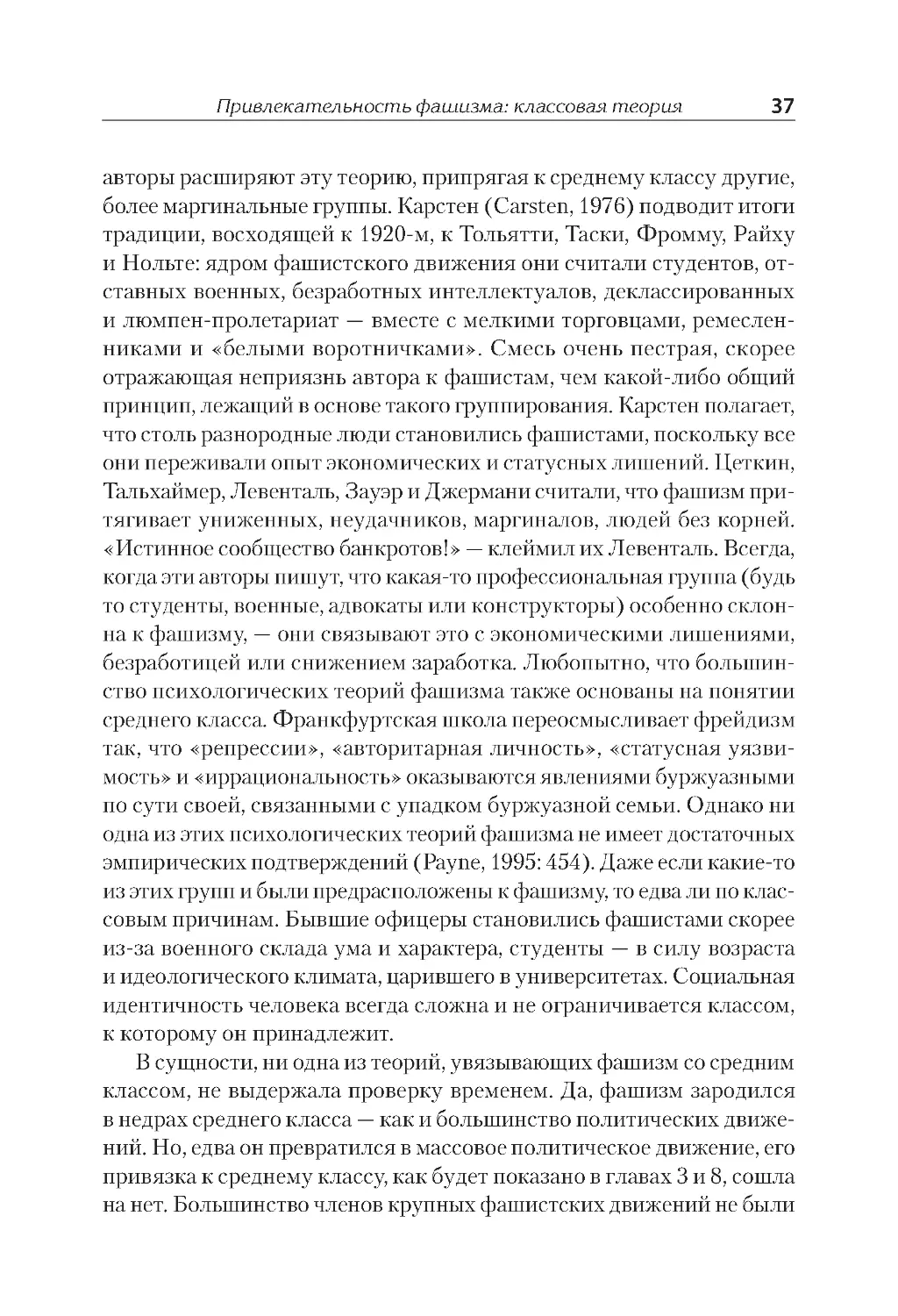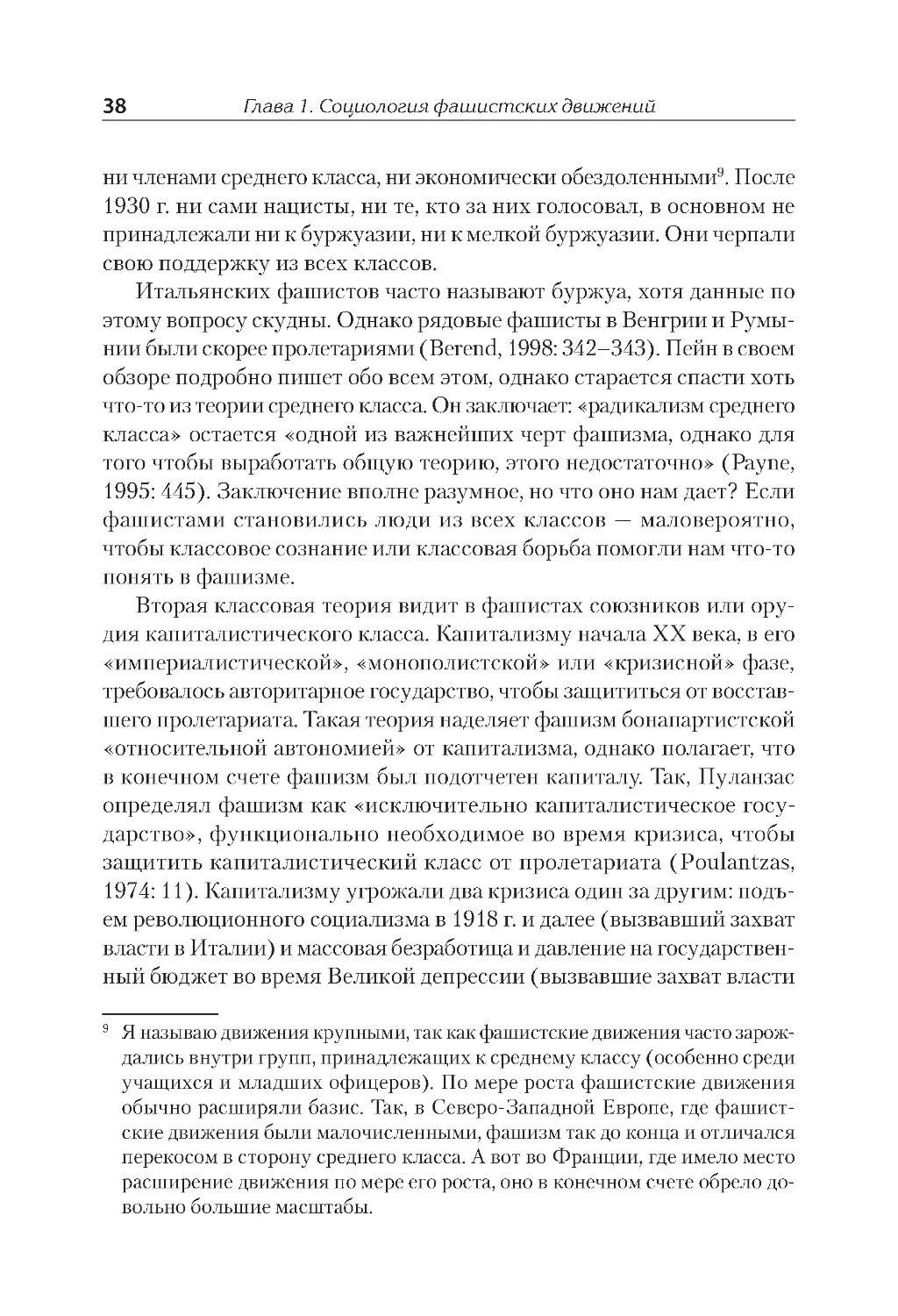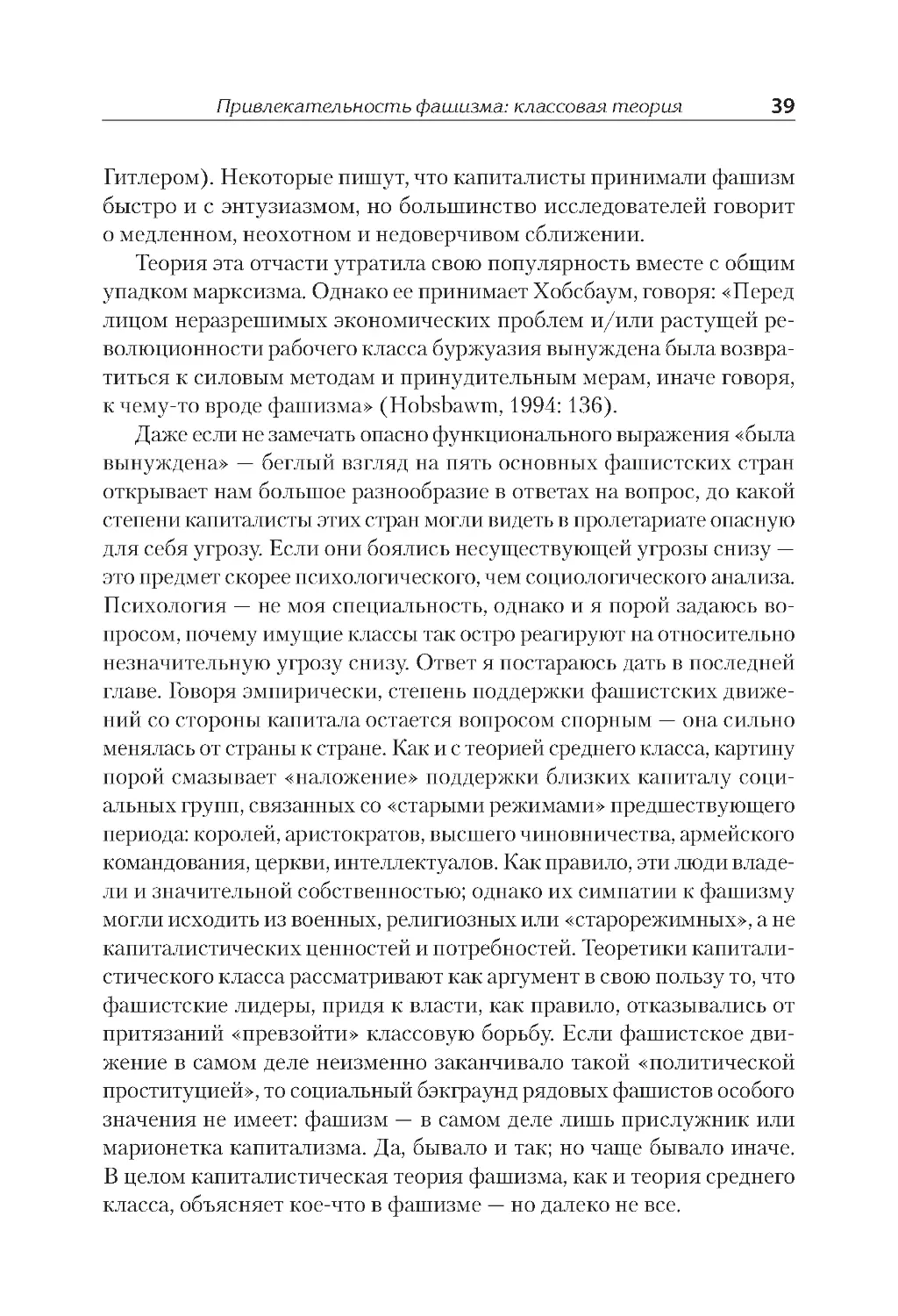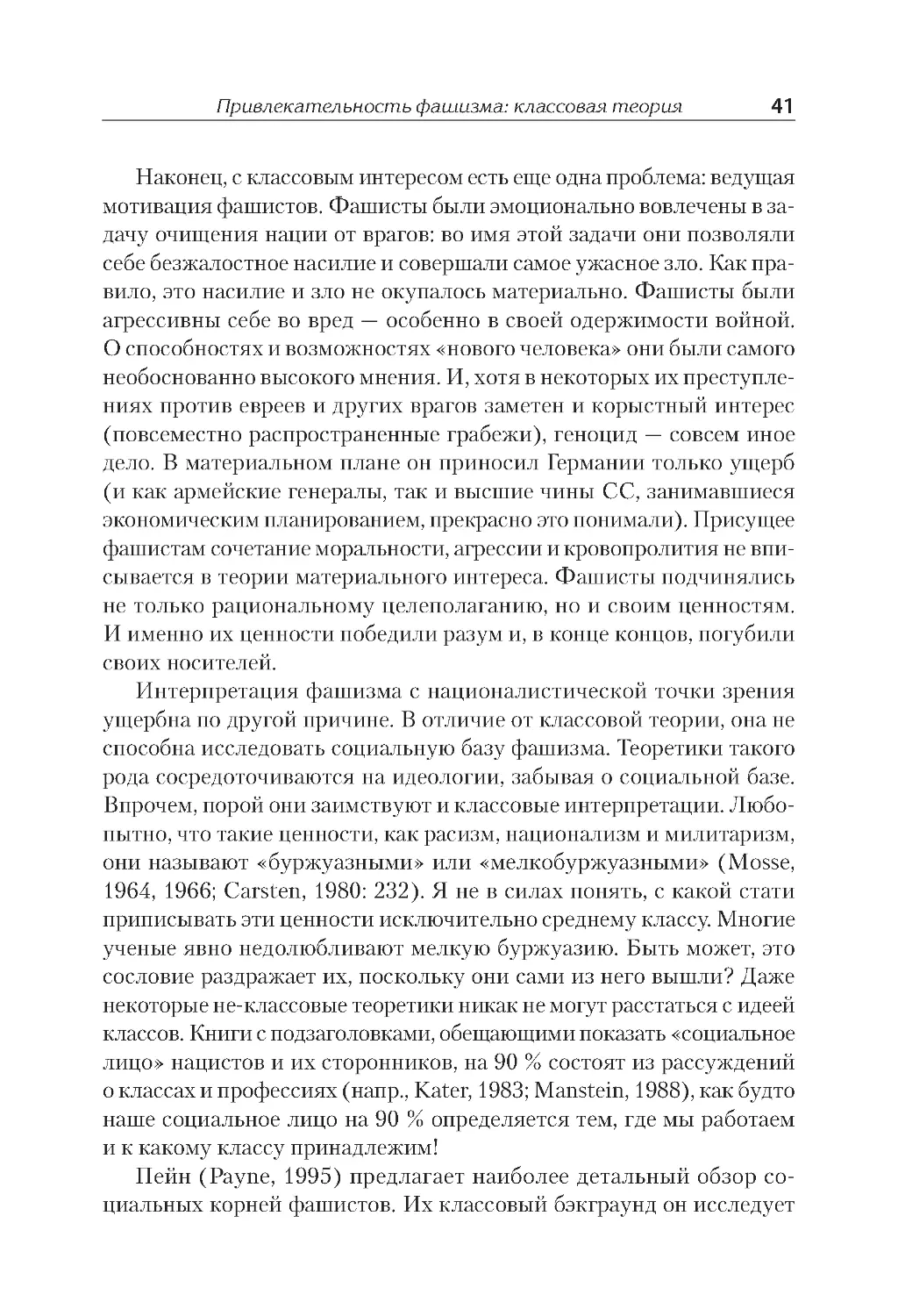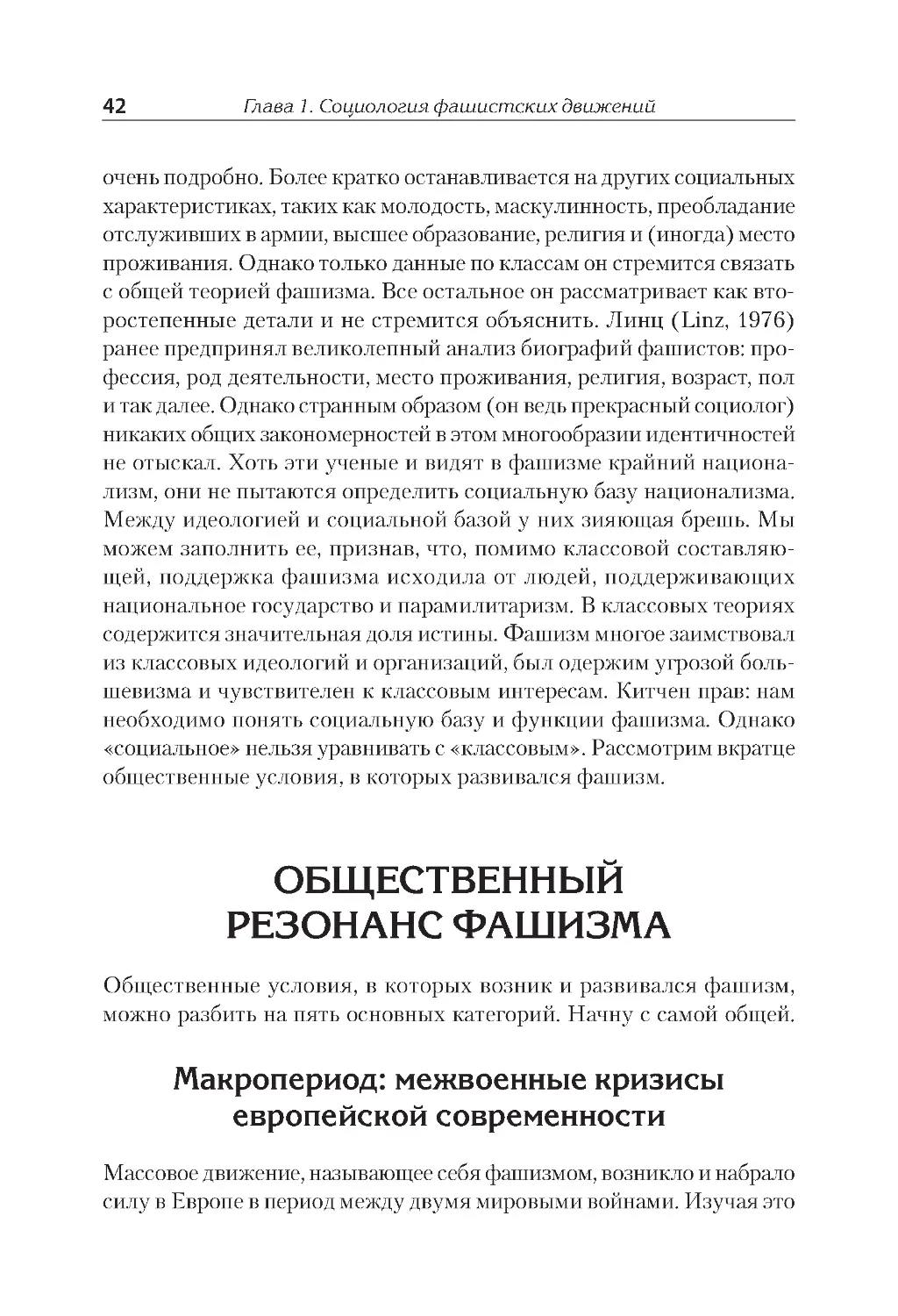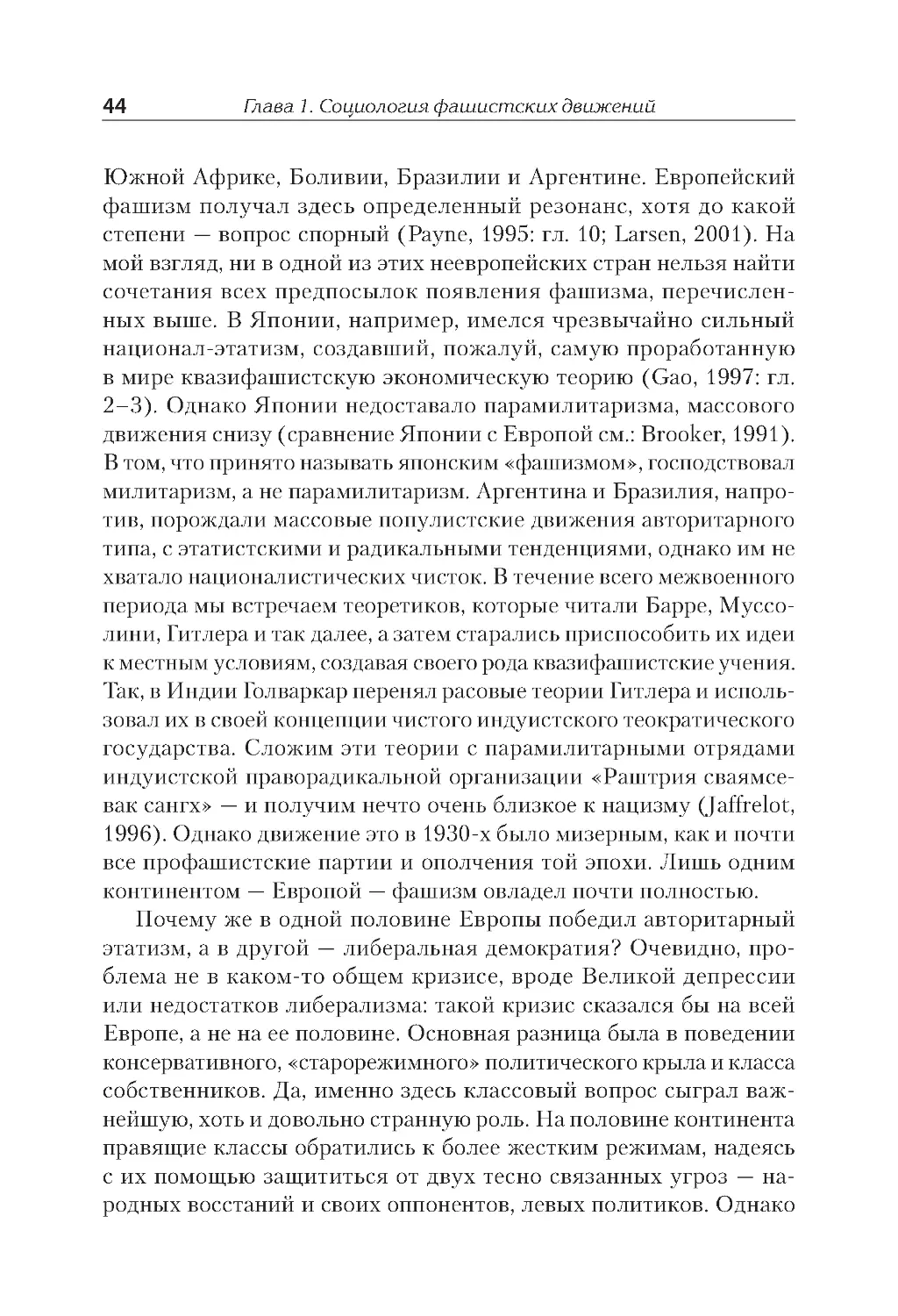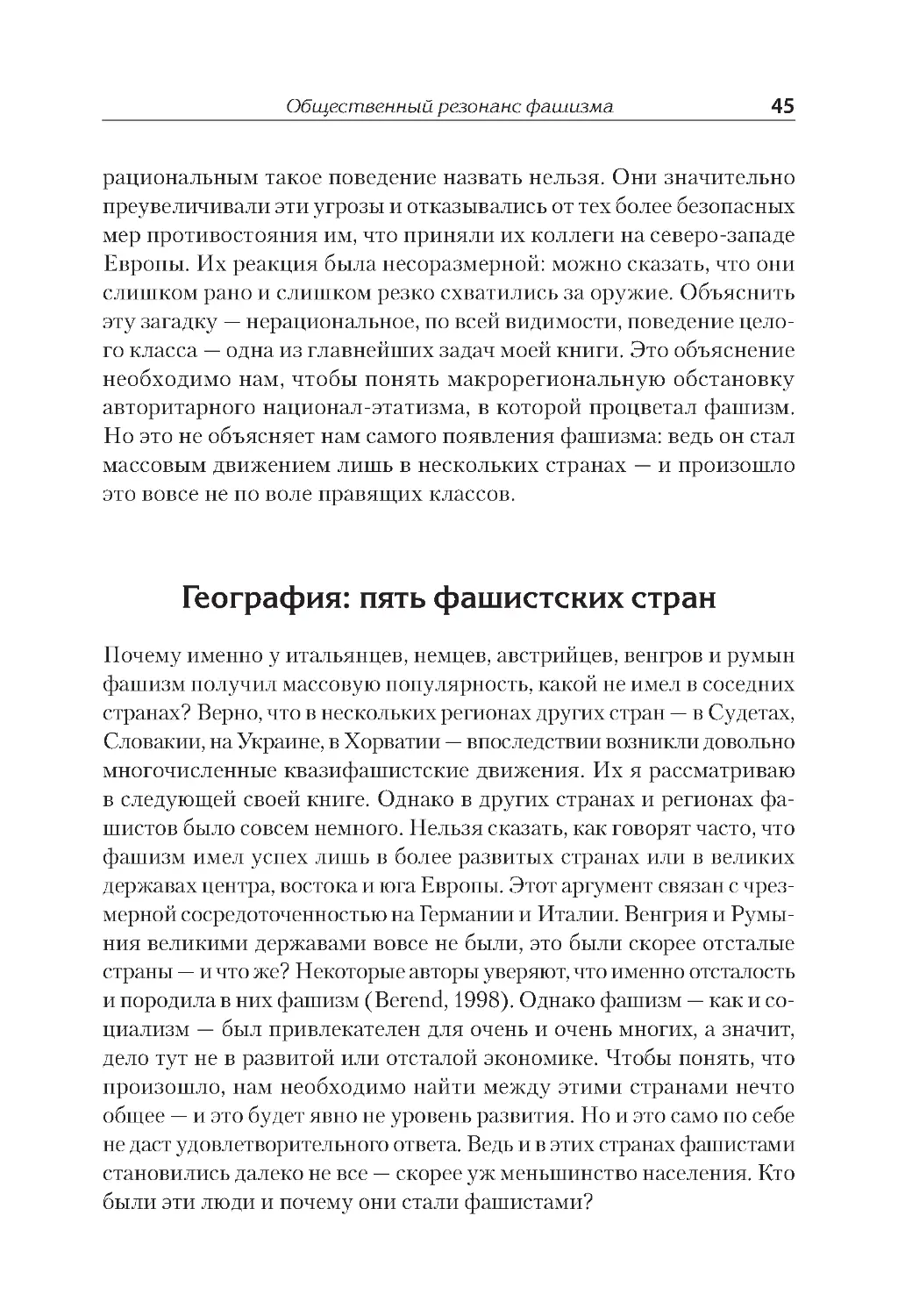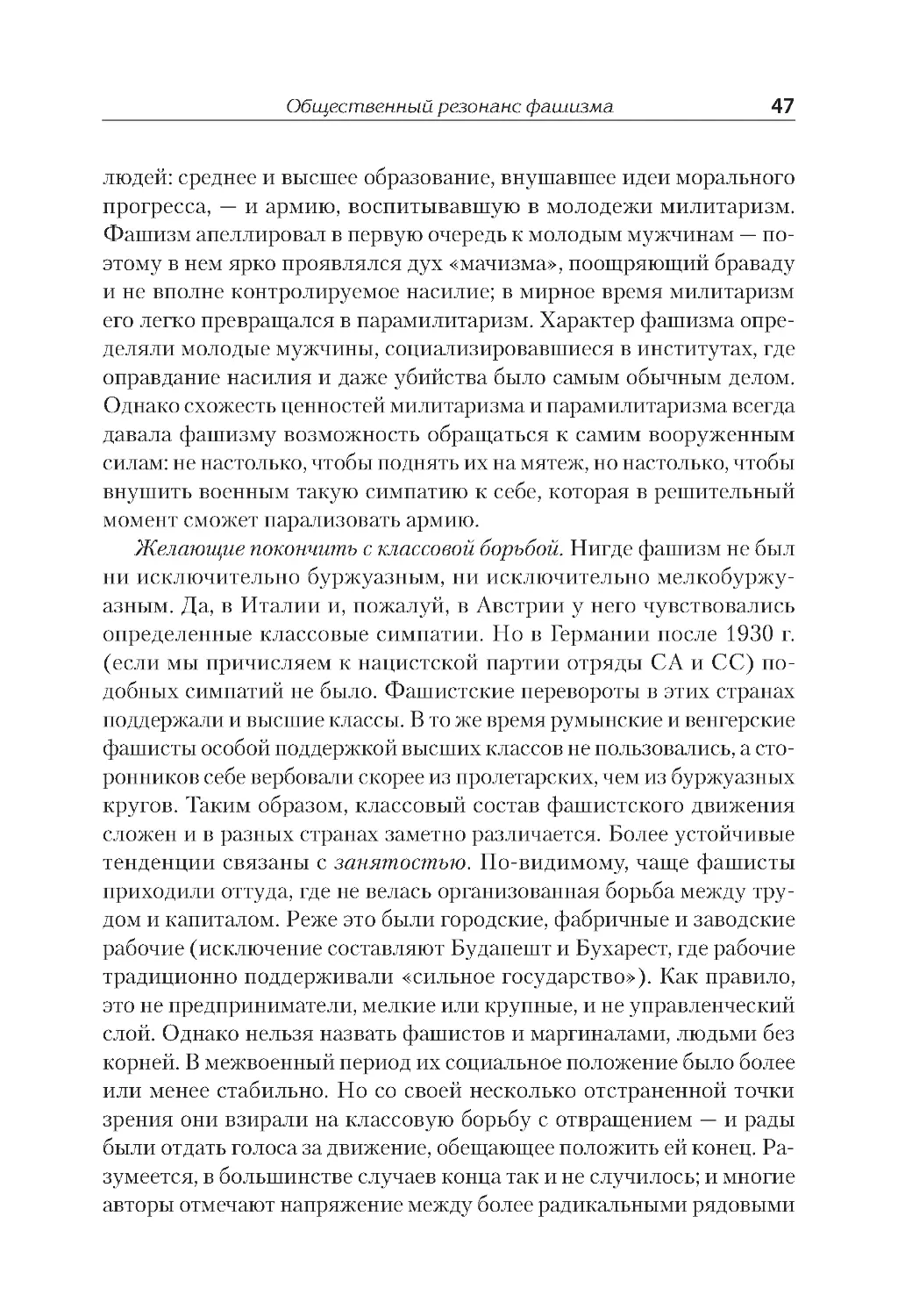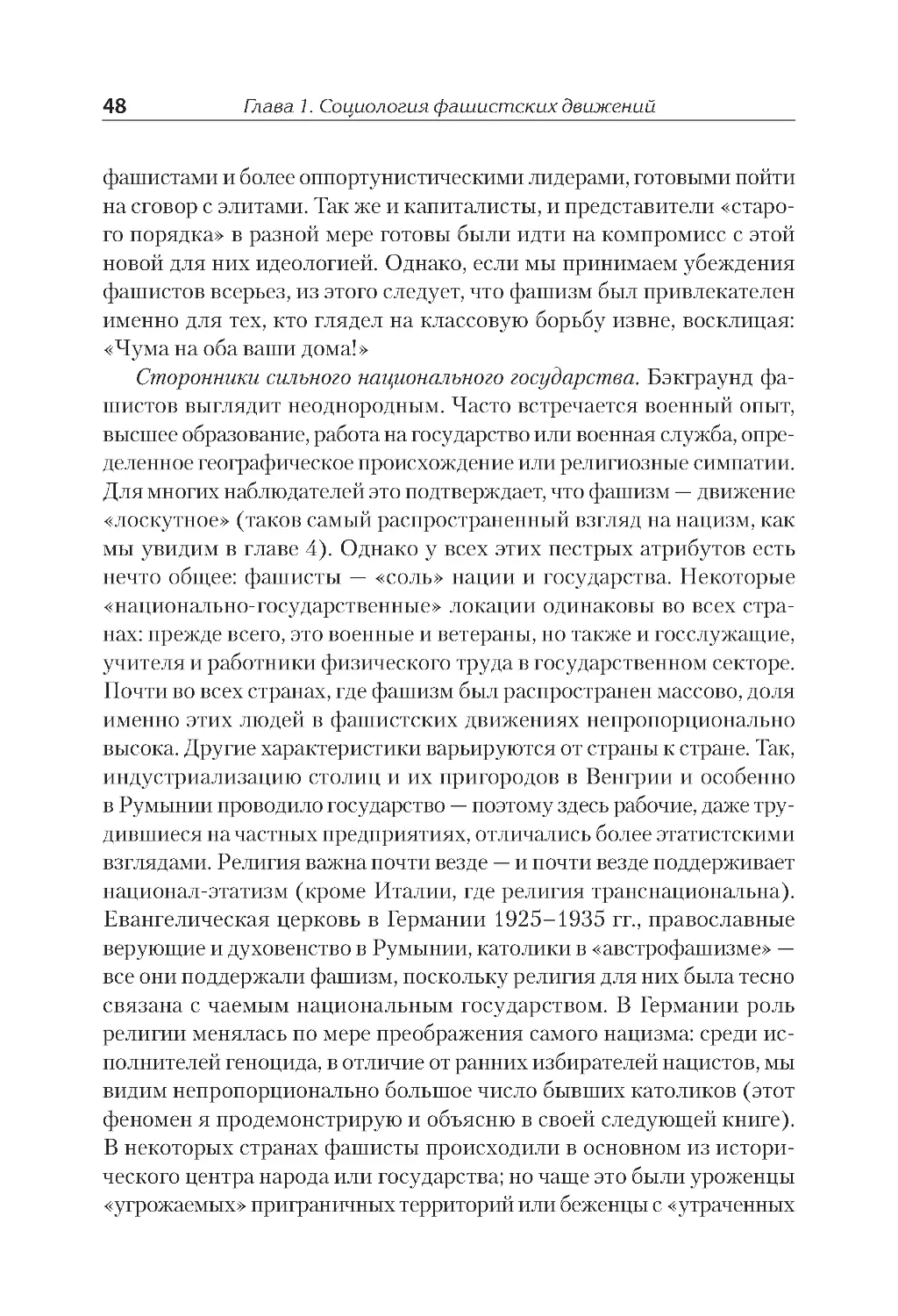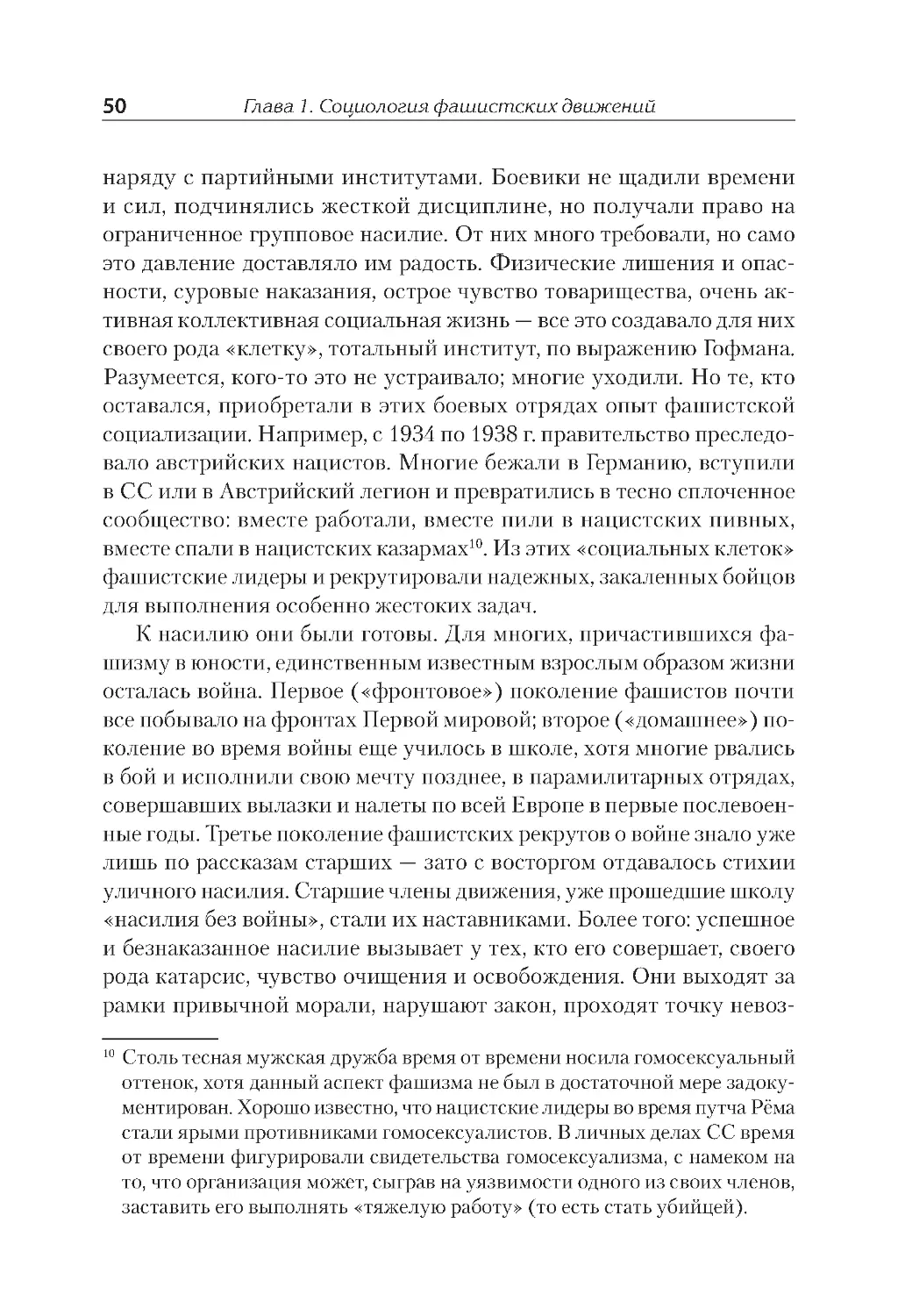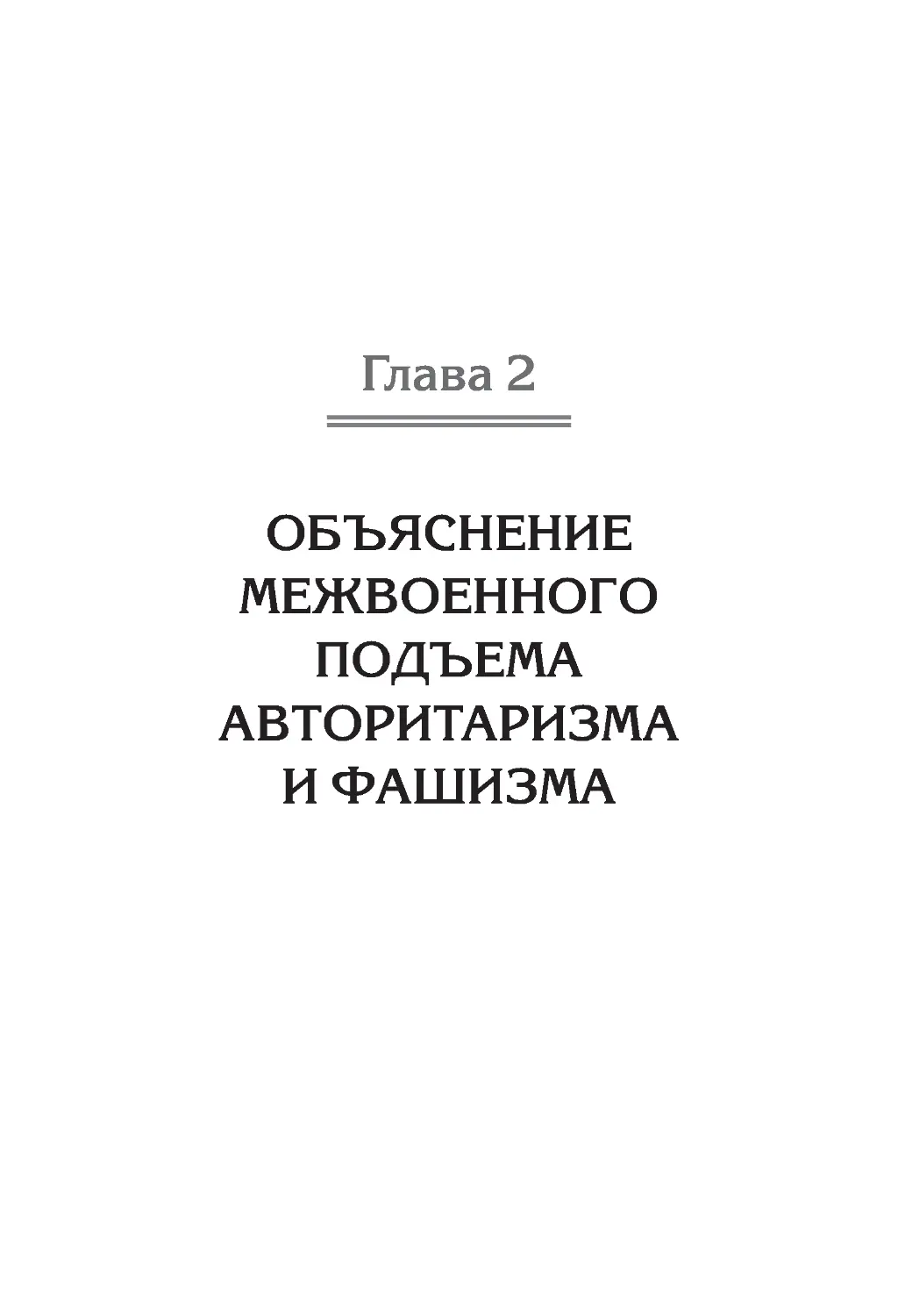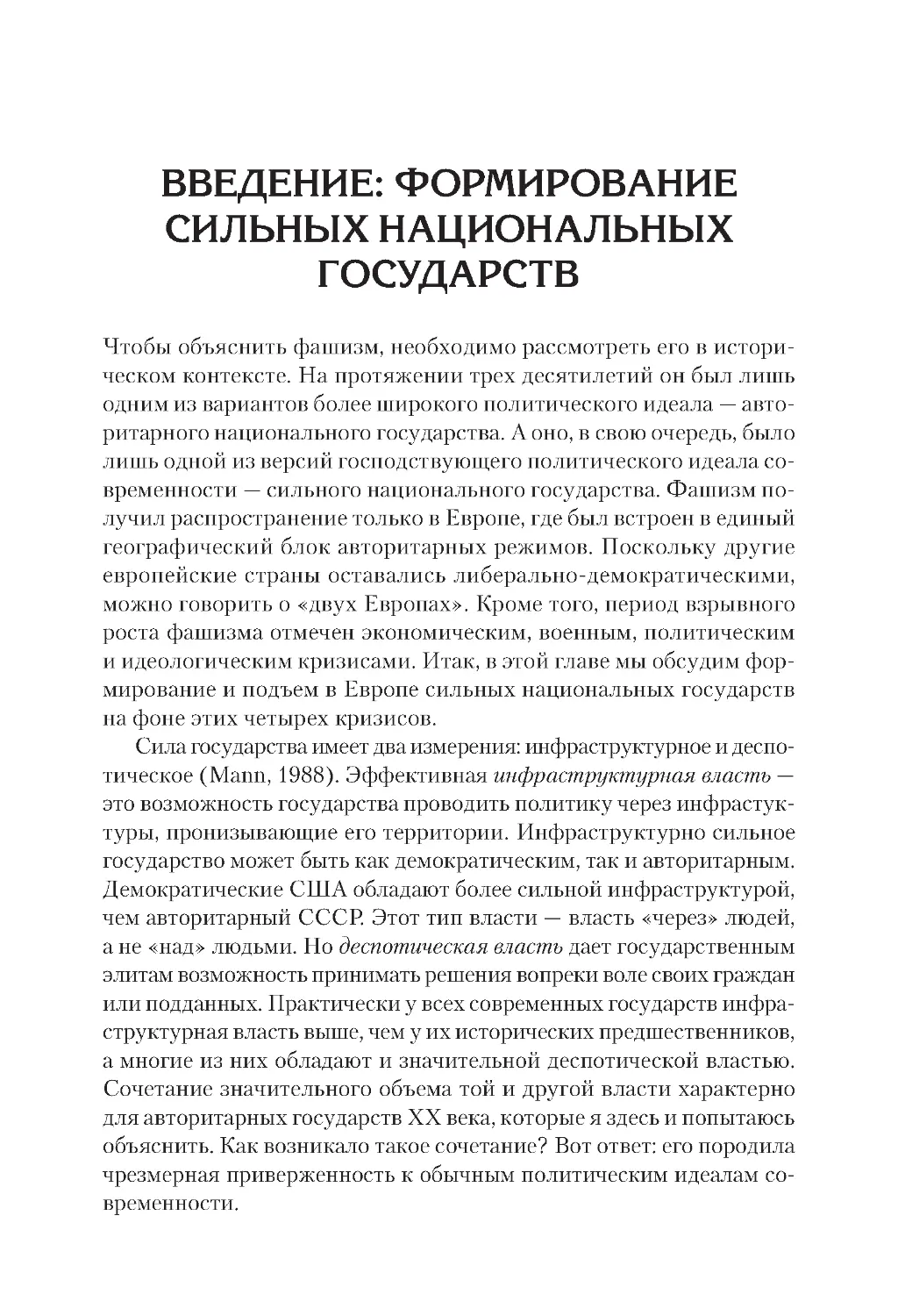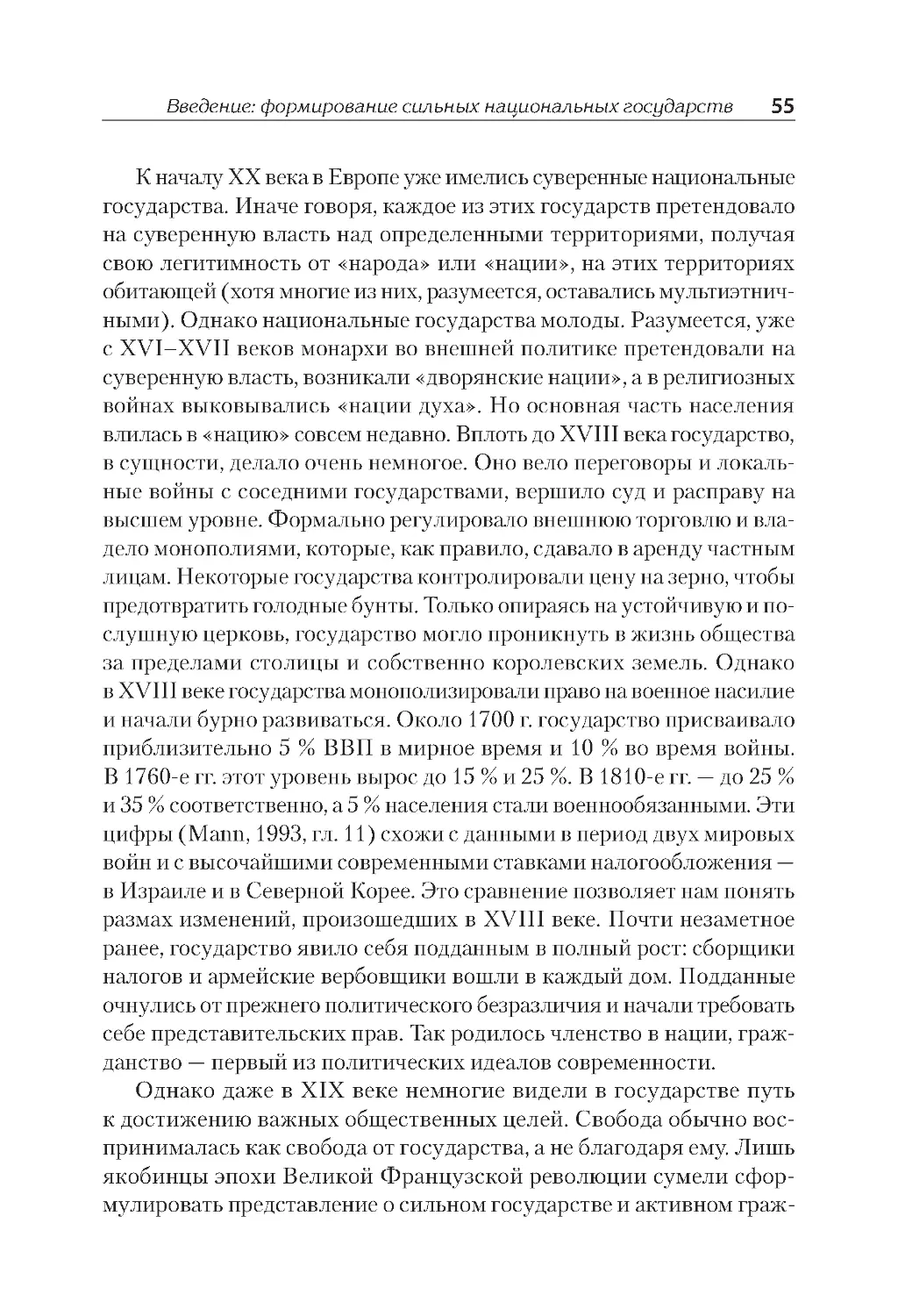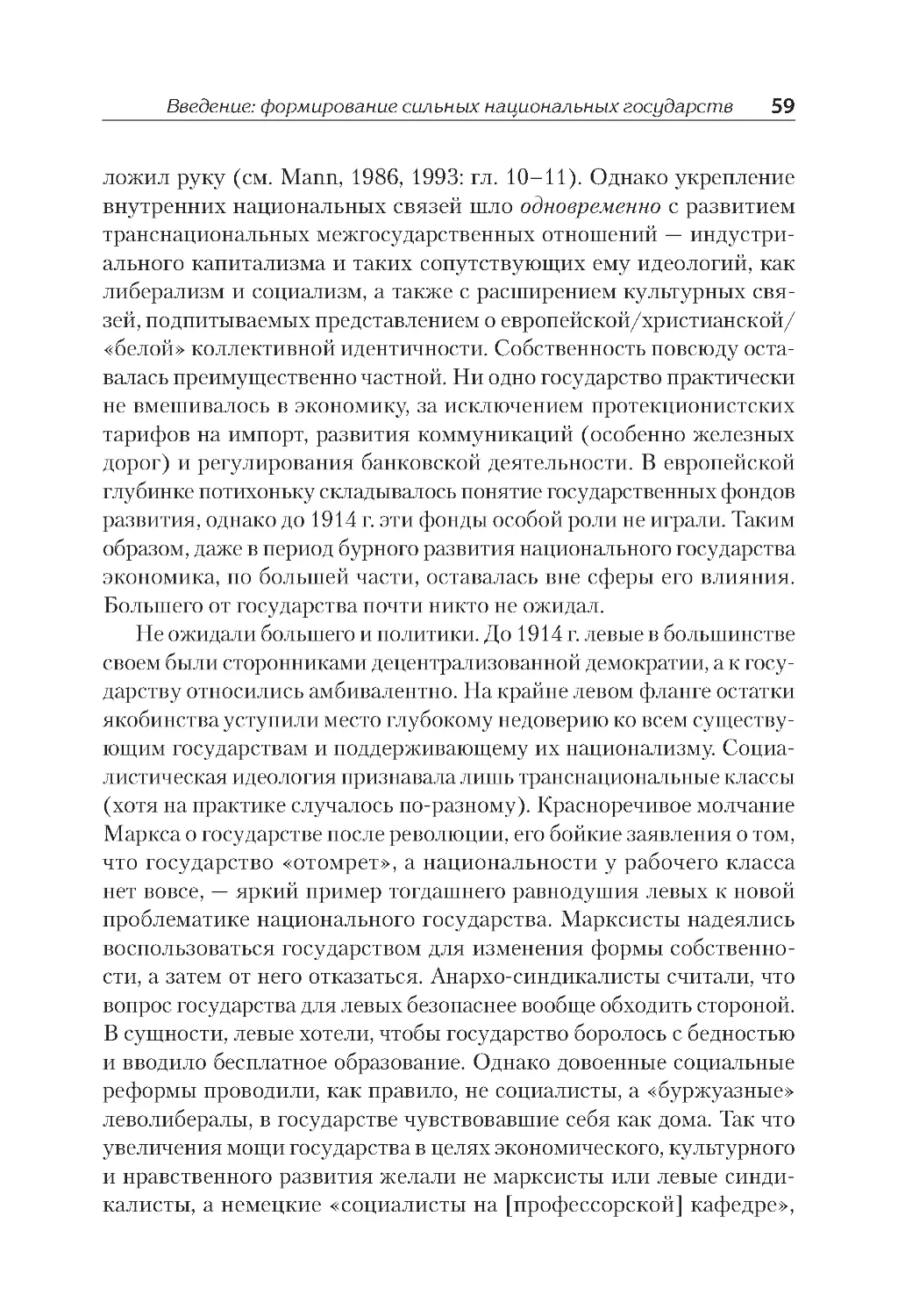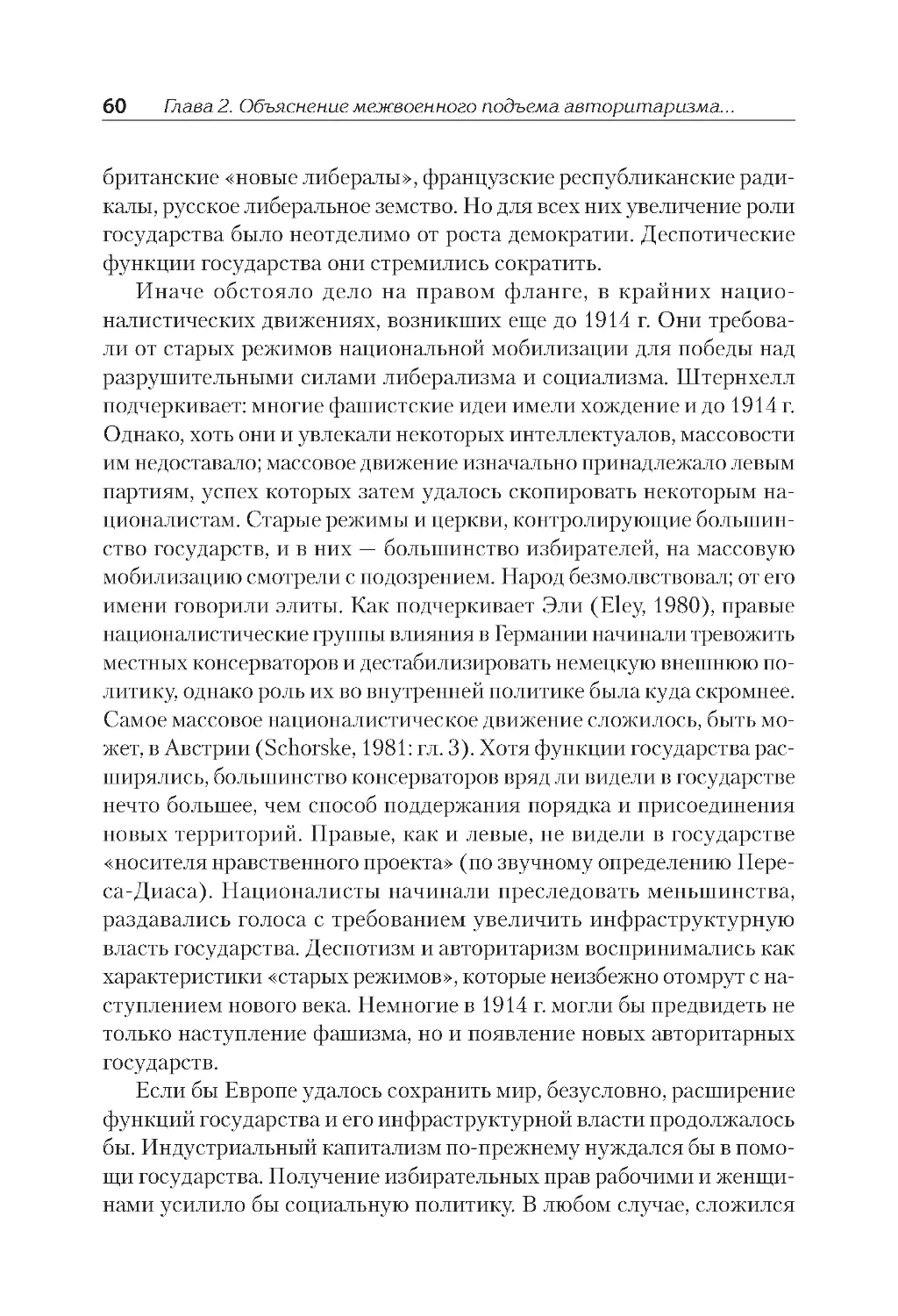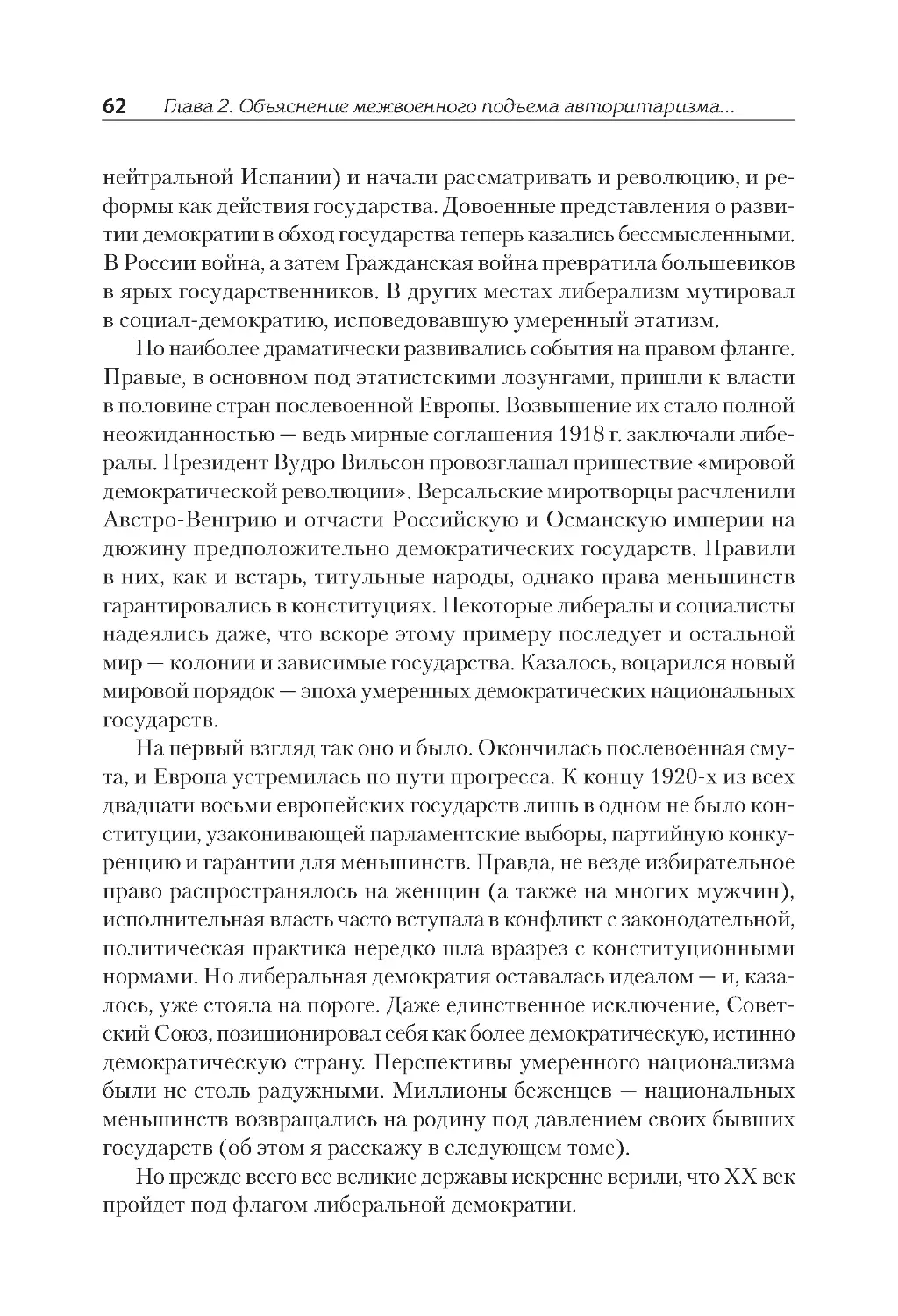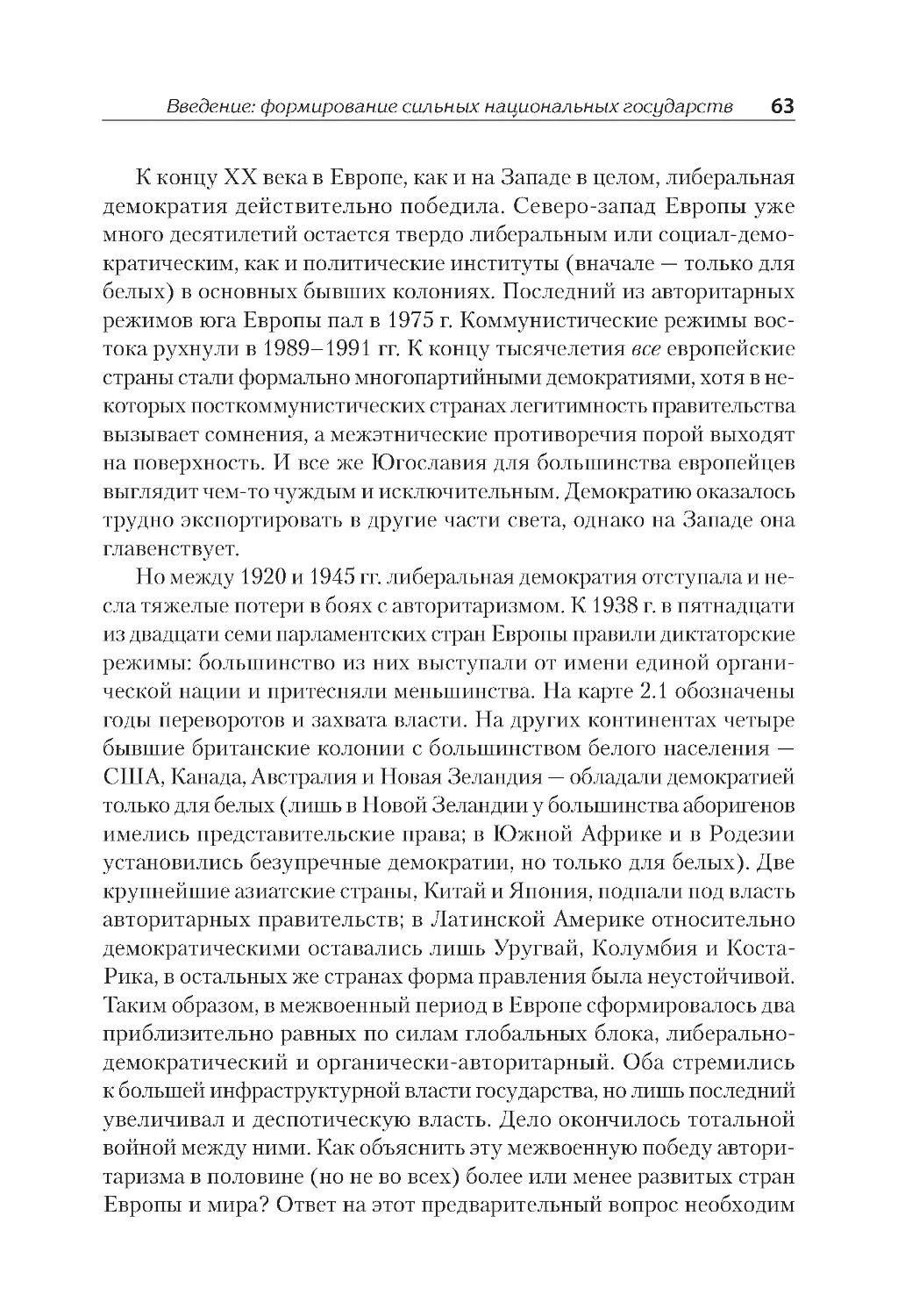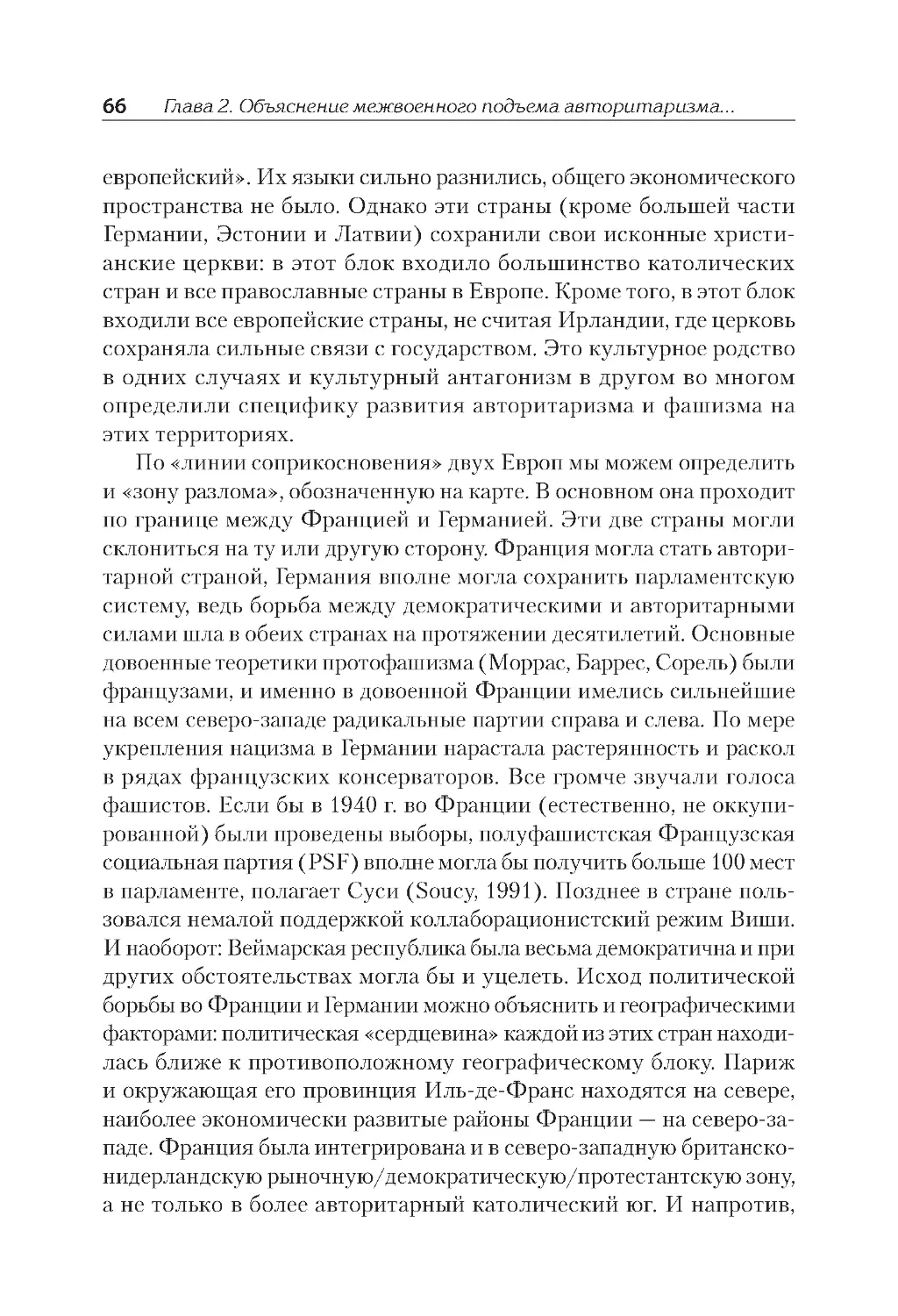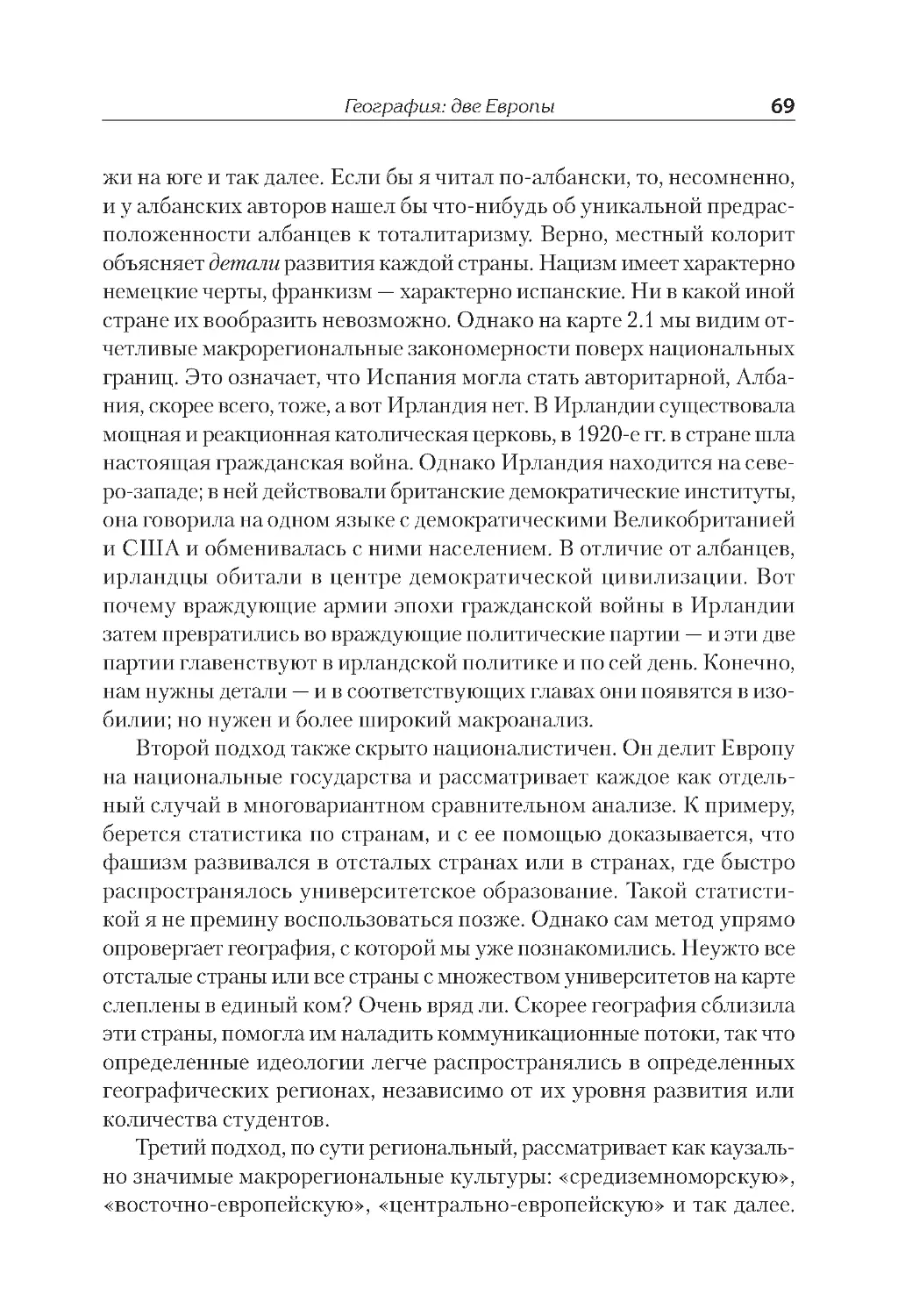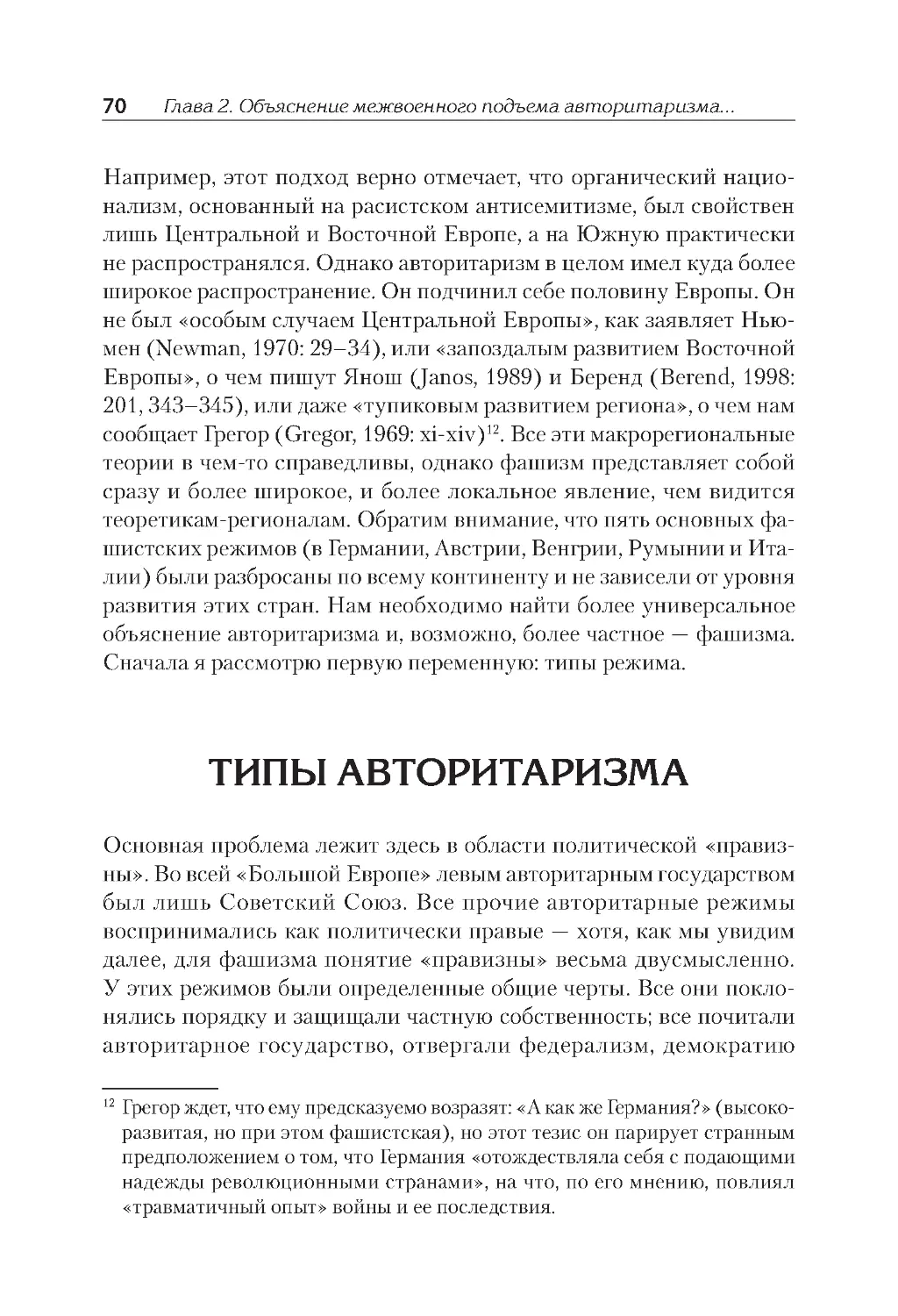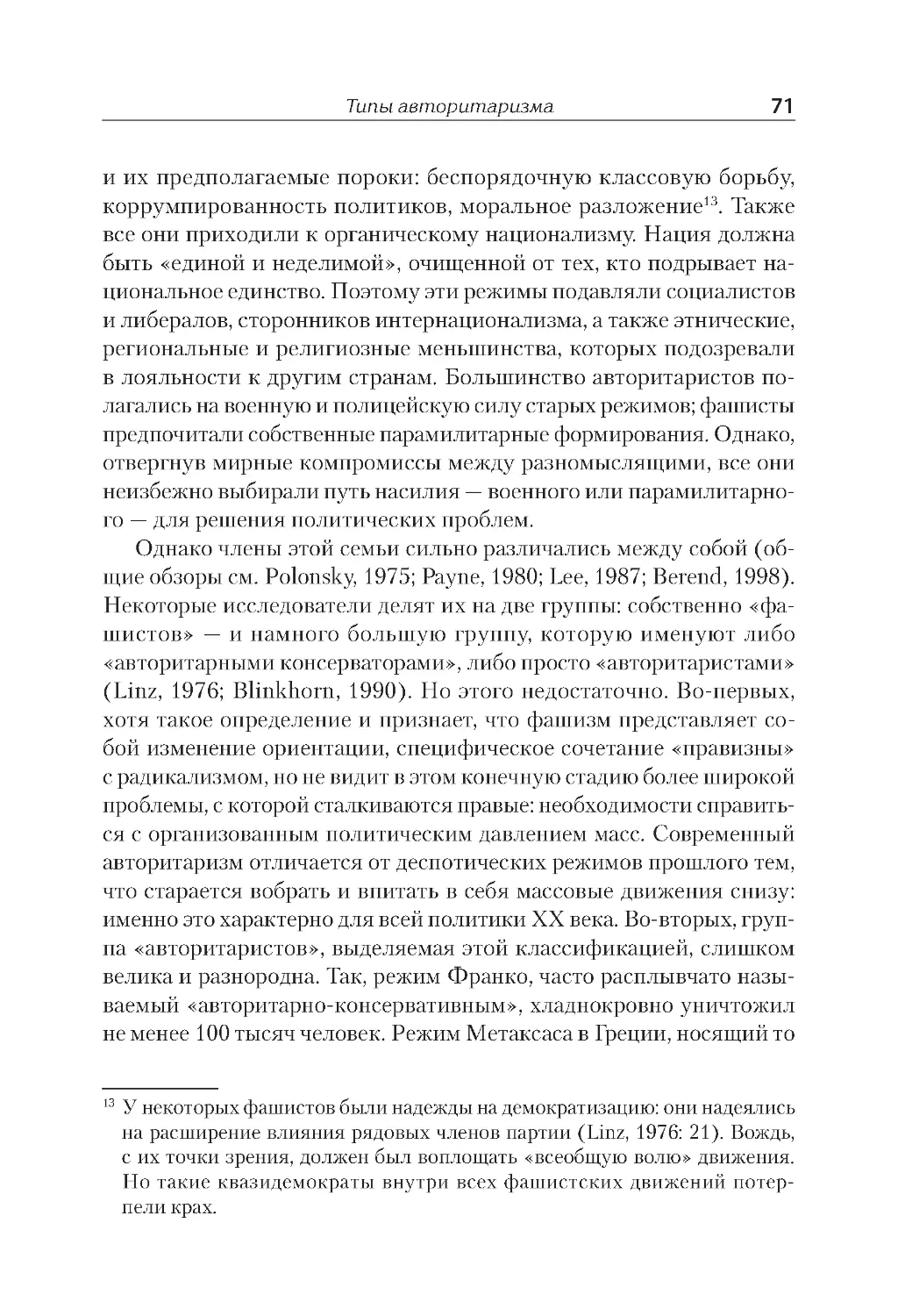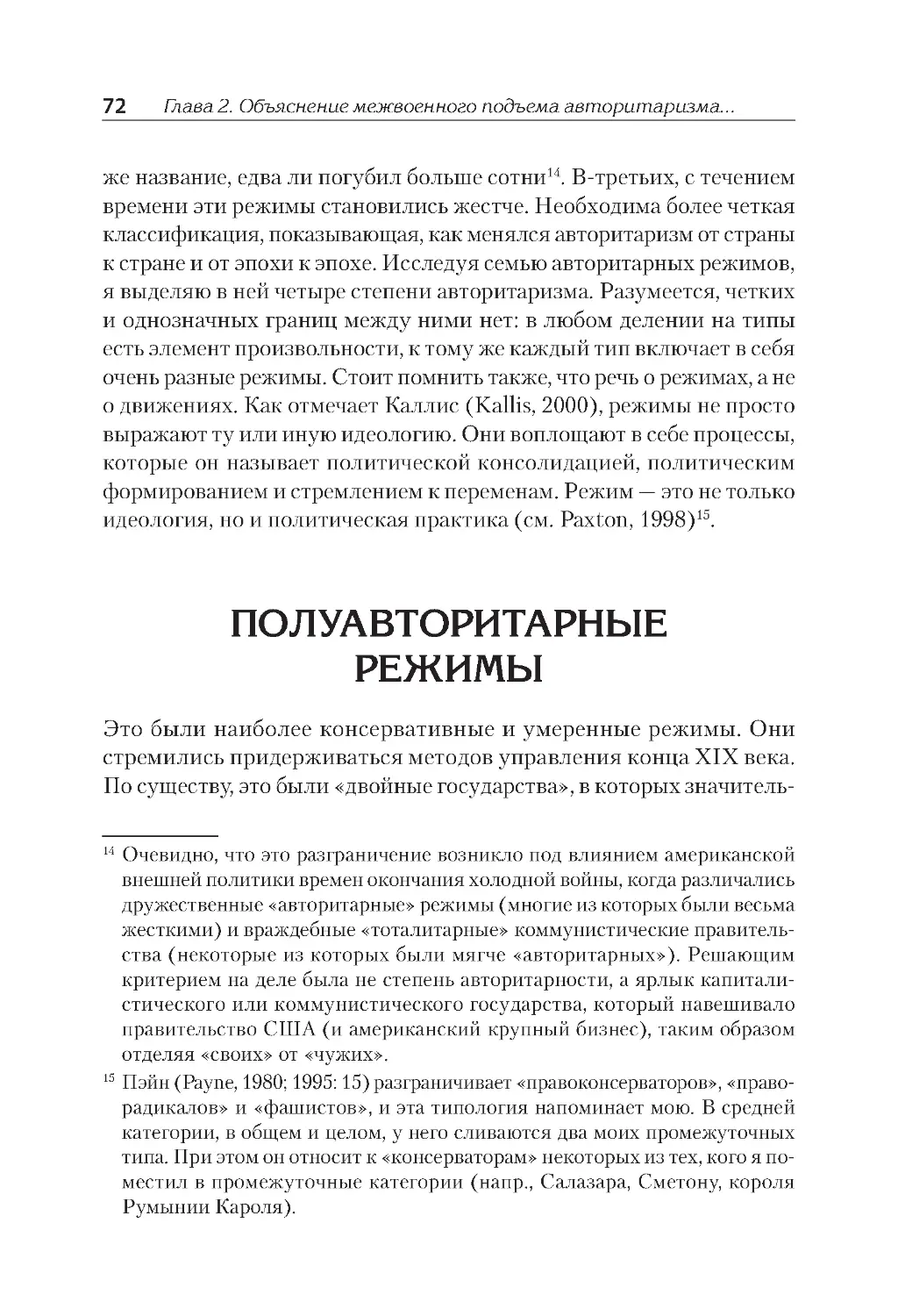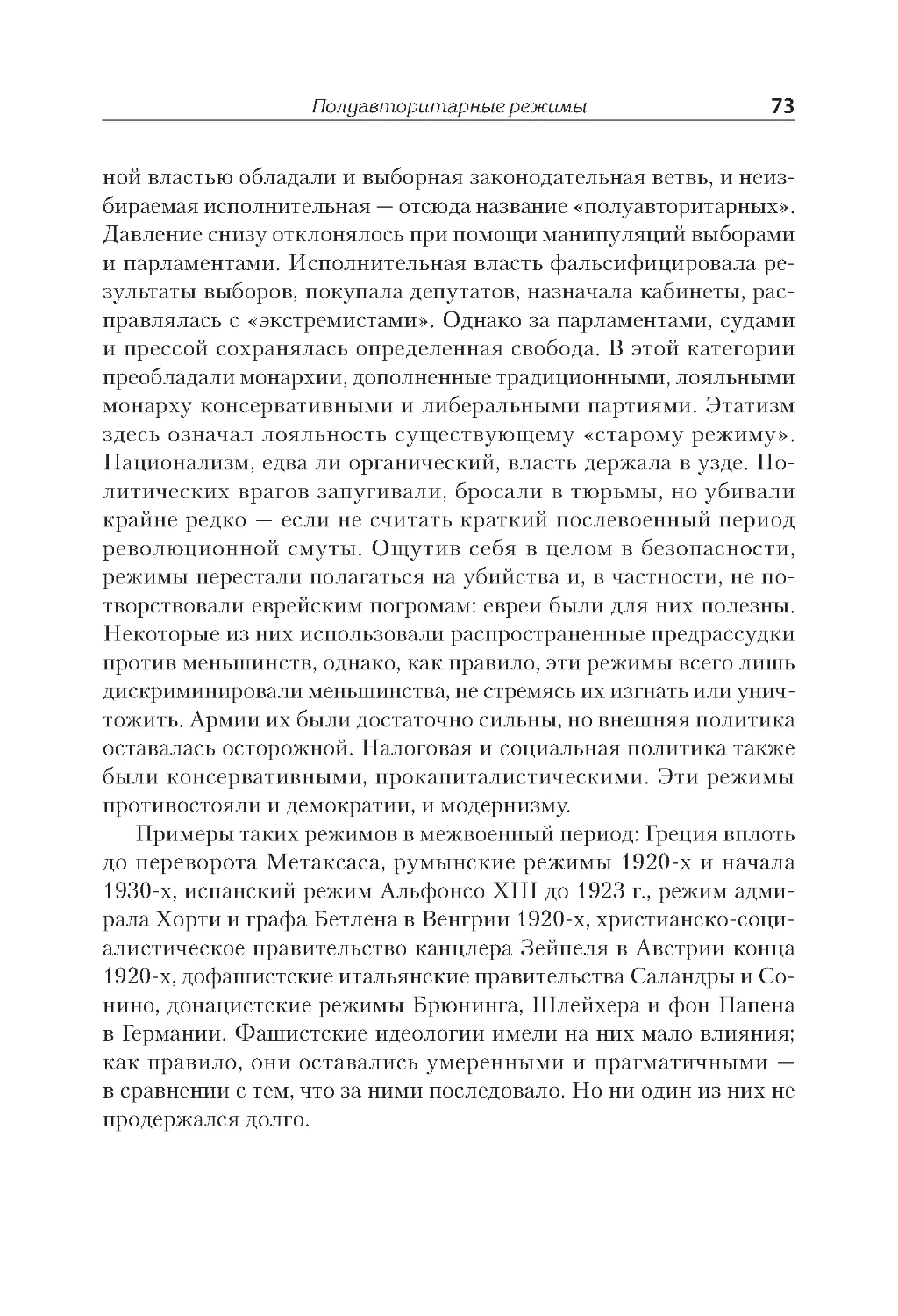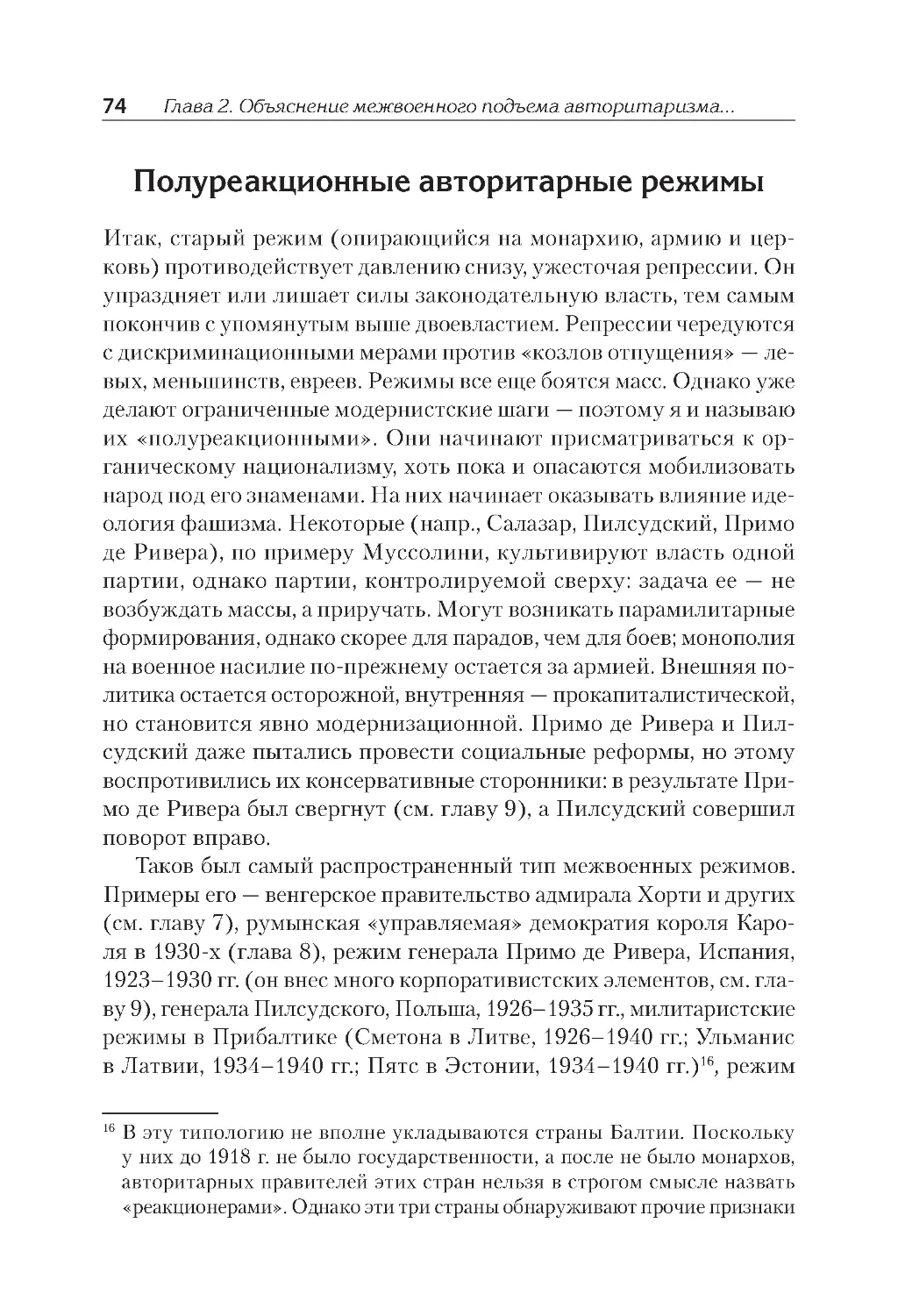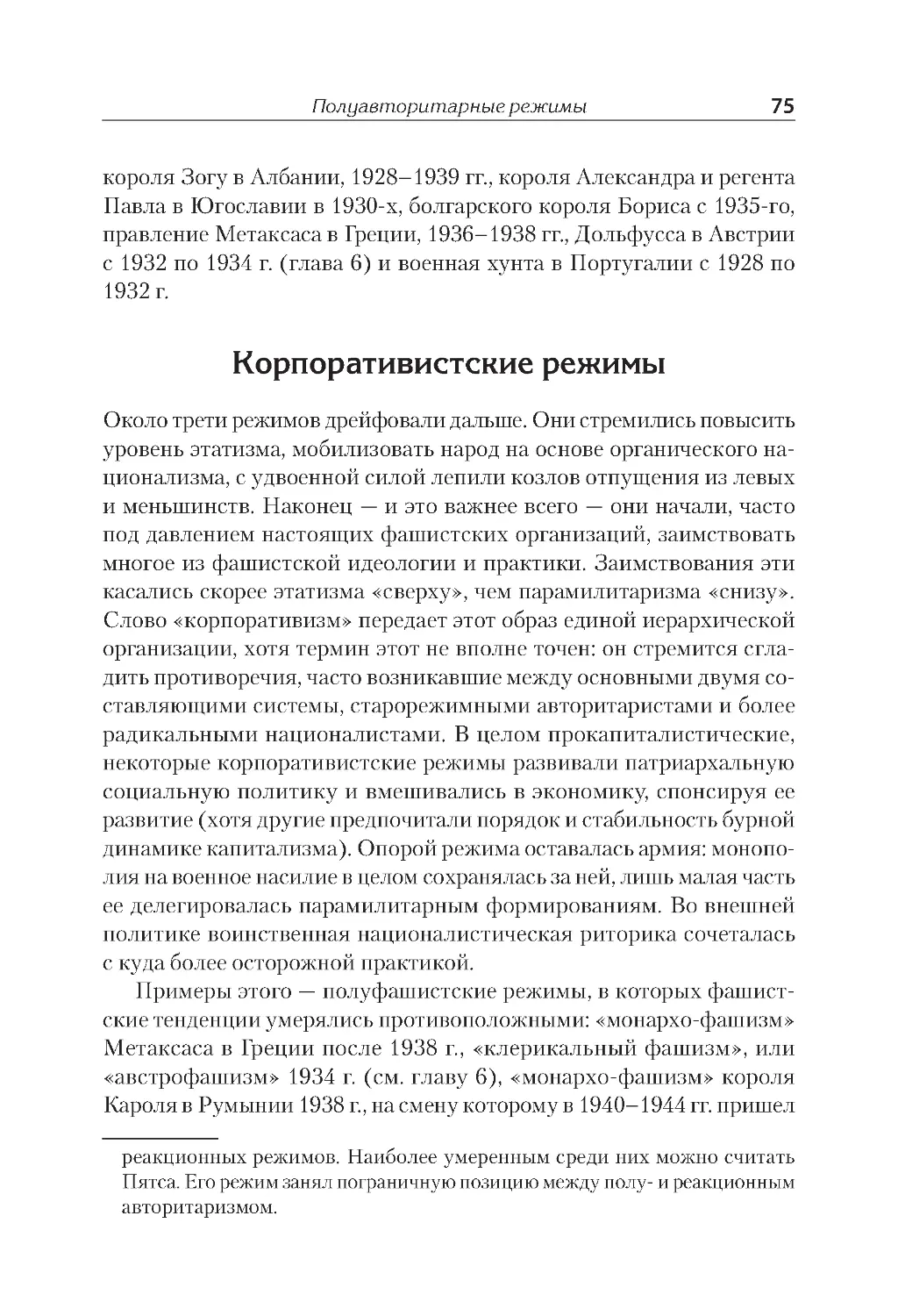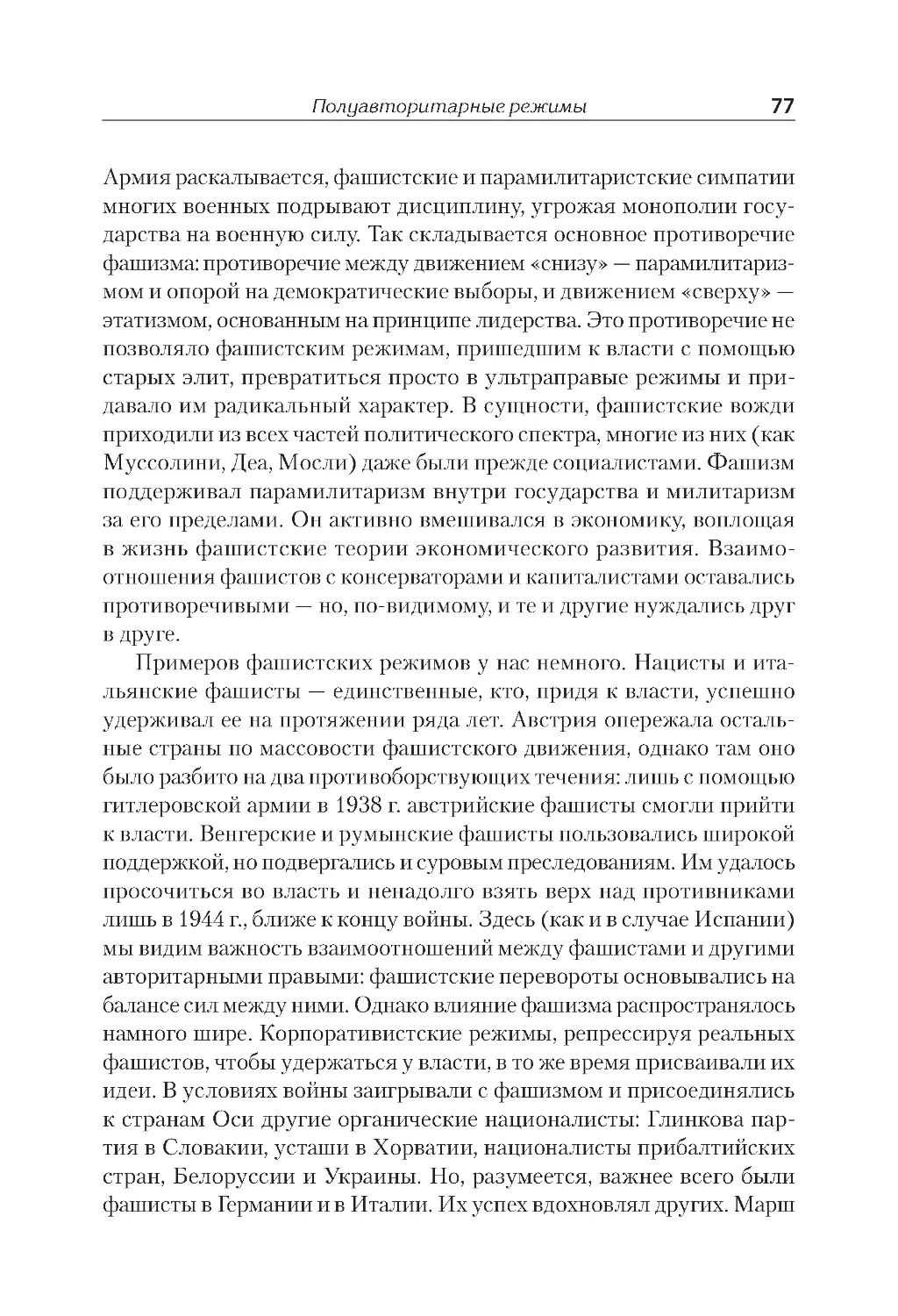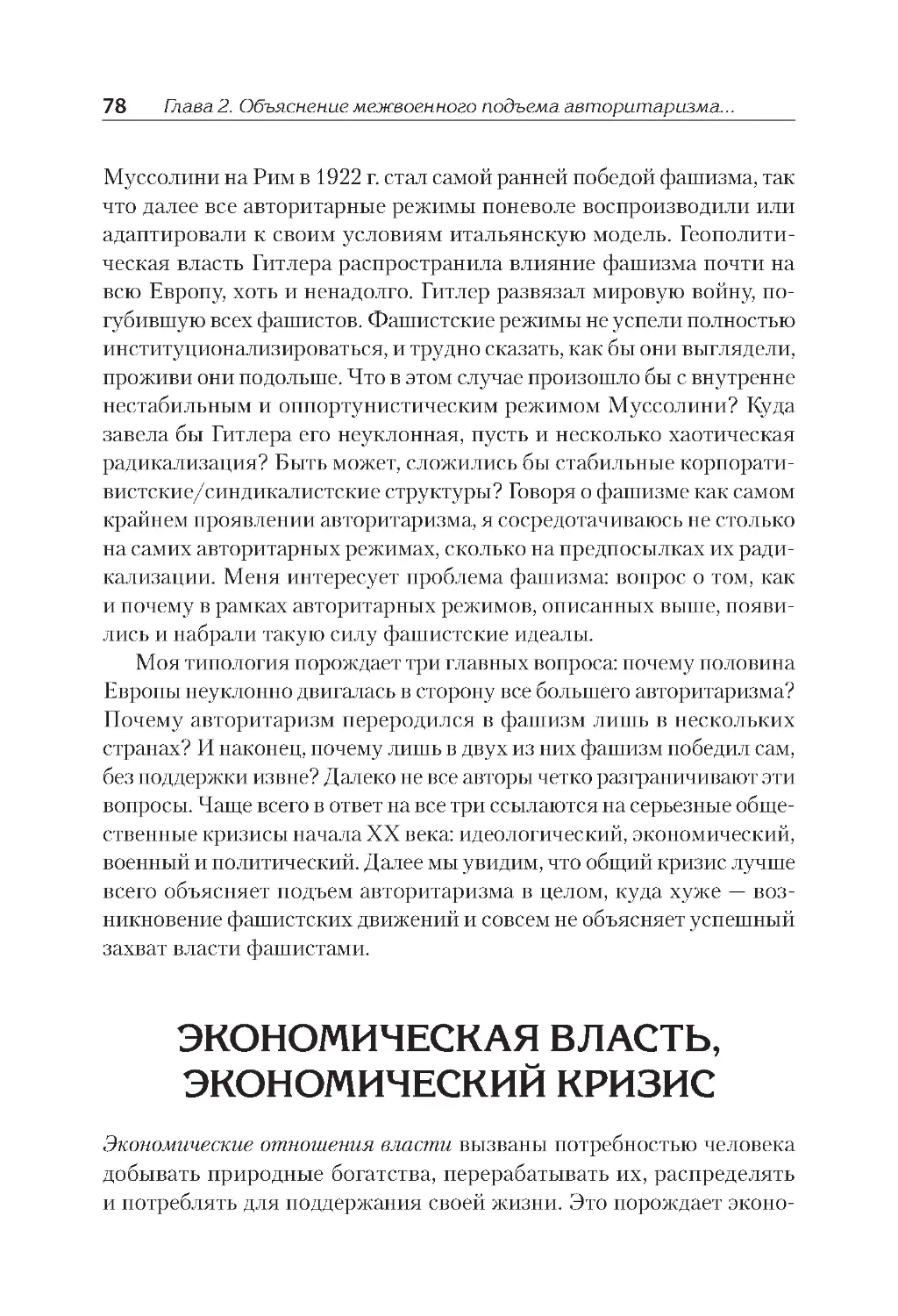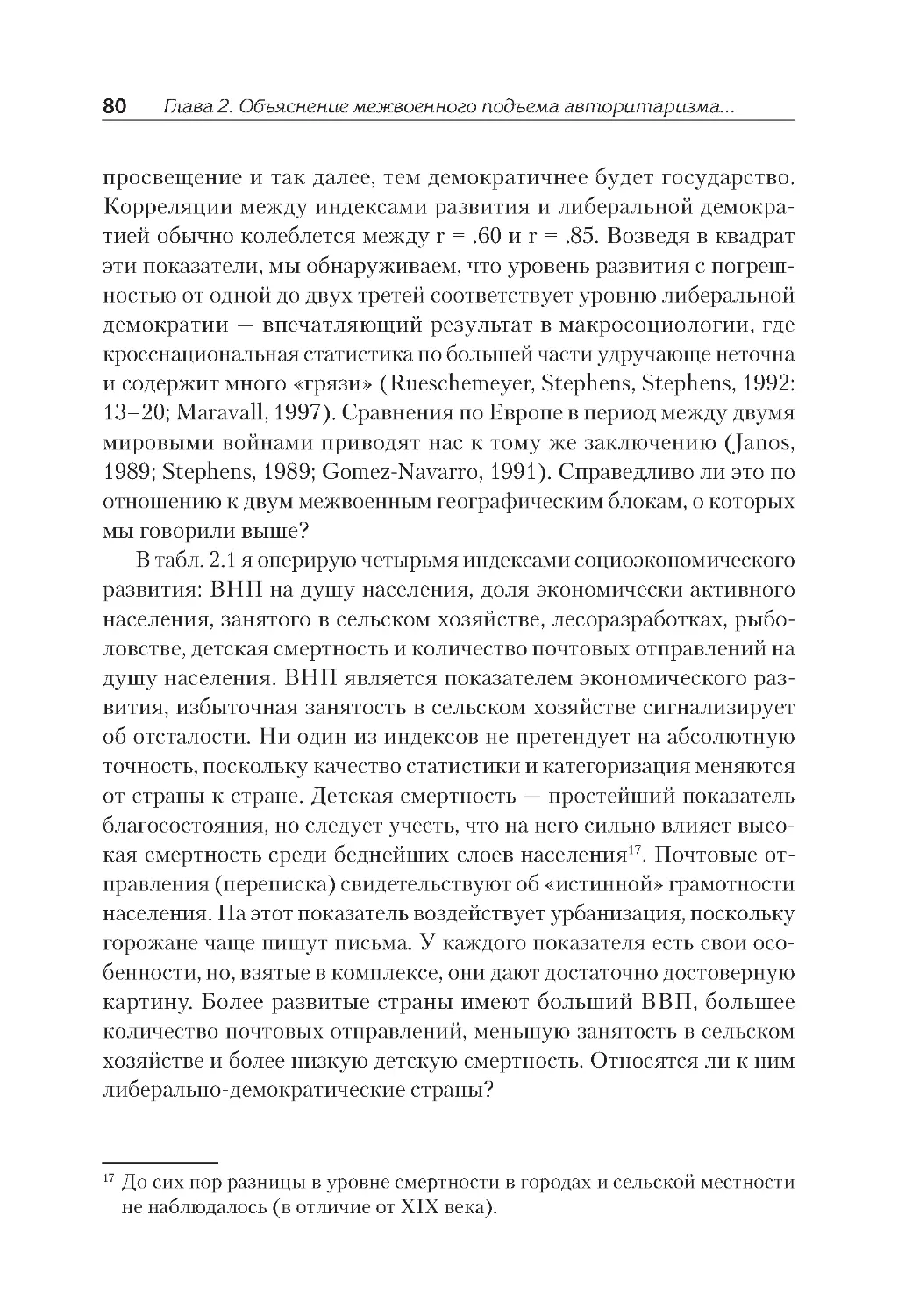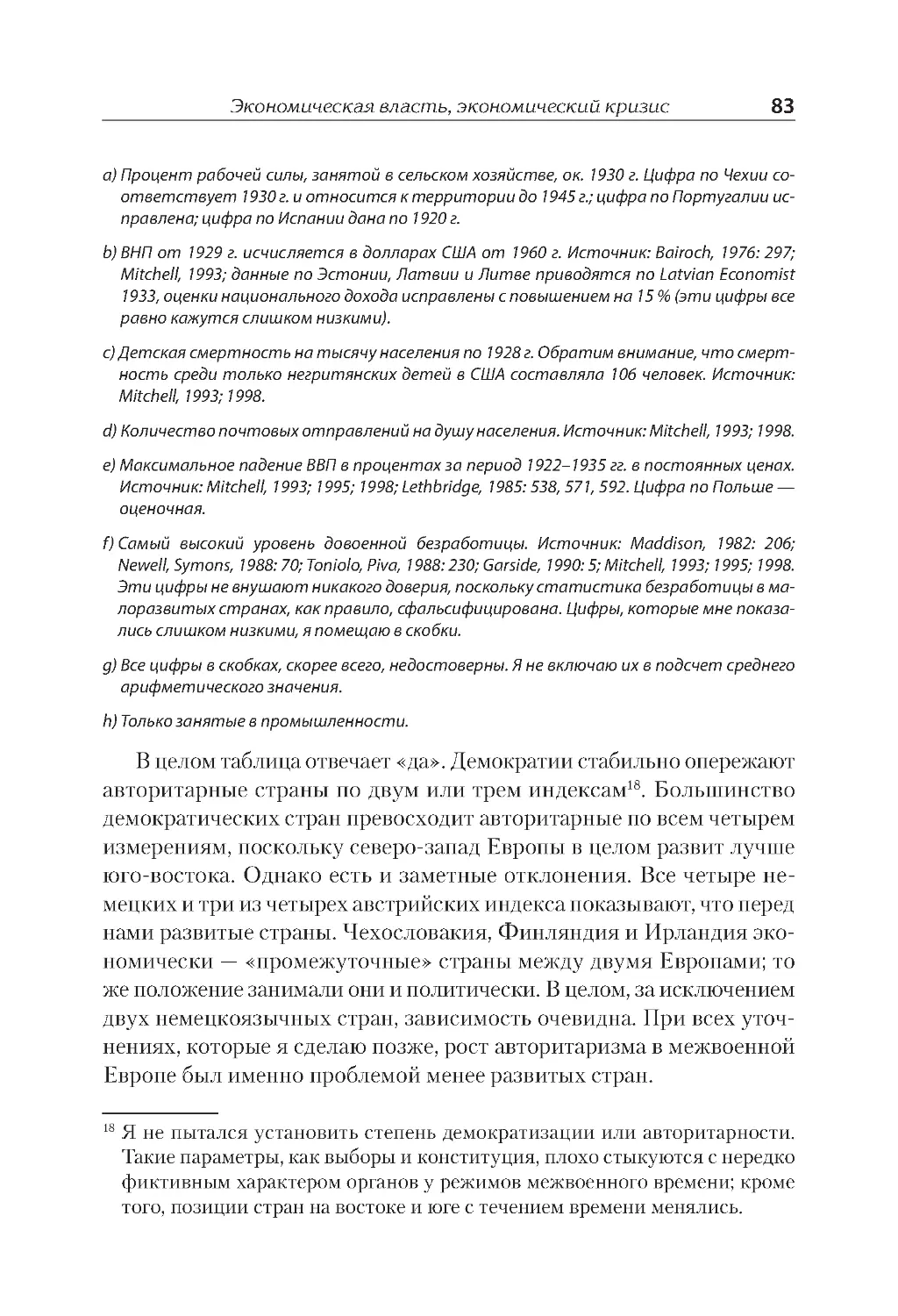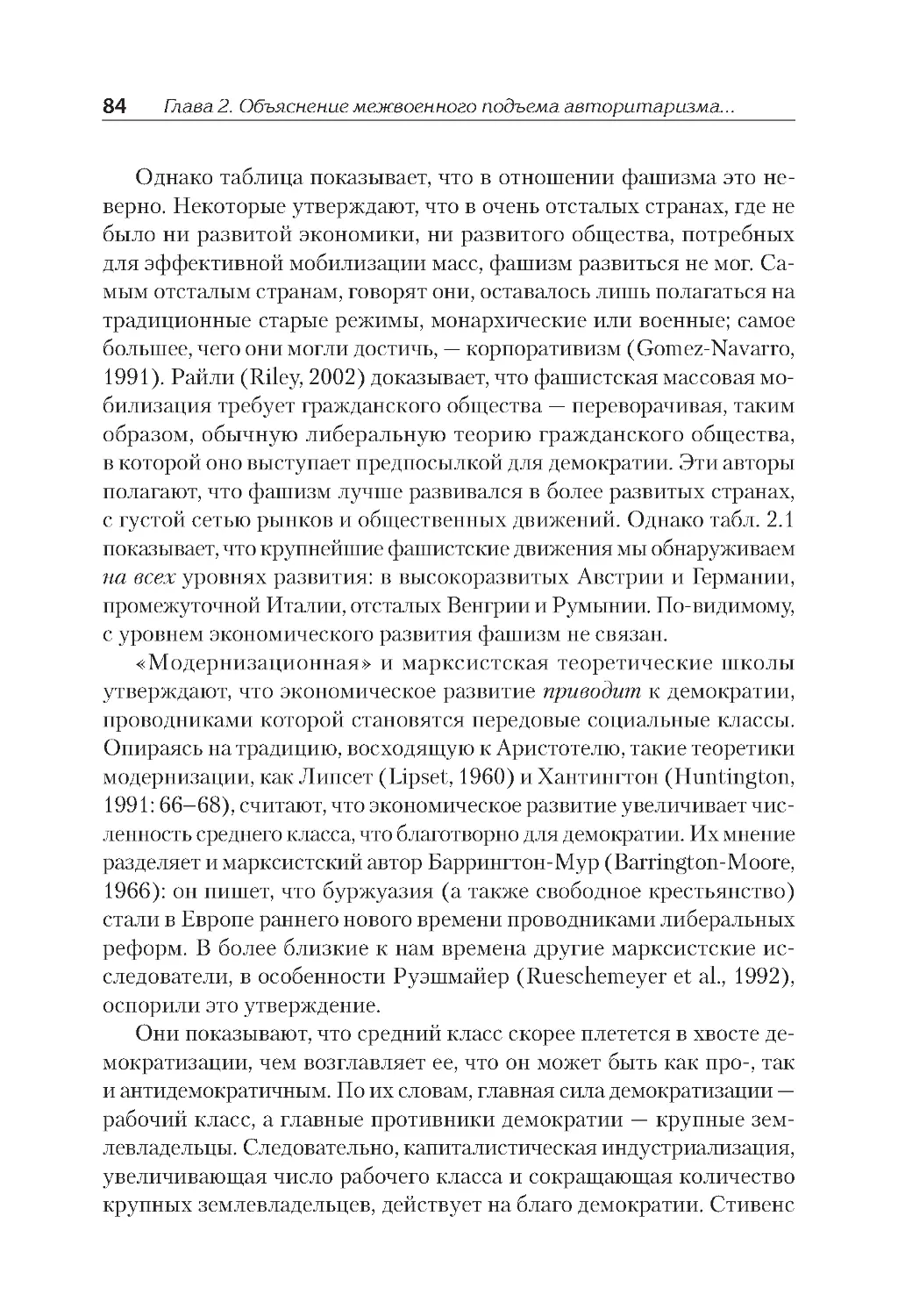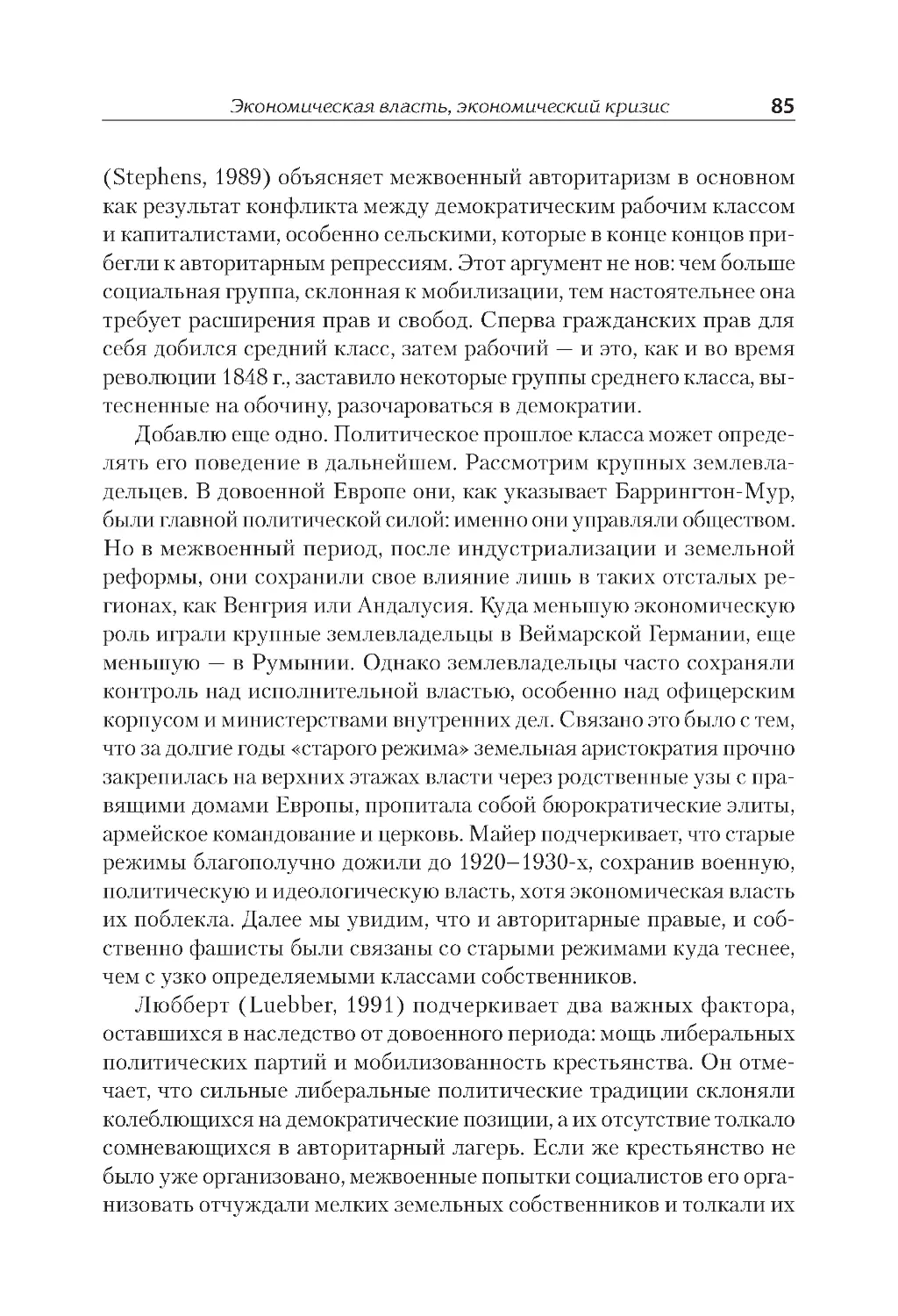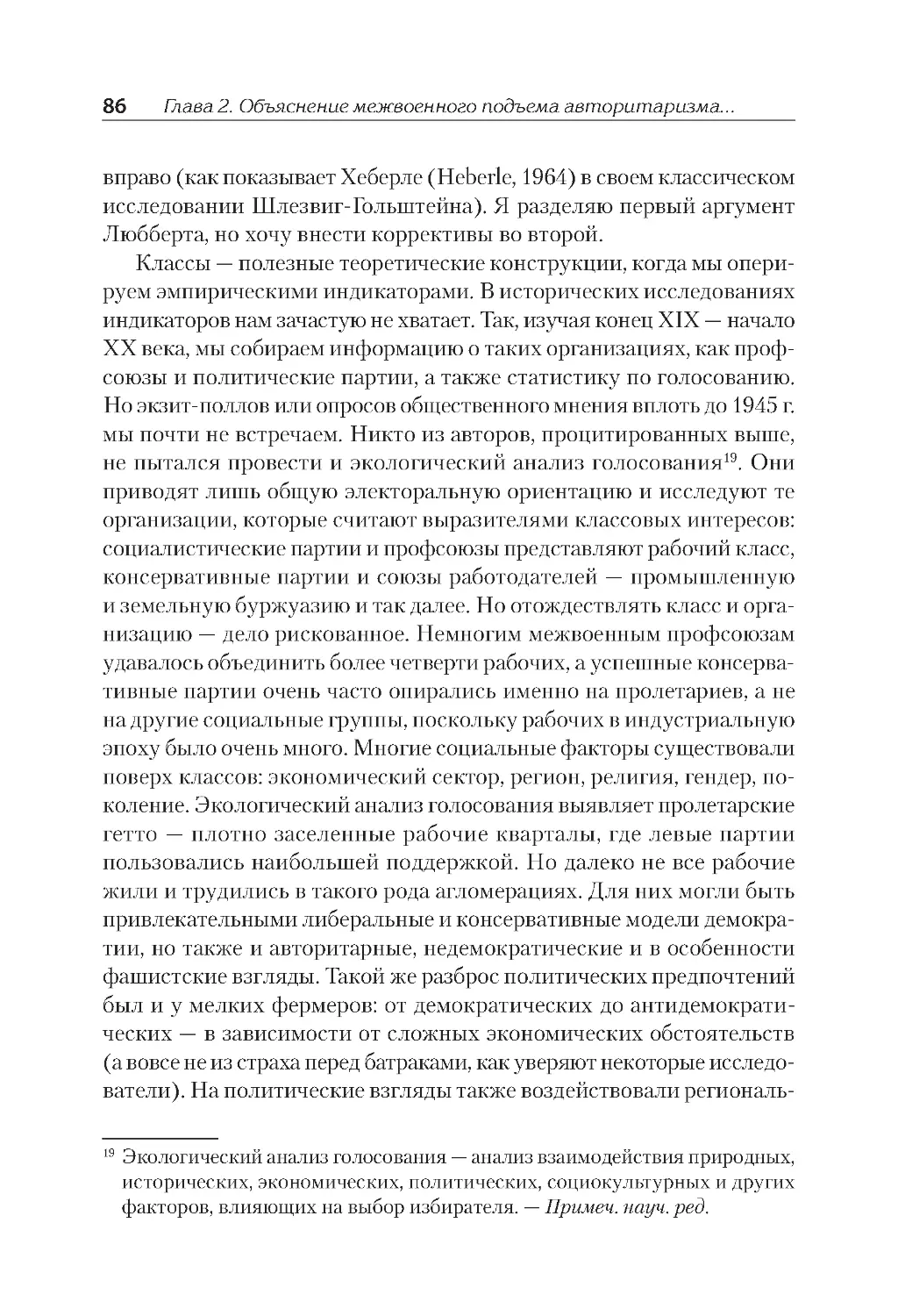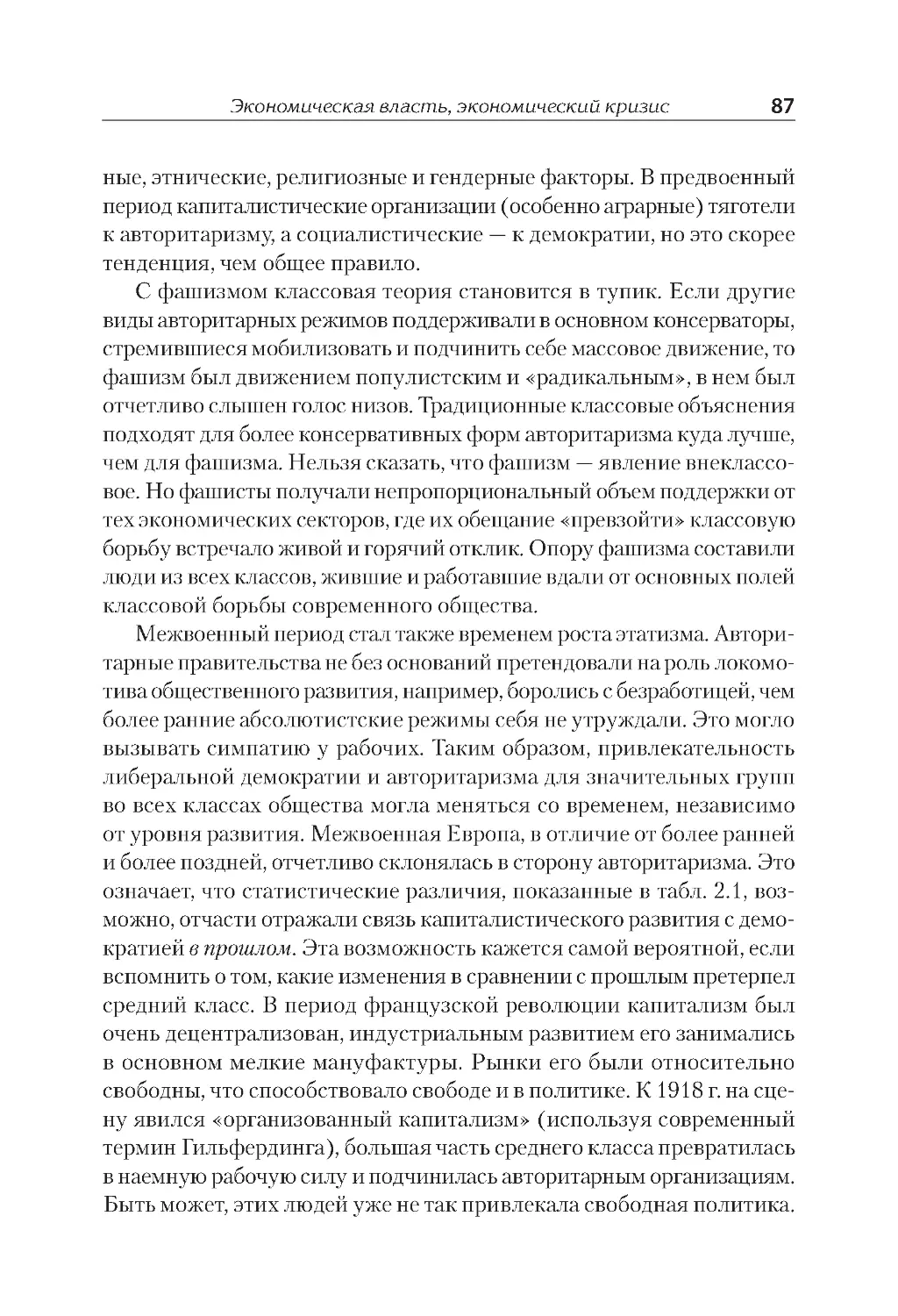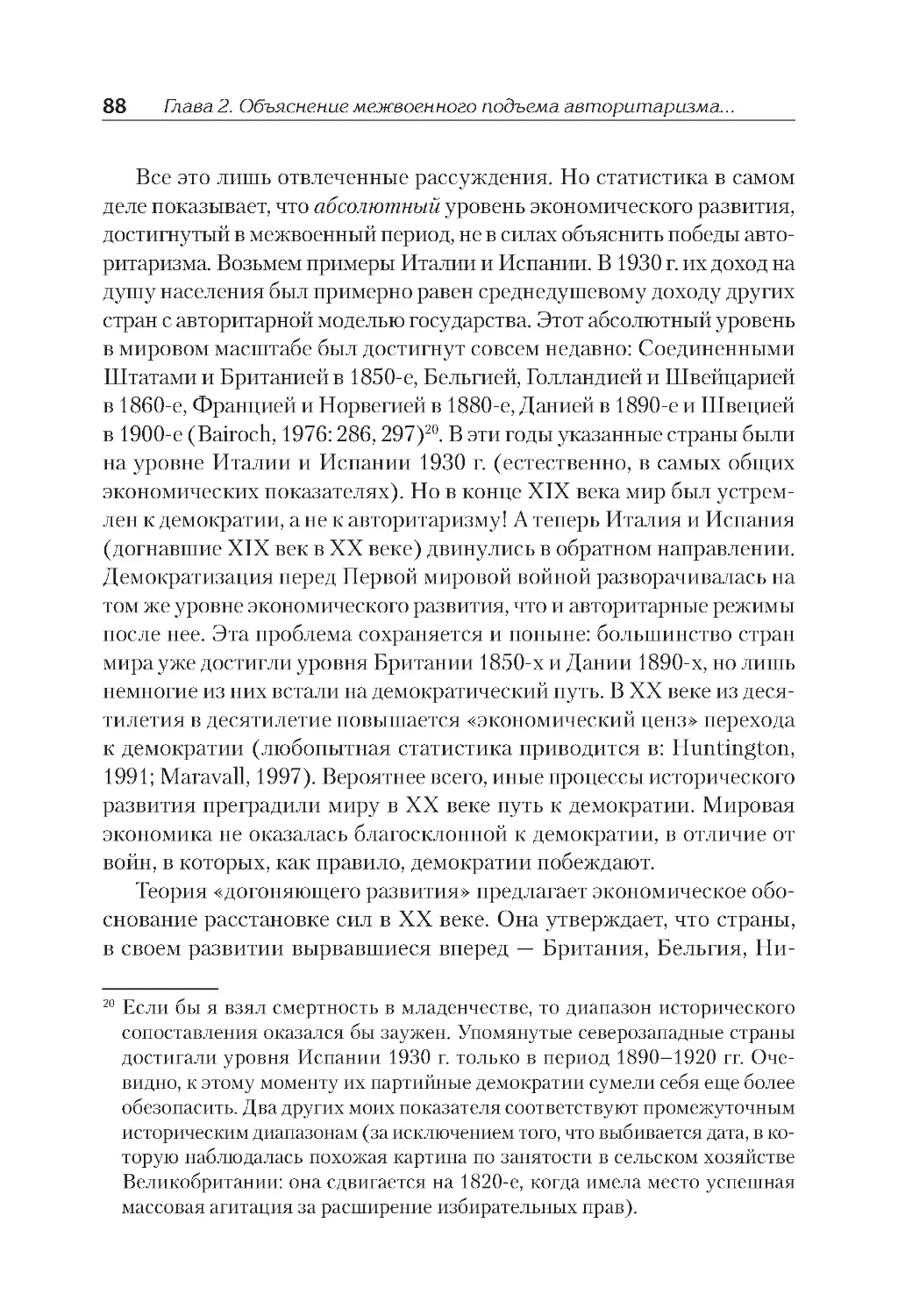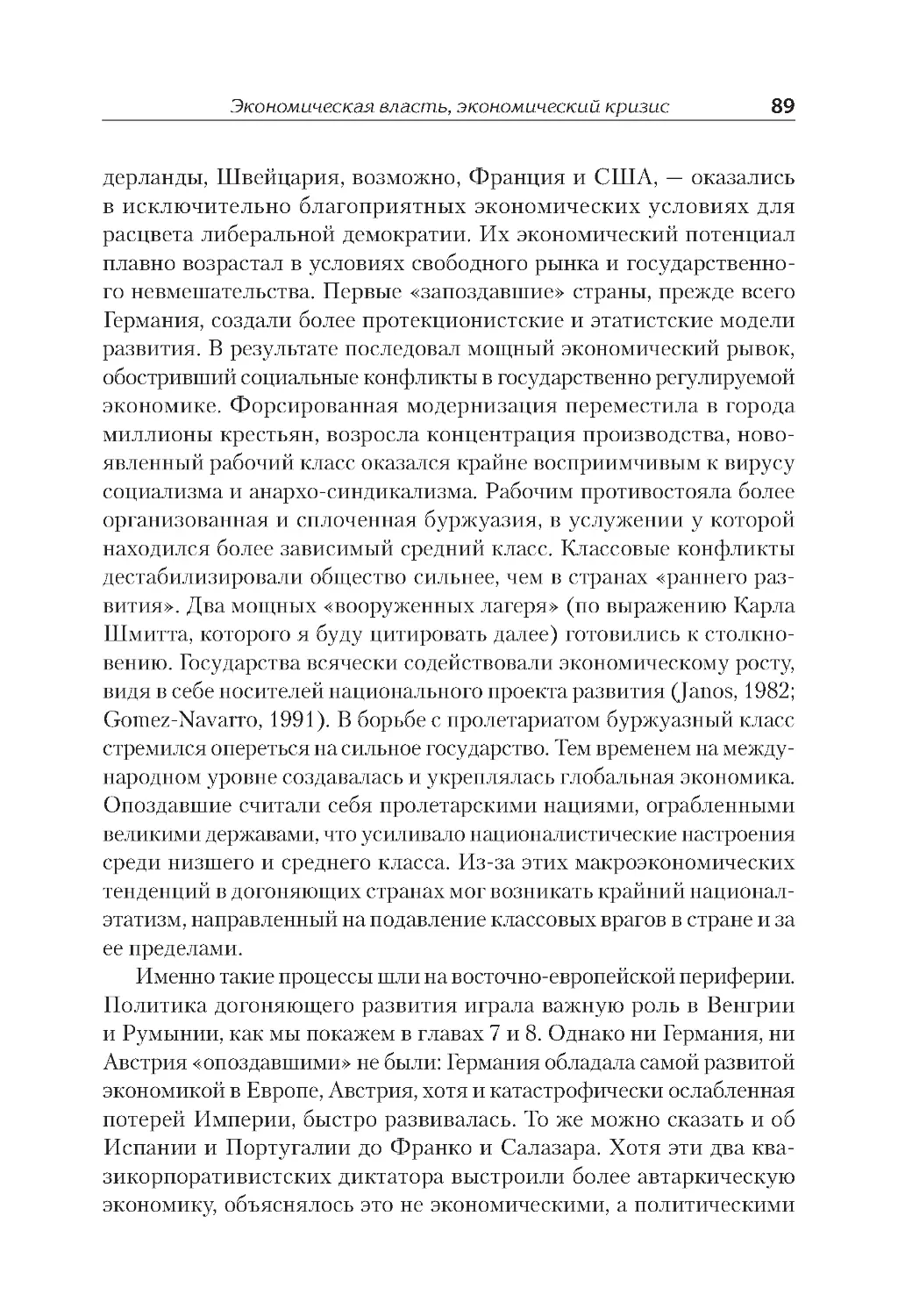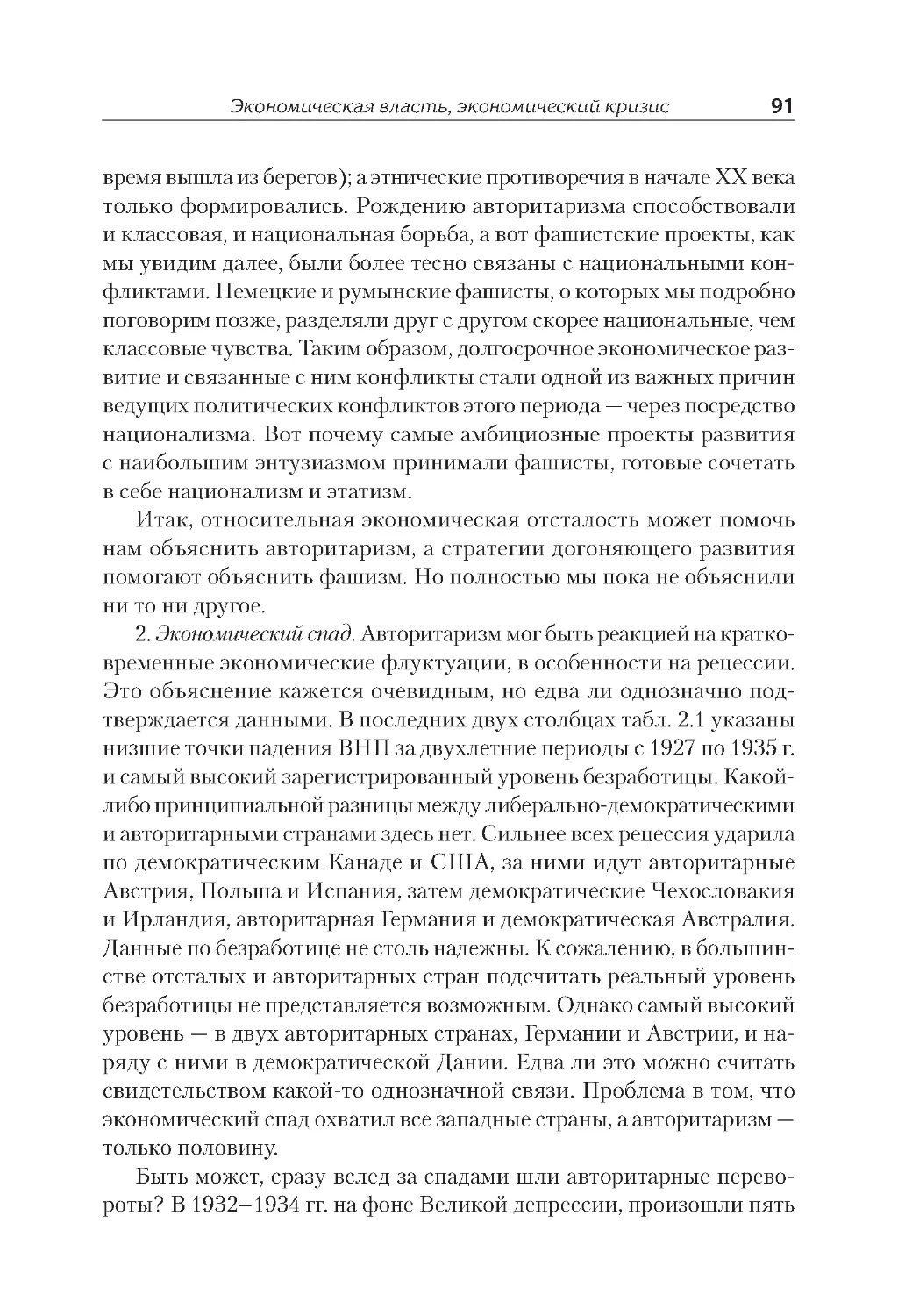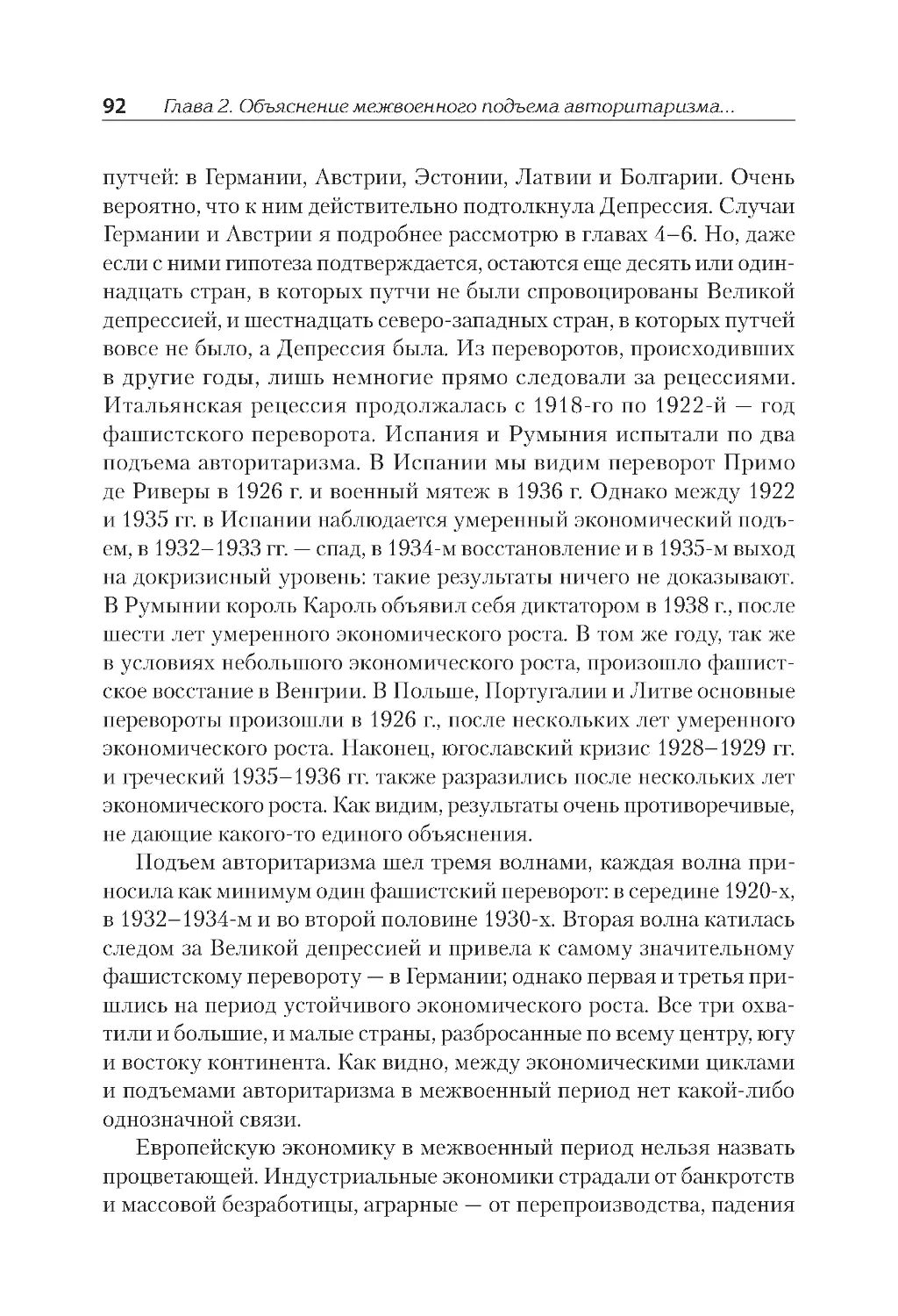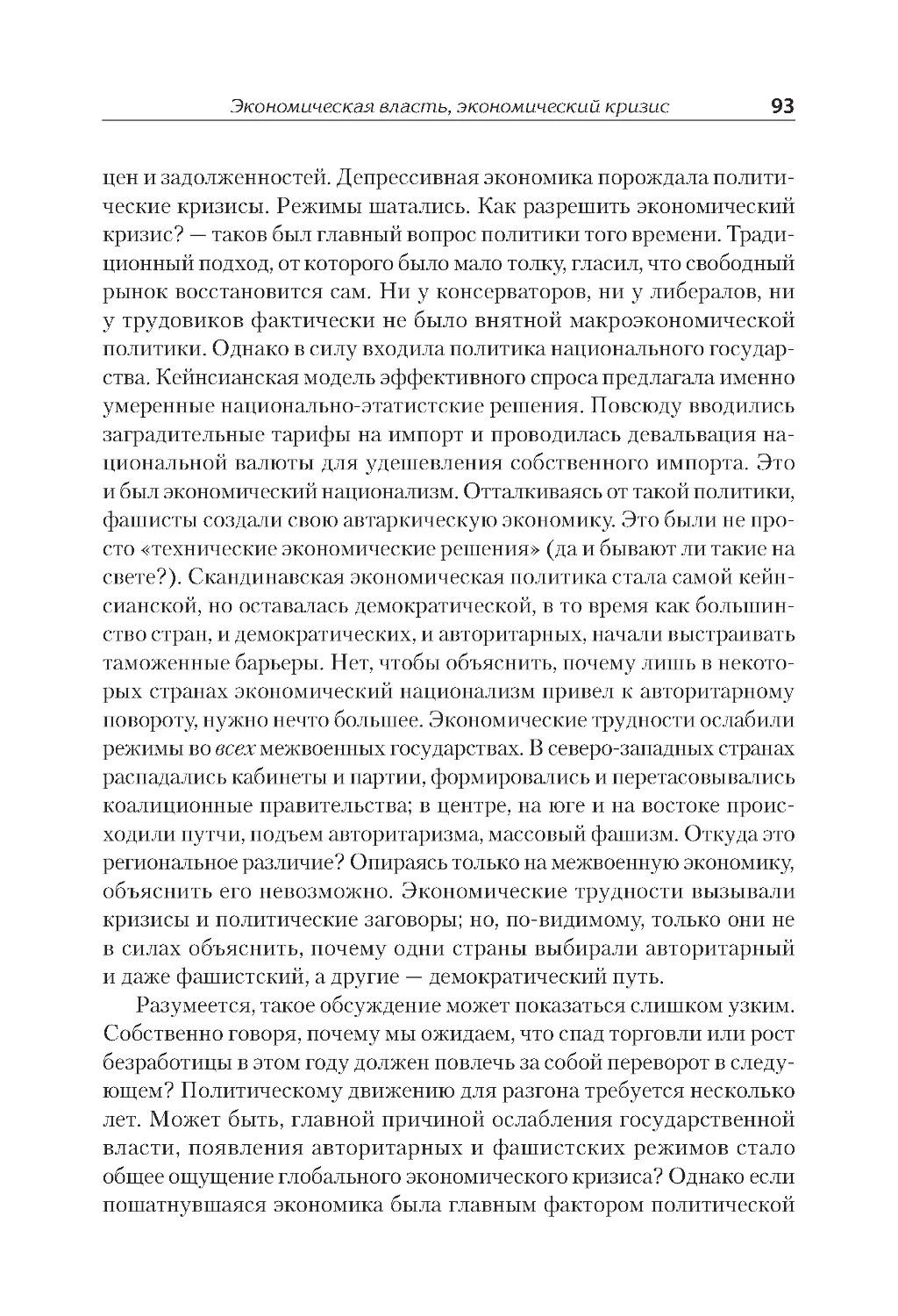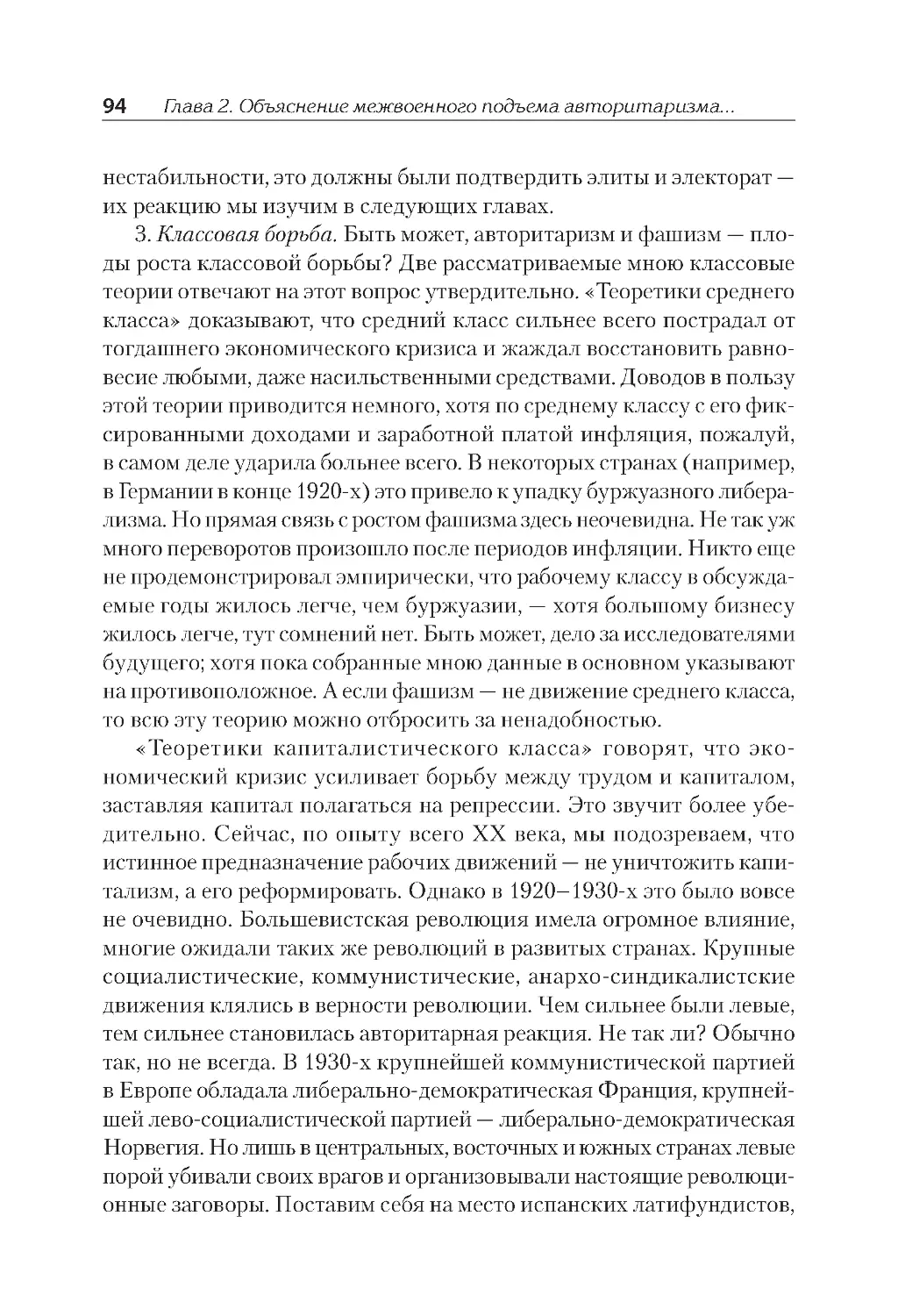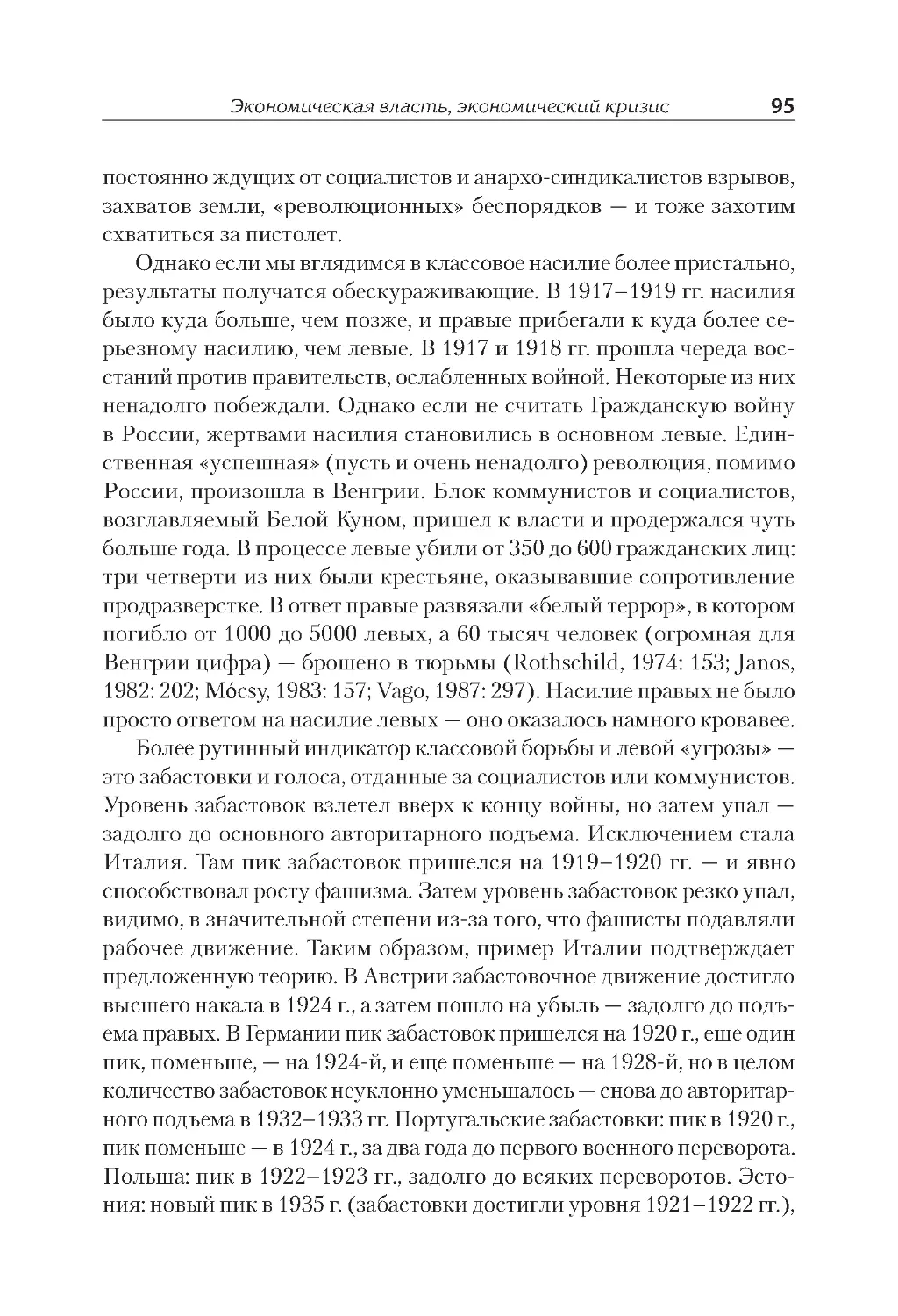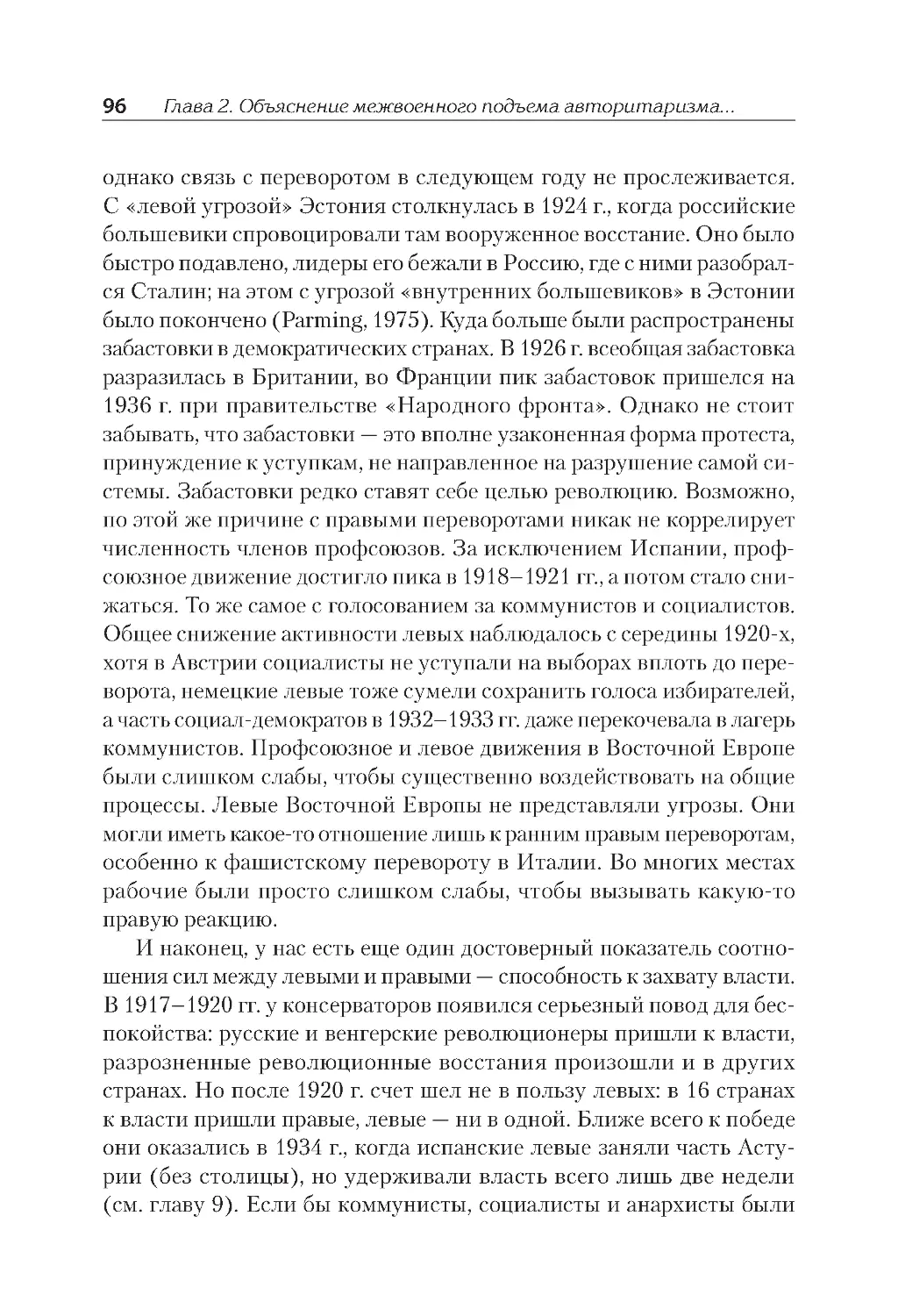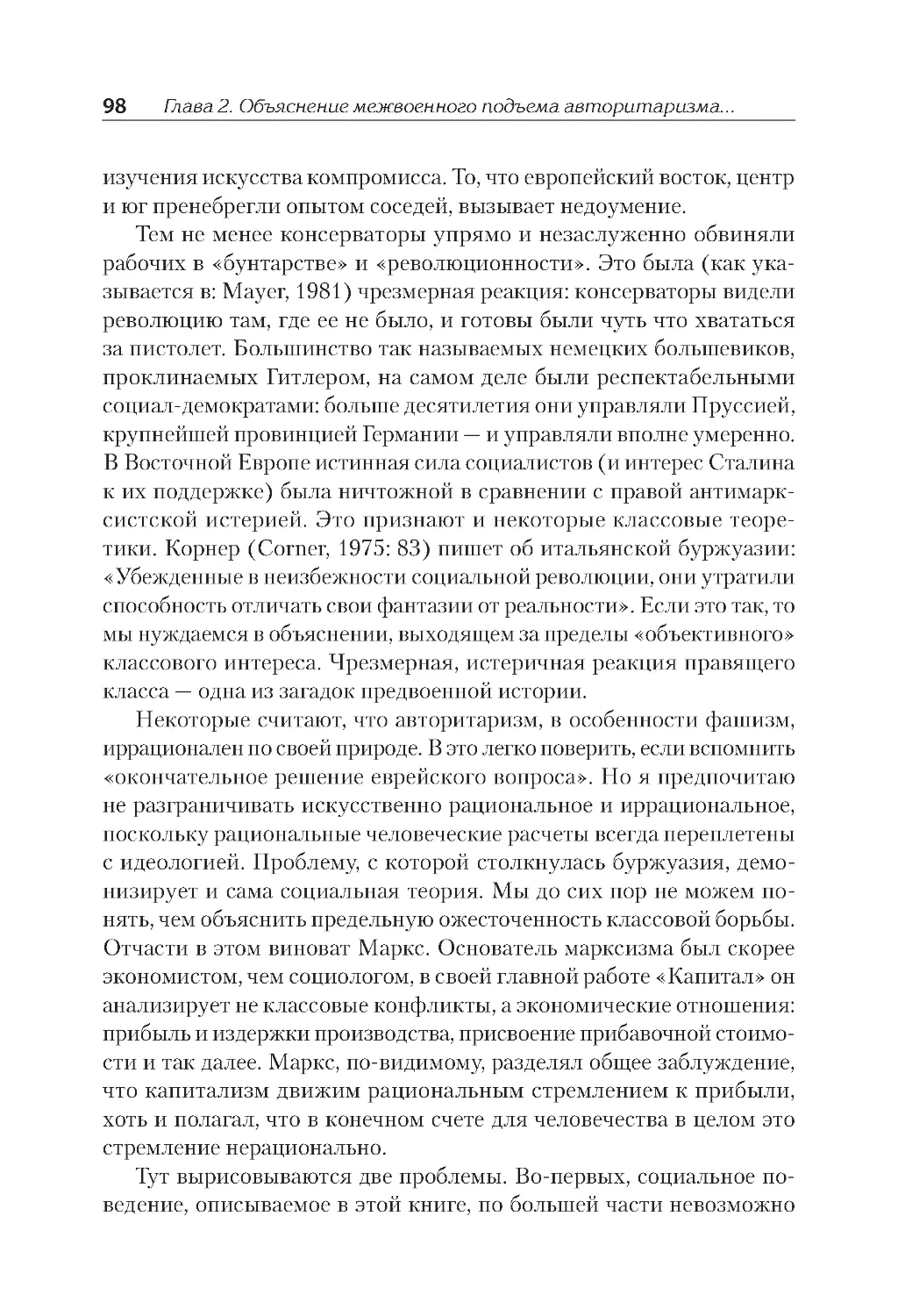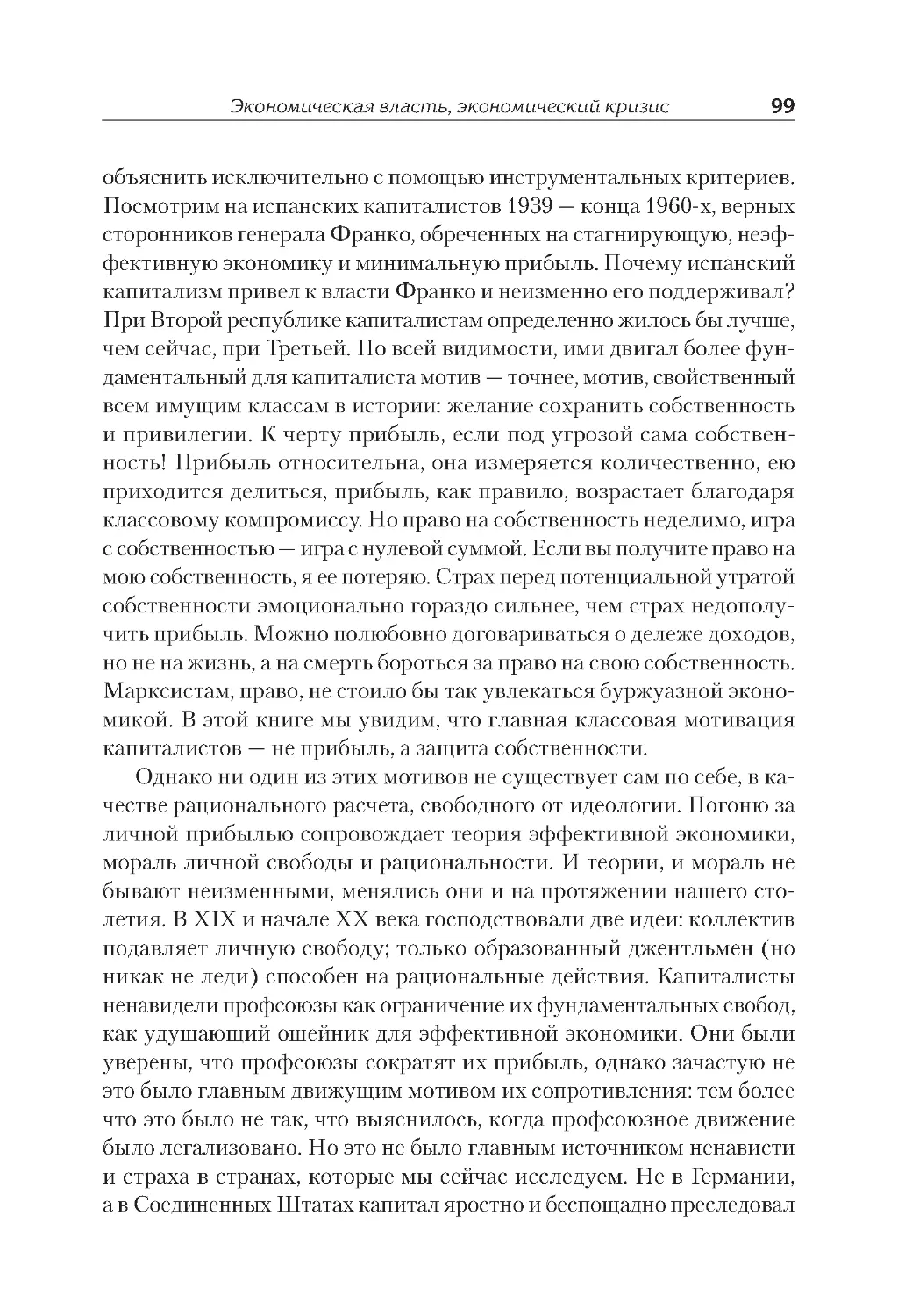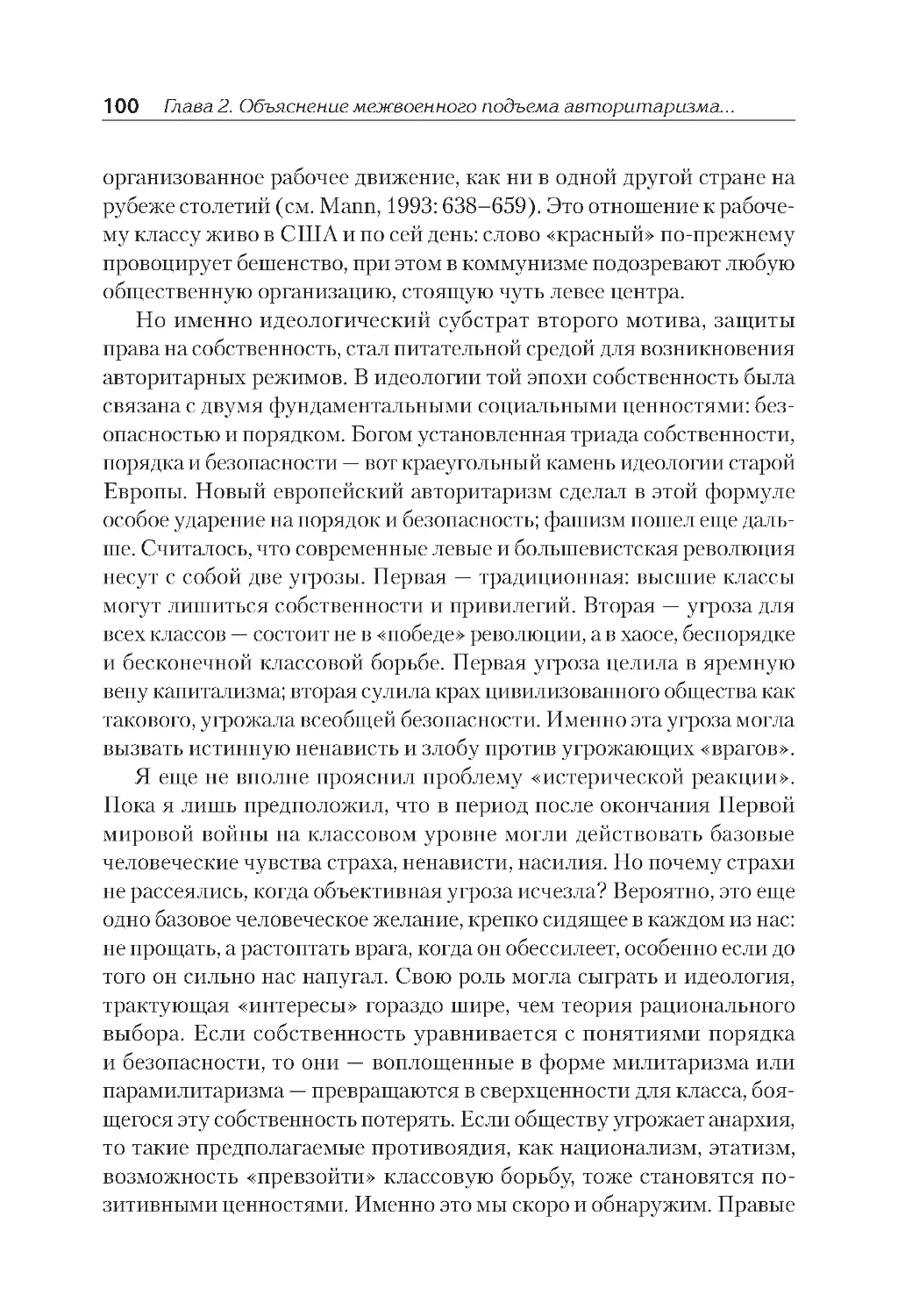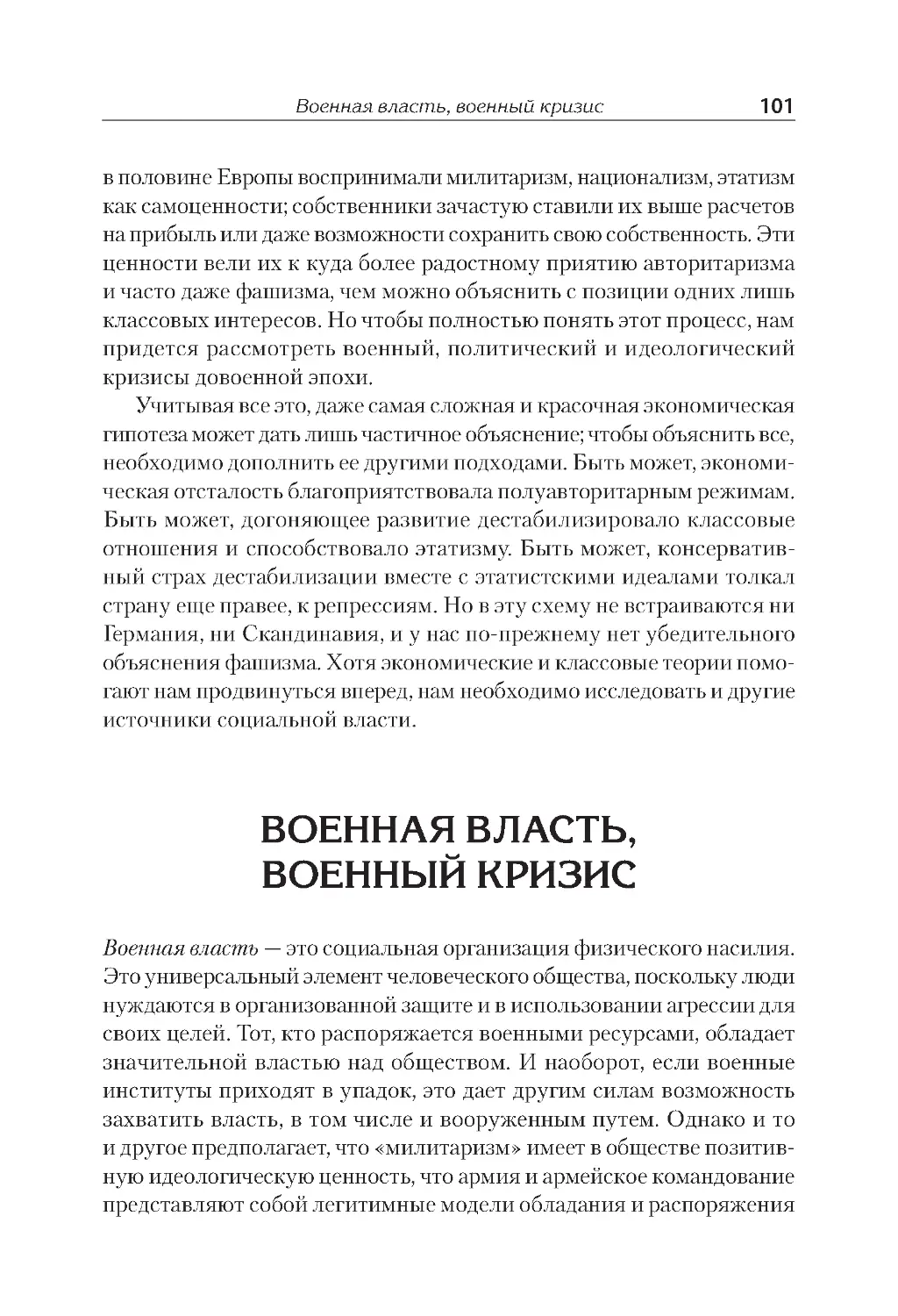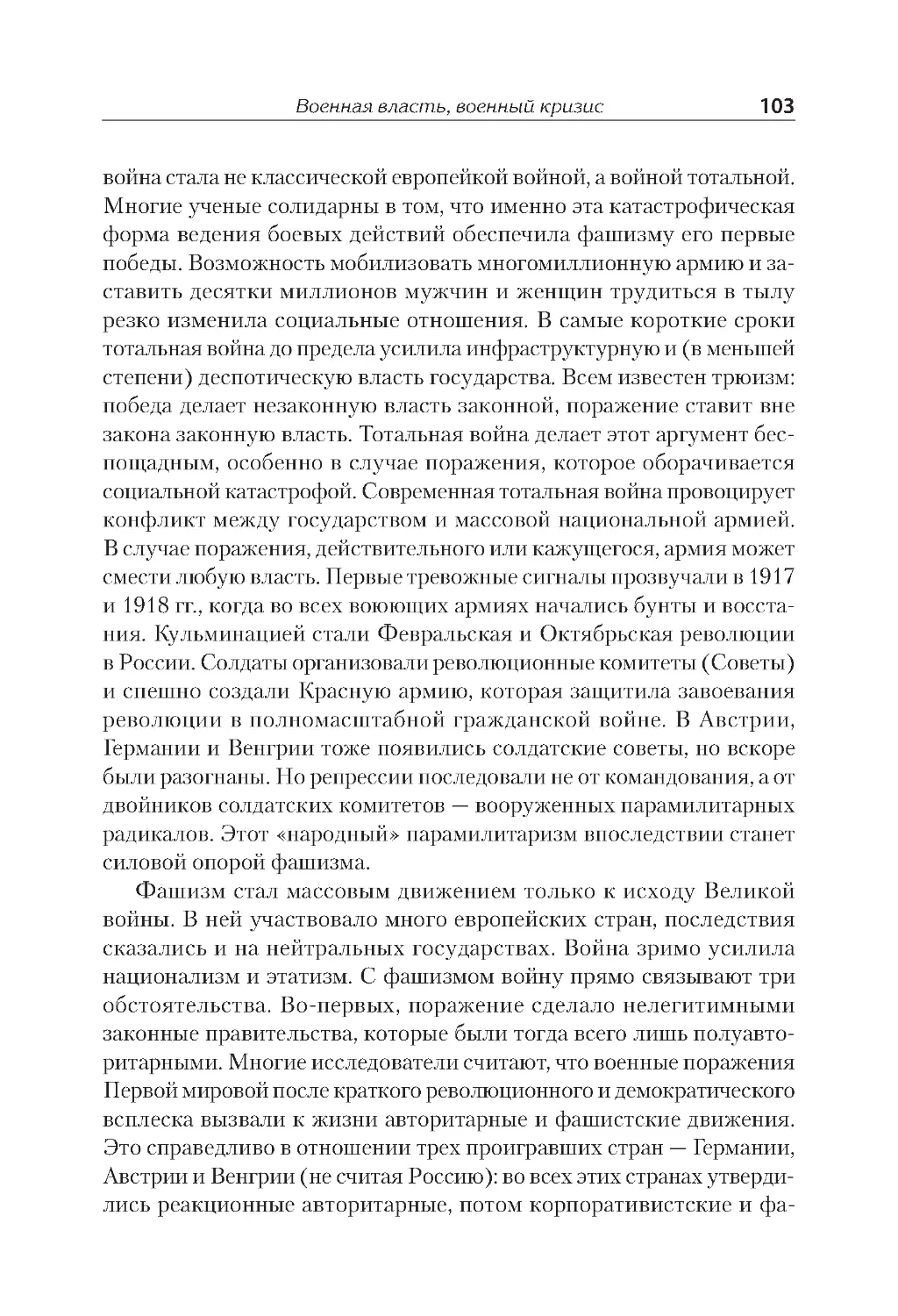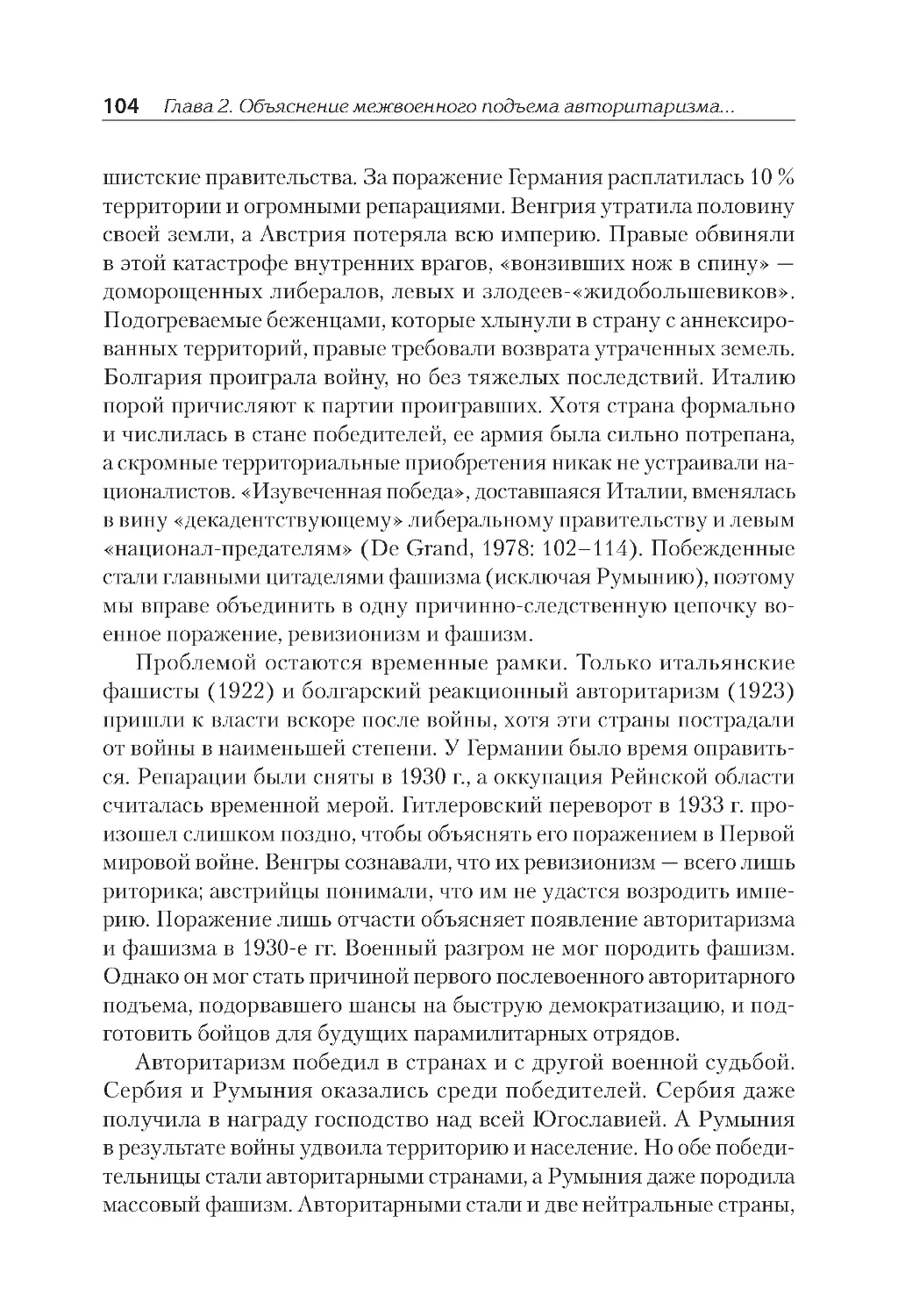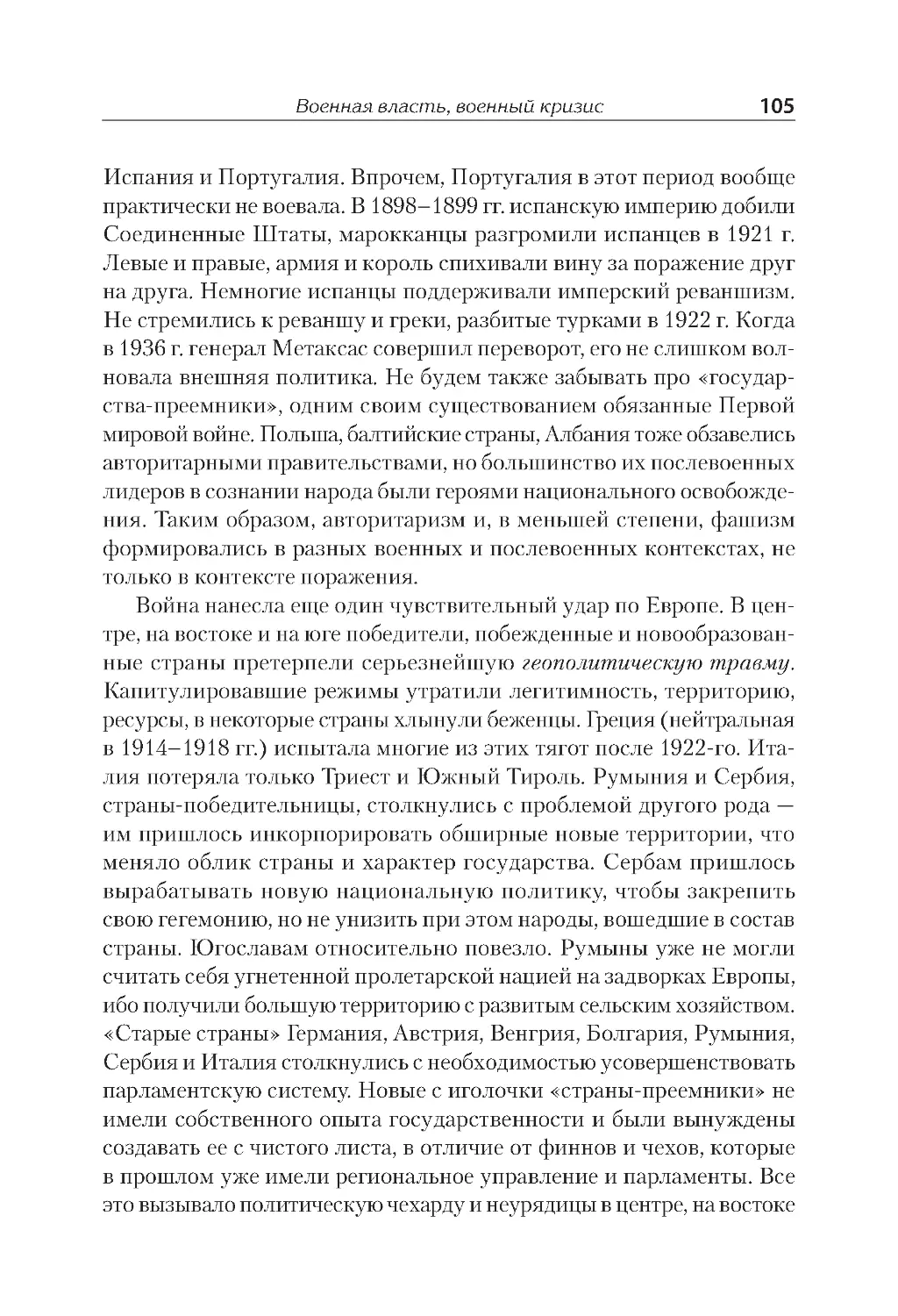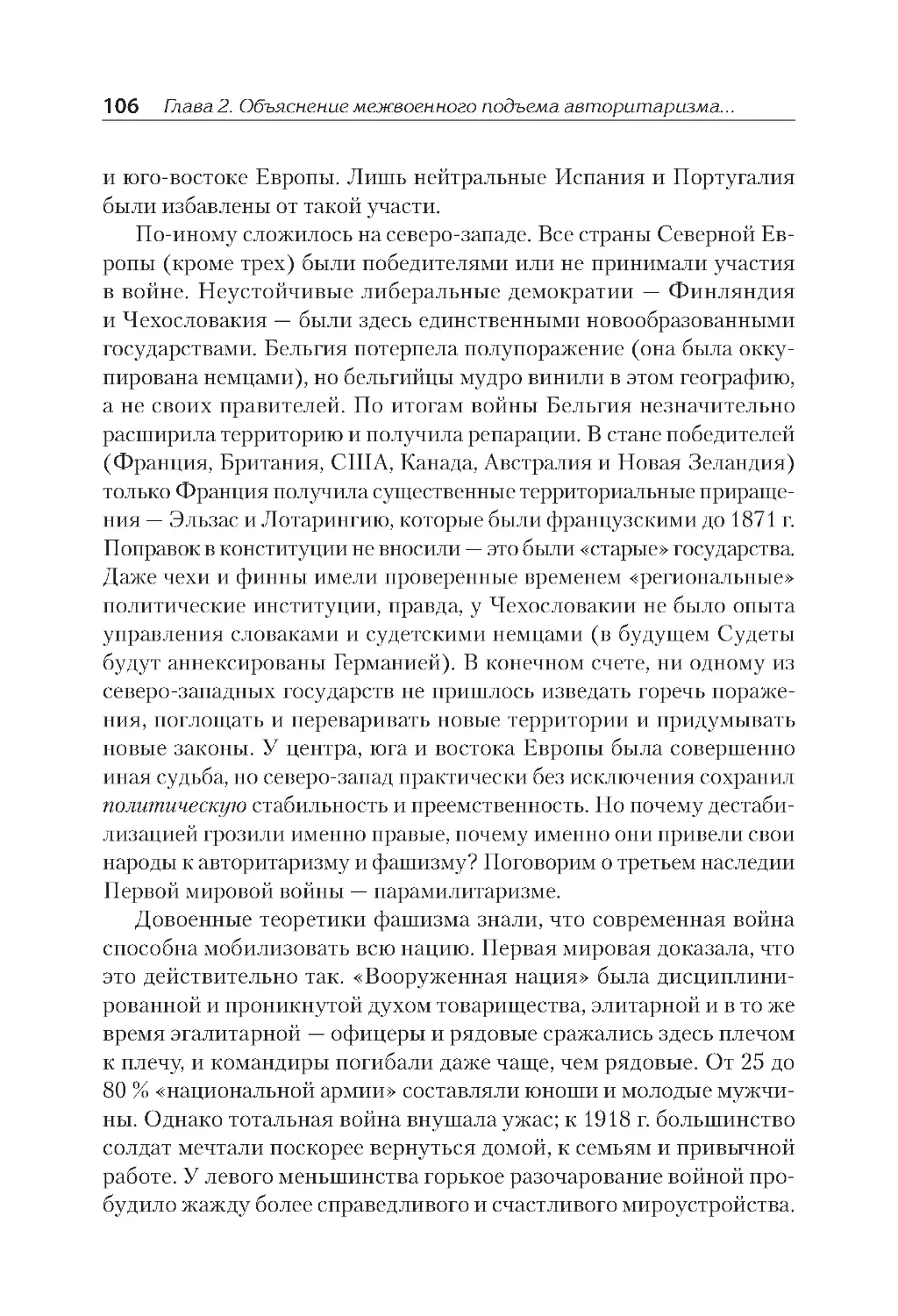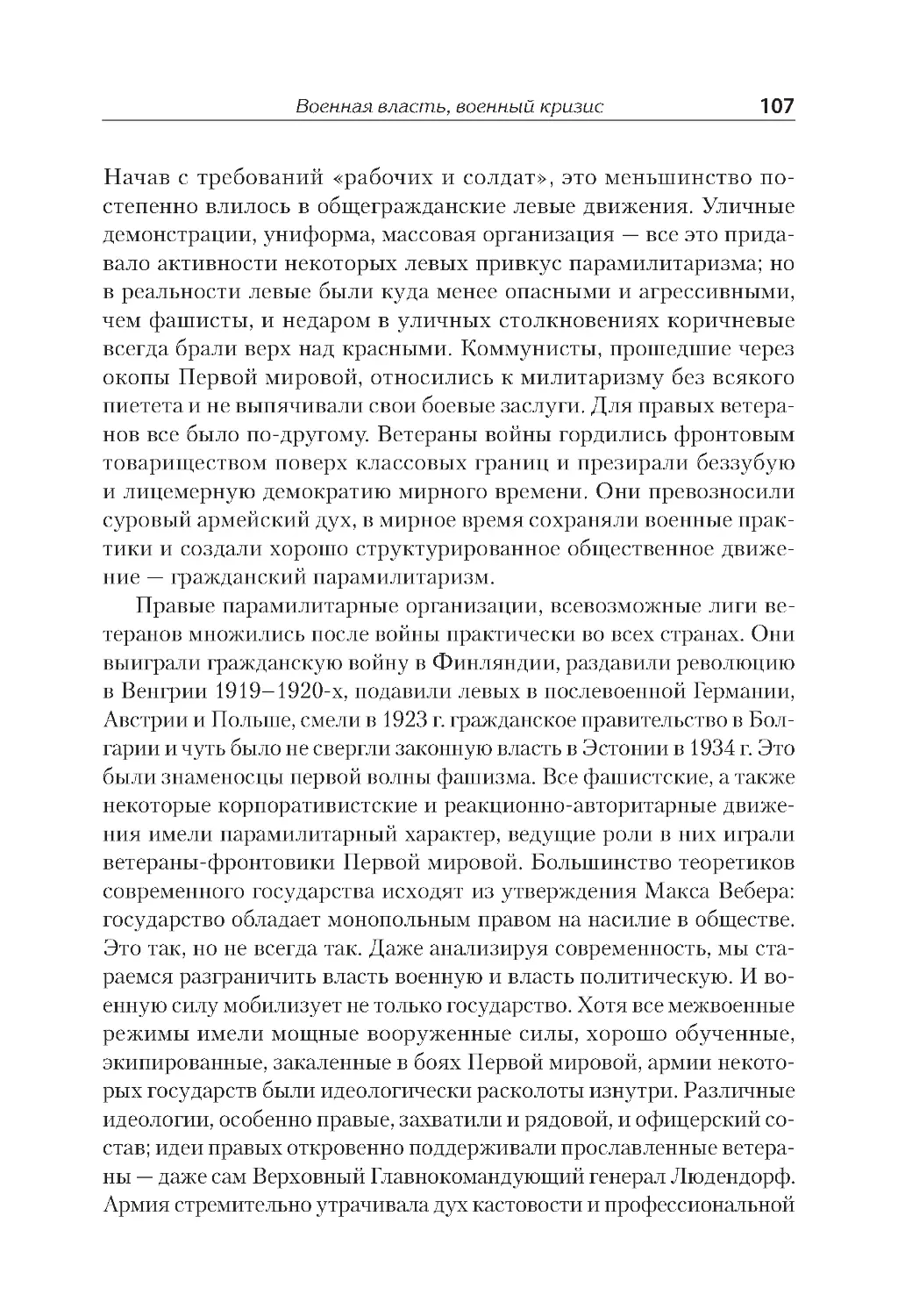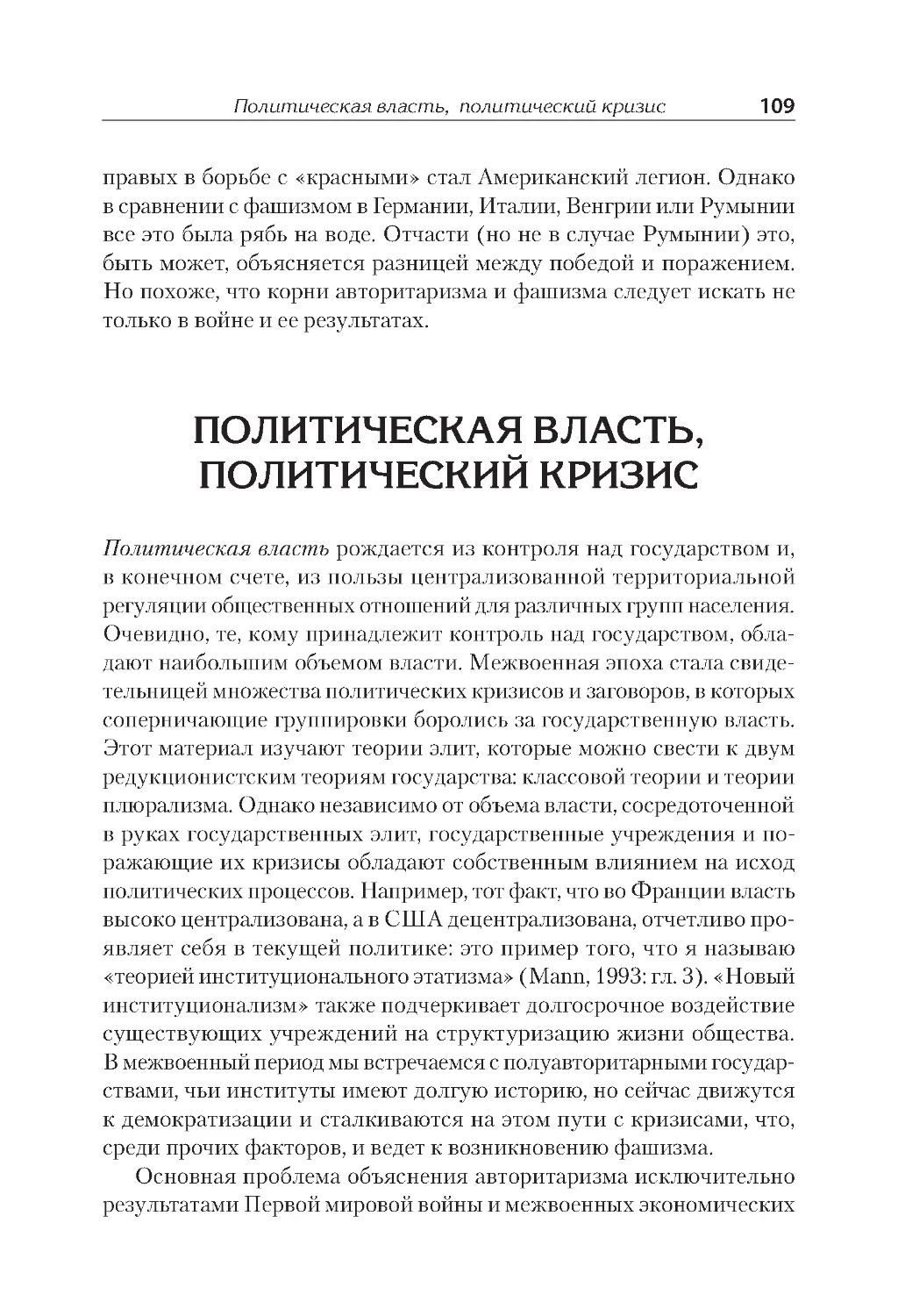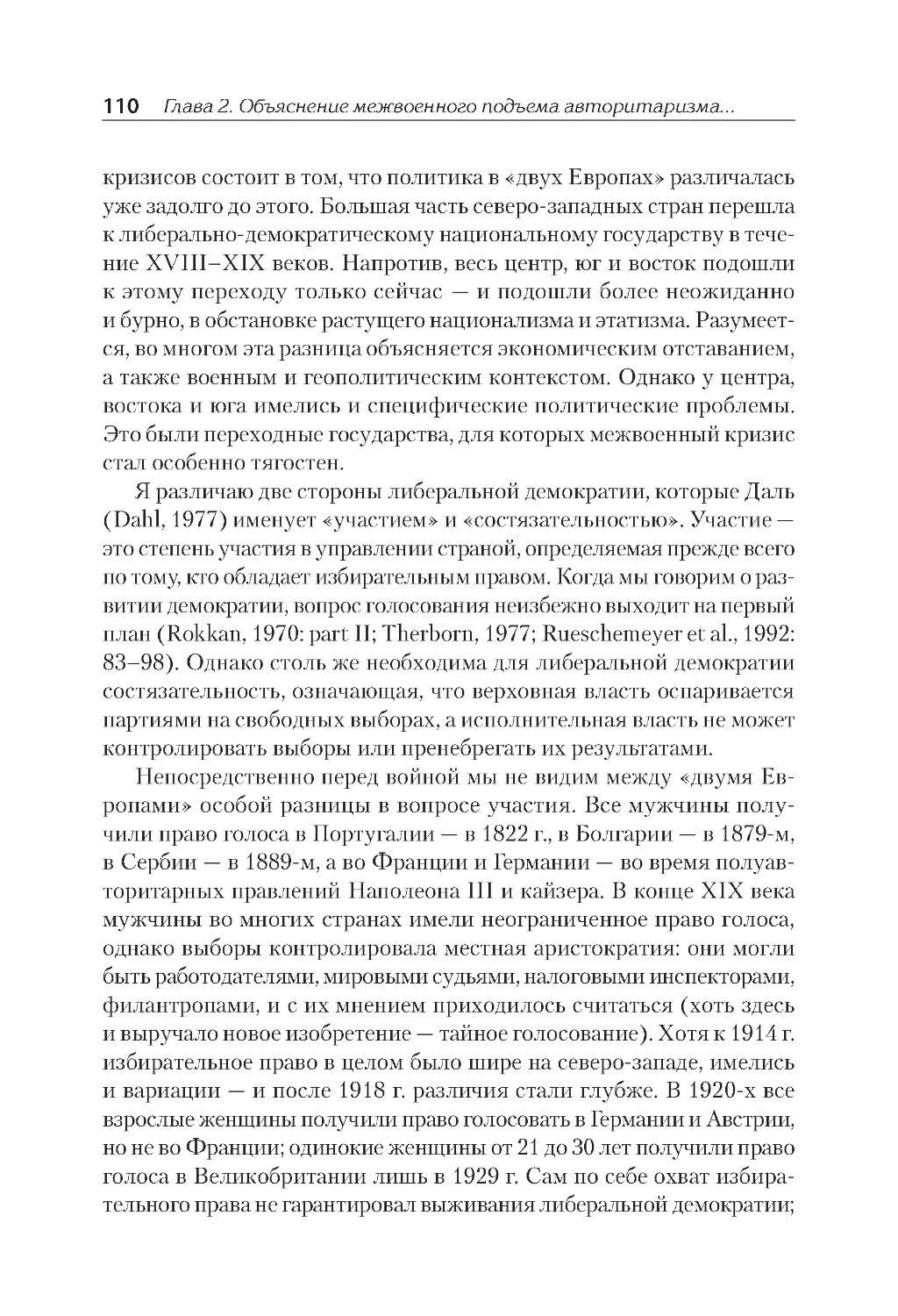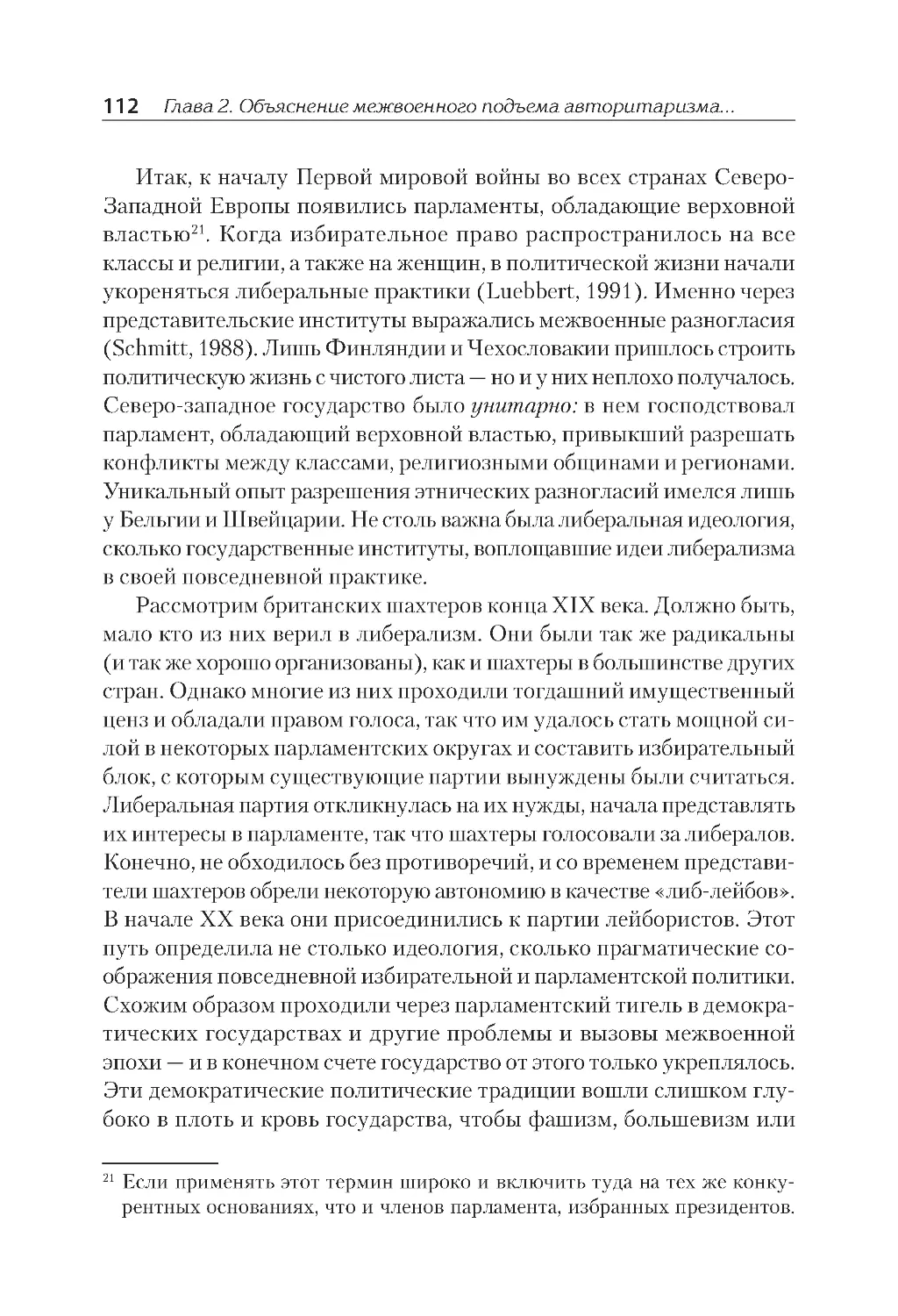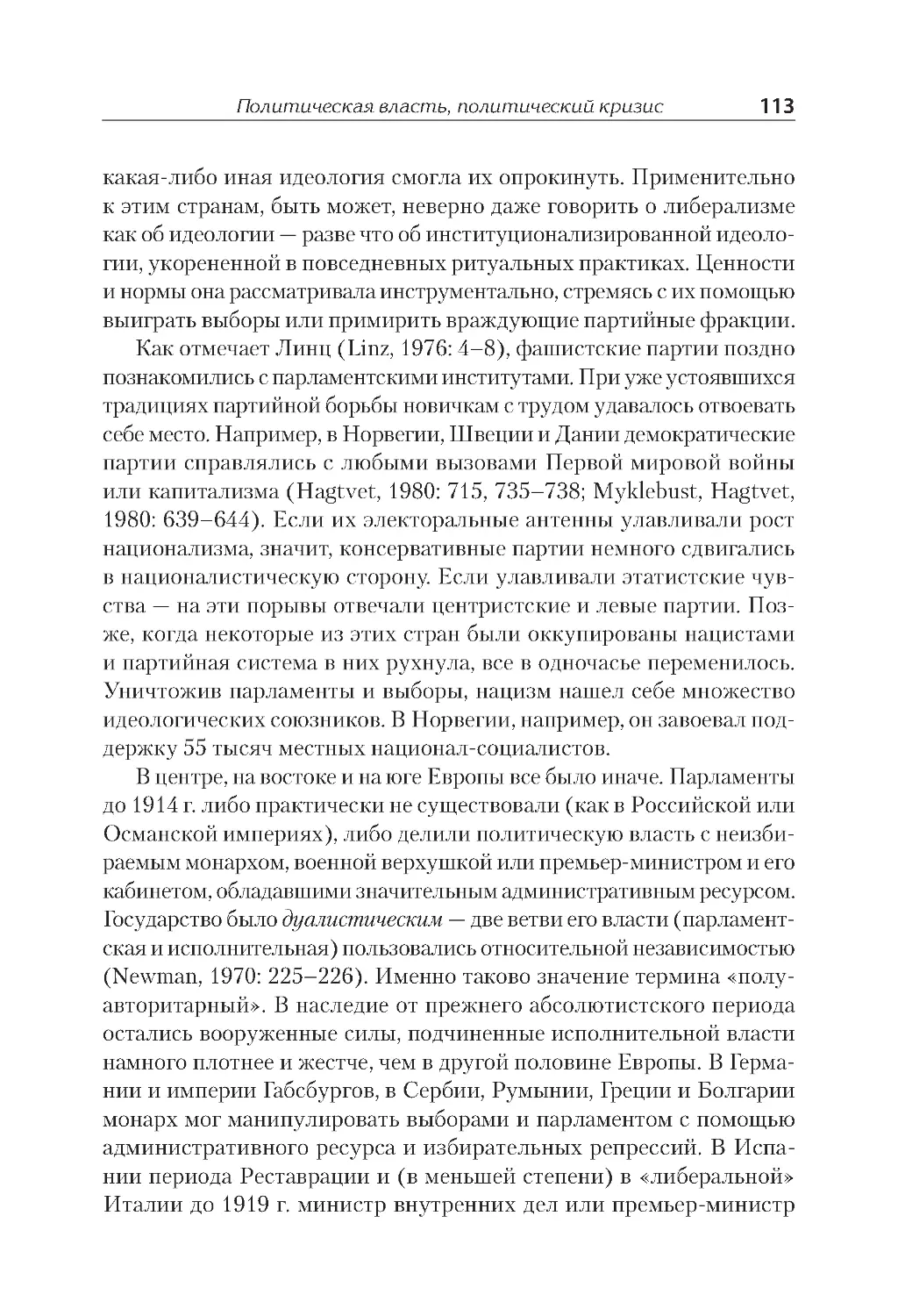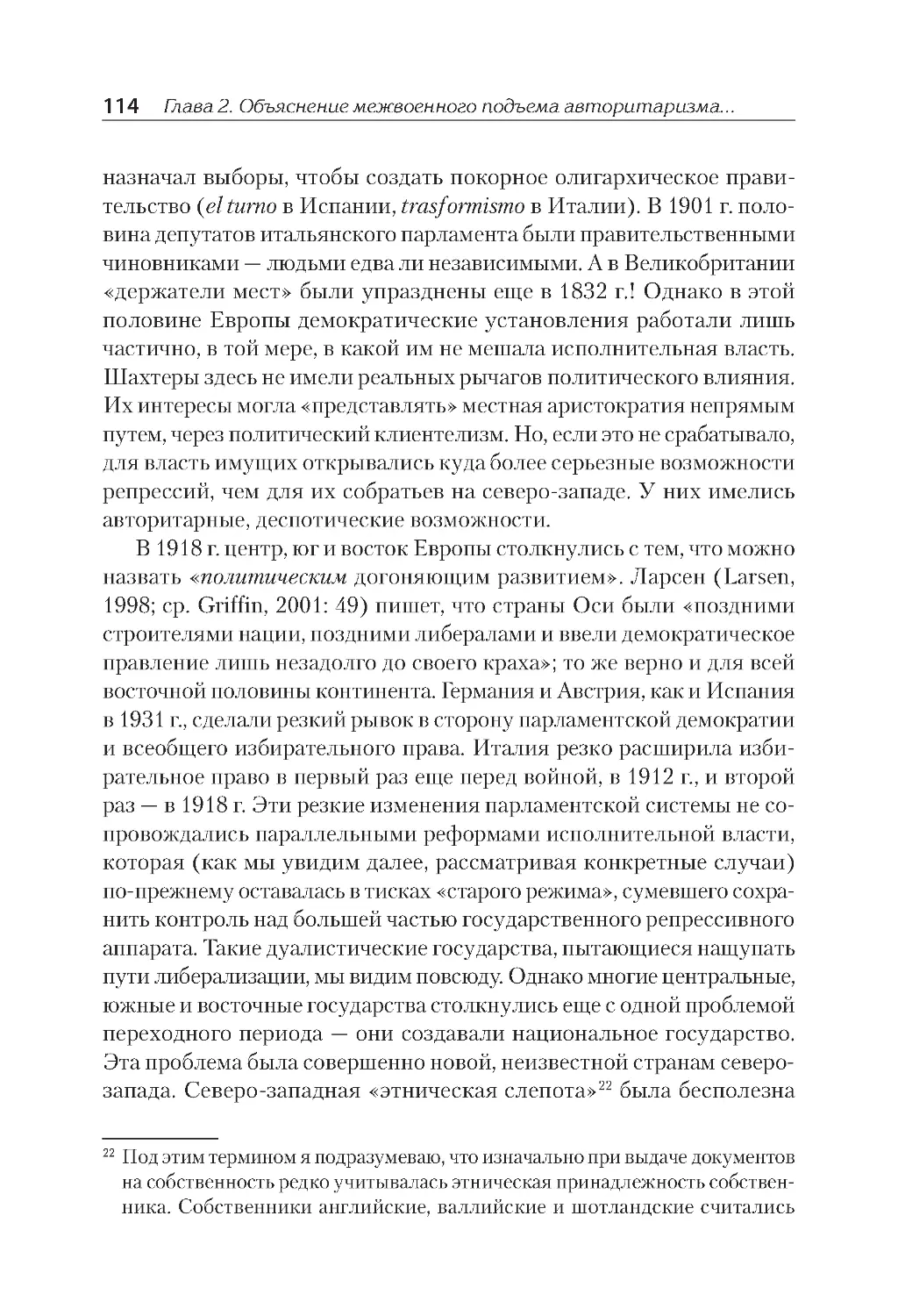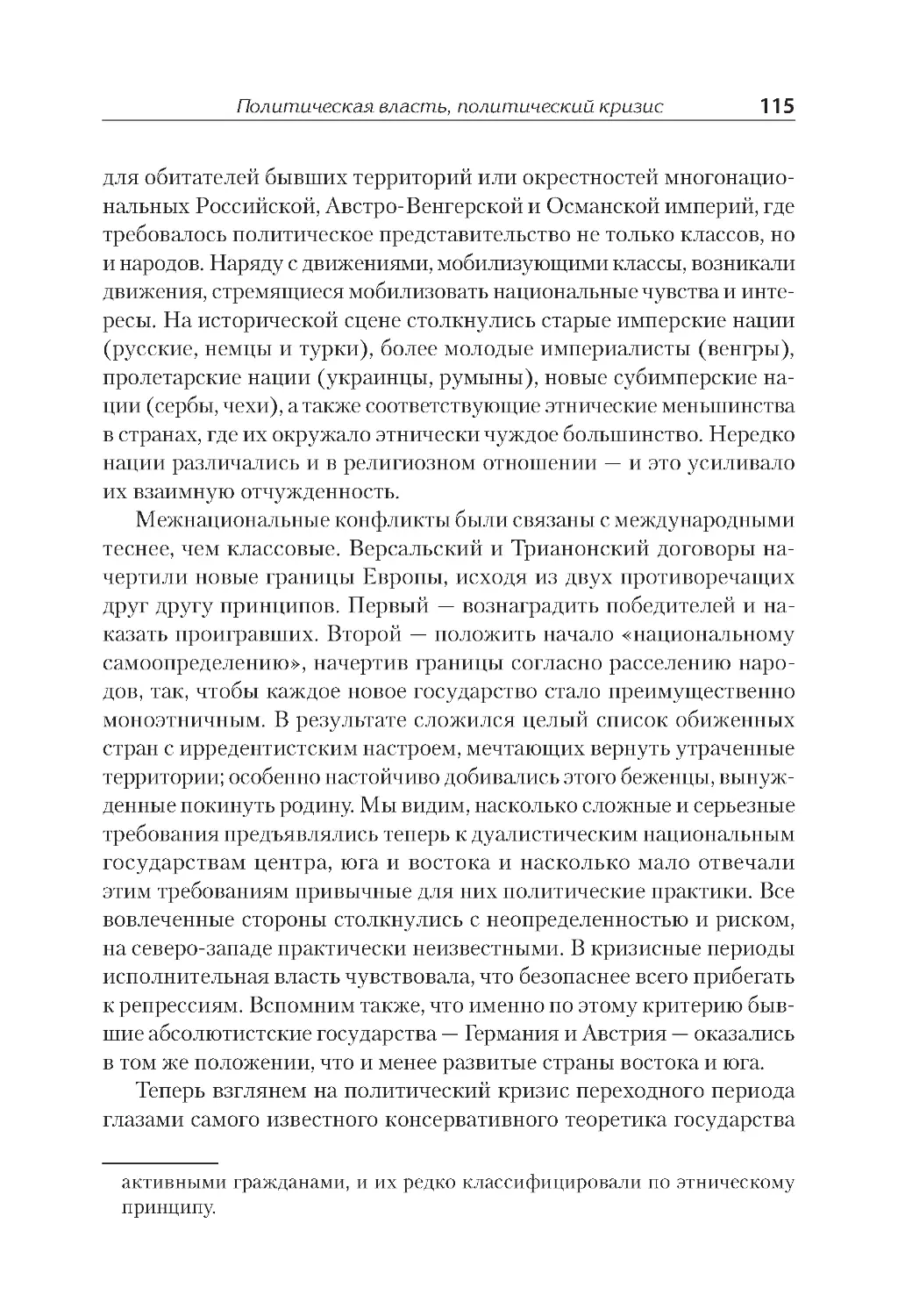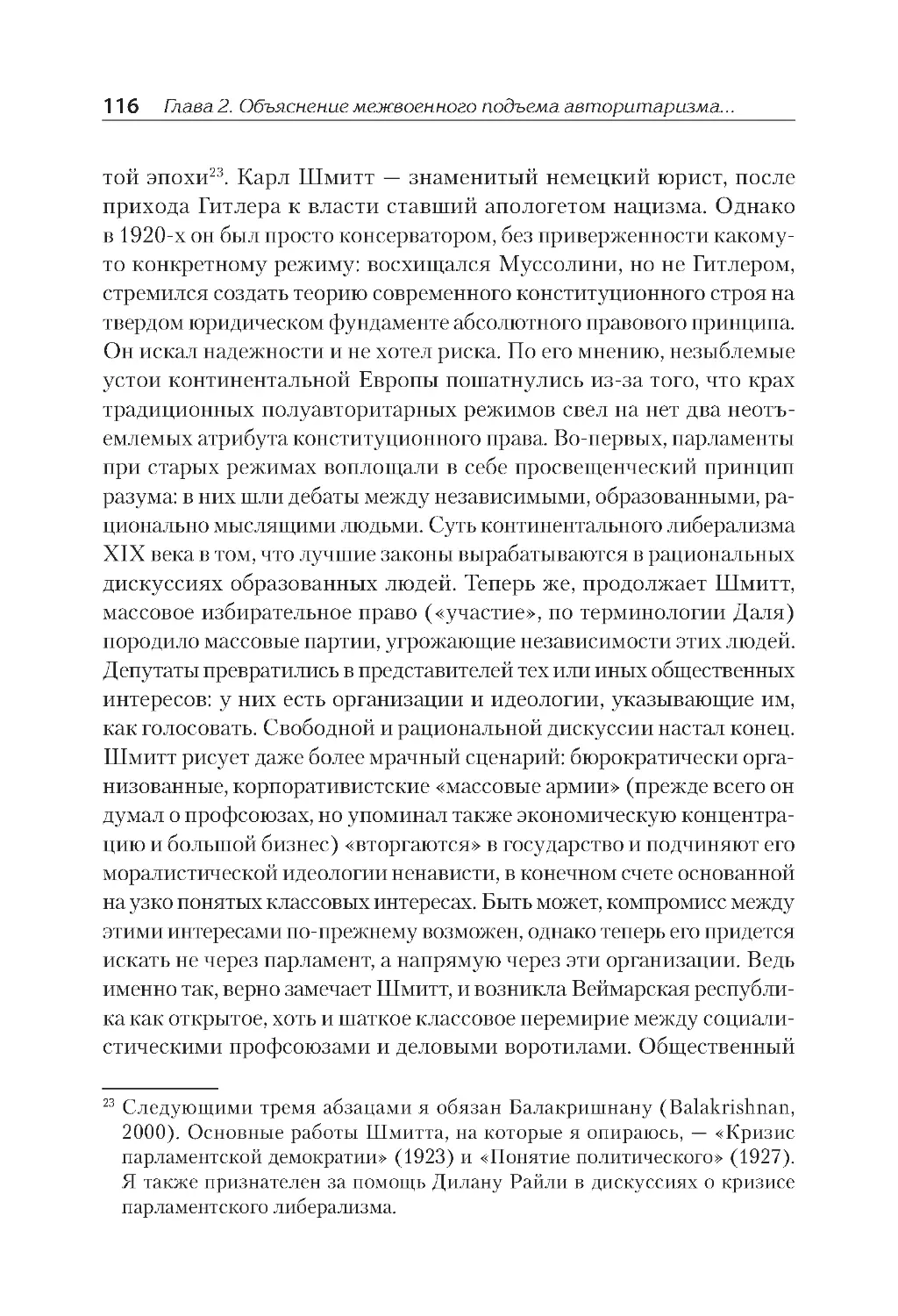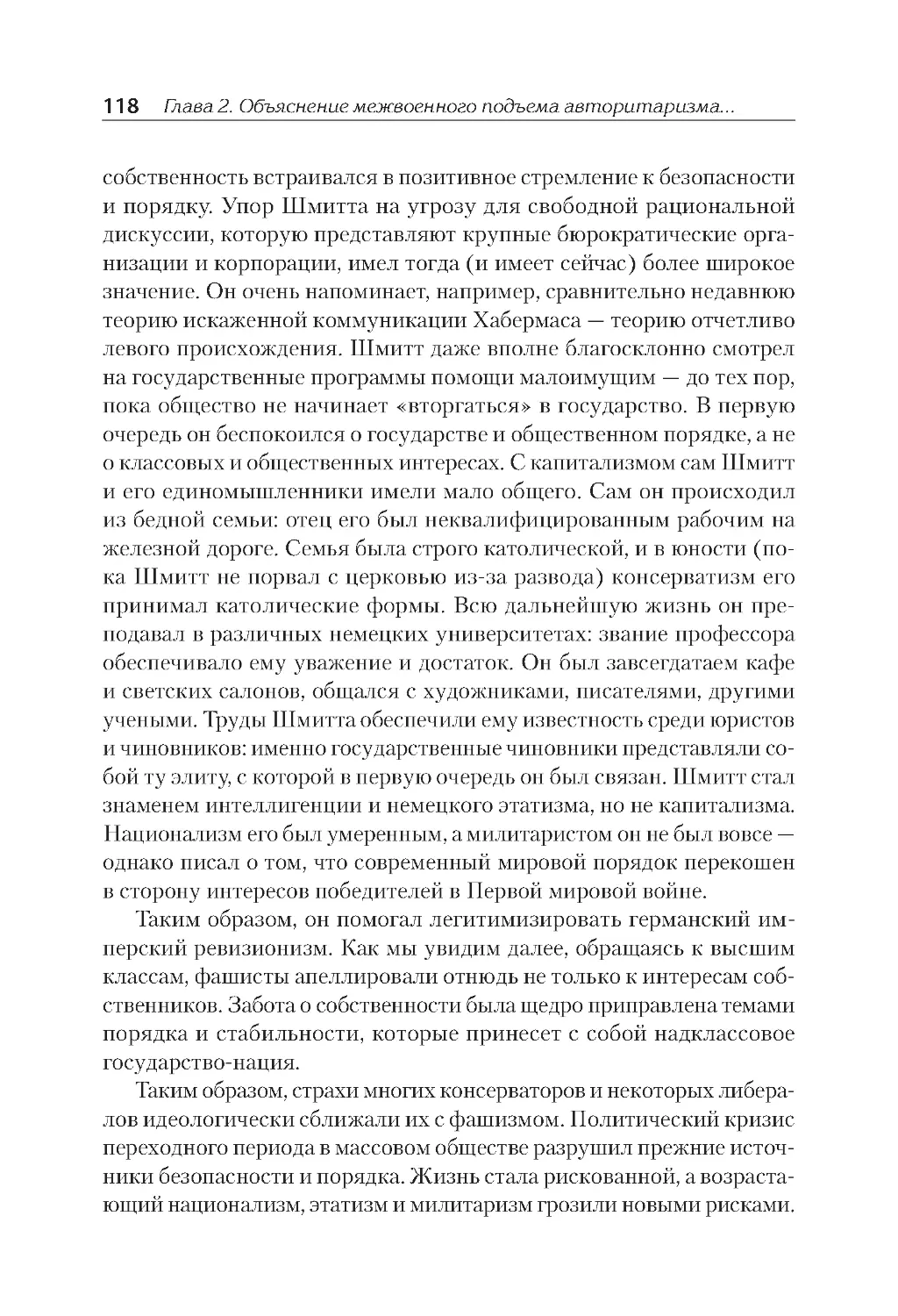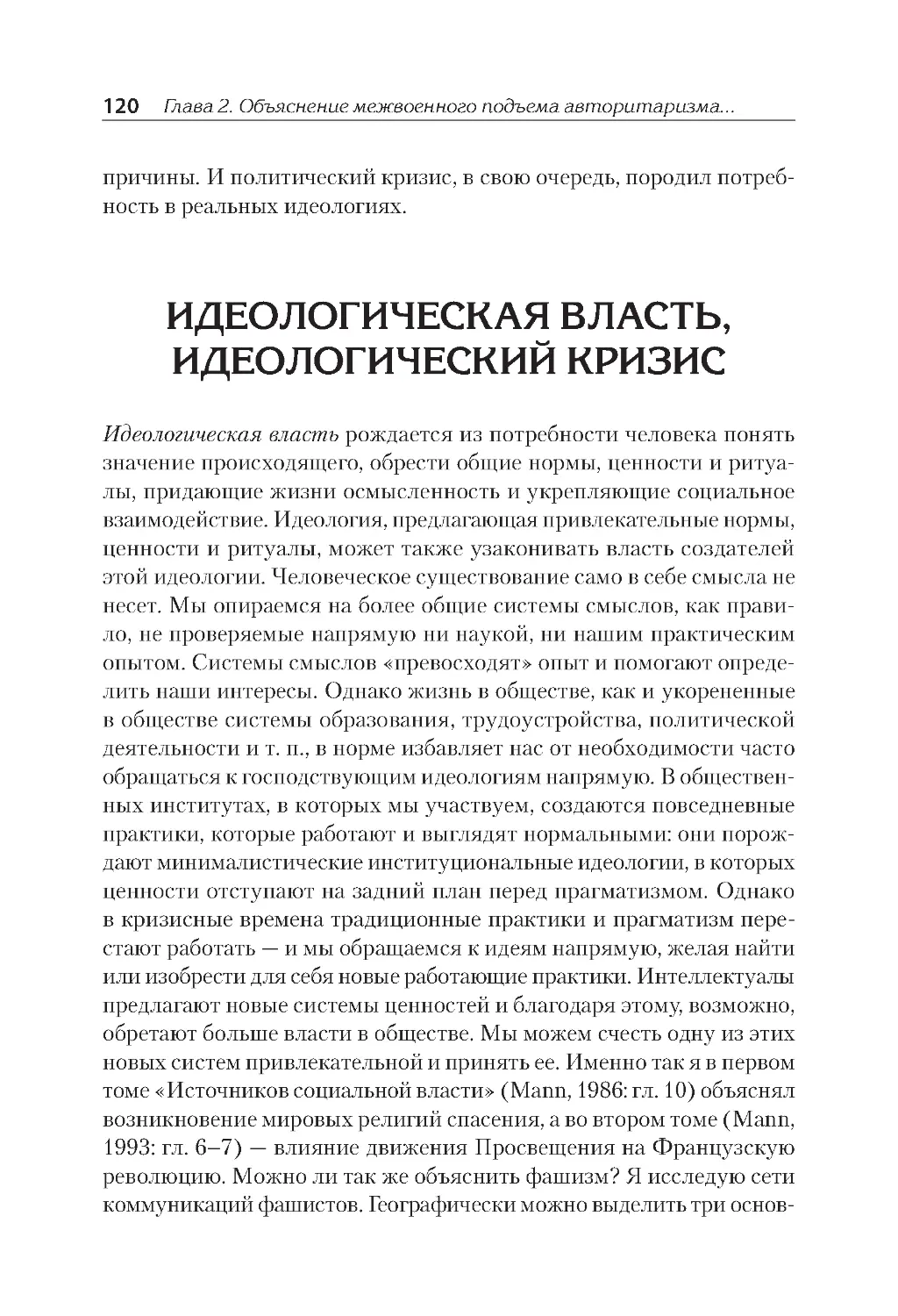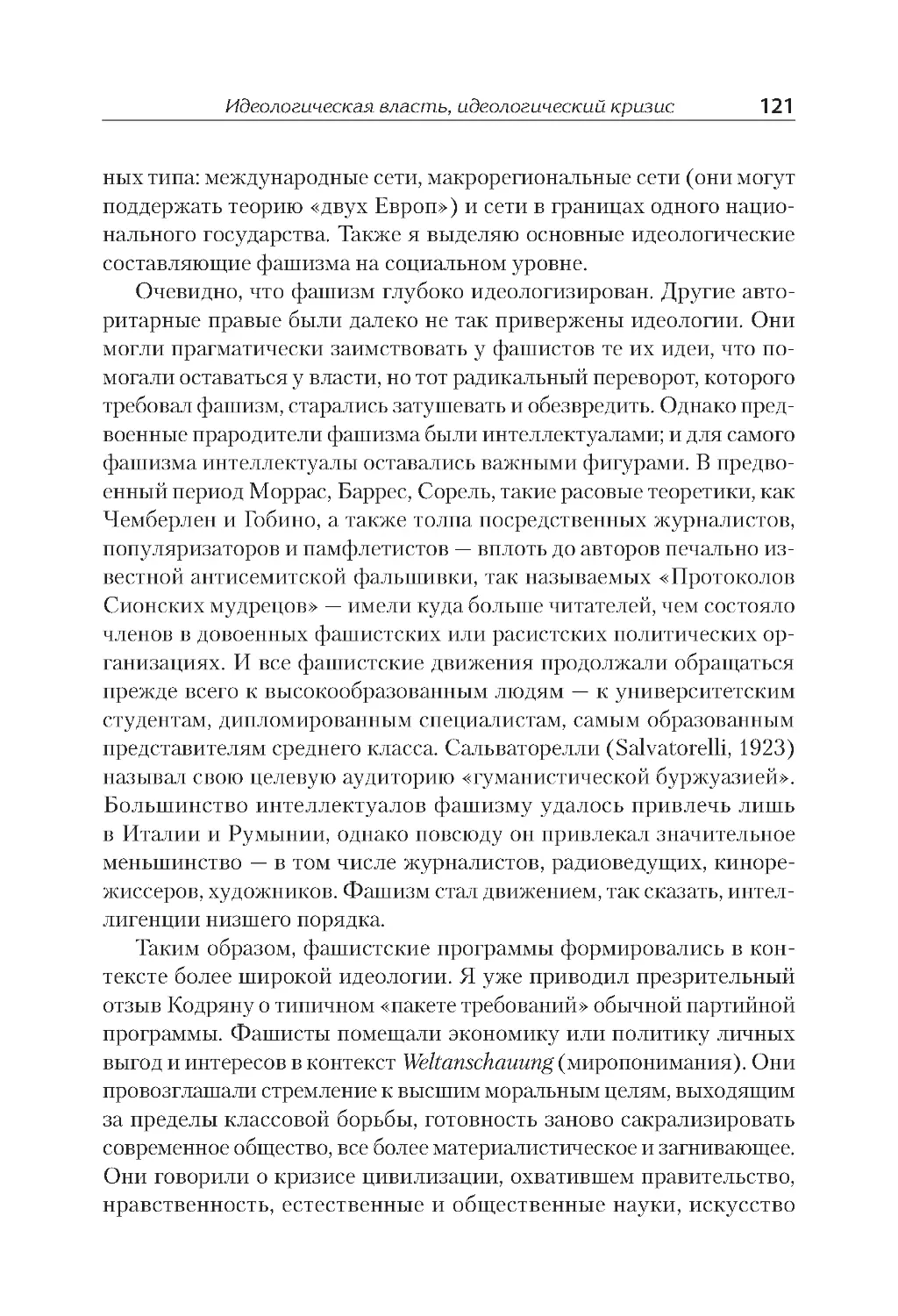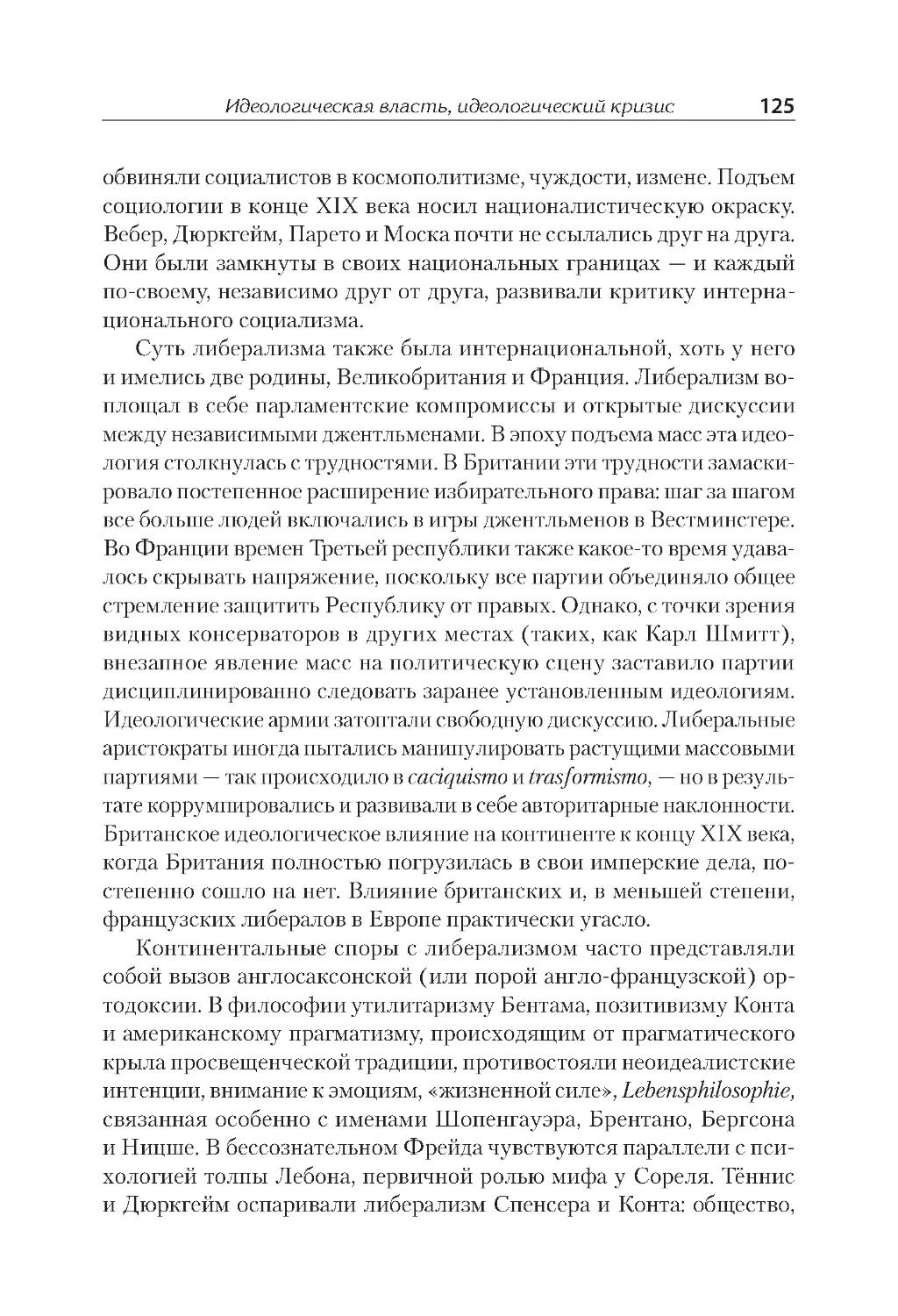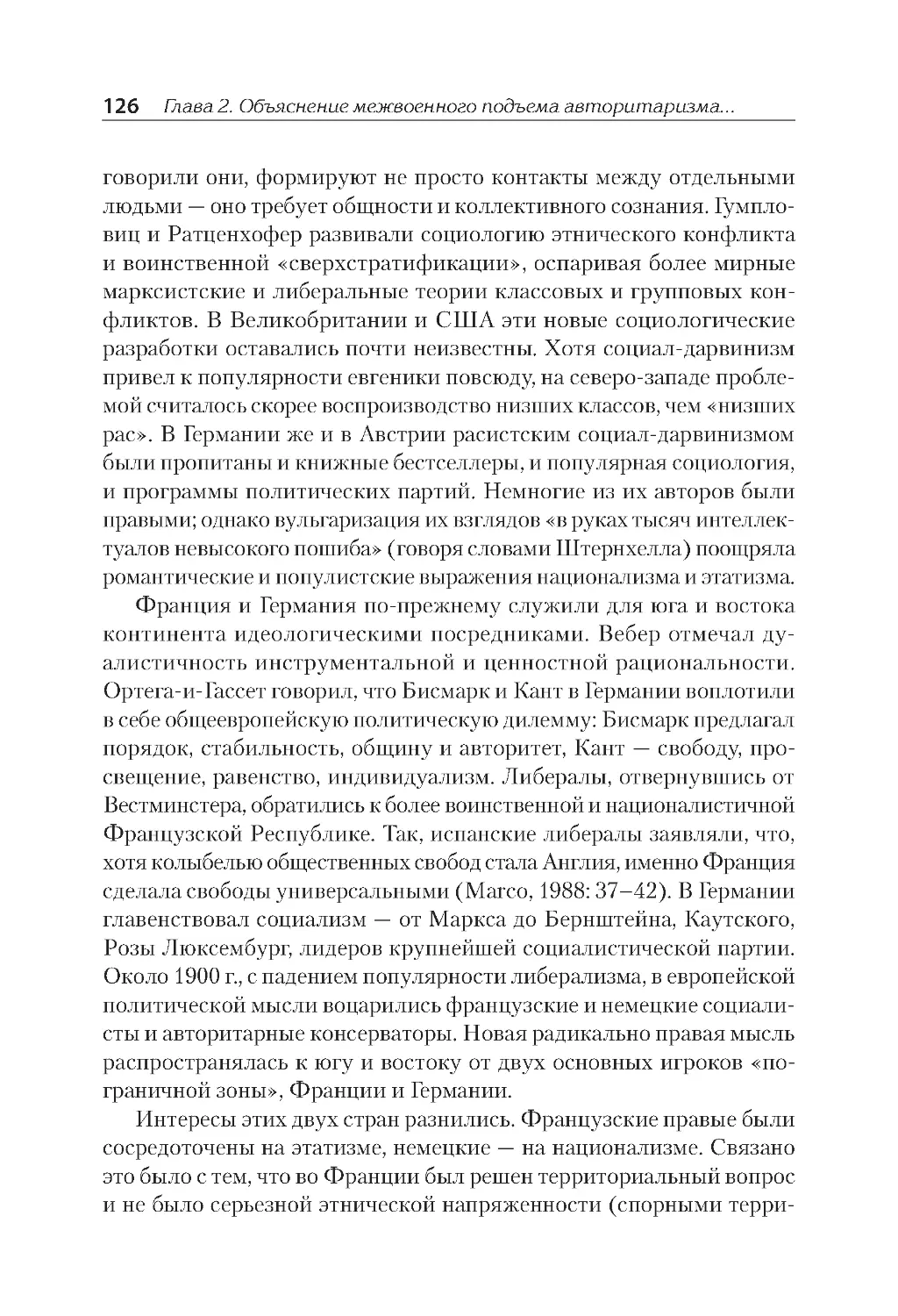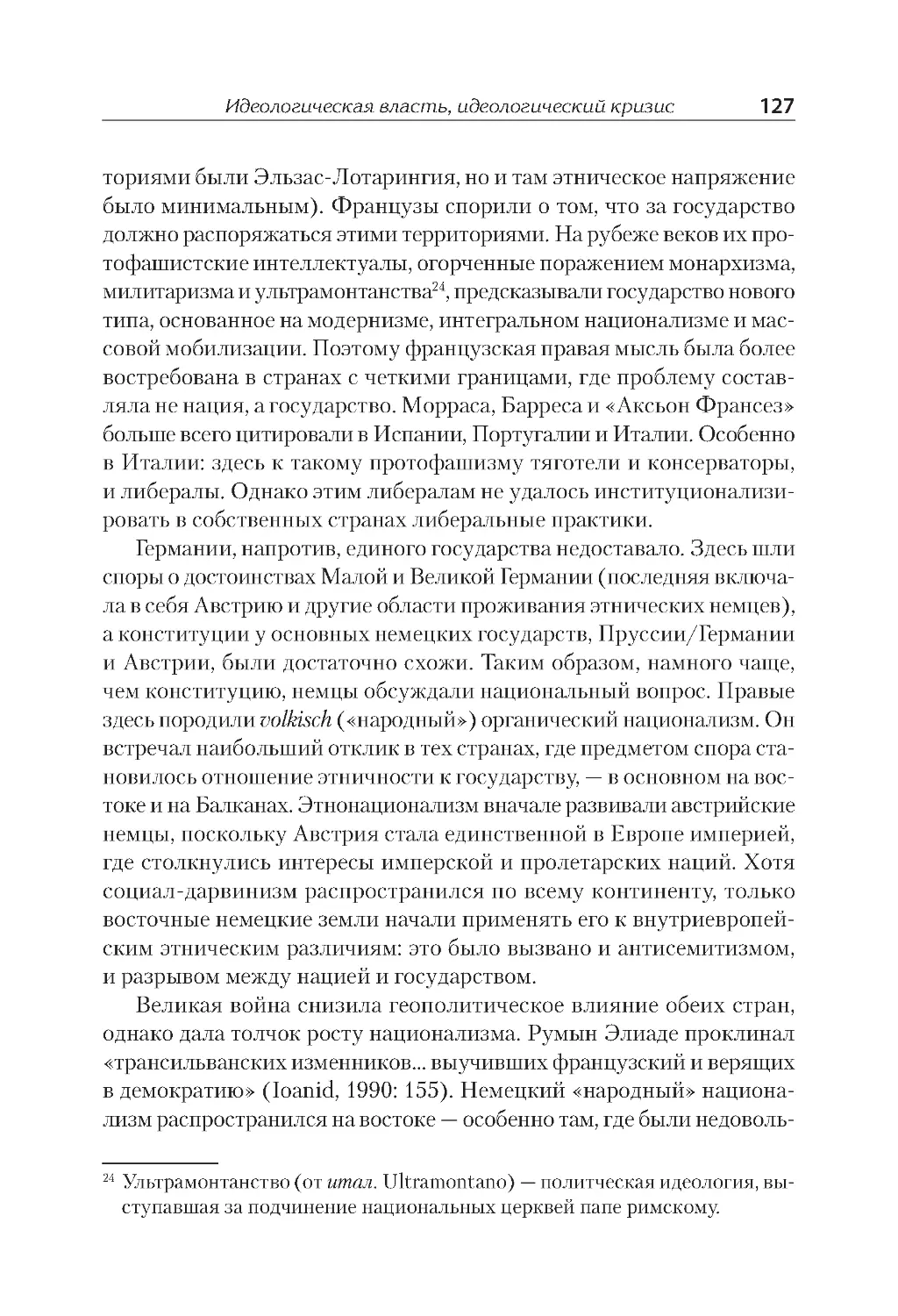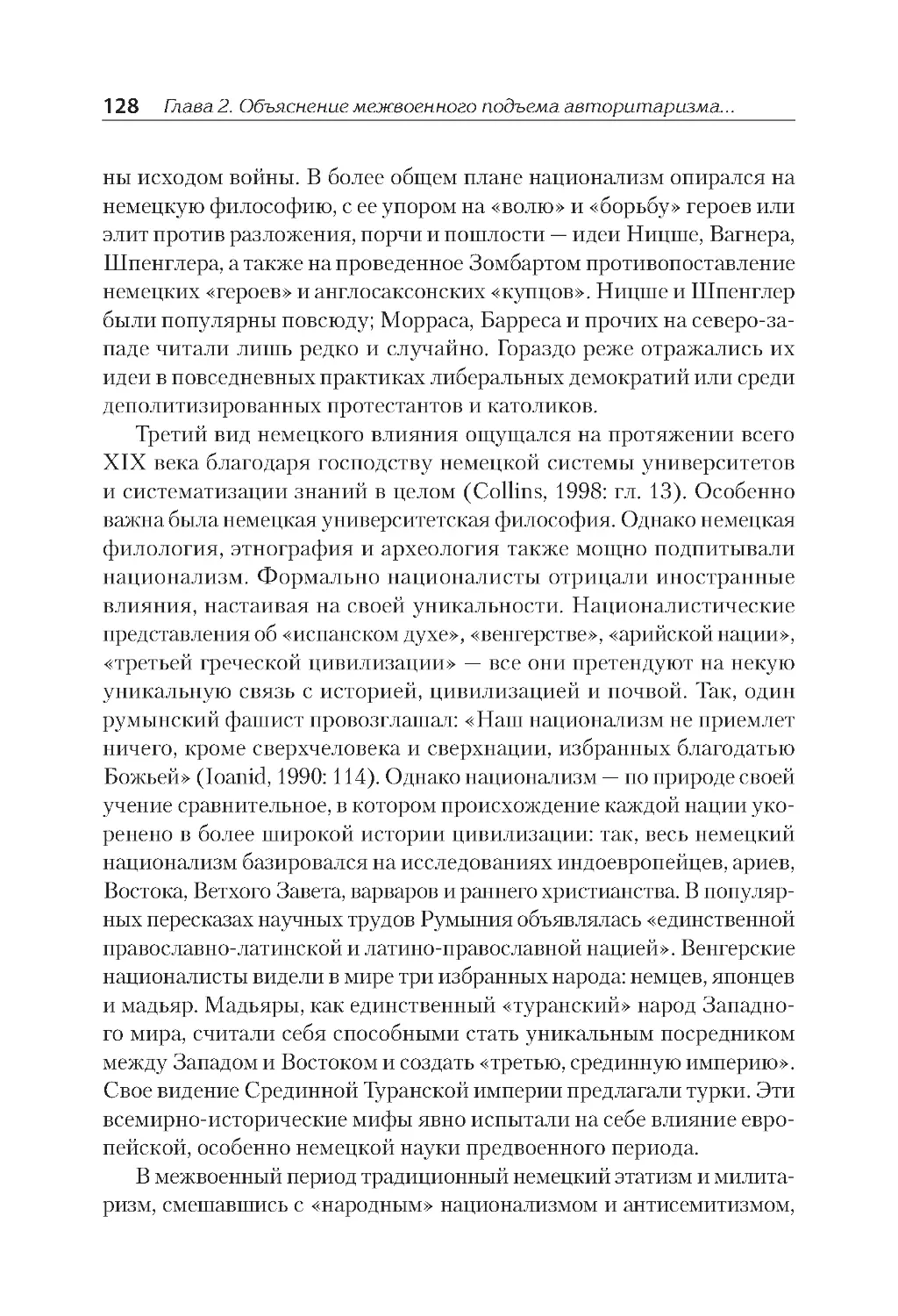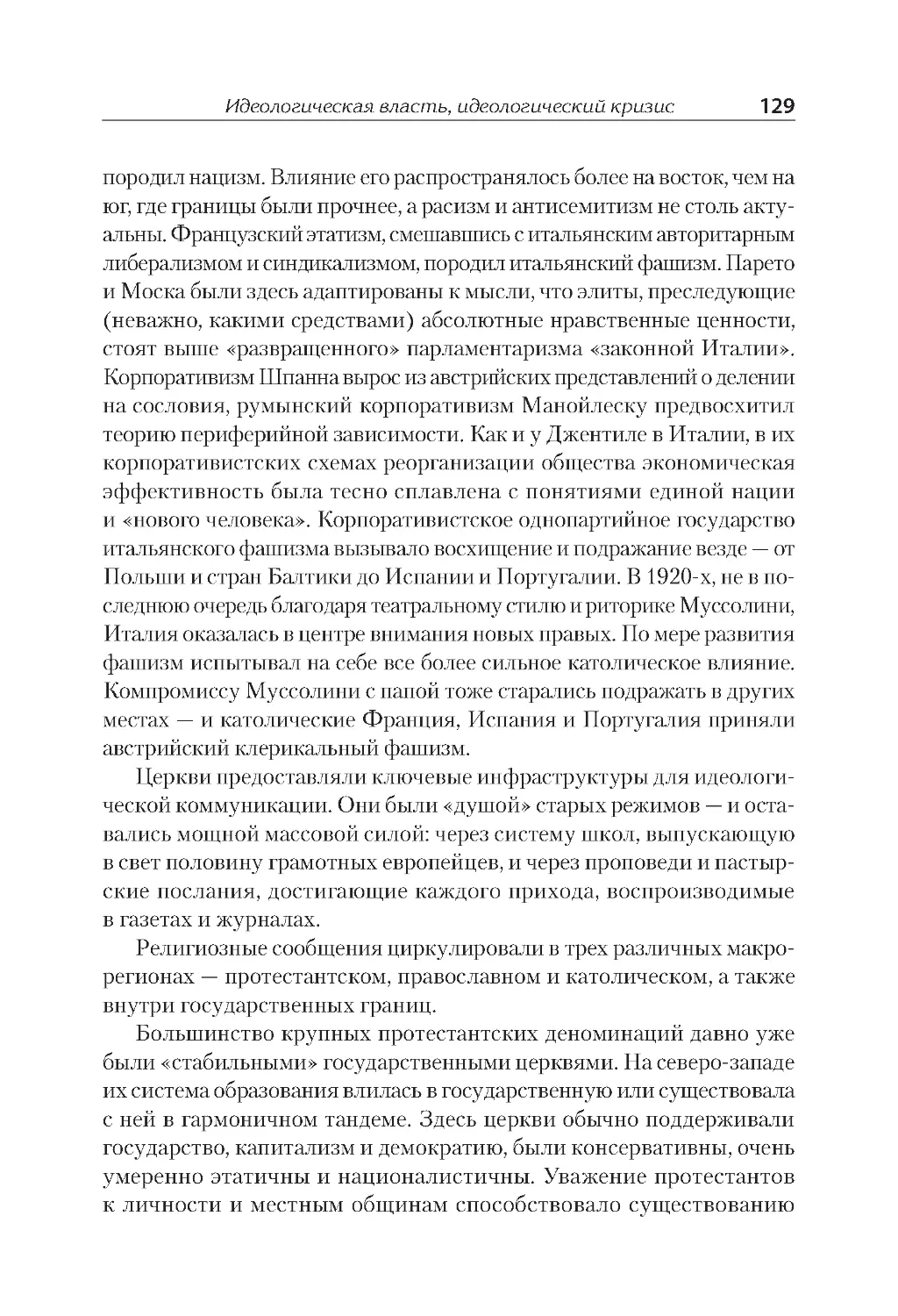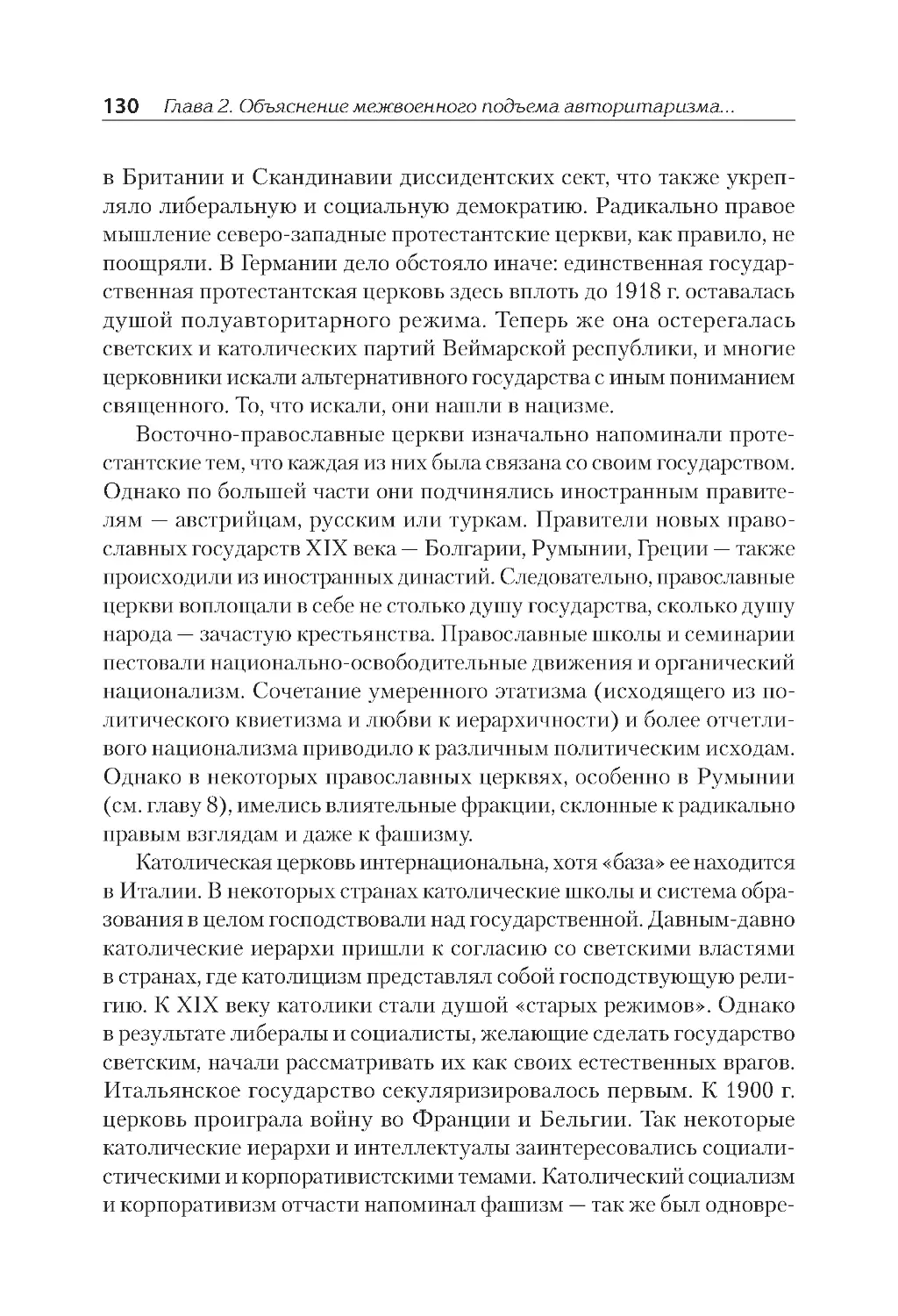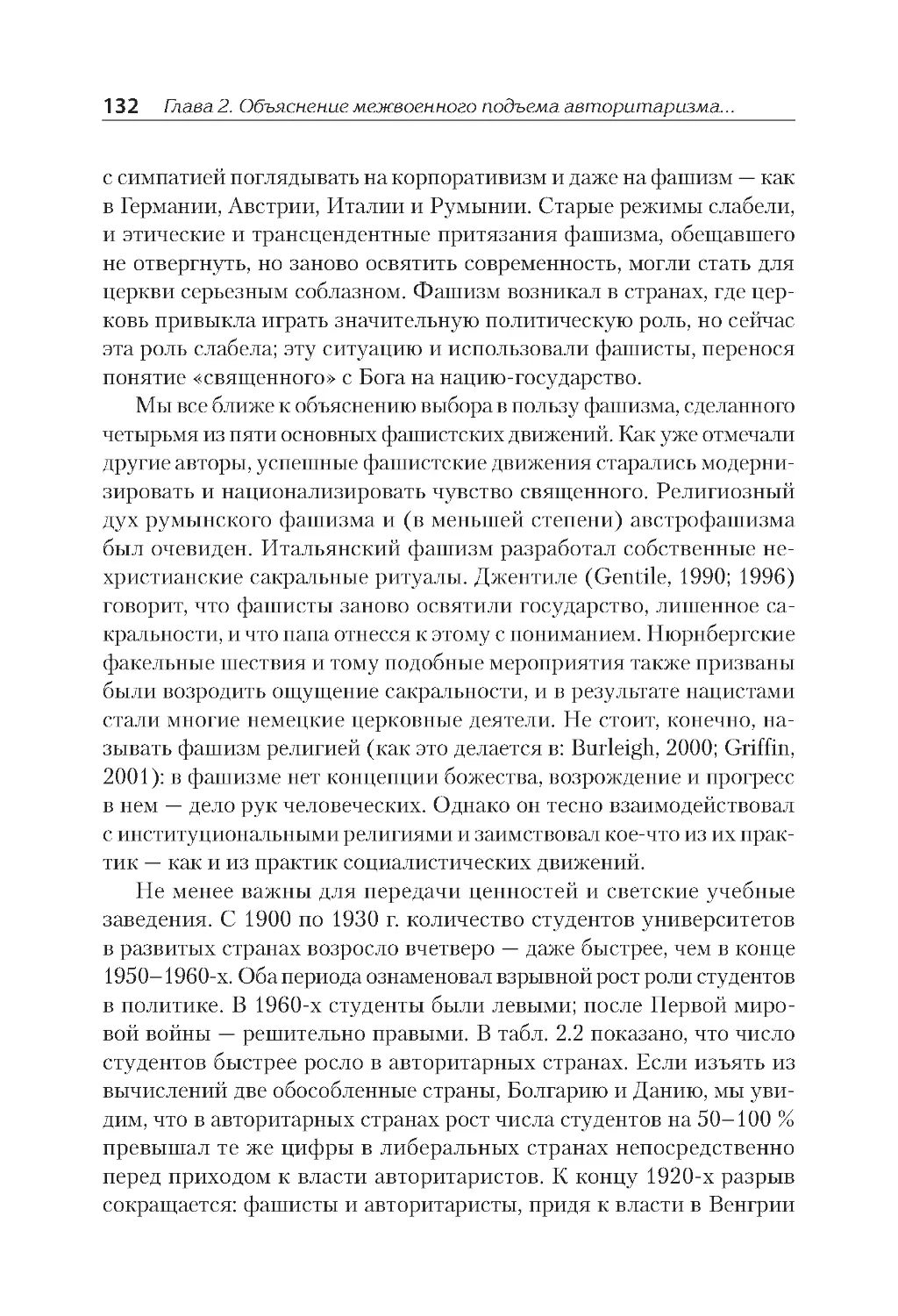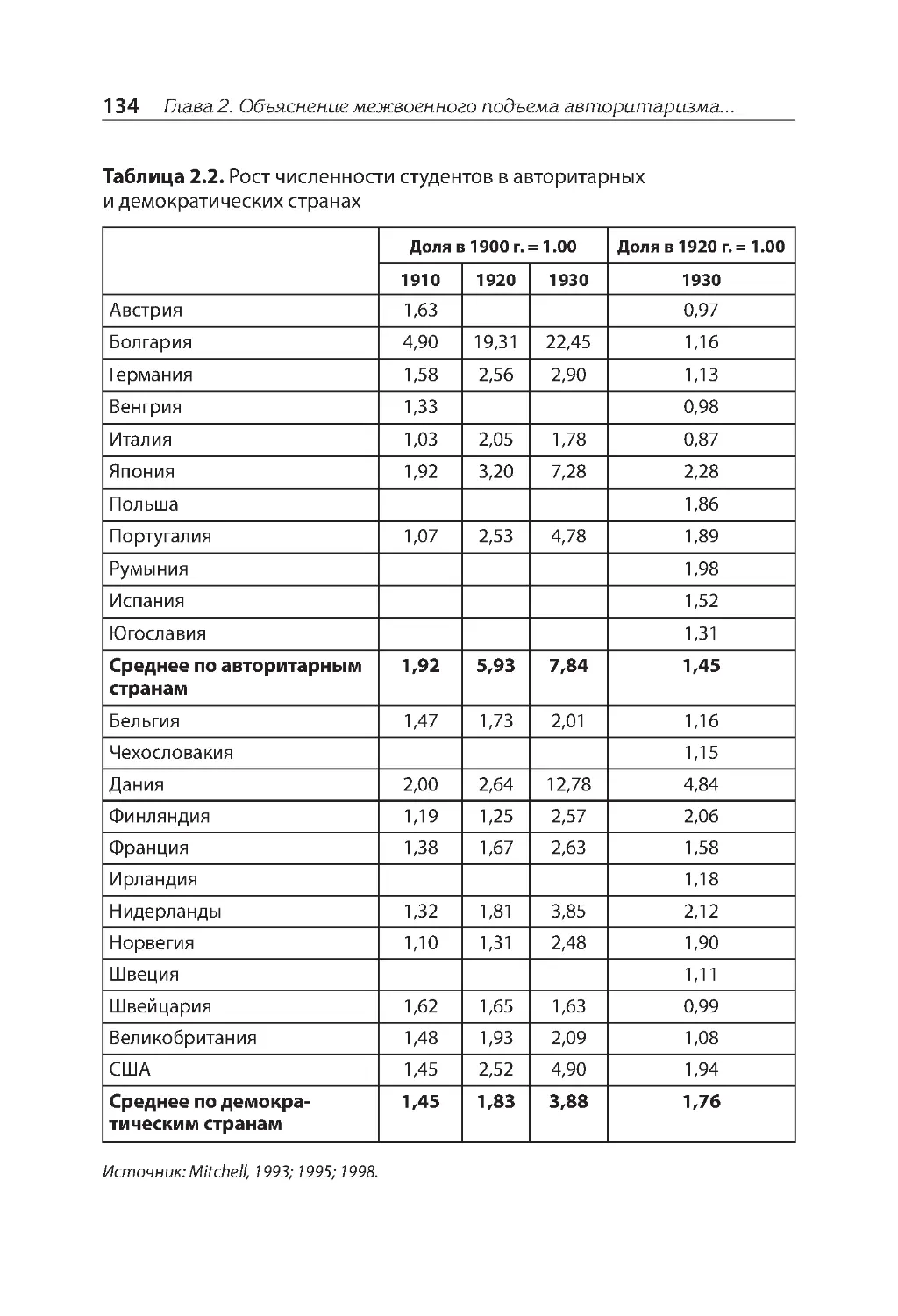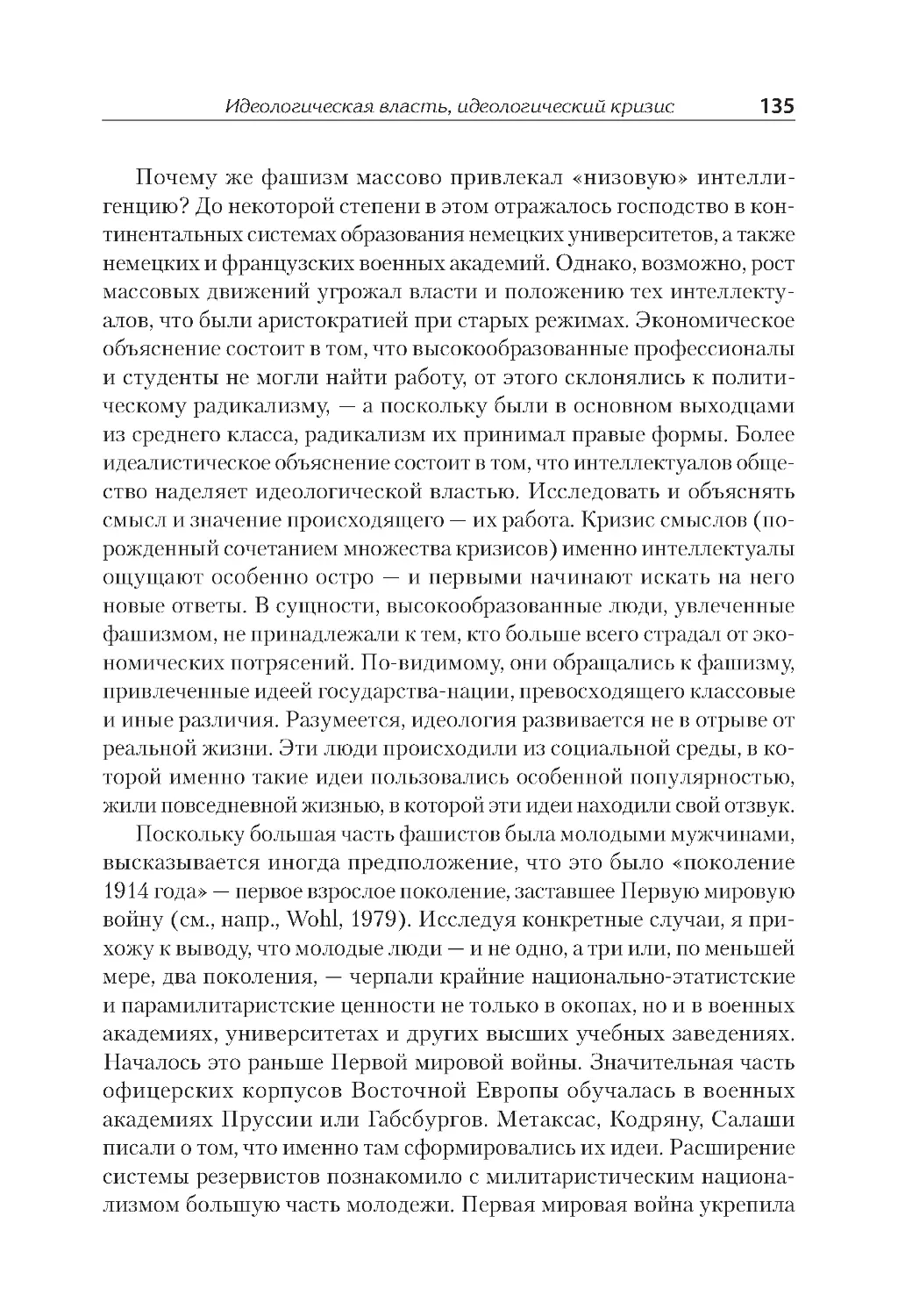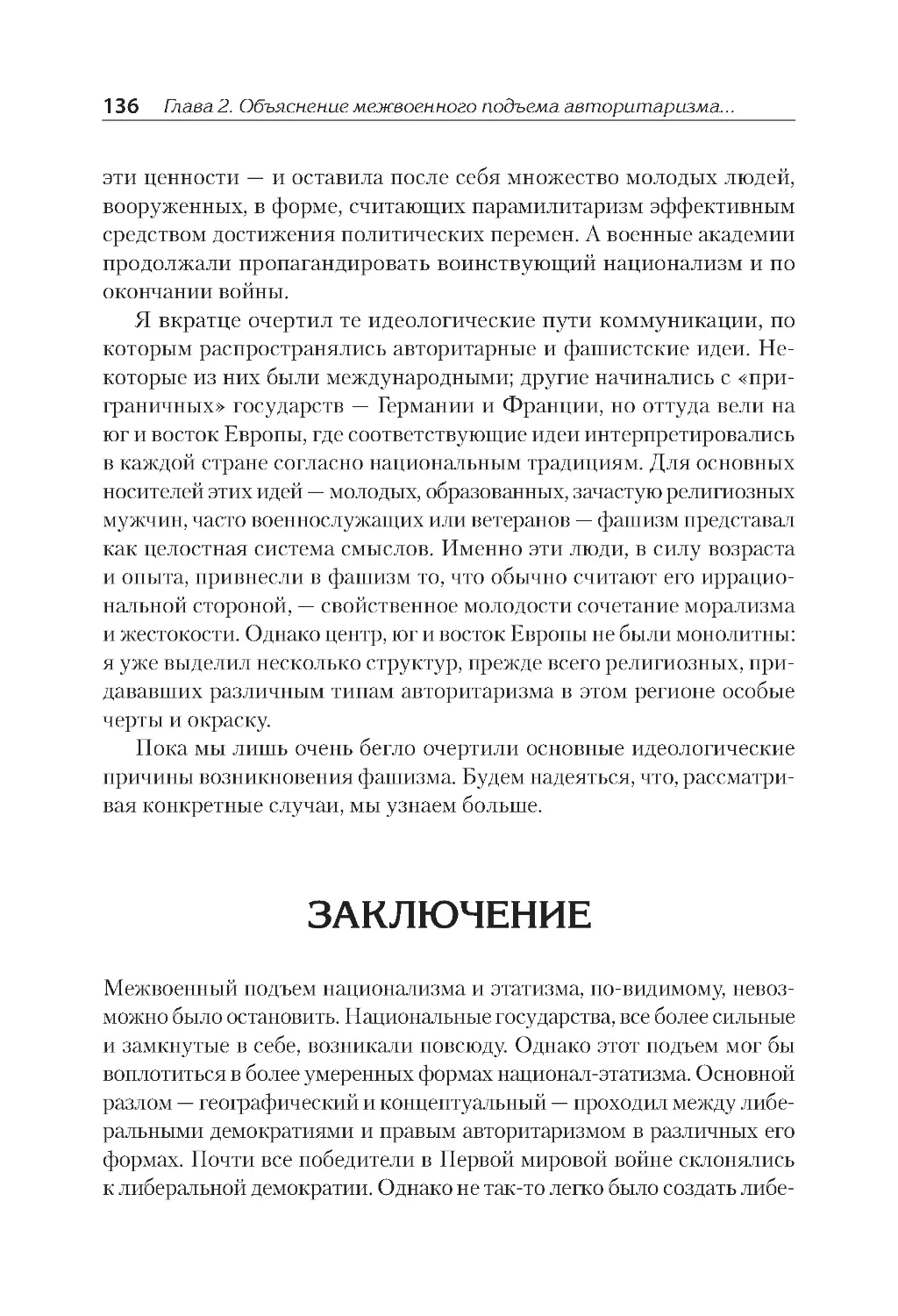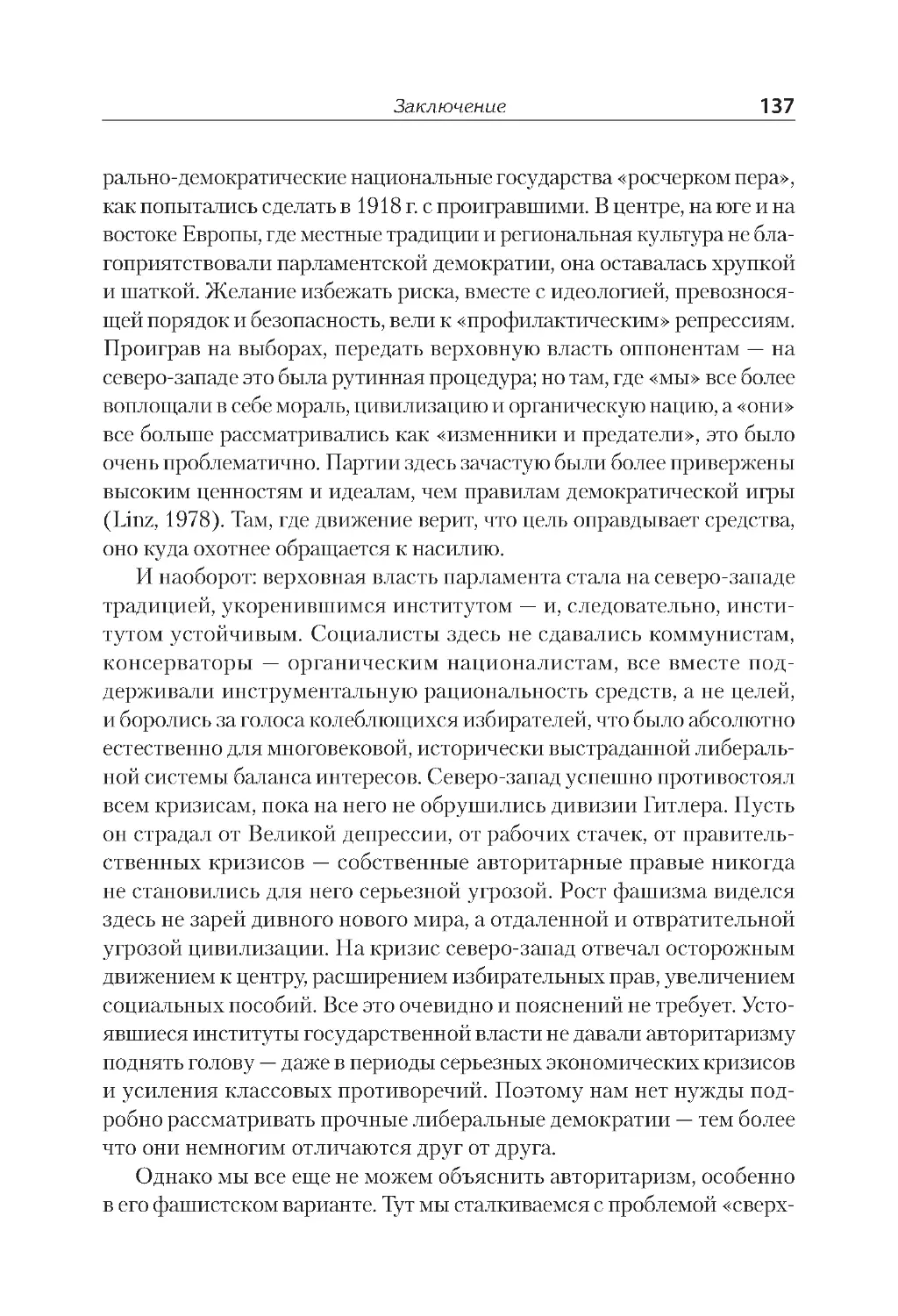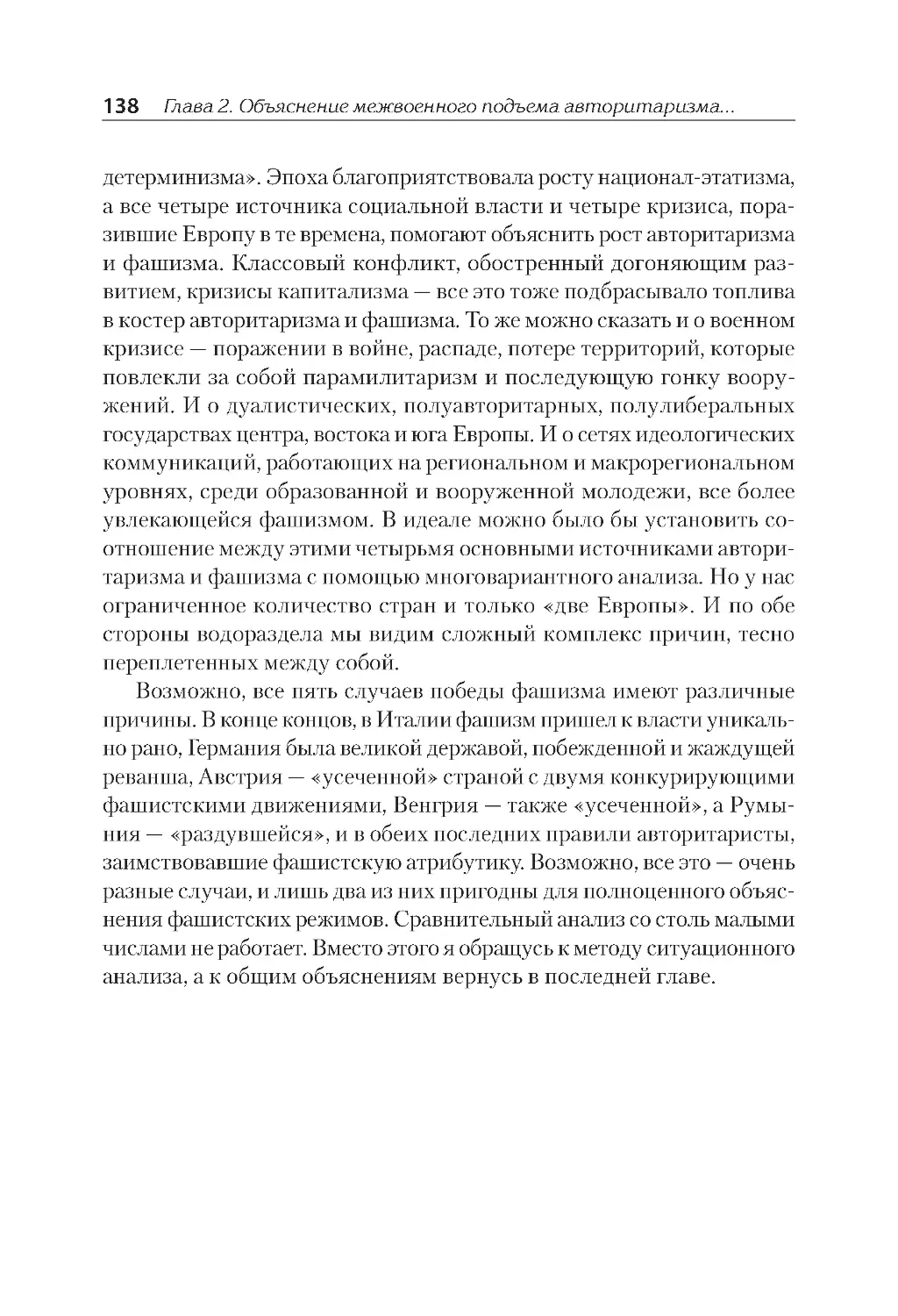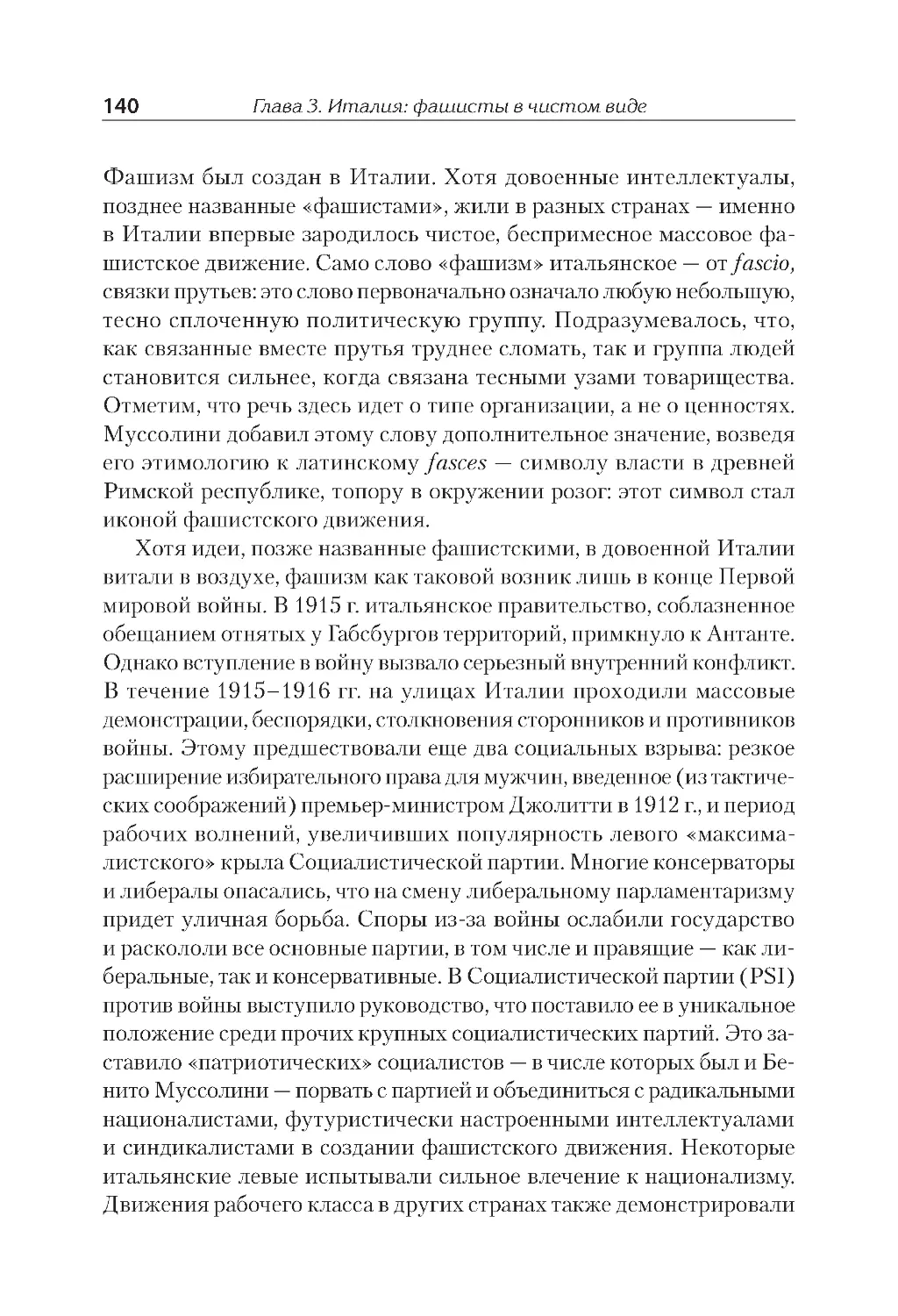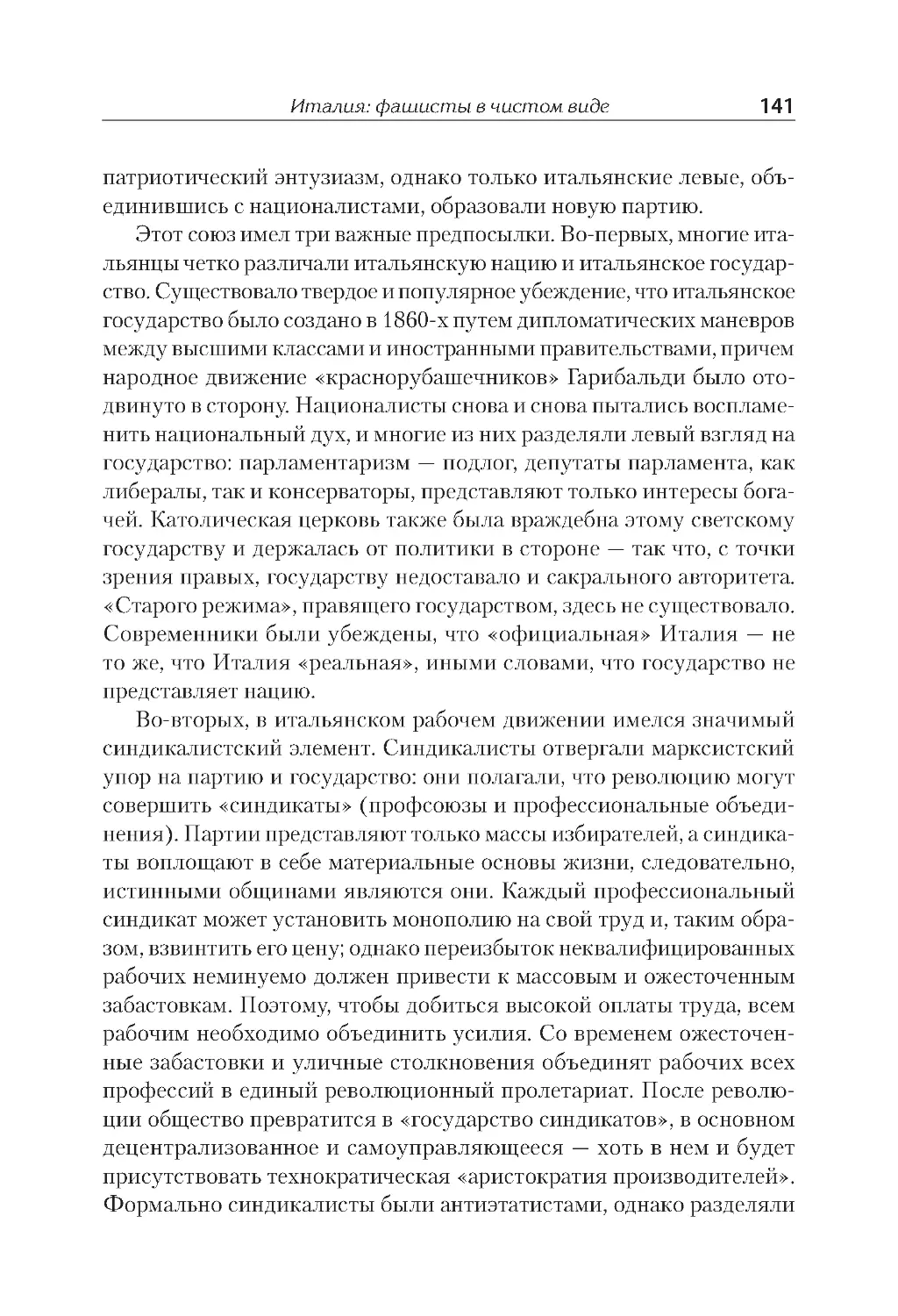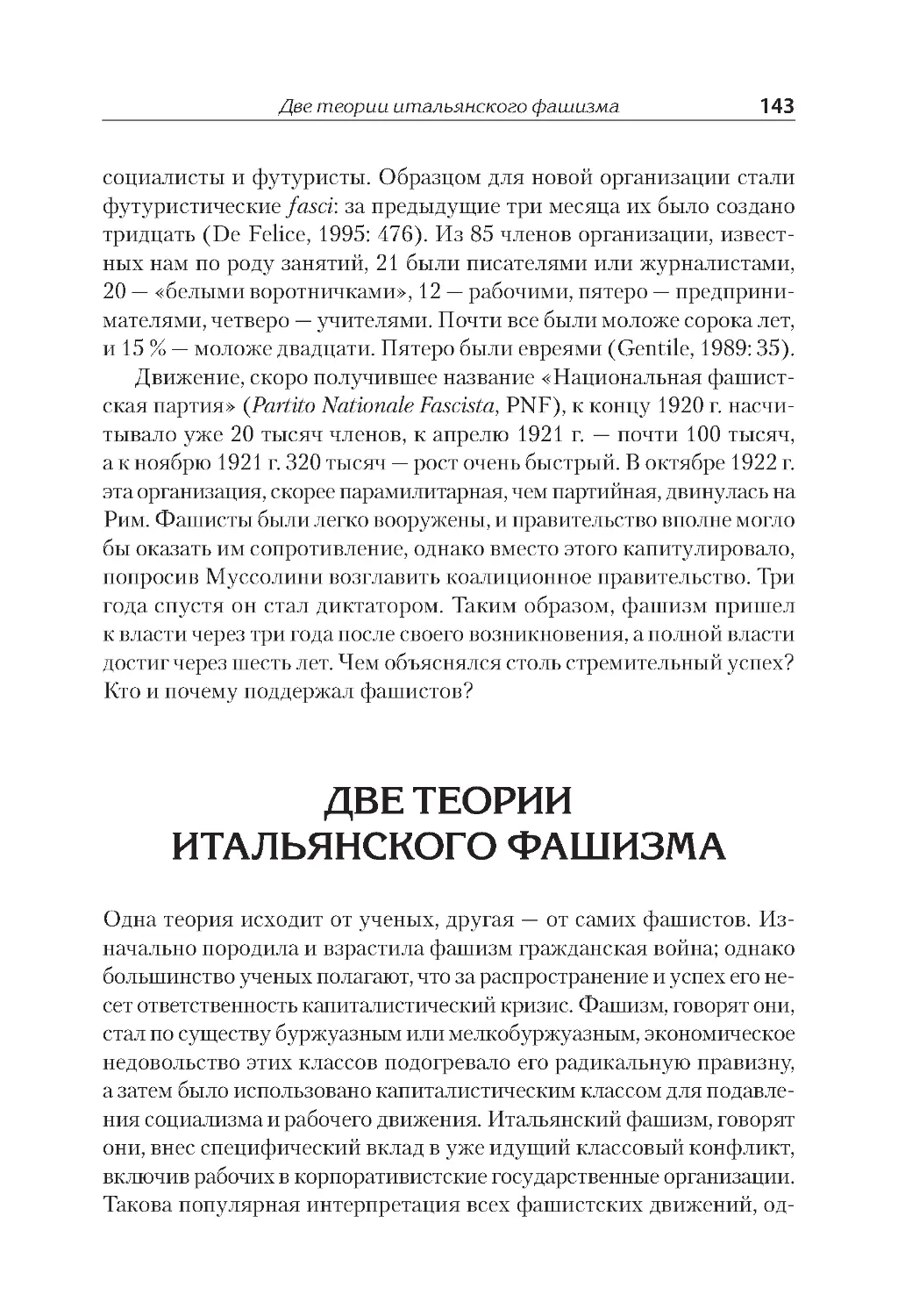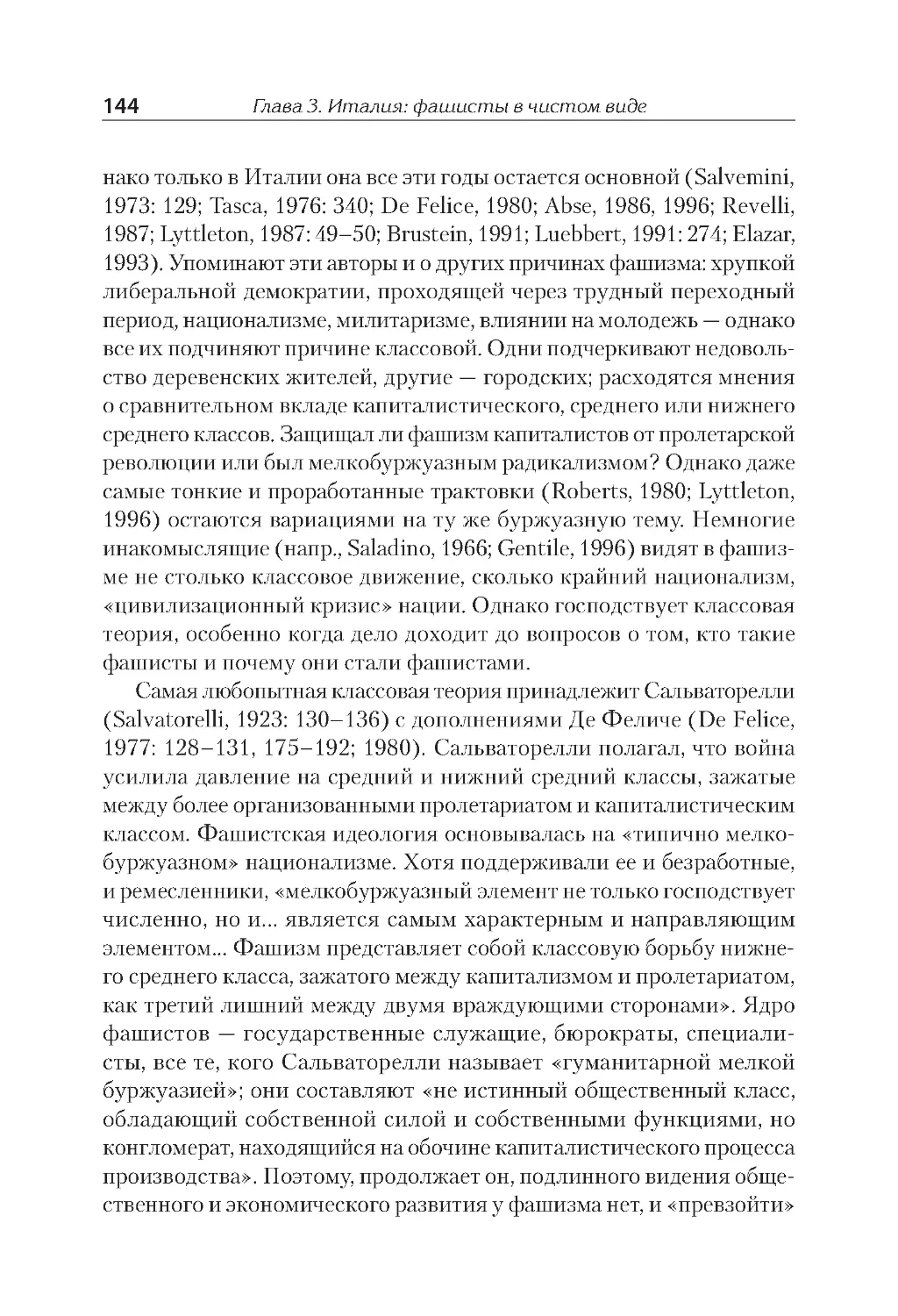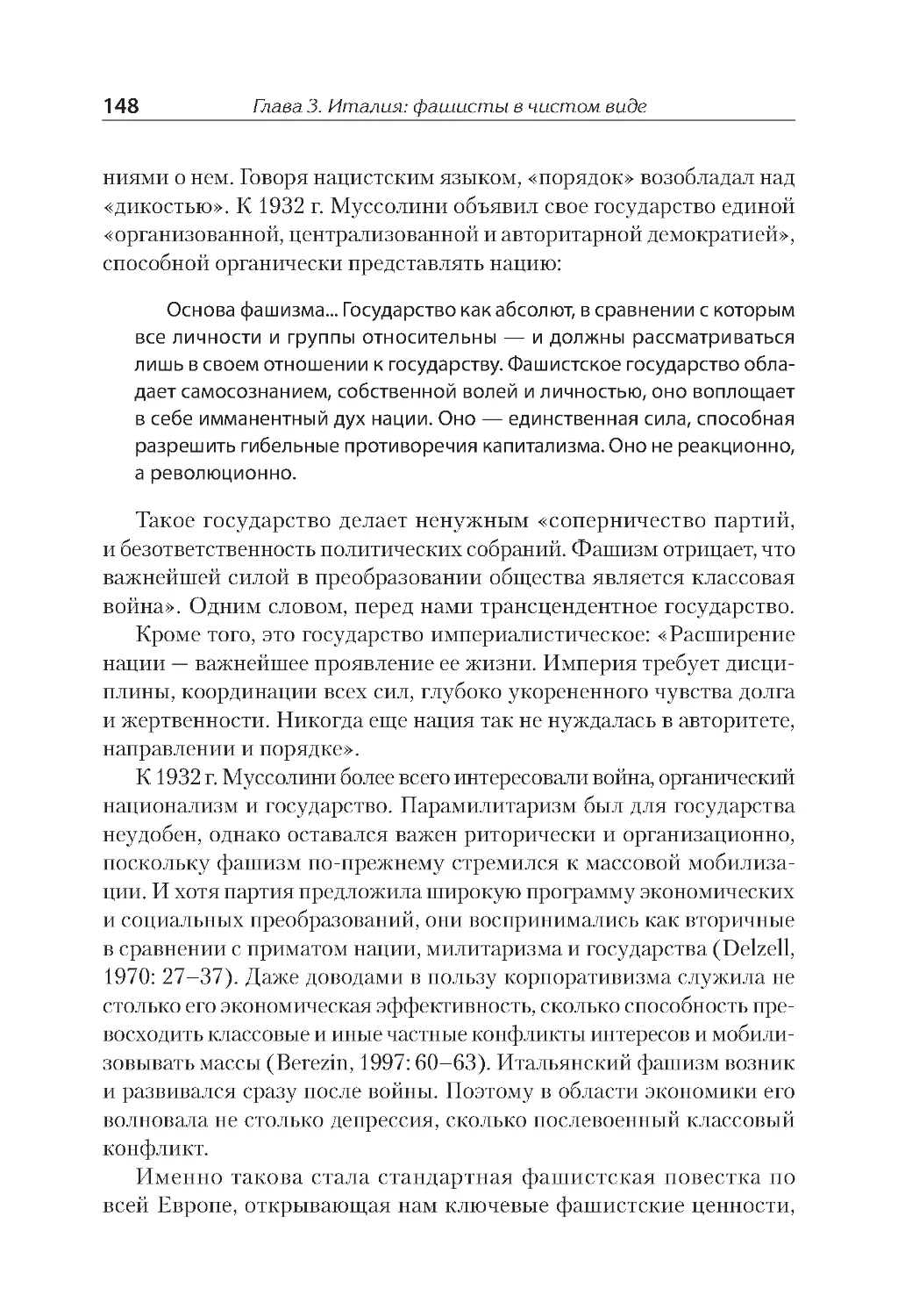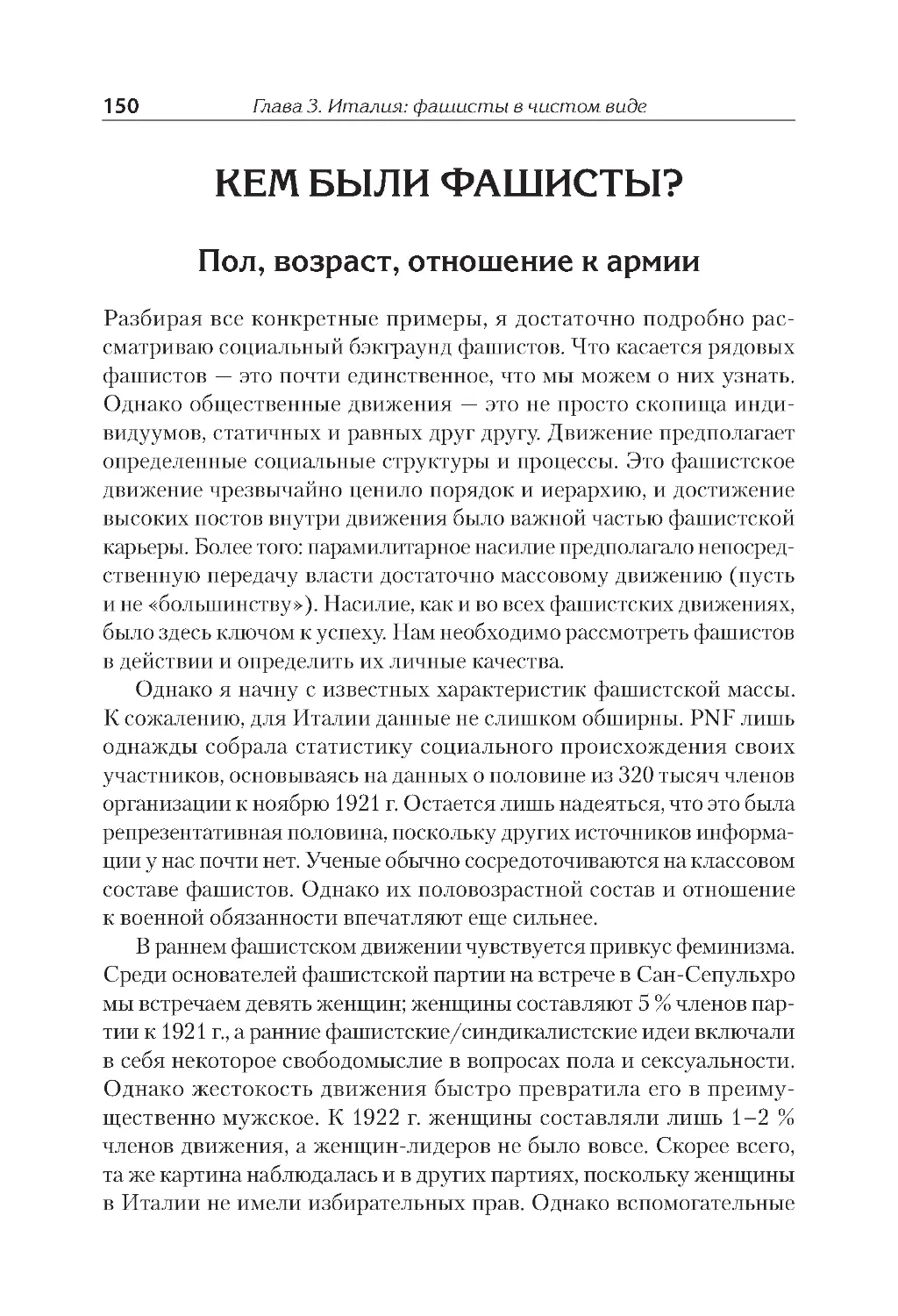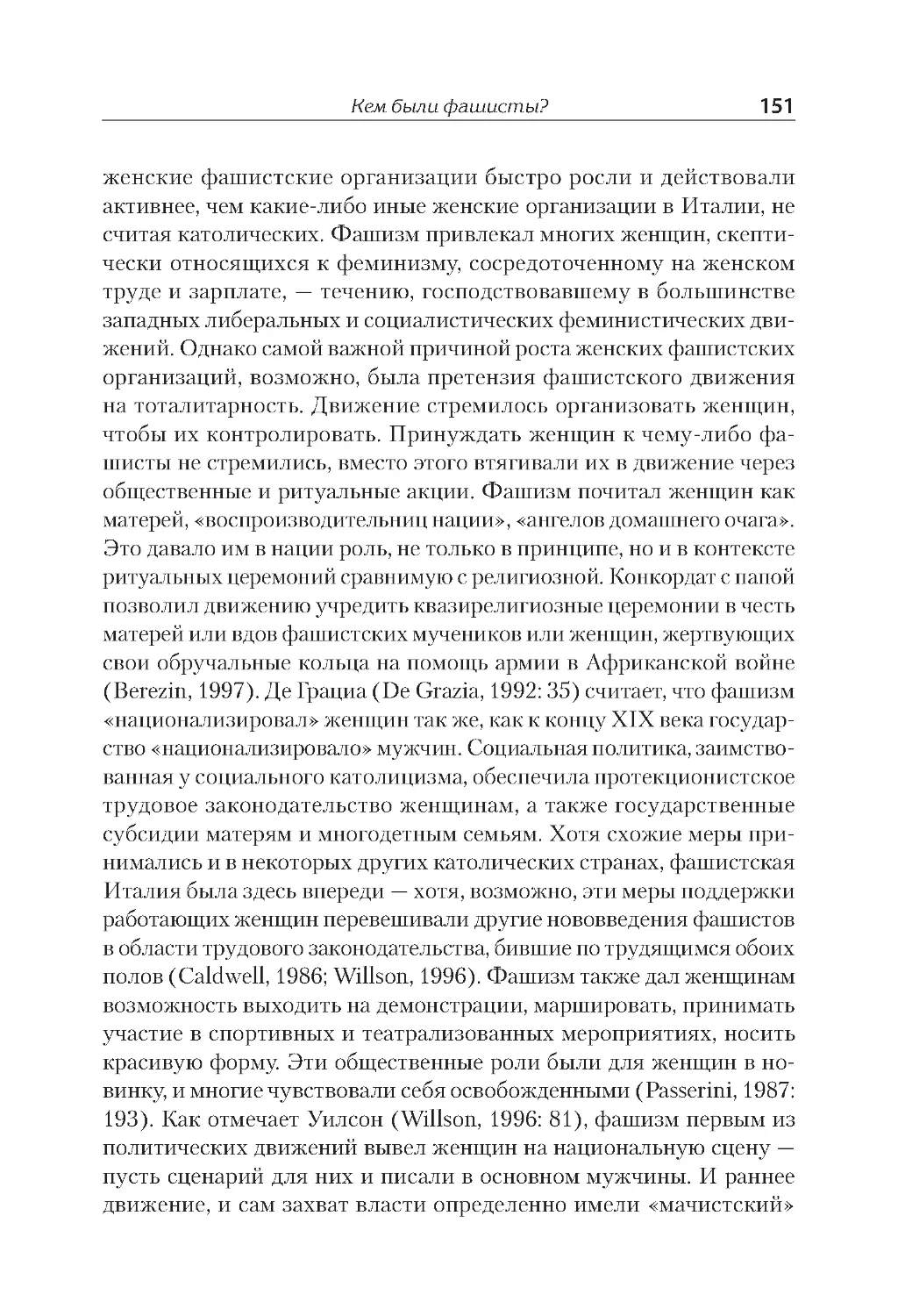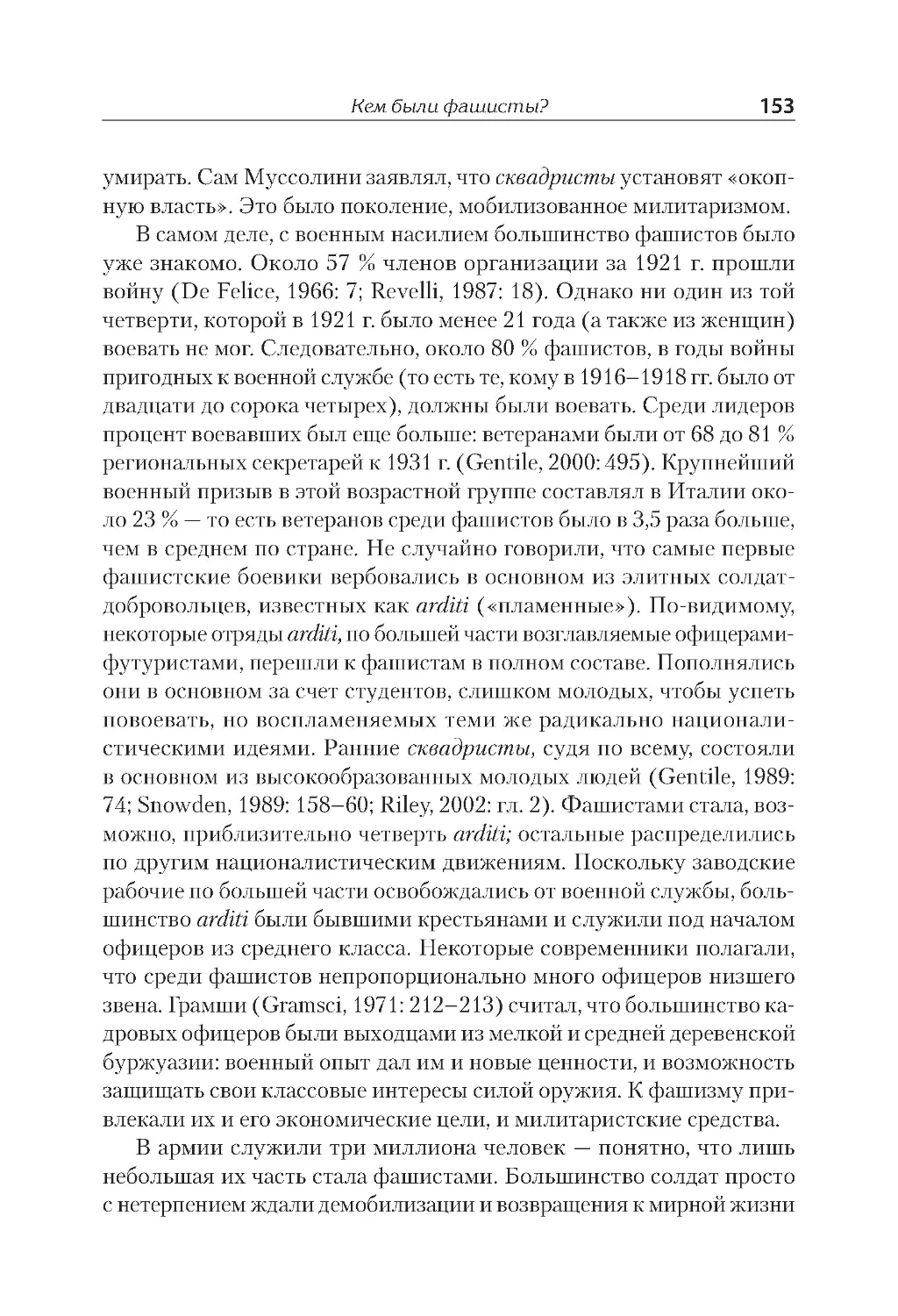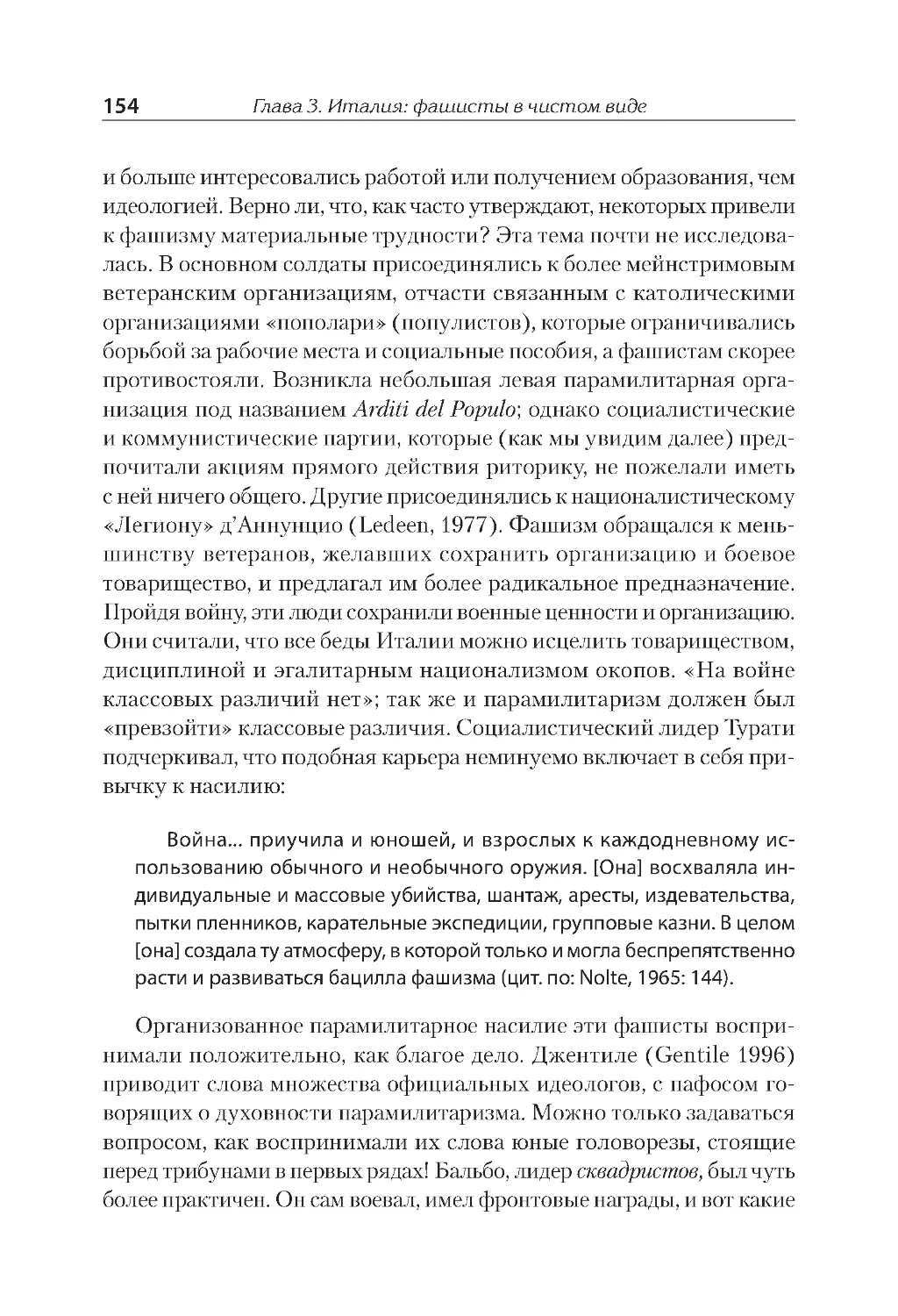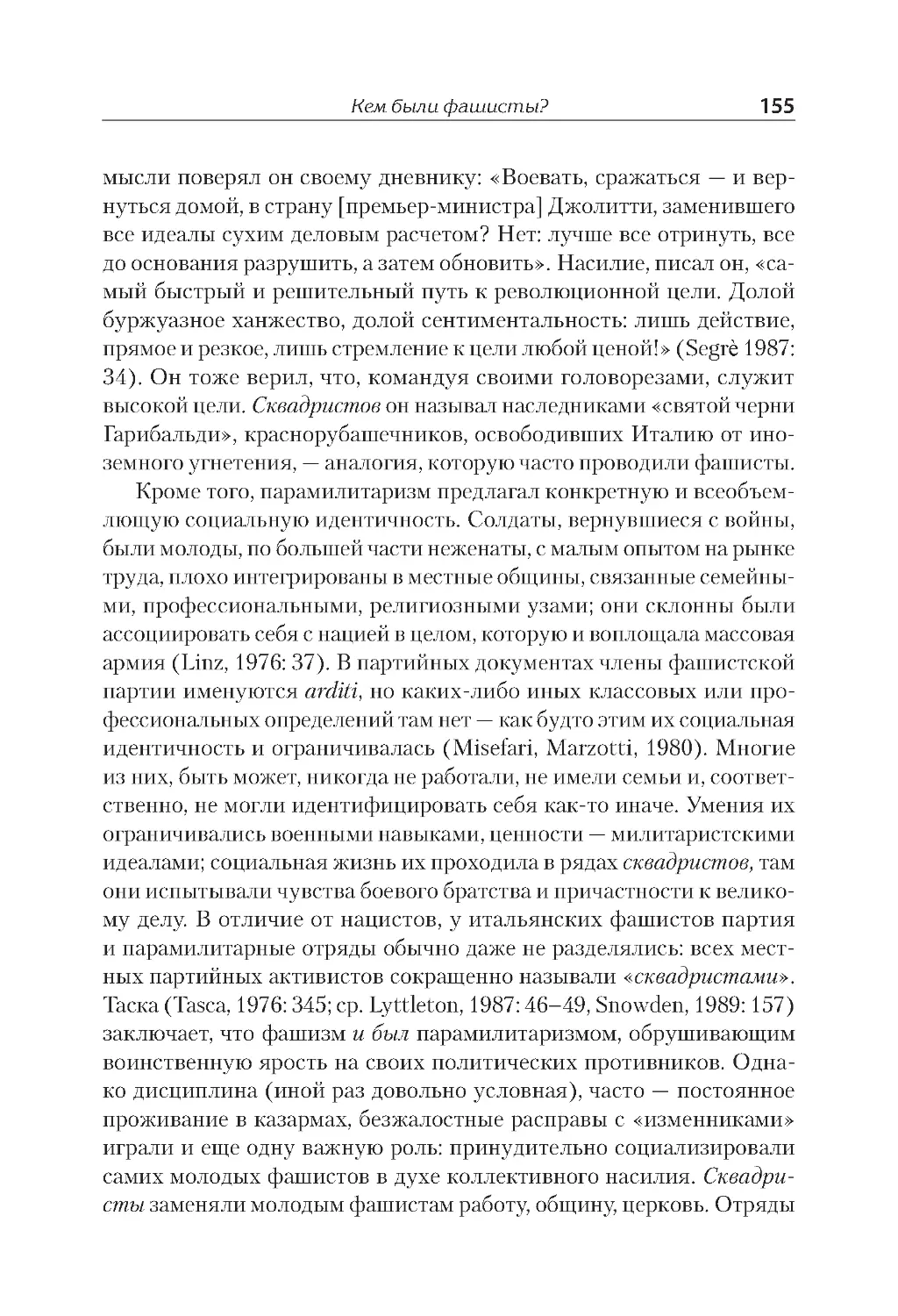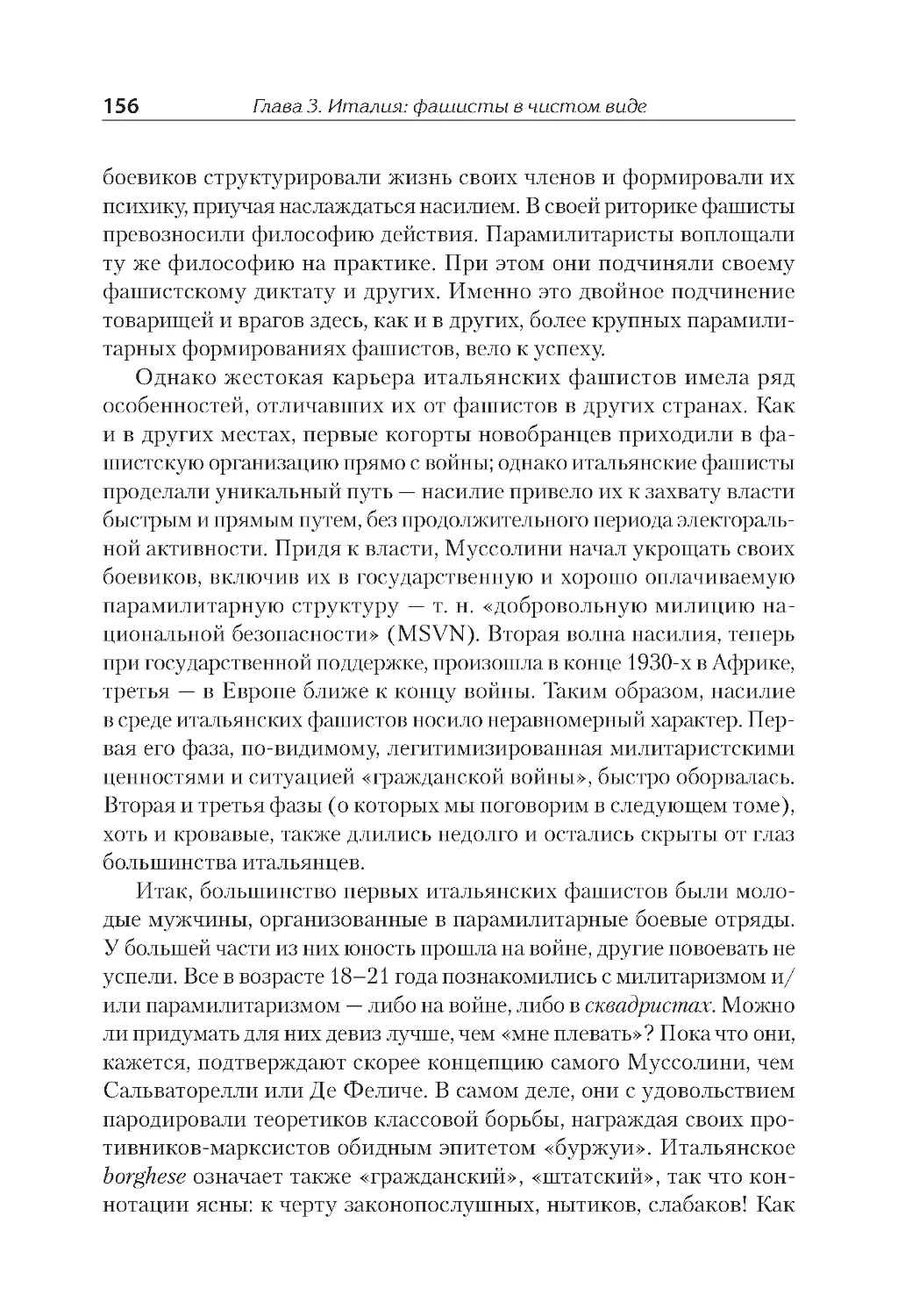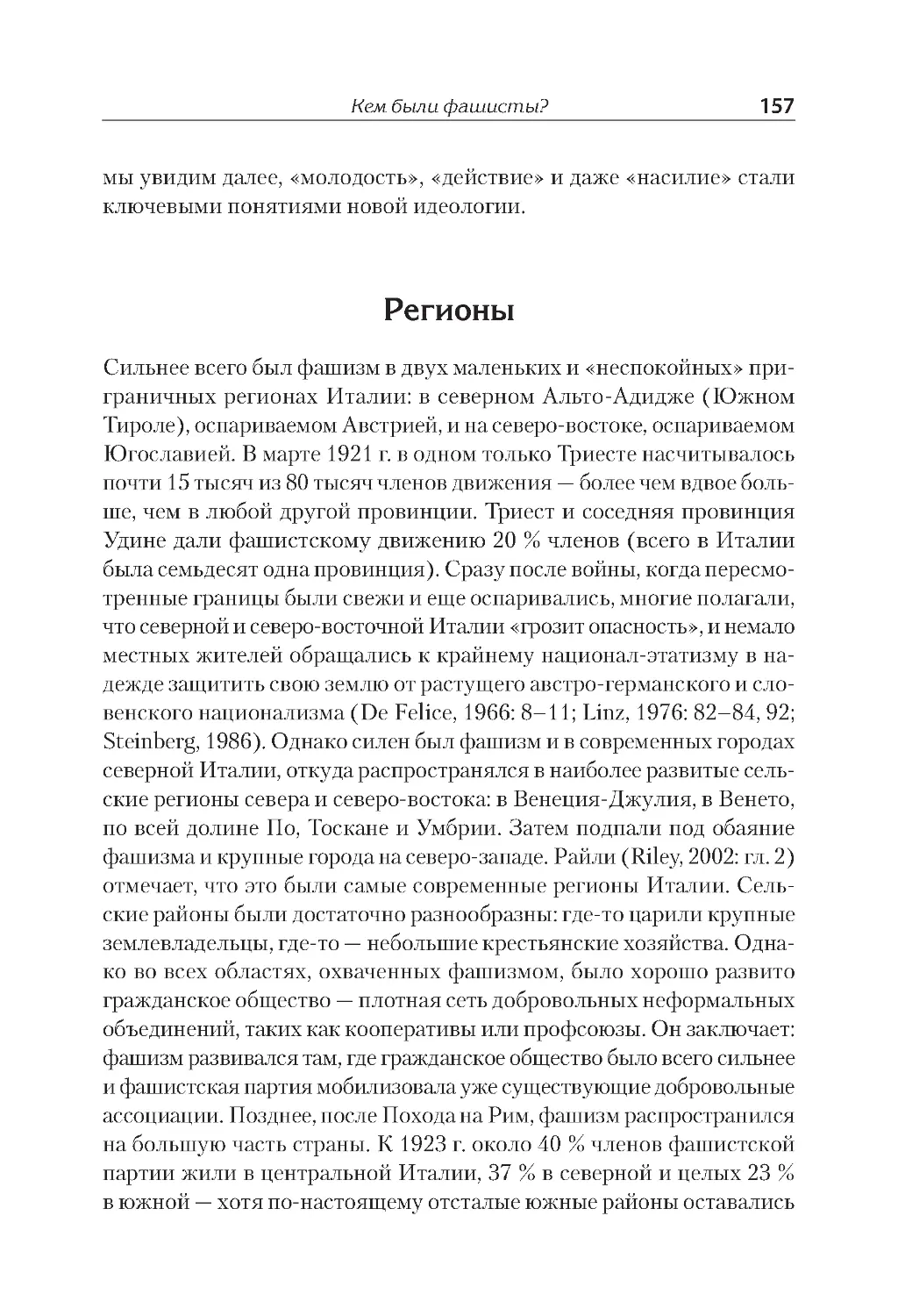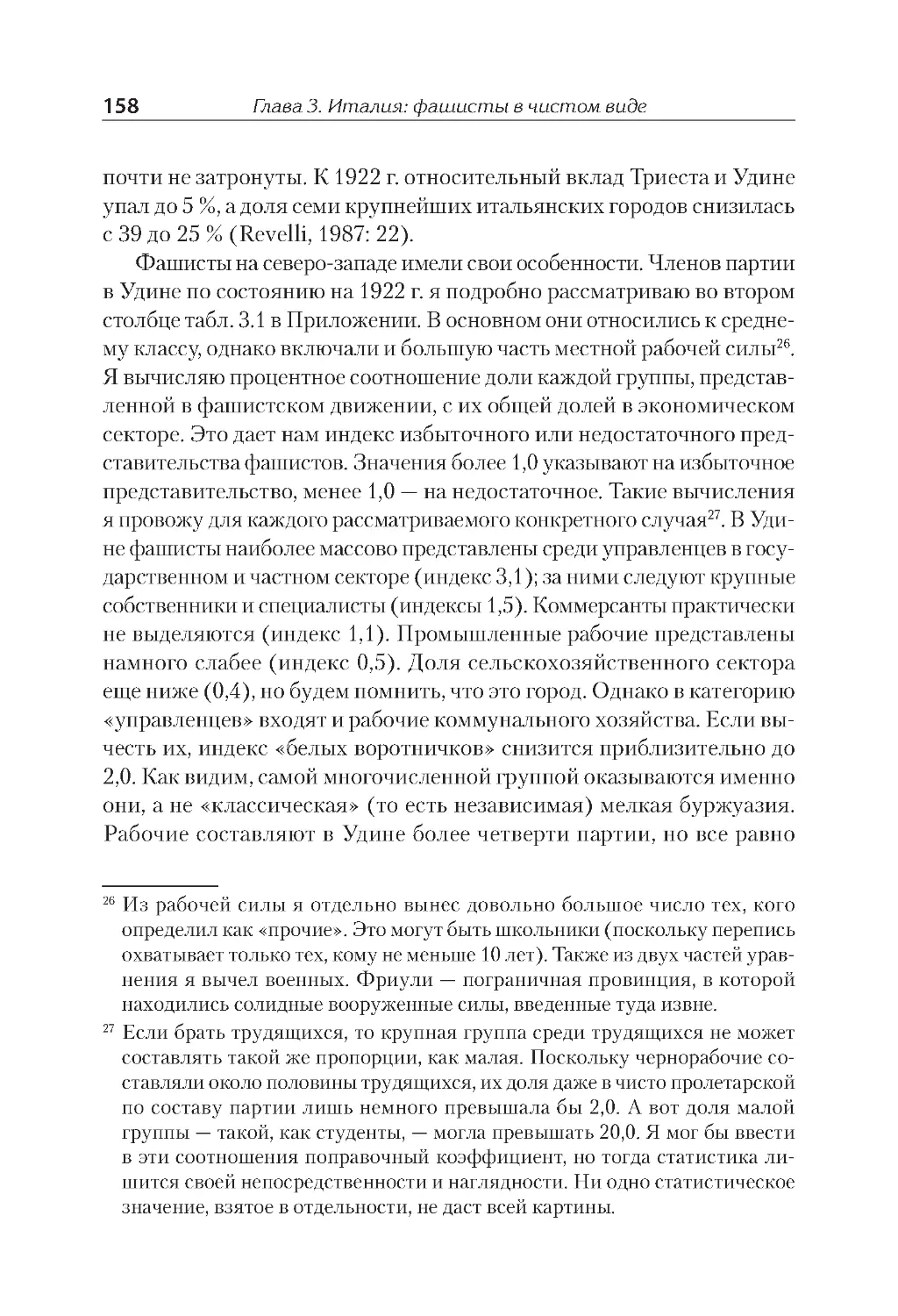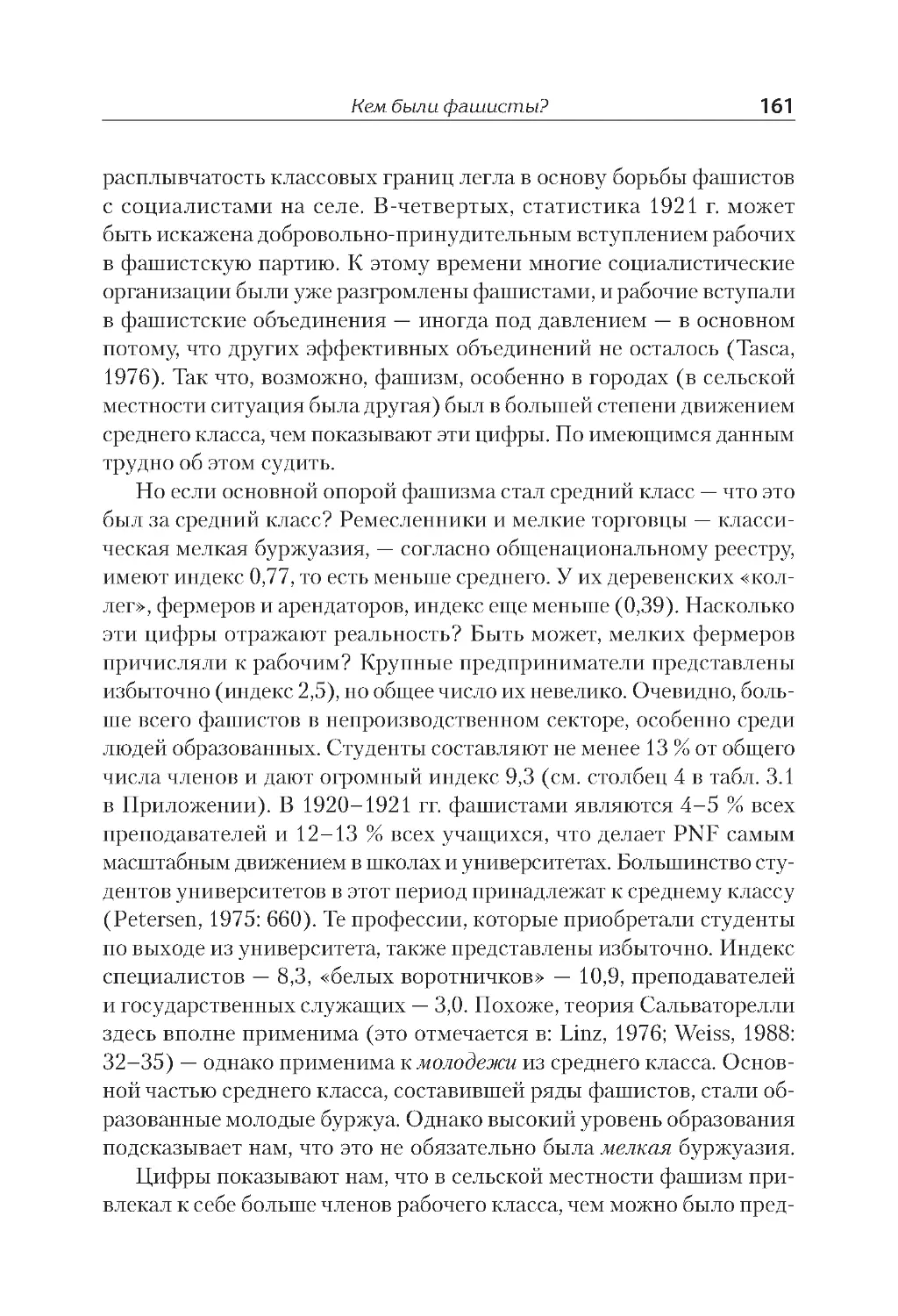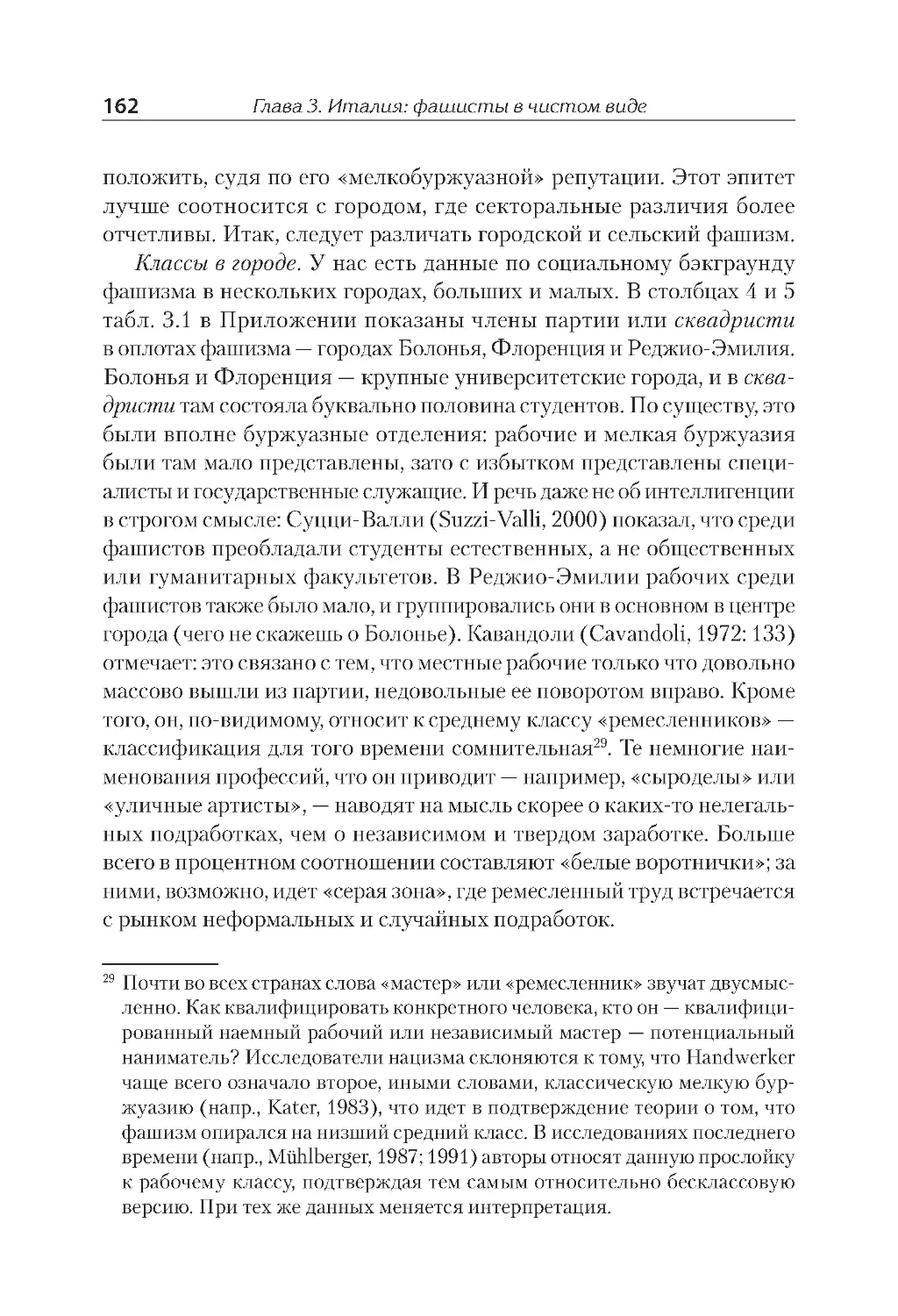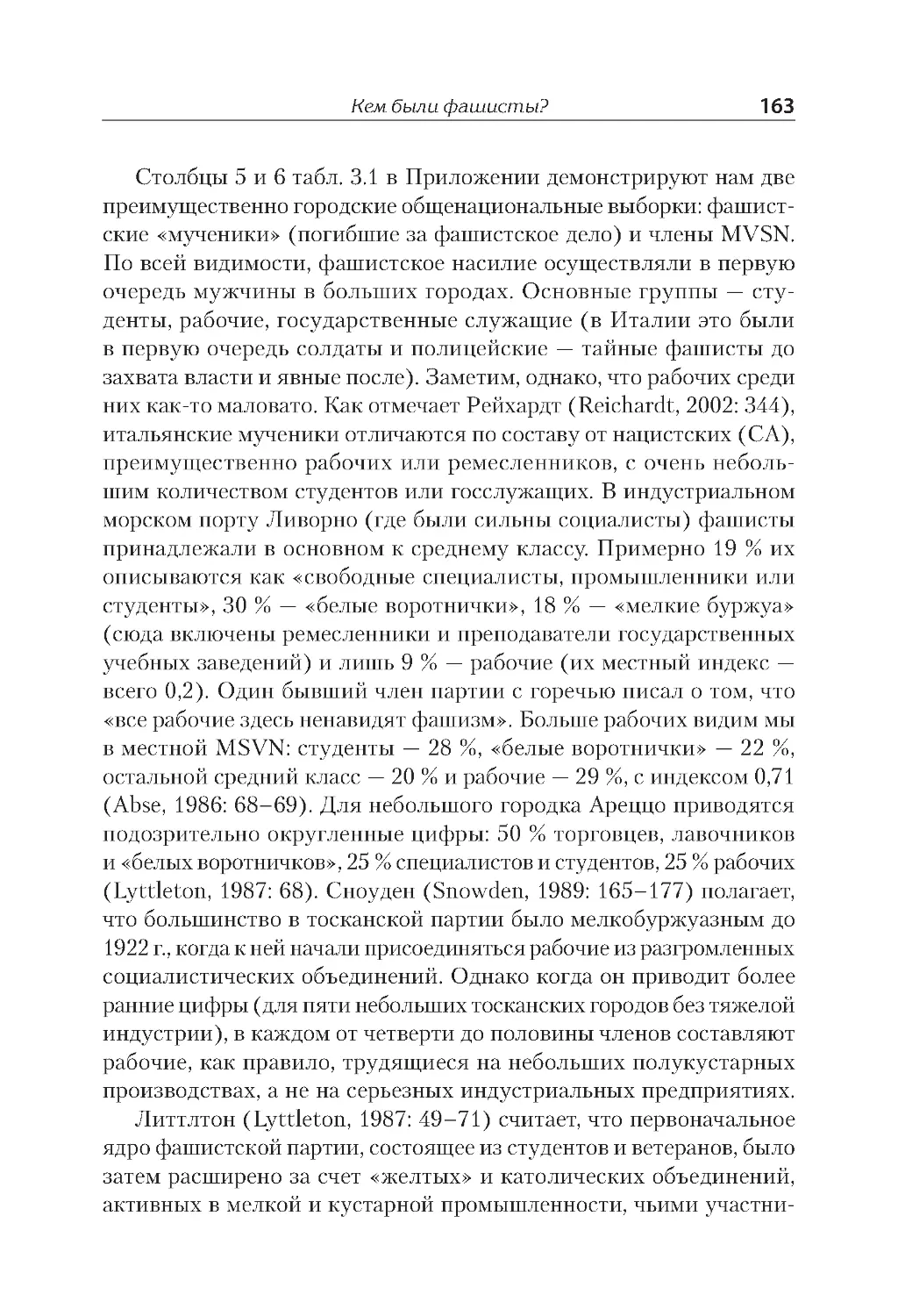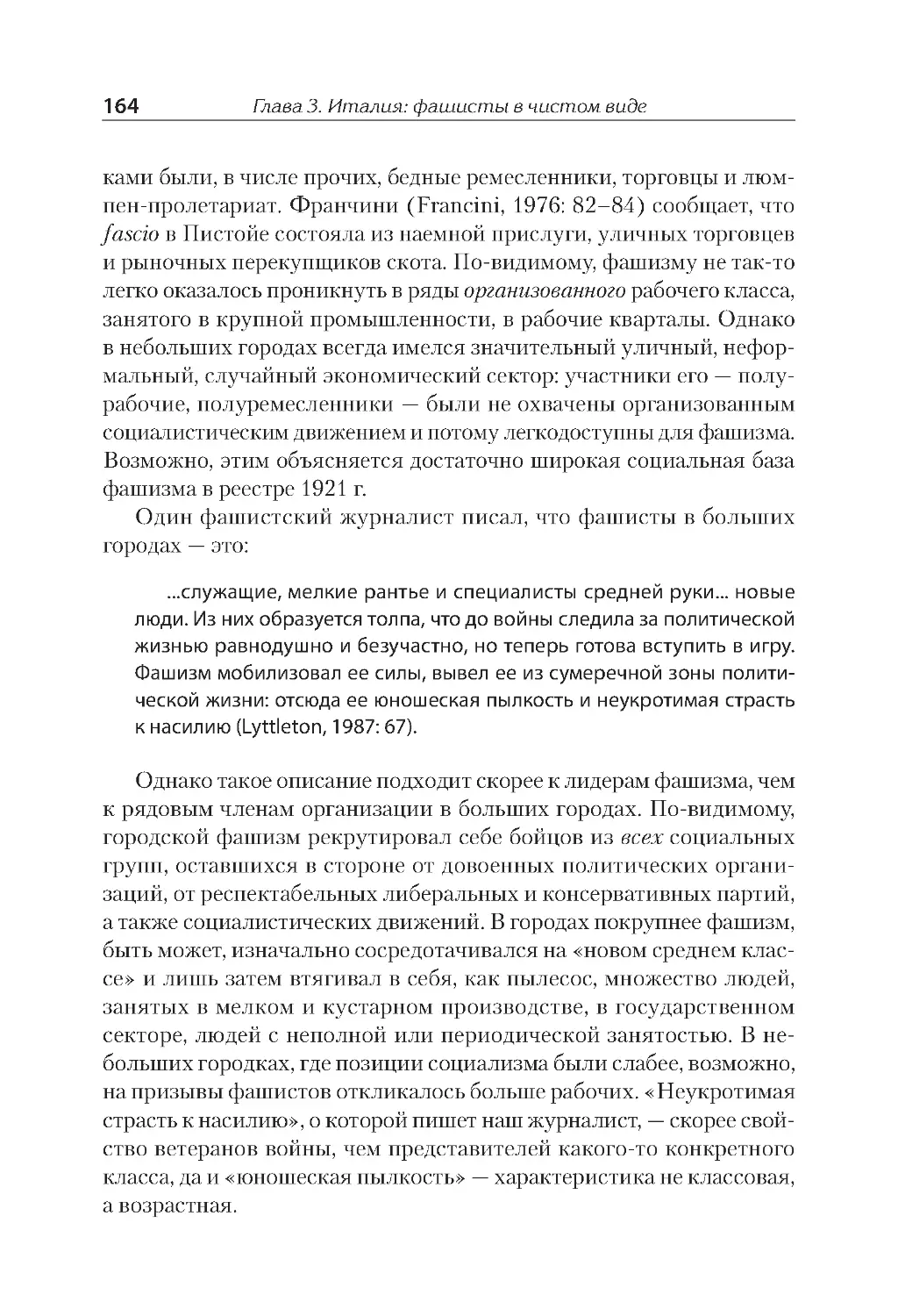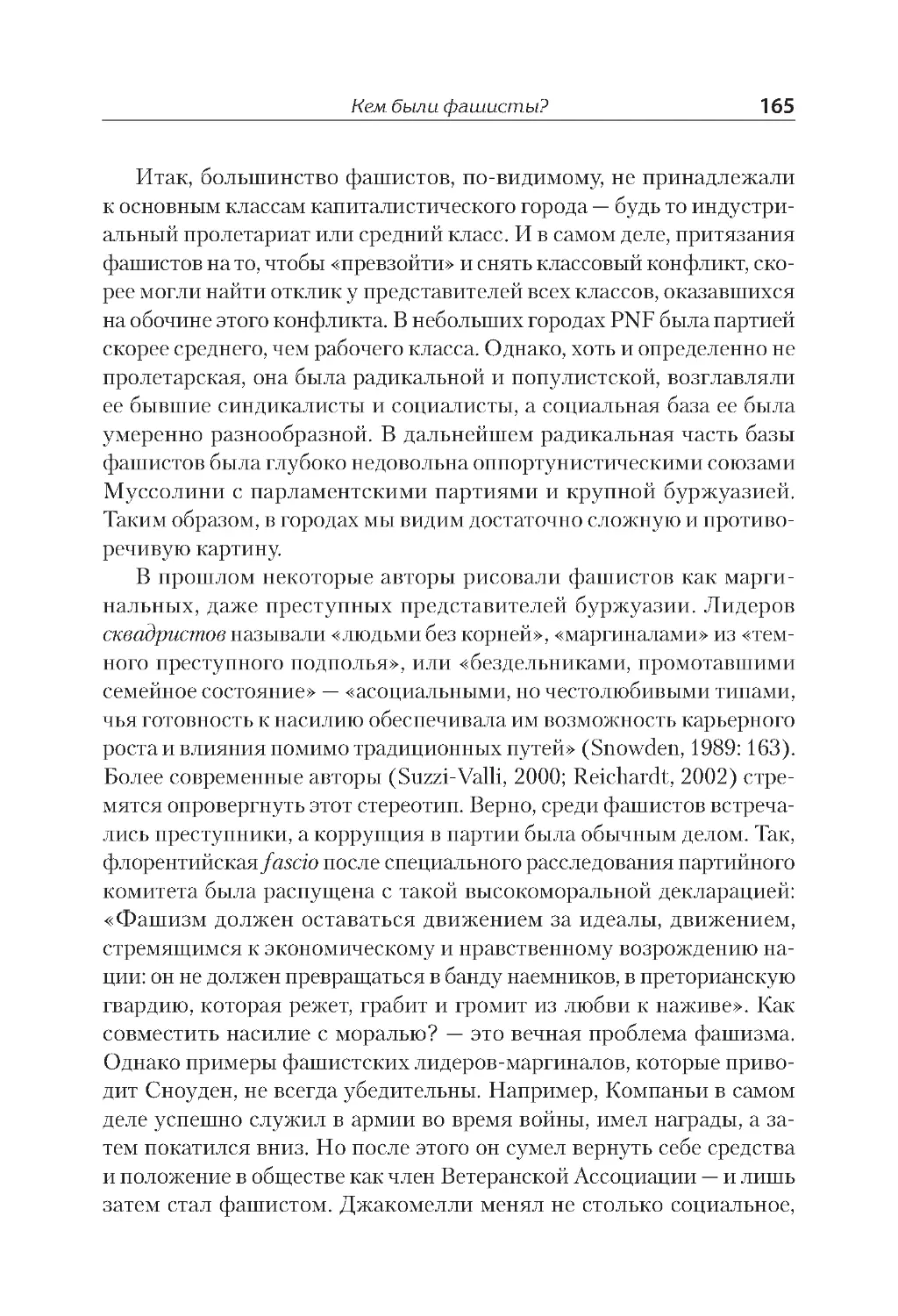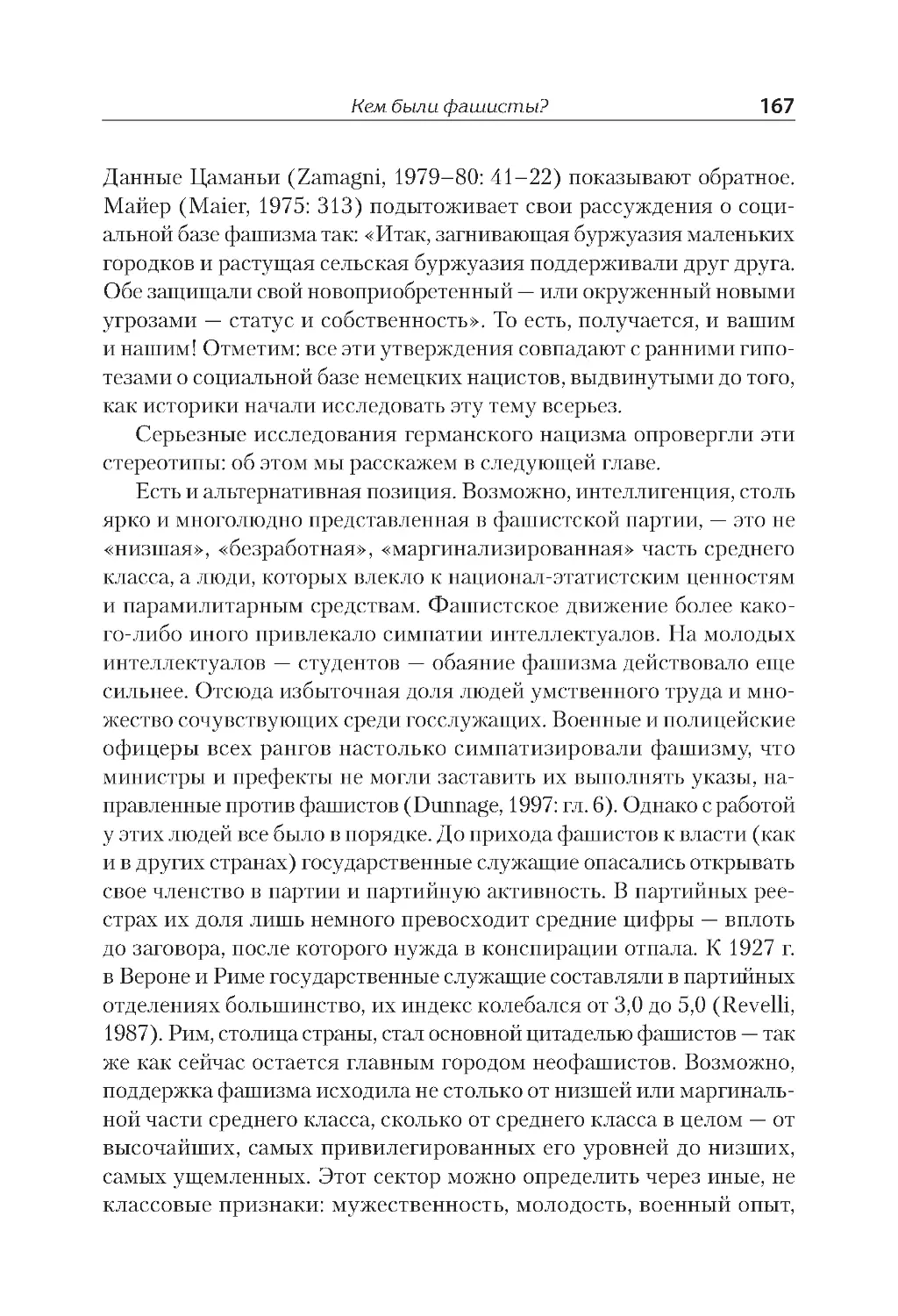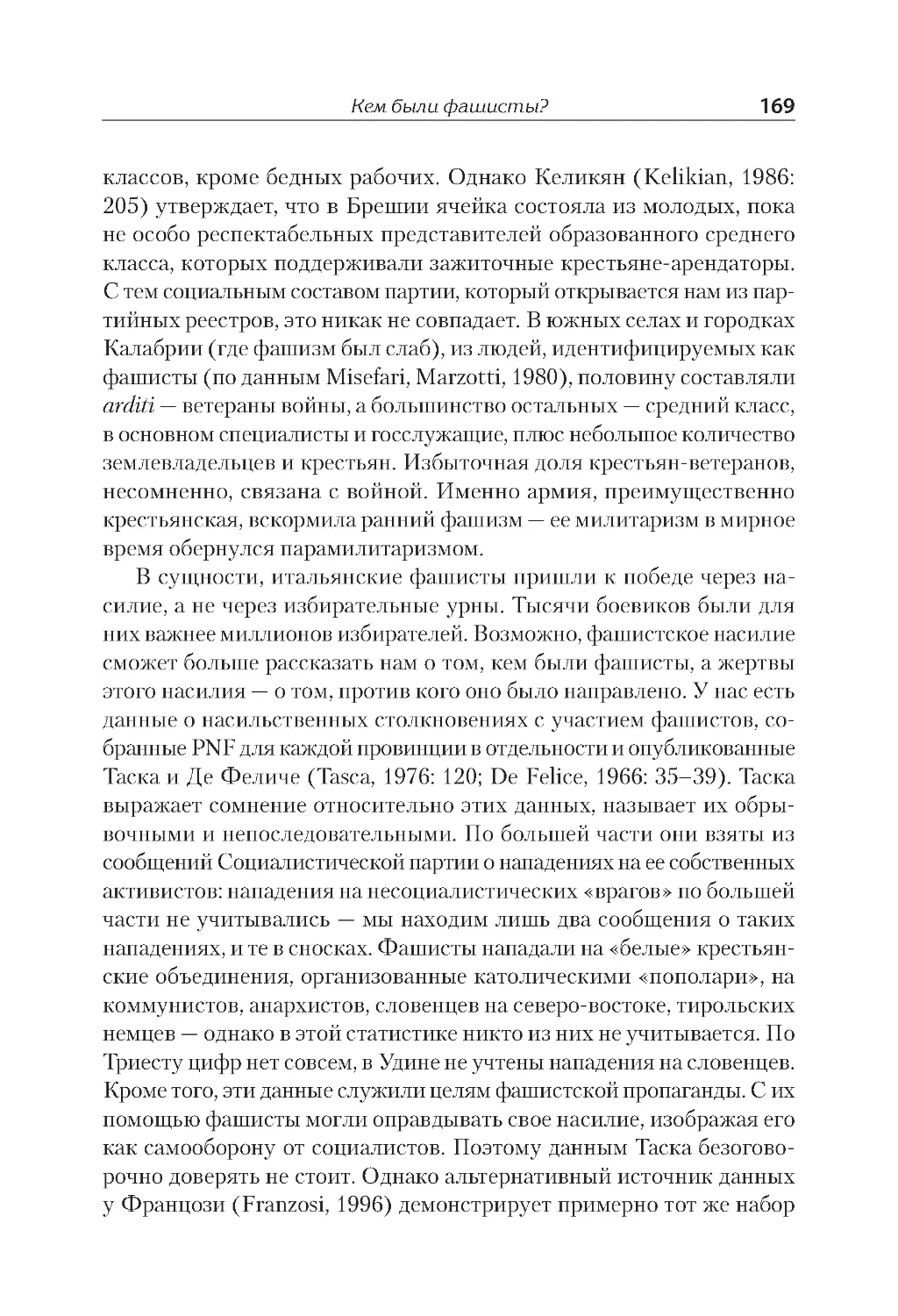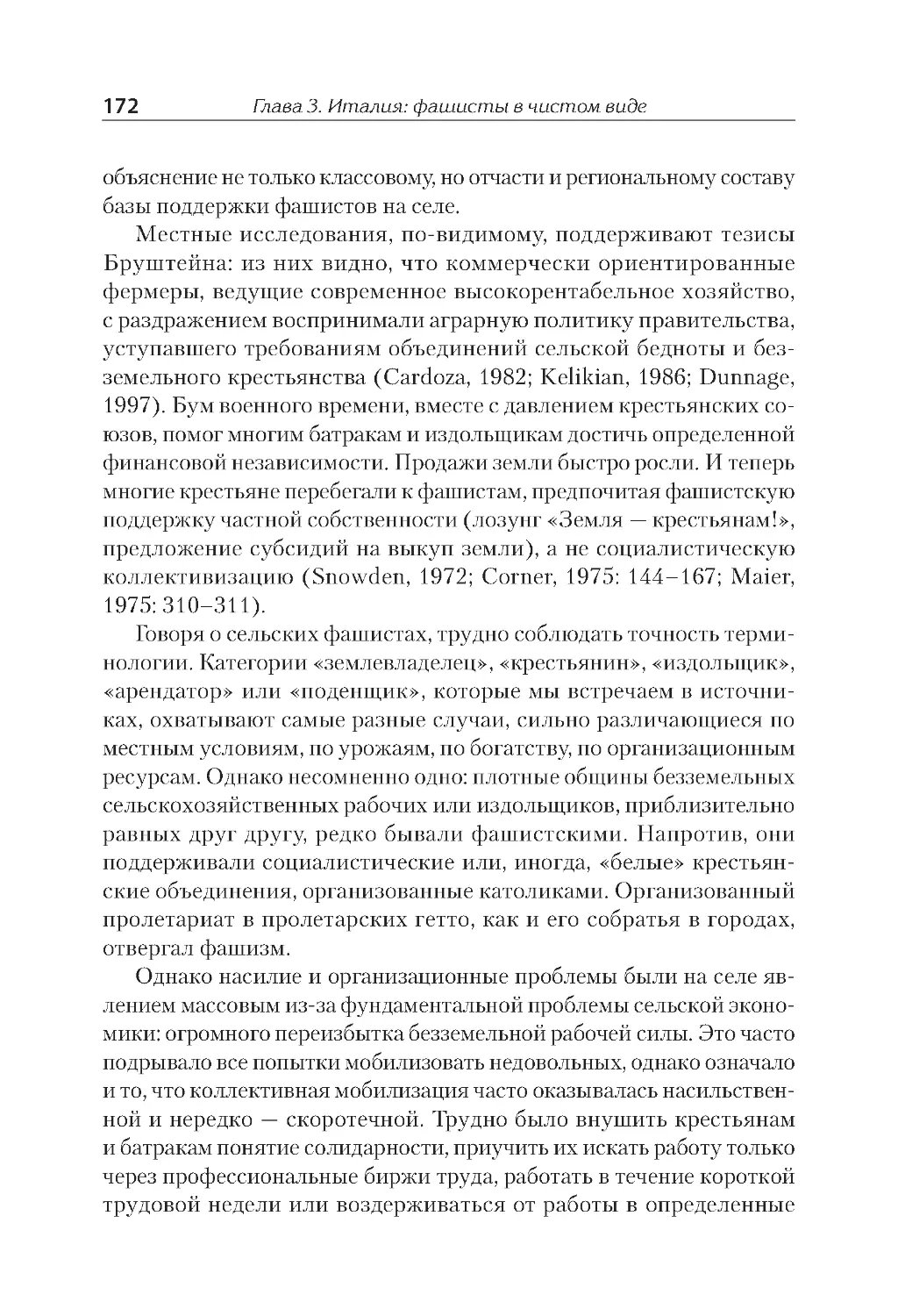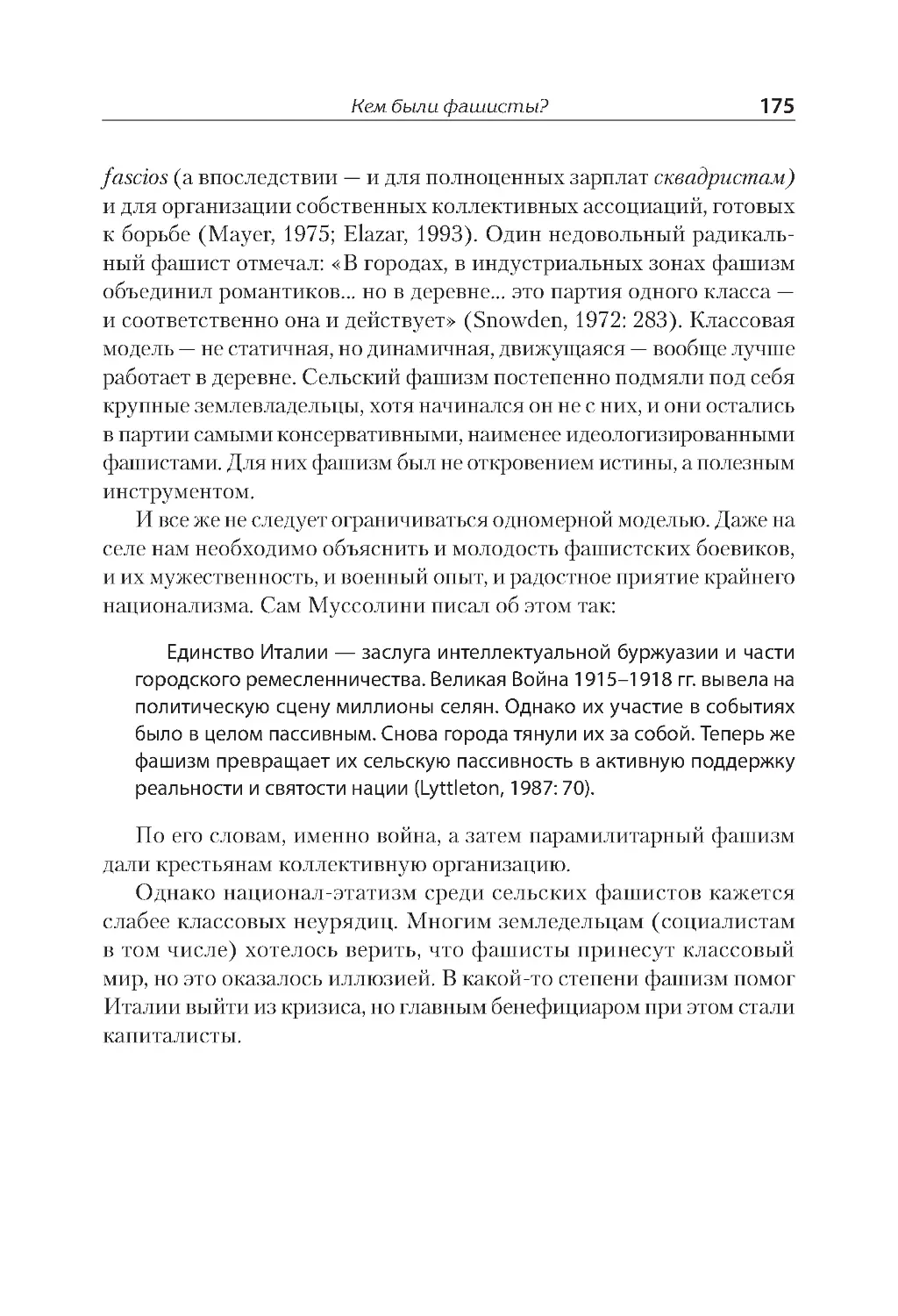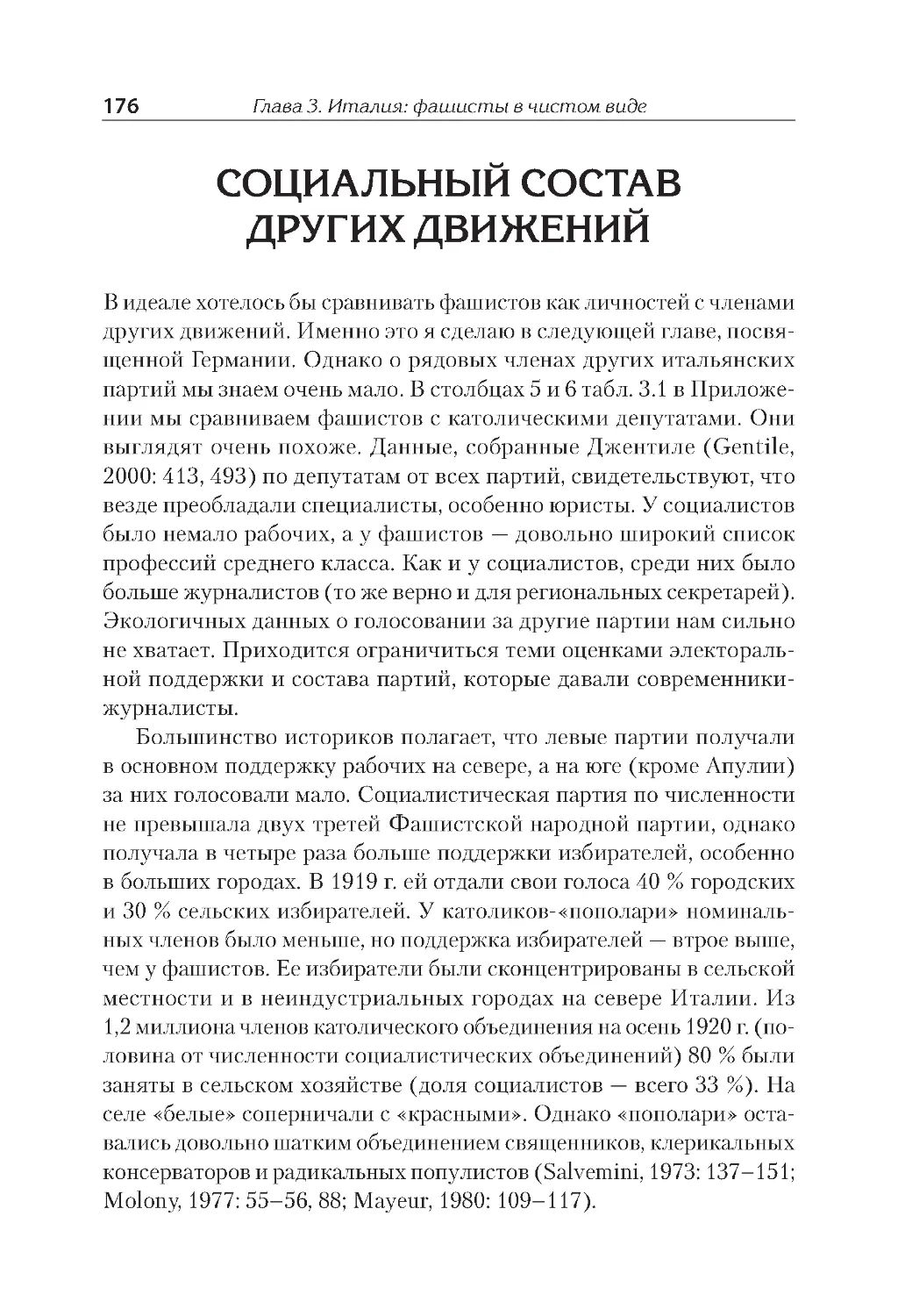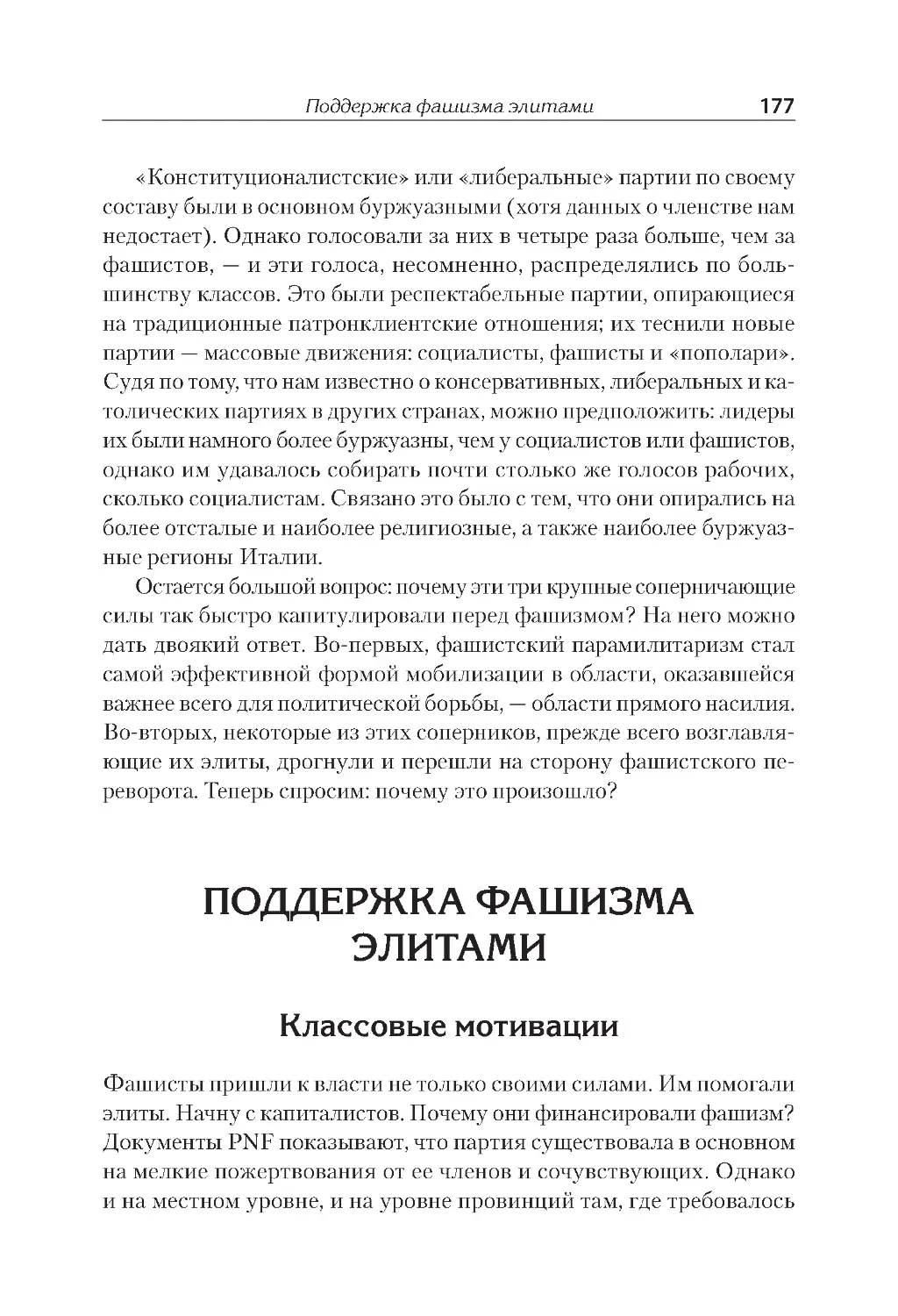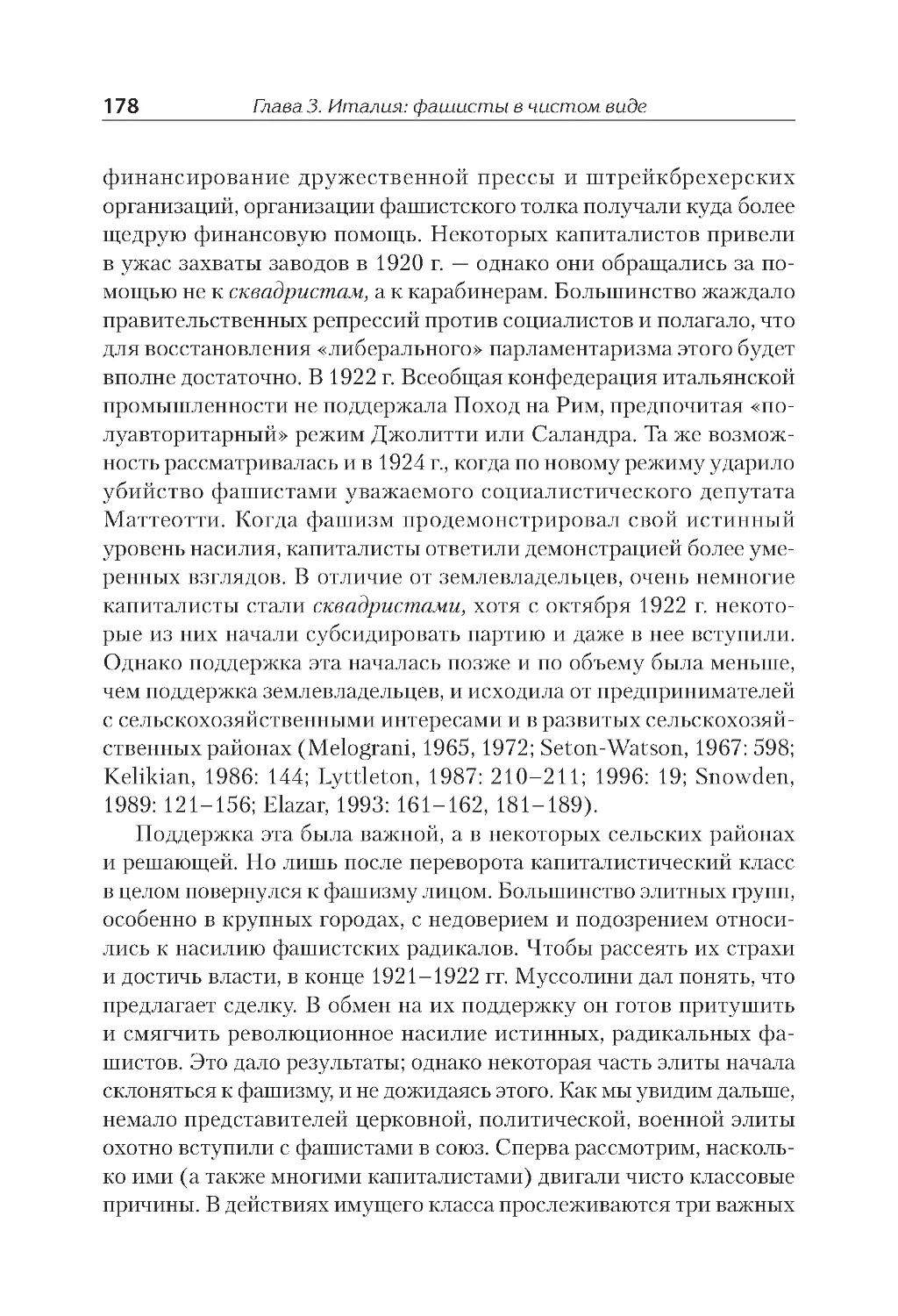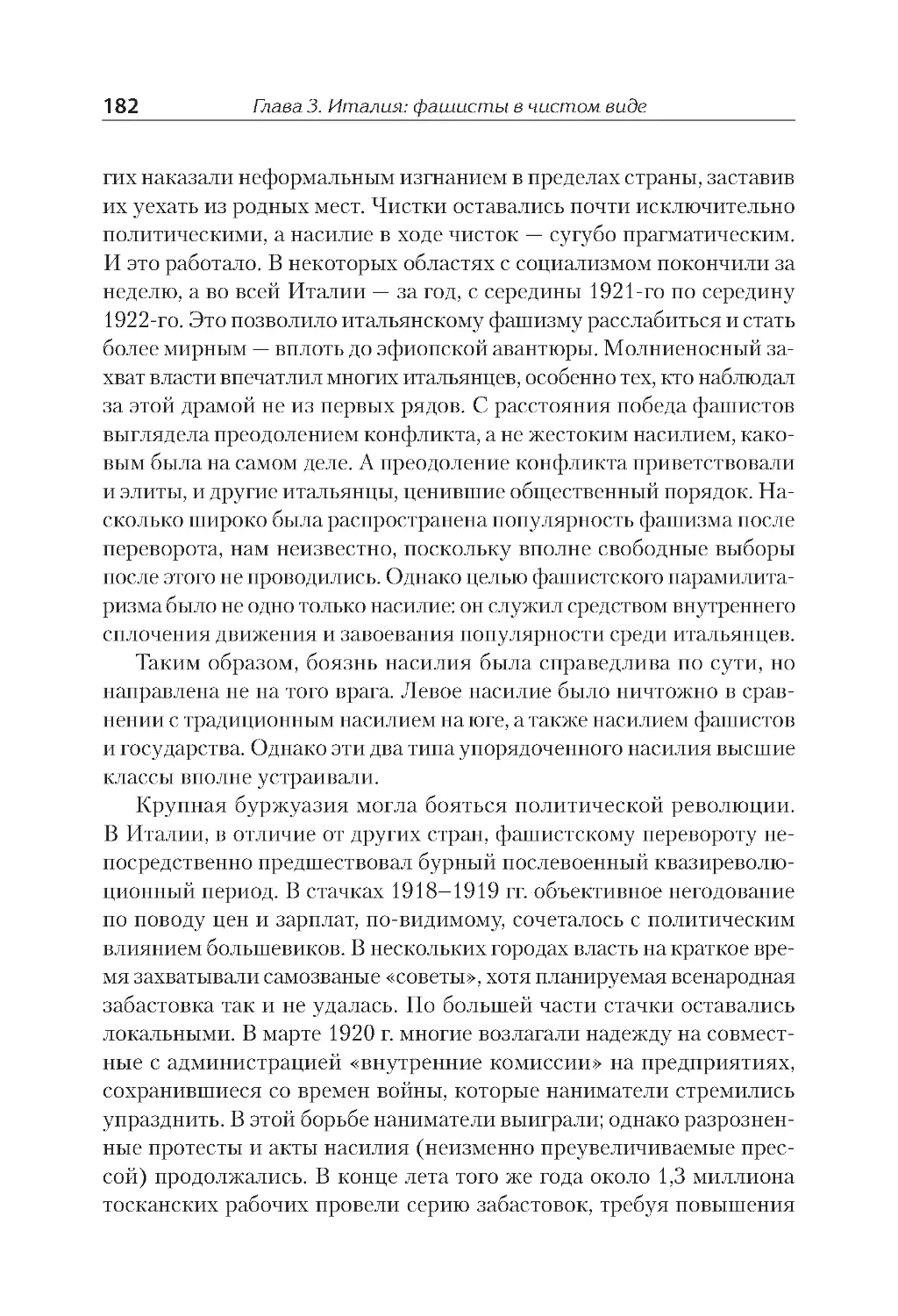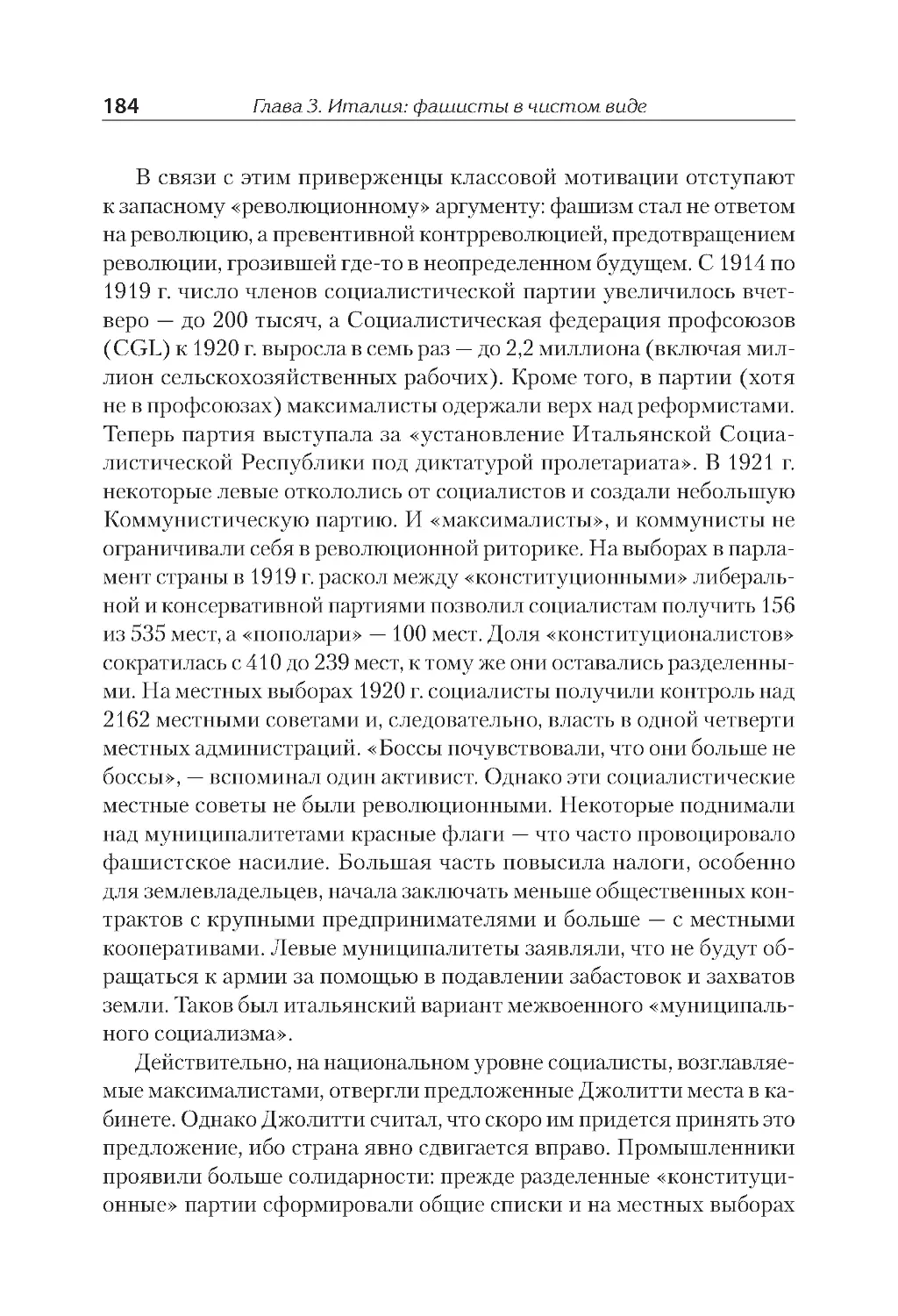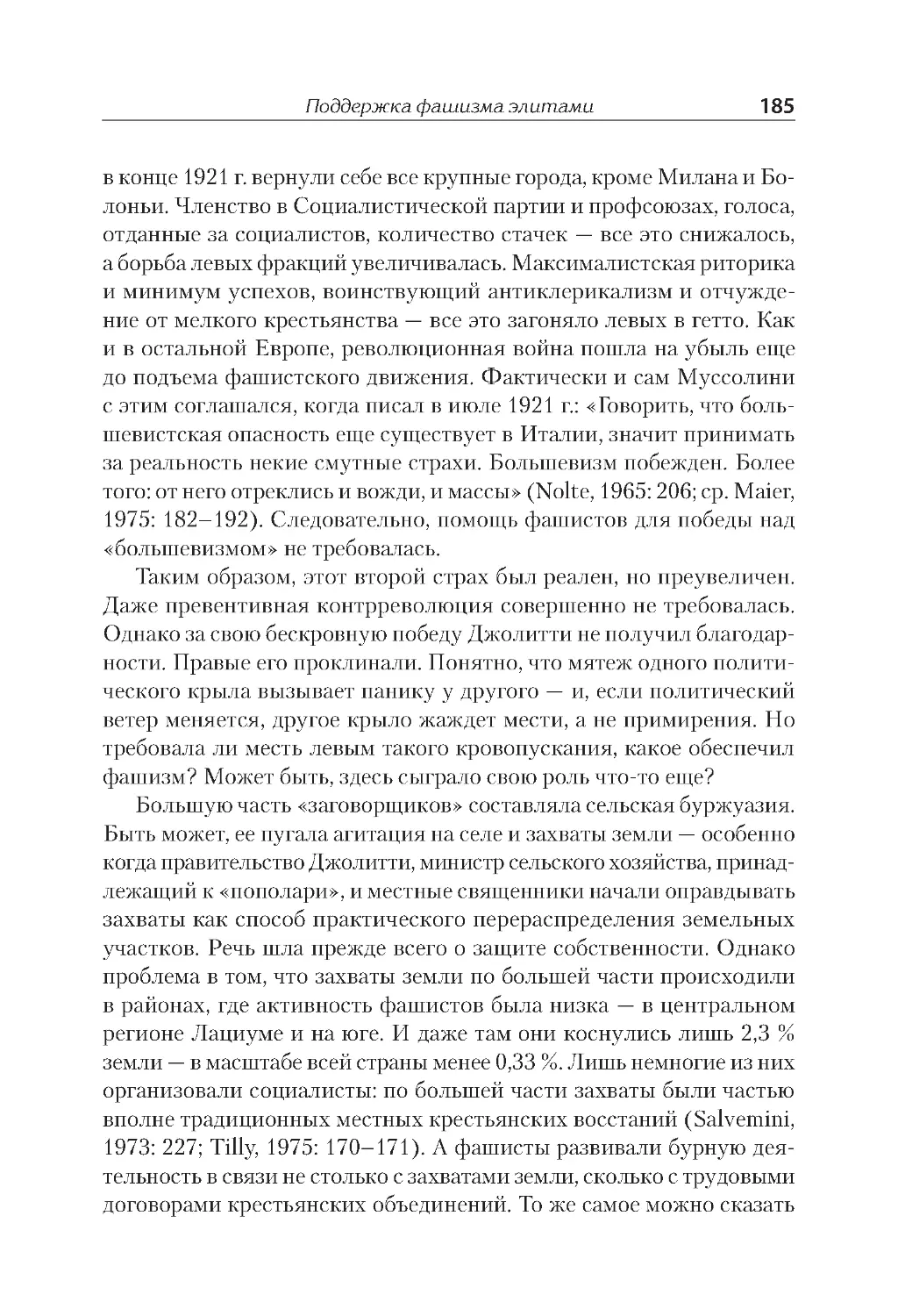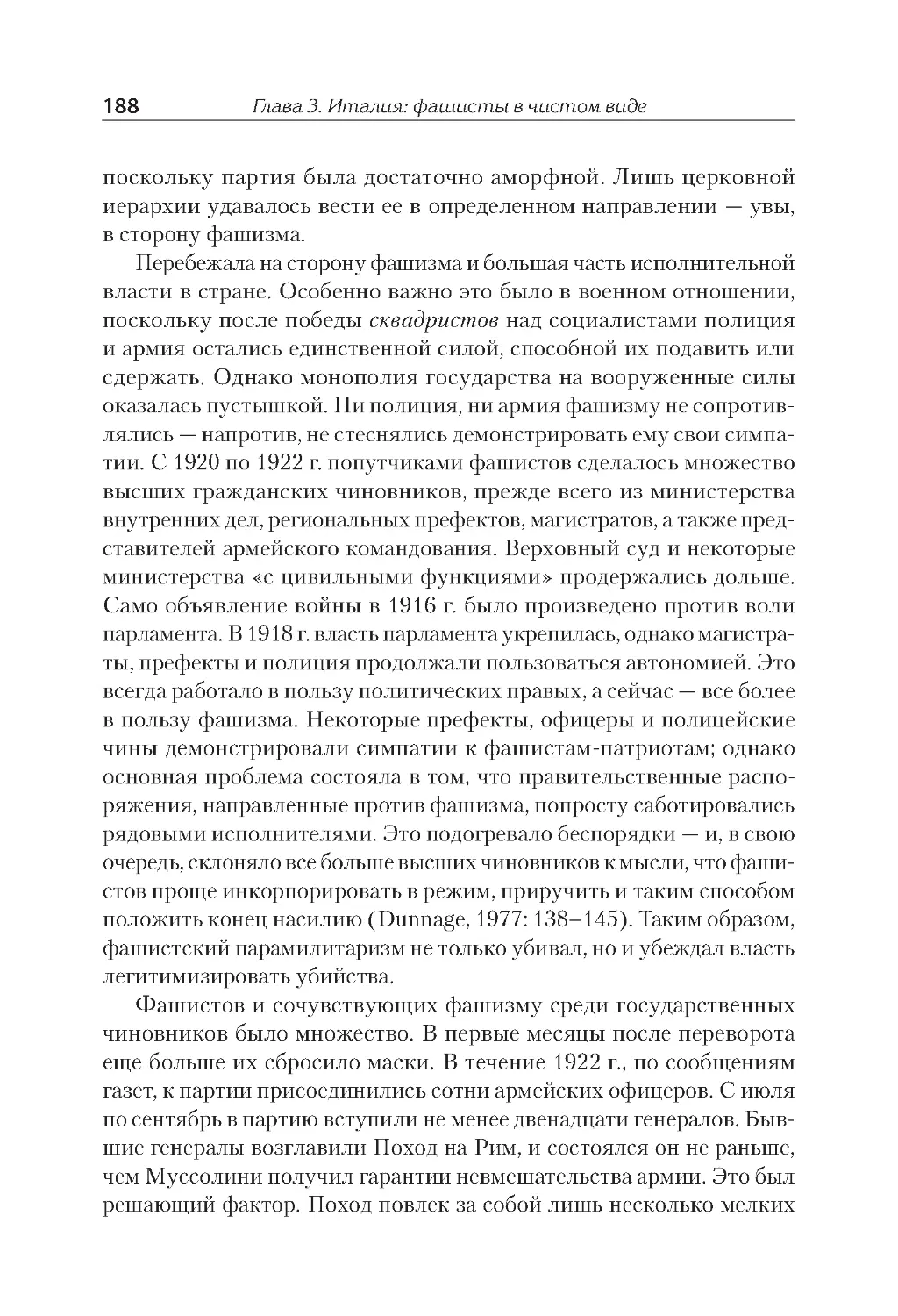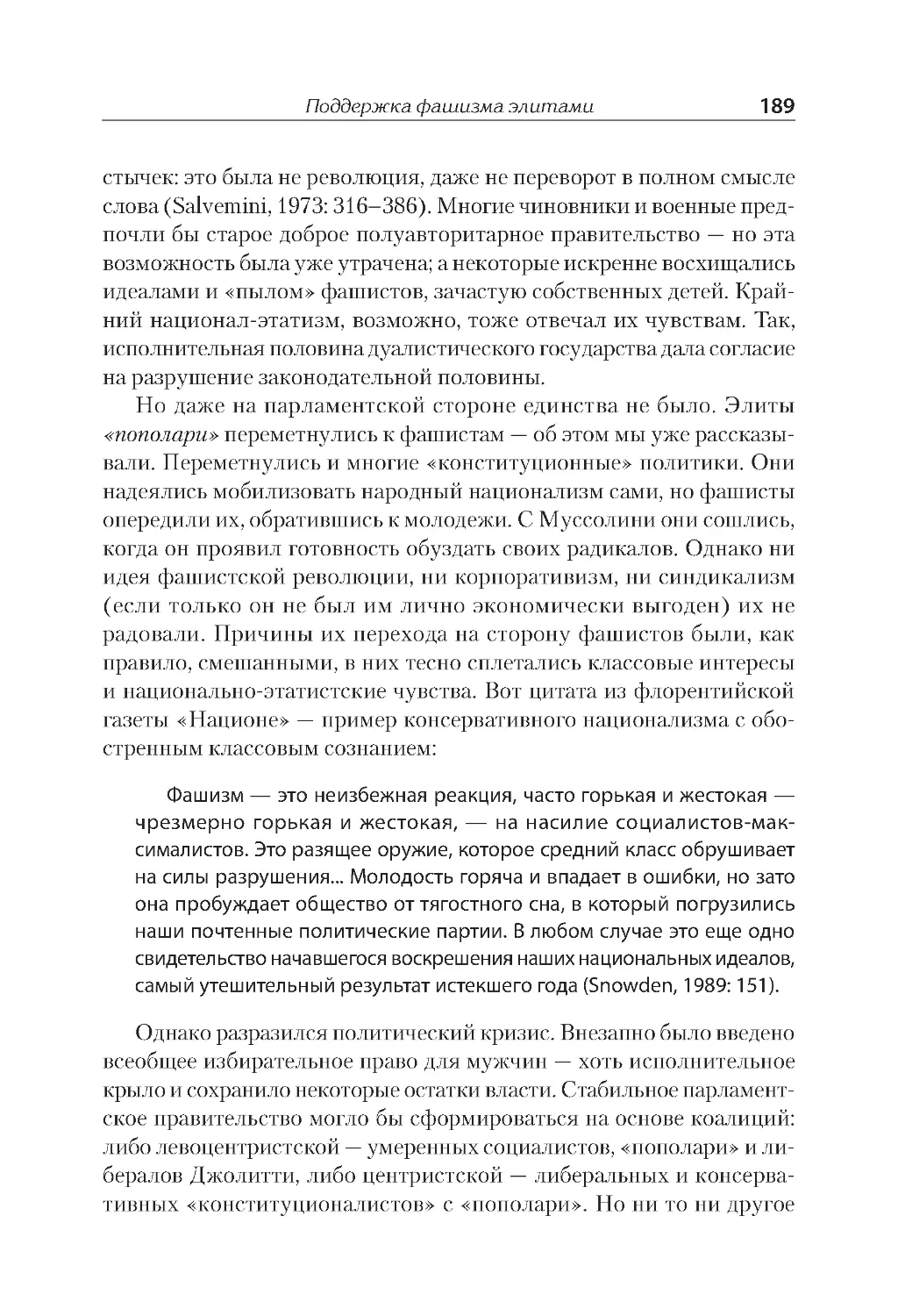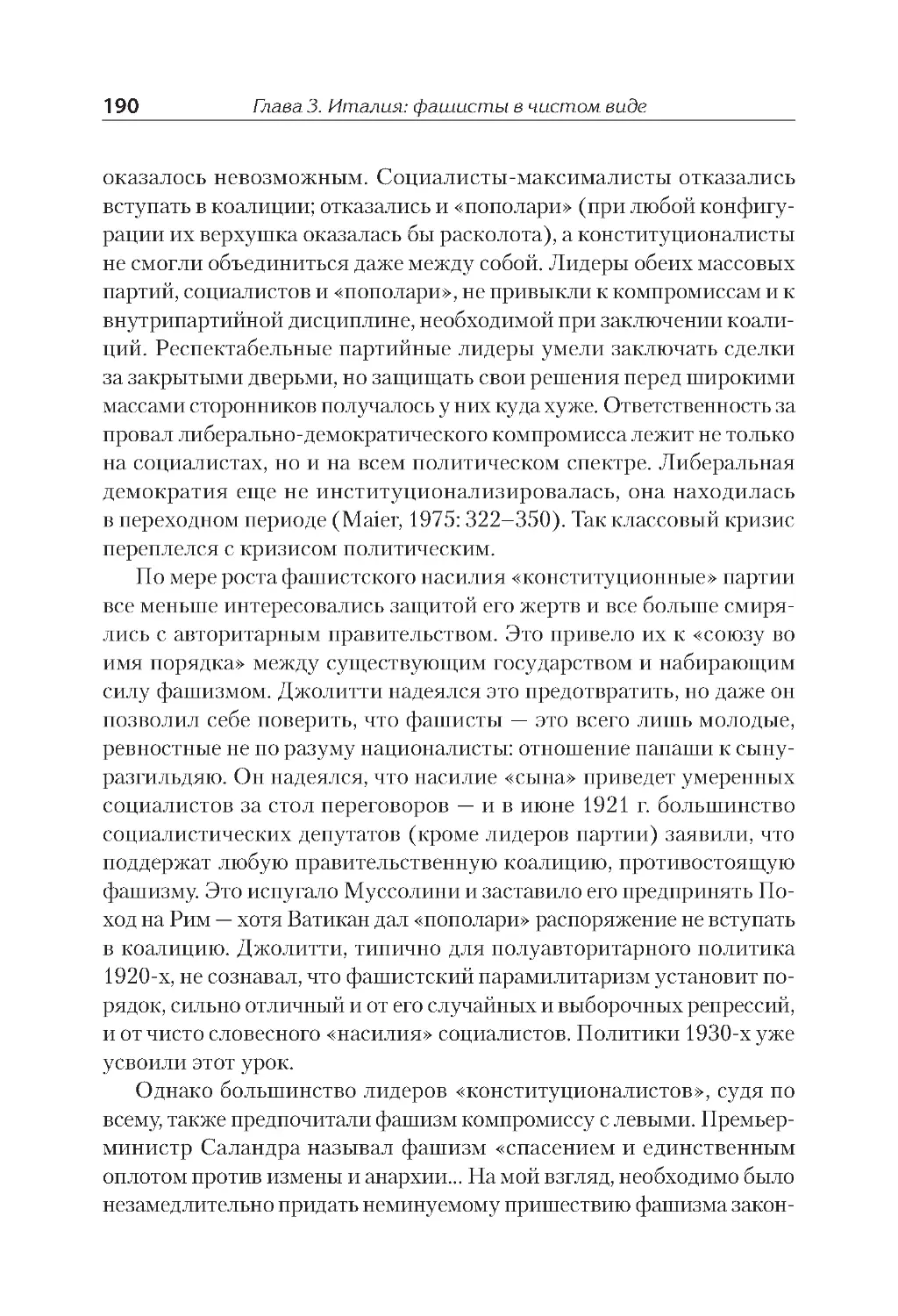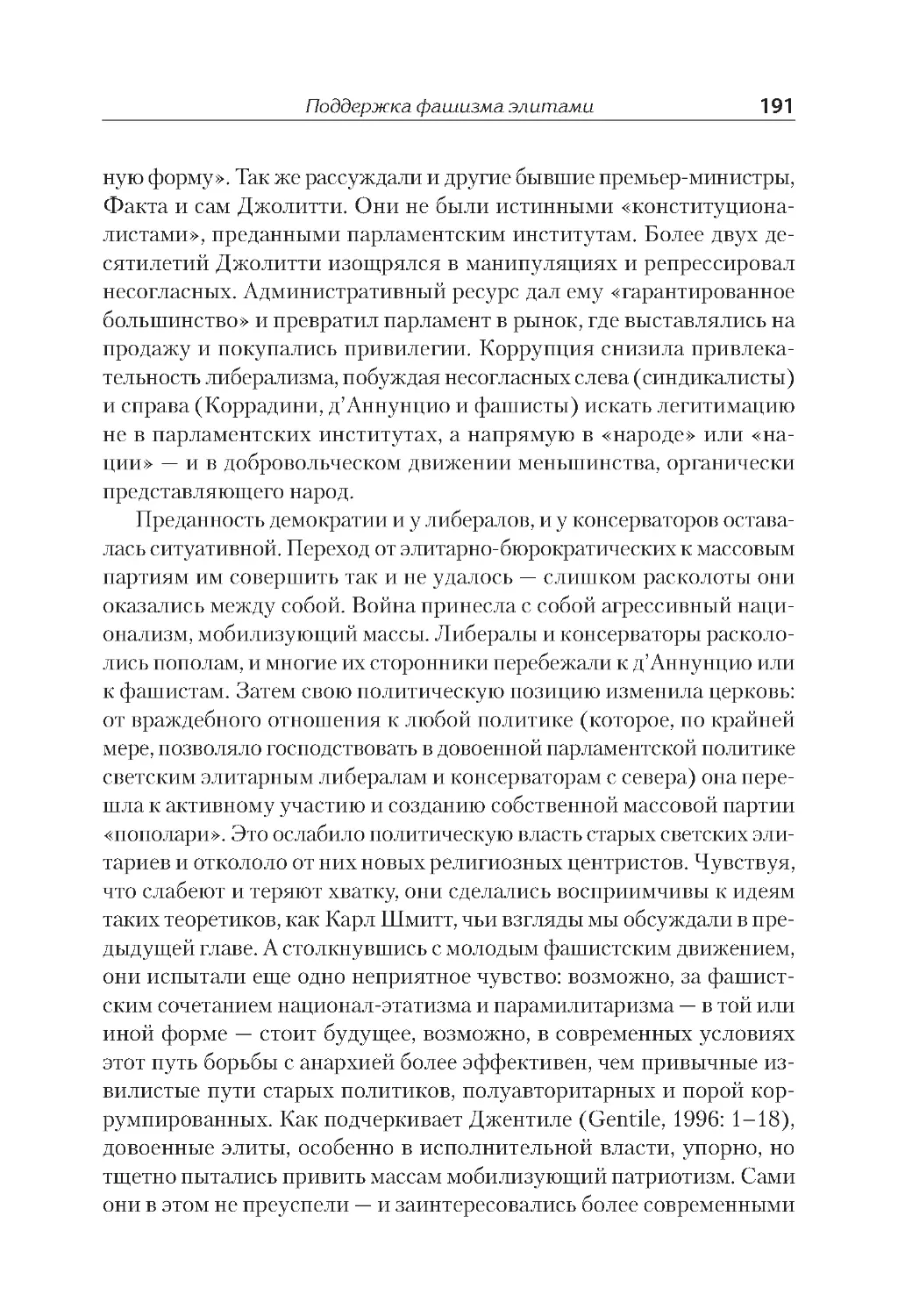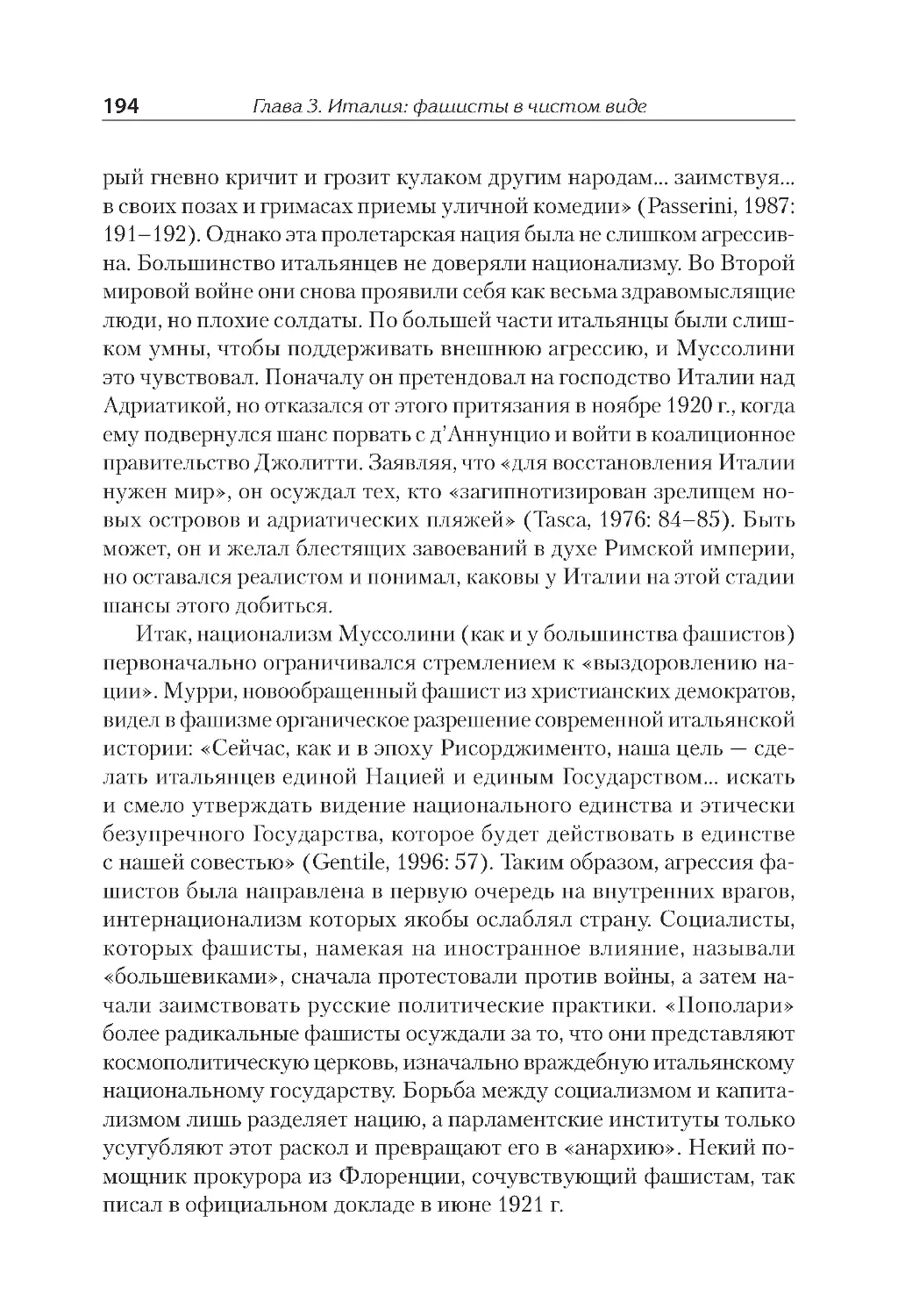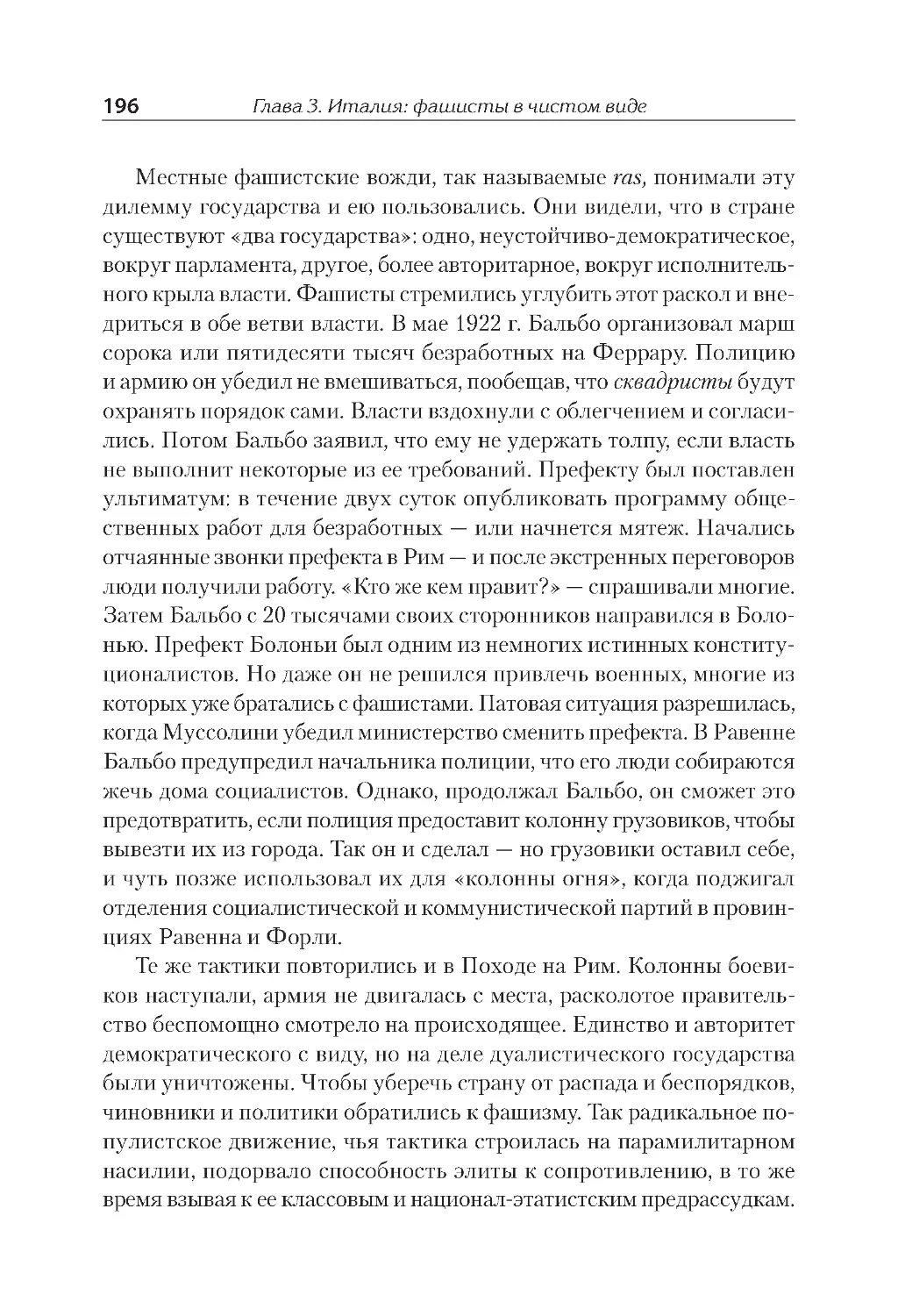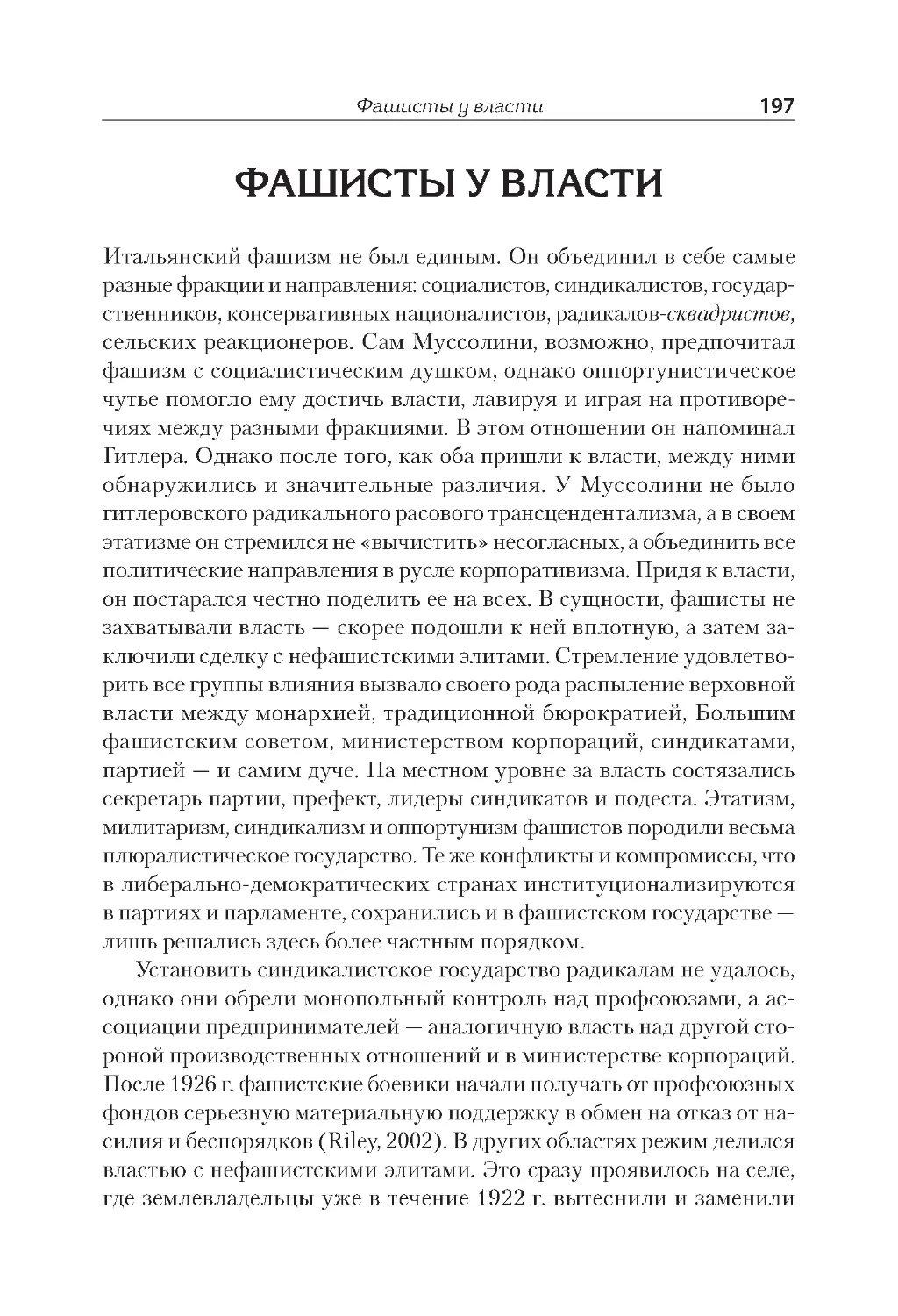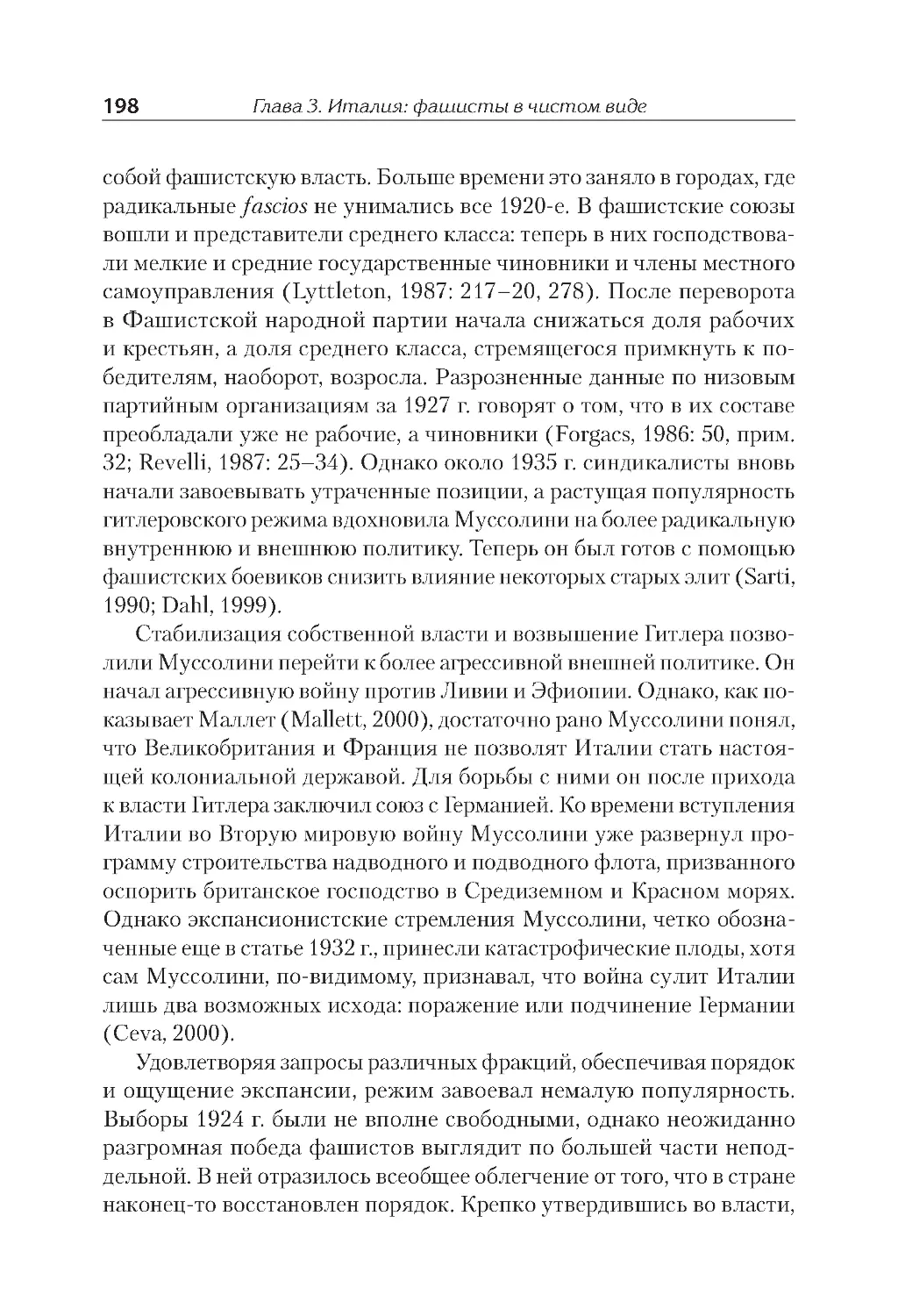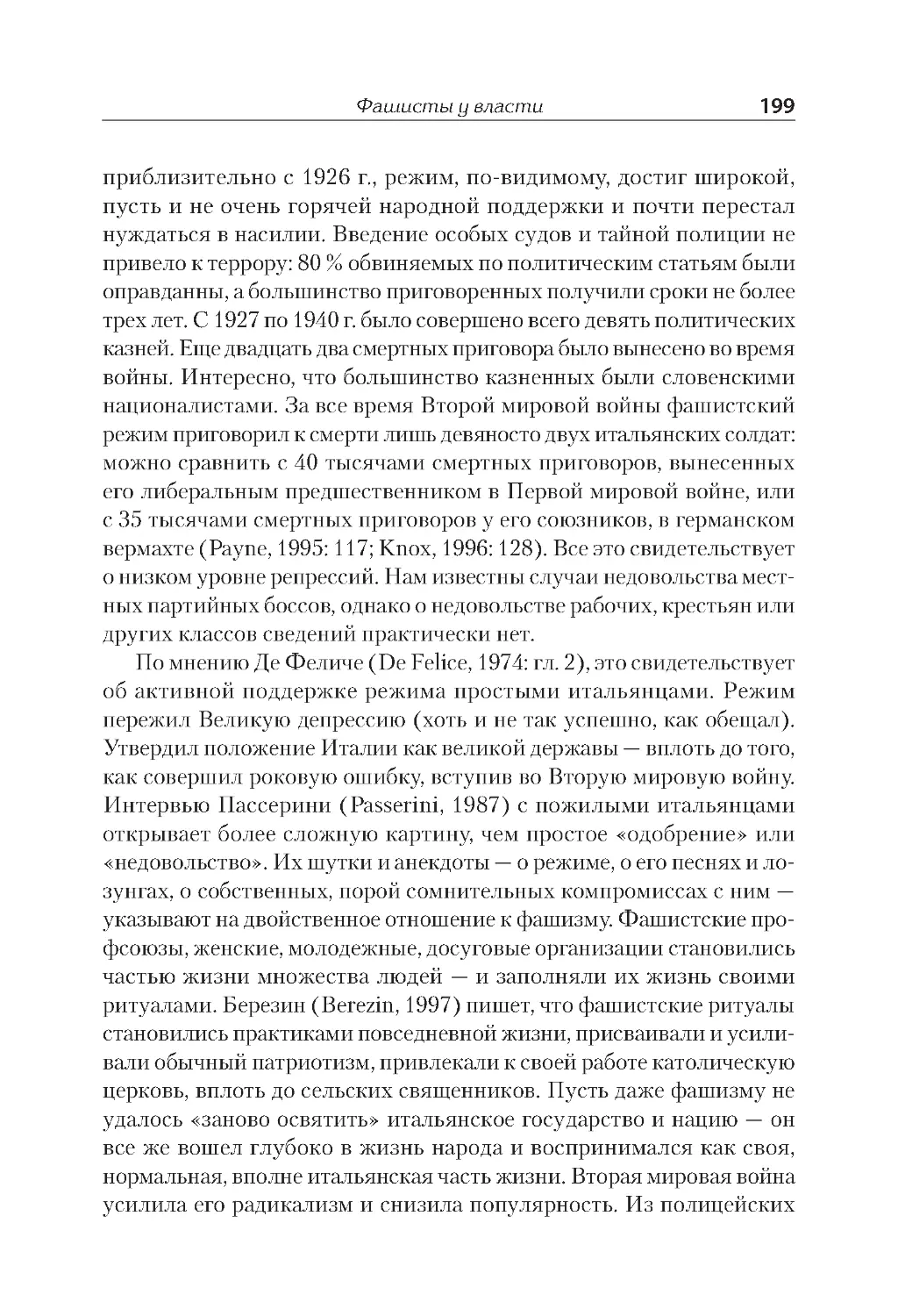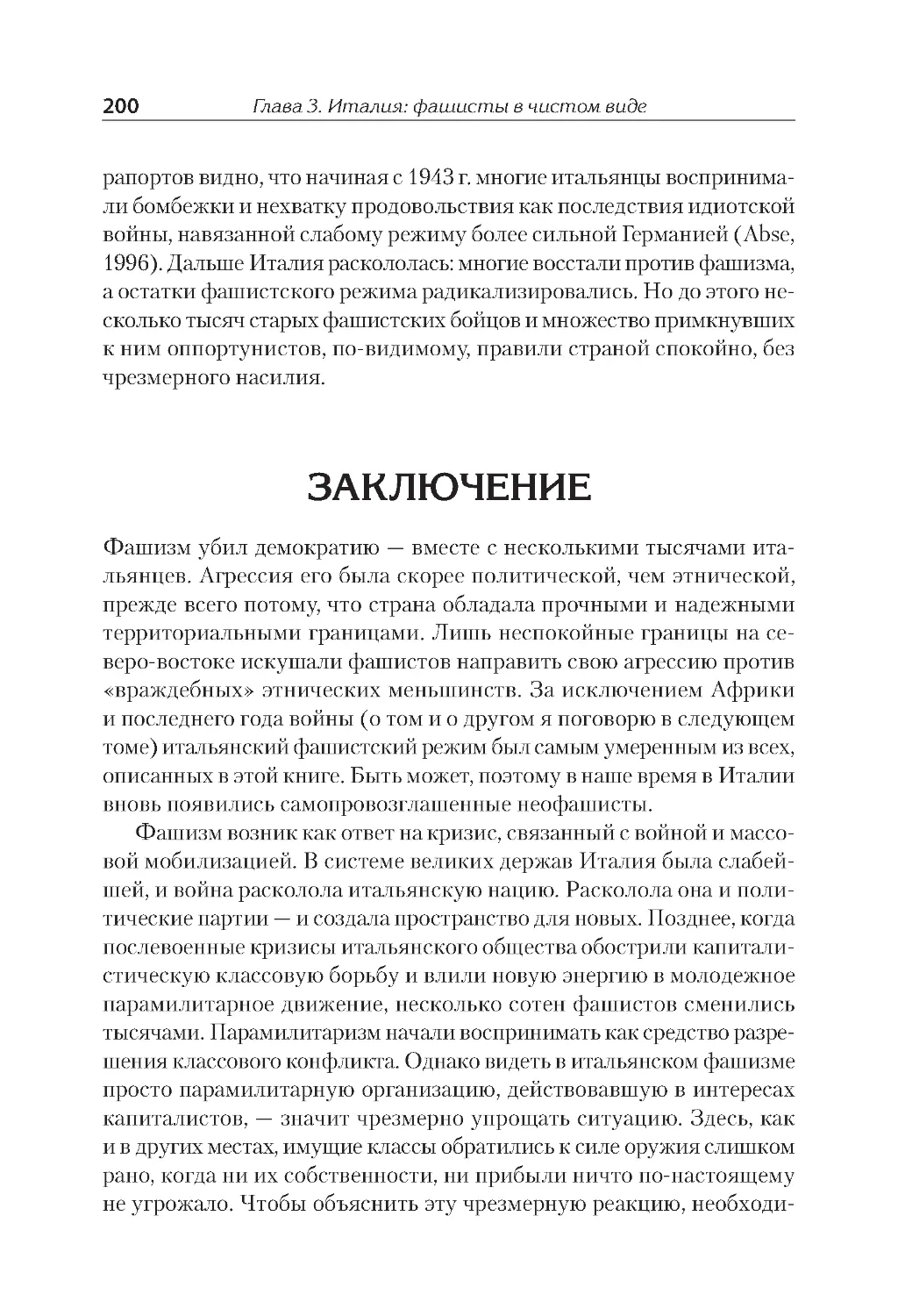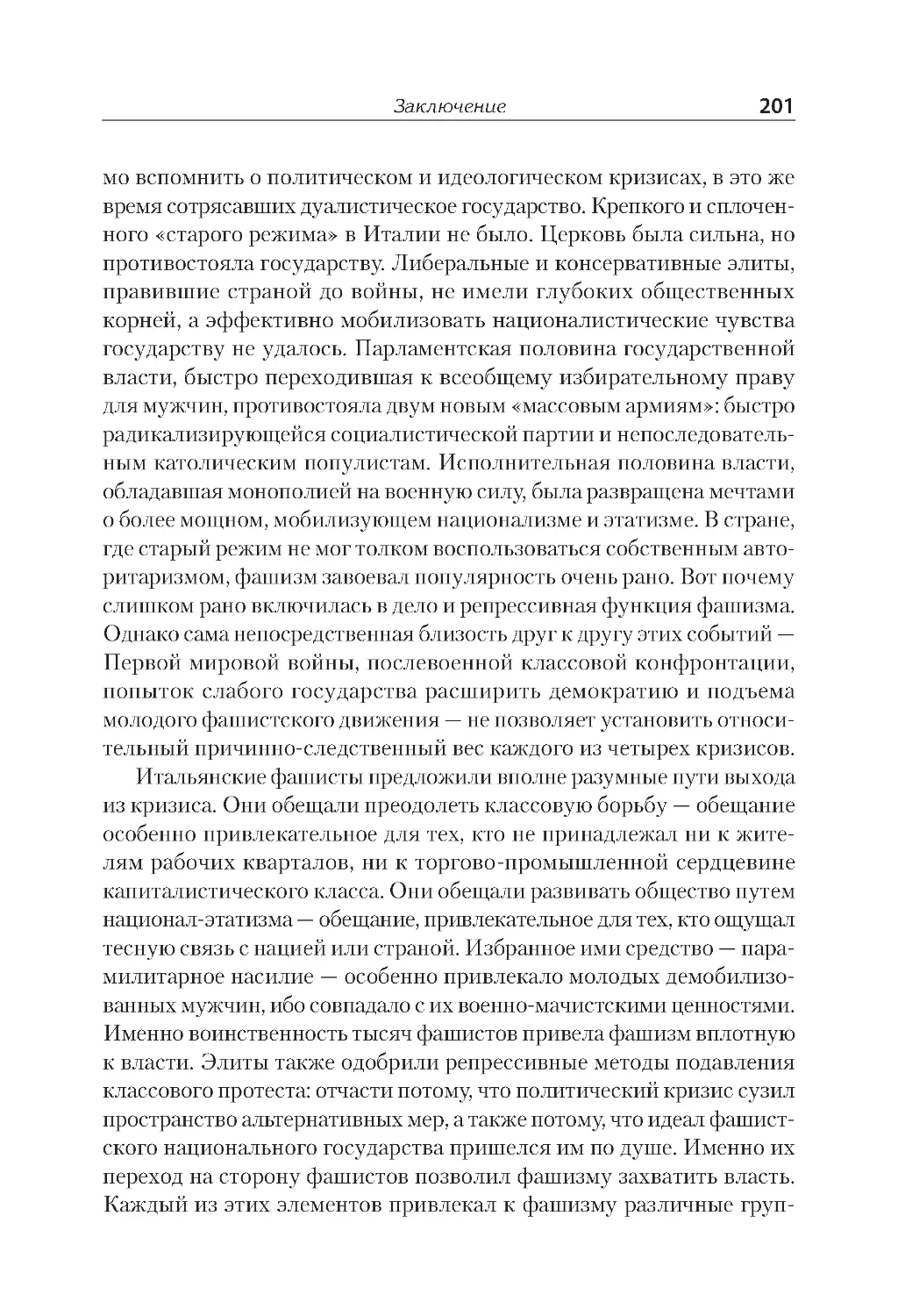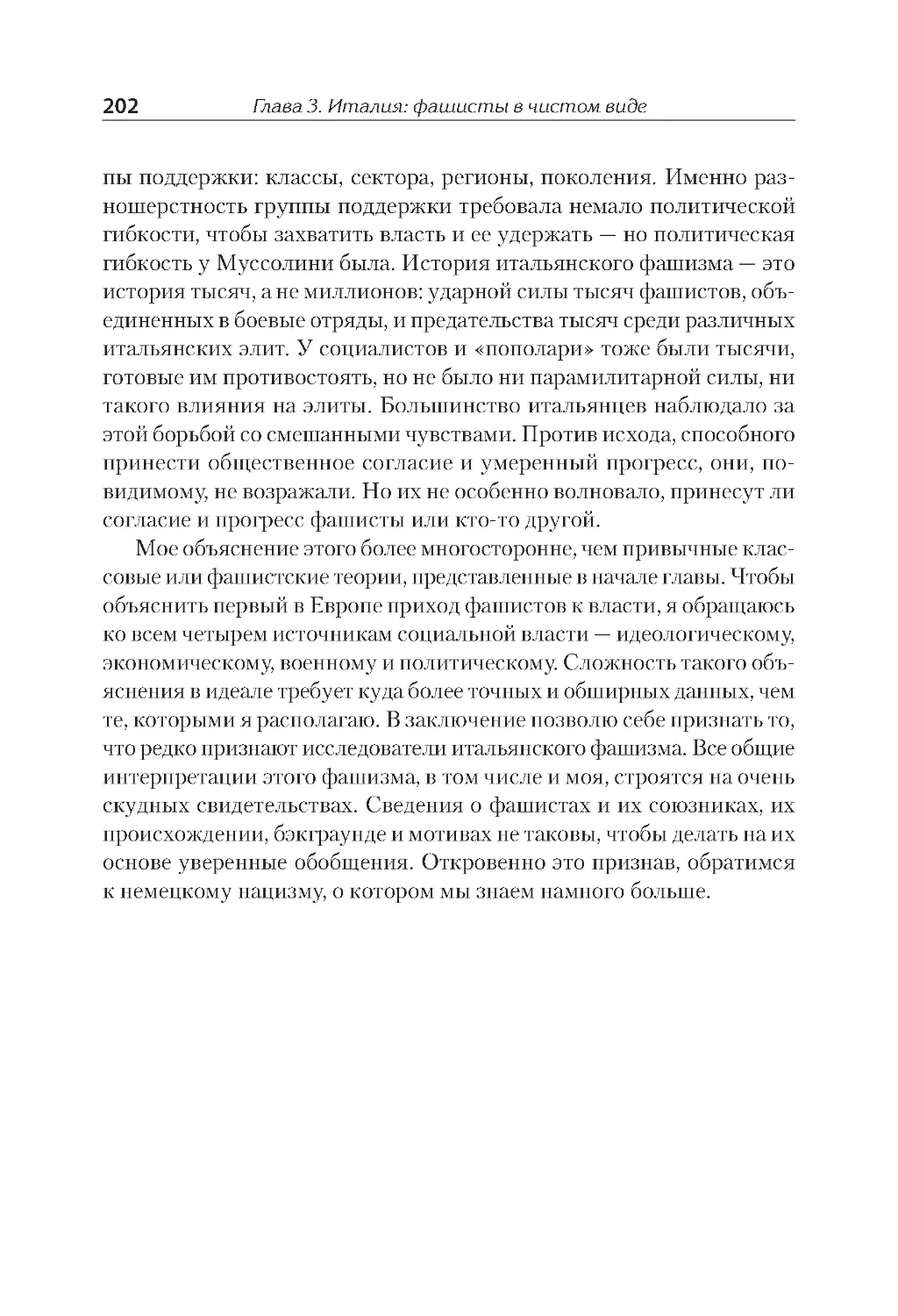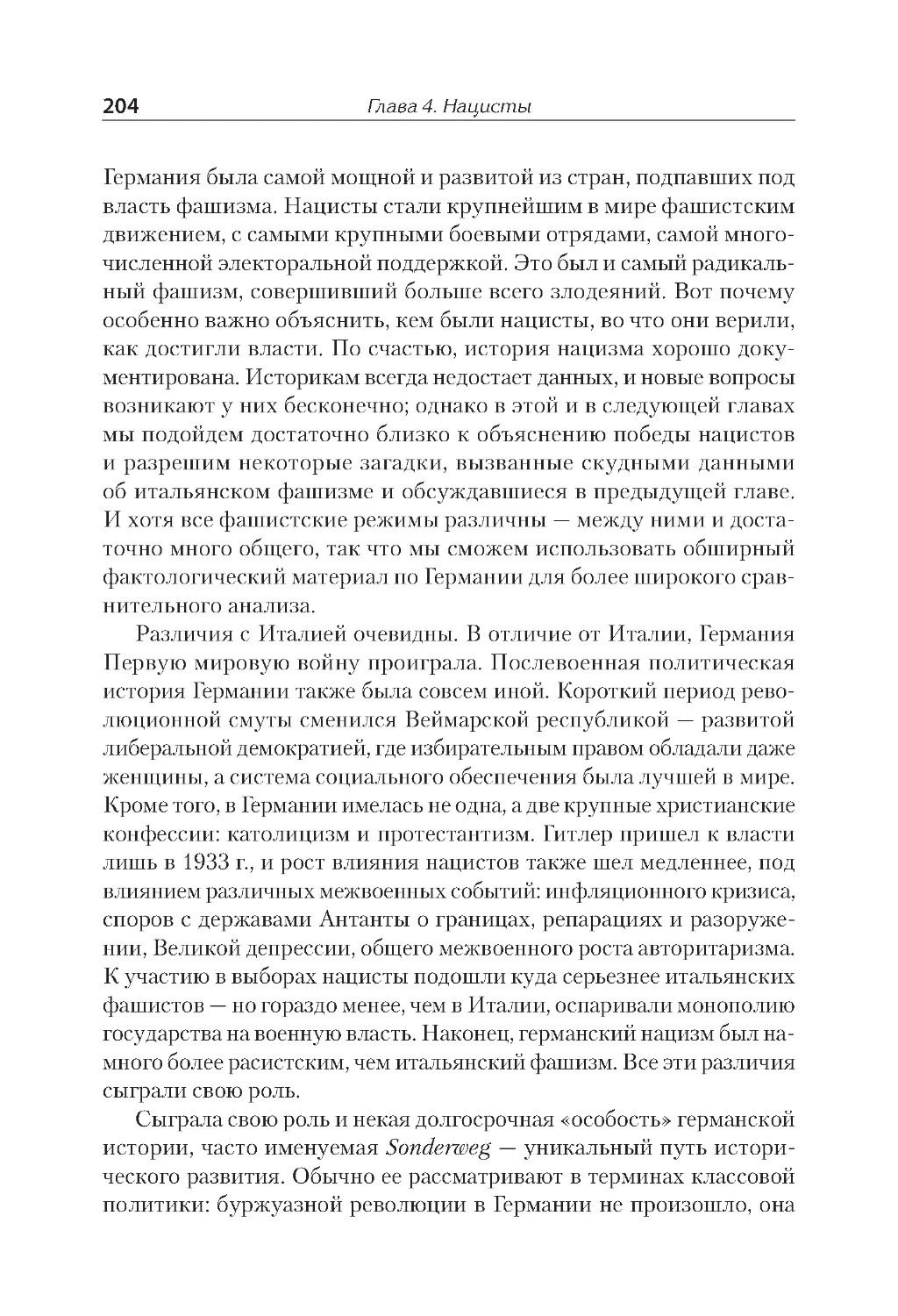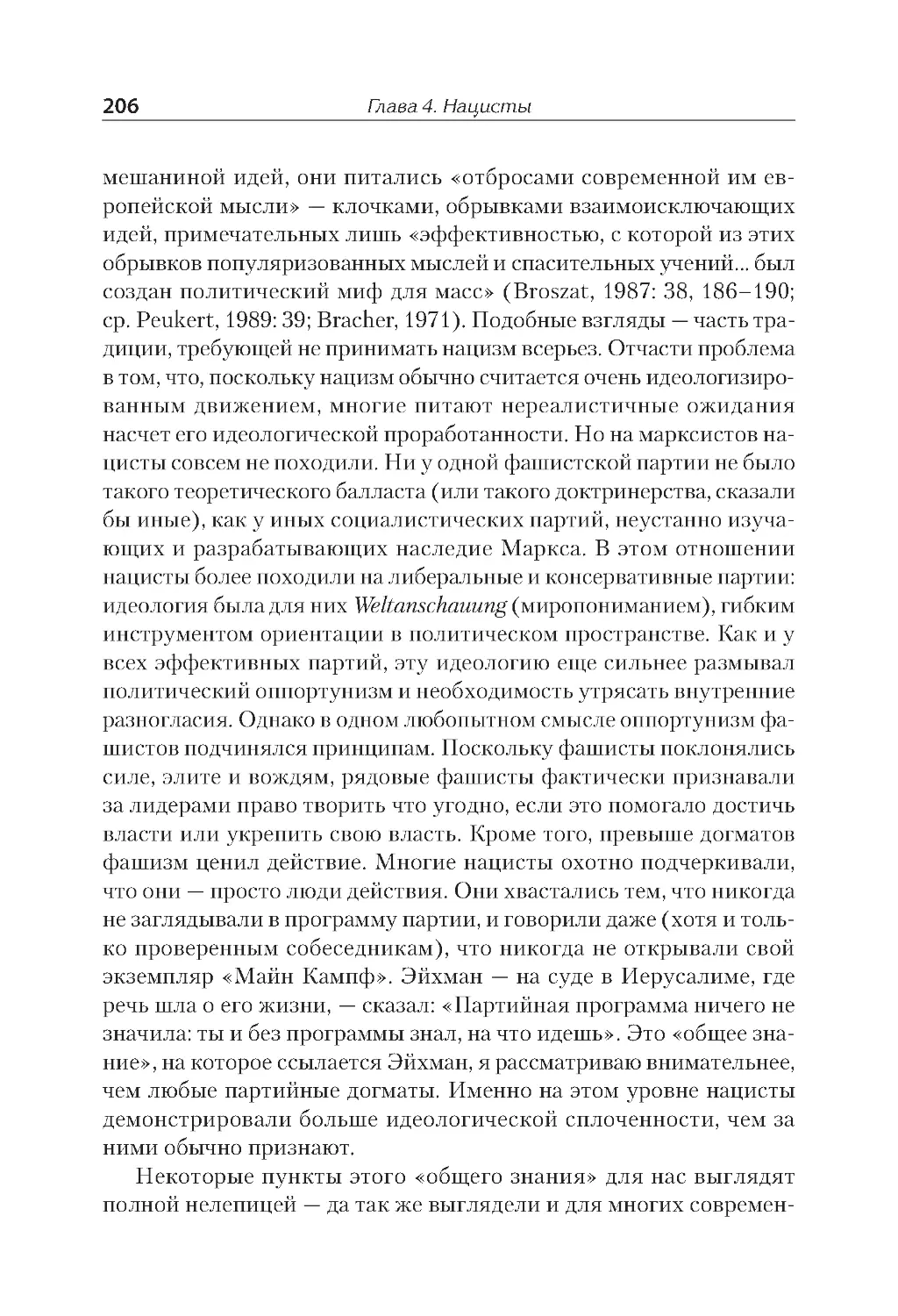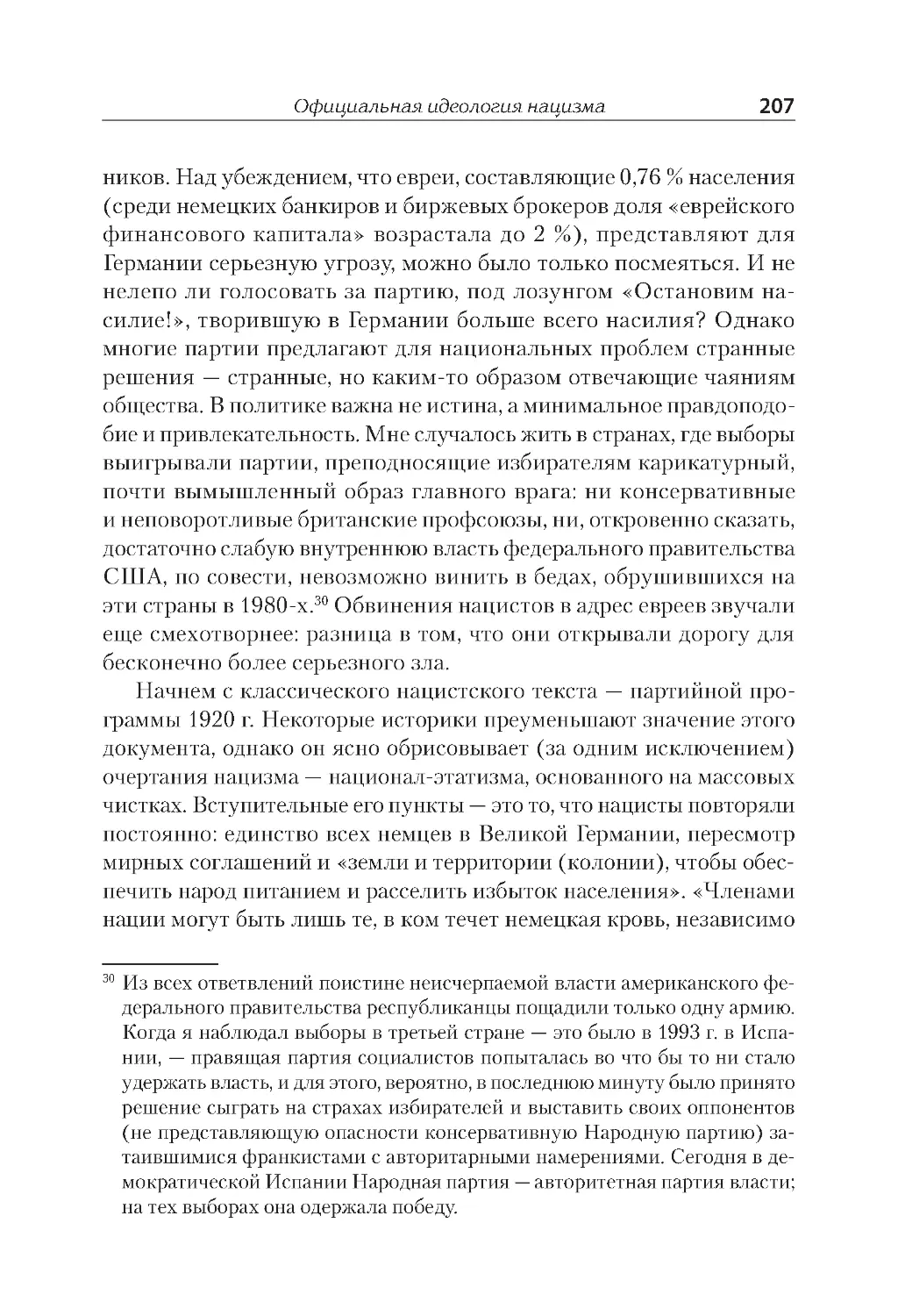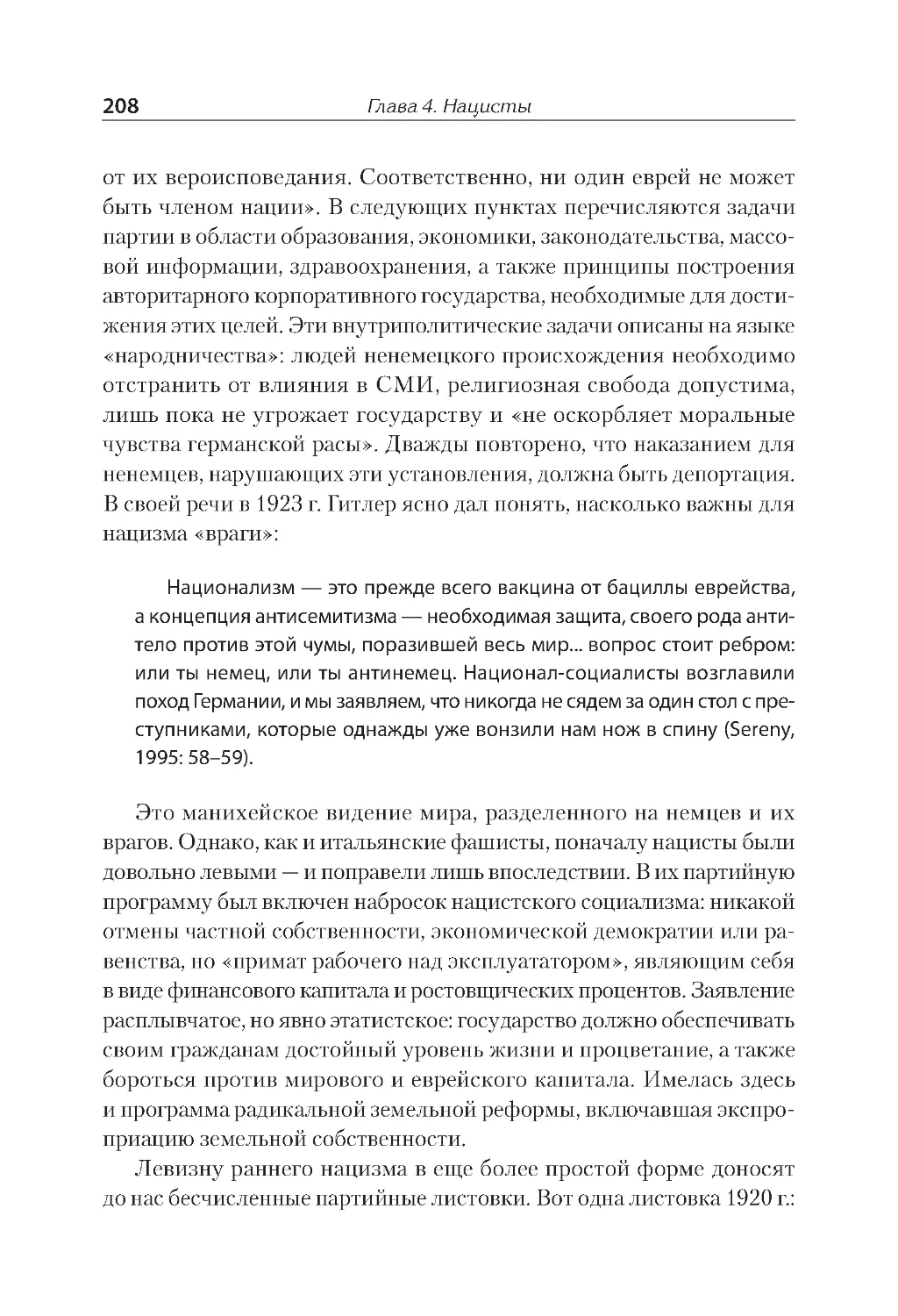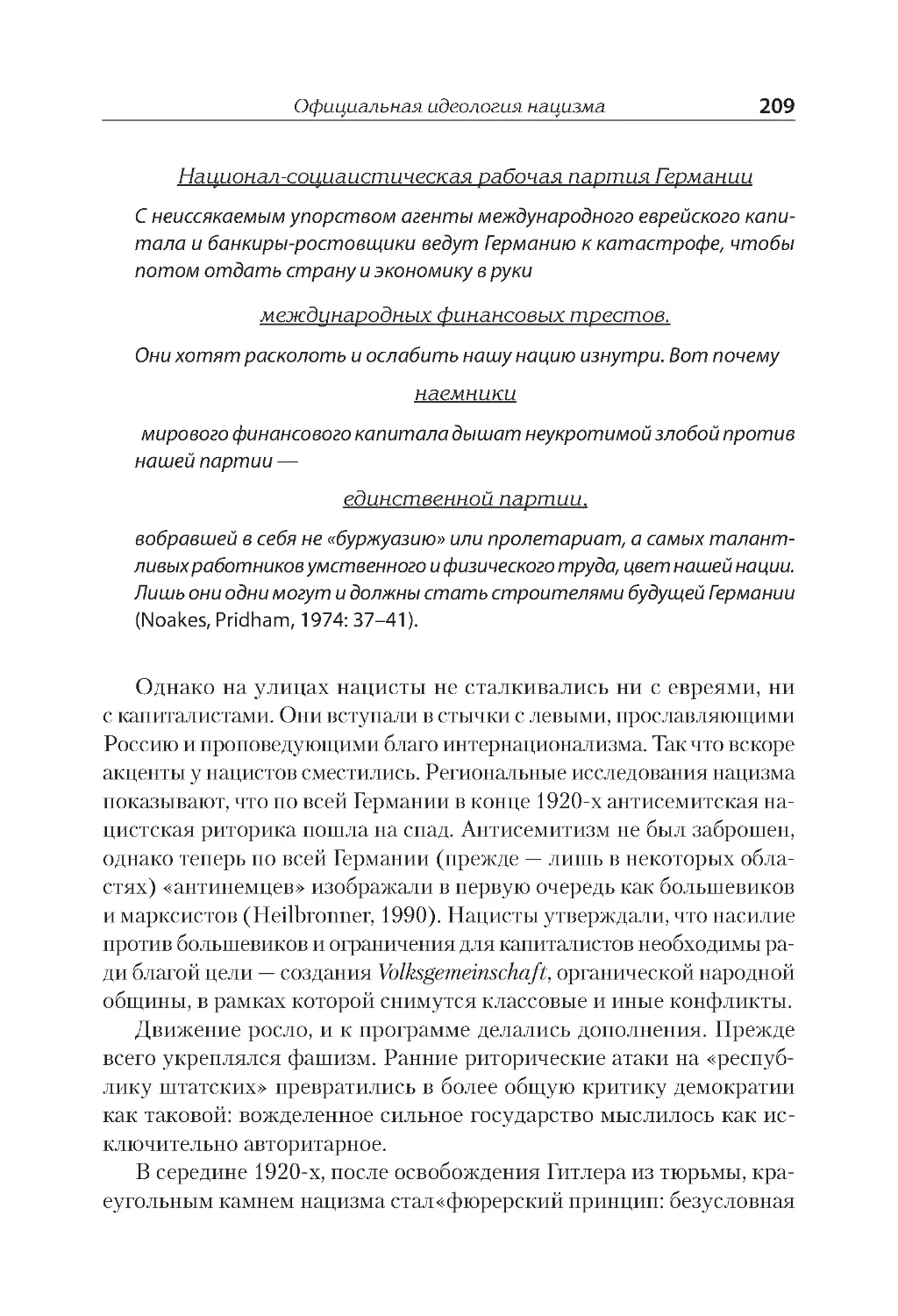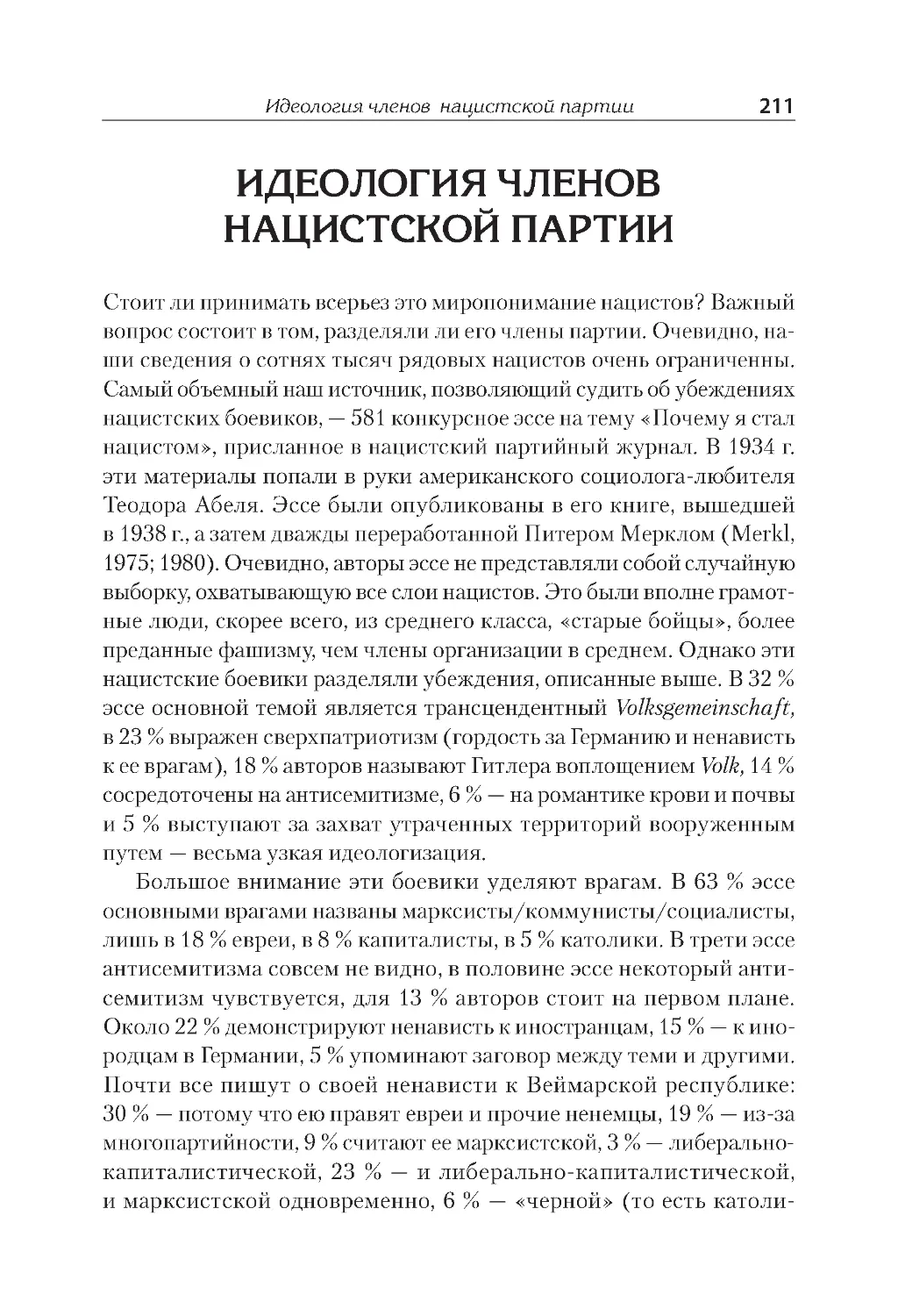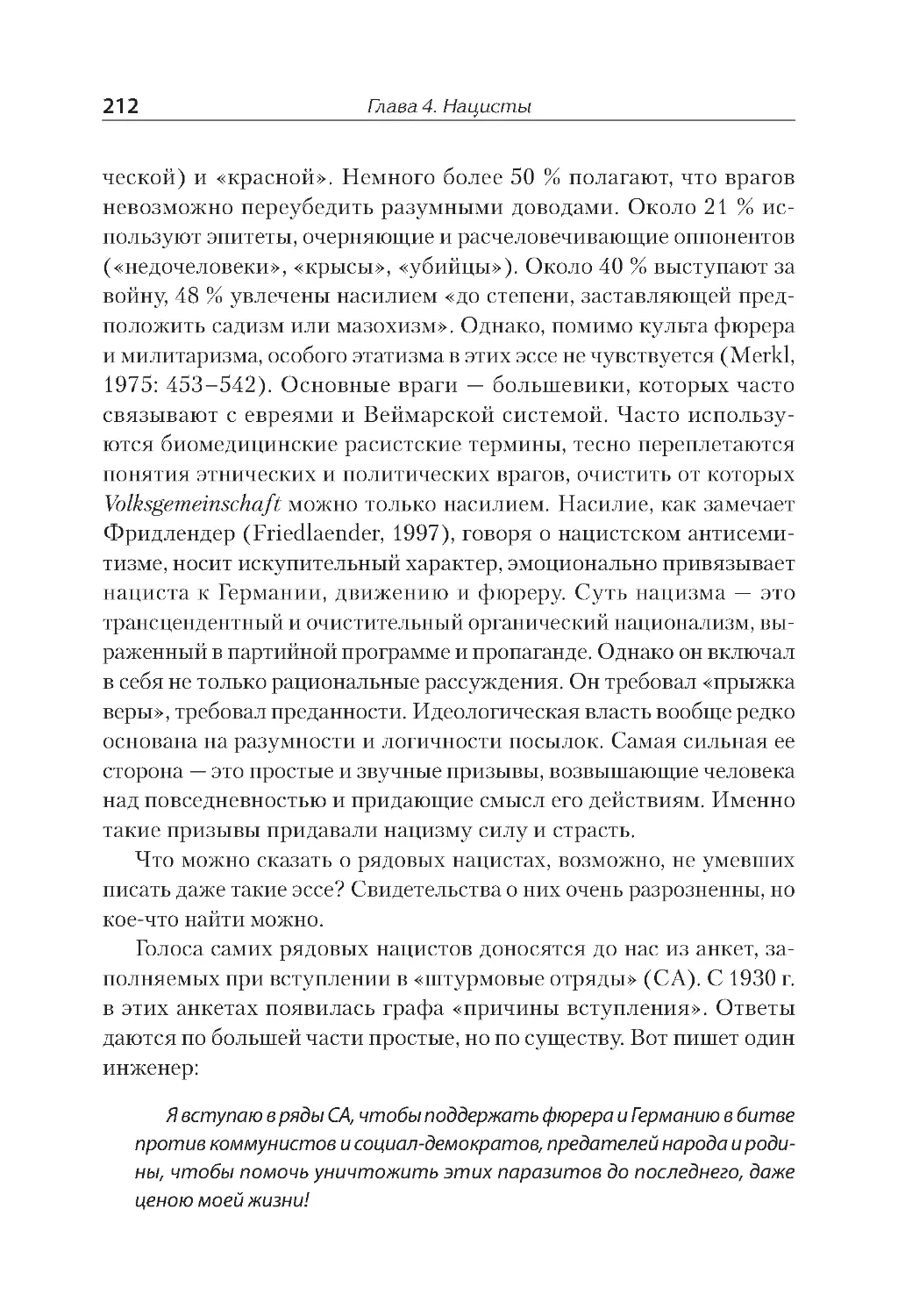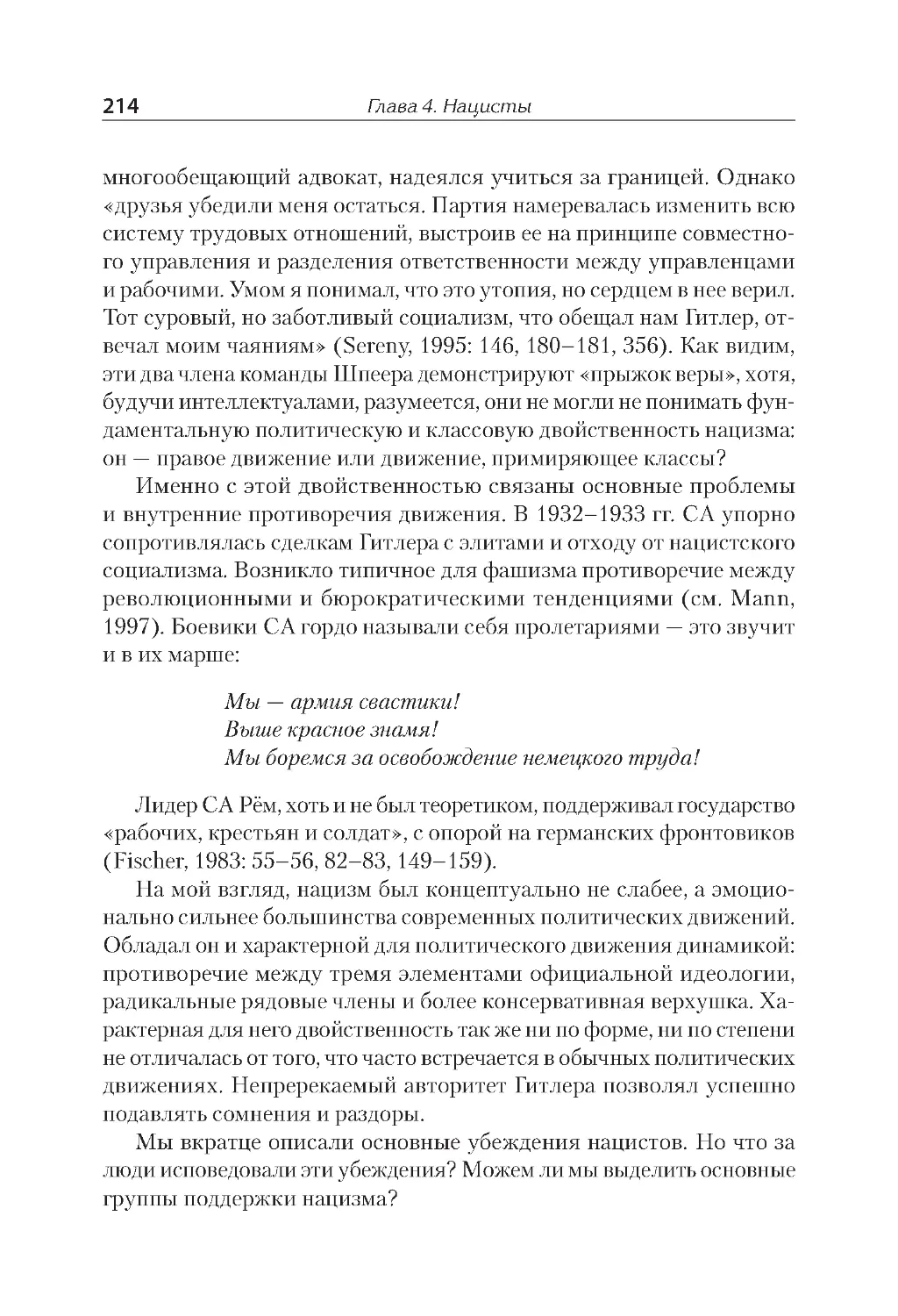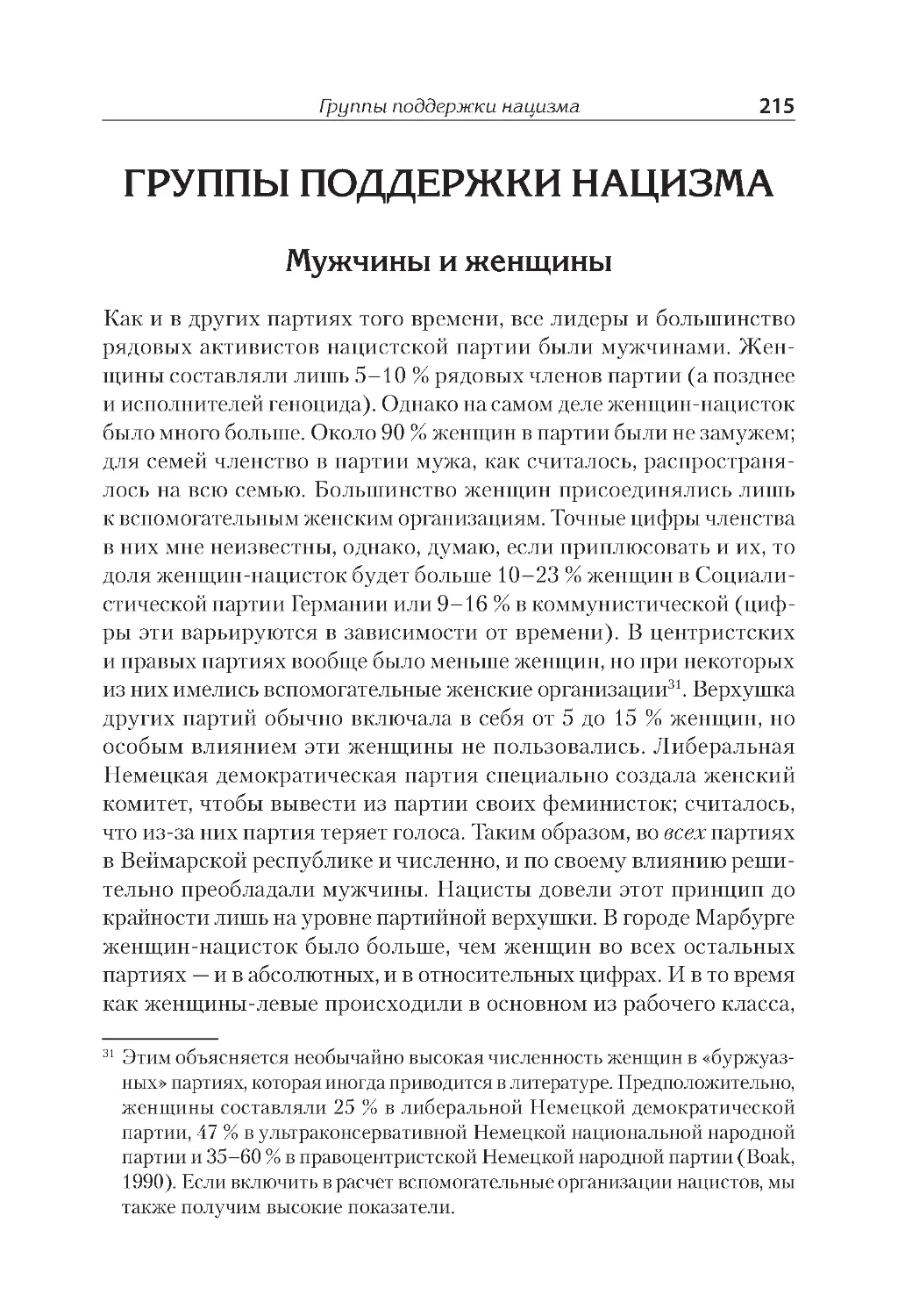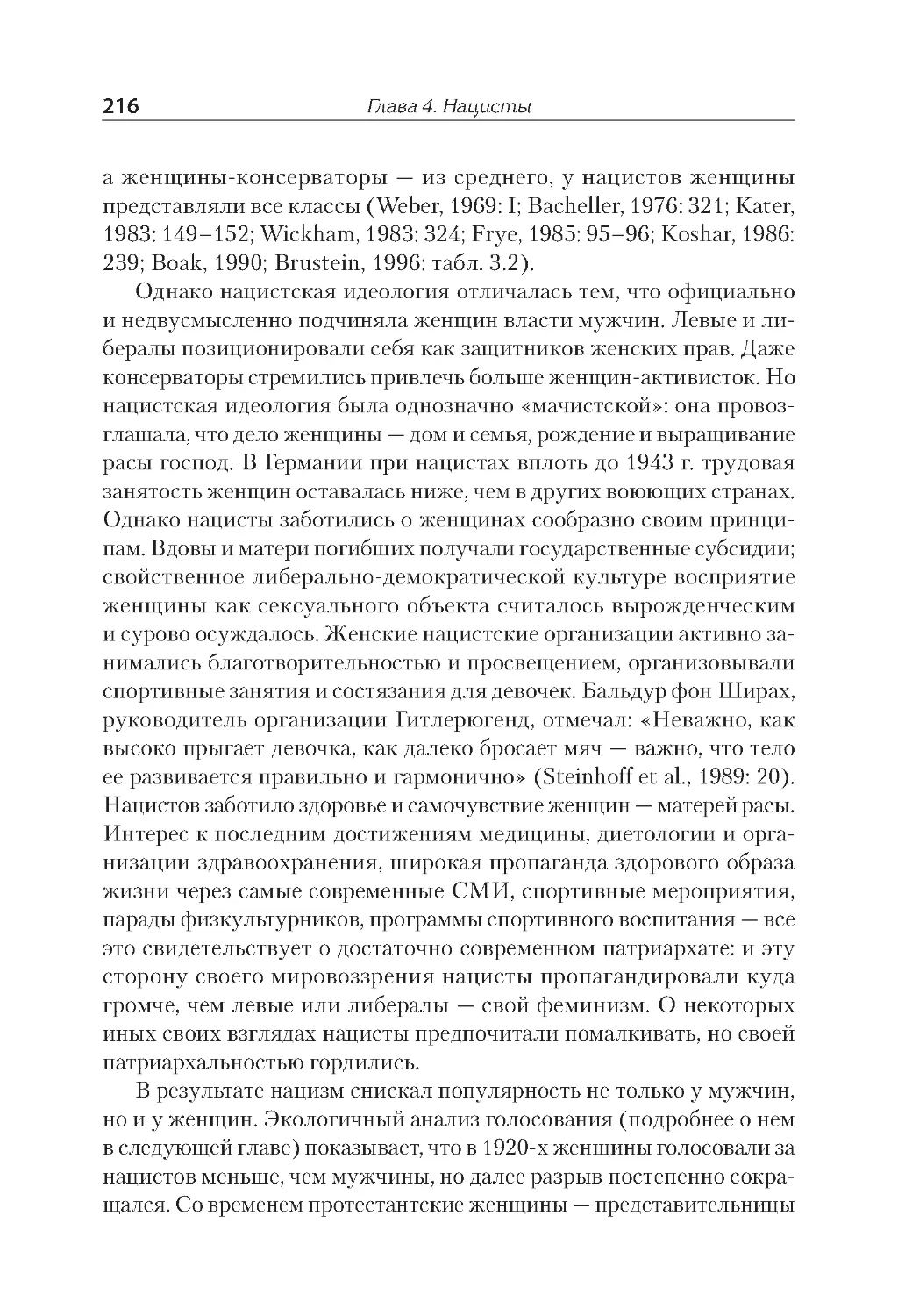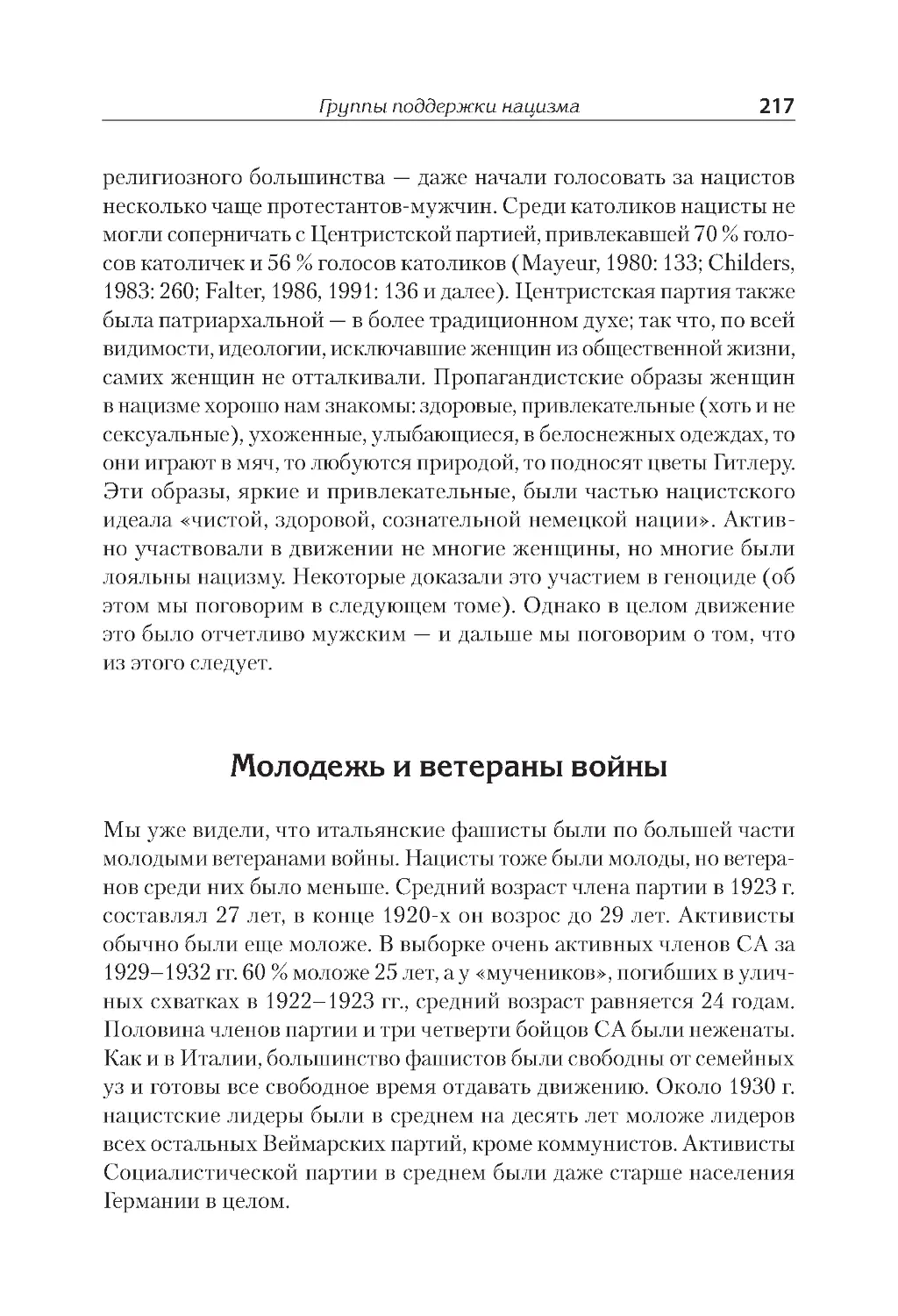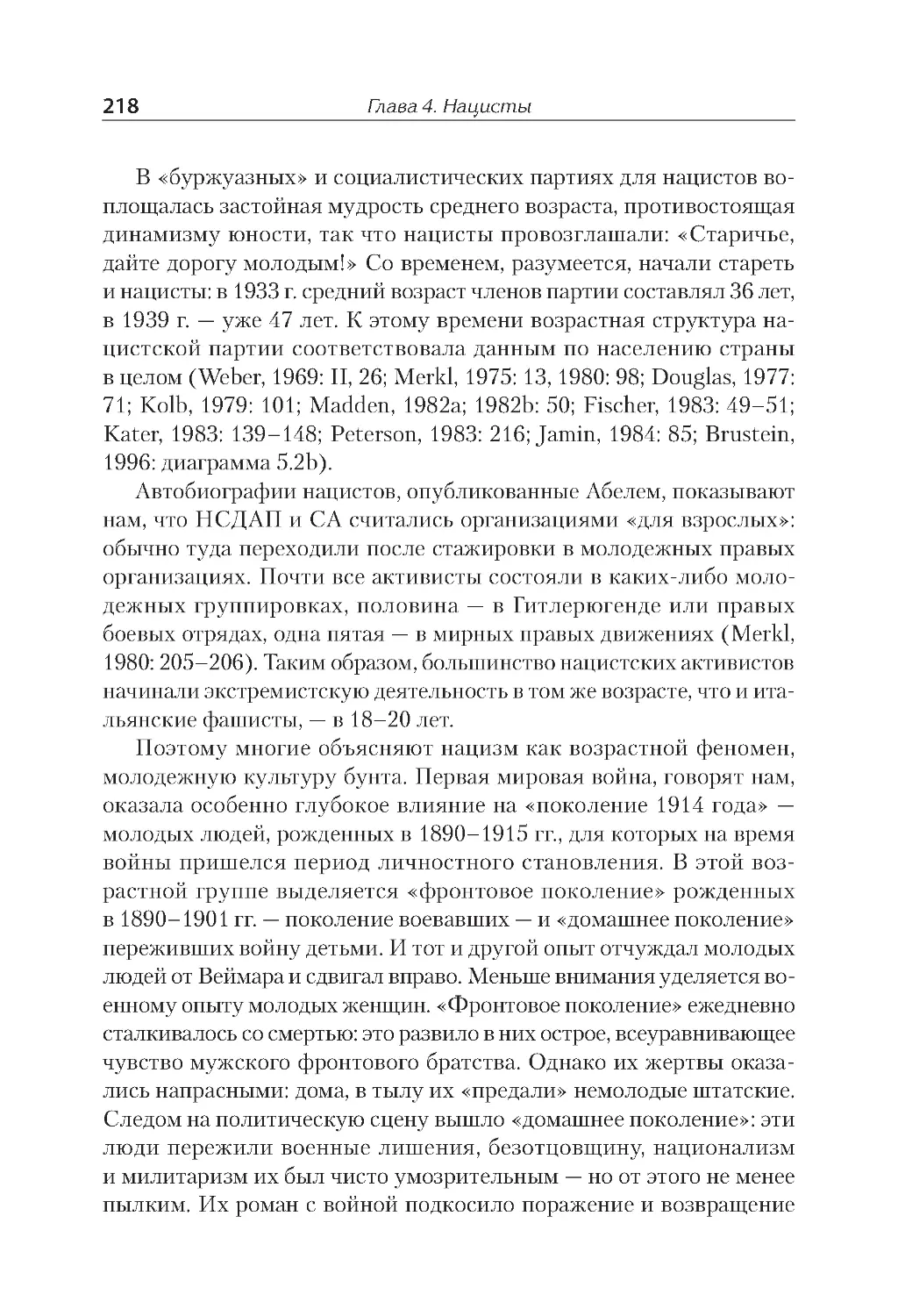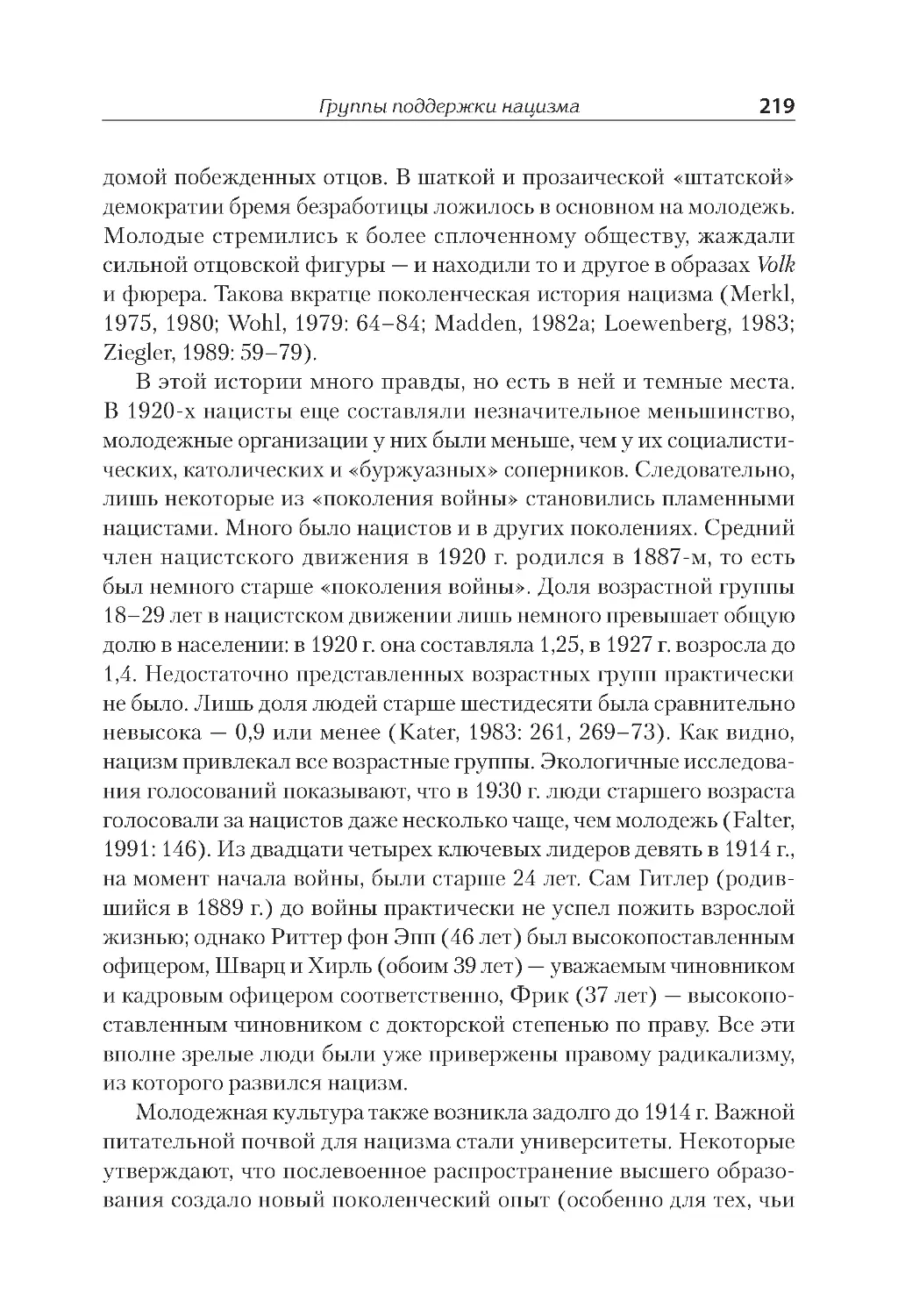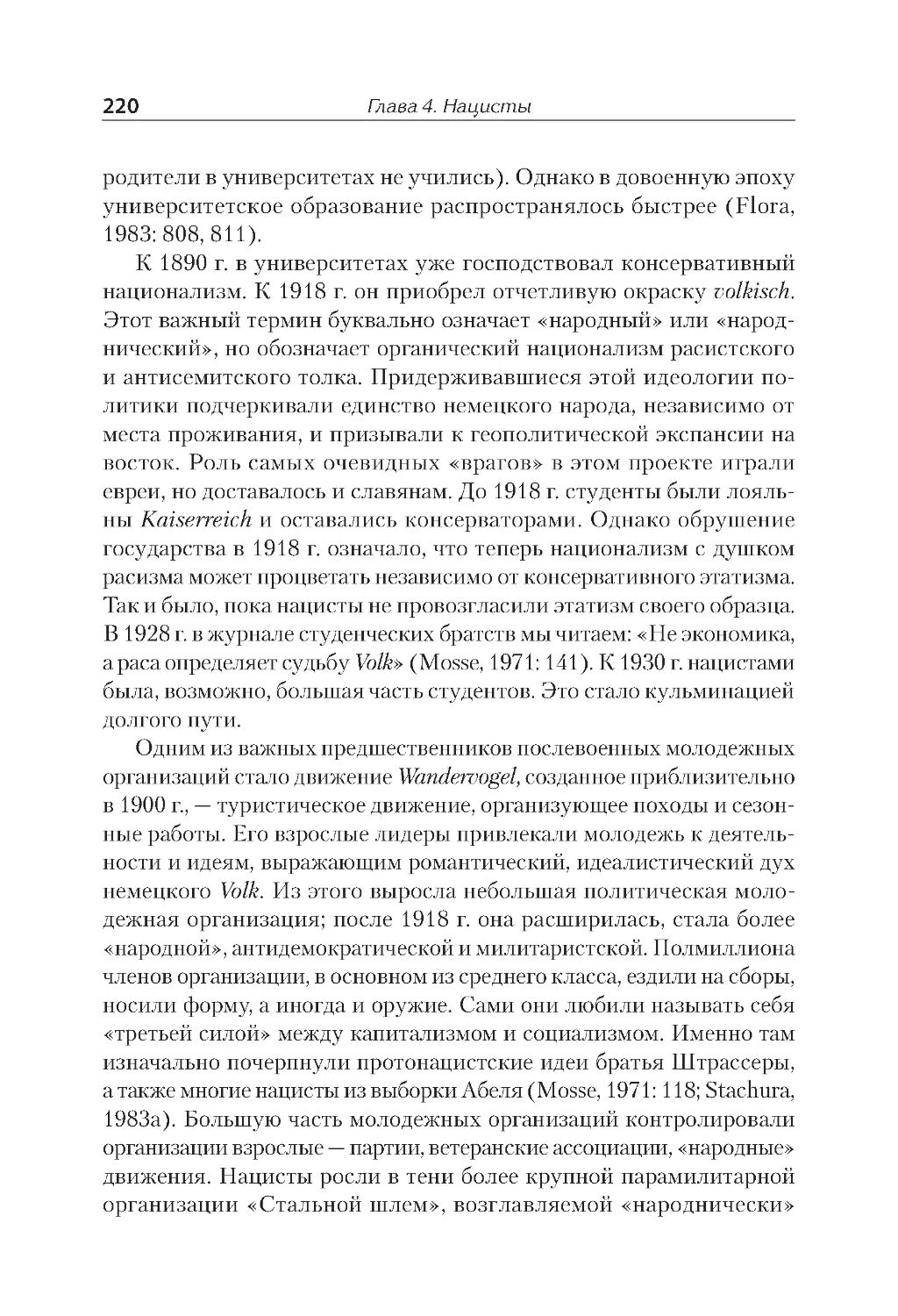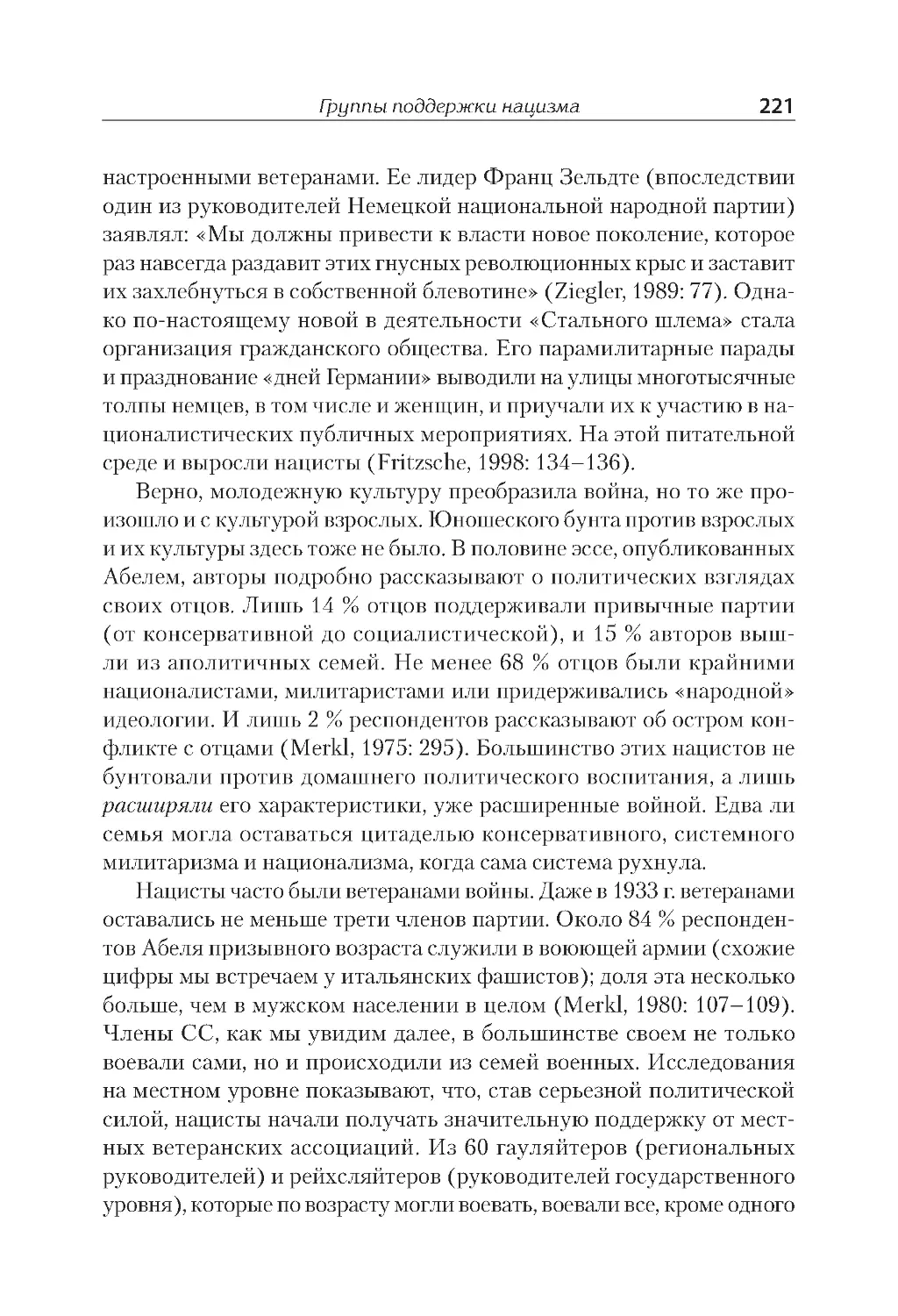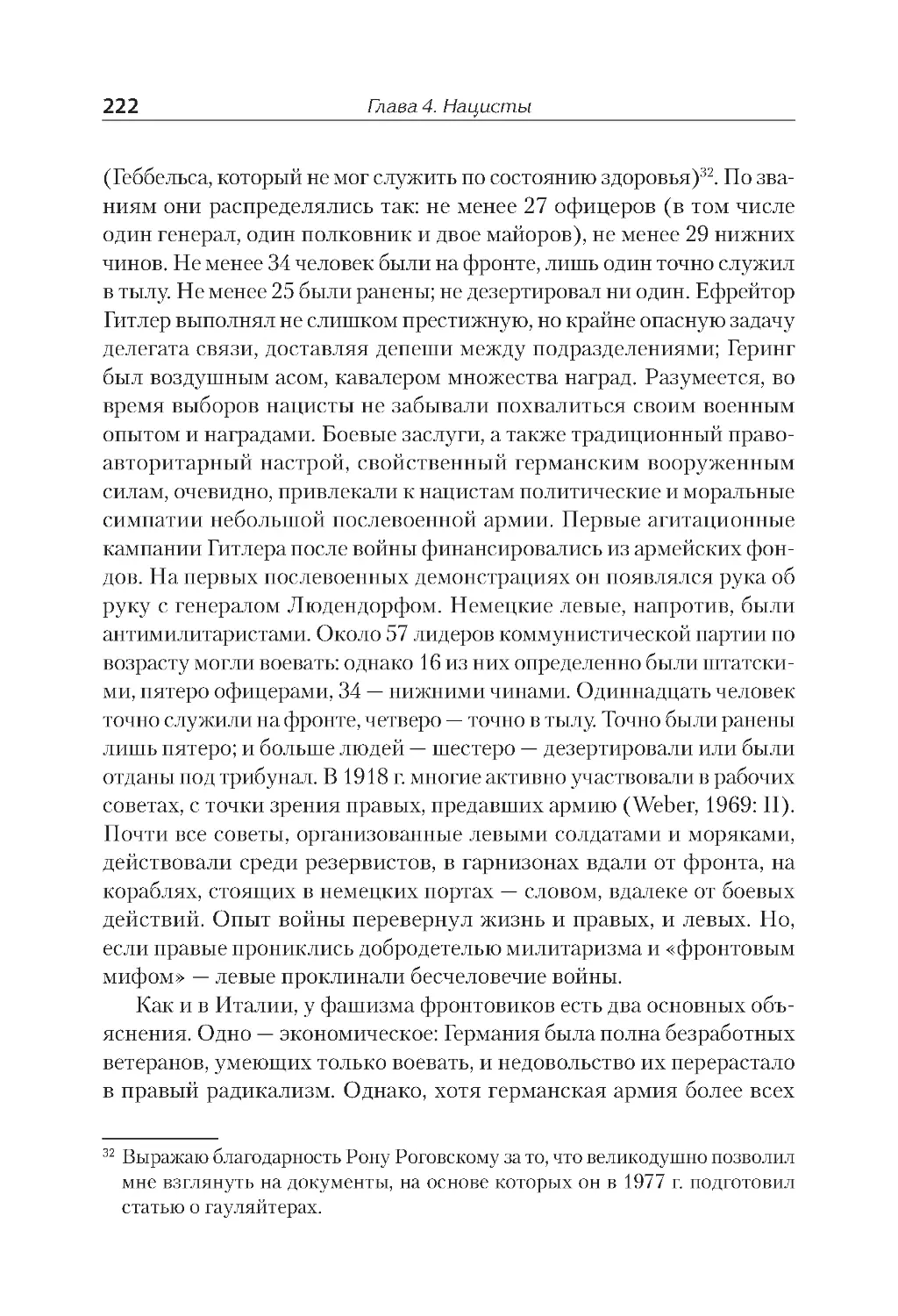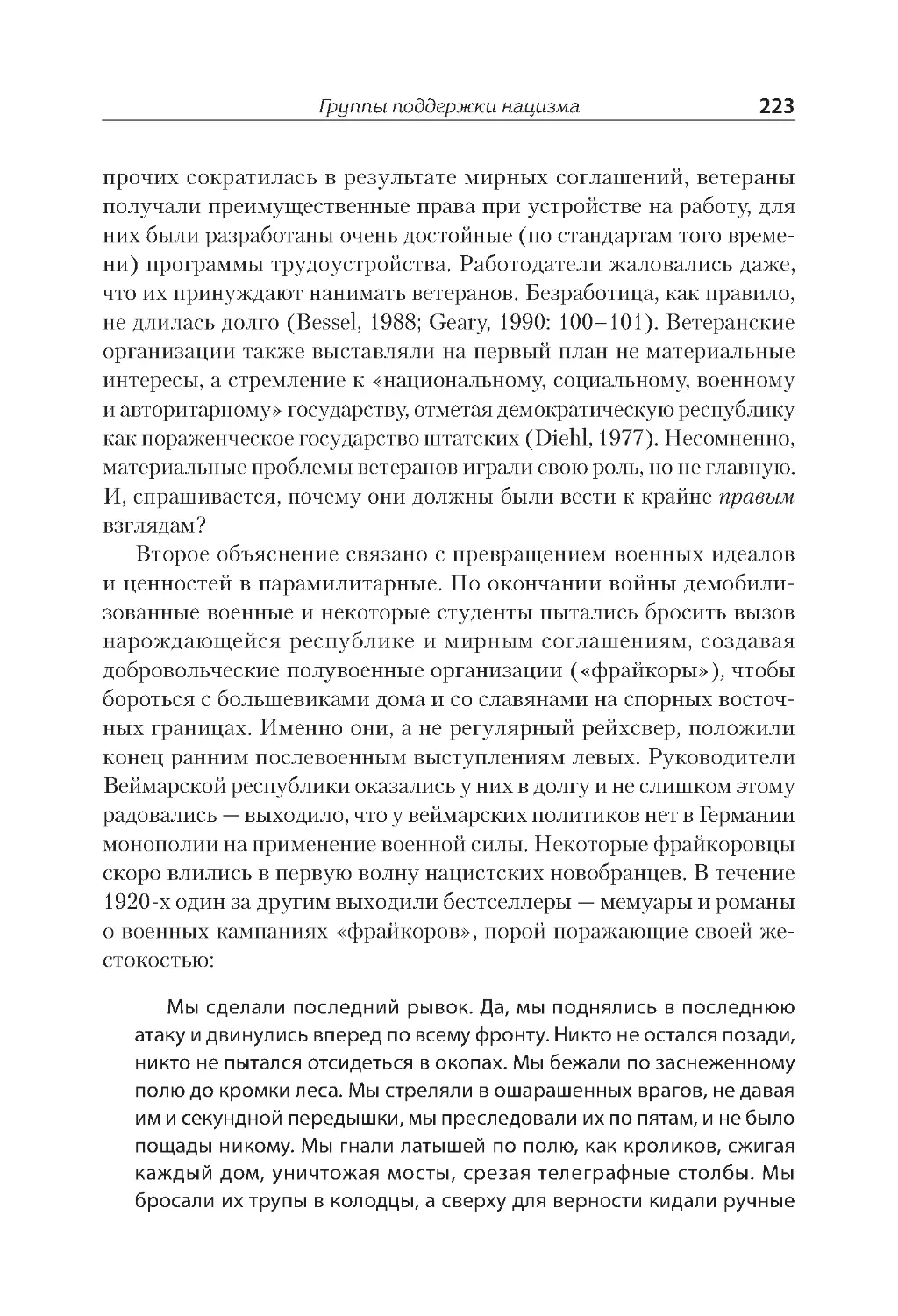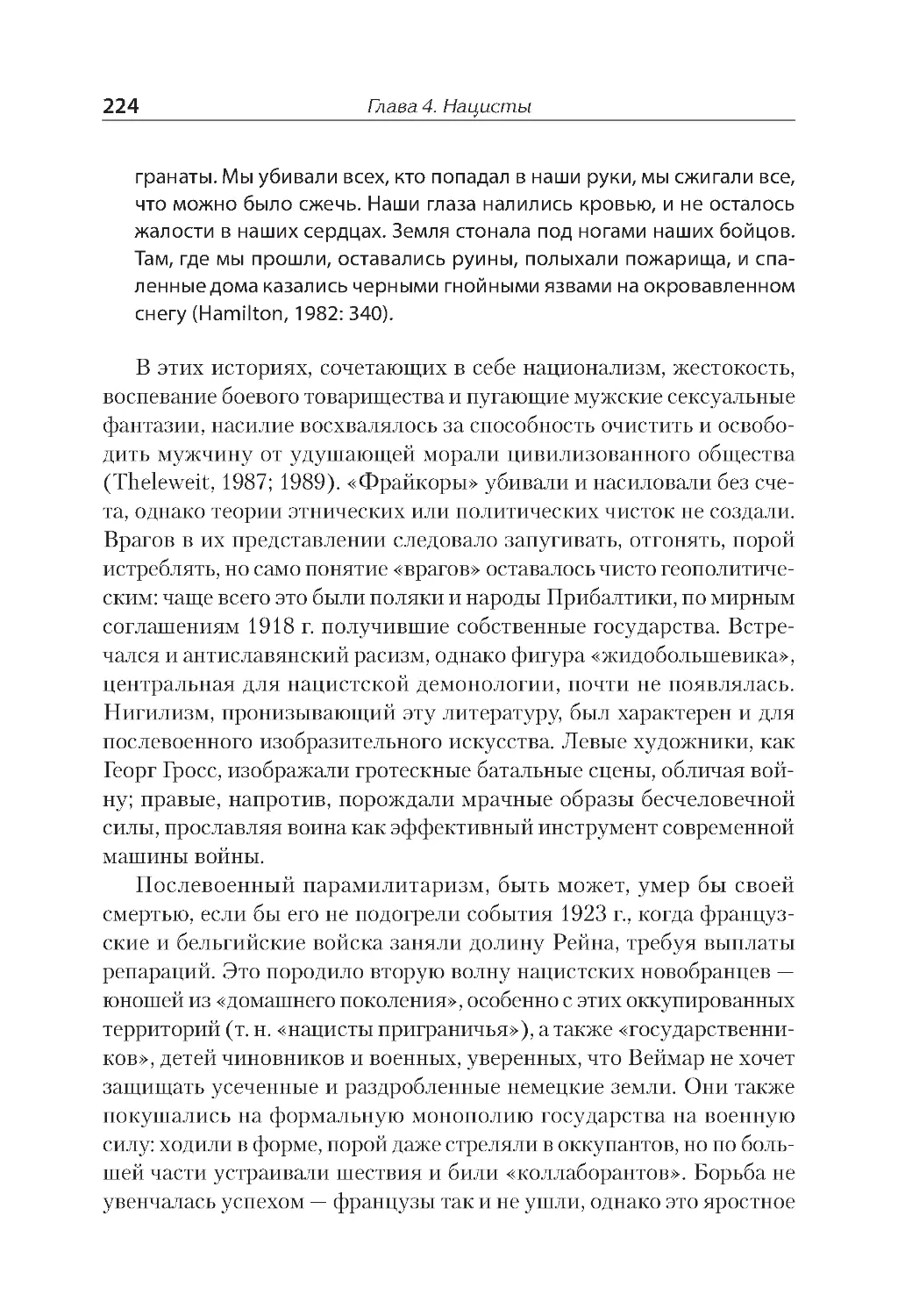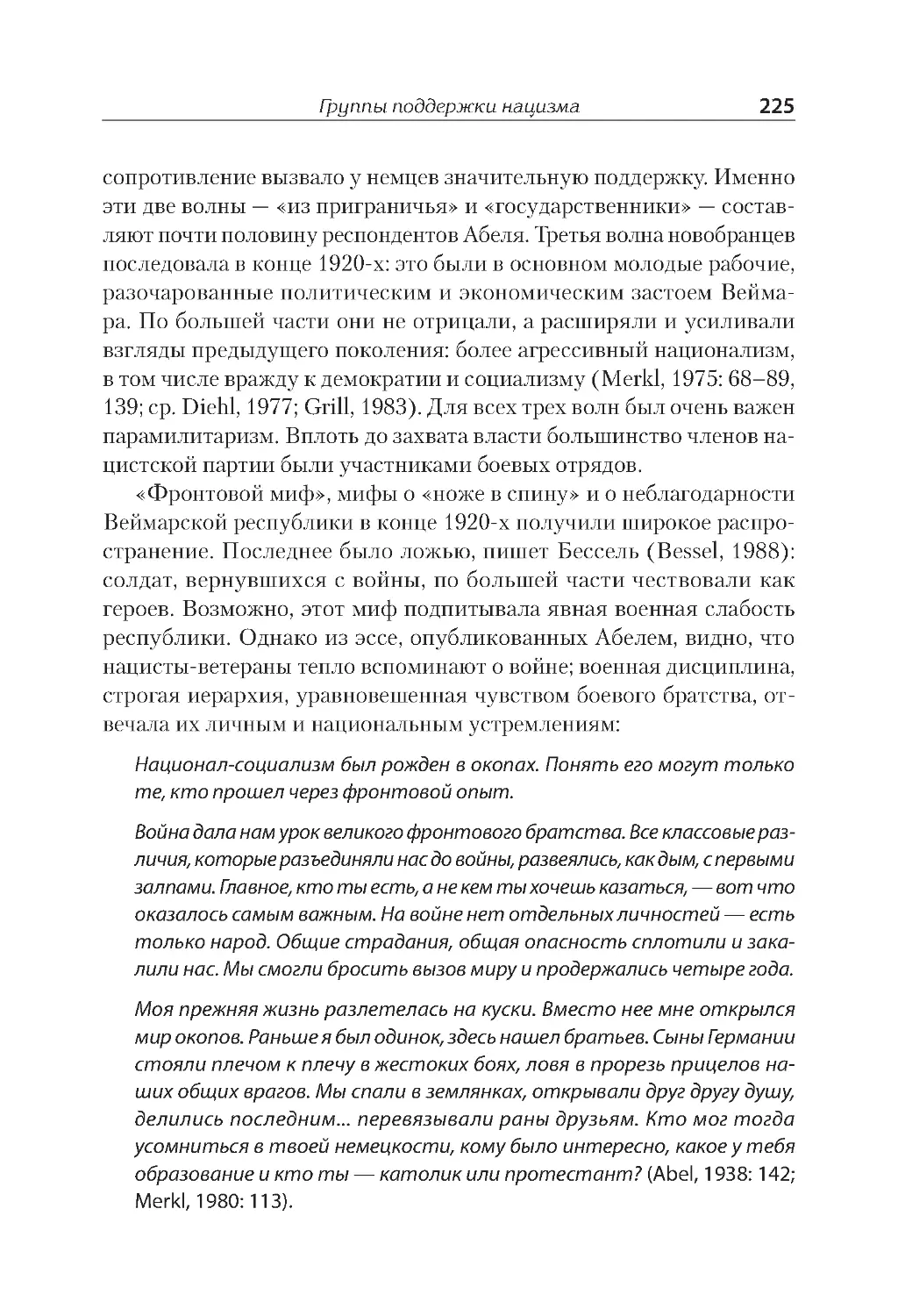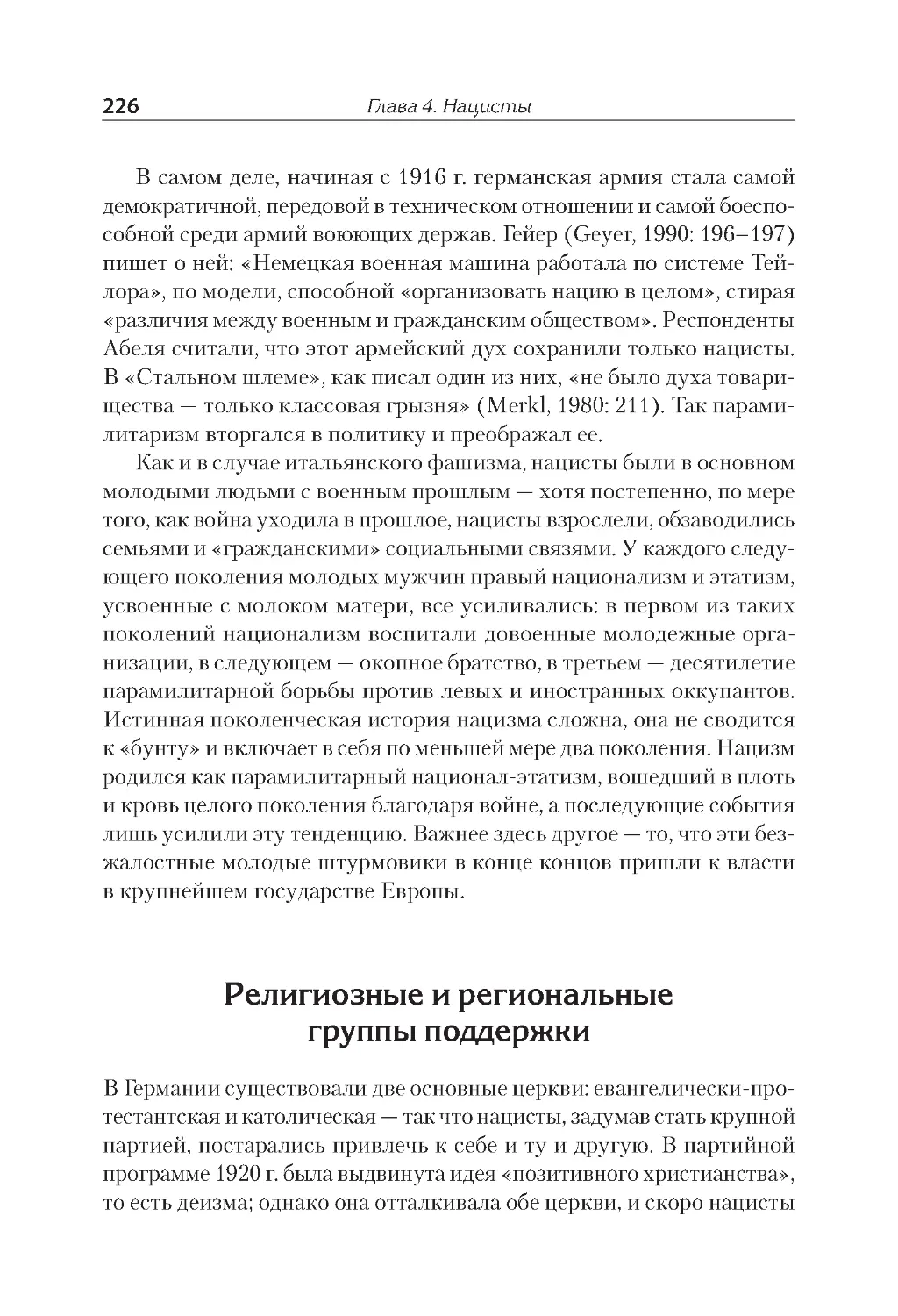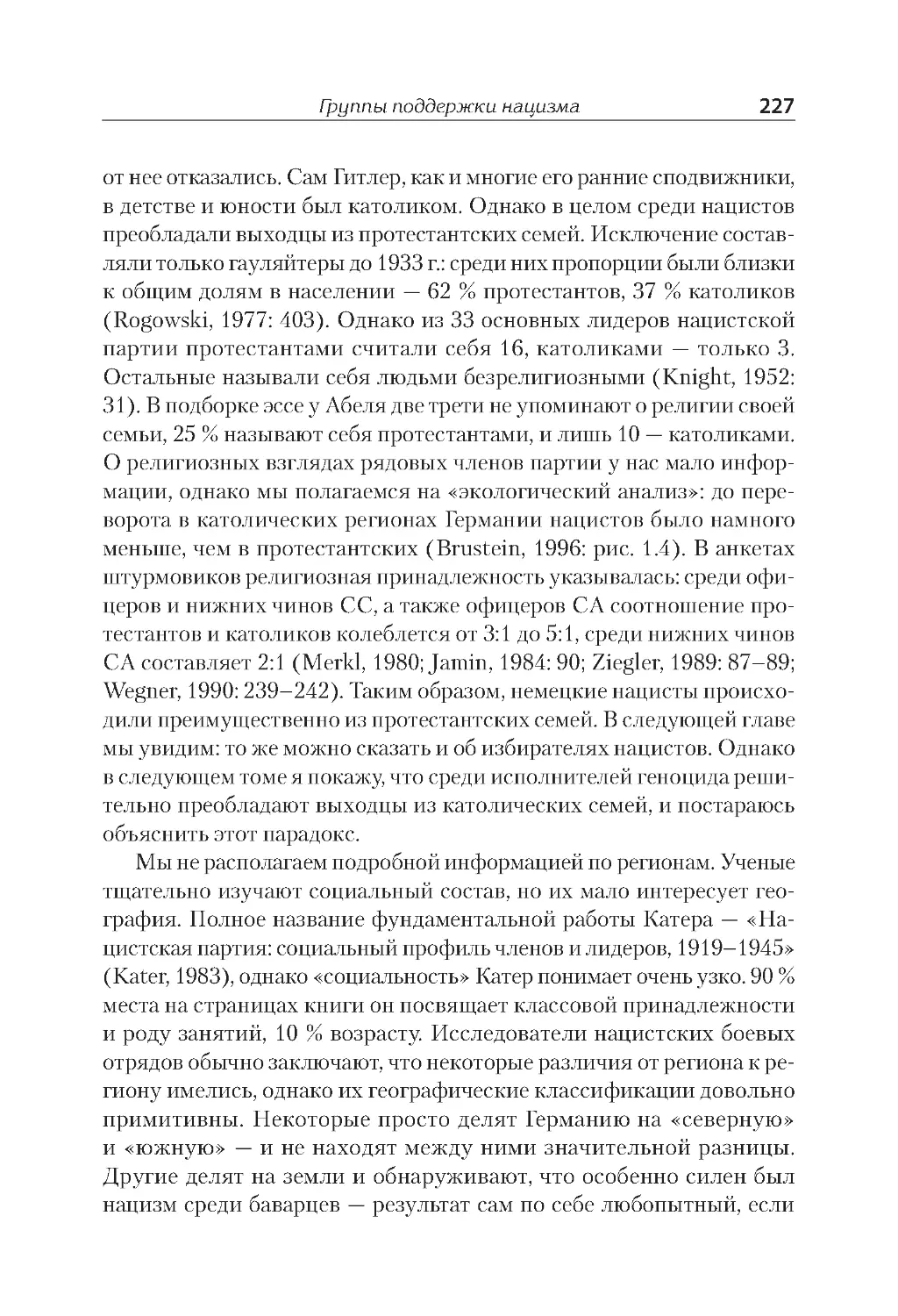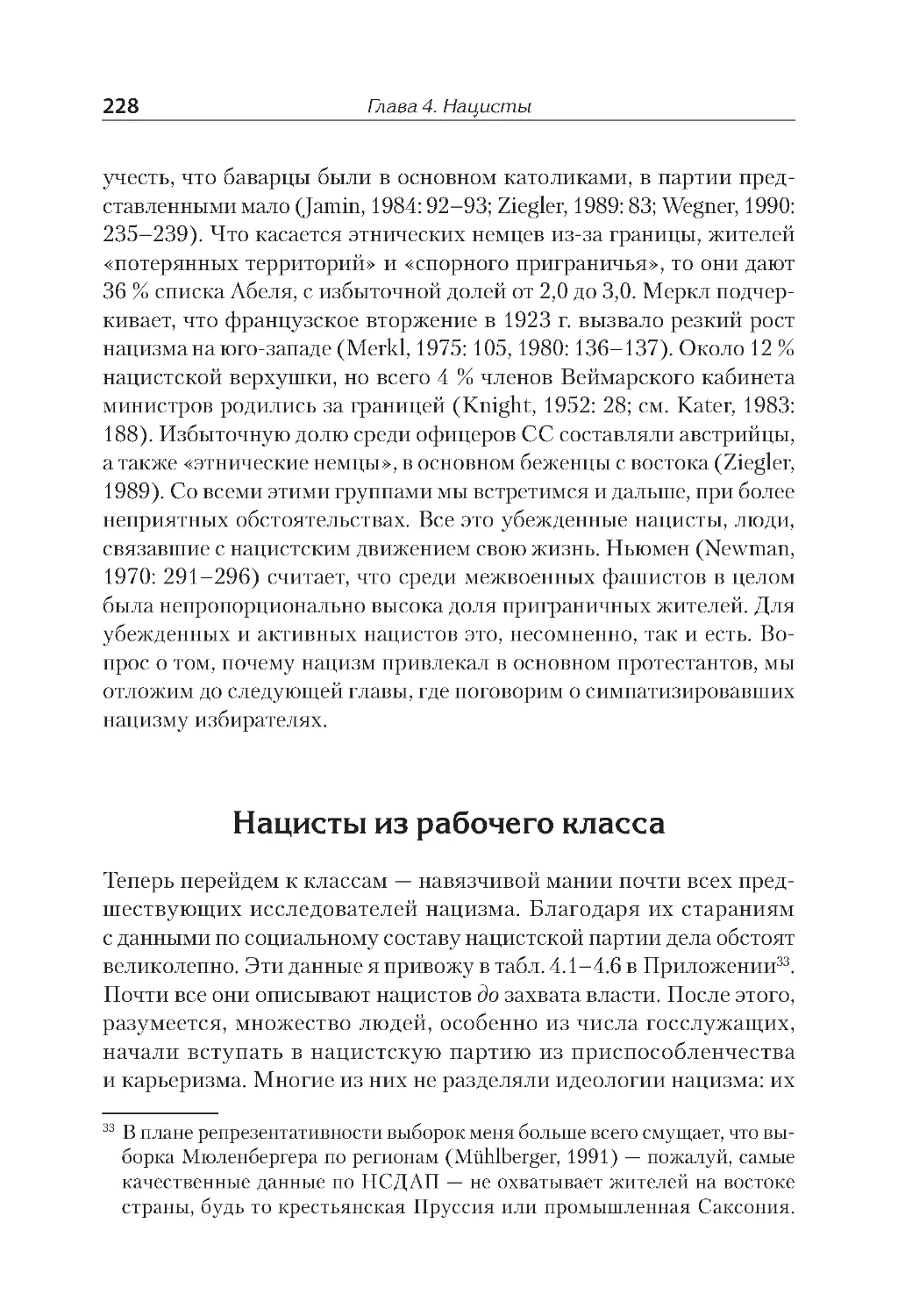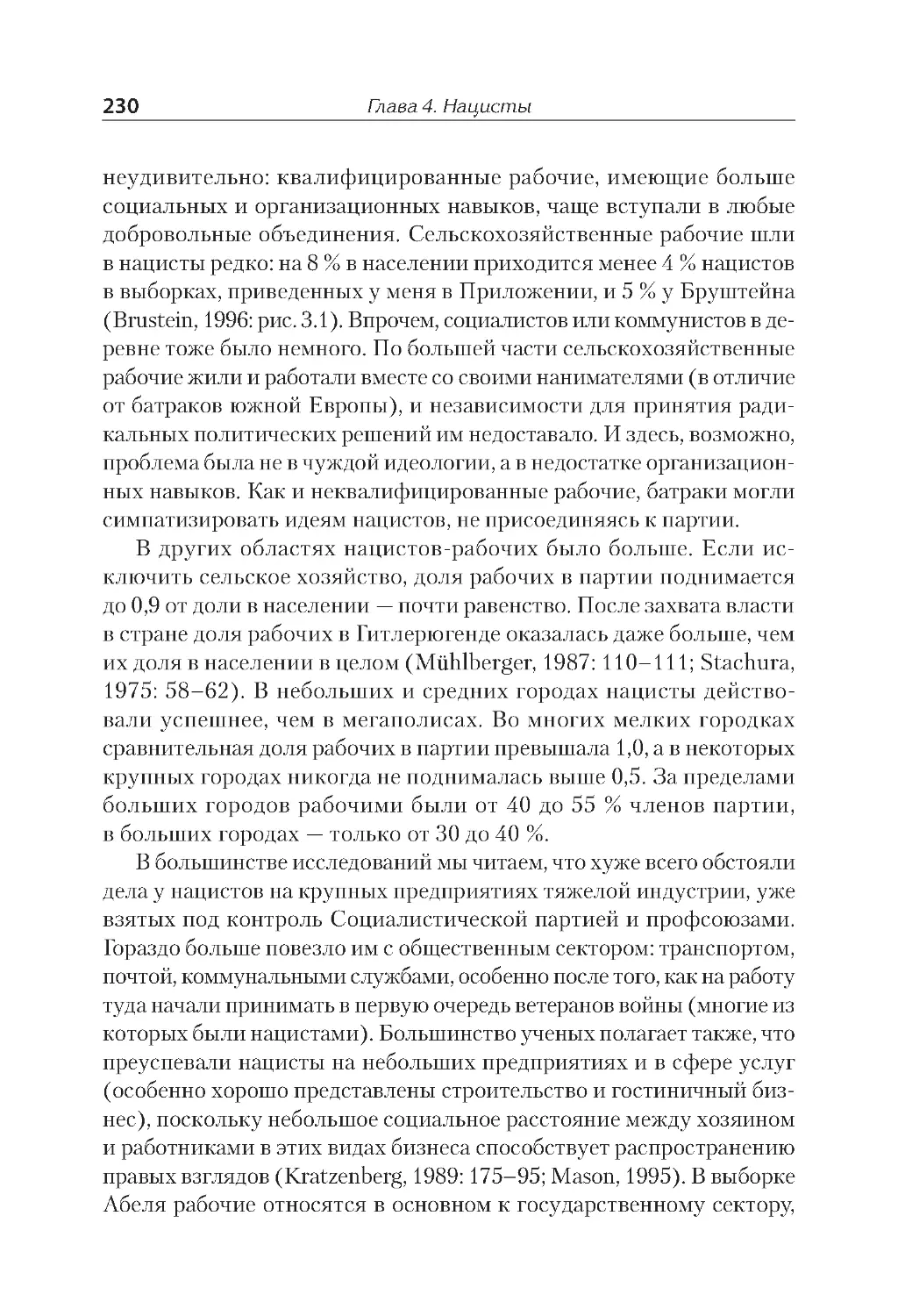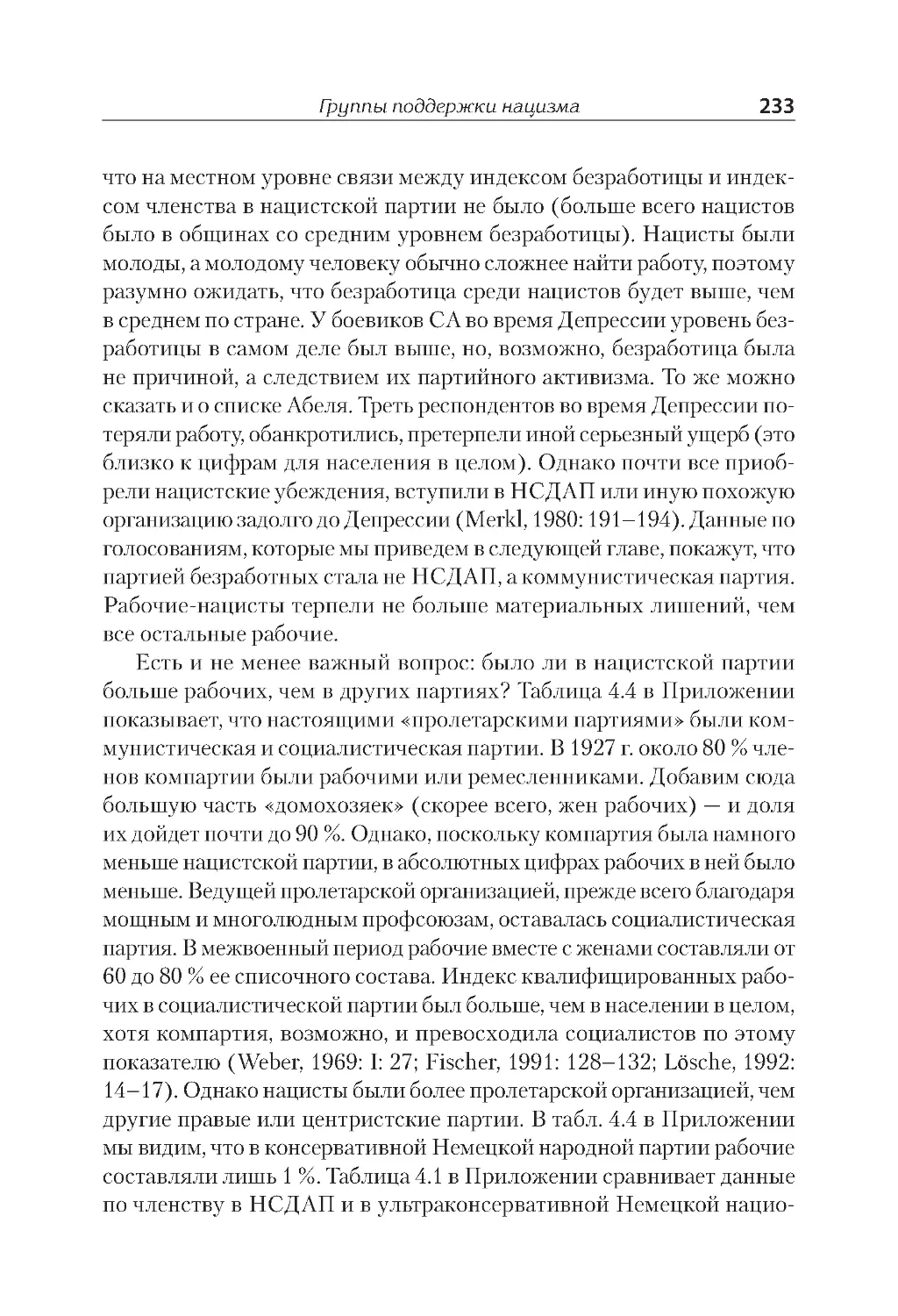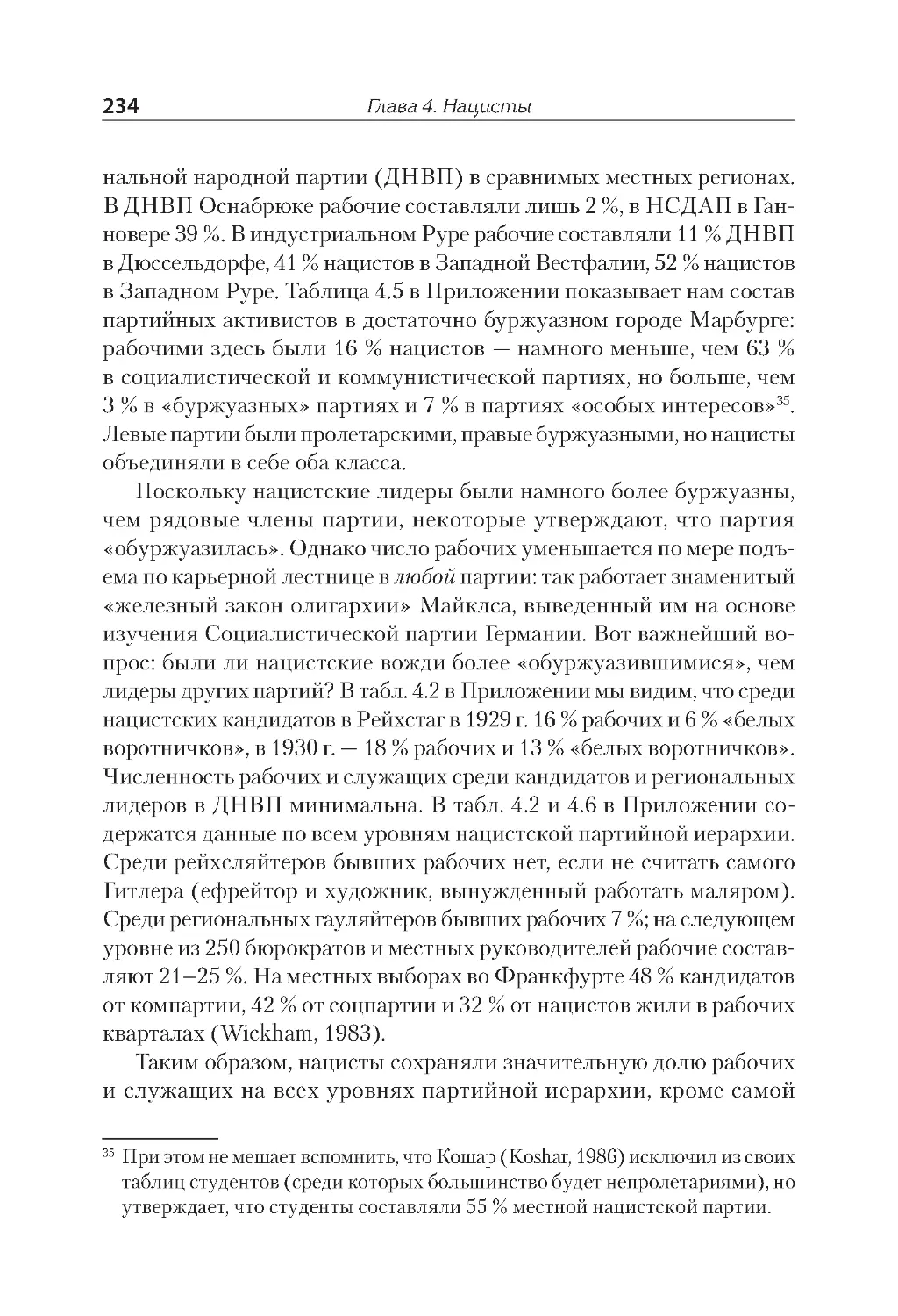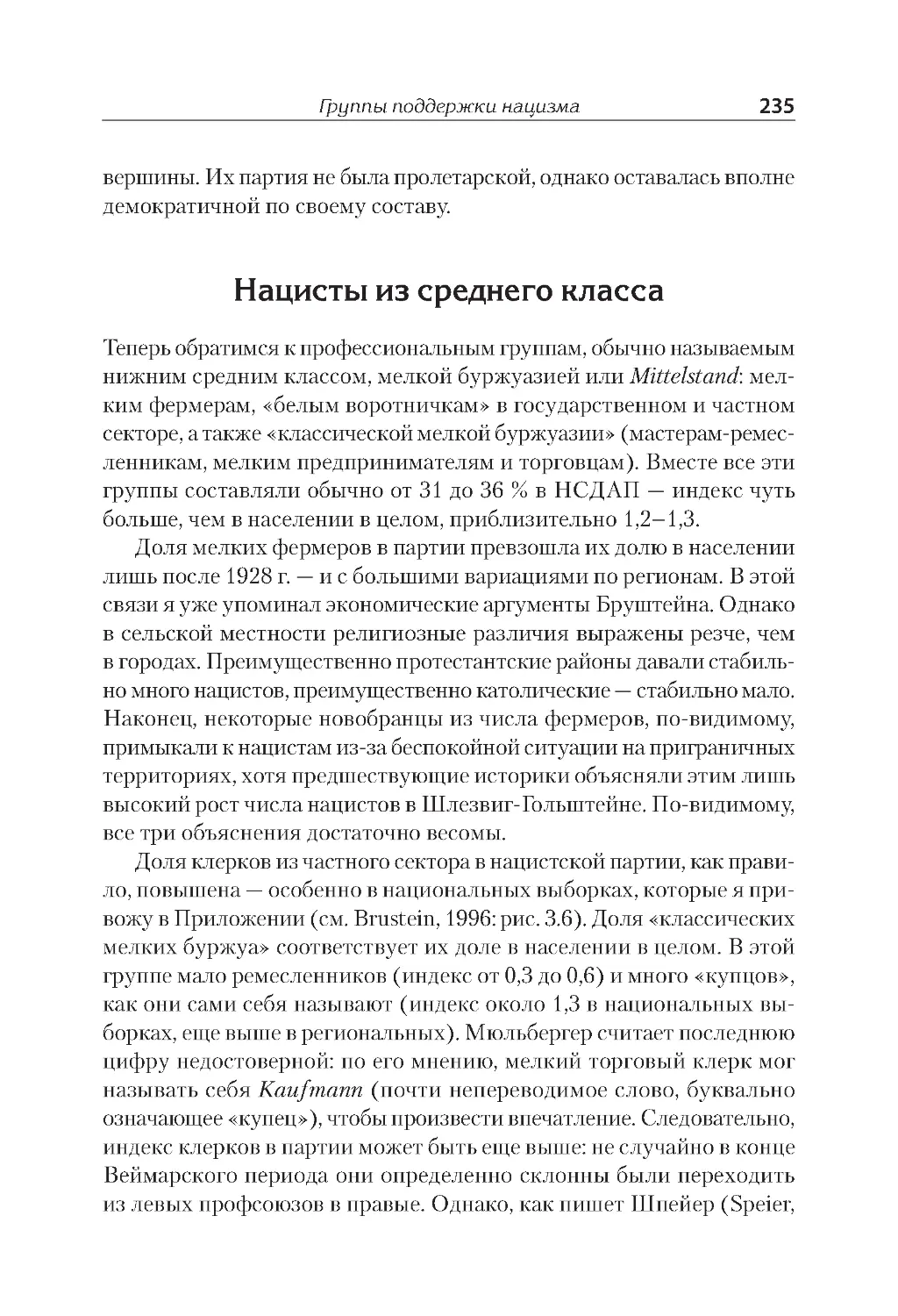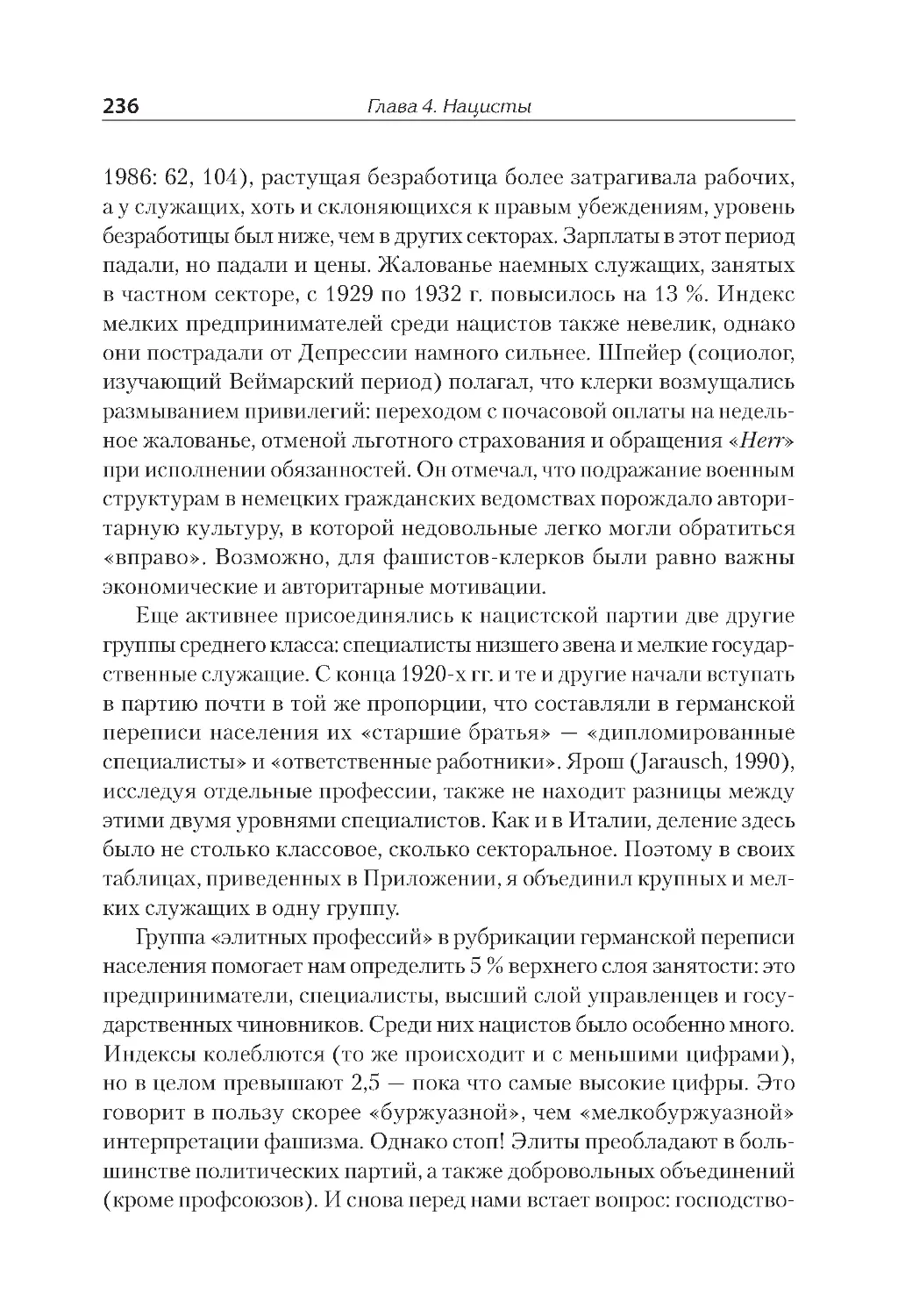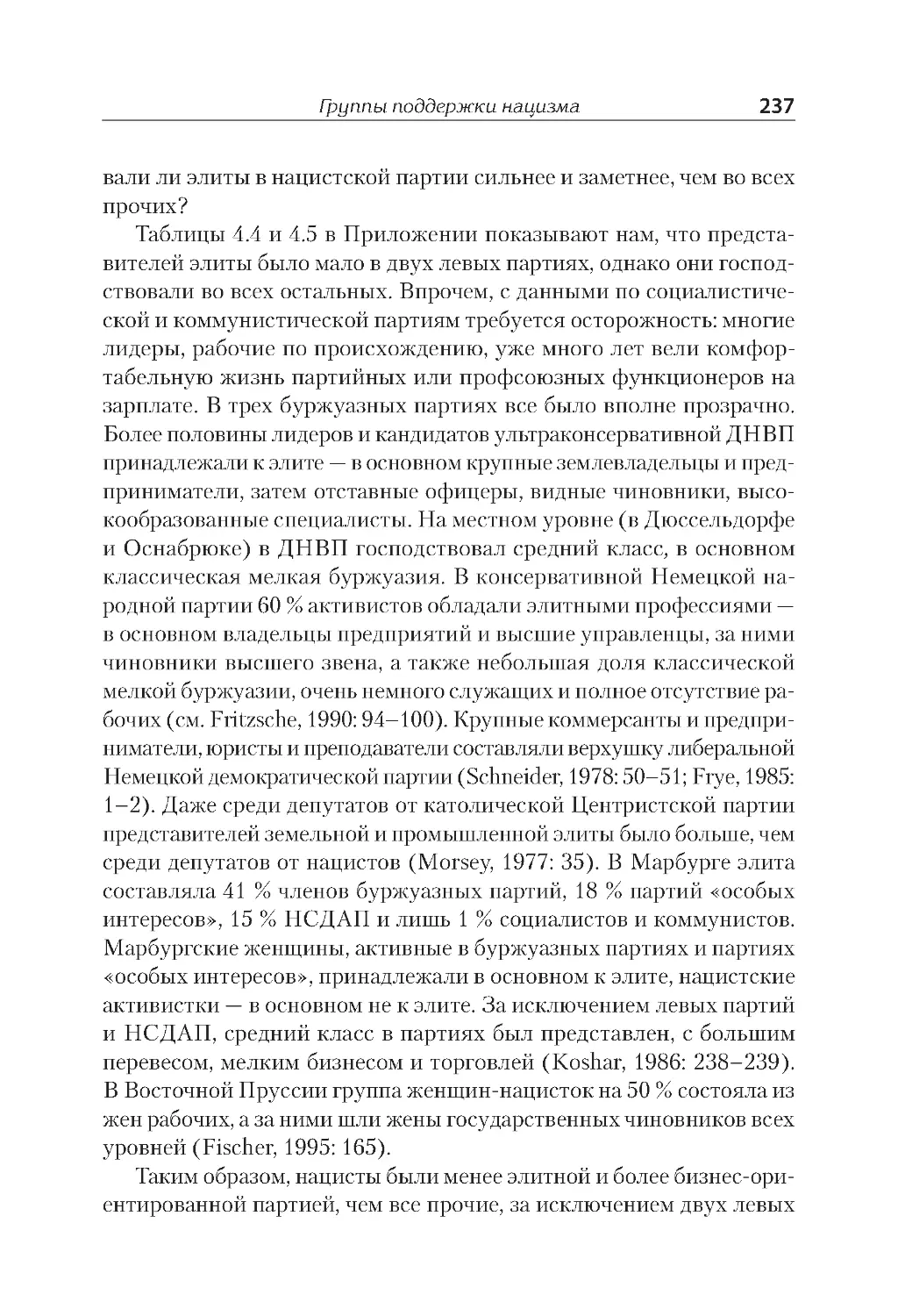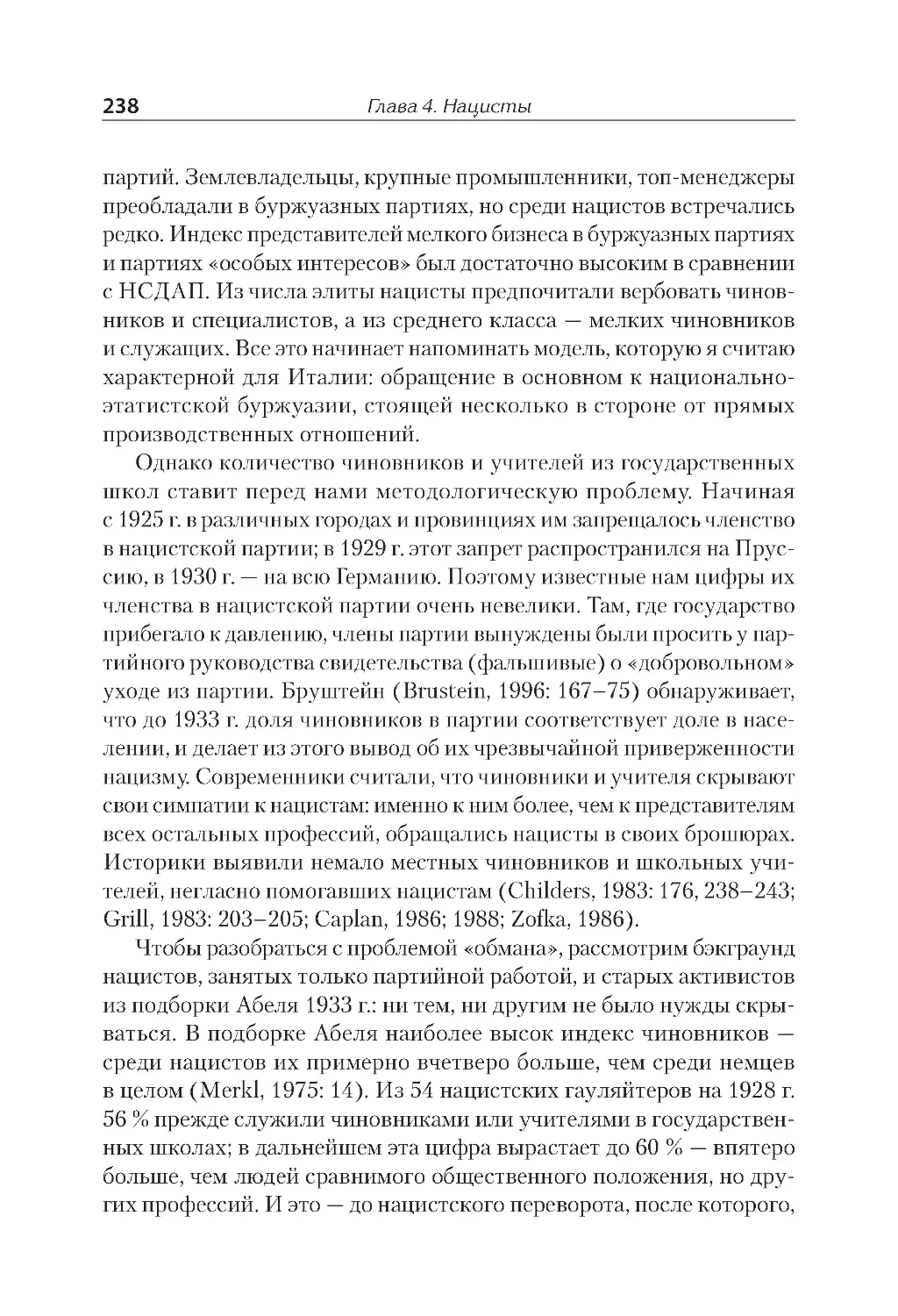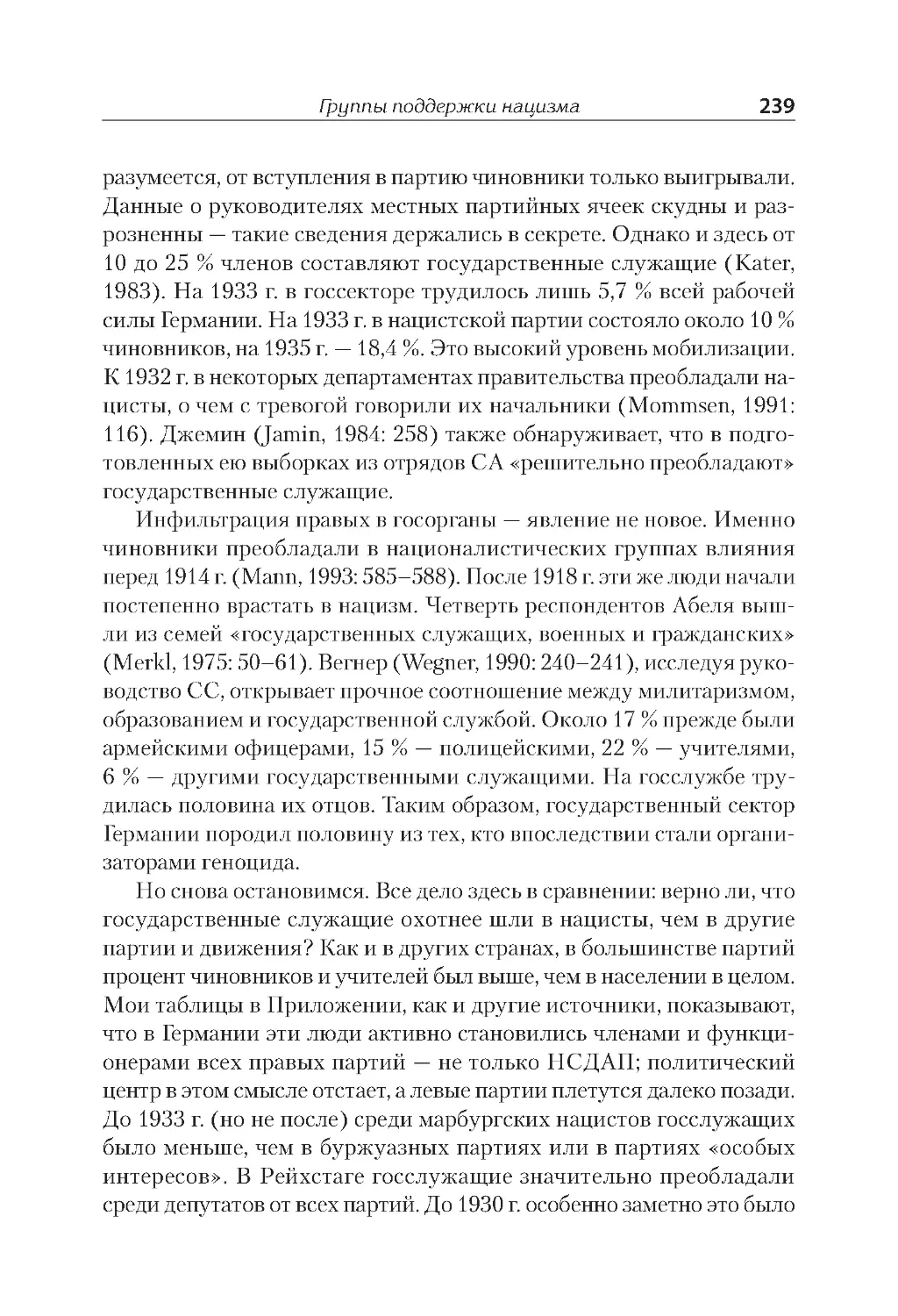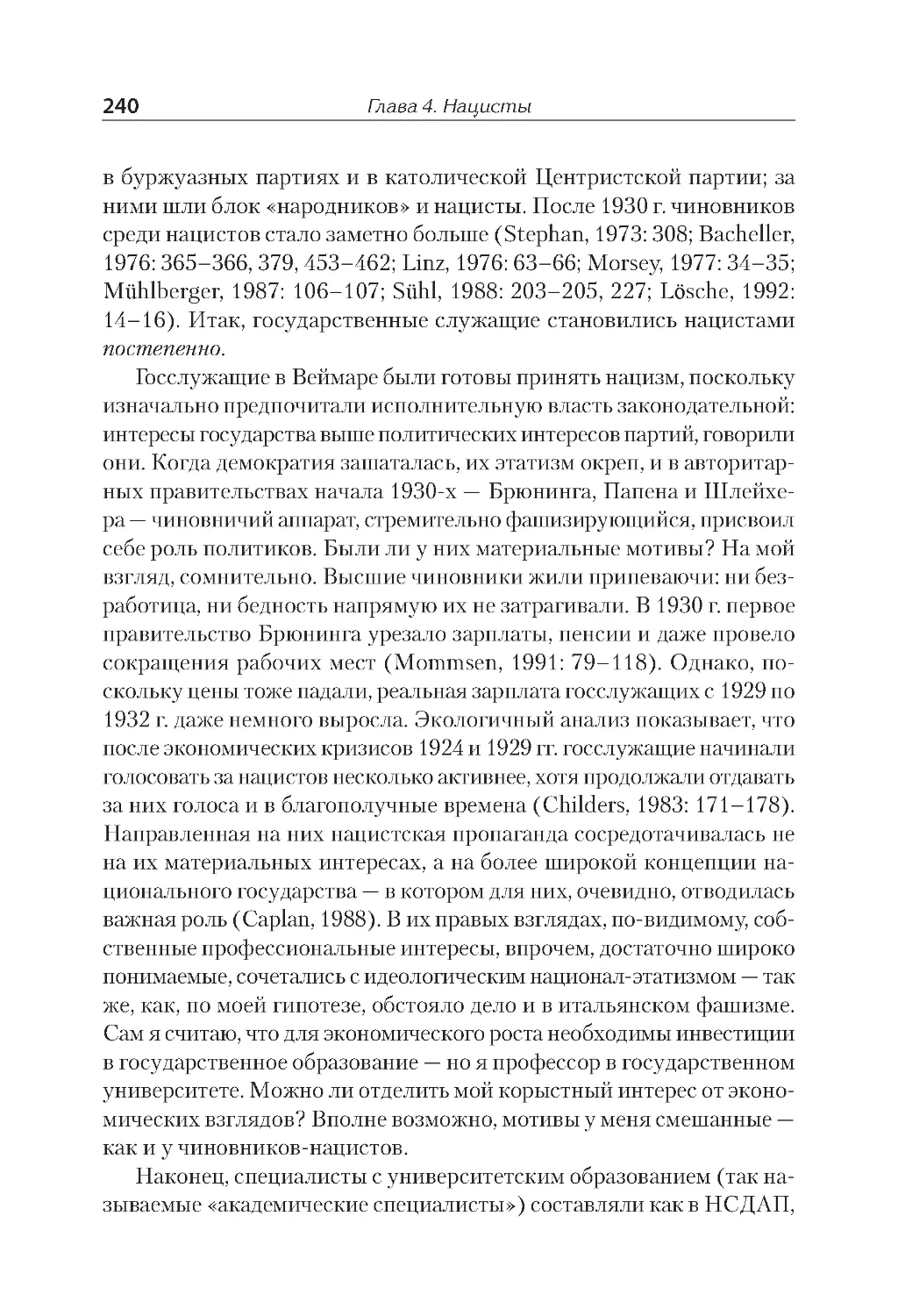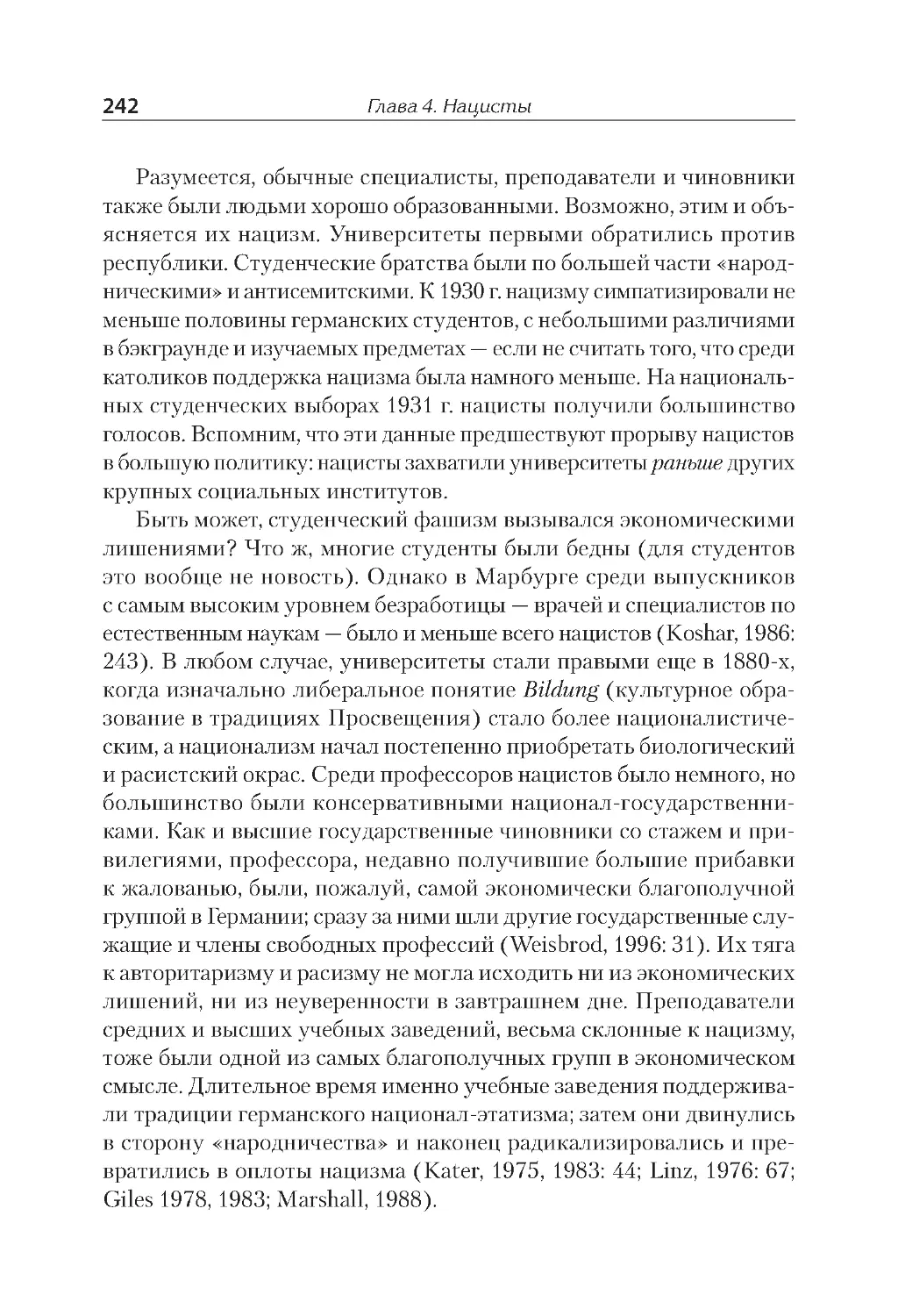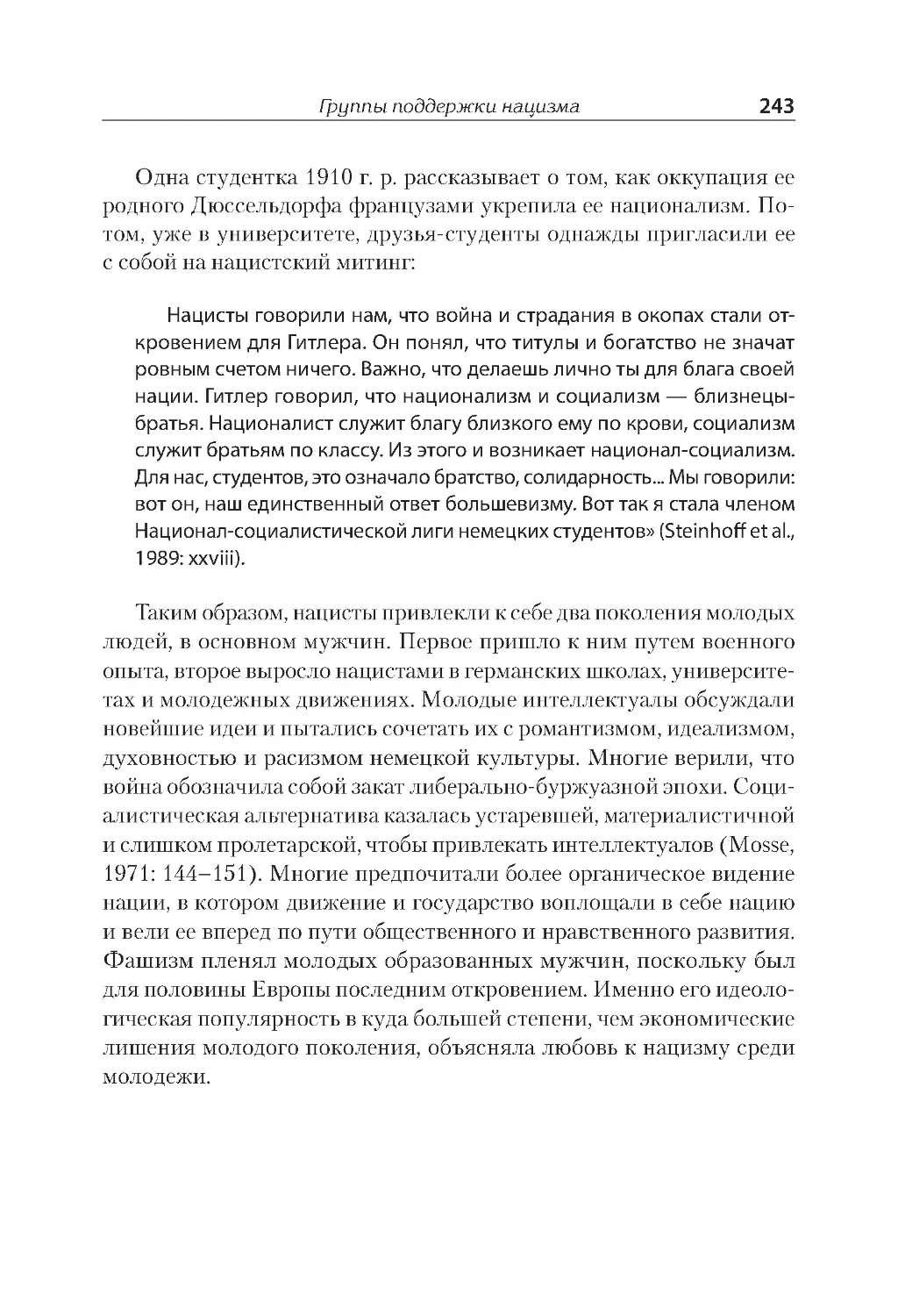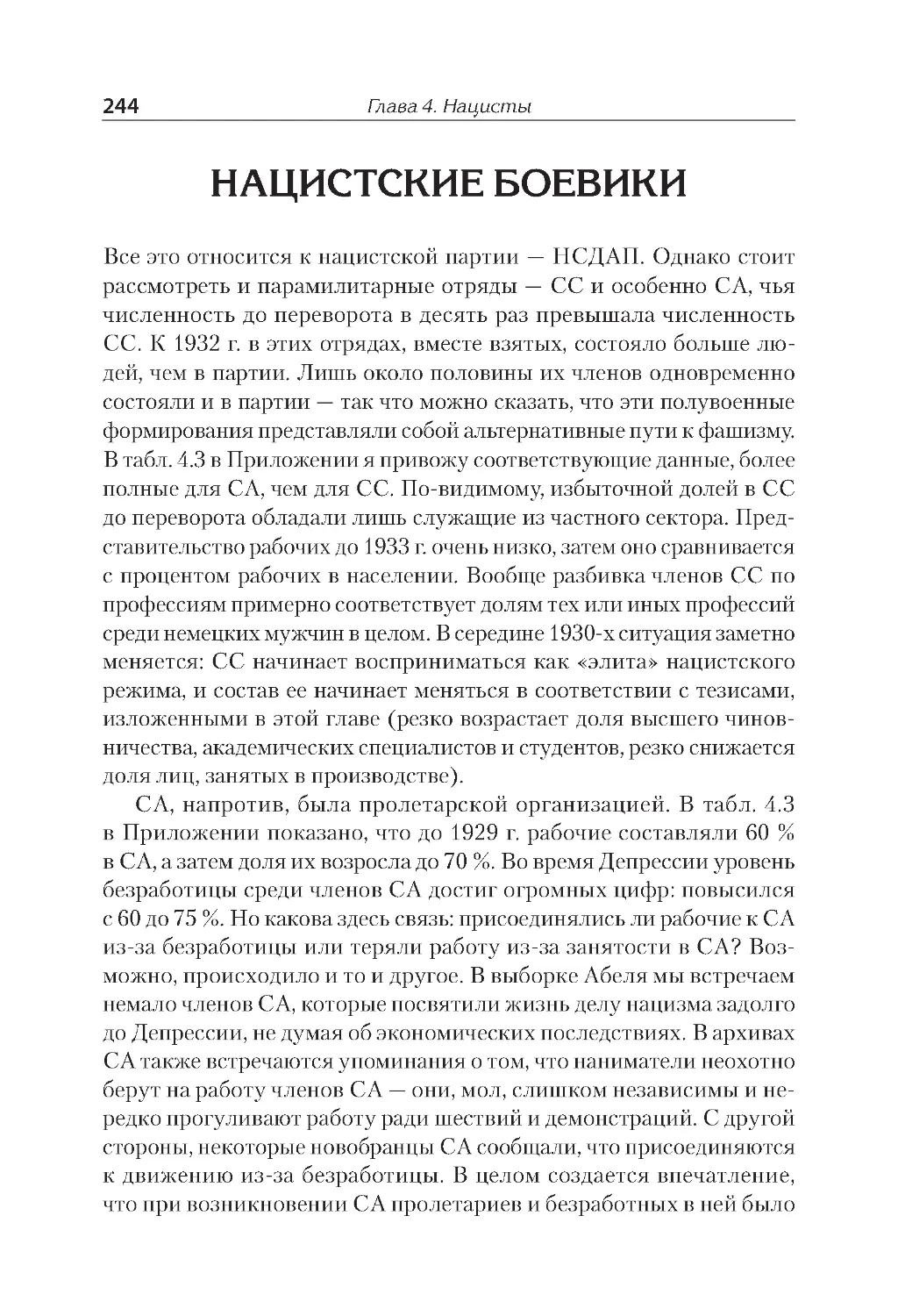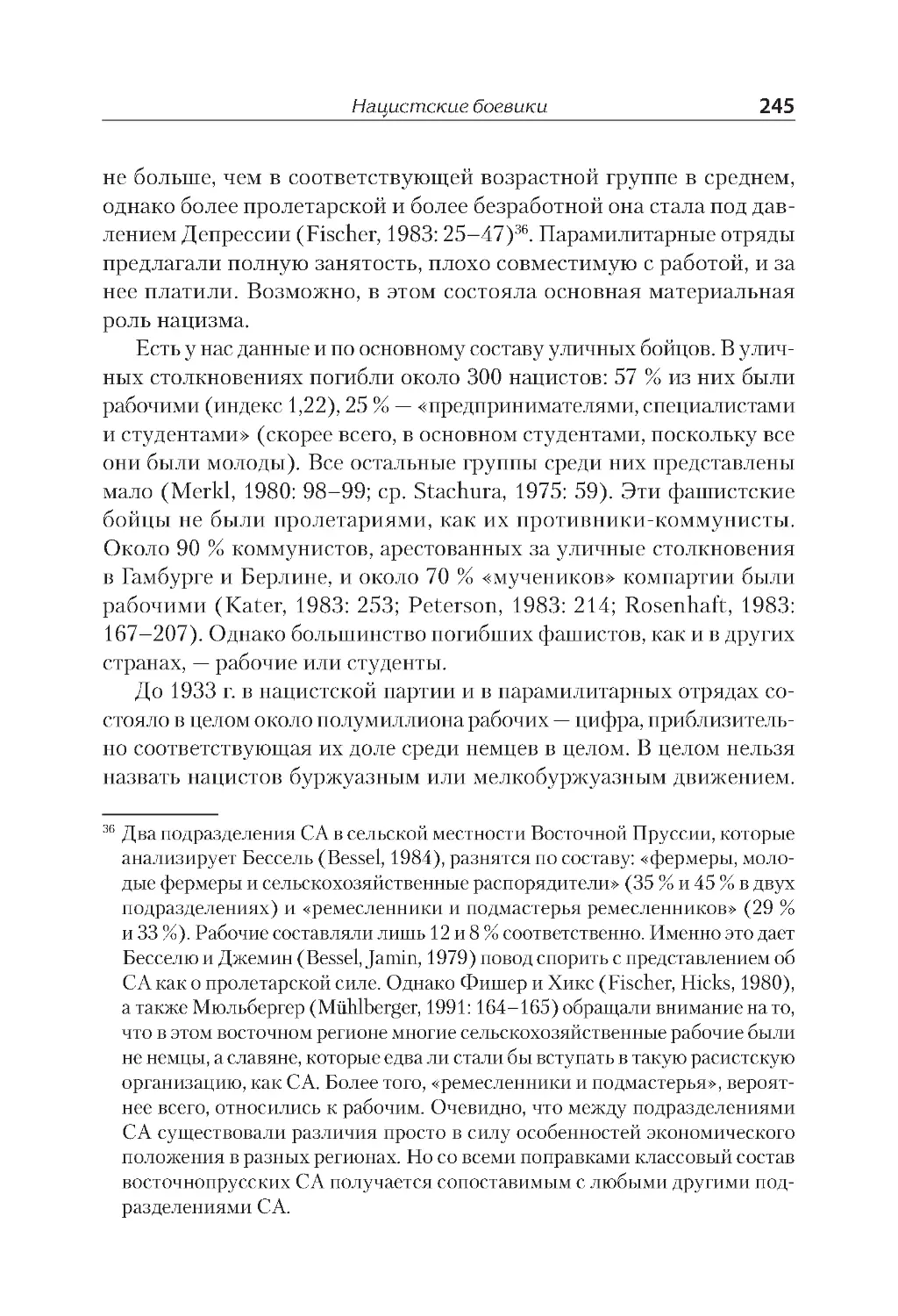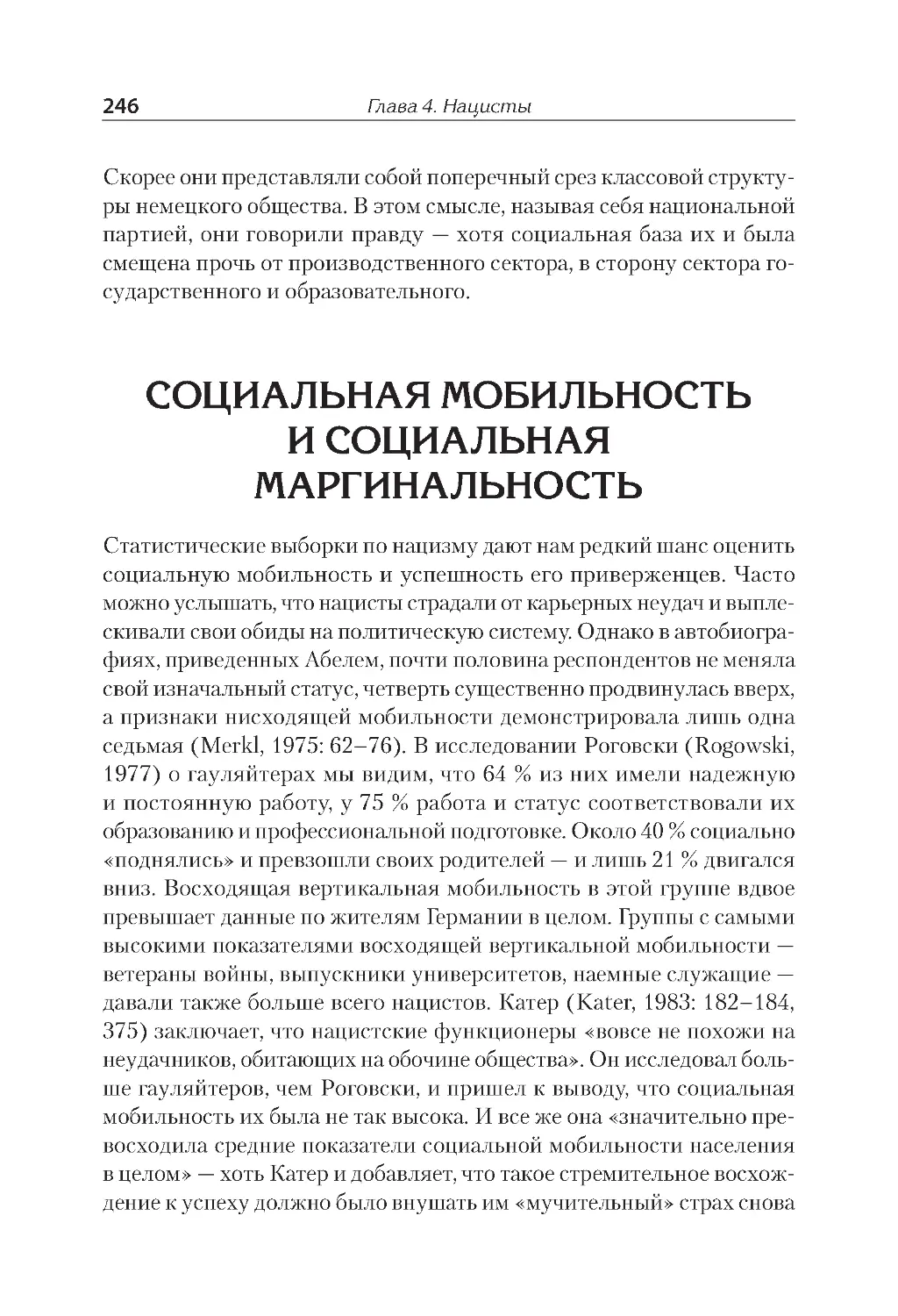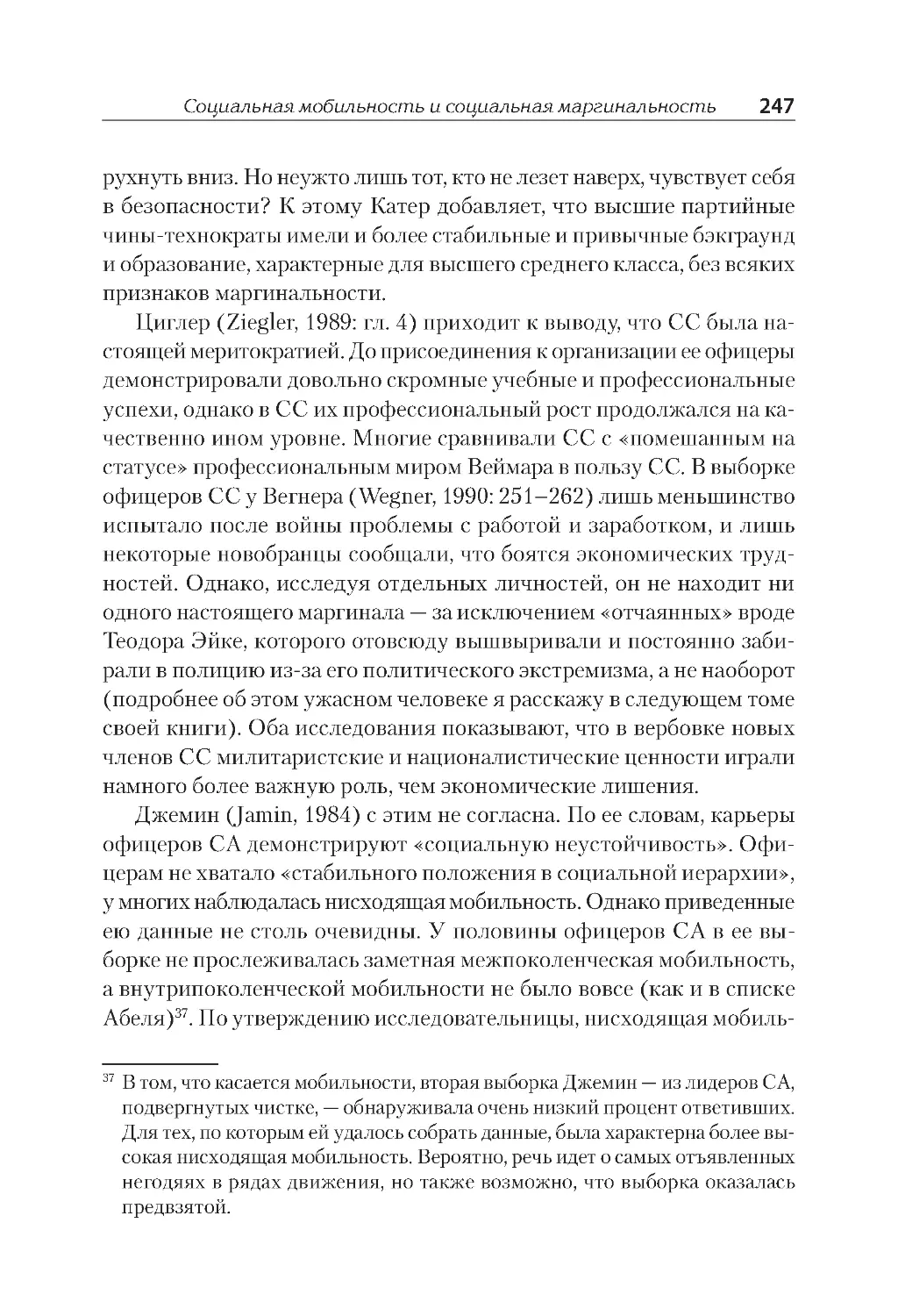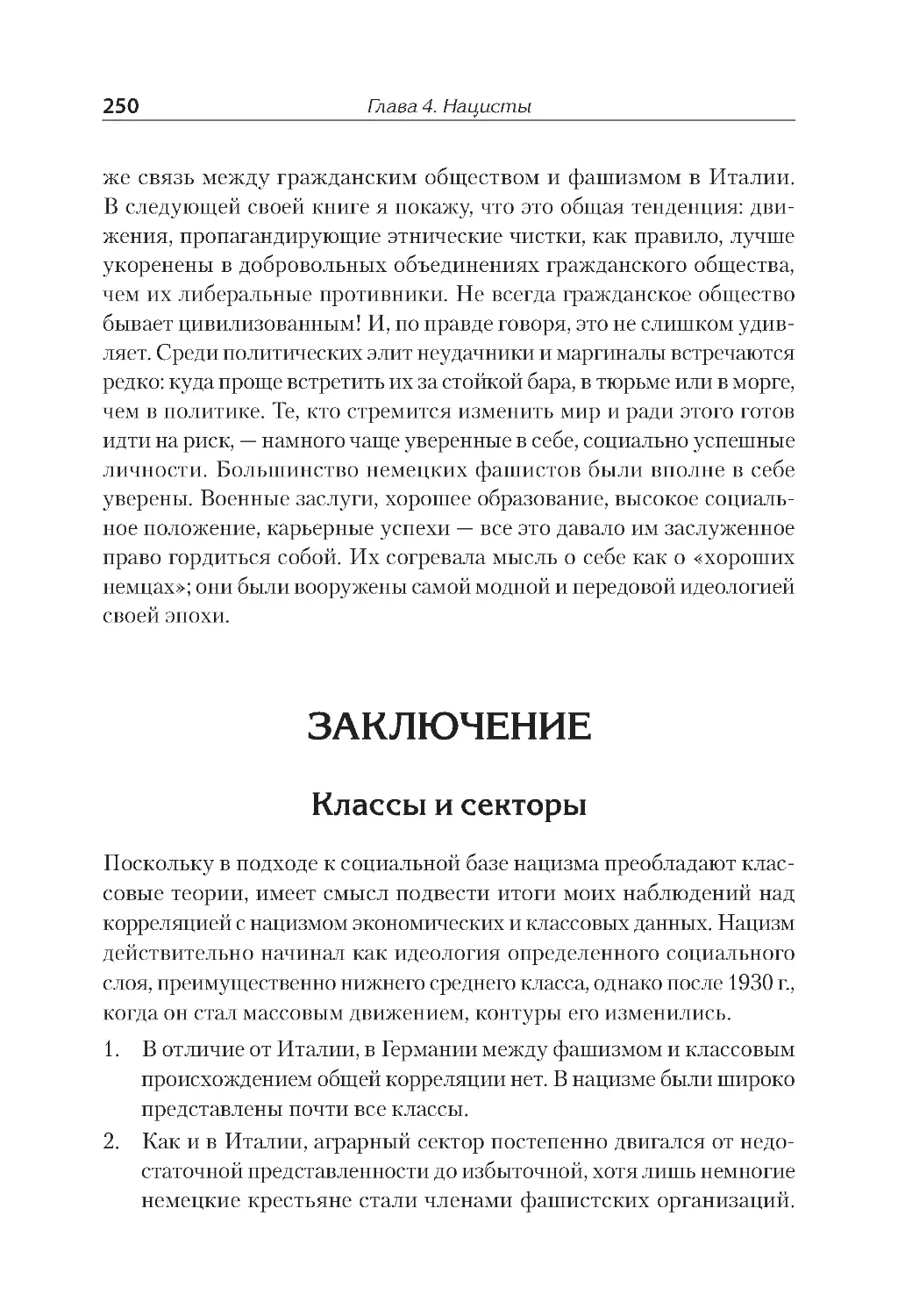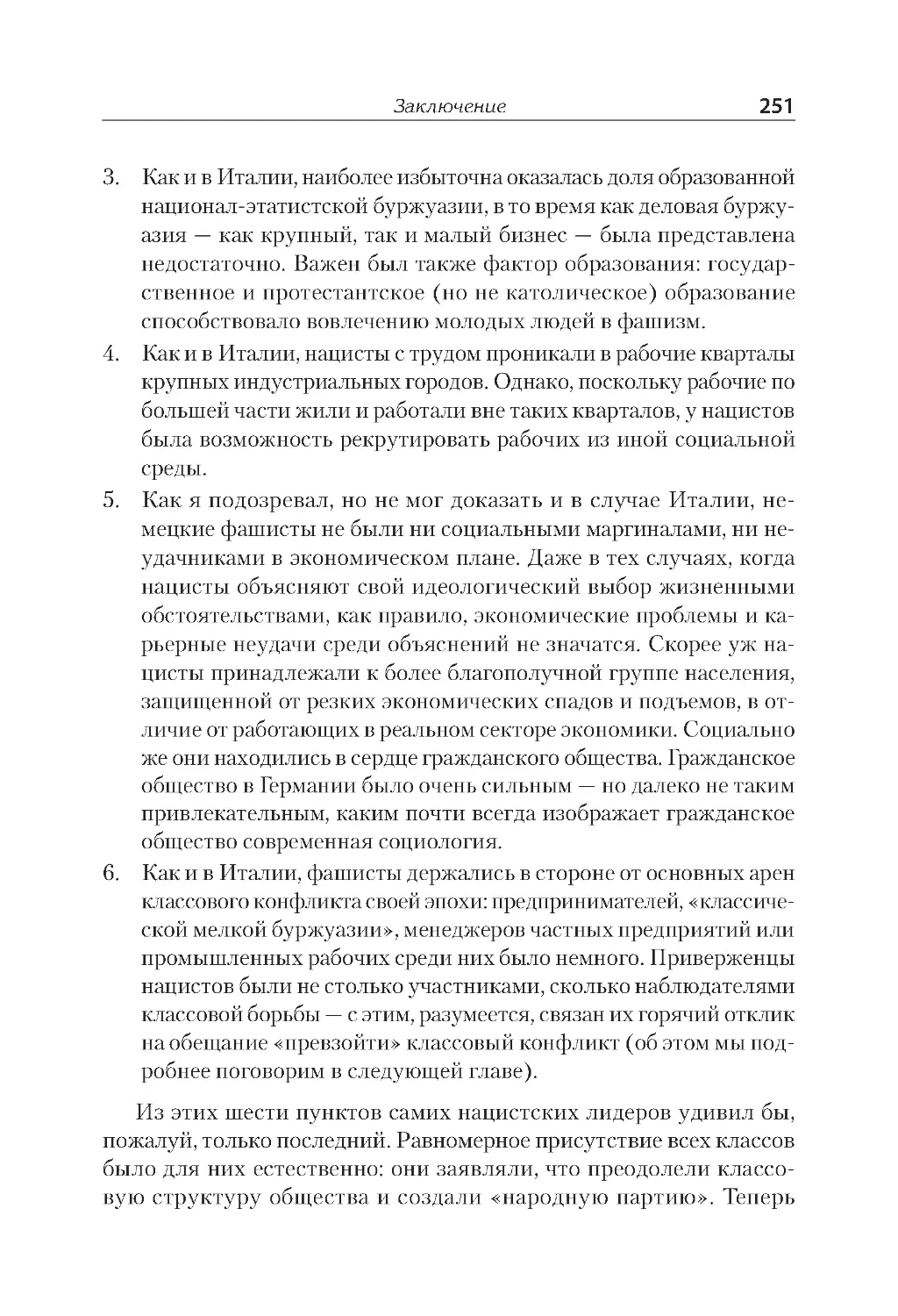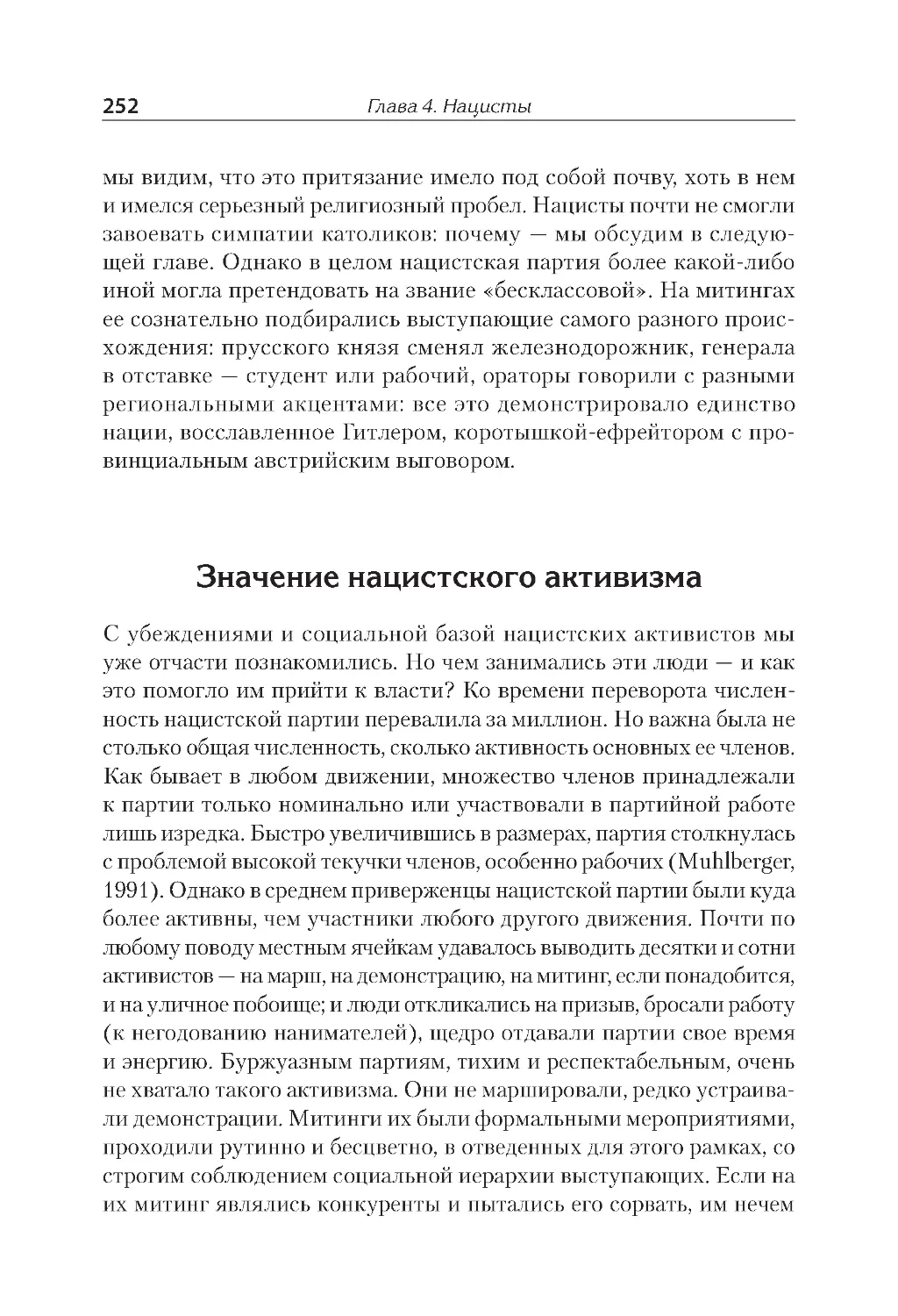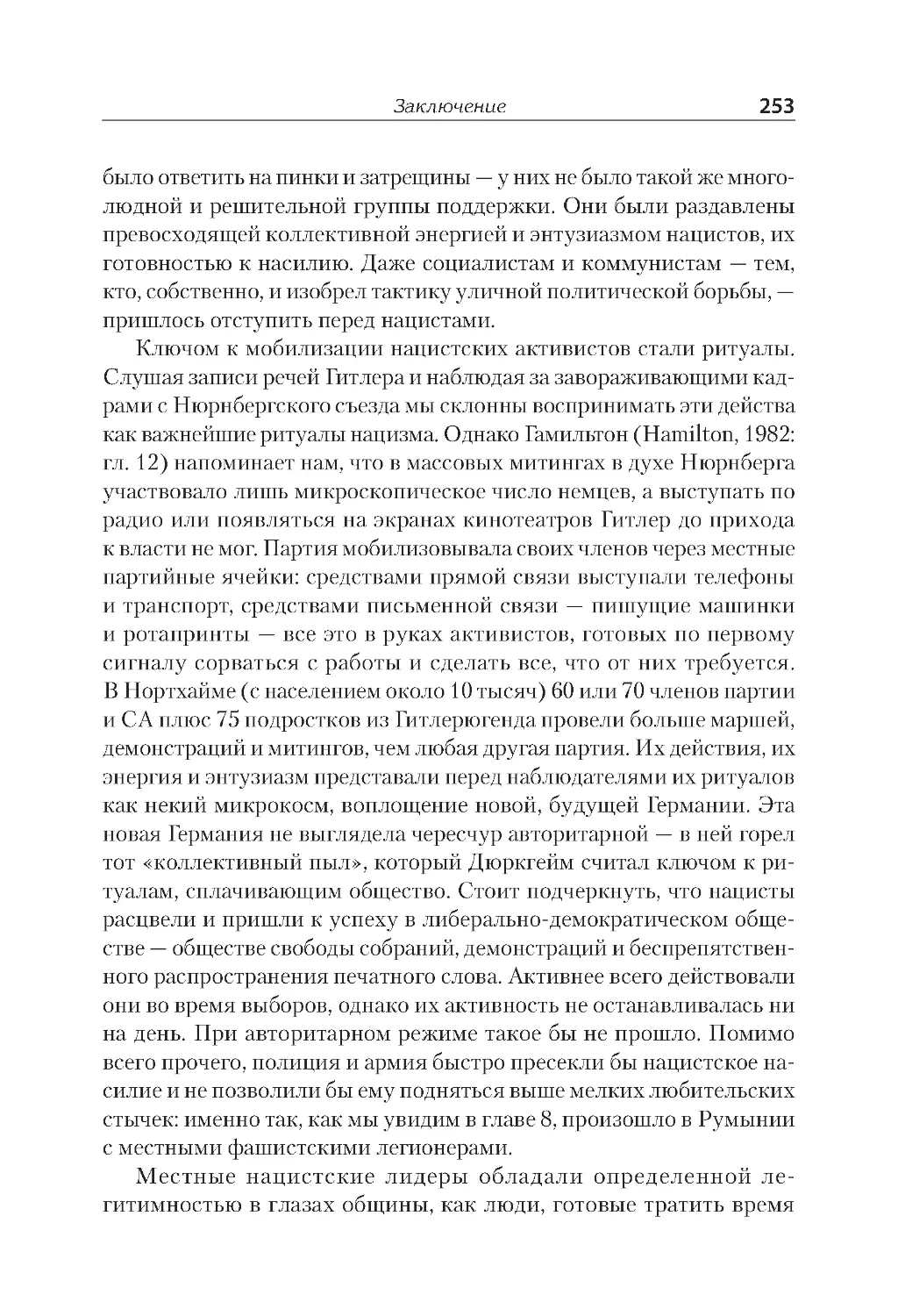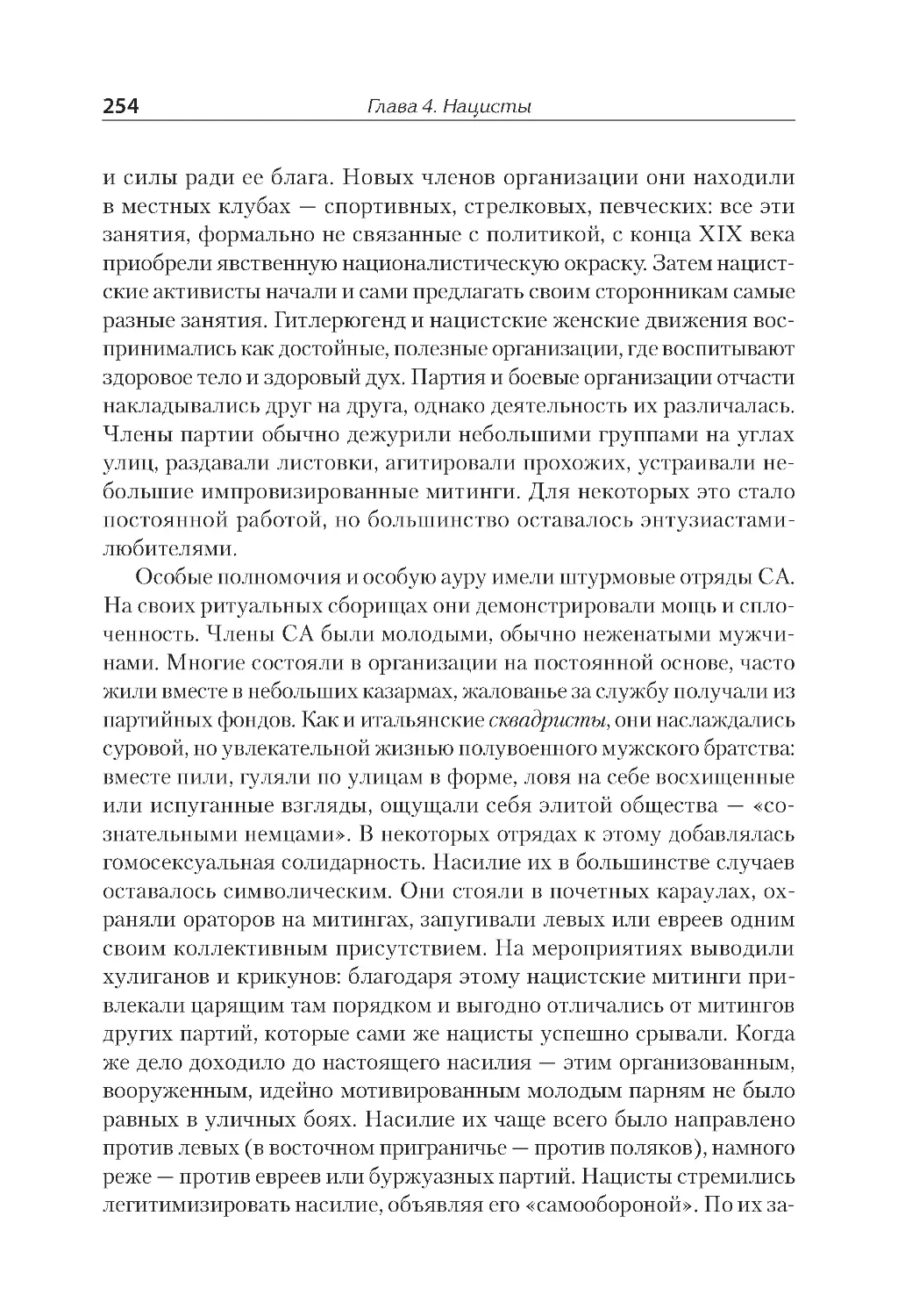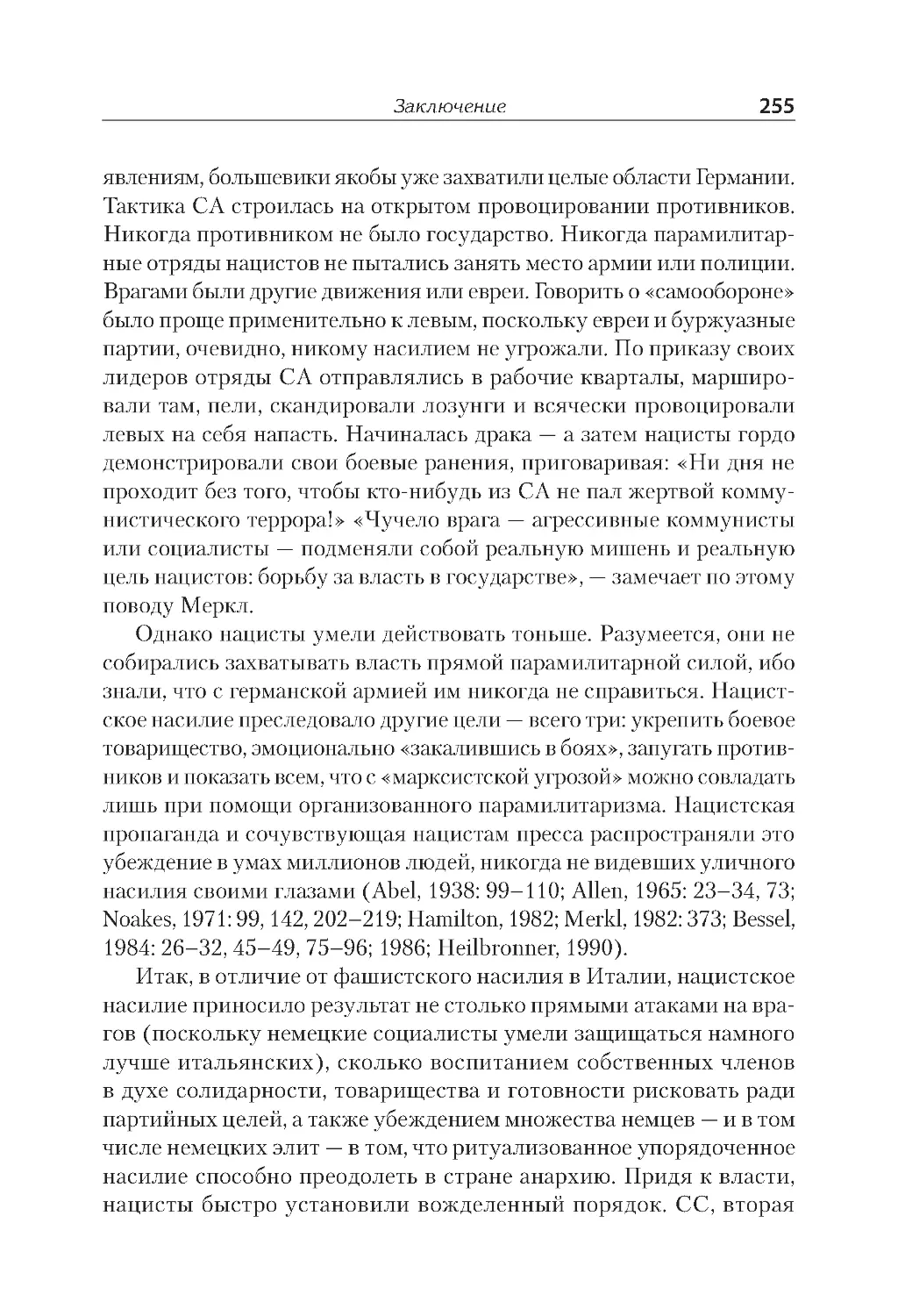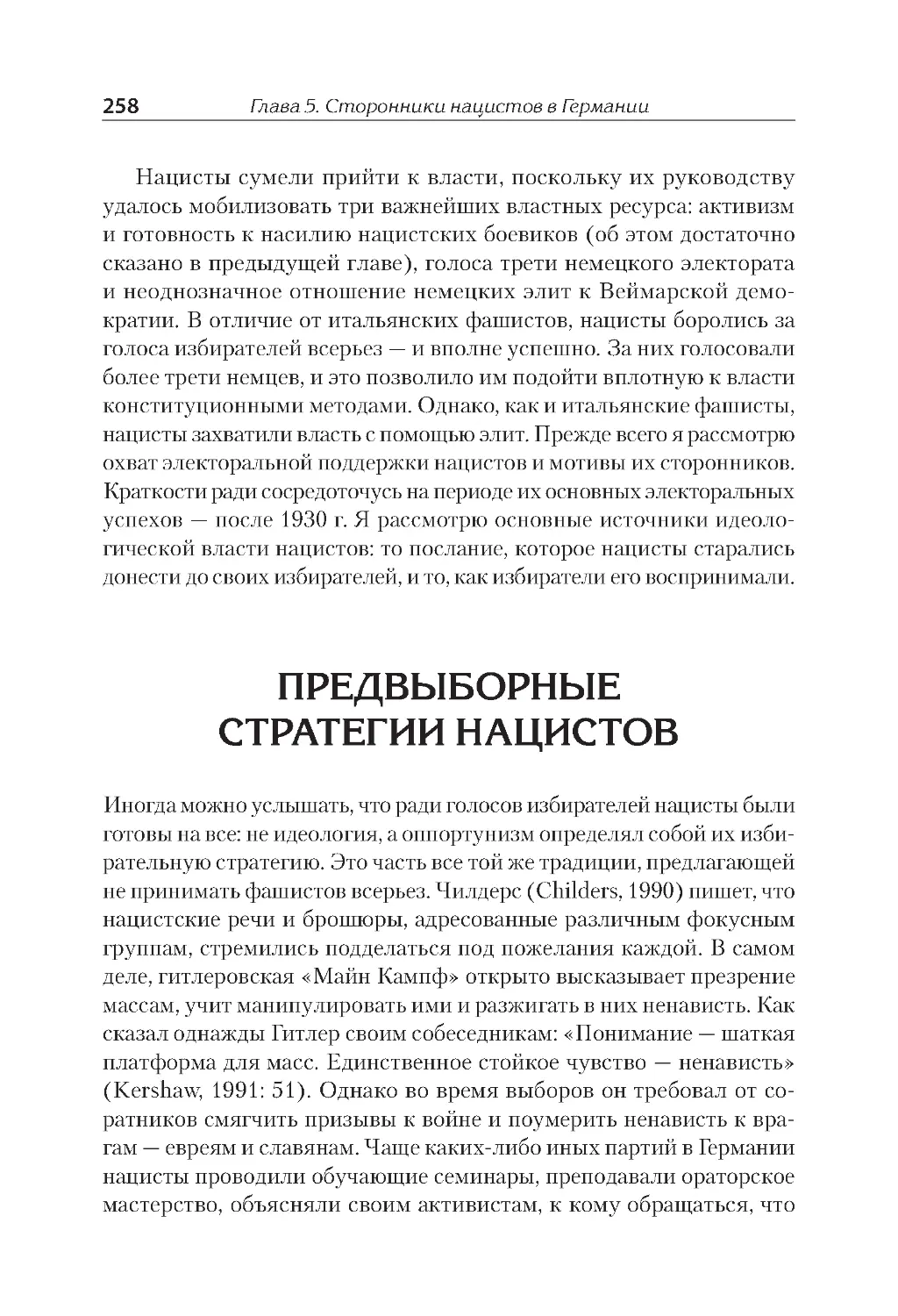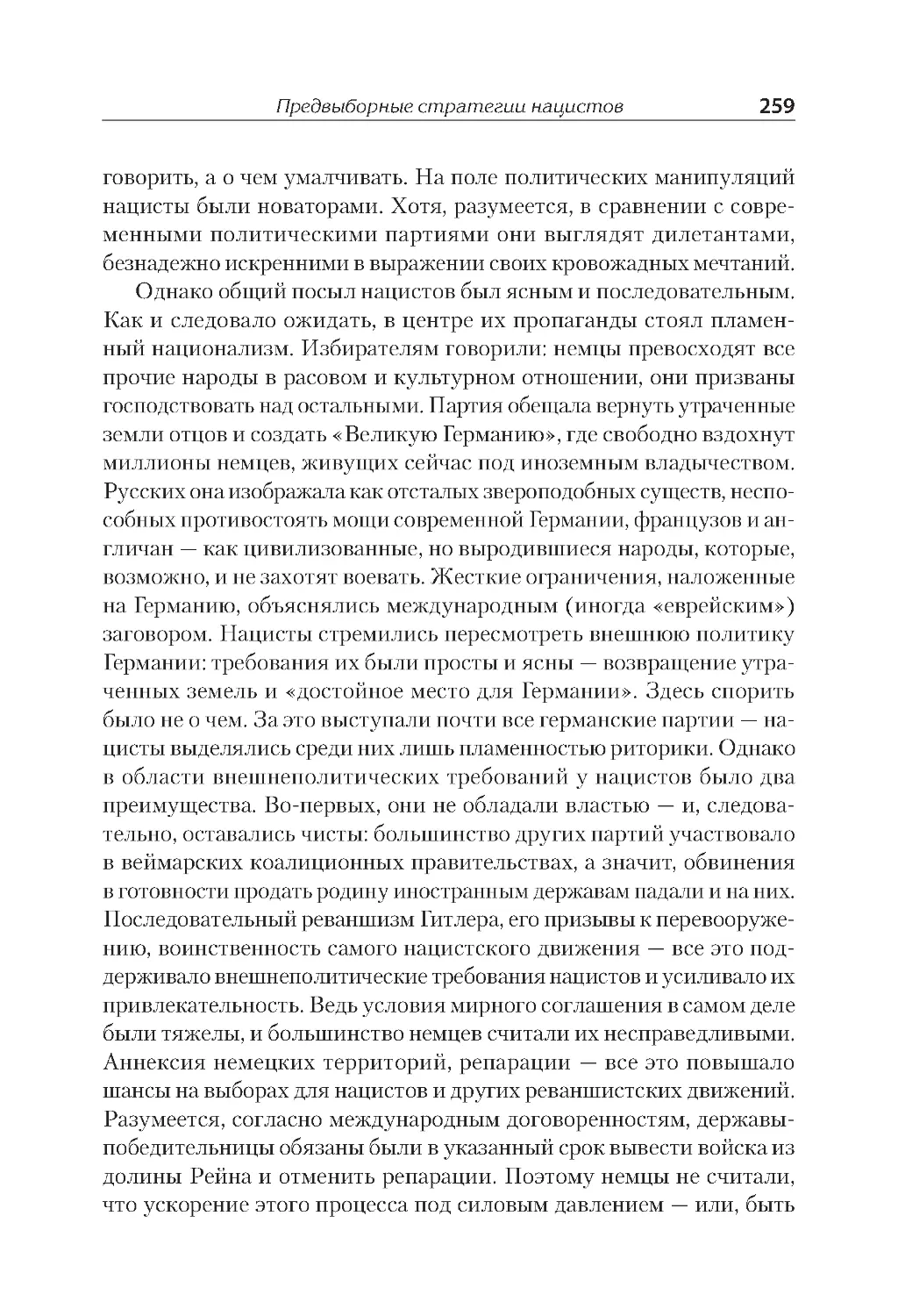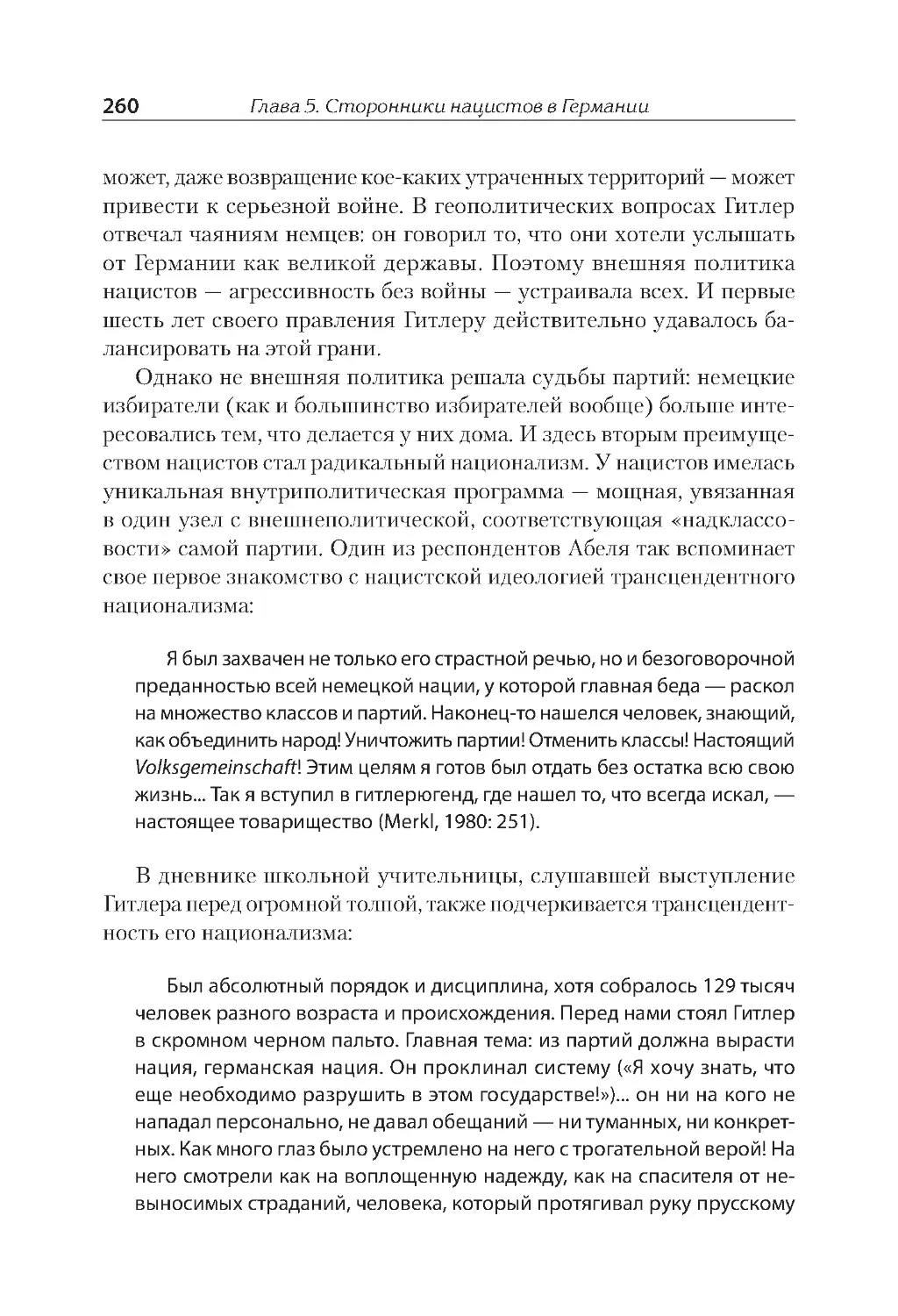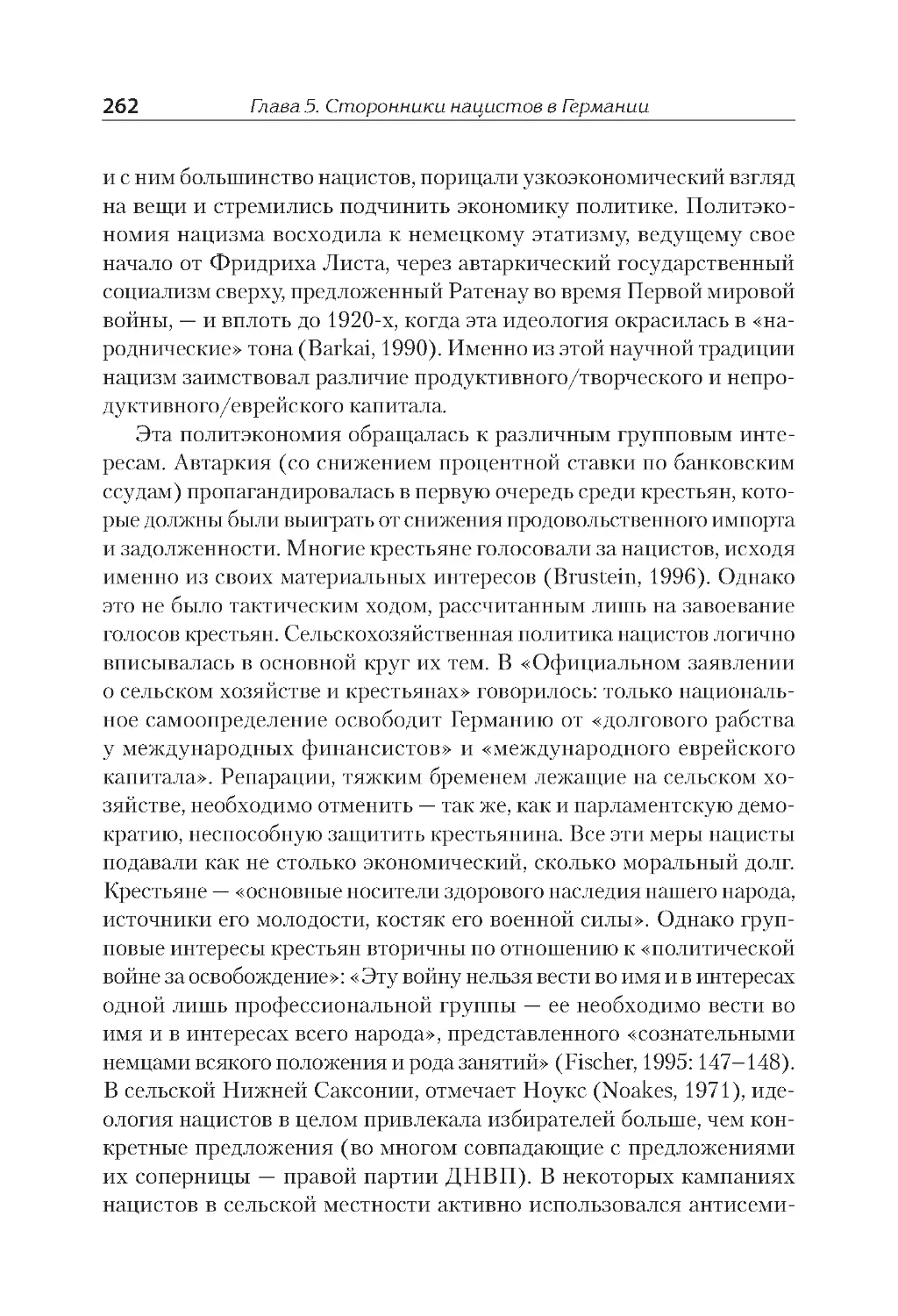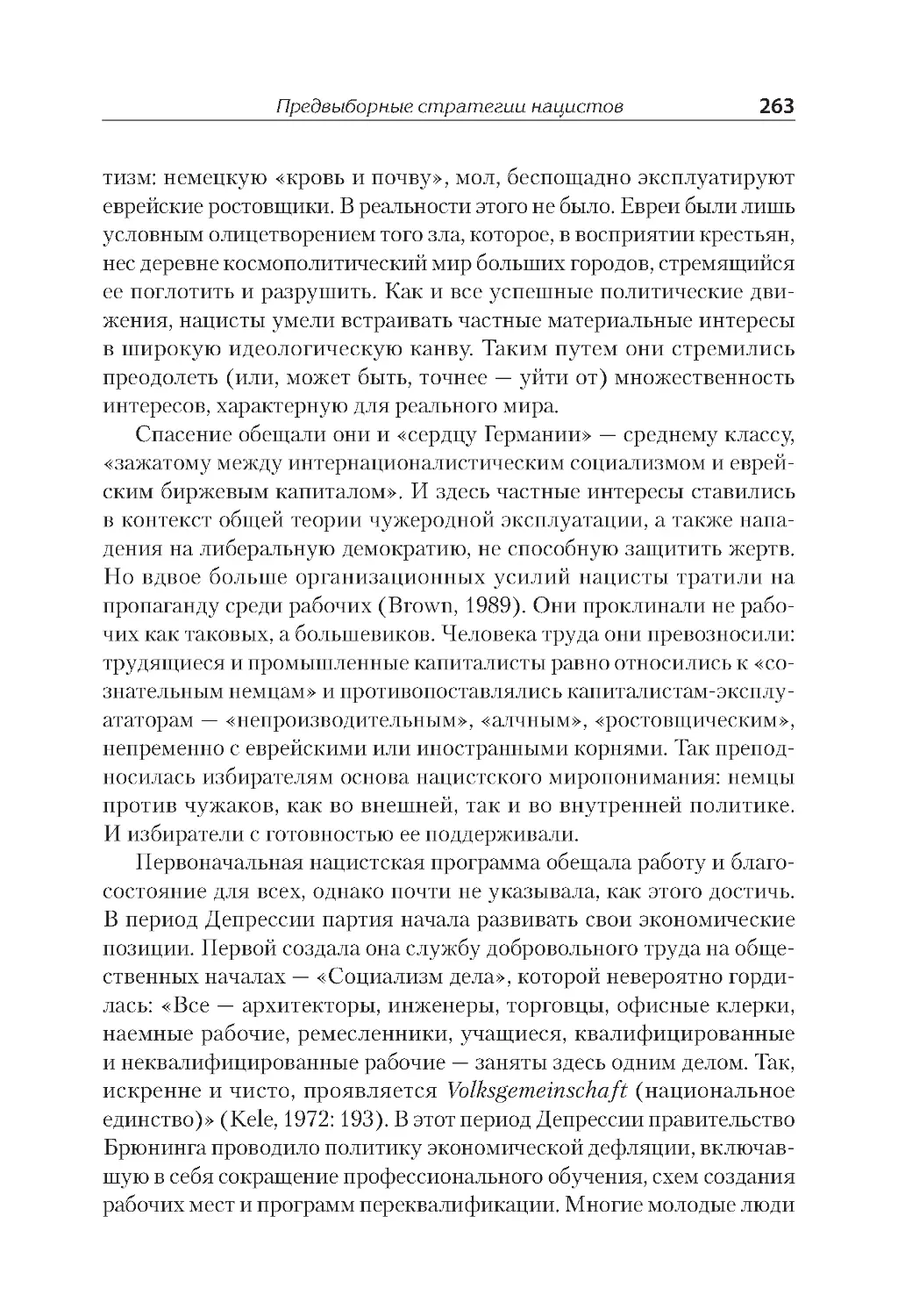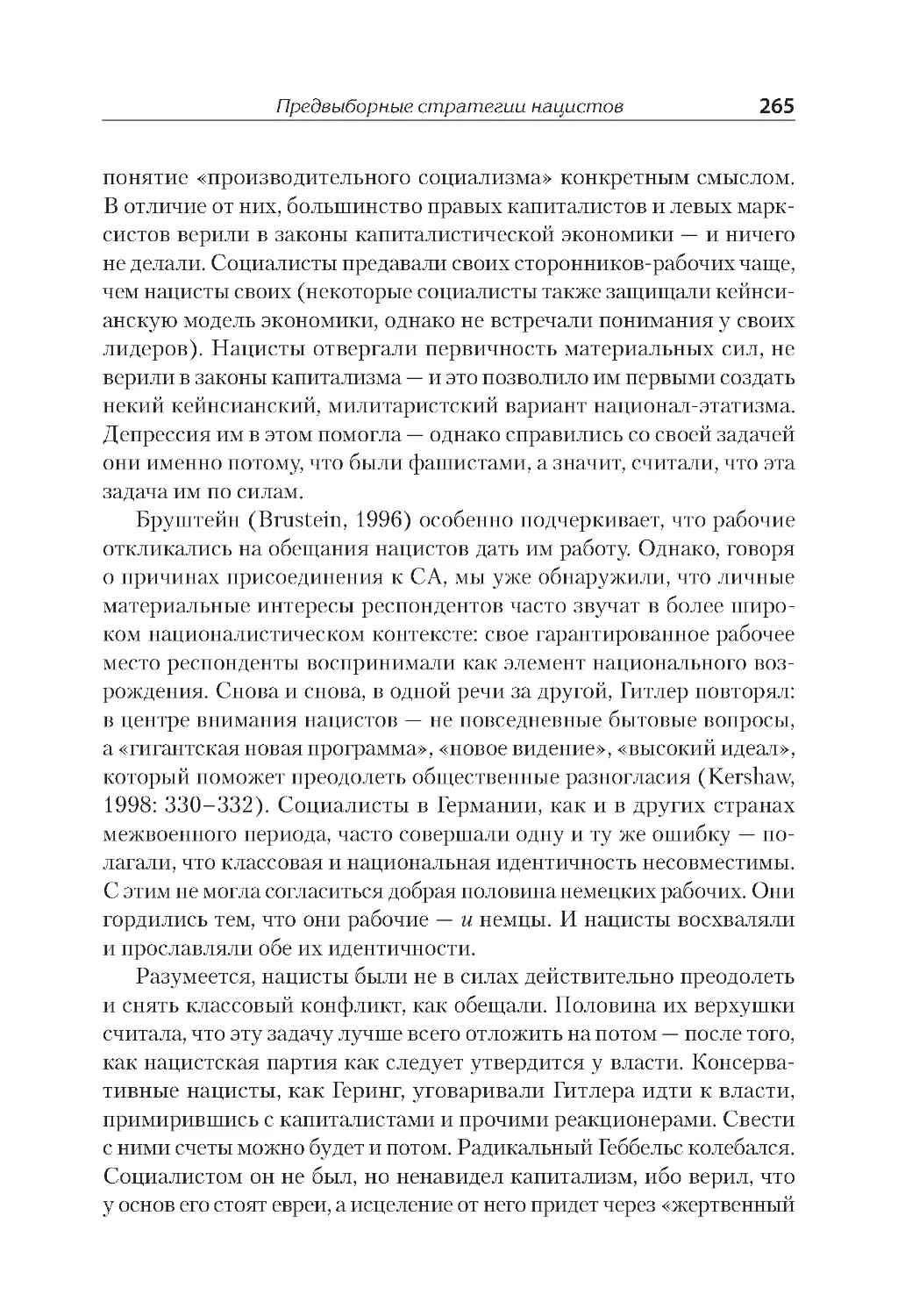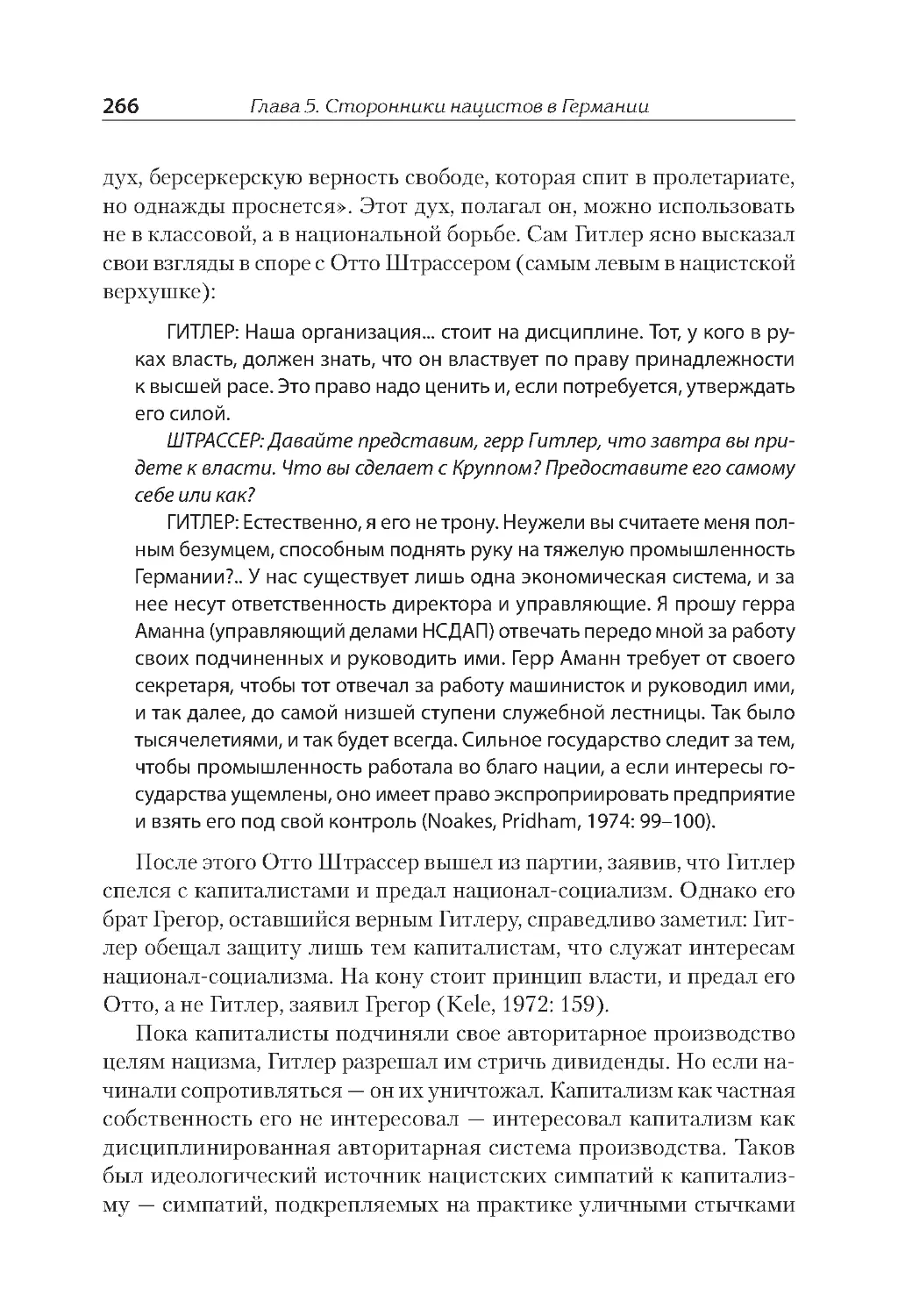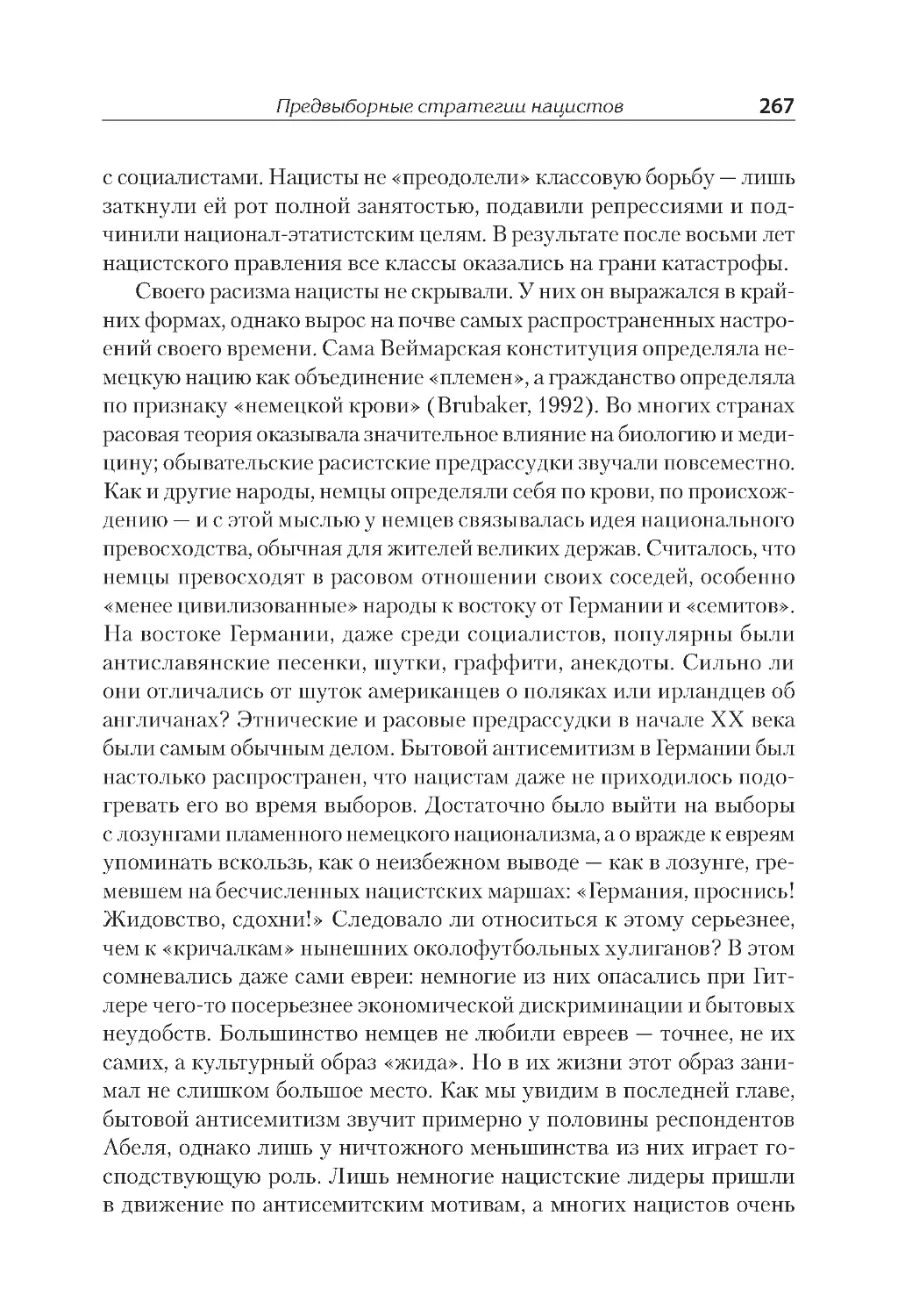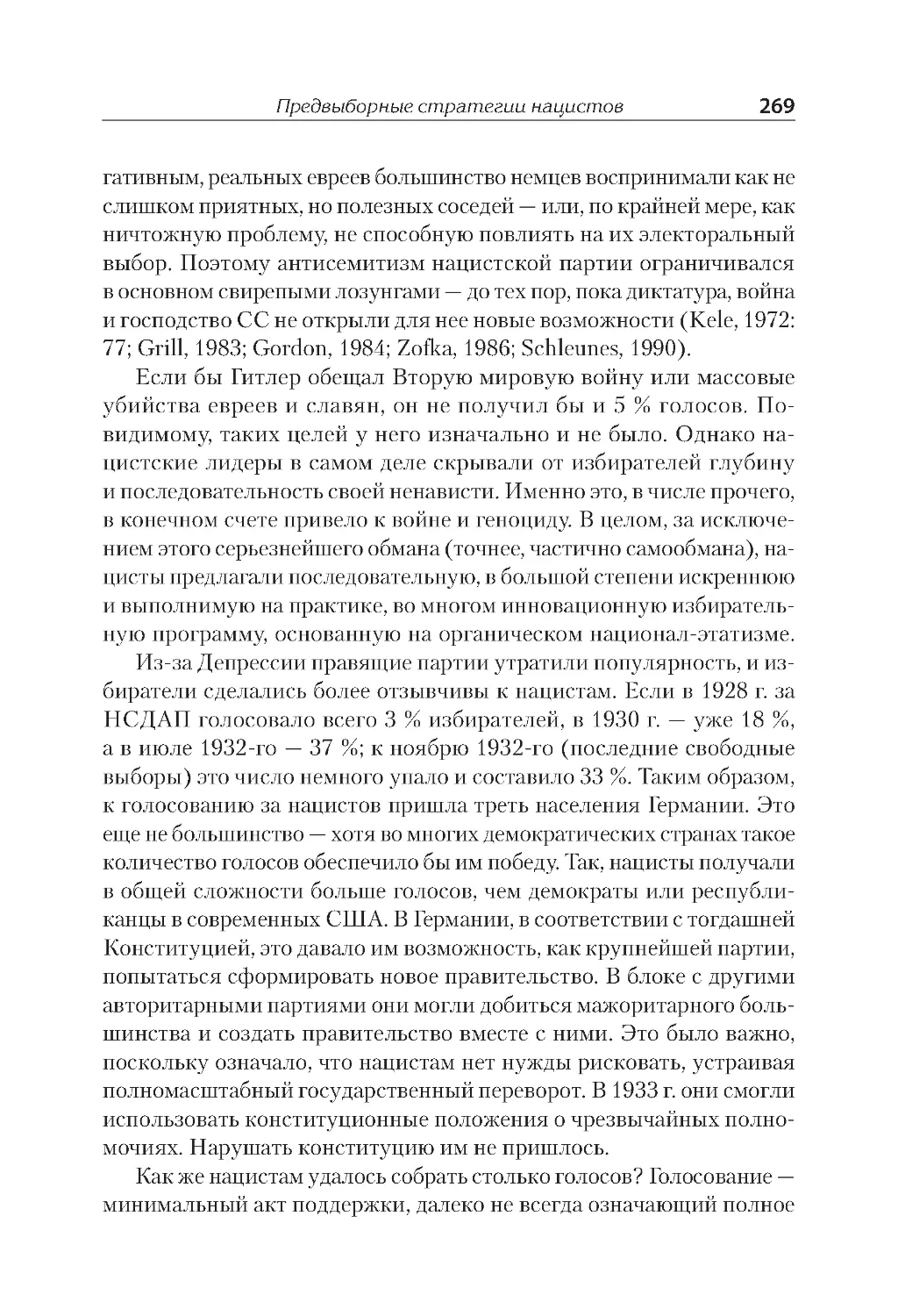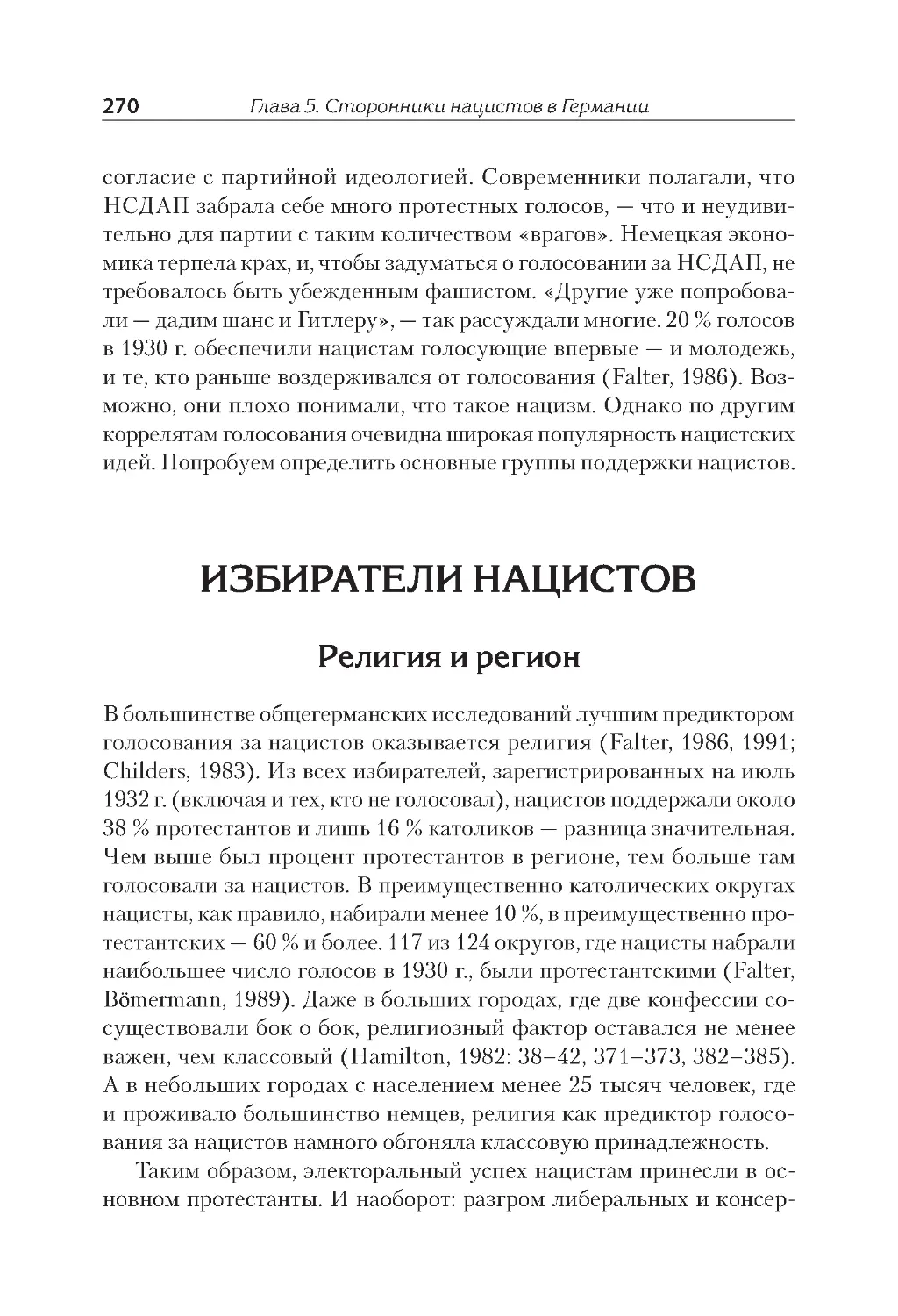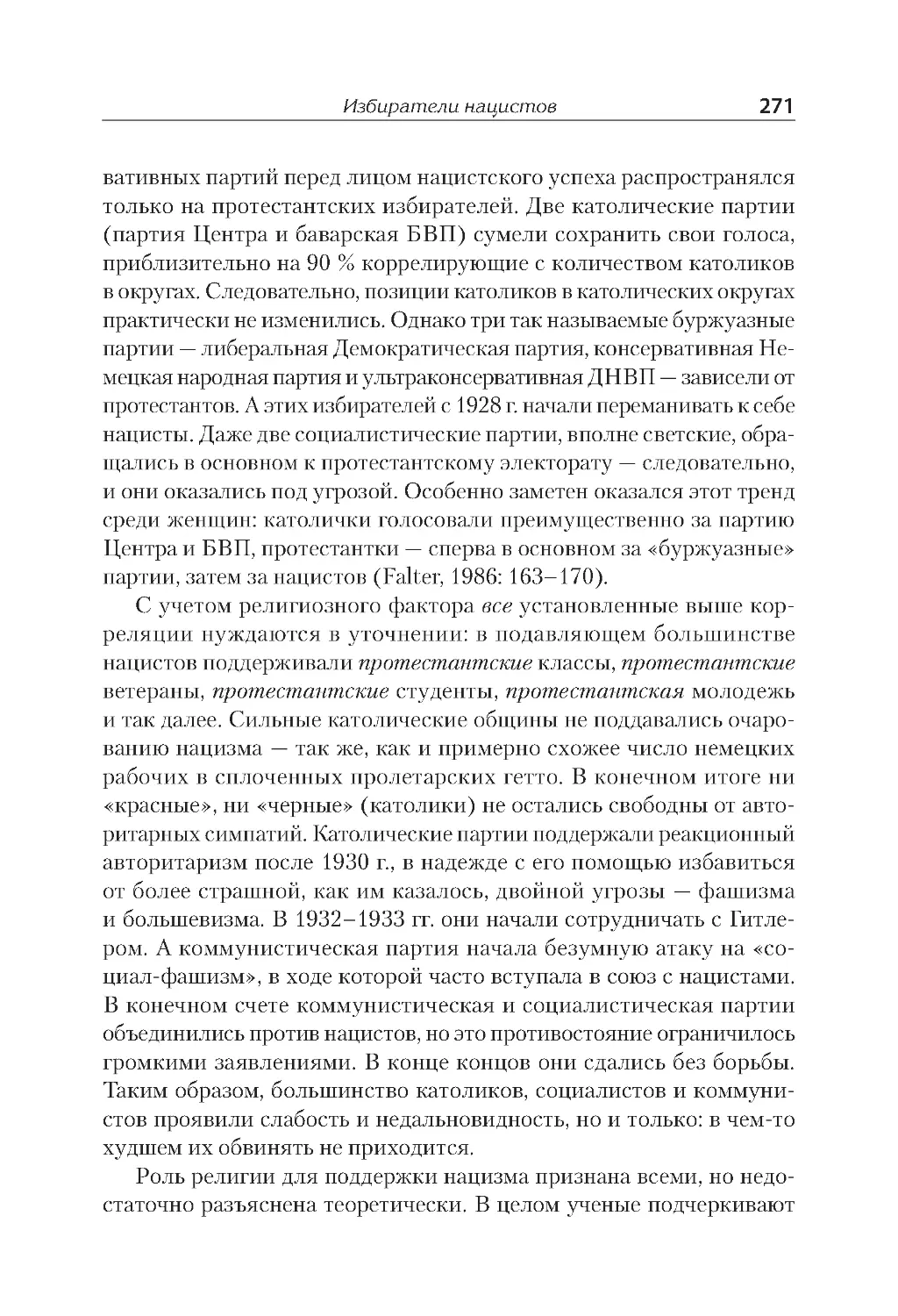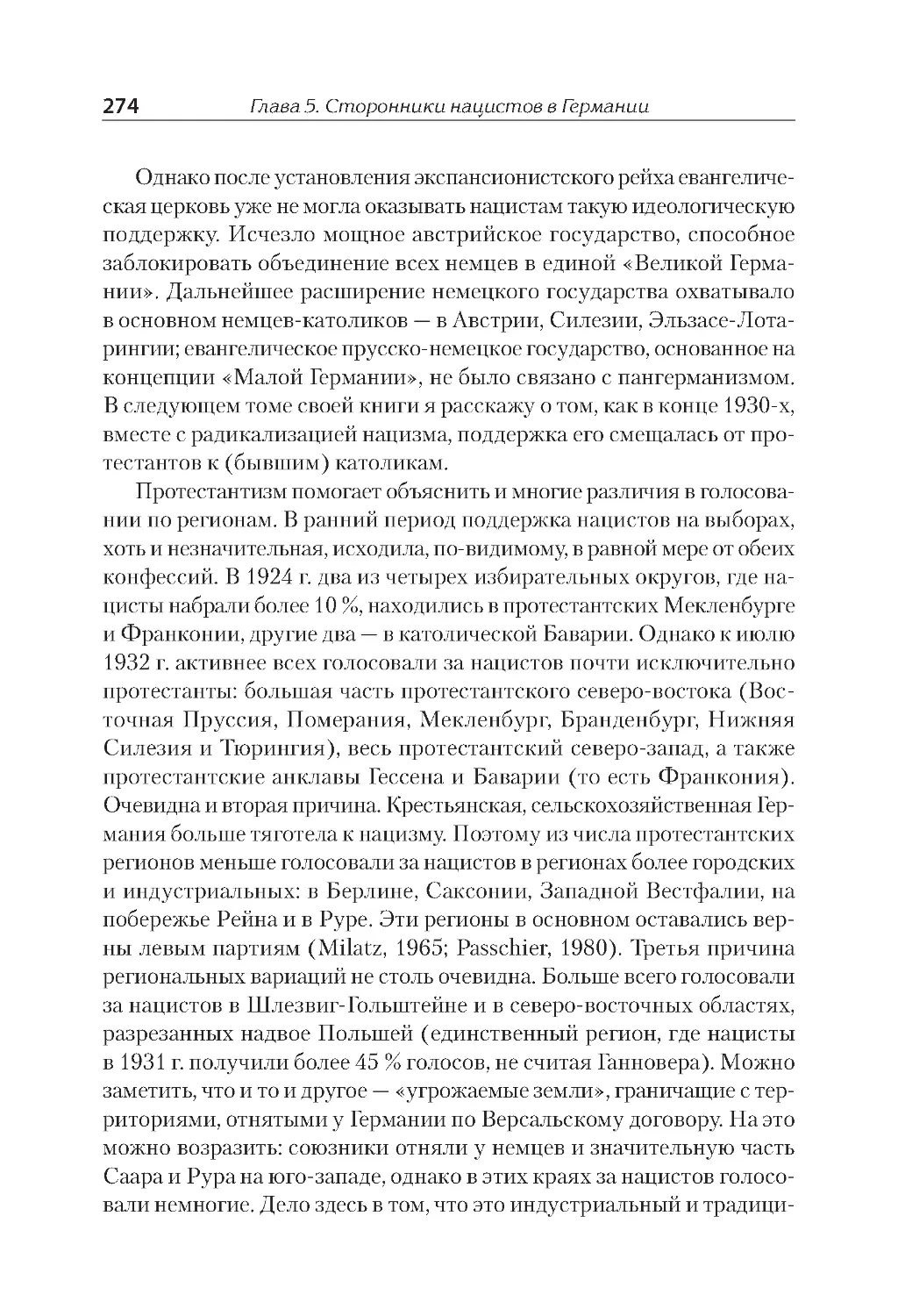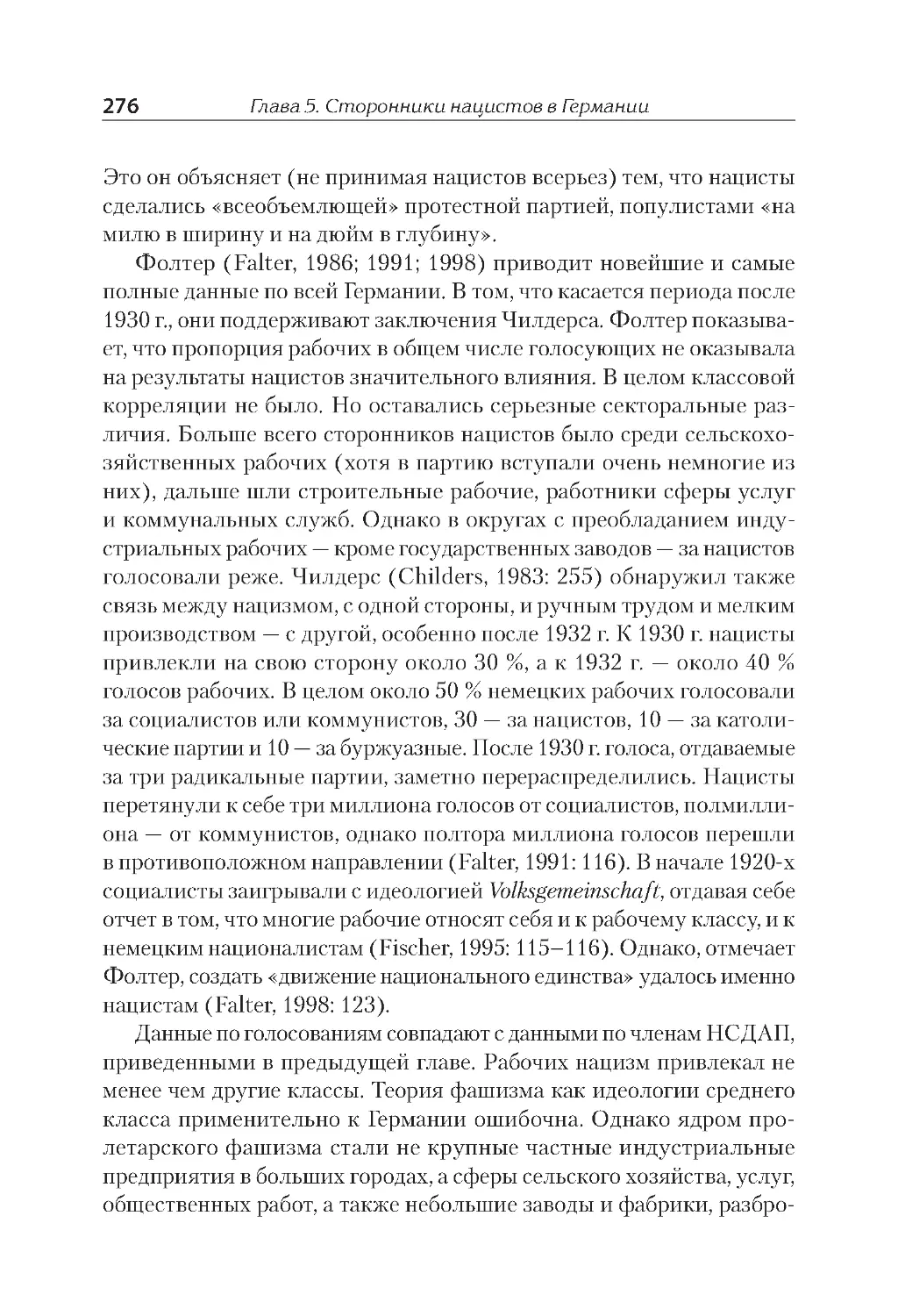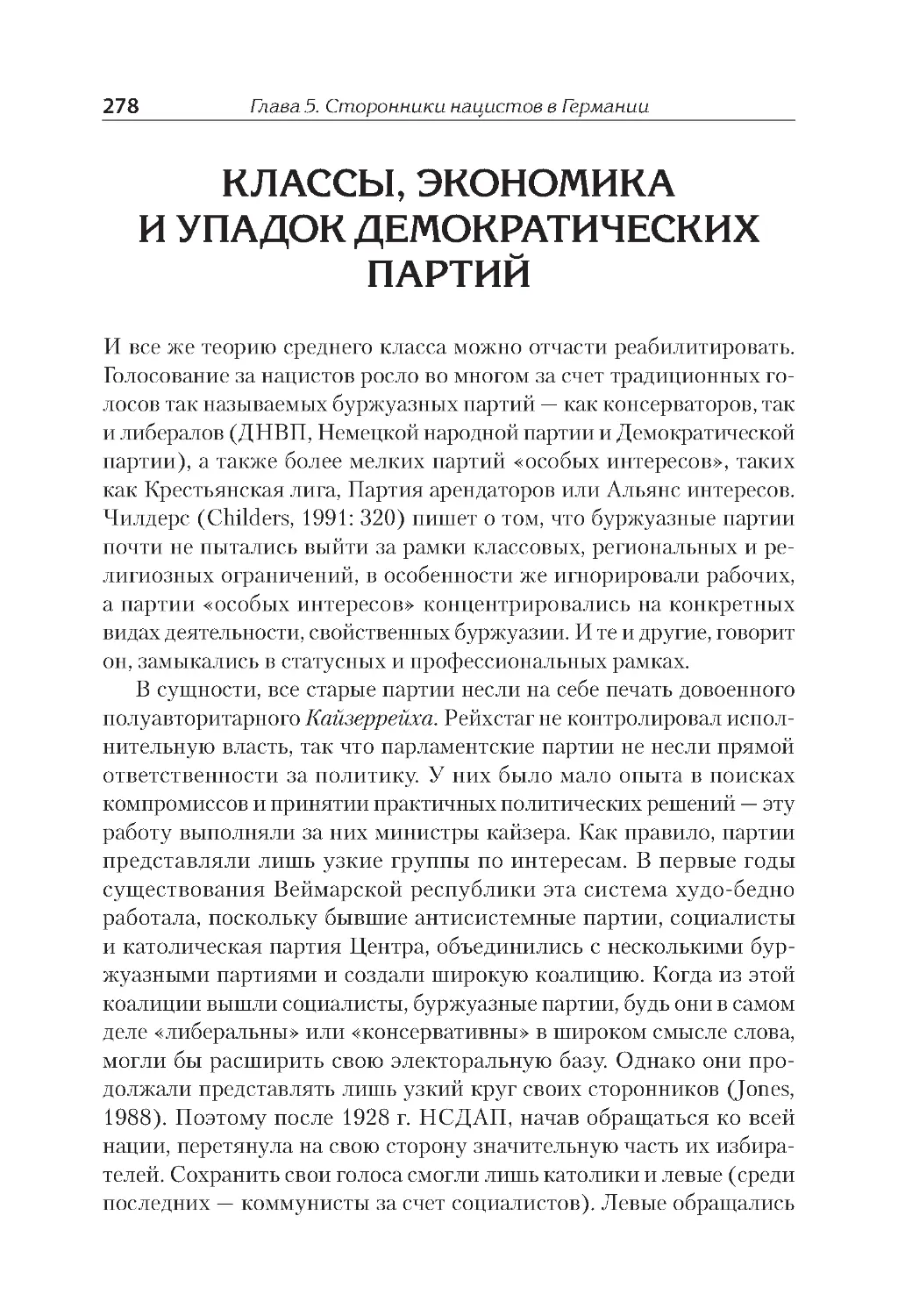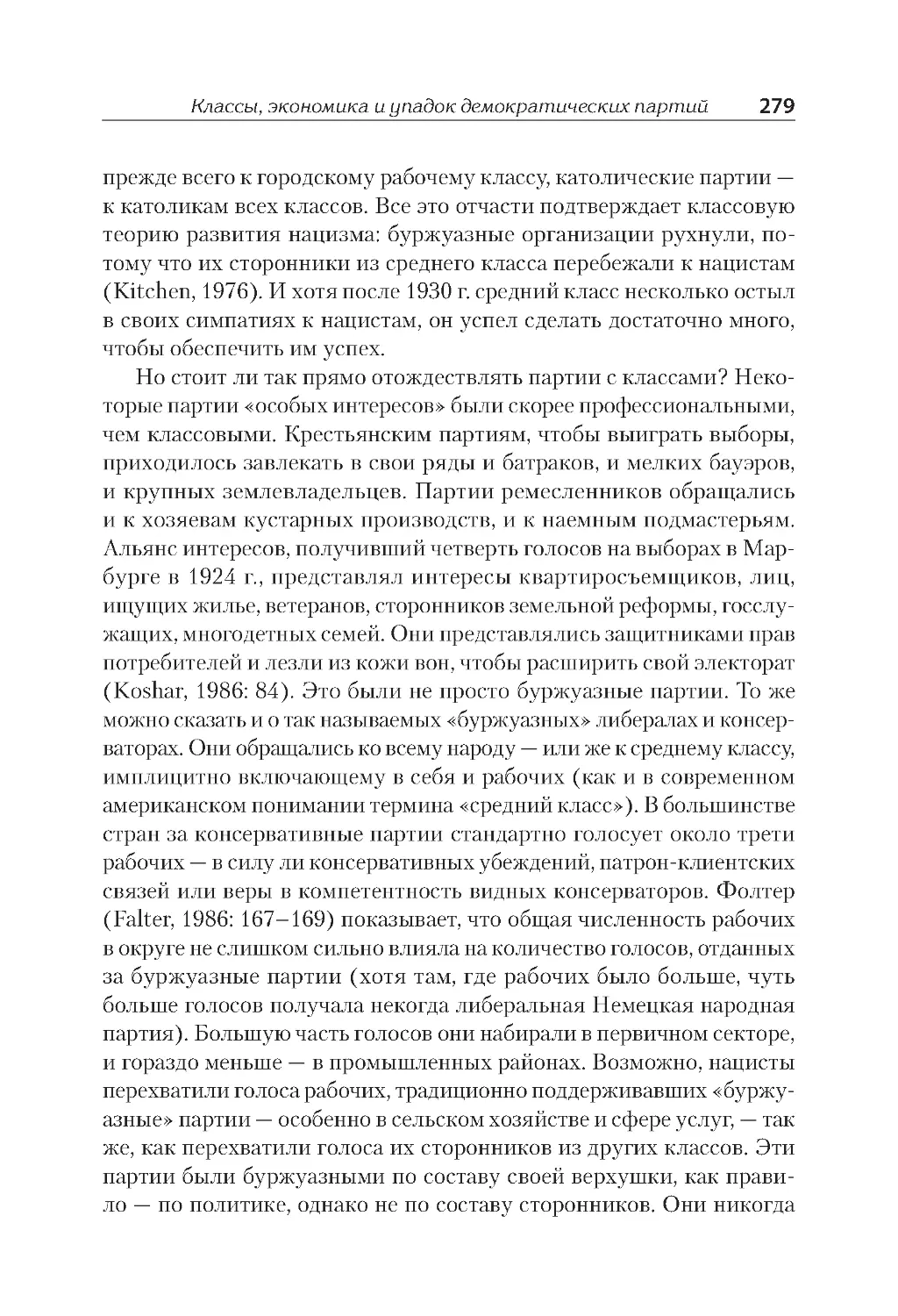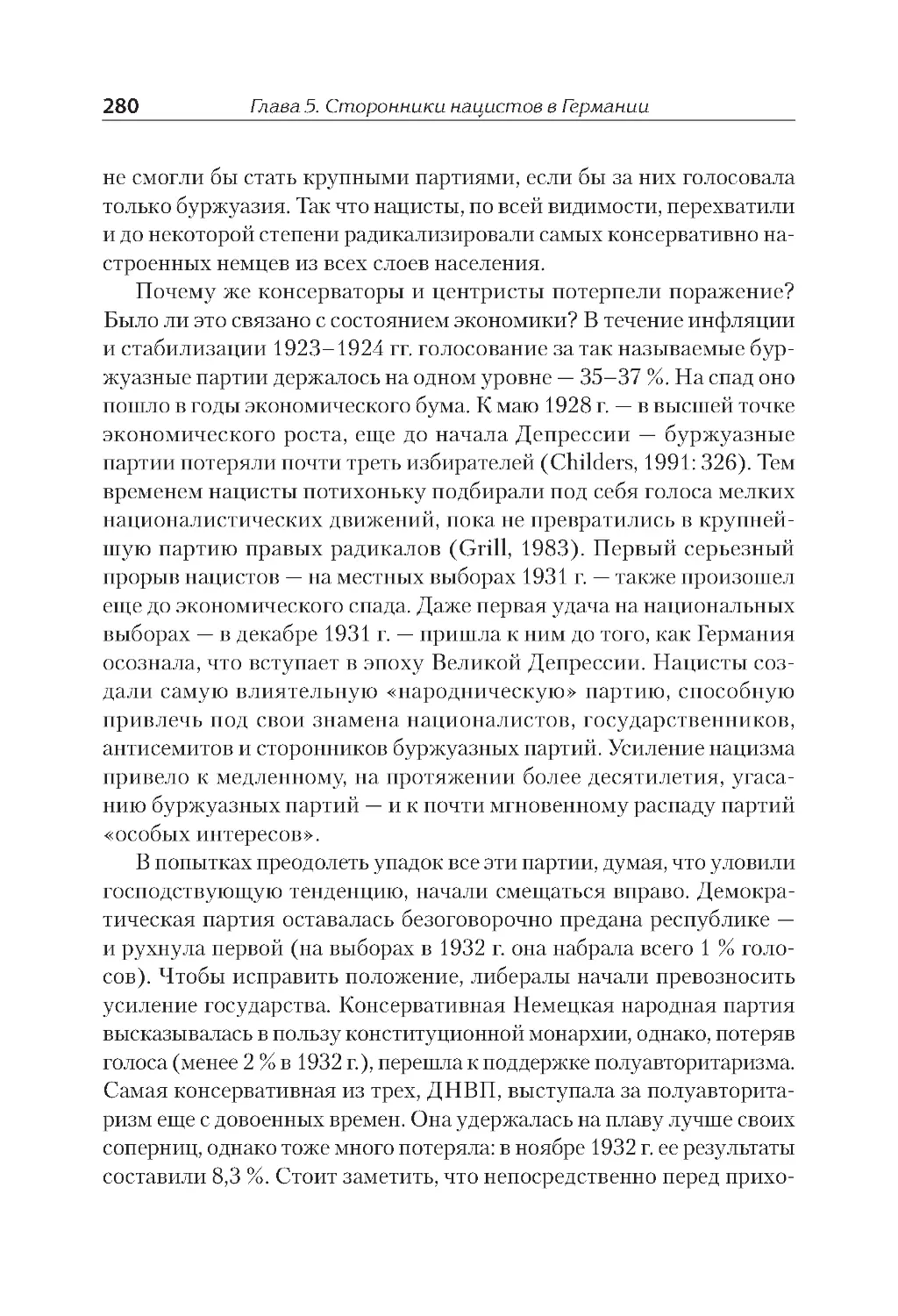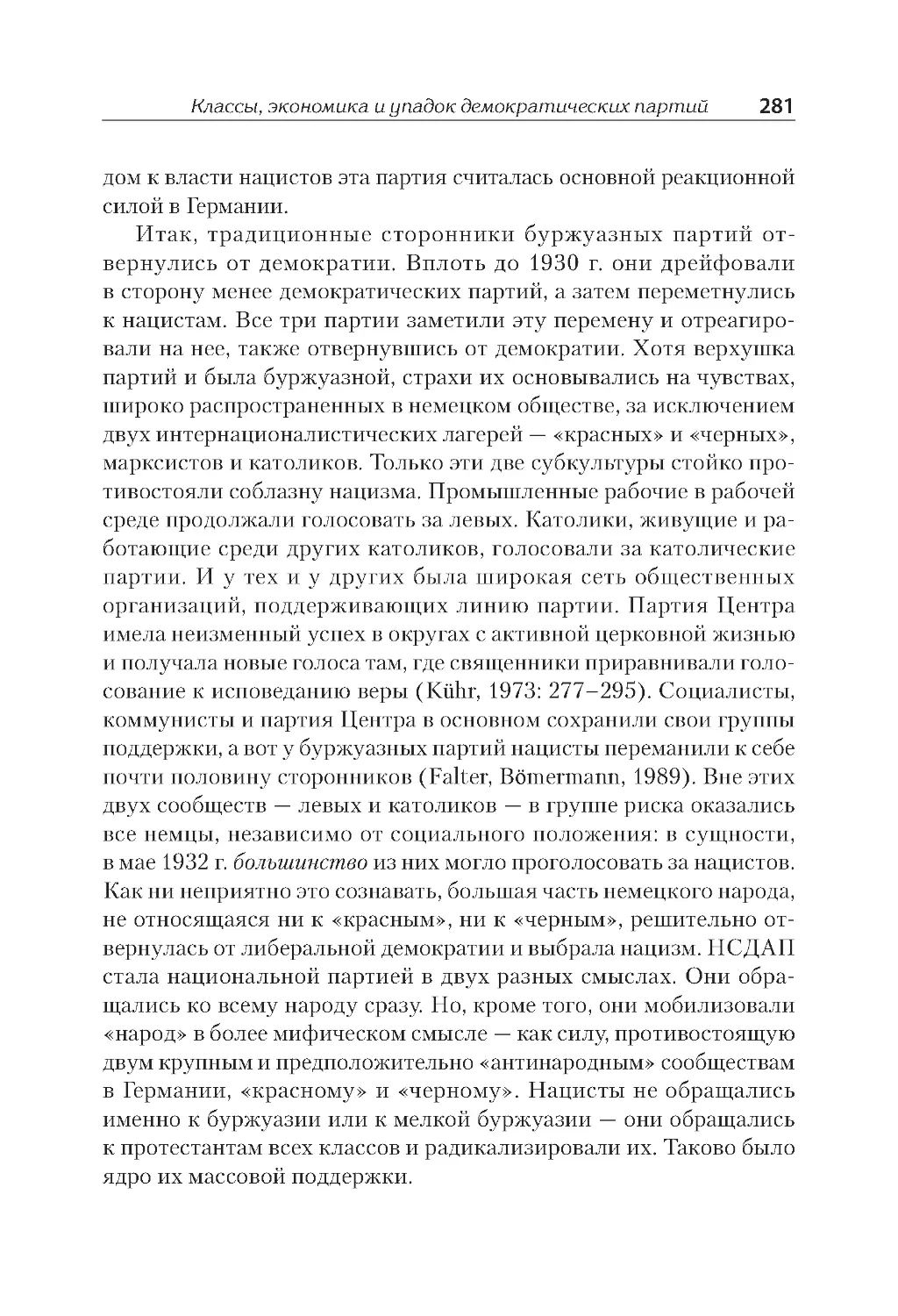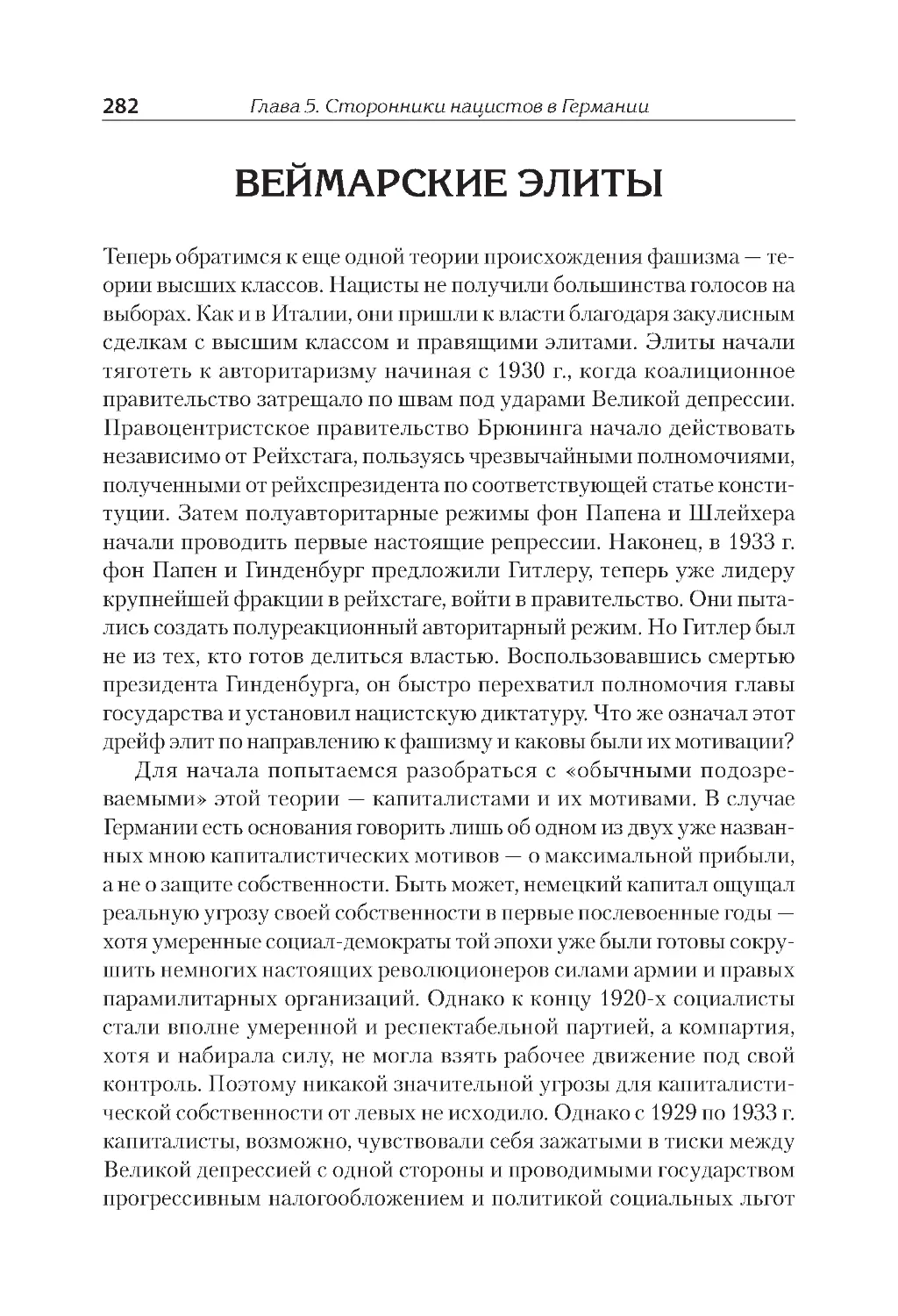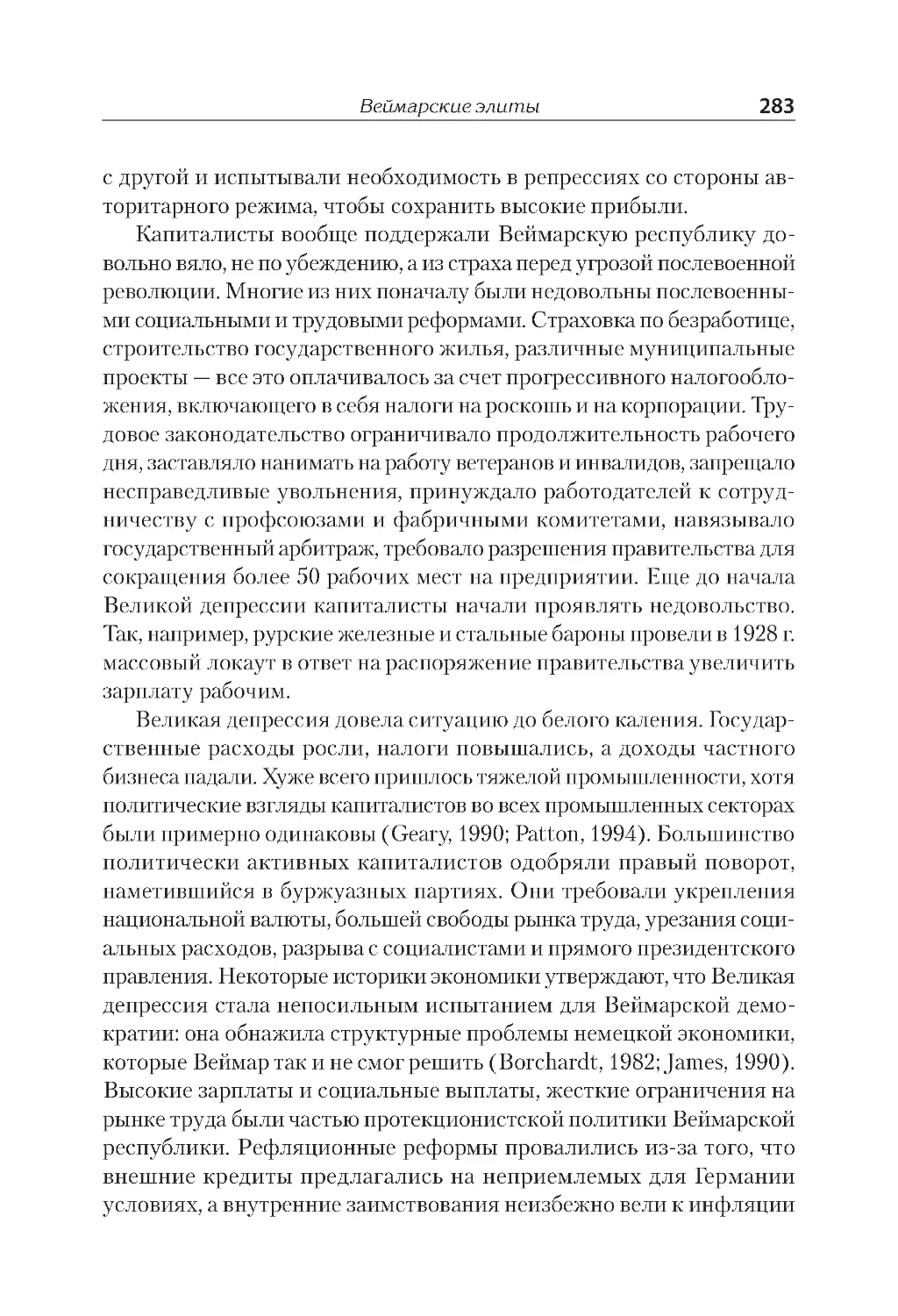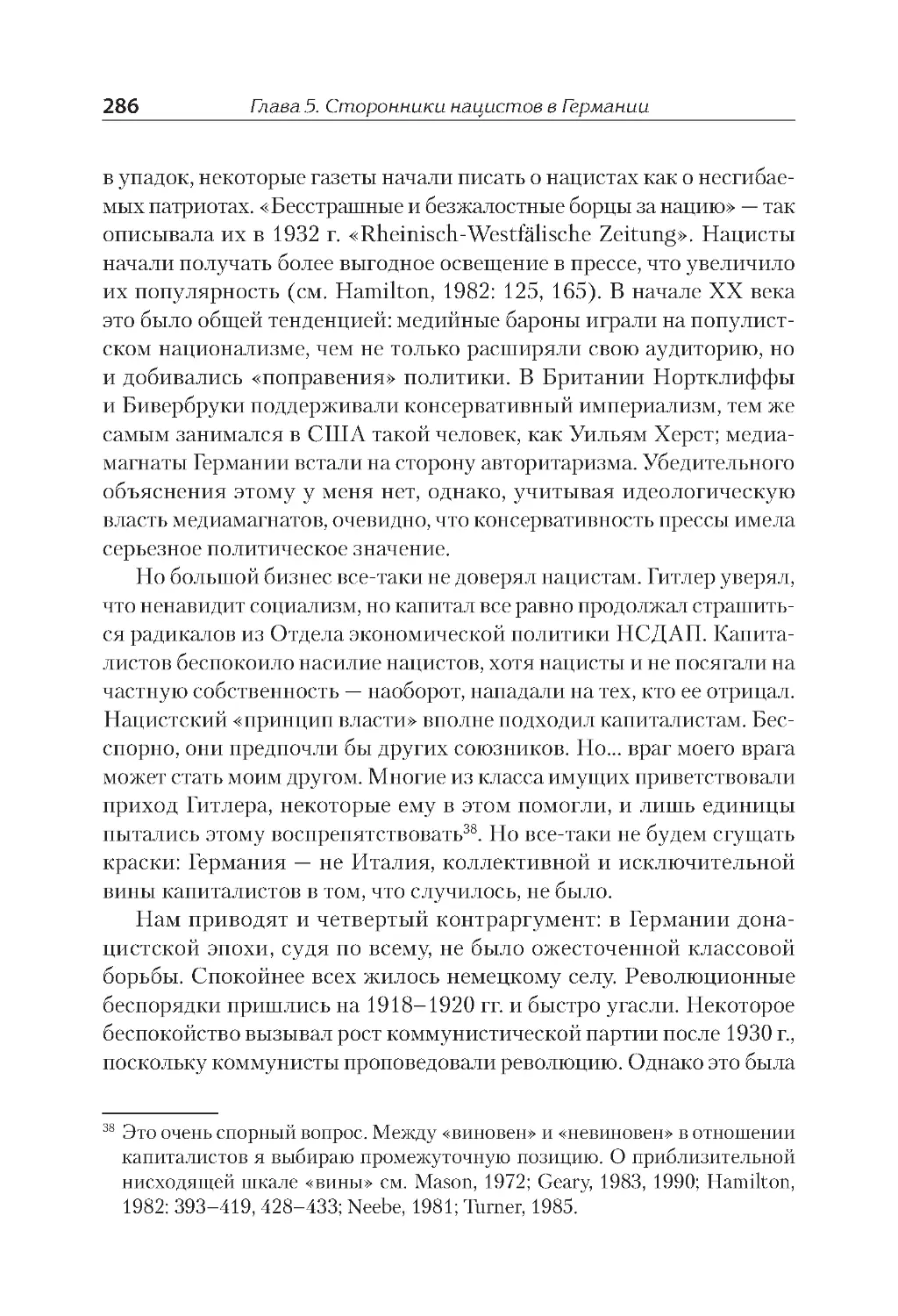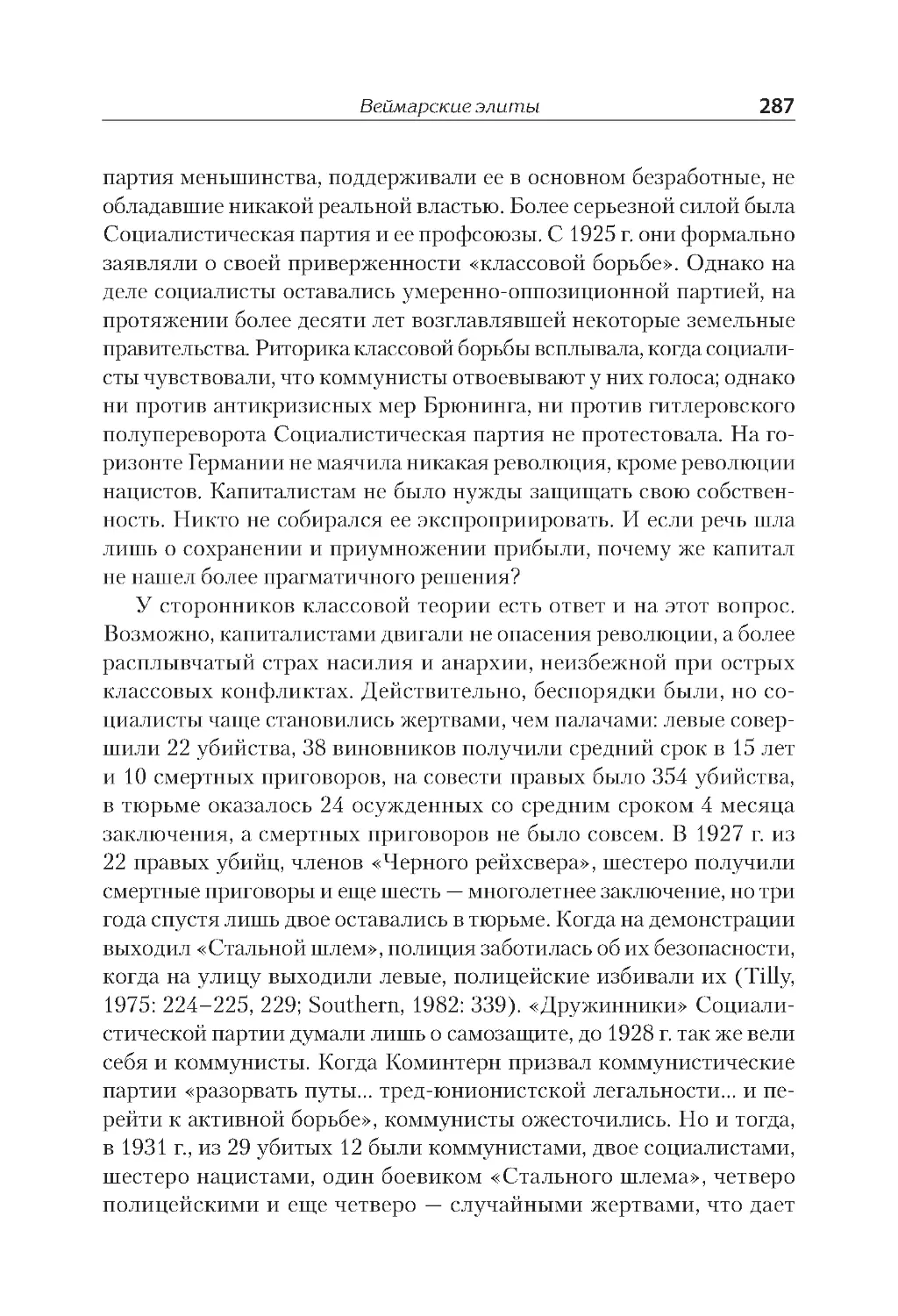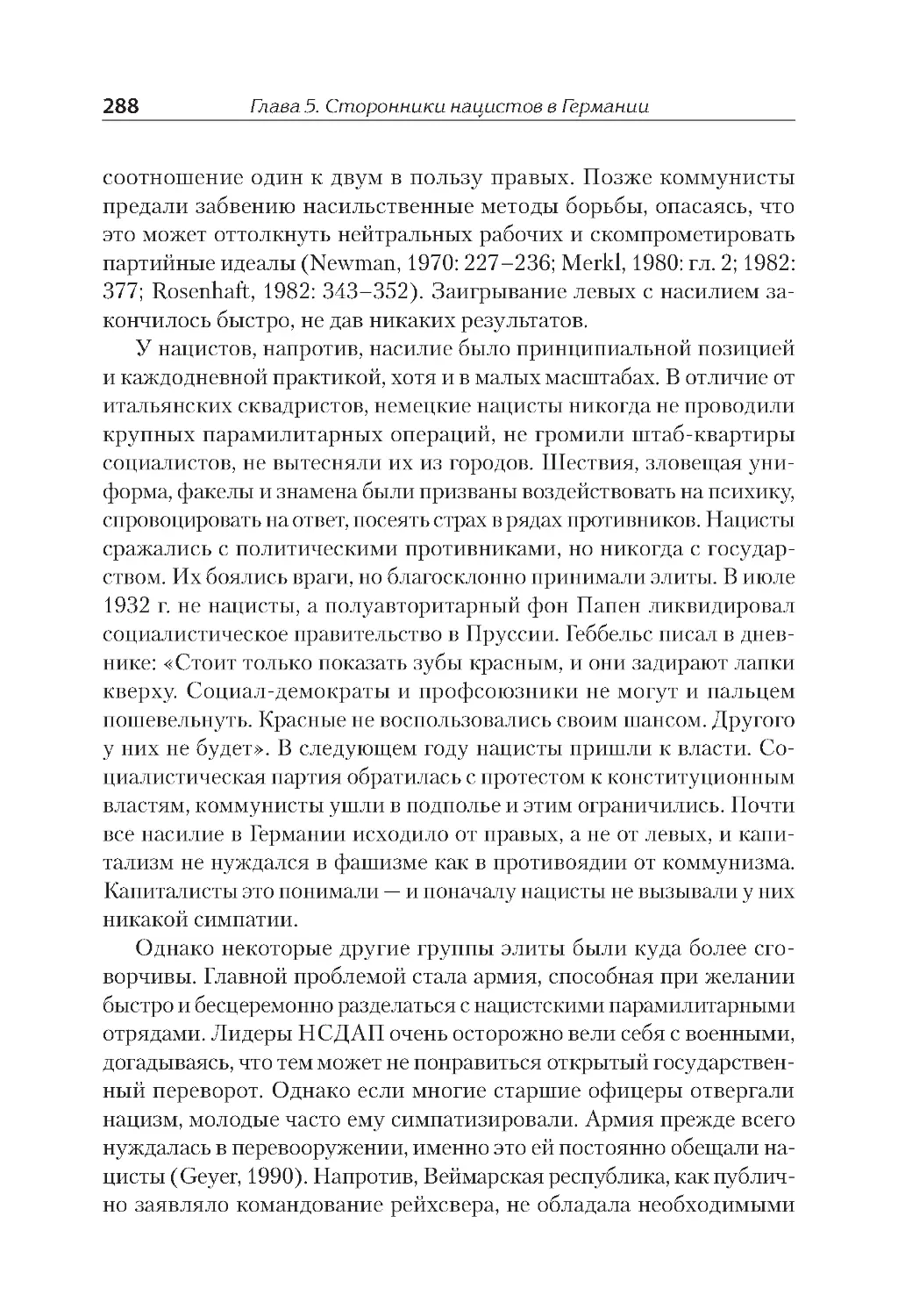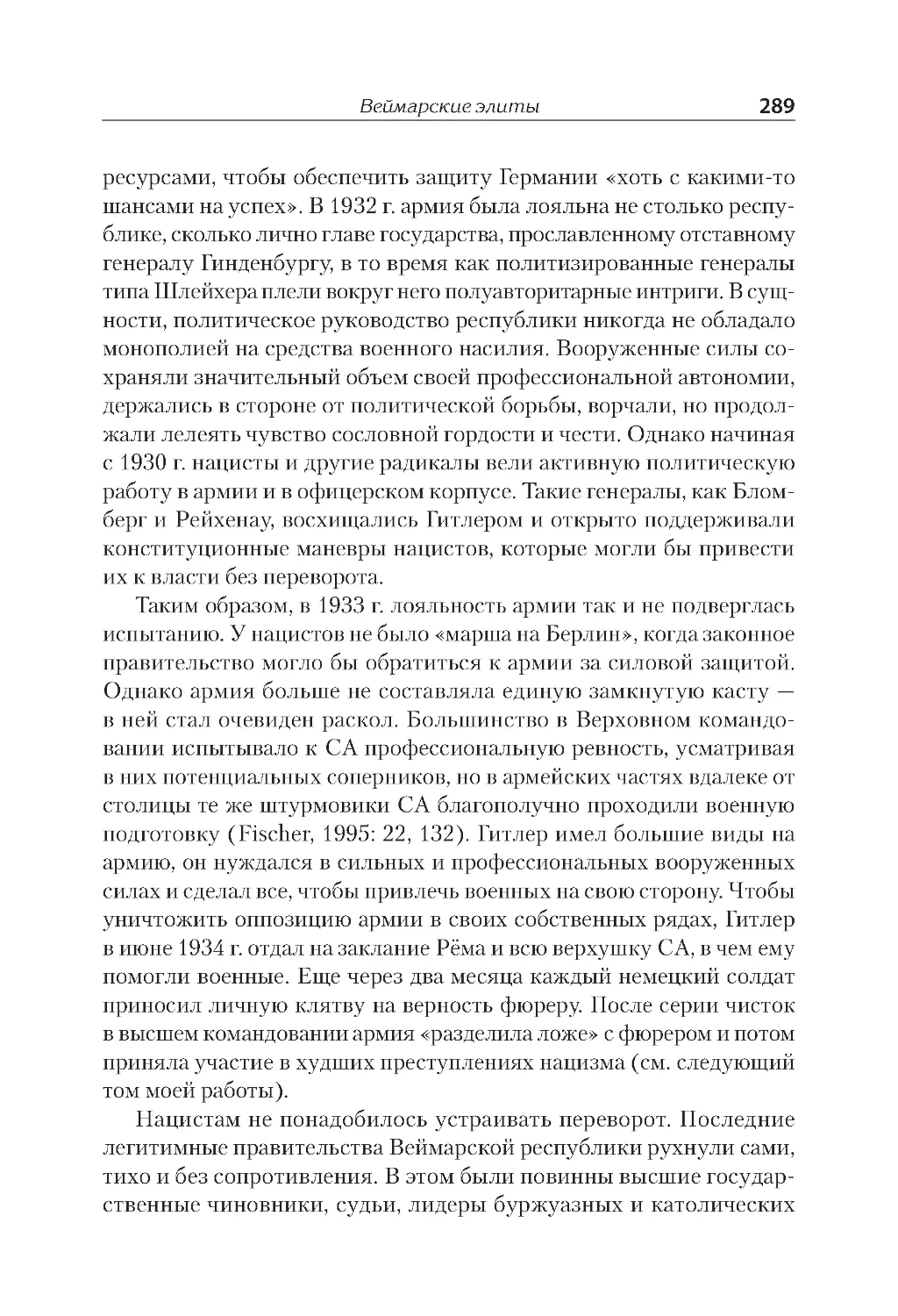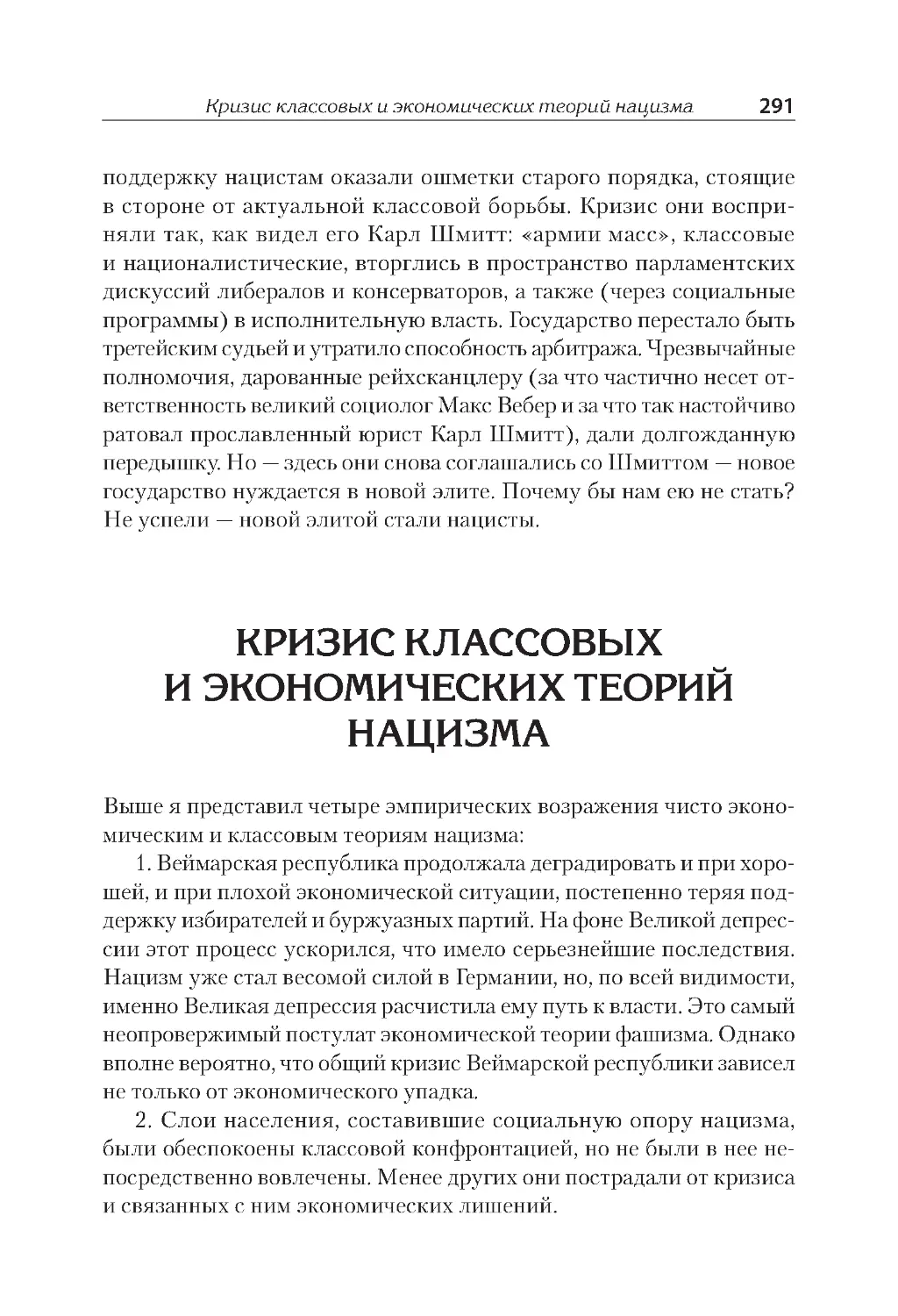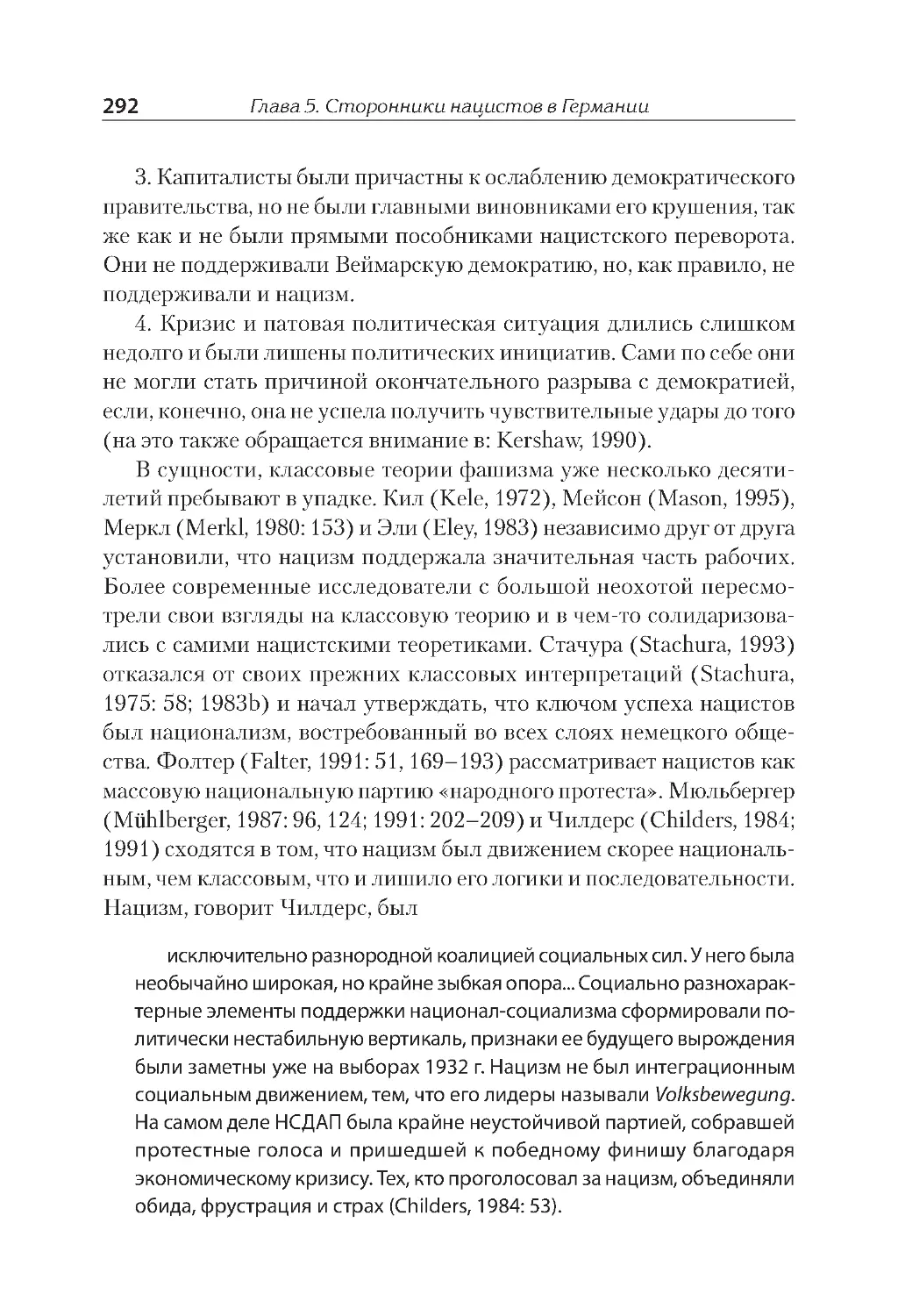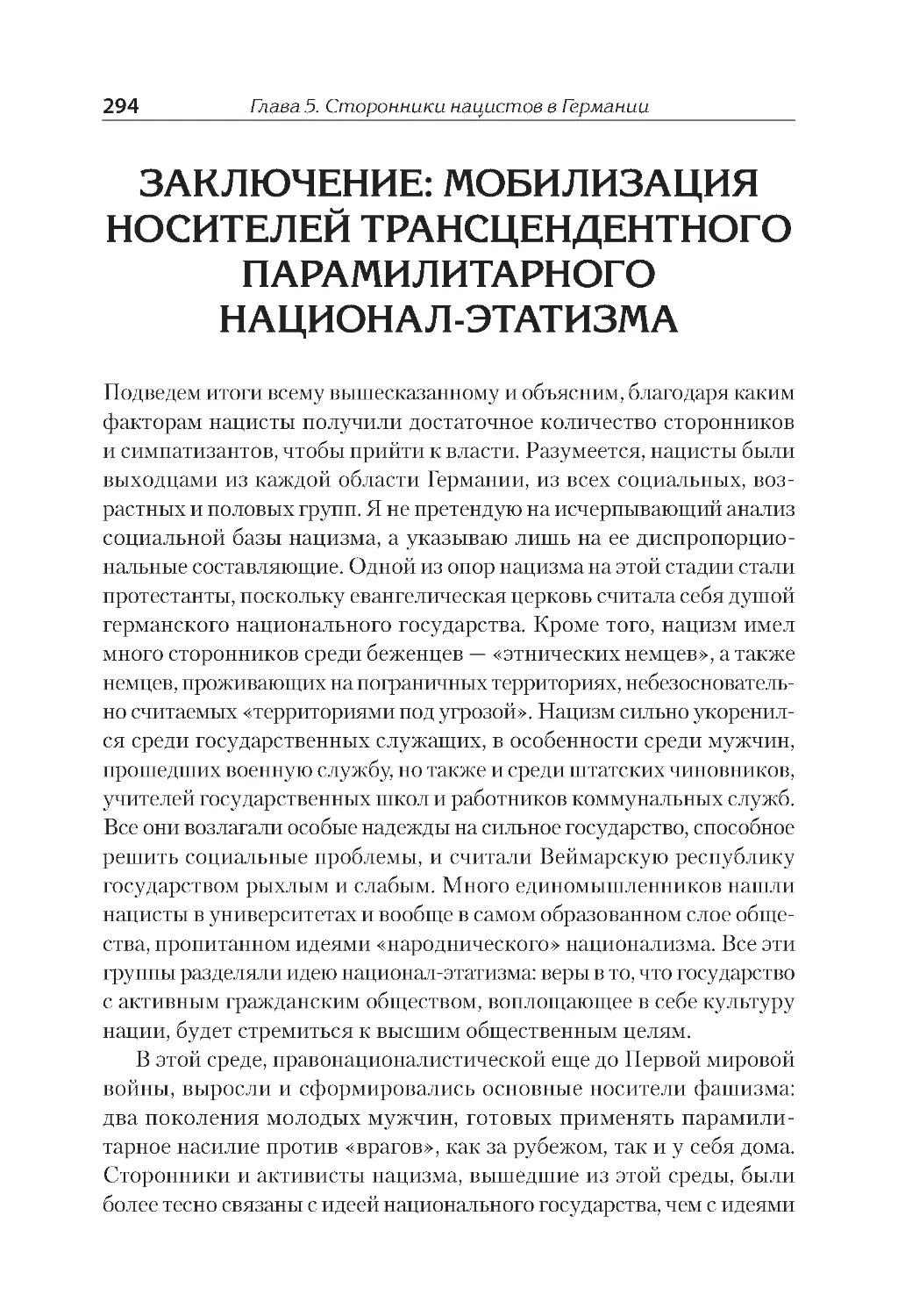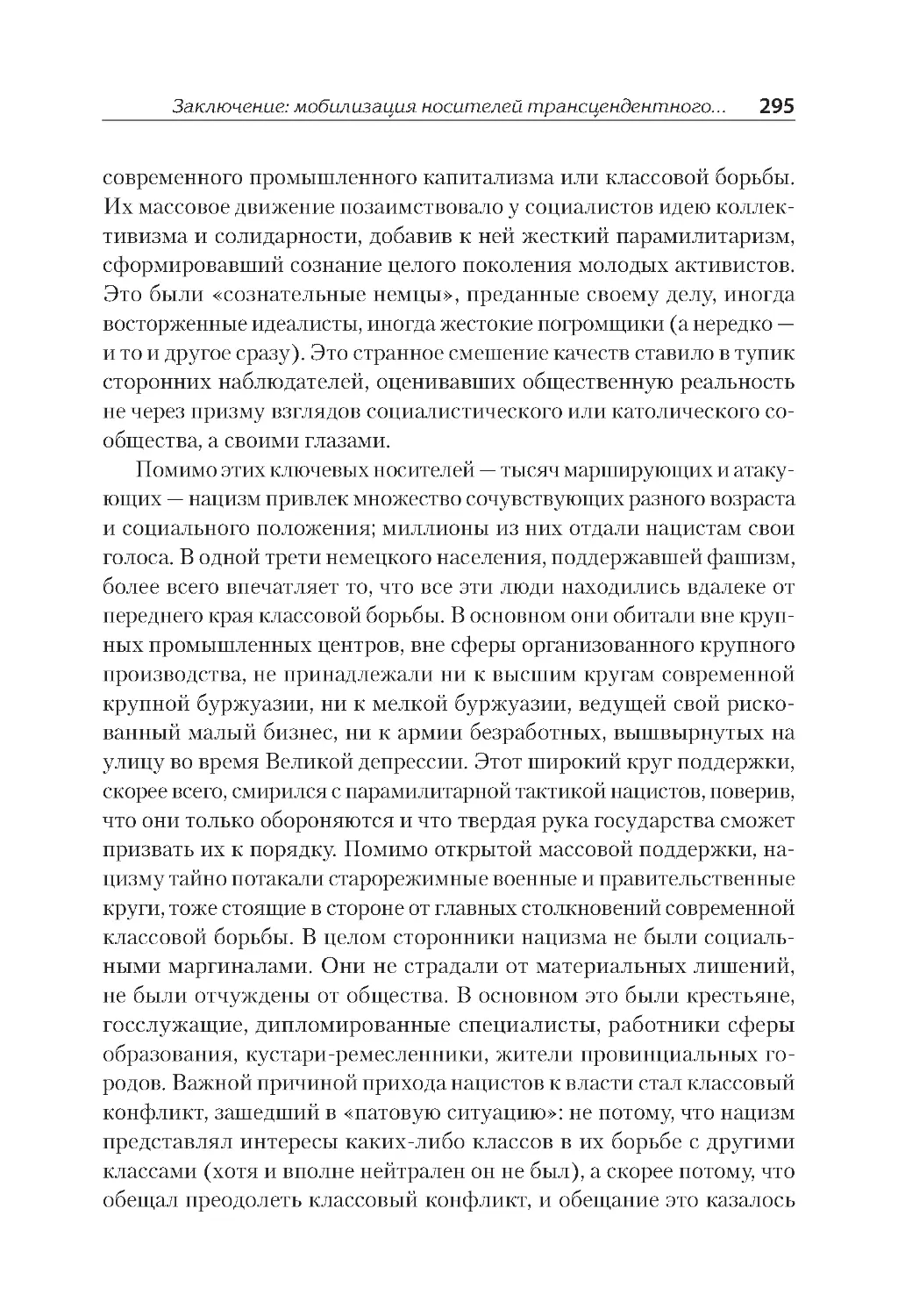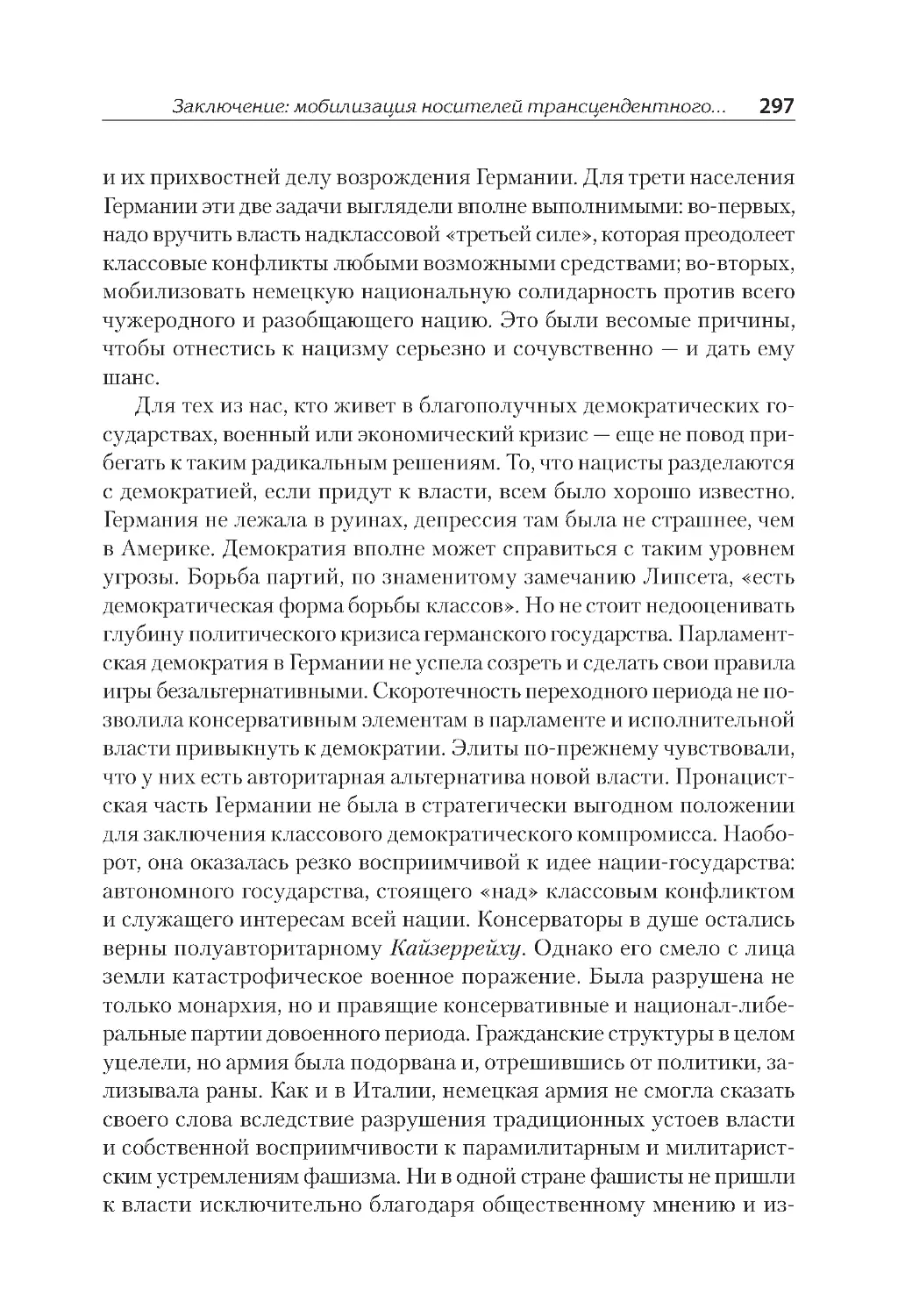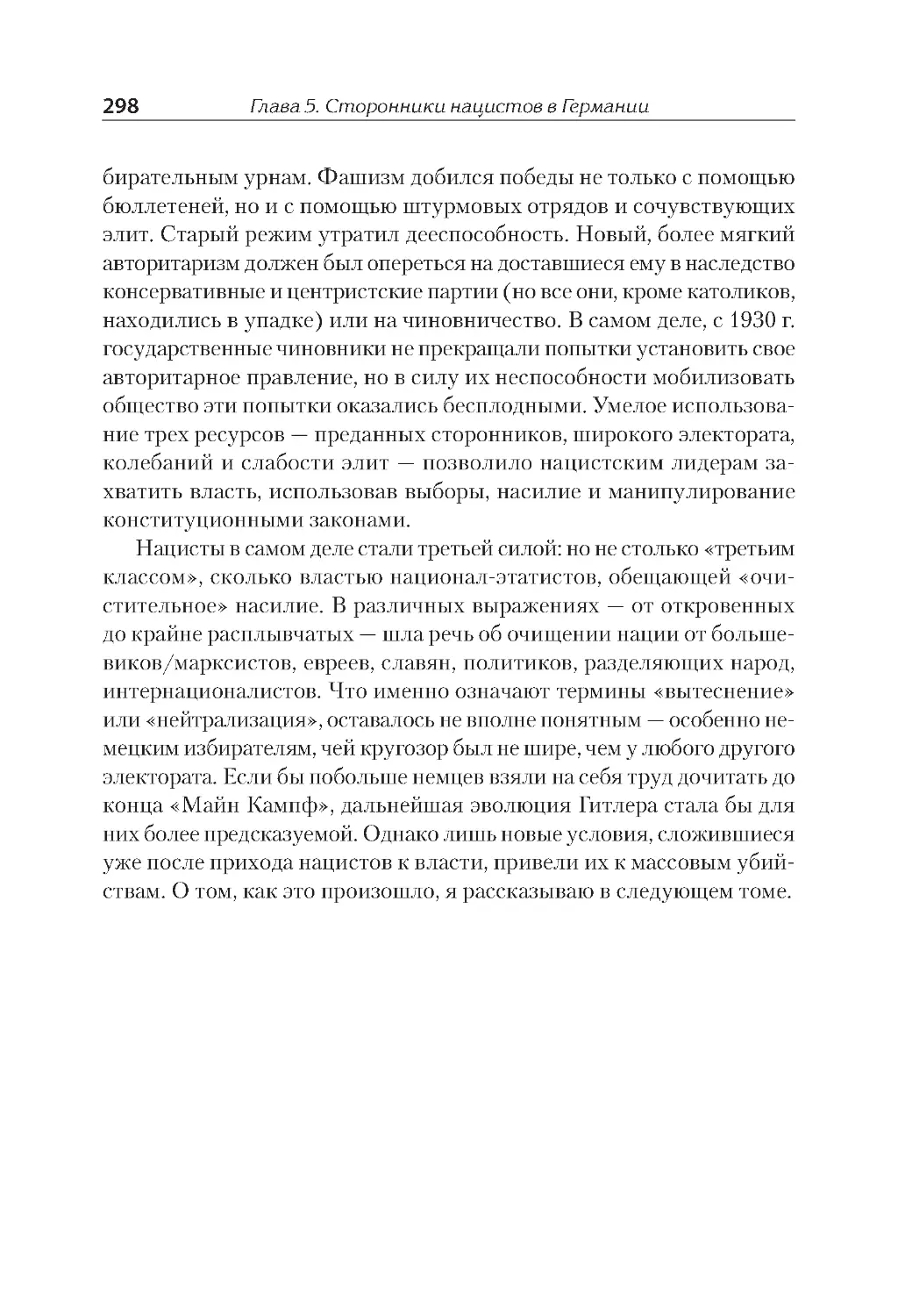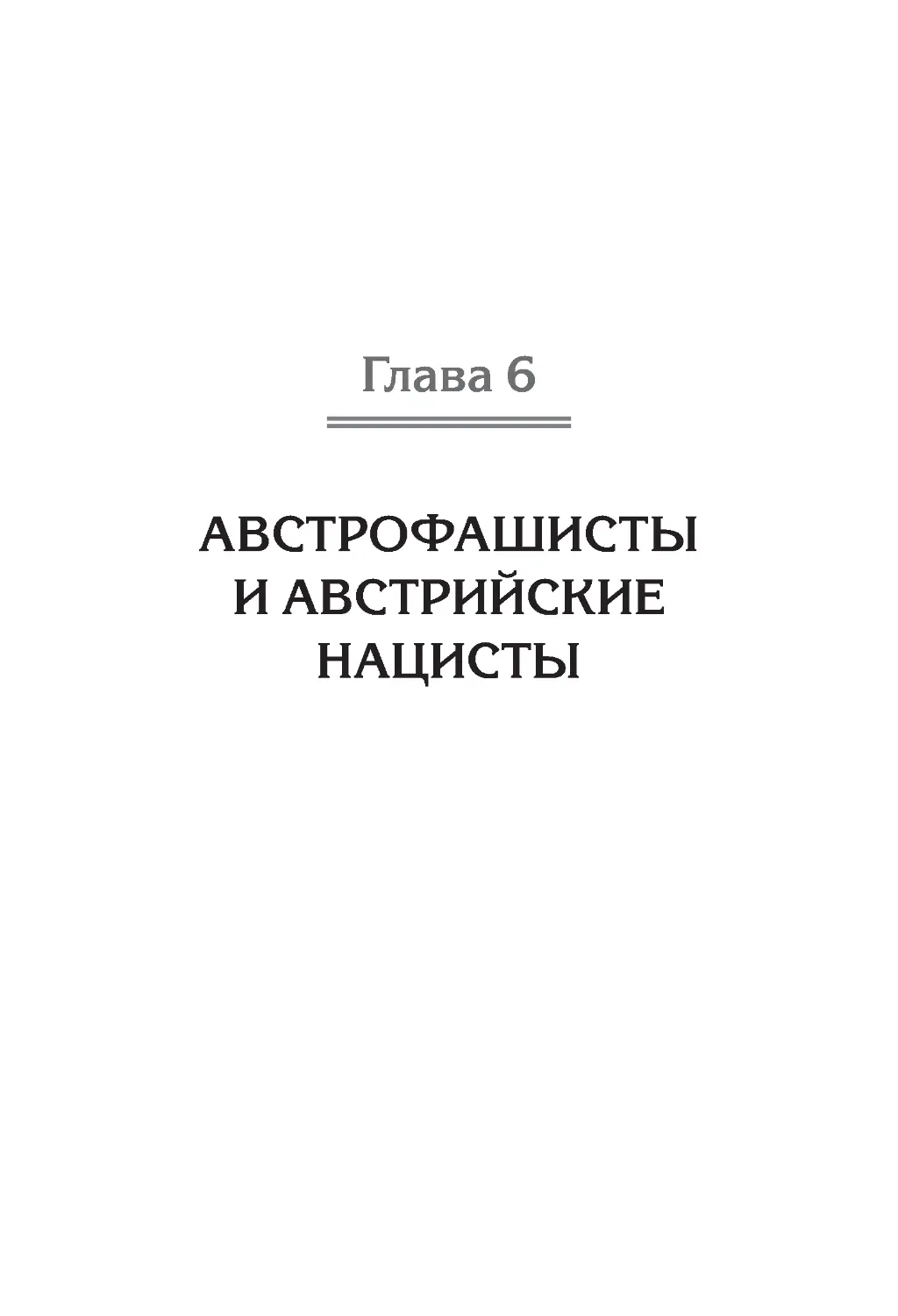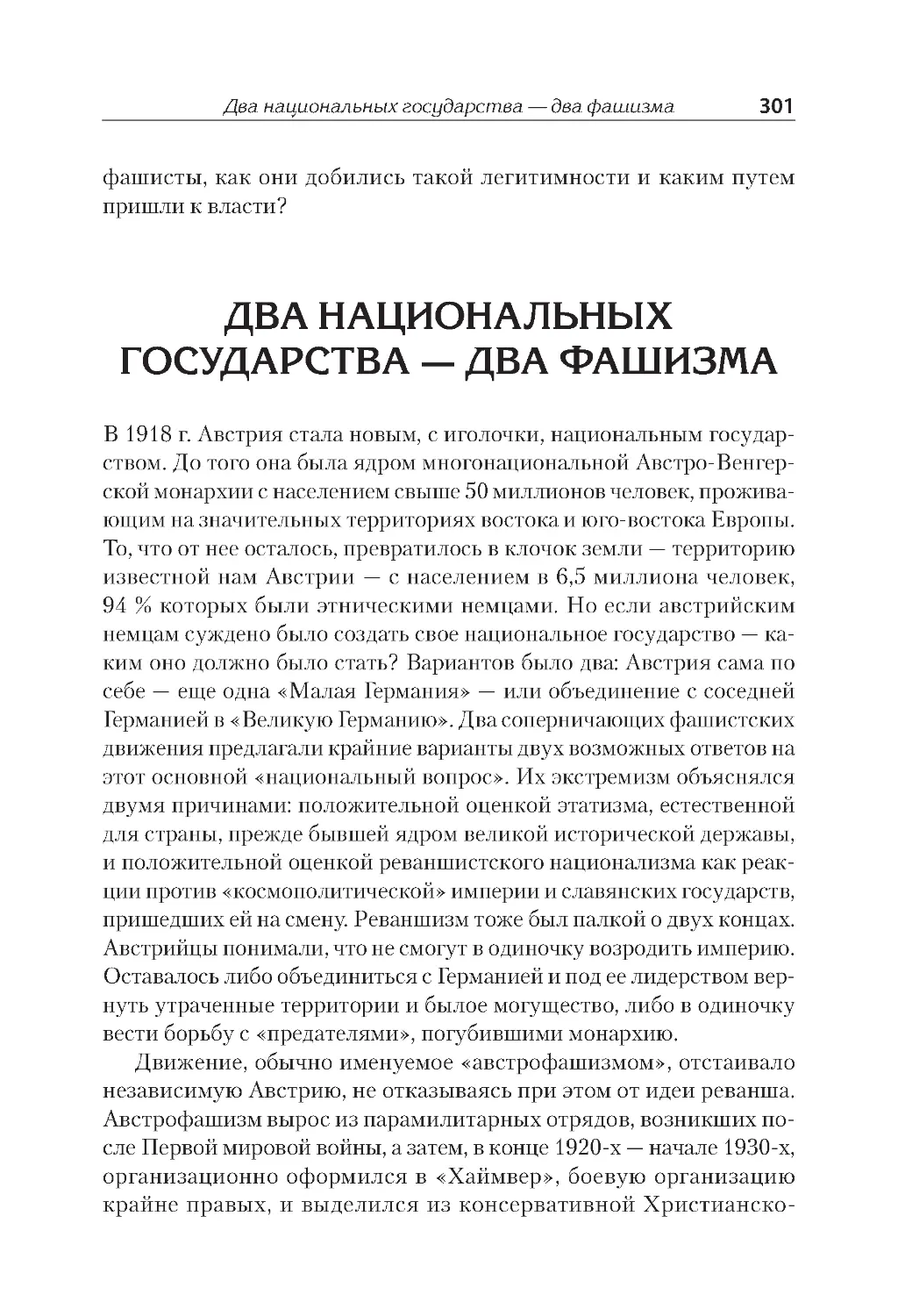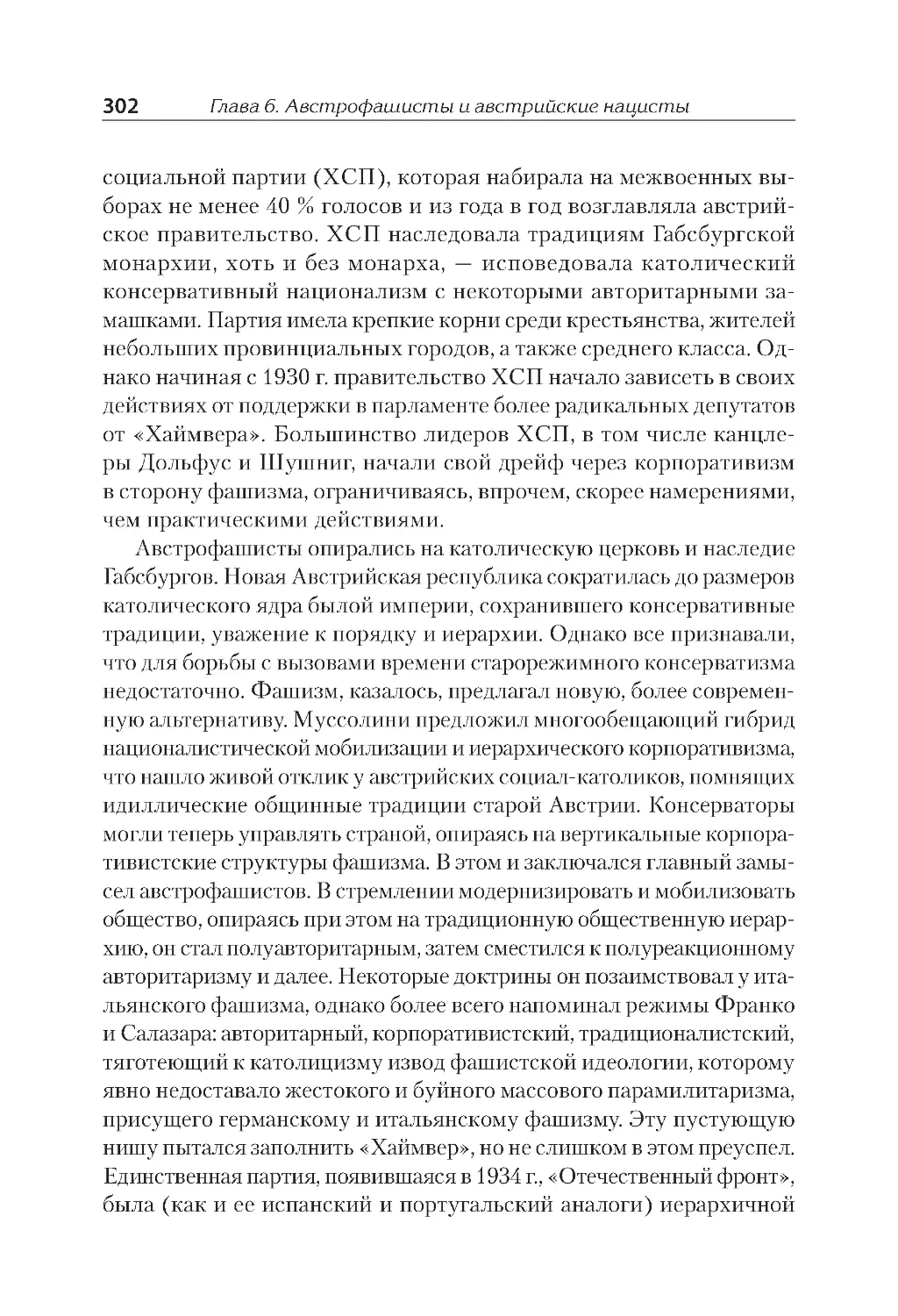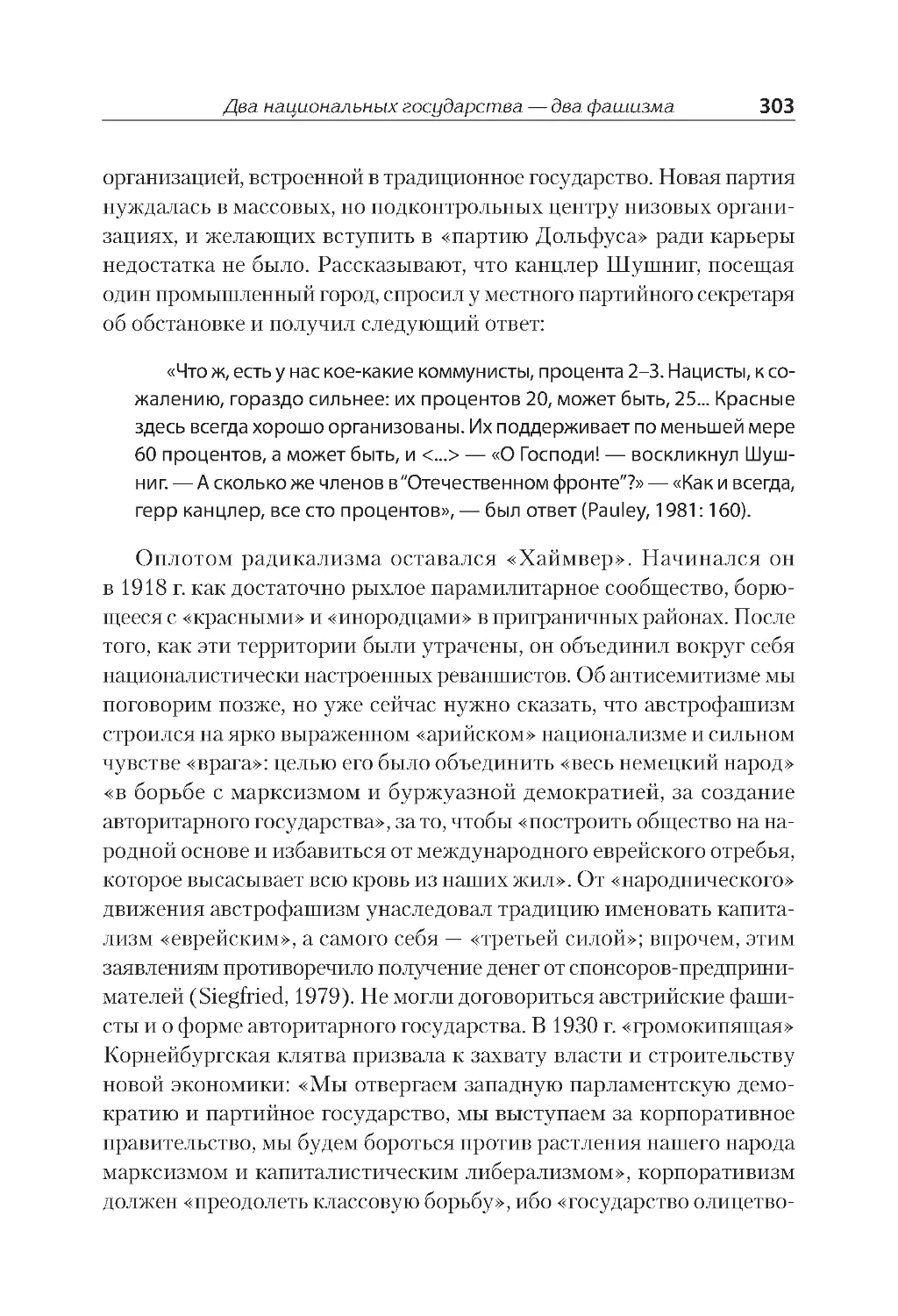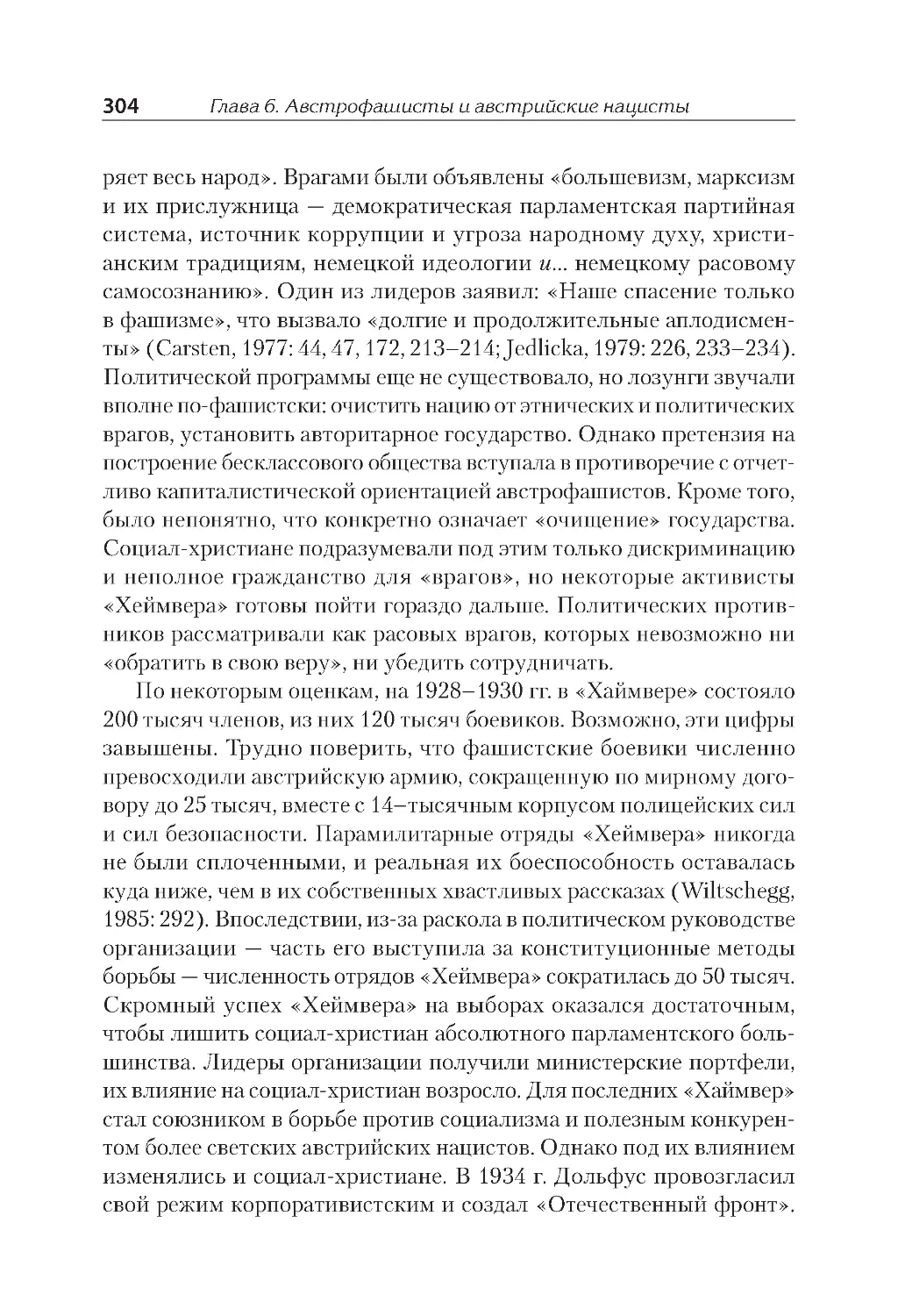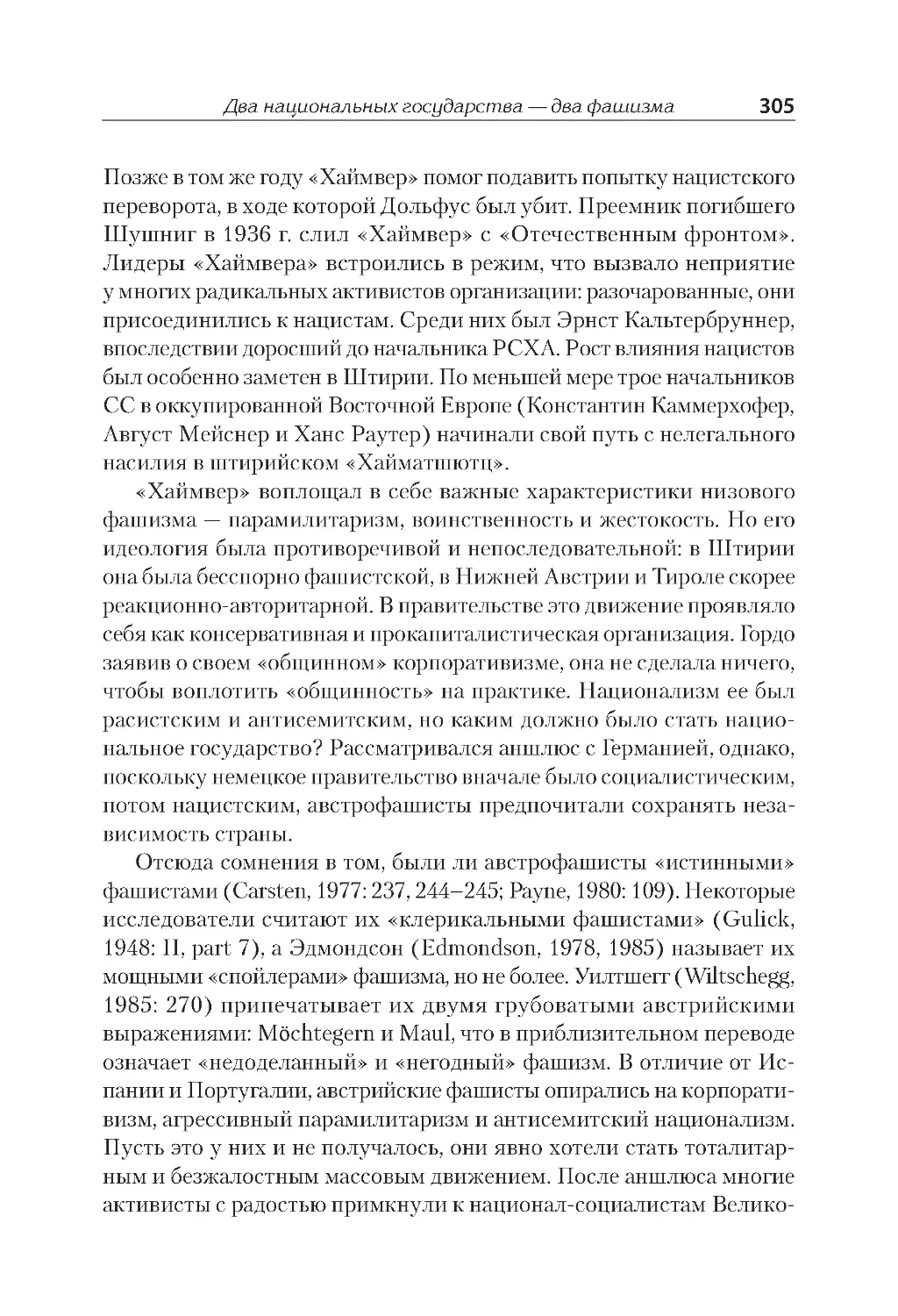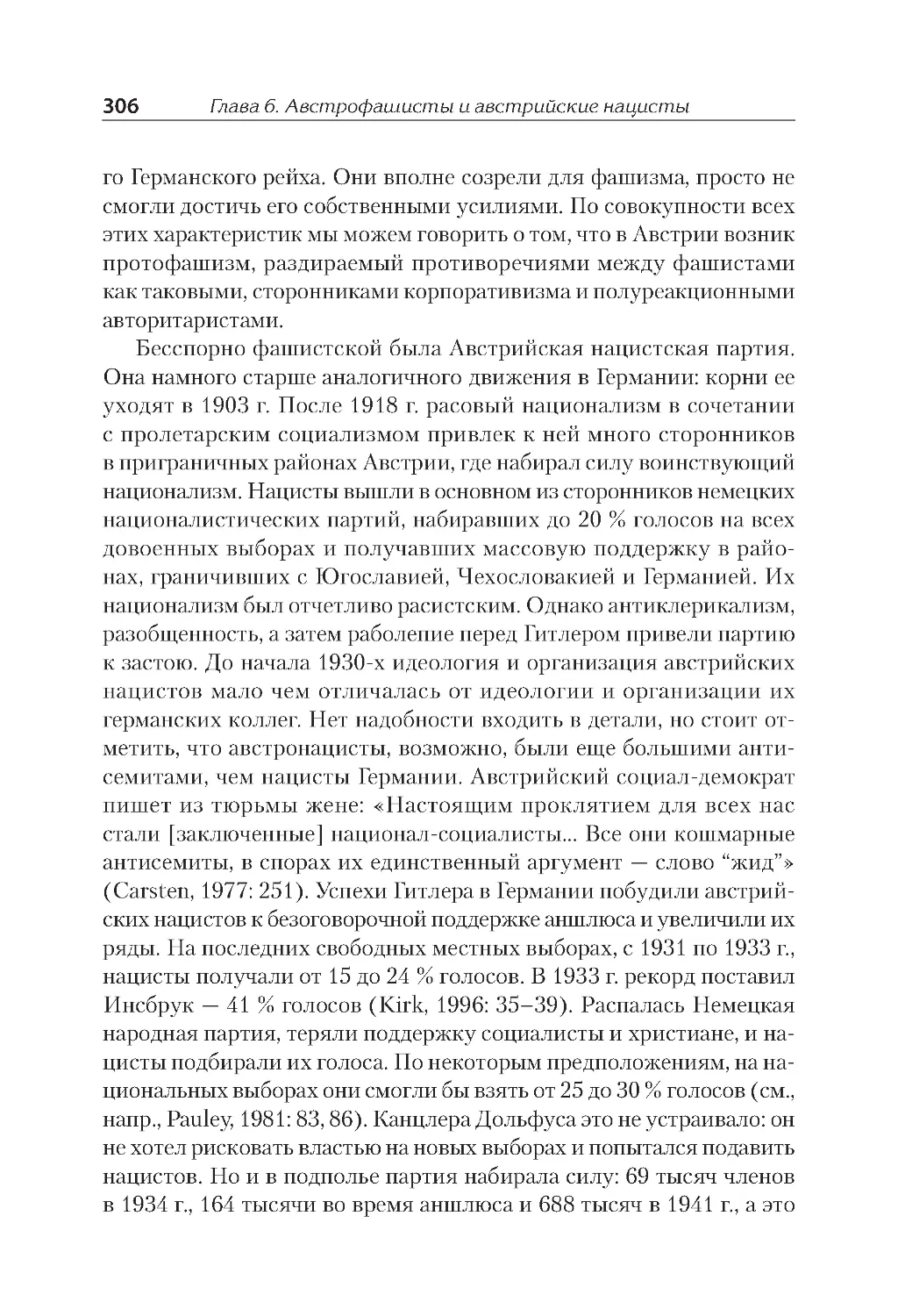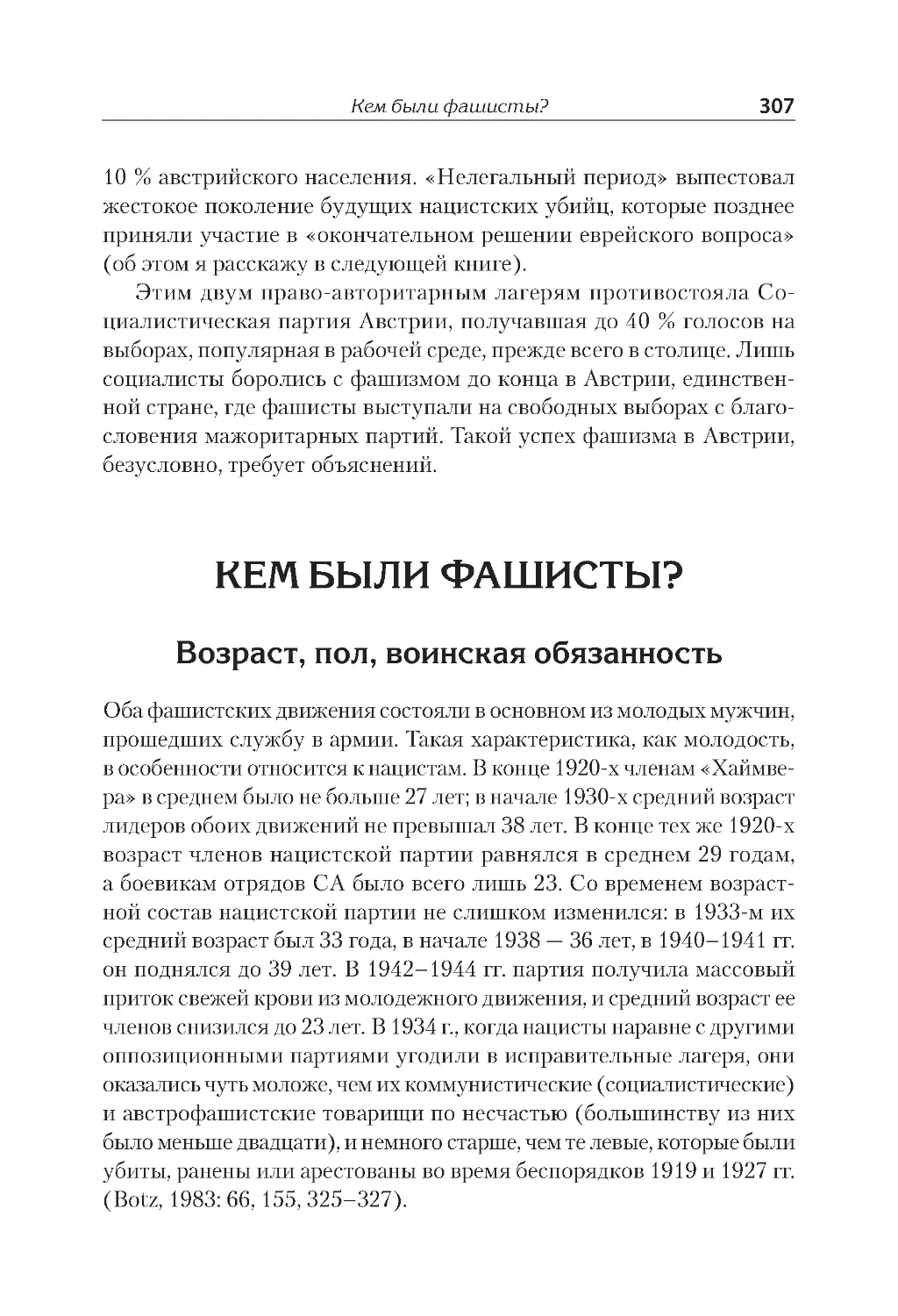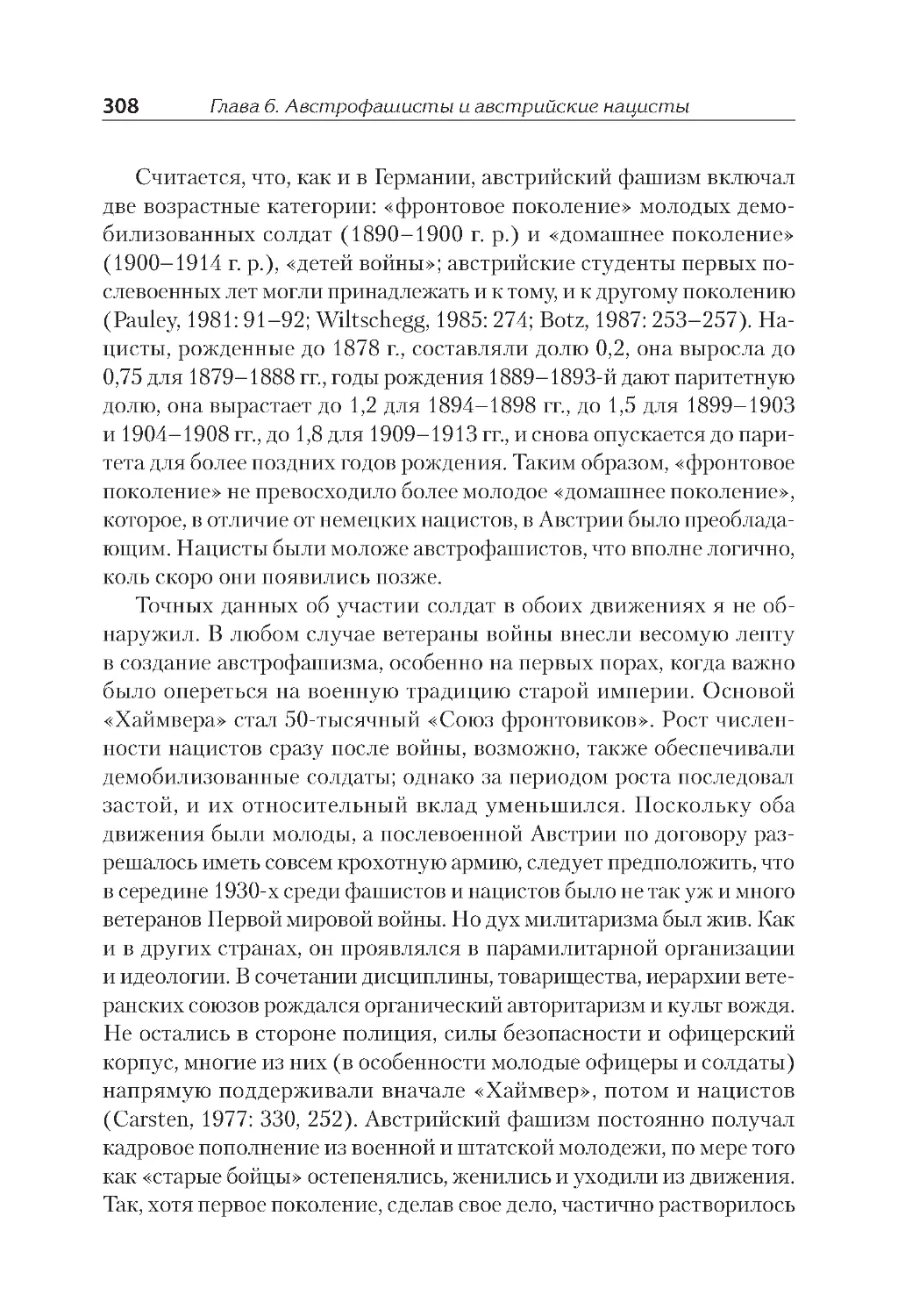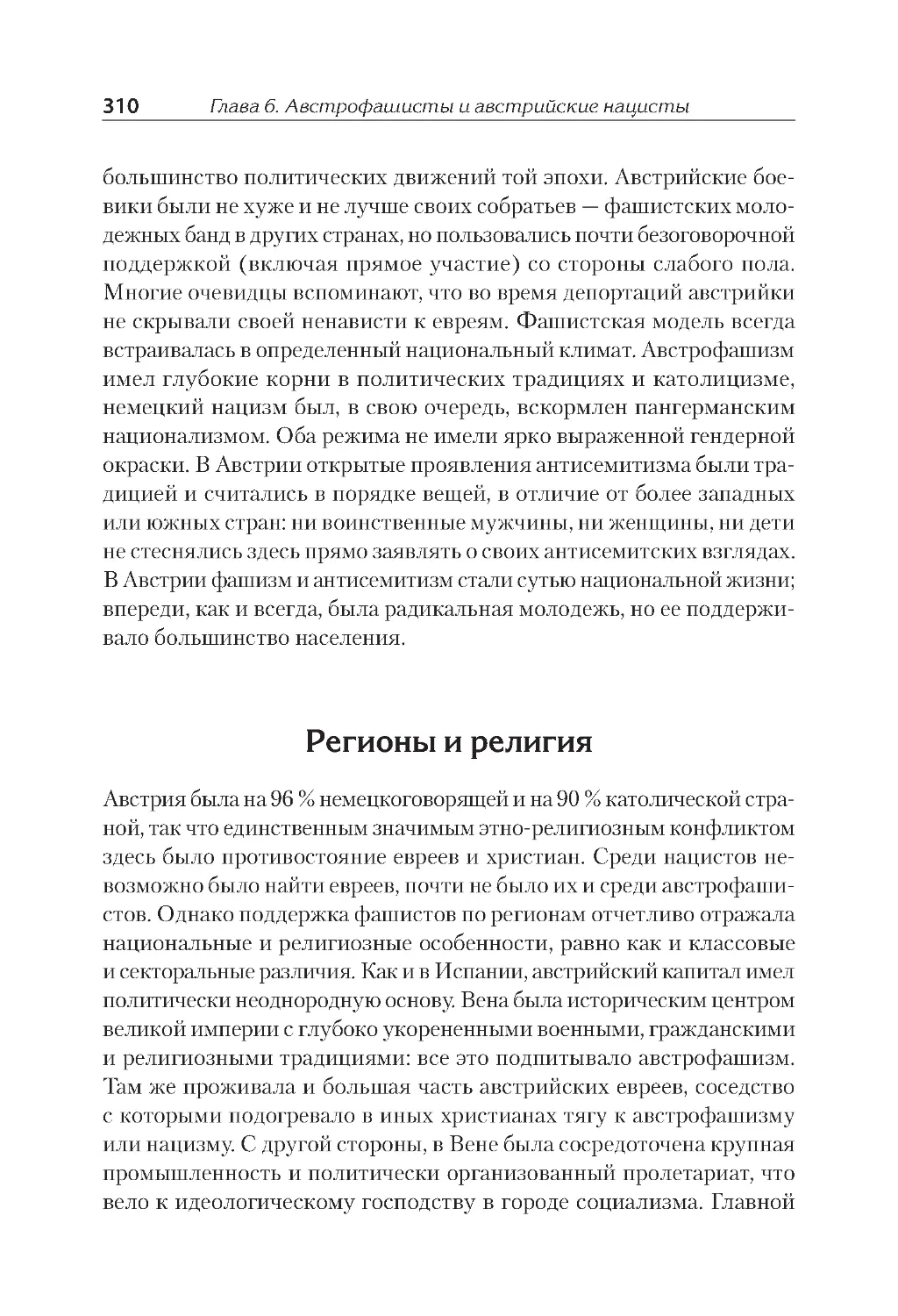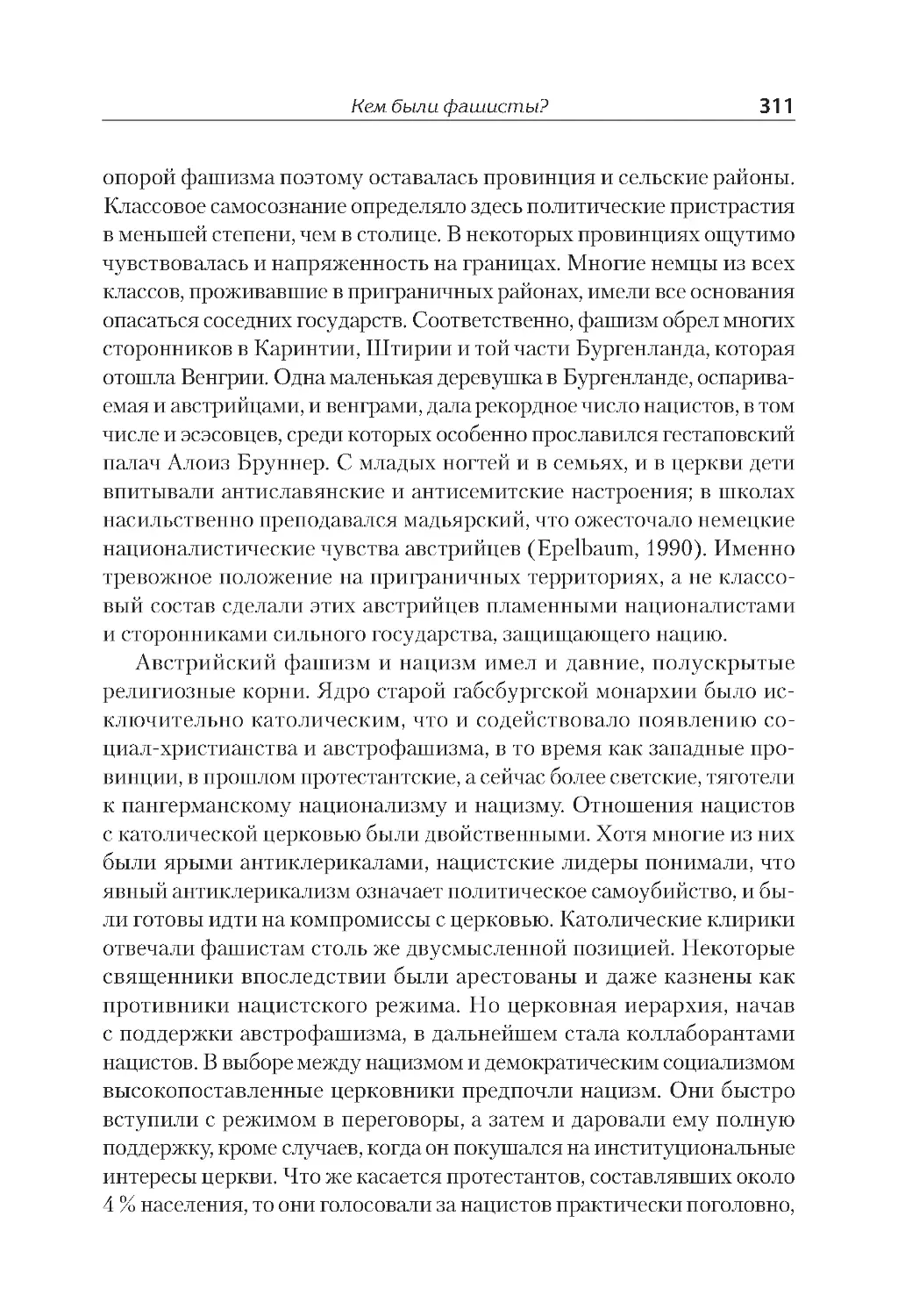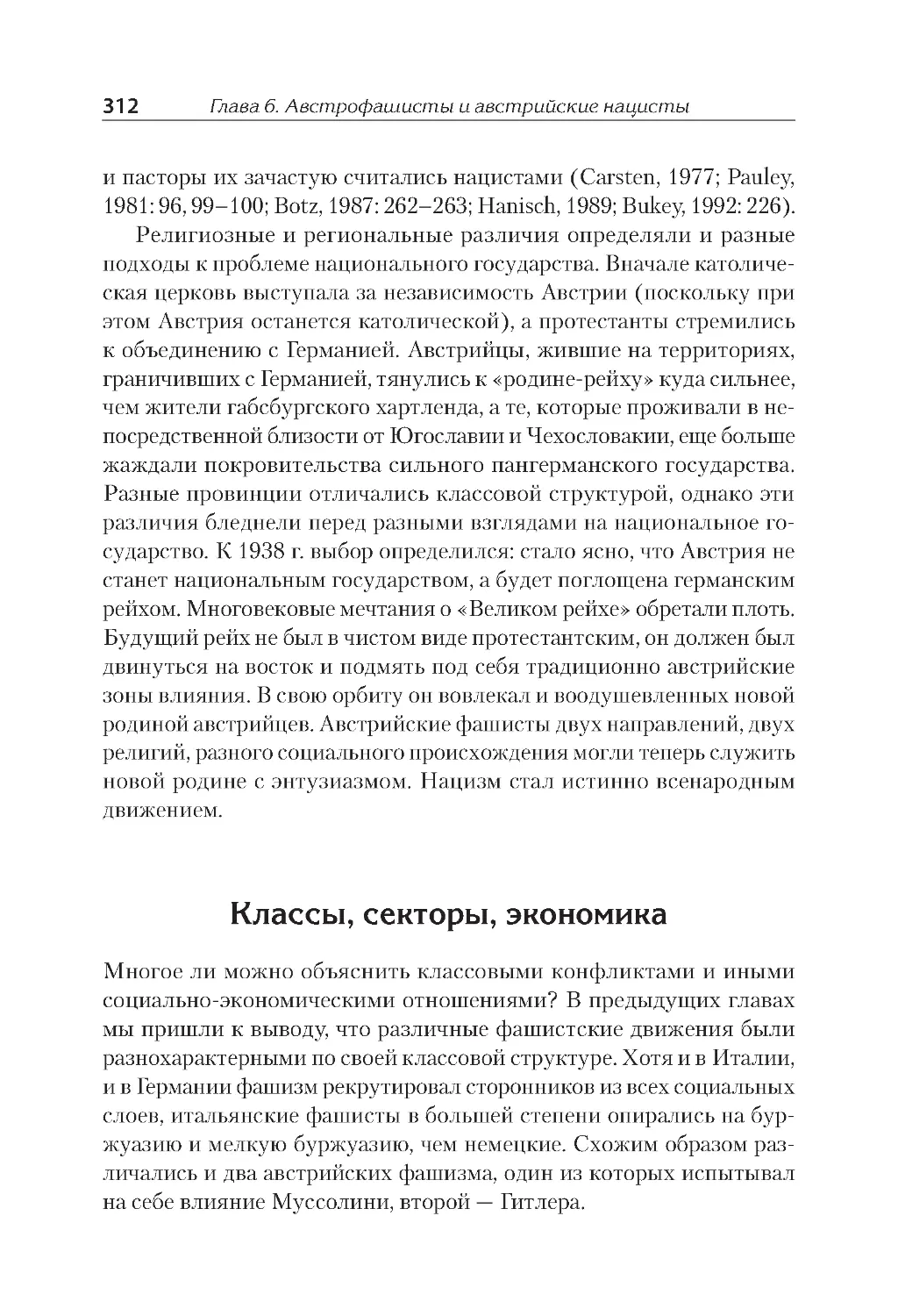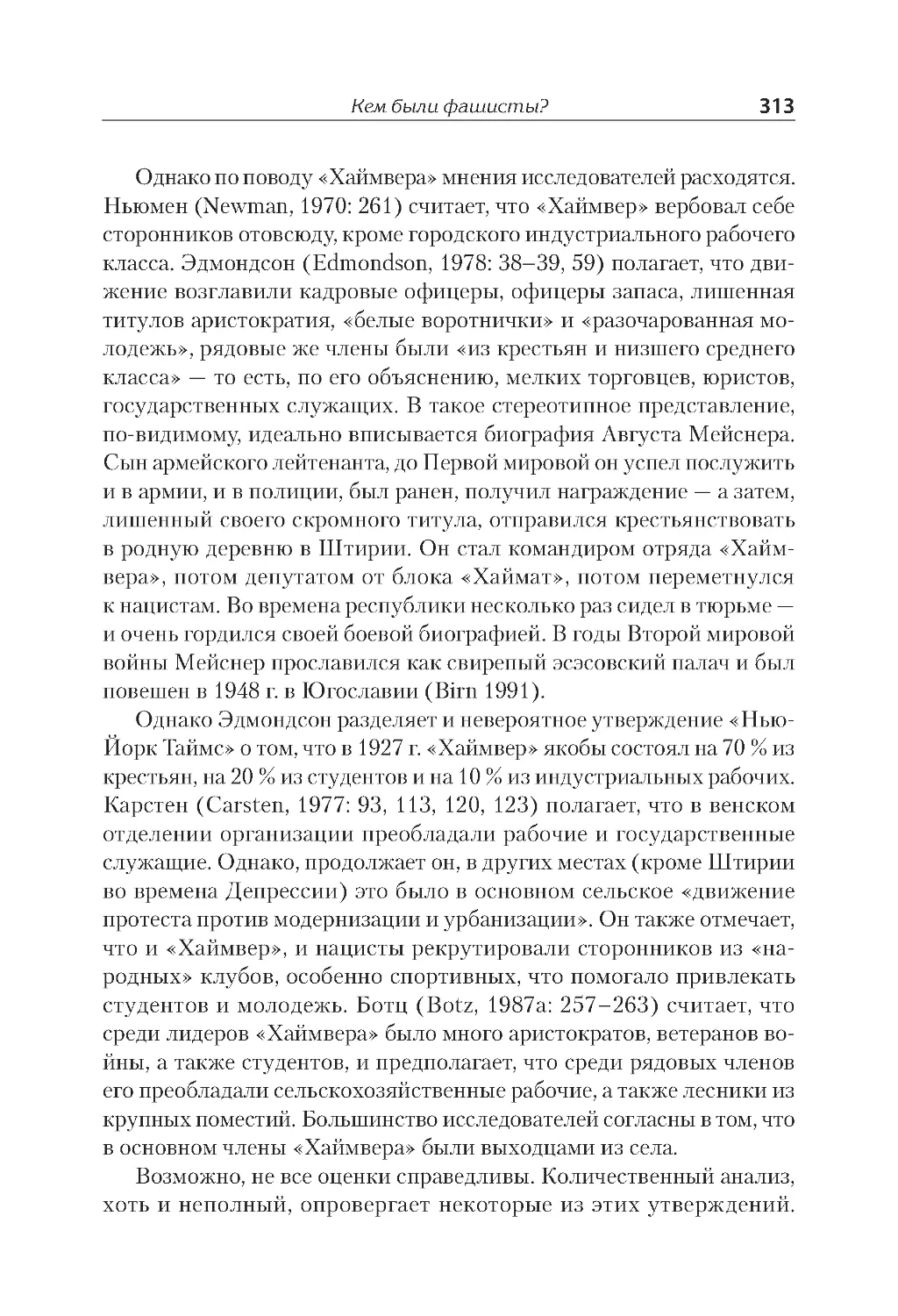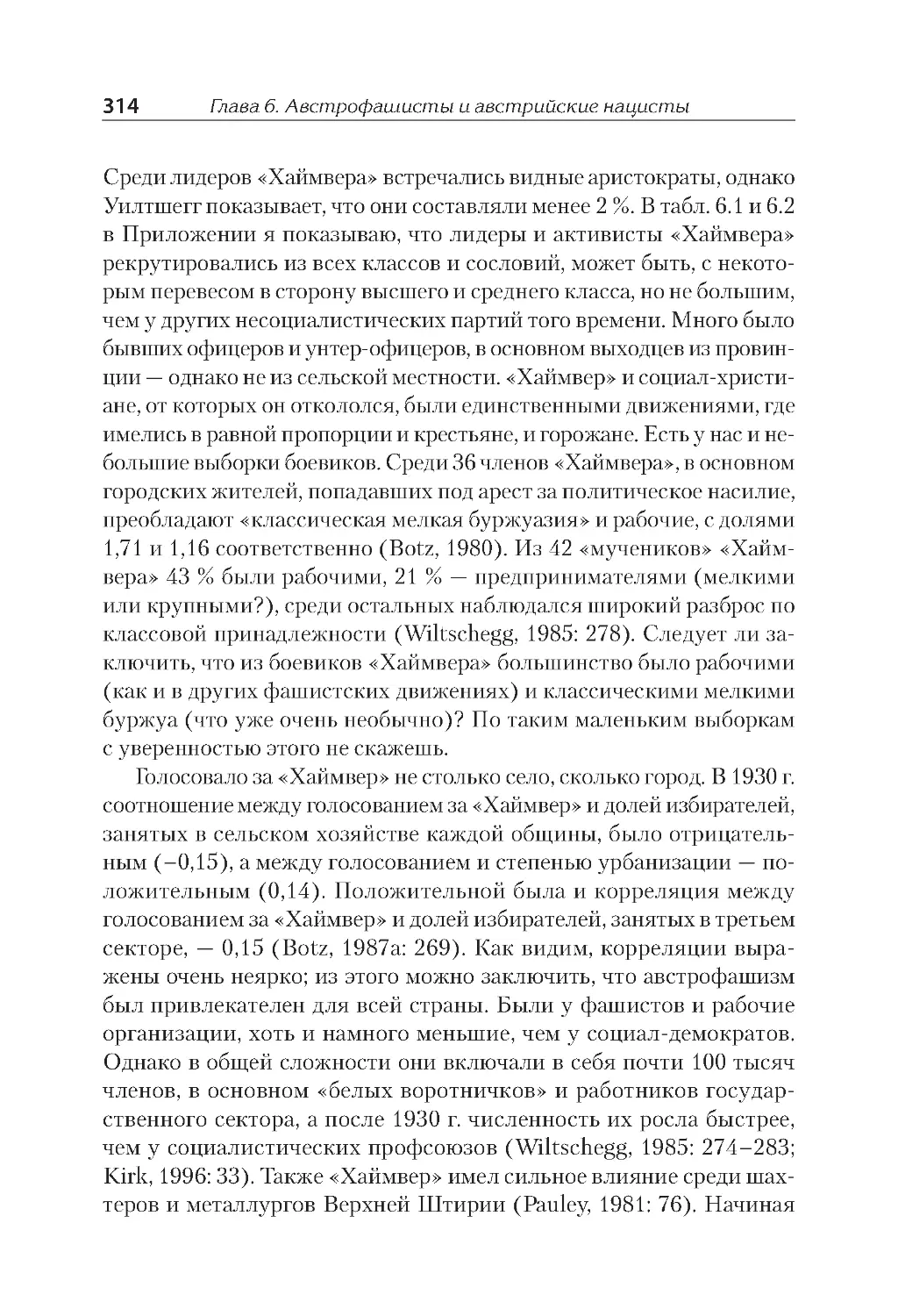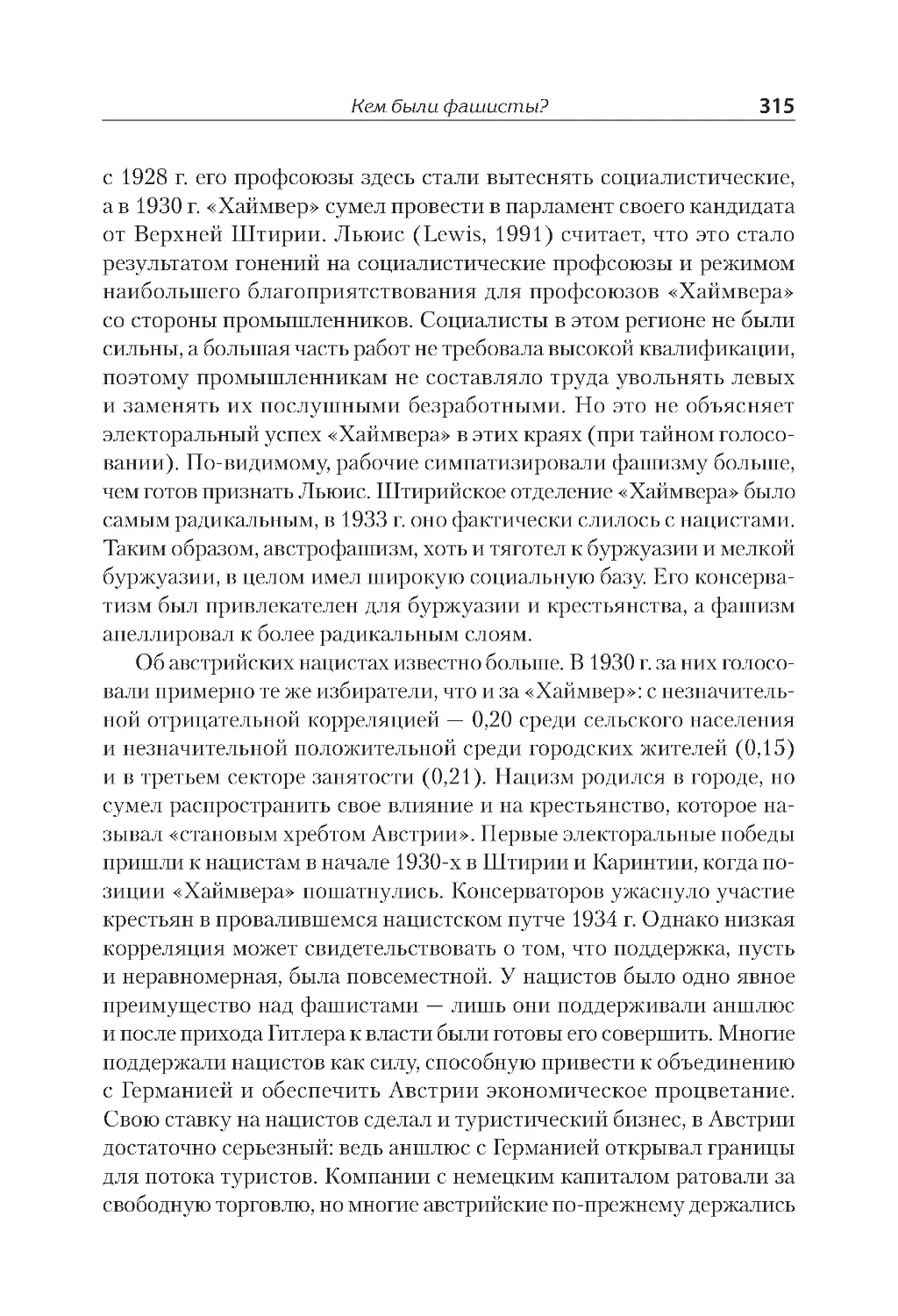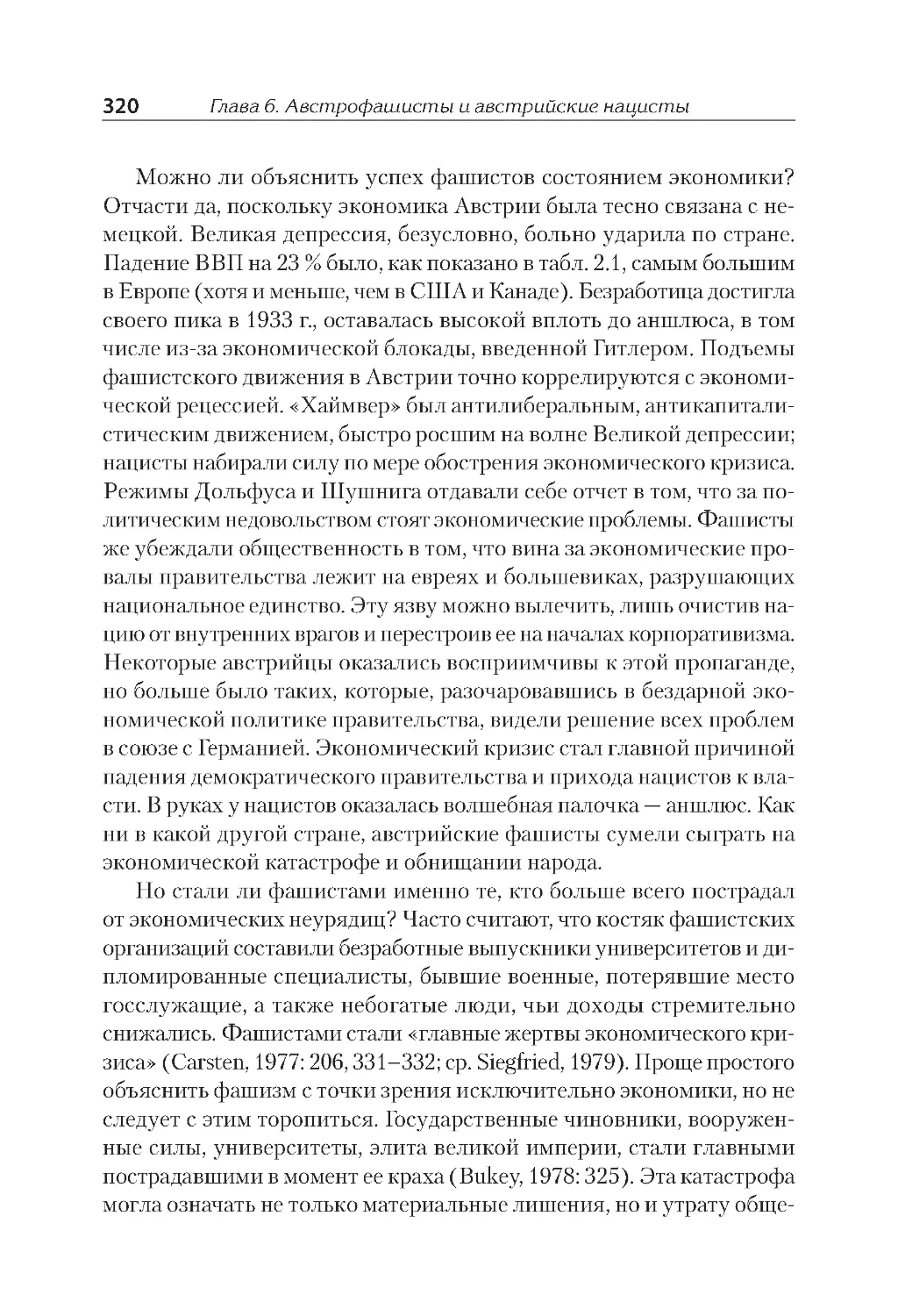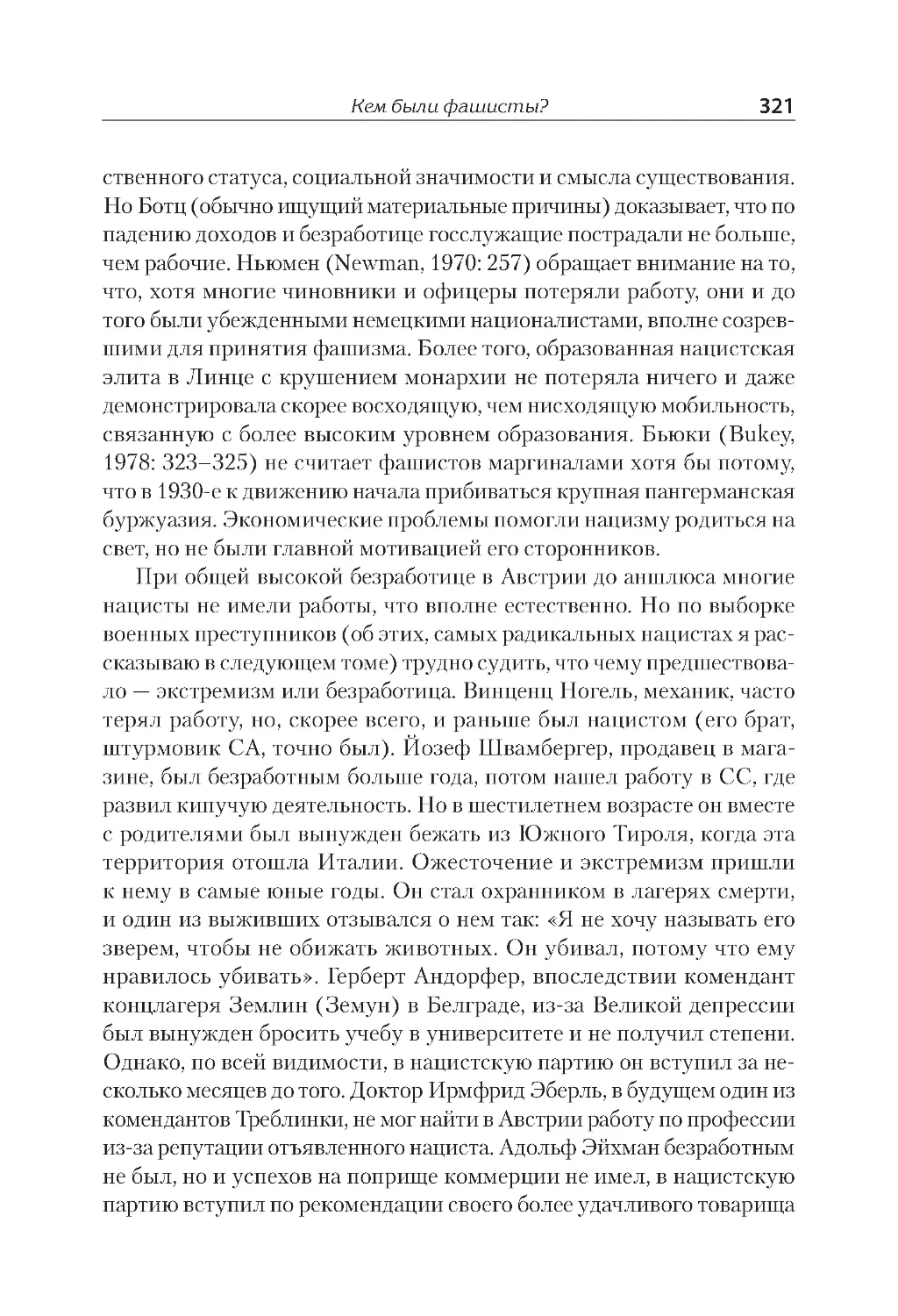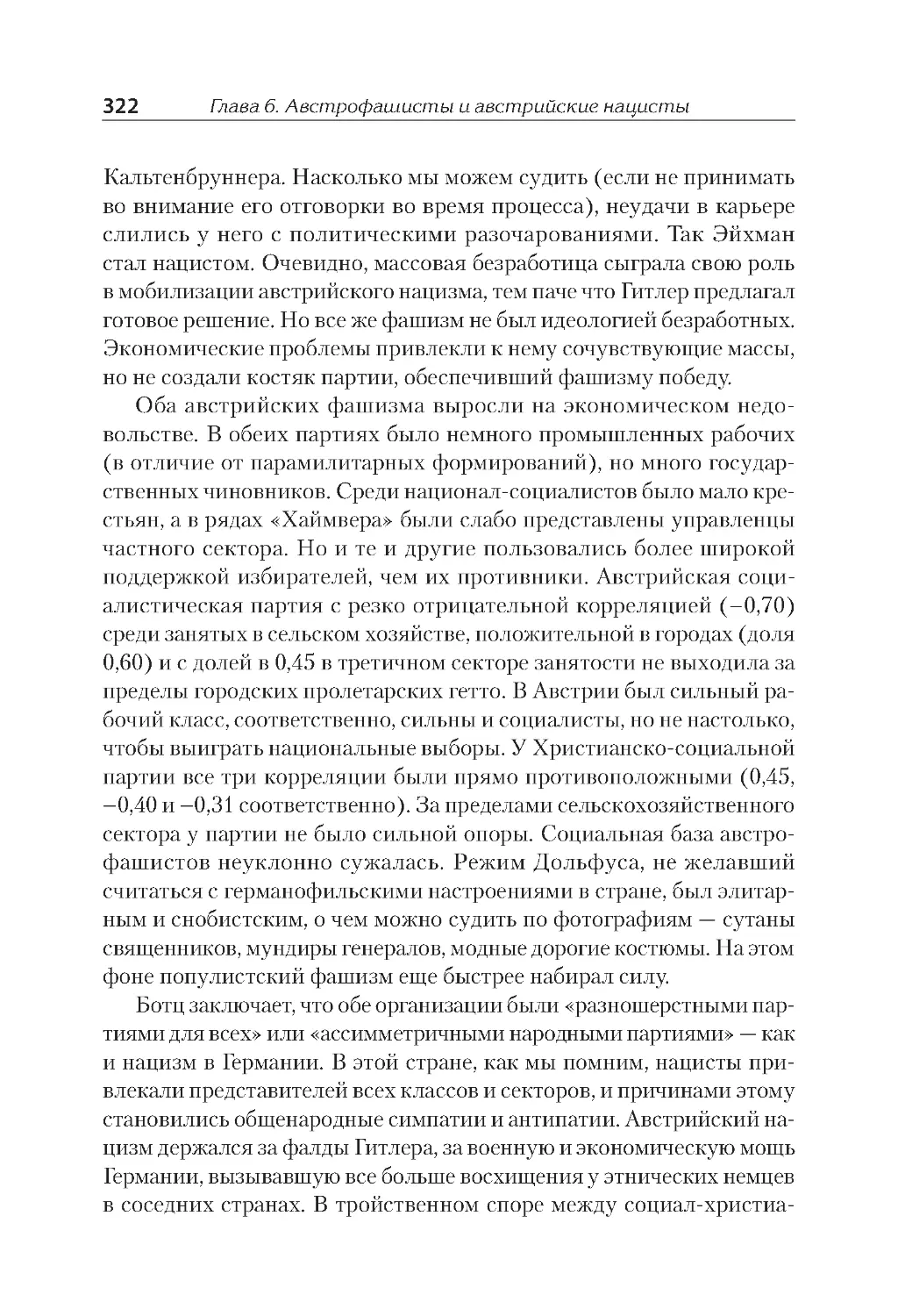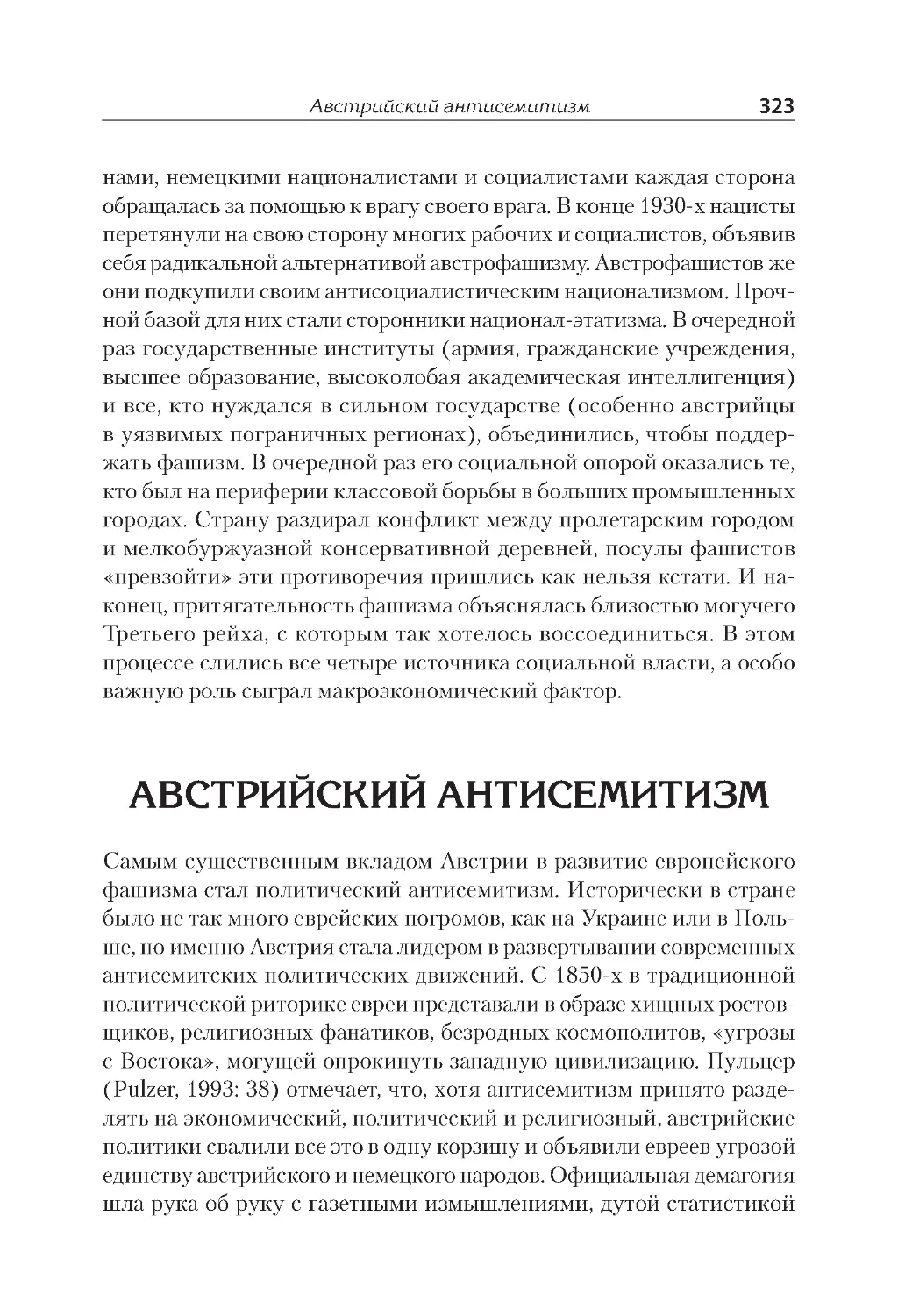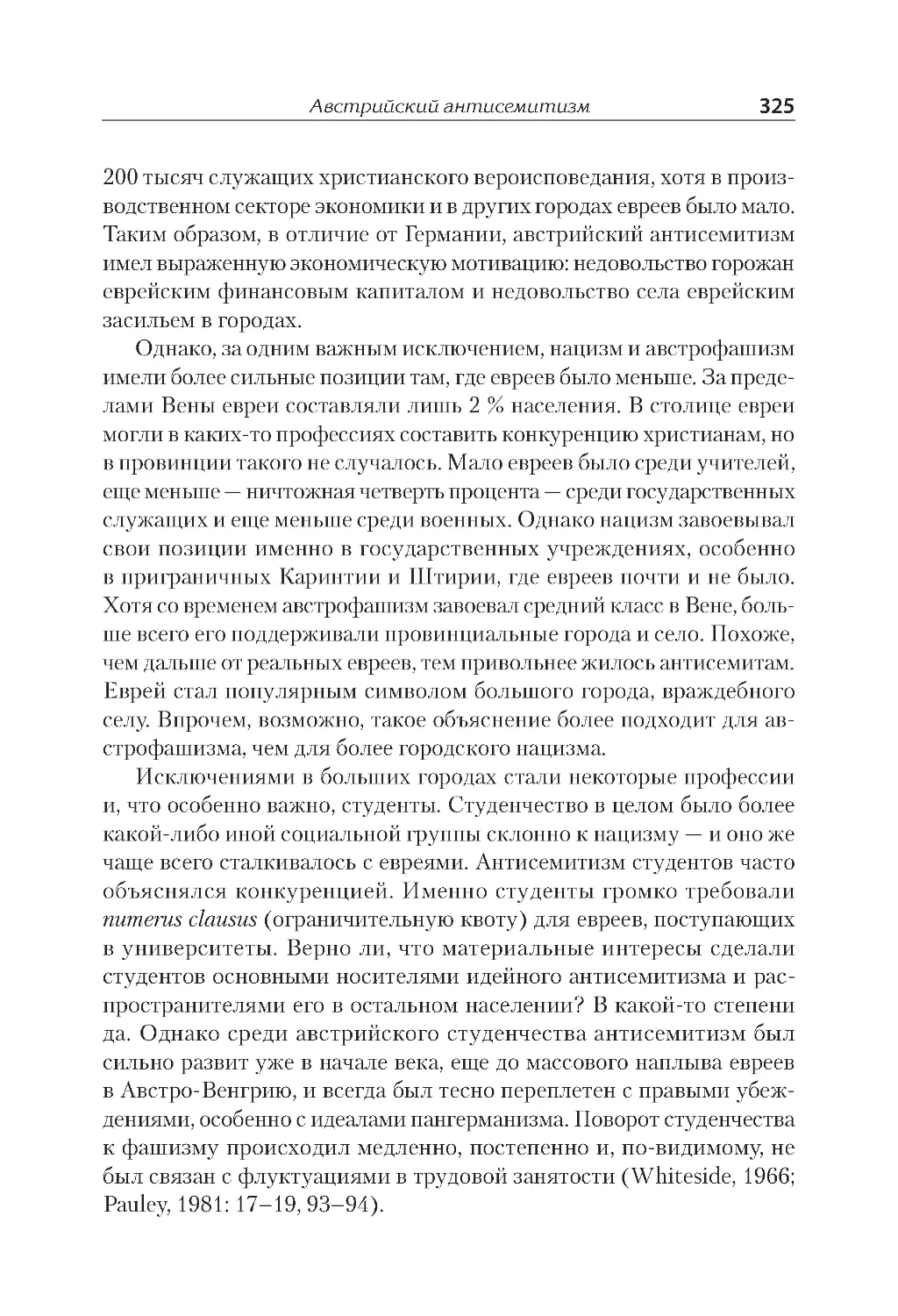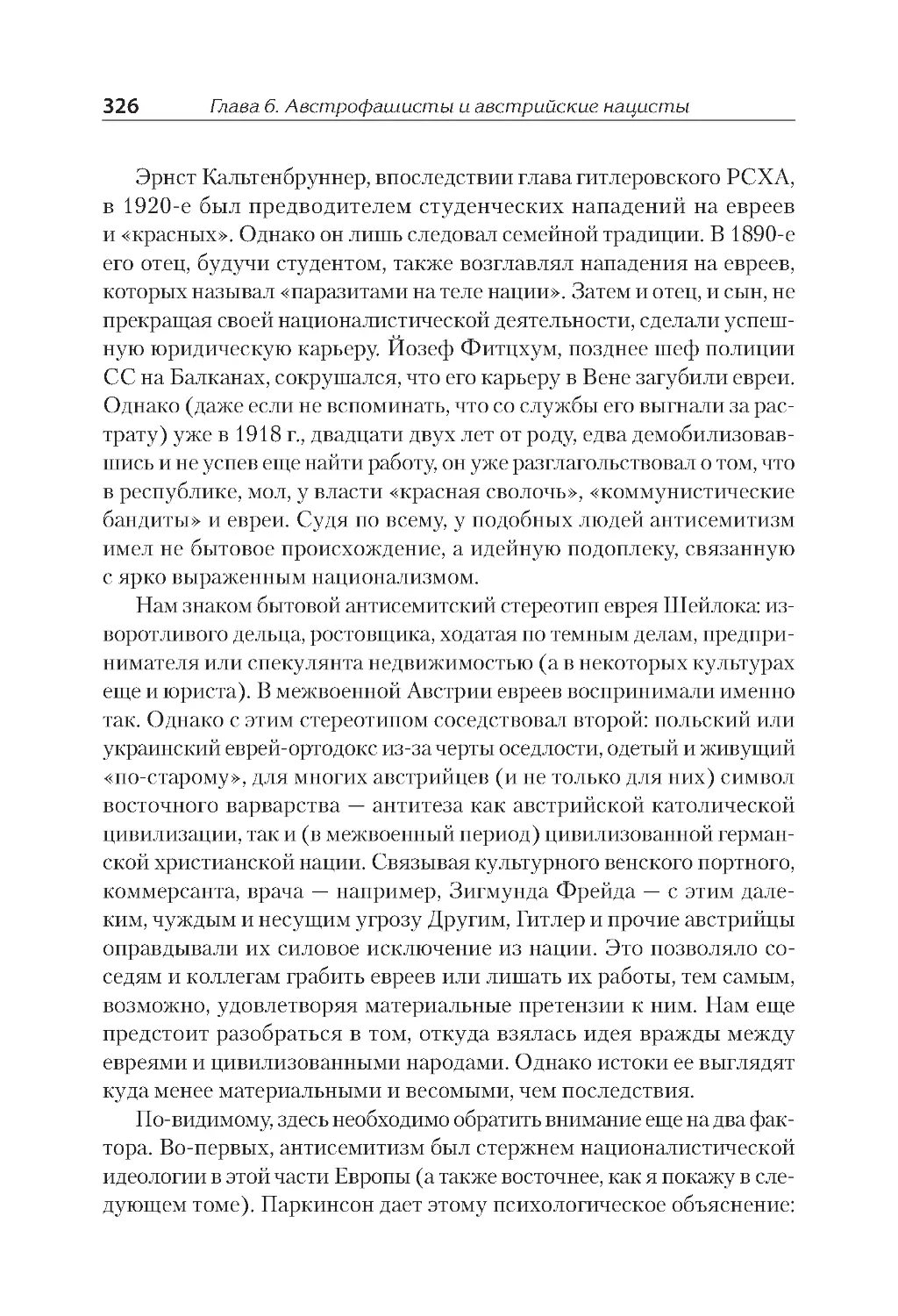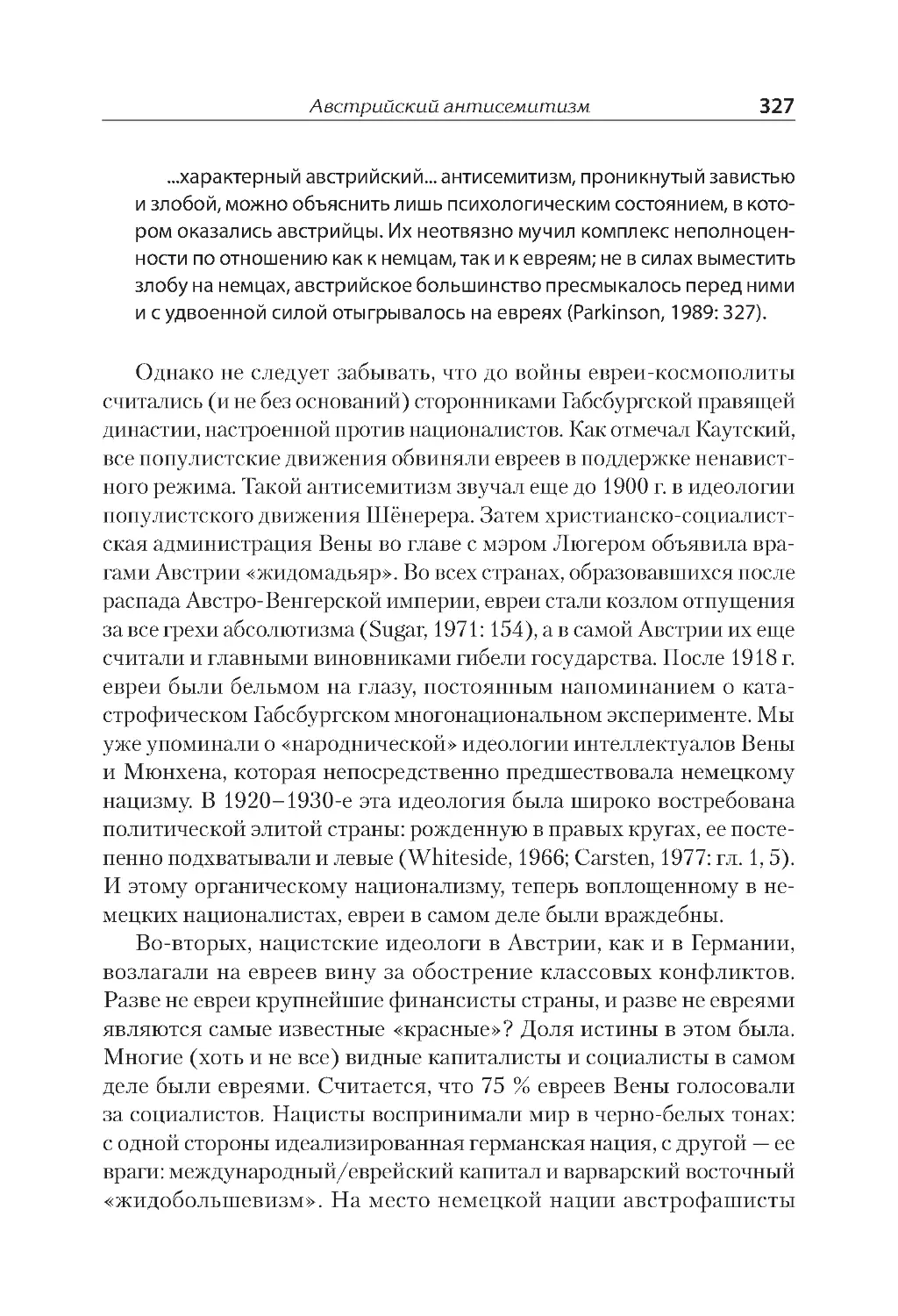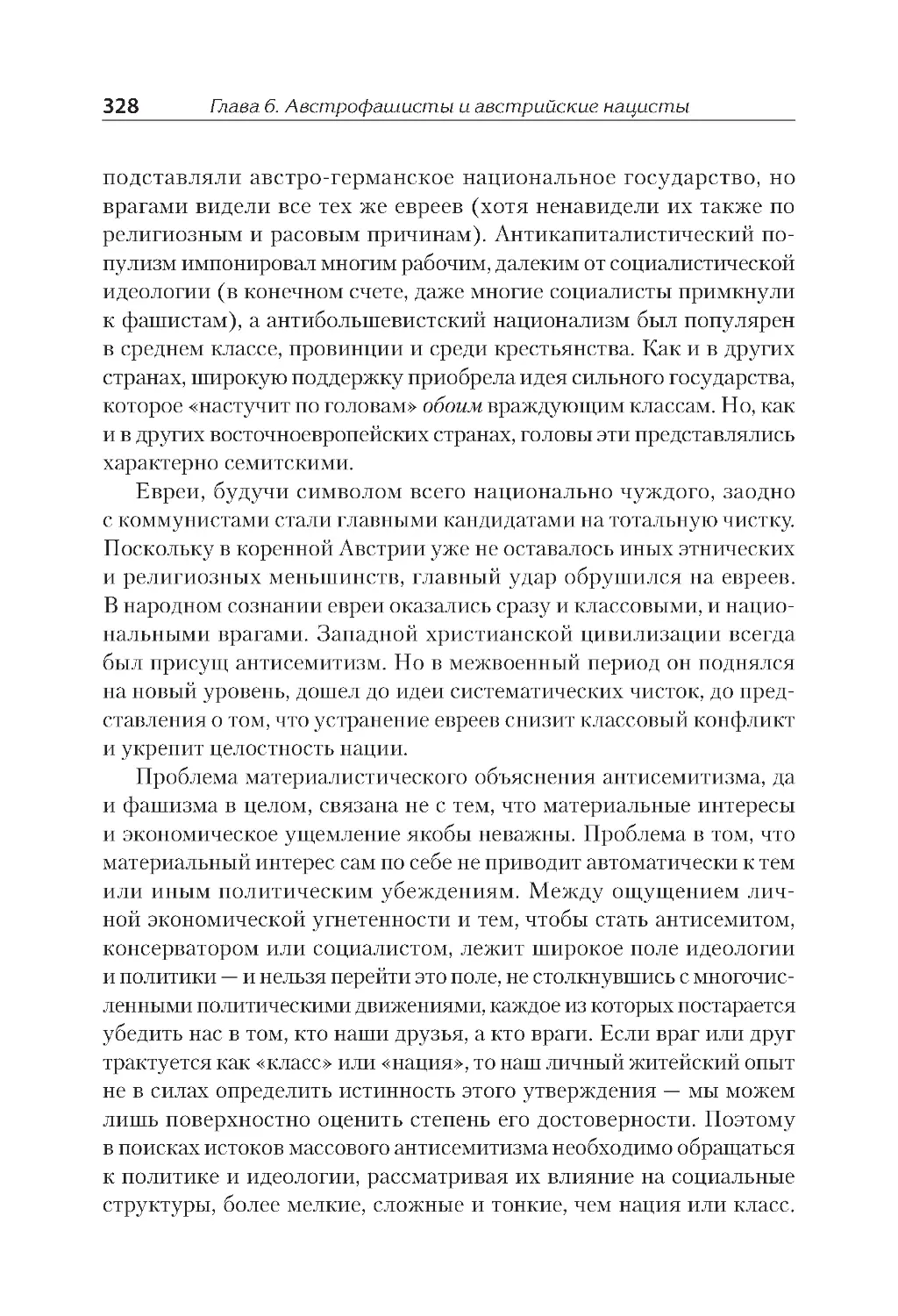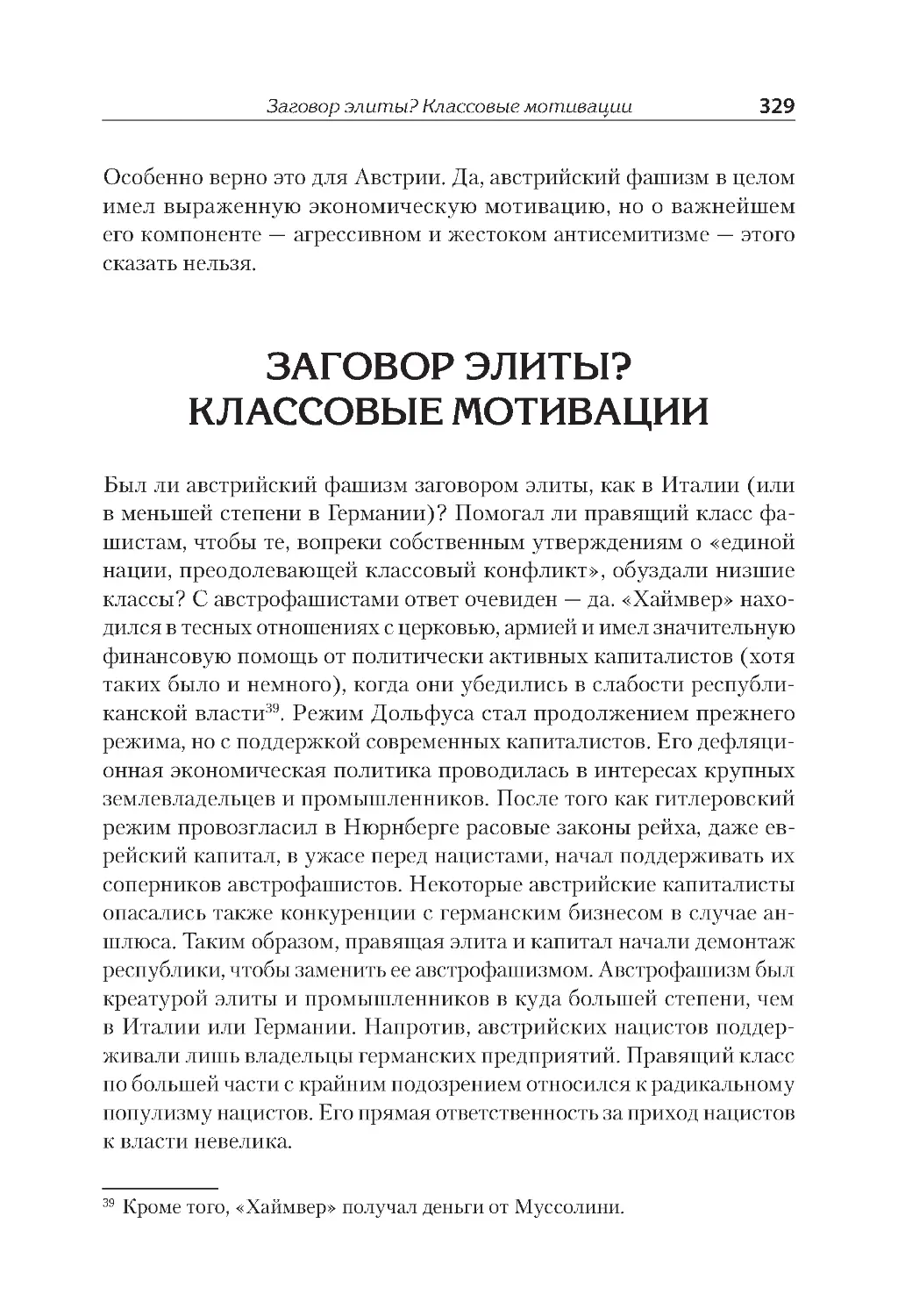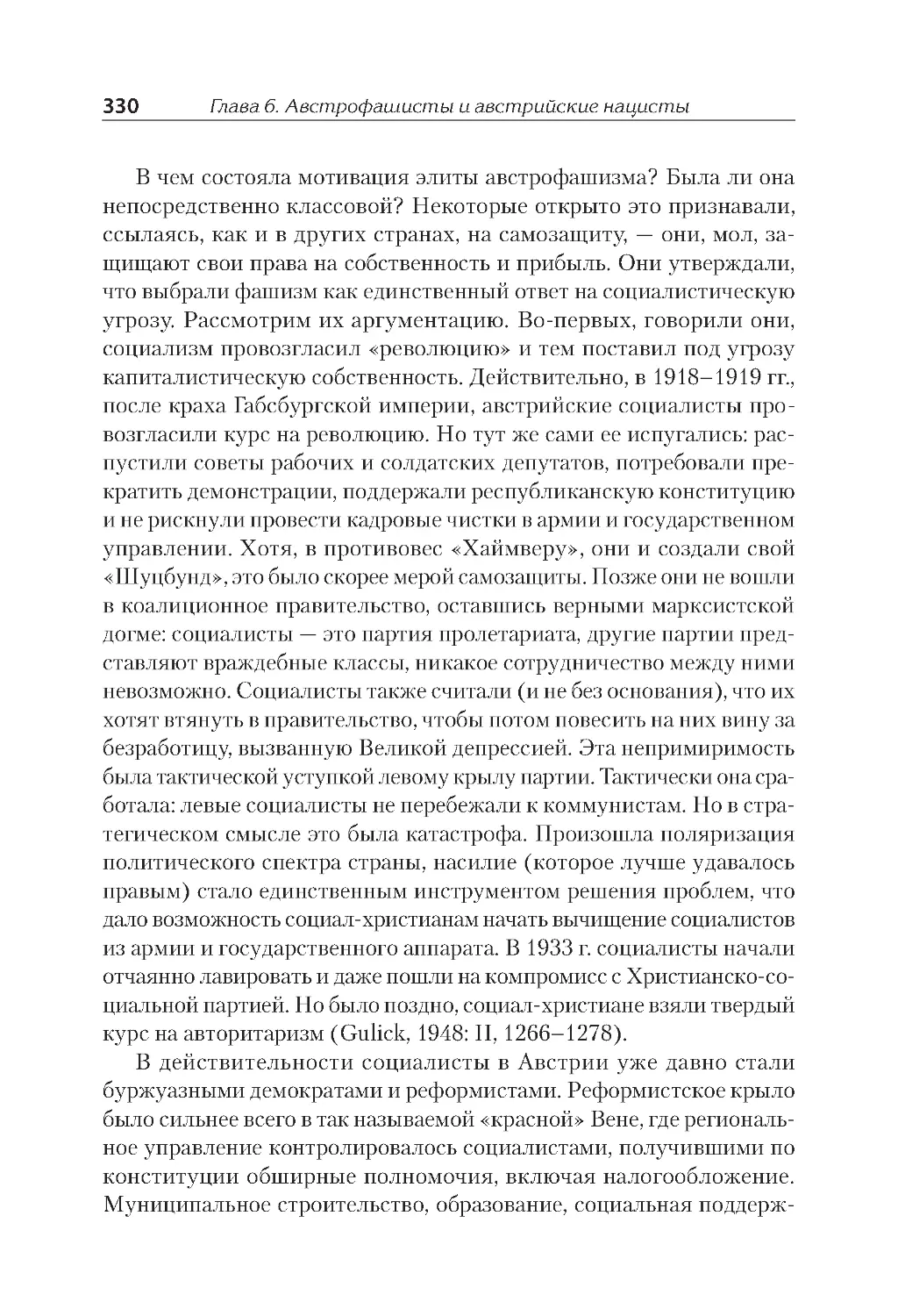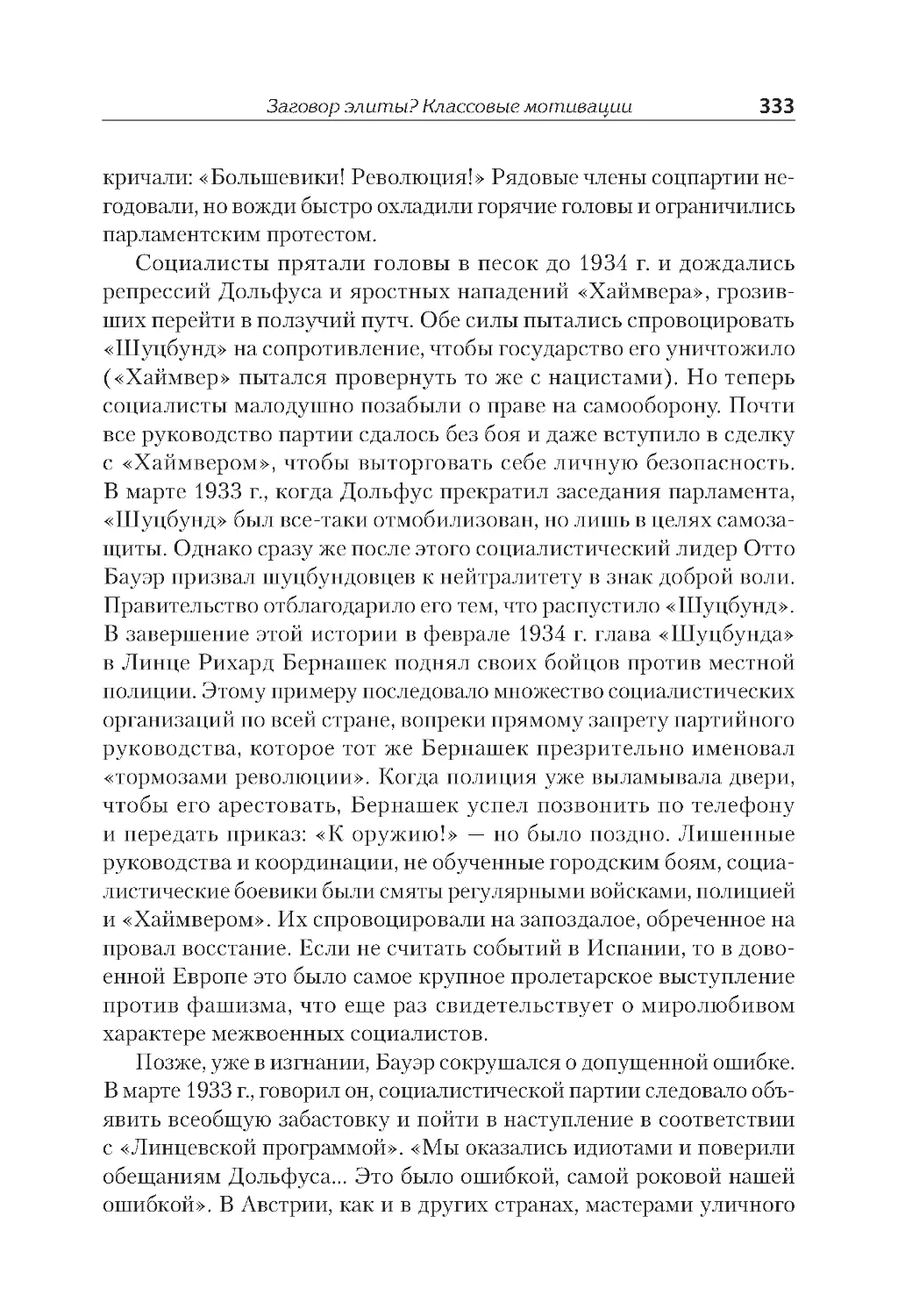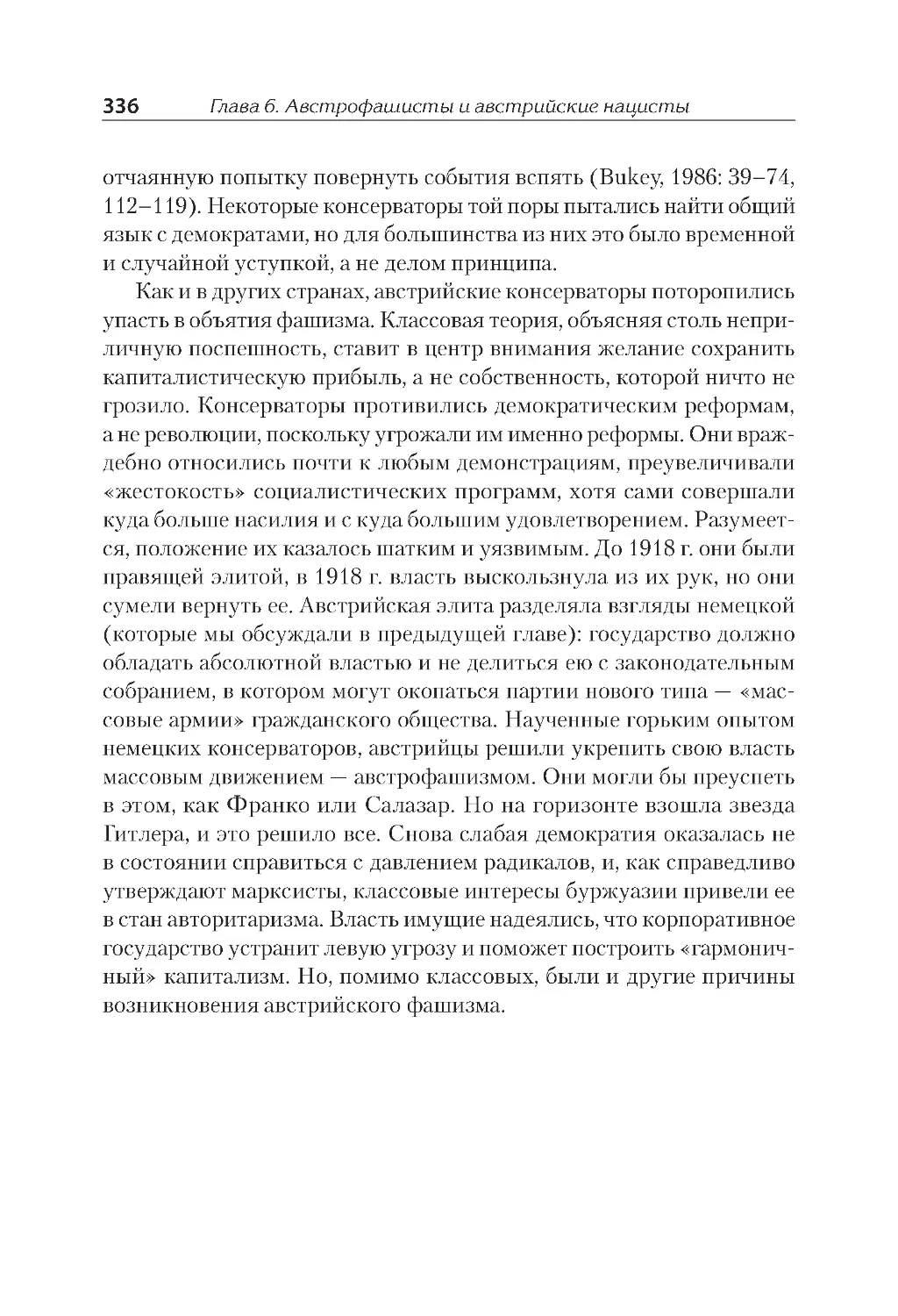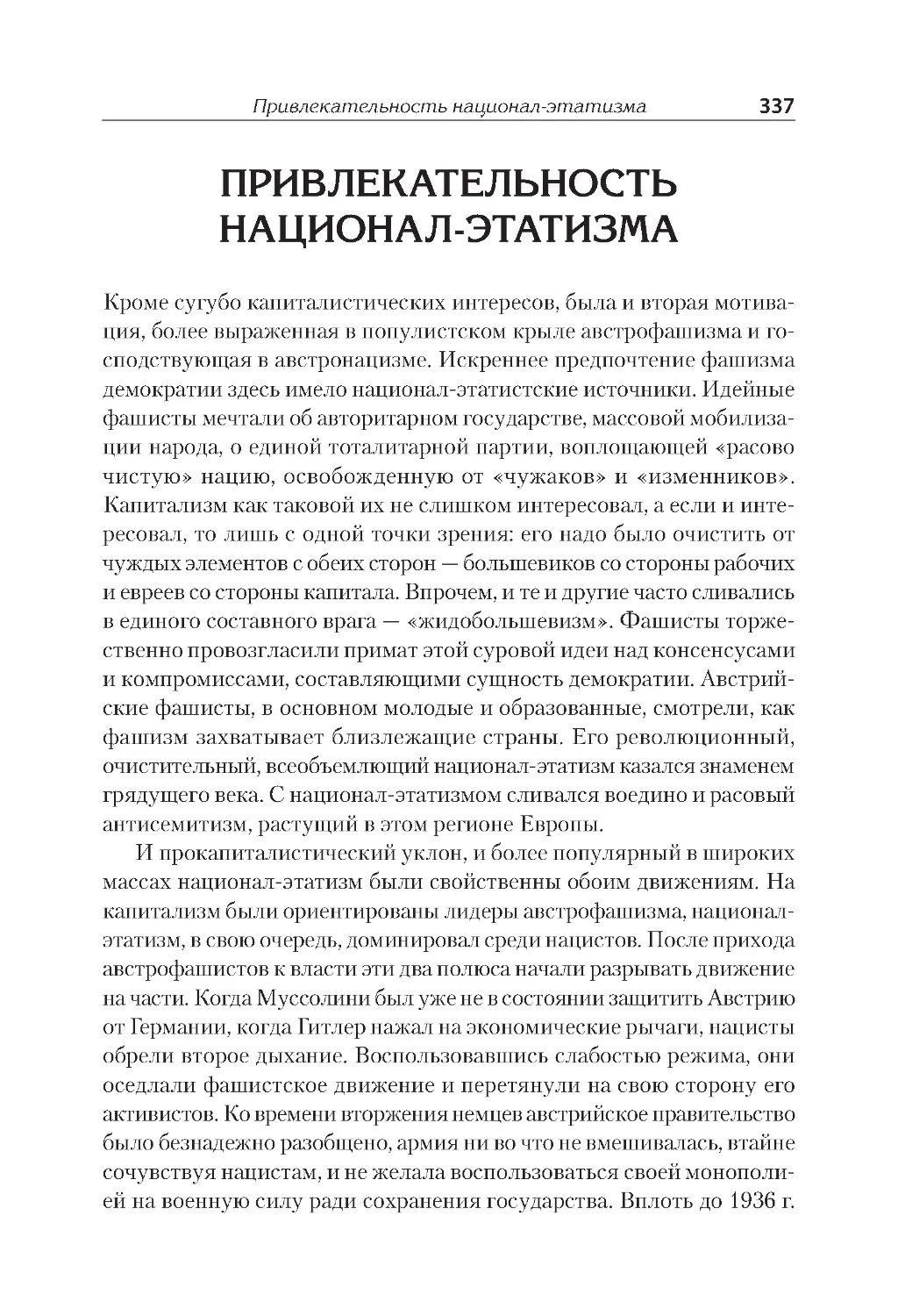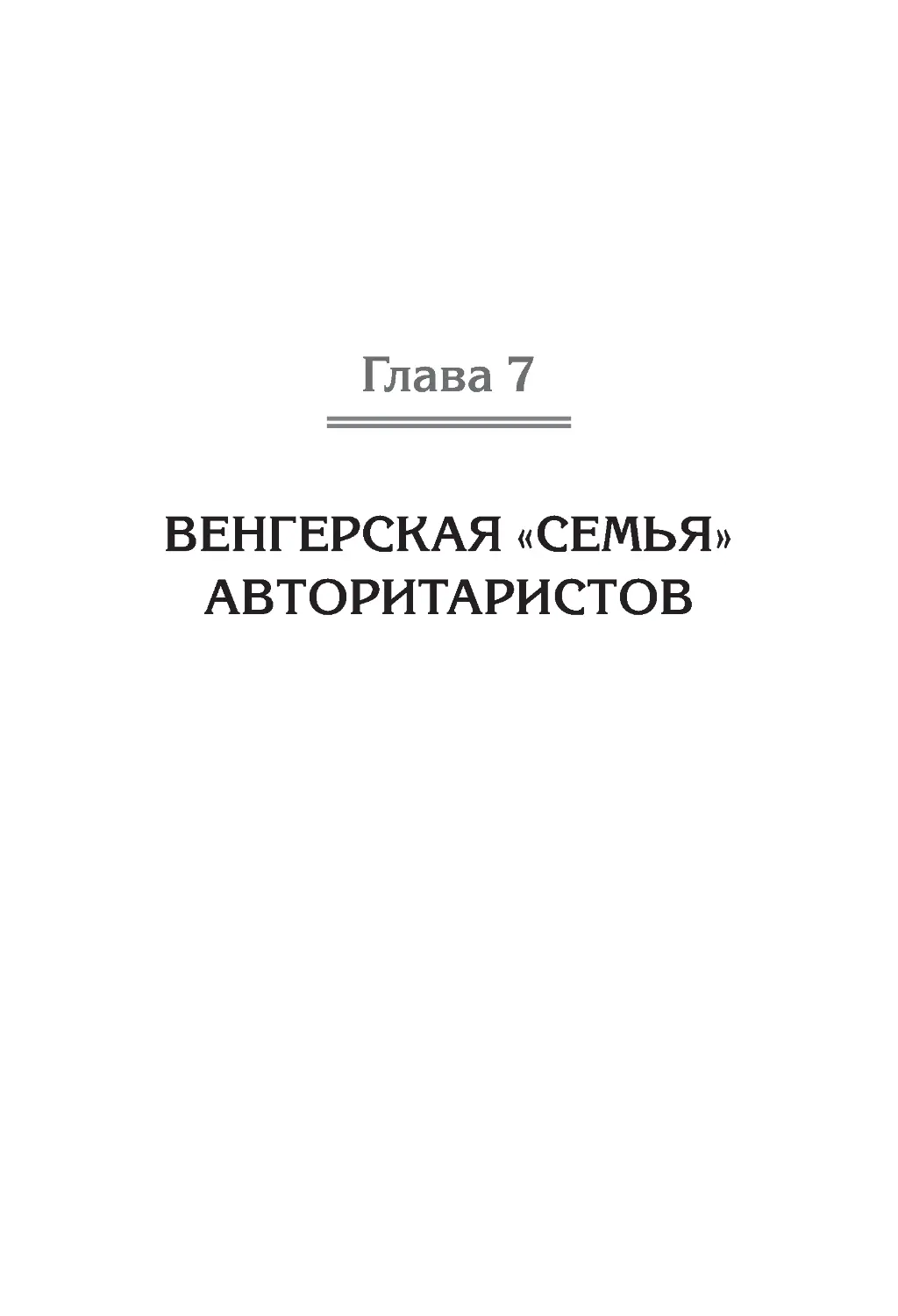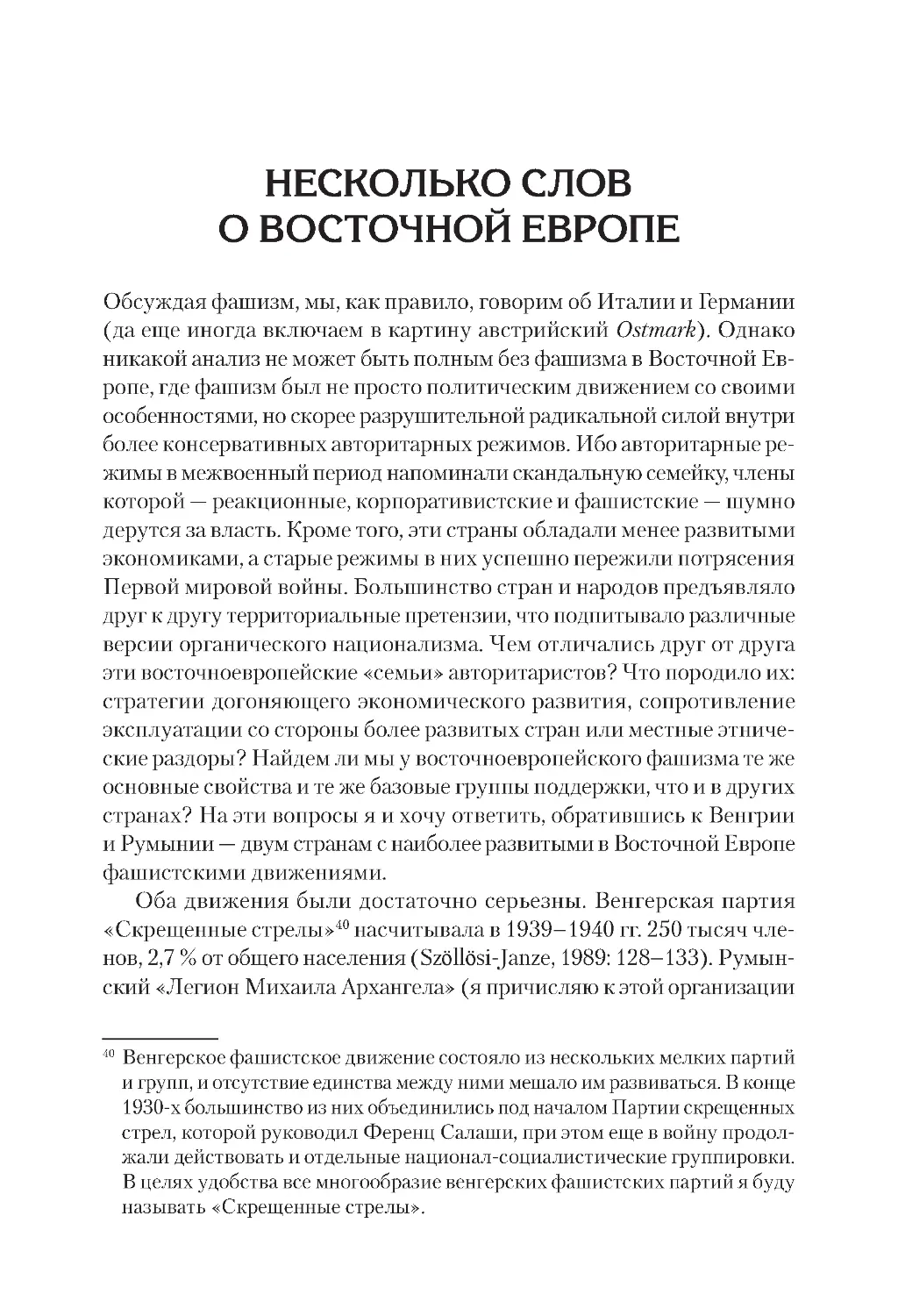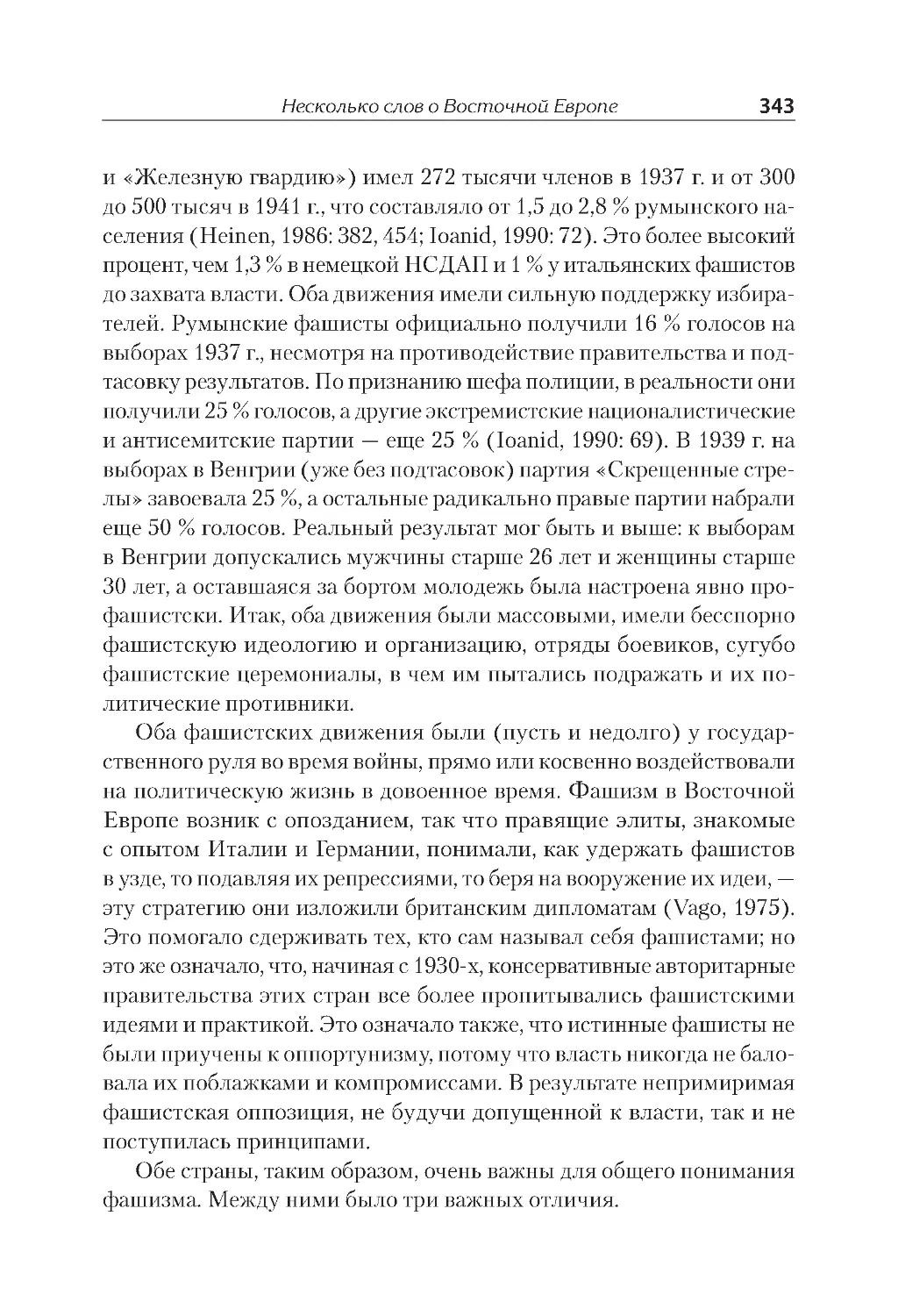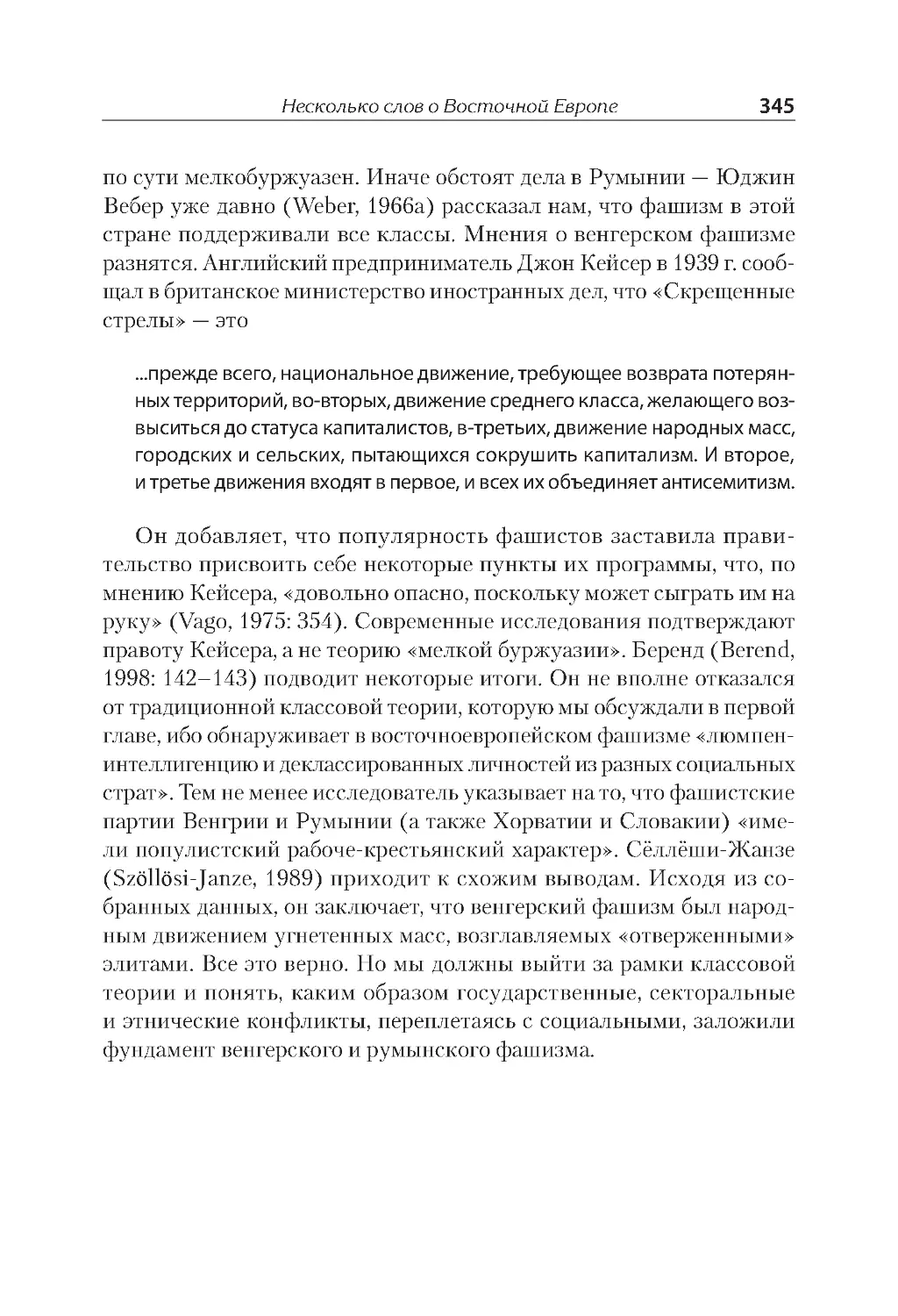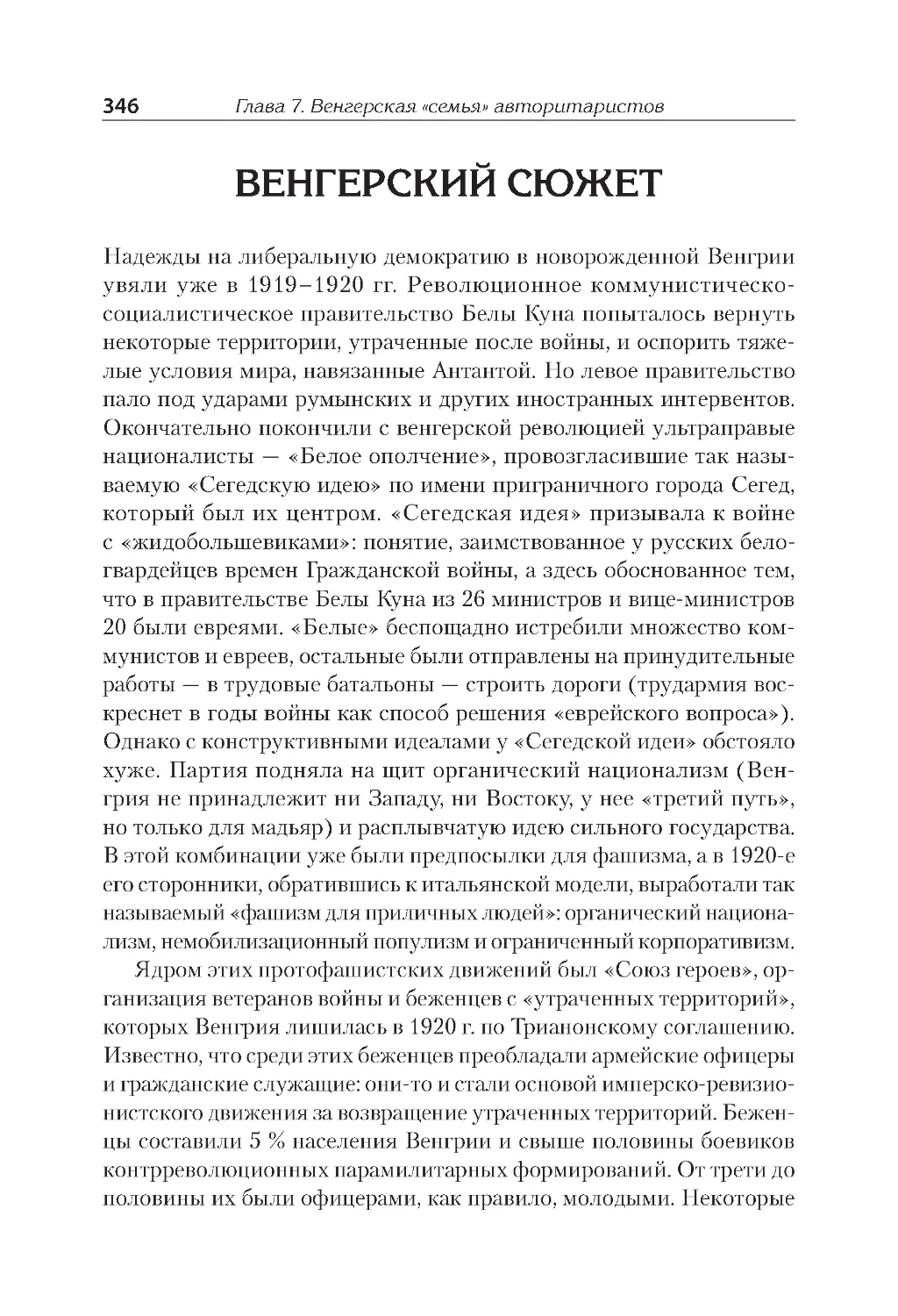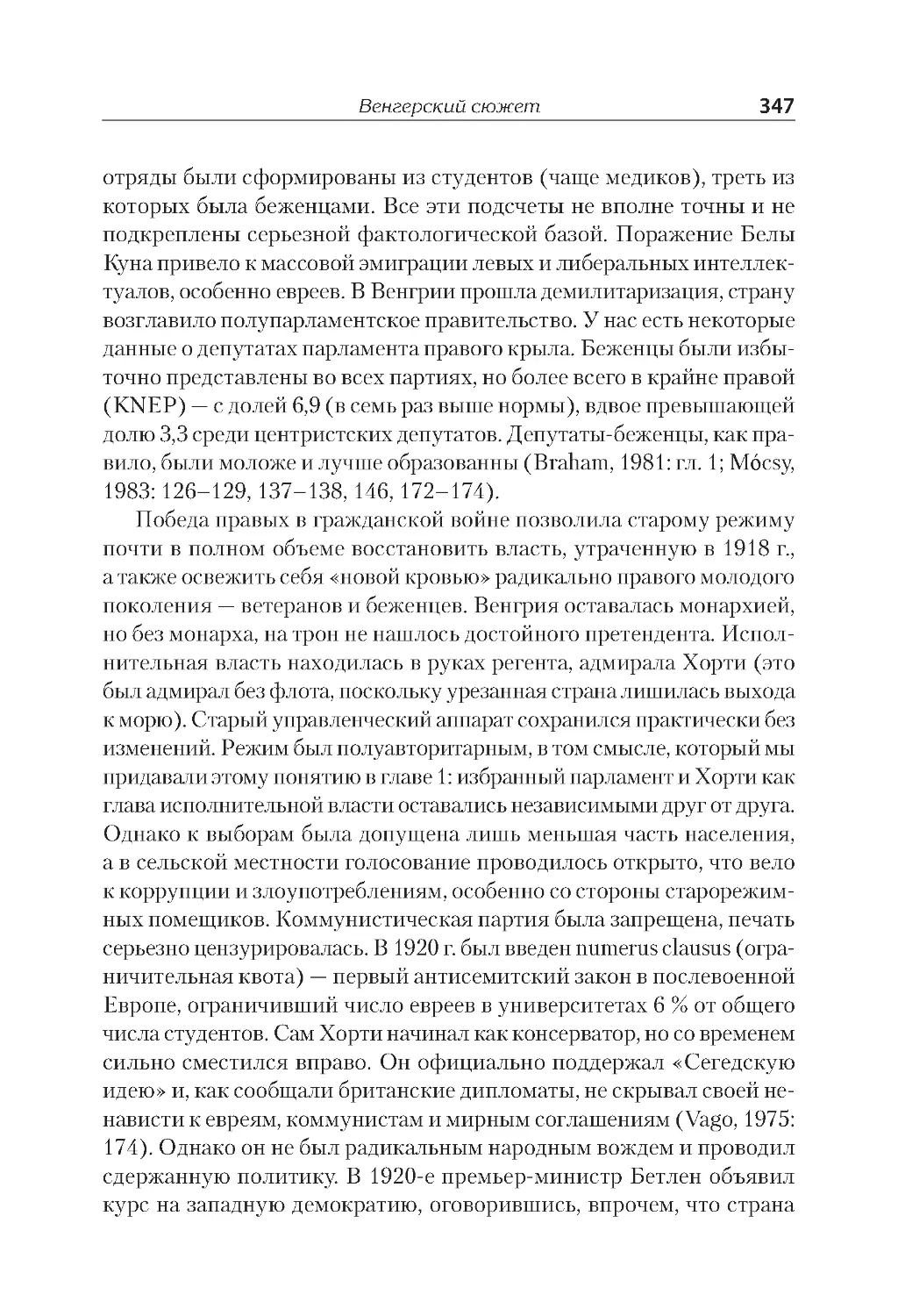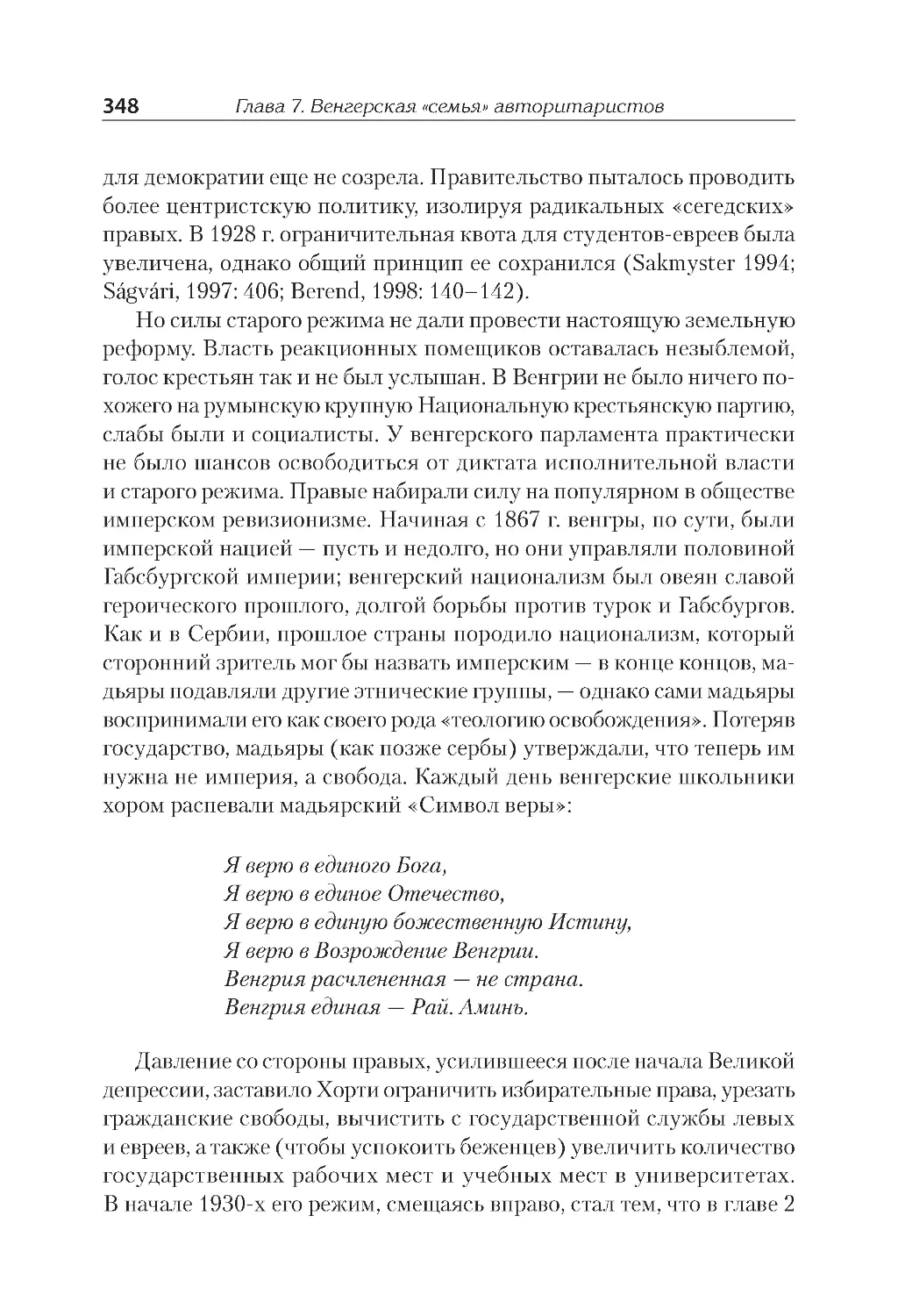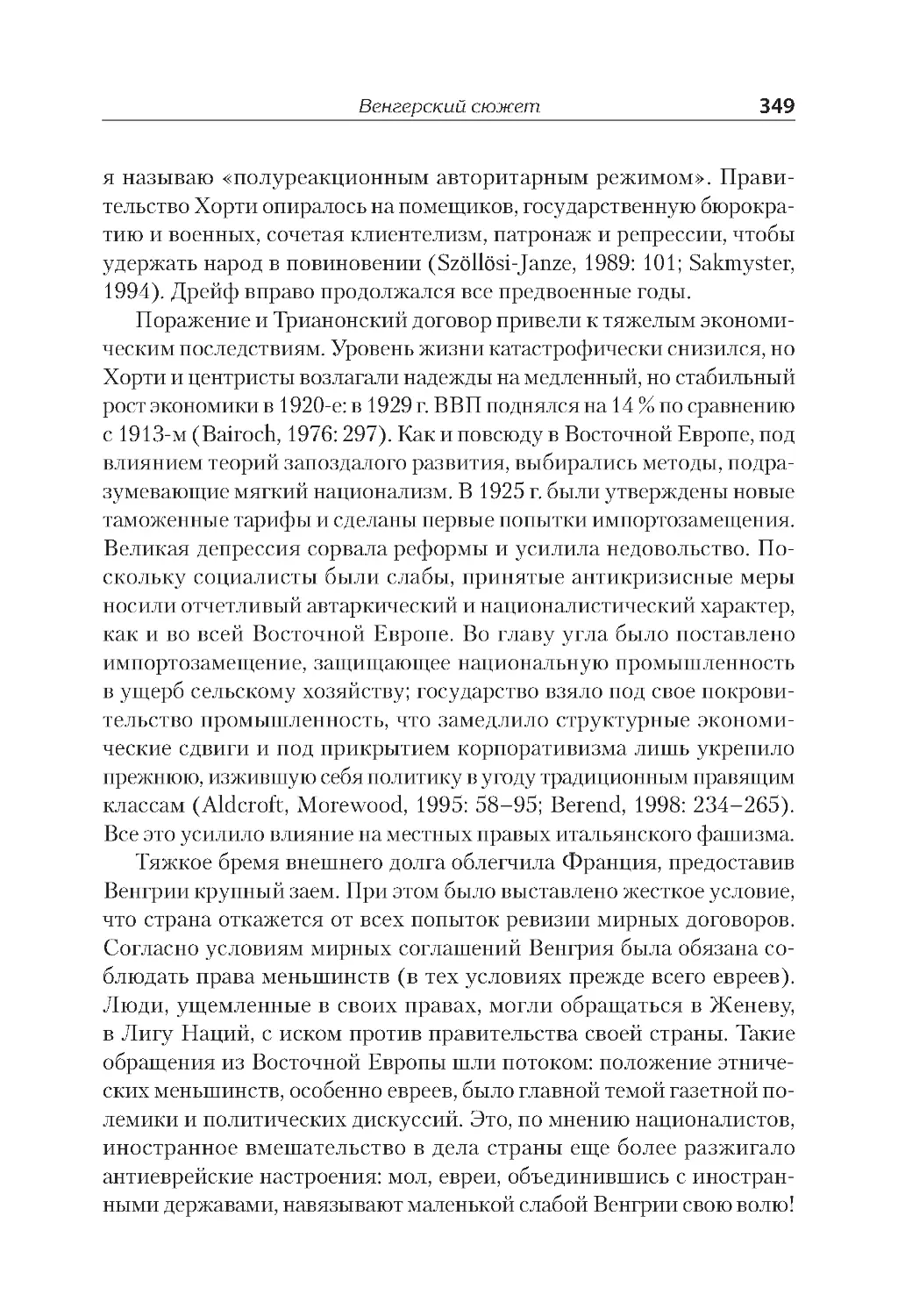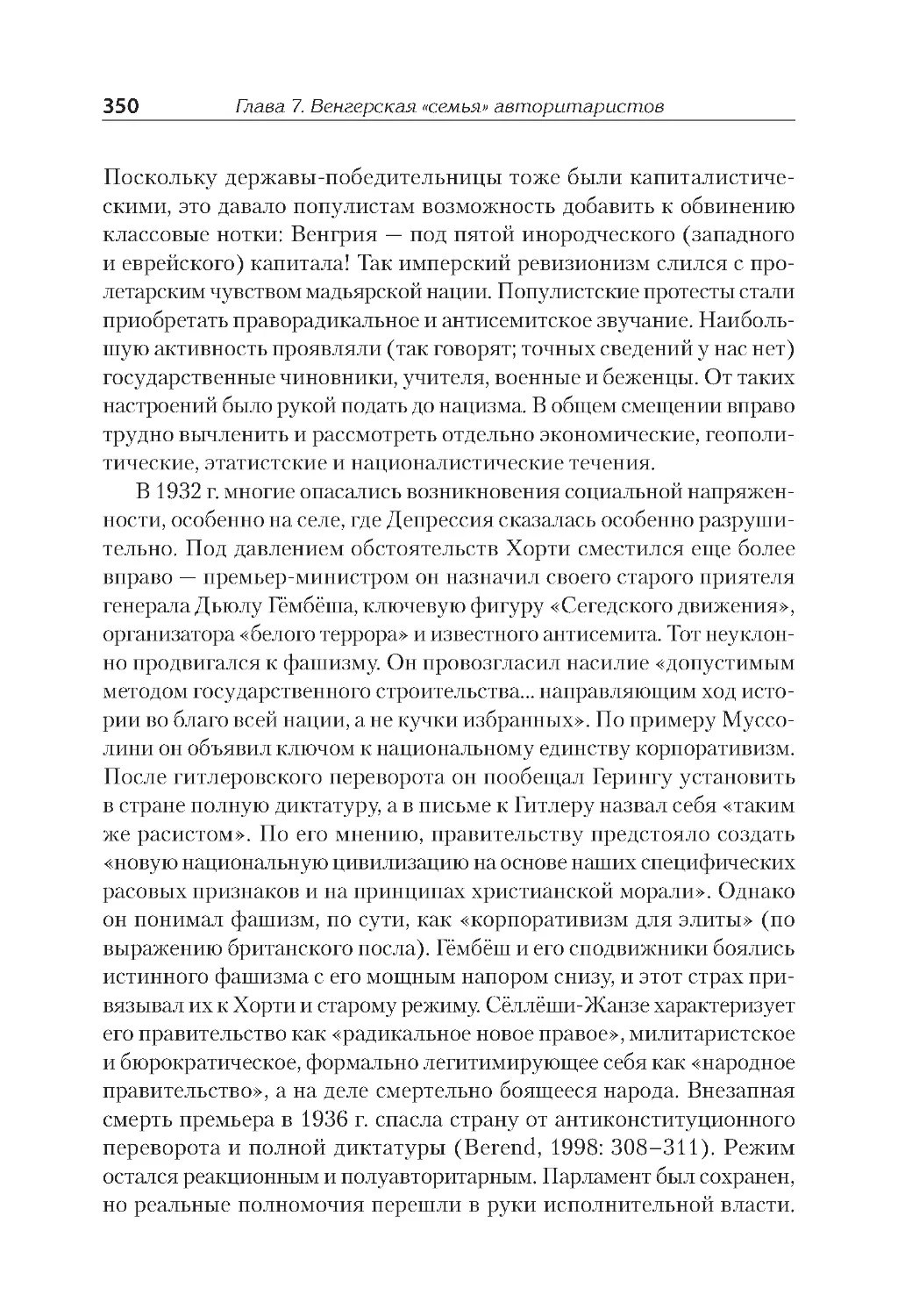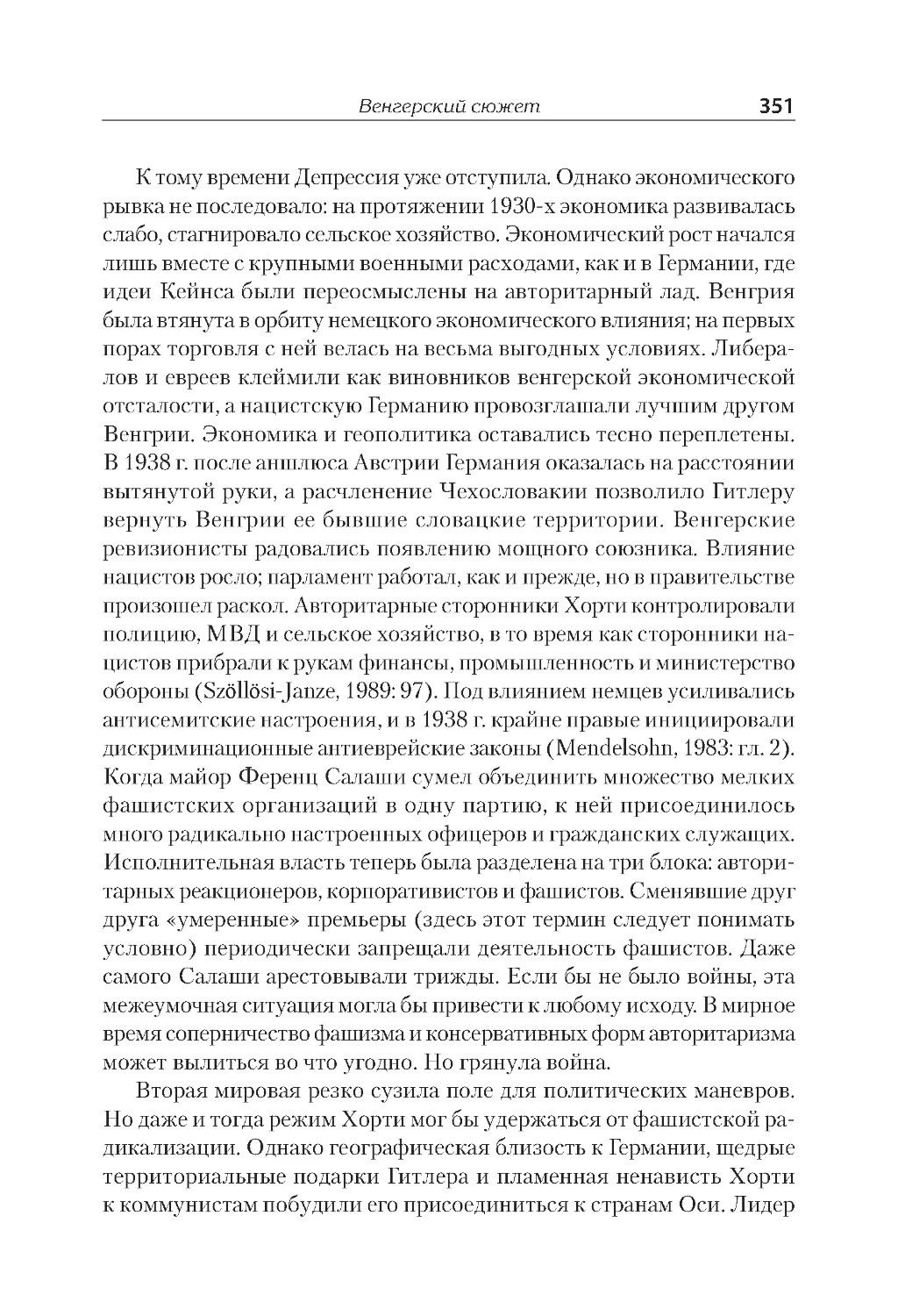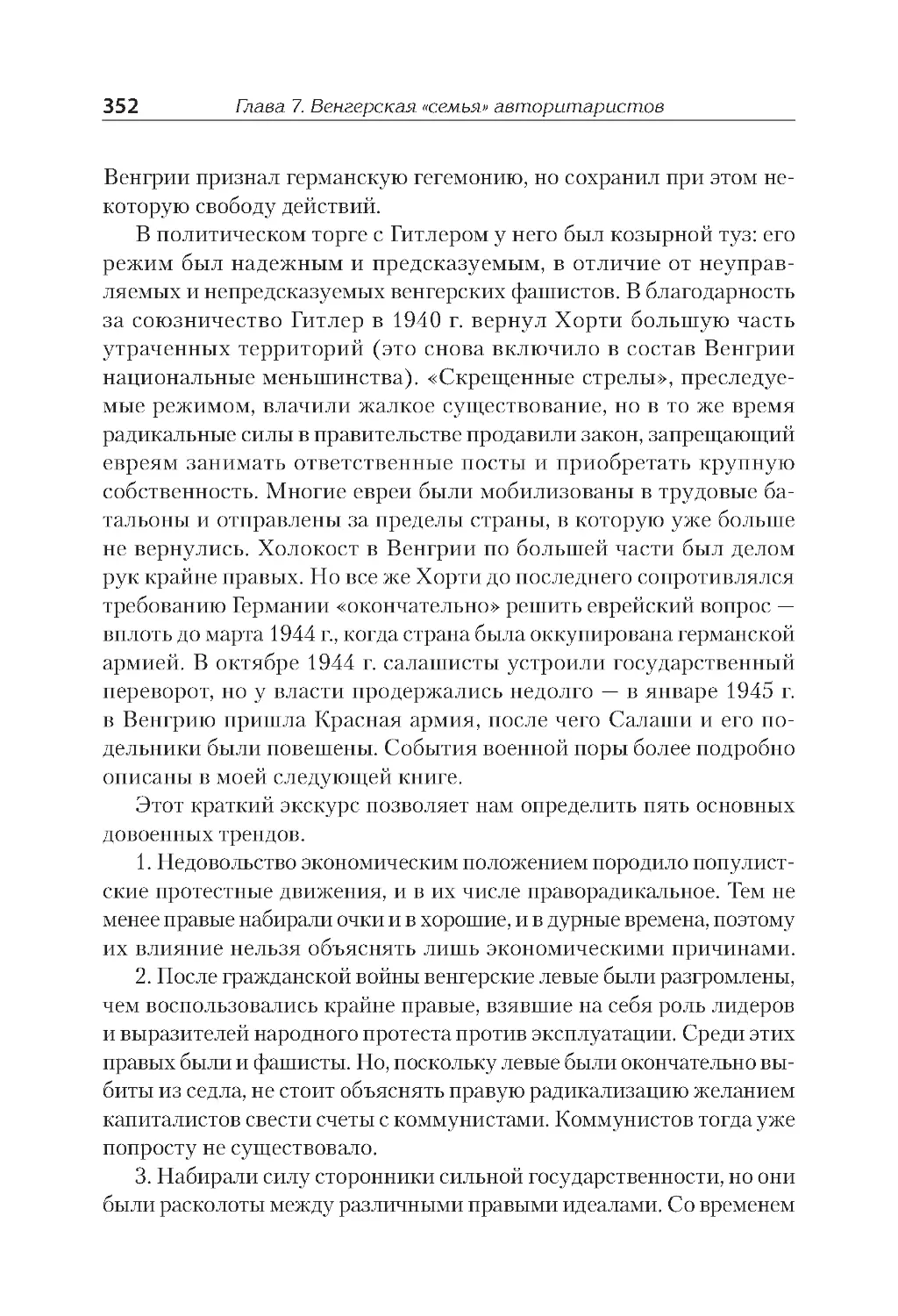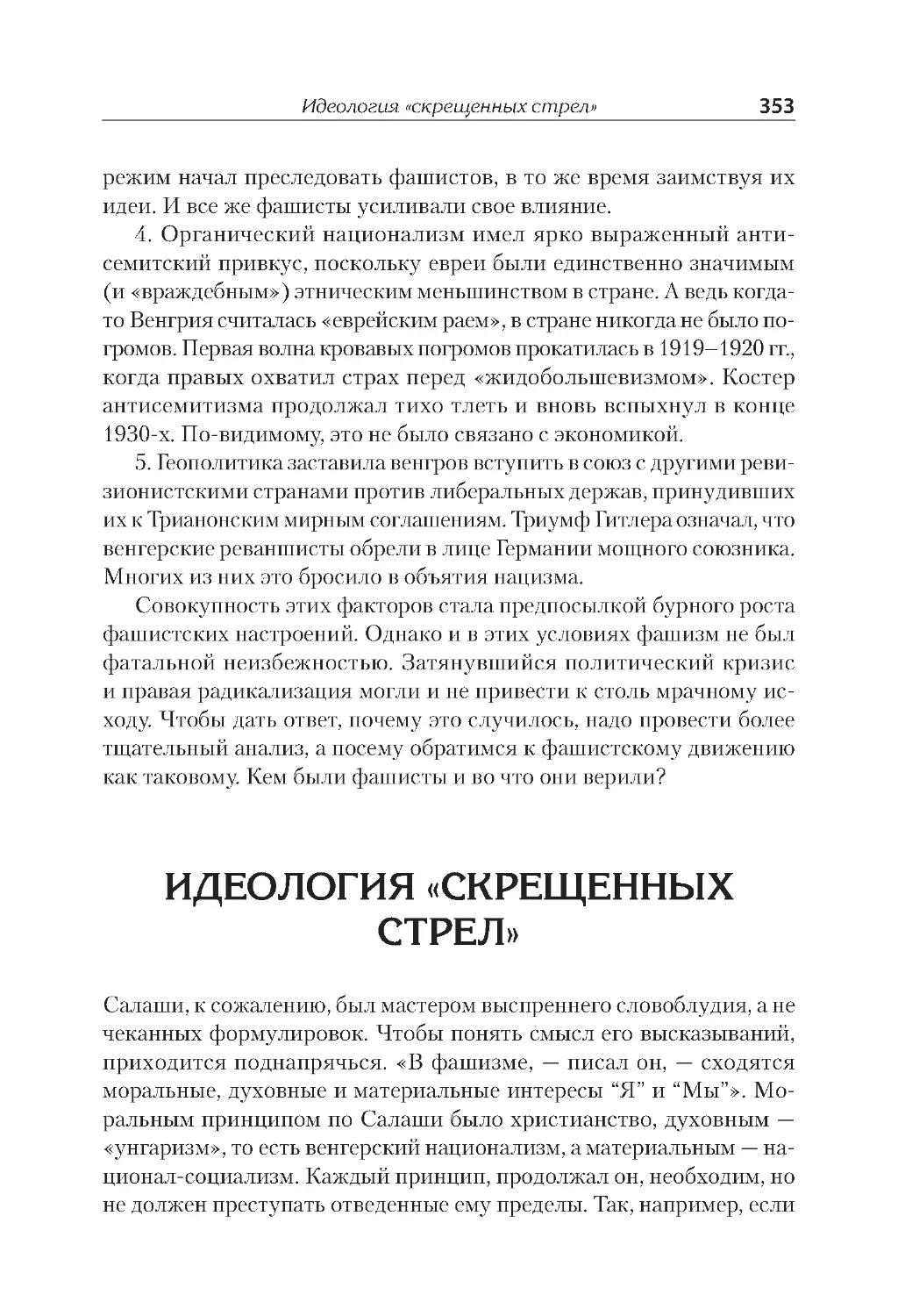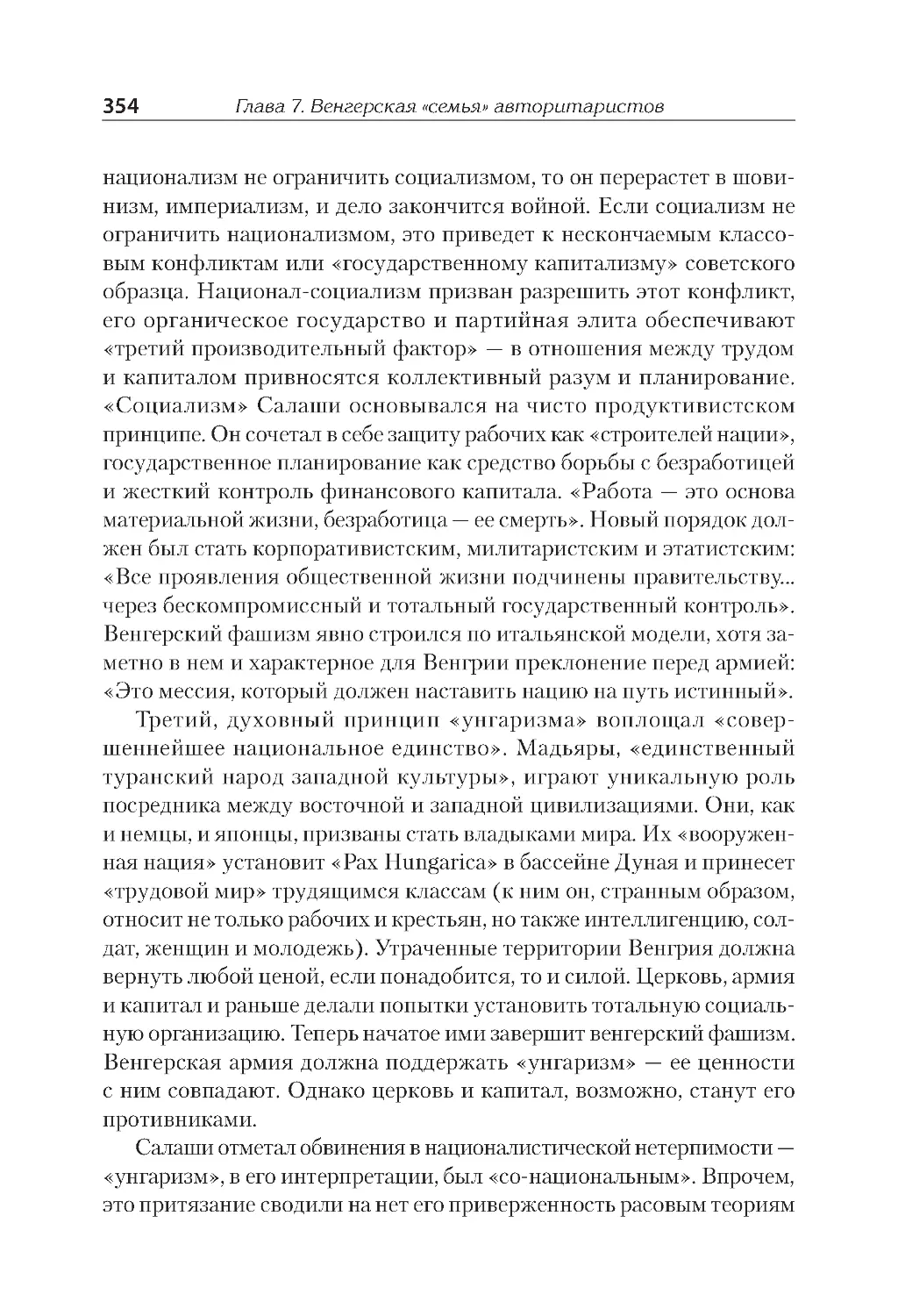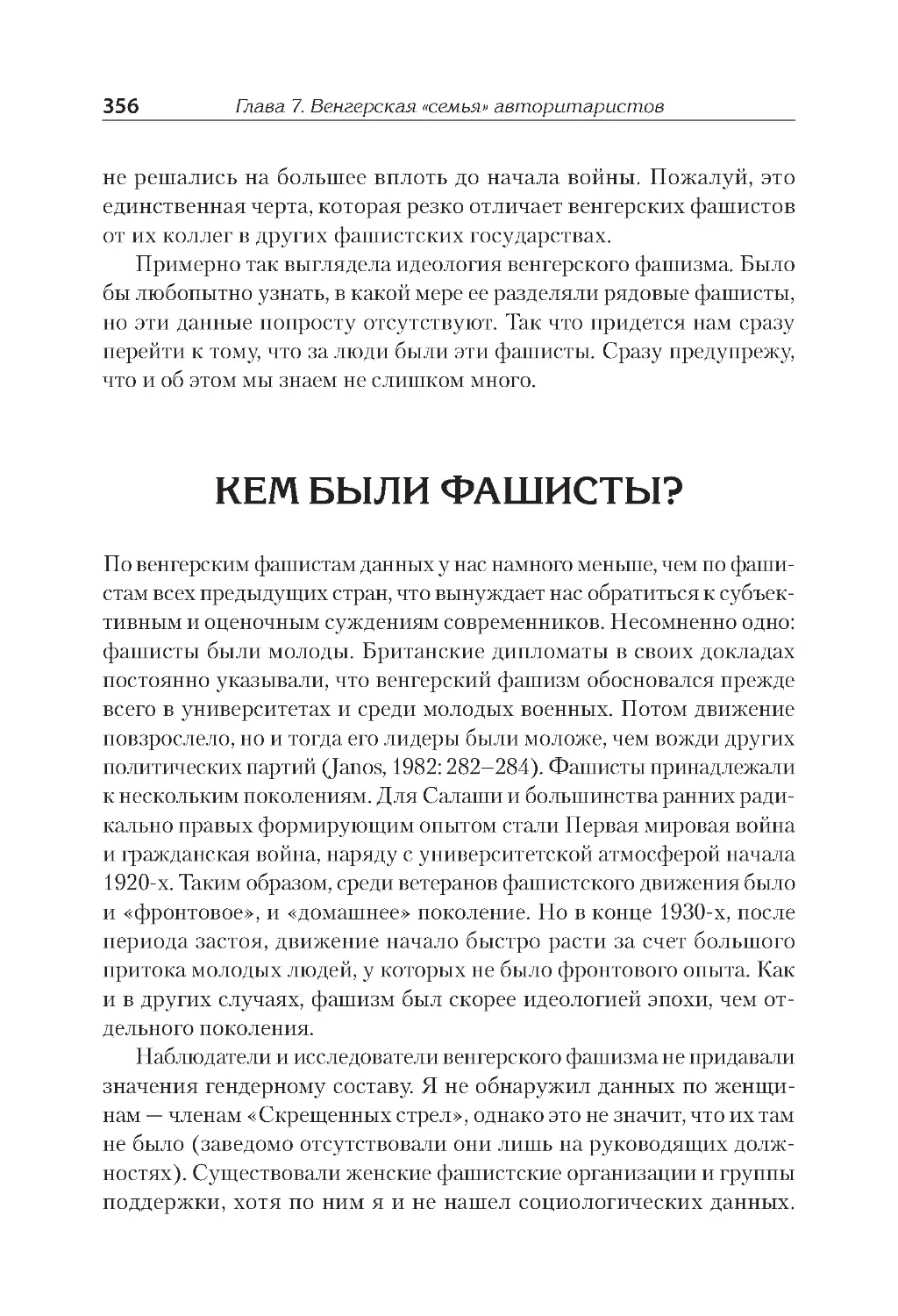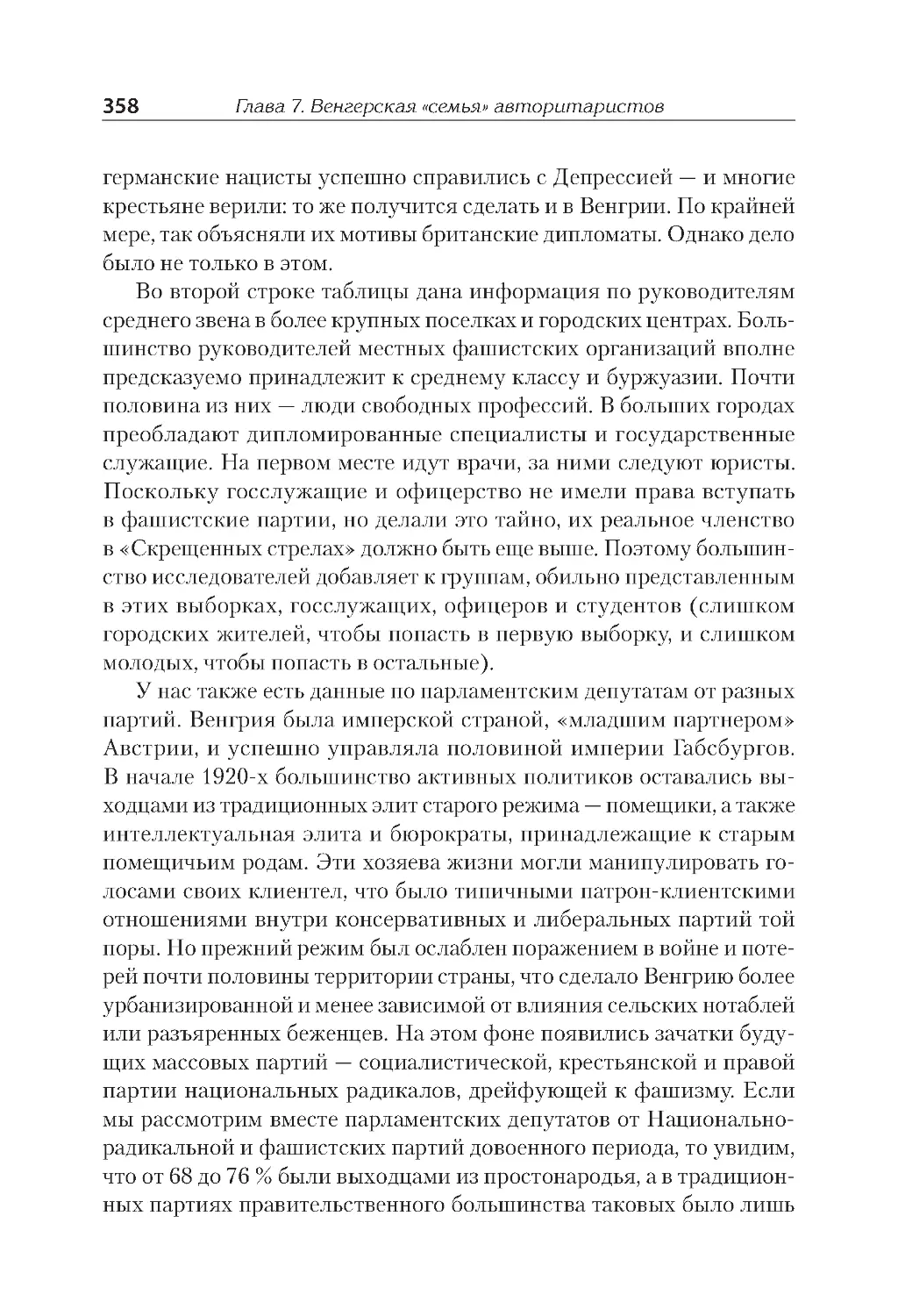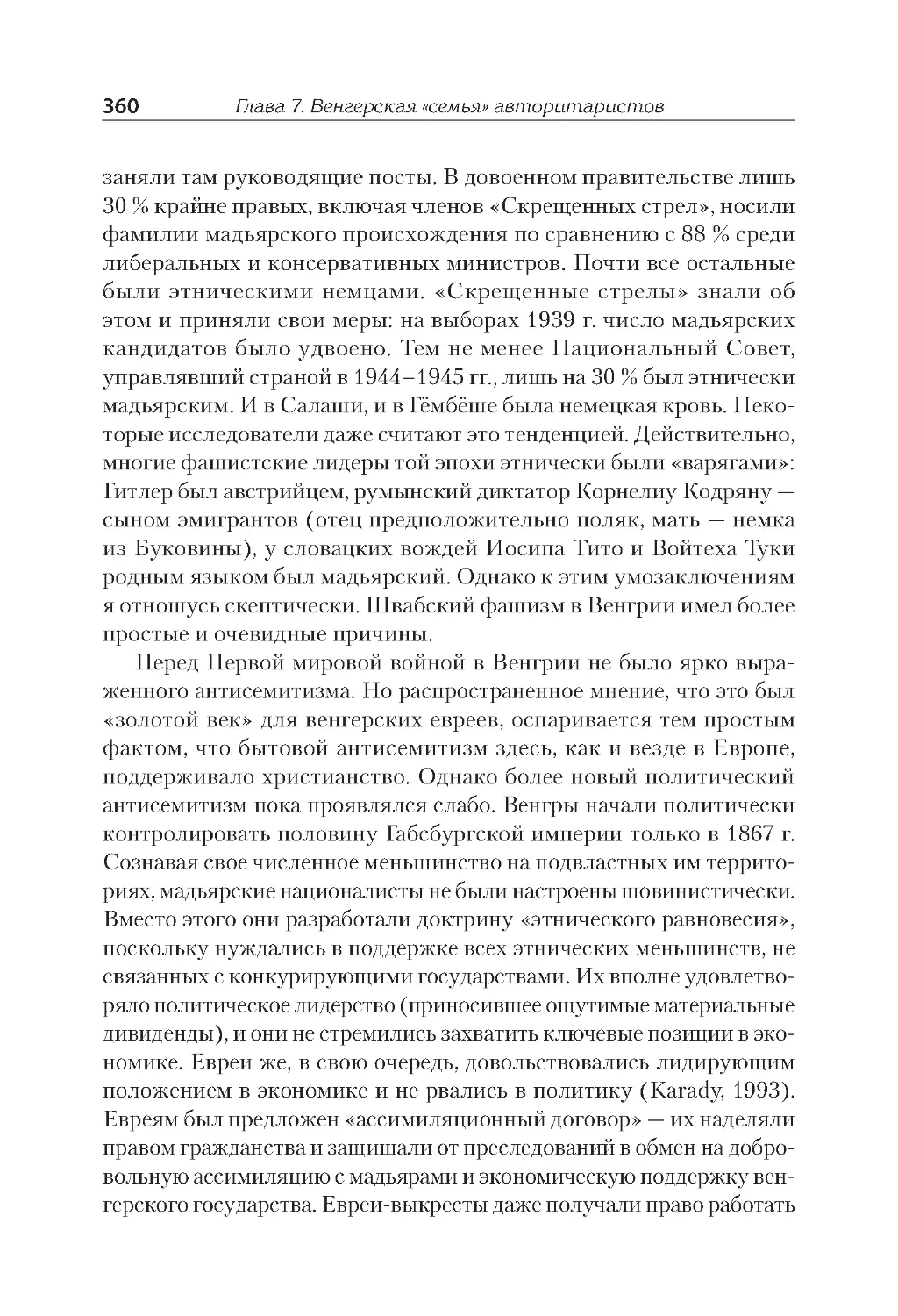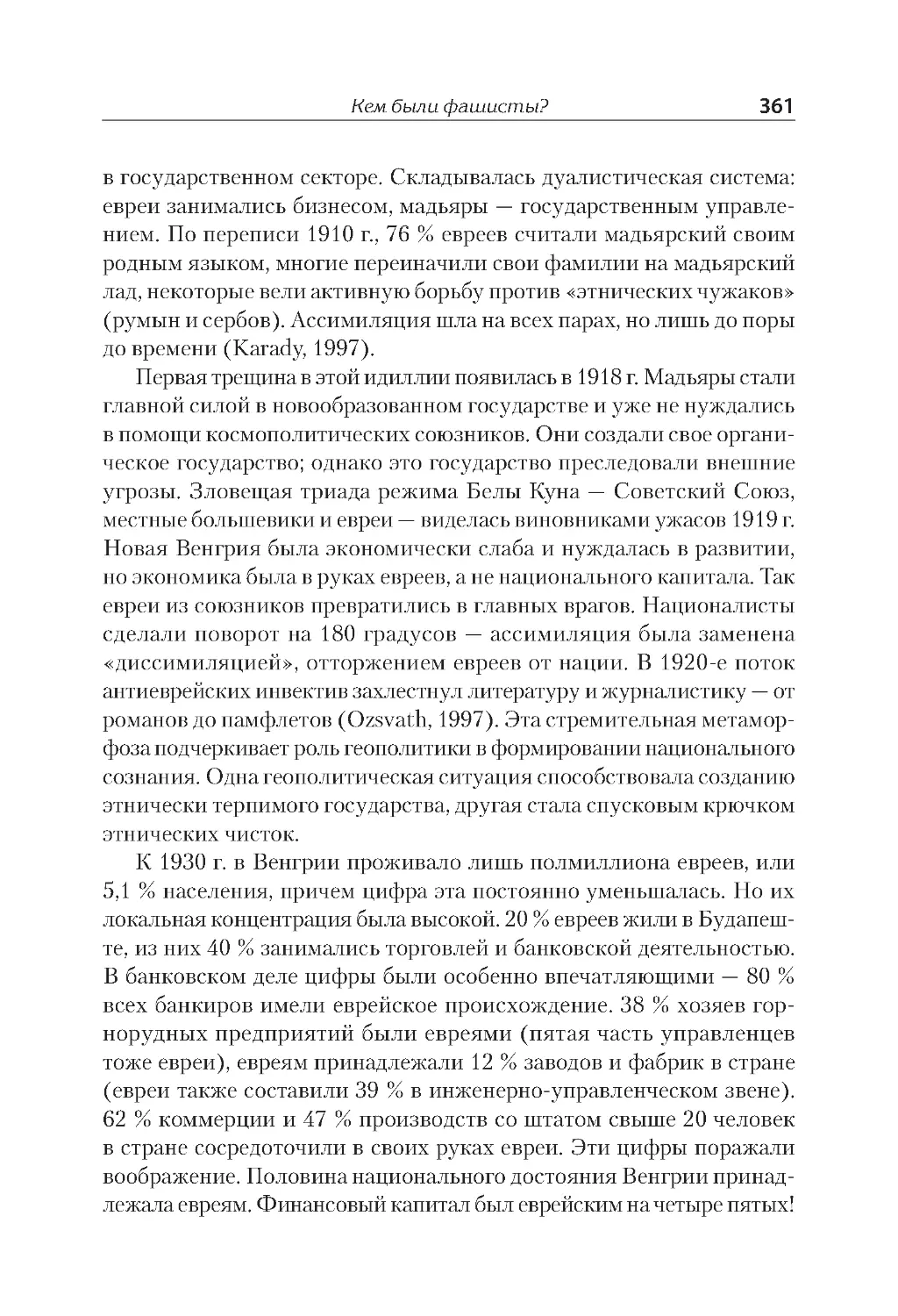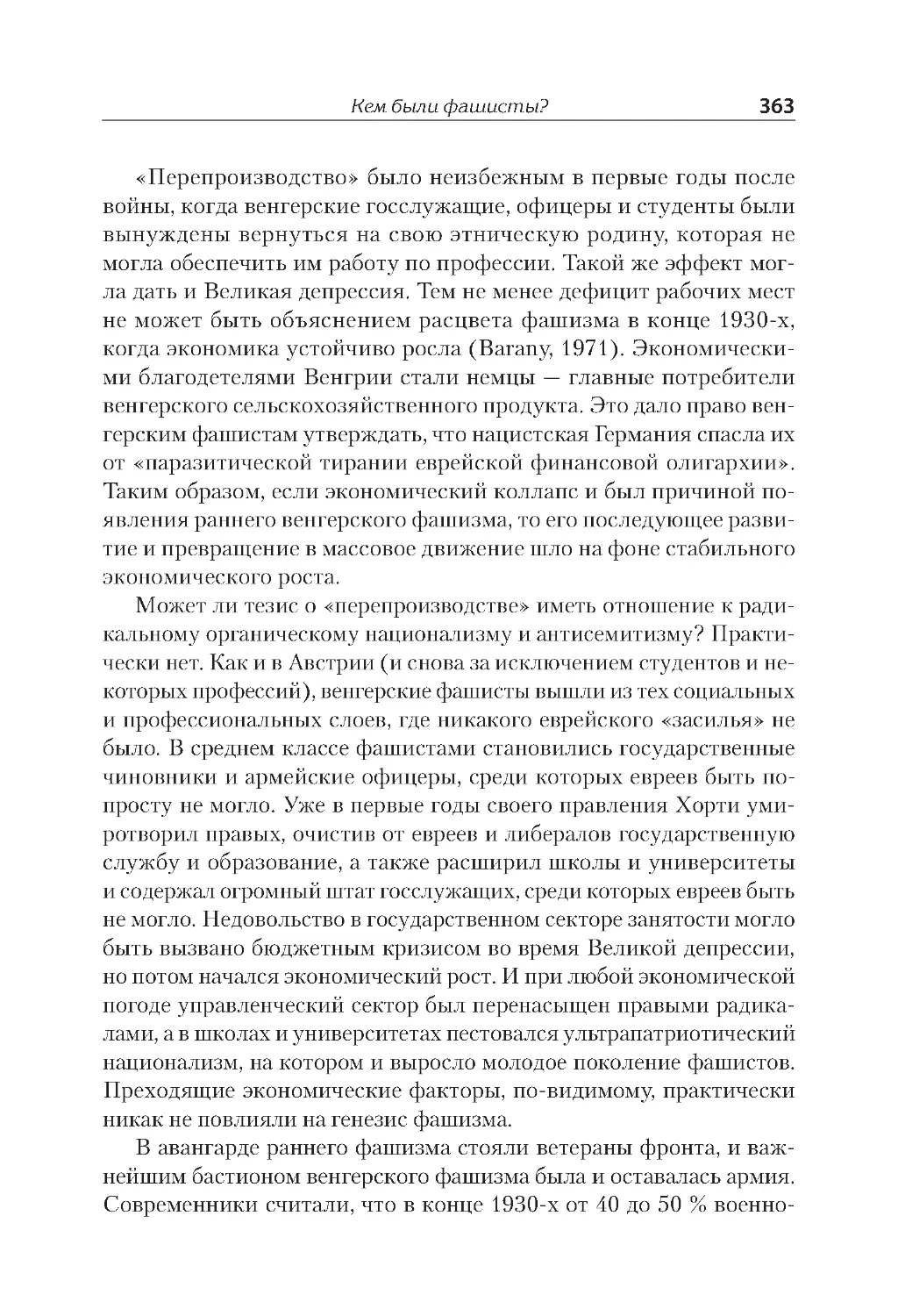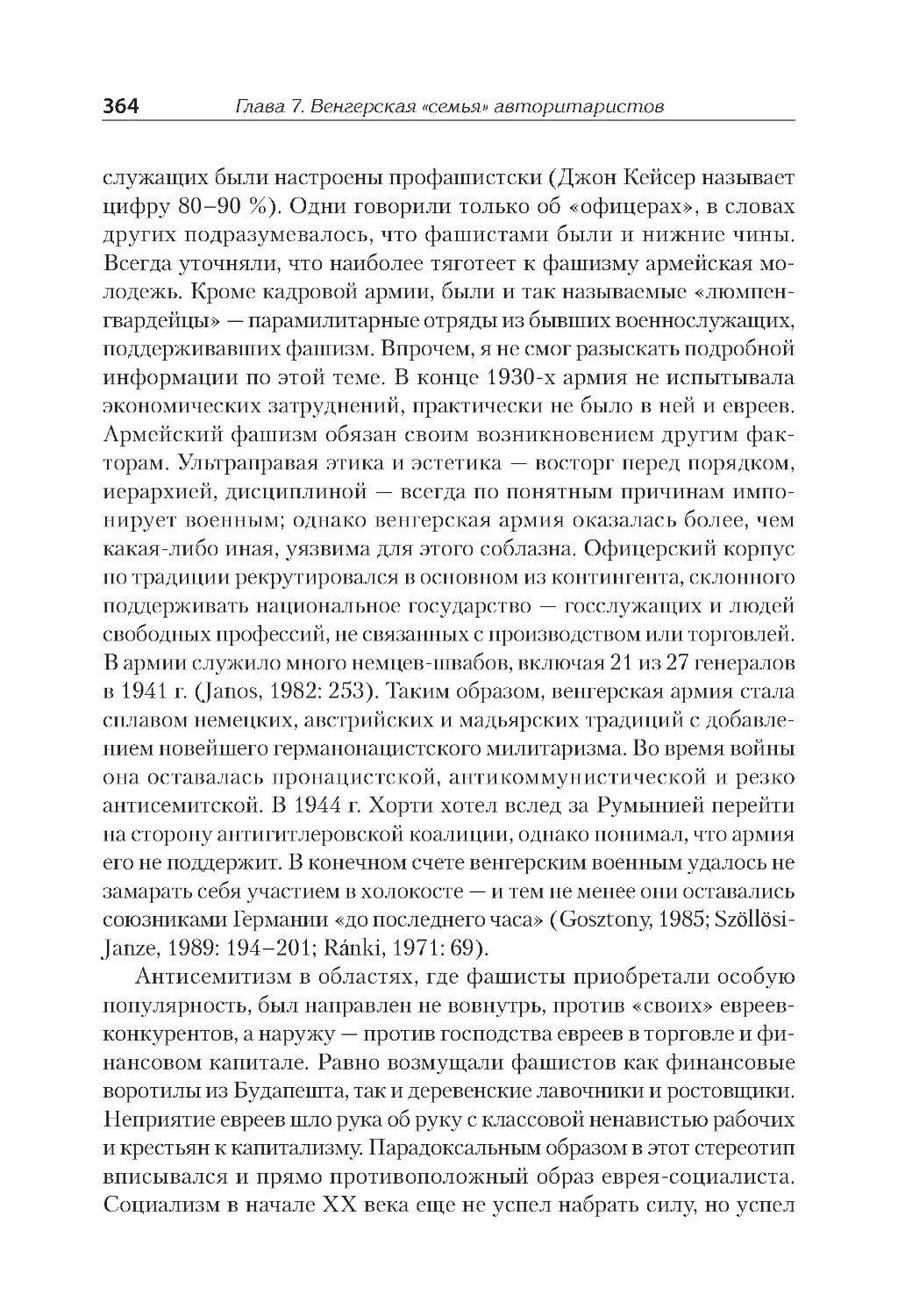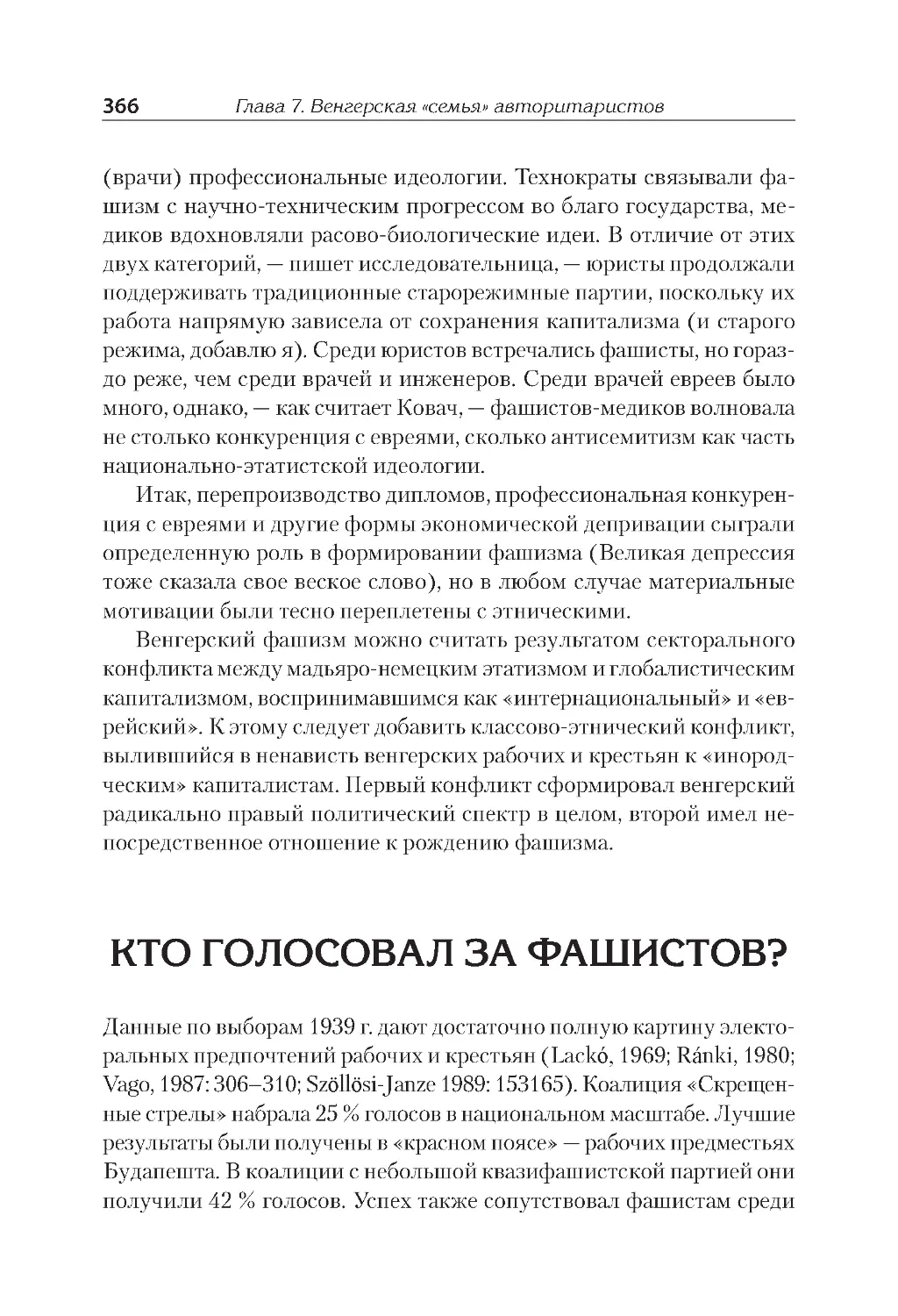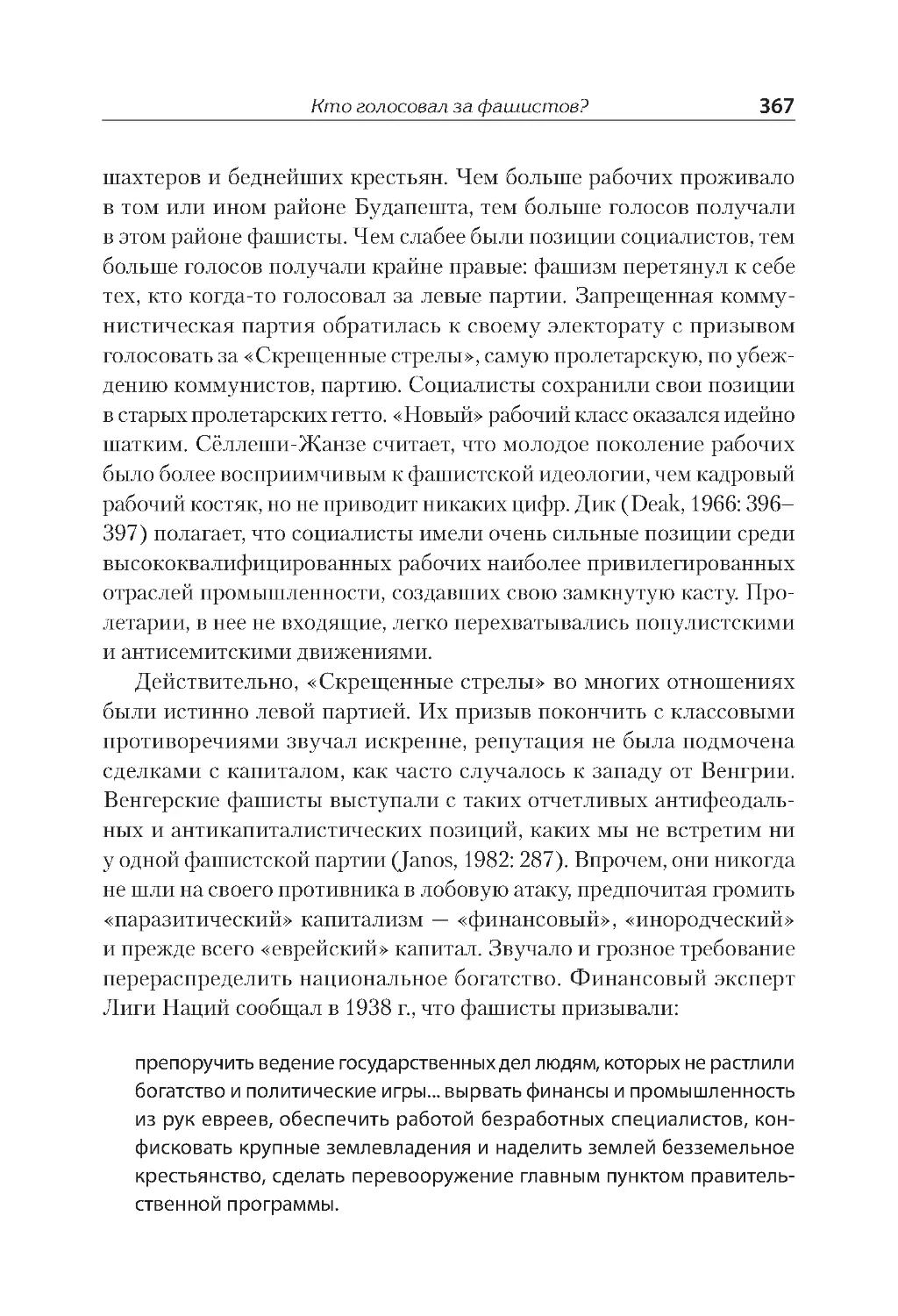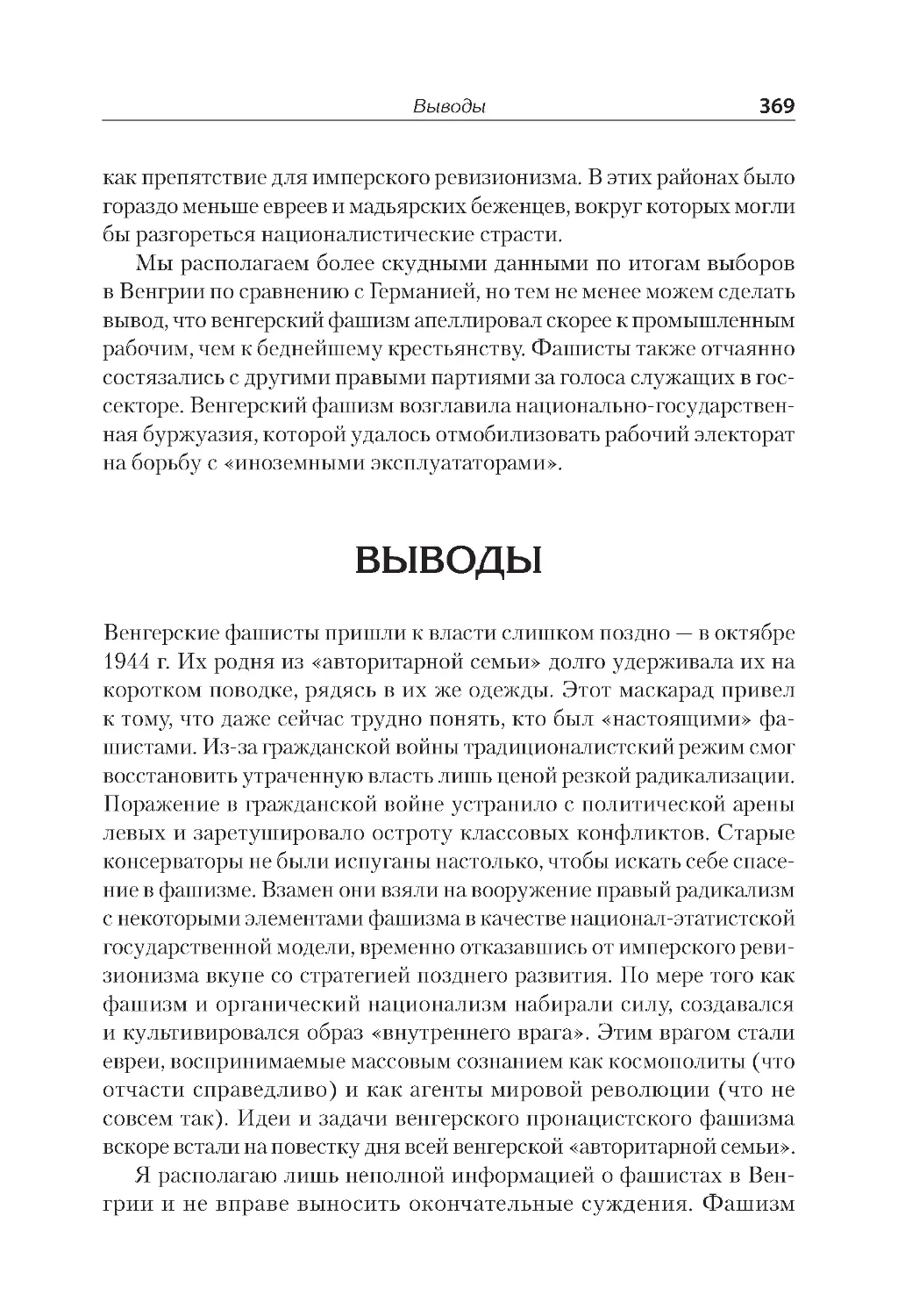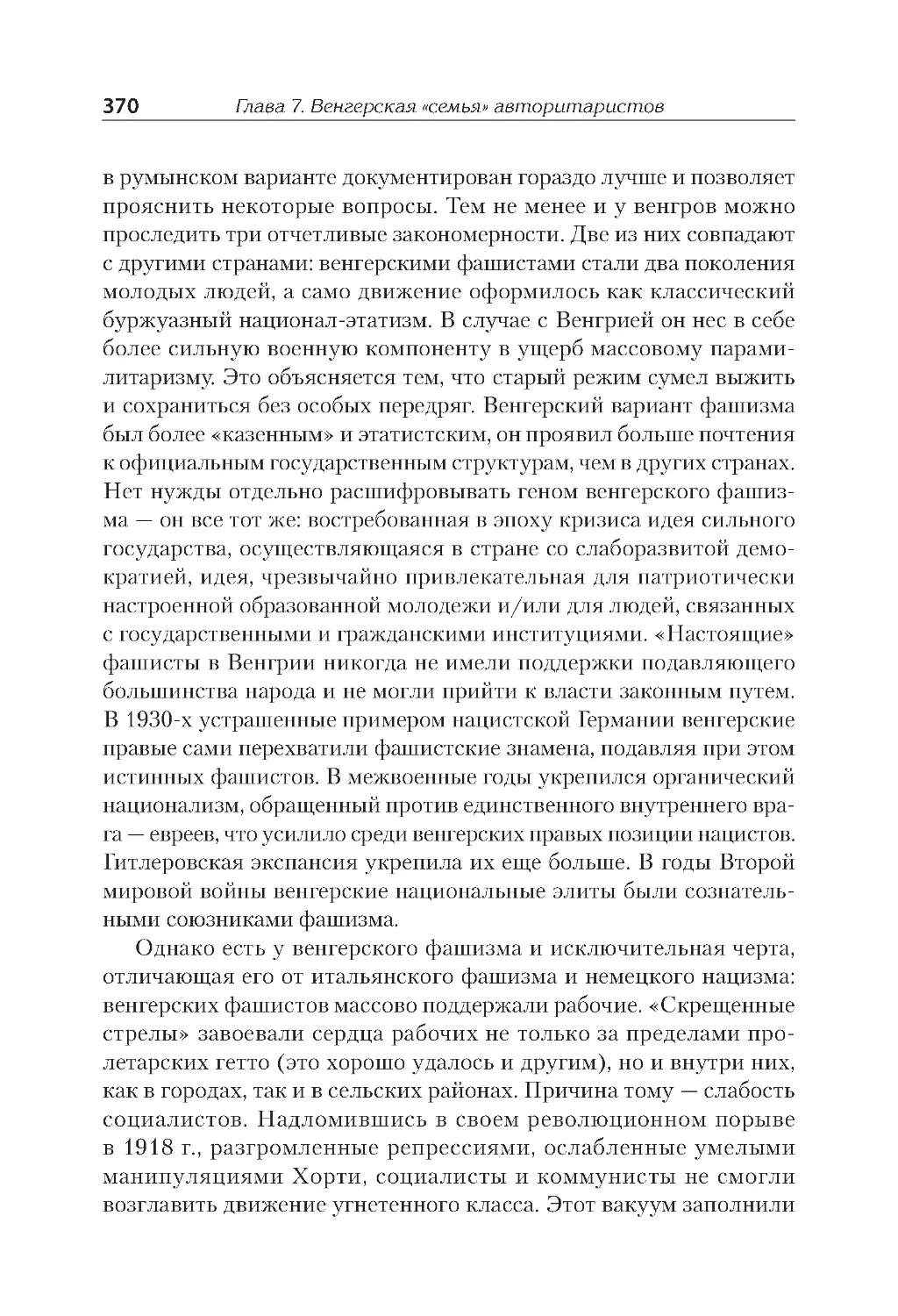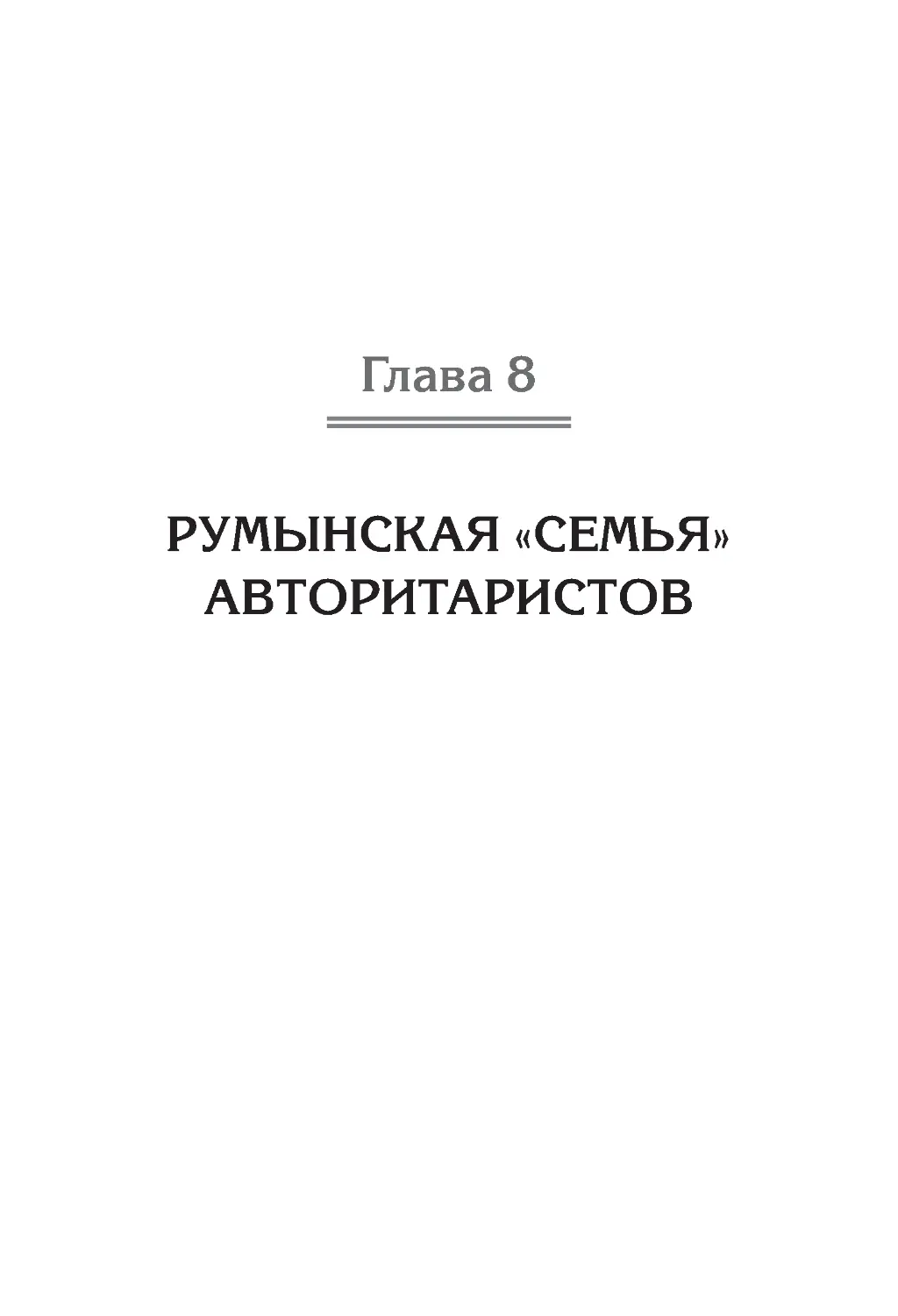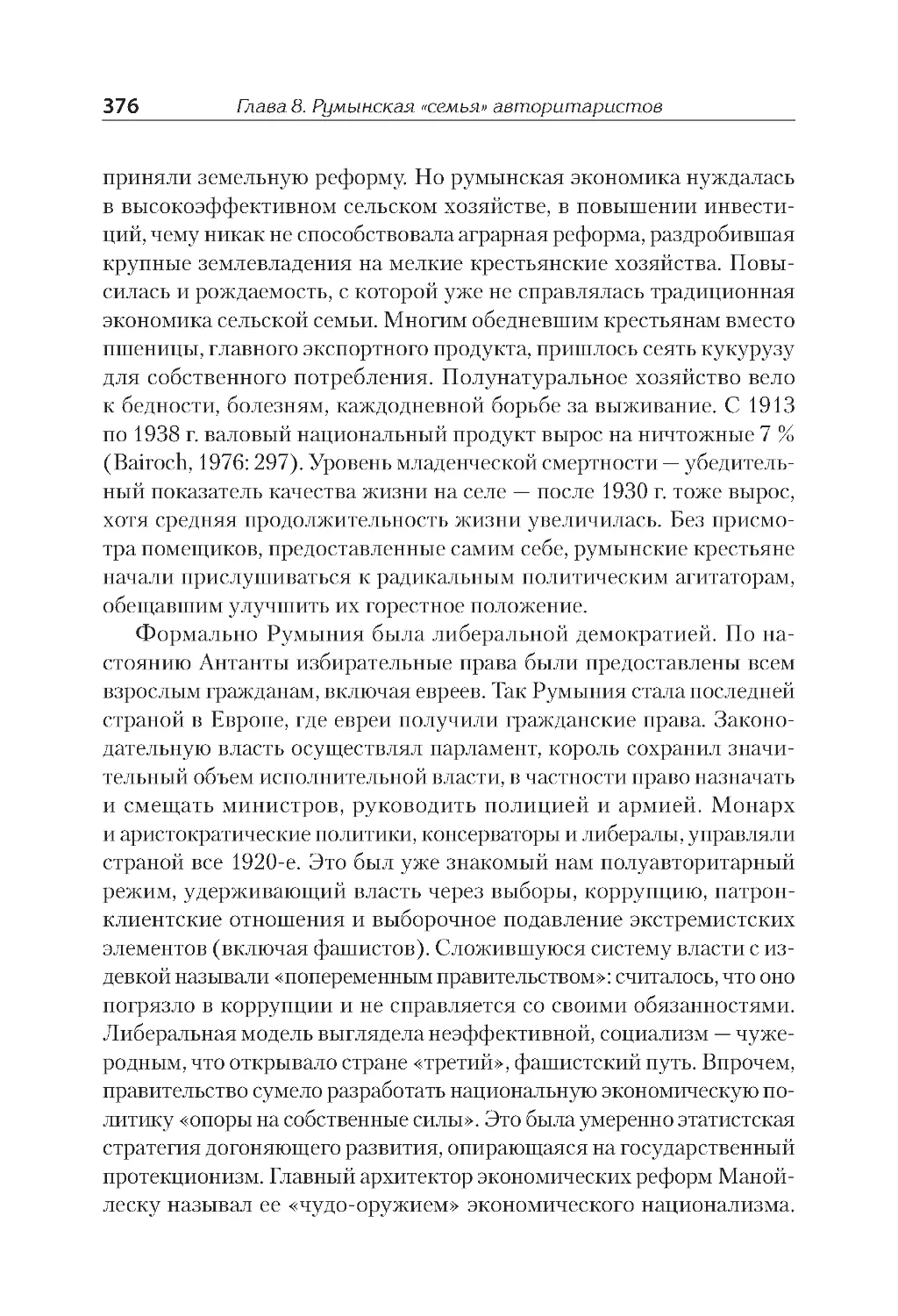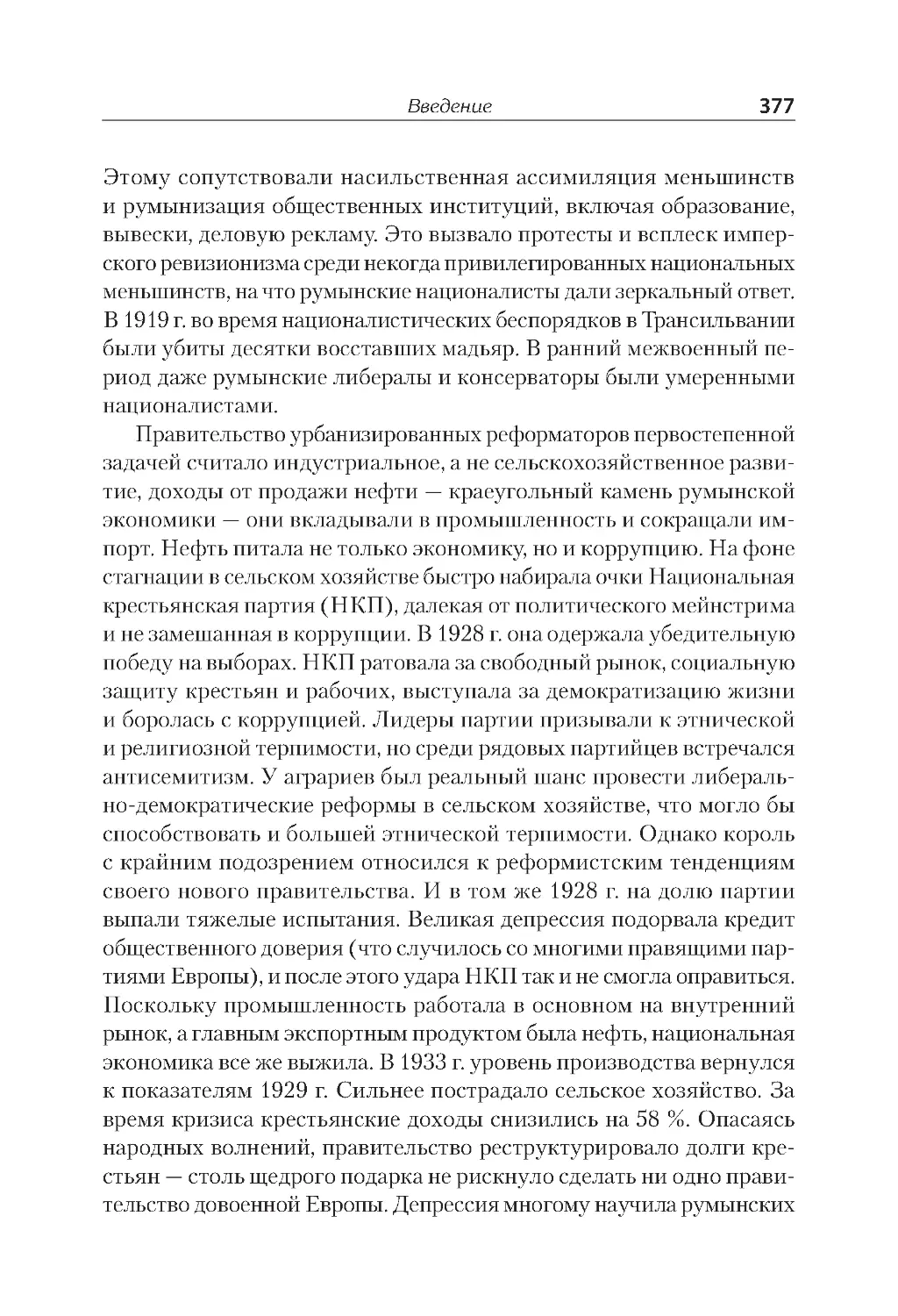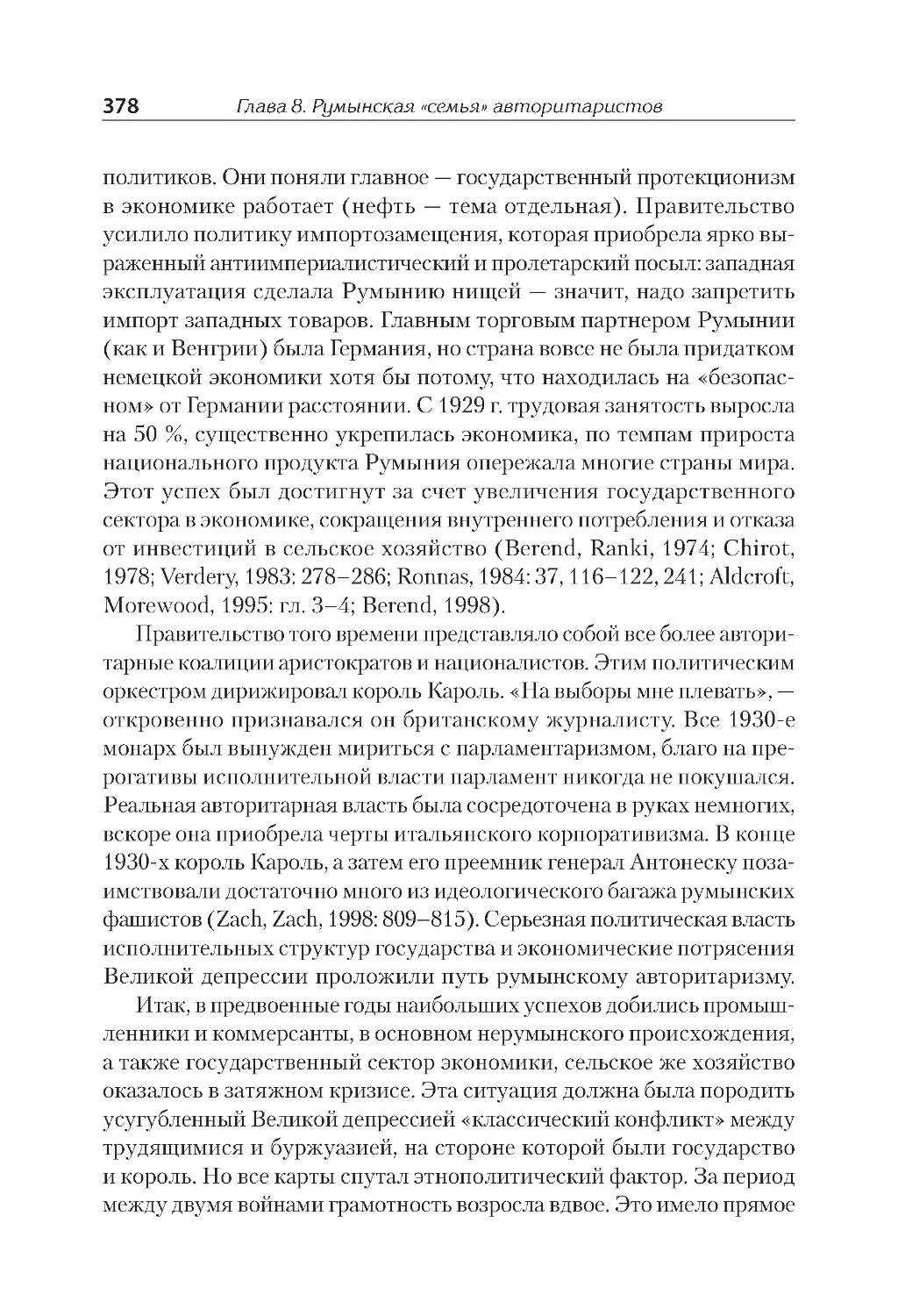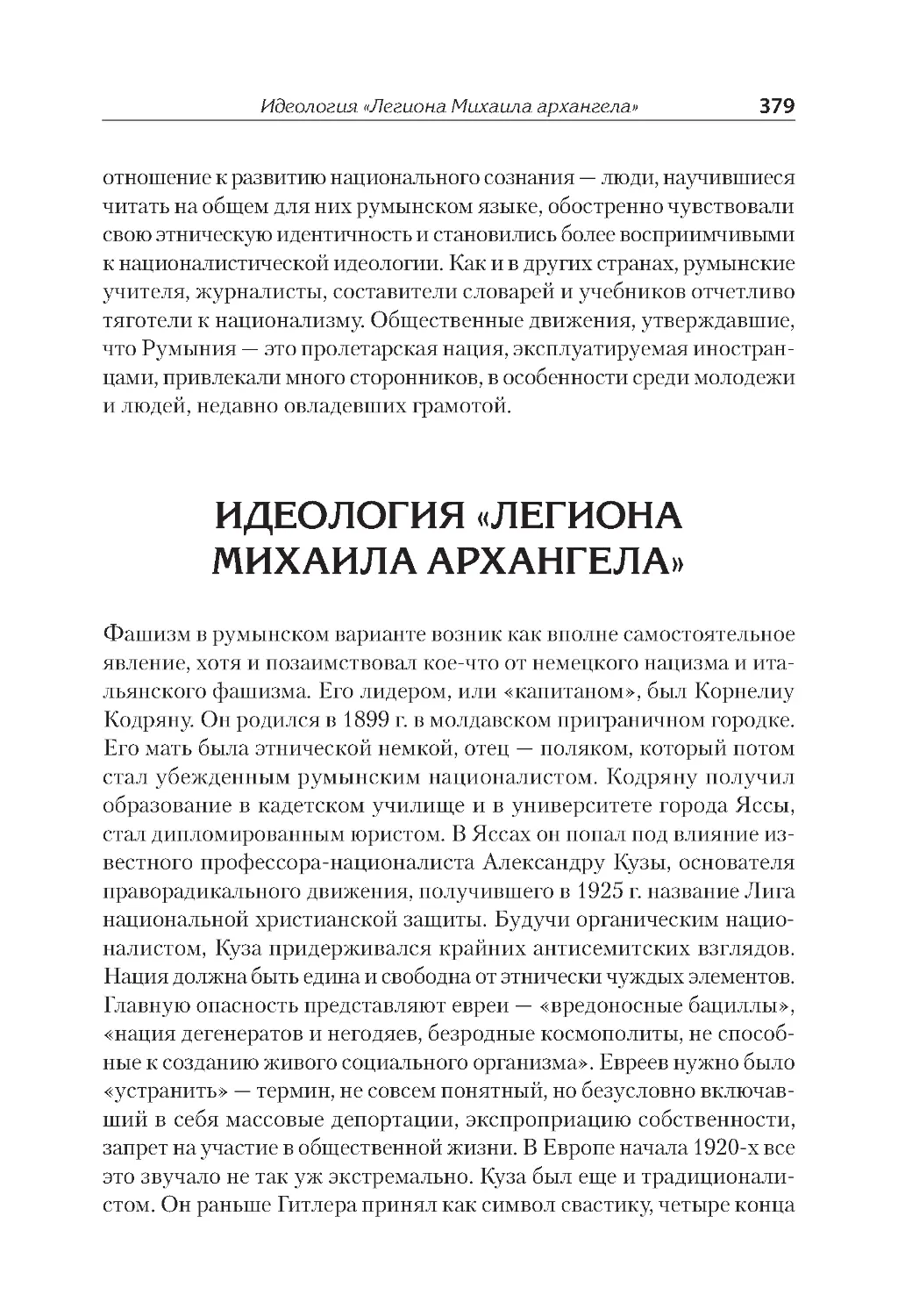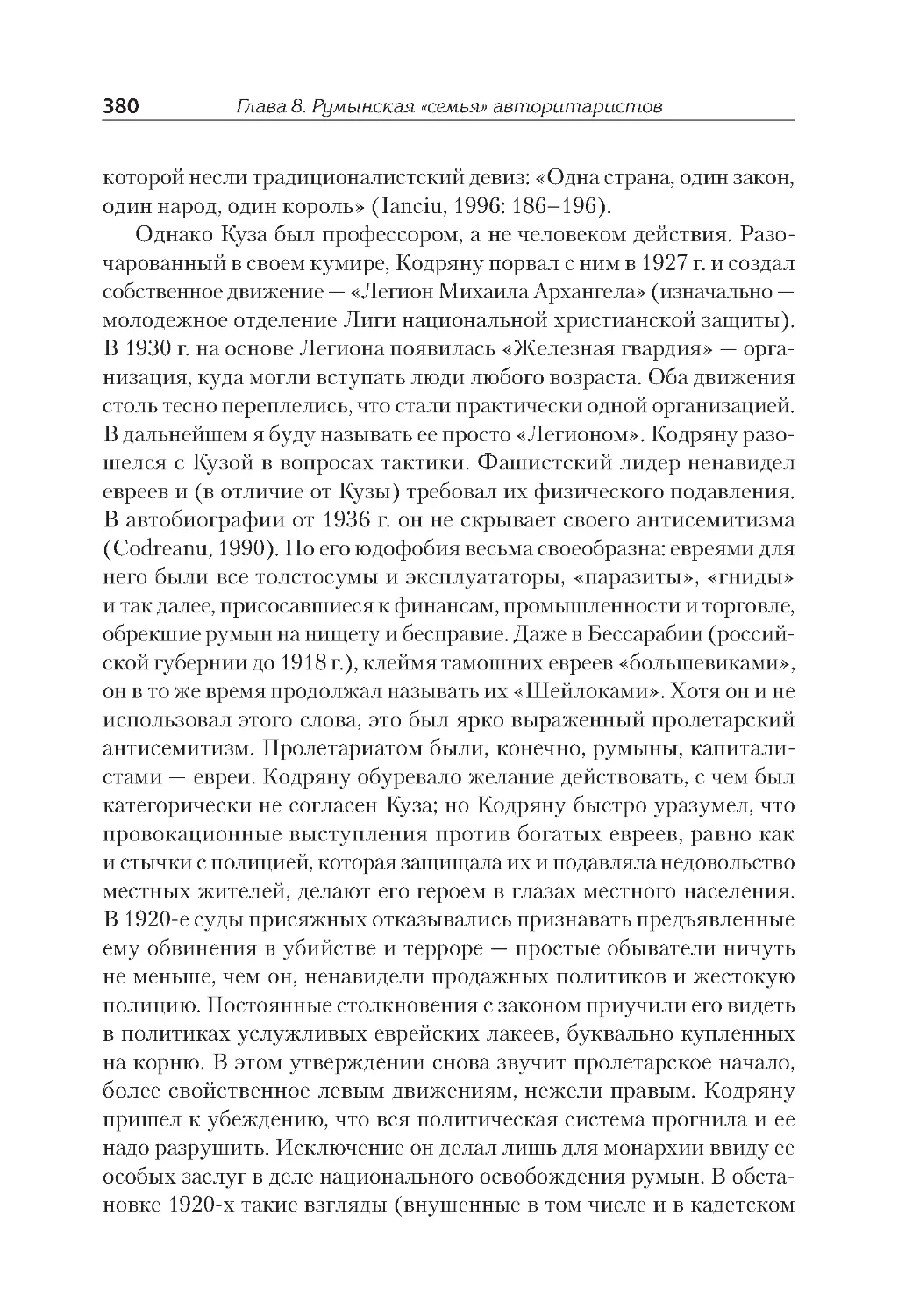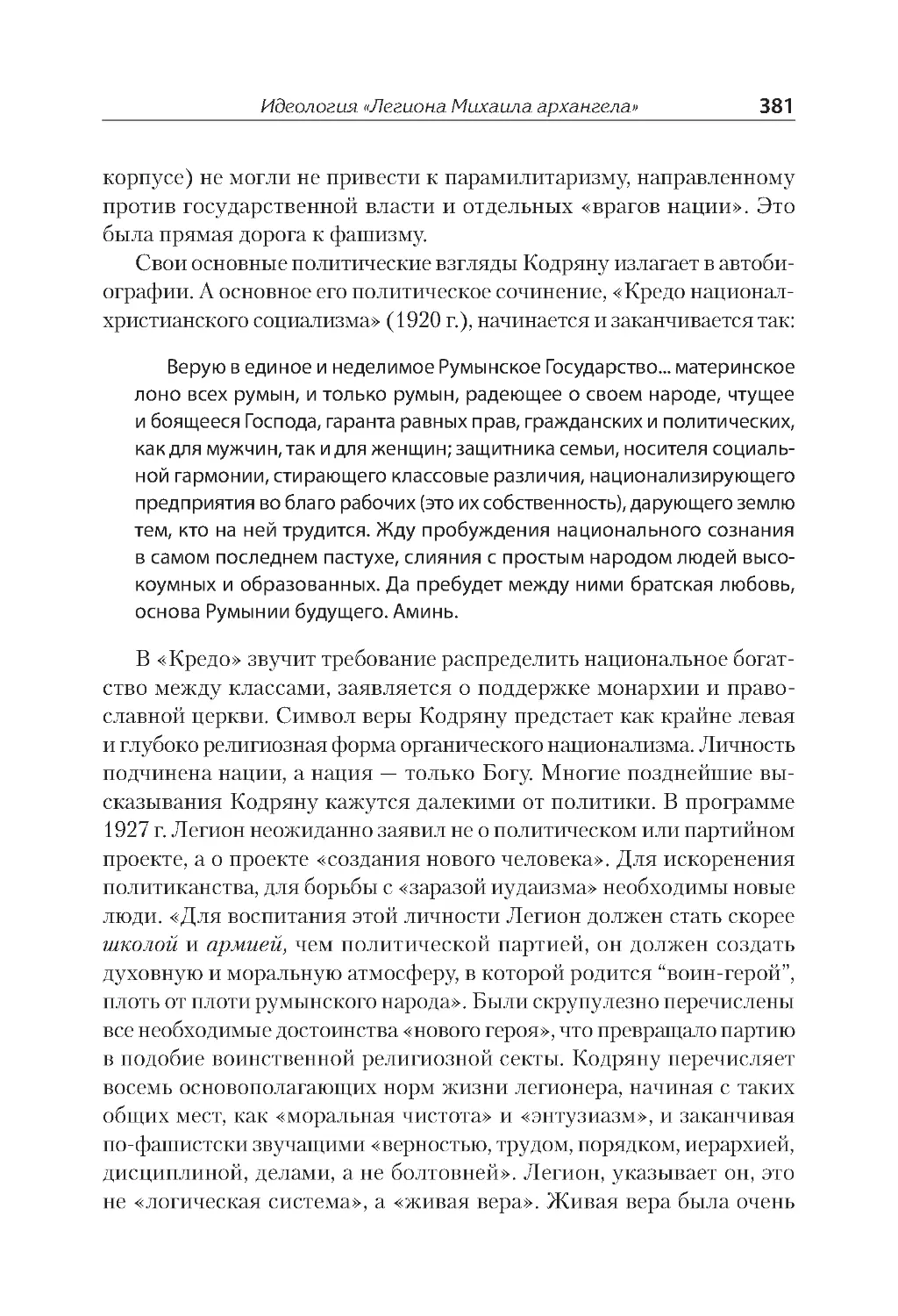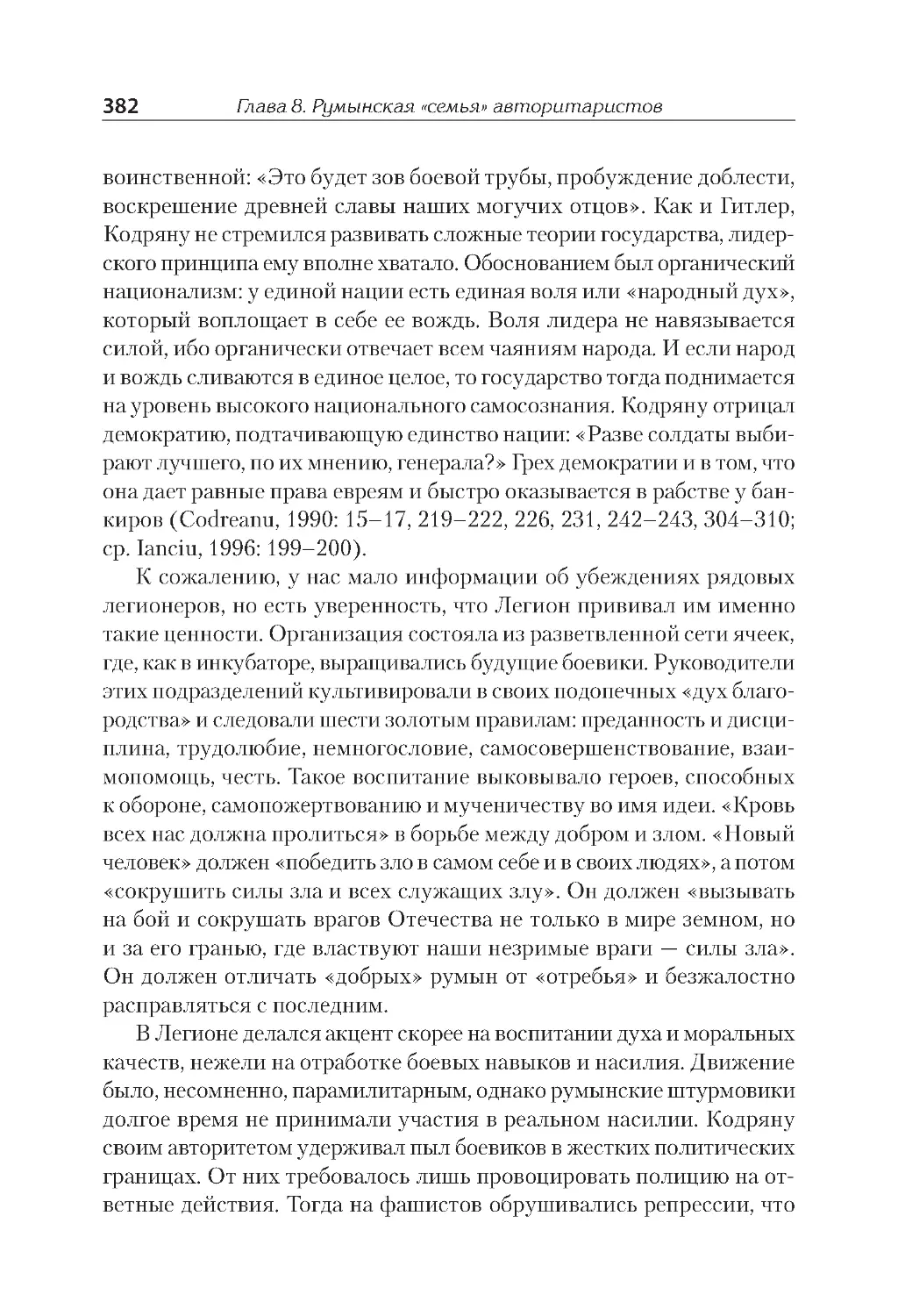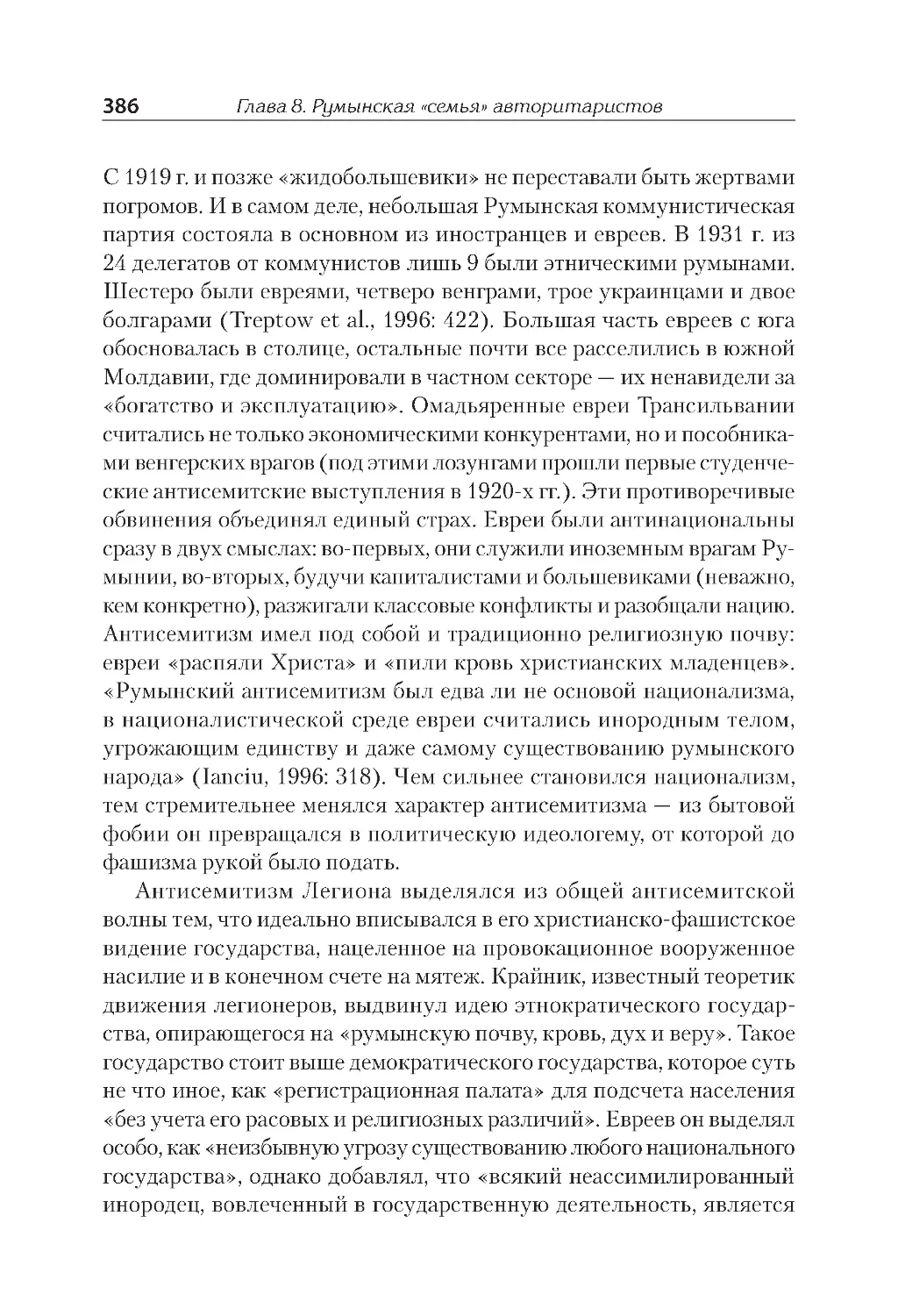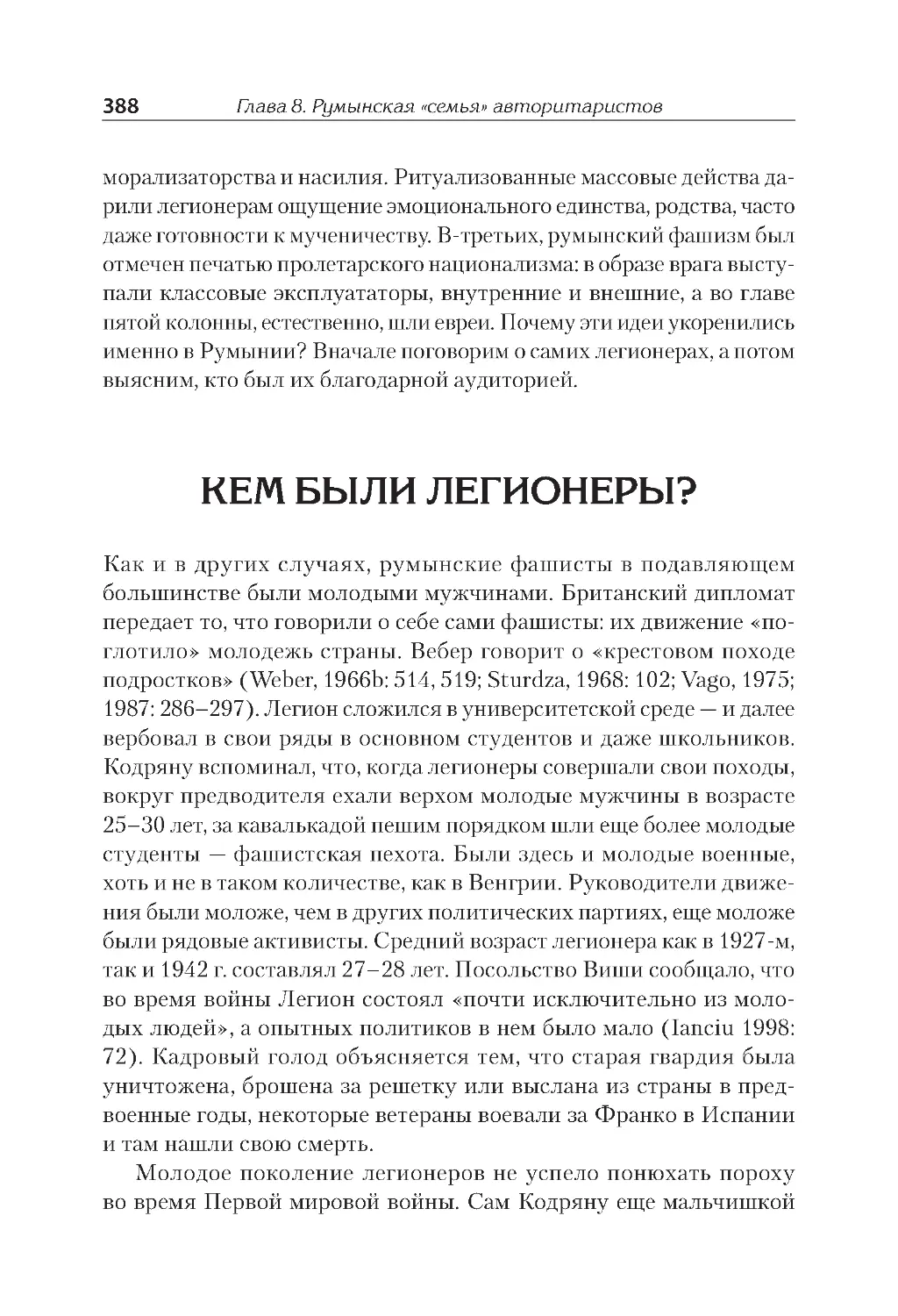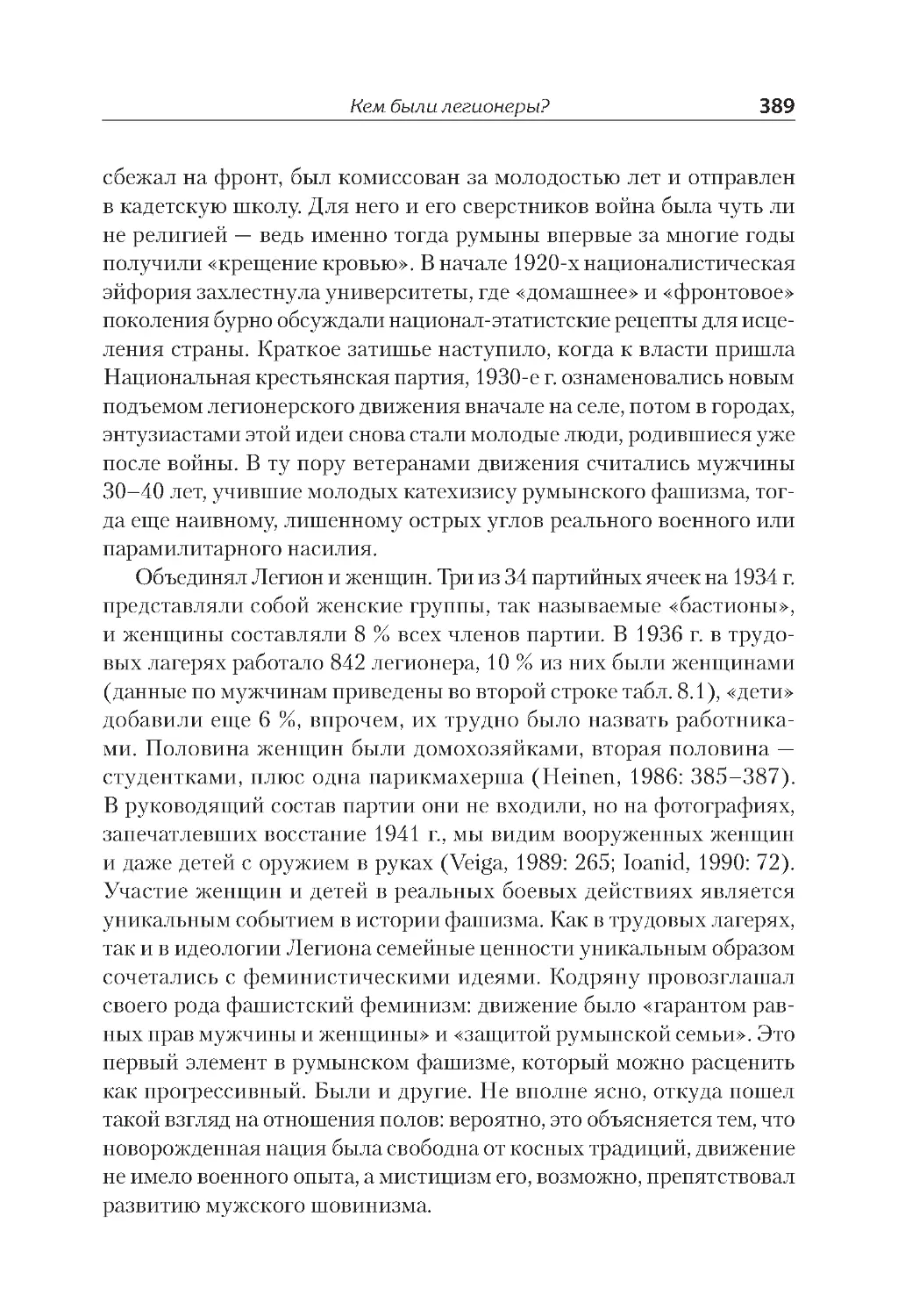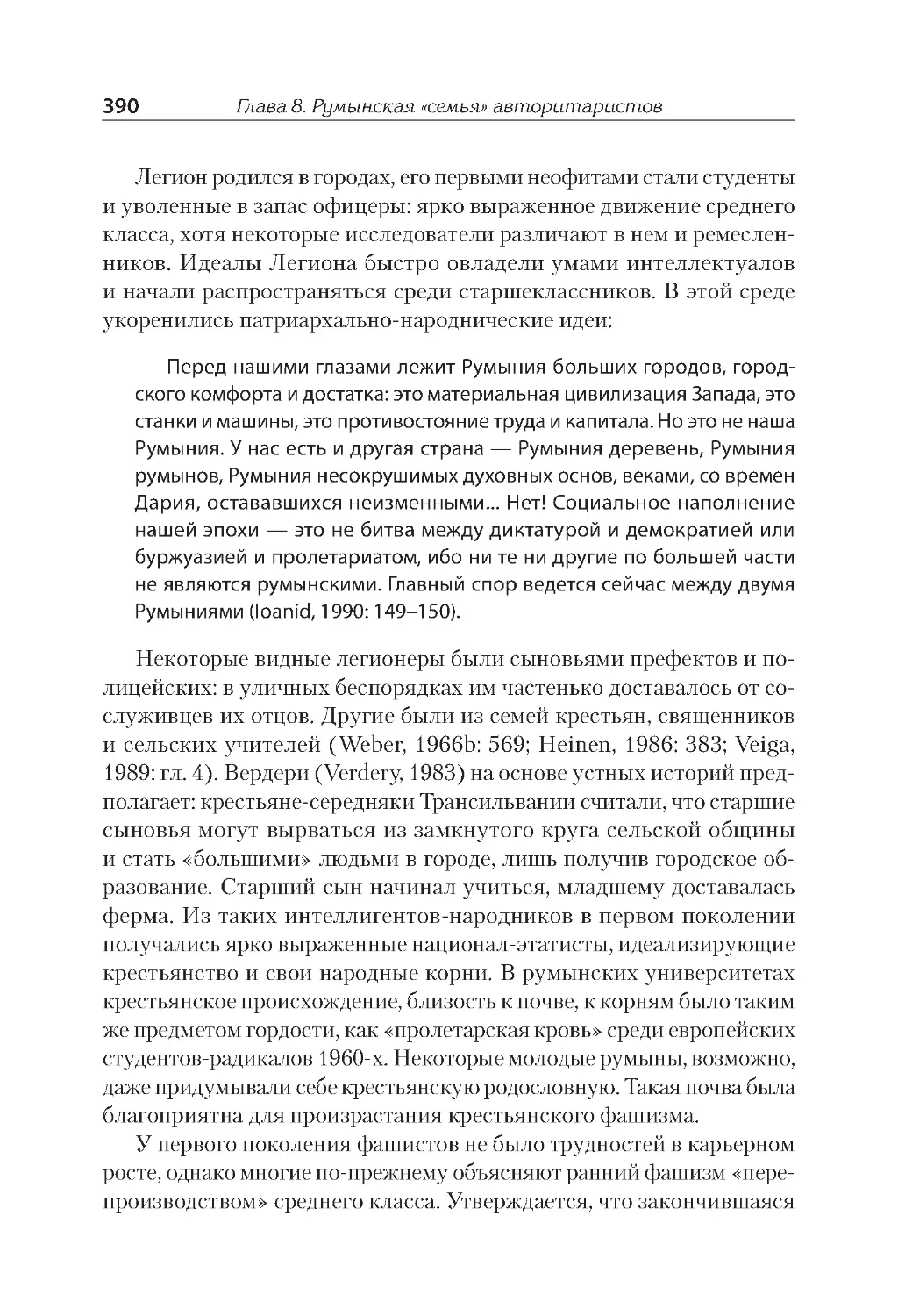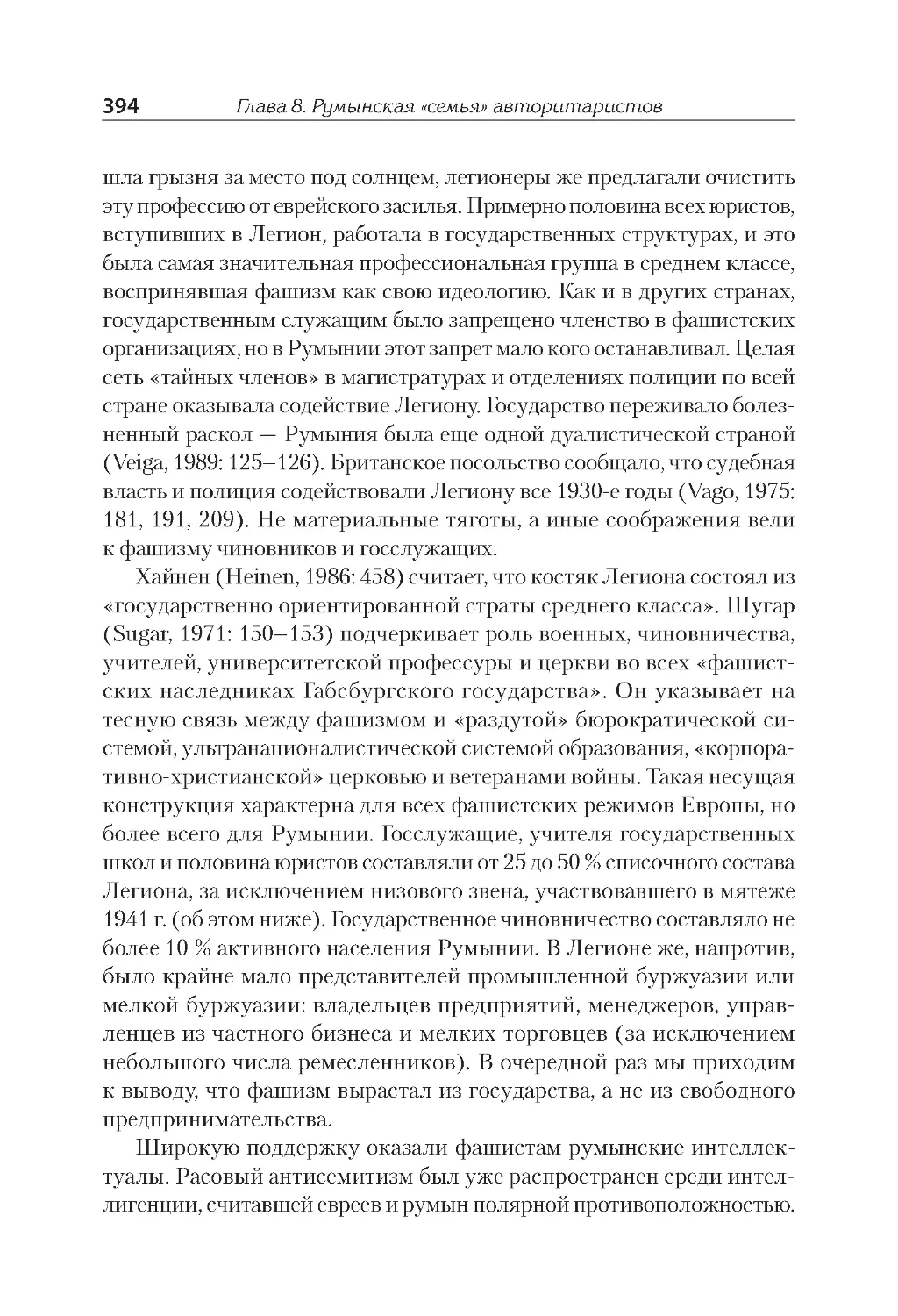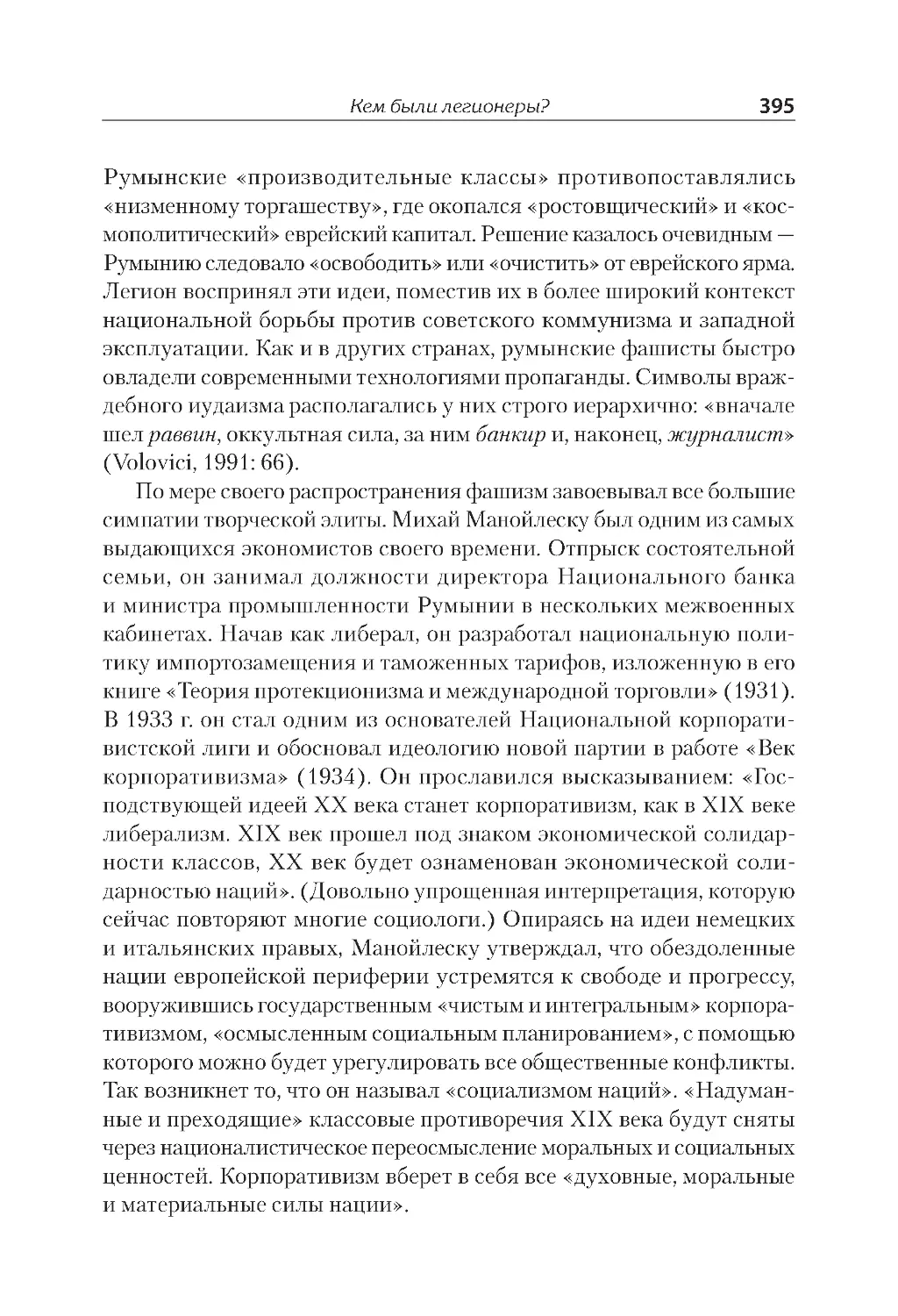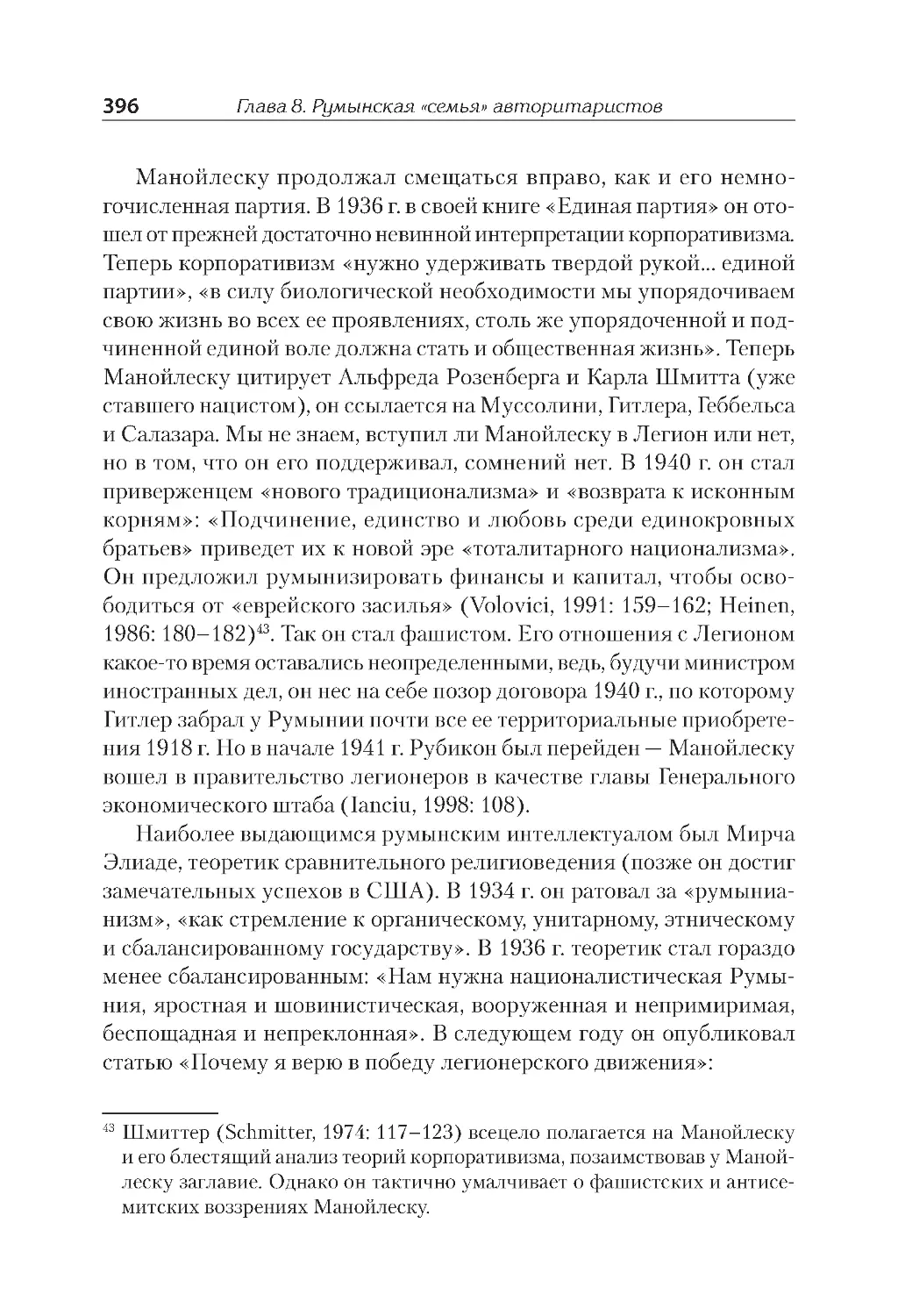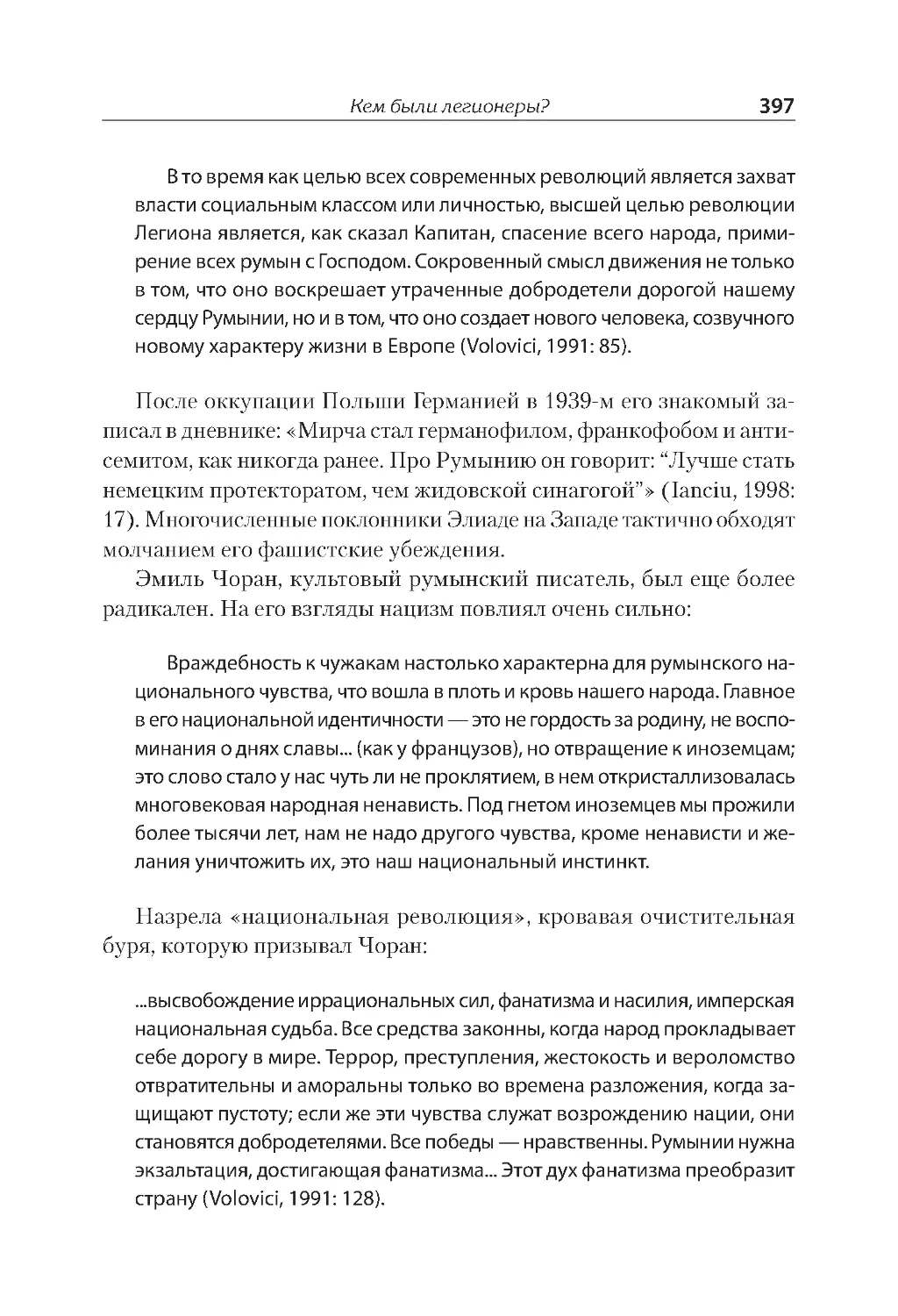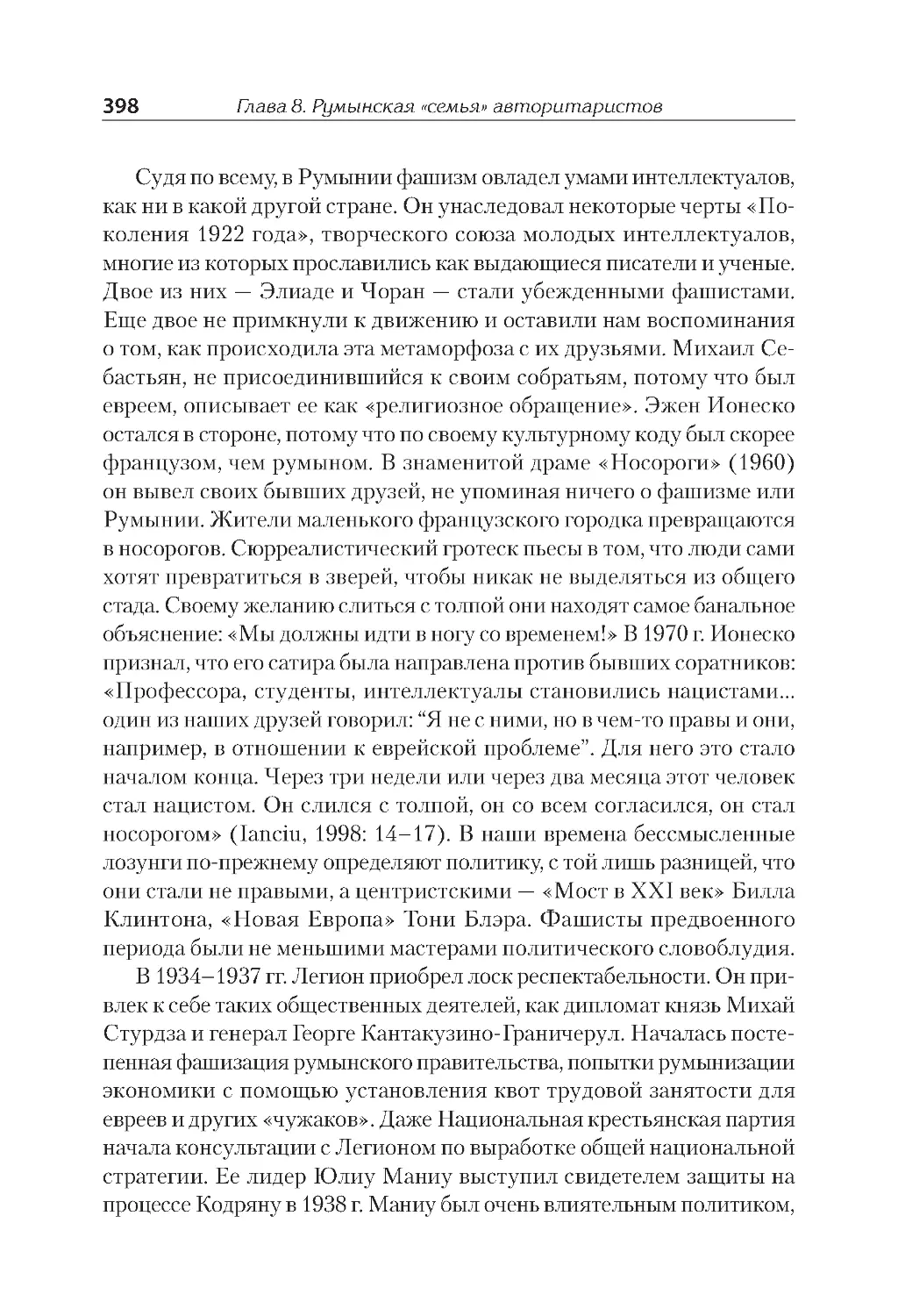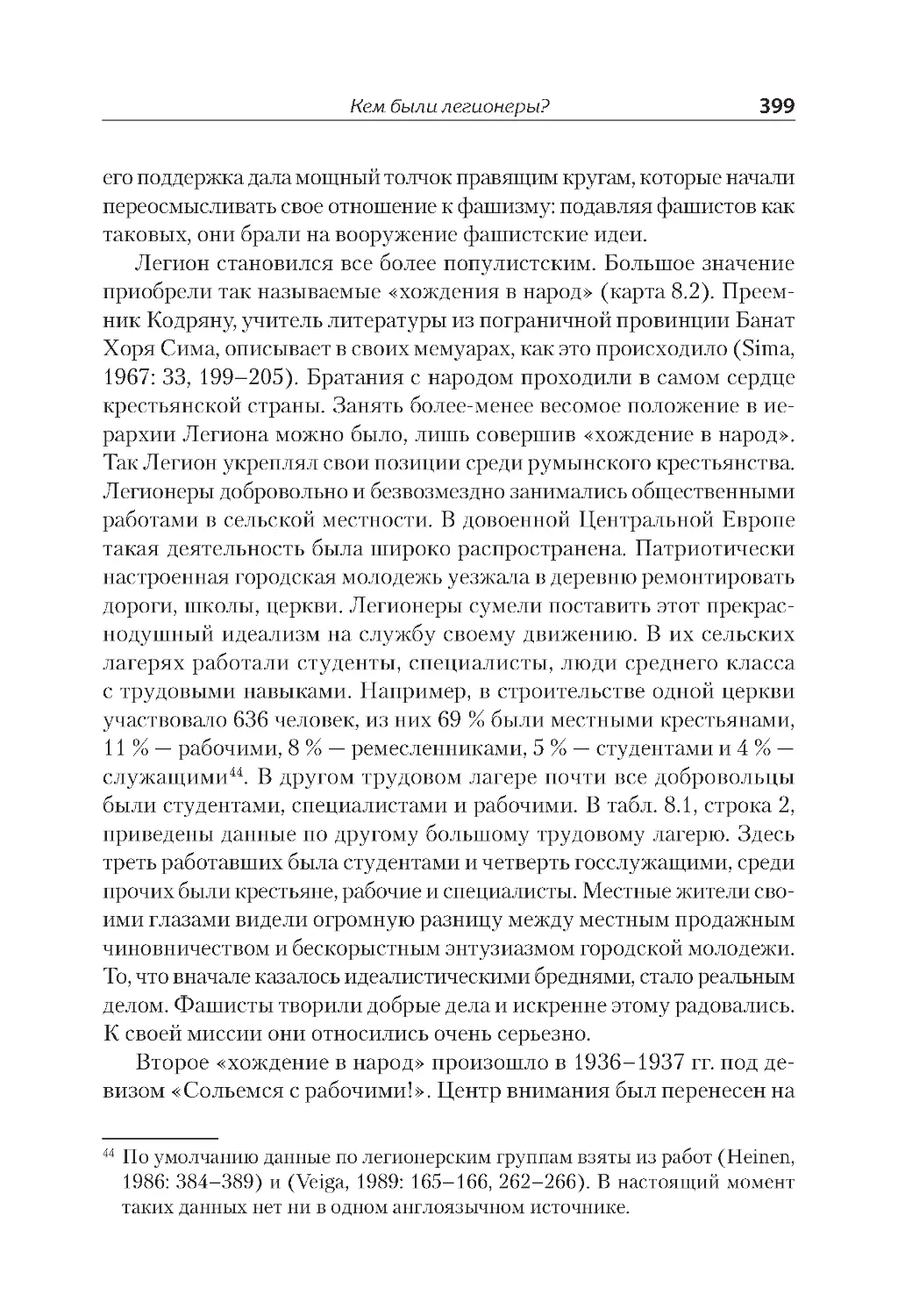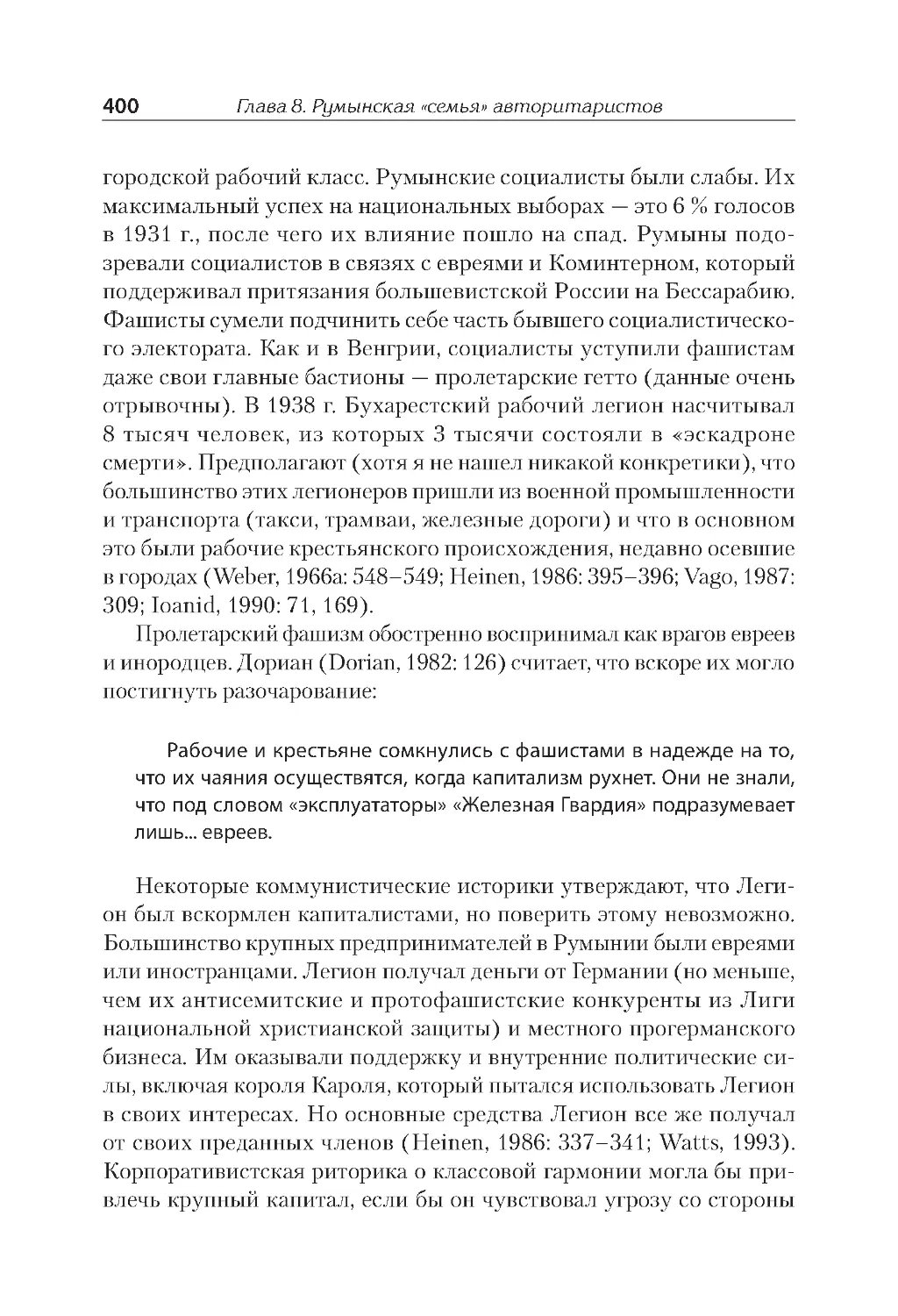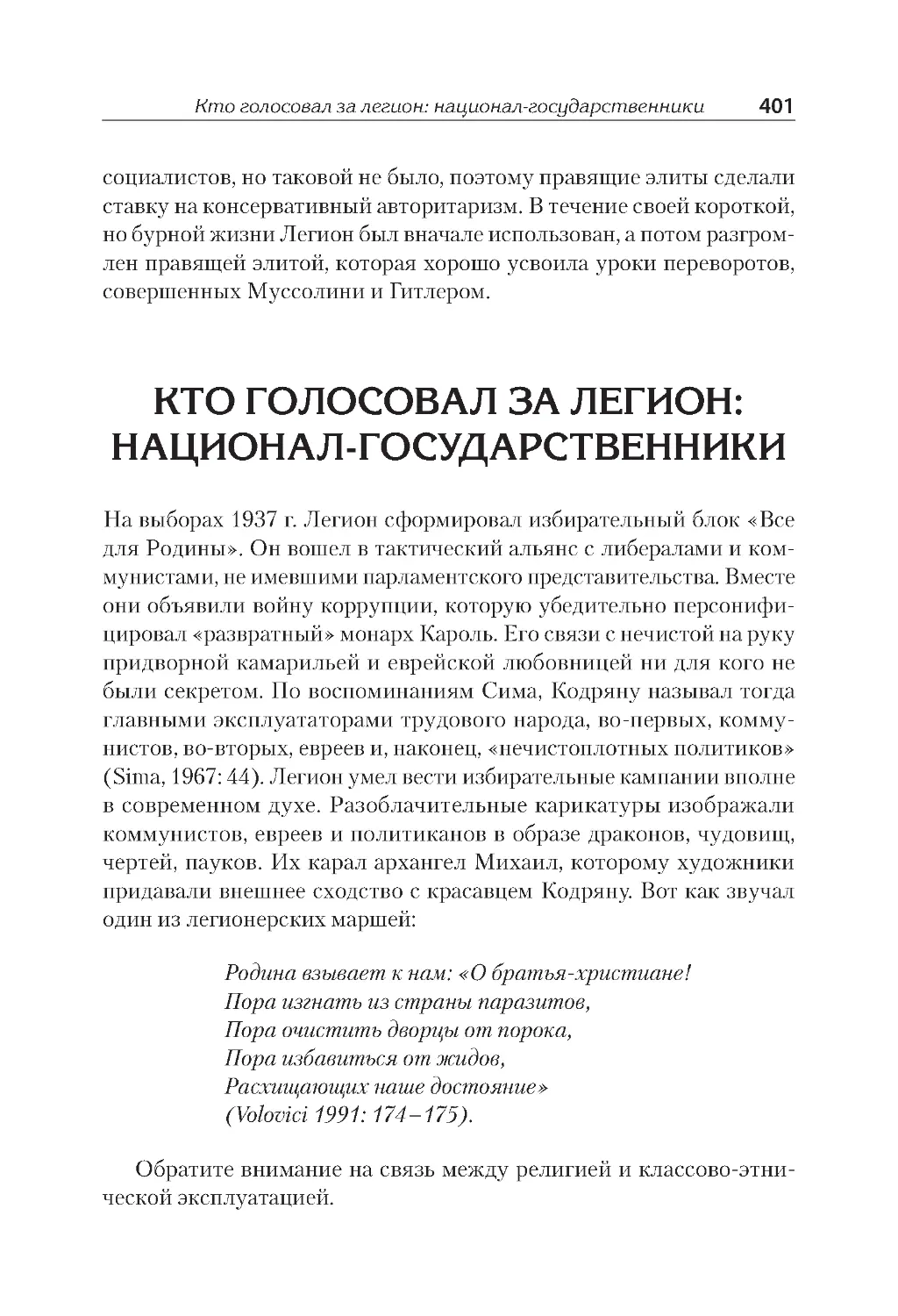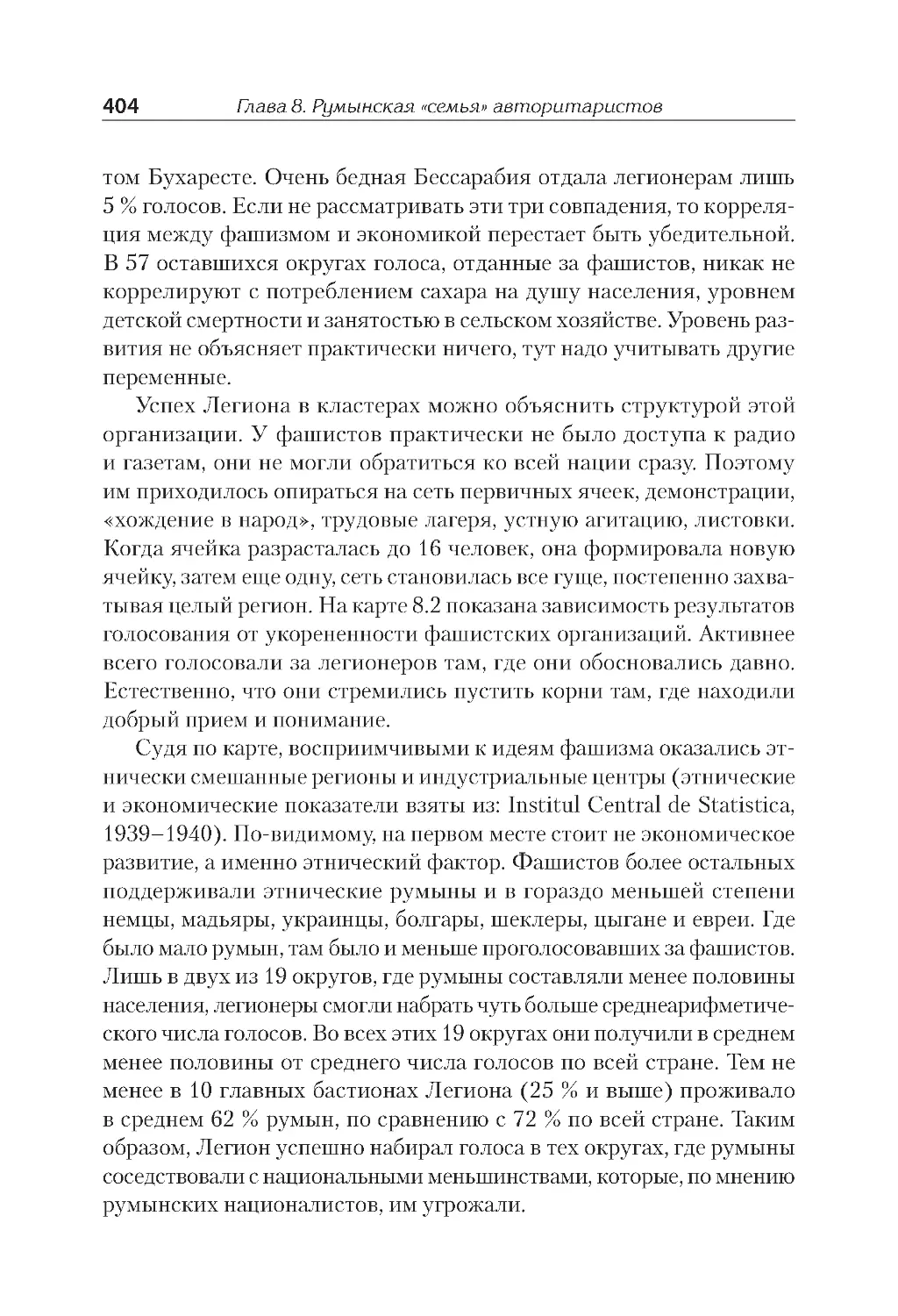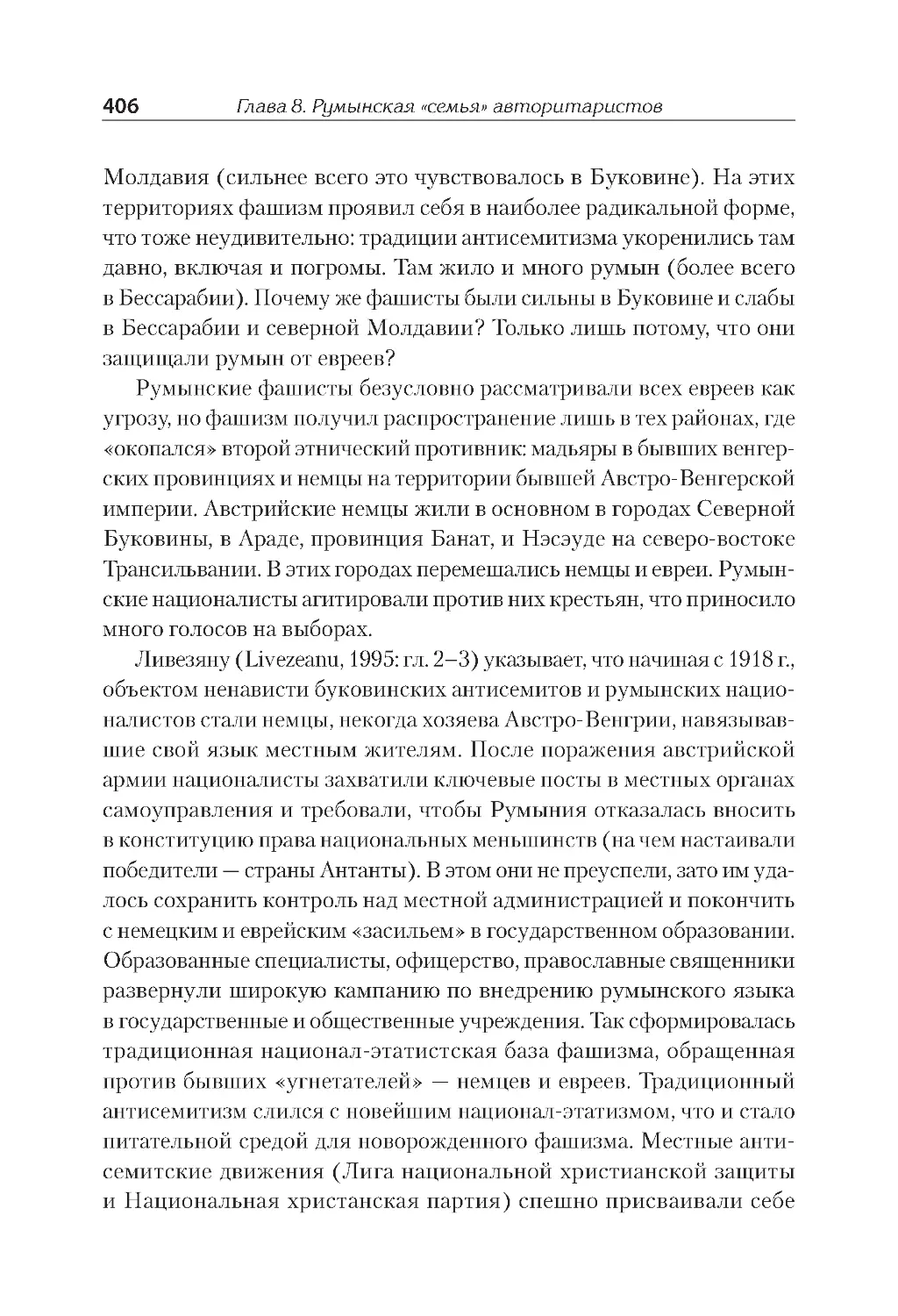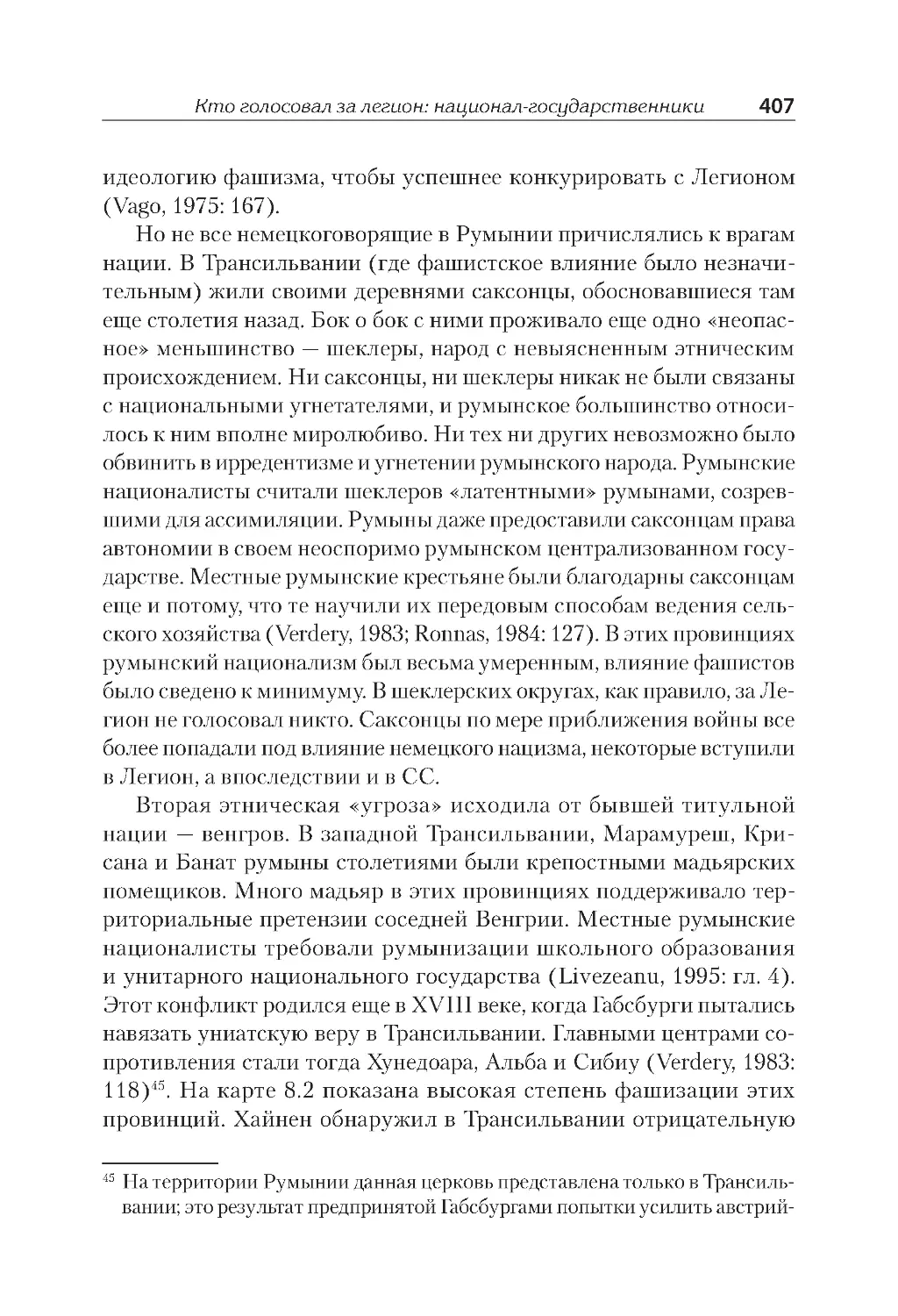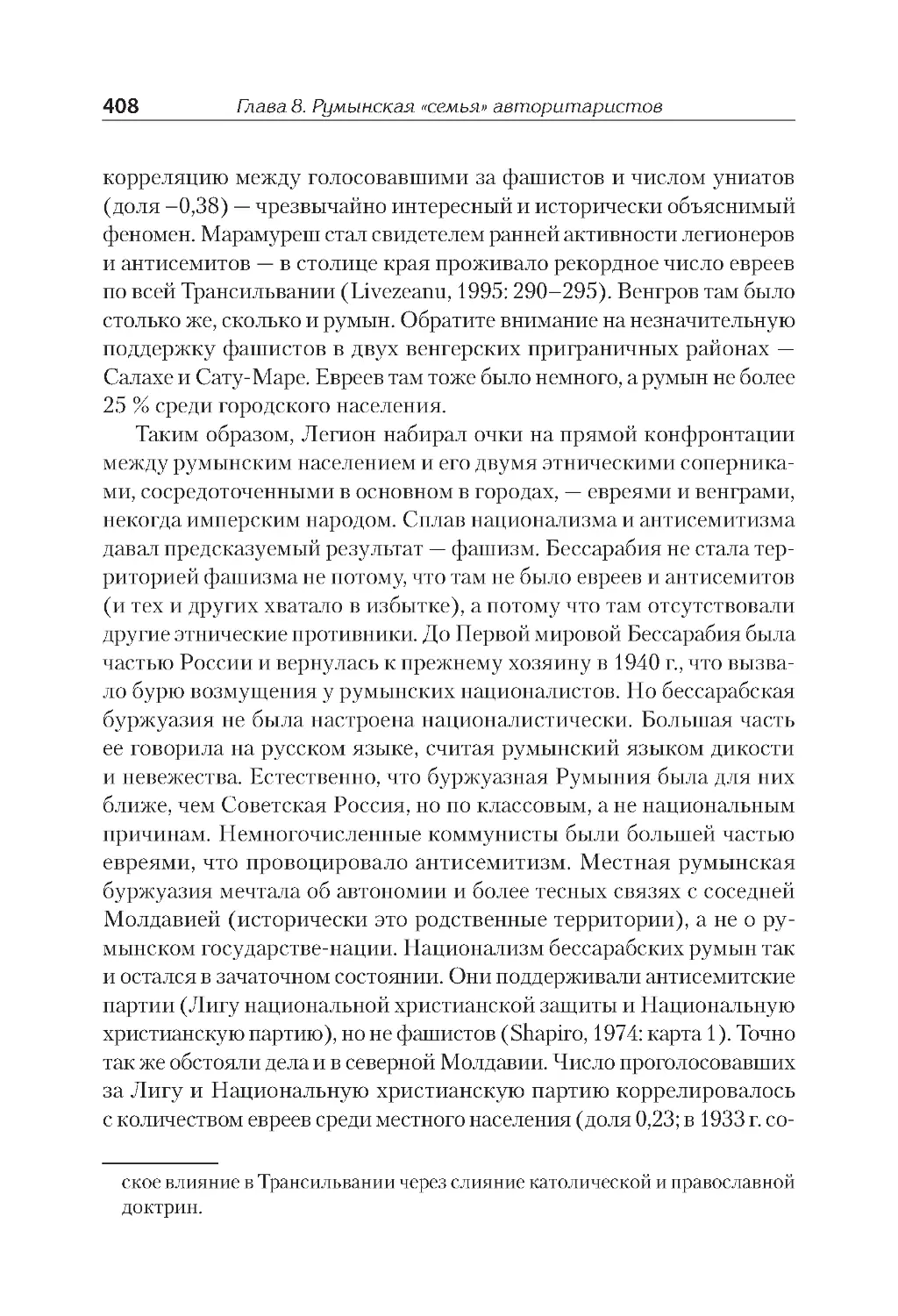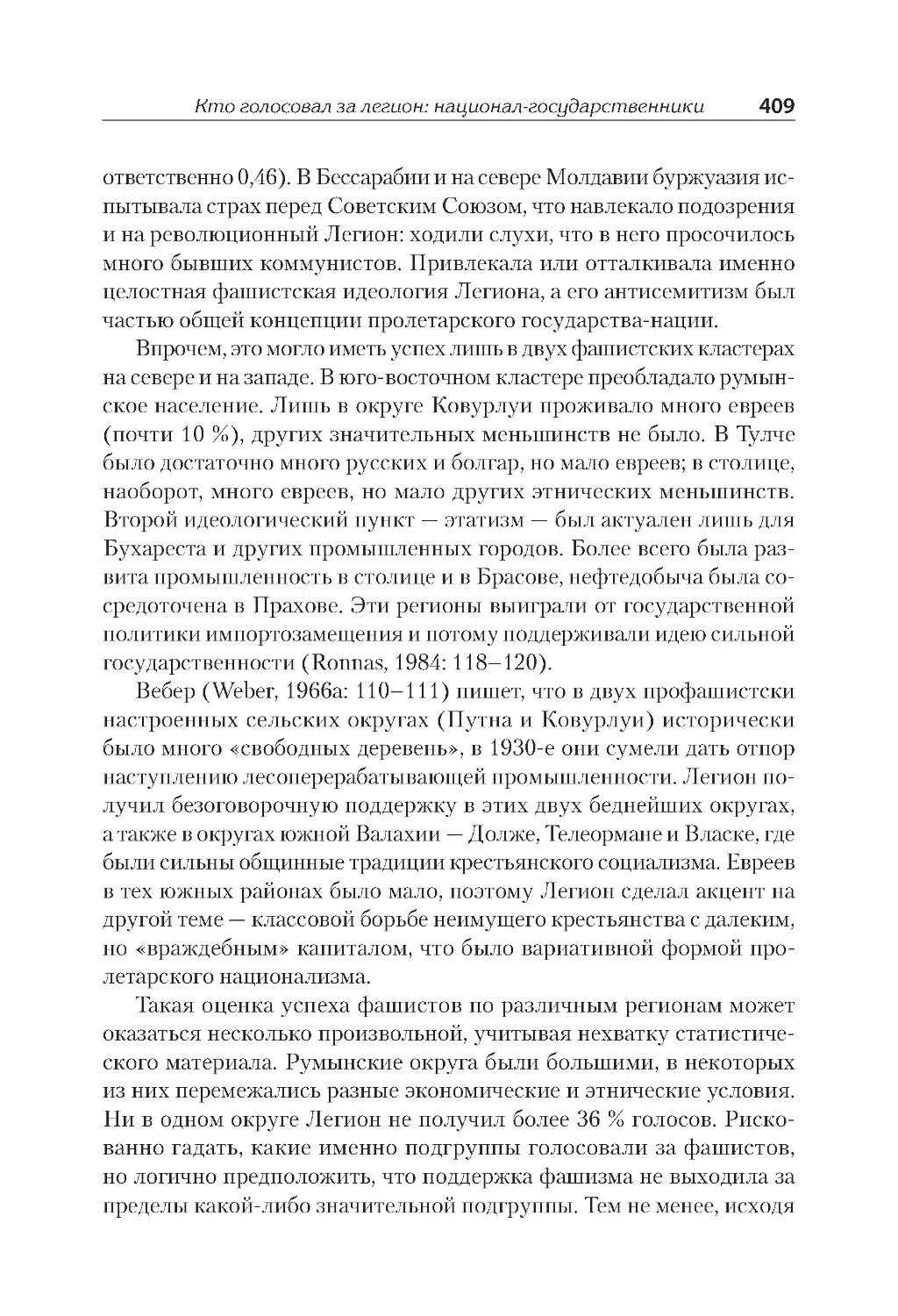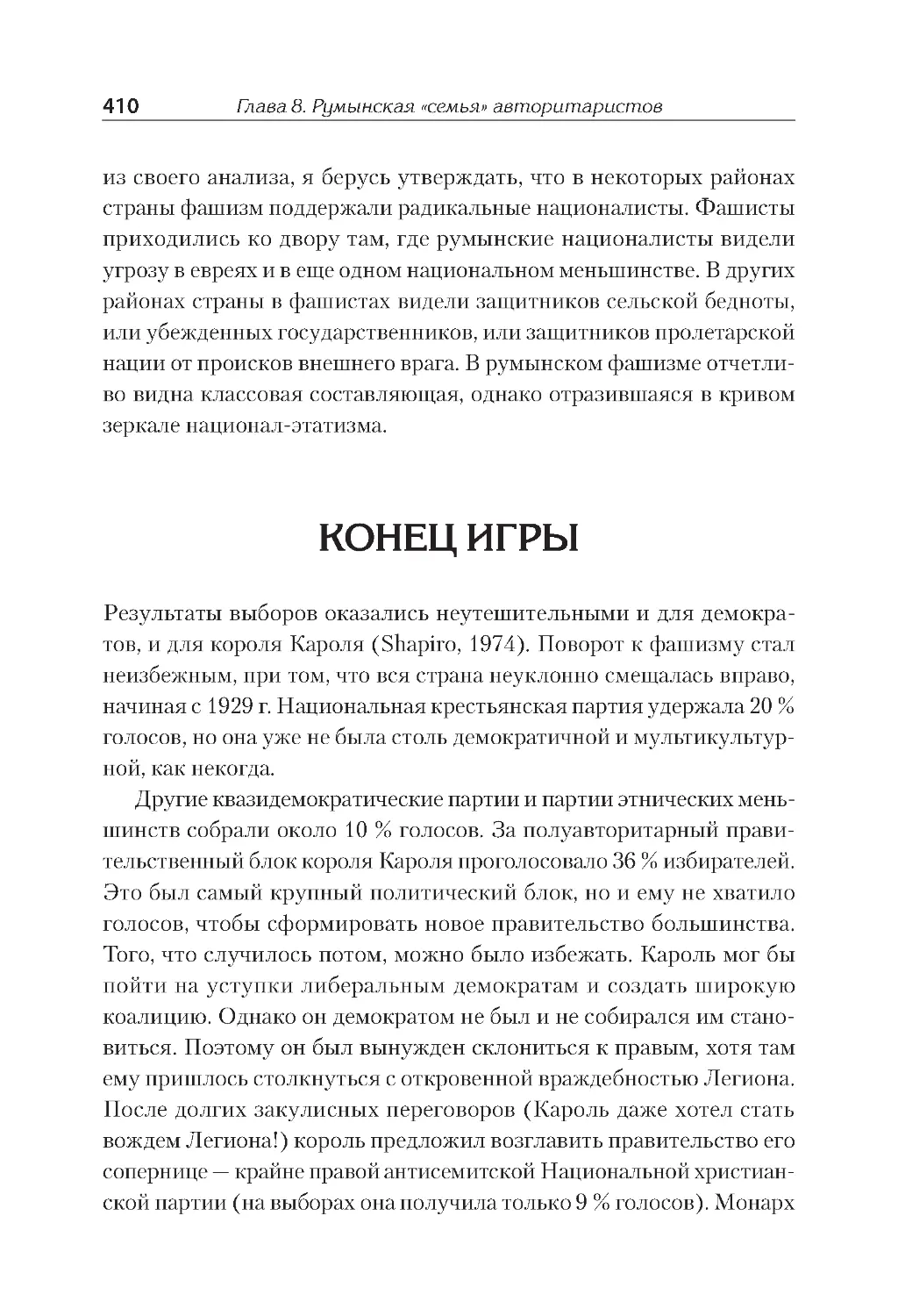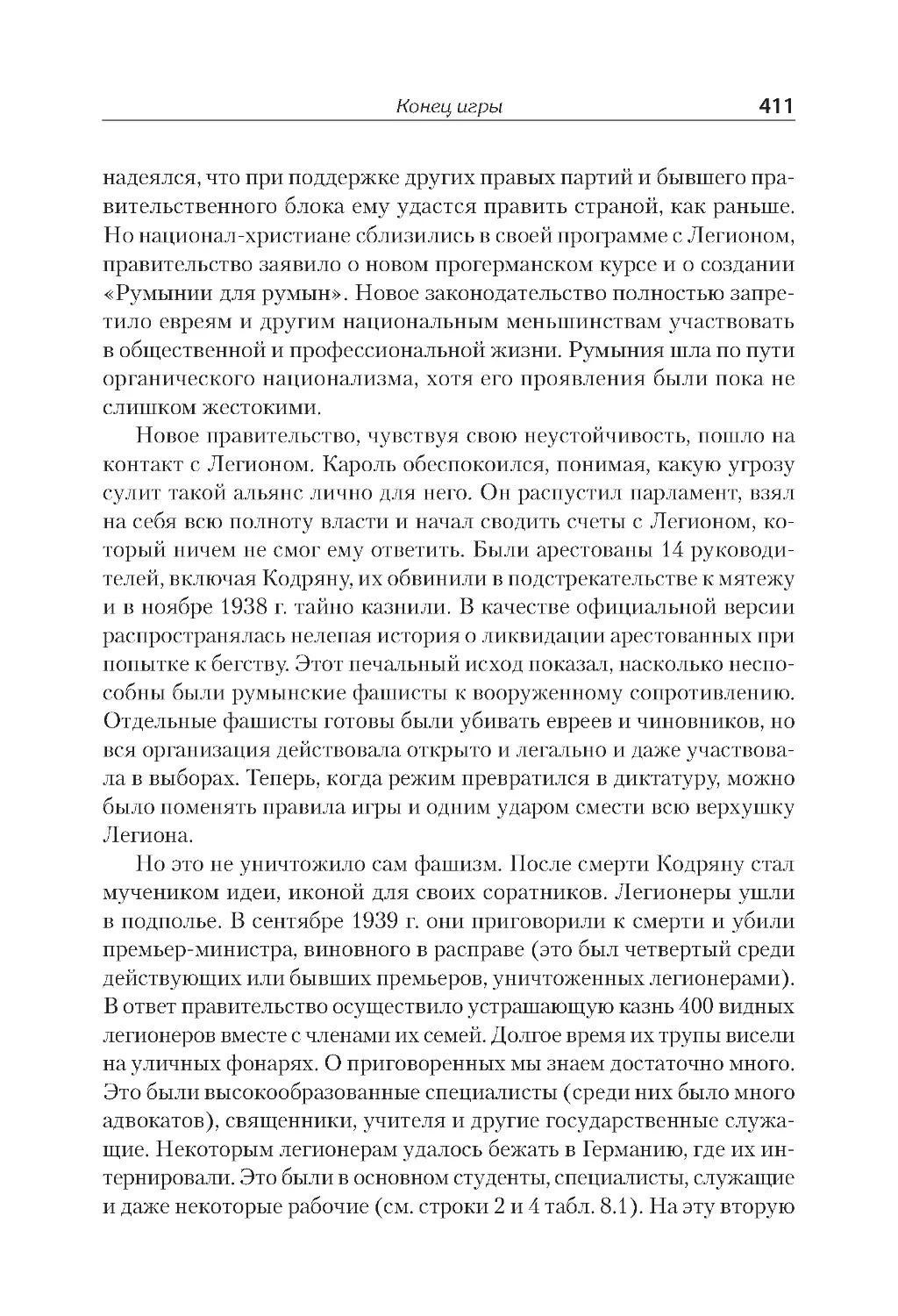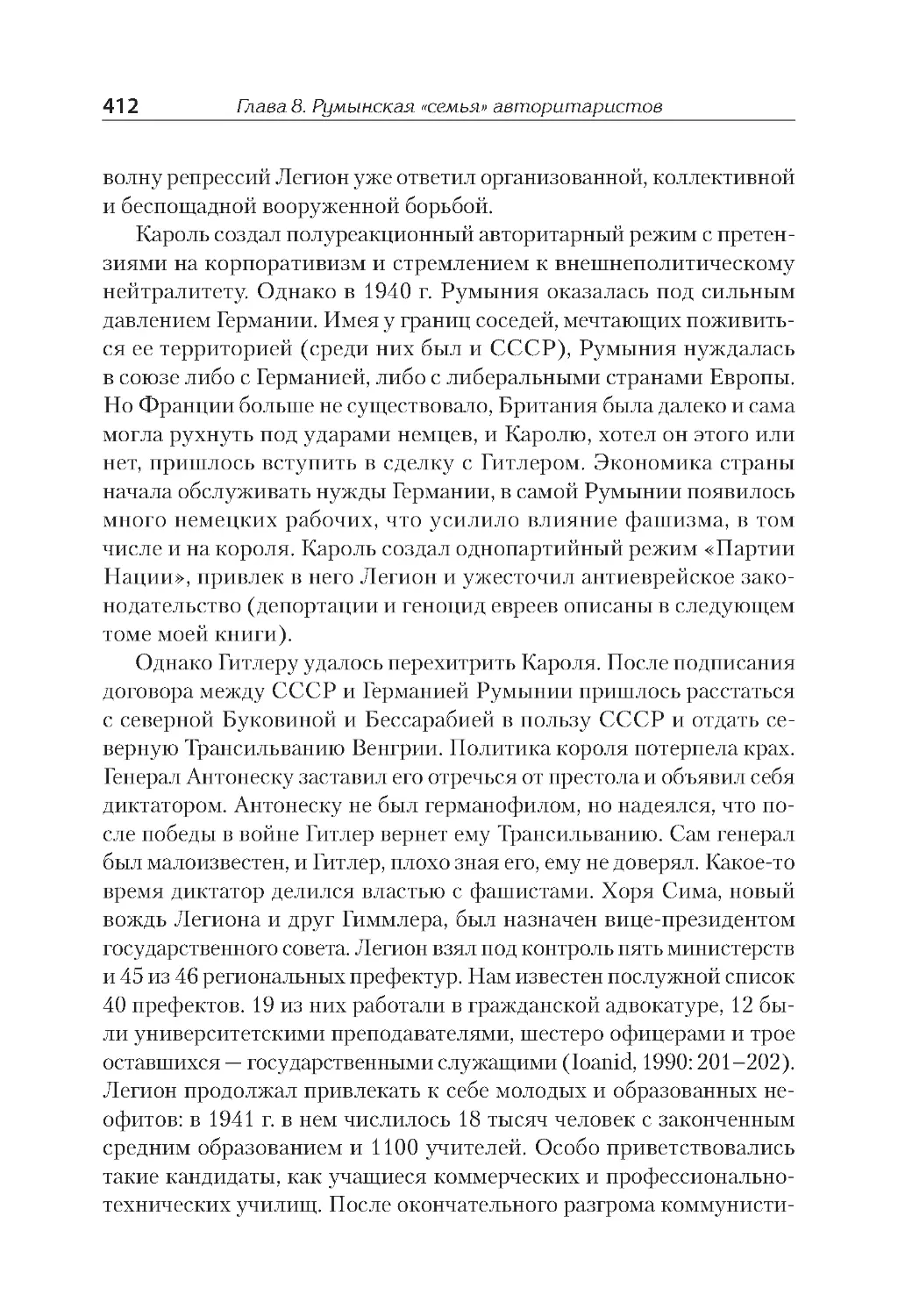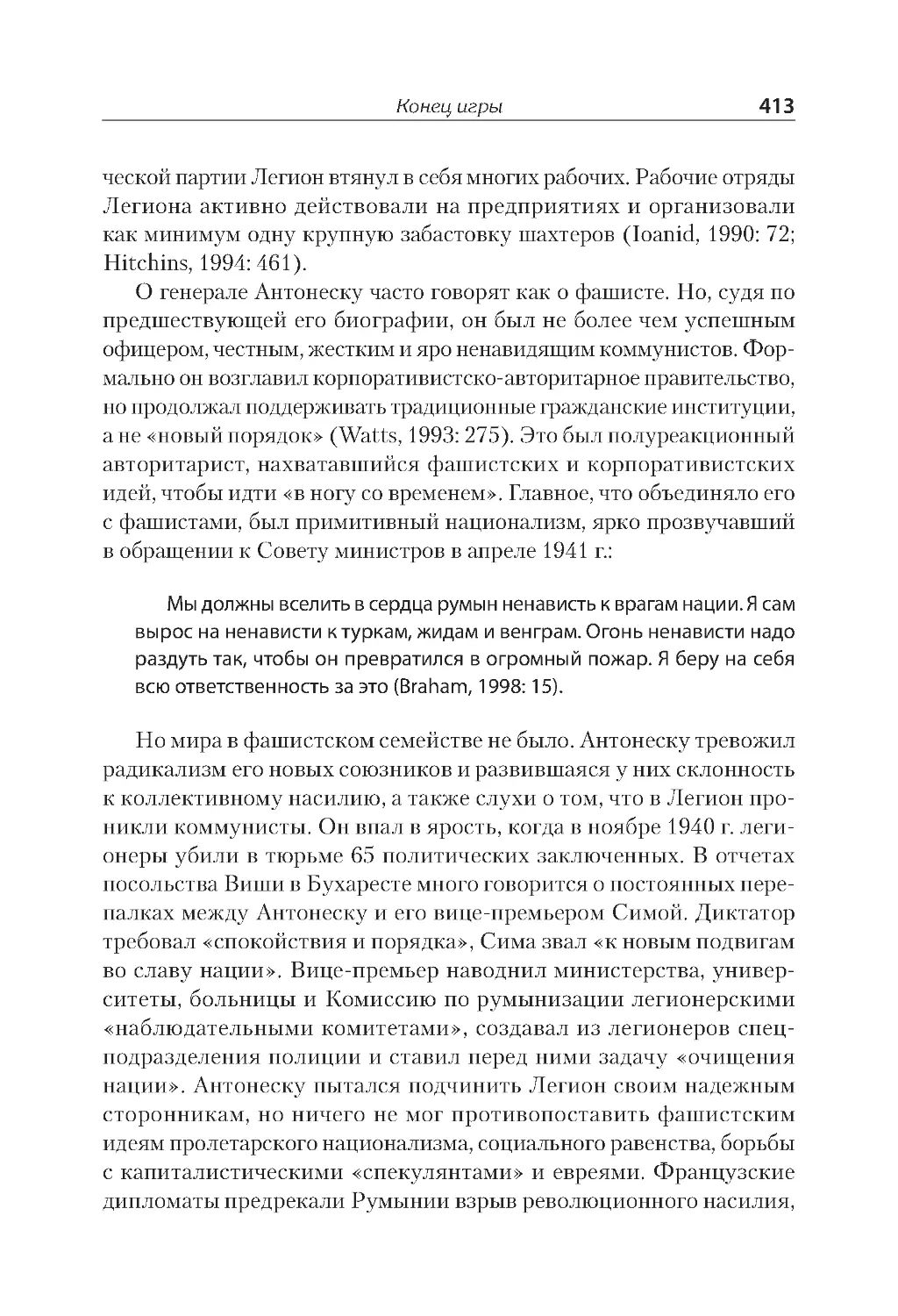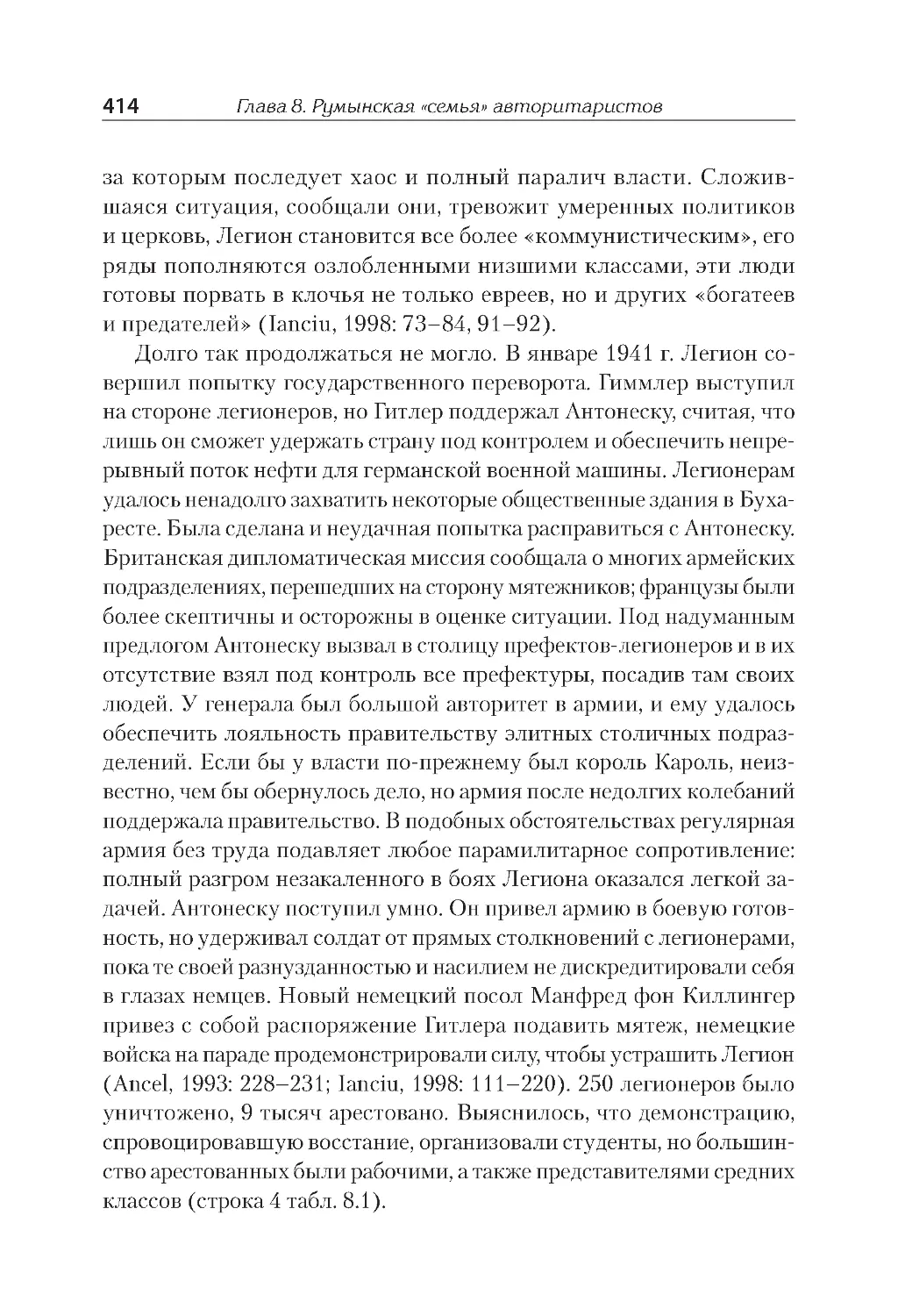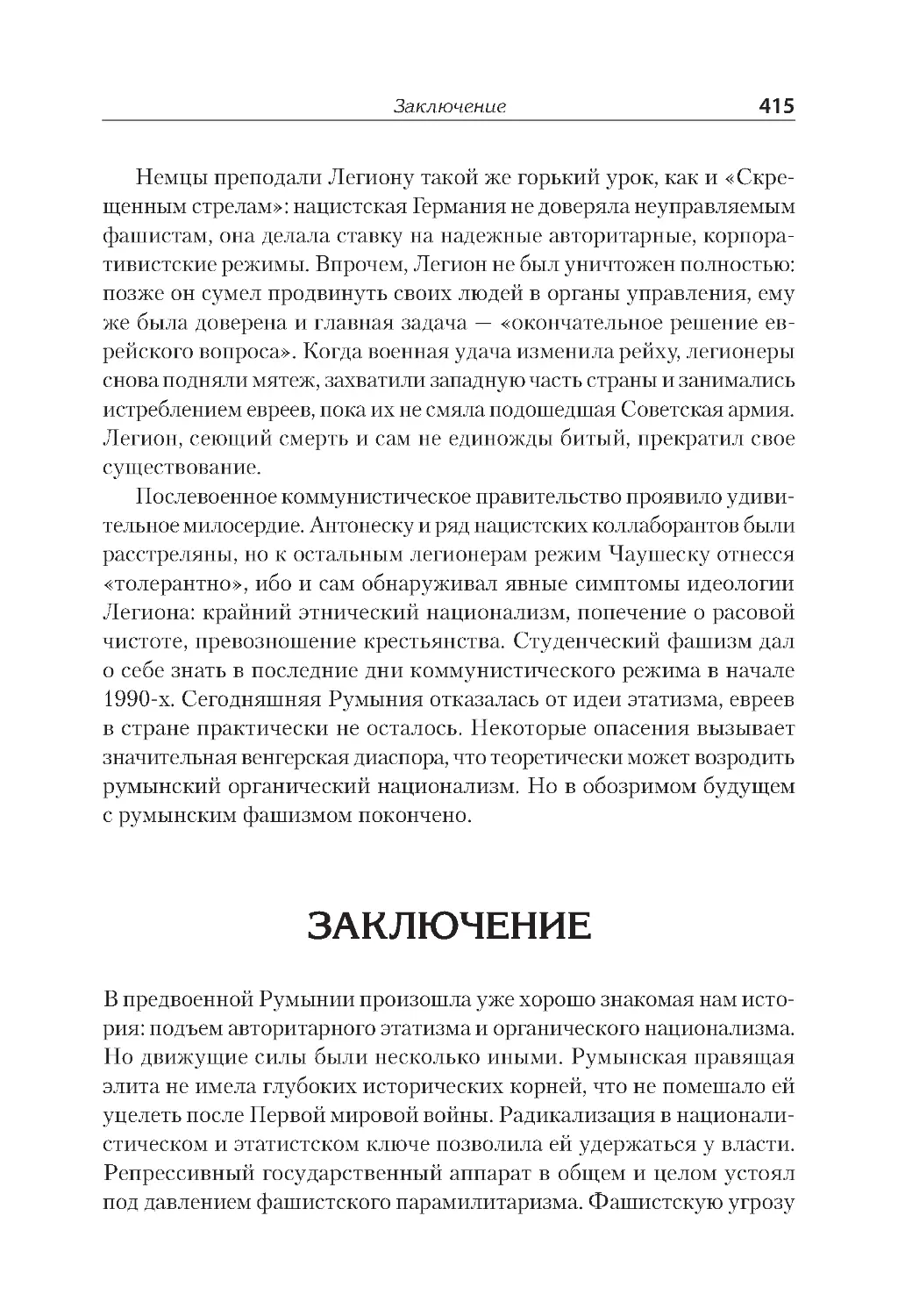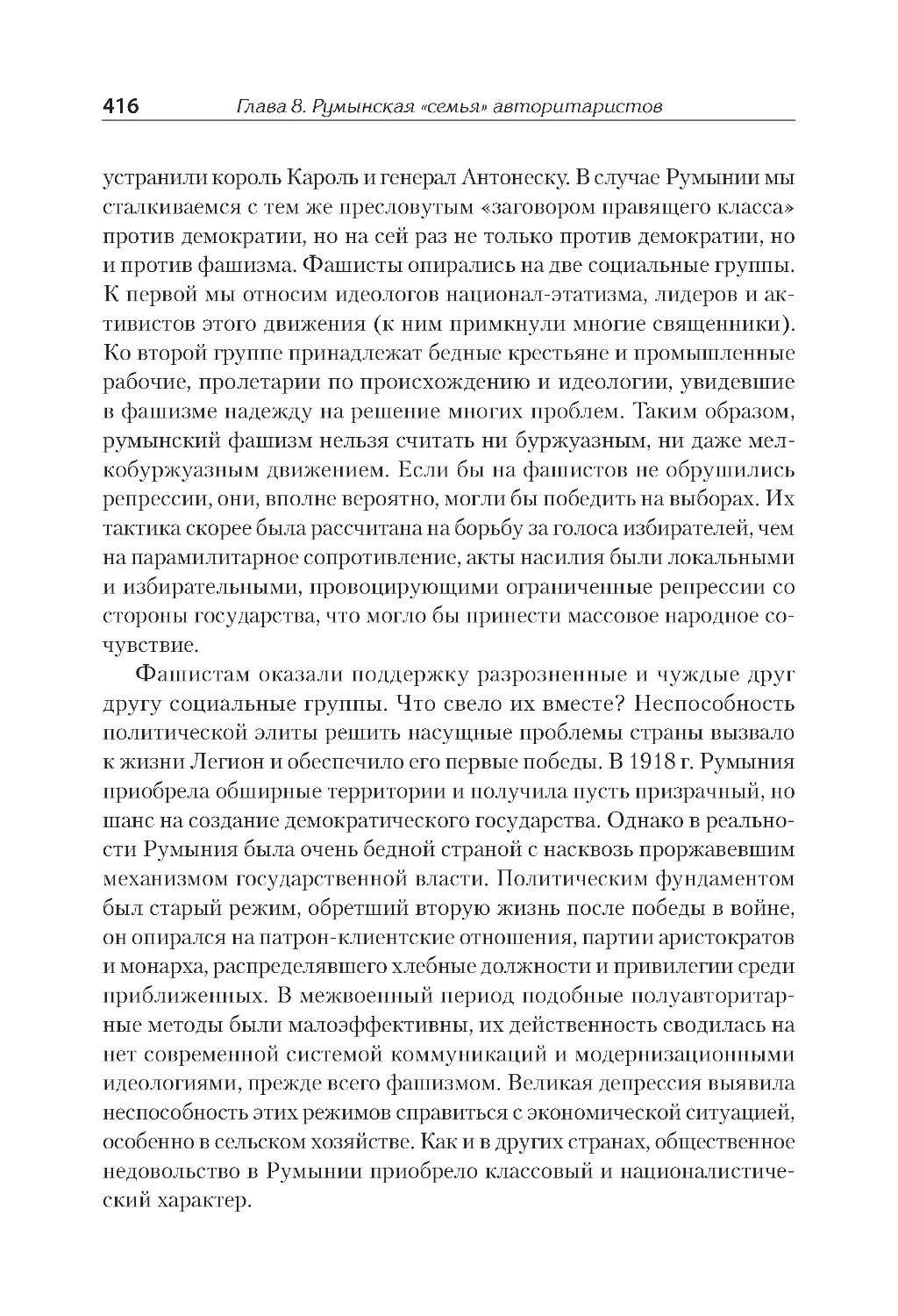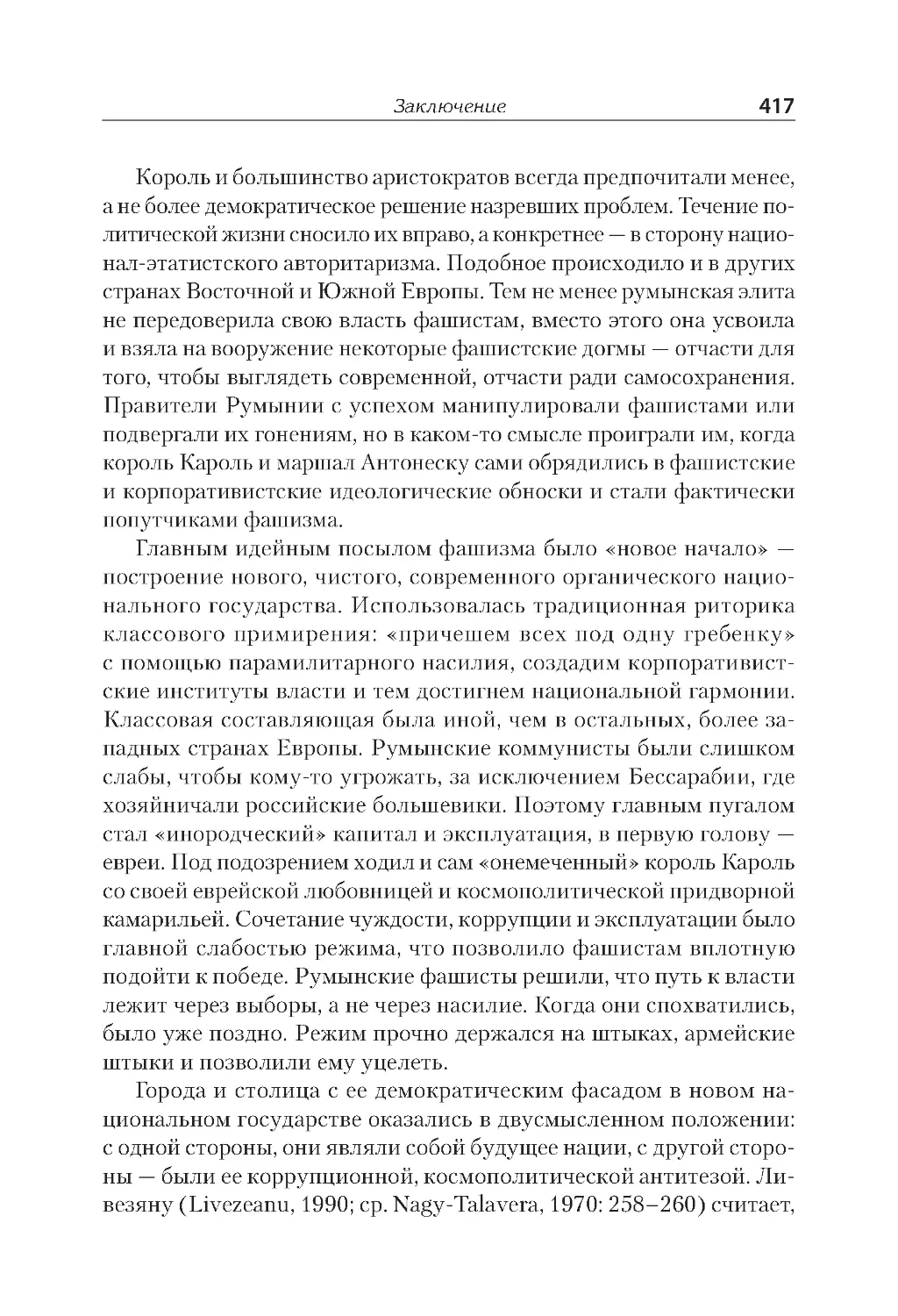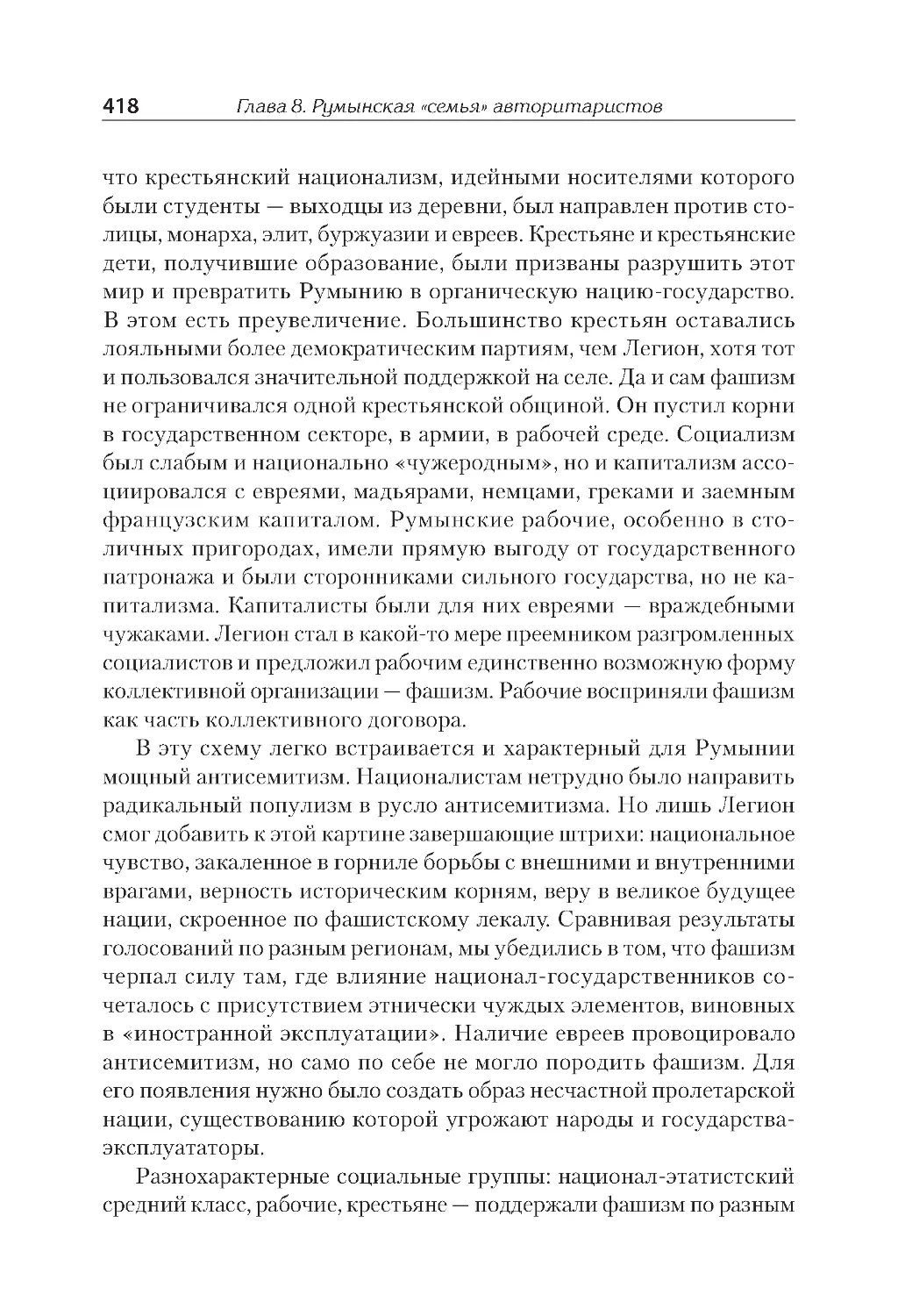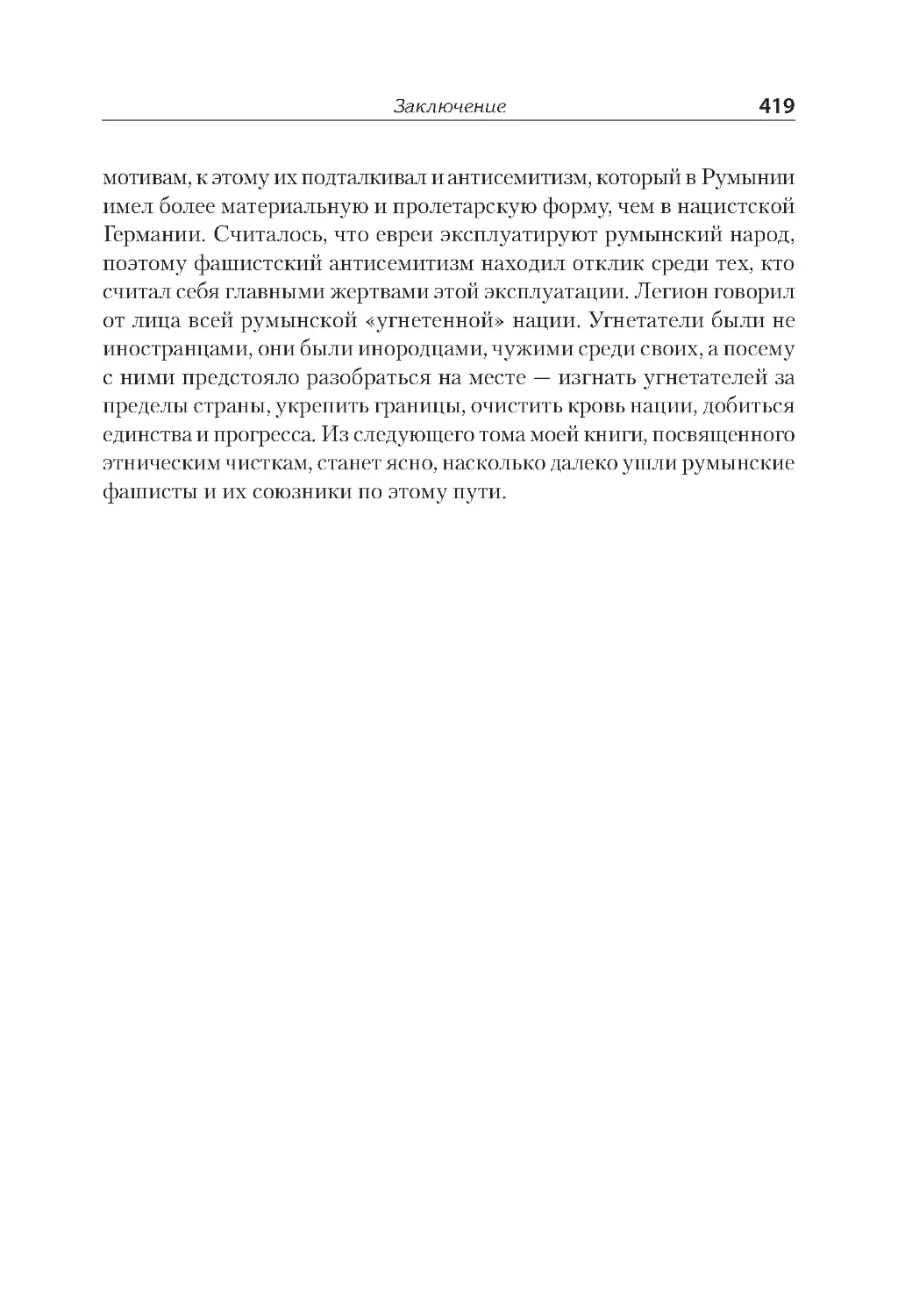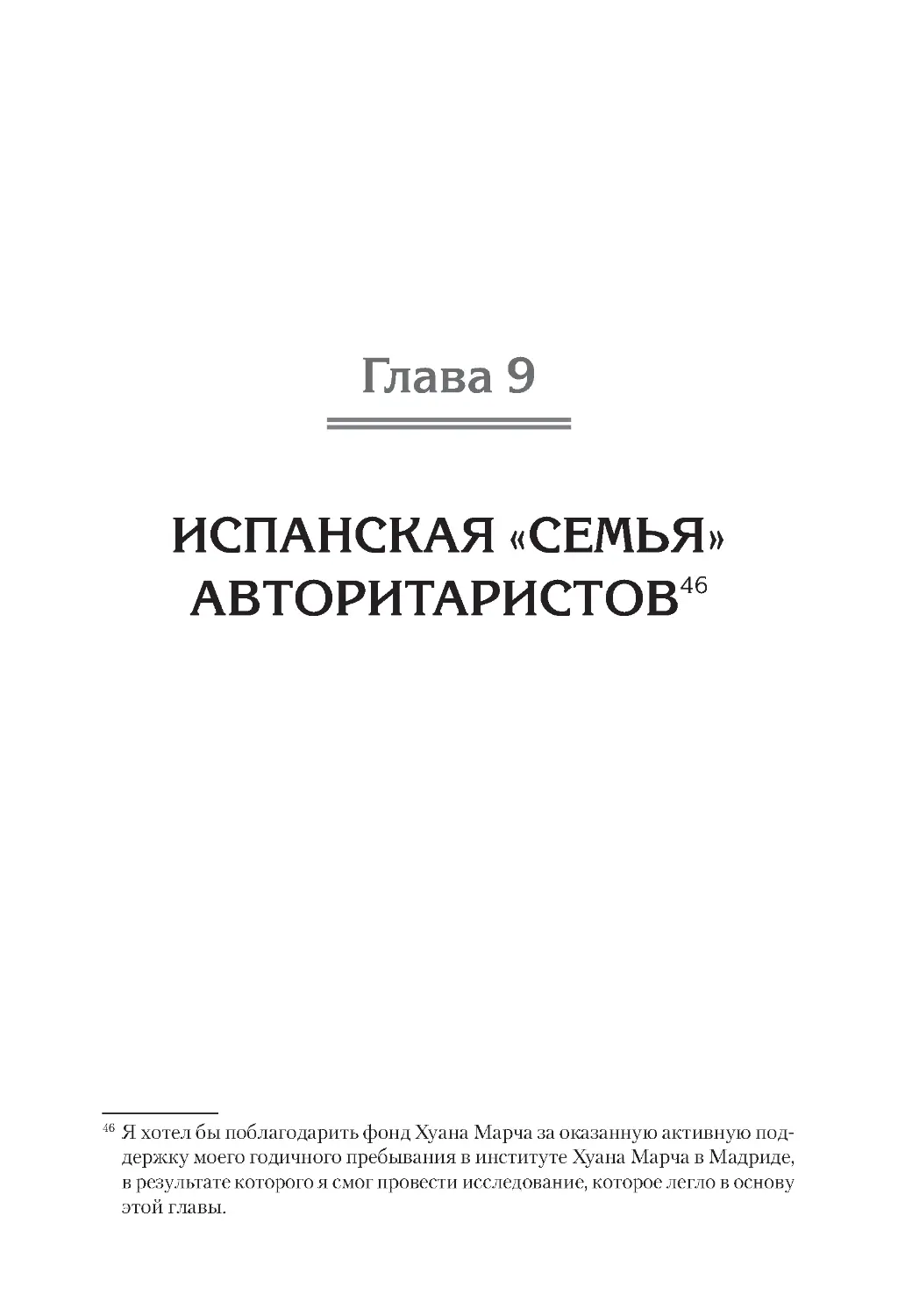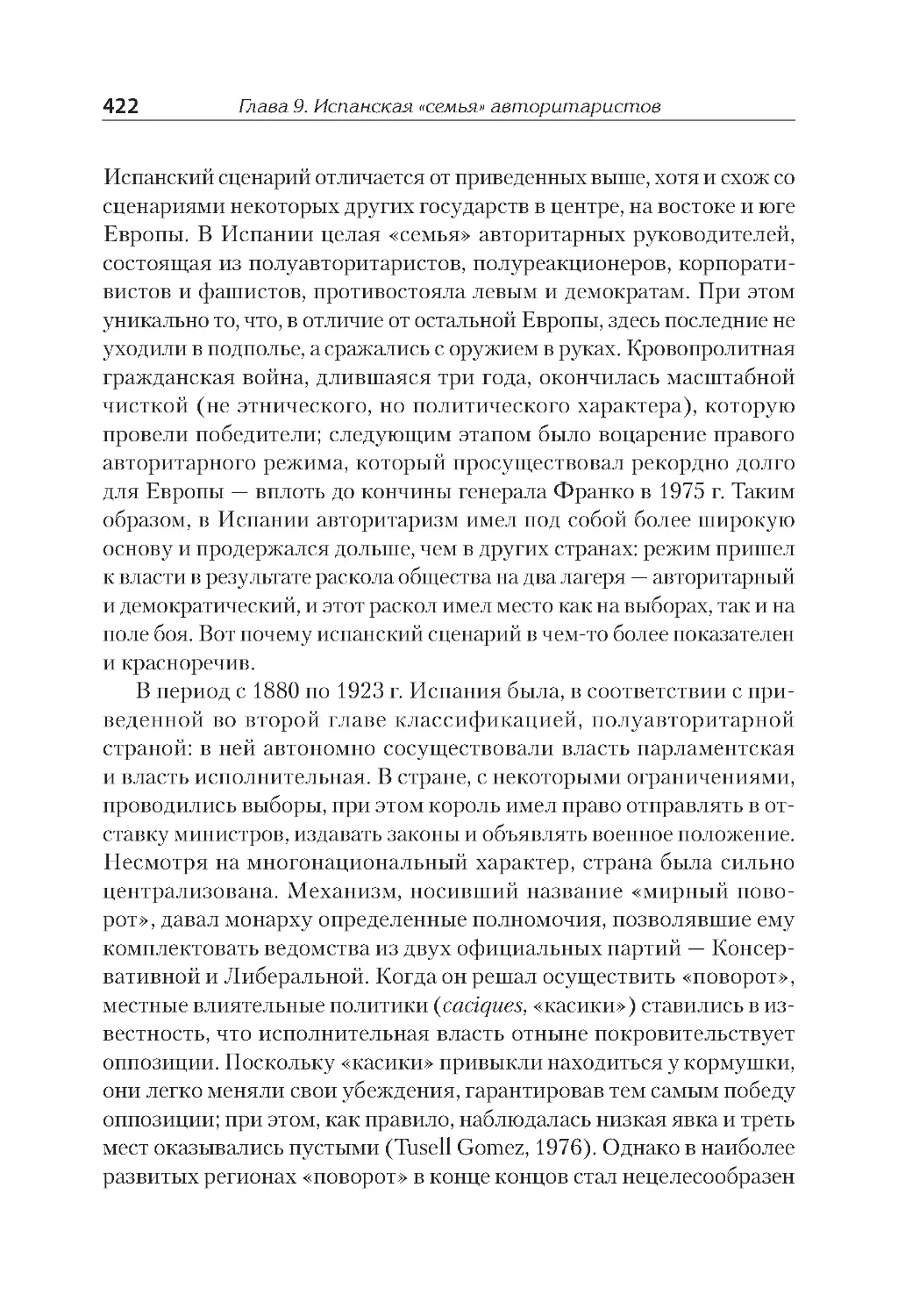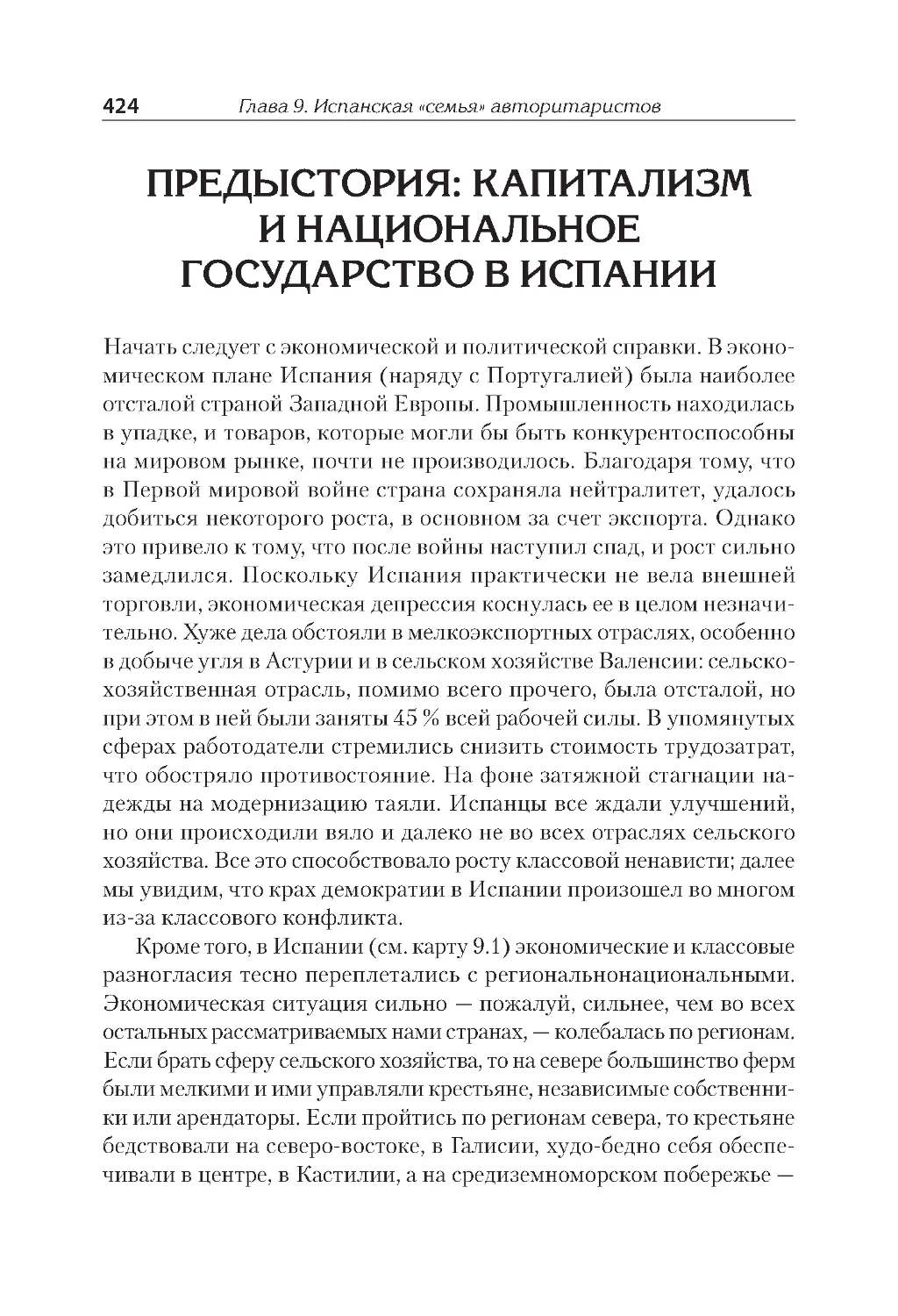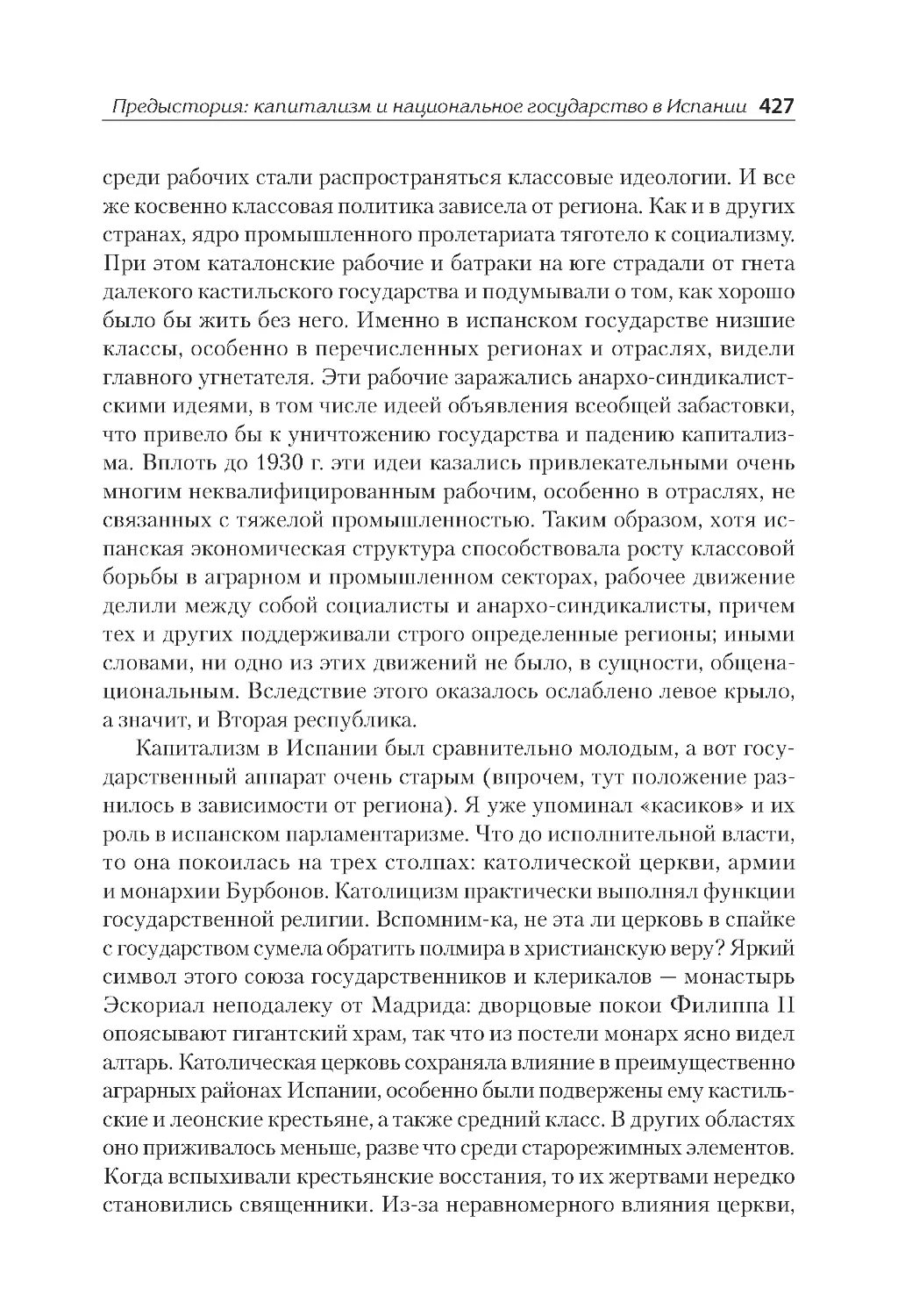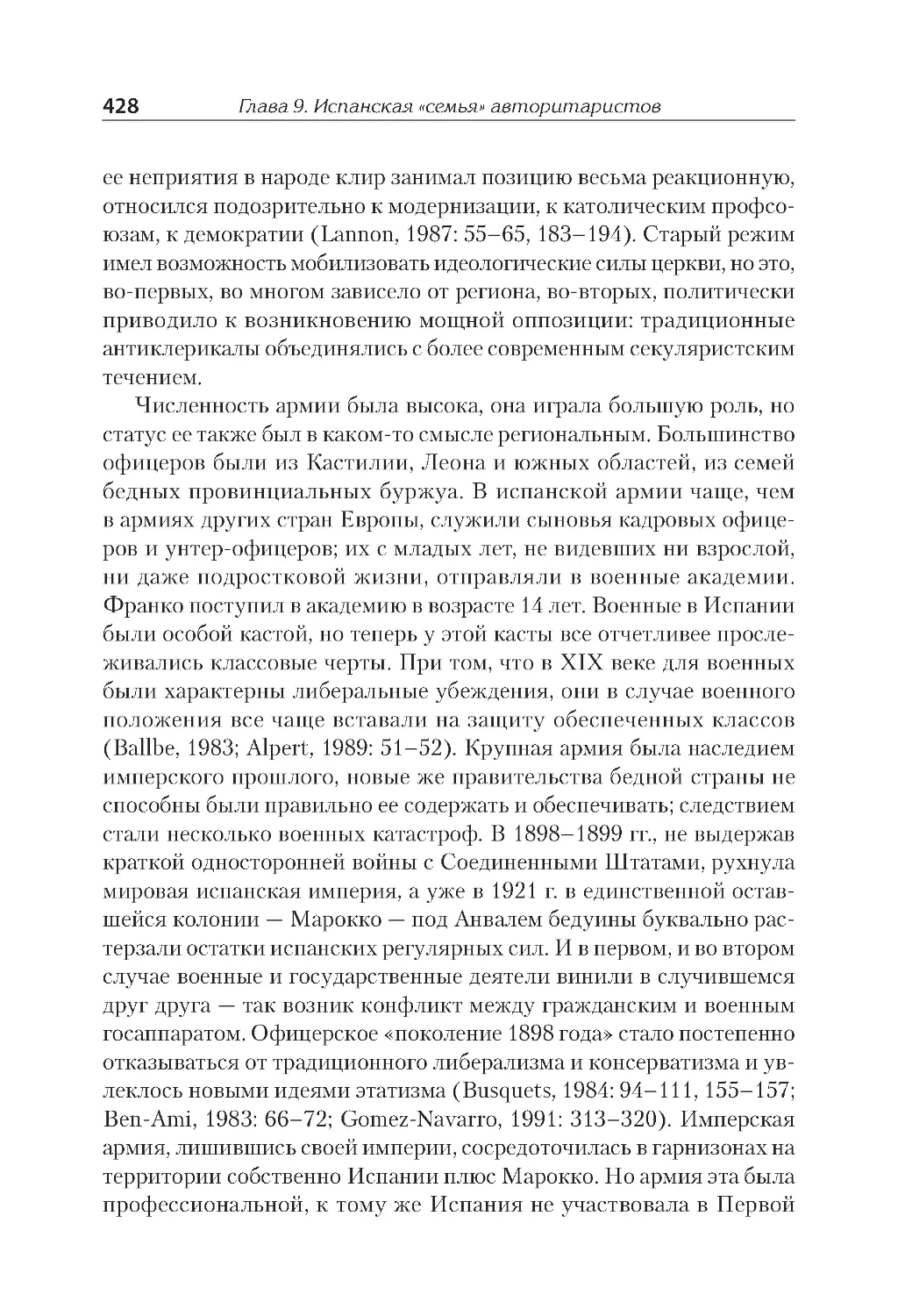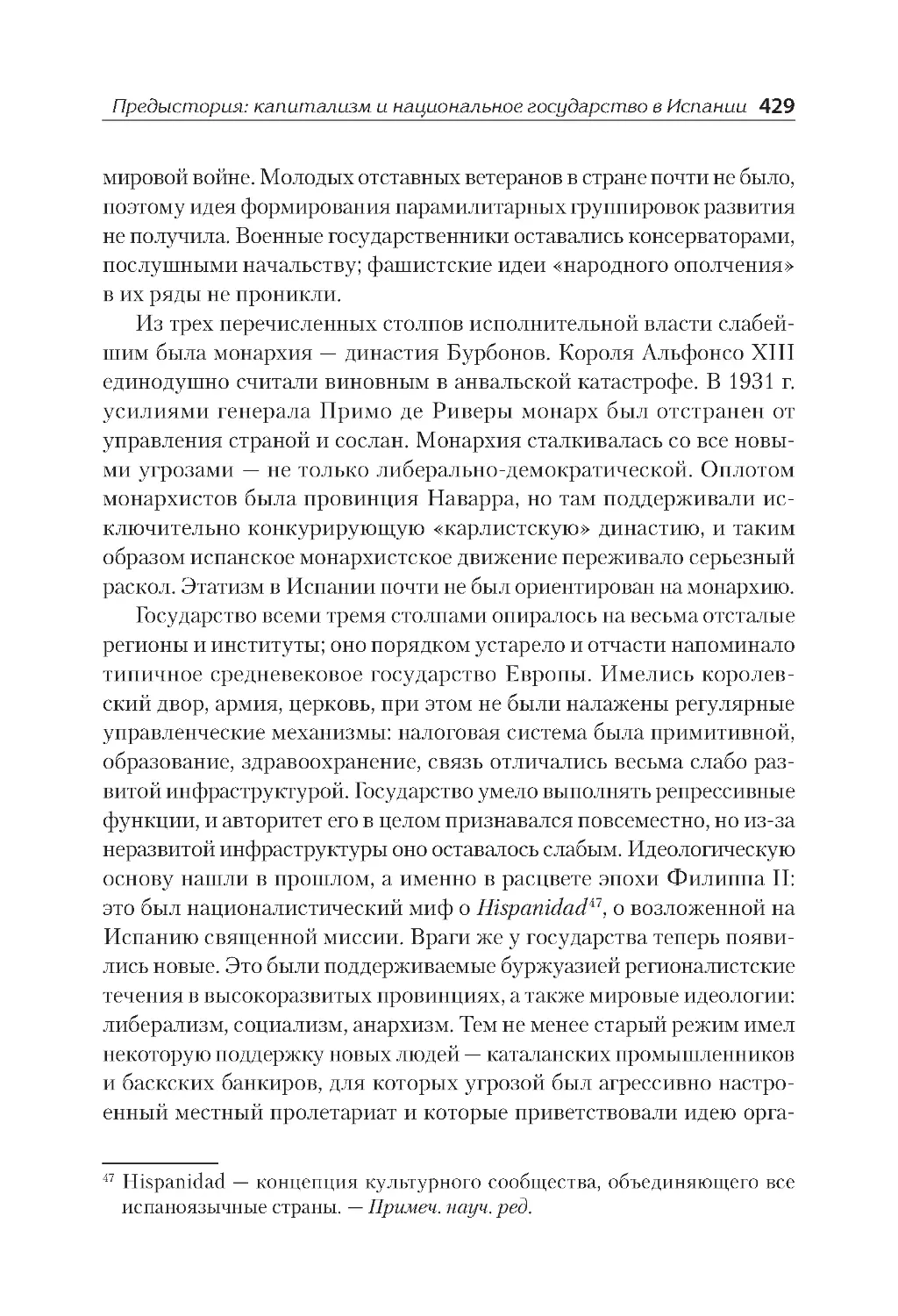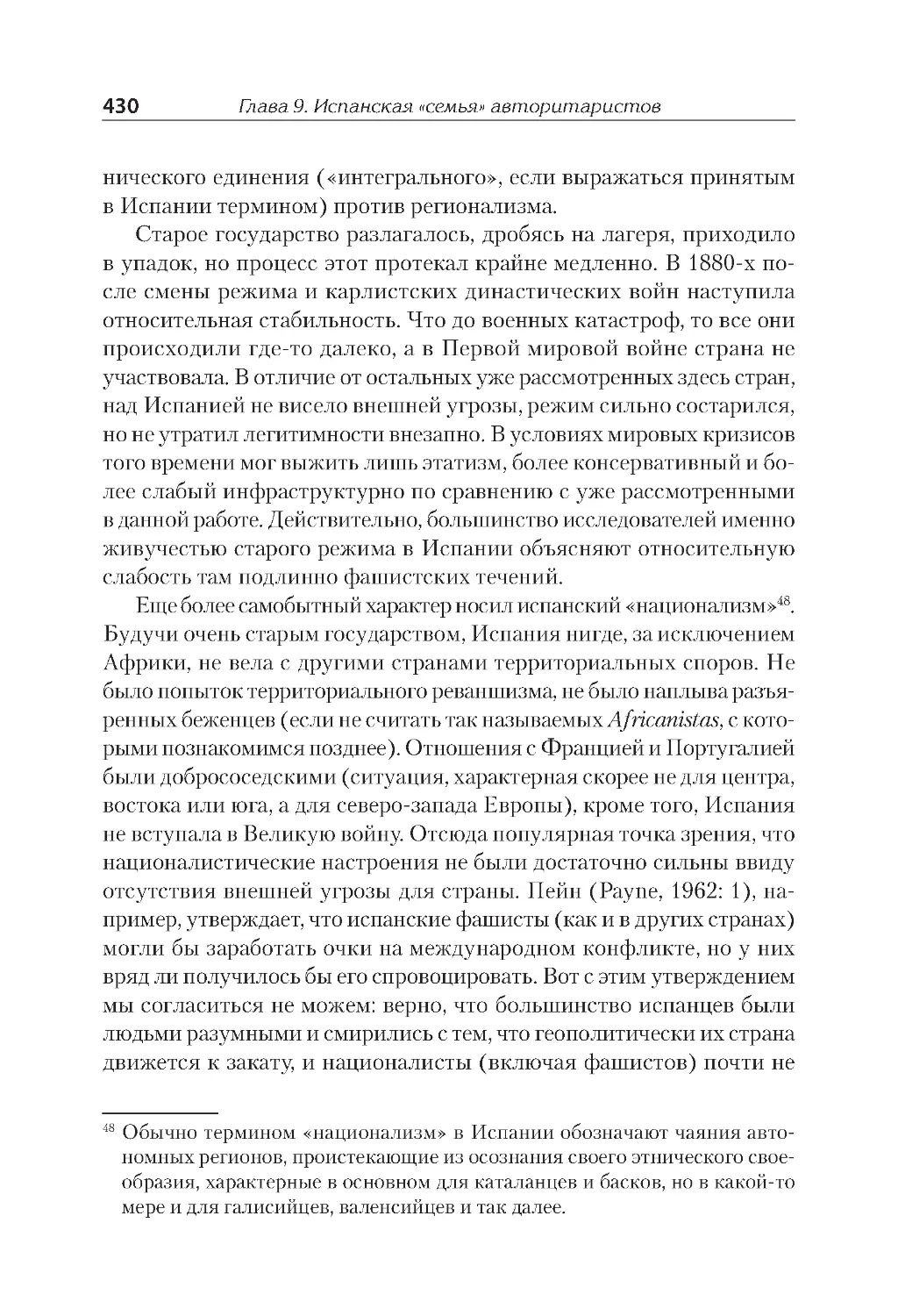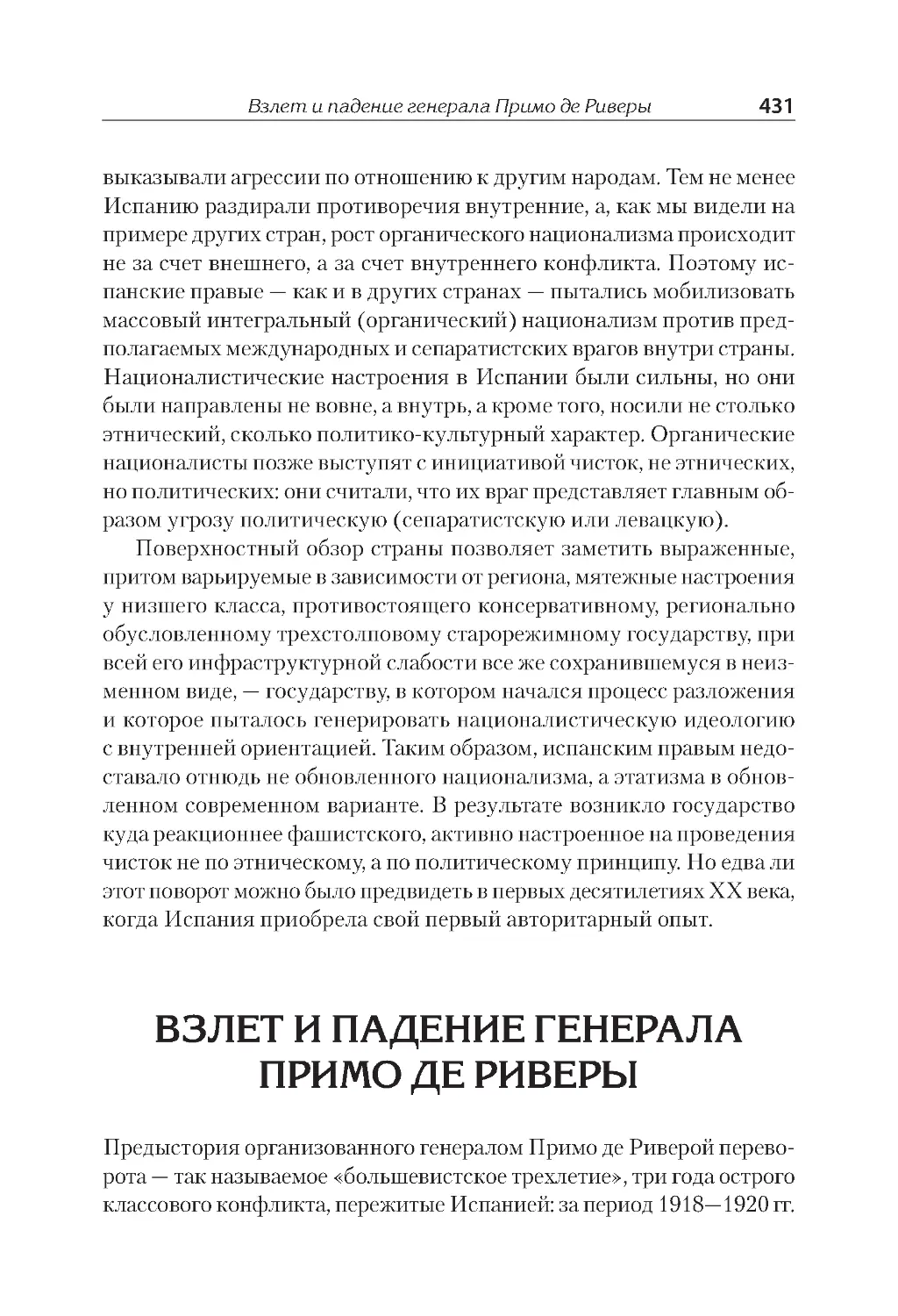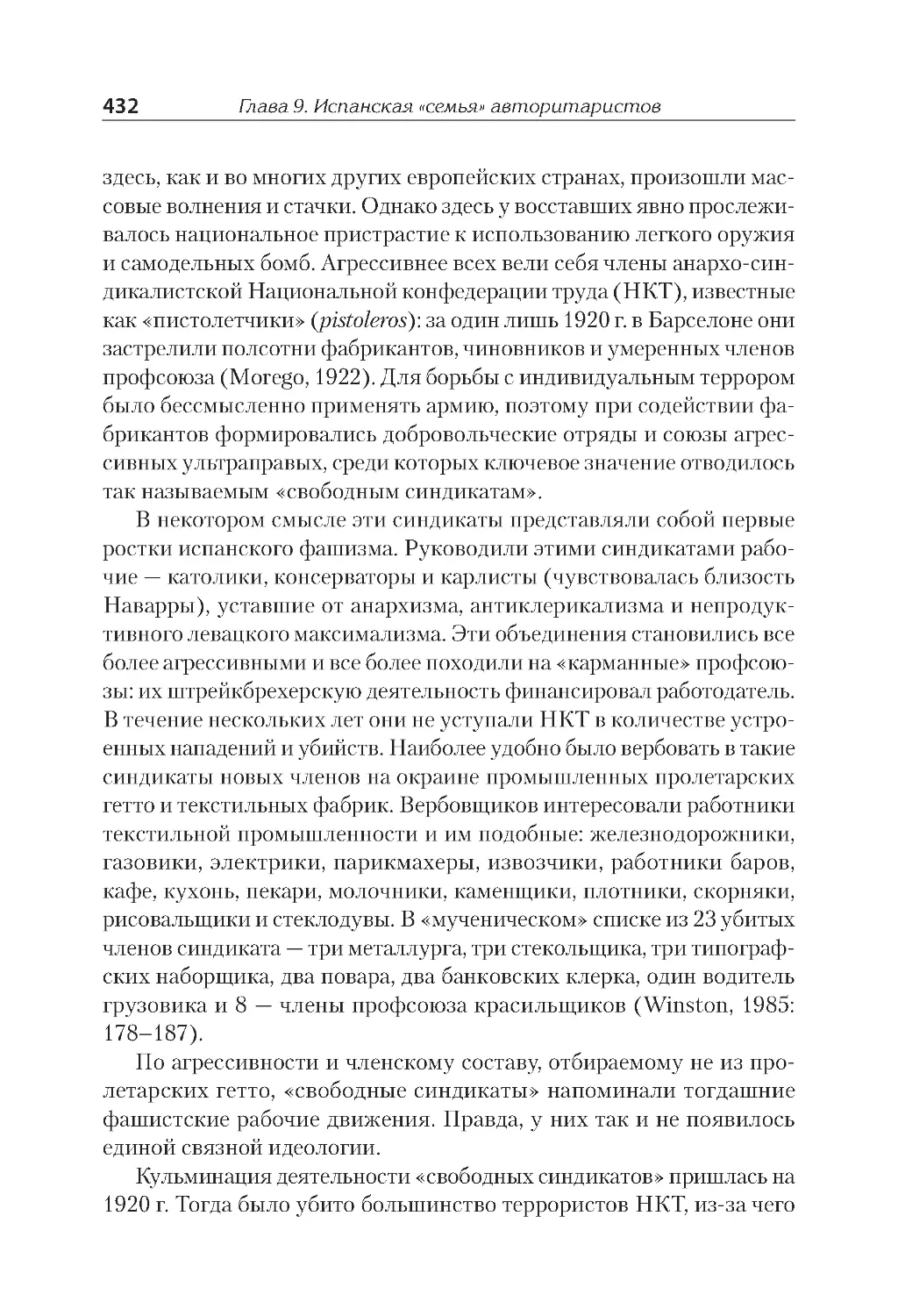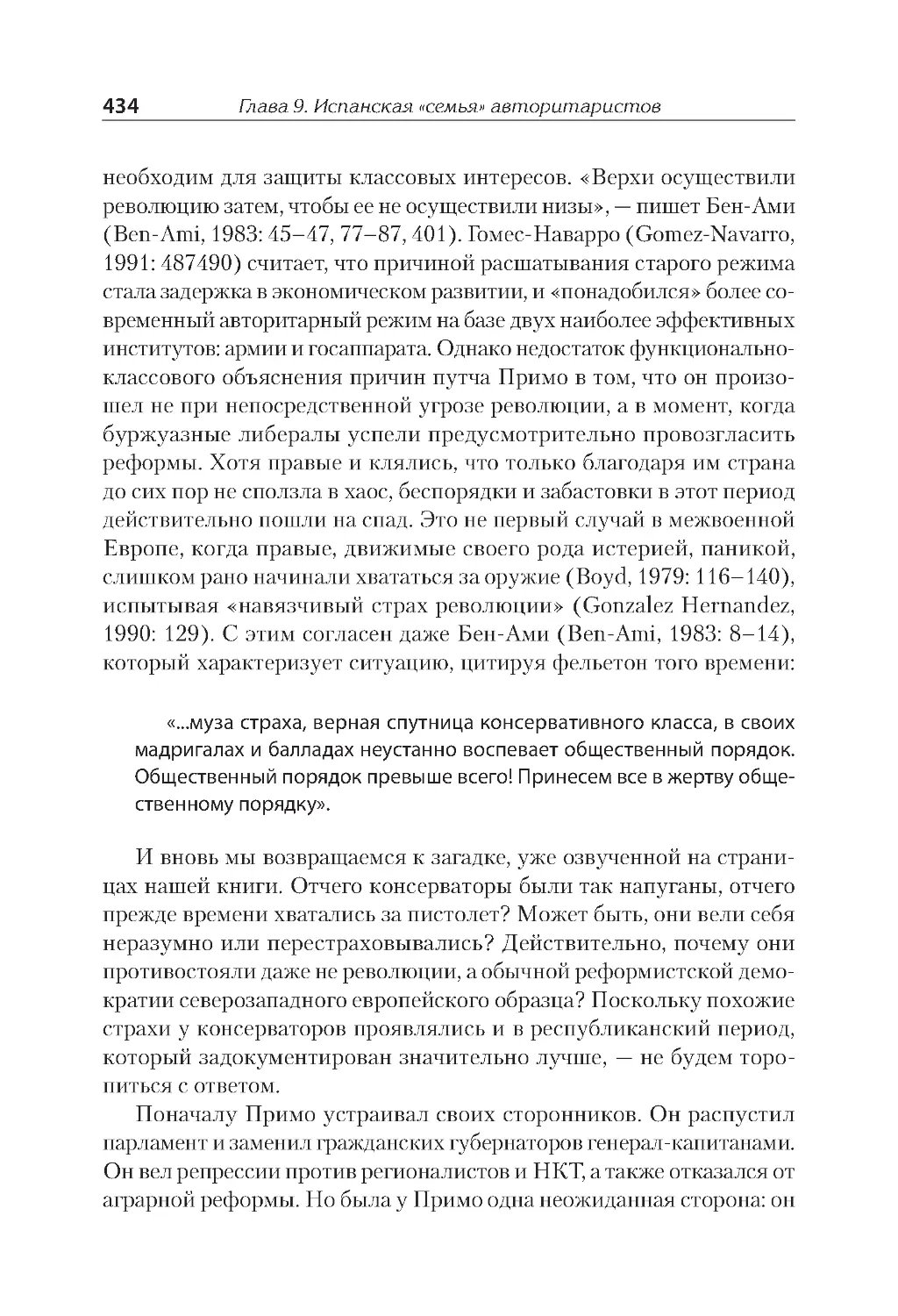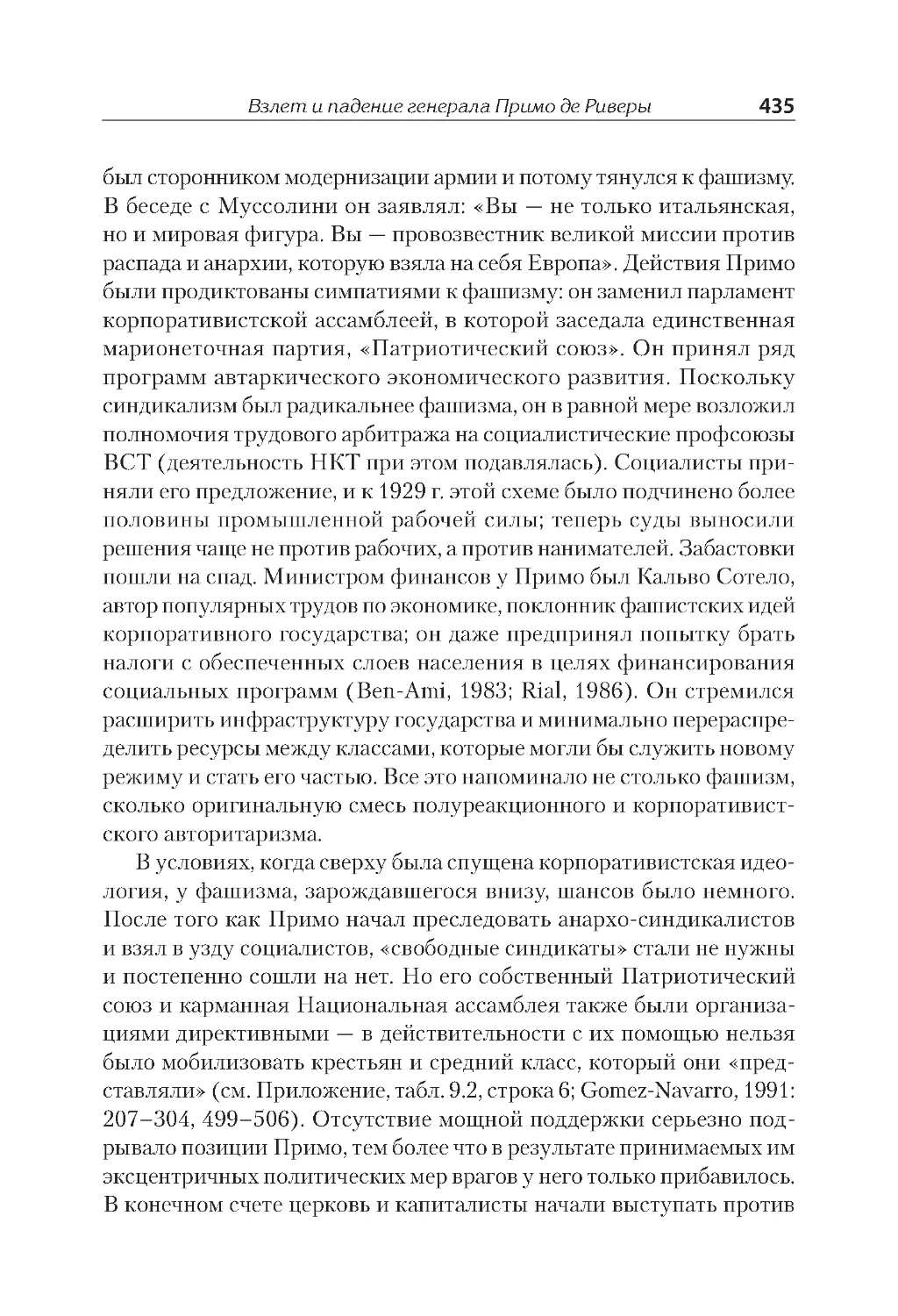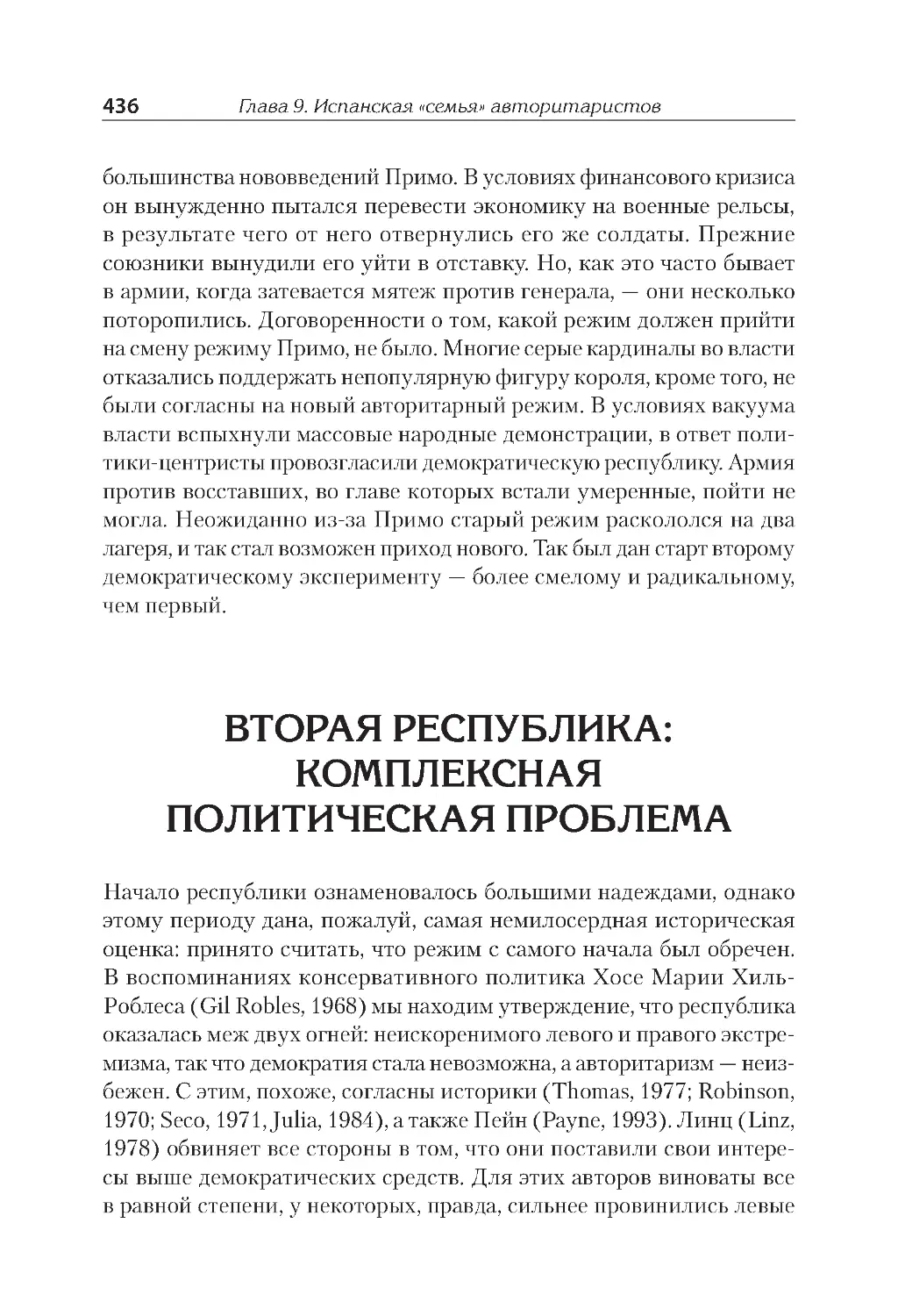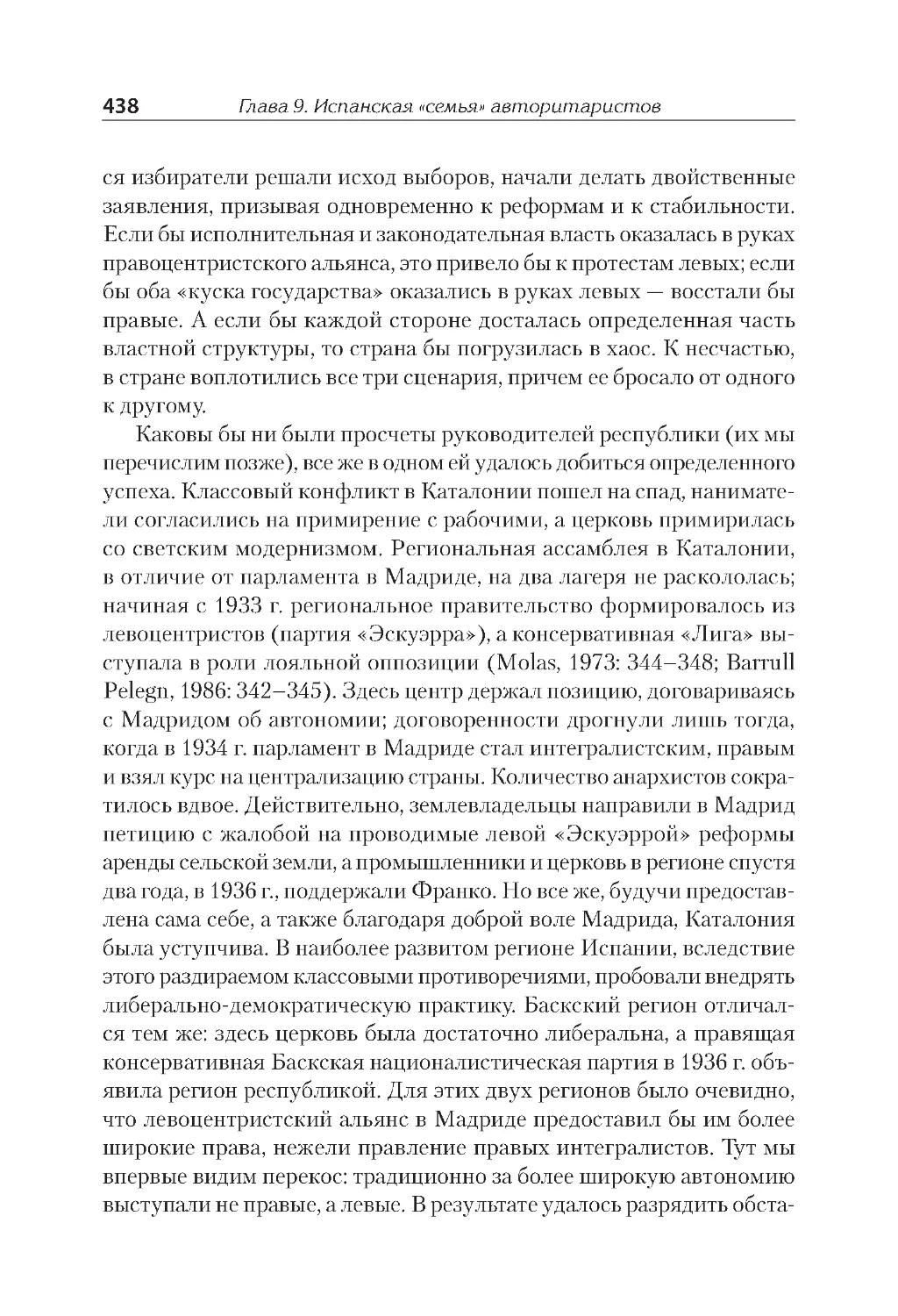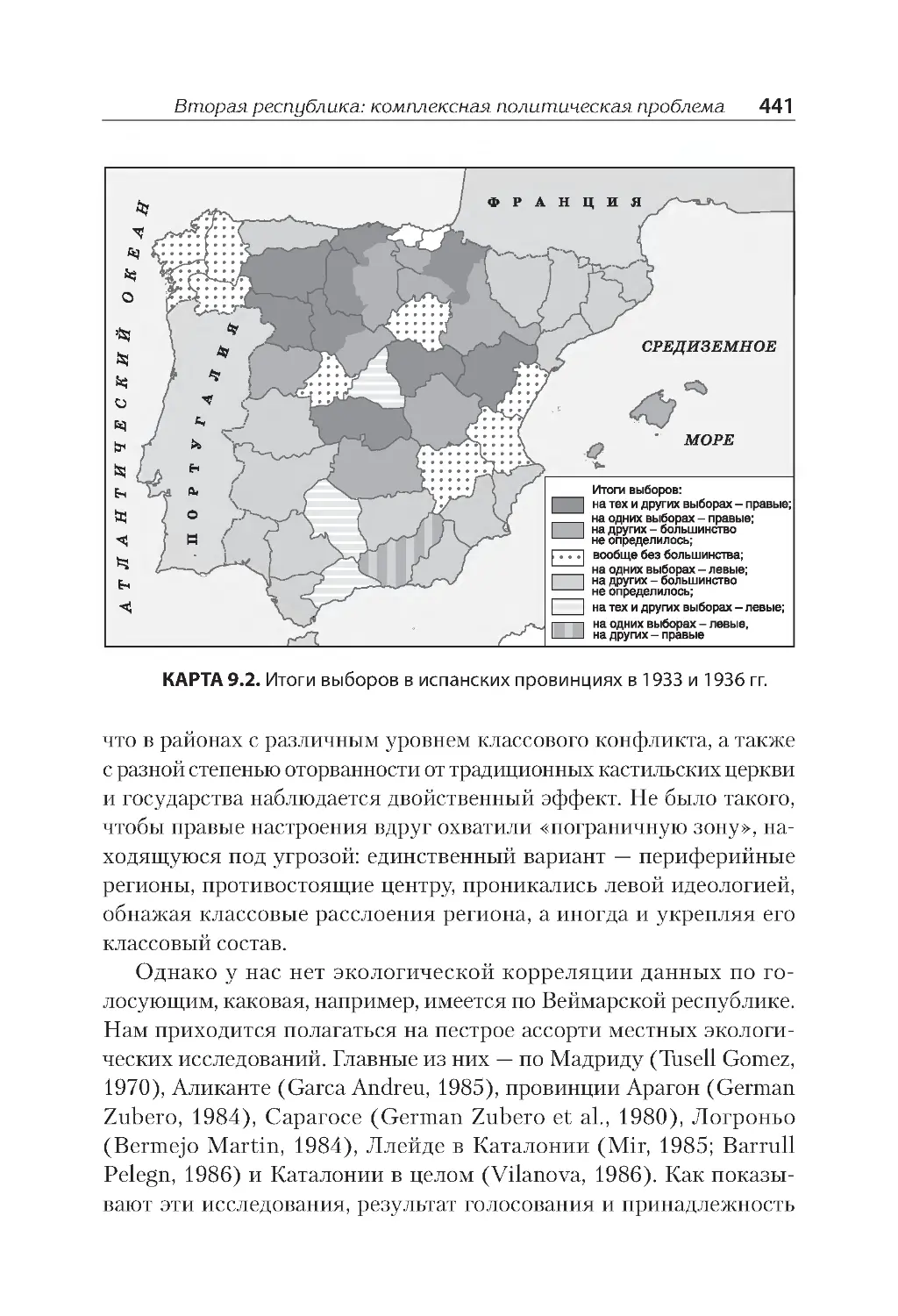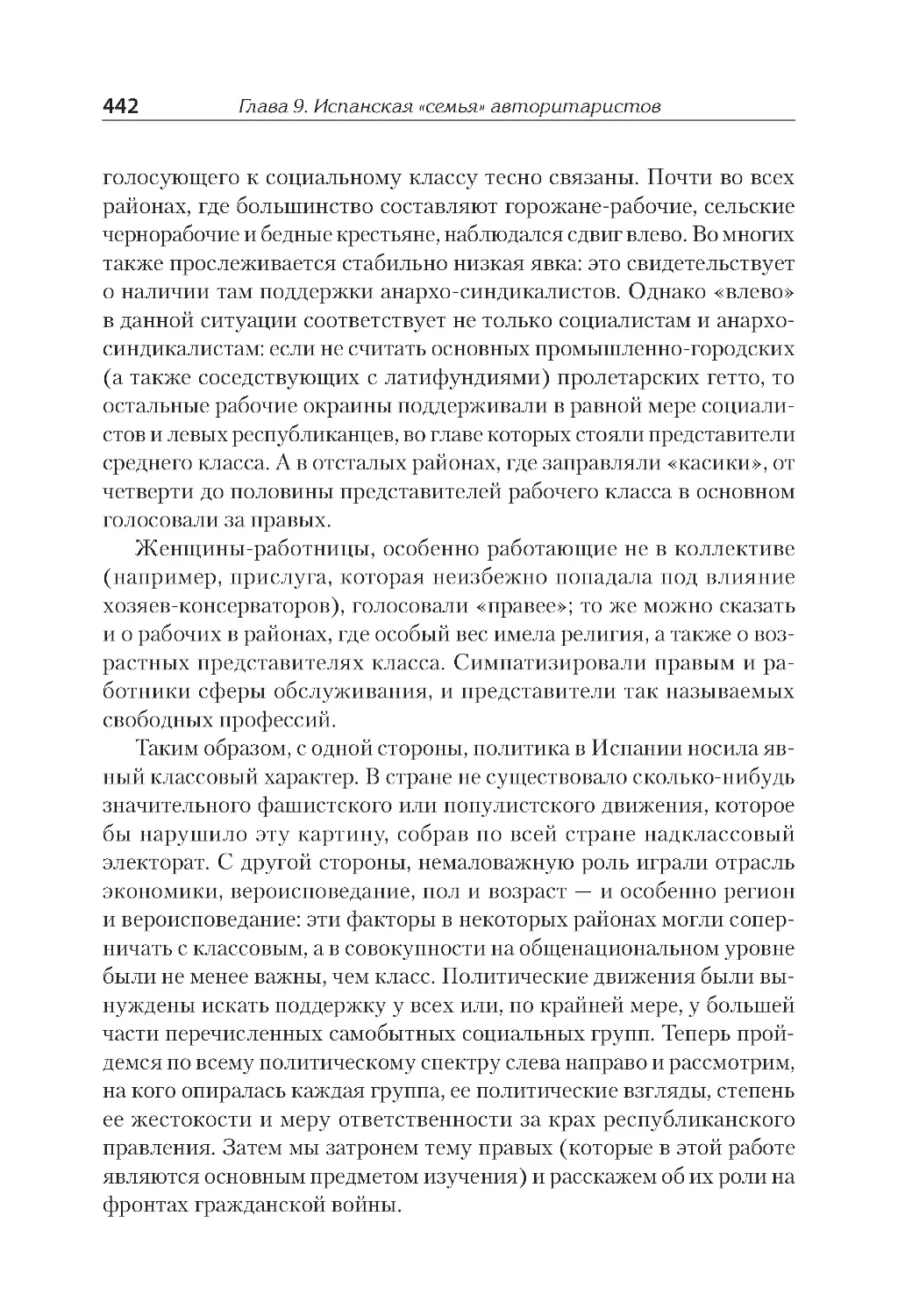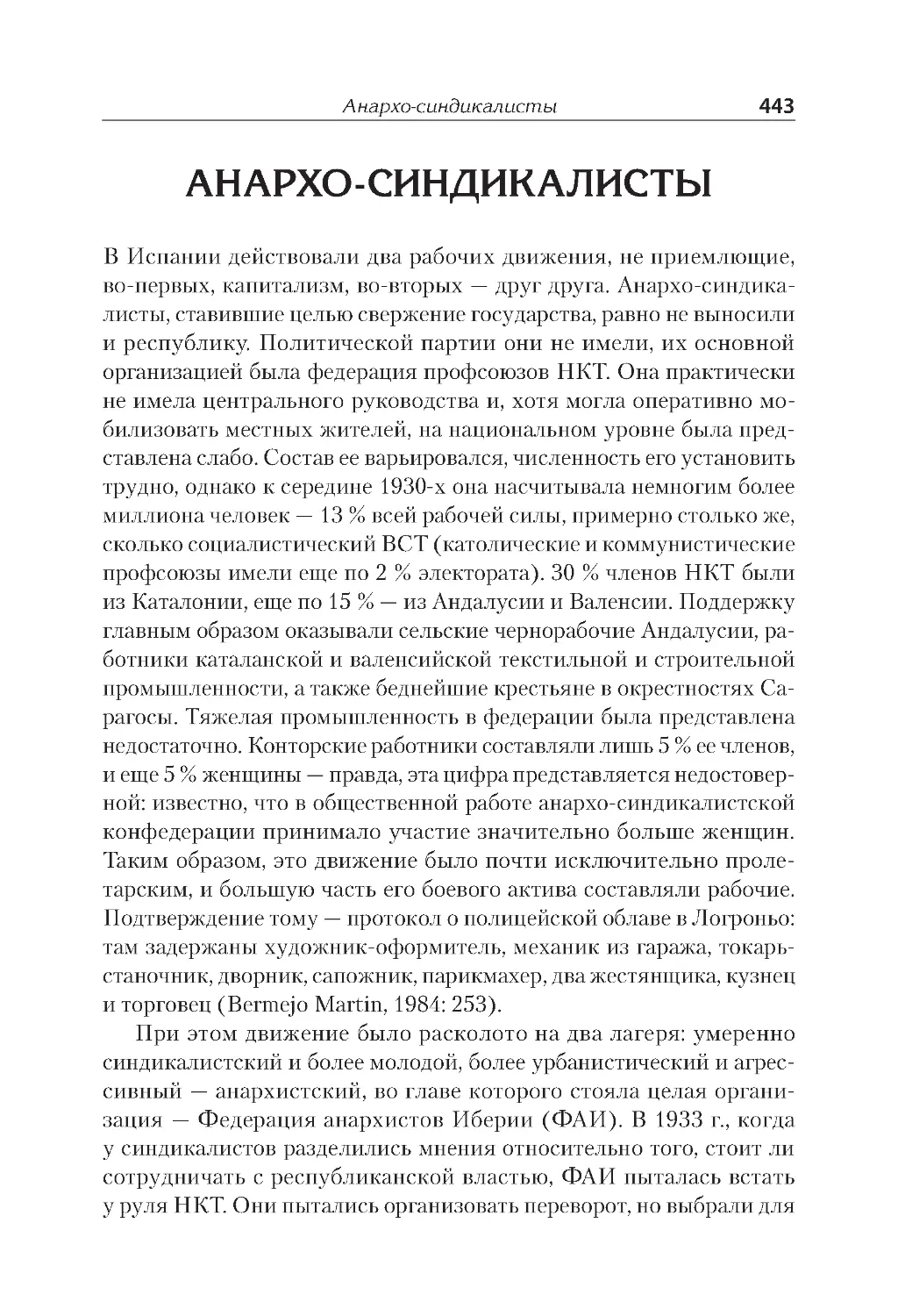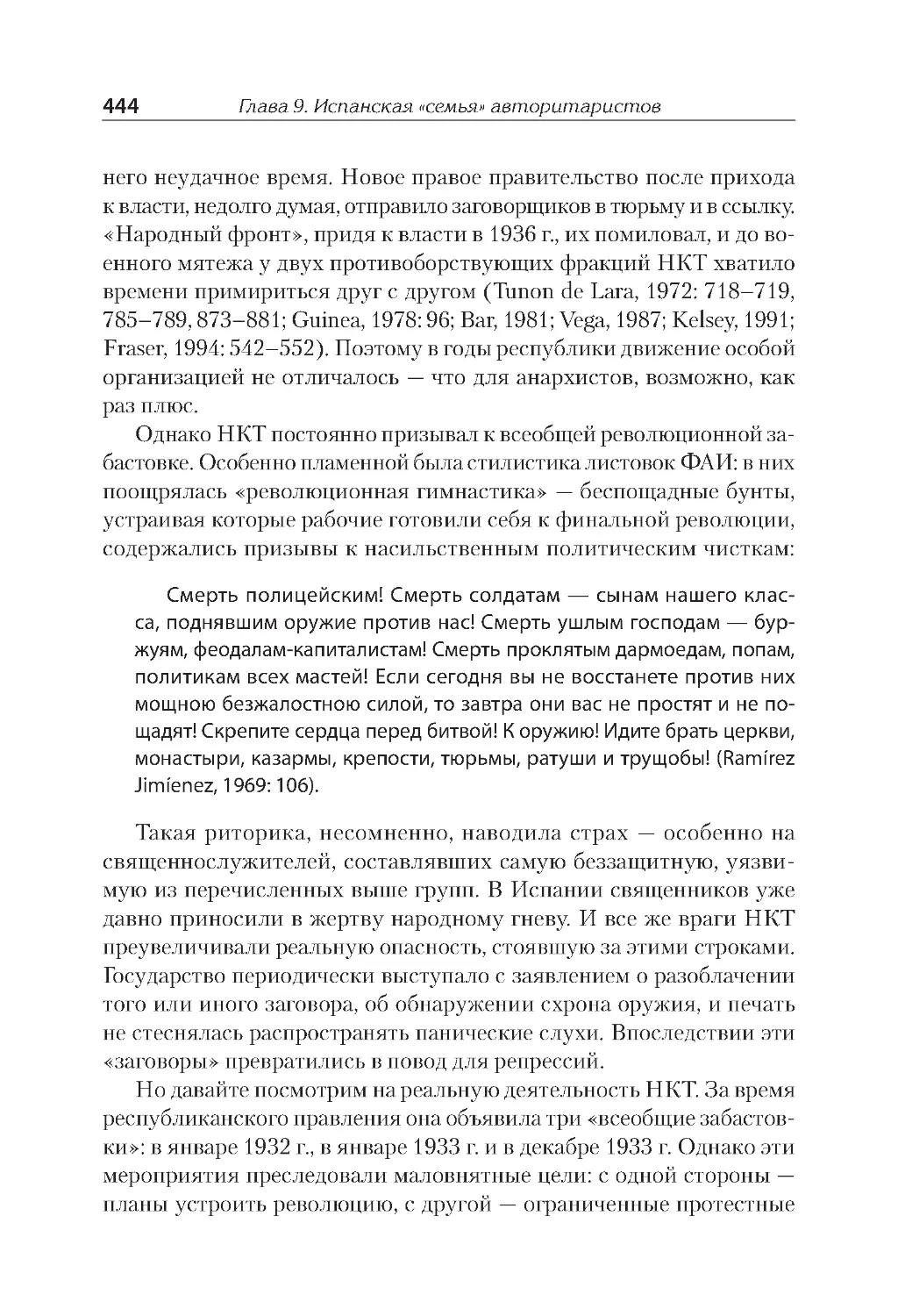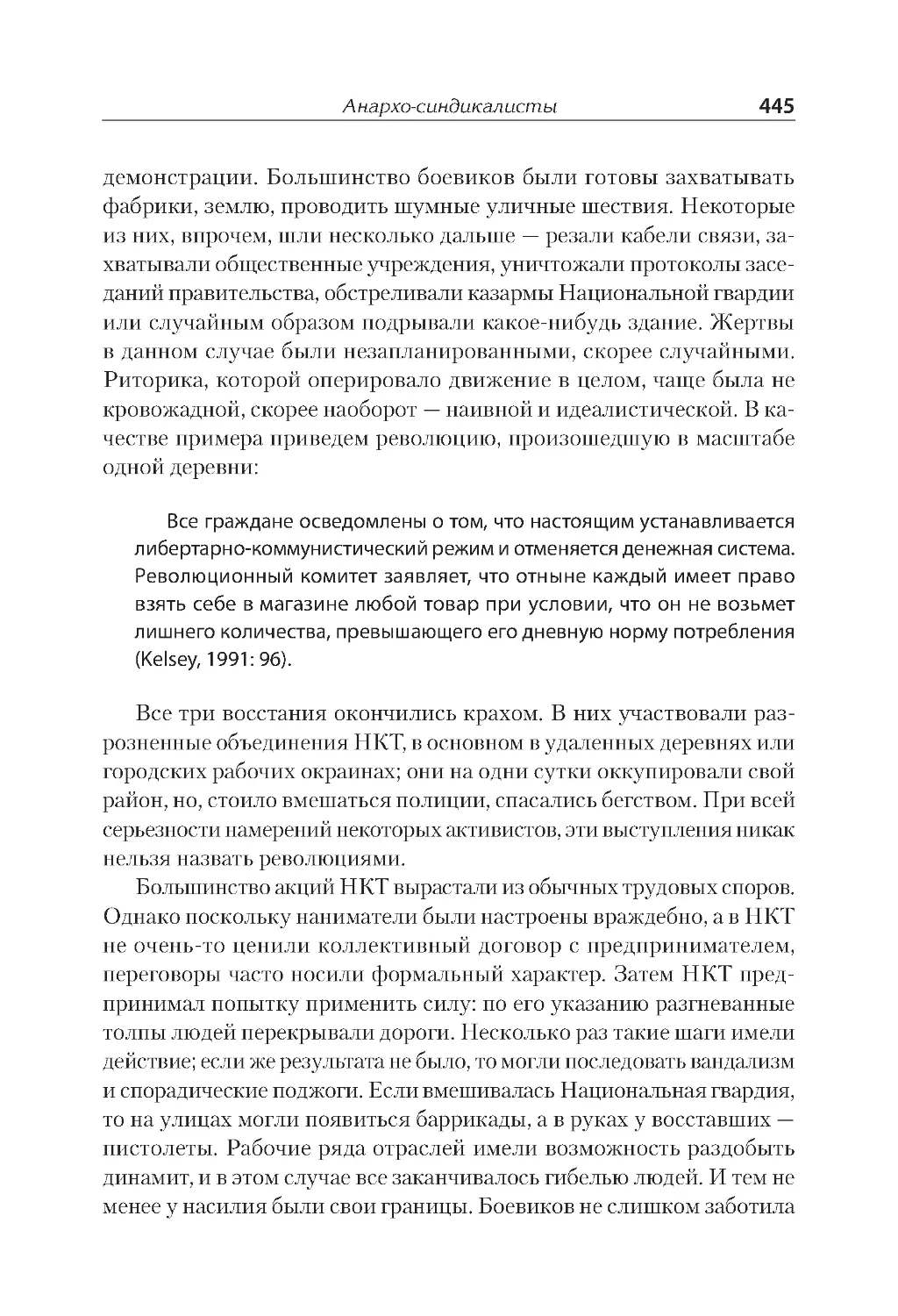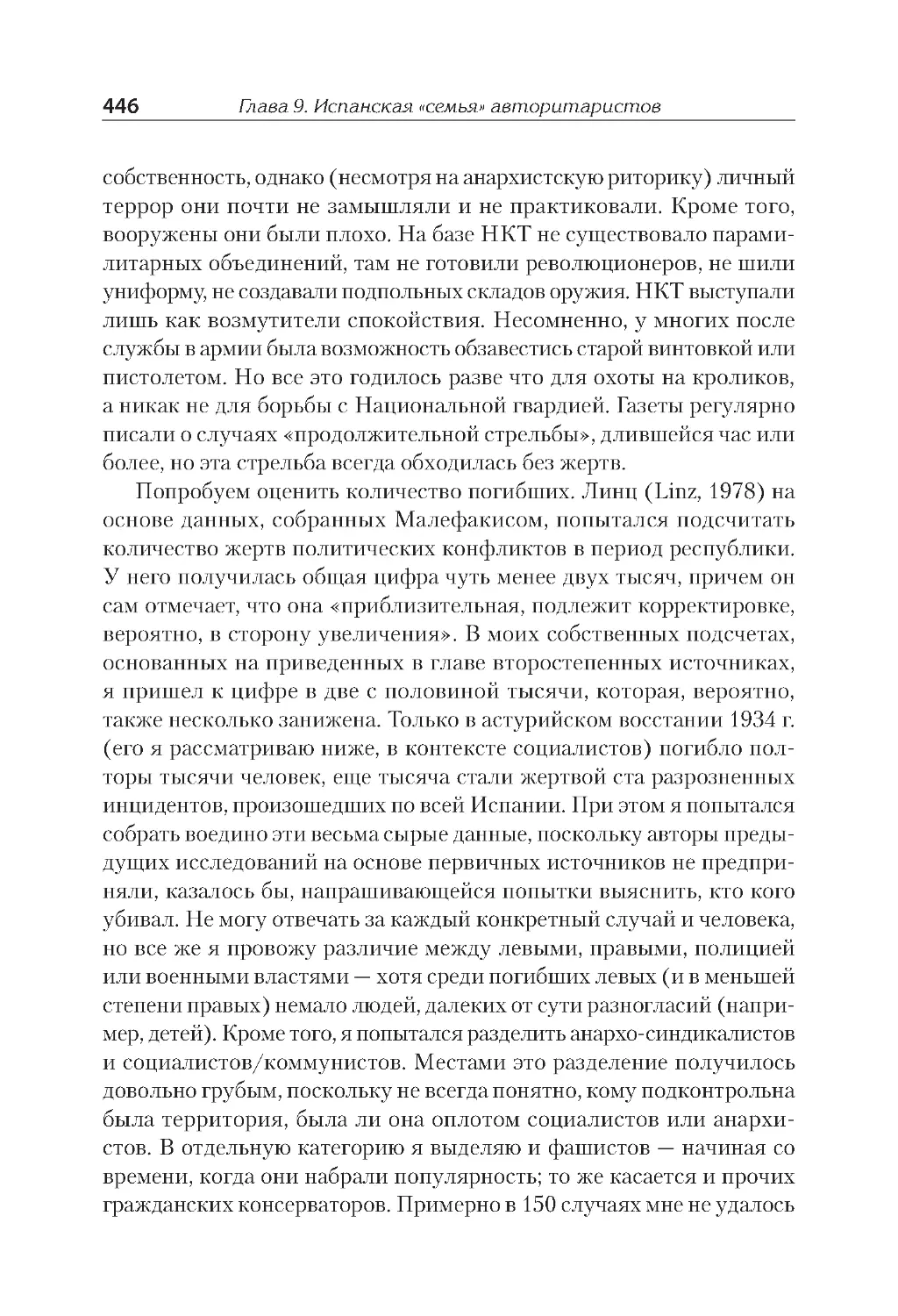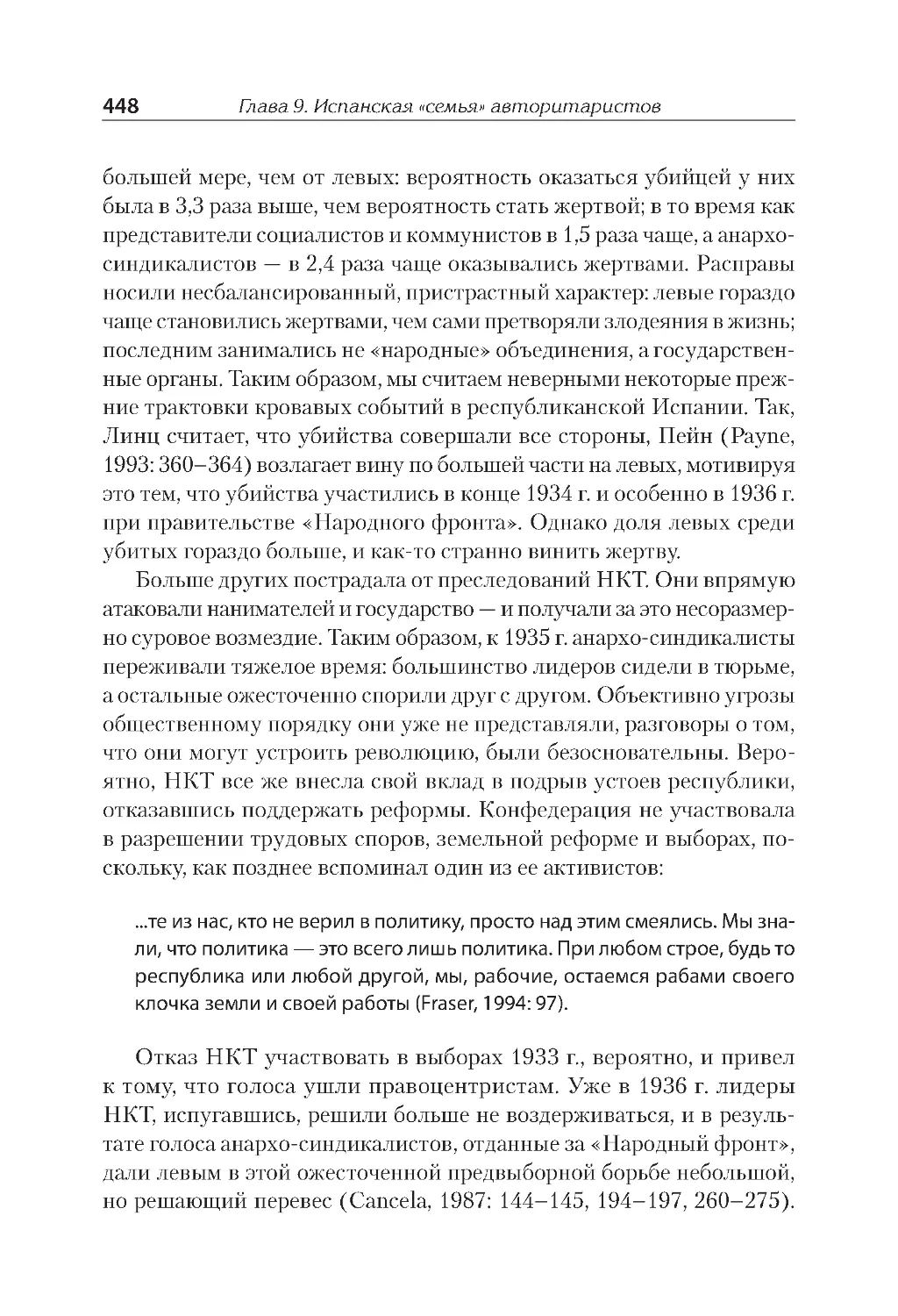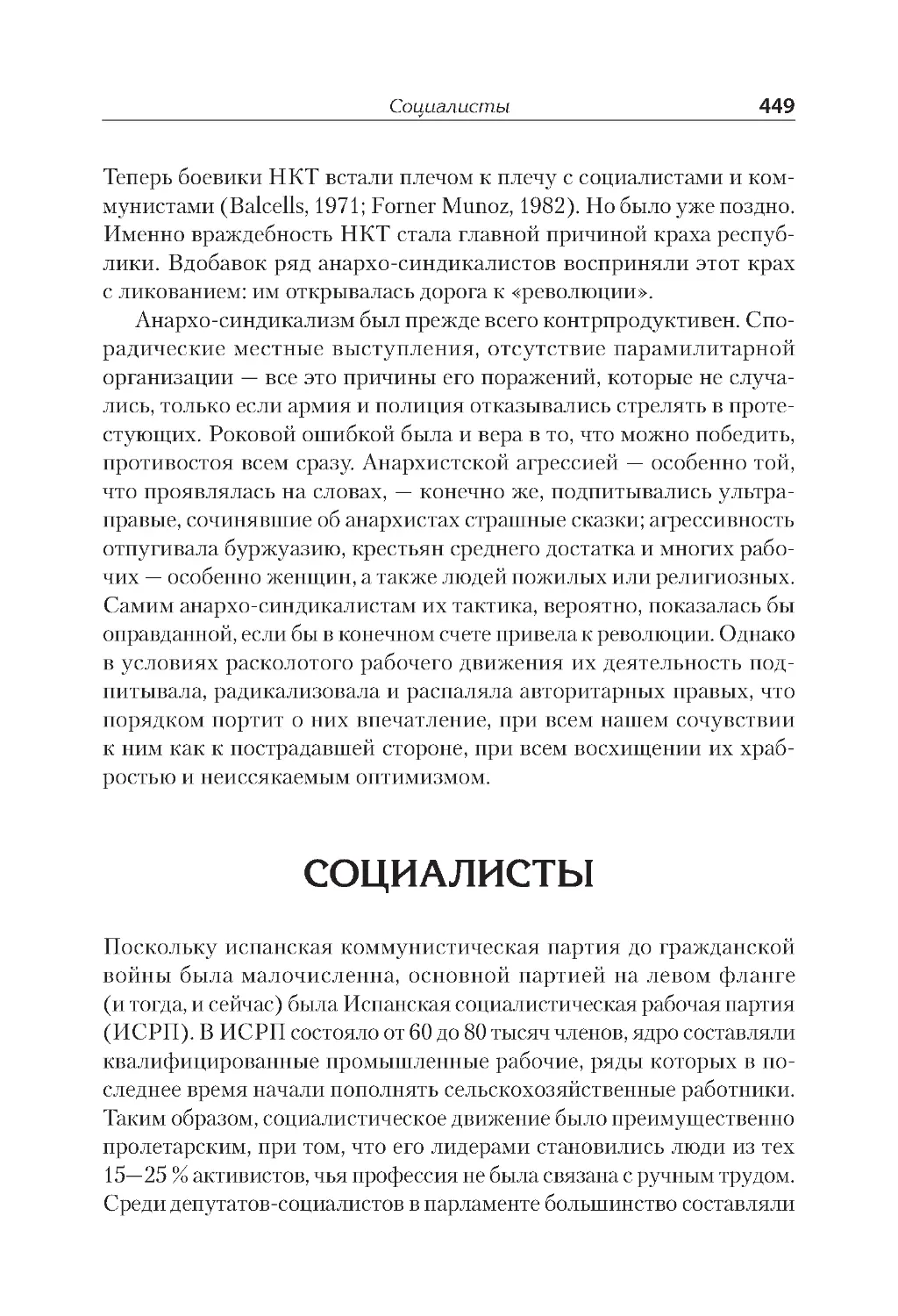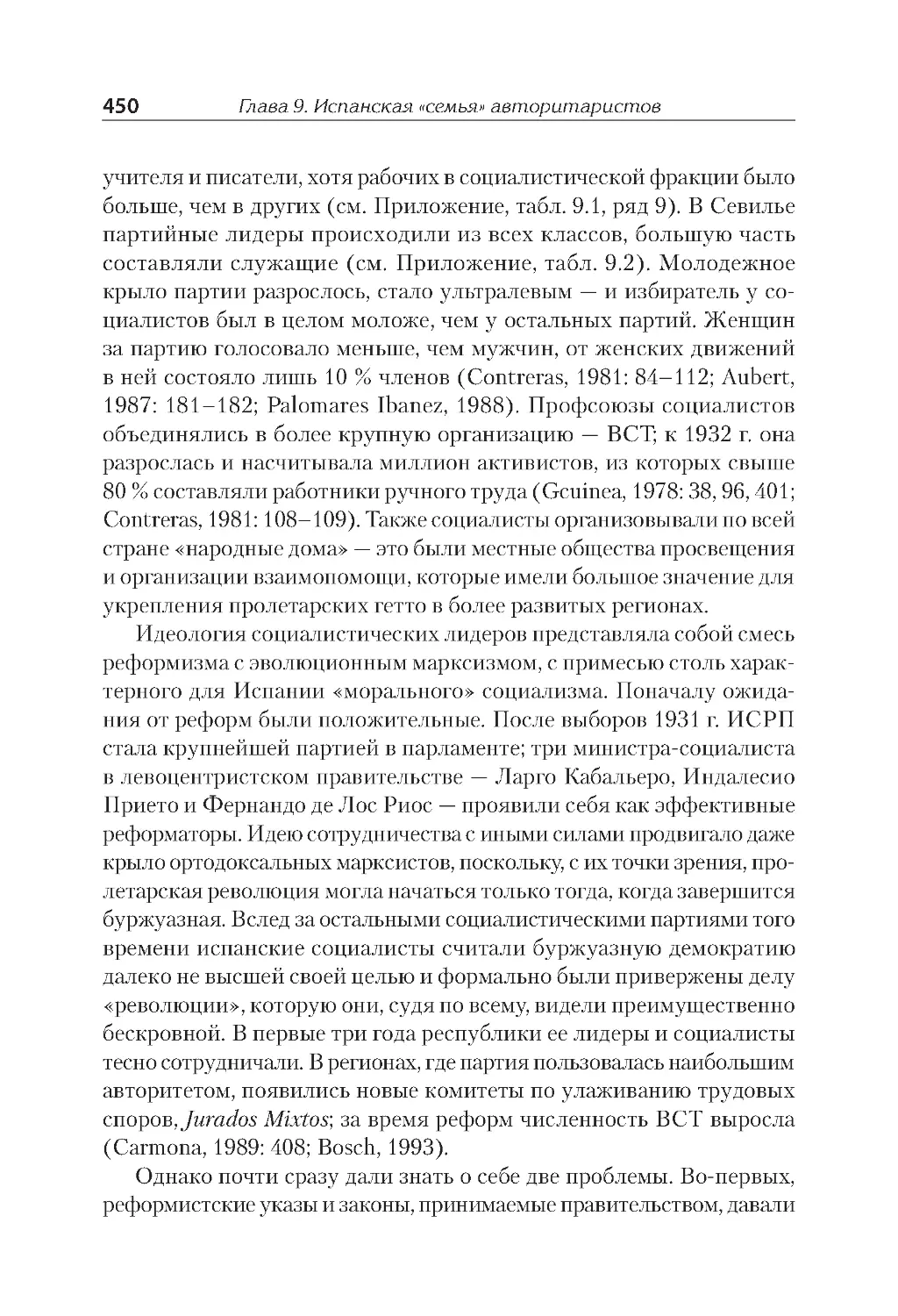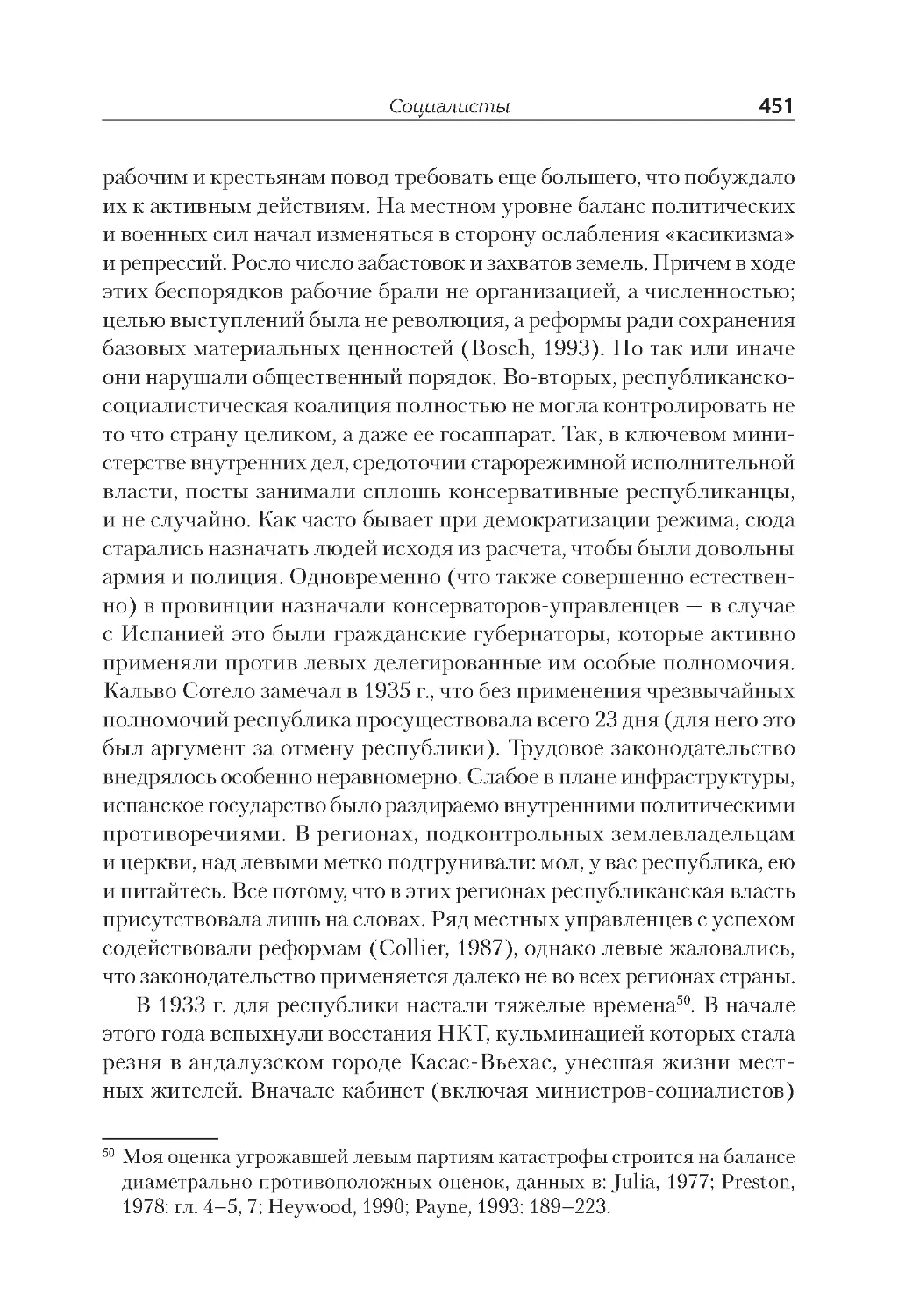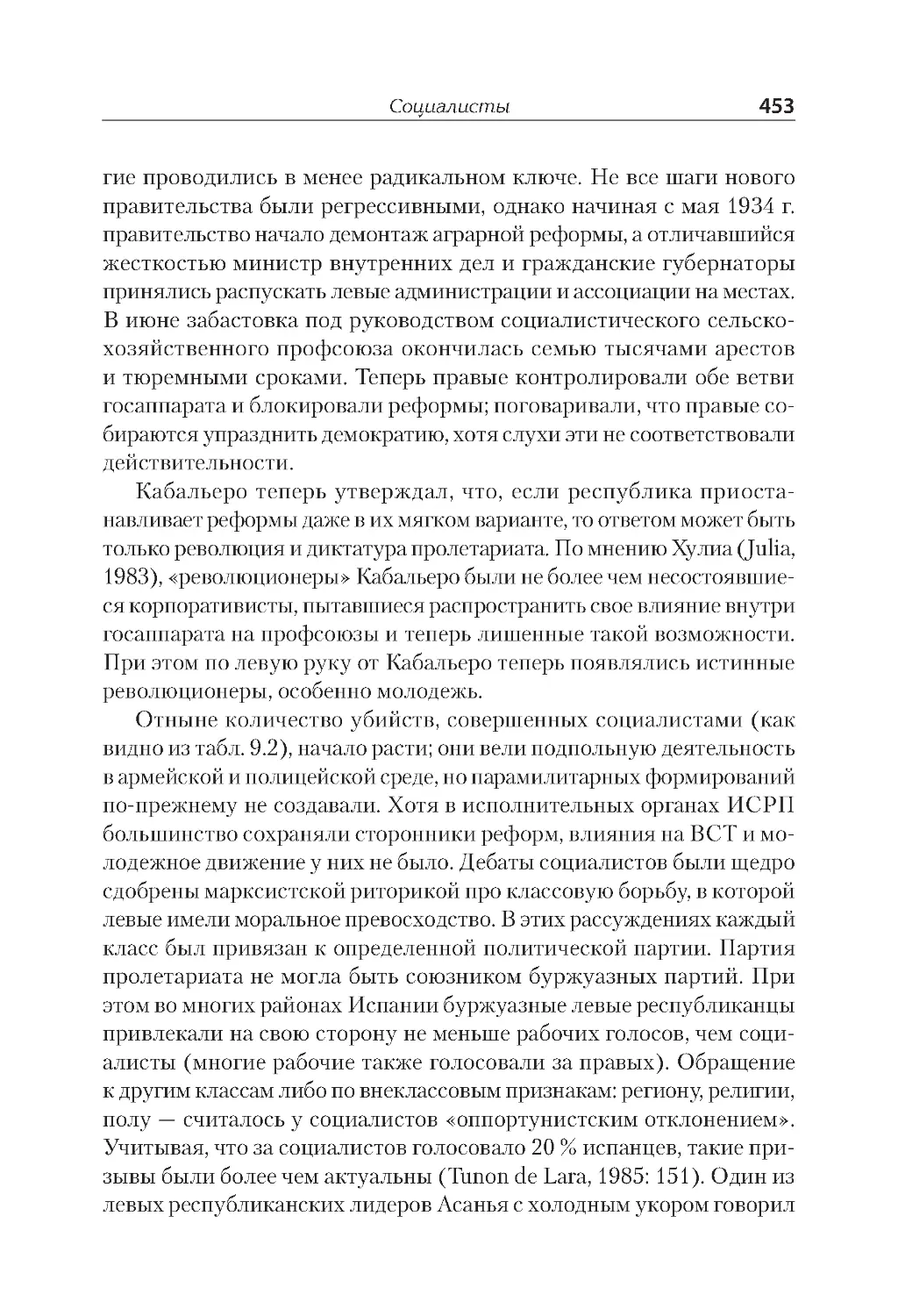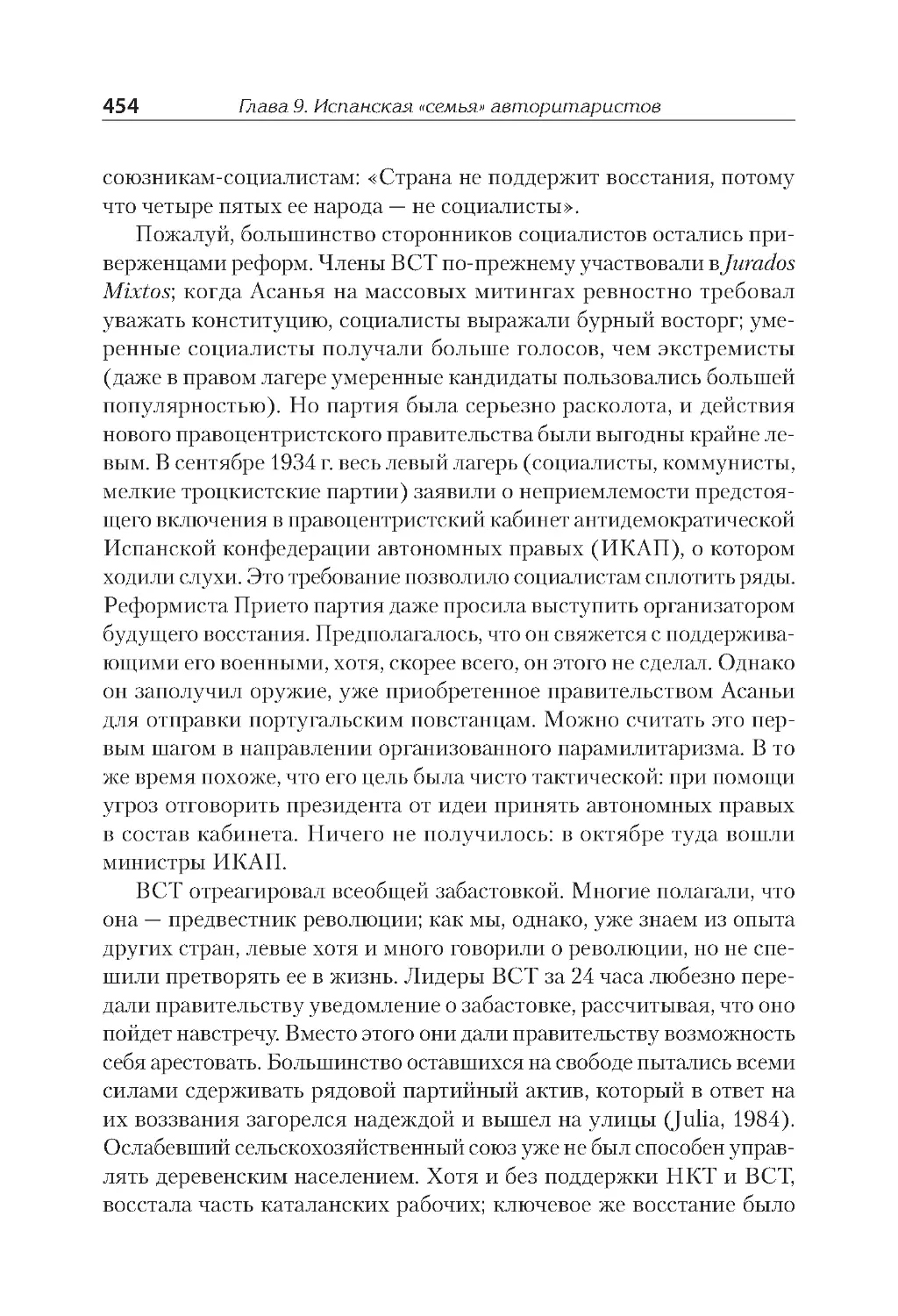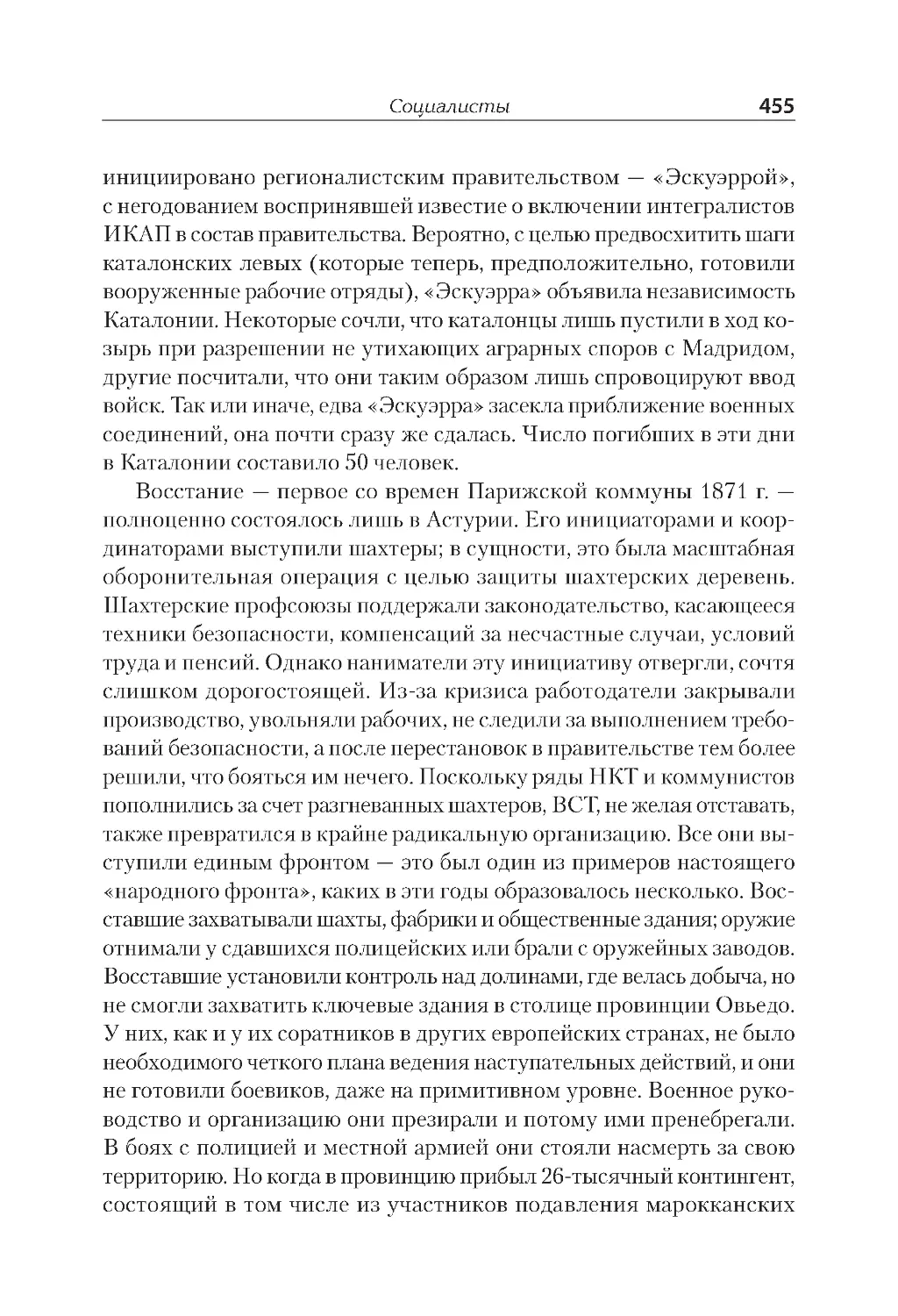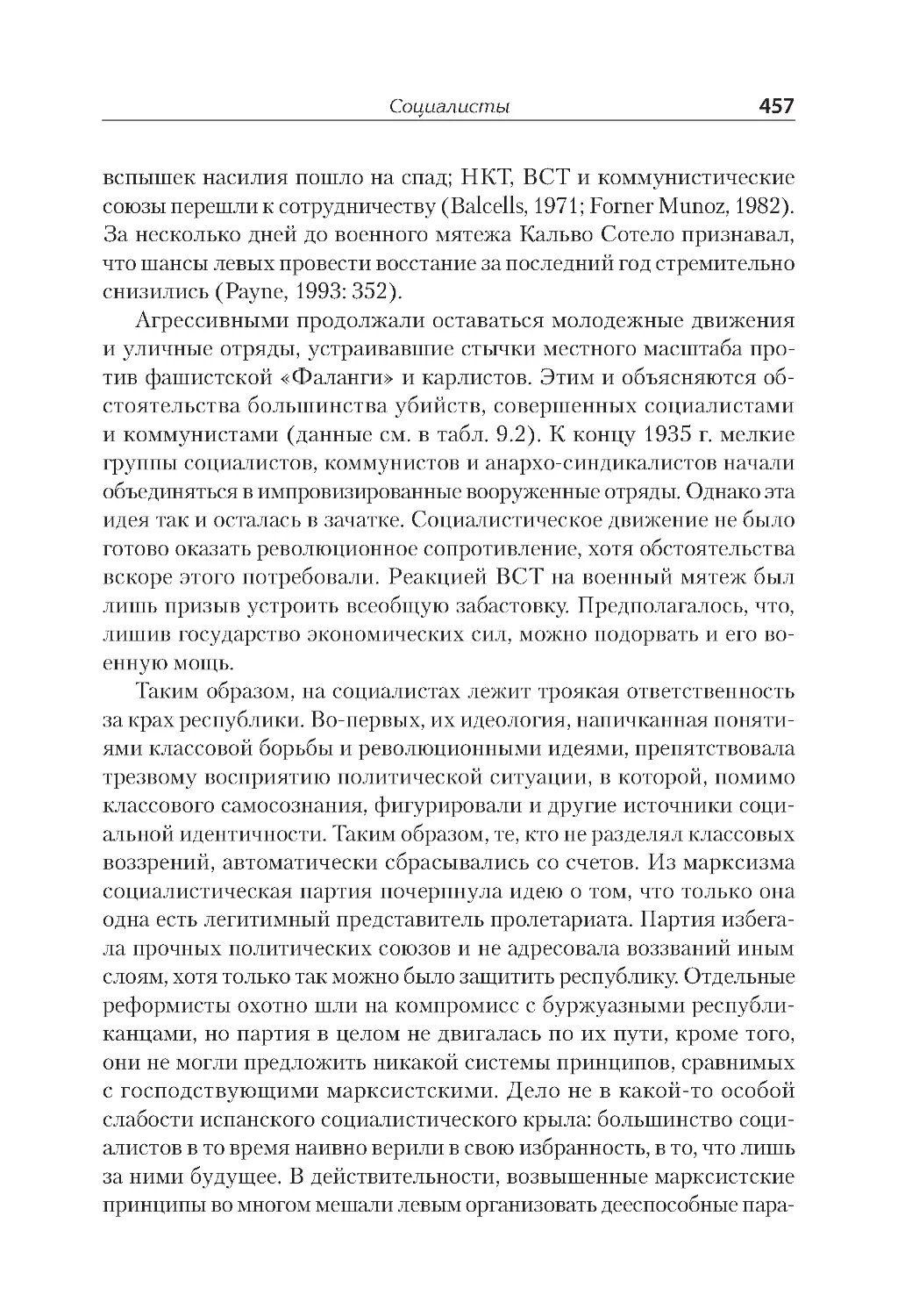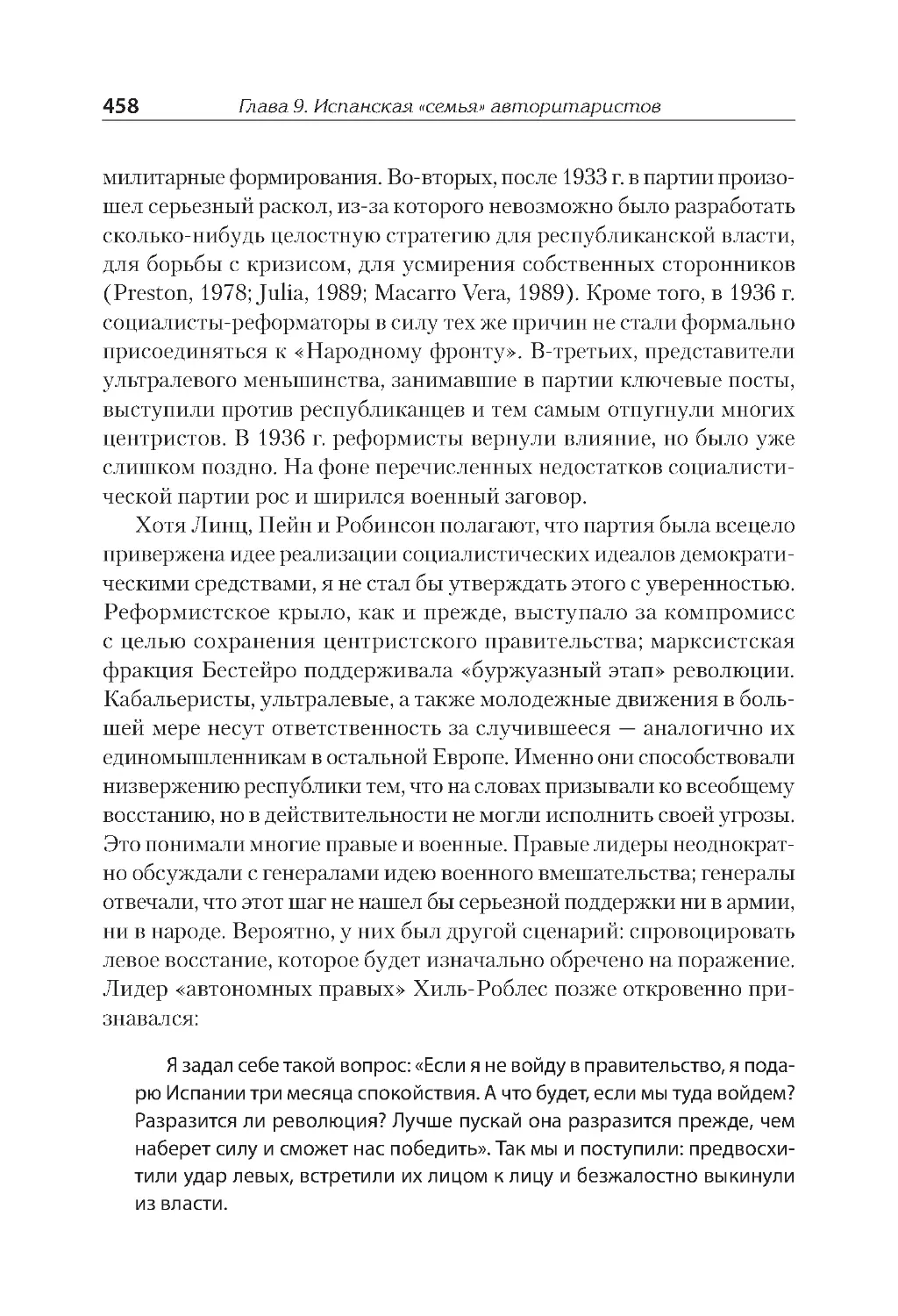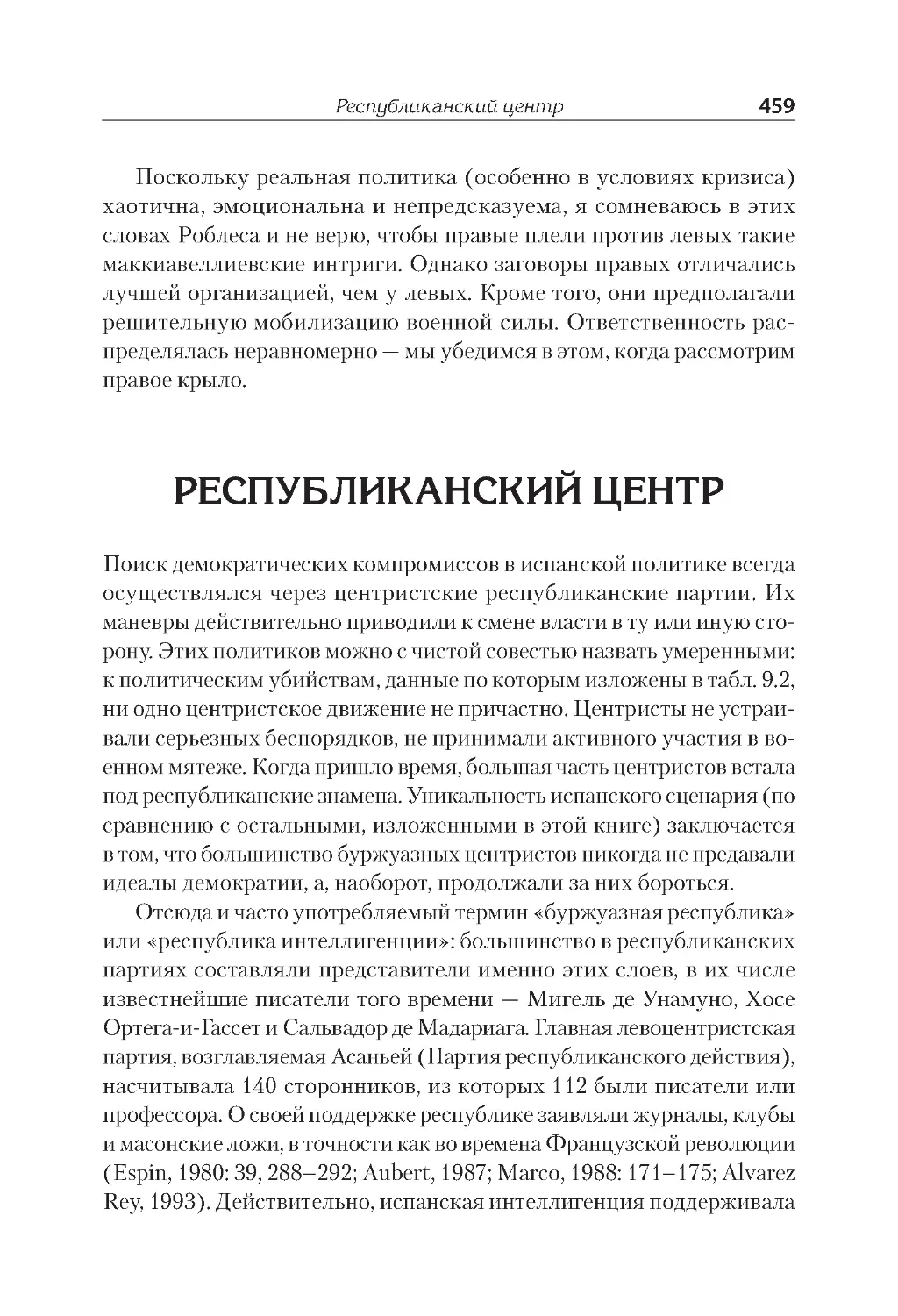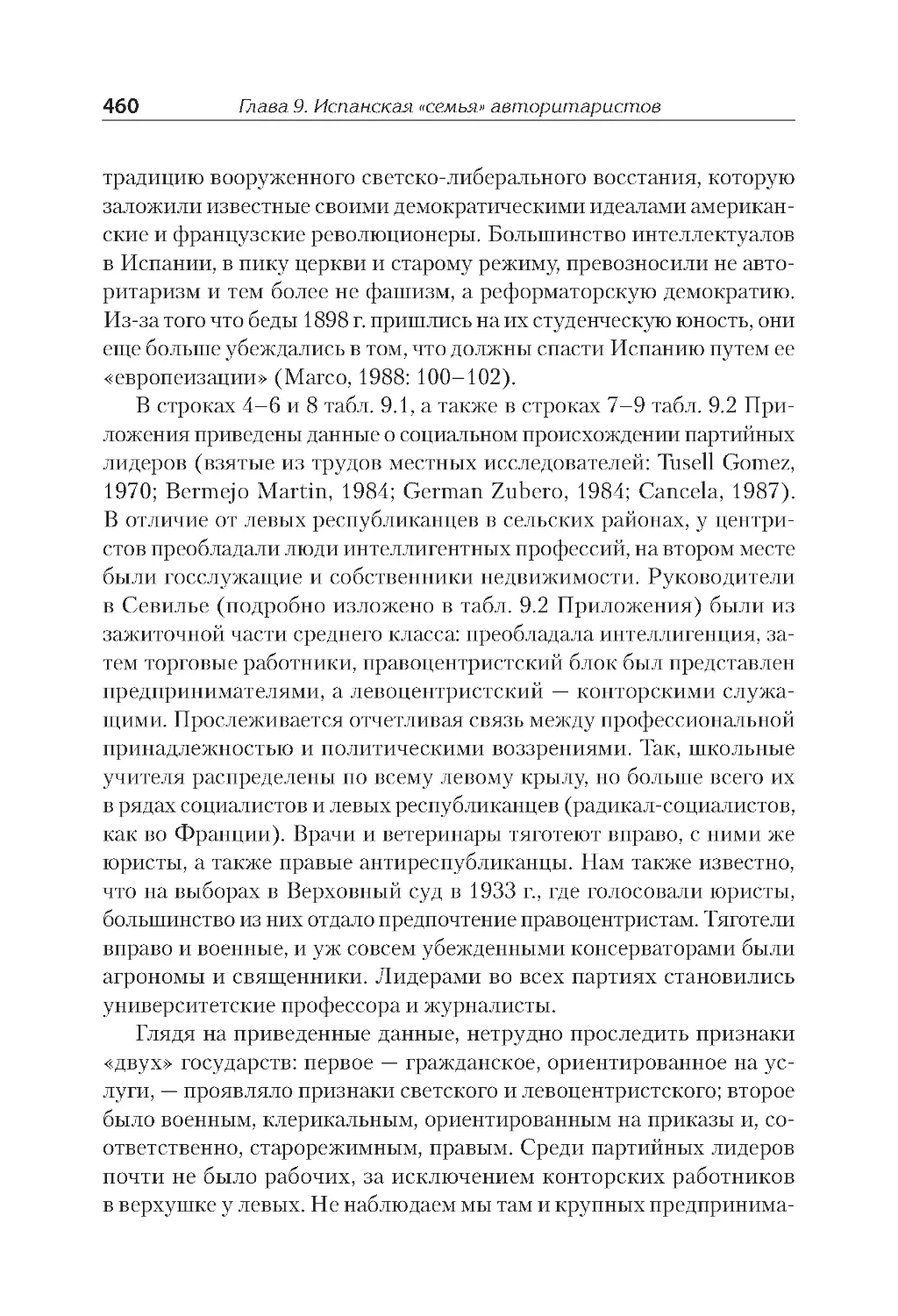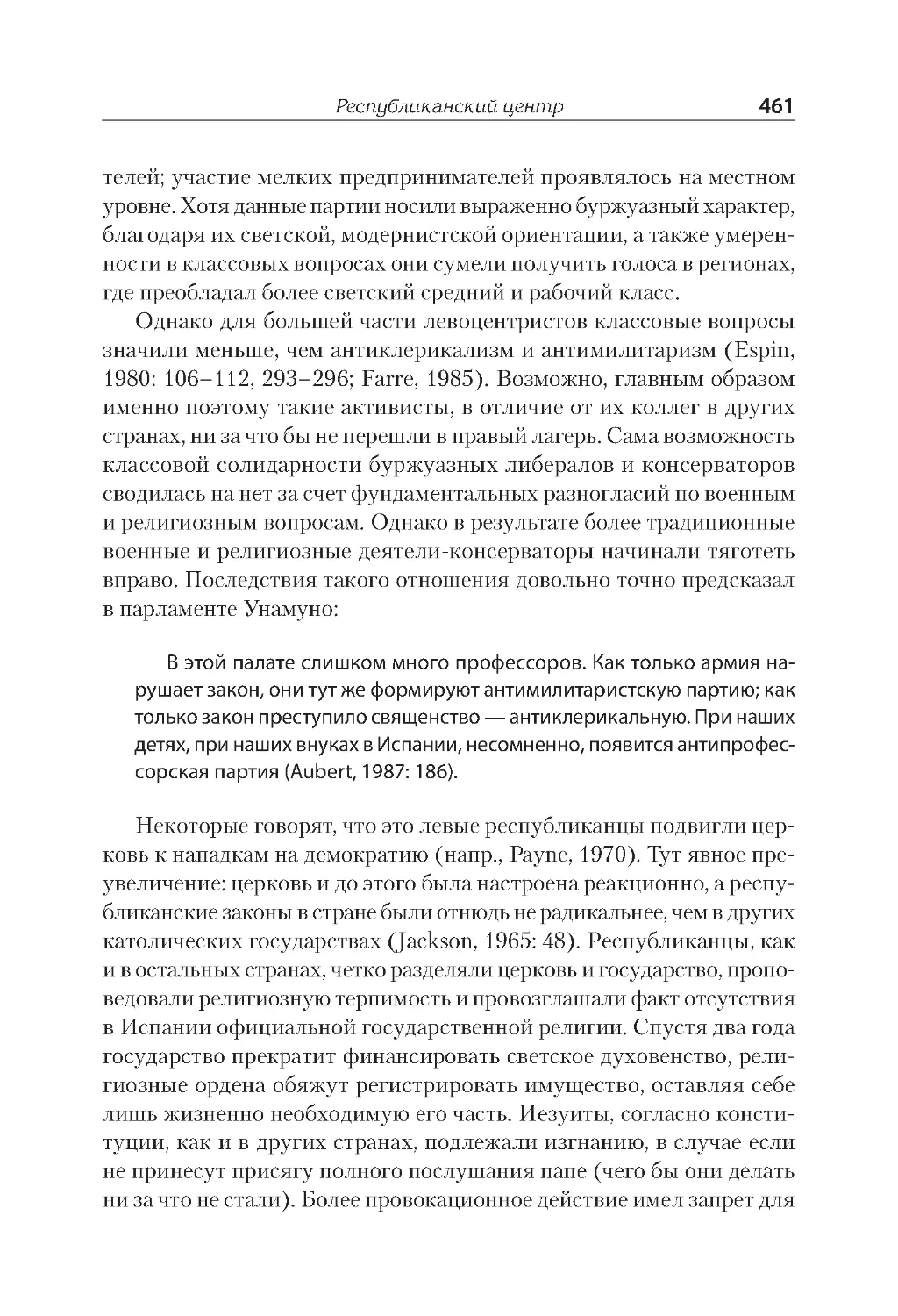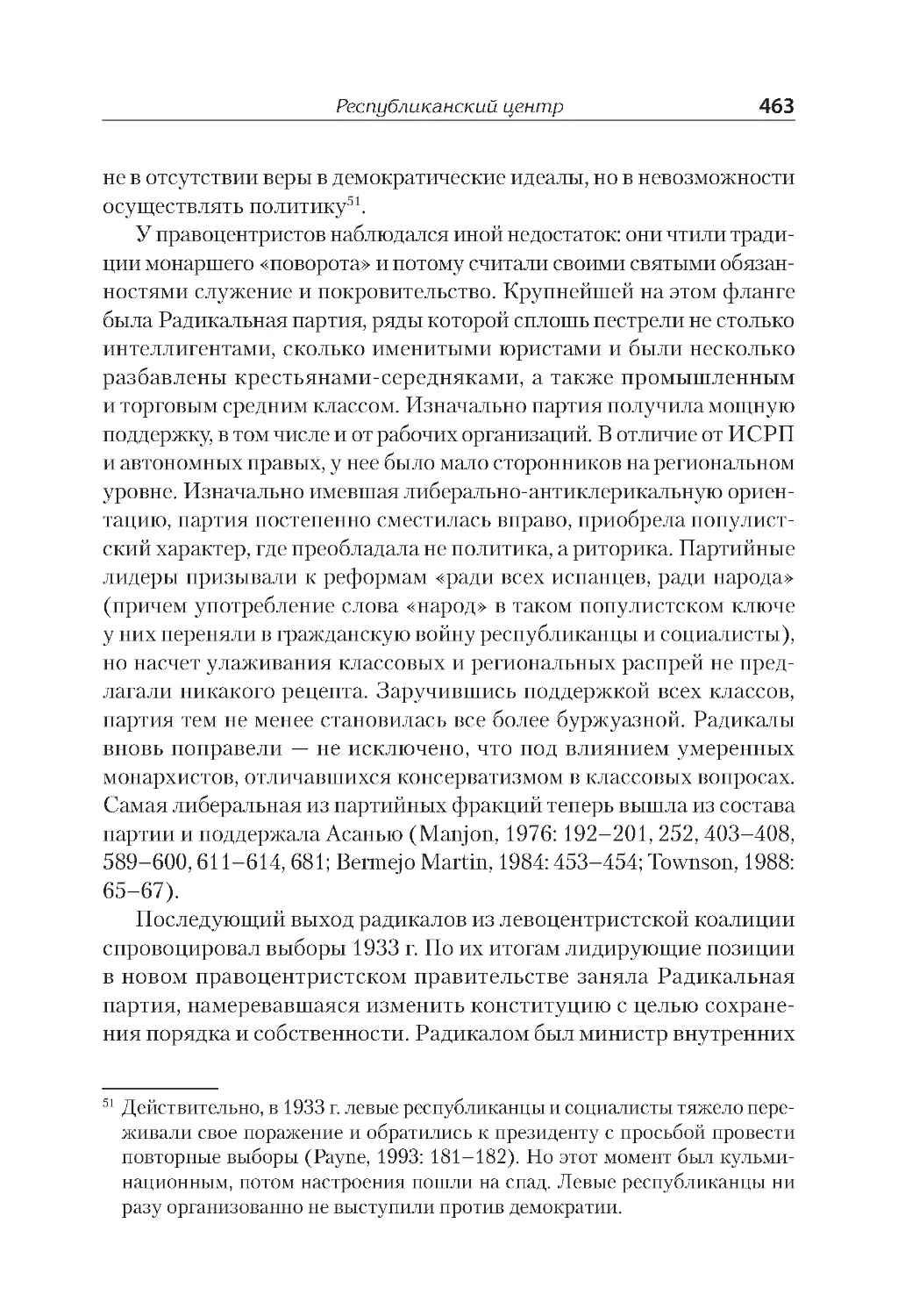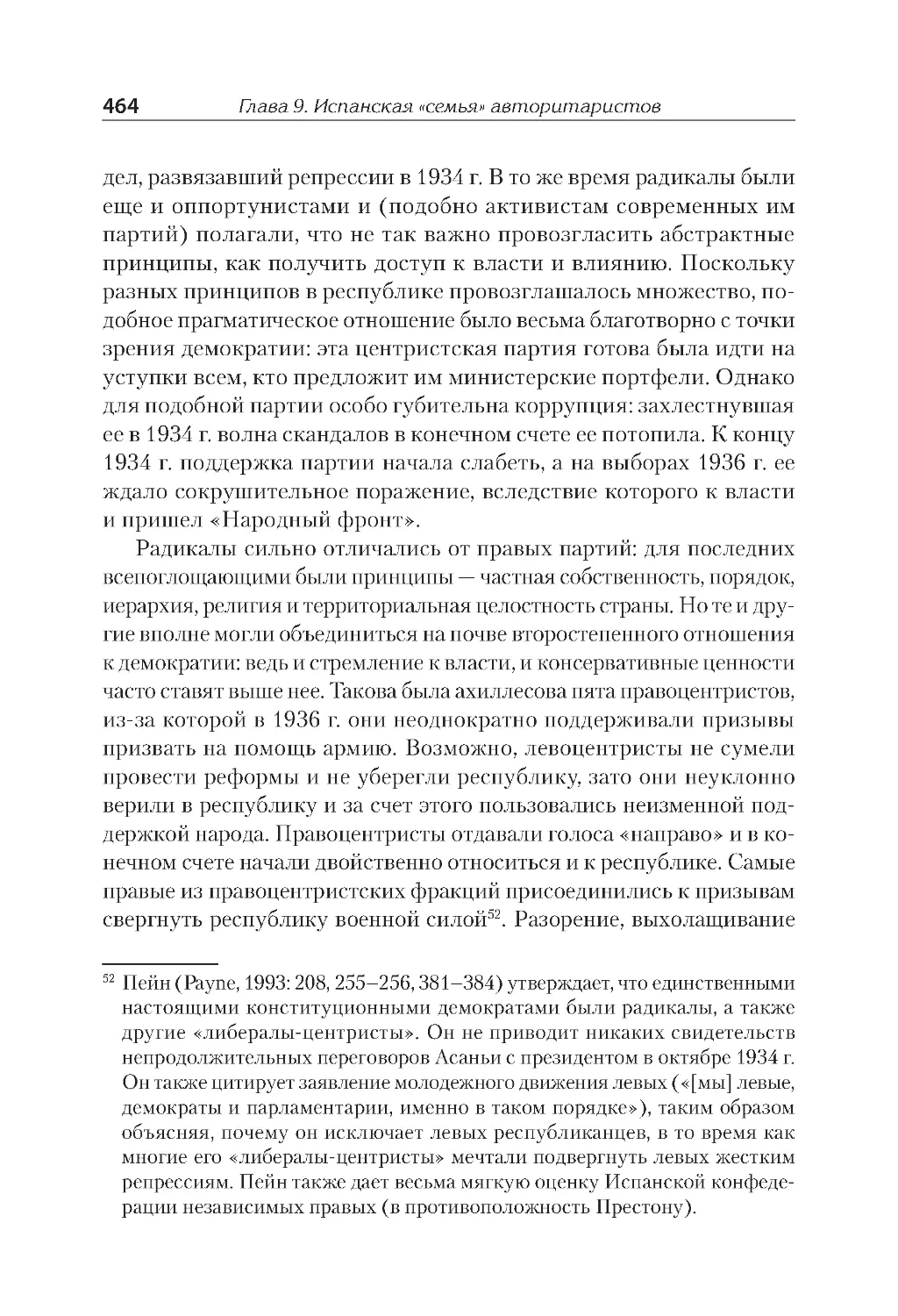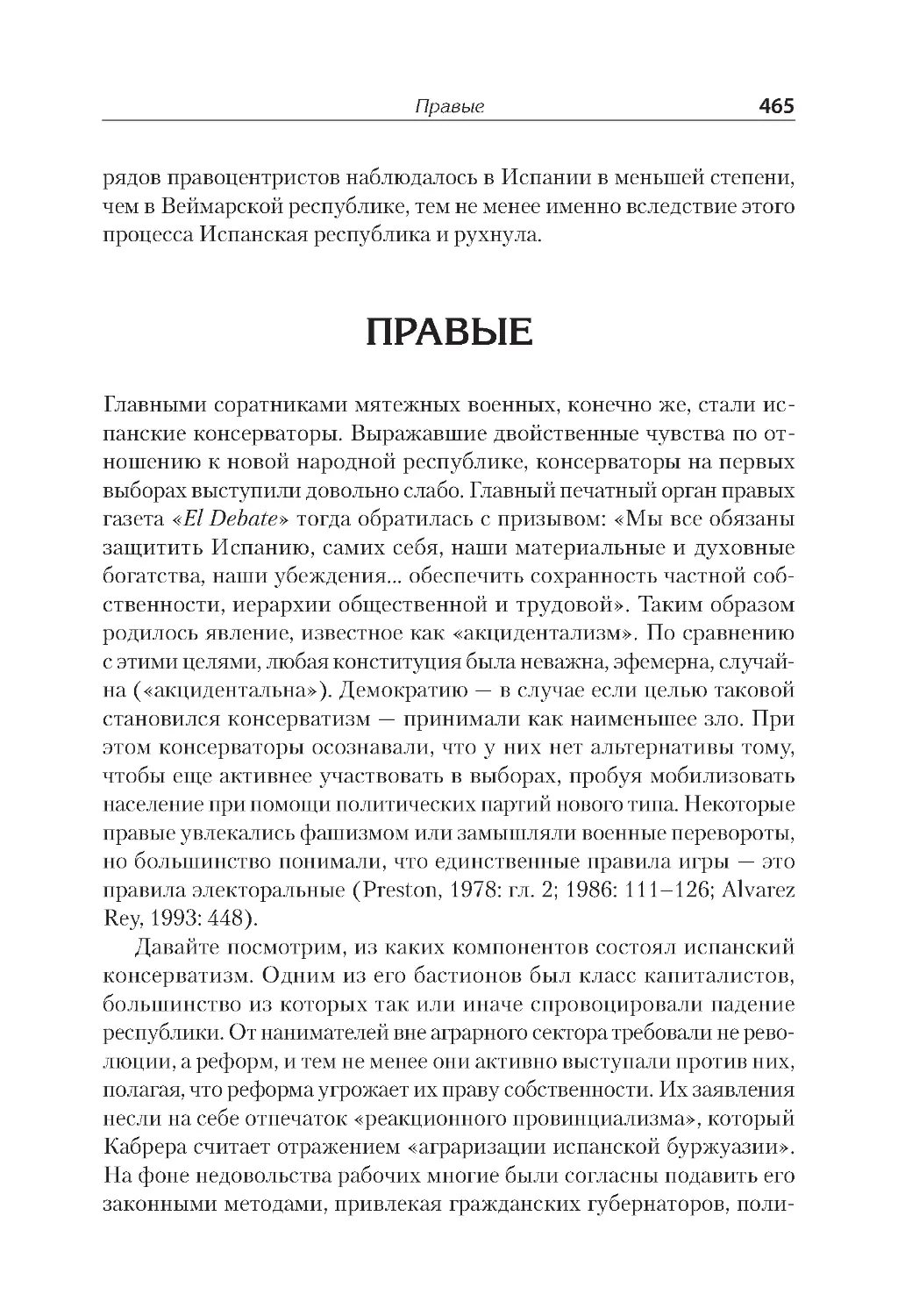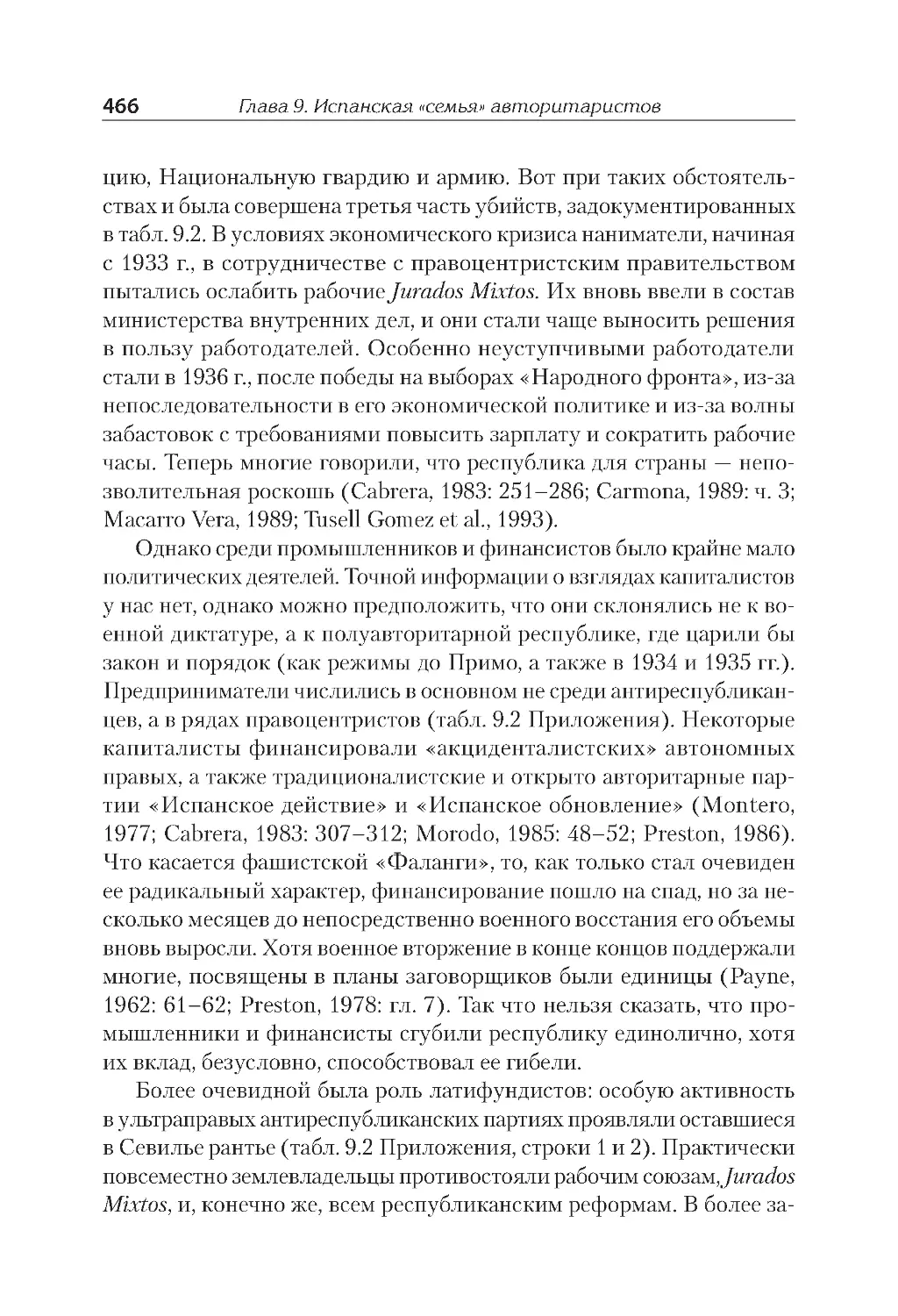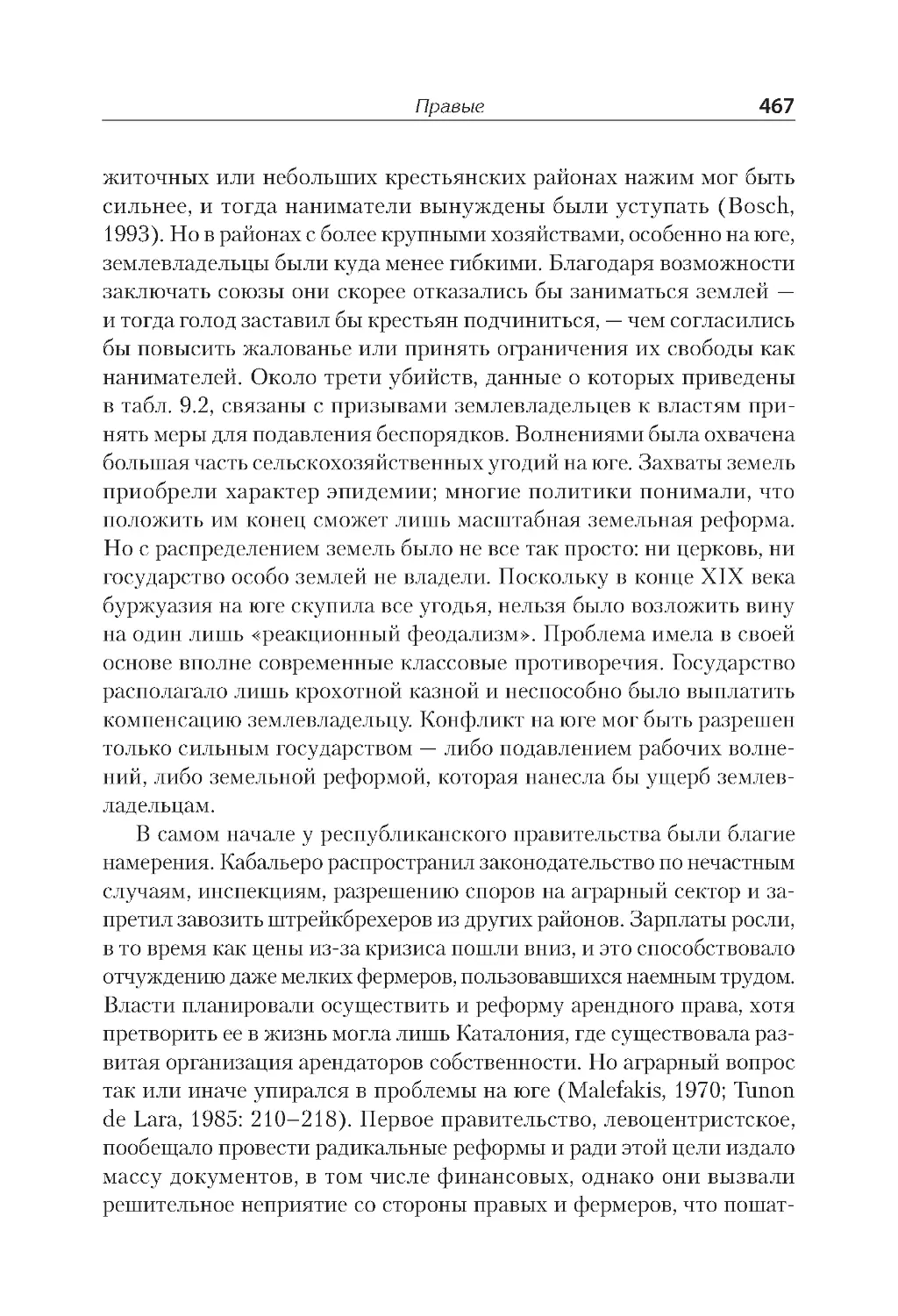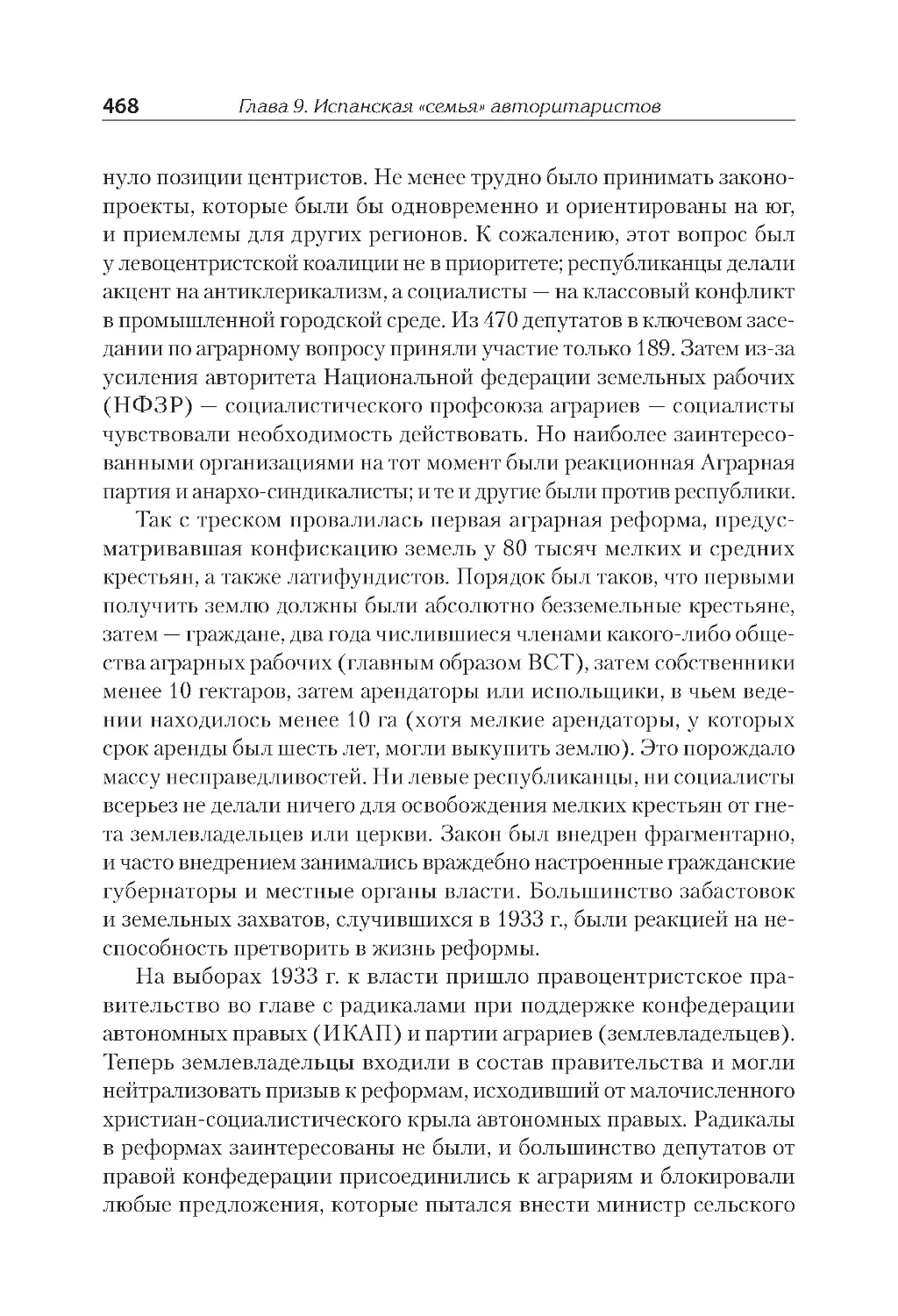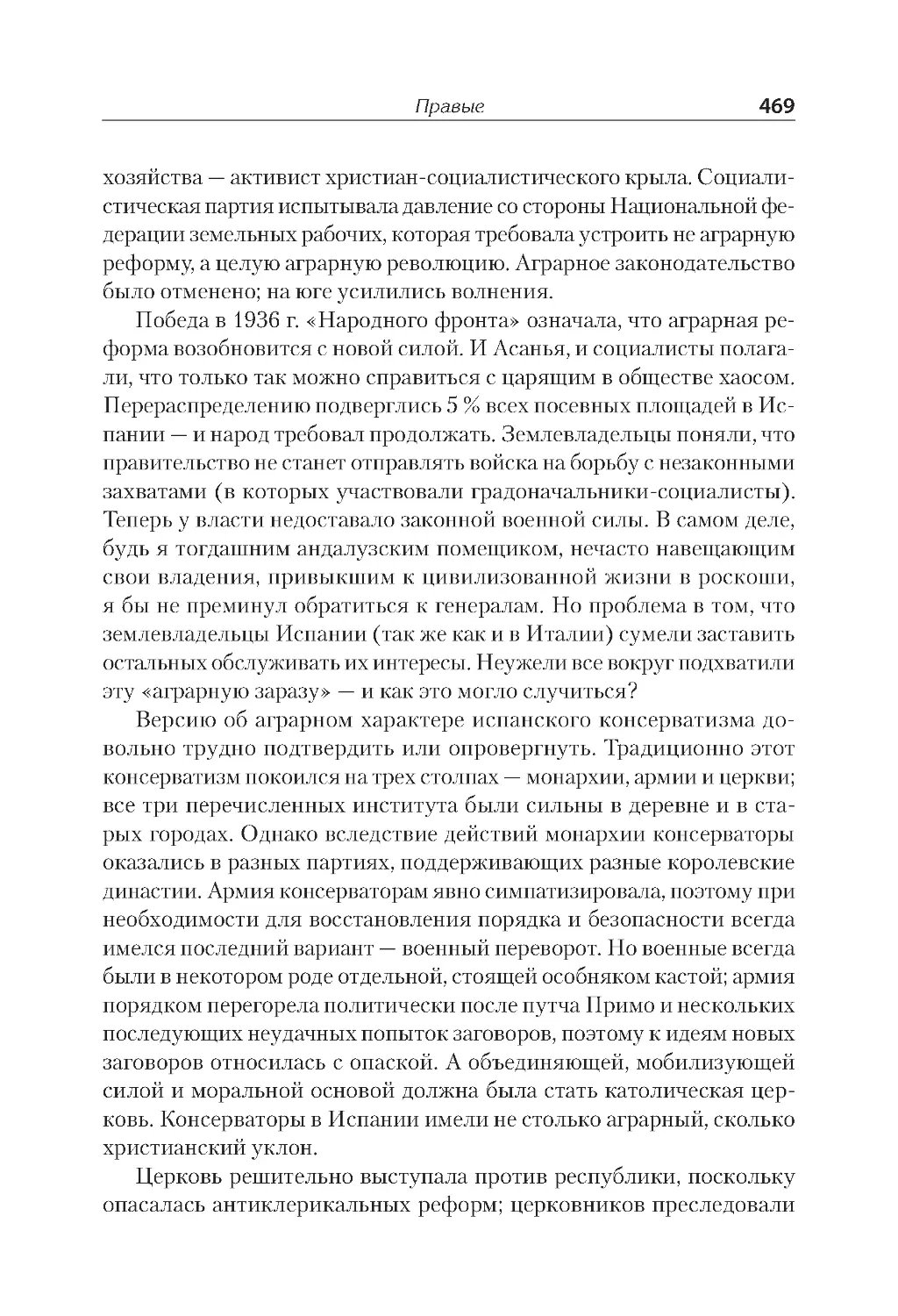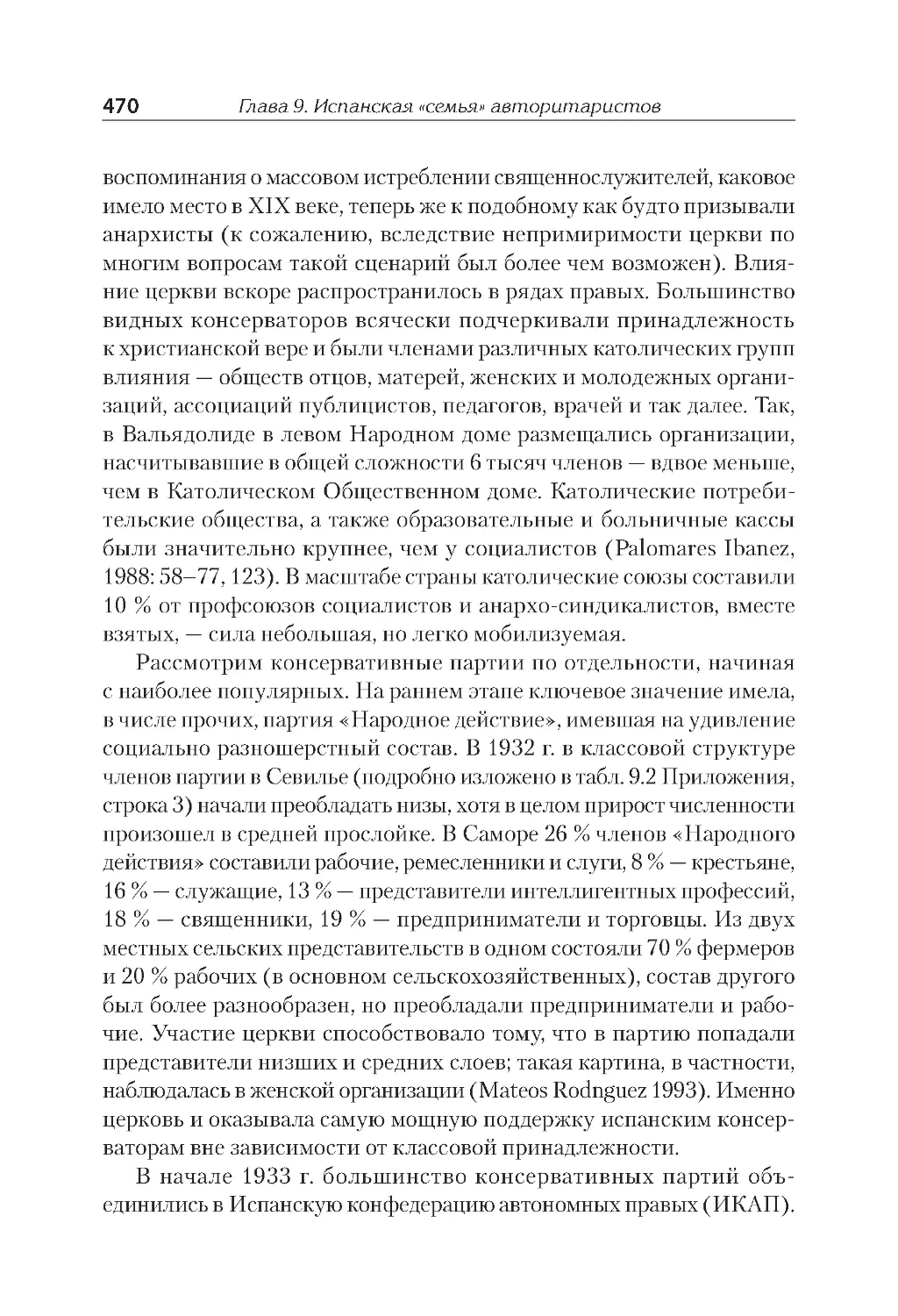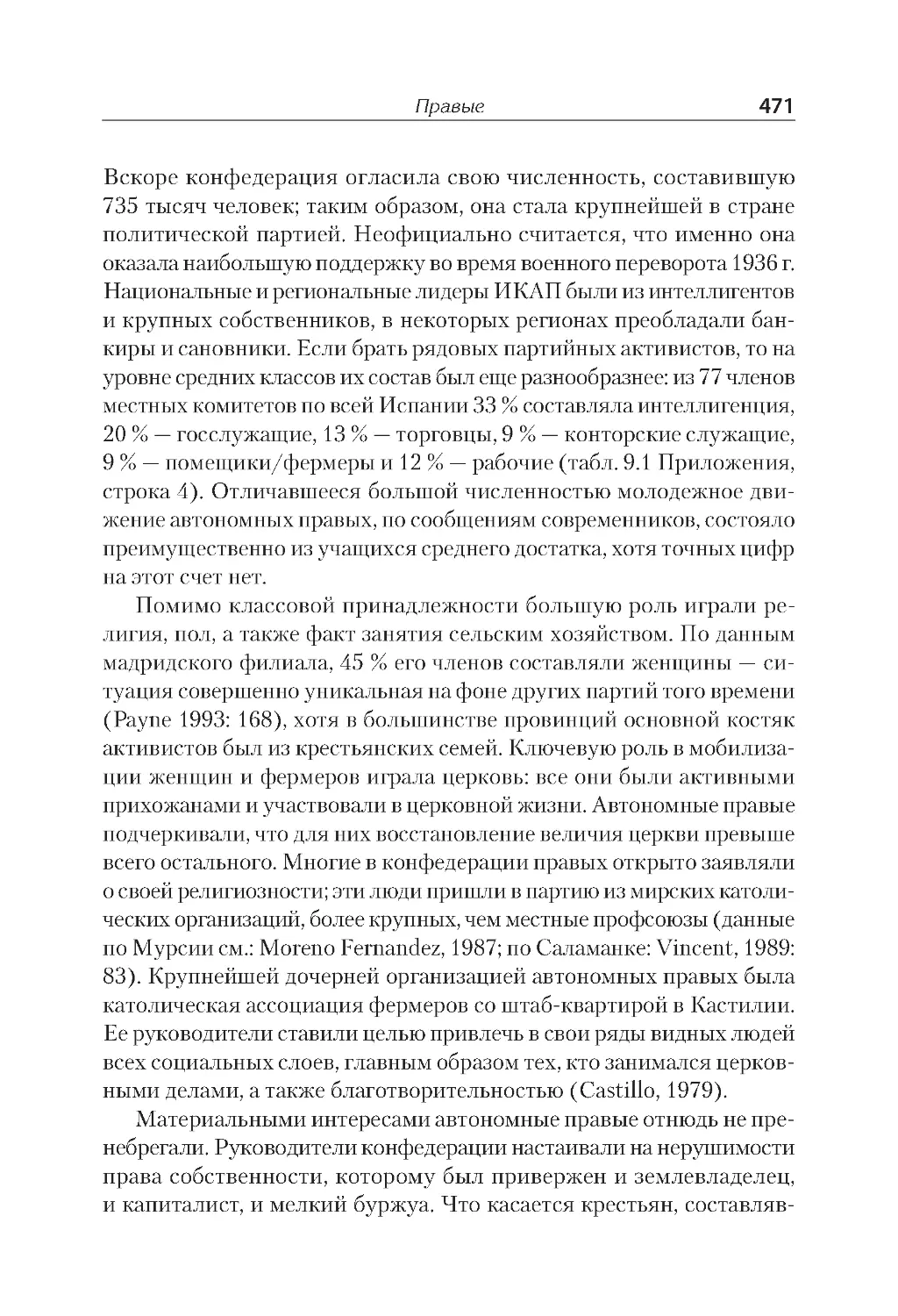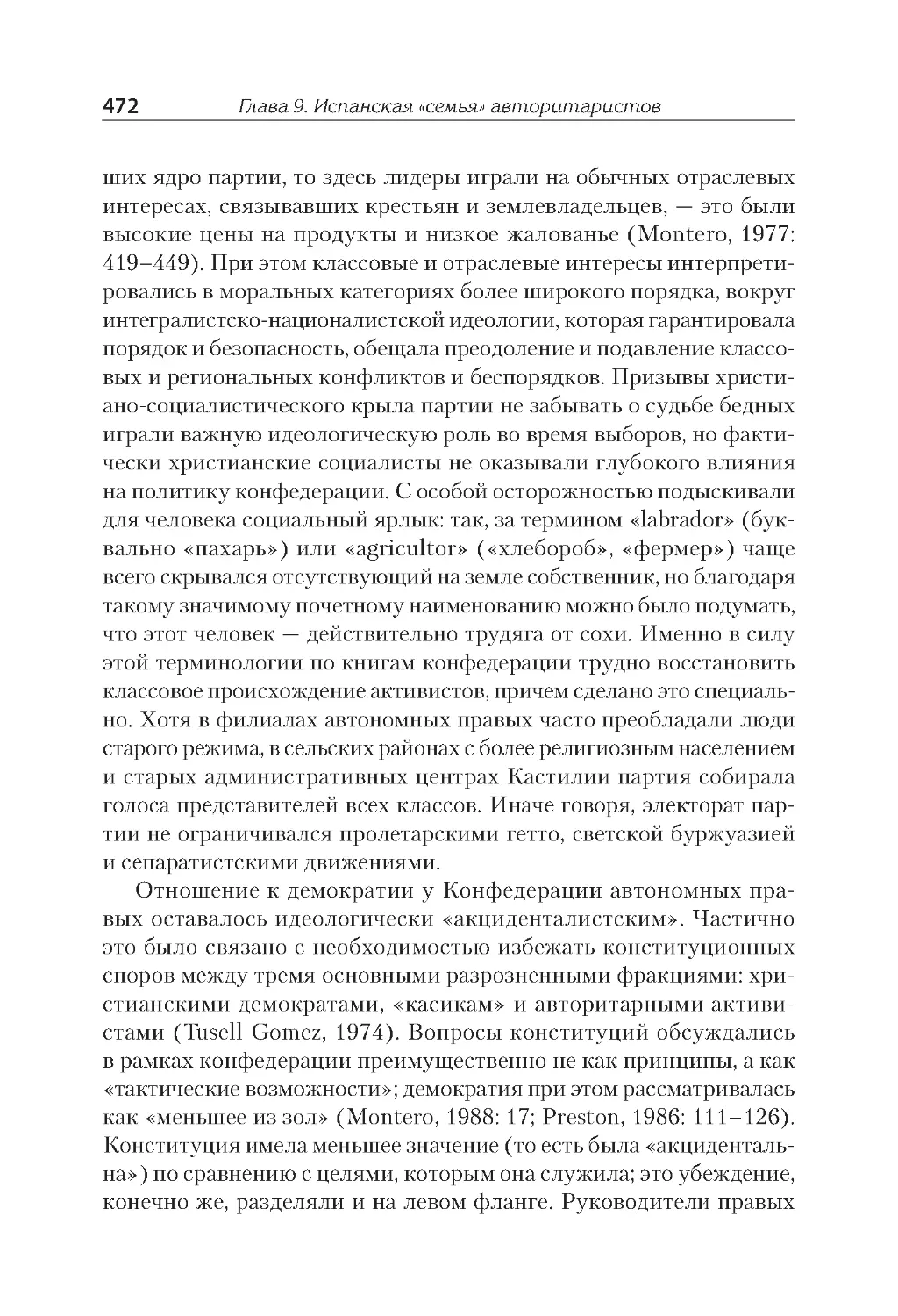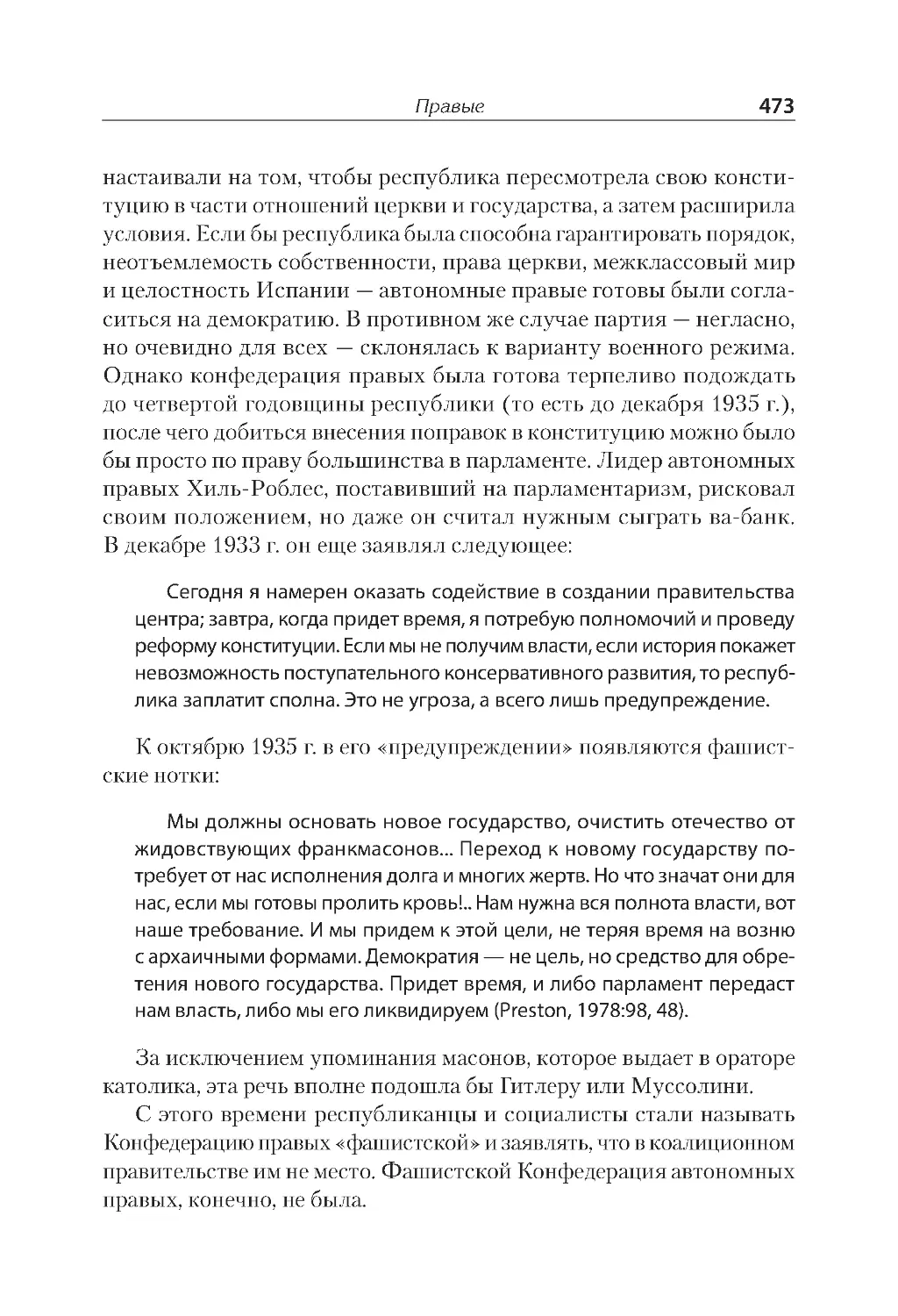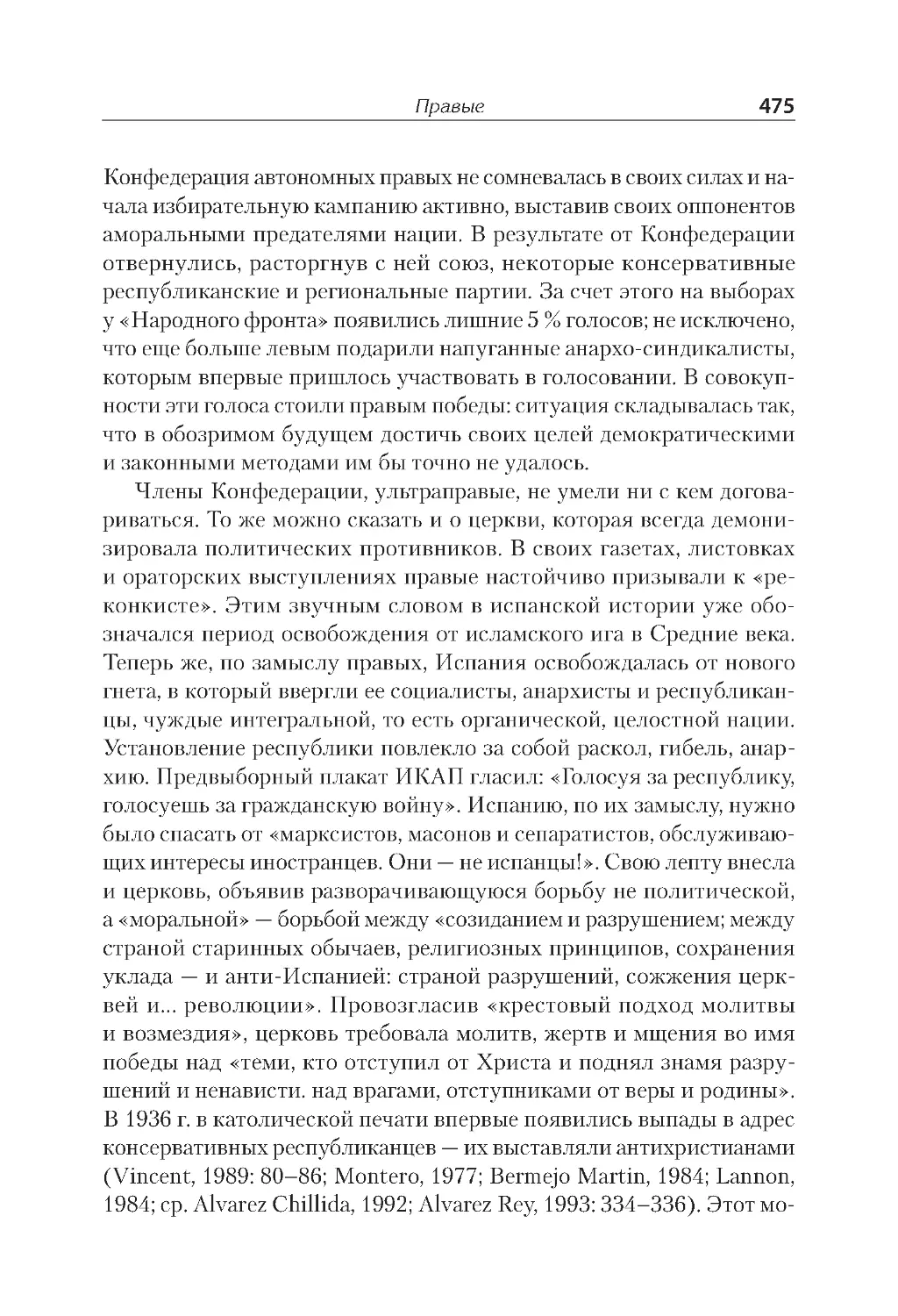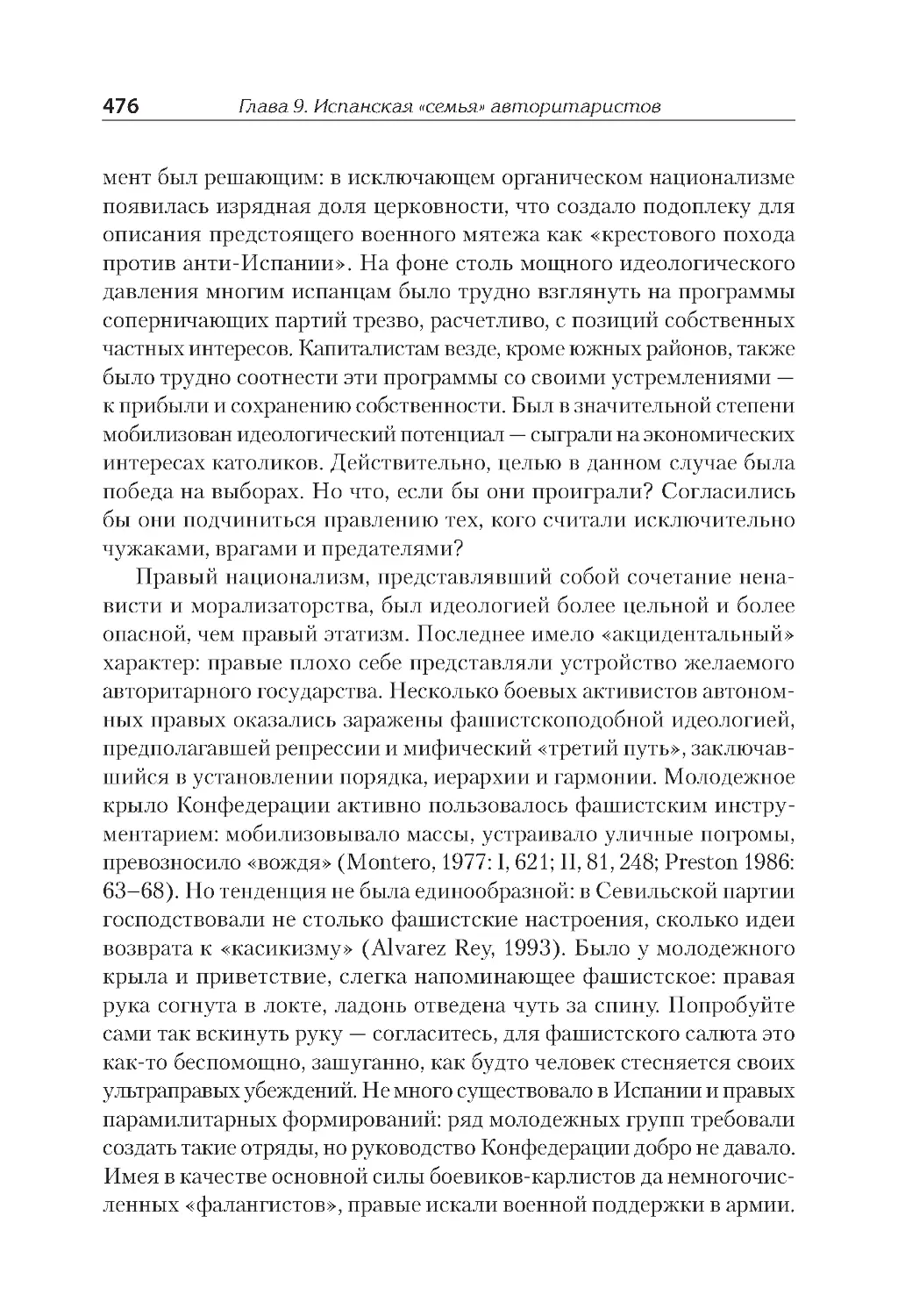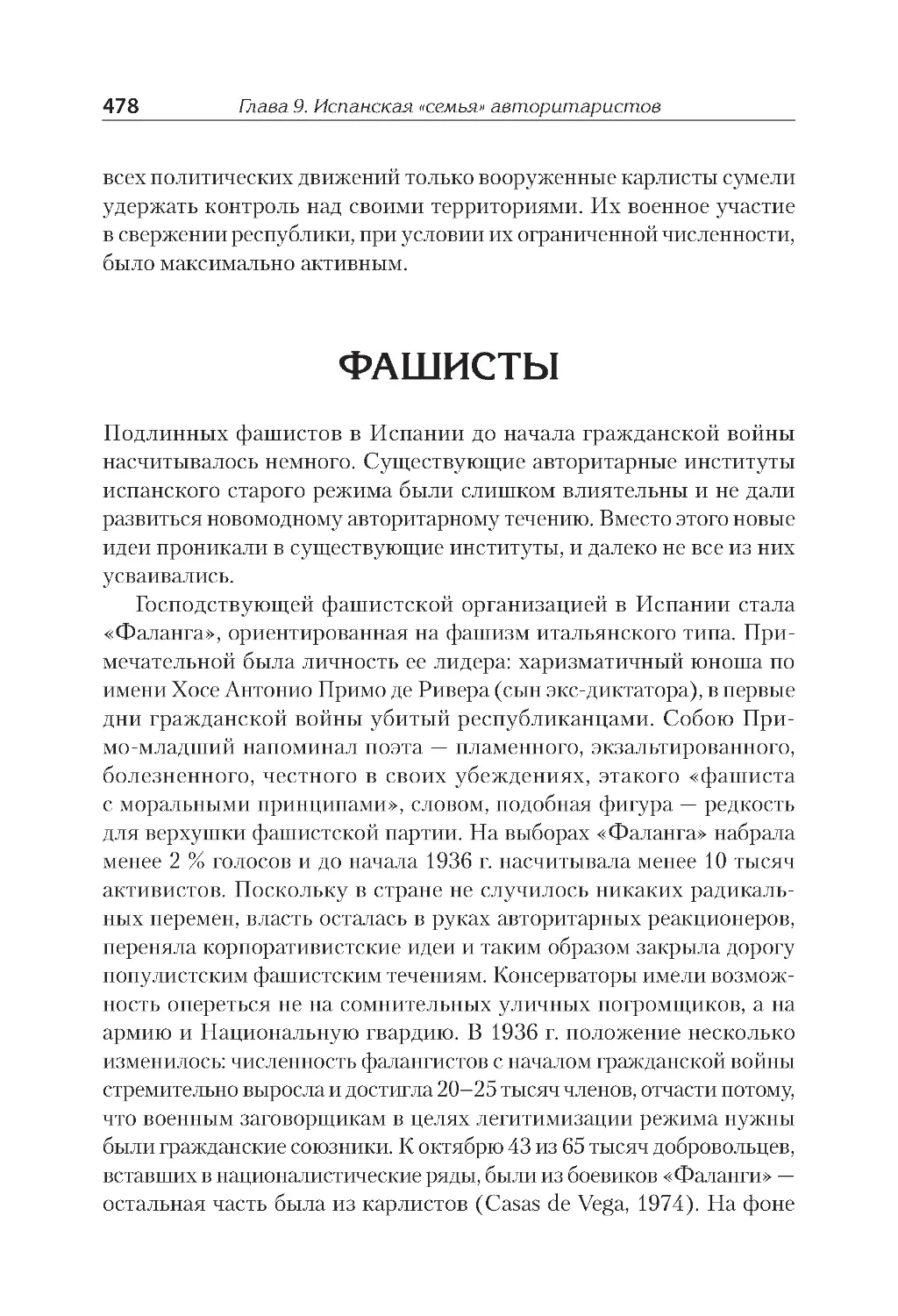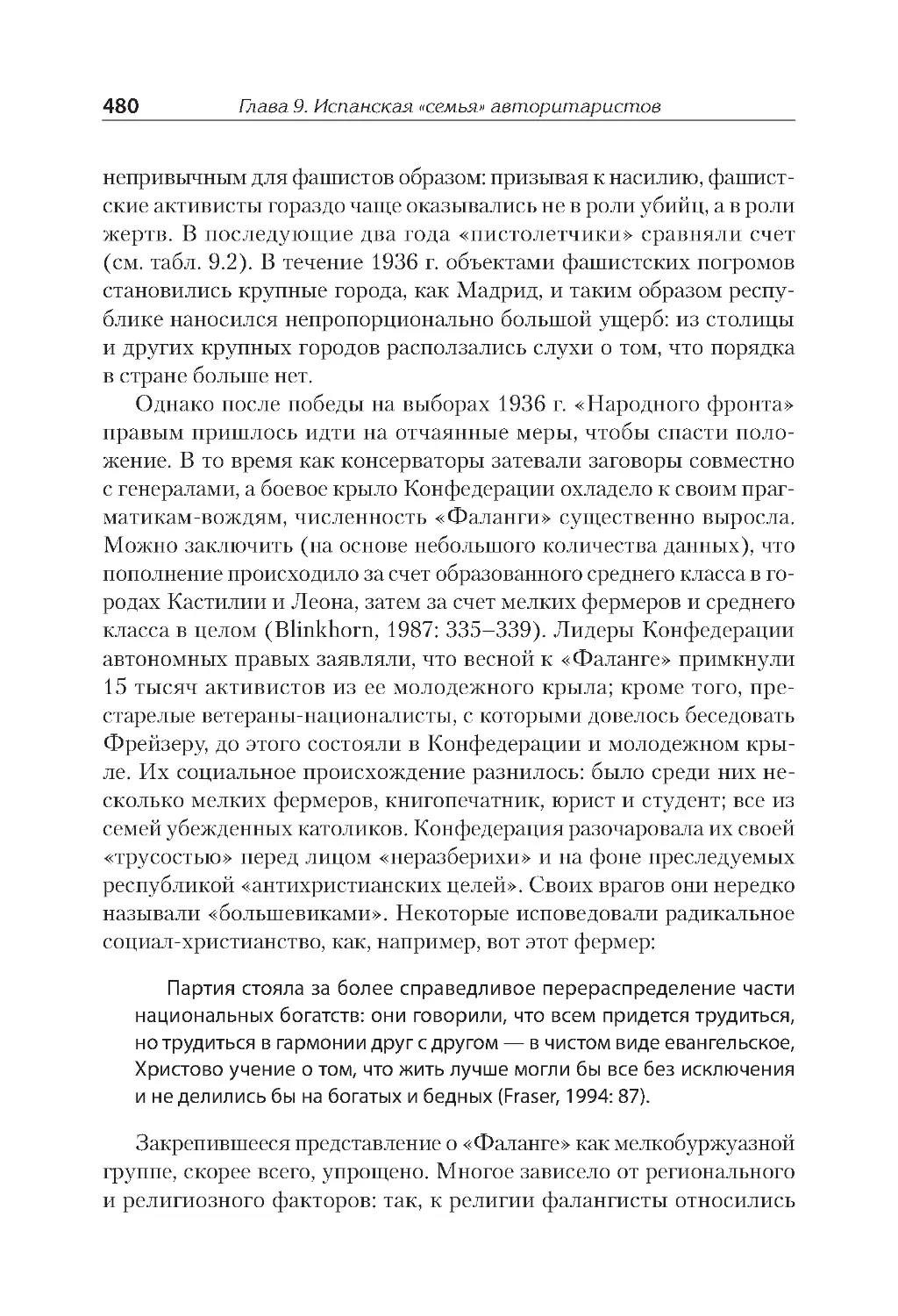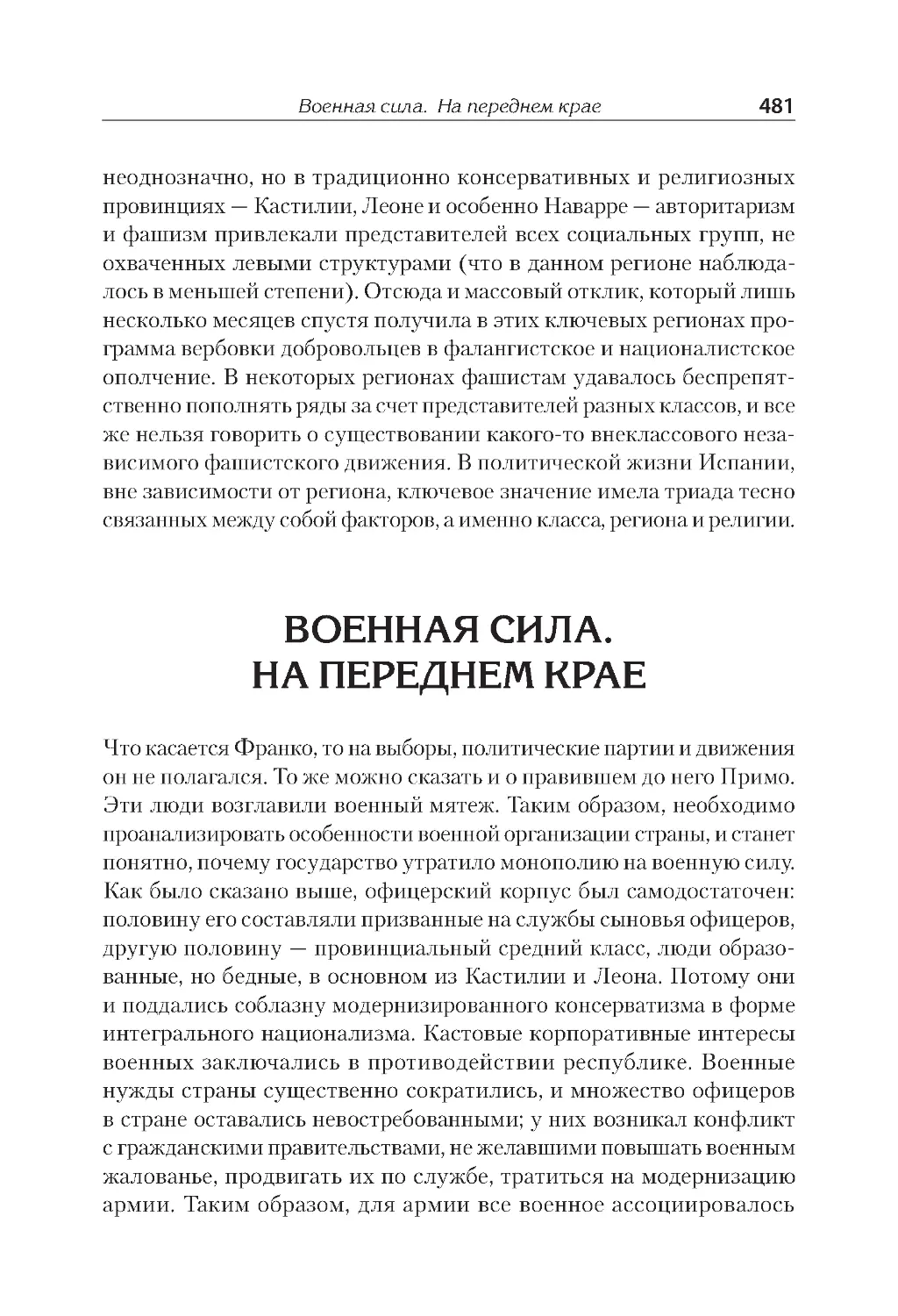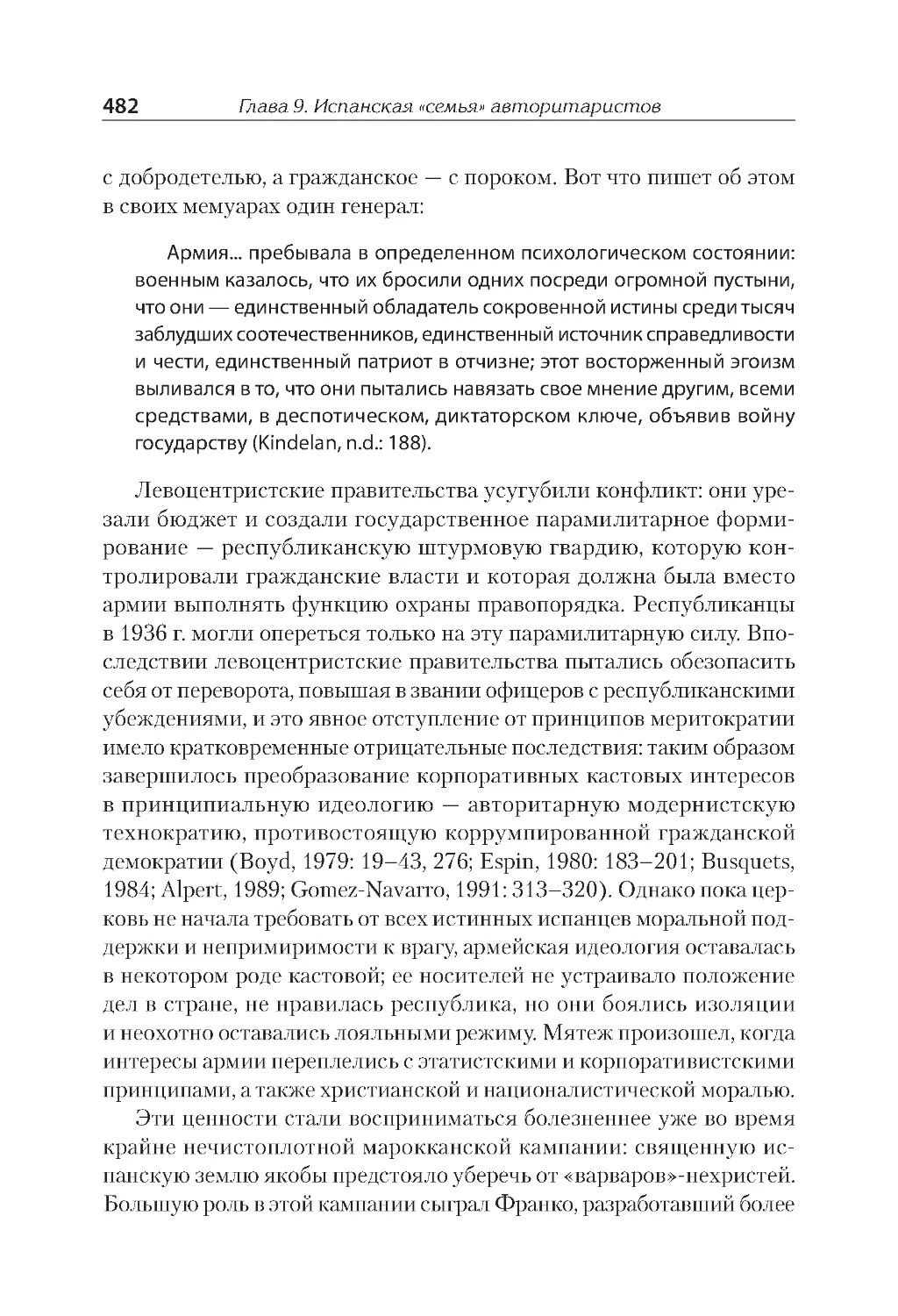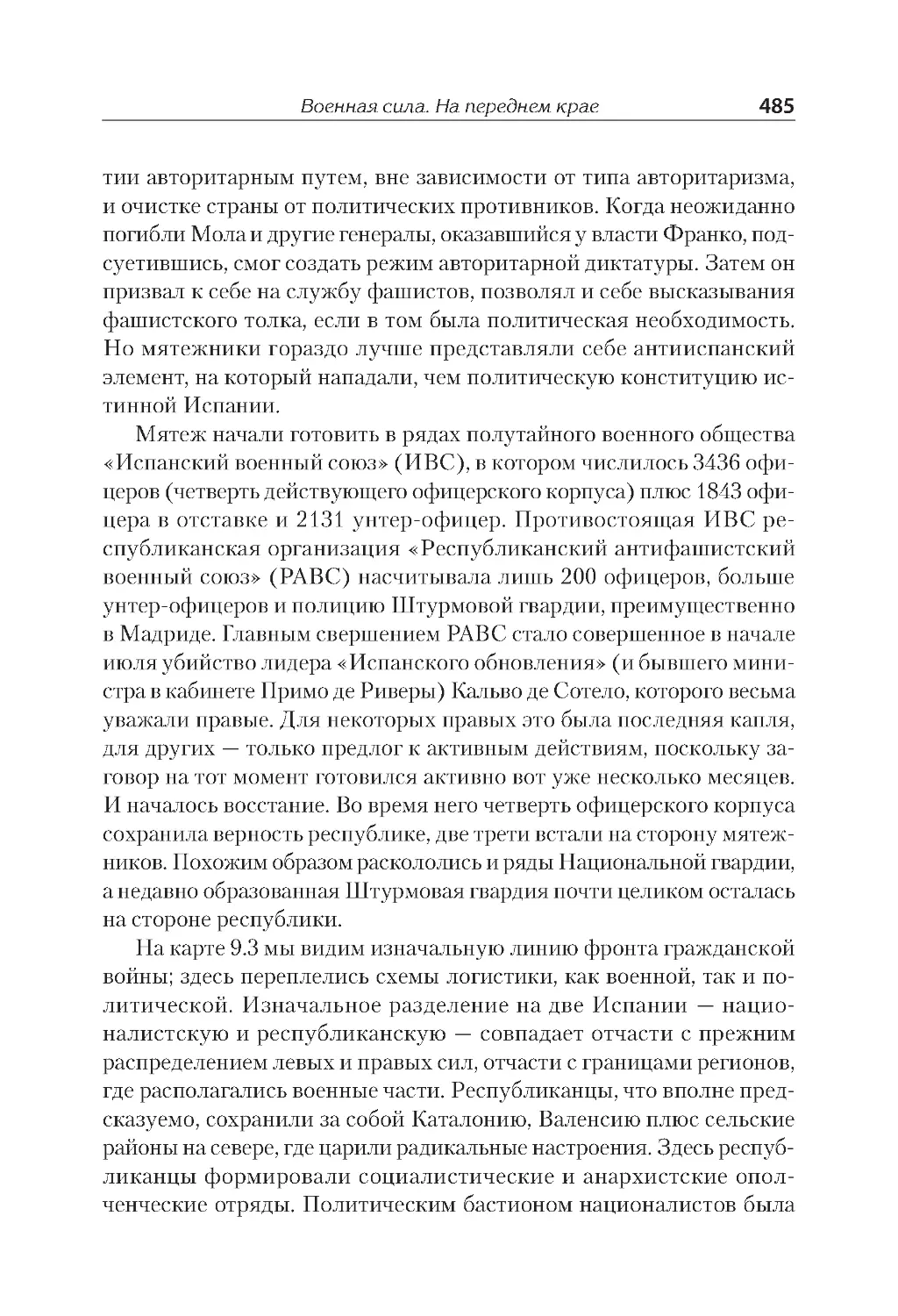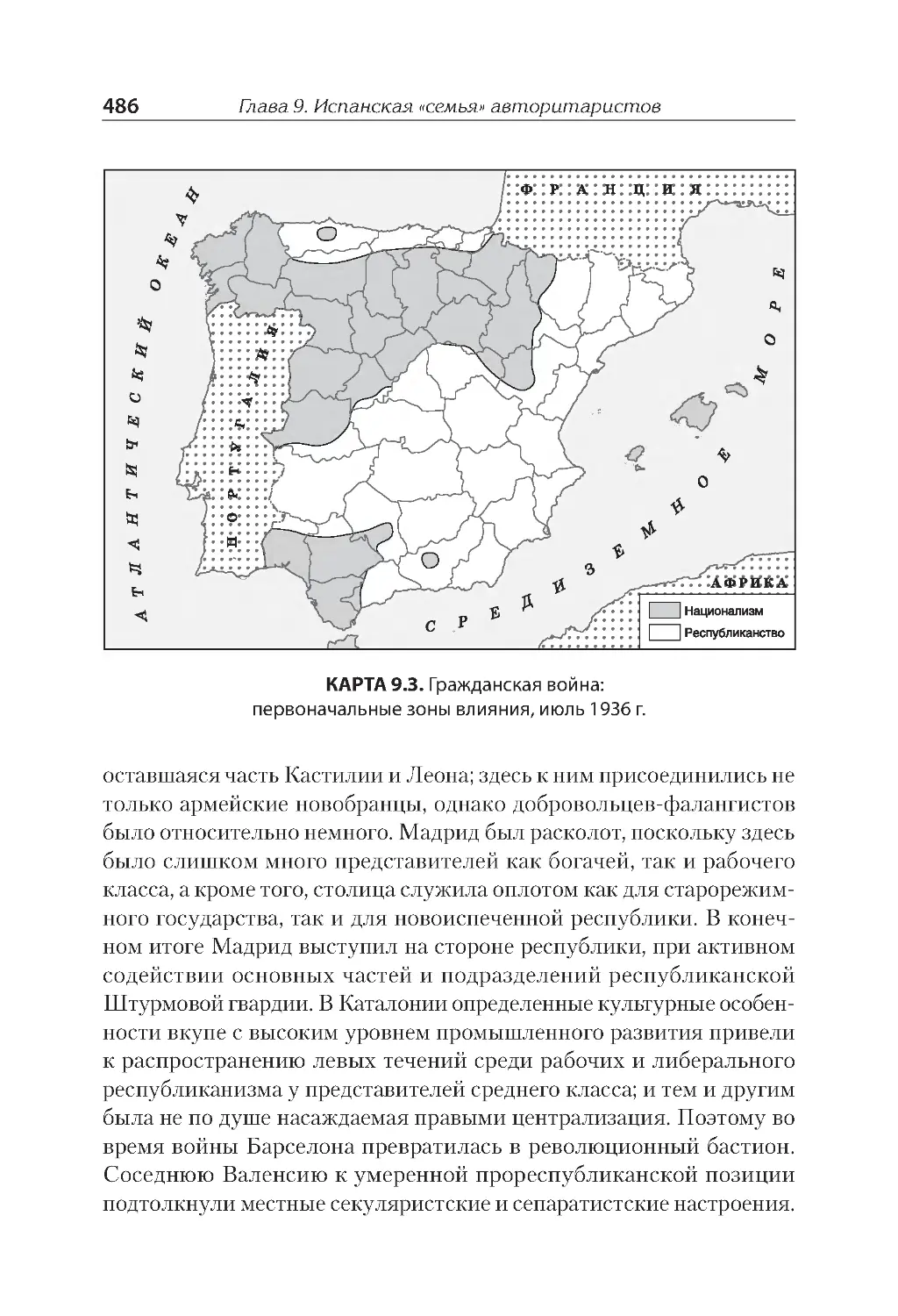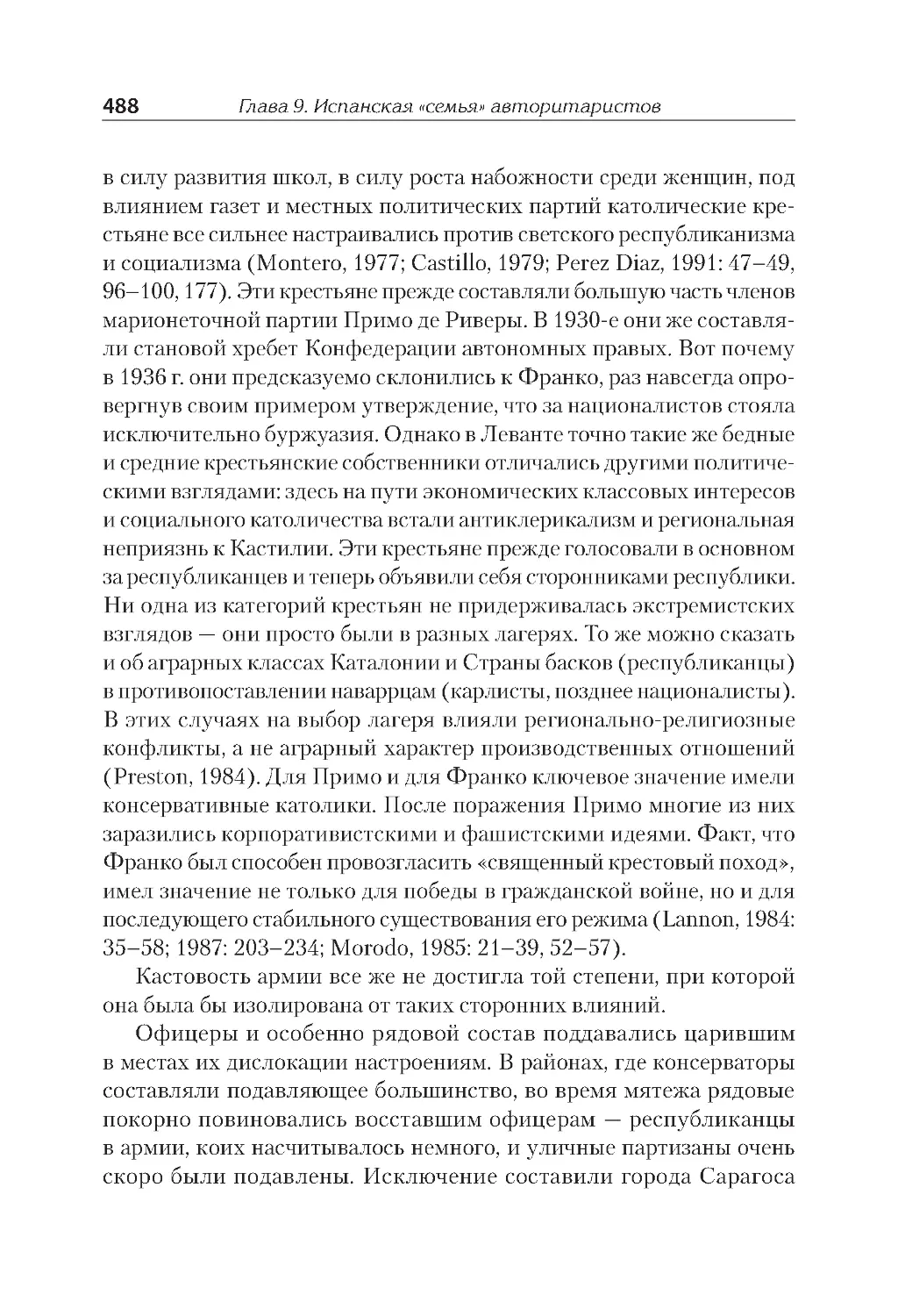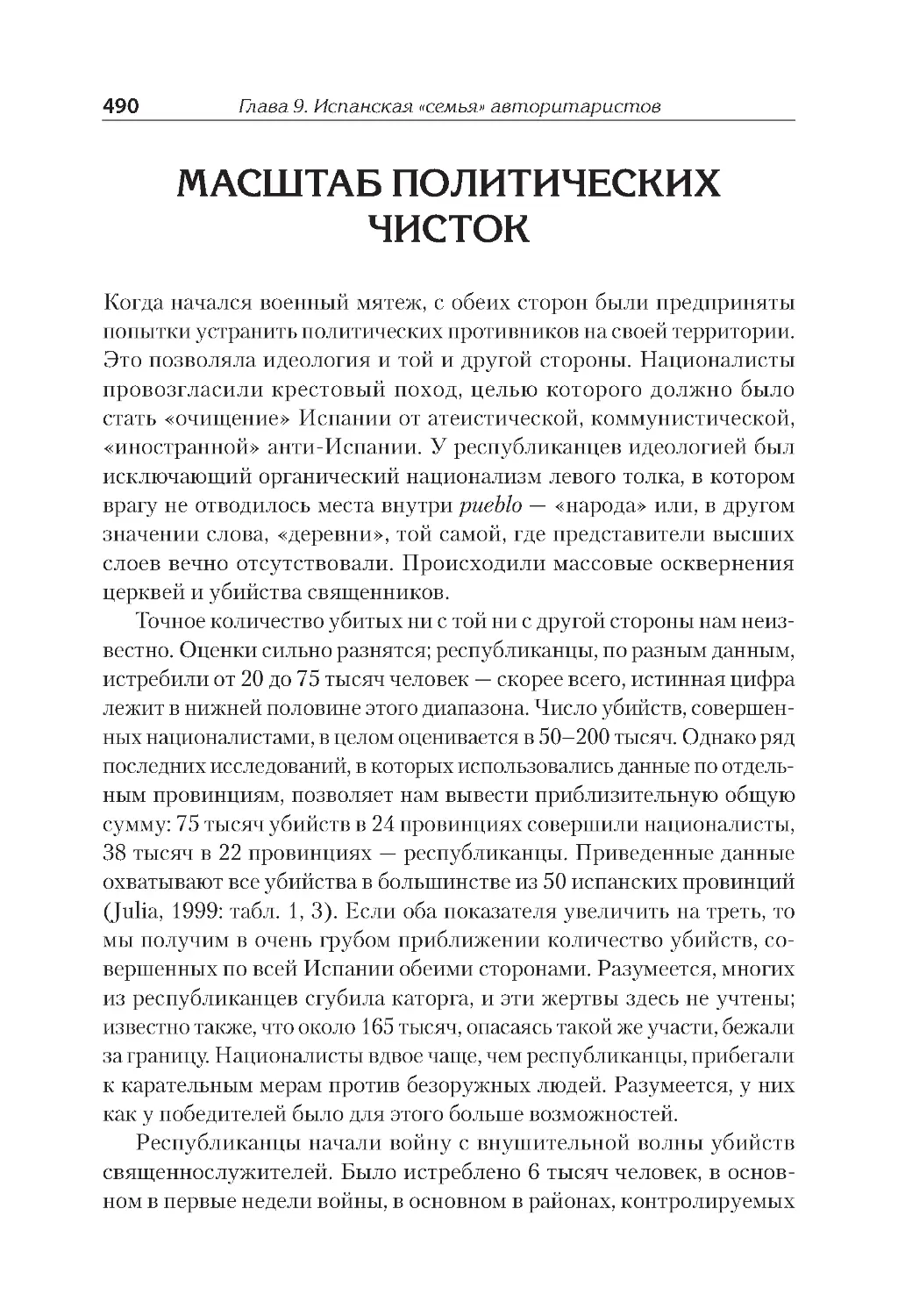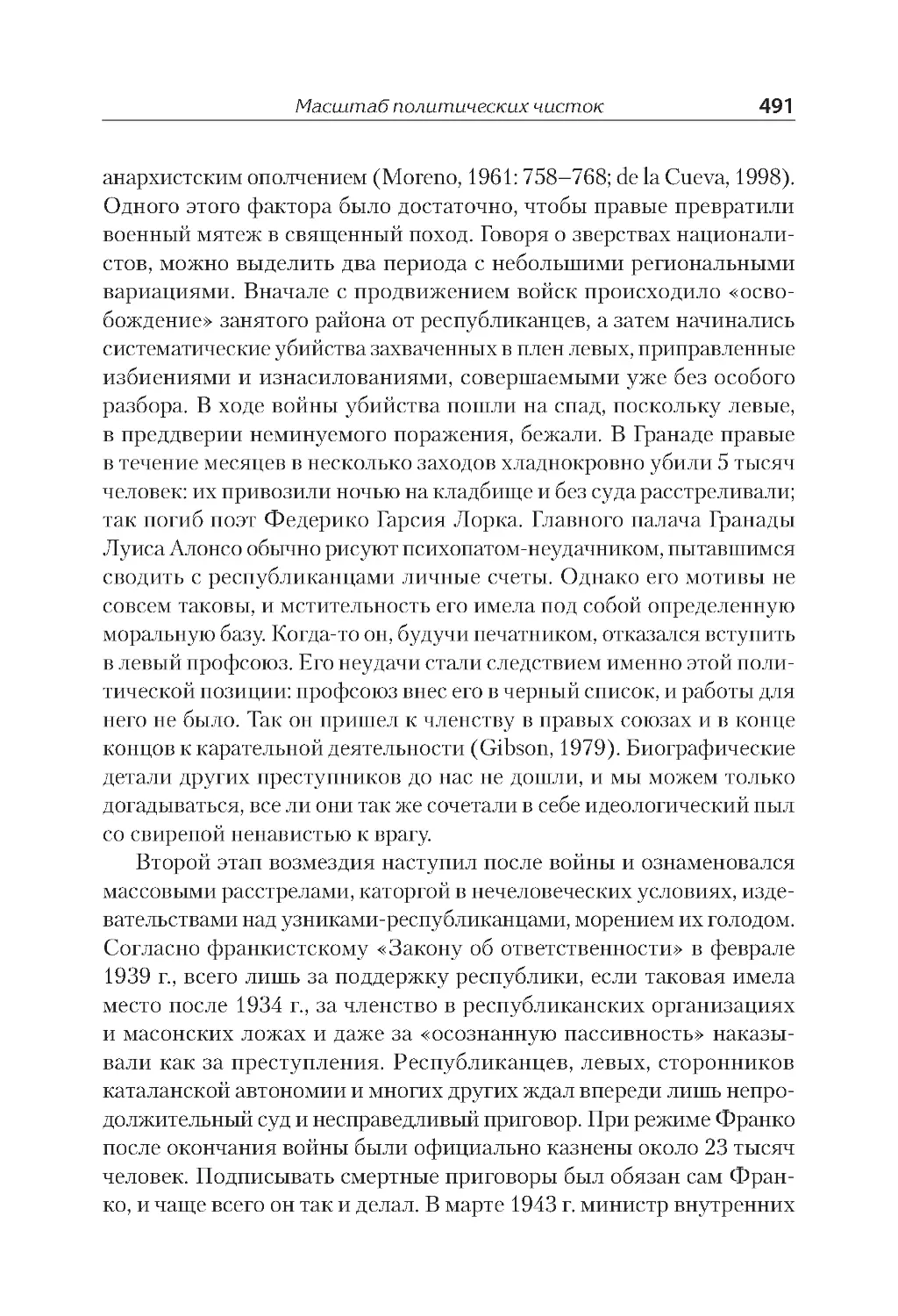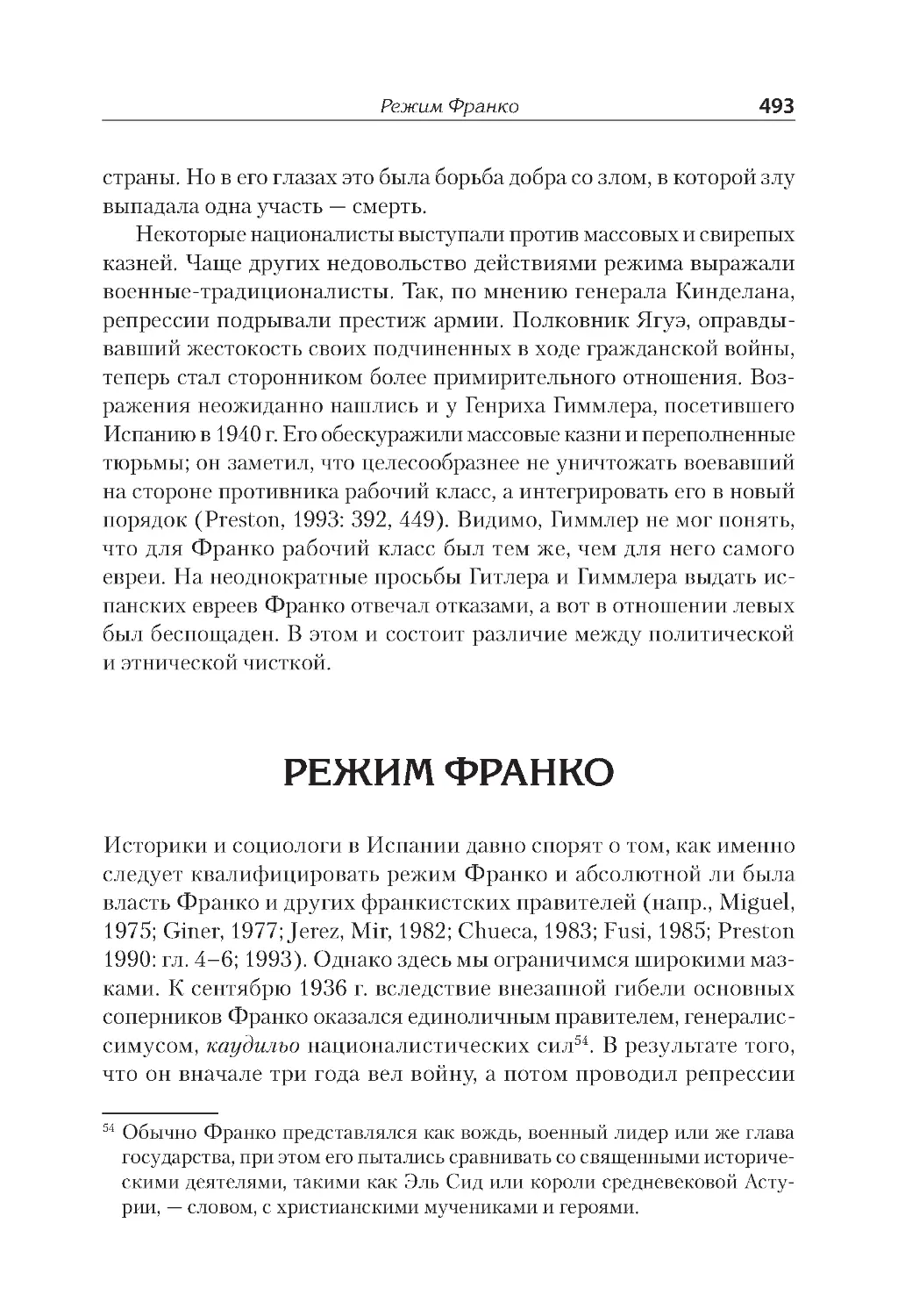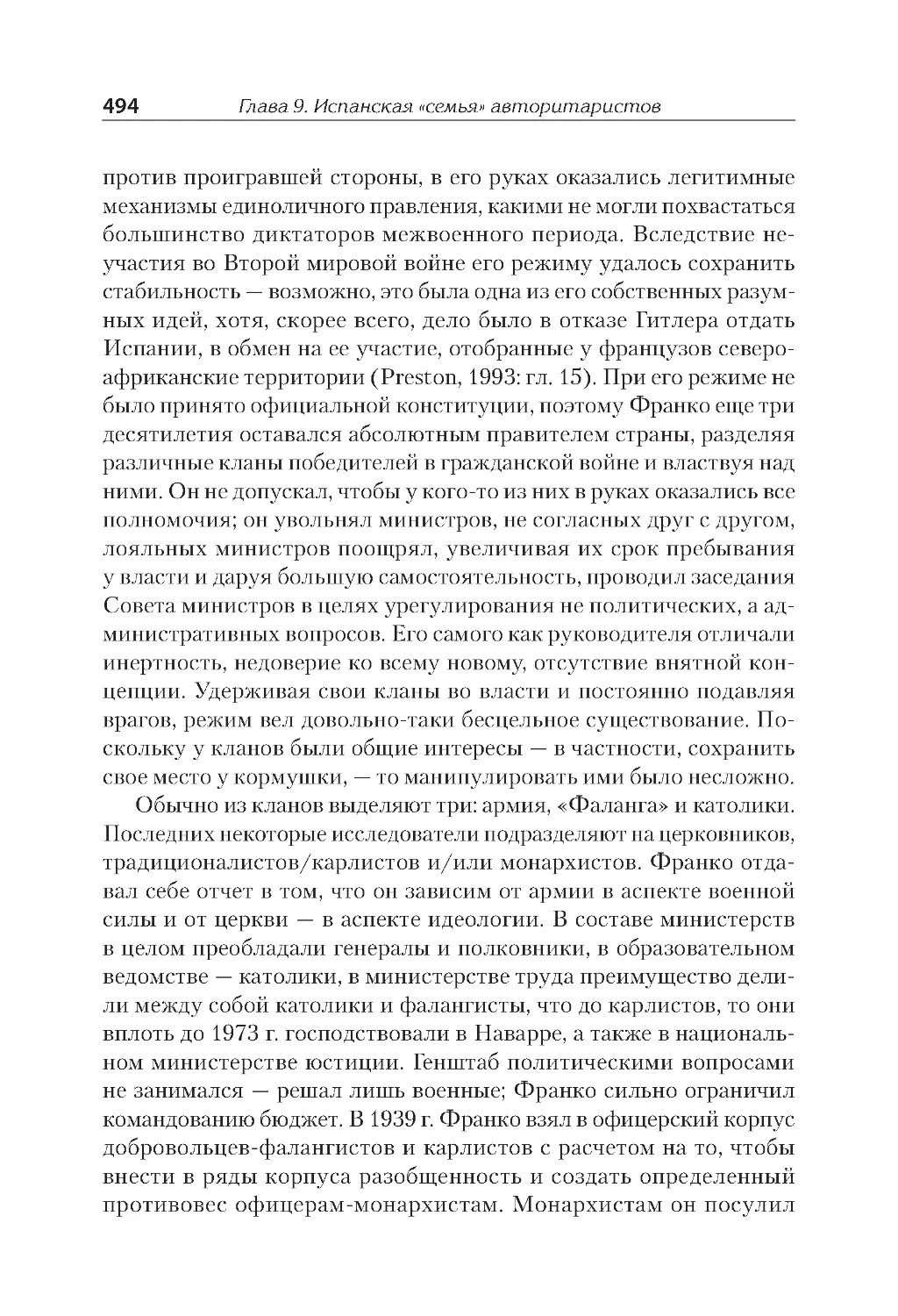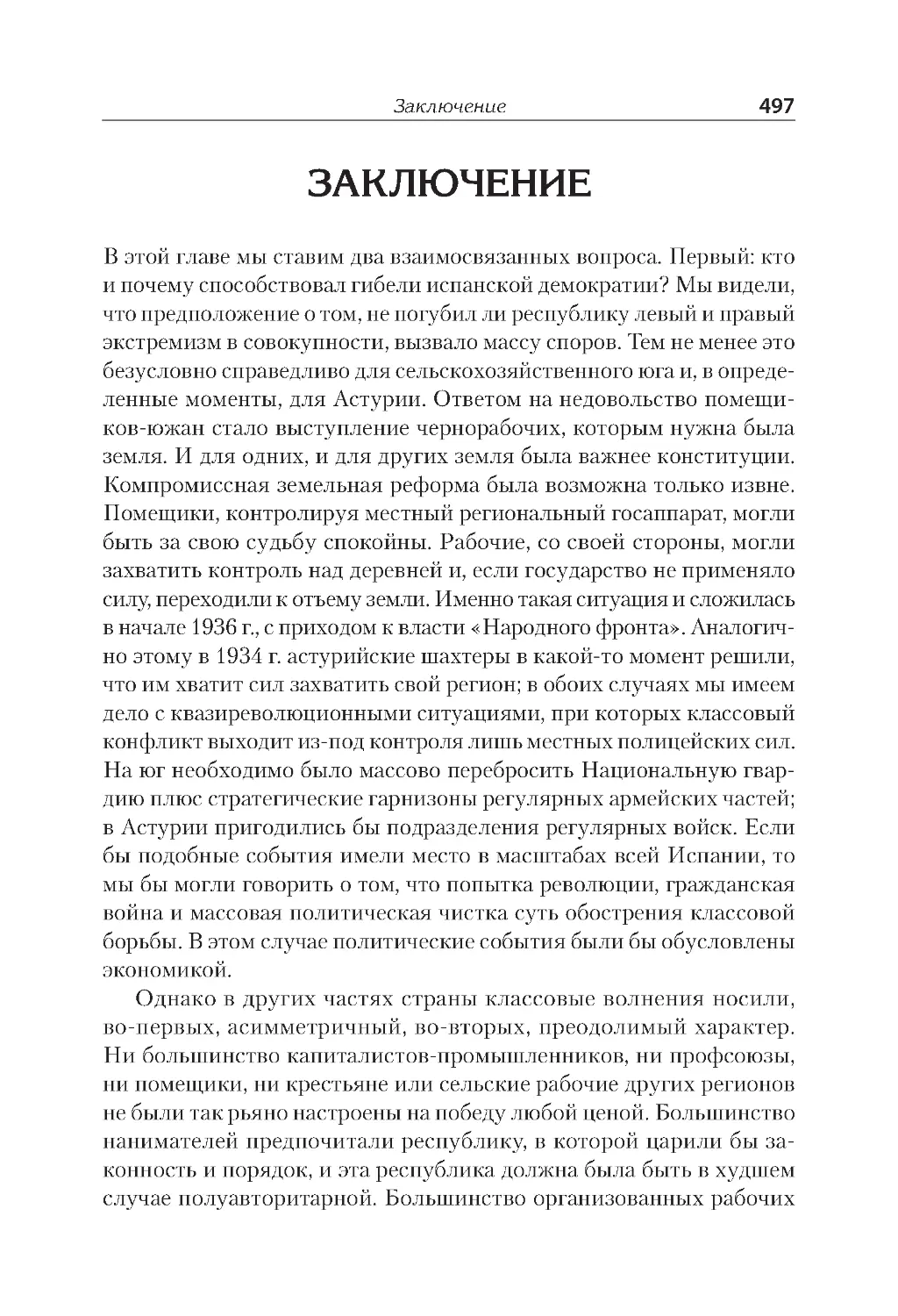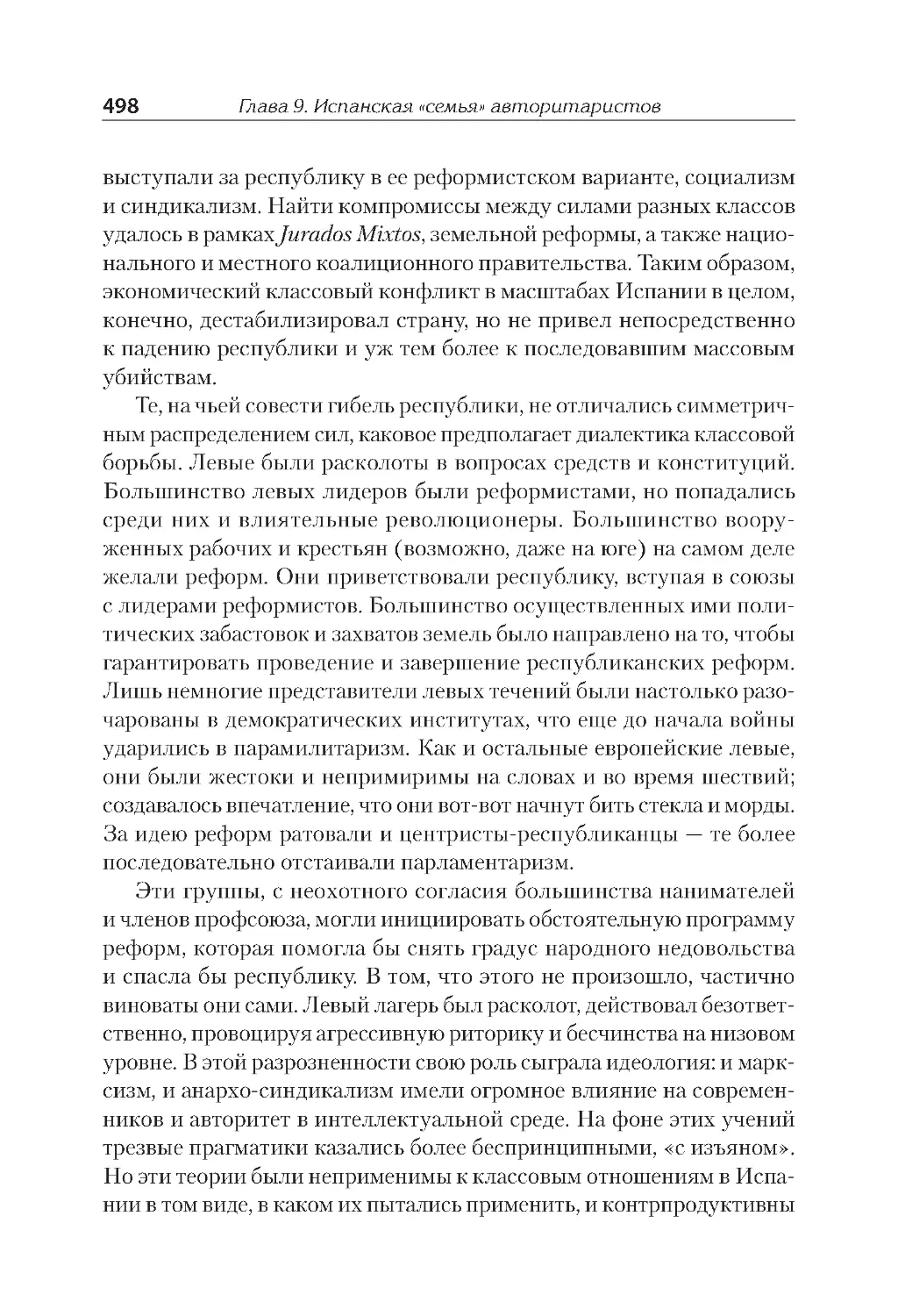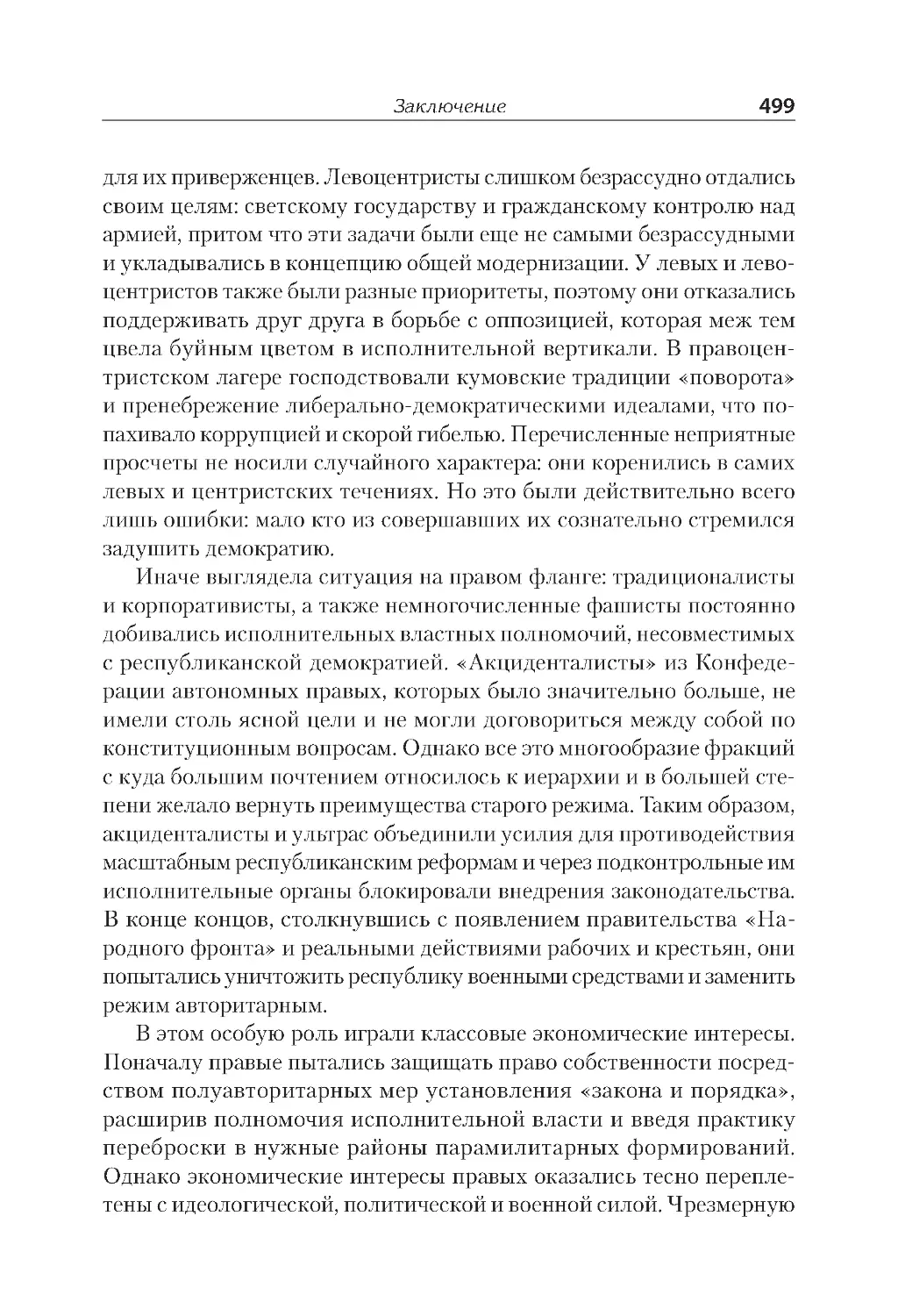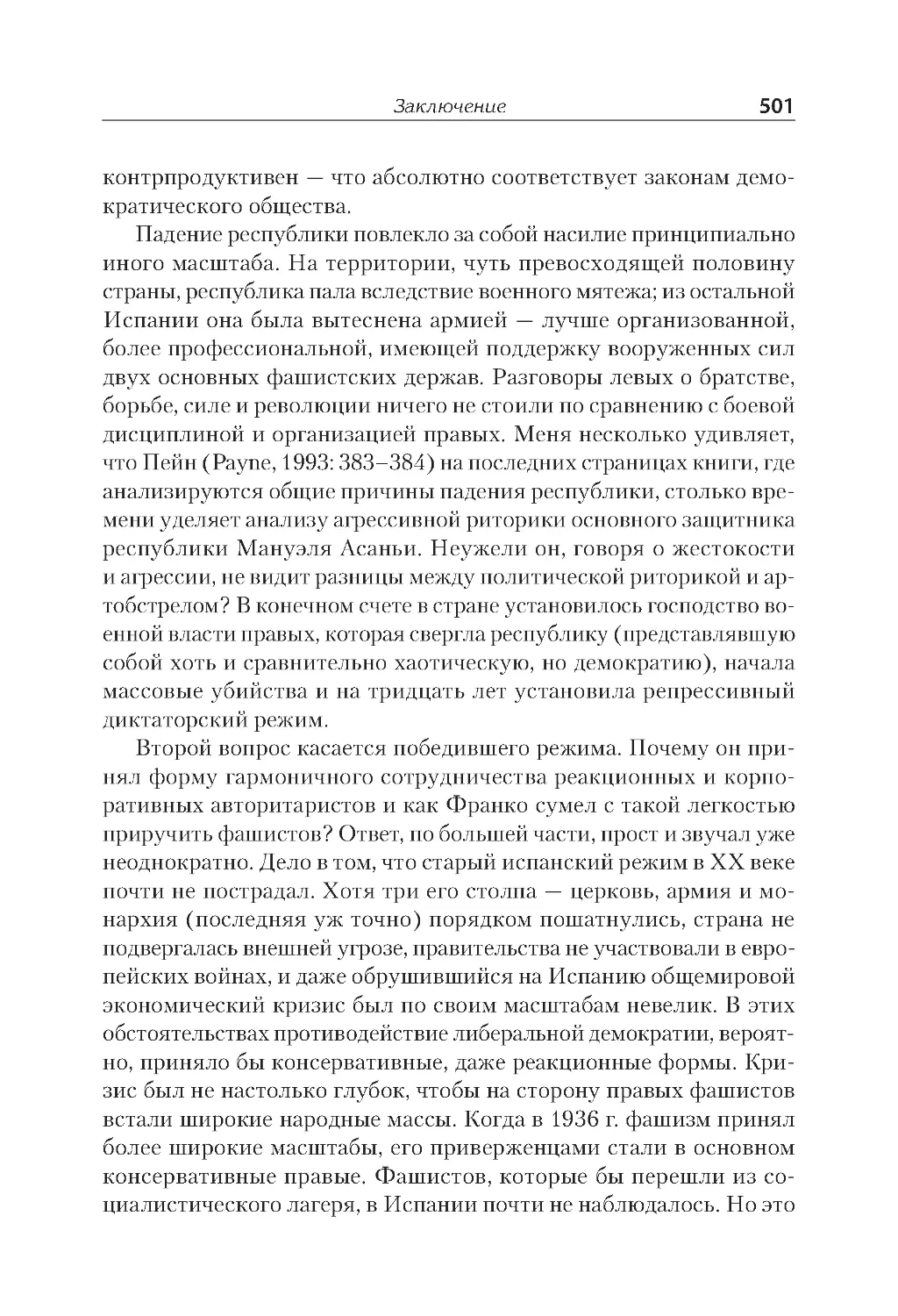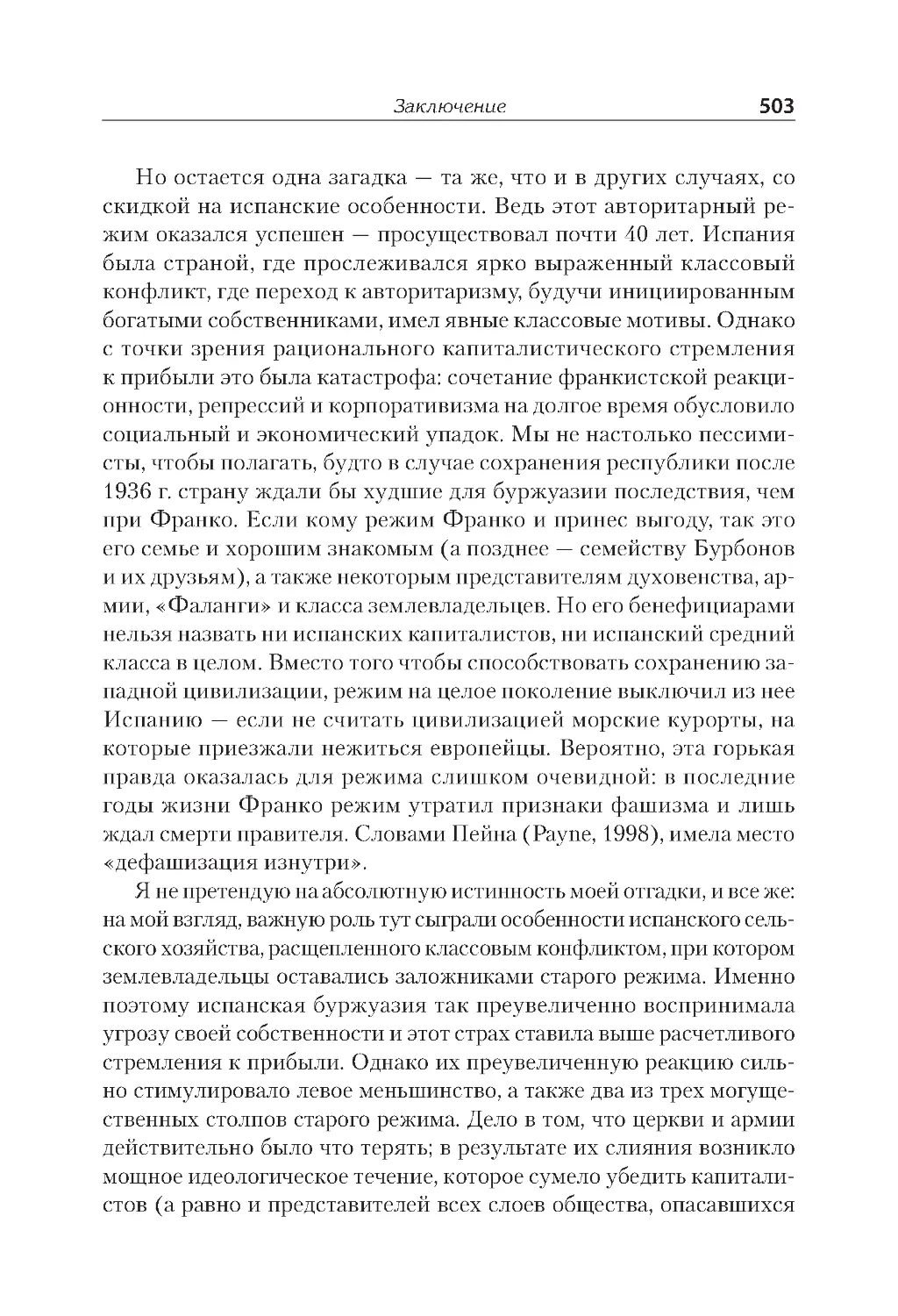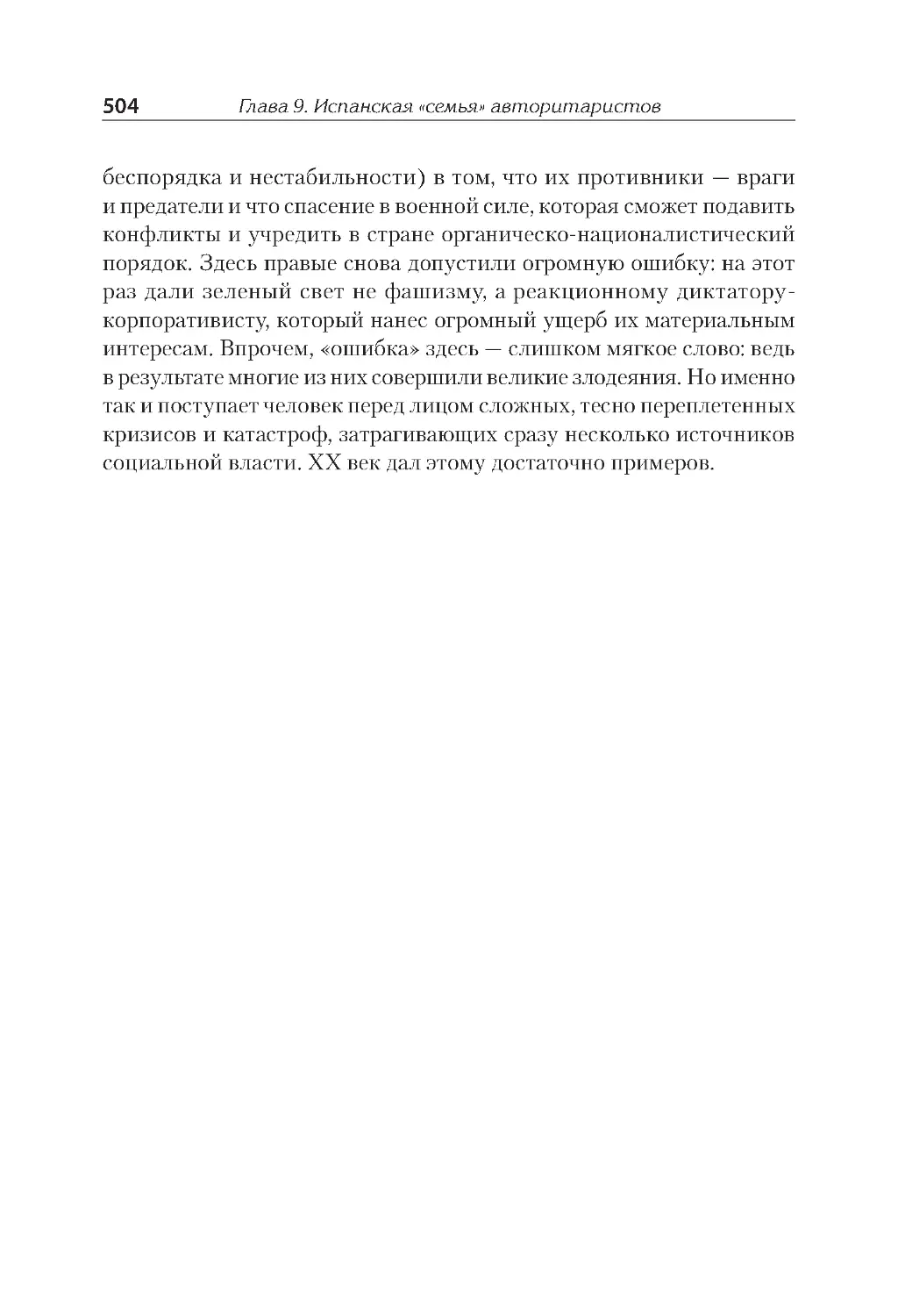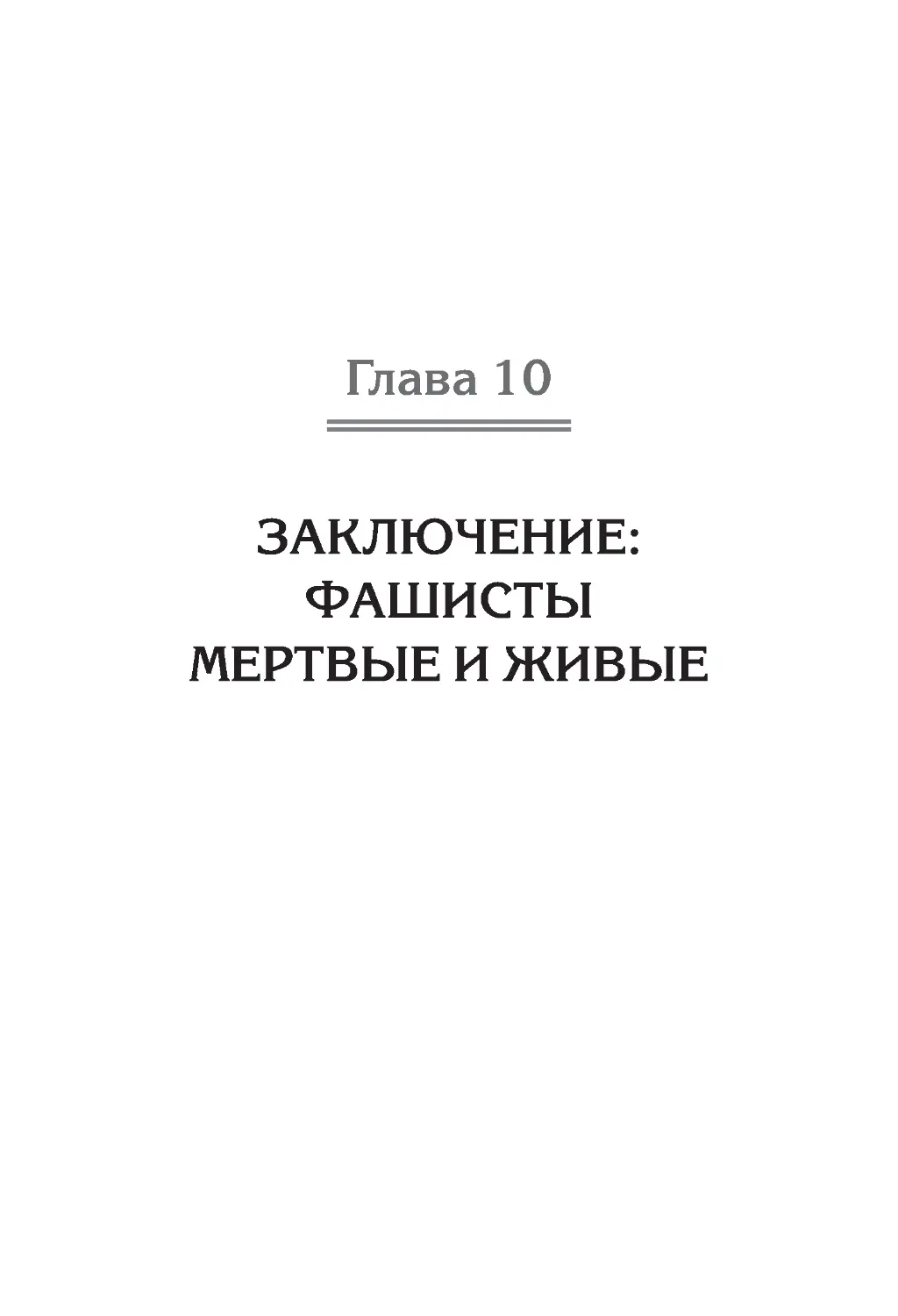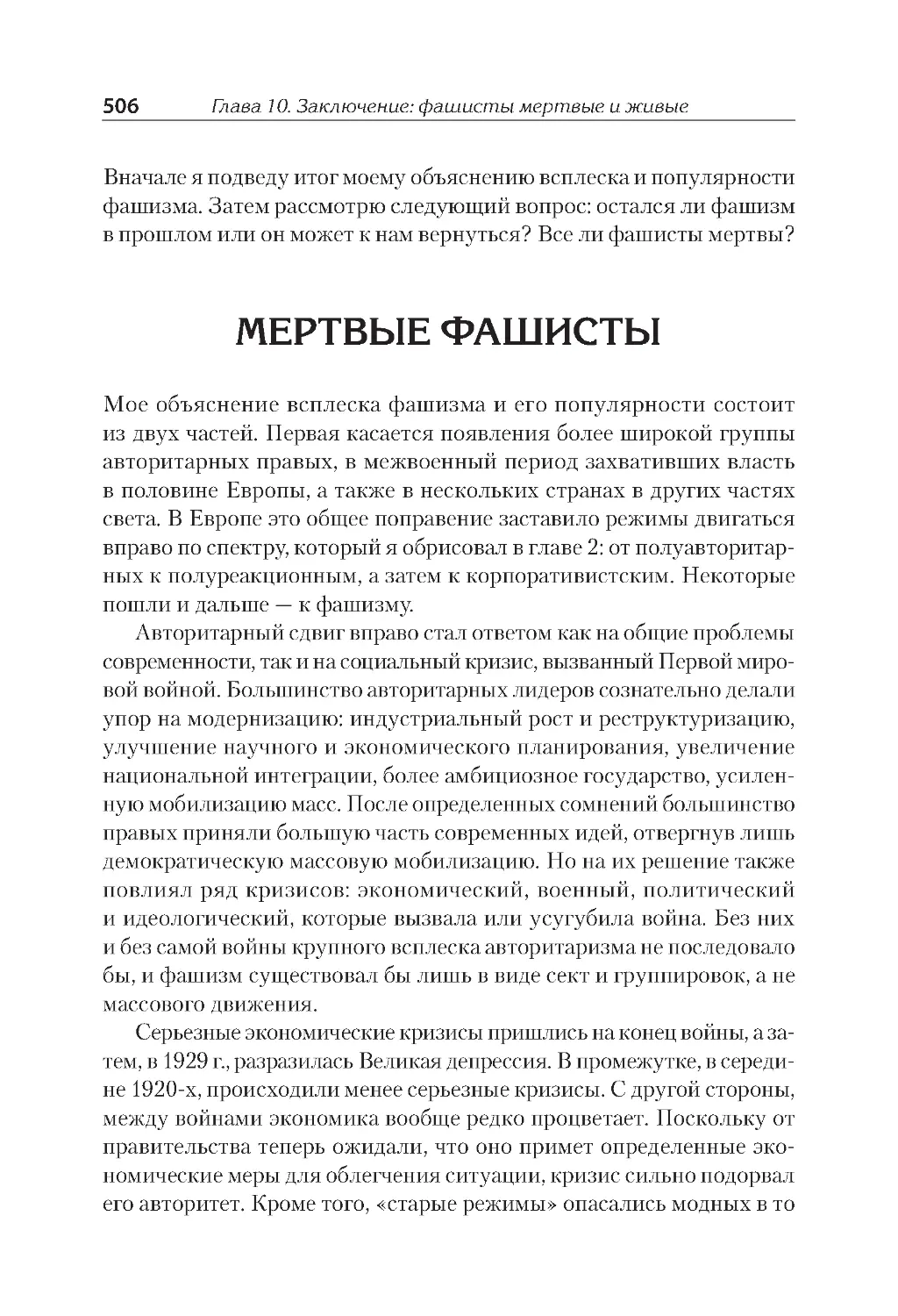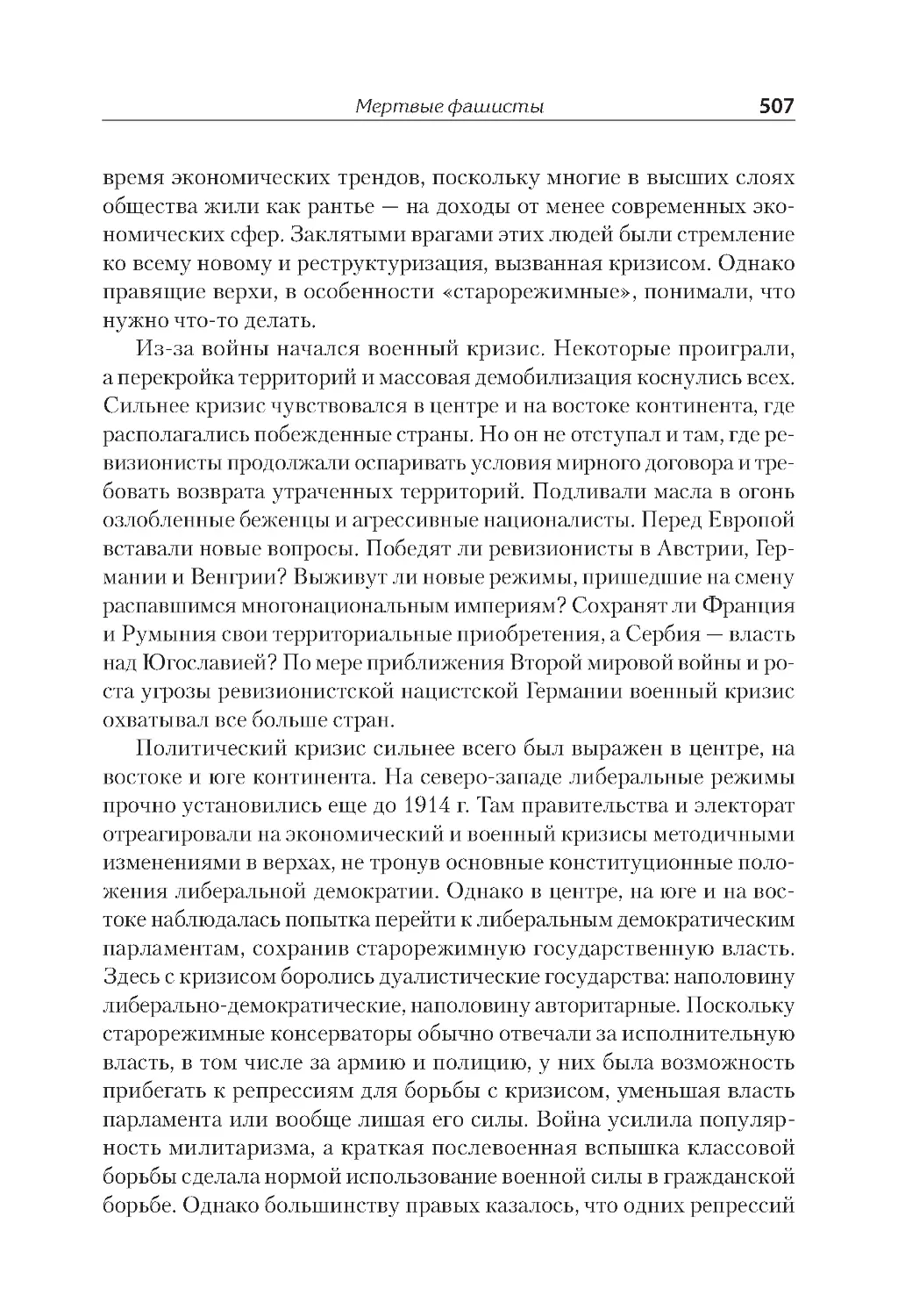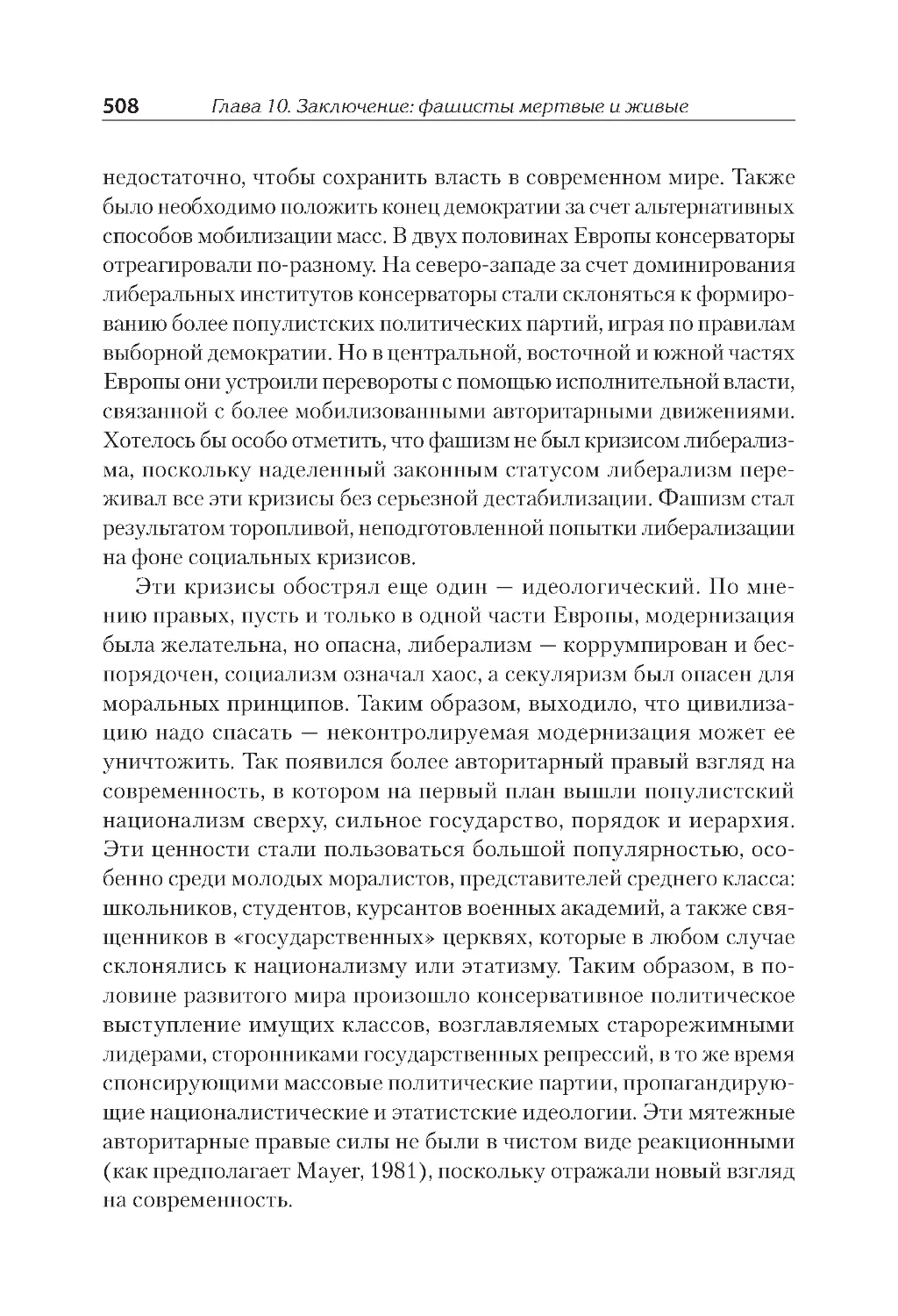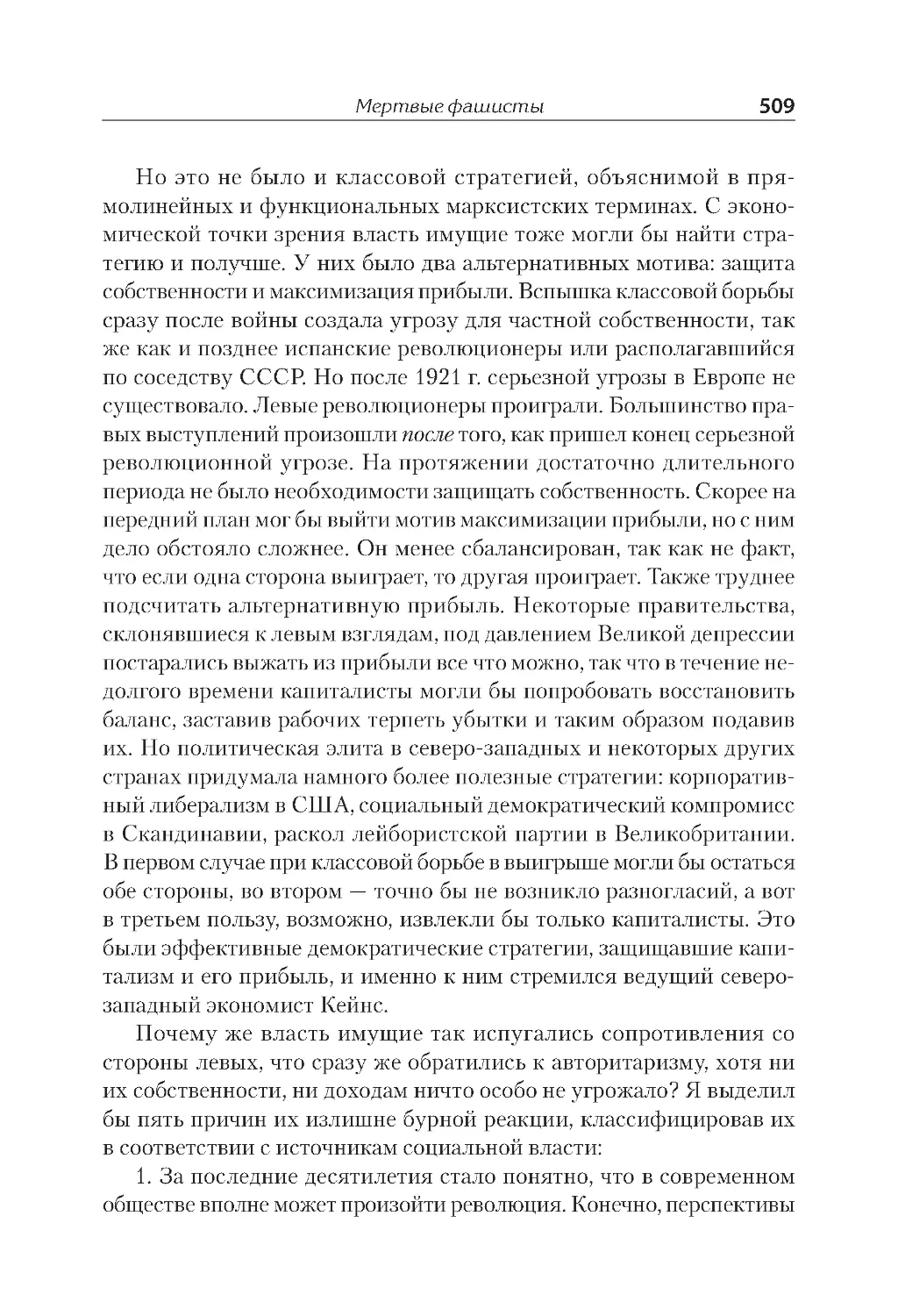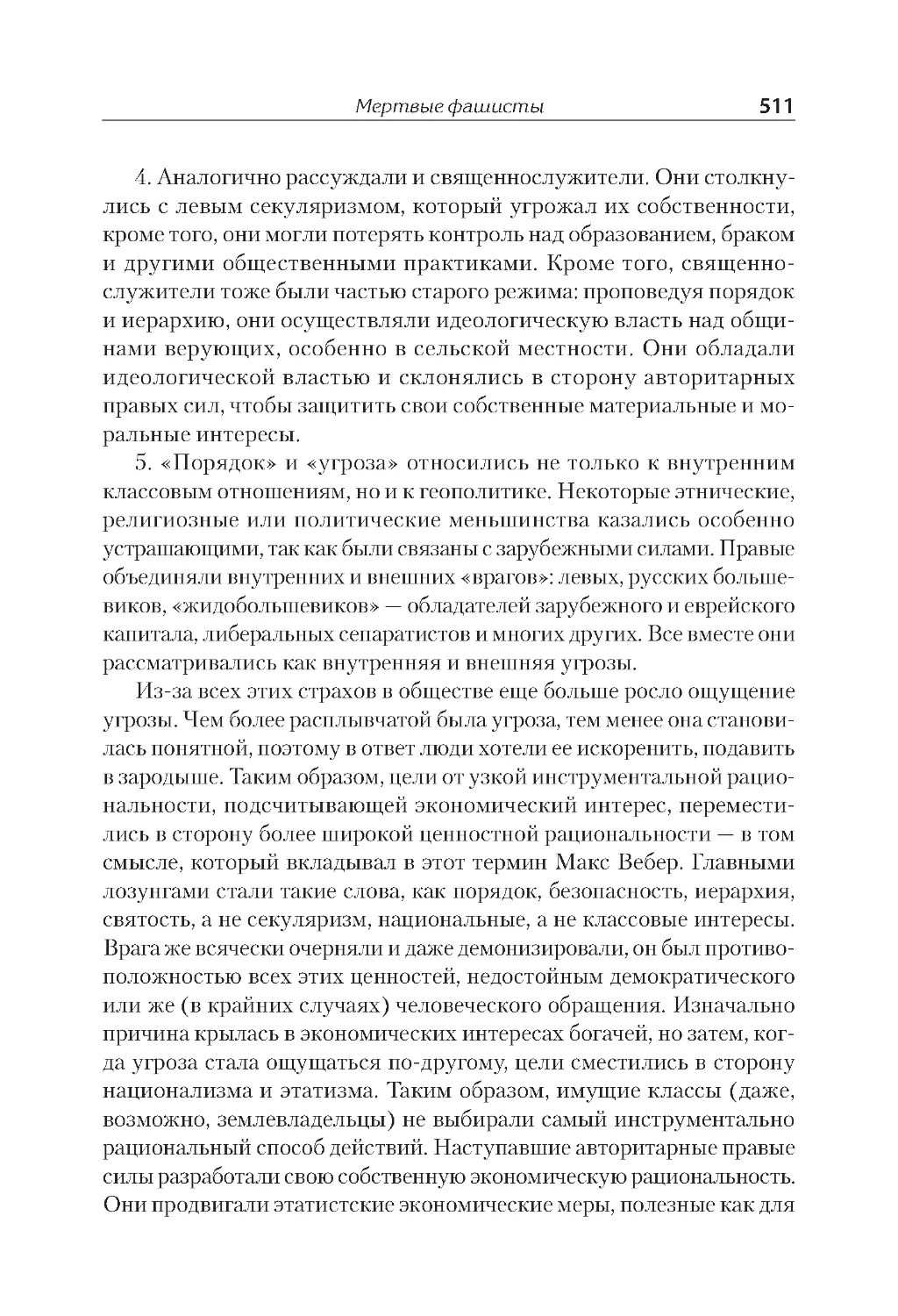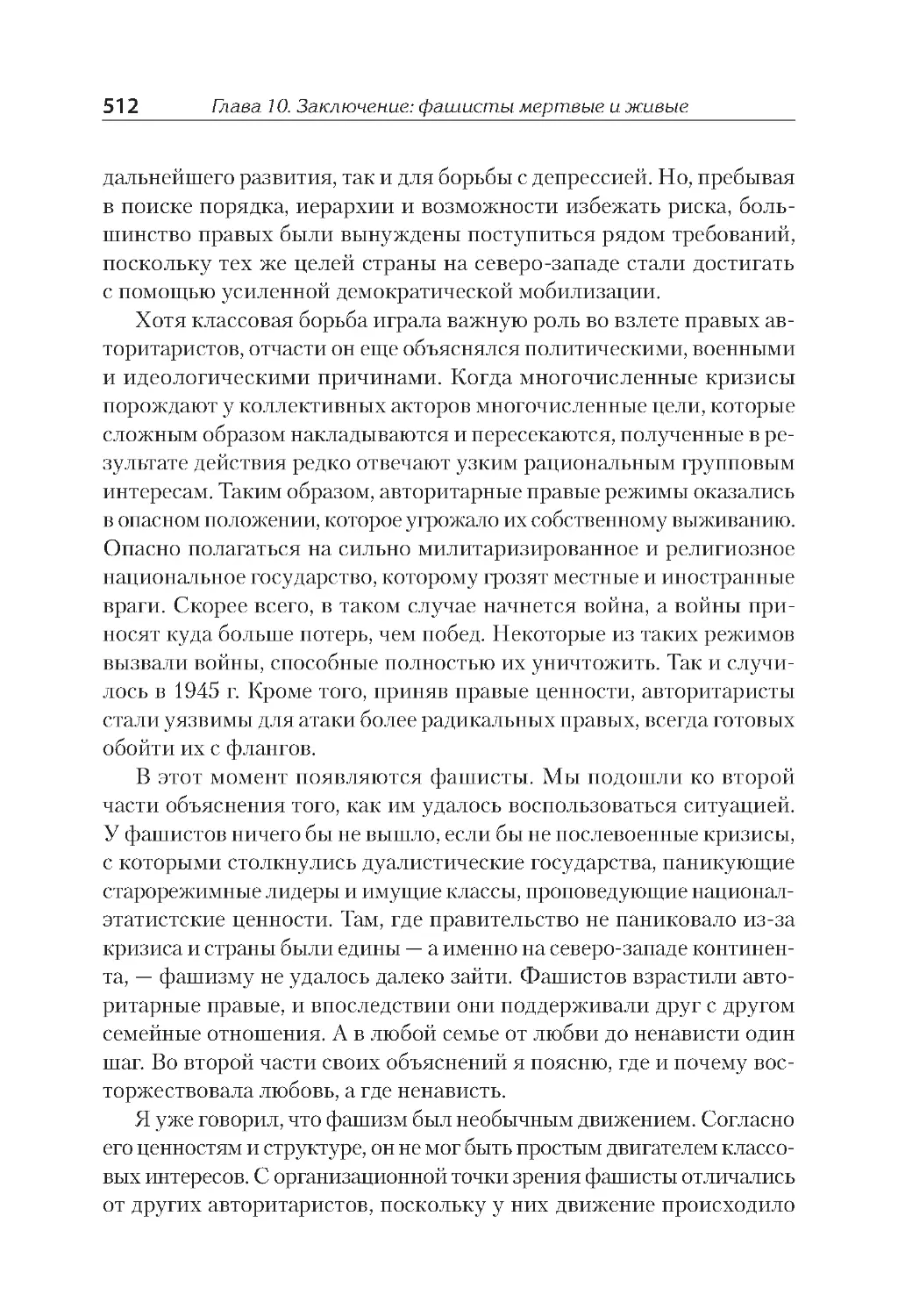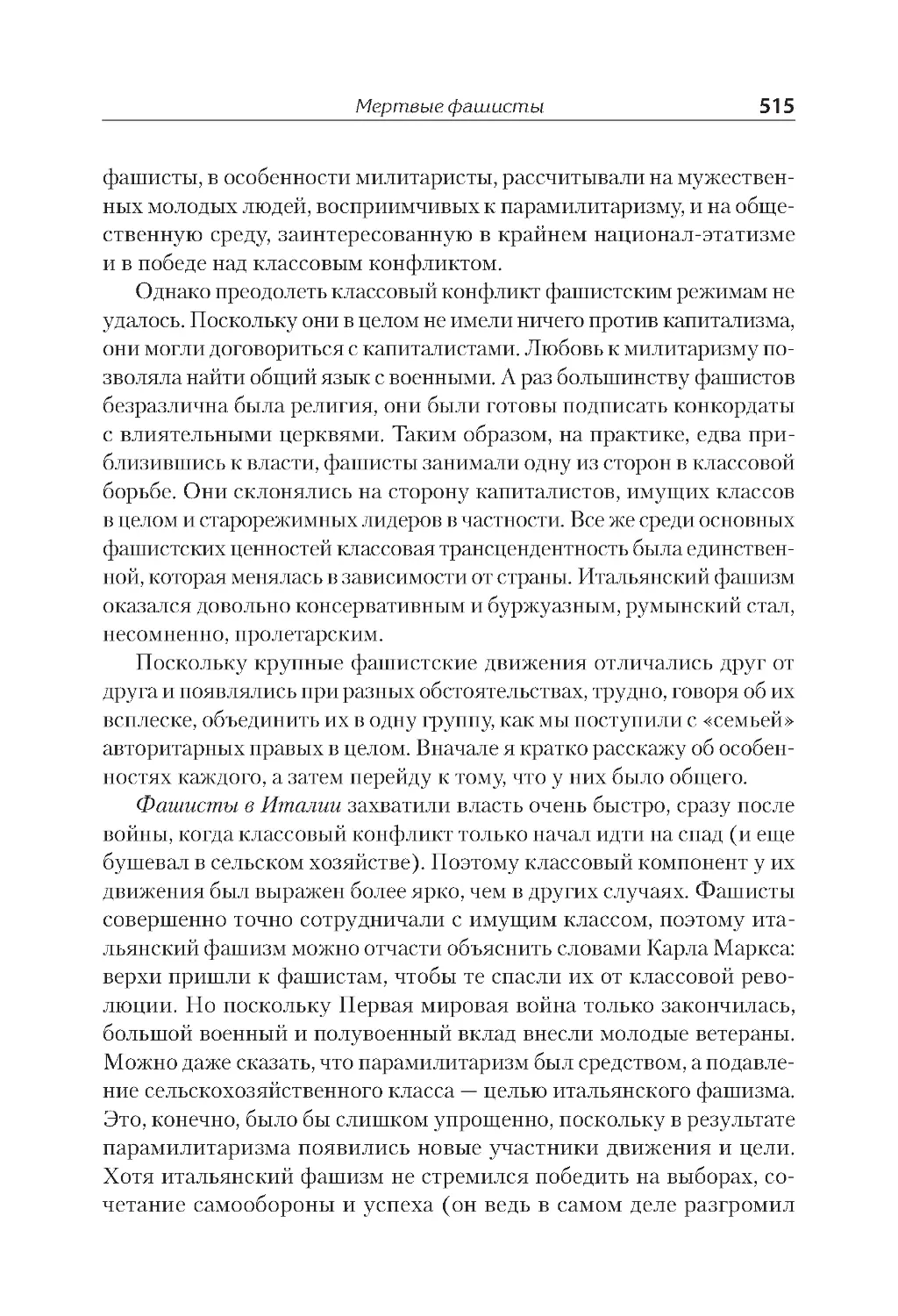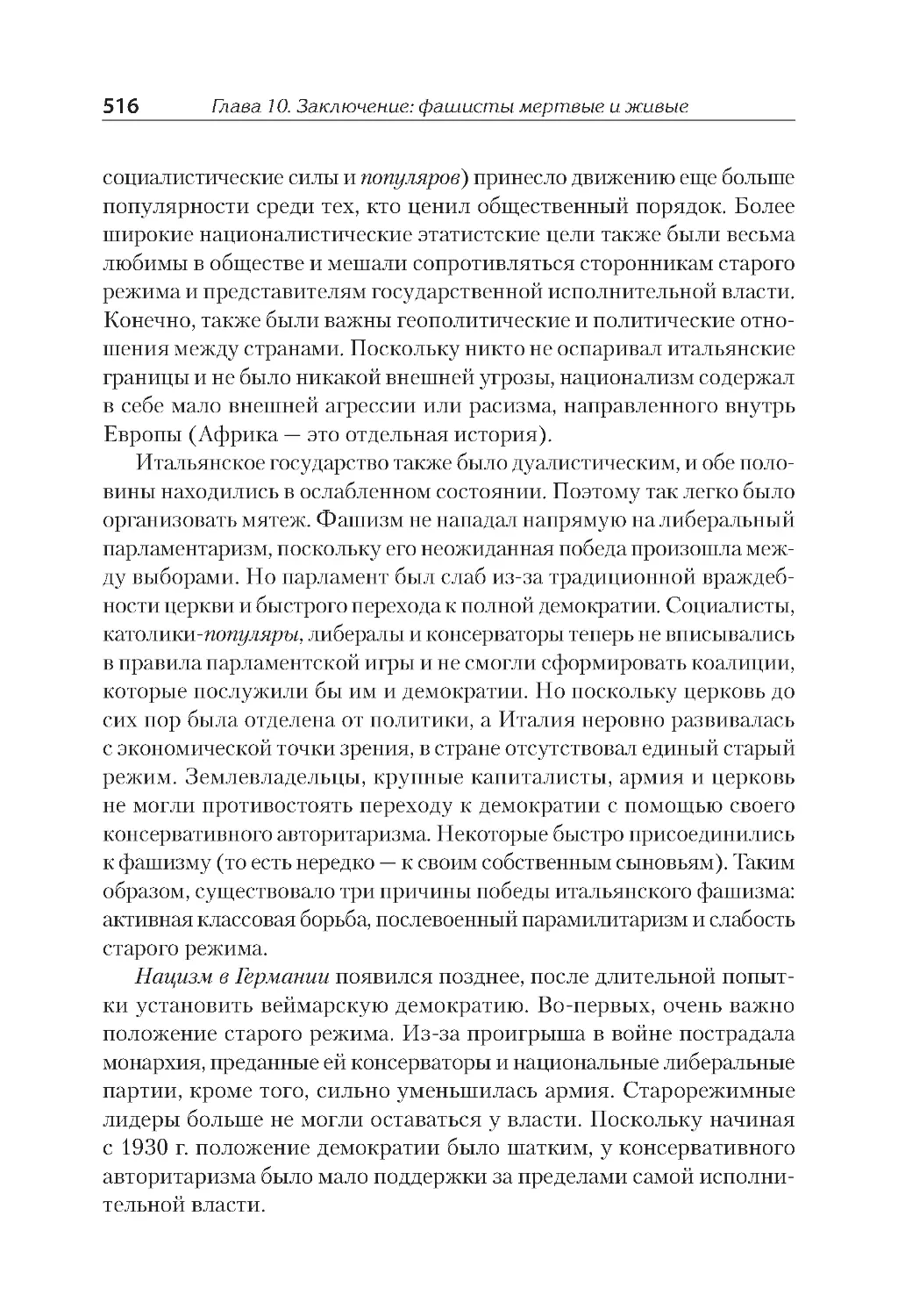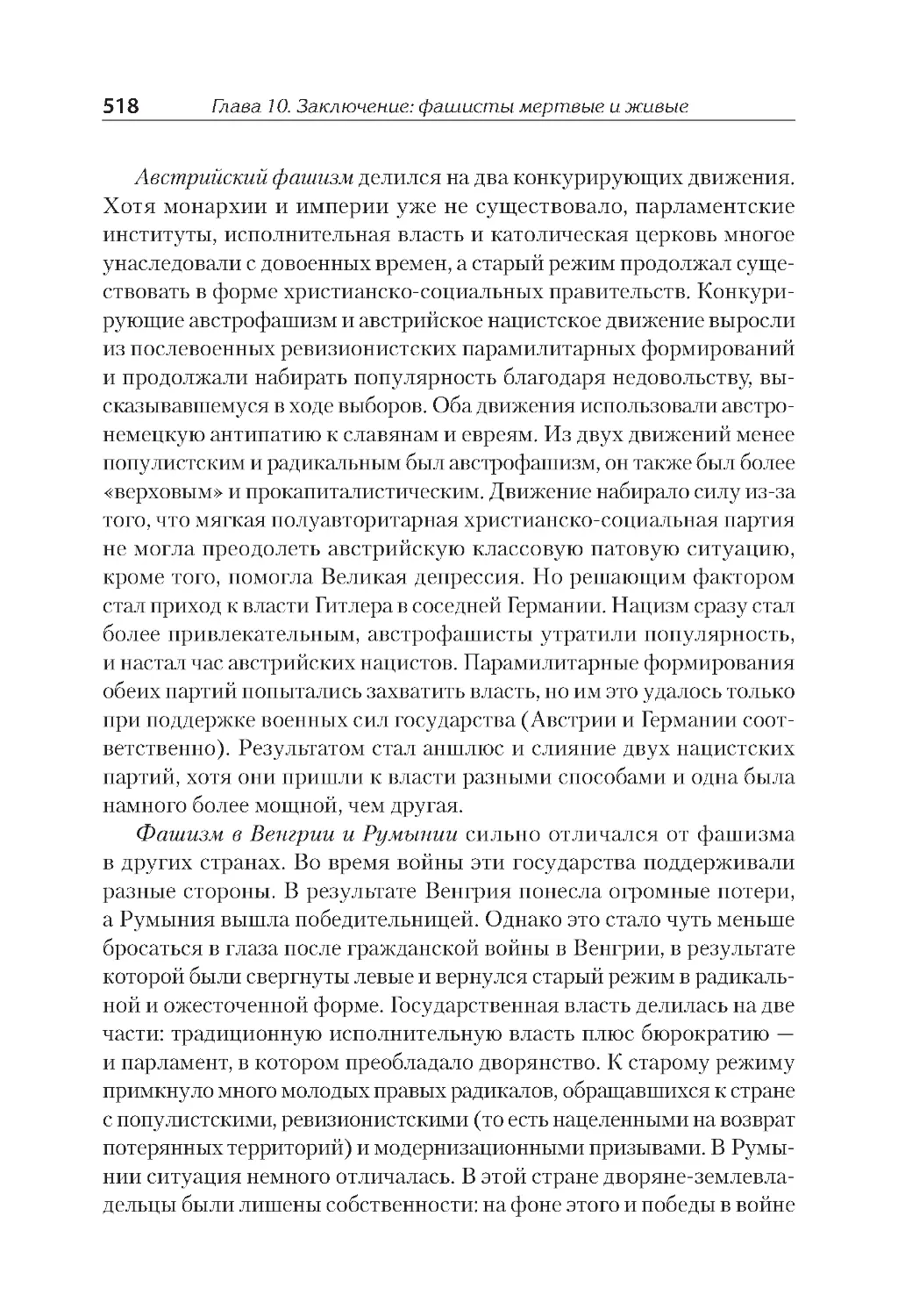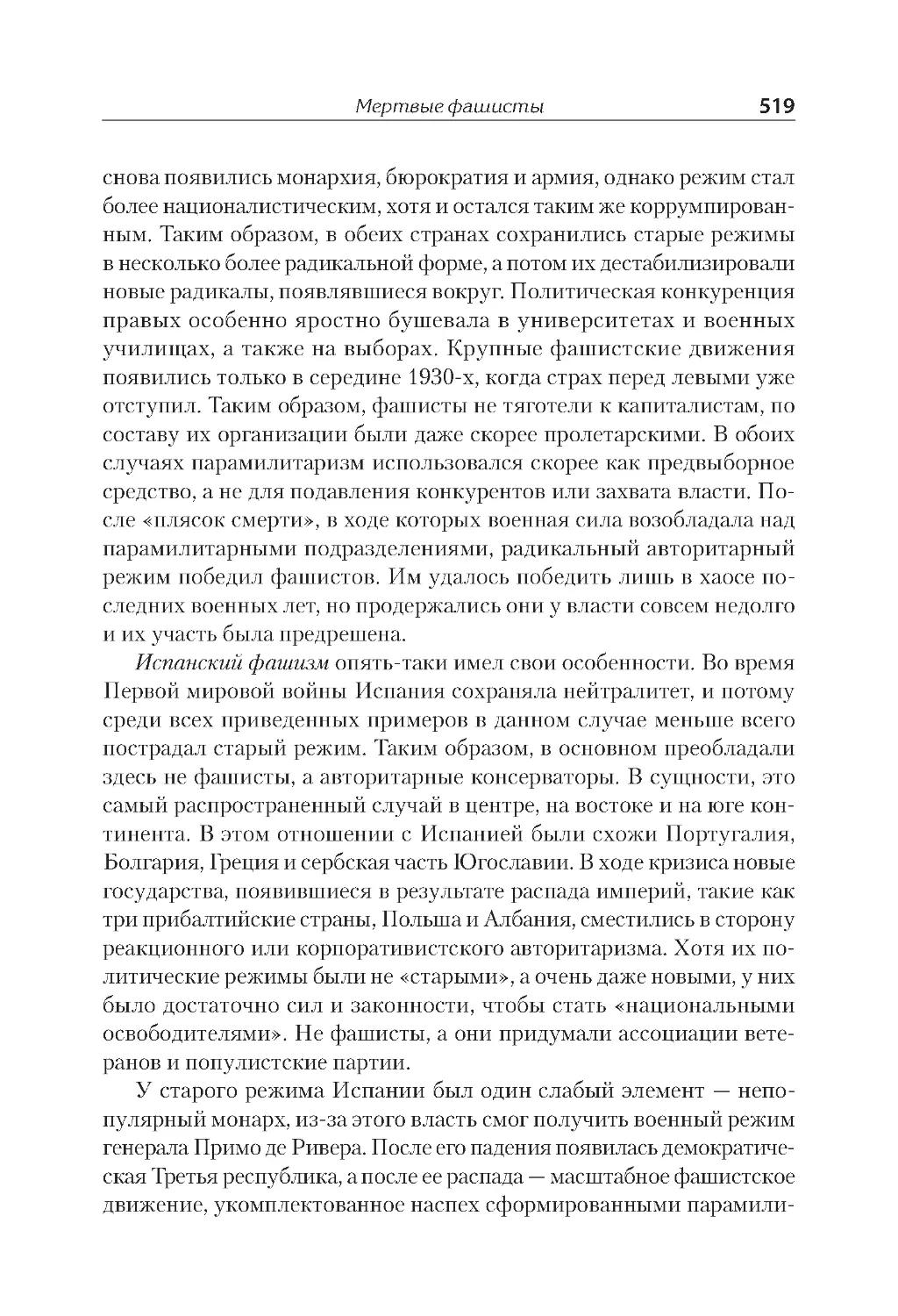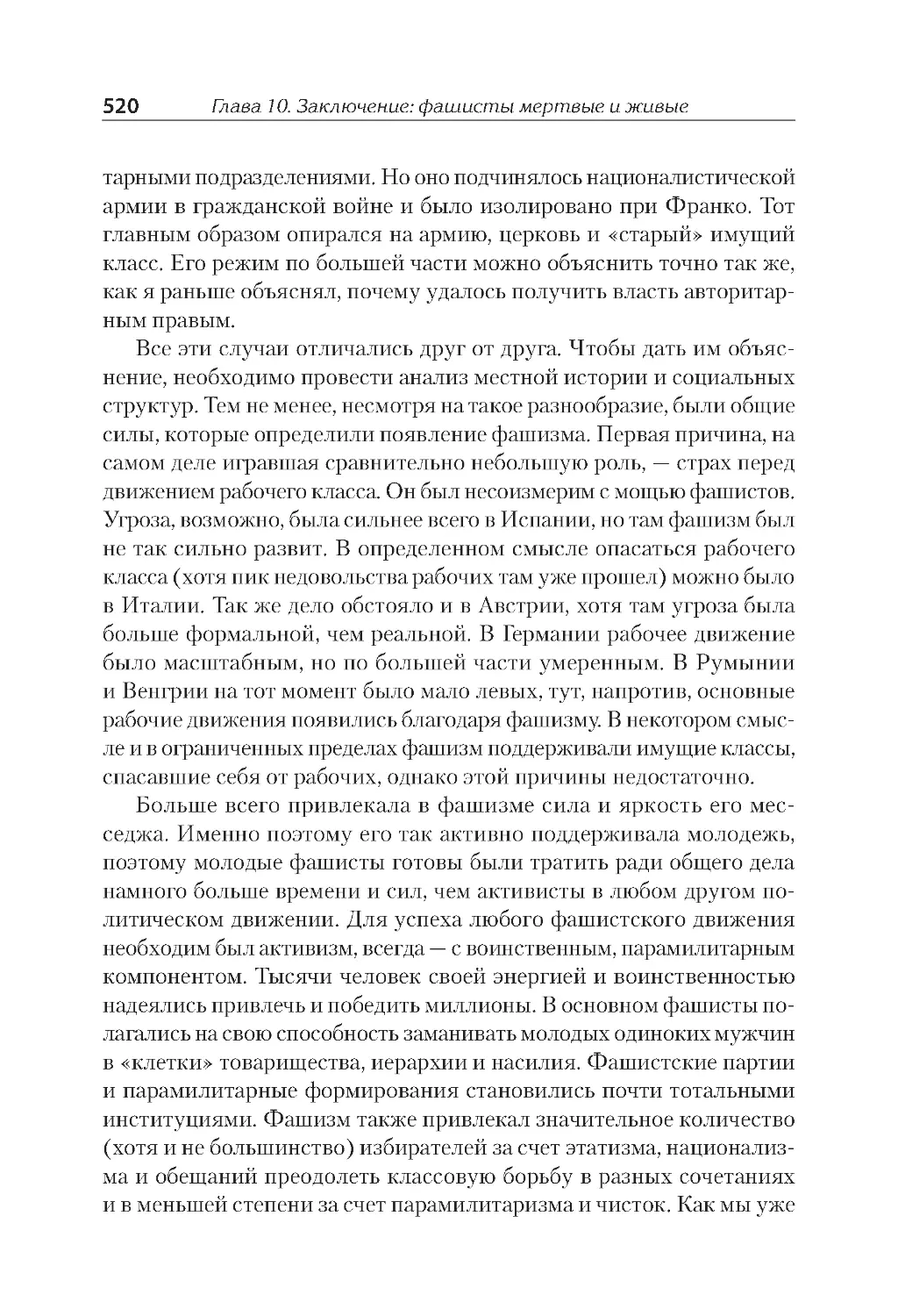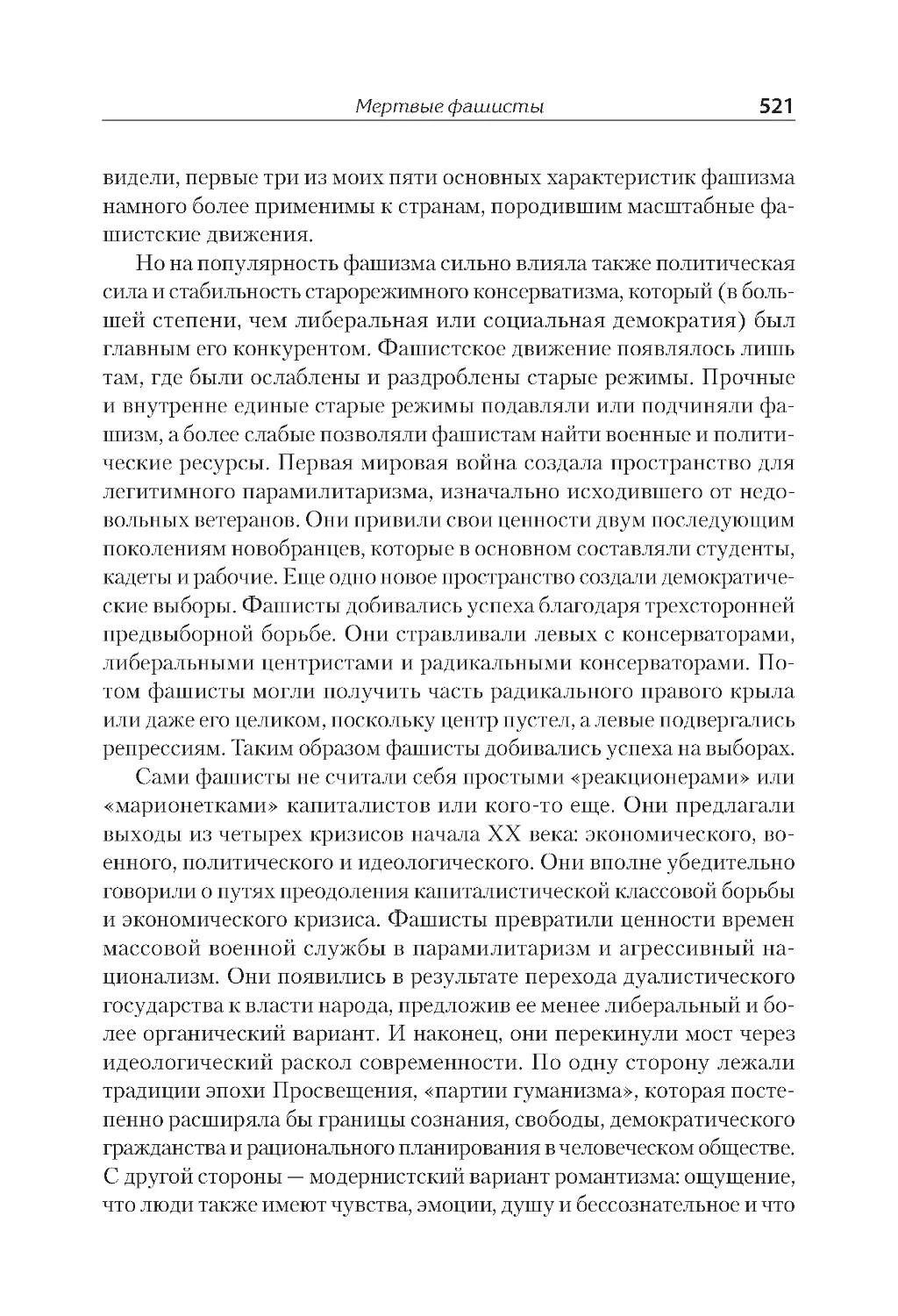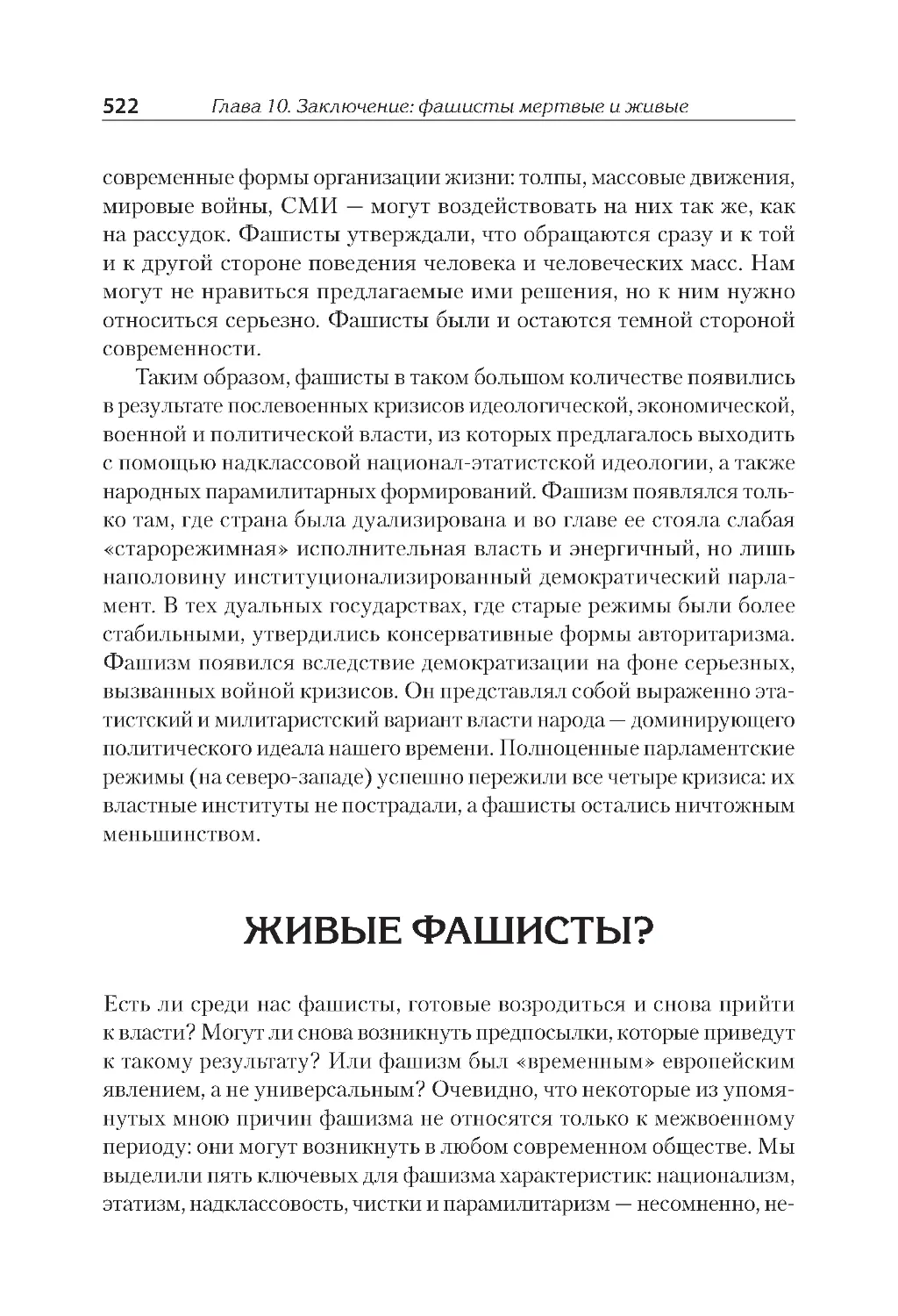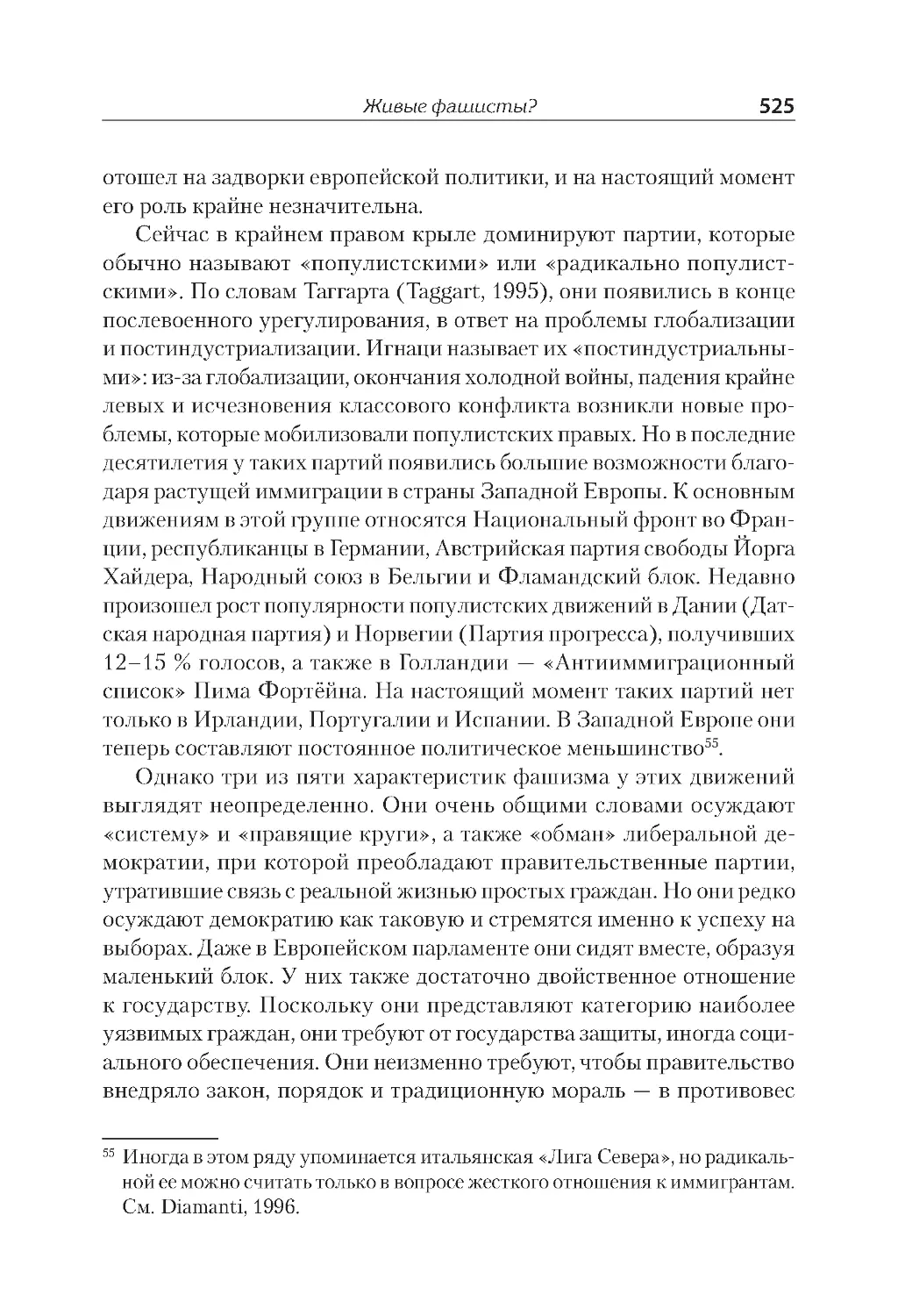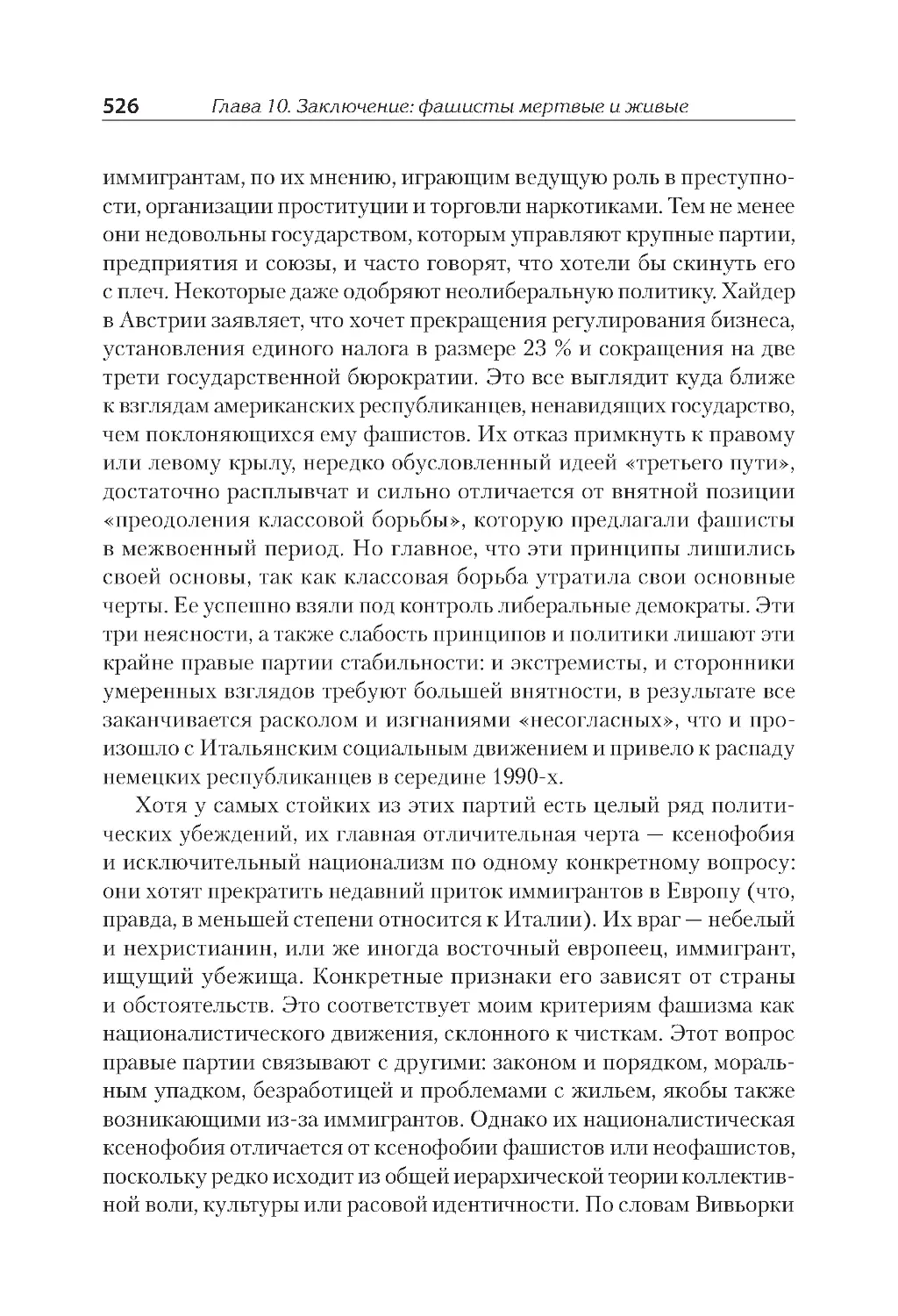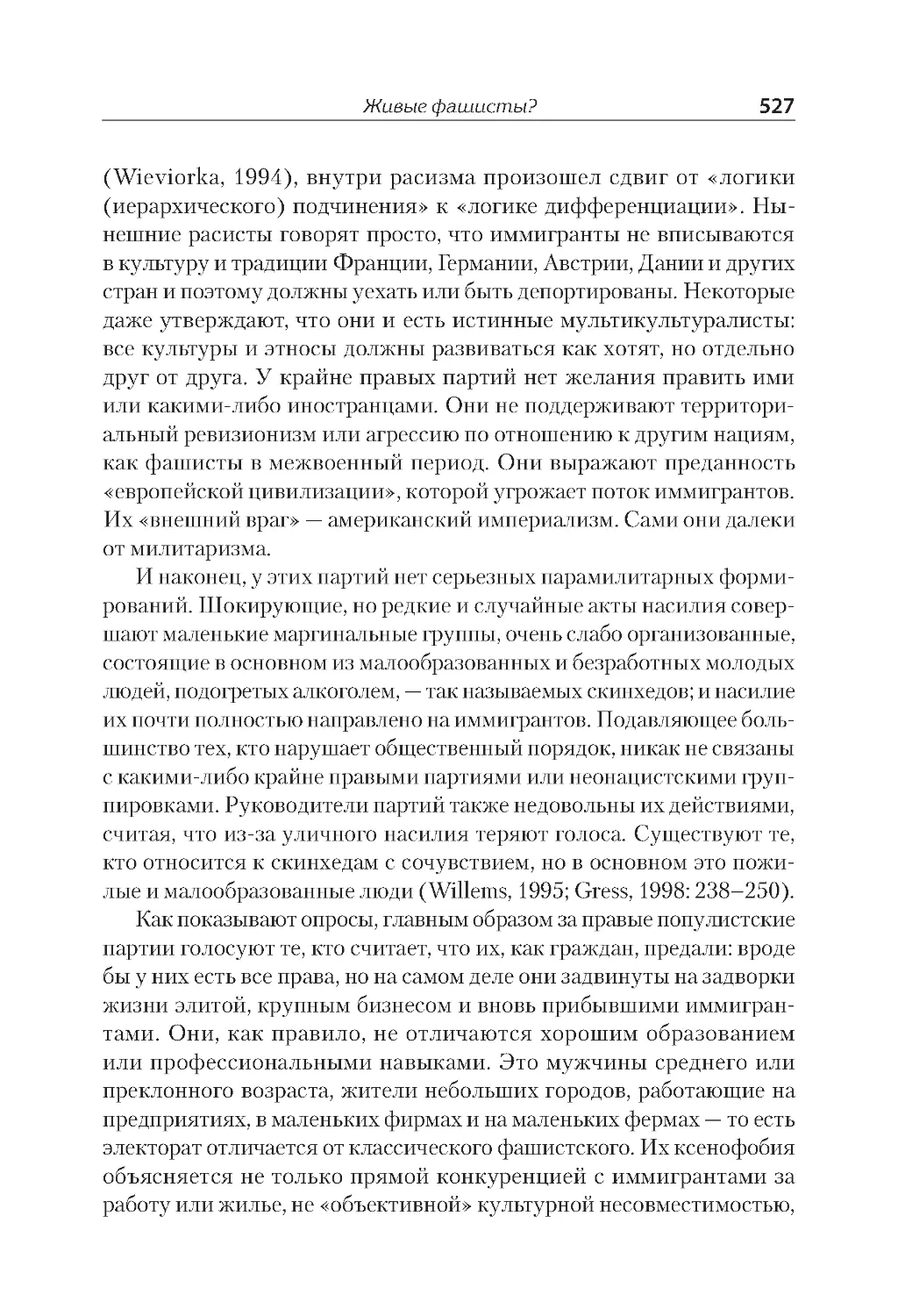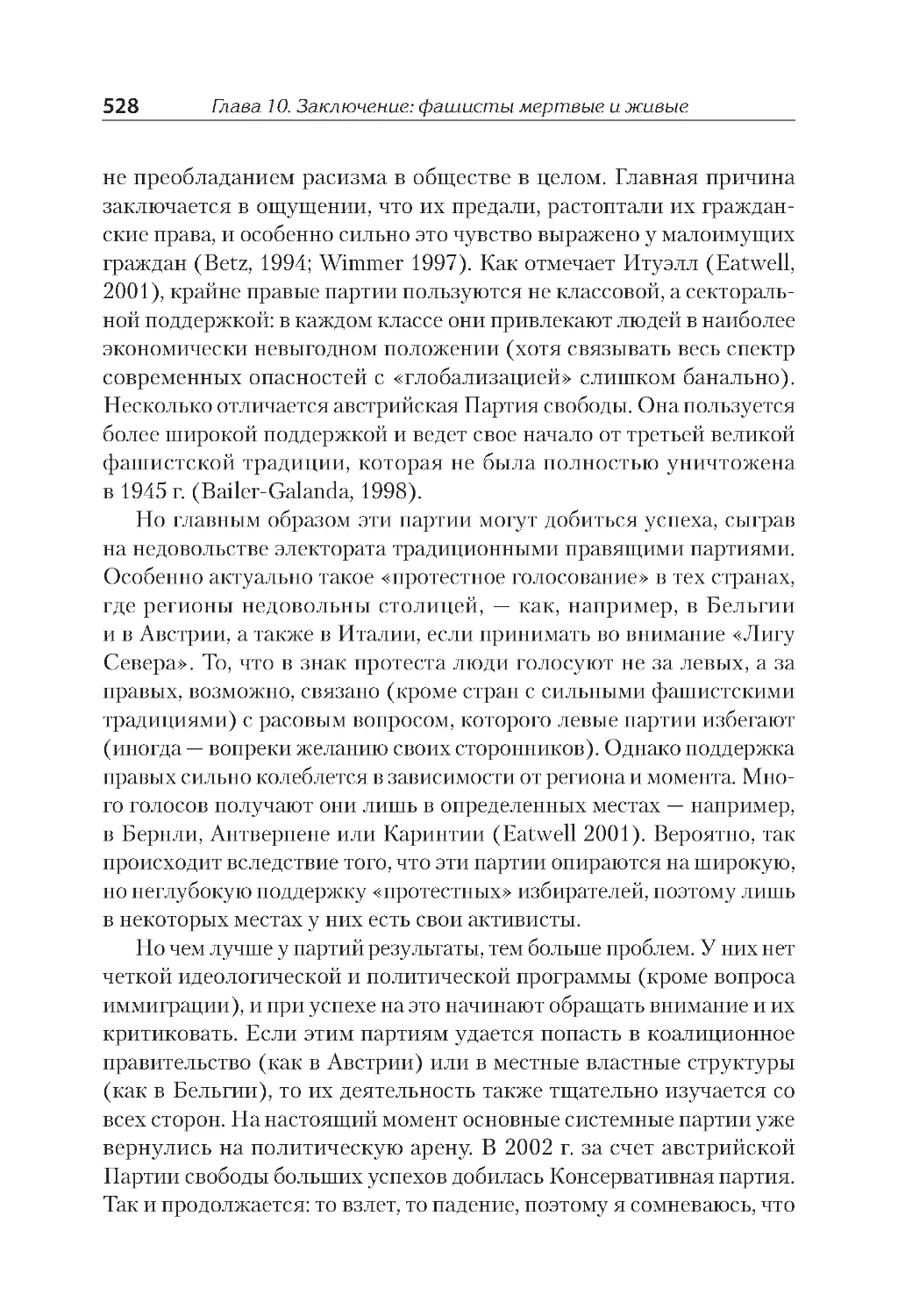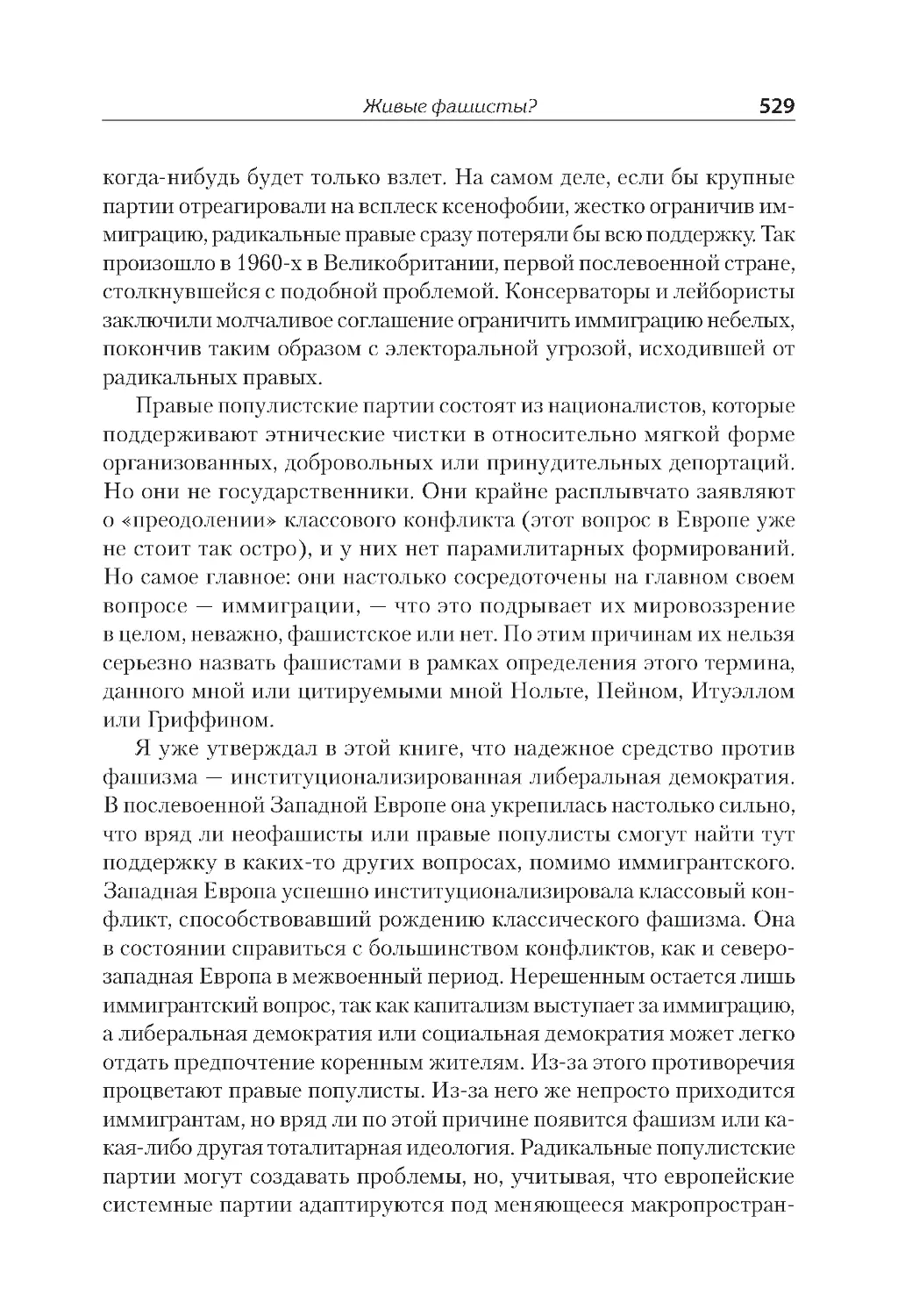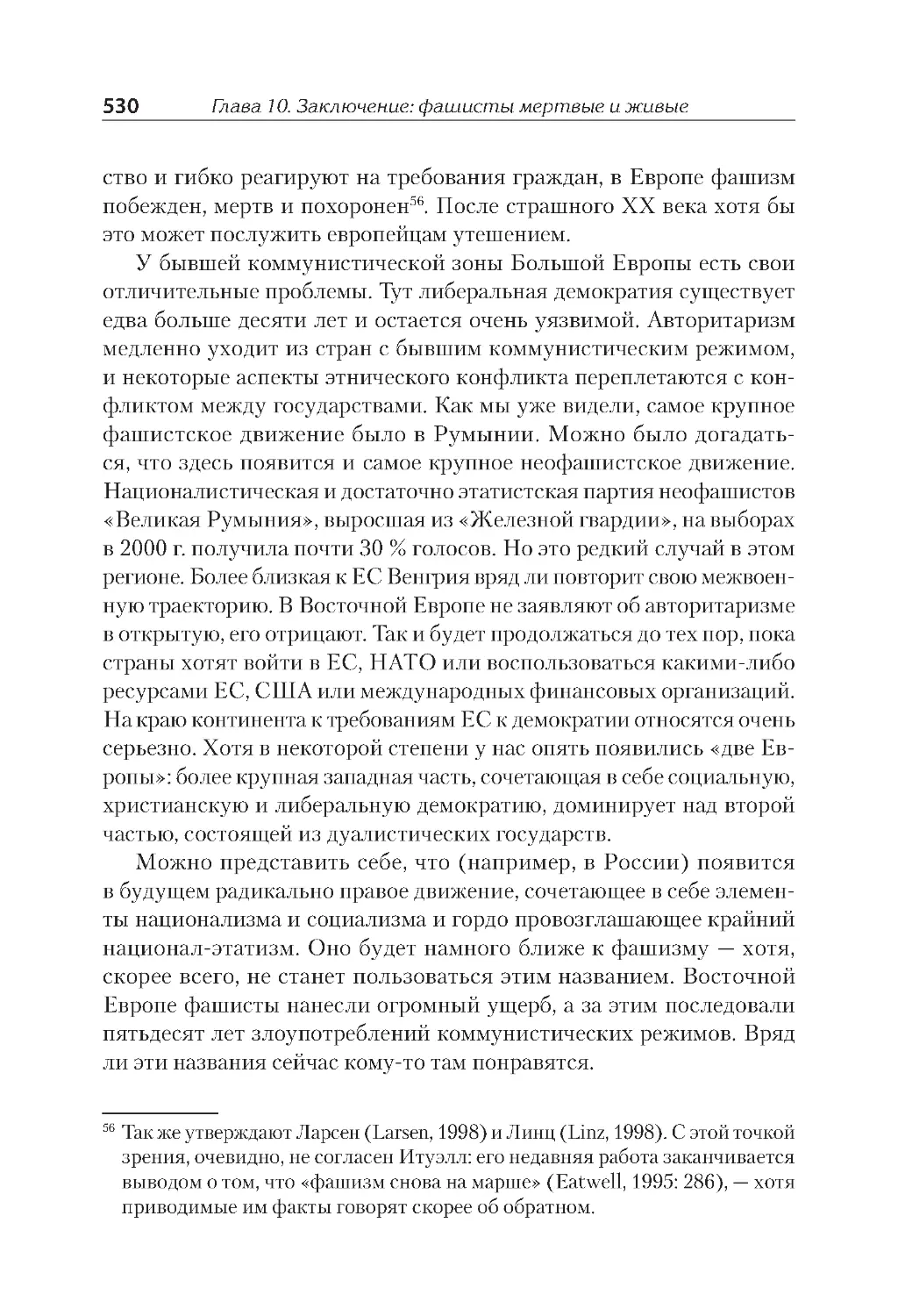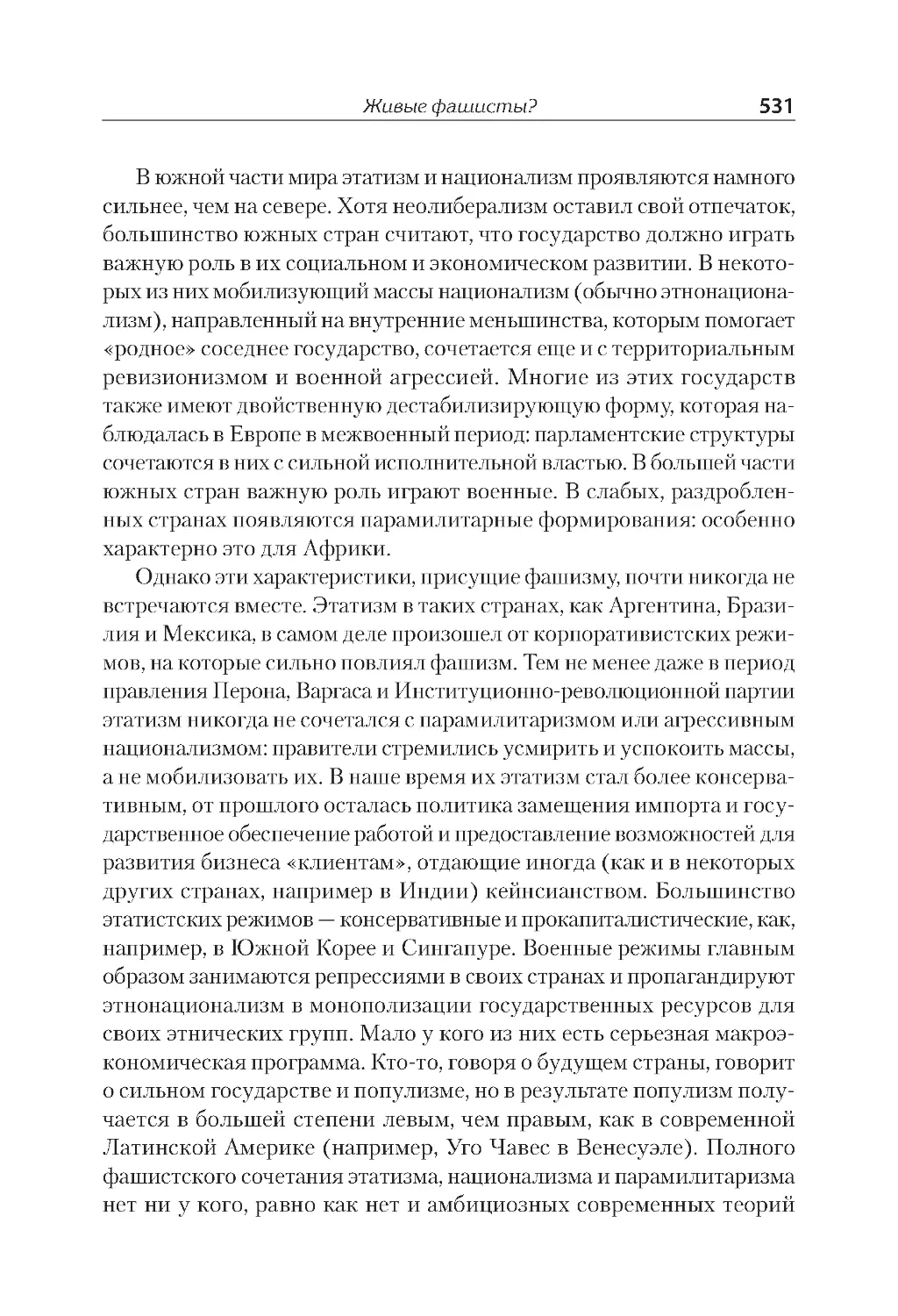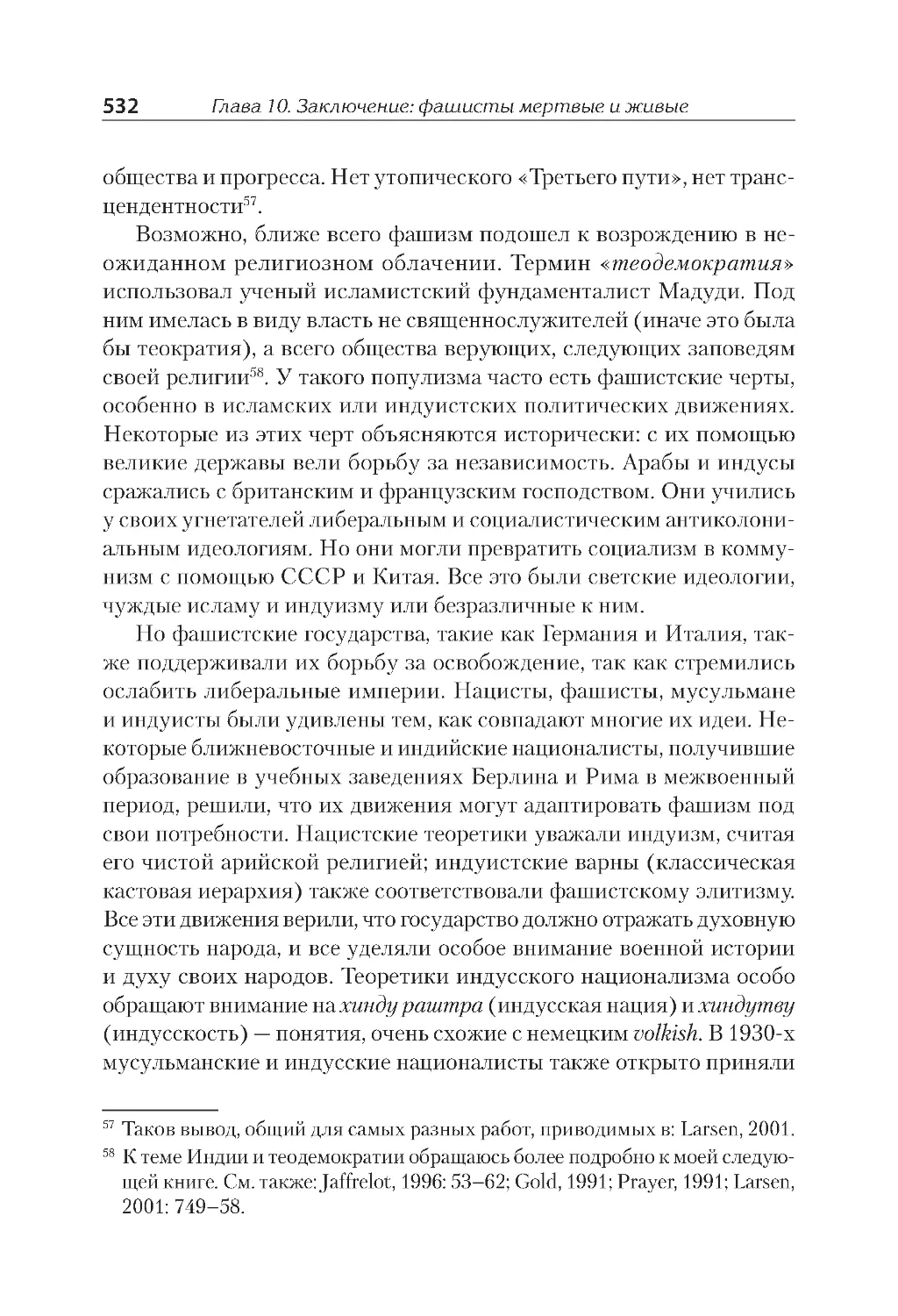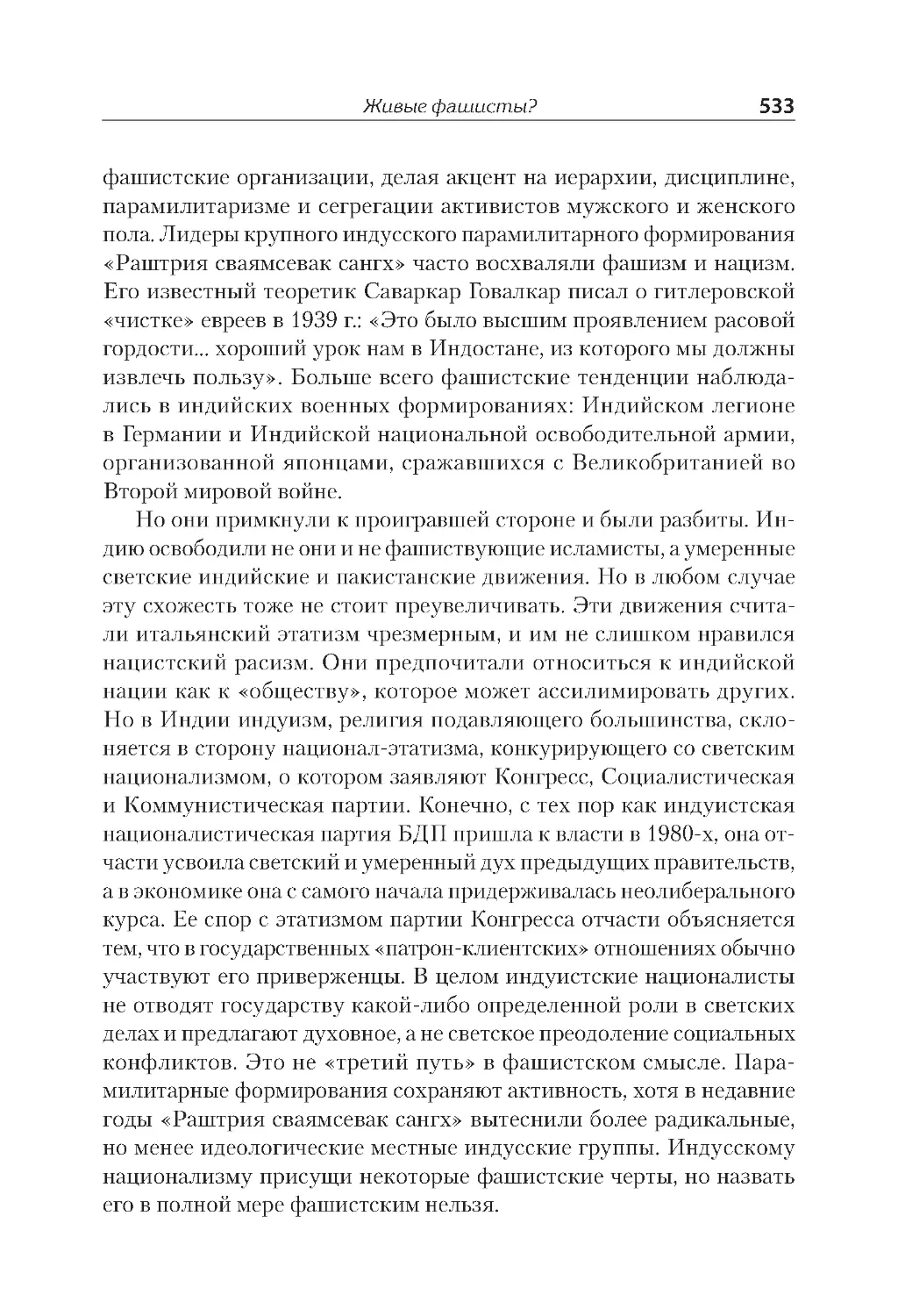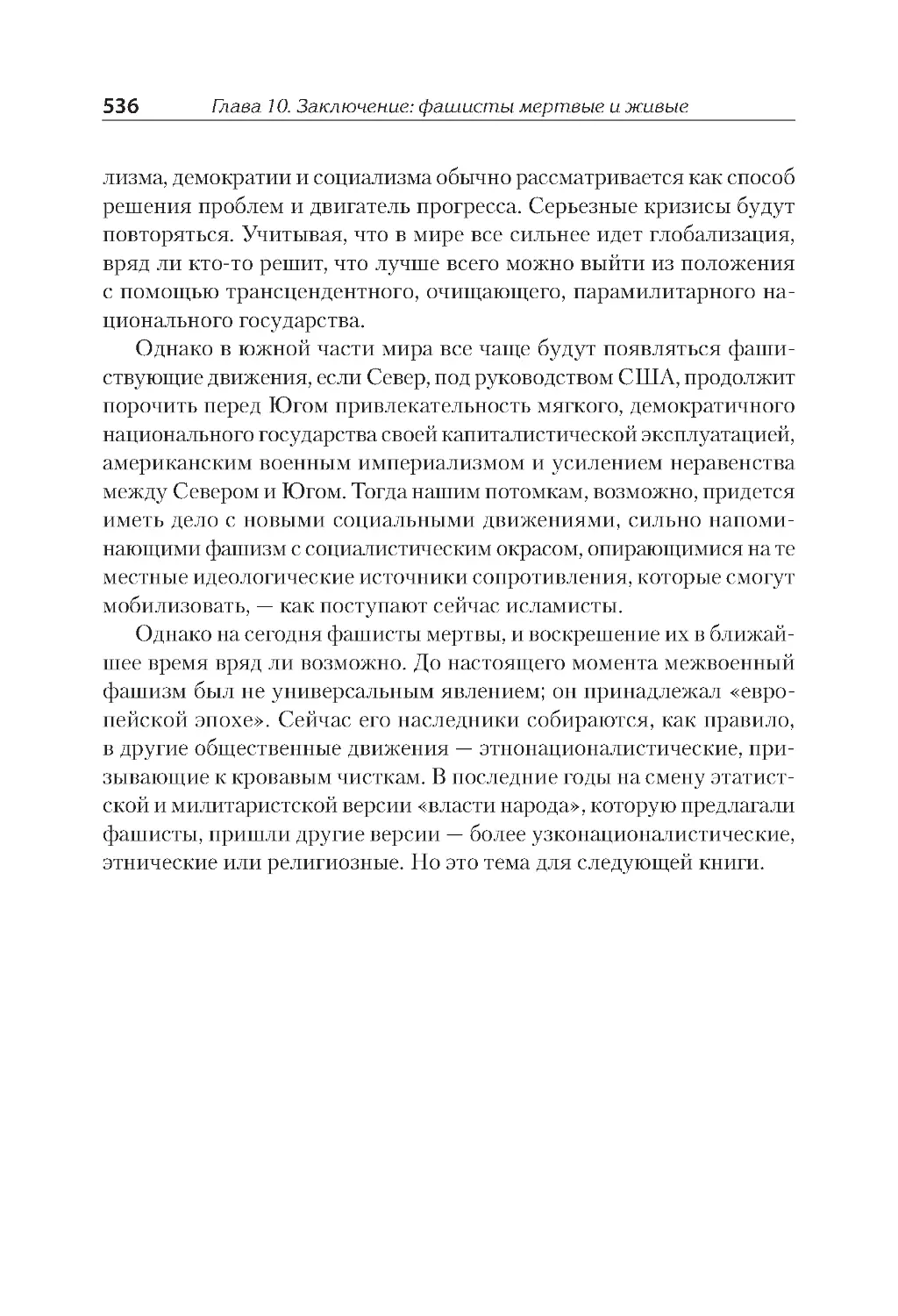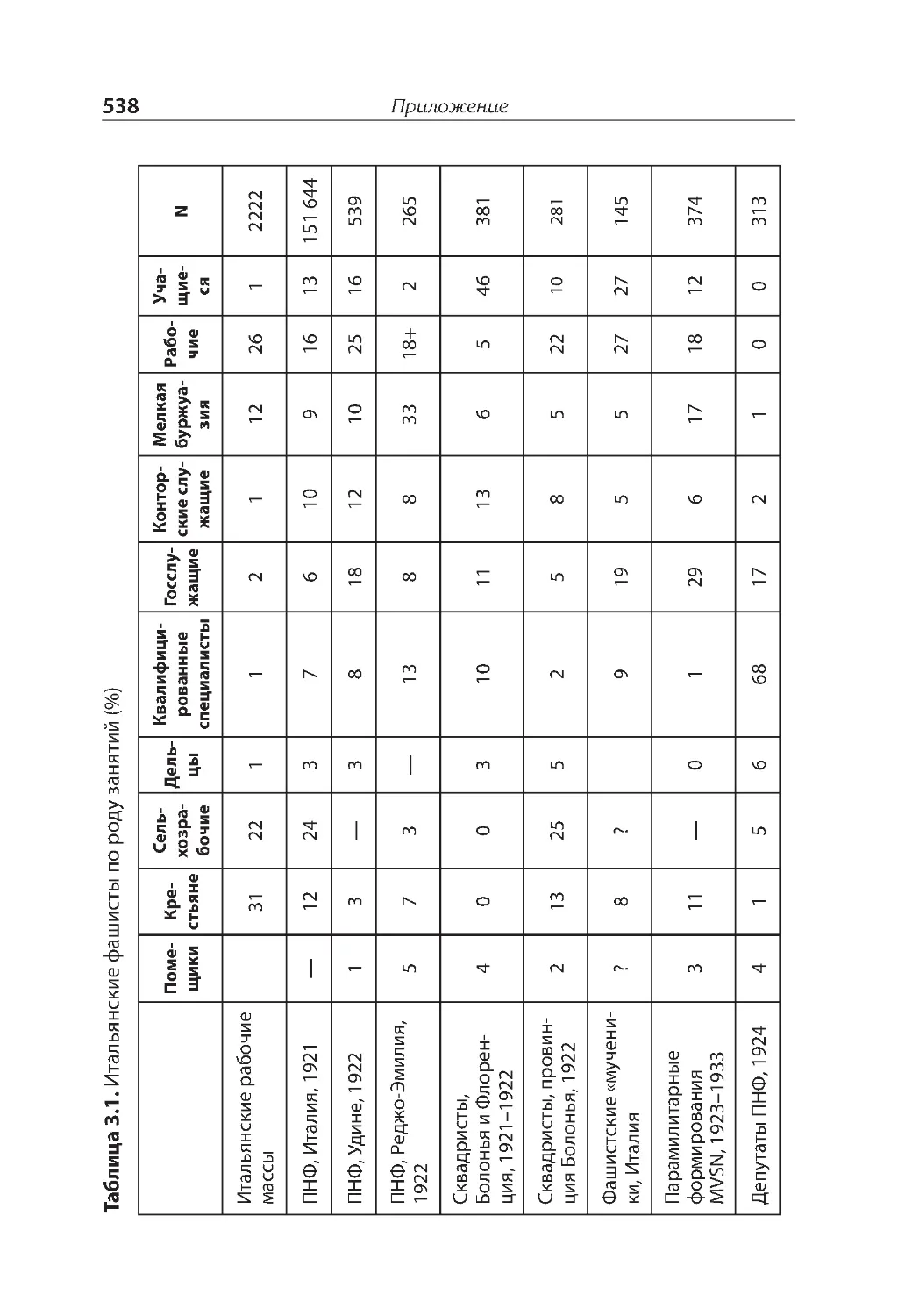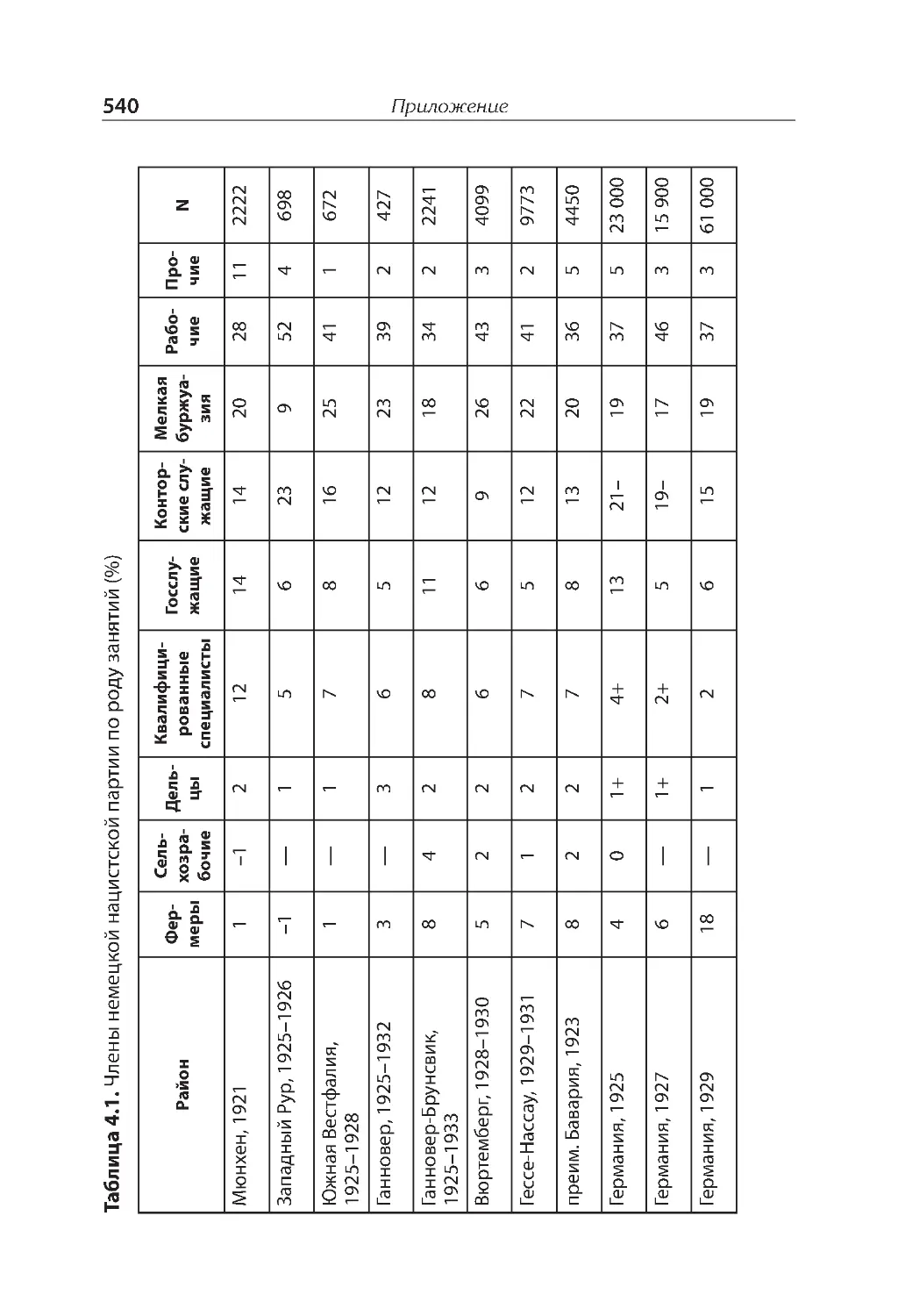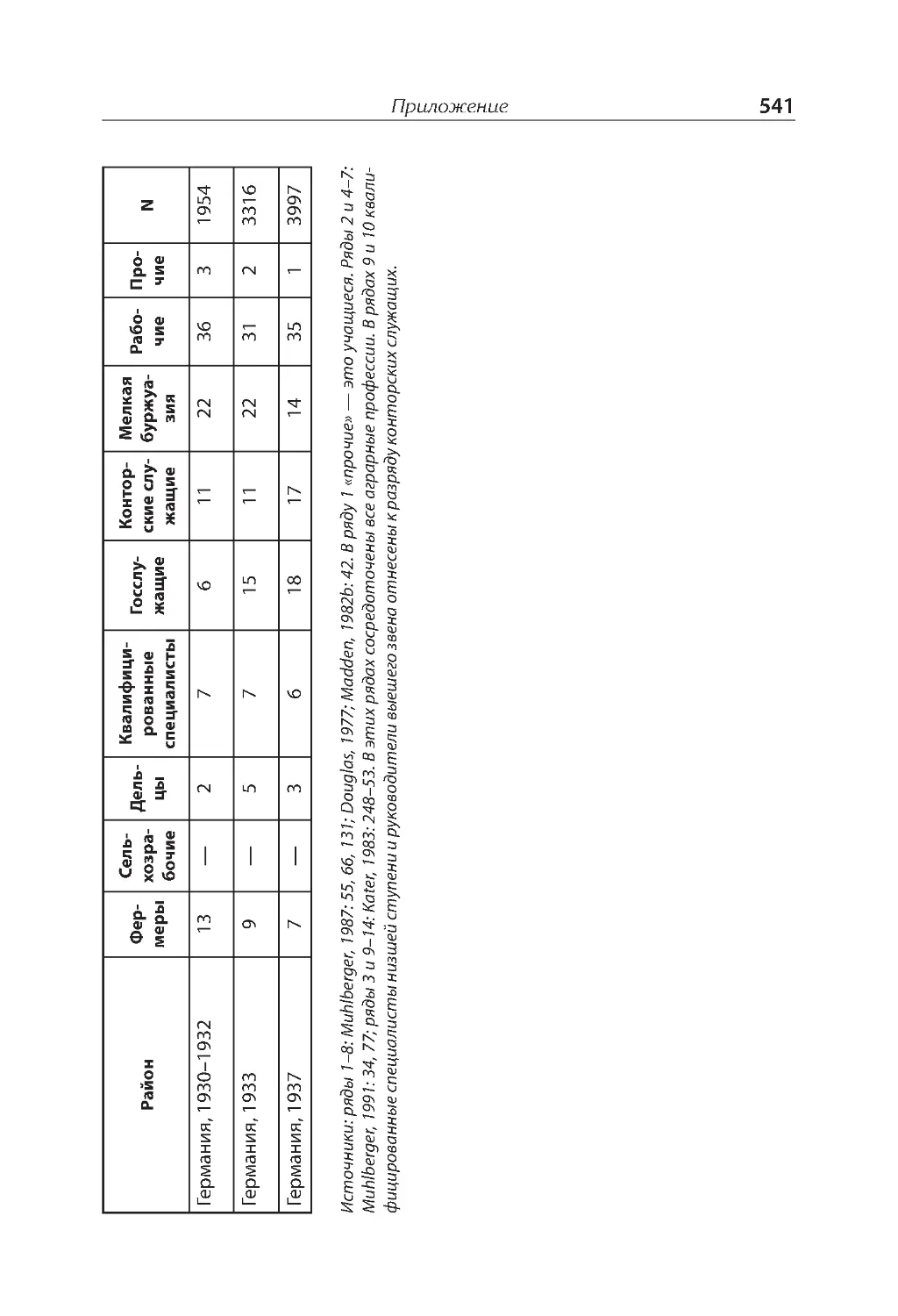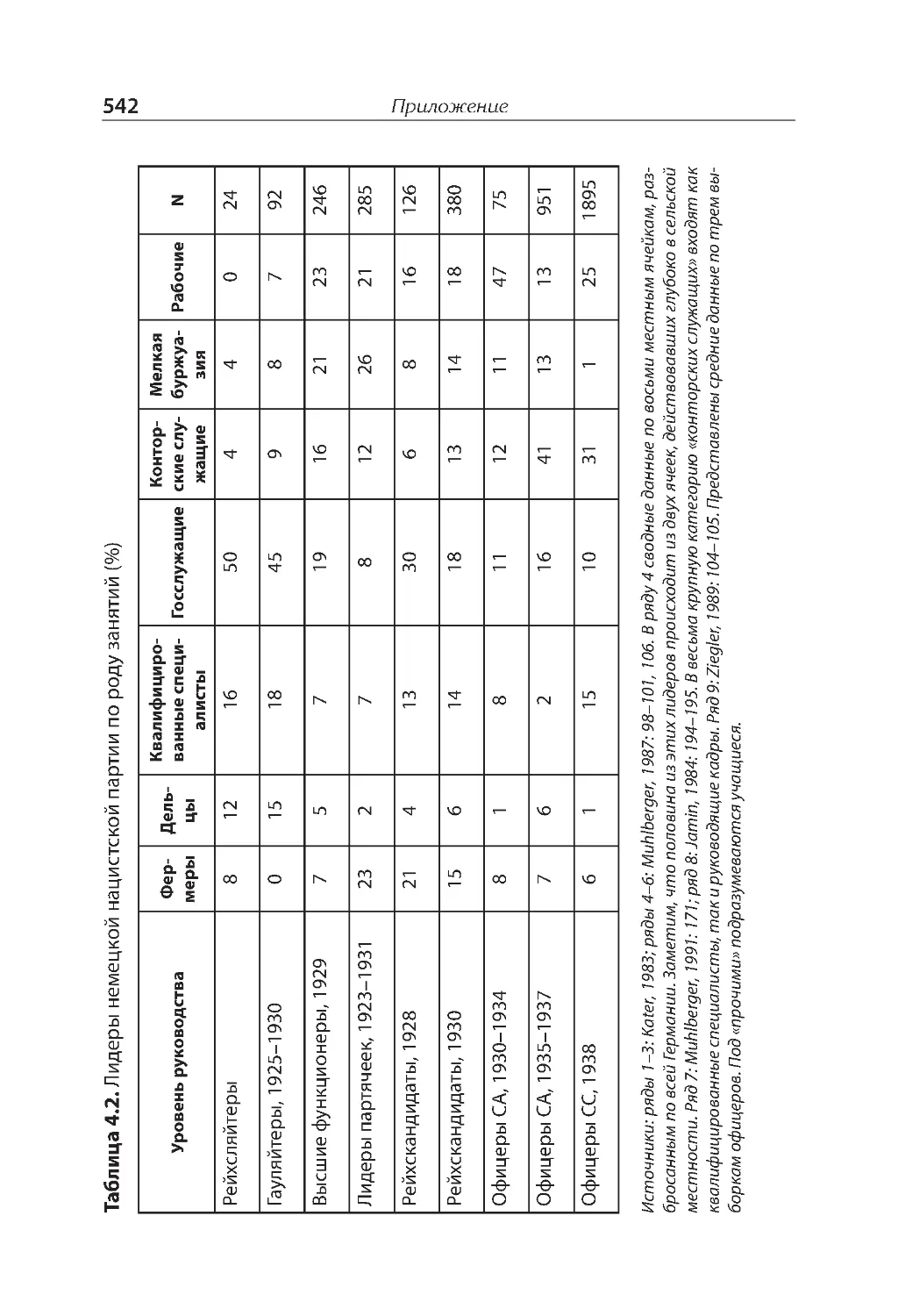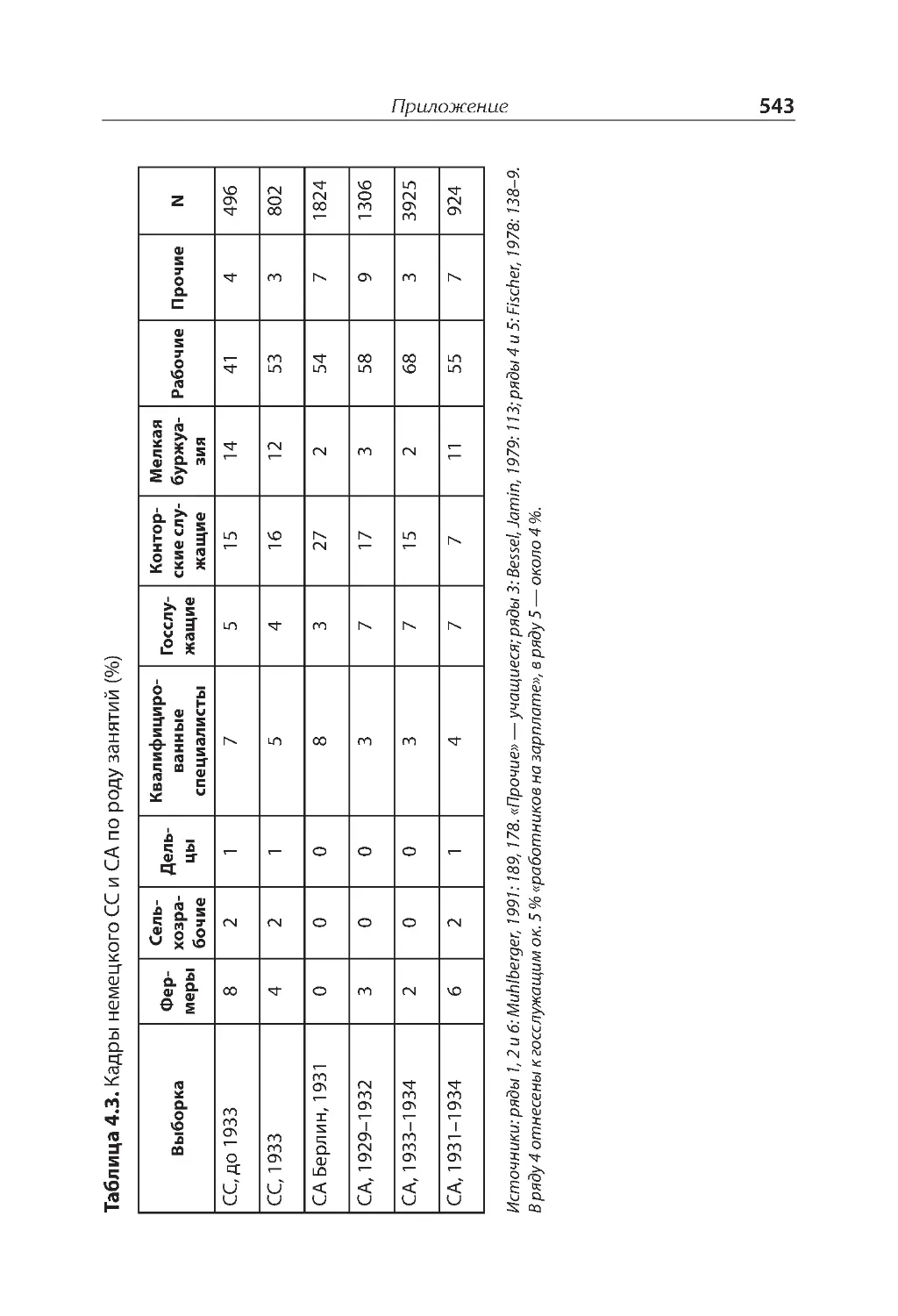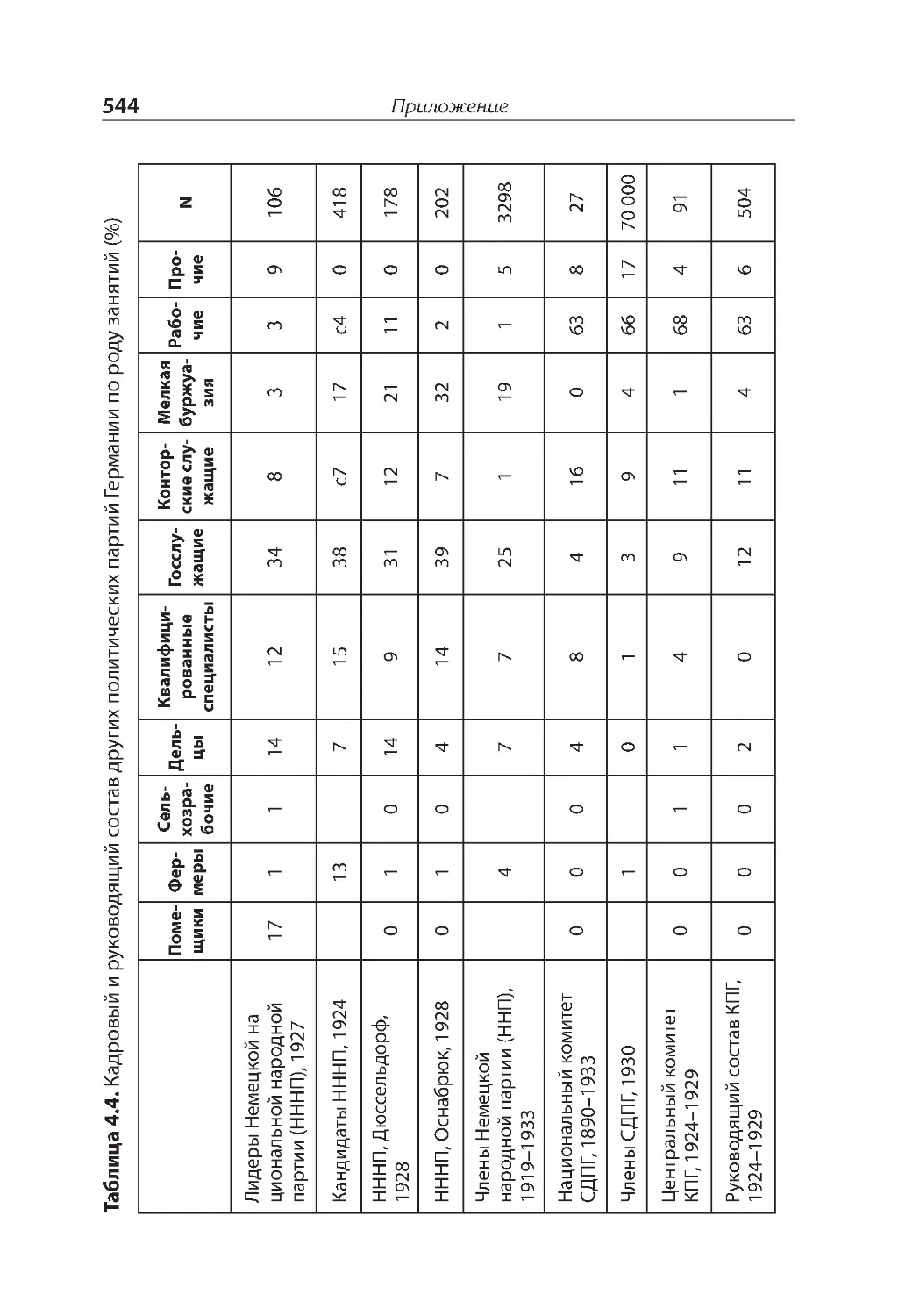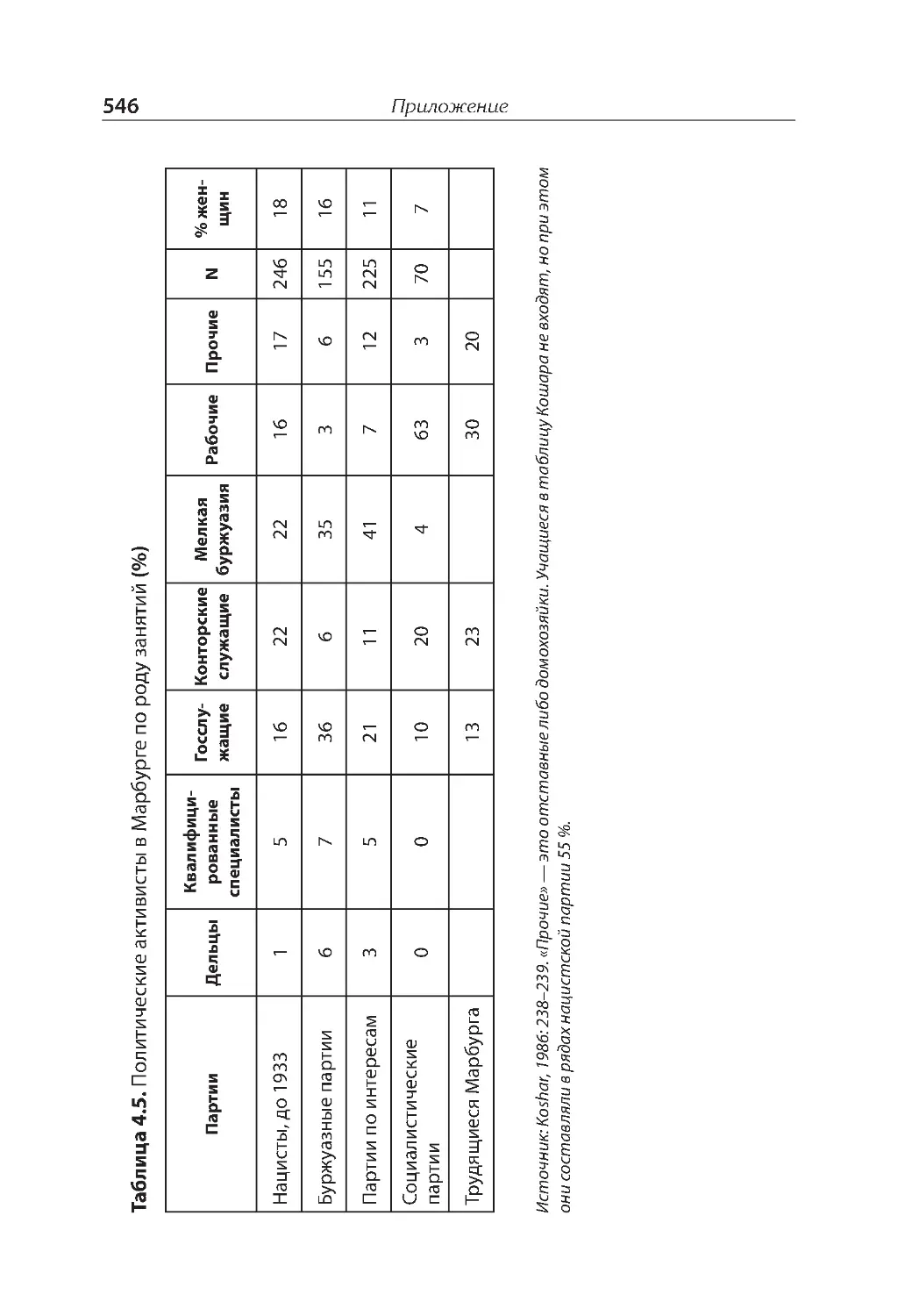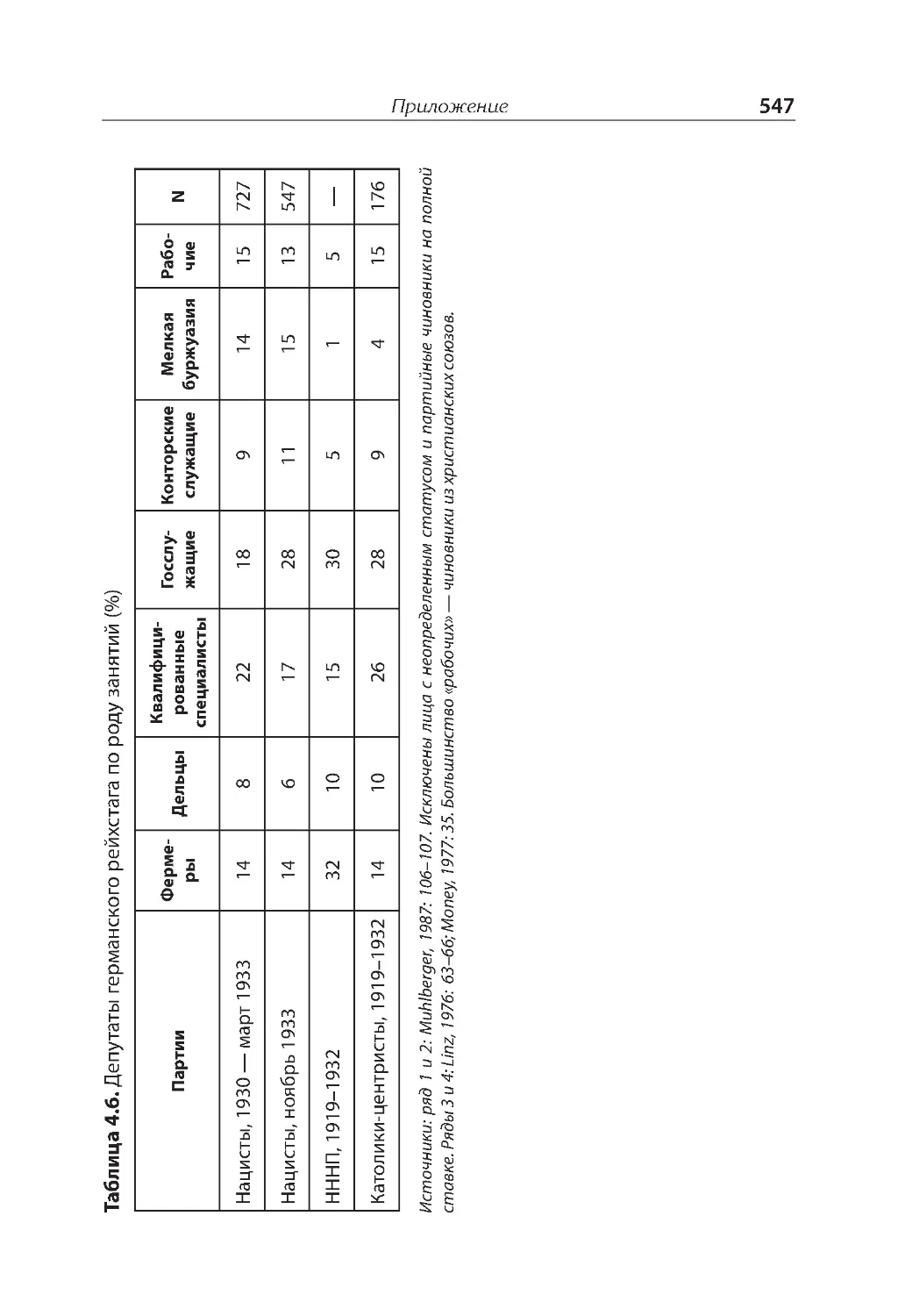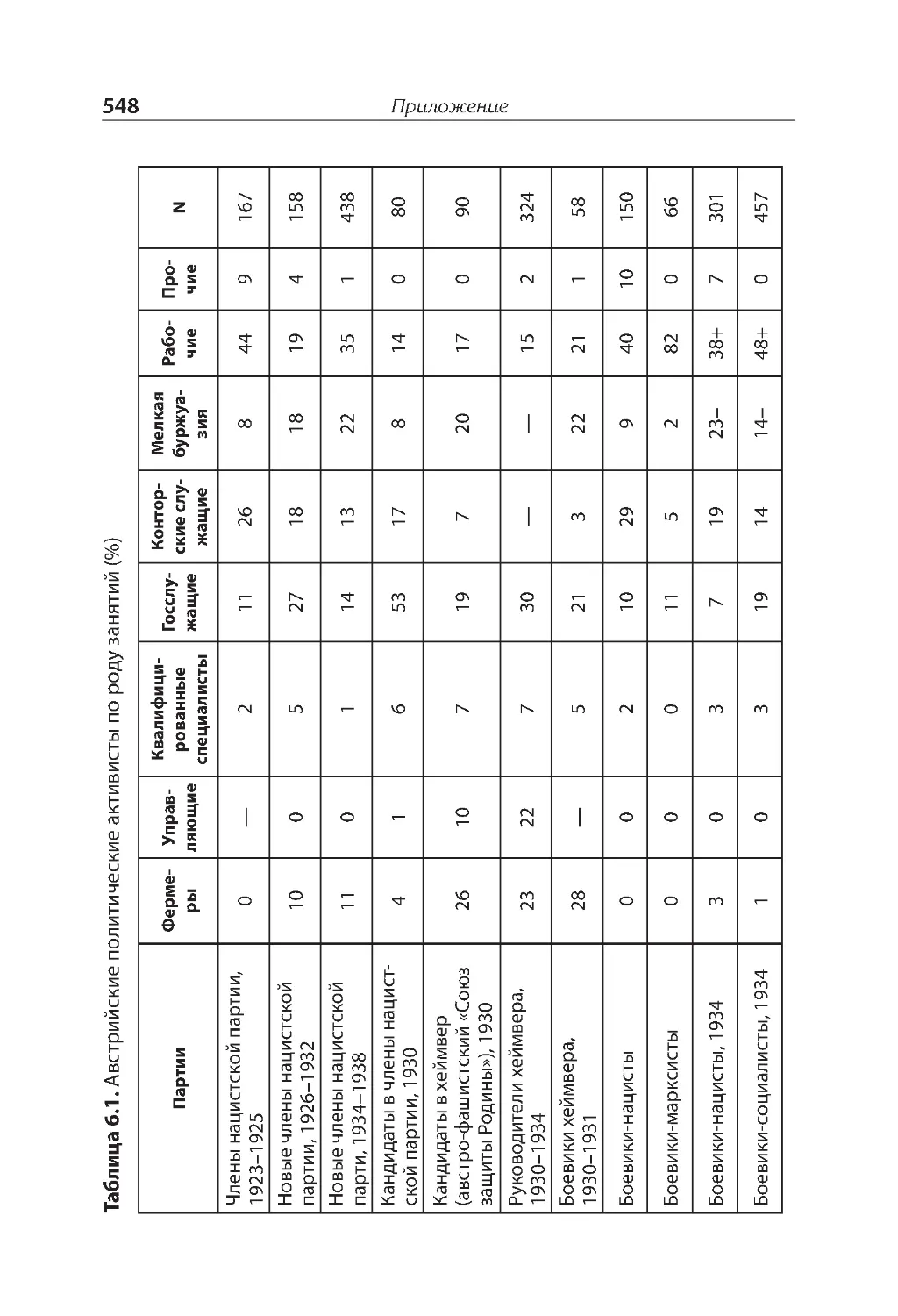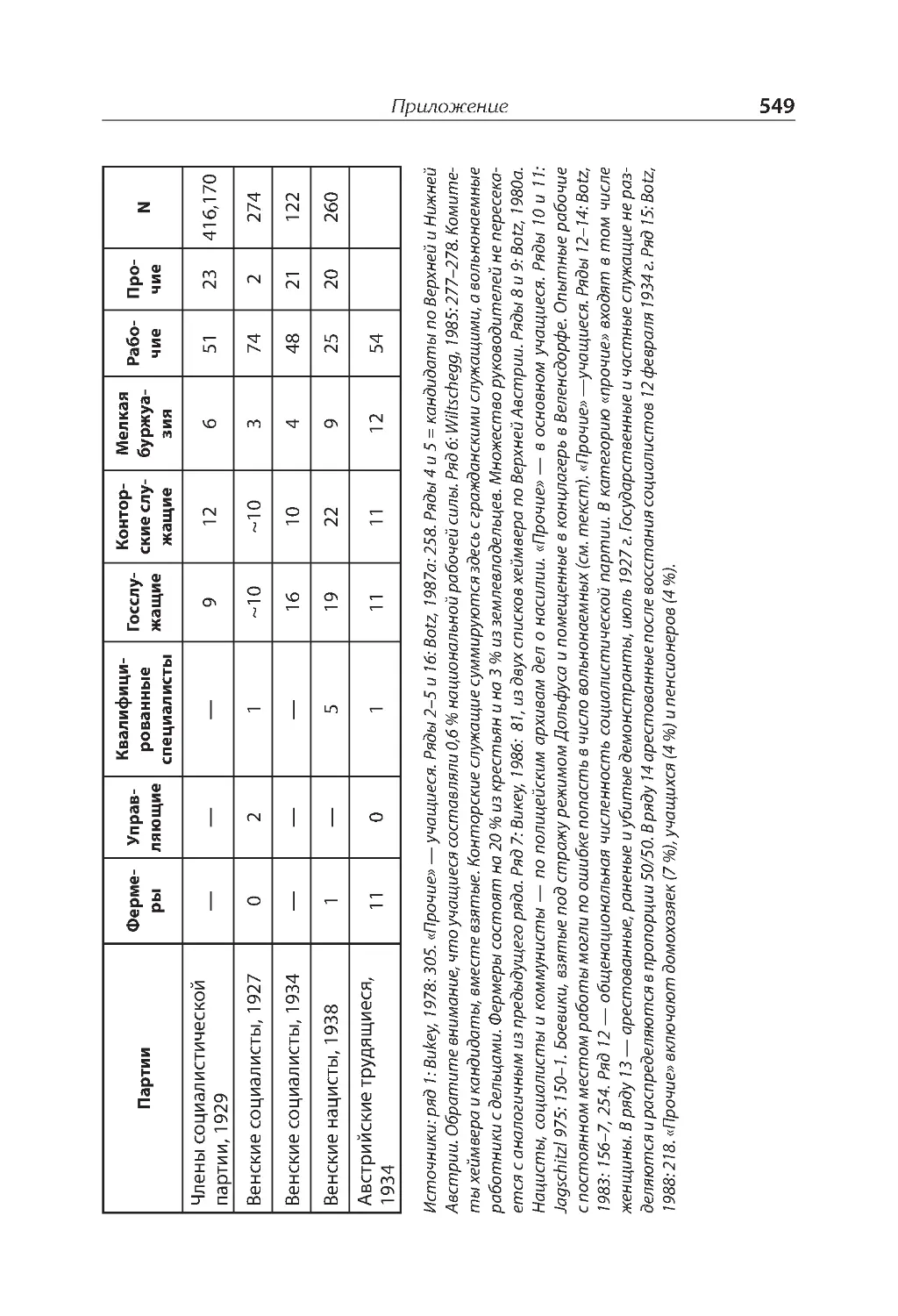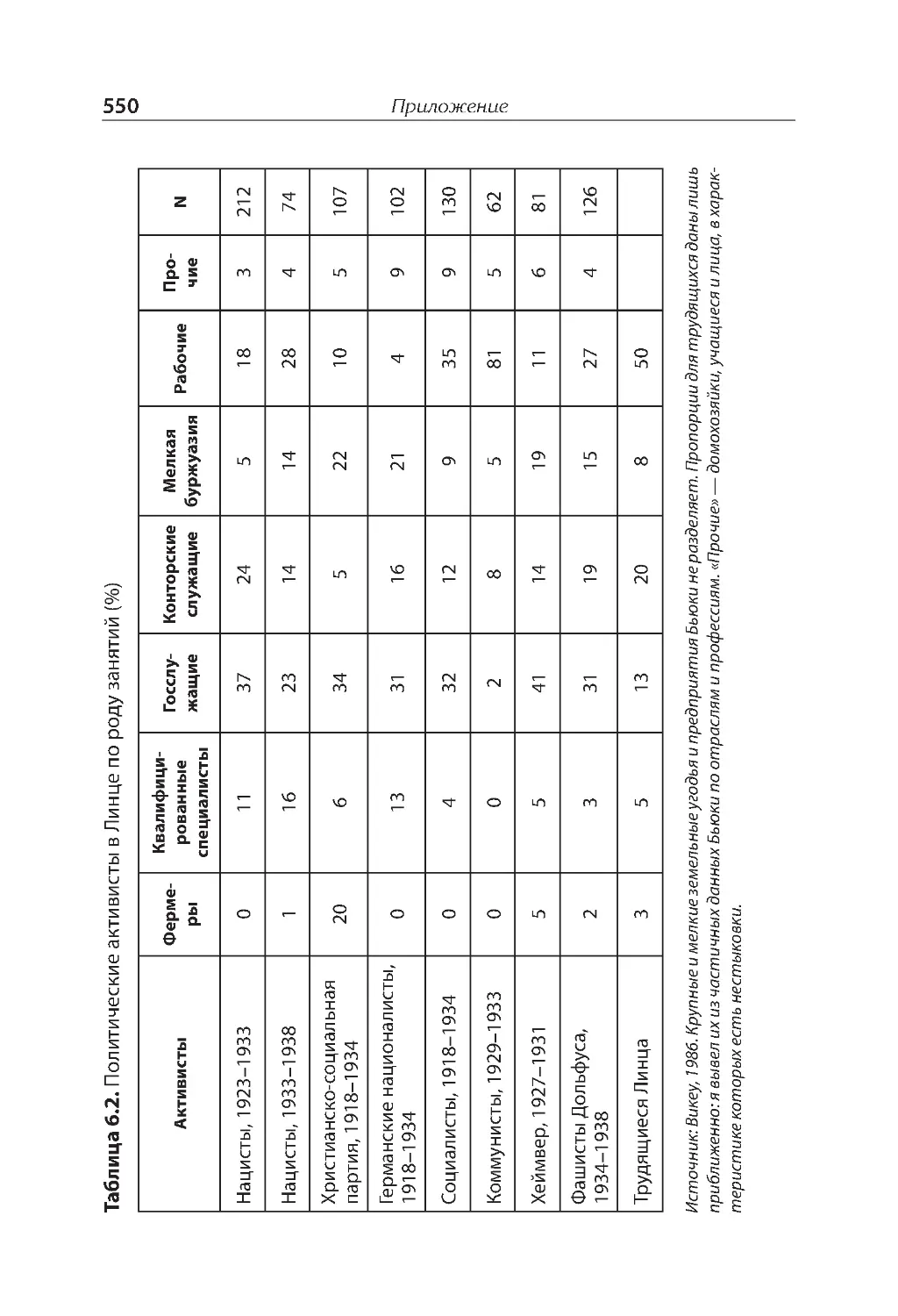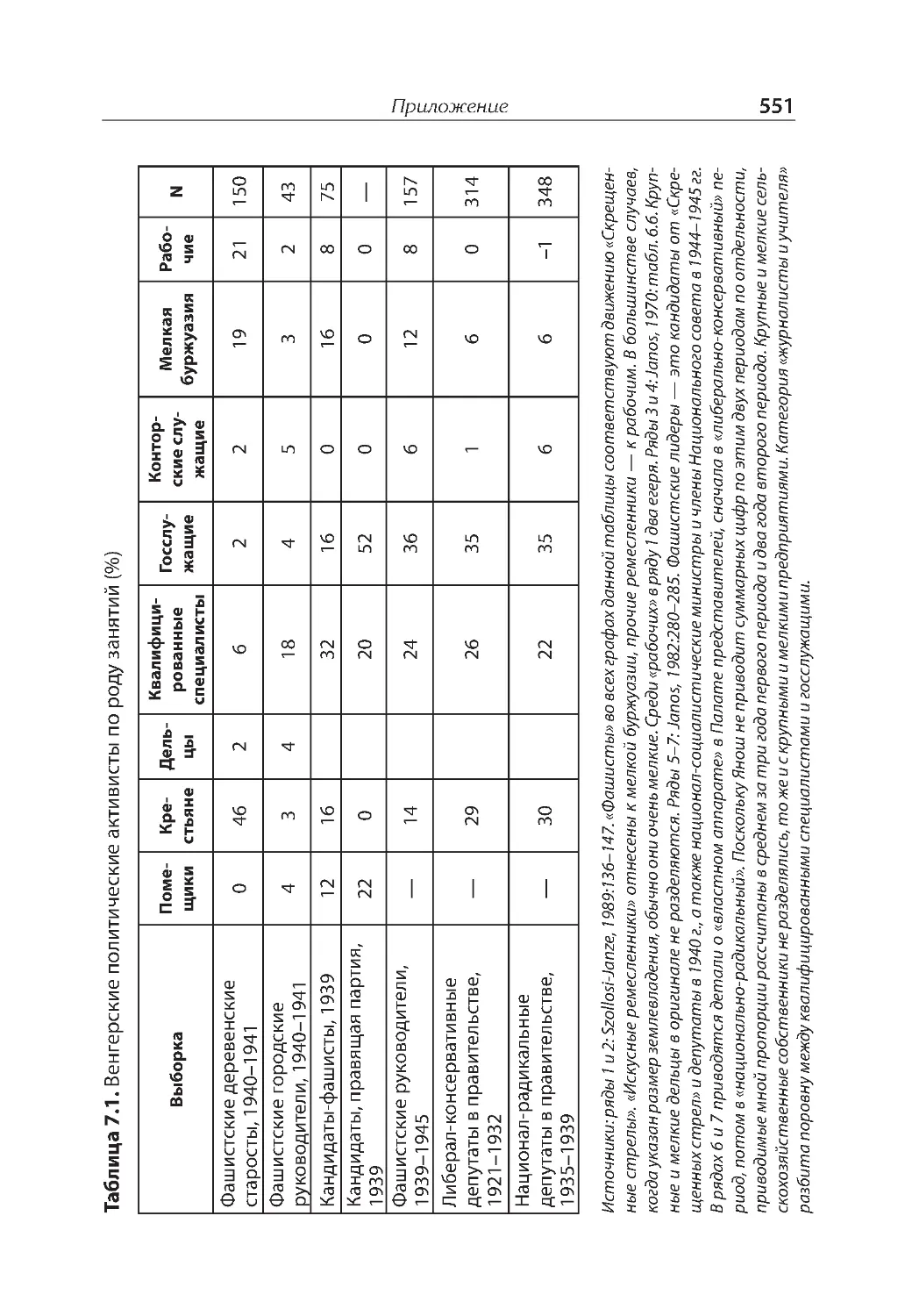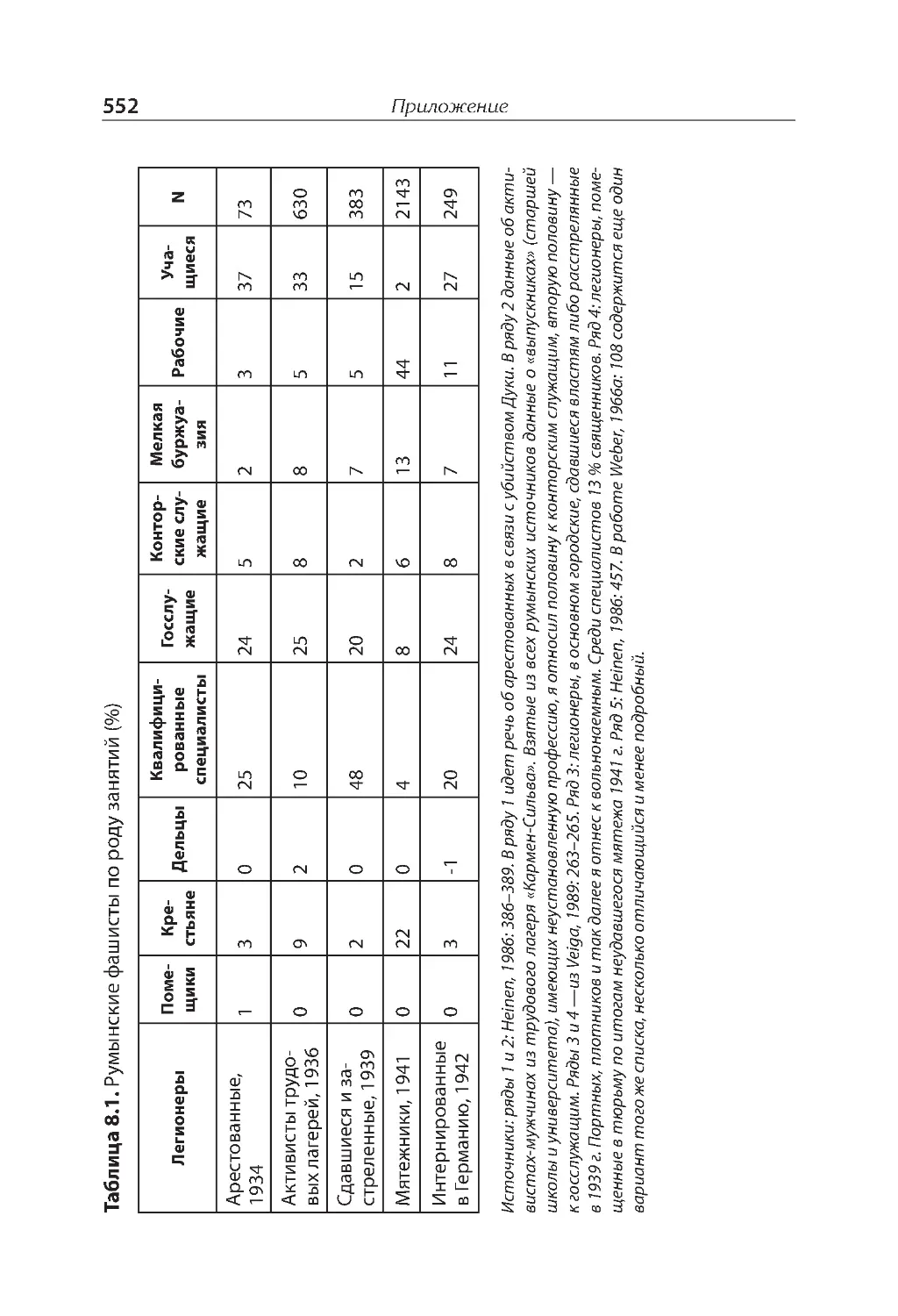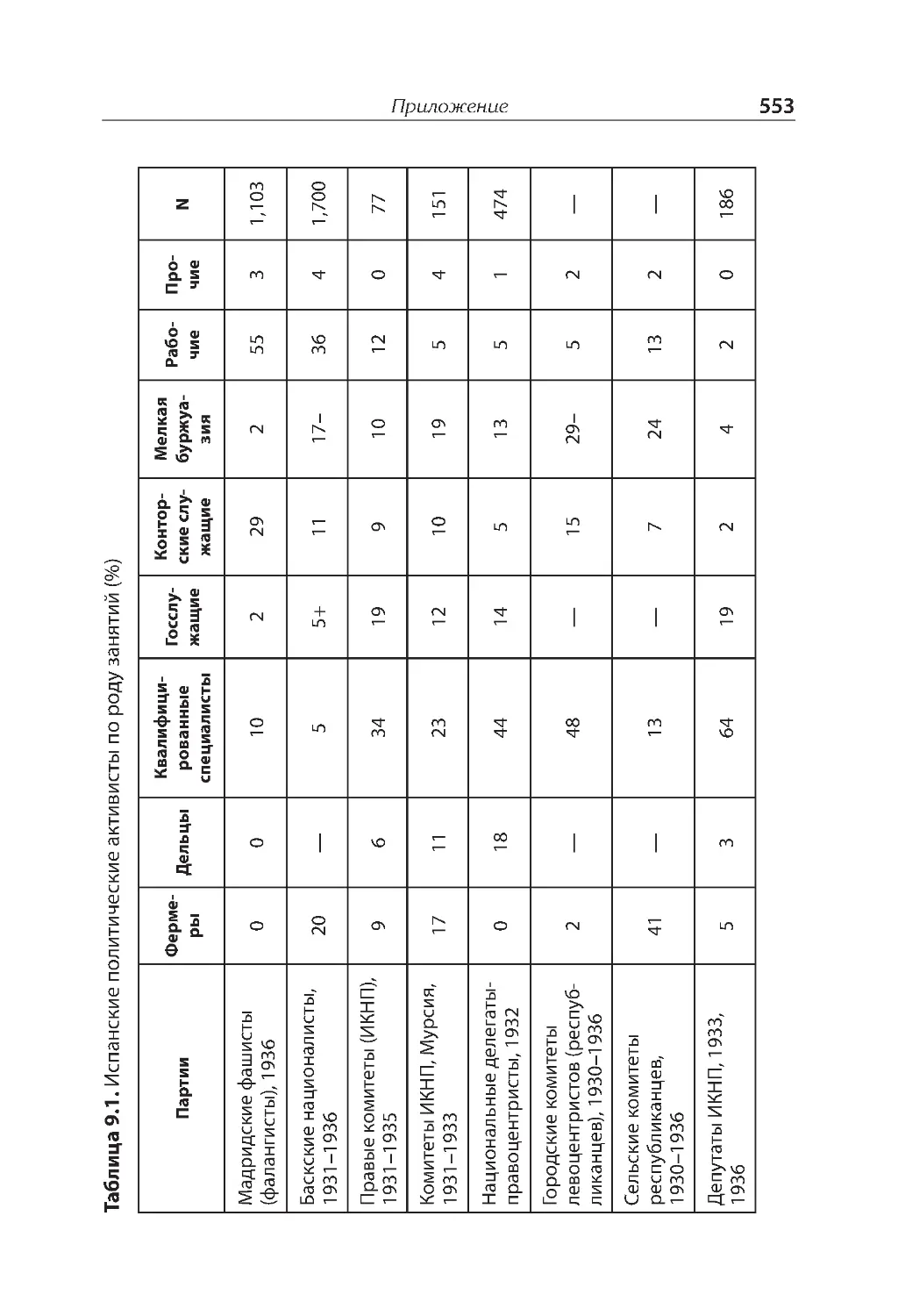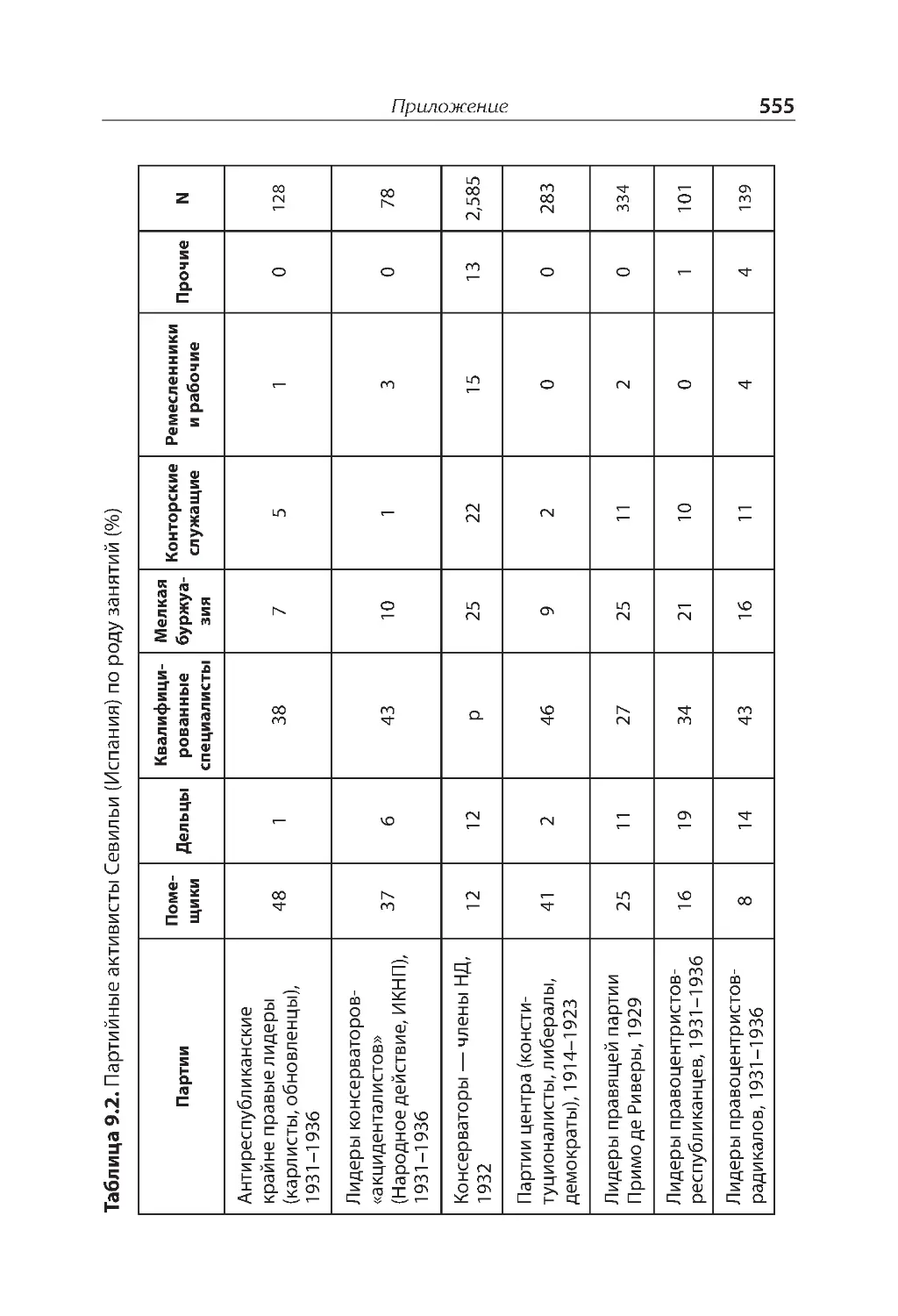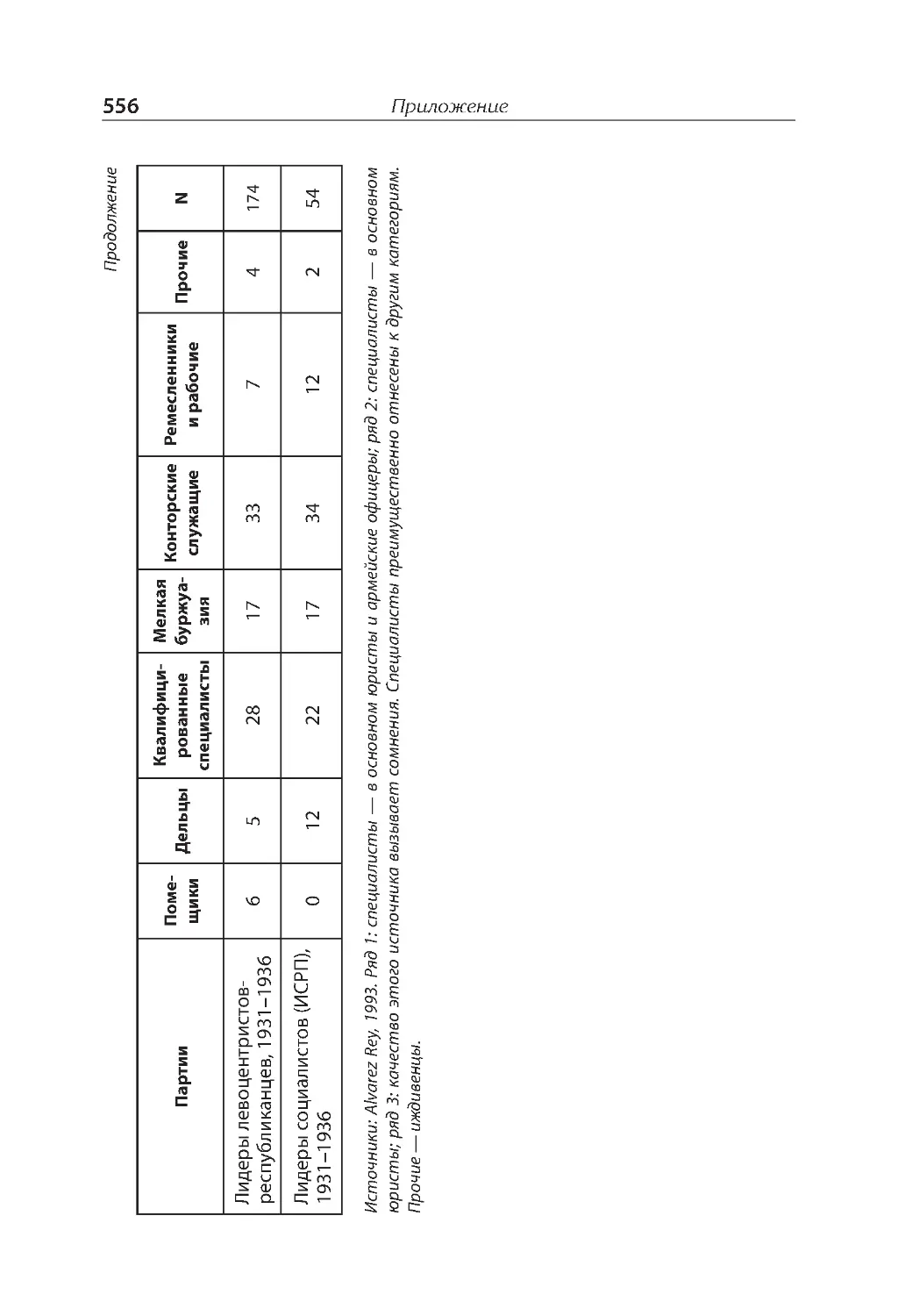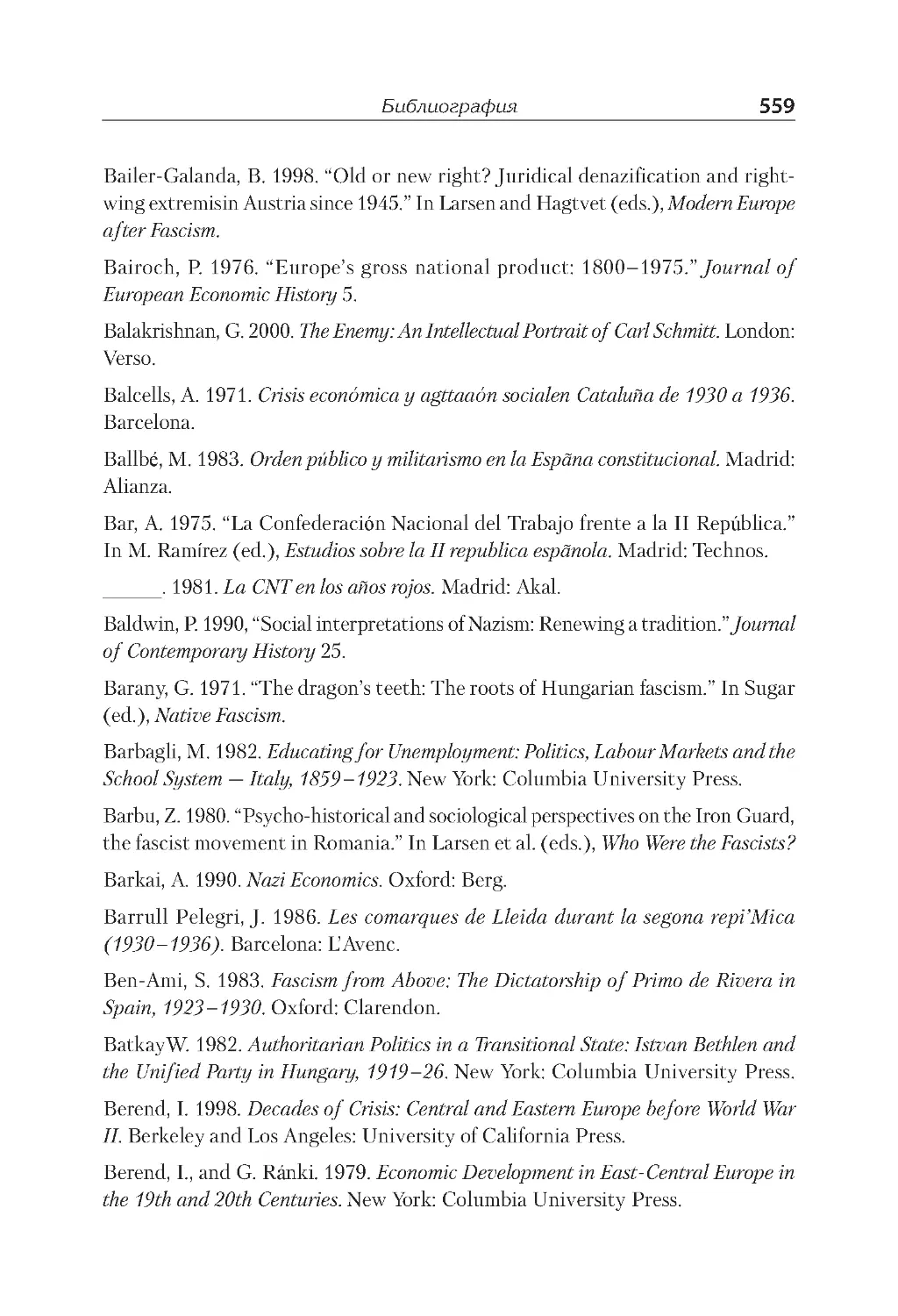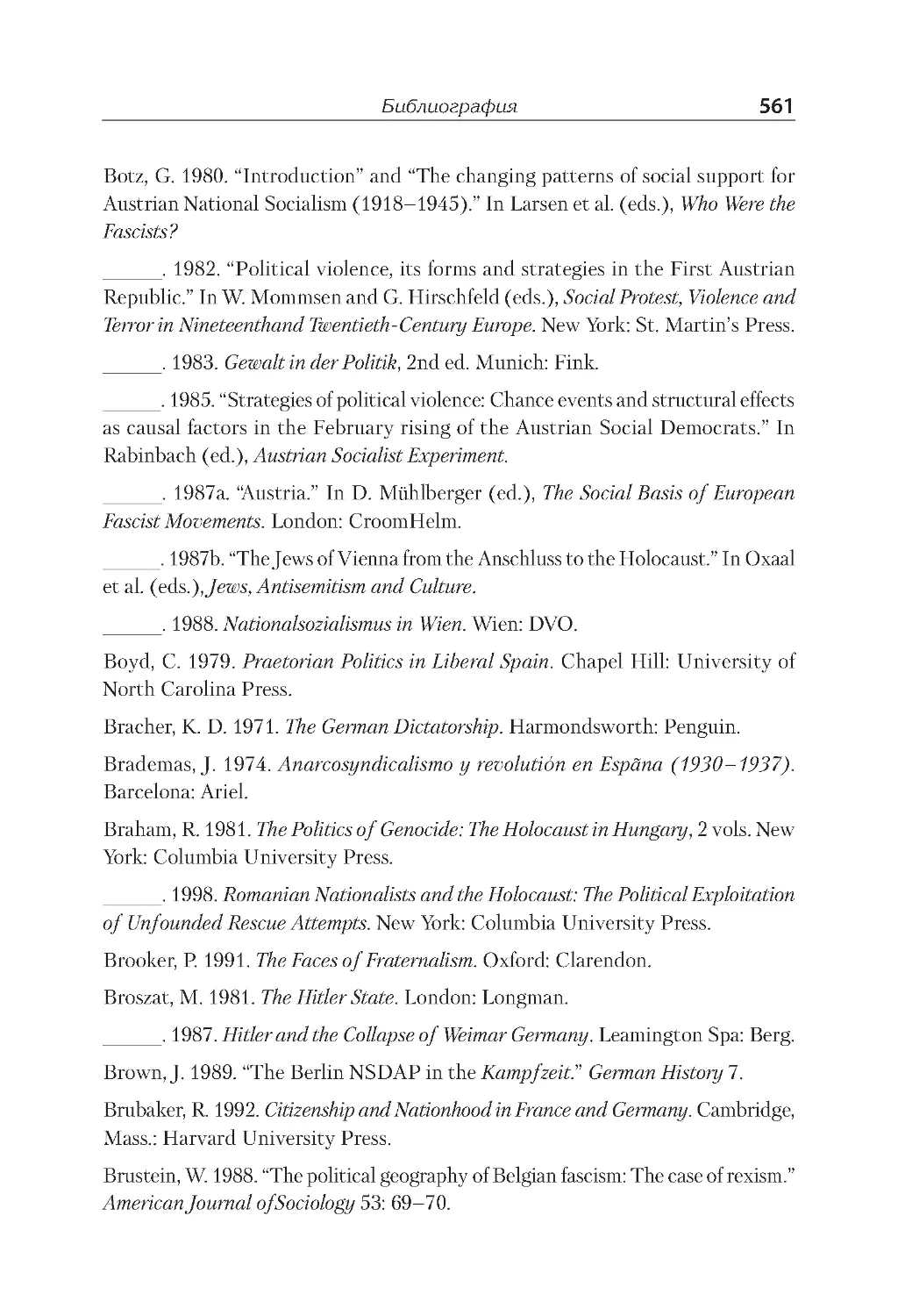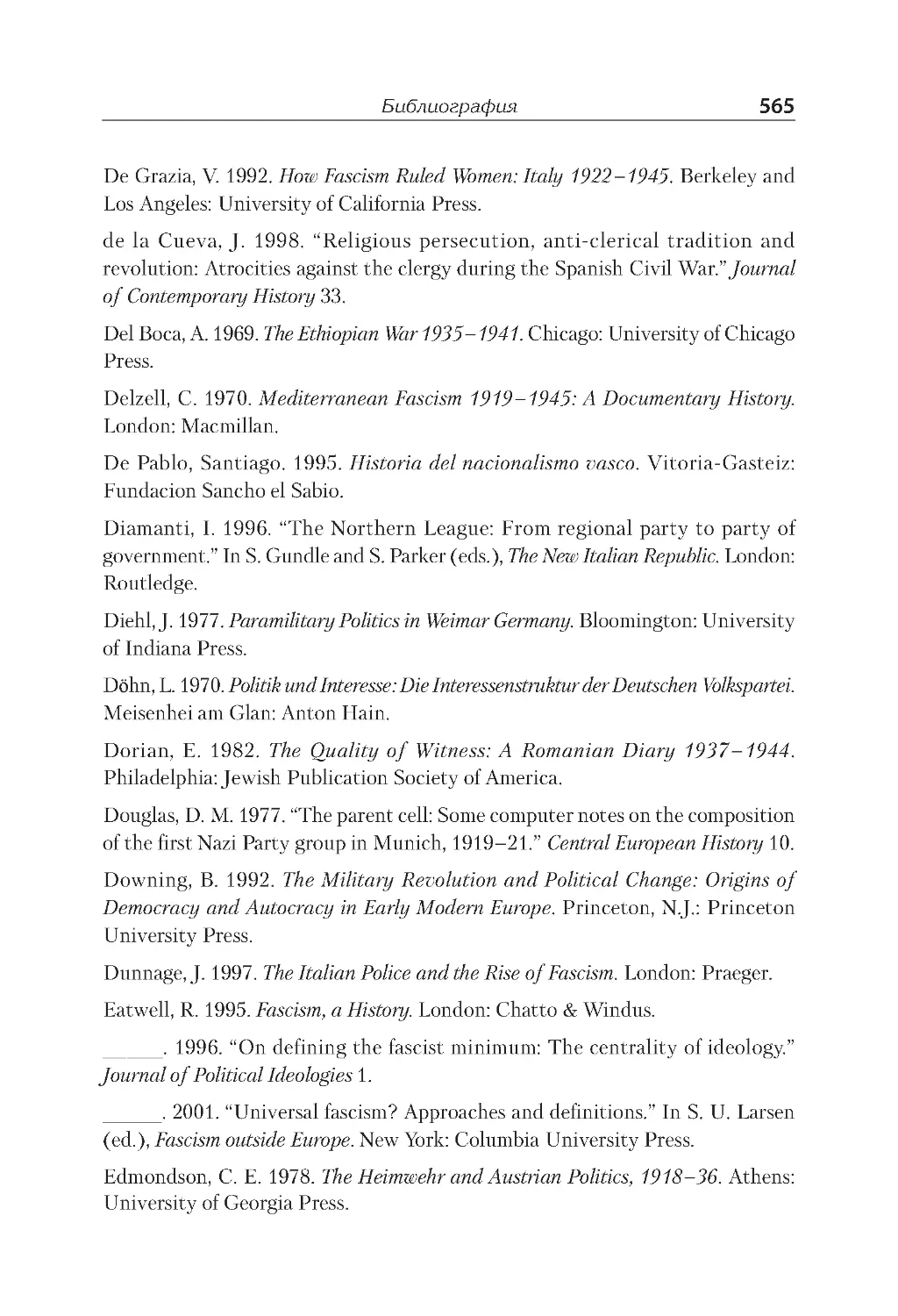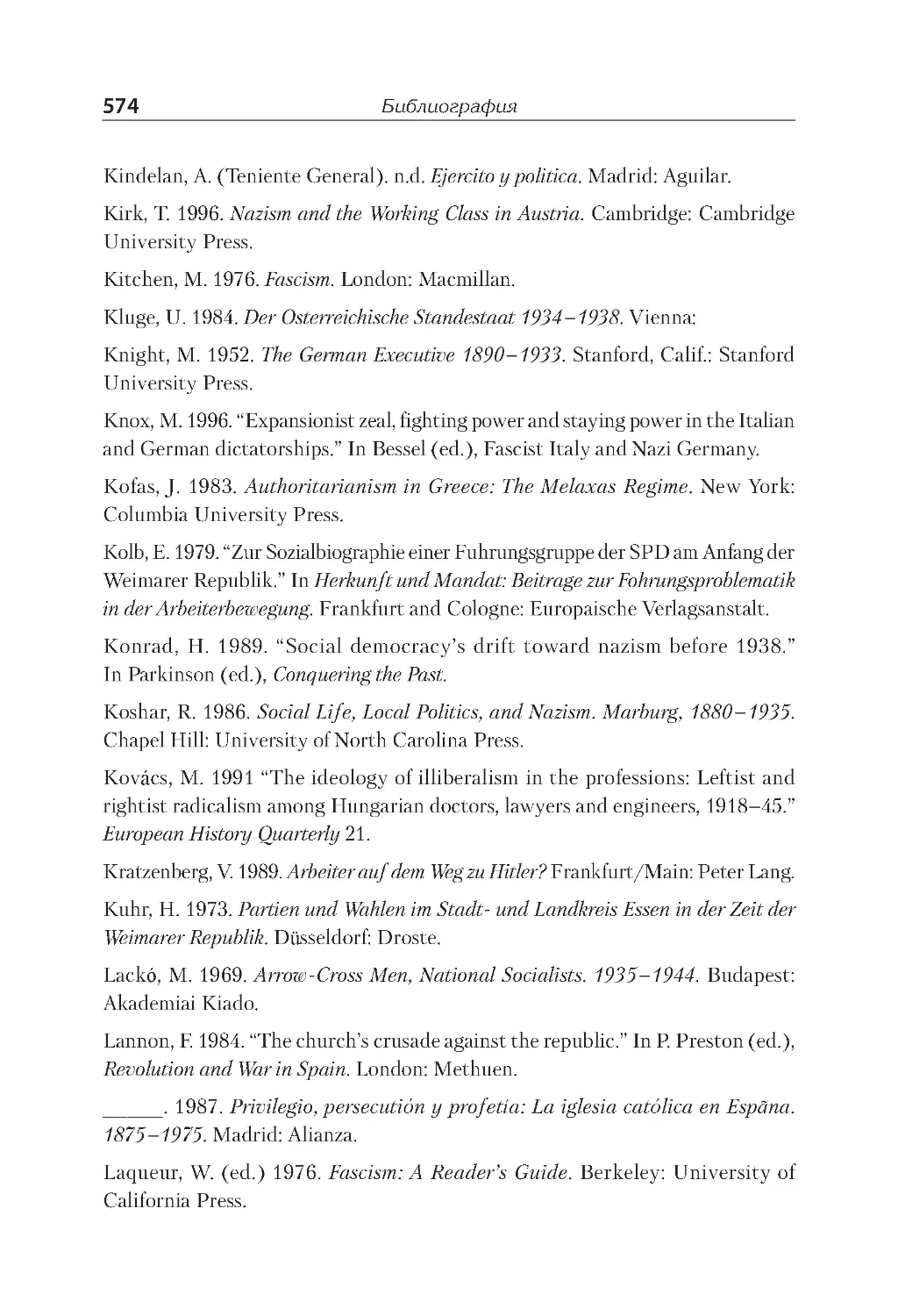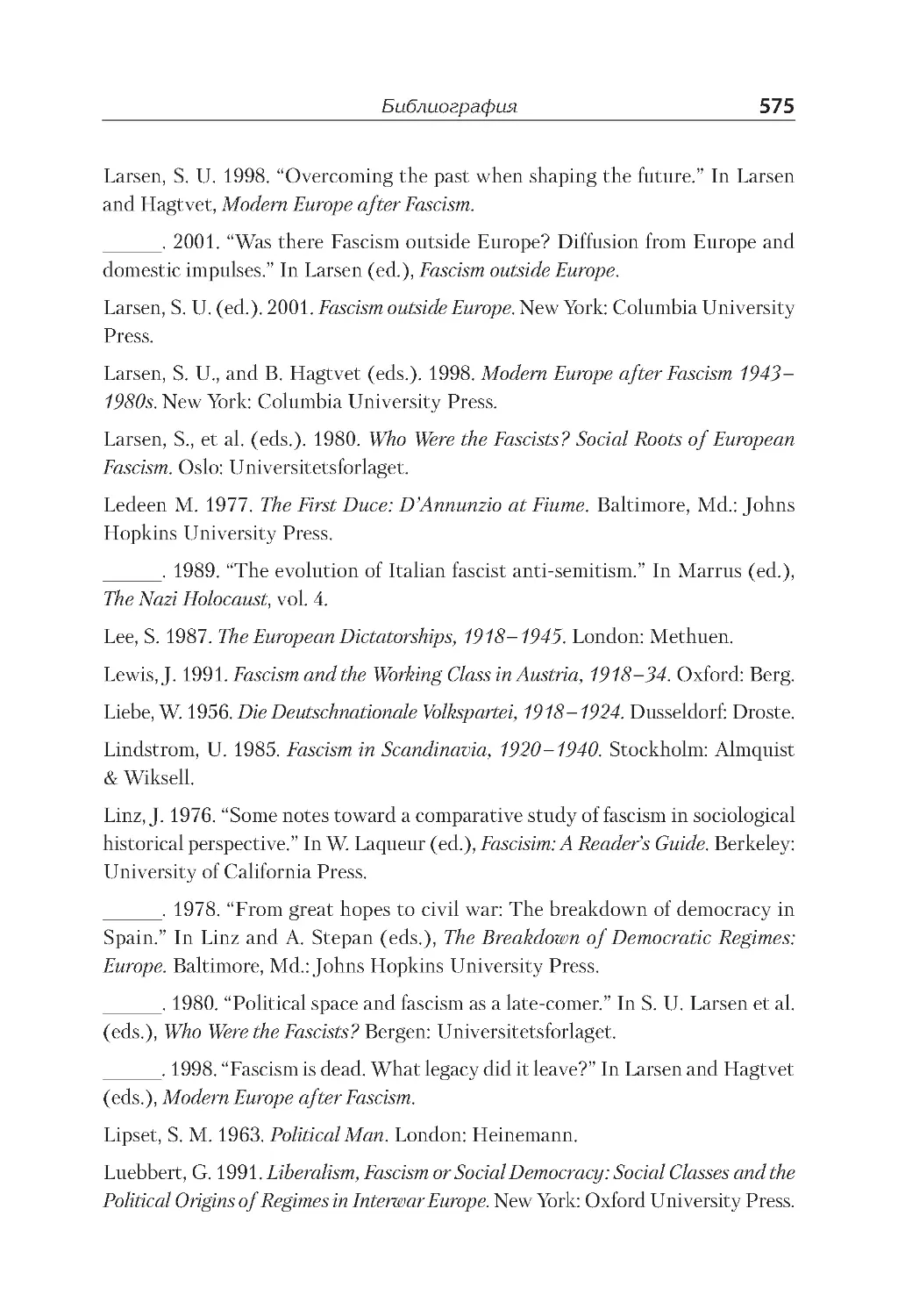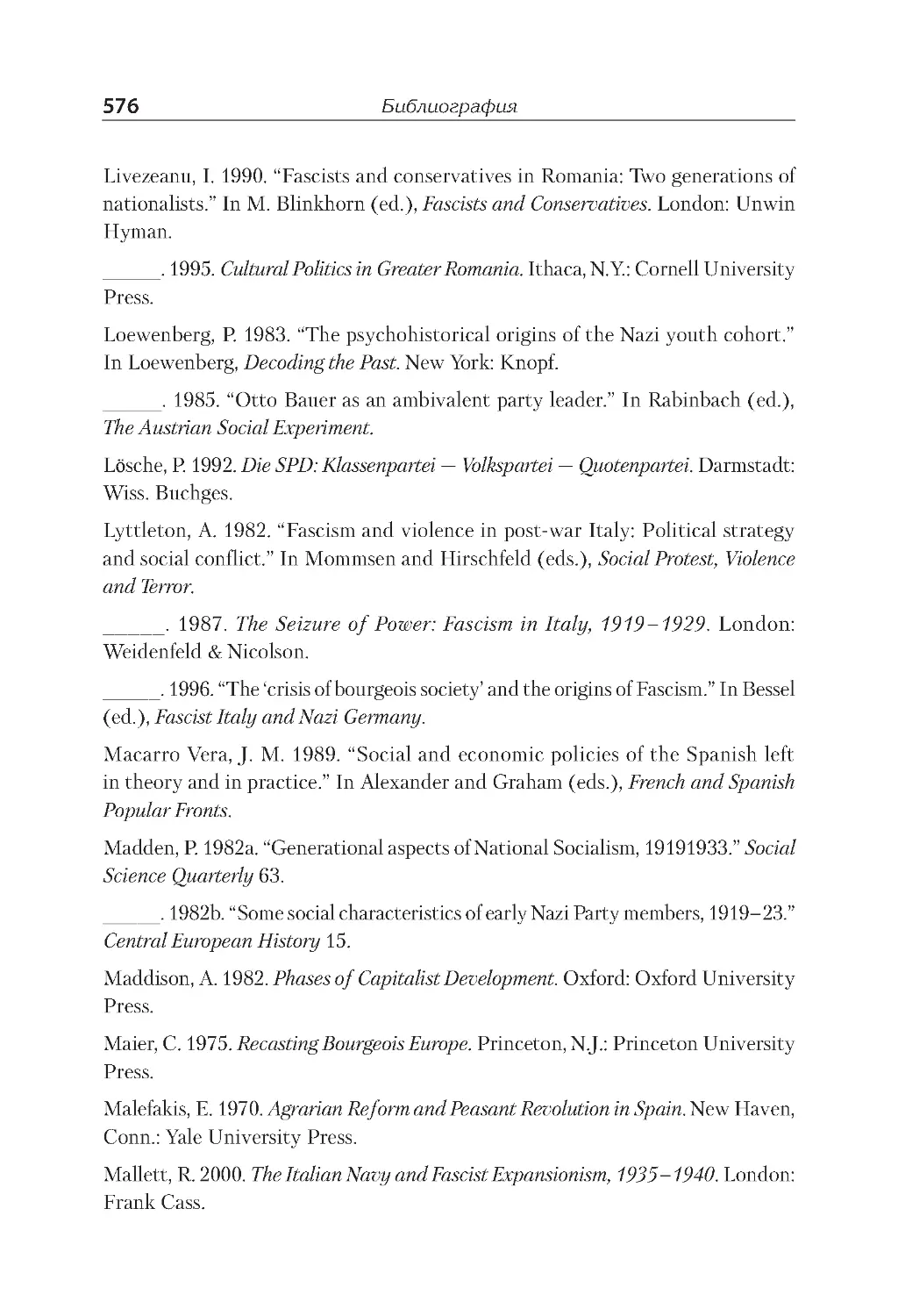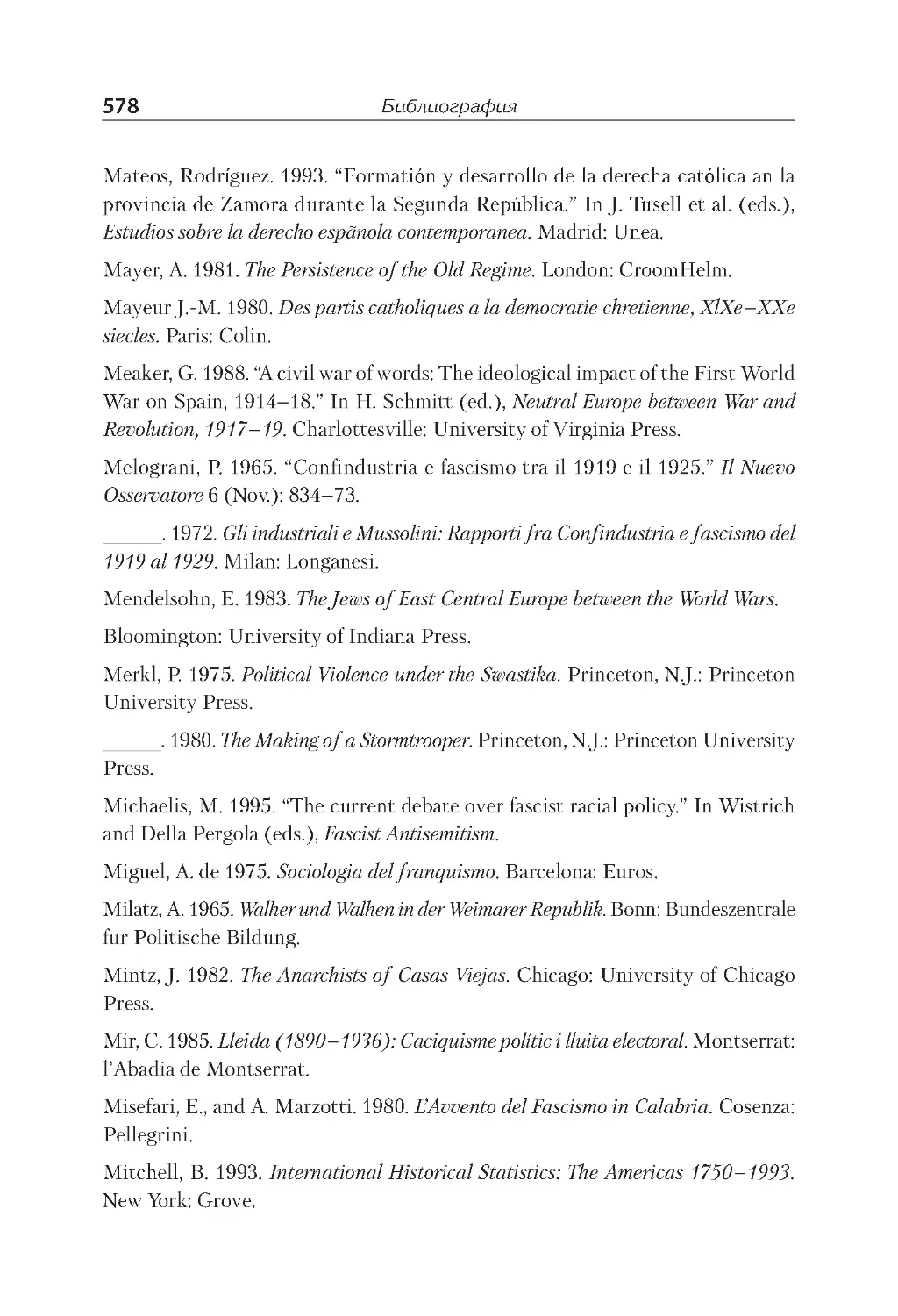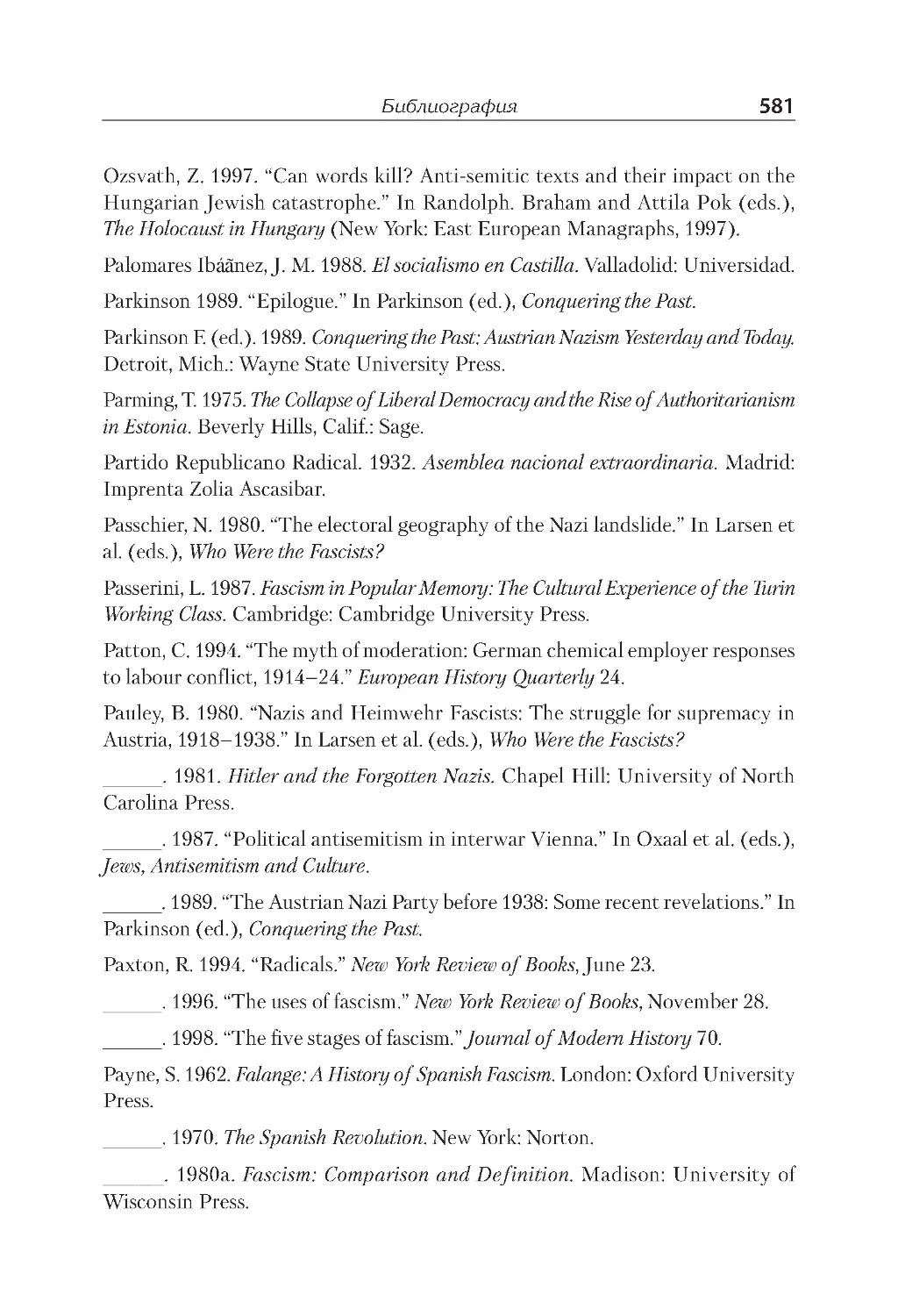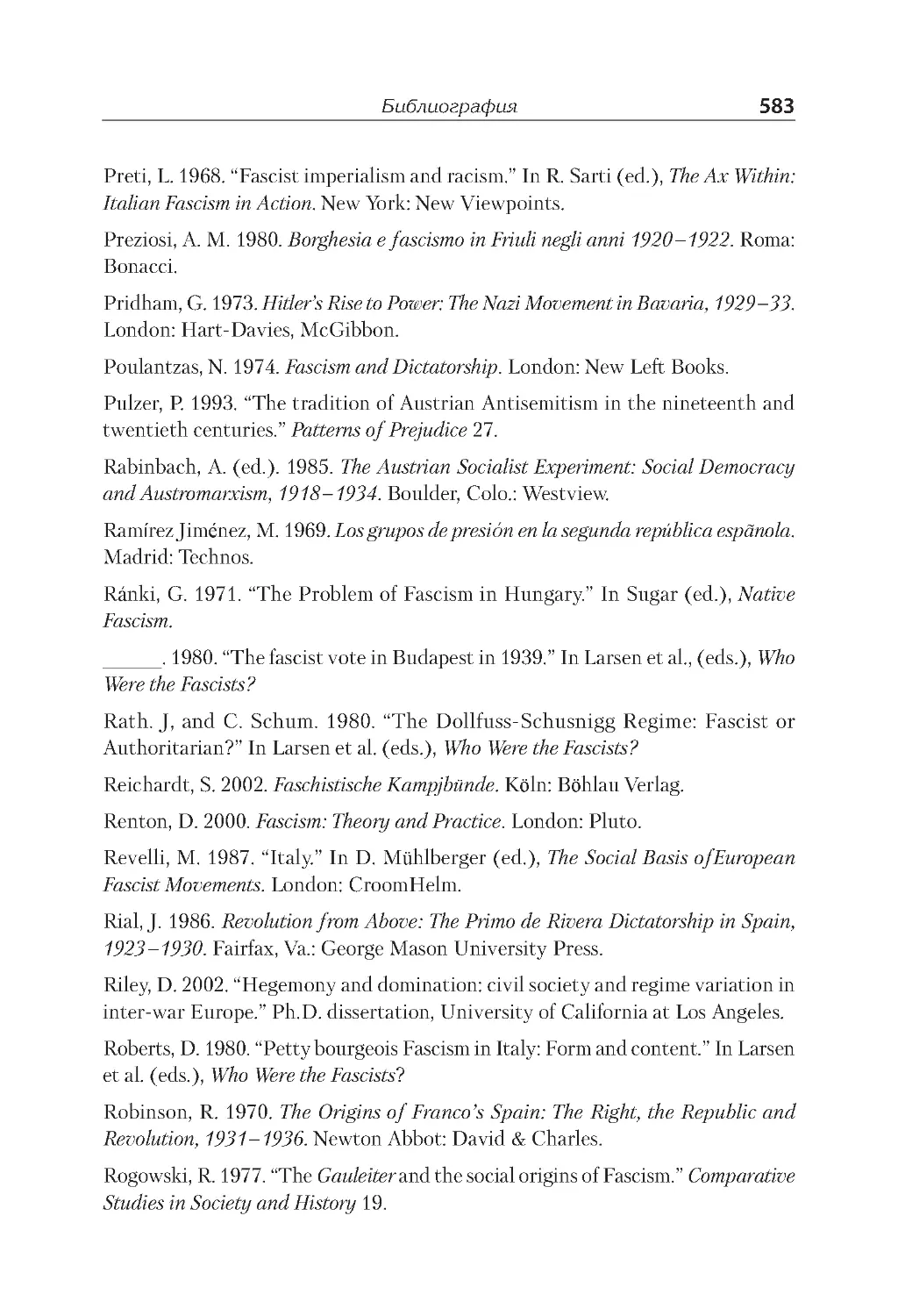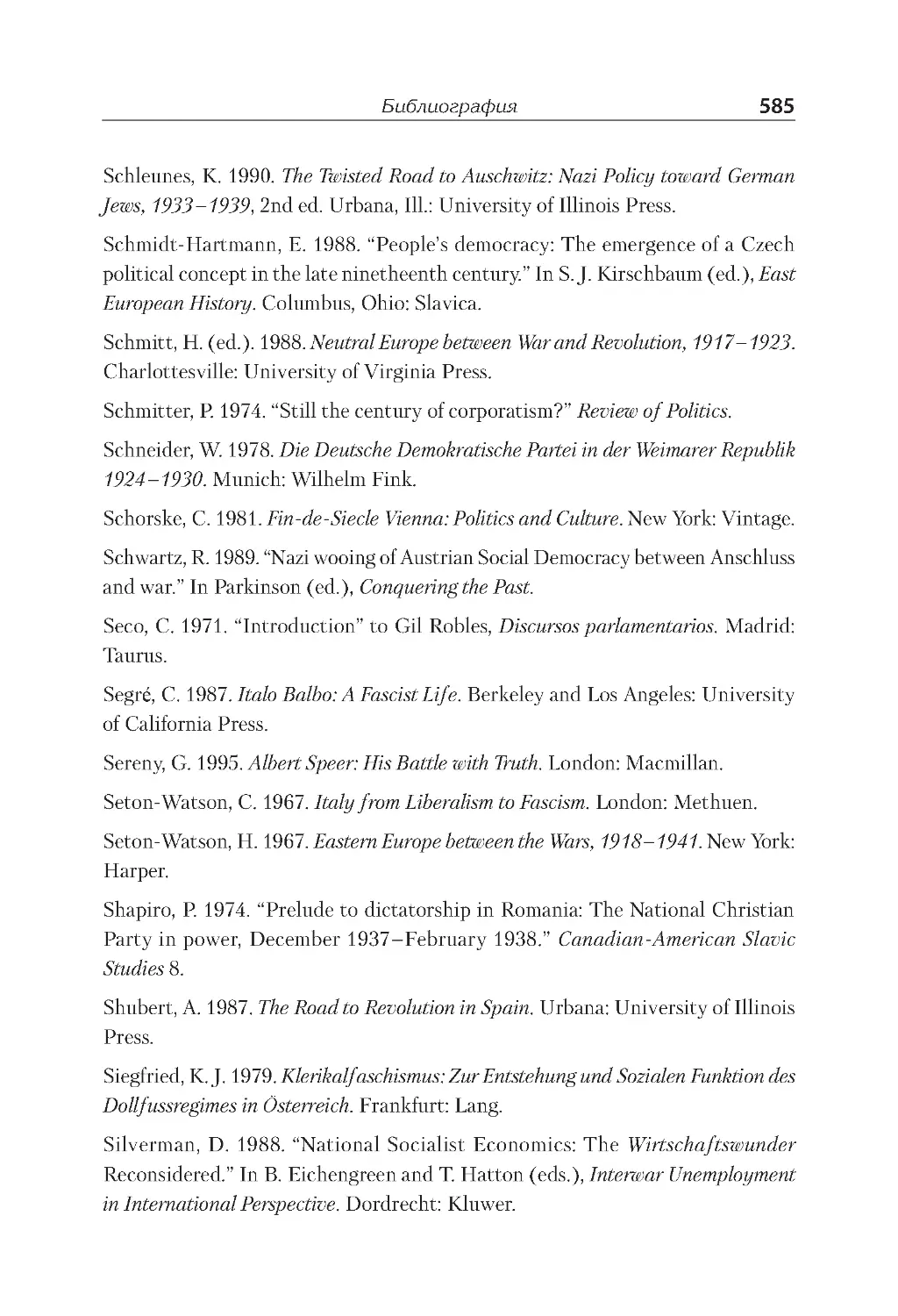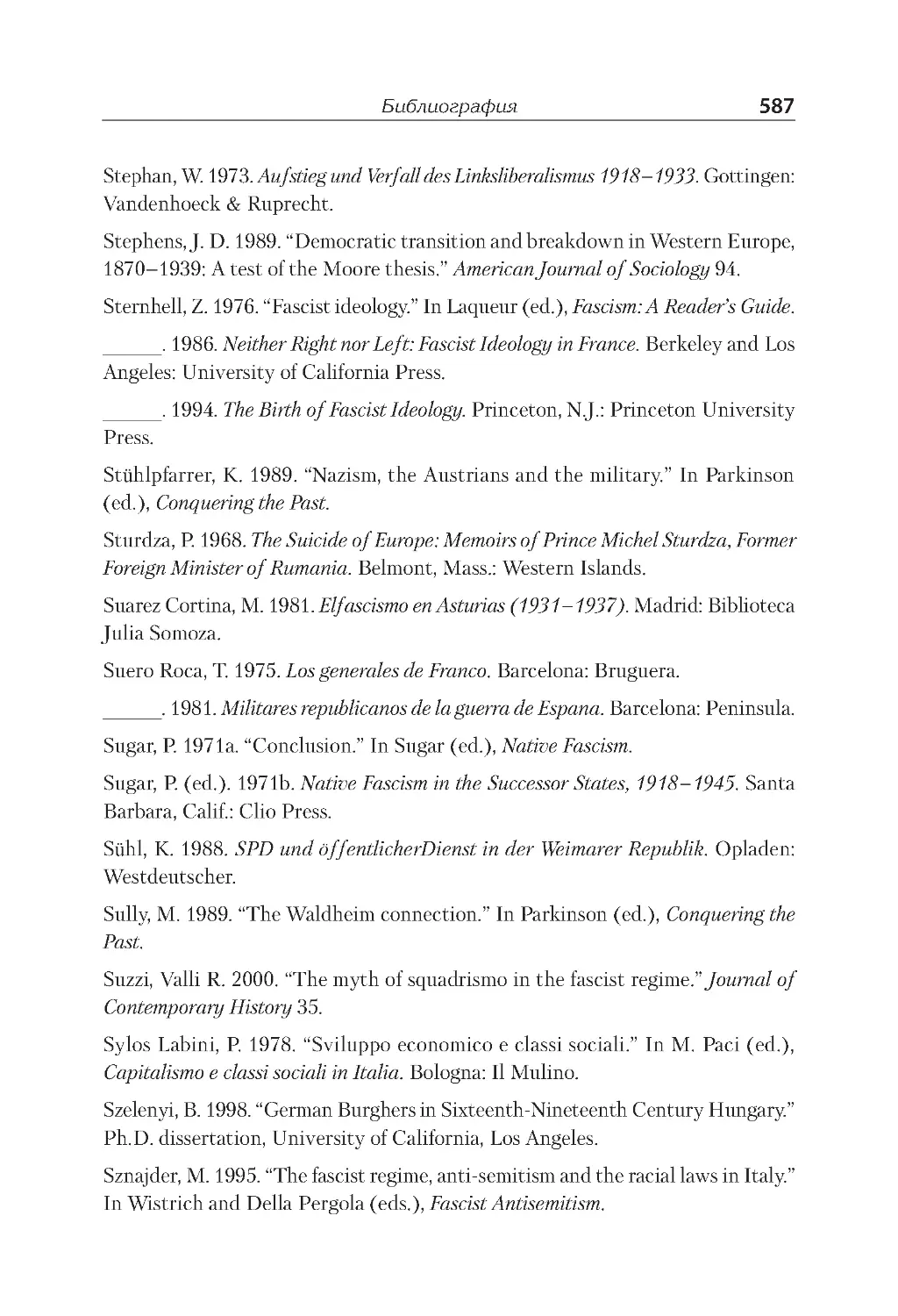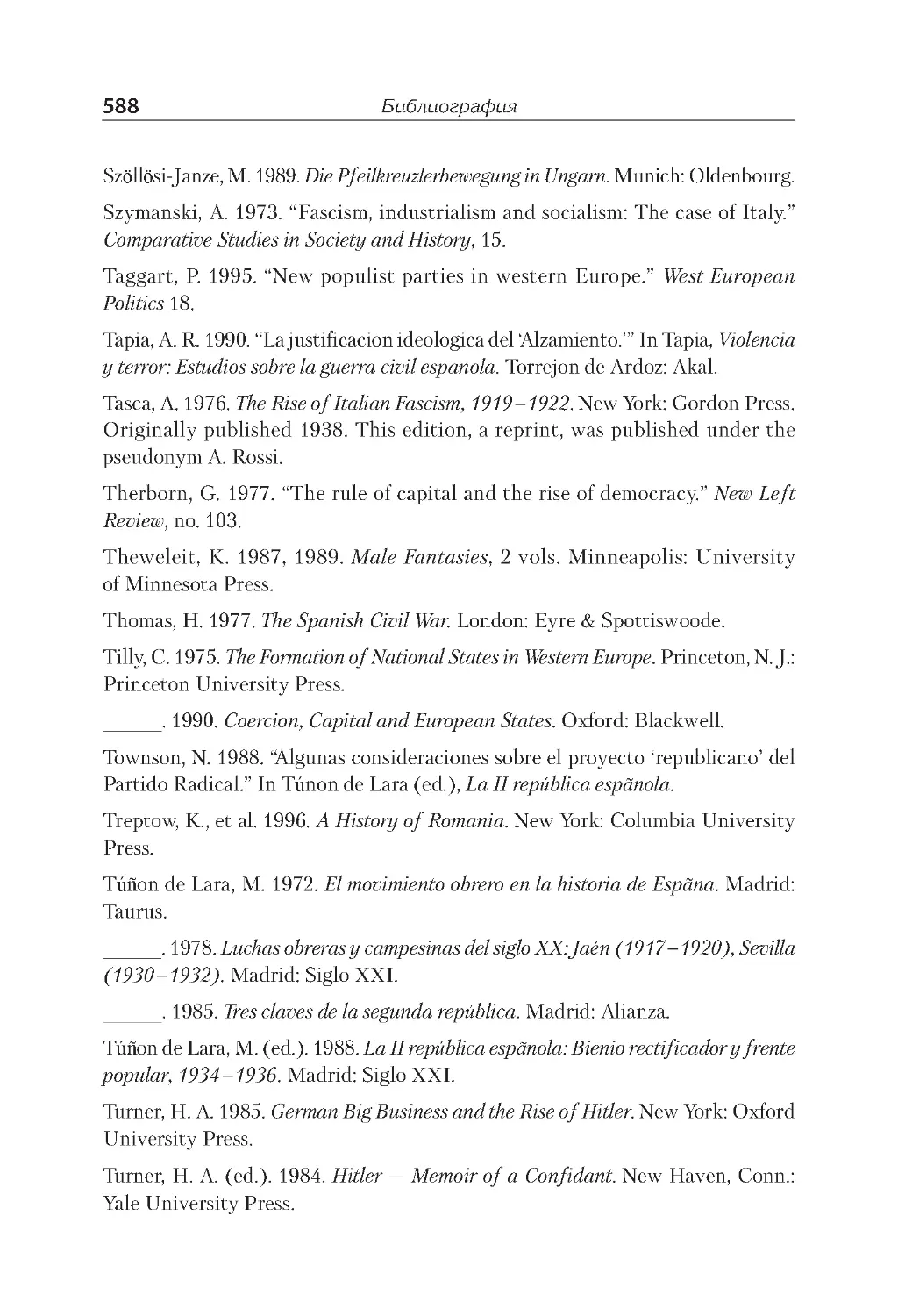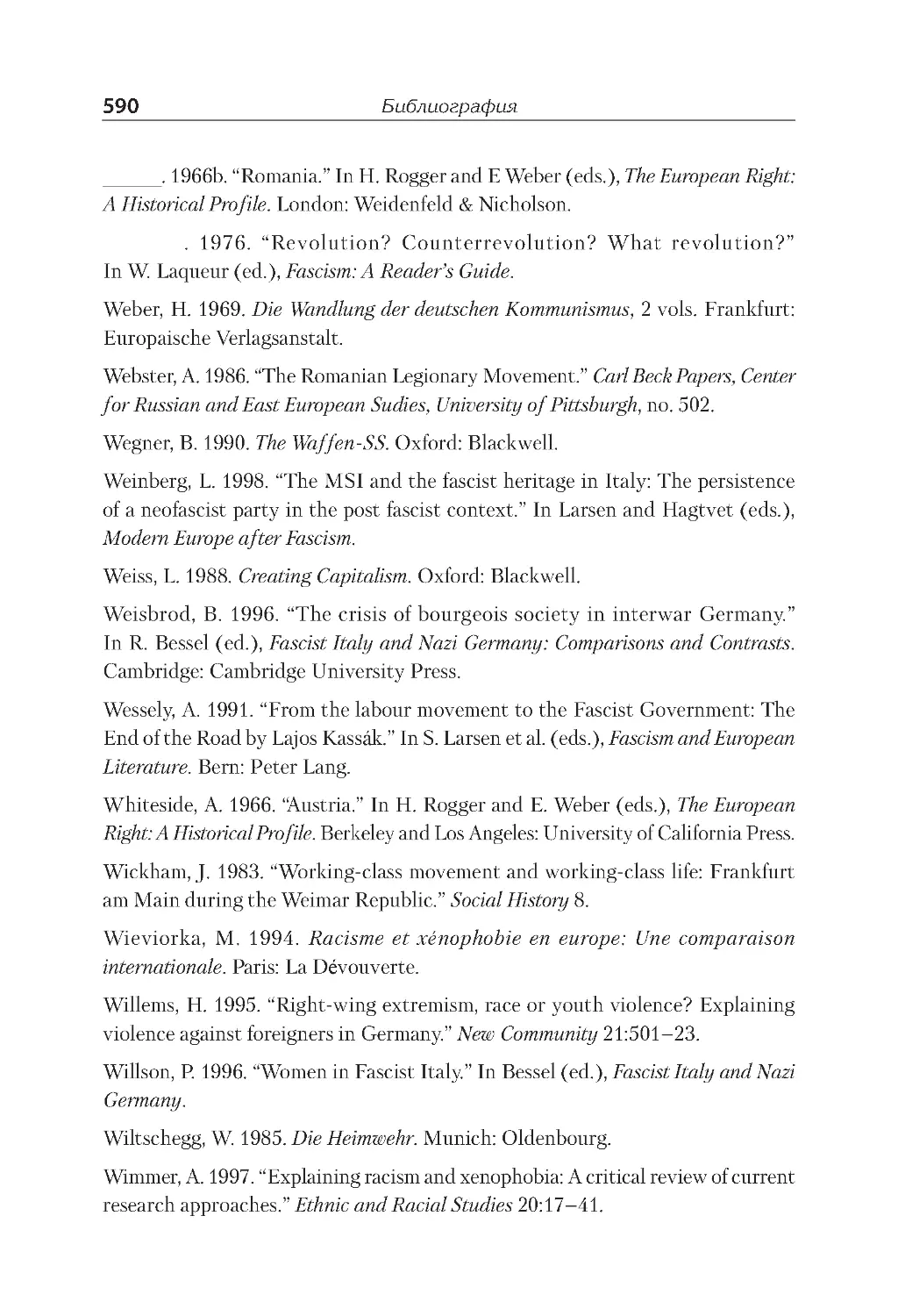Автор: Манн М.
Теги: виды и формы права направления в теории права национальные отношения, национальная политика, национально-освободительное движение в целом социология фашизм культурология идеология
ISBN: 978-5-00116-839-3
Год: 2023
Майкл Манн
ФАШИСТЫ
2023
ББК 66.5(0)5
УДК 340.156.2
М23
Перевод с английского
Натальи Алексеевой, Сергея Алексеева,
Владимира Туза, Натальи Холмогоровой
Под научной редакцией Александра Дюкова
Манн Майкл
М23
Фашисты / Пер. с англ. под ред. А. Р. Дюкова. — СПб.: Питер; Фонд
«Историческая память», 2023. — 592 с.
ISBN 978-5-00116-839-3
Как вышло так, что самые обычные и добропорядочные люди вдруг оказались
фанатичными сторонниками идей фашизма? По каким причинам с начала двадцатых годов прошлого века фашизм набирал в Европе все большую и большую популярность? Видный американский социолог и историк Майкл Манн дает на эти вопросы свои ответы — обескураживающие, шокирующие, но весьма убедительные.
16+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)
ББК 66.5(0)5
УДК 340.156.2
Права на русское издание приобретены при содействии литературного агентства «Синопсис».
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы
то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
ascists — Copyrigth © Michael Mann, 2004
F
First published by Cambridge University Press, 2004
Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Literary Agency
ISBN 978-5-9990-0091-0
© Фонд «Историческая память», 2022
ISBN 978-5-00116-839-3
© Издание на русском языке, оформление, ООО «Питер Класс», 2022
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Глава 1. Социология фашистских движений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
О фашистах всерьез . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Путь к определению фашизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Определение фашизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Привлекательность фашизма: классовая теория. . . . . . . . . . . . . . . .
Общественный резонанс фашизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Краткий обзор этой книги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
18
28
34
42
51
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма
и фашизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Введение: формирование сильных национальных
государств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
География: две Европы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Типы авторитаризма. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полуавторитарные режимы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Экономическая власть, экономический кризис. . . . . . . . . . . . . . . . .
Военная власть, военный кризис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Политическая власть, политический кризис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Идеологическая власть, идеологический кризис . . . . . . . . . . . . . . .
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
64
70
72
78
101
109
120
136
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Две теории итальянского фашизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кем были фашисты? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Социальный состав других движений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Поддержка фашизма элитами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фашисты у власти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
150
176
177
197
200
4
Оглавление
Глава 4. Нацисты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Официальная идеология нацизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Идеология членов нацистской партии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Группы поддержки нацизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нацистские боевики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Социальная мобильность и социальная маргинальность. . . . . . .
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
211
215
244
246
250
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Предвыборные стратегии нацистов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Избиратели нацистов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Классы, экономика и упадок демократических партий . . . . . . . . .
Веймарские элиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кризис классовых и экономических теорий нацизма . . . . . . . . . . .
Заключение: мобилизация носителей трансцендентного
парамилитарного национал-этатизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
270
278
282
291
294
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты . . . . . . . . . . . . . 299
Два национальных государства — два фашизма. . . . . . . . . . . . . . . .
Кем были фашисты? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Австрийский антисемитизм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заговор элиты? Классовые мотивации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Привлекательность национал-этатизма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
307
323
329
337
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Несколько слов о Восточной Европе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Венгерский сюжет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Идеология «скрещенных стрел» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кем были фашисты? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кто голосовал за фашистов? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342
346
353
356
366
369
Оглавление
5
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов. . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Идеология «легиона Михаила архангела» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кем были легионеры? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кто голосовал за легион: национал-государственники . . . . . . . . .
Конец игры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
374
379
388
401
410
415
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Предыстория: капитализм и национальное государство
в Испании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Взлет и падение генерала Примо де Риверы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вторая республика: комплексная политическая проблема . . . . .
Анархо-синдикалисты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Социалисты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Республиканский центр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Правые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фашисты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Военная сила. На переднем крае . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Масштаб политических чисток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Режим Франко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424
431
436
443
449
459
465
478
481
490
493
497
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые . . . . . . . . . . . 505
Мертвые фашисты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Живые фашисты? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
Библиография. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
«“Фашисты” М. Манна — книга по всем меркам впечатляющая. В ней
профессионально и беспристрастно анализируется широкий круг
эмпирических данных <...> Главную тему Манн раскрывает в ориги
нальном ключе и на основе достаточного количества документов. Здесь
проявились многие козыри Манна как социолога. Он прекрасно рас
крывает религиозный и региональный аспекты изучаемой проблемы и,
предлагая свой, весьма впечатляющий, вариант ее решения, тщательно
взвешивает преимущества наиболее значимых, с его точки зрения,
альтернативных вариантов».
New Left Review
«Манн в очередной раз представил образцовый профессиональный труд
по сопоставительной исторической социологии. Книга написана пре
красным языком, содержит в избытке социологический и исторический
материал, представляя собой важную работу для всех, кто занимается
сопоставительными исследованиями фашизма и другими проблемами за
пределами этой научной области. Чтение этой важной и многомерной
книги покажется увлекательным и полезным в равной мере политологам,
политическим социологам, проводящим сопоставительные исследова
ния, историкам, изучающим историю Европы XX века».
Modernism/Modernity
«…книга, в высшей степени достойная рекомендации ученым и студен
там. В ней перекинут мостик между историей и социологией, и в фокусе
внимания исследователя проблемы фашизма вновь оказываются нацио
нализм, этатизм и насилие. Увлекательная и понятная читателю, книга
была бы полезна историкам, социологам и политологам».
Nations and Nationalism
«М. Манн подарил научному миру прекрасную работу по фашизму и его
последователям и одновременно выступил с критикой традиционных
подходов к теме, чем дал пищу для размышлений. И сама теория, и то,
с какой смелостью она излагается, стимулируют дискуссию вокруг этой
работы, способной стать в своей сфере едва ли не культовой».
Patterns of Prejudice
ПРЕДИСЛОВИЕ
Вначале я намеревался ограничиться одной главой в третьем томе
моей обширной работы «Источники социальной власти». Но третий
том пока не написан1, а тема фашизма безраздельно владеет моим
вниманием вот уже целых семь лет. Свою «фашистскую главу» я собирался написать первой, потому что мне выпал счастливый шанс
целый год проработать в одном мадридском институте, располагавшем
богатым собранием источников о борьбе между демократией и авторитаризмом в период между двумя мировыми войнами. Неудивительно, что глава о фашизме выросла в целую книгу. С дрогнувшим
сердцем я осознал (читатели понимают, как непросто годами работать
над столь зловещей темой), что книга разрастается в нечто большее.
Поскольку деяния фашистов и их пособников привели к массовому
уничтожению людей, я был вынужден заняться огромным пластом
материалов, посвященных «окончательному решению еврейского вопроса». Вскоре я понял, что два собрания источников — собственно
о фашистах и об их злодеяниях — не во всем пересекаются. Фашизм
и массовые убийства, совершенные во время Второй мировой войны,
рассматриваются в двух отдельных массивах научной и популярной
литературы, где сталкиваются различные теории, противоречивые
данные, разные подходы. Накопленная информация о нацизме никак
не сопоставляется с весьма схожими кровавыми чистками, неизменно
происходившими на протяжении всего Нового времени — от Америки
XVII века до Советского Союза 1920–1950-х, от геноцида в Руанде
и Бурунди до гражданской войны в Югославии на исходе XX века.
Три главных проявления удручающе жестокого человеческого
поведения: фашизм, холокост и в обобщенном смысле этнические
и политические чистки — понятия родственные. Их объединяют три
признака, наиболее недвусмысленно проявившие себя в фашизме:
1
3-й том «Источников социальной власти» М. Манна был опубликован
в 2012 г., через восемь лет после публикации «Фашистов». Русское издание
всех четырех томов «Источников социальной власти» выпущено в свет
издательским домом «Дело» РАНХиГС в 2018 г. — Примеч. науч. ред.
8
Предисловие
органический национализм, радикальный этатизм2 и парамилитаризм.
Это триединство следует изучать комплексно. Но, будучи по натуре
эмпириком, я решил углубиться в подробности. Это произвело на свет
книгу объемом в тысячу страниц, которую вряд ли кто-то прочитает
до конца и вряд ли кто-то опубликует.
Поэтому я решил разделить свое исследование на две части.
В этом томе речь пойдет о фашистах, главным образом об их приходе
к власти в Европе после Первой мировой войны. Следующий том,
«Темная сторона демократии: объяснение этнических чисток», посвящен всем проявлениям этнических и политических чисток Нового
времени — от колониальных времен, армянской резни и геноцида,
совершенного нацистами, до нынешних дней3. Несовершенство расчленения одной темы на два тома заключается в том, что «карьера»
самых омерзительных фашистов, особенно нацистов, их пособников
и наследников оказалась разнесенной по двум разным книгам. Их
приход к власти описан в этом томе, их страшные дела — в другом.
Преимущество такого разграничения в том, что фашисты предстают
не сами по себе, а в соседстве с теми, с кем их объединяет внешнее
сходство: колониальной милицией в Америке, карательными отрядами в Турции 1915 г., камбоджийской «Ангкой», «Интерахамве» хуту
в Руанде, «Тиграми Аркана» в Югославии и другими. В народной
памяти, в памяти жертв и ненавистников карателей все они остались
«фашистами» — термин не вполне точный, но лучше любого другого
выражающий ненависть и отвращение к убийцам — беспощадным
мужчинам и женщинам с искаженным сознанием, творившим зло во
имя примитивного органического национализма и/или радикального
этатизма (а это родовые черты собственно фашизма). Ученые отказываются от такого расширенного толкования понятия «фашист». Убрав
эмоции, они атрибутируют его вполне определенной и жестко струк2
3
Этатизм (фр. etatisme) — направление политической мысли, рас
сматривающее государство как наивысший результат и цель существо
вания общества. — Примеч. науч. ред.
Книга М. Манна «Темная сторона демократии: объяснение этнических
чисток» была опубликована в 2004 г. На русском языке выпущена фондом
«Историческая память» в 2016 г., переиздана совместно с ИД «Питер»
в 2022 г. — Примеч. науч. ред.
Предисловие
9
турированной идеологической доктрине. Поскольку я тоже считаю
себя немного ученым, я разделяю подход моих коллег: терминология
должна быть исчерпывающе точной. Но страшные дела похожи друг
на друга как две капли воды, схожа и идеология убийц. В этой книге
я изучаю фашистов в рамках классической интерпретации этого
понятия, в следующем томе слово «фашисты» предстает скорее как
имя нарицательное, которое дал народ преступным исполнителям
кровавых этнических чисток.
Готовя эту книгу, я почерпнул много полезного из советов и критических замечаний моих коллег. Я выражаю особую благодарность
Айвану Беренду (Ivan Berend), Рональду Фрейзеру (Ronald Fraser),
Бернту Хагтвету (Bernt Hagtvet), Джону Холлу (John Hall), Яну
Кершоу (Ian Kershaw), Стенли Пейну (Stanley Payne) и Дилану
Рили (Dylan Riley). Я многим обязан также Институту Хуана Марча
в Мадриде (Instituto Juan March in Madrid), который предоставил
мне все условия для исследований, и Социологическому отделению
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где я чувствовал
себя как дома.
Глава 1
СОЦИОЛОГИЯ
ФАШИСТСКИХ
ДВИЖЕНИЙ
О ФАШИСТАХ ВСЕРЬЕЗ
В этой книге я хочу объяснить, что такое фашизм, поняв самих
фашистов: что это были за люди, откуда они взялись, каковы были
их мотивации, как они пришли к власти. Мое внимание занимает
именно эпоха зарождения и подъема фашистских движений, а не
фашизм как уже устоявшийся режим. Мне интересна «приливная
волна» фашизма, затопившая такие европейские страны, как Австрия,
Германия, Италия, Венгрия, Румыния и Испания. Мы сможем хоть
что-то сказать об отдельных фашистах и их деяниях лишь тогда,
когда поймем, что объединило их в определенные политические
организации. Кроме того, мы должны понять фашистские движения
в широком контексте межвоенной Европы и господствовавших в ней
стремлений к укреплению государственности и большей сплоченности нации. Ибо фашизм — не случайное отклонение и представляет
не только исторический интерес. Фашизм — это, хотим мы того или
нет, могущественная движущая сила Нового времени. Сейчас, в начале XXI века, у нас есть семь причин относиться к фашистам со
всей серьезностью.
1. Фашизм — вовсе не тупиковая ветвь развития современного
общества. В ХХ веке он был одной из ведущих политических доктрин
всемирно-исторического значения. И вполне вероятно, что тот же
фашизм, хоть, скорее всего, и под другим именем, сможет сыграть
весомую роль и в XXI веке. Фашизм — это отличительная черта Современности4.
2. Фашизм как движение не существует в отрыве от других современных общественно-политических движений. Фашисты лишь
усерднее других молятся на главную икону наших дней: национальное
4
Автор использует термин modernity, в гуманитарных науках обозначающий
социально-культурную формацию, характеризующуюся секуляризацией,
бурным развитием науки и техники, переходом от аграрного общества
к индустриальному и, не в последнюю очередь, отказом от сакральной
легитимации власти (от суверенитета монарха к суверенитету народа).
В русскоязычной литературе этот термин передается либо как Современность, либо как Модерн (как с большой, так и с маленькой буквы), либо —
редко — как модернити. — Примеч. науч. ред.
О фашистах всерьез
13
государство со всеми его идеологиями и патологиями. Можно благодарить судьбу за то, что сейчас в мире по большей части господствуют
умеренные национальные государства, карательные функции которых
сведены к минимуму, а национализм, в сущности, безвреден. Государ
ственная бюрократия раздражает нас, но не ужасает — положа руку
на сердце, признаем, что современное государство все-таки служит
интересам народа. Национализм, как правило, выглядит «одомашненным» и неопасным. Пусть французы гордятся своей несравненной
культурой, пусть американцы считают себя самым свободным народом на земле, пусть японцы восхищаются своей уникальной расовой
гомогенностью — все эти весьма сомнительные утверждения утешают
их самих, вызывают иронические ухмылки у других народов, но едва
ли кому-то вредят.
Фашизм представляет собой иной уровень национал-этатизма.
Переход на этот уровень совершается сразу в отношении и нации,
и государства. Если говорить о нации, то стремление к демократии
переплетается с понятием «целостного» или «органического» народа. Власть должна принадлежать народу, кто бы спорил; но сам
народ при этом рассматривается как единый и неделимый, а значит,
начинает беспощадно освобождаться от чужеродных этнических
вкраплений и политических оппонентов (подробнее об этом см.
следующую книгу, «Темная сторона демократии», гл. 1). Если же
говорить о государстве, то в начале ХХ века мы стали свидетелями
расцвета могущественных государств — «носителей морального проекта», способных к стремительному экономическому, социальному
и идейному развитию5. В определенных условиях это приводило
к формированию сильной авторитарной государственности. Смычка
современного национализма и этатизма ставила демократию с ног
на голову, авторитарный режим начинал «зачистку» меньшинств
и всех несогласных с генеральной линией. Фашизм, переходя на
следующий уровень, добавлял к этой картине «низовой» и «радикальный» парамилитаризм. Эта могучая сила могла смести снизу
любую оппозицию нации-государству, не щадя ни себя, ни других.
5
Теория о том, что в XX веке имели место взлет и падение государ
ства как носителя «морального проекта», занимает центральное место
в (Perez-Diaz, 1993).
14
Глава 1. Социология фашистских движений
Такое открытое прославление насилия стало возможным благодаря
современной демократизации войны, превращению ее в войну между
двумя «армиями граждан». Таким образом, фашизм представляет собой радикальную парамилитарную версию национального государства
(собственное определение фашизма я дам в этой главе чуть позже).
Это было самое крайнее выражение господствующей политической
идеологии нашей эпохи.
3. Прислушаемся к постулатам фашистской доктрины, воспримем их с предельной серьезностью. Не стоит отмахиваться от них,
называя безумными, противоречивыми или бессодержательными.
В наше время серьезный подход к фашизму распространяется все
шире. Штернхелл (Sternhell, 1986: x) пишет, что фашизм имеет
«целостную доктрину, не более уязвимую с точки зрения логики,
чем учения многих других политических движений». Мосс (Mosse,
1999: x) считает: «лишь... увидев фашизм изнутри, сможем мы
в полной мере оценить его привлекательность и силу». Фашисты
предлагали вполне возможные решения современных общественных
проблем — и именно благодаря этому получали поддержку избирателей и восторженную преданность своих сторонников. Разумеется, как и большинство политических активистов, фашисты
были разными и не чурались популизма. Культ вождя и власти
делал их оппортунистами. Ради власти лидеры фашизма готовы
были почти на все — в том числе и на отказ от своих изначальных
ценностей. И все же большинство фашистов, ведущих и ведомых,
обладали определенными принципами. Это не были чудаки, «ненор
мальные», садисты или психопаты или же люди с мешаниной плохо
понятых догм и лозунгов в голове (по крайней мере — не больше,
чем все мы). Фашизм был движением высоких идеалов: он сумел
убедить значительную часть двух молодых поколений в том, что
несет с собой более гармоничный общественный порядок. Чтобы
понять фашизм, я рассматриваю всерьез его ценности: таков мой
метод. Вот почему каждую главу, посвященную рассмотрению того
или иного конкретного случая, я начинаю с изложения местного
фашистского учения, а затем стараюсь понять, во что могли верить
местные рядовые фашисты.
4. Мы должны серьезно разобраться с социальной базой поддержки фашистских движений и понять, каких именно людей при-
О фашистах всерьез
15
влекал фашизм. Не многие фашисты были маргиналами или антисоциальными личностями. Не многие принадлежали к тем классам
или социальным группам, что могли бы использовать фашизм как
прикрытие для своих узких материальных интересов. Существовала
некая социальная база, в которой фашистские идеи и ценности находили наибольший отклик. Рассмотрение этого вопроса, пожалуй,
составляет самую новаторскую часть моей книги: и здесь я исхожу
из той же методологии — принимаю фашистские ценности всерьез.
Дело в том, что эта социальная база была тесно связана с главной
священной иконой фашизма — национальным государством. Поняв, кто и почему так любил национальное государство, мы сможем
определить, какие люди рискуют соблазниться фашизмом.
5. Стоит серьезно отнестись и к самим фашистским движениям.
Они были иерархичны, но в то же время поддерживали чувство
товарищества, воплощали и принцип вождизма, и низовое взаимодействие: то и другое укрепляло связь с ними, особенно у одиноких
молодых людей, для которых движение начинало составлять почти
всю их жизнь. Необходимо оценить по достоинству и парамилитаризм фашистских организаций — ведь именно принцип «народного
насилия» привел их к успеху. Фашистские движения испытывали
двоякий соблазн. С одной стороны, им хотелось все более радикаль
но и жестоко использовать силу; с другой — наслаждаться плодами
тайных сговоров с традиционными элитами. Эти разнонаправленные
стремления могли вести как к ужесточению фашизма (как в Германии), так и к его смягчению (как в Италии, по крайней мере, до конца
1930-х). Конкретные фашисты, делающие в своих движениях карьеру,
могли двинуться как по одному, так и по другому пути. Нам стоит
проследить фашистов в действии: как они применяли насилие, как
лавировали, как строили карьеры.
6. Радикальных фашистов следует принимать всерьез в куда более
зловещем смысле — как людей, закончивших свой путь бесчеловечными преступлениями. Мы не должны искать им оправданий; но
должны попытаться их понять.
Способность творить зло — неотъемлемая часть человеческой натуры, как и способность совершать зло ради благих (как нам кажется)
целей. Фашисты были особенно склонны к самообману. Но на то, что
совершали они, способны и другие — и нам необходимо знать больше
16
Глава 1. Социология фашистских движений
об обстоятельствах, в которых это становится возможным. Хоть мы
и предпочитаем представлять историю и социологию в виде сказки
со счастливым концом, реальный опыт человечества в эту розовую
картину никак не укладывается. Двадцатый век видел страшное
зло: и не как случайность или возрождение первобытных инстинктов — нет, как сознательное, упорядоченное, вполне современное
поведение. Понять фашизм — значит понять, как во имя, казалось
бы, высоких идеалов современности люди творили зло, которому нет
оправдания. Впрочем, худшие проявления фашизма я оставлю для
своей следующей книги.
7. Мы должны серьезно отнестись к возможности возрождения
фашизма. Поняв, какие условия породили фашизм, мы поймем также, может ли фашизм вернуться и как этого избежать. Некоторые
предпосылки возникновения фашизма живы и по сей день. Органический национализм и парамилитарные движения, приверженность
этническим и политическим чисткам и сейчас привлекают тысячи
людей во всем мире, толкая их к якобы «идеалистическим», а на деле
кровавым и бесчеловечным действиям против соседей и политических
оппонентов, именуемых «врагами». Быть может, это ужасает; но не
стоит отмахиваться от этого, списывая на «возвращение первобытных
инстинктов». Этнические и политические чистки — главный вклад
Европы в историю Нового времени, а парамилитарное насилие — отличительная черта ХХ века. Это приметы современности: так их и надо понимать. Нам повезло, что этатизм (третий важнейший элемент
фашизма, после органического национализма и парамилитаризма)
сегодня вышел из моды, поскольку оба великих этатистских проекта,
фашизм и коммунизм, потерпели крах. Современные режимы, склонные к чисткам, заигрывают с авторитаризмом и парамилитарным насилием, однако именуют себя демократическими; а слова «фашист»
и «коммунист» в наше время почти обессмыслились и превратились
в ругательства. Но подождем, пока неолиберализм, якобы способный
обойтись вовсе без государства, причинит миру столько же вреда, —
и, быть может, эта неприязнь к сильному государству померкнет.
Радикальные этатистские ценности снова сольются с радикальным
парамилитарным национализмом в движениях, напоминающих
фашизм, — если мы только не извлечем урока из истории, о которой
я рассказываю в этой книге. Едва ли новые движения станут называть
О фашистах всерьез
17
себя фашистскими: слово это сейчас слишком одиозно. Однако суть
фашизма жива и сейчас.
В исследовании фашизма существуют две школы. Более идеалистическая националистическая школа, о которой мы поговорим
первой, сосредоточена на фашистской идеологии и доктрине, а более
материалистическая классовая школа, о которой поговорим второй, —
на классовой базе фашизма и его соотношении с капитализмом. Споры
между ними представляют собой, по сути, еще один извод вечного
спора между идеализмом и материализмом в общественных науках.
В сущности, эти две школы обсуждают разные уровни одного и того же
феномена — убеждения vs. социальная база/функции, и потому часто
дополняют друг друга. Однако приемлемая общая теория фашизма
пока отсутствует. Такую теорию необходимо выстроить на основе
обоих подходов, заимствуя у каждого что-то полезное и добавляя то,
чем оба пренебрегают.
Я предпочитаю не потчевать читателей ударной дозой социологической теории. Однако собственный мой подход основывается на
более общей модели человеческих обществ, выходящей за рамки
дуализма «идеализм/материализм». В более ранней своей работе я выделяю четыре источника социальной власти в человеческом обществе:
идеологический, экономический, военный, политический6. Классовые
теории фашизма выдвигают на первое место в своих объяснениях экономическую власть, националистические теории — идеологическую.
Однако для объяснения значительных исторических и общественных
событий необходимо учитывать все четыре источника социальной
власти. Чтобы достичь своих целей, общественные движения в той
или иной степени захватывают контроль над системами создания
и распространения смыслов (идеологическая власть), средствами
производства материальных благ и обмена благами (экономическая),
организованным физическим насилием (военная) и централизованными или территориальными институтами общественного управления (политическая). Чтобы объяснить фашизм, необходим учет всех
четырех факторов. Массовый фашизм стал ответом на послевоенные
6
Если читателям интересно узнать подробнее о моей общей теории, можно ознакомиться с вводными главами двух опубликованных томов моей
истории власти в обществе (Mann, 1986; 1993).
18
Глава 1. Социология фашистских движений
кризисы — идеологический, экономический, военный, политический.
Фашисты предлагали выход из всех этих кризисов. Фашистские
организации сочетали в себе серьезные идеологические инновации
(так называемую «пропаганду»), стремление к победе на выборах
и парамилитарное насилие. В попытках достичь власти и удержать
власть фашистские лидеры стремились также нейтрализовать существующие экономические, военные, политические и идеологические
(особенно церковные) элиты. Таким образом, любое объяснение
фашизма должно принимать в расчет все четыре источника социальной власти, как и показывают эмпирические главы этой книги,
посвященные конкретным случаям. В последней главе я изложу свои
выводы: общее объяснение фашизма.
ПУТЬ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ФАШИЗМА
Очевидно, вначале стоит договориться о терминах, хоть это и непростая задача. Некоторые ученые вообще отказываются говорить
о фашизме как родовом понятии, полагая, что «истинный» фашизм
можно было найти только у него на родине, в Италии. Я, как и многие
другие, с этим не согласен. Однако и я не стану начинать с родового
определения, которое можно было бы применять к разным временам
и странам. Для начала я предложу эвристическую модель, подходящую для Европы в период между двумя мировыми войнами, и лишь
в последней главе подниму вопрос о том, существуют ли фашистские
движения в иных местах и в более близкие к нам времена.
Для начала разберемся с общим определением фашизма, опираясь
на взгляды его ведущих интеллектуалов, в основном на комментарии
Штернхелла (Sternhell, 1976; 1986; 1994) и Моссе (Mosse, 1999),
а также на компиляцию фашистских первоисточников, собранных
Гриффином (Griffin, 1995). Большинство теоретиков фашизма изначально были левыми, не-материалистами, принимающими органический национализм. В 1898 г. француз Барре назвал созданный
им сплав «социальным национализмом»; итальянец Коррадини
Путь к определению фашизма
19
поменял эти слова местами и ввел термин «национальный социализм», который и прижился, хотя под «социализмом» Коррадини
имел в виду синдикализм. «Синдикализм и национализм вместе —
вот учение, воплощающее в себе солидарность», — подчеркивал он.
Классовый конфликт и секторальные интересы можно гармонизировать с помощью синдикалистских (профсоюзных) организаций,
координируемых «корпоративным государством». Таким образом,
национальный социализм строится в границах нации, а классовая
борьба превращается в борьбу между народами. «Буржуазные» нации (такие как Великобритания или Франция) эксплуатируют нации
«пролетарские» (такие как Италия). Пролетарская нация должна
сопротивляться угнетению экономическими средствами, опираясь
на «священную миссию империализма». Идеи, хорошо знакомые
ХХ веку: все, кроме последней фразы, здесь очень напоминает современный нам социализм третьего мира.
Будучи левыми, но не материалистами, эти теоретики восхваляли
«сопротивление», «волю», «движение», «коллективное действие»,
«массы» и диалектику «прогресса» через «борьбу», «силу» и «насилие». Эти ницшеанские ценности и делали фашизм радикальным. Фашисты готовы были безжалостно подавлять противников — силой, если потребуется, не входя в переговоры и не идя на
компромисс. На практике это означало создание не только партий,
но и парамилитарных движений. Будучи коллективистами, они
презирали «аморальный индивидуализм» рыночного либерализма
и «буржуазную демократию», пренебрегающую интересами «живых общин» и «нации как органического целого». Нация была для
них едина и неделима: своего рода живое существо, понимаемое как
целостное и органическое. Быть немцем, итальянцем или французом,
утверждали фашисты, — это нечто намного большее, чем жить на определенной территории: это опыт, который не дано пережить чужаку, это
первичное, внерациональное ощущение единства. Мосс подчеркивает,
что немецкое понимание нации отличается от южноевропейского:
в нем играет роль не только культура, но и расовая теория. Опираясь
на социал-дарвинизм, на антисемитизм, на различные расовые теории
XIX века, оно порождает Volk — этнокультурное единство, растворяющее в себе все внутренние конфликты, однако и более высокими
стенами огражденное от прочих народов.
20
Глава 1. Социология фашистских движений
Тем не менее у нации есть и моральная, и рациональная структура. Основываясь на Руссо и Дюркгейме, теоретики говорили, что
соперничающие институты — рынки, партии, социальные классы,
выборы — морали не создают. Мораль должна исходить из общины, из
нации. Француз Берт так негодовал против либерализма: «Общество
доведено до той грани, где все оно превращается в рынок, в Броуново
движение свободно покупающих и продающих атомов, при соприкосновении с которым растворяется все остальное... пылинки отдельных
людей, запертые в узких границах своих сознаний и банковских сейфов». Панунцио и Боттаи вслед за Дюркгеймом восхваляли добродетели «гражданского общества», видя в добровольных общественных
объединениях фундамент свободы. Однако эти объединения должны
быть интегрированы в общее корпоративное государство, представляющее интересы нации как целого. Без этой связи между государством и общественными объединениями, говорили они, государство
останется «пустым», с «дефицитом социального содержания», что
и происходит с либеральными государствами (Riley, 2002: гл. 1). Фашистское государство, напротив, должно быть корпоративным и со
циальным, прочными узами скрепленным с обществом. Все это тоже
звучит очень современно. С тем же успехом Берт и Панунцио могли
бы написать это сто лет спустя, в порядке критики неолиберализма.
Критиковали фашистские интеллектуалы и левых, попавших
в ловушку пассивного буржуазного материализма. Их революционные претензии, говорили они, не в силах спорить с превосходящей
мощью современной войны между целыми народами. Нации, а не
классы — вот истинные массы современности. Классовая борьба
между капиталистом и рабочим, настаивали фашисты, вовсе не
корень зла. Настоящая борьба идет между «тружениками всех классов», «продуктивными классами» — и паразитическими «врагами»,
под которыми, как правило, понимались финансисты, иностранные
или еврейские капиталисты. Свою миссию фашисты видели в том,
чтобы защищать тружеников всех классов. Француз Валуа писал:
«Национализм + социализм = фашизм», англичанин Мосли говорил:
«Если ты любишь свою страну — ты националист; если любишь свой
народ — ты социалист». В начале ХХ века, в «эпоху масс», эти идеи
были очень привлекательны: фашисты обещали преодолеть классовую борьбу, грозившую разорвать ткань общества. В сущности, более
Путь к определению фашизма
21
умеренные версии таких обещаний приняла на вооружение большая
часть успешных политических движений ХХ века.
Представлять нацию должно корпоративистское, синдикалистское
государство. Лишь оно сможет преодолеть упадок нравов и классовую
борьбу буржуазного общества, предложив «общий план» — этатистский третий путь между социализмом и капитализмом. Итальянец
Джентиле, впоследствии ставший фашистом, писал, что фашизм разрешает «парадокс свободы и власти. Власть государства абсолютна».
С ним соглашался Муссолини: «Все в Государстве, ничего против
Государства, ничего вне Государства». «Нас ждет тоталитарное государство во имя целостности родины», — провозглашал испанец Хосе
Антонио Примо де Ривера. Бельгиец Анри де Ман приветствовал
«авторитарную демократию». «Фашистская революция» создаст
«тотального человека в тотальном обществе — без конфликтов, без
прострации, без анархии», — писал француз Деа.
Но это в будущем. А сейчас ради самореализации нация должна
бороться со своими врагами. Борьбу возглавит парамилитарная элита.
Более радикальные фашисты оправдывали «нравственно допустимое
убийство». Они утверждали, что парамилитарное насилие «очистит»
и «возродит» сначала элиту, которая его совершает, а затем и всю нацию. Валуа выразил эту мысль брутально:
«Буржуа щелкает на счетах и подводит баланс:
— Два плюс три равняется...
— Нулю! — говорит Варвар и проламывает ему череп».
Варвар-фашист для Валуа был нравственно прав, поскольку представлял именно органическое единство нации, из которого исходят
все моральные ценности. Разумеется, для этих интеллектуалов, обитавших в том же пост-ницшеанском мире, что породил философию
жизни, сюрреализм и дадаизм, все это были в значительной степени
литературные метафоры. Но позже для фашистов «с улицы» эти
метафоры станут руководством к действию.
О’Салливан (O’Sullivan, 1983: 33–69) замечает, что фашисты
ненавидели «ограниченную природу» либеральной демократии, ее
несовершенную, непрямую, представительскую форму правления.
Либеральная демократия смиряется с конфликтами интересов, про-
22
Глава 1. Социология фашистских движений
куренными залами заседаний, сделками «ты мне, я тебе», нечистоплотными и беспринципными компромиссами. Принятие несовершенства и компромиссов — в этом суть демократии, и либеральной,
и социальной. Потенциальные «враги» здесь превращаются просто
в «оппонентов», с которыми можно и договориться. Либеральная
и социальная демократии не признают абсолютной истины, монополии на добродетель. Они антигероичны. Работая над этими двумя
книгами, я научился не ждать от наших демократических политиков
чрезмерной принципиальности. Нам нужна их беспринципность,
их грязные сделки. Но фашисты были слеплены из другого теста.
Политику они воспринимали как ничем не ограниченное средство
достижения нравственных абсолютов. Говоря словами Макса Вебера,
это было ценностно-рациональное поведение, ориентированное на достижение абсолютных ценностей, а не инструментальных интересов.
Это предполагает серьезную эмоциональную вовлеченность.
Фашизм видел себя как крестовый поход. Зло фашисты не считали
универсальным свойством человеческой природы. Как и некоторые
марксисты, они верили, что зло воплощено в некоторых общественных
институтах, а значит, его можно уничтожить. Органическая нация,
очищенная от «врагов», вполне может достичь совершенства. Как отмечает О’Салливан, крайним примером таких воззрений был лидер
румынских фашистов Кодряну. Свой «Легион Михаила Архангела»
он рассматривал как нравственную силу: «Все [прочие] политические организации... верят, что страна гибнет от недостатка хороших
программ: поэтому они придумывают себе очередную дурацкую программу и начинают под нее вербовать сторонников». На самом деле,
продолжает Кодряну, все совсем не так: «Страна гибнет от недостатка
людей, а не программ». «Нам нужны люди, новые люди». С новыми
людьми Легион освободит Румынию от «сил зла». Это будут «герои»,
«самые чистые души, какие может представить наш разум; самые
гордые, высокие, прямые, могучие, мудрые, отважные, неутомимые,
каких способна породить наша раса». Они будут сражаться с «врагами», загрязняющими нацию (Codreanu, 1990: 219–221). В борьбе
добра со злом, верил Кодряну, насилие вполне оправданно.
Однако очевидно: чтобы понять фашизм, нельзя ограничиваться
интеллектуалами. Как идеи, приведенные выше, побуждали миллионы
европейцев к действиям? Какие жизненные условия открыли дорогу
Путь к определению фашизма
23
столь необычайным чувствам и убеждениям? Штернхелл склонен
считать, что фашизм сформировался до Первой мировой войны, ему
не интересен вызванный войной переход от пламенной риторики отдельных ораторов к массовому движению. Однако ценности и эмоции
позднейших рядовых фашистов исследовать нелегко. Большинство
из них мало рассказывали о своих взглядах. А если и рассказывали,
часто лгали (ибо были под судом и им грозила смерть). В своих эмпирических главах я постарался собрать все свидетельства, какими
мы располагаем.
Кроме того, Штернхелл в своем исследовании явно предубежден
в пользу ранних итальянских, испанских и французских интеллектуалов, а немцами откровенно пренебрегает. Мосс и другие пишут,
что фашизм — не то же, что нацизм. Они полагают, что нацистов, как
расистов и антисемитов, больше занимал народ, Volk, и в меньшей
степени государство, а модель утопического государства у них вовсе
отсутствовала. Нацию представляло не государство, а нацистское
движение, а персонифицировалась она в фюрере. Среди южноевро
пейских фашистов, напротив, расистов и антисемитов было немного,
и они много говорили о своем идеале государства, корпоративистском
и синдикалистском. Нацизм был volkisch (народным), фашизм — этатистским (Mosse, 1964, 1966, 1999; Bracher, 1973: 605–609; Nolte, 1965,
etc). И только у нацистов, продолжают они, расизм привел к геноциду.
Следовательно, нацизм — не фашизм.
Хоть некоторое зерно истины в этом и есть, я принадлежу к тем,
кто считает нацистов именно фашистами и видит необходимость
в использовании слова «фашизм» в качестве общего понятия. Сами
Гитлер и Муссолини считали, что принадлежат к одному движению.
Фашизм — итальянское слово, и нацисты, будучи немецкими националистами, не хотели его заимствовать (как и некоторые испанские
авторы, которых все называют фашистами). Однако, как мы увидим
далее, эти движения разделяли одни базовые ценности, одну социальную базу, создавали очень схожие движения. В нацизме на первом
месте стоял национализм, в итальянском фашизме — этатизм. Но это
лишь вариации одной темы.
Кроме того, стремление развести в разные стороны немецкий
нацизм и итальянский фашизм несправедливо ограничивает тему
этими двумя странами. Фашизм был распространен куда шире
24
Глава 1. Социология фашистских движений
и запустил множество политических процессов, особенно в правом
политическом крыле. Я сосредоточусь на пяти примерах массовых
фашистских движений: в Италии, Германии, Австрии, Венгрии и Румынии. Каждое из них уникально, но у всех есть общие черты. Это
родственные явления; главная разница между ними — в их способности или неспособности захватить и удержать власть. Достичь власти
и установить фашистские режимы, пусть и ненадолго, сумели лишь
первые три. Связано это главным образом с тем, что в разных странах
фашизм зарождался и развивался в разное время — и, следовательно,
политические соперники его, особенно на правом фланге, применяли
против него различные методы. В сущности, на примерах Австрии,
Венгрии и Румынии мы можем рассмотреть диалектику взаимоотно
шений между фашизмом и более консервативными формами авторитаризма, диалектику, которая поможет нам лучше понять природу
фашизма в целом. Под конец я перейду к Испании — стране, в которой,
как и в некоторых других, собственно фашистов было немного, но
хватало их попутчиков, и где более консервативным националистам
и этатистам удалось удержать своих союзников-фашистов в узде.
В следующей своей книге я рассмотрю множество профашистских
движений в других странах — Словакии, Хорватии, Украине, Литве
и так далее, — принимавших некую смесь немецкого нацизма и итальянского фашизма ради собственных целей7.
Дихотомии здесь не было: был диапазон фашистских движений
и практик — так же как в случае с консерватизмом, социализмом или
либерализмом.
Однако, в отличие от социализма (у которого есть марксизм),
у фашизма нет систематической теории. Авторы, которых я цитировал
выше, говорят самые разные вещи в рамках одного довольно расплывчатого Weltanschauung (мировоззрения) — множества взглядов,
собранных вместе, из которых разные фашистские движения черпали
разное. Определить суть фашизма пытаются многие. Нольте (Nolte,
1965) определял «фашистский минимум» как три «анти-»: антимарксизм, антилиберализм, антиконсерватизм — плюс две характеристики движения, вождизм и милитаризованная партия, направленные
к одной цели — тоталитаризму. Из этого не вполне понятно, чего же
7
См. М. Манн, «Темная сторона демократии», гл. 10. — Примеч. науч. ред.
Путь к определению фашизма
25
хотели фашисты, а акцент на «анти-» несправедливо представляет их
в виде реакционного, антимодернистского движения.
Ведущим сравнительным историком фашизма считается сейчас
Стенли Пейн. По его мнению, ядро фашизма заключает в себе три
«анти-» Нольте, а также целый список других терминов: национализм,
авторитарный этатизм, корпоративизм и синдикализм, империализм,
идеализм, волюнтаризм, романтизм, мистицизм, милитаризм и насилие. Вот так список! Дальше Пейн сужает его до трех категорий:
стиль, противостояние и программа — хотя это скорее абстрактные,
чем сущностные свойства. А заканчивает тем, что фашизм — это
«самая революционная форма национализма», основанная на философском идеализме и морально обоснованном насилии (Payne, 1980:
7; 1995: 7–14). Заключение звучит довольно расплывчато, и, когда
Пейн пытается выделить типы фашизма, оказывается, что фашизм
классифицируется по национальностям (немецкий, итальянский,
испанский, румынский, венгерский, а также целый набор «недоразвитых» фашизмов в других странах), что, казалось бы, наполовину
уничтожает общую теоретическую базу.
Хуан Линц — ведущий социолог фашизма. Его определение еще
пространнее:
Гипернационалистическое, часто пан-националистическое, антипарламентарное, антилиберальное, антикоммунистическое, популистское,
а посему антипролетарское, частично антикапиталистическое и антибуржуазное, антиклерикальное или по меньшей мере не-клерикальное
движение; ставит целью национальную социальную интеграцию посредством единой партии и корпоративного представительства (не всегда
в равной мере); с отличительной стилистикой и риторикой, с опорой на
активистские кадры, способные на насильственные акции в сочетании
с электоральной борьбой, с целью установления тоталитарной власти
путем сочетания законных и насильственных тактик.
Он также одобрительно цитирует Рамиро Ледесма Рамоса, видного испанского фашиста, который определял фашизм чуть короче
и в более чеканных формулировках:
Глубокая национальная идея. Оппозиция демократическим буржуазным институтам, либеральному парламентаризму. Срывание масок
26
Глава 1. Социология фашистских движений
с истинных феодальных властей современного общества. Национальная
экономика и народная экономика против международного финансового
и монополистического капитализма. Дух власти, дисциплины и насилия.
Отрицание антинационального и противоречащего природе человека
классово-пролетарского решения очевидных проблем и несправедливостей капиталистической системы (Linz, 1976: 12–15).
Эти авторы ярко излагают фашистский Weltanschauung и предполагают, что в основе его лежит гипернационализм. Однако родовому
определению необходима большая точность и лапидарность.
Современные ученые стремятся восполнить этот пробел. Итуэлл
дает лапидарное определение. Фашизм, говорит он, «стремится имитировать национальное возрождение, основываясь на целостно-нацио
нальном радикальном третьем пути». Он добавляет, что на практике
фашизм склонен уделять стилю, особенно действию и харизматическому лидеру, больше внимания, чем проработанной программе,
и тяготеет к «манихейской демонизации врагов» (Eatwell, 2001: 33;
1995: 11; 1996). Далее он расширяет это определение, разрабатывая
четыре ключевые характеристики: национализм, целостность (то есть
коллективизм), радикализм и «третий путь». Третий путь лежит между
левым и правым, трудом и капиталом, и берет у обоих все лучшее.
Это означает, что у фашизма есть практические предложения для
современного общества, и, следовательно, он — не антимодернистское
движение, а альтернативный взгляд на современность. Определение
Итуэлла ближе всего к моему собственному, которое я привожу ниже.
Гриффин полагает, что родовое определение должно быть более
сосредоточено на ценностях. В этом отношении он следует за Штернхеллом и Моссом. Он видит в фашизме «мифическое ядро» популистского ультранационализма, вдохновленное идеей возрождения нации,
расы или культуры и устремленное к созданию «нового человека».
Фашизм — это «палингенетический миф» популистского ультранационализма, представляющий нацию возрождающейся, как феникс,
из пепла старого, упадочного общественного порядка. Это «особый
род современной политики, ищущей бескомпромиссных революционных преобразований в политической и социальной культуре того
или иного национального или этнического сообщества... Классический
фашизм черпает вдохновение и энергию в ключевом мифе о том, что
Путь к определению фашизма
27
век упадка и разложения непременно должен смениться золотым веком возрождения и омоложения в постлиберальном новом порядке».
Гриффин согласен с Итуэллом в том, что фашизм — альтернативный
путь модернизации. По его мнению, он представляет «консенсусный»
взгляд на фашизм: противостоят ему только материалисты, которых Гриффин высмеивает. Он открывает «первичность культуры»
в фашизме. Называет Гриффин фашизм и «политической религией»
(Griffin, 1991: 44; 2001: 48; 2002: 24).
Однако таким идеализмом, как у Гриффина, гордиться не стоит.
В нем заключена серьезная ошибка. Как может миф породить внутреннюю сплоченность или стать движущей силой? Сам по себе миф
не способен ничего двигать или объединять — ведь идеи не парят
в пустоте. Без организации и власти идеи не стоят и ломаного гроша.
Но к понятию власти Гриффин даже не обращается. Такому определению недостает обычного здравого смысла. Несомненно, фашисты
должны были предлагать нечто более практичное, чем мифическое
возрождение нации. Кто бы за это проголосовал? Хоть у фашизма
и была иррационалистическая сторона, в целом он был достаточно
трезв, предлагал и экономические программы, и политические стратегии (Eatwell, 2001). Он был определенно «от мира сего», а сакральным,
религиозным измерением человеческой жизни не интересовался, хоть
и готов был использовать его в своих целях.
Впрочем, идеализм заметен во всех этих определениях. Первенство
в них отдается фашистским идеям. Национализм выглядит бестелесным, отторгнутым от своего основного носителя в реальном мире —
национального государства. Сплоченная нация и сильное государство,
то и другое вместе — этого желали все фашисты. Гриффин, кроме
всего прочего, обеляет фашизм, умалчивая о характерном для него
жестоком насилии и парамилитаризме; и даже Итуэлл замечает, что
фашизм прибегает к насилию лишь «иногда» (Линц, Нольте, Пейн
не пренебрегают значением насилия для фашизма).
Чтобы исправить эти упущения, однако, нет нужды прибегать
к традиционной материалистической альтернативе идеализму, вписывая фашизм в теорию капитализма и классов. Нужно определить
фашизм в его собственной системе координат, однако к ценностям
добавить программы, действия и организации. Фашизм был не просто множеством людей с определенными убеждениями. Фашисты
28
Глава 1. Социология фашистских движений
оказали огромное влияние на мир именно благодаря своим коллек
тивным действиям и организационным формам. Фашисты были
преданы элитизму, иерархии, товариществу, популизму и насилию,
заключенным в достаточно свободные, парамилитарные формы
этатизма. Если фашизм состоит лишь в палингенетических мифах
о возрождении — в чем его вред и опасность? Будь фашизм только
крайним национализмом — он был бы ксенофобией, и только. Но,
принимая парамилитаризм, фашисты подталкивают друг друга к экс
тремальным действиям, уничтожают своих противников и убеждают
множество зрителей, что смогут наконец принести в современное
общество порядок. Затем их авторитарное государство требует от
народа полного повиновения, уничтожает оппозицию и совершает
массовые убийства. Следовательно, наше определение фашизма
должно включить в себя как его ключевые ценности, так и ключевые
организационные формы.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАШИЗМА
Я определяю фашизм, исходя из его ключевых ценностей, действий
и организаций. Если говорить очень кратко, фашизм — это попытка
создать трансцендентное национальное государство, при помощи
парамилитаризма проведя народ через чистки. В этом определении
содержится пять ключевых терминов, требующих дальнейшего объяснения. Кроме того, в каждом из них имеются внутренние противоречия.
Национализм. Все признают, что фашисты были глубоко преданы
идее «органической», «целостной» нации и что это включало в себя
необычно серьезное внимание к «врагам нации», как за границей, так
и (особенно) дома. Фашисты не склонны были терпеть этническое
и культурное разнообразие — оно, в их понимании, подрывало органическое единство нации. Агрессия против врагов, якобы угрожающих
этому единству, — вот изначальный источник радикализма фашистов.
Расово окрашенный национализм оказался еще более радикальным,
поскольку расовая принадлежность — характеристика врожденная.
Определение фашизма
29
С ней мы рождаемся, и только смерть, естественная или насильственная, может ее у нас отнять. Поэтому расовый национализм нацистов
оказался сильнее одержим «чистотой» и совершил куда больше
преступлений, чем итальянский культурный национализм, в целом
позволявший присоединяться к нации тем, кто демонстрировал правильные ценности и правильное поведение.
Понятие «возрождения», которое Гриффин считает ключевой
характеристикой фашизма, я бы отнес к национализму в целом:
оно свойственно и многим умеренным национализмам — например,
ирландскому, литовскому или зимбабвийскому. Поскольку нации,
в сущности, возникли в Новое время (за одним или двумя исключениями), но националисты притязают на древность своих народов — этот
парадокс они разрешают при помощи представления о возрождении
древнего народа, ныне приспособившегося к современности8.
Миф о преемственности возводит народ ко временам Верховных
Королей, Великого Княжества Литовского, Великого Зимбабве —
но никто не ждет, что они возродятся в наше время.
Этатизм. Включает в себя и цель, и организационную форму.
Фашисты поклонялись государственной власти. Грегор (Gregor
1979) подчеркивает, что именно авторитарное корпоративное государство, по их представлениям, должно было разрешить кризисы,
вызвать общественное, нравственное и экономическое развитие.
Поскольку государство представляет нацию, которая мыслится
как органическая по своему существу, государство должно быть
авторитарным — воплощающим в себе единую сплоченную волю,
которую выражает партийная элита, преданная принципу вождизма.
Ученые обычно подчеркивают «тоталитарные» черты фашистских
идеалов и государств: Берли (Burleigh, 2000) и Грегор (Gregor, 2000)
говорят об этом и сейчас. Другие соглашаются, что целью фашистов
было «полное преображение» общества, однако выдвигают на первый план отступления от этой цели. Фашистский идеал государства
представляется им бессмысленным или противоречивым, посколь8
Заметим, что Итуэлл отказывается от употребляемого им ранее концепта
«перерождения», объявляя его «философски банальным» (Eatwell, 2001).
В моей новой книге, готовящейся к изданию, я рассматриваю конкурирующие концепции нации («Темная сторона демократии», гл. 3).
30
Глава 1. Социология фашистских движений
ку содержит в себе одновременно партийные, корпоративистские
и синдикалистские элементы, и они подчеркивают, что в реальности
фашистские государства были на удивление слабыми. Они обращают
внимание на подковерную борьбу и политические торги при режиме Муссолини (Lyttleton, 1987), на «многовластие» и даже «хаос»
нацистского режима (Broszat, 1981; Kershaw, 2000). Поэтому они не
спешат наклеивать на фашизм ярлык тоталитарности. Для фашистских режимов, как и для коммунистических, характерна диалектика
между «движением» и «бюрократией», «перманентной революцией»
и «тоталитаризмом» (Mann, 1997). Можно отметить и противоречие
между более организованным синдикализмом/корпоративизмом
в итальянском стиле и склонностью к поликратической, более гибкой
диктатуре, характерной для нацистов. И при всех режимах стремление
к единому бюрократическому государству подрывалось партийным
и парамилитарным активизмом, а также сделками соперничающих
элит. Фашизм был более тоталитарным в своих целях, чем в актуальных проявлениях.
Трансцендентность. Фашисты отвергали консервативное представление, что существующий общественный порядок в целом гармоничен. Отвергали они и либеральные и социал-демократические
представления, что конфликт групп интересов — нормальное свойство
общества. Отвергали они и левую мысль о том, что гармонии можно
достичь, ниспровергнув капитализм. Фашисты вели свою генеалогию
и от правых, и от левых, и от центристов, опирались на поддержку
представителей всех классов (Weber, 1976: 503). Они нападали и на
капитал, и на труд, и на либерально-демократические институты,
обостряющие их борьбу. Фашистский национал-этатизм должен
был «превзойти» общественную борьбу: сперва обрушить репрессии
на все конфликтующие стороны и «проломить им черепа», а затем
инкорпорировать классы и другие группы интересов в корпоративистские институты государства. Термин «третий путь», предлагае
мый Итуэллом, для такого революционного преображения общества
звучит слишком мягко; его вполне мог бы принять какой-нибудь
центристский политик вроде Тони Блэра. Речь определенно не о компромиссе и не о том, чтобы отовсюду взять лучшее (как утверждает
Итуэлл). Речь о создании «нового человека».
Определение фашизма
31
Фашизм отчасти был (как говорят материалисты) ответом на
кризис капитализма, однако предлагал для него революционное и,
как казалось, вполне достижимое решение. Ниже мы увидим, что
основную социальную базу поддержки фашистов можно понять,
лишь если принять их стремление к преображению всерьез: в этом
они действительно были совершенно искренни. Это была самая привлекательная часть фашистской идеологии — она предлагала практич
ный, вполне возможный путь изменения общества к лучшему. Преображение общества стало центральным элементом избирательной
программы фашистов. В предыдущей своей книге я показывал, что
идеологии сильнее всего тогда, когда предлагают трансцендентные,
однако достижимые в реальности проекты «нового мира», когда сочетают рациональное с внерациональным.
Однако трансцендентность — самое изменчивое и проблематичное
из пяти ключевых понятий, определяющих фашизм. Достигнута
она так и не была. На практике большинство фашистских режимов
держались за существующий порядок и за капитализм. В отличие от
социалистов, фашистам недоставало критики капитализма в целом,
поскольку недоставало интереса к капитализму и классам. Центр их
притяжения составляли нация и государство, а не класс. Одно это
вовлекало их в конфликт преимущественно с левыми, а не с правыми,
поскольку именно марксисты и анархисты, а не консерваторы, обычно привержены интернационализму. Однако фашисты, в отличие от
политически левых и правых, к классам относились прагматично —
по крайней мере, пока не видели в них врагов нации. Они нападали
не на капитализм как таковой, а на определенные виды извлечения
прибыли, как правило, на финансистов, иностранных или еврейских
капиталистов. В Румынии и Венгрии, где эти типы капиталистов
преобладали, это придавало фашизму отчетливо пролетарскую
окраску. В других местах фашистские движения были прокапиталистическими. Приближаясь к власти, фашисты сталкивались с особой
проблемой. Хоть они, как авторитаристы, верящие в управленческие
технологии, и надеялись подчинить капиталистов собственным
целям, но сталкивались с тем, что самим им определенно не хватает
технократических навыков для управления производством. Им приходилось договариваться с капиталистами. Более того: в Германии
и особенно в Италии фашистские перевороты получили поддержку
32
Глава 1. Социология фашистских движений
высшего класса. Муссолини, придя к власти, не пытался разорвать
свои связи с правящим классом. Иным был Гитлер: просуществуй
его режим дольше, сомневаюсь, что экономика рейха осталась бы
капиталистической.
Однако и за то короткое время, что было им отпущено, фашисты
далеко ушли от своего первоначального замысла «превзойти» классовую борьбу. Это «предательство» подчеркивают классовые интерпретаторы фашизма и другие исследователи, сомневающиеся в искренности или последовательности фашистских ценностей (например,
Paxton, 1994, 1996). Однако нельзя сказать, что фашисты просто
пошли на предательство и на том успокоились. Во всех фашистских
движениях имелся разрыв между радикалами и оппортунистами —
часть общей противоречивой динамики этих движений. Особенно
ярко проявился он у нацистов. Эта динамика смещала акценты
в поставленных транцендентных целях, но не уничтожала их вовсе.
Фашизм ставил своей целью «превзойти» классовую и этническую
рознь, но с классовым врагом-капиталистом пока приходится идти
на компромисс — что ж, займемся врагами этническими. Такое смещение акцентов привело к тому, что фашистские режимы стали более
кровавыми — не только в Германии, но в конечном счете и в Италии,
как я покажу в своей следующей книге.
Чистки. Поскольку оппоненты воспринимаются как враги,
их необходимо уничтожить и очистить от них нацию. Здесь фашистская агрессия проявлялась в действии. Тяжело видеть, что
практика этнических чисток возрождается кое-где и в наше время,
хотя политические чистки, начиная с конца ХХ века, стараются не
афишировать. Органические националисты, как правило, считают,
что с этническими врагами справиться труднее, поскольку политическую идентичность легче изменить. Так, можно репрессировать,
даже убивать коммунистов; но, если они покаются, большинство из
них будет принято в нацию. Поэтому политические чистки зачастую
начинаются очень жестоко, но, как только враг сдается, — смягчаются и заканчиваются «примирением». Но жесткость этнических
чисток со временем только нарастает, так как враг считается неспособным к ассимиляции. Как правило, фашисты практиковали
сразу и этнические, и политические чистки, хотя и в разной степени.
Даже для нацистов образ врага представал в некоем смешанном
Определение фашизма
33
политико-этническом облачении, как ненавистный «жидобольшевик». Такие движения, как итальянский фашизм и испанский
национализм, определяли своих врагов преимущественно через
политическую терминологию. В результате немецкие нацисты,
более склонные к этническому пониманию врагов, пролили больше
крови, чем итальянские фашисты.
Парамилитаризм — и ключевая ценность, и ключевая организационная форма фашизма. Считался «народным», возникающим
снизу; но в то же время был и элитистским — парамилитарные формирования рассматривались как авангард нации. Брукер (Brooker,
1991) рассматривает дух товарищества как основную характеристику
фашистских движений; да и сами они рассматривали свое боевое
братство как горнило, в котором выковывается новая нация и новый
человек. Насилие — краеугольный камень фашистского радикализма.
Убийствами фашисты опрокидывали все легальные формы деятельности. «Разбивая головы», они на практике стирали грани между
классами. Элитизм и иерархия боевых отрядов должны были стать
отличительной чертой и будущего авторитарного государства. Фашистское движение никогда не было всего лишь партией. В сущно
сти, итальянские фашисты много лет существовали именно в форме
парамилитарных отрядов. Фашизм всегда носил форму, маршировал,
был вооружен и опасен — и стремился радикально дестабилизировать
существующий общественный порядок.
От многих военных и монархических диктатур мира фашизм
отличает именно этот низовой и насильственный характер парамилитаризма. Он приносил популярность как в широких народных
массах, так и среди элит. Фашисты всегда изображали свое насилие
как «успешную оборону»: истинное насилие, мол, исходит от врагов,
но фашисты вступают с ними в бой и побеждают. Верили им не все,
но многие: и это увеличивало их популярность, их рейтинги на выборах, привлекательность для элит. Таким образом, парамилитаризм
предлагал особый подход и к выборной демократии, и к существующим элитам, хотя и то и другое фашисты на деле презирали. Парамилитаризм не следует рассматривать в отдельности, не учитывая
его тесной связки с двумя другими основными источниками власти
фашистов: избирательной борьбой и сговором с элитами. Именно
парамилитаризм — способ организовать и сплотить самих фашистов,
34
Глава 1. Социология фашистских движений
устрашить и привести к повиновению врагов, получить поддержку
или уважение зрителей — позволял фашистам добиться куда боль
шего, чем можно было бы ожидать, исходя только из их численности.
Парамилитаризм был насилием, но включал в себя далеко не только
насилие. Разумеется, его никогда не хватило бы для того, чтобы организовать настоящий переворот и бросить вызов государственной
армии. Парамилитарные отряды не были равнозначны военной силе.
Чтобы заговор оказался успешен, фашистам требовалось не победить
военных в бою, а перетянуть их на свою сторону.
Это сочетание свойств, несомненно, делает фашистов революционным движением, хоть и не в традиционном лево-правом смысле. Недостаточно назвать их, как некоторые, «революционерами справа» и на
этом успокоиться. Это сочетание означает также, что движение может
быть в большей или в меньшей степени фашистским. Генезис каждого
фашистского движения (хотя, несомненно, каждое из них уникально)
можно разложить в пятимерной проекции — но, признаюсь, это превосходит мои аналитические способности. Не готов я и проводить
сравнительный анализ фашистских и коммунистических движений по
этим пяти параметрам — хотя, очевидно, между ними есть и сходства,
и различия. И те и другие представляли альтернативные взгляды на
современность; и те и другие потерпели поражение.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ФАШИЗМА:
КЛАССОВАЯ ТЕОРИЯ
Кого же привлекали эти ключевые характеристики? Что за люди
становились фашистами и чего они стремились этим достигнуть?
Странным образом — поскольку эти движения отрицали важность
классов — на этот вопрос отвечают в основном сторонники классовой
теории. Они рассматривают фашизм как продукт классовой борьбы
и экономического кризиса, а основное его достижение видят в том,
что он разрешил этот кризис, подавив рабочий класс. Поэтому другие
Привлекательность фашизма: классовая теория
35
классы общества его и поддержали. Существуют два варианта этой
теории: одна видит в фашизме порождение среднего или нижнего
среднего класса, другая — союзника или орудие класса капиталистического. Рентон (Renton, 2000) называет их соответственно «правой»
и «левой» марксистскими теориями. Марксисты поняли, как важно
для фашизма насилие и парамилитаризм. Отто Бауэр писал, что
фашизм — это «диктатура вооруженной банды». Однако марксисты
склонны не принимать в расчет убеждения фашистов, сводя их лишь
к предполагаемой социально-экономической базе. Им несложно разглядеть в фашизме единый универсальный тип. Поскольку классы
и капитализм — универсальные черты современного общества, универсалистский потенциал должен быть и у фашизма. Однако другие
универсальные социальные структуры, в начале ХХ века также распространенные повсюду, несомненно, должны были оставить свой отпечаток на фашизме — как я уже показал на примерах национального
государства и призывной армии.
Всякому, кто пишет о среднем классе, для начала необходимо
освоиться с избытком ярлыков, наклеиваемых на тех, кто занимает в классовой иерархии срединное место. На разных языках их
именуют по-разному. Одни причисляют всех, кто не относится ни
к пролетариям, ни к высшему классу, к «мелкой буржуазии». Так
принято в итальянском и испанском языках; примерно то же широкое
значение имеет немецкое Mittelstand («среднее состояние»). Однако
в английском языке термин «мелкая буржуазия» не особенно принят. Те, кто его употребляет, имеют в виду лишь разновидность этой
срединной страты — ремесленников, мелких лавочников, мелких
торговцев, словом, независимых собственников, которые трудятся
сами, возможно, с участием семьи, но крайне редко нанимают наемных рабочих. Эту группу я называю «классической мелкой буржуазией». Немцы часто называют ее, вместе с государственными
служащими, «старым» Mittelstand. Часто и ошибочно считается, что
именно классическая мелкая буржуазия была склонна к фашизму;
однако она одна никак не смогла бы наполнить собою такое массовое движение. Таким образом, большинство «среднеклассовых»
или «мелкобуржуазных» теорий фашизма понимают эти термины
в широком смысле, видят в фашизме движение, опиравшееся одновременно на «средний класс» и «нижний средний класс» (в обычном
36
Глава 1. Социология фашистских движений
английском значении этих слов). Я буду называть это сочетание
просто «средним классом», дабы противопоставить его двум другим
сборным классам: рабочему и высшему. Разумеется, эти термины
ни в коей мере не точны; однако, поскольку в эмпирических главах
этой книги я буду подробно рассматривать классификацию по занятости — и покажу, что ни одно определение классов не слишком-то
помогает понять фашизм, — более точные определения классов нам
в этой книге не понадобятся.
Уже в 1923 г. Сальваторелли доказывал, что фашизм — не
зависимое движение недовольных представителей среднего класса,
а лидер Коминтерна Карл Радек именовал фашизм «мелкобуржуазным социализмом». Такие интерпретации широко распространились
после Второй мировой войны, когда горы исследований, казалось,
подтверждали, что фашисты выходили в основном не из элитарных,
но и не из пролетарских групп, а в основном из нижнего среднего
класса (напр., Lipset, 1963: гл. 5; Bracher, 1973: 145; Kater, 1983: 236;
Stachura, 1983b: 28). Традиционное объяснение этому давалось
в экономической сфере:
Недуги, кризис, поразивший капиталистическое общество... [ударили
по тем, кто] был выбит из колеи социальными и экономическими неурядицами, чье социальное положение было под угрозой, кто потерял
работу и статус и утратил веру в будущее. Это был нижний средний класс,
а еще точнее — его наиболее уязвимая часть: ремесленники, частные
мелкие торговцы, мелкие фермеры, мелкое чиновничество и белые
воротнички низшего звена (Carsten, 1980: 232–233).
Теоретики такого рода признают, что некоторые фашисты были
антикапиталистами, но в еще большей степени — антисоциалистами.
При фашизме капитализм должен был быть взят под контроль, а социализм уничтожен. Ибо — говорят они — угрозы «снизу» средний
класс страшился больше, чем угрозы «сверху».
Иногда теория среднего класса является и в еще более обобщенной
форме. Фашизм понимается как поражение всего «общества среднего класса», созданного либерализмом и капитализмом (Eley, 1986:
гл. 9–10). Трудно понять, что это значит. Никакое общество, никакую
эпоху невозможно определить в терминах лишь одного класса. И ни
либерализм, ни капитализм вовсе не потерпели поражение. Некоторые
Привлекательность фашизма: классовая теория
37
авторы расширяют эту теорию, припрягая к среднему классу другие,
более маргинальные группы. Карстен (Carsten, 1976) подводит итоги
традиции, восходящей к 1920-м, к Тольятти, Таски, Фромму, Райху
и Нольте: ядром фашистского движения они считали студентов, отставных военных, безработных интеллектуалов, деклассированных
и люмпен-пролетариат — вместе с мелкими торговцами, ремесленниками и «белыми воротничками». Смесь очень пестрая, скорее
отражающая неприязнь автора к фашистам, чем какой-либо общий
принцип, лежащий в основе такого группирования. Карстен полагает,
что столь разнородные люди становились фашистами, поскольку все
они переживали опыт экономических и статусных лишений. Цеткин,
Тальхаймер, Левенталь, Зауэр и Джермани считали, что фашизм притягивает униженных, неудачников, маргиналов, людей без корней.
«Истинное сообщество банкротов!» — клеймил их Левенталь. Всегда,
когда эти авторы пишут, что какая-то профессиональная группа (будь
то студенты, военные, адвокаты или конструкторы) особенно склонна к фашизму, — они связывают это с экономическими лишениями,
безработицей или снижением заработка. Любопытно, что большинство психологических теорий фашизма также основаны на понятии
среднего класса. Франкфуртская школа переосмысливает фрейдизм
так, что «репрессии», «авторитарная личность», «статусная уязвимость» и «иррациональность» оказываются явлениями буржуазными
по сути своей, связанными с упадком буржуазной семьи. Однако ни
одна из этих психологических теорий фашизма не имеет достаточных
эмпирических подтверждений (Payne, 1995: 454). Даже если какие-то
из этих групп и были предрасположены к фашизму, то едва ли по классовым причинам. Бывшие офицеры становились фашистами скорее
из-за военного склада ума и характера, студенты — в силу возраста
и идеологического климата, царившего в университетах. Социальная
идентичность человека всегда сложна и не ограничивается классом,
к которому он принадлежит.
В сущности, ни одна из теорий, увязывающих фашизм со средним
классом, не выдержала проверку временем. Да, фашизм зародился
в недрах среднего класса — как и большинство политических движений. Но, едва он превратился в массовое политическое движение, его
привязка к среднему классу, как будет показано в главах 3 и 8, сошла
на нет. Большинство членов крупных фашистских движений не были
38
Глава 1. Социология фашистских движений
ни членами среднего класса, ни экономически обездоленными9. После
1930 г. ни сами нацисты, ни те, кто за них голосовал, в основном не
принадлежали ни к буржуазии, ни к мелкой буржуазии. Они черпали
свою поддержку из всех классов.
Итальянских фашистов часто называют буржуа, хотя данные по
этому вопросу скудны. Однако рядовые фашисты в Венгрии и Румынии были скорее пролетариями (Berend, 1998: 342–343). Пейн в своем
обзоре подробно пишет обо всем этом, однако старается спасти хоть
что-то из теории среднего класса. Он заключает: «радикализм среднего
класса» остается «одной из важнейших черт фашизма, однако для
того чтобы выработать общую теорию, этого недостаточно» (Payne,
1995: 445). Заключение вполне разумное, но что оно нам дает? Если
фашистами становились люди из всех классов — маловероятно,
чтобы классовое сознание или классовая борьба помогли нам что-то
понять в фашизме.
Вторая классовая теория видит в фашистах союзников или орудия капиталистического класса. Капитализму начала ХХ века, в его
«империалистической», «монополистской» или «кризисной» фазе,
требовалось авторитарное государство, чтобы защититься от восставшего пролетариата. Такая теория наделяет фашизм бонапартистской
«относительной автономией» от капитализма, однако полагает, что
в конечном счете фашизм был подотчетен капиталу. Так, Пуланзас
определял фашизм как «исключительно капиталистическое государство», функционально необходимое во время кризиса, чтобы
защитить капиталистический класс от пролетариата (Poulantzas,
1974: 11). Капитализму угрожали два кризиса один за другим: подъем революционного социализма в 1918 г. и далее (вызвавший захват
власти в Италии) и массовая безработица и давление на государственный бюджет во время Великой депрессии (вызвавшие захват власти
9
Я называю движения крупными, так как фашистские движения часто зарождались внутри групп, принадлежащих к среднему классу (особенно среди
учащихся и младших офицеров). По мере роста фашистские движения
обычно расширяли базис. Так, в Северо-Западной Европе, где фашистские движения были малочисленными, фашизм так до конца и отличался
перекосом в сторону среднего класса. А вот во Франции, где имело место
расширение движения по мере его роста, оно в конечном счете обрело довольно большие масштабы.
Привлекательность фашизма: классовая теория
39
Гитлером). Некоторые пишут, что капиталисты принимали фашизм
быстро и с энтузиазмом, но большинство исследователей говорит
о медленном, неохотном и недоверчивом сближении.
Теория эта отчасти утратила свою популярность вместе с общим
упадком марксизма. Однако ее принимает Хобсбаум, говоря: «Перед
лицом неразрешимых экономических проблем и/или растущей революционности рабочего класса буржуазия вынуждена была возвратиться к силовым методам и принудительным мерам, иначе говоря,
к чему-то вроде фашизма» (Hobsbawm, 1994: 136).
Даже если не замечать опасно функционального выражения «была
вынуждена» — беглый взгляд на пять основных фашистских стран
открывает нам большое разнообразие в ответах на вопрос, до какой
степени капиталисты этих стран могли видеть в пролетариате опасную
для себя угрозу. Если они боялись несуществующей угрозы снизу —
это предмет скорее психологического, чем социологического анализа.
Психология — не моя специальность, однако и я порой задаюсь вопросом, почему имущие классы так остро реагируют на относительно
незначительную угрозу снизу. Ответ я постараюсь дать в последней
главе. Говоря эмпирически, степень поддержки фашистских движений со стороны капитала остается вопросом спорным — она сильно
менялась от страны к стране. Как и с теорией среднего класса, картину
порой смазывает «наложение» поддержки близких капиталу социальных групп, связанных со «старыми режимами» предшествующего
периода: королей, аристократов, высшего чиновничества, армейского
командования, церкви, интеллектуалов. Как правило, эти люди владели и значительной собственностью; однако их симпатии к фашизму
могли исходить из военных, религиозных или «старорежимных», а не
капиталистических ценностей и потребностей. Теоретики капиталистического класса рассматривают как аргумент в свою пользу то, что
фашистские лидеры, придя к власти, как правило, отказывались от
притязаний «превзойти» классовую борьбу. Если фашистское движение в самом деле неизменно заканчивало такой «политической
проституцией», то социальный бэкграунд рядовых фашистов особого
значения не имеет: фашизм — в самом деле лишь прислужник или
марионетка капитализма. Да, бывало и так; но чаще бывало иначе.
В целом капиталистическая теория фашизма, как и теория среднего
класса, объясняет кое-что в фашизме — но далеко не все.
40
Глава 1. Социология фашистских движений
Иные стремятся совместить эти две классовые теории. Рентон
(Renton, 2000: 101) говорит: хотя по своему происхождению фашизм — это «социализм среднего класса», в конечном счете это
реакционное антирабочее движение, поддерживающее капитализм.
Китчен также считает, что социальную базу фашизма составлял
средний класс, однако задача его была по сути капиталистической.
По его словам, «фашистские партии представляли собой мелкобуржуазные организации», ибо представители мелкой буржуазии
«составляли в них подавляющее большинство». Однако от них тре
бовалось действовать «в тесном союзе с капиталистической элитой»
(Kitchen, 1976: 59, 65). Такой двоякий подход отчасти отражает динамику фашистских движений — напряжение между радикальными
рядовыми фашистами, выходцами из мелкой буржуазии, и их более
консервативными и оппортунистическими лидерами. Конфликты таких радикалов, как Грегор Штрассер и рядовые СА с более
консервативнооппортунистическими Гитлером и Герингом, или
между провинциальными фашистскими главарями (известными под
наименованием «ras») и Муссолини, в которых лидеры побеждают
радикалов, часто рассматриваются с этой точки зрения. Бесспорно,
и здесь есть зерно истины.
Однако, обращая внимание лишь на социальную базу и объективные функции, большинство классовых теоретиков упускает из
виду убеждения самих фашистов. Они рассматривают фашизм извне,
с точки зрения для самих фашистов, отвергавших все классовые теории как «материализм», бессмысленной. Для фашистов было важно
другое. В начале главы 3 я расскажу о классовой теории итальянского
фашизма (по Сальваторелли), а затем приведу рассказ самого Бенито
Муссолини о его пути к фашизму. Мы увидим, что говорят они как
будто совсем о разных вещах. Быть может, теоретикам лучше знать,
чего хотел Муссолини на самом деле или зачем он искажал истину
(а он, разумеется, в своей «исповеди» не вполне искренен). И все же
контраст приводит в замешательство, особенно социолога. Большинство социологов согласны с утверждением: «Если люди верят в Х
как в реальность, то по своим последствиям Х будет реальностью».
Фашисты верили, что стремятся к определенным целям, во имя этих
целей совершали определенные действия; это реальность, от которой
нельзя просто отмахнуться.
Привлекательность фашизма: классовая теория
41
Наконец, с классовым интересом есть еще одна проблема: ведущая
мотивация фашистов. Фашисты были эмоционально вовлечены в задачу очищения нации от врагов: во имя этой задачи они позволяли
себе безжалостное насилие и совершали самое ужасное зло. Как правило, это насилие и зло не окупалось материально. Фашисты были
агрессивны себе во вред — особенно в своей одержимости войной.
О способностях и возможностях «нового человека» они были самого
необоснованно высокого мнения. И, хотя в некоторых их преступлениях против евреев и других врагов заметен и корыстный интерес
(повсеместно распространенные грабежи), геноцид — совсем иное
дело. В материальном плане он приносил Германии только ущерб
(и как армейские генералы, так и высшие чины СС, занимавшиеся
экономическим планированием, прекрасно это понимали). Присущее
фашистам сочетание моральности, агрессии и кровопролития не вписывается в теории материального интереса. Фашисты подчинялись
не только рациональному целеполаганию, но и своим ценностям.
И именно их ценности победили разум и, в конце концов, погубили
своих носителей.
Интерпретация фашизма с националистической точки зрения
ущербна по другой причине. В отличие от классовой теории, она не
способна исследовать социальную базу фашизма. Теоретики такого
рода сосредоточиваются на идеологии, забывая о социальной базе.
Впрочем, порой они заимствуют и классовые интерпретации. Любопытно, что такие ценности, как расизм, национализм и милитаризм,
они называют «буржуазными» или «мелкобуржуазными» (Mosse,
1964, 1966; Carsten, 1980: 232). Я не в силах понять, с какой стати
приписывать эти ценности исключительно среднему классу. Многие
ученые явно недолюбливают мелкую буржуазию. Быть может, это
сословие раздражает их, поскольку они сами из него вышли? Даже
некоторые не-классовые теоретики никак не могут расстаться с идеей
классов. Книги с подзаголовками, обещающими показать «социальное
лицо» нацистов и их сторонников, на 90 % состоят из рассуждений
о классах и профессиях (напр., Kater, 1983; Manstein, 1988), как будто
наше социальное лицо на 90 % определяется тем, где мы работаем
и к какому классу принадлежим!
Пейн (Payne, 1995) предлагает наиболее детальный обзор социальных корней фашистов. Их классовый бэкграунд он исследует
42
Глава 1. Социология фашистских движений
очень подробно. Более кратко останавливается на других социальных
характеристиках, таких как молодость, маскулинность, преобладание
отслуживших в армии, высшее образование, религия и (иногда) место
проживания. Однако только данные по классам он стремится связать
с общей теорией фашизма. Все остальное он рассматривает как вто
ростепенные детали и не стремится объяснить. Линц (Linz, 1976)
ранее предпринял великолепный анализ биографий фашистов: профессия, род деятельности, место проживания, религия, возраст, пол
и так далее. Однако странным образом (он ведь прекрасный социолог)
никаких общих закономерностей в этом многообразии идентичностей
не отыскал. Хоть эти ученые и видят в фашизме крайний национализм, они не пытаются определить социальную базу национализма.
Между идеологией и социальной базой у них зияющая брешь. Мы
можем заполнить ее, признав, что, помимо классовой составляющей, поддержка фашизма исходила от людей, поддерживающих
национальное государство и парамилитаризм. В классовых теориях
содержится значительная доля истины. Фашизм многое заимствовал
из классовых идеологий и организаций, был одержим угрозой большевизма и чувствителен к классовым интересам. Китчен прав: нам
необходимо понять социальную базу и функции фашизма. Однако
«социальное» нельзя уравнивать с «классовым». Рассмотрим вкратце
общественные условия, в которых развивался фашизм.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
РЕЗОНАНС ФАШИЗМА
Общественные условия, в которых возник и развивался фашизм,
можно разбить на пять основных категорий. Начну с самой общей.
Макропериод: межвоенные кризисы
европейской современности
Массовое движение, называющее себя фашизмом, возникло и набрало
силу в Европе в период между двумя мировыми войнами. Изучая это
Общественный резонанс фашизма
43
явление, я буду привязывать его к месту и времени — к «европейской
эпохе», по выражению Итуэлла (Eatwell, 2001), хотя, быть может,
отголоски фашизма были слышны и на других континентах. Европа
в этот период переживала четыре серьезных кризиса: последствия
опустошительной мировой (но, по сути, в основном европейской)
войны — войны между массовыми призывными армиями; ожесточенная классовая борьба, усиленная Великой депрессией; политический
кризис, вызванный ускоренным переходом многих стран к демократии
и национальному государству; культурное ощущение кризиса и упадка цивилизации. Сам фашизм признавал эти кризисы, громогласно
обещая разрешить все четыре. К тому же все четыре кризиса сыграли
важную роль в ослаблении способности элит управлять по-старому.
Это не противоречит тому, что в разных странах фашизм возникал по разным причинам: здесь из-за поражения в войне, там из-за
Великой депрессии. Но сильнее всего фашизм становился там, где
сочетались все четыре. Вопрос здесь в степени: до какой степени тот
или иной кризис — экономический, военный, политический и идеологический — вносил свой вклад в появление и развитие фашизма?
Подробнее мы поговорим об этом в главе 2. По всей видимости, эти
четыре кризиса стали необходимыми предпосылками фашизма. Без
них фашизма бы не было. Однако, как видно, ни одного из них по
отдельности не было достаточно. Большинство стран справились
с кризисом, не превращаясь в органические национальные государства — не говоря уж о фашизме. Это выводит нас на второй уровень
анализа, а именно к вопросу: в каких местах возник фашизм?
Макрогеография: половина Европы
В межвоенный период, как показано далее, на карте 2.1 (с. 64), почти
во всей Центральной, Южной и Восточной Европе правили достаточно схожие авторитарные правые режимы; фашизм представлял
собой одну из их разновидностей. На северо-западе континента
сторонниками подобных режимов были лишь незначительные
меньшинства. Профашистские движения имелись и в наиболее
экономически развитых странах на других континентах — в Японии,
44
Глава 1. Социология фашистских движений
Южной Африке, Боливии, Бразилии и Аргентине. Европейский
фашизм получал здесь определенный резонанс, хотя до какой
степени — вопрос спорный (Payne, 1995: гл. 10; Larsen, 2001). На
мой взгляд, ни в одной из этих неевропейских стран нельзя найти
сочетания всех предпосылок появления фашизма, перечисленных выше. В Японии, например, имелся чрезвычайно сильный
национал-этатизм, создавший, пожалуй, самую проработанную
в мире квазифашистскую экономическую теорию (Gao, 1997: гл.
2–3). Однако Японии недоставало парамилитаризма, массового
движения снизу (сравнение Японии с Европой см.: Brooker, 1991).
В том, что принято называть японским «фашизмом», господствовал
милитаризм, а не парамилитаризм. Аргентина и Бразилия, напротив, порождали массовые популистские движения авторитарного
типа, с этатистскими и радикальными тенденциями, однако им не
хватало националистических чисток. В течение всего межвоенного
периода мы встречаем теоретиков, которые читали Барре, Муссолини, Гитлера и так далее, а затем старались приспособить их идеи
к местным условиям, создавая своего рода квазифашистские учения.
Так, в Индии Голваркар перенял расовые теории Гитлера и использовал их в своей концепции чистого индуистского теократического
государства. Сложим эти теории с парамилитарными отрядами
индуистской праворадикальной организации «Раштрия сваямсевак сангх» — и получим нечто очень близкое к нацизму (Jaffrelot,
1996). Однако движение это в 1930-х было мизерным, как и почти
все профашистские партии и ополчения той эпохи. Лишь одним
континентом — Европой — фашизм овладел почти полностью.
Почему же в одной половине Европы победил авторитарный
этатизм, а в другой — либеральная демократия? Очевидно, проблема не в каком-то общем кризисе, вроде Великой депрессии
или недостатков либерализма: такой кризис сказался бы на всей
Европе, а не на ее половине. Основная разница была в поведении
консервативного, «старорежимного» политического крыла и класса
собственников. Да, именно здесь классовый вопрос сыграл важнейшую, хоть и довольно странную роль. На половине континента
правящие классы обратились к более жестким режимам, надеясь
с их помощью защититься от двух тесно связанных угроз — народных восстаний и своих оппонентов, левых политиков. Однако
Общественный резонанс фашизма
45
рациональным такое поведение назвать нельзя. Они значительно
преувеличивали эти угрозы и отказывались от тех более безопасных
мер противостояния им, что приняли их коллеги на северо-западе
Европы. Их реакция была несоразмерной: можно сказать, что они
слишком рано и слишком резко схватились за оружие. Объяснить
эту загадку — нерациональное, по всей видимости, поведение целого класса — одна из главнейших задач моей книги. Это объяснение
необходимо нам, чтобы понять макрорегиональную обстановку
авторитарного национал-этатизма, в которой процветал фашизм.
Но это не объясняет нам самого появления фашизма: ведь он стал
массовым движением лишь в нескольких странах — и произошло
это вовсе не по воле правящих классов.
География: пять фашистских стран
Почему именно у итальянцев, немцев, австрийцев, венгров и румын
фашизм получил массовую популярность, какой не имел в соседних
странах? Верно, что в нескольких регионах других стран — в Судетах,
Словакии, на Украине, в Хорватии — впоследствии возникли довольно
многочисленные квазифашистские движения. Их я рассматриваю
в следующей своей книге. Однако в других странах и регионах фашистов было совсем немного. Нельзя сказать, как говорят часто, что
фашизм имел успех лишь в более развитых странах или в великих
державах центра, востока и юга Европы. Этот аргумент связан с чрезмерной сосредоточенностью на Германии и Италии. Венгрия и Румыния великими державами вовсе не были, это были скорее отсталые
страны — и что же? Некоторые авторы уверяют, что именно отсталость
и породила в них фашизм (Berend, 1998). Однако фашизм — как и социализм — был привлекателен для очень и очень многих, а значит,
дело тут не в развитой или отсталой экономике. Чтобы понять, что
произошло, нам необходимо найти между этими странами нечто
общее — и это будет явно не уровень развития. Но и это само по себе
не даст удовлетворительного ответа. Ведь и в этих странах фашистами
становились далеко не все — скорее уж меньшинство населения. Кто
были эти люди и почему они стали фашистами?
46
Глава 1. Социология фашистских движений
География:
социальная база фашизма
Какие же социальные группы в этих странах больше всего привлекал
фашизм? На многих страницах, на протяжении нескольких глав, я исследую социальное происхождение фашистских лидеров, боевиков,
партийцев, попутчиков, заговорщиков и избирателей — сравнивая
их (там, где это возможно) с аналогичными представителями других
политических движений. Кто они были: мужчины, женщины, какого
возраста, военные, штатские, горожане, сельские жители, верующие,
атеисты, богатые, бедные; где родились, чем занимались, к какому
классу принадлежали? С благодарностью я проштудировал работы
ученых из многих стран, стремясь собрать богатейшую из ныне существующих базу данных по фашистам. В этих данных можно различить
три социальные базы, наиболее чутко воспринявшие перечисленные
мною ранее ценности фашистов; именно на их основе и возникали
фашистские движения. Разумеется, социальные базы фашистов не
возникали мгновенно и в готовом виде. Фашистам необходимо было
их «открывать», а затем работать над ними — организовывать, убеждать, подкупать, принуждать. Одним фашистам это удавалось лучше,
другим хуже. Некоторые фашисты неверно определяли свою социальную базу, другие натыкались на нее почти случайно (так нацисты
наткнулись на немецкий протестантизм). Фашистские движения были
разнородны, так что и социальные базы их несколько различались.
Но среди всех этих случайностей и вариаций мы можем различить
три общие модели массовой поддержки. Эта поддержка исходила от
миллионов людей, голосовавших за фашистов, и тысяч вступавших
в фашистские организации. И то и другое — важнейшие, хоть и очень
разнородные факторы успеха фашистов. Для своих нынешних целей,
однако, я объединяю эти два вида поддержки в один.
Сторонники парамилитаризма. Во всех странах фашизм поддерживали последовательно два молодых поколения, повзрослевших между
Первой мировой войной и концом 1930-х. Их юности и идеализму
импонировали ценности фашизма, преподносившиеся как современные и в то же время нравственные. Особенно легко распространялись фашистские идеи через два института социализации молодых
Общественный резонанс фашизма
47
людей: среднее и высшее образование, внушавшее идеи морального
прогресса, — и армию, воспитывавшую в молодежи милитаризм.
Фашизм апеллировал в первую очередь к молодым мужчинам — поэтому в нем ярко проявлялся дух «мачизма», поощряющий браваду
и не вполне контролируемое насилие; в мирное время милитаризм
его легко превращался в парамилитаризм. Характер фашизма определяли молодые мужчины, социализировавшиеся в институтах, где
оправдание насилия и даже убийства было самым обычным делом.
Однако схожесть ценностей милитаризма и парамилитаризма всегда
давала фашизму возможность обращаться к самим вооруженным
силам: не настолько, чтобы поднять их на мятеж, но настолько, чтобы
внушить военным такую симпатию к себе, которая в решительный
момент сможет парализовать армию.
Желающие покончить с классовой борьбой. Нигде фашизм не был
ни исключительно буржуазным, ни исключительно мелкобуржуазным. Да, в Италии и, пожалуй, в Австрии у него чувствовались
определенные классовые симпатии. Но в Германии после 1930 г.
(если мы причисляем к нацистской партии отряды СА и СС) подобных симпатий не было. Фашистские перевороты в этих странах
поддержали и высшие классы. В то же время румынские и венгерские
фашисты особой поддержкой высших классов не пользовались, а сто
ронников себе вербовали скорее из пролетарских, чем из буржуазных
кругов. Таким образом, классовый состав фашистского движения
сложен и в разных странах заметно различается. Более устойчивые
тенденции связаны с занятостью. По-видимому, чаще фашисты
приходили оттуда, где не велась организованная борьба между трудом и капиталом. Реже это были городские, фабричные и заводские
рабочие (исключение составляют Будапешт и Бухарест, где рабочие
традиционно поддерживали «сильное государство»). Как правило,
это не предприниматели, мелкие или крупные, и не управленческий
слой. Однако нельзя назвать фашистов и маргиналами, людьми без
корней. В межвоенный период их социальное положение было более
или менее стабильно. Но со своей несколько отстраненной точки
зрения они взирали на классовую борьбу с отвращением — и рады
были отдать голоса за движение, обещающее положить ей конец. Ра
зумеется, в большинстве случаев конца так и не случилось; и многие
авторы отмечают напряжение между более радикальными рядовыми
48
Глава 1. Социология фашистских движений
фашистами и более оппортунистическими лидерами, готовыми пойти
на сговор с элитами. Так же и капиталисты, и представители «старого порядка» в разной мере готовы были идти на компромисс с этой
новой для них идеологией. Однако, если мы принимаем убеждения
фашистов всерьез, из этого следует, что фашизм был привлекателен
именно для тех, кто глядел на классовую борьбу извне, восклицая:
«Чума на оба ваши дома!»
Сторонники сильного национального государства. Бэкграунд фашистов выглядит неоднородным. Часто встречается военный опыт,
высшее образование, работа на государство или военная служба, определенное географическое происхождение или религиозные симпатии.
Для многих наблюдателей это подтверждает, что фашизм — движение
«лоскутное» (таков самый распространенный взгляд на нацизм, как
мы увидим в главе 4). Однако у всех этих пестрых атрибутов есть
нечто общее: фашисты — «соль» нации и государства. Некоторые
«национально-государственные» локации одинаковы во всех странах: прежде всего, это военные и ветераны, но также и госслужащие,
учителя и работники физического труда в государственном секторе.
Почти во всех странах, где фашизм был распространен массово, доля
именно этих людей в фашистских движениях непропорционально
высока. Другие характеристики варьируются от страны к стране. Так,
индустриализацию столиц и их пригородов в Венгрии и особенно
в Румынии проводило государство — поэтому здесь рабочие, даже трудившиеся на частных предприятиях, отличались более этатистскими
взглядами. Религия важна почти везде — и почти везде поддерживает
национал-этатизм (кроме Италии, где религия транснациональна).
Евангелическая церковь в Германии 1925–1935 гг., православные
верующие и духовенство в Румынии, католики в «австрофашизме» —
все они поддержали фашизм, поскольку религия для них была тесно
связана с чаемым национальным государством. В Германии роль
религии менялась по мере преображения самого нацизма: среди исполнителей геноцида, в отличие от ранних избирателей нацистов, мы
видим непропорционально большое число бывших католиков (этот
феномен я продемонстрирую и объясню в своей следующей книге).
В некоторых странах фашисты происходили в основном из исторического центра народа или государства; но чаще это были уроженцы
«угрожаемых» приграничных территорий или беженцы с «утраченных
Общественный резонанс фашизма
49
земель». Далее мы убедимся, что все они были именно сторонниками
сильного национального государства.
Очевидно, не все фашисты были выходцами из этих трех групп
и не все представители этих групп были фашистами. Ценности и характер фашистов также не оставались неизменными. Простодушные
избиратели, которые, подумав минут десять, голосовали за фашистов,
ничем не напоминали элиту, годами выстраивавшую с фашистами отношения и заключавшую сделки. И ни те ни другие не были похожи
на активных членов движения или боевиков, отдававших движению
большую часть своего времени, энергии, а порой и рисковавших ради
него жизнью. Кем же были они, эти активные фашисты?
Микроуровень: фашистские движения
Вступая в движение, фашист еще не был фашистом в полном смысле
слова. Войти в движение можно было, даже если представляешь его
себе довольно смутно: поддерживаешь несколько лозунгов, симпатизируешь харизматичному фюреру или дуче или просто идешь
туда за компанию с друзьями. Большинство фашистов присоединялись к движению в юности — неженатыми, неопытными, с очень
небольшим опытом взрослой общественной жизни. Фашистские
партии и боевые отряды становились для них мощными средствами
социализации. Эти движения дарили своим адептам гордое чувство
исключительности и власти, строгую иерархию, культ великого вождя. Приказы надо было исполнять неукоснительно, дисциплине
подчиняться безоговорочно. Прежде всего каждый должен был
вносить свою лепту в общее дело. Так рождалось теплое чувство
товарищества. Если движение запрещали, оно уходило в подполье,
и общая тайна и опасность сплачивали его участников. Многие активисты теряли работу, попадали в тюрьму, бежали из страны. Это
пугало и отталкивало слабых и робких — но лишь сильнее сплачи
вало оставшихся.
Так же действовал и парамилитаризм. В некоторых фашистских
движениях (раннем итальянском или румынском) боевые отряды
и были движением; в других (как у нацистов) они существовали
50
Глава 1. Социология фашистских движений
наряду с партийными институтами. Боевики не щадили времени
и сил, подчинялись жесткой дисциплине, но получали право на
ограниченное групповое насилие. От них много требовали, но само
это давление доставляло им радость. Физические лишения и опасности, суровые наказания, острое чувство товарищества, очень ак
тивная коллективная социальная жизнь — все это создавало для них
своего рода «клетку», тотальный институт, по выражению Гофмана.
Разумеется, кого-то это не устраивало; многие уходили. Но те, кто
оставался, приобретали в этих боевых отрядах опыт фашистской
социализации. Например, с 1934 по 1938 г. правительство преследовало австрийских нацистов. Многие бежали в Германию, вступили
в СС или в Австрийский легион и превратились в тесно сплоченное
сообщество: вместе работали, вместе пили в нацистских пивных,
вместе спали в нацистских казармах10. Из этих «социальных клеток»
фашистские лидеры и рекрутировали надежных, закаленных бойцов
для выполнения особенно жестоких задач.
К насилию они были готовы. Для многих, причастившихся фашизму в юности, единственным известным взрослым образом жизни
осталась война. Первое («фронтовое») поколение фашистов почти
все побывало на фронтах Первой мировой; второе («домашнее») поколение во время войны еще училось в школе, хотя многие рвались
в бой и исполнили свою мечту позднее, в парамилитарных отрядах,
совершавших вылазки и налеты по всей Европе в первые послевоенные годы. Третье поколение фашистских рекрутов о войне знало уже
лишь по рассказам старших — зато с восторгом отдавалось стихии
уличного насилия. Старшие члены движения, уже прошедшие школу
«насилия без войны», стали их наставниками. Более того: успешное
и безнаказанное насилие вызывает у тех, кто его совершает, своего
рода катарсис, чувство очищения и освобождения. Они выходят за
рамки привычной морали, нарушают закон, проходят точку невоз10
Столь тесная мужская дружба время от времени носила гомосексуальный
оттенок, хотя данный аспект фашизма не был в достаточной мере задокументирован. Хорошо известно, что нацистские лидеры во время путча Рёма
стали ярыми противниками гомосексуалистов. В личных делах СС время
от времени фигурировали свидетельства гомосексуализма, с намеком на
то, что организация может, сыграв на уязвимости одного из своих членов,
заставить его выполнять «тяжелую работу» (то есть стать убийцей).
Краткий обзор этой книги
51
врата: все это усиливает коллективное ощущение, что они — элита,
особые люди, над которыми обычные правила поведения не властны.
Для этих молодых людей эффект насилия подкреплялся еще двумя
отличительными свойствами их «банд»: мачистскими представлениями о мужественности, среди которых способность к насилию играла
не последнюю роль, и обильными возлияниями, снимавшими все
тормоза и запреты. Трудно представить себе фашистских боевиков
без потасовок в пивных. Благодаря всему этому, прибегнув к насилию
один раз, легче было обращаться к нему снова и снова.
Карьера в фашистском движении приносила материальную и статусную выгоду. По мере того как движение крепло и разрасталось,
перед его участниками открывались новые горизонты власти, обогащения, социального роста. Однако карьера фашиста требовала
не только умения приспосабливаться. Большинство в фашистских
элитах составляли «закаленные» бойцы. Надежные и образованные
становились «офицерами» фашизма, не столь образованные — «унтер-офицерами». На большинстве уровней «закаленные» фашисты
превращались в элиту, отдающую приказы, способную социализировать новичков и обучить их «нормальному» фашистскому поведению.
Фашистские движения шли по разным траекториям. Небольшие
организации в северо-западной Европе зачастую возникали и быстро
исчезали, не оставляя особого следа. Получив по зубам в первой массовой драке, многие благоразумно решали, что лучше им держаться
в стороне. Но в пяти основных фашистских странах невозможно понять успех горстки в несколько тысяч фашистов, при равнодушии или
неприязни миллионов, если не учитывать их чрезвычайно активную
и жестокую гражданскую позицию.
КРАТКИЙ ОБЗОР ЭТОЙ КНИГИ
Концептуальная рамка, очерченная выше, помогает нам понять, кем
были фашисты. Дальше я расскажу о социальных кризисах и ответах
на эти кризисы со стороны элит, о тысячах людей, присоединившихся к фашистским движениям, и миллионах тех, кто их поддержал.
52
Глава 1. Социология фашистских движений
В следующей главе я рассматриваю межвоенные кризисы на макро
уровне: почему половина Европы приняла фашизм, а другая половина
встретила его враждебно? Думаю, ответ на этот вопрос мне известен;
поэтому нет нужды рассматривать различия между враждебными
фашизму странами северо-западной Европы. Вместо этого следующие семь глав я посвящаю другой половине континента — и пытаюсь
объяснить, почему в одних странах восторжествовал фашизм, в других — иные авторитарные правые движения. Исходя из этого вопроса
я выбрал для исследования шесть стран. В Италии, Германии (которой
отведено две главы) и Австрии фашизм возобладал и пришел к власти
без посторонней помощи. Еще в двух — Венгрии и Румынии — фашисты играли на равных в смертельной игре с другими авторитарными
течениями. Наконец, последняя страна, Испания, где борьба между
демократами и сторонниками авторитаризма проходила наиболее
жестко, покажет нам, что происходило, когда авторитаризм оттеснял
фашизм в тень. По методологии моя работа представляет собой почти
исключительно вторичный анализ исследований, предпринятых другими учеными, у коих я в огромном долгу и безмерно им благодарен.
Анализ фашизма в разных странах позволит мне сформулировать
более общее объяснение возникновения фашистских движений и их
прихода к власти: этому и будет посвящена заключительная глава.
Глава 2
ОБЪЯСНЕНИЕ
МЕЖВОЕННОГО
ПОДЪЕМА
АВТОРИТАРИЗМА
И ФАШИЗМА
ВВЕДЕНИЕ: ФОРМИРОВАНИЕ
СИЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВ
Чтобы объяснить фашизм, необходимо рассмотреть его в историческом контексте. На протяжении трех десятилетий он был лишь
одним из вариантов более широкого политического идеала — авторитарного национального государства. А оно, в свою очередь, было
лишь одной из версий господствующего политического идеала современности — сильного национального государства. Фашизм получил распространение только в Европе, где был встроен в единый
географический блок авторитарных режимов. Поскольку другие
европейские страны оставались либерально-демократическими,
можно говорить о «двух Европах». Кроме того, период взрывного
роста фашизма отмечен экономическим, военным, политическим
и идеологическим кризисами. Итак, в этой главе мы обсудим формирование и подъем в Европе сильных национальных государств
на фоне этих четырех кризисов.
Сила государства имеет два измерения: инфраструктурное и деспотическое (Mann, 1988). Эффективная инфраструктурная власть —
это возможность государства проводить политику через инфрастуктуры, пронизывающие его территории. Инфраструктурно сильное
государство может быть как демократическим, так и авторитарным.
Демократические США обладают более сильной инфраструктурой,
чем авторитарный СССР. Этот тип власти — власть «через» людей,
а не «над» людьми. Но деспотическая власть дает государственным
элитам возможность принимать решения вопреки воле своих граждан
или подданных. Практически у всех современных государств инфраструктурная власть выше, чем у их исторических предшественников,
а многие из них обладают и значительной деспотической властью.
Сочетание значительного объема той и другой власти характерно
для авторитарных государств ХХ века, которые я здесь и попытаюсь
объяснить. Как возникало такое сочетание? Вот ответ: его породила
чрезмерная приверженность к обычным политическим идеалам современности.
Введение: формирование сильных национальных государств
55
К началу ХХ века в Европе уже имелись суверенные национальные
государства. Иначе говоря, каждое из этих государств претендовало
на суверенную власть над определенными территориями, получая
свою легитимность от «народа» или «нации», на этих территориях
обитающей (хотя многие из них, разумеется, оставались мультиэтничными). Однако национальные государства молоды. Разумеется, уже
с XVI–XVII веков монархи во внешней политике претендовали на
суверенную власть, возникали «дворянские нации», а в религиозных
войнах выковывались «нации духа». Но основная часть населения
влилась в «нацию» совсем недавно. Вплоть до XVIII века государство,
в сущности, делало очень немногое. Оно вело переговоры и локальные войны с соседними государствами, вершило суд и расправу на
высшем уровне. Формально регулировало внешнюю торговлю и владело монополиями, которые, как правило, сдавало в аренду частным
лицам. Некоторые государства контролировали цену на зерно, чтобы
предотвратить голодные бунты. Только опираясь на устойчивую и послушную церковь, государство могло проникнуть в жизнь общества
за пределами столицы и собственно королевских земель. Однако
в XVIII веке государства монополизировали право на военное насилие
и начали бурно развиваться. Около 1700 г. государство присваивало
приблизительно 5 % ВВП в мирное время и 10 % во время войны.
В 1760-е гг. этот уровень вырос до 15 % и 25 %. В 1810-е гг. — до 25 %
и 35 % соответственно, а 5 % населения стали военнообязанными. Эти
цифры (Mann, 1993, гл. 11) схожи с данными в период двух мировых
войн и с высочайшими современными ставками налогообложения —
в Израиле и в Северной Корее. Это сравнение позволяет нам понять
размах изменений, произошедших в XVIII веке. Почти незаметное
ранее, государство явило себя подданным в полный рост: сборщики
налогов и армейские вербовщики вошли в каждый дом. Подданные
очнулись от прежнего политического безразличия и начали требовать
себе представительских прав. Так родилось членство в нации, гражданство — первый из политических идеалов современности.
Однако даже в XIX веке немногие видели в государстве путь
к достижению важных общественных целей. Свобода обычно воспринималась как свобода от государства, а не благодаря ему. Лишь
якобинцы эпохи Великой Французской революции сумели сформулировать представление о сильном государстве и активном граж-
56
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
данском участии как социальном и моральном идеале. Якобинцы
потерпели поражение, но государство пошло окольным путем и начало укрепляться за счет развития индустриального капитализма.
Государство оплачивало строительство дорог и каналов, брало на
себя попечение о бедняках. Во Франции государство участвовало
в общественных проектах в большей степени, чем в Великобритании
или США, а в Германии протекционистская теория Фридриха Листа
стала ответом на вызов, брошенный свободным рынком. К концу
XIX века возникли новые экономические теории, требовавшие
большего вмешательства государства. К этому времени государство
строило железные дороги, занималось массовым образованием,
здравоохранением, появились и первые социальные программы.
Все это означало рост инфраструктурной власти. Народ охотно принимал эти блага, но не слишком охотно платил налоги, все больше
людей начинали интересоваться народным представительством
и правами граждан — словом, стремились сократить деспотическую
власть государства.
Такая активность государства привела и еще к одному непреднамеренному результату — к возникновению консолидированных сетей
общественного взаимодействия, «гражданских обществ», ограниченных государственными территориями. Отсюда родилось и чувство национальной общности: не столько идеология национализма, сколько
понимание, что каждый из нас живет среди себе подобных, в одном
обществе, под властью одного государства. В этот же период рос
и укреплялся и откровенный национализм. В странах северо-западной
Европы и в европейских колониях, где впервые утвердилась «власть
народа», под «народом» поначалу понимались исключительно мужчины-собственники: за ними — дворянами, купцами, фабрикантами,
ремесленниками и так далее — признавались различные интересы.
Это сословие граждан в полном смысле слова было внутренне стратифицировано и существовало «поверх» низших классов, обладавших
лишь некоторыми, далеко не всеми гражданскими правами. Народ
или нация противопоставляли себя реакционным старым режимам,
однако сами были далеко не однородны — и не обязательно враждебны
другим нациям.
Однако в XIX веке выкристаллизовался и иной, более агрес
сивный национализм (Mommsen, 1990). До некоторой степени его
Введение: формирование сильных национальных государств
57
можно объяснить тем, что представительское правительство начало восприниматься как власть всего народа, сообща владеющего
свойствами и добродетелями, необходимыми гражданину. Особенно
распространилось это представление на востоке Европы, где царили
многонациональные династические империи: Османская империя,
империи Габсбургов и Романовых. Конфликты между имперской
властью и местными жителями под влиянием демократических требований претворились здесь в конфликты между предполагаемыми
этническими/национальными общинами. Местные элиты, лишенные
привилегий, требовали представительских прав для себя, но, сталкиваясь с давлением снизу, старались мобилизовать «весь» народ
против имперской этничности и ее местных этнических клиентел. Так
сбывались слова Коррадини о пролетарской нации, восстающей против своих угнетателей. Хорваты или словенцы ненавидели турецкое
или сербское господство; румыны терпеть не могли венгров; словаки
косо смотрели на чехов; и все они вместе проклинали господствую
щих немцев, русских или турок. Имперские нации — немцы, русские,
турки (а впоследствии и венгры) отвечали им собственным контрнационализмом. Евреи, этот рассеянный по земле народ, повсеместно
воспринимавшийся как угроза нации, встречали неприязнь со всех
сторон. Однако антисемитизм был тесно увязан с другими националистическими конфликтами: чешским антисемитизмом двигали
антинемецкие чувства, словацким — антимадьярские, а мадьярский
и австрийский антисемитизм питался мечтами об имперском возрождении. Во всех случаях евреев ненавидели, ибо видели в них
союзников национального врага. Национализм, поначалу идеалистический внутренний союз против феодальных правителей, быстро
становился агрессивным и внутри, и снаружи, направленным против
других наций.
Так возник органический идеал, в противоположность либеральному идеалу стратифицированного национального государства
(или «этнический национализм» в противоположность «гражданскому»). Рассмотрим Австрию (Schmidt-Hartmann, 1988). В 1882-м
трое молодых австрийских политиков разработали «Линцевскую
программу» — теоретическую основу будущей Немецкой народной
партии. Программа сочетала в себе немецкий национализм, всеобщее
избирательное право и прогрессивное социальное законодатель-
58
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
ство. Она отвергала и либерализм, и капитализм свободного рынка,
и марксистский социализм. Трое политиков заявили: в то время как
либерализм отстаивает порядок вещей, в котором конфликт интересов возведен в абсолют, они предпочитают защищать «сущность»
демократии. Легитимность власти, продолжали они, основана на
единстве народа, на «общем благе», на «национальном интересе».
Партия так и не появилась на свет. Троица раскололась, и каждый
занялся созданием собственной партии. Виктор Адлер стал лидером
социал-демократов, Карл Люгер — христианских социалистов, а Георг
фон Шенерер — основателем будущей Всегерманской партии: трех
массовых политических организаций межвоенной Австрии, породивших широкие народные движения, два из которых были фашистскими
(подробнее об этом в главе 6).
Эти три молодых австрийца отстаивали органическую концепцию
народа и государства. Народ, говорили они, един и неделим, целостен,
внутренне неразделен. Поэтому государство не должно основываться
на институционализации конфликта противоборствующих интересов.
Единое национальное движение должно представлять весь народ —
и преодолевать конфликты интересов между социальными группами
внутри народа. Классовые конфликты, профессиональные интересы
необходимо не примирять, а превосходить. Звучит красиво — но у этого прекрасного идеала есть своя темная сторона (намного подробнее
мы обсудим ее в следующем томе). В любом государстве найдутся
меньшинства со своими отличительными культурными особенностями. У некоторых из них есть культурные связи с тем или иным
иностранным государством, где их этничность доминирует, которое
они считают своей родиной. Органические националисты смотрят
на таких людей с подозрением. Им представляется, что лояльность
представителей меньшинств неполна, а значит, они не могут быть
полноправными членами нации. Так органические националисты
приходят к вере в существование: 1) общего национального характера,
души или духа, отличного от духа других народов; 2) исключительного
права государства на выражение этого духа нации; и 3) права исключать меньшинства с иными национальными характерами, которые
только ослабляют нацию.
Все это знакомая нам история «двойного подъема» наций и современных государств — история, к описанию которой и я при-
Введение: формирование сильных национальных государств
59
ложил руку (см. Mann, 1986, 1993: гл. 10–11). Однако укрепление
внутренних национальных связей шло одновременно с развитием
транснациональных межгосударственных отношений — индустриального капитализма и таких сопутствующих ему идеологий, как
либерализм и социализм, а также с расширением культурных связей, подпитываемых представлением о европейской/христианской/
«белой» коллективной идентичности. Собственность повсюду оставалась преимущественно частной. Ни одно государство практически
не вмешивалось в экономику, за исключением протекционистских
тарифов на импорт, развития коммуникаций (особенно железных
дорог) и регулирования банковской деятельности. В европейской
глубинке потихоньку складывалось понятие государственных фондов
развития, однако до 1914 г. эти фонды особой роли не играли. Таким
образом, даже в период бурного развития национального государства
экономика, по большей части, оставалась вне сферы его влияния.
Большего от государства почти никто не ожидал.
Не ожидали большего и политики. До 1914 г. левые в большинстве
своем были сторонниками децентрализованной демократии, а к государству относились амбивалентно. На крайне левом фланге остатки
якобинства уступили место глубокому недоверию ко всем существующим государствам и поддерживающему их национализму. Социалистическая идеология признавала лишь транснациональные классы
(хотя на практике случалось по-разному). Красноречивое молчание
Маркса о государстве после революции, его бойкие заявления о том,
что государство «отомрет», а национальности у рабочего класса
нет вовсе, — яркий пример тогдашнего равнодушия левых к новой
проблематике национального государства. Марксисты надеялись
воспользоваться государством для изменения формы собственности, а затем от него отказаться. Анархо-синдикалисты считали, что
вопрос государства для левых безопаснее вообще обходить стороной.
В сущности, левые хотели, чтобы государство боролось с бедностью
и вводило бесплатное образование. Однако довоенные социальные
реформы проводили, как правило, не социалисты, а «буржуазные»
леволибералы, в государстве чувствовавшие себя как дома. Так что
увеличения мощи государства в целях экономического, культурного
и нравственного развития желали не марксисты или левые синдикалисты, а немецкие «социалисты на [профессорской] кафедре»,
60
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
британские «новые либералы», французские республиканские радикалы, русское либеральное земство. Но для всех них увеличение роли
государства было неотделимо от роста демократии. Деспотические
функции государства они стремились сократить.
Иначе обстояло дело на правом фланге, в крайних нацио
налистических движениях, возникших еще до 1914 г. Они требовали от старых режимов национальной мобилизации для победы над
разрушительными силами либерализма и социализма. Штернхелл
подчеркивает: многие фашистские идеи имели хождение и до 1914 г.
Однако, хоть они и увлекали некоторых интеллектуалов, массовости
им недоставало; массовое движение изначально принадлежало левым
партиям, успех которых затем удалось скопировать некоторым националистам. Старые режимы и церкви, контролирующие большинство государств, и в них — большинство избирателей, на массовую
мобилизацию смотрели с подозрением. Народ безмолвствовал; от его
имени говорили элиты. Как подчеркивает Эли (Eley, 1980), правые
националистические группы влияния в Германии начинали тревожить
местных консерваторов и дестабилизировать немецкую внешнюю политику, однако роль их во внутренней политике была куда скромнее.
Самое массовое националистическое движение сложилось, быть может, в Австрии (Schorske, 1981: гл. 3). Хотя функции государства расширялись, большинство консерваторов вряд ли видели в государстве
нечто большее, чем способ поддержания порядка и присоединения
новых территорий. Правые, как и левые, не видели в государстве
«носителя нравственного проекта» (по звучному определению Переса-Диаса). Националисты начинали преследовать меньшинства,
раздавались голоса с требованием увеличить инфраструктурную
власть государства. Деспотизм и авторитаризм воспринимались как
характеристики «старых режимов», которые неизбежно отомрут с наступлением нового века. Немногие в 1914 г. могли бы предвидеть не
только наступление фашизма, но и появление новых авторитарных
государств.
Если бы Европе удалось сохранить мир, безусловно, расширение
функций государства и его инфраструктурной власти продолжалось
бы. Индустриальный капитализм по-прежнему нуждался бы в помощи государства. Получение избирательных прав рабочими и женщинами усилило бы социальную политику. В любом случае, сложился
Введение: формирование сильных национальных государств
61
бы умеренный национал-этатизм, на полупериферии дополненный
официальными идеологиями «догоняющего развития». Но вмешалась
Великая Война. Она милитаризировала национальное государство
и предложила экономическую модель того, как государственное
планирование и активное вмешательство государства поможет достичь экономического успеха. Она предложила парамилитаристскую
модель коллективного общественного действия, ослабила традиционный консерватизм, уничтожила главных соперников национального
государства — многонациональные империи, усилила агрессивный
национализм, направленный против «врагов». С приходом к власти
в 1916 г. Ллойд-Джорджа, Клемансо и Людендорфа стало ясно,
что новая война будет тотальной — не войной дворянских старых
режимов, а схваткой целых народов, отмобилизованных войной
и военной экономикой. Промышленники, профсоюзные лидеры,
гражданские чиновники, генералы, политики стали винтиками одной
государственной машины. В России, Австро-Венгрии и Италии это
свершилось не слишком эффективно, и вина за это была возложена
на мощь старых режимов (а также «непатриотическую» позицию
местных социалистов). Даже невоюющие страны Северной Европы
из-за блокады и подводной войны вынуждены были обратиться
к жесткому государственному регулированию (в том числе к вводу
продовольственных карточек — самому красноречивому примеру
вмешательства государства в экономику). В Европе лишь нейтральные
Испания и Португалия продолжали жить как прежде, сохраняя старые режимы и слабую государственность. Во всех остальных странах
свободный рынок и частное предпринимательство были подчинены
общенациональным целям. Так родился современный этатизм, а с ним
и современный национализм.
После войны мобилизационные структуры военного времени
были демонтированы, но инфраструктурно мощное государство
осталось нетронутым. Было расширено избирательное право, ожидалось, что правительства возьмут на себя борьбу с послевоенной
безработицей и жилищным кризисом. К политическому гражданству
добавилось гражданство социальное. Среди технократов, в том числе
экономистов, набирали популярность амбициозные идеи социального
переустройства и экономического развития. На левом фланге со
циалисты возобладали над анархо-синдикалистами (за исключением
62
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
нейтральной Испании) и начали рассматривать и революцию, и реформы как действия государства. Довоенные представления о развитии демократии в обход государства теперь казались бессмысленными.
В России война, а затем Гражданская война превратила большевиков
в ярых государственников. В других местах либерализм мутировал
в социал-демократию, исповедовавшую умеренный этатизм.
Но наиболее драматически развивались события на правом фланге.
Правые, в основном под этатистскими лозунгами, пришли к власти
в половине стран послевоенной Европы. Возвышение их стало полной
неожиданностью — ведь мирные соглашения 1918 г. заключали либералы. Президент Вудро Вильсон провозглашал пришествие «мировой
демократической революции». Версальские миротворцы расчленили
Австро-Венгрию и отчасти Российскую и Османскую империи на
дюжину предположительно демократических государств. Правили
в них, как и встарь, титульные народы, однако права меньшинств
гарантировались в конституциях. Некоторые либералы и социалисты
надеялись даже, что вскоре этому примеру последует и остальной
мир — колонии и зависимые государства. Казалось, воцарился новый
мировой порядок — эпоха умеренных демократических национальных
государств.
На первый взгляд так оно и было. Окончилась послевоенная смута, и Европа устремилась по пути прогресса. К концу 1920-х из всех
двадцати восьми европейских государств лишь в одном не было конституции, узаконивающей парламентские выборы, партийную конкуренцию и гарантии для меньшинств. Правда, не везде избирательное
право распространялось на женщин (а также на многих мужчин),
исполнительная власть часто вступала в конфликт с законодательной,
политическая практика нередко шла вразрез с конституционными
нормами. Но либеральная демократия оставалась идеалом — и, казалось, уже стояла на пороге. Даже единственное исключение, Советский Союз, позиционировал себя как более демократическую, истинно
демократическую страну. Перспективы умеренного национализма
были не столь радужными. Миллионы беженцев — национальных
меньшинств возвращались на родину под давлением своих бывших
государств (об этом я расскажу в следующем томе).
Но прежде всего все великие державы искренне верили, что XX век
пройдет под флагом либеральной демократии.
Введение: формирование сильных национальных государств
63
К концу ХХ века в Европе, как и на Западе в целом, либеральная
демократия действительно победила. Северо-запад Европы уже
много десятилетий остается твердо либеральным или социал-демократическим, как и политические институты (вначале — только для
белых) в основных бывших колониях. Последний из авторитарных
режимов юга Европы пал в 1975 г. Коммунистические режимы востока рухнули в 1989–1991 гг. К концу тысячелетия все европейские
страны стали формально многопартийными демократиями, хотя в некоторых посткоммунистических странах легитимность правительства
вызывает сомнения, а межэтнические противоречия порой выходят
на поверхность. И все же Югославия для большинства европейцев
выглядит чем-то чуждым и исключительным. Демократию оказалось
трудно экспортировать в другие части света, однако на Западе она
главенствует.
Но между 1920 и 1945 гг. либеральная демократия отступала и несла тяжелые потери в боях с авторитаризмом. К 1938 г. в пятнадцати
из двадцати семи парламентских стран Европы правили диктаторские
режимы: большинство из них выступали от имени единой органической нации и притесняли меньшинства. На карте 2.1 обозначены
годы переворотов и захвата власти. На других континентах четыре
бывшие британские колонии с большинством белого населения —
США, Канада, Австралия и Новая Зеландия — обладали демократией
только для белых (лишь в Новой Зеландии у большинства аборигенов
имелись представительские права; в Южной Африке и в Родезии
установились безупречные демократии, но только для белых). Две
крупнейшие азиатские страны, Китай и Япония, подпали под власть
авторитарных правительств; в Латинской Америке относительно
демократическими оставались лишь Уругвай, Колумбия и КостаРика, в остальных же странах форма правления была неустойчивой.
Таким образом, в межвоенный период в Европе сформировалось два
приблизительно равных по силам глобальных блока, либеральнодемократический и органически-авторитарный. Оба стремились
к большей инфраструктурной власти государства, но лишь последний
увеличивал и деспотическую власть. Дело окончилось тотальной
войной между ними. Как объяснить эту межвоенную победу авторитаризма в половине (но не во всех) более или менее развитых стран
Европы и мира? Ответ на этот предварительный вопрос необходим
64
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
нам для того, чтобы ответить на следующий: как возник фашизм?
Первые ключи к ответу дает нам карта Европы.
Карта 2.1. Две Европы между мировыми войнами
ГЕОГРАФИЯ: ДВЕ ЕВРОПЫ
На карте 2.1 — политической карте межвоенной Европы — мы отчетливо видим два субконтинента, «две Европы»: одну — либерально-демократическую, вторую — авторитарную. Эти две Европы
различаются и географически: одна занимает северо-запад материка,
вторая — центр, юг и восток. Кроме Чехословакии (лишь незначительно ограничивавшей в правах немецкое и словацкое меньшинства),
к либерально-демократическому блоку относились одиннадцать стран
северо-запада: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия,
География: две Европы
65
Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария
и Франция. Почти все остальные либеральные демократии в мире
представляли собой бывшие британские колонии. Таким образом,
либерально-демократический блок включал в себя три социогеографические зоны: «север», «англосаксов» и «нижние земли»11, связанные между собой морской торговлей и схожими политическими
и идеологическими особенностями. Во всех этих зонах еще до 1900 г.
утвердилось конституционное правление. Англосаксонский мир говорил по-английски; северные страны (кроме Финляндии) общались на
понятных друг другу языках одной языковой группы; и на всем этом
пространстве, кроме Франции, Бельгии и Чехословакии, элиты легко
могли разговаривать друг с другом на английском языке.
Все эти регионы, кроме Ирландии, были весьма деполитизированы. Десять из шестнадцати были в основном протестантскими.
В Бельгии, Чехословакии, Франции и Ирландии большинство было
католиками, в Нидерландах и Швейцарии две религии сосуществовали на равных. В блок входили все европейские страны протестантского большинства, кроме Германии, Эстонии и Латвии; а кроме
того, все протестантские страны, в которых за предыдущее столетие
резко ослабла связь между церковью и государством. В Нидерландах
и Швейцарии католическая церковь также была отделена от государства, а Бельгия, Чехословакия и Франция были достаточно секулярными католическими странами (чешская церковь вошла в конфликт
с Ватиканом). Как видим, северо-запад объединяла не только идея
либерально-демократического национального государства; его географическая связанность обеспечивала беспрепятственную циркуляцию
общих идеологий. Далее мы увидим, что эта культурная солидарность
оказалась весьма весомым фактором.
Большая часть органически-авторитарной «семьи» также представляла собой единый географический блок, хоть и разделенный
на два исторически различных социокультурных сегмента: «романо-средиземноморский» и «славянский/восточно- и центрально11
Термин «нижние земли» (Low Countries) традиционно используется в английском языке для обозначени Бельгии, Люксембурга и Нидерландов.
Однако М. Манн также включает в «нижние земли» Францию и, похоже,
даже Швейцарию. — Примеч. науч. ред.
66
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
европейский». Их языки сильно разнились, общего экономического
пространства не было. Однако эти страны (кроме большей части
Германии, Эстонии и Латвии) сохранили свои исконные христианские церкви: в этот блок входило большинство католических
стран и все православные страны в Европе. Кроме того, в этот блок
входили все европейские страны, не считая Ирландии, где церковь
сохраняла сильные связи с государством. Это культурное родство
в одних случаях и культурный антагонизм в другом во многом
определили специфику развития авторитаризма и фашизма на
этих территориях.
По «линии соприкосновения» двух Европ мы можем определить
и «зону разлома», обозначенную на карте. В основном она проходит
по границе между Францией и Германией. Эти две страны могли
склониться на ту или другую сторону. Франция могла стать авторитарной страной, Германия вполне могла сохранить парламентскую
систему, ведь борьба между демократическими и авторитарными
силами шла в обеих странах на протяжении десятилетий. Основные
довоенные теоретики протофашизма (Моррас, Баррес, Сорель) были
французами, и именно в довоенной Франции имелись сильнейшие
на всем северо-западе радикальные партии справа и слева. По мере
укрепления нацизма в Германии нарастала растерянность и раскол
в рядах французских консерваторов. Все громче звучали голоса
фашистов. Если бы в 1940 г. во Франции (естественно, не оккупированной) были проведены выборы, полуфашистская Французская
социальная партия (PSF) вполне могла бы получить больше 100 мест
в парламенте, полагает Суси (Soucy, 1991). Позднее в стране пользовался немалой поддержкой коллаборационистский режим Виши.
И наоборот: Веймарская республика была весьма демократична и при
других обстоятельствах могла бы и уцелеть. Исход политической
борьбы во Франции и Германии можно объяснить и географическими
факторами: политическая «сердцевина» каждой из этих стран находи
лась ближе к противоположному географическому блоку. Париж
и окружающая его провинция Иль-де-Франс находятся на севере,
наиболее экономически развитые районы Франции — на северо-западе. Франция была интегрирована и в северо-западную британсконидерландскую рыночную/демократическую/протестантскую зону,
а не только в более авторитарный католический юг. И напротив,
География: две Европы
67
сердце Германии лежало в Берлине и Пруссии, на востоке страны.
Немецкая история часто предстает как безостановочная экспансия
авторитарной Пруссии на более либеральный юго-запад и на северные
торговые порты.
В нашей книге «линия разлома» представлена также страной,
в которой борьба между демократией и авторитаризмом продолжалась дольше всего, — Испанией. В главе 9 мы увидим, насколько
ожесточенной и непредсказуемой была эта схватка. Были также и три
политически «пограничные» страны: в Финляндии, Чехословакии
и Австрии до 1934 г. мы обнаруживаем своего рода несовершенные
демократии. Более того, авторитарные движения на северо-западе
имели успех лишь в этнически смешанных анклавах и регионах,
близких к пограничной зоне. Так, в многоэтничной Чехословакии
Судетская немецкая партия, опираясь на этнических немцев, получила 15 % парламентских мест на выборах 1935 г.; 10 % словацких
избирателей отдали голоса Глинковой партии. В многоязычной
Бельгии «Кристус Рекс» завоевал 11,5 % голосов в 1936 г. (в основном среди франкоязычных), а Фламандский национальный союз
(VNV) — 7,1 %. Но в 1939 г., когда лидеры «Кристус Рекс» открыто
объявили себя фашистами, поддержка избирателей упала до 4,4 %, та
же судьба постигла VNV, когда их поддержали финансами немецкие
нацисты. Финское движение Лапуа (IKL) воспользовалось плодами
победы правых в гражданской войне и антисоветским ирредентизмом,
в результате чего эти финские радикалы получили 8,3 % голосов
в 1936 г., но в 1939-м этот результат упал до 6,6 %. В религиозно
разделенной Голландии NCB выиграла 7,9 % голосов в 1935 г., но потеряла всякую популярность в 1939-м, когда сблизилась с Гитлером.
В отличие от юга и востока Европы, эти авторитарные движения
никогда не пользовались массовой поддержкой, но все же обладали
некоторым влиянием.
Однако чем дальше на северо-запад, тем меньше голосов получали авторитаристы. Фашистов и их попутчиков ждал полный
провал в Норвегии, где они набрали 2 %, в Швейцарии — 1,5 %,
и оглушительное поражение в Британии, Ирландии, Исландии,
Швеции, Дании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, где они
никогда не набирали более 1 % голосов (Lindstrom, 1985: 115; Linz,
1976: 89–91; Payne, 1980: 126–135; 1995: 290–312). Хотя некоторые
68
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
интеллектуалы и элиты (я упоминал о них в главе 1) заигрывали
с фашистскими идеями, хотя не смолкало недовольное брюзжание по
поводу «слабостей» и противоречий парламентской демократии, тем
не менее пусть местные консерваторы и не брезговали популизмом,
оставались на твердых демократических позициях: они довольствовались тем, чтобы мобилизовать массы на позициях умеренного
национализма, религиозности, почтения к традициям и притязаний
на более умелое управление капиталистической экономикой (Mann,
1993). Консерваторы сопротивлялись авторитарным правым, социал-демократы — революционерам. И те и другие уживались вместе,
разрешая конфликты демократическим путем, что в конечном счете
укрепляло демократию.
Однако в центре, на юге и на востоке континента авторитаристы
процветали. На свободных выборах в Австрии, Германии и Испании
они набирали почти 40 % голосов. На полусвободных выборах в Восточной Европе — одерживали убедительные победы. Будь фашисты
там лучше организованны, они набирали бы еще больше голосов (что
и происходило в Венгрии и Румынии, как мы увидим в главах 7 и 8).
Эти победы авторитаристов невозможно объяснить привлечением
административного ресурса или каким-то принуждением на выборах. Здесь, в отличие от стран северо-запада, у них действительно
была мощная народная поддержка. В самом деле, существовали две
Европы: одна — твердая либерально-демократическая, вторая —
с выраженными симпатиями к органически-авторитарному взгляду
на национальное государство, и неустойчивая «пограничная зона»
между ними.
Мощность этих географических блоков заставляет меня усомниться в трех наиболее распространенных объяснениях авторитаризма
и фашизма. Первое из них считает каждую страну уникальной, и предлагаемое им объяснение оказывается в конечном счете «националистическим». Мощь национального государства обращает внимание
многих ученых вовнутрь, на одну лишь страну — чаще всего, их собственную. Они начинают ссылаться на «национальные особенности»,
например, на Sonderweg, некий «особый путь» немцев к нацизму.
Испанские историки обожают толковать о славных временах Siglo
de Oro («золотого века»), за которыми последовал упадок империи:
загнивание церкви, засилье армейского влияния, регионализм, мяте-
География: две Европы
69
жи на юге и так далее. Если бы я читал по-албански, то, несомненно,
и у албанских авторов нашел бы что-нибудь об уникальной предрасположенности албанцев к тоталитаризму. Верно, местный колорит
объясняет детали развития каждой страны. Нацизм имеет характерно
немецкие черты, франкизм — характерно испанские. Ни в какой иной
стране их вообразить невозможно. Однако на карте 2.1 мы видим отчетливые макрорегиональные закономерности поверх национальных
границ. Это означает, что Испания могла стать авторитарной, Албания, скорее всего, тоже, а вот Ирландия нет. В Ирландии существовала
мощная и реакционная католическая церковь, в 1920-е гг. в стране шла
настоящая гражданская война. Однако Ирландия находится на северо-западе; в ней действовали британские демократические институты,
она говорила на одном языке с демократическими Великобританией
и США и обменивалась с ними населением. В отличие от албанцев,
ирландцы обитали в центре демократической цивилизации. Вот
почему враждующие армии эпохи гражданской войны в Ирландии
затем превратились во враждующие политические партии — и эти две
партии главенствуют в ирландской политике и по сей день. Конечно,
нам нужны детали — и в соответствующих главах они появятся в изобилии; но нужен и более широкий макроанализ.
Второй подход также скрыто националистичен. Он делит Европу
на национальные государства и рассматривает каждое как отдельный случай в многовариантном сравнительном анализе. К примеру,
берется статистика по странам, и с ее помощью доказывается, что
фашизм развивался в отсталых странах или в странах, где быстро
распространялось университетское образование. Такой статистикой я не премину воспользоваться позже. Однако сам метод упрямо
опровергает география, с которой мы уже познакомились. Неужто все
отсталые страны или все страны с множеством университетов на карте
слеплены в единый ком? Очень вряд ли. Скорее география сблизила
эти страны, помогла им наладить коммуникационные потоки, так что
определенные идеологии легче распространялись в определенных
географических регионах, независимо от их уровня развития или
количества студентов.
Третий подход, по сути региональный, рассматривает как каузально значимые макрорегиональные культуры: «средиземноморскую»,
«восточно-европейскую», «центрально-европейскую» и так далее.
70
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
Например, этот подход верно отмечает, что органический национализм, основанный на расистском антисемитизме, был свойствен
лишь Центральной и Восточной Европе, а на Южную практически
не распространялся. Однако авторитаризм в целом имел куда более
широкое распространение. Он подчинил себе половину Европы. Он
не был «особым случаем Центральной Европы», как заявляет Ньюмен (Newman, 1970: 29–34), или «запоздалым развитием Восточной
Европы», о чем пишут Янош (Janos, 1989) и Беренд (Berend, 1998:
201, 343–345), или даже «тупиковым развитием региона», о чем нам
сообщает Грегор (Gregor, 1969: xi-xiv)12. Все эти макрорегиональные
теории в чем-то справедливы, однако фашизм представляет собой
сразу и более широкое, и более локальное явление, чем видится
теоретикам-регионалам. Обратим внимание, что пять основных фашистских режимов (в Германии, Австрии, Венгрии, Румынии и Ита
лии) были разбросаны по всему континенту и не зависели от уровня
развития этих стран. Нам необходимо найти более универсальное
объяснение авторитаризма и, возможно, более частное — фашизма.
Сначала я рассмотрю первую переменную: типы режима.
ТИПЫ АВТОРИТАРИЗМА
Основная проблема лежит здесь в области политической «правизны». Во всей «Большой Европе» левым авторитарным государством
был лишь Советский Союз. Все прочие авторитарные режимы
воспринимались как политически правые — хотя, как мы увидим
далее, для фашизма понятие «правизны» весьма двусмысленно.
У этих режимов были определенные общие черты. Все они поклонялись порядку и защищали частную собственность; все почитали
авторитарное государство, отвергали федерализм, демократию
12
Грегор ждет, что ему предсказуемо возразят: «А как же Германия?» (высокоразвитая, но при этом фашистская), но этот тезис он парирует странным
предположением о том, что Германия «отождествляла себя с подающими
надежды революционными странами», на что, по его мнению, повлиял
«травматичный опыт» войны и ее последствия.
Типы авторитаризма
71
и их предполагаемые пороки: беспорядочную классовую борьбу,
коррумпированность политиков, моральное разложение13. Также
все они приходили к органическому национализму. Нация должна
быть «единой и неделимой», очищенной от тех, кто подрывает национальное единство. Поэтому эти режимы подавляли социалистов
и либералов, сторонников интернационализма, а также этнические,
региональные и религиозные меньшинства, которых подозревали
в лояльности к другим странам. Большинство авторитаристов полагались на военную и полицейскую силу старых режимов; фашисты
предпочитали собственные парамилитарные формирования. Однако,
отвергнув мирные компромиссы между разномыслящими, все они
неизбежно выбирали путь насилия — военного или парамилитарного — для решения политических проблем.
Однако члены этой семьи сильно различались между собой (общие обзоры см. Polonsky, 1975; Payne, 1980; Lee, 1987; Berend, 1998).
Некоторые исследователи делят их на две группы: собственно «фашистов» — и намного большую группу, которую именуют либо
«авторитарными консерваторами», либо просто «авторитаристами»
(Linz, 1976; Blinkhorn, 1990). Но этого недостаточно. Во-первых,
хотя такое определение и признает, что фашизм представляет собой изменение ориентации, специфическое сочетание «правизны»
с радикализмом, но не видит в этом конечную стадию более широкой
проблемы, с которой сталкиваются правые: необходимости справиться с организованным политическим давлением масс. Современный
авторитаризм отличается от деспотических режимов прошлого тем,
что старается вобрать и впитать в себя массовые движения снизу:
именно это характерно для всей политики XX века. Во-вторых, группа «авторитаристов», выделяемая этой классификацией, слишком
велика и разнородна. Так, режим Франко, часто расплывчато называемый «авторитарно-консервативным», хладнокровно уничтожил
не менее 100 тысяч человек. Режим Метаксаса в Греции, носящий то
13
У некоторых фашистов были надежды на демократизацию: они надеялись
на расширение влияния рядовых членов партии (Linz, 1976: 21). Вождь,
с их точки зрения, должен был воплощать «всеобщую волю» движения.
Но такие квазидемократы внутри всех фашистских движений потер
пели крах.
72
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
же название, едва ли погубил больше сотни14. В-третьих, с течением
времени эти режимы становились жестче. Необходима более четкая
классификация, показывающая, как менялся авторитаризм от страны
к стране и от эпохи к эпохе. Исследуя семью авторитарных режимов,
я выделяю в ней четыре степени авторитаризма. Разумеется, четких
и однозначных границ между ними нет: в любом делении на типы
есть элемент произвольности, к тому же каждый тип включает в себя
очень разные режимы. Стоит помнить также, что речь о режимах, а не
о движениях. Как отмечает Каллис (Kallis, 2000), режимы не просто
выражают ту или иную идеологию. Они воплощают в себе процессы,
которые он называет политической консолидацией, политическим
формированием и стремлением к переменам. Режим — это не только
идеология, но и политическая практика (см. Paxton, 1998)15.
ПОЛУАВТОРИТАРНЫЕ
РЕЖИМЫ
Это были наиболее консервативные и умеренные режимы. Они
стремились придерживаться методов управления конца XIX века.
По существу, это были «двойные государства», в которых значитель14
15
Очевидно, что это разграничение возникло под влиянием американской
внешней политики времен окончания холодной войны, когда различались
дружественные «авторитарные» режимы (многие из которых были весьма
жесткими) и враждебные «тоталитарные» коммунистические правительства (некоторые из которых были мягче «авторитарных»). Решающим
критерием на деле была не степень авторитарности, а ярлык капиталистического или коммунистического государства, который навешивало
правительство США (и американский крупный бизнес), таким образом
отделяя «своих» от «чужих».
Пэйн (Payne, 1980; 1995: 15) разграничивает «правоконсерваторов», «праворадикалов» и «фашистов», и эта типология напоминает мою. В средней
категории, в общем и целом, у него сливаются два моих промежуточных
типа. При этом он относит к «консерваторам» некоторых из тех, кого я поместил в промежуточные категории (напр., Салазара, Сметону, короля
Румынии Кароля).
Полуавторитарные режимы
73
ной властью обладали и выборная законодательная ветвь, и неизбираемая исполнительная — отсюда название «полуавторитарных».
Давление снизу отклонялось при помощи манипуляций выборами
и парламентами. Исполнительная власть фальсифицировала результаты выборов, покупала депутатов, назначала кабинеты, расправлялась с «экстремистами». Однако за парламентами, судами
и прессой сохранялась определенная свобода. В этой категории
преобладали монархии, дополненные традиционными, лояльными
монарху консервативными и либеральными партиями. Этатизм
здесь означал лояльность существующему «старому режиму».
Национализм, едва ли органический, власть держала в узде. Политических врагов запугивали, бросали в тюрьмы, но убивали
крайне редко — если не считать краткий послевоенный период
революционной смуты. Ощутив себя в целом в безопасности,
режимы перестали полагаться на убийства и, в частности, не потворствовали еврейским погромам: евреи были для них полезны.
Некоторые из них использовали распространенные предрассудки
против меньшинств, однако, как правило, эти режимы всего лишь
дискриминировали меньшинства, не стремясь их изгнать или уничтожить. Армии их были достаточно сильны, но внешняя политика
оставалась осторожной. Налоговая и социальная политика также
были консервативными, прокапиталистическими. Эти режимы
противостояли и демократии, и модернизму.
Примеры таких режимов в межвоенный период: Греция вплоть
до переворота Метаксаса, румынские режимы 1920-х и начала
1930-х, испанский режим Альфонсо XIII до 1923 г., режим адмирала Хорти и графа Бетлена в Венгрии 1920-х, христианско-социалистическое правительство канцлера Зейпеля в Австрии конца
1920-х, дофашистские итальянские правительства Саландры и Сонино, донацистские режимы Брюнинга, Шлейхера и фон Папена
в Германии. Фашистские идеологии имели на них мало влияния;
как правило, они оставались умеренными и прагматичными —
в сравнении с тем, что за ними последовало. Но ни один из них не
продержался долго.
74
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
Полуреакционные авторитарные режимы
Итак, старый режим (опирающийся на монархию, армию и церковь) противодействует давлению снизу, ужесточая репрессии. Он
упраздняет или лишает силы законодательную власть, тем самым
покончив с упомянутым выше двоевластием. Репрессии чередуются
с дискриминационными мерами против «козлов отпущения» — левых, меньшинств, евреев. Режимы все еще боятся масс. Однако уже
делают ограниченные модернистские шаги — поэтому я и называю
их «полуреакционными». Они начинают присматриваться к органическому национализму, хоть пока и опасаются мобилизовать
народ под его знаменами. На них начинает оказывать влияние идеология фашизма. Некоторые (напр., Салазар, Пилсудский, Примо
де Ривера), по примеру Муссолини, культивируют власть одной
партии, однако партии, контролируемой сверху: задача ее — не
возбуждать массы, а приручать. Могут возникать парамилитарные
формирования, однако скорее для парадов, чем для боев; монополия
на военное насилие по-прежнему остается за армией. Внешняя политика остается осторожной, внутренняя — прокапиталистической,
но становится явно модернизационной. Примо де Ривера и Пилсудский даже пытались провести социальные реформы, но этому
воспротивились их консервативные сторонники: в результате Примо де Ривера был свергнут (см. главу 9), а Пилсудский совершил
поворот вправо.
Таков был самый распространенный тип межвоенных режимов.
Примеры его — венгерское правительство адмирала Хорти и других
(см. главу 7), румынская «управляемая» демократия короля Кароля в 1930-х (глава 8), режим генерала Примо де Ривера, Испания,
1923–1930 гг. (он внес много корпоративистских элементов, см. главу 9), генерала Пилсудского, Польша, 1926–1935 гг., милитаристские
режимы в Прибалтике (Сметона в Литве, 1926–1940 гг.; Ульманис
в Латвии, 1934–1940 гг.; Пятс в Эстонии, 1934–1940 гг.)16, режим
16
В эту типологию не вполне укладываются страны Балтии. Поскольку
у них до 1918 г. не было государственности, а после не было монархов,
авторитарных правителей этих стран нельзя в строгом смысле назвать
«реакционерами». Однако эти три страны обнаруживают прочие признаки
Полуавторитарные режимы
75
короля Зогу в Албании, 1928–1939 гг., короля Александра и регента
Павла в Югославии в 1930-х, болгарского короля Бориса с 1935-го,
правление Метаксаса в Греции, 1936–1938 гг., Дольфусса в Австрии
с 1932 по 1934 г. (глава 6) и военная хунта в Португалии с 1928 по
1932 г.
Корпоративистские режимы
Около трети режимов дрейфовали дальше. Они стремились повысить
уровень этатизма, мобилизовать народ на основе органического национализма, с удвоенной силой лепили козлов отпущения из левых
и меньшинств. Наконец — и это важнее всего — они начали, часто
под давлением настоящих фашистских организаций, заимствовать
многое из фашистской идеологии и практики. Заимствования эти
касались скорее этатизма «сверху», чем парамилитаризма «снизу».
Слово «корпоративизм» передает этот образ единой иерархической
организации, хотя термин этот не вполне точен: он стремится сгладить противоречия, часто возникавшие между основными двумя составляющими системы, старорежимными авторитаристами и более
радикальными националистами. В целом прокапиталистические,
некоторые корпоративистские режимы развивали патриархальную
социальную политику и вмешивались в экономику, спонсируя ее
развитие (хотя другие предпочитали порядок и стабильность бурной
динамике капитализма). Опорой режима оставалась армия: монополия на военное насилие в целом сохранялась за ней, лишь малая часть
ее делегировалась парамилитарным формированиям. Во внешней
политике воинственная националистическая риторика сочеталась
с куда более осторожной практикой.
Примеры этого — полуфашистские режимы, в которых фашистские тенденции умерялись противоположными: «монархо-фашизм»
Метаксаса в Греции после 1938 г., «клерикальный фашизм», или
«австрофашизм» 1934 г. (см. главу 6), «монархо-фашизм» короля
Кароля в Румынии 1938 г., на смену которому в 1940–1944 гг. пришел
реакционных режимов. Наиболее умеренным среди них можно считать
Пятса. Его режим занял пограничную позицию между полу- и реакционным
авторитаризмом.
76
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
«милитаристский фашизм» генерала Антонеску (см. главу 8). А еще
был режим Виши во Франции, «радикально правые» правительства
в Венгрии (глава 7), режим Салазара с его deus, patria et familia («Бог,
родина и семья») и диктатура Франко, просуществовавшая до 1970-х.
Диктатура Метаксаса была среди них самой умеренной: молодежное
парамилитарное движение, корпоративистская риторика, массовые
аресты, но единичные убийства и очень скромное давление на меньшинства. Метаксас не давал спуску монархистам, но самого монарха
не трогал, а во внешней политике аккуратно лавировал между Германией и Великобританией (Kofas, 1983). Вне Европы в том же русле
действовала японская императорская власть, начиная с 1931 г. (хотя
в Японии имелись и элементы фашизма); к тому же стремился и Чан
Кайши, но ему недоставало инфраструктурной власти над Китаем.
Разумеется, я говорю об идеальных типах; в реальности границы
между ними были достаточно размытыми. Где-то — как, например,
в Венгрии и Румынии в конце 1930-х — сохранились парламенты,
хотя баланс сил решительно сместился в сторону исполнительной
власти. В Венгрии сохранился не только парламент. Вплоть до
1944 г. — уникальная ситуация для стран Оси — в этом парламенте
были депутаты-социалисты. Границы между реакционными и органически-корпоративистскими режимами, как и между последними
и фашистскими, также достаточно смазаны. Быть может, режим
Примо де Ривера был скорее корпоративистским, чем реакционным.
В режимах Франко и, в меньшей степени, Салазара фашисты часто
выполняли грязную работу; а Кароль, Антонеску и Хорти в какой-то
момент обнаружили, что фашисты стали самостоятельной силой в их
правительствах. Вообще же между корпоративистами и фашистами
шла ожесточенная борьба за власть.
Фашистские режимы
Фашизм представляет собой разрыв этого континуума, качественное
изменение: в нем, одновременно с усилением репрессивных функций
государства, к корпоративизму «сверху» добавляются парамилитаризм и электорализм «снизу». Расцвет парамилитаризма связан с очевидным упадком лояльности и сплоченности государственной армии.
Полуавторитарные режимы
77
Армия раскалывается, фашистские и парамилитаристские симпатии
многих военных подрывают дисциплину, угрожая монополии государства на военную силу. Так складывается основное противоречие
фашизма: противоречие между движением «снизу» — парамилитаризмом и опорой на демократические выборы, и движением «сверху» —
этатизмом, основанным на принципе лидерства. Это противоречие не
позволяло фашистским режимам, пришедшим к власти с помощью
старых элит, превратиться просто в ультраправые режимы и придавало им радикальный характер. В сущности, фашистские вожди
приходили из всех частей политического спектра, многие из них (как
Муссолини, Деа, Мосли) даже были прежде социалистами. Фашизм
поддерживал парамилитаризм внутри государства и милитаризм
за его пределами. Он активно вмешивался в экономику, воплощая
в жизнь фашистские теории экономического развития. Взаимо
отношения фашистов с консерваторами и капиталистами оставались
противоречивыми — но, по-видимому, и те и другие нуждались друг
в друге.
Примеров фашистских режимов у нас немного. Нацисты и итальянские фашисты — единственные, кто, придя к власти, успешно
удерживал ее на протяжении ряда лет. Австрия опережала остальные страны по массовости фашистского движения, однако там оно
было разбито на два противоборствующих течения: лишь с помощью
гитлеровской армии в 1938 г. австрийские фашисты смогли прийти
к власти. Венгерские и румынские фашисты пользовались широкой
поддержкой, но подвергались и суровым преследованиям. Им удалось
просочиться во власть и ненадолго взять верх над противниками
лишь в 1944 г., ближе к концу войны. Здесь (как и в случае Испании)
мы видим важность взаимоотношений между фашистами и другими
авторитарными правыми: фашистские перевороты основывались на
балансе сил между ними. Однако влияние фашизма распространялось
намного шире. Корпоративистские режимы, репрессируя реальных
фашистов, чтобы удержаться у власти, в то же время присваивали их
идеи. В условиях войны заигрывали с фашизмом и присоединялись
к странам Оси другие органические националисты: Глинкова партия в Словакии, усташи в Хорватии, националисты прибалтийских
стран, Белоруссии и Украины. Но, разумеется, важнее всего были
фашисты в Германии и в Италии. Их успех вдохновлял других. Марш
78
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
Муссолини на Рим в 1922 г. стал самой ранней победой фашизма, так
что далее все авторитарные режимы поневоле воспроизводили или
адаптировали к своим условиям итальянскую модель. Геополитическая власть Гитлера распространила влияние фашизма почти на
всю Европу, хоть и ненадолго. Гитлер развязал мировую войну, погубившую всех фашистов. Фашистские режимы не успели полностью
институционализироваться, и трудно сказать, как бы они выглядели,
проживи они подольше. Что в этом случае произошло бы с внутренне
нестабильным и оппортунистическим режимом Муссолини? Куда
завела бы Гитлера его неуклонная, пусть и несколько хаотическая
радикализация? Быть может, сложились бы стабильные корпоративистские/синдикалистские структуры? Говоря о фашизме как самом
крайнем проявлении авторитаризма, я сосредотачиваюсь не столько
на самих авторитарных режимах, сколько на предпосылках их радикализации. Меня интересует проблема фашизма: вопрос о том, как
и почему в рамках авторитарных режимов, описанных выше, появи
лись и набрали такую силу фашистские идеалы.
Моя типология порождает три главных вопроса: почему половина
Европы неуклонно двигалась в сторону все большего авторитаризма?
Почему авторитаризм переродился в фашизм лишь в нескольких
странах? И наконец, почему лишь в двух из них фашизм победил сам,
без поддержки извне? Далеко не все авторы четко разграничивают эти
вопросы. Чаще всего в ответ на все три ссылаются на серьезные общественные кризисы начала ХХ века: идеологический, экономический,
военный и политический. Далее мы увидим, что общий кризис лучше
всего объясняет подъем авторитаризма в целом, куда хуже — возникновение фашистских движений и совсем не объясняет успешный
захват власти фашистами.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ,
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Экономические отношения власти вызваны потребностью человека
добывать природные богатства, перерабатывать их, распределять
и потреблять для поддержания своей жизни. Это порождает эконо-
Экономическая власть, экономический кризис
79
мические институты и социальные классы, вырастающие из производительных и рыночных отношений, сотрудничающие и в то же
время конфликтующие друг с другом. Те, кто контролирует средства
производства и обмена, сосредотачивают в своих руках основные
рычаги власти, позволяющие им добиться значительной власти над
обществом в целом. Однако острый классовый конфликт может поставить их власть под сомнение. В то время и в том месте, которые
мы здесь обсуждаем, господствовал капиталистический способ производства в своей индустриальной фазе. Итак, я говорю о развитии
индустриального капитализма, о его классовых конфликтах, о мере
их ответственности за рост авторитаризма и фашизма.
Социально-экономические отношения в человеческих делах всегда
важны, но в нашу материалистическую эпоху социальная теория,
как кажется, порой прямо-таки одержима ими. Самые популярные
объяснения фашизма — экономические; я их подробно обсуждаю.
Фундаментальные причины авторитаризма и фашизма возводятся
к «отсталости» или «догоняющему развитию», непосредственные
причины — к экономическому кризису и обострению классовой борьбы. Все это, как считается, подрывало легитимность существующих
правительств и усиливало социальную нестабильность вплоть до
того, что авторитарные решения начинали казаться вполне приемле
мыми — особенно тем, у кого имелся доступ к средствам принуждения
и насилия. Я начну с фундаментальных причин.
1. Теория догоняющего развития полагает, что экономически
отсталые страны начали проводить авторитарную политику под
воздействием этатистских теорий догоняющего развития. В другом варианте того же аргумента авторитаризм восходит к национализму. Отсталые страны чувствуют, что развитые страны
их угнетают; от националистов раздается призыв «опираться на
собственные силы», в экономической политике начинают господствовать автаркия и протекционизм, что, в свою очередь, укрепляет
государство.
Такие теории подразумевают, что в экономике авторитарные
государства неудачливы; и зачастую это действительно так. Ученые
обрушили на наши головы терабайты социоэкономической статистики, чтобы доказать, что чем выше ВНП, урбанизация, народное
80
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
просвещение и так далее, тем демократичнее будет государство.
Корреляции между индексами развития и либеральной демократией обычно колеблется между r = .60 и r = .85. Возведя в квадрат
эти показатели, мы обнаруживаем, что уровень развития с погрешностью от одной до двух третей соответствует уровню либеральной
демократии — впечатляющий результат в макросоциологии, где
кросснациональная статистика по большей части удручающе неточна
и содержит много «грязи» (Rueschemeyer, Stephens, Stephens, 1992:
13–20; Maravall, 1997). Сравнения по Европе в период между двумя
мировыми войнами приводят нас к тому же заключению (Janos,
1989; Stephens, 1989; Gomez-Navarro, 1991). Справедливо ли это по
отношению к двум межвоенным географическим блокам, о которых
мы говорили выше?
В табл. 2.1 я оперирую четырьмя индексами социоэкономического
развития: ВНП на душу населения, доля экономически активного
населения, занятого в сельском хозяйстве, лесоразработках, рыболовстве, детская смертность и количество почтовых отправлений на
душу населения. ВНП является показателем экономического развития, избыточная занятость в сельском хозяйстве сигнализирует
об отсталости. Ни один из индексов не претендует на абсолютную
точность, поскольку качество статистики и категоризация меняются
от страны к стране. Детская смертность — простейший показатель
благосостояния, но следует учесть, что на него сильно влияет высокая смертность среди беднейших слоев населения17. Почтовые отправления (переписка) свидетельствуют об «истинной» грамотности
населения. На этот показатель воздействует урбанизация, поскольку
горожане чаще пишут письма. У каждого показателя есть свои особенности, но, взятые в комплексе, они дают достаточно достоверную
картину. Более развитые страны имеют больший ВВП, большее
количество почтовых отправлений, меньшую занятость в сельском
хозяйстве и более низкую детскую смертность. Относятся ли к ним
либерально-демократические страны?
17
До сих пор разницы в уровне смертности в городах и сельской местности
не наблюдалось (в отличие от XIX века).
25,4
17,3
36,8
36,9
35,3
64,6
35,6
52,1
20,6
33,4
35,5
36,0
21,3
6,0
22,0
31,9
Бельгия
Канада
Чехословакия
Дания
Финляндия
Франция
Ирландия
Голландия
Новая Зеландия
Норвегия
Швеция
Швейцария
Великобритания
США
Среднее
Занятые
в сельском
хозяйстве (%)а
Австралия
Страна
967
1,658
1,038
1,265
897
1,033
1,008
662
982
590
945
586
1,203
1,098
567
ВНП
на душу
населенияb
73
67
69
54
59
49
36
52
68
97
84
81
146
90
94
53
125
227
146
161
88
55
215
137
67
153
29
78
76
96
179
161
Почтовые отправ
ления на душу
населенияd
1. Демократии
Уровень
детской
смертностис
Таблица 2.1. Статистика по авторитарным и демократическим странам
12,8
29,5
8,1
8,0
9,2
8,3
9,1
16,7
11,0
6,5
2,9
18,2
30,1
7,9
13,4
Степень эко
номического
кризиса (%)e
18,8
22,9
15,6
(4,7)
23,3
11,3
(10,2)
11,9
15,4
(6,2)g
31,7
17,4
19,3
19,0
19,1
Пиковый уро
вень безрабо
тицы (%)f
Экономическая власть, экономический кризис
81
29,3
79,8
59,0
29,0
53,7
53,0
46,8
43,0
66,2
76,7
65,9
55,0
77,2
56,1
78,1
57,9
Болгария
Эстония
Германия
Греция
Венгрия
Италия
Япония
Латвия
Литва
Польша
Португалия
Румыния
Испания
Югославия
Среднее
Занятые
в сельском
хозяйстве (%)а
Австрия
Страна
Продолжение
352
341
445
331
320
350
(69)
(115)
(208)
517
424
390
770
(95)
306
720
ВНП
на душу
населенияb
159
147
126
184
142
145
138
120
177
94
89
149
120
48
35
33
21
23
32
47
60
59
41
20
94
51
147
Почтовые отправ
ления на душу
населенияd
2. Авторитаризм
Уровень
детской
смертностис
12,4
11,9
20,4
6,2
22,3
4,5
6,1
9,4
8,2
16,1
8,6
22,5
Степень эко
номического
кризиса (%)e
16,7
(6,8)
(15,5)
30,0h
30,1
16,3
Пиковый уро
вень безрабо
тицы (%)f
82
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
Экономическая власть, экономический кризис
83
a) Процент рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве, ок. 1930 г. Цифра по Чехии со
ответствует 1930 г. и относится к территории до 1945 г.; цифра по Португалии ис
правлена; цифра по Испании дана по 1920 г.
b) ВНП от 1929 г. исчисляется в долларах США от 1960 г. Источник: Bairoch, 1976: 297;
Mitchell, 1993; данные по Эстонии, Латвии и Литве приводятся по Latvian Economist
1933, оценки национального дохода исправлены с повышением на 15 % (эти цифры все
равно кажутся слишком низкими).
c) Детская смертность на тысячу населения по 1928 г. Обратим внимание, что смерт
ность среди только негритянских детей в США составляла 106 человек. Источник:
Mitchell, 1993; 1998.
d) Количество почтовых отправлений на душу населения. Источник: Mitchell, 1993; 1998.
e) Максимальное падение ВВП в процентах за период 1922–1935 гг. в постоянных ценах.
Источник: Mitchell, 1993; 1995; 1998; Lethbridge, 1985: 538, 571, 592. Цифра по Польше —
оценочная.
f)
Самый высокий уровень довоенной безработицы. Источник: Maddison, 1982: 206;
Newell, Symons, 1988: 70; Toniolo, Piva, 1988: 230; Garside, 1990: 5; Mitchell, 1993; 1995; 1998.
Эти цифры не внушают никакого доверия, поскольку статистика безработицы в ма
лоразвитых странах, как правило, сфальсифицирована. Цифры, которые мне показа
лись слишком низкими, я помещаю в скобки.
g) Все цифры в скобках, скорее всего, недостоверны. Я не включаю их в подсчет среднего
арифметического значения.
h) Только занятые в промышленности.
В целом таблица отвечает «да». Демократии стабильно опережают
авторитарные страны по двум или трем индексам18. Большинство
демократических стран превосходит авторитарные по всем четырем
измерениям, поскольку северо-запад Европы в целом развит лучше
юго-востока. Однако есть и заметные отклонения. Все четыре немецких и три из четырех австрийских индекса показывают, что перед
нами развитые страны. Чехословакия, Финляндия и Ирландия экономически — «промежуточные» страны между двумя Европами; то
же положение занимали они и политически. В целом, за исключением
двух немецкоязычных стран, зависимость очевидна. При всех уточнениях, которые я сделаю позже, рост авторитаризма в межвоенной
Европе был именно проблемой менее развитых стран.
18
Я не пытался установить степень демократизации или авторитарности.
Такие параметры, как выборы и конституция, плохо стыкуются с нередко
фиктивным характером органов у режимов межвоенного времени; кроме
того, позиции стран на востоке и юге с течением времени менялись.
84
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
Однако таблица показывает, что в отношении фашизма это неверно. Некоторые утверждают, что в очень отсталых странах, где не
было ни развитой экономики, ни развитого общества, потребных
для эффективной мобилизации масс, фашизм развиться не мог. Самым отсталым странам, говорят они, оставалось лишь полагаться на
традиционные старые режимы, монархические или военные; самое
большее, чего они могли достичь, — корпоративизм (Gomez-Navarro,
1991). Райли (Riley, 2002) доказывает, что фашистская массовая мо
билизация требует гражданского общества — переворачивая, таким
образом, обычную либеральную теорию гражданского общества,
в которой оно выступает предпосылкой для демократии. Эти авторы
полагают, что фашизм лучше развивался в более развитых странах,
с густой сетью рынков и общественных движений. Однако табл. 2.1
показывает, что крупнейшие фашистские движения мы обнаруживаем
на всех уровнях развития: в высокоразвитых Австрии и Германии,
промежуточной Италии, отсталых Венгрии и Румынии. По-видимому,
с уровнем экономического развития фашизм не связан.
«Модернизационная» и марксистская теоретические школы
утверждают, что экономическое развитие приводит к демократии,
проводниками которой становятся передовые социальные классы.
Опираясь на традицию, восходящую к Аристотелю, такие теоретики
модернизации, как Липсет (Lipset, 1960) и Хантингтон (Huntington,
1991: 66–68), считают, что экономическое развитие увеличивает численность среднего класса, что благотворно для демократии. Их мнение
разделяет и марксистский автор Баррингтон-Мур (Barrington-Moore,
1966): он пишет, что буржуазия (а также свободное крестьянство)
стали в Европе раннего нового времени проводниками либеральных
реформ. В более близкие к нам времена другие марксистские исследователи, в особенности Руэшмайер (Rueschemeyer et al., 1992),
оспорили это утверждение.
Они показывают, что средний класс скорее плетется в хвосте демократизации, чем возглавляет ее, что он может быть как про-, так
и антидемократичным. По их словам, главная сила демократизации —
рабочий класс, а главные противники демократии — крупные землевладельцы. Следовательно, капиталистическая индустриализация,
увеличивающая число рабочего класса и сокращающая количество
крупных землевладельцев, действует на благо демократии. Стивенс
Экономическая власть, экономический кризис
85
(Stephens, 1989) объясняет межвоенный авторитаризм в основном
как результат конфликта между демократическим рабочим классом
и капиталистами, особенно сельскими, которые в конце концов прибегли к авторитарным репрессиям. Этот аргумент не нов: чем больше
социальная группа, склонная к мобилизации, тем настоятельнее она
требует расширения прав и свобод. Сперва гражданских прав для
себя добился средний класс, затем рабочий — и это, как и во время
революции 1848 г., заставило некоторые группы среднего класса, вытесненные на обочину, разочароваться в демократии.
Добавлю еще одно. Политическое прошлое класса может определять его поведение в дальнейшем. Рассмотрим крупных землевладельцев. В довоенной Европе они, как указывает Баррингтон-Мур,
были главной политической силой: именно они управляли обществом.
Но в межвоенный период, после индустриализации и земельной
реформы, они сохранили свое влияние лишь в таких отсталых регионах, как Венгрия или Андалусия. Куда меньшую экономическую
роль играли крупные землевладельцы в Веймарской Германии, еще
меньшую — в Румынии. Однако землевладельцы часто сохраняли
контроль над исполнительной властью, особенно над офицерским
корпусом и министерствами внутренних дел. Связано это было с тем,
что за долгие годы «старого режима» земельная аристократия прочно
закрепилась на верхних этажах власти через родственные узы с правящими домами Европы, пропитала собой бюрократические элиты,
армейское командование и церковь. Майер подчеркивает, что старые
режимы благополучно дожили до 1920–1930-х, сохранив военную,
политическую и идеологическую власть, хотя экономическая власть
их поблекла. Далее мы увидим, что и авторитарные правые, и собственно фашисты были связаны со старыми режимами куда теснее,
чем с узко определяемыми классами собственников.
Любберт (Luebber, 1991) подчеркивает два важных фактора,
оставшихся в наследство от довоенного периода: мощь либеральных
политических партий и мобилизованность крестьянства. Он отмечает, что сильные либеральные политические традиции склоняли
колеблющихся на демократические позиции, а их отсутствие толкало
сомневающихся в авторитарный лагерь. Если же крестьянство не
было уже организовано, межвоенные попытки социалистов его организовать отчуждали мелких земельных собственников и толкали их
86
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
вправо (как показывает Хеберле (Heberle, 1964) в своем классическом
исследовании Шлезвиг-Гольштейна). Я разделяю первый аргумент
Любберта, но хочу внести коррективы во второй.
Классы — полезные теоретические конструкции, когда мы оперируем эмпирическими индикаторами. В исторических исследованиях
индикаторов нам зачастую не хватает. Так, изучая конец XIX — начало
ХХ века, мы собираем информацию о таких организациях, как проф
союзы и политические партии, а также статистику по голосованию.
Но экзит-поллов или опросов общественного мнения вплоть до 1945 г.
мы почти не встречаем. Никто из авторов, процитированных выше,
не пытался провести и экологический анализ голосования19. Они
приводят лишь общую электоральную ориентацию и исследуют те
организации, которые считают выразителями классовых интересов:
социалистические партии и профсоюзы представляют рабочий класс,
консервативные партии и союзы работодателей — промышленную
и земельную буржуазию и так далее. Но отождествлять класс и организацию — дело рискованное. Немногим межвоенным профсоюзам
удавалось объединить более четверти рабочих, а успешные консерва
тивные партии очень часто опирались именно на пролетариев, а не
на другие социальные группы, поскольку рабочих в индустриальную
эпоху было очень много. Многие социальные факторы существовали
поверх классов: экономический сектор, регион, религия, гендер, поколение. Экологический анализ голосования выявляет пролетарские
гетто — плотно заселенные рабочие кварталы, где левые партии
пользовались наибольшей поддержкой. Но далеко не все рабочие
жили и трудились в такого рода агломерациях. Для них могли быть
привлекательными либеральные и консервативные модели демократии, но также и авторитарные, недемократические и в особенности
фашистские взгляды. Такой же разброс политических предпочтений
был и у мелких фермеров: от демократических до антидемократических — в зависимости от сложных экономических обстоятельств
(а вовсе не из страха перед батраками, как уверяют некоторые исследователи). На политические взгляды также воздействовали региональ19
Экологический анализ голосования — анализ взаимодействия природных,
исторических, экономических, политических, социокультурных и других
факторов, влияющих на выбор избирателя. — Примеч. науч. ред.
Экономическая власть, экономический кризис
87
ные, этнические, религиозные и гендерные факторы. В предвоенный
период капиталистические организации (особенно аграрные) тяготели
к авторитаризму, а социалистические — к демократии, но это скорее
тенденция, чем общее правило.
С фашизмом классовая теория становится в тупик. Если другие
виды авторитарных режимов поддерживали в основном консерваторы,
стремившиеся мобилизовать и подчинить себе массовое движение, то
фашизм был движением популистским и «радикальным», в нем был
отчетливо слышен голос низов. Традиционные классовые объяснения
подходят для более консервативных форм авторитаризма куда лучше,
чем для фашизма. Нельзя сказать, что фашизм — явление внеклассовое. Но фашисты получали непропорциональный объем поддержки от
тех экономических секторов, где их обещание «превзойти» классовую
борьбу встречало живой и горячий отклик. Опору фашизма составили
люди из всех классов, жившие и работавшие вдали от основных полей
классовой борьбы современного общества.
Межвоенный период стал также временем роста этатизма. Авторитарные правительства не без оснований претендовали на роль локомотива общественного развития, например, боролись с безработицей, чем
более ранние абсолютистские режимы себя не утруждали. Это могло
вызывать симпатию у рабочих. Таким образом, привлекательность
либеральной демократии и авторитаризма для значительных групп
во всех классах общества могла меняться со временем, независимо
от уровня развития. Межвоенная Европа, в отличие от более ранней
и более поздней, отчетливо склонялась в сторону авторитаризма. Это
означает, что статистические различия, показанные в табл. 2.1, возможно, отчасти отражали связь капиталистического развития с демократией в прошлом. Эта возможность кажется самой вероятной, если
вспомнить о том, какие изменения в сравнении с прошлым претерпел
средний класс. В период французской революции капитализм был
очень децентрализован, индустриальным развитием его занимались
в основном мелкие мануфактуры. Рынки его были относительно
свободны, что способствовало свободе и в политике. К 1918 г. на сцену явился «организованный капитализм» (используя современный
термин Гильфердинга), большая часть среднего класса превратилась
в наемную рабочую силу и подчинилась авторитарным организациям.
Быть может, этих людей уже не так привлекала свободная политика.
88
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
Все это лишь отвлеченные рассуждения. Но статистика в самом
деле показывает, что абсолютный уровень экономического развития,
достигнутый в межвоенный период, не в силах объяснить победы авторитаризма. Возьмем примеры Италии и Испании. В 1930 г. их доход на
душу населения был примерно равен среднедушевому доходу других
стран с авторитарной моделью государства. Этот абсолютный уровень
в мировом масштабе был достигнут совсем недавно: Соединенными
Штатами и Британией в 1850-е, Бельгией, Голландией и Швейцарией
в 1860-е, Францией и Норвегией в 1880-е, Данией в 1890-е и Швецией
в 1900-е (Bairoch, 1976: 286, 297)20. В эти годы указанные страны были
на уровне Италии и Испании 1930 г. (естественно, в самых общих
экономических показателях). Но в конце XIX века мир был устремлен к демократии, а не к авторитаризму! А теперь Италия и Испания
(догнавшие XIX век в XX веке) двинулись в обратном направлении.
Демократизация перед Первой мировой войной разворачивалась на
том же уровне экономического развития, что и авторитарные режимы
после нее. Эта проблема сохраняется и поныне: большинство стран
мира уже достигли уровня Британии 1850-х и Дании 1890-х, но лишь
немногие из них встали на демократический путь. В XX веке из десятилетия в десятилетие повышается «экономический ценз» перехода
к демократии (любопытная статистика приводится в: Huntington,
1991; Maravall, 1997). Вероятнее всего, иные процессы исторического
развития преградили миру в XX веке путь к демократии. Мировая
экономика не оказалась благосклонной к демократии, в отличие от
войн, в которых, как правило, демократии побеждают.
Теория «догоняющего развития» предлагает экономическое обоснование расстановке сил в ХХ веке. Она утверждает, что страны,
в своем развитии вырвавшиеся вперед — Британия, Бельгия, Ни20
Если бы я взял смертность в младенчестве, то диапазон исторического
сопоставления оказался бы заужен. Упомянутые северозападные страны
достигали уровня Испании 1930 г. только в период 1890–1920 гг. Очевидно, к этому моменту их партийные демократии сумели себя еще более
обезопасить. Два других моих показателя соответствуют промежуточным
историческим диапазонам (за исключением того, что выбивается дата, в которую наблюдалась похожая картина по занятости в сельском хозяйстве
Великобритании: она сдвигается на 1820-е, когда имела место успешная
массовая агитация за расширение избирательных прав).
Экономическая власть, экономический кризис
89
дерланды, Швейцария, возможно, Франция и США, — оказались
в исключительно благоприятных экономических условиях для
расцвета либеральной демократии. Их экономический потенциал
плавно возрастал в условиях свободного рынка и государственного невмешательства. Первые «запоздавшие» страны, прежде всего
Германия, создали более протекционистские и этатистские модели
развития. В результате последовал мощный экономический рывок,
обостривший социальные конфликты в государственно регулируемой
экономике. Форсированная модернизация переместила в города
миллионы крестьян, возросла концентрация производства, новоявленный рабочий класс оказался крайне восприимчивым к вирусу
социализма и анархо-синдикализма. Рабочим противостояла более
организованная и сплоченная буржуазия, в услужении у которой
находился более зависимый средний класс. Классовые конфликты
дестабилизировали общество сильнее, чем в странах «раннего развития». Два мощных «вооруженных лагеря» (по выражению Карла
Шмитта, которого я буду цитировать далее) готовились к столкновению. Государства всячески содействовали экономическому росту,
видя в себе носителей национального проекта развития (Janos, 1982;
Gomez-Navarro, 1991). В борьбе с пролетариатом буржуазный класс
стремился опереться на сильное государство. Тем временем на международном уровне создавалась и укреплялась глобальная экономика.
Опоздавшие считали себя пролетарскими нациями, ограбленными
великими державами, что усиливало националистические настроения
среди низшего и среднего класса. Из-за этих макроэкономических
тенденций в догоняющих странах мог возникать крайний националэтатизм, направленный на подавление классовых врагов в стране и за
ее пределами.
Именно такие процессы шли на восточно-европейской периферии.
Политика догоняющего развития играла важную роль в Венгрии
и Румынии, как мы покажем в главах 7 и 8. Однако ни Германия, ни
Австрия «опоздавшими» не были: Германия обладала самой развитой
экономикой в Европе, Австрия, хотя и катастрофически ослабленная
потерей Империи, быстро развивалась. То же можно сказать и об
Испании и Португалии до Франко и Салазара. Хотя эти два квазикорпоративистских диктатора выстроили более автаркическую
экономику, объяснялось это не экономическими, а политическими
90
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
соображениями. В сущности, обе эти корпоративистские экономики
оказались в тупике стагнации. И, напротив, догоняющее развитие без
особого вмешательства государства характерно для демократической
скандинавской периферии (Bairoch, 1976). Темпы роста и индустриализации, размеры фабрик, влияние социалистов в Скандинавии
в межвоенный период опережали почти все авторитарные страны.
Однако демократия там лишь укреплялась. Давление, в центре,
на юге и на западе опрокидывавшее хрупкие демократии, здесь ее
только усиливало. Итак, догоняющее экономическое развитие хоть
и объясняет кое-что — авторитаризма в целом объяснить не может.
Одна из проблем в том, что научное сообщество традиционно
сосредоточено на этатизме и игнорирует национализм. Однако авторитарные движения — и их экономические теоретики — опирались на
национализм не в меньшей мере, чем на идею сильного государства.
Как отмечает Беренд (Berend, 1998), протекционизм, импортозамещение, скрытая девальвация и тому подобные методы, господствовавшие в Центральной и Восточной Европе в межвоенный период, не
были лишь техническими приемами. За ними стояли определенные
националистические убеждения. Очень схожие органически-националистические идеологии и движения возникали и развивались
повсюду на востоке и на юге континента. В более старых странах
северо-запада, даже в медленно развивающейся Скандинавии, они
встречались реже. Однако на бывших землях Габсбургов, Романовых
и Османской империи были распространены повсеместно. В этом
и заключено важнейшее различие. Большинство демократических
стран северо-запада намного дольше пробыли независимыми. Что
бы ни думали они об эксплуатации, для них она не была связана
с иноземным политическим господством в стиле империй Габсбургов или Романовых. Разумеется, об Ирландии или Норвегии этого
в полном смысле сказать нельзя. Однако сами подобные различия
и исключения указывают нам на важность политических и геополитических властных отношений, которые мы обсудим в этой главе
далее. Опыт иноземного угнетения у стран востока и юга был общим,
а вот классовые конфликты — различными: формат их сильно зависел
от экономического устройства той или другой страны. Более того,
классовая борьба была старше и привычнее, для нее существовали
какие-то рамки (хотя в конце Первой мировой войны она на короткое
Экономическая власть, экономический кризис
91
время вышла из берегов); а этнические противоречия в начале ХХ века
только формировались. Рождению авторитаризма способствовали
и классовая, и национальная борьба, а вот фашистские проекты, как
мы увидим далее, были более тесно связаны с национальными конфликтами. Немецкие и румынские фашисты, о которых мы подробно
поговорим позже, разделяли друг с другом скорее национальные, чем
классовые чувства. Таким образом, долгосрочное экономическое развитие и связанные с ним конфликты стали одной из важных причин
ведущих политических конфликтов этого периода — через посредство
национализма. Вот почему самые амбициозные проекты развития
с наибольшим энтузиазмом принимали фашисты, готовые сочетать
в себе национализм и этатизм.
Итак, относительная экономическая отсталость может помочь
нам объяснить авторитаризм, а стратегии догоняющего развития
помогают объяснить фашизм. Но полностью мы пока не объяснили
ни то ни другое.
2. Экономический спад. Авторитаризм мог быть реакцией на кратковременные экономические флуктуации, в особенности на рецессии.
Это объяснение кажется очевидным, но едва ли однозначно подтверждается данными. В последних двух столбцах табл. 2.1 указаны
низшие точки падения ВНП за двухлетние периоды с 1927 по 1935 г.
и самый высокий зарегистрированный уровень безработицы. Какойлибо принципиальной разницы между либерально-демократическими
и авторитарными странами здесь нет. Сильнее всех рецессия ударила
по демократическим Канаде и США, за ними идут авторитарные
Австрия, Польша и Испания, затем демократические Чехословакия
и Ирландия, авторитарная Германия и демократическая Австралия.
Данные по безработице не столь надежны. К сожалению, в большинстве отсталых и авторитарных стран подсчитать реальный уровень
безработицы не представляется возможным. Однако самый высокий
уровень — в двух авторитарных странах, Германии и Австрии, и наряду с ними в демократической Дании. Едва ли это можно считать
свидетельством какой-то однозначной связи. Проблема в том, что
экономический спад охватил все западные страны, а авторитаризм —
только половину.
Быть может, сразу вслед за спадами шли авторитарные перевороты? В 1932–1934 гг. на фоне Великой депрессии, произошли пять
92
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
путчей: в Германии, Австрии, Эстонии, Латвии и Болгарии. Очень
вероятно, что к ним действительно подтолкнула Депрессия. Случаи
Германии и Австрии я подробнее рассмотрю в главах 4–6. Но, даже
если с ними гипотеза подтверждается, остаются еще десять или одиннадцать стран, в которых путчи не были спровоцированы Великой
депрессией, и шестнадцать северо-западных стран, в которых путчей
вовсе не было, а Депрессия была. Из переворотов, происходивших
в другие годы, лишь немногие прямо следовали за рецессиями.
Итальянская рецессия продолжалась с 1918-го по 1922-й — год
фашистского переворота. Испания и Румыния испытали по два
подъема авторитаризма. В Испании мы видим переворот Примо
де Риверы в 1926 г. и военный мятеж в 1936 г. Однако между 1922
и 1935 гг. в Испании наблюдается умеренный экономический подъем, в 1932–1933 гг. — спад, в 1934-м восстановление и в 1935-м выход
на докризисный уровень: такие результаты ничего не доказывают.
В Румынии король Кароль объявил себя диктатором в 1938 г., после
шести лет умеренного экономического роста. В том же году, так же
в условиях небольшого экономического роста, произошло фашистское восстание в Венгрии. В Польше, Португалии и Литве основные
перевороты произошли в 1926 г., после нескольких лет умеренного
экономического роста. Наконец, югославский кризис 1928–1929 гг.
и греческий 1935–1936 гг. также разразились после нескольких лет
экономического роста. Как видим, результаты очень противоречивые,
не дающие какого-то единого объяснения.
Подъем авторитаризма шел тремя волнами, каждая волна приносила как минимум один фашистский переворот: в середине 1920-х,
в 1932–1934-м и во второй половине 1930-х. Вторая волна катилась
следом за Великой депрессией и привела к самому значительному
фашистскому перевороту — в Германии; однако первая и третья пришлись на период устойчивого экономического роста. Все три охватили и большие, и малые страны, разбросанные по всему центру, югу
и востоку континента. Как видно, между экономическими циклами
и подъемами авторитаризма в межвоенный период нет какой-либо
однозначной связи.
Европейскую экономику в межвоенный период нельзя назвать
процветающей. Индустриальные экономики страдали от банкротств
и массовой безработицы, аграрные — от перепроизводства, падения
Экономическая власть, экономический кризис
93
цен и задолженностей. Депрессивная экономика порождала политические кризисы. Режимы шатались. Как разрешить экономический
кризис? — таков был главный вопрос политики того времени. Традиционный подход, от которого было мало толку, гласил, что свободный
рынок восстановится сам. Ни у консерваторов, ни у либералов, ни
у трудовиков фактически не было внятной макроэкономической
политики. Однако в силу входила политика национального государства. Кейнсианская модель эффективного спроса предлагала именно
умеренные национально-этатистские решения. Повсюду вводились
заградительные тарифы на импорт и проводилась девальвация национальной валюты для удешевления собственного импорта. Это
и был экономический национализм. Отталкиваясь от такой политики,
фашисты создали свою автаркическую экономику. Это были не просто «технические экономические решения» (да и бывают ли такие на
свете?). Скандинавская экономическая политика стала самой кейнсианской, но оставалась демократической, в то время как большинство стран, и демократических, и авторитарных, начали выстраивать
таможенные барьеры. Нет, чтобы объяснить, почему лишь в некоторых странах экономический национализм привел к авторитарному
повороту, нужно нечто большее. Экономические трудности ослабили
режимы во всех межвоенных государствах. В северо-западных странах
распадались кабинеты и партии, формировались и перетасовывались
коалиционные правительства; в центре, на юге и на востоке происходили путчи, подъем авторитаризма, массовый фашизм. Откуда это
региональное различие? Опираясь только на межвоенную экономику,
объяснить его невозможно. Экономические трудности вызывали
кризисы и политические заговоры; но, по-видимому, только они не
в силах объяснить, почему одни страны выбирали авторитарный
и даже фашистский, а другие — демократический путь.
Разумеется, такое обсуждение может показаться слишком узким.
Собственно говоря, почему мы ожидаем, что спад торговли или рост
безработицы в этом году должен повлечь за собой переворот в следующем? Политическому движению для разгона требуется несколько
лет. Может быть, главной причиной ослабления государственной
власти, появления авторитарных и фашистских режимов стало
общее ощущение глобального экономического кризиса? Однако если
пошатнувшаяся экономика была главным фактором политической
94
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
нестабильности, это должны были подтвердить элиты и электорат —
их реакцию мы изучим в следующих главах.
3. Классовая борьба. Быть может, авторитаризм и фашизм — плоды роста классовой борьбы? Две рассматриваемые мною классовые
теории отвечают на этот вопрос утвердительно. «Теоретики среднего
класса» доказывают, что средний класс сильнее всего пострадал от
тогдашнего экономического кризиса и жаждал восстановить равновесие любыми, даже насильственными средствами. Доводов в пользу
этой теории приводится немного, хотя по среднему классу с его фиксированными доходами и заработной платой инфляция, пожалуй,
в самом деле ударила больнее всего. В некоторых странах (например,
в Германии в конце 1920-х) это привело к упадку буржуазного либерализма. Но прямая связь с ростом фашизма здесь неочевидна. Не так уж
много переворотов произошло после периодов инфляции. Никто еще
не продемонстрировал эмпирически, что рабочему классу в обсуждаемые годы жилось легче, чем буржуазии, — хотя большому бизнесу
жилось легче, тут сомнений нет. Быть может, дело за исследователями
будущего; хотя пока собранные мною данные в основном указывают
на противоположное. А если фашизм — не движение среднего класса,
то всю эту теорию можно отбросить за ненадобностью.
«Теоретики капиталистического класса» говорят, что эко
номический кризис усиливает борьбу между трудом и капиталом,
заставляя капитал полагаться на репрессии. Это звучит более убедительно. Сейчас, по опыту всего ХХ века, мы подозреваем, что
истинное предназначение рабочих движений — не уничтожить капитализм, а его реформировать. Однако в 1920–1930-х это было вовсе
не очевидно. Большевистская революция имела огромное влияние,
многие ожидали таких же революций в развитых странах. Крупные
социалистические, коммунистические, анархо-синдикалистские
движения клялись в верности революции. Чем сильнее были левые,
тем сильнее становилась авторитарная реакция. Не так ли? Обычно
так, но не всегда. В 1930-х крупнейшей коммунистической партией
в Европе обладала либерально-демократическая Франция, крупнейшей лево-социалистической партией — либерально-демократическая
Норвегия. Но лишь в центральных, восточных и южных странах левые
порой убивали своих врагов и организовывали настоящие революционные заговоры. Поставим себя на место испанских латифундистов,
Экономическая власть, экономический кризис
95
постоянно ждущих от социалистов и анархо-синдикалистов взрывов,
захватов земли, «революционных» беспорядков — и тоже захотим
схватиться за пистолет.
Однако если мы вглядимся в классовое насилие более пристально,
результаты получатся обескураживающие. В 1917–1919 гг. насилия
было куда больше, чем позже, и правые прибегали к куда более серьезному насилию, чем левые. В 1917 и 1918 гг. прошла череда восстаний против правительств, ослабленных войной. Некоторые из них
ненадолго побеждали. Однако если не считать Гражданскую войну
в России, жертвами насилия становились в основном левые. Единственная «успешная» (пусть и очень ненадолго) революция, помимо
России, произошла в Венгрии. Блок коммунистов и социалистов,
возглавляемый Белой Куном, пришел к власти и продержался чуть
больше года. В процессе левые убили от 350 до 600 гражданских лиц:
три четверти из них были крестьяне, оказывавшие сопротивление
продразверстке. В ответ правые развязали «белый террор», в котором
погибло от 1000 до 5000 левых, а 60 тысяч человек (огромная для
Венгрии цифра) — брошено в тюрьмы (Rothschild, 1974: 153; Janos,
1982: 202; Mócsy, 1983: 157; Vago, 1987: 297). Насилие правых не было
просто ответом на насилие левых — оно оказалось намного кровавее.
Более рутинный индикатор классовой борьбы и левой «угрозы» —
это забастовки и голоса, отданные за социалистов или коммунистов.
Уровень забастовок взлетел вверх к концу войны, но затем упал —
задолго до основного авторитарного подъема. Исключением стала
Италия. Там пик забастовок пришелся на 1919–1920 гг. — и явно
способствовал росту фашизма. Затем уровень забастовок резко упал,
видимо, в значительной степени из-за того, что фашисты подавляли
рабочее движение. Таким образом, пример Италии подтверждает
предложенную теорию. В Австрии забастовочное движение достигло
высшего накала в 1924 г., а затем пошло на убыль — задолго до подъема правых. В Германии пик забастовок пришелся на 1920 г., еще один
пик, поменьше, — на 1924-й, и еще поменьше — на 1928-й, но в целом
количество забастовок неуклонно уменьшалось — снова до авторитарного подъема в 1932–1933 гг. Португальские забастовки: пик в 1920 г.,
пик поменьше — в 1924 г., за два года до первого военного переворота.
Польша: пик в 1922–1923 гг., задолго до всяких переворотов. Эстония: новый пик в 1935 г. (забастовки достигли уровня 1921–1922 гг.),
96
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
однако связь с переворотом в следующем году не прослеживается.
С «левой угрозой» Эстония столкнулась в 1924 г., когда российские
большевики спровоцировали там вооруженное восстание. Оно было
быстро подавлено, лидеры его бежали в Россию, где с ними разобрался Сталин; на этом с угрозой «внутренних большевиков» в Эстонии
было покончено (Parming, 1975). Куда больше были распространены
забастовки в демократических странах. В 1926 г. всеобщая забастовка
разразилась в Британии, во Франции пик забастовок пришелся на
1936 г. при правительстве «Народного фронта». Однако не стоит
забывать, что забастовки — это вполне узаконенная форма протеста,
принуждение к уступкам, не направленное на разрушение самой системы. Забастовки редко ставят себе целью революцию. Возможно,
по этой же причине с правыми переворотами никак не коррелирует
численность членов профсоюзов. За исключением Испании, проф
союзное движение достигло пика в 1918–1921 гг., а потом стало снижаться. То же самое с голосованием за коммунистов и социалистов.
Общее снижение активности левых наблюдалось с середины 1920-х,
хотя в Австрии социалисты не уступали на выборах вплоть до переворота, немецкие левые тоже сумели сохранить голоса избирателей,
а часть социал-демократов в 1932–1933 гг. даже перекочевала в лагерь
коммунистов. Профсоюзное и левое движения в Восточной Европе
были слишком слабы, чтобы существенно воздействовать на общие
процессы. Левые Восточной Европы не представляли угрозы. Они
могли иметь какое-то отношение лишь к ранним правым переворотам,
особенно к фашистскому перевороту в Италии. Во многих местах
рабочие были просто слишком слабы, чтобы вызывать какую-то
правую реакцию.
И наконец, у нас есть еще один достоверный показатель соотношения сил между левыми и правыми — способность к захвату власти.
В 1917–1920 гг. у консерваторов появился серьезный повод для беспокойства: русские и венгерские революционеры пришли к власти,
разрозненные революционные восстания произошли и в других
странах. Но после 1920 г. счет шел не в пользу левых: в 16 странах
к власти пришли правые, левые — ни в одной. Ближе всего к победе
они оказались в 1934 г., когда испанские левые заняли часть Астурии (без столицы), но удерживали власть всего лишь две недели
(см. главу 9). Если бы коммунисты, социалисты и анархисты были
Экономическая власть, экономический кризис
97
серьезной силой, они бы одержали хотя бы одну победу сроком на
месяц или около того; но этого не произошло. Большинство правых
переворотов произошли в 1930-х, слишком поздно, чтобы считать их
симметричным ответом на левую угрозу (это подмечено в: Eley, 1983:
79). Конечно, ссылки на «красную чуму» могли быть и тактической
уловкой. Верил ли Гитлер в большевистскую опасность или только
в ее пользу для захвата власти? Муссолини лишь притворялся, что верит в красную угрозу (см. главу 3). Коммунистическая угроза помогла
Метаксасу осуществить переворот в Греции. Но коммунистическая
партия Греции была малочисленной и раздробленной, и, как сообщало
британское посольство, коммунисты послужили для Метаксаса не
более чем дымовой завесой в ожесточенной политической грызне
на правом фланге (Kofas, 1983: 31–50, 129–145). И все же, очевидно,
кто-то боялся «красной чумы» — иначе Муссолини и Метаксас не
трудились бы пугать людей этом жупелом. Иных рациональных
оснований для этого у них не было.
Рассуждая от противного, можно также предположить, что правые
нанесли удар, потому что левые были слабее. Но, если левые были
слабы, о чем беспокоиться правым? Какие классовые интересы заставили центр, восток и юг сменить свои полуавторитарные или реакционные режимы на еще более радикальные? Может быть, не стоит
недооценивать ту огромную роль, которую в человеческих конфликтах
играет мстительность. Левые до дрожи напугали власть имущих, и,
когда реальная угроза растаяла, высшие классы не упустили шанс
стереть левых с лица земли. Но возникает другой вопрос. Почему
высший и средний классы обратились к репрессиям, распустили
парламенты, уничтожили гражданские свободы, отмобилизовали
массовые партии и даже создали смертельно опасный фашизм? Ведь
в их распоряжении были и более цивилизованные, щадящие методы
воздействия, требовавшие куда меньшей цены и риска. В сущности,
лучший способ разрешения классовых конфликтов был найден на
северо-западе. Там рабочие союзы и партии были гораздо мощнее, чем
в Центральной, Восточной и Южной Европе, но стремились к классовому компромиссу и потому не представляли фатальной угрозы для
капиталистических экономических отношений. Все социалистические
партии интегрировались во власть в качестве парламентского меньшинства или в коалиции с центристами — великолепные условия для
98
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
изучения искусства компромисса. То, что европейский восток, центр
и юг пренебрегли опытом соседей, вызывает недоумение.
Тем не менее консерваторы упрямо и незаслуженно обвиняли
рабочих в «бунтарстве» и «революционности». Это была (как указывается в: Mayer, 1981) чрезмерная реакция: консерваторы видели
революцию там, где ее не было, и готовы были чуть что хвататься
за пистолет. Большинство так называемых немецких большевиков,
проклинаемых Гитлером, на самом деле были респектабельными
социал-демократами: больше десятилетия они управляли Пруссией,
крупнейшей провинцией Германии — и управляли вполне умеренно.
В Восточной Европе истинная сила социалистов (и интерес Сталина
к их поддержке) была ничтожной в сравнении с правой антимарксистской истерией. Это признают и некоторые классовые теоретики. Корнер (Corner, 1975: 83) пишет об итальянской буржуазии:
«Убежденные в неизбежности социальной революции, они утратили
способность отличать свои фантазии от реальности». Если это так, то
мы нуждаемся в объяснении, выходящем за пределы «объективного»
классового интереса. Чрезмерная, истеричная реакция правящего
класса — одна из загадок предвоенной истории.
Некоторые считают, что авторитаризм, в особенности фашизм,
иррационален по своей природе. В это легко поверить, если вспомнить
«окончательное решение еврейского вопроса». Но я предпочитаю
не разграничивать искусственно рациональное и иррациональное,
поскольку рациональные человеческие расчеты всегда переплетены
с идеологией. Проблему, с которой столкнулась буржуазия, демонизирует и сама социальная теория. Мы до сих пор не можем понять, чем объяснить предельную ожесточенность классовой борьбы.
Отчасти в этом виноват Маркс. Основатель марксизма был скорее
экономистом, чем социологом, в своей главной работе «Капитал» он
анализирует не классовые конфликты, а экономические отношения:
прибыль и издержки производства, присвоение прибавочной стоимости и так далее. Маркс, по-видимому, разделял общее заблуждение,
что капитализм движим рациональным стремлением к прибыли,
хоть и полагал, что в конечном счете для человечества в целом это
стремление нерационально.
Тут вырисовываются две проблемы. Во-первых, социальное поведение, описываемое в этой книге, по большей части невозможно
Экономическая власть, экономический кризис
99
объяснить исключительно с помощью инструментальных критериев.
Посмотрим на испанских капиталистов 1939 — конца 1960-х, верных
сторонников генерала Франко, обреченных на стагнирующую, неэффективную экономику и минимальную прибыль. Почему испанский
капитализм привел к власти Франко и неизменно его поддерживал?
При Второй республике капиталистам определенно жилось бы лучше,
чем сейчас, при Третьей. По всей видимости, ими двигал более фундаментальный для капиталиста мотив — точнее, мотив, свойственный
всем имущим классам в истории: желание сохранить собственность
и привилегии. К черту прибыль, если под угрозой сама собственность! Прибыль относительна, она измеряется количественно, ею
приходится делиться, прибыль, как правило, возрастает благодаря
классовому компромиссу. Но право на собственность неделимо, игра
с собственностью — игра с нулевой суммой. Если вы получите право на
мою собственность, я ее потеряю. Страх перед потенциальной утратой
собственности эмоционально гораздо сильнее, чем страх недополучить прибыль. Можно полюбовно договариваться о дележе доходов,
но не на жизнь, а на смерть бороться за право на свою собственность.
Марксистам, право, не стоило бы так увлекаться буржуазной экономикой. В этой книге мы увидим, что главная классовая мотивация
капиталистов — не прибыль, а защита собственности.
Однако ни один из этих мотивов не существует сам по себе, в качестве рационального расчета, свободного от идеологии. Погоню за
личной прибылью сопровождает теория эффективной экономики,
мораль личной свободы и рациональности. И теории, и мораль не
бывают неизменными, менялись они и на протяжении нашего столетия. В XIX и начале XX века господствовали две идеи: коллектив
подавляет личную свободу; только образованный джентльмен (но
никак не леди) способен на рациональные действия. Капиталисты
ненавидели профсоюзы как ограничение их фундаментальных свобод,
как удушающий ошейник для эффективной экономики. Они были
уверены, что профсоюзы сократят их прибыль, однако зачастую не
это было главным движущим мотивом их сопротивления: тем более
что это было не так, что выяснилось, когда профсоюзное движение
было легализовано. Но это не было главным источником ненависти
и страха в странах, которые мы сейчас исследуем. Не в Германии,
а в Соединенных Штатах капитал яростно и беспощадно преследовал
100
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
организованное рабочее движение, как ни в одной другой стране на
рубеже столетий (см. Mann, 1993: 638–659). Это отношение к рабочему классу живо в США и по сей день: слово «красный» по-прежнему
провоцирует бешенство, при этом в коммунизме подозревают любую
общественную организацию, стоящую чуть левее центра.
Но именно идеологический субстрат второго мотива, защиты
права на собственность, стал питательной средой для возникновения
авторитарных режимов. В идеологии той эпохи собственность была
связана с двумя фундаментальными социальными ценностями: безопасностью и порядком. Богом установленная триада собственности,
порядка и безопасности — вот краеугольный камень идеологии старой
Европы. Новый европейский авторитаризм сделал в этой формуле
особое ударение на порядок и безопасность; фашизм пошел еще дальше. Считалось, что современные левые и большевистская революция
несут с собой две угрозы. Первая — традиционная: высшие классы
могут лишиться собственности и привилегий. Вторая — угроза для
всех классов — состоит не в «победе» революции, а в хаосе, беспорядке
и бесконечной классовой борьбе. Первая угроза целила в яремную
вену капитализма; вторая сулила крах цивилизованного общества как
такового, угрожала всеобщей безопасности. Именно эта угроза могла
вызвать истинную ненависть и злобу против угрожающих «врагов».
Я еще не вполне прояснил проблему «истерической реакции».
Пока я лишь предположил, что в период после окончания Первой
мировой войны на классовом уровне могли действовать базовые
человеческие чувства страха, ненависти, насилия. Но почему страхи
не рассеялись, когда объективная угроза исчезла? Вероятно, это еще
одно базовое человеческое желание, крепко сидящее в каждом из нас:
не прощать, а растоптать врага, когда он обессилеет, особенно если до
того он сильно нас напугал. Свою роль могла сыграть и идеология,
трактующая «интересы» гораздо шире, чем теория рационального
выбора. Если собственность уравнивается с понятиями порядка
и безопасности, то они — воплощенные в форме милитаризма или
парамилитаризма — превращаются в сверхценности для класса, боящегося эту собственность потерять. Если обществу угрожает анархия,
то такие предполагаемые противоядия, как национализм, этатизм,
возможность «превзойти» классовую борьбу, тоже становятся позитивными ценностями. Именно это мы скоро и обнаружим. Правые
Военная власть, военный кризис
101
в половине Европы воспринимали милитаризм, национализм, этатизм
как самоценности; собственники зачастую ставили их выше расчетов
на прибыль или даже возможности сохранить свою собственность. Эти
ценности вели их к куда более радостному приятию авторитаризма
и часто даже фашизма, чем можно объяснить с позиции одних лишь
классовых интересов. Но чтобы полностью понять этот процесс, нам
придется рассмотреть военный, политический и идеологический
кризисы довоенной эпохи.
Учитывая все это, даже самая сложная и красочная экономическая
гипотеза может дать лишь частичное объяснение; чтобы объяснить все,
необходимо дополнить ее другими подходами. Быть может, экономическая отсталость благоприятствовала полуавторитарным режимам.
Быть может, догоняющее развитие дестабилизировало классовые
отношения и способствовало этатизму. Быть может, консервативный страх дестабилизации вместе с этатистскими идеалами толкал
страну еще правее, к репрессиям. Но в эту схему не встраиваются ни
Германия, ни Скандинавия, и у нас по-прежнему нет убедительного
объяснения фашизма. Хотя экономические и классовые теории помогают нам продвинуться вперед, нам необходимо исследовать и другие
источники социальной власти.
ВОЕННАЯ ВЛАСТЬ,
ВОЕННЫЙ КРИЗИС
Военная власть — это социальная организация физического насилия.
Это универсальный элемент человеческого общества, поскольку люди
нуждаются в организованной защите и в использовании агрессии для
своих целей. Тот, кто распоряжается военными ресурсами, обладает
значительной властью над обществом. И наоборот, если военные
институты приходят в упадок, это дает другим силам возможность
захватить власть, в том числе и вооруженным путем. Однако и то
и другое предполагает, что «милитаризм» имеет в обществе позитивную идеологическую ценность, что армия и армейское командование
представляют собой легитимные модели обладания и распоряжения
102
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
властью. В принципе, любая хорошо организованная военная сила
может захватить власть, но на деле это происходит редко.
Социальная наука склонна пренебрегать военной влас тью.
В начале XX века появилась масса социальных теорий милитаризма, но все они увяли после 1945 г. — по иронии судьбы вместе
с победой над фашизмом. С тех пор перед нами разворачивается
любопытное зрелище: нынешний век экспансии, агрессивной
геополитики, локальных войн и геноцида объясняют пацифистские экономические теории. Даже если теоретики снисходят до
обсуждения военных властных отношений, обычно они ограничиваются институционализированным государственным насилием
во внутренней жизни и международных войнах. Как мы увидим
далее, внимания к насилию, организованному государством, для
объяснения фашизма недостаточно.
Однако в последнее время историческая социология обнаружила
целый пласт военных и геополитических причин, разделивших Европу на конституционные и абсолютистские страны, в дополнение к тем
экономическим причинам, которые идентифицировал БаррингтонМур. Ваш покорный слуга (Mann, 1986; 1993), Тилли (Tilly, 1990)
и Даунинг (Downing, 1992) вывели, что: (1) борьба за политическое
представительство стала результатом поиска более широкой налоговой базы для ведения все более разорительных внешних войн; (2) все
чаще эти войны вели профессиональные армии, контролируемые
государством, которое потенциально могло использовать вооруженную силу и внутри страны для выбивания новых налогов; но (3) государства, строящие бюджет на внешней торговле или на военных
контрибуциях в покоренных странах, не нуждались в закручивании
репрессивных гаек для изъятия средств у своего населения и (4) морские державы реже прибегают к насилию, чем сухопутные, потому
что корабли по земной тверди не плавают, по ней маршируют армии.
Чтобы понять раскол Европы на абсолютистские и конституционные режимы в XVI–XVIII веках, необходимо изучить совокупность
экономических, военных, геополитических и иных причин. Вполне
вероятно, что военные и геополитические факторы будут определять
и современное развитие «двух Европ».
Исследователи фашизма признают, что военная инфраструктура
Европы прошла через революционные изменения. Первая мировая
Военная власть, военный кризис
103
война стала не классической европейкой войной, а войной тотальной.
Многие ученые солидарны в том, что именно эта катастрофическая
форма ведения боевых действий обеспечила фашизму его первые
победы. Возможность мобилизовать многомиллионную армию и заставить десятки миллионов мужчин и женщин трудиться в тылу
резко изменила социальные отношения. В самые короткие сроки
тотальная война до предела усилила инфраструктурную и (в меньшей
степени) деспотическую власть государства. Всем известен трюизм:
победа делает незаконную власть законной, поражение ставит вне
закона законную власть. Тотальная война делает этот аргумент беспощадным, особенно в случае поражения, которое оборачивается
социальной катастрофой. Современная тотальная война провоцирует
конфликт между государством и массовой национальной армией.
В случае поражения, действительного или кажущегося, армия может
смести любую власть. Первые тревожные сигналы прозвучали в 1917
и 1918 гг., когда во всех воюющих армиях начались бунты и восстания. Кульминацией стали Февральская и Октябрьская революции
в России. Солдаты организовали революционные комитеты (Советы)
и спешно создали Красную армию, которая защитила завоевания
революции в полномасштабной гражданской войне. В Австрии,
Германии и Венгрии тоже появились солдатские советы, но вскоре
были разогнаны. Но репрессии последовали не от командования, а от
двойников солдатских комитетов — вооруженных парамилитарных
радикалов. Этот «народный» парамилитаризм впоследствии станет
силовой опорой фашизма.
Фашизм стал массовым движением только к исходу Великой
войны. В ней участвовало много европейских стран, последствия
сказались и на нейтральных государствах. Война зримо усилила
национализм и этатизм. С фашизмом войну прямо связывают три
обстоятельства. Во-первых, поражение сделало нелегитимными
законные правительства, которые были тогда всего лишь полуавторитарными. Многие исследователи считают, что военные поражения
Первой мировой после краткого революционного и демократического
всплеска вызвали к жизни авторитарные и фашистские движения.
Это справедливо в отношении трех проигравших стран — Германии,
Австрии и Венгрии (не считая Россию): во всех этих странах утверди
лись реакционные авторитарные, потом корпоративистские и фа-
104
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
шистские правительства. За поражение Германия расплатилась 10 %
территории и огромными репарациями. Венгрия утратила половину
своей земли, а Австрия потеряла всю империю. Правые обвиняли
в этой катастрофе внутренних врагов, «вонзивших нож в спину» —
доморощенных либералов, левых и злодеев-«жидобольшевиков».
Подогреваемые беженцами, которые хлынули в страну с аннексированных территорий, правые требовали возврата утраченных земель.
Болгария проиграла войну, но без тяжелых последствий. Италию
порой причисляют к партии проигравших. Хотя страна формально
и числилась в стане победителей, ее армия была сильно потрепана,
а скромные территориальные приобретения никак не устраивали националистов. «Изувеченная победа», доставшаяся Италии, вменялась
в вину «декадентствующему» либеральному правительству и левым
«национал-предателям» (De Grand, 1978: 102–114). Побежденные
стали главными цитаделями фашизма (исключая Румынию), поэтому
мы вправе объединить в одну причинно-следственную цепочку военное поражение, ревизионизм и фашизм.
Проблемой остаются временные рамки. Только итальянские
фашисты (1922) и болгарский реакционный авторитаризм (1923)
пришли к власти вскоре после войны, хотя эти страны пострадали
от войны в наименьшей степени. У Германии было время оправиться. Репарации были сняты в 1930 г., а оккупация Рейнской области
считалась временной мерой. Гитлеровский переворот в 1933 г. произошел слишком поздно, чтобы объяснять его поражением в Первой
мировой войне. Венгры сознавали, что их ревизионизм — всего лишь
риторика; австрийцы понимали, что им не удастся возродить империю. Поражение лишь отчасти объясняет появление авторитаризма
и фашизма в 1930-е гг. Военный разгром не мог породить фашизм.
Однако он мог стать причиной первого послевоенного авторитарного
подъема, подорвавшего шансы на быструю демократизацию, и подготовить бойцов для будущих парамилитарных отрядов.
Авторитаризм победил в странах и с другой военной судьбой.
Сербия и Румыния оказались среди победителей. Сербия даже
получила в награду господство над всей Югославией. А Румыния
в результате войны удвоила территорию и население. Но обе победительницы стали авторитарными странами, а Румыния даже породила
массовый фашизм. Авторитарными стали и две нейтральные страны,
Военная власть, военный кризис
105
Испания и Португалия. Впрочем, Португалия в этот период вообще
практически не воевала. В 1898–1899 гг. испанскую империю добили
Соединенные Штаты, марокканцы разгромили испанцев в 1921 г.
Левые и правые, армия и король спихивали вину за поражение друг
на друга. Немногие испанцы поддерживали имперский реваншизм.
Не стремились к реваншу и греки, разбитые турками в 1922 г. Когда
в 1936 г. генерал Метаксас совершил переворот, его не слишком волновала внешняя политика. Не будем также забывать про «государства-преемники», одним своим существованием обязанные Первой
мировой войне. Польша, балтийские страны, Албания тоже обзавелись
авторитарными правительствами, но большинство их послевоенных
лидеров в сознании народа были героями национального освобожде
ния. Таким образом, авторитаризм и, в меньшей степени, фашизм
формировались в разных военных и послевоенных контекстах, не
только в контексте поражения.
Война нанесла еще один чувствительный удар по Европе. В центре, на востоке и на юге победители, побежденные и новообразованные страны претерпели серьезнейшую геополитическую травму.
Капитулировавшие режимы утратили легитимность, территорию,
ресурсы, в некоторые страны хлынули беженцы. Греция (нейтральная
в 1914–1918 гг.) испытала многие из этих тягот после 1922-го. Италия потеряла только Триест и Южный Тироль. Румыния и Сербия,
страны-победительницы, столкнулись с проблемой другого рода —
им пришлось инкорпорировать обширные новые территории, что
меняло облик страны и характер государства. Сербам пришлось
вырабатывать новую национальную политику, чтобы закрепить
свою гегемонию, но не унизить при этом народы, вошедшие в состав
страны. Югославам относительно повезло. Румыны уже не могли
считать себя угнетенной пролетарской нацией на задворках Европы,
ибо получили большую территорию с развитым сельским хозяйством.
«Старые страны» Германия, Австрия, Венгрия, Болгария, Румыния,
Сербия и Италия столкнулись с необходимостью усовершенствовать
парламентскую систему. Новые с иголочки «страны-преемники» не
имели собственного опыта государственности и были вынуждены
создавать ее с чистого листа, в отличие от финнов и чехов, которые
в прошлом уже имели региональное управление и парламенты. Все
это вызывало политическую чехарду и неурядицы в центре, на востоке
106
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
и юго-востоке Европы. Лишь нейтральные Испания и Португалия
были избавлены от такой участи.
По-иному сложилось на северо-западе. Все страны Северной Европы (кроме трех) были победителями или не принимали участия
в войне. Неустойчивые либеральные демократии — Финляндия
и Чехословакия — были здесь единственными новообразованными
государствами. Бельгия потерпела полупоражение (она была оккупирована немцами), но бельгийцы мудро винили в этом географию,
а не своих правителей. По итогам войны Бельгия незначительно
расширила территорию и получила репарации. В стане победителей
(Франция, Британия, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия)
только Франция получила существенные территориальные приращения — Эльзас и Лотарингию, которые были французскими до 1871 г.
Поправок в конституции не вносили — это были «старые» государства.
Даже чехи и финны имели проверенные временем «региональные»
политические институции, правда, у Чехословакии не было опыта
управления словаками и судетскими немцами (в будущем Судеты
будут аннексированы Германией). В конечном счете, ни одному из
северо-западных государств не пришлось изведать горечь поражения, поглощать и переваривать новые территории и придумывать
новые законы. У центра, юга и востока Европы была совершенно
иная судьба, но северо-запад практически без исключения сохранил
политическую стабильность и преемственность. Но почему дестабилизацией грозили именно правые, почему именно они привели свои
народы к авторитаризму и фашизму? Поговорим о третьем наследии
Первой мировой войны — парамилитаризме.
Довоенные теоретики фашизма знали, что современная война
способна мобилизовать всю нацию. Первая мировая доказала, что
это действительно так. «Вооруженная нация» была дисциплинированной и проникнутой духом товарищества, элитарной и в то же
время эгалитарной — офицеры и рядовые сражались здесь плечом
к плечу, и командиры погибали даже чаще, чем рядовые. От 25 до
80 % «национальной армии» составляли юноши и молодые мужчины. Однако тотальная война внушала ужас; к 1918 г. большинство
солдат мечтали поскорее вернуться домой, к семьям и привычной
работе. У левого меньшинства горькое разочарование войной пробудило жажду более справедливого и счастливого мироустройства.
Военная власть, военный кризис
107
Начав с требований «рабочих и солдат», это меньшинство постепенно влилось в общегражданские левые движения. Уличные
демонстрации, униформа, массовая организация — все это придавало активности некоторых левых привкус парамилитаризма; но
в реальности левые были куда менее опасными и агрессивными,
чем фашисты, и недаром в уличных столкновениях коричневые
всегда брали верх над красными. Коммунисты, прошедшие через
окопы Первой мировой, относились к милитаризму без всякого
пиетета и не выпячивали свои боевые заслуги. Для правых ветеранов все было по-другому. Ветераны войны гордились фронтовым
товариществом поверх классовых границ и презирали беззубую
и лицемерную демократию мирного времени. Они превозносили
суровый армейский дух, в мирное время сохраняли военные практики и создали хорошо структурированное общественное движение — гражданский парамилитаризм.
Правые парамилитарные организации, всевозможные лиги ветеранов множились после войны практически во всех странах. Они
выиграли гражданскую войну в Финляндии, раздавили революцию
в Венгрии 1919–1920-х, подавили левых в послевоенной Германии,
Австрии и Польше, смели в 1923 г. гражданское правительство в Болгарии и чуть было не свергли законную власть в Эстонии в 1934 г. Это
были знаменосцы первой волны фашизма. Все фашистские, а также
некоторые корпоративистские и реакционно-авторитарные движения имели парамилитарный характер, ведущие роли в них играли
ветераны-фронтовики Первой мировой. Большинство теоретиков
современного государства исходят из утверждения Макса Вебера:
государство обладает монопольным правом на насилие в обществе.
Это так, но не всегда так. Даже анализируя современность, мы стараемся разграничить власть военную и власть политическую. И военную силу мобилизует не только государство. Хотя все межвоенные
режимы имели мощные вооруженные силы, хорошо обученные,
экипированные, закаленные в боях Первой мировой, армии некоторых государств были идеологически расколоты изнутри. Различные
идеологии, особенно правые, захватили и рядовой, и офицерский состав; идеи правых откровенно поддерживали прославленные ветераны — даже сам Верховный Главнокомандующий генерал Людендорф.
Армия стремительно утрачивала дух кастовости и профессиональной
108
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
з амкнутости. Кое-где святая святых государства превращалась в дискуссионный клуб.
Связь между ветеранами войны и фашизмом зачастую рассматривают как связь между военной и экономической властью: ветераны,
мол, были недовольны своим материальным положением. Другой
взгляд на эту проблему фокусируется на связи военной и идеологической власти, то есть на росте парамилитарных идеалов и ценностей.
Сторонники экономической аргументации утверждают, что ветераны,
происходившие в основном из низшего среднего класса (включая
фермеров), после войны страдали от безработицы и материальных
лишений, что и толкало их к экстремизму. Сторонники аргумента
парамилитарных ценностей указывают на военный опыт фронта, бесклассового товарищества и иерархической субординации. Ветераны
верили, что в мирной жизни парамилитарная организация сможет
достичь столь же великих общественных и политических целей, как
и военная организация на войне. Правых среди ветеранов едва ли
было больше, чем левых, однако между ними имелось существенное
различие: правые были сплоченнее, они искали и находили «врагов
народа», они готовы были «всем миром и одним ударом» разрешить
наболевшие социальные проблемы. В последующих главах я разберу
и оценю эти соперничающие теории на конкретных примерах, и мы
увидим, что идеологическая аргументация ближе к истине.
Беды войны, а в некоторых случаях и поражение в войне обусловили собой изначальный политический кризис новых режимов;
возможно, именно в этом была главная причина первоначального
движения к демократизации. Но затем военное прошлое многих активных граждан, присущие им милитаристские ценности подтолкнули
их к мысли о парамилитаризме как возможном пути к решению проблемы. Однако этого объяснения недостаточно. Напомню: ужасы вой
ны испытала на себе вся Европа (да и многие другие страны), однако
лишь в половине Европы возникли значительные парамилитарные
движения. Не буду спорить: некие зародыши парамилитаризма и даже
протофашистских движений среди ветеранов появлялись почти во
всех странах — участницах войны. Весьма значительны были они в демократической Франции. В Великобритании возник небольшой, но
влиятельный Британский союз фашистов Освальда Мосли. В США,
как указывает Кэмпбелл (Campbell, 1998), в 1920-х ударной силой
Политическая власть, политический кризис
109
правых в борьбе с «красными» стал Американский легион. Однако
в сравнении с фашизмом в Германии, Италии, Венгрии или Румынии
все это была рябь на воде. Отчасти (но не в случае Румынии) это,
быть может, объясняется разницей между победой и поражением.
Но похоже, что корни авторитаризма и фашизма следует искать не
только в войне и ее результатах.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ,
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Политическая власть рождается из контроля над государством и,
в конечном счете, из пользы централизованной территориальной
регуляции общественных отношений для различных групп населения.
Очевидно, те, кому принадлежит контроль над государством, обладают наибольшим объемом власти. Межвоенная эпоха стала свидетельницей множества политических кризисов и заговоров, в которых
соперничающие группировки боролись за государственную власть.
Этот материал изучают теории элит, которые можно свести к двум
редукционистским теориям государства: классовой теории и теории
плюрализма. Однако независимо от объема власти, сосредоточенной
в руках государственных элит, государственные учреждения и поражающие их кризисы обладают собственным влиянием на исход
политических процессов. Например, тот факт, что во Франции власть
высоко централизована, а в США децентрализована, отчетливо проявляет себя в текущей политике: это пример того, что я называю
«теорией институционального этатизма» (Mann, 1993: гл. 3). «Новый
институционализм» также подчеркивает долгосрочное воздействие
существующих учреждений на структуризацию жизни общества.
В межвоенный период мы встречаемся с полуавторитарными государствами, чьи институты имеют долгую историю, но сейчас движутся
к демократизации и сталкиваются на этом пути с кризисами, что,
среди прочих факторов, и ведет к возникновению фашизма.
Основная проблема объяснения авторитаризма исключительно
результатами Первой мировой войны и межвоенных экономических
110
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
кризисов состоит в том, что политика в «двух Европах» различалась
уже задолго до этого. Большая часть северо-западных стран перешла
к либерально-демократическому национальному государству в течение XVIII–XIX веков. Напротив, весь центр, юг и восток подошли
к этому переходу только сейчас — и подошли более неожиданно
и бурно, в обстановке растущего национализма и этатизма. Разумеется, во многом эта разница объясняется экономическим отставанием,
а также военным и геополитическим контекстом. Однако у центра,
востока и юга имелись и специфические политические проблемы.
Это были переходные государства, для которых межвоенный кризис
стал особенно тягостен.
Я различаю две стороны либеральной демократии, которые Даль
(Dahl, 1977) именует «участием» и «состязательностью». Участие —
это степень участия в управлении страной, определяемая прежде всего
по тому, кто обладает избирательным правом. Когда мы говорим о развитии демократии, вопрос голосования неизбежно выходит на первый
план (Rokkan, 1970: part II; Therborn, 1977; Rueschemeyer et al., 1992:
83–98). Однако столь же необходима для либеральной демократии
состязательность, означающая, что верховная власть оспаривается
партиями на свободных выборах, а исполнительная власть не может
контролировать выборы или пренебрегать их результатами.
Непосредственно перед войной мы не видим между «двумя Европами» особой разницы в вопросе участия. Все мужчины получили право голоса в Португалии — в 1822 г., в Болгарии — в 1879-м,
в Сербии — в 1889-м, а во Франции и Германии — во время полуавторитарных правлений Наполеона III и кайзера. В конце XIX века
мужчины во многих странах имели неограниченное право голоса,
однако выборы контролировала местная аристократия: они могли
быть работодателями, мировыми судьями, налоговыми инспекторами,
филантропами, и с их мнением приходилось считаться (хоть здесь
и выручало новое изобретение — тайное голосование). Хотя к 1914 г.
избирательное право в целом было шире на северо-западе, имелись
и вариации — и после 1918 г. различия стали глубже. В 1920-х все
взрослые женщины получили право голосовать в Германии и Австрии,
но не во Франции; одинокие женщины от 21 до 30 лет получили право
голоса в Великобритании лишь в 1929 г. Сам по себе охват избира
тельного права не гарантировал выживания либеральной демократии;
Политическая власть, политический кризис
111
хотя резкие изменения в избирательном законодательстве, как в Италии и Испании, могли насторожить консерваторов и подтолкнуть
некоторых из них в сторону авторитаризма. И здесь, по-видимому,
важен был не столько сам политический строй, сколько резкие перемены в нем.
Состязательность дает более точную корреляцию. К 1880-м
(а чаще всего — и намного раньше) все страны северо-запада, в том
числе и их белые колонии, обзавелись состязательной многопартийной системой и свободными в целом выборами; в них установилась система правления, при которой партии сменяют друг друга
в правительстве без особого вмешательства исполнительной власти.
В северных странах государственные ассамблеи существовали даже
при абсолютных монархиях. Даже в северо-западных «колониях»,
Ирландии и Норвегии, местные жители высылали своих избранных
представителей в законодательные собрания метрополий — Лондона
и Копенгагена. Даже в двух маргинальных случаях — Финляндии
и Чехословакии — их российские и австрийские владыки допускали существование местных законодательных собраний. Кроме
того, структура власти в северо-западных парламентах строилась
таким образом, чтобы правящая партия не могла вечно оставаться
у власти, манипулируя административным ресурсом или прибегая
к репрессиям. Классические примеры — Соединенные Штаты (свободное многопартийные выборы для большинства белых граждан
с 1790-х) и Великобритания (свободные многопартийные выборы
для 15–20 % мужчин с 1832 г.). В течение XIX века большая часть
северо-западных стран последовала этим образцам. Право короля
назначать министров сохранилось в Швеции и Дании, однако короли
редко пользовались этим правом, и в 1917 и 1920 гг. соответственно
эта традиция была отменена.
По этому критерию можно четко разграничить две Европы. Очевидно, различия тесно связаны с уровнем развития, с классовой политикой более ранней эпохи, а также с разницей в налогообложении
и военной политике (Mann, 1986; Downing, 1992). Каково бы ни было
точное соотношение причин, результатом стали значительные различия как в сущности, так и в устойчивости политических режимов
начала XX века — а эти различия, в свою очередь, повлекли за собой
разные их судьбы в послевоенный период.
112
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
Итак, к началу Первой мировой войны во всех странах СевероЗападной Европы появились парламенты, обладающие верховной
властью21. Когда избирательное право распространилось на все
классы и религии, а также на женщин, в политической жизни начали
укореняться либеральные практики (Luebbert, 1991). Именно через
представительские институты выражались межвоенные разногласия
(Schmitt, 1988). Лишь Финляндии и Чехословакии пришлось строить
политическую жизнь с чистого листа — но и у них неплохо получалось.
Северо-западное государство было унитарно: в нем господствовал
парламент, обладающий верховной властью, привыкший разрешать
конфликты между классами, религиозными общинами и регионами.
Уникальный опыт разрешения этнических разногласий имелся лишь
у Бельгии и Швейцарии. Не столь важна была либеральная идеология,
сколько государственные институты, воплощавшие идеи либерализма
в своей повседневной практике.
Рассмотрим британских шахтеров конца XIX века. Должно быть,
мало кто из них верил в либерализм. Они были так же радикальны
(и так же хорошо организованы), как и шахтеры в большинстве других
стран. Однако многие из них проходили тогдашний имущественный
ценз и обладали правом голоса, так что им удалось стать мощной силой в некоторых парламентских округах и составить избирательный
блок, с которым существующие партии вынуждены были считаться.
Либеральная партия откликнулась на их нужды, начала представлять
их интересы в парламенте, так что шахтеры голосовали за либералов.
Конечно, не обходилось без противоречий, и со временем представители шахтеров обрели некоторую автономию в качестве «либ-лейбов».
В начале ХХ века они присоединились к партии лейбористов. Этот
путь определила не столько идеология, сколько прагматические соображения повседневной избирательной и парламентской политики.
Схожим образом проходили через парламентский тигель в демократических государствах и другие проблемы и вызовы межвоенной
эпохи — и в конечном счете государство от этого только укреплялось.
Эти демократические политические традиции вошли слишком глубоко в плоть и кровь государства, чтобы фашизм, большевизм или
21
Если применять этот термин широко и включить туда на тех же конкурентных основаниях, что и членов парламента, избранных президентов.
Политическая власть, политический кризис
113
какая-либо иная идеология смогла их опрокинуть. Применительно
к этим странам, быть может, неверно даже говорить о либерализме
как об идеологии — разве что об институционализированной идеологии, укорененной в повседневных ритуальных практиках. Ценности
и нормы она рассматривала инструментально, стремясь с их помощью
выиграть выборы или примирить враждующие партийные фракции.
Как отмечает Линц (Linz, 1976: 4–8), фашистские партии поздно
познакомились с парламентскими институтами. При уже устоявшихся
традициях партийной борьбы новичкам с трудом удавалось отвоевать
себе место. Например, в Норвегии, Швеции и Дании демократические
партии справлялись с любыми вызовами Первой мировой войны
или капитализма (Hagtvet, 1980: 715, 735–738; Myklebust, Hagtvet,
1980: 639–644). Если их электоральные антенны улавливали рост
национализма, значит, консервативные партии немного сдвигались
в националистическую сторону. Если улавливали этатистские чувства — на эти порывы отвечали центристские и левые партии. Позже, когда некоторые из этих стран были оккупированы нацистами
и партийная система в них рухнула, все в одночасье переменилось.
Уничтожив парламенты и выборы, нацизм нашел себе множество
идеологических союзников. В Норвегии, например, он завоевал поддержку 55 тысяч местных национал-социалистов.
В центре, на востоке и на юге Европы все было иначе. Парламенты
до 1914 г. либо практически не существовали (как в Российской или
Османской империях), либо делили политическую власть с неизбираемым монархом, военной верхушкой или премьер-министром и его
кабинетом, обладавшими значительным административным ресурсом.
Государство было дуалистическим — две ветви его власти (парламентская и исполнительная) пользовались относительной независимостью
(Newman, 1970: 225–226). Именно таково значение термина «полуавторитарный». В наследие от прежнего абсолютистского периода
остались вооруженные силы, подчиненные исполнительной власти
намного плотнее и жестче, чем в другой половине Европы. В Германии и империи Габсбургов, в Сербии, Румынии, Греции и Болгарии
монарх мог манипулировать выборами и парламентом с помощью
административного ресурса и избирательных репрессий. В Испании периода Реставрации и (в меньшей степени) в «либеральной»
Италии до 1919 г. министр внутренних дел или премьер-министр
114
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
назначал выборы, чтобы создать покорное олигархическое правительство (el turno в Испании, trasformismo в Италии). В 1901 г. половина депутатов итальянского парламента были правительственными
чиновниками — людьми едва ли независимыми. А в Великобритании
«держатели мест» были упразднены еще в 1832 г.! Однако в этой
половине Европы демократические установления работали лишь
частично, в той мере, в какой им не мешала исполнительная власть.
Шахтеры здесь не имели реальных рычагов политического влияния.
Их интересы могла «представлять» местная аристократия непрямым
путем, через политический клиентелизм. Но, если это не срабатывало,
для власть имущих открывались куда более серьезные возможности
репрессий, чем для их собратьев на северо-западе. У них имелись
авторитарные, деспотические возможности.
В 1918 г. центр, юг и восток Европы столкнулись с тем, что можно
назвать «политическим догоняющим развитием». Ларсен (Larsen,
1998; ср. Griffin, 2001: 49) пишет, что страны Оси были «поздними
строителями нации, поздними либералами и ввели демократическое
правление лишь незадолго до своего краха»; то же верно и для всей
восточной половины континента. Германия и Австрия, как и Испания
в 1931 г., сделали резкий рывок в сторону парламентской демократии
и всеобщего избирательного права. Италия резко расширила избирательное право в первый раз еще перед войной, в 1912 г., и второй
раз — в 1918 г. Эти резкие изменения парламентской системы не сопровождались параллельными реформами исполнительной власти,
которая (как мы увидим далее, рассматривая конкретные случаи)
по-прежнему оставалась в тисках «старого режима», сумевшего сохранить контроль над большей частью государственного репрессивного
аппарата. Такие дуалистические государства, пытающиеся нащупать
пути либерализации, мы видим повсюду. Однако многие центральные,
южные и восточные государства столкнулись еще с одной проблемой
переходного периода — они создавали национальное государство.
Эта проблема была совершенно новой, неизвестной странам северозапада. Северо-западная «этническая слепота»22 была бесполезна
22
Под этим термином я подразумеваю, что изначально при выдаче документов
на собственность редко учитывалась этническая принадлежность собственника. Собственники английские, валлийские и шотландские считались
Политическая власть, политический кризис
115
для обитателей бывших территорий или окрестностей многонациональных Российской, Австро-Венгерской и Османской империй, где
требовалось политическое представительство не только классов, но
и народов. Наряду с движениями, мобилизующими классы, возникали
движения, стремящиеся мобилизовать национальные чувства и интересы. На исторической сцене столкнулись старые имперские нации
(русские, немцы и турки), более молодые империалисты (венгры),
пролетарские нации (украинцы, румыны), новые субимперские нации (сербы, чехи), а также соответствующие этнические меньшинства
в странах, где их окружало этнически чуждое большинство. Нередко
нации различались и в религиозном отношении — и это усиливало
их взаимную отчужденность.
Межнациональные конфликты были связаны с международными
теснее, чем классовые. Версальский и Трианонский договоры начертили новые границы Европы, исходя из двух противоречащих
друг другу принципов. Первый — вознаградить победителей и наказать проигравших. Второй — положить начало «национальному
самоопределению», начертив границы согласно расселению народов, так, чтобы каждое новое государство стало преимущественно
моноэтничным. В результате сложился целый список обиженных
стран с ирредентистским настроем, мечтающих вернуть утраченные
территории; особенно настойчиво добивались этого беженцы, вынужденные покинуть родину. Мы видим, насколько сложные и серьезные
требования предъявлялись теперь к дуалистическим национальным
государствам центра, юга и востока и насколько мало отвечали
этим требованиям привычные для них политические практики. Все
вовлеченные стороны столкнулись с неопределенностью и риском,
на северо-западе практически неизвестными. В кризисные периоды
исполнительная власть чувствовала, что безопаснее всего прибегать
к репрессиям. Вспомним также, что именно по этому критерию бывшие абсолютистские государства — Германия и Австрия — оказались
в том же положении, что и менее развитые страны востока и юга.
Теперь взглянем на политический кризис переходного периода
глазами самого известного консервативного теоретика государства
активными гражданами, и их редко классифицировали по этническому
принципу.
116
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
той эпохи23. Карл Шмитт — знаменитый немецкий юрист, после
прихода Гитлера к власти ставший апологетом нацизма. Однако
в 1920-х он был просто консерватором, без приверженности какомуто конкретному режиму: восхищался Муссолини, но не Гитлером,
стремился создать теорию современного конституционного строя на
твердом юридическом фундаменте абсолютного правового принципа.
Он искал надежности и не хотел риска. По его мнению, незыблемые
устои континентальной Европы пошатнулись из-за того, что крах
традиционных полуавторитарных режимов свел на нет два неотъемлемых атрибута конституционного права. Во-первых, парламенты
при старых режимах воплощали в себе просвещенческий принцип
разума: в них шли дебаты между независимыми, образованными, рационально мыслящими людьми. Суть континентального либерализма
XIX века в том, что лучшие законы вырабатываются в рациональных
дискуссиях образованных людей. Теперь же, продолжает Шмитт,
массовое избирательное право («участие», по терминологии Даля)
породило массовые партии, угрожающие независимости этих людей.
Депутаты превратились в представителей тех или иных общественных
интересов: у них есть организации и идеологии, указывающие им,
как голосовать. Свободной и рациональной дискуссии настал конец.
Шмитт рисует даже более мрачный сценарий: бюрократически орга
низованные, корпоративистские «массовые армии» (прежде всего он
думал о профсоюзах, но упоминал также экономическую концентрацию и большой бизнес) «вторгаются» в государство и подчиняют его
моралистической идеологии ненависти, в конечном счете основанной
на узко понятых классовых интересах. Быть может, компромисс между
этими интересами по-прежнему возможен, однако теперь его придется
искать не через парламент, а напрямую через эти организации. Ведь
именно так, верно замечает Шмитт, и возникла Веймарская республика как открытое, хоть и шаткое классовое перемирие между социалистическими профсоюзами и деловыми воротилами. Общественный
23
Следующими тремя абзацами я обязан Балакришнану (Balakrishnan,
2000). Основные работы Шмитта, на которые я опираюсь, — «Кризис
парламентской демократии» (1923) и «Понятие политического» (1927).
Я также признателен за помощь Дилану Райли в дискуссиях о кризисе
парламентского либерализма.
Политическая власть, политический кризис
117
договор между ними не был скреплен парламентской солидарностью
респектабельных джентльменов. Не был он скреплен, добавлю я,
и повседневными, освященными долгой историей политическими
практиками партий и парламента. Так можно ли им доверять? Могут
ли они сами доверять друг другу? В этом Шмитт сомневался.
Во-вторых, писал Шмитт, господство политических партий (то есть
полная состязательность) закрывает для традиционного государства
все возможности оставаться беспристрастным арбитром, гарантом
порядка и компромиссов, каким являлось оно в прошлом. Хоть мы
и склонны считать, что исполнительная власть старых режимов выступала на стороне имущих классов, не так смотрели на нее консерваторы.
Монарх и государство, пишет Шмитт, находились «над» обществом
и обуздывали частные хищнические интересы. Партия способна
представлять лишь часть нации. Она не может заменить государство
как универсальную силу. Шмитт полагал — и не без оснований, —
что государственная элита Германии сейчас парализована. Однако
заменивший ее плюрализм партийной состязательности стоит лишь
в шаге от гражданской войны, где не будет судей, способных сказать:
«Это мое, а то твое». Беспощадная конкуренция рискует перерасти
в войну. И если ни бурлящий парламент, ни старый режим не могут
обеспечить порядок — быть может, это задача для новой исполнительной власти? Так в 1920-е Шмитт начал формулировать идею о том,
что, для спасения от хаоса, «опустевшие» центры государственной
власти должна занять новая правящая элита, стоящая над обществом.
Это привело его к поддержке полуавторитаризма Брюнинга и фон
Папена, а затем — к поддержке Гитлера и нацизма.
Шмитт выражал широко распространенные в обществе страхи.
Первый его аргумент был особенно понятен либералам старой формации, второй — консерваторам. Разумеется, за этими страхами во
многом стояло классовое сознание. Страшнее всего для Шмитта,
как и для прочих либералов и консерваторов, казалась новая «массовая армия» — профсоюзы рабочих и социалистические партии,
выражающие их интересы. За худшими из их страхов маячила тень
большевистской революции. Однако свою теорию Шмитт основывал
не на правах собственности, а на более широком представлении о порядке и безопасности. Шмитт вполне воплощает в себе то, о чем я говорил чуть раньше, описывая страхи имущих классов: страх потерять
118
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
собственность встраивался в позитивное стремление к безопасности
и порядку. Упор Шмитта на угрозу для свободной рациональной
дискуссии, которую представляют крупные бюрократические организации и корпорации, имел тогда (и имеет сейчас) более широкое
значение. Он очень напоминает, например, сравнительно недавнюю
теорию искаженной коммуникации Хабермаса — теорию отчетливо
левого происхождения. Шмитт даже вполне благосклонно смотрел
на государственные программы помощи малоимущим — до тех пор,
пока общество не начинает «вторгаться» в государство. В первую
очередь он беспокоился о государстве и общественном порядке, а не
о классовых и общественных интересах. С капитализмом сам Шмитт
и его единомышленники имели мало общего. Сам он происходил
из бедной семьи: отец его был неквалифицированным рабочим на
железной дороге. Семья была строго католической, и в юности (пока Шмитт не порвал с церковью из-за развода) консерватизм его
принимал католические формы. Всю дальнейшую жизнь он преподавал в различных немецких университетах: звание профессора
обеспечивало ему уважение и достаток. Он был завсегдатаем кафе
и светских салонов, общался с художниками, писателями, другими
учеными. Труды Шмитта обеспечили ему известность среди юристов
и чиновников: именно государственные чиновники представляли собой ту элиту, с которой в первую очередь он был связан. Шмитт стал
знаменем интеллигенции и немецкого этатизма, но не капитализма.
Национализм его был умеренным, а милитаристом он не был вовсе —
однако писал о том, что современный мировой порядок перекошен
в сторону интересов победителей в Первой мировой войне.
Таким образом, он помогал легитимизировать германский имперский ревизионизм. Как мы увидим далее, обращаясь к высшим
классам, фашисты апеллировали отнюдь не только к интересам собственников. Забота о собственности была щедро приправлена темами
порядка и стабильности, которые принесет с собой надклассовое
государство-нация.
Таким образом, страхи многих консерваторов и некоторых либералов идеологически сближали их с фашизмом. Политический кризис
переходного периода в массовом обществе разрушил прежние источники безопасности и порядка. Жизнь стала рискованной, а возрастающий национализм, этатизм и милитаризм грозили новыми рисками.
Политическая власть, политический кризис
119
Казалось, что лучше перестраховаться. Поскольку в дуалистическом
государстве консерваторы имели легкий доступ к репрессиям, они
могли, пользуясь футбольной терминологией, «первыми размочить
счет» и не дать провести ответный мяч в свои ворота. Именно такая
логика лежала в основе их параноидального страха перед «красной
чумой». Увы, они не понимали, что «коричневая чума» фашизма
может оказаться еще опаснее.
Следовательно, авторитаризм напрямую вырос из политического
кризиса и блокировал для некоторых стран возможность демократического выхода из него. Дуалистическим государствам в центре,
на юге и на востоке Европы (я включаю сюда и германоязычные
страны) безопасный выход из кризиса мог быть гарантирован лишь
при помощи репрессий. Либеральные страны северо-запада успешно
преодолевали все кризисы, порожденные войной и капитализмом. Как
пишет Юджин Вебер (Weber, 1964: 139): «Фашизм двадцатого века —
побочный продукт распада либеральной демократии». Но это не совсем верно. Государства, где либерализм был институционализирован,
успешно преодолели кризис. Тезис этот нужно перефразировать:
фашизм отразил в себе кризис дуалистических, полулиберальных,
полуавторитарных государств, занимавших половину Европы и,
наряду с экономическим и военным кризисами, столкнувшихся
с кризисом перехода к демократии и национальному государству.
В результате положение государства стало шатким, началось движение по нисходящей, и в самом государстве возник протест против
либерализма: общество раскололось на два лагеря, каждый из которых имел значительную поддержку в широких слоях населения. Нам
необходимо проанализировать государственные элиты и партии так
же тщательно, как и социальные классы. Громоотводом для кризиса
послужил не либерализм, а консерватизм. Именно успех северо-западных консерваторов в превращении партий аристократов в партии
массового представительства позволил либеральным государствам
выжить. Там, где консерваторам не удалось совершить этот переход, —
кризис переходного периода породил авторитаризм и распахнул
двери перед фашизмом. Хотя политический кризис во многом связан
с долгосрочными процессами экономического и геополитического/
военного развития, а отчасти и с краткосрочными экономическими
и военными потрясениями, есть у него и специфически политические
120
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
причины. И политический кризис, в свою очередь, породил потребность в реальных идеологиях.
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ,
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Идеологическая власть рождается из потребности человека понять
значение происходящего, обрести общие нормы, ценности и ритуалы, придающие жизни осмысленность и укрепляющие социальное
взаимодействие. Идеология, предлагающая привлекательные нормы,
ценности и ритуалы, может также узаконивать власть создателей
этой идеологии. Человеческое существование само в себе смысла не
несет. Мы опираемся на более общие системы смыслов, как правило, не проверяемые напрямую ни наукой, ни нашим практическим
опытом. Системы смыслов «превосходят» опыт и помогают определить наши интересы. Однако жизнь в обществе, как и укорененные
в обществе системы образования, трудоустройства, политической
деятельности и т. п., в норме избавляет нас от необходимости часто
обращаться к господствующим идеологиям напрямую. В общественных институтах, в которых мы участвуем, создаются повседневные
практики, которые работают и выглядят нормальными: они порождают минималистические институциональные идеологии, в которых
ценности отступают на задний план перед прагматизмом. Однако
в кризисные времена традиционные практики и прагматизм перестают работать — и мы обращаемся к идеям напрямую, желая найти
или изобрести для себя новые работающие практики. Интеллектуалы
предлагают новые системы ценностей и благодаря этому, возможно,
обретают больше власти в обществе. Мы можем счесть одну из этих
новых систем привлекательной и принять ее. Именно так я в первом
томе «Источников социальной власти» (Mann, 1986: гл. 10) объяснял
возникновение мировых религий спасения, а во втором томе (Mann,
1993: гл. 6–7) — влияние движения Просвещения на Французскую
революцию. Можно ли так же объяснить фашизм? Я исследую сети
коммуникаций фашистов. Географически можно выделить три основ-
Идеологическая власть, идеологический кризис
121
ных типа: международные сети, макрорегиональные сети (они могут
поддержать теорию «двух Европ») и сети в границах одного национального государства. Также я выделяю основные идеологические
составляющие фашизма на социальном уровне.
Очевидно, что фашизм глубоко идеологизирован. Другие авторитарные правые были далеко не так привержены идеологии. Они
могли прагматически заимствовать у фашистов те их идеи, что помогали оставаться у власти, но тот радикальный переворот, которого
требовал фашизм, старались затушевать и обезвредить. Однако предвоенные прародители фашизма были интеллектуалами; и для самого
фашизма интеллектуалы оставались важными фигурами. В предвоенный период Моррас, Баррес, Сорель, такие расовые теоретики, как
Чемберлен и Гобино, а также толпа посредственных журналистов,
популяризаторов и памфлетистов — вплоть до авторов печально известной антисемитской фальшивки, так называемых «Протоколов
Сионских мудрецов» — имели куда больше читателей, чем состояло
членов в довоенных фашистских или расистских политических организациях. И все фашистские движения продолжали обращаться
прежде всего к высокообразованным людям — к университетским
студентам, дипломированным специалистам, самым образованным
представителям среднего класса. Сальваторелли (Salvatorelli, 1923)
называл свою целевую аудиторию «гуманистической буржуазией».
Большинство интеллектуалов фашизму удалось привлечь лишь
в Италии и Румынии, однако повсюду он привлекал значительное
меньшинство — в том числе журналистов, радиоведущих, киноре
жиссеров, художников. Фашизм стал движением, так сказать, интеллигенции низшего порядка.
Таким образом, фашистские программы формировались в контексте более широкой идеологии. Я уже приводил презрительный
отзыв Кодряну о типичном «пакете требований» обычной партийной
программы. Фашисты помещали экономику или политику личных
выгод и интересов в контекст Weltanschauung (миропонимания). Они
провозглашали стремление к высшим моральным целям, выходящим
за пределы классовой борьбы, готовность заново сакрализировать
современное общество, все более материалистическое и загнивающее.
Они говорили о кризисе цивилизации, охватившем правительство,
нравственность, естественные и общественные науки, искусство
122
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
и «стиль». Своих врагов они проклинали, используя моральную
и очень эмоционально насыщенную риторику. Социалисты несли
с собой «азиатское варварство», либералы были «испорченными»
и «растленными». Наука «материалистична». Культура «одряхлела», «выродилась»: ее необходимо обновить и оживить. Фашисты
пропагандировали собственное искусство, архитектуру, естественные
и общественные науки, собственные молодежные движения и культ
нового человека, с особым интересом к стилистике и ритуалам.
Разумеется, Муссолини и Гитлер признавали эмоциональную силу
искусства: музыки, маршей, риторики, картин, графики, скульптуры,
архитектуры. Немало творцов с радостью поступали к ним на службу,
чувствуя, что их художественное видение соответствует фашистской
идеологии. В течение 1920–1930-х цепь кризисов, перечисленных
нами выше, подорвала ощущение осмысленности жизни. Когда страна
терпит страшные, разрушительные войны, теряет или присоединяет
огромные территории, теряет (или принимает к себе) тысячи беженцев, сталкивается с тяжелым экономическим кризисом и классовыми
конфликтами, переживает резкий и драматический политический
переход — все это подрывает не только «старый порядок», но и множество старых верований, убеждений и способов жить. Общественные
и политические идеологии не требуют научного подтверждения,
да и получить его не могут. Так и новые идеологии не обязательно
должны быть истинными — но от них требуется правдоподобие и при
влекательность, хотя бы кажущаяся способность объяснить текущие
события, перед которыми умолкают в растерянности идеологии прошлого. В межвоенный период традиционным идеологиям не так-то
легко было объяснить современную реальность, по крайней мере
в половине Европы. Консерватизм не доверял вышедшим на сцену
массам; либерализм выглядел коррумпированным, недостаточно
этатистским и националистичным. Социализм не доверял нации и,
обостряя классовый конфликт, не предлагал для него никакого разрешения. Христианские церкви переживали кризис: они отдалились
от мирской жизни, их сотрясали внутренние неурядицы. Открылось
место для новых идеологий и идеологов, обладающих тем, что Люсьен
Голдман назвал «максимально возможной сознательностью» — обостренным чутьем, позволяющим определить провалы привычных
идеологий и заменить их новыми.
Идеологическая власть, идеологический кризис
123
Такие авторы, как Хьюз (Hughes, 1967), Штернхелл (Sternhell,
1976: 320–325) и Мосс (Mosse, 1999), описывают общий между
народный идеологический кризис, поразивший Европу. Они видят
противоречие между просвещенческим Разумом и постромантическим интересом к эмоциям, страстям, воле и подсознанию — тому, что
порождает такие массовые феномены, как толпа, уличные столкновения, войны и национализм. Некоторые стремятся найти в «истории
идей» связь между фашизмом и революциями высокого модернизма,
в которых отразился и укрепился всеобщий кризис начала ХХ века:
«тревожные перевороты» в психоанализе, абстрактной живописи,
атональной музыке, закат «всеведущего автора» в реалистическом
романе, тяготение к странному, фантастическому, декадентскому
и иррациональному — все это отвергало характерный для Просвещения примат холодного и самоуверенного рассудка. Однако если бы
международный культурный кризис помог укрепиться авторитаризму, это произошло бы повсюду. Возможно, это происходило лишь на
макрорегиональном уровне? В таком случае культурный кризис на
юге и востоке Европы должен был быть глубже. Пожалуй, в англосаксонских и скандинавских странах он действительно проявлялся
меньше; однако столицей авангарда был демократический Париж,
а новаторской музыки и психоанализа — социал-демократическая
Вена. А до юга и юго-востока модернизм доходил с опозданием.
В сущности, высокую культуру создавал тонкий слой космополитической элиты, не особенно привязанной к местности. Особенно
верно это для музыки и художественного творчества, не стесненных
лингвистическими барьерами. Однако трудно связать революции,
совершенные Фрейдом, Шенбергом, Пикассо, Джойсом и так далее,
с политическими революциями. Многие радикальные художники
отвергали художественные формы, доступные и понятные массам
(простые мелодии, красивые пейзажи и т. п.), и, следовательно,
имели на массы мало влияния. По мнению Шорске (Schorske, 1981),
культурные элиты Вены видели, что либерализм не смог реформировать Австро-Венгерскую империю, и страшились пробудившейся
яростной активности масс. Поэтому они бежали в эстетический
романтизм и оккультизм, отвергая ценности существующего общественного порядка, с ужасом предсказывая неслыханные политические потрясения.
124
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
Однако значительную часть модернистского искусства фашисты
называли «дегенеративной» и отвергали. Поэтому некоторые называют фашизм антимодернистским движением. Сам я предпочитаю
концепцию ресакрализированного модернизма Джентиле (Gentile,
1996) или реакционного модернизма Херфа (Herf, 1984). В нацизме
была ностальгия по прошлому, романтизм, тяготение к Средневековью
и даже к первобытным временам. Однако, как пишет Аллен (Allen,
2002) о технократах в СС, сами нацисты считали себя модернистами.
В таких различных областях, как инженерное дело, теория управления, биология, пропаганда и графика, фашисты принимали новое
с энтузиазмом. Они вводили инновации в массовых коммуникациях,
распространяя свою идеологию через плакаты, парады, художественные выставки, кинофильмы и архитектуру. В архитектуре и в музыке
они были довольно консервативны; в графике, кинематографе и театрализованных представлениях — радикальны. Однако кризис высокой культуры, по-видимому, не играл большой роли в фашистской
идеологии. Скорее фашисты предлагали соблазнительные решения
для экономического, военного и политического кризисов своей эпохи — и сообщали о них, изобретательно используя модернистские
приемы массовой коммуникации.
В самом деле, это была эпоха подъема национальных государств,
и коммуникации в ней становились все менее международными, все
более внутригосударственными. В XVIII веке литературную коммуникацию вели между собой многоязычные церкви и аристократические элиты. Просвещение было международным движением — оно
охватывало всех грамотных европейцев и даже выходило за пределы
Европы. То же верно и для его наследников — либерализма и социа
лизма XIX века, врагов авторитаризма века двадцатого. Междуна
родному распространению социализма способствовал космополитизм
крупного капитала, привычка старых режимов карать инакомыслящих
изгнанием, а также левые симпатии еврейской молодежи, вызванные
новым политическим антисемитизмом. Космополитические сети
изгнанников и евреев составили основу Интернационалов и способствовали быстрому распространению социалистических текстов.
Марксизм, синдикализм и реформизм — субкультуры, влияние
которых испытало на себе большинство рабочих движений — все
были макрорегиональными. И авторитаристы, особенно фашисты,
Идеологическая власть, идеологический кризис
125
обвиняли социалистов в космополитизме, чуждости, измене. Подъем
социологии в конце XIX века носил националистическую окраску.
Вебер, Дюркгейм, Парето и Моска почти не ссылались друг на друга.
Они были замкнуты в своих национальных границах — и каждый
по-своему, независимо друг от друга, развивали критику интернационального социализма.
Суть либерализма также была интернациональной, хоть у него
и имелись две родины, Великобритания и Франция. Либерализм воплощал в себе парламентские компромиссы и открытые дискуссии
между независимыми джентльменами. В эпоху подъема масс эта идеология столкнулась с трудностями. В Британии эти трудности замаскировало постепенное расширение избирательного права: шаг за шагом
все больше людей включались в игры джентльменов в Вестминстере.
Во Франции времен Третьей республики также какое-то время удавалось скрывать напряжение, поскольку все партии объединяло общее
стремление защитить Республику от правых. Однако, с точки зрения
видных консерваторов в других местах (таких, как Карл Шмитт),
внезапное явление масс на политическую сцену заставило партии
дисциплинированно следовать заранее установленным идеологиям.
Идеологические армии затоптали свободную дискуссию. Либеральные
аристократы иногда пытались манипулировать растущими массовыми
партиями — так происходило в caciquismo и trasformismo, — но в результате коррумпировались и развивали в себе авторитарные наклонности.
Британское идеологическое влияние на континенте к концу XIX века,
когда Британия полностью погрузилась в свои имперские дела, постепенно сошло на нет. Влияние британских и, в меньшей степени,
французских либералов в Европе практически угасло.
Континентальные споры с либерализмом часто представляли
собой вызов англосаксонской (или порой англо-французской) ортодоксии. В философии утилитаризму Бентама, позитивизму Конта
и американскому прагматизму, происходящим от прагматического
крыла просвещенческой традиции, противостояли неоидеалистские
интенции, внимание к эмоциям, «жизненной силе», Lebensphilosophie,
связанная особенно с именами Шопенгауэра, Брентано, Бергсона
и Ницше. В бессознательном Фрейда чувствуются параллели с психологией толпы Лебона, первичной ролью мифа у Сореля. Тённис
и Дюркгейм оспаривали либерализм Спенсера и Конта: общество,
126
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
говорили они, формируют не просто контакты между отдельными
людьми — оно требует общности и коллективного сознания. Гумпловиц и Ратценхофер развивали социологию этнического конфликта
и воинственной «сверхстратификации», оспаривая более мирные
марксистские и либеральные теории классовых и групповых конфликтов. В Великобритании и США эти новые социологические
разработки оставались почти неизвестны. Хотя социал-дарвинизм
привел к популярности евгеники повсюду, на северо-западе проблемой считалось скорее воспроизводство низших классов, чем «низших
рас». В Германии же и в Австрии расистским социал-дарвинизмом
были пропитаны и книжные бестселлеры, и популярная социология,
и программы политических партий. Немногие из их авторов были
правыми; однако вульгаризация их взглядов «в руках тысяч интеллектуалов невысокого пошиба» (говоря словами Штернхелла) поощряла
романтические и популистские выражения национализма и этатизма.
Франция и Германия по-прежнему служили для юга и востока
континента идеологическими посредниками. Вебер отмечал дуалистичность инструментальной и ценностной рациональности.
Ортега-и-Гассет говорил, что Бисмарк и Кант в Германии воплотили
в себе общеевропейскую политическую дилемму: Бисмарк предлагал
порядок, стабильность, общину и авторитет, Кант — свободу, просвещение, равенство, индивидуализм. Либералы, отвернувшись от
Вестминстера, обратились к более воинственной и националистичной
Французской Республике. Так, испанские либералы заявляли, что,
хотя колыбелью общественных свобод стала Англия, именно Франция
сделала свободы универсальными (Marco, 1988: 37–42). В Германии
главенствовал социализм — от Маркса до Бернштейна, Каутского,
Розы Люксембург, лидеров крупнейшей социалистической партии.
Около 1900 г., с падением популярности либерализма, в европейской
политической мысли воцарились французские и немецкие социалисты и авторитарные консерваторы. Новая радикально правая мысль
распространялась к югу и востоку от двух основных игроков «пограничной зоны», Франции и Германии.
Интересы этих двух стран разнились. Французские правые были
сосредоточены на этатизме, немецкие — на национализме. Связано
это было с тем, что во Франции был решен территориальный вопрос
и не было серьезной этнической напряженности (спорными терри-
Идеологическая власть, идеологический кризис
127
ториями были Эльзас-Лотарингия, но и там этническое напряжение
было минимальным). Французы спорили о том, что за государство
должно распоряжаться этими территориями. На рубеже веков их протофашистские интеллектуалы, огорченные поражением монархизма,
милитаризма и ультрамонтанства24, предсказывали государство нового
типа, основанное на модернизме, интегральном национализме и массовой мобилизации. Поэтому французская правая мысль была более
востребована в странах с четкими границами, где проблему составляла не нация, а государство. Морраса, Барреса и «Аксьон Франсез»
больше всего цитировали в Испании, Португалии и Италии. Особенно
в Италии: здесь к такому протофашизму тяготели и консерваторы,
и либералы. Однако этим либералам не удалось институционализировать в собственных странах либеральные практики.
Германии, напротив, единого государства недоставало. Здесь шли
споры о достоинствах Малой и Великой Германии (последняя включала в себя Австрию и другие области проживания этнических немцев),
а конституции у основных немецких государств, Пруссии/Германии
и Австрии, были достаточно схожи. Таким образом, намного чаще,
чем конституцию, немцы обсуждали национальный вопрос. Правые
здесь породили volkisch («народный») органический национализм. Он
встречал наибольший отклик в тех странах, где предметом спора становилось отношение этничности к государству, — в основном на востоке и на Балканах. Этнонационализм вначале развивали австрийские
немцы, поскольку Австрия стала единственной в Европе империей,
где столкнулись интересы имперской и пролетарских наций. Хотя
социал-дарвинизм распространился по всему континенту, только
восточные немецкие земли начали применять его к внутриевропейским этническим различиям: это было вызвано и антисемитизмом,
и разрывом между нацией и государством.
Великая война снизила геополитическое влияние обеих стран,
однако дала толчок росту национализма. Румын Элиаде проклинал
«трансильванских изменников... выучивших французский и верящих
в демократию» (Ioanid, 1990: 155). Немецкий «народный» национализм распространился на востоке — особенно там, где были недоволь24
Ультрамонтанство (от итал. Ultramontano) — политческая идеология, выступавшая за подчинение национальных церквей папе римскому.
128
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
ны исходом войны. В более общем плане национализм опирался на
немецкую философию, с ее упором на «волю» и «борьбу» героев или
элит против разложения, порчи и пошлости — идеи Ницше, Вагнера,
Шпенглера, а также на проведенное Зомбартом противопоставление
немецких «героев» и англосаксонских «купцов». Ницше и Шпенглер
были популярны повсюду; Морраса, Барреса и прочих на северо-западе читали лишь редко и случайно. Гораздо реже отражались их
идеи в повседневных практиках либеральных демократий или среди
деполитизированных протестантов и католиков.
Третий вид немецкого влияния ощущался на протяжении всего
XIX века благодаря господству немецкой системы университетов
и систематизации знаний в целом (Collins, 1998: гл. 13). Особенно
важна была немецкая университетская философия. Однако немецкая
филология, этнография и археология также мощно подпитывали
национализм. Формально националисты отрицали иностранные
влияния, настаивая на своей уникальности. Националистические
представления об «испанском духе», «венгерстве», «арийской нации»,
«третьей греческой цивилизации» — все они претендуют на некую
уникальную связь с историей, цивилизацией и почвой. Так, один
румынский фашист провозглашал: «Наш национализм не приемлет
ничего, кроме сверхчеловека и сверхнации, избранных благодатью
Божьей» (Ioanid, 1990: 114). Однако национализм — по природе своей
учение сравнительное, в котором происхождение каждой нации укоренено в более широкой истории цивилизации: так, весь немецкий
национализм базировался на исследованиях индоевропейцев, ариев,
Востока, Ветхого Завета, варваров и раннего христианства. В популярных пересказах научных трудов Румыния объявлялась «единственной
православно-латинской и латино-православной нацией». Венгерские
националисты видели в мире три избранных народа: немцев, японцев
и мадьяр. Мадьяры, как единственный «туранский» народ Западного мира, считали себя способными стать уникальным посредником
между Западом и Востоком и создать «третью, срединную империю».
Свое видение Срединной Туранской империи предлагали турки. Эти
всемирно-исторические мифы явно испытали на себе влияние европейской, особенно немецкой науки предвоенного периода.
В межвоенный период традиционный немецкий этатизм и милитаризм, смешавшись с «народным» национализмом и антисемитизмом,
Идеологическая власть, идеологический кризис
129
породил нацизм. Влияние его распространялось более на восток, чем на
юг, где границы были прочнее, а расизм и антисемитизм не столь актуальны. Французский этатизм, смешавшись с итальянским авторитарным
либерализмом и синдикализмом, породил итальянский фашизм. Парето
и Моска были здесь адаптированы к мысли, что элиты, преследующие
(неважно, какими средствами) абсолютные нравственные ценности,
стоят выше «развращенного» парламентаризма «законной Италии».
Корпоративизм Шпанна вырос из австрийских представлений о делении
на сословия, румынский корпоративизм Манойлеску предвосхитил
теорию периферийной зависимости. Как и у Джентиле в Италии, в их
корпоративистских схемах реорганизации общества экономическая
эффективность была тесно сплавлена с понятиями единой нации
и «нового человека». Корпоративистское однопартийное государство
итальянского фашизма вызывало восхищение и подражание везде — от
Польши и стран Балтики до Испании и Португалии. В 1920-х, не в последнюю очередь благодаря театральному стилю и риторике Муссолини,
Италия оказалась в центре внимания новых правых. По мере развития
фашизм испытывал на себе все более сильное католическое влияние.
Компромиссу Муссолини с папой тоже старались подражать в других
местах — и католические Франция, Испания и Португалия приняли
австрийский клерикальный фашизм.
Церкви предоставляли ключевые инфраструктуры для идеологической коммуникации. Они были «душой» старых режимов — и оставались мощной массовой силой: через систему школ, выпускающую
в свет половину грамотных европейцев, и через проповеди и пастырские послания, достигающие каждого прихода, воспроизводимые
в газетах и журналах.
Религиозные сообщения циркулировали в трех различных макрорегионах — протестантском, православном и католическом, а также
внутри государственных границ.
Большинство крупных протестантских деноминаций давно уже
были «стабильными» государственными церквями. На северо-западе
их система образования влилась в государственную или существовала
с ней в гармоничном тандеме. Здесь церкви обычно поддерживали
государство, капитализм и демократию, были консервативны, очень
умеренно этатичны и националистичны. Уважение протестантов
к личности и местным общинам способствовало существованию
130
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
в Британии и Скандинавии диссидентских сект, что также укреп
ляло либеральную и социальную демократию. Радикально правое
мышление северо-западные протестантские церкви, как правило, не
поощряли. В Германии дело обстояло иначе: единственная государственная протестантская церковь здесь вплоть до 1918 г. оставалась
душой полуавторитарного режима. Теперь же она остерегалась
светских и католических партий Веймарской республики, и многие
церковники искали альтернативного государства с иным пониманием
священного. То, что искали, они нашли в нацизме.
Восточно-православные церкви изначально напоминали протестантские тем, что каждая из них была связана со своим государством.
Однако по большей части они подчинялись иностранным правителям — австрийцам, русским или туркам. Правители новых православных государств XIX века — Болгарии, Румынии, Греции — также
происходили из иностранных династий. Следовательно, православные
церкви воплощали в себе не столько душу государства, сколько душу
народа — зачастую крестьянства. Православные школы и семинарии
пестовали национально-освободительные движения и органический
национализм. Сочетание умеренного этатизма (исходящего из политического квиетизма и любви к иерархичности) и более отчетливого национализма приводило к различным политическим исходам.
Однако в некоторых православных церквях, особенно в Румынии
(см. главу 8), имелись влиятельные фракции, склонные к радикально
правым взглядам и даже к фашизму.
Католическая церковь интернациональна, хотя «база» ее находится
в Италии. В некоторых странах католические школы и система образования в целом господствовали над государственной. Давным-давно
католические иерархи пришли к согласию со светскими властями
в странах, где католицизм представлял собой господствующую религию. К XIX веку католики стали душой «старых режимов». Однако
в результате либералы и социалисты, желающие сделать государство
светским, начали рассматривать их как своих естественных врагов.
Итальянское государство секуляризировалось первым. К 1900 г.
церковь проиграла войну во Франции и Бельгии. Так некоторые
католические иерархи и интеллектуалы заинтересовались социалистическими и корпоративистскими темами. Католический социализм
и корпоративизм отчасти напоминал фашизм — так же был одновре-
Идеологическая власть, идеологический кризис
131
менно и правым, и левым (Fogarty, 1957; Mayeur, 1980). Поощряемый
папской энцикликой Rerum novarum от 1891 г., католический социализм сперва проник в экономически развитые области: Бельгию,
Францию, Австрию, южную Германию. Там возникали католические
профсоюзы и массовые партии. Затем, в годы перед Первой мировой
войной, движение начало распространяться на юг и на восток, порождая такие партии, как немецкая Центристская партия, австрийские
христианские социалисты, итальянские народные партии, испанские
консерваторы-«мауристас». На социалистическом и иерархическом
духе фундамента католического социализма вполне мог возникнуть
фашизм. Однако во Франции и в Бельгии движение распалось на социалистическую и иерархическую фракции. Католики-социалисты
породили левые движения, а некоторые из тех, для кого иерархия
была важнее, влились в немногочисленные ряды местных фашистов.
В начале 1920-х португальское движение «интегралистов» присвоило
себе тексты «Аксьон Франсез», а затем перенесло их и в Испанию.
Католический мистицизм сплавился с органическим национализмом. Призыв Морраса к народному национализму, основанному на
порядке, иерархии и общинности как защите от индивидуализма,
секуляризации и либерализма, нашел отклик в католических странах — и получил некоторое влияние также в православной Греции
и на Балканах (Augustinos, 1977; Morodo, 1985: 92–100, 107–114;
Lyttleton, 1987: 16–20; Close, 1990: 205–211; Gallagher, 1990: 157–158).
Таким образом, религиозная идеологическая власть проявлялась
и использовалась по-разному. Религия укрепляла макрорегиональную сплоченность северо-западного блока стран, поддерживая там
либерально-демократический компромисс между умеренно-правыми
и умеренно-левыми. В других местах религия могла играть и иную
роль. Основными своими врагами церковь, как правило, считала безбожных левых — но кого поддерживать против них? Национализм
православных церквей иногда оказывался консервативным, иногда
радикальным. Там, где старый режим и поддерживающая его церковь оставались в силе (напр., в Испании), церковь могла немного
сдвигаться вправо, но остерегалась фашизма. Однако более слабые
и уязвимые «старые режимы» отчасти теряли свою сакральную ауру,
то, что Вебер называл традиционной легитимностью. Эта утрата вызывала моральную панику, заставлявшую некоторых церковников
132
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
с симпатией поглядывать на корпоративизм и даже на фашизм — как
в Германии, Австрии, Италии и Румынии. Старые режимы слабели,
и этические и трансцендентные притязания фашизма, обещавшего
не отвергнуть, но заново освятить современность, могли стать для
церкви серьезным соблазном. Фашизм возникал в странах, где церковь привыкла играть значительную политическую роль, но сейчас
эта роль слабела; эту ситуацию и использовали фашисты, перенося
понятие «священного» с Бога на нацию-государство.
Мы все ближе к объяснению выбора в пользу фашизма, сделанного
четырьмя из пяти основных фашистских движений. Как уже отмечали
другие авторы, успешные фашистские движения старались модернизировать и национализировать чувство священного. Религиозный
дух румынского фашизма и (в меньшей степени) австрофашизма
был очевиден. Итальянский фашизм разработал собственные нехристианские сакральные ритуалы. Джентиле (Gentile, 1990; 1996)
говорит, что фашисты заново освятили государство, лишенное сакральности, и что папа отнесся к этому с пониманием. Нюрнбергские
факельные шествия и тому подобные мероприятия также призваны
были возродить ощущение сакральности, и в результате нацистами
стали многие немецкие церковные деятели. Не стоит, конечно, называть фашизм религией (как это делается в: Burleigh, 2000; Griffin,
2001): в фашизме нет концепции божества, возрождение и прогресс
в нем — дело рук человеческих. Однако он тесно взаимодействовал
с институциональными религиями и заимствовал кое-что из их практик — как и из практик социалистических движений.
Не менее важны для передачи ценностей и светские учебные
заведения. С 1900 по 1930 г. количество студентов университетов
в развитых странах возросло вчетверо — даже быстрее, чем в конце
1950–1960-х. Оба периода ознаменовал взрывной рост роли студентов
в политике. В 1960-х студенты были левыми; после Первой мировой войны — решительно правыми. В табл. 2.2 показано, что число
студентов быстрее росло в авторитарных странах. Если изъять из
вычислений две обособленные страны, Болгарию и Данию, мы увидим, что в авторитарных странах рост числа студентов на 50–100 %
превышал те же цифры в либеральных странах непосредственно
перед приходом к власти авторитаристов. К концу 1920-х разрыв
сокращается: фашисты и авторитаристы, придя к власти в Венгрии
Идеологическая власть, идеологический кризис
133
и Италии, начали сознательно сокращать число буйных и плохо
управляемых студентов. Расширение социального состава студенчества привело к тому, что юные интеллектуалы «из простых» ощущали
разрыв между университетом и домашними, семейными нравами
и традициями. Важно помнить, что этот рост числа студенчества
происходил в условиях доминирования немецких университетов.
В эпоху всеобъемлющего экономического, военного, политического
кризиса в умах студенческой молодежи распространялась германская
Problemmatik — уж точно не способствующая успокоению, примирению с действительностью и принятию мирного либерализма. Стоит
учитывать и психологические характеристики молодежи. Новые
правые идеологии хорошо отвечали юношескому идеализму и мора
лизму. Театральность д’Аннунцио, его панегирики юности находили
живой отклик в молодежной среде. Муссолини быстро последовал
этому примеру. Экстремальные сторонники нации-государства, прежде всего фашисты, продвигали и пропагандировали культ молодости.
Фашизм был молод и, следовательно, современен, он был обществом
будущего — вот что внушали фашисты своим юным сторонникам,
и именно у молодежи неизменно находили свою основную поддержку.
Как мы увидим далее, во всех странах авторитарной половины
Европы непропорционально высокую долю фашистов составляли
высокообразованные профессионалы, а также студенты высших
учебных заведений, университетов, семинарий и военных академий.
Фашистские движения на северо-западе, напротив, были более социально разнообразны. Студенты составляли значительную долю
фашистов во Франции и Финляндии, но не в Великобритании или
скандинавских странах. Сразу после Великой Войны ветераны составляли большинство фашистов повсюду; однако большой процент
фашистов из военных академий давала на северо-западе только
Франция. В авторитарной половине Европы большинство учебных
заведений были государственными и пропагандировали консервативный этатизм; в церковных учебных заведениях случалось по-разному.
Иногда националистами были сами преподаватели25. И повсюду
студенты выступали в авангарде фашистских движений.
25
В эту модель не вписывается Испания, где в университетах наблюдался
больший раскол и влияние более старой традиции — либеральной и иногда
светской, а также консервативного этатизма (см. главу 9).
134
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
Таблица 2.2. Рост численности студентов в авторитарных
и демократических странах
Доля в 1900 г. = 1.00
1910
1920
1930
Доля в 1920 г. = 1.00
1930
Австрия
1,63
0,97
Болгария
4,90
19,31
22,45
1,16
Германия
1,58
2,56
2,90
1,13
Венгрия
1,33
Италия
1,03
2,05
1,78
0,87
Япония
1,92
3,20
7,28
2,28
1,07
2,53
4,78
0,98
Польша
Португалия
1,86
1,89
Румыния
1,98
Испания
1,52
Югославия
1,31
Среднее по авторитарным
странам
1,92
5,93
7,84
1,45
Бельгия
1,47
1,73
2,01
1,16
Чехословакия
1,15
Дания
2,00
2,64
12,78
4,84
Финляндия
1,19
1,25
2,57
2,06
Франция
1,38
1,67
2,63
1,58
Ирландия
1,18
Нидерланды
1,32
1,81
3,85
2,12
Норвегия
1,10
1,31
2,48
1,90
Швейцария
1,62
1,65
1,63
0,99
Великобритания
1,48
1,93
2,09
1,08
США
1,45
2,52
4,90
1,94
Среднее по демокра
тическим странам
1,45
1,83
3,88
1,76
Швеция
Источник: Mitchell, 1993; 1995; 1998.
1,11
Идеологическая власть, идеологический кризис
135
Почему же фашизм массово привлекал «низовую» интелли
генцию? До некоторой степени в этом отражалось господство в континентальных системах образования немецких университетов, а также
немецких и французских военных академий. Однако, возможно, рост
массовых движений угрожал власти и положению тех интеллектуалов, что были аристократией при старых режимах. Экономическое
объяснение состоит в том, что высокообразованные профессионалы
и студенты не могли найти работу, от этого склонялись к политическому радикализму, — а поскольку были в основном выходцами
из среднего класса, радикализм их принимал правые формы. Более
идеалистическое объяснение состоит в том, что интеллектуалов общество наделяет идеологической властью. Исследовать и объяснять
смысл и значение происходящего — их работа. Кризис смыслов (порожденный сочетанием множества кризисов) именно интеллектуалы
ощущают особенно остро — и первыми начинают искать на него
новые ответы. В сущности, высокообразованные люди, увлеченные
фашизмом, не принадлежали к тем, кто больше всего страдал от экономических потрясений. По-видимому, они обращались к фашизму,
привлеченные идеей государства-нации, превосходящего классовые
и иные различия. Разумеется, идеология развивается не в отрыве от
реальной жизни. Эти люди происходили из социальной среды, в которой именно такие идеи пользовались особенной популярностью,
жили повседневной жизнью, в которой эти идеи находили свой отзвук.
Поскольку большая часть фашистов была молодыми мужчинами,
высказывается иногда предположение, что это было «поколение
1914 года» — первое взрослое поколение, заставшее Первую мировую
войну (см., напр., Wohl, 1979). Исследуя конкретные случаи, я прихожу к выводу, что молодые люди — и не одно, а три или, по меньшей
мере, два поколения, — черпали крайние национально-этатистские
и парамилитаристские ценности не только в окопах, но и в военных
академиях, университетах и других высших учебных заведениях.
Началось это раньше Первой мировой войны. Значительная часть
офицерских корпусов Восточной Европы обучалась в военных
академиях Пруссии или Габсбургов. Метаксас, Кодряну, Салаши
писали о том, что именно там сформировались их идеи. Расширение
системы резервистов познакомило с милитаристическим национализмом большую часть молодежи. Первая мировая война укрепила
136
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
эти ценности — и оставила после себя множество молодых людей,
вооруженных, в форме, считающих парамилитаризм эффективным
средством достижения политических перемен. А военные академии
продолжали пропагандировать воинствующий национализм и по
окончании войны.
Я вкратце очертил те идеологические пути коммуникации, по
которым распространялись авторитарные и фашистские идеи. Некоторые из них были международными; другие начинались с «приграничных» государств — Германии и Франции, но оттуда вели на
юг и восток Европы, где соответствующие идеи интерпретировались
в каждой стране согласно национальным традициям. Для основных
носителей этих идей — молодых, образованных, зачастую религиозных
мужчин, часто военнослужащих или ветеранов — фашизм представал
как целостная система смыслов. Именно эти люди, в силу возраста
и опыта, привнесли в фашизм то, что обычно считают его иррациональной стороной, — свойственное молодости сочетание морализма
и жестокости. Однако центр, юг и восток Европы не были монолитны:
я уже выделил несколько структур, прежде всего религиозных, придававших различным типам авторитаризма в этом регионе особые
черты и окраску.
Пока мы лишь очень бегло очертили основные идеологические
причины возникновения фашизма. Будем надеяться, что, рассматривая конкретные случаи, мы узнаем больше.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Межвоенный подъем национализма и этатизма, по-видимому, невозможно было остановить. Национальные государства, все более сильные
и замкнутые в себе, возникали повсюду. Однако этот подъем мог бы
воплотиться в более умеренных формах национал-этатизма. Основной
разлом — географический и концептуальный — проходил между либеральными демократиями и правым авторитаризмом в различных его
формах. Почти все победители в Первой мировой войне склонялись
к либеральной демократии. Однако не так-то легко было создать либе-
Заключение
137
рально-демократические национальные государства «росчерком пера»,
как попытались сделать в 1918 г. с проигравшими. В центре, на юге и на
востоке Европы, где местные традиции и региональная культура не благоприятствовали парламентской демократии, она оставалась хрупкой
и шаткой. Желание избежать риска, вместе с идеологией, превозносящей порядок и безопасность, вели к «профилактическим» репрессиям.
Проиграв на выборах, передать верховную власть оппонентам — на
северо-западе это была рутинная процедура; но там, где «мы» все более
воплощали в себе мораль, цивилизацию и органическую нацию, а «они»
все больше рассматривались как «изменники и предатели», это было
очень проблематично. Партии здесь зачастую были более привержены
высоким ценностям и идеалам, чем правилам демократической игры
(Linz, 1978). Там, где движение верит, что цель оправдывает средства,
оно куда охотнее обращается к насилию.
И наоборот: верховная власть парламента стала на северо-западе
традицией, укоренившимся институтом — и, следовательно, институтом устойчивым. Социалисты здесь не сдавались коммунистам,
консерваторы — органическим националистам, все вместе поддерживали инструментальную рациональность средств, а не целей,
и боролись за голоса колеблющихся избирателей, что было абсолютно
естественно для многовековой, исторически выстраданной либеральной системы баланса интересов. Северо-запад успешно противостоял
всем кризисам, пока на него не обрушились дивизии Гитлера. Пусть
он страдал от Великой депрессии, от рабочих стачек, от правительственных кризисов — собственные авторитарные правые никогда
не становились для него серьезной угрозой. Рост фашизма виделся
здесь не зарей дивного нового мира, а отдаленной и отвратительной
угрозой цивилизации. На кризис северо-запад отвечал осторожным
движением к центру, расширением избирательных прав, увеличением
социальных пособий. Все это очевидно и пояснений не требует. Устоявшиеся институты государственной власти не давали авторитаризму
поднять голову — даже в периоды серьезных экономических кризисов
и усиления классовых противоречий. Поэтому нам нет нужды подробно рассматривать прочные либеральные демократии — тем более
что они немногим отличаются друг от друга.
Однако мы все еще не можем объяснить авторитаризм, особенно
в его фашистском варианте. Тут мы сталкиваемся с проблемой «сверх-
138
Глава 2. Объяснение межвоенного подъема авторитаризма...
детерминизма». Эпоха благоприятствовала росту национал-этатизма,
а все четыре источника социальной власти и четыре кризиса, пора
зившие Европу в те времена, помогают объяснить рост авторитаризма
и фашизма. Классовый конфликт, обостренный догоняющим раз
витием, кризисы капитализма — все это тоже подбрасывало топлива
в костер авторитаризма и фашизма. То же можно сказать и о военном
кризисе — поражении в войне, распаде, потере территорий, которые
повлекли за собой парамилитаризм и последующую гонку вооружений. И о дуалистических, полуавторитарных, полулиберальных
государствах центра, востока и юга Европы. И о сетях идеологических
коммуникаций, работающих на региональном и макрорегиональном
уровнях, среди образованной и вооруженной молодежи, все более
увлекающейся фашизмом. В идеале можно было бы установить соотношение между этими четырьмя основными источниками авторитаризма и фашизма с помощью многовариантного анализа. Но у нас
ограниченное количество стран и только «две Европы». И по обе
стороны водораздела мы видим сложный комплекс причин, тесно
переплетенных между собой.
Возможно, все пять случаев победы фашизма имеют различные
причины. В конце концов, в Италии фашизм пришел к власти уникально рано, Германия была великой державой, побежденной и жаждущей
реванша, Австрия — «усеченной» страной с двумя конкурирующими
фашистскими движениями, Венгрия — также «усеченной», а Румыния — «раздувшейся», и в обеих последних правили авторитаристы,
заимствовавшие фашистскую атрибутику. Возможно, все это — очень
разные случаи, и лишь два из них пригодны для полноценного объяснения фашистских режимов. Сравнительный анализ со столь малыми
числами не работает. Вместо этого я обращусь к методу ситуационного
анализа, а к общим объяснениям вернусь в последней главе.
Глава 3
ИТАЛИЯ: ФАШИСТЫ
В ЧИСТОМ ВИДЕ
140
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
Фашизм был создан в Италии. Хотя довоенные интеллектуалы,
позднее названные «фашистами», жили в разных странах — именно
в Италии впервые зародилось чистое, беспримесное массовое фашистское движение. Само слово «фашизм» итальянское — от fascio,
связки прутьев: это слово первоначально означало любую небольшую,
тесно сплоченную политическую группу. Подразумевалось, что,
как связанные вместе прутья труднее сломать, так и группа людей
становится сильнее, когда связана тесными узами товарищества.
Отметим, что речь здесь идет о типе организации, а не о ценностях.
Муссолини добавил этому слову дополнительное значение, возведя
его этимологию к латинскому fasces — символу власти в древней
Римской республике, топору в окружении розог: этот символ стал
иконой фашистского движения.
Хотя идеи, позже названные фашистскими, в довоенной Италии
витали в воздухе, фашизм как таковой возник лишь в конце Первой
мировой войны. В 1915 г. итальянское правительство, соблазненное
обещанием отнятых у Габсбургов территорий, примкнуло к Антанте.
Однако вступление в войну вызвало серьезный внутренний конфликт.
В течение 1915–1916 гг. на улицах Италии проходили массовые
демонстрации, беспорядки, столкновения сторонников и противников
войны. Этому предшествовали еще два социальных взрыва: резкое
расширение избирательного права для мужчин, введенное (из тактических соображений) премьер-министром Джолитти в 1912 г., и период
рабочих волнений, увеличивших популярность левого «максималистского» крыла Социалистической партии. Многие консерваторы
и либералы опасались, что на смену либеральному парламентаризму
придет уличная борьба. Споры из-за войны ослабили государство
и раскололи все основные партии, в том числе и правящие — как либеральные, так и консервативные. В Социалистической партии (PSI)
против войны выступило руководство, что поставило ее в уникальное
положение среди прочих крупных социалистических партий. Это заставило «патриотических» социалистов — в числе которых был и Бенито Муссолини — порвать с партией и объединиться с радикальными
националистами, футуристически настроенными интеллектуалами
и синдикалистами в создании фашистского движения. Некоторые
итальянские левые испытывали сильное влечение к национализму.
Движения рабочего класса в других странах также демонстрировали
Италия: фашисты в чистом виде
141
патриотический энтузиазм, однако только итальянские левые, объединившись с националистами, образовали новую партию.
Этот союз имел три важные предпосылки. Во-первых, многие итальянцы четко различали итальянскую нацию и итальянское государство. Существовало твердое и популярное убеждение, что итальянское
государство было создано в 1860-х путем дипломатических маневров
между высшими классами и иностранными правительствами, причем
народное движение «краснорубашечников» Гарибальди было отодвинуто в сторону. Националисты снова и снова пытались воспламе
нить национальный дух, и многие из них разделяли левый взгляд на
государство: парламентаризм — подлог, депутаты парламента, как
либералы, так и консерваторы, представляют только интересы богачей. Католическая церковь также была враждебна этому светскому
государству и держалась от политики в стороне — так что, с точки
зрения правых, государству недоставало и сакрального авторитета.
«Старого режима», правящего государством, здесь не существовало.
Современники были убеждены, что «официальная» Италия — не
то же, что Италия «реальная», иными словами, что государство не
представляет нацию.
Во-вторых, в итальянском рабочем движении имелся значимый
синдикалистский элемент. Синдикалисты отвергали марксистский
упор на партию и государство: они полагали, что революцию могут
совершить «синдикаты» (профсоюзы и профессиональные объединения). Партии представляют только массы избирателей, а синдикаты воплощают в себе материальные основы жизни, следовательно,
истинными общинами являются они. Каждый профессиональный
синдикат может установить монополию на свой труд и, таким образом, взвинтить его цену; однако переизбыток неквалифицированных
рабочих неминуемо должен привести к массовым и ожесточенным
забастовкам. Поэтому, чтобы добиться высокой оплаты труда, всем
рабочим необходимо объединить усилия. Со временем ожесточенные забастовки и уличные столкновения объединят рабочих всех
профессий в единый революционный пролетариат. После революции общество превратится в «государство синдикатов», в основном
децентрализованное и самоуправляющееся — хоть в нем и будет
присутствовать технократическая «аристократия производителей».
Формально синдикалисты были антиэтатистами, однако разделяли
142
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
с фашистами неприязнь к социализму и тягу к насилию. Включая
в пролетариат людей всех производительных профессий, некоторые
синдикалисты отступали от марксистской озабоченности классовым
вопросом и начинали превозносить власть всего «народа» или «нации». Для синдикалистов пролетариат и был нацией, готовой к бою.
В-третьих, немало левых элементов было и в итальянском национализме. Он не одобрял существующее государство, хотя националисты и надеялись, что популизм сможет дать государству
новую жизнь. Италия была «последней (и слабейшей) из великих
держав», страной, «лишенной Империи». Коррадини писал в 1911 г.,
что Италия — пролетарская нация, эксплуатируемая буржуазными
великими державами. Такая риторика била в цель — и движение
за освобождение от австрийского давления на границах и за захват
колоний в Ливии пользовалось значительной народной поддержкой.
Для левых националистов нация и была пролетариатом. Мост между
национализмом и синдикализмом выстроили футуристы. Изначально
художественная, творческая группа, перед самой Первой мировой
войной они опубликовали политическую программу, в которой
агрессивный национализм сочетался с видением будущего технократически-индустриального общества. Презрение к либеральному
парламентаризму привело их к программе «действий, а не слов» (De
Felice, 1995: 738–741).
Расколы, вызванные Великой войной, привели к формированию
ядра лево-националистических интервенционистов, впоследствии
ставших фашистами. Без войны не было бы и фашизма, справедливо замечает Саладино (Saladino, 1966). Именно один из четырех
кризисов современности, названных в главе 2 — гражданская война
всех против всех, — породил фашизм в его первоначальной, чистой
форме. Однако это же предопределило политический и экономический кризисы: слабое полулегитимное государство, в обстановке
послевоенной депрессии пытающееся быстро перейти к всеобщему
избирательному праву для мужчин, — и классовая борьба между
относительно слабым капиталистическим классом и разобщенным
рабочим движением. В марте 1919 г. в Сан-Сепульхро в Милане Муссолини и еще 190 человек объявили о создании fasci di combattimento
(боевых отрядов). Большинство среди них составляли бывшие военные; за ними шли революционные синдикалисты, патриотические
Две теории итальянского фашизма
143
социалисты и футуристы. Образцом для новой организации стали
футуристические fasci: за предыдущие три месяца их было создано
тридцать (De Felice, 1995: 476). Из 85 членов организации, известных нам по роду занятий, 21 были писателями или журналистами,
20 — «белыми воротничками», 12 — рабочими, пятеро — предпринимателями, четверо — учителями. Почти все были моложе сорока лет,
и 15 % — моложе двадцати. Пятеро были евреями (Gentile, 1989: 35).
Движение, скоро получившее название «Национальная фашистская партия» (Partito Nationale Fascista, PNF), к концу 1920 г. насчитывало уже 20 тысяч членов, к апрелю 1921 г. — почти 100 тысяч,
а к ноябрю 1921 г. 320 тысяч — рост очень быстрый. В октябре 1922 г.
эта организация, скорее парамилитарная, чем партийная, двинулась на
Рим. Фашисты были легко вооружены, и правительство вполне могло
бы оказать им сопротивление, однако вместо этого капитулировало,
попросив Муссолини возглавить коалиционное правительство. Три
года спустя он стал диктатором. Таким образом, фашизм пришел
к власти через три года после своего возникновения, а полной власти
достиг через шесть лет. Чем объяснялся столь стремительный успех?
Кто и почему поддержал фашистов?
ДВЕ ТЕОРИИ
ИТАЛЬЯНСКОГО ФАШИЗМА
Одна теория исходит от ученых, другая — от самих фашистов. Изначально породила и взрастила фашизм гражданская война; однако
большинство ученых полагают, что за распространение и успех его несет ответственность капиталистический кризис. Фашизм, говорят они,
стал по существу буржуазным или мелкобуржуазным, экономическое
недовольство этих классов подогревало его радикальную правизну,
а затем было использовано капиталистическим классом для подавления социализма и рабочего движения. Итальянский фашизм, говорят
они, внес специфический вклад в уже идущий классовый конфликт,
включив рабочих в корпоративистские государственные организации.
Такова популярная интерпретация всех фашистских движений, од-
144
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
нако только в Италии она все эти годы остается основной (Salvemini,
1973: 129; Tasca, 1976: 340; De Felice, 1980; Abse, 1986, 1996; Revelli,
1987; Lyttleton, 1987: 49–50; Brustein, 1991; Luebbert, 1991: 274; Elazar,
1993). Упоминают эти авторы и о других причинах фашизма: хрупкой
либеральной демократии, проходящей через трудный переходный
период, национализме, милитаризме, влиянии на молодежь — однако
все их подчиняют причине классовой. Одни подчеркивают недовольство деревенских жителей, другие — городских; расходятся мнения
о сравнительном вкладе капиталистического, среднего или нижнего
среднего классов. Защищал ли фашизм капиталистов от пролетарской
революции или был мелкобуржуазным радикализмом? Однако даже
самые тонкие и проработанные трактовки (Roberts, 1980; Lyttleton,
1996) остаются вариациями на ту же буржуазную тему. Немногие
инакомыслящие (напр., Saladino, 1966; Gentile, 1996) видят в фашизме не столько классовое движение, сколько крайний национализм,
«цивилизационный кризис» нации. Однако господствует классовая
теория, особенно когда дело доходит до вопросов о том, кто такие
фашисты и почему они стали фашистами.
Самая любопытная классовая теория принадлежит Сальваторелли
(Salvatorelli, 1923: 130–136) с дополнениями Де Феличе (De Felice,
1977: 128–131, 175–192; 1980). Сальваторелли полагал, что война
усилила давление на средний и нижний средний классы, зажатые
между более организованными пролетариатом и капиталистическим
классом. Фашистская идеология основывалась на «типично мелкобуржуазном» национализме. Хотя поддерживали ее и безработные,
и ремесленники, «мелкобуржуазный элемент не только господствует
численно, но и... является самым характерным и направляющим
элементом... Фашизм представляет собой классовую борьбу нижне
го среднего класса, зажатого между капитализмом и пролетариатом,
как третий лишний между двумя враждующими сторонами». Ядро
фашистов — государственные служащие, бюрократы, специалисты, все те, кого Сальваторелли называет «гуманитарной мелкой
буржуазией»; они составляют «не истинный общественный класс,
обладающий собственной силой и собственными функциями, но
конгломерат, находящийся на обочине капиталистического процесса
производства». Поэтому, продолжает он, подлинного видения общественного и экономического развития у фашизма нет, и «превзойти»
Две теории итальянского фашизма
145
классовый конфликт он не может. Фашисты вынуждены будут или
разрушить капиталистическую цивилизацию, или продаться капиталистам. Сальваторелли ожидал от них последнего. Де Феличе делил
этот средний класс немного по-другому: на традиционный средний
класс (фермеры, торговцы, специалисты, мелкие предприниматели),
обладающий некоторой однородностью и независимостью, и новый
средний класс (служащие — «белые воротнички» и интеллектуалы на
жалованье), более разнородный и зависимый от нанимателей. Новый
средний класс в послевоенный период страдал больше и потому был
более склонен к фашизму. Идеологические, военные и политические
причины оба автора рассматривают постольку, поскольку из них вытекают экономические и классовые следствия. Таким образом, Первая
мировая война обострила недовольство среднего класса; итальянская
демократия доказала свою шаткость, связанную с классовыми предрассудками; национализм по существу своему «мелкобуржуазен»
(см.: Tasca, 1976: 323, 358).
Однако сами фашисты не разделяли такой классовый взгляд. Мой
метод состоит в том, чтобы «принимать фашистов всерьез», а значит,
выслушивать их самих. В книге «Политическая и социальная доктрина фашизма», написанной в 1932 г. по материалам, собранным
Джентиле, Муссолини сам рассказывает о своем деле. К этому времени
Муссолини уже был диктатором и стремился легитимизировать свой
режим, так что пропагандистские элементы в его тексте имеет смысл
исправлять, соотнося их с заявлениями до переворота. Начинает
Муссолини с того, что впервые привлекла его к политике социалистическая «доктрина действия». Это верно (как верно и для других
фашистских интеллектуалов, процитированных мною в главе 1).
Юный Муссолини не раз призывал своих товарищей-социалистов
«делать историю, а не претерпевать ее» при помощи «организаций
воинов», готовых «к величайшей в истории кровавой бане». Однако,
по его словам, к 1918 г. «социализм как учение был уже мертв: он существовал лишь как ненависть». Итак, говорит он, фашизм родился
из пепла социализма как «третья сила», ведущая «рабочий класс
к реальному и эффективному лидерству» «при строгой военной дисциплине». У националиста Д’Аннунцио Муссолини заимствовал культ
парамилитаризма и юности, элитистский культ вождя и уверенность,
что толпой легко манипулировать с помощью мифа, символа и ри
146
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
туала. В самом деле, как отмечают Березин (Berezin, 1997) и Джентиле
(Gentile, 1996), ритуал стал мощным подкреплением формальной
идеологии в практике движения. Кроме того, он подогревал презрение
фашизма к демократии, о котором Муссолини говорит так:
Демократия лишила народную жизнь ее «стиля»: линии поведения,
яркости, силы, живописного, неожиданного, мистического — всего того,
что важно для настроения масс. Мы играем на всех струнах лиры — от
насилия до религии, от искусства до политики.
Отметим объединение политики, искусства и стиля, столь типичное для фашизма.
Муссолини не считает нужным упоминать о том, что в 1919 г.
фашизм был левым, требовал восьмичасового рабочего дня и рабочего контроля. Значительная часть риторики движения исходила от
левых синдикалистов — Панунцио, Джентиле, Россони и Оливетти,
по-разному добавлявших в фашистскую идеологию «целостный»
синдикализм или корпоративизм. Они заявляли, что «всему движению рабочего класса предстоит впитать в себя высокие устремления
нации» и что «этатизм и синдикализм находятся в процессе слияния».
Муссолини их несколько опасался. В 1922–1924 гг. он еще питал надежды возглавить фашистскую/социалистическую парламентскую
коалицию против консерватизма и буржуазной либеральной демократии. Готовность принять правила парламентской игры оттолкнула
футуристов, которые покинули движение. Но скоро Муссолини
отказался от парламентаризма и принялся приручать синдикалистов, склоняя их к идее более «вертикального» корпоративистского
государства. Он провозгласил «тоталитарное этическое государство»,
где о рабочем контроле будет забыто и левые утихомирятся (Nolte,
1965: 202–208, 258; Gregor, 1979: 106–114; De Felice, 1995; Dahl, 1999:
46–70; Riley, 2002: гл. 2).
Более постоянным рефреном стал парамилитаризм — наследие
идеалистических теорий действия, конкретизированных опытом
войны. В начале 1919 г. Муссолини вместе с футуристами приветствовал «действия» вместо «слов» (ассоциирующихся с затхлым
парламентаризмом) и успешно заставил замолчать демократических
националистов и социалистов. Первые fasci были созданы в марте —
и уже месяц спустя последовали первые смерти. Затем первый
Две теории итальянского фашизма
147
конгресс PNF в 1921 г. провозгласил свои «эскадроны действия»,
squadristi, «революционной милицией на службе нации... следующей
трем принципам: порядок, дисциплина, иерархия» (Gentile, 1989:
398). Как отмечает Даль (Dahl, 1999: 145–146), забастовки, уличные
столкновения, насилие, расцениваемые как борьба добра со злом,
были вообще характерны для итальянского сплава синдикализма
с этатизмом. В 1932 г. Муссолини все еще декларировал парамилитарные добродетели:
Война и только война доводит человеческую энергию до макси
мального напряжения и накладывает отпечаток благородства на те
народы, что имеют мужество прибегать к ней. Гордый девиз Squadrista:
«Me ne frego» [«мне плевать», в окопном варианте — «мне насрать»],
написанный на повязке, закрывающей рану, — это акт философии, это
воспитание готовности к бою, это спокойное осознание опасностей
войны, это новый путь жизни для Италии, святость и героизм, свободные
от всяких экономических мотивов.
Парамилитарные добродетели были тесно связаны с культом
юности и мученичества, поскольку солдаты — молодые люди, постоянно рискующие жизнью. Сама Италия была молодой нацией,
объединенной лишь в 1860-х, и одновременно пролетарской нацией,
эксплуатируемой более старыми «плутократическими» нациями.
Движение, мобилизующее энергию юности, обещало покончить с этой
эксплуатацией. Джентиле (Gentile, 1996: 23–27) пишет, что парамилитаризм был «крестовым походом», объединенными ритуалами святого
причастия. Пролитая парамилитаристами кровь, говорит он (впадая
в некоторое преувеличение), была подобна крови Христа и христианских мучеников. Как сказал командир сквадристов в Лукке на похоронах местных фашистов в 1921 г.: «О Святая Троица, рожденная
кровью: твоя кровь — наша кровь. Поток, дарующий жизнь, покидает
вены, чтобы наполнить новую крестильную чашу, — так примем же
этот багровый дар». Разумеется, эти фашисты, в отличие от Христа,
погибли, пытаясь убить других, — так что перед нами идеология,
оправдывающая и прославляющая убийство. Да и слишком приземленным, слишком прагматичным был фашизм, чтобы стать религией.
Придя к власти, Муссолини подчинил парамилитарные отряды
государству, а реальное насилие заменил ритуальными воспомина-
148
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
ниями о нем. Говоря нацистским языком, «порядок» возобладал над
«дикостью». К 1932 г. Муссолини объявил свое государство единой
«организованной, централизованной и авторитарной демократией»,
способной органически представлять нацию:
Основа фашизма... Государство как абсолют, в сравнении с которым
все личности и группы относительны — и должны рассматриваться
лишь в своем отношении к государству. Фашистское государство обладает самосознанием, собственной волей и личностью, оно воплощает
в себе имманентный дух нации. Оно — единственная сила, способная
разрешить гибельные противоречия капитализма. Оно не реакционно,
а революционно.
Такое государство делает ненужным «соперничество партий,
и безответственность политических собраний. Фашизм отрицает, что
важнейшей силой в преобразовании общества является классовая
война». Одним словом, перед нами трансцендентное государство.
Кроме того, это государство империалистическое: «Расширение
нации — важнейшее проявление ее жизни. Империя требует дисциплины, координации всех сил, глубоко укорененного чувства долга
и жертвенности. Никогда еще нация так не нуждалась в авторитете,
направлении и порядке».
К 1932 г. Муссолини более всего интересовали война, органический
национализм и государство. Парамилитаризм был для государства
неудобен, однако оставался важен риторически и организационно,
поскольку фашизм по-прежнему стремился к массовой мобилизации. И хотя партия предложила широкую программу экономических
и социальных преобразований, они воспринимались как вторичные
в сравнении с приматом нации, милитаризма и государства (Delzell,
1970: 27–37). Даже доводами в пользу корпоративизма служила не
столько его экономическая эффективность, сколько способность превосходить классовые и иные частные конфликты интересов и мобилизовывать массы (Berezin, 1997: 60–63). Итальянский фашизм возник
и развивался сразу после войны. Поэтому в области экономики его
волновала не столько депрессия, сколько послевоенный классовый
конфликт.
Именно такова стала стандартная фашистская повестка по
всей Европе, открывающая нам ключевые фашистские ценности,
Две теории итальянского фашизма
149
о которых мы говорили в главе 1: органический, парамилитарный
национал-этатизм, способный якобы «превзойти» и преодолеть
общественные конфликты. Основные особенности итальянского
фашизма в том, что он был первым, и, следовательно, демонстрировал большее идеологическое разнообразие, а затем усмирил
свой радикальный парамилитаризм, превратив его в не столь
динамичный, хотя и мобилизующий этатизм. Это также ослабило
призывы очистить нацию от врагов: от политических оппонентов
парамилитаристы Италию уже очистили, а этнические враги (кроме
Африки) не играли здесь особой роли.
Любое краткое изложение фашистской доктрины неизбежно
станет упрощением. Итальянский фашизм был движением бурно
развивающимся, плюралистичным, децентрализованным, порой даже
хаотичным. Сам Муссолини был оппортунистом, а его боевики ценили
действие выше идеологии. Однако большинство итальянских фашистов полагали, что исповедуют не какую-либо классовую идеологию,
а учение о трансцендентном, органическом национал-этатизме, пол
ное антиматериалистического морального пыла — учение о полном
преображении общества. Некоторые называли фашизм «религией
Италии», «религией нации», «национальным ополчением»; враги фашизма были «предателями нации». Важную роль в движении играли
вера, символы, ритуалы, культ мучеников, гибнущих ради очищения
нации. В каждом местном партийном офисе имелось святилище
нации и ее мучеников (Gentile, 1990; 1996). Однако фашистские
вожди хорошо сознавали, что в Италии существует и истинная религия — поклонение сущностям вне нашей материальной реальности,
чудотворное, вызывающее благоговение и трепет; и это не фашизм,
а католицизм. Поэтому они старались сплести фашистские ритуалы
с католическими обрядами.
Эти два взгляда на фашизм — классовый и национальн оэтатистский — сильно различаются. Классовые теории предполагают
отрицание смысла фашистской идеологии и искренности тех, кто
ее исповедовал. Они — часть традиции, требующей не принимать
фашистов всерьез. Был ли Муссолини искренен, обманывал ли других — или, быть может, самого себя? Возглавлял ли классовое движение — или движение, искренне приверженное идее парамилитарного
национального государства? Далее мы увидим, что верно и то и другое.
150
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
КЕМ БЫЛИ ФАШИСТЫ?
Пол, возраст, отношение к армии
Разбирая все конкретные примеры, я достаточно подробно рассматриваю социальный бэкграунд фашистов. Что касается рядовых
фашистов — это почти единственное, что мы можем о них узнать.
Однако общественные движения — это не просто скопища индивидуумов, статичных и равных друг другу. Движение предполагает
определенные социальные структуры и процессы. Это фашистское
движение чрезвычайно ценило порядок и иерархию, и достижение
высоких постов внутри движения было важной частью фашистской
карьеры. Более того: парамилитарное насилие предполагало непосредственную передачу власти достаточно массовому движению (пусть
и не «большинству»). Насилие, как и во всех фашистских движениях,
было здесь ключом к успеху. Нам необходимо рассмотреть фашистов
в действии и определить их личные качества.
Однако я начну с известных характеристик фашистской массы.
К сожалению, для Италии данные не слишком обширны. PNF лишь
однажды собрала статистику социального происхождения своих
участников, основываясь на данных о половине из 320 тысяч членов
организации к ноябрю 1921 г. Остается лишь надеяться, что это была
репрезентативная половина, поскольку других источников информа
ции у нас почти нет. Ученые обычно сосредоточиваются на классовом
составе фашистов. Однако их половозрастной состав и отношение
к военной обязанности впечатляют еще сильнее.
В раннем фашистском движении чувствуется привкус феминизма.
Среди основателей фашистской партии на встрече в Сан-Сепульхро
мы встречаем девять женщин; женщины составляют 5 % членов партии к 1921 г., а ранние фашистские/синдикалистские идеи включали
в себя некоторое свободомыслие в вопросах пола и сексуальности.
Однако жестокость движения быстро превратила его в преимущественно мужское. К 1922 г. женщины составляли лишь 1–2 %
членов движения, а женщин-лидеров не было вовсе. Скорее всего,
та же картина наблюдалась и в других партиях, поскольку женщины
в Италии не имели избирательных прав. Однако вспомогательные
Кем были фашисты?
151
женские фашистские организации быстро росли и действовали
активнее, чем какие-либо иные женские организации в Италии, не
считая католических. Фашизм привлекал многих женщин, скептически относящихся к феминизму, сосредоточенному на женском
труде и зарплате, — течению, господствовавшему в большинстве
западных либеральных и социалистических феминистических движений. Однако самой важной причиной роста женских фашистских
организаций, возможно, была претензия фашистского движения
на тоталитарность. Движение стремилось организовать женщин,
чтобы их контролировать. Принуждать женщин к чему-либо фашисты не стремились, вместо этого втягивали их в движение через
общественные и ритуальные акции. Фашизм почитал женщин как
матерей, «воспроизводительниц нации», «ангелов домашнего очага».
Это давало им в нации роль, не только в принципе, но и в контексте
ритуальных церемоний сравнимую с религиозной. Конкордат с папой
позволил движению учредить квазирелигиозные церемонии в честь
матерей или вдов фашистских мучеников или женщин, жертвующих
свои обручальные кольца на помощь армии в Африканской войне
(Berezin, 1997). Де Грациа (De Grazia, 1992: 35) считает, что фашизм
«национализировал» женщин так же, как к концу XIX века государство «национализировало» мужчин. Социальная политика, заимствованная у социального католицизма, обеспечила протекционистское
трудовое законодательство женщинам, а также государственные
субсидии матерям и многодетным семьям. Хотя схожие меры принимались и в некоторых других католических странах, фашистская
Италия была здесь впереди — хотя, возможно, эти меры поддержки
работающих женщин перевешивали другие нововведения фашистов
в области трудового законодательства, бившие по трудящимся обоих
полов (Caldwell, 1986; Willson, 1996). Фашизм также дал женщинам
возможность выходить на демонстрации, маршировать, принимать
участие в спортивных и театрализованных мероприятиях, носить
красивую форму. Эти общественные роли были для женщин в новинку, и многие чувствовали себя освобожденными (Passerini, 1987:
193). Как отмечает Уилсон (Willson, 1996: 81), фашизм первым из
политических движений вывел женщин на национальную сцену —
пусть сценарий для них и писали в основном мужчины. И раннее
движение, и сам захват власти определенно имели «мачистский»
152
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
привкус. Однако установившийся фашистский режим итальянские
женщины, несомненно, поддерживали не менее мужчин.
Далее, фашисты были молоды. 25 % членов национального списка — менее 21 года, да и большинство остальных, скорее всего, ненамного старше. Средний возраст членов партии как в Реджио-Эмилия,
так и в провинции Болонья в 1922 г. составлял 25 лет, а сквадристов
в Болонье и во Флоренции — 23 года. Парламентским депутатам от
фашистов было по большей части 30–40 лет (моложе, чем в других
партиях), как и их региональным секретарям (Gentile, 2000: 411,
491). В отличие от других партий, здесь не было ни одного лидера
старше пятидесяти. Особенно важную роль играли молодые люди
в фашистском насилии. В партии почитались около 400 фашистских
«мучеников»: известен возраст четверти из них — и в среднем он составляет 21 год. Большинство фашистов до переворота принадлежали
к одному поколению, рожденному между 1890 и 1905 гг. Полагаю, это
была самая молодая и самая холостая из итальянских партий (хотя
аналогичных данных по другим партиям у меня нет). Даже депутаты
от фашистов, выбираемые за респектабельность, были в среднем на
тринадцать лет моложе депутатов от других партий.
Именно молодость в сочетании с парамилитаризмом, возможно,
несет ответственность за специфически фашистское (встречаемое во
всех странах) сочетание моральной риторики, устремленности в будущее и убийств. Фашистские боевики были агрессивны и жестоки,
но в то же время воспринимались как «идеалисты», «современные
люди», «предтечи будущего». Италию в публичной риторике именовали «молодой нацией», и фашисты как бы воплощали эту молодость
в себе. А рассматривая классовый состав, стоит помнить о том, что
фашизм мобилизовал преимущественно людей молодых, неженатых,
чей опыт едва ли можно назвать типичным для классов, к которым
мы их приписываем. Возрастной состав вместе с половым открывает
перед нами необычную картину: фашизм представлял собой, по сути,
молодежную банду, хоть и необычно идеалистическую, скрепленную
узами товарищества на крови (Lyttleton 1987: 244). Легко понять,
чем привлекал молодых парней девиз «мне плевать». Легко понять
и то, чем дисциплинированное, идеологически легитимизированное
насилие выделяло фашизм в ряду политических партий, которые
спорили, ходили на демонстрации, но не готовы были ни убивать, ни
Кем были фашисты?
153
умирать. Сам Муссолини заявлял, что сквадристы установят «окопную власть». Это было поколение, мобилизованное милитаризмом.
В самом деле, с военным насилием большинство фашистов было
уже знакомо. Около 57 % членов организации за 1921 г. прошли
войну (De Felice, 1966: 7; Revelli, 1987: 18). Однако ни один из той
четверти, которой в 1921 г. было менее 21 года (а также из женщин)
воевать не мог. Следовательно, около 80 % фашистов, в годы войны
пригодных к военной службе (то есть те, кому в 1916–1918 гг. было от
двадцати до сорока четырех), должны были воевать. Среди лидеров
процент воевавших был еще больше: ветеранами были от 68 до 81 %
региональных секретарей к 1931 г. (Gentile, 2000: 495). Крупнейший
военный призыв в этой возрастной группе составлял в Италии около 23 % — то есть ветеранов среди фашистов было в 3,5 раза больше,
чем в среднем по стране. Не случайно говорили, что самые первые
фашистские боевики вербовались в основном из элитных солдатдобровольцев, известных как arditi («пламенные»). По-видимому,
некоторые отряды arditi, по большей части возглавляемые офицерамифутуристами, перешли к фашистам в полном составе. Пополнялись
они в основном за счет студентов, слишком молодых, чтобы успеть
повоевать, но воспламеняемых теми же радикально националистическими идеями. Ранние сквадристы, судя по всему, состояли
в основном из высокообразованных молодых людей (Gentile, 1989:
74; Snowden, 1989: 158–60; Riley, 2002: гл. 2). Фашистами стала, возможно, приблизительно четверть arditi; остальные распределились
по другим националистическим движениям. Поскольку заводские
рабочие по большей части освобождались от военной службы, боль
шинство arditi были бывшими крестьянами и служили под началом
офицеров из среднего класса. Некоторые современники полагали,
что среди фашистов непропорционально много офицеров низшего
звена. Грамши (Gramsci, 1971: 212–213) считал, что большинство кадровых офицеров были выходцами из мелкой и средней деревенской
буржуазии: военный опыт дал им и новые ценности, и возможность
защищать свои классовые интересы силой оружия. К фашизму привлекали их и его экономические цели, и милитаристские средства.
В армии служили три миллиона человек — понятно, что лишь
небольшая их часть стала фашистами. Большинство солдат просто
с нетерпением ждали демобилизации и возвращения к мирной жизни
154
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
и больше интересовались работой или получением образования, чем
идеологией. Верно ли, что, как часто утверждают, некоторых привели
к фашизму материальные трудности? Эта тема почти не исследовалась. В основном солдаты присоединялись к более мейнстримовым
ветеранским организациям, отчасти связанным с католическими
организациями «пополари» (популистов), которые ограничивались
борьбой за рабочие места и социальные пособия, а фашистам скорее
противостояли. Возникла небольшая левая парамилитарная организация под названием Arditi del Populo; однако социалистические
и коммунистические партии, которые (как мы увидим далее) предпочитали акциям прямого действия риторику, не пожелали иметь
с ней ничего общего. Другие присоединялись к националистическому
«Легиону» д’Аннунцио (Ledeen, 1977). Фашизм обращался к меньшинству ветеранов, желавших сохранить организацию и боевое
товарищество, и предлагал им более радикальное предназначение.
Пройдя войну, эти люди сохранили военные ценности и организацию.
Они считали, что все беды Италии можно исцелить товариществом,
дисциплиной и эгалитарным национализмом окопов. «На войне
классовых различий нет»; так же и парамилитаризм должен был
«превзойти» классовые различия. Социалистический лидер Турати
подчеркивал, что подобная карьера неминуемо включает в себя привычку к насилию:
Война... приучила и юношей, и взрослых к каждодневному ис
пользованию обычного и необычного оружия. [Она] восхваляла индивидуальные и массовые убийства, шантаж, аресты, издевательства,
пытки пленников, карательные экспедиции, групповые казни. В целом
[она] создала ту атмосферу, в которой только и могла беспрепятственно
расти и развиваться бацилла фашизма (цит. по: Nolte, 1965: 144).
Организованное парамилитарное насилие эти фашисты воспринимали положительно, как благое дело. Джентиле (Gentile 1996)
приводит слова множества официальных идеологов, с пафосом говорящих о духовности парамилитаризма. Можно только задаваться
вопросом, как воспринимали их слова юные головорезы, стоящие
перед трибунами в первых рядах! Бальбо, лидер сквадристов, был чуть
более практичен. Он сам воевал, имел фронтовые награды, и вот какие
Кем были фашисты?
155
мысли поверял он своему дневнику: «Воевать, сражаться — и вер
нуться домой, в страну [премьер-министра] Джолитти, заменившего
все идеалы сухим деловым расчетом? Нет: лучше все отринуть, все
до основания разрушить, а затем обновить». Насилие, писал он, «самый быстрый и решительный путь к революционной цели. Долой
буржуазное ханжество, долой сентиментальность: лишь действие,
прямое и резкое, лишь стремление к цели любой ценой!» (Segrè 1987:
34). Он тоже верил, что, командуя своими головорезами, служит
высокой цели. Сквадристов он называл наследниками «святой черни
Гарибальди», краснорубашечников, освободивших Италию от иноземного угнетения, — аналогия, которую часто проводили фашисты.
Кроме того, парамилитаризм предлагал конкретную и всеобъемлющую социальную идентичность. Солдаты, вернувшиеся с войны,
были молоды, по большей части неженаты, с малым опытом на рынке
труда, плохо интегрированы в местные общины, связанные семейными, профессиональными, религиозными узами; они склонны были
ассоциировать себя с нацией в целом, которую и воплощала массовая
армия (Linz, 1976: 37). В партийных документах члены фашистской
партии именуются arditi, но каких-либо иных классовых или профессиональных определений там нет — как будто этим их социальная
идентичность и ограничивалась (Misefari, Marzotti, 1980). Многие
из них, быть может, никогда не работали, не имели семьи и, соответственно, не могли идентифицировать себя как-то иначе. Умения их
ограничивались военными навыками, ценности — милитаристскими
идеалами; социальная жизнь их проходила в рядах сквадристов, там
они испытывали чувства боевого братства и причастности к великому делу. В отличие от нацистов, у итальянских фашистов партия
и парамилитарные отряды обычно даже не разделялись: всех местных партийных активистов сокращенно называли «сквадристами».
Таска (Tasca, 1976: 345; ср. Lyttleton, 1987: 46–49, Snowden, 1989: 157)
заключает, что фашизм и был парамилитаризмом, обрушивающим
воинственную ярость на своих политических противников. Однако дисциплина (иной раз довольно условная), часто — постоянное
проживание в казармах, безжалостные расправы с «изменниками»
играли и еще одну важную роль: принудительно социализировали
самих молодых фашистов в духе коллективного насилия. Сквадристы заменяли молодым фашистам работу, общину, церковь. Отряды
156
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
боевиков структурировали жизнь своих членов и формировали их
психику, приучая наслаждаться насилием. В своей риторике фашисты
превозносили философию действия. Парамилитаристы воплощали
ту же философию на практике. При этом они подчиняли своему
фашистскому диктату и других. Именно это двойное подчинение
товарищей и врагов здесь, как и в других, более крупных парамилитарных формированиях фашистов, вело к успеху.
Однако жестокая карьера итальянских фашистов имела ряд
особенностей, отличавших их от фашистов в других странах. Как
и в других местах, первые когорты новобранцев приходили в фашистскую организацию прямо с войны; однако итальянские фашисты
проделали уникальный путь — насилие привело их к захвату власти
быстрым и прямым путем, без продолжительного периода электоральной активности. Придя к власти, Муссолини начал укрощать своих
боевиков, включив их в государственную и хорошо оплачиваемую
парамилитарную структуру — т. н. «добровольную милицию на
циональной безопасности» (MSVN). Вторая волна насилия, теперь
при государственной поддержке, произошла в конце 1930-х в Африке,
третья — в Европе ближе к концу войны. Таким образом, насилие
в среде итальянских фашистов носило неравномерный характер. Первая его фаза, по-видимому, легитимизированная милитаристскими
ценностями и ситуацией «гражданской войны», быстро оборвалась.
Вторая и третья фазы (о которых мы поговорим в следующем томе),
хоть и кровавые, также длились недолго и остались скрыты от глаз
большинства итальянцев.
Итак, большинство первых итальянских фашистов были молодые мужчины, организованные в парамилитарные боевые отряды.
У большей части из них юность прошла на войне, другие повоевать не
успели. Все в возрасте 18–21 года познакомились с милитаризмом и/
или парамилитаризмом — либо на войне, либо в сквадристах. Можно
ли придумать для них девиз лучше, чем «мне плевать»? Пока что они,
кажется, подтверждают скорее концепцию самого Муссолини, чем
Сальваторелли или Де Феличе. В самом деле, они с удовольствием
пародировали теоретиков классовой борьбы, награждая своих противников-марксистов обидным эпитетом «буржуи». Итальянское
borghese означает также «гражданский», «штатский», так что коннотации ясны: к черту законопослушных, нытиков, слабаков! Как
Кем были фашисты?
157
мы увидим далее, «молодость», «действие» и даже «насилие» стали
ключевыми понятиями новой идеологии.
Регионы
Сильнее всего был фашизм в двух маленьких и «неспокойных» приграничных регионах Италии: в северном Альто-Адидже (Южном
Тироле), оспариваемом Австрией, и на северо-востоке, оспариваемом
Югославией. В марте 1921 г. в одном только Триесте насчитывалось
почти 15 тысяч из 80 тысяч членов движения — более чем вдвое больше, чем в любой другой провинции. Триест и соседняя провинция
Удине дали фашистскому движению 20 % членов (всего в Италии
была семьдесят одна провинция). Сразу после войны, когда пересмотренные границы были свежи и еще оспаривались, многие полагали,
что северной и северо-восточной Италии «грозит опасность», и немало
местных жителей обращались к крайнему национал-этатизму в надежде защитить свою землю от растущего австро-германского и словенского национализма (De Felice, 1966: 8–11; Linz, 1976: 82–84, 92;
Steinberg, 1986). Однако силен был фашизм и в современных городах
северной Италии, откуда распространялся в наиболее развитые сельские регионы севера и северо-востока: в Венеция-Джулия, в Венето,
по всей долине По, Тоскане и Умбрии. Затем подпали под обаяние
фашизма и крупные города на северо-западе. Райли (Riley, 2002: гл. 2)
отмечает, что это были самые современные регионы Италии. Сельские районы были достаточно разнообразны: где-то царили крупные
землевладельцы, где-то — небольшие крестьянские хозяйства. Однако во всех областях, охваченных фашизмом, было хорошо развито
гражданское общество — плотная сеть добровольных неформальных
объединений, таких как кооперативы или профсоюзы. Он заключает:
фашизм развивался там, где гражданское общество было всего сильнее
и фашистская партия мобилизовала уже существующие добровольные
ассоциации. Позднее, после Похода на Рим, фашизм распространился
на большую часть страны. К 1923 г. около 40 % членов фашистской
партии жили в центральной Италии, 37 % в северной и целых 23 %
в южной — хотя по-настоящему отсталые южные районы оставались
158
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
почти не затронуты. К 1922 г. относительный вклад Триеста и Удине
упал до 5 %, а доля семи крупнейших итальянских городов снизилась
с 39 до 25 % (Revelli, 1987: 22).
Фашисты на северо-западе имели свои особенности. Членов партии
в Удине по состоянию на 1922 г. я подробно рассматриваю во втором
столбце табл. 3.1 в Приложении. В основном они относились к среднему классу, однако включали и большую часть местной рабочей силы26.
Я вычисляю процентное соотношение доли каждой группы, представ
ленной в фашистском движении, с их общей долей в экономическом
секторе. Это дает нам индекс избыточного или недостаточного представительства фашистов. Значения более 1,0 указывают на избыточное
представительство, менее 1,0 — на недостаточное. Такие вычисления
я провожу для каждого рассматриваемого конкретного случая27. В Удине фашисты наиболее массово представлены среди управленцев в государственном и частном секторе (индекс 3,1); за ними следуют крупные
собственники и специалисты (индексы 1,5). Коммерсанты практически
не выделяются (индекс 1,1). Промышленные рабочие представлены
намного слабее (индекс 0,5). Доля сельскохозяйственного сектора
еще ниже (0,4), но будем помнить, что это город. Однако в категорию
«управленцев» входят и рабочие коммунального хозяйства. Если вычесть их, индекс «белых воротничков» снизится приблизительно до
2,0. Как видим, самой многочисленной группой оказываются именно
они, а не «классическая» (то есть независимая) мелкая буржуазия.
Рабочие составляют в Удине более четверти партии, но все равно
26
27
Из рабочей силы я отдельно вынес довольно большое число тех, кого
определил как «прочие». Это могут быть школьники (поскольку перепись
охватывает только тех, кому не меньше 10 лет). Также из двух частей уравнения я вычел военных. Фриули — пограничная провинция, в которой
находились солидные вооруженные силы, введенные туда извне.
Если брать трудящихся, то крупная группа среди трудящихся не может
составлять такой же пропорции, как малая. Поскольку чернорабочие составляли около половины трудящихся, их доля даже в чисто пролетарской
по составу партии лишь немного превышала бы 2,0. А вот доля малой
группы — такой, как студенты, — могла превышать 20,0. Я мог бы ввести
в эти соотношения поправочный коэффициент, но тогда статистика лишится своей непосредственности и наглядности. Ни одно статистическое
значение, взятое в отдельности, не даст всей картины.
Кем были фашисты?
159
представлены недостаточно (их индекс около 0,75). В Триесте, как
писали современники, фашисты были выходцами из всех классов.
Здесь нападения на социалистов и словенцев помогли им получить
контроль над улицей раньше, чем в других местах. В газетах писали,
что фашизм в Триесте особенно популярен среди рабочих и городских
чиновников, что в его провокационных демонстрациях и шествиях
сочетаются агрессивный национализм и синдикализм. Некоторые
фашисты нападали на евреев, но чаще мишенями становились «враги»социалисты, иногда определяемые также как «славяне», словенцы
или вообще «чужие». Фашизм был очень силен и в Альто-Адидже:
в этом регионе фашисты впервые захватили местный муниципалитет
(Silvestri, 1969; Payne, 1995: 108; Abse, 1996). В этих двух регионах мы
видим, как фашисты продвигают свою этническую политику, в том
числе дискриминацию других этнических групп, в тяжелых случаях
сопровождаемую насилием, направленным на этнические чистки,
с целью заставить меньшинства эмигрировать. Впрочем, убийства
здесь были редки, а о плановых депортациях речи не было. Давление на
меньшинства с целью понудить их к эмиграции после Первой мировой
войны было обычным делом на спорных приграничных территориях
по всей Европе, и Италия здесь не была исключением. Разумеется,
это поощряло фашизм.
Шаблон везде один и тот же. Самый широкий отклик встречали
фашисты у всех классов на «угрожаемых» приграничных территориях.
Поскольку Италия была полуостровом, серьезных территориальных споров не имела и с основными своими соседями — Францией
и Швейцарией — поддерживала хорошие отношения, «угрожаемых»
приграничных территорий у нее было всего две — Триест и Южный
Тироль, и те очень невелики. Будь их побольше, итальянский фашизм,
возможно, получил бы более широкую классовую опору и проводил
бы не столько политические, сколько этнические чистки.
Классы
Как и фашистов в других странах, итальянских фашистов чаще всего
рассматривают с классовой точки зрения. И, как обычно, большинство
ученых полагают, что фашисты были выходцами преимущественно из
160
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
среднего или нижнего среднего класса. Однако самый содержательный наш источник, общенациональный реестр членов фашистской
партии, не вполне поддерживает эту гипотезу (это отмечается в: Payne,
1995: 104). Столбец 1 в табл. 3.1 в Приложении показывает нам, что
41 % членов PNF составляли рабочие. Они же составляли 46 % всего
занятого населения в стране (Labini, 1978), так что их индекс составляет 0,86 — чуть ниже среднего уровня. Однако индекс для рабочих
вне сельского хозяйства — лишь 0,6428, а сельскохозяйственные рабочие имеют индекс выше среднего (около 1,1). Возможно, в деревне
фашизм имел более широкую классовую базу, в то время как города
отчасти подчинялись «правоверному» классовому убеждению, что
среди рабочих фашизму ловить нечего.
Однако с этими данными не все гладко. Во-первых, большинство
фашистов принадлежали к молодежи — следовательно, еще не успели приобрести профессию, и социальный статус их был ниже, чем
у взрослого населения в целом. Таким образом, возможно, члены
партии в большей степени относились к среднему классу, чем показывают эти цифры, — хотя доказать такое предположение невозможно.
Во-вторых, данные о занятости включают и работающих женщин,
а среди фашистов женщин было очень мало. В сельскохозяйственном
труде доля работающих женщин была выше, чем в промышленности
или в большей части секторов услуг. Таким образом, если бы мы могли исключить из наших вычислений работающих женщин, индекс
рабочих среди сельских фашистов, возможно, возрос бы до 1,15–1,2,
а индекс рабочих вне сельского хозяйства немного упал. В-третьих,
граница между сельскохозяйственными рабочими и мелкими фермерами была довольно расплывчатой: многие батраки и издольщики
имели собственные клочки земли, так что являлись одновременно
и батраками или арендаторами, и земельными собственниками.
Аренда земли тоже бывала очень разной — и давала разные права.
В сельской местности вообще бывает сложно четко отнести человека к тому или иному классу. Как мы увидим далее, именно эта
28
Из этого следует, что категория «lavatori dell’industria» также включает
чернорабочих из сферы услуг (правда, моряки идут отдельным списком).
Если их не включать, то тогда в составе партии будет недостаточно выражена доля рабочих.
Кем были фашисты?
161
расплывчатость классовых границ легла в основу борьбы фашистов
с социалистами на селе. В-четвертых, статистика 1921 г. может
быть искажена добровольно-принудительным вступлением рабочих
в фашистскую партию. К этому времени многие социалистические
организации были уже разгромлены фашистами, и рабочие вступали
в фашистские объединения — иногда под давлением — в основном
потому, что других эффективных объединений не осталось (Tasca,
1976). Так что, возможно, фашизм, особенно в городах (в сельской
местности ситуация была другая) был в большей степени движением
среднего класса, чем показывают эти цифры. По имеющимся данным
трудно об этом судить.
Но если основной опорой фашизма стал средний класс — что это
был за средний класс? Ремесленники и мелкие торговцы — классическая мелкая буржуазия, — согласно общенациональному реестру,
имеют индекс 0,77, то есть меньше среднего. У их деревенских «коллег», фермеров и арендаторов, индекс еще меньше (0,39). Насколько
эти цифры отражают реальность? Быть может, мелких фермеров
причисляли к рабочим? Крупные предприниматели представлены
избыточно (индекс 2,5), но общее число их невелико. Очевидно, больше всего фашистов в непроизводственном секторе, особенно среди
людей образованных. Студенты составляют не менее 13 % от общего
числа членов и дают огромный индекс 9,3 (см. столбец 4 в табл. 3.1
в Приложении). В 1920–1921 гг. фашистами являются 4–5 % всех
преподавателей и 12–13 % всех учащихся, что делает PNF самым
масштабным движением в школах и университетах. Большинство студентов университетов в этот период принадлежат к среднему классу
(Petersen, 1975: 660). Те профессии, которые приобретали студенты
по выходе из университета, также представлены избыточно. Индекс
специалистов — 8,3, «белых воротничков» — 10,9, преподавателей
и государственных служащих — 3,0. Похоже, теория Сальваторелли
здесь вполне применима (это отмечается в: Linz, 1976; Weiss, 1988:
32–35) — однако применима к молодежи из среднего класса. Основной частью среднего класса, составившей ряды фашистов, стали образованные молодые буржуа. Однако высокий уровень образования
подсказывает нам, что это не обязательно была мелкая буржуазия.
Цифры показывают нам, что в сельской местности фашизм привлекал к себе больше членов рабочего класса, чем можно было пред-
162
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
положить, судя по его «мелкобуржуазной» репутации. Этот эпитет
лучше соотносится с городом, где секторальные различия более
отчетливы. Итак, следует различать городской и сельский фашизм.
Классы в городе. У нас есть данные по социальному бэкграунду
фашизма в нескольких городах, больших и малых. В столбцах 4 и 5
табл. 3.1 в Приложении показаны члены партии или сквадристи
в оплотах фашизма — городах Болонья, Флоренция и Реджио-Эмилия.
Болонья и Флоренция — крупные университетские города, и в сквадристи там состояла буквально половина студентов. По существу, это
были вполне буржуазные отделения: рабочие и мелкая буржуазия
были там мало представлены, зато с избытком представлены специалисты и государственные служащие. И речь даже не об интеллигенции
в строгом смысле: Суцци-Валли (Suzzi-Valli, 2000) показал, что среди
фашистов преобладали студенты естественных, а не общественных
или гуманитарных факультетов. В Реджио-Эмилии рабочих среди
фашистов также было мало, и группировались они в основном в центре
города (чего не скажешь о Болонье). Кавандоли (Cavandoli, 1972: 133)
отмечает: это связано с тем, что местные рабочие только что довольно
массово вышли из партии, недовольные ее поворотом вправо. Кроме
того, он, по-видимому, относит к среднему классу «ремесленников» —
классификация для того времени сомнительная29. Те немногие наименования профессий, что он приводит — например, «сыроделы» или
«уличные артисты», — наводят на мысль скорее о каких-то нелегальных подработках, чем о независимом и твердом заработке. Больше
всего в процентном соотношении составляют «белые воротнички»; за
ними, возможно, идет «серая зона», где ремесленный труд встречается
с рынком неформальных и случайных подработок.
29
Почти во всех странах слова «мастер» или «ремесленник» звучат двусмысленно. Как квалифицировать конкретного человека, кто он — квалифицированный наемный рабочий или независимый мастер — потенциальный
наниматель? Исследователи нацизма склоняются к тому, что Handwerker
чаще всего означало второе, иными словами, классическую мелкую буржуазию (напр., Kater, 1983), что идет в подтверждение теории о том, что
фашизм опирался на низший средний класс. В исследованиях последнего
времени (напр., Mühlberger, 1987; 1991) авторы относят данную прослойку
к рабочему классу, подтверждая тем самым относительно бесклассовую
версию. При тех же данных меняется интерпретация.
Кем были фашисты?
163
Столбцы 5 и 6 табл. 3.1 в Приложении демонстрируют нам две
преимущественно городские общенациональные выборки: фашистские «мученики» (погибшие за фашистское дело) и члены MVSN.
По всей видимости, фашистское насилие осуществляли в первую
очередь мужчины в больших городах. Основные группы — студенты, рабочие, государственные служащие (в Италии это были
в первую очередь солдаты и полицейские — тайные фашисты до
захвата власти и явные после). Заметим, однако, что рабочих среди
них как-то маловато. Как отмечает Рейхардт (Reichardt, 2002: 344),
итальянские мученики отличаются по составу от нацистских (СА),
преимущественно рабочих или ремесленников, с очень небольшим количеством студентов или госслужащих. В индустриальном
морском порту Ливорно (где были сильны социалисты) фашисты
принадлежали в основном к среднему классу. Примерно 19 % их
описываются как «свободные специалисты, промышленники или
студенты», 30 % — «белые воротнички», 18 % — «мелкие буржуа»
(сюда включены ремесленники и преподаватели государственных
учебных заведений) и лишь 9 % — рабочие (их местный индекс —
всего 0,2). Один бывший член партии с горечью писал о том, что
«все рабочие здесь ненавидят фашизм». Больше рабочих видим мы
в местной MSVN: студенты — 28 %, «белые воротнички» — 22 %,
остальной средний класс — 20 % и рабочие — 29 %, с индексом 0,71
(Abse, 1986: 68–69). Для небольшого городка Ареццо приводятся
подозрительно округленные цифры: 50 % торговцев, лавочников
и «белых воротничков», 25 % специалистов и студентов, 25 % рабочих
(Lyttleton, 1987: 68). Сноуден (Snowden, 1989: 165–177) полагает,
что большинство в тосканской партии было мелкобуржуазным до
1922 г., когда к ней начали присоединяться рабочие из разгромленных
социалистических объединений. Однако когда он приводит более
ранние цифры (для пяти небольших тосканских городов без тяжелой
индустрии), в каждом от четверти до половины членов составляют
рабочие, как правило, трудящиеся на небольших полукустарных
производствах, а не на серьезных индустриальных предприятиях.
Литтлтон (Lyttleton, 1987: 49–71) считает, что первоначальное
ядро фашистской партии, состоящее из студентов и ветеранов, было
затем расширено за счет «желтых» и католических объединений,
активных в мелкой и кустарной промышленности, чьими участни-
164
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
ками были, в числе прочих, бедные ремесленники, торговцы и люмпен-пролетариат. Франчини (Francini, 1976: 82–84) сообщает, что
fascio в Пистойе состояла из наемной прислуги, уличных торговцев
и рыночных перекупщиков скота. По-видимому, фашизму не так-то
легко оказалось проникнуть в ряды организованного рабочего класса,
занятого в крупной промышленности, в рабочие кварталы. Однако
в небольших городах всегда имелся значительный уличный, неформальный, случайный экономический сектор: участники его — полурабочие, полуремесленники — были не охвачены организованным
социалистическим движением и потому легкодоступны для фашизма.
Возможно, этим объясняется достаточно широкая социальная база
фашизма в реестре 1921 г.
Один фашистский журналист писал, что фашисты в больших
городах — это:
...служащие, мелкие рантье и специалисты средней руки... новые
люди. Из них образуется толпа, что до войны следила за политической
жизнью равнодушно и безучастно, но теперь готова вступить в игру.
Фашизм мобилизовал ее силы, вывел ее из сумеречной зоны политической жизни: отсюда ее юношеская пылкость и неукротимая страсть
к насилию (Lyttleton, 1987: 67).
Однако такое описание подходит скорее к лидерам фашизма, чем
к рядовым членам организации в больших городах. По-видимому,
городской фашизм рекрутировал себе бойцов из всех социальных
групп, оставшихся в стороне от довоенных политических организаций, от респектабельных либеральных и консервативных партий,
а также социалистических движений. В городах покрупнее фашизм,
быть может, изначально сосредотачивался на «новом среднем классе» и лишь затем втягивал в себя, как пылесос, множество людей,
занятых в мелком и кустарном производстве, в государственном
секторе, людей с неполной или периодической занятостью. В небольших городках, где позиции социализма были слабее, возможно,
на призывы фашистов откликалось больше рабочих. «Неукротимая
страсть к насилию», о которой пишет наш журналист, — скорее свойство ветеранов войны, чем представителей какого-то конкретного
класса, да и «юношеская пылкость» — характеристика не классовая,
а возрастная.
Кем были фашисты?
165
Итак, большинство фашистов, по-видимому, не принадлежали
к основным классам капиталистического города — будь то индустриальный пролетариат или средний класс. И в самом деле, притязания
фашистов на то, чтобы «превзойти» и снять классовый конфликт, скорее могли найти отклик у представителей всех классов, оказавшихся
на обочине этого конфликта. В небольших городах PNF была партией
скорее среднего, чем рабочего класса. Однако, хоть и определенно не
пролетарская, она была радикальной и популистской, возглавляли
ее бывшие синдикалисты и социалисты, а социальная база ее была
умеренно разнообразной. В дальнейшем радикальная часть базы
фашистов была глубоко недовольна оппортунистическими союзами
Муссолини с парламентскими партиями и крупной буржуазией.
Таким образом, в городах мы видим достаточно сложную и противоречивую картину.
В прошлом некоторые авторы рисовали фашистов как маргинальных, даже преступных представителей буржуазии. Лидеров
сквадристов называли «людьми без корней», «маргиналами» из «темного преступного подполья», или «бездельниками, промотавшими
семейное состояние» — «асоциальными, но честолюбивыми типами,
чья готовность к насилию обеспечивала им возможность карьерного
роста и влияния помимо традиционных путей» (Snowden, 1989: 163).
Более современные авторы (Suzzi-Valli, 2000; Reichardt, 2002) стремятся опровергнуть этот стереотип. Верно, среди фашистов встречались преступники, а коррупция в партии была обычным делом. Так,
флорентийская fascio после специального расследования партийного
комитета была распущена с такой высокоморальной декларацией:
«Фашизм должен оставаться движением за идеалы, движением,
стремящимся к экономическому и нравственному возрождению нации: он не должен превращаться в банду наемников, в преторианскую
гвардию, которая режет, грабит и громит из любви к наживе». Как
совместить насилие с моралью? — это вечная проблема фашизма.
Однако примеры фашистских лидеров-маргиналов, которые приводит Сноуден, не всегда убедительны. Например, Компаньи в самом
деле успешно служил в армии во время войны, имел награды, а затем покатился вниз. Но после этого он сумел вернуть себе средства
и положение в обществе как член Ветеранской Ассоциации — и лишь
затем стал фашистом. Джакомелли менял не столько социальное,
166
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
сколько географическое положение: начал оператором подъемного
крана, в поисках удачи эмигрировал в Америку, там особых успехов
не добился, вернулся в Италию и обратился к своему другу Пазелле
с просьбой подыскать ему работу в миланском отделении партии
(потому что был убежденным фашистом — или просто другой работы
найти не мог? Непонятно). Да и человек, меняющий свои политические взгляды, — не обязательно социальный маргинал. Пазелла во
время войны из националистических убеждений сдал властям своих
бывших друзей-социалистов. Если фашизм позволил ему «бежать из
руин политической карьеры», то, во всяком случае, связь здесь обратная: «руины» появились из-за фашистских взглядов, а не фашизм
из-за «руин».
У основателей радикального движения редко можно найти обычную трудовую биографию. Но где тут причина и где следствие? Верно
ли, что в погоне за радикальными политическими целями фашисты
растрачивали семейные состояния, пренебрегали возможностями
получить хорошее образование или сделать карьеру? Как мы увидим
далее, многие весьма респектабельные люди восхищались беззаветным идеализмом сквадристов. Неужто их восхищали люмпены,
маргиналы, преступники? Очень сомневаюсь. На мой взгляд, это
яркий пример склонности историков очернять фашистов вместо того,
чтобы относиться к ним всерьез.
Итальянских фашистов (как и фашистов в других странах) часто
изображают как маргиналов, страдающих от экономических и социальных лишений. Верно ли, что популярность фашизма росла вместе
с безработицей? Было ли среди фашистов особенно много безработных? Для ответов на эти вопросы нам недостает информации. Цифры
Барбальи (Barbagli, 1982: 110–128) показывают, что в самом деле
высшее образование готовило намного больше квалифицированных
специалистов, чем требовалось на рынке труда. Нелегко было найти
работу молодому учителю, еще труднее — инженеру. Барбальи предполагает, что многие из них становились политическими радикалами,
однако признает, что свидетельств этого недостаточно. В любом
случае, многие из них должны были находить себе работу в быстро
растущем государственном секторе, особенно в управленческом его
эшелоне. Верно ли, что интеллигенция страдала от инфляции, безработицы и низких зарплат больше, чем другие группы среднего класса?
Кем были фашисты?
167
Данные Цаманьи (Zamagni, 1979–80: 41–22) показывают обратное.
Майер (Maier, 1975: 313) подытоживает свои рассуждения о социальной базе фашизма так: «Итак, загнивающая буржуазия маленьких
городков и растущая сельская буржуазия поддерживали друг друга.
Обе защищали свой новоприобретенный — или окруженный новыми
угрозами — статус и собственность». То есть, получается, и вашим
и нашим! Отметим: все эти утверждения совпадают с ранними гипо
тезами о социальной базе немецких нацистов, выдвинутыми до того,
как историки начали исследовать эту тему всерьез.
Серьезные исследования германского нацизма опровергли эти
стереотипы: об этом мы расскажем в следующей главе.
Есть и альтернативная позиция. Возможно, интеллигенция, столь
ярко и многолюдно представленная в фашистской партии, — это не
«низшая», «безработная», «маргинализированная» часть среднего
класса, а люди, которых влекло к национал-этатистским ценностям
и парамилитарным средствам. Фашистское движение более какого-либо иного привлекало симпатии интеллектуалов. На молодых
интеллектуалов — студентов — обаяние фашизма действовало еще
сильнее. Отсюда избыточная доля людей умственного труда и множество сочувствующих среди госслужащих. Военные и полицейские
офицеры всех рангов настолько симпатизировали фашизму, что
министры и префекты не могли заставить их выполнять указы, направленные против фашистов (Dunnage, 1997: гл. 6). Однако с работой
у этих людей все было в порядке. До прихода фашистов к власти (как
и в других странах) государственные служащие опасались открывать
свое членство в партии и партийную активность. В партийных реестрах их доля лишь немного превосходит средние цифры — вплоть
до заговора, после которого нужда в конспирации отпала. К 1927 г.
в Вероне и Риме государственные служащие составляли в партийных
отделениях большинство, их индекс колебался от 3,0 до 5,0 (Revelli,
1987). Рим, столица страны, стал основной цитаделью фашистов — так
же как сейчас остается главным городом неофашистов. Возможно,
поддержка фашизма исходила не столько от низшей или маргинальной части среднего класса, сколько от среднего класса в целом — от
высочайших, самых привилегированных его уровней до низших,
самых ущемленных. Этот сектор можно определить через иные, не
классовые признаки: мужественность, молодость, военный опыт,
168
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
бразованность, опыт административного управления, относительная
о
удаленность от классового конфликта.
Все это говорит в пользу не столько классовой, сколько националэтатистской версии аргумента Сальваторелли. Быть может, на самом
деле «основных опор» фашизма было как минимум две: 1) буржуазная прослойка на периферии классовых противоречий, поверившая в способность фашизма эти противоречия снять и превзойти;
и 2) те, кто в силу своего социального положения стал сторонником
парамилитарного национал-этатизма. Учитывая скудость данных,
то и другое — не доказуемые истины, а всего лишь более или менее
вероятные предположения.
Классы на селе. Здесь фашисты добились большего успеха, чем
в городах. PNF приняла серьезное участие лишь в одних свободных
выборах, в 1921 г., в союзе с другими правыми националистами. Союз
получил в целом 15 % голосов, а в сельскохозяйственных районах севера и центра Италии, в Тоскане и в долине реки По — до 25 % и даже
больше. Лишь там фашизм безусловно имел подлинную массовую
поддержку. Социально сельский фашизм отличался от городского,
хотя и здесь наши данные достаточно скудны и разрозненны. Исследование сквадристов в провинции Болонья, проведенное Рейхардтом
(Reichardt, 2002: 306) и суммированное мною в столбце 7 табл. 3.1
в Приложении, показывает нам достаточно широкую социальную
базу, более широкую, чем в самом городе Болонья (согласно данным
Suzzi-Valli, 2000). Половина сквадристов в провинции были рабочими — пропорция, примерно соответствующая их доле на рынке труда
в целом (к сожалению, у нас нет возможности определить точное
соотношение сельскохозяйственных и промышленных рабочих).
Студенты, «белые воротнички», собственники, государственные
служащие представлены избыточно, а издольщики и представители
мелкой буржуазии — явно недостаточно. В одной местной партийной
ячейке близ Болоньи явно преобладает низший класс: 7 % — землевладельцы или арендаторы, 13 % — специалисты, 3 % — торговцы или
производители, 5 % — «белые воротнички», 4 % — государственные
служащие, 11 % — заводские рабочие, а остальные 58 % — издольщики и батраки-поденщики. Кардоза (Cardoza, 1982: 320) считает, что
такая картина типична для региона в целом. Корнер (Corner, 1975:
151–157) полагает, что в Ферраре фашисты были выходцами из всех
Кем были фашисты?
169
классов, кроме бедных рабочих. Однако Келикян (Kelikian, 1986:
205) утверждает, что в Брешии ячейка состояла из молодых, пока
не особо респектабельных представителей образованного среднего
класса, которых поддерживали зажиточные крестьяне-арендаторы.
С тем социальным составом партии, который открывается нам из партийных реестров, это никак не совпадает. В южных селах и городках
Калабрии (где фашизм был слаб), из людей, идентифицируемых как
фашисты (по данным Misefari, Marzotti, 1980), половину составляли
arditi — ветераны войны, а большинство остальных — средний класс,
в основном специалисты и госслужащие, плюс небольшое количество
землевладельцев и крестьян. Избыточная доля крестьян-ветеранов,
несомненно, связана с войной. Именно армия, преимущественно
крестьянская, вскормила ранний фашизм — ее милитаризм в мирное
время обернулся парамилитаризмом.
В сущности, итальянские фашисты пришли к победе через насилие, а не через избирательные урны. Тысячи боевиков были для
них важнее миллионов избирателей. Возможно, фашистское насилие
сможет больше рассказать нам о том, кем были фашисты, а жертвы
этого насилия — о том, против кого оно было направлено. У нас есть
данные о насильственных столкновениях с участием фашистов, собранные PNF для каждой провинции в отдельности и опубликованные
Таска и Де Феличе (Tasca, 1976: 120; De Felice, 1966: 35–39). Таска
выражает сомнение относительно этих данных, называет их обрывочными и непоследовательными. По большей части они взяты из
сообщений Социалистической партии о нападениях на ее собственных
активистов: нападения на несоциалистических «врагов» по большей
части не учитывались — мы находим лишь два сообщения о таких
нападениях, и те в сносках. Фашисты нападали на «белые» крестьянские объединения, организованные католическими «пополари», на
коммунистов, анархистов, словенцев на северо-востоке, тирольских
немцев — однако в этой статистике никто из них не учитывается. По
Триесту цифр нет совсем, в Удине не учтены нападения на словенцев.
Кроме того, эти данные служили целям фашистской пропаганды. С их
помощью фашисты могли оправдывать свое насилие, изображая его
как самооборону от социалистов. Поэтому данным Таска безоговорочно доверять не стоит. Однако альтернативный источник данных
у Францози (Franzosi, 1996) демонстрирует примерно тот же набор
170
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
противников. По сообщениям итальянских общенациональных газет,
коммунисты участвовали в 65 % столкновений 1921 г. и в 53 % столк
новений 1922 г., социалисты — соответственно в 15 и 7 %, «пополари»
и конституционные партии — в 7 и 5 %. Однако и здесь отсутствуют
данные по северо-востоку.
Цифры Таска, при всех их недостатках, уже использовались для
«экологического анализа», сравнивающего различия между фашистским насилием в разных провинциях с различиями в социальных
и экономических факторах. Шимански (Szymanski, 1973) показал,
что в промышленных районах фашистское насилие встречалось чаще,
чем в сельских, и резко возрастало там, где были сильны и активны
социалисты (согласно цифрам голосования за социалистов в 1919 г.:
ср. Tilly, 1975: 177). Элазар (Elazar, 1993) относится к цифрам более
скрупулезно. Она показывает также, что инциденты фашистского
насилия намного чаще происходили в провинциях, жители которых
в 1919 г. голосовали за социалистов, и чаще всего — в провинциях
с социалистической администрацией. Заметнее всего это соотношение в северных и центральных районах с большой долей сельского пролетариата. Кроме того, она приводит более достоверные
свидетельства того, что фашисты захватили власть в двенадцати из
четырнадцати провинций, в которых большинство голосовало за
социалистов, и лишь в одной из пятнадцати — с либеральным или
консервативным избирательным большинством. Из этого она делает
вывод, что фашизм был, по сути своей, направлен против социализма.
Прибавляя к этому свидетельства о поддержке насилия сквадристов
со стороны армии, правительства и крупной буржуазии, Элазар делает
вывод, что фашизм был порожден и вскормлен классовой борьбой.
На самом деле, говорит она, фашисты не захватывали власть — власть
передавали им крупные собственники и государственные чиновники
в надежде, что фашисты защитят их от рабочего класса и социализма.
Она отвергает теорию Сальваторелли — Де Феличе о независимом
фашизме среднего класса. Скорее, говорит она, фашизм был орудием
капиталистического класса, прежде всего крупных землевладельцев.
Таска — сам, кстати говоря, лидер социалистов — несколько раньше
пришел к схожим, хоть и более тонко нюансированным выводам.
Полезен также экологический анализ данных по голосованию
и членству. Поскольку фашисты всерьез участвовали только в одних
Кем были фашисты?
171
выборах, в 1921 г., в общем списке с другими националистическими
кандидатами — о том, кто поддерживал именно их, судить нелегко.
Линц (Linz, 1976: 82–84) обратил внимание на обратную зависимость
членства в фашистской партии от голосования за католическую
партию «Пополари», сильнее всего проявляющуюся в относительно
секуляризованных регионах (в долине По и в Романье). Национализм в Италии вообще всегда был скорее светским, противостоящим
интернациональной католической церкви — и фашизм унаследовал
этот антиклерикальный дух, хотя в то же время пытался вернуть сакральность государству. Бруштейн (Brustein, 1991) сумел раздельно
подсчитать голоса, отданные за фашистов и за националистов в 1921 г.
(хотя не объясняет, как ему это удалось). Вместе с Линцем он видит
высокую корреляцию между голосованием за PNF в 1921 г. и за социалистов в 1919 и 1920 гг. В 1921 г., особенно в сельских районах,
эта связь была уже намного слабее. Из этого он заключает (в отличие
от Шимански и Элазар), что многие социалисты перебежали к фашистам. Это дает нам альтернативное объяснение того, почему фашисты
захватывали власть в цитаделях социализма: они раскололи и ослабили социалистов. Кроме того, Бруштейн обнаруживает серьезную корреляцию между голосованием за фашистов и доходностью сельского
хозяйства, как на макро-, так и на микроуровне. Даже с поправками на
урбанизацию, голоса новых избирателей, регион и голоса, отданные
за католических «пополари», эти две корреляции сохраняют силу.
Бруштейн утверждает, что к 1921 г. фашисты предложили аграрную
программу, наиболее привлекательную и для крупных сельских хозяев, и для наемных работников, и для издольщиков, веривших, что
в будущем они смогут купить или арендовать земельные участки.
Даже очень бедные крестьяне могли стремиться к этой цели, пусть
и нереалистичной. Следовательно, фашизм мог приобрести симпатии
практически всего сельского общества, особенно в более развитых
регионах. Именно такие регионы, наиболее светские, стали главной
опорой фашизма. Сельские фашисты, пишет Бруштейн, не были
бедствующими маргиналами — напротив, это были крепкие хозяева,
многого ждущие от будущего. Фашистская аграрная программа их
устраивала, коллективистскую политику социалистов они воспринимали с недовольством. Таким образом, Бруштейн дает разумное
172
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
объяснение не только классовому, но отчасти и региональному составу
базы поддержки фашистов на селе.
Местные исследования, по-видимому, поддерживают тезисы
Бруштейна: из них видно, что коммерчески ориентиров анные
фермеры, ведущие современное высокорентабельное хозяйство,
с раздражением воспринимали аграрную политику правительства,
уступавшего требованиям объединений сельской бедноты и безземельного крестьянства (Cardoza, 1982; Kelikian, 1986; Dunnage,
1997). Бум военного времени, вместе с давлением крестьянских союзов, помог многим батракам и издольщикам достичь определенной
финансовой независимости. Продажи земли быстро росли. И теперь
многие крестьяне перебегали к фашистам, предпочитая фашистскую
поддержку частной собственности (лозунг «Земля — крестьянам!»,
предложение субсидий на выкуп земли), а не социалистическую
коллективизацию (Snowden, 1972; Corner, 1975: 144–167; Maier,
1975: 310–311).
Говоря о сельских фашистах, трудно соблюдать точность терминологии. Категории «землевладелец», «крестьянин», «издольщик»,
«арендатор» или «поденщик», которые мы встречаем в источниках, охватывают самые разные случаи, сильно различающиеся по
местным условиям, по урожаям, по богатству, по организационным
ресурсам. Однако несомненно одно: плотные общины безземельных
сельскохозяйственных рабочих или издольщиков, приблизительно
равных друг другу, редко бывали фашистскими. Напротив, они
поддерживали социалистические или, иногда, «белые» крестьянские объединения, организованные католиками. Организованный
пролетариат в пролетарских гетто, как и его собратья в городах,
отвергал фашизм.
Однако насилие и организационные проблемы были на селе явлением массовым из-за фундаментальной проблемы сельской экономики: огромного переизбытка безземельной рабочей силы. Это часто
подрывало все попытки мобилизовать недовольных, однако означало
и то, что коллективная мобилизация часто оказывалась насильственной и нередко — скоротечной. Трудно было внушить крестьянам
и батракам понятие солидарности, приучить их искать работу только
через профессиональные биржи труда, работать в течение короткой
трудовой недели или воздерживаться от работы в определенные
Кем были фашисты?
173
сроки, чтобы дать поработать и другим. Неистребимы были так называемые «гниды» (штрейкбрехеры), прорывающиеся сквозь пикеты
забастовщиков, порой — под защитой вооруженных боевиков, нанятых
предпринимателями. Тактики попеременной работы и забастовок
разработали и пропагандировали синдикалисты. Часто применяли их
социалисты, как и некоторые «пополари». Но чаще всего забастовки
не срабатывали: это приводило к быстрому распаду организации
и к тому, что на ее месте возникали новые. Крестьянские союзы начали расти совсем недавно (в 1920 г. число их членов увеличилось
более чем вдвое), они оставались шаткими и имели много врагов.
Их «биржи труда» пытались распределять работу, но в результате
многие чувствовали себя обиженными. Их грубая, уравнительная
справедливость шла вразрез с интересами и крестьян, которым
острая нужда мешала поддерживать бойкоты и забастовки, и мелких
землевладельцев, неспособных удовлетворить требования и запросы
крестьянских союзов. Более мощные социалистические союзы вытесняли крупные, но плохо организованные «белые». Однако немало
членов социалистических союзов вступали в них без особой охоты
и оставались недовольны их политикой: из их среды вышло немало
фашистов (Maier, 1975: 174–175; Cardoza 1982: 337–338; Segrè, 1987:
36, 59). Штрейкбрехеры очень важны в современных трудовых отношениях. Стоит помнить, что «рабочий класс» — не то же, что «орга
низованный рабочий класс». В первой половине ХХ века две трети
трудящихся оставались вне объединений и профсоюзов. В сельской
местности эти две трети обычно либо обитали в глухих местностях,
где никаких объединений просто не было, либо состояли из рабочих,
обремененных долгами или изолированных от сетей поддержки.
Или же это просто были робкие, религиозные или консервативные
крестьяне, порой — в родстве с сельским старостой или приставом
и мечтающие сами занять такое же положение; или те, чьи родные
(особенно жены и дочери) прислуживали в богатых домах, и потому
эти крестьяне либо боялись богачей, либо им симпатизировали. Гарантированная работа была для них важнее, чем неизбежно рискованный
протест. Если им обеспечивали безопасность, они готовы были на
штрейкбрехерство. Фашисты это понимали. Ведущие сквадристы начинали как революционные синдикалисты, и насилие им — истинным
парамилитаристам — удавалось лучше, чем кому-либо иному. Порой
174
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
они поддерживали силой забастовщиков, порой — штрейкбрехеров.
Но в любом случае фашистское насилие приносило результаты —
и многие жители сельской Италии оценивали его положительно.
Кроме того, крестьяне устали от социалистической риторики.
Основная проблема социалистов в партии, возглавляемой «максималистами», была в том, что они проповедовали революцию, но
ничего ради нее не делали. Тезис Муссолини о том, что социализм
превратился в пустопорожнее разжигание ненависти, был для
фашистов постоянной темой. «Марксизм» и «большевизм» несли
с собой борьбу, но не победу. В начале 1920-х это звучало вполне
убедительно — и многие социалисты переходили к тем, кто обещал
покончить с классовой борьбой. В 1921 г. социалисты откровенно
писали о том, что «каждый день программа fascio привлекает к себе
все больше сторонников из числа рабочих»; «те рабочие, что переходят на сторону фашистов, поздно пришли в наше движение и не
успели проникнуться духом пролетарской дисциплины» — явный
намек на добровольно-принудительный характер классовой солидарности. Коллективизация «ощущалась ими как прогрессирующее
нарушение личной свободы». Они признавали популярность фашистских лозунгов: «Земля — тем, кто на ней трудится!» или: «Каждому
крестьянину — все плоды его святого труда!» (Corner, 1975: 144, 159;
Snowden, 1972: 279). И нельзя сказать, что фашизм их обманывал.
Растущие как грибы фашистские организации действительно разрешали споры из-за контрактов: часто силой, порой, возможно, более
в пользу нанимателей, чем социалисты, — но разрешали и быстро
обеспечивали своих членов работой.
Однако обещания установить классовый мир были обманчивыми.
На деле сельский фашизм становился все более консервативен, все
больше превращался в союз деревенской буржуазии — союз крупных
производителей и крестьян «среднего и низшего среднего» класса:
тех, кто считал себя способными к независимой экономической деятельности, пусть их земельные наделы порой и бывали крошечными.
«Сила нашей армии, — говорил Бальбо, — исходит от мелких сельских собственников и арендаторов» (Corner, 1975: 102). Постепенно
крупные собственники стали в этом союзе ведущей силой — так же,
как впоследствии начали определять аграрную политику фашистского режима. У них имелись ресурсы для финансирования сельских
Кем были фашисты?
175
fascios (а впоследствии — и для полноценных зарплат сквадристам)
и для организации собственных коллективных ассоциаций, готовых
к борьбе (Mayer, 1975; Elazar, 1993). Один недовольный радикальный фашист отмечал: «В городах, в индустриальных зонах фашизм
объединил романтиков... но в деревне... это партия одного класса —
и соответственно она и действует» (Snowden, 1972: 283). Классовая
модель — не статичная, но динамичная, движущаяся — вообще лучше
работает в деревне. Сельский фашизм постепенно подмяли под себя
крупные землевладельцы, хотя начинался он не с них, и они остались
в партии самыми консервативными, наименее идеологизированными
фашистами. Для них фашизм был не откровением истины, а полезным
инструментом.
И все же не следует ограничиваться одномерной моделью. Даже на
селе нам необходимо объяснить и молодость фашистских боевиков,
и их мужественность, и военный опыт, и радостное приятие крайнего
национализма. Сам Муссолини писал об этом так:
Единство Италии — заслуга интеллектуальной буржуазии и части
городского ремесленничества. Великая Война 1915–1918 гг. вывела на
политическую сцену миллионы селян. Однако их участие в событиях
было в целом пассивным. Снова города тянули их за собой. Теперь же
фашизм превращает их сельскую пассивность в активную поддержку
реальности и святости нации (Lyttleton, 1987: 70).
По его словам, именно война, а затем парамилитарный фашизм
дали крестьянам коллективную организацию.
Однако национал-этатизм среди сельских фашистов кажется
слабее классовых неурядиц. Многим земледельцам (социалистам
в том числе) хотелось верить, что фашисты принесут классовый
мир, но это оказалось иллюзией. В какой-то степени фашизм помог
Италии выйти из кризиса, но главным бенефициаром при этом стали
капиталисты.
176
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ
ДРУГИХ ДВИЖЕНИЙ
В идеале хотелось бы сравнивать фашистов как личностей с членами
других движений. Именно это я сделаю в следующей главе, посвященной Германии. Однако о рядовых членах других итальянских
партий мы знаем очень мало. В столбцах 5 и 6 табл. 3.1 в Приложении мы сравниваем фашистов с католическими депутатами. Они
выглядят очень похоже. Данные, собранные Джентиле (Gentile,
2000: 413, 493) по депутатам от всех партий, свидетельствуют, что
везде преобладали специалисты, особенно юристы. У социалистов
было немало рабочих, а у фашистов — довольно широкий список
профессий среднего класса. Как и у социалистов, среди них было
больше журналистов (то же верно и для региональных секретарей).
Экологичных данных о голосовании за другие партии нам сильно
не хватает. Приходится ограничиться теми оценками электоральной поддержки и состава партий, которые давали современникижурналисты.
Большинство историков полагает, что левые партии получали
в основном поддержку рабочих на севере, а на юге (кроме Апулии)
за них голосовали мало. Социалистическая партия по численности
не превышала двух третей Фашистской народной партии, однако
получала в четыре раза больше поддержки избирателей, особенно
в больших городах. В 1919 г. ей отдали свои голоса 40 % городских
и 30 % сельских избирателей. У католиков-«пополари» номинальных членов было меньше, но поддержка избирателей — втрое выше,
чем у фашистов. Ее избиратели были сконцентрированы в сельской
местности и в неиндустриальных городах на севере Италии. Из
1,2 миллиона членов католического объединения на осень 1920 г. (половина от численности социалистических объединений) 80 % были
заняты в сельском хозяйстве (доля социалистов — всего 33 %). На
селе «белые» соперничали с «красными». Однако «пополари» оставались довольно шатким объединением священников, клерикальных
консерваторов и радикальных популистов (Salvemini, 1973: 137–151;
Molony, 1977: 55–56, 88; Mayeur, 1980: 109–117).
Поддержка фашизма элитами
177
«Конституционалистские» или «либеральные» партии по своему
составу были в основном буржуазными (хотя данных о членстве нам
недостает). Однако голосовали за них в четыре раза больше, чем за
фашистов, — и эти голоса, несомненно, распределялись по большинству классов. Это были респектабельные партии, опирающиеся
на традиционные патронклиентские отношения; их теснили новые
партии — массовые движения: социалисты, фашисты и «пополари».
Судя по тому, что нам известно о консервативных, либеральных и ка
толических партиях в других странах, можно предположить: лидеры
их были намного более буржуазны, чем у социалистов или фашистов,
однако им удавалось собирать почти столько же голосов рабочих,
сколько социалистам. Связано это было с тем, что они опирались на
более отсталые и наиболее религиозные, а также наиболее буржуазные регионы Италии.
Остается большой вопрос: почему эти три крупные соперничающие
силы так быстро капитулировали перед фашизмом? На него можно
дать двоякий ответ. Во-первых, фашистский парамилитаризм стал
самой эффективной формой мобилизации в области, оказавшейся
важнее всего для политической борьбы, — области прямого насилия.
Во-вторых, некоторые из этих соперников, прежде всего возглавляющие их элиты, дрогнули и перешли на сторону фашистского пе
реворота. Теперь спросим: почему это произошло?
ПОДДЕРЖКА ФАШИЗМА
ЭЛИТАМИ
Классовые мотивации
Фашисты пришли к власти не только своими силами. Им помогали
элиты. Начну с капиталистов. Почему они финансировали фашизм?
Документы PNF показывают, что партия существовала в основном
на мелкие пожертвования от ее членов и сочувствующих. Однако
и на местном уровне, и на уровне провинций там, где требовалось
178
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
финансирование дружественной прессы и штрейкбрехерских
организаций, организации фашистского толка получали куда более
щедрую финансовую помощь. Некоторых капиталистов привели
в ужас захваты заводов в 1920 г. — однако они обращались за помощью не к сквадристам, а к карабинерам. Большинство жаждало
правительственных репрессий против социалистов и полагало, что
для восстановления «либерального» парламентаризма этого будет
вполне достаточно. В 1922 г. Всеобщая конфедерация итальянской
промышленности не поддержала Поход на Рим, предпочитая «полуавторитарный» режим Джолитти или Саландра. Та же возможность рассматривалась и в 1924 г., когда по новому режиму ударило
убийство фашистами уважаемого социалистического депутата
Маттеотти. Когда фашизм продемонстрировал свой истинный
уровень насилия, капиталисты ответили демонстрацией более умеренных взглядов. В отличие от землевладельцев, очень немногие
капиталисты стали сквадристами, хотя с октября 1922 г. некоторые из них начали субсидировать партию и даже в нее вступили.
Однако поддержка эта началась позже и по объему была меньше,
чем поддержка землевладельцев, и исходила от предпринимателей
с сельскохозяйственными интересами и в развитых сельскохозяйственных районах (Melograni, 1965, 1972; Seton-Watson, 1967: 598;
Kelikian, 1986: 144; Lyttleton, 1987: 210–211; 1996: 19; Snowden,
1989: 121–156; Elazar, 1993: 161–162, 181–189).
Поддержка эта была важной, а в некоторых сельских районах
и решающей. Но лишь после переворота капиталистический класс
в целом повернулся к фашизму лицом. Большинство элитных групп,
особенно в крупных городах, с недоверием и подозрением относились к насилию фашистских радикалов. Чтобы рассеять их страхи
и достичь власти, в конце 1921–1922 гг. Муссолини дал понять, что
предлагает сделку. В обмен на их поддержку он готов притушить
и смягчить революционное насилие истинных, радикальных фашистов. Это дало результаты; однако некоторая часть элиты начала
склоняться к фашизму, и не дожидаясь этого. Как мы увидим дальше,
немало представителей церковной, политической, военной элиты
охотно вступили с фашистами в союз. Сперва рассмотрим, насколько ими (а также многими капиталистами) двигали чисто классовые
причины. В действиях имущего класса прослеживаются три важных
Поддержка фашизма элитами
179
мотива. Первые два связаны с потребностью защищать собственность,
третий — с потребностью в капиталистической прибыли.
Возможно, имущие классы боялись повсеместного и растущего
насилия, охватившего страну, и связывали с ним необходимость
защищать порядок и свою собственность. В отличие от стачечного
движения 1911–1912 гг., от уличных столкновений сторонников
и противников войны, даже от рабочих беспорядков 1918–1919 гг.,
сейчас на улицах гибли сотни человек. Чиновники, составлявшие
доклады о насилии, по большей части винили в этом левых. Один
истерически писал об «опьянении насилием», о том, что «анархисты
и социалисты режут» полицию и военных. Некоторые чиновники
высказывали противоположное мнение: сквадристов поощряет «бе
зумная непреклонность промышленников и коммерсантов» (Maier,
1975: 317, 319). Большинство историков считает, что правые сильно
преувеличивали. Кардоза (Cardoza, 1982: 293) считает, что элитами
двигала жестокая мстительность. По мнению Де Гранда (De Grand,
1978: 120), они «заходились в истерике, выкрикивая оскорбления
и угрозы». Сведения о смертельных случаях показывают, что по
большей части насилие исходило от правых. В период левых бунтов
1919–1920 гг. жертв было не много, во время «гражданской войны»
1921–1922 гг., начатой фашистами, — куда больше. Общее число жертв
оценивается приблизительно в 2000 человек. Около 300 из них —
определенно фашисты, около 700 — определенно левые. В конкретных
случаях жертвы среди левых и фашистов также соотносятся в среднем
как 2 к 1, как среди убитых, так и среди раненых. Как правило, инициаторами серьезного насилия левые не были. И стоит добавить, что
в традиционных «гражданских войнах» и мафиозных стычках на юге
Италии — в одной только Западной Сицилии — за тот же период
погибло больше людей, чем в основном регионе противостояния
фашистов и социалистов, в Тоскане и долине По (Molony, 1977: 99;
Lyttleton, 1982; Petersen, 1982: 280–294; Payne, 1995: 105–106). Таким
образом, первым шло традиционное насилие, за ним фашистское,
а социалистическое плелось в хвосте.
Однако между фашистским и любым другим насилием было
и важное различие. Фашистское насилие не было направлено на
государство. Что бы ни гласила фашистская теория о силовом захвате власти — на практике фашисты не покушались на государство,
180
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
даже его не очерняли. Напротив: они нападали на тех, кто твердил,
что они против государства, — на левых. Поэтому многие местные
и региональные правительственные чиновники втайне поддерживали и подначивали фашистов. Лишь немногие, самые умеренные из
них жаловались на «сочувствие», «чрезмерную терпимость» и даже
«сговоры» с фашистами со стороны магистратов, полиции и военных,
называющих фашистов «защитниками порядка». Социалистов убивали вдвое больше, чем фашистов, но и арестовывали в 2–4 раза чаще.
В 1921–1922 гг. некоторые полицейские отделения и воинские части
поддерживали фашистов личным оружием и боеприпасами, а один
раз даже поддержали грузовиками, пушками и танками (Lyttleton,
1987; Elazar, 1993: 227–32). В сущности, исполнительная власть, по
крайней мере в значительной своей части, фашистскому парамилитаризму симпатизировала, видя в нем патриотов на службе порядка
(De Felice, 1966: 35–37; Petersen, 1982: 280281; Segrè, 1987: 55–57;
Snowden, 1989: 194–204; Dunnage, 1997: 120–125).
Однако словам левых противостояли фашистские дела. Социалисты любили поговорить о революции и атаке на государство, но
в парамилитаризме видели орудие классового врага. Умеренные социалисты снова и снова отрекались от насилия. Так, Турати, выведенный
из руководящего состава Социалистической партии, на партийном
съезде в 1918 г. осудил победителей-максималистов:
Насилие — это не что иное, как самоубийство пролетариата: оно
служит интересам наших противников... Наш призыв к насилию будет
подхвачен нашими врагами, в сто раз лучше вооруженными, и тогда
прощай, Социалистическая партия. Говорить о насилии постоянно
и каждый раз откладывать его на завтра, что может быть нелепее? Это
служит лишь к тому, чтобы вооружать, возбуждать, оправдывать насилие противника, который в тысячу раз сильнее нас. Это величайшая
глупость нашей партии, это предательство революции (цит. по: Elazar,
1993: 135–136).
Но даже максималисты не могли предложить чего-то принципиально отличного от массовых стачек и демонстраций — разве только
с чуть большим количеством разбитых окон и подбитых глаз, чем
мог переварить Турати. Министерство обороны поручило одному
Поддержка фашизма элитами
181
полковнику оценить реальный уровень социалистической угрозы. Он
написал, что революции жаждут только максималисты, однако и они
...не способны к организации. Действуют они разрозненной толпой
в порыве быстро проходящей страсти. Оружия у них очень мало, и есть
оно далеко не у всех. Организованных боеспособных подразделений нет
вовсе. Они имеют самое смутное понятие о тактике, применении оружия,
дисциплине, согласовании, взаимодействии и о боевых действиях как
таковых. Они не умеют работать согласованно: максимум, на что они
способны, — поднять на борьбу один округ. Длительные приготовления
и планирование для них непосильны. Загипнотизированные криками
и шумом толпы, они верят в собственную силу и блестящие перспективы. Но первый же ответный удар вызовет у них тяжелое разочарование
и обратит в бегство (Salvemini, 1973: 269).
Полковник был прав. Сквадристы нападали — социалисты только
пытались защищать себя. И даже это им не удавалось. Очень редко
нападали они на местные штаб-квартиры фашистов. В лучшем случае
могли организовать засаду против наступающих фашистских отрядов. Социалисты, даже живущие в одном месте, действовали сами
по себе, в то время как фашисты координировали свои действия на
уровне регионов при помощи «грузовиков и телефона». Социалисты
защищали лишь собственную территорию; arditi шли строем всюду,
куда звал их фашизм. Социалистам, с грустью заключал социалистический лидер Таска, попросту не хватало мужества для войны (1976:
126–127). Не голосования, не дебаты, а парамилитаризм эффективно
решал вопросы. И в недолгой борьбе с фашизмом социалистические,
коммунистические и анархистские активисты проиграли, ибо почти
пацифистские воззрения плохо подготовили их к этой войне.
Таким образом, фашизму не приходилось проливать моря крови.
Гимн насилию, воспетый Бальбо (мы приводили его чуть раньше), не
было нужды проверять практикой. Фашисты даже уверяли, что защищаются, — это, мол, социалисты нападают на общественный порядок
в целом и на самих фашистов в частности. Неизвестно, насколько далеко фашисты могли бы зайти. Они ломали кости, заливали в глотки
касторовое масло, поджигали и грабили дома. Убивали обычно, лишь
когда встречали сопротивление. Количество смертей росло, но лишь
пока враг не сдался. Затем некоторых левых бросили за решетку, дру-
182
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
гих наказали неформальным изгнанием в пределах страны, заставив
их уехать из родных мест. Чистки оставались почти исключительно
политическими, а насилие в ходе чисток — сугубо прагматическим.
И это работало. В некоторых областях с социализмом покончили за
неделю, а во всей Италии — за год, с середины 1921-го по середину
1922-го. Это позволило итальянскому фашизму расслабиться и стать
более мирным — вплоть до эфиопской авантюры. Молниеносный за
хват власти впечатлил многих итальянцев, особенно тех, кто наблюдал
за этой драмой не из первых рядов. С расстояния победа фашистов
выглядела преодолением конфликта, а не жестоким насилием, каковым была на самом деле. А преодоление конфликта приветствовали
и элиты, и другие итальянцы, ценившие общественный порядок. Насколько широко была распространена популярность фашизма после
переворота, нам неизвестно, поскольку вполне свободные выборы
после этого не проводились. Однако целью фашистского парамилитаризма было не одно только насилие: он служил средством внутреннего
сплочения движения и завоевания популярности среди итальянцев.
Таким образом, боязнь насилия была справедлива по сути, но
направлена не на того врага. Левое насилие было ничтожно в сравнении с традиционным насилием на юге, а также насилием фашистов
и государства. Однако эти два типа упорядоченного насилия высшие
классы вполне устраивали.
Крупная буржуазия могла бояться политической революции.
В Италии, в отличие от других стран, фашистскому перевороту непосредственно предшествовал бурный послевоенный квазиреволюционный период. В стачках 1918–1919 гг. объективное негодование
по поводу цен и зарплат, по-видимому, сочеталось с политическим
влиянием большевиков. В нескольких городах власть на краткое время захватывали самозваные «советы», хотя планируемая всенародная
забастовка так и не удалась. По большей части стачки оставались
локальными. В марте 1920 г. многие возлагали надежду на совместные с администрацией «внутренние комиссии» на предприятиях,
сохранившиеся со времен войны, которые наниматели стремились
упразднить. В этой борьбе наниматели выиграли; однако разрозненные протесты и акты насилия (неизменно преувеличиваемые прессой) продолжались. В конце лета того же года около 1,3 миллиона
тосканских рабочих провели серию забастовок, требуя повышения
Поддержка фашизма элитами
183
зарплат и сохранения внутренних комиссий. Наниматели отказались
пойти на уступки, провели локаут, а против профсоюзных лидеров
возбудили судебные дела. Забастовки ширились, в конечном счете
дело дошло до захватов заводов.
Позднее эти захваты заводов получили мифическое значение: их
прославляли, как явление в микромасштабе нового социалистического
порядка, называли «необходимым этапом революционного развития
и классовой войны». Полиция заявляла об обнаруженных там тайниках с оружием, но в это верили немногие, поскольку правительство
так и не смогло предъявить этот компромат. Рабочие не пытались
захватывать правительственные здания; как правило, у стачек вообще
не было четкого и продуманного плана. Стычки происходили только
за пределами профсоюзных штабов или захваченных заводов, которыми рабочие иногда пытались управлять. Рабочие «защищали свое
собственное жизненное пространство» — характерная черта межвоенных социалистов (Mann, 1995). Лозунг «Controllo!», предупреждает
нас Сальвемини (Salvemini, 1973: 274), относился не к «рабочему
контролю», а только к праву проверять финансовые отчеты компании,
полученному профсоюзами во время войны. Между активистами,
профсоюзами, социалистической партией скоро начались споры: чего
хотим — повышения зарплат, участия в управлении производством
или революции?
Премьер-министр Джолитти, в то время уже восьмидесятилетний,
за двадцать лет пребывания в должности накопил немало опыта по
обращению с левыми. Несмотря на призывы консерваторов задействовать армию, он не вмешивался. Его тактика, по собственным его
словам, состояла в следующем: «Дать эксперименту развиться до
определенной точки, чтобы дать рабочим самим убедиться в непрактичности их представлений, а их коноводам не позволить возложить
на других вину за собственный провал». Использовать армию «значит
играть на руку самим революционерам — они ведь только этого и хотят» (Giolitti, 1923: 437–438). Вместо этого премьер предложил решать
споры на совместных комиссиях умеренных предпринимателей и профсоюзных лидеров. Как он и предсказывал, захваты заводов скоро
прекратились. Таким образом, Джолитти назвал революцию блефом
в ноябре 1920 г. — еще до начала фашистского насилия (Salvemini,
1973: 296–315; Tasca, 1976: 83, 122–123).
184
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
В связи с этим приверженцы классовой мотивации отступают
к запасному «революционному» аргументу: фашизм стал не ответом
на революцию, а превентивной контрреволюцией, предотвращением
революции, грозившей где-то в неопределенном будущем. С 1914 по
1919 г. число членов социалистической партии увеличилось вчетверо — до 200 тысяч, а Социалистическая федерация профсоюзов
(CGL) к 1920 г. выросла в семь раз — до 2,2 миллиона (включая мил
лион сельскохозяйственных рабочих). Кроме того, в партии (хотя
не в профсоюзах) максималисты одержали верх над реформистами.
Теперь партия выступала за «установление Итальянской Социалистической Республики под диктатурой пролетариата». В 1921 г.
некоторые левые откололись от социалистов и создали небольшую
Коммунистическую партию. И «максималисты», и коммунисты не
ограничивали себя в революционной риторике. На выборах в парламент страны в 1919 г. раскол между «конституционными» либеральной и консервативной партиями позволил социалистам получить 156
из 535 мест, а «пополари» — 100 мест. Доля «конституционалистов»
сократилась с 410 до 239 мест, к тому же они оставались разделенными. На местных выборах 1920 г. социалисты получили контроль над
2162 местными советами и, следовательно, власть в одной четверти
местных администраций. «Боссы почувствовали, что они больше не
боссы», — вспоминал один активист. Однако эти социалистические
местные советы не были революционными. Некоторые поднимали
над муниципалитетами красные флаги — что часто провоцировало
фашистское насилие. Большая часть повысила налоги, особенно
для землевладельцев, начала заключать меньше общественных контрактов с крупными предпринимателями и больше — с местными
кооперативами. Левые муниципалитеты заявляли, что не будут обращаться к армии за помощью в подавлении забастовок и захватов
земли. Таков был итальянский вариант межвоенного «муниципального социализма».
Действительно, на национальном уровне социалисты, возглавляемые максималистами, отвергли предложенные Джолитти места в кабинете. Однако Джолитти считал, что скоро им придется принять это
предложение, ибо страна явно сдвигается вправо. Промышленники
проявили больше солидарности: прежде разделенные «конституционные» партии сформировали общие списки и на местных выборах
Поддержка фашизма элитами
185
в конце 1921 г. вернули себе все крупные города, кроме Милана и Бо
лоньи. Членство в Социалистической партии и профсоюзах, голоса,
отданные за социалистов, количество стачек — все это снижалось,
а борьба левых фракций увеличивалась. Максималистская риторика
и минимум успехов, воинствующий антиклерикализм и отчуждение от мелкого крестьянства — все это загоняло левых в гетто. Как
и в остальной Европе, революционная война пошла на убыль еще
до подъема фашистского движения. Фактически и сам Муссолини
с этим соглашался, когда писал в июле 1921 г.: «Говорить, что большевистская опасность еще существует в Италии, значит принимать
за реальность некие смутные страхи. Большевизм побежден. Более
того: от него отреклись и вожди, и массы» (Nolte, 1965: 206; ср. Maier,
1975: 182–192). Следовательно, помощь фашистов для победы над
«большевизмом» не требовалась.
Таким образом, этот второй страх был реален, но преувеличен.
Даже превентивная контрреволюция совершенно не требовалась.
Однако за свою бескровную победу Джолитти не получил благодарности. Правые его проклинали. Понятно, что мятеж одного политического крыла вызывает панику у другого — и, если политический
ветер меняется, другое крыло жаждет мести, а не примирения. Но
требовала ли месть левым такого кровопускания, какое обеспечил
фашизм? Может быть, здесь сыграло свою роль что-то еще?
Большую часть «заговорщиков» составляла сельская буржуазия.
Быть может, ее пугала агитация на селе и захваты земли — особенно
когда правительство Джолитти, министр сельского хозяйства, принадлежащий к «пополари», и местные священники начали оправдывать
захваты как способ практического перераспределения земельных
участков. Речь шла прежде всего о защите собственности. Однако
проблема в том, что захваты земли по большей части происходили
в районах, где активность фашистов была низка — в центральном
регионе Лациуме и на юге. И даже там они коснулись лишь 2,3 %
земли — в масштабе всей страны менее 0,33 %. Лишь немногие из них
организовали социалисты: по большей части захваты были частью
вполне традиционных местных крестьянских восстаний (Salvemini,
1973: 227; Tilly, 1975: 170–171). А фашисты развивали бурную деятельность в связи не столько с захватами земли, сколько с трудовыми
договорами крестьянских объединений. То же самое можно сказать
186
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
о промышленности. Фашистское насилие в основном направлялось
против реформистских, а не революционных проектов. Возможно,
это заставляет нас обратиться к третьему мотиву.
Быть может, капиталисты стремились подавить трудящихся,
чтобы защитить свою прибыль. В 1936 г. (уже задним числом)
австрийский марксистский лидер Отто Бауэр предложил именно
такое объяснение европейского фашизма в целом и итальянского
в частности:
Фашизм побеждает не тогда, когда буржуазии угрожает про
летарская революция, а тогда, когда ослабевший пролетариат вынужден занять оборону, когда революционная волна уже пошла на спад.
Капиталисты и крупные помещики отдают бразды правления в руки
дикой фашистской орды не для того, чтобы защититься от угрозы пролетарской революции, а для того, чтобы урезать рабочим зарплаты,
отменить социальные льготы, уничтожить профсоюзы и их политическую силу. Их цель... не столько подавить революционный социализм,
сколько свести на нет успехи реформистского социализма. «Словесная
революционность максималистов, — пишет Силон, — угрожает уличным фонарям и иногда ребрам полицейских агентов. Но реформизм
с его кооперативами, антикризисными субсидиями, выплатами по безработице угрожает святая святых капитализма — капиталистической
прибыли» (Forgacs, 1986: 31).
Здесь Бауэр обращается к тому, что я определил как второй важный мотив имущего класса: погоне за капиталистической прибылью.
Однако в самом ли деле для повышения прибыли капиталистам требовался Муссолини? Что плохого в рецепте Джолитти: достичь компромисса по образцу северо-западной Европы, возможно, с небольшой
дополнительной дозой полуавторитаризма? Очевидно, это была
выигрышная стратегия (так полагал Джолитти), поскольку рабочее
движение уже достигло своего максимума. Почему же итальянские
капиталисты, особенно землевладельцы, так решительно противостояли реформам, что готовы были призывать на помощь фашистов,
не только истребляющих противника, но угрожающих и им самим?
Эта поддержка фашизма крупным капиталом по-прежнему остается
загадкой. Видимо, нам необходимо обратиться к другим источникам
социальной власти, помимо экономического.
Поддержка фашизма элитами
187
Идеологические, политические,
военные мотивы
Изначально католическая церковь смотрела на фашизм косо. Полуавторитарный ненационалистический консерватизм она в целом
одобряла, но лишь до тех пор, пока сама не играла большой роли
в политике. После войны лидеры католиков убедили церковную
иерархию в необходимости создать массовую католическую партию.
Так возникла партия «Пополари за Италию». Однако к 1922 г. внутри
«пополари» образовалась клерикально-фашистская фракция. Она
одобряла приспособление к Муссолини и сумела убедить в своей
правоте Ватикан. Лидер партии, священник Дом Стурцо, был демократом, однако церковные обеты вынудили его подчиниться. На судьбоносном парламентском заседании 1922 г., где предлагалось осудить
фашистское насилие, партия воздержалась. Затем присоединилась
к коалиции Муссолини в правительстве и помогла достичь Конкордата между фашизмом и церковью. Целью церкви было сохранить
автономию и собственные институциональные интересы. Однако она
явно предпочитала режим Муссолини демократическому альянсу
между «пополари» и левыми центристами (Salvemini, 1973: 345–356;
Molony, 1977; Mayeur, 1980: 109–117). Фашизм и церковь были скорее
соперниками, чем врагами. Как говорил Пий XI, «если существует
тоталитарный режим — тоталитарный и фактически, и по праву, — это
режим церкви» (Gaillard, 1990: 208). Как только фашисты признали
законными институциональные интересы церкви, Ватикан предпочел их демократии, требующей договариваться с социалистами. Пий,
по-видимому, был вполне доволен договоренностями и благодарил
Муссолини за то, что тот воплотил в жизнь социальный католицизм
из «Rerum Novarum».
Так один из важнейших соперников фашизма и влиятельнейший
на территории всей Италии идеологический институт отказался от
демократии. Он сыграл значительную роль в «сакрализации» ритуалов нового фашистского режима и привлечении к ним местных общин
(Gentile, 1996; Berezin, 1997). Занимались этим в первую очередь католические элиты, особенно Ватикан — возможно, вопреки желаниям
большинства «пополари». Трудно говорить об этом с уверенностью,
188
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
поскольку партия была достаточно аморфной. Лишь церковной
иерархии удавалось вести ее в определенном направлении — увы,
в сторону фашизма.
Перебежала на сторону фашизма и большая часть исполнительной
власти в стране. Особенно важно это было в военном отношении,
поскольку после победы сквадристов над социалистами полиция
и армия остались единственной силой, способной их подавить или
сдержать. Однако монополия государства на вооруженные силы
оказалась пустышкой. Ни полиция, ни армия фашизму не сопротивлялись — напротив, не стеснялись демонстрировать ему свои симпатии. С 1920 по 1922 г. попутчиками фашистов сделалось множество
высших гражданских чиновников, прежде всего из министерства
внутренних дел, региональных префектов, магистратов, а также представителей армейского командования. Верховный суд и некоторые
министерства «с цивильными функциями» продержались дольше.
Само объявление войны в 1916 г. было произведено против воли
парламента. В 1918 г. власть парламента укрепилась, однако магистраты, префекты и полиция продолжали пользоваться автономией. Это
всегда работало в пользу политических правых, а сейчас — все более
в пользу фашизма. Некоторые префекты, офицеры и полицейские
чины демонстрировали симпатии к фашистам-патриотам; однако
основная проблема состояла в том, что правительственные распоряжения, направленные против фашизма, попросту саботировались
рядовыми исполнителями. Это подогревало беспорядки — и, в свою
очередь, склоняло все больше высших чиновников к мысли, что фашистов проще инкорпорировать в режим, приручить и таким способом
положить конец насилию (Dunnage, 1977: 138–145). Таким образом,
фашистский парамилитаризм не только убивал, но и убеждал власть
легитимизировать убийства.
Фашистов и сочувствующих фашизму среди государственных
чиновников было множество. В первые месяцы после переворота
еще больше их сбросило маски. В течение 1922 г., по сообщениям
газет, к партии присоединились сотни армейских офицеров. С июля
по сентябрь в партию вступили не менее двенадцати генералов. Бывшие генералы возглавили Поход на Рим, и состоялся он не раньше,
чем Муссолини получил гарантии невмешательства армии. Это был
решающий фактор. Поход повлек за собой лишь несколько мелких
Поддержка фашизма элитами
189
стычек: это была не революция, даже не переворот в полном смысле
слова (Salvemini, 1973: 316–386). Многие чиновники и военные предпочли бы старое доброе полуавторитарное правительство — но эта
возможность была уже утрачена; а некоторые искренне восхищались
идеалами и «пылом» фашистов, зачастую собственных детей. Крайний национал-этатизм, возможно, тоже отвечал их чувствам. Так,
исполнительная половина дуалистического государства дала согласие
на разрушение законодательной половины.
Но даже на парламентской стороне единства не было. Элиты
«пополари» переметнулись к фашистам — об этом мы уже рассказывали. Переметнулись и многие «конституционные» политики. Они
надеялись мобилизовать народный национализм сами, но фашисты
опередили их, обратившись к молодежи. С Муссолини они сошлись,
когда он проявил готовность обуздать своих радикалов. Однако ни
идея фашистской революции, ни корпоративизм, ни синдикализм
(если только он не был им лично экономически выгоден) их не
радовали. Причины их перехода на сторону фашистов были, как
правило, смешанными, в них тесно сплетались классовые интересы
и национально-этатистские чувства. Вот цитата из флорентийской
газеты «Национе» — пример консервативного национализма с обостренным классовым сознанием:
Фашизм — это неизбежная реакция, часто горькая и жестокая —
чрезмерно горькая и жестокая, — на насилие социалистов-мак
сималистов. Это разящее оружие, которое средний класс обрушивает
на силы разрушения... Молодость горяча и впадает в ошибки, но зато
она пробуждает общество от тягостного сна, в который погрузились
наши почтенные политические партии. В любом случае это еще одно
свидетельство начавшегося воскрешения наших национальных идеалов,
самый утешительный результат истекшего года (Snowden, 1989: 151).
Однако разразился политический кризис. Внезапно было введено
всеобщее избирательное право для мужчин — хоть исполнительное
крыло и сохранило некоторые остатки власти. Стабильное парламентское правительство могло бы сформироваться на основе коалиций:
либо левоцентристской — умеренных социалистов, «пополари» и либералов Джолитти, либо центристской — либеральных и консерва
тивных «конституционалистов» с «пополари». Но ни то ни другое
190
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
оказалось невозможным. Социалисты-максималисты отказались
вступать в коалиции; отказались и «пополари» (при любой конфигурации их верхушка оказалась бы расколота), а конституционалисты
не смогли объединиться даже между собой. Лидеры обеих массовых
партий, социалистов и «пополари», не привыкли к компромиссам и к
внутрипартийной дисциплине, необходимой при заключении коали
ций. Респектабельные партийные лидеры умели заключать сделки
за закрытыми дверьми, но защищать свои решения перед широкими
массами сторонников получалось у них куда хуже. Ответственность за
провал либерально-демократического компромисса лежит не только
на социалистах, но и на всем политическом спектре. Либеральная
демократия еще не институционализировалась, она находилась
в переходном периоде (Maier, 1975: 322–350). Так классовый кризис
переплелся с кризисом политическим.
По мере роста фашистского насилия «конституционные» партии
все меньше интересовались защитой его жертв и все больше смирялись с авторитарным правительством. Это привело их к «союзу во
имя порядка» между существующим государством и набирающим
силу фашизмом. Джолитти надеялся это предотвратить, но даже он
позволил себе поверить, что фашисты — это всего лишь молодые,
ревностные не по разуму националисты: отношение папаши к сынуразгильдяю. Он надеялся, что насилие «сына» приведет умеренных
социалистов за стол переговоров — и в июне 1921 г. большинство
социалистических депутатов (кроме лидеров партии) заявили, что
поддержат любую правительственную коалицию, противостоящую
фашизму. Это испугало Муссолини и заставило его предпринять Поход на Рим — хотя Ватикан дал «пополари» распоряжение не вступать
в коалицию. Джолитти, типично для полуавторитарного политика
1920-х, не сознавал, что фашистский парамилитаризм установит порядок, сильно отличный и от его случайных и выборочных репрессий,
и от чисто словесного «насилия» социалистов. Политики 1930-х уже
усвоили этот урок.
Однако большинство лидеров «конституционалистов», судя по
всему, также предпочитали фашизм компромиссу с левыми. Премьерминистр Саландра называл фашизм «спасением и единственным
оплотом против измены и анархии... На мой взгляд, необходимо было
незамедлительно придать неминуемому пришествию фашизма закон-
Поддержка фашизма элитами
191
ную форму». Так же рассуждали и другие бывшие премьер-министры,
Факта и сам Джолитти. Они не были истинными «конституциона
листами», преданными парламентским институтам. Более двух десятилетий Джолитти изощрялся в манипуляциях и репрессировал
несогласных. Административный ресурс дал ему «гарантированное
большинство» и превратил парламент в рынок, где выставлялись на
продажу и покупались привилегии. Коррупция снизила привлекательность либерализма, побуждая несогласных слева (синдикалисты)
и справа (Коррадини, д’Аннунцио и фашисты) искать легитимацию
не в парламентских институтах, а напрямую в «народе» или «нации» — и в добровольческом движении меньшинства, органически
представляющего народ.
Преданность демократии и у либералов, и у консерваторов оставалась ситуативной. Переход от элитарно-бюрократических к массовым
партиям им совершить так и не удалось — слишком расколоты они
оказались между собой. Война принесла с собой агрессивный национализм, мобилизующий массы. Либералы и консерваторы раскололись пополам, и многие их сторонники перебежали к д’Аннунцио или
к фашистам. Затем свою политическую позицию изменила церковь:
от враждебного отношения к любой политике (которое, по крайней
мере, позволяло господствовать в довоенной парламентской политике
светским элитарным либералам и консерваторам с севера) она перешла к активному участию и созданию собственной массовой партии
«пополари». Это ослабило политическую власть старых светских элитариев и откололо от них новых религиозных центристов. Чувствуя,
что слабеют и теряют хватку, они сделались восприимчивы к идеям
таких теоретиков, как Карл Шмитт, чьи взгляды мы обсуждали в предыдущей главе. А столкнувшись с молодым фашистским движением,
они испытали еще одно неприятное чувство: возможно, за фашистским сочетанием национал-этатизма и парамилитаризма — в той или
иной форме — стоит будущее, возможно, в современных условиях
этот путь борьбы с анархией более эффективен, чем привычные извилистые пути старых политиков, полуавторитарных и порой кор
румпированных. Как подчеркивает Джентиле (Gentile, 1996: 1–18),
довоенные элиты, особенно в исполнительной власти, упорно, но
тщетно пытались привить массам мобилизующий патриотизм. Сами
они в этом не преуспели — и заинтересовались более современными
192
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
фашистскими методами. Тем временем тяжелый переходный период
забрызгал грязью репутацию политических партий, растлил исполнительную власть и затруднил либеральное разрешение классового
конфликта.
Выборы не проводились, так что невозможно сказать, насколько
глубоко укоренились эти страхи среди их массовых последователей.
Несомненно, множество людей из всех классов боялись беспорядков.
Мы уже видели, что «левую угрозу» сильно преувеличивали, однако
времена и в самом деле были опасные. Большевистская революция и революционное брожение в других странах подогревали эти
опасения. Многотиражные газеты преувеличивали угрозу, чтобы
повысить читаемость, — в красках описывали насилие и анархию,
так же, как их нынешние коллеги пугают нас сексом, наркотиками
и насилием. Газеты, по большей части правые, были в то время
основным средством коммуникации (радиоприемников во всей
Италии было менее 100 тысяч). Так что подобные страхи могли
распространиться очень широко. Однако массовых демонстраций
(кроме как у самих фашистов) не было, и Поход на Рим почти не
вызвал народной реакции. Структурированные организации были
почти исключительно элитными. Так что ответ: да, элиты полагали,
что обращаются к фашизму для защиты порядка, несомненно, имея
в виду и защиту самих себя от социализма. Отчасти мотивом их было
то, что политический кризис зачеркнул для них более умеренные
возможности. Однако и этого объяснения недостаточно. Фашистское
решение проблемы кризиса привлекало их, поскольку привлекали
и другие фашистские ценности.
Как явствовало из брошюры Муссолини, фашизм провозглашал
органический национализм и милитаризм, ведущие к установлению
жесткого этатистского и империалистического режима. Итальянский
национализм в то время был сосредоточен на внешней политике —
прежде всего на недовольстве мирными соглашениями 1918–1919 гг.
Националисты претендовали на территории Австрийского Тироля
и Югославии, сторонники д’Аннунцио захватили Фиуме (Риеку),
однако их остановило конституционалистское правительство, требовавшее уважения к международным договорам. На этом Муссолини
и выстроил свою большую игру. Гарантами мирных договоров выступали «плутократические» Британия и Франция, а итальянские
Поддержка фашизма элитами
193
либералы поддакивали им, как холопы. Пролетарская нация должна
восстать, чтобы добиться равенства и, возможно, вернуть свои природные территории. Как подчеркивает Грегор (Gregor, 1979), итальянский
фашизм предлагал идеологию «развития». Благодаря коллективной
мобилизации национальных ресурсов Италия будет процветать. Такая
риторика пользовалась широкой поддержкой.
Не вполне ясно, к каким группам она была обращена в первую
очередь. Такого рода агрессивный национализм обычно называют
«национализмом среднего класса». Но какое отношение имеют эти
вопросы к заботам и проблемам любого из основных классов? Фиуме,
бедные африканские колонии, надменность англичан или французов — все это имело очень мало связи с повседневными заботами
простых итальянцев. Для экономического развития эти территории
имели мало значения, а перспектива новой войны пугала. Однако
существовали группы населения, поддерживающие эти требования.
Во-первых, больше всего сторонников фашизма поставляли северные
приграничные провинции. Национализм здесь родился из чувства
незащищенности, вызванного соседством приграничных итальянцев
со славянами и немцами, и требовал для них привилегий перед этими
«второсортными» народами. Во-вторых, националисты, изначально
ставшие на сторону д’Аннунцио или фашистов, были в первую очередь
arditi, ради нации рисковавшие жизнью. Послевоенные соглашения
они считали унизительными. В-третьих, значительная часть этатистской интеллигенции считала, что государство должно расширяться,
а военные и гражданские чины видели в этом и свой материальный
интерес. По-видимому, эти три группы составляли не классовый, но
более узкий, конкретный, национал-этатистский слой поддержки
парамилитарного национализма.
Эту узкую группу поддержки национализма Муссолини стремился
расширить с помощью популизма, обращенного и в прошлое, и в будущее. Он использовал в своем движении римские имперские символы,
называл своим предшественником Гарибальди, разрабатывал для
государственных праздников молодой нации фашистские ритуалы,
наконец, получил священное благословение церкви Италии. Он призывал к возрождению Рима, к воскрешению Италии в прежнем блеске
и славе. Сам он как личность был квинтэссенцией итальянского образа
«настоящего мужчины, мужественного, страстного, бедняка, кото-
194
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
рый гневно кричит и грозит кулаком другим народам... заимствуя...
в своих позах и гримасах приемы уличной комедии» (Passerini, 1987:
191–192). Однако эта пролетарская нация была не слишком агрессивна. Большинство итальянцев не доверяли национализму. Во Второй
мировой войне они снова проявили себя как весьма здравомыслящие
люди, но плохие солдаты. По большей части итальянцы были слишком умны, чтобы поддерживать внешнюю агрессию, и Муссолини
это чувствовал. Поначалу он претендовал на господство Италии над
Адриатикой, но отказался от этого притязания в ноябре 1920 г., когда
ему подвернулся шанс порвать с д’Аннунцио и войти в коалиционное
правительство Джолитти. Заявляя, что «для восстановления Италии
нужен мир», он осуждал тех, кто «загипнотизирован зрелищем но
вых островов и адриатических пляжей» (Tasca, 1976: 84–85). Быть
может, он и желал блестящих завоеваний в духе Римской империи,
но оставался реалистом и понимал, каковы у Италии на этой стадии
шансы этого добиться.
Итак, национализм Муссолини (как и у большинства фашистов)
первоначально ограничивался стремлением к «выздоровлению нации». Мурри, новообращенный фашист из христианских демократов,
видел в фашизме органическое разрешение современной итальянской
истории: «Сейчас, как и в эпоху Рисорджименто, наша цель — сделать итальянцев единой Нацией и единым Государством... искать
и смело утверждать видение национального единства и этически
безупречного Государства, которое будет действовать в единстве
с нашей совестью» (Gentile, 1996: 57). Таким образом, агрессия фашистов была направлена в первую очередь на внутренних врагов,
интернационализм которых якобы ослаблял страну. Социалисты,
которых фашисты, намекая на иностранное влияние, называли
«большевиками», сначала протестовали против войны, а затем начали заимствовать русские политические практики. «Пополари»
более радикальные фашисты осуждали за то, что они представляют
космополитическую церковь, изначально враждебную итальянскому
национальному государству. Борьба между социализмом и капитализмом лишь разделяет нацию, а парламентские институты только
усугубляют этот раскол и превращают его в «анархию». Некий помощник прокурора из Флоренции, сочувствующий фашистам, так
писал в официальном докладе в июне 1921 г.
Поддержка фашизма элитами
195
Фашизм встречает если не одобрение, то сочувствие. Многие оправдывают даже насилие фашистов, понимая, что только таким способом
горстка стойких духом людей сможет покончить с засильем социалистов,
анархистов и populari, которые, пользуясь попустительством властей,
ведут Италию к хаосу и крови большевистской революции в России
(Maier, 1975: 316).
К этому времени в России бушевала Гражданская война. Если бы
большевизм сработал, говорит Муссолини, то и на здоровье. Однако
«большевизм разрушил благосостояние России» (Delzell, 1970: 8).
Фашисты использовали боевые отряды и помощь государства, чтобы
подавить классовый конфликт и восстановить органическое единство нации. В 1914–1918 гг. они были единственными истинными
патриотами. Так что теперь у них есть право кричать: «Viva Italia!»
и провозглашать своих врагов «врагами нации». Они осуждают не
рабочий класс или пролетариат, а марксистов и большевиков, клеймя
их прозвищами «вторых австрийцев», «предателей и очернителей
победы» и «изменников нации». Ранняя антибуржуазная риторика
фашистов, замечает премьер-министр Бономи, разворачивалась под
дымовой завесой национализма и антибольшевизма.
Это было уже ближе к повседневному опыту итальянцев. Такая
риторика обращалась не столько к двум воюющим классовым лагерям,
сколько к тем, кто вдали от поля боя отчаянно мечтал о разрешении
этого конфликта — к интеллигенции вне сферы производства, к некоторым из неорганизованных двух третей пролетариата, к мелким
и средней руки фермерам. Обращалась она и к элитам государства,
которое в последние десять лет все-таки предоставило избирательное
право всем мужчинам и согласилось на формальное верховенство
парламента. Армия, монархия, высшее чиновничество, региональные
префекты, а также не сдавшие своих позиций солдаты старого режима (церковь и местная аристократия) сомневались в том, что одна
лишь либеральная конституция способна предотвратить погружение
общества в хаос. Все они разделяли второе желание Карла Шмитта
(о котором мы говорили в предыдущей главе) — считали, что Италии
необходимо государство «над» обществом, расколотым на вооруженные и враждующие лагеря. Хватит ли на это старого авторитарного
государства? Или (вывод, к которому пришел и Шмитт) потребуется
помощь новой элиты?
196
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
Местные фашистские вожди, так называемые ras, понимали эту
дилемму государства и ею пользовались. Они видели, что в стране
существуют «два государства»: одно, неустойчиво-демократическое,
вокруг парламента, другое, более авторитарное, вокруг исполнительного крыла власти. Фашисты стремились углубить этот раскол и внедриться в обе ветви власти. В мае 1922 г. Бальбо организовал марш
сорока или пятидесяти тысяч безработных на Феррару. Полицию
и армию он убедил не вмешиваться, пообещав, что сквадристы будут
охранять порядок сами. Власти вздохнули с облегчением и согласились. Потом Бальбо заявил, что ему не удержать толпу, если власть
не выполнит некоторые из ее требований. Префекту был поставлен
ультиматум: в течение двух суток опубликовать программу общественных работ для безработных — или начнется мятеж. Начались
отчаянные звонки префекта в Рим — и после экстренных переговоров
люди получили работу. «Кто же кем правит?» — спрашивали многие.
Затем Бальбо с 20 тысячами своих сторонников направился в Болонью. Префект Болоньи был одним из немногих истинных конституционалистов. Но даже он не решился привлечь военных, многие из
которых уже братались с фашистами. Патовая ситуация разрешилась,
когда Муссолини убедил министерство сменить префекта. В Равенне
Бальбо предупредил начальника полиции, что его люди собираются
жечь дома социалистов. Однако, продолжал Бальбо, он сможет это
предотвратить, если полиция предоставит колонну грузовиков, чтобы
вывезти их из города. Так он и сделал — но грузовики оставил себе,
и чуть позже использовал их для «колонны огня», когда поджигал
отделения социалистической и коммунистической партий в провинциях Равенна и Форли.
Те же тактики повторились и в Походе на Рим. Колонны боевиков наступали, армия не двигалась с места, расколотое правительство беспомощно смотрело на происходящее. Единство и авторитет
демократического с виду, но на деле дуалистического государства
были уничтожены. Чтобы уберечь страну от распада и беспорядков,
чиновники и политики обратились к фашизму. Так радикальное популистское движение, чья тактика строилась на парамилитарном
насилии, подорвало способность элиты к сопротивлению, в то же
время взывая к ее классовым и национал-этатистским предрассудкам.
Фашисты у власти
197
ФАШИСТЫ У ВЛАСТИ
Итальянский фашизм не был единым. Он объединил в себе самые
разные фракции и направления: социалистов, синдикалистов, государственников, консервативных националистов, радикалов-сквадристов,
сельских реакционеров. Сам Муссолини, возможно, предпочитал
фашизм с социалистическим душком, однако оппортунистическое
чутье помогло ему достичь власти, лавируя и играя на противоречиях между разными фракциями. В этом отношении он напоминал
Гитлера. Однако после того, как оба пришли к власти, между ними
обнаружились и значительные различия. У Муссолини не было
гитлеровского радикального расового трансцендентализма, а в своем
этатизме он стремился не «вычистить» несогласных, а объединить все
политические направления в русле корпоративизма. Придя к власти,
он постарался честно поделить ее на всех. В сущности, фашисты не
захватывали власть — скорее подошли к ней вплотную, а затем заключили сделку с нефашистскими элитами. Стремление удовлетворить все группы влияния вызвало своего рода распыление верховной
власти между монархией, традиционной бюрократией, Большим
фашистским советом, министерством корпораций, синдикатами,
партией — и самим дуче. На местном уровне за власть состязались
секретарь партии, префект, лидеры синдикатов и подеста. Этатизм,
милитаризм, синдикализм и оппортунизм фашистов породили весьма
плюралистическое государство. Те же конфликты и компромиссы, что
в либерально-демократических странах институционализируются
в партиях и парламенте, сохранились и в фашистском государстве —
лишь решались здесь более частным порядком.
Установить синдикалистское государство радикалам не удалось,
однако они обрели монопольный контроль над профсоюзами, а ассоциации предпринимателей — аналогичную власть над другой стороной производственных отношений и в министерстве корпораций.
После 1926 г. фашистские боевики начали получать от профсоюзных
фондов серьезную материальную поддержку в обмен на отказ от насилия и беспорядков (Riley, 2002). В других областях режим делился
властью с нефашистскими элитами. Это сразу проявилось на селе,
где землевладельцы уже в течение 1922 г. вытеснили и заменили
198
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
с обой фашистскую власть. Больше времени это заняло в городах, где
радикальные fascios не унимались все 1920-е. В фашистские союзы
вошли и представители среднего класса: теперь в них господствовали мелкие и средние государственные чиновники и члены местного
самоуправления (Lyttleton, 1987: 217–20, 278). После переворота
в Фашистской народной партии начала снижаться доля рабочих
и крестьян, а доля среднего класса, стремящегося примкнуть к по
бедителям, наоборот, возросла. Разрозненные данные по низовым
партийным организациям за 1927 г. говорят о том, что в их составе
преобладали уже не рабочие, а чиновники (Forgacs, 1986: 50, прим.
32; Revelli, 1987: 25–34). Однако около 1935 г. синдикалисты вновь
начали завоевывать утраченные позиции, а растущая популярность
гитлеровского режима вдохновила Муссолини на более радикальную
внутреннюю и внешнюю политику. Теперь он был готов с помощью
фашистских боевиков снизить влияние некоторых старых элит (Sarti,
1990; Dahl, 1999).
Стабилизация собственной власти и возвышение Гитлера позволили Муссолини перейти к более агрессивной внешней политике. Он
начал агрессивную войну против Ливии и Эфиопии. Однако, как показывает Маллет (Mallett, 2000), достаточно рано Муссолини понял,
что Великобритания и Франция не позволят Италии стать настоящей колониальной державой. Для борьбы с ними он после прихода
к власти Гитлера заключил союз с Германией. Ко времени вступления
Италии во Вторую мировую войну Муссолини уже развернул программу строительства надводного и подводного флота, призванного
оспорить британское господство в Средиземном и Красном морях.
Однако экспансионистские стремления Муссолини, четко обозначенные еще в статье 1932 г., принесли катастрофические плоды, хотя
сам Муссолини, по-видимому, признавал, что война сулит Италии
лишь два возможных исхода: поражение или подчинение Германии
(Ceva, 2000).
Удовлетворяя запросы различных фракций, обеспечивая порядок
и ощущение экспансии, режим завоевал немалую популярность.
Выборы 1924 г. были не вполне свободными, однако неожиданно
разгромная победа фашистов выглядит по большей части неподдельной. В ней отразилось всеобщее облегчение от того, что в стране
наконец-то восстановлен порядок. Крепко утвердившись во власти,
Фашисты у власти
199
приблизительно с 1926 г., режим, по-видимому, достиг широкой,
пусть и не очень горячей народной поддержки и почти перестал
нуждаться в насилии. Введение особых судов и тайной полиции не
привело к террору: 80 % обвиняемых по политическим статьям были
оправданны, а большинство приговоренных получили сроки не более
трех лет. С 1927 по 1940 г. было совершено всего девять политических
казней. Еще двадцать два смертных приговора было вынесено во время
войны. Интересно, что большинство казненных были словенскими
националистами. За все время Второй мировой войны фашистский
режим приговорил к смерти лишь девяносто двух итальянских солдат:
можно сравнить с 40 тысячами смертных приговоров, вынесенных
его либеральным предшественником в Первой мировой войне, или
с 35 тысячами смертных приговоров у его союзников, в германском
вермахте (Payne, 1995: 117; Knox, 1996: 128). Все это свидетельствует
о низком уровне репрессий. Нам известны случаи недовольства мест
ных партийных боссов, однако о недовольстве рабочих, крестьян или
других классов сведений практически нет.
По мнению Де Феличе (De Felice, 1974: гл. 2), это свидетельствует
об активной поддержке режима простыми итальянцами. Режим
пережил Великую депрессию (хоть и не так успешно, как обещал).
Утвердил положение Италии как великой державы — вплоть до того,
как совершил роковую ошибку, вступив во Вторую мировую войну.
Интервью Пассерини (Passerini, 1987) с пожилыми итальянцами
открывает более сложную картину, чем простое «одобрение» или
«недовольство». Их шутки и анекдоты — о режиме, о его песнях и ло
зунгах, о собственных, порой сомнительных компромиссах с ним —
указывают на двойственное отношение к фашизму. Фашистские профсоюзы, женские, молодежные, досуговые организации становились
частью жизни множества людей — и заполняли их жизнь своими
ритуалами. Березин (Berezin, 1997) пишет, что фашистские ритуалы
становились практиками повседневной жизни, присваивали и усиливали обычный патриотизм, привлекали к своей работе католическую
церковь, вплоть до сельских священников. Пусть даже фашизму не
удалось «заново освятить» итальянское государство и нацию — он
все же вошел глубоко в жизнь народа и воспринимался как своя,
нормальная, вполне итальянская часть жизни. Вторая мировая война
усилила его радикализм и снизила популярность. Из полицейских
200
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
рапортов видно, что начиная с 1943 г. многие итальянцы воспринимали бомбежки и нехватку продовольствия как последствия идиотской
войны, навязанной слабому режиму более сильной Германией (Abse,
1996). Дальше Италия раскололась: многие восстали против фашизма,
а остатки фашистского режима радикализировались. Но до этого несколько тысяч старых фашистских бойцов и множество примкнувших
к ним оппортунистов, по-видимому, правили страной спокойно, без
чрезмерного насилия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фашизм убил демократию — вместе с несколькими тысячами итальянцев. Агрессия его была скорее политической, чем этнической,
прежде всего потому, что страна обладала прочными и надежными
территориальными границами. Лишь неспокойные границы на северо-востоке искушали фашистов направить свою агрессию против
«враждебных» этнических меньшинств. За исключением Африки
и последнего года войны (о том и о другом я поговорю в следующем
томе) итальянский фашистский режим был самым умеренным из всех,
описанных в этой книге. Быть может, поэтому в наше время в Италии
вновь появились самопровозглашенные неофашисты.
Фашизм возник как ответ на кризис, связанный с войной и массовой мобилизацией. В системе великих держав Италия была слабейшей, и война расколола итальянскую нацию. Расколола она и политические партии — и создала пространство для новых. Позднее, когда
послевоенные кризисы итальянского общества обострили капиталистическую классовую борьбу и влили новую энергию в молодежное
парамилитарное движение, несколько сотен фашистов сменились
тысячами. Парамилитаризм начали воспринимать как средство разрешения классового конфликта. Однако видеть в итальянском фашизме
просто парамилитарную организацию, действовавшую в интересах
капиталистов, — значит чрезмерно упрощать ситуацию. Здесь, как
и в других местах, имущие классы обратились к силе оружия слишком
рано, когда ни их собственности, ни прибыли ничто по-настоящему
не угрожало. Чтобы объяснить эту чрезмерную реакцию, необходи-
Заключение
201
мо вспомнить о политическом и идеологическом кризисах, в это же
время сотрясавших дуалистическое государство. Крепкого и сплоченного «старого режима» в Италии не было. Церковь была сильна, но
противостояла государству. Либеральные и консервативные элиты,
правившие страной до войны, не имели глубоких общественных
корней, а эффективно мобилизовать националистические чувства
государству не удалось. Парламентская половина государственной
власти, быстро переходившая к всеобщему избирательному праву
для мужчин, противостояла двум новым «массовым армиям»: быстро
радикализирующейся социалистической партии и непоследовательным католическим популистам. Исполнительная половина власти,
обладавшая монополией на военную силу, была развращена мечтами
о более мощном, мобилизующем национализме и этатизме. В стране,
где старый режим не мог толком воспользоваться собственным авторитаризмом, фашизм завоевал популярность очень рано. Вот почему
слишком рано включилась в дело и репрессивная функция фашизма.
Однако сама непосредственная близость друг к другу этих событий —
Первой мировой войны, послевоенной классовой конфронтации,
попыток слабого государства расширить демократию и подъема
молодого фашистского движения — не позволяет установить относительный причинно-следственный вес каждого из четырех кризисов.
Итальянские фашисты предложили вполне разумные пути выхода
из кризиса. Они обещали преодолеть классовую борьбу — обещание
особенно привлекательное для тех, кто не принадлежал ни к жителям рабочих кварталов, ни к торгово-промышленной сердцевине
капиталистического класса. Они обещали развивать общество путем
национал-этатизма — обещание, привлекательное для тех, кто ощущал
тесную связь с нацией или страной. Избранное ими средство — парамилитарное насилие — особенно привлекало молодых демобилизованных мужчин, ибо совпадало с их военно-мачистскими ценностями.
Именно воинственность тысяч фашистов привела фашизм вплотную
к власти. Элиты также одобрили репрессивные методы подавления
классового протеста: отчасти потому, что политический кризис сузил
пространство альтернативных мер, а также потому, что идеал фашистского национального государства пришелся им по душе. Именно их
переход на сторону фашистов позволил фашизму захватить власть.
Каждый из этих элементов привлекал к фашизму различные груп-
202
Глава 3. Италия: фашисты в чистом виде
пы поддержки: классы, сектора, регионы, поколения. Именно разношерстность группы поддержки требовала немало политической
гибкости, чтобы захватить власть и ее удержать — но политическая
гибкость у Муссолини была. История итальянского фашизма — это
история тысяч, а не миллионов: ударной силы тысяч фашистов, объединенных в боевые отряды, и предательства тысяч среди различных
итальянских элит. У социалистов и «пополари» тоже были тысячи,
готовые им противостоять, но не было ни парамилитарной силы, ни
такого влияния на элиты. Большинство итальянцев наблюдало за
этой борьбой со смешанными чувствами. Против исхода, способного
принести общественное согласие и умеренный прогресс, они, повидимому, не возражали. Но их не особенно волновало, принесут ли
согласие и прогресс фашисты или кто-то другой.
Мое объяснение этого более многосторонне, чем привычные классовые или фашистские теории, представленные в начале главы. Чтобы
объяснить первый в Европе приход фашистов к власти, я обращаюсь
ко всем четырем источникам социальной власти — идеологическому,
экономическому, военному и политическому. Сложность такого объяснения в идеале требует куда более точных и обширных данных, чем
те, которыми я располагаю. В заключение позволю себе признать то,
что редко признают исследователи итальянского фашизма. Все общие
интерпретации этого фашизма, в том числе и моя, строятся на очень
скудных свидетельствах. Сведения о фашистах и их союзниках, их
происхождении, бэкграунде и мотивах не таковы, чтобы делать на их
основе уверенные обобщения. Откровенно это признав, обратимся
к немецкому нацизму, о котором мы знаем намного больше.
Глава 4
НАЦИСТЫ
204
Глава 4. Нацисты
Германия была самой мощной и развитой из стран, подпавших под
власть фашизма. Нацисты стали крупнейшим в мире фашистским
движением, с самыми крупными боевыми отрядами, самой многочисленной электоральной поддержкой. Это был и самый радикальный фашизм, совершивший больше всего злодеяний. Вот почему
особенно важно объяснить, кем были нацисты, во что они верили,
как достигли власти. По счастью, история нацизма хорошо документирована. Историкам всегда недостает данных, и новые вопросы
возникают у них бесконечно; однако в этой и в следующей главах
мы подойдем достаточно близко к объяснению победы нацистов
и разрешим некоторые загадки, вызванные скудными данными
об итальянском фашизме и обсуждавшиеся в предыдущей главе.
И хотя все фашистские режимы различны — между ними и достаточно много общего, так что мы сможем использовать обширный
фактологический материал по Германии для более широкого сравнительного анализа.
Различия с Италией очевидны. В отличие от Италии, Германия
Первую мировую войну проиграла. Послевоенная политическая
история Германии также была совсем иной. Короткий период революционной смуты сменился Веймарской республикой — развитой
либеральной демократией, где избирательным правом обладали даже
женщины, а система социального обеспечения была лучшей в мире.
Кроме того, в Германии имелась не одна, а две крупные христианские
конфессии: католицизм и протестантизм. Гитлер пришел к власти
лишь в 1933 г., и рост влияния нацистов также шел медленнее, под
влиянием различных межвоенных событий: инфляционного кризиса,
споров с державами Антанты о границах, репарациях и разоруже
нии, Великой депрессии, общего межвоенного роста авторитаризма.
К участию в выборах нацисты подошли куда серьезнее итальянских
фашистов — но гораздо менее, чем в Италии, оспаривали монополию
государства на военную власть. Наконец, германский нацизм был намного более расистским, чем итальянский фашизм. Все эти различия
сыграли свою роль.
Сыграла свою роль и некая долгосрочная «особость» германской
истории, часто именуемая Sonderweg — уникальный путь исторического развития. Обычно ее рассматривают в терминах классовой
политики: буржуазной революции в Германии не произошло, она
Официальная идеология нацизма
205
стала развитой страной, сохранив старый полуавторитарный режим,
поддерживаемый буржуазией. Старый режим и буржуазия, говорят
нам, вместе подорвали Веймарскую демократию и подтолкнули обще
ство к поддержке фашизма. Однако особым путем шли не только
классы, но и вся немецкая нация. Немецкое национальное государство имело две возможные территориальные формы: «Малая» или
«Большая» Германия. В Веймарской республике жили шестьдесят
миллионов немцев, но еще почти двадцать миллионов проживали за
ее границами, в основном на прилегающих территориях. Из-за этого
понятие «германской нации» было сконцентрировано не столько на
государстве, сколько на этнической, потенциально даже на расовой
идентичности — и имело мощный потенциал территориальной экспансии. «Малое» немецкое государство (изначально Пруссия, затем
Веймарская республика) могло объединить всю «великую» германскую нацию прежде всего путем экспансии на восток. О различных
ролях классов, нации и государства в становлении немецкого нацизма
мы поговорим дальше.
Нам предстоит ответить на вопрос, кто и почему поддержал нацистов. В этой главе мы поговорим о членах нацистской партии.
В следующей обсудим два других основных ингредиента нацистской
победы — тех, кто голосовал за нацистов, и созаговорщиков из числа
элит. Поговорим мы и о том, как нацистам удалось мобилизовать
единым махом членов собственной партии, избирателей, элиты —
и таким образом получить власть. Эти главы охватывают историю
лишь до 1933 г. О двенадцати годах Рейха пойдет речь в следующей
моей книге. И в этой главе я принимаю нацистов всерьез. Итак:
кем они были, во что верили, в чем состояла суть их деятельности?
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
НАЦИЗМА
Многие сторонние наблюдатели и историки подчеркивают непоследовательность нацистской идеологии. Нацисты, говорят они,
политически были полуграмотны, их идеологический багаж был
206
Глава 4. Нацисты
мешаниной идей, они питались «отбросами современной им европейской мысли» — клочками, обрывками взаимоисключающих
идей, примечательных лишь «эффективностью, с которой из этих
обрывков популяризованных мыслей и спасительных учений... был
создан политический миф для масс» (Broszat, 1987: 38, 186–190;
ср. Peukert, 1989: 39; Bracher, 1971). Подобные взгляды — часть традиции, требующей не принимать нацизм всерьез. Отчасти проблема
в том, что, поскольку нацизм обычно считается очень идеологизиро
ванным движением, многие питают нереалистичные ожидания
насчет его идеологической проработанности. Но на марксистов нацисты совсем не походили. Ни у одной фашистской партии не было
такого теоретического балласта (или такого доктринерства, сказали
бы иные), как у иных социалистических партий, неустанно изучающих и разрабатывающих наследие Маркса. В этом отношении
нацисты более походили на либеральные и консервативные партии:
идеология была для них Weltanschauung (миропониманием), гибким
инструментом ориентации в политическом пространстве. Как и у
всех эффективных партий, эту идеологию еще сильнее размывал
политический оппортунизм и необходимость утрясать внутренние
разногласия. Однако в одном любопытном смысле оппортунизм фашистов подчинялся принципам. Поскольку фашисты поклонялись
силе, элите и вождям, рядовые фашисты фактически признавали
за лидерами право творить что угодно, если это помогало достичь
власти или укрепить свою власть. Кроме того, превыше догматов
фашизм ценил действие. Многие нацисты охотно подчеркивали,
что они — просто люди действия. Они хвастались тем, что никогда
не заглядывали в программу партии, и говорили даже (хотя и только проверенным собеседникам), что никогда не открывали свой
экземпляр «Майн Кампф». Эйхман — на суде в Иерусалиме, где
речь шла о его жизни, — сказал: «Партийная программа ничего не
значила: ты и без программы знал, на что идешь». Это «общее знание», на которое ссылается Эйхман, я рассматриваю внимательнее,
чем любые партийные догматы. Именно на этом уровне нацисты
демонстрировали больше идеологической сплоченности, чем за
ними обычно признают.
Некоторые пункты этого «общего знания» для нас выглядят
полной нелепицей — да так же выглядели и для многих современ-
Официальная идеология нацизма
207
ников. Над убеждением, что евреи, составляющие 0,76 % населения
(среди немецких банкиров и биржевых брокеров доля «еврейского
финансового кап итала» возрастала до 2 %), представляют для
Германии серьезную угрозу, можно было только посмеяться. И не
нелепо ли голосовать за партию, под лозунгом «Остановим насилие!», творившую в Германии больше всего насилия? Однако
многие партии предлагают для национальных проблем странные
решения — странные, но каким-то образом отвечающие чаяниям
общества. В политике важна не истина, а минимальное правдоподобие и привлекательность. Мне случалось жить в странах, где выборы
выигрывали партии, преподносящие избирателям карикатурный,
почти вымышленный образ главного врага: ни консервативные
и неповоротливые британские профсоюзы, ни, откровенно сказать,
достаточно слабую внутреннюю власть федерального правительства
США, по совести, невозможно винить в бедах, обрушившихся на
эти страны в 1980-х.30 Обвинения нацистов в адрес евреев звучали
еще смехотворнее: разница в том, что они открывали дорогу для
бесконечно более серьезного зла.
Начнем с классического нацистского текста — партийной программы 1920 г. Некоторые историки преуменьшают значение этого
документа, однако он ясно обрисовывает (за одним исключением)
очертания нацизма — национал-этатизма, основанного на массовых
чистках. Вступительные его пункты — это то, что нацисты повторяли
постоянно: единство всех немцев в Великой Германии, пересмотр
мирных соглашений и «земли и территории (колонии), чтобы обес
печить народ питанием и расселить избыток населения». «Членами
нации могут быть лишь те, в ком течет немецкая кровь, независимо
30
Из всех ответвлений поистине неисчерпаемой власти американского федерального правительства республиканцы пощадили только одну армию.
Когда я наблюдал выборы в третьей стране — это было в 1993 г. в Испании, — правящая партия социалистов попыталась во что бы то ни стало
удержать власть, и для этого, вероятно, в последнюю минуту было принято
решение сыграть на страхах избирателей и выставить своих оппонентов
(не представляющую опасности консервативную Народную партию) затаившимися франкистами с авторитарными намерениями. Сегодня в демократической Испании Народная партия — авторитетная партия власти;
на тех выборах она одержала победу.
208
Глава 4. Нацисты
от их вероисповедания. Соответственно, ни один еврей не может
быть членом нации». В следующих пунктах перечисляются задачи
партии в области образования, экономики, законодательства, массовой информации, здравоохранения, а также принципы построения
авторитарного корпоративного государства, необходимые для достижения этих целей. Эти внутриполитические задачи описаны на языке
«народничества»: людей ненемецкого происхождения необходимо
отстранить от влияния в СМИ, религиозная свобода допустима,
лишь пока не угрожает государству и «не оскорбляет моральные
чувства германской расы». Дважды повторено, что наказанием для
ненемцев, нарушающих эти установления, должна быть депортация.
В своей речи в 1923 г. Гитлер ясно дал понять, насколько важны для
нацизма «враги»:
Национализм — это прежде всего вакцина от бациллы еврейства,
а концепция антисемитизма — необходимая защита, своего рода антитело против этой чумы, поразившей весь мир... вопрос стоит ребром:
или ты немец, или ты антинемец. Национал-социалисты возглавили
поход Германии, и мы заявляем, что никогда не сядем за один стол с преступниками, которые однажды уже вонзили нам нож в спину (Sereny,
1995: 58–59).
Это манихейское видение мира, разделенного на немцев и их
врагов. Однако, как и итальянские фашисты, поначалу нацисты были
довольно левыми — и поправели лишь впоследствии. В их партийную
программу был включен набросок нацистского социализма: никакой
отмены частной собственности, экономической демократии или равенства, но «примат рабочего над эксплуататором», являющим себя
в виде финансового капитала и ростовщических процентов. Заявление
расплывчатое, но явно этатистское: государство должно обеспечивать
своим гражданам достойный уровень жизни и процветание, а также
бороться против мирового и еврейского капитала. Имелась здесь
и программа радикальной земельной реформы, включавшая экспроприацию земельной собственности.
Левизну раннего нацизма в еще более простой форме доносят
до нас бесчисленные партийные листовки. Вот одна листовка 1920 г.:
Официальная идеология нацизма
209
Национал-социаистическая рабочая партия Германии
С неиссякаемым упорством агенты международного еврейского капи
тала и банкиры-ростовщики ведут Германию к катастрофе, чтобы
потом отдать страну и экономику в руки
международных финансовых трестов.
Они хотят расколоть и ослабить нашу нацию изнутри. Вот почему
наемники
мирового финансового капитала дышат неукротимой злобой против
нашей партии —
единственной партии,
вобравшей в себя не «буржуазию» или пролетариат, а самых талант
ливых работников умственного и физического труда, цвет нашей нации.
Лишь они одни могут и должны стать строителями будущей Германии
(Noakes, Pridham, 1974: 37–41).
Однако на улицах нацисты не сталкивались ни с евреями, ни
с капиталистами. Они вступали в стычки с левыми, прославляющими
Россию и проповедующими благо интернационализма. Так что вскоре
акценты у нацистов сместились. Региональные исследования нацизма
показывают, что по всей Германии в конце 1920-х антисемитская нацистская риторика пошла на спад. Антисемитизм не был заброшен,
однако теперь по всей Германии (прежде — лишь в некоторых областях) «антинемцев» изображали в первую очередь как большевиков
и марксистов (Heilbronner, 1990). Нацисты утверждали, что насилие
против большевиков и ограничения для капиталистов необходимы ради благой цели — создания Volksgemeinschaft, органической народной
общины, в рамках которой снимутся классовые и иные конфликты.
Движение росло, и к программе делались дополнения. Прежде
всего укреплялся фашизм. Ранние риторические атаки на «респуб
лику штатских» превратились в более общую критику демократии
как таковой: вожделенное сильное государство мыслилось как исключительно авторитарное.
В середине 1920-х, после освобождения Гитлера из тюрьмы, краеугольным камнем нацизма стал«фюрерский принцип: безусловная
210
Глава 4. Нацисты
верность вождю, воплощающему в себе немецкий Volk. Важную
роль здесь сыграла личность самого Гитлера — его харизматичность
и умение внушать веру своим последователям. Он умел доносить свое
видение — избегая деталей, в простых черно-белых красках, однако,
как казалось слушателям, удивительно ясно и искренне (Kershaw,
1998: 290–291). Наши современники привыкли изумляться тому
безумному магнетизму, что демонстрировал Гитлер на нюрнбергских
сборищах. Однако еще очевиднее проявлялся его лидерский талант
в кулуарных беседах. В мемуарах нацистов мы найдем немало рассказов о том, как несколько негромких, но твердых слов фюрера,
сказанных в приватной беседе, развеивали все сомнения, заглушали
всякую критику. Примерно с 1927 г. нацисты начали демонстрировать почти безоговорочную преданность своему вождю, воплощению
Германии; это чувство ясно звучит в самом знаменитом нацистском
лозунге: «Ein Volk! Ein Führer! Ein Reich!» Однако в сравнении с итальянскими фашистами немецкие нацисты довольно слабо различали
контуры будущего государства. Корпоративное государство было для
них чужим идеалом, итальянским или австрийским. Будущее рейха
было оставлено на усмотрение Гитлера, а тот не утруждал себя по
дробностями. Нацисты подчеркивали свою преданность государству,
но очертания этого государства оставались размытыми.
Прежде всего произошел откат от социализма. В 1928 г. партия
отказалась от планов радикальной земельной реформы. Антикапитализм ее также зашатался и начал встречать критику внутри самого
движения. Прежде, под влиянием Федера, Гитлер различал производительный и непроизводительный («паразитический») капитал:
первый он считал истинно немецким, второй международным или
еврейским. Однако с 1930 г. он начал искать признания у деловых
людей, которые таких тонкостей не понимали. Теперь нацистский
социализм отошел на задний план, сменившись более расплывчатыми
требованиями социальной справедливости. Эта двусмысленность
осталась ахиллесовой пятой нацизма. Впрочем, некоторые социалистические склонности у движения сохранились. Они и повлияли на
политэкономическую часть избирательной стратегии нацистов после
того, как разразилась Великая депрессия; но об этом мы расскажем
в следующей главе.
Идеология членов нацистской партии
211
ИДЕОЛОГИЯ ЧЛЕНОВ
НАЦИСТСКОЙ ПАРТИИ
Стоит ли принимать всерьез это миропонимание нацистов? Важный
вопрос состоит в том, разделяли ли его члены партии. Очевидно, наши сведения о сотнях тысяч рядовых нацистов очень ограниченны.
Самый объемный наш источник, позволяющий судить об убеждениях
нацистских боевиков, — 581 конкурсное эссе на тему «Почему я стал
нацистом», присланное в нацистский партийный журнал. В 1934 г.
эти материалы попали в руки американского социолога-любителя
Теодора Абеля. Эссе были опубликованы в его книге, вышедшей
в 1938 г., а затем дважды переработанной Питером Мерклом (Merkl,
1975; 1980). Очевидно, авторы эссе не представляли собой случайную
выборку, охватывающую все слои нацистов. Это были вполне грамотные люди, скорее всего, из среднего класса, «старые бойцы», более
преданные фашизму, чем члены организации в среднем. Однако эти
нацистские боевики разделяли убеждения, описанные выше. В 32 %
эссе основной темой является трансцендентный Volksgemeinschaft,
в 23 % выражен сверхпатриотизм (гордость за Германию и ненависть
к ее врагам), 18 % авторов называют Гитлера воплощением Volk, 14 %
сосредоточены на антисемитизме, 6 % — на романтике крови и почвы
и 5 % выступают за захват утраченных территорий вооруженным
путем — весьма узкая идеологизация.
Большое внимание эти боевики уделяют врагам. В 63 % эссе
основными врагами названы марксисты/коммунисты/социалисты,
лишь в 18 % евреи, в 8 % капиталисты, в 5 % католики. В трети эссе
антисемитизма совсем не видно, в половине эссе некоторый антисемитизм чувствуется, для 13 % авторов стоит на первом плане.
Около 22 % демонстрируют ненависть к иностранцам, 15 % — к инородцам в Германии, 5 % упоминают заговор между теми и другими.
Почти все пишут о своей ненависти к Веймарской республике:
30 % — потому что ею правят евреи и прочие ненемцы, 19 % — из-за
многопартийности, 9 % считают ее марксистской, 3 % — либеральнокапиталистической, 23 % — и либерально-капитал истической,
и марксистской одновременно, 6 % — «черной» (то есть католи-
212
Глава 4. Нацисты
ческой) и «красной». Немного более 50 % полагают, что врагов
невозможно переубедить разумными доводами. Около 21 % используют эпитеты, очерняющие и расчеловечивающие оппонентов
(«недочеловеки», «крысы», «убийцы»). Около 40 % выступают за
войну, 48 % увлечены насилием «до степени, заставляющей предположить садизм или мазохизм». Однако, помимо культа фюрера
и милитаризма, особого этатизма в этих эссе не чувствуется (Merkl,
1975: 453–542). Основные враги — большевики, которых часто
связывают с евреями и Веймарской системой. Часто используются биомедицинские расистские термины, тесно переплетаются
понятия этнических и политических врагов, очистить от которых
Volksgemeinschaft можно только насилием. Насилие, как замечает
Фридлендер (Friedlaender, 1997), говоря о нацистском антисемитизме, носит искупительный характер, эмоционально привязывает
нациста к Германии, движению и фюреру. Суть нацизма — это
трансцендентный и очистительный органический национализм, выраженный в партийной программе и пропаганде. Однако он включал
в себя не только рациональные рассуждения. Он требовал «прыжка
веры», требовал преданности. Идеологическая власть вообще редко
основана на разумности и логичности посылок. Самая сильная ее
сторона — это простые и звучные призывы, возвышающие человека
над повседневностью и придающие смысл его действиям. Именно
такие призывы придавали нацизму силу и страсть.
Что можно сказать о рядовых нацистах, возможно, не умевших
писать даже такие эссе? Свидетельства о них очень разрозненны, но
кое-что найти можно.
Голоса самих рядовых нацистов доносятся до нас из анкет, заполняемых при вступлении в «штурмовые отряды» (СА). С 1930 г.
в этих анкетах появилась графа «причины вступления». Ответы
даются по большей части простые, но по существу. Вот пишет один
инженер:
Я вступаю в ряды СА, чтобы поддержать фюрера и Германию в битве
против коммунистов и социал-демократов, предателей народа и роди
ны, чтобы помочь уничтожить этих паразитов до последнего, даже
ценою моей жизни!
Идеология членов нацистской партии
213
Около 70 % новых членов СА на 1930 г. были рабочими; их ответы
звучат еще проще:
О работе теперь и речи нет — марксистское правительство не пони
мает, как обеспечить людей работой и хлебом.
Хочу участвовать в этой организации, которая обеспечит единство
немецкого народа и даст немецким рабочим возможность участвовать
в производительном процессе.
Я вступаю в СА, потому что с детства был националистом. Так вос
питал меня мой отец, тоже рабочий: у него не было времени, чтобы
якшаться с коммунистами или социалистами.
Новое движение, фюрерский принцип привлекают меня уже давно. Я верю
в Национальную Идею, провозглашенную нашим вождем.
Я националист, люблю Отечество, никогда раньше не состоял ни в каких
политических партиях.
Я давно хочу, чтобы в Германии наступил порядок, чтобы мы избавились
от еврейской заразы, и пусть поскорее придет тот день, когда мы смо
жем уничтожить социал-демократических заправил.
Я немец и ариец — и считаю ниже своего достоинства поддерживать
это буржуйское еврейское правительство.
Я не стану рассматривать здесь мотивации своей выборки нацистских военных преступников, которую представлю в следующем
томе (хотя бы потому, что все они были достаточно необычные люди).
Однако, как и любое успешное движение, нацизм привлекал к себе
и сторонников с расплывчатой или минимальной мотивацией. Так,
офицер Герштейн (тот, что позднее, рискуя жизнью, разоблачал нацистский геноцид) вспоминал, что присоединился к движению сразу
по получении инженерного и медицинского образования — из чистого
идеалистического национализма. Он верил, что нацисты возродят
Германию. Шельтес, молодой архитектор, сотрудник Альберта Шпеера
(гитлеровский градостроитель и экономист), чувствовал, что «должен
сделать выбор... между левыми и правыми. Политическим в Германии
стало все... и я выбрал правых — то есть национал-социалистов».
Хупфауэр, впоследствии секретарь-референт Шпеера, а в то время
214
Глава 4. Нацисты
многообещающий адвокат, надеялся учиться за границей. Однако
«друзья убедили меня остаться. Партия намеревалась изменить всю
систему трудовых отношений, выстроив ее на принципе совместного управления и разделения ответственности между управленцами
и рабочими. Умом я понимал, что это утопия, но сердцем в нее верил.
Тот суровый, но заботливый социализм, что обещал нам Гитлер, отвечал моим чаяниям» (Sereny, 1995: 146, 180–181, 356). Как видим,
эти два члена команды Шпеера демонстрируют «прыжок веры», хотя,
будучи интеллектуалами, разумеется, они не могли не понимать фундаментальную политическую и классовую двойственность нацизма:
он — правое движение или движение, примиряющее классы?
Именно с этой двойственностью связаны основные проблемы
и внутренние противоречия движения. В 1932–1933 гг. СА упорно
сопротивлялась сделкам Гитлера с элитами и отходу от нацистского
социализма. Возникло типичное для фашизма противоречие между
революционными и бюрократическими тенденциями (см. Mann,
1997). Боевики СА гордо называли себя пролетариями — это звучит
и в их марше:
Мы — армия свастики!
Выше красное знамя!
Мы боремся за освобождение немецкого труда!
Лидер СА Рём, хоть и не был теоретиком, поддерживал государство
«рабочих, крестьян и солдат», с опорой на германских фронтовиков
(Fischer, 1983: 55–56, 82–83, 149–159).
На мой взгляд, нацизм был концептуально не слабее, а эмоционально сильнее большинства современных политических движений.
Обладал он и характерной для политического движения динамикой:
противоречие между тремя элементами официальной идеологии,
радикальные рядовые члены и более консервативная верхушка. Характерная для него двойственность так же ни по форме, ни по степени
не отличалась от того, что часто встречается в обычных политических
движениях. Непререкаемый авторитет Гитлера позволял успешно
подавлять сомнения и раздоры.
Мы вкратце описали основные убеждения нацистов. Но что за
люди исповедовали эти убеждения? Можем ли мы выделить основные
группы поддержки нацизма?
Группы поддержки нацизма
215
ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ НАЦИЗМА
Мужчины и женщины
Как и в других партиях того времени, все лидеры и большинство
рядовых активистов нацистской партии были мужчинами. Женщины составляли лишь 5–10 % рядовых членов партии (а позднее
и исполнителей геноцида). Однако на самом деле женщин-нацисток
было много больше. Около 90 % женщин в партии были не замужем;
для семей членство в партии мужа, как считалось, распространялось на всю семью. Большинство женщин присоединялись лишь
к вспомогательным женским организациям. Точные цифры членства
в них мне неизвестны, однако, думаю, если приплюсовать и их, то
доля женщин-нацисток будет больше 10–23 % женщин в Социали
стической партии Германии или 9–16 % в коммунистической (цифры эти варьируются в зависимости от времени). В центристских
и правых партиях вообще было меньше женщин, но при некоторых
из них имелись вспомогательные женские организации31. Верхушка
других партий обычно включала в себя от 5 до 15 % женщин, но
особым влиянием эти женщины не пользовались. Либеральная
Немецкая демократическая партия специально создала женский
комитет, чтобы вывести из партии своих феминисток; считалось,
что из-за них партия теряет голоса. Таким образом, во всех партиях
в Веймарской республике и численно, и по своему влиянию решительно преобладали мужчины. Нацисты довели этот принцип до
крайности лишь на уровне партийной верхушки. В городе Марбурге
женщин-нацисток было больше, чем женщин во всех остальных
партиях — и в абсолютных, и в относительных цифрах. И в то время
как женщины-левые происходили в основном из рабочего класса,
31
Этим объясняется необычайно высокая численность женщин в «буржуазных» партиях, которая иногда приводится в литературе. Предположительно,
женщины составляли 25 % в либеральной Немецкой демократической
партии, 47 % в ультраконсервативной Немецкой национальной народной
партии и 35–60 % в правоцентристской Немецкой народной партии (Boak,
1990). Если включить в расчет вспомогательные организации нацистов, мы
также получим высокие показатели.
216
Глава 4. Нацисты
а женщины-консерваторы — из среднего, у нацистов женщины
представляли все классы (Weber, 1969: I; Bacheller, 1976: 321; Kater,
1983: 149–152; Wickham, 1983: 324; Frye, 1985: 95–96; Koshar, 1986:
239; Boak, 1990; Brustein, 1996: табл. 3.2).
Однако нацистская идеология отличалась тем, что официально
и недвусмысленно подчиняла женщин власти мужчин. Левые и либералы позиционировали себя как защитников женских прав. Даже
консерваторы стремились привлечь больше женщин-активисток. Но
нацистская идеология была однозначно «мачистской»: она провозглашала, что дело женщины — дом и семья, рождение и выращивание
расы господ. В Германии при нацистах вплоть до 1943 г. трудовая
занятость женщин оставалась ниже, чем в других воюющих странах.
Однако нацисты заботились о женщинах сообразно своим принципам. Вдовы и матери погибших получали государственные субсидии;
свойственное либерально-демократической культуре восприятие
женщины как сексуального объекта считалось вырожденческим
и сурово осуждалось. Женские нацистские организации активно занимались благотворительностью и просвещением, организовывали
спортивные занятия и состязания для девочек. Бальдур фон Ширах,
руководитель организации Гитлерюгенд, отмечал: «Неважно, как
высоко прыгает девочка, как далеко бросает мяч — важно, что тело
ее развивается правильно и гармонично» (Steinhoff et al., 1989: 20).
Нацистов заботило здоровье и самочувствие женщин — матерей расы.
Интерес к последним достижениям медицины, диетологии и организации здравоохранения, широкая пропаганда здорового образа
жизни через самые современные СМИ, спортивные мероприятия,
парады физкультурников, программы спортивного воспитания — все
это свидетельствует о достаточно современном патриархате: и эту
сторону своего мировоззрения нацисты пропагандировали куда
громче, чем левые или либералы — свой феминизм. О некоторых
иных своих взглядах нацисты предпочитали помалкивать, но своей
патриархальностью гордились.
В результате нацизм снискал популярность не только у мужчин,
но и у женщин. Экологичный анализ голосования (подробнее о нем
в следующей главе) показывает, что в 1920-х женщины голосовали за
нацистов меньше, чем мужчины, но далее разрыв постепенно сокращался. Со временем протестантские женщины — представительницы
Группы поддержки нацизма
217
религиозного большинства — даже начали голосовать за нацистов
несколько чаще протестантов-мужчин. Среди католиков нацисты не
могли соперничать с Центристской партией, привлекавшей 70 % голосов католичек и 56 % голосов католиков (Mayeur, 1980: 133; Childers,
1983: 260; Falter, 1986, 1991: 136 и далее). Центристская партия также
была патриархальной — в более традиционном духе; так что, по всей
видимости, идеологии, исключавшие женщин из общественной жизни,
самих женщин не отталкивали. Пропагандистские образы женщин
в нацизме хорошо нам знакомы: здоровые, привлекательные (хоть и не
сексуальные), ухоженные, улыбающиеся, в белоснежных одеждах, то
они играют в мяч, то любуются природой, то подносят цветы Гитлеру.
Эти образы, яркие и привлекательные, были частью нацистского
идеала «чистой, здоровой, сознательной немецкой нации». Активно участвовали в движении не многие женщины, но многие были
лояльны нацизму. Некоторые доказали это участием в геноциде (об
этом мы поговорим в следующем томе). Однако в целом движение
это было отчетливо мужским — и дальше мы поговорим о том, что
из этого следует.
Молодежь и ветераны войны
Мы уже видели, что итальянские фашисты были по большей части
молодыми ветеранами войны. Нацисты тоже были молоды, но ветеранов среди них было меньше. Средний возраст члена партии в 1923 г.
составлял 27 лет, в конце 1920-х он возрос до 29 лет. Активисты
обычно были еще моложе. В выборке очень активных членов СА за
1929–1932 гг. 60 % моложе 25 лет, а у «мучеников», погибших в уличных схватках в 1922–1923 гг., средний возраст равняется 24 годам.
Половина членов партии и три четверти бойцов СА были неженаты.
Как и в Италии, большинство фашистов были свободны от семейных
уз и готовы все свободное время отдавать движению. Около 1930 г.
нацистские лидеры были в среднем на десять лет моложе лидеров
всех остальных Веймарских партий, кроме коммунистов. Активисты
Социалистической партии в среднем были даже старше населения
Германии в целом.
218
Глава 4. Нацисты
В «буржуазных» и социалистических партиях для нацистов воплощалась застойная мудрость среднего возраста, противостоящая
динамизму юности, так что нацисты провозглашали: «Старичье,
дайте дорогу молодым!» Со временем, разумеется, начали стареть
и нацисты: в 1933 г. средний возраст членов партии составлял 36 лет,
в 1939 г. — уже 47 лет. К этому времени возрастная структура нацистской партии соответствовала данным по населению страны
в целом (Weber, 1969: II, 26; Merkl, 1975: 13, 1980: 98; Douglas, 1977:
71; Kolb, 1979: 101; Madden, 1982a; 1982b: 50; Fischer, 1983: 49–51;
Kater, 1983: 139–148; Peterson, 1983: 216; Jamin, 1984: 85; Brustein,
1996: диаграмма 5.2b).
Автобиографии нацистов, опубликованные Абелем, показывают
нам, что НСДАП и СА считались организациями «для взрослых»:
обычно туда переходили после стажировки в молодежных правых
организациях. Почти все активисты состояли в каких-либо молодежных группировках, половина — в Гитлерюгенде или правых
боевых отрядах, одна пятая — в мирных правых движениях (Merkl,
1980: 205–206). Таким образом, большинство нацистских активистов
начинали экстремистскую деятельность в том же возрасте, что и итальянские фашисты, — в 18–20 лет.
Поэтому многие объясняют нацизм как возрастной феномен,
молодежную культуру бунта. Первая мировая война, говорят нам,
оказала особенно глубокое влияние на «поколение 1914 года» —
молодых людей, рожденных в 1890–1915 гг., для которых на время
войны пришелся период личностного становления. В этой возрастной группе выделяется «фронтовое поколение» рожденных
в 1890–1901 гг. — поколение воевавших — и «домашнее поколение»
переживших войну детьми. И тот и другой опыт отчуждал молодых
людей от Веймара и сдвигал вправо. Меньше внимания уделяется военному опыту молодых женщин. «Фронтовое поколение» ежедневно
сталкивалось со смертью: это развило в них острое, всеуравнивающее
чувство мужского фронтового братства. Однако их жертвы оказались напрасными: дома, в тылу их «предали» немолодые штатские.
Следом на политическую сцену вышло «домашнее поколение»: эти
люди пережили военные лишения, безотцовщину, национализм
и милитаризм их был чисто умозрительным — но от этого не менее
пылким. Их роман с войной подкосило поражение и возвращение
Группы поддержки нацизма
219
домой побежденных отцов. В шаткой и прозаической «штатской»
демократии бремя безработицы ложилось в основном на молодежь.
Молодые стремились к более сплоченному обществу, жаждали
сильной отцовской фигуры — и находили то и другое в образах Volk
и фюрера. Такова вкратце поколенческая история нацизма (Merkl,
1975, 1980; Wohl, 1979: 64–84; Madden, 1982a; Loewenberg, 1983;
Ziegler, 1989: 59–79).
В этой истории много правды, но есть в ней и темные места.
В 1920-х нацисты еще составляли незначительное меньшинство,
молодежные организации у них были меньше, чем у их социалистических, католических и «буржуазных» соперников. Следовательно,
лишь некоторые из «поколения войны» становились пламенными
нацистами. Много было нацистов и в других поколениях. Средний
член нацистского движения в 1920 г. родился в 1887-м, то есть
был немного старше «поколения войны». Доля возрастной группы
18–29 лет в нацистском движении лишь немного превышает общую
долю в населении: в 1920 г. она составляла 1,25, в 1927 г. возросла до
1,4. Недостаточно представленных возрастных групп практически
не было. Лишь доля людей старше шестидесяти была сравнительно
невысока — 0,9 или менее (Kater, 1983: 261, 269–73). Как видно,
нацизм привлекал все возрастные группы. Экологичные исследования голосований показывают, что в 1930 г. люди старшего возраста
голосовали за нацистов даже несколько чаще, чем молодежь (Falter,
1991: 146). Из двадцати четырех ключевых лидеров девять в 1914 г.,
на момент начала войны, были старше 24 лет. Сам Гитлер (родившийся в 1889 г.) до войны практически не успел пожить взрослой
жизнью; однако Риттер фон Эпп (46 лет) был высокопоставленным
офицером, Шварц и Хирль (обоим 39 лет) — уважаемым чиновником
и кадровым офицером соответственно, Фрик (37 лет) — высокопоставленным чиновником с докторской степенью по праву. Все эти
вполне зрелые люди были уже привержены правому радикализму,
из которого развился нацизм.
Молодежная культура также возникла задолго до 1914 г. Важной
питательной почвой для нацизма стали университеты. Некоторые
утверждают, что послевоенное распространение высшего образования создало новый поколенческий опыт (особенно для тех, чьи
220
Глава 4. Нацисты
родители в университетах не учились). Однако в довоенную эпоху
университетское образование распространялось быстрее (Flora,
1983: 808, 811).
К 1890 г. в университетах уже господствовал консервативный
национализм. К 1918 г. он приобрел отчетливую окраску volkisch.
Этот важный термин буквально означает «народный» или «народнический», но обозначает органический национализм расистского
и антисемитского толка. Придерживавшиеся этой идеологии политики подчеркивали единство немецкого народа, независимо от
места проживания, и призывали к геополитической экспансии на
восток. Роль самых очевидных «врагов» в этом проекте играли
евреи, но доставалось и славянам. До 1918 г. студенты были лояльны Kaiserreich и оставались консерваторами. Однако обрушение
государства в 1918 г. означало, что теперь национализм с душком
расизма может процветать независимо от консервативного этатизма.
Так и было, пока нацисты не провозгласили этатизм своего образца.
В 1928 г. в журнале студенческих братств мы читаем: «Не экономика,
а раса определяет судьбу Volk» (Mosse, 1971: 141). К 1930 г. нацистами
была, возможно, большая часть студентов. Это стало кульминацией
долгого пути.
Одним из важных предшественников послевоенных молодежных
организаций стало движение Wandervogel, созданное приблизительно
в 1900 г., — туристическое движение, организующее походы и сезонные работы. Его взрослые лидеры привлекали молодежь к деятельности и идеям, выражающим романтический, идеалистический дух
немецкого Volk. Из этого выросла небольшая политическая молодежная организация; после 1918 г. она расширилась, стала более
«народной», антидемократической и милитаристской. Полмиллиона
членов организации, в основном из среднего класса, ездили на сборы,
носили форму, а иногда и оружие. Сами они любили называть себя
«третьей силой» между капитализмом и социализмом. Именно там
изначально почерпнули протонацистские идеи братья Штрассеры,
а также многие нацисты из выборки Абеля (Mosse, 1971: 118; Stachura,
1983a). Большую часть молодежных организаций контролировали
организации взрослые — партии, ветеранские ассоциации, «народные»
движения. Нацисты росли в тени более крупной парамилитарной
организации «Стальной шлем», возглавляемой «народнически»
Группы поддержки нацизма
221
настроенными ветеранами. Ее лидер Франц Зельдте (впоследствии
один из руководителей Немецкой национальной народной партии)
заявлял: «Мы должны привести к власти новое поколение, которое
раз навсегда раздавит этих гнусных революционных крыс и заставит
их захлебнуться в собственной блевотине» (Ziegler, 1989: 77). Однако по-настоящему новой в деятельности «Стального шлема» стала
организация гражданского общества. Его парамилитарные парады
и празднование «дней Германии» выводили на улицы многотысячные
толпы немцев, в том числе и женщин, и приучали их к участию в националистических публичных мероприятиях. На этой питательной
среде и выросли нацисты (Fritzsche, 1998: 134–136).
Верно, молодежную культуру преобразила война, но то же произошло и с культурой взрослых. Юношеского бунта против взрослых
и их культуры здесь тоже не было. В половине эссе, опубликованных
Абелем, авторы подробно рассказывают о политических взглядах
своих отцов. Лишь 14 % отцов поддерживали привычные партии
(от консервативной до социалистической), и 15 % авторов вышли из аполитичных семей. Не менее 68 % отцов были крайними
националистами, милитаристами или придерживались «народной»
идеологии. И лишь 2 % респондентов рассказывают об остром конфликте с отцами (Merkl, 1975: 295). Большинство этих нацистов не
бунтовали против домашнего политического воспитания, а лишь
расширяли его характеристики, уже расширенные войной. Едва ли
семья могла оставаться цитаделью консервативного, системного
милитаризма и национализма, когда сама система рухнула.
Нацисты часто были ветеранами войны. Даже в 1933 г. ветеранами
оставались не меньше трети членов партии. Около 84 % респондентов Абеля призывного возраста служили в воюющей армии (схожие
цифры мы встречаем у итальянских фашистов); доля эта несколько
больше, чем в мужском населении в целом (Merkl, 1980: 107–109).
Члены СС, как мы увидим далее, в большинстве своем не только
воевали сами, но и происходили из семей военных. Исследования
на местном уровне показывают, что, став серьезной политической
силой, нацисты начали получать значительную поддержку от местных ветеранских ассоциаций. Из 60 гауляйтеров (региональных
руководителей) и рейхсляйтеров (руководителей государственного
уровня), которые по возрасту могли воевать, воевали все, кроме одного
222
Глава 4. Нацисты
(Геббельса, который не мог служить по состоянию здоровья)32. По званиям они распределялись так: не менее 27 офицеров (в том числе
один генерал, один полковник и двое майоров), не менее 29 нижних
чинов. Не менее 34 человек были на фронте, лишь один точно служил
в тылу. Не менее 25 были ранены; не дезертировал ни один. Ефрейтор
Гитлер выполнял не слишком престижную, но крайне опасную задачу
делегата связи, доставляя депеши между подразделениями; Геринг
был воздушным асом, кавалером множества наград. Разумеется, во
время выборов нацисты не забывали похвалиться своим военным
опытом и наградами. Боевые заслуги, а также традиционный правоавторитарный настрой, свойственный германским вооруженным
силам, очевидно, привлекали к нацистам политические и моральные
симпатии небольшой послевоенной армии. Первые агитационные
кампании Гитлера после войны финансировались из армейских фондов. На первых послевоенных демонстрациях он появлялся рука об
руку с генералом Людендорфом. Немецкие левые, напротив, были
антимилитаристами. Около 57 лидеров коммунистической партии по
возрасту могли воевать: однако 16 из них определенно были штатскими, пятеро офицерами, 34 — нижними чинами. Одиннадцать человек
точно служили на фронте, четверо — точно в тылу. Точно были ранены
лишь пятеро; и больше людей — шестеро — дезертировали или были
отданы под трибунал. В 1918 г. многие активно участвовали в рабочих
советах, с точки зрения правых, предавших армию (Weber, 1969: II).
Почти все советы, организованные левыми солдатами и моряками,
действовали среди резервистов, в гарнизонах вдали от фронта, на
кораблях, стоящих в немецких портах — словом, вдалеке от боевых
действий. Опыт войны перевернул жизнь и правых, и левых. Но,
если правые прониклись добродетелью милитаризма и «фронтовым
мифом» — левые проклинали бесчеловечие войны.
Как и в Италии, у фашизма фронтовиков есть два основных объяснения. Одно — экономическое: Германия была полна безработных
ветеранов, умеющих только воевать, и недовольство их перерастало
в правый радикализм. Однако, хотя германская армия более всех
32
Выражаю благодарность Рону Роговскому за то, что великодушно позволил
мне взглянуть на документы, на основе которых он в 1977 г. подготовил
статью о гауляйтерах.
Группы поддержки нацизма
223
прочих сократилась в результате мирных соглашений, ветераны
получали преимущественные права при устройстве на работу, для
них были разработаны очень достойные (по стандартам того времени) программы трудоустройства. Работодатели жаловались даже,
что их принуждают нанимать ветеранов. Безработица, как правило,
не длилась долго (Bessel, 1988; Geary, 1990: 100–101). Ветеранские
организации также выставляли на первый план не материальные
интересы, а стремление к «национальному, социальному, военному
и авторитарному» государству, отметая демократическую республику
как пораженческое государство штатских (Diehl, 1977). Несомненно,
материальные проблемы ветеранов играли свою роль, но не главную.
И, спрашивается, почему они должны были вести к крайне правым
взглядам?
Второе объяснение связано с превращением военных идеалов
и ценностей в парамилитарные. По окончании войны демобилизованные военные и некоторые студенты пытались бросить вызов
нарождающейся республике и мирным соглашениям, создавая
добровольческие полувоенные организации («фрайкоры»), чтобы
бороться с большевиками дома и со славянами на спорных восточных границах. Именно они, а не регулярный рейхсвер, положили
конец ранним послевоенным выступлениям левых. Руководители
Веймарской республики оказались у них в долгу и не слишком этому
радовались — выходило, что у веймарских политиков нет в Германии
монополии на применение военной силы. Некоторые фрайкоровцы
скоро влились в первую волну нацистских новобранцев. В течение
1920-х один за другим выходили бестселлеры — мемуары и романы
о военных кампаниях «фрайкоров», порой поражающие своей жестокостью:
Мы сделали последний рывок. Да, мы поднялись в последнюю
атаку и двинулись вперед по всему фронту. Никто не остался позади,
никто не пытался отсидеться в окопах. Мы бежали по заснеженному
полю до кромки леса. Мы стреляли в ошарашенных врагов, не давая
им и секундной передышки, мы преследовали их по пятам, и не было
пощады никому. Мы гнали латышей по полю, как кроликов, сжигая
каждый дом, уничтожая мосты, срезая телеграфные столбы. Мы
бросали их трупы в колодцы, а сверху для верности кидали ручные
224
Глава 4. Нацисты
гранаты. Мы убивали всех, кто попадал в наши руки, мы сжигали все,
что можно было сжечь. Наши глаза налились кровью, и не осталось
жалости в наших сердцах. Земля стонала под ногами наших бойцов.
Там, где мы прошли, оставались руины, полыхали пожарища, и спаленные дома казались черными гнойными язвами на окровавленном
снегу (Hamilton, 1982: 340).
В этих историях, сочетающих в себе национализм, жестокость,
воспевание боевого товарищества и пугающие мужские сексуальные
фантазии, насилие восхвалялось за способность очистить и освободить мужчину от удушающей морали цивилизованного общества
(Theleweit, 1987; 1989). «Фрайкоры» убивали и насиловали без счета, однако теории этнических или политических чисток не создали.
Врагов в их представлении следовало запугивать, отгонять, порой
истреблять, но само понятие «врагов» оставалось чисто геополитическим: чаще всего это были поляки и народы Прибалтики, по мирным
соглашениям 1918 г. получившие собственные государства. Встре
чался и антиславянский расизм, однако фигура «жидобольшевика»,
центральная для нацистской демонологии, почти не появлялась.
Нигилизм, пронизывающий эту литературу, был характерен и для
послевоенного изобразительного искусства. Левые художники, как
Георг Гросс, изображали гротескные батальные сцены, обличая вой
ну; правые, напротив, порождали мрачные образы бесчеловечной
силы, прославляя воина как эффективный инструмент современной
машины войны.
Послевоенный парамилитаризм, быть может, умер бы своей
смертью, если бы его не подогрели события 1923 г., когда французские и бельгийские войска заняли долину Рейна, требуя выплаты
репараций. Это породило вторую волну нацистских новобранцев —
юношей из «домашнего поколения», особенно с этих оккупированных
территорий (т. н. «нацисты приграничья»), а также «государственников», детей чиновников и военных, уверенных, что Веймар не хочет
защищать усеченные и раздробленные немецкие земли. Они также
покушались на формальную монополию государства на военную
силу: ходили в форме, порой даже стреляли в оккупантов, но по большей части устраивали шествия и били «коллаборантов». Борьба не
увенчалась успехом — французы так и не ушли, однако это яростное
Группы поддержки нацизма
225
сопротивление вызвало у немцев значительную поддержку. Именно
эти две волны — «из приграничья» и «государственники» — составляют почти половину респондентов Абеля. Третья волна новобранцев
последовала в конце 1920-х: это были в основном молодые рабочие,
разочарованные политическим и экономическим застоем Веймара. По большей части они не отрицали, а расширяли и усиливали
взгляды предыдущего поколения: более агрессивный национализм,
в том числе вражду к демократии и социализму (Merkl, 1975: 68–89,
139; ср. Diehl, 1977; Grill, 1983). Для всех трех волн был очень важен
парамилитаризм. Вплоть до захвата власти большинство членов нацистской партии были участниками боевых отрядов.
«Фронтовой миф», мифы о «ноже в спину» и о неблагодарности
Веймарской республики в конце 1920-х получили широкое распространение. Последнее было ложью, пишет Бессель (Bessel, 1988):
солдат, вернувшихся с войны, по большей части чествовали как
героев. Возможно, этот миф подпитывала явная военная слабость
республики. Однако из эссе, опубликованных Абелем, видно, что
нацисты-ветераны тепло вспоминают о войне; военная дисциплина,
строгая иерархия, уравновешенная чувством боевого братства, отвечала их личным и национальным устремлениям:
Национал-социализм был рожден в окопах. Понять его могут только
те, кто прошел через фронтовой опыт.
Война дала нам урок великого фронтового братства. Все классовые раз
личия, которые разъединяли нас до войны, развеялись, как дым, с первыми
залпами. Главное, кто ты есть, а не кем ты хочешь казаться, — вот что
оказалось самым важным. На войне нет отдельных личностей — есть
только народ. Общие страдания, общая опасность сплотили и зака
лили нас. Мы смогли бросить вызов миру и продержались четыре года.
Моя прежняя жизнь разлетелась на куски. Вместо нее мне открылся
мир окопов. Раньше я был одинок, здесь нашел братьев. Сыны Германии
стояли плечом к плечу в жестоких боях, ловя в прорезь прицелов на
ших общих врагов. Мы спали в землянках, открывали друг другу душу,
делились последним... перевязывали раны друзьям. Кто мог тогда
усомниться в твоей немецкости, кому было интересно, какое у тебя
образование и кто ты — католик или протестант? (Abel, 1938: 142;
Merkl, 1980: 113).
226
Глава 4. Нацисты
В самом деле, начиная с 1916 г. германская армия стала самой
демократичной, передовой в техническом отношении и самой боеспособной среди армий воюющих держав. Гейер (Geyer, 1990: 196–197)
пишет о ней: «Немецкая военная машина работала по системе Тейлора», по модели, способной «организовать нацию в целом», стирая
«различия между военным и гражданским обществом». Респонденты
Абеля считали, что этот армейский дух сохранили только нацисты.
В «Стальном шлеме», как писал один из них, «не было духа товарищества — только классовая грызня» (Merkl, 1980: 211). Так парамилитаризм вторгался в политику и преображал ее.
Как и в случае итальянского фашизма, нацисты были в основном
молодыми людьми с военным прошлым — хотя постепенно, по мере
того, как война уходила в прошлое, нацисты взрослели, обзаводились
семьями и «гражданскими» социальными связями. У каждого следующего поколения молодых мужчин правый национализм и этатизм,
усвоенные с молоком матери, все усиливались: в первом из таких
поколений национализм воспитали довоенные молодежные организации, в следующем — окопное братство, в третьем — десятилетие
парамилитарной борьбы против левых и иностранных оккупантов.
Истинная поколенческая история нацизма сложна, она не сводится
к «бунту» и включает в себя по меньшей мере два поколения. Нацизм
родился как парамилитарный национал-этатизм, вошедший в плоть
и кровь целого поколения благодаря войне, а последующие события
лишь усилили эту тенденцию. Важнее здесь другое — то, что эти безжалостные молодые штурмовики в конце концов пришли к власти
в крупнейшем государстве Европы.
Религиозные и региональные
группы поддержки
В Германии существовали две основные церкви: евангелически-протестантская и католическая — так что нацисты, задумав стать крупной
партией, постарались привлечь к себе и ту и другую. В партийной
программе 1920 г. была выдвинута идея «позитивного христианства»,
то есть деизма; однако она отталкивала обе церкви, и скоро нацисты
Группы поддержки нацизма
227
от нее отказались. Сам Гитлер, как и многие его ранние сподвижники,
в детстве и юности был католиком. Однако в целом среди нацистов
преобладали выходцы из протестантских семей. Исключение составляли только гауляйтеры до 1933 г.: среди них пропорции были близки
к общим долям в населении — 62 % протестантов, 37 % католиков
(Rogowski, 1977: 403). Однако из 33 основных лидеров нацистской
партии протестантами считали себя 16, католиками — только 3.
Остальные называли себя людьми безрелигиозными (Knight, 1952:
31). В подборке эссе у Абеля две трети не упоминают о религии своей
семьи, 25 % называют себя протестантами, и лишь 10 — католиками.
О религиозных взглядах рядовых членов партии у нас мало информации, однако мы полагаемся на «экологический анализ»: до переворота в католических регионах Германии нацистов было намного
меньше, чем в протестантских (Brustein, 1996: рис. 1.4). В анкетах
штурмовиков религиозная принадлежность указывалась: среди офицеров и нижних чинов СС, а также офицеров СА соотношение протестантов и католиков колеблется от 3:1 до 5:1, среди нижних чинов
СА составляет 2:1 (Merkl, 1980; Jamin, 1984: 90; Ziegler, 1989: 87–89;
Wegner, 1990: 239–242). Таким образом, немецкие нацисты происходили преимущественно из протестантских семей. В следующей главе
мы увидим: то же можно сказать и об избирателях нацистов. Однако
в следующем томе я покажу, что среди исполнителей геноцида решительно преобладают выходцы из католических семей, и постараюсь
объяснить этот парадокс.
Мы не располагаем подробной информацией по регионам. Ученые
тщательно изучают социальный состав, но их мало интересует география. Полное название фундаментальной работы Катера — «Нацистская партия: социальный профиль членов и лидеров, 1919–1945»
(Kater, 1983), однако «социальность» Катер понимает очень узко. 90 %
места на страницах книги он посвящает классовой принадлежности
и роду занятий, 10 % возрасту. Исследователи нацистских боевых
отрядов обычно заключают, что некоторые различия от региона к региону имелись, однако их географические классификации довольно
примитивны. Некоторые просто делят Германию на «северную»
и «южную» — и не находят между ними значительной разницы.
Другие делят на земли и обнаруживают, что особенно силен был
нацизм среди баварцев — результат сам по себе любопытный, если
228
Глава 4. Нацисты
учесть, что баварцы были в основном католиками, в партии представленными мало (Jamin, 1984: 92–93; Ziegler, 1989: 83; Wegner, 1990:
235–239). Что касается этнических немцев из-за границы, жителей
«потерянных территорий» и «спорного приграничья», то они дают
36 % списка Абеля, с избыточной долей от 2,0 до 3,0. Меркл подчеркивает, что французское вторжение в 1923 г. вызвало резкий рост
нацизма на юго-западе (Merkl, 1975: 105, 1980: 136–137). Около 12 %
нацистской верхушки, но всего 4 % членов Веймарского кабинета
министров родились за границей (Knight, 1952: 28; см. Kater, 1983:
188). Избыточную долю среди офицеров СС составляли австрийцы,
а также «этнические немцы», в основном беженцы с востока (Ziegler,
1989). Со всеми этими группами мы встретимся и дальше, при более
неприятных обстоятельствах. Все это убежденные нацисты, люди,
связавшие с нацистским движением свою жизнь. Ньюмен (Newman,
1970: 291–296) считает, что среди межвоенных фашистов в целом
была непропорционально высока доля приграничных жителей. Для
убежденных и активных нацистов это, несомненно, так и есть. Вопрос о том, почему нацизм привлекал в основном протестантов, мы
отложим до следующей главы, где поговорим о симпатизировавших
нацизму избирателях.
Нацисты из рабочего класса
Теперь перейдем к классам — навязчивой мании почти всех предшествующих исследователей нацизма. Благодаря их стараниям
с данными по социальному составу нацистской партии дела обстоят
великолепно. Эти данные я привожу в табл. 4.1–4.6 в Приложении33.
Почти все они описывают нацистов до захвата власти. После этого,
разумеется, множество людей, особенно из числа госслужащих,
начали вступать в нацистскую партию из приспособленчества
и карьеризма. Многие из них не разделяли идеологии нацизма: их
33
В плане репрезентативности выборок меня больше всего смущает, что выборка Мюленбергера по регионам (Mühlberger, 1991) — пожалуй, самые
качественные данные по НСДАП — не охватывает жителей на востоке
страны, будь то крестьянская Пруссия или промышленная Саксония.
Группы поддержки нацизма
229
называли «примазавшимися». К «примазавшимся» мы вернемся
позже, когда настанет время поговорить об их соучастии в нацистском геноциде.
Начнем с людей физического труда, «синих воротничков». В различных местных, региональных и общенациональных выборках, приведенных в табл. 4.1, мы встречаем от 28 до 52 % рабочих — членов
нацистской партии. Меньше всего рабочих в самой ранней выборке:
она была получена только в одном городе со слабо развитой промышленностью, Мюнхене. В других выборках за ранний период также низка доля рабочих, но высока доля мелкой буржуазии — в соответствии
с традиционным стереотипом (Douglas, 1977; Madden, 1982; Grill,
1983: 81–88). Эти данные относятся ко времени, когда партия была
невелика и не влияла на жизнь в Германии или в мире. По мере того
как НСДАП росла, расширялась база ее поддержки, и число рабочих
увеличивалось. В оставшихся выборках в таблице мы видим от 31 до
52 % рабочих. С этого момента и впредь рабочие будут составлять от
трети до половины всех нацистов.
Из этого можно сделать два разных вывода. Можно подчеркнуть,
что многие нацисты были рабочими и, по-видимому, имели в партии
какое-то влияние — или же, наоборот, то, что доля рабочих в партии
по сравнению с общей долей в населении была незначительной (если
не брать в расчет членов парамилитарных формирований). В 1933 г.
рабочие составляли 55 % работающего населения Германии, хотя
в большинстве регионов и городов, перечисленных в таблице, доля
их не доходила до 50 %. Как правило, доля рабочих в этих выборках составляет от 0,75 до 0,9, то есть остается немного заниженной
(см. Brustein, 1996: гл. 4). Самые высокие показатели приводит
Мюльбергер, основываясь на местных архивах нацистской партии;
более низкие показатели дает общая статистика НСДАП. Мюльбергер
полагает, что в этом отражается высокая текучка рабочих в партии:
некоторые вступали в местные отделения и выходили из них так
быстро, что центральный аппарат не успевал их зафиксировать. Еще
большей проблемой была текучка для Коммунистической партии,
в основном состоявшей из пролетариев.
Какими были рабочие-нацисты? Квалифицированных рабочих
было чуть больше, чем неквалифицированных (Rosenhaft, 1987;
Mühlberger, 1991; Fischer, 1995: 115; Brustein, 1996: рис. 4.4). Это
230
Глава 4. Нацисты
неудивительно: квалифицированные рабочие, имеющие больше
социальных и организационных навыков, чаще вступали в любые
добровольные объединения. Сельскохозяйственные рабочие шли
в нацисты редко: на 8 % в населении приходится менее 4 % нацистов
в выборках, приведенных у меня в Приложении, и 5 % у Бруштейна
(Brustein, 1996: рис. 3.1). Впрочем, социалистов или коммунистов в деревне тоже было немного. По большей части сельскохозяйственные
рабочие жили и работали вместе со своими нанимателями (в отличие
от батраков южной Европы), и независимости для принятия радикальных политических решений им недоставало. И здесь, возможно,
проблема была не в чуждой идеологии, а в недостатке организационных навыков. Как и неквалифицированные рабочие, батраки могли
симпатизировать идеям нацистов, не присоединяясь к партии.
В других областях нацистов-рабочих было больше. Если исключить сельское хозяйство, доля рабочих в партии поднимается
до 0,9 от доли в населении — почти равенство. После захвата власти
в стране доля рабочих в Гитлерюгенде оказалась даже больше, чем
их доля в населении в целом (Mühlberger, 1987: 110–111; Stachura,
1975: 58–62). В небольших и средних городах нацисты действо
вали успешнее, чем в мегаполисах. Во многих мелких городках
сравнительная доля рабочих в партии превышала 1,0, а в некоторых
крупных городах никогда не поднималась выше 0,5. За пределами
больших городов рабочими были от 40 до 55 % членов партии,
в больших городах — только от 30 до 40 %.
В большинстве исследований мы читаем, что хуже всего обстояли
дела у нацистов на крупных предприятиях тяжелой индустрии, уже
взятых под контроль Социалистической партией и профсоюзами.
Гораздо больше повезло им с общественным сектором: транспортом,
почтой, коммунальными службами, особенно после того, как на работу
туда начали принимать в первую очередь ветеранов войны (многие из
которых были нацистами). Большинство ученых полагает также, что
преуспевали нацисты на небольших предприятиях и в сфере услуг
(особенно хорошо представлены строительство и гостиничный бизнес), поскольку небольшое социальное расстояние между хозяином
и работниками в этих видах бизнеса способствует распространению
правых взглядов (Kratzenberg, 1989: 175–95; Mason, 1995). В выборке
Абеля рабочие относятся в основном к государственному сектору,
Группы поддержки нацизма
231
кустарным производствам и ремесленничеству. На крупных фабриках работают немногие — и они часто пишут о том, что подвергаются
осуждению и преследованиям со стороны коллег-марксистов. Бруштейн предоставляет подробные данные по секторам промышленности
(Brustein, 1996: рис. 4.2 и 4.3). Сравнительные доли здесь мало отличаются: 1,3 нациста в сфере услуг, 1,2 в кустарных производствах,
1,1 в «смешанных производствах». В крупной промышленности доля
рабочих меньше — 0,9. Лишь в сельском хозяйстве она опускается
до 0,7.
Больше различий Бруштейн находит в отраслях промышленности внутри секторов. В сельском хозяйстве результаты однозначны: в животноводстве нацистов больше, чем в земледелии
(с учетом искажающего вероисповедного фактора). Это Бруштейн
считает рациональной реакцией на нацистскую экономическую
политику — протекционизм, поддержку неделимого наследования и протесты против субсидий для восточных земледельцев.
Модель рационального экономического действия Бруштейна,
которую он применяет также к итальянским фашистам (см. выше,
главу 3) и к бельгийскому Рексистскому движению, лучше всего
работает именно для крестьян. Они покупают и продают на рынке
без посредников, и экономическая политика государства прямо,
непосредственно отражается на их благосостоянии. Однако для
подавляющего большинства, работающего в промышленности или
в сфере услуг, связь политической экономики с их собственными
экономическими интересами куда более туманна. Перераспределение, свободный рынок, протекционизм — как решить, что выгоднее?
Каждое политическое движение без тени сомнения уверяет, что его
рецепты принесут процветание. И ход политической игры во многом
зависит от того, какие проекты покажутся более привлекательными людям, чье социальное положение не дает им ясно понять свои
собственные рациональные экономические интересы.
Сделав такое примечание, снова обратимся к результатам Бруштейна по отраслям промышленности. Лучше всего представлены
металлурги — их сравнительная доля составляет 3,0; следом идут
рабочие деревообратывающей, пищевой и кожевенной промышленности (у всех сравнительная доля выше 2,0). Ниже всего доля
нацистов в горнорудной промышленности (0,3), а также в произ-
232
Глава 4. Нацисты
водстве каучука, асбеста, химикатов, металлоизделий, товаров широкого спроса и текстильной промышленности (все 0,1–0,2). Разброс
значительный. Бруштейн считает, что рабочие в различных областях
промышленности имели разные экономические интересы и, соответственно, по-разному реагировали на экономическую программу
нацистов. Особенно он выделяет одно соотношение: ориентация на
собственное производство, а не на экспорт влечет за собой повышение
числа нацистов, поскольку нацисты выступали за автаркию. У меня
это вызывает некоторые сомнения. Данные Бруштейна вполне объясняются пропорциональным присутствием в этих областях квали
фицированных рабочих и протестантов. Бруштейн считает, что квалифицированные рабочие были недовольны атаками работодателей
на свои привилегии и видели в нацистах гарантов своей социальной
мобильности. Однако квалифицированные рабочие охотно присоединялись ко всем партиям: ту же картину мы видим для членов
Социал-демократической партии. Разумеется, шахтеры во многом
отличаются от текстильщиков. Чтобы правильно интерпретировать
эти результаты, нам необходимо знать о рабочих каждой отрасли
намного больше, чем мы знаем сейчас34.
Некоторые считают, что рабочих делал нацистами опыт безработицы (Kratzenberg, 1987: 204–224, 245–263; Fischer, 1991: 130–131;
Stachura, 1993: 706–710; Mason, 1995). Иногда это связано с более
общим тезисом: фашизм, мол, обращался прежде всего к угнетенным
и маргиналам. Однако Бруштейн (Brustein, 1996: рис. 1.2) показывает,
34
Частично я разделяю скептицизм Гамильтона (Hamilton, 1997: 333) относительно методов Бруштейна. Для него источником данных служит картотека
членов нацистской партии. В этих учетных карточках род занятий часто
указан довольно небрежно. По тем данным, которыми пользовался я для
выборки военных преступников, я с уверенностью могу отнести чуть более
половины случаев к «работникам промышленности». Имея такие исходные
данные, не могу не удивляться тому, как Бруштейн отделяет рабочих, выпускающих «металлоизделия» (крупнейшая группа в рядах нацистов), от
рабочих, выпускающих «продукцию из металла» (самая малочисленная
группа в рядах нацистов). Также весьма резким кажется переход от этой
классификации к предположению о том, что определяющим в восприятии
человеком своего профессионального интереса будет вопрос свободы торговли или протекционизма.
Группы поддержки нацизма
233
что на местном уровне связи между индексом безработицы и индексом членства в нацистской партии не было (больше всего нацистов
было в общинах со средним уровнем безработицы). Нацисты были
молоды, а молодому человеку обычно сложнее найти работу, поэтому
разумно ожидать, что безработица среди нацистов будет выше, чем
в среднем по стране. У боевиков СА во время Депрессии уровень безработицы в самом деле был выше, но, возможно, безработица была
не причиной, а следствием их партийного активизма. То же можно
сказать и о списке Абеля. Треть респондентов во время Депрессии потеряли работу, обанкротились, претерпели иной серьезный ущерб (это
близко к цифрам для населения в целом). Однако почти все приобрели нацистские убеждения, вступили в НСДАП или иную похожую
организацию задолго до Депрессии (Merkl, 1980: 191–194). Данные по
голосованиям, которые мы приведем в следующей главе, покажут, что
партией безработных стала не НСДАП, а коммунистическая партия.
Рабочие-нацисты терпели не больше материальных лишений, чем
все остальные рабочие.
Есть и не менее важный вопрос: было ли в нацистской партии
больше рабочих, чем в других партиях? Таблица 4.4 в Приложении
показывает, что настоящими «пролетарскими партиями» были коммунистическая и социалистическая партии. В 1927 г. около 80 % членов компартии были рабочими или ремесленниками. Добавим сюда
большую часть «домохозяек» (скорее всего, жен рабочих) — и доля
их дойдет почти до 90 %. Однако, поскольку компартия была намного
меньше нацистской партии, в абсолютных цифрах рабочих в ней было
меньше. Ведущей пролетарской организацией, прежде всего благодаря
мощным и многолюдным профсоюзам, оставалась социалистическая
партия. В межвоенный период рабочие вместе с женами составляли от
60 до 80 % ее списочного состава. Индекс квалифицированных рабочих в социалистической партии был больше, чем в населении в целом,
хотя компартия, возможно, и превосходила социалистов по этому
показателю (Weber, 1969: I: 27; Fischer, 1991: 128–132; Lösche, 1992:
14–17). Однако нацисты были более пролетарской организацией, чем
другие правые или центристские партии. В табл. 4.4 в Приложении
мы видим, что в консервативной Немецкой народной партии рабочие
составляли лишь 1 %. Таблица 4.1 в Приложении сравнивает данные
по членству в НСДАП и в ультраконсервативной Немецкой нацио-
234
Глава 4. Нацисты
нальной народной партии (ДНВП) в сравнимых местных регионах.
В ДНВП Оснабрюке рабочие составляли лишь 2 %, в НСДАП в Ганновере 39 %. В индустриальном Руре рабочие составляли 11 % ДНВП
в Дюссельдорфе, 41 % нацистов в Западной Вестфалии, 52 % нацистов
в Западном Руре. Таблица 4.5 в Приложении показывает нам состав
партийных активистов в достаточно буржуазном городе Марбурге:
рабочими здесь были 16 % нацистов — намного меньше, чем 63 %
в социалистической и коммунистической партиях, но больше, чем
3 % в «буржуазных» партиях и 7 % в партиях «особых интересов»35.
Левые партии были пролетарскими, правые буржуазными, но нацисты
объединяли в себе оба класса.
Поскольку нацистские лидеры были намного более буржуазны,
чем рядовые члены партии, некоторые утверждают, что партия
«обуржуазилась». Однако число рабочих уменьшается по мере подъема по карьерной лестнице в любой партии: так работает знаменитый
«железный закон олигархии» Майклса, выведенный им на основе
изучения Социалистической партии Германии. Вот важнейший вопрос: были ли нацистские вожди более «обуржуазившимися», чем
лидеры других партий? В табл. 4.2 в Приложении мы видим, что среди
нацистских кандидатов в Рейхстаг в 1929 г. 16 % рабочих и 6 % «белых
воротничков», в 1930 г. — 18 % рабочих и 13 % «белых воротничков».
Численность рабочих и служащих среди кандидатов и региональных
лидеров в ДНВП минимальна. В табл. 4.2 и 4.6 в Приложении содержатся данные по всем уровням нацистской партийной иерархии.
Среди рейхсляйтеров бывших рабочих нет, если не считать самого
Гитлера (ефрейтор и художник, вынужденный работать маляром).
Среди региональных гауляйтеров бывших рабочих 7 %; на следующем
уровне из 250 бюрократов и местных руководителей рабочие составляют 21–25 %. На местных выборах во Франкфурте 48 % кандидатов
от компартии, 42 % от соцпартии и 32 % от нацистов жили в рабочих
кварталах (Wickham, 1983).
Таким образом, нацисты сохраняли значительную долю рабочих
и служащих на всех уровнях партийной иерархии, кроме самой
35
При этом не мешает вспомнить, что Кошар (Koshar, 1986) исключил из своих
таблиц студентов (среди которых большинство будет непролетариями), но
утверждает, что студенты составляли 55 % местной нацистской партии.
Группы поддержки нацизма
235
ершины. Их партия не была пролетарской, однако оставалась вполне
в
демократичной по своему составу.
Нацисты из среднего класса
Теперь обратимся к профессиональным группам, обычно называемым
нижним средним классом, мелкой буржуазией или Mittelstand: мелким фермерам, «белым воротничкам» в государственном и частном
секторе, а также «классической мелкой буржуазии» (мастерам-ремесленникам, мелким предпринимателям и торговцам). Вместе все эти
группы составляли обычно от 31 до 36 % в НСДАП — индекс чуть
больше, чем в населении в целом, приблизительно 1,2–1,3.
Доля мелких фермеров в партии превзошла их долю в населении
лишь после 1928 г. — и с большими вариациями по регионам. В этой
связи я уже упоминал экономические аргументы Бруштейна. Однако
в сельской местности религиозные различия выражены резче, чем
в городах. Преимущественно протестантские районы давали стабильно много нацистов, преимущественно католические — стабильно мало.
Наконец, некоторые новобранцы из числа фермеров, по-видимому,
примыкали к нацистам из-за беспокойной ситуации на приграничных
территориях, хотя предшествующие историки объясняли этим лишь
высокий рост числа нацистов в Шлезвиг-Гольштейне. По-видимому,
все три объяснения достаточно весомы.
Доля клерков из частного сектора в нацистской партии, как правило, повышена — особенно в национальных выборках, которые я привожу в Приложении (см. Brustein, 1996: рис. 3.6). Доля «классических
мелких буржуа» соответствует их доле в населении в целом. В этой
группе мало ремесленников (индекс от 0,3 до 0,6) и много «купцов»,
как они сами себя называют (индекс около 1,3 в национальных выборках, еще выше в региональных). Мюльбергер считает последнюю
цифру недостоверной: по его мнению, мелкий торговый клерк мог
называть себя Kaufmann (почти непереводимое слово, буквально
означающее «купец»), чтобы произвести впечатление. Следовательно,
индекс клерков в партии может быть еще выше: не случайно в конце
Веймарского периода они определенно склонны были переходить
из левых профсоюзов в правые. Однако, как пишет Шпейер (Speier,
236
Глава 4. Нацисты
1986: 62, 104), растущая безработица более затрагивала рабочих,
а у служащих, хоть и склоняющихся к правым убеждениям, уровень
безработицы был ниже, чем в других секторах. Зарплаты в этот период
падали, но падали и цены. Жалованье наемных служащих, занятых
в частном секторе, с 1929 по 1932 г. повысилось на 13 %. Индекс
мелких предпринимателей среди нацистов также невелик, однако
они пострадали от Депрессии намного сильнее. Шпейер (социолог,
изучающий Веймарский период) полагал, что клерки возмущались
размыванием привилегий: переходом с почасовой оплаты на недельное жалованье, отменой льготного страхования и обращения «Herr»
при исполнении обязанностей. Он отмечал, что подражание военным
структурам в немецких гражданских ведомствах порождало авторитарную культуру, в которой недовольные легко могли обратиться
«вправо». Возможно, для фашистов-клерков были равно важны
экономические и авторитарные мотивации.
Еще активнее присоединялись к нацистской партии две другие
группы среднего класса: специалисты низшего звена и мелкие государственные служащие. С конца 1920-х гг. и те и другие начали вступать
в партию почти в той же пропорции, что составляли в германской
переписи населения их «старшие братья» — «дипломированные
специалисты» и «ответственные работники». Ярош (Jarausch, 1990),
исследуя отдельные профессии, также не находит разницы между
этими двумя уровнями специалистов. Как и в Италии, деление здесь
было не столько классовое, сколько секторальное. Поэтому в своих
таблицах, приведенных в Приложении, я объединил крупных и мелких служащих в одну группу.
Группа «элитных профессий» в рубрикации германской переписи
населения помогает нам определить 5 % верхнего слоя занятости: это
предприниматели, специалисты, высший слой управленцев и государственных чиновников. Среди них нацистов было особенно много.
Индексы колеблются (то же происходит и с меньшими цифрами),
но в целом превышают 2,5 — пока что самые высокие цифры. Это
говорит в пользу скорее «буржуазной», чем «мелкобуржуазной»
интерпретации фашизма. Однако стоп! Элиты преобладают в большинстве политических партий, а также добровольных объединений
(кроме профсоюзов). И снова перед нами встает вопрос: господство-
Группы поддержки нацизма
237
вали ли элиты в нацистской партии сильнее и заметнее, чем во всех
прочих?
Таблицы 4.4 и 4.5 в Приложении показывают нам, что предста
вителей элиты было мало в двух левых партиях, однако они господствовали во всех остальных. Впрочем, с данными по социалистической и коммунистической партиям требуется осторожность: многие
лидеры, рабочие по происхождению, уже много лет вели комфортабельную жизнь партийных или профсоюзных функционеров на
зарплате. В трех буржуазных партиях все было вполне прозрачно.
Более половины лидеров и кандидатов ультраконсервативной ДНВП
принадлежали к элите — в основном крупные землевладельцы и предприниматели, затем отставные офицеры, видные чиновники, высокообразованные специалисты. На местном уровне (в Дюссельдорфе
и Оснабрюке) в ДНВП господствовал средний класс, в основном
классическая мелкая буржуазия. В консервативной Немецкой народной партии 60 % активистов обладали элитными профессиями —
в основном владельцы предприятий и высшие управленцы, за ними
чиновники высшего звена, а также небольшая доля классической
мелкой буржуазии, очень немного служащих и полное отсутствие рабочих (см. Fritzsche, 1990: 94–100). Крупные коммерсанты и предприниматели, юристы и преподаватели составляли верхушку либеральной
Немецкой демократической партии (Schneider, 1978: 50–51; Frye, 1985:
1–2). Даже среди депутатов от католической Центристской партии
представителей земельной и промышленной элиты было больше, чем
среди депутатов от нацистов (Morsey, 1977: 35). В Марбурге элита
составляла 41 % членов буржуазных партий, 18 % партий «особых
интересов», 15 % НСДАП и лишь 1 % социалистов и коммунистов.
Марбургские женщины, активные в буржуазных партиях и партиях
«особых интересов», принадлежали в основном к элите, нацистские
активистки — в основном не к элите. За исключением левых партий
и НСДАП, средний класс в партиях был представлен, с большим
перевесом, мелким бизнесом и торговлей (Koshar, 1986: 238–239).
В Восточной Пруссии группа женщин-нацисток на 50 % состояла из
жен рабочих, а за ними шли жены государственных чиновников всех
уровней (Fischer, 1995: 165).
Таким образом, нацисты были менее элитной и более бизнес-ориентированной партией, чем все прочие, за исключением двух левых
238
Глава 4. Нацисты
партий. Землевладельцы, крупные промышленники, топ-менеджеры
преобладали в буржуазных партиях, но среди нацистов встречались
редко. Индекс представителей мелкого бизнеса в буржуазных партиях
и партиях «особых интересов» был достаточно высоким в сравнении
с НСДАП. Из числа элиты нацисты предпочитали вербовать чиновников и специалистов, а из среднего класса — мелких чиновников
и служащих. Все это начинает напоминать модель, которую я считаю
характерной для Италии: обращение в основном к национальноэтатистской буржуазии, стоящей несколько в стороне от прямых
производственных отношений.
Однако количество чиновников и учителей из государственных
школ ставит перед нами методологическую проблему. Начиная
с 1925 г. в различных городах и провинциях им запрещалось членство
в нацистской партии; в 1929 г. этот запрет распространился на Пруссию, в 1930 г. — на всю Германию. Поэтому известные нам цифры их
членства в нацистской партии очень невелики. Там, где государство
прибегало к давлению, члены партии вынуждены были просить у партийного руководства свидетельства (фальшивые) о «добровольном»
уходе из партии. Бруштейн (Brustein, 1996: 167–75) обнаруживает,
что до 1933 г. доля чиновников в партии соответствует доле в населении, и делает из этого вывод об их чрезвычайной приверженности
нацизму. Современники считали, что чиновники и учителя скрывают
свои симпатии к нацистам: именно к ним более, чем к представителям
всех остальных профессий, обращались нацисты в своих брошюрах.
Историки выявили немало местных чиновников и школьных учителей, негласно помогавших нацистам (Childers, 1983: 176, 238–243;
Grill, 1983: 203–205; Caplan, 1986; 1988; Zofka, 1986).
Чтобы разобраться с проблемой «обмана», рассмотрим бэкграунд
нацистов, занятых только партийной работой, и старых активистов
из подборки Абеля 1933 г.: ни тем, ни другим не было нужды скрываться. В подборке Абеля наиболее высок индекс чиновников —
среди нацистов их примерно вчетверо больше, чем среди немцев
в целом (Merkl, 1975: 14). Из 54 нацистских гауляйтеров на 1928 г.
56 % прежде служили чиновниками или учителями в государственных школах; в дальнейшем эта цифра вырастает до 60 % — впятеро
больше, чем людей сравнимого общественного положения, но других профессий. И это — до нацистского переворота, после которого,
Группы поддержки нацизма
239
разумеется, от вступления в партию чиновники только выигрывали.
Данные о руководителях местных партийных ячеек скудны и разрозненны — такие сведения держались в секрете. Однако и здесь от
10 до 25 % членов составляют государственные служащие (Kater,
1983). На 1933 г. в госсекторе трудилось лишь 5,7 % всей рабочей
силы Германии. На 1933 г. в нацистской партии состояло около 10 %
чиновников, на 1935 г. — 18,4 %. Это высокий уровень мобилизации.
К 1932 г. в некоторых департаментах правительства преобладали на
цисты, о чем с тревогой говорили их начальники (Mommsen, 1991:
116). Джемин (Jamin, 1984: 258) также обнаруживает, что в подготовленных ею выборках из отрядов СА «решительно преобладают»
государственные служащие.
Инфильтрация правых в госорганы — явление не новое. Именно
чиновники преобладали в националистических группах влияния
перед 1914 г. (Mann, 1993: 585–588). После 1918 г. эти же люди начали
постепенно врастать в нацизм. Четверть респондентов Абеля вышли из семей «государственных служащих, военных и гражданских»
(Merkl, 1975: 50–61). Вегнер (Wegner, 1990: 240–241), исследуя руководство СС, открывает прочное соотношение между милитаризмом,
образованием и государственной службой. Около 17 % прежде были
армейскими офицерами, 15 % — полицейскими, 22 % — учителями,
6 % — другими государственными служащими. На госслужбе трудилась половина их отцов. Таким образом, государственный сектор
Германии породил половину из тех, кто впоследствии стали организаторами геноцида.
Но снова остановимся. Все дело здесь в сравнении: верно ли, что
государственные служащие охотнее шли в нацисты, чем в другие
партии и движения? Как и в других странах, в большинстве партий
процент чиновников и учителей был выше, чем в населении в целом.
Мои таблицы в Приложении, как и другие источники, показывают,
что в Германии эти люди активно становились членами и функционерами всех правых партий — не только НСДАП; политический
центр в этом смысле отстает, а левые партии плетутся далеко позади.
До 1933 г. (но не после) среди марбургских нацистов госслужащих
было меньше, чем в буржуазных партиях или в партиях «особых
интересов». В Рейхстаге госслужащие значительно преобладали
среди депутатов от всех партий. До 1930 г. особенно заметно это было
240
Глава 4. Нацисты
в буржуазных партиях и в католической Центристской партии; за
ними шли блок «народников» и нацисты. После 1930 г. чиновников
среди нацистов стало заметно больше (Stephan, 1973: 308; Bacheller,
1976: 365–366, 379, 453–462; Linz, 1976: 63–66; Morsey, 1977: 34–35;
Mühlberger, 1987: 106–107; Sühl, 1988: 203–205, 227; Lösche, 1992:
14–16). Итак, государственные служащие становились нацистами
постепенно.
Госслужащие в Веймаре были готовы принять нацизм, поскольку
изначально предпочитали исполнительную власть законодательной:
интересы государства выше политических интересов партий, говорили
они. Когда демократия зашаталась, их этатизм окреп, и в авторитарных правительствах начала 1930-х — Брюнинга, Папена и Шлейхера — чиновничий аппарат, стремительно фашизирующийся, присвоил
себе роль политиков. Были ли у них материальные мотивы? На мой
взгляд, сомнительно. Высшие чиновники жили припеваючи: ни безработица, ни бедность напрямую их не затрагивали. В 1930 г. первое
правительство Брюнинга урезало зарплаты, пенсии и даже провело
сокращения рабочих мест (Mommsen, 1991: 79–118). Однако, поскольку цены тоже падали, реальная зарплата госслужащих с 1929 по
1932 г. даже немного выросла. Экологичный анализ показывает, что
после экономических кризисов 1924 и 1929 гг. госслужащие начинали
голосовать за нацистов несколько активнее, хотя продолжали отдавать
за них голоса и в благополучные времена (Childers, 1983: 171–178).
Направленная на них нацистская пропаганда сосредотачивалась не
на их материальных интересах, а на более широкой концепции национального государства — в котором для них, очевидно, отводилась
важная роль (Caplan, 1988). В их правых взглядах, по-видимому, собственные профессиональные интересы, впрочем, достаточно широко
понимаемые, сочетались с идеологическим национал-этатизмом — так
же, как, по моей гипотезе, обстояло дело и в итальянском фашизме.
Сам я считаю, что для экономического роста необходимы инвестиции
в государственное образование — но я профессор в государственном
университете. Можно ли отделить мой корыстный интерес от экономических взглядов? Вполне возможно, мотивы у меня смешанные —
как и у чиновников-нацистов.
Наконец, специалисты с университетским образованием (так называемые «академические специалисты») составляли как в НСДАП,
Группы поддержки нацизма
241
так и в офицерских корпусах СС и СА более избыточную долю, чем
«предприниматели и управленцы». Преобладали они и в ультраконсервативной ДНВП. Ярош (Jarausch, 1990: 78–111) объясняет
это их экономическими проблемами. Однако данные, приводимые
им самим, этому объяснению противоречат. Он признает, что рабочим и служащим приходилось тяжелее. Показывает, что в профессиях, сильнее затронутых Депрессией, нацистов было меньше.
Проводя многовариантный анализ бэкграунда школьных учителей,
обнаруживает, что лучший предиктор нацизма — протестантизм, за
ним идут жизнь в большом городе, молодость, мужской пол. Различия в чинах и зарплатах сильно отстают. Представители профессий,
в которых нацистов больше всего, — лесники, ветеринары, агрономы
с университетским образованием, судьи, врачи, — не сталкивались
с серьезной конкуренцией со стороны евреев (впрочем, евреи вообще
едва ли где-то составляли немцам серьезную конкуренцию: самые
большие цифры евреев-специалистов — это 16 % адвокатов и 10 %
врачей). По-видимому, большую часть нацистов-специалистов привлекали к партии «народническая» идеология «крови и почвы»
и этатизм. Нацистская пропаганда сосредоточивалась не на эко
номических лишениях, а на политических и идеологических темах:
антиматериализме, верности государству, а не партиям, национализме, бесклассовом будущем. В брошюре, адресованной инженерам,
осуждался «еврейский материализм, опутавший и удушающий нашу
жизненную силу», который якобы мешает развивать и продвигать
новые технологии. Партия заявляла, что ее политика в области образования «никогда не сосредоточивалась на борьбе по вопросам
профессиональным и бюрократическим, вопросам выплат и зарплат.
Она всегда была сосредоточена на идеологическом проникновении
в немецкое образование, на борьбе за политическую власть в стране
и очистке нашей культурной жизни от всех разрушительных марксистских тенденций». Собственные данные Яроша показывают, что
это господство идеологии над личными материальными заботами
было характерно для нацизма. И, как и в случаях с другими типично
нацистскими профессиями, специалисты с университетским образованием не участвовали напрямую в товарно-производительных
отношениях.
242
Глава 4. Нацисты
Разумеется, обычные специалисты, преподаватели и чиновники
также были людьми хорошо образованными. Возможно, этим и объясняется их нацизм. Университеты первыми обратились против
республики. Студенческие братства были по большей части «народническими» и антисемитскими. К 1930 г. нацизму симпатизировали не
меньше половины германских студентов, с небольшими различиями
в бэкграунде и изучаемых предметах — если не считать того, что среди
католиков поддержка нацизма была намного меньше. На национальных студенческих выборах 1931 г. нацисты получили большинство
голосов. Вспомним, что эти данные предшествуют прорыву нацистов
в большую политику: нацисты захватили университеты раньше других
крупных социальных институтов.
Быть может, студенческий фашизм вызывался экономическими
лишениями? Что ж, многие студенты были бедны (для студентов
это вообще не новость). Однако в Марбурге среди выпускников
с самым высоким уровнем безработицы — врачей и специалистов по
естественным наукам — было и меньше всего нацистов (Koshar, 1986:
243). В любом случае, университеты стали правыми еще в 1880-х,
когда изначально либеральное понятие Bildung (культурное образование в традициях Просвещения) стало более националистическим, а национализм начал постепенно приобретать биологический
и расистский окрас. Среди профессоров нацистов было немного, но
большинство были консервативными национал-государственниками. Как и высшие государственные чиновники со стажем и привилегиями, профессора, недавно получившие большие прибавки
к жалованью, были, пожалуй, самой экономически благополучной
группой в Германии; сразу за ними шли другие государственные служащие и члены свободных профессий (Weisbrod, 1996: 31). Их тяга
к авторитаризму и расизму не могла исходить ни из экономических
лишений, ни из неуверенности в завтрашнем дне. Преподаватели
средних и высших учебных заведений, весьма склонные к нацизму,
тоже были одной из самых благополучных групп в экономическом
смысле. Длительное время именно учебные заведения поддерживали традиции германского национал-этатизма; затем они двинулись
в сторону «народничества» и наконец радикализировались и превратились в оплоты нацизма (Kater, 1975, 1983: 44; Linz, 1976: 67;
Giles 1978, 1983; Marshall, 1988).
Группы поддержки нацизма
243
Одна студентка 1910 г. р. рассказывает о том, как оккупация ее
родного Дюссельдорфа французами укрепила ее национализм. Потом, уже в университете, друзья-студенты однажды пригласили ее
с собой на нацистский митинг:
Нацисты говорили нам, что война и страдания в окопах стали откровением для Гитлера. Он понял, что титулы и богатство не значат
ровным счетом ничего. Важно, что делаешь лично ты для блага своей
нации. Гитлер говорил, что национализм и социализм — близнецыбратья. Националист служит благу близкого ему по крови, социализм
служит братьям по классу. Из этого и возникает национал-социализм.
Для нас, студентов, это означало братство, солидарность... Мы говорили:
вот он, наш единственный ответ большевизму. Вот так я стала членом
Национал-социалистической лиги немецких студентов» (Steinhoff et al.,
1989: xxviii).
Таким образом, нацисты привлекли к себе два поколения молодых
людей, в основном мужчин. Первое пришло к ним путем военного
опыта, второе выросло нацистами в германских школах, университетах и молодежных движениях. Молодые интеллектуалы обсуждали
новейшие идеи и пытались сочетать их с романтизмом, идеализмом,
духовностью и расизмом немецкой культуры. Многие верили, что
война обозначила собой закат либерально-буржуазной эпохи. Социалистическая альтернатива казалась устаревшей, материалистичной
и слишком пролетарской, чтобы привлекать интеллектуалов (Mosse,
1971: 144–151). Многие предпочитали более органическое видение
нации, в котором движение и государство воплощали в себе нацию
и вели ее вперед по пути общественного и нравственного развития.
Фашизм пленял молодых образованных мужчин, поскольку был
для половины Европы последним откровением. Именно его идеологическая популярность в куда большей степени, чем экономические
лишения молодого поколения, объясняла любовь к нацизму среди
молодежи.
244
Глава 4. Нацисты
НАЦИСТСКИЕ БОЕВИКИ
Все это относится к нацистской партии — НСДАП. Однако стоит
рассмотреть и парамилитарные отряды — СС и особенно СА, чья
численность до переворота в десять раз превышала численность
СС. К 1932 г. в этих отрядах, вместе взятых, состояло больше людей, чем в партии. Лишь около половины их членов одновременно
состояли и в партии — так что можно сказать, что эти полувоенные
формирования представляли собой альтернативные пути к фашизму.
В табл. 4.3 в Приложении я привожу соответствующие данные, более
полные для СА, чем для СС. По-видимому, избыточной долей в СС
до переворота обладали лишь служащие из частного сектора. Представительство рабочих до 1933 г. очень низко, затем оно сравнивается
с процентом рабочих в населении. Вообще разбивка членов СС по
профессиям примерно соответствует долям тех или иных профессий
среди немецких мужчин в целом. В середине 1930-х ситуация заметно
меняется: СС начинает восприниматься как «элита» нацистского
режима, и состав ее начинает меняться в соответствии с тезисами,
изложенными в этой главе (резко возрастает доля высшего чиновничества, академических специалистов и студентов, резко снижается
доля лиц, занятых в производстве).
СА, напротив, была пролетарской организацией. В табл. 4.3
в Приложении показано, что до 1929 г. рабочие составляли 60 %
в СА, а затем доля их возросла до 70 %. Во время Депрессии уровень
безработицы среди членов СА достиг огромных цифр: повысился
с 60 до 75 %. Но какова здесь связь: присоединялись ли рабочие к СА
из-за безработицы или теряли работу из-за занятости в СА? Возможно, происходило и то и другое. В выборке Абеля мы встречаем
немало членов СА, которые посвятили жизнь делу нацизма задолго
до Депрессии, не думая об экономических последствиях. В архивах
СА также встречаются упоминания о том, что наниматели неохотно
берут на работу членов СА — они, мол, слишком независимы и нередко прогуливают работу ради шествий и демонстраций. С другой
стороны, некоторые новобранцы СА сообщали, что присоединяются
к движению из-за безработицы. В целом создается впечатление,
что при возникновении СА пролетариев и безработных в ней было
Нацистские боевики
245
не больше, чем в соответствующей возрастной группе в среднем,
однако более пролетарской и более безработной она стала под дав
лением Депрессии (Fischer, 1983: 25–47)36. Парамилитарные отряды
предлагали полную занятость, плохо совместимую с работой, и за
нее платили. Возможно, в этом состояла основная материальная
роль нацизма.
Есть у нас данные и по основному составу уличных бойцов. В уличных столкновениях погибли около 300 нацистов: 57 % из них были
рабочими (индекс 1,22), 25 % — «предпринимателями, специалистами
и студентами» (скорее всего, в основном студентами, поскольку все
они были молоды). Все остальные группы среди них представлены
мало (Merkl, 1980: 98–99; ср. Stachura, 1975: 59). Эти фашистские
бойцы не были пролетариями, как их противники-коммунисты.
Около 90 % коммунистов, арестованных за уличные столкновения
в Гамбурге и Берлине, и около 70 % «мучеников» компартии были
рабочими (Kater, 1983: 253; Peterson, 1983: 214; Rosenhaft, 1983:
167–207). Однако большинство погибших фашистов, как и в других
странах, — рабочие или студенты.
До 1933 г. в нацистской партии и в парамилитарных отрядах состояло в целом около полумиллиона рабочих — цифра, приблизительно соответствующая их доле среди немцев в целом. В целом нельзя
назвать нацистов буржуазным или мелкобуржуазным движением.
36
Два подразделения СА в сельской местности Восточной Пруссии, которые
анализирует Бессель (Bessel, 1984), разнятся по составу: «фермеры, молодые фермеры и сельскохозяйственные распорядители» (35 % и 45 % в двух
подразделениях) и «ремесленники и подмастерья ремесленников» (29 %
и 33 %). Рабочие составляли лишь 12 и 8 % соответственно. Именно это дает
Бесселю и Джемин (Bessel, Jamin, 1979) повод спорить с представлением об
СА как о пролетарской силе. Однако Фишер и Хикс (Fischer, Hicks, 1980),
а также Мюльбергер (Mühlberger, 1991: 164–165) обращали внимание на то,
что в этом восточном регионе многие сельскохозяйственные рабочие были
не немцы, а славяне, которые едва ли стали бы вступать в такую расистскую
организацию, как СА. Более того, «ремесленники и подмастерья», вероятнее всего, относились к рабочим. Очевидно, что между подразделениями
СА существовали различия просто в силу особенностей экономического
положения в разных регионах. Но со всеми поправками классовый состав
восточнопрусских СА получается сопоставимым с любыми другими подразделениями СА.
246
Глава 4. Нацисты
Скорее они представляли собой поперечный срез классовой структуры немецкого общества. В этом смысле, называя себя национальной
партией, они говорили правду — хотя социальная база их и была
смещена прочь от производственного сектора, в сторону сектора го
сударственного и образовательного.
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ
МАРГИНАЛЬНОСТЬ
Статистические выборки по нацизму дают нам редкий шанс оценить
социальную мобильность и успешность его приверженцев. Часто
можно услышать, что нацисты страдали от карьерных неудач и выплескивали свои обиды на политическую систему. Однако в автобиографиях, приведенных Абелем, почти половина респондентов не меняла
свой изначальный статус, четверть существенно продвинулась вверх,
а признаки нисходящей мобильности демонстрировала лишь одна
седьмая (Merkl, 1975: 62–76). В исследовании Роговски (Rogowski,
1977) о гауляйтерах мы видим, что 64 % из них имели надежную
и постоянную работу, у 75 % работа и статус соответствовали их
образованию и профессиональной подготовке. Около 40 % социально
«поднялись» и превзошли своих родителей — и лишь 21 % двигался
вниз. Восходящая вертикальная мобильность в этой группе вдвое
превышает данные по жителям Германии в целом. Группы с самыми
высокими показателями восходящей вертикальной мобильности —
ветераны войны, выпускники университетов, наемные служащие —
давали также больше всего нацистов. Катер (Kater, 1983: 182–184,
375) заключает, что нацистские функционеры «вовсе не похожи на
неудачников, обитающих на обочине общества». Он исследовал больше гауляйтеров, чем Роговски, и пришел к выводу, что социальная
мобильность их была не так высока. И все же она «значительно превосходила средние показатели социальной мобильности населения
в целом» — хоть Катер и добавляет, что такое стремительное восхож
дение к успеху должно было внушать им «мучительный» страх снова
Социальная мобильность и социальная маргинальность
247
рухнуть вниз. Но неужто лишь тот, кто не лезет наверх, чувствует себя
в безопасности? К этому Катер добавляет, что высшие партийные
чины-технократы имели и более стабильные и привычные бэкграунд
и образование, характерные для высшего среднего класса, без всяких
признаков маргинальности.
Циглер (Ziegler, 1989: гл. 4) приходит к выводу, что СС была настоящей меритократией. До присоединения к организации ее офицеры
демонстрировали довольно скромные учебные и профессиональные
успехи, однако в СС их профессиональный рост продолжался на качественно ином уровне. Многие сравнивали СС с «помешанным на
статусе» профессиональным миром Веймара в пользу СС. В выборке
офицеров СС у Вегнера (Wegner, 1990: 251–262) лишь меньшинство
испытало после войны проблемы с работой и заработком, и лишь
некоторые новобранцы сообщали, что боятся экономических трудностей. Однако, исследуя отдельных личностей, он не находит ни
одного настоящего маргинала — за исключением «отчаянных» вроде
Теодора Эйке, которого отовсюду вышвыривали и постоянно заби
рали в полицию из-за его политического экстремизма, а не наоборот
(подробнее об этом ужасном человеке я расскажу в следующем томе
своей книги). Оба исследования показывают, что в вербовке новых
членов СС милитаристские и националистические ценности играли
намного более важную роль, чем экономические лишения.
Джемин (Jamin, 1984) с этим не согласна. По ее словам, карьеры
офицеров СА демонстрируют «социальную неустойчивость». Офицерам не хватало «стабильного положения в социальной иерархии»,
у многих наблюдалась нисходящая мобильность. Однако приведенные
ею данные не столь очевидны. У половины офицеров СА в ее выборке не прослеживалась заметная межпоколенческая мобильность,
а внутрипоколенческой мобильности не было вовсе (как и в списке
Абеля)37. По утверждению исследовательницы, нисходящая мобиль37
В том, что касается мобильности, вторая выборка Джемин — из лидеров СА,
подвергнутых чистке, — обнаруживала очень низкий процент ответивших.
Для тех, по которым ей удалось собрать данные, была характерна более высокая нисходящая мобильность. Вероятно, речь идет о самых отъявленных
негодяях в рядах движения, но также возможно, что выборка оказалась
предвзятой.
248
Глава 4. Нацисты
ность офицеров СА вдвое превышает восходящую. Однако эта явная
диспропорция — не более чем побочный эффект введенной ею новой
категории «амбивалентной нисходящей мобильности», измеряемой
(межпоколенчески) таким образом: отец — «самозанятый, ремесленник или фермер», сын — «наемный служащий, квалифицированный
рабочий, профессиональный военный». Категория сомнительная по
трем причинам: большинство «ремесленников» относились к рабочим,
а не к среднему классу; термин «военный» слишком расплывчат, чтобы определять им статус в эпоху мировой войны; сыновья фермеров,
уезжающие в город, возможно, не столько теряли социальный статус,
сколько бежали от бедности. Если мы принимаем эту категорию, то
видим нисходящую социальную мобильность у 25–30 % офицеров
СА; если не принимаем, их доля сокращается до 10–15 %. Если даже
принять за правду 20 % — это явно не большинство. На фоне других
свидетельств, приведенных здесь, заключение Джемин, что нацизм
представлял «социально изолированных людей без корней» и потому не мог создать «положительную общественно-политическую
программу и рационально представлять реальные общественные
интересы своих членов», не выдерживает критики. Нацизм представлял именно реальные общественные интересы — хотя в первую
очередь не классовые.
Это представление о маргинальности повлияло на многие исследования нацизма. Разумеется, сам Гитлер под этот стереотип подходит
идеально: несостоявшийся художник, эмигрант, отставной ефрейтор, вегетарианец в эпоху мясоедов, человек без нормальной семьи,
возможно, импотент. Однако в своей расовой теории он исходил из
«нормального» опыта австрийского, антиславянского, пангерманского
националиста, чей привычный антисемитизм превратился во что-то
более опасное в результате опыта 1917-го и последующих револю
ционных лет (Hamann, 1999). Теоретики «общества масс» утверждают
обычно, что атомизированные массы и маргинальные личности, без
сильных общественных связей, легко обращаются к радикальным
утопическим движениям и харизматическим лидерам. Недавно эта
теория была доработана в том смысле, что здоровая демократия
покоится на живом и активном гражданском обществе, на плотной
сети социальных связей между гражданами, сосредоточенной вокруг
добровольных объединений, не контролируемых ни государством,
Социальная мобильность и социальная маргинальность
249
ни экономическим рынком. Предполагается, что эти добровольные
объединения и плотная сеть социальных связей вокруг них — лучший
гарант свободного общества и демократии.
Увы, Германия, ставшая нацистским государством, была именно
такой — плотным и активным гражданским обществом: и сердцевину
этого общества составляли именно нацисты. В Германии активно действовали всевозможные добровольные объединения и группы по интересам, в том числе профсоюзы рабочих и служащих. Еще много лет
назад этот парадокс позволил Хагтвету (Hagtvet, 1980) вдребезги разбить теорию общества масс применительно к нацизму. В наше время
появилось еще больше свидетельств в поддержку его аргументации.
Исследования голосований, которые мы обсудим в следующей главе,
показывают, что в нацизм обращались не отдельные маргиналы, а целые сообщества: в сельском хозяйстве, например, нацистскими стали
самые сплоченные протестантские общины. Кроме того, нацисты
очень успешно создавали новые профессиональные объединения —
или подминали под себя уже существующие. Чрезвычайно активны
были они в местных территориальных объединениях. В Марбурге,
как показывает Кошар (Koshar, 1986), нацисты намного активнее всех
остальных политических движений работали с местными клубами.
Местная партия опиралась на социальные сети, которые предоставляли ей стрелковые клубы, ветеранские лиги, спортивные и физкультурные общества, певческие кружки и студенческие братства. Отчасти эта
социальная активность привела нацистов к элитистскому взгляду на
себя как на «национально-сознательную» часть немецкого общества.
Фрицше (Fritzsche, 1998) пишет, что в своей социальной активности
нацисты во многом скопировали методы «Стального Шлема», что
и стало главным источником их популярности: они действительно
сумели сплотить германскую нацию. Кошар заключает, что источником власти нацизма в каком-то смысле можно назвать восстание
местного активизма против провалов и неудач общенациональной
политической системы. Именно об этом говорили нацистские боевики
и новобранцы СА из выборки Абеля, цитированные мною выше: они
шли против системы.
Германия в самом деле обладала сильным и развитым гражданским
обществом. Возглавляемое нацистами, это общество превратилось
в монстра. Мы уже видели, что Райли (Riley, 2002) проводит такую
250
Глава 4. Нацисты
же связь между гражданским обществом и фашизмом в Италии.
В следующей своей книге я покажу, что это общая тенденция: движения, пропагандирующие этнические чистки, как правило, лучше
укоренены в добровольных объединениях гражданского общества,
чем их либеральные противники. Не всегда гражданское общество
бывает цивилизованным! И, по правде говоря, это не слишком удивляет. Среди политических элит неудачники и маргиналы встречаются
редко: куда проще встретить их за стойкой бара, в тюрьме или в морге,
чем в политике. Те, кто стремится изменить мир и ради этого готов
идти на риск, — намного чаще уверенные в себе, социально успешные
личности. Большинство немецких фашистов были вполне в себе
уверены. Военные заслуги, хорошее образование, высокое социальное положение, карьерные успехи — все это давало им заслуженное
право гордиться собой. Их согревала мысль о себе как о «хороших
немцах»; они были вооружены самой модной и передовой идеологией
своей эпохи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Классы и секторы
Поскольку в подходе к социальной базе нацизма преобладают классовые теории, имеет смысл подвести итоги моих наблюдений над
корреляцией с нацизмом экономических и классовых данных. Нацизм
действительно начинал как идеология определенного социального
слоя, преимущественно нижнего среднего класса, однако после 1930 г.,
когда он стал массовым движением, контуры его изменились.
1. В отличие от Италии, в Германии между фашизмом и классовым
происхождением общей корреляции нет. В нацизме были широко
представлены почти все классы.
2. Как и в Италии, аграрный сектор постепенно двигался от недостаточной представленности до избыточной, хотя лишь немногие
немецкие крестьяне стали членами фашистских организаций.
Заключение
251
3. Как и в Италии, наиболее избыточна оказалась доля образованной
национал-этатистской буржуазии, в то время как деловая буржуазия — как крупный, так и малый бизнес — была представлена
недостаточно. Важен был также фактор образования: государственное и протестантское (но не католическое) образование
способствовало вовлечению молодых людей в фашизм.
4. Как и в Италии, нацисты с трудом проникали в рабочие кварталы
крупных индустриальных городов. Однако, поскольку рабочие по
большей части жили и работали вне таких кварталов, у нацистов
была возможность рекрутировать рабочих из иной социальной
среды.
5. Как я подозревал, но не мог доказать и в случае Италии, немецкие фашисты не были ни социальными маргиналами, ни неудачниками в экономическом плане. Даже в тех случаях, когда
нацисты объясняют свой идеологический выбор жизненными
обстоятельствами, как правило, экономические проблемы и карьерные неудачи среди объяснений не значатся. Скорее уж нацисты принадлежали к более благополучной группе населения,
защищенной от резких экономических спадов и подъемов, в отличие от работающих в реальном секторе экономики. Социально
же они находились в сердце гражданского общества. Гражданское
общество в Германии было очень сильным — но далеко не таким
привлекательным, каким почти всегда изображает гражданское
общество современная социология.
6. Как и в Италии, фашисты держались в стороне от основных арен
классового конфликта своей эпохи: предпринимателей, «классической мелкой буржуазии», менеджеров частных предприятий или
промышленных рабочих среди них было немного. Приверженцы
нацистов были не столько участниками, сколько наблюдателями
классовой борьбы — с этим, разумеется, связан их горячий отклик
на обещание «превзойти» классовый конфликт (об этом мы подробнее поговорим в следующей главе).
Из этих шести пунктов самих нацистских лидеров удивил бы,
пожалуй, только последний. Равномерное присутствие всех классов
было для них естественно: они заявляли, что преодолели классовую структуру общества и создали «народную партию». Теперь
252
Глава 4. Нацисты
мы видим, что это притязание имело под собой почву, хоть в нем
и имелся серьезный религиозный пробел. Нацисты почти не смогли
завоевать симпатии католиков: почему — мы обсудим в следующей главе. Однако в целом нацистская партия более какой-либо
иной могла претендовать на звание «бесклассовой». На митингах
ее сознательно подбирались выступающие самого разного происхождения: прусского князя сменял железнодорожник, генерала
в отставке — студент или рабочий, ораторы говорили с разными
региональными акцентами: все это демонстрировало единство
нации, восславленное Гитлером, коротышкой-ефрейтором с провинциальным австрийским выговором.
Значение нацистского активизма
С убеждениями и социальной базой нацистских активистов мы
уже отчасти познакомились. Но чем занимались эти люди — и как
это помогло им прийти к власти? Ко времени переворота численность нацистской партии перевалила за миллион. Но важна была не
столько общая численность, сколько активность основных ее членов.
Как бывает в любом движении, множество членов принадлежали
к партии только номинально или участвовали в партийной работе
лишь изредка. Быстро увеличившись в размерах, партия столкнулась
с проблемой высокой текучки членов, особенно рабочих (Muhlberger,
1991). Однако в среднем приверженцы нацистской партии были куда
более активны, чем участники любого другого движения. Почти по
любому поводу местным ячейкам удавалось выводить десятки и сотни
активистов — на марш, на демонстрацию, на митинг, если понадобится,
и на уличное побоище; и люди откликались на призыв, бросали работу
(к негодованию нанимателей), щедро отдавали партии свое время
и энергию. Буржуазным партиям, тихим и респектабельным, очень
не хватало такого активизма. Они не маршировали, редко устраивали демонстрации. Митинги их были формальными мероприятиями,
проходили рутинно и бесцветно, в отведенных для этого рамках, со
строгим соблюдением социальной иерархии выступающих. Если на
их митинг являлись конкуренты и пытались его сорвать, им нечем
Заключение
253
было ответить на пинки и затрещины — у них не было такой же многолюдной и решительной группы поддержки. Они были раздавлены
превосходящей коллективной энергией и энтузиазмом нацистов, их
готовностью к насилию. Даже социалистам и коммунистам — тем,
кто, собственно, и изобрел тактику уличной политической борьбы, —
пришлось отступить перед нацистами.
Ключом к мобилизации нацистских активистов стали ритуалы.
Слушая записи речей Гитлера и наблюдая за завораживающими кад
рами с Нюрнбергского съезда мы склонны воспринимать эти действа
как важнейшие ритуалы нацизма. Однако Гамильтон (Hamilton, 1982:
гл. 12) напоминает нам, что в массовых митингах в духе Нюрнберга
участвовало лишь микроскопическое число немцев, а выступать по
радио или появляться на экранах кинотеатров Гитлер до прихода
к власти не мог. Партия мобилизовывала своих членов через местные
партийные ячейки: средствами прямой связи выступали телефоны
и транспорт, средствами письменной связи — пишущие машинки
и ротапринты — все это в руках активистов, готовых по первому
сигналу сорваться с работы и сделать все, что от них требуется.
В Нортхайме (с населением около 10 тысяч) 60 или 70 членов партии
и СА плюс 75 подростков из Гитлерюгенда провели больше маршей,
демонстраций и митингов, чем любая другая партия. Их действия, их
энергия и энтузиазм представали перед наблюдателями их ритуалов
как некий микрокосм, воплощение новой, будущей Германии. Эта
новая Германия не выглядела чересчур авторитарной — в ней горел
тот «коллективный пыл», который Дюркгейм считал ключом к ритуалам, сплачивающим общество. Стоит подчеркнуть, что нацисты
расцвели и пришли к успеху в либерально-демократическом обществе — обществе свободы собраний, демонстраций и беспрепятственного распространения печатного слова. Активнее всего действовали
они во время выборов, однако их активность не останавливалась ни
на день. При авторитарном режиме такое бы не прошло. Помимо
всего прочего, полиция и армия быстро пресекли бы нацистское насилие и не позволили бы ему подняться выше мелких любительских
стычек: именно так, как мы увидим в главе 8, произошло в Румынии
с местными фашистскими легионерами.
Местные нацистские лидеры обладали определенной ле
гитимностью в глазах общины, как люди, готовые тратить время
254
Глава 4. Нацисты
и силы ради ее блага. Новых членов организации они находили
в местных клубах — спортивных, стрелковых, певческих: все эти
занятия, формально не связанные с политикой, с конца XIX века
приобрели явственную националистическую окраску. Затем нацистские активисты начали и сами предлагать своим сторонникам самые
разные занятия. Гитлерюгенд и нацистские женские движения воспринимались как достойные, полезные организации, где воспитывают
здоровое тело и здоровый дух. Партия и боевые организации отчасти
накладывались друг на друга, однако деятельность их различалась.
Члены партии обычно дежурили небольшими группами на углах
улиц, раздавали листовки, агитировали прохожих, устраивали небольшие импровизированные митинги. Для некоторых это стало
постоянной работой, но большинство оставалось энтузиастамилюбителями.
Особые полномочия и особую ауру имели штурмовые отряды СА.
На своих ритуальных сборищах они демонстрировали мощь и сплоченность. Члены СА были молодыми, обычно неженатыми мужчинами. Многие состояли в организации на постоянной основе, часто
жили вместе в небольших казармах, жалованье за службу получали из
партийных фондов. Как и итальянские сквадристы, они наслаждались
суровой, но увлекательной жизнью полувоенного мужского братства:
вместе пили, гуляли по улицам в форме, ловя на себе восхищенные
или испуганные взгляды, ощущали себя элитой общества — «сознательными немцами». В некоторых отрядах к этому добавлялась
гомосексуальная солидарность. Насилие их в большинстве случаев
оставалось символическим. Они стояли в почетных караулах, охраняли ораторов на митингах, запугивали левых или евреев одним
своим коллективным присутствием. На мероприятиях выводили
хулиганов и крикунов: благодаря этому нацистские митинги привлекали царящим там порядком и выгодно отличались от митингов
других партий, которые сами же нацисты успешно срывали. Когда
же дело доходило до настоящего насилия — этим организованным,
вооруженным, идейно мотивированным молодым парням не было
равных в уличных боях. Насилие их чаще всего было направлено
против левых (в восточном приграничье — против поляков), намного
реже — против евреев или буржуазных партий. Нацисты стремились
легитимизировать насилие, объявляя его «самообороной». По их за-
Заключение
255
явлениям, большевики якобы уже захватили целые области Германии.
Тактика СА строилась на открытом провоцировании противников.
Никогда противником не было государство. Никогда парамилитарные отряды нацистов не пытались занять место армии или полиции.
Врагами были другие движения или евреи. Говорить о «самообороне»
было проще применительно к левым, поскольку евреи и буржуазные
партии, очевидно, никому насилием не угрожали. По приказу своих
лидеров отряды СА отправлялись в рабочие кварталы, маршировали там, пели, скандировали лозунги и всячески провоцировали
левых на себя напасть. Начиналась драка — а затем нацисты гордо
демонстрировали свои боевые ранения, приговаривая: «Ни дня не
проходит без того, чтобы кто-нибудь из СА не пал жертвой коммунистического террора!» «Чучело врага — агрессивные коммунисты
или социалисты — подменяли собой реальную мишень и реальную
цель нацистов: борьбу за власть в государстве», — замечает по этому
поводу Меркл.
Однако нацисты умели действовать тоньше. Разумеется, они не
собирались захватывать власть прямой парамилитарной силой, ибо
знали, что с германской армией им никогда не справиться. Нацистское насилие преследовало другие цели — всего три: укрепить боевое
товарищество, эмоционально «закалившись в боях», запугать противников и показать всем, что с «марксистской угрозой» можно совладать
лишь при помощи организованного парамилитаризма. Нацистская
пропаганда и сочувствующая нацистам пресса распространяли это
убеждение в умах миллионов людей, никогда не видевших уличного
насилия своими глазами (Abel, 1938: 99–110; Allen, 1965: 23–34, 73;
Noakes, 1971: 99, 142, 202–219; Hamilton, 1982; Merkl, 1982: 373; Bessel,
1984: 26–32, 45–49, 75–96; 1986; Heilbronner, 1990).
Итак, в отличие от фашистского насилия в Италии, нацистское
насилие приносило результат не столько прямыми атаками на врагов (поскольку немецкие социалисты умели защищаться намного
лучше итальянских), сколько воспитанием собственных членов
в духе солидарности, товарищества и готовности рисковать ради
партийных целей, а также убеждением множества немцев — и в том
числе немецких элит — в том, что ритуализованное упорядоченное
насилие способно преодолеть в стране анархию. Придя к власти,
нацисты быстро установили вожделенный порядок. СС, вторая
256
Глава 4. Нацисты
парамилитарная организация, до переворота не слишком многочисленная, слила воедино понятия порядка и насилия. Эсэсовцы
верили, что именно упорядоченное насилие создаст новую общественную, политическую и расовую элиту. Поэтому, в отличие от
СА, СС привлекала молодых немецких интеллектуалов. Универсальность нацистского активизма — от самых мирных и полезных
занятий до прямого насилия — привлекала к нему самых разных
людей. У обычных немцев нацизм вызывал смешанные отклики:
в нем слилось воедино то, что мы привыкли считать законным и беззаконием. И это ведет нас к следующей нашей теме — обсуждению
двух важнейших факторов, способствовавших приходу нацизма
к власти: избирателей и элит.
Глава 5
СТОРОННИКИ НАЦИСТОВ
В ГЕРМАНИИ
258
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
Нацисты сумели прийти к власти, поскольку их руководству
удалось мобилизовать три важнейших властных ресурса: активизм
и готовность к насилию нацистских боевиков (об этом достаточно
сказано в предыдущей главе), голоса трети немецкого электората
и неоднозначное отношение немецких элит к Веймарской демократии. В отличие от итальянских фашистов, нацисты боролись за
голоса избирателей всерьез — и вполне успешно. За них голосовали
более трети немцев, и это позволило им подойти вплотную к власти
конституционными методами. Однако, как и итальянские фашисты,
нацисты захватили власть с помощью элит. Прежде всего я рассмотрю
охват электоральной поддержки нацистов и мотивы их сторонников.
Краткости ради сосредоточусь на периоде их основных электоральных
успехов — после 1930 г. Я рассмотрю основные источники идеологической власти нацистов: то послание, которое нацисты старались
донести до своих избирателей, и то, как избиратели его воспринимали.
ПРЕДВЫБОРНЫЕ
СТРАТЕГИИ НАЦИСТОВ
Иногда можно услышать, что ради голосов избирателей нацисты были
готовы на все: не идеология, а оппортунизм определял собой их избирательную стратегию. Это часть все той же традиции, предлагающей
не принимать фашистов всерьез. Чилдерс (Childers, 1990) пишет, что
нацистские речи и брошюры, адресованные различным фокусным
группам, стремились подделаться под пожелания каждой. В самом
деле, гитлеровская «Майн Кампф» открыто высказывает презрение
массам, учит манипулировать ими и разжигать в них ненависть. Как
сказал однажды Гитлер своим собеседникам: «Понимание — шаткая
платформа для масс. Единственное стойкое чувство — ненависть»
(Kershaw, 1991: 51). Однако во время выборов он требовал от соратников смягчить призывы к войне и поумерить ненависть к врагам — евреям и славянам. Чаще каких-либо иных партий в Германии
нацисты проводили обучающие семинары, преподавали ораторское
мастерство, объясняли своим активистам, к кому обращаться, что
Предвыборные стратегии нацистов
259
говорить, а о чем умалчивать. На поле политических манипуляций
нацисты были новаторами. Хотя, разумеется, в сравнении с современными политическими партиями они выглядят дилетантами,
безнадежно искренними в выражении своих кровожадных мечтаний.
Однако общий посыл нацистов был ясным и последовательным.
Как и следовало ожидать, в центре их пропаганды стоял пламенный национализм. Избирателям говорили: немцы превосходят все
прочие народы в расовом и культурном отношении, они призваны
господствовать над остальными. Партия обещала вернуть утраченные
земли отцов и создать «Великую Германию», где свободно вздохнут
миллионы немцев, живущих сейчас под иноземным владычеством.
Русских она изображала как отсталых звероподобных существ, неспо
собных противостоять мощи современной Германии, французов и англичан — как цивилизованные, но выродившиеся народы, которые,
возможно, и не захотят воевать. Жесткие ограничения, наложенные
на Германию, объяснялись международным (иногда «еврейским»)
заговором. Нацисты стремились пересмотреть внешнюю политику
Германии: требования их были просты и ясны — возвращение утраченных земель и «достойное место для Германии». Здесь спорить
было не о чем. За это выступали почти все германские партии — нацисты выделялись среди них лишь пламенностью риторики. Однако
в области внешнеполитических требований у нацистов было два
преимущества. Во-первых, они не обладали властью — и, следовательно, оставались чисты: большинство других партий участвовало
в веймарских коалиционных правительствах, а значит, обвинения
в готовности продать родину иностранным державам падали и на них.
Последовательный реваншизм Гитлера, его призывы к перевооружению, воинственность самого нацистского движения — все это поддерживало внешнеполитические требования нацистов и усиливало их
привлекательность. Ведь условия мирного соглашения в самом деле
были тяжелы, и большинство немцев считали их несправедливыми.
Аннексия немецких территорий, репарации — все это повышало
шансы на выборах для нацистов и других реваншистских движений.
Разумеется, согласно международным договоренностям, державыпобедительницы обязаны были в указанный срок вывести войска из
долины Рейна и отменить репарации. Поэтому немцы не считали,
что ускорение этого процесса под силовым давлением — или, быть
260
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
может, даже возвращение кое-каких утраченных территорий — может
привести к серьезной войне. В геополитических вопросах Гитлер
отвечал чаяниям немцев: он говорил то, что они хотели услышать
от Германии как великой державы. Поэтому внешняя политика
нацистов — агрессивность без войны — устраивала всех. И первые
шесть лет своего правления Гитлеру действительно удавалось балансировать на этой грани.
Однако не внешняя политика решала судьбы партий: немецкие
избиратели (как и большинство избирателей вообще) больше интересовались тем, что делается у них дома. И здесь вторым преимуществом нацистов стал радикальный национализм. У нацистов имелась
уникальная внутриполитическая программа — мощная, увязанная
в один узел с внешнеполитической, соответствующая «надклассовости» самой партии. Один из респондентов Абеля так вспоминает
свое первое знакомство с нацистской идеологией трансцендентного
национализма:
Я был захвачен не только его страстной речью, но и безоговорочной
преданностью всей немецкой нации, у которой главная беда — раскол
на множество классов и партий. Наконец-то нашелся человек, знающий,
как объединить народ! Уничтожить партии! Отменить классы! Настоящий
Volksgemeinschaft! Этим целям я готов был отдать без остатка всю свою
жизнь... Так я вступил в гитлерюгенд, где нашел то, что всегда искал, —
настоящее товарищество (Merkl, 1980: 251).
В дневнике школьной учительницы, слушавшей выступление
Гитлера перед огромной толпой, также подчеркивается трансцендентность его национализма:
Был абсолютный порядок и дисциплина, хотя собралось 129 тысяч
человек разного возраста и происхождения. Перед нами стоял Гитлер
в скромном черном пальто. Главная тема: из партий должна вырасти
нация, германская нация. Он прок линал систему («Я хочу знать, что
еще необходимо разрушить в этом государстве!»)... он ни на кого не
нападал персонально, не давал обещаний — ни туманных, ни конкретных. Как много глаз было устремлено на него с трогательной верой! На
него смотрели как на воплощенную надежду, как на спасителя от невыносимых страданий, человека, который протягивал руку прусскому
Предвыборные стратегии нацистов
261
князю, ученому, священнику, крестьянину, рабочему, безработному,
чтобы освободить их всех от партий и сплотить в единую нацию (Noakes,
Pridham, 1974: 104).
Заметим это перечисление классов. В прошлой главе мы показали,
что притязания нацистов не были чисто риторическими — они отражали реальный состав нацистского движения. Большинство нацистских
ораторов связывали в своих выступлениях внешние и внутренние
аспекты национализма, призывали преодолеть классовый раскол, использовали агрессивную риторику. Политические враги всегда были
для них «иноземцами» или «чужаками». Левые — либо большевики,
либо евреи; финансовый капитал — иностранный или еврейский;
либералы и католики — интернационалисты. Враги для нацистов
всегда обладали смешанной этнической и политической идентичностью — и решением проблем с врагами должны были стать этнические
и политические чистки. Нацисты призывали «прикончить», «уничтожить», «раздавить» «марксистско-еврейско-капиталистическую
грабительскую систему», «красно-черный интернационализм», разделяющий немецкую нацию. Они обещали «разбить им всем головы»,
чтобы сохранить общественный мир. Буржуазные партии и партии
групповых интересов изображались как «раскольники», в погоне
за классовой или групповой выгодой разделяющие нацию, — ибо
обращение к отдельным классам, Stand (статусным группам) или
Beruf (профессиям), по мнению нацистов, неизбежно ее разделяло.
Когда к подавлению классовых разногласий во имя единства нации
призывали лидеры правой ДНВП, сами принадлежащие к высшим
классам, лицемерие их было очевидно, особенно рабочим. Верхушка
ДНВП, как и у других буржуазных партий, принадлежала к привилегированным классам. Социалистов и коммунистов представляли
в основном рабочие, с заметной примесью евреев. Не такими были
нацисты — они в самом деле представляли собой «надклассовую»
партию, способную, как казалось, выступать за социальную справедливость для всей Германии. Этот органический национализм
пронизывал собой всю идеологию и риторику нацистов.
Помимо привлекательной в целом риторики, нацисты выделяли
и интересные конкретные предложения. Во времена Депрессии невозможно было не замечать экономических проблем. Однако Гитлер,
262
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
и с ним большинство нацистов, порицали узкоэкономический взгляд
на вещи и стремились подчинить экономику политике. Политэкономия нацизма восходила к немецкому этатизму, ведущему свое
начало от Фридриха Листа, через автаркический государственный
социализм сверху, предложенный Ратенау во время Первой мировой
войны, — и вплоть до 1920-х, когда эта идеология окрасилась в «народнические» тона (Barkai, 1990). Именно из этой научной традиции
нацизм заимствовал различие продуктивного/творческого и непродуктивного/еврейского капитала.
Эта политэкономия обращалась к различным групповым интересам. Автаркия (со снижением процентной ставки по банковским
ссудам) пропагандировалась в первую очередь среди крестьян, которые должны были выиграть от снижения продовольственного импорта
и задолженности. Многие крестьяне голосовали за нацистов, исходя
именно из своих материальных интересов (Brustein, 1996). Однако
это не было тактическим ходом, рассчитанным лишь на завоевание
голосов крестьян. Сельскохозяйственная политика нацистов логично
вписывалась в основной круг их тем. В «Официальном заявлении
о сельском хозяйстве и крестьянах» говорилось: только национальное самоопределение освободит Германию от «долгового рабства
у международных финансистов» и «международного еврейского
капитала». Репарации, тяжким бременем лежащие на сельском хозяйстве, необходимо отменить — так же, как и парламентскую демократию, неспособную защитить крестьянина. Все эти меры нацисты
подавали как не столько экономический, сколько моральный долг.
Крестьяне — «основные носители здорового наследия нашего народа,
источники его молодости, костяк его военной силы». Однако групповые интересы крестьян вторичны по отношению к «политической
войне за освобождение»: «Эту войну нельзя вести во имя и в интересах
одной лишь профессиональной группы — ее необходимо вести во
имя и в интересах всего народа», представленного «сознательными
немцами всякого положения и рода занятий» (Fischer, 1995: 147–148).
В сельской Нижней Саксонии, отмечает Ноукс (Noakes, 1971), идеология нацистов в целом привлекала избирателей больше, чем конкретные предложения (во многом совпадающие с предложениями
их соперницы — правой партии ДНВП). В некоторых кампаниях
нацистов в сельской местности активно использовался антисеми-
Предвыборные стратегии нацистов
263
тизм: немецкую «кровь и почву», мол, беспощадно эксплуатируют
еврейские ростовщики. В реальности этого не было. Евреи были лишь
условным олицетворением того зла, которое, в восприятии крестьян,
нес деревне космополитический мир больших городов, стремящийся
ее поглотить и разрушить. Как и все успешные политические движения, нацисты умели встраивать частные материальные интересы
в широкую идеологическую канву. Таким путем они стремились
преодолеть (или, может быть, точнее — уйти от) множественность
интересов, характерную для реального мира.
Спасение обещали они и «сердцу Германии» — среднему классу,
«зажатому между интернационалистическим социализмом и еврейским биржевым капиталом». И здесь частные интересы ставились
в контекст общей теории чужеродной эксплуатации, а также нападения на либеральную демократию, не способную защитить жертв.
Но вдвое больше организационных усилий нацисты тратили на
пропаганду среди рабочих (Brown, 1989). Они проклинали не рабочих как таковых, а большевиков. Человека труда они превозносили:
трудящиеся и промышленные капиталисты равно относились к «сознательным немцам» и противопоставлялись капиталистам-эксплуататорам — «непроизводительным», «алчным», «ростовщическим»,
непременно с еврейскими или иностранными корнями. Так преподносилась избирателям основа нацистского миропонимания: немцы
против чужаков, как во внешней, так и во внутренней политике.
И избиратели с готовностью ее поддерживали.
Первоначальная нацистская программа обещала работу и благосостояние для всех, однако почти не указывала, как этого достичь.
В период Депрессии партия начала развивать свои экономические
позиции. Первой создала она службу добровольного труда на общественных началах — «Социализм дела», которой невероятно гордилась: «Все — архитекторы, инженеры, торговцы, офисные клерки,
наемные рабочие, ремесленники, учащиеся, квалифицированные
и неквалифицированные рабочие — заняты здесь одним делом. Так,
искренне и чисто, проявляется Volksgemeinschaft (национальное
единство)» (Kele, 1972: 193). В этот период Депрессии правительство
Брюнинга проводило политику экономической дефляции, включавшую в себя сокращение профессионального обучения, схем создания
рабочих мест и программ переквалификации. Многие молодые люди
264
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
не хотели отдавать голос на своих первых выборах за консервативные
или либеральные партии, составлявшие это правительство, или даже
за социалистов, продолжающих с ним сотрудничать.
В своей речи в Рейхстаге в мае 1932 г. Грегор Штрассер двинулся
дальше: он предложил нацистскую программу общественных работ,
финансируемую через «длинные кредиты». За этим предложением
стояла радикальная программа Отдела экономической политики
НСДАП, включавшая в себя повышение налога на сверхдоходы. Гитлер не желал публиковать эту программу, опасаясь, что она рассорит
его с крупными промышленниками, — лучше подождать с этим до
прихода нацистов к власти, говорил он главе отдела (Turner, 1984). Однако обещания Штрассера были опубликованы во время следующей
избирательной кампании — и принесли ему большую популярность.
Придя к власти, нацисты действительно исполнили многие из этих
обещаний. Главной целью нацистов было финансировать перевооружение, однако инвестиции в тяжелую индустрию естественным
образом сокращали число безработных. Предвыборные лозунги
«работа и хлеб» и «право на работу» также нашли себе место среди
национально-этатистской риторики: «национально-экономическое самоопределение — международный капитал не сможет больше решать,
смогут ли немцы работать и жить» (Childers, 1983: 148–153, 246–248).
Риторика, привлекательная для многих — и не пустая риторика.
Официальная германская статистика гласила, что в период правления нацистов безработица в Германии резко сократилась. Многие
принимают это за истину. Некоторые историки экономики смотрят
на эти цифры скептически. Возможно, безработица сократилась, но
не так уж сильно (Silverman, 1988). Однако других цифр у нас нет,
и, поскольку после 1933 г. самоорганизация рабочих вне нацистских
объединений прекратилась, у безработных практически не осталось
шансов узнать, сколько их. Кроме того, многие из них получили искусственные рабочие места — начали трудиться на украшении и благоустройстве немецких городов. Поэтому победа над безработицей лишь
казалась основным достижением нацизма. Однако нацистская власть
в самом деле оказывала на экономику более положительное влияние,
чем большинство современных ей европейских правительств — по
крайней мере, до 1938 г., когда перегрев экономики стал очевиден.
Великая депрессия подстегнула нацистов и заставила их наполнить
Предвыборные стратегии нацистов
265
понятие «производительного социализма» конкретным смыслом.
В отличие от них, большинство правых капиталистов и левых марксистов верили в законы капиталистической экономики — и ничего
не делали. Социалисты предавали своих сторонников-рабочих чаще,
чем нацисты своих (некоторые социалисты также защищали кейнсианскую модель экономики, однако не встречали понимания у своих
лидеров). Нацисты отвергали первичность материальных сил, не
верили в законы капитализма — и это позволило им первыми создать
некий кейнсианский, милитаристский вариант национал-этатизма.
Депрессия им в этом помогла — однако справились со своей задачей
они именно потому, что были фашистами, а значит, считали, что эта
задача им по силам.
Бруштейн (Brustein, 1996) особенно подчеркивает, что рабочие
откликались на обещания нацистов дать им работу. Однако, говоря
о причинах присоединения к СА, мы уже обнаружили, что личные
материальные интересы респондентов часто звучат в более широком националистическом контексте: свое гарантированное рабочее
место респонденты воспринимали как элемент национального возрождения. Снова и снова, в одной речи за другой, Гитлер повторял:
в центре внимания нацистов — не повседневные бытовые вопросы,
а «гигантская новая программа», «новое видение», «высокий идеал»,
который поможет преодолеть общественные разногласия (Kershaw,
1998: 330–332). Социалисты в Германии, как и в других странах
межвоенного периода, часто совершали одну и ту же ошибку — полагали, что классовая и национальная идентичность несовместимы.
С этим не могла согласиться добрая половина немецких рабочих. Они
гордились тем, что они рабочие — и немцы. И нацисты восхваляли
и прославляли обе их идентичности.
Разумеется, нацисты были не в силах действительно преодолеть
и снять классовый конфликт, как обещали. Половина их верхушки
считала, что эту задачу лучше всего отложить на потом — после того,
как нацистская партия как следует утвердится у власти. Консервативные нацисты, как Геринг, уговаривали Гитлера идти к власти,
примирившись с капиталистами и прочими реакционерами. Свести
с ними счеты можно будет и потом. Радикальный Геббельс колебался.
Социалистом он не был, но ненавидел капитализм, ибо верил, что
у основ его стоят евреи, а исцеление от него придет через «жертвенный
266
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
дух, берсеркерскую верность свободе, которая спит в пролетариате,
но однажды проснется». Этот дух, полагал он, можно использовать
не в классовой, а в национальной борьбе. Сам Гитлер ясно высказал
свои взгляды в споре с Отто Штрассером (самым левым в нацистской
верхушке):
ГИТЛЕР: Наша организация... стоит на дисциплине. Тот, у кого в руках власть, должен знать, что он властвует по праву принадлежности
к высшей расе. Это право надо ценить и, если потребуется, утверждать
его силой.
ШТРАССЕР: Давайте представим, герр Гитлер, что завтра вы при
дете к власти. Что вы сделает с Круппом? Предоставите его самому
себе или как?
ГИТЛЕР: Естественно, я его не трону. Неужели вы считаете меня полным безумцем, способным поднять руку на тяжелую промышленность
Германии?.. У нас существует лишь одна экономическая система, и за
нее несут ответственность директора и управляющие. Я прошу герра
Аманна (управляющий делами НСДАП) отвечать передо мной за работу
своих подчиненных и руководить ими. Герр Аманн требует от своего
секретаря, чтобы тот отвечал за работу машинисток и руководил ими,
и так далее, до самой низшей ступени служебной лестницы. Так было
тысячелетиями, и так будет всегда. Сильное государство следит за тем,
чтобы промышленность работала во благо нации, а если интересы государства ущемлены, оно имеет право экспроприировать предприятие
и взять его под свой контроль (Noakes, Pridham, 1974: 99–100).
После этого Отто Штрассер вышел из партии, заявив, что Гитлер
спелся с капиталистами и предал национал-социализм. Однако его
брат Грегор, оставшийся верным Гитлеру, справедливо заметил: Гитлер обещал защиту лишь тем капиталистам, что служат интересам
национал-социализма. На кону стоит принцип власти, и предал его
Отто, а не Гитлер, заявил Грегор (Kele, 1972: 159).
Пока капиталисты подчиняли свое авторитарное производство
целям нацизма, Гитлер разрешал им стричь дивиденды. Но если начинали сопротивляться — он их уничтожал. Капитализм как частная
собственность его не интересовал — интересовал капитализм как
дисциплинированная авторитарная система производства. Таков
был идеологический источник нацистских симпатий к капитализму — симпатий, подкрепляемых на практике уличными стычками
Предвыборные стратегии нацистов
267
с социалистами. Нацисты не «преодолели» классовую борьбу — лишь
заткнули ей рот полной занятостью, подавили репрессиями и подчинили национал-этатистским целям. В результате после восьми лет
нацистского правления все классы оказались на грани катастрофы.
Своего расизма нацисты не скрывали. У них он выражался в крайних формах, однако вырос на почве самых распространенных настроений своего времени. Сама Веймарская конституция определяла немецкую нацию как объединение «племен», а гражданство определяла
по признаку «немецкой крови» (Brubaker, 1992). Во многих странах
расовая теория оказывала значительное влияние на биологию и медицину; обывательские расистские предрассудки звучали повсеместно.
Как и другие народы, немцы определяли себя по крови, по происхождению — и с этой мыслью у немцев связывалась идея национального
превосходства, обычная для жителей великих держав. Считалось, что
немцы превосходят в расовом отношении своих соседей, особенно
«менее цивилизованные» народы к востоку от Германии и «семитов».
На востоке Германии, даже среди социалистов, популярны были
антиславянские песенки, шутки, граффити, анекдоты. Сильно ли
они отличались от шуток американцев о поляках или ирландцев об
англичанах? Этнические и расовые предрассудки в начале ХХ века
были самым обычным делом. Бытовой антисемитизм в Германии был
настолько распространен, что нацистам даже не приходилось подогревать его во время выборов. Достаточно было выйти на выборы
с лозунгами пламенного немецкого национализма, а о вражде к евреям
упоминать вскользь, как о неизбежном выводе — как в лозунге, гремевшем на бесчисленных нацистских маршах: «Германия, проснись!
Жидовство, сдохни!» Следовало ли относиться к этому серьезнее,
чем к «кричалкам» нынешних околофутбольных хулиганов? В этом
сомневались даже сами евреи: немногие из них опасались при Гитлере чего-то посерьезнее экономической дискриминации и бытовых
неудобств. Большинство немцев не любили евреев — точнее, не их
самих, а культурный образ «жида». Но в их жизни этот образ занимал не слишком большое место. Как мы увидим в последней главе,
бытовой антисемитизм звучит примерно у половины респондентов
Абеля, однако лишь у ничтожного меньшинства из них играет господствующую роль. Лишь немногие нацистские лидеры пришли
в движение по антисемитским мотивам, а многих нацистов очень
268
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
смущало насилие СА и антиеврейские законы 1930-х (подробнее обо
всем этом см. в следующем томе).
Разумеется, Гитлера все это не смущало — как и многих нацистских
интеллектуалов, прошедших школу «народного» национализма «от
Вены до Мюнхена», сложившегося в конце XIX — начале ХХ века.
В довоенной Вене Гитлер, по-видимому, особенным антисемитом не
был (Hamann, 1999). Однако война и революционные годы в конце вой
ны, как видно, его изменили. В его произведениях, предшествующих
«Майн Кампф», евреи упоминаются в три раза чаще, чем большевики
(Friedlander, 1986: 26). Ко времени написания «Майн Кампф» он
утверждает, что евреи, не имеющие собственного государства, — это
«бациллы», «болезнь», «чума», «паразиты», «зараза» или «вирус»
в теле других народов. «Духовным иудаизмом» заражены в Германии
и марксисты, и капиталисты. Марксизм, русская революция, капитализм — все это результаты еврейского заговора. Евреи должны быть
«устранены навсегда», «уничтожены», «в борьбе с ними никакие методы не будут слишком суровы». Однако не вполне ясно, что именно
Гитлер под этим подразумевал. В то время он писал в гиперболическом
стиле, а в минуты увлечения не стеснялся самых свирепых и кровожадных призывов. Однажды канцлер Брюнинг в полной мере испытал
это на себе. Гитлер орал ему в лицо, что уничтожит коммунистов,
социалистов, «реакцию», Францию и Россию, — но евреев в этот раз
не упомянул (Kershaw, 1998: 339). Как именно проводить на практике
эти этнические и политические чистки — возможно, пока было неясно
и ему самому (Gordon, 1984: гл. 3–4).
Однако нацистские лидеры достаточно хорошо понимали приоритеты немцев, чтобы в предвыборное время приглушать антисемитскую
риторику, ограничиваясь привычными антиеврейскими обертонами в инвективах против ростовщичества или большевиков. Такие
инвективы были полезны и еще в одном отношении: они помогали
затушевать разрыв между «надклассовыми» идеалами и прокапиталистическим уклоном на практике. Когда прилагательное «еврейский»
постоянно применяется к марксизму и к финансовому капиталу, они
начинают выглядеть близнецами-братьями, одинаково враждебными
человеку труда. Однако антисемитизм по отношению к реальным
евреям не помогал выигрывать голоса, особенно в крупных городах,
где евреи по большей части и жили. Хотя образ еврея обычно был не-
Предвыборные стратегии нацистов
269
гативным, реальных евреев большинство немцев воспринимали как не
слишком приятных, но полезных соседей — или, по крайней мере, как
ничтожную проблему, не способную повлиять на их электоральный
выбор. Поэтому антисемитизм нацистской партии ограничивался
в основном свирепыми лозунгами — до тех пор, пока диктатура, война
и господство СС не открыли для нее новые возможности (Kele, 1972:
77; Grill, 1983; Gordon, 1984; Zofka, 1986; Schleunes, 1990).
Если бы Гитлер обещал Вторую мировую войну или массовые
убийства евреев и славян, он не получил бы и 5 % голосов. Повидимому, таких целей у него изначально и не было. Однако нацистские лидеры в самом деле скрывали от избирателей глубину
и последовательность своей ненависти. Именно это, в числе прочего,
в конечном счете привело к войне и геноциду. В целом, за исключением этого серьезнейшего обмана (точнее, частично самообмана), нацисты предлагали последовательную, в большой степени искреннюю
и выполнимую на практике, во многом инновационную избирательную программу, основанную на органическом национал-этатизме.
Из-за Депрессии правящие партии утратили популярность, и избиратели сделались более отзывчивы к нацистам. Если в 1928 г. за
НСДАП голосовало всего 3 % избирателей, в 1930 г. — уже 18 %,
а в июле 1932-го — 37 %; к ноябрю 1932-го (последние свободные
выборы) это число немного упало и составило 33 %. Таким образом,
к голосованию за нацистов пришла треть населения Германии. Это
еще не большинство — хотя во многих демократических странах такое
количество голосов обеспечило бы им победу. Так, нацисты получали
в общей сложности больше голосов, чем демократы или республи
канцы в современных США. В Германии, в соответствии с тогдашней
Конституцией, это давало им возможность, как крупнейшей партии,
попытаться сформировать новое правительство. В блоке с другими
авторитарными партиями они могли добиться мажоритарного большинства и создать правительство вместе с ними. Это было важно,
поскольку означало, что нацистам нет нужды рисковать, устраивая
полномасштабный государственный переворот. В 1933 г. они смогли
использовать конституционные положения о чрезвычайных полномочиях. Нарушать конституцию им не пришлось.
Как же нацистам удалось собрать столько голосов? Голосование —
минимальный акт поддержки, далеко не всегда означающий полное
270
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
с огласие с партийной идеологией. Современники полагали, что
НСДАП забрала себе много протестных голосов, — что и неудивительно для партии с таким количеством «врагов». Немецкая экономика терпела крах, и, чтобы задуматься о голосовании за НСДАП, не
требовалось быть убежденным фашистом. «Другие уже попробовали — дадим шанс и Гитлеру», — так рассуждали многие. 20 % голосов
в 1930 г. обеспечили нацистам голосующие впервые — и молодежь,
и те, кто раньше воздерживался от голосования (Falter, 1986). Возможно, они плохо понимали, что такое нацизм. Однако по другим
коррелятам голосования очевидна широкая популярность нацистских
идей. Попробуем определить основные группы поддержки нацистов.
ИЗБИРАТЕЛИ НАЦИСТОВ
Религия и регион
В большинстве общегерманских исследований лучшим предиктором
голосования за нацистов оказывается религия (Falter, 1986, 1991;
Childers, 1983). Из всех избирателей, зарегистрированных на июль
1932 г. (включая и тех, кто не голосовал), нацистов поддержали около
38 % протестантов и лишь 16 % католиков — разница значительная.
Чем выше был процент протестантов в регионе, тем больше там
голосовали за нацистов. В преимущественно католических округах
нацисты, как правило, набирали менее 10 %, в преимущественно протестантских — 60 % и более. 117 из 124 округов, где нацисты набрали
наибольшее число голосов в 1930 г., были протестантскими (Falter,
Bömermann, 1989). Даже в больших городах, где две конфессии сосуществовали бок о бок, религиозный фактор оставался не менее
важен, чем классовый (Hamilton, 1982: 38–42, 371–373, 382–385).
А в небольших городах с населением менее 25 тысяч человек, где
и проживало большинство немцев, религия как предиктор голосования за нацистов намного обгоняла классовую принадлежность.
Таким образом, электоральный успех нацистам принесли в основном протестанты. И наоборот: разгром либеральных и консер-
Избиратели нацистов
271
вативных партий перед лицом нацистского успеха распространялся
только на протестантских избирателей. Две католические партии
(партия Центра и баварская БВП) сумели сохранить свои голоса,
приблизительно на 90 % коррелирующие с количеством католиков
в округах. Следовательно, позиции католиков в католических округах
практически не изменились. Однако три так называемые буржуазные
партии — либеральная Демократическая партия, консервативная Немецкая народная партия и ультраконсервативная ДНВП — зависели от
протестантов. А этих избирателей с 1928 г. начали переманивать к себе
нацисты. Даже две социалистические партии, вполне светские, обращались в основном к протестантскому электорату — следовательно,
и они оказались под угрозой. Особенно заметен оказался этот тренд
среди женщин: католички голосовали преимущественно за партию
Центра и БВП, протестантки — сперва в основном за «буржуазные»
партии, затем за нацистов (Falter, 1986: 163–170).
С учетом религиозного фактора все установленные выше корреляции нуждаются в уточнении: в подавляющем большинстве
нацистов поддерживали протестантские классы, протестантские
ветераны, протестантские студенты, протестантская молодежь
и так далее. Сильные католические общины не поддавались очарованию нацизма — так же, как и примерно схожее число немецких
рабочих в сплоченных пролетарских гетто. В конечном итоге ни
«красные», ни «черные» (католики) не остались свободны от авторитарных симпатий. Католические партии поддержали реакционный
авторитаризм после 1930 г., в надежде с его помощью избавиться
от более страшной, как им казалось, двойной угрозы — фашизма
и большевизма. В 1932–1933 гг. они начали сотрудничать с Гитлером. А коммунистическая партия начала безумную атаку на «социал-фашизм», в ходе которой часто вступала в союз с нацистами.
В конечном счете коммунистическая и социалистическая партии
объединились против нацистов, но это противостояние ограничилось
громкими заявлениями. В конце концов они сдались без борьбы.
Таким образом, большинство католиков, социалистов и коммуни
стов проявили слабость и недальновидность, но и только: в чем-то
худшем их обвинять не приходится.
Роль религии для поддержки нацизма признана всеми, но недостаточно разъяснена теоретически. В целом ученые подчеркивают
272
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
сопротивление католиков нацизму, однако считают протестантизм не
столько пронацистским, сколько более «слабым», чем католическая
церковь, менее способным к сопротивлению (напр., Brooker, 1991:
гл. 7). Есть здесь и загадки. Связь между нацизмом и протестантизмом
не была постоянной. Основатели нацизма, особенно его теоретики,
происходили (как и сам Гитлер) в основном из католических семей
венско-мюнхенской оси. С конца 1930-х роль бывших католиков снова начала возрастать: именно их руками совершались страшнейшие
преступления нацизма (об этом см. в следующем томе). Трудно найти
прочную взаимосвязь и на территории Европы. Как мы уже видели
в главе 2, демократические государства северо-запада — в основном
протестантские, а в Скандинавии и лютеранские, то есть принадлежат
к протестантской деноминации, по своему вероучению стоящей ближе
всего к немецким протестантам. Почему же немецкие протестанты
поддержали нацизм?
Причинно-следственная связь здесь, по-видимому, обусловлена не
столько вероучением или мощью церкви, сколько отношением церкви
к национальному государству. Католическая церковь на германское
государство смотрела с подозрением. Родина католицизма в Германии,
ее южные земли, в XIX веке вошла в прусский Кайзеррейх далеко не
по доброй воле. Немецкая католическая церковь управлялась из-за рубежа и выступала за транснационализм, а не за национал-этатизм. Это
побуждало партию Центра поддерживать либеральную демократию,
в противовес авторитарным тенденциям государства. Католики, не
столь тесно связанные с Римом, искали политического покровительства не у протестантского Берлина, а у католической Вены. Поэтому
им были ближе пангерманистские устремления (к объединению всех
немцев), а не стратегия «малой Германии», исповедуемая Пруссией.
Протестантская церковь — точнее, квангелическая — в определенном
смысле была государственной церковью Пруссии, то есть националгосударственной церковью «малой Германии». По сути она представляла собой федерацию провинциальных церквей различных немецких
земель, принадлежащих к трем протестантским деноминациям: лютеранской (по большей части), реформатской и объединенной. Со времен
Реформации церковь в каждом немецком мини-государстве возглавлял
местный правитель. После национальной унификации (1871) каждой
церковью управляло и финансировало ее местное земельное прави-
Избиратели нацистов
273
тельство. Церковные собрания, проповеди, публикации поддерживали
государство и его официальные ценности: дисциплину, благочестие,
порядок, иерархию. Веймар покончил с монархией и с большинством
механизмов государственного контроля, однако не тронул ни правительственные субсидии, ни идентификацию церкви с национальным
государством. Евангелическая церковь осталась, и по традициям
своим, и по убеждениям, национал-этатистской. От государства она
ожидала поддержания порядка, продвижения немецко-христианских,
в основном консервативных ценностей и активной социальной политики в масштабах страны.
Однако это консервативное христианское государство исчезло —
и протестанты-евангелики, как и консерваторы, теперь жаждали
нового сильного государства, способного воплотить в себе немецкую
культуру и мораль. Поначалу нацистов поддерживали немногие. Большинство дрейфовали к нацистам постепенно, через консервативные
или «народнические» организации. Начиная с середины 1920-х, безрелигиозные лидеры нацистов были удивлены размахом поддержки
НСДАП со стороны протестантских пасторов, как с церковных кафедр, так и с партийных трибун. В городке Нортхайм нацисты ответили на это, включив в программы митингов молитвы и религиозные
гимны, а также поддержав на выборах в попечительский совет местной школы «христианско-национальных» кандидатов (Allen, 1965).
Протестантские темы привлекали к нацистам голоса буржуазных партий. Так, нацисты сумели расколоть квангелическую церковь — то, что
не удалось им с католической. На выборах в евангелической церкви
в июле 1933 г. большинство в две трети голосов досталось «Немецким
христианам» — нацистской евангелической организации. Однако затем «Немецкие христиане» перегнули палку, предложив исключить
из Библии весь «еврейский» Ветхий Завет! Тем не менее «Немецкими христианами» осталось больше половины церкви, а остальным
пришлось сформировать независимую «Исповедническую церковь»
(Helmreich, 1979; Brooker, 1991: гл. 10). Общность евангелического
протестантизма с нацизмом, проявившаяся и в партийном членстве,
и в голосовании, имела очевидное идеологическое объяснение: и те,
и другие были национал-этатистами. То же относится к протестантам-чиновникам, студентам, ветеранам и так далее: они становились
нацистами, поскольку уже исповедовали национал-этатизм.
274
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
Однако после установления экспансионистского рейха евангелическая церковь уже не могла оказывать нацистам такую идеологическую
поддержку. Исчезло мощное австрийское государство, способное
заблокировать объединение всех немцев в единой «Великой Германии». Дальнейшее расширение немецкого государства охватывало
в основном немцев-католиков — в Австрии, Силезии, Эльзасе-Лотарингии; евангелическое прусско-немецкое государство, основанное на
концепции «Малой Германии», не было связано с пангерманизмом.
В следующем томе своей книги я расскажу о том, как в конце 1930-х,
вместе с радикализацией нацизма, поддержка его смещалась от протестантов к (бывшим) католикам.
Протестантизм помогает объяснить и многие различия в голосовании по регионам. В ранний период поддержка нацистов на выборах,
хоть и незначительная, исходила, по-видимому, в равной мере от обеих
конфессий. В 1924 г. два из четырех избирательных округов, где нацисты набрали более 10 %, находились в протестантских Мекленбурге
и Франконии, другие два — в католической Баварии. Однако к июлю
1932 г. активнее всех голосовали за нацистов почти исключительно
протестанты: большая часть протестантского северо-востока (Восточная Пруссия, Померания, Мекленбург, Бранденбург, Нижняя
Силезия и Тюрингия), весь протестантский северо-запад, а также
протестантские анклавы Гессена и Баварии (то есть Франкония).
Очевидна и вторая причина. Крестьянская, сельскохозяйственная Германия больше тяготела к нацизму. Поэтому из числа протестантских
регионов меньше голосовали за нацистов в регионах более городских
и индустриальных: в Берлине, Саксонии, Западной Вестфалии, на
побережье Рейна и в Руре. Эти регионы в основном оставались верны левым партиям (Milatz, 1965; Passchier, 1980). Третья причина
региональных вариаций не столь очевидна. Больше всего голосовали
за нацистов в Шлезвиг-Гольштейне и в северо-восточных областях,
разрезанных надвое Польшей (единственный регион, где нацисты
в 1931 г. получили более 45 % голосов, не считая Ганновера). Можно
заметить, что и то и другое — «угрожаемые земли», граничащие с территориями, отнятыми у Германии по Версальскому договору. На это
можно возразить: союзники отняли у немцев и значительную часть
Саара и Рура на юго-западе, однако в этих краях за нацистов голосовали немногие. Дело здесь в том, что это индустриальный и традици-
Избиратели нацистов
275
онно католический регион. Как только католики и промышленные
рабочие сдались НСДАП — это произошло после прихода нацистов
к власти, — «угрожаемые территории» превратились в бастионы
радикального нацизма. Однако до прихода к власти за нацистов
голосовали, во-первых, протестанты, во-вторых, сельские жители.
Класс
Классовому анализу голосования исследователи традиционно уделяют большое внимание. Экзит-поллов у нас нет, поэтому приходится полагаться на результаты экологических исследований. Верно
ли, что в округах, где больше голосовали за нацистов, преобладал
средний класс, как утверждает одна авторитетная теория фашизма?
Первое серьезное экологическое исследование провел Гамильтон
(Hamilton, 1982): он рассматривал большие города. Его данные
подтвердили теорию буржуазного класса: чем выше на социальной
лестнице располагались жители округа, тем активнее они голосовали
за нацистов. В большинстве смешанных округов, где, по заключению
Гамильтона, проживало больше представителей нижнего среднего
класса, результаты соответствовали средним по стране. Однако более
поздние исследования значительно уточнили и скорректировали эти
данные. Чилдерс (Childers, 1983; 1984; 1991) проанализировал всю
страну. Он обнаружил, что до 1928 г. нацисты показывали наилучшие результаты в округах с большим количеством ремесленников,
мелких торговцев и госслужащих. Начиная с 1928 г. к ним присоединились округа с преобладанием мелких крестьянских хозяйств.
Таким образом, утверждает он, основное ядро поддержки нацистов
составляли представители «старого» нижнего среднего класса —
классическая мелкая буржуазия и мелкое чиновничество, — но не
«новый» средний класс, состоящий из служащих и менеджеров.
Поскольку «ремесленников» Чилдерс относит в основном к мелкой
буржуазии, а не к рабочему классу, возможно, он переоценивает роль
мелкой буржуазии в поддержке нацизма. Таким образом, вплоть до
1930 г. нацизм в основном вписывался в «мелкобуржуазную» классовую теорию. Однако позже, как признает Чилдерс, поддержка
его расширилась, а классовые корреляции ослабли, даже стерлись.
276
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
Это он объясняет (не принимая нацистов всерьез) тем, что нацисты
сделались «всеобъемлющей» протестной партией, популистами «на
милю в ширину и на дюйм в глубину».
Фолтер (Falter, 1986; 1991; 1998) приводит новейшие и самые
полные данные по всей Германии. В том, что касается периода после
1930 г., они поддерживают заключения Чилдерса. Фолтер показывает, что пропорция рабочих в общем числе голосующих не оказывала
на результаты нацистов значительного влияния. В целом классовой
корреляции не было. Но оставались серьезные секторальные различия. Больше всего сторонников нацистов было среди сельскохозяйственных рабочих (хотя в партию вступали очень немногие из
них), дальше шли строительные рабочие, работники сферы услуг
и коммунальных служб. Однако в округах с преобладанием индустриальных рабочих — кроме государственных заводов — за нацистов
голосовали реже. Чилдерс (Childers, 1983: 255) обнаружил также
связь между нацизмом, с одной стороны, и ручным трудом и мелким
производством — с другой, особенно после 1932 г. К 1930 г. нацисты
привлекли на свою сторону около 30 %, а к 1932 г. — около 40 %
голосов рабочих. В целом около 50 % немецких рабочих голосовали
за социалистов или коммунистов, 30 — за нацистов, 10 — за католи
ческие партии и 10 — за буржуазные. После 1930 г. голоса, отдаваемые
за три радикальные партии, заметно перераспределились. Нацисты
перетянули к себе три миллиона голосов от социалистов, полмиллиона — от коммунистов, однако полтора миллиона голосов перешли
в противоположном направлении (Falter, 1991: 116). В начале 1920-х
социалисты заигрывали с идеологией Volksgemeinschaft, отдавая себе
отчет в том, что многие рабочие относят себя и к рабочему классу, и к
немецким националистам (Fischer, 1995: 115–116). Однако, отмечает
Фолтер, создать «движение национального единства» удалось именно
нацистам (Falter, 1998: 123).
Данные по голосованиям совпадают с данными по членам НСДАП,
приведенными в предыдущей главе. Рабочих нацизм привлекал не
менее чем другие классы. Теория фашизма как идеологии среднего
класса применительно к Германии ошибочна. Однако ядром пролетарского фашизма стали не крупные частные индустриальные
предприятия в больших городах, а сферы сельского хозяйства, услуг,
общественных работ, а также небольшие заводы и фабрики, разбро-
Избиратели нацистов
277
санные по маленьким городкам и по сельской местности. Рабочихфашистов было множество, однако не в центре, а на периферии
классовой борьбы.
Фолтер показывает также, что начиная с 1932 г. протестантские
сельские общины сделались отчетливо нацистскими, в то время как
католические голосовали за нацистов на общесреднем национальном уровне. Умеренно тяготели к нацизму самозанятые люди (но не
независимые ремесленники), а также общины с большим процентом пенсионеров и домохозяек (Childers, 1983). Округа с большим
количеством служащих, если исключить другие переменные, были
менее склонны к нацизму, хотя Фолтер и утверждает, что нацистов
поддерживал в основном «старый средний класс» — независимые
предприниматели, ремесленники, фермеры. Корреляция между электоральной поддержкой нацистов и численностью государственных
служащих чуть выше среднестатистической и выражена у Фолтера
слабее, чем в более полных данных Чилдерса. Корреляция между
группами среднего класса и голосованием у нацистов у Фолтера
лишь изредка превышает 0,2. Однако Фолтер показывает также, что
за нацистов меньше голосовали в регионах, охваченных безработицей,
особенно во время Депрессии. Благополучные католические регионы
по-прежнему голосовали за партию Центра, а вот благополучные протестантские регионы переключились на нацистов. Регионы с высоким
уровнем безработицы голосовали за социалистов или коммунистов.
Во всех классах нацизм оказывался более притягательным для имеющих работу, чем для безработных (см. Stachura, 1986). Таким образом, как мы уже видели, исследуя состав НСДАП, экономическое
благополучие объясняет нацизм лучше, чем лишения. В главе 1 мы
говорили о том, как часто теория среднего класса как родоначальника
фашизма сопрягается воедино с теорией экономических лишений.
Но ни то ни другое не имеет отношения к тем, кто отдавал свой голос
за фашистов в Германии, — пока они не стали там силой, с которой
пришлось считаться.
278
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
КЛАССЫ, ЭКОНОМИКА
И УПАДОК ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ
И все же теорию среднего класса можно отчасти реабилитировать.
Голосование за нацистов росло во многом за счет традиционных голосов так называемых буржуазных партий — как консерваторов, так
и либералов (ДНВП, Немецкой народной партии и Демократической
партии), а также более мелких партий «особых интересов», таких
как Крестьянская лига, Партия арендаторов или Альянс интересов.
Чилдерс (Childers, 1991: 320) пишет о том, что буржуазные партии
почти не пытались выйти за рамки классовых, региональных и религиозных ограничений, в особенности же игнорировали рабочих,
а партии «особых интересов» концентрировались на конкретных
видах деятельности, свойственных буржуазии. И те и другие, говорит
он, замыкались в статусных и профессиональных рамках.
В сущности, все старые партии несли на себе печать довоенного
полуавторитарного Кайзеррейха. Рейхстаг не контролировал исполнительную власть, так что парламентские партии не несли прямой
ответственности за политику. У них было мало опыта в поисках
компромиссов и принятии практичных политических решений — эту
работу выполняли за них министры кайзера. Как правило, партии
представляли лишь узкие группы по интересам. В первые годы
существования Веймарской республики эта система худо-бедно
работала, поскольку бывшие антисистемные партии, социалисты
и католическая партия Центра, объединились с несколькими буржуазными партиями и создали широкую коалицию. Когда из этой
коалиции вышли социалисты, буржуазные партии, будь они в самом
деле «либеральны» или «консервативны» в широком смысле слова,
могли бы расширить свою электоральную базу. Однако они продолжали представлять лишь узкий круг своих сторонников (Jones,
1988). Поэтому после 1928 г. НСДАП, начав обращаться ко всей
нации, перетянула на свою сторону значительную часть их избирателей. Сохранить свои голоса смогли лишь католики и левые (среди
последних — коммунисты за счет социалистов). Левые обращались
Классы, экономика и упадок демократических партий
279
прежде всего к городскому рабочему классу, католические партии —
к католикам всех классов. Все это отчасти подтверждает классовую
теорию развития нацизма: буржуазные организации рухнули, потому что их сторонники из среднего класса перебежали к нацистам
(Kitchen, 1976). И хотя после 1930 г. средний класс несколько остыл
в своих симпатиях к нацистам, он успел сделать достаточно много,
чтобы обеспечить им успех.
Но стоит ли так прямо отождествлять партии с классами? Некоторые партии «особых интересов» были скорее профессиональными,
чем классовыми. Крестьянским партиям, чтобы выиграть выборы,
приходилось завлекать в свои ряды и батраков, и мелких бауэров,
и крупных землевладельцев. Партии ремесленников обращались
и к хозяевам кустарных производств, и к наемным подмастерьям.
Альянс интересов, получивший четверть голосов на выборах в Марбурге в 1924 г., представлял интересы квартиросъемщиков, лиц,
ищущих жилье, ветеранов, сторонников земельной реформы, госслужащих, многодетных семей. Они представлялись защитниками прав
потребителей и лезли из кожи вон, чтобы расширить свой электорат
(Koshar, 1986: 84). Это были не просто буржуазные партии. То же
можно сказать и о так называемых «буржуазных» либералах и консерваторах. Они обращались ко всему народу — или же к среднему классу,
имплицитно включающему в себя и рабочих (как и в современном
американском понимании термина «средний класс»). В большинстве
стран за консервативные партии стандартно голосует около трети
рабочих — в силу ли консервативных убеждений, патрон-клиентских
связей или веры в компетентность видных консерваторов. Фолтер
(Falter, 1986: 167–169) показывает, что общая численность рабочих
в округе не слишком сильно влияла на количество голосов, отданных
за буржуазные партии (хотя там, где рабочих было больше, чуть
больше голосов получала некогда либеральная Немецкая народная
партия). Большую часть голосов они набирали в первичном секторе,
и гораздо меньше — в промышленных районах. Возможно, нацисты
перехватили голоса рабочих, традиционно поддерживавших «буржуазные» партии — особенно в сельском хозяйстве и сфере услуг, — так
же, как перехватили голоса их сторонников из других классов. Эти
партии были буржуазными по составу своей верхушки, как правило — по политике, однако не по составу сторонников. Они никогда
280
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
не смогли бы стать крупными партиями, если бы за них голосовала
только буржуазия. Так что нацисты, по всей видимости, перехватили
и до некоторой степени радикализировали самых консервативно настроенных немцев из всех слоев населения.
Почему же консерваторы и центристы потерпели поражение?
Было ли это связано с состоянием экономики? В течение инфляции
и стабилизации 1923–1924 гг. голосование за так называемые буржуазные партии держалось на одном уровне — 35–37 %. На спад оно
пошло в годы экономического бума. К маю 1928 г. — в высшей точке
экономического роста, еще до начала Депрессии — буржуазные
партии потеряли почти треть избирателей (Childers, 1991: 326). Тем
временем нацисты потихоньку подбирали под себя голоса мелких
националистических движений, пока не превратились в крупнейшую партию правых радикалов (Grill, 1983). Первый серьезный
прорыв нацистов — на местных выборах 1931 г. — также произошел
еще до экономического спада. Даже первая удача на национальных
выборах — в декабре 1931 г. — пришла к ним до того, как Германия
осознала, что вступает в эпоху Великой Депрессии. Нацисты создали самую влиятельную «народническую» партию, способную
привлечь под свои знамена националистов, государственников,
антисемитов и сторонников буржуазных партий. Усиление нацизма
привело к медленному, на протяжении более десятилетия, угаса
нию буржуазных партий — и к почти мгновенному распаду партий
«особых интересов».
В попытках преодолеть упадок все эти партии, думая, что уловили
господствующую тенденцию, начали смещаться вправо. Демократическая партия оставалась безоговорочно предана республике —
и рухнула первой (на выборах в 1932 г. она набрала всего 1 % голосов). Чтобы исправить положение, либералы начали превозносить
усиление государства. Консервативная Немецкая народная партия
высказывалась в пользу конституционной монархии, однако, потеряв
голоса (менее 2 % в 1932 г.), перешла к поддержке полуавторитаризма.
Самая консервативная из трех, ДНВП, выступала за полуавторитаризм еще с довоенных времен. Она удержалась на плаву лучше своих
соперниц, однако тоже много потеряла: в ноябре 1932 г. ее результаты
составили 8,3 %. Стоит заметить, что непосредственно перед прихо-
Классы, экономика и упадок демократических партий
281
дом к власти нацистов эта партия считалась основной реакционной
силой в Германии.
Итак, традиционные сторонники буржуазных партий от
вернулись от демократии. Вплоть до 1930 г. они дрейфовали
в сторону менее демократических партий, а затем переметнулись
к нацистам. Все три партии заметили эту перемену и отреагировали на нее, также отвернувшись от демократии. Хотя верхушка
партий и была буржуазной, страхи их основывались на чувствах,
широко распространенных в немецком обществе, за исключением
двух интернационалистических лагерей — «красных» и «черных»,
марксистов и католиков. Только эти две субкультуры стойко противостояли соблазну нацизма. Промышленные рабочие в рабочей
среде продолжали голосовать за левых. Католики, живущие и работающие среди других католиков, голосовали за католические
партии. И у тех и у других была широкая сеть общественных
организаций, поддерживающих линию партии. Партия Центра
имела неизменный успех в округах с активной церковной жизнью
и получала новые голоса там, где священники приравнивали голосование к исповеданию веры (Kühr, 1973: 277–295). Социалисты,
коммунисты и партия Центра в основном сохранили свои группы
поддержки, а вот у буржуазных партий нацисты переманили к себе
почти половину сторонников (Falter, Bömermann, 1989). Вне этих
двух сообществ — левых и католиков — в группе риска оказались
все немцы, независимо от социального положения: в сущности,
в мае 1932 г. большинство из них могло проголосовать за нацистов.
Как ни неприятно это сознавать, большая часть немецкого народа,
не относящаяся ни к «красным», ни к «черным», решительно отвернулась от либеральной демократии и выбрала нацизм. НСДАП
стала национальной партией в двух разных смыслах. Они обращались ко всему народу сразу. Но, кроме того, они мобилизовали
«народ» в более мифическом смысле — как силу, противостоящую
двум крупным и предположительно «антинародным» сообществам
в Германии, «красному» и «черному». Нацисты не обращались
именно к буржуазии или к мелкой буржуазии — они обращались
к протестантам всех классов и радикализировали их. Таково было
ядро их массовой поддержки.
282
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
ВЕЙМАРСКИЕ ЭЛИТЫ
Теперь обратимся к еще одной теории происхождения фашизма — теории высших классов. Нацисты не получили большинства голосов на
выборах. Как и в Италии, они пришли к власти благодаря закулисным
сделкам с высшим классом и правящими элитами. Элиты начали
тяготеть к авторитаризму начиная с 1930 г., когда коалиционное
правительство затрещало по швам под ударами Великой депрессии.
Правоцентристское правительство Брюнинга начало действовать
независимо от Рейхстага, пользуясь чрезвычайными полномочиями,
полученными от рейхспрезидента по соответствующей статье конституции. Затем полуавторитарные режимы фон Папена и Шлейхера
начали проводить первые настоящие репрессии. Наконец, в 1933 г.
фон Папен и Гинденбург предложили Гитлеру, теперь уже лидеру
крупнейшей фракции в рейхстаге, войти в правительство. Они пытались создать полуреакционный авторитарный режим. Но Гитлер был
не из тех, кто готов делиться властью. Воспользовавшись смертью
президента Гинденбурга, он быстро перехватил полномочия главы
государства и установил нацистскую диктатуру. Что же означал этот
дрейф элит по направлению к фашизму и каковы были их мотивации?
Для начала попытаемся разобраться с «обычными подоз ре
ваемыми» этой теории — капиталистами и их мотивами. В случае
Германии есть основания говорить лишь об одном из двух уже названных мною капиталистических мотивов — о максимальной прибыли,
а не о защите собственности. Быть может, немецкий капитал ощущал
реальную угрозу своей собственности в первые послевоенные годы —
хотя умеренные социал-демократы той эпохи уже были готовы сокрушить немногих настоящих революционеров силами армии и правых
парамилитарных организаций. Однако к концу 1920-х социалисты
стали вполне умеренной и респектабельной партией, а компартия,
хотя и набирала силу, не могла взять рабочее движение под свой
контроль. Поэтому никакой значительной угрозы для капиталистической собственности от левых не исходило. Однако с 1929 по 1933 г.
капиталисты, возможно, чувствовали себя зажатыми в тиски между
Великой депрессией с одной стороны и проводимыми государством
прогрессивным налогообложением и политикой социальных льгот
Веймарские элиты
283
с другой и испытывали необходимость в репрессиях со стороны авторитарного режима, чтобы сохранить высокие прибыли.
Капиталисты вообще поддержали Веймарскую республику довольно вяло, не по убеждению, а из страха перед угрозой послевоенной
революции. Многие из них поначалу были недовольны послевоенными социальными и трудовыми реформами. Страховка по безработице,
строительство государственного жилья, различные муниципальные
проекты — все это оплачивалось за счет прогрессивного налогообложения, включающего в себя налоги на роскошь и на корпорации. Трудовое законодательство ограничивало продолжительность рабочего
дня, заставляло нанимать на работу ветеранов и инвалидов, запрещало
несправедливые увольнения, принуждало работодателей к сотрудничеству с профсоюзами и фабричными комитетами, навязывало
государственный арбитраж, требовало разрешения правительства для
сокращения более 50 рабочих мест на предприятии. Еще до начала
Великой депрессии капиталисты начали проявлять недовольство.
Так, например, рурские железные и стальные бароны провели в 1928 г.
массовый локаут в ответ на распоряжение правительства увеличить
зарплату рабочим.
Великая депрессия довела ситуацию до белого каления. Государственные расходы росли, налоги повышались, а доходы частного
бизнеса падали. Хуже всего пришлось тяжелой промышленности, хотя
политические взгляды капиталистов во всех промышленных секторах
были примерно одинаковы (Geary, 1990; Patton, 1994). Большинство
политически активных капиталистов одобряли правый поворот,
наметившийся в буржуазных партиях. Они требовали укрепления
национальной валюты, большей свободы рынка труда, урезания социальных расходов, разрыва с социалистами и прямого президентского
правления. Некоторые историки экономики утверждают, что Великая
депрессия стала непосильным испытанием для Веймарской демократии: она обнажила структурные проблемы немецкой экономики,
которые Веймар так и не смог решить (Borchardt, 1982; James, 1990).
Высокие зарплаты и социальные выплаты, жесткие ограничения на
рынке труда были частью протекционистской политики Веймарской
республики. Рефляционные реформы провалились из-за того, что
внешние кредиты предлагались на неприемлемых для Германии
условиях, а внутренние заимствования неизбежно вели к инфляции
284
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
(что также нарушало правила рейхсбанка). В любом случае, валовые
внутренние сбережения были на низком уровне. Эта экономическая
теория крушения Веймарской республики объясняет и неизбежность
социальных репрессий: республика дала слишком много прав и свобод рабочим, чтобы это могло понравиться буржуазии, поэтому для
своего спасения вначале она качнулась в сторону авторитаризма, а потом приняла и нацизм. Многие деятели той эпохи, включая и самих
нацистов, верили, что после 1930 г. так оно и случилось. Я склонен
согласиться: не будь Великой депрессии — не было бы и нацистского
режима. Победу нацизма обеспечил крах Веймарской республики,
а хрупкую республику сокрушил мировой кризис. Но было ли это
результатом классового конфликта? Вот это уже более сомнительно.
Первый контраргумент выдвигают некоторые экономисты, полагающие, что события могли развиваться и по альтернативному
классовому сценарию. Хольтфрерих (Holtfrerich, 1990) считает, что
проблему низких внутренних сбережений можно было решить путем компромисса между трудом, капиталом и правительством в том
случае, если бы правительство направило внутренние ресурсы на
национальное накопление. Быть может, такое решение потребовало
бы гения уровня Джона Кейнса, время которого еще не пришло. Тем
не менее демократические страны северо-западной Европы справи
лись с мировым кризисом демократическим путем, и никакой особой
гениальности это не потребовало. Политики Запада упрямо искали
верный путь в хаосе и неразберихе кризиса. Британские консерваторы
дождались раскола в правящей лейбористской партии и предложили
ее правому крылу дефляционную стратегию. В Соединенных Штатах
победил проиндустриальный и контрдефляционный «Новый курс»,
получивший поддержку умеренных профсоюзов, корпоративных
либералов и ориентированных на экспорт корпораций. Скандинавы
начали заключать коллективные соглашения между капиталом, рабочими, фермерами и правительством, что помогло реструктурировать
рынок труда и несколько снизить инфляцию. Ни одна из этих антикризисных мер не переворачивала вверх дном экономику страны. Ни
одна не несла идеи «преодоления и снятия классовых конфликтов».
Но классовому примирению они способствовали. Демократическое
решение мирового кризиса опиралось на большую социальную справедливость и большую коллективную ответственность политических
Веймарские элиты
285
партий и классов в борьбе с общей бедой. Революцией тут и не пахло — основная тяжесть кризиса в большинстве стран все же выпала
на долю рабочих, страдавших от массовой безработицы. Немецкие
консерваторы тоже могли бы найти свой путь. Некоторые пытались
это сделать, но большинство отвергло реформы — они выбрали решения, ведущие к авторитаризму и, в конечном счете, к нацизму. Одними
лишь экономическими проблемами такой выбор не объяснишь.
Второй контраргумент состоит в том, что среди нацистов было
мало капиталистов: их было мало даже в окружении фон Папена,
Шлейхера и президента Гинденбурга. Грегор Штрассер очень точно
окрестил полуреакционное авторитарное правительство Шлейхера
«кабинетом антикапиталистических мечтаний». Еще меньше капиталистов примкнуло к нацистам. Часто утверждают, что встреча в БадГарцбурге в октябре 1931 г. положила начало сговору между НСДАП
и крупными немецкими промышленниками. Но Тернер (Turner, 1985)
утверждает, что на ней присутствовал лишь один крупный магнат, все
остальные были мелкими предпринимателями или управленцами
низшего звена. По-видимому, большинство капиталистов надеялись
на консервативный авторитаризм, который сможет обеспечить дефляцию, отменить трудовые реформы и укротить Гитлера.
Есть и третий контраргумент: немецкий капитал, мол, не желал нацистского режима, ибо не доверял экономической политике
НСДАП и боялся нацистских радикалов. По-видимому, больше
всего симпатизировали нацистам владельцы крупных газет и кинопромышленники. Радикальный националист Альфред Гугенберг
был хозяином крупнейшей медиаимперии. Под его руководством
ДНВП превратилась в полуреакционную авторитарную партию. Он
совершил историческую ошибку, принявшись рекламировать Гитлера
и нацизм, ибо полагал, что это повысит и его ставки. Большинство
многотиражных газет того времени были аполитичны, предпочитали
публиковать криминальную хронику, скандальные сплетни и новости
спорта. О нацистах они упоминали вкратце, но, как правило, невраждебно. Солидная пресса в основном поддерживала буржуазные
партии, считая их противовесом «интернациональным марксистским
партиям... разлагающим нацию, государство, семью и немецкий дух»
(так писала «Hamburger Nachtrichten»). Нацистский социализм был
для них столь же неприемлем. Но когда буржуазные партии пришли
286
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
в упадок, некоторые газеты начали писать о нацистах как о несгибаемых патриотах. «Бесстрашные и безжалостные борцы за нацию» — так
описывала их в 1932 г. «Rheinisch-Westfälische Zeitung». Нацисты
начали получать более выгодное освещение в прессе, что увеличило
их популярность (см. Hamilton, 1982: 125, 165). В начале XX века
это было общей тенденцией: медийные бароны играли на популистском национализме, чем не только расширяли свою аудиторию, но
и добивались «поправения» политики. В Британии Нортклиффы
и Бивербруки поддерживали консервативный империализм, тем же
самым занимался в США такой человек, как Уильям Херст; медиамагнаты Германии встали на сторону авторитаризма. Убедительного
объяснения этому у меня нет, однако, учитывая идеологическую
власть медиамагнатов, очевидно, что консервативность прессы имела
серьезное политическое значение.
Но большой бизнес все-таки не доверял нацистам. Гитлер уверял,
что ненавидит социализм, но капитал все равно продолжал страшиться радикалов из Отдела экономической политики НСДАП. Капиталистов беспокоило насилие нацистов, хотя нацисты и не посягали на
частную собственность — наоборот, нападали на тех, кто ее отрицал.
Нацистский «принцип власти» вполне подходил капиталистам. Бесспорно, они предпочли бы других союзников. Но... враг моего врага
может стать моим другом. Многие из класса имущих приветствовали
приход Гитлера, некоторые ему в этом помогли, и лишь единицы
пытались этому воспрепятствовать38. Но все-таки не будем сгущать
краски: Германия — не Италия, коллективной и исключительной
вины капиталистов в том, что случилось, не было.
Нам приводят и четвертый контраргумент: в Германии донацистской эпохи, судя по всему, не было ожесточенной классовой
борьбы. Спокойнее всех жилось немецкому селу. Революционные
беспорядки пришлись на 1918–1920 гг. и быстро угасли. Некоторое
беспокойство вызывал рост коммунистической партии после 1930 г.,
поскольку коммунисты проповедовали революцию. Однако это была
38
Это очень спорный вопрос. Между «виновен» и «невиновен» в отношении
капиталистов я выбираю промежуточную позицию. О приблизительной
нисходящей шкале «вины» см. Mason, 1972; Geary, 1983, 1990; Hamilton,
1982: 393–419, 428–433; Neebe, 1981; Turner, 1985.
Веймарские элиты
287
партия меньшинства, поддерживали ее в основном безработные, не
обладавшие никакой реальной властью. Более серьезной силой была
Социалистическая партия и ее профсоюзы. С 1925 г. они формально
заявляли о своей приверженности «классовой борьбе». Однако на
деле социалисты оставались умеренно-оппозиционной партией, на
протяжении более десяти лет возглавлявшей некоторые земельные
правительства. Риторика классовой борьбы всплывала, когда социалисты чувствовали, что коммунисты отвоевывают у них голоса; однако
ни против антикризисных мер Брюнинга, ни против гитлеровского
полупереворота Социалистическая партия не протестовала. На горизонте Германии не маячила никакая революция, кроме революции
нацистов. Капиталистам не было нужды защищать свою собственность. Никто не собирался ее экспроприировать. И если речь шла
лишь о сохранении и приумножении прибыли, почему же капитал
не нашел более прагматичного решения?
У сторонников классовой теории есть ответ и на этот вопрос.
Возможно, капиталистами двигали не опасения революции, а более
расплывчатый страх насилия и анархии, неизбежной при острых
классовых конфликтах. Действительно, беспорядки были, но социалисты чаще становились жертвами, чем палачами: левые совершили 22 убийства, 38 виновников получили средний срок в 15 лет
и 10 смертных приговоров, на совести правых было 354 убийства,
в тюрьме оказалось 24 осужденных со средним сроком 4 месяца
заключения, а смертных приговоров не было совсем. В 1927 г. из
22 правых убийц, членов «Черного рейхсвера», шестеро получили
смертные приговоры и еще шесть — многолетнее заключение, но три
года спустя лишь двое оставались в тюрьме. Когда на демонстрации
выходил «Стальной шлем», полиция заботилась об их безопасности,
когда на улицу выходили левые, полицейские избивали их (Tilly,
1975: 224–225, 229; Southern, 1982: 339). «Дружинники» Социалистической партии думали лишь о самозащите, до 1928 г. так же вели
себя и коммунисты. Когда Коминтерн призвал коммунистические
партии «разорвать путы... тред-юнионистской легальности... и пе
рейти к активной борьбе», коммунисты ожесточились. Но и тогда,
в 1931 г., из 29 убитых 12 были коммунистами, двое социалистами,
шестеро нацистами, один боевиком «Стального шлема», четверо
полицейскими и еще четверо — случайными жертвами, что дает
288
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
соотношение один к двум в пользу правых. Позже коммунисты
предали забвению насильственные методы борьбы, опасаясь, что
это может оттолкнуть нейтральных рабочих и скомпрометировать
партийные идеалы (Newman, 1970: 227–236; Merkl, 1980: гл. 2; 1982:
377; Rosenhaft, 1982: 343–352). Заигрывание левых с насилием закончилось быстро, не дав никаких результатов.
У нацистов, напротив, насилие было принципиальной позицией
и каждодневной практикой, хотя и в малых масштабах. В отличие от
итальянских сквадристов, немецкие нацисты никогда не проводили
крупных парамилитарных операций, не громили штаб-квартиры
социалистов, не вытесняли их из городов. Шествия, зловещая униформа, факелы и знамена были призваны воздействовать на психику,
спровоцировать на ответ, посеять страх в рядах противников. Нацисты
сражались с политическими противниками, но никогда с государством. Их боялись враги, но благосклонно принимали элиты. В июле
1932 г. не нацисты, а полуавторитарный фон Папен ликвидировал
социалистическое правительство в Пруссии. Геббельс писал в дневнике: «Стоит только показать зубы красным, и они задирают лапки
кверху. Социал-демократы и профсоюзники не могут и пальцем
пошевельнуть. Красные не воспользовались своим шансом. Другого
у них не будет». В следующем году нацисты пришли к власти. Социалистическая партия обратилась с протестом к конституционным
властям, коммунисты ушли в подполье и этим ограничились. Почти
все насилие в Германии исходило от правых, а не от левых, и капитализм не нуждался в фашизме как в противоядии от коммунизма.
Капиталисты это понимали — и поначалу нацисты не вызывали у них
никакой симпатии.
Однако некоторые другие группы элиты были куда более сговорчивы. Главной проблемой стала армия, способная при желании
быстро и бесцеремонно разделаться с нацистскими парамилитарными
отрядами. Лидеры НСДАП очень осторожно вели себя с военными,
догадываясь, что тем может не понравиться открытый государственный переворот. Однако если многие старшие офицеры отвергали
нацизм, молодые часто ему симпатизировали. Армия прежде всего
нуждалась в перевооружении, именно это ей постоянно обещали на
цисты (Geyer, 1990). Напротив, Веймарская республика, как публично заявляло командование рейхсвера, не обладала необходимыми
Веймарские элиты
289
ресурсами, чтобы обеспечить защиту Германии «хоть с какими-то
шансами на успех». В 1932 г. армия была лояльна не столько республике, сколько лично главе государства, прославленному отставному
генералу Гинденбургу, в то время как политизированные генералы
типа Шлейхера плели вокруг него полуавторитарные интриги. В сущности, политическое руководство республики никогда не обладало
монополией на средства военного насилия. Вооруженные силы сохраняли значительный объем своей профессиональной автономии,
держались в стороне от политической борьбы, ворчали, но продолжали лелеять чувство сословной гордости и чести. Однако начиная
с 1930 г. нацисты и другие радикалы вели активную политическую
работу в армии и в офицерском корпусе. Такие генералы, как Бломберг и Рейхенау, восхищались Гитлером и открыто поддерживали
конституционные маневры нацистов, которые могли бы привести
их к власти без переворота.
Таким образом, в 1933 г. лояльность армии так и не подверглась
испытанию. У нацистов не было «марша на Берлин», когда законное
правительство могло бы обратиться к армии за силовой защитой.
Однако армия больше не составляла единую замкнутую касту —
в ней стал очевиден раскол. Большинство в Верховном командовании испытывало к СА профессиональную ревность, усматривая
в них потенциальных соперников, но в армейских частях вдалеке от
столицы те же штурмовики СА благополучно проходили военную
подготовку (Fischer, 1995: 22, 132). Гитлер имел большие виды на
армию, он нуждался в сильных и профессиональных вооруженных
силах и сделал все, чтобы привлечь военных на свою сторону. Чтобы
уничтожить оппозицию армии в своих собственных рядах, Гитлер
в июне 1934 г. отдал на заклание Рёма и всю верхушку СА, в чем ему
помогли военные. Еще через два месяца каждый немецкий солдат
приносил личную клятву на верность фюреру. После серии чисток
в высшем командовании армия «разделила ложе» с фюрером и потом
приняла участие в худших преступлениях нацизма (см. следующий
том моей работы).
Нацистам не понадобилось устраивать переворот. Последние
легитимные правительства Веймарской республики рухнули сами,
тихо и без сопротивления. В этом были повинны высшие государственные чиновники, судьи, лидеры буржуазных и католических
290
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
партий — не столько в самом приходе нацистов к власти, сколько
в подрыве демократии. В старых правительственных кругах, где
вращался Карл Шмитт, его идеи были очень популярны (см. главу 2). Брюнинг, глава католической партии Центра и канцлер с 1930
по 1932 г., разделял концепцию Шмитта о примате государства над
враждующими «классовыми армиями», враждебными этому государству. Он использовал экономический кризис, чтобы прекратить
партийную борьбу. За весь 1932 г. парламент проработал лишь
14 дней. Брюнинг видел свой политический идеал в полуавторитарном Кайзеррейхе, существовавшем до 1918 г. (Mommsen, 1991:
84–85). Однако фон Папен, фон Шлейхер и Гинденбург считали
(как и Шмитт) монархию отжившей. Они избавились от Брюнинга.
Новая волна — ДНВП, руководители «Стального шлема», генералы
и чиновники — стали на короткое время ключевыми игроками. Эти
люди, представлявшие не современный капитализм, а последние
бастионы старого режима и «старых денег», по-прежнему вложенных в государство, самонадеянно считали, что им удастся либо
расколоть нацистов между Гитлером и Штрассером, либо вовлечь
всю НСДАП в союз с собой. Своими бессмысленными политическими метаниями прежние руководители страны, судебная власть
и высшее чиновничество расчистили Гитлеру путь к диктатуре.
В первом гитлеровском правительстве было только четыре нациста
и пять аристократов-консерваторов, среди них медиамагнат и лидер
ДНВП Гугенберг, главный куратор ДНВП в «Стальном шлеме»
и правый католический священник. Как минимум, два года эти
радикальные националисты мечтали о сильном правительстве, но
сами не могли его создать. Вместо них это сделал Гитлер. Немецкие
элиты наконец-то получили свои штурмовые батальоны. Нацисты
мертвой хваткой вцепились во власть. Со старым режимом было
покончено.
В этом Германия отличалась от Италии, где в фашистском полуперевороте участвовал почти весь правящий класс. У немецких элит
было много колебаний. В сущности, в отношении элит к нацизму
отражалось отношение народа в целом. Менее всего поддерживали
нацизм силы, причастные к современному капиталистическому
развитию. Крупные промышленные и финансовые воротилы не
сопротивлялись Гитлеру, но и не спешили ему помогать. Главную
Кризис классовых и экономических теорий нацизма
291
поддержку нацистам оказали ошметки старого порядка, стоящие
в стороне от актуальной классовой борьбы. Кризис они восприняли так, как видел его Карл Шмитт: «армии масс», классовые
и националистические, вторглись в пространство парламентских
дискуссий либералов и консерваторов, а также (через социальные
программы) в исполнительную власть. Государство перестало быть
третейским судьей и утратило способность арбитража. Чрезвычайные
полномочия, дарованные рейхсканцлеру (за что частично несет ответственность великий социолог Макс Вебер и за что так настойчиво
ратовал прославленный юрист Карл Шмитт), дали долгожданную
передышку. Но — здесь они снова соглашались со Шмиттом — новое
государство нуждается в новой элите. Почему бы нам ею не стать?
Не успели — новой элитой стали нацисты.
КРИЗИС КЛАССОВЫХ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ
НАЦИЗМА
Выше я представил четыре эмпирических возражения чисто экономическим и классовым теориям нацизма:
1. Веймарская республика продолжала деградировать и при хорошей, и при плохой экономической ситуации, постепенно теряя поддержку избирателей и буржуазных партий. На фоне Великой депрессии этот процесс ускорился, что имело серьезнейшие последствия.
Нацизм уже стал весомой силой в Германии, но, по всей видимости,
именно Великая депрессия расчистила ему путь к власти. Это самый
неопровержимый постулат экономической теории фашизма. Однако
вполне вероятно, что общий кризис Веймарской республики зависел
не только от экономического упадка.
2. Слои населения, составившие социальную опору нацизма,
были обеспокоены классовой конфронтацией, но не были в нее непосредственно вовлечены. Менее других они пострадали от кризиса
и связанных с ним экономических лишений.
292
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
3. Капиталисты были причастны к ослаблению демократического
правительства, но не были главными виновниками его крушения, так
же как и не были прямыми пособниками нацистского переворота.
Они не поддерживали Веймарскую демократию, но, как правило, не
поддерживали и нацизм.
4. Кризис и патовая политическая ситуация длились слишком
недолго и были лишены политических инициатив. Сами по себе они
не могли стать причиной окончательного разрыва с демократией,
если, конечно, она не успела получить чувствительные удары до того
(на это также обращается внимание в: Kershaw, 1990).
В сущности, классовые теории фашизма уже несколько десятилетий пребывают в упадке. Кил (Kele, 1972), Мейсон (Mason, 1995),
Меркл (Merkl, 1980: 153) и Эли (Eley, 1983) независимо друг от друга
установили, что нацизм поддержала значительная часть рабочих.
Более современные исследователи с большой неохотой пересмотрели свои взгляды на классовую теорию и в чем-то солидаризовались с самими нацистскими теоретиками. Стачура (Stachura, 1993)
отказался от своих прежних классовых интерпретаций (Stachura,
1975: 58; 1983b) и начал утверждать, что ключом успеха нацистов
был национализм, востребованный во всех слоях немецкого общества. Фолтер (Falter, 1991: 51, 169–193) рассматривает нацистов как
массовую национальную партию «народного протеста». Мюльбергер
(Mühlberger, 1987: 96, 124; 1991: 202–209) и Чилдерс (Childers, 1984;
1991) сходятся в том, что нацизм был движением скорее национальным, чем классовым, что и лишило его логики и последовательности.
Нацизм, говорит Чилдерс, был
исключительно разнородной коалицией социальных сил. У него была
необычайно широкая, но крайне зыбкая опора... Социально разнохарактерные элементы поддержки национал-социализма сформировали политически нестабильную вертикаль, признаки ее будущего вырождения
были заметны уже на выборах 1932 г. Нацизм не был интеграционным
социальным движением, тем, что его лидеры называли Volksbewegung.
На самом деле НСДАП была крайне неустойчивой партией, собравшей
протестные голоса и пришедшей к победному финишу благодаря
экономическому кризису. Тех, кто проголосовал за нацизм, объединяли
обида, фрустрация и страх (Childers, 1984: 53).
Кризис классовыхи экономических теорий нацизма
293
Эли (Eley, 1983) полагает, что идеология нацизма зиждилась
на «националистическом популизме» или «правом якобинизме»,
определяемом им как «активистское, общинное, антиплутократическое, народное движение, в то же время зараженное вирусами
антисоциализма, антисемитизма, нетерпимое к плюрализму мнений
и агрессивно националистическое». Фашизм, заключает исследователь, стал «политической идеей, основанной на радикальном
авторитаризме, милитаризованном сознании и репрессивном государстве». Такая дефиниция близка к моей собственной. Но чтобы
обосновать популярность нацизма в массах, Эли снова прибегает
к классовому анализу: классовая конфронтация завела ситуацию
в тупик, чем и воспользовались нацисты. Тут есть доля преувеличения. Фишер идет еще дальше — нацистский Volksgemeinschaft
был истинно народной идеологией, которую разделяли миллионы
немцев всех классов. Ученый считает эту идею таким же порождением XX века, как и понятие «гражданство», ставящее национальное
единство на порядок выше классовой солидарности (Fisher, 1995:
125–128). Это очень созвучно моей точке зрения: нацизм предлагал
своим сторонникам трансцендентный национал-этатизм, осуще
ствимый на практике.
Однако ни один из моих коллег не идет дальше и не пытается
вычленить социальную базу немецкого национализма, благодаря
которой нацистское движение приобрело структурную прочность.
Болдуин (Baldwin, 1990) впадает в другую крайность. Он считает, что
поскольку классовый анализ к нацизму не приложим, то следует пренебречь всеми «социальными интерпретациями». Обществознание,
по его мнению, в этом случае должно уступить место психологии.
«Аномия» и «беспочвенность» указывают на отсутствие какой-либо
социальной структуры в рядах сторонников нацизма. Как и многие
другие, он смешивает понятия «экономический» или «классовый»
с «социальным». Если классовый анализ нацизма не работает, то, стало
быть, у нацизма никакой социальной структуры и не было. Такого
рода историкам следовало бы чаще обращаться к социологии. Это
помогло бы им осознать, что, помимо классов и экономических рын
ков, существуют и иные социальные структуры. Немецкий нацизм,
как, возможно, и итальянский фашизм, выстраивался на социальном
фундаменте общей идеи.
294
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: МОБИЛИЗАЦИЯ
НОСИТЕЛЕЙ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО
ПАРАМИЛИТАРНОГО
НАЦИОНАЛ-ЭТАТИЗМА
Подведем итоги всему вышесказанному и объясним, благодаря каким
факторам нацисты получили достаточное количество сторонников
и симпатизантов, чтобы прийти к власти. Разумеется, нацисты были
выходцами из каждой области Германии, из всех социальных, возрастных и половых групп. Я не претендую на исчерпывающий анализ
социальной базы нацизма, а указываю лишь на ее диспропорциональные составляющие. Одной из опор нацизма на этой стадии стали
протестанты, поскольку евангелическая церковь считала себя душой
германского национального государства. Кроме того, нацизм имел
много сторонников среди беженцев — «этнических немцев», а также
немцев, проживающих на пограничных территориях, небезосновательно считаемых «территориями под угрозой». Нацизм сильно укоренился среди государственных служащих, в особенности среди мужчин,
прошедших военную службу, но также и среди штатских чиновников,
учителей государственных школ и работников коммунальных служб.
Все они возлагали особые надежды на сильное государство, способное
решить социальные проблемы, и считали Веймарскую республику
государством рыхлым и слабым. Много единомышленников нашли
нацисты в университетах и вообще в самом образованном слое общества, пропитанном идеями «народнического» национализма. Все эти
группы разделяли идею национал-этатизма: веры в то, что государство
с активным гражданским обществом, воплощающее в себе культуру
нации, будет стремиться к высшим общественным целям.
В этой среде, правонационалистической еще до Первой мировой
войны, выросли и сформировались основные носители фашизма:
два поколения молодых мужчин, готовых применять парамилитарное насилие против «врагов», как за рубежом, так и у себя дома.
Сторонники и активисты нацизма, вышедшие из этой среды, были
более тесно связаны с идеей национального государства, чем с идеями
Заключение: мобилизация носителей трансцендентного...
295
современного промышленного капитализма или классовой борьбы.
Их массовое движение позаимствовало у социалистов идею коллективизма и солидарности, добавив к ней жесткий парамилитаризм,
сформировавший сознание целого поколения молодых активистов.
Это были «сознательные немцы», преданные своему делу, иногда
восторженные идеалисты, иногда жестокие погромщики (а нередко —
и то и другое сразу). Это странное смешение качеств ставило в тупик
сторонних наблюдателей, оценивавших общественную реальность
не через призму взглядов социалистического или католического сообщества, а своими глазами.
Помимо этих ключевых носителей — тысяч марширующих и атакующих — нацизм привлек множество сочувствующих разного возраста
и социального положения; миллионы из них отдали нацистам свои
голоса. В одной трети немецкого населения, поддержавшей фашизм,
более всего впечатляет то, что все эти люди находились вдалеке от
переднего края классовой борьбы. В основном они обитали вне крупных промышленных центров, вне сферы организованного крупного
производства, не принадлежали ни к высшим кругам современной
крупной буржуазии, ни к мелкой буржуазии, ведущей свой рискованный малый бизнес, ни к армии безработных, вышвырнутых на
улицу во время Великой депрессии. Этот широкий круг поддержки,
скорее всего, смирился с парамилитарной тактикой нацистов, поверив,
что они только обороняются и что твердая рука государства сможет
призвать их к порядку. Помимо открытой массовой поддержки, нацизму тайно потакали старорежимные военные и правительственные
круги, тоже стоящие в стороне от главных столкновений современной
классовой борьбы. В целом сторонники нацизма не были социальными маргиналами. Они не страдали от материальных лишений,
не были отчуждены от общества. В основном это были крестьяне,
госслужащие, дипломированные специалисты, работники сферы
образования, кустари-ремесленники, жители провинциальных городов. Важной причиной прихода нацистов к власти стал классовый
конфликт, зашедший в «патовую ситуацию»: не потому, что нацизм
представлял интересы каких-либо классов в их борьбе с другими
классами (хотя и вполне нейтрален он не был), а скорее потому, что
обещал преодолеть классовый конфликт, и обещание это казалось
296
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
вполне выполнимым, учитывая политику движения и социальное
происхождение самих нацистов.
Большинство этих немцев устали от классовых распрей, их удручала слабость и унижение Германии. Довоенный конфликт между
кайзеровским старым режимом и «марксистским» пролетариатом
проходил в достаточно ритуализированных рамках, не разрушая
силу и единство страны. Но война разрушила все ритуалы, ослабила
и старый режим, и государство в целом. В сокрушительном и неожиданном военном поражении можно было винить и реакционные
элиты, стоявшие у государственного руля, и социалистов, отвергавших
патриотизм и принявших на себя ответственность за сдачу страны.
Дальше немцы стали свидетелями яростных классовых столкновений
в первые послевоенные годы, утраты немецких территорий, тяжкого
бремени репараций. Германию растаскивали на куски государства-победители. Немцы нищали, но богатели французы, британцы, славяне
к востоку от Германии. В глазах обывателя повинны во всех этих
международных унижениях Германии были социалисты и либералы,
возглавлявшие раннюю Веймарскую республику, а также, возможно,
евреи. Дальше немцам пришлось испытать на себе две международные экономические катастрофы — кризис инфляции и Великую
депрессию, — ожесточившие (пусть и в меньшей степени, чем после
войны) классовое противостояние. Треть немцев позволила убедить
себя в том, что во всех этих бедах виновны иностранцы, а также оба
классовых лагеря. Социализм предлагал лишь утопическое будущее
и хаотическое настоящее — «большевизм» или «жидобольшевизм»
(так называли его и белогвардейские эмигранты, и восточные немцы),
царящий сейчас в России. Чтобы победить капитализм, немецким
социалистам недоставало ни сил, ни решимости. Они не предлагали
решений — лишь несли с собой новые проблемы. В свою очередь, не
мог победить социализм и восстановить экономику и промышленный
и финансовый капитализм, в умах публики тесно связанный с интернационализмом, еврейством, либерализмом и Депрессией. При этом
ни один из противоборствующих классов, по-видимому, не стремился
исправить законы капиталистической экономики.
Гитлер предложил другое решение, убедительно пообещав, что
ему удастся подчинить классовые конфликты и законы капитализма
общему благу нации — так же, как он подчинит великие державы
Заключение: мобилизация носителей трансцендентного...
297
и их прихвостней делу возрождения Германии. Для трети населения
Германии эти две задачи выглядели вполне выполнимыми: во-первых,
надо вручить власть надклассовой «третьей силе», которая преодолеет
классовые конфликты любыми возможными средствами; во-вторых,
мобилизовать немецкую национальную солидарность против всего
чужеродного и разобщающего нацию. Это были весомые причины,
чтобы отнестись к нацизму серьезно и сочувственно — и дать ему
шанс.
Для тех из нас, кто живет в благополучных демократических государствах, военный или экономический кризис — еще не повод прибегать к таким радикальным решениям. То, что нацисты разделаются
с демократией, если придут к власти, всем было хорошо известно.
Германия не лежала в руинах, депрессия там была не страшнее, чем
в Америке. Демократия вполне может справиться с таким уровнем
угрозы. Борьба партий, по знаменитому замечанию Липсета, «есть
демократическая форма борьбы классов». Но не стоит недооценивать
глубину политического кризиса германского государства. Парламентская демократия в Германии не успела созреть и сделать свои правила
игры безальтернативными. Скоротечность переходного периода не позволила консервативным элементам в парламенте и исполнительной
власти привыкнуть к демократии. Элиты по-прежнему чувствовали,
что у них есть авторитарная альтернатива новой власти. Пронацистская часть Германии не была в стратегически выгодном положении
для заключения классового демократического компромисса. Наоборот, она оказалась резко восприимчивой к идее нации-государства:
автономного государства, стоящего «над» классовым конфликтом
и служащего интересам всей нации. Консерваторы в душе остались
верны полуавторитарному Кайзеррейху. Однако его смело с лица
земли катастрофическое военное поражение. Была разрушена не
только монархия, но и правящие консервативные и национал-либеральные партии довоенного периода. Гражданские структуры в целом
уцелели, но армия была подорвана и, отрешившись от политики, зализывала раны. Как и в Италии, немецкая армия не смогла сказать
своего слова вследствие разрушения традиционных устоев власти
и собственной восприимчивости к парамилитарным и милитаристским устремлениям фашизма. Ни в одной стране фашисты не пришли
к власти исключительно благодаря общественному мнению и из-
298
Глава 5. Сторонники нацистов в Германии
бирательным урнам. Фашизм добился победы не только с помощью
бюллетеней, но и с помощью штурмовых отрядов и сочувствующих
элит. Старый режим утратил дееспособность. Новый, более мягкий
авторитаризм должен был опереться на доставшиеся ему в наследство
консервативные и центристские партии (но все они, кроме католиков,
находились в упадке) или на чиновничество. В самом деле, с 1930 г.
государственные чиновники не прекращали попытки установить свое
авторитарное правление, но в силу их неспособности мобилизовать
общество эти попытки оказались бесплодными. Умелое использование трех ресурсов — преданных сторонников, широкого электората,
колебаний и слабости элит — позволило нацистским лидерам захватить власть, использовав выборы, насилие и манипулирование
конституционными законами.
Нацисты в самом деле стали третьей силой: но не столько «третьим
классом», сколько властью национал-этатистов, обещающей «очистительное» насилие. В различных выражениях — от откровенных
до крайне расплывчатых — шла речь об очищении нации от большевиков/марксистов, евреев, славян, политиков, разделяющих народ,
интернационалистов. Что именно означают термины «вытеснение»
или «нейтрализация», оставалось не вполне понятным — особенно немецким избирателям, чей кругозор был не шире, чем у любого другого
электората. Если бы побольше немцев взяли на себя труд дочитать до
конца «Майн Кампф», дальнейшая эволюция Гитлера стала бы для
них более предсказуемой. Однако лишь новые условия, сложившиеся
уже после прихода нацистов к власти, привели их к массовым убийствам. О том, как это произошло, я рассказываю в следующем томе.
Глава 6
АВСТРОФАШИСТЫ
И АВСТРИЙСКИЕ
НАЦИСТЫ
300
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
После Второй мировой войны союзники объявили Австрию «первой
жертвой нацистской агрессии». Назвать аншлюс 1938 г. германской
агрессией значило изобразить австрийцев невинными жертвами,
а австрийских фашистов — шайкой коллаборантов, а не массовым
национальным движением. Здесь перед нами яркий пример отказа принимать фашистов всерьез. В 1988 г., когда боевое прошлое
генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма стало достоянием
общественности, мир был потрясен именно потому, что, как казалось,
Вальдхайм сражался в рядах этой ужасной банды экстремистов.
Однако действительность еще поразительнее. Вальдхайм не был извергом: как и многие молодые австрийские офицеры, он «выполнял
свой долг» (по его словам) на Балканах, участвуя в том, что в распоряжениях правительства именовалось «чисткой» — работой, которую
надлежало выполнять без «жалости и пощады», ибо «лишь с холодным сердцем можно отдавать приказы, которые необходимо отдать».
Большинство австрийских избирателей не усмотрело в этом ничего
особенного и, назло всем разоблачителям, избрало его президентом
Австрии (Ashman, Wagman, 1988: гл. 4; Sully, 1989).
В самом деле, в период между двумя мировыми войнами Австрия
была, пожалуй, самой фашистской страной Европы. Пальму первенства здесь оспаривали сразу два фашистских движения, оба с массовой
поддержкой, каждое в силах захватить власть и править страной.
Однако своим успехом австрийские фашисты во многом обязаны
положению Австрии — «младшей сестры Германии». Фашисты
в Австрии восхищались успехами Гитлера и стремились их повторить.
Но они внесли и немалую лепту в военные усилия Германии, особенно
в «окончательное решение еврейского вопроса», среди исполнителей
которого было необычно много австрийцев (об этом мы поговорим
в следующем томе). Антисемитизм австрийцев был особенно жесток:
порой он шокировал даже немецких офицеров СС, занимавшихся
депортацией евреев из страны (Botz, 1987b; Bukey, 1989, 1992; Ferenc,
1989: 217; Parkinson, 1989: 319–322; Stühlpfarrer, 1989: 198–204). В этой
главе я постараюсь объяснить, почему фашизм, включающий в себя
сильный антисемитизм, получил в Австрии такое распространение.
«Рядовой австриец» не был ни фашистом, ни убийцей, однако ни
в одной другой стране фашизм и массовые убийства не получили
такой легитимности, как в Австрии. Итак, кто же были австрийские
Два национальных государства — два фашизма
301
фашисты, как они добились такой легитимности и каким путем
пришли к власти?
ДВА НАЦИОНАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВА — ДВА ФАШИЗМА
В 1918 г. Австрия стала новым, с иголочки, национальным государством. До того она была ядром многонациональной Австро-Венгерской монархии с населением свыше 50 миллионов человек, проживающим на значительных территориях востока и юго-востока Европы.
То, что от нее осталось, превратилось в клочок земли — территорию
известной нам Австрии — с населением в 6,5 миллиона человек,
94 % которых были этническими немцами. Но если австрийским
немцам суждено было создать свое национальное государство — каким оно должно было стать? Вариантов было два: Австрия сама по
себе — еще одна «Малая Германия» — или объединение с соседней
Германией в «Великую Германию». Два соперничающих фашистских
движения предлагали крайние варианты двух возможных ответов на
этот основной «национальный вопрос». Их экстремизм объяснялся
двумя причинами: положительной оценкой этатизма, естественной
для страны, прежде бывшей ядром великой исторической державы,
и положительной оценкой реваншистского национализма как реакции против «космополитической» империи и славянских государств,
пришедших ей на смену. Реваншизм тоже был палкой о двух концах.
Австрийцы понимали, что не смогут в одиночку возродить империю.
Оставалось либо объединиться с Германией и под ее лидерством вернуть утраченные территории и былое могущество, либо в одиночку
вести борьбу с «предателями», погубившими монархию.
Движение, обычно именуемое «австрофашизмом», отстаивало
независимую Австрию, не отказываясь при этом от идеи реванша.
Австрофашизм вырос из парамилитарных отрядов, возникших после Первой мировой войны, а затем, в конце 1920-х — начале 1930-х,
организационно оформился в «Хаймвер», боевую организацию
крайне правых, и выделился из консервативной Христианско-
302
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
социальной партии (ХСП), которая набирала на межвоенных выборах не менее 40 % голосов и из года в год возглавляла австрийское правительство. ХСП наследовала традициям Габсбургской
монархии, хоть и без монарха, — исповедовала католичес кий
консервативный национализм с некоторыми авторитарными замашками. Партия имела крепкие корни среди крестьянства, жителей
небольших провинциальных городов, а также среднего класса. Однако начиная с 1930 г. правительство ХСП начало зависеть в своих
действиях от поддержки в парламенте более радикальных депутатов
от «Хаймвера». Большинство лидеров ХСП, в том числе канцлеры Дольфус и Шушниг, начали свой дрейф через корпоративизм
в сторону фашизма, ограничиваясь, впрочем, скорее намерениями,
чем практическими действиями.
Австрофашисты опирались на католическую церковь и наследие
Габсбургов. Новая Австрийская республика сократилась до размеров
католического ядра былой империи, сохранившего консервативные
традиции, уважение к порядку и иерархии. Однако все признавали,
что для борьбы с вызовами времени старорежимного консерватизма
недостаточно. Фашизм, казалось, предлагал новую, более современ
ную альтернативу. Муссолини предложил многообещающий гибрид
националистической мобилизации и иерархического корпоративизма,
что нашло живой отклик у австрийских социал-католиков, помнящих
идиллические общинные традиции старой Австрии. Консерваторы
могли теперь управлять страной, опираясь на вертикальные корпоративистские структуры фашизма. В этом и заключался главный замысел австрофашистов. В стремлении модернизировать и мобилизовать
общество, опираясь при этом на традиционную общественную иерархию, он стал полуавторитарным, затем сместился к полуреакционному
авторитаризму и далее. Некоторые доктрины он позаимствовал у итальянского фашизма, однако более всего напоминал режимы Франко
и Салазара: авторитарный, корпоративистский, традиционалистский,
тяготеющий к католицизму извод фашистской идеологии, которому
явно недоставало жестокого и буйного массового парамилитаризма,
присущего германскому и итальянскому фашизму. Эту пустующую
нишу пытался заполнить «Хаймвер», но не слишком в этом преуспел.
Единственная партия, появившаяся в 1934 г., «Отечественный фронт»,
была (как и ее испанский и португальский аналоги) иерархичной
Два национальных государства — два фашизма
303
рганизацией, встроенной в традиционное государство. Новая партия
о
нуждалась в массовых, но подконтрольных центру низовых организациях, и желающих вступить в «партию Дольфуса» ради карьеры
недостатка не было. Рассказывают, что канцлер Шушниг, посещая
один промышленный город, спросил у местного партийного секретаря
об обстановке и получил следующий ответ:
«Что ж, есть у нас кое-какие коммунисты, процента 2–3. Нацисты, к сожалению, гораздо сильнее: их процентов 20, может быть, 25... Красные
здесь всегда хорошо организованы. Их поддерживает по меньшей мере
60 процентов, а может быть, и <...> — «О Господи! — воскликнул Шушниг. — А сколько же членов в “Отечественном фронте”?» — «Как и всегда,
герр канцлер, все сто процентов», — был ответ (Pauley, 1981: 160).
Оплотом радикализма оставался «Хаймвер». Начинался он
в 1918 г. как достаточно рыхлое парамилитарное сообщество, борющееся с «красными» и «инородцами» в приграничных районах. После
того, как эти территории были утрачены, он объединил вокруг себя
националистически настроенных реваншистов. Об антисемитизме мы
поговорим позже, но уже сейчас нужно сказать, что австрофашизм
строился на ярко выраженном «арийском» национализме и сильном
чувстве «врага»: целью его было объединить «весь немецкий народ»
«в борьбе с марксизмом и буржуазной демократией, за создание
авторитарного государства», за то, чтобы «построить общество на народной основе и избавиться от международного еврейского отребья,
которое высасывает всю кровь из наших жил». От «народнического»
движения австрофашизм унаследовал традицию именовать капитализм «еврейским», а самого себя — «третьей силой»; впрочем, этим
заявлениям противоречило получение денег от спонсоров-предпринимателей (Siegfried, 1979). Не могли договориться австрийские фашисты и о форме авторитарного государства. В 1930 г. «громокипящая»
Корнейбургская клятва призвала к захвату власти и строительству
новой экономики: «Мы отвергаем западную парламентскую демо
кратию и партийное государство, мы выступаем за корпоративное
правительство, мы будем бороться против растления нашего народа
марксизмом и капиталистическим либерализмом», корпоративизм
должен «преодолеть классовую борьбу», ибо «государство олицетво-
304
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
ряет весь народ». Врагами были объявлены «большевизм, марксизм
и их прислужница — демократическая парламентская партийная
система, источник коррупции и угроза народному духу, христианским традициям, немецкой идеологии и... немецкому расовому
самосознанию». Один из лидеров заявил: «Наше спасение только
в фашизме», что вызвало «долгие и продолжительные аплодисменты» (Carsten, 1977: 44, 47, 172, 213–214; Jedlicka, 1979: 226, 233–234).
Политической программы еще не существовало, но лозунги звучали
вполне по-фашистски: очистить нацию от этнических и политических
врагов, установить авторитарное государство. Однако претензия на
построение бесклассового общества вступала в противоречие с отчетливо капиталистической ориентацией австрофашистов. Кроме того,
было непонятно, что конкретно означает «очищение» государства.
Социал-христиане подразумевали под этим только дискриминацию
и неполное гражданство для «врагов», но некоторые активисты
«Хеймвера» готовы пойти гораздо дальше. Политических противников рассматривали как расовых врагов, которых невозможно ни
«обратить в свою веру», ни убедить сотрудничать.
По некоторым оценкам, на 1928–1930 гг. в «Хаймвере» состояло
200 тысяч членов, из них 120 тысяч боевиков. Возможно, эти цифры
завышены. Трудно поверить, что фашистские боевики численно
превосходили австрийскую армию, сокращенную по мирному договору до 25 тысяч, вместе с 14–тысячным корпусом полицейских сил
и сил безопасности. Парамилитарные отряды «Хеймвера» никогда
не были сплоченными, и реальная их боеспособность оставалась
куда ниже, чем в их собственных хвастливых рассказах (Wiltschegg,
1985: 292). Впоследствии, из-за раскола в политическом руководстве
организации — часть его выступила за конституционные методы
борьбы — численность отрядов «Хеймвера» сократилась до 50 тысяч.
Скромный успех «Хеймвера» на выборах оказался достаточным,
чтобы лишить социал-христиан абсолютного парламентского большинства. Лидеры организации получили министерские портфели,
их влияние на социал-христиан возросло. Для последних «Хаймвер»
стал союзником в борьбе против социализма и полезным конкурентом более светских австрийских нацистов. Однако под их влиянием
изменялись и социал-христиане. В 1934 г. Дольфус провозгласил
свой режим корпоративистским и создал «Отечественный фронт».
Два национальных государства — два фашизма
305
Позже в том же году «Хаймвер» помог подавить попытку нацистского
переворота, в ходе которой Дольфус был убит. Преемник погибшего
Шушниг в 1936 г. слил «Хаймвер» с «Отечественным фронтом».
Лидеры «Хаймвера» встроились в режим, что вызвало неприятие
у многих радикальных активистов организации: разочарованные, они
присоединились к нацистам. Среди них был Эрнст Кальтербруннер,
впоследствии доросший до начальника РСХА. Рост влияния нацистов
был особенно заметен в Штирии. По меньшей мере трое начальников
СС в оккупированной Восточной Европе (Константин Каммерхофер,
Август Мейснер и Ханс Раутер) начинали свой путь с нелегального
насилия в штирийском «Хайматшютц».
«Хаймвер» воплощал в себе важные характеристики низового
фашизма — парамилитаризм, воинственность и жестокость. Но его
идеология была противоречивой и непоследовательной: в Штирии
она была бесспорно фашистской, в Нижней Австрии и Тироле скорее
реакционно-авторитарной. В правительстве это движение проявляло
себя как консервативная и прокапиталистическая организация. Гордо
заявив о своем «общинном» корпоративизме, она не сделала ничего,
чтобы воплотить «общинность» на практике. Национализм ее был
расистским и антисемитским, но каким должно было стать национальное государство? Рассматривался аншлюс с Германией, однако,
поскольку немецкое правительство вначале было социалистическим,
потом нацистским, австрофашисты предпочитали сохранять независимость страны.
Отсюда сомнения в том, были ли австрофашисты «истинными»
фашистами (Carsten, 1977: 237, 244–245; Payne, 1980: 109). Некоторые
исследователи считают их «клерикальными фашистами» (Gulick,
1948: II, part 7), а Эдмондсон (Edmondson, 1978, 1985) называет их
мощными «спойлерами» фашизма, но не более. Уилтшегг (Wiltschegg,
1985: 270) припечатывает их двумя грубоватыми австрийскими
выражениями: Möchtegern и Maul, что в приблизительном переводе
означает «недоделанный» и «негодный» фашизм. В отличие от Испании и Португалии, австрийские фашисты опирались на корпоративизм, агрессивный парамилитаризм и антисемитский национализм.
Пусть это у них и не получалось, они явно хотели стать тоталитарным и безжалостным массовым движением. После аншлюса многие
активисты с радостью примкнули к национал-социалистам Велико-
306
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
го Германского рейха. Они вполне созрели для фашизма, просто не
смогли достичь его собственными усилиями. По совокупности всех
этих характеристик мы можем говорить о том, что в Австрии возник
протофашизм, раздираемый противоречиями между фашистами
как таковыми, сторонниками корпоративизма и полуреакционными
авторитаристами.
Бесспорно фашистской была Австрийская нацистская партия.
Она намного старше аналогичного движения в Германии: корни ее
уходят в 1903 г. После 1918 г. расовый национализм в сочетании
с пролетарским социализмом привлек к ней много сторонников
в приграничных районах Австрии, где набирал силу воинствующий
национализм. Нацисты вышли в основном из сторонников немецких
националистических партий, набиравших до 20 % голосов на всех
довоенных выборах и получавших массовую поддержку в районах, граничивших с Югославией, Чехословакией и Германией. Их
национализм был отчетливо расистским. Однако антиклерикализм,
разобщенность, а затем раболепие перед Гитлером привели партию
к застою. До начала 1930-х идеология и организация австрийских
нацистов мало чем отличалась от идеологии и организации их
германских коллег. Нет надобности входить в детали, но стоит отметить, что австронацисты, возможно, были еще большими антисемитами, чем нацисты Германии. Австрийский социал-демократ
пишет из тюрьмы жене: «Настоящим проклятием для всех нас
стали [заключенные] национал-социалисты... Все они кошмарные
антисемиты, в спорах их единственный аргумент — слово “жид”»
(Carsten, 1977: 251). Успехи Гитлера в Германии побудили австрийских нацистов к безоговорочной поддержке аншлюса и увеличили их
ряды. На последних свободных местных выборах, с 1931 по 1933 г.,
нацисты получали от 15 до 24 % голосов. В 1933 г. рекорд поставил
Инсбрук — 41 % голосов (Kirk, 1996: 35–39). Распалась Немецкая
народная партия, теряли поддержку социалисты и христиане, и нацисты подбирали их голоса. По некоторым предположениям, на национальных выборах они смогли бы взять от 25 до 30 % голосов (см.,
напр., Pauley, 1981: 83, 86). Канцлера Дольфуса это не устраивало: он
не хотел рисковать властью на новых выборах и попытался подавить
нацистов. Но и в подполье партия набирала силу: 69 тысяч членов
в 1934 г., 164 тысячи во время аншлюса и 688 тысяч в 1941 г., а это
Кем были фашисты?
307
10 % австрийского населения. «Нелегальный период» выпестовал
жестокое поколение будущих нацистских убийц, которые позднее
приняли участие в «окончательном решении еврейского вопроса»
(об этом я расскажу в следующей книге).
Этим двум право-авторитарным лагерям противостояла Со
циалистическая партия Австрии, получавшая до 40 % голосов на
выборах, популярная в рабочей среде, прежде всего в столице. Лишь
социалисты боролись с фашизмом до конца в Австрии, единственной стране, где фашисты выступали на свободных выборах с благословения мажоритарных партий. Такой успех фашизма в Австрии,
безусловно, требует объяснений.
КЕМ БЫЛИ ФАШИСТЫ?
Возраст, пол, воинская обязанность
Оба фашистских движения состояли в основном из молодых мужчин,
прошедших службу в армии. Такая характеристика, как молодость,
в особенности относится к нацистам. В конце 1920-х членам «Хаймвера» в среднем было не больше 27 лет; в начале 1930-х средний возраст
лидеров обоих движений не превышал 38 лет. В конце тех же 1920-х
возраст членов нацистской партии равнялся в среднем 29 годам,
а боевикам отрядов СА было всего лишь 23. Со временем возрастной состав нацистской партии не слишком изменился: в 1933-м их
средний возраст был 33 года, в начале 1938 — 36 лет, в 1940–1941 гг.
он поднялся до 39 лет. В 1942–1944 гг. партия получила массовый
приток свежей крови из молодежного движения, и средний возраст ее
членов снизился до 23 лет. В 1934 г., когда нацисты наравне с другими
оппозиционными партиями угодили в исправительные лагеря, они
оказались чуть моложе, чем их коммунистические (социалистические)
и австрофашистские товарищи по несчастью (большинству из них
было меньше двадцати), и немного старше, чем те левые, которые были
убиты, ранены или арестованы во время беспорядков 1919 и 1927 гг.
(Botz, 1983: 66, 155, 325–327).
308
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
Считается, что, как и в Германии, австрийский фашизм включал
две возрастные категории: «фронтовое поколение» молодых демобилизованных солдат (1890–1900 г. р.) и «домашнее поколение»
(1900–1914 г. р.), «детей войны»; австрийские студенты первых послевоенных лет могли принадлежать и к тому, и к другому поколению
(Pauley, 1981: 91–92; Wiltschegg, 1985: 274; Botz, 1987: 253–257). Нацисты, рожденные до 1878 г., составляли долю 0,2, она выросла до
0,75 для 1879–1888 гг., годы рождения 1889–1893-й дают паритетную
долю, она вырастает до 1,2 для 1894–1898 гг., до 1,5 для 1899–1903
и 1904–1908 гг., до 1,8 для 1909–1913 гг., и снова опускается до паритета для более поздних годов рождения. Таким образом, «фронтовое
поколение» не превосходило более молодое «домашнее поколение»,
которое, в отличие от немецких нацистов, в Австрии было преобладающим. Нацисты были моложе австрофашистов, что вполне логично,
коль скоро они появились позже.
Точных данных об участии солдат в обоих движениях я не обнаружил. В любом случае ветераны войны внесли весомую лепту
в создание австрофашизма, особенно на первых порах, когда важно
было опереться на военную традицию старой империи. Основой
«Хаймвера» стал 50-тысячный «Союз фронтовиков». Рост численности нацистов сразу после войны, возможно, также обеспечивали
демобилизованные солдаты; однако за периодом роста последовал
застой, и их относительный вклад уменьшился. Поскольку оба
движения были молоды, а послевоенной Австрии по договору разрешалось иметь совсем крохотную армию, следует предположить, что
в середине 1930-х среди фашистов и нацистов было не так уж и много
ветеранов Первой мировой войны. Но дух милитаризма был жив. Как
и в других странах, он проявлялся в парамилитарной организации
и идеологии. В сочетании дисциплины, товарищества, иерархии ветеранских союзов рождался органический авторитаризм и культ вождя.
Не остались в стороне полиция, силы безопасности и офицерский
корпус, многие из них (в особенности молодые офицеры и солдаты)
напрямую поддерживали вначале «Хаймвер», потом и нацистов
(Carsten, 1977: 330, 252). Австрийский фашизм постоянно получал
кадровое пополнение из военной и штатской молодежи, по мере того
как «старые бойцы» остепенялись, женились и уходили из движения.
Так, хотя первое поколение, сделав свое дело, частично растворилось
Кем были фашисты?
309
в мирной жизни, на смену ему пришло второе. Австрийский фашизм
родился из военного опыта определенного поколения; но успех его
(как и немецкого фашизма) состоял в том, что в предвоенные годы ему
удалось социализировать второе поколение в духе парамилитаризма
и национал-этатизма. Фашизм стал новой модной идеей — во всяком
случае, в этом регионе Европы.
Данные по гендерному составу неполные. Известно, что в «Хаймвер» не входили женщины, но крупная женская группа поддержки
у этой организации имелась. Не удалось мне найти информации и по
гендерному составу электоральной поддержки «Хаймвера». Но среди
нацистов женщин было много. В 1919 г. женщины составили 15 % партийных кандидатов от нацистов на национальных выборах — примерно
столько же, сколько и в остальных партиях той поры. Затем австрийские нацисты по указанию Гитлера начали избавляться от женщин
в своих партийных рядах. Среди вступивших в партию в 1926–1931 гг.
женщин было лишь 6 %. Их численность увеличилась до 12 % в 1933 г.,
до 28 % в 1938 г. и оставалась на уровне ниже 20 % в течение войны.
В нацистской партии этих женщин держали на вторых ролях, как
и в австрофашистской. В Австрии действовала уникальная система —
голоса, отданные женщинами, подсчитывались отдельно, поэтому нам
известно, сколько женщин голосовало за нацистов. Большинство из
них голосовало так же, как и мужчины, — видимо, в первую очередь
как их мужья. В 1919 г. женщины принесли нацистской партии 46 %
голосов, 42 % — в 1930 г. и 47 % — в 1932 г. в Вене (то есть во всех
случаях чуть меньше половины). В пропорциональном отношении
у коммунистов было меньше женских голосов, чем у нацистов, немного
больше их было у социалистов и подавляющее большинство — у Социал-христианской партии, видимо, из-за большей религиозности
женщин (Pauley, 1981: 101–102; 1989: 42). Вероятнее всего, женщины
были и на стороне режима Дольфуса, хотя выборы были отменены
и проверить это нечем. После аншлюса австрийки поддержали нацистское правительство не в меньшей, а даже в большей степени,
чем немки Германии, в связи с тем, вероятно, что гендерная политика
в Австрии была много либеральнее, чем в Рейхе. В Австрии, например, было куда больше работающих женщин (Bukey, 1992: 223–224).
Таким образом, австрийский фашизм давал женщинам больше
свобод, чем в любой другой фашистской стране, и даже больше, чем
310
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
большинство политических движений той эпохи. Австрийские боевики были не хуже и не лучше своих собратьев — фашистских молодежных банд в других странах, но пользовались почти безоговорочной
поддержкой (включая прямое участие) со стороны слабого пола.
Многие очевидцы вспоминают, что во время депортаций австрийки
не скрывали своей ненависти к евреям. Фашистская модель всегда
встраивалась в определенный национальный климат. Австрофашизм
имел глубокие корни в политических традициях и католицизме,
немецкий нацизм был, в свою очередь, вскормлен пангерманским
национализмом. Оба режима не имели ярко выраженной гендерной
окраски. В Австрии открытые проявления антисемитизма были традицией и считались в порядке вещей, в отличие от более западных
или южных стран: ни воинственные мужчины, ни женщины, ни дети
не стеснялись здесь прямо заявлять о своих антисемитских взглядах.
В Австрии фашизм и антисемитизм стали сутью национальной жизни;
впереди, как и всегда, была радикальная молодежь, но ее поддерживало большинство населения.
Регионы и религия
Австрия была на 96 % немецкоговорящей и на 90 % католической страной, так что единственным значимым этно-религиозным конфликтом
здесь было противостояние евреев и христиан. Среди нацистов невозможно было найти евреев, почти не было их и среди австрофашистов. Однако поддержка фашистов по регионам отчетливо отражала
национальные и религиозные особенности, равно как и классовые
и секторальные различия. Как и в Испании, австрийский капитал имел
политически неоднородную основу. Вена была историческим центром
великой империи с глубоко укорененными военными, гражданскими
и религиозными традициями: все это подпитывало австрофашизм.
Там же проживала и большая часть австрийских евреев, соседство
с которыми подогревало в иных христианах тягу к австрофашизму
или нацизму. С другой стороны, в Вене была сосредоточена крупная
промышленность и политически организованный пролетариат, что
вело к идеологическому господству в городе социализма. Главной
Кем были фашисты?
311
опорой фашизма поэтому оставалась провинция и сельские районы.
Классовое самосознание определяло здесь политические пристрастия
в меньшей степени, чем в столице. В некоторых провинциях ощутимо
чувствовалась и напряженность на границах. Многие немцы из всех
классов, проживавшие в приграничных районах, имели все основания
опасаться соседних государств. Соответственно, фашизм обрел многих
сторонников в Каринтии, Штирии и той части Бургенланда, которая
отошла Венгрии. Одна маленькая деревушка в Бургенланде, оспариваемая и австрийцами, и венграми, дала рекордное число нацистов, в том
числе и эсэсовцев, среди которых особенно прославился гестаповский
палач Алоиз Бруннер. С младых ногтей и в семьях, и в церкви дети
впитывали антиславянские и антисемитские настроения; в школах
насильственно преподавался мадьярский, что ожесточало немецкие
националистические чувства австрийцев (Epelbaum, 1990). Именно
тревожное положение на приграничных территориях, а не классовый состав сделали этих австрийцев пламенными националистами
и сторонниками сильного государства, защищающего нацию.
Австрийский фашизм и нацизм имел и давние, полускрытые
религиозные корни. Ядро старой габсбургской монархии было исключительно католическим, что и содействовало появлению со
циал-христианства и австрофашизма, в то время как западные провинции, в прошлом протестантские, а сейчас более светские, тяготели
к пангерманскому национализму и нацизму. Отношения нацистов
с католической церковью были двойственными. Хотя многие из них
были ярыми антиклерикалами, нацистские лидеры понимали, что
явный антиклерикализм означает политическое самоубийство, и были готовы идти на компромиссы с церковью. Католические клирики
отвечали фашистам столь же двусмысленной позицией. Некоторые
священники впоследствии были арестованы и даже казнены как
противники нацистского режима. Но церковная иерархия, начав
с поддержки австрофашизма, в дальнейшем стала коллаборантами
нацистов. В выборе между нацизмом и демократическим социализмом
высокопоставленные церковники предпочли нацизм. Они быстро
вступили с режимом в переговоры, а затем и даровали ему полную
поддержку, кроме случаев, когда он покушался на институциональные
интересы церкви. Что же касается протестантов, составлявших около
4 % населения, то они голосовали за нацистов практически поголовно,
312
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
и пасторы их зачастую считались нацистами (Carsten, 1977; Pauley,
1981: 96, 99–100; Botz, 1987: 262–263; Hanisch, 1989; Bukey, 1992: 226).
Религиозные и региональные различия определяли и разные
подходы к проблеме национального государства. Вначале католическая церковь выступала за независимость Австрии (поскольку при
этом Австрия останется католической), а протестанты стремились
к объединению с Германией. Австрийцы, жившие на территориях,
граничивших с Германией, тянулись к «родине-рейху» куда сильнее,
чем жители габсбургского хартленда, а те, которые проживали в непосредственной близости от Югославии и Чехословакии, еще больше
жаждали покровительства сильного пангерманского государства.
Разные провинции отличались классовой структурой, однако эти
различия бледнели перед разными взглядами на национальное государство. К 1938 г. выбор определился: стало ясно, что Австрия не
станет национальным государством, а будет поглощена германским
рейхом. Многовековые мечтания о «Великом рейхе» обретали плоть.
Будущий рейх не был в чистом виде протестантским, он должен был
двинуться на восток и подмять под себя традиционно австрийские
зоны влияния. В свою орбиту он вовлекал и воодушевленных новой
родиной австрийцев. Австрийские фашисты двух направлений, двух
религий, разного социального происхождения могли теперь служить
новой родине с энтузиазмом. Нацизм стал истинно всенародным
движением.
Классы, секторы, экономика
Многое ли можно объяснить классовыми конфликтами и иными
социально-экономическими отношениями? В предыдущих главах
мы пришли к выводу, что различные фашистские движения были
разнохарактерными по своей классовой структуре. Хотя и в Италии,
и в Германии фашизм рекрутировал сторонников из всех социальных
слоев, итальянские фашисты в большей степени опирались на буржуазию и мелкую буржуазию, чем немецкие. Схожим образом различались и два австрийских фашизма, один из которых испытывал
на себе влияние Муссолини, второй — Гитлера.
Кем были фашисты?
313
Однако по поводу «Хаймвера» мнения исследователей расходятся.
Ньюмен (Newman, 1970: 261) считает, что «Хаймвер» вербовал себе
сторонников отовсюду, кроме городского индустриального рабочего
класса. Эдмондсон (Edmondson, 1978: 38–39, 59) полагает, что движение возглавили кадровые офицеры, офицеры запаса, лишенная
титулов аристократия, «белые воротнички» и «разочарованная молодежь», рядовые же члены были «из крестьян и низшего среднего
класса» — то есть, по его объяснению, мелких торговцев, юристов,
государственных служащих. В такое стереотипное представление,
по-видимому, идеально вписывается биография Августа Мейснера.
Сын армейского лейтенанта, до Первой мировой он успел послужить
и в армии, и в полиции, был ранен, получил награждение — а затем,
лишенный своего скромного титула, отправился крестьянствовать
в родную деревню в Штирии. Он стал командиром отряда «Хаймвера», потом депутатом от блока «Хаймат», потом переметнулся
к нацистам. Во времена республики несколько раз сидел в тюрьме —
и очень гордился своей боевой биографией. В годы Второй мировой
войны Мейснер прославился как свирепый эсэсовский палач и был
повешен в 1948 г. в Югославии (Birn 1991).
Однако Эдмондсон разделяет и невероятное утверждение «НьюЙорк Таймс» о том, что в 1927 г. «Хаймвер» якобы состоял на 70 % из
крестьян, на 20 % из студентов и на 10 % из индустриальных рабочих.
Карстен (Carsten, 1977: 93, 113, 120, 123) полагает, что в венском
отделении организации преобладали рабочие и государственные
служащие. Однако, продолжает он, в других местах (кроме Штирии
во времена Депрессии) это было в основном сельское «движение
протеста против модернизации и урбанизации». Он также отмечает,
что и «Хаймвер», и нацисты рекрутировали сторонников из «народных» клубов, особенно спортивных, что помогало привлекать
студентов и молодежь. Ботц (Botz, 1987a: 257–263) считает, что
среди лидеров «Хаймвера» было много аристократов, ветеранов войны, а также студентов, и предполагает, что среди рядовых членов
его преобладали сельскохозяйственные рабочие, а также лесники из
крупных поместий. Большинство исследователей согласны в том, что
в основном члены «Хаймвера» были выходцами из села.
Возможно, не все оценки справедливы. Количественный анализ,
хоть и неполный, опровергает некоторые из этих утверждений.
314
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
реди лидеров «Хаймвера» встречались видные аристократы, однако
С
Уилтшегг показывает, что они составляли менее 2 %. В табл. 6.1 и 6.2
в Приложении я показываю, что лидеры и активисты «Хаймвера»
рекрутировались из всех классов и сословий, может быть, с некоторым перевесом в сторону высшего и среднего класса, но не большим,
чем у других несоциалистических партий того времени. Много было
бывших офицеров и унтер-офицеров, в основном выходцев из провинции — однако не из сельской местности. «Хаймвер» и социал-христиане, от которых он откололся, были единственными движениями, где
имелись в равной пропорции и крестьяне, и горожане. Есть у нас и небольшие выборки боевиков. Среди 36 членов «Хаймвера», в основном
городских жителей, попадавших под арест за политическое насилие,
преобладают «классическая мелкая буржуазия» и рабочие, с долями
1,71 и 1,16 соответственно (Botz, 1980). Из 42 «мучеников» «Хаймвера» 43 % были рабочими, 21 % — предпринимателями (мелкими
или крупными?), среди остальных наблюдался широкий разброс по
классовой принадлежности (Wiltschegg, 1985: 278). Следует ли заключить, что из боевиков «Хаймвера» большинство было рабочими
(как и в других фашистских движениях) и классическими мелкими
буржуа (что уже очень необычно)? По таким маленьким выборкам
с уверенностью этого не скажешь.
Голосовало за «Хаймвер» не столько село, сколько город. В 1930 г.
соотношение между голосованием за «Хаймвер» и долей избирателей,
занятых в сельском хозяйстве каждой общины, было отрицательным (–0,15), а между голосованием и степенью урбанизации — положительным (0,14). Положительной была и корреляция между
голосованием за «Хаймвер» и долей избирателей, занятых в третьем
секторе, — 0,15 (Botz, 1987a: 269). Как видим, корреляции выражены очень неярко; из этого можно заключить, что австрофашизм
был привлекателен для всей страны. Были у фашистов и рабочие
организации, хоть и намного меньшие, чем у социал-демократов.
Однако в общей сложности они включали в себя почти 100 тысяч
членов, в основном «белых воротничков» и работников государственного сектора, а после 1930 г. численность их росла быстрее,
чем у социалистических профсоюзов (Wiltschegg, 1985: 274–283;
Kirk, 1996: 33). Также «Хаймвер» имел сильное влияние среди шахтеров и металлургов Верхней Штирии (Pauley, 1981: 76). Начиная
Кем были фашисты?
315
с 1928 г. его профсоюзы здесь стали вытеснять социалистические,
а в 1930 г. «Хаймвер» сумел провести в парламент своего кандидата
от Верхней Штирии. Льюис (Lewis, 1991) считает, что это стало
результатом гонений на социалистические профсоюзы и режимом
наибольшего благоприятствования для профсоюзов «Хаймвера»
со стороны промышленников. Социалисты в этом регионе не были
сильны, а большая часть работ не требовала высокой квалификации,
поэтому промышленникам не составляло труда увольнять левых
и заменять их послушными безработными. Но это не объясняет
электоральный успех «Хаймвера» в этих краях (при тайном голосовании). По-видимому, рабочие симпатизировали фашизму больше,
чем готов признать Льюис. Штирийское отделение «Хаймвера» было
самым радикальным, в 1933 г. оно фактически слилось с нацистами.
Таким образом, австрофашизм, хоть и тяготел к буржуазии и мелкой
буржуазии, в целом имел широкую социальную базу. Его консерватизм был привлекателен для буржуазии и крестьянства, а фашизм
апеллировал к более радикальным слоям.
Об австрийских нацистах известно больше. В 1930 г. за них голосовали примерно те же избиратели, что и за «Хаймвер»: с незначительной отрицательной корреляцией — 0,20 среди сельского населения
и незначительной положительной среди городских жителей (0,15)
и в третьем секторе занятости (0,21). Нацизм родился в городе, но
сумел распространить свое влияние и на крестьянство, которое называл «становым хребтом Австрии». Первые электоральные победы
пришли к нацистам в начале 1930-х в Штирии и Каринтии, когда по
зиции «Хаймвера» пошатнулись. Консерваторов ужаснуло участие
крестьян в провалившемся нацистском путче 1934 г. Однако низкая
корреляция может свидетельствовать о том, что поддержка, пусть
и неравномерная, была повсеместной. У нацистов было одно явное
преимущество над фашистами — лишь они поддерживали аншлюс
и после прихода Гитлера к власти были готовы его совершить. Многие
поддержали нацистов как силу, способную привести к объединению
с Германией и обеспечить Австрии экономическое процветание.
Свою ставку на нацистов сделал и туристический бизнес, в Австрии
достаточно серьезный: ведь аншлюс с Германией открывал границы
для потока туристов. Компании с немецким капиталом ратовали за
свободную торговлю, но многие австрийские по-прежнему держались
316
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
за протекционизм. Успех нацистов на выборах не требовал приверженности нацистской идеологии, это была победа прагматизма.
Однако ядро нацистской партии было вполне фашистским и по
убеждениям. Небольшая довоенная Немецкая рабочая партия (ДАП)
и ее послевоенное порождение, Немецкая национал-социалистическая
рабочая партия (ДНСАП), были именно националистическими и социалистическими организациями. Туда входили рабочие, особенно
железнодорожники, и все те же госслужащие. В начале 1920-х в партию начали вступать студенты, учителя, дипломированные специалисты. Смена поколений и классовые конфликты ослабили партию
более чем на десятилетие (Pauley, 1981: 27–29, 40–41). В табл. 6.1
приведены данные по составу партии от 1923 г. Доля рабочих в 1925 г.
составляла 0,82 — чуть ниже средней, — но в 1926–1932 гг. она резко
падает до 0,36 и затем снова поднимается до 0,67 в 1934–1938 гг. Как
и в Германии, наибольшую активность проявляют госслужащие:
прослойка среднего класса в австрийской нацистской партии была
значительнее, чем в Германии, хотя рабочие составляли не менее
четверти ее членов. Из табл. 6.1 мы видим, что австрийские социалисты были более пролетарской партией, чем нацисты. ДНСАП могла
конкурировать с ними лишь среди рабочих общественного сектора:
железнодорожников, почтовых работников, работников городского
транспорта, персонала компаний с немецким капиталом.
Как и в других странах, рабочие чаще вступали в парамилитарные
формирования, а не в саму партию. Из табл. 6.1 видно, что среди нацистов, задержанных австрийской полицией, 52 % были рабочими,
39 % входили в СС и СА, хотя эти цифры гораздо меньше, чем 82 %
рабочих в боевой организации социалистов «Шуцбунд». Один из
лидеров СА отзывался о своих товарищах-рабочих как об «истинных
наших приверженцах»; а во время диктатуры Дольфуса процент рабочих вырос еще больше (Botz, 1980: 196, 206, 221; Pauley, 1981: 97–98).
Фашизм нравился рабочему классу в провинции более, чем в Вене. «Красная Вена», где проживала половина всех австрийских социалистов, заметно отличалась от остальной Австрии. Социализм
в провинции был менее марксистским, менее твердым и более гибким.
Как в Венгрии и Румынии, фашизм и социализм часто переплетались там, где для этого была подготовлена националистическая
почва, где нацистов и социалистов объединяли антиклерикализм,
Кем были фашисты?
317
антикапитализм и антисемитизм. Социалистические лидеры были
принципиальными противниками антисемитизма, но стеснялись
заявлять об этом во весь голос, боясь, что это вызовет раздражение
у рядовых членов партии. Они видели решение «еврейского вопроса»
в ассимиляции, а не в мультикультурализме. Далеко не все рядовые
социалисты разделяли убежденность своих вождей в том, что социализм и нацизм — смертельные враги. Обе партии осознавали, что их
сторонники мечутся между ними в поисках той силы, которая сможет дать бой главному врагу — австрийскому консерватизму. После
1934 г. «мечущиеся» в большинстве своем примкнули к нацистам,
хотя масштаб этого пополнения нацистской партии трудно оценить
(Kirk, 1996: 44). Известно, что двое социалистов-шуцбундовцев,
бежавших из Линца после неудавшегося восстания 1934 г., вернулись в 1938 г. и вступили в СС (Bukey, 1986: 136). Нацисты обещали
полную победу над безработицей, и казалось, что им можно верить.
Поскольку Гитлер справился с безработицей в Германии, австрийские
рабочие с полным основанием надеялись, что это же произойдет и у
них. По сообщениям гестапо, во время аншлюса «рабочие оказали
единодушную поддержку национал-социализму. Такого доверия
не было ни у какого правительства» (Bukey, 1978: 317). И в 1938 г.
правительство действительно начало выполнять свои обещания:
безработица сократилась на 60 %, в течение года росла зарплата. Но
вслед за подъемом начались экономические неурядицы. Теперь в нацистскую партию массово вступали карьеристы из среднего класса,
а разочарование рабочих росло. Недовольство усилилось во время
войны — антинацистские листовки, граффити и прочая полуподпольная агитация были делом рук рабочих (Bukey, 1989: 155–156;
1992: 210–219; Konrad, 1989). Рабочие немало сделали для прихода
фашизма к власти в решающий период с 1934 по 1938 г.; однако, как
и немецкая НСДАП, австрийские нацисты никогда не были партией
пролетариата.
Кем был нацистский средний класс? До 1934 г. еще в большей степени, чем в Германии, это была академическая элита — государственные служащие, выпускники университетов, студенты (так называемая
«арийская интеллигенция»). К 1918 г. в академической среде укоренились идеи авторитаризма, в частности, идеология католического
корпоративизма, выдвинутая австрийским социологом Отмаром
318
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
Шпаном и являвшаяся отправной точкой интеллектуального фашизма. Начиная с 1930-х гг. нацистские студенческие организации получили власть в студенческих сообществах нескольких университетов
и стали крупнейшим студенческим движением в стране. Чаще всего,
как говорят, нацистами становились учителя и преподаватели, за
ними следовали адвокаты и ветеринары, фармацевты и архитекторы.
Многие пришли к нацистам из «Хаймвера» (Carsten, 1977: 191, 198;
Pauley, 1981: 94; 1989: 41–42). Из табл. 6.1 в Приложении видно, что
среди нацистов преобладали государственные служащие (пик приходится на 1933 г. и на период 1939–1941 гг. с долей от 2,0 до 2,5 и от 20
до 27 %). Впоследствии среди военных преступников обнаружилось
непропорционально много полицейских, военных и юристов (подробнее об этом читайте в следующем томе). В период политических
репрессий 1934–1938 гг. число госслужащих, официально состоящих
в нацистской партии, по понятным причинам снизилось. По оценке
Бьюки (Bukey, 1978), в городе Линце половина нацистов так или
иначе работала на государство: в период репрессий многие были
уволены, часть эмигрировала в Германию, остальные скрывали свою
партийную принадлежность.
По выборке военных преступников, подробно представленных
в следующем томе моей книги, очень трудно судить, когда именно
стали нацистами те или иные австрийские государственные служащие и сотрудники полиции. Например, Франц Штангль, комендант
концлагеря Треблинка, на суде пытался передвинуть дату своего
вступления в партию на куда более поздний срок. Однако подобные
люди сотрудничали с нацистами и до формального присоединения
к ним. За нацистов почти всегда больше голосовали в тех провинциальных городах и окружных центрах, где имелась значительная
местная администрация (Pauley, 1981: 95). Госслужащие, судьи,
другие административные работники были традиционной опорой
обеих фашистских организаций, а венская бюрократия стала главным
организатором аншлюса (Botz, 1988).
Мы можем непосредственно сравнить активистов разных политических партий по городу Линцу. Данные, собранные Бьюки (Bukey,
1986), представлены в табл. 6.2. Они свидетельствуют, что среди нацистов было больше специалистов, чем в любой другой партии, а также
максимальная доля рабочих и минимальная доля мелкой буржуазии
Кем были фашисты?
319
в сравнении со всеми остальными партиями, кроме коммунистов
и социалистов. В табл. 6.1, в строках 8 и 9, обозначены нацисты и левые, задержанные венской полицией за уличные беспорядки. 82 %
задержанных левых и 40 % нацистов были рабочими (доля 0,75); но
все же среди нацистов преобладают госслужащие и студенты (доли
2,64 и 16,67). В строках 10 и 11 показаны осужденные на тюремное
заключение после неудавшихся переворотов, нацистского и социалистического, в 1933–1934 гг. Это дает представление о составе парамилитарных формирований в обоих движениях. Но есть и проблема:
многочисленные «кустари-ремесленники». В моей таблице они отнесены к мелкой буржуазии (как и у автора исследования). В результате
мы получаем только 38 % рабочих среди нацистов (доля 0,71), 48 %
(доля 0,90) — среди социалистов и 53 % (доля 0,98) — среди коммунистов. Высокая доля рабочих в трех политических группах вполне
объяснима. Как и в Германии, многие «ремесленники», скорее всего,
были рабочими. Если приплюсовать половину из них, рабочие будут
составлять среднюю величину (доля 1,00) среди нацистов и социали
стов и выше средней (доля 1,20) среди коммунистов. Думаю, что эти
цифры близки к истине. В этом случае нацистские боевики окажутся
истинными пролетариями (рабочими без квалификации), а если брать
средний класс, то непропорционально высоко будут представлены
студенты (огромная доля 11,00) и служащие частных предприятий
(доля свыше 2,50). В рядах СА тоже было больше студентов и рабочих,
чем в самой партии (Carsten, 1977: 198). Итак, нацистские боевики
были в основном студентами и рабочими, с вкраплениями среднего
класса, при почти полном отсутствии так называемой классической
мелкой буржуазии.
Активистами нацистского движения были госслужащие (особенно
из органов правопорядка) и интеллигенция, разношерстные представители мелкой буржуазии; боевой силой нацизма, готовой выполнять
«грязную работу» — рабочие (особенно из государственного сектора),
студенты и «белые воротнички». Ниже средней величины была представлена классическая мелкая буржуазия, группы, занятые в мелком
частном производстве и распределительном секторе. Судя по всему,
в очередной раз мы сталкиваемся с социальными группами, наблюдающими классовую борьбу снаружи и, возможно, откликнувшимися
на обещания фашистов преодолеть классовый конфликт.
320
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
Можно ли объяснить успех фашистов состоянием экономики?
Отчасти да, поскольку экономика Австрии была тесно связана с немецкой. Великая депрессия, безусловно, больно ударила по стране.
Падение ВВП на 23 % было, как показано в табл. 2.1, самым большим
в Европе (хотя и меньше, чем в США и Канаде). Безработица достигла
своего пика в 1933 г., оставалась высокой вплоть до аншлюса, в том
числе из-за экономической блокады, введенной Гитлером. Подъемы
фашистского движения в Австрии точно коррелируются с экономической рецессией. «Хаймвер» был антилиберальным, антикапиталистическим движением, быстро росшим на волне Великой депрессии;
нацисты набирали силу по мере обострения экономического кризиса.
Режимы Дольфуса и Шушнига отдавали себе отчет в том, что за политическим недовольством стоят экономические проблемы. Фашисты
же убеждали общественность в том, что вина за экономические провалы правительства лежит на евреях и большевиках, разрушающих
национальное единство. Эту язву можно вылечить, лишь очистив нацию от внутренних врагов и перестроив ее на началах корпоративизма.
Некоторые австрийцы оказались восприимчивы к этой пропаганде,
но больше было таких, которые, разочаровавшись в бездарной экономической политике правительства, видели решение всех проблем
в союзе с Германией. Экономический кризис стал главной причиной
падения демократического правительства и прихода нацистов к власти. В руках у нацистов оказалась волшебная палочка — аншлюс. Как
ни в какой другой стране, австрийские фашисты сумели сыграть на
экономической катастрофе и обнищании народа.
Но стали ли фашистами именно те, кто больше всего пострадал
от экономических неурядиц? Часто считают, что костяк фашистских
организаций составили безработные выпускники университетов и дипломированные специалисты, бывшие военные, потерявшие место
госслужащие, а также небогатые люди, чьи доходы стремительно
снижались. Фашистами стали «главные жертвы экономического кризиса» (Carsten, 1977: 206, 331–332; ср. Siegfried, 1979). Проще простого
объяснить фашизм с точки зрения исключительно экономики, но не
следует с этим торопиться. Государственные чиновники, вооруженные силы, университеты, элита великой империи, стали главными
пострадавшими в момент ее краха (Bukey, 1978: 325). Эта катастрофа
могла означать не только материальные лишения, но и утрату обще-
Кем были фашисты?
321
ственного статуса, социальной значимости и смысла существования.
Но Ботц (обычно ищущий материальные причины) доказывает, что по
падению доходов и безработице госслужащие пострадали не больше,
чем рабочие. Ньюмен (Newman, 1970: 257) обращает внимание на то,
что, хотя многие чиновники и офицеры потеряли работу, они и до
того были убежденными немецкими националистами, вполне созревшими для принятия фашизма. Более того, образованная нацистская
элита в Линце с крушением монархии не потеряла ничего и даже
демонстрировала скорее восходящую, чем нисходящую мобильность,
связанную с более высоким уровнем образования. Бьюки (Bukey,
1978: 323–325) не считает фашистов маргиналами хотя бы потому,
что в 1930-е к движению начала прибиваться крупная пангерманская
буржуазия. Экономические проблемы помогли нацизму родиться на
свет, но не были главной мотивацией его сторонников.
При общей высокой безработице в Австрии до аншлюса многие
нацисты не имели работы, что вполне естественно. Но по выборке
военных преступников (об этих, самых радикальных нацистах я рассказываю в следующем томе) трудно судить, что чему предшествовало — экстремизм или безработица. Винценц Ногель, механик, часто
терял работу, но, скорее всего, и раньше был нацистом (его брат,
штурмовик СА, точно был). Йозеф Швамбергер, продавец в магазине, был безработным больше года, потом нашел работу в СС, где
развил кипучую деятельность. Но в шестилетнем возрасте он вместе
с родителями был вынужден бежать из Южного Тироля, когда эта
территория отошла Италии. Ожесточение и экстремизм пришли
к нему в самые юные годы. Он стал охранником в лагерях смерти,
и один из выживших отзывался о нем так: «Я не хочу называть его
зверем, чтобы не обижать животных. Он убивал, потому что ему
нравилось убивать». Герберт Андорфер, впоследствии комендант
концлагеря Землин (Земун) в Белграде, из-за Великой депрессии
был вынужден бросить учебу в университете и не получил степени.
Однако, по всей видимости, в нацистскую партию он вступил за несколько месяцев до того. Доктор Ирмфрид Эберль, в будущем один из
комендантов Треблинки, не мог найти в Австрии работу по профессии
из-за репутации отъявленного нациста. Адольф Эйхман безработным
не был, но и успехов на поприще коммерции не имел, в нацистскую
партию вступил по рекомендации своего более удачливого товарища
322
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
Кальтенбруннера. Насколько мы можем судить (если не принимать
во внимание его отговорки во время процесса), неудачи в карьере
слились у него с политическими разочарованиями. Так Эйхман
стал нацистом. Очевидно, массовая безработица сыграла свою роль
в мобилизации австрийского нацизма, тем паче что Гитлер предлагал
готовое решение. Но все же фашизм не был идеологией безработных.
Экономические проблемы привлекли к нему сочувствующие массы,
но не создали костяк партии, обеспечивший фашизму победу.
Оба австрийских фашизма выросли на экономическом недовольстве. В обеих партиях было немного промышленных рабочих
(в отличие от парамилитарных формирований), но много государственных чиновников. Среди национал-социалистов было мало крестьян, а в рядах «Хаймвера» были слабо представлены управленцы
частного сектора. Но и те и другие пользовались более широкой
поддержкой избирателей, чем их противники. Австрийская социалистическая партия с резко отрицательной корреляцией (–0,70)
среди занятых в сельском хозяйстве, положительной в городах (доля
0,60) и с долей в 0,45 в третичном секторе занятости не выходила за
пределы городских пролетарских гетто. В Австрии был сильный рабочий класс, соответственно, сильны и социалисты, но не настолько,
чтобы выиграть национальные выборы. У Христианско-социальной
партии все три корреляции были прямо противоположными (0,45,
–0,40 и –0,31 соответственно). За пределами сельскохозяйственного
сектора у партии не было сильной опоры. Социальная база австрофашистов неуклонно сужалась. Режим Дольфуса, не желавший
считаться с германофильскими настроениями в стране, был элитарным и снобистским, о чем можно судить по фотографиям — сутаны
священников, мундиры генералов, модные дорогие костюмы. На этом
фоне популистский фашизм еще быстрее набирал силу.
Ботц заключает, что обе организации были «разношерстными партиями для всех» или «ассимметричными народными партиями» — как
и нацизм в Германии. В этой стране, как мы помним, нацисты привлекали представителей всех классов и секторов, и причинами этому
становились общенародные симпатии и антипатии. Австрийский нацизм держался за фалды Гитлера, за военную и экономическую мощь
Германии, вызывавшую все больше восхищения у этнических немцев
в соседних странах. В тройственном споре между социал-христиа-
Австрийский антисемитизм
323
нами, немецкими националистами и социалистами каждая сторона
обращалась за помощью к врагу своего врага. В конце 1930-х нацисты
перетянули на свою сторону многих рабочих и социалистов, объявив
себя радикальной альтернативой австрофашизму. Австрофашистов же
они подкупили своим антисоциалистическим национализмом. Прочной базой для них стали сторонники национал-этатизма. В очередной
раз государственные институты (армия, гражданские учреждения,
высшее образование, высоколобая академическая интеллигенция)
и все, кто нуждался в сильном государстве (особенно австрийцы
в уязвимых пограничных регионах), объединились, чтобы поддержать фашизм. В очередной раз его социальной опорой оказались те,
кто был на периферии классовой борьбы в больших промышленных
городах. Страну раздирал конфликт между пролетарским городом
и мелкобуржуазной консервативной деревней, посулы фашистов
«превзойти» эти противоречия пришлись как нельзя кстати. И наконец, притягательность фашизма объяснялась близостью могучего
Третьего рейха, с которым так хотелось воссоединиться. В этом
процессе слились все четыре источника социальной власти, а особо
важную роль сыграл макроэкономический фактор.
АВСТРИЙСКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ
Самым существенным вкладом Австрии в развитие европейского
фашизма стал политический антисемитизм. Исторически в стране
было не так много еврейских погромов, как на Украине или в Польше, но именно Австрия стала лидером в развертывании современных
антисемитских политических движений. С 1850-х в традиционной
политической риторике евреи представали в образе хищных ростовщиков, религиозных фанатиков, безродных космополитов, «угрозы
с Востока», могущей опрокинуть западную цивилизацию. Пульцер
(Pulzer, 1993: 38) отмечает, что, хотя антисемитизм принято разделять на экономический, политический и религиозный, австрийские
политики свалили все это в одну корзину и объявили евреев угрозой
единству австрийского и немецкого народов. Официальная демагогия
шла рука об руку с газетными измышлениями, дутой статистикой
324
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
о количестве еврейских банков, магазинов, газет, кинотеатров и так
далее. Антисемитизм был общенародным чувством. С 1880-х Шёнерер и Люгер сделали антисемитизм программной установкой своих
политических партий. Шорске (Schorske, 1981: гл. 3) пишет, что они
разработали «политику в новом ключе», подкармливая карманные
газеты, спортивные клубы, организуя массовые демонстрации и уличные беспорядки. Такой популизм естественно породил фашизм.
По мере ослабления империи Габсбургов укреплялся австрийский
и немецкий национализм. В первые годы ХХ века евреи воспринимались как космополитические марионетки антинационального
и антидемократического Габсбургского режима. Уже в 1884 г. лидер
социал-демократов Карл Каутский предупреждал: «Наши антисемиты... намного опаснее немецких, поскольку умеют прикидываться
оппозиционерами и демократами и тем возбуждают к себе симпатии
рабочих» (Carsten, 1977: 16). Опаснее были они и в простом, житейском смысле. Хотя самые жестокие проявления антисемитизма, начиная с 1930-х, относятся к Германии, по-видимому, в преследованиях
евреев — погромах, грабежах, локальных высылках евреев еще до
«окончательного решения» — участвовало больше австрийцев, чем
немцев (Botz, 1987b; Bukey, 1992: 214–219).
Накал австрийского антисемитизма часто объясняют эко
номическими причинами: рабочий класс ненавидел евреев за богатство, а средний класс видел в них соперников (Pauley, 1981: 16–17).
Это может быть справедливо лишь для Вены, где проживал 91 %
австрийских евреев. За пределами столицы евреев было очень мало,
и они не могли никому составить конкуренцию. В Вене же их было
10 % от общей численности горожан — заметное и процветающее
меньшинство. В 1914 г. венские евреи принадлежали в основном
к среднему классу и получали хорошее образование. Евреями были
35 % учащихся Венской гимназии (лучшее учебное заведение города)
и 28 % студентов городского университета. Это были люди высокой
культуры. Достаточно вспомнить таких европейских гениев, как
Фрейд и Малер. Евреями были 62 % городских адвокатов и дантистов,
47 % врачей, 27 % профессуры, 18 % директоров банков. В их руках
находилось 94 % рекламных агентств, 85 % мебельных магазинов,
70 % виноторговли и текстильного производства (Pauley, 1987: 154–
155). Это очень впечатляющие цифры. Евреи обеспечивали работой
Австрийский антисемитизм
325
200 тысяч служащих христианского вероисповедания, хотя в производственном секторе экономики и в других городах евреев было мало.
Таким образом, в отличие от Германии, австрийский антисемитизм
имел выраженную экономическую мотивацию: недовольство горожан
еврейским финансовым капиталом и недовольство села еврейским
засильем в городах.
Однако, за одним важным исключением, нацизм и австрофашизм
имели более сильные позиции там, где евреев было меньше. За пределами Вены евреи составляли лишь 2 % населения. В столице евреи
могли в каких-то профессиях составить конкуренцию христианам, но
в провинции такого не случалось. Мало евреев было среди учителей,
еще меньше — ничтожная четверть процента — среди государственных
служащих и еще меньше среди военных. Однако нацизм завоевывал
свои позиции именно в государственных учреждениях, особенно
в приграничных Каринтии и Штирии, где евреев почти и не было.
Хотя со временем австрофашизм завоевал средний класс в Вене, больше всего его поддерживали провинциальные города и село. Похоже,
чем дальше от реальных евреев, тем привольнее жилось антисемитам.
Еврей стал популярным символом большого города, враждебного
селу. Впрочем, возможно, такое объяснение более подходит для австрофашизма, чем для более городского нацизма.
Исключениями в больших городах стали некоторые профессии
и, что особенно важно, студенты. Студенчество в целом было более
какой-либо иной социальной группы склонно к нацизму — и оно же
чаще всего сталкивалось с евреями. Антисемитизм студентов часто
объяснялся конкуренцией. Именно студенты громко требовали
numerus clausus (ограничительную квоту) для евреев, поступающих
в университеты. Верно ли, что материальные интересы сделали
студентов основными носителями идейного антисемитизма и распространителями его в остальном населении? В какой-то степени
да. Однако среди австрийского студенчества антисемитизм был
сильно развит уже в начале века, еще до массового наплыва евреев
в Австро-Венгрию, и всегда был тесно переплетен с правыми убеждениями, особенно с идеалами пангерманизма. Поворот студенчества
к фашизму происходил медленно, постепенно и, по-видимому, не
был связан с флуктуациями в трудовой занятости (Whiteside, 1966;
Pauley, 1981: 17–19, 93–94).
326
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
Эрнст Кальтенбруннер, впоследствии глава гитлеровского РСХА,
в 1920-е был предводителем студенческих нападений на евреев
и «красных». Однако он лишь следовал семейной традиции. В 1890-е
его отец, будучи студентом, также возглавлял нападения на евреев,
которых называл «паразитами на теле нации». Затем и отец, и сын, не
прекращая своей националистической деятельности, сделали успешную юридическую карьеру. Йозеф Фитцхум, позднее шеф полиции
СС на Балканах, сокрушался, что его карьеру в Вене загубили евреи.
Однако (даже если не вспоминать, что со службы его выгнали за растрату) уже в 1918 г., двадцати двух лет от роду, едва демобилизовавшись и не успев еще найти работу, он уже разглагольствовал о том, что
в республике, мол, у власти «красная сволочь», «коммунистические
бандиты» и евреи. Судя по всему, у подобных людей антисемитизм
имел не бытовое происхождение, а идейную подоплеку, связанную
с ярко выраженным национализмом.
Нам знаком бытовой антисемитский стереотип еврея Шейлока: изворотливого дельца, ростовщика, ходатая по темным делам, предпринимателя или спекулянта недвижимостью (а в некоторых культурах
еще и юриста). В межвоенной Австрии евреев воспринимали именно
так. Однако с этим стереотипом соседствовал второй: польский или
украинский еврей-ортодокс из-за черты оседлости, одетый и живущий
«по-старому», для многих австрийцев (и не только для них) символ
восточного варварства — антитеза как австрийской католической
цивилизации, так и (в межвоенный период) цивилизованной германской христианской нации. Связывая культурного венского портного,
коммерсанта, врача — например, Зигмунда Фрейда — с этим далеким, чуждым и несущим угрозу Другим, Гитлер и прочие австрийцы
оправдывали их силовое исключение из нации. Это позволяло соседям и коллегам грабить евреев или лишать их работы, тем самым,
возможно, удовлетворяя материальные претензии к ним. Нам еще
предстоит разобраться в том, откуда взялась идея вражды между
евреями и цивилизованными народами. Однако истоки ее выглядят
куда менее материальными и весомыми, чем последствия.
По-видимому, здесь необходимо обратить внимание еще на два фактора. Во-первых, антисемитизм был стержнем националистической
идеологии в этой части Европы (а также восточнее, как я покажу в следующем томе). Паркинсон дает этому психологическое объяснение:
Австрийский антисемитизм
327
...характерный австрийский... антисемитизм, проникнутый завистью
и злобой, можно объяснить лишь психологическим состоянием, в котором оказались австрийцы. Их неотвязно мучил комплекс неполноценности по отношению как к немцам, так и к евреям; не в силах выместить
злобу на немцах, австрийское большинство пресмыкалось перед ними
и с удвоенной силой отыгрывалось на евреях (Parkinson, 1989: 327).
Однако не следует забывать, что до войны евреи-космополиты
считались (и не без оснований) сторонниками Габсбургской правящей
династии, настроенной против националистов. Как отмечал Каутский,
все популистские движения обвиняли евреев в поддержке ненавистного режима. Такой антисемитизм звучал еще до 1900 г. в идеологии
популистского движения Шёнерера. Затем христианско-социалистская администрация Вены во главе с мэром Люгером объявила врагами Австрии «жидомадьяр». Во всех странах, образовавшихся после
распада Австро-Венгерской империи, евреи стали козлом отпущения
за все грехи абсолютизма (Sugar, 1971: 154), а в самой Австрии их еще
считали и главными виновниками гибели государства. После 1918 г.
евреи были бельмом на глазу, постоянным напоминанием о катастрофическом Габсбургском многонациональном эксперименте. Мы
уже упоминали о «народнической» идеологии интеллектуалов Вены
и Мюнхена, которая непосредственно предшествовала немецкому
нацизму. В 1920–1930-е эта идеология была широко востребована
политической элитой страны: рожденную в правых кругах, ее постепенно подхватывали и левые (Whiteside, 1966; Carsten, 1977: гл. 1, 5).
И этому органическому национализму, теперь воплощенному в немецких националистах, евреи в самом деле были враждебны.
Во-вторых, нацистские идеологи в Австрии, как и в Германии,
возлагали на евреев вину за обострение классовых конфликтов.
Разве не евреи крупнейшие финансисты страны, и разве не евреями
являются самые известные «красные»? Доля истины в этом была.
Многие (хоть и не все) видные капиталисты и социалисты в самом
деле были евреями. Считается, что 75 % евреев Вены голосовали
за социалистов. Нацисты воспринимали мир в черно-белых тонах:
с одной стороны идеализированная германская нация, с другой — ее
враги: международный/еврейский капитал и варварский восточный
«жидобольшевизм». На место немецкой нации австрофашисты
328
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
подставляли австро-германское национальное государство, но
врагами видели все тех же евреев (хотя ненавидели их также по
религиозным и расовым причинам). Антикапиталистический по
пулизм импонировал многим рабочим, далеким от социалистической
идеологии (в конечном счете, даже многие социалисты примкнули
к фашистам), а антибольшевистский национализм был популярен
в среднем классе, провинции и среди крестьянства. Как и в других
странах, широкую поддержку приобрела идея сильного государства,
которое «настучит по головам» обоим враждующим классам. Но, как
и в других восточноевропейских странах, головы эти представлялись
характерно семитскими.
Евреи, будучи символом всего национально чуждого, заодно
с коммунистами стали главными кандидатами на тотальную чистку.
Поскольку в коренной Австрии уже не оставалось иных этнических
и религиозных меньшинств, главный удар обрушился на евреев.
В народном сознании евреи оказались сразу и классовыми, и нацио
нальными врагами. Западной христианской цивилизации всегда
был присущ антисемитизм. Но в межвоенный период он поднялся
на новый уровень, дошел до идеи систематических чисток, до представления о том, что устранение евреев снизит классовый конфликт
и укрепит целостность нации.
Проблема материалистического объяснения антисемитизма, да
и фашизма в целом, связана не с тем, что материальные интересы
и экономическое ущемление якобы неважны. Проблема в том, что
материальный интерес сам по себе не приводит автоматически к тем
или иным политическим убеждениям. Между ощущением личной экономической угнетенности и тем, чтобы стать антисемитом,
консерватором или социалистом, лежит широкое поле идеологии
и политики — и нельзя перейти это поле, не столкнувшись с многочисленными политическими движениями, каждое из которых постарается
убедить нас в том, кто наши друзья, а кто враги. Если враг или друг
трактуется как «класс» или «нация», то наш личный житейский опыт
не в силах определить истинность этого утверждения — мы можем
лишь поверхностно оценить степень его достоверности. Поэтому
в поисках истоков массового антисемитизма необходимо обращаться
к политике и идеологии, рассматривая их влияние на социальные
структуры, более мелкие, сложные и тонкие, чем нация или класс.
Заговор элиты? Классовые мотивации
329
Особенно верно это для Австрии. Да, австрийский фашизм в целом
имел выраженную экономическую мотивацию, но о важнейшем
его компоненте — агрессивном и жестоком антисемитизме — этого
сказать нельзя.
ЗАГОВОР ЭЛИТЫ?
КЛАССОВЫЕ МОТИВАЦИИ
Был ли австрийский фашизм заговором элиты, как в Италии (или
в меньшей степени в Германии)? Помогал ли правящий класс фашистам, чтобы те, вопреки собственным утверждениям о «единой
нации, преодолевающей классовый конфликт», обуздали низшие
классы? С австрофашистами ответ очевиден — да. «Хаймвер» находился в тесных отношениях с церковью, армией и имел значительную
финансовую помощь от политически активных капиталистов (хотя
таких было и немного), когда они убедились в слабости республи
канской власти39. Режим Дольфуса стал продолжением прежнего
режима, но с поддержкой современных капиталистов. Его дефляционная экономическая политика проводилась в интересах крупных
землевладельцев и промышленников. После того как гитлеровский
режим провозгласил в Нюрнберге расовые законы рейха, даже еврейский капитал, в ужасе перед нацистами, начал поддерживать их
соперников австрофашистов. Некоторые австрийские капиталисты
опасались также конкуренции с германским бизнесом в случае аншлюса. Таким образом, правящая элита и капитал начали демонтаж
республики, чтобы заменить ее австрофашизмом. Австрофашизм был
креатурой элиты и промышленников в куда большей степени, чем
в Италии или Германии. Напротив, австрийских нацистов поддерживали лишь владельцы германских предприятий. Правящий класс
по большей части с крайним подозрением относился к радикальному
популизму нацистов. Его прямая ответственность за приход нацистов
к власти невелика.
39
Кроме того, «Хаймвер» получал деньги от Муссолини.
330
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
В чем состояла мотивация элиты австрофашизма? Была ли она
непосредственно классовой? Некоторые открыто это признавали,
ссылаясь, как и в других странах, на самозащиту, — они, мол, защищают свои права на собственность и прибыль. Они утверждали,
что выбрали фашизм как единственный ответ на социалистическую
угрозу. Рассмотрим их аргументацию. Во-первых, говорили они,
социализм провозгласил «революцию» и тем поставил под угрозу
капиталистическую собственность. Действительно, в 1918–1919 гг.,
после краха Габсбургской империи, австрийские социалисты провозгласили курс на революцию. Но тут же сами ее испугались: распустили советы рабочих и солдатских депутатов, потребовали прекратить демонстрации, поддержали республиканскую конституцию
и не рискнули провести кадровые чистки в армии и государственном
управлении. Хотя, в противовес «Хаймверу», они и создали свой
«Шуцбунд», это было скорее мерой самозащиты. Позже они не вошли
в коалиционное правительство, оставшись верными марксистской
догме: социалисты — это партия пролетариата, другие партии представляют враждебные классы, никакое сотрудничество между ними
невозможно. Социалисты также считали (и не без основания), что их
хотят втянуть в правительство, чтобы потом повесить на них вину за
безработицу, вызванную Великой депрессией. Эта непримиримость
была тактической уступкой левому крылу партии. Тактически она сработала: левые социалисты не перебежали к коммунистам. Но в стра
тегическом смысле это была катастрофа. Произошла поляризация
политического спектра страны, насилие (которое лучше удавалось
правым) стало единственным инструментом решения проблем, что
дало возможность социал-христианам начать вычищение социалистов
из армии и государственного аппарата. В 1933 г. социалисты начали
отчаянно лавировать и даже пошли на компромисс с Христианско-социальной партией. Но было поздно, социал-христиане взяли твердый
курс на авторитаризм (Gulick, 1948: II, 1266–1278).
В действительности социалисты в Австрии уже давно стали
буржуазными демократами и реформистами. Реформистское крыло
было сильнее всего в так называемой «красной» Вене, где региональное управление контролировалось социалистами, получившими по
конституции обширные полномочия, включая налогообложение.
Муниципальное строительство, образование, социальная поддерж-
Заговор элиты? Классовые мотивации
331
ка малоимущих были достаточно скромными по бюджету, но этот
бюджет составлялся с помощью прогрессивного налогообложения,
что раздражало и средний, и высший класс. Масштабное строительство муниципального жилья стало символом межвоенной социалдемократии, а перераспределение доходов — источником бюджетных
поступлений (Gruber, 1985; Marcuse, 1985). В результате под ударом
оказались доходы богатых, как это обычно и бывает при проведении
социально ориентированной политики. Так приобрела актуальность
и вторая мотивация имущих классов — страх за свою прибыль.
В краткосрочной перспективе этот страх, возможно, был оправдан.
Но в долгосрочной перспективе такое перераспределение не снижало прибыли. Этот агрессивный реформизм был на деле полным
аналогом тех реформ, что провели чуть позже шведские и датские
социалисты, — или тех, что провела после Второй мировой войны, при
большем общественном согласии, Вторая Австрийская республика
и достигла этим впечатляющих макроэкономических результатов. Не
это спровоцировало ответный удар фашистов. Поскольку большинство австрийцев, и особенно австрийских фашистов, жили не в Вене,
едва ли достижения австрийского социализма могли стать в их глазах
угрозой, требующей немедленного ответа.
Утверждалось также, что фашисты были вынуждены нанести
ответный удар, чтобы прекратить пропаганду забастовок, агрессивную риторику, а временами и уличное насилие, чинимое левыми.
Но уровень забастовочного движения в Австрии на самом деле не
был высоким, а левое насилие после 1920 г. практически прекратилось. Забастовки достигли максимума в 1931 г. и почти сошли на
нет в 1934 г. в результате Депрессии и умеренных репрессий. Существовавший полуавторитарный режим был консерваторам вполне
по вкусу, и вряд ли бы они его променяли на фашизм или нацизм
только из-за забастовок.
Правые часто критиковали социалистов, ссылаясь на одну из
статей партийной «Линцевской программы» 1926 г. По их мнению,
в ней провозглашалась диктатура пролетариата. Есть смысл процитировать эту статью:
Социал-демократическая рабочая партия должна... оставить за
собой право уничтожения классовой власти буржуазии демокра
332
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
тическими методами. Но если, вопреки усилиям Социал-демо
кратической рабочей партии, буржуазная контрреволюция будет
угрожать демократическим устоям общества, то тогда рабочий класс
будет вправе захватить государственную власть через граж данскую
войну. И если буржуазия будет сопротивляться револ юционным
переменам, к коим будет стремиться правительство победившего
рабочего класса, с помощью злонамеренных мер экономического
принуждения, или путем бунта, или вступив в сговор с иностранными
контрреволюционными силами, то в качестве ответной меры рабочий
класс будет вынужден сломить это сопротивление буржуазии, обратившись к диктатуре (Lowenberg, 1985: 73–74).
Читать этот пассаж — сущая пытка, но, вникнув в него, невозможно обнаружить ничего угрожающего: законно избранное правительство или партия заявляет о своем праве на самооборону в случае
агрессии — и не более. В действительности австрийские социалисты
демонстрировали крайнее, даже самоубийственное нежелание отвечать на провокации правых (Stadler, 1981). Их боевая организация
«Шуцбунд» была немалой по численности (80–90 тысяч), но плохо
вооруженной и обученной. Насилием они отвечали только на насилие
и действовали лишь в рабочих кварталах. В отличие от фашистских
и нацистских штурмовиков, они редко покидали свои пролетарские
гетто. Они никогда не пускались на провокации, что было обычной
тактикой фашистов. Естественно, что в реальных условиях марши
и демонстрации часто перерастали в потасовки, где трудно было
найти правых и виноватых. Но крупные мероприятия проводились
под неусыпным надзором партийных лидеров, которые страшно
боялись «провокаций» со стороны рядовых активистов (Botz, 1985).
С уличным насилием у социалистов были связаны печальные воспоминания. В 1927 г. два националистических головореза беспричинно
убили двух рабочих-социалистов и были оправданы сочувствующим
им судом. Вспыхнул мятеж, запылал Дворец Правосудия. Игнорируя
примирительные предложения социалистов, правительство социалхристиан распорядилось бросить на подавление мятежа вооруженную полицию, застрелившую то ли 85, то ли 90 человек из толпы.
В официальном рупоре Христианско-социальной партии появилась
статья под заголовком «Справедливое возмездие». Социал-христиане,
пангерманские националисты, «Хаймвер» и нацисты в один голос
Заговор элиты? Классовые мотивации
333
кричали: «Большевики! Революция!» Рядовые члены соцпартии негодовали, но вожди быстро охладили горячие головы и ограничились
парламентским протестом.
Социалисты прятали головы в песок до 1934 г. и дождались
репрессий Дольфуса и яростных нападений «Хаймвера», грозивших перейти в ползучий путч. Обе силы пытались спровоцировать
«Шуцбунд» на сопротивление, чтобы государство его уничтожило
(«Хаймвер» пытался провернуть то же с нацистами). Но теперь
социалисты малодушно позабыли о праве на самооборону. Почти
все руководство партии сдалось без боя и даже вступило в сделку
с «Хаймвером», чтобы выторговать себе личную безопасность.
В марте 1933 г., когда Дольфус прекратил заседания парламента,
«Шуцбунд» был все-таки отмобилизован, но лишь в целях самозащиты. Однако сразу же после этого социалистический лидер Отто
Бауэр призвал шуцбундовцев к нейтралитету в знак доброй воли.
Правительство отблагодарило его тем, что распустило «Шуцбунд».
В завершение этой истории в феврале 1934 г. глава «Шуцбунда»
в Линце Рихард Бернашек поднял своих бойцов против местной
полиции. Этому примеру последовало множество социалистических
организаций по всей стране, вопреки прямому запрету партийного
руководства, которое тот же Бернашек презрительно именовал
«тормозами революции». Когда полиция уже выламывала двери,
чтобы его арестовать, Бернашек успел позвонить по телефону
и передать приказ: «К оружию!» — но было поздно. Лишенные
руководства и координации, не обученные городским боям, социалистические боевики были смяты регулярными войсками, полицией
и «Хаймвером». Их спровоцировали на запоздалое, обреченное на
провал восстание. Если не считать событий в Испании, то в довоенной Европе это было самое крупное пролетарское выступление
против фашизма, что еще раз свидетельствует о миролюбивом
характере межвоенных социалистов.
Позже, уже в изгнании, Бауэр сокрушался о допущенной ошибке.
В марте 1933 г., говорил он, социалистической партии следовало объявить всеобщую забастовку и пойти в наступление в соответствии
с «Линцевской программой». «Мы оказались идиотами и поверили
обещаниям Дольфуса... Это было ошибкой, самой роковой нашей
ошибкой». В Австрии, как и в других странах, мастерами уличного
334
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
насилия оказались не социалисты, а оба фашистских движения.
«Хаймвер» гордился своими боевиками, хотя его руководство часто
открещивалось от крайностей, которые позволяли себе рядовые
штурмовики. Нацисты патетически называли себя «штурмовыми
батальонами ужаса» и призывали к «беспощадной борьбе против
тех, кто не знает пощады». Как и в других странах, в Австрии мы
находим дисбаланс между жертвами насилия. Среди 859 погибших
или серьезно раненых в гражданском противостоянии 1918–1934 гг.
пострадавших социалистов было вдвое больше, чем фашистов (Botz,
1982: 303; Bukey, 1986: 120–137).
Вопреки утверждениям правых, австрийские социалисты в основе
своей поддерживали демократию. В отличие от них, националисты
двух лагерей являлись по большей части «случайными» демократами
(это испанское понятие мы обсудим в главе 9). Они были демократами лишь до тех пор, пока демократия помогала им удерживать
власть. Однако уступить ее социалистам конституционным путем
они бы никогда не согласились. Окончательным их выбором стал
авторитаризм и фашизм. Уже в 1920-е Христианско-социальная
партия имела явно авторитарные замашки: на протяжении этого
десятилетия подавлялись конституционные свободы, социалистов
изгоняли из армейских рядов и гражданского управления, проводились избирательные репрессии, шло сотрудничество с «Хаймвером».
Армию очищали и от нацистов. К середине 1930-х вооруженные силы
были надежным союзником австрофашизма; позже, начиная с 1936 г.,
туда снова пробрались нацисты (Stülpfarrer, 1989: 194–195). Когда на
страну обрушилась Великая депрессия, то под давлением фашистов
австрийские националисты и социал-христиане окончательно расстались с демократией. Некоторые лидеры и активисты переметнулись
в чужой лагерь, другие же резко поправели.
Однако в этом не было нужды. Вместо этого им стоило бы войти
в широкую демократическую коалицию с социалистами, сделать им
ряд уступок, поделить портфели в правительстве, демократизировать
армию и полицию, провести экономические реформы кейнсианского
типа для борьбы с кризисом. Или же австрийская власть могла бы
крепко прижать фашистов и попробовать восстановить квазидемократический статус-кво середины 1920-х. Конечно, армия и полиция могли бы не согласиться проводить репрессии по отношению
Заговор элиты? Классовые мотивации
335
к «Хаймверу» (в 1934 г. они усмирили нацистов лишь наполовину
и отказались это делать вообще в 1938 г.). Но, поскольку у социал-христиан был собственный репрессивный аппарат, их решение
свидетельствует лишь о глубоко въевшихся в их плоть и кровь авторитарных симпатиях. Наконец, власть могла бы просто подготовить
почву для новых выборов, сохраняя миноритарное правительство.
Паули (Pauley, 1981: 80) соглашается с тем, что нацисты не смогли бы
набрать больше 25 % голосов, но все же считает, что режим Дольфуса
мог смещаться лишь вправо (при отсутствии союза с социалистами).
Некоторые апологеты режима Дольфуса и Шушнига уверяют нас,
что они подвергали социалистов репрессиям исключительно ради
установления «временного авторитаризма», чтобы развязать себе руки
для борьбы с нацистами. Это звучит неубедительно: вряд ли можно
защитить демократию, подавив самую большую группу демократов.
Нет: такие деятели, как Дольфус и Шушниг, выбрали авторитаризм.
А когда политическая ситуация загнала их в угол, они выбрали не
демократических социалистов, а фашистов, став их попутчиками
и палачами демократии.
Изучение Линца, родного города Гитлера, подтверждает эти выводы. Все 1920-е Линц казался образцом демократии. В этом ему
помогала конституция — в городском управлении были социалисты,
но финансирование шло от социал-христианской администрации
Верхней Австрии. Внимание исследователей обычно сосредоточено
на Вене, которая имела конституционный статус провинции и могла
повышать налоги, не вступая в компромисс с консерваторами. Но
в Линце, как и в других городах, чтобы избежать экономического
коллапса, двум администрациям приходилось сотрудничать и идти
на компромиссы. В первые дни режима Дольфуса социал-христиане
и даже немецкие националисты пытались оказать сопротивление
авторитаризму, но это продолжалось недолго. Быстрее других почувствовала ветер перемен католическая церковь. Епископ Линца,
давний сторонник правых радикалов, запретил политическую деятельность своему более либеральному клиру. Затем начала рассыпаться
главная организация социал-христиан — Народная католическая
ассоциация. Она погрязла в междоусобных распрях и оказалась совершенно ненужной при новом режиме. Социал-христиан Верхней
Австрии принудили к повиновению, после чего Бернашек осуществил
336
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
отчаянную попытку повернуть события вспять (Bukey, 1986: 39–74,
112–119). Некоторые консерваторы той поры пытались найти общий
язык с демократами, но для большинства из них это было временной
и случайной уступкой, а не делом принципа.
Как и в других странах, австрийские консерваторы поторопились
упасть в объятия фашизма. Классовая теория, объясняя столь неприличную поспешность, ставит в центр внимания желание сохранить
капиталистическую прибыль, а не собственность, которой ничто не
грозило. Консерваторы противились демократическим реформам,
а не революции, поскольку угрожали им именно реформы. Они враждебно относились почти к любым демонстрациям, преувеличивали
«жестокость» социалистических программ, хотя сами совершали
куда больше насилия и с куда большим удовлетворением. Разумеется, положение их казалось шатким и уязвимым. До 1918 г. они были
правящей элитой, в 1918 г. власть выскользнула из их рук, но они
сумели вернуть ее. Австрийская элита разделяла взгляды немецкой
(которые мы обсуждали в предыдущей главе): государство должно
обладать абсолютной властью и не делиться ею с законодательным
собранием, в котором могут окопаться партии нового типа — «массовые армии» гражданского общества. Наученные горьким опытом
немецких консерваторов, австрийцы решили укрепить свою власть
массовым движением — австрофашизмом. Они могли бы преуспеть
в этом, как Франко или Салазар. Но на горизонте взошла звезда
Гитлера, и это решило все. Снова слабая демократия оказалась не
в состоянии справиться с давлением радикалов, и, как справедливо
утверждают марксисты, классовые интересы буржуазии привели ее
в стан авторитаризма. Власть имущие надеялись, что корпоративное
государство устранит левую угрозу и поможет построить «гармоничный» капитализм. Но, помимо классовых, были и другие причины
возникновения австрийского фашизма.
Привлекательность национал-этатизма
337
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
НАЦИОНАЛ-ЭТАТИЗМА
Кроме сугубо капиталистических интересов, была и вторая мотивация, более выраженная в популистском крыле австрофашизма и господствующая в австронацизме. Искреннее предпочтение фашизма
демократии здесь имело национал-этатистские источники. Идейные
фашисты мечтали об авторитарном государстве, массовой мобилизации народа, о единой тоталитарной партии, воплощающей «расово
чистую» нацию, освобожденную от «чужаков» и «изменников».
Капитализм как таковой их не слишком интересовал, а если и интересовал, то лишь с одной точки зрения: его надо было очистить от
чуждых элементов с обеих сторон — большевиков со стороны рабочих
и евреев со стороны капитала. Впрочем, и те и другие часто сливались
в единого составного врага — «жидобольшевизм». Фашисты торжественно провозгласили примат этой суровой идеи над консенсусами
и компромиссами, составляющими сущность демократии. Австрийские фашисты, в основном молодые и образованные, смотрели, как
фашизм захватывает близлежащие страны. Его революционный,
очистительный, всеобъемлющий национал-этатизм казался знаменем
грядущего века. С национал-этатизмом сливался воедино и расовый
антисемитизм, растущий в этом регионе Европы.
И прокапиталистический уклон, и более популярный в широких
массах национал-этатизм были свойственны обоим движениям. На
капитализм были ориентированы лидеры австрофашизма, националэтатизм, в свою очередь, доминировал среди нацистов. После прихода
австрофашистов к власти эти два полюса начали разрывать движение
на части. Когда Муссолини был уже не в состоянии защитить Австрию
от Германии, когда Гитлер нажал на экономические рычаги, нацисты
обрели второе дыхание. Воспользовавшись слабостью режима, они
оседлали фашистское движение и перетянули на свою сторону его
активистов. Ко времени вторжения немцев австрийское правительство
было безнадежно разобщено, армия ни во что не вмешивалась, втайне
сочувствуя нацистам, и не желала воспользоваться своей монополией на военную силу ради сохранения государства. Вплоть до 1936 г.
338
Глава 6. Австрофашисты и австрийские нацисты
правительство и армия тяготели к австрофашизму — и вместе с ним
и рухнули. Гитлер был поражен тем, с какой теплотой встречали
немцев и как легко австрийские нацисты взяли под контроль большинство провинциальных администраций еще до подхода немецких
войск (Pauley, 1981: 216–217). Захват власти нацистами ослабил
капиталистический уклон и укрепил тяготение к очистительному
национал-этатизму.
По своим макропричинам австрийский фашизм ничем не отличается от всех фашизмов, уже нами описанных. Военный кризис (в этом
случае катастрофическое поражение и послевоенные столкновения
на границах) соединился с длительным экономическим кризисом
(рецессия и классовые конфликты), в результате чего приобрела
привлекательность фашистская идеология и укрепилась социальная база фашизма (парамилитарные формирования, сторонники
сильного государства и классового примирения). Две особенности
придали австрийскому фашизму качества, отсутствующие у других.
Во-первых, в стране сосуществовали два национальных идеала: маленькая Австрия и Великая Германия — соответственно, и фашисты
разбились на два лагеря. Австрофашизм был более старорежимным,
традиционным и корпоративистским, австронацизм имел куда более
глобальные и радикальные притязания. Старое правительство благополучно выдержало тяжелые испытания 1918 г. и было готово слиться
с австрофашистами, чтобы управлять страной. Если бы это случилось,
они бы продержались у власти не меньше чем Франко и Салазар.
Но по соседству жил германский Большой Брат, и в результате его
усилий восторжествовали Великая Германия и нацизм. Это объяснение сочетает в себе идеологические, экономические, политические
и военные факторы, хотя и в несколько иной конфигурации. В частности, австрийский парамилитаризм сыграл меньшую роль при захвате власти. Оба политических течения прибегали к вооруженному
насилию. Но нацисты выступили против государственных силовых
структур в 1934 г. и были разгромлены ими; успех двух переворотов
(австрофашистского в 1934-м и нацистского в 1938-м), напротив, был
обеспечен военной силой государства.
Прежде чем проиграть войну, австрийцам суждено было совершить много кровавых преступлений. Они не расплатились в полной
мере — державы-победительницы пощадили многих и очень многих.
Привлекательность национал-этатизма
339
В Австрии было мало судов над военными преступниками. Вместо
возмездия за грехи они получили право на безмятежную жизнь
в одной из самых богатых и спокойных стран мира. В тесном послевоенном сотрудничестве между социалистами и социал-христианами
брезжит что-то очень похожее на фашистский корпоративизм. А может быть, сознание общей тайной вины: «Если мы не будем держаться
вместе, нас повесят поодиночке».
Глава 7
ВЕНГЕРСКАЯ «СЕМЬЯ»
АВТОРИТАРИСТОВ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Обсуждая фашизм, мы, как правило, говорим об Италии и Германии
(да еще иногда включаем в картину австрийский Ostmark). Однако
никакой анализ не может быть полным без фашизма в Восточной Европе, где фашизм был не просто политическим движением со своими
особенностями, но скорее разрушительной радикальной силой внутри
более консервативных авторитарных режимов. Ибо авторитарные режимы в межвоенный период напоминали скандальную семейку, члены
которой — реакционные, корпоративистские и фашистские — шумно
дерутся за власть. Кроме того, эти страны обладали менее развитыми
экономиками, а старые режимы в них успешно пережили потрясения
Первой мировой войны. Большинство стран и народов предъявляло
друг к другу территориальные претензии, что подпитывало различные
версии органического национализма. Чем отличались друг от друга
эти восточноевропейские «семьи» авторитаристов? Что породило их:
стратегии догоняющего экономического развития, сопротивление
эксплуатации со стороны более развитых стран или местные этнические раздоры? Найдем ли мы у восточноевропейского фашизма те же
основные свойства и те же базовые группы поддержки, что и в других
странах? На эти вопросы я и хочу ответить, обратившись к Венгрии
и Румынии — двум странам с наиболее развитыми в Восточной Европе
фашистскими движениями.
Оба движения были достаточно серьезны. Венгерская партия
«Скрещенные стрелы»40 насчитывала в 1939–1940 гг. 250 тысяч членов, 2,7 % от общего населения (Szöllösi-Janze, 1989: 128–133). Румынский «Легион Михаила Архангела» (я причисляю к этой организации
40
Венгерское фашистское движение состояло из нескольких мелких партий
и групп, и отсутствие единства между ними мешало им развиваться. В конце
1930-х большинство из них объединились под началом Партии скрещенных
стрел, которой руководил Ференц Салаши, при этом еще в войну продолжали действовать и отдельные национал-социалистические группировки.
В целях удобства все многообразие венгерских фашистских партий я буду
называть «Скрещенные стрелы».
Несколько слов о Восточной Европе
343
и «Железную гвардию») имел 272 тысячи членов в 1937 г. и от 300
до 500 тысяч в 1941 г., что составляло от 1,5 до 2,8 % румынского населения (Heinen, 1986: 382, 454; Ioanid, 1990: 72). Это более высокий
процент, чем 1,3 % в немецкой НСДАП и 1 % у итальянских фашистов
до захвата власти. Оба движения имели сильную поддержку избирателей. Румынские фашисты официально получили 16 % голосов на
выборах 1937 г., несмотря на противодействие правительства и подтасовку результатов. По признанию шефа полиции, в реальности они
получили 25 % голосов, а другие экстремистские националистические
и антисемитские партии — еще 25 % (Ioanid, 1990: 69). В 1939 г. на
выборах в Венгрии (уже без подтасовок) партия «Скрещенные стрелы» завоевала 25 %, а остальные радикально правые партии набрали
еще 50 % голосов. Реальный результат мог быть и выше: к выборам
в Венгрии допускались мужчины старше 26 лет и женщины старше
30 лет, а оставшаяся за бортом молодежь была настроена явно профашистски. Итак, оба движения были массовыми, имели бесспорно
фашистскую идеологию и организацию, отряды боевиков, сугубо
фашистские церемониалы, в чем им пытались подражать и их политические противники.
Оба фашистских движения были (пусть и недолго) у государ
ственного руля во время войны, прямо или косвенно воздействовали
на политическую жизнь в довоенное время. Фашизм в Восточной
Европе возник с опозданием, так что правящие элиты, знакомые
с опытом Италии и Германии, понимали, как удержать фашистов
в узде, то подавляя их репрессиями, то беря на вооружение их идеи, —
эту стратегию они изложили британским дипломатам (Vago, 1975).
Это помогало сдерживать тех, кто сам называл себя фашистами; но
это же означало, что, начиная с 1930-х, консервативные авторитарные
правительства этих стран все более пропитывались фашистскими
идеями и практикой. Это означало также, что истинные фашисты не
были приучены к оппортунизму, потому что власть никогда не баловала их поблажками и компромиссами. В результате непримиримая
фашистская оппозиция, не будучи допущенной к власти, так и не
поступилась принципами.
Обе страны, таким образом, очень важны для общего понимания
фашизма. Между ними было три важных отличия.
344
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
Во-первых, Венгрия (как и Австрия) потеряла в Первой мировой
войне больше кого бы то ни было. Страна утратила 68 % территории
и 59 % населения. Румыния же, став хозяйкой этих территорий
(а также получив земли других проигравших — России, Австрии
и Болгарии), больше кого бы то ни было приобрела. Во-вторых, значительные различия наблюдались в структуре сельского хозяйства.
Венгерские «джентри» сохранили политическую власть после Первой
мировой войны, аграрная реформа не затронула их благосостояния.
В Румынии же было мало крупных поместий, а после аграрной реформы, направленной в основном против этнических меньшинств,
их осталось еще меньше. Таким образом, в Венгрии преобладало
крупное помещичье землевладение, а в Румынии имелся потенциально мощный крестьянский класс. В-третьих, Венгрия всегда была
толерантна по отношению к евреям (довоенное время было для них
«золотым веком»), Румыния же была самой антисемитской страной
в Европе — до 1918 г. евреи там не имели права гражданства. Пусть
эти факты удержат нас от прямолинейных обобщений, связанных
с мировой войной, реакционными помещиками, традиционным антисемитизмом как факторами, повлиявшими на фашизм. Однако между
двумя странами было и важное сходство. Это были страны-соседи
со средним уровнем развития, не претендующие на статус великих
держав. Эти две страны позволят нам расширить наше понимание
фашизма.
Однако к венгерскому и румынскому фашизму никогда не относились всерьез. Их история плохо описана, более того — ее сорок
лет искажали коммунистические историографы, вешавшие на фашистов малосодержательные ярлыки: «преступники», «ущербные»,
«люмпены», «мелкая буржуазия». Их называли маргиналами, даже
описывали как единственных в стране антисемитов (см., напр., Lackó,
1969; Ránki, 1980). Падение коммунизма пока не привело к расцвету
национальной исторической науки. Венгры и румыны по вполне понятным причинам не хотят признавать, что фашизм и антисемитизм
были порождением их национальной жизни в период прошлого эксперимента с демократией. Так что объяснить венгерский и румынский
фашизм нелегко. Скудость достоверных данных толкает некоторых
венгерских историков в сторону самого простого объяснения — тради
ционной классовой теории. Венгерский фашизм, настаивают они, —
Несколько слов о Восточной Европе
345
по сути мелкобуржуазен. Иначе обстоят дела в Румынии — Юджин
Вебер уже давно (Weber, 1966а) рассказал нам, что фашизм в этой
стране поддерживали все классы. Мнения о венгерском фашизме
разнятся. Английский предприниматель Джон Кейсер в 1939 г. сообщал в британское министерство иностранных дел, что «Скрещенные
стрелы» — это
...прежде всего, национальное движение, требующее возврата потерянных территорий, во-вторых, движение среднего класса, желающего возвыситься до статуса капиталистов, в-третьих, движение народных масс,
городских и сельских, пытающихся сокрушить капитализм. И второе,
и третье движения входят в первое, и всех их объединяет антисемитизм.
Он добавляет, что популярность фашистов заставила правительство присвоить себе некоторые пункты их программы, что, по
мнению Кейсера, «довольно опасно, поскольку может сыграть им на
руку» (Vago, 1975: 354). Современные исследования подтверждают
правоту Кейсера, а не теорию «мелкой буржуазии». Беренд (Berend,
1998: 142–143) подводит некоторые итоги. Он не вполне отказался
от традиционной классовой теории, которую мы обсуждали в первой
главе, ибо обнаруживает в восточноевропейском фашизме «люмпенинтеллигенцию и деклассированных личностей из разных социальных
страт». Тем не менее исследователь указывает на то, что фашистские
партии Венгрии и Румынии (а также Хорватии и Словакии) «имели популистский рабоче-крестьянский характер». Сёллёши-Жанзе
(Szöllösi-Janze, 1989) приходит к схожим выводам. Исходя из собранных данных, он заключает, что венгерский фашизм был народным движением угнетенных масс, возглавляемых «отверженными»
элитами. Все это верно. Но мы должны выйти за рамки классовой
теории и понять, каким образом государственные, секторальные
и этнические конфликты, переплетаясь с социальными, заложили
фундамент венгерского и румынского фашизма.
346
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
ВЕНГЕРСКИЙ СЮЖЕТ
Надежды на либеральную демократию в новорожденной Венгрии
увяли уже в 1919–1920 гг. Революционное комм унистическосоциалистическое правительство Белы Куна попыталось вернуть
некоторые территории, утраченные после войны, и оспорить тяжелые условия мира, навязанные Антантой. Но левое правительство
пало под ударами румынских и других иностранных интервентов.
Окончательно покончили с венгерской революцией ультраправые
националисты — «Белое ополчение», провозгласившие так называемую «Сегедскую идею» по имени приграничного города Сегед,
который был их центром. «Сегедская идея» призывала к войне
с «жидобольшевиками»: понятие, заимствованное у русских белогвардейцев времен Гражданской войны, а здесь обоснованное тем,
что в правительстве Белы Куна из 26 министров и вице-министров
20 были евреями. «Белые» беспощадно истребили множество коммунистов и евреев, остальные были отправлены на принудительные
работы — в трудовые батальоны — строить дороги (трудармия воскреснет в годы войны как способ решения «еврейского вопроса»).
Однако с конструктивными идеалами у «Сегедской идеи» обстояло
хуже. Партия подняла на щит органический национализм (Вен
грия не принадлежит ни Западу, ни Востоку, у нее «третий путь»,
но только для мадьяр) и расплывчатую идею сильного государства.
В этой комбинации уже были предпосылки для фашизма, а в 1920-е
его сторонники, обратившись к итальянской модели, выработали так
называемый «фашизм для приличных людей»: органический национализм, немобилизационный популизм и ограниченный корпоративизм.
Ядром этих протофашистских движений был «Союз героев», организация ветеранов войны и беженцев с «утраченных территорий»,
которых Венгрия лишилась в 1920 г. по Трианонскому соглашению.
Известно, что среди этих беженцев преобладали армейские офицеры
и гражданские служащие: они-то и стали основой имперско-ревизионистского движения за возвращение утраченных территорий. Беженцы составили 5 % населения Венгрии и свыше половины боевиков
контрреволюционных парамилитарных формирований. От трети до
половины их были офицерами, как правило, молодыми. Некоторые
Венгерский сюжет
347
отряды были сформированы из студентов (чаще медиков), треть из
которых была беженцами. Все эти подсчеты не вполне точны и не
подкреплены серьезной фактологической базой. Поражение Белы
Куна привело к массовой эмиграции левых и либеральных интеллектуалов, особенно евреев. В Венгрии прошла демилитаризация, страну
возглавило полупарламентское правительство. У нас есть некоторые
данные о депутатах парламента правого крыла. Беженцы были избы
точно представлены во всех партиях, но более всего в крайне правой
(KNEP) — с долей 6,9 (в семь раз выше нормы), вдвое превышающей
долю 3,3 среди центристских депутатов. Депутаты-беженцы, как правило, были моложе и лучше образованны (Braham, 1981: гл. 1; Mócsy,
1983: 126–129, 137–138, 146, 172–174).
Победа правых в гражданской войне позволила старому режиму
почти в полном объеме восстановить власть, утраченную в 1918 г.,
а также освежить себя «новой кровью» радикально правого молодого
поколения — ветеранов и беженцев. Венгрия оставалась монархией,
но без монарха, на трон не нашлось достойного претендента. Исполнительная власть находилась в руках регента, адмирала Хорти (это
был адмирал без флота, поскольку урезанная страна лишилась выхода
к морю). Старый управленческий аппарат сохранился практически без
изменений. Режим был полуавторитарным, в том смысле, который мы
придавали этому понятию в главе 1: избранный парламент и Хорти как
глава исполнительной власти оставались независимыми друг от друга.
Однако к выборам была допущена лишь меньшая часть населения,
а в сельской местности голосование проводилось открыто, что вело
к коррупции и злоупотреблениям, особенно со стороны старорежимных помещиков. Коммунистическая партия была запрещена, печать
серьезно цензурировалась. В 1920 г. был введен numerus clausus (ограничительная квота) — первый антисемитский закон в послевоенной
Европе, ограничивший число евреев в университетах 6 % от общего
числа студентов. Сам Хорти начинал как консерватор, но со временем
сильно сместился вправо. Он официально поддержал «Сегедскую
идею» и, как сообщали британские дипломаты, не скрывал своей ненависти к евреям, коммунистам и мирным соглашениям (Vago, 1975:
174). Однако он не был радикальным народным вождем и проводил
сдержанную политику. В 1920-е премьер-министр Бетлен объявил
курс на западную демократию, оговорившись, впрочем, что страна
348
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
для демократии еще не созрела. Правительство пыталось проводить
более центристскую политику, изолируя радикальных «сегедских»
правых. В 1928 г. ограничительная квота для студентов-евреев была
увеличена, однако общий принцип ее сохранился (Sakmyster 1994;
Ságvári, 1997: 406; Berend, 1998: 140–142).
Но силы старого режима не дали провести настоящую земельную
реформу. Власть реакционных помещиков оставалась незыблемой,
голос крестьян так и не был услышан. В Венгрии не было ничего похожего на румынскую крупную Национальную крестьянскую партию,
слабы были и социалисты. У венгерского парламента практически
не было шансов освободиться от диктата исполнительной власти
и старого режима. Правые набирали силу на популярном в обществе
имперском ревизионизме. Начиная с 1867 г. венгры, по сути, были
имперской нацией — пусть и недолго, но они управляли половиной
Габсбургской империи; венгерский национализм был овеян славой
героического прошлого, долгой борьбы против турок и Габсбургов.
Как и в Сербии, прошлое страны породило национализм, который
сторонний зритель мог бы назвать имперским — в конце концов, мадьяры подавляли другие этнические группы, — однако сами мадьяры
воспринимали его как своего рода «теологию освобождения». Потеряв
государство, мадьяры (как позже сербы) утверждали, что теперь им
нужна не империя, а свобода. Каждый день венгерские школьники
хором распевали мадьярский «Символ веры»:
Я верю в единого Бога,
Я верю в единое Отечество,
Я верю в единую божественную Истину,
Я верю в Возрождение Венгрии.
Венгрия расчлененная — не страна.
Венгрия единая — Рай. Аминь.
Давление со стороны правых, усилившееся после начала Великой
депрессии, заставило Хорти ограничить избирательные права, урезать
гражданские свободы, вычистить с государственной службы левых
и евреев, а также (чтобы успокоить беженцев) увеличить количество
государственных рабочих мест и учебных мест в университетах.
В начале 1930-х его режим, смещаясь вправо, стал тем, что в главе 2
Венгерский сюжет
349
я называю «полуреакционным авторитарным режимом». Прави
тельство Хорти опиралось на помещиков, государственную бюрократию и военных, сочетая клиентелизм, патронаж и репрессии, чтобы
удержать народ в повиновении (Szöllösi-Janze, 1989: 101; Sakmyster,
1994). Дрейф вправо продолжался все предвоенные годы.
Поражение и Трианонский договор привели к тяжелым экономическим последствиям. Уровень жизни катастрофически снизился, но
Хорти и центристы возлагали надежды на медленный, но стабильный
рост экономики в 1920-е: в 1929 г. ВВП поднялся на 14 % по сравнению
с 1913-м (Bairoch, 1976: 297). Как и повсюду в Восточной Европе, под
влиянием теорий запоздалого развития, выбирались методы, подра
зумевающие мягкий национализм. В 1925 г. были утверждены новые
таможенные тарифы и сделаны первые попытки импортозамещения.
Великая депрессия сорвала реформы и усилила недовольство. Поскольку социалисты были слабы, принятые антикризисные меры
носили отчетливый автаркический и националистический характер,
как и во всей Восточной Европе. Во главу угла было поставлено
импортозамещение, защищающее национальную промышленность
в ущерб сельскому хозяйству; государство взяло под свое покровительство промышленность, что замедлило структурные экономические сдвиги и под прикрытием корпоративизма лишь укрепило
прежнюю, изжившую себя политику в угоду традиционным правящим
классам (Aldcroft, Morewood, 1995: 58–95; Berend, 1998: 234–265).
Все это усилило влияние на местных правых итальянского фашизма.
Тяжкое бремя внешнего долга облегчила Франция, предоставив
Венгрии крупный заем. При этом было выставлено жесткое условие,
что страна откажется от всех попыток ревизии мирных договоров.
Согласно условиям мирных соглашений Венгрия была обязана соблюдать права меньшинств (в тех условиях прежде всего евреев).
Люди, ущемленные в своих правах, могли обращаться в Женеву,
в Лигу Наций, с иском против правительства своей страны. Такие
обращения из Восточной Европы шли потоком: положение этниче
ских меньшинств, особенно евреев, было главной темой газетной полемики и политических дискуссий. Это, по мнению националистов,
иностранное вмешательство в дела страны еще более разжигало
антиеврейские настроения: мол, евреи, объединившись с иностранными державами, навязывают маленькой слабой Венгрии свою волю!
350
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
Поскольку державы-победительницы тоже были капиталистическими, это давало популистам возможность добавить к обвинению
классовые нотки: Венгрия — под пятой инородческого (западного
и еврейского) капитала! Так имперский ревизионизм слился с пролетарским чувством мадьярской нации. Популистские протесты стали
приобретать праворадикальное и антисемитское звучание. Наибольшую активность проявляли (так говорят; точных сведений у нас нет)
государственные чиновники, учителя, военные и беженцы. От таких
настроений было рукой подать до нацизма. В общем смещении вправо
трудно вычленить и рассмотреть отдельно экономические, геополи
тические, этатистские и националистические течения.
В 1932 г. многие опасались возникновения социальной напряженности, особенно на селе, где Депрессия сказалась особенно разрушительно. Под давлением обстоятельств Хорти сместился еще более
вправо — премьер-министром он назначил своего старого приятеля
генерала Дьюлу Гёмбёша, ключевую фигуру «Сегедского движения»,
организатора «белого террора» и известного антисемита. Тот неуклонно продвигался к фашизму. Он провозгласил насилие «допустимым
методом государственного строительства... направляющим ход истории во благо всей нации, а не кучки избранных». По примеру Муссолини он объявил ключом к национальному единству корпоративизм.
После гитлеровского переворота он пообещал Герингу установить
в стране полную диктатуру, а в письме к Гитлеру назвал себя «таким
же расистом». По его мнению, правительству предстояло создать
«новую национальную цивилизацию на основе наших специфических
расовых признаков и на принципах христианской морали». Однако
он понимал фашизм, по сути, как «корпоративизм для элиты» (по
выражению британского посла). Гёмбёш и его сподвижники боялись
истинного фашизма с его мощным напором снизу, и этот страх привязывал их к Хорти и старому режиму. Сёллёши-Жанзе характеризует
его правительство как «радикальное новое правое», милитаристское
и бюрократическое, формально легитимирующее себя как «народное
правительство», а на деле смертельно боящееся народа. Внезапная
смерть премьера в 1936 г. спасла страну от антиконституционного
переворота и полной диктатуры (Berend, 1998: 308–311). Режим
остался реакционным и полуавторитарным. Парламент был сохранен,
но реальные полномочия перешли в руки исполнительной власти.
Венгерский сюжет
351
К тому времени Депрессия уже отступила. Однако экономического
рывка не последовало: на протяжении 1930-х экономика развивалась
слабо, стагнировало сельское хозяйство. Экономический рост начался
лишь вместе с крупными военными расходами, как и в Германии, где
идеи Кейнса были переосмыслены на авторитарный лад. Венгрия
была втянута в орбиту немецкого экономического влияния; на первых
порах торговля с ней велась на весьма выгодных условиях. Либералов и евреев клеймили как виновников венгерской экономической
отсталости, а нацистскую Германию провозглашали лучшим другом
Венгрии. Экономика и геополитика оставались тесно переплетены.
В 1938 г. после аншлюса Австрии Германия оказалась на расстоянии
вытянутой руки, а расчленение Чехословакии позволило Гитлеру
вернуть Венгрии ее бывшие словацкие территории. Венгерские
ревизионисты радовались появлению мощного союзника. Влияние
нацистов росло; парламент работал, как и прежде, но в правительстве
произошел раскол. Авторитарные сторонники Хорти контролировали
полицию, МВД и сельское хозяйство, в то время как сторонники нацистов прибрали к рукам финансы, промышленность и министерство
обороны (Szöllösi-Janze, 1989: 97). Под влиянием немцев усиливались
антисемитские настроения, и в 1938 г. крайне правые инициировали
дискриминационные антиеврейские законы (Mendelsohn, 1983: гл. 2).
Когда майор Ференц Салаши сумел объединить множество мелких
фашистских организаций в одну партию, к ней присоединилось
много радикально настроенных офицеров и гражданских служащих.
Исполнительная власть теперь была разделена на три блока: авторитарных реакционеров, корпоративистов и фашистов. Сменявшие друг
друга «умеренные» премьеры (здесь этот термин следует понимать
условно) периодически запрещали деятельность фашистов. Даже
самого Салаши арестовывали трижды. Если бы не было войны, эта
межеумочная ситуация могла бы привести к любому исходу. В мирное
время соперничество фашизма и консервативных форм авторитаризма
может вылиться во что угодно. Но грянула война.
Вторая мировая резко сузила поле для политических маневров.
Но даже и тогда режим Хорти мог бы удержаться от фашистской радикализации. Однако географическая близость к Германии, щедрые
территориальные подарки Гитлера и пламенная ненависть Хорти
к коммунистам побудили его присоединиться к странам Оси. Лидер
352
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
Венгрии признал германскую гегемонию, но сохранил при этом некоторую свободу действий.
В политическом торге с Гитлером у него был козырной туз: его
режим был надежным и предсказуемым, в отличие от неуправ
ляемых и непредсказуемых венгерских фашистов. В благодарность
за союзничество Гитлер в 1940 г. вернул Хорти большую часть
утраченных территорий (это снова включило в состав Венгрии
национальные меньшинства). «Скрещенные стрелы», преследуемые режимом, влачили жалкое существование, но в то же время
радикальные силы в правительстве продавили закон, запрещающий
евреям занимать ответственные посты и приобретать крупную
собственность. Многие евреи были мобилизованы в трудовые батальоны и отправлены за пределы страны, в которую уже больше
не вернулись. Холокост в Венгрии по большей части был делом
рук крайне правых. Но все же Хорти до последнего сопротивлялся
требованию Германии «окончательно» решить еврейский вопрос —
вплоть до марта 1944 г., когда страна была оккупирована германской
армией. В октябре 1944 г. салашисты устроили государственный
переворот, но у власти продержались недолго — в январе 1945 г.
в Венгрию пришла Красная армия, после чего Салаши и его подельники были повешены. События военной поры более подробно
описаны в моей следующей книге.
Этот краткий экскурс позволяет нам определить пять основных
довоенных трендов.
1. Недовольство экономическим положением породило популистские протестные движения, и в их числе праворадикальное. Тем не
менее правые набирали очки и в хорошие, и в дурные времена, поэтому
их влияние нельзя объяснять лишь экономическими причинами.
2. После гражданской войны венгерские левые были разгромлены,
чем воспользовались крайне правые, взявшие на себя роль лидеров
и выразителей народного протеста против эксплуатации. Среди этих
правых были и фашисты. Но, поскольку левые были окончательно выбиты из седла, не стоит объяснять правую радикализацию желанием
капиталистов свести счеты с коммунистами. Коммунистов тогда уже
попросту не существовало.
3. Набирали силу сторонники сильной государственности, но они
были расколоты между различными правыми идеалами. Со временем
Идеология «скрещенных стрел»
353
режим начал преследовать фашистов, в то же время заимствуя их
идеи. И все же фашисты усиливали свое влияние.
4. Органический национализм имел ярко выраженный антисемитский привкус, поскольку евреи были единственно значимым
(и «враждебным») этническим меньшинством в стране. А ведь когдато Венгрия считалась «еврейским раем», в стране никогда не было погромов. Первая волна кровавых погромов прокатилась в 1919–1920 гг.,
когда правых охватил страх перед «жидобольшевизмом». Костер
антисемитизма продолжал тихо тлеть и вновь вспыхнул в конце
1930-х. По-видимому, это не было связано с экономикой.
5. Геополитика заставила венгров вступить в союз с другими ревизионистскими странами против либеральных держав, принудивших
их к Трианонским мирным соглашениям. Триумф Гитлера означал, что
венгерские реваншисты обрели в лице Германии мощного союзника.
Многих из них это бросило в объятия нацизма.
Совокупность этих факторов стала предпосылкой бурного роста
фашистских настроений. Однако и в этих условиях фашизм не был
фатальной неизбежностью. Затянувшийся политический кризис
и правая радикализация могли и не привести к столь мрачному исходу. Чтобы дать ответ, почему это случилось, надо провести более
тщательный анализ, а посему обратимся к фашистскому движению
как таковому. Кем были фашисты и во что они верили?
ИДЕОЛОГИЯ «СКРЕЩЕННЫХ
СТРЕЛ»
Салаши, к сожалению, был мастером выспреннего словоблудия, а не
чеканных формулировок. Чтобы понять смысл его высказываний,
приходится поднапрячься. «В фашизме, — писал он, — сходятся
моральные, духовные и материальные интересы “Я” и “Мы”». Моральным принципом по Салаши было христианство, духовным —
«унгаризм», то есть венгерский национализм, а материальным — национал-социализм. Каждый принцип, продолжал он, необходим, но
не должен преступать отведенные ему пределы. Так, например, если
354
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
национализм не ограничить социализмом, то он перерастет в шовинизм, империализм, и дело закончится войной. Если социализм не
ограничить национализмом, это приведет к нескончаемым классовым конфликтам или «государственному капитализму» советского
образца. Национал-социализм призван разрешить этот конфликт,
его органическое государство и партийная элита обеспечивают
«третий производительный фактор» — в отношения между трудом
и капиталом привносятся коллективный разум и планирование.
«Социализм» Салаши основывался на чисто продуктивистском
принципе. Он сочетал в себе защиту рабочих как «строителей нации»,
государственное планирование как средство борьбы с безработицей
и жесткий контроль финансового капитала. «Работа — это основа
материальной жизни, безработица — ее смерть». Новый порядок должен был стать корпоративистским, милитаристским и этатистским:
«Все проявления общественной жизни подчинены правительству...
через бескомпромиссный и тотальный государственный контроль».
Венгерский фашизм явно строился по итальянской модели, хотя заметно в нем и характерное для Венгрии преклонение перед армией:
«Это мессия, который должен наставить нацию на путь истинный».
Третий, духовный принцип «унгаризма» воплощал «сов ер
шеннейшее национальное единство». Мадьяры, «единственный
туранский народ западной культуры», играют уникальную роль
посредника между восточной и западной цивилизациями. Они, как
и немцы, и японцы, призваны стать владыками мира. Их «вооруженная нация» установит «Pax Hungarica» в бассейне Дуная и принесет
«трудовой мир» трудящимся классам (к ним он, странным образом,
относит не только рабочих и крестьян, но также интеллигенцию, сол
дат, женщин и молодежь). Утраченные территории Венгрия должна
вернуть любой ценой, если понадобится, то и силой. Церковь, армия
и капитал и раньше делали попытки установить тотальную социальную организацию. Теперь начатое ими завершит венгерский фашизм.
Венгерская армия должна поддержать «унгаризм» — ее ценности
с ним совпадают. Однако церковь и капитал, возможно, станут его
противниками.
Салаши отметал обвинения в националистической нетерпимости —
«унгаризм», в его интерпретации, был «со-национальным». Впрочем,
это притязание сводили на нет его приверженность расовым теориям
Идеология «скрещенных стрел»
355
и антисемитизм. Своим последователям он советовал внимательно
изучать человеческие черепа, чтобы убедиться в биологическом превосходстве туранской расы. По его уверениям, он не был антисемитом,
то есть не желал зла евреям как таковым, хотел лишь «освободить от
них Венгрию». Он также утверждал, что мадьяры страдают от еврейской экономической эксплуатации, а посему еврейский капитал нужно
экспроприировать, а самих евреев изгнать из страны. Салаши никогда
не говорил об «устранении» (эвфемизм массового уничтожения)
евреев, но называл еврейский вопрос «единственным конкретным
вопросом», стоящим перед движением. Вслед за Гитлером он видел
еврейские козни во всех враждебных явлениях: коммунизме, марксизме, масонстве, финансовом капитализме или «банкократии», плутократии, золотом стандарте; либерализме, либеральной демократии
или парламентаризме. Считая себя добрым католиком, он заявлял,
что из Ветхого Завета понятно, насколько «Бог презирает евреев»,
а Новый Завет — это «освящение презрения Господа» (Weber, 1964:
157–164; Szöllösi-Janze, 1989: 220–250; Janos, 1982: 272–276; Karsai,
1998: 103–104).
Фашизм Салаши вырос из идей, широко распространенных
среди венгерских правых: органический «освободительный» национализм, «третий путь», христианско-национал истический
антисемитизм. Эти идеи слились с теми, что предлагали и Гитлер,
и Муссолини. У итальянских фашистов венгерские позаимствовали
корпоративизм и пролетарский национализм Коррадини, призывающий сбросить ярмо иностранной эксплуатации. Нацизм помог
салашистам усовершенствовать мадьярский популизм до степени
немецкого Volksgemeinschaft, наполнить антисемитизм расовой
ненавистью и отождествить евреев с большевиками. Салаши тре
петно относился к венгерской армии, что помогло сгладить неизбежный конфликт между вооруженными силами и парамилитарными
формированиями «Скрещенных стрел»; порой Салаши впадал
в слащавую риторику, но иногда являл себя бˆольшим прагматиком, чем другие фашистские лидеры. Некоторые его сподвижники
были радикальнее его самого, но все же венгерский фашизм не
пошел по пути парамилитаризма, как это произошло в остальных
четырех фашистских странах. «Скрещенные стрелы» выходили
на демонстрации, маршировали, иногда устраивали потасовки, но
356
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
не решались на большее вплоть до начала войны. Пожалуй, это
единственная черта, которая резко отличает венгерских фашистов
от их коллег в других фашистских государствах.
Примерно так выглядела идеология венгерского фашизма. Было
бы любопытно узнать, в какой мере ее разделяли рядовые фашисты,
но эти данные попросту отсутствуют. Так что придется нам сразу
перейти к тому, что за люди были эти фашисты. Сразу предупрежу,
что и об этом мы знаем не слишком много.
КЕМ БЫЛИ ФАШИСТЫ?
По венгерским фашистам данных у нас намного меньше, чем по фашистам всех предыдущих стран, что вынуждает нас обратиться к субъективным и оценочным суждениям современников. Несомненно одно:
фашисты были молоды. Британские дипломаты в своих докладах
постоянно указывали, что венгерский фашизм обосновался прежде
всего в университетах и среди молодых военных. Потом движение
повзрослело, но и тогда его лидеры были моложе, чем вожди других
политических партий (Janos, 1982: 282–284). Фашисты принадлежали
к нескольким поколениям. Для Салаши и большинства ранних радикально правых формирующим опытом стали Первая мировая война
и гражданская война, наряду с университетской атмосферой начала
1920-х. Таким образом, среди ветеранов фашистского движения было
и «фронтовое», и «домашнее» поколение. Но в конце 1930-х, после
периода застоя, движение начало быстро расти за счет большого
притока молодых людей, у которых не было фронтового опыта. Как
и в других случаях, фашизм был скорее идеологией эпохи, чем отдельного поколения.
Наблюдатели и исследователи венгерского фашизма не придавали
значения гендерному составу. Я не обнаружил данных по женщинам — членам «Скрещенных стрел», однако это не значит, что их там
не было (заведомо отсутствовали они лишь на руководящих должностях). Существовали женские фашистские организации и группы
поддержки, хотя по ним я и не нашел социологических данных.
Кем были фашисты?
357
Сведения о классовом составе венгерских фашистов также очень
ограниченны. Не имея точных данных, немало исследователей заменяет их привычными банальностями «мелкобуржуазной» теории
(Nagy-Talavera, 1970: 152–154, 287; Janos, 1982: 270–271; Vago, 1987:
308–315). Впрочем, один вполне достоверный источник опровергает
эту точку зрения. Дик (Deak 1966) сообщает, что один бывший член
«Скрещенных стрел» познакомил его со списочным составом членов партии за период 1937 и 1940 гг. Выяснилось, что в 1937 г. 50 %
членов были рабочими (доля 1,86), а в 1940-м они же составили 41 %
(доля 1,50), что гораздо выше среднеарифметического по стране41.
Крестьяне и наемные сельскохозяйственные рабочие составили лишь
8 % (0,27) и 13 % (0,44) — доля явно заниженная. Очень скромно присутствовал и средний класс — 12 и 19 % (0,40 и 0,60 соответственно),
а вот армейские офицеры в 1937 г. составили 17 % (феноменально
высокая доля; данные по 1940 г. отсутствуют). Таким образом, венгерский фашизм, в отличие от других рассмотренных нами форм
фашизма, выступает в своеобразном городском пролетарско-милита
ристском варианте. Однако этот единственный источник, к тому же
сомнительного происхождения, еще предстоит подтвердить другими
данными.
Других сведений о рядовых фашистах мы не имеем, но кое-какие
данные о фашистских лидерах у нас все-таки есть. Они приведены
в табл. 7.1 Приложения. В верхней строке представлена информация
о руководстве в 101 мелкой сельской общине. Около половины местных партийных руководителей были мелкими и, судя по всему, небогатыми крестьянами-единоличниками. Другие — мелкими торговцами,
ремесленниками, рабочими (по нисходящему социальному статусу).
Учитывая, что в большинстве своем они были грамотными людьми,
а безземельные крестьяне обычно грамотой не владели, можно сделать вывод, что фашизм на селе пользовался популярностью: в руководители выдвигали самых образованных и уважаемых. Вполне
возможно, сельскими фашистами двигали экономические мотивы.
Правительство было бессильно что-либо сделать для крестьян, когда
Депрессия обрушила цены на сельскохозяйственные товары. А вот
41
Если его информант включит сюда работников непроизводственной сферы,
то пропорции снизятся и станут почти равными.
358
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
германские нацисты успешно справились с Депрессией — и многие
крестьяне верили: то же получится сделать и в Венгрии. По крайней
мере, так объясняли их мотивы британские дипломаты. Однако дело
было не только в этом.
Во второй строке таблицы дана информация по руководителям
среднего звена в более крупных поселках и городских центрах. Большинство руководителей местных фашистских организаций вполне
предсказуемо принадлежит к среднему классу и буржуазии. Почти
половина из них — люди свободных профессий. В больших городах
преобладают дипломированные специалисты и государственные
служащие. На первом месте идут врачи, за ними следуют юристы.
Поскольку госслужащие и офицерство не имели права вступать
в фашистские партии, но делали это тайно, их реальное членство
в «Скрещенных стрелах» должно быть еще выше. Поэтому большинство исследователей добавляет к группам, обильно представленным
в этих выборках, госслужащих, офицеров и студентов (слишком
городских жителей, чтобы попасть в первую выборку, и слишком
молодых, чтобы попасть в остальные).
У нас также есть данные по парламентским депутатам от разных
партий. Венгрия была имперской страной, «младшим партнером»
Австрии, и успешно управляла половиной империи Габсбургов.
В начале 1920-х большинство активных политиков оставались выходцами из традиционных элит старого режима — помещики, а также
интеллектуальная элита и бюрократы, принадлежащие к старым
помещичьим родам. Эти хозяева жизни могли манипулировать голосами своих клиентел, что было типичными патрон-клиентскими
отношениями внутри консервативных и либеральных партий той
поры. Но прежний режим был ослаблен поражением в войне и потерей почти половины территории страны, что сделало Венгрию более
урбанизированной и менее зависимой от влияния сельских нотаблей
или разъяренных беженцев. На этом фоне появились зачатки будущих массовых партий — социалистической, крестьянской и правой
партии национальных радикалов, дрейфующей к фашизму. Если
мы рассмотрим вместе парламентских депутатов от Национальнорадикальной и фашистских партий довоенного периода, то увидим,
что от 68 до 76 % были выходцами из простонародья, а в традиционных партиях правительственного большинства таковых было лишь
Кем были фашисты?
359
19 %. Из табл. 7.1 понятно, что в партиях правительственного блока
преобладали помещики, чиновники и интеллигенция (в основном
юристы), в них была всего лишь горстка малоземельных крестьян,
а рабочих не было совсем. В противовес этому, в фашистской партии
работники госсектора и специалисты составляли половину членов
(врачи, юристы, офицеры, учителя), а вторую половину составили
крестьяне, мелкая буржуазия и рабочие (Batkay, 1982: 42–45, 51–53,64;
Janos, 1982: 282–284).
Но все не так просто. Как и повсюду в Восточной Европе, классовая
принадлежность здесь тесно переплеталась с этничностью. В Венгрии
это относилось прежде всего к среднему классу и к евреям и немцам
(их было почти два миллиона). Госслужащие, землевладельцы и интеллигенция были преимущественно мадьярами или немцами, торговля и промышленность была сосредоточена в руках инородцев, чаще
всего евреев. Лишь приняв во внимание отношения между евреями,
этническими немцами и мадьярами, сможем мы понять своеобразие
венгерского фашизма.
Немцы в большинстве были потомками «швабов»; после Первой
мировой войны к ним присоединились Ungarndeutsche, то есть беженцы из Словакии (территория, перешедшая к Чехословакии по
Трианонскому договору). Столетия назад трудолюбивых немецких
колонистов пригласили в страну для развития сельского хозяйства,
торговли и промышленности. В XIX веке многие из них обрели высокий социальный статус, особенно в государственном управлении
и армии. Они сильно ассимилировались, но усиление германской
империи воскресило в их душах немецкую национальную гордость,
что было особенно заметно среди выпускников немецких или
австрийских университетов и военных академий (Szelenyi, 1998:
часть 3). Возвышение Германии усилило ее влияние на Австрию,
поставив в исключительное положение венгерских швабов (Janos,
1970: 220–224; 1982: 282–284; Rothschild, 1974: 308; Mendelsohn,
1983: 113; Szöllösi-Janze, 1989: 130–131, 159–163). Теперь швабы
гордились тем, что были не только венграми, но и немцами. Многие восхищались успехами Гитлера, считая его модернизатором
Центральной Европы. Будучи в сомнениях, кому теперь служить —
Германии или Венгрии, — многие швабы разрешили эту дилемму
просто: вступили в пронацистские политические партии и быстро
360
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
заняли там руководящие посты. В довоенном правительстве лишь
30 % крайне правых, включая членов «Скрещенных стрел», носили
фамилии мадьярского происхождения по сравнению с 88 % среди
либеральных и консервативных министров. Почти все остальные
были этническими немцами. «Скрещенные стрелы» знали об
этом и приняли свои меры: на выборах 1939 г. число мадьярских
кандидатов было удвоено. Тем не менее Национальный Совет,
управлявший страной в 1944–1945 гг., лишь на 30 % был этнически
мадьярским. И в Салаши, и в Гёмбёше была немецкая кровь. Некоторые исследователи даже считают это тенденцией. Действительно,
многие фашистские лидеры той эпохи этнически были «варягами»:
Гитлер был австрийцем, румынский диктатор Корнелиу Кодряну —
сыном эмигрантов (отец предположительно поляк, мать — немка
из Буковины), у словацких вождей Иосипа Тито и Войтеха Туки
родным языком был мадьярский. Однако к этим умозаключениям
я отношусь скептически. Швабский фашизм в Венгрии имел более
простые и очевидные причины.
Перед Первой мировой войной в Венгрии не было ярко выраженного антисемитизма. Но распространенное мнение, что это был
«золотой век» для венгерских евреев, оспаривается тем простым
фактом, что бытовой антисемитизм здесь, как и везде в Европе,
поддерживало христианство. Однако более новый политический
антисемитизм пока проявлялся слабо. Венгры начали политически
контролировать половину Габсбургской империи только в 1867 г.
Сознавая свое численное меньшинство на подвластных им территориях, мадьярские националисты не были настроены шовинистически.
Вместо этого они разработали доктрину «этнического равновесия»,
поскольку нуждались в поддержке всех этнических меньшинств, не
связанных с конкурирующими государствами. Их вполне удовлетворяло политическое лидерство (приносившее ощутимые материальные
дивиденды), и они не стремились захватить ключевые позиции в экономике. Евреи же, в свою очередь, довольствовались лидирующим
положением в экономике и не рвались в политику (Karady, 1993).
Евреям был предложен «ассимиляционный договор» — их наделяли
правом гражданства и защищали от преследований в обмен на добровольную ассимиляцию с мадьярами и экономическую поддержку венгерского государства. Евреи-выкресты даже получали право работать
Кем были фашисты?
361
в государственном секторе. Складывалась дуалистическая система:
евреи занимались бизнесом, мадьяры — государственным управлением. По переписи 1910 г., 76 % евреев считали мадьярский своим
родным языком, многие переиначили свои фамилии на мадьярский
лад, некоторые вели активную борьбу против «этнических чужаков»
(румын и сербов). Ассимиляция шла на всех парах, но лишь до поры
до времени (Karady, 1997).
Первая трещина в этой идиллии появилась в 1918 г. Мадьяры стали
главной силой в новообразованном государстве и уже не нуждались
в помощи космополитических союзников. Они создали свое органическое государство; однако это государство преследовали внешние
угрозы. Зловещая триада режима Белы Куна — Советский Союз,
местные большевики и евреи — виделась виновниками ужасов 1919 г.
Новая Венгрия была экономически слаба и нуждалась в развитии,
но экономика была в руках евреев, а не национального капитала. Так
евреи из союзников превратились в главных врагов. Националисты
сделали поворот на 180 градусов — ассимиляция была заменена
«диссимиляцией», отторжением евреев от нации. В 1920-е поток
антиеврейских инвектив захлестнул литературу и журналистику — от
романов до памфлетов (Ozsvath, 1997). Эта стремительная метаморфоза подчеркивает роль геополитики в формировании национального
сознания. Одна геополитическая ситуация способствовала созданию
этнически терпимого государства, другая стала спусковым крючком
этнических чисток.
К 1930 г. в Венгрии проживало лишь полмиллиона евреев, или
5,1 % населения, причем цифра эта постоянно уменьшалась. Но их
локальная концентрация была высокой. 20 % евреев жили в Будапеште, из них 40 % занимались торговлей и банковской деятельностью.
В банковском деле цифры были особенно впечатляющими — 80 %
всех банкиров имели еврейское происхождение. 38 % хозяев горнорудных предприятий были евреями (пятая часть управленцев
тоже евреи), евреям принадлежали 12 % заводов и фабрик в стране
(евреи также составили 39 % в инженерно-управленческом звене).
62 % коммерции и 47 % производств со штатом свыше 20 человек
в стране сосредоточили в своих руках евреи. Эти цифры поражали
воображение. Половина национального достояния Венгрии принадлежала евреям. Финансовый капитал был еврейским на четыре пятых!
362
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
Многие престижные профессии были монополизированы евреями:
60 % врачей, 51 % адвокатов, 34 % журналистов, 30 % инженеров.
Среди университетской профессуры евреи были представлены не так
значительно, поскольку во всем общественном секторе их было не
более 2 %. Лишь 7 % евреев были промышленными рабочими, 2,5 %
работали на транспорте, и ничтожные 0,3 % были заняты в сельском
хозяйстве (Szöllösi-Janze, 1989: 58–60).
Как пишет Мендельсон (Mendelhson, 1983: 92): «На беду свою или
на радость, венгерские евреи стойко ассоциировались с капитализмом,
буржуазией, западниками и урбанистами. У противников капитализма
и урбанизации не было причин ими восхищаться».
Подобная конфронтация вела к усилению этно-социальных противоречий, игравших на руку ненавистникам инородческого, то есть
еврейского «засилья». По линии этого разлома возникло размежевание: мадьяры и немцы выступали как государственники, поскольку это
было их государство, еврейский же (и не только еврейский) капитал
ориентировался на рыночную международную экономику, к чему их
подталкивал социальный опыт. Эти два противоречия, касающиеся
нации и государства, и стали питательной средой для роста мадьярского и немецкого фашизма, требующего сильного национального
государства для защиты от «инородческой эксплуатации».
Однако обратимся напрямую к вопросу о классовом соста
ве фашизма. Чаще всего его объяснения звучат прямолинейно
материалистически. Фашизм якобы породила «пролетаризация
среднего класса» и «перепроизводство интеллектуалов» (Janos,
1970: 210–211; Nagy-Talavera, 1970: 69; Rothschild, 1974: 178, 308;
Vago 1975: 320; 1987: 286). Утверждается, что бурное развитие
университетского образования привело к нехватке рабочих мест.
В результате студенты и невостребованные специалисты начали
протестовать, а поскольку большинство из них принадлежало
к семьям среднего класса, протест их был не левым, а правым. Еврейских студентов было много, их шансы на карьеру были значительно лучше, что привело к взрыву антисемитских и фашистских
настроений, — пишут британские дипломаты (Vago, 1975). Евреи
повсюду захватывали лучшие места, и это вызывало раздражение национального среднего класса, — подтверждает Ротшильд
(Rotschild, 1974: 196). Справедливо ли это?
Кем были фашисты?
363
«Перепроизводство» было неизбежным в первые годы после
войны, когда венгерские госслужащие, офицеры и студенты были
вынуждены вернуться на свою этническую родину, которая не
могла обеспечить им работу по профессии. Такой же эффект могла дать и Великая депрессия. Тем не менее дефицит рабочих мест
не может быть объяснением расцвета фашизма в конце 1930-х,
когда экономика устойчиво росла (Barany, 1971). Экономическими благодетелями Венгрии стали немцы — главные потребители
венгерского сельскохозяйственного продукта. Это дало право венгерским фашистам утверждать, что нацистская Германия спасла их
от «паразитической тирании еврейской финансовой олигархии».
Таким образом, если экономический коллапс и был причиной появления раннего венгерского фашизма, то его последующее развитие и превращение в массовое движение шло на фоне стабильного
экономического роста.
Может ли тезис о «перепроизводстве» иметь отношение к радикальному органическому национализму и антисемитизму? Практически нет. Как и в Австрии (и снова за исключением студентов и некоторых профессий), венгерские фашисты вышли из тех социальных
и профессиональных слоев, где никакого еврейского «засилья» не
было. В среднем классе фашистами становились государственные
чиновники и армейские офицеры, среди которых евреев быть попросту не могло. Уже в первые годы своего правления Хорти умиротворил правых, очистив от евреев и либералов государственную
службу и образование, а также расширил школы и университеты
и содержал огромный штат госслужащих, среди которых евреев быть
не могло. Недовольство в государственном секторе занятости могло
быть вызвано бюджетным кризисом во время Великой депрессии,
но потом начался экономический рост. И при любой экономической
погоде управленческий сектор был перенасыщен правыми радикалами, а в школах и университетах пестовался ультрапатриотический
национализм, на котором и выросло молодое поколение фашистов.
Преходящие экономические факторы, по-видимому, практически
никак не повлияли на генезис фашизма.
В авангарде раннего фашизма стояли ветераны фронта, и важнейшим бастионом венгерского фашизма была и оставалась армия.
Современники считали, что в конце 1930-х от 40 до 50 % военно
364
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
служащих были настроены профашистски (Джон Кейсер называет
цифру 80–90 %). Одни говорили только об «офицерах», в словах
других подразумевалось, что фашистами были и нижние чины.
Всегда уточняли, что наиболее тяготеет к фашизму армейская молодежь. Кроме кадровой армии, были и так называемые «люмпенгвардейцы» — парамилитарные отряды из бывших военнослужащих,
поддерживавших фашизм. Впрочем, я не смог разыскать подробной
информации по этой теме. В конце 1930-х армия не испытывала
экономических затруднений, практически не было в ней и евреев.
Армейский фашизм обязан своим возникновением другим факторам. Ультраправая этика и эстетика — восторг перед порядком,
иерархией, дисциплиной — всегда по понятным причинам импонирует военным; однако венгерская армия оказалась более, чем
какая-либо иная, уязвима для этого соблазна. Офицерский корпус
по традиции рекрутировался в основном из контингента, склонного
поддерживать национальное государство — госслужащих и людей
свободных профессий, не связанных с производством или торговлей.
В армии служило много немцев-швабов, включая 21 из 27 генералов
в 1941 г. (Janos, 1982: 253). Таким образом, венгерская армия стала
сплавом немецких, австрийских и мадьярских традиций с добавлением новейшего германонацистского милитаризма. Во время войны
она оставалась пронацистской, антикоммунистической и резко
антисемитской. В 1944 г. Хорти хотел вслед за Румынией перейти
на сторону антигитлеровской коалиции, однако понимал, что армия
его не поддержит. В конечном счете венгерским военным удалось не
замарать себя участием в холокосте — и тем не менее они оставались
союзниками Германии «до последнего часа» (Gosztony, 1985; SzöllösiJanze, 1989: 194–201; Ránki, 1971: 69).
Антисемитизм в областях, где фашисты приобретали особую
популярность, был направлен не вовнутрь, против «своих» евреевконкурентов, а наружу — против господства евреев в торговле и финансовом капитале. Равно возмущали фашистов как финансовые
воротилы из Будапешта, так и деревенские лавочники и ростовщики.
Неприятие евреев шло рука об руку с классовой ненавистью рабочих
и крестьян к капитализму. Парадоксальным образом в этот стереотип
вписывался и прямо противоположный образ еврея-социалиста.
Социализм в начале ХХ века еще не успел набрать силу, но успел
Кем были фашисты?
365
прельстить целое поколение молодых евреев-буржуа. В Венгрии
в революционную борьбу включилось больше евреев, чем в любой
другой стране. В разных выборках, начиная от Белы Куна и позднее,
евреями были от 40 до 77 % социалистических лидеров (Janos, 1982:
177; Mendelsohn, 1983: 95). Буржуазия ненавидела Белу Куна по
классовым причинам; многие молодые рабочие, плохо представлявшие себе социалистическую идеологию, могли видеть в нем просто
чужака-еврея.
Как и в Австрии, были исключения. В венгерских университетах
училось много как евреев, так и фашистов; так же обстояло дело
в некоторых профессиях. Именно университеты стали рассадником
антисемитизма. Несколько раз студенты устраивали демонстрации
и уличные беспорядки, требуя введения ограничительных квот для
еврейских абитуриентов. Подчинившись давлению, правительство
ввело квоты в 1920 г., но отменило их в 1928 г. Но при любом раскладе 13 % еврейских студентов в университетах не представляли
собой «сокрушительной» силы и не ставили под вопрос карьерные
перспективы соучеников титульной национальности. Более того,
их интересы даже не пересекались: мадьярские и немецкие выпускники, как правило, находили себе работу в государственном
и управленческом секторе, евреи (по традиции) почти поголовно
уходили в коммерцию. Их карьеры почти никогда не совпадали,
следовательно, они и не были прямыми соперниками. Скорее
различались их культурные традиции, что и вызывало трудности
в совместном существовании.
Но что можно сказать о тех немногих элитарных профессиях, где
интересы различных этнических групп действительно пересекались?
Был ли фашизм в этом контексте реакцией на избыток дипломированных специалистов, пролетаризацию интеллигенции и еврейскую
«угрозу»? Ковач (Kovacs, 1991) считает, что нет. Инженеры и врачи
процветали всегда и никогда не относились к люмпен-интеллигенции. В самом начале столетия технократы сильно полевели, это было
веянием времени, интеллектуальной модой. После краха дела Белы
Куна, почуяв, куда дует ветер современности, они резко поправели.
В 1937 г. все 23 инженера, избранных в парламент, представляли
радикально правые партии. Ковач разделяет интеллектуальный
фашизм на «технократическую» (инженеры) и «биомедицинскую»
366
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
(врачи) профессиональные идеологии. Технократы связывали фашизм с научно-техническим прогрессом во благо государства, медиков вдохновляли расово-биологические идеи. В отличие от этих
двух категорий, — пишет исследовательница, — юристы продолжали
поддерживать традиционные старорежимные партии, поскольку их
работа напрямую зависела от сохранения капитализма (и старого
режима, добавлю я). Среди юристов встречались фашисты, но гораздо реже, чем среди врачей и инженеров. Среди врачей евреев было
много, однако, — как считает Ковач, — фашистов-медиков волновала
не столько конкуренция с евреями, сколько антисемитизм как часть
национально-этатистской идеологии.
Итак, перепроизводство дипломов, профессиональная конкуренция с евреями и другие формы экономической депривации сыграли
определенную роль в формировании фашизма (Великая депрессия
тоже сказала свое веское слово), но в любом случае материальные
мотивации были тесно переплетены с этническими.
Венгерский фашизм можно считать результатом секторального
конфликта между мадьяро-немецким этатизмом и глобалистическим
капитализмом, воспринимавшимся как «интернациональный» и «еврейский». К этому следует добавить классово-этнический конфликт,
вылившийся в ненависть венгерских рабочих и крестьян к «инородческим» капиталистам. Первый конфликт сформировал венгерский
радикально правый политический спектр в целом, второй имел непосредственное отношение к рождению фашизма.
КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ФАШИСТОВ?
Данные по выборам 1939 г. дают достаточно полную картину электоральных предпочтений рабочих и крестьян (Lackó, 1969; Ránki, 1980;
Vago, 1987: 306–310; Szöllösi-Janze 1989: 153165). Коалиция «Скрещенные стрелы» набрала 25 % голосов в национальном масштабе. Лучшие
результаты были получены в «красном поясе» — рабочих предместьях
Будапешта. В коалиции с небольшой квазифашистской партией они
получили 42 % голосов. Успех также сопутствовал фашистам среди
Кто голосовал за фашистов?
367
шахтеров и беднейших крестьян. Чем больше рабочих проживало
в том или ином районе Будапешта, тем больше голосов получали
в этом районе фашисты. Чем слабее были позиции социалистов, тем
больше голосов получали крайне правые: фашизм перетянул к себе
тех, кто когда-то голосовал за левые партии. Запрещенная коммунистическая партия обратилась к своему электорату с призывом
голосовать за «Скрещенные стрелы», самую пролетарскую, по убеждению коммунистов, партию. Социалисты сохранили свои позиции
в старых пролетарских гетто. «Новый» рабочий класс оказался идейно
шатким. Сёллеши-Жанзе считает, что молодое поколение рабочих
было более восприимчивым к фашистской идеологии, чем кадровый
рабочий костяк, но не приводит никаких цифр. Дик (Deak, 1966: 396–
397) полагает, что социалисты имели очень сильные позиции среди
высококвалифицированных рабочих наиболее привилегированных
отраслей промышленности, создавших свою замкнутую касту. Пролетарии, в нее не входящие, легко перехватывались популистскими
и антисемитскими движениями.
Действительно, «Скрещенные стрелы» во многих отношениях
были истинно левой партией. Их призыв покончить с классовыми
противоречиями звучал искренне, репутация не была подмочена
сделками с капиталом, как часто случалось к западу от Венгрии.
Венгерские фашисты выступали с таких отчетливых антифеодальных и антикапиталистических позиций, каких мы не встретим ни
у одной фашистской партии (Janos, 1982: 287). Впрочем, они никогда
не шли на своего противника в лобовую атаку, предпочитая громить
«паразитический» капитализм — «финансовый», «инородческий»
и прежде всего «еврейский» капитал. Звучало и грозное требование
перераспределить национальное богатство. Финансовый эксперт
Лиги Наций сообщал в 1938 г., что фашисты призывали:
препоручить ведение государственных дел людям, которых не растлили
богатство и политические игры... вырвать финансы и промышленность
из рук евреев, обеспечить работой безработных специалистов, конфисковать крупные землевладения и наделить землей безземельное
крестьянство, сделать перевооружение главным пунктом правительственной программы.
368
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
Этот представитель фискальной ортодоксии не счел нужным
добавить, что фашисты рассматривали милитаризацию экономики
почти по Кейнсу: мощный экономический рывок и создание рабочих
мест в рамках национал-этатистской модели развития. Современники
свидетельствуют, что «Скрещенные стрелы» стали последней гаванью
для разгромленных коммунистов. Посол Великобритании сообщает,
что 60 % венгерских фашистов некогда были соратниками Белы Куна:
это явное преувеличение (Vago, 1975: 320–321, 265, 308, 215). Однако
«Скрещенные стрелы» в самом деле были самой левой парламентской
партией, они организовывали забастовки, в том числе и самую крупную забастовку шахтеров в 1940 г. Напомню, что коммунисты и социалисты были разгромлены в 1919 г. и практически утратили влияние.
Хорти тем не менее позволял социалистам действовать в городах на
условиях «примерного поведения» и отказа от политической работы
в селе. На протяжении всей войны, при полном господстве нацистов,
социалисты умудрились сохранить места в парламенте. Пощадив
социалистов, Хорти беспощадно расправился с коммунистической
партией. Эта тактика, как он и надеялся, привела к расколу в рабочем
движении. Его самое радикальное крыло перешло в «Скрещенные
стрелы», объявив насильственные действия и синдикализм главным
средством политической борьбы (Wessely, 1991). Мы вправе предположить, что именно массовое участие организованного рабочего
класса в фашистском движении превратило его в «народную» партию, принесло миллионы голосов на выборах и позволило избежать
кровавых эксцессов парамилитаризма.
За фашистов с охотой голосовали представители мелкой и средней бюрократии, гораздо меньший успех имели фашисты среди
коммерсантов и мелких предпринимателей (чаще всего это были
евреи). Территории с преобладанием этнических немцев поддерживали фашистов безоговорочно. Либералы и социалисты имели успех
в еврейских местечках, что еще раз подтверждало «левизну» евреев.
Партии правительственного большинства пользовались поддержкой
буржуазии и государственных служащих.
Немало значила и политическая география. Хотя «Скрещенные
стрелы» были вне конкуренции в большинстве регионов Венгрии,
их влияние было меньше на юге и юго-западе, вероятно потому, что
спокойные границы с Австрией и Чехословакией не рассматривались
Выводы
369
как препятствие для имперского ревизионизма. В этих районах было
гораздо меньше евреев и мадьярских беженцев, вокруг которых могли
бы разгореться националистические страсти.
Мы располагаем более скудными данными по итогам выборов
в Венгрии по сравнению с Германией, но тем не менее можем сделать
вывод, что венгерский фашизм апеллировал скорее к промышленным
рабочим, чем к беднейшему крестьянству. Фашисты также отчаянно
состязались с другими правыми партиями за голоса служащих в госсекторе. Венгерский фашизм возглавила национально-государственная буржуазия, которой удалось отмобилизовать рабочий электорат
на борьбу с «иноземными эксплуататорами».
ВЫВОДЫ
Венгерские фашисты пришли к власти слишком поздно — в октябре
1944 г. Их родня из «авторитарной семьи» долго удерживала их на
коротком поводке, рядясь в их же одежды. Этот маскарад привел
к тому, что даже сейчас трудно понять, кто был «настоящими» фашистами. Из-за гражданской войны традиционалистский режим смог
восстановить утраченную власть лишь ценой резкой радикализации.
Поражение в гражданской войне устранило с политической арены
левых и заретушировало остроту классовых конфликтов. Старые
консерваторы не были испуганы настолько, чтобы искать себе спасение в фашизме. Взамен они взяли на вооружение правый радикализм
с некоторыми элементами фашизма в качестве национал-этатистской
государственной модели, временно отказавшись от имперского ревизионизма вкупе со стратегией позднего развития. По мере того как
фашизм и органический национализм набирали силу, создавался
и культивировался образ «внутреннего врага». Этим врагом стали
евреи, воспринимаемые массовым сознанием как космополиты (что
отчасти справедливо) и как агенты мировой революции (что не
совсем так). Идеи и задачи венгерского пронацистского фашизма
вскоре встали на повестку дня всей венгерской «авторитарной семьи».
Я располагаю лишь неполной информацией о фашистах в Венгрии и не вправе выносить окончательные суждения. Фашизм
370
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
в румынском варианте документирован гораздо лучше и позволяет
прояснить некоторые вопросы. Тем не менее и у венгров можно
проследить три отчетливые закономерности. Две из них совпадают
с другими странами: венгерскими фашистами стали два поколения
молодых людей, а само движение оформилось как классический
буржуазный национал-этатизм. В случае с Венгрией он нес в себе
более сильную военную компоненту в ущерб массовому парамилитаризму. Это объясняется тем, что старый режим сумел выжить
и сохраниться без особых передряг. Венгерский вариант фашизма
был более «казенным» и этатистским, он проявил больше почтения
к официальным государственным структурам, чем в других странах.
Нет нужды отдельно расшифровывать геном венгерского фашизма — он все тот же: востребованная в эпоху кризиса идея сильного
государства, осуществляющаяся в стране со слаборазвитой демократией, идея, чрезвычайно привлекательная для патриотически
настроенной образованной молодежи и/или для людей, связанных
с государственными и гражданскими институциями. «Настоящие»
фашисты в Венгрии никогда не имели поддержки подавляющего
большинства народа и не могли прийти к власти законным путем.
В 1930-х устрашенные примером нацистской Германии венгерские
правые сами перехватили фашистские знамена, подавляя при этом
истинных фашистов. В межвоенные годы укрепился органический
национализм, обращенный против единственного внутреннего врага — евреев, что усилило среди венгерских правых позиции нацистов.
Гитлеровская экспансия укрепила их еще больше. В годы Второй
мировой войны венгерские национальные элиты были сознательными союзниками фашизма.
Однако есть у венгерского фашизма и исключительная черта,
отличающая его от итальянского фашизма и немецкого нацизма:
венгерских фашистов массово поддержали рабочие. «Скрещенные
стрелы» завоевали сердца рабочих не только за пределами пролетарских гетто (это хорошо удалось и другим), но и внутри них,
как в городах, так и в сельских районах. Причина тому — слабость
социалистов. Надломившись в своем революционном порыве
в 1918 г., разгромленные репрессиями, ослабленные умелыми
манип уляциями Хорти, социалисты и коммунисты не смогли
возглавить движение угнетенного класса. Этот вакуум заполнили
Выводы
371
фашисты. С пеной у рта они обвиняли старый режим в коррупции
и неправедном богатстве, боролись с «паразитическим» еврейским
и международным капиталом. Фашисты восхваляли производительный труд, помогали рабочим в их борьбе, требовали полной
занятости. Их взгляды на внешнюю политику была столь же пролетарскими: слабая, зависимая Венгрия должна сбросить оковы
международного плутократического либерального капитализма.
Венгерский правящий класс с фашистами не церемонился — они
не вылезали из тюрем. А тюрьма, как известно, сближает с пролетариями, а не с буржуазией. Теории, объясняющие фашизм желанием
имущих классов «взять на мушку» рабочих, к Венгрии не имеют
никакого отношения. Да и сами венгерские фашисты не бряцали
оружием — дух и практика парамилитаризма были у них развиты
гораздо слабее, чем у немцев и итальянцев.
Противоречия между элитарными этатистскими верхами и пролетарскими низами существовали всегда. Связующим звеном между
ними был антисемитизм, превративший венгерский фашизм в подобие нацизма. Как в Австрии и в Румынии, венгерские евреи сыграли
роль козла отпущения — их назначили врагами государства-нации
и пролетариата. Для фашистов евреи были наймитами старого
режима, а также международного финансового капитализма. Этнический конфликт, таким образом, был усугублен секторальным:
государственники противостояли промышленному и финансовому
капитализму, служившему, по их мнению, только евреям, а не нации.
Хищнический капитализм обрекал народ на невыносимые страдания, от которых его могли спасти лишь национал-социалисты, что
убедительно продемонстрировали немцы. Промышленные рабочие
были практически невосприимчивы к жупелу «еврейской угрозы»,
иначе обстояло дело с бедствующими крестьянами, не вылезавшими
из кредитной банковской кабалы; банки же и банковские проценты
вполне справедливо ассоциировались с еврейскими финансистами.
Та же ситуация (хотя и реже) наблюдалась с городскими квартиросъемщиками. В прямом классовом конфликте находились рабочие
горнодобывающей промышленности и хозяева предприятий, преимущественно евреи. Венгерский антисемитизм стал бикфордовым
шнуром страшного взрыва кровавых этнических чисток, о чем я подробно расскажу в следующем томе своей книги.
372
Глава 7. Венгерская «семья» авторитаристов
Социалистическая теория классового конфликта воспринимается
рабочими гораздо более органично, чем фашистская идеология. Но
в отсутствие эффективного социализма ее с успехом подменила фашистская «триада»: враг трудового народа — это финансовый, иностранный и еврейский капитал. В межвоенный период эта нехитрая
мысль овладела умами миллионов, а в большой политической игре
минимально правдоподобная ложь котируется много выше, чем не
вполне очевидная правда.
Глава 8
РУМЫНСКАЯ «СЕМЬЯ»
АВТОРИТАРИСТОВ
ВВЕДЕНИЕ
Общие контуры румынского фашизма я обрисовал во введении
к предыдущей главе. Здесь же хочу более подробно остановиться на
Румынии, этой самой политически молодой и экономически отсталой
из всех стран, рассмотренных в данной книге. Современная Румыния
появилась лишь в 1861 г. в результате объединения Молдавии и Валахии (в свою очередь состоящей из исторических областей Олтения
и Мунтения), оторванных от отступающей Оттоманской империи.
Первая мировая война стала для этой маленькой страны настоящим
подарком судьбы, что хорошо видно на карте 8.1.
Карта 8.1
В надежде получить обещанную территориальную взятку от
стран Антанты Румыния в 1915 г. объявила войну странам Оси.
Награда была поистине королевской — по мирному договору Ру-
Введение
375
мыния получила Буковину от Австрии, Трансильванию и часть
Крисаны и Баната от Венгрии, Бессарабию от России и Добруджу
от Болгарии. Эти приращения более чем вдвое увеличили территорию и население страны, а нерумыны составили 30 % ее населения
(несмотря на массовый отток иммигрантов на этническую родину).
Национальный вопрос встал со всей остротой и приобрел классовую
подоплеку, поскольку румыны на новообретенных территориях
были в основном крестьянами, а горожане и представители высших сословий состояли в основном из бывших титульных народов
(особенно мадьяр и немцев), да еще из евреев. Таким образом, нерумыны (евреи, венгры и немцы) оказались владельцами львиной
доли национальной промышленности и торговли. Только евреям
(4 % населения страны) принадлежало до 40 % коммерции и кредита
и до 28 % промышленности. Среди врачей, ветеринаров, фармацевтов (единственные свободные профессии, открытые евреям) евреем
был каждый четвертый. Румынскому среднему классу осталось
довольствоваться государственной службой и менее престижными
профессиями, не требующими высокого образования (Ianciu, 1996:
65–76). Со всей неизбежностью среди государственных служащих
и румынской интеллигенции начал стремительно развиваться органический национализм. Как и в других странах с похожей судьбой,
Румыния вдруг оказалась пролетарской нацией, «жертвой» инородческого капитала (прежде всего еврейского), в окружении «врагов»
по всему периметру новых границ.
Но кто прислушивался к этим голосам? Армия и государство,
монархическое и аристократическое, пожинали заслуженные плоды от выигранной войны. Православная церковь была лояльной
государству. Исчезли лишь иностранные землевладельцы. Мы не
можем назвать правящую элиту «старым режимом», поскольку она
управляла страной не более полувека. Тем не менее позиции власти
казались достаточно прочными. Правительство сделало ставку на
умеренный национализм, который надеялось не выпускать из-под
государственного контроля. В этой отсталой стране национализм
как идея мог существовать только в городах. Большинство крестьян
поначалу не осознавали себя членами нации. Горизонт их жизни
ограничивался родной деревней и выживанием. Они надеялись,
что после войны их жизнь материально улучшится, и с радостью
376
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
приняли земельную реформу. Но румынская экономика нуждалась
в высокоэффективном сельском хозяйстве, в повышении инвестиций, чему никак не способствовала аграрная реформа, раздробившая
крупные землевладения на мелкие крестьянские хозяйства. Повысилась и рождаемость, с которой уже не справлялась традиционная
экономика сельской семьи. Многим обедневшим крестьянам вместо
пшеницы, главного экспортного продукта, пришлось сеять кукурузу
для собственного потребления. Полунатуральное хозяйство вело
к бедности, болезням, каждодневной борьбе за выживание. С 1913
по 1938 г. валовый национальный продукт вырос на ничтожные 7 %
(Bairoch, 1976: 297). Уровень младенческой смертности — убедительный показатель качества жизни на селе — после 1930 г. тоже вырос,
хотя средняя продолжительность жизни увеличилась. Без присмотра помещиков, предоставленные самим себе, румынские крестьяне
начали прислушиваться к радикальным политическим агитаторам,
обещавшим улучшить их горестное положение.
Формально Румыния была либеральной демократией. По настоянию Антанты избирательные права были предоставлены всем
взрослым гражданам, включая евреев. Так Румыния стала последней
страной в Европе, где евреи получили гражданские права. Законодательную власть осуществлял парламент, король сохранил значительный объем исполнительной власти, в частности право назначать
и смещать министров, руководить полицией и армией. Монарх
и аристократические политики, консерваторы и либералы, управляли
страной все 1920-е. Это был уже знакомый нам полуавторитарный
режим, удерживающий власть через выборы, коррупцию, патронклиентские отношения и выборочное подавление экстремистских
элементов (включая фашистов). Сложившуюся систему власти с издевкой называли «попеременным правительством»: считалось, что оно
погрязло в коррупции и не справляется со своими обязанностями.
Либеральная модель выглядела неэффективной, социализм — чужеродным, что открывало стране «третий», фашистский путь. Впрочем,
правительство сумело разработать национальную экономическую политику «опоры на собственные силы». Это была умеренно этатистская
стратегия догоняющего развития, опирающаяся на государственный
протекционизм. Главный архитектор экономических реформ Манойлеску называл ее «чудо-оружием» экономического национализма.
Введение
377
Этому сопутствовали насильственная ассимиляция меньшинств
и румынизация общественных институций, включая образование,
вывески, деловую рекламу. Это вызвало протесты и всплеск имперского ревизионизма среди некогда привилегированных национальных
меньшинств, на что румынские националисты дали зеркальный ответ.
В 1919 г. во время националистических беспорядков в Трансильвании
были убиты десятки восставших мадьяр. В ранний межвоенный период даже румынские либералы и консерваторы были умеренными
националистами.
Правительство урбанизированных реформаторов первостепенной
задачей считало индустриальное, а не сельскохозяйственное развитие, доходы от продажи нефти — краеугольный камень румынской
экономики — они вкладывали в промышленность и сокращали импорт. Нефть питала не только экономику, но и коррупцию. На фоне
стагнации в сельском хозяйстве быстро набирала очки Национальная
крестьянская партия (НКП), далекая от политического мейнстрима
и не замешанная в коррупции. В 1928 г. она одержала убедительную
победу на выборах. НКП ратовала за свободный рынок, социальную
защиту крестьян и рабочих, выступала за демократизацию жизни
и боролась с коррупцией. Лидеры партии призывали к этнической
и религиозной терпимости, но среди рядовых партийцев встречался
антисемитизм. У аграриев был реальный шанс провести либерально-демократические реформы в сельском хозяйстве, что могло бы
способствовать и большей этнической терпимости. Однако король
с крайним подозрением относился к реформистским тенденциям
своего нового правительства. И в том же 1928 г. на долю партии
выпали тяжелые испытания. Великая депрессия подорвала кредит
общественного доверия (что случилось со многими правящими партиями Европы), и после этого удара НКП так и не смогла оправиться.
Поскольку промышленность работала в основном на внутренний
рынок, а главным экспортным продуктом была нефть, национальная
экономика все же выжила. В 1933 г. уровень производства вернулся
к показателям 1929 г. Сильнее пострадало сельское хозяйство. За
время кризиса крестьянские доходы снизились на 58 %. Опасаясь
народных волнений, правительство реструктурировало долги крестьян — столь щедрого подарка не рискнуло сделать ни одно правительство довоенной Европы. Депрессия многому научила румынских
378
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
политиков. Они поняли главное — государственный протекционизм
в экономике работает (нефть — тема отдельная). Правительство
усилило политику импортозамещения, которая приобрела ярко выраженный антиимпериалистический и пролетарский посыл: западная
эксплуатация сделала Румынию нищей — значит, надо запретить
импорт западных товаров. Главным торговым партнером Румынии
(как и Венгрии) была Германия, но страна вовсе не была придатком
немецкой экономики хотя бы потому, что находилась на «безопасном» от Германии расстоянии. С 1929 г. трудовая занятость выросла
на 50 %, существенно укрепилась экономика, по темпам прироста
национального продукта Румыния опережала многие страны мира.
Этот успех был достигнут за счет увеличения государственного
сектора в экономике, сокращения внутреннего потребления и отказа
от инвестиций в сельское хозяйство (Berend, Ranki, 1974; Chirot,
1978; Verdery, 1983: 278–286; Ronnas, 1984: 37, 116–122, 241; Aldcroft,
Morewood, 1995: гл. 3–4; Berend, 1998).
Правительство того времени представляло собой все более авторитарные коалиции аристократов и националистов. Этим политическим
оркестром дирижировал король Кароль. «На выборы мне плевать», —
откровенно признавался он британскому журналисту. Все 1930-е
монарх был вынужден мириться с парламентаризмом, благо на прерогативы исполнительной власти парламент никогда не покушался.
Реальная авторитарная власть была сосредоточена в руках немногих,
вскоре она приобрела черты итальянского корпоративизма. В конце
1930-х король Кароль, а затем его преемник генерал Антонеску позаимствовали достаточно много из идеологического багажа румынских
фашистов (Zach, Zach, 1998: 809–815). Серьезная политическая власть
исполнительных структур государства и экономические потрясения
Великой депрессии проложили путь румынскому авторитаризму.
Итак, в предвоенные годы наибольших успехов добились промышленники и коммерсанты, в основном нерумынского происхождения,
а также государственный сектор экономики, сельское же хозяйство
оказалось в затяжном кризисе. Эта ситуация должна была породить
усугубленный Великой депрессией «классический конфликт» между
трудящимися и буржуазией, на стороне которой были государство
и король. Но все карты спутал этнополитический фактор. За период
между двумя войнами грамотность возросла вдвое. Это имело прямое
Идеология «Легиона Михаила архангела»
379
отношение к развитию национального сознания — люди, научившиеся
читать на общем для них румынском языке, обостренно чувствовали
свою этническую идентичность и становились более восприимчивыми
к националистической идеологии. Как и в других странах, румынские
учителя, журналисты, составители словарей и учебников отчетливо
тяготели к национализму. Общественные движения, утверждавшие,
что Румыния — это пролетарская нация, эксплуатируемая иностранцами, привлекали много сторонников, в особенности среди молодежи
и людей, недавно овладевших грамотой.
ИДЕОЛОГИЯ «ЛЕГИОНА
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА»
Фашизм в румынском варианте возник как вполне самостоятельное
явление, хотя и позаимствовал кое-что от немецкого нацизма и итальянского фашизма. Его лидером, или «капитаном», был Корнелиу
Кодряну. Он родился в 1899 г. в молдавском приграничном городке.
Его мать была этнической немкой, отец — поляком, который потом
стал убежденным румынским националистом. Кодряну получил
образование в кадетском училище и в университете города Яссы,
стал дипломированным юристом. В Яссах он попал под влияние известного профессора-националиста Александру Кузы, основателя
праворадикального движения, получившего в 1925 г. название Лига
национальной христианской защиты. Будучи органическим нацио
налистом, Куза придерживался крайних антисемитских взглядов.
Нация должна быть едина и свободна от этнически чуждых элементов.
Главную опасность представляют евреи — «вредоносные бациллы»,
«нация дегенератов и негодяев, безродные космополиты, не способные к созданию живого социального организма». Евреев нужно было
«устранить» — термин, не совсем понятный, но безусловно включавший в себя массовые депортации, экспроприацию собственности,
запрет на участие в общественной жизни. В Европе начала 1920-х все
это звучало не так уж экстремально. Куза был еще и традиционалистом. Он раньше Гитлера принял как символ свастику, четыре конца
380
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
которой несли традиционалистский девиз: «Одна страна, один закон,
один народ, один король» (Ianciu, 1996: 186–196).
Однако Куза был профессором, а не человеком действия. Разочарованный в своем кумире, Кодряну порвал с ним в 1927 г. и создал
собственное движение — «Легион Михаила Архангела» (изначально —
молодежное отделение Лиги национальной христианской защиты).
В 1930 г. на основе Легиона появилась «Железная гвардия» — организация, куда могли вступать люди любого возраста. Оба движения
столь тесно переплелись, что стали практически одной организацией.
В дальнейшем я буду называть ее просто «Легионом». Кодряну разошелся с Кузой в вопросах тактики. Фашистский лидер ненавидел
евреев и (в отличие от Кузы) требовал их физического подавления.
В автобиографии от 1936 г. он не скрывает своего антисемитизма
(Codreanu, 1990). Но его юдофобия весьма своеобразна: евреями для
него были все толстосумы и эксплуататоры, «паразиты», «гниды»
и так далее, присосавшиеся к финансам, промышленности и торговле,
обрекшие румын на нищету и бесправие. Даже в Бессарабии (российской губернии до 1918 г.), клеймя тамошних евреев «большевиками»,
он в то же время продолжал называть их «Шейлоками». Хотя он и не
использовал этого слова, это был ярко выраженный пролетарский
антисемитизм. Пролетариатом были, конечно, румыны, капиталистами — евреи. Кодряну обуревало желание действовать, с чем был
категорически не согласен Куза; но Кодряну быстро уразумел, что
провокационные выступления против богатых евреев, равно как
и стычки с полицией, которая защищала их и подавляла недовольство
местных жителей, делают его героем в глазах местного населения.
В 1920-е суды присяжных отказывались признавать предъявленные
ему обвинения в убийстве и терроре — простые обыватели ничуть
не меньше, чем он, ненавидели продажных политиков и жестокую
полицию. Постоянные столкновения с законом приучили его видеть
в политиках услужливых еврейских лакеев, буквально купленных
на корню. В этом утверждении снова звучит пролетарское начало,
более свойственное левым движениям, нежели правым. Кодряну
пришел к убеждению, что вся политическая система прогнила и ее
надо разрушить. Исключение он делал лишь для монархии ввиду ее
особых заслуг в деле национального освобождения румын. В обстановке 1920-х такие взгляды (внушенные в том числе и в кадетском
Идеология «Легиона Михаила архангела»
381
корпусе) не могли не привести к парамилитаризму, направленному
против государственной власти и отдельных «врагов нации». Это
была прямая дорога к фашизму.
Свои основные политические взгляды Кодряну излагает в автобиографии. А основное его политическое сочинение, «Кредо националхристианского социализма» (1920 г.), начинается и заканчивается так:
Верую в единое и неделимое Румынское Государство... материнское
лоно всех румын, и только румын, радеющее о своем народе, чтущее
и боящееся Господа, гаранта равных прав, гражданских и политических,
как для мужчин, так и для женщин; защитника семьи, носителя социальной гармонии, стирающего классовые различия, национализирующего
предприятия во благо рабочих (это их собственность), дарующего землю
тем, кто на ней трудится. Жду пробуждения национального сознания
в самом последнем пастухе, слияния с простым народом людей высо
коумных и образованных. Да пребудет между ними братская любовь,
основа Румынии будущего. Аминь.
В «Кредо» звучит требование распределить национальное богатство между классами, заявляется о поддержке монархии и православной церкви. Символ веры Кодряну предстает как крайне левая
и глубоко религиозная форма органического национализма. Личность
подчинена нации, а нация — только Богу. Многие позднейшие высказывания Кодряну кажутся далекими от политики. В программе
1927 г. Легион неожиданно заявил не о политическом или партийном
проекте, а о проекте «создания нового человека». Для искоренения
политиканства, для борьбы с «заразой иудаизма» необходимы новые
люди. «Для воспитания этой личности Легион должен стать скорее
школой и армией, чем политической партией, он должен создать
духовную и моральную атмосферу, в которой родится “воин-герой”,
плоть от плоти румынского народа». Были скрупулезно перечислены
все необходимые достоинства «нового героя», что превращало партию
в подобие воинственной религиозной секты. Кодряну перечисляет
восемь основополагающих норм жизни легионера, начиная с таких
общих мест, как «моральная чистота» и «энтузиазм», и заканчивая
по-фашистски звучащими «верностью, трудом, порядком, иерархией,
дисциплиной, делами, а не болтовней». Легион, указывает он, это
не «логическая система», а «живая вера». Живая вера была очень
382
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
оинственной: «Это будет зов боевой трубы, пробуждение доблести,
в
воскрешение древней славы наших могучих отцов». Как и Гитлер,
Кодряну не стремился развивать сложные теории государства, лидер
ского принципа ему вполне хватало. Обоснованием был органический
национализм: у единой нации есть единая воля или «народный дух»,
который воплощает в себе ее вождь. Воля лидера не навязывается
силой, ибо органически отвечает всем чаяниям народа. И если народ
и вождь сливаются в единое целое, то государство тогда поднимается
на уровень высокого национального самосознания. Кодряну отрицал
демократию, подтачивающую единство нации: «Разве солдаты выбирают лучшего, по их мнению, генерала?» Грех демократии и в том, что
она дает равные права евреям и быстро оказывается в рабстве у банкиров (Codreanu, 1990: 15–17, 219–222, 226, 231, 242–243, 304–310;
ср. Ianciu, 1996: 199–200).
К сожалению, у нас мало информации об убеждениях рядовых
легионеров, но есть уверенность, что Легион прививал им именно
такие ценности. Организация состояла из разветвленной сети ячеек,
где, как в инкубаторе, выращивались будущие боевики. Руководители
этих подразделений культивировали в своих подопечных «дух благородства» и следовали шести золотым правилам: преданность и дисци
плина, трудолюбие, немногословие, самосовершенствование, взаимопомощь, честь. Такое воспитание выковывало героев, способных
к обороне, самопожертвованию и мученичеству во имя идеи. «Кровь
всех нас должна пролиться» в борьбе между добром и злом. «Новый
человек» должен «победить зло в самом себе и в своих людях», а потом
«сокрушить силы зла и всех служащих злу». Он должен «вызывать
на бой и сокрушать врагов Отечества не только в мире земном, но
и за его гранью, где властвуют наши незримые враги — силы зла».
Он должен отличать «добрых» румын от «отребья» и безжалостно
расправляться с последним.
В Легионе делался акцент скорее на воспитании духа и моральных
качеств, нежели на отработке боевых навыков и насилия. Движение
было, несомненно, парамилитарным, однако румынские штурмовики
долгое время не принимали участия в реальном насилии. Кодряну
своим авторитетом удерживал пыл боевиков в жестких политических
границах. От них требовалось лишь провоцировать полицию на от
ветные действия. Тогда на фашистов обрушивались репрессии, что
Идеология «Легиона Михаила архангела»
383
еще раз демонстрировало народу преступную связь между еврейскими
банкирами и государственной властью и приносило Легиону массовую поддержку. До убийства самого Кодряну в 1938 г. легионеры
уничтожили всего лишь одиннадцать человек, в основном известных
политических деятелей и полицейских, потеряв при этом 501 бойца,
погибшего в стычках с полицией. В отличие от штурмовиков СА,
описанных в главе 4, румынские легионеры искренне придерживались тактики «оборонительного насилия» — хотя и у них это была
именно сознательная тактика. Это насилие, опять-таки в отличие от
многих других фашистских движений, своим острием было обращено против государства в форме индивидуального террора против
отдельных представителей власти. В глазах румын легионеры были
не бандитами и погромщиками, а романтиками, вдохновенно марширующими по улицам. С первых дней своего существования Легион
активно занялся строительными работами. Вначале была выстроена
центральная штаб-квартира, потом стали обустраивать местные отделения. Тяжелый и безвозмездный коллективный труд привносил
дух взаимопомощи и братской солидарности. Немногочисленность
участников восполнялась фанатической преданностью делу. Особенно
ярко проявлялось это качество во время выборов, когда легионеры
вели себя совсем иначе, чем другие партийные функционеры. Не имея
лишнего гроша на предвыборную агитацию, они ходили по деревням,
запросто толковали с изумленными крестьянами, вместе с ними ели
и спали. И это приносило им голоса! Легионеры были «народниками» не на словах, а на деле. Им часто удавалось выигрывать местные
выборы, но путь на политический олимп до поры до времени был им
закрыт — для этого требовались серьезные деньги и спонсоры.
Легион не очень хорошо различал контуры будущего государства.
Легионеры считали себя освободителями и очистителями, создателями скорее нового человека и нации, чем нового государственного
устройства. В этом смысле они были больше похожи на немецких нацистов, чем на итальянских фашистов. Но их религиозный мистицизм
и дух крестьянской общины были сугубо румынскими качествами.
Кодряну верил, что румынская «душа» растворена в «космической
сингулярности» нации, «единственно латинской в православном
мире и единственно православной в мире романских народов»,
воплощающей в себе истинную «христианскую чистоту» (понятие
384
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
позаимствовано у Кузы и его адептов). Душа румын обитала не среди
космополитической элиты, а в крестьянских избах, где демократизм
сельских сходов оставался неизменным на протяжении столетий.
Крестьянская почва и крестьянская культура были краеугольным
камнем нации, кровь же и раса были глубоко вторичными (СС и нацисты сильно изменили эти представления во время войны). Поэтому
Кодряну был счастлив видеть в своем Легионе жителей новоприсоединенного юго-востока, тех, кого он называл «румыно-македонцами».
Этих людей, как и румын, столетиями угнетали, и им была открыта
дорога к добровольной ассимиляции. Стилистика, риторика и обрядность легионеров были глубоко религиозными, например, они носили на шее мешочки с землей, символизирующей «землю предков».
Легионеры не часто ссылались на православное христианство, но их
ритуалы были поразительно похожи на церковное богослужение. Небесным заступником Легиона считался святой архангел Михаил, победитель Люцифера. В иконографике и песнях архангел олицетворял
сам Легион, Люцифер же был воплощением коммунизма, еврейства
и капитализма. Поверх зеленой униформы легионеры нашивали белые
кресты, а некоторые — свастики. Вспомним, что и другие фашистские
движения нарекали себя религиозными именами: «Скрещенные
стрелы» и бельгийский «Кристус Рекс» (который так и не признала
католическая церковь). Все фашисты использовали в своей деятельности религиозные мотивы, но лишь румынский Легион в самом деле
напоминал церковь. Перед доверчивыми крестьянами легионеры
даже творили чудеса.
Легионеры твердили, что иностранные поработители осквернили чистую душу румынского крестьянина, а теперь ее продолжают
осквернять евреи. Многие румыны с готовностью в это поверили.
Бытовой антисемитизм в Румынии не был лишь достоянием Легиона — он был распространен повсеместно. Специализировались на
антисемитизме политические правые, однако его влияние испытывали
и центристы, и даже либералы. Хоть и открещиваясь от радикального антисемитизма, национальная элита требовала румынизации
экономики, иными словами, выдавливала иностранный капитал из
частного сектора. По закону от 1934 г., согласно доктрине «опоры на
собственные силы», были приняты квоты и запреты, ущемляющие
национальные меньшинства. По новым законам на всех предприятиях
Идеология «Легиона Михаила архангела»
385
должно было работать не менее 80 % румын, и не менее 50 % мест
в совете директоров должны были также принадлежать румынам.
Председателем совета директоров мог быть избран только румын.
Закон не делал различий между национальными меньшинствами,
однако применить его к мадьярам и немцам оказалось очень сложно.
В местах их компактного проживания румын, которые могли бы занять ответственные посты, практически не было. Начиная с 1937 г.
запретительные меры против меньшинств ужесточились, лозунг
«Румыния для румын» стал осуществляться на практике. Ударило это
в первую очередь по евреям. Вину за этот процесс можно возложить на
влияние Гитлера, на стремительную экспансию нацистской Германии,
но на первом этапе это было делом рук самих румын (Mendelsohn,
1983: гл. 4; Ancel, 1993: 215; Ianciu, 1996: 76–77, 280–306).
Врач-еврей Эмиль Дориан в своем дневнике много пишет о том,
как румыны во всех своих тяготах и бедах винили «проклятых жидов».
О евреях ходило множество диких сплетен и измышлений, а правительство этому потворствовало. Евреям, пишет Дориан, официально
запретили нанимать прислугой молодых женщин, это мотивировалось
тем, что евреи якобы торгуют христианскими рабынями. В своих
воспоминаниях врач дает волю и юмору:
Сцена в городском транспорте. Еврей поднимается и уступает место
пожилому румыну.
— Я не буду сидеть там, где сидел вонючий жид, — свирепо огрыза
ется старик.
Другой нееврей, стоящий рядом, спрашивает:
— Вы действительно не будете садиться?
— Конечно нет!
Второй румын садится на место, уступленное евреем, через пару
секунд встает и говорит пожилому джентльмену:
— Теперь можете смело садиться, я румынизировал это сиденье
(Dorian, 1982: 289–290).
В разных провинциях антисемитизм принимал различные очертания. Ветхозаветные евреи в ермолках и сюртуках в северной Молдавии и Бессарабии выполняли роли «экономических парий» и терпели
поношения как «инородческие» эксплуататоры крестьян. Бессарабских евреев, кроме этого, подозревали в симпатиях к большевикам.
386
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
С 1919 г. и позже «жидобольшевики» не переставали быть жертвами
погромов. И в самом деле, небольшая Румынская коммунистическая
партия состояла в основном из иностранцев и евреев. В 1931 г. из
24 делегатов от коммунистов лишь 9 были этническими румынами.
Шестеро были евреями, четверо венграми, трое украинцами и двое
болгарами (Treptow et al., 1996: 422). Большая часть евреев с юга
обосновалась в столице, остальные почти все расселились в южной
Молдавии, где доминировали в частном секторе — их ненавидели за
«богатство и эксплуатацию». Омадьяренные евреи Трансильвании
считались не только экономическими конкурентами, но и пособниками венгерских врагов (под этими лозунгами прошли первые студенческие антисемитские выступления в 1920-х гг.). Эти противоречивые
обвинения объединял единый страх. Евреи были антинациональны
сразу в двух смыслах: во-первых, они служили иноземным врагам Румынии, во-вторых, будучи капиталистами и большевиками (неважно,
кем конкретно), разжигали классовые конфликты и разобщали нацию.
Антисемитизм имел под собой и традиционно религиозную почву:
евреи «распяли Христа» и «пили кровь христианских младенцев».
«Румынский антисемитизм был едва ли не основой национализма,
в националистической среде евреи считались инородным телом,
угрожающим единству и даже самому существованию румынского
народа» (Ianciu, 1996: 318). Чем сильнее становился национализм,
тем стремительнее менялся характер антисемитизма — из бытовой
фобии он превращался в политическую идеологему, от которой до
фашизма рукой было подать.
Антисемитизм Легиона выделялся из общей антисемитской
волны тем, что идеально вписывался в его христианско-фашистское
видение государства, нацеленное на провокационное вооруженное
насилие и в конечном счете на мятеж. Крайник, известный теоретик
движения легионеров, выдвинул идею этнократического государства, опирающегося на «румынскую почву, кровь, дух и веру». Такое
государство стоит выше демократического государства, которое суть
не что иное, как «регистрационная палата» для подсчета населения
«без учета его расовых и религиозных различий». Евреев он выделял
особо, как «неизбывную угрозу существованию любого национального
государства», однако добавлял, что «всякий неассимилированный
инородец, вовлеченный в государственную деятельность, является
Идеология «Легиона Михаила архангела»
387
элементом нестабильности и хаоса... перед Румынией стоит жизненная
необходимость создать исключительно этнократическое государство».
Поэтому он призывал к очищению румынского общества от чуждых
элементов. Другой интеллектуал-легионер, Баня, добавлял: «Евреев
следует преследовать не за расовую и религиозную чужеродность,
но лишь за ту опасность, которую они несут государству». Да и сам
Кодряну призывал к жесткой обороне против «еврейского наступления и просачивания». «Из крысиных еврейских нор в больших
городах расползается зараза карикатурной еврейской культуры».
Надо «выжечь это осиное гнездо», это будет лишь «актом милосердия». Теоретики не стеснялись в выражениях, призывая к чисткам
и особенно к депортации: «Евреев — в Палестину!» Во время Второй
мировой войны посольство правительства Виши в Бухаресте сообщало в Париж, что антисемитизм Легиона носит крайние формы и более
жесток, чем антисемитизм в Германии, и что Кодряну выступал и за
уничтожение евреев, и за их депортацию. Но лишь после начала войны
(после смерти Кодряну) от угрожающей антисемитской риторики
Легион перешел к действиям. Эта нравственная деградация описана
в следующем томе моей книги42.
Таковы были вариации румынского Легиона на стандартные
темы фашизма в Центральной и Восточной Европе: «очистительный» национализм и антисемитизм, потуги уничтожить классовые
и межпартийные конфликты, парамилитарный элитизм и стремление
к авторитарному государству. Однако румынский фашизм нес в себе
и три отличительные черты. Во-первых, его внешняя политика была
миролюбивой, поскольку Румыния поглотила столько территорий,
что едва могла их переварить. По этой же причине он не делал акцента
на этатизме. Во-вторых, он был религиозным, морально-реформаторским, презрительно относящимся к материальной стороне жизни.
Сейчас нам трудно воспринять его иррациональность, отрицание
политической программы, прославление «румынской души», расплывчатые лозунги, любовь к пению, «доктрину действия», сочетание
42
Основными источниками мне служат автобиографии двух лидеров Легиона:
Sima, 1967; Codreanu, 1990; см. также: Weber, 1964: 165168; Webster, 1986;
Fischer-Galati, 1989; Veiga, 1989: 128–138; Ioanid, 1990: 60, 116–131; Volovici,
1991: 93–96; Niessen, 1995: 275; Ianciu, 1996: 201–205; 1998: 14–17, 72.
388
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
морализаторства и насилия. Ритуализованные массовые действа дарили легионерам ощущение эмоционального единства, родства, часто
даже готовности к мученичеству. В-третьих, румынский фашизм был
отмечен печатью пролетарского национализма: в образе врага высту
пали классовые эксплуататоры, внутренние и внешние, а во главе
пятой колонны, естественно, шли евреи. Почему эти идеи укоренились
именно в Румынии? Вначале поговорим о самих легионерах, а потом
выясним, кто был их благодарной аудиторией.
КЕМ БЫЛИ ЛЕГИОНЕРЫ?
Как и в других случаях, румынские фашисты в подавляющ ем
большинстве были молодыми мужчинами. Британский дипломат
передает то, что говорили о себе сами фашисты: их движение «поглотило» молодежь страны. Вебер говорит о «крестовом походе
подростков» (Weber, 1966b: 514, 519; Sturdza, 1968: 102; Vago, 1975;
1987: 286–297). Легион сложился в университетской среде — и далее
вербовал в свои ряды в основном студентов и даже школьников.
Кодряну вспоминал, что, когда легионеры совершали свои походы,
вокруг предводителя ехали верхом молодые мужчины в возрасте
25–30 лет, за кавалькадой пешим порядком шли еще более молодые
студенты — фашистская пехота. Были здесь и молодые военные,
хоть и не в таком количестве, как в Венгрии. Руководители движения были моложе, чем в других политических партиях, еще моложе
были рядовые активисты. Средний возраст легионера как в 1927-м,
так и 1942 г. составлял 27–28 лет. Посольство Виши сообщало, что
во время войны Легион состоял «почти исключительно из молодых людей», а опытных политиков в нем было мало (Ianciu 1998:
72). Кадровый голод объясняется тем, что старая гвардия была
уничтожена, брошена за решетку или выслана из страны в предвоенные годы, некоторые ветераны воевали за Франко в Испании
и там нашли свою смерть.
Молодое поколение легионеров не успело понюхать пороху
во время Первой мировой войны. Сам Кодряну еще мальчишкой
Кем были легионеры?
389
сбежал на фронт, был комиссован за молодостью лет и отправлен
в кадетскую школу. Для него и его сверстников война была чуть ли
не религией — ведь именно тогда румыны впервые за многие годы
получили «крещение кровью». В начале 1920-х националистическая
эйфория захлестнула университеты, где «домашнее» и «фронтовое»
поколения бурно обсуждали национал-этатистские рецепты для исце
ления страны. Краткое затишье наступило, когда к власти пришла
Национальная крестьянская партия, 1930-е г. ознаменовались новым
подъемом легионерского движения вначале на селе, потом в городах,
энтузиастами этой идеи снова стали молодые люди, родившиеся уже
после войны. В ту пору ветеранами движения считались мужчины
30–40 лет, учившие молодых катехизису румынского фашизма, тогда еще наивному, лишенному острых углов реального военного или
парамилитарного насилия.
Объединял Легион и женщин. Три из 34 партийных ячеек на 1934 г.
представляли собой женские группы, так называемые «бастионы»,
и женщины составляли 8 % всех членов партии. В 1936 г. в трудовых лагерях работало 842 легионера, 10 % из них были женщинами
(данные по мужчинам приведены во второй строке табл. 8.1), «дети»
добавили еще 6 %, впрочем, их трудно было назвать работниками. Половина женщин были домохозяйками, вторая половина —
студентками, плюс одна парикмахерша (Heinen, 1986: 385–387).
В руководящий состав партии они не входили, но на фотографиях,
запечатлевших восстание 1941 г., мы видим вооруженных женщин
и даже детей с оружием в руках (Veiga, 1989: 265; Ioanid, 1990: 72).
Участие женщин и детей в реальных боевых действиях является
уникальным событием в истории фашизма. Как в трудовых лагерях,
так и в идеологии Легиона семейные ценности уникальным образом
сочетались с феминистическими идеями. Кодряну провозглашал
своего рода фашистский феминизм: движение было «гарантом равных прав мужчины и женщины» и «защитой румынской семьи». Это
первый элемент в румынском фашизме, который можно расценить
как прогрессивный. Были и другие. Не вполне ясно, откуда пошел
такой взгляд на отношения полов: вероятно, это объясняется тем, что
новорожденная нация была свободна от косных традиций, движение
не имело военного опыта, а мистицизм его, возможно, препятствовал
развитию мужского шовинизма.
390
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
Легион родился в городах, его первыми неофитами стали студенты
и уволенные в запас офицеры: ярко выраженное движение среднего
класса, хотя некоторые исследователи различают в нем и ремесленников. Идеалы Легиона быстро овладели умами интеллектуалов
и начали распространяться среди старшеклассников. В этой среде
укоренились патриархально-народнические идеи:
Перед нашими глазами лежит Румыния больших городов, город
ского комфорта и достатка: это материальная цивилизация Запада, это
станки и машины, это противостояние труда и капитала. Но это не наша
Румыния. У нас есть и другая страна — Румыния деревень, Румыния
румынов, Румыния несокрушимых духовных основ, веками, со времен
Дария, остававшихся неизменными... Нет! Социальное наполнение
нашей эпохи — это не битва между диктатурой и демократией или
буржуазией и пролетариатом, ибо ни те ни другие по большей части
не являются румынскими. Главный спор ведется сейчас между двумя
Румыниями (Ioanid, 1990: 149–150).
Некоторые видные легионеры были сыновьями префектов и полицейских: в уличных беспорядках им частенько доставалось от сослуживцев их отцов. Другие были из семей крестьян, священников
и сельских учителей (Weber, 1966b: 569; Heinen, 1986: 383; Veiga,
1989: гл. 4). Вердери (Verdery, 1983) на основе устных историй предполагает: крестьяне-середняки Трансильвании считали, что старшие
сыновья могут вырваться из замкнутого круга сельской общины
и стать «большими» людьми в городе, лишь получив городское об
разование. Старший сын начинал учиться, младшему доставалась
ферма. Из таких интеллигентов-народников в первом поколении
получались ярко выраженные национал-этатисты, идеализирующие
крестьянство и свои народные корни. В румынских университетах
крестьянское происхождение, близость к почве, к корням было таким
же предметом гордости, как «пролетарская кровь» среди европейских
студентов-радикалов 1960-х. Некоторые молодые румыны, возможно,
даже придумывали себе крестьянскую родословную. Такая почва была
благоприятна для произрастания крестьянского фашизма.
У первого поколения фашистов не было трудностей в карьерном
росте, однако многие по-прежнему объясняют ранний фашизм «перепроизводством» среднего класса. Утверждается, что закончившаяся
Кем были легионеры?
391
война выплеснула на рынок занятости огромное количество демобилизованных солдат, что выпускники университетов не могли найти
себе достойную работу. Диплом не стоил и гроша — и в 1921–1932 гг.
его получили якобы лишь 8 % студентов (с трудом могу в это поверить). Обломки этих житейских кораблекрушений, люди, не нашедшие места в жизни, становились фашистами (Weber, 1966b: 514; Barbu,
1980; Vago, 1987: 286). Все это вызывает у меня большие сомнения.
После войны Румыния вдвое увеличила свою территорию. Венгры,
австрийцы, немцы, русские, болгары, в их числе госслужащие и офицеры, массово покидали страну. Карьерным перспективам в госсекторе для образованных румын могла бы позавидовать любая страна
Европы. Даже если студенты бросали учебу, не получив диплома, они
легко могли найти себе работу (Vago, 1987: 287). Сокращать зарплаты
и выводить сотрудников за штат в раздутом управленческом аппарате
начали лишь при Великой депрессии. Ситуация с занятостью ощутимо
улучшилась в 1935 г., что совпало по времени с бурным развитием
фашизма. Современники отзывались о фашистах как о «лучших
людях поколения», а не как о люмпен-буржуазии. Польский вицеконсул, вспоминая жестокие преследования Легиона в 1938 г., сожалеет о результатах: «Движение лишилось своих вождей — студентов,
идеалистически настроенной молодежи, интеллектуальной элиты»
(Watts, 1993: 186).
Тезис о «перепроизводстве мозгов» выглядит еще более сомнительным, если сравнить Венгрию с ее острейшей безработицей среди
среднего класса и Румынию, где дела обстояли прямо противоположным образом. Однако и в той и в другой стране опорой фашизма
стали студенты и государственные служащие. Этот факт делает
беспочвенным утверждение, что фашизм был реакцией среднего
класса на материальные и карьерные трудности. Интеллектуальная
и управленческая элита шла в фашизм при любых обстоятельствах.
Фашизм был модной и привлекательной идеологией, он обещал
решить главные проблемы современного общества. Роль мессии
и спасителя была отведена сильному государству-нации, именно поэтому фашизм так горячо встретили те, кто находился в самом сердце
этого государства-нации. В Румынии его базисом могло быть лишь
крестьянство, и новой элитой часто становились выходцы из крестьян — соответствующий характер приобрел и румынский фашизм.
392
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
Крестьяне-почвенники воспринимали его не как скоротечную моду,
а как явление, вполне согласующееся с их социальным опытом.
Офицеры тоже не были обижены. Демобилизация затронула
румынскую армию куда в меньшей степени, чем армии других государств (Румыния не могла себе позволить массовой демобилизации,
потому что находилась в кольце стран, жаждавших вернуть себе утраченные территории). Нет никаких сведений о толпах неприкаянных
демобилизованных солдат (что было в послевоенных Германии или
Венгрии). Бывшие офицеры стали участниками фашистского движения на его ранней стадии, но в 1930-е образумились и отошли от
него. Среди легионеров было не слишком много солдат. Позже, когда
Румыния почуяла дыхание новой войны, когда король Кароль утратил
популярность, а Венгрия, Германия и Россия начали приглядываться
к румынским территориям, начался новый откат военных вправо.
В Легионе, во всяком случае официально, солдат практически не было,
но правительство военного времени все же не доверяло ни рядовым,
ни офицерам, считая их зараженными фашистской идеологией (Vago,
1987: 300; Watts, 1993: 242, 284, 296). Когда в 1940 г. Легион вошел
в правительство Кароля, два генерала-легионера стали членами кабинета министров. Фашизм привлекал военных, а милитаризм — фашистов. Кодряну основал Легион, памятуя о романтических днях своей
военной службы: «Порядок, дисциплина, подчинение вошли в мою
плоть и кровь в самые ранние годы молодости, понятие о солдатской
чести стало главной ценностью моей жизни». Другой легионер писал:
«Да, военная диктатура! Она жива в крови каждого румына, диктатура
солдатской дисциплины и доблести, диктатура героического духа»
(Ioanid, 1990: 134, 114). Как и повсюду, в фашизм уходили не офицеры,
лишившиеся карьеры, а вся военная каста.
У нас есть некоторая информация о фашистских руководящих
кадрах 1930-х. Половина руководителей Легиона по списку 1937 г.
были уволенными в запас офицерами (офицеры на действительной
службе не могли открыто заявить о своей принадлежности к этой
организации), вторая половина представляла разные профессии
среднего класса. Только в этом списке, в виде исключения, появляются
представители класса имущих — один промышленник и один банкир.
В последующие годы в Легион вступали учителя и преподаватели,
православные священники и юристы. Парламентские кандидаты от
Кем были легионеры?
393
«Железной гвардии» в 1937 г. на 98 % были квалифицированными
специалистами, из них священники — 33 % и учителя — 31 %. В других
партиях социальный состав оставался традиционным: 40 % членов
парламента были юристами и 18 % — крупными землевладельцами
(Ioanid, 1990: 39, 70–72). В первой строке табл. 8.1 представлен список
руководителей Легиона, судимых в 1934 г. по обвинению в убийстве
бывшего премьер-министра. Почти треть была студентами, четверть —
государственными служащими (половина из них — учителя), остальные — журналистами, священниками и офицерами.
Основой Легиона был средний класс, но с определенной спецификой. В организацию вступило множество священников, привлеченных
религиозным характером этого движения (Nagy-Talavera, 1970: 287).
Священники фигурируют почти во всех списках легионеров, особенно
в сельской местности. Теперь Румынская православная церковь стала
государственной, однако в ХIХ веке она была голосом угнетенной
нации, неудивительно, что потом она начала проповедовать пролетарский национализм — в том числе с элементами антисемитизма.
Сам Патриарх так выразил эти настроения:
Большинство евреев... живет безбедно, ведь они завладели всеми
богатствами нашей страны, торговлей, недвижимостью, городами
и так далее. В них видна гордыня и надменность, они сеют плевелы социальной коррупции и другие беды; им служат продажные газетчики,
вступив в сговор с темными силами, они тщатся умертвить самою душу
румынского народа. Множество евреев хлынуло к нам потоком во время войны и после нее, теперь они угрожают самому существованию
Румынии и православной веры. Думы о несчастной судьбе румын, из
которых они выпили все соки, омрачают наши сердца. Защита нации —
это патриотический долг гражданина, а вовсе не антисемитизм.
Патриарх предлагал провести насильственную депортацию и переселить евреев в Африку, Австралию, Азию или «на какой-нибудь
остров» (Vago, 1975: 235).
Кодряну утверждает, что вначале большая часть священничества
была настроена враждебно, ближе к середине 1930-х церковь стала более
благосклонна к легионерам, их допускали в приходы, освящали знамена
и парады (Vago, 1975: 209; Veiga, 1989: 264; Ioanid, 1990: 71, 139–148).
В составе партии было также много юристов. В разбухшей адвокатуре
394
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
шла грызня за место под солнцем, легионеры же предлагали очистить
эту профессию от еврейского засилья. Примерно половина всех юристов,
вступивших в Легион, работала в государственных структурах, и это
была самая значительная профессиональная группа в среднем классе,
воспринявшая фашизм как свою идеологию. Как и в других странах,
государственным служащим было запрещено членство в фашистских
организациях, но в Румынии этот запрет мало кого останавливал. Целая
сеть «тайных членов» в магистратурах и отделениях полиции по всей
стране оказывала содействие Легиону. Государство переживало болезненный раскол — Румыния была еще одной дуалистической страной
(Veiga, 1989: 125–126). Британское посольство сообщало, что судебная
власть и полиция содействовали Легиону все 1930-е годы (Vago, 1975:
181, 191, 209). Не материальные тяготы, а иные соображения вели
к фашизму чиновников и госслужащих.
Хайнен (Heinen, 1986: 458) считает, что костяк Легиона состоял из
«государственно ориентированной страты среднего класса». Шугар
(Sugar, 1971: 150–153) подчеркивает роль военных, чиновничества,
учителей, университетской профессуры и церкви во всех «фашистских наследниках Габсбургского государства». Он указывает на
тесную связь между фашизмом и «раздутой» бюрократической системой, ультранационалистической системой образования, «корпора
тивно-христианской» церковью и ветеранами войны. Такая несущая
конструкция характерна для всех фашистских режимов Европы, но
более всего для Румынии. Госслужащие, учителя государственных
школ и половина юристов составляли от 25 до 50 % списочного состава
Легиона, за исключением низового звена, участвовавшего в мятеже
1941 г. (об этом ниже). Государственное чиновничество составляло не
более 10 % активного населения Румынии. В Легионе же, напротив,
было крайне мало представителей промышленной буржуазии или
мелкой буржуазии: владельцев предприятий, менеджеров, управленцев из частного бизнеса и мелких торговцев (за исключением
небольшого числа ремесленников). В очередной раз мы приходим
к выводу, что фашизм вырастал из государства, а не из свободного
предпринимательства.
Широкую поддержку оказали фашистам румынские интеллек
туалы. Расовый антисемитизм был уже распространен среди интеллигенции, считавшей евреев и румын полярной противоположностью.
Кем были легионеры?
395
Румынские «производительные классы» противопоставлялись
«низменному торгашеству», где окопался «ростовщический» и «космополитический» еврейский капитал. Решение казалось очевидным —
Румынию следовало «освободить» или «очистить» от еврейского ярма.
Легион воспринял эти идеи, поместив их в более широкий контекст
национальной борьбы против советского коммунизма и западной
эксплуатации. Как и в других странах, румынские фашисты быстро
овладели современными технологиями пропаганды. Символы враждебного иудаизма располагались у них строго иерархично: «вначале
шел раввин, оккультная сила, за ним банкир и, наконец, журналист»
(Volovici, 1991: 66).
По мере своего распространения фашизм завоевывал все большие
симпатии творческой элиты. Михай Манойлеску был одним из самых
выдающихся экономистов своего времени. Отпрыск состоятельной
семьи, он занимал должности директора Национального банка
и министра промышленности Румынии в нескольких межвоенных
кабинетах. Начав как либерал, он разработал национальную политику импортозамещения и таможенных тарифов, изложенную в его
книге «Теория протекционизма и международной торговли» (1931).
В 1933 г. он стал одним из основателей Национальной корпоративистской лиги и обосновал идеологию новой партии в работе «Век
корпоративизма» (1934). Он прославился высказыванием: «Гос
подствующей идеей ХХ века станет корпоративизм, как в XIX веке
либерализм. XIX век прошел под знаком экономической солидарности классов, ХХ век будет ознаменован экономической соли
дарностью наций». (Довольно упрощенная интерпретация, которую
сейчас повторяют многие социологи.) Опираясь на идеи немецких
и итальянских правых, Манойлеску утверждал, что обездоленные
нации европейской периферии устремятся к свободе и прогрессу,
вооружившись государственным «чистым и интегральным» корпоративизмом, «осмысленным социальным планированием», с помощью
которого можно будет урегулировать все общественные конфликты.
Так возникнет то, что он называл «социализмом наций». «Надуманные и преходящие» классовые противоречия XIX века будут сняты
через националистическое переосмысление моральных и социальных
ценностей. Корпоративизм вберет в себя все «духовные, моральные
и материальные силы нации».
396
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
Манойлеску продолжал смещаться вправо, как и его немно
гочисленная партия. В 1936 г. в своей книге «Единая партия» он отошел от прежней достаточно невинной интерпретации корпоративизма.
Теперь корпоративизм «нужно удерживать твердой рукой... единой
партии», «в силу биологической необходимости мы упорядочиваем
свою жизнь во всех ее проявлениях, столь же упорядоченной и подчиненной единой воле должна стать и общественная жизнь». Теперь
Манойлеску цитирует Альфреда Розенберга и Карла Шмитта (уже
ставшего нацистом), он ссылается на Муссолини, Гитлера, Геббельса
и Салазара. Мы не знаем, вступил ли Манойлеску в Легион или нет,
но в том, что он его поддерживал, сомнений нет. В 1940 г. он стал
приверженцем «нового традиционализма» и «возврата к исконным
корням»: «Подчинение, единство и любовь среди единокровных
братьев» приведет их к новой эре «тоталитарного национализма».
Он предложил румынизировать финансы и капитал, чтобы освободиться от «еврейского засилья» (Volovici, 1991: 159–162; Heinen,
1986: 180–182)43. Так он стал фашистом. Его отношения с Легионом
какое-то время оставались неопределенными, ведь, будучи министром
иностранных дел, он нес на себе позор договора 1940 г., по которому
Гитлер забрал у Румынии почти все ее территориальные приобретения 1918 г. Но в начале 1941 г. Рубикон был перейден — Манойлеску
вошел в правительство легионеров в качестве главы Генерального
экономического штаба (Ianciu, 1998: 108).
Наиболее выдающимся румынским интеллектуалом был Мирча
Элиаде, теоретик сравнительного религиоведения (позже он достиг
замечательных успехов в США). В 1934 г. он ратовал за «румынианизм», «как стремление к органическому, унитарному, этническому
и сбалансированному государству». В 1936 г. теоретик стал гораздо
менее сбалансированным: «Нам нужна националистическая Румыния, яростная и шовинистическая, вооруженная и непримиримая,
беспощадная и непреклонная». В следующем году он опубликовал
статью «Почему я верю в победу легионерского движения»:
43
Шмиттер (Schmitter, 1974: 117–123) всецело полагается на Манойлеску
и его блестящий анализ теорий корпоративизма, позаимствовав у Манойлеску заглавие. Однако он тактично умалчивает о фашистских и антисемитских воззрениях Манойлеску.
Кем были легионеры?
397
В то время как целью всех современных революций является захват
власти социальным классом или личностью, высшей целью революции
Легиона является, как сказал Капитан, спасение всего народа, примирение всех румын с Господом. Сокровенный смысл движения не только
в том, что оно воскрешает утраченные добродетели дорогой нашему
сердцу Румынии, но и в том, что оно создает нового человека, созвучного
новому характеру жизни в Европе (Volovici, 1991: 85).
После оккупации Польши Германией в 1939-м его знакомый записал в дневнике: «Мирча стал германофилом, франкофобом и антисемитом, как никогда ранее. Про Румынию он говорит: “Лучше стать
немецким протекторатом, чем жидовской синагогой”» (Ianciu, 1998:
17). Многочисленные поклонники Элиаде на Западе тактично обходят
молчанием его фашистские убеждения.
Эмиль Чоран, культовый румынский писатель, был еще более
радикален. На его взгляды нацизм повлиял очень сильно:
Враждебность к чужакам настолько характерна для румынского национального чувства, что вошла в плоть и кровь нашего народа. Главное
в его национальной идентичности — это не гордость за родину, не воспоминания о днях славы... (как у французов), но отвращение к иноземцам;
это слово стало у нас чуть ли не проклятием, в нем откристаллизовалась
многовековая народная ненависть. Под гнетом иноземцев мы прожили
более тысячи лет, нам не надо другого чувства, кроме ненависти и желания уничтожить их, это наш национальный инстинкт.
Назрела «национальная революция», кровавая очистительная
буря, которую призывал Чоран:
...высвобождение иррациональных сил, фанатизма и насилия, имперская
национальная судьба. Все средства законны, когда народ прокладывает
себе дорогу в мире. Террор, преступления, жестокость и вероломство
отвратительны и аморальны только во времена разложения, когда защищают пустоту; если же эти чувства служат возрождению нации, они
становятся добродетелями. Все победы — нравственны. Румынии нужна
экзальтация, достигающая фанатизма... Этот дух фанатизма преобразит
страну (Volovici, 1991: 128).
398
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
Судя по всему, в Румынии фашизм овладел умами интеллектуалов,
как ни в какой другой стране. Он унаследовал некоторые черты «Поколения 1922 года», творческого союза молодых интеллектуалов,
многие из которых прославились как выдающиеся писатели и ученые.
Двое из них — Элиаде и Чоран — стали убежденными фашистами.
Еще двое не примкнули к движению и оставили нам воспоминания
о том, как происходила эта метаморфоза с их друзьями. Михаил Себастьян, не присоединившийся к своим собратьям, потому что был
евреем, описывает ее как «религиозное обращение». Эжен Ионеско
остался в стороне, потому что по своему культурному коду был скорее
французом, чем румыном. В знаменитой драме «Носороги» (1960)
он вывел своих бывших друзей, не упоминая ничего о фашизме или
Румынии. Жители маленького французского городка превращаются
в носорогов. Сюрреалистический гротеск пьесы в том, что люди сами
хотят превратиться в зверей, чтобы никак не выделяться из общего
стада. Своему желанию слиться с толпой они находят самое банальное
объяснение: «Мы должны идти в ногу со временем!» В 1970 г. Ионеско
признал, что его сатира была направлена против бывших соратников:
«Профессора, студенты, интеллектуалы становились нацистами...
один из наших друзей говорил: “Я не с ними, но в чем-то правы и они,
например, в отношении к еврейской проблеме”. Для него это стало
началом конца. Через три недели или через два месяца этот человек
стал нацистом. Он слился с толпой, он со всем согласился, он стал
носорогом» (Ianciu, 1998: 14–17). В наши времена бессмысленные
лозунги по-прежнему определяют политику, с той лишь разницей, что
они стали не правыми, а центристскими — «Мост в XXI век» Билла
Клинтона, «Новая Европа» Тони Блэра. Фашисты предвоенного
периода были не меньшими мастерами политического словоблудия.
В 1934–1937 гг. Легион приобрел лоск респектабельности. Он привлек к себе таких общественных деятелей, как дипломат князь Михай
Стурдза и генерал Георге Кантакузино-Граничерул. Началась постепенная фашизация румынского правительства, попытки румынизации
экономики с помощью установления квот трудовой занятости для
евреев и других «чужаков». Даже Национальная крестьянская партия
начала консультации с Легионом по выработке общей национальной
стратегии. Ее лидер Юлиу Маниу выступил свидетелем защиты на
процессе Кодряну в 1938 г. Маниу был очень влиятельным политиком,
Кем были легионеры?
399
его поддержка дала мощный толчок правящим кругам, которые начали
переосмысливать свое отношение к фашизму: подавляя фашистов как
таковых, они брали на вооружение фашистские идеи.
Легион становился все более популистским. Большое значение
приобрели так называемые «хождения в народ» (карта 8.2). Преемник Кодряну, учитель литературы из пограничной провинции Банат
Хоря Сима, описывает в своих мемуарах, как это происходило (Sima,
1967: 33, 199–205). Братания с народом проходили в самом сердце
крестьянской страны. Занять более-менее весомое положение в иерархии Легиона можно было, лишь совершив «хождение в народ».
Так Легион укреплял свои позиции среди румынского крестьянства.
Легионеры добровольно и безвозмездно занимались общественными
работами в сельской местности. В довоенной Центральной Европе
такая деятельность была широко распространена. Патриотически
настроенная городская молодежь уезжала в деревню ремонтировать
дороги, школы, церкви. Легионеры сумели поставить этот прекраснодушный идеализм на службу своему движению. В их сельских
лагерях работали студенты, специалисты, люди среднего класса
с трудовыми навыками. Например, в строительстве одной церкви
участвовало 636 человек, из них 69 % были местными крестьянами,
11 % — рабочими, 8 % — ремесленниками, 5 % — студентами и 4 % —
служащими44. В другом трудовом лагере почти все добровольцы
были студентами, специалистами и рабочими. В табл. 8.1, строка 2,
приведены данные по другому большому трудовому лагерю. Здесь
треть работавших была студентами и четверть госслужащими, среди
прочих были крестьяне, рабочие и специалисты. Местные жители своими глазами видели огромную разницу между местным продажным
чиновничеством и бескорыстным энтузиазмом городской молодежи.
То, что вначале казалось идеалистическими бреднями, стало реальным
делом. Фашисты творили добрые дела и искренне этому радовались.
К своей миссии они относились очень серьезно.
Второе «хождение в народ» произошло в 1936–1937 гг. под девизом «Сольемся с рабочими!». Центр внимания был перенесен на
44
По умолчанию данные по легионерским группам взяты из работ (Heinen,
1986: 384–389) и (Veiga, 1989: 165–166, 262–266). В настоящий момент
таких данных нет ни в одном англоязычном источнике.
400
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
городской рабочий класс. Румынские социалисты были слабы. Их
максимальный успех на национальных выборах — это 6 % голосов
в 1931 г., после чего их влияние пошло на спад. Румыны подозревали социалистов в связях с евреями и Коминтерном, который
поддерживал притязания большевистской России на Бессарабию.
Фашисты сумели подчинить себе часть бывшего социалистического электората. Как и в Венгрии, социалисты уступили фашистам
даже свои главные бастионы — пролетарские гетто (данные очень
отрывочны). В 1938 г. Бухарестский рабочий легион насчитывал
8 тысяч человек, из которых 3 тысячи состояли в «эскадроне
смерти». Предполагают (хотя я не нашел никакой конкретики), что
большинство этих легионеров пришли из военной промышленности
и транспорта (такси, трамваи, железные дороги) и что в основном
это были рабочие крестьянского происхождения, недавно осевшие
в городах (Weber, 1966a: 548–549; Heinen, 1986: 395–396; Vago, 1987:
309; Ioanid, 1990: 71, 169).
Пролетарский фашизм обостренно воспринимал как врагов евреев
и инородцев. Дориан (Dorian, 1982: 126) считает, что вскоре их могло
постигнуть разочарование:
Рабочие и крестьяне сомкнулись с фашистами в надежде на то,
что их чаяния осуществятся, когда капитализм рухнет. Они не знали,
что под словом «эксплуататоры» «Железная Гвардия» подразумевает
лишь... евреев.
Некоторые коммунистические историки утверждают, что Легион был вскормлен капиталистами, но поверить этому невозможно.
Большинство крупных предпринимателей в Румынии были евреями
или иностранцами. Легион получал деньги от Германии (но меньше,
чем их антисемитские и протофашистские конкуренты из Лиги
национальной христианской защиты) и местного прогерманского
бизнеса. Им оказывали поддержку и внутренние политические силы, включая короля Кароля, который пытался использовать Легион
в своих интересах. Но основные средства Легион все же получал
от своих преданных членов (Heinen, 1986: 337–341; Watts, 1993).
Корпоративистская риторика о классовой гармонии могла бы привлечь крупный капитал, если бы он чувствовал угрозу со стороны
Кто голосовал за легион: национал-государственники
401
социалистов, но таковой не было, поэтому правящие элиты сделали
ставку на консервативный авторитаризм. В течение своей короткой,
но бурной жизни Легион был вначале использован, а потом разгромлен правящей элитой, которая хорошо усвоила уроки переворотов,
совершенных Муссолини и Гитлером.
КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЛЕГИОН:
НАЦИОНАЛ-ГОСУДАРСТВЕННИКИ
На выборах 1937 г. Легион сформировал избирательный блок «Все
для Родины». Он вошел в тактический альянс с либералами и коммунистами, не имевшими парламентского представительства. Вместе
они объявили войну коррупции, которую убедительно персонифицировал «развратный» монарх Кароль. Его связи с нечистой на руку
придворной камарильей и еврейской любовницей ни для кого не
были секретом. По воспоминаниям Сима, Кодряну называл тогда
главными эксплуататорами трудового народа, во-первых, коммунистов, во-вторых, евреев и, наконец, «нечистоплотных политиков»
(Sima, 1967: 44). Легион умел вести избирательные кампании вполне
в современном духе. Разоблачительные карикатуры изображали
коммунистов, евреев и политиканов в образе драконов, чудовищ,
чертей, пауков. Их карал архангел Михаил, которому художники
придавали внешнее сходство с красавцем Кодряну. Вот как звучал
один из легионерских маршей:
Родина взывает к нам: «О братья-христиане!
Пора изгнать из страны паразитов,
Пора очистить дворцы от порока,
Пора избавиться от жидов,
Расхищающих наше достояние»
(Volovici 1991: 174–175).
Обратите внимание на связь между религией и классово-этни
ческой эксплуатацией.
402
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
Такой подход себя оправдывал. Стурдза (Sturdza, 1968: 103) объяснял успех своей партии на выборах 1937 г. идеализмом легионеров,
их обещанием очистить страну от коррупции и грязи:
Они входили в села маршевой колонной, выстраивались у церкви,
преклоняли колени и молились, затем вставали на ноги и пели. Крестьяне смотрели на молодых бойцов с любовью и восхищением: ведь они
не пытались заморочить им головы напыщенной болтовней профессиональных политиков, они истово молились и пели песни о мужестве
и вере, так понятные простым людям.
Возможно, Стурдза впадает в некоторое самолюбование; но в любом случае, такое «явление народу» имело сильный эффект. Легионеры жили спартанской жизнью, они были неподкупны, их часто
била полиция, они призывали к милосердию и к борьбе с угнетателями. Главной причиной не голосовать за них, пожалуй, была их
наивность, отсутствие политического опыта и влияния. Легион не
опирался на могущественные политические силы, он не был частью
коррумпированной административной системы. А у коррупции есть
свои политические преимущества.
Кто поддерживал Легион? Отвечая на этот вопрос, мы опираемся
в основном на веберовский статистический анализ голосования по
различным избирательным округам Румынии (Barbu, 1980; Veiga,
1989: 105–121; Ioanid, 1990: 64). Вебер обращает внимание на то,
что легионеры «ходили в народ» в беднейших районах страны, где
исторически существовали «свободные деревни» и относительно
независимая крестьянская община. Именно там румынские фашисты получали основную поддержку — в самых нищих и отсталых
провинциях. Хайнен (Heinen, 1986: 403–414), опираясь на более
полные данные, приходит к противоположному выводу: наличествует
положительная корреляция между числом отданных голосов и грамотностью (доля 0,27) и между числом отданных голосов и собственностью (доля 0,22) и отрицательная корреляция с уровнем детской
смертности (доля –0,19). Он также отмечает, что легионерам сопутствовал успех в 11 из 22 наиболее промышленно развитых округах
и в 10 из 20 округов, где была сильно развита лесообрабатывающая
промышленность. В конечном счете, считает ученый, Легион нашел
Кто голосовал за легион: национал-государственники
403
сторонников именно в социально и экономически успешных районах
страны. Гораздо большей поддержкой в отсталых крестьянских районах пользовался главный соперник Легиона — Национальная христианская партия (авторитарно-националистическая, антисемитская,
но не фашистская). Легион первоначально набрал силу в наиболее
развитых аграрных районах, где он отвоевал голоса избирателей
у предшественников Национальной христианской партии — Лиги
национальной христианской защиты и других антисемитских партий. Но Хайнен не находит связи между электоральной поддержкой
фашистов и плотностью населения или сетью автомобильных дорог. Соотношение между фашизмом и уровнем развития региона
прослеживается, но слабо.
Чтобы лучше понять социальную базу голосовавших за фашистов,
обратимся к карте 8.2. Сторонники фашистов были сосредоточены
в трех региональных кластерах. Первый находился в центре и на
севере: Буковина (граничащая с Польшей) голосовала за Легион,
как и сопредельные округа в северной Молдавии, Трансильвании
и Марамуреш. В тех же районах нашла себе опору и Лига нацио
нальной христианской защиты, когда Кодряну еще был членом
этой партии. Все десять парламентских депутатов от этой партии на
выборах 1926 г. (включая отца Кодряну) баллотировались от этих
округов. Второй кластер лежал к западу от центра и включал в себя
часть Баната, Крисана-Марамуреш и западную часть Трансильвании.
Третий кластер располагался на юго-востоке, захватывая юго-восточную часть Молдавии и северо-восточную Мунтению, туда же входил
и столичный Бухарест (22 % голосов за Легион). Северные районы
кластера дружно поддержали легионеров на их первых выборах
1931 и 1932 гг. (Codreanu, 1990: 299, 321). Отдельных округов, где
бы Легион пользовался особым успехом, не было — они смыкались
в кластеры.
Очертания кластеров следовали историческим границам провинций, что в какой-то мере опровергает линейную корреляцию по
уровню развития, предложенную Хайненом (то же мы наблюдаем
и в случае с Испанией в следующей главе). Экономическая мотивация, по Хайнену, справедлива лишь в случае с двумя провинциями
и Бухарестом. Действительно, Легион набрал рекордное количество
голосов (24 %) в процветающей Буковине и промышленно разви-
404
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
том Бухаресте. Очень бедная Бессарабия отдала легионерам лишь
5 % голосов. Если не рассматривать эти три совпадения, то корреляция между фашизмом и экономикой перестает быть убедительной.
В 57 оставшихся округах голоса, отданные за фашистов, никак не
коррелируют с потреблением сахара на душу населения, уровнем
детской смертности и занятостью в сельском хозяйстве. Уровень развития не объясняет практически ничего, тут надо учитывать другие
переменные.
Успех Легиона в кластерах можно объяснить структурой этой
организации. У фашистов практически не было доступа к радио
и газетам, они не могли обратиться ко всей нации сразу. Поэтому
им приходилось опираться на сеть первичных ячеек, демонстрации,
«хождение в народ», трудовые лагеря, устную агитацию, листовки.
Когда ячейка разрасталась до 16 человек, она формировала новую
ячейку, затем еще одну, сеть становилась все гуще, постепенно захватывая целый регион. На карте 8.2 показана зависимость результатов
голосования от укорененности фашистских организаций. Активнее
всего голосовали за легионеров там, где они обосновались давно.
Естественно, что они стремились пустить корни там, где находили
добрый прием и понимание.
Судя по карте, восприимчивыми к идеям фашизма оказались этнически смешанные регионы и индустриальные центры (этнические
и экономические показатели взяты из: Institul Central de Statistica,
1939–1940). По-видимому, на первом месте стоит не экономическое
развитие, а именно этнический фактор. Фашистов более остальных
поддерживали этнические румыны и в гораздо меньшей степени
немцы, мадьяры, украинцы, болгары, шеклеры, цыгане и евреи. Где
было мало румын, там было и меньше проголосовавших за фашистов.
Лишь в двух из 19 округов, где румыны составляли менее половины
населения, легионеры смогли набрать чуть больше среднеарифметического числа голосов. Во всех этих 19 округах они получили в среднем
менее половины от среднего числа голосов по всей стране. Тем не
менее в 10 главных бастионах Легиона (25 % и выше) проживало
в среднем 62 % румын, по сравнению с 72 % по всей стране. Таким
образом, Легион успешно набирал голоса в тех округах, где румыны
соседствовали с национальными меньшинствами, которые, по мнению
румынских националистов, им угрожали.
Кто голосовал за легион: национал-государственники
405
КАРТА 8.2. Влияние фашистов в территориальных округах Румынии
Хайнену не удалось найти убедительной корреляции между
успехом на выборах фашистов и числом проживающих евреев.
Евреи жили в основном на севере страны и в Бухаресте. В среднем
они составляли 4 % от населения Румынии. В Трансильвании жило
3 %, в Мунтении — 2 %, меньше 1 % — в Олтении и Добрудже. Зато
в Бухаресте их было 12 %, 11 % — в Буковине и 7 % — в Бессарабии.
В основном это были городские евреи: 14 % населения румынских
городов, 30 % городов Буковины, 27 % Бессарабии, 23 % Молдавии
(в основном на севере), 12 % в Бухаресте и 10 % в городах Тран
сильвании (тоже на севере). Евреи сосредоточили в своих руках
финансы и торговлю: в Буковине, Бессарабии и некоторых городах
северной Молдавии им принадлежало 70–80 % в этом секторе. Тем
не менее фашистское влияние на севере страны не было подавляющим. Фашисты завладели лишь отдельными провинциями с наибольшим удельным весом евреев — Буковина, Бессарабия, северная
406
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
Молдавия (сильнее всего это чувствовалось в Буковине). На этих
территориях фашизм проявил себя в наиболее радикальной форме,
что тоже неудивительно: традиции антисемитизма укоренились там
давно, включая и погромы. Там жило и много румын (более всего
в Бессарабии). Почему же фашисты были сильны в Буковине и слабы
в Бессарабии и северной Молдавии? Только лишь потому, что они
защищали румын от евреев?
Румынские фашисты безусловно рассматривали всех евреев как
угрозу, но фашизм получил распространение лишь в тех районах, где
«окопался» второй этнический противник: мадьяры в бывших венгерских провинциях и немцы на территории бывшей Австро-Венгерской
империи. Австрийские немцы жили в основном в городах Северной
Буковины, в Араде, провинция Банат, и Нэсэуде на северо-востоке
Трансильвании. В этих городах перемешались немцы и евреи. Румынские националисты агитировали против них крестьян, что приносило
много голосов на выборах.
Ливезяну (Livezeanu, 1995: гл. 2–3) указывает, что начиная с 1918 г.,
объектом ненависти буковинских антисемитов и румынских нацио
налистов стали немцы, некогда хозяева Австро-Венгрии, навязывавшие свой язык местным жителям. После поражения австрийской
армии националисты захватили ключевые посты в местных органах
самоуправления и требовали, чтобы Румыния отказалась вносить
в конституцию права национальных меньшинств (на чем настаивали
победители — страны Антанты). В этом они не преуспели, зато им удалось сохранить контроль над местной администрацией и покончить
с немецким и еврейским «засильем» в государственном образовании.
Образованные специалисты, офицерство, православные священники
развернули широкую кампанию по внедрению румынского языка
в государственные и общественные учреждения. Так сформировалась
традиционная национал-этатистская база фашизма, обращенная
против бывших «угнетателей» — немцев и евреев. Традиционный
антисемитизм слился с новейшим национал-этатизмом, что и стало
питательной средой для новорожденного фашизма. Местные антисемитские движения (Лига национальной христианской защиты
и Национальная христанская партия) спешно присваивали себе
Кто голосовал за легион: национал-государственники
407
идеологию фашизма, чтобы успешнее конкурировать с Легионом
(Vago, 1975: 167).
Но не все немецкоговорящие в Румынии причислялись к врагам
нации. В Трансильвании (где фашистское влияние было незначительным) жили своими деревнями саксонцы, обосновавшиеся там
еще столетия назад. Бок о бок с ними проживало еще одно «неопасное» меньшинство — шеклеры, народ с невыясненным этническим
происхождением. Ни саксонцы, ни шеклеры никак не были связаны
с национальными угнетателями, и румынское большинство относилось к ним вполне миролюбиво. Ни тех ни других невозможно было
обвинить в ирредентизме и угнетении румынского народа. Румынские
националисты считали шеклеров «латентными» румынами, созревшими для ассимиляции. Румыны даже предоставили саксонцам права
автономии в своем неоспоримо румынском централизованном государстве. Местные румынские крестьяне были благодарны саксонцам
еще и потому, что те научили их передовым способам ведения сельского хозяйства (Verdery, 1983; Ronnas, 1984: 127). В этих провинциях
румынский национализм был весьма умеренным, влияние фашистов
было сведено к минимуму. В шеклерских округах, как правило, за Легион не голосовал никто. Саксонцы по мере приближения войны все
более попадали под влияние немецкого нацизма, некоторые вступили
в Легион, а впоследствии и в СС.
Вторая этническая «угроза» исходила от бывшей титульной
нации — венгров. В западной Трансильвании, Марамуреш, Крисана и Банат румыны столетиями были крепостными мадьярских
помещиков. Много мадьяр в этих провинциях поддерживало территориальные претензии соседней Венгрии. Местные румынские
националисты требовали румынизации школьного образования
и унитарного национального государства (Livezeanu, 1995: гл. 4).
Этот конфликт родился еще в XVIII веке, когда Габсбурги пытались
навязать униатскую веру в Трансильвании. Главными центрами сопротивления стали тогда Хунедоара, Альба и Сибиу (Verdery, 1983:
118)45. На карте 8.2 показана высокая степень фашизации этих
провинций. Хайнен обнаружил в Трансильвании отрицательную
45
На территории Румынии данная церковь представлена только в Трансильвании; это результат предпринятой Габсбургами попытки усилить австрий-
408
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
корреляцию между голосовавшими за фашистов и числом униатов
(доля –0,38) — чрезвычайно интересный и исторически объяснимый
феномен. Марамуреш стал свидетелем ранней активности легионеров
и антисемитов — в столице края проживало рекордное число евреев
по всей Трансильвании (Livezeanu, 1995: 290–295). Венгров там было
столько же, сколько и румын. Обратите внимание на незначительную
поддержку фашистов в двух венгерских приграничных районах —
Салахе и Сату-Маре. Евреев там тоже было немного, а румын не более
25 % среди городского населения.
Таким образом, Легион набирал очки на прямой конфронтации
между румынским населением и его двумя этническими соперниками, сосредоточенными в основном в городах, — евреями и венграми,
некогда имперским народом. Сплав национализма и антисемитизма
давал предсказуемый результат — фашизм. Бессарабия не стала территорией фашизма не потому, что там не было евреев и антисемитов
(и тех и других хватало в избытке), а потому что там отсутствовали
другие этнические противники. До Первой мировой Бессарабия была
частью России и вернулась к прежнему хозяину в 1940 г., что вызвало бурю возмущения у румынских националистов. Но бессарабская
буржуазия не была настроена националистически. Большая часть
ее говорила на русском языке, считая румынский языком дикости
и невежества. Естественно, что буржуазная Румыния была для них
ближе, чем Советская Россия, но по классовым, а не национальным
причинам. Немногочисленные коммунисты были большей частью
евреями, что провоцировало антисемитизм. Местная румынская
буржуазия мечтала об автономии и более тесных связях с соседней
Молдавией (исторически это родственные территории), а не о румынском государстве-нации. Национализм бессарабских румын так
и остался в зачаточном состоянии. Они поддерживали антисемитские
партии (Лигу национальной христианской защиты и Национальную
христианскую партию), но не фашистов (Shapiro, 1974: карта 1). Точно
так же обстояли дела и в северной Молдавии. Число проголосовавших
за Лигу и Национальную христианскую партию коррелировалось
с количеством евреев среди местного населения (доля 0,23; в 1933 г. соское влияние в Трансильвании через слияние католической и православной
доктрин.
Кто голосовал за легион: национал-государственники
409
ответственно 0,46). В Бессарабии и на севере Молдавии буржуазия испытывала страх перед Советским Союзом, что навлекало подозрения
и на революционный Легион: ходили слухи, что в него просочилось
много бывших коммунистов. Привлекала или отталкивала именно
целостная фашистская идеология Легиона, а его антисемитизм был
частью общей концепции пролетарского государства-нации.
Впрочем, это могло иметь успех лишь в двух фашистских кластерах
на севере и на западе. В юго-восточном кластере преобладало румынское население. Лишь в округе Ковурлуи проживало много евреев
(почти 10 %), других значительных меньшинств не было. В Тулче
было достаточно много русских и болгар, но мало евреев; в столице,
наоборот, много евреев, но мало других этнических меньшинств.
Второй идеологический пункт — этатизм — был актуален лишь для
Бухареста и других промышленных городов. Более всего была развита промышленность в столице и в Брасове, нефтедобыча была сосредоточена в Прахове. Эти регионы выиграли от государственной
политики импортозамещения и потому поддерживали идею сильной
государственности (Ronnas, 1984: 118–120).
Вебер (Weber, 1966a: 110–111) пишет, что в двух профашистски
настроенных сельских округах (Путна и Ковурлуи) исторически
было много «свободных деревень», в 1930-е они сумели дать отпор
наступлению лесоперерабатывающей промышленности. Легион получил безоговорочную поддержку в этих двух беднейших округах,
а также в округах южной Валахии — Долже, Телеормане и Власке, где
были сильны общинные традиции крестьянского социализма. Евреев
в тех южных районах было мало, поэтому Легион сделал акцент на
другой теме — классовой борьбе неимущего крестьянства с далеким,
но «враждебным» капиталом, что было вариативной формой пролетарского национализма.
Такая оценка успеха фашистов по различным регионам может
оказаться несколько произвольной, учитывая нехватку статистического материала. Румынские округа были большими, в некоторых
из них перемежались разные экономические и этнические условия.
Ни в одном округе Легион не получил более 36 % голосов. Рискованно гадать, какие именно подгруппы голосовали за фашистов,
но логично предположить, что поддержка фашизма не выходила за
пределы какой-либо значительной подгруппы. Тем не менее, исходя
410
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
из своего анализа, я берусь утверждать, что в некоторых районах
страны фашизм поддержали радикальные националисты. Фашисты
приходились ко двору там, где румынские националисты видели
угрозу в евреях и в еще одном национальном меньшинстве. В других
районах страны в фашистах видели защитников сельской бедноты,
или убежденных государственников, или защитников пролетарской
нации от происков внешнего врага. В румынском фашизме отчетливо видна классовая составляющая, однако отразившаяся в кривом
зеркале национал-этатизма.
КОНЕЦ ИГРЫ
Результаты выборов оказались неутешительными и для демократов, и для короля Кароля (Shapiro, 1974). Поворот к фашизму стал
неизбежным, при том, что вся страна неуклонно смещалась вправо,
начиная с 1929 г. Национальная крестьянская партия удержала 20 %
голосов, но она уже не была столь демократичной и мультикультурной, как некогда.
Другие квазидемократические партии и партии этнических меньшинств собрали около 10 % голосов. За полуавторитарный правительственный блок короля Кароля проголосовало 36 % избирателей.
Это был самый крупный политический блок, но и ему не хватило
голосов, чтобы сформировать новое правительство большинства.
Того, что случилось потом, можно было избежать. Кароль мог бы
пойти на уступки либеральным демократам и создать широкую
коалицию. Однако он демократом не был и не собирался им становиться. Поэтому он был вынужден склониться к правым, хотя там
ему пришлось столкнуться с откровенной враждебностью Легиона.
После долгих закулисных переговоров (Кароль даже хотел стать
вождем Легиона!) король предложил возглавить правительство его
сопернице — крайне правой антисемитской Национальной христианской партии (на выборах она получила только 9 % голосов). Монарх
Конец игры
411
надеялся, что при поддержке других правых партий и бывшего правительственного блока ему удастся править страной, как раньше.
Но национал-христиане сблизились в своей программе с Легионом,
правительство заявило о новом прогерманском курсе и о создании
«Румынии для румын». Новое законодательство полностью запретило евреям и другим национальным меньшинствам участвовать
в общественной и профессиональной жизни. Румыния шла по пути
органического национализма, хотя его проявления были пока не
слишком жестокими.
Новое правительство, чувствуя свою неустойчивость, пошло на
контакт с Легионом. Кароль обеспокоился, понимая, какую угрозу
сулит такой альянс лично для него. Он распустил парламент, взял
на себя всю полноту власти и начал сводить счеты с Легионом, который ничем не смог ему ответить. Были арестованы 14 руководителей, включая Кодряну, их обвинили в подстрекательстве к мятежу
и в ноябре 1938 г. тайно казнили. В качестве официальной версии
распространялась нелепая история о ликвидации арестованных при
попытке к бегству. Этот печальный исход показал, насколько неспособны были румынские фашисты к вооруженному сопротивлению.
Отдельные фашисты готовы были убивать евреев и чиновников, но
вся организация действовала открыто и легально и даже участвовала в выборах. Теперь, когда режим превратился в диктатуру, можно
было поменять правила игры и одним ударом смести всю верхушку
Легиона.
Но это не уничтожило сам фашизм. После смерти Кодряну стал
мучеником идеи, иконой для своих соратников. Легионеры ушли
в подполье. В сентябре 1939 г. они приговорили к смерти и убили
премьер-министра, виновного в расправе (это был четвертый среди
действующих или бывших премьеров, уничтоженных легионерами).
В ответ правительство осуществило устрашающую казнь 400 видных
легионеров вместе с членами их семей. Долгое время их трупы висели
на уличных фонарях. О приговоренных мы знаем достаточно много.
Это были высокообразованные специалисты (среди них было много
адвокатов), священники, учителя и другие государственные служащие. Некоторым легионерам удалось бежать в Германию, где их интернировали. Это были в основном студенты, специалисты, служащие
и даже некоторые рабочие (см. строки 2 и 4 табл. 8.1). На эту вторую
412
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
волну репрессий Легион уже ответил организованной, коллективной
и беспощадной вооруженной борьбой.
Кароль создал полуреакционный авторитарный режим с претензиями на корпоративизм и стремлением к внешнеполитическому
нейтралитету. Однако в 1940 г. Румыния оказалась под сильным
давлением Германии. Имея у границ соседей, мечтающих поживиться ее территорией (среди них был и СССР), Румыния нуждалась
в союзе либо с Германией, либо с либеральными странами Европы.
Но Франции больше не существовало, Британия была далеко и сама
могла рухнуть под ударами немцев, и Каролю, хотел он этого или
нет, пришлось вступить в сделку с Гитлером. Экономика страны
начала обслуживать нужды Германии, в самой Румынии появилось
много немецких рабочих, что усилило влияние фашизма, в том
числе и на короля. Кароль создал однопартийный режим «Партии
Нации», привлек в него Легион и ужесточил антиеврейское законодательство (депортации и геноцид евреев описаны в следующем
томе моей книги).
Однако Гитлеру удалось перехитрить Кароля. После подписания
договора между СССР и Германией Румынии пришлось расстаться
с северной Буковиной и Бессарабией в пользу СССР и отдать северную Трансильванию Венгрии. Политика короля потерпела крах.
Генерал Антонеску заставил его отречься от престола и объявил себя
диктатором. Антонеску не был германофилом, но надеялся, что после победы в войне Гитлер вернет ему Трансильванию. Сам генерал
был малоизвестен, и Гитлер, плохо зная его, ему не доверял. Какое-то
время диктатор делился властью с фашистами. Хоря Сима, новый
вождь Легиона и друг Гиммлера, был назначен вице-президентом
государственного совета. Легион взял под контроль пять министерств
и 45 из 46 региональных префектур. Нам известен послужной список
40 префектов. 19 из них работали в гражданской адвокатуре, 12 были университетскими преподавателями, шестеро офицерами и трое
оставшихся — государственными служащими (Ioanid, 1990: 201–202).
Легион продолжал привлекать к себе молодых и образованных неофитов: в 1941 г. в нем числилось 18 тысяч человек с законченным
средним образованием и 1100 учителей. Особо приветствовались
такие кандидаты, как учащиеся коммерческих и профессиональнотехнических училищ. После окончательного разгрома коммунисти-
Конец игры
413
ческой партии Легион втянул в себя многих рабочих. Рабочие отряды
Легиона активно действовали на предприятиях и организовали
как минимум одну крупную забастовку шахтеров (Ioanid, 1990: 72;
Hitchins, 1994: 461).
О генерале Антонеску часто говорят как о фашисте. Но, судя по
предшествующей его биографии, он был не более чем успешным
офицером, честным, жестким и яро ненавидящим коммунистов. Формально он возглавил корпоративистско-авторитарное правительство,
но продолжал поддерживать традиционные гражданские институции,
а не «новый порядок» (Watts, 1993: 275). Это был полуреакционный
авторитарист, нахватавшийся фашистских и корпоративистских
идей, чтобы идти «в ногу со временем». Главное, что объединяло его
с фашистами, был примитивный национализм, ярко прозвучавший
в обращении к Совету министров в апреле 1941 г.:
Мы должны вселить в сердца румын ненависть к врагам нации. Я сам
вырос на ненависти к туркам, жидам и венграм. Огонь ненависти надо
раздуть так, чтобы он превратился в огромный пожар. Я беру на себя
всю ответственность за это (Braham, 1998: 15).
Но мира в фашистском семействе не было. Антонеску тревожил
радикализм его новых союзников и развившаяся у них склонность
к коллективному насилию, а также слухи о том, что в Легион проникли коммунисты. Он впал в ярость, когда в ноябре 1940 г. легионеры убили в тюрьме 65 политических заключенных. В отчетах
посольства Виши в Бухаресте много говорится о постоянных перепалках между Антонеску и его вице-премьером Симой. Диктатор
требовал «спокойствия и порядка», Сима звал «к новым подвигам
во славу нации». Вице-премьер наводнил министерства, университеты, больницы и Комиссию по румынизации легионерскими
«наблюдательными комитетами», создавал из легионеров спецподразделения полиции и ставил перед ними задачу «очищения
нации». Антонеску пытался подчинить Легион своим надежным
сторонникам, но ничего не мог противопоставить фашистским
идеям пролетарского национализма, социального равенства, борьбы
с капиталистическими «спекулянтами» и евреями. Французские
дипломаты предрекали Румынии взрыв революционного насилия,
414
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
за которым последует хаос и полный паралич власти. Сложившаяся ситуация, сообщали они, тревожит умеренных политиков
и церковь, Легион становится все более «коммунистическим», его
ряды пополняются озлобленными низшими классами, эти люди
готовы порвать в клочья не только евреев, но и других «богатеев
и предателей» (Ianciu, 1998: 73–84, 91–92).
Долго так продолжаться не могло. В январе 1941 г. Легион совершил попытку государственного переворота. Гиммлер выступил
на стороне легионеров, но Гитлер поддержал Антонеску, считая, что
лишь он сможет удержать страну под контролем и обеспечить непрерывный поток нефти для германской военной машины. Легионерам
удалось ненадолго захватить некоторые общественные здания в Буха
ресте. Была сделана и неудачная попытка расправиться с Антонеску.
Британская дипломатическая миссия сообщала о многих армейских
подразделениях, перешедших на сторону мятежников; французы были
более скептичны и осторожны в оценке ситуации. Под надуманным
предлогом Антонеску вызвал в столицу префектов-легионеров и в их
отсутствие взял под контроль все префектуры, посадив там своих
людей. У генерала был большой авторитет в армии, и ему удалось
обеспечить лояльность правительству элитных столичных подразделений. Если бы у власти по-прежнему был король Кароль, неизвестно, чем бы обернулось дело, но армия после недолгих колебаний
поддержала правительство. В подобных обстоятельствах регулярная
армия без труда подавляет любое парамилитарное сопротивление:
полный разгром незакаленного в боях Легиона оказался легкой задачей. Антонеску поступил умно. Он привел армию в боевую готовность, но удерживал солдат от прямых столкновений с легионерами,
пока те своей разнузданностью и насилием не дискредитировали себя
в глазах немцев. Новый немецкий посол Манфред фон Киллингер
привез с собой распоряжение Гитлера подавить мятеж, немецкие
войска на параде продемонстрировали силу, чтобы устрашить Легион
(Ancel, 1993: 228–231; Ianciu, 1998: 111–220). 250 легионеров было
уничтожено, 9 тысяч арестовано. Выяснилось, что демонстрацию,
спровоцировавшую восстание, организовали студенты, но большинство арестованных были рабочими, а также представителями средних
классов (строка 4 табл. 8.1).
Заключение
415
Немцы преподали Легиону такой же горький урок, как и «Скрещенным стрелам»: нацистская Германия не доверяла неуправляемым
фашистам, она делала ставку на надежные авторитарные, корпоративистские режимы. Впрочем, Легион не был уничтожен полностью:
позже он сумел продвинуть своих людей в органы управления, ему
же была доверена и главная задача — «окончательное решение еврейского вопроса». Когда военная удача изменила рейху, легионеры
снова подняли мятеж, захватили западную часть страны и занимались
истреблением евреев, пока их не смяла подошедшая Советская армия.
Легион, сеющий смерть и сам не единожды битый, прекратил свое
существование.
Послевоенное коммунистическое правительство проявило удивительное милосердие. Антонеску и ряд нацистских коллаборантов были
расстреляны, но к остальным легионерам режим Чаушеску отнесся
«толерантно», ибо и сам обнаруживал явные симптомы идеологии
Легиона: крайний этнический национализм, попечение о расовой
чистоте, превозношение крестьянства. Студенческий фашизм дал
о себе знать в последние дни коммунистического режима в начале
1990-х. Сегодняшняя Румыния отказалась от идеи этатизма, евреев
в стране практически не осталось. Некоторые опасения вызывает
значительная венгерская диаспора, что теоретически может возродить
румынский органический национализм. Но в обозримом будущем
с румынским фашизмом покончено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В предвоенной Румынии произошла уже хорошо знакомая нам история: подъем авторитарного этатизма и органического национализма.
Но движущие силы были несколько иными. Румынская правящая
элита не имела глубоких исторических корней, что не помешало ей
уцелеть после Первой мировой войны. Радикализация в националистическом и этатистском ключе позволила ей удержаться у власти.
Репрессивный государственный аппарат в общем и целом устоял
под давлением фашистского парамилитаризма. Фашистскую угрозу
416
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
устранили король Кароль и генерал Антонеску. В случае Румынии мы
сталкиваемся с тем же пресловутым «заговором правящего класса»
против демократии, но на сей раз не только против демократии, но
и против фашизма. Фашисты опирались на две социальные группы.
К первой мы относим идеологов национал-этатизма, лидеров и активистов этого движения (к ним примкнули многие священники).
Ко второй группе принадлежат бедные крестьяне и промышленные
рабочие, пролетарии по происхождению и идеологии, увидевшие
в фашизме надежду на решение многих проблем. Таким образом,
румынский фашизм нельзя считать ни буржуазным, ни даже мелкобуржуазным движением. Если бы на фашистов не обрушились
репрессии, они, вполне вероятно, могли бы победить на выборах. Их
тактика скорее была рассчитана на борьбу за голоса избирателей, чем
на парамилитарное сопротивление, акты насилия были локальными
и избирательными, провоцирующими ограниченные репрессии со
стороны государства, что могло бы принести массовое народное сочувствие.
Фашистам оказали поддержку разрозненные и чуждые друг
другу социальные группы. Что свело их вместе? Неспособность
политической элиты решить насущные проблемы страны вызвало
к жизни Легион и обеспечило его первые победы. В 1918 г. Румыния
приобрела обширные территории и получила пусть призрачный, но
шанс на создание демократического государства. Однако в реальности Румыния была очень бедной страной с насквозь проржавевшим
механизмом государственной власти. Политическим фундаментом
был старый режим, обретший вторую жизнь после победы в войне,
он опирался на патрон-клиентские отношения, партии аристократов
и монарха, распределявшего хлебные должности и привилегии среди
приближенных. В межвоенный период подобные полуавторитарные методы были малоэффективны, их действенность сводилась на
нет современной системой коммуникаций и модернизационными
идеологиями, прежде всего фашизмом. Великая депрессия выявила
неспособность этих режимов справиться с экономической ситуацией,
особенно в сельском хозяйстве. Как и в других странах, общественное
недовольство в Румынии приобрело классовый и националистический характер.
Заключение
417
Король и большинство аристократов всегда предпочитали менее,
а не более демократическое решение назревших проблем. Течение политической жизни сносило их вправо, а конкретнее — в сторону нацио
нал-этатистского авторитаризма. Подобное происходило и в других
странах Восточной и Южной Европы. Тем не менее румынская элита
не передоверила свою власть фашистам, вместо этого она усвоила
и взяла на вооружение некоторые фашистские догмы — отчасти для
того, чтобы выглядеть современной, отчасти ради самосохранения.
Правители Румынии с успехом манипулировали фашистами или
подвергали их гонениям, но в каком-то смысле проиграли им, когда
король Кароль и маршал Антонеску сами обрядились в фашистские
и корпоративистские идеологические обноски и стали фактически
попутчиками фашизма.
Главным идейным посылом фашизма было «новое начало» —
построение нового, чистого, современного органического нацио
нального государства. Использовалась традиционная риторика
классового примирения: «причешем всех под одну гребенку»
с помощью парамилитарного насилия, создадим корпоративистские институты власти и тем достигнем национальной гармонии.
Классовая составляющая была иной, чем в остальных, более западных странах Европы. Румынские коммунисты были слишком
слабы, чтобы кому-то угрожать, за исключением Бессарабии, где
хозяйничали российские большевики. Поэтому главным пугалом
стал «инородческий» капитал и эксплуатация, в первую голову —
евреи. Под подозрением ходил и сам «онемеченный» король Кароль
со своей еврейской любовницей и космополитической придворной
камарильей. Сочетание чуждости, коррупции и эксплуатации было
главной слабостью режима, что позволило фашистам вплотную
подойти к победе. Румынские фашисты решили, что путь к власти
лежит через выборы, а не через насилие. Когда они спохватились,
было уже поздно. Режим прочно держался на штыках, армейские
штыки и позволили ему уцелеть.
Города и столица с ее демократическим фасадом в новом национальном государстве оказались в двусмысленном положении:
с одной стороны, они являли собой будущее нации, с другой стороны — были ее коррупционной, космополитической антитезой. Ливезяну (Livezeanu, 1990; ср. Nagy-Talavera, 1970: 258–260) считает,
418
Глава 8. Румынская «семья» авторитаристов
что крестьянский национализм, идейными носителями которого
были студенты — выходцы из деревни, был направлен против столицы, монарха, элит, буржуазии и евреев. Крестьяне и крестьянские
дети, получившие образование, были призваны разрушить этот
мир и превратить Румынию в органическую нацию-государство.
В этом есть преувеличение. Большинство крестьян оставались
лояльными более демократическим партиям, чем Легион, хотя тот
и пользовался значительной поддержкой на селе. Да и сам фашизм
не ограничивался одной крестьянской общиной. Он пустил корни
в государственном секторе, в армии, в рабочей среде. Социализм
был слабым и национально «чужеродным», но и капитализм ассоциировался с евреями, мадьярами, немцами, греками и заемным
французским капиталом. Румынские рабочие, особенно в столичных пригородах, имели прямую выгоду от государственного
патронажа и были сторонниками сильного государства, но не капитализма. Капиталисты были для них евреями — враждебными
чужаками. Легион стал в какой-то мере преемником разгромленных
социалистов и предложил рабочим единственно возможную форму
коллективной организации — фашизм. Рабочие восприняли фашизм
как часть коллективного договора.
В эту схему легко встраивается и характерный для Румынии
мощный антисемитизм. Националистам нетрудно было направить
радикальный популизм в русло антисемитизма. Но лишь Легион
смог добавить к этой картине завершающие штрихи: национальное
чувство, закаленное в горниле борьбы с внешними и внутренними
врагами, верность историческим корням, веру в великое будущее
нации, скроенное по фашистскому лекалу. Сравнивая результаты
голосований по разным регионам, мы убедились в том, что фашизм
черпал силу там, где влияние национал-государственников сочеталось с присутствием этнически чуждых элементов, виновных
в «иностранной эксплуатации». Наличие евреев провоцировало
антисемитизм, но само по себе не могло породить фашизм. Для
его появления нужно было создать образ несчастной пролетарской
нации, существованию которой угрожают народы и государстваэксплуататоры.
Разнохарактерные социальные группы: национал-этатистский
средний класс, рабочие, крестьяне — поддержали фашизм по разным
Заключение
419
мотивам, к этому их подталкивал и антисемитизм, который в Румынии
имел более материальную и пролетарскую форму, чем в нацистской
Германии. Считалось, что евреи эксплуатируют румынский народ,
поэтому фашистский антисемитизм находил отклик среди тех, кто
считал себя главными жертвами этой эксплуатации. Легион говорил
от лица всей румынской «угнетенной» нации. Угнетатели были не
иностранцами, они были инородцами, чужими среди своих, а посему
с ними предстояло разобраться на месте — изгнать угнетателей за
пределы страны, укрепить границы, очистить кровь нации, добиться
единства и прогресса. Из следующего тома моей книги, посвященного
этническим чисткам, станет ясно, насколько далеко ушли румынские
фашисты и их союзники по этому пути.
Глава 9
ИСПАНСКАЯ «СЕМЬЯ»
АВТОРИТАРИСТОВ46
46
Я хотел бы поблагодарить фонд Хуана Марча за оказанную активную поддержку моего годичного пребывания в институте Хуана Марча в Мадриде,
в результате которого я смог провести исследование, которое легло в основу
этой главы.
422
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
Испанский сценарий отличается от приведенных выше, хотя и схож со
сценариями некоторых других государств в центре, на востоке и юге
Европы. В Испании целая «семья» авторитарных руководителей,
состоящая из полуавторитаристов, полуреакционеров, корпоративистов и фашистов, противостояла левым и демократам. При этом
уникально то, что, в отличие от остальной Европы, здесь последние не
уходили в подполье, а сражались с оружием в руках. Кровопролитная
гражданская война, длившаяся три года, окончилась масштабной
чисткой (не этнического, но политического характера), которую
провели победители; следующим этапом было воцарение правого
авторитарного режима, который просуществовал рекордно долго
для Европы — вплоть до кончины генерала Франко в 1975 г. Таким
образом, в Испании авторитаризм имел под собой более широкую
основу и продержался дольше, чем в других странах: режим пришел
к власти в результате раскола общества на два лагеря — авторитарный
и демократический, и этот раскол имел место как на выборах, так и на
поле боя. Вот почему испанский сценарий в чем-то более показателен
и красноречив.
В период с 1880 по 1923 г. Испания была, в соответствии с приведенной во второй главе классификацией, полуавторитарной
страной: в ней автономно сосуществовали власть парламентская
и власть исполнительная. В стране, с некоторыми ограничениями,
проводились выборы, при этом король имел право отправлять в отставку министров, издавать законы и объявлять военное положение.
Несмотря на многонациональный характер, страна была сильно
централизована. Механизм, носивший название «мирный поворот», давал монарху определенные полномочия, позволявшие ему
комплектовать ведомства из двух официальных партий — Консервативной и Либеральной. Когда он решал осуществить «поворот»,
местные влиятельные политики (caciques, «касики») ставились в известность, что исполнительная власть отныне покровительствует
оппозиции. Поскольку «касики» привыкли находиться у кормушки,
они легко меняли свои убеждения, гарантировав тем самым победу
оппозиции; при этом, как правило, наблюдалась низкая явка и треть
мест оказывались пустыми (Tusell Gomez, 1976). Однако в наиболее
развитых регионах «поворот» в конце концов стал нецелесообразен
Испанская «семья» авторитаристов
423
с ростом индустриализации, распространения грамотности, расширения избирательного права. Здесь политическое сознание росло
без участия «касиков». Умы пролетариата вовсю будоражили социалистические и анархо-синдикалистские идеи; среди каталонцев
и басков возникли движения за региональную автономию; средний класс был охвачен прогрессивной центристской идеологией.
Начиная примерно с 1910 г. некоторые правые, левые политики,
а также центристы начали выступать с собственными тезисами
и программами. Общество мало-помалу приближалось к подлинно
либерально-демократическому.
Однако этот процесс был подорван дважды. В 1923 г. генерал
Примо де Ривера совершил переворот и установил в стране диктатуру с корпоративистским уклоном. Его свергли в 1930 г., и уже на
следующий год была провозглашена демократическая республика,
перед которой ставились либеральные и социал-демократические
задачи, а также предоставление значительной автономии регионам.
Но республика просуществовала всего пять лет и окончилась военным мятежом, приведшим к гражданской войне. Война унесла жизни
300–400 тысяч испанцев, почти половина из них была хладнокровно
убита. То были жертвы последнего и жесточайшего за межвоенный
период противостояния между либеральной демократией и радикально правым авторитаризмом. Пришедший затем режим Франко представлял из себя (с той оговоркой, что он претерпел немало изменений)
смесь полуреакционного режима с корпоративистско-авторитарным,
в высшей степени репрессивным. Фашистов, которых в стране насчитывалось множество, при этом режиме держали в узде, но во многом
им потакали. Режим дрогнул, лишь когда дрогнул сам Франко, уже
под конец жизни. Однако демократия в Испании вступила в права
лишь в 1981 г., после того как еще одна попытка военного переворота
потерпела крах.
В этой главе мы попытаемся ответить на два комплексных вопроса. Кто уничтожил ростки демократии в 1923 г. и особенно в 1936 г.
и что этому способствовало? И почему Испания погрузилась в правый континуум, которому мы дали определение во второй главе, но
остановилась на той степени авторитаризма, при которой удалось
приручить фашистов?
424
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
ПРЕДЫСТОРИЯ: КАПИТАЛИЗМ
И НАЦИОНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВО В ИСПАНИИ
Начать следует с экономической и политической справки. В экономическом плане Испания (наряду с Португалией) была наиболее
отсталой страной Западной Европы. Промышленность находилась
в упадке, и товаров, которые могли бы быть конкурентоспособны
на мировом рынке, почти не производилось. Благодаря тому, что
в Первой мировой войне страна сохраняла нейтралитет, удалось
добиться некоторого роста, в основном за счет экспорта. Однако
это привело к тому, что после войны наступил спад, и рост сильно
замедлился. Поскольку Испания практически не вела внешней
торговли, экономическая депрессия коснулась ее в целом незначительно. Хуже дела обстояли в мелкоэкспортных отраслях, особенно
в добыче угля в Астурии и в сельском хозяйстве Валенсии: сельскохозяйственная отрасль, помимо всего прочего, была отсталой, но
при этом в ней были заняты 45 % всей рабочей силы. В упомянутых
сферах работодатели стремились снизить стоимость трудозатрат,
что обостряло противостояние. На фоне затяжной стагнации надежды на модернизацию таяли. Испанцы все ждали улучшений,
но они происходили вяло и далеко не во всех отраслях сельского
хозяйства. Все это способствовало росту классовой ненависти; далее
мы увидим, что крах демократии в Испании произошел во многом
из-за классового конфликта.
Кроме того, в Испании (см. карту 9.1) экономические и классовые
разногласия тесно переплетались с региональнонациональными.
Экономическая ситуация сильно — пожалуй, сильнее, чем во всех
остальных рассматриваемых нами странах, — колебалась по регионам.
Если брать сферу сельского хозяйства, то на севере большинство ферм
были мелкими и ими управляли крестьяне, независимые собственники или арендаторы. Если пройтись по регионам севера, то крестьяне
бедствовали на северо-востоке, в Галисии, худо-бедно себя обеспечивали в центре, в Кастилии, а на средиземноморском побережье —
Предыстория: капитализм и национальное государство в Испании 425
в Каталонии и Валенсии — процветали. Крестьяне-собственники
и крестьяне-арендаторы в основном придерживались центристских
взглядов, при этом мелкие собственники и чернорабочие могли быть
настроены более радикально. Движение вправо наблюдалось там,
где были сильны позиции католической церкви (в центре страны),
влево — где ее влияние было слабее (вдоль средиземноморского побережья). Однако на юге, в Андалусии и Экстремадуре, и частично
в Кастилии — к западу от Мадрида 40 % земли находилось в собственности у крупных (более 250 га) латифундий. Две трети населения
составляли безземельные крестьяне, едва сводившие концы с концами. Около 40 % всех безземельных сельхозрабочих кормили лишь
контракты на сбор урожая (впрочем, некоторые отправлялись за
океан, на Кубу, и таким образом участвовали в сборе урожая дважды,
во второй раз — на плантациях сахарного тростника). На юге было
распространено такое явление, как отсутствующие хозяева: помещики
большую часть времени проживали в городе.
КАРТА 9.1. Регионы и провинции Испании
426
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
Итак, отсутствие хозяев на местах, открытая экономическая эксплуатация и тот факт, что жизнь деревни полностью контролировалась сельскими рабочими, — это ровно те социологические условия,
при которых на юге было гарантировано возникновение затяжного
классового противостояния, не менее острого, чем в остальных европейских странах. Конечно, существовали свои особенности на местах
и в регионах (которые мы не в силах охватить в данной работе), но
в целом можно провести следующее разделение: на севере Испании
преобладали крестьянско-центристские настроения, юг раздирали
классовые противоречия.
От региона в значительной степени зависела и промышленность,
тем более что в Испании она стала развиваться с опозданием и неравномерно. Промышленный рост наблюдался главным образом на
периферии, в регионах, которые, благодаря своей самобытности, отказывались подчиняться исторически сложившемуся политическому
господству Кастилии и столицы Мадрида. В Каталонии и Валенсии
работали текстильные фабрики, в Астурии — шахты, в Стране басков
добывали уголь, плавили сталь, кое-кто держал банки. Не будучи
развитым индустриальным государством, Испания тем не менее отличалась высокой концентрацией промышленности в определенных
регионах, отчего там возникали местные пролетарские гетто и обострялась классовая борьба. В некоторых районах возникло опасное
для правящих слоев рабочее движение, по многим признакам революционное и, как это наблюдалось повсеместно в Европе, радикальное.
Там, пожалуй, у правящих классов были веские основания для опасений и для реагирования не менее экстремальным образом. Однако
эта конфронтация носила характер не столько общенациональный,
сколько региональный. Промышленный рост в обозначенных регионах привел к появлению более современного по составу среднего
класса, придерживавшегося если не левых, то либерально-светских
воззрений и желавшего скинуть иго старого режима. Благодаря такому
раскладу прогрессивных сил сложилась картина, которую мы видим
ниже на карте 9.2: республиканцы на выборах побеждали в основном
на крестьянском юге, в Каталонии и в Астурии.
Регионалистские идеи были в рабочей среде недостаточно сильны
(движения за автономию испанских регионов, как правило, имели выраженную буржуазную окраску). Поэтому прежде роста регионализма
Предыстория: капитализм и национальное государство в Испании 427
среди рабочих стали распространяться классовые идеологии. И все
же косвенно классовая политика зависела от региона. Как и в других
странах, ядро промышленного пролетариата тяготело к социализму.
При этом каталонские рабочие и батраки на юге страдали от гнета
далекого кастильского государства и подумывали о том, как хорошо
было бы жить без него. Именно в испанском государстве низшие
классы, особенно в перечисленных регионах и отраслях, видели
главного угнетателя. Эти рабочие заражались анархо-синдикалист
скими идеями, в том числе идеей объявления всеобщей забастовки,
что привело бы к уничтожению государства и падению капитализма. Вплоть до 1930 г. эти идеи казались привлекательными очень
многим неквалифицированным рабочим, особенно в отраслях, не
связанных с тяжелой промышленностью. Таким образом, хотя испанская экономическая структура способствовала росту классовой
борьбы в аграрном и промышленном секторах, рабочее движение
делили между собой социалисты и анархо-синдикалисты, причем
тех и других поддерживали строго определенные регионы; иными
словами, ни одно из этих движений не было, в сущности, общенациональным. Вследствие этого оказалось ослаблено левое крыло,
а значит, и Вторая республика.
Капитализм в Испании был сравнительно молодым, а вот государственный аппарат очень старым (впрочем, тут положение разнилось в зависимости от региона). Я уже упоминал «касиков» и их
роль в испанском парламентаризме. Что до исполнительной власти,
то она покоилась на трех столпах: католической церкви, армии
и монархии Бурбонов. Католицизм практически выполнял функции
государственной религии. Вспомним-ка, не эта ли церковь в спайке
с государством сумела обратить полмира в христианскую веру? Яркий
символ этого союза государственников и клерикалов — монастырь
Эскориал неподалеку от Мадрида: дворцовые покои Филиппа II
опоясывают гигантский храм, так что из постели монарх ясно видел
алтарь. Католическая церковь сохраняла влияние в преимущественно
аграрных районах Испании, особенно были подвержены ему кастильские и леонские крестьяне, а также средний класс. В других областях
оно приживалось меньше, разве что среди старорежимных элементов.
Когда вспыхивали крестьянские восстания, то их жертвами нередко
становились священники. Из-за неравномерного влияния церкви,
428
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
ее неприятия в народе клир занимал позицию весьма реакционную,
относился подозрительно к модернизации, к католическим профсоюзам, к демократии (Lannon, 1987: 55–65, 183–194). Старый режим
имел возможность мобилизовать идеологические силы церкви, но это,
во-первых, во многом зависело от региона, во-вторых, политически
приводило к возникновению мощной оппозиции: традиционные
антиклерикалы объединялись с более современным секуляристским
течением.
Численность армии была высока, она играла большую роль, но
статус ее также был в каком-то смысле региональным. Большинство
офицеров были из Кастилии, Леона и южных областей, из семей
бедных провинциальных буржуа. В испанской армии чаще, чем
в армиях других стран Европы, служили сыновья кадровых офицеров и унтер-офицеров; их с младых лет, не видевших ни взрослой,
ни даже подростковой жизни, отправляли в военные академии.
Франко поступил в академию в возрасте 14 лет. Военные в Испании
были особой кастой, но теперь у этой касты все отчетливее прослеживались классовые черты. При том, что в XIX веке для военных
были характерны либеральные убеждения, они в случае военного
положения все чаще вставали на защиту обеспеченных классов
(Ballbe, 1983; Alpert, 1989: 51–52). Крупная армия была наследием
имперского прошлого, новые же правительства бедной страны не
способны были правильно ее содержать и обеспечивать; следствием
стали несколько военных катастроф. В 1898–1899 гг., не выдержав
краткой односторонней войны с Соединенными Штатами, рухнула
мировая испанская империя, а уже в 1921 г. в единственной оставшейся колонии — Марокко — под Анвалем бедуины буквально рас
терзали остатки испанских регулярных сил. И в первом, и во втором
случае военные и государственные деятели винили в случившемся
друг друга — так возник конфликт между гражданским и военным
госаппаратом. Офицерское «поколение 1898 года» стало постепенно
отказываться от традиционного либерализма и консерватизма и увлеклось новыми идеями этатизма (Busquets, 1984: 94–111, 155–157;
Ben-Ami, 1983: 66–72; Gomez-Navarro, 1991: 313–320). Имперская
армия, лишившись своей империи, сосредоточилась в гарнизонах на
территории собственно Испании плюс Марокко. Но армия эта была
профессиональной, к тому же Испания не участвовала в Первой
Предыстория: капитализм и национальное государство в Испании 429
ировой войне. Молодых отставных ветеранов в стране почти не было,
м
поэтому идея формирования парамилитарных группировок развития
не получила. Военные государственники оставались консерваторами,
послушными начальству; фашистские идеи «народного ополчения»
в их ряды не проникли.
Из трех перечисленных столпов исполнительной власти слабейшим была монархия — династия Бурбонов. Короля Альфонсо XIII
единодушно считали виновным в анвальской катастрофе. В 1931 г.
усилиями генерала Примо де Риверы монарх был отстранен от
управления страной и сослан. Монархия сталкивалась со все новыми угрозами — не только либерально-демократической. Оплотом
монархистов была провинция Наварра, но там поддерживали исключительно конкурирующую «карлистскую» династию, и таким
образом испанское монархистское движение переживало серьезный
раскол. Этатизм в Испании почти не был ориентирован на монархию.
Государство всеми тремя столпами опиралось на весьма отсталые
регионы и институты; оно порядком устарело и отчасти напоминало
типичное средневековое государство Европы. Имелись королевский двор, армия, церковь, при этом не были налажены регулярные
управленческие механизмы: налоговая система была примитивной,
образование, здравоохранение, связь отличались весьма слабо развитой инфраструктурой. Государство умело выполнять репрессивные
функции, и авторитет его в целом признавался повсеместно, но из-за
неразвитой инфраструктуры оно оставалось слабым. Идеологическую
основу нашли в прошлом, а именно в расцвете эпохи Филиппа II:
это был националистический миф о Hispanidad 47, о возложенной на
Испанию священной миссии. Враги же у государства теперь появились новые. Это были поддерживаемые буржуазией регионалистские
течения в высокоразвитых провинциях, а также мировые идеологии:
либерализм, социализм, анархизм. Тем не менее старый режим имел
некоторую поддержку новых людей — каталанских промышленников
и баскских банкиров, для которых угрозой был агрессивно настроенный местный пролетариат и которые приветствовали идею орга47
Hispanidad — концепция культурного сообщества, объединяющего все
испаноязычные страны. — Примеч. науч. ред.
430
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
нического единения («интегрального», если выражаться принятым
в Испании термином) против регионализма.
Старое государство разлагалось, дробясь на лагеря, приходило
в упадок, но процесс этот протекал крайне медленно. В 1880-х после смены режима и карлистских династических войн наступила
относительная стабильность. Что до военных катастроф, то все они
происходили где-то далеко, а в Первой мировой войне страна не
участвовала. В отличие от остальных уже рассмотренных здесь стран,
над Испанией не висело внешней угрозы, режим сильно состарился,
но не утратил легитимности внезапно. В условиях мировых кризисов
того времени мог выжить лишь этатизм, более консервативный и более слабый инфраструктурно по сравнению с уже рассмотренными
в данной работе. Действительно, большинство исследователей именно
живучестью старого режима в Испании объясняют относительную
слабость там подлинно фашистских течений.
Еще более самобытный характер носил испанский «национализм»48.
Будучи очень старым государством, Испания нигде, за исключением
Африки, не вела с другими странами территориальных споров. Не
было попыток территориального реваншизма, не было наплыва разъяренных беженцев (если не считать так называемых Africanistas, с которыми познакомимся позднее). Отношения с Францией и Португалией
были добрососедскими (ситуация, характерная скорее не для центра,
востока или юга, а для северо-запада Европы), кроме того, Испания
не вступала в Великую войну. Отсюда популярная точка зрения, что
националистические настроения не были достаточно сильны ввиду
отсутствия внешней угрозы для страны. Пейн (Payne, 1962: 1), например, утверждает, что испанские фашисты (как и в других странах)
могли бы заработать очки на международном конфликте, но у них
вряд ли получилось бы его спровоцировать. Вот с этим утверждением
мы согласиться не можем: верно, что большинство испанцев были
людьми разумными и смирились с тем, что геополитически их страна
движется к закату, и националисты (включая фашистов) почти не
48
Обычно термином «национализм» в Испании обозначают чаяния автономных регионов, проистекающие из осознания своего этнического своеобразия, характерные в основном для каталанцев и басков, но в какой-то
мере и для галисийцев, валенсийцев и так далее.
Взлет и падение генерала Примо де Риверы
431
выказывали агрессии по отношению к другим народам. Тем не менее
Испанию раздирали противоречия внутренние, а, как мы видели на
примере других стран, рост органического национализма происходит
не за счет внешнего, а за счет внутреннего конфликта. Поэтому ис
панские правые — как и в других странах — пытались мобилизовать
массовый интегральный (органический) национализм против предполагаемых международных и сепаратистских врагов внутри страны.
Националистические настроения в Испании были сильны, но они
были направлены не вовне, а внутрь, а кроме того, носили не столько
этнический, сколько политико-культурный характер. Органические
националисты позже выступят с инициативой чисток, не этнических,
но политических: они считали, что их враг представляет главным образом угрозу политическую (сепаратистскую или левацкую).
Поверхностный обзор страны позволяет заметить выраженные,
притом варьируемые в зависимости от региона, мятежные настроения
у низшего класса, противостоящего консервативному, регионально
обусловленному трехстолповому старорежимному государству, при
всей его инфраструктурной слабости все же сохранившемуся в неизменном виде, — государству, в котором начался процесс разложения
и которое пыталось генерировать националистическую идеологию
с внутренней ориентацией. Таким образом, испанским правым недоставало отнюдь не обновленного национализма, а этатизма в обновленном современном варианте. В результате возникло государство
куда реакционнее фашистского, активно настроенное на проведения
чисток не по этническому, а по политическому принципу. Но едва ли
этот поворот можно было предвидеть в первых десятилетиях XX века,
когда Испания приобрела свой первый авторитарный опыт.
ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ГЕНЕРАЛА
ПРИМО ДЕ РИВЕРЫ
Предыстория организованного генералом Примо де Риверой переворота — так называемое «большевистское трехлетие», три года острого
классового конфликта, пережитые Испанией: за период 1918—1920 гг.
432
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
здесь, как и во многих других европейских странах, произошли массовые волнения и стачки. Однако здесь у восставших явно прослеживалось национальное пристрастие к использованию легкого оружия
и самодельных бомб. Агрессивнее всех вели себя члены анархо-синдикалистской Национальной конфедерации труда (НКТ), известные
как «пистолетчики» (pistoleros): за один лишь 1920 г. в Барселоне они
застрелили полсотни фабрикантов, чиновников и умеренных членов
профсоюза (Morego, 1922). Для борьбы с индивидуальным террором
было бессмысленно применять армию, поэтому при содействии фабрикантов формировались добровольческие отряды и союзы агрессивных ультраправых, среди которых ключевое значение отводилось
так называемым «свободным синдикатам».
В некотором смысле эти синдикаты представляли собой первые
ростки испанского фашизма. Руководили этими синдикатами рабочие — католики, консерваторы и карлисты (чувствовалась близость
Наварры), уставшие от анархизма, антиклерикализма и непродуктивного левацкого максимализма. Эти объединения становились все
более агрессивными и все более походили на «карманные» профсоюзы: их штрейкбрехерскую деятельность финансировал работодатель.
В течение нескольких лет они не уступали НКТ в количестве устроенных нападений и убийств. Наиболее удобно было вербовать в такие
синдикаты новых членов на окраине промышленных пролетарских
гетто и текстильных фабрик. Вербовщиков интересовали работники
текстильной промышленности и им подобные: железнодорожники,
газовики, электрики, парикмахеры, извозчики, работники баров,
кафе, кухонь, пекари, молочники, каменщики, плотники, скорняки,
рисовальщики и стеклодувы. В «мученическом» списке из 23 убитых
членов синдиката — три металлурга, три стекольщика, три типографских наборщика, два повара, два банковских клерка, один водитель
грузовика и 8 — члены профсоюза красильщиков (Winston, 1985:
178–187).
По агрессивности и членскому составу, отбираемому не из пролетарских гетто, «свободные синдикаты» напоминали тогдашние
фашистские рабочие движения. Правда, у них так и не появилось
единой связной идеологии.
Кульминация деятельности «свободных синдикатов» пришлась на
1920 г. Тогда было убито большинство террористов НКТ, из-за чего
Взлет и падение генерала Примо де Риверы
433
идеология НКТ, особенно в Барселоне, качнулась в сторону более
умеренной. Также за счет НКТ начали расширяться реформистскосоциалистические Всеобщие союзы трудящихся (ВСТ). В 1921 г. количество потерянных из-за забастовок трудодней снизилось и в после
дующие три года не превышало половины от уровня 1920 г. То были
три последних года существования полупарламентского режима.
Основными требованиями бастующих были зарплаты и улучшение
условий труда, и из большинства противостояний победителем выходил работодатель (Payne, 1970: 44–61; Ben-Ami, 1983: 8–14, 34–40;
Carmona, 1989: 467–468, 495–496; Martin, 1990: 226–230). Не будем
забывать, что Барселона была развитым индустриальным городом,
в котором по-прежнему уважалась легитимная государственная
власть. Большинство рабочих осознавали всю бесполезность ведения против нее партизанских действий. Агрессивные формирования
вроде «синдикатов» теперь оказывались без надобности и постепенно
сошли на нет. Экономические трудности были преодолены, зарплаты
стали расти. Парламент был раздроблен и коррумпирован, однако
в его деятельности прослеживались признаки либерализма. В конце
1922 г. кабинет провозгласил курс на избирательную реформу, прину
дительный арбитраж и разделение прибыли в промышленности, реформу вооруженных сил и окончание марокканской войны. Казалось,
что вот-вот в стране воцарится подлинная демократия.
Однако многие консерваторы всерьез забеспокоились. Против
избирательной реформы выступали «касики», против мировой с рабочими — работодатели, даже военные чувствовали, что реформы идут
вразрез с их интересами (Boyd, 1979: 276). Они прибегли к военной
силе — в Мадрид вошли отряды Примо. Церковь в происходящем не
участвовала, колебался и король, однако генералу оказали поддержку
крупные капиталисты. Участников переворота ликованием встречала
богато разодетая публика; поползли вверх котировки акций. Переворот имел преимущественно классовую подоплеку, при том что был
совершен силами армии, преследовавшей собственные коллективные
цели. Так две элиты, в руках которых было сосредоточено соответственно экономическое и военное влияние, загубили первые ростки
демократии.
Некоторые исследователи считают, что классовый аспект в произошедшем был гораздо сильнее выражен и что переворот был абсолютно
434
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
необходим для защиты классовых интересов. «Верхи осуществили
революцию затем, чтобы ее не осуществили низы», — пишет Бен-Ами
(Ben-Ami, 1983: 45–47, 77–87, 401). Гомес-Наварро (Gomez-Navarro,
1991: 487490) считает, что причиной расшатывания старого режима
стала задержка в экономическом развитии, и «понадобился» более современный авторитарный режим на базе двух наиболее эффективных
институтов: армии и госаппарата. Однако недостаток функциональноклассового объяснения причин путча Примо в том, что он произошел не при непосредственной угрозе революции, а в момент, когда
буржуазные либералы успели предусмотрительно провозгласить
реформы. Хотя правые и клялись, что только благодаря им страна
до сих пор не сползла в хаос, беспорядки и забастовки в этот период
действительно пошли на спад. Это не первый случай в межвоенной
Европе, когда правые, движимые своего рода истерией, паникой,
слишком рано начинали хвататься за оружие (Boyd, 1979: 116–140),
испытывая «навязчивый страх революции» (Gonzalez Hernandez,
1990: 129). С этим согласен даже Бен-Ами (Ben-Ami, 1983: 8–14),
который характеризует ситуацию, цитируя фельетон того времени:
«...муза страха, верная спутница консервативного класса, в своих
мадригалах и балладах неустанно воспевает общественный порядок.
Общественный порядок превыше всего! Принесем все в жертву общественному порядку».
И вновь мы возвращаемся к загадке, уже озвученной на страницах нашей книги. Отчего консерваторы были так напуганы, отчего
прежде времени хватались за пистолет? Может быть, они вели себя
неразумно или перестраховывались? Действительно, почему они
противостояли даже не революции, а обычной реформистской демократии северозападного европейского образца? Поскольку похожие
страхи у консерваторов проявлялись и в республиканский период,
который задокументирован значительно лучше, — не будем торопиться с ответом.
Поначалу Примо устраивал своих сторонников. Он распустил
парламент и заменил гражданских губернаторов генерал-капитанами.
Он вел репрессии против регионалистов и НКТ, а также отказался от
аграрной реформы. Но была у Примо одна неожиданная сторона: он
Взлет и падение генерала Примо де Риверы
435
был сторонником модернизации армии и потому тянулся к фашизму.
В беседе с Муссолини он заявлял: «Вы — не только итальянская,
но и мировая фигура. Вы — провозвестник великой миссии против
распада и анархии, которую взяла на себя Европа». Действия Примо
были продиктованы симпатиями к фашизму: он заменил парламент
корпоративистской ассамблеей, в которой заседала единственная
марионеточная партия, «Патриотический союз». Он принял ряд
программ автаркического экономического развития. Поскольку
синдикализм был радикальнее фашизма, он в равной мере возложил
полномочия трудового арбитража на социалистические профсоюзы
ВСТ (деятельность НКТ при этом подавлялась). Социалисты приняли его предложение, и к 1929 г. этой схеме было подчинено более
половины промышленной рабочей силы; теперь суды выносили
решения чаще не против рабочих, а против нанимателей. Забастовки
пошли на спад. Министром финансов у Примо был Кальво Сотело,
автор популярных трудов по экономике, поклонник фашистских идей
корпоративного государства; он даже предпринял попытку брать
налоги с обеспеченных слоев населения в целях финансирования
социальных программ (Ben-Ami, 1983; Rial, 1986). Он стремился
расширить инфраструктуру государства и минимально перераспределить ресурсы между классами, которые могли бы служить новому
режиму и стать его частью. Все это напоминало не столько фашизм,
сколько оригинальную смесь полуреакционного и корпоративистского авторитаризма.
В условиях, когда сверху была спущена корпоративистская идео
логия, у фашизма, зарождавшегося внизу, шансов было немного.
После того как Примо начал преследовать анархо-синдикалистов
и взял в узду социалистов, «свободные синдикаты» стали не нужны
и постепенно сошли на нет. Но его собственный Патриотический
союз и карманная Национальная ассамблея также были организациями директивными — в действительности с их помощью нельзя
было мобилизовать крестьян и средний класс, который они «представляли» (см. Приложение, табл. 9.2, строка 6; Gomez-Navarro, 1991:
207–304, 499–506). Отсутствие мощной поддержки серьезно подрывало позиции Примо, тем более что в результате принимаемых им
эксцентричных политических мер врагов у него только прибавилось.
В конечном счете церковь и капиталисты начали выступать против
436
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
большинства нововведений Примо. В условиях финансового кризиса
он вынужденно пытался перевести экономику на военные рельсы,
в результате чего от него отвернулись его же солдаты. Прежние
союзники вынудили его уйти в отставку. Но, как это часто бывает
в армии, когда затевается мятеж против генерала, — они несколько
поторопились. Договоренности о том, какой режим должен прийти
на смену режиму Примо, не было. Многие серые кардиналы во власти
отказались поддержать непопулярную фигуру короля, кроме того, не
были согласны на новый авторитарный режим. В условиях вакуума
власти вспыхнули массовые народные демонстрации, в ответ политики-центристы провозгласили демократическую республику. Армия
против восставших, во главе которых встали умеренные, пойти не
могла. Неожиданно из-за Примо старый режим раскололся на два
лагеря, и так стал возможен приход нового. Так был дан старт второму
демократическому эксперименту — более смелому и радикальному,
чем первый.
ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА:
КОМПЛЕКСНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Начало республики ознаменовалось большими надеждами, однако
этому периоду дана, пожалуй, самая немилосердная историческая
оценка: принято считать, что режим с самого начала был обречен.
В воспоминаниях консервативного политика Хосе Марии ХильРоблеса (Gil Robles, 1968) мы находим утверждение, что республика
оказалась меж двух огней: неискоренимого левого и правого экстремизма, так что демократия стала невозможна, а авторитаризм — неизбежен. С этим, похоже, согласны историки (Thomas, 1977; Robinson,
1970; Seco, 1971, Julia, 1984), а также Пейн (Payne, 1993). Линц (Linz,
1978) обвиняет все стороны в том, что они поставили свои интересы выше демократических средств. Для этих авторов виноваты все
в равной степени, у некоторых, правда, сильнее провинились левые
Вторая республика: комплексная политическая проблема
437
(например, у Пейна и Робинсона), у других — правые (Jackson, 1965;
Montero, 1977; Preston, 1978). Кто же прав?
В рамках сравнительно-исторической социологии можно сделать одно предварительное утверждение. Движение к демократии
никогда не носило чисто «процедурного» характера, не сводилось
лишь к одному методу управления. У этого движения всегда была
твердая цель. Парламент мог понадобиться народному движению,
только если оно еще не списало со счетов институты старого режима
и рассчитывало извлечь из них конкретную выгоду. В XVII, XVIII
и начале XIX века таким образом боролись с налогами и воинским
призывом. В конце XIX века к списку требований добавились образование, благосостояние и политические права рабочих. Перераспределение власти и ресурсов от правящих классов к среднему
и низшим, от деспотичных метрополий к провинциям и регионам, от
мужчин к женщинам — в этом вся суть современного народовластия.
Либеральная демократия, таким образом, предполагает реальное
перераспределение ресурсов власти, которое затем закрепляется
конституционно.
Таким образом, если либеральные институты не могут осуществить
перераспределения власти ни в каком виде, ни в одной стране мира народные движения не станут более их поддерживать. На северо-западе
Европы правительства под давлением народа все же соглашались на
создание демократических институтов и на некоторое перераспределе
ние ресурсов. От новой республики большинство испанцев ждало
реформ. Однако старый режим здесь не пострадал в кризис, но и не
был реформирован и в целом не испытывал на себе давления: прежнего руководителя страны просто неожиданно свергли, не более того.
Но, когда поутихли волнения, оказалось, что исполнительная власть
по-прежнему находится в руках того же самого «старого режима»,
а кроме того, и в парламенте осталось немало «касиков». Ожидания
у участников народных движений, политиков-центристов и чиновников старого режима разнились. Республиканские законодатели
вскоре обнаружили, что исполнительная власть (которую поддерживали правые) не приводит в исполнение их законы. В результате
реформистское крыло начало леветь; другие центристы, увидев,
какую угрозу представляет народное давление для общественного
порядка, всерьез обеспокоились. Центристы, чьи неопределившие-
438
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
ся избиратели решали исход выборов, начали делать двойственные
заявления, призывая одновременно к реформам и к стабильности.
Если бы исполнительная и законодательная власть оказалась в руках
правоцентристского альянса, это привело бы к протестам левых; если
бы оба «куска государства» оказались в руках левых — восстали бы
правые. А если бы каждой стороне досталась определенная часть
властной структуры, то страна бы погрузилась в хаос. К несчастью,
в стране воплотились все три сценария, причем ее бросало от одного
к другому.
Каковы бы ни были просчеты руководителей республики (их мы
перечислим позже), все же в одном ей удалось добиться определенного
успеха. Классовый конфликт в Каталонии пошел на спад, наниматели согласились на примирение с рабочими, а церковь примирилась
со светским модернизмом. Региональная ассамблея в Каталонии,
в отличие от парламента в Мадриде, на два лагеря не раскололась;
начиная с 1933 г. региональное правительство формировалось из
левоцентристов (партия «Эскуэрра»), а консервативная «Лига» выступала в роли лояльной оппозиции (Molas, 1973: 344–348; Barrull
Pelegn, 1986: 342–345). Здесь центр держал позицию, договариваясь
с Мадридом об автономии; договоренности дрогнули лишь тогда,
когда в 1934 г. парламент в Мадриде стал интегралистским, правым
и взял курс на централизацию страны. Количество анархистов сократилось вдвое. Действительно, землевладельцы направили в Мадрид
петицию с жалобой на проводимые левой «Эскуэррой» реформы
аренды сельской земли, а промышленники и церковь в регионе спустя
два года, в 1936 г., поддержали Франко. Но все же, будучи предоставлена сама себе, а также благодаря доброй воле Мадрида, Каталония
была уступчива. В наиболее развитом регионе Испании, вследствие
этого раздираемом классовыми противоречиями, пробовали внедрять
либерально-демократическую практику. Баскский регион отличался тем же: здесь церковь была достаточно либеральна, а правящая
консервативная Баскская националистическая партия в 1936 г. объявила регион республикой. Для этих двух регионов было очевидно,
что левоцентристский альянс в Мадриде предоставил бы им более
широкие права, нежели правление правых интегралистов. Тут мы
впервые видим перекос: традиционно за более широкую автономию
выступали не правые, а левые. В результате удалось разрядить обста-
Вторая республика: комплексная политическая проблема
439
новку и снизить вероятность перерастания межэтнических распрей
в более серьезный конфликт.
В республиканский период в стране сменилось три правительства.
В период с 1931 по 1933 г. Испанией управляла левоцентристская
коалиция. Затем, в результате изменений в избирательном праве,
к власти пришла правоцентристская коалиция, а уже в феврале 1936 г.
ее сменил левоцентристский «Народный фронт». Он находился у руля
лишь до июля, после чего, начавшись с военного мятежа, страну
захлестнула гражданская война. У всех трех правительств не было
иного варианта, кроме коалиционного: партий в стране насчитывались десятки. При том что их набор и состав постоянно менялись,
их направленность в целом соответствовала пяти политическим
направлениям. Примерно 10 % испанцев поддерживали левых анархо-синдикалистов — и поэтому практически не голосовали. Около
20 % поддерживали леваков-социалистов (и коммунистов), 20 % —
левых республиканцев, 30 % — правых республиканцев, наконец,
20 % — правых антиреспубликанцев. Последние две цифры начиная
с 1933 г. менялись местами. Но во всем этом срезе набиралось до 10 %
(в основном каталонцев и басков), которых изначально не интересовали ни левые, ни правые и которым нужно было лишь расширение
автономии. Хотя эти тенденции стабильно и неизменно проявлялись
на выборах, все же избирательная система не полностью отражала
сложившуюся по стране картину. Даже небольшие изменения в статистике голосующих серьезно сказывались на составе парламента — это
отражено в табл. 9.1.
Как видим, в 1933 г. парламент значительно «поправел»,
а в 1936-м — «полевел». При этом не было тенденции, которая господствовала бы долго: множеству партий, действовавших в республике,
необходимо было договариваться между собой. Когда договориться
не получилось, система рухнула49.
49
Так получилось в результате стремления избегать одномандатных округов
(которые могли оказаться под контролем «касиков»), но при этом заручиться действенным большинством в правительстве. По конституции
большие многомандатные округа могли покрывать целую провинцию или
же ее столицу. Партия, набравшая простое большинство в провинции или
столице, получала от 67 до 80 % мест, тогда как остальным было гарантировано прохождение по спискам меньшинства. Большинство партий,
440
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
Таблица 9.1. Национальные выборы во Второй Испанской республике,
число мест, доставшихся основным политическим группировкам
Партийные группировки
1931
1933
1936
Социалисты/коммунисты
118
63
119
Левые республиканцы
110
36
125
Каталанские и баскские регионалисты
53
56
58
Правые республиканцы
164
113
30
Антиреспубликанские правые
25
180
142
Примечание: ни одна классификация политических партий Испании не может счи
таться истинной и неоспоримой. При составлении таблицы я решил опустить от
пяти до десяти депутатов в каждом созыве парламента, чьи взгляды особенно трудно
классифицировать.
Источники: Varela Diaz, 1978:33, 69–74; Irwin, 1991:269; Tusell Gomez et al., 1993: II; группи
ровка партий осуществлена на основе: Montero, 1988.
Так на какие же круги смогли опереться эти партии? На карте 9.2
мы видим, что избирательная картина складывалась порой потрясающим образом.
Видно, что республиканские/социалистические настроения сильно
сосредоточены на юге, в Каталонии, а также Астурии, то есть в регионах, для которых более всего характерна классовая конфронтация
в сельском хозяйстве и промышленности. В испанском Леванте,
Галисии и на баскском побережье голоса поделились поровну. Кастилия и Леон стойко симпатизировали правым, а вот город Мадрид был социалистически-республиканским. Можно заметить,
таким образом, старалось заключать электоральные союзы, соединяя
в одном списке перспективных кандидатов с целью завоевать больше
мест. У правых такая коалиция сложилась уже к 1933 г., у левых к 1936 г.
Таким образом, те и другие в парламенте заручились большинством, при
том, что столь кардинальной перемены настроений в обществе в их пользу не происходило. Избирательная система могла быть построена иначе:
два блока пытались бы найти точки соприкосновения и укрепляли бы
центр. Вероятно, избирательное законодательство республики сыграло
не в его пользу.
Вторая республика: комплексная политическая проблема
441
КАРТА 9.2. Итоги выборов в испанских провинциях в 1933 и 1936 гг.
что в районах с различным уровнем классового конфликта, а также
с разной степеньюоторванности от традиционных кастильских церкви
и государства наблюдается двойственный эффект. Не было такого,
чтобы правые настроения вдруг охватили «пограничную зону», находящуюся под угрозой: единственный вариант — периферийные
регионы, противостоящие центру, проникались левой идеологией,
обнажая классовые расслоения региона, а иногда и укрепляя его
классовый состав.
Однако у нас нет экологической корреляции данных по го
лосующим, каковая, например, имеется по Веймарской республике.
Нам приходится полагаться на пестрое ассорти местных экологических исследований. Главные из них — по Мадриду (Tusell Gomez,
1970), Аликанте (Garca Andreu, 1985), провинции Арагон (German
Zubero, 1984), Сарагосе (German Zubero et al., 1980), Логроньо
(Bermejo Martin, 1984), Ллейде в Каталонии (Mir, 1985; Barrull
Pelegn, 1986) и Каталонии в целом (Vilanova, 1986). Как показывают эти исследования, результат голосования и принадлежность
442
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
голосующего к социальному классу тесно связаны. Почти во всех
районах, где большинство составляют горожане-рабочие, сельские
чернорабочие и бедные крестьяне, наблюдался сдвиг влево. Во многих
также прослеживается стабильно низкая явка: это свидетельствует
о наличии там поддержки анархо-синдикалистов. Однако «влево»
в данной ситуации соответствует не только социалистам и анархосиндикалистам: если не считать основных промышленно-городских
(а также соседствующих с латифундиями) пролетарских гетто, то
остальные рабочие окраины поддерживали в равной мере социалистов и левых республиканцев, во главе которых стояли представители
среднего класса. А в отсталых районах, где заправляли «касики», от
четверти до половины представителей рабочего класса в основном
голосовали за правых.
Женщины-работницы, особенно работающие не в коллективе
(например, прислуга, которая неизбежно попадала под влияние
хозяев-консерваторов), голосовали «правее»; то же можно сказать
и о рабочих в районах, где особый вес имела религия, а также о возрастных представителях класса. Симпатизировали правым и работники сферы обслуживания, и представители так называемых
свободных профессий.
Таким образом, с одной стороны, политика в Испании носила явный классовый характер. В стране не существовало сколько-нибудь
значительного фашистского или популистского движения, которое
бы нарушило эту картину, собрав по всей стране надклассовый
электорат. С другой стороны, немаловажную роль играли отрасль
экономики, вероисповедание, пол и возраст — и особенно регион
и вероисповедание: эти факторы в некоторых районах могли соперничать с классовым, а в совокупности на общенациональном уровне
были не менее важны, чем класс. Политические движения были вынуждены искать поддержку у всех или, по крайней мере, у большей
части перечисленных самобытных социальных групп. Теперь прой
демся по всему политическому спектру слева направо и рассмотрим,
на кого опиралась каждая группа, ее политические взгляды, степень
ее жестокости и меру ответственности за крах республиканского
правления. Затем мы затронем тему правых (которые в этой работе
являются основным предметом изучения) и расскажем об их роли на
фронтах гражданской войны.
Анархо-синдикалисты
443
АНАРХО-СИНДИКАЛИСТЫ
В Испании действовали два рабочих движения, не приемлющие,
во-первых, капитализм, во-вторых — друг друга. Анархо-синдикалисты, ставившие целью свержение государства, равно не выносили
и республику. Политической партии они не имели, их основной
организацией была федерация профсоюзов НКТ. Она практически
не имела центрального руководства и, хотя могла оперативно мобилизовать местных жителей, на национальном уровне была представлена слабо. Состав ее варьировался, численность его установить
трудно, однако к середине 1930-х она насчитывала немногим более
миллиона человек — 13 % всей рабочей силы, примерно столько же,
сколько социалистический ВСТ (католические и коммунистические
профсоюзы имели еще по 2 % электората). 30 % членов НКТ были
из Каталонии, еще по 15 % — из Андалусии и Валенсии. Поддержку
главным образом оказывали сельские чернорабочие Андалусии, работники каталанской и валенсийской текстильной и строительной
промышленности, а также беднейшие крестьяне в окрестностях Сарагосы. Тяжелая промышленность в федерации была представлена
недостаточно. Конторские работники составляли лишь 5 % ее членов,
и еще 5 % женщины — правда, эта цифра представляется недостоверной: известно, что в общественной работе анархо-синдикалистской
конфедерации принимало участие значительно больше женщин.
Таким образом, это движение было почти исключительно пролетарским, и большую часть его боевого актива составляли рабочие.
Подтверждение тому — протокол о полицейской облаве в Логроньо:
там задержаны художник-оформитель, механик из гаража, токарьстаночник, дворник, сапожник, парикмахер, два жестянщика, кузнец
и торговец (Bermejo Martin, 1984: 253).
При этом движение было расколото на два лагеря: умеренно
синдикалистский и более молодой, более урбанистический и агрессивный — анархистский, во главе которого стояла целая организация — Федерация анархистов Иберии (ФАИ). В 1933 г., когда
у синдикалистов разделились мнения относительно того, стоит ли
сотрудничать с республиканской властью, ФАИ пыталась встать
у руля НКТ. Они пытались организовать переворот, но выбрали для
444
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
него неудачное время. Новое правое правительство после прихода
к власти, недолго думая, отправило заговорщиков в тюрьму и в ссылку.
«Народный фронт», придя к власти в 1936 г., их помиловал, и до военного мятежа у двух противоборствующих фракций НКТ хватило
времени примириться друг с другом (Tunon de Lara, 1972: 718–719,
785–789, 873–881; Guinea, 1978: 96; Bar, 1981; Vega, 1987; Kelsey, 1991;
Fraser, 1994: 542–552). Поэтому в годы республики движение особой
организацией не отличалось — что для анархистов, возможно, как
раз плюс.
Однако НКТ постоянно призывал к всеобщей революционной забастовке. Особенно пламенной была стилистика листовок ФАИ: в них
поощрялась «революционная гимнастика» — беспощадные бунты,
устраивая которые рабочие готовили себя к финальной революции,
содержались призывы к насильственным политическим чисткам:
Смерть полицейским! Смерть солдатам — сынам нашего класса, поднявшим оружие против нас! Смерть ушлым господам — бур
жуям, феодалам-капиталистам! Смерть проклятым дармоедам, попам,
политикам всех мастей! Если сегодня вы не восстанете против них
мощною безжалостною силой, то завтра они вас не простят и не пощадят! С
крепите сердца перед битвой! К оружию! Идите брать церкви,
монастыри, к азармы, крепости, тюрьмы, ратуши и трущобы! (Ramírez
Jimíenez, 1969: 106).
Такая риторика, несомненно, наводила страх — особенно на
священнослужителей, составлявших самую беззащитную, уязвимую из перечисленных выше групп. В Испании священников уже
давно приносили в жертву народному гневу. И все же враги НКТ
преувеличивали реальную опасность, стоявшую за этими строками.
Государство периодически выступало с заявлением о разоблачении
того или иного заговора, об обнаружении схрона оружия, и печать
не стеснялась распространять панические слухи. Впоследствии эти
«заговоры» превратились в повод для репрессий.
Но давайте посмотрим на реальную деятельность НКТ. За время
республиканского правления она объявила три «всеобщие забастовки»: в январе 1932 г., в январе 1933 г. и в декабре 1933 г. Однако эти
мероприятия преследовали маловнятные цели: с одной стороны —
планы устроить революцию, с другой — ограниченные протестные
Анархо-синдикалисты
445
демонстрации. Большинство боевиков были готовы захватывать
фабрики, землю, проводить шумные уличные шествия. Некоторые
из них, впрочем, шли несколько дальше — резали кабели связи, захватывали общественные учреждения, уничтожали протоколы заседаний правительства, обстреливали казармы Национальной гвардии
или случайным образом подрывали какое-нибудь здание. Жертвы
в данном случае были незапланированными, скорее случайными.
Риторика, которой оперировало движение в целом, чаще была не
кровожадной, скорее наоборот — наивной и идеалистической. В качестве примера приведем революцию, произошедшую в масштабе
одной деревни:
Все граждане осведомлены о том, что настоящим устанавливается
либертарно-коммунистический режим и отменяется денежная система.
Революционный комитет заявляет, что отныне каждый имеет право
взять себе в магазине любой товар при условии, что он не возьмет
лишнего количества, превышающего его дневную норму потребления
(Kelsey, 1991: 96).
Все три восстания окончились крахом. В них участвовали разрозненные объединения НКТ, в основном в удаленных деревнях или
городских рабочих окраинах; они на одни сутки оккупировали свой
район, но, стоило вмешаться полиции, спасались бегством. При всей
серьезности намерений некоторых активистов, эти выступления никак
нельзя назвать революциями.
Большинство акций НКТ вырастали из обычных трудовых споров.
Однако поскольку наниматели были настроены враждебно, а в НКТ
не очень-то ценили коллективный договор с предпринимателем,
переговоры часто носили формальный характер. Затем НКТ предпринимал попытку применить силу: по его указанию разгневанные
толпы людей перекрывали дороги. Несколько раз такие шаги имели
действие; если же результата не было, то могли последовать вандализм
и спорадические поджоги. Если вмешивалась Национальная гвардия,
то на улицах могли появиться баррикады, а в руках у восставших —
пистолеты. Рабочие ряда отраслей имели возможность раздобыть
динамит, и в этом случае все заканчивалось гибелью людей. И тем не
менее у насилия были свои границы. Боевиков не слишком заботила
446
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
собственность, однако (несмотря на анархистскую риторику) личный
террор они почти не замышляли и не практиковали. Кроме того,
вооружены они были плохо. На базе НКТ не существовало парамилитарных объединений, там не готовили революционеров, не шили
униформу, не создавали подпольных складов оружия. НКТ выступали
лишь как возмутители спокойствия. Несомненно, у многих после
службы в армии была возможность обзавестись старой винтовкой или
пистолетом. Но все это годилось разве что для охоты на кроликов,
а никак не для борьбы с Национальной гвардией. Газеты регулярно
писали о случаях «продолжительной стрельбы», длившейся час или
более, но эта стрельба всегда обходилась без жертв.
Попробуем оценить количество погибших. Линц (Linz, 1978) на
основе данных, собранных Малефакисом, попытался подсчитать
количество жертв политических конфликтов в период республики.
У него получилась общая цифра чуть менее двух тысяч, причем он
сам отмечает, что она «приблизительная, подлежит корректировке,
вероятно, в сторону увеличения». В моих собственных подсчетах,
основанных на приведенных в главе второстепенных источниках,
я пришел к цифре в две с половиной тысячи, которая, вероятно,
также несколько занижена. Только в астурийском восстании 1934 г.
(его я рассматриваю ниже, в контексте социалистов) погибло полторы тысячи человек, еще тысяча стали жертвой ста разрозненных
инцидентов, произошедших по всей Испании. При этом я попытался
собрать воедино эти весьма сырые данные, поскольку авторы предыдущих исследований на основе первичных источников не предприняли, казалось бы, напрашивающейся попытки выяснить, кто кого
убивал. Не могу отвечать за каждый конкретный случай и человека,
но все же я провожу различие между левыми, правыми, полицией
или военными властями — хотя среди погибших левых (и в меньшей
степени правых) немало людей, далеких от сути разногласий (например, детей). Кроме того, я попытался разделить анархо-синдикалистов
и социалистов/коммунистов. Местами это разделение получилось
довольно грубым, поскольку не всегда понятно, кому подконтрольна
была территория, была ли она оплотом социалистов или анархистов. В отдельную категорию я выделяю и фашистов — начиная со
времени, когда они набрали популярность; то же касается и прочих
гражданских консерваторов. Примерно в 150 случаях мне не удалось
447
Анархо-синдикалисты
установить убийцу либо жертву; я также удалил из расчетов численности погибших 29 случайных прохожих и незначительное число
политиков-центристов. Данные по оставшимся 812 политическим
убийствам приведены в табл. 9.2.
В этой таблице, вероятно, настораживает отсутствие одной группы
субъектов — этнической. Отыскалось лишь несколько каталонцев,
басков или карлистов, выступивших в роли убийц или жертв в стычке
с испанскими противниками. Характер чисток был преимущественно
политическим, и даже порой пересекаясь с региональными конфликтами, они имели в своей основе радикально левые/правые мотивы.
Таблица 9.2. Исполнители политических убийств в период
Второй республики и их жертвы
Жертвы
Анархосиндика
листы
Социали
сты/ком
мунисты
Правые
Фаши
сты
Военные/
полицей
ские
В целом
1
4
20
18
70
113
2
0
42
56
61
171
4
19
0
0
0
23
Фашисты
10
75
0
0
0
85
Военные/
полицейские
252
177
0
1
0
430
В целом
269
275
62
75
131
812
Убийцы
Анархосиндикалисты
Социалисты/
коммунисты
Правые
Как видно из таблицы, наиболее ожесточенными были столкновения между полицией/военными и левыми. Фашисты вступили
в игру в 1935 — начале 1936 г., когда также имело место небольшое
количество жертв среди правых, и появилось несколько убийц других правых взглядов (почти сплошь карлистов). Но на самом деле
полицию и армию нельзя считать нейтральной силой. Они были
частью старорежимного государства и, соответственно, принадле
жали к испанским правым — об этом свидетельствовало их участие
в восстании 1936 г. От них смертельная опасность исходила в гораздо
448
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
большей мере, чем от левых: вероятность оказаться убийцей у них
была в 3,3 раза выше, чем вероятность стать жертвой; в то время как
представители социалистов и коммунистов в 1,5 раза чаще, а анархосиндикалистов — в 2,4 раза чаще оказывались жертвами. Расправы
носили несбалансированный, пристрастный характер: левые гораздо
чаще становились жертвами, чем сами претворяли злодеяния в жизнь;
последним занимались не «народные» объединения, а государственные органы. Таким образом, мы считаем неверными некоторые прежние трактовки кровавых событий в республиканской Испании. Так,
Линц считает, что убийства совершали все стороны, Пейн (Payne,
1993: 360–364) возлагает вину по большей части на левых, мотивируя
это тем, что убийства участились в конце 1934 г. и особенно в 1936 г.
при правительстве «Народного фронта». Однако доля левых среди
убитых гораздо больше, и как-то странно винить жертву.
Больше других пострадала от преследований НКТ. Они впрямую
атаковали нанимателей и государство — и получали за это несоразмерно суровое возмездие. Таким образом, к 1935 г. анархо-синдикалисты
переживали тяжелое время: большинство лидеров сидели в тюрьме,
а остальные ожесточенно спорили друг с другом. Объективно угрозы
общественному порядку они уже не представляли, разговоры о том,
что они могут устроить революцию, были безосновательны. Вероятно, НКТ все же внесла свой вклад в подрыв устоев республики,
отказавшись поддержать реформы. Конфедерация не участвовала
в разрешении трудовых споров, земельной реформе и выборах, поскольку, как позднее вспоминал один из ее активистов:
...те из нас, кто не верил в политику, просто над этим смеялись. Мы знали, что политика — это всего лишь политика. При любом строе, будь то
республика или любой другой, мы, рабочие, остаемся рабами своего
клочка земли и своей работы (Fraser, 1994: 97).
Отказ НКТ участвовать в выборах 1933 г., вероятно, и привел
к тому, что голоса ушли правоцентристам. Уже в 1936 г. лидеры
НКТ, испугавшись, решили больше не воздерживаться, и в результате голоса анархо-синдикалистов, отданные за «Народный фронт»,
дали левым в этой ожесточенной предвыборной борьбе небольшой,
но решающий перевес (Cancela, 1987: 144–145, 194–197, 260–275).
Социалисты
449
Теперь боевики НКТ встали плечом к плечу с социалистами и ком
мунистами (Balcells, 1971; Forner Munoz, 1982). Но было уже поздно.
Именно враждебность НКТ стала главной причиной краха респуб
лики. Вдобавок ряд анархо-синдикалистов восприняли этот крах
с ликованием: им открывалась дорога к «революции».
Анархо-синдикализм был прежде всего контрпродуктивен. Спорадические местные выступления, отсутствие парамилитарной
организации — все это причины его поражений, которые не случались, только если армия и полиция отказывались стрелять в протестующих. Роковой ошибкой была и вера в то, что можно победить,
противостоя всем сразу. Анархистской агрессией — особенно той,
что проявлялась на словах, — конечно же, подпитывались ультраправые, сочинявшие об анархистах страшные сказки; агрессивность
отпугивала буржуазию, крестьян среднего достатка и многих рабочих — особенно женщин, а также людей пожилых или религиозных.
Самим анархо-синдикалистам их тактика, вероятно, показалась бы
оправданной, если бы в конечном счете привела к революции. Однако
в условиях расколотого рабочего движения их деятельность подпитывала, радикализовала и распаляла авторитарных правых, что
порядком портит о них впечатление, при всем нашем сочувствии
к ним как к пострадавшей стороне, при всем восхищении их храб
ростью и неиссякаемым оптимизмом.
СОЦИАЛИСТЫ
Поскольку испанская коммунистическая партия до гражданской
войны была малочисленна, основной партией на левом фланге
(и тогда, и сейчас) была Испанская социалистическая рабочая партия
(ИСРП). В ИСРП состояло от 60 до 80 тысяч членов, ядро составляли
квалифицированные промышленные рабочие, ряды которых в последнее время начали пополнять сельскохозяйственные работники.
Таким образом, социалистическое движение было преимущественно
пролетарским, при том, что его лидерами становились люди из тех
15—25 % активистов, чья профессия не была связана с ручным трудом.
Среди депутатов-социалистов в парламенте большинство составляли
450
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
учителя и писатели, хотя рабочих в социалистической фракции было
больше, чем в других (см. Приложение, табл. 9.1, ряд 9). В Севилье
партийные лидеры происходили из всех классов, большую часть
составляли служащие (см. Приложение, табл. 9.2). Молодежное
крыло партии разрослось, стало ультралевым — и избиратель у социалистов был в целом моложе, чем у остальных партий. Женщин
за партию голосовало меньше, чем мужчин, от женских движений
в ней состояло лишь 10 % членов (Contreras, 1981: 84–112; Aubert,
1987: 181–182; Palomares Ibanez, 1988). Профсоюзы социалистов
объединялись в более крупную организацию — ВСТ; к 1932 г. она
разрослась и насчитывала миллион активистов, из которых свыше
80 % составляли работники ручного труда (Gcuinea, 1978: 38, 96, 401;
Contreras, 1981: 108–109). Также социалисты организовывали по всей
стране «народные дома» — это были местные общества просвещения
и организации взаимопомощи, которые имели большое значение для
укрепления пролетарских гетто в более развитых регионах.
Идеология социалистических лидеров представляла собой смесь
реформизма с эволюционным марксизмом, с примесью столь характерного для Испании «морального» социализма. Поначалу ожидания от реформ были положительные. После выборов 1931 г. ИСРП
стала крупнейшей партией в парламенте; три министра-социалиста
в левоцентристском правительстве — Ларго Кабальеро, Индалесио
Прието и Фернандо де Лос Риос — проявили себя как эффективные
реформаторы. Идею сотрудничества с иными силами продвигало даже
крыло ортодоксальных марксистов, поскольку, с их точки зрения, пролетарская революция могла начаться только тогда, когда завершится
буржуазная. Вслед за остальными социалистическими партиями того
времени испанские социалисты считали буржуазную демократию
далеко не высшей своей целью и формально были привержены делу
«революции», которую они, судя по всему, видели преимущественно
бескровной. В первые три года республики ее лидеры и социалисты
тесно сотрудничали. В регионах, где партия пользовалась наибольшим
авторитетом, появились новые комитеты по улаживанию трудовых
споров, Jurados Mixtos; за время реформ численность ВСТ выросла
(Carmona, 1989: 408; Bosch, 1993).
Однако почти сразу дали знать о себе две проблемы. Во-первых,
реформистские указы и законы, принимаемые правительством, давали
Социалисты
451
рабочим и крестьянам повод требовать еще большего, что побуждало
их к активным действиям. На местном уровне баланс политических
и военных сил начал изменяться в сторону ослабления «касикизма»
и репрессий. Росло число забастовок и захватов земель. Причем в ходе
этих беспорядков рабочие брали не организацией, а численностью;
целью выступлений была не революция, а реформы ради сохранения
базовых материальных ценностей (Bosch, 1993). Но так или иначе
они нарушали общественный порядок. Во-вторых, республиканскосоциалистическая коалиция полностью не могла контролировать не
то что страну целиком, а даже ее госаппарат. Так, в ключевом министерстве внутренних дел, средоточии старорежимной исполнительной
власти, посты занимали сплошь консервативные республиканцы,
и не случайно. Как часто бывает при демократизации режима, сюда
старались назначать людей исходя из расчета, чтобы были довольны
армия и полиция. Одновременно (что также совершенно естественно) в провинции назначали консерваторов-управленцев — в случае
с Испанией это были гражданские губернаторы, которые активно
применяли против левых делегированные им особые полномочия.
Кальво Сотело замечал в 1935 г., что без применения чрезвычайных
полномочий республика просуществовала всего 23 дня (для него это
был аргумент за отмену республики). Трудовое законодательство
внедрялось особенно неравномерно. Слабое в плане инфраструктуры,
испанское государство было раздираемо внутренними политическими
противоречиями. В регионах, подконтрольных землевладельцам
и церкви, над левыми метко подтрунивали: мол, у вас республика, ею
и питайтесь. Все потому, что в этих регионах республиканская власть
присутствовала лишь на словах. Ряд местных управленцев с успехом
содействовали реформам (Collier, 1987), однако левые жаловались,
что законодательство применяется далеко не во всех регионах страны.
В 1933 г. для республики настали тяжелые времена50. В начале
этого года вспыхнули восстания НКТ, кульминацией которых стала
резня в андалузском городе Касас-Вьехас, унесшая жизни местных жителей. Вначале кабинет (включая министров-социалистов)
50
Моя оценка угрожавшей левым партиям катастрофы строится на балансе
диаметрально противоположных оценок, данных в: Julia, 1977; Preston,
1978: гл. 4–5, 7; Heywood, 1990; Payne, 1993: 189–223.
452
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
с удовлетворением рапортовал о подавлении несомненно, жестокого
и кровавого восстания. Но по мере того как всплывали подробности,
стало ясно, что кровопролитие в Касас-Вьехасе было делом рук
Национальной гвардии, действовавшей по указке провинциальной
администрации; тогда левые выступили с осуждением своих лидеров
за участие в «государственном терроризме». Под руководством социалистического сельскохозяйственного союза был проведен захват
земель на юге, который Хулиа (Julia, 1989: 25) характеризует как
акт «вмешательства профсоюзов в сферу политики». Левые были
слишком привязаны к ритму массовых забастовок и потому не могли
проводить ответственную политику. По мере того как слабела левоцентристская коалиция, реформы в республике также сходили на нет.
Летом ассоциации нанимателей прекратили сотрудничать с властями
и потребовали аннулировать результаты реформ. Министр труда Кабальеро уже принимал у себя целые делегации рабочих, недовольных
приостановкой внедрения преобразований. В августе его риторика
приобрела левые черты: он заявил, что если реформа невозможна, то
социалистам следует отменить буржуазную демократию.
На социалистов оказывали влияние события в Германии, Португалии и особенно в католической Австрии (о жизни в которой в Испании было хорошо известно). В целях защиты реформ, говорили
некоторые социалисты, нужно дать силовой ответ фашизму, который
завладевает правыми умами. В некотором роде имело место зеркальное отражение реакции, которую мы наблюдали в последних двух
главах в случае с Венгрией и Румынией. Там к варианту силового
противостояния фашизму склонялись как раз правые. Испанские
правые фашистами, безусловно, не были; но то же можно сказать
и о Салазаре, и о Дольфусе, когда он только пришел к власти, и о немецких правительствах 1930–1932 гг. Испанцы, вероятно, переняли
общеевропейскую модель: начали с реакционного авторитаризма,
а закончили фашизмом. Они уже испытывали на себе давление со
стороны землевладельцев, нанимателей, гражданских губернаторов, которых в парламенте поддерживали правые. Именно поэтому
скатывание Испании в фашизм представляется закономерным.
И действительно, с победой правоцентристов на ноябрьских выборах
(по указанным ниже причинам) новое правительство продолжало
смещать курс вправо: некоторые реформы были отменены, дру-
Социалисты
453
гие проводились в менее радикальном ключе. Не все шаги нового
правительства были регрессивными, однако начиная с мая 1934 г.
правительство начало демонтаж аграрной реформы, а отличавшийся
жесткостью министр внутренних дел и гражданские губернаторы
принялись распускать левые администрации и ассоциации на местах.
В июне забастовка под руководством социалистического сельскохозяйственного профсоюза окончилась семью тысячами арестов
и тюремными сроками. Теперь правые контролировали обе ветви
госаппарата и блокировали реформы; поговаривали, что правые собираются упразднить демократию, хотя слухи эти не соответствовали
действительности.
Кабальеро теперь утверждал, что, если республика приоста
навливает реформы даже в их мягком варианте, то ответом может быть
только революция и диктатура пролетариата. По мнению Хулиа (Julia,
1983), «революционеры» Кабальеро были не более чем несостоявшиеся корпоративисты, пытавшиеся распространить свое влияние внутри
госаппарата на профсоюзы и теперь лишенные такой возможности.
При этом по левую руку от Кабальеро теперь появлялись истинные
революционеры, особенно молодежь.
Отныне количество убийств, совершенных социалистами (как
видно из табл. 9.2), начало расти; они вели подпольную деятельность
в армейской и полицейской среде, но парамилитарных формирований
по-прежнему не создавали. Хотя в исполнительных органах ИСРП
большинство сохраняли сторонники реформ, влияния на ВСТ и молодежное движение у них не было. Дебаты социалистов были щедро
сдобрены марксистской риторикой про классовую борьбу, в которой
левые имели моральное превосходство. В этих рассуждениях каждый
класс был привязан к определенной политической партии. Партия
пролетариата не могла быть союзником буржуазных партий. При
этом во многих районах Испании буржуазные левые республиканцы
привлекали на свою сторону не меньше рабочих голосов, чем социалисты (многие рабочие также голосовали за правых). Обращение
к другим классам либо по внеклассовым признакам: региону, религии,
полу — считалось у социалистов «оппортунистским отклонением».
Учитывая, что за социалистов голосовало 20 % испанцев, такие призывы были более чем актуальны (Tunon de Lara, 1985: 151). Один из
левых республиканских лидеров Асанья с холодным укором говорил
454
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
союзникам-социалистам: «Страна не поддержит восстания, потому
что четыре пятых ее народа — не социалисты».
Пожалуй, большинство сторонников социалистов остались приверженцами реформ. Члены ВСТ по-прежнему участвовали в Jurados
Mixtos; когда Асанья на массовых митингах ревностно требовал
уважать конституцию, социалисты выражали бурный восторг; умеренные социалисты получали больше голосов, чем экстремисты
(даже в правом лагере умеренные кандидаты пользовались большей
популярностью). Но партия была серьезно расколота, и действия
нового правоцентристского правительства были выгодны крайне левым. В сентябре 1934 г. весь левый лагерь (социалисты, коммунисты,
мелкие троцкистские партии) заявили о неприемлемости предстоящего включения в правоцентристский кабинет антидемократической
Испанской конфедерации автономных правых (ИКАП), о котором
ходили слухи. Это требование позволило социалистам сплотить ряды.
Реформиста Прието партия даже просила выступить организатором
будущего восстания. Предполагалось, что он свяжется с поддерживающими его военными, хотя, скорее всего, он этого не сделал. Однако
он заполучил оружие, уже приобретенное правительством Асаньи
для отправки португальским повстанцам. Можно считать это первым шагом в направлении организованного парамилитаризма. В то
же время похоже, что его цель была чисто тактической: при помощи
угроз отговорить президента от идеи принять автономных правых
в состав кабинета. Ничего не получилось: в октябре туда вошли
министры ИКАП.
ВСТ отреагировал всеобщей забастовкой. Многие полагали, что
она — предвестник революции; как мы, однако, уже знаем из опыта
других стран, левые хотя и много говорили о революции, но не спешили претворять ее в жизнь. Лидеры ВСТ за 24 часа любезно передали правительству уведомление о забастовке, рассчитывая, что оно
пойдет навстречу. Вместо этого они дали правительству возможность
себя арестовать. Большинство оставшихся на свободе пытались всеми
силами сдерживать рядовой партийный актив, который в ответ на
их воззвания загорелся надеждой и вышел на улицы (Julia, 1984).
Ослабевший сельскохозяйственный союз уже не был способен управлять деревенским населением. Хотя и без поддержки НКТ и ВСТ,
восстала часть каталанских рабочих; ключевое же восстание было
Социалисты
455
инициировано регионалистским правительством — «Эскуэррой»,
с негодованием воспринявшей известие о включении интегралистов
ИКАП в состав правительства. Вероятно, с целью предвосхитить шаги
каталонских левых (которые теперь, предположительно, готовили
вооруженные рабочие отряды), «Эскуэрра» объявила независимость
Каталонии. Некоторые сочли, что каталонцы лишь пустили в ход ко
зырь при разрешении не утихающих аграрных споров с Мадридом,
другие посчитали, что они таким образом лишь спровоцируют ввод
войск. Так или иначе, едва «Эскуэрра» засекла приближение военных
соединений, она почти сразу же сдалась. Число погибших в эти дни
в Каталонии составило 50 человек.
Восстание — первое со времен Парижской коммуны 1871 г. —
полноценно состоялось лишь в Астурии. Его инициаторами и координаторами выступили шахтеры; в сущности, это была масштабная
оборонительная операция с целью защиты шахтерских деревень.
Шахтерские профсоюзы поддержали законодательство, касающееся
техники безопасности, компенсаций за несчастные случаи, условий
труда и пенсий. Однако наниматели эту инициативу отвергли, сочтя
слишком дорогостоящей. Из-за кризиса работодатели закрывали
производство, увольняли рабочих, не следили за выполнением требований безопасности, а после перестановок в правительстве тем более
решили, что бояться им нечего. Поскольку ряды НКТ и коммунистов
пополнились за счет разгневанных шахтеров, ВСТ, не желая отставать,
также превратился в крайне радикальную организацию. Все они выступили единым фронтом — это был один из примеров настоящего
«народного фронта», каких в эти годы образовалось несколько. Восставшие захватывали шахты, фабрики и общественные здания; оружие
отнимали у сдавшихся полицейских или брали с оружейных заводов.
Восставшие установили контроль над долинами, где велась добыча, но
не смогли захватить ключевые здания в столице провинции Овьедо.
У них, как и у их соратников в других европейских странах, не было
необходимого четкого плана ведения наступательных действий, и они
не готовили боевиков, даже на примитивном уровне. Военное руководство и организацию они презирали и потому ими пренебрегали.
В боях с полицией и местной армией они стояли насмерть за свою
территорию. Но когда в провинцию прибыл 26-тысячный контингент,
состоящий в том числе из участников подавления марокканских
456
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
волнений, то перевес оказался не на стороне восставших (Aguado
Sanchez, 1972; Preston, 1978: 127–128; Shubert, 1987).
Спустя две недели восстание было подавлено. Погибли около
полутора тысяч человек. Примерно 1200 убиты правительственными
войсками, из них более половины в бою, остальные — жертвы принятых после окончания противостояния карательных мер. От рук
восставших погиб 281 военнослужащий и полицейский, а также
40 гражданских лиц, включая 29 хладнокровно убитых священников.
Правоцентристское правительство начало репрессии в национальном
масштабе; главной целью стала НКТ, не игравшая на самом деле решающей роли. Масла в огонь подливала пресса, преувеличивающая
масштаб событий. Однако норма закона военного времени была
соблюдена, и убийств почти не последовало. Около 20 тысяч левых
и региональных сепаратистов — среди них большинство руководителей НКТ, ВСТ и ИСРП — попали за решетку. Закрылись «народные
дома» и местные профсоюзы. Исполнительным указом были заменены
на своих постах более 10 % градоначальников по всей Испании. В пособничестве восставшим обвинили даже Асанью — хотя парламент
не дал делу хода. Если бы испанские правые были по-настоящему
авторитарной силой, то республике в этот момент настал бы конец.
Будь в их рядах значительное число радикальных популистов или
фашистов, возмездие было бы куда более жестоким. Однако основной целью было свернуть реформы планомерно, законным путем.
Они взяли под свой контроль оба госаппарата, а также разгромили
левых, и теперь могли осуществить свою цель при помощи респуб
ликанских институтов.
Октябрьское восстание не являлось революцией. Восставшим
не хватало единого и четкого руководства. Исключение составляла
Астурия; во всех остальных областях юные мятежники, которые
пошли на поводу у собственной наивности и вняли речам Кабальеро,
просто хаотично высыпали на улицы, не имея в достатке оружия, не
пользуясь поддержкой масс, и их тут же арестовывали — точь-в-точь
как революционеров НКТ. При всех отличиях астурийской ситуации,
даже там рабочим не хватало ресурсов для военного наступления. При
отсутствии внешней поддержки восстание было обречено. Прието
признавал, что «эту катастрофу мы заслужили собственной глупостью» и что левые после этого стали вести себя сдержаннее. Число
Социалисты
457
вспышек насилия пошло на спад; НКТ, ВСТ и коммунистические
союзы перешли к сотрудничеству (Balcells, 1971; Forner Munoz, 1982).
За несколько дней до военного мятежа Кальво Сотело признавал,
что шансы левых провести восстание за последний год стремительно
снизились (Payne, 1993: 352).
Агрессивными продолжали оставаться молодежные движения
и уличные отряды, устраивавшие стычки местного масштаба против фашистской «Фаланги» и карлистов. Этим и объясняются обстоятельства большинства убийств, совершенных социалистами
и коммунистами (данные см. в табл. 9.2). К концу 1935 г. мелкие
группы социалистов, коммунистов и анархо-синдикалистов начали
объединяться в импровизированные вооруженные отряды. Однако эта
идея так и осталась в зачатке. Социалистическое движение не было
готово оказать революционное сопротивление, хотя обстоятельства
вскоре этого потребовали. Реакцией ВСТ на военный мятеж был
лишь призыв устроить всеобщую забастовку. Предполагалось, что,
лишив государство экономических сил, можно подорвать и его военную мощь.
Таким образом, на социалистах лежит троякая ответственность
за крах республики. Во-первых, их идеология, напичканная понятиями классовой борьбы и революционными идеями, препятствовала
трезвому восприятию политической ситуации, в которой, помимо
классового самосознания, фигурировали и другие источники социальной идентичности. Таким образом, те, кто не разделял классовых
воззрений, автоматически сбрасывались со счетов. Из марксизма
социалистическая партия почерпнула идею о том, что только она
одна есть легитимный представитель пролетариата. Партия избегала прочных политических союзов и не адресовала воззваний иным
слоям, хотя только так можно было защитить республику. Отдельные
реформисты охотно шли на компромисс с буржуазными республиканцами, но партия в целом не двигалась по их пути, кроме того,
они не могли предложить никакой системы принципов, сравнимых
с господствующими марксистскими. Дело не в какой-то особой
слабости испанского социалистического крыла: большинство социалистов в то время наивно верили в свою избранность, в то, что лишь
за ними будущее. В действительности, возвышенные марксистские
принципы во многом мешали левым организовать дееспособные пара
458
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
милитарные формирования. Во-вторых, после 1933 г. в партии произошел серьезный раскол, из-за которого невозможно было разработать
сколько-нибудь целостную стратегию для республиканской власти,
для борьбы с кризисом, для усмирения собственных сторонников
(Preston, 1978; Julia, 1989; Macarro Vera, 1989). Кроме того, в 1936 г.
социалисты-реформаторы в силу тех же причин не стали формально
присоединяться к «Народному фронту». В-третьих, представители
ультралевого меньшинства, занимавшие в партии ключевые посты,
выступили против республиканцев и тем самым отпугнули многих
центристов. В 1936 г. реформисты вернули влияние, но было уже
слишком поздно. На фоне перечисленных недостатков социалистической партии рос и ширился военный заговор.
Хотя Линц, Пейн и Робинсон полагают, что партия была всецело
привержена идее реализации социалистических идеалов демократическими средствами, я не стал бы утверждать этого с уверенностью.
Реформистское крыло, как и прежде, выступало за компромисс
с целью сохранения центристского правительства; марксистская
фракция Бестейро поддерживала «буржуазный этап» революции.
Кабальеристы, ультралевые, а также молодежные движения в большей мере несут ответственность за случившееся — аналогично их
единомышленникам в остальной Европе. Именно они способствовали
низвержению республики тем, что на словах призывали ко всеобщему
восстанию, но в действительности не могли исполнить своей угрозы.
Это понимали многие правые и военные. Правые лидеры неоднократно обсуждали с генералами идею военного вмешательства; генералы
отвечали, что этот шаг не нашел бы серьезной поддержки ни в армии,
ни в народе. Вероятно, у них был другой сценарий: спровоцировать
левое восстание, которое будет изначально обречено на поражение.
Лидер «автономных правых» Хиль-Роблес позже откровенно признавался:
Я задал себе такой вопрос: «Если я не войду в правительство, я подарю Испании три месяца спокойствия. А что будет, если мы туда войдем?
Разразится ли революция? Лучше пускай она разразится прежде, чем
наберет силу и сможет нас победить». Так мы и поступили: предвосхитили удар левых, встретили их лицом к лицу и безжалостно выкинули
из власти.
Республиканский центр
459
Поскольку реальная политика (особенно в условиях кризиса)
хаотична, эмоциональна и непредсказуема, я сомневаюсь в этих
словах Роблеса и не верю, чтобы правые плели против левых такие
маккиавеллиевские интриги. Однако заговоры правых отличались
лучшей организацией, чем у левых. Кроме того, они предполагали
решительную мобилизацию военной силы. Ответственность распределялась неравномерно — мы убедимся в этом, когда рассмотрим
правое крыло.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
Поиск демократических компромиссов в испанской политике всегда
осуществлялся через центристские республиканские партии. Их
маневры действительно приводили к смене власти в ту или иную сторону. Этих политиков можно с чистой совестью назвать умеренными:
к политическим убийствам, данные по которым изложены в табл. 9.2,
ни одно центристское движение не причастно. Центристы не устраивали серьезных беспорядков, не принимали активного участия в военном мятеже. Когда пришло время, большая часть центристов встала
под республиканские знамена. Уникальность испанского сценария (по
сравнению с остальными, изложенными в этой книге) заключается
в том, что большинство буржуазных центристов никогда не предавали
идеалы демократии, а, наоборот, продолжали за них бороться.
Отсюда и часто употребляемый термин «буржуазная республика»
или «республика интеллигенции»: большинство в республиканских
партиях составляли представители именно этих слоев, в их числе
известнейшие писатели того времени — Мигель де Унамуно, Хосе
Ортега-и-Гассет и Сальвадор де Мадариага. Главная левоцентристская
партия, возглавляемая Асаньей (Партия республиканского действия),
насчитывала 140 сторонников, из которых 112 были писатели или
профессора. О своей поддержке республике заявляли журналы, клубы
и масонские ложи, в точности как во времена Французской революции
(Espin, 1980: 39, 288–292; Aubert, 1987; Marco, 1988: 171–175; Alvarez
Rey, 1993). Действительно, испанская интеллигенция поддерживала
460
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
традицию вооруженного светско-либерального восстания, которую
заложили известные своими демократическими идеалами американские и французские революционеры. Большинство интеллектуалов
в Испании, в пику церкви и старому режиму, превозносили не авторитаризм и тем более не фашизм, а реформаторскую демократию.
Из-за того что беды 1898 г. пришлись на их студенческую юность, они
еще больше убеждались в том, что должны спасти Испанию путем ее
«европеизации» (Marco, 1988: 100–102).
В строках 4–6 и 8 табл. 9.1, а также в строках 7–9 табл. 9.2 Приложения приведены данные о социальном происхождении партийных
лидеров (взятые из трудов местных исследователей: Tusell Gomez,
1970; Bermejo Martin, 1984; German Zubero, 1984; Cancela, 1987).
В отличие от левых республиканцев в сельских районах, у центристов преобладали люди интеллигентных профессий, на втором месте
были госслужащие и собственники недвижимости. Руководители
в Севилье (подробно изложено в табл. 9.2 Приложения) были из
зажиточной части среднего класса: преобладала интеллигенция, затем торговые работники, правоцентристский блок был представлен
предпринимателями, а левоцентристский — конторскими служащими. Прослеживается отчетливая связь между профессиональной
принадлежностью и политическими воззрениями. Так, школьные
учителя распределены по всему левому крылу, но больше всего их
в рядах социалистов и левых республиканцев (радикал-социалистов,
как во Франции). Врачи и ветеринары тяготеют вправо, с ними же
юристы, а также правые антиреспубликанцы. Нам также известно,
что на выборах в Верховный суд в 1933 г., где голосовали юристы,
большинство из них отдало предпочтение правоцентристам. Тяготели
вправо и военные, и уж совсем убежденными консерваторами были
агрономы и священники. Лидерами во всех партиях становились
университетские профессора и журналисты.
Глядя на приведенные данные, нетрудно проследить признаки
«двух» государств: первое — гражданское, ориентированное на услуги, — проявляло признаки светского и левоцентристского; второе
было военным, клерикальным, ориентированным на приказы и, соответственно, старорежимным, правым. Среди партийных лидеров
почти не было рабочих, за исключением конторских работников
в верхушке у левых. Не наблюдаем мы там и крупных предпринима-
Республиканский центр
461
телей; участие мелких предпринимателей проявлялось на местном
уровне. Хотя данные партии носили выраженно буржуазный характер,
благодаря их светской, модернистской ориентации, а также умеренности в классовых вопросах они сумели получить голоса в регионах,
где преобладал более светский средний и рабочий класс.
Однако для большей части левоцентристов классовые вопросы
значили меньше, чем антиклерикализм и антимилитаризм (Espin,
1980: 106–112, 293–296; Farre, 1985). Возможно, главным образом
именно поэтому такие активисты, в отличие от их коллег в других
странах, ни за что бы не перешли в правый лагерь. Сама возможность
классовой солидарности буржуазных либералов и консерваторов
сводилась на нет за счет фундаментальных разногласий по военным
и религиозным вопросам. Однако в результате более традиционные
военные и религиозные деятели-консерваторы начинали тяготеть
вправо. Последствия такого отношения довольно точно предсказал
в парламенте Унамуно:
В этой палате слишком много профессоров. Как только армия нарушает закон, они тут же формируют антимилитаристскую партию; как
только закон преступило священство — антиклерикальную. При наших
детях, при наших внуках в Испании, несомненно, появится антипрофессорская партия (Aubert, 1987: 186).
Некоторые говорят, что это левые республиканцы подвигли церковь к нападкам на демократию (напр., Payne, 1970). Тут явное преувеличение: церковь и до этого была настроена реакционно, а республиканские законы в стране были отнюдь не радикальнее, чем в других
католических государствах (Jackson, 1965: 48). Республиканцы, как
и в остальных странах, четко разделяли церковь и государство, проповедовали религиозную терпимость и провозглашали факт отсутствия
в Испании официальной государственной религии. Спустя два года
государство прекратит финансировать светское духовенство, религиозные ордена обяжут регистрировать имущество, оставляя себе
лишь жизненно необходимую его часть. Иезуиты, согласно конституции, как и в других странах, подлежали изгнанию, в случае если
не принесут присягу полного послушания папе (чего бы они делать
ни за что не стали). Более провокационное действие имел запрет для
462
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
религиозных орденов на преподавание (за исключением подготовки
священников). Но хуже всего было то, что законодательство против
реакционной церкви представили наспех и продвигали очень агрессивно — отсюда складывалось впечатление, что республиканцы заодно
с более ярыми, крайне левыми антиклерикалами.
Папа римский угрозы не представлял. Он искал компромисса
и вынужден был отправить на покой непокорного примаса кардинала Сегуру. Однако испанская церковь стала под знамена примаса.
Священники призывали мирян усилить антиреспубликанское сопротивление. Провокации со стороны священства вызвали зеркальную реакцию Асаньи, который воспринял разгоравшийся конфликт
с ликованием. Перед парламентом Асанья заявил, что «Испания
больше не католическая страна», и, подобно Робеспьеру или СенЖюсту, добавил: «И не говорите мне, что таким образом ущемляется
свобода; таким образом оздоровляется общество». Конечно же,
он не имел возможности оценить эффект, который произвели его
выпады на убежденных католиков всех классов (Payne, 1970: 92,
1993: 82–83). Вследствие этих его выступлений многие верующие
(особенно женщины и пожилые люди) переходили в правоцентристские партии и вообще тяготели вправо. Впоследствии мы
увидим, что источником авторитарных ультраправых настроений
стала именно церковь.
Фракции, составляющие левоцентристские коалиции, ин
тересовались различными политическими вопросами. Так, к классовым вопросам радикальнее, но при том ответственнее других
подходили социалисты; это касалось, по крайней мере, промышленной отрасли, для которой эти вопросы имели ключевое значение.
Декларируемой целью центристов было классовое примирение, но на
самом деле этот вопрос не слишком их интересовал, и, встретившись
с сопротивлением работодателей, они сворачивали свои инициативы.
Никто из центристских политиков не проявлял подлинного интереса
и к аграрной сфере: деревенских жителей, делегатов от деревни среди
них не было (Heywood, 1990: 139–143). Социалистов, напротив, не
интересовали религиозные вопросы. Таким образом, если коалиция
встречала сопротивление в парламенте или госаппарате, она крайне редко выступала против него единым политическим фронтом.
В этом и состояла ахиллесова пята левоцентристского альянса —
Республиканский центр
463
не в отсутствии веры в демократические идеалы, но в невозможности
осуществлять политику51.
У правоцентристов наблюдался иной недостаток: они чтили традиции монаршего «поворота» и потому считали своими святыми обязанностями служение и покровительство. Крупнейшей на этом фланге
была Радикальная партия, ряды которой сплошь пестрели не столько
интеллигентами, сколько именитыми юристами и были несколько
разбавлены крестьянами-середняками, а также промышленным
и торговым средним классом. Изначально партия получила мощную
поддержку, в том числе и от рабочих организаций. В отличие от ИСРП
и автономных правых, у нее было мало сторонников на региональном
уровне. Изначально имевшая либерально-антиклерикальную ориентацию, партия постепенно сместилась вправо, приобрела популистский характер, где преобладала не политика, а риторика. Партийные
лидеры призывали к реформам «ради всех испанцев, ради народа»
(причем употребление слова «народ» в таком популистском ключе
у них переняли в гражданскую войну республиканцы и социалисты),
но насчет улаживания классовых и региональных распрей не предлагали никакого рецепта. Заручившись поддержкой всех классов,
партия тем не менее становилась все более буржуазной. Радикалы
вновь поправели — не исключено, что под влиянием умеренных
монархистов, отличавшихся консерватизмом в классовых вопросах.
Самая либеральная из партийных фракций теперь вышла из состава
партии и поддержала Асанью (Manjon, 1976: 192–201, 252, 403–408,
589–600, 611–614, 681; Bermejo Martin, 1984: 453–454; Townson, 1988:
65–67).
Последующий выход радикалов из левоцентристской коалиции
спровоцировал выборы 1933 г. По их итогам лидирующие позиции
в новом правоцентристском правительстве заняла Радикальная
партия, намеревавшаяся изменить конституцию с целью сохранения порядка и собственности. Радикалом был министр внутренних
51
Действительно, в 1933 г. левые республиканцы и социалисты тяжело переживали свое поражение и обратились к президенту с просьбой провести
повторные выборы (Payne, 1993: 181–182). Но этот момент был кульминационным, потом настроения пошли на спад. Левые республиканцы ни
разу организованно не выступили против демократии.
464
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
дел, развязавший репрессии в 1934 г. В то же время радикалы были
еще и оппортунистами и (подобно активистам современных им
партий) полагали, что не так важно провозгласить абстрактные
принципы, как получить доступ к власти и влиянию. Поскольку
разных принципов в республике провозглашалось множество, по
добное прагматическое отношение было весьма благотворно с точки
зрения демократии: эта центристская партия готова была идти на
уступки всем, кто предложит им министерские портфели. Однако
для подобной партии особо губительна коррупция: захлестнувшая
ее в 1934 г. волна скандалов в конечном счете ее потопила. К концу
1934 г. поддержка партии начала слабеть, а на выборах 1936 г. ее
ждало сокрушительное поражение, вследствие которого к власти
и пришел «Народный фронт».
Радикалы сильно отличались от правых партий: для последних
всепоглощающими были принципы — частная собственность, порядок,
иерархия, религия и территориальная целостность страны. Но те и другие вполне могли объединиться на почве второстепенного отношения
к демократии: ведь и стремление к власти, и консервативные ценности
часто ставят выше нее. Такова была ахиллесова пята правоцентристов,
из-за которой в 1936 г. они неоднократно поддерживали призывы
призвать на помощь армию. Возможно, левоцентристы не сумели
провести реформы и не уберегли республику, зато они неуклонно
верили в республику и за счет этого пользовались неизменной поддержкой народа. Правоцентристы отдавали голоса «направо» и в конечном счете начали двойственно относиться и к республике. Самые
правые из правоцентристских фракций присоединились к призывам
свергнуть республику военной силой52. Разорение, выхолащивание
52
Пейн (Payne, 1993: 208, 255–256, 381–384) утверждает, что единственными
настоящими конституционными демократами были радикалы, а также
другие «либералы-центристы». Он не приводит никаких свидетельств
непродолжительных переговоров Асаньи с президентом в октябре 1934 г.
Он также цитирует заявление молодежного движения левых («[мы] левые,
демократы и парламентарии, именно в таком порядке»), таким образом
объясняя, почему он исключает левых республиканцев, в то время как
многие его «либералы-центристы» мечтали подвергнуть левых жестким
репрессиям. Пейн также дает весьма мягкую оценку Испанской конфедерации независимых правых (в противоположность Престону).
Правые
465
рядов правоцентристов наблюдалось в Испании в меньшей степени,
чем в Веймарской республике, тем не менее именно вследствие этого
процесса Испанская республика и рухнула.
ПРАВЫЕ
Главными соратниками мятежных военных, конечно же, стали испанские консерваторы. Выражавшие двойственные чувства по отношению к новой народной республике, консерваторы на первых
выборах выступили довольно слабо. Главный печатный орган правых
газета «El Debate» тогда обратилась с призывом: «Мы все обязаны
защитить Испанию, самих себя, наши материальные и духовные
богатства, наши убеждения... обеспечить сохранность частной собственности, иерархии общественной и трудовой». Таким образом
родилось явление, известное как «акцидентализм». По сравнению
с этими целями, любая конституция была неважна, эфемерна, случайна («акцидентальна»). Демократию — в случае если целью таковой
становился консерватизм — принимали как наименьшее зло. При
этом консерваторы осознавали, что у них нет альтернативы тому,
чтобы еще активнее участвовать в выборах, пробуя мобилизовать
население при помощи политических партий нового типа. Некоторые
правые увлекались фашизмом или замышляли военные перевороты,
но большинство понимали, что единственные правила игры — это
правила электоральные (Preston, 1978: гл. 2; 1986: 111–126; Alvarez
Rey, 1993: 448).
Давайте посмотрим, из каких компонентов состоял испанский
консерватизм. Одним из его бастионов был класс капиталистов,
большинство из которых так или иначе спровоцировали падение
республики. От нанимателей вне аграрного сектора требовали не революции, а реформ, и тем не менее они активно выступали против них,
полагая, что реформа угрожает их праву собственности. Их заявления
несли на себе отпечаток «реакционного провинциализма», который
Кабрера считает отражением «аграризации испанской буржуазии».
На фоне недовольства рабочих многие были согласны подавить его
законными методами, привлекая гражданских губернаторов, поли-
466
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
цию, Национальную гвардию и армию. Вот при таких обстоятельствах и была совершена третья часть убийств, задокументированных
в табл. 9.2. В условиях экономического кризиса наниматели, начиная
с 1933 г., в сотрудничестве с правоцентристским правительством
пытались ослабить рабочие Jurados Mixtos. Их вновь ввели в состав
министерства внутренних дел, и они стали чаще выносить решения
в пользу работодателей. Особенно неуступчивыми работодатели
стали в 1936 г., после победы на выборах «Народного фронта», из-за
непоследовательности в его экономической политике и из-за волны
забастовок с требованиями повысить зарплату и сократить рабочие
часы. Теперь многие говорили, что республика для страны — непозволительная роскошь (Cabrera, 1983: 251–286; Carmona, 1989: ч. 3;
Macarro Vera, 1989; Tusell Gomez et al., 1993).
Однако среди промышленников и финансистов было крайне мало
политических деятелей. Точной информации о взглядах капиталистов
у нас нет, однако можно предположить, что они склонялись не к военной диктатуре, а к полуавторитарной республике, где царили бы
закон и порядок (как режимы до Примо, а также в 1934 и 1935 гг.).
Предприниматели числились в основном не среди антиреспубликанцев, а в рядах правоцентристов (табл. 9.2 Приложения). Некоторые
капиталисты финансировали «акциденталистских» автономных
правых, а также традиционалистские и открыто авторитарные партии «Испанское действие» и «Испанское обновление» (Montero,
1977; Cabrera, 1983: 307–312; Morodo, 1985: 48–52; Preston, 1986).
Что касается фашистской «Фаланги», то, как только стал очевиден
ее радикальный характер, финансирование пошло на спад, но за несколько месяцев до непосредственно военного восстания его объемы
вновь выросли. Хотя военное вторжение в конце концов поддержали
многие, посвящены в планы заговорщиков были единицы (Payne,
1962: 61–62; Preston, 1978: гл. 7). Так что нельзя сказать, что промышленники и финансисты сгубили республику единолично, хотя
их вклад, безусловно, способствовал ее гибели.
Более очевидной была роль латифундистов: особую активность
в ультраправых антиреспубликанских партиях проявляли оставшиеся
в Севилье рантье (табл. 9.2 Приложения, строки 1 и 2). Практически
повсеместно землевладельцы противостояли рабочим союзам, Jurados
Mixtos, и, конечно же, всем республиканским реформам. В более за-
Правые
467
житочных или небольших крестьянских районах нажим мог быть
сильнее, и тогда наниматели вынуждены были уступать (Bosch,
1993). Но в районах с более крупными хозяйствами, особенно на юге,
землевладельцы были куда менее гибкими. Благодаря возможности
заключать союзы они скорее отказались бы заниматься землей —
и тогда голод заставил бы крестьян подчиниться, — чем согласились
бы повысить жалованье или принять ограничения их свободы как
нанимателей. Около трети убийств, данные о которых приведены
в табл. 9.2, связаны с призывами землевладельцев к властям принять меры для подавления беспорядков. Волнениями была охвачена
большая часть сельскохозяйственных угодий на юге. Захваты земель
приобрели характер эпидемии; многие политики понимали, что
положить им конец сможет лишь масштабная земельная реформа.
Но с распределением земель было не все так просто: ни церковь, ни
государство особо землей не владели. Поскольку в конце XIX века
буржуазия на юге скупила все угодья, нельзя было возложить вину
на один лишь «реакционный феодализм». Проблема имела в своей
основе вполне современные классовые противоречия. Государство
располагало лишь крохотной казной и неспособно было выплатить
компенсацию землевладельцу. Конфликт на юге мог быть разрешен
только сильным государством — либо подавлением рабочих волне
ний, либо земельной реформой, которая нанесла бы ущерб землевладельцам.
В самом начале у республиканского правительства были благие
намерения. Кабальеро распространил законодательство по нечастным
случаям, инспекциям, разрешению споров на аграрный сектор и запретил завозить штрейкбрехеров из других районов. Зарплаты росли,
в то время как цены из-за кризиса пошли вниз, и это способствовало
отчуждению даже мелких фермеров, пользовавшихся наемным трудом.
Власти планировали осуществить и реформу арендного права, хотя
претворить ее в жизнь могла лишь Каталония, где существовала развитая организация арендаторов собственности. Но аграрный вопрос
так или иначе упирался в проблемы на юге (Malefakis, 1970; Tunon
de Lara, 1985: 210–218). Первое правительство, левоцентристское,
пообещало провести радикальные реформы и ради этой цели издало
массу документов, в том числе финансовых, однако они вызвали
решительное неприятие со стороны правых и фермеров, что пошат-
468
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
нуло позиции центристов. Не менее трудно было принимать законо
проекты, которые были бы одновременно и ориентированы на юг,
и приемлемы для других регионов. К сожалению, этот вопрос был
у левоцентристской коалиции не в приоритете; республиканцы делали
акцент на антиклерикализм, а социалисты — на классовый конфликт
в промышленной городской среде. Из 470 депутатов в ключевом заседании по аграрному вопросу приняли участие только 189. Затем из-за
усиления авторитета Национальной федерации земельных рабочих
(НФЗР) — социалистического профсоюза аграриев — социалисты
чувствовали необходимость действовать. Но наиболее заинтересованными организациями на тот момент были реакционная Аграрная
партия и анархо-синдикалисты; и те и другие были против республики.
Так с треском провалилась первая аграрная реформа, предусматривавшая конфискацию земель у 80 тысяч мелких и средних
крестьян, а также латифундистов. Порядок был таков, что первыми
получить землю должны были абсолютно безземельные крестьяне,
затем — граждане, два года числившиеся членами какого-либо общества аграрных рабочих (главным образом ВСТ), затем собственники
менее 10 гектаров, затем арендаторы или испольщики, в чьем ведении находилось менее 10 га (хотя мелкие арендаторы, у которых
срок аренды был шесть лет, могли выкупить землю). Это порождало
массу несправедливостей. Ни левые республиканцы, ни социалисты
всерьез не делали ничего для освобождения мелких крестьян от гнета землевладельцев или церкви. Закон был внедрен фрагментарно,
и часто внедрением занимались враждебно настроенные гражданские
губернаторы и местные органы власти. Большинство забастовок
и земельных захватов, случившихся в 1933 г., были реакцией на неспособность претворить в жизнь реформы.
На выборах 1933 г. к власти пришло правоцентристское правительство во главе с радикалами при поддержке конфедерации
автономных правых (ИКАП) и партии аграриев (землевладельцев).
Теперь землевладельцы входили в состав правительства и могли
нейтрализовать призыв к реформам, исходивший от малочисленного
христиан-социалистического крыла автономных правых. Радикалы
в реформах заинтересованы не были, и большинство депутатов от
правой конфедерации присоединились к аграриям и блокировали
любые предложения, которые пытался внести министр сельского
Правые
469
хозяйства — активист христиан-социалистического крыла. Социалистическая партия испытывала давление со стороны Национальной федерации земельных рабочих, которая требовала устроить не аграрную
реформу, а целую аграрную революцию. Аграрное законодательство
было отменено; на юге усилились волнения.
Победа в 1936 г. «Народного фронта» означала, что аграрная реформа возобновится с новой силой. И Асанья, и социалисты полагали, что только так можно справиться с царящим в обществе хаосом.
Перераспределению подверглись 5 % всех посевных площадей в Испании — и народ требовал продолжать. Землевладельцы поняли, что
правительство не станет отправлять войска на борьбу с незаконными
захватами (в которых участвовали градоначальники-социалисты).
Теперь у власти недоставало законной военной силы. В самом деле,
будь я тогдашним андалузским помещиком, нечасто навещающим
свои владения, привыкшим к цивилизованной жизни в роскоши,
я бы не преминул обратиться к генералам. Но проблема в том, что
землевладельцы Испании (так же как и в Италии) сумели заставить
остальных обслуживать их интересы. Неужели все вокруг подхватили
эту «аграрную заразу» — и как это могло случиться?
Версию об аграрном характере испанского консерватизма довольно трудно подтвердить или опровергнуть. Традиционно этот
консерватизм покоился на трех столпах — монархии, армии и церкви;
все три перечисленных института были сильны в деревне и в старых городах. Однако вследствие действий монархии консерваторы
оказались в разных партиях, поддерживающих разные королевские
династии. Армия консерваторам явно симпатизировала, поэтому при
необходимости для восстановления порядка и безопасности всегда
имелся последний вариант — военный переворот. Но военные всегда
были в некотором роде отдельной, стоящей особняком кастой; армия
порядком перегорела политически после путча Примо и нескольких
последующих неудачных попыток заговоров, поэтому к идеям новых
заговоров относилась с опаской. А объединяющей, мобилизующей
силой и моральной основой должна была стать католическая цер
ковь. Консерваторы в Испании имели не столько аграрный, сколько
христианский уклон.
Церковь решительно выступала против республики, поскольку
опасалась антиклерикальных реформ; церковников преследовали
470
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
воспоминания о массовом истреблении священнослужителей, каковое
имело место в XIX веке, теперь же к подобному как будто призывали
анархисты (к сожалению, вследствие непримиримости церкви по
многим вопросам такой сценарий был более чем возможен). Влияние церкви вскоре распространилось в рядах правых. Большинство
видных консерваторов всячески подчеркивали принадлежность
к христианской вере и были членами различных католических групп
влияния — обществ отцов, матерей, женских и молодежных организаций, ассоциаций публицистов, педагогов, врачей и так далее. Так,
в Вальядолиде в левом Народном доме размещались организации,
насчитывавшие в общей сложности 6 тысяч членов — вдвое меньше,
чем в Католическом Общественном доме. Католические потребительские общества, а также образовательные и больничные кассы
были значительно крупнее, чем у социалистов (Palomares Ibanez,
1988: 58–77, 123). В масштабе страны католические союзы составили
10 % от профсоюзов социалистов и анархо-синдикалистов, вместе
взятых, — сила небольшая, но легко мобилизуемая.
Рассмотрим консервативные партии по отдельности, начиная
с наиболее популярных. На раннем этапе ключевое значение имела,
в числе прочих, партия «Народное действие», имевшая на удивление
социально разношерстный состав. В 1932 г. в классовой структуре
членов партии в Севилье (подробно изложено в табл. 9.2 Приложения,
строка 3) начали преобладать низы, хотя в целом прирост численности
произошел в средней прослойке. В Саморе 26 % членов «Народного
действия» составили рабочие, ремесленники и слуги, 8 % — крестьяне,
16 % — служащие, 13 % — представители интеллигентных профессий,
18 % — священники, 19 % — предприниматели и торговцы. Из двух
местных сельских представительств в одном состояли 70 % фермеров
и 20 % рабочих (в основном сельскохозяйственных), состав другого
был более разнообразен, но преобладали предприниматели и рабочие. Участие церкви способствовало тому, что в партию попадали
представители низших и средних слоев; такая картина, в частности,
наблюдалась в женской организации (Mateos Rodnguez 1993). Именно
церковь и оказывала самую мощную поддержку испанским консерваторам вне зависимости от классовой принадлежности.
В начале 1933 г. большинство консервативных партий объ
единились в Испанскую конфедерацию автономных правых (ИКАП).
Правые
471
Вскоре конфедерация огласила свою численность, составившую
735 тысяч человек; таким образом, она стала крупнейшей в стране
политической партией. Неофициально считается, что именно она
оказала наибольшую поддержку во время военного переворота 1936 г.
Национальные и региональные лидеры ИКАП были из интеллигентов
и крупных собственников, в некоторых регионах преобладали банкиры и сановники. Если брать рядовых партийных активистов, то на
уровне средних классов их состав был еще разнообразнее: из 77 членов
местных комитетов по всей Испании 33 % составляла интеллигенция,
20 % — госслужащие, 13 % — торговцы, 9 % — конторские служащие,
9 % — помещики/фермеры и 12 % — рабочие (табл. 9.1 Приложения,
строка 4). Отличавшееся большой численностью молодежное движение автономных правых, по сообщениям современников, состояло
преимущественно из учащихся среднего достатка, хотя точных цифр
на этот счет нет.
Помимо классовой принадлежности большую роль играли религия, пол, а также факт занятия сельским хозяйством. По данным
мадридского филиала, 45 % его членов составляли женщины — ситуация совершенно уникальная на фоне других партий того времени
(Payne 1993: 168), хотя в большинстве провинций основной костяк
активистов был из крестьянских семей. Ключевую роль в мобилизации женщин и фермеров играла церковь: все они были активными
прихожанами и участвовали в церковной жизни. Автономные правые
подчеркивали, что для них восстановление величия церкви превыше
всего остального. Многие в конфедерации правых открыто заявляли
о своей религиозности; эти люди пришли в партию из мирских католических организаций, более крупных, чем местные профсоюзы (данные
по Мурсии см.: Moreno Fernandez, 1987; по Саламанке: Vincent, 1989:
83). Крупнейшей дочерней организацией автономных правых была
католическая ассоциация фермеров со штаб-квартирой в Кастилии.
Ее руководители ставили целью привлечь в свои ряды видных людей
всех социальных слоев, главным образом тех, кто занимался церковными делами, а также благотворительностью (Castillo, 1979).
Материальными интересами автономные правые отнюдь не пренебрегали. Руководители конфедерации настаивали на нерушимости
права собственности, которому был привержен и землевладелец,
и капиталист, и мелкий буржуа. Что касается крестьян, составляв-
472
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
ших ядро партии, то здесь лидеры играли на обычных отраслевых
интересах, связывавших крестьян и землевладельцев, — это были
высокие цены на продукты и низкое жалованье (Montero, 1977:
419–449). При этом классовые и отраслевые интересы интерпретировались в моральных категориях более широкого порядка, вокруг
интегралистско-националистской идеологии, которая гарантировала
порядок и безопасность, обещала преодоление и подавление классовых и региональных конфликтов и беспорядков. Призывы христиано-социалистического крыла партии не забывать о судьбе бедных
играли важную идеологическую роль во время выборов, но фактически христианские социалисты не оказывали глубокого влияния
на политику конфедерации. С особой осторожностью подыскивали
для человека социальный ярлык: так, за термином «labrador» (буквально «пахарь») или «agricultor» («хлебороб», «фермер») чаще
всего скрывался отсутствующий на земле собственник, но благодаря
такому значимому почетному наименованию можно было подумать,
что этот человек — действительно трудяга от сохи. Именно в силу
этой терминологии по книгам конфедерации трудно восстановить
классовое происхождение активистов, причем сделано это специально. Хотя в филиалах автономных правых часто преобладали люди
старого режима, в сельских районах с более религиозным населением
и старых административных центрах Кастилии партия собирала
голоса представителей всех классов. Иначе говоря, электорат партии не ограничивался пролетарскими гетто, светской буржуазией
и сепаратистскими движениями.
Отношение к демократии у Конфедерации автономных правых оставалось идеологически «акциденталистским». Частично
это было связано с необходимостью избежать конституционных
споров между тремя основными разрозненными фракциями: христианскими демократами, «касикам» и авторитарными активистами (Tusell Gomez, 1974). Вопросы конституций обсуждались
в рамках конфедерации преимущественно не как принципы, а как
«тактические возможности»; демократия при этом рассматривалась
как «меньшее из зол» (Montero, 1988: 17; Preston, 1986: 111–126).
Конституция имела меньшее значение (то есть была «акцидентальна») по сравнению с целями, которым она служила; это убеждение,
конечно же, разделяли и на левом фланге. Руководители правых
Правые
473
настаивали на том, чтобы республика пересмотрела свою конституцию в части отношений церкви и государства, а затем расширила
условия. Если бы республика была способна гарантировать порядок,
неотъемлемость собственности, права церкви, межклассовый мир
и целостность Испании — автономные правые готовы были согласиться на демократию. В противном же случае партия — негласно,
но очевидно для всех — склонялась к варианту военного режима.
Однако конфедерация правых была готова терпеливо подождать
до четвертой годовщины республики (то есть до декабря 1935 г.),
после чего добиться внесения поправок в конституцию можно было
бы просто по праву большинства в парламенте. Лидер автономных
правых Хиль-Роблес, поставивший на парламентаризм, рисковал
своим положением, но даже он считал нужным сыграть ва-банк.
В декабре 1933 г. он еще заявлял следующее:
Сегодня я намерен оказать содействие в создании правительства
центра; завтра, когда придет время, я потребую полномочий и проведу
реформу конституции. Если мы не получим власти, если история покажет
невозможность поступательного консервативного развития, то респуб
лика заплатит сполна. Это не угроза, а всего лишь предупреждение.
К октябрю 1935 г. в его «предупреждении» появляются фашистские нотки:
Мы должны основать новое государство, очистить отечество от
жидовствующих франкмасонов... Переход к новому государству потребует от нас исполнения долга и многих жертв. Но что значат они для
нас, если мы готовы пролить кровь!.. Нам нужна вся полнота власти, вот
наше требование. И мы придем к этой цели, не теряя время на возню
с архаичными формами. Демократия — не цель, но средство для обретения нового государства. Придет время, и либо парламент передаст
нам власть, либо мы его ликвидируем (Preston, 1978:98, 48).
За исключением упоминания масонов, которое выдает в ораторе
католика, эта речь вполне подошла бы Гитлеру или Муссолини.
С этого времени республиканцы и социалисты стали называть
Конфедерацию правых «фашистской» и заявлять, что в коалиционном
правительстве им не место. Фашистской Конфедерация автономных
правых, конечно, не была.
474
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
Она выступала за традиционные государственные институты
и особо отвергала парамилитаризм. Автономные правые были не
менее разношерстны, чем партия социалистов, с той лишь разницей,
что, ведомая церковью, Конфедерация отличалась большей дисциплинированностью. Республиканцы предприняли попытку расколоть ее,
предложив места в коалиционном правительстве левому ее крылу, —
ход был отличный и, несомненно, спас бы демократическую респуб
лику, — но все усилия оказались напрасны: леваки в рядах Конфедерации правых полагали, что они ни за что не справятся в одиночку,
вне защитного панциря, каковым являлась их организация — пусть не
фашистская, но реакционно-авторитарно-католическая. Другое дело,
что для социалистов, республиканцев и сторонников региональной
автономии значимой разницы между фашизмом и реакционным
авторитаризмом не существовало. Левые знали, что Конфедерация
несомненно свернет республиканские реформы, будет подавлять их
движения, будет арестовывать их и бросать в тюрьмы. Они опасались
именно конкретных действий правых, а подоплека этих действий,
фашистская ли или просто реакционно-католическая, была им безраз
лична. Любые авторитарные активисты, стремящиеся арестовывать
европейских левых и левоцентристов, в их устах становились «фашистами». Действительно, в некоторых странах подобные движения
в итоге превращались в фашистские, и испанцам это было хорошо
известно. Автор этой книги — внимательный к терминам социолог,
и он воздерживается от того, чтобы называть автономных правых фашистами, но вот их оппоненты считали себя вправе (руководствуясь
глубоко личными мотивами) определять их именно так.
В конце 1934 г. Конфедерация правых контролировала оба испанских госаппарата и проявляла отчетливые полуавторитарные
наклонности: после октябрьского восстания она возглавила репрессии
против его участников. Это решение имело нежелательные последствия: оно отвратило от партии колеблющихся центристов (Montero,
1977: II, 124). Когда подпитываемая скандалами слава Радикальной
партии начала сходить на нет, лидер автономных правых Хиль-Роблес
предположил, что ему (как лидеру крупнейшей партии в правящей
коалиции) будет предложено сформировать новое правительство.
Но страх перед конфедератским «фашизмом» был так велик, что
президент Самора отказал Роблесу и вместо этого объявил выборы.
Правые
475
Конфедерация автономных правых не сомневалась в своих силах и начала избирательную кампанию активно, выставив своих оппонентов
аморальными предателями нации. В результате от Конфедерации
отвернулись, расторгнув с ней союз, некоторые консервативные
республиканские и региональные партии. За счет этого на выборах
у «Народного фронта» появились лишние 5 % голосов; не исключено,
что еще больше левым подарили напуганные анархо-синдикалисты,
которым впервые пришлось участвовать в голосовании. В совокупности эти голоса стоили правым победы: ситуация складывалась так,
что в обозримом будущем достичь своих целей демократическими
и законными методами им бы точно не удалось.
Члены Конфедерации, ультраправые, не умели ни с кем договариваться. То же можно сказать и о церкви, которая всегда демонизировала политических противников. В своих газетах, листовках
и ораторских выступлениях правые настойчиво призывали к «реконкисте». Этим звучным словом в испанской истории уже обозначался период освобождения от исламского ига в Средние века.
Теперь же, по замыслу правых, Испания освобождалась от нового
гнета, в который ввергли ее социалисты, анархисты и республиканцы, чуждые интегральной, то есть органической, целостной нации.
Установление республики повлекло за собой раскол, гибель, анархию. Предвыборный плакат ИКАП гласил: «Голосуя за республику,
голосуешь за гражданскую войну». Испанию, по их замыслу, нужно
было спасать от «марксистов, масонов и сепаратистов, обслуживающих интересы иностранцев. Они — не испанцы!». Свою лепту внесла
и церковь, объявив разворачивающуюся борьбу не политической,
а «моральной» — борьбой между «созиданием и разрушением; между
страной старинных обычаев, религиозных принципов, сохранения
уклада — и анти-Испанией: страной разрушений, сожжения церквей и... революции». Провозгласив «крестовый подход молитвы
и возмездия», церковь требовала молитв, жертв и мщения во имя
победы над «теми, кто отступил от Христа и поднял знамя разрушений и ненависти. над врагами, отступниками от веры и родины».
В 1936 г. в католической печати впервые появились выпады в адрес
консервативных республиканцев — их выставляли антихристианами
(Vincent, 1989: 80–86; Montero, 1977; Bermejo Martin, 1984; Lannon,
1984; ср. Alvarez Chillida, 1992; Alvarez Rey, 1993: 334–336). Этот мо-
476
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
мент был решающим: в исключающем органическом национализме
появилась изрядная доля церковности, что создало подоплеку для
описания предстоящего военного мятежа как «крестового похода
против анти-Испании». На фоне столь мощного идеологического
давления многим испанцам было трудно взглянуть на программы
соперничающих партий трезво, расчетливо, с позиций собственных
частных интересов. Капиталистам везде, кроме южных районов, также
было трудно соотнести эти программы со своими устремлениями —
к прибыли и сохранению собственности. Был в значительной степени
мобилизован идеологический потенциал — сыграли на экономических
интересах католиков. Действительно, целью в данном случае была
победа на выборах. Но что, если бы они проиграли? Согласились
бы они подчиниться правлению тех, кого считали исключительно
чужаками, врагами и предателями?
Правый национализм, представлявший собой сочетание ненависти и морализаторства, был идеологией более цельной и более
опасной, чем правый этатизм. Последнее имело «акцидентальный»
характер: правые плохо себе представляли устройство желаемого
авторитарного государства. Несколько боевых активистов автономных правых оказались заражены фашистскоподобной идеологией,
предполагавшей репрессии и мифический «третий путь», заключавшийся в установлении порядка, иерархии и гармонии. Молодежное
крыло Конфедерации активно пользовалось фашистским инструментарием: мобилизовывало массы, устраивало уличные погромы,
превозносило «вождя» (Montero, 1977: I, 621; II, 81, 248; Preston 1986:
63–68). Но тенденция не была единообразной: в Севильской партии
господствовали не столько фашистские настроения, сколько идеи
возврата к «касикизму» (Alvarez Rey, 1993). Было у молодежного
крыла и приветствие, слегка напоминающее фашистское: правая
рука согнута в локте, ладонь отведена чуть за спину. Попробуйте
сами так вскинуть руку — согласитесь, для фашистского салюта это
как-то беспомощно, зашуганно, как будто человек стесняется своих
ультраправых убеждений. Не много существовало в Испании и правых
парамилитарных формирований: ряд молодежных групп требовали
создать такие отряды, но руководство Конфедерации добро не давало.
Имея в качестве основной силы боевиков-карлистов да немногочисленных «фалангистов», правые искали военной поддержки в армии.
Правые
477
У Конфедерации не было четких планов будущего государственного
устройства: им достаточно было мятежа — «пронунсиаменто». Акцидентализм Конфедерации правых распространился в конечном счете
и на них самих. С восстанием армии Конфедерация исчезла: политические партии были более не актуальны, партийцы перестроились
и приспособились к новому режиму. Именно на автономных правых
и лежит наибольшая политическая ответственность за уничтожение
испанской демократии. «Акциденталистский» сценарий развития
событий в итоге оказался для страны губительнее потенциального
революционного пути, по которому шли анархо-синдикалисты и социалисты.
Правее Конфедерации стояли, во многом пересекаясь с правым
ее крылом, партии, именовавшие себя «традиционалистскими»: эти
в открытую отвергали республику и демократию. Таковыми были
аграрии, а также по большей части карлисты и альфонсисты. Однако
благодаря республике они все активнее перенимали авторитарные
корпоративистские идеи, которые пропагандировала влиятельная
группа, известная как «Испанское обновление». На крайне правом
фланге границы между авторитаристами разных направлений были
практически стерты. Ядро ультраправых составляли регионалисты
и церковь; в лидерах ходили землевладельцы, юристы, священнослужители и военные, способные, однако, мобилизовать куда более широкие, внеклассовые группы своих преданных сторонников, которых
они именовали не иначе как «людьми большой моральной стойкости,
убежденными католиками, уважающими традиции патриотами».
Сторонники из числа рабочих характеризовались как «достойные,
почтенные люди католической веры». Высокоморальная риторика ультраправых была весьма заманчива, особенно для учащихся
(Alvarez Rey, 1993: 307–311). У карлистов была несколько странная
комбинированная идеология, имевшая черты популистской местной
демократии и директивного монархического корпоративизма. Больше всего сторонников у них насчитывалось в Наварре, в остальных
регионах имели место лишь крошечные ячейки. Они не признавали
ни республики, ни основной ее альтернативы — власти Бурбонов, и потому не видели для себя препятствий к организации вооруженного
мятежа своими силами. Они формировали карлистские отряды, вооружали их и готовили к конечной цели — перевороту. К 1936 г. среди
478
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
всех политических движений только вооруженные карлисты сумели
удержать контроль над своими территориями. Их военное участие
в свержении республики, при условии их ограниченной численности,
было максимально активным.
ФАШИСТЫ
Подлинных фашистов в Испании до начала гражданской войны
насчитывалось немного. Существующие авторитарные институты
испанского старого режима были слишком влиятельны и не дали
развиться новомодному авторитарному течению. Вместо этого новые
идеи проникали в существующие институты, и далеко не все из них
усваивались.
Господствующей фашистской организацией в Испании стала
«Фаланга», ориентированная на фашизм итальянского типа. Примечательной была личность ее лидера: харизматичный юноша по
имени Хосе Антонио Примо де Ривера (сын экс-диктатора), в первые
дни гражданской войны убитый республиканцами. Собою Примо-младший напоминал поэта — пламенного, экзальтированного,
болезненного, честного в своих убеждениях, этакого «фашиста
с моральными принципами», словом, подобная фигура — редкость
для верхушки фашистской партии. На выборах «Фаланга» набрала
менее 2 % голосов и до начала 1936 г. насчитывала менее 10 тысяч
активистов. Поскольку в стране не случилось никаких радикальных перемен, власть осталась в руках авторитарных реакционеров,
переняла корпоративистские идеи и таким образом закрыла дорогу
популистским фашистским течениям. Консерваторы имели возможность опереться не на сомнительных уличных погромщиков, а на
армию и Национальную гвардию. В 1936 г. положение несколько
изменилось: численность фалангистов с началом гражданской войны
стремительно выросла и достигла 20–25 тысяч членов, отчасти потому,
что военным заговорщикам в целях легитимизации режима нужны
были гражданские союзники. К октябрю 43 из 65 тысяч добровольцев,
вставших в националистические ряды, были из боевиков «Фаланги» —
остальная часть была из карлистов (Casas de Vega, 1974). На фоне
Фашисты
479
политической поляризации особую привлекательность, особенно
в глазах молодежи, обретал парамилитарный фашизм.
Большим количеством данных по фашистам мы не располагаем,
но, по общему мнению, среди них преобладали мелкие буржуа (как
и в других, более мелких европейских фашистских партиях). Они
пользовались наибольшей поддержкой в ключевых районах, традиционно поддерживающих консерваторов, но, поскольку их поддержка
составляла менее 5 %, то вывести экологически скоррелированное
число фашистских избирателей не представляется возможным. Суа
рес Кортина (Suarez Cortina, 1981: 157) приводит данные лишь по
Астурии; там среди лидеров замечены учителя, юристы и предприни
матели, имевшие возможность мобилизовать поддержку студентов
и рабочих-католиков. С точки зрения исследователя, их поддержка
в районах с преобладанием мелкобуржуазного населения была наивысшей. Также сохранились данные о 1103 активистах из провинции
Мадрид. В Испании, как и в других странах, эти фашисты были людьми молодыми: 60–70 % из них были младше 21 года. Неожиданная
цифра — 55 % происходили из рабочей среды, — возможно, не совсем
достоверна, поскольку есть вероятность, что в данный список не попали от 1 до 2 тысяч местных студентов-фашистов (ведь лица млад
ше 21 года не имели возможности официально числиться в партии).
Наиболее прочные позиции у фалангистов были в университетских
городах (Payne, 1965: 45, 63, 68–70, 81–83, 225–226; 1980: 423–426).
Так, в Кадисе новоиспеченная партия почти сразу приняла в свои ряды
20 студентов и 80 рабочих, которые успели разочароваться в работе
республиканских партий (Cancela, 1987: 222). В Севилье партийное
ядро состояло из студентов, на втором месте были квалифицированные рабочие, затем работники гостиничной отрасли и «белые
воротничники» сферы услуг (Alvarez Rey, 1993: 385–392). Поскольку поддержку масс, которые в Германии и Италии способствовали
становлению фашизма, уже перетянули на свою сторону авторитарные правые католики, в распоряжении фалангистов остались лишь
ретивые молодчики, которые обычно формируют ядро фашистских
парамилитарных формирований; среди этих молодчиков особо выделялись студенты и рабочие, не жившие в пролетарских гетто.
Деятельность этих фашистов поначалу особого успеха не имела.
Вплоть до весны 1934 г. дела у «Фаланги» складывались слишком
480
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
непривычным для фашистов образом: призывая к насилию, фашистские активисты гораздо чаще оказывались не в роли убийц, а в роли
жертв. В последующие два года «пистолетчики» сравняли счет
(см. табл. 9.2). В течение 1936 г. объектами фашистских погромов
становились крупные города, как Мадрид, и таким образом республике наносился непропорционально большой ущерб: из столицы
и других крупных городов расползались слухи о том, что порядка
в стране больше нет.
Однако после победы на выборах 1936 г. «Народного фронта»
правым пришлось идти на отчаянные меры, чтобы спасти положение. В то время как консерваторы затевали заговоры совместно
с генералами, а боевое крыло Конфедерации охладело к своим прагматикам-вождям, численность «Фаланги» существенно выросла.
Можно заключить (на основе небольшого количества данных), что
пополнение происходило за счет образованного среднего класса в го
родах Кастилии и Леона, затем за счет мелких фермеров и среднего
класса в целом (Blinkhorn, 1987: 335–339). Лидеры Конфедерации
автономных правых заявляли, что весной к «Фаланге» примкнули
15 тысяч активистов из ее молодежного крыла; кроме того, престарелые ветераны-националисты, с которыми довелось беседовать
Фрейзеру, до этого состояли в Конфедерации и молодежном крыле. Их социальное происхождение разнилось: было среди них несколько мелких фермеров, книгопечатник, юрист и студент; все из
семей убежденных католиков. Конфедерация разочаровала их своей
«трусостью» перед лицом «неразберихи» и на фоне преследуемых
республикой «антихристианских целей». Своих врагов они нередко
называли «большевиками». Некоторые исповедовали радикальное
социал-христианство, как, например, вот этот фермер:
Партия стояла за более справедливое перераспределение части
национальных богатств: они говорили, что всем придется трудиться,
но трудиться в гармонии друг с другом — в чистом виде евангельское,
Христово учение о том, что жить лучше могли бы все без исключения
и не делились бы на богатых и бедных (Fraser, 1994: 87).
Закрепившееся представление о «Фаланге» как мелкобуржуазной
группе, скорее всего, упрощено. Многое зависело от регионального
и религиозного факторов: так, к религии фалангисты относились
Военная сила. На переднем крае
481
неоднозначно, но в традиционно консервативных и религиозных
провинциях — Кастилии, Леоне и особенно Наварре — авторитаризм
и фашизм привлекали представителей всех социальных групп, не
охваченных левыми структурами (что в данном регионе наблюдалось в меньшей степени). Отсюда и массовый отклик, который лишь
несколько месяцев спустя получила в этих ключевых регионах программа вербовки добровольцев в фалангистское и националистское
ополчение. В некоторых регионах фашистам удавалось беспрепятственно пополнять ряды за счет представителей разных классов, и все
же нельзя говорить о существовании какого-то внеклассового независимого фашистского движения. В политической жизни Испании,
вне зависимости от региона, ключевое значение имела триада тесно
связанных между собой факторов, а именно класса, региона и религии.
ВОЕННАЯ СИЛА.
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Что касается Франко, то на выборы, политические партии и движения
он не полагался. То же можно сказать и о правившем до него Примо.
Эти люди возглавили военный мятеж. Таким образом, необходимо
проанализировать особенности военной организации страны, и станет
понятно, почему государство утратило монополию на военную силу.
Как было сказано выше, офицерский корпус был самодостаточен:
половину его составляли призванные на службы сыновья офицеров,
другую половину — провинциальный средний класс, люди образованные, но бедные, в основном из Кастилии и Леона. Потому они
и поддались соблазну модернизированного консерватизма в форме
интегрального национализма. Кастовые корпоративные интересы
военных заключались в противодействии республике. Военные
нужды страны существенно сократились, и множество офицеров
в стране оставались невостребованными; у них возникал конфликт
с гражданскими правительствами, не желавшими повышать военным
жалованье, продвигать их по службе, тратиться на модернизацию
армии. Таким образом, для армии все военное ассоциировалось
482
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
с добродетелью, а гражданское — с пороком. Вот что пишет об этом
в своих мемуарах один генерал:
Армия... пребывала в определенном психологическом состоянии:
военным казалось, что их бросили одних посреди огромной пустыни,
что они — единственный обладатель сокровенной истины среди тысяч
заблудших соотечественников, единственный источник справедливости
и чести, единственный патриот в отчизне; этот восторженный эгоизм
выливался в то, что они пытались навязать свое мнение другим, всеми
средствами, в деспотическом, диктаторском ключе, объявив войну
государству (Kindelan, n.d.: 188).
Левоцентристские правительства усугубили конфликт: они урезали бюджет и создали государственное парамилитарное формирование — республиканскую штурмовую гвардию, которую контролировали гражданские власти и которая должна была вместо
армии выполнять функцию охраны правопорядка. Республиканцы
в 1936 г. могли опереться только на эту парамилитарную силу. Впоследствии левоцентристские правительства пытались обезопасить
себя от переворота, повышая в звании офицеров с республиканскими
убеждениями, и это явное отступление от принципов меритократии
имело кратковременные отрицательные последствия: таким образом
завершилось преобразование корпоративных кастовых интересов
в принципиальную идеологию — авторитарную модернистскую
технократию, противостоящую коррумпированной гражданской
демократии (Boyd, 1979: 19–43, 276; Espin, 1980: 183–201; Busquets,
1984; Alpert, 1989; Gomez-Navarro, 1991: 313–320). Однако пока церковь не начала требовать от всех истинных испанцев моральной поддержки и непримиримости к врагу, армейская идеология оставалась
в некотором роде кастовой; ее носителей не устраивало положение
дел в стране, не нравилась республика, но они боялись изоляции
и неохотно оставались лояльными режиму. Мятеж произошел, когда
интересы армии переплелись с этатистскими и корпоративистскими
принципами, а также христианской и националистической моралью.
Эти ценности стали восприниматься болезненнее уже во время
крайне нечистоплотной марокканской кампании: священную испанскую землю якобы предстояло уберечь от «варваров»-нехристей.
Большую роль в этой кампании сыграл Франко, разработавший более
483
Военная сила. На переднем крае
современную и смертоносную тактику, которая принесла окончательную победу испанской Африканской армии. Затем, в 1934 г., когда
понадобились услуги Франко по подавлению беспорядков, его призвало правоцентристское правительство, и он при помощи отрядов
Африканской армии подавил астурийское восстание. Эту операцию он
охарактеризовал в околомарокканских терминах: «Это пограничная
война против социализма, коммунизма и всего, что пытается свергнуть
цивилизацию и утвердить на ее месте варварство» (Preston, 1993:
105). Во время гражданской войны Франко будет действовать столь
же безжалостно. Примечательно, что в июле 1936 г., в первые дни
восстания, мятежные офицеры отличались куда большей жестокостью, чем те, что были преданы республике: при малейших признаках
сопротивления они стреляли на поражение или казнили. В их рядах
особо выделялись офицеры-«африканцы», отслужившие приличный
срок в Марокко. Данные об их количестве мы приводим в табл. 9.3.
Таблица 9.3. «Африканцы» в составе военной элиты в ходе
гражданской войны
Срок службы
в Африке:
менее 5 лет
Срок службы
в Африке:
более 5 лет
(«африканцы»)
Неизвестно
Всего
Республиканцы
13
5
1
19
Националисты
5
39
2
46
Всего
18
44
3
65
Сторона
в гражданской войне
Примечание. Материалом для выборки послужили высшие офицеры из списка Суэро Роки
(Suero Roca, 1975, 1981) или зафиксированные у Томаса (Thomas, 1977), чей послужной спи
сок восстановлен по источникам, использованным в данной главе. В составе моей вы
борки 60 человек служили в сухопутных войсках, трое во флоте и еще двое в воздушных
войсках. Почти все так или иначе в течение короткого срока служили в Африке. Не ме
шало бы подкрепить исследование данными из подлинных офицерских досье.
Из таблицы ясно следует, что «африканцы» в рядах нацио
налистов-мятежников присутствовали в большом количестве:
так, из мятежных генералов в Африке служили 87 %, а среди генералов-республиканцев таких было лишь 26 %. В какой-то мере
это объясняется тем, что республиканское правительство всеми
484
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
способами пыталось «ссылать» правых генералов — в Марокко, на
Канарские острова. Однако африканский опыт также способствовал
тому, что они еще больше возненавидели своих врагов, внешних
и внутренних.
Едва в 1936 г. на выборах победил «Народный фронт», началась
подготовка военного мятежа. В период с 1931 по 1933 г. правые сумели
провести через парламент и госаппарат нужные им преобразования;
с 1934 г. достаточно было подавлять оппозицию законным способом
в рамках парламента. Теперь же прибегли к другому — военному —
варианту. Накануне отставки Хиль-Роблес обратился с просьбой
к президенту объявить военное положение, а к генералам — вмешаться
в происходящее. Франко эта идея оказалась по душе, но президент
ответил отказом, а военная верхушка заявила, что армия к этому
не готова. Начиная с марта шли консультации между генералами,
монархистами и политиками из автономных правых. Хиль-Роблес
посчитал нужным остаться в тени. Впрочем, он признает, что вел
с ними свою игру: «Поддерживал морально, отдавал секретные
приказы и даже оказывал финансовую помощь, позаимствовав вну
шительные суммы из предвыборных фондов партии». Он всячески
пытался уладить возникающие между заговорщиками разногласия по
поводу проекта новой конституции, настраивал членов Конфедерации
правых на то, чтобы они были готовы не создавать парамилитарные
отряды, а вступить в армию (Gil Robles, 1968: 719, 728–730, 798–802).
Но в гражданской войне, как и в деятельности режима Франко, он
участия не принимал.
В апреле 1936 г. заговорщики условились, что тайным командиром
будущего восстания будет генерал Мола, хотя наиболее эффективным военачальником считали Франко. Мола и Франко всеми силами
пытались избежать ошибки Примо и хотели заранее договориться
о целях и задачах переворота. Но оказалось, что это невозможно. Лишь
некоторые из заговорщиков были монархистами (которые также делились на лагеря — альфонсистов и карлистов); некоторые склонялись
к корпоративистской диктатуре, а некоторые — к полуавторитарной
республике. Единственной их точкой соприкосновения была идея
военного мятежа с целью спасения Испании от «врагов», а о конституции речь вообще не шла. Конституция была «акцидентальна»
по отношению к главной, важнейшей задаче — свержению демокра-
Военная сила. На переднем крае
485
тии авторитарным путем, вне зависимости от типа авторитаризма,
и очистке страны от политических противников. Когда неожиданно
погибли Мола и другие генералы, оказавшийся у власти Франко, подсуетившись, смог создать режим авторитарной диктатуры. Затем он
призвал к себе на службу фашистов, позволял и себе высказывания
фашистского толка, если в том была политическая необходимость.
Но мятежники гораздо лучше представляли себе антииспанский
элемент, на который нападали, чем политическую конституцию истинной Испании.
Мятеж начали готовить в рядах полутайного военного общества
«Испанский военный союз» (ИВС), в котором числилось 3436 офицеров (четверть действующего офицерского корпуса) плюс 1843 офицера в отставке и 2131 унтер-офицер. Противостоящая ИВС республиканская организация «Республиканский антифашистский
военный союз» (РАВС) насчитывала лишь 200 офицеров, больше
унтер-офицеров и полицию Штурмовой гвардии, преимущественно
в Мадриде. Главным свершением РАВС стало совершенное в начале
июля убийство лидера «Испанского обновления» (и бывшего министра в кабинете Примо де Риверы) Кальво де Сотело, которого весьма
уважали правые. Для некоторых правых это была последняя капля,
для других — только предлог к активным действиям, поскольку заговор на тот момент готовился активно вот уже несколько месяцев.
И началось восстание. Во время него четверть офицерского корпуса
сохранила верность республике, две трети встали на сторону мятежников. Похожим образом раскололись и ряды Национальной гвардии,
а недавно образованная Штурмовая гвардия почти целиком осталась
на стороне республики.
На карте 9.3 мы видим изначальную линию фронта гражданской
войны; здесь переплелись схемы логистики, как военной, так и политической. Изначальное разделение на две Испании — националистскую и республиканскую — совпадает отчасти с прежним
распределением левых и правых сил, отчасти с границами регионов,
где располагались военные части. Республиканцы, что вполне предсказуемо, сохранили за собой Каталонию, Валенсию плюс сельские
районы на севере, где царили радикальные настроения. Здесь респуб
ликанцы формировали социалистические и анархистские ополченческие отряды. Политическим бастионом националистов была
486
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
КАРТА 9.3. Гражданская война:
первоначальные зоны влияния, июль 1936 г.
оставшаяся часть Кастилии и Леона; здесь к ним присоединились не
только армейские новобранцы, однако добровольцев-фалангистов
было относительно немного. Мадрид был расколот, поскольку здесь
было слишком много представителей как богачей, так и рабочего
класса, а кроме того, столица служила оплотом как для старорежим
ного государства, так и для новоиспеченной республики. В конечном итоге Мадрид выступил на стороне республики, при активном
содействии основных частей и подразделений республиканской
Штурмовой гвардии. В Каталонии определенные культурные особенности вкупе с высоким уровнем промышленного развития привели
к распространению левых течений среди рабочих и либерального
республиканизма у представителей среднего класса; и тем и другим
была не по душе насаждаемая правыми централизация. Поэтому во
время войны Барселона превратилась в революционный бастион.
Соседнюю Валенсию к умеренной прореспубликанской позиции
подтолкнули местные секуляристские и сепаратистские настроения.
Военная сила. На переднем крае
487
В Андалусии левых было намного больше, что предсказуемо; однако
они были быстро разбиты наступающей франкистской Африканской
армией. Из этого региона к националистам решили присоединиться
очень немногие сочувствующие, а к «Фаланге» и того меньше53. Далее
на западе, на границе Экстрамадуры со старой Кастилией, усилились
прокатолические и франкистские настроения. На северо-западе,
в Галисии, католицизм и «касикизм» слабели и уступали место мягкому регионализму, отсюда и умеренная поддержка Франко; из этого
региона имел место приток в ряды националистов, но в фалангисты
почти никто не пошел. Для жителей Астурии, пережившей трагедию
1934 г., выбор стороны в войне зависел от классовой принадлежности:
рабочие в большинстве своем выступили за республику, буржуазия за
националистов. Баскская элита колебалась: они не доверяли левым,
но, поскольку республиканцы обещали им автономию, в большинстве своем выступили на их стороне. При этом в соседней Наварре
регионализм имел правый уклон — вследствие преобладания там
католиков и карлистов, а также гарантий автономии, которыми на
варрцы успели заручиться у националистов. Отсюда, соответственно,
пришло больше всего новобранцев в «Фалангу», а также в карлистское
ополчение (Blinkhorn, 1975; Payne, 1980: 427–428).
Если рассматривать особые случаи, то мы обнаружим единственную стоящую особняком группу, при этом весьма крупную: это
мелкие крестьяне-собственники. В глазах ассоциаций крестьянских
хозяйств республиканцы и социалисты были в целом партиями
недружественными, поскольку за их счет потакали чернорабочим
и городским потребителям.
В Кастилии, Леоне и некоторых других регионах церковь успела
внедрить некоторые «социал-католические» учреждения — банки,
кооперативы, предоставляющие сельхозтехнику и оказывающие
рыночные услуги, профессиональные и социальные организации.
Церковь и занятые в ней именитые светские люди взяли на себя
руководство всеми социальными инициативами. Таким образом,
53
Как только этот регион был освобожден от франкизма, он тут же вернулся к предпочтительному для него политическому курсу. Теперь бастионы социалистической партии (ИСРП) возникли уже южнее Мадрида,
в Андалусии и Эстремадуре.
488
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
в силу развития школ, в силу роста набожности среди женщин, под
влиянием газет и местных политических партий католические крестьяне все сильнее настраивались против светского республиканизма
и социализма (Montero, 1977; Castillo, 1979; Perez Diaz, 1991: 47–49,
96–100, 177). Эти крестьяне прежде составляли большую часть членов
марионеточной партии Примо де Риверы. В 1930-е они же составляли становой хребет Конфедерации автономных правых. Вот почему
в 1936 г. они предсказуемо склонились к Франко, раз навсегда опровергнув своим примером утверждение, что за националистов стояла
исключительно буржуазия. Однако в Леванте точно такие же бедные
и средние крестьянские собственники отличались другими политическими взглядами: здесь на пути экономических классовых интересов
и социального католичества встали антиклерикализм и региональная
неприязнь к Кастилии. Эти крестьяне прежде голосовали в основном
за республиканцев и теперь объявили себя сторонниками республики.
Ни одна из категорий крестьян не придерживалась экстремистских
взглядов — они просто были в разных лагерях. То же можно сказать
и об аграрных классах Каталонии и Страны басков (республиканцы)
в противопоставлении наваррцам (карлисты, позднее националисты).
В этих случаях на выбор лагеря влияли регионально-религиозные
конфликты, а не аграрный характер производственных отношений
(Preston, 1984). Для Примо и для Франко ключевое значение имели
консервативные католики. После поражения Примо многие из них
заразились корпоративистскими и фашистскими идеями. Факт, что
Франко был способен провозгласить «священный крестовый поход»,
имел значение не только для победы в гражданской войне, но и для
последующего стабильного существования его режима (Lannon, 1984:
35–58; 1987: 203–234; Morodo, 1985: 21–39, 52–57).
Кастовость армии все же не достигла той степени, при которой
она была бы изолирована от таких сторонних влияний.
Офицеры и особенно рядовой состав поддавались царившим
в местах их дислокации настроениям. В районах, где консерваторы
составляли подавляющее большинство, во время мятежа рядовые
покорно повиновались восставшим офицерам — республиканцы
в армии, коих насчитывалось немного, и уличные партизаны очень
скоро были подавлены. Исключение составили города Сарагоса
Военная сила. На переднем крае
489
и Овьедо. Там народная толпа просто не успела мобилизоваться —
власть захватил костяк военных мятежников. Но там, где на пути
мятежников сразу же возникали толпы разъяренных, вооруженных
местных жителей, многие офицеры и рядовые (а также целые отряды
штурмовой гвардии) предпочли не трогать толпу, а встать на сторону
республики. Но немаловажной была и позиция солдат, и особенно
офицерского корпуса. Если бы не существовало преданного государству армейского меньшинства, то восстание обернулось бы банальным переворотом, и в течение нескольких дней власть перешла
бы к мятежникам. Однако без поддержки большинства офицерского
корпуса переворот точно так же быстро сошел бы на нет. На юге соединения местной армии и Национальной гвардии упрямо защищали
казармы от разъяренных леваков, в авангарде которых были пылкие,
но плохо подготовленные местные жители-республиканцы; офицеры
твердо знали, что к ним на помощь идет непревзойденная по боевой
силе франкистская Африканская армия. Эта армия впоследствии
оперативно взяла под контроль юг.
Хотя в ряды националистов стремительно вливались фа
лангисты, карлисты и другие плохо подготовленные новобранцы
из народа (точно так же, как в ряды республиканцев — социалисты
и анархисты), изначальный их мятеж удался лишь наполовину не
по их вине, а по вине военного ядра — и наполовину потерпел поражение просто потому, что у республики тоже имелась военная
сила (Fraser, 1994: 106–113). Теперь военные оказались в эпицентре
правого авторитаризма; руководящая военная организация правых
(при поддержке фашистской Италии и Германии, которая превосходила поддержку Испанской республики Советским Союзом) была
решительно настроена на победу. При том, что республиканские
территории были лучше развиты и, соответственно, располагали
большими ресурсами и большей численностью населения, республика была гораздо менее способна на имевшейся базе создать
эффективную военную группировку. У мятежников была армия,
хорошо оснащенная, с отличным снабжением и командной структурой — иначе говоря, со всем тем, чего теперь так не хватало
республике. А в войнах, в том числе гражданских, как известно,
побеждает военное преимущество.
490
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
МАСШТАБ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ЧИСТОК
Когда начался военный мятеж, с обеих сторон были предприняты
попытки устранить политических противников на своей территории.
Это позволяла идеология и той и другой стороны. Националисты
провозгласили крестовый поход, целью которого должно было
стать «очищение» Испании от атеистической, коммунистической,
«иностранной» анти-Испании. У республиканцев идеологией был
исключающий органический национализм левого толка, в котором
врагу не отводилось места внутри pueblo — «народа» или, в другом
значении слова, «деревни», той самой, где представители высших
слоев вечно отсутствовали. Происходили массовые осквернения
церквей и убийства священников.
Точное количество убитых ни с той ни с другой стороны нам неизвестно. Оценки сильно разнятся; республиканцы, по разным данным,
истребили от 20 до 75 тысяч человек — скорее всего, истинная цифра
лежит в нижней половине этого диапазона. Число убийств, совершенных националистами, в целом оценивается в 50–200 тысяч. Однако ряд
последних исследований, в которых использовались данные по отдель
ным провинциям, позволяет нам вывести приблизительную общую
сумму: 75 тысяч убийств в 24 провинциях совершили националисты,
38 тысяч в 22 провинциях — республиканцы. Приведенные данные
охватывают все убийства в большинстве из 50 испанских провинций
(Julia, 1999: табл. 1, 3). Если оба показателя увеличить на треть, то
мы получим в очень грубом приближении количество убийств, совершенных по всей Испании обеими сторонами. Разумеется, многих
из республиканцев сгубила каторга, и эти жертвы здесь не учтены;
известно также, что около 165 тысяч, опасаясь такой же участи, бежали
за границу. Националисты вдвое чаще, чем республиканцы, прибегали
к карательным мерам против безоружных людей. Разумеется, у них
как у победителей было для этого больше возможностей.
Республиканцы начали войну с внушительной волны убийств
священнослужителей. Было истреблено 6 тысяч человек, в основном в первые недели войны, в основном в районах, контролируемых
Масштаб политических чисток
491
анархистским ополчением (Moreno, 1961: 758–768; de la Cueva, 1998).
Одного этого фактора было достаточно, чтобы правые превратили
военный мятеж в священный поход. Говоря о зверствах националистов, можно выделить два периода с небольшими региональными
вариациями. Вначале с продвижением войск происходило «освобождение» занятого района от республиканцев, а затем начинались
систематические убийства захваченных в плен левых, приправленные
избиениями и изнасилованиями, совершаемыми уже без особого
разбора. В ходе войны убийства пошли на спад, поскольку левые,
в преддверии неминуемого поражения, бежали. В Гранаде правые
в течение месяцев в несколько заходов хладнокровно убили 5 тысяч
человек: их привозили ночью на кладбище и без суда расстреливали;
так погиб поэт Федерико Гарсия Лорка. Главного палача Гранады
Луиса Алонсо обычно рисуют психопатом-неудачником, пытавшимся
сводить с республиканцами личные счеты. Однако его мотивы не
совсем таковы, и мстительность его имела под собой определенную
моральную базу. Когда-то он, будучи печатником, отказался вступить
в левый профсоюз. Его неудачи стали следствием именно этой политической позиции: профсоюз внес его в черный список, и работы для
него не было. Так он пришел к членству в правых союзах и в конце
концов к карательной деятельности (Gibson, 1979). Биографические
детали других преступников до нас не дошли, и мы можем только
догадываться, все ли они так же сочетали в себе идеологический пыл
со свирепой ненавистью к врагу.
Второй этап возмездия наступил после войны и ознаменовался
массовыми расстрелами, каторгой в нечеловеческих условиях, издевательствами над узниками-республиканцами, морением их голодом.
Согласно франкистскому «Закону об ответственности» в феврале
1939 г., всего лишь за поддержку республики, если таковая имела
место после 1934 г., за членство в республиканских организациях
и масонских ложах и даже за «осознанную пассивность» наказывали как за преступления. Республиканцев, левых, сторонников
каталанской автономии и многих других ждал впереди лишь непродолжительный суд и несправедливый приговор. При режиме Франко
после окончания войны были официально казнены около 23 тысяч
человек. Подписывать смертные приговоры был обязан сам Фран
ко, и чаще всего он так и делал. В марте 1943 г. министр внутренних
492
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
дел признал, что в стране, помимо трудовых батальонов и военных
тюрем, остается еще 75 тысяч политзаключенных. Около 45 % госбюджета 1946 г. ушло на нужды полиции, национальной гвардии,
армии — таковы были бюджетные потребности режима, который
вел массовый отстрел населения, то ли из паранойи, то ли из мести.
Ни в одной другой европейской стране, включая гитлеровскую
Германию, ликвидация политических противников не приобретала
таких масштабов.
О мотивах главного руководителя нам кое-что известно. Франко
беззаветно верил в иерархию и власть, был параноидальным антикоммунистом, применял те методы, которым научился, участвуя
в варварских колониальных войнах. Вопреки очевидности, он полагал,
что восстание 1934 г. организовала и подстроила советская разведка.
После этого он утвердился во мнении, что республиканцы купаются
в советском золоте, а также богатствах, отнятых в 1934 г. у зажиточ
ных слоев. В 1937 г. в интервью французскому журналисту он заявил:
«Наша война не просто гражданская война... Это крестовый поход. Да,
наша война — религиозная. Мы — божьи солдаты и сражаемся не против людей, но против атеизма и материализма». Таким образом, своим
врагам он изначально отказывал в элементарно гуманном отношении.
Он легко нарушал данные иностранным переговорщикам обещания
об обмене пленными и вместо них выдавал обычных преступников.
После того как в 1939 г. республиканское сопротивление пало, Франко
объявил своим советникам, что мирные переговоры невозможны, поскольку «преступники и их жертвы никогда не уживутся бок о бок».
За продолжение репрессий выступили руководители, разделявшие
страх диктатора перед «врагами», такие как премьер-министры Кар
реро Бланко и малагский головорез Ариас Наварро (Preston, 1995: 16,
104–105, 114, 146, 225–227, 290, 315–316, 436, 527, 549). По сравнению
с Муссолини и Гиммлером Франко был настроен провести более
радикальную политическую чистку: его политика содержала в себе
религиозные и квазирасовые элементы. Если те, кого Гитлер и Муссолини считали «большевиками», отрекались от своих взглядов, то
становились для них соотечественниками. Но франкистская Испания
политически была чище. К 1940 г. возобновления гражданской войны
уже никто не желал. Республика проиграла. Франко, конечно, мог бы
проявить большую мягкость — это бы способствовало восстановлению
Режим Франко
493
страны. Но в его глазах это была борьба добра со злом, в которой злу
выпадала одна участь — смерть.
Некоторые националисты выступали против массовых и свирепых
казней. Чаще других недовольство действиями режима выражали
военные-традиционалисты. Так, по мнению генерала Кинделана,
репрессии подрывали престиж армии. Полковник Ягуэ, оправдывавший жестокость своих подчиненных в ходе гражданской войны,
теперь стал сторонником более примирительного отношения. Возражения неожиданно нашлись и у Генриха Гиммлера, посетившего
Испанию в 1940 г. Его обескуражили массовые казни и переполненные
тюрьмы; он заметил, что целесообразнее не уничтожать воевавший
на стороне противника рабочий класс, а интегрировать его в новый
порядок (Preston, 1993: 392, 449). Видимо, Гиммлер не мог понять,
что для Франко рабочий класс был тем же, чем для него самого
евреи. На неоднократные просьбы Гитлера и Гиммлера выдать испанских евреев Франко отвечал отказами, а вот в отношении левых
был беспощаден. В этом и состоит различие между политической
и этнической чисткой.
РЕЖИМ ФРАНКО
Историки и социологи в Испании давно спорят о том, как именно
следует квалифицировать режим Франко и абсолютной ли была
власть Франко и других франкистских правителей (напр., Miguel,
1975; Giner, 1977; Jerez, Mir, 1982; Chueca, 1983; Fusi, 1985; Preston
1990: гл. 4–6; 1993). Однако здесь мы ограничимся широкими мазками. К сентябрю 1936 г. вследствие внезапной гибели основных
соперников Франко оказался единоличным правителем, генералиссимусом, каудильо националистических сил54. В результате того,
что он вначале три года вел войну, а потом проводил репрессии
54
Обычно Франко представлялся как вождь, военный лидер или же глава
государства, при этом его пытались сравнивать со священными историческими деятелями, такими как Эль Сид или короли средневековой Астурии, — словом, с христианскими мучениками и героями.
494
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
против проигравшей стороны, в его руках оказались легитимные
механизмы единоличного правления, какими не могли похвастаться
большинство диктаторов межвоенного периода. Вследствие неучастия во Второй мировой войне его режиму удалось сохранить
стабильность — возможно, это была одна из его собственных разум
ных идей, хотя, скорее всего, дело было в отказе Гитлера отдать
Испании, в обмен на ее участие, отобранные у французов североафриканские территории (Preston, 1993: гл. 15). При его режиме не
было принято официальной конституции, поэтому Франко еще три
десятилетия оставался абсолютным правителем страны, разделяя
различные кланы победителей в гражданской войне и властвуя над
ними. Он не допускал, чтобы у кого-то из них в руках оказались все
полномочия; он увольнял министров, не согласных друг с другом,
лояльных министров поощрял, увеличивая их срок пребывания
у власти и даруя большую самостоятельность, проводил заседания
Совета министров в целях урегулирования не политических, а административных вопросов. Его самого как руководителя отличали
инертность, недоверие ко всему новому, отсутствие внятной концепции. Удерживая свои кланы во власти и постоянно подавляя
врагов, режим вел довольно-таки бесцельное существование. Поскольку у кланов были общие интересы — в частности, сохранить
свое место у кормушки, — то манипулировать ими было несложно.
Обычно из кланов выделяют три: армия, «Фаланга» и католики.
Последних некоторые исследователи подразделяют на церковников,
традиционалистов/карлистов и/или монархистов. Франко отдавал себе отчет в том, что он зависим от армии в аспекте военной
силы и от церкви — в аспекте идеологии. В составе министерств
в целом преобладали генералы и полковники, в образовательном
ведомстве — католики, в министерстве труда преимущество делили между собой католики и фалангисты, что до карлистов, то они
вплоть до 1973 г. господствовали в Наварре, а также в национальном министерстве юстиции. Генштаб политическими вопросами
не занимался — решал лишь военные; Франко сильно ограничил
командованию бюджет. В 1939 г. Франко взял в офицерский корпус
добровольцев-фалангистов и карлистов с расчетом на то, чтобы
внести в ряды корпуса разобщенность и создать определенный
противовес офицерам-монархистам. Монархистам он пос улил
Режим Франко
495
восстановление короля на троне в качестве его собственного преемника (так в конечном счете и случилось), однако все разговоры
о преемстве намеренно отложил на неопределенный срок. Церковь
как организация была более чем жизнеспособна, но в жизнь государства она, как правило, не вмешивалась. Ее влияние было больше
косвенным и состояло в том, что очень многие консерваторы были
религиозными людьми.
А вот с некоторыми фалангистами Франко было гораздо труднее.
Необходимость в них имелась во время войны и вскоре после ее окончания, когда нужно было мобилизовать на борьбу народные массы.
На них он отработал все свои фирменные приемы: так, например,
в 1937 г. «Фаланга» и карлисты объединились в партию с длинным
непримечательным названием «Испанская традиционалистская фа
ланга и хунты национал-синдикалистского наступления», известную
в народе просто как «Движение» (Movimiento). Характер этой партии
было довольно трудно понять. В годы войны симпатии оказывались
на стороне Гитлера и Муссолини, и идеология «Фаланги» была
в фаворе, Франко счел ее риторику весьма прогрессивной. Это не
помешало ему учинить расправу над фалангистами-популистами,
и начиная с 1947 г. фалангистов понизили в звании, стали назначать
на заметные, но не самые высокие должности — руководителей объединений, не имевших реальной власти, социальных программ без
финансирования, министерства сельского хозяйства, от которого
ничего в стране не зависело. Кланы объединялись посредством общих
интересов, ценностей, а также с помощью директивных структур, во
главе которых ставился какой-нибудь деспот-консерватор. Поэтому
я бы сказал, что франкистский режим находился на стыке двух описанных в главе 2 категорий — полуреакционный и корпоративистскоавторитарный.
Кроме того, этот режим имел прочную классовую основу. Его
сторонники набирались непропорционально, по большей части из
верхних, наиболее образованных слоев, а любая независимая низовая
организация жестоко подавлялась. При этом любопытно, что главную коллективную роль при франкистском режиме сыграли вовсе
не промышленники, не банкиры и даже не землевладельцы. По характеру своих целей франкисты более напоминали не капиталистов,
ориентированных на прибыль, а чурающихся всего нового рантье.
496
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
Свои права на собственность они застраховали с лихвой, подавляя
трудовое население, а впоследствии мягко и без особого результата
противодействовали интеграции рабочих в корпоративное государство посредством фалангистских профсоюзов. Франкистам вполне
хватало арендной платы, получаемой от собственности, госслужбы
и покровительства, а охота за прибылью их совсем не интересовала.
Франко это вполне устраивало: для него капитализм был не стимулом
экономического развития, а всего лишь государственным строем.
В условиях его политики «казарменной автаркии» Испания начала
переживать застой, народ беднел, офицеры — представители буржуазии, фашисты, — словом, все, на кого режим опирался, получили
теплые места в государственных и частных компаниях. Не у дел были
капиталисты-технократы, пока в 1960-е не приобрела популярность
католическая организация «Опус Деи». Наконец, в Испании началась
модернизация — во многом не благодаря усилиям режима, а благодаря
тому, что она все-таки находилась в Западной Европе. Факторами
либерализации стали зарождение Европейского экономического союза и Второй Ватиканский собор; церковь понемногу отстранилась от
Франко, и режим лишился души. Офицерский корпус и «Фаланга»
оставались верны правителю вплоть до его смерти; благодаря этому
были предотвращены волнения, которые так или иначе просле
живались в народе, и страна не была ввергнута в новую гражданскую
войну. Однако в 1975 г. и испанская правая элита, и левые решили,
что в современном мире формой правления должна быть либеральная
демократия. Страна решила двигаться в этом направлении самым
осторожным путем: была реставрирована монархия Бурбонов. Когда
в 1981 г. именем короля Хуана Карлоса был осуществлен военный
переворот, сам монарх колебался в течение нескольких часов. Говорят,
что он обратился за советом к президенту Франции Валери Жискар
д’Эстену, а тот, в свою очередь, спросил, как Хуан Карлос смотрит
на то, чтобы стать последним правящим Бурбоном в Европе. Если
такого желания нет, якобы продолжил д’Эстен, тогда стоит сохранить
демократию. В итоге Хуан Карлос путч не поддержал, и тот сам собой
сошел на нет.
Заключение
497
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой главе мы ставим два взаимосвязанных вопроса. Первый: кто
и почему способствовал гибели испанской демократии? Мы видели,
что предположение о том, не погубил ли республику левый и правый
экстремизм в совокупности, вызвало массу споров. Тем не менее это
безусловно справедливо для сельскохозяйственного юга и, в определенные моменты, для Астурии. Ответом на недовольство помещиков-южан стало выступление чернорабочих, которым нужна была
земля. И для одних, и для других земля была важнее конституции.
Компромиссная земельная реформа была возможна только извне.
Помещики, контролируя местный региональный госаппарат, могли
быть за свою судьбу спокойны. Рабочие, со своей стороны, могли
захватить контроль над деревней и, если государство не применяло
силу, переходили к отъему земли. Именно такая ситуация и сложилась
в начале 1936 г., с приходом к власти «Народного фронта». Аналогично этому в 1934 г. астурийские шахтеры в какой-то момент решили,
что им хватит сил захватить свой регион; в обоих случаях мы имеем
дело с квазиреволюционными ситуациями, при которых классовый
конфликт выходит из-под контроля лишь местных полицейских сил.
На юг необходимо было массово перебросить Национальную гвардию плюс стратегические гарнизоны регулярных армейских частей;
в Астурии пригодились бы подразделения регулярных войск. Если
бы подобные события имели место в масштабах всей Испании, то
мы бы могли говорить о том, что попытка революции, гражданская
война и массовая политическая чистка суть обострения классовой
борьбы. В этом случае политические события были бы обусловлены
экономикой.
Однако в других частях страны классовые волнения носили,
во-первых, асимметричный, во-вторых, преодолимый характер.
Ни большинство капиталистов-промышленников, ни профсоюзы,
ни помещики, ни крестьяне или сельские рабочие других регионов
не были так рьяно настроены на победу любой ценой. Большинство
нанимателей предпочитали республику, в которой царили бы законность и порядок, и эта республика должна была быть в худшем
случае полуавторитарной. Большинство организованных рабочих
498
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
выступали за республику в ее реформистском варианте, социализм
и синдикализм. Найти компромиссы между силами разных классов
удалось в рамках Jurados Mixtos, земельной реформы, а также национального и местного коалиционного правительства. Таким образом,
экономический классовый конфликт в масштабах Испании в целом,
конечно, дестабилизировал страну, но не привел непосредственно
к падению республики и уж тем более к последовавшим массовым
убийствам.
Те, на чьей совести гибель республики, не отличались симметричным распределением сил, каковое предполагает диалектика классовой
борьбы. Левые были расколоты в вопросах средств и конституций.
Большинство левых лидеров были реформистами, но попадались
среди них и влиятельные революционеры. Большинство вооруженных рабочих и крестьян (возможно, даже на юге) на самом деле
желали реформ. Они приветствовали республику, вступая в союзы
с лидерами реформистов. Большинство осуществленных ими политических забастовок и захватов земель было направлено на то, чтобы
гарантировать проведение и завершение республиканских реформ.
Лишь немногие представители левых течений были настолько разочарованы в демократических институтах, что еще до начала войны
ударились в парамилитаризм. Как и остальные европейские левые,
они были жестоки и непримиримы на словах и во время шествий;
создавалось впечатление, что они вот-вот начнут бить стекла и морды.
За идею реформ ратовали и центристы-республиканцы — те более
последовательно отстаивали парламентаризм.
Эти группы, с неохотного согласия большинства нанимателей
и членов профсоюза, могли инициировать обстоятельную программу
реформ, которая помогла бы снять градус народного недовольства
и спасла бы республику. В том, что этого не произошло, частично
виноваты они сами. Левый лагерь был расколот, действовал безответственно, провоцируя агрессивную риторику и бесчинства на низовом
уровне. В этой разрозненности свою роль сыграла идеология: и марксизм, и анархо-синдикализм имели огромное влияние на современников и авторитет в интеллектуальной среде. На фоне этих учений
трезвые прагматики казались более беспринципными, «с изъяном».
Но эти теории были неприменимы к классовым отношениям в Испании в том виде, в каком их пытались применить, и контрпродуктивны
Заключение
499
для их приверженцев. Левоцентристы слишком безрассудно отдались
своим целям: светскому государству и гражданскому контролю над
армией, притом что эти задачи были еще не самыми безрассудными
и укладывались в концепцию общей модернизации. У левых и левоцентристов также были разные приоритеты, поэтому они отказались
поддерживать друг друга в борьбе с оппозицией, которая меж тем
цвела буйным цветом в исполнительной вертикали. В правоцен
тристском лагере господствовали кумовские традиции «поворота»
и пренебрежение либерально-демократическими идеалами, что попахивало коррупцией и скорой гибелью. Перечисленные неприятные
просчеты не носили случайного характера: они коренились в самих
левых и центристских течениях. Но это были действительно всего
лишь ошибки: мало кто из совершавших их сознательно стремился
задушить демократию.
Иначе выглядела ситуация на правом фланге: традиционалисты
и корпоративисты, а также немногочисленные фашисты постоянно
добивались исполнительных властных полномочий, несовместимых
с республиканской демократией. «Акциденталисты» из Конфедерации автономных правых, которых было значительно больше, не
имели столь ясной цели и не могли договориться между собой по
конституционным вопросам. Однако все это многообразие фракций
с куда большим почтением относилось к иерархии и в большей степени желало вернуть преимущества старого режима. Таким образом,
акциденталисты и ультрас объединили усилия для противодействия
масштабным республиканским реформам и через подконтрольные им
исполнительные органы блокировали внедрения законодательства.
В конце концов, столкнувшись с появлением правительства «Народного фронта» и реальными действиями рабочих и крестьян, они
попытались уничтожить республику военными средствами и заменить
режим авторитарным.
В этом особую роль играли классовые экономические интересы.
Поначалу правые пытались защищать право собственности посредством полуавторитарных мер установления «закона и порядка»,
расширив полномочия исполнительной власти и введя практику
переброски в нужные районы парамилитарных формирований.
Однако экономические интересы правых оказались тесно переплетены с идеологической, политической и военной силой. Чрезмерную
500
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
поддержку правым оказывала реакционно настроенная церковь, преследовавшая свои материальные и духовные цели и за счет огромного
идеологического влияния сумевшая сделать правых популярными
у народа. Церковь разжигала праведный гнев и помогала убедить
народ в том, что есть цели более высокого порядка, чем конституция и политический прагматизм. Правые также использовали исполнительные полномочия госаппарата, старорежимным способом
подчиняя себе и контролируя полицию, министерство внутренних
дел и префектов. Их политика далее шла по нарастающей: они
прибегли к «крайнему варианту» и объединились в совершенно недемократический союз с военной кастой. Каста была авторитарной
и поощряла подавление классового и регионального недовольства,
имела собственные давние интересы. Таким образом, большинство
консерваторов в конечном счете оперлись на военную силу, разделявшую многие их принципы.
Те, кто считает и левых, и правых равно виновными, игнорируют
существовавшее между этими сторонами очевидное неравенство.
Я полагаю, причина этого кроется не в политической предвзятости:
вероятно, дело в общем для гуманитарных наук пренебрежении
вопросом отношений с военной силой. Мы должны понимать, что
жестокость в политической борьбе бывает очень разного уровня.
Волнения в Испанской республике нормальны для демократических
стран, переживающих острый кризис: беспокойная предвыборная
гонка, толпы, выходящие на демонстрации, волна забастовок,
земельных захватов и локаутов как инструмент для того, чтобы
диктовать условия; как спутник этих процессов — физическое унижение, запугивание, закулисные требования ввести полицию, подослать штрейкбрехеров, нанять группы физического воздействия
(наблюдалось и с той и с другой стороны). Основные участники
конфликта прибегали к этим методам и время от времени нарушали демократический и конституционный порядок. Борьба шла
симметрично на левом и правом флангах, периодически сбиваясь на
путь физического насилия, и основными целями были классовые.
Однако не это уничтожило республику. Тенденция была такова, что
вследствие насилия поддерживался моральный дух самых горячих
сторонников, а вот умеренные легко отвращались и занимали на
выборах противоположную сторону. Такой уровень насилия был
Заключение
501
контрпродуктивен — что абсолютно соответствует законам демократического общества.
Падение республики повлекло за собой насилие принципиально
иного масштаба. На территории, чуть превосходящей половину
страны, республика пала вследствие военного мятежа; из остальной
Испании она была вытеснена армией — лучше организованной,
более профессиональной, имеющей поддержку вооруженных сил
двух основных фашистских держав. Разговоры левых о братстве,
борьбе, силе и революции ничего не стоили по сравнению с боевой
дисциплиной и организацией правых. Меня несколько удивляет,
что Пейн (Payne, 1993: 383–384) на последних страницах книги, где
анализируются общие причины падения республики, столько времени уделяет анализу агрессивной риторики основного защитника
республики Мануэля Асаньи. Неужели он, говоря о жестокости
и агрессии, не видит разницы между политической риторикой и артобстрелом? В конечном счете в стране установилось господство военной власти правых, которая свергла республику (представлявшую
собой хоть и сравнительно хаотическую, но демократию), начала
массовые убийства и на тридцать лет установила репрессивный
диктаторский режим.
Второй вопрос касается победившего режима. Почему он принял форму гармоничного сотрудничества реакционных и корпоративных авторитаристов и как Франко сумел с такой легкостью
приручить фашистов? Ответ, по большей части, прост и звучал уже
неоднократно. Дело в том, что старый испанский режим в XX веке
почти не пострадал. Хотя три его столпа — церковь, армия и монархия (последняя уж точно) порядком пошатнулись, страна не
подвергалась внешней угрозе, правительства не участвовали в европейских войнах, и даже обрушившийся на Испанию общемировой
экономический кризис был по своим масштабам невелик. В этих
обстоятельствах противодействие либеральной демократии, вероят
но, приняло бы консервативные, даже реакционные формы. Кризис был не настолько глубок, чтобы на сторону правых фашистов
встали широкие народные массы. Когда в 1936 г. фашизм принял
более широкие масштабы, его приверженцами стали в основном
консервативные правые. Фашистов, которые бы перешли из социалистического лагеря, в Испании почти не наблюдалось. Но это
502
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
означало, что у правых почти не было возможностей для мобилизации масс (разве что воскресные и праздничные службы). Таким
образом, для свержения демократии требовалась армия, в которой
методам фашизма предпочитали методы более консервативные,
размеренные, нисходяще-директивные.
Эта спайка со временем стала прочнее, и в ней начал прослеживаться восходящий, массово-мобилизационный фашистский характер; поводом для мобилизации масс стало решение вести войну
против левореспубликанского правительства. Заметим, насколько
важную роль сыграло непреходящее стремление правых к порядку
и иерархии: в итоге их единство оказалось прочнее, чем единство
республиканцев. Очевидно, что во время гражданской войны они,
в отличие от республиканцев, не уничтожали друг друга. К концу вой
ны институты, с помощью которых Франко реализовал свою власть,
были уже подготовлены; он позаботился о том, чтобы кланы в рамках
режима получили каждый свое место у кормушки. И вновь режим
выдержал нейтралитет в 1940-е и не пережил ни одного серьезного
кризиса, хотя наблюдалась затяжная стагнация. Если не считать варианта оставить власть или пойти в тюрьму, то фашистам оставался
только один путь. Им посулили военную и политическую власть,
а также экономический стимул, кроме того, идеологии во многом совпадали — и фашисты смирились и встроились в систему. В ответ на
социальный конфликт идеологией испанских правых стал этатизм,
но не современный и амбициозный, а преимущественно реакционный
и ограниченный. И все это на фоне органического национализма,
который в Испании имел характер такой же жестокий и яростный,
как и в других рассмотренных выше странах, с той оговоркой, что
не так была выражена антисемитская составляющая. Режим правых
в итоге одобрил идею масштабной политической чистки, что наводит
на отрезвляющую мысль: если бы старые режимы не были ослаблены
кризисами Первой мировой войны, если бы пришедшие им на смену
авторитарные режимы не пострадали в 1930 г. от экономических
кризисов и наступления стран Оси и не были бы потом сметены
Второй мировой войной — на большинстве территорий Европы еще
несколько десятилетий могли бы спокойно процветать чудовищные
режимы франкистского типа.
Заключение
503
Но остается одна загадка — та же, что и в других случаях, со
скидкой на испанские особенности. Ведь этот авторитарный режим оказался успешен — просуществовал почти 40 лет. Испания
была страной, где прослеживался ярко выраженный классовый
конфликт, где переход к авторитаризму, будучи инициированным
богатыми собственниками, имел явные классовые мотивы. Однако
с точки зрения рационального капиталистического стремления
к прибыли это была катастрофа: сочетание франкистской реакционности, репрессий и корпоративизма на долгое время обусловило
социальный и экономический упадок. Мы не настолько пессимисты, чтобы полагать, будто в случае сохранения республики после
1936 г. страну ждали бы худшие для буржуазии последствия, чем
при Франко. Если кому режим Франко и принес выгоду, так это
его семье и хорошим знакомым (а позднее — семейству Бурбонов
и их друзьям), а также некоторым представителям духовенства, армии, «Фаланги» и класса землевладельцев. Но его бенефициарами
нельзя назвать ни испанских капиталистов, ни испанский средний
класса в целом. Вместо того чтобы способствовать сохранению западной цивилизации, режим на целое поколение выключил из нее
Испанию — если не считать цивилизацией морские курорты, на
которые приезжали нежиться европейцы. Вероятно, эта горькая
правда оказалась для режима слишком очевидной: в последние
годы жизни Франко режим утратил признаки фашизма и лишь
ждал смерти правителя. Словами Пейна (Payne, 1998), имела место
«дефашизация изнутри».
Я не претендую на абсолютную истинность моей отгадки, и все же:
на мой взгляд, важную роль тут сыграли особенности испанского сельского хозяйства, расщепленного классовым конфликтом, при котором
землевладельцы оставались заложниками старого режима. Именно
поэтому испанская буржуазия так преувеличенно воспринимала
угрозу своей собственности и этот страх ставила выше расчетливого
стремления к прибыли. Однако их преувеличенную реакцию силь
но стимулировало левое меньшинство, а также два из трех могущественных столпов старого режима. Дело в том, что церкви и армии
действительно было что терять; в результате их слияния возникло
мощное идеологическое течение, которое сумело убедить капиталистов (а равно и представителей всех слоев общества, опасавшихся
504
Глава 9. Испанская «семья» авторитаристов
беспорядка и нестабильности) в том, что их противники — враги
и предатели и что спасение в военной силе, которая сможет подавить
конфликты и учредить в стране органическо-националистический
порядок. Здесь правые снова допустили огромную ошибку: на этот
раз дали зеленый свет не фашизму, а реакционному диктаторукорпоративисту, который нанес огромный ущерб их материальным
интересам. Впрочем, «ошибка» здесь — слишком мягкое слово: ведь
в результате многие из них совершили великие злодеяния. Но именно
так и поступает человек перед лицом сложных, тесно переплетенных
кризисов и катастроф, затрагивающих сразу несколько источников
социальной власти. ХХ век дал этому достаточно примеров.
Глава 10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ФАШИСТЫ
МЕРТВЫЕ И ЖИВЫЕ
506
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
Вначале я подведу итог моему объяснению всплеска и популярности
фашизма. Затем рассмотрю следующий вопрос: остался ли фашизм
в прошлом или он может к нам вернуться? Все ли фашисты мертвы?
МЕРТВЫЕ ФАШИСТЫ
Мое объяснение всплеска фашизма и его популярности состоит
из двух частей. Первая касается появления более широкой группы
авторитарных правых, в межвоенный период захвативших власть
в половине Европы, а также в нескольких странах в других частях
света. В Европе это общее поправение заставило режимы двигаться
вправо по спектру, который я обрисовал в главе 2: от полуавторитарных к полуреакционным, а затем к корпоративистским. Некоторые
пошли и дальше — к фашизму.
Авторитарный сдвиг вправо стал ответом как на общие проблемы
современности, так и на социальный кризис, вызванный Первой мировой войной. Большинство авторитарных лидеров сознательно делали
упор на модернизацию: индустриальный рост и реструктуризацию,
улучшение научного и экономического планирования, увеличение
национальной интеграции, более амбициозное государство, усиленную мобилизацию масс. После определенных сомнений большинство
правых приняли большую часть современных идей, отвергнув лишь
демократическую массовую мобилизацию. Но на их решение также
повлиял ряд кризисов: экономический, военный, политический
и идеологический, которые вызвала или усугубила война. Без них
и без самой войны крупного всплеска авторитаризма не последовало
бы, и фашизм существовал бы лишь в виде сект и группировок, а не
массового движения.
Серьезные экономические кризисы пришлись на конец войны, а затем, в 1929 г., разразилась Великая депрессия. В промежутке, в середине 1920-х, происходили менее серьезные кризисы. С другой стороны,
между войнами экономика вообще редко процветает. Поскольку от
правительства теперь ожидали, что оно примет определенные экономические меры для облегчения ситуации, кризис сильно подорвал
его авторитет. Кроме того, «старые режимы» опасались модных в то
Мертвые фашисты
507
время экономических трендов, поскольку многие в высших слоях
общества жили как рантье — на доходы от менее современных экономических сфер. Заклятыми врагами этих людей были стремление
ко всему новому и реструктуризация, вызванная кризисом. Однако
правящие верхи, в особенности «старорежимные», понимали, что
нужно что-то делать.
Из-за войны начался военный кризис. Некоторые проиграли,
а перекройка территорий и массовая демобилизация коснулись всех.
Сильнее кризис чувствовался в центре и на востоке континента, где
располагались побежденные страны. Но он не отступал и там, где ревизионисты продолжали оспаривать условия мирного договора и требовать возврата утраченных территорий. Подливали масла в огонь
озлобленные беженцы и агрессивные националисты. Перед Европой
вставали новые вопросы. Победят ли ревизионисты в Австрии, Германии и Венгрии? Выживут ли новые режимы, пришедшие на смену
распавшимся многонациональным империям? Сохранят ли Франция
и Румыния свои территориальные приобретения, а Сербия — власть
над Югославией? По мере приближения Второй мировой войны и роста угрозы ревизионистской нацистской Германии военный кризис
охватывал все больше стран.
Политический кризис сильнее всего был выражен в центре, на
востоке и юге континента. На северо-западе либеральные режимы
прочно установились еще до 1914 г. Там правительства и электорат
отреагировали на экономический и военный кризисы методичными
изменениями в верхах, не тронув основные конституционные положения либеральной демократии. Однако в центре, на юге и на востоке наблюдалась попытка перейти к либеральным демократическим
парламентам, сохранив старорежимную государственную власть.
Здесь с кризисом боролись дуалистические государства: наполовину
либерально-демократические, наполовину авторитарные. Поскольку
старорежимные консерваторы обычно отвечали за исполнительную
власть, в том числе за армию и полицию, у них была возможность
прибегать к репрессиям для борьбы с кризисом, уменьшая власть
парламента или вообще лишая его силы. Война усилила популярность милитаризма, а краткая послевоенная вспышка классовой
борьбы сделала нормой использование военной силы в гражданской
борьбе. Однако большинству правых казалось, что одних репрессий
508
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
недостаточно, чтобы сохранить власть в современном мире. Также
было необходимо положить конец демократии за счет альтернативных
способов мобилизации масс. В двух половинах Европы консерваторы
отреагировали по-разному. На северо-западе за счет доминирования
либеральных институтов консерваторы стали склоняться к формированию более популистских политических партий, играя по правилам
выборной демократии. Но в центральной, восточной и южной частях
Европы они устроили перевороты с помощью исполнительной власти,
связанной с более мобилизованными авторитарными движениями.
Хотелось бы особо отметить, что фашизм не был кризисом либерализ
ма, поскольку наделенный законным статусом либерализм переживал все эти кризисы без серьезной дестабилизации. Фашизм стал
результатом торопливой, неподготовленной попытки либерализации
на фоне социальных кризисов.
Эти кризисы обострял еще один — идеологический. По мнению правых, пусть и только в одной части Европы, модернизация
была желательна, но опасна, либерализм — коррумпирован и беспорядочен, социализм означал хаос, а секуляризм был опасен для
моральных принципов. Таким образом, выходило, что цивилизацию надо спасать — неконтролируемая модернизация может ее
уничтожить. Так появился более авторитарный правый взгляд на
современность, в котором на первый план вышли популистский
национализм сверху, сильное государство, порядок и иерархия.
Эти ценности стали пользоваться большой популярностью, особенно среди молодых моралистов, представителей среднего класса:
школьников, студентов, курсантов военных академий, а также священников в «государственных» церквях, которые в любом случае
склонялись к национализму или этатизму. Таким образом, в половине развитого мира произошло консервативное политическое
выступление имущих классов, возглавляемых старорежимными
лидерами, сторонниками государственных репрессий, в то же время
спонсирующими массовые политические партии, пропагандирующие националистические и этатистские идеологии. Эти мятежные
авторитарные правые силы не были в чистом виде реакционными
(как предполагает Mayer, 1981), поскольку отражали новый взгляд
на современность.
Мертвые фашисты
509
Но это не было и классовой стратегией, объяснимой в пря
молинейных и функциональных марксистских терминах. С экономической точки зрения власть имущие тоже могли бы найти стратегию и получше. У них было два альтернативных мотива: защита
собственности и максимизация прибыли. Вспышка классовой борьбы
сразу после войны создала угрозу для частной собственности, так
же как и позднее испанские революционеры или располагавшийся
по соседству СССР. Но после 1921 г. серьезной угрозы в Европе не
существовало. Левые революционеры проиграли. Большинство правых выступлений произошли после того, как пришел конец серьезной
революционной угрозе. На протяжении достаточно длительного
периода не было необходимости защищать собственность. Скорее на
передний план мог бы выйти мотив максимизации прибыли, но с ним
дело обстояло сложнее. Он менее сбалансирован, так как не факт,
что если одна сторона выиграет, то другая проиграет. Также труднее
подсчитать альтернативную прибыль. Некоторые правительства,
склонявшиеся к левым взглядам, под давлением Великой депрессии
постарались выжать из прибыли все что можно, так что в течение недолгого времени капиталисты могли бы попробовать восстановить
баланс, заставив рабочих терпеть убытки и таким образом подавив
их. Но политическая элита в северо-западных и некоторых других
странах придумала намного более полезные стратегии: корпоративный либерализм в США, социальный демократический компромисс
в Скандинавии, раскол лейбористской партии в Великобритании.
В первом случае при классовой борьбе в выигрыше могли бы остаться
обе стороны, во втором — точно бы не возникло разногласий, а вот
в третьем пользу, возможно, извлекли бы только капиталисты. Это
были эффективные демократические стратегии, защищавшие капитализм и его прибыль, и именно к ним стремился ведущий северозападный экономист Кейнс.
Почему же власть имущие так испугались сопротивления со
стороны левых, что сразу же обратились к авторитаризму, хотя ни
их собственности, ни доходам ничто особо не угрожало? Я выделил
бы пять причин их излишне бурной реакции, классифицировав их
в соответствии с источникам социальной власти:
1. За последние десятилетия стало понятно, что в современном
обществе вполне может произойти революция. Конечно, перспективы
510
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
этого события становились все более смутными, но владельцы собственности не могли быть полностью уверены в своей безопасности.
Как подчеркивают в последнее время политические исследователи,
дилемма безопасности заключается в том, что люди могут излишне
остро реагировать на «смертельную» угрозу, даже если вероятность
ее реализации очень мала. Вряд ли в Германии после 1922 г. могла бы
произойти революция большевиков, но немецкие капиталисты крайне
болезненно воспринимали левых, считая, что лучше перестраховаться.
Для правых «определенность», «безопасность» и «порядок» были
тесно связанными ценностями.
2. Была одна классовая единица, которой действительно было
чего бояться. А именно — землевладельцы, чьи имущественные права
находились под угрозой. В большей части Европы после Первой мировой войны крайне благосклонно относились к земельной реформе.
В некоторых странах землевладельцам напрямую угрожали представители низших сословий, и ясно было, что старый режим, за который
они держатся, долго не протянет. Но на тот момент землевладельцы
все еще обладали необычно большим контролем над исполнительной
властью, которой они пользовались, прибегая к помощи офицерских
корпусов и министерств внутренних дел. Благодаря патрон-клиентской
системе, они также были наделены определенной парламентской властью в относительно отсталых регионах. Землевладельцы могли быть
уверены в неприкосновенности своей собственности, только прибегая
к репрессиям и наделяя огромной политической силой имущие классы
в целом. Зачем рисковать, не зная, что готовит тебе будущее, если можно
сохранить собственность за счет авторитарных правых сил? Необходимо
тем не менее отметить, что если мотивация старорежимных лидеров,
как правило, была экономически оправданна, то об их союзниках среди
богачей нельзя сказать того же. Их водили за нос политические и военные воротилы старого режима, особенно землевладельцы.
3. Некоторые военные рассуждали примерно так же. Их самостоятельное и привилегированное положение зависело от старого
режима и находилось под угрозой требований либералов и левых
предоставить над армией гражданский контроль. Это угрожало их
кошельку. Некоторые офицеры были привычны к мятежам, другие —
нет, однако правые движения с милитаристским уклоном готовы
были их подтолкнуть.
Мертвые фашисты
511
4. Аналогично рассуждали и священнослужители. Они столкнулись с левым секуляризмом, который угрожал их собственности,
кроме того, они могли потерять контроль над образованием, браком
и другими общественными практиками. Кроме того, священно
служители тоже были частью старого режима: проповедуя порядок
и иерархию, они осуществляли идеологическую власть над общинами верующих, особенно в сельской местности. Они обладали
идеологической властью и склонялись в сторону авторитарных
правых сил, чтобы защитить свои собственные материальные и мо
ральные интересы.
5. «Порядок» и «угроза» относились не только к внутренним
классовым отношениям, но и к геополитике. Некоторые этнические,
религиозные или политические меньшинства казались особенно
устрашающими, так как были связаны с зарубежными силами. Правые
объединяли внутренних и внешних «врагов»: левых, русских большевиков, «жидобольшевиков» — обладателей зарубежного и еврейского
капитала, либеральных сепаратистов и многих других. Все вместе они
рассматривались как внутренняя и внешняя угрозы.
Из-за всех этих страхов в обществе еще больше росло ощущение
угрозы. Чем более расплывчатой была угроза, тем менее она становилась понятной, поэтому в ответ люди хотели ее искоренить, подавить
в зародыше. Таким образом, цели от узкой инструментальной рацио
нальности, подсчитывающей экономический интерес, переместились в сторону более широкой ценностной рациональности — в том
смысле, который вкладывал в этот термин Макс Вебер. Главными
лозунгами стали такие слова, как порядок, безопасность, иерархия,
святость, а не секуляризм, национальные, а не классовые интересы.
Врага же всячески очерняли и даже демонизировали, он был противоположностью всех этих ценностей, недостойным демократического
или же (в крайних случаях) человеческого обращения. Изначально
причина крылась в экономических интересах богачей, но затем, когда угроза стала ощущаться по-другому, цели сместились в сторону
национализма и этатизма. Таким образом, имущие классы (даже,
возможно, землевладельцы) не выбирали самый инструментально
рациональный способ действий. Наступавшие авторитарные правые
силы разработали свою собственную экономическую рациональность.
Они продвигали этатистские экономические меры, полезные как для
512
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
дальнейшего развития, так и для борьбы с депрессией. Но, пребывая
в поиске порядка, иерархии и возможности избежать риска, большинство правых были вынуждены поступиться рядом требований,
поскольку тех же целей страны на северо-западе стали достигать
с помощью усиленной демократической мобилизации.
Хотя классовая борьба играла важную роль во взлете правых авторитаристов, отчасти он еще объяснялся политическими, военными
и идеологическими причинами. Когда многочисленные кризисы
порождают у коллективных акторов многочисленные цели, которые
сложным образом накладываются и пересекаются, полученные в результате действия редко отвечают узким рациональным групповым
интересам. Таким образом, авторитарные правые режимы оказались
в опасном положении, которое угрожало их собственному выживанию.
Опасно полагаться на сильно милитаризированное и религиозное
национальное государство, которому грозят местные и иностранные
враги. Скорее всего, в таком случае начнется война, а войны приносят куда больше потерь, чем побед. Некоторые из таких режимов
вызвали войны, способные полностью их уничтожить. Так и случилось в 1945 г. Кроме того, приняв правые ценности, авторитаристы
стали уязвимы для атаки более радикальных правых, всегда готовых
обойти их с флангов.
В этот момент появляются фашисты. Мы подошли ко второй
части объяснения того, как им удалось воспользоваться ситуацией.
У фашистов ничего бы не вышло, если бы не послевоенные кризисы,
с которыми столкнулись дуалистические государства, паникующие
старорежимные лидеры и имущие классы, проповедующие националэтатистские ценности. Там, где правительство не паниковало из-за
кризиса и страны были едины — а именно на северо-западе континента, — фашизму не удалось далеко зайти. Фашистов взрастили авто
ритарные правые, и впоследствии они поддерживали друг с другом
семейные отношения. А в любой семье от любви до ненависти один
шаг. Во второй части своих объяснений я поясню, где и почему восторжествовала любовь, а где ненависть.
Я уже говорил, что фашизм был необычным движением. Согласно
его ценностям и структуре, он не мог быть простым двигателем классовых интересов. С организационной точки зрения фашисты отличались
от других авторитаристов, поскольку у них движение происходило
Мертвые фашисты
513
снизу вверх, а не сверху вниз. Кроме того, они перемещались в ради
кальном направлении за счет своих ключевых ценностей: они верили
в парамилитарное, трансцендентное и очищающее национальное
государство. Фашисты не были преданы существующему государству или его военному блоку, а пытались совершить революцию,
«успокоить оба класса», очистить нацию от врагов и таким образом
выйти за пределы классового и политического конфликта. Поскольку
себя они считали народным движением, то рассматривали выборы
в качестве возможной стратегии прихода к власти. Большинство из
них яростно боролось за голоса избирателей, придумывая массовые
предвыборные технологии идеологической манипуляции. Лишь
в Италии, где фашисты слишком быстро пришли к власти, выборы
так и не стали центральной частью фашистской активности. В отличие
от более консервативных авторитарных правых, фашисты не могли
использовать государственную власть для улучшения результатов
(пока сами не пришли к власти). Хотя сторонники этого движения
не верили в демократию, она сыграла важную роль в их успехе.
Однако наряду с борьбой на выборах существовала и иная форма
низовой борьбы. Ядро активистов состояло из добровольных парамилитарных формирований, которые совершали организованные акты
уличного насилия. Они преследовали три цели. Во-первых, провокационную: таким образом вызывалась ответная реакция политических
противников. В результате фашисты могли сказать, что их собственная жестокость была самообороной. Во-вторых, подавлялись враги.
Поскольку парамилитаризм логично обеспечивал превосходство
в драках, фашисты отвечали за порядок на улицах. Они надеялись, что
«самооборона» и «успех» принесут еще больше поддержки населения
и узаконят организованное насилие, поскольку оно может положить
конец беспорядкам. На этом потом играли на выборах. В-третьих,
с помощью парамилитаризма можно было в крайнем случае поднять
мятеж, если армия будет иммобилизована (поскольку большинство
фашистов понимали, что их парамилитарные формирования слабее
военной мощи государства).
Такая полувоенная активность принесла определенные результаты, вследствие чего у движения появились новые ценности. Первая
группа новобранцев, без которой фашизм никогда бы не получил
своего развития, состояла в основном из молодых ветеранов, при-
514
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
внесших в мирное политическое движение военный дух товарищества,
иерархии и жестокости. Таким образом, без Первой мировой войны
фашизм как массовое движение никогда бы не вышел за пределы
круга интеллектуалов. В самом деле, фашистские активисты оставались группой молодых людей, представителей разных классов,
которые особенно любили проводить демонстрации, маршировать
и драться. Среди них было множество студентов, курсантов, спортс
менов и молодых разнорабочих (они же часто встречаются среди
жестоких участников этнических чисток, о которых я рассказываю
в следующем томе). В фашизме также отразилось то, как на молодежь
повлияла модернизация: юноши освободились от семейного порядка,
а молодые женщины во многом сняли с себя груз деторождения, все
более популярными становились организованные занятия спортом,
а также профессии, требовавшие дальнейшего или высшего образования, особенно военные. Ученые, изучающие фашизм (или ХХ век
в целом), обращают недостаточно внимания на изменения в этой возрастной группе, которые сыграли свою роль в формировании такой
отличительной черты того времени, как культ молодости. Первым
его политическим проявлением стал фашизм.
Во всех странах основными ценностями фашизма, привлекавшими
к нему массу сторонников, были низовой национализм и этатизм.
Фашизм пришелся по душе озлобленным беженцам, жителям «угрожаемых» приграничных областей, государственным служащим (в особенности военным), работникам государственных сфер промышленности и священнослужителям, которые считали себя душой нации или
совестью государства. Как отмечают классовые теоретики, фашизм
не добился бы такой популярности без классового конфликта и без
Октябрьской революции. Но отсюда вовсе не следует, что фашисты
представляли одну сторону в этой борьбе или вообще какой-то отдельный класс. Судя по их электорату, они хотели выйти за пределы
классовой борьбы. Фашизм пришелся по душе не организованному
рабочему классу и не представителям среднего или высшего классов,
столкнувшимся с профсоюзами. Главным образом он понравился
тем, кто находился на обочинах этого конфликта, а именно представителям всех классов и различных сфер, занятых в небольших
или сравнительно новых областях, а также в сфере обслуживания,
людям, готовым воскликнуть: «Чума на оба ваши дома!» В основном
Мертвые фашисты
515
фашисты, в особенности милитаристы, рассчитывали на мужественных молодых людей, восприимчивых к парамилитаризму, и на общественную среду, заинтересованную в крайнем национал-этатизме
и в победе над классовым конфликтом.
Однако преодолеть классовый конфликт фашистским режимам не
удалось. Поскольку они в целом не имели ничего против капитализма,
они могли договориться с капиталистами. Любовь к милитаризму позволяла найти общий язык с военными. А раз большинству фашистов
безразлична была религия, они были готовы подписать конкордаты
с влиятельными церквями. Таким образом, на практике, едва приблизившись к власти, фашисты занимали одну из сторон в классовой
борьбе. Они склонялись на сторону капиталистов, имущих классов
в целом и старорежимных лидеров в частности. Все же среди основных
фашистских ценностей классовая трансцендентность была единственной, которая менялась в зависимости от страны. Итальянский фашизм
оказался довольно консервативным и буржуазным, румынский стал,
несомненно, пролетарским.
Поскольку крупные фашистские движения отличались друг от
друга и появлялись при разных обстоятельствах, трудно, говоря об их
всплеске, объединить их в одну группу, как мы поступили с «семьей»
авторитарных правых в целом. Вначале я кратко расскажу об особенностях каждого, а затем перейду к тому, что у них было общего.
Фашисты в Италии захватили власть очень быстро, сразу после
войны, когда классовый конфликт только начал идти на спад (и еще
бушевал в сельском хозяйстве). Поэтому классовый компонент у их
движения был выражен более ярко, чем в других случаях. Фашисты
совершенно точно сотрудничали с имущим классом, поэтому итальянский фашизм можно отчасти объяснить словами Карла Маркса:
верхи пришли к фашистам, чтобы те спасли их от классовой революции. Но поскольку Первая мировая война только закончилась,
большой военный и полувоенный вклад внесли молодые ветераны.
Можно даже сказать, что парамилитаризм был средством, а подавление сельскохозяйственного класса — целью итальянского фашизма.
Это, конечно, было бы слишком упрощенно, поскольку в результате
парамилитаризма появились новые участники движения и цели.
Хотя итальянский фашизм не стремился победить на выборах, сочетание самообороны и успеха (он ведь в самом деле разгромил
516
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
с оциалистические силы и популяров) принесло движению еще больше
популярности среди тех, кто ценил общественный порядок. Более
широкие националистические этатистские цели также были весьма
любимы в обществе и мешали сопротивляться сторонникам старого
режима и представителям государственной исполнительной власти.
Конечно, также были важны геополитические и политические отношения между странами. Поскольку никто не оспаривал итальянские
границы и не было никакой внешней угрозы, национализм содержал
в себе мало внешней агрессии или расизма, направленного внутрь
Европы (Африка — это отдельная история).
Итальянское государство также было дуалистическим, и обе половины находились в ослабленном состоянии. Поэтому так легко было
организовать мятеж. Фашизм не нападал напрямую на либеральный
парламентаризм, поскольку его неожиданная победа произошла между выборами. Но парламент был слаб из-за традиционной враждебности церкви и быстрого перехода к полной демократии. Социалисты,
католики-популяры, либералы и консерваторы теперь не вписывались
в правила парламентской игры и не смогли сформировать коалиции,
которые послужили бы им и демократии. Но поскольку церковь до
сих пор была отделена от политики, а Италия неровно развивалась
с экономической точки зрения, в стране отсутствовал единый старый
режим. Землевладельцы, крупные капиталисты, армия и церковь
не могли противостоять переходу к демократии с помощью своего
консервативного авторитаризма. Некоторые быстро присоединились
к фашизму (то есть нередко — к своим собственным сыновьям). Таким
образом, существовало три причины победы итальянского фашизма:
активная классовая борьба, послевоенный парамилитаризм и слабость
старого режима.
Нацизм в Германии появился позднее, после длительной попытки установить веймарскую демократию. Во-первых, очень важно
положение старого режима. Из-за проигрыша в войне пострадала
монархия, преданные ей консерваторы и национальные либеральные
партии, кроме того, сильно уменьшилась армия. Старорежимные
лидеры больше не могли оставаться у власти. Поскольку начиная
с 1930 г. положение демократии было шатким, у консервативного
авторитаризма было мало поддержки за пределами самой исполнительной власти.
Мертвые фашисты
517
Во-вторых, опять-таки был важен парамилитаризм, хотя его роль
отличалась от итальянского. Военные ветераны были важны в первой
группе нацистов и других популистских экстремистов, но их необходимо было укреплять более поздними группами немцев, которые
не участвовали в войне. С 1928 г. нацисты, в отличие от итальянцев,
преуспевали на выборах. Таким образом, с помощью парамилитаризма
они хотели скорее получить поддержку электората и победить врагов
в уличных драках, чем захватить власть в государстве.
В-третьих, классовый конфликт хоть и сыграл определенную
роль, но все-таки не был решающим фактором. Он начался во время
Великой депрессии, но был намного слабее, чем сразу после войны.
Кроме того, он был не настолько острым, чтобы угрожать собственности капиталистов. Однако прибыли становилось меньше, и одним
из решений этой проблемы было подавление рабочих. Таким образом,
в нацистском перевороте по-своему поучаствовал имущий класс, хотя
и намного меньше, чем в Италии.
В-четвертых, нацизм, в отличие от итальянского фашизма, пользовался большой популярностью у избирателей. Происходило это по
двум причинам. Из-за патовой классовой ситуации во время Великой
депрессии людям нравилась нацистская идея преодоления классового
конфликта, особенно потому, что нацизм был самым бесклассовым
движением в Германии. Кроме того, популистский националистический этатизм процветал за счет германской геополитической и эт
нической озлобленности. Великая держава была недовольна потерей
своих территорий и оказалась раздираемой центрально-европейскими
противоречиями (центром раньше была Габсбургская династия),
в которых участвовали немцы, евреи и славяне. У Германии были
беженцы, «границы под угрозой» и этнические «враги», как внутри
страны, так и за рубежом. Органический очищающий национализм
получил широкую поддержку. Этатизм ограничивался почитанием
фюрера и милитаризмом. Но национализм был более активным и расистским. Таким образом, надклассовый национал-этатизм нацистов
оказался достаточно популярным, чтобы с его помощью они приблизились к власти. А благодаря парамилитаризму и слабости (а иногда
и пособничеству) старого режима власть упала им в руки. Так можно
в целом объяснить переплетение идеологических, экономических,
военных и политических отношений в этом случае.
518
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
Австрийский фашизм делился на два конкурирующих движения.
Хотя монархии и империи уже не существовало, парламентские
институты, исполнительная власть и католическая церковь многое
унаследовали с довоенных времен, а старый режим продолжал существовать в форме христианско-социальных правительств. Конкурирующие австрофашизм и австрийское нацистское движение выросли
из послевоенных ревизионистских парамилитарных формирований
и продолжали набирать популярность благодаря недовольству, высказывавшемуся в ходе выборов. Оба движения использовали австронемецкую антипатию к славянам и евреям. Из двух движений менее
популистским и радикальным был австрофашизм, он также был более
«верховым» и прокапиталистическим. Движение набирало силу из-за
того, что мягкая полуавторитарная христианско-социальная партия
не могла преодолеть австрийскую классовую патовую ситуацию,
кроме того, помогла Великая депрессия. Но решающим фактором
стал приход к власти Гитлера в соседней Германии. Нацизм сразу стал
более привлекательным, австрофашисты утратили популярность,
и настал час австрийских нацистов. Парамилитарные формирования
обеих партий попытались захватить власть, но им это удалось только
при поддержке военных сил государства (Австрии и Германии соответственно). Результатом стал аншлюс и слияние двух нацистских
партий, хотя они пришли к власти разными способами и одна была
намного более мощной, чем другая.
Фашизм в Венгрии и Румынии сильно отличался от фашизма
в других странах. Во время войны эти государства поддерживали
разные стороны. В результате Венгрия понесла огромные потери,
а Румыния вышла победительницей. Однако это стало чуть меньше
бросаться в глаза после гражданской войны в Венгрии, в результате
которой были свергнуты левые и вернулся старый режим в радикальной и ожесточенной форме. Государственная власть делилась на две
части: традиционную исполнительную власть плюс бюрократию —
и парламент, в котором преобладало дворянство. К старому режиму
примкнуло много молодых правых радикалов, обращавшихся к стране
с популистскими, ревизионистскими (то есть нацеленными на возврат
потерянных территорий) и модернизационными призывами. В Румынии ситуация немного отличалась. В этой стране дворяне-землевладельцы были лишены собственности: на фоне этого и победы в войне
Мертвые фашисты
519
снова появились монархия, бюрократия и армия, однако режим стал
более националистическим, хотя и остался таким же коррумпированным. Таким образом, в обеих странах сохранились старые режимы
в несколько более радикальной форме, а потом их дестабилизировали
новые радикалы, появлявшиеся вокруг. Политическая конкуренция
правых особенно яростно бушевала в университетах и военных
училищах, а также на выборах. Крупные фашистские движения
появились только в середине 1930-х, когда страх перед левыми уже
отступил. Таким образом, фашисты не тяготели к капиталистам, по
составу их организации были даже скорее пролетарскими. В обоих
случаях парамилитаризм использовался скорее как предвыборное
средство, а не для подавления конкурентов или захвата власти. После «плясок смерти», в ходе которых военная сила возобладала над
парамилитарными подразделениями, радикальный авторитарный
режим победил фашистов. Им удалось победить лишь в хаосе последних военных лет, но продержались они у власти совсем недолго
и их участь была предрешена.
Испанский фашизм опять-таки имел свои особенности. Во время
Первой мировой войны Испания сохраняла нейтралитет, и потому
среди всех приведенных примеров в данном случае меньше всего
пострадал старый режим. Таким образом, в основном преобладали
здесь не фашисты, а авторитарные консерваторы. В сущности, это
самый распространенный случай в центре, на востоке и на юге континента. В этом отношении с Испанией были схожи Португалия,
Болгария, Греция и сербская часть Югославии. В ходе кризиса новые
государства, появившиеся в результате распада империй, такие как
три прибалтийские страны, Польша и Албания, сместились в сторону
реакционного или корпоративистского авторитаризма. Хотя их политические режимы были не «старыми», а очень даже новыми, у них
было достаточно сил и законности, чтобы стать «национальными
освободителями». Не фашисты, а они придумали ассоциации ветеранов и популистские партии.
У старого режима Испании был один слабый элемент — непопулярный монарх, из-за этого власть смог получить военный режим
генерала Примо де Ривера. После его падения появилась демократическая Третья республика, а после ее распада — масштабное фашистское
движение, укомплектованное наспех сформированными парамили-
520
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
тарными подразделениями. Но оно подчинялось националистической
армии в гражданской войне и было изолировано при Франко. Тот
главным образом опирался на армию, церковь и «старый» имущий
класс. Его режим по большей части можно объяснить точно так же,
как я раньше объяснял, почему удалось получить власть авторитарным правым.
Все эти случаи отличались друг от друга. Чтобы дать им объяснение, необходимо провести анализ местной истории и социальных
структур. Тем не менее, несмотря на такое разнообразие, были общие
силы, которые определили появление фашизма. Первая причина, на
самом деле игравшая сравнительно небольшую роль, — страх перед
движением рабочего класса. Он был несоизмерим с мощью фашистов.
Угроза, возможно, была сильнее всего в Испании, но там фашизм был
не так сильно развит. В определенном смысле опасаться рабочего
класса (хотя пик недовольства рабочих там уже прошел) можно было
в Италии. Так же дело обстояло и в Австрии, хотя там угроза была
больше формальной, чем реальной. В Германии рабочее движение
было масштабным, но по большей части умеренным. В Румынии
и Венгрии на тот момент было мало левых, тут, напротив, основные
рабочие движения появились благодаря фашизму. В некотором смысле и в ограниченных пределах фашизм поддерживали имущие классы,
спасавшие себя от рабочих, однако этой причины недостаточно.
Больше всего привлекала в фашизме сила и яркость его месседжа. Именно поэтому его так активно поддерживала молодежь,
поэтому молодые фашисты готовы были тратить ради общего дела
намного больше времени и сил, чем активисты в любом другом политическом движении. Для успеха любого фашистского движения
необходим был активизм, всегда — с воинственным, парамилитарным
компонентом. Тысячи человек своей энергией и воинственностью
надеялись привлечь и победить миллионы. В основном фашисты полагались на свою способность заманивать молодых одиноких мужчин
в «клетки» товарищества, иерархии и насилия. Фашистские партии
и парамилитарные формирования становились почти тотальными
институциями. Фашизм также привлекал значительное количество
(хотя и не большинство) избирателей за счет этатизма, национализма и обещаний преодолеть классовую борьбу в разных сочетаниях
и в меньшей степени за счет парамилитаризма и чисток. Как мы уже
Мертвые фашисты
521
видели, первые три из моих пяти основных характеристик фашизма
намного более применимы к странам, породившим масштабные фашистские движения.
Но на популярность фашизма сильно влияла также политическая
сила и стабильность старорежимного консерватизма, который (в большей степени, чем либеральная или социальная демократия) был
главным его конкурентом. Фашистское движение появлялось лишь
там, где были ослаблены и раздроблены старые режимы. Прочные
и внутренне единые старые режимы подавляли или подчиняли фашизм, а более слабые позволяли фашистам найти военные и полити
ческие ресурсы. Первая мировая война создала пространство для
легитимного парамилитаризма, изначально исходившего от недовольных ветеранов. Они привили свои ценности двум последующим
поколениям новобранцев, которые в основном составляли студенты,
кадеты и рабочие. Еще одно новое пространство создали демократические выборы. Фашисты добивались успеха благодаря трехсторонней
предвыборной борьбе. Они стравливали левых с консерваторами,
либеральными центристами и радикальными консерваторами. Потом фашисты могли получить часть радикального правого крыла
или даже его целиком, поскольку центр пустел, а левые подвергались
репрессиям. Таким образом фашисты добивались успеха на выборах.
Сами фашисты не считали себя простыми «реакционерами» или
«марионетками» капиталистов или кого-то еще. Они предлагали
выходы из четырех кризисов начала XX века: экономического, военного, политического и идеологического. Они вполне убедительно
говорили о путях преодоления капиталистической классовой борьбы
и экономического кризиса. Фашисты превратили ценности времен
массовой военной службы в парамилитаризм и агрессивный национализм. Они появились в результате перехода дуалистического
государства к власти народа, предложив ее менее либеральный и более органический вариант. И наконец, они перекинули мост через
идеологический раскол современности. По одну сторону лежали
традиции эпохи Просвещения, «партии гуманизма», которая постепенно расширяла бы границы сознания, свободы, демократического
гражданства и рационального планирования в человеческом обществе.
С другой стороны — модернистский вариант романтизма: ощущение,
что люди также имеют чувства, эмоции, душу и бессознательное и что
522
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
современные формы организации жизни: толпы, массовые движения,
мировые войны, СМИ — могут воздействовать на них так же, как
на рассудок. Фашисты утверждали, что обращаются сразу и к той
и к другой стороне поведения человека и человеческих масс. Нам
могут не нравиться предлагаемые ими решения, но к ним нужно
относиться серьезно. Фашисты были и остаются темной стороной
современности.
Таким образом, фашисты в таком большом количестве появились
в результате послевоенных кризисов идеологической, экономической,
военной и политической власти, из которых предлагалось выходить
с помощью надклассовой национал-этатистской идеологии, а также
народных парамилитарных формирований. Фашизм появлялся только там, где страна была дуализирована и во главе ее стояла слабая
«старорежимная» исполнительная власть и энергичный, но лишь
наполовину институционализированный демократический парламент. В тех дуальных государствах, где старые режимы были более
стабильными, утвердились консервативные формы авторитаризма.
Фашизм появился вследствие демократизации на фоне серьезных,
вызванных войной кризисов. Он представлял собой выраженно этатистский и милитаристский вариант власти народа — доминирующего
политического идеала нашего времени. Полноценные парламентские
режимы (на северо-западе) успешно пережили все четыре кризиса: их
властные институты не пострадали, а фашисты остались ничтожным
меньшинством.
ЖИВЫЕ ФАШИСТЫ?
Есть ли среди нас фашисты, готовые возродиться и снова прийти
к власти? Могут ли снова возникнуть предпосылки, которые приведут
к такому результату? Или фашизм был «временным» европейским
явлением, а не универсальным? Очевидно, что некоторые из упомянутых мною причин фашизма не относятся только к межвоенному
периоду: они могут возникнуть в любом современном обществе. Мы
выделили пять ключевых для фашизма характеристик: национализм,
этатизм, надклассовость, чистки и парамилитаризм — несомненно, не-
Живые фашисты?
523
которые из них в различных сочетаниях можно найти в разных частях
света и сейчас. Движение может быть более или менее фашистским
по сути. Однако вряд ли схожие движения в будущем станут называть себя фашистами. В наши дни это слово употребляется обычно
как восклицание: «Фашист!» — ругательство с размытым смыслом,
обзывалка для неприятных нам людей. Лишь немногие сумасшедшие
и бандиты всерьез называют себя фашистами или нацистами. Да еще
неофашистами именуют себя некоторые итальянцы и румыны, питающие несколько романтический взгляд на Муссолини и Кодряну: в них
видят безвинных жертв, хотевших только хорошего. Но названия не
всегда отражают реальность. И сейчас в мире существуют движения,
чье сходство с фашизмом, пожалуй, не случайно. Им я посвящу последние страницы этой книги.
Однако мало кто из них находится на родине фашизма — в Европе.
Здесь фашисты потерпели поражение, главные лидеры были казнены или отправлены за решетку, многие другие потеряли свои чины
и должности. Победу одержали либеральная демократия и коммунизм, установившие свои порядки в Европе. После 1945 г. не было
ни массовых движений ветеранов, ни политики территориального
ревизионизма. В Западной Европе активно росла экономика, а на
востоке установился достаточно эффективный коммунистический
авторитаризм. На Западе постоянно шло демократическое соревнование между широкими центристскими левыми и центристскими
правыми партиями. Поскольку в настоящем жилось точно лучше,
чем в прошлом, фашизм отступил. Для большинства европейцев
фашизм по-прежнему ассоциируется со злом. В Испании и Португалии корпоративистские режимы изжили себя и исчезли к 1975 г.,
не вызвав никаких сожалений. С 1989 г. авторитаризм стал отступать
и на Востоке. Казалось, что фашизму пришел конец.
Однако начиная с 1970-х появилось впечатление, что в Западной
Европе фашизм возрождается. Вначале определенной известности
добились несколько маргиналов — небольших, но жестоких группировок, именующих себя неофашистами или неонацистами. Это
исторические ревизионисты (отрицающие холокост), имитирующие
стиль и ритуалы традиционного фашизма. Они провозглашают преданность фашистским доктринам: гипернационализму, основанному
на биологическом расизме, очищению от иностранцев и инородцев,
524
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
антидемократическому этатизму, «третьему пути» (хотя этот пункт
у них звучит расплывчато и не слишком убедительно) и насилию,
замаскированному под призыв «не говорить, а действовать». Большинство из этих небольших групп в той или иной мере соответствуют
четырем из моих пяти критериев фашизма, хотя открытого парамилитаризма у них пока нет. Но это крохотные группы, и вряд ли они
станут больше. Аналогичные крохотные группировки есть и в крайнем левом крыле: раздробленные, без общественной поддержки,
в основном работающие друг на друга. О них с удовольствием пишут
журналисты, но встретить их намного легче на просторах интернета,
чем на улицах и тем более на предвыборных трибунах.
Опаснее выглядит серия неравномерных всплесков популярности
новых радикальных правых партий. За ними обычно следует спад,
однако в целом их популярность постепенно растет. На пике популярности в ряде стран эти партии получают от 10 до 27 % голосов. Вслед
за Игнаци (Ignazi, 1997) я выделяю два основных типа. К первому относятся те, кто называют себя неофашистами. Им действительно свойственны некоторые, хотя и не все из пяти, признаки фашизма. Однако
только две из этих партий добились успехов на выборах: Итальянское
социальное движение (ИСД) и Национал-демократическая партия
Германии (НДПГ), унаследовавшие две основные национальные
традиции фашизма. Другие неофашистские движения, такие как
Британская национальная партия и Голландская центральная партия,
остаются крайне малочисленными. Лишь Итальянскому социальному движению удалось получить 10 % голосов, а пик популярности
неофашистских партий пришелся на 1970-е и 1980-е (Taggart, 1995).
Поддержку ИСД (как и фашистам в межвоенный период) оказали
главным образом работники сферы обслуживания и государственного
сектора, а также (в меньшей степени) рабочий класс (Ferraresi, 1998;
Weinberg, 1998). Но обе эти партии утратили свою популярность
в 1990-х. НДПГ проиграла нефашистским республиканцам, а в 1994 г.
Джанфранко Фини переименовал Итальянское социальное движение
в Национальный альянс и объявил его не нео-, а постфашистским.
Под его руководством движение превратилось в масштабную консервативную системную партию, хотя некоторые его приверженцы
остались недовольны такими переменами. От него откололась группа
неофашистов, но она постепенно исчерпала себя. В 1990-х неофашизм
Живые фашисты?
525
отошел на задворки европейской политики, и на настоящий момент
его роль крайне незначительна.
Сейчас в крайнем правом крыле доминируют партии, которые
обычно называют «популистскими» или «радикально популистскими». По словам Таггарта (Taggart, 1995), они появились в конце
послевоенного урегулирования, в ответ на проблемы глобализации
и постиндустриализации. Игнаци называет их «постиндустриальными»: из-за глобализации, окончания холодной войны, падения крайне
левых и исчезновения классового конфликта возникли новые проблемы, которые мобилизовали популистских правых. Но в последние
десятилетия у таких партий появились большие возможности благодаря растущей иммиграции в страны Западной Европы. К основным
движениям в этой группе относятся Национальный фронт во Франции, республиканцы в Германии, Австрийская партия свободы Йорга
Хайдера, Народный союз в Бельгии и Фламандский блок. Недавно
произошел рост популярности популистских движений в Дании (Датская народная партия) и Норвегии (Партия прогресса), получивших
12–15 % голосов, а также в Голландии — «Антииммиграционный
список» Пима Фортёйна. На настоящий момент таких партий нет
только в Ирландии, Португалии и Испании. В Западной Европе они
теперь составляют постоянное политическое меньшинство55.
Однако три из пяти характеристик фашизма у этих движений
выглядят неопределенно. Они очень общими словами осуждают
«систему» и «правящие круги», а также «обман» либеральной демократии, при которой преобладают правительственные партии,
утратившие связь с реальной жизнью простых граждан. Но они редко
осуждают демократию как таковую и стремятся именно к успеху на
выборах. Даже в Европейском парламенте они сидят вместе, образуя
маленький блок. У них также достаточно двойственное отношение
к государству. Поскольку они представляют категорию наиболее
уязвимых граждан, они требуют от государства защиты, иногда социального обеспечения. Они неизменно требуют, чтобы правительство
внедряло закон, порядок и традиционную мораль — в противовес
55
Иногда в этом ряду упоминается итальянская «Лига Севера», но радикальной ее можно считать только в вопросе жесткого отношения к иммигрантам.
См. Diamanti, 1996.
526
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
иммигрантам, по их мнению, играющим ведущую роль в преступности, организации проституции и торговли наркотиками. Тем не менее
они недовольны государством, которым управляют крупные партии,
предприятия и союзы, и часто говорят, что хотели бы скинуть его
с плеч. Некоторые даже одобряют неолиберальную политику. Хайдер
в Австрии заявляет, что хочет прекращения регулирования бизнеса,
установления единого налога в размере 23 % и сокращения на две
трети государственной бюрократии. Это все выглядит куда ближе
к взглядам американских республиканцев, ненавидящих государство,
чем поклоняющихся ему фашистов. Их отказ примкнуть к правому
или левому крылу, нередко обусловленный идеей «третьего пути»,
достаточно расплывчат и сильно отличается от внятной позиции
«преодоления классовой борьбы», которую предлагали фашисты
в межвоенный период. Но главное, что эти принципы лишились
своей основы, так как классовая борьба утратила свои основные
черты. Ее успешно взяли под контроль либеральные демократы. Эти
три неясности, а также слабость принципов и политики лишают эти
крайне правые партии стабильности: и экстремисты, и сторонники
умеренных взглядов требуют большей внятности, в результате все
заканчивается расколом и изгнаниями «несогласных», что и произошло с Итальянским социальным движением и привело к распаду
немецких республиканцев в середине 1990-х.
Хотя у самых стойких из этих партий есть целый ряд политических убеждений, их главная отличительная черта — ксенофобия
и исключительный национализм по одному конкретному вопросу:
они хотят прекратить недавний приток иммигрантов в Европу (что,
правда, в меньшей степени относится к Италии). Их враг — небелый
и нехристианин, или же иногда восточный европеец, иммигрант,
ищущий убежища. Конкретные признаки его зависят от страны
и обстоятельств. Это соответствует моим критериям фашизма как
националистического движения, склонного к чисткам. Этот вопрос
правые партии связывают с другими: законом и порядком, моральным упадком, безработицей и проблемами с жильем, якобы также
возникающими из-за иммигрантов. Однако их националистическая
ксенофобия отличается от ксенофобии фашистов или неофашистов,
поскольку редко исходит из общей иерархической теории коллективной воли, культуры или расовой идентичности. По словам Вивьорки
Живые фашисты?
527
(Wieviorka, 1994), внутри расизма произошел сдвиг от «логики
(иерархического) подчинения» к «логике дифференциации». Нынешние расисты говорят просто, что иммигранты не вписываются
в культуру и традиции Франции, Германии, Австрии, Дании и других
стран и поэтому должны уехать или быть депортированы. Некоторые
даже утверждают, что они и есть истинные мультикультуралисты:
все культуры и этносы должны развиваться как хотят, но отдельно
друг от друга. У крайне правых партий нет желания править ими
или какими-либо иностранцами. Они не поддерживают территори
альный ревизионизм или агрессию по отношению к другим нациям,
как фашисты в межвоенный период. Они выражают преданность
«европейской цивилизации», которой угрожает поток иммигрантов.
Их «внешний враг» — американский империализм. Сами они далеки
от милитаризма.
И наконец, у этих партий нет серьезных парамилитарных формирований. Шокирующие, но редкие и случайные акты насилия совершают маленькие маргинальные группы, очень слабо организованные,
состоящие в основном из малообразованных и безработных молодых
людей, подогретых алкоголем, — так называемых скинхедов; и насилие
их почти полностью направлено на иммигрантов. Подавляющее боль
шинство тех, кто нарушает общественный порядок, никак не связаны
с какими-либо крайне правыми партиями или неонацистскими группировками. Руководители партий также недовольны их действиями,
считая, что из-за уличного насилия теряют голоса. Существуют те,
кто относится к скинхедам с сочувствием, но в основном это пожилые и малообразованные люди (Willems, 1995; Gress, 1998: 238–250).
Как показывают опросы, главным образом за правые популистские
партии голосуют те, кто считает, что их, как граждан, предали: вроде
бы у них есть все права, но на самом деле они задвинуты на задворки
жизни элитой, крупным бизнесом и вновь прибывшими иммигрантами. Они, как правило, не отличаются хорошим образованием
или профессиональными навыками. Это мужчины среднего или
преклонного возраста, жители небольших городов, работающие на
предприятиях, в маленьких фирмах и на маленьких фермах — то есть
электорат отличается от классического фашистского. Их ксенофобия
объясняется не только прямой конкуренцией с иммигрантами за
работу или жилье, не «объективной» культурной несовместимостью,
528
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
не преобладанием расизма в обществе в целом. Главная причина
заключается в ощущении, что их предали, растоптали их гражданские права, и особенно сильно это чувство выражено у малоимущих
граждан (Betz, 1994; Wimmer 1997). Как отмечает Итуэлл (Eatwell,
2001), крайне правые партии пользуются не классовой, а секторальной поддержкой: в каждом классе они привлекают людей в наиболее
экономически невыгодном положении (хотя связывать весь спектр
современных опасностей с «глобализацией» слишком банально).
Несколько отличается австрийская Партия свободы. Она пользуется
более широкой поддержкой и ведет свое начало от третьей великой
фашистской традиции, которая не была полностью уничтожена
в 1945 г. (Bailer-Galanda, 1998).
Но главным образом эти партии могут добиться успеха, сыграв
на недовольстве электората традиционными правящими партиями.
Особенно актуально такое «протестное голосование» в тех странах,
где регионы недовольны столицей, — как, например, в Бельгии
и в Австрии, а также в Италии, если принимать во внимание «Лигу
Севера». То, что в знак протеста люди голосуют не за левых, а за
правых, возможно, связано (кроме стран с сильными фашистскими
традициями) с расовым вопросом, которого левые партии избегают
(иногда — вопреки желанию своих сторонников). Однако поддержка
правых сильно колеблется в зависимости от региона и момента. Много голосов получают они лишь в определенных местах — например,
в Бернли, Антверпене или Каринтии (Eatwell 2001). Вероятно, так
происходит вследствие того, что эти партии опираются на широкую,
но неглубокую поддержку «протестных» избирателей, поэтому лишь
в некоторых местах у них есть свои активисты.
Но чем лучше у партий результаты, тем больше проблем. У них нет
четкой идеологической и политической программы (кроме вопроса
иммиграции), и при успехе на это начинают обращать внимание и их
критиковать. Если этим партиям удается попасть в коалиционное
правительство (как в Австрии) или в местные властные структуры
(как в Бельгии), то их деятельность также тщательно изучается со
всех сторон. На настоящий момент основные системные партии уже
вернулись на политическую арену. В 2002 г. за счет австрийской
Партии свободы больших успехов добилась Консервативная партия.
Так и продолжается: то взлет, то падение, поэтому я сомневаюсь, что
Живые фашисты?
529
когда-нибудь будет только взлет. На самом деле, если бы крупные
партии отреагировали на всплеск ксенофобии, жестко ограничив иммиграцию, радикальные правые сразу потеряли бы всю поддержку. Так
произошло в 1960-х в Великобритании, первой послевоенной стране,
столкнувшейся с подобной проблемой. Консерваторы и лейбористы
заключили молчаливое соглашение ограничить иммиграцию небелых,
покончив таким образом с электоральной угрозой, исходившей от
радикальных правых.
Правые популистские партии состоят из националистов, которые
поддерживают этнические чистки в относительно мягкой форме
организованных, добровольных или принудительных депортаций.
Но они не государственники. Они крайне расплывчато заявляют
о «преодолении» классового конфликта (этот вопрос в Европе уже
не стоит так остро), и у них нет парамилитарных формирований.
Но самое главное: они настолько сосредоточены на главном своем
вопросе — иммиграции, — что это подрывает их мировоззрение
в целом, неважно, фашистское или нет. По этим причинам их нельзя
серьезно назвать фашистами в рамках определения этого термина,
данного мной или цитируемыми мной Нольте, Пейном, Итуэллом
или Гриффином.
Я уже утверждал в этой книге, что надежное средство против
фашизма — институционализированная либеральная демократия.
В послевоенной Западной Европе она укрепилась настолько сильно,
что вряд ли неофашисты или правые популисты смогут найти тут
поддержку в каких-то других вопросах, помимо иммигрантского.
Западная Европа успешно институционализировала классовый конфликт, способствовавший рождению классического фашизма. Она
в состоянии справиться с большинством конфликтов, как и северозападная Европа в межвоенный период. Нерешенным остается лишь
иммигрантский вопрос, так как капитализм выступает за иммиграцию,
а либеральная демократия или социальная демократия может легко
отдать предпочтение коренным жителям. Из-за этого противоречия
процветают правые популисты. Из-за него же непросто приходится
иммигрантам, но вряд ли по этой причине появится фашизм или какая-либо другая тоталитарная идеология. Радикальные популистские
партии могут создавать проблемы, но, учитывая, что европейские
системные партии адаптируются под меняющееся макропростран-
530
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
ство и гибко реагируют на требования граждан, в Европе фашизм
побежден, мертв и похоронен56. После страшного ХХ века хотя бы
это может послужить европейцам утешением.
У бывшей коммунистической зоны Большой Европы есть свои
отличительные проблемы. Тут либеральная демократия существует
едва больше десяти лет и остается очень уязвимой. Авторитаризм
медленно уходит из стран с бывшим коммунистическим режимом,
и некоторые аспекты этнического конфликта переплетаются с конфликтом между государствами. Как мы уже видели, самое крупное
фашистское движение было в Румынии. Можно было догадаться, что здесь появится и самое крупное неофашистское движение.
Националистическая и достаточно этатистская партия неофашистов
«Великая Румыния», выросшая из «Железной гвардии», на выборах
в 2000 г. получила почти 30 % голосов. Но это редкий случай в этом
регионе. Более близкая к ЕС Венгрия вряд ли повторит свою межвоенную траекторию. В Восточной Европе не заявляют об авторитаризме
в открытую, его отрицают. Так и будет продолжаться до тех пор, пока
страны хотят войти в ЕС, НАТО или воспользоваться какими-либо
ресурсами ЕС, США или международных финансовых организаций.
На краю континента к требованиям ЕС к демократии относятся очень
серьезно. Хотя в некоторой степени у нас опять появились «две Европы»: более крупная западная часть, сочетающая в себе социальную,
христианскую и либеральную демократию, доминирует над второй
частью, состоящей из дуалистических государств.
Можно представить себе, что (например, в России) появится
в будущем радикально правое движение, сочетающее в себе элементы национализма и социализма и гордо провозглашающее крайний
национал-этатизм. Оно будет намного ближе к фашизму — хотя,
скорее всего, не станет пользоваться этим названием. Восточной
Европе фашисты нанесли огромный ущерб, а за этим последовали
пятьдесят лет злоупотреблений коммунистических режимов. Вряд
ли эти названия сейчас кому-то там понравятся.
56
Так же утверждают Ларсен (Larsen, 1998) и Линц (Linz, 1998). С этой точкой
зрения, очевидно, не согласен Итуэлл: его недавняя работа заканчивается
выводом о том, что «фашизм снова на марше» (Eatwell, 1995: 286), — хотя
приводимые им факты говорят скорее об обратном.
Живые фашисты?
531
В южной части мира этатизм и национализм проявляются намного
сильнее, чем на севере. Хотя неолиберализм оставил свой отпечаток,
большинство южных стран считают, что государство должно играть
важную роль в их социальном и экономическом развитии. В некоторых из них мобилизующий массы национализм (обычно этнонационализм), направленный на внутренние меньшинства, которым помогает
«родное» соседнее государство, сочетается еще и с территориальным
ревизионизмом и военной агрессией. Многие из этих государств
также имеют двойственную дестабилизирующую форму, которая наблюдалась в Европе в межвоенный период: парламентские структуры
сочетаются в них с сильной исполнительной властью. В большей части
южных стран важную роль играют военные. В слабых, раздробленных странах появляются парамилитарные формирования: особенно
характерно это для Африки.
Однако эти характеристики, присущие фашизму, почти никогда не
встречаются вместе. Этатизм в таких странах, как Аргентина, Бразилия и Мексика, в самом деле произошел от корпоративистских режимов, на которые сильно повлиял фашизм. Тем не менее даже в период
правления Перона, Варгаса и Институционно-революционной партии
этатизм никогда не сочетался с парамилитаризмом или агрессивным
национализмом: правители стремились усмирить и успокоить массы,
а не мобилизовать их. В наше время их этатизм стал более консервативным, от прошлого осталась политика замещения импорта и государственное обеспечение работой и предоставление возможностей для
развития бизнеса «клиентам», отдающие иногда (как и в некоторых
других странах, например в Индии) кейнсианством. Большинство
этатистских режимов — консервативные и прокапиталистические, как,
например, в Южной Корее и Сингапуре. Военные режимы главным
образом занимаются репрессиями в своих странах и пропагандируют
этнонационализм в монополизации государственных ресурсов для
своих этнических групп. Мало у кого из них есть серьезная макроэкономическая программа. Кто-то, говоря о будущем страны, говорит
о сильном государстве и популизме, но в результате популизм получается в большей степени левым, чем правым, как в современной
Латинской Америке (например, Уго Чавес в Венесуэле). Полного
фашистского сочетания этатизма, национализма и парамилитаризма
нет ни у кого, равно как нет и амбициозных современных теорий
532
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
общества и прогресса. Нет утопического «Третьего пути», нет трансцендентности57.
Возможно, ближе всего фашизм подошел к возрождению в неожиданном религиозном облачении. Термин «теодемократия»
использовал ученый исламистский фундаменталист Мадуди. Под
ним имелась в виду власть не священнослужителей (иначе это была
бы теократия), а всего общества верующих, следующих заповедям
своей религии58. У такого популизма часто есть фашистские черты,
особенно в исламских или индуистских политических движениях.
Некоторые из этих черт объясняются исторически: с их помощью
великие державы вели борьбу за независимость. Арабы и индусы
сражались с британским и французским господством. Они учились
у своих угнетателей либеральным и социалистическим антиколониальным идеологиям. Но они могли превратить социализм в коммунизм с помощью СССР и Китая. Все это были светские идеологии,
чуждые исламу и индуизму или безразличные к ним.
Но фашистские государства, такие как Германия и Италия, также поддерживали их борьбу за освобождение, так как стремились
ослабить либеральные империи. Нацисты, фашисты, мусульмане
и индуисты были удивлены тем, как совпадают многие их идеи. Некоторые ближневосточные и индийские националисты, получившие
образование в учебных заведениях Берлина и Рима в межвоенный
период, решили, что их движения могут адаптировать фашизм под
свои потребности. Нацистские теоретики уважали индуизм, считая
его чистой арийской религией; индуистские варны (классическая
кастовая иерархия) также соответствовали фашистскому элитизму.
Все эти движения верили, что государство должно отражать духовную
сущность народа, и все уделяли особое внимание военной истории
и духу своих народов. Теоретики индусского национализма особо
обращают внимание на хинду раштра (индусская нация) и хиндутву
(индусскость) — понятия, очень схожие с немецким volkish. В 1930-х
мусульманские и индусские националисты также открыто приняли
57
58
Таков вывод, общий для самых разных работ, приводимых в: Larsen, 2001.
К теме Индии и теодемократии обращаюсь более подробно к моей следующей книге. См. также: Jaffrelot, 1996: 53–62; Gold, 1991; Prayer, 1991; Larsen,
2001: 749–58.
Живые фашисты?
533
фашистские организации, делая акцент на иерархии, дисциплине,
парамилитаризме и сегрегации активистов мужского и женского
пола. Лидеры крупного индусского парамилитарного формирования
«Раштрия сваямсевак сангх» часто восхваляли фашизм и нацизм.
Его известный теоретик Саваркар Говалкар писал о гитлеровской
«чистке» евреев в 1939 г.: «Это было высшим проявлением расовой
гордости... хороший урок нам в Индостане, из которого мы должны
извлечь пользу». Больше всего фашистские тенденции наблюдались в индийских военных формированиях: Индийском легионе
в Германии и Индийской национальной освободительной армии,
организованной японцами, сражавшихся с Великобританией во
Второй мировой войне.
Но они примкнули к проигравшей стороне и были разбиты. Индию освободили не они и не фашиствующие исламисты, а умеренные
светские индийские и пакистанские движения. Но в любом случае
эту схожесть тоже не стоит преувеличивать. Эти движения считали итальянский этатизм чрезмерным, и им не слишком нравился
нацистский расизм. Они предпочитали относиться к индийской
нации как к «обществу», которое может ассилимировать других.
Но в Индии индуизм, религия подавляющего большинства, склоняется в сторону национал-этатизма, конкурирующего со светским
национализмом, о котором заявляют Конгресс, Социалистическая
и Коммунистическая партии. Конечно, с тех пор как индуистская
националистическая партия БДП пришла к власти в 1980-х, она отчасти усвоила светский и умеренный дух предыдущих правительств,
а в экономике она с самого начала придерживалась неолиберального
курса. Ее спор с этатизмом партии Конгресса отчасти объясняется
тем, что в государственных «патрон-клиентских» отношениях обычно
участвуют его приверженцы. В целом индуистские националисты
не отводят государству какой-либо определенной роли в светских
делах и предлагают духовное, а не светское преодоление социальных
конфликтов. Это не «третий путь» в фашистском смысле. Пара
милитарные формирования сохраняют активность, хотя в недавние
годы «Раштрия сваямсевак сангх» вытеснили более радикальные,
но менее идеологические местные индусские группы. Индусскому
национализму присущи некоторые фашистские черты, но назвать
его в полной мере фашистским нельзя.
534
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
Недавно среди американцев и израильтян стал популярен термин
«исламофашизм». Так они называют направленный против них
исламский джихад. Термин имеет под собой определенную основу.
Новые джихадисты (часто их называют «фундаменталистами»)
действительно хотят создать единовластный авторитарный режим,
который будет насаждать утопические идеалы Корана. Благодаря
ему появится новая форма государства и новый человек. Орга
низации джихадистов, как правило, носят парамилитарный характер
и предстают в разной, но всегда воинствующей форме: партизанские
международные бригады во время войны в Афганистане, вооруженные банды террористов-силовиков под руководством «Талибана»
и иранских исламистов (довольно схожих с СА и СС) и тайные
террористические организации в других местах. Все это — определенно фашистские черты.
Однако есть и серьезные отличия. Исламисты — не нац ио
налисты. Ислам исповедует не одно государство: сейчас в Исламскую конференцию входят пятьдесят четыре страны. Следовательно,
исламисты не любят националистов и считают своими злейшими врагами, например, таких националистических лидеров, как
Саддам Хусейн и Хосни Мубарак. В сущности, исламисты хотят
создать одну огромную мусульманскую страну, халифат, которая
станет чем-то вроде государства всех наций. Но практически все
признают, что, возможно, это недостижимый идеал. Государству
не отводится никакой особой роли, кроме укрепления шариата.
В качестве примера можно рассмотреть три исламистских режима.
«Талибан» свирепствовал относительно культурных атрибутов,
таких как паранджа или видеофильмы, но не предлагал политических мер в области экономики, здравоохранения и образования.
Под его управлением Афганистан становился все беднее и беднее.
Суданские исламисты на пике своей популярности в 1990-х предлагали определенные варианты развития, а вместе с тем нападали
на христиан и язычников и вели бесконечные гражданские войны,
которые тоже разоряли страну. Иранские аятоллы были не так
разрушительны, но их экономическая политика во многом расходилась со взглядами на моральную чистоту. «Аль-Каида» ничего
не говорит об экономике. В доктрине джихадистов государству
и его народу не отведена какая-то определенная роль за пределами
Живые фашисты?
535
священного царства59. И снова у нас нет полного набора характеристик фашизма.
Очевидно, что термин «исламофашист» — это просто частный
случай употребления слова «фашист» в ругательном смысле. В наше
время это самое сильное ругательство, намного сильнее, чем «коммунист», поэтому понятно, почему американцы и израильтяне, пострадавшие от терроризма, его употребляют. Но ни исламистских, ни индуистских националистов нельзя в полной мере назвать фашистами.
По одной простой причине: в отличие от фашизма, они на самом деле
исповедуют политические религии. Они предлагают религиозную,
а не светскую идеологию. Больше всего они напоминают фашистов
тем, что так же считают убийство нормальным, этичным способом
достижения цели; но их понятия трансцендентности, государства,
нации и нового человека далеки от материального мира. Конечно,
мы можем назвать это движение «религиозным фашизмом»; но, возможно, лучше признать, что человеческая способность к жестоким
убийствам, чисткам и стремление к тоталитарным целям может иметь
различные источники и принимать различные формы, которым мы
должны придумывать различные названия: фашисты, коммунисты,
империалисты, религиозные националисты, этно-националисты,
и так далее.
Таким образом мы можем сказать, что фашизм в том смысле,
который вкладываем в это слово я и другие ученые, в современном
мире далек от процветания. Он появился в определенный исторический момент, когда массовая война наложилась на массовый переход
к демократии, и все это произошло на фоне мирового капиталистического кризиса. По не самым голословным заверениям фашистов,
они могли решить эти мировые проблемы, создав прекрасный новый
мир, в котором нация, государство и даже война рассматривались бы
как двигатели прогресса. Но этот момент уже прошел. К войне сейчас
относятся очень плохо (за исключением США и частично южной
части мира), поскольку она приносит социальный регресс. Из-за
капитализма будут всегда возникать кризисы, а переход к демократии
остается труднодостижимым. Но компромиссное сочетание капита59
Исламизм и джихадистов я рассматриваю в книге «Разобщенная империя»
(2003), главы 4 и 5; также см. ключевые работы: Roy, 1994; Kepel, 2002.
536
Глава 10. Заключение: фашисты мертвые и живые
лизма, демократии и социализма обычно рассматривается как способ
решения проблем и двигатель прогресса. Серьезные кризисы будут
повторяться. Учитывая, что в мире все сильнее идет глобализация,
вряд ли кто-то решит, что лучше всего можно выйти из положения
с помощью трансцендентного, очищающего, парамилитарного национального государства.
Однако в южной части мира все чаще будут появляться фашиствующие движения, если Север, под руководством США, продолжит
порочить перед Югом привлекательность мягкого, демократичного
национального государства своей капиталистической эксплуатацией,
американским военным империализмом и усилением неравенства
между Севером и Югом. Тогда нашим потомкам, возможно, придется
иметь дело с новыми социальными движениями, сильно напоми
нающими фашизм с социалистическим окрасом, опирающимися на те
местные идеологические источники сопротивления, которые смогут
мобилизовать, — как поступают сейчас исламисты.
Однако на сегодня фашисты мертвы, и воскрешение их в ближайшее время вряд ли возможно. До настоящего момента межвоенный
фашизм был не универсальным явлением; он принадлежал «европейской эпохе». Сейчас его наследники собираются, как правило,
в другие общественные движения — этнонационалистические, призывающие к кровавым чисткам. В последние годы на смену этатистской и милитаристской версии «власти народа», которую предлагали
фашисты, пришли другие версии — более узконационалистические,
этнические или религиозные. Но это тема для следующей книги.
Приложение
12
—
1
5
4
2
?
3
4
ПНФ, Италия, 1921
ПНФ, Удине, 1922
ПНФ, Реджо-Эмилия,
1922
Сквадристы,
Болонья и Флорен
ция, 1921–1922
Сквадристы, провинция Болонья, 1922
Фашистские «мученики, Италия
Парамилитарные
формирования
MVSN, 1923–1933
Депутаты ПНФ, 1924
1
11
8
13
0
7
3
31
Итальянские рабочие
массы
5
—
?
25
0
3
—
24
22
6
0
5
3
—
3
3
1
68
1
9
2
10
13
8
7
1
17
29
19
5
11
8
18
6
2
2
6
5
8
13
8
12
10
1
1
17
5
5
6
33
10
9
12
0
18
27
22
5
18+
25
16
26
0
12
27
10
46
2
16
13
1
Сель
Квалифици
Контор Мелкая
Уча
Поме Кре
Дель
Госслу
Рабо
хозра
рованные
ские слу буржуа
щие
щики стьяне
цы
жащие
чие
бочие
специалисты
жащие
зия
ся
Таблица 3.1. Итальянские фашисты по роду занятий (%)
313
374
145
281
381
265
539
151 644
2222
N
538
Приложение
3
3
6
5
60
21
3
3
3
0
117
N
Источники: ряд 1: Sylos Labini, 1978: 61, Weiss, 1988: 33; ряды 2 и 6: Revelli, 1987. В ряду 5 в число госслужащих входят 18 % военных, наем
ные работники, почти сплошь ремесленники. Ряд 3: Preziosi, 1980: приложение 1. «Клерки» распределяются так: 50 % госсектор, 50 %
частный сектор. Ряд 4: Cavandoli, 1972: 132–4. Данные о служащих — государственных и частных — здесь из одного источника. Я раз
делил их поровну: 50 % госслужащие, 50 % частные служащие. Численность рабочих, вполне вероятно, занижена; см.: Suzzi Valli, 2000:
136–7. «Пекарь», «механик» и так далее распределяются в пропорции: 50 %мелкая буржуазия, 50 % рабочих. Ряды 6 и 7: Reichardt, 2002:
279–281, 306–307, 344. Рабочих сельскохозяйственных и промышленных удается разделить не всегда; что касается «мучеников», то
для них сливаются категории высших слоев общества. Ряды 8 и 9: Linz, 1976: 57–58.
Депутаты католической партии «по
полари», 1921
Сель
Квалифици
Контор Мелкая
Уча
Поме Кре
Дель
Госслу
Рабо
хозра
рованные
ские слу буржуа
щие
щики стьяне
цы
жащие
чие
бочие
специалисты
жащие
зия
ся
Приложение
539
1
–1
1
3
8
5
7
8
4
6
18
Западный Рур, 1925–1926
Южная Вестфалия,
1925–1928
Ганновер, 1925–1932
Ганновер-Брунсвик,
1925–1933
Вюртемберг, 1928–1930
Гессе-Нассау, 1929–1931
преим. Бавария, 1923
Германия, 1925
Германия, 1927
Германия, 1929
—
—
0
2
1
2
4
—
—
—
–1
1
1+
1+
2
2
2
2
3
1
1
2
2
2+
4+
7
7
6
8
6
7
5
12
Сель
Квалифици
Фер
Дель
хозра
рованные
цы
меры
бочие
специалисты
Мюнхен, 1921
Район
6
5
13
8
5
6
11
5
8
6
14
Госслу
жащие
Таблица 4.1. Члены немецкой нацистской партии по роду занятий (%)
15
19–
21–
13
12
9
12
12
16
23
14
19
17
19
20
22
26
18
23
25
9
20
Контор Мелкая
ские слу буржуа
жащие
зия
37
46
37
36
41
43
34
39
41
52
28
3
3
5
5
2
3
2
2
1
4
11
Рабо Про
чие
чие
61 000
15 900
23 000
4450
9773
4099
2241
427
672
698
2222
N
540
Приложение
9
7
Германия, 1933
Германия, 1937
—
—
—
3
5
2
6
7
7
18
15
6
Госслу
жащие
17
11
11
14
22
22
Контор Мелкая
ские слу буржуа
жащие
зия
35
31
36
1
2
3
Рабо Про
чие
чие
3997
3316
1954
N
Источники: ряды 1–8: Muhlberger, 1987: 55, 66, 131; Douglas, 1977; Madden, 1982b: 42. В ряду 1 «прочие» — это учащиеся. Ряды 2 и 4–7:
Muhlberger, 1991: 34, 77; ряды 3 и 9–14: Kater, 1983: 248–53. В этих рядах сосредоточены все аграрные профессии. В рядах 9 и 10 квали
фицированные специалисты низшей ступени и руководители выешего звена отнесены к разряду конторских служащих.
13
Сель
Квалифици
Фер
Дель
хозра
рованные
меры
цы
бочие
специалисты
Германия, 1930–1932
Район
Приложение
541
0
7
23
21
15
8
7
6
Гауляйтеры, 1925–1930
Высшие функционеры, 1929
Лидеры партячеек, 1923–1931
Рейхскандидаты, 1928
Рейхскандидаты, 1930
Офицеры СА, 1930–1934
Офицеры СА, 1935–1937
Офицеры СС, 1938
1
6
1
6
4
2
5
15
12
Дель
цы
15
2
8
14
13
7
7
18
16
Квалифициро
ванные специ
алисты
10
16
11
18
30
8
19
45
50
31
41
12
13
6
12
16
9
4
1
13
11
14
8
26
21
8
4
25
13
47
18
16
21
23
7
0
Контор Мелкая
Госслужащие ские слу буржуа Рабочие
жащие
зия
1895
951
75
380
126
285
246
92
24
N
Источники: ряды 1–3: Kater, 1983; ряды 4–6: Muhlberger, 1987: 98–101, 106. В ряду 4 сводные данные по восьми местным ячейкам, раз
бросанным по всей Германии. Заметим, что половина из этих лидеров происходит из двух ячеек, действовавших глубоко в сельской
местности. Ряд 7: Muhlberger, 1991: 171; ряд 8: Jamin, 1984: 194–195. В весьма крупную категорию «конторских служащих» входят как
квалифицированные специалисты, так и руководящие кадры. Ряд 9: Ziegler, 1989: 104–105. Представлены средние данные по трем вы
боркам офицеров. Под «прочими» подразумеваются учащиеся.
8
Фер
меры
Рейхсляйтеры
Уровень руководства
Таблица 4.2. Лидеры немецкой нацистской партии по роду занятий (%)
542
Приложение
4
0
3
2
6
СС, 1933
СА Берлин, 1931
СА, 1929–1932
СА, 1933–1934
СА, 1931–1934
2
0
0
0
2
2
1
0
0
0
1
1
Дель
цы
4
3
3
8
5
7
Квалифициро
ванные
специалисты
7
7
7
3
4
5
Госслу
жащие
7
15
17
27
16
15
11
2
3
2
12
14
55
68
58
54
53
41
Контор Мелкая
ские слу буржуа Рабочие
жащие
зия
7
3
9
7
3
4
Прочие
924
3925
1306
1824
802
496
N
Источники: ряды 1, 2 и 6: Muhlberger, 1991: 189, 178. «Прочие» — учащиеся; ряды 3: Bessel, Jamin, 1979: 113; ряды 4 и 5: Fischer, 1978: 138–9.
В ряду 4 отнесены к госслужащим ок. 5 % «работников на зарплате», в ряду 5 — около 4 %.
8
Сель
Фер
хозра
меры
бочие
СС, до 1933
Выборка
Таблица 4.3. Кадры немецкого СС и СА по роду занятий (%)
Приложение
543
0
0
0
Центральный комитет
КПГ, 1924–1929
Руководящий состав КПГ,
1924–1929
0
1
0
Национальный комитет
СДПГ, 1890–1933
Члены СДПГ, 1930
4
Члены Немецкой
народной партии (ННП),
1919–1933
0
0
НННП, Оснабрюк, 1928
1
1
0
НННП, Дюссельдорф,
1928
1
13
17
Кандидаты НННП, 1924
Лидеры Немецкой национальной народной
партии (НННП), 1927
0
1
0
0
0
1
2
1
0
4
7
4
14
7
14
0
4
1
8
7
14
9
15
12
12
9
3
4
25
39
31
38
34
11
11
9
16
1
7
12
с7
8
4
1
4
0
19
32
21
17
3
63
68
66
63
1
2
11
с4
3
6
4
17
8
5
0
0
0
9
Сель
Квалифици
Контор Мелкая
Поме Фер
Дель
Госслу
Рабо Про
хозра
рованные
ские слу буржуа
щики меры
цы
жащие
чие чие
бочие
специалисты
жащие
зия
N
504
91
70 000
27
3298
202
178
418
106
Таблица 4.4. Кадровый и руководящий состав других политических партий Германии по роду занятий (%)
544
Приложение
0
0
1
0
5
2
7
16
67
1
612
N
Источники: ряды 1, 3 и 4: Bacheller, 1976: 321–323, 365–380, 453–467. «Прочие» в данном ряду — женщины. Из рядов 3 и 4 женщины ис
ключены. Ряд 2: Liebe, 1956: 77. В этом источнике не разделяются конторские служащие и работники ручного труда — в сумме они
дают 11 %. Ряд 5: Dbhn, 1970: 79. Национальная выборка членов партии — один человек заново подсчитал статистику занятости.
9 % «оптовиков» причислены к дельцам (как предлагает Muhlberger). «Прочие» — партийные чиновники. Ряды 6 и 7: Guttsman, 1981:
160; Hunt, 1964: 103. «Прочие» — жены или домохозяйки, составлявшие 25 % членов СДПГ. Ряды 8 и 9: Weber, 1969: 38, 27. Все госслужащие
здесь — учителя, «прочие» — учащиеся. В ряду 9 «прочие» — «профессиональные революционеры». Ряд 10: Kater, 1983: 253.
Заключенные и «мученики» — члены КПГ,
1933–1945
Сель
Квалифици
Контор Мелкая
Поме Фер
Дель
Госслу
Рабо Про
хозра
рованные
ские слу буржуа
щики меры
цы
жащие
чие чие
бочие
специалисты
жащие
зия
Приложение
545
6
3
0
Буржуазные партии
Партии по интересам
Социалистические
партии
0
5
7
5
Квалифици
рованные
специалисты
13
10
21
36
16
23
20
11
6
22
4
41
35
22
30
63
7
3
16
Госслу Конторские Мелкая
Рабочие
жащие служащие буржуазия
20
3
12
6
17
Прочие
70
225
155
246
N
7
11
16
18
% жен
щин
Источник: Koshar, 1986: 238–239. «Прочие» — это отставные либо домохозяйки. Учащиеся в таблицу Кошара не входят, но при этом
они составляли в рядах нацистской партии 55 %.
Трудящиеся Марбурга
1
Дельцы
Нацисты, до 1933
Партии
Таблица 4.5. Политические активисты в Марбурге по роду занятий (%)
546
Приложение
14
32
14
Нацисты, ноябрь 1933
НННП, 1919–1932
Католики-центристы, 1919–1932
10
10
6
8
Дельцы
26
15
17
22
Квалифици
рованные
специалисты
28
30
28
18
Госслу
жащие
9
5
11
9
4
1
15
14
Конторские
Мелкая
служащие буржуазия
15
5
13
15
Рабо
чие
176
—
547
727
N
Источники: ряд 1 и 2: Muhlberger, 1987: 106–107. Исключены лица с неопределенным статусом и партийные чиновники на полной
ставке. Ряды 3 и 4: Linz, 1976: 63–66; Money, 1977: 35. Большинство «рабочих» — чиновники из христианских союзов.
14
Ферме
ры
Нацисты, 1930 — март 1933
Партии
Таблица 4.6. Депутаты германского рейхстага по роду занятий (%)
Приложение
547
1
Боевики-социалисты, 1934
—
28
3
22
23
Боевики-нацисты, 1934
10
26
0
1
4
Боевики-марксисты
0
11
0
0
0
0
0
10
0
—
0
Ферме Управ
ры
ляющие
Боевики-нацисты
Члены нацистской партии,
1923–1925
Новые члены нацистской
партии, 1926–1932
Новые члены нацистской
парти, 1934–1938
Кандидаты в члены нацистской партии, 1930
Кандидаты в хеймвер
(австро-фашистский «Союз
защиты Родины»), 1930
Руководители хеймвера,
1930–1934
Боевики хеймвера,
1930–1931
Партии
3
3
0
2
5
7
7
6
1
5
2
Квалифици
рованные
специалисты
19
7
11
10
21
30
19
53
14
27
11
Госслу
жащие
14
19
5
29
3
—
7
17
13
18
26
Контор
ские слу
жащие
Таблица 6.1. Австрийские политические активисты по роду занятий (%)
14–
23–
2
9
22
—
20
8
22
18
8
Мелкая
буржуа
зия
48+
38+
82
40
21
15
17
14
35
19
44
Рабо
чие
0
7
0
10
1
2
0
0
1
4
9
Про
чие
457
301
66
150
58
324
90
80
438
158
167
N
548
Приложение
0
—
1
11
Венские социалисты, 1927
Венские социалисты, 1934
Венские нацисты, 1938
Австрийские трудящиеся,
1934
0
—
—
2
—
1
5
—
1
—
Квалифици
рованные
специалисты
11
19
16
~10
9
Госслу
жащие
11
22
10
~10
12
Контор
ские слу
жащие
12
9
4
3
6
Мелкая
буржуа
зия
54
25
48
74
51
Рабо
чие
20
21
2
23
Про
чие
260
122
274
416,170
N
Источники: ряд 1: Bukey, 1978: 305. «Прочие» — учащиеся. Ряды 2–5 и 16: Botz, 1987а: 258. Ряды 4 и 5 = кандидаты по Верхней и Нижней
Австрии. Обратите внимание, что учащиеся составляли 0,6 % национальной рабочей силы. Ряд 6: Wiltschegg, 1985: 277–278. Комите
ты хеймвера и кандидаты, вместе взятые. Конторские служащие суммируются здесь с гражданскими служащими, а вольнонаемные
работники с дельцами. Фермеры состоят на 20 % из крестьян и на 3 % из землевладельцев. Множество руководителей не пересека
ется с аналогичным из предыдущего ряда. Ряд 7: Викеу, 1986: 81, из двух списков хеймвера по Верхней Австрии. Ряды 8 и 9: Botz, 1980а.
Нацисты, социалисты и коммунисты — по полицейским архивам дел о насилии. «Прочие» — в основном учащиеся. Ряды 10 и 11:
Jagschitzl 975: 150–1. Боевики, взятые под стражу режимом Дольфуса и помещенные в концлагерь в Веленсдорфе. Опытные рабочие
с постоянном местом работы могли по ошибке попасть в число вольнонаемных (см. текст). «Прочие» —учащиеся. Ряды 12–14: Botz,
1983: 156–7, 254. Ряд 12 — общенациональная численность социалистической партии. В категорию «прочие» входят в том числе
женщины. В ряду 13 — арестованные, раненые и убитые демонстранты, июль 1927 г. Государственные и частные служащие не раз
деляются и распределяются в пропорции 50/50. В ряду 14 арестованные после восстания социалистов 12 февраля 1934 г. Ряд 15: Botz,
1988: 218. «Прочие» включают домохозяек (7 %), учащихся (4 %) и пенсионеров (4 %).
—
Ферме Управ
ры
ляющие
Члены социалистической
партии, 1929
Партии
Приложение
549
1
20
0
0
0
5
2
3
Нацисты, 1933–1938
Христианско-социальная
партия, 1918–1934
Германские националисты,
1918–1934
Социалисты, 1918–1934
Коммунисты, 1929–1933
Хеймвер, 1927–1931
Фашисты Дольфуса,
1934–1938
Трудящиеся Линца
5
3
5
0
4
13
6
16
11
Квалифици
рованные
специалисты
13
31
41
2
32
31
34
23
37
Госслу
жащие
20
19
14
8
12
16
5
14
24
8
15
19
5
9
21
22
14
5
Конторские
Мелкая
служащие буржуазия
50
27
11
81
35
4
10
28
18
Рабочие
4
6
5
9
9
5
4
3
Про
чие
126
81
62
130
102
107
74
212
N
Источник: Викеу, 1986. Крупные и мелкие земельные угодья и предприятия Бьюки не разделяет. Пропорции для трудящихся даны лишь
приближенно: я вывел их из частичных данных Бьюки по отраслям и профессиям. «Прочие» — домохозяйки, учащиеся и лица, в харак
теристике которых есть нестыковки.
0
Ферме
ры
Нацисты, 1923–1933
Активисты
Таблица 6.2. Политические активисты в Линце по роду занятий (%)
550
Приложение
46
3
16
0
14
29
30
4
12
22
—
—
—
4
2
Кре Дель
стьяне
цы
0
Поме
щики
22
26
24
20
32
18
6
Квалифици
рованные
специалисты
35
35
36
52
16
4
2
Госслу
жащие
6
1
6
0
0
5
2
Контор
ские слу
жащие
6
6
12
0
16
3
19
Мелкая
буржуазия
–1
0
8
0
8
2
21
Рабо
чие
348
314
157
—
75
43
150
N
Источники: ряды 1 и 2: Szollosi-Janze, 1989:136–147. «Фашисты» во всех графах данной таблицы соответствуют движению «Скрещен
ные стрелы». «Искусные ремесленники» отнесены к мелкой буржуазии, прочие ремесленники — к рабочим. В большинстве случаев,
когда указан размер землевладения, обычно они очень мелкие. Среди «рабочих» в ряду 1 два егеря. Ряды 3 и 4: Janos, 1970: табл. 6.6. Круп
ные и мелкие дельцы в оригинале не разделяются. Ряды 5–7: Janos, 1982:280–285. Фашистские лидеры — это кандидаты от «Скре
щенных стрел» и депутаты в 1940 г., а также национал-социалистические министры и члены Национального совета в 1944–1945 гг.
В рядах 6 и 7 приводятся детали о «властном аппарате» в Палате представителей, сначала в «либерально-консервативный» пе
риод, потом в «национально-радикальный». Поскольку Янош не приводит суммарных цифр по этим двух периодам по отдельности,
приводимые мной пропорции рассчитаны в среднем за три года первого периода и два года второго периода. Крупные и мелкие сель
скохозяйственные собственники не разделялись, то же и с крупными и мелкими предприятиями. Категория «журналисты и учителя»
разбита поровну между квалифицированными специалистами и госслужащими.
Фашистские деревенские
старосты, 1940–1941
Фашистские городские
руководители, 1940–1941
Кандидаты-фашисты, 1939
Кандидаты, правящая партия,
1939
Фашистские руководители,
1939–1945
Либерал-консервативные
депутаты в правительстве,
1921–1932
Национал-радикальные
депутаты в правительстве,
1935–1939
Выборка
Таблица 7.1. Венгерские политические активисты по роду занятий (%)
Приложение
551
0
0
0
0
Активисты трудо
вых лагерей, 1936
Сдавшиеся и за
стреленные, 1939
Мятежники, 1941
Интернированные
в Германию, 1942
3
22
2
9
3
-1
0
0
2
0
20
4
48
10
25
Квалифици
рованные
специалисты
24
8
20
25
24
Госслу
жащие
8
6
2
8
5
Контор
ские слу
жащие
7
13
7
8
2
Мелкая
буржуа
зия
11
44
5
5
3
Рабочие
27
2
15
33
37
Уча
щиеся
249
2143
383
630
73
N
Источники: ряды 1 и 2: Heinen, 1986: 386–389. В ряду 1 идет речь об арестованных в связи с убийством Дуки. В ряду 2 данные об акти
вистах-мужчинах из трудового лагеря «Кармен-Сильва». Взятые из всех румынских источников данные о «выпускниках» (старшей
школы и университета), имеющих неустановленную профессию, я относил половину к конторским служащим, вторую половину —
к госслужащим. Ряды 3 и 4 —из Veiga, 1989: 263–265. Ряд 3: легионеры, в основном городские, сдавшиеся властям либо расстрелянные
в 1939 г. Портных, плотников и так далее я отнес к вольнонаемным. Среди специалистов 13 % священников. Ряд 4: легионеры, поме
щенные в тюрьму по итогам неудавшегося мятежа 1941 г. Ряд 5: Heinen, 1986: 457. В работе Weber, 1966а: 108 содержится еще один
вариант того же списка, несколько отличающийся и менее подробный.
1
Поме Кре
Дельцы
щики стьяне
Арестованные,
1934
Легионеры
Таблица 8.1. Румынские фашисты по роду занятий (%)
552
Приложение
0
20
9
17
0
2
41
5
Баскские националисты,
1931–1936
Правые комитеты (ИКНП),
1931–1935
Комитеты ИКНП, Мурсия,
1931–1933
Национальные делегатыправоцентристы, 1932
Городские комитеты
левоцентристов (респуб
ликанцев), 1930–1936
Сельские комитеты
республиканцев,
1930–1936
Депутаты ИКНП, 1933,
1936
Ферме
ры
Мадридские фашисты
(фалангисты), 1936
Партии
3
—
—
18
11
6
—
0
Дельцы
64
13
48
44
23
34
5
10
Квалифици
рованные
специалисты
19
—
—
14
12
19
5+
2
Госслу
жащие
2
7
15
5
10
9
11
29
Контор
ские слу
жащие
Таблица 9.1. Испанские политические активисты по роду занятий (%)
4
24
29–
13
19
10
17–
2
Мелкая
буржуа
зия
2
13
5
5
5
12
36
55
Рабо
чие
0
2
2
1
4
0
4
3
Про
чие
186
—
—
474
151
77
1,700
1,103
N
Приложение
553
1
Депутаты-социалисты
1933, 1936
0
2
Дельцы
33
68
Квалифици
рованные
специалисты
23
20
Госслу
жащие
11
1
Контор
ские слу
жащие
2
6
Мелкая
буржуа
зия
28
3
Рабо
чие
0
0
Про
чие
111
542
N
Источник: ряд 1: Payne, 1962: 82 «Прочие» — учащиеся. Ряд 2: de Pablo, 1995. Учитывая неточность суммарных значений, я пред
положил, что «более 200» — это 210 и что в общей сумме Витория и оставшаяся часть Аловы распределились поровну. Около 16 %
фермеров были собственники или арендаторы и 4 % — трудящиеся. Крупные дельцы включены в категорию мелких буржуа, высшие
администраторы — в категорию квалифицированных специалистов. Ряды 3 и 8–10: Montero, 1977: 449. Ряд 3 — члены девяти мест
ных комитетов. Ряд 4: Moreno Fernandez, 1987: 156. Около 50 % фермеров — мелкие собственники; «прочие» —учащиеся. Ряд 5: Partida
Republicano Radical, 1932: 48–59; Manjon, 1976: 594. Ряды 6 и 7: Farre, 1985: 343. Учитывая неполные суммы и значения N, я брал среднее для
городских и сельских партий. По крупному бизнесу, мелкому бизнесу, госслужащим — нет раздельных данных.
1
Ферме
ры
Депутаты-центристы,
1933, 1936
Партии
Продолжение
554
Приложение
48
37
12
41
25
16
8
Лидеры консерваторов«акциденталистов»
(Народное действие, ИКНП),
1931–1936
Консерваторы — члены НД,
1932
Партии центра (конституционалисты, либералы,
демократы), 1914–1923
Лидеры правящей партии
Примо де Риверы, 1929
Лидеры правоцентристовреспубликанцев, 1931–1936
Лидеры правоцентристов-
радикалов, 1931–1936
Поме
щики
Антиреспубликанские
крайне правые лидеры
(карлисты, обновленцы),
1931–1936
Партии
14
19
11
2
12
6
1
Дельцы
43
34
27
46
р
43
38
16
21
25
9
25
10
7
11
10
11
2
22
1
5
4
0
2
0
15
3
1
Квалифици Мелкая
Конторские Ремесленники
рованные
буржуа
служащие
и рабочие
специалисты
зия
Таблица 9.2. Партийные активисты Севильи (Испания) по роду занятий (%)
4
1
0
0
13
0
0
Прочие
139
101
334
283
2,585
78
128
N
Приложение
555
6
0
Лидеры левоцентристовреспубликанцев, 1931–1936
Лидеры социалистов (ИСРП),
1931–1936
12
5
Дельцы
22
28
17
17
34
33
12
7
Квалифици Мелкая
Конторские Ремесленники
рованные
буржуа
служащие
и рабочие
специалисты
зия
2
4
Прочие
54
174
N
Источники: Alvarez Rey, 1993. Ряд 1: специалисты — в основном юристы и армейские офицеры; ряд 2: специалисты — в основном
юристы; ряд 3: качество этого источника вызывает сомнения. Специалисты преимущественно отнесены к другим категориям.
Прочие — иждивенцы.
Поме
щики
Партии
Продолжение
556
Приложение
Библиография
558
Библиография
Abel, T. 1938. Why Hitler Came to Power. New York: Prentice-Hall.
Abse, T. 1986. “The rise of Fascism in an industrial city: The case of Livorno
1918–1922” in: D. Forgacs (ed.), Rethinking Italian Fascism. London: Lawrence
& Wishart.
_____. 1996. “Italian workers and Italian Fascism,” in Bessel (ed.), Fascist Italy
and Nazi Germany.
Aguado Sanchez, F. 1972. La revolutiön de octubre 1934. Madrid: San Martin.
Aldcroft, D., Morewood S. 1995. Economic Change in Eastern Europe since 1918.
Aldershot, Hants: Edward Elgar.
Alexander, M. S., Graham H. (eds.) 1989. The French and Spanish Popular Fronts.
Cambridge: Cambridge University Press.
Allen, M. 1995. “Engineers and modern managers in the SS: The business
administration main office.” Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania.
_____. 2002. The Business of Genocide: The SS, Slave Labor, and the Concentration
Camps. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Allen, W. S. 1965. The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German
Town, 1930–1935. Chicago: Quadrangle.
Alpert, M. 1989. “The Spanish army and the Popular Front” in: Alexander, M. S.,
Graham H. (eds.), French and Spanish Popular Fronts.
Alvarez Chillida, G. 1992. “Nation, tradición e imperio en la extrema derecha
espãnola durante la decada de 1930.” Hispania 52/3.
Alvarez Rey, L. 1993. La derecha en la II república: Sevilla, 1931–1936. Seville:
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.
Ancel, J. 1993. “Antonescu and the Jews.” Yad Vashem Studies 23.
Ashman, C., R. Wagman 1988. The Nazi Hunters. New York: Pharos.
Aubert, P. 1987. “Los intelectuales en el poder (1931–1933): Del constitucionalismo
a la Constitutión.” In M. Tũnón de Lara (ed.), La segunda república Espana:
El primer bienio. Madrid: Siglo XXI.
Augustinos, G. 1977. Conciousness and History: Nationalist Critics of Greek Society,
1897–1914. Boulder, Colo.: East European Quarterly and Columbia University
Press.
Bacheller, C. 1976. “Class and conservatism: The changing social structure of
the German right, 1900–1928.” Ph.D. thesis, University of Wisconsin-Madison.
Библиография
559
Bailer-Galanda, B. 1998. “Old or new right? Juridical denazification and rightwing extremisin Austria since 1945.” In Larsen and Hagtvet (eds.), Modern Europe
after Fascism.
Bairoch, P. 1976. “Europe’s gross national product: 1800–1975.” Journal of
European Economic History 5.
Balakrishnan, G. 2000. The Enemy: An Intellectual Portrait of Carl Schmitt. London:
Verso.
Balcells, A. 1971. Crisis económica y agttaaón socialen Cataluña de 1930 a 1936.
Barcelona.
Ballbé, M. 1983. Orden рúblico y militarismo en la Espãna constitucional. Madrid:
Alianza.
Bar, A. 1975. “La Confederación Nacional del Trabajo frente a la II República.”
In M. Ramírez (ed.), Estudios sobre la II republica espãnola. Madrid: Technos.
_____. 1981. La CNT en los años rojos. Madrid: Akal.
Baldwin, P. 1990, “Social interpretations of Nazism: Renewing a tradition.” Journal
of Contemporary History 25.
Barany, G. 1971. “The dragon’s teeth: The roots of Hungarian fascism.” In Sugar
(ed.), Native Fascism.
Barbagli, M. 1982. Educating for Unemployment: Politics, Labour Markets and the
School System — Italy, 1859–1923. New York: Columbia University Press.
Barbu, Z. 1980. “Psycho-historical and sociological perspectives on the Iron Guard,
the fascist movement in Romania.” In Larsen et al. (eds.), Who Were the Fascists?
Barkai, A. 1990. Nazi Economics. Oxford: Berg.
Barrull Pelegri, J. 1986. Les comarques de Lleida durant la segona repi’Mica
(1930–1936). Barcelona: L’Avenc.
Ben-Ami, S. 1983. Fascism from Above: The Dictatorship of Primo de Rivera in
Spain, 1923–1930. Oxford: Clarendon.
BatkayW. 1982. Authoritarian Politics in a Transitional State: Istvan Bethlen and
the Unified Party in Hungary, 1919–26. New York: Columbia University Press.
Berend, I. 1998. Decades of Crisis: Central and Eastern Europe before World War
II. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Berend, I., and G. Ránki. 1979. Economic Development in East-Central Europe in
the 19th and 20th Centuries. New York: Columbia University Press.
560
Библиография
Berezin, M. 1997. Making the Fascist Self. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Bermejo Martin, F. 1984. La IIa república en Logrdno: Elecciones y contexto politico.
Logrõno: Communidad Autónoma de la Rioja.
Bernardini, G. 1989. “The origins and development of racial anti-semitism in
fascist Italy.” In M. Marrus (ed.), The Nazi Holocaust, vol. 4: “The Final Solution”
Outside Germany. Westport, Conn.: Meckler.
Bessel, R. 1984. Political Violence and the Rise of Nazism. New Haven: Yale
University Press.
_____. 1986. “Violence as propaganda: The role of the stormtroopers in the rise
of National Socialism.” In Childers (ed.), The Formation of the Nazi Constituency.
_____. 1988. “The Great War in German memory: The soldiers of the First World
War, demobilization, and Weimar political culture.” German History 6.
Bessel, R. (ed.). 1996. Fascist Italy and Nazi Germany: Comparisons and Contrasts.
Cambridge: Cambridge University Press.
Bessel, R., and M. Jamin. 1979. “Nazis, workers and the uses of quantitative
evidence.” Social History 4.
Betz, H.-G. 1994. Radical Right-Wing Populism in Western Europe. London:
Macmillan.
Binchy, D. A. 1941. Church and State in Fascist Italy. London: Oxford University
Press.
Birn, R. 1991. “Austrian higher SS and police leaders and their participation in
the Holocaust in the Balkans.” Holocaust and Genocide Studies 6.
Blinkhorn, M. 1975. Carlism and Crisis in Spain 1931–1939. Cambridge: Cambridge
University Press.
_____. 1987. “The Iberian States.” In D. Mühlberger (ed.), The Social Basis of
European Fascist Movements. London: CroomHelm.
_____. 1990. Fascists and Conservatives. London: Unwin Hyman.
Boak, H. 1990. “Women in Weimar Politics.” European History Quarterly 20.
Borchardt, K. 1982. Wachstum, Krisen, Handlungsspielraume der Wirtschaftspolitik.
Göttingen: Vandenkoeck & Ruprecht.
Bosch, A. 1993. “Sindicalismo, conflictividad y politíca.” In Bosch et al. (eds.),
Estudios sobre la segunda republica. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim.
Библиография
561
Botz, G. 1980. “Introduction” and “The changing patterns of social support for
Austrian National Socialism (1918–1945).” In Larsen et al. (eds.), Who Were the
Fascists?
_____. 1982. “Political violence, its forms and strategies in the First Austrian
Republic.” In W. Mommsen and G. Hirschfeld (eds.), Social Protest, Violence and
Terror in Nineteenthand Twentieth-Century Europe. New York: St. Martin’s Press.
_____. 1983. Gewalt in der Politik, 2nd ed. Munich: Fink.
_____. 1985. “Strategies of political violence: Chance events and structural effects
as causal factors in the February rising of the Austrian Social Democrats.” In
Rabinbach (ed.), Austrian Socialist Experiment.
_____. 1987a. “Austria.” In D. Mühlberger (ed.), The Social Basis of European
Fascist Movements. London: CroomHelm.
_____. 1987b. “The Jews of Vienna from the Anschluss to the Holocaust.” In Oxaal
et al. (eds.), Jews, Antisemitism and Culture.
_____. 1988. Nationalsozialismus in Wien. Wien: DVO.
Boyd, C. 1979. Praetorian Politics in Liberal Spain. Chapel Hill: University of
North Carolina Press.
Bracher, K. D. 1971. The German Dictatorship. Harmondsworth: Penguin.
Brademas, J. 1974. Anarcosyndicalismo y revolutión en Espãna (1930–1937).
Barcelona: Ariel.
Braham, R. 1981. The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, 2 vols. New
York: Columbia University Press.
_____. 1998. Romanian Nationalists and the Holocaust: The Political Exploitation
of Unfounded Rescue Attempts. New York: Columbia University Press.
Brooker, P. 1991. The Faces of Fraternalism. Oxford: Clarendon.
Broszat, M. 1981. The Hitler State. London: Longman.
_____. 1987. Hitler and the Collapse of Weimar Germany. Leamington Spa: Berg.
Brown, J. 1989. “The Berlin NSDAP in the Kampfzeit.” German History 7.
Brubaker, R. 1992. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge,
Mass.: Harvard University Press.
Brustein, W. 1988. “The political geography of Belgian fascism: The case of rexism.”
American Journal ofSociology 53: 69–70.
562
Библиография
_____. 1991. “The ‘Red Menace’ and the rise of Italian Fascism.” American
Sociological Review 56.
_____. 1996. The Logic of Evil: The Social Origins of the Nazi Party, 1925–1933.
New Haven, Conn.: Yale University Press.
Bukey, E. 1978. “The Nazi Party in Linz, Austria, 1931–1939: A sociological
perspective.” German Studies Review 1.
_____. 1986. Hitler’s Hometown: Linz, Austria 1908–1945. Bloomington:
University of Indiana Press.
_____. 1989. “Popular opinion in Vienna after the Anschluss.” In Parkinson (ed.),
Conquering the Past.
_____. 1992. “Nazi rule in Austria.” Austria History Yearbook 23.
Burleigh, M. 2000. The Third Reich. New York: Hill & Wang.
Busquets, J. 1984. El militar de carrera en Espãna. Barcelona: Ariel.
Cabrera, M. 1983. La patronal ante la II república: Organizacionesy etrategia
(1931–1936). Madrid: Siglo Veintuino Editores.
Caldwell, L. 1986. “Reproducers of the Nation: Women and the family in Fascist
policy.” In Forgacs (ed.), Rethinking Italian Fascism.
Campbell, A. 1998. “The invisiblewelfare state: Class struggles, the American
Legion and the development of veteran’s benefits in the 20th century United
States.” Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles.
Campbell, B. 1998. The SA Generals and the Rise of Nazism. Lexington: University
of Kentucky Press.
Campos, M. 1986. El socialisms espanol y la cuestión agrario (1890–1936).
Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Cancela, D. 1987. La segunda república en Cadiz: Elecciones y partidos politicos.
Cadiz: Diputación Provincial.
Caplan, J. 1986. “Speaking the right language: The Nazi party and the civil
service vote in the Weimar Republic.” In Childers (ed.), The Formation of the
Nazi Constituency.
_____. 1988. Government Without Administration: State and Civil Service in Weimar
and Nazi Germany. Oxford: Clarendon.
Cardoza, A. 1982. Agrarian Elites and Italian Fascism: The Province of Bologna,
1901–1926. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Библиография
563
Carmona, Á. 1989. El trabajo industrial en la Espanã contemporanea (1874–1936).
Barcelona: Anthropos.
Carsten, F. 1976. “Interpretations of fascism.” In W. Laqueur (ed.), Fascism:
A Reader’s Guide. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
_____. 1977. Fascist Movements in Austria. London: Sage.
_____. 1980. The Rise of Fascism. Berkeley and Los Angeles: University of
California Press.
Casas de Vega, R. 1974. Los milicias nacionales en la guerra de Espana. Madrid:
Editora Nacional.
Castillo, J. J. 1979. Proprietarios muy pobres: Sobre la subordination politica
delpequeno campesino. Madrid: Ministerio del Agricultura.
Cavandoli, R. 1972. Le origini del fascismo a Reggio Emilia. Roma: Editori Riuniti.
Ceva, L. 2000. “The Strategy of Fascist Italy: A Premise.” Totalitarian Movements
and Political Religions, issue 2.3.
Childers, T. 1983. The Nazi Voter. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
_____. 1984. “Who, indeed, did vote for Hitler?” Central European History 17:
45–53.
_____. 1990. “The social language of politics in Germany: The sociology of political
discourse in the Weimar Republic.” American Historical Review 95.
. 1991. “The middle classes and National Socialism.” In D. Blackbourn
and R. Evans (eds.), The German Bourgeoisie. London: Routledge.
Childers, T (ed.) 1986. The Formation of the Nazi Constituency, 1919–1933.
London: CroomHelm.
Chirot, D. 1978. “Neoliberal and social-democratic theories of development:
The Zeletin-Voinea debate concerning Romania’s prospects in the 1920s and its
contemporary importance.” In K. Jowitt (ed.), Social Change in Romania, 1860–
1940. Berkeley: Institute of International Studies, University of California.
Chueca, R. 1983. El fascismo en los comienzos del regimen de Franco. Madrid: C.I.S.
Clark, M. 1988. “Italian squadrismo and contemporary vigilantism.” European
History Quarterly 18.
Close, D. H. 1984. “The police in the Fourth-of-August Regime.” Journal of the
Hellenic Diaspora 13.
564
Библиография
Close, D. 1990. “Conservatism, authoritarianism and fascism in Greece, 1915–
1945.” In M. Blinkhorn (ed.), Fascists and Conservatives: The Radical Right and
the Establishment in Twentieth-Century Europe. London: Unwin Hyman.
Codreanu, C. 1990. For My Legionaries, 2nd ed. Reedy, W.V.: Liberty Bell.
Collier, G. 1987. Socialists of Rural Andalusia. Stanford, Calif.: Stanford University
Press.
Collins, R. 1998. The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual
Change. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Contreras, M. 1981. El PSOE en la II republica. Madrid: Centro de Investigaciones
Sociologicas.
Corner, P. 1975. Fascism in Ferrara, 1915–1925. London: Oxford University Press.
Craig, G. 1994. “The true believer.” New York Review of Books, March 24.
Cruz, R. 1984. “La organization del PCE (1920–1934).” Estudios deHistoria
Social 31.
_____. 1987. Elpartido communista de Espãna en la II república. Madrid: Alianza.
Dahl, O. 1999. Syndicalism, Fascism and Post-Fascism in Italy 1900–1950. Oslo:
Solum Forlag.
Dahl, R. 1977. Polyarchy. New Haven, Conn.: Yale University Press.
Deak, I. 1966. “Hungary.” In H. Rogger and E.Weber (eds.), The European Right:
A Historical Profile. Berkeley: University of California Press.
_____. 1992. “Survivors.” New York Review of Books, March 5.
De Felice, R. 1966. Mussolini il fascista: La conquista del potere 1921–25. Turin:
Einaudi.
_____. 1974. Mussolini il Duce: Gli anni del consenso 1929–1936.
Turin: Einaudi.
_____. 1977. Interpretations of Fascism. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
_____. 1980. “Italian Fascism and the middle classes.” In Larsen et al. (eds.),
Who Were the Fascists?
_____. 1995. Mussolini il rivoluzionario 1883–1920, 2nd ed. Turin: Einaudi.
De Grand, A. 1978. The Italian Nationalist Association and the Rise of Fascism in
Italy. Lincoln: University of Nebraska Press.
Библиография
565
De Grazia, V. 1992. How Fascism Ruled Women: Italy 1922–1945. Berkeley and
Los Angeles: University of California Press.
de la Cueva, J. 1998. “Religious persecution, anti-clerical tradition and
revolution: Atrocities against the clergy during the Spanish Civil War.” Journal
of Contemporary History 33.
Del Boca, A. 1969. The Ethiopian War 1935–1941. Chicago: University of Chicago
Press.
Delzell, C. 1970. Mediterranean Fascism 1919–1945: A Documentary History.
London: Macmillan.
De Pablo, Santiago. 1995. Historia del nacionalismo vasco. Vitoria-Gasteiz:
Fundacion Sancho el Sabio.
Diamanti, I. 1996. “The Northern League: From regional party to party of
government.” In S. Gundle and S. Parker (eds.), The New Italian Republic. London:
Routledge.
Diehl, J. 1977. Paramilitary Politics in Weimar Germany. Bloomington: University
of Indiana Press.
Döhn, L. 1970. Politik und Interesse: Die Interessenstruktur der Deutschen Volkspartei.
Meisenhei am Glan: Anton Hain.
Dorian, E. 1982. The Quality of Witness: A Romanian Diary 1937–1944.
Philadelphia: Jewish Publication Society of America.
Douglas, D. M. 1977. “The parent cell: Some computer notes on the composition
of the first Nazi Party group in Munich, 1919–21.” Central European History 10.
Downing, B. 1992. The Military Revolution and Political Change: Origins of
Democracy and Autocracy in Early Modern Europe. Princeton, N.J.: Princeton
University Press.
Dunnage, J. 1997. The Italian Police and the Rise of Fascism. London: Praeger.
Eatwell, R. 1995. Fascism, a History. London: Chatto & Windus.
_____. 1996. “On defining the fascist minimum: The centrality of ideology.”
Journal of Political Ideologies 1.
_____. 2001. “Universal fascism? Approaches and definitions.” In S. U. Larsen
(ed.), Fascism outside Europe. New York: Columbia University Press.
Edmondson, C. E. 1978. The Heimwehr and Austrian Politics, 1918–36. Athens:
University of Georgia Press.
566
Библиография
_____. 1985. “The Heimwehr and February 1934: Reflections and questions.” In
Rabinbach (ed.), Austrian Socialist Experiment.
Elazar, D. 1993. “The making of Italian Fascism: The seizure of power, 1919–1922.”
Ph.D. thesis, University of California at Los Angeles.
Eley, G. 1980. Rethinking the German Right. New Haven, Conn.: Yale University
Press.
_____. 1983. “What produces fascism: Pre-industrial traditions or a crisis of the
capitalist state?” Politics and Society 12.
_____. 1986. From Unification to Nazism: Reinterpreting the German Past. London:
Routledge.
Epelbaum, D. 1990. Alois Brunner: La Haine Irreductible. Paris: Calmann-Levy.
Espín, E. 1980. Azãna en elpoder: Elpartido de Acción Republicana. Madrid: Centro
d Investigaciones Sociologicas.
Falter, J. 1986. Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik. Munich: Beck.
_____. 1991. Hitlers W’ahler. Munich: Beck.
_____. 1993. “Die Jungmitglieder der NSDAP zwischen 1925 und 1933. Ein
demographisches und soziales Profil.” In W. Krabbe (ed.), Politische Jugend in der
Weimarer Republik. Bochum: Universitatsverlag.
_____. 1998. “Recurring patterns of West German voting behaviour: Continuities
and discontinuities 1928 to 1953.” In S. U. Larsen and B. Hagtvet (eds.), Modern
Europe after Fascism, 1943–1980s. New York: Columbia University Press.
Falter, J., and H. Bõmermann. 1989. “Die Entwicklung der Weimarer Parteien in
ihren Hochburgen und die Wahlerfolge der NSDAP.” In H. Best (ed.), Politik und
Milieu. St. Katharinen: Scripta Mercaturae.
Fargion, L. 1989. “The anti-Jewish policy of the Italian Social Republic (1943–
1945).” In Marrus (ed.), The Nazi Holocaust, vol. 4.
Farré, J. 1985. La Izquierda Burguesa en la II república. Madrid: Espas-Calpe.
Ferenc, T. 1988. “The Austrians and Slovenia during the Second World War.”
In Parkinson (ed.), Conquering the Past.
Ferraresi, F. 1998. “The radical right in postwar Italy.” In Larsen and Hagtvet
(eds.), Modern Europe after Fascism.
Fischer, C. 1978. “The occupational background of the SA’s rank and file
membership during the Depression years, 1929 to mid-1934.” In P. Stachura
(ed.), The Shaping of the Nazi State. London: CroomHelm.
Библиография
567
_____. 1983. Stormtroopers. London: Allen & Unwin.
_____. 1991. The German Communists and the Rise of Nazism. New York: St.
Martin’s Press.
_____. 1995. The Rise of the Nazis. Manchester: Manchester University Press.
Fischer, C. and C. Hicks. 1980. “Statistics and the historian: The occupational
profile of the SA of the NSDAP.” Social History 5.
Fischer-Galati, S. 1971. “Fascism in Romania.” In Sugar (ed.), Native Fascism.
_____. 1989. “Fascism, communism and the Jewish question in Romania.”
In M. Marrus (ed.), The Nazi Holocaust, vol. 4: “The Final Solution” Outside
Germany. Westport, Conn.: Meckler.
Flora, P. 1983–87. State, Economy and Society in Western Europe, 1815–1975.
Chicago: St. James Press.
Fogarty, M. 1957. Christian Democracy in Western Europe, 1820–1953. London:
Routledge.
Forgacs, D. 1986. “The Left and Fascism: Problems of definition and strategy.”
In Forgacs (ed.), Rethinking Italian Fascism.
Forner Munoz, S. 1982. Industrializatión y movimiento obrero: Alicante 1923–1936.
Valencia: Institution Alfonso el Magnánimo.
Francini, M. 1976. Primo dopoguerra a origini del fascismo a Pistoia. Milan:
Feltrinelli.
Franco Rubio, G. A. 1982. “La contributión de la mujer espãnola a la politica
contemporanea: De la Restauración a la Guerra Civil (1876–1939).” In R. M. Capel
Martinez (ed.), Mujer y sociedadenEspana 1700–1975. Madrid: Ministerio de
Cultura.
Franzosi, R. 1996. “Mobilization and counter-mobilization processes: From the ‘red
years’ (1919–20) to the ‘black years’ (1921–22) in Italy. A new methodological
approach to the study of narrative-data.” Unpublished paper, Trinity College,
Oxford.
Fraser, R. 1994. Blood of Spain, 2nd ed. London: Pimlico.
Friedlaender, S. 1986. “Nazism: Fascism or Totalitarianism?” In C. S. Maier et
al. (eds.), The Rise of the Nazi Regime. Historical Re-assessments. Boulder, Colo.:
Westview.
568
Библиография
_____. 1997. Nazi Germany and the Jews, vol. 1: The Years of Persecution, 1933–
1939. New York: HarperCollins.
Fritzsche, P. 1990. Rehearsals for Fascism: Populism and Political Mobilization in
Weimar. Oxford: Oxford University Press.
_____. 1998. Germans into Nazis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Frye, B. 1985. Liberal Democrats in the Weimar Republic. Carbondale: Southern
Illinois University Press.
Fusi, J. P. 1985. Franco: Autoritarismo y poder personal. Madrid: El Pais.
Gaillard, J. 1990. “The attractions of Fascism for the Church of Rome.” In J. Milfull
(ed.), The Attractions of Fascism. Oxford: Berg.
Gallagher, T. 1990. “Conservatism, dictatorship and fascism in Portugal, 1914–45.”
In M. Blinkhorn (ed.), Fasicists and Conservatives: The Radical Right and the
Establishment in Twentieth-Century Europe. London: Unwin Hyman.
Gao, Bai. 1997. Economic Ideology and Japanese Industrial Policy. Cambridge:
Cambridge University Press.
García Andreu, M. 1985. Alicante en las elecciones republicanas 1931–1936.
Alicante: Universidad de Alicante.
Geary, D. 1983. “The industrial elite and the Nazis in the Weimar Republic.”
In P. Stachura (ed.), The Nazi Machtegreifung. London: Allen & Unwin.
_____. 1990. “Employers, workers and the collapse of the Weimar Republic.”
In I. Kershaw (ed.), Weimar: Why Did German Democracy Fail? New York:
St. Martin’s Press.
Gentile, E. 1989. Storia del Partito Fascista, 1919–1922. Roma: Laterza.
_____. 1990. “Fascism as political religion.” Journal of Contemporary History.
_____. 1996. The Sacralization of Politics in Fascist Italy. Cambridge, Mass:
Harvard University Press.
_____. 2000. Fascismo e antifascismo: I partito italiani fra le due guerre. Florence:
Le Monnier.
Germán, L., et al. 1980. Elecciones en Zaragoza-Capital durante la II república.
Zaragoza: Diputacion Provincial.
Germán Zubero, L. 1984. Aragon en la II república. Zaragoza: Institucion Fernando
El Catolico.
Библиография
569
Geyer, M. 1990. “The past as future: The German officer corps as profession.”
In G. Cocks and K. Jarausch (eds.), German Professions, 1800–1950. New York:
Oxford University Press.
Gibson, I. 1979. The Assassination of Federico Gama Lorca, 2nd ed. London:
W. H. Allen.
Gil Robles, J. M. 1968. Nofueposible lapaz. Barcelona: Ariel.
Giles, G. 1978. “The rise of the National Socialist Students’ Association and the
failure of political education in the Third Reich.” In P. D. Stachura (ed.), The
Shaping of the Nazi State. London: CroomHelm.
_____. 1983. “National Socialism and the educated elite in the Weimar Republic.”
In Stachura (ed.), The Nazi Machtergreifung.
Giner, S. 1977. “Sociologia del franquismo.” Barcelona, papers, no. 6.
Giolitti, G. 1923. Memoirs of My Life. London: Chapman & Dodd.
Gold, D. 1991. “Organized Hinduisms: From Vedic truth to Hindu nation.”
In M. Marty and R. Appleby (eds.), Fundamentalisms Observed. Chicago:
University of Chicago Press.
Gomez-Navarro, J. L. 1991. El Regimen de Primo de Rivera. Madrid: Catedra.
Gonzalez-Hernández, M. 1990. Ciudadanía y accíon: El conservadurismo maurista,
1907–23. Madrid: Siglo XXI.
Gordon, S. 1984. Hitler, Germs and the Jewish Question. Princeton, N.J.: Princeton
University Press.
Gosztony, P. 1985. “Annual Statistic al Romaniei.” Bucharest: Institut Central de
Statistica, 1939–40.
Gramsci, A. 1971. Selections from the Prison Notebooks. New York: International.
Gregor, A. J. 1979. Italian Fascism and Developmental Dictatorship. Princeton,
N.J.: Princeton University Press.
Gregor, J.1969.The Ideology of Fascism: The Rationale of Totalitarianism. New
York: Free Press.
_____. 2000. “Fascism, Marxism and some considerations concerning
classification.” Totalitarian Movements and Political Religions, issue 3.2.
Gress, F. 1998. “Right-wing extremism in the history of the Federal Republic
of Germany.” In Larsen and Hagtvet (eds.), Modern Europe after Fascism.
570
Библиография
Griffin, R. 1991. The Nature of Fascism. London: Routledge.
_____. 1995. Fascism. Oxford: Oxford University Press.
_____. 2001. “Caught in its own net: Post-war fascism outside Europe.” In Larsen
(ed.), Fascism outside Europe.
_____. 2002. “The primacy of culture: The current growth (or manufacture) of
consensus within fascist studies.” Journal of Contemporary History 37.
Grill, J. 1983. The Nazi Movement in Baden, 1920–1945. Chapel Hill: University
of North Carolina Press.
Gruber, H. 1985. “Socialist Party culture and the realities of working class life in
Red Vienna.” In Rabinbach (ed.), Austrian Socialist Experiment.
Guinea, J. 1978. Los movimientos obrerosy sindicales en Espana: De 1833 a 1978.
Madrid: Iberico Europea de Ediciones.
Gulick, C. 1948. Austria from Habsburg to Hitler, vol. 2: Fascism: Subversion of
Democracy. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Guttsman, W. L. 1981. The German Social Democratic Party, 1875–1933. London:
Allen & Unwin.
Hagtvet, B. 1980. “The theory of mass society and Weimar.” In Larsen et al. (eds.),
Who Were the Fascists?
Hamann, B. 1999. Hitler’s Vienna: A Dictator’s Apprenticeship. New York: Oxford
University Press.
Hamilton, R. 1982. Who Voted for Hitler? Princeton, N.J.: Princeton University
Press.
_____. 1997. “Review of The Logic of Evil by W. Brustein.” Contemporary Sociology
26.
Hanisch, E. 1989. “Austrian Catholicism: Between accommodation and resistance.”
In Parkinson (ed.), Conquering the Past.
Heberle, R. 1964. From Democracy to Nazis. Baton Rouge: University of Louisiana
Press.
Heilbronner, O. 1990. “The role of Nazi antisemitism in the Nazi Party’s activity
and propaganda. A regional historiographical study.” Leo Baeck Institute Yearbook
38.
Heinen, A. 1986. Die Legion “ErzengelMichael” in Rumanien: Soziale Bewegung
und politische Organisation. Munich: Oldenbourg.
Библиография
571
Helmreich, E. C. 1979. The German Churches under Hitler. Detroit, Mich.: Wayne
State University Press.
Herf, J. 1984. Reactionary Modernism. New York: Cambridge University Press.
Hesse, S. 1990. “Fascism and the hypertrophy of male adolescence.” In J. Milfull
(ed.), The Attractions of Fascism. Oxford: Berg.
Heywood, P. 1990. Marxism and the Failure of Organised Socialism in Spain,
1879–1936. Cambridge: Cambridge University Press.
Hitchins, K. 1994. Rumania 1866–1947. Oxford: Clarendon.
Hitler, A. 1940. Mein Kampf New York: Reynal & Hitchcock.
Hobsbawm, E. 1994. The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991.
New York: Pantheon.
Holtfrerich, C.-L. 1990. “Economic policy options and the end of the Weimar
Republic.” In Kershaw (ed.), Weimar.
Hughes, H. S. 1967. Consciousness and Society: The Reorientation of European
Social Thought. London: Macgibbon & Kee.
Hunt, R. N. 1964. German Social Democracy, 1918–33. Chicago: Quadrangle Books.
Huntington, S. P. 1991. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century. Norman: University of Oklahoma Press.
Ianciu C. 1996. Les juifs en Roumanie (1919–1938): De l’emancipation a la
marginalisation. Paris/Louvain: Peeters.
_____. 1998. La Shoah en Roumanie. Montpellier: Université Paul-Valéry.
Ignazi, P. 1997. “The extreme right in Europe: A survey.” In P. Merkl and
L. Weinberg (eds.), The Revival of Right-Wing Extremism in the 1990s. London:
Frank Cass.
Ioanid, R. 1990. The Sword of the Archangel. New York: Columbia University Press.
Ionesco, E. 1960. Rhinoceros. New York: S. French.
Institutul Central de Statistica. 1939–40. Anuarul Statistic Al României. Bucharest:
author.
Irwin, W. 1991. The 1933 Cortes Elections. New York: Garland.
Jackson, G. 1965. The Spanish Republic and the Civil War 1931–1939.
Princeton, N.J.: Princeton University Press.
572
Библиография
Jaffrelot, C. 1996. The Hindu Nationalist Movement in India. New York: Columbia
University Press.
Jagschitz, G. 1975. Vom Justizpalast zum Heldenplatz. Wien: DVO.
James, H. 1990. “Economic reasons for the collapse of the Weimar Republic.”
In Kershaw (ed.), Weimar.
Jamin, M. 1984. Zwischen den Klassen: Zur Sozialstruktur der SA-Fuhrerschaft.
Wuppertal: Peter Hammer.
Jarausch, K. 1990. The Unfree Professions: German Lawyers, Teachers and Engineers,
1900–1950. Oxford: Oxford University Press.
Janos, A. 1970. “The one-party state and social mobilization: East Europe between
the Wars.” In S. Huntington and C. Moore (eds.), Authoritarian Politics in Modern
Society. New York: Basic.
_____. 1982. The Politics of Backwardness in Hungary, 1825–1945. Princeton,
N.J.: Princeton University Press.
_____. 1989. “The politics of backwardness in Continental Europe, 1780–1945.”
World Politics 61.
Jedlicka, L. 1979. “The Austrian Heimwehr.” In G. Mosse (ed.), International
Fascism: New Thoughts and New Approaches, 2nd ed. London: Sage.
Jerez Mir, M. 1982. Elites politicasy centros de extractión en Espãna, 1938–1957.
Madrid: C.I.S.
Jones, L. 1988. German Liberalism and the Dissolution of the German Party System,
1918–1933. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Jowitt, K. 1971. Revolutionary Breakthroughs and National Development: The Case
of Romania, 1944–1965. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Juliá, S. 1977. La izquierda delPSOE (1935–1936). Madrid: Siglo XXI.
_____. 1979. Origenes del frente popular en Espãna (1934–1936). Madrid: Siglo
XX.
_____. 1983. “Corporativistas obreros y reformadores poUticos: Crisis y escision
del PSOE en la II República.” Studia Histórica 1.
_____. 1984. Madrid, 1931–1934: De la fiesta popular a la lucha de clases.
Madrid: Siglo XXI.
Библиография
573
_____. 1989. “The origins and nature of the Spanish Popular Front.” In Alexander
and Graham (eds.), French and Spanish Popular Fronts.
_____. 1990. “Guerra civil como guerra social.” In La iglesia católica y la guerra
civil espãnola. Madrid: Fundación Friedrich Ebert.
Julia, S., et al. 1999. Victimas de la guerra civil. Madrid: Temas de Hoy Historia.
Karady, V. 1993. “Antisemitism in twentieth-century Hungary: A sociohistorical
overview.” Patterns of Prejudice 27.
_____. 1997. “Identity strategies under duress before and after the Holocaust.”
In R. Braham and A. Pok (eds.), The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New
York: Columbia University Press.
Kallis, A. 2000. “The ‘regime-model’ of fascism: A typology.” European History
Quarterly 30.
Karsai, L. 1998. “The last phase of the Hungarian Holocaust: The Szalasi Regime
and the Jews.” In R. Braham and S. Miller (eds.), The Nazis’ Last Victims:
The Holocaust in Hungary. Detroit, Mich.: Wayne State University Press.
Kater, M. 1975. Studentenschaft undRechtsradikalismus in Deutschland 1918–1933.
Hamburg: Hoffmann & Kampe.
_____. 1983. The Nazi Party. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Kele, M. 1972. Nazis and Workers. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Kelikian, A. 1986. Town and Country under Fascism: The Transformation of Brescia,
1915–1926. Oxford: Clarendon.
Kelsey,G. 1991. Anarchosyndicalism, Libertarian Communism and the State: The
CNT in Zaragoza and Aragon, 1930–1937. Amsterdam: Kluwer.
Kepel, G. 2002. Jihad: The Trail of Political Islam. Cambridge, Mass.: Harvard
University Press.
Kershaw, I. 1990. “Introduction: Perspectives of Weimar’s Failure.” In Kershaw
(ed.),Weimar.
_____. 1991. Hitler. London: Longman.
_____. 1998. Hitler. 1889–1936: Hubris. New York: Norton.
_____. 2000. The Nazi Dictatorship, 4th ed. London: Edward Arnold.
Kershaw I. (ed.) 1990.Weimar: Why did Weimar Democracy Fail? New York:
St. Martin’s Press.
574
Библиография
Kindelan, A. (Teniente General). n.d. Ejercito y politica. Madrid: Aguilar.
Kirk, T. 1996. Nazism and the Working Class in Austria. Cambridge: Cambridge
University Press.
Kitchen, M. 1976. Fascism. London: Macmillan.
Kluge, U. 1984. Der Osterreichische Standestaat 1934–1938. Vienna:
Knight, M. 1952. The German Executive 1890–1933. Stanford, Calif.: Stanford
University Press.
Knox, M. 1996. “Expansionist zeal, fighting power and staying power in the Italian
and German dictatorships.” In Bessel (ed.), Fascist Italy and Nazi Germany.
Kofas, J. 1983. Authoritarianism in Greece: The Melaxas Regime. New York:
Columbia University Press.
Kolb, E. 1979. “Zur Sozialbiographie einer Fuhrungsgruppe der SPD am Anfang der
Weimarer Republik.” In Herkunft und Mandat: Beitrage zur Fohrungsproblematik
in der Arbeiterbewegung. Frankfurt and Cologne: Europaische Verlagsanstalt.
Konrad, H. 1989. “Social democracy’s drift toward nazism before 1938.”
In Parkinson (ed.), Conquering the Past.
Koshar, R. 1986. Social Life, Local Politics, and Nazism. Marburg, 1880–1935.
Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Kovács, M. 1991 “The ideology of illiberalism in the professions: Leftist and
rightist radicalism among Hungarian doctors, lawyers and engineers, 1918–45.”
European History Quarterly 21.
Kratzenberg, V. 1989. Arbeiter auf dem Weg zu Hitler? Frankfurt/Main: Peter Lang.
Kuhr, H. 1973. Partien und Wahlen im Stadt- und Landkreis Essen in der Zeit der
Weimarer Republik. Düsseldorf: Droste.
Lackó, M. 1969. Arrow-Cross Men, National Socialists. 1935–1944. Budapest:
Akademiai Kiado.
Lannon, F. 1984. “The church’s crusade against the republic.” In P. Preston (ed.),
Revolution and War in Spain. London: Methuen.
_____. 1987. Privilegio, persecutión y profetía: La iglesia católica en Espãna.
1875–1975. Madrid: Alianza.
Laqueur, W. (ed.) 1976. Fascism: A Reader’s Guide. Berkeley: University of
California Press.
Библиография
575
Larsen, S. U. 1998. “Overcoming the past when shaping the future.” In Larsen
and Hagtvet, Modern Europe after Fascism.
_____. 2001. “Was there Fascism outside Europe? Diffusion from Europe and
domestic impulses.” In Larsen (ed.), Fascism outside Europe.
Larsen, S. U. (ed.). 2001. Fascism outside Europe. New York: Columbia University
Press.
Larsen, S. U., and B. Hagtvet (eds.). 1998. Modern Europe after Fascism 1943–
1980s. New York: Columbia University Press.
Larsen, S., et al. (eds.). 1980. Who Were the Fascists? Social Roots of European
Fascism. Oslo: Universitetsforlaget.
Ledeen M. 1977. The First Duce: D’Annunzio at Fiume. Baltimore, Md.: Johns
Hopkins University Press.
_____. 1989. “The evolution of Italian fascist anti-semitism.” In Marrus (ed.),
The Nazi Holocaust, vol. 4.
Lee, S. 1987. The European Dictatorships, 1918–1945. London: Methuen.
Lewis, J. 1991. Fascism and the Working Class in Austria, 1918–34. Oxford: Berg.
Liebe, W. 1956. Die Deutschnationale Volkspartei, 1918–1924. Dusseldorf: Droste.
Lindstrom, U. 1985. Fascism in Scandinavia, 1920–1940. Stockholm: Almquist
& Wiksell.
Linz, J. 1976. “Some notes toward a comparative study of fascism in sociological
historical perspective.” In W. Laqueur (ed.), Fascisim: A Reader’s Guide. Berkeley:
University of California Press.
_____. 1978. “From great hopes to civil war: The breakdown of democracy in
Spain.” In Linz and A. Stepan (eds.), The Breakdown of Democratic Regimes:
Europe. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press.
_____. 1980. “Political space and fascism as a late-comer.” In S. U. Larsen et al.
(eds.), Who Were the Fascists? Bergen: Universitetsforlaget.
_____. 1998. “Fascism is dead. What legacy did it leave?” In Larsen and Hagtvet
(eds.), Modern Europe after Fascism.
Lipset, S. M. 1963. Political Man. London: Heinemann.
Luebbert, G. 1991. Liberalism, Fascism or Social Democracy: Social Classes and the
Political Origins of Regimes in Interwar Europe. New York: Oxford University Press.
576
Библиография
Livezeanu, I. 1990. “Fascists and conservatives in Romania: Two generations of
nationalists.” In M. Blinkhorn (ed.), Fascists and Conservatives. London: Unwin
Hyman.
_____. 1995. Cultural Politics in Greater Romania. Ithaca, N.Y.: Cornell University
Press.
Loewenberg, P. 1983. “The psychohistorical origins of the Nazi youth cohort.”
In Loewenberg, Decoding the Past. New York: Knopf.
_____. 1985. “Otto Bauer as an ambivalent party leader.” In Rabinbach (ed.),
The Austrian Social Experiment.
Lösche, P. 1992. Die SPD: Klassenpartei — Volkspartei — Quotenpartei. Darmstadt:
Wiss. Buchges.
Lyttleton, A. 1982. “Fascism and violence in post-war Italy: Political strategy
and social conflict.” In Mommsen and Hirschfeld (eds.), Social Protest, Violence
and Terror.
_____. 1987. The Seizure of Power: Fascism in Italy, 1919–1929. London:
Weidenfeld & Nicolson.
_____. 1996. “The ‘crisis of bourgeois society’ and the origins of Fascism.” In Bessel
(ed.), Fascist Italy and Nazi Germany.
Macarro Vera, J. M. 1989. “Social and economic policies of the Spanish left
in theory and in practice.” In Alexander and Graham (eds.), French and Spanish
Popular Fronts.
Madden, P. 1982a. “Generational aspects of National Socialism, 19191933.” Social
Science Quarterly 63.
_____. 1982b. “Some social characteristics of early Nazi Party members, 1919–23.”
Central European History 15.
Maddison, A. 1982. Phases of Capitalist Development. Oxford: Oxford University
Press.
Maier, C. 1975. Recasting Bourgeois Europe. Princeton, N.J.: Princeton University
Press.
Malefakis, E. 1970. Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain. New Haven,
Conn.: Yale University Press.
Mallett, R. 2000. The Italian Navy and Fascist Expansionism, 1935–1940. London:
Frank Cass.
Библиография
577
Manjón, O. 1976. El partido republicano radical 1908–1936. Madrid: Tebas.
Mann, M. 1986. The Sources of Social Power, vol. 1: A History from the Beginning
to 1760 AD. New York: Cambridge University Press.
_____. 1988. “The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and
results.” In M. Mann (ed.), States, War and Capitalism. New York: Basil Blackwell.
_____. 1993. The Sources of Social Power, vol. 2: The Rise of Classes and NationStates, 1760– 1914. New York: Cambridge University Press.
_____. 1995. “Sources of variation in working-class movements in twentiethcentury Europe.” New Left Review, no. 212.
_____. 1997. “The contradictions of continuous revolution.” In I. Kershaw and
M. Lewin (eds.), Stalinism and Nazism: Dictatorship in Comparison. Cambridge:
Cambridge University Press.
_____. 2003. Incoherent Empire. London: Verso.
Manoilescu, M. 1937. Le Parti Unique, 2nd ed. Paris: Alcan.
_____. 1938. Le Siècle du corporatisme: Doctrine du corporatisme integral et pur,
2nd ed. Paris: Alcan.
Maravall, J. M. 1997. Regimes, Politics, and Markets: Democratization and Economic
Change in Southern and Eastern Europe. Oxford: Oxford University Press.
Marco, J. M. 1988. La inteligencia republicana: Manuel Azãna 1897–1930. Madrid:
Biblioteca Nueva.
Marcuse, P. 1985. “The housing policy of social democracy: Determinants and
consequences.” In Rabinbach (ed.), Austrian Socialist Experiment.
Marshall, B. 1988. “Politics in academe: Gottingen University and the growing
impact of political issues, 1918–33.” European History Quarterly 18.
Martin, B. 1990. The Agony of Modernization: Labor and Industrialization in Spain.
Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Mason, T. 1972. “The primacy of politics — politics and economics in Nationalist
Socialist Germany.” In H. A. Turner (ed.), Nazism and the Third Reich. New York:
Quadrangle.
_____. 1993. Social Policy in the Third Reich. Oxford: Berg.
_____. 1995. Nazism, Fascism and the Working Class. ed. Jane Caplan. Cambridge
and New York: Cambridge University Press.
578
Библиография
Mateos, Rodríguez. 1993. “Formatión y desarrollo de la derecha católica an la
provincia de Zamora durante la Segunda República.” In J. Tusell et al. (eds.),
Estudios sobre la derecho espãnola contemporanea. Madrid: Unea.
Mayer, A. 1981. The Persistence of the Old Regime. London: CroomHelm.
Mayeur J.-M. 1980. Des partis catholiques a la democratie chretienne, XlXe–XXe
siecles. Paris: Colin.
Meaker, G. 1988. “A civil war of words: The ideological impact of the First World
War on Spain, 1914–18.” In H. Schmitt (ed.), Neutral Europe between War and
Revolution, 1917–19. Charlottesville: University of Virginia Press.
Melograni, P. 1965. “Confindustria e fascismo tra il 1919 e il 1925.” Il Nuevo
Osservatore 6 (Nov.): 834–73.
_____. 1972. Gli industriali e Mussolini: Rapporti fra Confindustria e fascismo del
1919 al 1929. Milan: Longanesi.
Mendelsohn, E. 1983. The Jews of East Central Europe between the World Wars.
Bloomington: University of Indiana Press.
Merkl, P. 1975. Political Violence under the Swastika. Princeton, N.J.: Princeton
University Press.
_____. 1980. The Making of a Stormtrooper. Princeton, N.J.: Princeton University
Press.
Michaelis, M. 1995. “The current debate over fascist racial policy.” In Wistrich
and Della Pergola (eds.), Fascist Antisemitism.
Miguel, A. de 1975. Sociologia del franquismo. Barcelona: Euros.
Milatz, A. 1965. Walher und Walhen in der Weimarer Republik. Bonn: Bundeszentrale
fur Politische Bildung.
Mintz, J. 1982. The Anarchists of Casas Viejas. Chicago: University of Chicago
Press.
Mir, C. 1985. Lleida (1890–1936): Caciquisme polític i lluita electoral. Montserrat:
l’Abadia de Montserrat.
Misefari, E., and A. Marzotti. 1980. L’Avvento del Fascismo in Calabria. Cosenza:
Pellegrini.
Mitchell, B. 1993. International Historical Statistics: The Americas 1750–1993.
New York: Grove.
Библиография
579
_____. 1995. International Historical Statistics: Africa, Asia, and Oceania 1750–
1993 New York: Grove.
_____. 1998. International Historical Statistics: Europe 1750–1993. New York:
Grove.
Mócsy, I. 1983. The Effects of World War I. The Uprooted: Hungarian Refugees and
Their Impact on Hungary’s Domestic Politics, 1918–1921. New York: Columbia
University Press.
Molas, I. 1973. Lliga Catalana: Un estudi d’estasiologia, 2nd ed. Barcelona: Edicions
62.
Molony, J. 1977. The Emergence of Political Catholicism in Italy. London:
CroomHelm.
Mommsen, H. 1991. “Hitler’s position in the Nazi system.” In Mommsen, From
Weimar to Auschwitz. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Mommsen,W. 1990. “The varieties of the nation state in modern history: Liberal
imperalist, fascist and contemporary notions of nation and nationality.” In M. Mann
(ed.), The Rise and Decline of the Nation State. Cambridge: Basil Blackwell.
Mommsen, W. J., and G. Hirschfield (eds.) 1982. Social Protest, Violence and
Terror in Nineteenth and Twentieth-Century Europe. New York: St. Martin’s Press.
Montero, J. R. 1977 La CEDA: El catolicismo social y politico en la II republica,
2 vols. Madrid: Ediciones de la Revista de Trabajo.
_____. 1988. “Las derechas en el sistema de partidos del segundo bienio republicano:
Algunos datos introductorios.” In Túñon de Lara (ed.), La II república espãnola.
Moore, B. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Harmondsworth:
Penguin.
Morego, J. M. F. 1922. Los atendados sociales en Espana, las teorias, los hechos,
estadisticas. Madrid: Casa Faure.
Moreno, A. M. 1961. Historía de la persecución en Espãna. Madrid: Biblioteca de
Autores Cristianos.
Moreno Fernandez, L. 1987. Accion popular murciana: La derecha confessional en
Murcia durante la II república. Murcia: Universidad de Murcia.
Morodo, R. 1985. Los origines ideologicos del franquismo: Acción Espãnola. Madrid:
Alianza.
580
Библиография
Morsey, R. 1977. Der Untergang des Politischen Katholicizismus. Stuttgart: Belser.
Mosse, G. 1964. The Crisis of German Ideology: The Intellectual Origins of the Third
Reich. New York: H. Testig.
_____. 1966. “The genesis of fascism.” Journal of Contemporary History 1.
_____. 1970. Germans and Jews: The Right, the Left and the Search for a Third
Force in Pre-Nazi Germany. New York: H. Testig.
_____. 1999. The Fascist Revolution. New York: Howard Fertig.
Muhlberger, D. (ed.). 1987. The Social Basis of European Fascist Movement.
London: CroomHelm.
_____. 1991. Hitler’s Followers. London: Routledge.
Mussolini, B. 1976. The Political and Social Doctrine of Fascism. New York: Gordon
Press. Originally published 1932.
Myklebust, J. and B. Hagtvet. 1980. “Regional contrasts in the membership base
of the Nosjonal Samlung.” In S. Larsen et al. (eds.), Who Were the Fascists? Social
Roots of European Fascism. Oslo: Universitets Farlager.
Nagy-Talavera, N. 1970. The Green Shirts and the Others: A History of Fascism in
Hungary and Romania. Stanford, Calif.: Hoover Institute Press.
Neebe, R. 1981. Grossindustrie, Staat und NSDAP 1930–1933. Gottingen:
Vanenhoeck and Rupricht.
Newman, K. 1970. European Democracy between the Wars. London: George Allen
& Unwin.
Niessen, J. 1995. “Romanian nationalism: An ideology of integration and
mobilization.” In P. Sugar (ed.), Eastern European Nationalism in the Twentieth
Century. Washington: American University Press.
Noakes, J. 1971. The Nazi Party in Lower Saxony, 1921–1933. Oxford: Oxford
University Press.
Noakes, J., and G. Pridham. 1974. Documents on Nazism, 1919–1945. London: Cape.
Nolte, E. 1965. Three Faces of Fascism. London: Weidenfeld & Nicolson.
O’Sullivan, N. 1983. Fascism. London: Dent.
Oxaal, I., et al. (eds.). 1987. Jews, Antisemitism and Culture in Vienna. London:
Routledge.
Библиография
581
Ozsvath, Z. 1997. “Can words kill? Anti-semitic texts and their impact on the
Hungarian Jewish catastrophe.” In Randolph. Braham and Attila Pok (eds.),
The Holocaust in Hungary (New York: East European Managraphs, 1997).
Palomares Ibáãnez, J. M. 1988. El socialismo en Castilla. Valladolid: Universidad.
Parkinson 1989. “Epilogue.” In Parkinson (ed.), Conquering the Past.
Parkinson F. (ed.). 1989. Conquering the Past: Austrian Nazism Yesterday and Today.
Detroit, Mich.: Wayne State University Press.
Parming, T. 1975. The Collapse of Liberal Democracy and the Rise of Authoritarianism
in Estonia. Beverly Hills, Calif.: Sage.
Partido Republicano Radical. 1932. Asemblea nacional extraordinaria. Madrid:
Imprenta Zolia Ascasibar.
Passchier, N. 1980. “The electoral geography of the Nazi landslide.” In Larsen et
al. (eds.), Who Were the Fascists?
Passerini, L. 1987. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin
Working Class. Cambridge: Cambridge University Press.
Patton, C. 1994. “The myth of moderation: German chemical employer responses
to labour conflict, 1914–24.” European History Quarterly 24.
Pauley, B. 1980. “Nazis and Heimwehr Fascists: The struggle for supremacy in
Austria, 1918–1938.” In Larsen et al. (eds.), Who Were the Fascists?
_____. 1981. Hitler and the Forgotten Nazis. Chapel Hill: University of North
Carolina Press.
_____. 1987. “Political antisemitism in interwar Vienna.” In Oxaal et al. (eds.),
Jews, Antisemitism and Culture.
_____. 1989. “The Austrian Nazi Party before 1938: Some recent revelations.” In
Parkinson (ed.), Conquering the Past.
Paxton, R. 1994. “Radicals.” New York Review of Books, June 23.
_____. 1996. “The uses of fascism.” New York Review of Books, November 28.
_____. 1998. “The five stages of fascism.” Journal of Modern History 70.
Payne, S. 1962. Falange: A History of Spanish Fascism. London: Oxford University
Press.
_____. 1970. The Spanish Revolution. New York: Norton.
_____. 1980a. Fascism: Comparison and Definition. Madison: University of
Wisconsin Press.
582
Библиография
_____. 1980b. “Social Composition and Regional Strength of the Spanish Falange.”
In S. V. Larsen et al. (eds.), Who Were the Fascists? Social Roots of European Fascism.
Bergen: Universitetsforlaget.
_____. 1993. Spain’s First Democracy: The Second Republic, 1931–1936. Madison:
University of Wisconsin Press.
_____. 1995. A History of Fascism, 1914–1945. Madison: University of Wisconsin
Press.
Peirats, J. 1971. La CNTen la revolution espanola, 2nd ed., 3 vols. Paris: Ediciones
CNT.
Perez Diaz, V. 1991. Structure and Change of Castilian Peasant Communities. New
York: Garland.
_____. 1993. The Return of Civil Society. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Petersen, J. 1975. “Elettorato e base sociale del fascismo Italiano negli anni venti.”
Studi Storici, anno 16.
_____. 1982. “Violence in Italian fascism, 1919–25.” In Mommsen and Hirschfeld
(eds.), Social Protest, Violence and Terror.
Peterson, L. 1983. “A social analysis of KPD supporters: The Hamburg
insurrectionaries of October 1923.” International Review of Social History 28.
Peukert, D. 1989. Inside Nazi Germany: Conformity, Opposition, and Racism in
Everyday Life. Trans. R. Deveson. London: Penguin.
Polonsky, A. 1975. The Little Dictators: The History of Eastern Europe since 1918.
London: Routledge.
Prayer, M. 1991. “Italian fascist regime and nationalist India 1921–1945.”
International Studies 28.
Preston, P. 1978. The Coming of the Spanish Civil War: Reform, Reaction and
Revolution in the Second Republic. London: Routledge.
_____. 1986. Las derechas espãnolas en el sigloXX: Autoritismo fascismo y golpismo.
Madrid: Sustema.
_____. 1990. The Politics of Revenge. London: Unwin Hyman.
_____. 1995. Franco: A Biography. London: Fontana.
Preston, P., ed. 1984. Revolution and War in Spain, 1931–1939. London: Methuen.
Библиография
583
Preti, L. 1968. “Fascist imperialism and racism.” In R. Sarti (ed.), The Ax Within:
Italian Fascism in Action. New York: New Viewpoints.
Preziosi, A. M. 1980. Borghesia e fascismo in Friuli negli anni 1920–1922. Roma:
Bonacci.
Pridham, G. 1973. Hitler’s Rise to Power: The Nazi Movement in Bavaria, 1929–33.
London: Hart-Davies, McGibbon.
Poulantzas, N. 1974. Fascism and Dictatorship. London: New Left Books.
Pulzer, P. 1993. “The tradition of Austrian Antisemitism in the nineteenth and
twentieth centuries.” Patterns of Prejudice 27.
Rabinbach, A. (ed.). 1985. The Austrian Socialist Experiment: Social Democracy
and Austromarxism, 1918–1934. Boulder, Colo.: Westview.
Ramírez Jiménez, M. 1969. Los grupos de presión en la segunda república espãnola.
Madrid: Technos.
Ránki, G. 1971. “The Problem of Fascism in Hungary.” In Sugar (ed.), Native
Fascism.
_____. 1980. “The fascist vote in Budapest in 1939.” In Larsen et al., (eds.), Who
Were the Fascists?
Rath. J, and C. Schum. 1980. “The Dollfuss-Schusnigg Regime: Fascist or
Authoritarian?” In Larsen et al. (eds.), Who Were the Fascists?
Reichardt, S. 2002. Faschistische Kampjbünde. Köln: Böhlau Verlag.
Renton, D. 2000. Fascism: Theory and Practice. London: Pluto.
Revelli, M. 1987. “Italy.” In D. Mühlberger (ed.), The Social Basis ofEuropean
Fascist Movements. London: CroomHelm.
Rial, J. 1986. Revolution from Above: The Primo de Rivera Dictatorship in Spain,
1923–1930. Fairfax, Va.: George Mason University Press.
Riley, D. 2002. “Hegemony and domination: civil society and regime variation in
inter-war Europe.” Ph.D. dissertation, University of California at Los Angeles.
Roberts, D. 1980. “Petty bourgeois Fascism in Italy: Form and content.” In Larsen
et al. (eds.), Who Were the Fascists?
Robinson, R. 1970. The Origins of Franco’s Spain: The Right, the Republic and
Revolution, 1931–1936. Newton Abbot: David & Charles.
Rogowski, R. 1977. “The Gauleiter and the social origins of Fascism.” Comparative
Studies in Society and History 19.
584
Библиография
Rokkan, S. 1970. Citizens, Elections, Parties: Approaches to the Comparative Study
of the Process of Development. Oslo: Scandinavian University Books.
Ronnas, P. 1984. Urbanization in Romania. Stockholm: Economic Research
Institute, Stockholm School of Economics.
Rosenhaft, E. 1982. “The KPD in the Weimar Republic and the problem of terror
during the ‘Third Period,’ 1929–33.” In Mommsen and Hirschfeld (eds.), Social
Protest, Violence and Terror.
_____. 1983. Beating the Fascists? The German Communists and Political Violence
1929–33. Cambridge: Cambridge University Press.
_____. 1987. “The unemployed in the neighbourhood: Social dislocation and
political mobilisation in Germany 1929–1933.” In R. Evans and D. Geary (eds.),
The German Unemployed: Experiences and Consequences of Mass Unemployment
from the Weimar Republic to the Third Reich. London: CroomHelm.
Rothschild, J. 1974. East Central Europe between the Two World Wars. Seattle:
University of Washington Press.
Roy, O. 1994. The Failure of Political Islam. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Rueschemeyer, D., E. Stephens, and J. Stephens 1992. Capitalist Development and
Democracy. Chicago: University of Chicago Press.
Ságvári, A. 1997. “Did they do it under orders?” In R. Braham and A Pók (eds.),
The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New York: Columbia University Press.
Sakmyster, T. 1994. Hungary’s Admiral on Horseback: Miklos Horthy 1918–1944.
Boulder, Colo.: Colombia University Press.
Saladino, S. 1966. “Italy.” In H. Rogger and E.Weber (eds.), The European Right:
A Historical Profile. Berkeley: University of California Press.
Salvatorelli, L. 1923. Nazional-fascismo. Turin: Gobetti.
Salvemini, G. 1973. The Origins of Fascism in Italy. New York: Harper & Row.
Santacreu Soler, J. M., et al. 1986. “El anarchosindicalismo Alicantino durante la
Segunda Republica.” In Instituto de Estudios Juan Gil-Albert (ed.), El anarquismo
en Alicante (1868– 1945). Alicante: Diputacion Provincial.
Sarti, R. 1971. Fascism and the Industrial Leadership in Italy, 1919–1940. Berkeley
and Los Angeles: University of California Press.
_____. 1990. “Italian fascism: Radical politics and conservative goals.” in
M. Blinkhorn (ed.), Fascists and Conservatives. London: Unwin Hyman.
Библиография
585
Schleunes, K. 1990. The Twisted Road to Auschwitz: Nazi Policy toward German
Jews, 1933–1939, 2nd ed. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.
Schmidt-Hartmann, E. 1988. “People’s democracy: The emergence of a Czech
political concept in the late ninetheenth century.” In S. J. Kirschbaum (ed.), East
European History. Columbus, Ohio: Slavica.
Schmitt, H. (ed.). 1988. Neutral Europe between War and Revolution, 1917–1923.
Charlottesville: University of Virginia Press.
Schmitter, P. 1974. “Still the century of corporatism?” Review of Politics.
Schneider, W. 1978. Die Deutsche Demokratische Partei in der Weimarer Republik
1924–1930. Munich: Wilhelm Fink.
Schorske, C. 1981. Fin-de-Siecle Vienna: Politics and Culture. New York: Vintage.
Schwartz, R. 1989. “Nazi wooing of Austrian Social Democracy between Anschluss
and war.” In Parkinson (ed.), Conquering the Past.
Seco, C. 1971. “Introduction” to Gil Robles, Discursos parlamentarios. Madrid:
Taurus.
Segré, C. 1987. Italo Balbo: A Fascist Life. Berkeley and Los Angeles: University
of California Press.
Sereny, G. 1995. Albert Speer: His Battle with Truth. London: Macmillan.
Seton-Watson, C. 1967. Italy from Liberalism to Fascism. London: Methuen.
Seton-Watson, H. 1967. Eastern Europe between the Wars, 1918–1941. New York:
Harper.
Shapiro, P. 1974. “Prelude to dictatorship in Romania: The National Christian
Party in power, December 1937–February 1938.” Canadian-American Slavic
Studies 8.
Shubert, A. 1987. The Road to Revolution in Spain. Urbana: University of Illinois
Press.
Siegfried, K. J. 1979. Klerikalfaschismus: Zur Entstehung und Sozialen Funktion des
Dollfussregimes in Österreich. Frankfurt: Lang.
Silverman, D. 1988. “National Socialist Economics: The Wirtschaftswunder
Reconsidered.” In B. Eichengreen and T. Hatton (eds.), Interwar Unemployment
in International Perspective. Dordrecht: Kluwer.
586
Библиография
Silvestri, C. 1969. “Storia del fascismo di Trieste dalle origini alla conquista del
potere (1919–1922).” In Fascismo, guerra, resistenza, lottepolitiche esociali nel
Fruili-Venezia Guilia 1918–1943. Udine: Del Bianco.
Sima, H. 1967. Histoire du mouvement légionnaire. Rio de Janeiro: Editora Dacia.
Snowden, F. 1972. “On the social origins of agrarian fascism in Italy.” European
Journal of Sociology 13.
_____. 1989. The Fascist Revolution in Tuscany, 1919–1922. Cambridge: Cambridge
University Press.
Soucy, R. 1991. “French fascism and the Croix de Feu: A dissenting interpretation.”
Journal of Contemporary History 26, no. 1: 159–88.
Southern, D. 1982. “Anti-democratic terror in the Weimar Republic: The Black
Reichswehr and the Feme-murders.” In Mommsen and Hirschfeld (eds.), Social
Protest, Violence and Terror.
Speier, H. 1986. German White-Collar Workers and the Rise of Hitler. New Haven,
Conn.: Yale University Press.
Stachura, P. 1975. Nazi Youth in the Weimar Republic. Santa Barbara, Calif.: Clio
Books.
_____. 1983a. “German youth, the youth movement and national socialism in
theWeimar Republic.” In Stachura (ed.), The Nazi Machtergreifung.
_____. 1983b. “The Nazis, the bourgeoisie and the workers during the Kampfzeit.”
In Stachura (ed.), The Nazi Machtergreifung.
_____. 1993. “National Socialism and the German proletariat, 1925–1935: Old
myths and new perspectives.” Historical Journal 36.
Stachura P. (ed.) 1993c. The Nazi Machtergreifung. London: Allen & Unwin.
_____. (ed.). 1986. Unemployment and the Great Depression in Weimar Germany.
London: Macmillan.
Stadler, K. 1981. “Austria.” In S. Woolf (ed.), European Fascism, 2nd ed. London:
Weidenfeld & Nicolson.
Steinberg, J. 1986. “Fascism in the Italian South: The case of Calabria.” In Forgacs
(ed.), Rethinking Italian Fascism.
Steinhoff, J., et al. 1989. Voices from the Third Reich: An Oral History. New York:
De Capo.
Библиография
587
Stephan, W. 1973. Aufstieg und Verfall des Linksliberalismus 1918–1933. Gottingen:
Vandenhoeck & Ruprecht.
Stephens, J. D. 1989. “Democratic transition and breakdown in Western Europe,
1870–1939: A test of the Moore thesis.” American Journal of Sociology 94.
Sternhell, Z. 1976. “Fascist ideology.” In Laqueur (ed.), Fascism: A Reader’s Guide.
_____. 1986. Neither Right nor Left: Fascist Ideology in France. Berkeley and Los
Angeles: University of California Press.
_____. 1994. The Birth of Fascist Ideology. Princeton, N.J.: Princeton University
Press.
Stühlpfarrer, K. 1989. “Nazism, the Austrians and the military.” In Parkinson
(ed.), Conquering the Past.
Sturdza, P. 1968. The Suicide of Europe: Memoirs of Prince Michel Sturdza, Former
Foreign Minister of Rumania. Belmont, Mass.: Western Islands.
Suarez Cortina, M. 1981. Elfascismo en Asturias (1931–1937). Madrid: Biblioteca
Julia Somoza.
Suero Roca, T. 1975. Los generales de Franco. Barcelona: Bruguera.
_____. 1981. Militares republicanos de la guerra de Espana. Barcelona: Peninsula.
Sugar, P. 1971a. “Conclusion.” In Sugar (ed.), Native Fascism.
Sugar, P. (ed.). 1971b. Native Fascism in the Successor States, 1918–1945. Santa
Barbara, Calif.: Clio Press.
Sühl, K. 1988. SPD und öffentlicherDienst in der Weimarer Republik. Opladen:
Westdeutscher.
Sully, M. 1989. “The Waldheim connection.” In Parkinson (ed.), Conquering the
Past.
Suzzi, Valli R. 2000. “The myth of squadrismo in the fascist regime.” Journal of
Contemporary History 35.
Sylos Labini, P. 1978. “Sviluppo economico e classi sociali.” In M. Paci (ed.),
Capitalismo e classi sociali in Italia. Bologna: Il Mulino.
Szelenyi, B. 1998. “German Burghers in Sixteenth-Nineteenth Century Hungary.”
Ph.D. dissertation, University of California, Los Angeles.
Sznajder, M. 1995. “The fascist regime, anti-semitism and the racial laws in Italy.”
In Wistrich and Della Pergola (eds.), Fascist Antisemitism.
588
Библиография
Szöllösi-Janze, M. 1989. Die Pfeilkreuzlerbewegung in Ungarn. Munich: Oldenbourg.
Szymanski, A. 1973. “Fascism, industrialism and socialism: The case of Italy.”
Comparative Studies in Society and History, 15.
Taggart, P. 1995. “New populist parties in western Europe.” West European
Politics 18.
Tapia, A. R. 1990. “La justificacion ideologica del ‘Alzamiento.’” In Tapia, Violencia
y terror: Estudios sobre la guerra civil espanola. Torrejon de Ardoz: Akal.
Tasca, A. 1976. The Rise of Italian Fascism, 1919–1922. New York: Gordon Press.
Originally published 1938. This edition, a reprint, was published under the
pseudonym A. Rossi.
Therborn, G. 1977. “The rule of capital and the rise of democracy.” New Left
Review, no. 103.
Theweleit, K. 1987, 1989. Male Fantasies, 2 vols. Minneapolis: University
of Minnesota Press.
Thomas, H. 1977. The Spanish Civil War. London: Eyre & Spottiswoode.
Tilly, C. 1975. The Formation of National States in Western Europe. Princeton, N. J.:
Princeton University Press.
_____. 1990. Coercion, Capital and European States. Oxford: Blackwell.
Townson, N. 1988. “Algunas consideraciones sobre el proyecto ‘republicano’ del
Partido Radical.” In Túnon de Lara (ed.), La II república espãnola.
Treptow, K., et al. 1996. A History of Romania. New York: Columbia University
Press.
Túñon de Lara, M. 1972. El movimiento obrero en la historia de Espãna. Madrid:
Taurus.
_____. 1978. Luchas obreras y campesinas del siglo XX: Jaén (1917–1920), Sevilla
(1930–1932). Madrid: Siglo XXI.
_____. 1985. Tres claves de la segunda república. Madrid: Alianza.
Túñon de Lara, M. (ed.). 1988. La II república espãnola: Bienio rectificador y frente
popular, 1934–1936. Madrid: Siglo XXI.
Turner, H. A. 1985. German Big Business and the Rise of Hitler. New York: Oxford
University Press.
Turner, H. A. (ed.). 1984. Hitler — Memoir of a Confidant. New Haven, Conn.:
Yale University Press.
Библиография
589
Tusell Gómez, J. 1970. La segunda república en Madrid: Eleccionesy partidos
politicos. Madrid: Technos.
_____. 1971. Las elecciones del frente popular en Espãna. Madrid.
Cuadernos para el Dialogo.
_____. 1974. Historia de la democracia cristiana en Espãna. Madrid.
_____. 1976. Oligarquía caciquismo en Andalucia (1890–1923). Barcelona:
Editorial Planeta.
Tusell Gómez, J., et al. 1993. Estudios sobre la derechas espãnola contemporanea.
Madrid: UNED.
Vago, R. 1987. “Eastern Europe.” In D. Muhlberger, (ed.), The Social Basis of
European Fascist Movements. London: CroomHelm.
Vago, R. (ed.) 1975. The Shadow of the Swastika. London: Saxon House.
Varela, Díaz, S. 1978. Partidos yparlamento en la II república espãnola. Madrid:
Fundacion Juan March.
Vega, E. 1987. Anarquistas y sindicalistas 1931–1936. Valencia: Edicions Alfons
el Magnánim.
Veiga, F. 1989. La Mistica del Ultranacionalismo. Barcelona: Universitat Autonomia
de Barcelona.
Verdery, K. 1983. Transylvanian Villagers: Three Centuries of Political, Economic
and Ethnic Change. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Vilanova, M. 1986. Atlas electoral de Catalunya durant la segona república.
Barcelona: Magrana.
Vincent, M. 1989. “The Spanish church and the Popular Front: The experience
of Salamanca province.” In Alexander and Graham (eds.), French and Spanish
Popular Fronts.
Volovici, L. 1991. Nationalist Ideology and Anti-Semitism: The Case of Romanian
Intellectuals in the 1930s. Oxford: Pergamon.
Watts, L. 1993. Romanian Cassandra: Ion Antonescu and the Struggle for Reform,
1916–1941. New York: Columbia University Press.
Weber, E. 1964. Varieties of Fascism. Princeton, N.J.: Van Nostrand.
_____. 1966a. “The Men of the Archangel.” Journal of Contemporary History 1.
590
Библиография
_____. 1966b. “Romania.” In H. Rogger and E Weber (eds.), The European Right:
A Historical Profile. London: Weidenfeld & Nicholson.
. 1976. “Revolution? Counterrevolution? What revolution?”
In W. Laqueur (ed.), Fascism: A Reader’s Guide.
Weber, H. 1969. Die Wandlung der deutschen Kommunismus, 2 vols. Frankfurt:
Europaische Verlagsanstalt.
Webster, A. 1986. “The Romanian Legionary Movement.” Carl Beck Papers, Center
for Russian and East European Sudies, University of Pittsburgh, no. 502.
Wegner, B. 1990. The Waffen-SS. Oxford: Blackwell.
Weinberg, L. 1998. “The MSI and the fascist heritage in Italy: The persistence
of a neofascist party in the post fascist context.” In Larsen and Hagtvet (eds.),
Modern Europe after Fascism.
Weiss, L. 1988. Creating Capitalism. Oxford: Blackwell.
Weisbrod, B. 1996. “The crisis of bourgeois society in interwar Germany.”
In R. Bessel (ed.), Fascist Italy and Nazi Germany: Comparisons and Contrasts.
Cambridge: Cambridge University Press.
Wessely, A. 1991. “From the labour movement to the Fascist Government: The
End of the Road by Lajos Kassák.” In S. Larsen et al. (eds.), Fascism and European
Literature. Bern: Peter Lang.
Whiteside, A. 1966. “Austria.” In H. Rogger and E. Weber (eds.), The European
Right: A Historical Profile. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Wickham, J. 1983. “Working-class movement and working-class life: Frankfurt
am Main during the Weimar Republic.” Social History 8.
Wieviorka, M. 1994. Racisme et xénophobie en europe: Une comparaison
internationale. Paris: La Dévouverte.
Willems, H. 1995. “Right-wing extremism, race or youth violence? Explaining
violence against foreigners in Germany.” New Community 21:501–23.
Willson, P. 1996. “Women in Fascist Italy.” In Bessel (ed.), Fascist Italy and Nazi
Germany.
Wiltschegg, W. 1985. Die Heimwehr. Munich: Oldenbourg.
Wimmer, A. 1997. “Explaining racism and xenophobia: A critical review of current
research approaches.” Ethnic and Racial Studies 20:17–41.
Библиография
591
Winston, C. 1985. Workers and the Right in Spain, 1900–1936. Princeton, N.J.:
Princeton University Press.
Wistrich, R., and S. Della Pergola (eds.). 1995. Fascist Antisemitism and the Italian
Jews. Jerusalem: Vidal Sassoon International Center.
Wohl, R. 1979. The Generation of 1914. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press.
Yavetz, Z. 1991. “An eyewitness note: Reflections on the Rumanian Iron Guard.”
Journal of Contemporary History 26.
Zach, K., and C. Zach. 1998. “Romanian fascism and communist take-over.”
In S. U. Larsen and B. Hagtvet (eds.), Modern Europe after Fascism 1943–1980s.
New York: Columbia University Press.
Zamagni, V. 1979–80. “Distribuzione del reddito e classi sociali nell’Italia fra le
due guerre.” Annali della Fondazione Giagiacomo Feltrinelli 20.
Ziegler, H. 1989. Nazi Germany’s New Aristocracy. The SS Leadership, 1925–39.
Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Zofka, Z. 1986. “Between Bauernbund and National Socialism: The political
orientation of the peasants in the final phase of the Weimar Republic.” In Childers
(ed.), The Formation of the Nazi Constituency.
Zuccotti, S. 1987. The Italians and the Holocaust. New York: Basic Books.
Майкл Манн
Фашисты
Перевели с английского
Наталья Алексеева, Сергей Алексеев,
Владимир Туз, Наталья Холмогорова
Научная редакция Александра Дюкова
Заведующий редакцией
Ведущий редактор
Художественный редактор
Корректор
Верстка
А. Рук
Е. Власова
В. Мостипан
Н. Беляева
Л. Соловьева
Изготовлено в России. Изготовитель: ООО «Питер Класс».
Место нахождения и фактический адрес: 194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., д. 29А. Тел.: +78127037373.
Дата изготовления: 08.2022.
Наименование: книжная продукция.
Срок годности: не ограничен.
Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 034-2014,
58.11.1 — Книги печатные.
Импортер в Беларусь: ООО «ПИТЕР М», 220020, РБ, г. Минск,
ул. Тимирязева, д. 121/3, к. 214, тел./факс: 208 80 01.
Подписано в печать 02.08.22. Формат 60×90/16. Бумага офсетная.
Усл. п. л. 56,000. Тираж 2500. Заказ 0000.