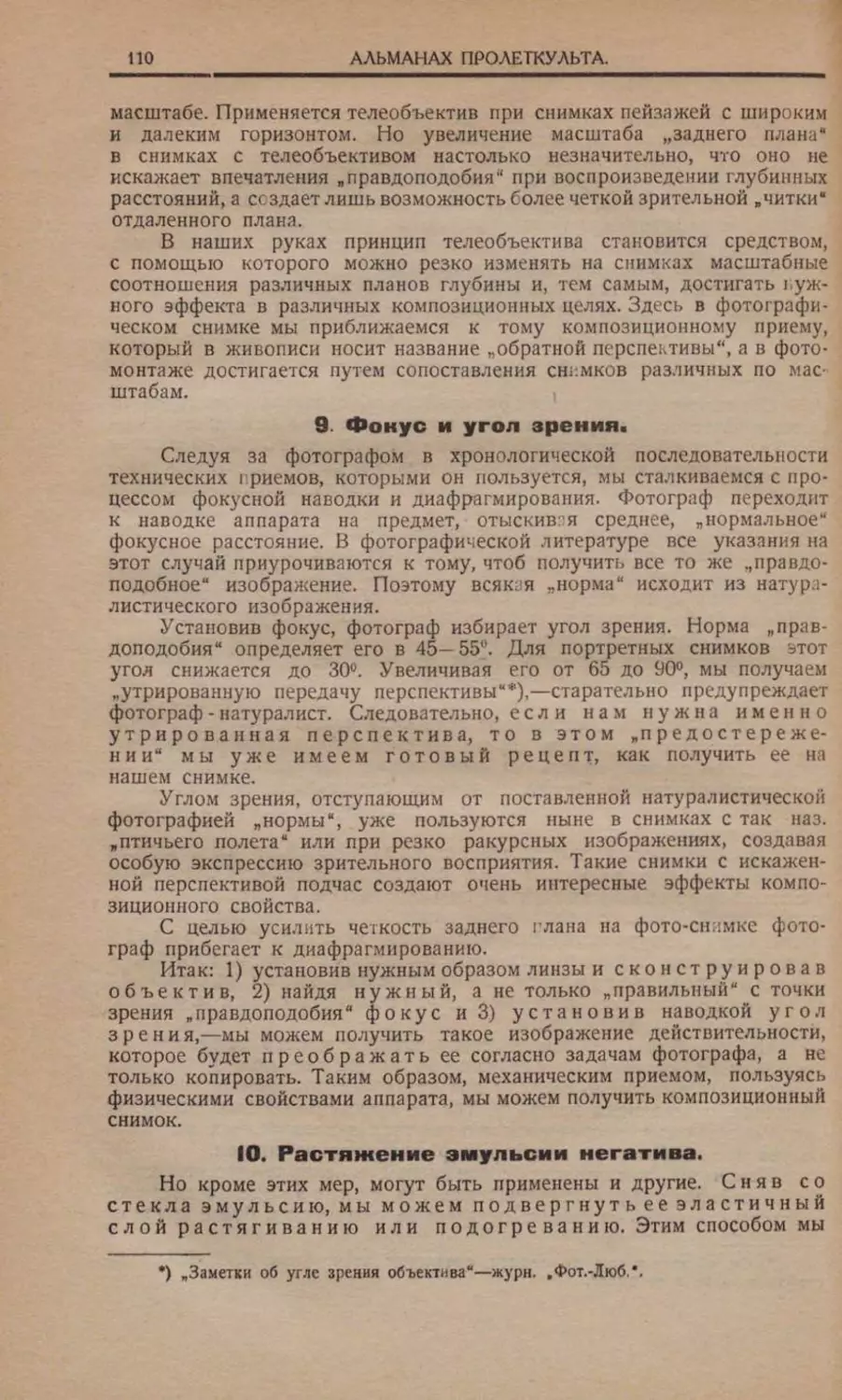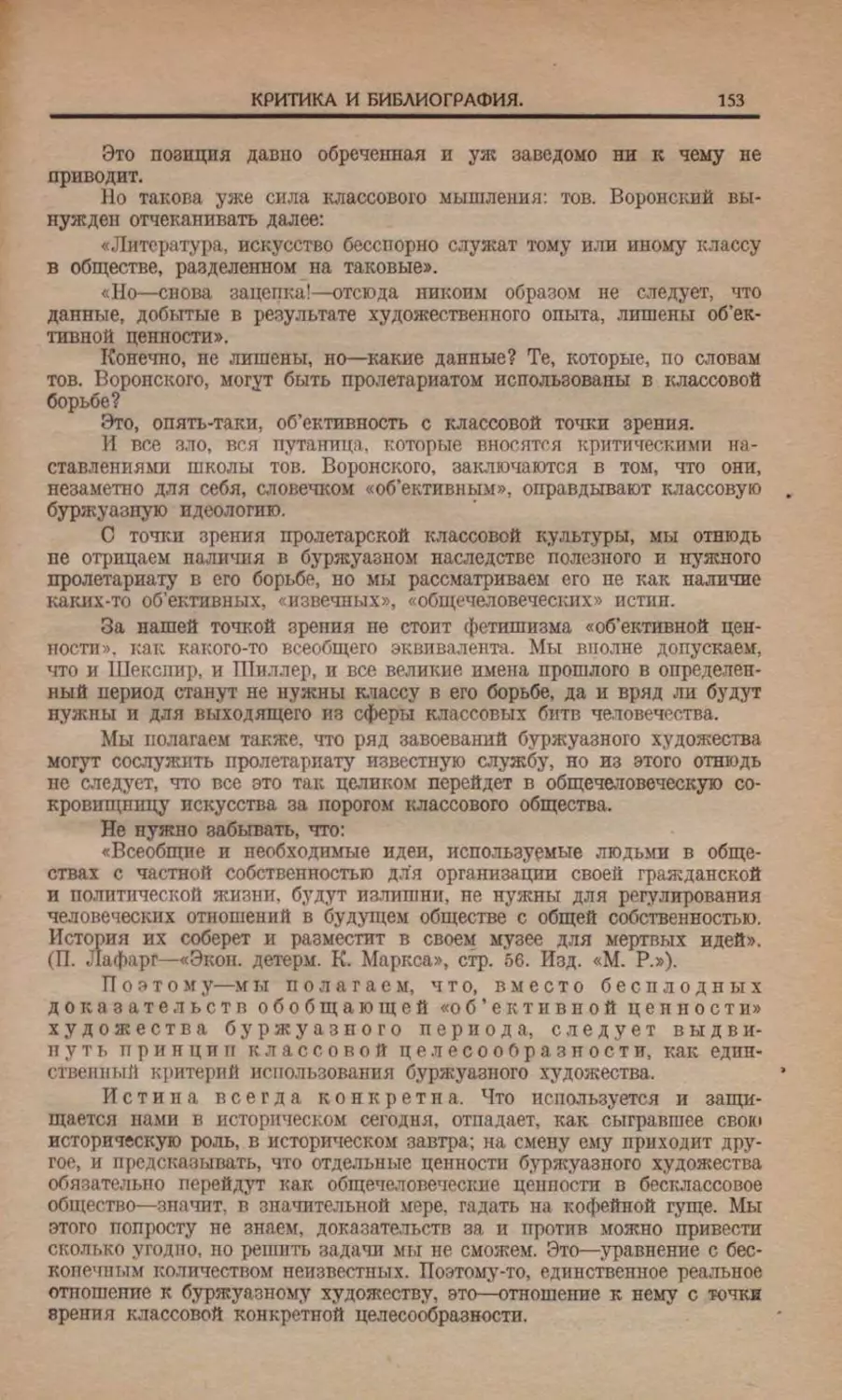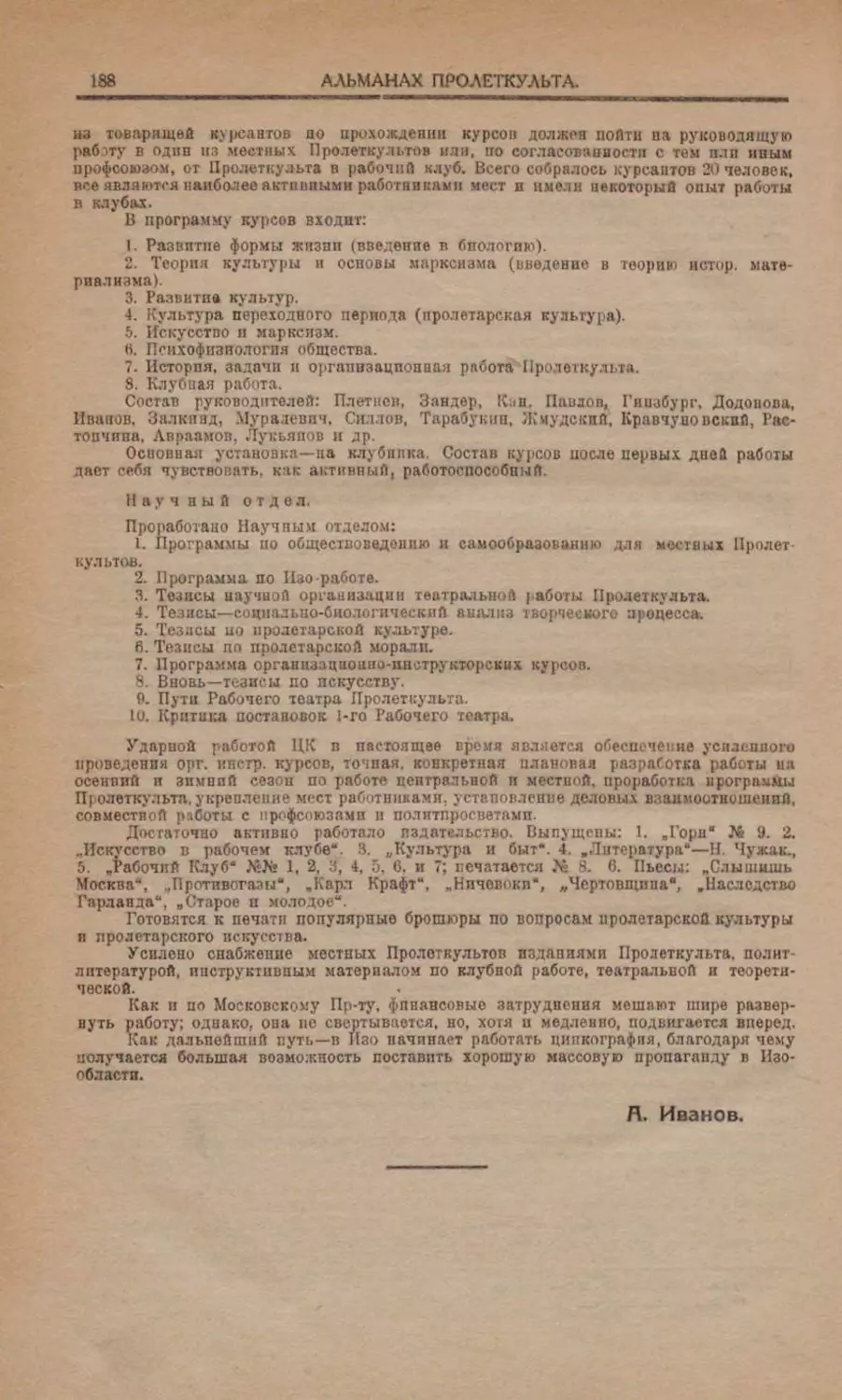Теги: культура сборник статей быт
Год: 1925
Текст
\г
ними
19 2 S
J
J
/
À H
JJL
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
¥
Лльшанах Пролеткульта
«ч
Культура и быт.
Организация быта.
чг<г
Искусство И Производство.
Критика и библиография.
Пролеткульты на местах.
Всероссийский Пролеткульт.
Москва—1925
'
2015147538
Главлит № 23661. Москва, 1924 г.
Тира;к 3.000 экз.
Государственная Нотоиечатпя Музсектора Гпза. Колпа шый пер., 13.
1і
.= 1
.
о.
г;
»C
ГО
Н
Карі
Выпуск
Б перепл.
един, соедин.
ХсЛѴвып.
О
С»
CJ
г-
•J'y- H o s
6SD
Я
ч
H. Горлов.
f i r U m i
Л С П П П
с л о в о
и
д е л о
пролетарской культуры.
Как ни странно, но и сейчас еще, на седьмом году пролетарской
диктатуры, у нас идут споры о том, существует или не существует
пролетарская культура. Некоторые товарищи, иногда очень тонко и
искусно оперируя историческими фактами и примерами, пытаются доказать, что пролетарской культуры нет и быть не может, что пролетариат, как класс, не успеет создать своей культуры в кратковременную переходную эпоху от капитализма к социализму, т.-е. к бесклассовой
общечеловеческой культуре.
Все эти искусные и... искусственные построения распадаются
вмиг перед лицом хотя бы одного исторического факта, одного примера,
выявляющего с разительной наглядностью, во всей плоти и крови
пролетарскую культуру.
Этот пример—Ленин.
Чем, как не гигантским аккумулятором культуры рабочего класса,
был наш учитель? Разве не сходились в нем, как в мозговом центре,
все ее центростремительные силы? А огромная центробежная энергия,
которую развивал он, разве не дала себя уже знать во всех углах земного шара?
Ленин быт великим организатором рабочего класса.
Это значит, что он был выразителем его культуры.
Как это произошло, что сын директора народных училищ, никогда не стоявший у станка, стал выразителем мысли и воли рабочего
класса,—об этом мы здесь не будем много говорить. Эго—тема для
историков. Принципиально же этот вопрос ясен для каждого марксиста. Бытие определяет сознание, и оно же толкает сознание к новой (в
духе нового класса) концепции бытия. История знает не мало примеров разрыва личности со своим классом на основе ее бытия. И, конечно, пролетарское бытие не сходится клином в рабочем станке.
Станок (механическая связь) есть лишь миллионная доля тех связей,
которые устанавливаются между личностью и классом. Эта связь через
станок вовсе не обязательна, точно так же, как была раньше не обязательна связь идеологов буржуазии с нею через несгораемую денежную
кассу (известно, что идеологами буржуазии были сплошь и рядом не
только безденежные, но и беспорточные интеллигенты).
Жизнь в современном классовом обществе—это сложнейший переплет классовых интересов и классовых влияний. Пусть история обметает эту паутину: для нас с вами важны исторические результаты.
Нельзя отделять культуру от класса. Нельзя мыслить появление
класса, как действенной силы в истории, вне культуры этого класса,
ибо действенная сила класса и есть его культура, а рабочий класс в
переживаемое нами время не только действует в истории, но и решает
судьбы ее.
Ошибка некоторых товарищей в том, что они рассматривают
культуру, как явление статическое, относя ее лишь к определенному
периоду развития класса. Культура—это не зуб мудрости, это не плешь,
которая, как известно, появляется только на многодумной голове. Культура живого класса есть всегда движение, смена форм. Только дряхлая,
отжившая свой век культура статична, только такая культура превращается в застойные, косные формы, обволакивается в „законченную
систему", отливается в застойные, косные формы, обволакивается, порастает, как мхом, бытом.
Пролетариат—класс, который не имеет смены. Это значит, что
путь его культуры не по кривой,—от восхода, через зенит, к закату,—а
вверх по прямой, конца которой мы с вами не видим. Отсюда следует,
что его культура—еще не виданная в истории динамика бытия, постоянная смена форм, отрицание сегодняшнего дня завтрашним и, прежде
всего, отрицание всякого быта, всякого залежалого архивного, музейного и пр. старья, всякой протухлой и полупротухлой традиции.
Развернутая в прямую, а поэтому и подлинная, без всякой оробелой оглядки назад, без всякого цепляния за вчерашний день—диалектика—вот первое и основное, что отличает пролетарскую культуру. И
что, как не это, отличало Ленина с первого и до последнего момента
его общественной работы?
Диалектика в теории и практике, в каждом шаге, в каждом декрете, в каждом повороте партийного и государственного руля. Сегодняшнее его слово нередко отрицало вчерашнее, но если бы вчерашнее
не было сказано, не могло бы быть сказано и сегодняшнее.
Вот пример—несколько слов из речи Ильича—о коллегиальности—
на IX съезде:
„Брестский мир навязан был нам потому, что мы были бессильны во
всех областях. Что такое был этот период? Это был период бессилия, из
которого мы вышли победителями. Это был период сплошной коллегиальности. Из этого исторического факта не выскочишь, когда говорят,
что коллегиальность—школа управления... Нельзя же все время сидеть
в приготовительном классе школы. Этот номер не пройдет. Мы теперь
взрослые, и нас будут дуть и дуть во всех областях, если мы будем поступать, как школьники. Надо птти вперед, надо с энергией, с единством
воли подниматься выше"...
Надо итти вперед, надо подниматься выше.
Культура пролетариата, как схема, есть движение вверх по прямой.
Но борьба превращает наше конкретное бытие в зигзаг молнии, в
упругую спираль, которая, обвивая прямую, движется по ней.
Ни одному классу в мировой истории не приходилось выдерживать
такого жестокого боя, такого бешеного сопротивления других классов,
как пролетариату. Все силы прошлого, которые раньше враждовали
между собой, теперь навалились на него. В схватке с ними пролетариату нужна величайшая экономия и организация сил, боевая выдержка,
тактика, маневр. Держа курс по прямой, не теряя ее ни на минуту из
виду, нам в то же время приходится сплошь и рядом делать крутые
повороты, зигзаги в сторону, чтобы уклониться от прямого удара
врага, чтобы подставить ему под удар самое защищенное место.
И в ком, как не в Ильиче, сочеталась эта прямая культуры с обвивающим ее зигзагом бытия, эта диалектика класса в борьбе, это
движение к цели всегда по кратчайшему пути, который, наперекор
всем законам математики, в условиях социальной борьбы никогда не
бывает прямою линией, а только постоянной и упорной ориентировкой на прямую! Экономия сил, выдержка, тактика, маневр—это Ленин.
Владимир Ильич никогда не знал, что такое теория для теории.
Его теория всегда была оружием, обращенным против врага, или орудием, кующим самую жизнь. И род того и другого и способы действия
тем и другим менял он в зависимости от создававшейся обстановки.
Теория, как „обоснование предпринимаемых действий". Так смотрел
Ильич на теорию. Так и говорил:
„Без работы, без борьбы книжпое знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно
продолжало бы старый разрыв, который составлял самую отвратительную
черту старого буржуазного общества".
Политика Ленина—это и есть теория в боевом действии.
Вспомним два гениальнейших ленинских маневра—Брест и Нэп.
История мира не знает примеров такой глубокой, рассчитанной на годы,
боевой классовой стратегии. Такая стратегия могла быть рождена
только культурой класса—величайшего диалектика в борьбе и строительстве жизни, класса, который не только нащупал пружины мировой
истории, но и сознательно овладел ими.
Брест и Нэп— это два кита. Но возьмите политику Ленина в любой области. Возьмите земельный вопрос: от лозунга „грабь награбленное", приведшего в ужас бывших „радетелей крестьянства", эсеров,
через эсеровскую социализацию, шаг за шагом, декрет за декретом, к
овладению крестьянской стихией и переводу земельной политики на
рельсы национализации, закрепленной ныне земельным кодексом СССР.
И здесь, как и там—дальнобойная политика, хватающая „через
горы времени".
Разве это не культура, и притом не младенческая, не хилая и
хрупкая, а уже созревшая, мудрая и мощная культура молодого класса?
Итак, в слове и деле Ленина сегодня отрицает вчера. Но из
этого, конечно, вовсе не следует, что нам нужно отрицать сегодня
пролетарскую культуру, противопоставляя ей, как рай аду, завтрашнюю общечеловеческую.
„В диалектике отрицать—не значит просто сказать нет, или объявить
вещь несуществующей, или упичтожить ее по произволу. Уже Спиноза
говорил: omnis determinatio est negatio—всякое ограничение или определение есть в то же время отрицание".
Эти слова Энгельса следует особенно всем помнить. Что касается
рая и ада, то пролетариат захватил кусочек рая уже тогда, когда
устроил первую удачную забастовку.
Пролетариат—последний класс,иклассовый характер его выражается
не в том, что он кого-то угнетает, т.-е. не в противоречии своему бесклассовому будущему, а в том, что он борется против угнетения, т.-е.
устраняет противоречие.
Пролетарская диктатура, т.-е. классовая политика пролетариата,
уже с первых шагов направлена к этой цели. Пролетарская диктатура—
не что иное, как путь к коммунизму. Но пролетарская диктатура не
висит, ведь, в безвоздушном пространстве, она немыслима без пролетарской культуры, т.-е. без накопленной и организованной силы класса,
движущей его политикой. Пролетарская диктатура есть выражение пролетарской культуры: она относится к ней, как часть к целому.
И та, и другая означают одно: п у т ь к к о м м у н и з м у .
Отсюда ясно, что типично пролетарской классовой пролетарская
культура, также как и пролетарская диктатура, является в момент наиболее острой борьбы класса, т.-е. в н а ч а л е , а н е в к о н ц е п у т и .
И, поэтому, не может быть споров о том, успеет или не успеет
эта культура проявить себя, как пролетарская, пока не превратится в
коммунистическую.
Понятно: ье только успеет, но уже успела. Мало того—создала
своего гениального выразителя, свой памятник векам. Могло ли нечто
неопределенное и как бы даже вовсе несуществующее отметить себя
такою гигантскою, такою четкою вехой в истории, какой был Ленин!
Ленин, при всем богатстве и сложности своего содержания и при
своем тактическом „оппортунизме", четок, ясен, монолитен, как никто.
„Оппортунизм" Ленина—это, ведь, для обывателя и для либералов, приспособивших к обывательщине свой марксизм. Для нас это—зигзаг
мысли, молнии, ударяющей всегда в намеченную точку. Таков Ленин,
такова и культура пролетариата.
Что отличает нашу культуру от культур прошлого, рабовладельческой, феодальной и буржуазной? Нозая экономическая база—коллективное хозяйство, противопоставляемое индивидуальному хозяйству
старых культур и являющееся основой пролетарской культуры.
В теории, поскольку Ленин был прежде всего бойцом, а теория
была|прежде всего его боевым оружием, разработаны им те участки
культуры, которые в первую голову стали ареной классовой борьбы
(заметим—борьба здесь не мешала, а помогала выковывать культуру),
но своею практикой, своими действиями (ведь, практику жизни нельзя,
как теорию, разбить на обособленные участки: действие личности, как
и класса, есть всегда сложный и целостный акт, определяемый культурой личности или класса в целом) Ленин досказывает то, что не было
сказано им в теории.
Смерть оборвала слово Ильича. Но в последних статьях его уже
ясно наметился сдвиг ленинской мысли от экономики и политики в
сторону культуры, как боевой силы пролетариата на третьем фронте,
на фронте быта. Он уже поставил своей задачей вооружить нас новым
оружием, тем самым оружием, которым он сам (подчеркиваю это) гениально владел на практике, но которое еще не успел в форме теории
передать массам.
1 "ЖГак, в одной из последних своих статей он писал:
„Раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д. Теперь же центр
тяжести меняется до того, что переносится на мирную, организационную,
„культурную работу".
Наследство Ильича... Подведем краткий итог.
Наука... Если Маркс за южил основы пролетарской науки*), то
Ленин на этом фундаменте построил дом, в котором люди живут.
Ленин превратил науку в действенное оружие каасса, освещая ею каждый] этап проходимого классом пути. Он перенес ее из кабинета на
фабрику. В его руках она перестала быть предметом роскоши и стала
продуктом массового потребления.
Политика... О ней нечего много говорить: это главная позиция
коллективно-классовой борьбы, арена, где сшибается живая сила классов. О том, как была укреплена Ильиіем эта позиция,—мы все знаем.
Ленин, как вождь, как выразитель боевой воли класса,—это прежде
всего.
Право... Его не отделит.:. от политики так же, как не отделить
Ленина, вождя РКП, от Предсовнаркома Советской Республики. Где
кончается ленинская речь и начинается ленинский декрет—можно установить т о і ь к о формально, но по существу и та, и другой ломают все
утвержденные культурами прошлого нормы права и создают новое
право, право угнетенных трудящихся масс.
Нетрудящийся не ест. Что это—противоречие будущему? Нет,
это борьба за него. Это боевая сторона социализма, его оружие и
щит, обеспечивающие ему самую возможность превращения из мертвой
формулы в живую жизнь. )
*) Иод пролетарской наукой надо, конечно, подразумевать не субъективноклассовое освещение изучаемых явлений, а объективную науку, необходимую пролетариату, как классу.
Мораль и искусство... Здесь мы не имеем ленинского наследства
в форме научно-разработанной теории. Но в практике Ленина, которая, повторяю, охватывала, что нужно пролетарию-борцу и строителю
жизни, найдем мы и тут четкие и твердые ленинские заветы.
Мораль... Для И льича существовал только один критерий морали—п о л ь з а к л а с с а . Есть ли это мораль? Конечно, это поповское слово
тут не годится: ибо—где вечные и нерушимые законы моралд? где
непререкаемые веления совести? где правила хорошего поведения на
все случаи жизни? Сегодня для пользы класса нужно 100 белогвардейцев расстрелять, а завтра столько же помиловать и даже принять
на советскую службу,—вот она ленинская мораль, ужасающая весь с
ног до головы „моральный" буржуазный мир: недаром Ленина там
зовут варваром, чудовищем, аморальной личностью и др. страшными
словами. Мораль Ленина уже оценена нашими врагами. Тем легче нам
ее оценить.
Искусство... Вот тут, кажется, сплошная tabula rasa. Ленин почти
ничего не написал об искусстве. Один раз он даже заявил в печати,
что в искусстве ничего не понимает. Вероятно, в театре он бывал реже
всех нас. То же с романами и стихами. Вот, например, Маяковского
он, кажется, так и не удосужился прочесть.
Искусство, как некое бесплатное приложение к жизни, вне прямого строительства жизни—для него не существовало. Да и зачем было
оно ему, гениальному строителю? Кто у нас не предпочел бы настоящий аэроплан нарисованному на картинке? А рисовать революцию
разве интереснее, чем делать ее? Ленин умел своим і руками преображать жизнь. Мог ли он ощущать потребность любоваться преображением жизни в мертвых образах искусства?
Но не значит ли это, что Ленин сам был величайшим художником
жизни, чго сама деятельность Ленина была непревзойденным в истории искусством? И не значит ли это еще, что пролетариату, как классу,
дівшему миру в Ленине свою сконцентрированную культуру, только
и нужно искусство, как прямое строительство?
Я думаю, что слова „Ленин-художник", „ленинское искусство"
ззучат так же дико, как ленинская мораль. Художество, искусство—это
для поэтов, вдохновенно бряцающих на лире, для всех преображающих жизнь вне жизни, но не для того, кто мял эту жизнь, как глину
в руках.
Слово, творящее жизнь, и слово, уводящее от жизни в надзвездные и иные сферы,—тут, ведь, есть кое-какая разница.
Искусство, каким мы его знаем на протяжении многих веков,
это—обман, это всегда слово класса-угнетателя, навязанное классам
угнетен шм. Поэтому оно всегда облекааось в эстетику, обсахаривалось
ею, как мухомор для уловления глупых мух... Оно преображало жизнь
именно для того, чтобы ее не строить. Жизнь была ядом для трудящихся, а искусство писало на нем: „нектар". В этом, и только в этом—
социальная роль искусства. А слово Ленина? Это—слово класса, освобожденного и освобождающего мир, класса, которому некого и незачем обманывать. Оно не уводит нас от жизни, а наоборот—вводит
нас в нее. Оно не нуждается в выдуманных, а нередко и в вымученных образах, т. к. образом, тесно прикованным к нему, является всегда
творимая реальная жизнэ.
Речи Ленина сплошь и рядом вызывали в нас эмоции, в десять
раз более яркие, чем любое специально рассчитанное на эмоцию стихотворение поэта.
Что это—секрет искусства, размыкающего слово с жизнью?
Нет, это наука Ленина, смыкающая жизнь со словом. Это могучая
диалектика ленинской мысли, освещающая, как прожектор, каждый
проходимый нами в истории этап и, поэтому, находящая для каждого
этапа нужное нам до зарезу слово, слово не яд, а лекарство. Слово
Ленина—это всегда слово о том, что у нас болит, и не пустое, как вся
эстетика. Слово не утешения (обмана), а действенное, излечивающее
слово, слово-дело.
Если работа врача есть искусство, то и Ленин—художник. Но
лучше оставим мертвое слово мертвым. Ленин—строитель жизни. Ленин—слово и дело класса, завоевывающего и переделывающего мир.
Ленин—пролетарская культура.
Пролетарская к у л ь т у р а
Тезисы
под редакцией Научной К о м и с с и и
Пролеткульта.
„Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, она не является выдумкой людей, которые
называют себя специалистами по пролетарской культуре.
Все это сплошной вздор.
Пролетарская культура должна явиться закономерным
развитием тех запасов звания, которые человечество выработало ппд гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества."
Ленин.
„Не было еще, кажется, такого человека, который задавался вопросом об экономике России, отрицая переходный
характер этой экономики, ни один коммунист не отрицал,
кажется, и того, что выражепие „Социалистическая Советская Республика" озпачает решимость советской власти
осуществить переход к социализму, а вовсе не признание
новых экономических порядков социалистическими".
Л е н и п.
I.
Понятие культуры охватывает собой совокупность
Понятие
всех форм социальной жизни. Детальнее, культура есть
культуры. производство социальных орудий (как материальных,
так и духовных), необходимых для сохранения и развития жизни класса
в данную культурную эпоху и общества в целом. В понятие культуры
входят: метод, способ производства, способ орган зации форм социальной жизни.
Все эти формы социальной жизни: способ организации материальных производительных сил (тех ика)—целевая их установка, назначение вещей—организация людей в производстве и в быту, в общественной деятельности, формы общественного сознания (наука, религия,
искусство—идеология, „духовная11 культура вообще) изменяются в зависимости от развития материальных производительных сил общества.
Подвижное равновесие между общественными формами жизі и,
их соотносительная связь друг с другом являются необходимым условием сохранения и развития общества.
Каждая из указанных форм жизни (производство, быт и т. д.)
представляют собой общественную систему. Внутри каждой данной
системы составляющие ее элементы находятся в подвижном равновесии
(соотносительной связи) друг с другом.
Характер связи элементов данной системы, обусловленный ее
социально-классовой функцией, характеризует каждую данную систему
в целом в оби:ей системе культуры.
Соответствие форм жизни друг другу, исходящее из основной
формы, способа производства (организации материальных производительных сил); принципиальная однородность цели—сохранение и расширенное
воспроизводство данной общественной структуры — определяют стиль
и тип культуры данной общественной эпохи, т.-е. данную систему
культуры в целом (феодально-авторитарная, рабовладельческая, буржуазнс-кндивидуалистичесьая, пролетарская, коммунистическая).
Классовый
Культура классового общества есть культура, выхапактеп
рабатываемая господствующими классами в их интере^
"
сах (по всей линии жизни и борьбы данных классов)
культуры. и подчиняющая своему воздействию угнетенные классы.
Иначе: культура есть система вещей, знания, приемов и навыков,
н іходящихся в общественно-классовом использовании и имеющая в целом классовую установку.
Всякий господствующий и идущий к господству класс принужден
вырабатывать в своих классовых целях свою собственную культуру,
разрушая систему старой культуры и усваивая от нее элементы, подходящие для новой культурной постройки.
Ріолбтапская
Пролетариат, как класс, борющийся за власть и
И н а я коренное переустройство общества, а у нас господствукультура.
ющий, не может в данном отношении представлять из
себя никакого исключения.
Из определения культуры, как процесса материального и духовного оборудования класса в социально-производственных интересах
класса, накопления и развития им средств для осуществления его
классовых задач—вытекает, что элементы пролетарской культуры уже
налицо с момента осознания пролетариатом себя, как класса. Быт, фабрика, классовые организации пролетариата (компартии, профсоюзы)—
все это формы жизни и борьбы рабочего класса, непосредственно
входящие в систему пролетарской культуры.
Развертывающееся в целостную систему по всей линии научного
творчества революционно марксистское миропонимание, применение
марксистского метода во всех областях строительства—является идеологическим цементом пролетарской культуры.
Проблема пролетарской культуры возникает в процессе классовой
борьбы пролетариата. Одновременно с задачей захвата власти и овладения производством в целях организации социалистического хозяйства,
выдвигается задача использования для этой цели материальных производительных сил, научных и технических ценностей и организационного
опыта буржуазного мира.
В период диктатуры проблема пролетарской культуры превращается в процесс постройки пролетарских общественных форм жизни
переходного периода.
Т. к. проблема строительства коммунизма имеет международный характер, поэтому и проблема пролетарской культуры также международна.
Иппич»гтвп
Каждая культурно-историческая формация имеет
количественную и качественную характеристику.
И качество.
Степень развития материальных производительных
сил, количество материальных и идеологических ценностей, производимых данным обществом на данной ступени его развития,—дают количественную характеристику данной культурной эпохе; общественные
формы, в которых производительные силы воплощаются (экономическая структура, система техники, формы общественного сознания и т. д.),
дают ее качественную характеристику (рабовладельческая, феодальная,
б/ржуазная и т. д. формации).
II.
Пгреходный
„Между капиталистическим и коммунистическим
период ОТ ка- обществом лежит п е р и о д р е в о л ю ц и о н н о г о пепатяпичма и р е у с т р о й с т в а о д н о г о в д р у г о е .
ашіаііпзша п
Этому соответствует и в политике переходный пеКОММуНИЭМу. риод, во время которого не может быть иного государства, к р о м е р е в о л ю ц и о н н о й д и к т а т у р ы п р о л е т а р и а т а " (Маркс).
Общество в целом не может сразу перескочить от буржуазной
культуры к внеклассовой коммунистической, без всяких промежуточных
звеньев. Период революционного переустройства есть период первоначального накопления элементов коммунистической культуры, революционной реорганизации культурных ценностей, унаследованных от
буржуазного общества, к р и т и ч е с к о г о их усвоения рабочим классом для целей коммунистического строительства, период оформления
бытия пролетариата в направлении сознательно товарищеского сотрудничества в производстве и в быту.
Госѵлаоство
Буржуазное государство есть орудие устроительін и
и. с т в а и защ И Т Ы капиталистического общества, аппарат
взаимной страховки эксплоататоров. Рабочий класс не может им овладеть, не разрушая его специфически буржуазной формы.
Свое рабочее государство в переходный период пролетариат организует для своих социалистических целей, придавая ему специфически
пролетарскую форму—форму советской республики. Рабочий класс
строит красную армию с иными целями и задачами, по классовому
признаку подбора людских элементов, не на палочной дисциплине, а
на дисциплине, основанной на деловом сотрудничестве, на преданности
СССР и международному коммунизму.
Таким образом, мы имеем формулу: о т б у р ж у а з н о г о г о с у дарства, через пролетарское, к коммунизму и отмиранию государства вообще.
В
ППОИЗВОПСТВО
области производства диктатура пролетариата
й
™
' организует и стремится сделать преобладающим социалистический способ производства, социалистические производственные
отношения. Крупная национализированная промышленность является
их основой. Поскольку эта форма сосуществует на-ряду с другими
хозяйственными формами еще при наличии классов, но в оболочке
советской формы государства, м ы с м о ж е м н а з в а т ь е е п р о л е т а р с к о й ф о р м о й о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д с т в а , т. к. все ее
внутреннее строение, связь составляющих ее элементов (советское
хозяйство в целом) и ее производственные задачи обусловлены, в противовес буржуазному обществу, социалистической целевой установкой.
В результате, м ы п о л у ч а е м б о л ее р а з в е р н у т у ю ф о р м у л у :
от б у р ж у а з н о й ф о р м ы о р г а н и з а ц и и п р о и з в о д и т е л ь н ы х
с и л и г о с у д а р с т в а , ч е р е з п р о л е т а р с к и е их ф о р м ы , к коммунизму.
III.
Диалектика
Экономика переходного периода, поскольку речь
идет 0
ни
п
Р а з в и т и и производительных сил в направлении
культуры. к коммунизму, есть процесс становления коммунистической экономики, коммунистических форм хозяйства.
Советская форма государства есть диалектический процесс становления социалистических форм управления хозяйственной жизнью
нарождающегося нового общества (первая фаза коммунизма) с постепенным отмиранием его общегосударственных принудительных функций
и переходом в гибкие формы широчайшего самоуправления и самоорганизации граждан будущего коммунистического общества.
Процесс организации культурных форм переходного периода в целом, как о р г а н и з о в а н н о й
совокуп-
ности базиса и надстроек, есть диалектический
процесс с т а н о в л е н и я
бесклассовой
коммунистической
культуры.
Активным творцом этой культуры переходной эпохи, имеющей
сверху донизу социалистическую целевую установку, является рабочий
класс и его авангард—партия, ассимилирующая в этом процессе переходящие на его точку зрения группы интеллигенции и выходцев из
других классов, органически впитывающих в себя его революционнокоммунистическое классовое миропонимание, его цели и задачи.
Процесс становления социалистической культуры носит классовый
характер и, таким образом, является строительством, процессом оформления пролетарской культуры. Это есть, вместе с тем, период „первоначального накопления" социалистической культуры.
IV.
ПРОВЯЯ йіааа
Период строительства бесклассового общества
^
ір а (первая фаза коммунизма) обусловливается переходом
Коммунизма орудий производства в руки всего общества и органи(социалнзма) зацией планомерного социалистического хозяйства.
Как производственные группы, классы в этот период постепенно
исчезают. Но привилегированное материальное и производственное
положение прежней буржуазии и высших слоев интеллигенции, как организаторов производства, еще не исчезнет и в этот период и будет
питать их обособленные групповые формы быта, их групповое мировоззрение.
Порабощающее подчинение человека закону разделения труда, а
вместе с ним и противоположность умственного и физического труда,
еще не будет устранена в этот период.
Государственно-принудительные формы организации общественной
жизни, обусловленные недостаточной выработанностью и устойчивостью системы товарищеского сотрудничества, хотя и в постепенно
смягчающихся формах, сохраняются.
В этот период не отмирает еще и пролетарская форма государства. Культура продолжает формироваться в условиях борьбы отживающих форм жизни с новыми, при явно нарастающем преобладании
коммунистических форм жизни.
Несомненно, что крестьянство, сохраняя свою мелкобуржуазную
идеологию, окончательно еще не исчезнет, как производственная категория, как класс мелких земледельцев.
В этот период товарищеский способ производства и система товарищеского сотрудничества еще не успеют охватить всего общества в
целом.
Активным творцом и организатором новых форм жизни в этот
период попрежнему остается рабочий класс. Культура этого периода с
полным правом может быть названа пролетарской.
Втопая f f r " . !
Только в следующей фазе, когда, на-ряду с эко"
^
номической однородностью общества, ассимиляцией
коммунизма, крестьянского кооперированного хозяйства в общую систему коммунистического хозяйства, устанавливается товарищеский способ производства и товарищеское сотрудничество в быту и в производстве и его идеологическая однородность, пролетарские формы
общественного сознания, „способ представления" делаются абсолютно
доминирующими,—пролетарская культура переходит в бесклассовую
коммунистическую культуру.
V.
„
Социалистические цели пролетарского способа
'
производства требуют изменения, усовершенствования
коммунизму, технических методов, иных форм организации предприятий, научной организации труда, расширения технической базы (электрификация), нормализации производства, систем стандарта и т. д.—
одним словом, повышения производительности, коэффициента полезного
действия всей хозяйственной системы.
Все это только в переходной период при наличии пролетарской диктатуры может найти себе специфически-классовое пролетарское решение.
Решение этих проблем даст к концу периода диктатуры такое
возрастание всей суммы прибавочного продукта, п р и
котором
только и мыслимо бесклассовое
коммунистическое
о б щ е с т в о , г а р м о н и ч н о р а з в и в а ю щ е е с я на о с н о в е у с и л е н н о г о р о с т а п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил.
Следовательно, в период диктатуры задачи организации производительных сил социалистическими методами дают могучий принудительный импульс для пролетарского творчества по всей линии так
называемой духовной культуры и прежде всего в области научнотехнической (примеры: Нот, электрификация, Рабкрин и т. д.).
Социалистическая целевая установка организации
хозяйства и г о с у д а р с т в а п р е д п и с ы в а е т р а б о ч е м у классу и н о е к у л ь т у р н о е о б о р у д о в а н и е и м е т о д ы о р г а н и з а ции, и н ы е и д е о л о г и ч е с к и е о р у д и я ,
соответствующие
строительству коммунистического общества.
Из всего вышесказанного—вывод:
Переходной период диктатуры пролетариата
есть
не т о л ь к о „ р е в о л ю ц и о н н о - б о е в о й п о р я д о к " , а в о с н о в е
он е с т ь п р о и з в о д с т в е н н о - к у л ь т у р н а я о р г а н и з а ц и я , зак л а д ы в а ю щ а я в б о е в о й о б с т а н о в к е п р о л е т а р с к и й фундамент социалистического общества.
VI.
Иоитический
Нельзя в готовом виде ни „овладеть" ни „приnrfinn Н Я Г П Р П ^ Р а т ь к рукам" культуру старого общества, как нельзя
ОТООр наслеД- „прибрать к рукам" производительные силы, не напраСТИ.
вляя их „по каналу социалистического строительства".
Пролетариат начинает свою работу с отбора необходимых для
постройки элементов.
Но уже самый процесс отбора подходящих строительных материалов из старой культуры есть по существу своему творческий проц.сс. Он предполагает обязательную предварительную выработку
классового критерия оценки степени пригодности тех или иных элементов.
Критерий отбора не может быть только политическим или культурно-отвлеченным (как полагает тов. Троцкий), а единственно—научн о - п р а к т и ч е с к и I'îîГ^ïïЯфШlйЩïTlÇГTГTб,ГlT ^другой. Рабочий класс
применяет на деле положение Маркса, что критерием истины является не теория, а практика, он „видоизменяет" мир, а не „истолковывает" его.
Одновременно с процессом разрешения культурно-производственной задачи, должно усовершенствоваться, приспособляться к ней и ее
научное орудие. Необходимо стремиться получить наибольший резуль-
тат с наименьшей затратой энергии и наименьшей затратой сил, что
достигается полным соответствием научного орудия поставленной цели.
Это значит не только „ о т о б р а т ь " и использовать пригодные для
постройки отдельные научные факты и положения, но и связать их
пролетарским способом представления в стройную научную систему и
тем придать ей революционную марксистскую монистическую цельность.
VII.
Фооіѵы И CMC® переходной период указанные нами выше формы
"
" пролетарской культуры диалектически складываются в
ТСМЬі, 01 мира- систему, сосуществуя вместе с сохранившимися буржуазн щ н е N раз- ными формами, а господствующий рабочий класс сосуВИЕЕЮЩИеСЯ. ществует вместе с другими классами.
Пролетарская
Кроме того, частные элементы пролетарской кулькѵльтѵпа в Т УР Ы в переходной период еще недостаточно согласоJ
Ура и в а н ы Д ру Г с д р у Г 0 М и обладают признаками хотя и орТеЩСНЦИМ. ганически с нею связанными, но обусловленными задачами революционно-боевого порядка. Например—красная армия, исчезающая в развернутом коммунистическом обществе, превращаясь во
всенародную социалистическую милицию. В период диктатуры она
является классовой защитной организацией в системе пролетарской
культуры.
Государственно-принудительные формы и методы организации
общественной жизни и самого пролетариата, в сочетании с небывалым
размахом самоорганизации и самоуправления широчайших трудящихся
масс, составляют неизбежную и необходимую ступень в развитии пролетарской культуры.
Эти формы, по мере дальнейшего созревания пролетарской 'культуры, постепенно отмирают, заменяясь „высшим типом демократизма,
требующего для своего правильного функционирования постоянного
повышения уровня культурности, организованности и самодеятельности
масс" (§ 1 программы РКП).
„Производительные силы страны могут быть восстановлены и развиты, а социалистический способ производства может быть упрочен—
лишь на основе товарищеской дисциплины трудящихся, их максимальной
самодеятельности, сознания ответственности и строжайшего взаимного
контроля над продукті вностью труда" (§ 15, 1 программы РКП).
С другой стороны, система народного образования составляет
основание всей так называемой духовной культуры. Трудовая школа,
фабзавуч, классовые комуниверситеты, совпартшколы
приобретают
специфически пролетарскую форму с коммунистической целевой установкой и в своих основных принципах перейдут в бесклассовое коммунистическое общество.
К периоду коммунистической культуры формы пролетарской
культуры складываются в развернутую уже систему, ассимилируют все
другие формы и сам пролетариат растворяется, как класс, в коммунистическом общежитии. И базис, и надстройки теряют тогда свою
классовую характеристику.
В буржуазном обществе весь ряд надстроек служит цели укрепления силы и организованности господствующих классов, поддержке,
укреплению и развитию капиталистического способа производства,
воспроизводству капиталистических отношений,—поэтому н и о д и н
в и д н а д с т р о й к и ни по с в о е й ф о р м е , ни п о с о д е р ж а н и ю
не м о ж е т не н о с и т ь к л а с с о в о г о х а р а к т е р а и не быть
подчинен целям и задачам б у р ж у а з н о г о бытия. Господствующие способы п р е д с т а в л е н и я (формы общественн о г о с о з н а н и я ) , п о э т о м у , н е м о г у т б ы т ь и н ы м и , к а к к л а ссово-буржуазными.
Центральное место, кроме партии, в развитии самодеятельности,
товарищеской дисциплины и сотрудничества занимают профсоюзы, на
которые опирается в первую голову организационный аппарат обобществленной промышленности, и которые, прежде чем заняться иными формами организации бесклассового общества, „должны притти к фактическому сосредоточению в своих руках всего управления всем народным хозяйством, как единым хозяйственным целым (п. 15,3 прог. РКП).
„Профсоюзы являются организацией правящего, господствующего,
правительственного класса, того класса, который осуществляет государственное принуждение. Н о э т о н е е с т ь
государственная
о р г а н и з а ц и я , э т о не е с т ь о р г а н и з а ц и я
принуждения,—
э т о е с т ь в о с п и т а т е л ь н а я о р г а н и з а ц и я , организация вовлечения, обучения, э т о е с т ь ш к о л а , ш к о л а у п р а в л е н и я , ш к о л а х о з я й н и ч а н ь я , ш к о л а к о м м у н и з м а " . ( Л е н и н . О профсоюзах и текущем моменте).
Проблема пролетарской культуры опирается на пролетарский
способ производства и разрешается в непосредственной зависимости
от процесса его организации и вместе с ним.
Проблема пролетарской культуры есть, следовательно, проблема
организации форм социалистического бытия, социалистических производственных отношений, вместе с отвечающей этой задаче цепью политических и идеологических надстроек.
Это—две стороны одного и того же процесса социалистической
революции и социалистического строительства.
VIII.
Няѵка и
Производственная и культурническая (в условном
'
их различии) практика советского государства предъяпролетариат. в л я е т к буржуазной науке такие требования, которых она
по самой своей сути разрешить не может, хотя бы просто потому,
что грандиозные общественно-созидательные задачи, решаемые в
настоящее время международным рабочим классом, н е н а х о д и л и с ь
в поле т р у д о в о г о
опыта
буржуазного общества, а
п о т о м у и не п о д в е р г а л и с ь н а у ч н о й
обработке.
К л а с с о в о - б у р ж у а з н ы й х а р а к т е р н а у к и выражается в
том, что она служила и служит в капиталистических странах орудием
строительства и защиты, орудием организации производственного
процесса в его капиталистически-антагонистической форме.
О н а б у р ж у а з н а п о п р о и с х о ж д е н и ю , ибо она складывается в систему в период развития капитализма, б у р ж у а з н а п о
точке зрения, методам группировки и объединения
ф а к т о в („способу представления"), целевой установке, подбору
фактического материала и, наконец, п о и з л о ж е н и ю .
Отрыв науки от ее действительной основы—общественного труда
(фетишизм абсолютной истины, фетишизм самодовлеющего, отвлеченного познания), ее дробность и цеховая специализация—соответствуют бытию анархо-индивидуалистического хозяйства, не изменяющего
своей сущности и в империалистической стадии своего развития.
ч
Наука буржуазного мира в целом есть
идеологическое
орудие строительства
б у р ж у а з н о й к у л ь т у р ы , она целиком отвечает практике буржуазно-капиталистического строя.
Наука должна стать орудием строительства пролетарской культуры, идеологическим орудием борьбы рабочего класса и строительства коммунизма.
Неизмеримая сложность задач пролетариата, классовая их острота—делают научные ценности буржуазного мира пригодными только
частично для решения этих задач. Необходимость осуществлять эту
цель коллективными усилиями класса под руководством его авангарда,
партии, с максимальным напряжением, и в то же время с максимальной экономией трудовых усилий—определенно ставит перед рабочим
классом задачу критического пересмотра науки, упрощения ее способов
изложения, сведения ее дробности к возможному единству
научных законов и методов, отыскиванию новых методов и новых обобщающих точек зрения применительно к поставленным практическим задачам.
Наука
должна быть
приспособлена
к
задачам
социалистической
борьбы и строительства,
пропитана
коммунистическим
марксистским
миропониманием.
Ни одна отрасль науки, вплоть до точных наук, в современном
своем состоянии вполне этой цели не отвечает и, в настоящей ее
форме, ее использование требует для усвоения непроизводительной
затраты энергии, недопустимой перед лицом сложнейшей задачи организации коммунистического бытия человечества.
На-ряду с ликвидацией безграмотности и популяризацией научных и научно-практических знаний для широких масс, авангард пролетариата обязан поставить и разрешить проблему пролетарской
культуры, прежде всего путем приспособления к этой задаче научных
ценностей буржуазного мира.
Задачи социалистической революции суть задачи разрушительнотворческие в их неразрывной связи и взаимном дополнении. Целесообразно направленное и использованное в интересах класса разрушение само во многих случаях является творческим процессом. Это
планомерно-сознательное разрушение в интересах социализма. Разрушая и обороняясь, созидать—основная цель революции. Диктатура
пролетариата есть орудие осуществления и тех и других целей.
Процесс борбы за организацию общества начинается с разрушения, но
творческие задачи революции, хотя бы и вчерне, должны быть осознаны и намечены. В процессе революции разрушение есть необходимое условие творчества, на место разрушенного немедленно должны
быть созданы, как мы уже указали, новые организационные формы;
творчество
же
новых
форм
обязательно и неизбежно есть процесс
культурно-производственный.
С каждой продвижкой общества по пути к социализму все более
и более будут усложняться творчески организационные задачи рабочего класса, практическая потребность в соответствующих им идеологических орудиях будет приобретать характер повелительности.
Производственно-культурное творчество пролетариата во много
раз, т. о., усложняется и определенно выдвигается на первый план,
как только проходит первый острый период гражданской войны. Ясно,
что тут говорить об азбуке культуры практически невозможно. Необычайная сложность практических проблем потребует немедленного
и полного пролетарского культурного оборудования.
Пролетариат должен строить. Поэтому, откидывая явно ненужное, ложное, реакционное, пролетариат пользуется в различных областях своего строительства выводами нынешней науки.
„Практический результат в общем и целом оправдает себя, ибо
поставленная под контроль социалистической цели практика будет
постепенно контролировать и отбирать теорию, ее методы и выводы".
И не только контролировать и отбирать, т.-е. пассивно пользоваться имеющимся материалом, а и активно творить новые формы и
давать импульсы к творчеству по всей цепи научной системы.
Следовательно, пролетариат в лице своего авангарда, на практике
у ж е контролирует, отбирает научные ценности, дает импульсы к
их творчеству в направлении социалистической цели; в дальнейшем
он должен весь этот научный материал в интересах повышения до
максимума коэффициента полезного действия этих орудий—обобщить в систему научных орудий, соотносительных социалистической
цели. Эта система выражает собой продукт пролетарской активности
и пролетарского творчества в переходной период и первую фазу коммунизма. Следовательно,—это будет одна из частных, хотя и важнейших, систем общей, творящейся во всех областях практики, системы
пролетарской культуры.
Стало-быть, пролетарская
культура не только
будет,
но
уже е с т ь .
В различных областях общественной жизни пролетарская культура создается изо дня в день стихийно, ощупью в п р а к т и к е
строительства рабочего класса по всей линии его бытия. Подвести
научный фундамент под эту практику, сделать научную систему сознательным орудием строительства социалистического общества—задача
переходного периода.
IX.
г
Историческая цель—организация мирового коммунизма,
стоящая перед рабочим классом,—неизмеримо сложнее по
сравнению с задачей буржуазии и требует не индивидуальных, а
к о л л е к т и в н ы х усилий, но накопленные, подготовленные прошлым
научные и технические орудия неизмеримо богаче и совершеннее, чем
те, которыми пользовалась буржуазия в начале своего развития.
Если рабочий класс материально и социально угнетен в капиталистическом обществе, то в период своей диктатуры он быстро выходит из такого положения. Чувство классовой сплоченности, опыт
прошлой героической борьбы, столь же героическая борьба в настоящем, суровая дисциплина фабрики, классовая ненависть к прошлому,
наконец, необходимость коллективными усилиями во что бы то ни
стало организовать социалистическое производство, зависимость его
материального благополучия от его собственных усилий—все это ускоряющие факторы величайшей силы. Создавая практические организационные навыки управления производством и государством, они быстро
развивают в рабочем классе психологию и идеологию организаторов,
превращают его на практике в управляющий класс.
Быт рабочего класса развивается на принципиально иных связях,
чем быт буржуазии.
Сознательно-товарищеское сотрудничество и товарищеская дисциплина—вот форма социальной связи, которая характерна для рабочег >
класса, которая развивается в его среде, вытесняя иные отношения.
Эта связь одинакова в производстве и в быту, во всех социальных отношениях рабочего класса, она стоит в непримиримом противоречии к бытовым формам других классов и представляет главнейшее
средство сохранения жизнеспособности пролетариата.
Сознательно-товарищеская организация рабочего класса в настоящем и коммунистическая организация всего общества в будущем—
это разные моменты одного и того же процесса, разные ступени одного и того же явления.
Если сопоставить вместе все эти факторы, то выходит, что
„острая потребность овладеть культурой" у рабочего класса подкрепляется таким его духовным и бытовым оборудованием, что критическитворческое овладение культурным наследством старого мира пойдет
революционным темпом, даже по сравнению с темпом буржуазного
общества. Для этого нужно, чтобы рабочий класс избавился от гнетущей его постоянной заботы о куске хлеба, чтобы его материальное
положение достигло того уровня, ниже которого парализуется всякая
активность и энергия класса. Тогда быстро отомрут гнилые, реакционномещанские элементы его быта и товарищеская связь станет преобладающей силой его дальнейшего развития. С этого момента начинается
активная перестройка быта, он приобретает „высшую динамичность".
Одновременно с этим, культурное строительство рабочего класса,
напряженность и высшая его продуктивность—получают небывалый
размах.
X.
Чистые" И ГПЙЗНЫв"
Культура есть производство социальных
„ и
с л „ф
орудий, как материальных, так и духовных,
МетОДЫ Культуры.
материальная и духовная приспособленность
класса в борьбе за жизнь, а в целом—система форм общественной
жизни, вырабатываемых классом в своем поступательном развитии,
наиболее гармонично организующих общество для овладения внешней
средой в интересах класса и всего общества в целом. Следовательно,
противопоставление „чистых", идеалистических методов борьбы и строительства „грязной" житейской практике, „грязным", якобы непролетарским, приемам борьбы—является метафизикой.
В плане борьбы, подавления эксплоататоров в процессе гражданской войны рабочий класс применяет и д о л ж е н
применять
все и всяческие средства борьбы, ведущие его к победе на каждом
данном этапе развития.
Нет и не может быть ни пролетарской культуры, ни пролетарских методов с а м и х п о с е б е , без соподчинения их коммунистической цели рабочего класса.
„Милитаризм" переходного периода, расстрел белогвардейцев,
смертная казнь для врагов Советской Республики, ГПУ,—что это:
„чистые" методы пролетарской борьбы, или же „грязное" искажение
сущности пролетарской культуры?
Вопрос—достойный только талмудиста.
Все указанные явления сами по себе ни „чисты", ни „грязны",
они могут быть в п л а н е б о р ь б ы только
целесообразны
или
нецелесообразны.
Программа РКП определяет красную армию, как „орудие пролетарской диктатуры, которая при окончательной победе рабочего класса
превращается во всенародную социалистическую милицию."
Специфичны для рабочего класса в этой защитной организации
пролетарский способ ее организации, ее коммунистические цели и
осуществляющаяся п р а к т и ч е с к и тенденция перехода во всенародную социалистическую милицию.
Специфической формой пролетарской культуры переходного периода является диктатура пролетариата, Советская форма государства,
и все, что содействует ее сохранению и защите, суть „чистые" формы,
и они не могут быть „грязными", вопрос лишь только в целесообразности, т.-е. именно в сохранении, но не в подрыве диктатуры.
„Диктатура означает не только насилие, хотя она и невозможна
без насилия, она о з н а ч а е т т а к ж е
организацию
труда
б о л е е в ы с о к у ю , ч е м п р е д ы д у щ а я о р г а н и з а ц и я". (Ленин).
Такова историческая диалектика диктатуры.
Наконец—еще один пример, и самый важный.
Специфически пролетарской формой общественной жизни является сознательно-товарищеская организация рабочего класса и товарищеская дисциплина по всей линии его бытия. Диктатура же пролетариата в форме советского государства в лице коммунистической
партии в капиталистическом и мелко-буржуазном окружении извне и
изнутри вынуждена строить общественную жизнь на основе государственно-принудительных принципов. Это как бы противоречит системе
товарищеского сотрудничества, а следовательно, это—не пролетарская
культура. Такая точка зрения прямо приводит к позиции „Рабочей
Правды" и плененных ею сторонников „социалистических человеков".
В этом —отрыв от жизни, чудовищное с точки зрения революционного марксизма извращение фактов реальной жизни, непонимание
диалектики развития пролетарской культуры.
Государственно - принудительные („авторитарно - иерархические")
формы жизни сосуществуют одновременно с самыми разнообразными
формами товарищеского сотрудничества и самоуправления трудящихся,
и диалектически, по мере закрепления победы пролетариата и превращения его в организаторский класс, заменяются развернутой системой
товарищеского сотрудничества в коммунистическом обществе. Такой
авторитаризм соподчинен и оправдан коммунистическими задачами
рабочего класса. „Социалистические человеки" созревают в реальной,
а не вымышленной социальной среде, а именно в условиях железной
диктатуры и дисциплины.
Следовательно, специфическая особенность пролетарского „авторитаризма" в том, что по этому принципу организуют и дисциплинируют с а м и с е б я рабочий класс и его коммунистическая партия,
а не эксплоататорский класс п о д ч и н я е т себе рабочий класс.
Применяя мерку программы РКП к реальным фактам жизни, можно
отчетливо понять диалектику развития пролетарской культуры—от
момента наибольших достижений пролетарской культуры в переходной
период до тех поправок, которые современные условия борьбы пролетарской диктатуры извне и изнутри вносят в эту программумаксимум.
H. Чужак
К методологии к у л ь т у р ы .
{В порядке
/
дискуссионном).
I.—Цели и с р е д с т в а .
Как они понимают культуру.
Нужно—говорят—сначала столковаться о терминах. Это, конечно,
верно. Столковаться же о терминах—не значит ли это столковаться о
подходах?
Непроверенная, не подвергнутая нужной переоценке т е р м и н о л о г и я , взятая напрокат у буржуазии, всегда вредила нам, не только отражаясь на подходах, но и, мертвая уже, хватая живую мысль, тормозя
ее медленное поспешение за жизнью. Вспомним только: „демократизм",
„международное" и прочее „право", так называемую „красоту", „прекрасное ", „возвышенное", „вдохновение", не говоря уже о „душе" и
и прочих тому подобных словечках-святынях, мешающих оформлению
насменной жизни...
К наиболее нетронутым, „нетленным" фетишам принадлежат—
„культура" и „культурность".
Вот уж — термины (подходы), коммунистическая переоценка в
которых и не ночевала!
Одни представляют себе культуру, как „органически целостную и
внутренне согласованную с и с т е м у знания и практических приемов в
областях материального и духовного производства" ( С и з о в . „Строительство культуры").
Другие—как „ с о в о к у п н о с т ь всего, созданного усилиями человека, в противоположность тому, что даром, без усилий с нашей стороны,
дает нам природа; все, что является р е з у л ь т а т о м человеческой
работы, в широком смысле, может быть причислено к культуре"
(М. П о к р о в с к и й . „Очерк истории русской культуры").
Третьи—как „органическую с о в о к у п н о с т ь знания и умения,
характеризующую все общество или, по крайней мере, его правящий
класс" ( Л . Т р о ц к и й . „Пролетарская культура и пролетарское искусство"). Они же—как „развернутую и внутренне согласованную с и с т е м у
знания и умения во всех областях материального и духовного творчества" (JT. Т р о ц к и й , там же).
Все трое, как видите, подходят к пониманию-определению культуры
совершенно одинаково, хотя Сизов и Троцкий между собой оппозиционеры, и хотя Покровский по характеру своей работы не упоминает о
„классе". Для всех троих культура — это „результат", „совокупность",
„система", т о - е с т ь — н е ч т о у ж е г о т о в о е . Все трое рассматривают
культуру, к а к ц е л ь . Мы бы сказали даже: почти как самоцель, как
что-то в изрядной мере себе довлеющее, и—как некую святыню, что ли,
к которой следует еще с т р е м и т ь с я (Для чего? „Чтоб быть культурным"), о которой только и стоит говорить, которую необходимо
„строить" (Сизов) или „создавать" (Троцкий), а с а м ы й п у т ь к
которой есть дело третьестепенное.
Тов. Троцкий так и говорит: „Задача пролетариата, завоевавшего
власть, состоит прежде всего в том, чтобы прибрать к рукам не ему
ранее служивший а п п а р а т культуры—промышленность, школы, издательства, прессу, театры и проч. — и через это открыть себе путь к
к у л ь т у р е " . На первом плане здесь чужой готовый „аппарат", который берется, очевидно, голыми некультурными руками, а впереди, как
цель — такой же „аппарат", только уже нас самих характеризующий
или, как зеркало, отображающий (по Троцкому, это—„социалистическое" зеркало, ибо пролетариату, как не выслужившему еще стажа
культуры, и посмотреться не во что, а по Сизову — „пролетарское").
Фразеологически, по т. Троцкому—„аппарат" этот, правда, будет
о б с л у ж и в а т ь нас самих; по существу же—зачем нам и этот
„аппарат" и зачем его „служение" нам, раз самый-то „аппарат культуры" мыслится, как какой-то достигнутый „результат" или итог, чуть
не могильный п а м я т н и к , который мы сами себе „созидаем" и
который б у д е т г о т о в у ж е т о г д а , к о г д а и с а м ы й - т о п р о л е т а р и а т , к а к к л а с с , о б р а т и т с я в п а м я т н и к ? Остается на
память... зеркало, в которое не мы, грешные бескультурники, поглядимся,
а лишь будущие социалистические человеки.
„Развернутое" зеркало — вот наша цель; что же касается пути и
средств, то-есть всего, что „налагает отпечаток" на цель, что к э т о й
ц е л и в е д е т и е е р е а л ь н о о с у щ е с т в л я е т — о б этом ни слова.
„Путь к культуре" — это не путь ли правоверных в Мекку? Троцкий
„творит" аппарат; Сизов „строит" свою систему; есть коммунисты,
которые „созидают х р а м культуры", — в чем разница? Не все ли
правоверные „творят намаз"?
Разница между Сизовым и Троцким в том, что Троцкий мыслит
себе культуру, как „ р а з в е р н у т у ю и внутренне согласованную
систему", а Сизов — как „внутренне согласованную и р а з в е р т ы в а ю щ у ю с я " ; по Троцкому, эта система „создается", — по Сизову,
„создается в к о н е ч н о м с ч е т е " ; Троцкий только к с м е р т и класса
подводит культурный итог, а Сизов подводит классовый баланс е ж е д н е в н о и говорит: это, вот, войдет в цепь пролетарско-социалистической
культуры, а это — в редакционную корзину. Троцкий, одним словом,
берет свою культуру, как некое, „вчерне" или совсем, но органически
п о с т р о е н н о е здание, Сизов же уделяет внимание и „ п р о ц е с с у
становления".
Что же касается М. Покровского, то он не говорит ни об органически-целостной, ни о развертывающейся органически системе, а просто
сваливает в одну кучу „все, что является результатом человеческой
работы"; получается какая-то^„совокупность", которая и есть „культура".
Ни та, ни другая, ни третья терминология, т.-е. ни тот, ни другой,
ни третий п о д х о д к „культуре"—нас не устраивают, как исходящие
то целиком, то на девять десятых из „результата".
Но наиболее методологически-бесплодной, и притом сбивающейся
на прокламированное к у л ь т у р н и ч е с т в о , нам представляется, все же,
точка зрения тов. Троцкого.
Постройку какого именно здания имеет в виду товарищ?
„ В с е г о общественного, и материального, и духовного, здания".
А расшифровывать по пунктам приходится как-то иначе.
Посмотрите!
Отказывая пролетариату в его собственной, специфически пролетарской культуре, т. Троцкий, между прочим, пишет:
„Динамичность нынешнего времени сосредоточивается в п о л и т и к е
|И война и революция динамичны, н о — в огромной степени з а с ч е т
[техники и к у л ь т у р ы " .
Как видите, „политика" здесь отделяется от „культуры"; „техника"
и „культура" тоже мыслятся раздельно. Что же такое тогда „культура"?
Может быть, она—„все, что является результатом человеческой работы",
по т. Покровскому? Или — „система производства", по т. Сизову? Но
зачем же тогда „техника" отдельно от „культуры"? Да и как „работа"
или „производство" обойдутся без „политики"?
Дальше!
„Если бы не пришла пролетарская революция, человечество задохнулось бы в своих противоречиях. Переворот спасает общество и
культуру, но приемами жесточайшей хирургии".
Революция, или „переворот", здесь мыслится отдельно от „культуры", как некоего готового уже зеркала, в которое глядятся „человечество" и „общество". Приходит откуда-то „пролетарская революция",
и—„спасает"... и „общество", гуляющее как-то вне революции, и раздельную от „общества"... „культуру". Человечество „в себе"; переворот
„в себе"; общество и культура „в себе"; и пролетарская революция—
сама по себе!
Но дальше!
„Диктатура пролетариата не есть производственно-культурная
организация нового общества, а революционно-боевой порядок для борьбы за него". „Те 20—30—50 лет, которые займет мировая пролетарская
революция, войдут в историю, как тягчайший перевал от одного строя
к другому, но никоим образом не как самостоятельная эпоха пролетарской культуры". „Наша эпоха не есть еще эпоха новой культуры, а
только преддверие к ней".
Последовательно! Раз отделили от „культуры" „политику", приходится отделять и „революцию", а обособив „революцию" от „культуры",
приходится убрать подальше от нее и „диктатуру пролетариата". Ну,
а так как „производство" и „работа" без „политики" немыслимы, то,
с отделением „политики", необходимо вычесть и „производство". Ч и с т а я
разница, в в и д е м и р н о г о и б л а г о д е н с т в е н н о г о ж и т и я под
с е н ь ю н а у к и и с к у с с т в , о с т а е т с я на д о л ю
„культуры".
Пролетариат и не мечтает о таком житии,—какой же может быть разговор о его „культуре"!
Видите, до какой императивной „последовательности" докатывается
метафизическая постановка вопроса!
—„Вопросы культурничества поставлены нами в порядок дня".
Отлично, товарищи, и никто против культурничества, т.-е. против
критического усвоения наследий прошлого, ничего не имеет, но плохо
то, что самое понятие культуры подменивается вами старым-престарым,
казалось бы, давно уже ушедшим в могилу, а п о л и т и ч н ы м культурничеством.
Отсюда—и дальнейшие „качества"...
Путь рассуждений приблизительно таков:
Что такое „культура"? Культура—это итог, результат. Какой
именно результат? Мнется-мнется, и под конец признается: „культурнический". Как по этой части обстояло дело с прошлыми „культурами"?
Отлично: они „создавались" веками. Как на этот счет сейчас? Плачевно:
ибо—во-первых- мы не умеем, а во-вторых—нам некогда „создавать",
приходится драться. Что же делать? Да ничего не поделаешь: остается
признать пролетариат лишь удобрением для бесклассовой культуры,
посоветовав ему набраться терпежу для ожидания в ее „преддверии".
Вот—точные цитаты:
„Хватит ли у пролетариата попросту времени на создавание^пролетарской культуры? В отличие от режима рабовладельцев, феодалов,
буржуа,—диктатуру свою пролетариат мыслит, как кратковременную
переходную эпоху. Может ли пролетариат за это время создать новую
культуру? Сомнения на этот счет тем более законны, что годы социальной
революции будут годами ожесточенной борьбы классов, где разрушения
займут больше места, чем новое строительство. Другими словами: в эпоху
диктатуры о создании новой культуры, т.-е. о строительстве величайшего исторического масштаба, не приходится говорить; а то ни с чем
прошлым несравнимое культурное строительство, которое наступит,
когда отпадет необходимость в железных тисках диктатуры, не будет
уже иметь классового характера. Отсюда надлежит сделать тот общий
вывод, что пролетарской культуры не только нет, но и не будет"...
Следуют слова утешения, но... разве утешишь нас в том, что вещи
банальные, как стертый пятак, все еще столь живучи, и что цепкие
культуры поколений-мертвецов воистину хватают четкую научную
мысль, заставляя испытанных в боях марксистов договариваться до таких
теоретических пустяков, как:
— „чем полнее будет новый режим обеспечен от политических и
военных потрясений, тем благоприятнее будут условия для культурного
творчества", —
где „созидание" гуляет в особицу от „разрушения", и где самое
понятие „культуры" ходит на головах...
Культура
и
культурничество.
Пуская в о б о р ^ словечко „культурничество" в наши дни, т. Троцкий
ссылается на В. И.*Ленина, цитируя кстати и соответствующий абзац
из его статьи „О кооперации" в № 116 от 26 мая 1923 года—„Правды".
Что же писал В. И. Ленин?
А вот:
„Мы вынуждены—говорит он—признать коренную перемену всей
точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том,
что раньше мы центр тяжести клали и должны были класть на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д. Теперь же центр
тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную
„культурную" работу. Я готов сказать, что центр тяжести для нас переносится на культурничество, если бы не международные отношения,
не обязанность бороться за нашу позицию в международном масштабе.
Но если оставить это в стороне и ограничиться внутренними экономическими отношениями, то у нас действительно теперь центр тяжести сводится к культурничеству".
Подкрепляет ли эта ссылка на В. И. позицию т. Троцкого?
Ничуть.
Ленин не только не мешает в одну кучу „культуру" и „культурничество", но даже п о д ч е р к н у т о употребляет слово „культурную"
(работу) в к а в ы ч к а х , т.-е. в с м ы с л е — „ т а к н а з ы в а е м у ю культурную", „культурную в о б ы в а т е л ь с к о м с м ы с л е " , а в д е й с т в и т е л ь ности просто „культурническую". Вот почему и „политическая борьба",
„революция", „завоевание власти и т. д."—противоставляются им*отнюдь
н е к у л ь т у р е , а культурничеству.
И, наконец—даже „культурничество" Ленин не .отделяет от „внутренних экономических отношений",—в том смысле, что, мол, курс
не прямо на „социализм", а с учетом и определенным использованием
некоторых сложившихся экономических явлений,—как „кооперация",—
должен быть нами, по необходимости и временно, впредь до полного
подчинения себе, как подсобных - принят.
Само собою разумеется, что должен быть принят нами и курс на
о б р а з о в а т е л ь н о е культурничество (критическое ученичество тож),
равно и на всякого рода вообще у ч о б у.
П р о и з в о д с т в е н н о - х о з я й с т в е н н о е культурничество в этом смысле также приемлется.
С л е д у е т ли, о д н а к о , о т с ю д а , ч т о в э т о м и м е н н о и
заключается альфа и омега культуры?
Вовсе не следует.
Товарищам, выписывающим любовно запятые В. И. Ленина, давно
пора бы понять, что Ленину именно всегда был чужд традиционнообывательский подход к терминологии, и никогда именно Ленин, гов о р я — „товарищи, сморкайтесь в платок", не добавлял: „и будете тогда
культурны". Наоборот, всякий конкретный подход его к терминологии,
включительно до „социализм есть учет и электрификация", имеет определенно у с л о в н ы й характер.
В этой „условности"—сегодня „электрификация", завтра „использование спецов", после завтра „ГПУ"—и есть культура. Отрицание окаменелости—есть Ленин. И никогда товарищи, рассматривающие культуру,
как венчанный мавзолей, и даже как готовенькую, геометрически
вычерченную головную „систему", свободную от окружения „детермин и з м а " , — н и к о г д а э т и т о в а р и щ и с о ю з н и к а с е б е в В. И. Л е нине не найдут.
Тем более, конечно—товарищи, подменивающие культуру „культурничеством".
Облегчающие культуру от „политики", от „драк".
И считающие себя в праве, поэтому, и в скобках и без скобок
разгонять „пролетарскую культуру".
Любопытно, что еще в марте 1920 года, на 3-ем всероссийском
с'езде рабочих водного транспорта, т. Ленин, говоря о роли культуры
в строительстве коммунизма, трактовал понятие „культуры" отнюдь не
в плоскости зеркальной „совокупности", в которую глядятся облегченные
от „потрясений" потомки, а в плоскости—определенно—с р е д с т в к
строительству коммунизма. Перепечатывая тогда же эту ленинскую
речь,нью-йоркская кадетская газета „РусскоеСлово" снабжала ее следующим любопытным примечанием:
„Ленин в своей речи подчеркивает необходимость культуры также
в коммунизме, но о н к у л ь т у р у б е р е т в о б и д н о й д л я н е е
ф о р м е—п о д ч и н е н и я г о с у д а р с т в у
науки и искусства.
Получается при этом милая картинка: если жрец науки или искусства
соглашается служить целям власти, он получает добавочные пайки; если
же не соглашается, то приставляется к стенке, если не успевает сбежать
и голодать с детьми по заграницам. Нет, м ы з а п р и з н а н и е к у л ь туры при всех случаях и полностью".
Товарищи, представляющие себе культуру, как далекую мечтаемую
цель, которой служат „жрецы науки и искусства" и которой „обидно"
мешают только конкурирующие с культурой „цели власти", „тягчайшие
перевалы" и т. п.,—они, конечно, тоже... „за признание культуры при
всех обстоятельствах и полностью".
С „самоцелью" они, положим, не согласятся, но самоцельность
культуры—в каждой черточке их жертвенного преклонения. Отсюда—
и недоуменное отношение их к какой-то „пролетарской" культуре, в
то время как пролетариат никакого еще „аппарата" для молений не
построил...
Социалистические человеки.
Остается еще один „благородный" фетиш в вопросе о культуре,
от которого необходимо, наконец, недвусмысленно отмежеваться.
„Пролетарская революция только количественно
о т л и ч а е т с я от с о ц и а л и с т и ч е с к о й , но в о в с е не к а ч е с т в е н н о " , — у ч и л и еще недавно (а может, учат и сейчас) некоторые
отдельные сторонники пролеткультуры, приемлющие термин „пролетарская культура", но—мало-что трактующие его в плоскости „результата" (здесь сходство_их с Троцким, самый термин отрицающим), а
г л а в н о е — в к л а д ы в а ю щ и е в н е г о не к л а с с о в о е п р о л е т а р с к о е ,
а с о ц и а л и с т и ч е с к о е , т.-е. б е с к л а с с о в о е ,
содержание.
Культура в их представлении—это прямая, геометрически начертанная линия (линия производства, главным образом), на одной точке
которой помечено: „мастерская пролетарской культуры", а на последующей—„социалистическая". Все, что идет по этой линии, есть пролетарская культура (и культура вообще),—все прочее „от лукавого".
Не признавай они самого термина „пролетарская культура", как
1
Т|кщкий, им ничего бы не стоило переименовать всю становленческую
эпоху революции в неорганический и не характерный для „здания"
культуры „перевал". Ну, а признание, конечно, обязывает. Приходится
с лупой в руках отыскивать в наличной производственной разноголосице о т д е л ь н ы е м о м е н т ы „ с о ц и а л и с т и ч е с к о г о " , или „чис т о - к у л ь т у р н ы е " моменты (культуры „ к а к т а к о в о й " ) , з а м а л ч и в а я
попросту все то, на чем печать и боль живого мяса эпохи.
Любопытно, что еще в первые годы революции, то тут, то там
являлись на Руси отдельные апостолы-подвижники пролеткультуры,
которые пытались интерпретировать самую задачу пролетарской культуры, как „ в о с п и т а н и е с о ц и а л и с т и ч е с к о г о ч е л о в е к а " . В
самые революционные моменты, при наличии враждебного окружения,
предлагались массам эти святительские лозунги, прививавшие пролетариату рыхлую мечтательность и убеждавшие кривиться при виде
действительности, определенно нуждавшейся в большевистской железной хватке. Хуже всего то, что некое, воспитанное веками бездействия,
п р е д р а с п о л о ж е н и е к вялой мечтательности было заложено и в
массах, окрашивая и так называемую пролетарскую поэзию до-нэповских лет в горячечно-экстазные, но и фатально-бесплотные,—мы бы
сказали: надсоновские—тона.
Понятно, что инженерийный натиск большевизма в этой именно
рыхло-молитвенной стихии встретил органического своего врага,—отсюда,
может быть, и запоздалое открещивание наше от „пролетарской" (а
читай: „социалистической") культуры,—в то время как раз, как понятие пролетарской культуры впервые становилось на революционно-научные рельсы. Отсюда же, может быть, и влюбленность в „пролетарскую" (а читай „социалистическую") культуру со стороны так
называемых „пролетарских" поэтов до-нэповского призыва, смутившихся
потом прихода нэпа, как кровного оскорбления бесплотно-молитвенному
восхождению их по линии „чисто-культурного" социализма...
Ставка на „воспитание социалистического человека", не приемлющего ни нэпа, ни чеки, оказалась явно несостоятельной, и ныне—как
мы можем судить по выдержкам в статье Ем. Ярославского „Чтотакое
Р а б о ч а я П р а в д а " — с в я т и т е л ь с к а я фразеология „пролетарской"
культуры, видимо, окончательно прикочевала к берегам так называемой
„рабочей" правды, откуда и декларирует:
„Большевистская партия, как и все рабочие организации, не понимала, что для победы пролетариата, п о м и м о экономической и
политической борьбы, необходима настойчивая к у л ь т у р н а я работа.
Большевики не понимали, что без длительной культурной подготовки,
без внедрения в пролетариат идей п р о л е т а р с к о й культуры, с ее
с о ц и а л и с т и ч е с к и м и методами, способами организации общества и производства, рабочий класс, даже захвативший власть в свои руки, обречен на поражение и на отрыв партии от класса".
Поучительная болтовня о „пролетарской",т.-е. к л а с с о в о й , культуре... „с ее социалистическими", т.-е. б е с к л а с с о в ы м и , методами!
Тут же, как водится, и представление о культуре, к а к о к у л ь т у р н и ч е с т в е , отделяемом от „экономической и политической борьбы"!..
Как мы подходим к культуре.
Нужно, говорят, сначала столковаться о терминах. Это, конечно,
верно. Столковаться же о терминах—не значит ли это столковаться о
подходах?
Изъян в м е т о д о л о г и и наших товарищей, от Троцкого и до
Сизова—в том, что они берут какую-то „культуру вообще", в ее затасканно - традиционной, буржуазн о - н а к о п л е н ч е с к о й плоскости.
Строится какой-то прямой коридор, до построения определенного,
заранее намеченного участка которого мы обретаемся всегда „в преддверии", питаясь не своей, а д е д о в с к и - н а с л е д с т в е н н о й культурой.
Смысл такой культуры—в накоплении для накопления, в бережном
пополнении копилки и дальнейшем родственном вручении ее „законному потомству"—по мещанско-бессеменовским традициям. Критерии
ее о ц е н о к — н е и з б е ж н о р е т р о с п е к т и в н ы ,
в каком бы социалистически-плановом устремлении сами оценщики субъективно установлены ни были.
— „Знаете, что —знаете, что есть высшего на свете?"—спрашивает
у А. Серафимовича один из последних его персонажей, тюремный интеллигент,— „единственное: культура. Культура, понимаете? Культура,
которая создана тысячелетиями, создана неимоверными усилиями миллионов поколений!"
Разве это не копия и с наших, непроверенно-традиционных представлений? Не орудие организации, а „высшее на свете", а фетиш, „творимый" для ретроспективного любования последующих поколений!
Что может быть ненужнее и бездейственней?
Значение и смысл любого метода—не в а б с о л ю т н о й его научности, которой вообще не существует, и даже не в абсолютной
„научности в о о б щ е " , которой тоже не существует, о чем и сам
т. Сизов однажды правильно писал. Значение и смысл любого метода—
в его о т н о с и т е л ь н о й классовой целесообразности, а значит—и в
относительной а к т у а л ь н о с т и , действенности в плане классовой
цельустановки.
Не „абсолютно ненаучен" такой подход к культуре, как „культура—цель в себе", очень даже научный с точки зрения классовой
буржуазно-последышной науки, а ненаучен в п л а н е к л а с с о в о - п р о л е т а р с к о й у с т а н о в к и на к о м м у н и с т и ч е с к о е
устройс т в о о б щ е с т в а , и тоже не абсолютно провозглашенное, а неизбежно
вытекающее из классового подхода к изучению общества. Ненаучен
и никчемен—потому, что п а с с и в е н , а значит—и к л а с с о в о - н е ц е л е с о о б р а з е н . Классу, строющему свою жизнь, не нужен, просто н е
н у ж е н — в н е рассуждений об „абсолютном признании"—такой подход
к культуре, который не строит ежедневную его жизнь, а только фетишистски чем-то владеет и задним числом к о н с т а т и р у е т .
И наоборот.
Подходя к строению рабоче-классового бытия на всякой его ступени в плане д о с т и ж е н с к и-в о л е в о й (не смешивать с накопленчеством) о р г а н и з а ц и и , — н е о б х о д и м о б е з б о я з н е н н о и т в е р д о
п е р е в е с т и м е т о д о л о г и ю к у л ь т у р ы из о б л а с т и
ретрос п е к т и в н о-о б о з р е в а т е л ь н ы х о ц е н о к , неизбежно связанных с
представлением о культуре, как некоем „мавзолее эпохи", в о б л а с т ь
с р е д с т в или о р у д и й в е ж е д н е в н о й и ж и в о й , в с е г д а конкретной и реальной, а значит, и „довлеющей
дневи",
б о р ь б е . В борьбе —за будущее класса,—в данном случае, в борьбе
рабочего класса за бесклассовый, и тем более трудно продвигаемый в
рамках классовой борьбы—социализм.
Говорить о „целях" рабочего класса СССР—это значит: говорить
о программе его партии. Но—что такое программа без тактики?
История РКП знает два важнейших программных этапа. В 1903
году, подходя к фиксации задач и целей рабочего класса, партии приходилось не столько намечать к о н к р е т н ы е п у т и к казавшимся
такими отдаленными основам коллективизма, сколько популяризировать
о б щ и е и д е и марксизма применительно к оформлявшейся социальнополитической обстановке. К 1919 году обстановка эта столь радикально
изменилась, что казавшиеся вчера еще почти недостижимыми демократические „цели" партия должна была п е р е м е с т и т ь в р а з д е л
„путей и средств".
И—так всегда.
Раз п р и б л и ж е н и е далеких „целей" есть ежедневная наша, в
плане твердой установки на коммунизм, задача, — ясно, что именно
методология „путей и средств" становится объектом действенного
устремления внимания—и культивирования!—партии.
X Всякое ц е л е с о о б р а з н о е , в плане приближения к нам целей
коммунизма, средство—есть н а ш а к у л ь т у р а . __
Целевая установка на коммунизм не только не мешает, но как
раз о б я з ы в а е т нас—к употреблению в наших продвижках к коммунизму и м е н н о п р о л е т а р с к и х , т.-е. к л а с с о в ы х , м е т о д о в .
Цели рабочего класса очерчены живо и четко, но путь к ним—через
ухабы и кочки. Преодоление этих ухабов и кочек и есть п р о л е т а р с к а я
культура. Можно, конечно, трактовать культуру вообще, как некий
прямой коридор, а пролетарскую культуру, как классовый рабочий
коридор, накапливающий „ с о ц и а л и с т и ч е с к и е методы", но эти
методы фатально оставляют нас без „средств", а жить одними „патентованными" меньшевистско-социалистическими
„средствами" рабочий
класс не может. Для того, чтобы не только жить, но и выжить,
рабочему классу н у ж н ы з у б ы .
Мы отнюдь не отрицаем этим необходимости выяснения матер и а л ь н о - п р о и з в о д с т в е н н ы х предпосылок пролетарской культуры,
как это интересно делает т. ГГ__Кан_в.номере 9-ом „Горна", ни—тем
более—необходимости проведения какой-то определенной, п р о и з в о д с т в е н н о й же, линии от „цели" до „средств", как это столь же интересно и нужно делает т. С. Зшущр в номере 8-ом. Но...
Но—во-первых—мы совсем не думаем, что эта линия, подчеркнуто вычерчиваемая нашими товарищами паки и паки,—линия, старательно выводимая ими подчас если не от времен Адама, то от Адама
Смита,—есть воистину такая уж п р я м а я линия.
Но—во-вторых—мы не думаем и того, что, отправляясь от заранее
начертанной готовой схемы, мы придем к этой схеме столь же
„чистыми", какими вышли, и что этот реальный приход наш к цели
не окрасит самой „цели" в путевые цвета.
Тот самый факт, что некоторые отдельные учреждения и товарищи
подчеркнуто долбят в одну и ту же производственно-культурническую
точку, в лучшем случае предоставляя о „нечистой" культуре толковать
другим, — наводит нас на мысль, что товарищи эти как бы боятся
з а м а р а т ь начертанные ими чертежи, скача по кочкам и ухабам
реальности, что именно „ п р я м у ю " они мыслят себе меж точкой
„пролетарская" и точкой „социалистическая культура", и что не просто
пролетарскую культуру, как „орудие в борьбе", несут они, а некую
фетишизированно-,,чистую" п р о л е т - и к о н у .
В иконах же, как раз, рабочий класс нуждается всего менее.
Да, в производственных отношениях и в способах производства—
основная культура каждого восходящего класса. Но, ведь, способы
производства—не самоцель. И каждое проявленное здесь начало есть
только о р у д и е на многотропном и извилистом пути по перековке
всей хозяйственной структуры общества,—есть только с р е д с т в о для
дальнейшего преодоления материи и—для дальнейшего в ы п р я м л е н и я
той „ломаной" между „сегодня — завтра—послезавтра", которая имеет
тенденцию к обрастанию живым к о л и ч е с т в е н н о - к а ч е с т в е н н ы м
мясом.
Хороша ли эта тенденция? Не в этом дело. Не будьте утопистами,
товарищи, и считайтесь немножко с действительностью. Дело не в
презрении к этому обрастанию хороших геометрических линий не
всегда хорошим „качественным" мясом, а дело—в уменьи к о р р е к т и р о в а т ь головные линии сообразно с земной обстановкой.
Подумайте! на шестом году призывов к установке на „прямой"
социализм, Ленин взял да и написал о перелазе на „попутную" тропинку...
кооперации! Да еще не как-нибудь, а тоном декларации: „Мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм"... И т. д., и т. д. И это-то, как раз, т.-е. уменье корректировать
у г а д о ч н ы е плановые линии, дерзая во-время и во-время меняя средства, именуется л е н и н и з м о м ! Товарищи, убившие много талантов на
выделку социалистических гомункулюсов, назовут это, наверное, иначе...
Не будем заранее напрашиваться на их комплименты...
И еще. Это уже целиком к т. Троцкому.
1
Культура — по тов. Троцкому—это к о п и л к а , куда по грошику,
оление за поколением, человечество складывает свои пожитки.
Для того—чтоб передать другому поколению!
Мало того: культура—это „ в н у т р е н н е
согласованная"
копилка (это последнее положение повторяет за ним и полемизирующий
с ним т. Сизов).
Не говоря уже о том, что такой подход к культуре плохо вяжется
с к л а с с о в ы м представлением о ней, а значит—плохо согласуется и
с задачей наполнения копилки „ о с о б о г о назначения" специально для
класса д р у г о г о назначения и путей,—несостоятельность теории о
„внутренней согласованности" наполняющих копилку элементов сказывается и в отношении культуры одного и того же класса.
Нет культуры абсолютной, приемлемой для всех обстановок и
времен,—это, конечно, азбука марксизма,—хотя, к сожалению, отдельными „марксистами" и „не разделяемая". Еще более азбучной становится эта истина при к л а с с о в о м подходе к культуре,—тоже, кажется,
для всех марксистов обязательном. И уж совсем бесспорным является
положение об о т н о с и т е л ь н о м значении и смысле культуры, если
рассматривать последнюю диалектически, т.-е. в п л а н е ц е л е с о о б р а з ных с р е д с т в .
Довлеет дневи культура его, т.-е. довлеют дню (а не самим себе)
его средства. М е н я ю т с я з а д а ч и д н я , — в зависимости от приближения или отдаления от цели, в зависимости от „поворотов" или
„спусков на тормозах", в зависимости от борьбы и изменений в тактике п р о т и в н и к а , — м е н я ю т с я и с а м ы е с р е д с т в а , т.-е. м е н я е т с я
к у л ь т у р а . И вот попробуйте сложить все эти ежедневно меняющиеся,
порой диаметрально противоположные, „средства" в одну и ту же
„копилку"!—что получится? Только культурный винегрет, только музей,
паноптикум, где рядом с производственной „веревочкой", которая „в
хозяйстве пригодится", будут покоиться тени расстрелянных белогварI дейцев, которые не пригодятся никому, кроме т. Ю. Либединского, на
! предмет трогательного, рассказа о их синеющих на лунном снегу телах,
в сто третьем издании его „Недели"!
"
' " Н у , вот, значит, мы правы были,—возразят нам тут наши товарищи,—подходя к культуре в плане целевых накоплений!
—Да, правы,—заметим мы,—поскольку результативный подход действительно бухгалтерски прост, но и никому, кроме антиквариев, не
нужен!
Пусть мы „на перевале", пусть мы по кочкам и ухабам
прокладываем себе путь, но вот именно потому, что мы от драки все
в крови и что путь наш еще нечеловечески труден и далек,—вот именно поэтому нам не только дорого мясо эпохи, обрастающее геометрически „чистую" от сегодня к завтра, но мы и просто боимся остаться
с одной геометрией, продвигаясь в сегодняшнем окружении.
Грешным делом, мы даже думаем, что чем крепче подкуем мы
себя живым мясом эпохи, т.-е. чем крепче будем опираться на каждый
о т в о е в а н н ы й в драке день, тем „чище" и „прямей" будет наша дальнейшая геометрическая линия и тем скорее переступим мы порог—„из
царства необходимости в царство свободы"...
Мы еще—в царстве „необходимости", а потому:
— давайте покрепче подковывать себя для „царства свободы"!
Перед нами—видимые цели:
— давайте скорее догонять их целесообразными средствами, давайте
скорее обращать в и д и м ы е цели в п р е в з о й д е н н ы е средства!
Иллюстрация:
— была у меньшевиков, эсеров и кадет далекая-далекая цель:
„У. С."—икона.
Ленин не побоялся объявить эту цель средством.
Не подошло „У.С."—как средство. Бросили икону в печь—к великому
негодованию сторонников „культуры", как „прямого проходного коридора", и к немалому смущению друзей. Оппортунизм, вандализм,
покушение на „вечные ценности"!
Бросьте, друзья: просто—своя культура.
А культура есть средство в борьбе, и то, что сегодня является
средством ц е л е д о с т и г а ю щ и м , то завтра сдается в архив.
Попробуйте из п р е в з о й д е н н ы х средств соорудить необходимый
для продвижки арсенал, — получится столько же толку, как и от
копилки „результатов".
Культура есть постоянное и з м е н е н и е необходимых средств,—
диалектическое их развитие.
История культуры есть история р а з в и т и я и п р и м е н е н и я
средств.
— Ara! вы, значит, отвергаете самые „достижения"! вы принимаете не „материю", а „процесс"!
jfe" •. — Ничуть! Мы ставим только так вопрос: что м е т о д о л о г и ч е с к и
живому классу н у ж н е е—фетишизировать ли „достижения", как таковые, занося их в мертвый гроссбух, или же—отнюдь не „отвергая" достижений—перегнать центр боевого внимания класса в „средства" достижений, обеспечив этим самым их п р и г о д н о с т ь д л я д а л ь н е й ш е й
продвижки?
Что нужней?
Что п л о д о т в о р н е е ?
Только.
2.—Пролетарская
К постановке
культура.
вопроса.
Методическая установка на „средства" исключает, само собой разумеется, и самую необходимость постановки вопроса о с у щ е с т в о в а н и и
„пролетарской культуры". Есть она или нет, возможна или невозможна, будет или не будет—все эти вопросы сами собой отпадают при
единственно продуктивном, т а к т и ч е с к о м подходе к культуре, нами
намеченном.
Еслиусловно можно говорить о наличии классовой, и даже социальногрупповой, культуры еще ко времени оформления интересующего нас
класса или группы в н е д р а х г о с п о д с т в у ю щ е г о к л а с с а * ) , то
какое же может быть основание к отказу классу п о б е д и в ш е м у в
признании за ним е г о культуры, как средства к е г о победе?
Умение р а б о ч е г о к л а с с а о п е р и р о в а т ь всеми целедостигающими средствами в условиях диалектически
развивающейся
социальной среды — это и есть его
культура.
От и до.
Начиная с зарождения „четвертого сословия", культура которого
заключалась в первую голову в том, чтобы „выжить".
Включая момент оформления „рабочего класса", т.-е. оформления
его „самосознания", когда количество целедостигающих средств неизмеримо осложняется такими качественными образованиями, как партия,
подполье, профсоюз, товарищеская порука, стачка.
И кончая периодом вооруженной продвижки „пролетариата" к
власти и утверждения диктатуры, который тов. Троцкий предпочел назвать „перевалом".
Так называемая целевая установка—всегда и всюду при этом разумеется.
Уменье пролетариата
маневрировать,
в зависим о с т и от с о ц и а л ь н о й с р е д ы и с м и н и м у м о м о т с т у п л е н и й
от н а ч е р т а н н о г о
п л а н а ( л е н и н и з м ) — е с т ь в ы с ш а я , т.-е.
п р е д е л ь н о - д л и т е л ь н а я в ц е л е у с т р е м л е н и и , его к у л ь т у р а .
Никакой речи об абсолютной качественности пролетарской к у л ь т у р ы
быть не может. Относительная же качественность (для любителей)
может определяться только высшей целесообразностью—во времени.
Правы тов. Кан и другие, любовно выводящие истоки пролетарской
культуры из производственных предпосылок еще в недрах буржуазнокапиталистического производства, но совершенно неправы они, фетишизируя в дальнейшем цедевые, т.-е. завтрашние и послезавтрашние,
производственные отношения, как признак пролетарской, т.-е. сегодняшней, культуры.
Столь же непрал, с другой стороны, и тов. Троцкий, полагая,
что —в то время как „буржуазия пришла к власти во всеоружии культуры
своего времени („накопленной" ею еще за время пребывания в недрах
феодального общества.—Н. Ч.),—пролетариат приходит к власти т о л ь к о
во в с е о р у ж и и о с т р о й п о т р е б н о с т и о в л а д е т ь к у л ь т у р о й
*) Тов. И. Кап из Пролеткульта („Производственные предпосылки пролетарской
культуры") говорит об этом категорически. Достаточно определенно говорит о назревании
культуры восходящего класса в недрах класса господствующего и тов. Троцкий.
(да и это—едва ли не по любезности отпущено ему^тов. Троцким. — Н. Ч.)„
Неправ хотя бы просто потому, что скидывает со счетов такое, колоссального значения, количественно-качественное завоевание пролетариата,
как д и а л е к т и ч е с к и й м е т о д , впервые на ноги поставленный
Марксом, а впервые не на чертежах, но в плоскости реальной перестройки, примененный человеком, о котором заталмуженный Длеханов.
когда-то сказал: „Ленин органически неспособен диалектически мыслить".
Сам Ленин—это величайшее явление культуры именно рабочего
класса, как прекрасно оборудованный классовый таран, как гениально
изобретенное „средство". И конечно: будь рабочий класс вооружен
только „потребностью" вооружения, он ни минуты не смог бы удержаться
у власти, да и вряд ли к ней бы „пришел". Не мог бы он явить и Ленина.
Говоря, что д е й с т в е н н ы й д и а л е к т и з м есть высшее явление
пролетарской культуры, мы очень далеки от умонастроений тех наших
друзей, которые склонны различать пролетарскую культуру специфическую от культуры пролетарской же, но низкопробной, слишком
пахнущей каналами реальности, а потому с трудом терпимой и замалчиваемой. Нет, к а ч е с т в е н н о с т ь п р о л е т а р с к о й к у л ь т у р ы —
ц е л и к о м в о в р е м е н и . И—если, по мере приближения момента
растворения пролетариата в социализме, изменятся качественно и средства
растворения в самом пролетариате социальных врагов его, то это
изменение (допустим, диктатуры на приемы менее насильственные) еще
вовсе не даст нам права говорить, что та культура будет „лучше" или
„чище" культуры диктаторства. И та, и другая культуры, „лучше" —
ровно постольку, поскольку способствуют приближению далеких целей,
обращая их в достигнутые средства. Более целедостигающая во времени
культура есть и более „высокий", т.-е. более п о к р ы в а ю щ и й ,
но
отнюдь не более „чистый", прием.
Умение диалектически проталкиваться п о к р ы в а е т меньший в о
времени и целедостижении метод—диктатуру. Диктатура пролетариата
п о к р ы в а е т целый ряд еще меньших путей продвижки. Соответствием
все новых и новых приемов новым и новым задачам пролетариата, при
твердо-плановом каждый раз устремлении — вот чем определяется
наличие пролетарской культуры. И право же, мы не знаем, чем „хуже"
такой, например, прием, как ЧК, какого-нибудь „гуманного" меньшевистского парламентаризма, — тоже, ведь, рассчитанного в свое время на
подвижку и продвижку рабочего класса, но стоившего этому классу
интервенции и моря лучшей рабоче-крестьянской крови!
Говорят о бедности пролетариата культурой и хотят этим сказать, что с у м м а „накопленных" им „ценностей", по сравнению с
феодальной или буржуазной культурой, ничтожна. Говорящие т а
забывают, однако, что не древностью существования класса (или нации)
определяется культура (сравните Японию и Китай), а теми производственно-социальными условиями, которые воздействуют на (нацию
или) класс, и в окружении которых интересующий нас класс находится.
Дело не в том, что буржуазия „вызревала" в феодальном еще
окружении в е к а м и , пробиваясь к утверждению своей гегемонии
медленной сапой, и шаг за шагом перенимала культуру господствовавших сословий (дворянства и духовенства), модернизуя ее неспешно
и слегка, применительно к нуждишкам. Дело—в той с т а д и и производственно-технического и социального р а з в и т и я , на которой пребывает общество и которая ускоряет или замедляет вызревание насменного
класса, пока антагонизм не выливается в открытую коллизию. Дело,
значит,—в о с о б е н н о с т я х насменной культуры, нужных именно
д а н н о м у , насменному классу, а не в ценности „культуры вообще".
Интереснейшую иллюстрацию на этот счет находим у Ф. Энгельса—
в статье (1845) о „Положении рабочего класса в Англии". Рабочий
класс в Англии и сейчас еще в злейшем буржуазном окружении,—тем
более чувствительным было окружение это к м о м е н т у , ч у т ь л и н е
с т о л е т и е н а з а д , когда статья писалась. И все же, виднейший,
после Маркса, основоположник научного социализма не отказывает
рабочему классу Англии в его—о с о б е н н о й!—культуре.
Нужда—смеется Ф.Энгельс—„научает молиться и, что гораздо важнее, мыслить и действовать. Английский рабочий, едва умеющий читать и еще менее умеющий писать, тем не менее прекрасно знает, в
чем заключаются его собственные интересы и в чем интересы всей
нации; он знает также, каковы специальные интересы буржуазии" и
что он от последней может ожидать. Если он не умеет писать,;то
умеет говорить и говорить открыто в общественных местах; если он
не знает арифметики, то все же настолько умеет оперировать политико-экономическими понятиями, сколько это необходимо, чтобы увидеть насквозь буржуа, хлопочущего об отмене пошлин на хлеб, и
опровергнуть его".
Что же способствовало возникновению этой своеобразнойГку л ьт у р н о с т и английских рабочих в рамках типично-буржуазного общества?
„Без больших городов и их благотворного влияния на развитие
интеллигенции,—продолжает Энгельс,—рабочие не подвинулись бы настолько вперед, как теперь. К тому же, они порвали последнюю нить
патриархальных отношений между рабочим и работодателем, чему содействовала также крупная промышленность увеличением числа рабочих, находящихся в зависимости от одного буржуа. Буржуазия на это
плачется, конечно; и она права, ибо при прежних отношениях она
была обеспечена от возмущений рабочих. Буржуа мог эксплоатировать
своих рабочих и властвовать над ними сколько угодно и встречал
еще повиновение, благодарность и любовь глупого народа, если он,
кроме платы, награждал его улыбкой, которая не стоила ему ничего,
или предоставлял ему какие-нибудь небольшие выгоды, делая это
будто из чистой любви и излишнего самопожертвования, хотя э т о | не
составляло и десятой доли того, что он должен был бы сделать.
Во время патриархальных отношений, лицемерно прикрывавших
рабство рабочих, рабочий должен был оставаться духовно мертвым,
совершенно не понимать своих собственных интересов, жить отдельно
сам по себе. Только когда между ним и его работодателем наступило
отчуждение, когда стало очевидным, что вся связь между ними сводится к частному интересу, к деньгам, когда любовь, не выдержавшая
ничтожнейшего испытания, совершенно исчезла,—только тогда рабочий
начал понимать свое положение и свои интересы и стал развиваться
самостоятельно, и только тогда он перестал быть рабом буржуазии и
в своих идеях, чувствах и действиях. А этому содействовали,главным
образом, крупная буржуазия и большие города".
Оценивая факторы столь раннего возникновения классового самоосознания английских рабочих, Энгельс определенно настаивает на
о с о б е н н о с т я х их культуры:
„В виду всего этого,—говорит он,—нет ничего удивительного в
том, что английский рабочий класс с течением времени стал совсем
другим народом, чем английская буржуазия. Буржуазия имеет со всеми другими нациями земли больше родственного, чем с рабочими, с
которыми она живет бок-о-бок. Рабочие говорят на другом диалекте,
имеют другие идеи и представления, другие нравы и нравственные
принципы, другую религию и политику, чем буржуазия. Это два совершенно различных народа, настолько различных, как могут быть
различны только две расы,—два народа, из которых мы на континенте
до настоящего времени знавали только один—буржуазию".
И заключает:
„Рабочий гораздо более гуманен в повседневной жизни, чем буржуа. Рабочий может быть гораздо более объективным, может смотреть
гораздо более открытыми глазами на действительность, чем буржуа,
и не на все смотрит сквозь призму собственных выгод. От религиозных предрассудков его предохраняет недостаточное воспитание: ничего
не понимая в этих делах, он не мучится ими; ему чужд фанатизм, которым опутана буржуазия, и если он все же немного религиозен, то
эта религиозность только номинальная и даже не теоретическая,—
практически же он живет только для настоящего мира и стремится в
нем стать гражданином".
Как видите, здесь даже „недостаточное воспитание" (в религиозных
тонкостях) отводится определенно к элементам,порождающим о т л и ч н у ю
от предыдущих, именно р а б о ч у ю , культуру. Ну, а буржуа?
„Буржуа по уши погряз в своих классовых предрассудках, в
принципах, привитых ему с детства; с ним ничего поделать нельзя, он
по существу консервативен, хотя бы и в либеральной форме, его интересы неразрывно связаны с существующим строем, и он для всякого
движения вперед человек мертвый. Мало-по-малу он перестает стоять
во главе исторического развития, и его место пока юридически, а со
временем и фактически—занимает рабочий".
Любопытнейшие строчки о б о е в о й культурности н е м е ц к о г о
рабочего класса находим у того же Энгельса—в предисловии к статье
о кельнском процессе Карла Маркса (1849), напечатанном в „Новой
Рейнской Газете" (1885). Говоря о том, что мартовскую революцию
1848 года „ с д е л а л р а б о ч и й " , Энгельс о последующем добавляет:
„Прусская буржуазия, которая уступала правительству одну позицию за другой из страха перед судорогами пролетариата, тогда еще
отчасти находившегося во власти грез,—буржуазия, которая уже давно
раскаялась в своих прежних вожделениях власти, которая уже с марта
от страха не знала, куда ей деться, потому что здесь ей грозно противостояли силы старого общества, сгруппировавшиеся вокруг абсолютизма, а там—юный пролетариат, пробуждающийся к сознанию
своего классового положения,—прусская буржуазия поступила так,
как она всегда поступает в решительную минуту: она ретировалась.
А рабочие были не настолько глупы, чтобы драться за буржуазию
без буржуазии"...
Обратите, кстати, внимание на культурную м е т о д о л о г и ю
Энгельса. Энгельс отнюдь не за а б с о л ю т н ы й боевизм рабочих.
Наоборот: в одном случае он относит боевизм в „актив" рабочих, а
в другом, когда это рабочим не выгодно—в „пассив". Рабочие же „были н е н а с т о л ь к о г л у п ы , чтобы"!.. Средство, нужное рабочему сегодня, может завтра обратиться в свою собственную противоположность. Так же, если не ошибаемся, веч рабочий каасс и покойный русский учитель. Как бы поступил в этом случае тов. Троцкий со своей
к о п и л к о й культуры? Боевизм или небоевизм слож ІЛ бы он в копилку?
Дальше!
Высоко-интересные строчки—о с п е ц и ф и ч е с к о й культурности
(или некультурности) уже ф р а н ц у з с к о г о пролетариата и ф р а н ц у з с к о й буржуазии, к моменту бонапартистского переворота 1851
года—находим и у самого Карла Маркса.
В „Восемнадцатом Брюмера Луи Бонапарта" (1869), характеризуя
парламентскую и внепарламентскую группы французской б у р ж у а з и и ,
Маркс говорит:
„Как я показал, п а р л а м е н т с к а я п а р т и я п о р я д к а своими
криками о спокойствии себя самое (1851) обрекла на спокойствие; она
объявила политическое господство буржуазии несовместимым с безопасностью и самым существованием буржуазии (ср. русский меньшевизм 1917—18 года!— Н. Ч.); в борьбе с другими классами общества
она собственной рукой уничтожила все предпосылки своего собственного режима, режима парламентского. С другой стороны, в н е п а р л а м е н т с к а я м а с с а б у р ж у а з и и рабской угодливостью по отношению к президенту, ругательными выходками против парламента,
жестоким преследованием собственной прессы—провоцировала Бонапарта к подавлению и к полному искоренению ее же говорящей и
пишущей братии, ее политиков и литераторов, ее ораторских трибун
и прессы,—она мечтала о счастливом моменте, когда она получит возможность с полным спокойствием отдаться своим частным делам под
защитой сильного и неограниченного правительства. Она откровенно
заявляла, что жаждет освободиться от своего собственного политического господства, чтобы сбросить с себя труды и опасности власти".
Так неумно и неумело боролась за свое классовое существование
ф р а н ц у з с к а я б у р ж у а з и я 1851 г о д а (не смешивать с героическим периодом ее борьбы 1789 г о д а ! ) , — т а к о в ы б ы л и е е п у т и и
с п о с о б ы „ б о р ь б ы " , т.-е. е е „ к у л ь т у р а " ; и—любопытное явление!—так понизилась ее культурность по сравнению с периодом великой французской революции, с какой бы точки зрения „культуру" и
„культурность" ни рассматривать!
А как же п р о л е т а р и а т ?
„И эта буржуазия,—продолжает Маркс,—которая уже возмущалась чисто парламентской и литературной борьбой за господство своего собственного класса, которая предала вождей этой борьбы,—теперь, post festum, с м е е т у п р е к а т ь п р о л е т а р и а т за то, что он
не восстал, не начал ради нее кровавой борьбы не на жизнь, а на
смерть! Буржуазия, которая решительно всегда жертвовала своим
общим классовым интересом, т.-е. интересом политическим, в угоду
самым ограниченным, самым грязным частным интересам и требовала
того же от своих представителей (недурная оценка „буржуазной культуры"!— Н. Ч.),— она вопит теперь, что пролетариат принес ее идеальные политические интересы в жертву своим материальным интересам.
Она корчит из себя оскорбленную невинность, которую не признал
пролетариат, „обманутый социалистами", и покинул в решительный
момент. И она находит единодушный отклик сочувствия во всем буржуазном мире. Я укажу хотя бы на тот же „Экономист", который
29 ноября 1851 года, т.-е. за четыре дня до государственного переворота, называл Бонапарта „стражем порядка", Тьера и Беррье „анархистами", а 27 декабря 1851 года, когда Бонапарт успокоил этих „анархистов", кричит о предательстве „ н е в е ж е с т в е н н о й , н е в о с п и т а н н о й , т у п о й п р о л е т а р с к о й м а с с ы по о т н о ш е н и ю к
искусству, знанию, д и с ц и п л и н е , д у х о в н о м у
влиянию,
интеллектуальным способностям и моральному
весу
с р е д н и х и в ы с ш и х к л а с с о в о б щ е с т в а " (ср. с современными
оценщиками культурности р о с с и й с к о г о пролетариата,—поразительное сходство! Н. Ч.). Т у п о й н е в е ж е с т в е н н о й и п о ш л о й м а с с о й , — сопоставляя, заключает Маркс,—был н и к т о и н о й , к а к
именно масса
буржуазии".
Такова сравнительная оценка культурности и культур английских, немецких и французских буржуазии и пролетариата, данная
основоположниками научного социализма—еще к о в р е м е н и п е р вого
осознания
пролетариатом
своего
классового
п о л о ж е н и я , в р а м к а х б у р ж у а з н о г о (и ф е о д а л ь н о - б ю р о кратического) общества.
А ведь, с тех пор рабочий класс России впитал в себя и боевой
и мирный опыт и английского, и немецкого, и французского рабочих
классов, и ныне уже в о з в р а щ а е т взятые у них уроки—с п р о центами!
Так—KàK же вы откажете ему в е г о культуре?!
Диалектика пролетарской культуры.
Рабочий®]класс СССР—это изумительнейший мировой таран в
схватке культур, изобретающий все новые и новые „средства".
Ц е л е с о о т в е т с т в и е — э т о единственный критерий для оценки
р а з ' н о в и д н е й ш и х путей осуществления рабочим классом исторических его задач и восхождений к целям.
Мы потому именно считаем бесплодным практикуемый нашими
товарищами подход к пролетарской (да и вообще) культуре, как к
к о п и л к е , что примеры разрешения пролетариатом его классовых задач могут быть не только качественно разновидны, но и д и а м е т р а л ь н о-п р о т и в о п о л о ж н ы.
Так, б о е в и з м французского, тогда еще зародышевого, рабочего
класса в 1789 году—в о к р у ж е н и и д е р у щ е й с я
буржуазии—
приветствуется основоположниками коммунизма,—в то время как ими
же приветствуется в о з д е р ж а н и е от выступтения того же пролетариата в 1851 году, когда обстановка была неблагоприятна для выступления. Это не значит, конечно, что рабочий класс не должен выступать в с е г д а , когда нет непосредственной классовой выгоды или
же политическая ситуация не гарантирует прямого успеха. Нет, историческая стратегия диктует иногда необходимость выступления и в
относительно неясной боевой обстановке. Но—это значит только, что
волепобедный класс должен диалектически подковывать себя соответственно целям, а значит и—во всякой данной обстановке выявлять
наиболее целесообразное средство.
Наиболее целесообразным средством в 1917 году, в обстановке
мелкобуржуазной по существу и преобладающе солдатско-крестьянской
революционной стихии, было провозглашение п р о л е т а р с к о й д и к т а т у р ы : как некоего организующего начала, во-первых, и в целях
исторически-классовой продвижки, во-вторых. Вот почему и гениальный
стратег пролетариата безбоязненно бросает лозунг „экспроприации
экспроприаторов", призывая пролетариат к восстанию, захвату власти
и прямому
классовому
штурму б у р ж у а з и и
во и м я
нового распределения и производства.
Ленин, вероятно, очень бы нравился анархистам, если бы он и в
1918 и в 1919 году, в обстановке экспроприированной уже пролетариатом буржуазии, продолжал твердить о „грабеже награбленного", а
не шел бы за это штурмом на анархистов. Но, ведь, Ленин на анархистов шел. Вот мы и спросим вас, друзья: как же вы лозунг „экспроприация экспроприаторов" положите в копилку пролетарской культуры? В и с т о р и ч е с к о м м у з е е с р е д с т в — в о т , г д е е д и н с т в е н н о е е г о м е с т о . Да и то: что скажут анархисты?
С изменением соотношения сил, приходится менять и средства.
И вот—тот же самый рулевой, что призывал к прямому штурму в
917-м году,—позднее, в 1920-м году, с изменением обстановки, неналаженностыо отношений с деревней и выяснившейся тенденцией к большей и большей и з о л и р о в а н н о с т и
пролетариата, заблаговременно предупреждает:
„Признать диктатуру пролетариата это не значит—во что бы
то ни стало в л ю б о й м о м е н т итти на штурм, на восстание. Это—
вздор. Для успешного восстания нужна длительная, умелая, упорная,
великих жертв стоящая подготовка".
Годное в 1917 году, в условиях левой стихии, средство никуда
не годно было бы в 20-ом, когда культура заключалась не в углублении уже позиций, достаточно углубленных, а в расширении питающей
революцию базы.
„Пролетарский авангард идейно завоеван. Это главное. Без этого
нельзя сделать и первого шага к победе. Но от этого еще далеко до
победы. С одним авангардом победить нельзя. Б р о с и т ь о д и н
т о л ь к о а в а н г а р д в р е ш и т е л ь н ы й б о й , пока весь класс, пока
широкие массы не заняли позиции либо прямой поддержки авангарда,
либо, по крайней мере, благожелательного нейтралитета по отношению
к нему и полной неспособности поддерживать его противника, б ы л о
б ы не т о л ь к о г л у п о с т ь ю , но и п р е с т у п л е н и е м " .
Отсюда—и борьба со всяким некультурным, т.-е. негибким, упражнением диктатуры.
„Признать диктатуру пролетариата, это значит: коренным образом переделать повседневную работу партии, спуститься вниз, к тем
миллионам рабочих, батраков и мелких крестьян, которые не могут
избавиться от бедствий капитализма и войн без советов, без свержения буржуазии. Вот—что значит диктатура пролетариата".
И вот—что значит к у л ь т у р а п р о л е т а р с к о й п а р т и и .
Для того, чтобы вести—нужно максимально гибко устанавливать
н а ц е л и класса все прямые и обходные его п у т и и с р е д с т в а .
Чем культурнее рабочий класс, тем более... н е п р а в а на культурность, а о б я з а н н о с т и быть культурной, получает его партия. Максимальная гибкость тактики есть максимальная партийная культура.
Дело не в том, чтоб накопить как можно больше „достижений",—
дело в том, чтобы уметь то или иное, максимально нужное по времени,
„достижение" (методологически это будет „средство") из истории
извлечь, а за отсутствием—„изобрести", и—своевременно пустить в
ра боту.
Максимум „достижений"—еще не максимум культуры. Нужно
уметь этими „достижениями" распорядиться.
Класс, „накопивший 41 много „ценностей44, но не умеющий (или
утративший, за социальной старостью, способность) именно р а с п о р я д и т ь с я , есть не более, как обреченный, мертвый класс, а „достижения" этого класса суть не более, как м е р т в а я к у л ь т у р а .
Пролетариат, вскрывший культурные сейфы буржуазии, потому
именно и культурен, что жив. Волепобеден. Молод. И умеет не только
р а с п о р я д и т ь с я „достоянием истории", но и новые и новые приемы
по пути к конечной цели и з о б р е т а т ь .
Не все, конечно, изобретенные или извлеченные приемы нам
одинаково нравятся, но все они р о в н о п о с т о л ь к у х о р о ш и , п о с к о л ь к у необходимы и гибки.
Некоторые товарищи и сейчас еще сердятся на Нэп, но, ведь,
Н э п не потому был и с т о р и ч е с к и х о р о ш , что уж очень нам нра-
вился, но только потому, что из всех приемов временного отхода—на
доподлинно з а р а н е е заготовленные позиции—был выбран н а и б о л е е
у д а ч н ы й : наиболее лишенный паники и наиболее питательных соков
для революции извлекающий.
И все же, было бы, конечно, н е к у л ь т у р н о , если б молодая
государственная промышленность наша не получила б твердой установки на п о б е д у , ибо прекрасно изобретенное средство обратилось
бы тогда в „дурную бесконечность".
Равным образом, н е к у л ь т у р н о было бы, если бы пресловутое
„наступление буржуазии на идеологическом фронте" встретило бы...
наше собственнее о т с т у п л е н и е (де-факто), как бы мы (де-юре)
идеологически ни „наступали".
Точно так же и с диктатурой.
Не потому хороша диктатура, что она именно п р о л е т а р и а т у
присуща, как е г о культура (наоборот, со всеми ее прелестями из чужой
истории извлечена), а потому, ч т о — ц е л е с о о б р а з н а .
И все же, было бы вот именно нецелесообразно, если бы приемы
диктатуры класса постепенно не социализировались бы, по мере
растворения самого пролетариата в бесклассовом обществе. Точнее—
это просто невозможно. Равным образом, н е в о з м о ж н о было бы,
чтоб диктатура пролетарского п р и к а з а самым актуальным образом
не обращалась бы в диктатуру п о к а з а , о чем так часто напоминал
нам покойный учитель.
Пролетариат—говорят—малоучен, а потому, мол, и некультурен.
Это попросту неверно. Пролетариат действительно малоучен, но—не в
пример многоучившейся буржуазии—он обстоятельно и прочно учится...
и с к у с с т в у п о б е ж д а т ь , и п о т о м у к у л ь т у р е н . Буржуазия
вяло училась у истории, боясь остроконечных выводов, и никакие
„памятники" „вековой" „культуры" не спасут ее от неизбежной передачи станционного жезла насменному классу.
Правда и то, что у пролетариата были такие недурные учебники
культуры, как Маркс и Ленин, каждая страница которых стоит доброго
курса исторической фармакологии....
Ленин и пролетарская культура.
Ленин поругивал носителей „идеи пролетарской культуры", поскольку пробивалась кое-где тенденция к подмене пролетарской культуры кабинетно-пролетарской выделкой и выглядывающим из-за нее
ласковым „социалистическим человеком". Но Ленин сам был величайшим порождением пролетарской культуры, и Ленин делом всей своей
жизни учил этой культуре.
Изучать, что Ленин говорил о пролетарской культуре—это значит
изучать в с е г о Ленина. Но не те, конечно, запятые о „пролетарской
культуре" в кавычках, о которые так любят тыкать нас наши друзья.
Теория подходов и отходов, теория целенаступлений и отступлений класса—есть лучшая теория пролетарской культуры.
„Именно великое поражение,—учит Ленин,—дает революционным
партиям и революционному классу настоящий и полезнейший урок.
Урок исторической диалектики, урок понимания, уменья и и с к у с с т в а
вести политическую борьбу".
И иллюстрирует:
„Победивший царизм (1907—1910) вынужден ускоренно разрушатьостатки добуржуазного, патриархального быта в России. Буржуазное
развитие ее шагает вперед замечательно быстро. Внеклассовые, над-
классовые иллюзии, иллюзии насчет возможности избегнуть капитализма
разлетаются прахом. Классовая борьба выступает совсем по-новому
и тем более отчетливо".
Столыпинская ставка на „крепкого мужика"—это последняя, быть
может, судорога ц а р и с т с к о й к у л ь т у р ы , т.-е. последний бюрократически-боевой прием в и з м е н и в ш е й с я классовой обстановке. И—
прием у д а ч н ы й . Победивший автократизм наступал. Вчера еще нападавшей революции приходилось обороняться.
Штурман покалеченного корабля заносит в путевой журнал:
„Революционные партии должны доучиваться. Они учились наступать. Теперь приходится понять, что эту науку необходимо дополнить
наукой, как правильнее отступать. Приходится понять,—и революционный класс на собственном горьком опыте учится понимать,—что нельзя
победить, не научившись правильному наступлению и правильному
отступлению. Из всех разбитых оппозиционных и революционных партий
(1107—1910) б о л ь ш е в и к и о т с т у п и л и в н а и б о л ь ш е м
порядке
с наименьшим ущербом для их армии, с наибольшим сохранением ядра
ее, с наименьшими по глубине и неизлечимости расколами, с наибольшей способностью возобновить работу наиболее широко, правильно,
и энергично".
Значит, действия большевиков, в общем и целом,были к у л ь т у р н ы .
Но—во всем ли?
Нет, конечно. Были и ошибки. Не основанный на правильном учете обстановки и учете сил
п р и е м — о ш и б к а . А тем более—прием, практикуемый л и ш ь в с и л у
застарелой привычки.
Об одном из вредных трафаретов действий вспоминает Ленин
в „Детской болезни левизны" (1920).
„В 1908 году,—пишет он,—„левые" большевики были исключены
из нашей партии за упорное нежелание понять необходимость участия
в реакционнейшем „парламенте". „Левые" опирались особенно на
у д а ч н ы й опыт с бойкотом в 1905 году".
Но „левые" не учитывали разницы обстановок.
„Когда царь в августе 1905 года объявил созыв совещательного
„парламента", большевики объявили бойкот его—против всех оппозиционных партий и против меньшевиков,—и октябрьская революция 1905
года действительно смела его. Т о г д а б о й к о т о к а з а л с я п р а в и л ь н ы м не п о т о м у , ч т о п р а в и л ь н о в о о б щ е н е у ч а с т и е в реакционных
парламентах, а потому, что в е р н о
было
у ч т е н о о б ъ е к т и в н о е п о л о ж е н и е , ведшее к быстрому превращению массовых стачек в политическую, затем в революционную
стачку и затем в восстание. Притом борьба шла тогда из-за того, оставить ли в руках царя созыв первого представительного учреждения
или попытаться вырвать этот созыв из рук старой власти. П о с к о л ь к у
ж е не б ы л о и н е м о г л о б ы т ь уверенности в наличности аналоги чного объективного положения, а равно в одинаковом направлении
и темпе его развития, п о с т о л ь к у б о й к о т п е р е с т а в а л б ы т ь
правильным".
Выходит так, что ни „участие" и ни „бойкот" нельзя сложить
в„органическицелостную и внутренне согласованную"
копилку „практических приемов" товарищей Сизова и Троцкого, ибо,
сложенные рядышком в копилку, они, т.-е. приемы, обязательно подерутся.
Живая диалектика приемов есть логическое производное диалектики отношений.
u
„Большевистский бойкот „парламента" в 1905 году,—продолжает
Ленин,—обогатил революционный пролетариат чрезвычайно ценным политическим опытом, показав, что при сочетании легальных и нелегальных,
парламентских и внепарламентских форм борьбы иногда полезно и даже
обязательно уметь отказаться от парламентских. Но слепое, подражательное, некритическое перенесение этого опыта на и н ы е условия, в
и н у ю обстановку, является величайшей ошибкой. Ошибкой, хотя и
небольшой, легко поправимой, был уже бойкот большевиками Думы
в 906 году. Ошибкой серьезнейшей и трудно поправимой был бойкот
в 1907, 1908 и следующих годах, когда, с одной стороны, нельзя было
ждать очень быстрого подъема революционной волны и перехода ее
в восстание, и когда, с другой стороны, необходимость сочетания легальной и нелегальной работы вытекала из всей обстановки обновляемой буржуазной монархии".
Поскольку всякий полученный „опыт" есть уже достижение,—а
таковым именно был опыт с первым бойкотом,—мы менее всего должны
стремиться к обращению этого достижения в некую культурную с а м о ц е л ь , со всеми вытекающими отсюда ошибками „несменяемости",
„вечности" и „ценности к у л ь т у р ы в о о б щ е " , — н о мы, как диалектики,
обязаны, н а п р о т и в : подходить к расценке достижения главнейше
в п л а н е с р е д с т в а , проверяя с точки зрения достигнутого головные
схемы исторических предначертаний.
Опыт есть единственный корректор схем, обогащающий человечество или класс все большей и большей у т о ч н е н н о с т ь ю систем,
рассматриваемых опять-таки в плане средства.
„Нам надо,—пишет Ленин именно об опыте, перенося центр тяжести от целей к средствам,—нам надо изучать о с о б е н н о с т и в
высшей степени трудного и нового п у т и к социализму, не прикрывая
наших ошибок и слабостей, a стар.іясь во-время д о д е л ы в а т ь недоделанное".
И:
„Для нас теория есть (нота-бене!—Н. Ч.) обоснование предпринимаемых действий".
Но—отнюдь не „вещь в себе".
„Недостаточно еще быть сторонником социализма или коммунистом вообще. Надо уметь найти в к а ж д ы й м о м е н т то о с о б о е
зв но цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтоб удержать
всю цепь и подготовить прочно п е р е х о д к следующему звену, при
чем п о р я д о к з в е н ь е в , и х ф о р м а , и х с ц е п л е н и е , и х о т л и ч и е д р у г от д р у г а в и с т о р и ч е с к о й ц е п и с о б ы т и й не т а к
п р о с т ы и н е т а к г л у п ы , как в обыкновенной, кузнецом сделанной, цепи".
Выработка правильных приемов революционной культуры „облегчается правильной революционной теорией", н о—слушайте, слушайте:
„Правильная революционная теория, в свою очередь, н е я в л я е т с я д о г м о й , а окончательно складывается л и ш ь в т е с н о й с в я з и с п р а к т и к о й действительно массового и действительно революционного движения".
Побольше внимания диалектике опыта, побольше корректирования этим опытом „предпринимаемых действий"!—вот сущность адогматизма Ленина.
„Марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты действительности, а н е п р о д о л ж а т ь ц е п л я т ь с я за т е о р и ю
вче-
р а ш н е г о д н я , которая, как всякая теория, в лучшем случае л и ш ь
н а м е ч а е т основное, общее, л и ш ь п р и б л и ж а е т с я к охватыванию сложности жизни".
Здесь—полное отрицание предвзятой „целостности" всякой вообще теории,—в том числе и „культуры, как р а з в е р н у т о й системы",—здесь полное, наоборот, методологическое привлечение внимания к охвату
„сложности"
явлений, к диалектике ж и в ы х
поправок,—явная, наконец, методологическая заинтересованность в развитии путей „в к а ж д ы й м о м е н т " , в уменьи именно „ухватиться"
за „ о с о б о е " каждый раз, довлеющее цели, средство.
Цели и системы намечаются, конечно, заранее, но „события" так
редко складываются „внутренне согласованно" (для этого они „не так
просты и не так глупы"), что к целям мы приходим не такими и не
так, как и какими отправлялись. Мясо современности безжалостно
врастает в костяки систем, и подходить к культуре, как к развернутой
системе, можно т о л ь к о — п р е д н а м е р е н н о о т б р а с ы в а я
мясо.
Тов. Троцкий так и делает.
I
Полемизирующий с ним тов. Сизов пытается как бы наметить ком! промисс, но, в силу уже неправильного методологического подхода,
1 повторяет все ошибки Троцкого.
*
Ну, а далее уже тянут в сторону от живой действительности
„социалистические методы пролетарской культуры" и „социалистические человеки".
Диалектика приемов подменяется все более и более мертвящим
догматизмом...
Ж и в о й о т б о р н у ж н ы х п р и е м о в , н и к о г д а не з а с т ы вающих, а
з н а ч и т—и б е с с т р а ш н о е , и б о
прекрасное,
о б р а с т а н и е бумажных схем плотью б о р ь б ы и к р о в ь ю
д о с т и ж е н и й , к о р р е к т и р у ю щ и х с х е м ы,—в о т г д е т о л ь к о
пролетарская
к у л ь т у р а . И всякая иная вообще культура.
Всякий путь продвижки класса. К исторически далеким или близким
его свершениям.
Тончайшую диалектику продвижки ленинизма (один из псевдонимов пролетарской культуры) на перегоне всего только ФевральОктябрь—ретроспективно отмечает Ленин.
„Свою победоносную борьбу против парламентарной буржуазной
республики,—пишет он (1920),—большевики начали оч.нь осторожно
и подготовляли вовсе не просто, вопреки тем взглядам, которые нередко встречаются теперь в Европе и Америке. Мы н е призывали в
начале указанного периода к свержению правительства, а разъясняли
невозможность его свержения б е з предварительных изменений в
составе и настроении Советов. Мы не провозглашали бойкота буржуазного парламента, учредилки, а говорили,—с апрельской (1917)
конференции нашей партии говорили официально от имени партии,—
что буржуазная республика с учредилкой лучше такой же республики
бет учредилки, а „рабоче-крестьянская", советская, республика лучше
всякой буржуазно-демократической, парламентарной, республики. Без
такой осторожной, обстоятельной, осмотрительной и длительной подготовки (диалектическим углуЗлением приемов.—Н. Ч.) мы не могли
бы ни одержать победы в октябре 1917 года, ни удержать этой
победы".
Сравните этот непрерывно изменяющийся ц е л е в о й п р о ц е с с —
j процесс установки необходимых целевых п р и е м о в — с „развернутой
/ культурой" тов. Троцкого, и вы увидите, что разница между ними
і такая же, кзк между живым и мертвым.
Культура на фронтах.
В ближайшие задачи нашей работы входит только периая, в определенном плане, п о с т а н о в к а вопроса о культуре,—в частности о
V пролетарской культуре>—но вовсе не исчерпывающий вопрос о культуре трактат. Вот почему только в порядке и л л ю с т р а т и в н о й
конкретизации вопроса приведены нами и отдельные фрагменты
п о л и т и ч е с к о й культуры,—на примере Ленина,—но вовсе не на
предмет детальной проработки всех культурных фронтов.
Кстати—разница в терминологии.
К у л ь т у р н и к и : „открылся новый фронт—культуры" (просвещенский).
М ы : „культура на таком-то фронте".
Культура—т.-е. уменье выдвигать целевые приемы—на фронте
политическом.
Культура—на п р о и з в о д с т в е н н о м фронте.
Культура —на фронте о с о з н а н и я .
Фронте—и с к у с с т в а .
И т. д.
Но—никогда не—
—„фронт культуры",
вещи в себе.
Итак:
Культурой политического фронта не исчерпывается, конечно,
культура класса. Но одна уже политическая боеспособность рабочего
класса—показательна. Воля к победе, изумительная выдержка, соединенная с необычайно-гибким выдвижением новых и новых приемов достижений цели—свидетельствуют о большой культурности молодого
пролетариата СССР не на одном лишь политическом фронте. Культурность эта не вырабатывалась—это верно—веками, но вряд ли
преувеличением будет сказать, что каждый гсд диалектического бытия пролетариата в рамках современного капитализма, а далее и в
окружении капитализма, стоит десятилетия продвижки буржуазии.
Не нужно забывать и того, что самый пышный буржуазный расцвет в нашем отечестве приходится на годы не столько государственной, бытовой или научной культуры именно буржуазии, сколько на
годы самоссознания, молодого боевого творчества, а далее и боевого
крещения, рабочего класса.
Не даром же в эти именно годы родилась и кузница для выковки орудий этого класса—РКП; не даром же и самая история РКП
есть история оформления,крутого роста и невиданного еще в истории
волевого напряжения рабочего класса.
Буржуазия слишком чувствовала за плечами классового своего
могильщика, для того, чтобы не попытаться спровоцировать его на
преждевременную п р о и з в о д с т в е н н у ю драку. Лишь исключительная выдержка и гибкость тактики пролетариата позволили ему, искусно маневрируя, противостоять, с одной стороны, натиску анархозахватнической, мелкобуржуазной по существу, стихии, а с другой—
т а к т и ч е с к о м у н е п р о т и в л е н с т в у крупной буржуазии, предпочитавшей временно заняться с в е р т ы в а н и е м капитализма и капиталов, с тем, чтебы тем вернее придушить вынужденный хозяйствовать на фоне разрухи, неумелый еще, пролетариат—в союзе с буржуазной интервенцией.
Целый ряд тактических приемов,— начиная от рабочего контроля
над производством, во всей его разновидности, включая профсоюзно-
производственную агрессивность, на фоне полулегального существования партии, и кончая диктатурой пролетариата, как средством восстановления народного хозяйства и дальнейшего уже установления
новых, социалистических, способов производства,—каждый тактическипроизводственный шаг пролетариата есть сплошная демонстрация,
вот именно, „осторожной, осмотрительной, обстоятельной и длительной
подготовки"—сначала к изъятию народного хозяйства из руководства
буржуазии, а потом и к выполнению своих собственных производственных назначений, как последнего класса.
И опять-таки: не в том, конечно, производственная культура
пролетариата, что он добился или „достиг", скажем, „рабочего контроля над производством", а в том, что и это свое д о с т и ж е н и е
он не обратил ни на минуту в фетиш, но всячески использовал его,
наоборот, как с р е д с т в о для дальнейшего перерастания в „завтра".
И позднее: все подходы и отходы победившего уже в первой
схватке пролетариата, вплоть до наших дней, являют столь невиданную еще в истории картину сплошного преодоления сопротивляемости
производственной среды, что просто-на-просто невозможно, чтобы
свивший такую а д с к у ю культуру класс,—кстати, уже выведший
страну из состояния хозяйственной катастрофы,—не выполнил бы до
конца и основной своей задачи.
Еще авторы „Коммунистического манифеста" предрекали:
„С развитием крупной промышленности, вырывается из-под ног
буржуазии то самое основание, на котором она производит и присваивает себе продукты. Она производит, прежде всего, своих собственных моги іыциков. Ее поражение и победа пролетариата одинаково
неизбежны".
Опыт именно р о с с и й с к о г о пролетариата,—по непредвиденной
„игре судьбы" и вопреки всем видам теоретиков индустриального
с о ц и а л и з м а , — п е р в ы й начинает подтверждать это научное пророчество. И он же первый начинает к о р р е к т и р о в а т ь
по-своему
эту прекрасно согласованную изнутри систему.
Мы не потому, конечно, захватили власть, что „объективные
условия" для этого, в виде „крупной промышленности" в перзую голову, так уж действительно созрели,—как в этом уверяли нас еще
недавно некоторые „левые" наши товарищи, путавшиеся между наро аничеством и коммунизмом,—а главнейше потому, что все „события", приведшие к Октябрю, настолько вопреки „органической целостности" всех известных нам теорий развернулись, что нам уже простона-просто не оставалось иного выхода. И эти же самые „события",—
которые, как известно, „не так просты и не так глупы",—вынуждают
нас и ныне, вопреки научнейшей из систем, оставаясь в окружении
капитализма, выходы нащупывать не столько в оборудованно-индустриальном Западе, с к о л ь к о — т а к т и ч е с к и ! — в отсталом Востоке.
Перед нами—не только классовая задача осуществления бесклассового общества на почве крупной машинной индустрии, но и самая
элементарная з а д а ч а — в ы д ю ж и т ь . С одной стороны, нам приходится
форсированным маршем пропускать нашу, в потенции лишь крупную,
государственную промышленность сквозь строй деревенской по преимуществу страны, а с другой—мы вынуждены искать союза с той же деревней и Востоком. Две р а з л и ч н ы х классовых задачи—два различных к у л ь т у р н ы х подхода!
По странной диалектике истории, как бы равняясь на деревню и
Восток, мы завоевываем в действительности „признанна" Запада.
Здесь—наше право на особняковое „коммуноустремительное" суще-
ствование, но здесь же—и наша опасность: успокоиться на безбольном
отходе. А далее—и раствориться в нэпо-попутной среде. Утратить
так пугавшее когда-то Европу наше лицо.
Перед лицом этой опасности—мы д о л ж н ы б ы т ь в о ч т о б ы
т о н и с т а л о к у л ь т у р н ы , т.-е. должны выковывать все новые и
новые орудия продвижки, противоставляя нашу максимальную готовность „опередить" настойчивому бегу частного капитала.
Оглянитесь назад: разве не большие опасности перед нами стояли? И разве не справился с ними рабочий класс?
Скачка от „капитализма де-факто" к „социализму де-юре"; от
последнего—к социализму „распределения де-факто" и социализму
„производства де-юре"; от „военного коммунизма" и „продразверстки"
к „продналогу" и „свободной торговле"—все это такая л о м а н а я поисков революционно-хозяйственной „равнодействующей", которая говорит об огромной жизнедеятельности революции и, в первую голову,
о предельном желании пролетарской революции стоять
на п р о ч н о й п р о и з в о д с т в е н н о й б а з е .
Перед нами еще—неизбежное обрастание геометрически „чистой"—
от хозяйственной чересполосицы наших дней к социалистическому способу
производства—не всегда приятным мясом эпохи, но это уже—да простят нас любители „чистых" культурных л и н и й — о р г а н и ч е с к и н е и з б е ж н о , пока социализм идет... ex orientae! Было бы преступлением с
нашей стороны отказываться от благоприятствующих нам—на предмет
„продержаться"—ориентаций, но одновременно и смычка с крупной
индустрией Запада представляется для нас задачей колоссальной необходимости.
Вот почему—центр тяжести производственной культуры пролетариата и до сих пор еще, на седьмом году его диктатуры, помещается
не в непосредственной плоскости уплаты по социалистически-производственным векселям, а в плоскости производственной т а к т и к и рабочего класса, производственной его, и всякой другой, п о л и т и к и , в
плоскости б о р ь б ы рабочего государства за п р а в о своего производства, за в о з м о ж н о с т ь к этому производству реально перейти.
Вернее: не столько—сколько.
Ясно отсюда, какое значение в наших глазах приобретает культура именно на п о л и т и ч е с к о м фронте, как все еще необходимо
рабочему классу и сейчас подковывать себя покрепче в п л а н е д р а к и ,
и как именно нелепо было бы думать, что прямые, „чистые" линии,
эмансипации от „перевалов" и прочие „социалистические человеки"
выведут нас на путь „мирной культуры".
Путь органического строительства последнего класса есть все же—
классовый путь. Культура пролетариата—каковы бы ни были его тенд е ции—есть, перво-на-перво, культура к л а с с а . А культура класса
меняется, в зависимости от изменений в классовых „целях". Как изменяются эти последние—мы уже знаем.
Два слова—о культуре о с о з н а н и я .
Мало, конечно, строить, т. - е. действовать,—нужно еще уметь
о с м ы с л и в а т ь свои действия, как бы инстинктивно правильны они
ни были. Нужно изучать отдельные „приемы",—нужно обращать их в
„обоснование предпринимаемых действий".
И опять-таки: дело не в том, чтобы как можно больше всяческих
„приемов" знать,—сие есть дело нумизматов и номенклатурщиков,—а
в том, чтобы хотеть у м е т ь их применять, уметь х о т е т ь их наилучше
использовать.
Буржуазия знала много целевых приемов, но она давно уже утратила
способность самоустановки на общественно-организаторские цели. Дело
пролетариата—довести производственную орган, зацию общества до конца.
Страх перед могильщиком лишил буржуазию воли к действию,—вот
почему и „знание" ее не есть обоснование организующих действий,
а—накопление для накопления, а вещь в себе. Наука буржуазии если
еще и оплодотворяется, то чисто-спекулятивными целями. Искусство
буржуазии есть лишь способ ухождения от действительности, но не
строение реальной жизни. Так называемая „культурная буржуазия"
утрачивает—явно—„бытие" от перегрузки „сознания".
Дело пролетариата—экспроприировать интеллектуальные „достижения" буржуазии, лишив их мертвого самодовления. Дело пролетариата—использовать и все удачные „приемы" буржуазии, не поддаваясь, однако, ни на минуту на удочку „жречества".
Как бы ни были количественно малы интеллектуальные завоевания рабочего класса, но качественно сни и сейчас уже огромны. Диалектический подход к познанию и строению вещей есть лучшее ручательство
того, что классовые цели пролетариата будут им достигнуты. Нужно
только помнить, что и „ з н а н и е " е с т ь т о л ь к о „ с р е д с т в о " ,
и—в у м е н ь и и х о т е н ь и э т о с р е д с т в о п р и м е н и т ь и з а к л ю чается культура
класса.
Никакого окаменелого замыкания в „вечных ценностях"! Никакого
богослужения „всеобщим" самоцелям!
„ В с е о б щ и е и необходимые идеи, используемые людьми в обществах с ч а с т н о й собственностью для организации с в о е й гражданской и политической жизни,—писал в „Экономическом детерминизме"
П. Лафарг,—будут излишни, н е н у ж н ы для регулирования человеческих отношений в б у д у щ е м обществе, с общей собственностью.
И с т о р и я их с о б е р е т и р а з м е с т и т в с в о е м м у з е е д л я м е р т вых и д е й " .
То же—с оговоркой на „переходность"—приложимо и к пролетарскому обществу. Нужно экспроприировать „идеи" хотя бы у дьявола, у ч и т ы в а я и х д е т е р м и н и ч н о с т ь , — но идеи „в плане
абсолюта" годны разве лишь на то, чтоб „разместить" их в лавочке
антиквария.
Рабочий класс уже сейчас, к моменту относительного перевеса
практики, нуждается не столько в голом усвоении „идей", как именно
в практической их применимости. Здесь—наше отношение к „наследству прошлого". В дальнейшем—сколько представляем—будет так же.
Н а и м е н ь ш е е з а к о с т е н е н и е „идей" при н а и б о л ь ш е й у п р а ж н я е м о с т и с а м о г о их „ з н а н и я " — в о т н а ш а ф о р м у л а к у л ь т у р ы
на н а у ч н о м ф р о н т е .
Культурники, привлекающие внимание пролетариата к усвоению
„наследства прошлого", делают полезное для рабочего класса дело,
но они определенно работают на мертвецов, пряча в карман марксистскую методологию.
Динамика живого класса требует не только исключительной текучести приемов действия, но и п р е д е л ь н о й у с т а н о в к и с а м о й
п с и х и к и к л а с с а на ж и в ы е ц е л и .
Всякая механизация приемов действия, в том числе и механизация мышления, будучи воистину благословением, освобождающим необходимую энергию руководящего класса, есть в то же время величайшее проклятие того же класса, поскольку несет в себе р и с к о к а м е н е н и я , а значит—и о м е р т в е н и я живого аппарата, риск вползания
его в болото консерватизма.
3. Б ы т о л о г и я .
Культура и мозоли быта.
Здесь мы вплотную подошли к вопросу б ы т а .
— Культура и быт.
Но как?
— Культура (а культура есть средство в борьбе)—на ф р о н т е б ы т а .
Да, но—никогда не:
— быт в культуре.
Последнее—в нашей постановке вопроса о культуре—было бы
просто-на-просто—nonsens.
И в самом деле: что такое быт?
Некоторые товарищи определяют быт, как некую предпосылку
культуры. На быте, мол, вырастает культура. Быт и культура—это
едино. Быт—это первая ступень, а культура—вторая.
Ясно, что подходящие так к быту товарищи только подчеркивают
свой м е р т в ы й подход к культуре. Культуре—как наследству покойников.
Мы думаем, что культура не исходит из быта, а напротив—упирается в быт. И то—не обязательно. Культура м о ж е т вырождаться
в быт. Б ы т — э т о а в т о м а т и з и р о в а н н а я к у л ь т у р а .
Всякий быт консервативен.
Упражняя то или иное средство по инерции, вне целевой его
установки; фетишизируя наши приемы действий, как некий самостийный штамп,—мы натираем мозоли на средстве. М о з о л и н а ш е й к у л ь т у р ы мы н а з ы в а е м б ы т о м .
Быт господствует тогда, когда перестает действовать культура.
В одном отношении—только—можно мыслить быт культурой,—
это принимая быт, к а к п е р е д ы ш к у . Передышка—это, ведь, тоже
„средство в борьбе" и, значит, тоже может быть культурой. До тех
пор, по крайней мере, пока не обращается в самоценность.
Мы обросли мозолями быта, и это естественно постольку, поскольку нам, как классу, нужно было просто в ы ж и т ь в самых разнообразных социальных окружениях.
Быт являлся как бы защитным цветом класса работников на
разных ступенях его продвижки. Без мозолей быта класс работников
не выдюжил бы в жесткой социальной сргде.
И все же: было бы нелепостью фетишизировать мозоли быта,
как явление бессменное или как вещь в себе. Мозоли, как и всякое
средство в борьбе, „хороши" ровно постольку, поскольку своевременны и уместны...
Известный подход т. Троцкого к вопросам быта вызвал большое
недоумение.
Имеются такие г л у б о к и е напластования классового, сословногруппового или индивидуального быта, которые стираются т о л ь к о
р е в о л ю ц и е й , а т. Троцкий предлагает их лечить культурничеством.
Быт начинается там, где штампуются средства. B ö - в р е м я п а р а л и з о в а т ь э т у ш т а м п о в к у с р е д с т в — в о т что з н а ч и т : к у л ь т у р а
на ф р о н т е б ы т а . Ясно, что последнее возможно, главным образом
там, где еще свежи и поверхностны напластования. Их-то, в первую,
голову, необходимо корчевать. Необходимо не давать этим гнилост-
ным веществам отлагаться в каменный уголь. Товарищ же Троцкий
! ходит вокруг, буквально, т ы с я ч е л е т н и х отложений с тросточкой в
руках и ковыряет:
— Товарищи, не упивайтеся вином, в нем бо есть блуд, ц не ругайтесь! Жена да не боится мужа своего и ходит на октябрины!
Это ли „постановка вопроса"?
Тов. Плетнев как-то правильно заметил, что б о р о т ь с я за р е о р г а н и з а ц и ю " с е м е й н о г о и з а в о д с к о г о б ы т а — э т о з н а ч и т : бор о т ь с я за р а с ш и р е н и е б ы т а о б щ е с т в е н н о г о .
Всякий иной подход—будет от барственного заклинания.
Стоит ли тыкать тросточкой в воистину трагикомическую забитость женщины, когда нужно говорить о нормальном вовлечении женщины в производство, об общественном питании, о школах-яслях!
Стоит ли растекаться в фразеологии: — „нам нужно научиться
хорошо работать: точно, чисто, экономно",—когда нужно просто подумать о действительном вовлечении рабочих масс, включительно до
ленинской „кухарки", в управление не только производством, но и—
подумайте, как на седьмой год революции это страшно выговорить!—
но и государством!
Т о л ь к о р а с ш и р е н и е с е м е й н о г о б ы т а за с ч е т з а в о д с к о г о ,
а з а в о д с к о г о за с ч е т о б щ е с т в е н н о г о , и І - о л ь к о ц е л е в о й у п о р
о б щ е с т в е н н о г о б ы т а в р е в о л ю ц и ю , — в н е э т о й ф о р м у л ы не
м о ж е т б ы т ь ни п л о д о т в о р н о г о п о д х о д а к п е р е с т р о й к е б ы т а ,
ни д е й с т в и т е л ь н ы х , не б у т а ф о р с к и х , р е з у л ь т а т о в .
Перелистывая, лет пять назад, одну популярную ленинградскую
брошюрку, мы натолкнулись в ней на следующее, приблизительно,
обращение к рабочим: „период, мол, мыслимых нами революций завершен, никакие революции нам больше не нужны".
Оставляя в стороне всю полноту теоретической и практической
наивности подобных суждений, отметим только любопытную тенденцию. Это—стремление как бы воспитывать широкие рабочие круги на
статике последнего „отпластования". На мысли о „свершении всего
земного". На филистерском созерцании наличного благополучия. А
ежели что сверх того—„уклоны". Была, повидимому, и попытка опереться своей собственной психической усталостью о естественную —
ничего, мол, не поделаешь!—усталость масс.
Судите сами, какой же быт мог распуститься на почве подобных
толкований исторических перспектив, а главное—на почве вот такой
психической тенденции! И мудрено ли, что исчезнувший на время
быт—спешно развертывался?
/
Казалось бы, уж камня на камне от исконной, толстозадой^Руси
/ н е осталось, а „исконный, толстозадый быт во все~щёли всероссийского бытия полез"! Мало, видно, было сверху колупнуть колоду
быта,—нужно б ы л о т о г д а же, в п р о ц е с с е в с т р я с к и , в ц е л о м
р я д е о б л а с т е й д а т ь , п у с т ь бы ч е р н о в ы е , но у ж е с т о й к и е , с т а н д а р т ы п р е д с т а в л я е м о г о „ з а в т р а " , о т н ю д ь не о с т а в л я я р а з рушенного места пустым.
Беда наша заключалась в том, что в целом ряде областей у нас
не оказалось нужных „средств", а главное—не о к а з а л о с ь с о з н а н и я
н е о б х о д и м о с т и э т и „ с р е д с т в а " о к а з ы в а т ь . И в результате: спугнутый исконный быт, оправившись, нашел покинутое в страхе место
никем н е з а н я т ы м .
Что оставалось революции?
Извлечь—в первую голову—н е о б х о д и м ы е у р о к и .
Д о д е л а т ь н е д о д е л к и — в о вторую голову.
Раз уж мы где-то, в чем-то оказались некультурны,—нужно было,
по крайней мере, сделать б е с с т р а ш н ы е в ы в о д ы . А не замазывать
наших кричащих язв разговорцами о плохой брошюровке (никуда не
годных) книг, как будто в этом только все и дело.
Автор „Вопросов быта" собрался, судя по предисловию, по меньшей
мере океан зажечь,—в действительности же оказал большие пустячки.
Известно, например, каким кряжистым бытом обросла наша
печать, как мало в этой печати даже партийной только социабельности, а главное—как далеко действительное положение нашей печати
от объявленных и 8-ым и 11-тым съездами начал. В газету и до
сих пор еще люди ссылаются за непочтение к родителям; газеты
уже давно не ставят сами никаких вопросов; в газете разговаривают
между собой друзья. Все это хорошо известно автору „Вопросов быта", но автор „Вопросов быта" предпочитает плавать по поверхности
вопроса, и—„громит":
„Неряшливость верстки, смазанность печати затрудняют чтение"...
„Это стыд и срам"... „Мы умудряемся нередко четверть, а то и половину газетного листа испортить, размазав типографскую краску"...
„И спрашивается, до каких же пор мы будем все это терпеть!"...
„Остановимся только на корректуре"... „Кстати: почему это газета
складывается не вдоль, а поперек? Может быть, это кому-нибудь и
удобно, но никак не читателю"... „Этого тоже терпеть нельзя"...
У автора „Вопросов быта" это называется—„вниманием мелочам".
Гораздо вернее было бы назвать это—„проповедью малых дел".
Дело, конечно, вовсе не в величине вопроса: дело—в ф о н е , на
котором развертывается вопрос. Ленин сплошь и рядом говорил о мелочах, но это не мешало ему всякую мелочь поднимать до боевого
вопроса. У автора „Вопросов быта" выходит не так. Культура—это
белые перчатки. Культурничество—сморкаться в платок.
Недаром же и клиенты его из „группы московских партийных
агитаторов-массовиков", в результате инструктивного собеседования
с ними автора „Вопросов быта", получили представление о культуре,
как о... хрупкой и нежной игрушке, с которой впору возиться немцу.
„Вот насчет к у л ь т у р ы я хотел сказать,—пишет в анкете агитатор Дорофеев,—относительно ч и с т о т ы , в е ж л и в о с т и и т . д. Я, грешный человек, раньше тоже похвалялся невежеством. Когда я побывал заграницей и сравнил германского рабочего с русским,.то разница
получилась громадная во всем (!—Н. Ч.), несмотря на то, что германские рабочие сейчас нищие и получают бумажными деньгами, а
не золотом. Несмотря на это, к у л ь т у р а п о д д е р ж и в а е т с я германскими рабочими".
Бедный „партийный агитатор-массовик"! Каким же нищим духом,
чуть не персонажем с Растеряевой улицы, почувствовал он себя перед
лицом филистерской культуры и однобокой ее апологии! Каким жалким, нищим языком заговорил вдруг этот, несомненно интеллигентный
рабочий, побывввший в наше уже время заграницей, после барственных
речей к нему о белых перчатках „культуры"!
„Наблюдается ли в е ж л и в о с т ь , с т р е м л е н и е к к у л ь т у р е
среди русских рабочих?—ставит далее вопрос когда-то „похвалявшийся
невежеством", а ныне „культурный", т. Дорофеев, и отвечает: „Наблюдается, и заметно".
А именно?
„Каждому хочется быть поинтеллигентнее... Среди
р а б о ч и х и к р е с т ь я н н а б л ю д а е т с я , ч т о о н и с т а л и приличнее себя одевать и прочее".
Другой „партийный агитатор-массовик", т. Маринин, отвечая на
вопрос о „культурном уровне" рабочих, пишет:
„Они (рабочие) все приоделись, и м е ю т
демисезонное
п а л ь т о и т. д. Э т о , в е д ь , т о ж е ч а с т ь к у л ь т у р ы " .
Несомненно. Но—не поэтому ли именно и отрицают „пролетарскую культуру" культуртрегеры, относя нашу эпоху к „демисезонной"?
Если „демисезонное пальто" есть „часть культуры", то почему же
исключается из культуры целая демисезонная эпоха?
Автор „Вопросов быта" не упускает случая, чтобы и в скобках
и без скобок посмеяться над „горделивыми замыслами" пары-другой
интеллигентов „создать пролетарскую культуру лабораторным путем".
Мы тоже не мало смеемся над подобными чудаками, но мы столь же
охотно смеемся и над „приличными" замыслами тех культурных знахарей, которые подходят к излечению рабочего от „быта", вооруженные спринцовкой и персидским порошком.
Дело, однако, вовсе не так уж весело, если представить себе,
что все эти рецепты „поинтеллигентнее" предлагались вниманию рабочих и широких партийных кругов в с е г о л и ш ь з а н е с к о л ь к о
м е с я ц е в д о з н а м е н и т о й д и с к у с с и и , в разрезе которой даже
трактовка вопроса официальным центром кажется ч у т ь л и н е цел о й р е в о л ю ц и е й по сравнению с подходцами наших культурников.
Прошло каких-нибудь четыре месяца, и „вежливый" подход к
культуре быта как-то сразу вырос в грубоватый, но тем более насущный, крик, в котором трудно было бы не уловить неотвратимо-повелительного голоса жизни.
Иллюстрация: лойяльнейший писатель центра, в номере московской „Правды" от 7 ноября, заявлял:
„Необходимо, чтобы рабочие (профсоюзы) подошли
б л и ж е к п р о и з в о д с т в у , от к о т о р о г о они, в о п р е к и резолюциям партсъездов, отрываются".
Этот элементарный лозунг был бесспорным лозунгом и всей партии в ноябре, независимо от оттенков,—этот же лозунг лег в основу
и целого ряда последующих а к т о в , начиная с неоднократных заявлений РКИ о привлечении широких масс к контролю и строительству
и кончая попыткой освежения самой партии за счет так называемого
ленинского призыва.
И здесь, в этом элементарном п о л и т и ч е с к о м лозунге, уже
кроются корни того ключа, который ведет к разрешению вопроса
быта: р а с ш и р е н и е семейного быта, в который уткнулся массовикрабочий—путем в к л и н е н и я в обобществленное производство; а этим
самым и в о в л е ч е н и е рабочего-массовика—обычно делающего стихийную революцию, а потом уходящего в исконно-бытовое небытие—
в общественно-революционное бытие государства.
В этом подходе к разрешению вопроса быта—основное наше
отличие от подходцев культурников.
Культурники,—все еще мысля себе рабочий класс в виде некоей
Растеряевой улицы, до зарезу нуждающейся в в о л ш е б н о м фонаре
и в т у м а н н ы х картинах,—больше всего беспокоятся о том, чтобы
рабочий не пил, не курил, не бранился бы поносными словами, и если
не имел бы курицы в супе ежедневно, то имел бы демисезонное пальто. Мы—вовсе не сторонники народнической, вшиво-сермяжной, культуры во что бы то ни стало, но:
мы только говорим, что:
и курица в супе, и иные приятные навыки и вещи, необходимые
рабочему в быту, н и к о и м о б р а з о м н е с в а л я т с я с н е б а—б е з
наличия р а з в я з а н н о й с а м о д е я т е л ь н о с т и р а б о ч е г о класса, в с е м е р н о г о и м а с с о в о г о в о в л е ч е н и я е г о не т о л ь к о
в д е м о н с т р а ци и и т е или иные, и н о г д а с е м е й н ы е , т о р ж е с т в а , но и в е ж е д н е в н о е о р г а н и з о в а н н о е
управление п р о и з в о д с т в о м и п о л и т и к о й страны.
Ленин чувствовал это фатальное о с е д а н и е с а м о д е я т е л ь н о с т и широких масс, в результате неизбежной в период революции
п е р е г р у з к и („переупотребления") п р и е м а ц е н т р а л и з м а , оставляющего действия периферии сравнительно мало упражняемыми. И Ленин же учил вносить десятки п о п р а в о к в это явление, упражняя
самодеятельность далекой периферии, неустанно вороша имеющие тенденцию к оседанию п о с л е д н и е напластования быта.
Никто ярче Ленина не говорил о действительном, а не словесном
только, освобождении работницы от кухни или от рабских последствий
деторождения, пригвазживая все внимание к таким „мелким делам",
как общественные ясли, как общественное питание и т. п., а в сущности впервые подводя к п р а к т и ч е с к о м у , в пролетарском плане, разрешению вопроса быта и впервые же реально, в пролетарском
плане, связывая этот вопрос с существованием всего государства.
Никто ярче Ленина не мог именно в ф о к у с о б щ е г о в н и м а н и я ввести какую-нибудь ч а с т н о с т ь (как учет, комчванство, электрификация, взяточничество), заставляя одновременно все государство,
всю страну ударно преодолевать эту огромно вырастающую „частность",
неустанно упражнять волепобедную энергию класса на разрешении
практических задач, а главное—не д а в а т ь э т и м п о с л е д н и м отлагаться в бытовое самодовление.
Величайший учитель культуры (без слов) был и лучшим (без
слов) целителем быта.
Наше дело—небольшое:—осознать словами его с р е д с т в а достижения, и—обратить их в н о в ы е и н о в ы е д о с т и ж е н и я - с р е д с т в а .
Что же следует.
Несколько слов—в заключение.
Если культура—в нашей постановке—есть средство к достижению
и достижение средств; и если быт есть „переупотребление" средств и
обращение достижений в окаменелые „вещи в себе",—вопрос об излечении быта в связи с диалектическим подходом к самой культуре
приобретает величайше-актуальное значение.
Считать ли быт излечимым, полуизлечимым, или же вовсе неизлечимым,—положение нисколько не меняется. И так, и этак—корень
рецепта сводится к тому, чтоб, упражняя тот или иной прием, н е д а в а т ь ему оседать тяжелой бытовой колодой, гуляющей с а м о с т и й н о
от цели.
Как бы ни пытались наши культуртрегеры вопрос о диалектике
культуры подменить исконно-либеральным культурничеством, и как
бы ни священнодействовав другие наши друзья с культурой, как
каким-то „ х р а м о м " , — в о п р о с о г и б к о м п р и м е н е н и и н е о б х о д и мых, в п л а н е к о м м у н и з м а , с р е д с т в и б ы л и о с т а е т с я н а и более больным нашим вопросом.
Очень гибкие в одной какой-либо области, мы можем оказаться
тяжеловесом в другой. Отлично оборудованные в деле борьбы за власть
и в производственной политике, мы уже менее культурны на фронте
осознания вообще. И относительно мало, наконец, культурны мы на
фронте быта.
Эпоха затяжного мелкого производства и царизма, унаследованная
нами уже в виде толстозадого мещанского быта, и не менее затяжная, по-своему, эпоха подпольной борьбы, наградившая нас, на-ряду с
отличными революционными приемами, выросшими в ленинизм, также
и навыками и традициями к р у ж к о в щ и н н о г о б ы т а , — в с е это наложило на нашу культуру некую определенную „независящую" мозоль.
Татарско-византийский быт,—с одной стороны,—который поковырял своей просвещенной тросточкой автор „Вопросов быта",—и
„всеклассовый", разночинническо-революционный подпольный быт,—с
другой,—далеко не всегда упиравшийся в пролетария и коммунизм,—
скрещение этих двух бытов дало то, что даже в собственном своем
коммунистическом повседневьи мы далеко отстали от напряженной динамики Октября.
Всякий момент авторитаризма, будучи ц е н т р о с т р е м и т е л ь н ы м началом по идее, и служа этой идее в период целесоответствия,
т.-е. культуры,—обращается, однако, в свою собственную, ц е н т р о б е ж н у ю , противоположность, с органической утерей связи между
целью и средством. Эт* сознание диктует нам необходимость пересмотра время от времени взаимоотношений периферии и центра. Это
сознание диктует н е о б х о д и м о с т ь м а к с и м а л ь н о й
гибкости
средств.
Выход—не в лозунге: „демократизм и демократия в о ч т о б ы
т о н и с т а л о " , — в ы х о д в том, чтоб во-время употребить и мягкое и
жесткое средство. Жесткие, как и мягкие, средства нам еще очень
пригодятся, и не следует от них торжественно отрекаться.
Мы изрядно обросли коростой быта, и порой не разберешь, где
кончается быт городнический и начинается советский.
Это мелочь, разумеется, что на седьмой год революции наши
рабкоры всерьез ставят вопрос, не следует ли им уйти в подполье,
но эта мелочь—производное „пограничного", между гоголевским и
новейшим, быта. Мелочь, разумеется, и то, что мы забываем решения
собственных съездов,—например: 8-го и 11-го о печати, и др.,—но из
маленьких самозабвений наших вырастает нездоровый, чреватый рахитичным вспышкопускательством, быт. Нужно этот быт, не уставая, ворошить,—нужно не давать ему отлагаться, в корне убивая п е р в о причины.
Мы очень неповорвтливы и инертны, и мы на год, на два отставали всегда от учителя. Если учитель звал на баррикады Октября, мы
по-детски цеплялись ему за ноги и укоряли: „Равви! но мы же—демократы!" Поворот на передышку, и—новые и новые наши укоры:
„Не посрамим октябрьских баррикад, товарищи! да здравствует детская болезнь левизны!" Воистину, наш рулевой был слишком для нас
„беспокоен"...
Неповоротливое, авторитарное мышление есть столько же продукт былого быта, сколько и плод естественно-авторитарных, и „посвоему" необходимых, методов подполья и диктатуры. Плохо не подполье, разумеется, и плоха не диктатура,—которые „сами по себе" ни
плохи, ни хороши,—но плохо неуменье массы или индивида п р о т и в о с т о я т ь инерции о д н а ж д ы пущенного в оборот приема.
Преодоление инерции есть лучшее профилактическое „средство"
на фронте быта.
Вопрос о культурности а в а н г а р д а , управляющего целеустремленным аппаратом масс, ц е н т р а л и з у ю щ е г о нужные этому аппарату токи и провода, р е г у л и р у ю щ е г о движение путем внесения
в него преодолевающих инерцию «поправок»,—есть н а с у щ н е й ш и й
практический вопрос в условиях рабочей диктатуры.
Разбуженные революцией массы неотвратимо растут, а с ростом
масс огромно расширяются и наши задачи. Недостаточно уже отбарабанить привычный урок,—нужно уметь ответить на сотни новых, неожиданных запросов,—нужно уметь самим в этих вопросах разобраться.
Так оно в больших, стоящих перед массами и партией вопросах,—так и в ежедневном, муравьином повседневьи.
„Нельзя итти в район" — свидетельствует один внимательный,
ежедневно соприкасающийся с массами, московский работник—„с необоснованным, несерьезным докладом: не будут слушать. Записки,
которые раньше подавались и подаются ныне в процессе докладов,
указывают не необычный рост массы, рост ее запросов, понимания,
иногда своеобразного, ряда серьезных вопросов современности, островнимательного восприятия сообщаемых ей фактов, сопоставлений, выводов. Раньше докладчик встряхивал, вздергивал массу,—сейчас зачастую масса заставляет докладчика встряхнуться, подтянуться, заглянуть
в книжку, поработать над цифрами, подготовиться к возможным вопросам. Масса воспитывает большее, чем раньше, чувство ответственности. Это—несомненный показатель того, что масса выросла, накопила
уже запас обоснований своих желаний и действий"...
Впору—выходит—нам самим н е о т с т а в а т ь от массы. Впору
задуматься над с о б с т в е н н о й культурностью. И—
впору:
— не смешивать дело культуры к л а с с а , т.-е. живое человеческое д е л о р о с т а , с мертвыми, пыльно-руинными, раз навсегда седалищем к земле привинченными, „храмами" внеклассовых бездельников и жрецов!
В. Перцов.
Ликвидация п р о л е т к у л ь т у р ы .
I. Т е з и с .
Статья тов. Троцкого о культуре своевременно оживила соображения, высказанные ранее более расплывчато разными авторами (П. С.
Коган, А. В. Луначарский) по вопросу о взаимоотношении пролетарской и социалистической культур.
О с н о в н о й т е з и с : пролетарской культуры нет и не может быть.
Грядет культура социалистическая.
С х е м а д о к а з а т е л ь с т в а , в которой аргументы т. Троцкого
для удобства расположены в виде анкеты:
Пролетариат.
I. Социальный класс.
Буржуазия.
2. В рамках какого
общества проживал до
революции.
Феодально-помещичьего.
3. Чем занимался до
революции и захвата
власти.
Получал образование,
богател,
занимался искусством,
строил свою культуру,
подбирался к власти.
Оставался нежевественным,
нищал,
проклинал эксплоататоров,
строил
подпольную
организацию, легальную партию и профсоюзы,
восставал, готовился
к захвату власти.
4. Сколько времени
занимался(чем.см.п.З)
Приблизительно несколько столетий.
Приблизительно не-^
сколько десятилетий.
5. Что делал после
своей революции и
захвата власти.
Эксплоатировал трудящихся,
шлифовал готовую
культуру,
стремился увековечить свою власть и
свою культуру.
Подавлял эксплоататоров,
получал образование (?),
стремился поскорее
отделаться от власти
и создать бесклассовое социалистическое
общество.
Буржуазно-капиталистического.
г
1. В ы в о д : после захвата власти необразованный пролетариат,
впредь до создания социалистического общества не может, и просто
не успеет, создать своей культуры. Он должен критически усваивать
элементы прошлой культуры.
2. „Прежде чем пролетариат выйдет из стадии культурного ученичества, он перестанет быть пролетариатом". „Полноценная культурная
и художественная жатва будет у ж е — к счастью—социалистической, а
не „пролетарской".
Л о з у н г : Не творчество своей культуры, но приобщение к культуре, всеобщее обучение, культурничество!
П р и м е ч а н и е : Неясность — идет ли речь только о России, или
имеется в виду масштаб интернациональный. Подавляюще различные условия жизни, развития и борьбы
нашего и западноевропейского рабочего класса не
дают права на распространение выводов без оговорок.
2. А н а л и з тезисаш
I. С о г л а ш е н и е о т е р м и н а х .
Культура есть „развернутая и внутренне согласованная система
знания и умения во всех областях материального и духовного творчества". (Троцкий).
а) Это определение лишено материальных признаков.
б) Разложим его на составляющие его формальные признаки:
1. Система знания и умения.
2. Развернутая.
3. Внутренне согласованная.
4. Во всех областях материального и духовного творчества.
И зададимся вопросом: может ли удовлетворить такому определению м о л о д а я культура?
Она еще не развернута.
„
„
внутренне не согласована.
„
„
не проникла во в с е области мат. и дух. творчества.
„
„
поэтому не система.
Она не удовлетворяет ни одному признаку, с педантичной суровостью затребованному Троцким, и т е м не м е н е е — п е р е д нами, может быть, новая к у л ь т у р а .
В чем же дело? Разберемся на примере.
Создан первый, несовершенный паровой двигатель. Человечество
в целом пользуется еще силою: ветра, животных, рабов. Двигатель
совершенствуется. Изобретен первый паровоз. Человечество передвигается еще на верблюдах, лошадях, на своих на двоих.
Построены: пароход, паровая мельница, локомобиль,страна пронизана сетью железных дорог, океанские пароходы раскачиваются между
бортов океана,как в чашке воды,—перед нами „век пара и электричества".
Техническая культура пара возникла в момент изобретения первого парового двигателя. Она завершилась в „век пара". Но качественно
она была в этих двух столь исторически удаленных точках налицо.
По законам диалектики количество переходит в качество. Верно
и обратное. А в таком случае приведенный пример (аналогичных сколько
угодно и в общественных отношениях) иллюстрирует ту мысль, ч т о —
н о в а я культура есть, прежде всего, новый м е т о д обработки
материала (общественного, художественного, мертвой природы, растений и животных—обработка и подготовка класса, слова, звука, краски,
дерева, железа, льна, овса, кур, коров).
А потому культура может быть:
1. не развернута,
2. внутренне не согласована,
3. не пронизать все области мат. и дух. творчества,
4. не систематизирована,
но если налицо новый метод обработки или, как сказал бы тов.
Троцкий,—новый метод знания и умения,—перед нами э л е м е н т ы
новой культуры.
Итак, согласимся, что основной признак к у л ь т у р ы — м е т о д .
2. К у л ь т у р а а в а н г а р д а и к у л ь т у р а к л а с с а .
Но тов. Троцкий предостерег, ведь, нас: нельзя культуру выдвинувшихся одиночек класса расширять до культуры всего класса.
Между тем, сам тов. Троцкий утверждает наличие п о л и т и ч е с к о й п р о л е т а р с к о й культуры, при прочих наших равных условиях—неграмотности, отсталости и невежестве, в том числе политическом, широчайших трудящихся масс. В этом случае тов. Троцкий довольствуется сознательным, творческим авангардом. И он прав, )
поскольку в руках у авангарда верный метод—ключ к пониманию и J
построению истории.
Если художественный авангард пролетариата овладеет новым методом, мы, будучи последовательны, не можем отказать ему в создании
элементов новой культуры, не дожидаясь, пока статистика принесет
нам сведения о водворении всеообщей грамотности.
3. П р а к т и ч е с к и е п о с л е д с т в и я т е з и с а .
у
I. Н а п е р е с а д к е о т к а п и т а л и з м а к с о ц и а л и з м у .
Признаем вместе с т. Троцким, что переход от капитализма к социализму будет в плоскости культуры столь же непродолжителен, как
планерный полет по сравнению с моторным. Практически, все же, это
конечно,—десятилетия.
Отменим пролетарскую творческую культуру на это время.
Установим расписание занятий пролетариата на этот период (по
Троцкому):
Естьсейчас.
Д о л ж н о быть.
1. Несколько д е с я т к о в писателей
и поэтов из рабочей среды,
несколько с о т е н рабочих
в культурно-просветительных
организациях,
несколько т ы с я ч красноармейцев
1. Поголовное обучение чтению,
письму и ч е т ы р е м п р а в и лам а р и ф м е т и к и .
Изучение литературной техники.
С о д е й с т в и е повышению
литературного уровня класса.
пишут стихи и рассказы,
воображая,
что создают пролетарскую
культуру.
2. Учатся читать готовые литературные произведения.
2. Творчество отдельных талантливых пролетариев.
Программа, выдвигаемая т. Троцким, есть опасное утверждение
безволия.
Класс, достаточно зрелый, чтобы властвовать (Троцкий согласен,
мотивируя прежней
подготовкой)—
„
„
„
торговать
(Никогда не торговал)—
„
„
„
командовать (Не имея чинов в поармией
служном списке)—
„
„
„
организовы- (Без году неделю учился
вать хозяй- этому в так называемых
ство
заводских технико-нормировочных Б ю р о ) —
„
„
„ создавать и (За отсутствием имущеповседневно ственного ценза никогда
творить право судьей не был)—
в отношении культурного творчества отдается целиком в школу
I ступени.
Пролетарской культуры нет и
не
может
б ы т ь . Этим
утверждением:
1. Вышибается
о р и е н т и р о в к а в повседневной ф а к т и ч е с к о й творческой работе многочисленных писателей-пролетариев.
2. Устанавливается почтительное п р е к л о н е н и е перед громадой
старой культуры, тяга к активному творчеству парализуется, водворяется глубокий культурный транс.
3. Журавель в небе—социалистическая культура, приход которой единственно закономерен по Троцкому, питает собой разнообразнейшие маниловские иллюзии.
В самом деле, не чудовищен ли этот своеобразный реформизм, перенесенный тов. Троцким в трактовку культурной проблемы?
„Если сравнить художественное восхождение с политическим, то
пришлось бы сказать, что в области искусства мы находимся сейчас,
примерно, в том периоде, когда первые, еще беспомощные движения
массы соприкасались с попытками построения интеллигенцией, включая
и отдельных рабочих, утопических систем".
Это глубоко не верно. Мы живем в стране парадоксов и в эпоху
парадоксов. Мы имеем, по выражению Муссолини, „40 родов пролетариата", полярно удаленных друг от друга в смысле культурнополитической сознательности. Чудеса техники и инициативы уживаются
у нас на-ряду с дикарским состоянием массы населения. Мьд—молодое
государство, первое в Европе переведшее проблему рациональной
организации труда из боязливых лабораторных опытов в рамки государственного эксперимента первоочередной срочности. И у нас ж е —
-серп и "ТяШГОТ в руках человека еще далеко не отжили свой век. Это
нисколько не мешает нам ставить тончайшие проблемы рационализации в конкретной бытовой обстановке. Далекие от веры в чудо,
мы сознательно держим курс не на промежуточные стадии мировой
хозяйственно-технической культуры, но на ее последние достижения,
последний „крик".
Не народники же управляют сейчас страной, чтобы наивно думать, что Россию минет чаша капиталистического развития, и мы
празднично въедем в царство социализма. Но трезвый учет данных
народного хозяйства в освещении современного научного и инженерного гения заставляет нас не восходить, а прыгать. Октябрьская революция—классический прообраз такого революционизирования, определяющего собой т и п нашего культурного развития.
Не метафизическое упование на пролетарскую культуру, но вера
в силу класса, к которой призывает тов. Троцкий, класса, за которым
числится столько уже свершенных дел исторической важности, позволяет,
всецело принимая принципы культурничества,
утверждать за ним возможность напряженного созидательного творчества элементов новой к у л ь т у р ы .
2. В о п р о с о т е м п е .
Диагноз т. Троцкого о художественном восхождении рабочего
класса неверен еще и по другим основаниям. Троцкий в своей статье
ставит риторический вопрос о т е м п е создания культуры:
...„Рабовладельческое искусство создавалось тысячелетиями, буржуазное столетиями, почему же пролетарскому не создаваться десятилетиями?"
И, верный своему определению культуры (см. гл. II), показывает
невозможность с к о р о й реализации культурно-технического творчества в обстановке материального разрушения последних лет.
Согласимся с Троцким на минуту. Возьмем современное художественное творчество рабочего класса не как продукты его культуры,
но как результаты „культурничества".
Разве не загадочно-быстрый перед нами процесс у с в о е н и я
рабочими-писателями созданного до них уровня литературной техники?
После символистов и акмеистов каждый гимназист 6-го класса пишет
превосходные, формально, стихи. Это—общее место. Но, кажется, ведь,
и каждый пишущий пролетарий выступает во всеоружии, пусть заимствованной, но с о в е р ш е н н о й т е х н и к и .
А уже по одному этому—разве мы еще ,,в том периоде, когда
первые, еще беспомощные движения массы соприкасались"... и т. д.?
Не нужно веровать в пролетариат, как в богородицу, но эпоха
культурничества, начавшаяся гораздо ранее нэпа" (разумеется, в малом объеме) приносит поистине баснословную жатву.
Возьмем другую надстройку над экономикой—право. Нынешний
народный судья, не прошедший стажа кандидата на судебные должности, в прошлом пекарь или слесарь, сплошь и рядом осаживает в
юридическом споре матерого адвоката.
Что означают эти факты? Да, действительно, темп п о г л о щ е н и я
положительных знаний пролетариатом требует новой мерки. Это класс
свежий, невиданно-способный, шагающий по истории семимильными
шагами.
3.
Экстенсивность
и
интенсивность
культурничества.
А здесь уже намечаются пределы культурничества: вширь и
вглубь. При необъятных пространствах России и столь же громадной
отсталости—э к е т е н с и в н о с т ь культурничества безпримерно широка.
Но выяснив уже вопрос о темпе, легко видеть, что культурничество в узком значении термина, созданного Троцким, как усвоение
азбуки допролетарской к у л ь т у р ы , — п о к а з ы в а е т с в о е д н о при
самом приступе к осуществлению задачи.
По самой своей природе культурничество не может быть интенсивным.
А в таком случае, вновь принимая во внимание вопрос о т е м п е ,
как надлежит проводить свое время пролетариату, благополучно превзошедшему азбуку допролеткультуры?
Повторение, разумеется, мать учения. С другой стороны, сумма
человеческого знания—бездонная бочка.
Но, во-первых, с какого момента можно будет приступить к
т в о р ч е с т в у , конкретно, при наличии каких культивированных масс?
И, во-вторых, желательны хотя бы мимолетные указания п у т и
к местонахождению социалистической культуры.
Таким путем, до сих пор была культура пролетарская. Троцкий
ее взял у нас. Но тех указаний, что нам необходимы взамен, Троцкий
не дал и дать не может, и здесь вскрывается п о р о к его рассуждений.
Откладывать творчество, хотя бы до такого прекрасного момента,
как, скажем, 7 ноября 1927 года (всеобщая грамотность СССР), художественный авангард пролетариата не может и не имеет права.
Ждать нельзя. Жизнь не ждет. Отказаться от такой реальности,
как пролетарская культура, обменяв ее „из кулька в рогожку" на
абстракцию (в переходный период) социалистической культуры, выпустить из рук творческий критерий, со всеми последствиями, вытекающими из культурной программы Троцкого—пролетариат может,
только начисто сойдя с арены построения социализма.
с
Организация быта.
А. Залкинд.
О пролетарской этике(К постановке
вопроса).
Постановка вопроса о пролетарской этике в условиях, не виданных
еще за всю историю человечества, в условиях диктатуры пролетариата — представляет собой обстоятельство совершенно новое, не
имеющее себе прецедента. Прежние попытки формировать законы и
нормы классовой пролетарской этики в досоветской обстановке, где
организатором этики был эксплоатирующий класс, конечно, ничего
общего не имеют с нашими попытками с т р о и т ь э т и к у п р о л е т а р и а т а в г о с у д а р с т в е п р о л е т а р с к о г о же г о с п о д с т в а .
Вполне очевидно, что в подобных условиях говорить о систематизированной, организованной обработке корней новой этики пока
преждевременно. Мы больше, чем на п р о щ у п ы в а н и е первичных
путей этого вопроса, конечно, претендовать не в праве.
Новизна заключается еще и в том, что в условиях эксплоататорского феодального и буржуазного строя вся идеология общества,
т.-е. и его этика, формировалась с т и х и й н о . Стихийные экономические факторы оформляли определенные общественные отношения,
стихийно же проекцировались они и в виде определенных этических
норм. Мы же, государство диктактуры пролетариата, впервые в истории
человечества о в л а д е л и э к о н о м и ч е с к о й с т и х и е й , вернее, переживаем первый период этого овладения.
Мы сами о р г а н и з у е м э к о н о м и к у , так как крупная индустрия, этот основной определитель хозяйственной, т.-е. и всей общественной жизни, находится в наших руках, в руках пролетариатагегемона. Тем самым, идеологическое строительство, взамен прежнего
стихийного своего оформления, точно так же впервые начинает приобретать элементы организованности, сознательности, плановости, нарочитости, выстраиваясь по линии вполне осознанно, отчетливо организуемого производства, обслуживающего классовые интересы пролетариата.
Вместе с тем, мы приобретаем возможность строить по линии
этих производственных интересов также и соответствующую к л а с с о в у ю и д е о л о г и ю . Она не только с т р о и т с я , как это было
прежде в условиях эксплоатации, н о и мы ее с т р о и м .
Начальный этап предсказанного Марксом прыжка из царства
необходимости в царство свободы сейчас, именно на наших глазах,
уже осуществляется. Понятно, мы далеко не освободились пока от
элементов глубочайшей стихийности, как в построении экономических
отношений, так и в оформлении новой идеологии, ибо слишком велики
еще и внутрисоветское мелкобуржуазное окружение, и международное
общебуржуазное окружение. Стихия буржуазной гнили просачивается,
а иногда и достаточно упорно, глубоко пропитывает внутреннее содержание нашего строительства, настойчиво заражая все его поры, дезорганизуя вместе с тем наши первичные попытки сознательной, плановой
организации, в том числе также идеологической организации. Однако,
кан плохо ни обстоят еще наши дела, как медленно, слишком медленно
ни развертываются этапы нашего строительства, в последнем мы все же
видим вполне новые качества, невиданные прежде в общественной жизни:
п л а н о в у ю , с о з н а т е л ь н у ю о р га н и з а ц и ю х о з я й с т ва, пла нов у ю , с о з н а т е л ь н у ю о р г а н и з а ц и ю и д е о л о г и и , т.-е. и э т и к и .
Эти новые качества заставляют нас ломать огромное количество
старых методов работы и подавляющую часть господствовавших прежде
понятий в различных областях общественных отношений.
Получив впервые возможность свободно выявлять сд вленные
прежде внутренние наши устремления, перейдя из полосы полу-паралича, связанности, ущемления к стадии массового действенного творчества, срывая со своих глаз метафизическую повязку эксплоататорского класса, мы впервые оказываемся в положении острейшей
срочнейшей необходимости радикально пересмотреть старое, построить
хотя бы первичные зачатки нового, так как иначе мертвый будет
хватать живого, заражать, загнаивать его.
К величайшему, но, понятно, неизбежному пока, нашему несчастью,
оформленно готовых, отчетливо выявляющихся новых понятий, которые
мы могли бы ответственно построить, ввести в жизнь взамен старых,
в нашем распоряжении пока не имеется. Мы можем лишь их ощупью
отыскивать, наталкиваясь впотьмах на самые разнообразные, иногда
почти непреодолимые препятствия,—и возможности действительного
открытия нового, очевидно, при подобных условиях оказываются очень
пока небогатыми.
Поэтому попытки строить пролетарскую этику в условиях зарождающейся советской общественности, т.-е. пролетарски-крестьянской
общественности, не могут, понятно, претендовать хотя бы на подобие
утонченного, углубленного исчерпания вопроса. В лучшем случае, эти
попытки окажутся в силах охватить вопрос в его первоначальной
шири, наметить общие перспективы дальнейшей его разработки, фиксировать несколько первичных вех, необходимых для перехода к деловым,
практическим расшифровкам, нужным для текущего употребления.
Данная статья на большее и не смеет претендовать.
о
_
Нравственно, этично то, что хорошо. Нравственное
поведение—хорошее поведение. Безнравственно то, что
плохо. Хорошо то, что полезно; плохо то, что вредно, неприятно. Так,
или почти так, гласит грубое эмпирическое определение этических норм.
Однако, как увидим, в корне своем, этика вовсе не этим определяется. Во всяком случае, „хорошо", „плохо"—это ни что иное, как
правила поведения. Для нас, марксистов, правила поведения, т.-е. определенное сознание, сознательная фиксация норм поведения, определенная проекция психической жизни, конечно, не могут быть общечеловеческими и никогда в классовом обществе таковыми не были, так как
никогда не было и общечеловеческого сознания.
Поведение человека—внешнее проявление его сознания, его психической жизни, есть ни что иное, как непосредственная и сгущенная
проекция его общественного положения, т.-е. его классового положения,
ибо нет внеклассового человеческого сознания, т.-е. нет и внеклассового человеческого поведения. Не может быть, тем самым, этики
внеклассовой, общечеловеческой.
Так как в понятие „этика" вкладывается все хорошее, что присуще основным правилам поведения классового человека, очевидно,
всякий йласс включает в этические нормы с г у с т о к ,
экстракт
в с е г о н а и б о л е е в а ж н о г о д л я е г о к л а с с о в о г о б ы т и я , ибо
безразличные для класса обстоятельства, понятно, не требовали бы
фиксации своей в особых нормах: на них класс своего внимания не
останавливал бы. Отсюда, в этику должно вноситься все наиболее
важное, основное, характеризующее собой интересы того или иного
класса - в о всех наиболее крупных их разветвлениях. Как бы глубоки и
велики ни были эти разветвления, основным экстрактом своим они все
включаются в этические нормы, в правила классового поведения.
Этика, таким образом, представляет собой экстракт всей идеологической проекции классовых интересов, сгусток всей классовой идеологии, всю практику, всю рецептуру класса.
Этика появляется, конечно, лишь там, где требуются п р а в и л а
п о в е д е н и я , правила, побуждающие к проявлению в и з в е с т н о м
н а п р а в л е н и и , поскольку без этических побуждений внутри организма самого человека этих побуждений оказывается недостаточно.
Если бы мы имели в истории человечества такие отношения, где
все поведение человека исчерпывалось бы исключительно инстинктивными побуждениями, там, очевидно, этических норм не требозалось бы,
как не требуется их для дыхания, пищеварения и т. п. функций, унаследованных тысячелетиями, питающихся вро «денными внутренними
побуждениями. Но классовое разделение общества, вырабатывающее
отношения между людьми, естественно, и глубоко противоречивые, требует для урегулирования этих отношений еще и добавочных, и з в н е
идущих побуждений, о б я з а т е л ь с т в , т о л ч к о в , п р и н у ж д е н и й ,
каковыми этические нормы и оказываются. В отличие от инстинкта,
который является безусловным, унаследованным органическим рефлексом, этика представляет собой систему у с л о в н ы х р е ф л е к с о в ,
текучую, изменяющуюся, динамическую в такой же степени, в какой
текучей, изменчивой является и окружающая человека социальная среда.
Так как в подобных условиях классового расслоения одних внутренних побуждений морального порядка, этического порядка не вполне
достаточно для того, чтобы устойчиво зафиксировать эти нужные
условные рефлексы, в связи с этим требуются еще и добавочные
в о з б у д и т е л и , которые, в виде „ п р а в а " , подталкивают человека
к более стойкой этической фиксации. Нормы права — это стадия
„пред-этики", это этика, еще ие настолько укрепившаяся, чтобы она
могла существовать без насилия. П р а в о — э т о п р е д - э т и к а п л ю с
насилие.
В классовом обществе, т.-е. в обществе, состоящем не из одного,
а из нескольких классов, можно всегда насчитать не одну, а две и
больше, оформленных или еще оформляющихся этических рецептур:
этику господствующего класса и этику класса эксплоатируемого,
в процессе борьбы прорывающегося к господству. Все прочие общественные слои, не имеющие своей экономической позиции, своей экономической индиьидуальности, примыкают к одной из этих двух
основных этических формулировок, при чем для той или иной исторической стадии подавляющая часть общества охватывается в большей или
меньшей степени той или иной этической нормой—по линии соотношения сил в данный период.
Такой этики, которая подчинила бы себе абсолютно всех людей
классового общества, мы в истории не знаем, ибо в классовом обществе мы не знаем такого периода, когда существовало бы состояние
примирения между классами. Отсюда не может быть и поведения примирения, т.-е. и соответствующих прав: л подобного примиренного
поведения. В с я к а я э т и к а — а к т у а л ь н а я э т и к а , она всегда
является б о е в о й р е ц е п т у р о й того или иного класса.
Корни этики представляют собой корни бытия данного класса,
т.-е. корни его п р о и з в о д с т в е н н о й позиции. Основные его жизненные, т.-е. производственные, интересы формулируются в определен-
ных ^идеологических" устремлениях, отсюда же в его правилах поведения. К о р е н ь э т и к и л е ж и т
в защите классом своей
п р о и з в о д с т в е н н о й позиции.
Этика представляет собой формулу н а и б о л е е в ы г о д н ы х д л я
класса способов
использования
производительных
с и л , сгусток замаскированных практических правил по о р г а н и з а ц и и всей хозяйственной и всей общественной жизни, всех производственных отношений в интересах того класса, который данную этику
строит. Вполне очевидно, что если бы старая этика, в подобном ее
истолковании, исчерпывалась бы исключительно содержанием так называемой морали, а не проникла бы во все поры идеологического
бытия класса, она была бы абстрагирована от производственной базы,
не имела бы актуального влияния.
Фактически, этика вовсе не представляет собой лишь нормы абстрактной философской морали, — она проникает наиболее боевыми
своими элементами во все без исключения идеологические построения
класса, п р о н и з ы в а я с о б о ю , зачастую в очень замаскированном
виде, ф и л о с о ф и ю , и с к у с с т в о , п е д а г о г и ч е с к и е
учения
г и г и е н и ч е с к и е п р а в и л а . Одним словом, этика—всюду.
»
Рѵішѵячная
Определяя подобным образом всякую фактическую
"
этику, мы имеем методологическую возможность подойти к
ЭТИКа.
анализу б у р ж у а з н о й этики, этики класса, господствующего в капиталистическом строе. Очевидно, применяя ту же формулировку этики к буржуазии, буржуазную этику мы определяем, как р е ц е п т у р у п о в е д е н и я в и н т е р е с а х о р г а н и з а ц и и х о з я й с т в а по
л и н и и з а щ и т ы к а п и т а л и с т и ч е с к о г о гос п о д ст в а, Буржуазная
этика—рецептура поведения по линии классовых интересов буржуазии.
Очевидно, один и тот же общественный слой, один и тот же
класс, буржуазия, в различных стадиях своего экономического развития, в различных стадиях оформления своего производственного положения, должна была соответственно менять и этические свои проекции,
этические нормы. Этика класса так же текуча, как и определяющая
этику производственная позиция класса.
Действительно, в истории буржуазии мы видим, что, по мере ее
экономического роста, по мере измёнения взаимоотношения буржуазии
с другими общественными слоями, этические нормы ее радикальнейшим
образом меняются, ломаются.
До свержения феодализма, в эпоху постоянной борьбы за рынки,
за освобождение труда, за свободную конкуренцию, за организованный порядок, за реальное свое существование, одним словом, в своей
предреволюционной стадии, буржуазия имела о д н и этические нормы.
Классовым, т.-е. для нее и „общечеловеческим", поведением, этическим
поведением в этой стадии своего развития буржуазия считала максимальную е с т е с т в е н н о с т ь , м а к с и м а л ь н о е о с в о б о ж д е н и е
ч е л о в е ч е с т в а о т в с я к и х м и с т и ч е с к и х и т. п. над ним тягот.
Буржуазия в этой своей стадии потребовала т о ч н о г о з н а н и я , акт и в н о с т и , р а з у м а , п о р я д к а , с в о б о д ы , — это было ее хозяйственным интересом, и это же было основой ее этических норм. В этике
предреволюционной буржуазии идеологически проекцировалась ожесточенная борьба нового класса с отмирающими представлениями ненужного, ушедшего от реальности, гниющего старого класса.
В следующей же, однако, стадии, в эпоху максимального своего
властного насыщения, в период империализма, в годы революционного
роста пролетариата, приходит положение, п р о т и в о р е ч а щ е е нер-
вому. Организовать порядок буржуазия не смогла. Реализм и точные
знания, цинически обнажая подлинные корни эксплоатации, льют воду
не мельницу революционного сознания, и буржуазия стремглав о т к а т ы в а е т с я от революционных основ этики, от естественности, свободы, реализма. Т у с к н е е т ч у в с т в о р е а л ь н о г о , чувство точного,
чувство организации в буржуазии,—в буржуазной этике сейчас же отражается эта бледнеющая жизнеспособность буржуазии. Н а ч и н а ю т с я
п о и с к и к о р н е й э т и к и в н а д з е м н о м , во в н е н а у ч н о м . "
Все научные приобретения XIX века,—казалось бы, сулящие |неограниченный простор именно для реалистических этических откровений,— используются, однако, творцами буржуазной этики империалистического периода для сверх-метафизических обоснований, для апологии с а м о й з л о с т н о й м и с т и к и ; такова пресловутая, создавшаяся
на „естественно-научных основах", французская бергсоновщина, таков
вопль внереалистического отчаяния строителя новой, упадочно-буржуазной этики Шпенглера в его „Сумерках культуры", такова мистика
Джемса и других.
Бѵпжѵа<?ня<і
Сопоставим содержание буржуазной этики и феоrh
дальной этики. Казалось бы, два различных хозяйственИ феодальная н ы х показателя, два совершенно разных экономических
ЭТИКа.
стержня характеризуют собой эти два класса, кроваво
боровшиеся в истории. Поэтому в корнях их этических норм должны
были бы, казалось, обретаться элементы глубочайшего несходства.
Однако, дело обстоит не совсем так.
И буржуазия и феодалы являются классами эксплоататорскими,
подчиняющими других путем насилия, строящими идеологию свою на
базе авторитаризма, т.-е. навязывающими свое господство религиозными санкциями. З а щ и т а ч а с т н о й с о б с т в е н н о с т и , хотя бы и
в различном ( е внешнем понимании, хотя бы в различном общем окружении, являлось основой и буржуазной и феодальной этики.
Буржуазная этика лишь в предреволюционной стадии истории
буржуазии отказалась от авторитарного, внереалистического обоснования, так как реализм ей был нужен для того, чтобы стряхнуть „вполне
реального", вовсе не мифического, хотя бы и мистически настроенного,
своего врага. Но, в стадии вполне укрепившегося своего господства, она
поневоле возвращается к тем же прежним санкциям своих этических норм,
так как без этих р е л и г и о з н ы х санкций эксплоататорской позиции
не удержишь, если растет на смену новый, революционный класс.
Все „антирелигиозные", „внерелигиозные" попытки побеждающей,
а тем более империалистической, буржуазии строить этику — в итоге,
после радикальной их расшифровки, оказываются лишь тонко замаскированной р е л и г и о з н о й р е с т а в р а ц и е й . - В с е попытки „революционных" строителей новой буржуазной этики не были в силах преодолеть мещанских, косных норм старой этики, т. к. не м о г л и ж е пос я г н у т ь на п р о и з в о д с т в е н н ы е у с т о и б у р ж у а з и и , — тем
самым они оказывались выстрелом в воздух.
Подавляющей своей частью, они служили лишь сугубому укреплению все тех же производственных корней той же господствующей
буржуазии („антихристианская" этика Ницше, „внехристианская", „внерелигиозная" этика Канта).
Мещанское „не укради" библии и всех древних религий не только
не было отметено вызванным Ницше к жизни
„сверхчеловеком",
которому все принадлежит, но этот „сверхчеловек" особенно сильно,
глубоко, ярко и выпукло сконцентрировал в себе собственнические
5*
моменты: „все мое, все принадлежит мне", сверхчеловеку. Это, ведь,
наилучшая апология собственничества, хищнического индивидуализма,
т. к. всякий собственник имеет, понятно, право считать исключительно
себя подобным центром, „сверхчеловеком".
„Чти господа бога твоего"—этот религиозный столп старой этики,
на котором базировались всеобщее послушание, покорность, не только
не был разрушен „антихристианским, антибожественным" открытием
в сверхчеловеке п е р в о з д а н н о г о зверя,—наоборот, именно первозданный зверь, по Ницше, обладал глубоко божественным л, даже
сверхбожественными элементами. Этому божественному началу, империалистически, хищнически выявляющемуся, надо было дать тот же
широкий простор, как и божественному началу, о котором возглашала
честная феодальная старая библия.
Библия требовала покорности м а с с земному господину своему
во имя господа небесного. Ницше требует покорности от м а с с во имя
божественного зверя в сверхчеловеке, восседающем на той же боговой
горе. Сверхчеловек же этот — вполне реальный земной хозяин. Не повторение ли здесь одного и того же?
Покорность верующих, покоющаяся на в с е п р е д р е ш е н н о с т и , —
„все определено, все известно, фатум руководит всем",—не только не
разрушается „внерелигиозной", буржуазной же, этикой Эммануила Канта,
но, наоборот, укореняется сугубо устойчиво в его серьезнейшим образом разработанных априорных, т. е. в р о ж д е н н ы х , п р е д р е ш е н н ы х категориях этики, которым следует так же подчиняться, покоряться, как требовала этой покорности религиозная, христианская
этика. И у Канта, как видим, внерелигиозного нет ничего.
Э т и к а б у р ж у а з и и , как и в с я к о г о э к с п л о а т а т о р с к о г о
к л а с с а , в с е г д а б а з и р у е т с я на р е л и г и о з н ы х с а н к ц и я х .
Бѵожѵэзчай этика
Характерно, что не только религия, философу рту
dinna ф ия> н е Т 0 Л Ь К 0 в е с ь у К л а д, все бытовые условия
И буржуазные ЗНО- эксплоататорского общества культивировали принНОМИЧеские науки ципы подчинения большинства меньшинству, покорности этого большинства. На-ряду с этическими построениями, их
старательно подкрепляла также и б у р ж у а з н а я н а у к а .
Экономический хаос, экономическая дезорганизация, которые санкционировались и обоготворялись в порядке требований религиозной
покорности и преклонения перед неисповедимыми многообещающими
путями господа, подкрепляется также и научными изысканиями буржуазных экономистов, „открывших", что в общественной, реальной
жизни нет данных для ликвидации экономического хаоса, экономических кризисов и пр. Пути экономических кризисов, как и прочего земного зла, неизбежны—таков религиозный закон; руководящий экономический хаос неустраним—вторит буржуазная экономика, влагая в
экономические понятия ту же религиозную формулировку: „пути господа неисповедимы", „не борись, не вырывайся",—которая дает экономическое сверхподтверждение все той же авторитарной, религиозной
этики.
Если в буржуазной этике и содержатся тощие попытки освящения
организованного поведения, попытки воспитания активности, смелости
и т. п. общебоевых, реалистических свойств, эти попытки исчерпываются узкособственническими рамками, т.-е. исполнение подобных
этических норм льет воду на мельницу все того же эксплоататорского
хаоса, все той же социальной дезорганизации: „время—деньги; будьте
аккуратны, будьте бережливы, будьте скромны". Что это, как не апо-
логия самодовлеющего собственничества, являющаяся добавочным
материалом для все того же эксплоататорского хаоса, т.-е. д л я рос т а т о г о же а в т о р и т а р н о г о начала?
Итак, расшифровывая корни буржуазной этики, мы видим, что
основными ее моментами являются: а п о л о г и я с о б с т в е н н о с т и ,
а п о л о г и я э к с п л о а т а ц и и масс и о с в я щ е н и е с т и х и й н о с т и
п р о и з в о д с т в е н н ы х о т н о ш е н и й . Эти три момента—собственность, покорность стихии и подчинение эксплоатации—определяют собой всю сущность буржуазной этики.
Этика
Производственная позиция рабочего класса представляет собой нечто вполне противоположное тому,
пролетариата. ч т 0 характеризует собой буржуазию. Соответственным
образом должна будет проекцирсваться и этика пролетариата.
Буржуазия испельзовывала производительные силы, вопреки интересам масс, исключительно для себя. Рабочий же класс, по исторически неизбежным путям роста сгоего хозяйственного значения, наоборот, обязывается о т д а т ь в с е п р о и з в о д и т е л ь н ы е с и л ы всем,
т. к. он определяет собой основную экономическую трудовую массу
человечества—-98 ее процентов. Буржуазия характеризовалась стихийным построением своей экономики. Рабочий класс потому и взрывает
сейчас буржуазное господство, что он непреодолимо вырастает на
базе в с е б о л е е у г л у б л я ю щ е й с я к о н ц е н т р а ц и и , о р г а н и з а ц и и х о з я й с т в а , на б а з е м а к с и м а л ь н о й
организации
п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил, что является наилучшим, вернее—единственным способом победить экономическую стихию. Только таким
путем может он победить буржуазию.
Точная и отчетливая организация производительных сил и всех п р о и з в о д с т в е н н ы х о т н о ш е н и й в интер е с а х не к у ч к и , в и н т е р е с а х
всего
человечества,—
такова вытекающая из исторического развития человечества производственная позиция пролетариата. Отсюда первым п р а в и л о м п р о л е т а р с к о г о к л а с с о в о г о поведения, пролетарской этики
д о л ж н а я в и т ь с я н а у ч н о п о с т р о е н н а я р е ц е п т у р а наиболее п р о д у к т и в н о й о р г а н и з а ц и и
производительных
сил в интересах всего человечества.
Как видим, это совсем не то, что характеризует собой этику буржуазии.
Однако, далеко не всюду производительные силы находятся в руках пролетариата, и подобное определение этики было бы слишком
абстрагированным от текущего, сегодняшнего бытия подавляющей
части рабочих масс земного шара, в руки которых производительные
силы далеко еще не успели попасть. Н а д о с н а ч а л а з а в о е в а т ь
эти производительные силы, в процессе долгой, кровавой борьбы,
и лишь потом наступит стадия действительного их использования
в интересах человечества. Поэтому там, где борьба за овладение пролетариатом производительными силами еще продолжается (на Западе),
пролетарская этика представляет собсю также сумму научно-показательных правил, р е ц е п т у р у м е т о д о в и п у т е й н а и б о л е е
продуктивной
борьбы
за о т в о е в а н и е у б у р ж у а з и и
п р о и з в о д и т е л ь н ы х с и л , в интересах всего человечества.
Тем самым, в целом, пролетарская этика, этика переходного
к социализму, революционного, предсоветского и советского периода,
может быть сформулирована в следующих выражениях: это н а у ч н а я
рецептура путей и средств наиболее
продуктивной
б о р ь б ы за о т в о е в а н и е у б у р ж у а з и и п р о и з в о д и т е л ь н ы х
сил, плюс в дальнейшем научная
рецептура
путей
на и б о л ее п р о д у к т и в н о й о р г а н и з а ц и и э т и х п р о и з в о д и т е л ь н ы х сил в и н т е р е с а х всего человечества.
Этично все то, что способствует такой борьбе и такой организации. Безнравственно все то, что этой борьбе мешает.
Если существовали когда-либо такие исторические периоды,
в которые та или иная классовая этика охватывала собой подавляющую часть человечества, подавляющую часть общества (а это бывало
тогда, ^когда противостоящий эксплоататорам класс еще не успевал
отчетливо выявить своей исторической физиономии), вполне очевидно,
что в данной стадии своего исторического развития именно пролетариат,
и т о л ь к о о н , является тем классом, этика коего станет этикой
подавляющ т о большинства человечества, которое по меньшей мере
в 95% своего состава представляет собой трудящиеся, эксплоатируемые
массы, интересы коих противостоят интересам эксплоататорской кучки.
Противостоять буржуазным должны, тем самым, также понятия
и правила поведения этих масс, т.-е. их этические нормы.
В процессе укрепления пролетарских позиций, как в тех страніх,
где рабочий класс уже успел победить, так и там, где он постепенно,
хотя и медленно, побеждает,—протетарская этика неизбежно завоюет
себе также и трудовые низы крестьянства, мелкую буржуазию и наиболее
демократические слои интеллигенции, станет также и их этикой. Пролетарская этика, впервые в истории человечества, будет развиваться и крепнуть уже как общечеловеческая этика, как этика предкоммунистическая.
Пролетариат, прорывающийся к власти, должен внимательнейшим
образом jучесть нормы поведения, этику своего классового врага,
дабы не заразиться его нормами поведения во вред своим рево люционным интересам. Он обязан проделать глубочайшую, исчерпывающую
ревизию старой этики, ибо иначе, при прежних правилах поведения,
построенных на вполне определенной производственно-экономической
базе, нельзя будет создать той новой экономики, которая должна передать власть рабочему классу. Основной же задачей пролетариата
сейчас и является—создать эту новую экономику.
Все, что освещало прежде собственнические моменты, эксплоатацию и экономический хаос,—все то, что было связано с авторитаризмом,
бегством от реальности, должно быть въ пролетарской этике беспощадно отметено.
Нппмы ППППР
Каковы же основные вехи пролетарской этики? Как,
пормы проле- в к а к о м направлении
наиболее продуктивно должен
тарСКОи ЭТИКИ. и может „вести себя" пролетариат, чтобы наилучшим
образом организовать свою борьбу с буржуазией, чтобы наилучшим
образом организовать хозяйство в интересах всего человечества?
I. Первым долгом, он должен быть у л ь т р а - р е а л и с т о м , он
должен беспощадно о б н а ж и т ь
перед собой и перед всем человечеством всю д е й с т в и т е л ь н о с т ь , во всех ее выявлениях, без
остатков какого бы то ни было фетишизма, без элементов какой бы то ни
было идеалистической гнили, которыми старательно прикрывало массовое осознание действительности хитроумная буржуазия. М а к с и м а л ь ный реализм, и с ч е р п ы в а ю щ и й материализм — вот
что
является исходной, п е р в о о ч е р е д н о й базой для т е к у щих и г р я д у щ и х э т и ч е с к и х п о с т р о е н и й пролетариата.
Материализм—только такой подход к жизни обеспечивает продуктивн у ю борьбу пролетариата за власть и за хозяйственную организацию.
Только материалистический подход к жизни хорош, нравственен—
в пролетарском смысле. Мистика, метафизика мешают пролетарской
борьбе, дезорганизуют плановое хозяйство. Они безнравственны.
II. Буржуазное хозяйство представляет из себя систему оторванных
друг от друга, грубо разобщенных частиц. Это разобщение, как мы
видели, фетишировалось и буржуазной экономикой и буржуазной этикой, которые дружно, совместно освящали капиталистический хаос.
Против подобной разобщенности, против раздробления, распыления
хозяйства пролетариат обязан вести жесточайшую борьбу. А н т и н а у ч н о м у х а о с у он д о л ж е н п р о т и в о п о с т а в и т ь
глубочайшую, исчерпывающую научную организацию хозяйс т в е н н о й ж и з н и . Таким образом, организация, н а у ч н а я о р г а н и з а ц и я х о з я й с т в а и всей ж и з н и является
вторым
этическим
столпом
пролетариата,
борющегося
за
о с в о б о ж д е н и е человечества.
III. Собственнические устремления характеризовали собой буржуазное хозяйство. „Я сам для себя, на остальных наплевать",—вот
экономическая и этическая установка буржуазии. Максимальная к о л л е к т и в и з а ц и я интересов людей, слияния этих интересов в органическое единое целое,—этим и только этим может спасти пролетариат
хозяйство и жизнь человечества. Не в одиночку, а всем вместе, всем
коллективом надо работать,—во и м я в с е г о к о л л е к т и в а — т а к о в а
третья этическая норма р е в о л ю ц и о н н о г о пролетариата.
Коллективизм—в п р о т и в о в е с и н д и в и д у а л и з м у
буржуазной
этики.
IV. Однако, реализм, организация, коллективизм—еще не исчерпывают всей этической установки рабочего класса. Можно обладать
всеми этими чертами и в то же время не иметь возможности, не чувствовать необходимости выявить их действенно во вне. Время же не
терпит. Не п р е к р а щ а ю щ а я с я н и на о д и н м и г
борьба
необходима во что бы то ни стало. Яростная, смелая борьба. Борьба,
улавливающая сложнейшие изменения действительности, борьба, строящая необходимые, все новые и новые методы приспособления к этой
меняющейся действительности,—борьба, развивающая классовую находчивость. Приучить себя к этой борьбе, приучить себя д и а л е к т и ч е с к и
учитывать вновь и вновь нарождающиеся изменения
у с л о в и й э т о й б о р ь б ы является также основной и в то же время
заключительной этической нормой революционного
пролетариата.
Д и а л е к т и ч е с к и й а к т и в и з м — т а к мы могли бы назвать нашу
четвертую этическую норму.
Вооруженный этими четырьмя, колоссальной мощи, идеологическими орудиями, пролетариат оказывается не только этически забронированным, философски организованным, он, пользуясь этими нормами,
приобретает также способность к победоносной вооруженной борьбе, к
планомерной организации хозяйства.
Материализм, организация, коллективизм, диалект и ч е с к и й а к т и в и з м представляют собой основные вехи для
построения научной рецептуры революционной борьбы, для построения
научной рецептуры по организации социалистическаго хозяйства.
Все содержание оформляющейся сейчас пролетарской этики является
общим или частным выражением этих основных четырех моментов,
которые определяют собой в корне всю сущность пролетарской этики.
Пользуясь этими четырьмя этическими критериями, мы можем и обязаны пересмотреть все прежние, до-пролетарские построения этики
и радикальнейшим образом их перекроить. Эти нормы делают вполне
возможным подобный радикальный пересмотр.
ГПЯНИІІМ ПППІМ
Пролетариат—первый в истории класс, отдающий
раниць! проле- в с ю Ж И З Н Ь і в с е блага жизни, все производственные силы,
ТЗрСКОИ ЭТИКИ. в е с ь производственный процесс в распоряжение всего
человечества, вырывающий эти блага из рук хищнически их использовывавшей эксплоататорской кучки. Поэтому самое п о н я т и е п р о и з в о д с т в е н н о г о п р о ц е с с а , которое поневоле было суженным,
связанное хищническим аппетитом одного лишь господствующего
класса, пролетариат получает возможность исчерпывающе расширить,
полностью доводя его д о о х в а т а в с е й ж и з н и в ее ц е л о м .
Организация использования производительных сил в интересах
всего человечества—ведь, это ни что иное, как н а у ч н а я о р г а н и з а циявсейжизнивцелом.
Пролетарская этика, как рецептура социально-производительного,
общечеловечески-целесообразного поведения, становится, таким образом,
рецептурой максимальной
экономии энергии
всего
человечества.
В понятие пролетарской этики мы можем и должны включить
не только нормы организации производства,—также и нормы гигиенического поведения, нормы организации всех жизненных благ, нормы нового
искусства,—одним словом, все без исключения нормы организации ж и з н и —
в интересах коллективной целесообразности, в интересах всего человечества. Вся энергия жизни, вся энергия человечества должна быть
научно учтена и строго нормирована в ее использованиях, так как
она принадлежит, во всех ее проявлениях, человечеству.
Н а у ч н а я н о р м а л и з а ц и я всей жизни, в интересах
в с е г о ч е л о в е ч е с т в а — в о т фундамент пролетарской этики.
Сколько бы о подобных нормах организации жизни в интересах
коллективистической целесообразности ни пытались говорить буржуазные строители „оптимистической" этики (Бентам и др.),—понятно,
подобные попытки были осуждены на бесплодие, так как буржуазия
по самой своей природе не давала возможности человечеству овладеть
всеми процессами жизни, и л и н ь в строе г о с п о д с т в а п о д а в л я ю щ е й м а с с ы ч е л о в е ч е с т в а эта воистину исчерпывающая научная
организация жизни на социально-целесообразных началах делается
впервые осуществимой.
Настолько ли изуродовано человеческое поведение стат
(Орншзы. р 0 - к л а с с о в о й экономикой и ее идеологическими отражениями, чтобы резко противостоять новому типу этических построений?
Может ли, в силах ли человек в течение блин айшего исторического
периода отрешиться от мистических фетишей и пригычной дезорганизации, от собственнических устремлений? В состоянии ли он пойти
по пути новых этических указаний, по пути материалистической, боевой
активности, коллективизма, организации? Может ли он, растерянный,
косный, пассивный, так резко, радикальнейшим образом измениться,
оказаться вдруг навсегда готовым к бою, приобрести способность
прозорливо всматриваться вдаль, жертвовать ближним'для дальнего?
В силах ли он сейчас заменить свою инертность быстротой и точностью?
Не утопия ли наши новые этические нормы?
К счастью,—нет, не утопия!
С одной стороны, неуклонно развертывающиеся на наших глазах
новые социально-экономические условия сбрасывают в пропасть мистические фетиши: индивидуализм, дезорганизацию и прочее наследие клас-
совой гнили. Организмы подавляющей части человечества, ходом
исторического процесса, „выздоравливают" сами по себе. Человечество
делается реалистическим, коллективистическим и организованным.
Гниль классового общества обнажается глубже и глубже. Авангардом
в этом раскрепощении сознания и воли общества является пролетариат.
Надо вообще помнить, что идеологические моменты буржуазного
царствования: индивидуализм, религия и х а о с — о р г а н и ч е с к и не
г л у б о к и . Религиозный момент порядком подорвал себя ростом капиталистической техники,—и история не успевает передавать его человечеству „По наследству", не успела его закрепить, как „врожденный
рефлекс". Знаем же мы колоссальные религиозные срывы огромных
общественных масс в периоды революционного подъема, в эпоху
прорыва новых классов к господству (вспомним революционную историю той же буржуазии). Такие же резкие революционные срывы мы
знаем и в индивидуальной жизни огромного количества отдельных
.гюдей на протяжении их личного бытия.
Нет препятствий к достаточно быстрой замене религиозной установки вполне материалистическими построениями. В религиозном
моменте нет серьезной опасности для осуществления новых этических
начал,—история сама старается ликвидировать эту опасность.
Что же касается индивидуализма, который мог бы помешать новым этическим построениям, то, с одной стороны, он не характерен
для революционного авангарда человечества, для пролетариата, коллективизированного по самой своей производственной роли в крупной
индустрии и по общесоциальной своей позиции,—с другой же стороны, и подавляющая часть прочих трудящихся масс вряд ли, в конечном счете дальнейшего деградирования капитализма, сочтет более
удобной для себя индивидуальную установку, аппетитную лишь для
тех, кто имеет возможность наживаться в условиях империализма, т.- е~
для экономически
сильных. При малейшем сдвиге исторического
успеха в сторону пролетариата, все трудовые массы, несомненно, охотно
и достаточно быстро устремятся в коллективистическую сторону.
Бояться новой этике непреодолимых „органических" препятствий со
стороны старых установок не приходится.
Понятно, процесс радикальной реорганизации совершится не сразу.
Постепенно, Есе более углубляясь и нарастая, в сознание трудовых
масс, в сознание пролетариата в первую очередь, будет проникать
представление о том, что все человечество должно быть единым, что
человечество—это единый, трудовой коллектив.
Коллективизм—предтеча, актуальный предтеча новой этики.
Таким же образом, постепенно, неуклонно, все более широко и
глубоко, в трудовые массы будет проникать представление о ненужности всякой мистики, о необходимости заменить преклонение перед
божественным і сѵергыв: юшей объективно-точной, научной критикой.
Всякий неграмотный, всякий легковерный будет в дальнейшие этапы
развития трудовых масс преследоваться так же беспощадно, как сейчас
преследуются бандиты и растлители. Нельзя трусить, убегать, когда
в интересах класса требуется смелая активность. И т. д., и т. д.
Новые этические нормы вскоре заменят собой старую форму морали, и неприемлющие их будут беспощадно выметаться из общежития.
Эти новые нормы, нормы новой, пролетарской этики в зародыше
своем обнаруживаются, выявляются уже и сейчас. Мы видим их в
истории революционного рабочего движения, в истории международной
коммунистической партии, в истории РКП. Мы видим отражение этих
новых этических норм в быту передовых рабочих слоев. Пролетарская
этика—не утопия, а факт, факт сегодняшнего дня.
Надо внимательно изучить современную социальную действительность,—в первую голову быт пролетариата,—для того, чтобы отфильтровать в его этическом содержании те зародышевые элементы нового,
которые могут быть использованы для дальнейшего воспитательного
воздействия. Новая этика уже существует в н и з у . Мы ее не выдумы-.
ваем, она сама вполне конкретно вырабатывается, выявляется все
более отчетливо,—она уже ко многому незаметно обязывает.
Надо эти новые этические факты учесть, систематизировать,—
необходимо их умело использовать.
Б. Арватов.
Б ы т и к у л ь т у р а вещи.
(К постановке
вопроса).
I.—Вещь и п р о л е т а р с к а я к у л ь т у р а .
Огромное большинство марксистов, подойдя к проблемам пролетарской культуры, решает ее либо в чисто идеологической плоскости,
либо, по крайней мере, берет последнюю за отправной пункт исследования. Своеобразный идеологизм — вот характернейшая черта господствующих в марксистской среде воззрений на культуру. Исходя из производства материальных ценностей при о б ъ я с н е н и и любого социального, в том числе и культурного, п р о це с с а,—товарищи покидают свою
обычную историко-материалистическую позицию, как только подходят
к той организационной связи, которая существует между разными
ф о р м а м и культуры. При этом, на первое место выступает общественное сознание, материальная же культура оставляется в стороне. В крайнем случае, подвергают анализу техническую систему общества, понятую узко, как систему, формирующую экономические отношения,
вообще, как систему движущих сил общества.
Не говоря уже о том, что сама техника есть не только двигатель,
но и общественно-материальная форма, в которой этот двигатель существует,—не говоря уже об этом,—надо решительно подчеркнуть,
что понятие „материальная культура", включающее в себя всю техническую
продукцию, ее распределение и потребление, значительно
шире, чем понятие „техника", особенно если взять последнее в его
привычном истолковании. Материальная культура общества—это всеобщая система вещей, т.-е. социально-целесообразных материальных
форм, созданных человечеством путем трансформации т. н. естественных форм природы. Материальная культура—это и производство и
потребление материальных ценностей. С точки зрения материальной
культуры, какая-нибудь машина представляет собою и техническую,
производительную форму, и форму бытовую, потребительскую, а вся
техника в це юм есть и орудие общественного труда, и его обстановка,
его формально-бытовое условие.
И вот, поскольку мы рассматриваем явления культуры, постольку
в основу рассмотрения мы должны положить анализ не только техники,
но всей совокупности вещных форм. Лишь такое рассмотрение будет
целостным. Общественное сознание, общественный быт—формируются
и в материальном производстве и в материальном потреблении. Само
собой разумеется, что методы общественного потребления не первоначальны, что они определяются производством, но без их прямого изучения нельзя культурно охватить сти іь- общества в целом. Они непосредственно влияют и на мировоззрение, а главное—на мироощущение
последних. Культурный тип человека создается в с е й его материальной
средой, точно так же, как культурный стиль общества создается в с е й
его материальной конструкцией.
Связь индивидуума и коллектива с вещью есть самая основная,
самая важная, самая определяющая из социальных связей. Этот тезис
является прямым выводом из теории исторического материализма.
Если он не осознавался или осознавался частично, т.-е. как связь с
производственным орудием, то это происходило потому, что марксисты
имели до сих пор дело с буржуазным миром вещей, дезорганизованным и разбитым на две резко отграниченных области: вещей технических и вещей бытовых. Последние вовсе выпадали из научного рассмотрения, как статические и производные формы. Тем самым мир
вещей, как мир не только материальных процессов, но и материальных ф о р м , не принимался во внимание и, следовательно, не
принималась во внимание и формально-бытовая характеристика техники.
Таким образом, вся сфера общественного сознания и многие стороны
общественной практики (напр., практика социально-организаторская,
художественная и бытсвая) отрывались в представлении марксистов
от мира вещей и повисали в воздухе: их связь с производством была
слишком отдаленно-надстроечной, а та непосредственная связь, которая у них была материальными формами производительного и чистого
потребления, игнорировалась или даже не замечалась.
Строительство пролетарской культуры, т.-е. культуры, сознательноорганизусмой рабочим классом, требует устранения того разрыва между
вещами и людьми, который был характерен для буржуаз ого общества.
Это строительство предполагает, кроме того, установление единой методологической точки зрения на весь мир вещей, как на материальный
формообразующий базис культуры. Пролетарское общество не будет
знать вещного дуализма ни в практике, ни в сознании. С другой стороны, это общество будет проникнуто глубочайшей гещнсстыо идеологии. Поскольку, однако, такие общие положения еще ничего не говорят о конкретной их реализации, постольку оказывается необходимой
их сверка с теми формами материальной культуры, которые выработаны до сих пер человечеством. Зная типы связей, существующих
между людьми и ьещами, зная общественно-историческую подпочву
этих связей, мы сможем предсказать, хотя бы в основном, тенденции
; . - н п і я 1{.сд та рекой материальной культуры.
Значение такого предвидения огромно. Материальные формы
культуры, именно как формы, т.-е. как отложившиеся скелетные образования, представляют собою чрезвычайно консервативную величину,
известную под именем быта. Знать тенденции развития материального
быта, значит—уметь им управлять, планомерно изменять его формы,
т.-е. превращать из величины консервативной в величину прогрессивную. А это, в свою очередь, гарантирует прогрессивное преобразование и двух других областей быта—социальной и идеологической.
Быт—это установившиеся скелетные формы бытия. Таксе преобразование бытотворчества, при котором изменение быта будет итти
в органической, постоянной и пластичной связи с изменением бытия,
ведет, собственно говоря, к ликвидации быта, как особой сферы общественной жизни, поскольку будет происходить процесс рассасывания классовых перегоредок. Да это и понятно. Понятие быта сформировалось в противовес понятию труда, как понятие потребительской
деятельности—в противовес понятию деятельности производственной,—
как понятие социальной статики—в противовес понятию социальной
динамики. Такое выделение возможно было только на почве классово-технической диференциации, характеризующей капиталистический
строй с его организаторской, над производством стоящей, верхушкой.
В обществе пролетарском, и тем более социалистическом, где производство будет непосредственно формировать все виды человеческой
деятельности, статический быт потребления станет невозможным.
Содействие этой эволюции—прямая задача строителей пролетарской
культуры. Решение же данной исторической задачи может быть начато
лишь с форм быта материального.
Настоящие заметки пробуют осветить некоторые вопросы быта
в связи с вопросами культуры вещи, имея в виду как раз насущные
потребности пролетарского культурного строительства.
2<— Вещь в руках буржуазии.
В этой главе мы постараемся дать беглый анализ вещной культуры буржуазии в том ее виде, в котором она сформировалась к середине прошлого столетия и в котором продолжает еще в значительной мере существовать и до сих пор, параллельно новым культурным
образованиям.
Частная собственность на орудия и средства производства породила частно-хозяйственный быт. С другой стороны, она привела не
только к классовой диференциации общества, но и к максимальному
обособлению системы производства, как системы машинно-коллективистической, от системы потребления, как системы индивидуального
присвоения. Посередине лежала область распределения,—на 90% стихийно-организованный рынок. Соответственно обособился, диференцировался и мир вещей и мир людей.
Буржуазия, особенно за последний период финансового капитализма, стоя вне непосредственного физического контакта с производством
материальных ценностей, оказалась в соприкосновении только с теми
вещными формами, которые образовали область чистого потребления
и, отчасти, потребления так называемого производительного. Таким
образом, ее культурная характеристика в этом смысле целиком определилась той ролью, той функцией, которую в ее жизни играли:
1) вещь на рынке, 2) вещь в частном быту. При этом, как можно легко
доказать, первая имела командующее значение хотя бы потому, что
в капиталистическом городе частный быт, быт чистого потребления,
глубоко вкраплен в рыночный быт и целиком от него зависит.
Буржуа имеет дело с вещью, прежде всего, как с товаром, как
с продаваемым и покупаемым предметом. Товарное отношение к вещи
воспитывается в среде буржуазии не только ее хозяйственной практикой, но и всем ее материально-общественным окружением. Улица капиталистического города—это улица купли - продажи вещей, улица
магазинов, товарных витрин,—улица цен, тайна происхождения которых скрыта от сознания потребителя. Здесь вещь становится абстрактной категорией, выступает в качестве аматериальной меновой стоимости, а поскольку мы имеем дело с купцами и промышленниками,—
как голое, и столь же абстрактное, средство накопления.
Товарная природа буржуазного материального быта создает основной базис для отношения к веши. Вещь—как аматериальная категория,
вещь как категория чисто потребительская, вещь вне ее творческого
генезиса, вне ее материальной динамики, вне общественного процесса
производства, вещь, как нечто завершенное, зафиксированное, статическое и, следовательно, мертвое,—вот что характерно для буржуазной материальной культуры.
Буржуа получает вещь извне, из незнакомого, и в этом смысле
безразличного для него, мира производственной реальности. Для буржуа вещь существует в той мере, в какой мере он может извлечь из
нее прибыль или использовать для организации своего быта. Отсюда—
методы оформления материального быта.
„Богато обставленная квартира", „скромная обстановка", „бедная
обстановка", „дорогое убранство", — таковы типичнейшие бытовые,,
в речи оформленные понятия, выросшие в среде буржуазии.
Но есть еще важнейшая,—пожалуй, самая коренная,—черта вещного буржуазного быта: мы имеем в виду частную собственность,
частно-собственническое отношение к миру вещей.
Для буржуа существуют „мои" и „чужие" вещи, при чем „мои"
выступают на первый план не только как материальные блага, но и
как общественно-идеологические категории.
В обществе непрерывной конкурентной борьбы и индивидуализма,
каждый отдельный член этого общества использовывает для организации своего положения в обществе все имеющиеся у него ресурсы и,
в первую очередь, ресурсы материальные. Вещь становится тут средством и чисто-личного и классового демонстрационного аффектирования,— входит в состав бытового церемониала, как его главный базис,
как его стержень.
„Шикарный костюм", „роскошная гостиная", „блестящий экипаж",
и пр., и пр.,—таковы речевые обороты буржуазного церемониала вещей. Он образуется культом той или иной стоимости материалов, их
редкости, старинности, редкости и старинности предметных форм,
эффектом наружной материальной оболочки, т.-е. всем, что способно
наглядно продемонстрировать социально-экономическую силу отдельного буржуа или буржуазного коллектива (города, государства, капиталистического предприятия и т. д.).
За всем этим окончательно теряется объективный социальный
смысл вещи—ее утилитарно-техническое назначение, ее производственная квалификация. Вещь приобретает двойственное значение—и формы
материальной, и формы идеологической. Вещный идеализм, как частное,
но социально и психологически первенствующее мироотношение, есть
характернейшая черта буржуазного идеализма вообще.
Такое отношение к вещи было бы невозможным, если бы буржуазия
входила бы в активное, созидательное соприкосновение с миром вещей..
Но для этого она должна была перестать существовать, как эксплоататорски-паразитический класс. Там, где определяющей формой быта
является быт частно-квартирный, частно-конторный или т. н. „казенный",—там нет места вещетворчеству. Там вещи реализуются и не могут не реализоваться, как самостоятельные, шаблонизированные, законченные предметы, раз навсегда определенные и раз навсегда установленные. Поскольку частный быт формируется индивидуально, постольку
формы его неизбежно случайными анархичны и, в то же самое время,
законченны, неизменяемы.
В самом деле.
Получая их готовыми, получая их в той мере, в какой буржуа
способен ими экономически владеть,—буржуа затем распределяет- их
в своем быту сообразно установившейся традиции и установившимся
вкусам, варьируя все это в меру индивидуальных способностей. Для
него вещь—только необходимая материальная обстановка или показная
форма. Действовать с миром вещей он не умеет. Он—либо работник
мысли, либо организатор людей, чаще всего организатор биржи, а не
производства. Устроив, допустим, квартиру, он затем больше уже не
соприкасается с ней активно,—его материальный быт на этом завершает свое оформление. В особенности это хорошо заметно в быту
интеллигенции. Если средний буржуа еще кое-как фактически организован, то интеллигент по большей части существо вещно беспомощное
и неприспособленное. Он берет обстановку в том виде, в каком она
ему предлагается, или же игнорирует ее.
Отрыв потребления от производства радикально воздействует на
веще - отношение в том смысле, что это отношение становится глубоко субъективным, идеологическим, вкусовым. Отсюда два взаимносвязанных явления: стилизм и мода. Оба эти явления коренятся в
отсутствии производительного, коллективистичного подхода к миру
вещей и в необходимости исходить из чисто-формального, индивидуалистического критерия при оценке вещей или их выборе. Эстетическая
анархия и эстетический подражательный консерватизм господствуют в
буржуазном обществе и во многом определяют его материально-бытовую структуру. Само собой разумеется, что здесь первопричиной является
техника частно-собственнического производства; техника эта, ограниченная рамками индивидуального капитала или среднего акционерного
(таково и до сих пор в большинстве стран производство потребления),
вырабатывает вещи индивидуального потребления, т.-е. вещи, не связанные друг с другом, дробные, вещи-товары. Производство работает
на рынок и, следовательно, не может учитывать к о н к р е т н ы х особенностей потребления и исходить из них; оно вынуждено при конструировании вещей отправляться от имеющихся шаблонов чисто формального порядка, подражать им. В результате—сплошной консерватизм
форм и статичность их.
Организация вещей в буржуазном быту не входит за пределы
перестановки вещей, распределения готовых предметов в пррстранстве
(мебель—самый характерный образец). При этом форма вещи не изменяется, остается раз навсегда одною и той же,—одной и той же остается
и функция. Неподвижность вещи, бездейственность ее, отсутствие в ней
элемента орудийности—создают такое отношение к ней, при котором
квалификационная производственная сторона ее воспринимается либо
с точки зрения голой формы (эстетическо-вкусовой критерий: веши
„красивые" и „некрасивые"), либо с точки зрения ее сопротивления
влиянию среды (т. н. прочность вещи). Вещь получает, таким образом,
характер чего-то по самой своей природе пассивного. Вещь, как дополнение физиологически - трудовых приспособлений организма, как социально-трудовая величина, как орудие и как сотрудник—не существует
в быту буржуазии: не даром э т о — б ы т чистого потребления или быт,
только окружающий работу, составляющий ее условие, но не связанный с ней практически (комната ученого, кабинет администратора и т. п.).
3.—Вещь в и н д у с т р и а л ь н о м городе.
Новейшая стадия капитализма, в ее наиболее развитом виде, проявляется в Америке и, связанная поэтому с популярным словечком
„американизм", характеризуется прежде всего грандиозной производственной коллективизацией общества, захватившей значительную часть
буржуазии и создавшую особую, и чрезвычайно многочисленную, группу
технической интеллигенции.
Вслед за индустрией, коллективизации подверглась сначала область производительного потребления (все виды связи, распределения
и пр.). Одновременно с ней — область организаторской деятельности
(административные аппараты, научно-экспериментальные учреждения
и т. п.), и лишь затем—некоторые элементы частного быта.
Новейший капиталистический город представляет собой ряд связанных друг с другом вещных систем, управление которыми централизовано в большем или меньшем масштабе. Поскольку финансовая буржуазия продолжает в этом городе господствовать, поскольку она сохраняет в нем^все свои типичнейшие, обрисованные в предыдущей главе,
черты, несмотря на происшедшую уже материально-культурную революцию. Зато в полной мере отразилась эта революция на технической
интеллигенции. Благодаря колл ктивизации своего труда, она сменила
теперь прежний быт на быт нового типа, быт огромных контор, универсальных магазинов, заводских лабораторий, исследовательских институтов и т. п. Ее мироотношение складывалось теперь не в частной
квартире, а там, в коллективной и связанной с материальным производством среде; с другой стороны, коллективизация транспорта и целого ряда материальных функций городской жизни (отопление, освещение, канализация, архитектурное строительство) приводила к тому,
что сфера частного быта сужалась до минимума, да и этот последний
преобразовывался под воздействием прогрессирующей техники.
Живя в мире ей'не принадлежащих, но ею организуемых, ее труд
обусловливающих вещей, техническая интеллигенция постепенно утрачивала прежнее частно-собственническое отношение к вещам. Оценка
вещи, как меновой или демонстрационной категории, здесь просто не
могла уже иметь места. Отходила на второй план и оценка вещи
со стороны ее пассивной сопротивляемости (прочность, деятельность,
использование), так как техническая интеллигенция, будучи группой
наемных организаторов, не знала постоянного контакта с данными
конкретными вещами, с помощью которых и в окружении которых
действовала. Тем более это относится к сфере уличного быта и формам
связи (трамвай, телефон, железная дорога и т. д.).
На первое место выступили теперь другие критерии: удобство
вещи, портативность, комфортабельность, гибкость, целесообразность,
гигиеничность и т. п.—одним словом, все то, что называют ориентабельностью вещи, ее установочно - монтажной приспособленностью
к потребностям общественной практики.
В основе этой эволюции лежала, конечно, эволюция техники с ее
принципом стандартизирования и нормализации, — социальным же двигателем эволюции и ее проводником в быту была техническая интеллигенция. Становясь мало-по-малу организатором и идей, и людей, и
вещей, техническая интеллигенция переносила приобретенные ею навыки
из сферы производства в сферу потребления, из быта коллективного
в быт частный. Знание вещи и умение владеть ею теперь становилось
активным, воспитывалось на транспорте, на заводе, в технической
лаборатории, в крупном административном учреждении и распространялось на самые дробные элементы материальной культуры.
Умение взять портсигар, закурить папиросу, надеть пальто, носить
кепку, отворить дверь,—все эти „мелочи" приобретают свою квалификацию, свою немаловажного значения „культуру",—смысл ее в максимуме экономности, точности, в максимальной спайке с вещью и ее назначением.
В городе небоскребов, подземных и надземных метрополитэнов,
механизированных материальных связей между вещами, тысяч передаточных аппаратов, заменяющих собою рабочую силу,—в таком городе
неумение управлять вещью означало бы полную невозможность существовать вообще. Новый мир вещей, определяя собой и новый облик
человека, как-психофизической особы, диктовал формы жестикуляции,
движения, действования,—создавал своеобразный тренаж физкультурного порядка. Эволюционировала и психика, становясь все более и
более вещной, по своему ассоциативному составу. Чисто-формальное,
имматериальное, стилизационное восприятие вещи исчезало по мере
того, как новейшая индустрия революционизировала предметные формы,
делая их обнаженно-конструктивными.
Стекло, сталь, бетон, искусственные материалы и пр.—больше
уже не прикрывались „прикладнической" оболочкой и говорили сами
за себя. Механизм вещи, связь элементов вещи и их назначение—были
теперь прозрачны и вынуждали практически, а следовательно и психологически, считаться с ними, и только с ними. Форма, как готовый
шаблон, здесь больше уже не могла учитываться,—координация с формой уступала свое место координации с функцией вещи и методами
ее конструирования. Вещь динамизировалась. Раздвижная мебель, движущиеся тротуары, вращающиеся двери, лестницы с лифтами, рестораны-автоматы, костюмы с разнимающимися частями и т. п.—вот новая
стадия в эволюции материальной культуры. Вещь стала чем-то действующим, активным, сотруднически связанным с человеческой практикой. МеханизацияД-динамизация дали машинизацию вещи, — превращение последней в рабочий инструмент. Вещь потребительского быта,
когда-то глубоко отличная от вещи в производстве, от фабричной
машины, когда-то статически мертвая, — теперь и по методам своего
оформления и по своей функции подчинилась вещи производственной.
Так материальные формы производства, по мере коллективизации
общества, создали вещный монизм, монистически, по своему образу
и подобию, организуя материальные формы потребления. С другой
стороны, электро-техническая централизация производства привела
к устранению из мастерских не только двигателей, но и значительной
части передаточных механизмов,—усложнение вещи в быту што, следовательно, на-ряду с упрощением ее в индустрии. И то, и другое было
следствием коллективизации материальных аппаратов общества, их
сближения между со Зой, их реального и методологического объединения. Производственные методы стали пронизывать быт, и в самом
производстве происходила эволюция, направленная к тому, чтобы производственный процесс сделать наиболее удобным с точки зрения
условий и труда, т.-е. обытить его. Схождение и кристаллизация этих
двух тенденций далеко еще не завершились; пока мы можем наблюдать только зарождение указанного развития,—его целостная реализация мыслима лишь при социализме.
Будучи носителем высокой вещной культуры, техническая интеллигенция, однако, не могла по своей классовой природе стать целостным организатором мира вещей. Индивидуалистически ограниченная,
частично, некоторыми только сторонами своей практики связанная
с производством,—она не способна была ни оценить объективной
сущности последнего, ни, тем более, соответственно подойти к материальным формам быта. Производство, как гигантская система сотрудничества между человечеством и стихийными силами природы; производство, как коллективное орудие преобразования и преодоления
природы; производство, как определяющая, командующая форма организации общественных активностей, направленных к победоносному
завоеванию и овладению могущественными и неопределенно развертывающимися энергиями материальной среды,—производство в этой
•его действительной роли для технической интеллигенции в целом
'(исключая отдельных ее, лучших представителей) не существовало.
Тем самым производство становилось чем-то изолированным от природы; изолированной и, притом еще, значительно больше изолированной становилась также вся система материального быта, потребительской продукции.
Понятие „американизм" включает в себя и положительную сторону—„вещность", и отрицательную—отрыв от природы. Современный
индустриальный город, с его бытовым обособлением природы от мест
производства, мест производства от мест организаторской деятельности,—этот город, сплошь, до последнего дюйма, окованный в преобразованную человечеством материю, в которой исчез последний намек
на ее стихийный источник,—создает отношение к вещи, как к самодов еющей, в себе замкнутой форме. Ее динамически-трудовой состав,
ее живая сила—чередуются и становятся „бездушными". Отсюда характерная для капитализма тяга к природе, как к тому, что, в противовес вещи, представляется живым, или, наоборот, отвращение к природе
и фетишизирование самоценных, якобы вне природы стоящих, вещей
(т. н. техницизм, которым страдают многие, не в меру усердные поклонники американизма).
Однако, уже сейчас можно указать на ряд новообразований в
технике и быту, которые ведут к ликвидации разрыва между материальными энергиями общества и природы. Это, прежде всего—электричество и радио,—технические системы, в которых производственный
процесс реализуется в работе непосредственно осязаемых, стихийных
активностей, организованных трудом человека; мало того, здесь впервые производственная и потребительская формы энергий получают
одинаковое применение: природа в ее чистом виде пронизывает общество,— становится бытом. Тот же смысл имеет и бытовое окружение»
в которое постепенно попадают источники сырья, местности которых
заселяются и преобразуются на основе высоких „культурных" форм.
Наконец, неуклонное проникновение в город растительности, планомерно управляемой человеческими руками, свидетельствует все о том
же, пока зародышевом, прогрессе.
Если заключительная стадия капитализма, с его бешено обострившейся конкурентной борьбой и постоянной лихорадочной спешкой»
есть стадия высокого динамизма, то нельзя забывать, что здесь мы
имеем дело, главным образом, с динамизмом человеческого движения.
Экономика рынка заставляет людей динамизироваться, но это динамизм
глубоко индивидуалистический, а потому анархичный, — динамизм отдельных, сталкивающихся между собою личностей.
Задача пролетариата состоит в том, чтобы создать планомернорегулируемый динамизм вещей. Превратить вещь в орудие, универсализировать тот процесс, который намечается уже в наши дни (любопытнейший пример: дома-орудия), это значит—обеспечить за обществом максимум экономии его энергии, максимум организаторских
возможностей. Когда производительные силы человечества станут
управляться механиками, электро-монтерами, машинистами, шофферами
и кондукторами,—только тогда наступит господство вещей-орудий,
непосредственно связанпых и с управляющими людьми и с управляемыми силами природы.
В. П е р ц о в
Слово —
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ
— будущее.
I. В в е д е н и е .
Книжки с картинками издаются преимущественно для детей.
Когда ребенка учат азбуке, ему дают картинки, изображающие
знакомые ему предметы, начальные буквы которых начертаны рядом.
Разговор между людьми, не понимающими языка друг друга, происходит знаками путем показывания тех предметов, о которых идет
речь, или изображения их формы руками, пальцами, или подражания их
движению посредством всего тела. Коротко говоря, во всех тех случаях, когда с л о в о , обозначающее то или иное понятие, вещь, предмет рискует быть непонятым или вызвать вялые реакции, или, наконец,
доходит до сознания слишком медленно—
— н е т лучшего способа достигнуть желаемого результата, как сделать выражаемое содержание з р и т е л ь н о - н а г л я д н ы м , передать
его г р а ф и ч е с к и й состав. Когда поэт не находит больше слов для
выражения описываемого им явления, он заявляет, что предмет этот
нужно в и д е т ь .
Зрительный образ (т.-е. все то, что люди воспринимают глазами)
дает м а к с и м у м представления о предмете, предел достоверности и
точности. Осмысление такого образа есть дело гораздо более простое
и легкое, гораздо более быстрое, чем осмысление образа с л о в е с н о г о ,
литературного, т.-е. того, что люди выражают словами. „Видел собственными глазами"—вот верх определенности и обязательности. П р о с т о т а усвоения зрительного образа по сравнению со словесным может
быть объяснена так:
„Каждое слово,—говорил Потебня в своих „Основах поэтики",—с
внутренней стороны, игнорируя звуки, есть объяснение вновь познаваемого (X), посредством прежде познанного, известного (А), при чем
между предыдущим и последующим устанавливается общий признак
(а), взятый из комплекса признаков (А). Следовательно, формула слова:
Х = а из А.
„Голубой", как признак, отдельно не существует, но есть предмет
с таким признаком. Каким путем мы получили это прилагательное?—
выделили этот признак. Разбирая слово „голубой" этимологически, мы
находим в его основании—„голубь"—целый образ, целый комплекс
признаков. Нечто требовало объяснения, каково оно это X. Ответом
послужило воспроизведение образа (голубь) А. Это X напомнило, заставило думать об А, т.-е. о „голубе". В числе признаков голубя находится воркование и др., но здесь выделен лишь один признак (цвет),
так как он является этим „а", основанием сравнения.
Для того, чтобы понимать речь, состоящую кз слов, необходимо,
значит, обладать определенным кругом представлений, благоприобретенных ранее и вызываемых и м е н н о этими словами. Человеку, который
не понижает значения слова „голубой", можно сказать: „такого цвета,
как голубь". Если он все-таки не поймет, можно добавить: „как небо"
и т, д. Воспринимающий ограничен, однако, во всех таких случаях теми
словами - сравнениями, которые мы приводим, желая пояснить явление. В ы б и р а т ь он может т о л ь к о между этими словами. Ну, а если
все они ему незнакомы?
При в з г л я д е на предмет (зрительном восприятии) положение
воспринимающего гораздо лучше. Он располагает всей полнотой и н иц и а т и в ы и ш и р о к о й с в о б о д о й в ы б о р а . Он обратит свое внимание на те признаки предмета, которые е м у почему-либо покажутся
примечательными и вызовут работу мышления, т.-е. сравнение со знакомыми вещами и, в конечном счете, п о з н а н и е . Тот педагог, который выходил из себя, чтобы объяснить, что такое „голубой" на словах, конечно, никогда не сможет догадаться, что, скажем, для данного
у з н и к а этот цвет связывается с ночным горшком, что стоит под кроватью ребенка. Значит, правильнее всего было бы сказать с самого начала:
„такого цвета, как твой ночной горшок".
Стоит, однако, предъявить голубой цвет в натуре, как тот же
ребенок, не стесняемый в своей инициативе сравнения, воскликнет:
„это—как то, что стоит у меня под кроватью!"
Прочтя вышеизложенное, многие образованные люди могут обидеться и скажут: „все это так для низших ступеней человеческой
культуры (детей, дикарей), но совершенно неприменимо к развитому и
сложному современному обществу". Постараемся доказать, что применение зрительного образа есть явление п р о г р е с с и в н о е , что постепенная замена в с ю д у , г д е в о з м о ж н о , слова соответствующим
начертательным образом должно стать важным методом новой культуры.
II. Виды словесного воздействия.
Слово может быть: 1) прочитано глазами про себя,
2) услышано при произнесении всЛух.
Таково деление словесного воздействия по отношению к воспринимающему человеку. Несомненно, конечно, что словесный образ, будучи воспринят, может вызвать связанные с ним по его существу слуховые, вкусовые, обонятельные, осязательные и двигательные реакции.
От этого он нисколько не утратит своей основной природы, как
источника воздействия. Спросим себя, что происходит, в сущности, с
нами, когда мы „читаем" книгу, газету, афишу, объявление и т. п. Для
того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к человеку,
п л о х о знаюіцему грамоту. Такой человек читает по с к л а д а м . Это
значит, что он выделяет к а ж д у ю букву, узнает ее, называет для себя
(обычно в с л у х ) тот звук, присоединяет к нему следующий—образует
слог. Складывает вместе слоги—получает слово. Между складыванием
слогов в слово протекает известный п р о м е ж у т о к в р е м е н и , больший или меньший, в зависимости от умения читающего. До того, как
процесс складывания незакончен, с м ы с л слова темен. Если слово короткое, период б е с с м ы с л е н н о г о состояния ничтожен. Чем длиннее
слово, а в особенности если малоизвестно то, что оно выражает, тем
более затяжным становится период „непонимания". Вот, напр., процесс
чтения сложного слова:
3
л
О...=зло
У
M
Ы (умы)...=злоумы
Ш...(умыш, злоу - мыш)
Л
Е
НН
И
К=ЗЛОУМЫШЛЕННИК.
л
g
X
_
а
о
t>,
*^
3
J
g
«
о
g
X
«
®
2
о
«
ж
3
Е
«
л
н
о
«
2
J
ас
Как видим, промежуток, необходимый, для превращения звуков в
образ, сравнительно значителен. Положив на каждый звук от 1 до 2-х
секунд для плохо грамотного, получим для данного слова величину
промежутка от 13 до 26 секунд. На полдороге между началом и концом' чтения слова „злоумышленник" читающий может быть сбит с
толку, ибо отдельные слоги могут составить образы, не имеющие никакого отношения к целому, как, напр., показано выше: „мышь". Если
же учесть, что активная воля плохо грамотного человека главным образом направлена на преодоление вырастающих перед ним все новых
букв, то может случиться следующее: у ж е прочитанная, но еще неосмысленная часть слова на кратчайший, разумеется, момент забывается и приходится читать сначала в т о р и ч н о для того, чтобы связать
концы. Т.-е. в миниатюре происходит то же самое, что и при чтении
большого романа с „продолжением в следующем ном?ре", когда мы,
чтобы восстановить связь, должны проглядеть предыдущие главы.
Проанализировав, таким образом, работу школы по ликвидации
неграмотности, обратимся теперь к читателю настоящей с т а т ь и — б е г л о
читающему человеку. Если для ученика такой школы простейшей воспринимаемой им с р а з у единицей является б у к в а и лишь по мере
успеха с л о г , то бегло читающий человек охватывает за один акт
восприятия целое с л о в о . Вследствие упражнения начертательный вид
слова становится для последняго столь выразительным, что отпадает
какая бы то ни было необходимость в осознании составляющих его
частиц. Или, иначе говоря, а в т о м а т и з м восприятия распространяется
на более крупные объемы, разгружая сознание от излишней работы,
В пункте 1-м элементарных правил „Как читать книгу" („Деловая книжка" на 1924 г., изд. Вост. издательства) т. Н. Крупская говорит: „Надо, чтобы м е х а н и з м чтения не отвлекал от содержания
прочитанного". Автоматически схватываются также и целые определенные группы слов, ходовые выражения, распространенные лозунги, а
также вся совокупность тех своего рода шарниров, болтов, гаек, которыми склепана современная речь, представляющая собой нормализованные способы выражения мысли.
Но и при гаком укрупнении масштаба восприятия оно, разумеется,
является далеко не безграничным. Опыт показал, что средний объем
внимания, т.-е. количество отдельных самостоятельных элементов, могущих одновременно и с полной ясностью быть воспринятыми, ограничено для взрослых 5 — 6 впечатлениями, при чем в общем между линиями
буквами, цифрами и простыми геометрическими рисунками различий в
этом отношении нет. Разумеется, при наличии внутренней связи между
этими элементами, как, напр., между словами в литературном произведении, объем одного акта внимания увеличивается. Все же, он сжат
достаточно тесными пределами, и нарушение таковых не может пройти
безнаказанно. Застрявши посредине непомерно длинной фразы, можно
испытать чувства красноармейца, ликвидирующего неграмотность при
чтении слова „злоумышленник" (см. выше—мышь).
Итак, обоснование необходимости к о р о т к о й фразы находим в
неизбежной ограниченности о б ъ е м а восприятия. Рационализация
приемов словесного воздействия неминуемо пойдет по пути жесткого
„сокращения штатов" словесного материала.
Основной элемент всякой, даже самой короткой фразы—слово—
характеризуется тем, что он воспринимается нами во времени. С л о в о
е с т ь ф у н к ц и я в р е м е н и . Изображенное посредством комбинации
знаков из 32-х букв нашего алфавита (4 буквы старого ныне упразднено),
оно приобретает мало-по-малу определенное л и ц о . Мы это лицо его
узнаем сразу, экономя, таким образом, время восприятия. В процессе
все у с к о р я ю щ е г о с я и у к р у п н я ю щ е г о с я узнавания, отмеченного выше, мы сталкиваемся с одним парадоксальным фактом. Лицо
это стирается, обесцвечивается. Оно явно перестает о с т а н а в л и в а т ь
к
ЭЕ
на себе внимание. Мы преодолели „механизм чтения", т.-е., казалось бы,
X
Св
достигли
чего-то положительного, а теперь эта б е г л о с т ь чтения
ш
обращается против нас. Количество переходит в качество. Мы не прочь
ja
аз
бы теперь попридержать за хвост эту беглость, но как это сделать
eu
в пределах тех средств, которые отпущены нам буквенным алфавитом?
S
о
Мы вводим знаки препинания, но что могут поделать эти козявки там,
о.
с
где художнику требуется схватить буквально за шиворот читателя,
о
сделать громадную паузу, когда ему нужно заставить ц е д и т ь слова
о
или, наоборот, протащить их сквозь восприятие таким молниеносным
m
о
темпом, по сравнению с которым самое быстрое чтение окажется
а.
улиткой! В этих условиях невероятной бедности имеющихся у нас
о
et
средств, к у р с и в кажется нам спасительным разрешением нашей
со
неудовлетворенности.
ю
о
Что же случилось? Вот как можно пояснить происшедшее прио
о
мером. Мы вызвали духов, побороть которых мы не в состоянии.
с IS
Крестьянина, стремящегося попасть домой, в село, расположенное
о
о
близ станции железной дороги, посадили на паровоз. Машинист дал
X
со
tполный ход и соскочил с тендера. И вот паровоз мчится мимо сел и
>х о
деревень по гладким, блестящим рельсам и — у в ы ! — м и м о родной десе X
X
се
ревни нашего крестьянина. Он не знает, как замедлить или остановить
о
ход
проклятой машины. Бросается ко всем рычагам. Паровоз мчится.
X eu
Скажем, что наш крестьянин не сломал себе шеи, и паровоз, после
ЭЕ о
> . се
того, как иссякло в топке топливо, остановился. Где? В безлюдной
CL
ж
степи, на полустанке, в столице, где угодно, но во всяком случае не
О
X
там, где нужно было пассажиру. Крестьянин взял ноги в руки и пошел
І_
X X
к себе в деревню. Спрашивается, зачем давали ему паровоз?
X
3"
X
X
Печатный текст литературного произведения, после того, как оно
Б
*
вышло из лаборатории мастера и типографии, представляет собой
£ >х
такой паровоз в руках незнающего рулей управления читателя. Более
о
ee X
того: машинист-художник не снабдил свою конструкцию никакой
о
о
eu
системой
управления. Он просто пустил ее в читательскую стихию
с; СО
і— О
„без руля и без ветрил".
* Б
После того, как мы установили выш у что слово есть функция
О
се
времени, мы обязаны признать, что у п р а в л е н и е л и т е р а т у р н о г о
X
X
п р о и з в е д е н и я е с т ь е г о р е г у л и р о в к а во в р е м е н и . В на2
стоящем положении вещей эта регулировка очень слаба, ее почти нет.
со
X
Средства производства литературы—типографские шрифты—явно не
CL
Б
покрывают стоящей перед литературой задачи. Книга с ровненько
ОС
отпечатанными рядами строчек вызывает в некотором роде отвращение
се
своей монотонностью. Наше восприятие, истощенное повторением одноX
Et
образных форм, отказывается работать с необходимой остротой и свеeu
CL
жестью.
Как выбивается литература из этого заколдованного круга?
СО
Мы можем назвать несколько интереснейших попыток, проделанных
в Советской России или русскими же художниками заграницей, попыток
eu
>i
разрешения поставленной выше проблемы. Они дают важный матесо
риал
для основной темы этой статьи—вопроса о выживании словесного
eu
«L>
или зрительного образа.
3
Прежде всего начинается революция в области самих типограф»4
О
ских шрифтов. Т.-е. делается нечто прямо противоположное тому, что
высказала Крупская в своем первом правиле „Как читать книгу". В чтение
вводится его м е х а н и з м . Ломается привычный нам вид и соотношение
I—
fr-
fr-
fr-
fr-
шрифтов. Восприятие движется не по гладким, укатанным дорожкам,
но как бы через кочки, рвы и пни.
Насколько помнится, первыми новаторами в этом направлении
явились футуристы и Андрей Белый еще задолго до революции. Мотивировку Белого мы не беремся формулировать. Во всяком случае, для
футуристов того времени в этих нововведениях больше сказывался протест против однообразных условностей старого искусства, чем подход
к тому, что А. Крученых назвал впоследствии „фактурой слова", определенно показывал, однако, новое отношение к слову: как к орудию
воздействия.
В 1922 году в Берлине начинает выходить, возглавляемый группой
русских деятелей левого искусства, интернациональный журнал искусств
„Вещь", с внешней стороны откровенно построенный по принципу
рекламы. Чередованием больших и малых букв, внезапным введением
среди текста титульных шрифтов используется вся клавиатура типографского аппарата. „Бегло" читать этот журнал не представляется
уже никакой возможности. На каждую данную единицу в р е м е н и ,
при прочих равных условиях, нагрузка восприятия резко н е р а в н о м е р н а . Посредством изменения привычного вида слова, переодевания
его из солдатской серой шинели в неожиданный штатский костюм—
достигается з а т р у д н е н и е чтения. Т.-е. слово или данная фраза
читается д о л ь ш е , чем соседняя „беглая". Это уже некоторое достижение в смысле управления литературным текстом во времени.
Наконец, появляющиеся последние два года в повременной печати
и выходящие отдельными изданиями материалы Центрального Института Труда, в частности писания А. К. Гастева, определенно проводят
выдержанную воздейственную методику. Слово,являющееся центральным
понятием выражаемой мысли, ее у п о р о м,—выносится в отдельную
строку и печатается жирным шрифтом. Далее, оно разбивается на
отдельные слоги, разделенные между собой черточками, тире или
печатается вертикально, чем достигается чтение по складам, т.-е. зам е д л е н н о е чтение. Широко применяется система типографских
линеек. В результате литературный текст, воспроизведенный по методу
ЦИТ'а, представляет собой как бы предвидение и фиксацию той
к а р а н д а ш н о й разметки, которую дал бы внимательный читатель
(курсант) обычному линейному тексту. Учтены: подчеркивания, нотабене на полях, будущее конспектирование прочитанного. Типографские
линейки, поставленные вертикально и горизонтально, способствуют
концентрации внимания. Словесная форма при таких условиях может
достигнуть предела сжатости и конструктивности. Вместо того,
чтобы сказать: „необходимо обратить внимание", деіается выноска или
черта, и без того, чтобы взывать к нему — внимание непосредственно
и прямо фиксируется. Вот—пример (журнал „Время"):
Теперь один единственный лозунг
РА — Б О - Т А .
Чтобы побеждать в работе, нужно
У — ПОР — с т в о .
Чтобы в ы р а б о т а т ь у п о р с т в о , н у ж н а
Т Р Е - Н И — Р О В —КА.
Значительность высказываемого выступает резко и сразу. Для
полноты оценки нужно сказать, что описанный способ выражения
может оказаться пышным одеянием внутренней пустоты. Сошлемся на
мнение собственной корреспондентки ЦИТ'а в Берлине д-ра Фр. Баумгартен: „В настоящее время,—пишет она,—вышла в свет книга, заключающая в себе материалы конгресса. Хотя книга эта и обширна и
представляется результатом серьезной работы, но это впечатление
надо приписать тому довольно частому явлению, что в печати дело
представлено в более полном виде, чем в действительности".
Вслед за ЦИТ'ом применяют новую методику словесного воздействия ряд периодических изданий, как-то: журнал „Время", отчасти
„Система и организация" и др.
Из современных беллетристов Б. Пильняк и затем С. Буданцев
(„Мятеж" — альманах „Круг", № 2) сделали приемы сдвига шрифтов,
приведения в копиях с сохранением подлинного начертания различных
документов — мандатов, приказов, об'явлений и т. д. — постоянным
методом своего письма.
Такова краткая регистрация важнейших явлений в борьбе за
новые формы словесного воздействия. Перед нами прошло, все же,
целое движение, имеющее своих представителей в разнообразных
областях словесной культуры. Нигде, однако, задача управления литературного произведения во времени не поставлена с п р я м о й о п р е д е л е н н о с т ь ю . Спросим теперь: в к а к о м н а п р а в л е н и и совершилась продвижка? Какими средствами достигалось в перечисленных
выше попытках увеличение временной регулировки литвсщи?
Начертательная сторона литературного текста сделала ряд заі мствований у р е к л а м ы . Реклама преследует одну цель: врезаться
в п а м я т ь . Отсюда—частота повторения, как важный фактор действия
рекламы. Отсюда—броскость и простота. Реклама, как известно, подвергалась изучению.
„Психологические лабораторные опыты с самым дробным измерением времени усвоения различно составленных реклам одинаковой
величины об одном и том же предмете скоро показали, что сравнительно ничтожные изменения могут облегчить или затруднить усвоение
рекламы. Окраска, форма, шрифт, подбор слов—все это допускает
экспериментальный анализ, в котором в тысячные доли секунды могут
быть установлены различия, быстро суммирующиеся в практической
жизни. Величина ее (рекламы) чаще всего бывает условием усиления
впечатления, но при этом существенную роль играет не абсолютная,
а относительная величина. Но, кроме величины, есть еще оригинальность и необычайная форма, яркая краска, умелое использование
п у с т ы х п р о м е ж у т к о в , ассоциативные элементы, действие на чувство юмора или на любопытство, на симпатию или на антипатию.
(Гуго Мюнстерберг. „Психология и экономическая жизнь").
Итак, реклама не столько п и ш е т (или печатает) слова, сколько
к о н с т р у и р у е т различные зрительные образы, линии, рисунки,
а в том числе, как определенные графические формы—буквы, используя
последние для создания нужного
непосредственного
цельного
впечатления. При некоторой изобретательности, из всякой буквы
можно сделать в е щ ь . Буквы Т, Г, X, Ш и т. д. всегда могут быть
использованы для рисунка. Не забудем, что наподобие того, как первые слова были звукоподражательными, начертательные образы букв
ведут свое происхождение от тех или иных предметов внешнего мира.
Наглядно, напр.: Ж — ж у к , О—раскрытый рот, необходимый для произнесения этого звука.
d
J
g
jjj
г
ж
*
g
к
г
g
и
н
2
X
л
ч
X
о
X
2
а
°
«
о
о
"
^
»
ч
Иными словами, реклама для того, чтобы стать выразительной,
обращается к с р е д с т в а м з р и т е л ь н о г о в о з д е й с т в и я . А современный литературный текст н е д о с т а ю щ у ю е м у р е г у л и р о в к у
во в р е м е н и в некоторой степени получает, заимствуя методы рекламы, т.-е. о б р а щ а я с ь , как нами теперь выяснено, к помощи з р и т е л ь н о г о о б р а з а . Таким образом, будучи по своей основной природе функцией времени, слово в своем печатном выражении принуждено осложнять себя ф у н к ц и е й п р о с т р а н с т в а . В о т — в ы в о д ,
к к о т о р о м у мы п р и х о д и м в итоге предшествующего анализа.
Теперь—„живое слово".
Оно может быть услышано при произнесении вслух. Это так называемое „живое слово" представляет собой вторую разновидность
способов словесного воздействия. Образцы такого воздействия всем
известны: это—речь оратора, лекция, доклад, декламация, чтение автором своего произведения. Повторим и для данного случая вопрос, поставленный нами в начале исследованиия действия литературного
текста. Что происходит с нами, когда мы „слушаем" речь, стихотворение
и т. д.? Возьмем пример, приведенный выше. Для произнесения слова
„злоумышленник", а значит, и д л я е г о в о с п р и я т и я с л у ш а т е л е м ,
потребуется максимум Н / 2 — 2 секунды. Различия между грамотным,
плохо грамотным и неграмотным людьми отпадают. Все воспринимают
с одинаковой быстротой при условии понимания языка, на котором
говорит оратор. Слово остается функцией времени. Но при бесконечно
малом, практически, изменении независимого переменного — затраты
времени, функция - слово (восприятие слова) изменяется на очень заметную величину. То, что происходит в данном случае по сравнению
с восприятием печатного текста, можно иллюстрировать следующим
примером из элементарной геометрии. Если изменить центральный
угол, образованный радиусами окружности, скажем, на 1 градус, то
чем больше радиус окружности, тем на большую величину изменится
хорда, соответствующая этому центральному углу.
Художественное творчество устной речи располагает к тому же
огромной силы выразительным средством в виде жестов и мимикш
Можно представить себе потрясающую р е ч ь в собрании глухонемых.
Ясно само собой, во сколько раз возрастает сила воздействия, когда
в одном и том же направлении работают слуховые и з р и т е л ь н ы е
раздражения. Жест и мимика как бы очерчивают слово четким кантом,
Речь есть движение, а движение отличается тем свойством, что оно
в и д и м о . Любопытно, как тренировали себя ораторы чисто двигательного типа. Накануне дня, когда ему предстояло произнести защитительную речь, Гальба, знаменитый римский оратор, запирался со своими
рабами и подготовлялся, декламируя ее перед ними. На следующий
день он выходил в необыкновенно возбужденном состоянии, со сверкающими глазами, разгоряченный, взволнованный и отправлялся в форум, в сопровождении С Е О И Х несчастных секретарей, почти изувеченных от ударов, которыми он их наделял во время усердной жестикуляции.
Итак, живое слово, несомненно, пользуется методами зрительного
воздействия. В этом факте заключается одна из причин большей „понятности" заурядной речи по сравнению с очень хорошей листовкой.
Другими причинами являются: 1) звуковые модуляции голоса, которым
нет места в литературном тексте. Еще один момент обесцвечения последнего! И 2)—самое важное—полная возможность регулировки живого слова во в р е м е н и . Темп речи, ускорение, замедление, пауза —
вот вожжи, которые говорящий натягивает и отпускает, взнуздывая
массу. Суммируя эти возможности живого слова, мы отдаем себе отчет, почему именно оно является незаменимым средством а г и т а ц и и ,
двигателем и организатором народной революции.
III. Виды зрительного воздействия.
2
н
о
?
jjj
ж
3
х
о
<5
ы
«J
«
J^
^
®
w
ж
сс
5
£
н
*
^
Е
2
g
то
Наподобие того, как простейшей составной частью слова является звук (буква или целое слово), в области зрительного воздействия такими простейшими единицами служат линия и цвет.
Линия и цвет, конечно, не два различных по природе источника
раздражения, ибо, согласно закона смешения цветов, линейное изображение или изображение посредством „черного и белого" должно быть
объяснено, как частный случай такого смешения. Однако, в практической жизни каждый сталкивался с резкими особенностями цветного
изображения в собственном смысле по сравнению с т. н. графическим,
В этой работе, где нас более всего интересует воздейственная сторона,
мы сохраним это деление.
Известны следующие комбинации вышеуказанных простейших элементов:
1) Иллюстрация.
3) Картина (лубок).
2) Рисунок.
4) Плакат.
При бедности и монотонности литературного текста, и л л ю с т р а ц и я выполняет очень важную функцию. Помимо о с в е щ е н и я прочитанного (создания зрительного образа), она часто служит плотиной,
задерживающей внимание и, таким образом, вводящей, в некоторой
ст.пени, регулировку времени. По самому своему назначению, иллюстрация служит подеобным элементом литературного текста, расширяющим его воздейственные возможности.
Целесообразно организованная книга включит иллюстрацию в арсенал своих воздейственных средств отнюдь не как „украшение", но
как прямое выражение п р о с т р а н с т в е н н ы х тенденций современного литературного текста.
Итак, за вычетом иллюстрации, самостоятельными орудиями зрительного воздействия остаются картина и рисунок, с одной стороны,
и плакат,—с другой. Не нуждается в доказательстве то положение, что
все эти средства являются ф у н к ц и е й п р о с т р а н с т в а . Зрительное
восприятие оказывается свободным от тех пороков, которые мы устаповили по отношению к слову. Художник вполне управляет своим
произведением, изучив законы зрения и оптические обманы в связи
с законами передачи световых лучей, свойства красок, которыми он
работает в связи со свойствами полотна или другой обрабатываемой
им поверхности. „Живопись основана на перспективе, которая есть ни
что иное, как уменье верно применять деятельность глаза" (Леонардо
да-Винчи, „Трактат о живописи"). В то время, как законченное по нынешним представлениям литературное произведение страдает существенной н е п о л н о т о й в смысле отсутствия хроно-регулировки восприятия читателя, продукция живописца обладает исчерпывающей
полнотой внушения. Разумеется, мы оставляем сейчас в стороне качество самой картины. В р е м я , потребное для восприятия живописного
произведения, с р а в н и т е л ь н о ничтожно. Тот же Леонардо в другом
месте своего „Трактата" говорит: „Если дело идет о битве, то поэт
притупил бы свое перо, иссушил бы свой язык от жажды, изнурил бы
свое тело голодом и недостатком сна, прежде чем успел бы описать ее так, как живописец своим искусством может сделать в одну
минуту".
Однако, в пределах перечисленных выше средств зрительного
воздействия можно установить следующую весьма любопытную градаа> цию по в р е м е н и , требующемуся, чтобы их восприятие состоялось.
® Картины и рисунки известных художников обычно сносятся в особые
н дома, называемые музеями, куда собирается затем „публика" для того,
2 чтобы осмотреть эти произведения искусства. Посетители европейских
^
галлерей убивают иногда по нескольку часов и даже суток кряду, рас„ сматривая сплошь и рядом только одну картину. Конечно, затрачивать
I
столько времени на подобное занятие могут только люди, обладающие
ш большим досугом, т.-е. люди имущественно обеспеченные. Этим при0 знаком, в самом деле, определялся до сих пор круг потребителей кар>, тин и клиентелла музеев.
5
Итак, картину рассматривают. Это само по себе никчемное дело
* ев берет м н о г о времени. На другом полюсе в этом смысле находится
® g п л а к а т . Искусство плаката целиком вытекает из его основной цели:
1 g достигнуть максимального эффекта в к р а т ч а й ш и й с р о к . Тема и
ее ж техника плаката определяются этим правилом.
5 о
Сегодняшний день, несомненно, требует последовательного пере® ©хода всего художественного хозяйства на принцип плакатного воздейе g ствия. И дело здесь вовсе не в так называемой „красоте скорости"
»
(Маринетти) и не в том, как представляет себе Полонский, что „плана о.кат—дитя современного города с кипучей жизнью, с телефоном и ра^ ©д іо, кинотеатрами, авионами и поездами-экспресс". В последнем
u
* случае в Москве, за пределами кольца „А", плакат оказался бы невозS ^ можен или, во всяком случае, должен был бы потерять большую часть
g X своей особенной воздейственной силы. Между тем, на всем громадном
т
w пространстве СССР, т.-е. безусловно за пределами кольца „А", пла® g кату на его коротком веку пришлось не мало поработать, в особен*
ности вз время гражданской войны. „Гаврилка, крути",—кричали машиX § нисту пассажиры на замерзающих поездах, где уж тут „авионы"! А на
о =Гвсех захолустных станциях и полустанках стены-плакаты вокзалов об" 2 стреливали и формировали революционное сознание сгрудившейся
« ©красноармейской массы, п о д о л г у дожидавшейся своих эшелонов. Не
* J было паровозов, дров, н? было вагонов. А плакат орудовал!
^ «в
Маяковский в свое время говорил об „электрификации сердец и
® к душ". Возрождение нашей разрушенной войной о т с т а л о й страны
с ° находится в прямой зависимости от скорейшего осуществления на® £ с у щ н о г о плана электрификации. В этих условиях говорить о скорэ£ о сти жизни современного СССР на сегодняшний день—несерьезно. Но,
и м как гражданская война и строжайший учет наших материальных ним
щенских средств создали невероятное уплотнение сознания, так и ны® нешняя в о й н а за хозяйство заставляет нас дорожить буквально Kaja. ждой минутой. Развернувшаяся сейчас борьба за время только по форме
и- вызывает ассоциации с „американской" быстротой. Эта борьба — ре2
зультат не скорости, а м е д л е н н о с т и , ужасающей медленности прол
цессов нашего национального хозяйства.
Место или, вернее, в р е м я искусства определяется общим бюджеX том времени современного работника. Хозяйственная победа дастся
£
нам через неглыханную в истории трудовую мобилизацию. Мы счи^
таем праздным вопрдс о том, к а к и м должно быть искусство в период этой единственной в своем роде борьбы. Н о о н о
должно
б ы т ь к р а т к и м и л и е г о в о в с е не б у д е т .
Мы нашли полезным формулировать здесь эти очевидные положения об „американизме" в искусстве, поскольку этот термин, сделавшийся у нас необычайно популярным, повторяется слишком часто,
как торжественное обещание без отношения к окружающей действительности. Такие сакраментальные словечки могут сделать смешной
всю идеологию борьбы за реальное искусство дня. В действительности
нет никакого противоречия между пропагандой активного динамического искусства и вялым медленным темпом жизни крестьянской
страны. Новая электрическая техника должна стать основой самого
отсталого хозяйства в течение ближайших 1 0 - 2 0 лет. Только тот
взгляд на искусство, который привык относиться к нему, как к „отражению" жизни, ищет для себя опоры в „американизме" современной
русской жизни. Искусство, строящее жизнь, идет в ногу с передовой
технической реформой и не нуждается для своего обоснования в этой
двусмысленной терминологии,
о
Итак, б ы с т р о е восприятие среди перечисленных выше средств
« зрительного воздействия обеспечено в полной мере только одному—
я- плакату. Если положиться на Арватова („Искусство и классы", Госиздат, 1922 г.), современная живопись умерщвляет картину; художник
>, бежит от станка к формам декоративного искусства, росписи стен,
« фреске и т . п. В этом последнем случае он становится д е я т е л е м ,
£ производственником. Декоративное искусство по в р е м е н и , необхоо димому для его восприятия, приближается к плакату. И з
методов
>» з р и т е л ь н о г о в о з д е й с т в и я в ы ж и в а ю т , т а к и м о б р а з о м ,
* те, к о т о р ы е в ы з ы в а ю т б ы с т р у ю
реакцию,
ж
IV. Социальные Ф у н к ц и и слова и зрительного
®
се
г
м
5
«
ка
о
m
образа.
Там, где происходит борьба двух, казалось бы, равноправных,
с одинаково значительным историческим стажем, методов воздействия,—
преждевременно ставить крест на одном из них, провозглашая единственность и исключительность другого, до тех пор, пока исход
борьбы не решен. Можно, однако, попытаться наметить сферы
влияния обоих методов. Несомненно, что социальное приложение эрительного образа более широко, чем словесного. Объем обрабатываемых
первым людских масс гораздо значительнее. Зрительный образ активно
организует те еще недостаточно культивированные массы, для понимания которых пока неопреодолимы условности воздействия словесного.
ш
Но и по отношению к культурной верхушке человечества зри£ тельный образ оказывает неоценимые услуги. Выше мы произвели
ж анализ современного литературного текста и установили его „проке странственные" тенденции. Эксплоатация зрительного образа в литераw
турном тексте становится чрезвычайно проі рессивным явлением, ибо
Д через его посредство достигается у с к о р е н и е восприятия. Заостряя
тенденцию, следует сказать, что внешний вид печатного текста будущей
книги напомнит нам во многом построение ребуса: словами будет
сказано только то, что невозможно будет и з о б р а з и т ь . Каждый
раз при словесной формулировке будет ставиться вопрос о ее пространственном выражении и конкретизации.
Один из важных элементов пролетарской культуры заключается
в быстроте „с владения" положительными материалами прошлого в
разрешении п р о б л е м ы н е о б х о д и м о й э р у д и ц и и . Эта проблема
имеет резко выраженный классовый характер.
Располагая значительным досугом, сбереженным за счет каторжного труда рабочею класса, буржуа мог позволить себе роскошь
медленного усвоения „через час по столовой ложке", которое достигалось посредством с л о в е с н о г о образования. Проще всего было
бы потрогать вещь руками, п о с м о т р е т ь ее и т. д., но, охраняя
границы своего класса, официальная буржуазная школа избегала
этих методов производительного труда. Аристократия капитала не
была озабочена тем, чтобы ее дети знали, как делаются вещи и как
они выглядят; однако, требования условной „образованности" понуждали ее желать, чтобы они (дети) знали названия этих вещей. Схоластическая школа не вела учета общественно-необходимого времени
для обучения. Активный метод современной трудшколы апеллирует,
наоборот, ко всем пяти чувствам и, прежде всего, к зрению.
Зрительное восприятие сообщает усвоению необходимую быстроту
и тем приобретает для нашего времени совершенно исключительное
значение. Чистое слово постепенно отходит на задний план. С помощью
зрительного образа легче пробудить первое робкое сознание масс,
с его же помощью нам удастся в кратчайший срок закрепить и расширить победу. Политико-просветительная и организующая роль слова
выступает только в сочетании со зрительным образом. Обособленное
слово свивает себе гнездо в пережитке, носящим наименование „поэзии".
В заключение, нам казалось бы естественным отметить область,
в которой зрительный образ развивает максимум своей социальноорганизующей силы. Это—кино. Кинематограф—само слово означает—
движение. В и д и м о е , записанное движение,—вот сущность кино со
стороны его воздейственной механики. Язык кино представляет собой
наивыгоднейшее сочетание методов зрительного и словесного (в соответствующей дозе—надписи) воздействия. Более того: зрительный
образ движется, и этим движением имеется полная возможность
управлять во времени. По сравнению с таким могучим средством,
обособленное литературное слово представляется в роли п о л у ф а б р и к а т а . В нашу эпоху кино становится самым совершенным воздейственным фактором, которому современная техника сообщила всю
мощь а п п а р а т а , т о ч н о р е г у л и р о в а н н о г о во в р е м е н и .
H. Л ь в о в .
Эмоциональный
жест
или целе-
сообразное действие.
Игра актера в проф-театре обычно строится на эмоциональном
жесте. Актер раскладывает свою роль на куски, связанные одной эмоцией, куски на фразы, фразы на слова, и каждому элементу находит
жесты, соответствующие их эмоциональному содержанию.
Так именно формулирует задачу С. Волконский в своей книге
„Человек на сцене": „Актер говорит чужим психологическим языком",
„чтоб прав: льно говорить, он должен понять логику чувств и уметь
ее передать".
В той же книге Волконский разделяет все наши жесты на т; и
рода: 1) механические (жесты, как он выражается, наиболее необходимые, даже неизбежные, и наименее для сцены интересные), 2) описательные и 3) психологические, которые характеризуются, „как внешнее
выражение чувств". „Этот жест наиболее интересный, самый трудный
и наименее правильно употребляемый".
Действительно, этот жест наиболее трудный. Дело в том, что
эмоциональное движение проходит для нас бессознательно, оно рефлекторно, является как бы непроизвольной реакцией организма на
воспринятое впечатление. Воспроизвести его сознательно, посредством
воли—без фальши трудно, а, может быть, и совсем невозможно. Чтобы
научить актера сознательно производить этот жест, Волконский предлагает целую сложную систему правил и упражнений, систему Дельсарта, полную мистики и авторитарности. Конечно, этой системы не
придерживается ни один актер, да и сам Волконский не мог запомнить
всех тонкостей дельсартовского жеста и на своих лекциях неизбежно
вынимал из кармана записочку, на которой было указано, куда в каком
случае надо поворачивать голову, глаза, руку...
Заурядный актер разрешает для себя вопрос об эмоциональном
жесте значительно проще: у него есть маленький набор готовых штампов, традиционных жестиков, которые он и применяет в соответствующем случае. Этот тип игры Станиславский называет „ремесленным".
Сам Станиславский подходит к эмоционаіьному жесту „изнутри",
от внутреннего переживания. Им разработана целая „система" внутренней техники актера, пользуясь которой актер может добиться правильного и естественного выражения эмоций.
Система Дельсарта для клубов как будто никем еще не была
рекомендована (по крайней мере, в печати). Но попытки ввести в клубы
„систему" Станиславского делались неоднократно (книжка Смышляева,
сборник Главполитпросвета—„Художественная работа в клубе"). В этом
сборнике (статья „Работа над собой") указывается: „Если участник
театрального представления не будет жить на сцене, увлекаясь своей
игрой, заражаясь чувствами своего героя, то зритель точно так же не
увлечется спектаклем". „Актер, заражаясь сам чувствами героя, заражает также и зрителей". Говоря о „задачах", автор под вопросом „как
я это делаю" затушеванно подразумевает эмоциональный жест. Правильного эмоционального жеста автор добивается через волевое устремление актера—„я хочу". Все импровизации и упражнения,рекомендуемые
в первой статье сборника, учат выявлению эмоций: упражнения с ярким
переживанием, упражнения с переломом переживаний и т. д.
Одним словом, самые авторитетные инстанции культпросветработы
рекомендуют клубисту эмоциональный жест. Чтобы одолеть все это,
клубисту предстоит трудная работа, требующая нескольких лет практики, как ни подходить к эмоциональному жесту, по системе ли Дельсарта-Волконского или же по системе Станиславского.
Предположим, что клубист, не желая впадать в любительский
штамп (ремесленность), решит пожертвовать несколькими годами работы и научиться правильному эмоциональному жесту. Что он от этого
приобретет? Актерскую выразительность? Так, ведь, клубист не актер
и актером быть не собирается. Навыки, полезные для жизни? Может
быть, эмоциональный жест нужен и полезен каждому человеку, как
необходимый элемент воспитания?
Вот тут-то и возникают самые решительные сомнения. Психофизиологи относятся к эмоциональному жесту совсем не с таким энтузиазмом, как Волконский. К. Ланге, первый исследователь, подошедший
к вопросу об эмоции с психо-физиологической точки зрения и внесший
полный переворот в понятие о механизме эмоции, доказывает, что
аффект (под этим названием подразумевается радость, печаль, испуг,
гнев и пр. козыри эмоционального театра) по существу является расстройством иннервации, за которым следует расстройство в сосудодвигательной и мышечной системе нашего организма.
Это—своего рода патологическое состояние организма, которое,
(в случае особой интенсивности) может привести к болезненным явлениям и даже смерти.
В заключение, К. Ланге указывает: „как индивидуумы, так и народы
в целом, подвластны аффектам тем более, чем на низшей ступени
культуры они стоят", и далее: „существует сосудо-двигательный антагонизм между умственной и чувственной жизнью", т. к. приток крови
к частям мозга, управляющим аффектами, препятствует нормальному
ходу умственных процессов. („Аффекты", стр. 53).
Несомненно, усиленный тренаж этих эмоциональных жестов и произвольное „заражение" чувствами героя есть сознательное расстройство
нормальной нервной и умственной деятельности человека. Вот какую
сомнительную пользу принесет несчастному клубисту вся эта алхимия
переживаний. Да и сам защитник эмоциональной системы в упомянутом
сборнике неоднократно чувствует эту опасность, в нескольких местах
предупреждая, что „переживанием" увлекаться нельзя: „этими упражнениями надо заниматься очень осторожно, ибо есть опасность галлюцинаций, что очень вредно для нервной системы".
Ясно, что задачу „сюжетного воздействия" на сцене клуба надо
разрешать какими-то иными способами, чем эмоциональный жест. Конечно,
клубист на сцене не может отделываться только внесмысловыми беспредметными движениями (например, танцовальными), может быть интересными для зрения, но не дающими зрителю сюжетного восприятия.
Мы должны найти, вместо эмоционального жеста, другого порядка
смысловое движение. И это вполне возможно.
В классификации Волконского на первом месте, как мы видели,
стоит „механический" жест, для автора совершенно неинтересный, но
в то же время „неизбежный". Название „механический" жест неправильно. Здесь подразумевается всякое движение, „вызываемое надобностью", т.-е. утилитарное, направленное к осуществлению определенной,
нужной нам цели. Вначале такие движения всегда бывают сознательными и только часть их впоследствии, при повторении, механизируется.
Так, механизируются в детстве—походка, речь, письмо; при соответствующем тренаже—игра на рояле, писание на машинке и множество
трудовых движений. Такие движения отличаются большой точностью,
организованностью, экономностью. Целесообразность их доведена до
высших пределов. Запас таких движений—ценный багаж для человека.
Тренаж в таких движениях влечет за собой квалификацию труда.
Вот эти-то целесообразные, как сознательные, так и механизированные, движения и могут служить заменой эмоциональному жесту.
Во-первых, с помощью целесообразных действий можно построить всю
сюжетно-логическую часть пьесы. В таком случае эти действия оправдываются логической необходимостью (по ходу событий действующее
лицо должно совершить такие-то поступки). Во-вторых, такие действия
могут служить выявлением эмоций действующего лица. В этом случае
действие не вытекает из логически-разумной необходимости, но оправдывается эмоциональной настроенностью действующего лица. Поясню
примером. В одной сцене Блюменталь-Тамарина, изображая выжившую
из ума старуху, передала ее психическое состояние непрерывным завязыванием и развязыванием узелка на носовом платке, который она
держала в руках. Само по себе это действие вполне сознательно
и целесообразно, но в данном случае оно не вытекало из сюжетной
необходимости и принималось зрителем, как выражение растерянности
старухи, чего и добивалась актриса.
Таким способом можно использовать обычные бытовые действия,
трудовые движения, игру с предметом и т. д. Попытка строить пьесу
на таких целесообразных действиях была сделана мной в постановке
„Поезд 2.30" (на Клубном отделении Высшей Военно-Педагогической
Школы). Привожу ряд примеров.
№ 1. Тревожное состояние, связанное с повышеннным
вниманием.
1) З а д а ч а ,
поставленная
неполнителю.
Поручик Вейс хочет выведать у своего
подчиненного сведения о новоприбывшем.
2) Р е ц е п т Д е л Ѵ
с а рта.
3)
Действенное
разрешение.
Глаз полузакрыт,
нижнее веко приподнято, бровь сдвинута.
Голова опущена,
наклонена в обратную от предмета сторону. Сильная нога
сзади, согнута в бедре, свобо дная нога согнута или перекинута.
Служащий, держа
в руках стакан вина,
подходит к Вейсу,
подносит стакан к
губам. Вейс дважды
отводит его руку ото
рта, не давая выпить,
пока не получит ответа.
№ 2. И с п у г .
1) Редактор коммунистической
газеты,
переодетый
Пруммером, узнает,
что явившийся с обыском
социал-демократ знает настоящего Пру м мера.
2) Глаз очень закрыт, нижнее веко
приподнято, бровь
естественная.
Корпус наклонен
вперед и вбок в сторону от предмета.
Рука назад, но не
очень. Локоть к телу.
Сильная нога сзади,
свободная вытянута.
3) Редактор надвигает на брови кепку,
поднимает воротник
и отходит в тень, повертываясь спиной к
социал-демократу.
№ 3. Радость.
1) Группа рабочих
высказывает удовлетворение, посадив в
калошу социал-демократа.
3) Все рабочие одновременно
снимают
кепки, раскланиваются (за спиной социалдемократа) и уходят.
№ 4. Тревога.
3)
В моменты,
когда фашисты упоминают имя Рота,
последний ломает карандаш или роняет
пресс-папье.
1) Переодетый фашистом коммунист
Рот, сидя в штабе
фашистов, слышит,
как за другим столом идет разговор
об его бегстве из
тюрьмы.
№ 5. Тревога.
1) Помощник редактора коммунистической газеты получает сведения, что у
дверей стоит отряд
фашистов с обыском.
3) Помощник редактора спешно зажигает спичку и начинает жечь лежащие
на столе бумаги.
В этих примерах сюжетно-логическое оправдание действия можно
подвести только в № 5, отчасти в № 3. В остальных случаях действие
не вызвано логической необходимостью и оправдывается внутренним
переживанием действующего лица, а потому и является выражением
соответствующих эмоций. В то же время эти действия для выполняющего их являются вполне сознательными и целесообразными.
Во всех приведенных примерах использованы—бытовые движения,
отчасти игра с предметом. Для профсоюзных клубов особенно интересно
будет построение спектакля на трудовых движениях, характерных для
данного союза. Таким путем выступления кружков могут стать мощным
средством профпропаганды.
Значительные результаты в смысле логического и эмоционального
воздействия можно получить от изменения темпа и силы, а также от
полного перерыва длительнаго действия (например, работа с пилой,
молотом, малярной кистью и т. п.).
Пользуясь такими приемами, мы можем совершенно изгнать
с клубной сцены все ненужные клубисту—эмоциональные жесты, фаль шивое актерское кривляние и слащавые сентименты. Агит-выступление
действенной ячейки должно строиться на верстке утилитарных движений и целесообразного действия.
Л е т к а p.
А г и т - п л а к а т .
(Мастерская
ИЗО
Иваново-Вознесенского
Губпролеткульта).
В период моего инструктирования мастерской И З О ИвановоВознесенского Губпролеткульта, были введены 2 формы агиТ-плаката.
Первый—кино-монтажный.
Кино-монтажным
называется
потому, что—один из главных методов построения кино-фильм. Этот
метод получил за последнее время большое применение для действия.
Пример: человек стреляет. В отличие от традиционной постановки дела, когда изображается все действующее лицо, с его аксессуарами,—здесь берется главный фактор, а именно: рука, револьвер и
их действие, в результате чего, при наименьшей затрате изобразительных элементов, достигается наибольшая выразительность. Метод чрезвычайно целесообразен в агит-плакатах, имеющих конкретный сюжет.
Пример: „Смерть фашизму" или „Немецкий рабочий, жми сильнее свою буржуазию, лишь в этом случае ты победишь". В первом
брали краснзгю руку с ножом, вонзавшую нож в грудь фашиста.
Во втором—красную ступню, придавившую капиталиста. Для плакатного эффекта руку с ножом и ступню исполняли натуралистично, а
остальные элементы—плоскости о.
Принцип заключается в том, чтобы дать максимум действия, изображая самые активные части тела или предметов в данном действии,
использовав минимум цветов.
Кроме 2-х вышеуказанных плакатов, были выполнены на темы:
„Немецкий рабочий, даешь свой Октябрь", „Фашист" и другие.
Надо отметить, что плакаты по вышеуказанному принципу выполнялись быстро и хорошо воспринимались рабочими массами.
Второй п л а к а т — р а с с к а з н ы й , где сюжет состоит из нескольких действий.
Пример: приветственный плакат делегатам конференции. Здесь
нужно было показать, что делегаты едут из центра, Москвы, в
рабочие массы, и рабочие приветствуют делегатов. Необходимо дать
Москву, поезд с делегатами, направляющийся в Иваново, и рабочих,
приветств}чощих делегатов. Изобразительные элементы компануются
соответственно развертыванию сюжета, сверху вниз, таким образом,
чтобы сюжет плаката без нагромождения на нем текста был бы ясен.
Изобразительные формы доводятся до максимума путем развертывания предмета в профиль и в фас. Цветовая композиция строго учитывается так, чтобы она, не нарушая общего колорита, помогла бы
чтению сюжета.
Этот принцип применим лишь для больших плакатов.
Искусство
и производство
I
H. Тарабукин.
Фото-механика.
I. Р е п р о д у к ц и о н н а я р о л ь г р а в ю р ы .
Гравюра во всех ее видах, литография и различные способы механического воспроизведения на протяжении всей своей эволюции
были связаны с судьбой книжного искусства. Хотя ксилография известна была до гутенберговского изобретения набора подвижными
литерами, тем не менее о деревянной гравюре, как явлении не единичном, можно говорить только после появления первых печатных книг.
В 1461 г. Альбрехт Пфистер выпускает одну из первых иллюстрированных наборных книг („Der Edelstein"). Деятельность Дюрера
протекает уже в то время, когда книга вышла из состояния инкунабулы. У нас в России неизвестно ни одной гравюры до появления
первой наборной книги „Апостол", отпечатанной в 1564 г. Иваном
Федоровым. Только в этой книге имеется ксилографическая гравюра,
изображающая евангелиста Луку, считающаяся первой русской гравюрой.
Связь гравюры с книгой говорит не в пользу самостоятельности
гравюры. Гравюра с первых же дней своего существования заняла
место подсобного ремесла, служа или средством иллюминовки книги
или средством воспроизведения и размножения произведений живописи. Г р а в ю р а , а за н е й л и т о г р а ф и я и ф о т о - м е х а н и ч е с к и е
с п о с о б ы — я в л я л и с ь по с у щ е с т в у с р е д с т в о м р е п р о д у к ц и и . Только под этим углом зрения может быть . понят процесс эволюции этого рода мастерства.
От линейной гравюры типа „Брюссельской девы" (1418 г.) *),
грубо вырезанной ножом по деревянной доске, распиленной даже не
по торцу, репродукция доходит в своем совершенстве до современной
многоцветной автотипии и меццотинто, отпечатанных на ротационной
машине и почти с безукоризненной точностью передающих все тонкости цветовых нюансов масляной живописи.
Гравюра и литография всегда выполняли эту репродукционную
роль, перешедшую затем к фото-механике во всех ее многочисленных
видах. „Гравюра сделалась глашатаем других искусств",—говорит Вессели.—„Как изобретение книгопечатания явилось рычагом для процветания наук, так и открытие искусства гравирования немало содействовало подъему и распространению искусствознания" **). Г р а в ю р а и
л и т о г р а ф и я л и ш ь т о г д а п р е в р а щ а л и с ь из о р у д и я реп р о д у кции в в и д „ ч и с т о г о " и с к у с с т в а , к о г д а д а н н а я техн и к а г р а в ю р ы не у д о в л е т в о р я л а б о л ь ш е т р е б о в а н и я м ,
к о т о р ы е в р е м я п р е д ъ я в л я л о к р е п р о д у к ц и о н н о м у мас т е р с т в у . Отставшая техника, уступая в репродукции место новому,
*) Либепау, Пассаван и др. приводят ряд гравюр, относящихся еще к X I I в.
Появлепие первых игральных карт, сделанных с деревянных клише, относится к пачалу X I I в. Между тем, Весселп заявляет: „Новейшие исследования доказали, что
гольцшнит (в виде оттиска па бумаге) предшествовал игральным картам* („Распознавание гравюр", 19 стр.). Т. обр., время первых гравюр в Европе должно быть еще
более отдалено. В Китае гравюра была известна уже в I V в.
* * ) Там же.
^
более совершенному приему, становилась видом станкового искусства.
Так, девятнадцатый век и начало текущего столетия отмечены культивировзнием деревянной гравюры и офорта, как „чистых" видов искусства, не зависящих от прикладных целей.
И Дюрер, работавший в период еще только зарождения искусства
ксилографической и металлической гравюры, едва ли составляет исключение. Надо вспомнить, что Дюрер сам редко резал по дереву. Он
давал рисунки, а резчики воспроизводили их на дереве. Известно имя
Иеронима Андреэ, вырезавшего значительную часть рисунков Дюрера.
Можно сказать, что Дюрер пользовался гравюрой, как средством распространения своих рисунков. Этим объясняется свобода, с которой
он распоряжался линией и штрихом. Материал дерева и инструмент
резчика не довлел в этих случаях над его рисунками.
Литография, продолжающая и сейчас служить прикладным и репродукционным задачам, поэтому-то и не нашла еще себе бескорыстных художников, подобно ксилографам и офортистам.
Самый источник происхождения гравюры указывает, что возникло
это искусство с чисто практическими намерениями. Резьба по дереву
и металлу известна была за много столетий до того, как был открыт
способ получения оттисков с вырезанных досок. Первые отпечатки
делались на материях с целью расцвечивания их и украшения рисунком. Ост-индейцы знали ситценабивную технику еще раньше китайцев.
У египтян были штампы, коими делались отметки на кирпичах. У римлян широко распространены были печати для отметки имен. Наконец,
в Италии, главным образом в Венеции, в XIII в. распространено было
производство игральных карт посредством оттисков с выпуклого клишз.
2. Эволюция гравюры.
Взгляд, заставлявший смотреть на вырезанную доску с утилитарной целью, передался и граверу-художнику. С первых шагов своего
искусства он ставил гравюре практические задачи: служить способом
размножения произведений живописи и иллюминовкой книги. Но если
мы сопоставим линейную гравюру „Св. Христофора" начала 15 в. и
даже штриховые гравюры резцом по меди Дюрера начала 16 в. с произведениями масляной живописи того же времени, когда уже были
созданы шедевры Ботиччелли, Перуджино, Мантеньи и уже работали
Леонардо и Рафаэль, то станет очевидным огромная пропасть между
этими двумя техниками. Грубая, чисто линейная ксилографическая резьба
была бессильна передать не только сложные нюансы тонов картины,
написанной маслом, но и виртуозность ее рисунка. И мы видим, как
все усилия ксилографа направляются на то, чтоб п о б о р о т ь с о п р о т и в л е н и е д е р е в а и достичь в резьбе такой свободы, которая давала бы возможность п е р е д а т ь к а р т и н у в гравюрном эстампе
с наивозможной точностью.
Томас Бевик начинает резать доску не продольно строению дерева, а по торцу. Нож заменяется более эластичным инструментом—
штихелем. Материал дерева выбирается наиболее крепкий — пальма.
И, наконец, Менцель создает виртуозную „ т о н о в у ю " гравюру, которая передает с изумительным совершенством не только рисунок картины, но и ее тональности. Древе уничтожает в своих гравюрах всякое
ощущение материала-дерева, и техническое мастерство ксилографии
у него достигает полной иллюзии резьбы по металлу. Техника ксилографии превзошла себя. Происходит некая гипертрофия технических
приемов.
Тем же путем идет развитие техники г р а в ю р ы р е з ц о м на
меди. В ней та же задача „тоновой" репродукционной гравюры достигается с меньшей затратой сил и с меньшим насилием над особенностями
материала. Но тот же самый процесс приводит к гипертрофии формы
резцовой гравюры, предчувствуя технику офорта. Резец заменяется
пунсоном. Резцовая гравюра утончается до пунктирной. Наконец,
о ф о р т н а я т е х н и к а раскрепощает мастера от зависимости его от
материала. Физический труд резчика заменяется химическим процессом
травления. Игла сменяет резец. Лак грунта заменяет мастеру металлическую доску.
В свою очередь, офорт вытесняется более эластичной техникой—
л и т о г р а ф и и . Способ рисования и письма на камне, мало чем отличающийся от рисования на бумаге, вытесняет в репродукционной
гравюре все виды резьбы по дереву и металлу и все комбинационные
способы химического травления крепкой водкой.
Литография дает возможность, минуя трудную выучку резцовой
гравюры и капризную технику офорта, передавать в репродукциях
характер мазка живописца и даже его фактурные свойства. А монохромное печатание с нескольких камней дает возможность достигнуть
значительных успехов и в передаче колорита картины.
Развитие технических приемов гравирования и литографирования
стремится, с одной стороны, с л о м и т ь с о п р о т и в л я е м о с т ь мат е р и а л а путем изобретения таких способов, которые технику рисунка
в гравюре и литографии приближали бы к технике рисунка на бумаге.
С другой стороны, стремясь передать колорит картины, техника гравюры и литографии у х о д и т о т . л и н е й н о г о и ш т р и х о в о г о
п р и е м а . Помимо пунсонной и пунктирной гравюры, под давлением
тех же задач, возникает ряд очень трудных и своеобразных техник,
благодаря которым представляется возможным совершенно устранить
из гравюры штрих и линию и заменить их цветовым пятном различной красочной насыщенности. Так возникает м е ц ц о т и н т о , акватинта и лавис.
Акватинтная техника „припудривания" асфальтовой пылью офортной доски дает возможность передать в гравюрном эстампе мягкость
контуров и сложные тональные переходы, присущие масляной живописи.
М е ц ц о т и н т о , з а м е н я я ш т р и х о в у ю моделировку изобразительной формы т о н о в ы м и п е р е х о д а м и от темного к светлому
пятну, более всего приближает гравюрный оттиск к фотографическому
отпечатку. Дальнейший шаг в этом направлении сделала с в е т о п и с ь .
3. С о в р е м е н н а я а л х и м и я .
Хотя до сих пор еще существует гравюра, но ею занимаются
бескорыстно преданные художники, видящие в ней вид „чистого" искусства. Но и здесь современность дает себя знать, и, если люди ей
не подчиняются, она строит им саркастические гримасы. Наблюдая за
„альбомами", которые время от времени выпускают на книжный рынок современные граверы, можно заметить такого рода казус. Если
подобный „альбом гравюр" рассчитан на большой тираж и отпечатан
как книга, а не как тетрадь с вкладными листами, предназначенная
для немногих любителей, то оказывается, что гравюры в „альбоме"
являются не подлинными эстампами, а р е п р о д у к ц и я м и , с д е л а н н ы ми ф о т о - м е х а н и ч е с к и м с п о с о б о м .
Представьте путь, совершаемый произведением искусства! Первоначально гравер делает рисунок на бумаге, затем переводит его на
дерево или металл, режет его по этому материалу, с вырезанной доски
делает оттиск гравюры и, если он хочет пустить его в большом
тираже на рынок, отдает в фото-цинкографию, где с него делают
фото-механическое клише, с которого и печатают для распространения.
Возникает недоумение: зачем же рисунок р е з а т ь на дереве или делать с него офорт? Не проще ли передать его непосредственно в
фото-цинкографию? Для чего тратить массу энергии, времени, умения
на вырезывание рисунка на дереве, когда вырезанный таким способом
рисунок размножается не с деревянной доски путем ручного граверного станка, а фото-механическими путями!..
Другая гримаса современности жестоко иронизирует над гравером не художником, а ремесленником. Здесь происходит следующее.
Художнику заказывают обложку для книги. Он вырезает из журналов
буквы для шрифта, выкраивает оттуда же фотографический портрет
автора книги и, оперируя лишь ножницами, монтирует обложку...
Естественным, нормальным путем эта обложка должна поступить в
фото-цинкографию, где с нее сделали бы в течение нескольких часов
фото-клише. Но она попадает к голодному ксилографу, и он в течение
нескольких дней р е ж е т на дереве клише для обложки с... фотографического монтажа!
Почему случилась эта нелепость? Потому что кустарь-ксилограф,
вытесненный фото-индустрией, не находя применения своему труду,
взялся за работу, требующую много больше труда и времени, чем выполнение ее фото-механическим путем, дешевле, чем за тот же заказ
берет фото-цинкография.
И после подобных случаев, которыми чревата наша действительность и которые будут только возрастать, государство имеет в высших художественных училищах графические факультеты, где граверы,
которым ничего не осталось делать, как только обучать своему бесплодному теперь искусству, готовят на верную безработицу целую
рать слепой молодежи, не отдающей себе отчета, для чего она изучает
технику гравюр!
Искусство гравюры, когда-то оправданное жизненными потребностями, ныне, с наличием фото-механических способов размножения лю-.
бого рисунка, превратилось в нечто подобное средневековой алхимии
И если против одиночек-энтузиастов гравюры бессмысленно возражать,
ибо их со временем сотрет сама жизнь, то в искусственном поощрении
графических факультетов можно усматривать общественно-вредное
дело.
4. Ф о т о г р а ф и я .
Ф о т о г р а ф и я не т о л ь к о д а л а в о з м о ж н о с т ь д о в е с т и
р е п р о д у к ц и ю д о т о ч н о с т и с о в е р ш е н н о й к о п и и , но и свес т и к м е х а н и ч е с к и м п р о ц е с с а м все к у с т а р н ы е
приемы
г р а в ю р ы и л и т о г р а ф и и . С введением в полиграфическое производство фотографии, произошла решительная революция в репродукционной технике. Кустарничество обрекается на вымирание. Репродукция начинает пользоваться приемами фото-механики... Клише не режется на дереве или металле, не рисуется на камне, а делается с помощью фотографии.
Параллельно с этой практической и служебной ролью, фотография
получает уклон к „чистому" искусству. В фотографии образуются
две параллельно развивающиеся линии: р е п р о д у к ц и о н н а я и художественная.
Применение фотографии для практических целей очень обширно.
Наука нашла в фотографии чрезвычайно полезного сотрудника. С помощью фотографии наука стала фиксировать в снимках не только то,
что видимо человеческим глазом, но и то, что недоступно непосредственному наблюдению. Рентгеновский снимок оказал огромные услуги
науке. Астрономия, пользуясь фотографией, открыла новые миры, скрытые не только от невооруженного взгляда, но и от самых сильных телескопов. В микроскопе фотография подсмотрела то, к чему глаз был
нечувствителен. А фиксация движений помогла механике изучить многое, не поддававшееся непосредственным наблюдениям.
Параллельно этой линии издавна фотография развивалась, как
самостоятельная ветвь художества.
Взгляд на фотографию, как на механическую силу, которая работает „бессознательно, несвободно", которая „ничего не изобретает,
потому что не думает"*), и противопоставление ей „творческого", „духовно-свободного" искусства живописи,—теперь кажется бесконечно
наивным... Цивилизация нашего времени вступает в такую эру, когда
вся общественная продукция является результатом машинной техники.
И однако, это обстоятельство не отнимает у эпохи высокого творческого взлета. Напротив, он становится все могущественнее.
Характерно отметить, что сами фотографы, нередко ставившие
свое искусство на более низкую ступень по сравнению с живописью,
энергично и очень искусно доказывали не только „равноправие фотографии с другими изящными искусствами", но даже и ее „большее
значение, чем всякого другого искусства", когда вопрос коснулся материальных выгод, вытекающих из авторского права**).
В чем же выражаются художественные тенденции фотографии,
как самостоятельной ветви искусства?
5. Влияние ж и в о п и с н ы х направлений на ф о т о г р а ф и ю .
Наблюдение за развитием технических приемов живописи или за
тем, что в обычной эстетической терминологии называется „сменой
стилей", показывает, что эта смена обусловливается изменением способности видеть и выражать виденное, в свою очередь, обусловленной
социальными факторами. Изучая то, что является результатом этих
выражений—живопись,—мы наблюдаем сложную эволюцию зрительной
ориентировки в мире действительности. Изменения происходят, как в
в восприятии цветов, так и форм. Пещерный человек знал только
несколько красок. Технология красящих веществ, известных ему, создавала крайне ограниченный диапазон цветовой ориентировки. Напротив, Уистлер умел различать в одном цвете десятки оттенков. Средневековый примитив—это не только условный „стиль", но в известной
степени и „манера видеть", такая же манера, как и говорить, меняющаяся с переменой социальной обстановки в ее временном становлении.
Совокупность технических приемов, кратко характеризуемых,
как „восточное искусство"—ни что иное, как былой рефлекс зрительного
восприятия действительности, только теперь отлившийся в канонизированный художественный штамп.
*) Бессели, 87 стр.
•*) Записка об авторском праве фотографов, поданная в Гос. Думу от 11 рус
фотогр. обществ.
Сейчас рефлекс, получаемый вследствие зрительного раздражения,
изменился в сравнении с рефлексами человека второй половины прошедшего столетия. Если 70 лет тому назад натуралистический снимок,
как и натуралистическая живопись выполняли довольно успешно свою
роль изобразительной интерпретации действительности, то ныне такая
трактовка зрительного восприятия уже не удовлетворяет. Светопись
возникла в первой половине XIX века сначала в виде дагерротипии.
В изобразительном искусстве в это время царил натурализм. Натуралистический способ воспроизведения действительности, который характеризует фотографию, был последним, завершающим шагом в умении
„правдоподобно" фиксировать виденное.
Время
обусловило
не т о л ь к о
изобразительную
ф о р м у ф о т о г р а ф и ч е с к о г о с н и м к а , но и ц е л е в у ю у с т а н о в к у а п п а р а т а . Мы не знаем, какова была бы установка зрения фотографического аппарата, если бы он был изобретен до захвата натурализмом всех позиций в искусстве или позже нашего времени, когда
натуралистические тенденции в искусстве были бы значительно ослаблены. Фотографический снимок с его резко выраженной натуралистической изобразительностью явился продуктом своего времени. И в самом деле, несколько десятков лет спустя, когда импрессионизм стал
признанным явлением в искусстве, его художественные формы отразились и на фотографии. Фотографические портреты стали появляться
подернутыми вуалью в стиле живописи Карьера. На морских пейзажах,
снятых фотографом, легко было отметить туманную дымку Уистлера.
А солнечные снимки березовых рощ и парков явно носили печать
влияния пейзажей Моне, Ренуара и даже пуантелистов Сислея и Писсаро. Был изобретен особый гуммиарабиковый способ печатания фотографических негативов, благодаря которому снимок превращался в
импрессионистическую картину. В свое время эти тенденции в фотографии, получившие название „мутных", осуждались „академически"
настроенными фотографами.
Стремление придать обычному механическому снимку „художественный" облик выражалось и в усиленном применении ретуши. Здесь
также не трудно отметить влияние художественных стилей и смену
технических приемов, применяемых в живописи. Во второй половине
прошлого века посредством ретуши стремились придать реалистичность изображению, „оживляя", напр., глаза на портрете и придавая
персонажу своеобразно понятую „красоту". Вскоре эти приемы начинают высмеиваться фотографами и в одной из книг, посвященных
ретуши *), можно прочесть следующие иронические строки: „Зачастую
происходило то, что посетитель, вступая в мастерскую фотографа с
серьезным, полным достоинства его возрасту лицом, выходил на снимке
гладко прилизанным юношей вроде Адониса". Позднее задачи ретуши
понимаются не как средство для „прихорашивания" натуры, а как
способ исправить некоторые недостатки фотографической репродукции.
Стремясь к механизации процессов, фотография, естественно, стремилась механизировать и ту сторону обработки снимка, которая находилась в руках ретушера, оперирующего кустарными способами. Еще в
70 г. XIX ст. в Америке была изобретена „электрическая ретуширная
машина", а в 80 г. в Германии построен „электрический ретуширный
аппарат". Ныне фотограф, регулируя светосилу объектива, а также
подбором сортов бумаги для печатания и целым рядом химических
*) Грасгоф и Лешер,—„Ретушь для фотографии".
реактивов, употребляемых, как в негативном, так и в позитивном процессах,—обходится без ретуши, создавая снимок, в котором в меру
сглаживаются резкости или, наоборот, подчеркиваются нужные места.
Т.-е. фотограф достигает эффектов, добываемых ретушером кустарно-живописными способами, средствами механическими и химическими.
Неоспоримым подтверждением того, что чисто-натуралистический
снимок более не удовлетворяет современной „манере видеть"—подтверждается тем, что больший успех имеют те фотографии, в которых при
съемке пользуются каким-либо резким ракурсом, чересчур высоким
или слишком низким горизонтом зрения. В кинематографии производят
эффект снимки с „птичьего полета", с аэроплана и съемки, сделанные
под углом большим того, который считается в натуралистической
фотографии „нормальным" (40—45°). При снимках многотысячной
толпы и говорящего оратора фотограф прибегает к наводке „фокуса"
не на центр композиции, а на оратора, как главную тематически фигуру
данного сюжета. Толпа же интерпретируется, как бесконечное море
голов, сплошь покрывающих всю поверхность снимка.
В предпоследнее десятилетие фотография попадает под влияние
позднейших течений в живописи: кубизма, футуризма, экспрессионизма.
В Германии, например, существует экспрессионистическая фотография,
снимки которой весьма напоминают деформированную изобразительность экспрессионистической живописи.
Несмотря на эти художественные влияния, просачивающиеся
в фотографию, с н и м о к о с т а е т с я д о с и х п о р н а т у р а л и с т и ч е с к и м . Все те сравнительно незначительные опыты, которые имелись
до сего времени, касались, главным образом, позитивного процесса
фотографии. Таковы упомянутые выше гуммиарабиковый и более
поздний, масляный, способы.
Но все это лишь робкие попытки выйти из грани натуралистического снимка, стремление дать не только пресный протокол, фиксирующий
действительность, но и экспрессию, в которой отпечатлевался бы
острый взор современного человека. Нужна резкая реформа установки
фотографического объектива на действительность для создания такого
снимка, который бы в нынешних условиях художественной культуры
и „уменья видеть" отвечал новым запросам современности и тем требованиям, которые она предъявляет к изобразительности, как способу
зрительной ориентировки в реальном мире.
В последнее время стдл широко практиковаться способ комбинации
различных снимков с целью создать из них определенного рода композицию. Такой комбинированный снимок получил название фотомонтажа.
6. Ф о т о - м о н т а ж .
Фото-монтаж—характернейшее знамение современности. В нем мы
наблюдаем применение многих принципов современного „левого" искусства. Здесь мы видим использование плоскостного построения композиции, столь характерного приема для большинства „левых" течений
в искусстве. Для фотографического снимка, родившегося в расцвет
перспективно-иллюзионистической живописи, изменение пространственно-глубинного построения композиции не было возможно. Всякая фотография иллюзией глубины нарушала плоскость, как таковую.
Фото-монтаж, развертывая композицию на плоскости, дает возможность п л о с к о с т н о г о изобразительного построения посредством
ряда параллельных планов. Фото-монтаж дает возможность самых не-
ожиданных сопоставлений, группировок и изменений в масштабах.
В зависимости от задач автора, фото-монтаж позволяет придать тем
или другим частям композиции самые разнообразные пропорции и
соотношения, увеличивая то, на что падает сюжетный акцент, и стушевывая то, что имеет второстепенное значение.
Н о ф о т о-м о н т а ж — э т о не д о с т и ж е н и е
фотографии,
как таковой. Фото-монтаж—это завоевание художника-живописца, воспользовавшегося готовым продуктом фотографического снимка для
своих композиционных целей. В с а м о й ф о т о г р а ф и и
фотом о н т а ж не с о з д а л н и к а к о й р е ф о р м ы . Снимки, которыми оперирует фото-монтажист, остаются натуралистическими.
Ф о т о - м о н т а ж — э т о о д и н из э т а п о в ж и в о п и с и , которая
стала пользоваться механической силой аппарата, вместо рисунка от
руки. Художник воспользовался механическими ресурсами фотографии,
чтоб заменить кустарный способ карандашного рисунка—механическим.
Ф о т о - м о н т а ж я в и л с я на л е в о м ф р о н т е и с к у с с т в а
т о л ь к о тогда, когда было и з ж и т о беспредметничество...
Фото-монтаж—порождение агитационной линии современного искусства. Для агитационного искусства вновь понадобилась реалистическая
изобразительность. Но ее художник использовал иначе, нежели натуралист. Ф о т о - м о н т а ж и с т в и д и т в п р е д м е т н о й и з о б р а з и т е л ь н о с т и не с а м о ц е л ь , к а к н а т у р а л и с т , а л и ш ь с р е д с т в о . Потому-то он становится вновь изобразителем, не меняя „вех".
Его изобразительность представляет формально, и, следовательно,
технически, н о в ы й элемент живописного произведения, отнюдь н е
с о в п а д а ю щ и й с эстетически-догматической ролью изобразительности в живописи натуралистов. Злостным пасквилем на современного
„левого" художника являются все обвинения, обращенные к нему,
будто бы пошедшему „на попятную" и зачеркнувшему свои достижения
последних лет.
Но, п о м и м о ф о т о - м о н т а ж а , ф о т о г р а ф и я с а м а по с е б е
о б л а д а е т т а к и м и с в о й с т в а м и , к о т о р ы е п о з в о л я ю т ей
в ы й т и из у з к о й о р б и т ы н а т у р а л и с т и ч е с к о г о с н и м к а .
Деформированный, с точки зрения натуралистического „правдоподобия",
снимок может быть получен не только путем операций над позитивом,
но и непосредственно на негативе. Т.-е. путем использования физических свойств аппарата и прежде всего его глаза—объектива. Если
человеческий глаз эволюционирует в своей способности видеть, то
вслед за ним перестраивается и механический глаз фотографического
аппарата. Н о н и к т о из ф о т о г р а ф о в с е р ь е з н о не з а д у м ы в а л с я над
возможностями
в корне
реорганизовать
с а м ы й ф о т о г р а ф и ч е с к и й аппарат и д о с т и г н у т ь непос р е д с т в е н н н о на н е г а т и в е не н а т у р а л и с т и ч е с к о г о , а
к о м п о з и ц и о н н о г о с н и м к а . Между тем, такие возможности есть
и заключены в самом аппарате.
7. С х е м а «*>отогра«*»ических п р о ц е с с о в .
Если мы схематически разложим ряд процессов, составляющих
фотографию в ее целом, то получим две основные рубрики: процесс
1) негативный и 2) позитивный.
Техника этих двух основных моментов фотографии пользуется
двумя родами средств: а) химическими свойствами света, б) химическими свойствами реактивов.
Орудия, коими оперирует фотография, состоят из: 1) фотографического аппарата, 2) светочувствительной пластинки, 3) светочувствительн й бумаги, 4) химических реактивов. Элементарная среда,
необходимая для получения фотографического изображения, предполагает наличие предмета, отбрасывающего известный световой минимум
в пределах рабочего для фотографирования расстояния.
Предполагая наличие освещенного предмета, мы сталкиваемся
прежде всего с фотографическим аппаратом.
Объектив является глазом фотографического аппарата. Строением
объектива обусловливается способность „видеть" аппаратом и характер
этого „виденья"...
8.
Объектив.
Объективу присущ целый ряд свойств, обусловливающих характер
фотографического изображения. Это прежде всего я в л е н и я х р о м а т и ч е с к о й и с ф е р и ч е с к о й а б е р р а ц и и . Сущность первой состоит
в том, что линза не только преломляет свет и рисует негативное изображение на пластинке, но и разлагает его на цветные составные
части. Устранить это свойство линзы можно посредством соединения
двух линз—собирающей и рассеивающей свет, получая таким путем
ахроматический объектив. Свойство сферической аберрации состоит
в том, что получается искажение изображения по мере приближения
лучей к периферии чечевицы. Свойство линз, называемое астигматизмом, еще более „искажает" с точки зрения условно-натуралистического
„правдоподобия" изображение предмета.
Из физики известно, что стекла, обладающие выпуклой или вогнутой поверхностью, различно собирают и различно рассеивают световые лучи. Поверхность линз представляет из себя такого рода
стекла. Следовательно, установкой этих линз можно достигнуть нужного в каждом отдельном случае способа собирания и рассеивания
лучей и, тем самым, влиять на изображения, отпечатлевающиеся на
негативной пластинке. Можно, например, сделать изображение непомерно вытянутым по вертикали или раздвинутым вширь в горизонтальном направлении...
Из сказанного явствует, что у с т а н о в к а л и н з в о б ъ е к т и в е
п о з в о л я е т ф и к с и р о в а т ь на с н и м к е
действительность
в с а м о й р а з н о о б р а з н о й и н т е р п р е т а ц и и и изменять изображение, сообразуясь с теми или иными целями. Мнимая возможность лишь „натуралистической" фиксации исчезает. Н а т у р а л и з м
я в л я е т с я не и м м а н е н т н ы м с в о й с т в о м ф о т о г р а ф и и , а
р е з у л ь т а т о м у с т а н о в к и линз т а к и м о б р а з о м , что их
с в е т о р а с с е и в а н и е с о з д а е т на т у р а л и с т и ч е с к и - „ п р а в д оподобное" изображение.
Цейсом был приготовлен специальный объектив а н а м о р ф от,
устанавливая который в вертикальном положении можно получать
изображения вытянутые вверх, а при установке по горизонтали—изображения, раздавшиеся вширь *). Тот же эффект может быть достигнут
„окольным путем", посредством в о г н у т ы х и в ы п у к л ы х з е р к а л ,
получаемое изображение в которых фиксируется на снимок.
Изменение масштабных соотношений в снимке достигается и
в обычной фотографической практике. Так, т е л е о б ъ е к т и в дает возможность получить на снимке отдаленные предметы в более крупном
*) См. об этом и там жѳ снимки, сделанные анаморфотом В. Ч а п е к — „ Ф о т о графия в науке и технике".
масштабе. Применяется телеобъектив при снимках пейзажей с широким
и далеким горизонтом. Но увеличение масштаба „заднего плана"
в снимках с телеобъективом настолько незначительно, что оно не
искажает впечатления „правдоподобия" при воспроизведении глубинных
расстояний, а создает лишь возможность более четкой зрительной „читки"
отдаленного плана.
В наших руках принцип телеобъектива становится средством,
с помощью которого можно резко изменять на снимках масштабные
соотношения различных планов глубины и, тем самым, достигать пужного эффекта в различных композиционных целях. Здесь в фотографическом снимке мы приближаемся к тому композиционному приему,
который в живописи носит название „обратной перспективы", а в фотомонтаже достигается путем сопоставления снимков различных по масштабам.
9. Ф о н у с и у г о л з р е н и я .
Следуя за фотографом в хронологической последовательности
технических приемов, которыми он пользуется, мы сталкиваемся с процессом фокусной наводки и диафрагмирования. Фотограф переходит
к наводке аппарата на предмет, отыскивгя среднее, „нормальное"
фокусное расстояние. В фотографической литературе все указания на
этот случай приурочиваются к тому, чтоб получить все то же „правдоподобное" изображение. Поэтому всякая „норма" исходит из натуралистического изображения.
Установив фокус, фотограф избирает угол зрения. Норма „правдоподобия" определяет его в 45—55°. Для портретных снимков этот
угол снижается до 30°. Увеличивая его от 65 до 90°, мы получаем
„утрированную передачу перспективы"*),—старательно предупреждает
фотограф - натуралист. Следовательно, е с л и н а м н у ж н а и м е н н о
у т р и р о в а н н а я п е р с п е к т и в а , то в этом „предостережен и и " мы у ж е и м е е м г о т о в ы й р е ц е п т , как получить ее на
нашем снимке.
Углом зрения, отступающим от поставленной натуралистической
фотографией „нормы", уже пользуются ныне в снимках с так наз.
„птичьего полета" или при резко ракурсных изображениях, создавая
особую экспрессию зрительного восприятия. Такие снимки с искаженной перспективой подчас создают очень интересные эффекты композиционного свойства.
С целью усилить четкость заднего глана на фото-снимке фотограф прибегает к диафрагмированию.
Итак: 1) установив нужным образом линзы и с к о н с т р у и р о в а в
о б ъ е к т и в , 2) найдя н у ж н ы й , а не только „правильный" с точки
зрения „правдоподобия" ф о к у с и 3) у с т а н о в и в наводкой у г о л
з р е н и я , — м ы можем получить такое изображение действительности,
которое будет п р е о б р а ж а т ь ее согласно задачам фотографа, а не
только копировать. Таким образом, механическим приемом, пользуясь
физическими свойствами аппарата, мы можем получить композиционный
снимок.
10. Р а с т я ж е н и е э м у л ь с и и н е г а т и в а .
Но кроме этих мер, могут быть применены и другие. С н я в со
с т е к л а э м у л ь с и ю , мы м о ж е м п о д в е р г н у т ь ее э л а с т и ч н ы й
с л о й р а с т я г и в а н и ю и л и п о д о г р е в а н и ю . Этим способом мы
*) „Заметки об угле зрения объектива"—жури. .Фот.-Люб.'.
деформируем изобразительность на снимке. По произволу мы можем
исказить фигуру или часть ее, вытянув или сплющив изображенное.
Этот способ деформации изобразительности на снимке более
прост, нежели способ установки соответствующим образом линз. Кроме
того, он дает возможность изменить лишь какую-либо одну часть изображения, оставляя снимок в остальном без изменения. Так, например,
с помощью этого способа можно преувеличенно вытянуть скулу, уши,
сплющить нос или подбородок, оставив портретное изображение в целом нетронутым. Карикатура, по существу, и идет таким путем искажения или подчеркивания лишь деталей.
Снимок объективом анаморфот, изменяя в определенном направлении все изображение, лишает, тем самым, фотографа комбинационного и частичного деформирования...
Но способ растягивания пленки негатива слишком кустарен и
произволен. Вот почему стремления реформировать снимок должны
быть направлены, главным образом, на изменение установки объектива...
В кинематографии деформация изобразительности допустима лишь с
помощью объектива. Ибо, если отдельный фотографический снимок
можно подвергнуть растягиванию, то, разумеется, такую операцию немыслимо проделать над кинематографической лентой размером в сотни
метров и содержащую тысячи отдельных снимков...
Ряд композиционных возможностей открывается при м н о г о к р а т н о й с ъ е м к е на о д н у и т у ж е п л а с т и н к у . В этом случае
изображенное на снимке имеет большую органическую связь между
собою, нежели в фото-монтаже. Не устраняется в этом случае и естественная перспектива, иллюзия пространства и глубины...
II. Позитивный процесс.
После того, как пластинка экспонирована, она подвергается проявлению на зафиксированную пластинку свет более не действует.
Закрепленная пластинка поступает во вторую стадию фотографического процесса, в стадию позитивную. Здесь в руках фотографа
имеется целый ряд средств, с помощью которых он может повлиять
на изображение. Прежде всего, сама эмульсия печатной бумаги, будучи
различного состава, создает и различные фактуры изображения. Отпечаток, например, на платиновой бумаге делает снимок похожим на
гравюру. Гуммиарабиковый способ дает возможность приблизить фотографию к импрессионистической картине. Наконец, в фотографической
литературе существует большой список „ошибок", избегать которых
предлагается работающему в фотографии. Эти предупреждения могут
в значительной степени быть использованы, как рецепты для получения нужных эффектов.
Итак, подводя итог сказанному, мы убеждаемся, что возможно
так использовать физико-механические и химические свойства фотографии, что коренным образом реформировать интерпретацию действительности посредством фотографического снимка. Пользуясь широкими возможностями, предоставляемыми самой фотографией, можно,
вместо копии с действительности, создавать изображение, реконструирующее эту действительность согласно воле фотографа. Глаз фотографического аппарата можно перестроить так, что он будет видеть не
как видел когда-то глаз художника-натуралиста середины XIX ст., а
как видит ныне глаз современного человека.
12. Цель Ф о т о г р а ф и ч е с к о й реформы.
„
До сих пор, если и производились опыты в интересующем нас
направлении, то не с целью достижения положительных результатов,
но ради курьеза. В этом отношении весьма поучительна и любопытна
книга Парцеля Мюльбиха *). Разнообразный материал, собранный в ней
в виде курьезов, может быть использован и для получения положительных результатов...
Каковы же цели, которые могут быть поставлены перед деформированным снимком? Найдутся скептики, которые, вспомнив слишком
поучительные и еще свежие в памяти уроки дивизионистических направлений в живописи в роде футуризма, кубизма, экспрессионизма,—
спросят: не для того ли рекомендуем мы „исказить" натуралистическую
изобразительность фотографического снимка, чтоб и это, до сих пор
„здоровое искусство" фотографии заразить „умственным расстройством"
в виде „беспредметничества" и загнать его в такой же безысходный
тупик, в какой попала „левая" живопись?—Нет, эксперимент задуман
с другой целью. Опыт с живописью учтен и даже использован именно
в том смысле, чтоб не повторять уже пройденного.
Проектируемая реформа фотографии имеет в виду снимок, который относится и к так называемой художественной фотографии, и снимок, являющийся вспомогательным средством в научном эксперименте.
В тех случаях, когда фотография служит протоколом действительности или средством репродукции произведений искусства, разумеется, деформация фото-изображения теряет всякий смысл. В этих
случаях основы натуралистической фотографии остаются незыблемыми.
Но есть основание утверждать, что деформация изобразительности
путем снимка, сделанного через особо построенный объектив, оправдывается соображениями не только художественного, но и научного
порядка...
Т е о р е т и ч е с к и допустимо, что наука может использ о в а т ь д е ф о р м а ц и ю о б ъ е к т и в а в н у ж н ы х д л я нее ц е л я х .
На этих страницах я остановлюсь только на том, каким образом
так называемая „художественная фотография" может использовать
принципы деформации изобразительности на снимке.
Цели художественной фотографии, как и искусства, весьма разнообразны. Сказать, что они ограничиваются копированием действительности, значит погрешить не только против искусства в широком смысле,
но и против художественной фотографии. Ее практика отнюдь не ограничивается копированием... Напротив, фотограф, работающий над художественным снимком, ставит перед собой разнообразные задачи,
касающиеся композиции, света, фактуры и пр., сближающие его с живописцем.
У т в е р ж д а т ь , что и с к у с с т в о б у д т о бы т о л ь к о „подр а ж а л о п р и р о д е " и л и „ о т о б р а ж а л о ж и з н ь " — з н а ч и т прен е б р е г а т ь и с т о р и ч е с к и м м а т е р и а л о м . Обычно те, к т о
о с о б е н н о р а т у е т за н а т у р а л и з м в искусстве и в фотографии,
этот н а т у р а л и з м п о н и м а ю т в т о й е г о и з о б р а з и т е л ь н о й
т р а к т о в к е , в к а к о й о н б ы л п р е д с т а в л е н во в т о р о й п о л о в и н е XIX в е к а во Франции в живописи Курбе, а в России в картинах Репина. Мыслящие так совершают отрыв от всякой исторической
почвы. Ведь, н а т у р а л из м а „ в о о б щ е " не б ы л о и быть не может.
Натурализм середины XIX в. есть определенная стадия эволюции ис*) .Фотографические забавы и развлечения".
кусства, обусловленная рядом социальных факторов своего времени.
Делать из этой формы искусства критерий для „всех времен и народов"—значит создавать из нее догму, впадать в эстетический нормативизм и делать логическую ошибку pars pro toto, подменяя целое частью.
Если понятие натурализма не нормировать, облюбовав для измерения
одно из его исторических выражений, то для своего „места и времени"
натуралистичными были портреты эллинистической эпохи, находимые
в египетских гробницах, помпейские фрески, миниатюры манускриптных книг средневековья, пейзаж Коро, живопись Миле и пр. Будучи
„правдоподобными" с точки зрения „виденья" в свою эпоху, они для нашего времени представляются лишь стилистическими приемами, посредством которых художники оформляли свою „манеру видеть" в пределах определенного исторического этапа. Итак, п р е д с т а в л е н и е о
натурализме в искусстве
и фотографии
подчинено
всем з а к о н а м и с т о р и ч е с к о г о р е л я т и в и з м а .
Но, кроме натуралистической тенденции, искусство всегда имело
ряд иных устремлений. Искусство было фантастическим, дидактическим,
сатирическим и т. д. Ф о т о г р а ф и я д о с и х п о р б ы л а с л и ш к о м
к о с н о й и за п р е д е л ы к о п и и не п ы т а л а с ь в ы й т и . Что
н ы н е ф о т о г р а ф и и у з к о в э т и х г р а н и ц а х , показывает то, что
даже снимок, предназначающийся быть добросовестной фиксацией действительности, не удовлетворяется сухим и пресным протоколом. Он
стремится к экспрессии в выразительных средствах... Пользование углом
зрения, превышающим норму фотографического канона, выработанного в прошлом столетии, создание особого утрированного ракурса,
изменяющего, условно принятое за „нормальное", перспективное изображение пространства и глубины, особая фокусная наводка, пренебрегающая рецептами „правдоподобия",—все это указывает, что д а ж е
фото г р а ф - п р о т о ко л и с т
стремится
к экспрессии в
с н и м к е . Я имею в виду фотографические иллюстрации в современных журналах-еженедельниках, преимущественно заграничных.
Самое же обширное поле применения всех возможностей, которые
вытекают из деформированного снимка, это — в рекламе, плакате и
фото-карикатуре.
13. Ф о т о - р е к л а м а и Ф о т о - п л а к а т .
Подобно тому, как романист или драматург не сможет писать
острые, лаконичные, злободневные фельетоны, так и живописец, мастер картинных дел, не справится с задачей рекламы и плаката. Навыки станкового искусства не только не могут быть использованы
плакатистом, но они, будучи прочно вкоренившимися в характер работы
художника, служат лишь во вред рекламисту.
Европейский Запад и Америка уже создали „особую породу" мастеров, работающих в рекламной промышленности. Склад их мышления, зрительная ориентировка, творческий темперамент, технические
приемы выражения своих задач,—все это совершенно иного порядка,
нежели у художников-картинщиков.
Практика современной коммерческой рекламы показывает, что
к н а т у р а л и с т и ч е с к о й и з о б р а з и т е л ь н о с т и часто прибег а ю т , к а к к с р е д с т в у в ы р а ж е н и я в плакате. Между тем, почти
пятидесятилетие прошло с тех пор, как традиции натуралистическипротокольного рисунка были порваны. Импрессионизм, затем кубизм
наконец, экспрессионизм культивировали в рисунках индивидуальные'
манеры художников и все дальше уходили от протоколизма. Это об-
стоятельство, несомненно, отразилось на культуре современного рисунка.
М о л о д ы е х у д о ж н и к и , воспитавшиеся в атмосфере новых веяний
в искусстве, не у м е ю т влад е т ь т е м р и с у н к о м , который был бы годен д л я н а т у ралистической
копии.
Это обстоятельство заставляет
мастера - плакатиста ч а щ е и
ч а щ е о б р а щ а т ь с я к пом о щ и ф о т о г р а ф и и . Кроме
того, в фотографии он видит
способ наиболее легкого и быстрого получения нужного изобразительного
ресурса,
ие
требующего
сложной
в ы у ч к и в живописных школах и академиях.
Но п р о т о к о л ь н о - н а т у ралистический
снимок
е л и шк ом п р е с е н д л я рекл а м н ы х ц е л е й . Он не был
бы достаточно экспрессивен и
Принцип фото-плаката *).
тогда, если бы использовал принципы
фото-монтажа в его современных формах...
Вот почему острота, так сказать „ п е р е ц "
р е к л а м ы , до с и х п о р с о з д а е т с я
к у с т а р н ы м приемом,непосредственно рукой художника. Н а п о м о щ ь мас т е р у р е к л а м ы и п л а к а т а, м о ж е т
притти новый композиционный
ф о т о г р а ф и ч е с к и й снимок, который
деформирует
изобразит е л ь н о с т ь . Ряд возможностей, указанных выше, с помощью которых достигается не монтажным, а механическим
путем нужное акцентирование изобразительности в целях экспрессии, блестяще
могут быть использованы в ф о т о - р е к ламе и фото-плакате.
Устанавливая фокусную наводку на
вытянутую ладонь руки, можно дать ее
в утрированно-увеличенном объеме. Эта
ладонь своей непропорциональностью со
всей фигурой
создает своеобразный
крикливый эффект плаката. Будучи увеличены через крупную сетку и размножены,
например, литографическим
или фото - механическим путем, такие
Принцип фото-рекламы.
*) Идея и композиция фотографий принадлежит Н. Тарабукину.
ланы в фотографии Свищева—Паоло.
Снимки
сде-
фото - плакаты, в виду механичности всех процессов, связанных
с их производством, потребуют меньше затраіы сил и энергии и обойдутся дешевле по сравнению с плакатами, сделанными кустарно-ремесленным способом, посредством „рисунка от руки"...
Своеобразные возможности для фото-механических способов открываются в журнальной и газетной фото-карикатуре.
14. Ф о т о - н а р и к а т у р а .
До сих пор к а р и к а т у р а н а х о д и т с я в с т а д и и чисток у с т а р н о г о п р о и з в о д с т в а . Ее орудием служит кар індаш или
перо. Между тем, карикатура часто имеет дело с действительными
явлениями и персонажами. Фиксировать какое-либо курьезное происшествие, развертывающееся на глазах у художника, часто невозможно, ибо
медленный темп карандашной техники не поспевает за быстро-летящими явлениями события. Ф о т о г р а ф и ч е с к и й а п п а р а т не т о л ь к о
м о г б ы ф и к с и р о в а т ь их, но и и н т е р п р е т и р о в а т ь ю м о р и с т и ч е с к и , если л и н з ы о б ъ е к т и в а п о л у ч и л и с о о т в е т с т в у ю щую установку.
Р е ф о р м а ф о т о г р а ф и ч е с к о й и з о б р а з и те л ь но с т и о тк р ы в а е т пути н о в о г о жанра в п о л и г р а ф и ч е с к о й индус т р и и : ф о т о - к а р и к а т у р ы . Фото-карикатура явится чрезвычайно
современным и нужным видом искусства. С идеологической стороны
это вид агит-искусства. Карикатура является одной из самых злободневных форм современной агитации. Ей предстоит стать главным
орудием полит-сатиры. Вмешательство механических и химических
процессов фотографии в технику современного искусства как нельзя
лучше согласуется с индустриализацией всего полиграфического дела.
Здесь фотография является необходимой составной частью разнообразных механических способов иллюстрации и иллюминовки изданий,
вытесняющих кустарные виды гравюр и литографий.
Таким образом, ф о т о г р а ф и ч е с к а я р е ф о р м а — н е п р о с т о й
любительски-художественный
э к с п е р и м е н т , возникший
лишь в пределах „чистого" искусства, — о н а те с н о с в я з а н а с ж и з н е н н ы м и з а д а ч а м и а г и т-и с к у с с т в а, т.-е. типичнейшим явлением современной художественной культуры.
Добытые опытным путем данные можно будет заключить в точные числовые определения и оперировать ими так же, как пользуется
ныне „нормальная" фотография своими правилами и рецептами.
Возможность
ф о т о - к а р и к а т у р ы не и с п о л ь з о в а н а
е щ е в к и н е м а т о г р а ф и и . Между тем, в этой области ей открываются чрезвычайно заманчивые перспективы. В виде ли введения
отдельных кусков, например, когда надо поставить фантастический
сон, изобразить фантастическую страну, где все люди и предметы
представляются в странно-искаженном, с точки зрения „объективного
правдоподобия", виде. Или ж е — в виде монтажа всей кино-карикатуры от начала и до конца. Найденными эффектами можно создавать
юмористические кино-фильмы и заставить смеяться зрителя не только
на гримасу Чарли Чаплина, но и сквозь саркастически-прищуренный
механический глаз фотографического объектива.
Fi. Г а н .
Конструктивизм в
типографском
производстве.
П е р в о е .
Типографский труд в условиях капиталистической системы производства развивался медленно и односторонне.
Типографское дело не было растущим трудом, квалифицирующим
производственную инициативу типографских рабочих.
В целях наибольшей прибыли, оно существовало, как предприятие
узко полиграфическое *) и только. Технические усовершеноствования,
применение новых методов труда вводились у нас крайне редко, и
то только в некоторых очень крупных типографиях. В большинстве же
типографий господствовала кустарщина и тупое опекание установившихся по традиции способов и приемов работы. Все это вызывалось
не столько отсутствием материальных средств, сколько невежеством
предпринимателей, бесправием производящих и нетребовательностью
заказчиков, которые к формам печати относились безразлично.
Такое положение вещей создало своеобразный консерватизм типографского труда и лишало возможности производящих развивать
в себе новые умения, совершенствоваться, прогрессивно использовывать типографские ресурсы.
Кому приходилось работать в типографии, тот знает, как упираются рабочие в каждом отдельном случае, когда ставится вопрос
об изменении системы набора и верстки.
Старые, полукустарные традиции до сих пор ревниво охраняются
всеми без исключения, и беда тому, кто рискнет т р а н с ф о р м и р о в а в типографский труд теми или иными замечаниями, указав, что
производители оторваны от материала, не участвуют в фактурном его
росте и не умеют им пользоваться.
Этот бессознательный протест рабочих имеет и другие причины.
Дело в том, что х у д о ж е с т в е н н а я культура графической
промышленности типографского труда развивалась не из самого производства, органически связанного с материалом и орудиями своего
производства, а подкармливалась со стороны. Проводниками ее были
так называемые художники. Не имея никакого представления о типографском деле, они навязывали ему эстетическую культуру, которая
плохо переваривалась в желудке печатного производства.
Служители «прекрасного» не могли не замечать такой неприятности и, стараясь полнее сохранять свои оригиналы и прочее творческое
барахло, искали наиболее подходящих средств технического воспроизводства вдохновенно-художественных образцов. В этом отношении им
помогла цинкография. Они плюнули на типографское производство,
найдя что там им делать нечего, л усиленно занялись изготовлением
обложек, титульных листов и знаков, заставок, концовок и прочих
декоративных украшений печати.
В типографию вошла цинкография не только как самостоятельная
часть печатного материала в форме изобразительного клише и иллюстрации, но и в форме готового набора. У м е т р а н и а ж а и н а б о р * ) Полиграфия—от греческих „много" и „графо"—определяется, как производство в котором путем тиснения с одного оригинала получается множество одинаковых изображений.
щика была отнята и н и ц и а т и в а
конструирования
ш р и ф т о в о г о набора и п о с т р о е н и е п е ч а т н о й плоскости.
Это совсем сузило типографский труд и поставило рабочих печатного производства у наборных касс и в метранпажной в качестве
автоматической силы, лишив их интеллектуального участия в производстве.
Второе.
.Обложка книг, брошюр, журналов и заголовки газет, отнятые у
тех, кто их должен был делать, попали в руки кустаря-художника.
Оторванный от орудий и средств печатного производства, так
называемый акцидентный набор стал случайным продуктом суб'ективного вкуса человека, уязвленного какой-нибудь эстетикой.
В начале второго десятилетия X X века книжный рынок особенно
стал наводняться художественными обложками. Это вошло в привычку, и сам Госиздат и партпечать безоговорочно приняли именно
этот род книжного облачения.
И вот—живописцы, графики, даже скульптора, исходя из своих
суб'ективных вкусовых ощущений, без конца стали выдумывать формы
букв, расположение слов и строчек на книжной плоскости. Они засорили ее виньетками, рамками и прочими украшательствами.
Процесс такой работы сложнее, чем типографическая верстка
шрифтового акцидентного набора.
Оправдывается вся эта производственная перегрузка тем, что
сделанная обложка от руки богаче и индивидуальнее в своем построении. Она, думается многими, приятнее для зрительного восприятия, не затеряется в витрине и т. д.
Суб'ективное вкусовое удовлетворение и кажущийся коммерческий расчет—вот, собственно, двигательные силы, толкающие наши
издательства выпускать книги, украшенные рукою кустаря-художника.
И так как в самом искусстве имеется бесконечный ряд эстетических течений, которые в конечном счете выражаются в том или
ином стиле, а художники являются или выразителями какого-нибудь
течения или подражателями какому-нибудь стилю, то и обложки крайне
разнообразны по своим построениям.
И именно теперь, как никогда, наблюдается поразительная чехарда стилей, неожиданные курьезы композиционного плагиата и явное
несоответствие в большинстве случаев между внешним видом книги
и ее содержанием.
Достаточно упомянуть, что революционно-марксистская литература
чаще всего в монографиях и отдельных выпусках преподносится
в книжном облачении ленинградского Аполлона или в митрохинских
закорючках, а обложка периодического органа Коминтерна украшена
в стиле иллюстраций из «Вокруг Света».
В этой эклектической и беспринципной обложечной стряпне время
от времени появляются обложки, формы которых претендуют на новизну. на новый способ внешнего выражения книги.
Природа их форм скрывается в профессиональных особенностях
самого производителя.
Если он живописец, да еще живописец новой формации, вышедший из школ крайних течений последнего времени, то и его продукция является прямым перенесением канонизированных форм живописного изображения станковой плоскости на плоскость книжную.
Если он скульптор, и скульптор последних дней, уязвленный
новейшими достижениями живописного новаторства, то его обложка
будет ни чем иным, как чертежом предполагаемого эксперимента, который вот-вот должен быть представлен об'емно.
Если же он совсем «лефый» художник и занимается «конструктивным искусством» или увлечен по уши инженерией—его обложка
строится в честь его возлюбленной.
Вот откуда берутся на книгах красные и черные квадраты и
квадратики, круги и кружочки, диагонали, кубистические сдвиги,
об'емные композиции, чертежи и схемы, краны, раздвижные мосты
и дегенеративные подшипники.
Вся эта арматура левых и лефых ничем по существу не отличается от бутафории правого искусства. Разница вся в том, что у
одних комплект беспредметных форм и эстетизированные и стилизованные железнодорожные мосты и их части, у других—эстетизация
и стилизация растительного и животного царства.
В продукции же—бесконечный ряд обложек творческой стряпни
и вдохновенного вкуса.
Полное отсутствие производственной ориептировки и элементарных производственных умений.
То же можно сказать и о газетных заголовках.
В области же афиши-плаката дело обстоит несколько иначе.
Здесь вред художника сказался больше в изготовлении так называемых плакатііых комплектов и декоративных украшений. Дубовые
шрифты дали возможность рисовать букву не только в каждом отдельном случае, как это делалось в книжной отрасли печати, а рисовать
прочно, надолго.
Стоило раз сграфировать целый алфавит, как он трафаретно
воспроизводился до бесконечности. Наборные об'явлений и реклам
сплошь заставлены шкафами с комплектами, и наборщики все рабочее время только и занимаются, что составляют из готических, античных, рубленых и декадентских букв афиши 8 на 24, 12 на 16, 16 на 24
вершка. Размеры, между прочим,—установленные Mono. Как из букв,
так и из декретированного размера рабочий не смеет выйти, как бы
ки вынуждал его к этому инициативный процесс верстай.
Т р е т ь е.
Чтобы раз и навсегда очистить художественный труд от слепых,
произвольных случайностей, от вдохновенных капризов творческого
откровения и жреческой магии, интеллектуально-материальпое производство проработало для конструктивизма производственные дисциплины.
Таких дисциплин пока установлено четыре: Тектоника, Орудия
производства, Фактура и Конструкция.
Первая дисциплина—тектоника—обязывает конструктивиста разобраться в задачах предполагаемого материального оформления или
планировки—на какой предмет нужна заказываемая вещь и каішми
формальными ресурсами располагает данная область труда в настоящее время.
Вторая дисциплина ставит перед конструктивистом необходимость произвести классификацию орудий производства, произвести
пробу их и учет.
Третья дисциплина вводит конструктивиста в материал, в его
фактуру и устанавливает специфические свойства и возможности его
производственного претворения.
И, наконец, четвертая дисциплина открывает перед конструктивистом процесс самой стройки и офрмления.
Применительно к типографскому производству вообще или, в частности, к конструированию обложки или афиши средствами типографского материала, приведенные выше дисциплины устанавливают следующий порядок работы:
Раз.
Тектонически подходя к конструированию печатной плоскости,
прежде всего следует узнать содержание текста, назначение и установить ударные места. Выяснив это, конструктивист немедленно связывает поставленные задачи с формальными вопросами, т.-е. тщательно разбирается в существующих уже формах и останавливается
на той, которая максимально может использовать имеющийся в данный момент типографский материал.
Два.
В области средств и орудий производства в типографском деле
должно быть обращено особое внимание на инструменты и подсобные
материалы, т. к. эта часть совершенно заброшена в типографиях. Главными орудиями печати являются: шрифты, клише и линейки, затем—
квадраты, реглеты, марзаны и шпации и, наконец, подсобные материалы, как наждачная бумага, масло, вода и проч. Конструктивист
должен следить за тем, чтобы перечисленные выше «орудия» и «средства» производства, а также и подсобные материалы были введены
в дело, т. к. от этого зависит успех выполнения.
Три.
Фактурная часть в печати—это краска и бумага. Производственный процесс фактуры—это процесс на машине. Спуск, выверка, заключка, приправка и, наконец, печатание.
Четыре.
Тектоника, орудия производства и фактура, как в фокусе, собираются в конструкции, которая в каждой отдельной дисциплине, организующей процесс печатного производства, постепенно разворачивается
до последнего момента, т.-е. печатания.
Главный же момент конструкции—это момент верстки, но верстка
вне печатания не представляет из себя законченного продукта. Только
'после печатания, когда типографская плоскостная форма поступает
в бропіюровальню и окончательно укладывается в намеченную форму—
можно вынести то или иное заключение о печатной вещи.
Четвертое.
Так, на практике изучая типографское дело, при помощи производственных дисциплин конструктивизма, мы наткнулись на отчаянное,
состояние типографского труда, обнарѵяшв причины его закрепощения.
Своими первыми работами, которые нам пришлось осуществить
на деле в вещах, мы новели наступление против художников, которые
своими кустарными, доморощенными средствами, высасывая из пальца
построения книжной плоскости, оттеснили настоящих производителей
печатной вещи—типографских рабочих.
Книгой «Конструктивизм», журналами «Кино-фот», афишами Госкино—мы с т р е м и л и с ь с н о в а в ы з в а т ь к ж и з н и т и п о г р а ф с к и й м а т е р и а л, н а п о м н и т ь о н е м п р е ж д е в с е г о
р а б о ч и м, п о к а з а т ь и м, ч т о о н и м о г у т д е л а т ь б е з у с л у г
и с к у с с т в о д е л а т е л е й, и т о л к н у т ь и х н а п у т ь п р о и з в о д с т в е н н ой и н и ц и а т и в ы .
Г. Симсен.
Кино-сценарий.
(Перевод с немецкого).
Почему это так много скверных и так мало хороших фильм?
У конструкторов, кинопостановщиков, кинорежиссеров, киноактеров сейчас же готов ответ: «Есть много причин, — говорят они, —
но первая, главная и основная причина — это недостаточный уровень большинства фильм, это неудовлетворительные сценарии. Дайте
нам лучшие сценарии, — говорят они, — и мы сделаем вам лучшие
фильмы». И они идут и устраивают конкурс на лучший кино-сценарий.
И тогда садятся за свои письменные столы тысячи писателей,
критиков, драматургов, а также и таких, которые со временем ими
будут, и сочиняют тысячи кино-сценариев. И премудрая комиссия
из драматургов, критиков и режиссеров выбирает лучший, великолепнейший, наиболее дорогой кино-сценарий. И счастливый автор получает премию, а драматурги, режиссеры, актеры, архитектора, художники, парикмахера, короче говоря вся кино-фабрика — преданно и
усердно работает над превращением в фильму образцового сценария.
И когда потом долгожданная образцовая фильма, возникшая из образцового сценария, готова — тогда выясняется, что она... так же плоха,
как и все другие.
И это нисколько не удивительно, но вполне понятно. Ибо —
насколько это мнение об основополагающей важности кино-сценария
распространенно, настолько же оно немощно. Немецкая кино-индустрия по существу и в целом, несомненно, имеет и лучшие в мире сценарии, но, что она имеет и лучшие в мире фильмы, — этого без оговорок утверждать нельзя. Дело не в сценарии.
Ф и л ь м у н е л ь з я р е ф о р м и р о в а т ь , и д я от с ц е н а р и я .
Вообще, во всем мире очень мало вещей, которые можно изменить. сидя за письменным столом.'Кино и фильмы — не в их числе.
Можно изменить и улучшить, сидя за письменным столом, прежде всего то, что сделано за письменным столом: литературу. А киносценарий ни в коем случае не принадлежит к. литературе. Он касается
литературы так же как, поваренный рецепт. Да, это ни что иное,
как поваренный репе.цт. руководство к приготовлению супа, какогонибудь жаркого, сладкого или кончиков. Как всякий рецепт, он должен ясно, отчетливо и сжато указать «замысел», направление, способ
изготовления, приправку. На большее, чем рецепт, оп не может претендовать. Он может только дать возможность хорошей фильмы. Важнее. чем рецепт, то. что по нему изготовят на кухне. И важнее сценария
то, что сделают из пего в мастерской. Перьое условие для хорошего
пѵддинга не хороший рецепт, но подходящий материал и гений повара.
Не хороший сценарий первое условие для хорошей фильмы, но подходящий материал и гений повара.
Повар в кино — это режиссер.
Но что такое материал?
Материалом современных писателей, поэтов, а также и драматургов является язык. Материал же автора фильмы отнюдь не язык,
но люди, животные, растения, машины, пейзажи — короче, весь видимый мир (но только, поскольку его можно сфотографировать).
ІІоэт может писать свои стихи, нисколько не заботясь о тех,
кто когда-нибудь (плохо ли, хорошо ли) будет их произносить, читать,
петь. Драматург воплощает образы своей фантазии в слова, не справіивая, увидят ли они вообще когда-нибудь свет рампы и где именно.
Для обоих материал—язык. Когда они этим материалом овладеют и
применят для своей цели, — их дело сделано, художественное произведение готово, совершенно независимо от вопроса, о том, как перед
ними будут его воспроизводить чтецы, декламаторы, актеры. Когда же
автор фильм оканчивает свой сценарий — еще нет ничего кроме
возможности художественного произведения. Имеется лишь «замысел»
и рецепт к его осуществлению. Настоящая работа, работа над самим
материалом, формовка, лепка, прилаживание и пилка — начинаются
только тогда. И это не может происходить за письменным столом и
при помощи сценария. Первое — всегда материал. Кто не знает свой
материал и свое орудие, кто не владеет ими, тот не создаст ничего
хорошего. Это так же относится к художнику, как и к ремесленнику.
Материал кино-почта, кино-драматурга — весь видимый мир, поскольку его можно сфотографировать. Его орудие — с'емочный аппарат.
Этот материал (не литературу) и это орудие (не ручку с пером) он
должен знать и уметь владеть им.
Слишком по-немецки: кто хочет сделать хорошую фильму, тот
не должен садиться за письменный стол, но он должен пойти в мастерскую и сперва как следует присмотреться к с'емочному аппарату
и ознакомиться со всеми техническими возможностями этого чудесного
аппарата. Далее, оп должен наблюдать людей и пейзажи, которые имеются в его распоряжении. Из этого материала и этого орудия возникают хорошие кино-замыслы. Н е л ь з я н а п и с а т ь
хорошей
к и н о - ф и л ь м ы, не з н а я л ю д е й , к о т о р ы е б у д у т ее р.а.з.ыг р ы в а т ь и п е й з а ж е й , н а ф о н е к о т о р ы х о н а б у д е т іт р оп у щ е н.а.
С американцами нельзя сделать шведской фильмы и с немцами
нельзя сделать американской. Нельзя вегенеровскую фильму сделать
с Маисси и чаплинскую с Гредом. По можно найти подходящую и
для Маисси и для Греца. Нельзя снимать в Берлине приключений,
происходящих в Доломитах или на Миссисипи, но в Берлине можно
делать берлинские фильмы (которые, за исключением двух-трех, еще
не существуют).
Не недостаток в хороших сценариях, но благоговение перед ними,
почтение перед литературой — вот то, что делает немецкую фильму
так часто неуклюжей, тяжеловесной, такой перегруженной, такой лите— ратурной. такой неправдоподобной, и то, что препятствует ей стать
более жизненной, живой, занимательной.
Я вспоминаю: когда я в первый раз присутствовал при немецкой
кино-с'емке, была одна сценка, в которой любовник, молодой парень,
выпрыгивал 'из автомобиля и бежал за своей девушкой. При этом
у него слетела шляпа. Он побежал дальше, поцеловал свою девушку
и только тогда нагнулся, чтобы поднять шляпу. Эта сценка была
очень естественна, красива и мила, и именно порыв ветра сделал ее
такой естественной. Но раздался сердитый голос режиссера: «Стоп!
Остановить! Пропустить сызнова!» Почему? «В сценарии не было
указания, что ветер должен сорвать шляпу у молодого человека». И
таким образом сцена была еще раз переснята. Это — пример совершенно особенной глупости. Но нечто от этого ограниченного поклонения перед сценарием имеют почти все кино-деятели. Для них сценарий важнее всего. Исходя от него, находят они себе нужных людей
и монтируют нужные сцены. А правильнее было бы как раз наоборот. Возьмите какой-нибудь пейзаж, определенное время года, возьмите горсточку способных, талантливых людей и приноровите к ним
фильму. Дайте фильме, или по крайней мере ее замыслу, возникнуть
из их характера, из их особенностей. И я уверяю вас, эта фильма
будет лучше, чем продуманная за письменным столом.
Материал (актер, пейзаж)—первое. Сценарий—второе.
Не материал должен быть приноровлен к сценарию, но сценарий
(насколько возможно) должен приноровиться к материалу. И лучшая
фильма та, для которой понадобилось минимум монтажа, живописи,
румян, аксессуаров, мимики и игры, которая берет природу и людской материал такими, какие они есть.
Если есть Андалузия — делайте, ради бога, андалузскую фильму. Если ее не — мало ли еще других пейзажей: Северное море, степи, город, улицы Гамбурга, Берлина, Любека, Ротенбурга или Кенигсберга, и, по моему мнению, даже Грюненвальд, если это вообще должно быть. Но зачем Андалузия в Берлине и Америка в Грюненвальде?.
Если имеется в распоряжении пара негров, то нужно, поскольку
возможно, использовать этих типов, созданных для фильмы. Но если
их нет, то неужели надо намазать двух европейцев только потому, что
так следует по сценарию? Никогда они не дадут впечатления «негра».
Если имеющийся в распоряжении герой умеет ездить верхом,
боксировать, плавать, фехтовать — тем лучше, надо его, по возможности, показать, в фильме и с этих прекрасных сторон. Если же он не
умеет, — сценарий ни в коем случае не должен с него этого требо
вать. Увы, ничто не помогает. Заученные для этой цели удары рапиры выглядят так жалко, трудами добытое искусство верховой езды
так мизерно на фильме! Уж лучше вовсе не надо. Нужно людей употреблять такими, каковы они есть. Это одна из важнейших тайн американских фильм. Чаплин всегда Чаплин', Мэри Пикфорд всегда
Мэри Пикфорд и Рио Джим всегда Рио Джим. Они не искажают
и не ломают себя ради выдуманного за письменным столом сценария.
Но сценарий приспособляется к ним. «Вот я, — говорят они киноавтору и режиссеру. — я такой-то и такой-то, умею то-то и то-то.
Возьми меня с моими недостатками и моими преимуществами и делай
из меня, что можешь».
И то, что американские кино-деятели делают из этого живого
материала — это, конечно, далеко не так высоко-литературно, логично
и психологично построено, как добрые немецкие фильмы, по это
гораздо жизненнее, живее, правдоподобнее. Каждый такой американский кино-актер может сказать о себе: «Мой кубок мал, но я пыо
из своего кубка». И их кубки иногда вовсе не так уже малы.
Бедный же немецкий кино-актер должен иметь целый запас кубков. Сценарии от него требуют, чтобы он был сегодня сутенер, завтра
негритянский князь, послезавтра современный художник, а на следующей неделе в очередь: Рафаэль, людендорф и Хельдермин. И он
все делает. Но как? Он пьет из тысячи кубков, но его собственный
редко находится среди них.
Немецкий кино-сценарий (если рассматривать чисто литературно)
в общем бесконечно превосходит американский. Но сами фильмы,
к сожалению, не имеют ни малейшего намека на это превосходство.
Они логичны и психологичны, т.-е. по законам нового театра и
новой литературы гораздо лучше обоснованы и смонтированы, чем
американские фильмы. Но, к сожалению, законы театра и литературы
не суть законы кинематографии. Точно так же, как законы живописи
не являются законами фотографии. Также и у цирковой пантомимы,
я подозреваю, иные законы, чем те, по которым Флобер строит свои
романы, а Стриндберг драмы. Кино же очень близко цирку, флоберовской же литературе вообще не родственно.
Чем дальше фильма от театра и литературы, тем лучше. Так как
не только границы и законы, но и возможности, даже логика и все
средства воздействия и выполнения в кино совершенно, существенным образом, в основном иные, чем в театре и литературе.
Кто, как это в Германии обычно, идя от театра и литературы,
спускается до кино, чтобы средствами театра и литературы его
«облагородить», тот не ценит кинематографию и не понимает ее сущности. Он будет злоупотреблять кинематографией, помимо всякого
своего желания. Или — иллюстрируя романы, которые в литературном смысле нельзя представить средствами кинематографии. Или —
воспроизводя театральные впечатления, а их посредством кинематографа можно только воспроизводить, но не создавать. Он не даст
фильме того, что ей свойственно. Он создаст ее, не считаясь ни с сущностью, ни со средствами кинематографии. Он искажает кино и толкает его к ложному, внутренне-неправдивому псевдо-искусству, к правде искусственности, совсем далекой от искусства. Он поступает — как
те современные художники, которые всякого рода штучками и ретушевкой из хорошей реальной фотографии хотят сделать живописную
(однако, бесконечно далекую от живописи) «художественную фотографию».
У фотографии великолепные возможности и задачи, которые,
однако, не имеют ничего общего с живописью. И задача и возможности кино, со своей стороны, не имеют ни малейшего отношения к
театральным и литературным. Американцы до сих пор это лучше
всех поняли, вероятно, совершенно инстинктивно, может быть, потому,
что они мепее литературно-искусственные, чем европейцы. Здесь причины того, что их фильмы, сколь они ни изобилуют порой недостатками, по типу лучшие в мире.
Когда старый Радин был первый раз в кино, он был чрезвычайно восхищен (к удивлению его избалованных искусством друзей).
Восхищен не фактическими результатами, но возможностями этого
нового «изобретения». «Однако, только тогда это будет хорошо, —
сказал он, — когда актеры вовсе не будут участвовать». И когда его
спросили, какие же он думает делать фильмы, он отвечал: «нужно
смонтировать роман лошади или дерева. Роман дерева в лесу, в дремучем лесу».
Я знаю, что он этим хотел сказать. Отнюдь не то, чтобы делать
естественно-научные, учебные фильмы. Ни в коем случае. Но делайте
е с т е с т в е н н ы е фильмы. Чтобы никакого театра. Никакой литературы. Но — правдивость, реальность, великолепная, глубоко-проникающая, беспощадно-правдивая реальность фотографии. Природа. И
жизнь, жизнь, жизнь! Беспощадная реальность и красота жизни!
Вот что он хотел сказать. Ему больше понравилась бы американская фильма (несмотря на все недостатки), чем наши немецкие
произведения камерного, кино-театралыюго искусства, с «высокохудожественным уровнем».
Реформировать фильму, сидя за письменным столом! О, боже!
Мир не изменится, и еще не раз мастерская фильм будет приспособляться к сценариям господ кино-авторов.
Когда я их себе представляю, я всегда думаю о Балдуине Белами:
«Такой поэт. Он счастлив и спокоен,
Теперь и он к чему-нибудь пристроен».
Спокойные и счастливые, сидят они за своими письменными
столами и выжимают из себя редкостные, исключительно редкостные
замыслы фильм.
гіо из этого вовсе не следует, что можно с пером в руках скомбинировать совсем новые, редкие, никогда еще не существовавшие
замыслы и сценарии.' Боже, как это ктому же скучно! И дело идет
лишь о том, чтобы из имеющихся в распоряжении людей, типов, характеров и из пейзажей смонтировать фильму, которая наилучшим
образом сможет обнаружить, выявить, сопоставить и соединить характерные особенности этого вполне определенного пейзажа и именно
этих людей.
Насколько лучше работать с одним живым материалом, чем за
проклятым письменным столом! Как увлекательно, как заманчиво задумать фильму на фоне трагического, идиллического или сурового пейзажа, в котором каждое дерево, каждый холм, каждый поворот улицы
имеет свою роль! Как приятно сочинять фильму-роль для живого
человека, которого знаешь, постоянно видишь, с которым живешь!
Использовать его, как окончательно скроенную, упрямую, но правильно приспособленную реальность!
Не литератор, сидящий за письменным столом, будь он и очень
одаренным в отношении фантазии, но тот, кому при виде каждого
останавливающего внимание пейзажа, кому при виде живописного
уголка улицы приходит в голову сцена, которую можно было бы
здесь разыграть, кому при виде Асты Нильсен представляется нильоеновская роль, при виде Вегенера—вегенеровская, при виде Абеля—
абелевская, кто для каждого встречного нищего знает роль в какойлибо фильме, — только тот может делать (отнюдь не писать) хорошие
фильмы. Но не за письменным столом и не в пустом пространстве,
но в присутствии живого человеческого материала, могущего быть
схваченным и сфотографированным.
И тому, кто мне скажет, что таким способом не могут быть созданы хорошие фильмы, но получаются обычные, скверпые «боевики»,
приноровленные для какой-нибудь блоидиночки, — тому я отвечу.
Материал (актер), конечно, должен быть хорош, как и везде, где должна быть произведена самостоятельная работа, хорош в той мере,
чтобы кино-автор его любил н с радостью и с удовольствием с ним
работал. Кто же (конечно, будучи режиссером) не любят ничего, кроме
блондинок, тот ничего не сделает, кроме фильмы для блондинок.
Остается еще вспомнить, что два драматурга, не совсем неизвестные в мировой литературе, которые одновременно были директорами
театров, приспособляли не кино-сценарий, а далее свои драмы, к
актерам, которые должны были их исполнять. Это были — Мольер
и Шекспир, а их произведения, пока-что, не считались уж совершенно
никуда негодными.
В. Плетнев.
Опыт
КИНО-ФИЛЬМЫ.
(Заметки).
Кино начинает привлекать к себе внимание все более и более
широких кругов.
Конкурсы сценариев, организация Ііролеткиио, Ассоц. Револ. Кинематографии, работы Кино РСФСР и других республик СССР, Грузии,
Азербейджана и т. д.—все это свидетельствует об оживлении не только
интереса, но и работы по кино.
И если бы практика отвечала хотя бы части той потенции, которая заложена во всех этих устремлениях, было бы очень не плохо.
Но! Наше кино-дело юно, зелено, не сильно грамотно, материально
бедно и организационно растрепано. Это не особенно приятно звучит.
Таковы дела. Подкрашивать их не видим резонов.
При всех этих условиях—всякий опыт, всякая свежая мысль
имеет свою цену.
Мы хотим здесь поделиться с интересующимися кино-делом нашим небольшим, но очень показательным опытом.
Пролеткульт давно уже задумался над работой в кино. ГІо
практически приступает к нему только сейчас.
Предпосылки возможного успеха: подготовка живого человеческого материала, плановая наметка работы с ясно очерченной целью,
большая невидная подготовительная работа.
Вот что вынесли мы из своего небольшого во времени опыта.
Мы не нашли ничего лучшего для кино-выявления, кроме нашего революционного движения—
На нем и остановились.
Задача была поставлена. Дело за ее осуществлением.
Стал вопрос о сценарии. Кто должен сделать его? Кто должен
быть автором сценария?
Мы остановились на истории нашего подполья периода 1905
по 1912 г.
Началось собирание материала. Откуда его брать? Остановились
на двух источниках. Печатные материалы, и материалы наших музеев
и выставок, и личные воспоминания.
Первые лее шаги на этом пути показали нам, что нам придется
иметь дело с десятками тысяч страниц и с доброй сотней товарищей, которые могут дать нужный нам и глубоко ценный, в б е с е д *
и е р е д а н н ы й материал.
И сразу же стало ясно, что единоличного авторства—эта работа непосильная.
Вывод: н е о б х о д и м о к о л л е к т и в н о е а в т о р с т в о , при
условии четкого знаниня истории, быта нашего подполья указанного
периода.
Коллективное авторство сложилось из товарищей, хорошо знающих наше подполье, из коллектива, перед которым в беседах оно
развертывалось, из литературно способных людей и режиссуры.
Результатом этой работы, занявшей около 4-х месяцев, явилась
подавляюще огромная масса материала, которой хватило бы на годы
работы десятку авторов.
Мы сделали первую попытку суммировать отсеянный материал
в одной мпогометражной (4—5 тыс. метров) фильме.
Работа была произведена, и мы получили результат, который
можно кратко охарактеризовать: чайная ложка сахарина на один стакан чая.
Вывод: необходимо всю массу материала разложить иначе, разбить на иные, чем были поставлены ранее, фазы.
Был намечен новый план, и мы получили в результате наметку
сценария фильмы с метражем от 12 до 15 тысяч метров. И при этих
условиях мы все же имеем достаточно полный выбор и широкую возможность комбинаций.
В данный момент мы обладаем разработанным уже сценарием
картины в 7 сериях, каждая до 2 тысяч метров. Каждая из серий
обладает своим прологом и эпилогом, и вся картина в целом обрамляется обобщающим прологом и эпилогом.
Отсюда несколько сравнений.
В кулуарах Госкино, где никогда нет недостатка в драмо- и
сцепаро-делах, приходится часто слышать: «Дали заказ,—ну, я его
в двое суток обработал, посмотрел пару книжек и готово». Гони 50,
100 рублей!
В портфелях всех кино-предприятий уйма сценариев, индивидуально сделанных, революционных, порою не плохих.
Но из своего опыта мы смело делаем вывод, не лишний по отношению к товарищам, строящим сценарии из революционных периодов.
Во всех случаях строения сценария из истории нашего революционного движения и периода гражданской войны он возлагает на
автора обязательство большого изучения. При добросовестном подходе
к этому изучению, для одного человека эта работа почти непосильная.
Хорошо сколоченный коллектив товарищей, знающих вопрос,—вот, по
нашему мнению, необходимое условие выработки крепкого, хорошего
сценария, фильмы периода революции. Это не устраняет, конечно,
индивидуально сделанных сценариев. Но индивидуальный сценарий
неизбежно оставит в стороне массу данных или, что в огромном количестве случаев мы и имеем, даст эпизод, частность, не лишенную
своего интереса,
И пе следовало ли нашим авторам сказать себе, что представлять
революцию в фильме, блюдя единоличную авторскую чистоту и «творческую» тайну—принцип, мешающий нужному размаху и полноте?
Мы считаем принцип коллективной обработки сценария при условии
максимальной грамотности в обрабатываемом вопросе основным.
* *
*
Второй момент, с которым мы столкнулись в нашей работе над
указанной фильмой, следующий:
Кто герой фильмы? Какой «священный бриллиант» поставить
в центре, вокруг чего, выражаясь технически, «накручивать» материал?
«Индивидуального» героя не оказалось.
Налицо был многоликий, огромный, коллективный герой—класс.
Его противники—класс. Профсоюз—коллектив. Партия—конечно, не
личность, а комплекс людей.
Выскочила счастливая мысль, которая приходит многим: «а
Ленин!»... но она столь же быстро отошла, как и родилась.
Героя-индивида, спасителя авторов от всех зол и напастей—не
оказалось.
Как же быть?
Стало совершенно ясно, что фильма не может быть конструирована, как фильма персональной интриги. В этом смысле мы пришли
к фильме безынтрижной, бессюжетной и обще - понимаемом смысле
слова.
Сюжет—наше подполье, герой—пролетариат. Интрига? Целая сеть
отдельных интриг, в их быстром, бешено динамическом развитии и
причудливом сцеплении. И вся фильма отсюда принимает резко противоположный общепринятому характер.
В ней нет героя всех произведений буржуазного мира—индивида,
в ней нет фрагмента бытия частного сюжета и интриги.
Эта фильма—коллективистична и обобщающая.
Целевая ее установка дана полностью тем, что это—фильма резко
классовой трактовки всего входящего в нее материала.
И это—второе, отличающее ее от всего того, что дается сейчас
на экране.
И сейчас же возникает вопрос; будет ли фильма интересна, позовет ли к себе до сих пор влюбленную в героя массу,—иначе и грубее: даст ли доход, оправдает ли затраты чисто материального порядка?
В этом центр опыта, ставка на публику, с подходом к ней
в ином методе построения фильмы.
Задача полного художественного нагнетения на зрителя при одновременной заостренно пропагандистской цели. Это опыт на столь презрительно осмеиваемую до сих пор агитку, на искусство кино-пропагандиста.
* **
Дальше. В вопросе постановки фильмы мы остановились перед
рядом фактов. Кино ищет правдивого и четкого отражения жизни в ее
динамике. Кино не может быть статичным. Оно стремится в самую
гущу действительной жизни.
И—немного странно, что современное кино приходит к ателье,
в нем воспроизводит фрагменты жизни, сцеплением их дает иллюзию
действительности. Здесь кино дает то же, что театр. Разница лишь
в том, что кино умнее театра, научнее его, математичнее. Метр пленки
способен воспринять твердо фиксированную количественно сумму движений. В крупном плане это движение сжато рамой экрана. И кино
не может не быть технически умным.
Но крайне интересно, что принцип ухода в ателье, в копию,
вместо оригинала, принципиально искажающий лицо и неизмеримо
огромную потенцию охвата им действительной жизни, вызывается и
об'ясняется исключительно техническими факторами.
Свет! «Этого нельзя осветить», нельзя получить нужной фотографии. Если бы мы обладали портативным, необыкновенно подвижным в сочетании с огромным нужным напряжением светом, развитие
кино-строения действительности стало бы принципиально иным, максимально полным, реально насыщенным. Нам недавно пришлось видеть картину «Остров погибших кораблей». Много интересной кинотехники. Подводная лодка, ее погружение, павильонные картинки в
подводной лодке и затем в павильоне же разрез лодки. Вывод: «он
приятно врет». Бывают такие лгуны. Не веришь, а слушаешь—не потому, что правда, а потому, что интересно врет.
Если ложь—фантазия, к ней такие и требования, но если л о ж ь —
ложь, здесь обрыв, падение кино, убивающего театр именно своей
неограниченной способностью к исчерпывающей правде.
Решение проблемы эластичного, подвижного, всюду проникающего
света—вот вопрос, который резко выдвинулся перед нами при первом
подходе к нашей картине.
И разве это не замечательное задание для наших инженеров,
наших молодых АИЗ'ов? Проблема, над которой не только стоит, но
и нужно работать.
Решение этой проблемы даст нашему кино невиданную продуктивность, обогатит возможности сценария и даст работе исчерпывающий размах.
Быть может, эта работа уже идет, но тогда нужно сделать ее достоянием широкой технической мысли. Это нужно, игра стоит свеч,
ибо результаты ее дадут больше, чем можно себе представить сейчас.
* *
#
Всякий сценарий всегда связан силами актеров, на которых он
опирается. И как только вы хотите исчерпать все диктуемое вам сценарием, вы сталкиваетесь с необходимостью его переконструирования
применительно к имеющимся в наличии силам или вынуждены искать
нужной натуры. Последнее—редко; первое, не говоря уже о боевиках
«Мэри Пикфорд» и других звезд экрана,—общеупотребительно.
Мечтающееся—картина без актера. Игра на натуре, типы, обстановка, сцепление фактов сценария может быть достигнуто вне актера,
без него. Это идеал, и далекий. Пусть так. Но разве это не возможно?
Сразу ясно, как были бы развязаны руки, если бы вы имели
«коллектив» в тысячу человек, этот огромный кладезь, из которого
можно черпать нужное, а не подкрашивать наличные, всегда малые
у нас, силы под нужное.
Актер в кино—это стальное кольцо, связывающее его нужный
размах, его бытовую, реальную, глубокую насыщенность. А при условии фильмы, которая не может ориентироваться на героя-индивидуальность, которая коллективистична по самой своей основе,—здесь
этот момент приобретает первенствующее значение. Своевременно ли
и нужно ли выдвигать сейчас эти вопросы? Все это—далекие перспективы! Конечно. Но отдаленность и приближенность их решения
будут прямо пропорциональны интересу к ним и работе над ними.
Герой буржуазной драмы, а он целиком переехал в новую квартиру кино, есть инструмент индивидуализации психики зрителя.
Трюк, сила героя, в нем выявляющаяся, всегда ставит героя на
пьедестал. Буржуазному обществу это категорически необходимо: там
все для героя, фон—масса, он идет по ним, поднимается над ними.
Это блестяще в обществе, где класс классу волк, где коллектив пролетариата, соподчиняя волю личности воле класса, решает свои классовые коллективные задачи.
И можно долго и успешно за техникой кино прятать принципы
буржуазного мира.
Работа нашей коммунистической мысли над этим вопросом уже
даст MHoîfye. в смысле хотя бы критического подхода к кино, его понимания п оценки.
Посмотрите, как умело, ловко с мыльцем, через милую рожицу
и игру Джекки Кугана загоняется в сознание зрителя благостная
сила индивидуалистического приспособления!
Незаметно, легко и нежно.
Здесь критику нужно отойти от самого себя и взглянуть на дело
глазами рядового посетителя кино. Это даст многое к уразумению.
Шире диапазон коллективистического перестроения реальной
жизни класса. И этой задаче нужно подчинять нашу технику кино.
Свет кино для нас, а не мы для света кино. Приспособляемость не
к фактически данному, а приспособление орудий кино к нашим задачам. Не только острая выдумка, но и научное изобретательство.
М ы еще молоды в этом деле. Будем видеть, учиться и делать.
Дзига
Вертов.
Кино-реклама.
На
Виды
выбор.
кино-рекламы.
1. Простейшая реклама 1 0 — 3 0
метров.
Пример: Пожар в кино-будке театра. Все меры затушить тщетны.
Про огнетушитель забыли. Спохватываются. Ценный огнетушитель
«Богатырь» завода «Огнетушитель» мгновенно ликвидирует огонь.
2. Реклама-хроника 1 0 — 3 0
метров.
Пример: В текущую хронику, скажем, в Кино-Правду, включается разгрузка в Ленинграде океанского парохода. Разгружаются тракторы системы «Фордзон». Мчится поезд. Москва. Тракторы доставляются по адресу — Госторг, «Техноимпорт».
3. Реклама-трюк
10 — 40 метров.
Пример (мультипликаторная с'емка, макеты): Бежит мальчишка по улице и рассыпает волшебный порошок, от которого все вещи
растут и разбухают до необыкновенных размеров. Маленькие собачки вырастают до величины буйволов, лошади до размера мамонта,
люди становятся великанами. Мальчишку поймали, отняли порошок
и употребили на дело. Замесили тесто, вырос хлеб величиною с дом.
Это — дрожжи Г о с у д а р с т в е н н о г о Т р е х г о р н о г о з а в о д а
Моссельпрома.
4. Реклама-шарж 5 0 — 1 0 0
метров.
Как пример, приведу рекламирующий работу рекламной конторы «Двигатель» кино-шарж «Сон». Работа оператора Б. В. Франциссопа. Мультипликаторная с'емка. Всего 2100 рисунков. Каждый
рисунок снимался в отдельности. Ряд последовательных рисунковкадров и составил картину.
Содержание: Кабинет председателя треста. Нет заказчиков. Не
треснет ли трест? Расстроенный председатель уходит домой. Ночью
видит сон:
Работает мотор. Из отработанного газа-двнгателя образуются буквы: Д... В... И... Г... А . . . Т... Е... Л... Ь.
Сновидение сменяется другим: междупланетное пространство,
выявляются звезды. В кадр входят: с одной стороны—работающий
мотор и с противоположной стороны—земной шар. От мотора отделяется буква Д, направляется к оси земного шара и соединяет земной
шар с мотором приводным ремнем. Земля вращается силой двигателя. С каждым оборотом земной шар выбрасывает на экран одну за
другой буквы: Д... В... И... Г... А... Т... Е... Л... Ь.
Утро. Председатель треста просыпается. На ночном столике
свежая газета. На видном месте об'явдение: «Контора об'явлений
Двигатель». Бежит по адресу сдать об'явление.
Через неделю. В тресте. Очередь заказчиков.
5. Реклама-экспромт 5 0 — 1 5 0
метров.
Единственная появившаяся в СССР эксііромтная фильма—это
«Автомобиль», заказанная Гумом накануне базара для демонстрации
в верхних торговых рядах.
Сделана в трехдневный срок—вне ателье.
Краткое содержание: Отец и мать едут в Москву навестить дочь,
за которой ухаживает некий москвич—жонглер. Родители тотчас же
по приезде уже с вокзала непрерывно атакуются непонятным словом Гум. Бегут газетчики, раздают летучки Гум. Некто встречает нх на вокзальной лестнице, как близкий знакомый, обнимает их
и скрывается. По его уходе они обнаруживают у себя в руках марки
Гум.
В Гуме свидание дочери с москвичом. Последний жонглирует
покупками.
Дочь вернулась с прогулки. На столе покупки. Входят родители
с чемоданами, устремляются к дочери и неожиданно отступают назад—на столе у дочери на свертках: ГУМ, ГУМ, ГУМ. Взглядывают на свои чемоданы—чемоданы кем- то обклеены марками: ГУМ
Напряженная неподвижность. Дочь хохочет в кресле.
В универсальном магазине Мосторга. Маг и кудесник Г у м ' а —
заведующий рекламой с волшебной палочкой в руках бросает на
экран буквы.
Скандал на улице. Девушка боксерским ударом сбивает с ног
пристающего нахала. Толпа. Девушка извиняется перед публикой за
обман «Это только»... огіа скрывается за кругом Гум'а. И вот—ее
пет. И публики нет. Есть только разные отделения Гум'а.
Родители на скамейке на сквере. Читают газеты. На самом видном месте — ГУМ у того и другого. Надоело. Они с досадой опускают газеты. Руки сталкиваются. От этого обе балонки падают у старухи с рук. Она наклоняется за болонками. Их нет. Вместо этого у
скамейки шляпная коробка. Как она сюда попала? И на коробке
написано: ГУМ. Болонки очутились в коробке.
Зрителям видно было, как какой-то подозрительный тип сунул
мгновенно собачек в коробку.
Все же надоедливый Гум оправдывает свою назойливость. На
лотерее в Верхних торговых рядах мать выигрывает самовар, а отец
автомобиль.
6 . Реклама просто комическая в 1 0 0 — 2 0 0
метров.
Пример: Некий гражданин, застраховавший себя в Госстрахе
от огня, от путевых опасностей и от падежа, испытывает все эти бедствия. У него сгорает недвижимое и движимое, у него пропадает один
за другим грузы во время следования по сухопутным, морским и
речным путям, он лишается всего рогатого скота и лошадей.
И зрителю и Госстраху известно, что здесь пет никаких злоупотреблений, что это дело удивительного стечения обстоятельств.
Госстрах оплачивает убытки гражданину в червонных рублях.
7. Реклама-детентив, 5 — 6
частей, 1 5 0 0 — 2 С 0 0 метров.
Примерная тема: Реклама выигрышного займа.
Шайка фальшивомонетчиков, связанная с белогвардейскими
организациями и с японским командованием на Дальнем Востоке,
скупает на фальшивые деньги громадное количество билетов выигрышного займа. Авантюра раскрывается. Шайка наводит ГПУ на ложный
след. Невинно заподозрен председатель N треста. Его дочь и ее близкий друг X, чтоб снять подозрение с отца, стараются во чтобы то ни
стало раскрыть участников преступления.
Шайка производит ряд ограблений, все время похишая билеты
выигрышного займа.
Трое: Дочь, ее друг и Красный Пинкертон, в результате многих
опасных приключений, пробираются в «Черное хранилище» шайки
и увозят награбленные билеты займа.
Заем укрепляет курс рубля, дешевеет жизнь. Белогвардейские
шпионы грозят шайке и заставляют ее папасть... и т. д. и т. д. Столько серий, сколько потребуется, наводя любые политические и экономические мотивы.
8. Драма психологическая—помимо того, что вообще сейчас она в кипо
неуместна—для кино-рекламы наименее подходит из-за своей медлительности и неулыбчивости.
Демонстрация кино-рекламы.
На
выбор.
В ГОРОДАХ
В кино-театрах.
Небольшие 10—30 метров приклеиваются к началу или концу
текущей программы картин. Рекламы 100—150 метров (комические
шаржи и проч.) идут сверх программы. Картины детектнвно-рекламные в 5 — 6 частях демонстрируются, как самостоятельная программа,
по особому соглашению с соответствующей прокатной конторой.
II
a
ri л
ощ
а
дя
X.
Демонстрация всех видов рекламных картин при помощи постоянных, кино - проекционных установок или передвижных кинематографов.
Городской передвижной кинематограф состоит из легкого компактного кино-комплекта (головка, фонарь, деревянный стол с привинченным к нему аллюминиевым реостатом), небольшой электрической
станции на двуколке, разборной фанерной кино-будки и легко устанавливающегося разборного кино-экрана. Демонстрация картины начинается через 15 минут по приезде кино-передвижки на место сеанса.
В б о л ь in и X в й т р и и а х.
На крышах домов, на полотне посреди улицы, на тротуарах
под ногами зрителей—рекомендуется демонстрировать короткие ударные 5—10-метровые трюки-лозунги, яркие раздражающие дум-дум.
Кино-установки постоянные.
На железнодорожных
путях.
Кино-вагоны, специально оборудованные, типа вагонов инструкторско-агитационных поездов ВЦИК специально. Демонстрация внутри вагона в пути и на остановках, демонстрация из вагона на устанавливаемый экран и третье—выездной передвижной кинематограф,
обслуживающий населенные пункты на 10—20 верст в окружное*™.
Тут же в вагоне—кино-с'емщик и фотограф, готовые к услугам местных госорганов и частных предприятий, желающих рекламировать
себя.
Упрощенный тип железнодорожного кино: теплушка с выездным
кино, прицепляющаяся к разным поездам, смотря по предписанному
ей рейсу, или, наконец, купе или площадка вагона поезда с установленным (в купе на площадке) кино-комплектом.
На водных
путях.
Пароходы-кинематографы, баржи-кинематографы, береговые раскидные кино и передвижки. Возможности большие, чем у железнодорожных кино, в отношении большего благоустройства. Желательны
прожектора для привлечения публики. Возможна кино-лаборатория.
Возможны отделения на курсирующих по рекам пассажирских пароходах.
Кино-повозки.
Передвигающиеся из села в село, из деревни в деревню—имеют
большое рекламно-пропагандистское значение. В частности демонстрирование преимуществ сельскохозяйственных машин определенной конструкции, замаскированное каким-нибудь занятным содержанием, послужит к распространению машин.
Автомобили - кинематографы.
Стремительный технический аппарат, типа пожарной команды.
Работа по вызову, где угодно и когда угодно. Прожектор. Кино-аппарат. Экран.
Проектор приводится в движение автомобилем, работающим на
холостом ходу.
Тот же автомобиль выезжает по вызову на с'емку спешной кинорекламы с дежурным оператором и постановщиком-моменталистом.
Такого типа кинематографы в небольшом количестве существовали в 20 и 21 году в ленинградском фото-кино-отделе и в отделе
инструкторско-агитационных поездов ВЦИК.
Что м о ж н о р е к л а м и р о в а т ь .
Все:
От билетов выигрышного займа до мази для рощения волос и
обратно — от зубного порошка «Санагри» до каменноугольной промышленности Донбасса.
Госторги, синдикаты, тресты, кооперативные организации, частные лица—все могут рекламировать свои товары на экране, выбрав
тот вид кино-рекламы, который более всего подходит к рекламируемому товару.
Локомобили, нефтяные двигатели, тракторы, несгораемые шкафы,
мебель, обувь, рояль, мануфактура, головные уборы—все может быть
растрезвонено кино-трюком, расхохочено кино-комической, пересмотрено кино-шаржем, растревожено кино-детективом.
Пример плохой рекламы.
С'емка с рекламной целью всех этажей и всех отделений универсального магазина Мосторга в последовательном порядке — такая
картина в лучшем случае может служить описью состояния предприятия на такое-то число.
Своей непосредственной цели она не достигает, так как выбывает зевоту у самых нетребовательных зрителей.
Хорошая
реклама—
это такая, которая выводит зрителя из состояния равнодушия и только в напряженном, в беспокойном состоянии подносит
ему рекламируемую вещь.
Таковы картины, которые смешат зрителя, которые поражают
его трюками, которые захватывают его необыкновенными приключениями действующих лиц; таковы, наконец, картины скрыто-рекламные, которые незаметно вводят в сознание увлеченного зрителя рекламируемые вещи,
и—противоположные им—картины наглой рекламы, огорашивающие зрителя, рисующиеся своим желанием рекламировать и рекламироваться, картины монтажных вариаций рекламируемого товара,
назойливое, злящее приставание к зрителю: я! я! я! хороший товар!
лучший товар!
6 программу
входят:
Примерно — к и н о - д е т е к т и в ы с замаскированной рекламой, комическая, где рекламируемые вещи проглатываются главными
зрителями не как лекарство, а нечаянно во время взрывов смеха, и
сверх программы — сильный рекламный трюк в 10—30 метров большой стремительности, резко извлекающий из подсознания подготовленных предыдущими картинами зрителей оттиски срекламированных вещей,
будто кто-то первый заметил в группе блестящих точек одну
сверкающую точку и высоко поднял ее над головой.
Обладая такой программой, заказчик дает несколько экземпляров в прокатные конторы для демонстрирования по всей СССР, при
этом (даже при среднем успехе картины) не только добивается непосредственной рекламной цели, но возвращает затраченные на картину деньги и получает известную прибыль. Нужно отметить, что, при
нашей бедности картинами, такая программа даже в истрепанном
уже виде идет по провинции до полного уничтожения.
Можно указать одну комическую, шарж или трюковую,—это
также можно эксплоатировать через прокатные конторы, передвиж-1
кино и проч. и через некоторое время, добившись рекламного успеха,
возвратить с избытком деньги.
Картины простейшей рекламы, рекламы-хроники, наглой рекламы, рекламы-лозунга в 10—30 метров обходятся заказчику очень
недорого, но эксплоатировать их заказчик не сможет, наоборот, он
сплачивает их демонстрацию в кино-театрах, на площадях и т. д.
Такого рода реклама доступна каждому предпринимателю и
удобна тем, что коротка, не задерживает надолго внимания и видит
ее каждый проходящий по улице. Она под ногами прохожих, она
на крышах и посреди улицы, она и днем в специальной витрине,,
когда идешь на службу, и вечером бродит по стеклам и стенам, когда
возвращаешься из театра,
Е щ е один способ.
Несколько мелких заказчиков об'единяются и дают общий заказ
на программу картин, рекламирующих вещи разных фирм, магазинов
и проч. Это также доступно всем и в значительной степени не затруднит производственников.
Не большой вред для картины—ввести действующих лиц именно
в такой-то рекламируемый магазин, а не в другой, не рекламируемый.
Не страшно даже, если сквозь колесо едущей крестьянской телеги
будет просвечивать «Ц у и в о з», а на спине «героини» вдруг выскочит
надпись: Сырьевой отдел Центросоюза.
Это не помешает любому социалистическому, красно-детективному
или другому содержанию картины. Впрочем—о лозунгах, кино-агит и прочем следует особо. Сейчас же нашей задачей было—дать намеки на возможности и путь
кино-рекламы.
С. Т р е т ь я к о в .
Кино-установка.
(Пекинские
письма).
I.
Я был в одном из лучших китайских кино. Великолепный полукруглый зал, соперничающий с лучшими московскими кино-залами.
Оркестр, наигрывающий медленные американские вальсы. Превосходный экран.
Публика—половина белые, а половина китайцы (из американизированных), среди которых густо замешаны китаянки в своих синих
шелковых телогреях или малиновых плащах—ротондах.
В отличие от нашего кино—во всех заграничных курят.
В отличие от нашего—чтение надписей (а они объемисты) происходит совершенно молча, и того характерного шопота чтения вслух,
который у нас разрывает смотр картины, не услышите.
Картина „Star Dust", обычная, ничем не выдающаяся, из ряда
вон мещанская драма, каких в Америке, вероятно, тысячи. Смотрится
с интересом и забывается немедленно. Тем более она заслуживает
внимания, ибо это образец буржуазного яда, действующего исподволь,
а не катастрофически. Это одна из „эстетических бесконечно малых",
которыми с такою ловкостью оперируют буржуазные газовые команды
на фронте идеологического закрепощения.
Сюжет несложен: две семьи. Первая—родители и героиня со знаком
плюс—девушка с огромными музыкальными способностями. Вторая—
родители и герой со знаком минус—балбес, вечно жующий резинку,
грубый, антимузыкальный. Ему обречена девушка, семья которой в долгу
у первой. Брак через силу, для сведения долгового баланса. Свекровь
пилит, муж избил. Ушла из дому—скитание по Нью-Йорку, обивает
пороги антрепренеров. Родился ребенок, заболел, доктору ушли последние деньги. Попросила телеграфом у мужа—отказал. Ребенок умер.
Муж об отказе своем сообщил родителям. Ее отец, тщедушный курчонок, в роде андреевского профессора Сторицына, бьет верзилу-мужа
и отсылает дочке свои последние деньги. Она на последний гривенник
после смерти ребенка покупает карболки—приказчик смотрит на нее
подозрительно, но все же вручает пузырек. Она с пузырьком в парк
неподалеку, на скамейке молодой человек. Мимо бежит мальчишкарассыльный с телеграммой ее отца, наклоняется прикурить от окурка,
роняет телеграмму около нее, уходит. Она окликает мальчишку, подымает телеграмму и, не прочтя, возвращает рассыльному, а затем выпивает пузырек. Онемела. Молодой человек подбежал. Понял, схватил
пузырек. Улыбнулся: успокоительные капли. Ободрительный разговор:
сам думал кончить жизнь и не сумел выбрать, где утопиться—в озере
или в реке. Самое важное—уметь смеяться в трудные минуты. Дальше—
по маслу. Он —композитор. Его опера принята. У нее рояль, о ней
кричат газеты. Они влюблены, но брак (ясно, что муж-злодей не даст
развода) мешает ей отдаться ему. Муж узнает о славе жены. Она получает тысячу долларов за представление. Значит, ей нужен управляющий. Скорее в поезд. Происходит крушение. Муж убит. Через год она
и композитор венчаются.
Мораль лезет наружу: да здравствует энергичный рентник!
Да здравствует рента удачи, таланта, ни разу не нарушенный кодекс
добрых буржуазно-семейственных требований! Как и всякая американская фильма, эта кончается деньгами, комфортом, одобрением света
и проистекающим отсюда довольством.
Все отрицательные фигуры, стоящие поперек пути удачливой
ренты, сделаны мастерски. Жующий жвачку грубая скотина-муж
и влюбленная в него мамаша, мизерная, с кривыми челюстями, даны
именно в своих манерах—в преувеличенной жвачке, в оскалах этих
челюстей. У аудитории эти люди сами на оплеуху просятся. Также
мастерски одними лицами даны—черствость доктора, берущего последние деньги за лечение сына, сластолюбец - антрепренер, покушения
которого на героиню (конечно) кончаются крахом. Куда бы она годилась для венчания, если бы спрелюбодействовала для спасения ребенка!
Очарователен фетишизм обручального кольца, стоящего препятствием
для двух любящих сердец, и это — респектабельнейше выдержанный
год срока после смерти мужа! Вся эта с нашей точки зрения белиберда
даже не маскируется—она въелась в плоть и кровь и является совершенно непререкаемым основанием для розыгрыша сентиментальных
атракционов. Конечно, положительная группа корректна, привлекательна
и прелестна до последней степени, с ней у зрителя (правильно установленного) не свяжется ни одной протестующей мысли.
Социальная и индивидуально-психологическая роль каждого действующего лица ничтожна. Розыгрыш ведется, во-первых, на деталях,
которые я уже отмечал; особенно на мимике. Игра глазами, подернутыми
слезой в сентиментальных местах, ювелирна и бьет в цель с не меньшей
ностью, чем сантимент мейерхольдовской гармоники в „Лесе".
Также хорошо даны все сексуально-пьяные глаза. Во-вторых—розыгрыш
ведется на развертывании интриги, берущей внимание зрителя за шиворот, при чем в некоторых местах очень тонко.
Сцена с телеграммой отца, уроненной у скамейки, достойна лучших „ложных сюжетных ходов" такого мастера интриги, как О. Генри.
Благодаря этому ложному ходу, вы уже готовы упрекнуть фильмача
за подтасовку событий, чтоб выручить действующее лицо, подтасовку
слишком шитую белыми нитками. Но письмо пошло дальше (его роль
исключительно атракционная—в действии оно роли не играет), и снова
нервы напряжены поднесенной к губам бутылочкой карболки. Заставить
аудиторию переволноваться за героиню и довести ее до выкриков
по адресу хама-мужа—это фильмой проделывается с большою точностью и технической вооруженностью.
Еще замечание. Все действующие лица принадлежат одному и тому
же классу. Тупой и невнимательный, грубый и невоспитанный мещанин
противопоставлен рантьеру-артисту, этому лакею-жрецу, обязанность
которого пускать внеклассовый и общечеловеческий дым красоты
в глаза всех пасомых капиталом.
Картина—жестокий выговор тем, которые пренебрежительно
относятся к искусству, могущему оплачиваться по тысяче долларов
за вечер,—упустить вложить интерес и деньги в такое предприятие
карается смертью (в крушении) и презрением (всей аудитории).
Иноклассовых элементов в картине нет. Американская фильма
отрегулировывает общественный вкус и мораль противопоставляя
антагонистов из самой же буржуазной среды, изыскивая те характеры,
темпераменты и ситуации, которые, сохраняя в полном объеме приобретательскую подлость, изобретательскую хватку и цепкость к благам во
имя личного интереса, в то же время предельно маскируют эти основные черты под эстет-этическим флером привлекательности.
Вывод: обработка мозгов на сопоставлениях элементов, взятых
из нутра одного и того же класса—демонстрирует силу класса и уверенность его в себе. И у нас, на-ряду с построениями, где пролетарий
противопоставляется буржую, необходимо (если только браться за кинопсихо-драму, как средство агитации), построить драму с противопоставлениями, найденными в самой рабочей среде.
Технически этот прием должен быть выигрышен. На разнице
темпераментов, сноровки, привычек, характеров и вкусов можно провести эмоциональное разграничение между излюбленным, т.-е. рекомендуемым для даннаго периода социальной стройки, „героем"и отрицательными, мешающими социалистической стройке, элементами.
Наконец, последнее соображение, выскакивающее за пределы темы.
Меня удивляет, что в Китае столь медленна реформация театра:
правильнее сказать, ее вовсе нет. Не суждено ли Китаю от своего
средневекового героического условного театра перейти к высшей,
сегодняшней театральной форме—кино?
Интерес, проявляемый китайцами к кино, и отсутствие у них
проблемы нового театра дают этому соображению некоторые основания.
II.
Хорошая иллюстрация—даже не просто установки, а прямого
классово-национального н а п о р а на ц е л ь — в американском кино.
„ Р о ж д е н и е н а ц и и " , о фильма работы Гриффица, долго не
сходившая с экранов Нью-Йорка и других городов Америки, была
настолько популярна, что билеты и здесь, в Пекине, распродавались
на нее за два месяца вперед. Картина отнюдь не новая. Выпущенная
еще во время войны в 1917—18 г. и играла роль сильного орудия
американской националистической пропаганды. В наше время эта картина для Америки не только не устарела, но, пожалуй, даже приобрела
еще большую остроту и пикантность.
Основная идея пьесы: „Американцы—братья на почве грозящей
им беды со стороны... негров, в чем да поможет им... Ку-Клукс-Клан!"
Картина—сплошной призыв к погрому негров и превознесение до небес
фашистов ку-клукс-кланистов. Нужно отметить, что погромный ее эффект
до такой степени нагл и разнуздан, что даже французское правитель-
ство запретило ее демонстрировать во Франции. Гуманность французов
здесь, конечно, не при чем: просто неудобно организовывать травлю
негров, из которых Франция стряпает свои сегодняшние войска, нужные
во имя торжества ее империалистических аппетитов.
Сюжет развертывается на фоне междуусобной войны между Севером и Югом в 1865 году. Дан ряд исторических фигур —Авраам
Линкольн, генералы Грант и Ли. Богатые батальные картины с атаками,
штурмами, окопами, героическими подвигами с знаменем в руках,
артиллерийской пальбой, доходящей до кино-зауми, когда на экране
что-то подолгу „вообще полыхает".
На сцене—отвратительные „зверства негров": покушения и изнасилования белых девушек, погромы белых, суд Линча...
Вторая часть картины—после войны. „Злодей"—мулат Линч,
ненавидя белых (втайне он, оказывается, мечтает о... негритянской
империи), делает ставку на отпущенных на волю негров, которые даны
в виде банды хулиганов, алкоголиков, дегенератов, идиотов, преступников. Только негры, оставшиеся верными своим господам, обрисованы
в относительно привлекательных красках.
Парламент дан в виде сумасшедшего дома—депутаты пьют, жуют
и даже разуваются, кладя ноги на пюпитры, так что белые ораторы
задыхаются от вони и вносят законопроект, запрещающий депутатам
сидеть в парламенте босиком. Мало того, принимается закон, дающий
неграм право (о, ужас!) жениться на белых. Надо видеть, с какими
зверьими лицами депутаты-негры после вотума обводят глазами хоры
с белой публикой, выбирая себе жертв в жены.
Перед лицом „черной опасности" умолкает вражда Севера и Юга
и начинается совместное отстреливание „арийцев" от наступающих
негров. На улицах—погром, негры громят белых. Съежившиеся по
комнатам белые семьи. Озверелая толпа выкидывает их из окон, купает
в дегте, вываливает в перьях, потрошит дома.
Пока все это происходит—полями, лесами, дорогами мчатся легионы Ку-Клукс-Клана верхами,—люди и лошади в белых балахонах и
капюшонах. У предводителей в руках—кресты. В нужный момент
врываются в город—перестрелка, негры бегут... под оглушительные
аплодисменты переполнившей кино публики. Отмечу любопытное
явление—аплодируют не только американцы и прочие „арийпы", но и
китайский мещанин, надо полагать, отожествляющий свое собственное
отношение к Америке с отношением данных в фильме чернокожих
барских холуев.
Между двумя шеренгами ку-клукс-кланцев-толпы вооруженных негров.
— Бросай оружие!
Швыряют и бегут комичнейшим образом... под хохот той же
публики, разряжающей таким образом в великолепное презрение накопившуюся погромную ненависть.
1 рудко придумать более рассчитанно построенную, гнусную, погромную, но и искусно эмоционально-насыщенную фильму. Каждый взрыв
симпатий к белым подготовлен определенным соболезнованием. Белые—
паиньки, негры—звери; негры—сластолюбцы, алкоголики, кривляки;
белые—честные собственники. Негры давят грубым большинством;
белые—организованное меньшинство (ставка на меньшинствоэмоционально
беспроигрышна). Наконец, негры—это омерзительная толпа громил,
а Ку-Клукс-КлаН — железно спаянная организация. А сила зрительного
воздействия организованного коллектива громадна,—вспомните о впечатлении, которое обычно производят шагающие войска, очень хорошо
слаженные демонстрационные колонны и т. д.
Экономические и социальные причины войны тщательно затушеваны. Плантаторские романы развертываются средь хлопковых плантаций, на которых благоденствуют восхваляющие бога и своих господ
негры. Вся война—проделка радикалов (да будет им пусто), позволяющих
себе думать об (упаси американский боже) расовом равенстве.
Эту картину нельзя рассматривать как „одну из а ,—она много
значительнее. Она—прямая антитеза „Хижины дяди Тома". Народолюбизая барыня Бичер Стоу сменилась хищным гиком погромщиков
шовинистического империализма—„бей его, черную скотину!" Та же
эволюция, что у нас от Некрасова к Мережковскому, с той только
разницей, что Мережковский гикает из потустороннего мира, а американцы находят выход своему классово - „расовому" темпераменту
в линчевании негров сегодня и в подлых убийствах из-за угла и терроре над рабочими, которым занимается пресловутый Ку-Клукс-Клан.
Эта американская „Война и Мир" показывает, что в нынешней
Америке негритянский вопрос—то же, что в царской России еврейский
вопрос. Отвод обывательского внимания от коренных социальных проблем на расового козла отпущения—штучка известная, но и штучка
безнадежная. Отвод в русло расовой травли обывательской энергии
симптоматичен. Но... это уже специальная тема. Я же, у ч и т ы в а я
эту картину, как п р о и з в е д е н и е высокой к и н о - т е х н и к и и
ее а г и т - э ф ф е к т , х о ч у т о л ь к о о т м е т и т ь , к а к у м е л о , т о н к о ,
р а с с ч и т а н н о р а з ы г р ы в а е т а м е р и к а н с к и й кип и тал свои
мелодии, о х в а т ы в а я весь д и а п а з о н н а с т р о е н и й , в к у с о в ,
в л е ч е н и й и с и м п а т и й а м е р и к а н с к о г о о б ы в а т е л я . И —этому
техническому уменью агитировать, воздействовать мы должны учиться,
д а б ы , в о т в е т на „ Р о ж д е н и е Н а ц и и " , с о в е т с к а я с т р а н а
м о г л а о т в е т и т ь не т о й к и н о - с т р я п н е й , к о т о р о й мы з а н и маемсясейчас, а вдвое более умелыми и б ь ю щ и м и в т о ч к у
к о н т р-ф и л ь м а м и, п о д г о т о в л я ю щ и м и т о т в з р ы в , к о т о р о м у н а з в а н и е б уд е т — „ Г ибель Наций".
Умеем ли мы уже „отвечать"? Умеем лл говорить, а главное—
оформлять упорной революционно-целевой установкой, наши даже наиболее выигрышные кино-фильмы?
Здесь—кстати, несколько слов о показанной накануне фильме
„Смерть Ленина". Вот уже воистину—великолепный образец беспорядочной засъемки! (автор, к сожалению, не пишет—чьей. Ред.). Того
основного, что было в наши тяжкие январские дни—величественности
и колоссальности медленно движущихся человеческих рек—не дано.
Есть утомительно примелькивающееся бултыхание небольших кучек
народу. Смотришь и с грустью думаешь: неужели за все дни нельзя
было заснять Охотный и идущие к нему очереди—с крыши, с балкона?
Есть кусочек Красной площади, сделанной сквозь вывеску Гума, но
именно эта вывеска и заслоняет все, она подавляет крошечное колечко,
в котором видны ряды народа. Далее, отмечу целый ряд досадных
упущений: тов. Калинин, которого показывают многократно, нигде не
назван (а это для заграницы важно: вожди смотрятся с особым интересом). Затем: упорно называется одна фамилия, а показывается двое
человек и даже названный оказывается на заднем плане. Еще—написано тов. Крупская, а показан тов. Каменев, и только перед концом
отрезка бледно мелькает лицо тов. Крупской. Съемка идущих вокруг
гроба людей сделана не со стороны гроба—получается семенящая очередь,
странно косящая глаза в сторону. Один снимок со стороны гроба или
через гроб дал бы определенное локальное представ аение и связзл бы
идущую очередь с помещением. Незачем было делать нздписи к эпи-
зодам, несмотря на их краткость, столь крупными, что их приходится
показывать в 2 — 3 приема, а они великолепно уместились бы в один.
Все это я отмечаю не только потому, что для пропагандистского
значения показа похорон тов. Ленина заграницей важны эти детали,
но и потому, что по существу фильма эта представляет из себя ценность для пролетариата не меньшую, чем коран для магометан.
Мы склоняем на все лады: „фиксация действительности", „отображение" и т. п., предписывая их и писателям, и поэтам, и художникам
при всяком удобном, а чаще неудобном случае, а вот там, где эта
фиксация действительно нужна напряженная, зоркая, внимательная,
четкая—там мы выше национального растяпства шагнуть не можем.
Первое, что нам нужно—мастера первого сорта. Если их нет у
нас, купите в Америке, это обойдется все же дешевле, чем переплаты за
бесконечное самоучество. Нельзя купить—пошлите в Америку учиться,
ьыведать все, что нужно, чтоб дальше отправляться не от сосновской
пещерной стадии, а от высшей ступени техники, изобретательства и
мастерства сегодняшнего дня. Если раньше презрительной оценкой
были слова „русская работа", то теперь слова „советская работа"
должны звучать тоном выше, чем работа „американская".
Критика
и библиография
-
В. Плетнев.
На растеряевой улицеС чего начать нашу прогулку по российской критике?..
Перед нами «Красная Новь», № 5. В ней—статья тов. Вороненого
«Искусство, как познание жизни»,—последнее слово традиционной литературной критики.
Статья крепкая, безраздумная, автор основательно врыт в свою
позицию. Многие сейчас в вопросах искусства могут сказать: «в старой
вере пошатился, а новой не обрел». Тов. Воронский—исключение.
От его статьи веет крепким, керженецким, кондовым духом. А это
в нашу революционную эпоху у коммуниста—дар редкий.
И читается статья безраздумио. Так читал «В лесах и на горах»
Мельникова-Печерского. Старые кряжистые люди, «смолой да земляникой пахнет темный бор». Далекий от ушкуйного волжского шума
уголок; спокойный, как папоротник, старец гвоздит в чугунное било;
рдяным закатом окрашены сосны... Покой, тишина, какая-то нечаянная
радость успокоения.
В. Белинский, Н. Чернышевский, Г. Плеханов, знакомые большие
имена, степенная трактовка, давно знаемая и привычная, и... рефрен
в стиле героя Сергеева-Ценского по адресу «На Посту»: «и через-что
ты такой колготный, я прямо не понимаю! Все-то ты колготишься,
все колготишься, как будто тебе больше всех надо».
И на-ряду с большим и нужным, что оставлено нам в наследство, развертывается.
Давно знаемое, отошедшее, но в вечерний час наводящее на
слегка грустные, кошачьей лапкой ласкающие мысли.
Но...
«сколь ни приятно
в вечер майский
чай китайский,
ром ямайский
распивать»—
•
^е
все же это «успокоенное мечтание» невольно ставит перед читателем
вопрос:
— А была ли и есть ли революция?
Или все то, что было в России, не огромный исторический сдвиг
во всех сторонах общественной жизни, а... нарочно?
Таков общий топ статьи.
Мы не думаем, что последний зависит только от суб'ективной
настроенности автора, и полагаем, что в основе лежат глубокие об'ективные причины, и что в этой статье мы имеем конденсированным то
отрицательное, что присуще всей нашей современно-традиционной художественной критике.
Тов. Воронский ставит большой, ответственный вопрос:
— «Что такое искусство?»
И с редким мужеством отвечает:
« П р е ж д е в с е г о искусство есть п о з н а н и е ж и з н и » .
При дальнейшем развертывании им вопроса оказывается, что
«прежде всего» остается единственным, и никакого «после всего», вторичной ступени, другой задачи у искусства—не оказывается.
Что понимает тов. Воронский под «познанием жизни»?
Он проводит аналогию: «Искусство, как и наука, познает жизнь».
Но добавляет: «наука анализирует, искусство синтезирует, наука отвлеченна, искусство всегда конкретно; наука обращена к уму человека,
искусство к чувственной природе его. Наука познает жизнь с помощью
понятий, искусство с помощью образов, в форме живого чувственного
созерцания».
Посмотрите, как просто и ясно разрешается вопрос!
И не трудно понять. От времен Белинского и до наших дней,
во всех учебниках и критиках значится: «наука с помощью понятий... искусство с помощью образов»... Ясно, как уже забытое нами
«Отче наш».
Но да позволено же будет усомниться в том, что от времен очаковских и покоренья Крыма никем не оспаривалось, не оспаривается
и тов. Воронским.
Наука т о л ь к о л и познает жизнь? Если да, то это—«открытие»
т. Воровского. Мы до сих пор полагали, что наука есть вместе с тем
инструмент, один из самых мощных, переустройства жизни, творчества ее.
Инструмент, создающийся на основе и в процессе экономического
роста господствующих классов данного общества, инструмент, используемый в классовом обществе,, как орудие классового господства и классового строительства.
Но т. Воронений с этим не согласится. Он утверждает, что:
«За процессом познания следует процесс действия. Наука основана на предвидении, на предвидении основано действие. Человек сначала познает, потом действует, «строит». Никто еще не открыл науки,
в которой эти два процесса сливались бы в одно, или науки, где
процесс познания сделался бы подсобным. Пока такой науки в природе нет и нет оснований полагать, что это в будущем, насколько мы
его предвосхищаем, изменится».
От этого откровенья, как из душного погреба, тянет гнилью буржуазной идеологии. «Человек сначала познает, потом действует, строит».
Что это? В начале бе познание? Значит, египтяне научили Нил течь
по оросительной системе, созданной инженерами, а не разливы Нила
научили инженеров ирригационному искусству? Сначала Колумб познал Америку, а потом поплыл ее открывать?
И это, ведь, отнюдь не спор о том, что явилось на свет раньше:
курица или яйцо. В начале было дело, а затем наука, как сумма из
дела полученного опыта. Так было, так есть и так будет. Ёсли бы
врач стал лечить людей только на основе научно точно им познанного,
он переморил бы уйму людей. Именно потому, что кроме наутгао об'ясненного материала, перед ним огромная полоса эмпирики, темной, научно неясной. Он пользуется этой эмпирикой, хотя она научно не
об'яснена, но оправдала себя в действии.
«Наука основана на предвидении». Еще один перл! Не на действии ли, не на опыте ли, т. Воронский? Предвидение не есть ли только
продолжение данной суммы опытных действенных фактов? а не прыжок в неизвестность.
Ставить вопрос так, как ставит его т. Воронский,—это перевертывать его с ног на голову.
Открывать науки, где процесс познания сливался бы с действием,
мы не собираемся—и только потому, что это фактически существует.
Тов. Воронский этого не знает?
Наука познавая действует и действуя познает.
Еще в 1878 году, в речи «Основные задачи физиологии растений»,
К. А. Тимирязев говорил:
«Нигде цели стремлений физиолога и агронома не прикасаются
так близко, как именно в разрешении этой (превращения вещества
в растении) задачи».
Здесь широкий агрономический опыт — назовем: агрономическое
действие—тесно переплетается с чисто научной, исключительно лабораторной работой физиологии, и в этом случае, говорит Тимирязев,
«не знаешь, где кончается физиология растений и где начинается
агрономия».
Обратимся к такому грандиозному явлению современности, как
авиация. Можно ли в ней провести резкую грань между познанием и
действием? В своем развитии это—сплошное действие, стоившее жизни
многим смелым экспериментаторам. Можно прямо сказать, что каждый
полет, как действие, приносил из высот на землю огромный материал
для работы науки. Здесь познание и действие сливаются в единую
неразрывную цепь.
Мировая война с ее грандиозным разрушительным действием
повела к ряду открытий, которые в лаборатории могли бы появиться
через неопределенное количество лет.
Экономическая наука в 1914 году сказала, и очень убедительно,
устами виднейших экономистов, что война не может продолжаться
больше 6 — 1 2 месяцев. Это было опрокинуто 4-х летней войной. Ни
один финансист не мог даже и предположить таких удивительных
финансовых явлений, которые нам цринесла революция. Никто из
психологов никогда, быть может, не осознал так ярко массы, как это
мог сделать он в открытой перед ним в д е й с т в и и массе, ринувшейся в исторический бой. В революции, на-ряду с этим, многие части
старой науки находят свою гибель.
Неужели тов. Воронскому не ясно, что наша российская и развертывающаяся мировая революция своим действием в грандиозном историческом опыте, охватывающем миллионы, заставляет миллионы и
единицы п о з н а в а т ь в д е й с т в и и новое в общественной жизни и
этим мощно толкает науку вперед?
В том и особенность нашей великой эпохи, что широким действием, массовым опытом наука обогащается широко и беспрерывно.
Человек в огромной, неизмеримо большей степени, чем раньше, действуя познает.
Неужели же все это прошло мимо кондовых керженецких скитов
«Красной Нови», «Круга» и прочих святых мест, не положило на них
своего могучего отпечатка, не научило ставить вопросы искусства
иногда и не апеллируя к Белинскому и старым учебникам литературы?
Все вышесказанное свидетельствует, что—именно прошло и даже
крылышком не задело и, как это ни странно, такого рода «критические»
подходы получают кое-какое признание. Чудны дела твои...
Но двинемся дальше.
«Наука анализирует»—говорит т. Воронский. Конечно. В этом ее
огромная сила. Достаточно вспомнить борьбу дарвинистов с виталистами, чтобы понять, какой мощный толчок науке дал переход от
метафизического «созерцания» жизни природы к скрупулезному, медленному, по крепко на ногах стоящему анализу.
Вместо «жизненной силы» виталистов, мы имеем достаточно изученный механизм питания и роста растения, взаимоотношения света
ю®
и хлорофила и т. д. И, рядом с этим, т. Воронский почему-то пе замечает того, что достаточно мало-мальски грамотному человеку прочитать хотя бы одну классическую «Жизнь растений» К. А. Тимирязева, чтобы понять, что т. Воронский—ну, скажем—слегка пе додумал свое другое положение: «наука отвлеченна».
Мы хорошо знаем, что наука была и есть в известных своих
и больших частях отвлеченна, но уже буржуазные ученые, поскольку
они хотели искренне, по-научному попять механизм жизни (естествознание), они становились против своей воли, иногда бессознательно,
материалистами.
Для современной материалистической науки жизнь растения, папример, не отвлеченна, а совершенно конкретна. Настолько конкретна,
что человек способен видоизменять его рост и количественно и качественно. Вспомним изумительные факты, приводимые Гартвудом в его
книге «Обновленная земля». Садовник выращивает картофель, на ботве
которого одновременно растут помидоры, выращивается буквально по
заказу кукуруза с определенным процентом масла, вырабатываются
сухоустойчивые культуры, дерево получает на коршо химическим путем ту окраску, которая давалась до сих пор столяром, и т. д. Это—
действия, через которые развертывается познание.
Где здесь отвлеченность науки?
Механизм явлений вскрыт, учтен, зачастую математически взвешен, результат научного опыта в значительном проценте предопределен.
Многое, конечно, неясно, научно пока не об'яснимо, но из этого
мы делаем один вывод: это будет ясно, когда анализом явления, разложением его на первоначальных множителей будет выяснен его механизм, и наука в конце концов овладеет им.
Зачем понадобилась т. Вороненому такая нелестная и, да простит
нас т. Воронский, безграмотная характеристика науки,—мы отказываемся понимать. И—чем дальше, тем меньше паука отвлеченна. И революция убыстряет этот процесс. Если же наука всегда в анализе
явлений уходит к их истокам, тем самым тогда отдаляясь от конкретного практического применения добытых ею данных в лабораторию,
то это не сущность науки, а лишь ее метод.
В противоположность «отвлеченности» науки, т. Воронский ставит
искусство, которое «всегда конкретно»!
Так ли это? Конкретно ли искусство, и если да, то как выражается его конкретность?
Маленький пример:
Скрябин, совершенно своеобразный в своей музыке, наверняка
был бы в убеждении, что его творчество есть ни что иное, как только
им одним «видимая идея» *).
Но вот появился некий Арсений Авраамов и показал, что видимая идея Скрябина есть некое математически иное музыкальное
построение. Ряд звуковых сочетаний, дающих музыке Скрябина ему
присущую окраску и их закономерность, это—звуковые сочетания,
которые песня несла в себе со времен, быть может, Слова о полку
Игореви. И открыты они не видением идей, а математическим, строго
научным анализом теоретика.
И, имея в своем распоряжении научно обоснованную новую гамму,
современный музыкант может дать сознательпо то, что Скрябин дал
по интуиции, по «видимой идее».
Искусство всегда конкретно,—говорит т. Воронский.
*) Тов Воронский считает, что художник это'тот, кто „видит идеи".
Но мало сказать, что искусство конкретно, нужно об'яснить это.
Конкретность литературного образа одна, конкретность музыкального образа иная. Нигде нет такой разности восприятия, как в музыке.
Образные определения в слове одного и того же музыкального
произведения даже образованными людьми иногда до нелепости противоположны. Но есть нечто, что дает нам возможность понять и
научно обосновать конкретность искусства.
В силу же того, что у нас нет еще критики, которая способна
была бы об'яснить вопросы художественного творчества с той же
научно-обоснованной ясностью, с какой мы об'ясняем явления экономики, разрушая товарный фетишизм капиталистического общества,—
творчество искусства и сотворчество его (восприятие) до сих пор задернуты флером фантазии, метафизики, идеализма. Об'ясняя конкретность искусства, тов. Воронский, не краснея, говорит, например: «художник тот, кто видит идеи». Не правда ли, удивительно конкретно?
Но мало этого: т. Воронский, чем дальше, тем больше вязнет
в болоте схоластических рассуждений.
Наука анализирует, искусство синтезирует,—утверждает он. Конечно. Но также верно, что наука синтезирует, искусство анализирует.
И здесь наш «критик» с удивительной легкостью скользит по поверхности явлений. А на-ряду с этим процесс творчества художника
в об'яснении т. Вороненого носит отчетливо очерченный таинственномистический характер.
Вот—цитата из Белинского, которую он считает вдохновенным
описанием существа художественного творчества, «незыблемого и доселе»:
«Еще создание художника есть тайна для всех,—говорит
Белинский,—еще он не брал в руки пера, а уж видит их
ясно, уже может счесть складки их платья, морщины их
чела, изборожденного страстями и горем, а уже знает их
лучше, чем вы знаете своего отца, брата, друга, свою мать,
сестру, возлюбленную сердца; также он знает и то, что они
будут' говорить и делать, видит всю нить событий, которая
обовьет их и свяжет между собой». (Статьи о Гоголе).
Тов. Воронский начал приводимую им цитату, очень предусмотрительно пропустив две с половиной строки начала абзаца. А в них
Белинский говорит вот что:
«Итак, главный отличительный признак творчества состоит в т а и н с т в е н н о м я с н о в и д е н и и , в п о э т и ч е с к о м с о м н а м б у л е»,
и уже дальше, в пояснение этих двух строк, написано все приведенное
т. Воронским!
Если это, как утверждает т. Воронский, «незыблемо и доселе»,
то мы вправе полагать, что позыблено кое-что в т. Воронском.
И это же показывает, между прочим, насколько ненужно, а порою
и опасно, апеллировать к Белинскому. Маленькая справка.
Статьи о Гоголе—это работы Белинского, написанные в 1835 году.
А в 1834 году в «Литературных мечтаниях» Белинский выдвинул
опорные философские пункты своей критики этого периода:
«Весь беспредельный, прекрасный божий мир есть ни
что иное, как дыхание единой, вечной идеи (мысли единого
вечного бога), проявляющийся в бесчисленных формах, как
великое зрелище абсолютного единства в бесконечном разнообразии».
В этот период влияние старика Гегеля особенно четко. Белинский
здесь же развертывает свои взгляды и на просвещение.
«Просвещение,—говорит он, — подобно заветному слову
искупления, должно приниматься с благоразумной постепенностью, по сердечному убеждению, без оскорбления святых праотеческих нравов: таков закон провидения».
Белинский утверждал в этот период, что «творчество художника
бесцельно и бессознательно». От этого взгляда Белинский отказался
впоследствии с той же решительностью, как и утверждал.
«Художник тот, кто видит идеи»—это непосредственно вытекало
из воззрений Белинского в этот период. Но насколько оно вытекает
из революционно-марксистского подхода к искусству, об этом предоставляем судить читателям. Выводы сделать не трудно.
И небольшое, но удивительно показательное, совпадение:
Б е л и н с к и й : «Творчество художника бесцельно и бессознательно».
В о р о н с к и й: «Художник тот, кто видит идею».
^ С е р а п и о н о в ы б р а т ь я : «Искусство... оно без цели и без
смысла существует, потому что не может не существовать».
Довольно четкая триада!
Это для т. Вороненого уже весьма далеко зашедшее попутничество, не в ту сторону, в которую ему полагается итти.
Лево руля, тов. Воронский!
Стоит только подойти к напрокат взятым из «древней» истории
т. Воронским положениям, как оказывается, что наука не только анализирует, по и синтезирует; искусство не только синтезирует, но и
анализирует; что искусство, как и наука, бывают, могут быть и отвлеченны и конкретны, что наука обращена не только к уму, но и к
чувству, равно как и искусство обращается и к чувству и к уму человека; что, наконец, наука познает жизнь с помощью не только понятий,
но и образов; так же и искусство (на этом мы остановимся особо). И в
заключение этого положения—классически тупое: «искусство есть познание жизни в форме чувственного образного созерцания»!
От Белинского и до наших дней во всех критиках значится это
признаваемое почему-то бесспорным далее коммунистом Воронским
«в форме чувственного... образного... созерцания». И это у наших критиков называется «критическим использованием буржуазного наследства»!
Что такое «созерцание»? Да простят меня все критические боги
современности, я этого не понимаю. Тем более не понимаю, как противоставлеиие научному познанию. И смею думать, что не более меня
понимают и многие, в том числе и т. Воронский, с такой легкостью
жонглирующий этими словами.
И такое жонглирование для нашей марксистской «художественной критики», в особенности в наше время, необыкновенно характерно.
Когда дело идет об историко-социологическом анализе искусства,
здесь наша критика, отправляясь от положений, формулированных
Плехановым, имеет под собою твердую базу исторического материализма. В этой плоскости можно говорить лишь о недостаточной разработанности вопроса, ставящего перед нами задачу огромной историкоаналитической работы.
Но как только вопрос переходит к анализу художественного творчества и восприятия, здесь наши некоторые марксисты опускаются по
уши в идеалистические буржуазные волны.
Вдумаемся, хоть немного, в сами слова «чувственное созерцание»,
и мы увидим, что более спекулятивное определение трудно придумать.
Человек «созерцает» произведение искусства. Что это значит?
С точки зрения материалистической только одно: он прежде всего в и д и т
это произведение, воспринимает его глазами,—иного инструмента (если
откинем музыку) человеку не дано. Воспринимая произведения искусства, зритель получает некое раздражение органов зрения, его нервная
система приводится в движение, раздражение проводится по нервным
путям к нервным центрам, и в результате этого процесса слагается то,
что мы называем крайне неточно впечатлением.
Если это так, а это именно так, то, во-первых, «созерцание» никаким иным, как чувственным, быть не может и, во-вторых, никакой
специфической формой восприятия не является. Но, говорят нам, это
«созерцание» не простое, а «образное». И в этом быть может его специфическая особенность.
Посмотрим.
Что такое научная гипотеза? А роль ее в науке вряд ли кто посмеет отрицать. Не есть ли это образное представление о чем-то? Схема
строения атома, данная Бором, была образом, фантазией ученого и
лишь затем была подтверждена научно.
Образы и в научном творчестве и в творчестве художественном
равно имеют место.
Разница между образами науки и искусства лишь та, что образы
науки реальны, образы же искусства несут в себе присущее первобытному человеку явление анимизма.
«В озере лебедем красным
Плавает тихий закат».
(С. Е с е н и н ) .
Закат уподобляется лебедю. Закат плавает в озере красным лебедем. И бесчисленные примеры образности говорят только о том, что
здесь в о с н о в е лежит анимизм первобытного человека.
И если произведение не имеет этих черт, мы затрудняемся признать его художественным.
А вместе с тем, если мы обратимся к романам Жюль-Верна, Герберта Уэллъса, мы вступаем в область умных, глубоких, творческих
работ, основанных на данных современной писателю науки с дерзкими
попытками научного предвидения. Художественны ли произведения
Верна и Уэлльса? По-нашему—да.
Образно ли, если мы даже примем это определение, творчество
этих писателей? Конечно. Но каковы их образы? Не есть ли это образыпонятия, в которых нет ни грана анимизма? И в их творчестве научные
понятия приобретают совершенно неожиданную, необыкновенно яркую
окраску. Их произведения в большей степенп научно-популярны, если
хотите. И разве вам не хотелось путешествовать под водой, как капитану Немо, или летать, как героям Уэлльса?
Образное не есть что-то специфически присущее искусству и
только ему. И уже во всяком случае это—не черта, полностью отделяющая искусство от науки.
Вывод: даже при беглом, по необходимости сжатом обзоре длинной тирады, приведенной т. Воронским и почитаемой им за истину,
видно, что все это спекулятивное жонглирование словами, за которыми
всегда скрывался определенный, нужный буржуазному обществу
смысл,—эти слова отжили. И не дело коммунистов-марксистов гальванизировать трупы и трупики буржуазной идеологии.
Мы обязаны быть умнее, и по-настоящему критически использовать буржуазное наследство, использовать которое нам неизбежно
необходимо.
Откуда у тов. Воронского эти ошибки и уклоны? Причины ошибок
кроются, по нашему мнению, в двух сторонах вопроса. Во-первых,
в нежелании резко н четко поставить вопрос о художественной критике, точнее—о процессе творчества, где, как в последней позиции,
окопалась наша насквозь идеалистическая литература и критика.
Во-вторых—в желании во что бы то ни стало и какими угодно путями
оправдать идею «об'ективной ценности» наследства прошлого.
Остановимся на «об'ективности».
У тов. Воронского художник возводит жизнь в «перл создания»,
и... « т а к с о з д а е т с я в в о о б р а ж е н и и ж и з н ь к о н д е н с и рованная, очищенная, просеянная—жизпь
лучшая,
чем о н а есть. И более п о х о ж а я на п р а в д у , чем реальнейшая реальность».
И в результате: «Как наука, искусство дает о б ' е к т и в н ы е
истины; подлинное художество требует точности, потому что оно имеет
дело с об'ектом, оно опытно».
«Искусство дает об'ективные истины».
В этих строках сквозит стремление в любвеобилии облапить весь
мир... раньше, чем это допускается не нами, а историей человеческого
общества, опаляемого ныне жестоким огнем классовой вражды.
Общечеловеческое, об'ективное в старом.
«Вечные (общечеловеческие тож) идеи и принципы,—говорит Jlaфарг,—являются такой неотразимой приманкой, что без них не обходится ни одна финансовая, промышленная или торговая реклама, ни
одно об'явление о спиртном напитке или аптекарском снадобье. Политическое предательство и экономический обман развертывают знания
идей и принципов». («Экопом. детермин. К. Маркса. П. Лафарг, стр. 54,
изд. «Моск. Раб.»).
И тов. Воронский не хочет, сказавши а, сказать б.
Дальше он пишет: «только строгое размышление или подлинно
постигающее чувство видит или мыслит такое будущее, которое действительно идет на смену прошлого и настоящего».
Что такое «строгое размышление или подлинно постигающее
чувство»?
Если тов. Воронский стремится рассуждать об'ективно, то это
далеко не значит, что это вообще приемлемо для всех, и просто потому, что об'ективность тов. Воронского, позволим выразиться так,
есть классовая об'ективность, т.-е. не об'ективность.
Ну, и кому же хочет услужить тов. Воронский, когда он, стоя на
классовой точке зрения, единственно возможной, все время фистулой
напевает: «искусство об'ективно»?
А десятком строк ниже—пишет:
«Чувства и настроения, мысли и переживания должны у поэта
иметь ценность для более или менее широкого круга людей, для класса,
сословия и т. п., если не в настоящем, то в будущем».
Все-таки: «для класса, сословия и т. п.»,—не написалось почему-то.
для всего человечества.
Зачем же казать кукиш в обоих карманах и направо и налево?
Это позиция давно обреченная и уж заведомо ни к чему не
приводит.
Но такова уже сила классового мышления: тов. Воронский вынужден отчеканивать далее:
«Литература, искусство бесспорно служат тому или иному классу
в обществе, разделенном на таковые».
«Но—снова зацепка!—отсюда никоим образом не следует, что
данные, добытые в результате художественного опыта, лишены об'ективной ценности».
Конечно, не лишены, но—какие данные? Те, которые, по словам
тов. Воронского, могут быть пролетариатом использованы в классовой
борьбе?
Это, опять-таки, об'ективность с классовой точки зрения.
И все зло, вся путаница, которые вносятся критическими наставлениями школы тов. Воронского, заключаются в том, что они,
незаметно для себя, словечком «об'ективным», оправдывают классовую
буржуазную идеологию.
С точки зрения пролетарской классовой культуры, мы отнюдь
пе отрицаем налитая в буржуазном наследстве полезного и нужного
пролетариату в его борьбе, но мы рассматриваем его пе как наличие
каких-то об'ективных, «извечных», «общечеловеческих» истин.
За нашей точкой зрения не стоит фетишизма «об'ективной ценности», как какого-то всеобщего эквивалента. Мы вполне допускаем,
что и Шекспир, и Шиллер, и все великие имена прошлого в определенный период станут не нужны классу в его борьбе, да и вряд ли будут
нужны и для выходящего из сферы классовых битв человечества.
Мы полагаем также, что ряд завоеваний буржуазного художества
могут сослужить пролетариату известную службу, но из этого отнюдь
не следует, что все это так целиком перейдет в общечеловеческую сокровищницу искусства за порогом классового общества.
Не нужно забывать, что:
«Всеобщие и необходимые идеи, используемые людьми в обществах с частной собственностью для организации своей гражданской
и политической жизни, будут излишни, не нужны для регулирования
человеческих отношений в будущем обществе с общей собственностью.
История их соберет и разместит в своем музее для мертвых идей».
(П. Лафарг—«Экон. детерм. К. Маркса», стр. 56. Изд. «М. Р.»).
П о э т о м у — м ы п о л а г а е м , что, в м е с т о б е с п л о д н ы х
доказательств обобщающей «об'ективной ценности»
х у д о ж е с т в а б у р ж у а з н о г о периода, следует выдвин у т ь п р и н ц и п к л а с с о в о й ц е л е с о о б р а з н о с т и , как единственный критерий использования буржуазного художества.
И с т и н а в с е г д а к о н к р е т н а . Что используется и защищается нами в историческом сегодня, отпадает, как сыгравшее свою
историческую роль, в историческом завтра; на смену ему приходит другое, и предсказывать, что отдельные ценности буржуазного художества
обязательно перейдут как общечеловеческие ценности в бесклассовое
общество—значит, в значительной мере, гадать на кофейной гуще. Мы
этого попросту не знаем, доказательств за и против можно привести
сколько угодно, но решить задачи мы не сможем. Это—уравнение с бесконечным количеством неизвестных. Поэтому-то, единственное реальное
отношение к буржуазному художеству, это—отношепие к нему с точки
врения классовой конкретной целесообразности.
.
j
ч
И здесь мы вправе утверждать, что максимум из того, что будет
целесообразно с коммунистической точки зрения класса-строителя, будет целесообразно и для внеклассового общества. Ибо пролетариат—
единственный носитель зачатков коммунизма, развивающий их в борьбе,
прививающий их другим классам, сословиям и группам, ведущий человеческое общество к конечному освобождению.
И это отнюдь не классовая узость, не классовое тупоумие одиночек и групп в классе.
И здесь многим товаріщам, с кондачка и с усмешечкой оценивающим точку зрения сторонников пролетарской культуры, стоило бы
серьезно позадуматься.
Когда мы ведем борьбу против «об'ективных» ценностей буржуазного художества, столь любезных сердцам попутчиков и непопутчиков, против остатков идеализма в понимании и критике искусства
со стороны наших «староверов» искусства, мы знаем, что встретим
сугубо злой отпор.
Но мы также знаем, что выдвигаемый нами критерий не даст
кому бы то' ни было спрятаться за об'ективностыо. Наш критерий требует строго научного, глубоко анализирующего с точки зрения социально-биологической, подхода к каждому конкретному факту в условиях места и времени его использования с конкретным заданием.
Здесь с отвлеченными, неуловимыми, типично-интеллигентскими
категориями «видения идей», «созерцания», «вещих зениц» ничего,
кроме безнадежной и злой путаницы, не внесешь.
При нашем подходе к вопросу может оказаться, что не весь
Шекспир нами может быть использован, а, быть может, одно его произведение; может быть, и то, что найдем целесообразным для использования, будет пригодно для города, а не для деревни; может оказаться,
что отдельные элементы творчества самого что ни на есть пролетарского
художника будут для класса менее ценны, чем элементы творчества
такого политического мракобеса, как Достоевский, считавший все мысли
и слова социалистов «визгом марксистских щенят, кувыркающихся
на солнце».
Такие моменты вполне мыслимы, и бояться их было бы политикой страуса.
И это убивает в корне всякий фетишизм «извечных истин», «вещих зениц» и т. д.
Так понимаем мы использование буржуазного художества.
И перед нами стоит сейчас задача огромной аналитической работы
порядка исторического, с одной стороны, изучения масс и их потребностей, с другой, и использования искусства исключительно под
углом требований революции.
И опять-таки единственный реальный критерий для этой работы—
к л а с с о в а я ц е л е с о о б р а з н о с т ь . И здесь нужно быть решительными. Все, что способствует классу, несущему на своих плечах
тяготы революции в его продвижке вперед, должно быть взято; все, что,
хотя бы в мало степени, препятствует ему, должно быть отброшено.
Никто не станет спорить, что тактика революции в определенные
моменты заставит нас на время предпочесть плохое сущее идеальному
должному. Но было бы непомерно глупо возводить тактические приемы,
меняющиеся каждый день, в зависимости от конкретной обстановки,
в принципы.
А в этом за последнее время мы не мало погрешны. И яркий
тому пример—попытка теоретического оправдания попутничества через
об'ективность, которую делает т. Воронский в своей статье.
Перейдем к вопросам творчества.
Тов. Воронский говорит: «в числе заданий, которые класс обязывает выполнить ученого и художника, главнейшее сводится к точному, опытному познанию жизни, поскольку это необходимо для данного класса».
Так ли это? Здесь снова ограничение круга деятельности художника «познанием» жизни. Но, ведь, если принять во внимание
все вышесказанное о науке, мы должны будем признать, что искусство
должно быть вместе с тем и действием, творчеством жизненных форм.
Тенденция развития искусства сейчас далеко перешагивает его
задачу как познания жизни.
Революционное переустройство властно требует искусство на
службу себе. Не только познание фактического, достигнутого, но и
строительство нового сегодня, завтра, каждый день. Крепкого органического контакта искусства с научным предвидением использования наукой открытых и об'ясненных явлений и установленных ею
законов, как нового фупдамента искусства—этого требует наша эпоха.
Что делает революция и мы в ней?
Ответ, я думаю, ясен.
Изменяем мир. Задача революции, задача нашей великой эпохи,
в которую мы имеем великое счастье жить—именно в этом.
И т. Вороненому не нужно было увлекаться секуцией т. Чужака,
ибо он в увлечении здорово взгрел и сам себя и, что особенно изумительно, премного этим доволен. Странные бывают у наших товарищей вкусы.
Если ниоткуда не следует, что нужно отказываться от роли
искусства, как инструмента познания жизни, тем более нет никаких
оснований отбрасывать искусство, как строительство жизни.
И в тенденции много данных за то, что, чем дальше, тем больше
примат будет оставаться за искусством—строением жизни.
И эту тенденцию мы должны принять. И принять не потому, что
нам так хочется, а потому, что искусство все более и более становится
пе полетом в заоблачные высоты, а самой жизнью.
Мы думаем, что задача построения искусства, как строительства
новых жизненных форм, строго, научно-осознанными приемами и
методами будет разрешена.
И это будет вернейшим, могущественным ударом по фетишизму,
идеализму, метафизике в искусстве.
Самым могучим врагом религии является не голое доказательство отсутствия бога, а естествознание.
Научный подход к искусству даст нам верный выход из тупика,
в который искусство загнано буржуазией.
И только тогда не будет критики, которую сейчас буквально
стыдно читать. «Царица искусств — музыка», «величавый полет фантазии», «мощные крылья вдохновения», «вещие очи, зрящие идею»
и т. д., и т. п.—должны быть сданы в архив, и это б у д е т сделано
революцией.
А наша задача сейчас—потребовать от наших товарищей критиков перехода к научной критике искусства, к воспитанию себя в
этом направлении. Иначе—великий критерий «не нравится», столь «
излюбленный нашими, даже и очень образованными, товарищами,
будет безраздельно царить в искусстве, пе принося ему ничего, кроме
неисчислимых зол. Как классический пример научной критики, слабым лучом освещающий данные в этой статье мысли, мы можем ука-
зать на крошечную по сравнению с Монбланами многотомных критических «трудов» и трудов книжечку «Красное знамя»—покойного ученого К. А. Тимирязева.
Там взят красный цвет, и ученый вскрывает нам глубоко научным анализом его активность, как цвета, символа мирового пролетарского движения.
Кстати, недурный пример того, как действие post factum познается наукой. Красный цвет был активен, действенен в жизни, явился
символом сущих и грядущих грандиозных общественных сдвигов и
лишь потом был «оправдан» научно, как цвет максимальной активности воздействия.
ч
Время, нами переживаемое, возлагает на нас в области искусства, как и в других областях, непомернб тяжелые задачи.
Такова задача построения научной художественной критики.
По нашему мнению, весь процесс борьбы в области искусства,
наблюдаемый нами сейчас, заключается в том, что революция с каждым днем все более и более материализует искусство. И, чем дальше,
тем более ясным становится это. О другой стороны, никогда еще в
истории наука не давила с такой силой на искусство, как сейчас. Это
прямая атака материалистической науки на идеалистические твердыни искусства.
Искусство жестоко сопротивляется. И это понятно. Здесь, как
никогда, — мертвый хватает живого. Трудно отрешиться от «сладостной легенды» о том, что художник есть жрец, прорицатель, превыше
толпы стоящий, окруженный мистическим почитанием, и т. д. и т. п.
Хочется людям верить в это: «предания мертвых поколений кошмаром тяготеют над умами живых». И мы полагаем, что в настоящее
время в рассуждениях об искусстве мы сталкиваемся сплошь и рядом
со своеобразным х у д о ж е с т в е н н ы м в и т а л и з м о м , стремящимся видеть в художественном творчестве какую-то извечную «жизненную силу», против которой в науке всю свою жизнь боролся цитируемый Воронским К. А. Тимирязев.
И нам на 7-м году революции пора вспомнить, что Белинский
был великим критиком—своего времени. Времени—абсолютизма в политике, «пущапия крови» в медицине, эстафеты и перекладных в
связях, твердых религиозных устоев в массе, лучины и каганца в
избе и сальной света в аппартаментах вельможи.
Мы же живем в век пролетарской культуры, развертывающейся
мировой революции, в век авио и радио, в век неисчислимых достижений во всех областях науки.
Не подлежит никакому сомнению, что без науки искусство ныие
пе способно будет ни па шаг двинуться вперед.
И если мы ставим сейчас вопрос о научной художественной
критике, то не из желания полемизировать, а исключительно потому,
что дальше ждать нельзя.
То, что мы сейчас имеем в нашей критике, постыдно далеко
отстало от тех требований, которые ставит нам жизнь.
И приходится удивляться тому, что в нашей критике везде
и всюду «душа», «дух», «вдохновение» господствуют безоговорочно —
даже в нашей марксистской критике. Это мы найдем и у тов. Луначарского, Когана, Воронского и других повседневно пишущих, критикующих, указующих пути. Не пора ли сказать: мы боремся с религией, вытравляем навыки, в'евшиеся сотнями лет. Закрываем церкви,
двигаем против религии естествознание, используем для этой же цели
искусство. А религия, называемая искусством, мистика жрецов и их
храмов, остается неприкосновенной. Даже больше, мы стремимся
оправдать это. Нэи. Такова общая политика. Неизбежны мелкобуржуазные уклонения. Конечно. Неизбежны. Но у кого? Разве они неизбежны и у нас, берущих на себя смелость называть себя коммунистами?
Ведь, знаем же мы ясно, что окопалась мистика, идеализм в
самом художнике, его алтарь со всеми семисвечниками остался во
всей, своей мистической красоте незыблемым. Не постеснялись же
наши поэты «Кузницы» (в декларации) в политическом кредо, если
хотите, брякнуть: «Художник есть медиум своего класса». На границе
со столоверчением это. И мы так-таки и позволяем им заниматься
этими вещами, ни слова не говоря по существу!
И вся богема, вся теоретическая социальная бесшабашность, царящая на огромном участке лит-фронта, об'ясняется только тем, что
мы не только это допускаем, но и пытаемся критически оправдать.
И темный, тусклый, затхлый воздух в рядах художников не
рассеивается, попрежнему царит: «я поэт, а на остальное мне плевать», «у меня душа поэта», «я не могу творить без вдохновения»,
«художественное творчество есть спиритический сеанс» (художник есть
медиум своего класса). «Заказчики»!—ругаются поэты, когда от них
требуют работы. — «Вы хотите обездушить искусство, оказенить, заставить писать по декрету! Художник должен творить свободно, петь,
как птица!» и т. д., и т. д., и т. д.
Мы берем на себя смелость выдвинуть, как конкретную задачу
дня, против этих настроений, мыслей,—вопрос о нашей критике, в
порядке новой его постановки. Пора научно-критическим подходом
разбивать эту толщу предрассудков, идеализма и мистики, которые
насквозь пропитали искусство нашего времени, за минимальными
единичными исключениями. Мы ясно представляем себе всю трудность этой задачи.
Нам сразу скажут: легко критиковать, легко ссылаться на необходимость научной критики; быть может, при ближайшем рассмотрении вопроса окажется, что это об'ективно невозможно. Быть может,
и сама наука, что весьма возможно, скажет нам: «я не могу разрешить этой задачи, которую вы передо мною ставите. Вопрос чрезвычайно серьезный. Можем ли мы, при данном состоянии науки, ответить на вопросы, выдвигаемые перед нами эпохой революции в искусстве?
При современном состоянии науки и перспективах, открываемых
ей революцией, с твердой убежденностью отвечаем: да!
Это нужно доказать, что мы и попытаемся сделать.
Наука должна ответить нам на следующие вопросы:
1) Происхождение и развитие искусства. Социологический его анализ.
2) Механизм творчества и восприятия. Социально-биологический
анализ искусства.
3) Форма и содержание. Соотношение этих элементов искусства,
их взаимозависимость и единодействие.
На первый вопрос марксистская критика имеет достаточно оснований для исчерпывающих ответов. Почва у нас есть. Здесь перед
нами стоит задача большой историко-аналитической работы.
Но вот по второму вопросу у т. т. марксистов социологов и физиологов есть пе только неуверенность в возможности не только какихлибо решений, но и сомнение в допустимости постановки вопроса на
твердую почву.
4
Они говорят: мы не имеем еще удовлетворительной научной теории сна, и можно ли вторгаться с большой смелостью в огромную
неисследованную область высшей интеллектуальной деятельности человека! Работы Павлова и Фрейда, с разных сторон подходящие к вопросу, дают много интересных фактов, наблюдений, иногда и—очень
слабо и несмело — выводы, вот и все. Вооружение крайне недостаточное.
Конечно, все это так, и было бы странно переоценивать наше
вооружение в этой области.
Но, несмотря на это, мы полагаем, что имеем право поставить
вопрос о художественной критике на принципиально иные рельсы.
Для этого — материала, даваемого нам наукой, больше, чем
достаточно.
«Гармонии стиха божественные тайны
Не думай разгадать по книгам мудрецов»,—
говорила нам старая мысль. И как это ни странно, но и посейчас, если мы покопаемся поглубже, это, в корне категорически противоречащее марксизму, положение в миллионах перефразировок является защитным цветом нашей современной художественной критики, не
говоря уже о самих художниках.
Тогда как — именно сейчас нам необходимо и мы имеем полную
возможность научной постановки вопроса.
Те данные, что дает нам сейчас наука, дают нам право сказать:
1) Творческий процесс художника есть ни что иное, как процесс
его высшей нервной деятельности.
2) Высшая нервная деятелиьость есть ни что иное, как ряд закономерно протекающих в нашем организме процессов химических и физических.
3) Все эти процессы не являются тайной, а лишь рядом научных гипотез, научно-об'яснимых и в известной своей, правда, небольшой, части вскрытых.
А отсюда— один общий, чрезвычайно простой, но для фетишистов искусства ужасный, вывод.
Все это наитие, вдохновение, полеты фантазии, творчество и
т. д. — е с т ь р а б о т а прежде всего.
Продукт этой работы появляется в результате чрезвычайно сложного процессу.
И отсюда следует только одно: надо понять этот процесс, разложить его на первоначальных множителей, об'яснить каждый из них
в отдельности и все их в их взаимно и единодействии.
Малепький пример: попробуйте об'яснить непосвященному человеку работу динамо-машины. Посмотрите, какая сложность взаимодействия элементов! Периоды переменного тока, количество витков проводника, длина проводников, математическое их соотношение, работа
коллектора, трение щеток, взаимодействие пластин коллектора с нервами-проводниками. Разверните перед ним превращение мотора в
динамо и обратно.
Это для него будет чудесами в решете.
Мы з н а е м это, и тайны в этом для нас нет.
Но посмотрите на повседневную, рядовую и даже высококвалифицированную художественную критику. Как будто нарочно мы демонстрируем здесь свою изумительную для нашего времени безграмотность.
%
Это покажется обидным. Пусть так, но что это факт — мы не
сомневаемся.
Не так давно в Ленинграде закончился всероссийский с'езд
психологов и невропатологов. Известно ли нашей художественной критике, что на этом с'езде рефлексология и коммунисты дали серьезный
бой психологам, идеалистам тож, и что психологи потерпели поражение. Известно ли также, что в наших университетах идет отчаянная
борьба рефлексологии или, шире, физиологической психологии — с
психологами старой науки.
А знать об этом было бы не вредно и глубоко поучительно.
Мы полагаем, что послать нашу художественную критику даже и
коммунистическую, а с нею и писателей, в хорошую учобу в этой
области — категорически необходимо.
Здесь мы имеем в виду такие разделы научного исследования,
как рефлексология школы Павлова (без ее вульгаризации с 37 законами Бехтеревым), широко развитое сейчас учение о внутренней секрекции (учение о гормонах), ионная теория возбуждения—работы Лазарева и работы Фрейда. Последние требуют к себе крайне осторожного
отношения.
По нашему мнению, развитие этих отраслей науки открывает нам
в области искусства вообще, а художественного творчества в особенности, чрезвычайно большие и богатые перспективы.
Мы считаем необходимым обратить внимание читателей на опубликованную в 1923 году работу академика И. П. Павлова
«20-летний опыт об'ективиого изучения высшей нервной деятельности животных». Эта книга ставит вопрос о высшей нервной деятельности человека на строго научную почву.
Вопрос о рефлексах — вопрос далеко не новый. Первые работы,
касавшиеся этого вопроса в России, восходят к 1863 году. Это была
первая попытка представить себе наш суб'ективный психологический
мир чисто физиологически, выраженная в работе И. М. Сеченова
«Рефлексы головного мозга» и «О задерживающих рефлексы центрах».
Как обстоит дело с этим вопросом сейчас?
Считаем необходимым маленькое отступление — для того, чтобы
сказать следующее.
Ни один грамотный человек не имеет права пройти мимо ныне
классической работы академика И. П. Павлова.
И еще необходимо отметить. Несмотря на специальность указанной работы, на огромную сложность и глубину вопросов, ею поднятых и решаемых, чтение ее даже не. для специалиста, помимо необыкновеппо широких горизонтов, которые она открывает, дает истинное,
глубочайшее наслаждение. Это — свежий воздух после затхлой атмосферы психологической словесности, с которой мы встречаемся в
вопросе о художественном творчестве.
Из лаборатории Павлова была изгнана, под страхом штрафа, вся
психологическая терминология. И остались только факты наблюдений
и их результаты. Это дало всему изложению удивительную силу,
какую-то неоспоримую убедительность и твердость. Ни одного слова,
ни одного термина, допускающего двутолкования. И капля по капле
наслаивается огромная сумма несокрушимых фактов, шаг за шагом
подтверждающих положения, впервые смело выдвинутые 60 лет тому
назад И. М. Сечеповым.
И нашим товарищам не вредно было бы запомнить золотые слова
И. П. Павлова:
«Для натуралиста все—в методе, в шансах добыть непоколебимую, прочную истину, и с этой только, обязательной для него, точки
зрения, д у ш а , как натуралистический принцип, не только не нужна
ему, а даже вредно давала бы себя знать на его работе, напрасно ограничивая смелость и глубину его анализа».
Ученый, не нашедший нигде в мире революции, политически
рассуждающий, как младенец,—в своей научной области отбрасывает
душу, крестит витализм, как анимизм, и тем расчищает себе материалистический путь к решению стоящих перед ним вопросов.
А наши «критики», начиная с Луначарского, ,через Воронского
до Когана,—всюду и везде суют «душу» искусства и художника *).
Обязанность каждого товарища, который хочет перестать бродить
в тумане психологии, прочитать, вернее,—читать эту книгу.
Вот что говорит И. П. Павлов в своем предисловии:
«... Мало-по-малу перед нами вырисовывается общая система
явлений данной области — физиологии больших полушарий, как
органа высшей нервной деятельности.
Мы знакомимся все более и более с теми основами поведения,
с которыми животное родится, с прирожденными рефлексами, обычно
до сих пор так называемыми инстинктами. Мы следим затем и сами
сознательно, постоянно участвуем в происходящей дальнейшей надстройке на этом нервном фундаменте в виде так называемых привычек
и ассоциаций (по нашему анализу—тоже рефлексов, условных рефлексов), все расширяющихся, усложняющихся и утончающихся.
Мы мало-по-малу разбираемся во внутреннем механизме этих
последних рефлексов, знакомясь все полнее с общими свойствами нервной массы, на которой они разыгрываются, и со строгими правилами,
по которым они происходят». (Указ. соч., стр. 10-я).
И несмотря на то, что вся работа с начала до конца идет под
знаком удивительно твердой, выдержанной осторожности, И. П. Павлов
находит возможным заявить:
«Этот опытный и наблюдательный материал, собираемый на
животных, иногда уже становится таким, что может быть серьезно
использован для понимания в нас происходящих и еще пока для нас
темных явлений нашего внутреннего мира».
На-ряду с этим—на поставленный вопрос:
«Поддаются ли условия, определяющие существование условных
рефлексов, изучению? Можно ли, зная эти условия, сделать рефлексы
постоянными?»—
он отвечает:
«Этот вопрос, мне кажется, надо считать решенным в положительном смысле».
Это подтверждается тем выводом из опытов, что:
«Искусственные, т.-е. нами сделанные, условные рефлексы оказались совершенно тех же свойств, что и натуральные».
60 лет в области научной физиологии привели к тому, что темная, таинственная область человеческой психики перестает быть жуткой тайной. Она медленно, но верно открывается во всей своей сложности нашему пониманию. О н а и з у ч и м а по линии физиологии. И
попытка опорочить возможность этого изучения встречается с авторитетным заявлением ученого:
*) Многие из товарищей считают возможным пользоваться этой терминологией,
разъясняя ее. Это говорит как раз только за необходимость отказа от этой терминологии, консервативно-привычной для массы и тем самым затемняющей нужный смысл.
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ.
іві
«Предполагаемая особенная неконтролируемая сложность новых
рефлексов отнюдь ничем не доказана».
Совершенно напротив.
«Из того обстоятельства, что эти рефлексы всегда и непременно
образуются при определенных условиях, надо заключить, что это
образование есть элементарный, легко уловимый процесс.
Другое дело — постоянные отношения вновь образованного рефлекса. Огромная масса различных раздражений постоянно и сильно
действуют на него.
Т а к и м о б р а з о м , с л о ж н о с т ь е г о з а к л ю ч а е т с я не в
с л о ж н о с т и и е х а н и з м а е г о о б р а з о в а н и я , а в ч р е з в ы ч а йно й з а в и с и м о с т и е г о от я в л е н и й , к а к с о б с т в е н н о й
в н у т р е н н е й с р е д ы о р г а н и з м а, т а к и о к р у ж а ю щ е г о
в н е ш н е г о м и р а » . (Стр. 162—163).
И с с л е д о в а н и я рефлексологического порядка продвинулись
настолько далеко, что И. II. Павлов находит возможным сказать:
«Я убежден, что на этом пути исследования (снотворного рефлекса)—и не за горами трудностей — лежит разрешение остающихся
до сих нор темными явлений гипнотизма и других ему родственных
состояний».
Поскольку вопрос стоит так, т.-е. на рельсах научного определения деятельности нашей психики физиологически, поскольку отчетливо
выявилась тенденция возможности научного решения этих темных до
сих пор вопросов,—а оспаривать это вряд ли можно,—постольку мы
можем в рамках, поставленной нами задачи сделать ряд ценнейших
выводов.
Можем ли мы понять появление тех или иных рефлексов, оценивая научно явления внешнего мира в их влиянии на человека?
В этом, конечно, не может быть никаких сомнений. Явления же внутренней среды самого организма встречаются с учением о внутренней
секреции, которая вскрывает с удивительной глубиной условия, порождающие явления этой внутренней среды.
Пусть ученые, работающие над этими вопросами (кроме Павлова),
не могут еще отделаться от старой отрыжки мечтаний о душе (проф.
Нэрна и др.), тем не менее они вынуждены лить воду на мельницу
марксистского миропонимания.
Учение о внутренней секреции щитовидной и околощитовидной
желез продвинулось вперед настолько, что явления кретинизма, зависящие от их расстройства, поддаются лечению. Кретин возвращается
в семью нормальных людей.
А, ведь, наука не стит на месте, она упорно пробивается вперед. Революция у нас в России широко расчищает ей путь, и несомненно — учение о внутренней секреции в недалеком будущем даст
нам возможность перевести на язык физиологии и сделать бесспорным
и с этой стороны основное марксистское положение: «бытие определяет
сознание».
И сейчас мы видим уже, что наука ставит и анализирует вопросы гормоно-рефлексологии. Этим явления внутренней среды организма становятся в цепь целостного исследования физиологической деятельности человека в целом.
На-ряду с этим, ионная теория возбуждения Лазарева, научная
попытка об'яснения того, каким образом протекают процессы нервного
возбуждения, сейчас уже тяготеет к об'единению своего опыта с опытами школы Павлова. Это логически неизбежный путь к единству
науки, это осуществление факта преодоления буржуазной раздробленности и цеховщины в науке, чему революция дала мощный толчок и
открыла широкий путь. И в этом процессе мы не можем, не имеем
права оставаться в стороне. Но—это особый, в высшей степени интересный, вопрос.
Вернемся к теме.
Знают ли об этих научных достижениях наши товарищи-критики
и тем более художники? Думаем и не ошибаемся, что в огромном % —
нет.
Пишущему эти строки пришлось столкнуться с репликой одного
видного работника-коммуниста и достаточно высоко-культурного. Услышав в моем докладе о вопросах рефлексологии и опытах проф. Павлова,
в отношении их к художественному творчеству, он остался очень недоволен. «Мы ждали от него доклада о критике, а он нам о собачьей
слюне».
Конечно, не лестно для поэта видеть некоторые перспективы в
его творчестве, исходя от собачьей слюны, но тем не менее, это есть
и будет фактом, собачья слюна и опыты с нею дадут толчок к научному пониманию процесса художественного творчества. Маркс давно
сказал, и тов. Ленин подтвердил это: «невежество никогда еще никому не помогало». Это нужно, и со всей остротой, вспомнить сейчас.
Скажут: не вам, невежде, в этих глубочайших вопросах науки
разбираться, вы еще сами не разбираетесь в них, как следует.
Пусть так, готовы принять любые скорпионы за свое невежество.
Но смеем думать, что лучше ошибаться на трудном пути научного
подхода, чем оперировать понятиями, терминами «души», «вдохновения». Думаем, что на последнее исторический материализм дает меньше права, чем на ошибки на путях материалистического научного
об'яснения механизма художественного творчества.
Вывод из этого только один. Пора положить конец безграмотной,
ненаучной критике. Пора поставить на рельсы вопрос научной художественной критики. Для этого необходимо, чтобы все наши критики
и художники были вырваны из лап схоластических споров о литере
твердо и поставлены в необходимость у ч и т ь с я . Об этом не нужно
стыдиться говорить.
Наши специальные художественные учебные заведения должны
заглянуть в свои программы, кружки и организации художников всех
видов и рангов, поставить в своей среде вопросы творчества на плоскость научного изучения.
От всего этого нельзя ожидать скорых побед и одолений над
в'евшимся идеализмом. Но уже п о с т а н о в к а этого вопроса нанесет удар той самонадеянности и художественному благоутробию, которые на нашей художественной растеряевой улице цветут махровым
цветом.
Этой пока постановкой вопроса мы ограничиваемся. Полагаем,
что мы будем иметь поводы, время и место вернуться к нему не раз
и по более конкретным поводам.
Т. Чурилин.
Сегодняшне-вчерашние.
Т у г и е дела на литературном
фронте.
I. Н е м н о г о п о л и т г р а м о т ы .
Пролетарская революция дала Октябрь. Октябрь дал нам пролетарскую диктатуру; та в процессе жестокого, беспримерного упорного боя
с капиталом и буржуазией, постепенно побеждая, напрягается теперь
в стройке новой жизни. Б у т о м ж и з н е с т р о е к у р с , м а т е р и а л и
п р о ч . — д о л ж н ы б ы т ь, я с и о, н а ш и м и , о к т я б р ь с к и м и , и
ц е л е в о й у с т а н о в к о й в а ш е й — О к т я б р ь . Это правило или,
вернее, органическая надобность — необходимое условие нашей новой,
иктябрьской культуры для всех фронтов жизнестроя, от политико-экономического до бытового. Без него новой культуре быть нельзя, у м а л е н и е о к т я б р ь с к и х о р г а н и ч е с к и - е с т е с т в е н н ы х элем е н т о в б у д е т ослаблением, замедлением ее приближения и роста,
о т о д в и ж к о й ее о т н а с .
А между тем, если центральный, политический, социальный ^целевой фронт, фронт социальной нашей революции верно и крепко делает
свое громадное дело Октября, то радиусы его, фронты другие, не все
поспевают в продвижке вперед, но другим дорогам к Октябрю. Правда—центральный путь здорово и основательно расчищен от наносов,
заносов и грязи только-что отбывшего «вчера». Правда, что радиусные
дороги расчищать было не время, с ними попозже, но время сегодня
наступает к теплу, к весне, а тут гигиена эпохи требует быстрой и
решительной санитарной чистки. Ей и раньше, всегда, предшествовал
тщательный точный осмотр «мест»; здесь мы произведем дальше такой
осмотр мест сегодняшнего нашего литературного фронта, — статья
этим специально и занята.
2. Н а к ' д е л а.
Как дела сегодня у нас на литературном фронте? Да в большинстве — но - вчерашнему. Дела тугие. Иных уж нет, а те далече от сегодня. К примеру: и позапрошлый «попутчик» Пильняк, и
наобещавший «Бронепоездом» Иванов Всеволод, и ныне присоединившийся, к тому ж, действительно небесталанный, Артем Веселый, и
новообретенный Бабель и прочие и прочие — в с е т ю к а ю т м о л о том к о л и не п о г о л о г о д ы о , т а к по
партизанщине,
т.-е. пишут, сообщают, пользуют момент недавно отбывший, следовательн о — в ч е р а ш н и й . А пишущие про сегодня наше, даже замахивающиеся на «завтра» (Либединскйй, Безыменский)—те, по совести,
кустарны, слово у них не сорганизовано, на два-три местечка в стихе
или прозе — два'крепких словечка найдутся у них, остальное вода да
неотстоявшаяся муть и з ж и т ы х и с т е р т ы х о б р а з ч и к о в п р е ж н е г о с л о в е с н о г о « х о р о ш е г о т о н а » . Что уж тут октябрьского
нашего! Февралем отдает, бессильем попахивает.
И как не понять, товарищи, до конца такой простой, но очень
устойчивой «истинки»: в индустрии—что верный признак и необхо11*
димое условие хорошо поставленного широкого производства, полного
сбыта—удовлетворение полное потребителя. Последнее слово техники,
у с о в е р ш е н с т в о в а н и е и з о б р е т е н и я и пуск его в ход для
всех. А с литературой иначе что ль? Никакой разницы по существу
(художественно-организованное слово — это такое ж производство нуж
ного продукта), — и громаднейшая разница по древне-вчерашней традиции у нас на деле.
Так, дела литературные у нас тугие — исчерпывающие себя
«вчера», неоправданные «сегодня» и — проба, подобная взлету у нас
в 1909 году на Ходынке аэропланов, продвижки в «завтра». Точный
смотр «мест» и учет «сил» будет произведен сейчас же.
3. С н а ч а л а
о
прозе.
— г Д д б е д и н с к о г о. Этот молодой пролетарский писатель
заявил о себе повестью «Неделя». Вещь прошумела в наших кругах,
вверху и в низах, вызвала оживленный говор в речах и в печати,
стала книжкой популярной у молодняка и в массах. Считается «единственной вещью, где действуют подлинные, не выдуманные, живые
большевики» («Коммунист», « 27, ст. Лежнева).
Еще Лпб^ишскцй написал повесть «Завтра» («Молодая Гвардия»,
N° 7—8, 23 г.). Это произведение зашумело еще больше. Действительно,
очень занятно задуман сюжет повести: продвижка столь ожидаемого
нами немецкого «завтра» — т.-е. победы германской пролетарской
революции — в наше сегодня. Центр действия — Москва, в окружении
Нэла, встречающая своими рабочими массами и их головкой, ЦК РКП
и Коминтерном, радио о власти Советов в Берлине. Как филиалы,
ответвления — несколько романических историй, развертывающихся
по окружности главной темы.
Итак, в двух главвещах Либединского сюжетным материалом
выбраны — опять (как у многих) только что отбывшее от нас «вчера»
нашей революции (гражданская война) и, как пока у никого — «завтра», спаянное с сегодня (Нэп, строительство). Что ж! »Неделя» в идеологическом смысле написана не плохо, спокойно и просто и верно;
без преувеличений, без акафистов и всхлипов дана героика коммунистов, бойцов и вождей, человеков со слабостями, но умерших крепко
и выживших стойко. Бытовые принадлежности эпохи и мест даны
верно, черты характера людей — тоже. Все правильно. Но, ведь, и
информация о стратегических фактах, коли она дельна и серьезна,
тоже дает в е р н ы е цифры, топографию, этнографию даже. Трактат,
скажем, о траектории, научный, очень точно и верно описывает свою
часть, математическую. Ну, товарищи, — а можно назвать все вышеуказанное х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р о й ? Нет еще, нельзя,
с этим и Лежнев, и Бороцский, и даже Прав духи н немедленно и неуклонно согласятся. А, ведь, «правдиво» (т.-е. точно и верно) и там
отображена действительность, — так в чем же дело, какая разница?
Разница — пустяк: м а т е р и л р а з н ы й , только и всего. Тоесть, это—то, что отличает в производстве металлиста от текстильщика,
сапожника от фармацевта. А в и р о и з в од с т в е м а т е р и а л — это
все. Без него ни дыхнуть, ни жить. А вот граждане критики и товарищи словопроизводственники (т.-е. писатели) думают иначе: слово,
т.-е. органический материал художника-словесника — это второстепенно; главное — мысль, идея, идеология.
Оно, конечно, без мысли никуда не денешься в слове, да и слово
без мысли бессмыслица, как и тело без нервов, и мозга—труп. Все ж,
и без с л о в а , в п е р в у ю о ч е р е д ь , в художественном производстве
г л о в а никак не обойдешься,—иначе это будет руководство по фармакологии, сочинение по этнографии, история быта, стратегическая статья
if т. д. А ч т о с о с л о в о м д е л а ю т наши пролетарские и попутченекие писатели и поэты? Они с ним п р о с т о не у м е ю т е щ е о б р а m а т ь с я или обращаются к а к к у с т а р и. Так и Либедйнскйй. В о т <• Неделя», все правильно, все верно, как в этнографическом учебнике,
а где же крепко и стойко соргаішзовапное слово, у с и л и в а ю щ е е
мысль, в ы д в и г а ю щ е ё идеологию? Вот — ораторы, в двух местах
говорящие об одном: международном положении. Идеология — едина,
о том бдит, за тем смотрит РКП. Но один — .Тдонкий — бепет jscëx
от верха до низа во власть силы п р г а и и з~о ç а н н о й* своей "речи,
мастерством оратора, р е ч е к о н с т р у к т о р а ; другой — морит скупой и вялостью своего неуменья, кустарничества, неорганизованностью
речи. Чуете теперь правду, товарищи?
И в «Неделе» и в «Завтра» у Либедипского слово вялое, невыбранное, н е о с о з и а и н о е к а к м а т е р и а л, не прощупанное опытноиоказательиой в е р н о й рукой мастера. Он, этот свой парень, не
учился еще как следует и не у ч и т с я и т е п е р ь , когда жадно идут
к Учобе пролетарские и крестьянские крепкие дети. Позади него, ' в
порядке преемственности прошлых культур, стоят старики, мастера
русского художественного слова — Лесков, Пушкин, Толстой, Державин. которые усиливали свою, родную им, дворянско-феодальную идеологию до мировой слышимости их. И не рачьи ползти к ним на выучку. а—бсозпанно о т о б р а в в п о р я д к е п р о л ё т д и к т а т о рC K o f t р е к в и з и ц и и у них денное, р е к о н с т р у и р о в а т ь , р е о р г а н и з о в а т ь общее русское слово, двинув его к нашей классовой
целевой установке — жизпестроительству нашего сегодня.
С т а л ь н ы м , г р а н и т п ы м, д у б о в ы м , ж е л е з н ы м с л ов ом к р е п и т ь и строить дальше, шире нашей мысли
Октябрь!
Об А р т е м е В е с е л о м . Этот два года назад был напечатан
«Красной Новью»— сцены из деревенской жизни — «Мы» и маленькая. двухспол страничная вещь—«В деревне на масленице'». Маленькая
оказалась удаленькой, озорной, свежей, быстрой: во весь скок неслись
короткие, крепкие предложения: слова верные, выбранные, хорошо
знакомые, язычили сочным мужицким местным брехом. шумели вёликорассейским «джонзбандом» ударные звукоподражания, и яркие
цвета, настоящие, дикарские прямо лезли в рыло читателю. Словом,
здорово посмешил и утешил,—думалось: эх, этот знает уж, ч т о и к а к
работать со словом,—сначала мужичков, а потом до пролетариев доберется, наш брат Исакий. А брат Исакий сел в Москве, учился в нашем
первом литв.узе у тов. 'Брюсова, попутно еще кое-где, а потом и подарил напечатанной вещью, уже большой, повестью, «Дикое сердце»,
которую снова приютил у себя в доме отдыха, в «Красной Нови», тов.
Врронский. — у него, в новом курортном сезоне, все «трудившиеся»
и обремененные жизнью (и он успокоил их): и староаглицкий, з д о р о во в ч е р а ш н и й . сьтр г Б. Пильняк, и повыдохшийся в ч е р а ш н и й
П. Иванов, и т р е т ь с в о д н я ш н и й Горький. Бабель, м о л о д ой с т ар и ч о к, и уже совершенно п о з а п р о ш л о г о д н и й специалист по
«искусству» — Правдухип. И Артем Веселый почти здесь с в о й ч е л о век: сюжет «Дикого сердца» — партизанщина, день, как говорилось
нами, у ж е в ч е р а ш н и й . А в работе со словом наш Исакий действительно пошел «вперед»—к б е л о в с к о - п и л ь н я ц к о - э р е н б у р г о в с к о й стройке фраз, периодов, предложений.—к выделению шрифтами
п о с т а р о ф у т у р и с т и ч е с к и м о б р а з ц а м : движение коротких
фраз, посылаемых верно н в беге, раньше у него бывшее, спутано,
перепутано, с л о в о з а л и т о к а к о й-т о о к р о т п к о в о й м у т ь ю ,
словом, по «последнему» фасону — Arthème из Парижа.
И все-таки, даже здесь, в этой противоестественной вчерашней
мешанине — островки крепких слов, по-своему ставленного быта, верная и нужная для с е г о д н я ш н е г о оздоровления «грубость». Есть
порох, сила есть еще. — только зачем же та, парень, залез но вчер а ш н и е с а н и — весна на дворе, соседи твои ра ботагот давно, ствой
идет. Октябрь ладят дальше, шире, глубже—опомнись во-время, братишка Веселый!
Тенеиь — о В а б е л е. Этот — хитрый: он знает, где раки зимуют
(на «праФе», у Воровского, в «Красной Нови»), Внает Бабель, и где
ракам быть не полагается. Поэтому Бабель напечатался сначала в
«ЛеФе» в 4-м — «Конармия» н «Одесские рассказы». Потом Бабель
появился в 1-й сего года «Краснови» — из тех же погудок, только
лад жиже, СОРТ ниже — словом, к месту. И таким манером оказался:
ласковым те.ттятей. невинно гуляющим по «прафу» и но «леФѵ».
Гюжетьт Бабеля, тоже, как и у ДРУГИХ — с в е ж е в ч е р а ш н и е :
гражданская война, фронта, 1-я конармия; есть и позавчерашние—
еврейская Одесса до революции. Раяиппа в том, что Бабель мастак,
насчет слова, работа с ним ему дело иривьгтпое. И словооб дел очник
он умелый. — учоба у него была крепкая, позади учителями стоят:
Лесков (слотюлюб известный!, повествование у пего от Толстого, лирика—от Лермонтова (ПРОЗЫ!. Бттдите, ѵчитъся он ѵмел и научился
брать от стариков ч т о н а д о . Бее правильно. Кроме того, язык бытовой on зияет до тла, слововыбор ѵ него для его сюжетов отличный,
ггеревоплотптьгя иль тляисформироваться из кязяка-конноярмейиа в
МшикV-яиоичикя. веселого короля воров, ему ничего не стоит, и тот
іг этот к а. к живые.
Но в том-то и иітѵка — к а к живые, н о не ж и в ы е. Типы —
«правдивы», верны, п р а в д о й и в е р о й в ч е р а ш н е г о д н я . II
настоящей нашей, новой жизни, сегодня, в ж и з н е с т р о е Бабель
участвовать не желает. Может, не сможет? Б З Д О Р . Когда человек УЧИЛСЯ
верно по-еуяромѵ и есть у него уменье — на л дай еще. иоѵчись-кя
у сегодня! Недаром ПОТЯНУЛО его к леФѵ. ПОПУТЧИКОМ, ОН знает, где
не ЗИМУЮТ, не д о л ж н ы бьт з и м о в а т ъ, раки, но отт должен приглядеться и увидеть нашу гору — Октябрь, движущийся к весне и
лету. А для той иорьт вчера — лишь удобрение, и длить о нем сказ
без копия — дело вредное. Пора и о с е г о д н я,—строят «сегодня» на
всех почти фронтах, кроме вашего лито.
4. Вот и о „поэтах".
Поэты настоящие у нас с е й ч а с быть должны — вот и тов.
Троцкий одного уж устанавливает в предисловии к книжке его стихов.
Это—Б е з ьт м е н с к и й, а книжка стихов—«Когда цветет жизнь».
Про него в предисловии так и сказано: «Безьтменский — поэт и притом свой, октябрьский, до последнего фибра».
Это большая находка, — признаться, до сих пор, в смысле обретения честпо своего, октябрьского во всех фибрах, поэта дело обсто-
яло крайне неблаговидно. Поэтьт-то б ы л и , а вот о к т я б р ь с к и х до
последнего мускула, мы не видали. Иу, теперь поглядим зорче в
Безьтменского. Авось!
Товарищ Троцкий помогает нам в видении, раз'ясняя: «он (Безыменский) берет революцию неликом, ибо это та д у х о в н а я планета,
на которой он родился и с о б и р а е т с я ж и т ь . Из всех наших, писавших о революции, для революции, но поводу революции, Б. наиболее
о р г а п и ч е с к и к пей подходит, ибо он от ее плоти, сын революции,
«О к т я б р е в и ч».
Да, доводы серьезные, и дело, выходит, тоже всерьез. Книжку
Безьтменского мы прочли до последней точки, да и раньше кое-что из
"его стйтпков читали. Читали, слушали и установили:
Прежде всего уточним понятия и факты. «Поэт» в точном переводе с греков значит «творец». Переводя это еще раз н а н а ш с е г о д н я ш н и й , д е л о в о й , т о ч н ы й язьтк,—получаем: и з о б р е т а т е л ь . р а з в п в а т е л ь , у с о в е р ш е н с т в о в а т е л ь . Формула эта
нам ближе, и ее мы будем держаться в дальнейшей установке.
Итак — Безьтменскнй настоящий «поэт», т.-е. изобретатель и
усовершенствователь слова в стихе, да еще и свой, октябрьский. Родился
ои па духовной планете, коя представляет из себя революцию, и собирается жить.
А мът, материалисты, сторонники близящегося к нам, на смену
эстетике, х у д о ж е с т в е н н о г о м а т е р и а л и з м а , до сих нор полагали Октябрь папт. революцию нашу, ежели и планетой, то никак
п е д у х о в н о й , а здорово близкой нашей земле н от нее новообразовавшейся в пропессе сильной и тяжкой, з е м н о й , физиологической,
реальной борьбы именно с элементалпт прошлого «вчера» и. между
ними, с метафизическими сущностями (с «духовностью» также). Понимаем. нто_у_шв, Троцкого это—«словесный фасон», а будто тов. Троцкому. не «Октябревичу» только, а самому заслуженному и действительному деятелю Октября, можно б н без таких фасонов обойтись смело
и естественно.
Это раз. Ява — настоящий поэт. Октябревич. Безътменский с о б и р а е т с я ж и т ь. Вот это точпо и правильно до тла.
По коли он собирается жить с е г о д н я , с Октябрем, помогая
его углубить, расширить, быть с ним о т в е с н ы к л е т у , то он
должен бьт знать, что в стройке, всякой, помощник .ли. мастер .ли.
заботятся больше подрядчиков о м а т е р и а л е , да и б е з н а с т о я щ е г о м а т е р и а л а р а б о т а т ь н е б у д у т , не смогут, раз они
мастера не лнновьте.
А материал «поэзии» — слово, состоящее из звуков или букв,
организованных мыслью на предмет ее усиления. И каждая эпоха имела с в о й строительный материал. Прошлая — золото, мрамор, розовое
и черное дерево, гнилушки светящиеся в темноте. Паша — сталь,
железо, гранит, дуб. — твердые, неуклонные, тяжелые. И такими, но
ним. должны быть звуки и слова, у поэта, организующего их в плане
Октября.
А материал Безьтменского, его словесный нрофматериал — слаб,
в ч е р а ш е и . качается, не слажен в оснастке, хоть и старается он
учиться у мастера в этом деле. Маяковского. Где же—«Октябревич»?
Желаньем, духовными устремлениями, без сноповки в деле слаживапия и подбора крепких, разных по материалу Октябрю, слон?
Пет. товарищи, с одной идеологией, без организации Красной армии. без организации пролетарских масс — Октября нашего в ж и з н и
не было б. Так. же пока нет его в жизни и и а л и т ф р о и т е. Безьтменский только собирается жить в Октябре, — п у с т ь ж е не забудет о н а с т о я щ е й заботе н а с т о я щ е г о
словопрои з в о д с т в е н н и к а — р а б о т е н а д м а т е р и а л о м , о с т р о г ом
у ч е т е и в ы б о р е его. Возможности у Безыменского большие, и
быть ему сегодняшним нужно.
Значит, настоящего, с в о е г о поэта, сына революции. «Октябревича», на литфронте у нас не имеется сейчас, с е г о д н я ? Дела, действительно так тугп?
Если принять в основу первичное наше здесь определение «поэта»,
как производственника социально-осмысленного, художественным трудом организованного слова — нз таких на сегодняшнем литфронте
можно отметить с о г о в о р к а м и , и назвать по имени наиболее, пожалуй, любопытного Сергея Третьякова.
О нем надо и стоит поговорить. В прошлом у него есть две книжечки стихов — «Железная пауза» и «Ясныш», выпущенные на Дальнем Востоке. В настоящем он имеет агит-гиньолъ «Слышишь, Москва»,
поставленный 1-м работам театром Пролеткульта, мелодраму «Противогазы», шедшую (едва ли не в первый еще раз в мировой практике
театра) на газовом заводе в Москве, и недавно вышедшую в
Госиздате книгу стихов — «Итого». Кроме того, у Третьякова идут
в порядке крепкой агитпропной работы везде статьи по культуре художественного труда: Лито. Тео, кино, нового быта.
Как-никак, показ «Противогазов» на газовом заводе в Москве
у нас и на рабочем театре Пролеткульта был событием давно не ощущаемой. действительной сегодняшней свежести. И рабочая наша публика была втянута показом по-настоящему в интерес: зашевелилась,
говорила и смотрела зорко, всерьез. Еще бы: показана была сегодняшняя жизнь, творимый быт, работа, героизм в работе, на строительстве сегодняшнем единственной сейчас в мире фильмы —
Красный Октябрь. И в смотре - оценке «Противогазов» это рабочее
мнение и суждение было действительно профсудом, — от него и мы
тут идем в нашем смотре.
Теперь — о стихах Третьякова. Стиходел он хороший, что говорит!,, и хороший не в смысле прошлогоднем, конечно, для этого
у него еще многовато в них сырья. Но что обработано у него до конца,
то сорганизовано словесно так, что у ч и т ь с я у н е г о к о е - к о м у
и з с п о с о б н ы х н а ш и х р е б я т , я с н о , с л е д о в а л о бы. Его
речевые марши, которые весь молодняк слышал и частью в них участвовал (1-мая. 23-го и на проводах Воровского), действительно
организуют и будоражат к активности, воодушевляют трудмассы, —
что ж лучшего может сказать наша потреба сейчас о «поэте»?
И в его «Итого» такие стихи есть, и их немало. Есть там и сырьевые еще вещи—и их, по чести, немало. Но даже 45% крепких вещей
в книге — это у ж е к н и г а , с оправданием насущнейших наших
запросов потребительских к продуктам художественно-трудового словесного производства т е п е р ь .
Да, Третьяков — прежде всего тот показатель активиста-словопроизводственника («поэта», в ветхозаветном и выдохшемся уже для
нас, термине), для коего с т и х л и ш ь п о в о д д л я п у с к а целев о г о о р г а н и з о в а н н о г о с л о в а в ж и з н ь , неутомимый р а б о т н и к по делу укрепления и ожизнения слова, агитатор-словесник, руководитель-словесник и в этом именно смысле относительно с е г о д н я тнн и ft «поэт».
Есть п другие, желающие работать и работающие над словом в
«сегодня» молодые поэты, но Третьяков наиболее показателен среди
них, к а к я в л ѳ и и е....
5« Пара с л о в . В с е г о !
Итак, на «нрафс» — перманентная могила (Н. Чужак), на левом—
все-таки много живее — уже есть одиночки - мастера, и скоро от
молодняка будут другие.
Пора, товарищи, пора, — гляньте: фронты Октября, «соседи»,
другие работают давно, — готовьте же силы, сознание, работу и а
создание настоящего, сегодняшнего, участвующего
в ж и з н е с т р о е н и и О к т я б р я — с л о в а.
Всего!
Удивляйся, но не п о д р а ж а й .
„Русский Современник", № 1—1924.
Современник—к о м у? Какому г о д у современник? Какой э п о х е ?
Очень не лишний вопрос.
Тем более любопытный вопрос, ч т о — п о внешности, по форме, по талантам —
давно столь крепко слаженной лит.тавочкп не было. Что неред пей дом отдыха
т. Вороненого! Старьевщик которому спускают обноски...
Читаешь и недоумеваешь: смотрите, сколько „души"! „Как пышно, как богато
живет человек"! А вот, поди ж ты: м е р т в е ч и н о й т а к в п о с и ш и б а е т .
Не будь это у нас первый сорт, мы и писать бы не стали. Но сейчас, когда
особо ценится лптдичь с гнпльцой. когда мы больше всего боимся, как бы не перевелись у нас „изящная литература" и искусства,—обходить молчанием сей „Современник" не приходится.
Итак—вопрос: к о м у ж е современник? Какой эпохе?
Нужно подойти к сему вопросу не шут і, нужно так, чтобы серьезно, с цифрами
в руках. Давайте же прикинем приблизительно, к а к о м у г о д у
современно
к а ж д о е о т д е л ь н о е п р о и з в е д е н и е ж у р н а л а,—особо по времепи д е й с т в и я и особо по о с в е щ е н и ю , — a иослѳ п о д ы т о ж и м , р а з д е л и м
на
число произведений и получим таким образом средний
возраст „Русского
Современника".
Метод—пе то, чтобы безупречно-научный, и пе то, чтоб очеиь н е н а у ч н ы й , —
без пяти минут Опояз. Лучше, во всяком случае, чем нравится—не нравится, понимаю—пе понимаю...
По порядку!
Ф. Сологуб.
Подумаешь, как изумительно живучи старые старики!
Четыре стихотворения. В о т — м и л ы й Федор Кузьмич. Чего-чего человек пе натерпелся, а кряжист. П днем и ночью волхв учепый все ходит
по-содонь кругом. Тот же мерный звездочетный ямб, тот же бесплотный образ,
то же кудесноѳ рационалистическое привораживание...
„Не слышу слов, но мне понятна
Твоя пророческая речь"...
И еще:
„Я сам закон игры уставил,
И проиграл, но ио хочу"...
И еще, и еще:
„Безумствует жестокий рок,
Ничья вина пе искуппма"...
бен,
Уж битый-перебитый, кажется, человек, а в с е — в землю перстом, ударит в буи—шаманит-шаманит:
„Ходит трепало,
Аспяда жало,
Рот до ушей"...
Недотыкомка? К а к о г о э т о г о д а ? 1 8 8 0-го? И по времени заштатно-уездного
д е й с т в и я , и по уездному, шамапско-безысходному м и р о о щ у щ ѳ п и ю...
Милые, кряжистые старики! Ну, и зачем их беспокоят!..
Евг. Замятин.
Евг. Замятин—это Федор Сологуб второго призыва.
Рассказ о самом главном. Прославился книжкой „Уоздное", кошмарным перепевом
„Мелкого беса". После октябрьской революции ;17-го года,
еще в старом чиповно-эстетском Петрограде, выделился в ряду квалифнцированпоинтѳллигентских саботажников, как наиболее из худ-писателей „ненриемлющий", как
з л о с т и ы й а в т о р и а и б о л е е з л о с т н ы X, клеветнических сказок о коммунизме. Ну, с тех пор, конечно, и Замятии „обошелся", по чтоб дух замятпый... дух
но в ышел.
Вот и в этом „самом главном"—автор держит вооруженный нейтралитет между
„орловскими советскими мужиками" и неприятелем — „келбуйскими мужиками".
Время действия—примерно, 1 9 1 9-ы й г о д , а освещение... да того же приблизительно,
что и Сологуб, 1 8 8 0 - г о г о д а .
Мир—это звериный кошмар, в котором грызутся между собой орловские мужики и келбуйекие. Нельзя сказать, чтобы и сам Замятив на деле не грызся,—по
крайней мере, облюбованные им герои, тонкие „душа" коих автор выявляет, принадлежат к келбуйскнм а к т и в и с т а м , т.-е. к б е л о й г в а р д и и , — н о это не мешает автору аттестовать себя потусторонне.
Вот—картинка, где взаимоотношения сторон и а в т о р а к обеим сторонам
очерчены до символа четко:
„Рядом—Филимошка, выпячена грудь, одну ногу вперед, как буква Я. И среди
штыков—Куковеров, без шляпы, вздрагивает папиросой, улыбкой. Из-за забора напротив—чуть слышный запах сирени".
Филимошка, троглодит, даже в победе „Филимошка",—некультурный большевистский председатель. Улыбающийся под штыками, даже и в плену, Куковеров—
белогвардеец-герой. Ну, а рассматривающий обоих из-за забора „чуть слышный запах сирени"—это, конечно, сам автор. Без сирени подходить к нашим „кошмарам"
для них неспособно...
Анна Ахматова.
Сначала—выдержка из книги Бытия, гл. 19, стих 26: „И
Стихи.
озреся жена его вспять, и бысть столп слан". Следует рассказ о
легкомысленной библейской даме, обратившейся в соляной столп.
Топко переданы амфибрахием тончайшие переживания сей дамы. А жития этой
последней—примерно—7.000 лет. Дабы избегнуть обвинений в вульгаризации, сделаем большую скидку: последнее широко-общественное настроение, цри наличии
которого столь ходки были осюжеченные ахматическне вздохи, относится все к том
же 8 0-т ы м годам упадка. Что же касается жизнеощущения, то оное, в наиболее
благоприятном для г-жи Ахматовой смысле, может быть отнесено к году п о с л е д н е г о стилизованного ухождения общества в бесплотную романтику, а в наименее
благоприятном...
„Кто женщину эту (т.-е. легкомысленную содомлянку)
оплакивать будет?
Не меньшей ли мпится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд".
To-есть—к жизнеощущениям, так называемым „вечным".
Последние—не в нашем ведении, а посему судить их, и о них, не решаемся.
М. Горький.
„В курорте Сестрорецк был банщик Степан Прохоров,
Из воспоминаний, благообразиый крепкий старик, лет шестидесяти". Этот старик
„лет шестидесяти" рассказывает автору свою биографию, начиная
с самого „со дня рождения" („удача преследовала меня со дня рождения"), да еще
ссылаясь при этом на знакомство свое с „писателем г-ном Маркевичем".
Действие могло бы с успехом происходить в 7 0-х г о д а х , а освещение...обычная горьковская философия, „со дня рождения" бунтарствующих булочников, борющихся с „господином богом". В лучшем случае, это—9 0-т ы е г о д ы , а в худшем
можпо и „перстень Поликрата" вспомнить. В той же мере „современно" и занимательно...
Н. Клюев.
Действие происходит при царе Алексее Михайловиче—так,
Песни на крови, примерно, в 1 6 7 0 г о д у . „Псалтирь царя Алексея; в страницах
убрусы, кутья; неприкаянная Россия по уставам бродит кряхтя".
Философия могла бы быть „современной"... старообрядцам Тишайшего, но, правда,—
и шаманствующей русской Нѳдотыкомке...
„Нет иглы для низки и нити
Победительных чистых риз...
О, распните меня, распните,
Как Петра, головою вниз!"
Ах, что вы—такие ужасти!
Леонид Андреев.
Водевиль в одном действии из римской истории. На сцене—
Конь в сенате. Калигула, т.-ѳ... 3 9-т ы й,примерно, по P. X. год. Философия—герои
и толпа!—70-тые годы 19-го столетня. Может быть—9 0 - т ы е годы,
если полагать центр тяжести в буптарствующем героизме „Единственного", не убоявшегося и погибшего...
Ник. Асеев.
Королева экрана,
Ба! Ты, косой, откуда? Из „Лефа" на отхожие промыслы
пошел. „Жизнь отходит, как скорый... На коня! Стисни зубы и
шпоры—нагоняй!" Да, чорта с два: нагонишь ее, как тронешься
на „отхожие"!
А дата под с т и х а м и — 1 9 2 4. Время „ о т х о д а " — и жизни, и автора—невидимому,
совпадает. Вот только с „философией" выходит неустойка:
„Закручивай ручку круче,
Вцепился в поручыь—держись,
Стремглав пролетайте тучи!
Срывайся под насыпь жизпь!"
Позвольте! Но это же—клюевское:
„О, распните меня, расннитѳ,
Как Петра, головою вниз!"
Философия —педотыкомская...
Леонид Леонов.
Рассказ Леонида Леонова — ровесник замятннекому
Записи некоторых эпи- „Уездному". Автор вышел из Замятина, как Замятин вышел
зодов, сделанные в го- из Сологуба. Это—Сологуб третьего призыва. Это—все та же
роде Гогулеве Андреем толстозадая уездная Русь, с бытом, чорт его знает, которого
Петровичем Ковякиным. года, пытающаяся возвести свои паршивенькие городки
Окуровы до высоты мирового символа.
Нет, старые бытописатели России были много честнее. Вернее, может быть,
они не были ушиблены так Недотыкомкой. Поэтому пи Глеб Успенский, ни Решетников и не иыталпсь выдавать какого-нибудь дьякона Василия Иванова пли подлпповцев за Фауста с Гнилого угла.
Длинно и любовно воплощаются паши ушибленники в какого-нибудь Андрея
Петровича Ковякина, некую помесь Девушкпна из „Бедных людей" и Смердякова,—
длинно и любовно стилизуют свою п с е в д о-п о п у т ч ѳ с к у ю
никудышн о с т ь в с о в р е м е н н о й ж и з н и под гоголевский быт, иод сологубовскую психологию.
Удивительно „современно-русское" это занятие—залезать в 1924 году с сюжетом в годы 3 0 - т ы е м и н у в ш е г о столетия, окрашивая сей сюжет „философией"
1 8 8 0-го года!
Каким-то „современникам" это занятие, повидимому, нужно...
Алексей Вагин.
Попытка восстановить в~стихах седую старину... ТунЗлые, смелые, русые, дры... дикие племена... печенеги... Лет, этак... т ы с я ч у
н а з а д . . . Апология дикой силы, характерная для первого
русского символизма (1890)...
Такова „современность",..
Бор. Пильняк.
Два рассказа
Октябрь 17-го года. Но это только „так". На сцене темная
мужицкая биология, в которой тонет, как что-то наносное, неорганическое—„первая в мире машинная революция". Разве это не
Сологуб? не Замятин? не мистическая ушнбленность 8 0-т ы х годов? Дворянское
эпигонство, выродившееся в тихий испуг Буниных:
„Здесь была вся русская деревенская злоба, нищета и тупость,—и надо было
защищать волков—мертвых волков—от пинков, от плевков, от дрекольев, от оскаленных зубов, от ненавидящих глаз,—ненавидящих уже не человеческой, а звери
ной, страшной ненавистью. И аптекарю, и инженеру, и часовых дел мастеру—им
всем было страшно этой мужичьей ненависти, скотской ненависти, трусливой, беспощадной, и они были на стороне—если так может быть—мертвых волков".
Так пишет характернейший из „современных" попутчиков, попавших по причудливой схеме одного товарища в „мужицкую ориентацию". Хорошенький „мужнковствующий"! Недурной „современник"!..
И. Бабель.
Бабель с кошмарными „Иванами" гражданской войны завершает
Иваны, худотдел „Современника". Впервые в этом окружении становится понятной для читателя фигура этого, с неба к нам свалившегося, попутчикаТрудно было прощупать его на разномастном фоне „Лефа"; ловко увертывался он от
осмотра и в странноприимном доме т. Воронского. Но в одномастном окружении
„современников" Бабель—как на ладони.
Ясно, что это самый настоящий „современник"... тем классическим „сынам
отечества и вестникам Европы", которым современны ныне окружающие Бабеля
авторы.
Никто еще, пожалуй—даже Пильняк—не преподносил нам такого преломления
1 8-г о года, от которого воистину удавиться хочется.
Это, может быть—„Подлиповцы" Решетникова, каждые полсотни страниц которого уложены в страницу Бабеля.
Это—попутчик... сатаны, садически влюбленный в человеческую мерзость и не.
человечески изобретательный.
Это—невинный Комаров, поражающий суд своей религиозностью...
Его мироощущѳпиѳ? Простите, дорогой Федор Кузьмич: я думаю, что Бабель
вас старше...
п п
^ „прочим", занимающим оставшиеся 70 страниц литературного
прочив. 0 Т д в л а > относятся не очень плохие писатели,—как, например: Л. Н. Толстой
(о Шекспире), Ф. И. Тютчев (Байрон), Ф. М. Достоевский (ппсьма), Н. Н. Страхов
(письма), А. Н. Майков (письма), Кузьма Прутков и другие. „Современность" этих
добрых покойников достойно завершает дело „живых"...
Попробуем подвести итоги. К о м у же, какому г о д у й какой э п о х е
и
современен „Русский Современник"? Складывая в о з р а с т ы всех перечисленных произведений,—особо по времени д е й с т в и я и особо по о с в е щ е н и ю , — и разделив ту и другую сумму па число произведений (11), п о л у ч и м
таким образом искомый средний возраст нашего загадочного
н е з н а к о м ц а (грим под современника). Итак:
Год
Год
действия.
освещения.
1. Сологуб
2. Замятин
3. Ахматова
4. Горький
5. Клюев
6. Андреев
7. Асеев
8. Леонов
9. Вагин
10. Пильняк
П.Бабель
Дальше!
1880
1919
1880
1870
1670
39
1924
1830
900
1917
1880
1880
1880
1890
1880
1890
1880
1880
1890
1880
17747
20730
_
17747 :11 = 1 6 1 3 г о д—среднее время д е й с т в и я .
20730:11 = 1 8 8 4 г о д — с р е д н е е время о с в е щ е н и я .
Итак:
В э п о х у 1 6 1 3 г о д а , примерно, происходит действие всего „Русского Современника" в целом,—
в 1613 году, т.-е. 3 1 1 л е т н а з а д , „Русский Современник" сюжетно живет,—
1613-му году, т.-е. г о д у о б ъ я в л е н и я п е р в о г о р у с с к о г о с а м о з в а н ц а п р и б л и з и т е л ь н о , наш современный „Русский Самозванец" телом
совремепсн.
Н а ц е л ы х 311 л е т т е л о м о т с т а е т ж у р н а л о т ж и з н и !
Несколько лучше обстоит с ним дело в отношении „духа".
Д у х о м „ С о в р е м е н н и к " о т с т а е т от н а ш е й ж и з н и
всего-нав с е г о н а 40 л е т .
Зато, на 271 год вперед шествует духом „Русский Современник* по сравнению
с облюбованной им для телесного обитания эпохой.
Вот—каков наш „Русский Современник"!..
Пусть несовершенен наш арифмо-эстетичѳский подход к журналу,—пусть даже
в радугу „военно-революцнонного порядка" вся наша методика одета,—примените
вы любой подход, и результаты будут мало отличны.
Недаром, не случайно Федор Сологуб открыл журнал своей „передовицей".
Мелкобесное чревовещание ушибленных интеллигентских одиночек витает ^
над ним.
.
Печатью тупикового безвремепья 80-тых годов отмечен каждый „современный"
шаг журнала.
Это—растерявшиеся русские интеллигенты, напуганные огромно несущейся /
жизнью.
Это—одна из многих ленинградских попыток наших верных, полуверных и ^
неверных попутчиков эмапципнроваться от давления „руки дающего".
Посмотрите, как любовно отнеслись они к этому с в о е м у н а 1 0 0 % журналу!
Лучшие куски аристократической „души" приволокли опп сюда. Лучшие обноски оскудевшего творчества, припрятанные от антрепренерской хватки Вороненого, сложили в с в о е й редакции.
И все же!
Подойдите вы с каким угодно методом к журналу и откройте в нем хоть атом
д е й с т в е п п о г о и н т е р е с а к о р г а н и ч е с к о м у с т р о и т е л ь с т в у в „сег о д ня",—оттого-то, может, так и прячутся они во „вчера"? — иль обнаружьте
ц е л е в у ю у с т а н о в к у этих „современников" на завтрашний день.
— Чего' они прочно хотят?
— К чему прочно стремятся?
Какая уж там „целевая установка"! Впору отмахиваться от толчков невежливого современья,—внору зализывать ушибленные места, перекочевывая то в 17-тый
век, то в 19-тый...
Удивляйся, но...
Печальное зрелище
саморазложения
представляют
собой литературно-художественные попутчики паши, будучи сосредоточены в аполитическом концлагере. Ничего, кроме испуга перед жизнью во
всех видах, они предъявить не имеют. А у них нам, хошь-не-хошь, приходится
учиться. Нужно перенимать от них какие-то приемы.
Вот тут-то и знак вопроса!
Один товарищ правильно подметил, что, п е р е н и м а я г о т о в у ю ф о р м у ,
м ы н е в о л ь п о п е р е н и м а е м ее с ч у ж и м г о т о в ы м о б р а з о м , — и этому
тьма примеров. А образ—это уже целая философия. Образ—мироощущение автора.
Тут—явная опасность.
Тут—возможность незаметного перевоспитания ученика, перенимающего форму
учителя.
И этому, к несчастью—тоже тьма примеров.
Вот почему, может быть, хорошо это,—ибо наглядно,—когда худпедагоги рабочего писателя, замыкаясь в собственном концлагере, так ярко скопом демонстрируют перед ним свою жизнеушибленность. Они как бы подсказывают ему самый
метод учобы, метод нужный и безвредный.
— Удивляйся, по не подражай!—вот лучшая формулировка этого метода.
Удивляйся тому, что образы традиционно-буржуазной худлитературы в столь
фатально-близком, почти неотделимом соседстве с горячечно-мистическим хвостом.
Удивляйся, но—не подражай. Строй нужный образ не по принципу духовного
наития, в стиле хлыстовства, а по принципу н а у ч н о г о п о с т р о е н и я , свободного от бредового момента.
Это—пункт п р о г р а м м н ы й . Раз!
Удивляйся тому, что вся традиционно-буржуазная художественная литература
наша становилась как бы на отлете от реальной жизни, рядом с ней или над ней,
как „представление" о жизни, как „познание", но — н и к о г д а не действенное разрешение ее вопросов, пе вклинение в реальность, не строительство. Удивляйся, но—не
подражай. Строй новую насмепную литературу не по принципу благовидного ухожденпя, а по принципу р е а л ь н о й с м ы ч к и е ж и з н ь ю , в целях ее устроения.
Это—пункт т а к т и ч е с к и й . Два!
Удивляйся тому, наконец, что эпигоны худлитературы нашей, по профессии
беря перо, не знают сами, для чего они перо берут, чего они хотят, чего желают.
Удивляйся, но — не подражай. Строй новую, рабочую литературу пе по принципу
„современных" блужданий в 17-ом веке пли вялого, бескостого „отображения", а по
принципу ч е т к о г о ц е л е в о г о р а в н е н и я на рабочее „завтра".
Это—пункт о р г а н и з а ц и о н н ы й . Три!..
— Научное построение образа.
— Смычка с реальностью, в целях ее строения, и
— Четкая целевая установка на диалектически прощупанный завтрашний день,—
вот три кита коммунистической науки о литературе, усвоив которые можно
не только без опаски углубляться в литмузеи „русских современников", но и способствовать строительству реальной жпзии классом устроителей—через е г о литераТ
УРУ. нужными е м у путями.
В усвоении этих грех пупктов—азбука рабочего писательства. По этой л и н и и —
его учоба.
Н. Чужак.
И. Н. КУБИКОВ—Рабочий клаес в русской литературе
изд. Основа, стр
198. Тираж 5 . 0 0 0 экз. Иваново-Вознесенск, 1924 г.
Художественная литература является очень плохим, ненадежным материалом
для историка, Как бы пи были „реалистичны" иногда литературные тенденции авторов, попытка дать более или менее точный, исчерпывающий материал о своей
эпохе всегда кончается неудачей. И, конечно, для историка 60-х годов полицейские протоколы, газеты, судебные отчеты, нечаенский процесс и т. п. данные
имеют несравненно большую ценность, чем тенденциозный агптроман Достоевского
„Весы".
Казалось бы, правильность этого положения не должна подвергаться сомнению. Многочисленными фактами проф. Евлахов (Оцыт философии русской литературы) и ак. Перетц (Методология) доказали, как неправдоподобны в отношении бы-
товом, этнографическом „Записки охотника", „Мертвые души", многие трагедии
Шекспира, но—увы.'—историко-литературные традиции „прошлых поколений кошмаром тяготеют над умами живых", и ныне мы можем встретить иногда довольно
объемистый труд, воспроизводящий эпоху по источникам художественной литературы.
Книга Кубикова являет собой работу такого типа, характерную прежде всего полным отсутствием самых элементарных методологических предпосылок и целевой
установки. Стряпается такая работа очень просто: по соответствующим страницам
„Русской истории" Покровского и „Русской фабрики" Туган-Бараповского сверяется литературный материал Тургенева, Гончарова, Григоровича и др., затем
пересказывается своими словами все имеющее отпошение к развитию и положению
рабочего класса из произведений этих авторов; все это прослаивается цитатами
из Покровского и Туган-Барановского, и готово—мы имеем новую бесполезную
книжку!
Автор время от времени сам делает замечания, з а с т а в л я ю щ и е его, к а з а л о с ь бы, п о п я т ь ненродуктпвность и нецелесообразность его подхода, вроде „Русская литература сороковых годов, являя собой торжество реалистического направления в искусстве, д а л е к о не о т р а з и л а в с е х с л о ж н ы х п р о ц е с с о в , которые
тогда происходили в жизни". И дальше: „История труда проводит нам ряд интереспых документов, рисующих быт и страдания, как посессионных, так и рабочих вотчинных фабрик, но в русской литературе специально отражения быта крепостных
рабочих не дано".
To-есть—другими словами, подтверждение того, с чего начата эта рецензия:
документы, специальное исследование по данному вопросу дают несравненно больше, чем самое талантливое и мастерское произведение традиционного искусства,
посвященное тому же вопросу.
Применительно к сороковым годам в литературе, уместна и нужна была бы
такая, например, постановка вопроса: как дворянская либеральная литература освещала и трактовала рабочее движение? При внимательной разработке этой темы, мы
получили бы любопытный и весьма ценный материал о зарождении, развитии классовых противоречий в литературе.
В позднейший период появились романы: „Отцы и дети" Тургенева и „Что
делать" Чернышевского,—оба затрагивают одно п то же движение, так ваз. „нигилистов". И — о б а трактуют его диаметрально противоположно. Объясняется это, копечпо, различными классовыми симпатиями и тенденциями авторов. Но ни один
из этих романов не дает правдоподобных типов и характеристики того периода.
То же самое констатирует автор и в современной литературе: „Несмотря на
наличие литературно-пролетарских объединений, рабочий быт остался художественно
не отображенным. Для своего ознакомления с этим бытом, историку, помимо различных статистических материалов, придется обратиться к рабочим мемуарам, если таковые появятся, а также и рабочим корреспондентам".
Да, копечпо. рабочие корреспонденции и статистические материалы точнее
фиксируют быт, чем лучшие СТИХИ Безыменского и Казина, чем проза Тарасова-Родионова, Лнбединского и даже Ляшко.
Со всем этим как будто соглашается Кубиков, а вместе с тем... на двухстах страпицах стремится воссоздать рабочий быт по литературным материалам!
Большая работа с ничтожными результатами.
В. Силлов.
И. ГИРН — П р о и с х о ж д е н и е искусстве. Госуд. Изд. Украины, 1923 г. Предисловие
Р. Пельше. Стр. 232+ХѴІ. Тираж 5.ООО. 8е. Ц»на 2 руб. 20 ноп. золотом.
Вопрос о происхождении искусства трактуется в пауке двояко: или он рассматривается исторически, пли теоретически. Первый способ решения проблемы
крайне затруднителен, вследствие ограниченности материалов но исследованию материальной культуры доисторического человека. Здесь неизбежны сплошь и рядом
только гипотезы. Теоретическое обоснование проблемы нередко грешит произвольной постановкой логических умозаключений, соблюдающих лишь законы формальной логики.
Гирп в своем труде занимает по преимуществу теоретическую позицию. В вопросе о возникновении искусства, как особого рода деятельности, он становится на
психологическую почву. В суждении о последовательности, с которой выступали на
историческую сцеву различные художественные формы, он ограничивается чисто теоретическим принципом: „Оставим совершенно без внимания вопрос об исторической
последовательности и обратим все наше изучение на различные ступени теоретического первенства" Говоря о первоначальных вещах, он рассматривает их „с логической точки зрения", а не с исторически-хронологической.
Эта позиция выявлена с большими оговорками, отнимающими у критика упрек в узости взглядов автора. А также обоснована большой эрудицией, опирающейся
фан актичесішй материал исторических изысканий. И все-таки—книга не лишѳн£
двойственности впечатления. Сознавая, что одна психологическая позиция, к тому
же обоснованная на принципах старой дуалистической психологии, не может удовлетворить современное сознапие, Гнрн привлекает к себе на помощь известную долк
социологической ориентации в затрагиваемых вопросах. „Психологическое исследование необходимым образом должно быть дополнено историческим",—говорит он г
добавляет: „психологическое объяснение художественного инстинкта и соцнологическо«
объяснение художественного произведения суть две выдающиеся, неустранимые
проблемы эстетического эволюционного учения".
Эта поправка не устраняет дуализма в исследовании Гирна, а, может быть
лишь усугубляет его. С социологическим взглядом никак не вяжется чисто эстетн
ческая, формально-абстрактная точка зрения на вопросы художественной культуры
„Мы истолковывали,—говорит Гирн,—художественное творчество и восприятие, * каі
такие деятельности, которые имеют цель в самих себе". Все время привнося в сво<
психологическое исследование коррективы исторического порядка, Гирн, признавая
за искусством нередко служебно-утилитарную роль, все-таки подчер кивает „самодо
влѳнпе" художественного творчества. „Только допущением независимого художествен
пого инстинкта,—настаивает он,—мы можем объяснить существенный характер искус
ства". Наконец, он высказывается еще прямолинейней: „истинное искусство заключает
свою цель в себе и исключает всякую иную".
Это подчеркивание „самодовлеющего" значения искусства слишком очевидне
в книге. И чем оно ярче, тем более кажется странной рекомендация книги Гирна
сделанная Гос. Изд. $'краины. В предисловии к кпиге Р. Пелыпе, перечисляя ряг
трудов, освещающих вопросы искусства с материалистической точки зрения, констатирует их количественную и качественную ограниченность и предлагает книгу Гирна
как* своего рода компромисс. „Пока у нас пет своих собственных работ и достижений
мы должны пользоваться,—конечно, критически,—трудами наиболее к нам близке
стоящих буржуазных ученых". Но даже весьма осторожная критическая оценка К Н И Г Е
Гирна, которой посвящено предисловие Пельше, с очевидностью подчеркивает, насколько Гирн далек от материалистической доктрины и насколько он в своих психологических концепциях чужд социологии.
Мы не хотим сказать, что книга Гирна бесполезна плп совсем плоха. Большая
эрудиция автора оправдывает его право на внимание к себе со стороны всякого
интересующегося вопросом происхождения искусства. Мы хотим отметить только, чті
в ответственной критической оценке книги, сделанной в предисловии к пей, пе только
не подчеркнута с должной прямотой вся пропасть, лежащая между взглядами Гирпа
и материалистическим подходом к искусству, но даже проявлена попытка рекомендовать книгу Гирпа, как некоторый „компромисс". Это уже плохо, и задачам украинского Госиздата, как будто, не соответствует.
ГАУЗЕНШТЕИН.—Искусство
и о б щ е с т в о . Изд. „Новая Моснва", 1923 г
340 crp.-j-XXIV иллюстр. на отдельн. листах, цена 7 руб.
О Гаузенштейне даже на русском языке создалась критическая литература
Для пас, неизбалованных на русском книжном рынке литературой по искусству,
несколько обстоятельных, хотя бы по размеру, статей о книге представляются фактом уже исключительным. Все критики Гаузенштейна сходятся друг с другом в
двух основных пунктах: 1) что труд Гаузенштейна представляется значительной
работой по социологии искусства, 2) что его марксистская позиция, которую он занял, не всегда выдерживает свою линию, образуя прорывы. Эти пункты неоспоримы.
И мы не остановимся поэтому на них.
Особенность социологического подхода Гаузенштейна к явлениям художественной культуры заключается в том, что, в противовес прежним попыткам социологического анализа искусства, исходившим при объяснении из сюжета по преимуществу,
Гаузенштейн отправляется в своем исследовании от формы произведения искусства.
„Для социологии стиля дело идет пе?о влиянии социальных условий на художественный материал, но о влиянии па форму". „Если мы занимаемся историей искусств,
то мы занимаемся историей формы". Вот основное положение исследования
Гаузенштейна.
В своих ранних трудах Гаузенштейн был только формалистом. В дальнейшем
он сознал недостаточность формального критерия для объяснения сложных явлений
мировой художественной культуры. И тот метод, который он применяет в рецензируемом труде, учитывает всю совокупность социальных факторов и их влияние па
форму художественного произведения. Не об ограничении этой точки зрения падо
ратовать, как это старались подчеркнуть некоторые критики Гаузенштейна, а об ее
углублении. И на это приходится указывать, ибо в этом смысле у Гаузенштейна
есть срывы...
Особенпо резко сказалось ограничение Гаузенштейном понятия формы лишь
тииическимп проявлениями художественного творчества (живопись, скульптура) на
анализе эстетики первобытного искусства. Характеристическая черта первобытного
искусства сказывается в том, что художественное творчество проявляется по преимуществу в формах предметов повседневного и религиозного обихода. Это обстоятельство не отмечено Гаузенштейном. И в то время, как в других главах он понятие
формы применяет в широком смысле, противопоставляя, напр., форму станковой картины формам декоративного и монументального искусство,—здесь, в гл. 111, он под
формой попимет лишь изобразительную сторону в произведении, разграничивая,
напр., натуралистический рисунок охотничьих племен и стилистические тенденции
в искусстве земледельческих народностей.
Признавая за каждым стилем той или ппой эпохи его функциональную зависимость от социальных условий этой эпохи, Гаузенштейн приходит к выводу, что
каждая форма искусства имеет свою ценность в свое время и своем месте. А отсюда:
„пет никакого абсолютного канона художественного произведения",„художественный
стиль становится высшим выражением общей жизненной энергии эпохи". Эпохи же
Гаузенштейн делит на „органические" и „критические". Время накопления жизненной энергии, время оформлении облика той или иной культуры он относит к эпохам
органическим. Опи характеризуются синтетически-действующей и коллективистической энергией. Эпохи индивидуалистического распада суть эпохи критические.
Здесь не представляется возможным последовательно отметить многочисленные,
чрезвычайно тонкие параллели, которые проводит Гаузенштейн, рассматривая форму
искусства в связи с экономической структур >й общества, и высказывать по поводу
их критические замечания. Мы ограничимся указанием па то, что Гаузенштейн,
сузив матеіміал для своего исследования проблемой „нагого тела", едва ли выиграл
в смысле выразительности своих доказательств и положений. В некоторых случаях
особенно явственно сказывается, как узко ему в поставленных самому себе границах и как в общих характеристиках эпох и их искусства он постоянно выходит из
орбиты проблематики „нагого тела". Разумеется, это обстоятельство лишь обогащает
исследование.
Второе замечание наше коснется внешности издания. Оно перегружено очень
плохо выполненными репродукциями. Плохое исполнение не дает возможности отнести это издание к „художественным". Многочисленность же репродукций значительно
удорожила издание и сделала его недоступным огромному большинству, напр., студенчества. В то же время именно эту книгу хотелось бы рекомендовать студентам
Вхутемаса. Издательство „Новая Москва" сделало плохо рассчитаниый шаг, издав
нужную книгу по дорогой цепе. Содержание ее не проиграло бы, если в книге не
было бы даже ни одной репродукции.
Графическое искусство.—Журнал Научно-технического Отд. „Мосполиграфа" X« I
Москва, 1924 года. 84 стр. с репродукциям/! на отдельных листах и в тексте. 2 руб. 5 0 к о п .
Возпикает недоумение, почему журнал назван „Графическое" искусство, тогда
как он захватывает разнообразные отделы полиграфической промышленности и материал первого номере посвящен в значительной части даже не графическим, а типографским производствам.
Приходится отметить статью Балицкого о фото-наборной машине, изобретении
еще мало знакомом в России. Фото-наборная машина, устраняя и литеры ручной паборной кассы и свинцовый сплав наборных машин, освобождает типографию от громоздкого материала, коим являлся типографский шрифт и слитки стереотипов. Фотонаборная машина фотографирует печать на особую пленку, с которой делают клише
и печатают. Но вслед за этим изумительным изобретением фото-наборной машины
уже ведутся успешные опыты над бескрасочной печатью на фотографической бумаге.
Достигнув дешевизны в ее производстве, типография вслед за металлическим наборным материалом устранит из своего обихода и краску. Светопись будет делать в полиграфическом производстве все, начиная с клише для рисунков, кончая набором
текста и бескрасочной печатью книг и газет. Видимо,-мы стоим на рубеже огромного
переворота в полиграфической индустрии, значение которого, быгь может, равносильно гуттенбѳргову изобретению...
Статья Галашкина касается автотипии, как способа фото-механической репродукции.
Статья Рольффса останавливается на способе меццотпнто, приобретающем в
современной репродукционной технике все большее и большее значение.
Шапиро в статье „Наборная машина" разбирает различные конструкции наборных машин.
Часть материала посвящена отчету деятельности „Мосполиграфа". Часть имеет
узко-практическое назначение, как, паир., статья Орлова „Уход за скоропечатными
машинками". Хронике Запада, относящейся к полиграфии, хотя и отведено место, но
но столь значительное, как того бы хотелось.
Надо сознаться, что почти весь материал носит по преимуществу информационный характер, без претензии на самостоятельность п оригинальность высказываемых ноложепий. Тем не менее, в форме хотя бы п информации, он пе лишен
интереса.
Внешне журнал достаточно опрятен. Бумага, репродукции, печать—хороши.
Первый номер, сообразуясь с качеством издания, продается дешево, но, все же, для
рядового полиграфщпка он дорог. Надо удешевлять его в дальнейшем, хотя бы за
счет качества, напр., бумаги.
А. НЕВЕРОВ — Т а ш к е н т — г о р о д
1923 Г. 168 стр.
х л е б н ы й . Моск. изд. „Земля и Фабрика".
Сюжет повести несложен: тяга из голодной деревни в Ташкент за хлебом. Четырнадцатилетний Мишка Додонов, хозяин и единственный кормилец семьи—один
из многих, стремящихся в „Ташкепт невиданный", в спасительную хлебную страну.
Художественная литература о голоде, в частности—о голодных детях-беженцах,
невелика. Повесть Неверова является едва ли пе единственным значительным произведением этого рода. Тема о голоде до сих пор разрабатывалась писателями в чертах беспритязательного натурализма со стороны внешних ужасающих подробностей
физических и физиологических проявлений голода („Белая Араппя" Н. Никитина);
иногда картина физических страданий интерпретировалась писателем в связи с привносимой „по поводу" пародпнческо-мистической тенденцией („Земля проклянет"
Л. Зилова). Читатель непроизвольно отграничивает, с одной стороны — картину бедствия в ее ужасной значимости, независимо от изобразительной силы художника,
с другой—голос как бы из суфлерской будки—суждение писателя об изображаемом.
У Неверова пет этого дуализма сюжета п резонирующего писателя. Он удачно
использовал прием перенесения всех событий в плоскость восприятия своего героя
Мишки.
Мишка, ребенок в свопх непосредственных жизнеощущениях п влечениях, по
своей внешней повадке, по хозяйским наивно-заботливым мыслям—„большой, настоящий мужик". В повести Неверова слишком лирической, чтобы быть только „добросовестно-бытовой", неизбежный натурализм художественно преображаотся тем, что
явления изображены с точки зрения подростка, всегда фантастично, но по-своему
правдиво представляющего действительность.
Не проходя мимо и не затушевывая грубых и ужасных, часто отвратительных
явлений голода, Неверов и в этих бытовых сценах, и в Мишкиных бредовых видениях и мечтах, и лирически-насыщенном пейзаже, и в самом словесном стиле повести, искусно инструментованной, исключительно художественно-правдив. М и ш к а —
не отвлеченный голодающий мальчик и не индивидуальный портрет, добросовестно
списанный с натуры, а художественно-смонтированный человек, в своей всеобщеубедительной детскости н в социально-крепком облике хозяйственного мужичка, со
всеми присущими бму инстинктами и навыками, неистребимыми даже вынужденным
бродяжничеством и нищенством. Мишка честен и добр, но—себе на уме: товарища не
обидит и в беде пе оставит, но и своей выгоды не упустит; с людьми осторожен и
несколько лукав: где напрямки ничего не добьется—можно и обмануть, если никому
не вредно.
Если Мишка—здравомыслящий буржуа, то Трофим (мальчишка-бродяжка)—
озлобленный анархист, оторвавшийся от социальной почвы и завидующий только
крепости собачьих зубов; но и в этом почти звереныше силен инстинкт дружбы, вырастающий, может быть, из еще более сильпого инстинкта—самосохранения.
Сережка—самый младший, не уцелевший, не добравшийся до Ташкента—еще
совсем несмышленыш. Вся его жизнь—только в ощущениях голода, холода, болезни,
детского страха.
Эта повесть Неверова—повесть о голодных детях: Мишка, Сережка, Трофим и
еще от страницы к странице — множество безыменных—песчинки в общем людском
голодном потоке; детский писк и в о п л ь — к а к аккомпапимент в грозной симфонии
смерти.
И все же: повесть Неверова—не о смерти, а о жизни. Это—почти поэма ожесточенной, исступленной борьбы с настигающей гибелью, поэма усилия, последнего, невероятного в своем напряжении и побеждающего. Вся повесть — под знаком воли к
спасению. Выжить, во чтобы то ни стало выжитьі И победить—даже в предельной
гибели. Ташкент—город хлебный—выступает почти в былинном великолепии, в чертах почти сказочных. В этом только—лирическая фантастика повести: картинами вдох-
новенного бреда перемежаются реалистические моменты цепкой борьбы за жизнь деревенской беженской толпы; люди виснут на поездах, влачатся по сухой голой степи,
гнездятся па станциях, то соединяясь в каком-нибудь общем усилии, то злобно соперничая в самом малом.
И смерть побеждена. Погибают самые безвольные, незащищенные; те же, которые сумели довалить, добраться, запаслись в „Ташкенте" хлебом, чтобы заново „заводиться", питать отощавшую землю и спасать уцелевших.
Даже старик, не дотянувший, не добравшийся, сломившийся в пути, умирает
все же в уверепности возрождения земляной и человеческой силы:
— „ С о всех сторон, со всех дорог идут-ползут трудящиеся из больших и малых
сел, из больших и малых деревень. Каждый несет по зернышку, кладе* свое зернышко в родную голодную землю. Уроди, кормилица!*..
Так в самой смерти в повести Неверова пробивается и торжествует яеымная жизнь.
К. Лаврова.
Пролеткульты
на местах
л
.
.
•
Работа Пролеткультов.
К настоящему времени имеются следующие Пролеткульты в РСФСР:
1. Московский,
2. Лѳнннградский,
3. Иваново-Вознесенский,
4. Тверской,
5. Екатеринбургский,
6. Саратовский,
7. Рыбинский *).
Все указанные П р о л е т к у л ь т ы — г о р о д с к и е , т.-е. ведут практическую работу в пределах своего города. Исключение составляет Е к а т е р и н б у р г с к и й
II р о л е TIC у л ь т, имеющий связь с рядом мест округа через своих клубных инструкторов-практикантов.
Прежде, чем говорить о работе Пролеткультов, приведем ряд цифр, характеризующих с о с т а в с т у д и й ц е в
и
руководителей.
На 1-0 января **) 1924 г. по всем Пролеткультам имеется 2 4 с т у д и й н ы х
к о л л е к т и в а , в том числе 1-й Рабочий театр, Изо-мастерская Московского Пролеткульта и Режиссерские мастерские ЦК В. 11р-та.
Всего студийцев 412 человек.
II о с о ц и а л ь н о м у
положению:
Рабочих у станка 20°/о.
Рабочих, снятых с производства, и детей рабочих 33°,о.
Крестьян 20°/о.
Прочих (б. рабочих, служащих, детей служащих) 27°/о.
По п а р т и й н о й
принадлежности:
Членов и кандидатов РКП (б.) 9%.
РКСМ
290/0.
Беспартийных
62°/о.
По о б р а з о в а н и ю
(общему):
Имеющих домашнее и низшее образование 67°;о.
„
среднее (И ступень)
31°/о.
„
высшее
2°,о
Ііо
возрасту:
До 19 лет 650/0.
Свыше 35°/о.
По с т а ж у в П р о л е т к у л ь т е :
4 — 5 лот в Пр-те 1 Ц/о.
2 — 3 года
„
28о/о.
Прочих
610/0.
Каков же с о с т а в
руководителей?
Общее число руководящего состава 19 человек ***):
Ч л е н о в Р К П (б) —80°/о.
Б е с п а р т и й н ы х — 20°/о.
По с о ц и а л ь н о м у
положению:
Рабочих от станка
40°/о.
Интеллигентов
25°/о.
Прочих (служ., крест.) 35°/о.
Как можно видеть из приведенных статистических данных, Пролеткульты в
партийном и социальном отношении достаточно защищепы от всяких мелкобуржуазных и реакционных влияний. Это подтверждается всей работой Пролеткультов и
за истекший сезон 23—24 г. К пей мы и переходим.
Подводя итоги, мы должны констатировать новые положительные сдвиги в
нашей работе, преимущественно в области клубной, равно и в художественной.
Очень значительную клубную работу проделал Екатеринбургский Пролеткульт,
который в течение 9 месяцев провел к л у б н ы е к у р с ы , посдо чего 12 человек
пошли на практическую работу: 5 в качестве завклубов п 7 как тѳо-ивструктора.
*) Кроме Пр-тов РСФСР, существуют Пр-ты в Харькове, Одессе, Екатеривославе, Волыни, Тифлисе.
**) К і-му мая с. г. эти цифры по составу студий почти не изменились, по составу руководителей —
тоже.
**•) Постоянные работники.
Перподичпо Екатеринбургский Пролеткульт созывает совещания своих курсантов, дает соответствующие указания по работе, получает информацию, отчеты о
проводимой ими работе в клубах.
Все двенадцать товарищей ведут работу по профсоюзным клубам, никаких
недоразумений па этой почве участие Пролеткульта не создает; ваоборот, Губпрофсовет оказал Пролеткульту помощь командированием своих членов на эти курсы и
оказывает поддержку в работе сейчас.
Попутно отметим, что, кроме клубной работы, Екатеринбургский Пр-т имеет
студии Тео, Лито, хор—построенные по принципу единой студии искусств. Наиболее активной является студня Тео, которая в текущем сезоне много раз и успешно
выступала со своими постановками: „На заре", „Же.ітый дьявол", „Не ходи", „Слышишь, Москва" п т. д.
Столь же удачные шаги делает в этой работе и Ленинградский Пр - т,
инструктируя и практически у ч а с т в у я в р а б о т е к л у б о в : Большевик — им.
Ленина,им. Калинина—пролетарского завода, ижорского завода и клуб „Красный маяк".
Кроме кружковой работы, Пролеткультом проведен ряд кампаний, в том числе с особенным успехом проведепа кампания по быту. Медленно из среды Тео и Изо студийцев Ленинградского Пр-та выдвигается ряд товарищей па клубную работу.
Ленинградскому Пр-ту, наконец, в течепие этого сезона работы удалось сорганизовать хороший Т е о - к о л л е к т и в , который пока занимается специальпоучебно-лабораторной п общественной работой, а с лета этого года переходит на
производственную. Основная работа с этим коллективом с большим успехом была
проведена двумя студийцами Режиссерских мастерских Ц К Пр-та, посланными туда
временно в качестве инструкторов-практикантов.
Из производственной работы Тео-коллектива следует отметить удачно сработанную пьесу С. Третьякова „Непорочиоо зачатие", поставленную в клубах.
И з о Ленинградского Пролеткульта имеет за собой наибольшую давность
и устойчивость из всех других Изо Пролеткулмов по составу студийцев и руководителей. Работа здесь развивается успешно, хотя я несколько медленно.
Общий характер Изо—производство: вывески, афиши, плакат, панно, знамя,
выполнение заказов на государственные и профессиональные организации. Особенным успехом пользуются плакаты. Как недостаток работы, следует отметить недостаточную осознапность путп Изо, что можно заключить из продолжающегося увлечения
некоторой части Изо станковизмом и декоративностью.
Л и т о - р а б о т ы в Ленинградском Пролеткульте нет, он периодично собирает при
Пролеткульте лит-группы, но эту работу нельзя считать принадлежащей Ленинградскому Пр-ту.
Главным недостатком является недостаток работников для центральной работы
и клубпой.
По признаку того же сдвига следующим стоит Тверской Пролеткульт, одно
время намеченный к ликвидации Тверским Губкомом РКП, сейчас же работающий в контакте с Райкомом РКП и РКСМ при б. Морозовской м-ре. Здесь также была
проведепа краткосрочная к л у б н о - к у р с о в а я р а б о т а со студийцами, старшп
ми по пролеткультовскому стажу, с уклоном сперва в обще-клубную и обще-художественвую работу, затем на практике по линии театральной. Четверо студийцев работают в 6-ти клубах в тео-кружках, в то же время влияя в этих клубах и па другие
стороны художественной работы.
Одновременно Пролеткульт участвует в клубных совещаниях при Губполитпросвете н Райкоме РКП, обследуя клубы, разрабатывая по заданию указанных организаций инструкции, плавы проведения кампаний, преимущественно но пролетарским празднествам.
Вторично создаются курсы клубных работников, руководителей по Тео.
Уклон в производство „театралов" происходит в связи с предложением Райкомов Пр-ту взятп на себя постановку этой работы во всех тех клубах, где до сих нор
работают старые спецы, никак не могущие подойти к пониманию театральной работы
в рабочем клубе.
Райком РКСМ поручил Пролеткульту поставить общѳклубную работу во вновь
открытом Ц. клубе РКСМ при Большой Пролетарской мануфактуре.
Тверской Пролеткульт имеет две студии: Тео и Изо. Как и в Екатеринбургском Пролеткульте, да и в большинстве других, наибольшую деятельность проявляет
первая. В течение сезона 23—24 г. поставлены пьесы: „Слышишь, Москва", „Непорзач",
„Красные солдаты", „Кы-сы-мы", „Мозги в политсистему", „Совет черпых", акробатические тавцы, лубки. Выступления Пр-та встречаются среди рабочих Б. Пролетарской
мануфактуры, „как праздник", как они сами об этом говорят и пишут в анкетахотзывах. Некоторое исключение составляет постановка пьесы „Непорзач", вызвавшая
крупный раскол мнений, в виду остроты темы и оформления.
Очень удачно Пролеткультом проведены празднества: Парижская Коммува
(постановка „Красные солдаты") и 1-е Мая („Кы-сы-мы", концертное отделение, мае-
совые сцены на автомобилях в шествии, украшение здания Пролеткульта революционными плакатами и большим портретом Ильича, исполненным Изо-студией Пролеткульта).
И з о - e r у д и я находится преимущественно в периодо лабораторпо-учѳбной работы, лишь очень незначительное время уделяет производственной работе: знамена
лозунги, плакаты.
Если пе считать Московского Пролеткульта, о котором речь будет иттп особо
клубную работу еще выполняет Рыбинский Пролеткульт, имея 4-х товарищей руководителей тео-кружками клубов: 1 по Изо и 1 Музо.
Согласованно с У комом РКСМ Пролеткульт участвует в ведении обще-клубной
работы в Центральном клубе РКСМ имени Фейгина.
Т е о - с т у д и я работает в том же плане, как и в Твери: кроме акроб. танцев
частушек п т. д., были поставлены пьесы к Парижской Коммуне „Великий год", и
„Суд в театре Шатле", к 1-му Мая на площади проспекта им. Ленина особенно
успешно поставлен „Труд" и массовые сцены маевок, хоровые выступления на вокзальной площади. В эти дни Пролеткульт вовлек в работу все клубы г. Рыбинска.
Рыбинский Пролеткульт имеет большую поддержку от Укома РКП и РКСМ;
своими выступлениями в день 1-го Мая ему удалось завоевать большие симпатии
среди рабочих гор. Рыбинска.
И з о работает в производственном плане над плакатами (Добролет и др.) и знаменами без руководителя, что является большим недостатком, который будет ликвидирован с данного лета—посылкой инструктора из ЦК Пролеткульта.
Значительно беднее по клубной работе, в виду отсутствия клубных работников,
Иваново-Вознеоенский Пр-т, основной работой которого является Тео и Изо-студнп.
Т е о - с т у д и е й в сезоне поставлено: „Восстание", „Слышишь, Москва"
„Противогазы", сделан объезд провинции (кинешемский район).
Вслед за поездкой, срочно Пролеткульт устроил массовое выступление в день
1-го Мая на Советской илощадп, о чем в „Рабочем Крае" был чрезвычайно благоприятный отзыв.
Президиум ЦК В. Пр-та и Исполбюро Иваново-Вознесенского Пр-та полагают,
что тео-коллектпв после очень небольшой проработки в начале сезона с. г. вполне
может перейти от учебно-лабораторной работы к производственной, т.-е. выйти на
путь к рабочему театру. Есть нужная и техническая, и общественная подготовка.
Задачей Иваново-Вознесенского Рабочего театра должно быть обслуживание
города, губернии и рабочих клубов революционно-пролетарским репертуаром в шіапе постановки пьес, агиток, инсценировок, судов, живой газеты и т. д.
И з о - с т у д и я по своему общественному и техническому уровню во всяком
случае не ниже Ленинградской и Московской студий, что объясняется значительной
работой, которую провело Исполбюро Пр-та и приезжающие из ЦК В. Пр-та инструктора-практиканты, студийцы Изо Московского Пролеткульта.
„Рабочий Край", журнал губпрофсовета, и празднества— успешно обслуживаются студией.
Часть студийцев этой осенью переводится в Изо Московского Пролеткульта.
Мы упомянули, что в области клубной—работа слабая, есть всего двое товарищей, работающих в качестве инструкторов Тео.
Одно время Пр-ту удалось установить связь с профсоюзами через методические совещания, клубные советы, а за ослаблением их работы порвалась и эта связь.
Общее впечатление от работы все же удовлетворительное; отношение Губисполкома, Губкома РКП (б) и Губкома РКСМ положительное.
Необходимо лпшь пополнспиѳ организации клубными работниками.
Немало Пролеткультом провѳдеио дискуссий но искусству, в которых пролеткультовцы сумели доказать правильность своей позиции.
Совсем плохо с клубной .работой в Саратове, что, однако, вовсе пе означает,
что здесь Пролеткульт пе играет никакой серьезной роли в просветительной работе.
Саратовский Пролеткульт главное внимание обращает на учебно-лабораторную
работу Лито, Тео, Изо, Музо-студий, хотя за последнее время во всех этих студиях
наблюдается перелом—желание, стремление перейти к производству. Л и т о , кроме
вечеров самокритики (стихи, проза), организует корреспондентскую работу. М у з о
чаще других студий обслуживает клубы, празднества; в последней работе ость
большие достижения, концерты Пролеткульта имеют большой успех в массах.
И з о медленно переходит от натюр-мортов и рисования орнаментов к диаграмме
плакату, знаменам. Нет руководителя-пролеткультовца по Изо, тоже ц ио Тео.
В Тео преобладает постановка пьес („Мексиканец", „Слышишь, Москва"), исключение—инсценировка произведений Д. Бедного.
Ни одно торжественное событие в Саратове не проходит без активного участия
Пролеткульта.
Моемвский
1-й Р а б о ч и й
театр
Пролеткульт.
Пролеткульта.
За сезон 23—24 года поставлены пьесы: „Мудрец" (51), „Слышишь, Москва" (52)
и „Противогазы" (3)*). О „Мудреце" было достаточное количество заметок и в театральных журналах и в центральных московских газетах. Несомненно, „Мудрец"
Московского Пролеткульта в театральной жизни Москвы, а возможно и СССР, является
фактором очень значительным по своей ярко-агитационной форме (использование
цпрка, кабарэ, мюзик-холла, балагана).
Большинство отзывов расценивают постановку положительно, часть жалуется
на „попонятность", аналогичны и отзывы посетителей.
Следующая постановка Рабочего театра—„Слышйшь, Москва"—отмечает собой
тот взрыв революционной энергии пролетарских масс СССР, который вызвала надвигавшаяся пролетарская революция в „социалистической" республике Германии.
Поскольку „Мудрец" был разрешен в плане комедийном, буффонады, постольку
„Слышишь, Москва" поставлена как агит-гипьоль (театр ужасов). Первое время,
и сравнительно долго, ни в одном из периодических №№ московских газет не было
ни единого отзвука, а затем—ряд восторженных похвал, приветствий в „Правде",
газетах и журналах. Впрочем, были и отрицательные... Конечно, лучше судить
об этой работе по отзывам тех, для кого она предназначалась.
Рабочие райопов Москвы, куда выносилась постановка, всюду встречали ее
необыкновенно радушно, так же она прошла и в день 2-го мая в Большом Государственном театре для проф-организаций.
Несомненно, как в „Мудреце", так и в „Слышишь, Москва", имеются недостатки,
но основное—яркая революционно-пролетарская агитационность (это не значит „голая
агатка") выдержана.
Наконец, „Противогазами" Пролеткульт сделал еще шаг, а, может быть, два
шага вперед.
Прежде всего—острая, злободневная производствепно-бытовая тема; во-вторых,
что, но нашему мнению, еще важнее—постановка шла без всяких декораций, среди
машин на газовом заводе, в самой естественной обстановке, где исчезла и та непроходимая пропасть между зрителем и актером, которая существует в буржуазном
театре, и уничтожалась так называемая „эстетика",—т.-е. пассивная созерцательность
зрелища, присущая старому театру, здесь уступившая место активному, организующему реагированию рабочей массы.
„Противогазы* займут первое место в истории Рабочещ театра Пролеткульта.
В мае месяце театр приступил к работе по кино, по «цценарию, разработанному коллективом пролеткультовцев из материалов, данных старыми большевиками
на вечерах воспоминаний в Московском Нр-тѳ о революционном большевистском подполье в годы реакции, К осени коллектив будет пополнен студийцами провинциальных
ГІролеткультов.
Из о - м а с т е р с к а я .
В этом году мастерская занималась исключительно производством, очень
немного времени было уделено разбору истории Изо-искусства. Дальнейшей продвижкой Изо можно считать, с одной стороны, удачный фотомонтаж, с д р у г о й работу над уголками для клубов (уголок Ленива в Спмоновке).
Часть работ Изо сдана на Венецианскую выставку, при чем дано то, что
в агитационном революционно-пролетарском смысле не является особенно ярким
среди других работ Изо, по условиям места, куда посылка отправлена („Муссолиния").
Одним из наиболее интересных опытов Изо можно считать украшение кремлевских стен лозунгами, знаменами, склоненными к земле с обеих сторон у великой
могилы.
Удачно выполнены заказы на плакаты от профсоюзов для массового распространения. Как и в предыдущий сезон, выполнялись работы для профорганизаций
и государственных учреждений но лозунгам, знаменам.
На лето изпсты получили отпуск, затем 50°/о пз них было командировано
в местные ІІролѳткудьты РСФСР для инструктирования до сентября, октября ме-
") Все п>есы—С. М. Третьякове. Иервея—переделка. Ноотеновке— С. М. 8&венпітейя».
сяца с. г.; прошлогодний опыт показал, что такая связь с местами дает крайне
ценные результаты, развивая по верному пути работу Изо мест.
Удалось и в Тео и по Изо повысить
общественно-политическую
р а б о т у , организован кружок политграмоты повышенного типа для поступивших
сравнительно в недавнее время и марксистский кружок для проходивших политграмоту в прошлых годах. Недостаток ощущается в отсутствии работы по расширению
самообразования. Этот недостаток должен быть ликвидирован с первого же периода
будущей работы.
Клубо
и
пр.
Пролеткульт—организация не только „театрально-художественная", как то хочется мыслить некоторой части профсоюзников. В частности, широко развернутая
за этот сезон клубная работа вполне опровергает утверждение профсоюзников.
Во-первых, практическая работа в 3-х крупных рабочих клубах Москвы:
печатников, „Пар. Коммуна", Симоновский клуб.
Эта работа—преимущественно методическая, по линии развертывания м а с с о в о й работы по быту, празднествам, профпропаганде, политическому воспитанию.
Указапные клубы могут быть живыми свидетелями того, что Пролеткульт как раз
не замкнулся в рамкн лабораторпости, следовательно, опять наоборот
тому,
что хочется доказать иным профсоюзникам. Суд (над гапоновщиной, зубатовщиной,
завкомовцем, обывателем), жпвая газета, полит-игры, физкульт-игры, вечера вопросов и ответов, вечера воспоминаний, беседа, живое кино, плакат, украшение зданий клубов—вот те виды и формы работы, которые пропагандировал и проводил
Пролеткульт, вполне согласованно с правлепиями клубов.
Симоновский район отметил это ценное влияние Пролеткульта и правильность
его линии резолюцией, припятой на культконференции симоновских заводов *).
Переходя, в кратких чертах, к общему состоянию Московского Пролеткульта,
мы считаем категорически необходимым отметить неправильность линии, взятой
профсоюзами, которая заключается в том, чтобы изолировать Пролеткульт от всякой
массы (от клубов), унизить его идеологию и методы в глазах этой массы и в то же
время самим использовать эти достижения, не называя их пролеткультовскими.
Впрочем, пе все профсоюзы держатся этой линии; так, водники, созвав конференцию,
курсы клубряботнчков, сочли необходимым дать определенную часть программы
проработать Пролеткульту, не только в области „театрально-художественой", но и в
клубпой политике, по методам клубной работы и т. д., что Пролеткульт с успехом
сумел выполнить, удовлетворив запросы курсантов. Еще факты и факты: ряд клубов
Москвы обращается в клуббюро Московского Пролеткульта за советами по работе,
за лекторами по вопросам культуры, быта, искусства, клубпой политики (методологии). Донбасс обращается с просьбой дать ему кого-либо по той или иной специальности из товарищей пролеткультовцев на клубную работу в Юзовский район.
Наибольшим шагом Московского Пролеткульта, Клубо и ЦК В Пр-та надо признать издательство журнала „Рабочий Клуб" **), который выпускается и расходится
полностью в 3000 экземпляров. Несомненно, в нем есть недостатки, но верна установка на массовую работу, па методику в этой области, на клуб, как на школу
коммунистического воспитания и как на общественный центр предприятия, действенную ячейку, очаг строительства пролетарской культуры.
Несмотря на необычайно тяжелые финансовые затруднения, 1-й Рабочий театр,
Изо-мастерская, Клубо, „Рабочий клуб" живут, а не умирают...
Центральный Комитет
Пролеткульта.
Р е ж м а с.
В мае закончился второй период работы курсов и т.т. едут в местные Пролеткульты на практику. Срок следующего созыва будет определен состоянием работы.
Пролеткульты: Ленинградский, Тверской, Иваново-Вознесенский, Екатеринбургский
Саратовский, Московский будут вполне обеспечены нужными работниками.
Главное внимание па курсах обращалось па движение и режиссирование;
кроме работы общественно-политической, к концу занятий проведены беседы по
критике искусства с марксистской точки зрения, что дало режмасовцам в руки
хорошее оружие для пропаганды па местах.
О р г к у р с ы.
В мае, вслед за роспуском Рѳжмаса, ЦК организованы 2-х-месячные курсы
инструкторов по работе в общепролеткультовском масштабе и общеклубном. Каждый
• ) См. „Рабочий клуб", M 8—4, етр. 81.
•*) Вышло сама номеров.
из товарищей курсантов по прохождении курсов должен пойти на руководящую
работу в одпн из местных Пролеткультов или, іго согласованности с тем пли иным
профсоюзом, от Пролеткульта в рабочий клуб. Всего собралось курсантов 20 человек,
все являются наиболее активными работниками мест и имели некоторый опыт работы
в клубах.
В программу курсов входит:
1. Развитие формы жизни (введение в биологию).
2. Теория культуры и основы марксизма (введение в теорию истор. материализма).
3. Развитие культур.
4. Культура переходного периода (пролетарская культура).
5. Искусство и марксизм.
в. Психофизиология общества.
7. Исторпя, задачи и организационная работа Пролеткульта.
8. Клубная работа.
Состав руководителей: Плетнев, Зандѳр, Кип. Павлов, 1'иизбург, Додонова,
Иванов, Залкинд, Муралевпч, Силлов, Тарабукип, Жмудский, Кравчуно вскпй, Растопчина, Лвраамов, Лукьяпов и др.
Основная установка—па клубпика. Состав курсов после первых дней работы
дает себя чувствовать, как активный, работоспособный.
Научный
отдел.
Проработано Научным отделом:
1. Программы по обществоведению и самообразованию для местных Пролеткультов.
2. Программа по Изо-работе.
3. Тезисы научной организации театральной работы Пролеткульта.
4. Тезисы—социально-биологический анализ творческого процесса.
5. Тезисы по пролетарской культуре.
fi. Тезисы по пролетарской морали.
7. Программа организационно-инструкторских курсов.
8. Вновь—тезисы по искусству.
9. Пути Рабочего театра Пролеткульта.
10. Критика постановок 1-го Рабочего театра.
Ударной работой ЦК в настоящее время является обеспечение усиленного
проведения орг. икстр. курсов, точная, конкретная плановая разработка работы на
осенний п зимний сезон по работе центральной и местной, проработка программы
Пролеткульта, укрепление мест работниками, установление деловых взаимоотношений,
совместной работы с профсоюзами и политпросвѳтамп.
Достаточно активно работало издательство. Выпущены: 1. „Горн" № 9. 2.
„Искусство в рабочем клубе". 3. „Культура и быт". 4. „Литература"—Н. Чужак.,
5. „Рабочий Клуб" №Jte 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 7; печатается Л» 8. 6. Пьесы: „Слышишь
Москва", „Противогазы", „Карл Крафт", „Ничевоки", „Чертовщина", „Наследство
Гарлапда", „Старое п молодое".
Готовятся к печати популярные брошюры по вопросам пролетарской культуры
и пролетарского искусства.
Усилено снабжение местных Пролеткультов изданиями Пролеткульта, политлнтературой, инструктивным материалом по клубной работе, театральной и теоретической.
Как и по Московскому Пр-ту, финансовые затруднения мешают шире развернуть работу; однако, она не свертывается, но, хотя и медленно, подвигается вперед.
Как дальнейший п у т ь — в Изо начинает работать Цинкография, благодаря чему
получается большая возможность поставить хорошую массовую пропаганду в Изообласти.
А. Иванов.
Из м а т е р и а л о в
III, IV и V с е с с и й ЦК
Пролеткульта.
Всероссийского
Резолюция по организационному вопросу
(Ноябрь 1922 года).
1. Пленум, констатируя, что со времени 2-го с'еада Пролеткульта не произошло никаких изменений в смысле положения Пролеткульта в общей системе госоргаиов ии юридически, ни фактически, тем не менее счптает необходимым уточнить
иоложепие Пролеткульта, как в области организационной, так и в области его практической работы.
2. Пролеткульт в своей работе является аппаратом партии в ее борьбе па
идеологическом фронте.
3. Развивая свою культ-творческую работу. Пролеткульт предоставляет свои
силы, опыт и достижения в области культурной работы профсоюзам.
4. Взаимоотношения Пролеткульта с госоргапами просвещения определяются
положениями, установленными в общезаконодательном порядке.
5. В порядке проведения практической и методологической работы, Пролеткульт имеет при себе научио-методологичѳские отделы и комиссии, учебпо-производствепные (показательные и обслуживающио) творческие коллективы, научные
студни и кружки, клубы и другие учреждения того же иорядка, издательство по вопросам теории и практики Пролеткульта.
6. Работа в массах проводится через профсоюзы при содействии в ее установлении со стороны парторганов и по согласованию распределения работы с политиросветами, применительно к уже установившейся практике Московского Пролеткульта.
7. Как основную подготовительную работу к с'езду, пленум поручает президиуму, в интересах уточнения взаимоотношений с госорганами, профсоюзами и
партией, видоизменить уставные положения, на которых до сих пор базировался
Пролеткульт (принятые в 1918 году и ныне устаревшие) и выработать новый устав,
исходя из следующих основных положений:
а) Задача Пролеткульта—выявление и сосредоточение научных и художественяо-творческпх сил пролетариата, скрытых в его массе.
б) Разработка теоретических и методологических вопросов строительства пролетарской культуры.
в) Развитие необходимых^ для достижения вышеуказаных задач культурнопросветительных мероприятий.
Применительно к изменившимся условиям, учитывая задачи, выдвинутые
перед Пролеткультом требованиями жизни, пленум намечает следующие основные
положения дальнейшей работы и изменения в построении руководящих органов,
рабочих аппаратов и учреждений Пролеткульта:
1. Пролеткульт берет на себя в
общей массе задач культурного строительства, проводимого госорганами и профсоюзами, определенно очерченный его задачами круг работ.
2. Первоочередной задачей следует выдвинуть создание кадра идеологически
подготовленных, коммунистически выдержанных нролеткультовцев, а тпкже н подготовку практиков (организаторов, инструкторов), как по общей работе, так и в
специальных областях художественного и научного порядка.
3. Пропаганда среди масс идей Пролеткульта, широкая агитация за борьбу
на идеологическом фронте на основах революционно коммунистической идеологии.
4. Группировка революционных культурных сил и их использование под руководством партии на фронте борьбы с буржуазной идеологией.
5. Глубокая нроработка вопросов пролетарской классовой культуры, в огромной степени дискуссионных, проведение этой работы, как с точки зрения идеологической, так и с точки зрения непосредственной практики (научная и художественная часть), проверяя этом принципы и методы работы Пролеткульта.
Практические формы работы Пролеткульта.
(Март 1923 года).
1. Принимая участие в строительстве пролетарской культуры и ставя своей
общей задачей
выявление, оформление и систематизацию творчества рабочего
класса в науке и искусстве на основах революционного марксизма, Пролеткульт
ведет практическую работу в следующем направлении.
2. Исходя из практических боевых задач партии и профсоюзов и опираясь на
опыт их культ-организаций, Пролеткульт ограничивает рамки своей деятельности,
ставя своей задачей:
а) выявление, сосредоточение п обработку творческих сил из толщи массы,
выработку творческой активности самой массы, сосредоточение и подготовку сил для
осуществления этой работы;
б) обобщение и систематизация оиыта рабочих культ-организаций, научно-методическая и методологическая его проработка;
в) собрание и систематизация уже имеющихся налицо результатов исканий
в направлении к выработке новых методов изложения и построения различных научных дисциплин па основах революционного марксизма. То же и по отношению
к искусству—обобщение и критическая оценка новых исканий и достижений в этой
области;
г) проверка вырабатываемых Пролеткультом методов на опыте в практической
работе рабочих культ-организаций;
д) широкая пропаганда среди рабочих идей пролетарской культуры.
3. Вся работа Пролеткульта ограничивается областью внешкольной работы
партии, профсоюзов и комсомола среди взрослых, подростков и молодежи.
і. В рамках, очерченных выше, Пролеткульт:
а) группирует революционно-марксистские культурные силы и использует их
ио директивам партии для борьбы на идеологическом фронте, об'единяет кружки
и организации научные и по отдельным отраслям искусства, практически работающие по строительству пролетарской культуры;
б) организует центральные и местные научно-методические и методологические
и творческие аппараты: студии, клубы, инструкторские курсы для подготовки культработников, комиссии и семинарии по проработке отдельных вопросов, периодические совещания и конференции по специальностям и отдельным вопросам;
в) выполняет задания партии п культорганов ирофсоюзов по разработке планов преподавания, составлению программ, подготовке и изданию методических руководств;
г) берет на себя по заданию партии и профсоюзов постановку и руководство
клубной работой в клубах профсоюзов;
д) имеет свое издательство;
е) устанавливает в центрах связь с Социалистической Академией и другими
научными и художественными институтами, работа коих может быть использована
в работе Пролеткульта.
5. В дополнение к постановлению ноябрьского пленума по оргвопросу, настоящий пленум считает необходимым фиксировать, что формулировка уставного положения (18 года) о Пролеткульте, как о „завѳршенно новой („четвертой") форме рабочего движения", уже со времени 1-го съезда Пролеткульта (сент. 20 г.) нигде не
выявлялась и отражения в последующих решениях Пролеткульта пе имела.
Из т е з и с о в
об о т н о ш е н и и
Пролеткульт
к т о ч к е зрения английских к о м м у н и с т о в на
(The Plebs, номер от июля 1923 г.).
(Ноябрь 1923 года).
1. Российский Пролеткульт рассматривает борьбу за пролетарскую культуру,
как одну из частей процесса ревЬлюционно-классовой борьбы, руководимой коммунистической партией
2. Всякая борьба рабочего класса против буржуазии, в том числе и борьба за
пролетарскую культуру, протекающая вне непосредственного влияния коммунистической партии, учитывается нами, как явление вредное.
3. Организация Культинтерна параллельно ІІІ-му Интернационалу и независимо
от него и входящих в него партий дает противникам Коминтерна возможность организационного офорѣіления сил и укрепления позиций против последнего.
Резолюция по вопросу о связи с профсоюзами.
(Ноябрь 1923 года).
Стремясь к обслуживанию своими методами и достижениями культработы профсоюзов, учитывая все значение и необходимость этого момента, считая для себя
обязательным и в дальнейшем сосредоточение на нем максимума внимания, Пролеткульт вынужден констатировать, что отсутствие до сях пор ясности и определенности
отношения к Пролеткульту и его работе со стороны ВЦСПС тормозит правильную
постановку и нормальное развитие работы Пролеткульта в этом направлении, а в
отдельных случаях подрывает в корне уже налаженпую работу на местах.
Пролеткульт не раз выдвигал вопрос относительно урегулирования и оформления взаимоотношений по союзной линии, не встречая, однако, до сих пор никакого
отклика.
Пролеткульт считает своим долгом сделать еще раз попытку и обратиться
к ВЦСПС, полагая необходимым твердо установить и точно фиксировать положение
Пролеткульта в отношении к профсоюзам.
Содержание,
Культура и быт.
Стр.
Н. Г о р л о в . — Л е н и н — с л о в о
и дело
пролетарской
культуры
5
Пролетарская культура (тезисы)
11
Н.
Ч у ж а к . — К методологии культуры
22
В. П е р ц о в . — Ликвидация пролеткультуры
55
Организация быта.
A.
З а л к и н д . — О пролетарской этике. . . . . . . .
63
Б. А р в а т о в . — Б ы т и культура вещи
75
B. П е р ц о в . -Слово
83
Н.
зрительный образ—будущее. .
Л ь в о в . — Э м о ц и о н а л ь н ы й жест или целесообразное
действие
94
Л е т к а р.—Агит-плакат
98
Искусство и производство.
Н. Т а р а б у к и н . — Ф о т о - м е х а н и к а
A.
101
Г а н . — К о н с т р у к т и в и з м в типографском производстве
116
Г. С и м с е н , — Кино-сценарий
120
B. П л е т н е в . — О п ы т кино-фильмы
126
Дзига
Вертов—Кино-реклама
С. Т р е т ь я к о в . — К и н о - у с т а н о в к а
131
137
Критика и библиография
143
Пролеткульты на местах
180
'Olli:
Издательство
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЛЕТКУЛЬТ.
Москва, Воздвиженка, 16 Тел. 57-40.