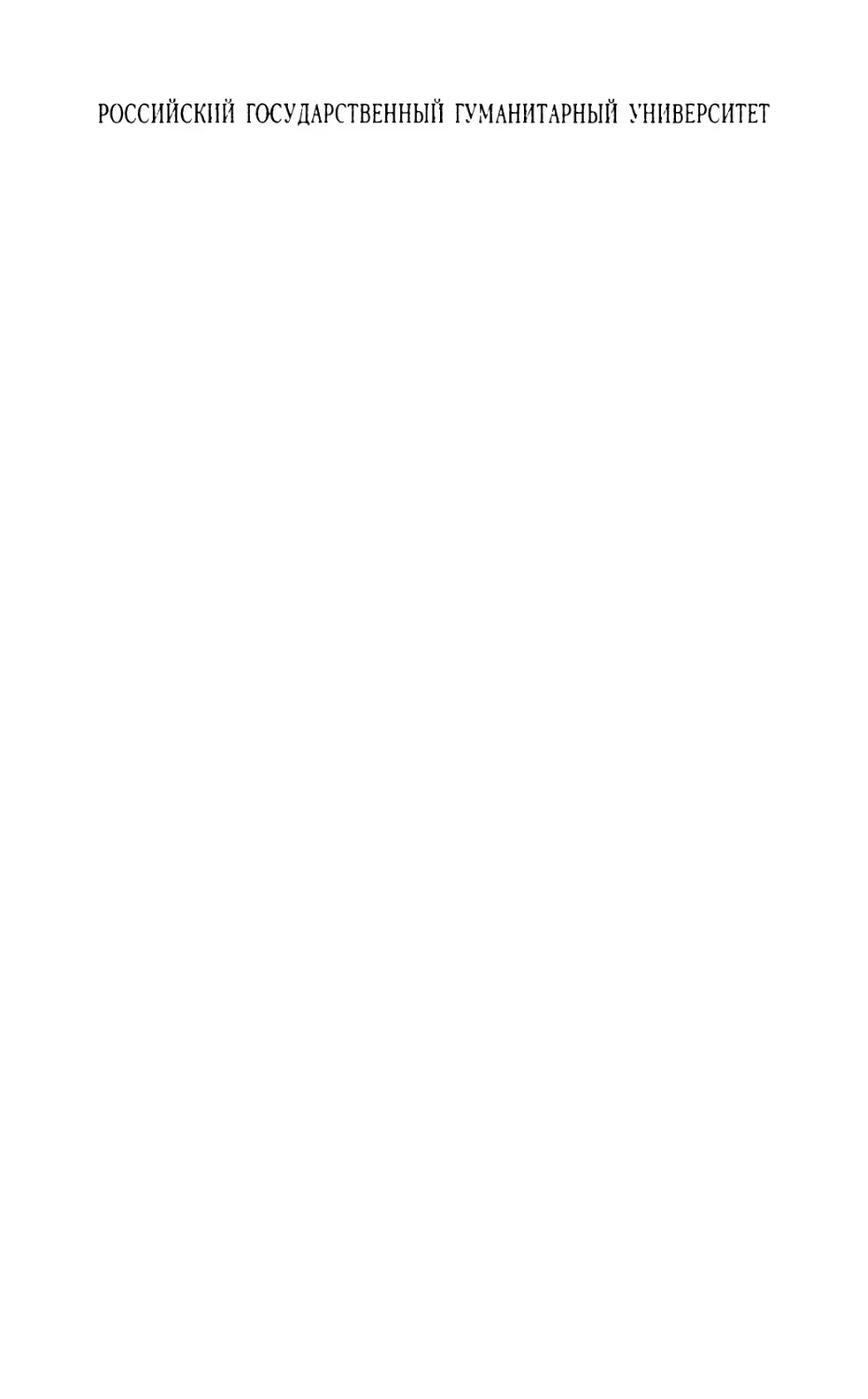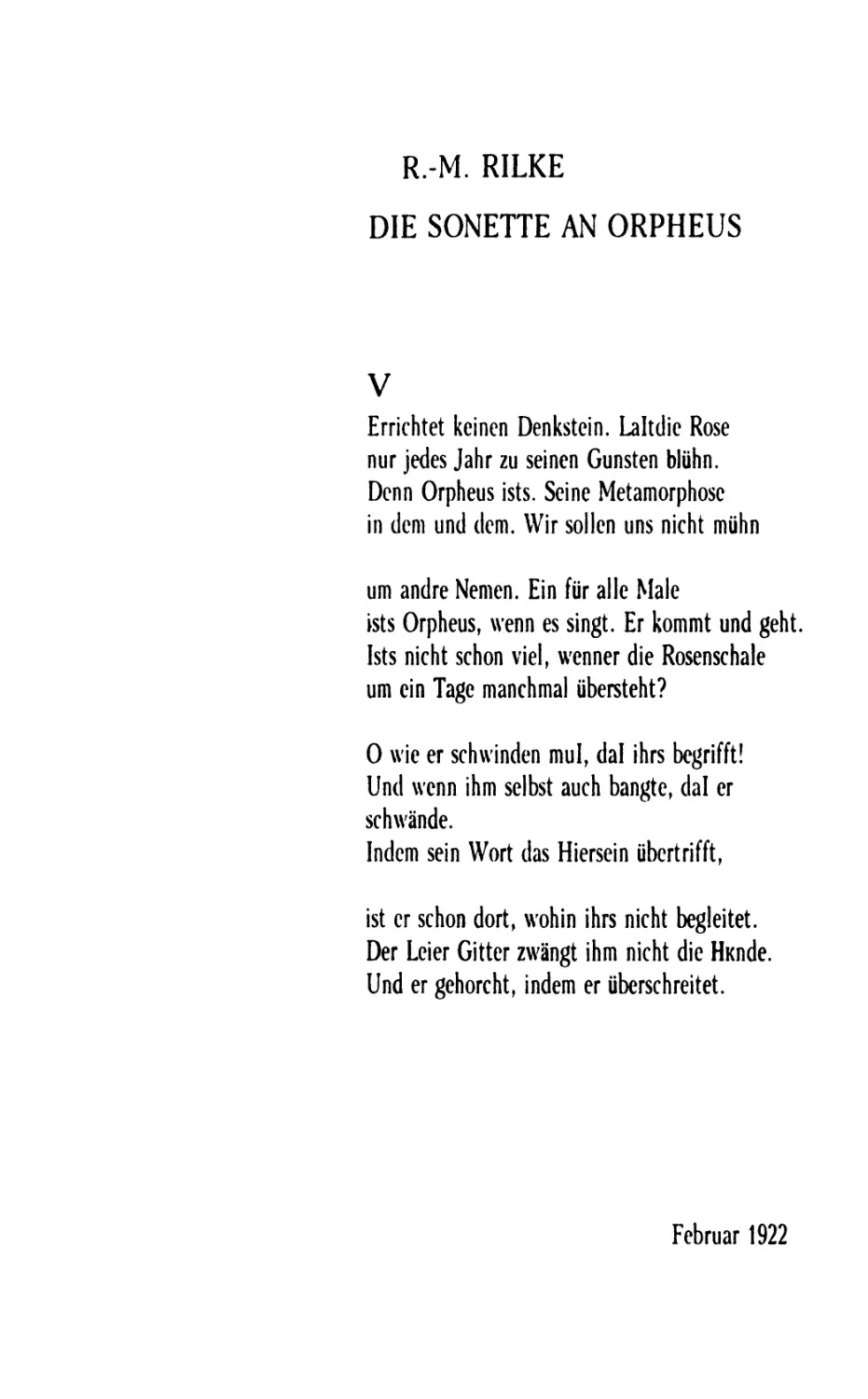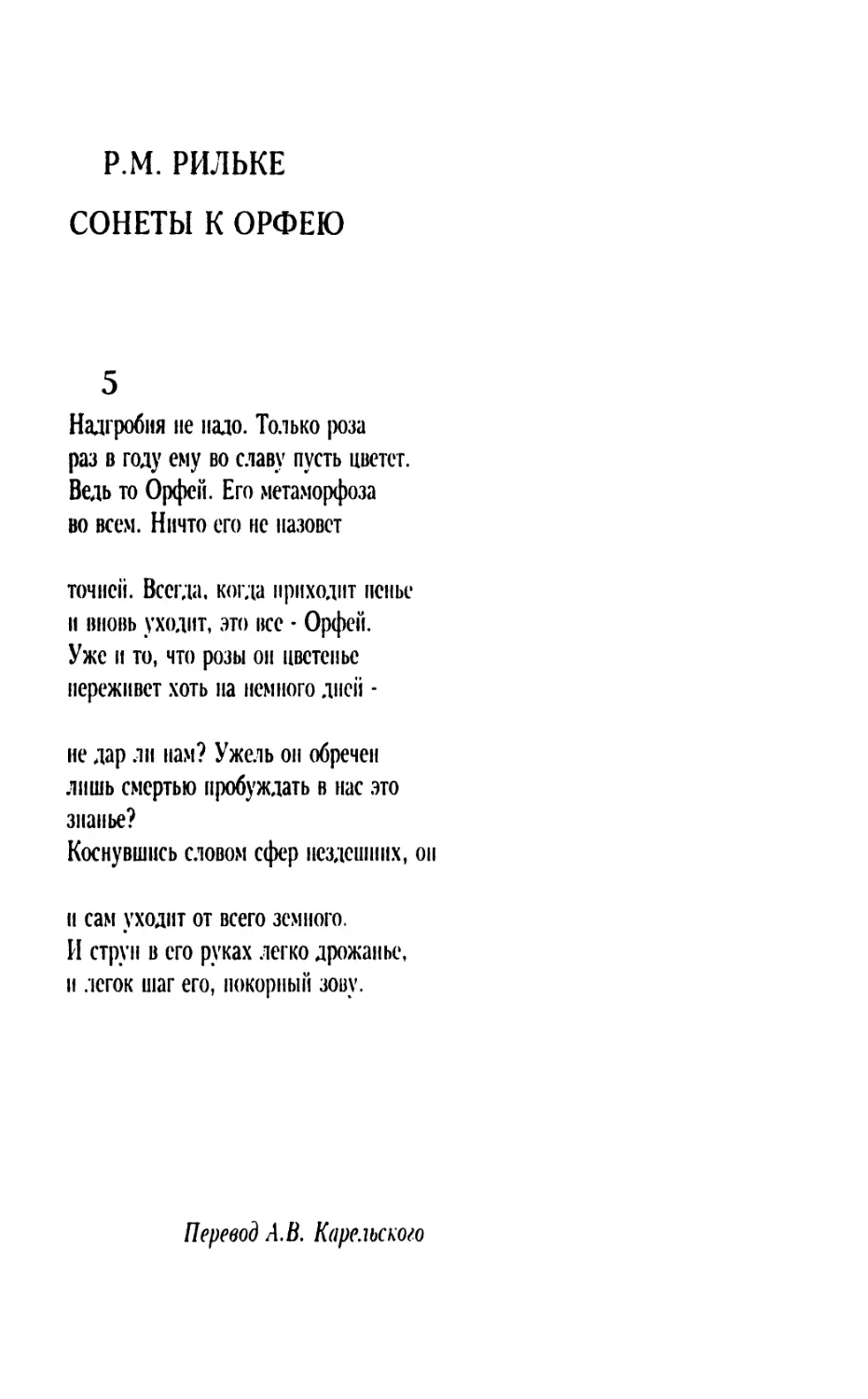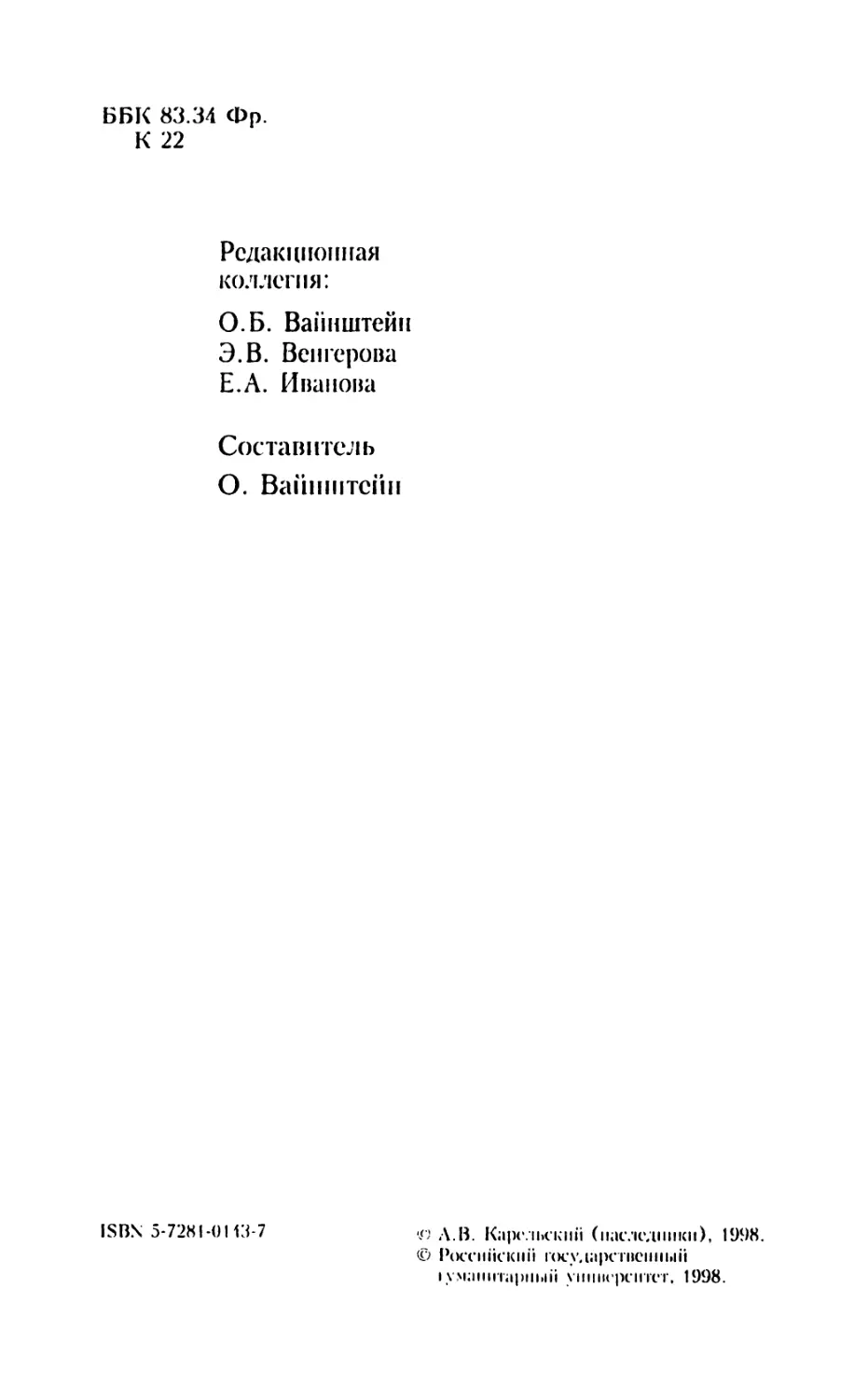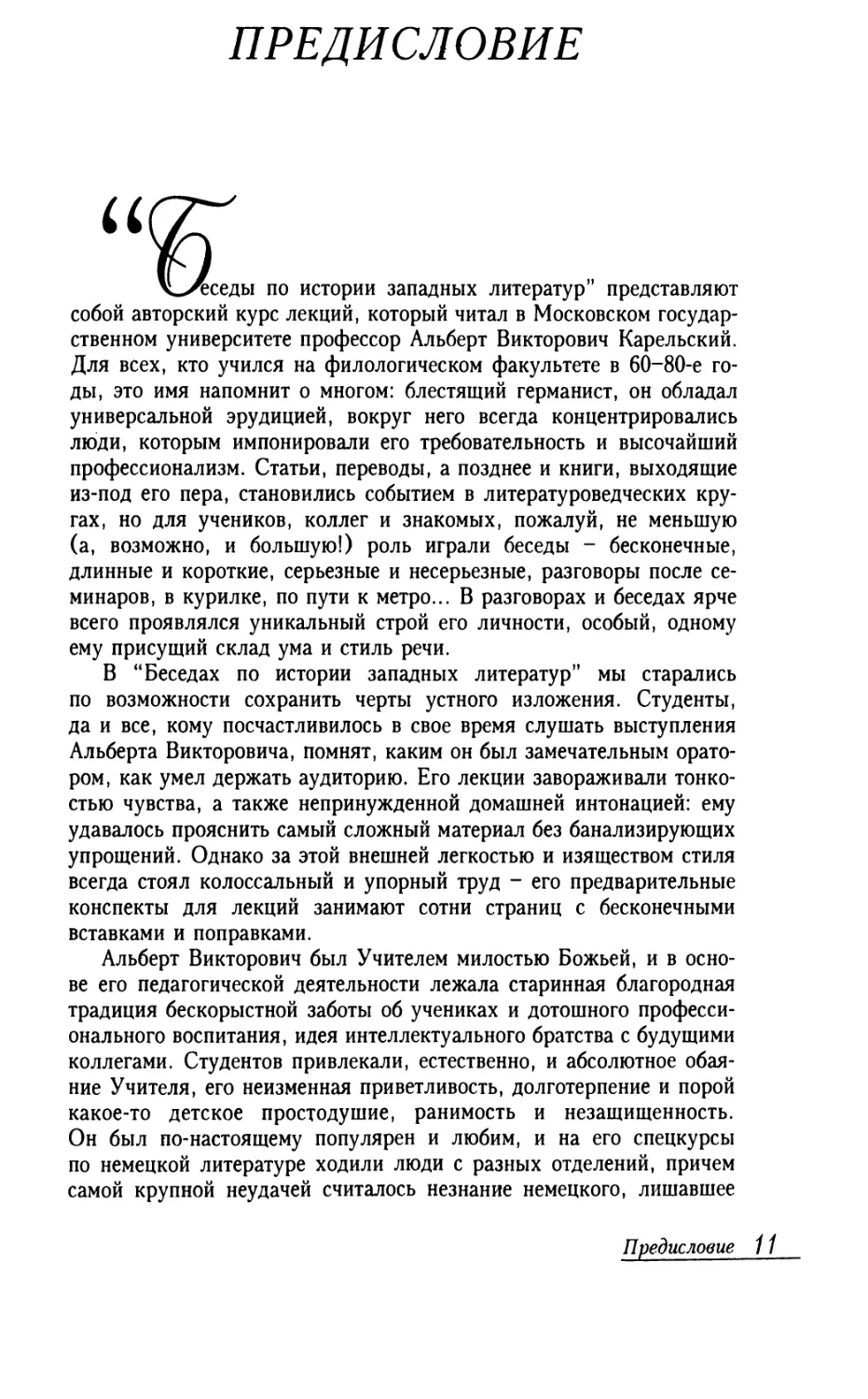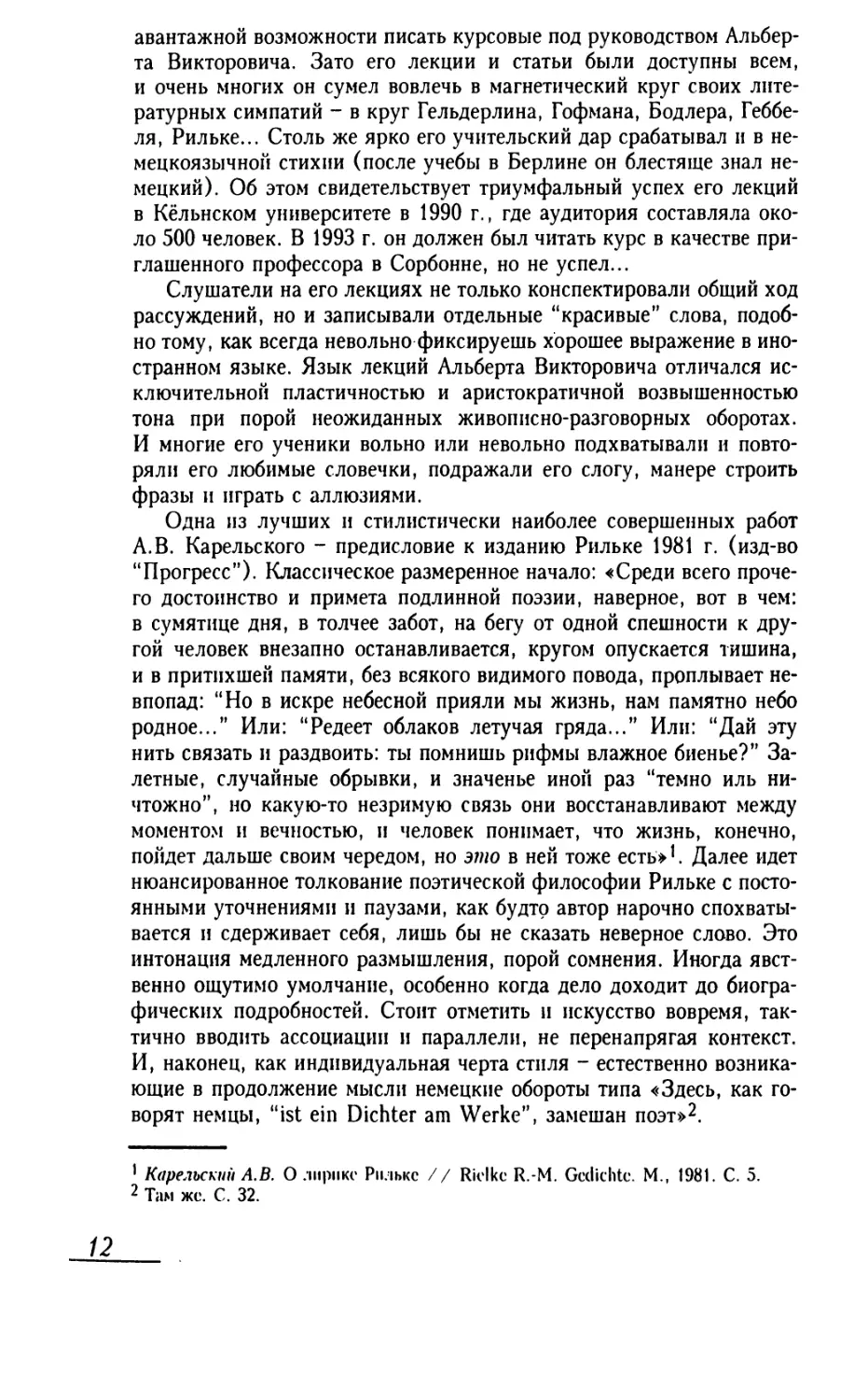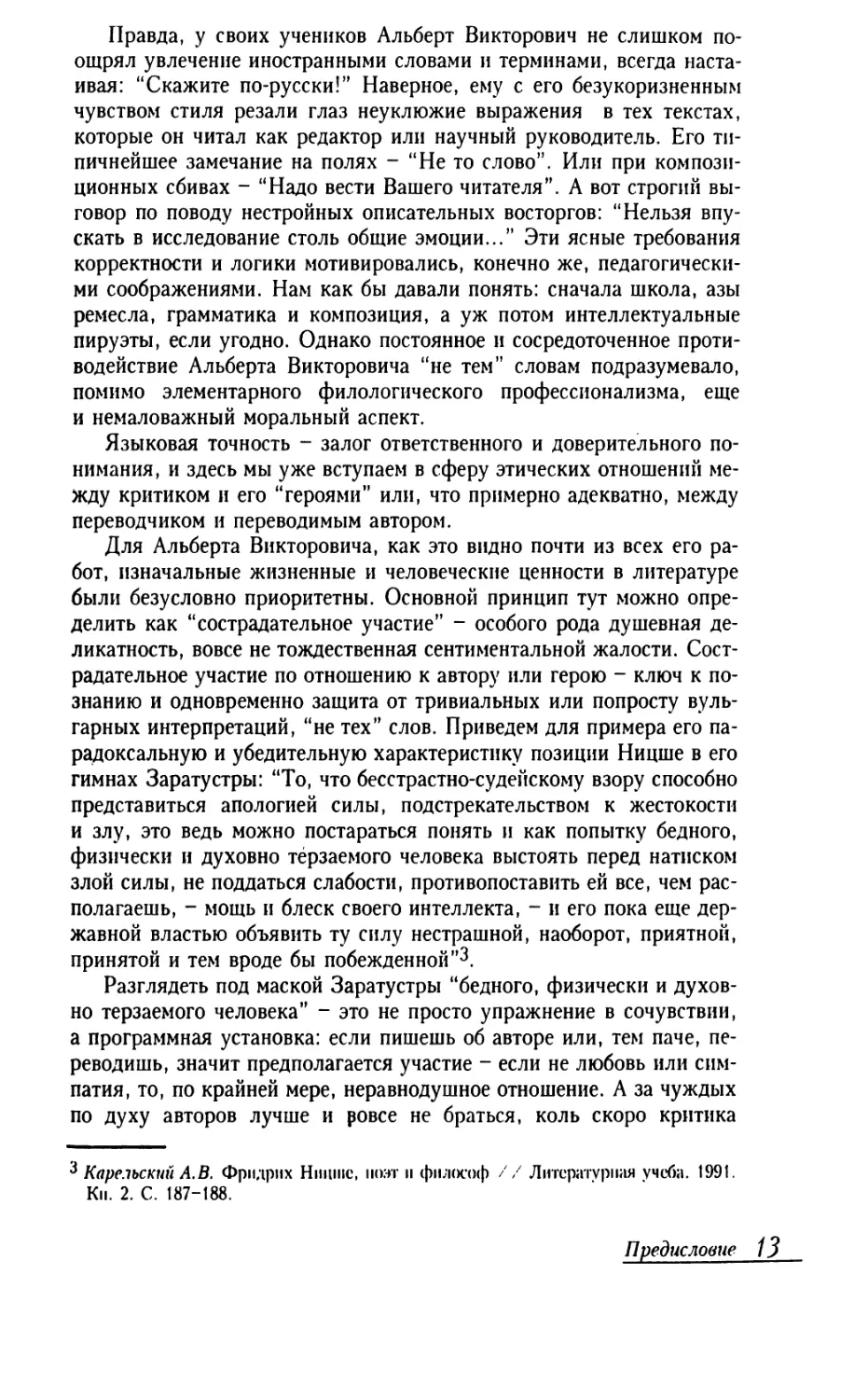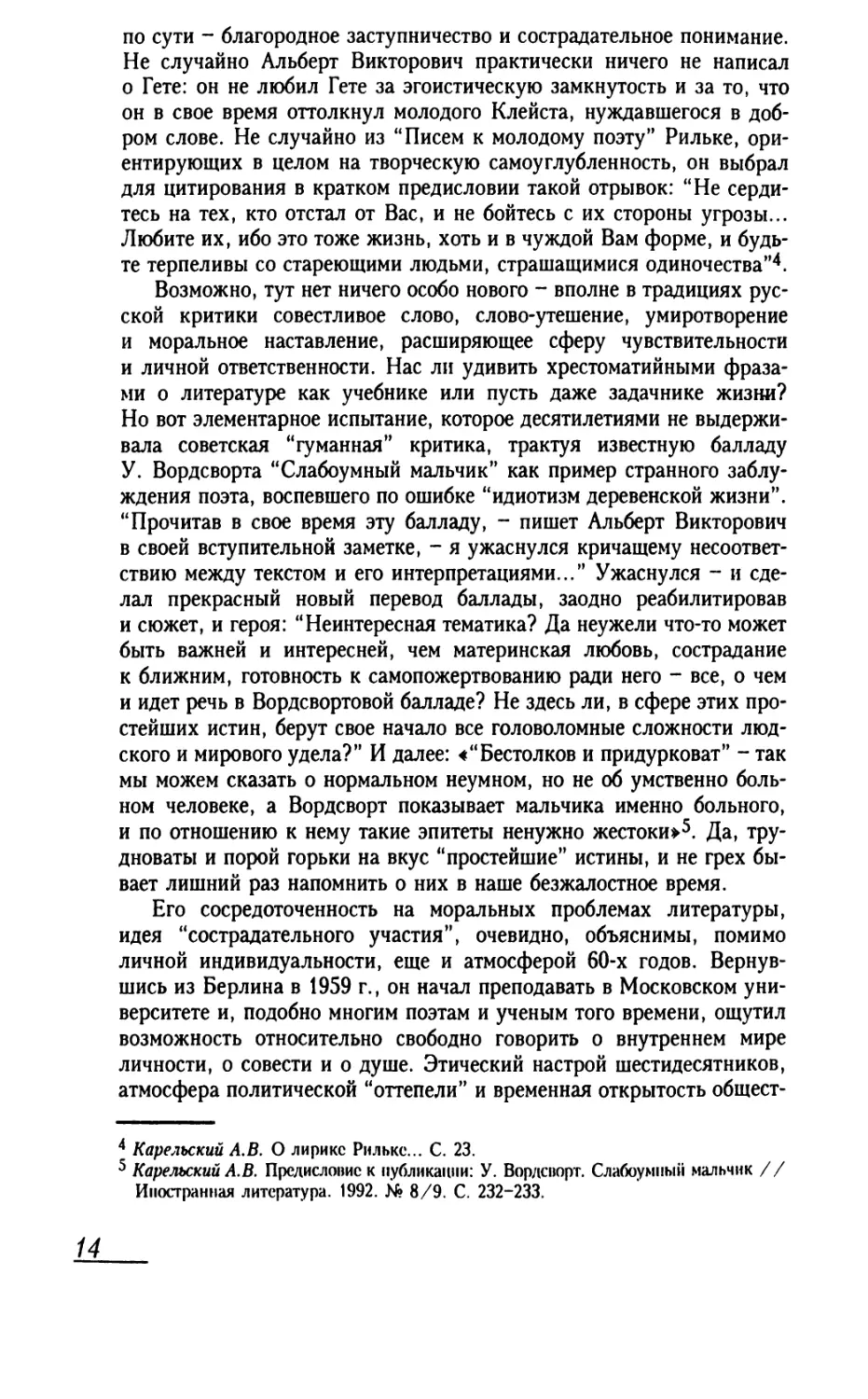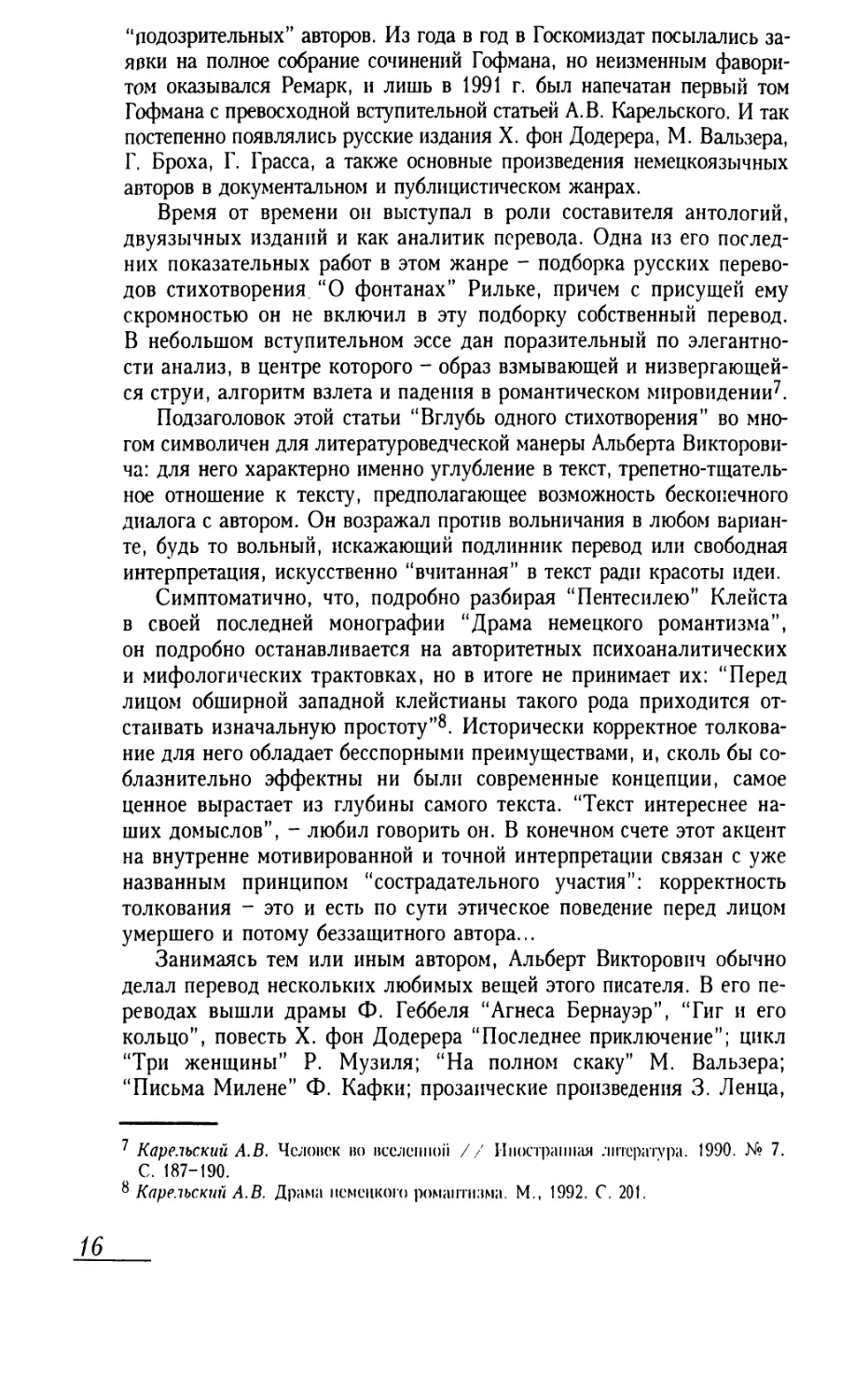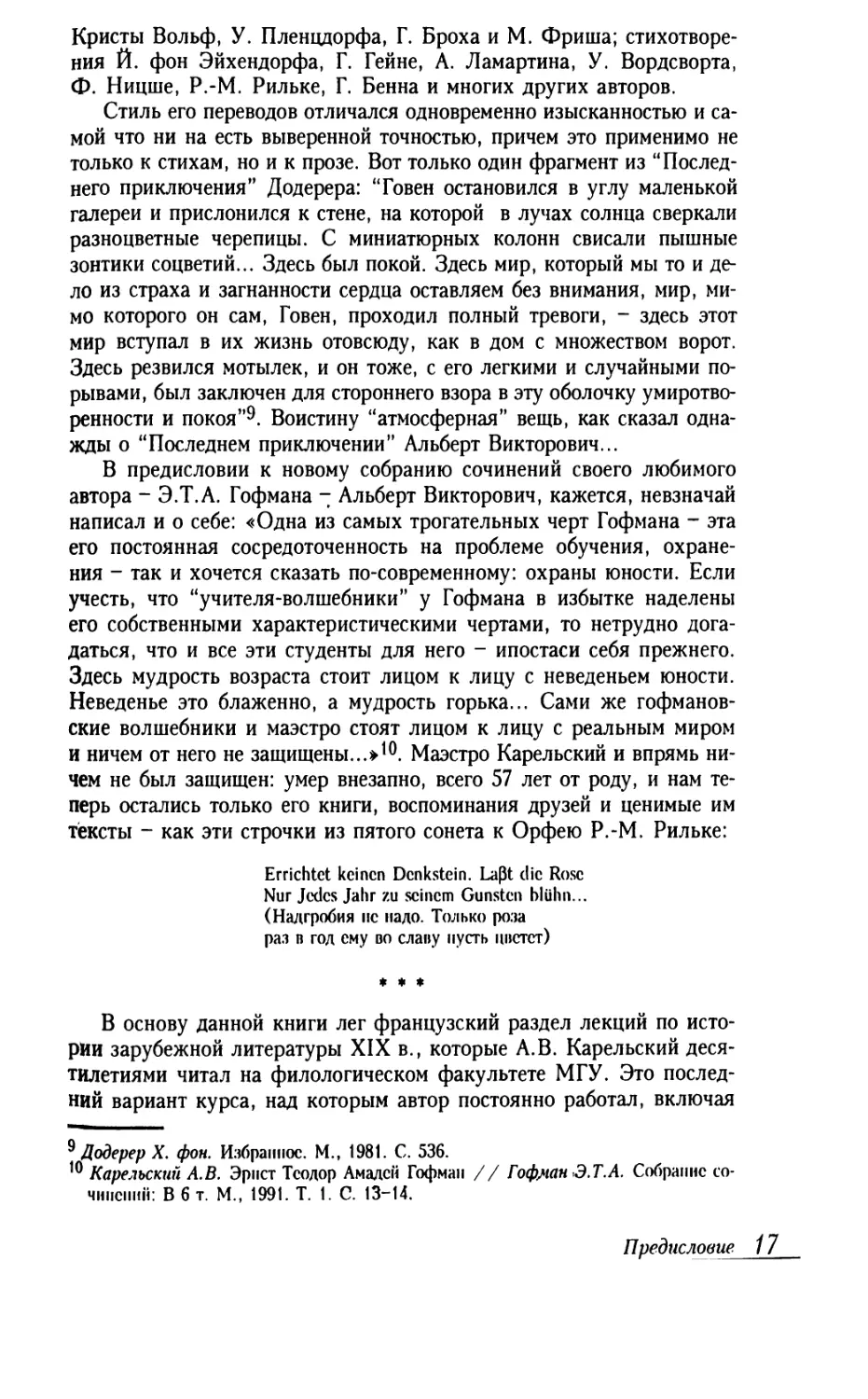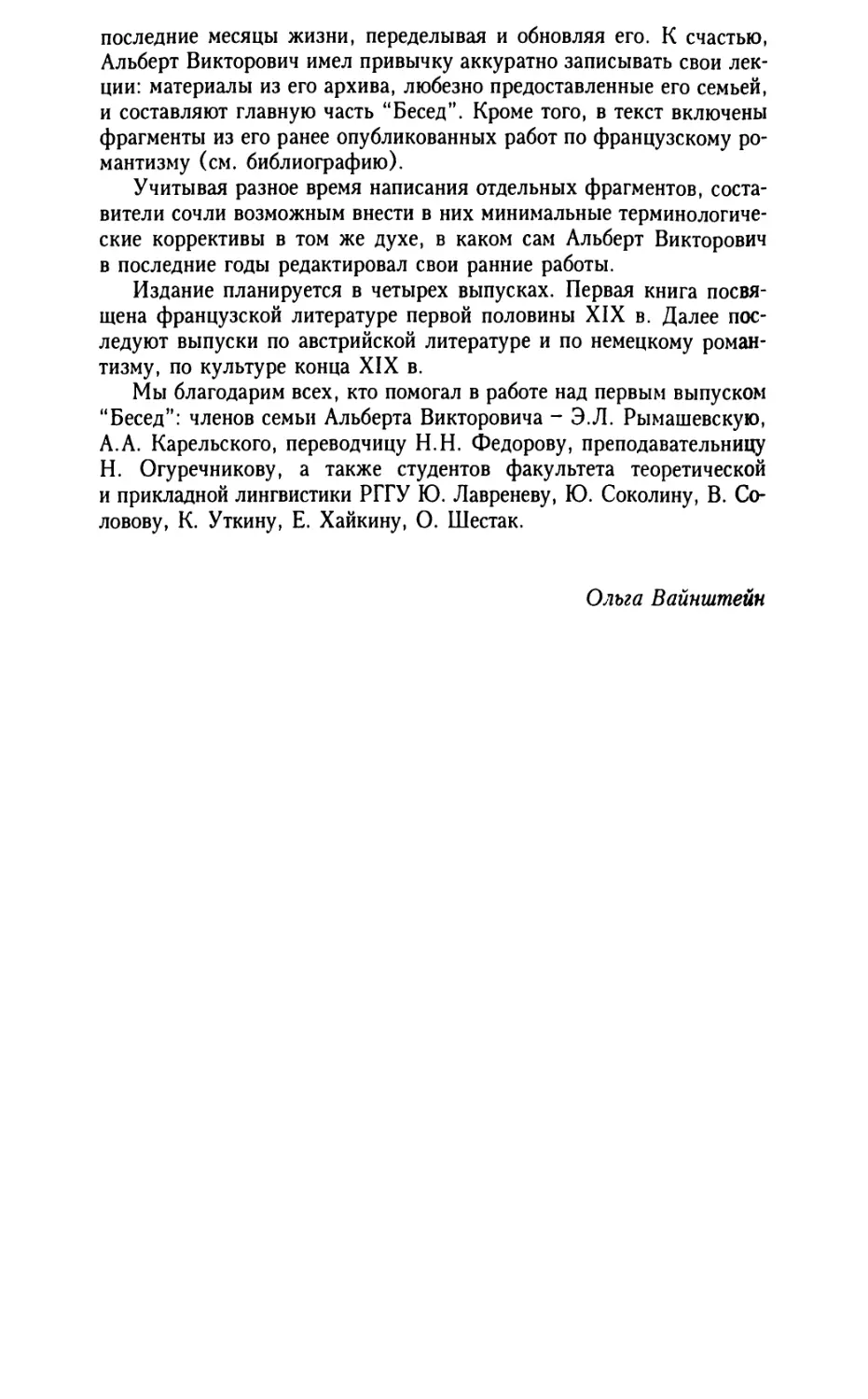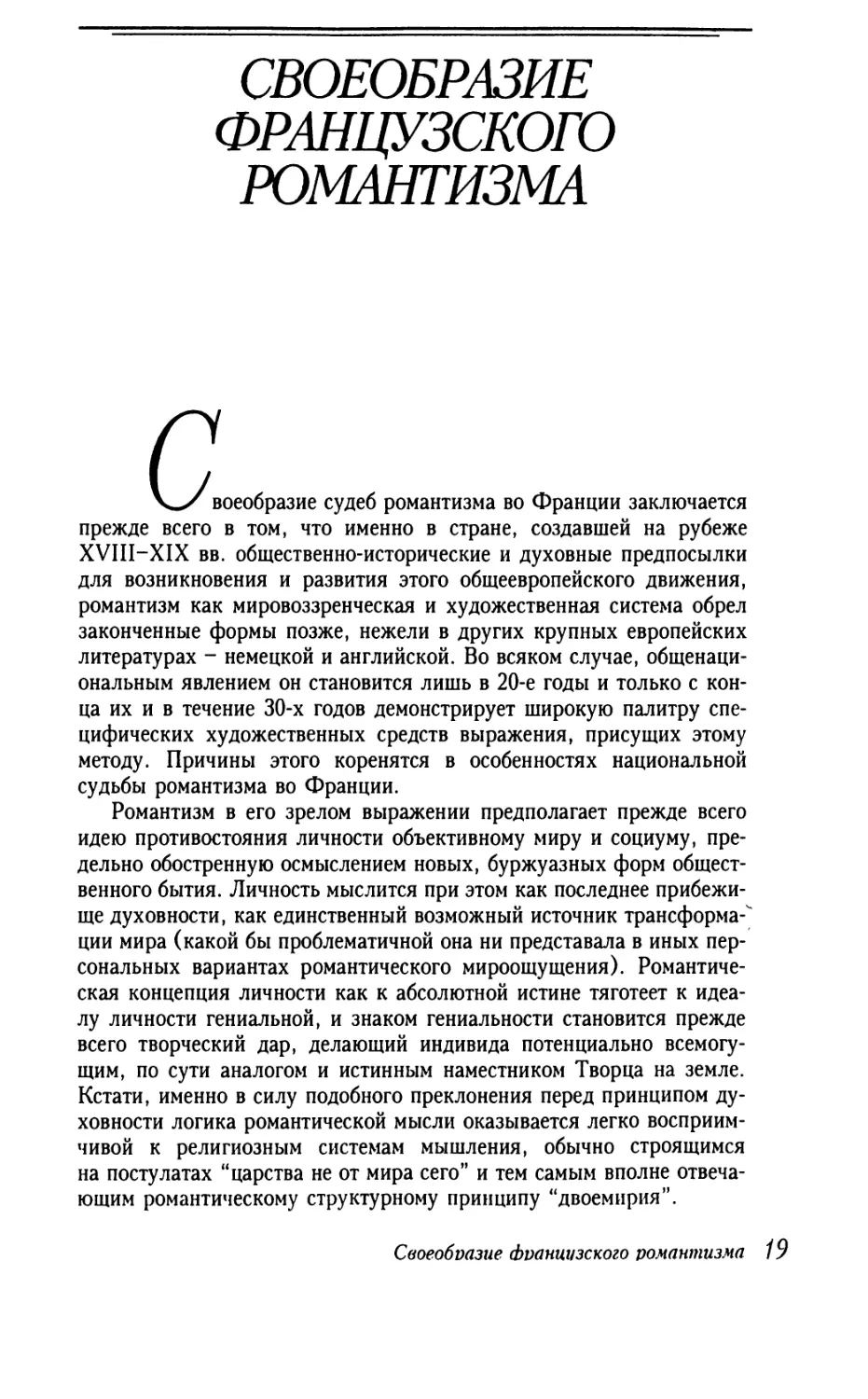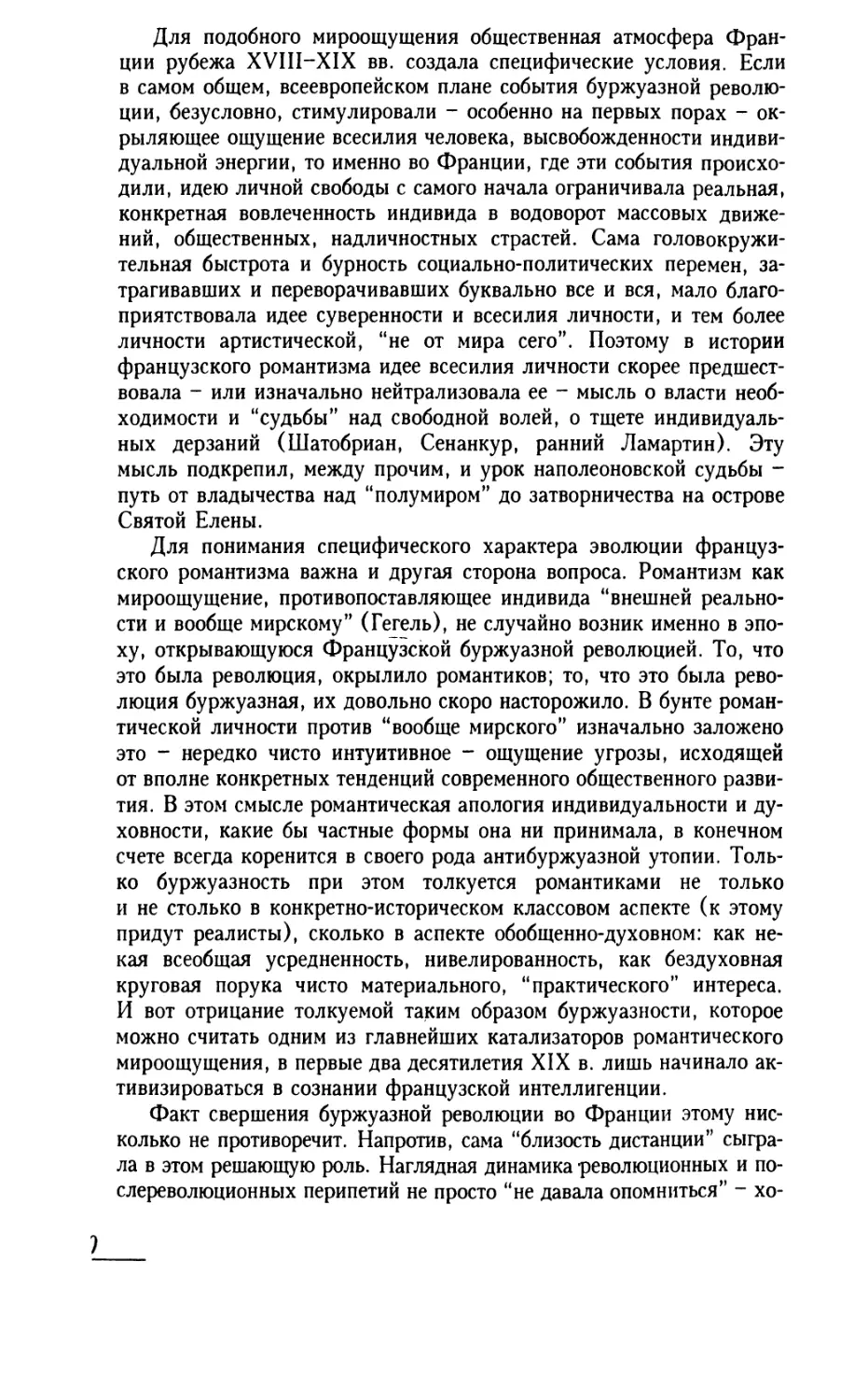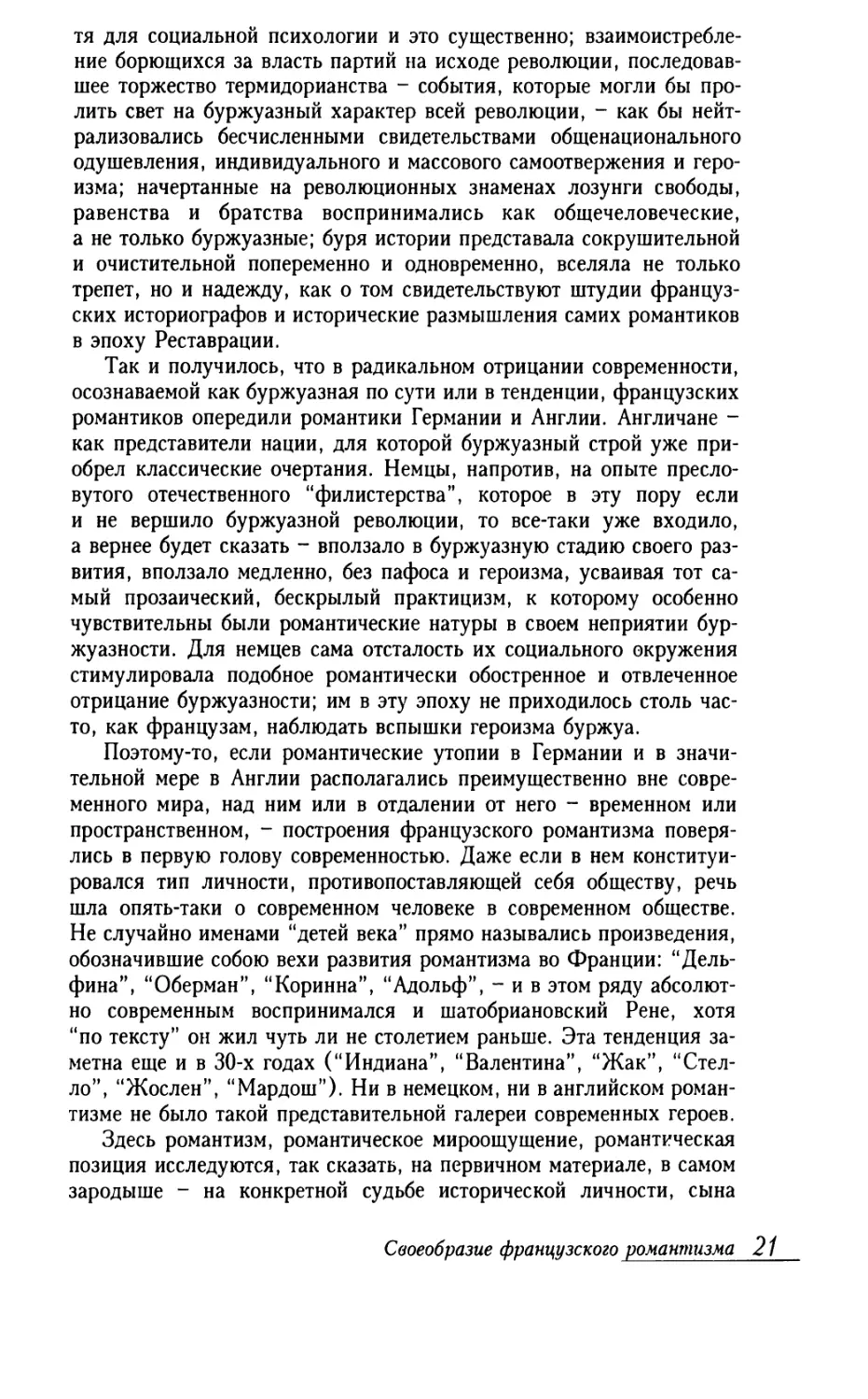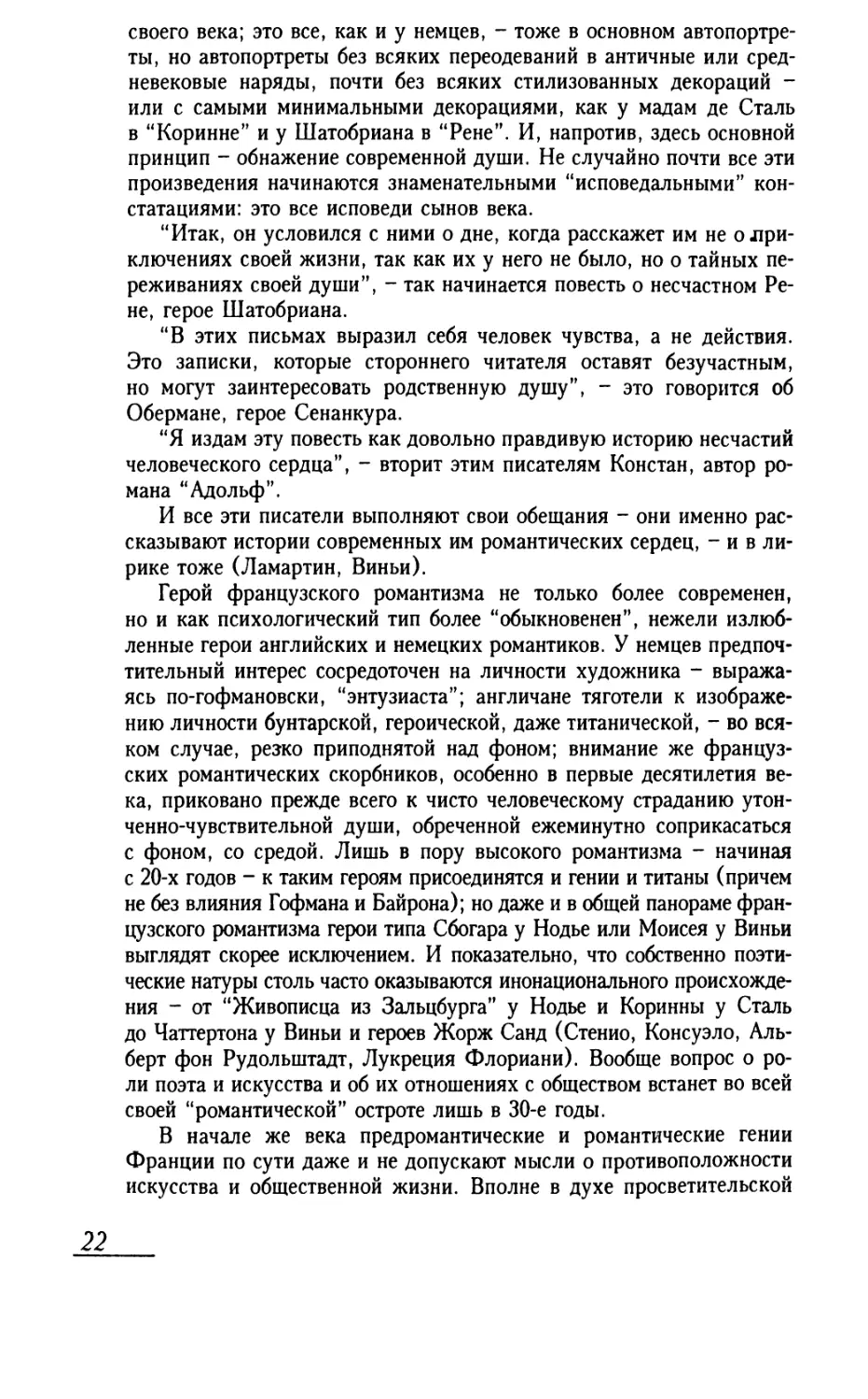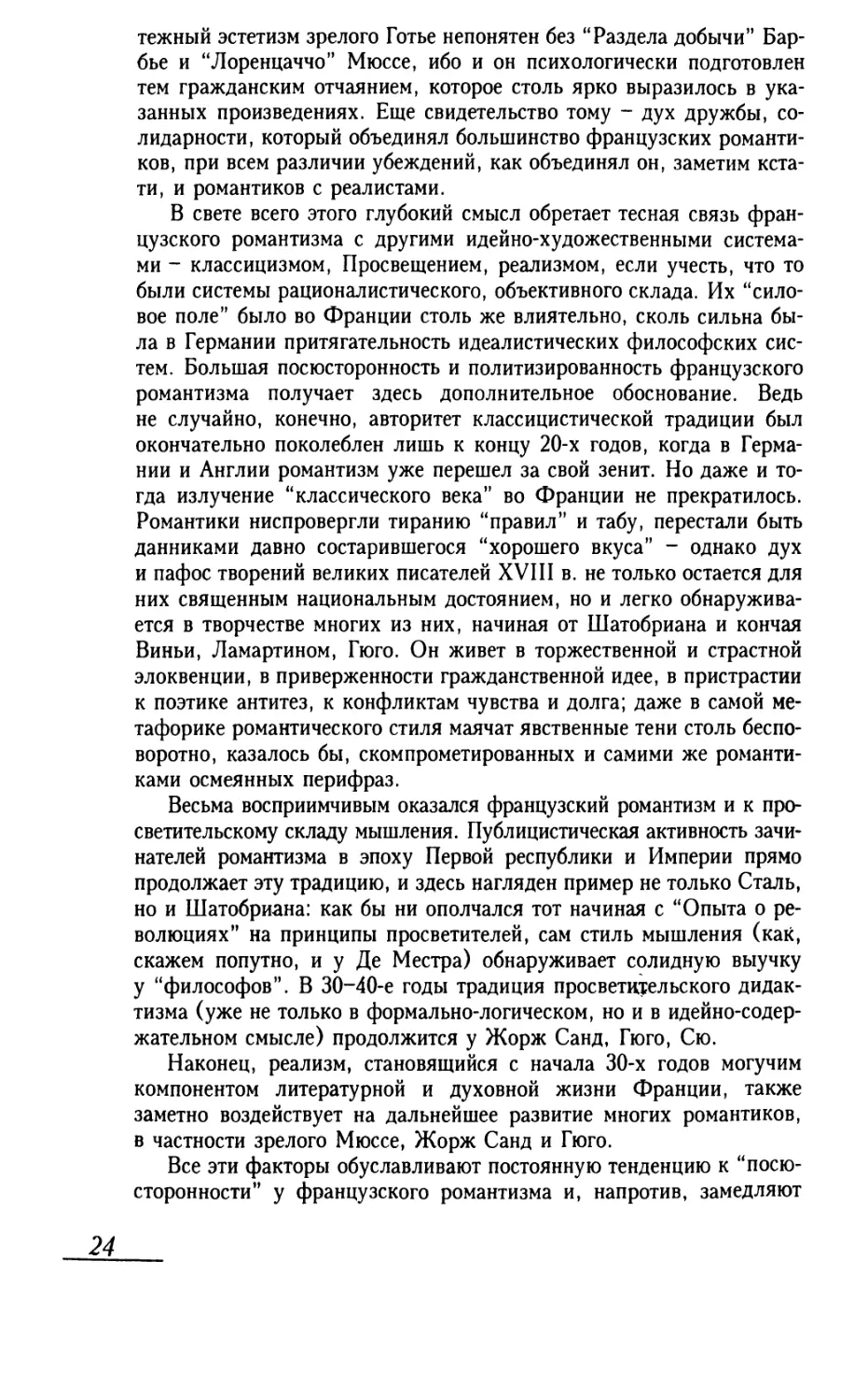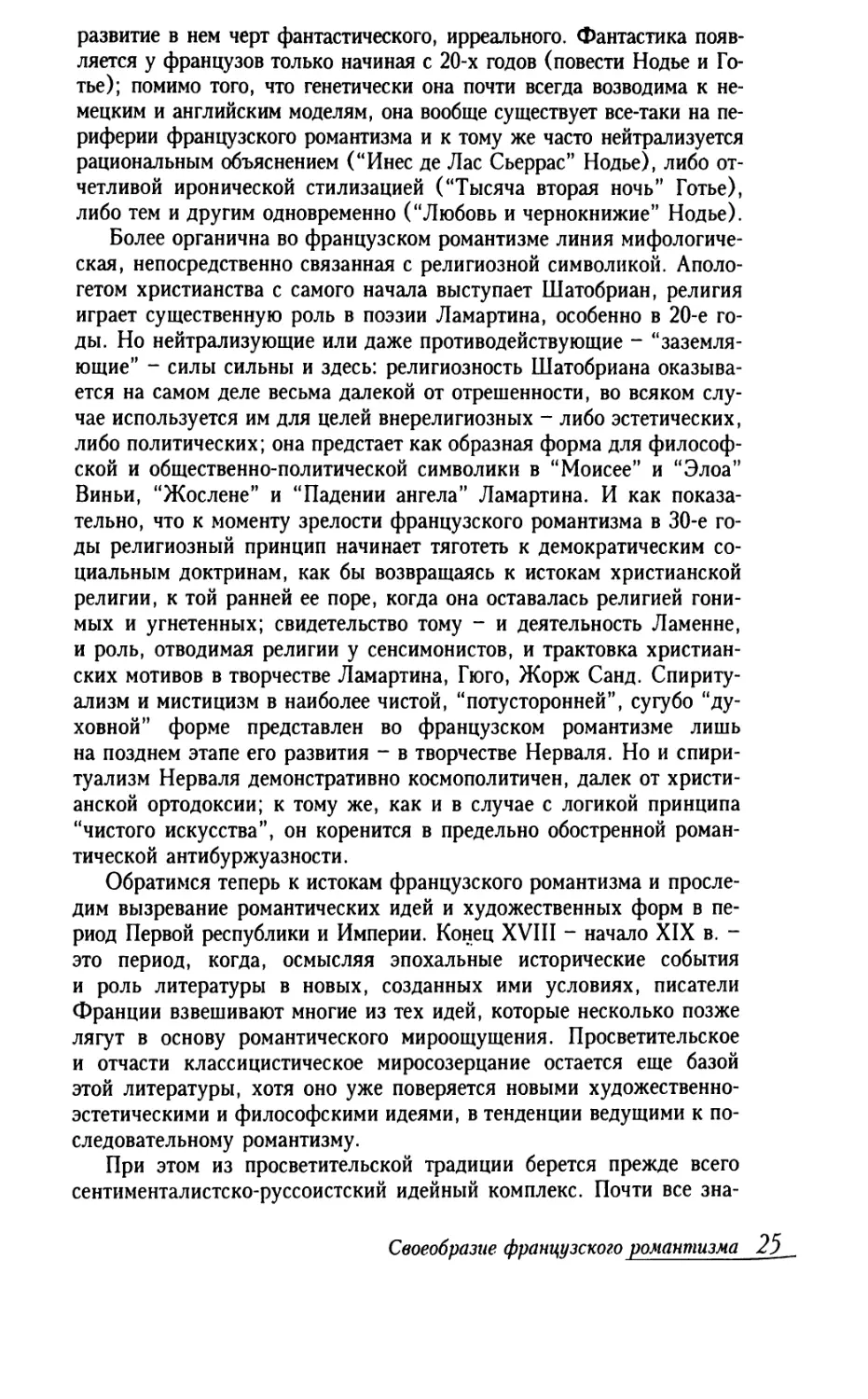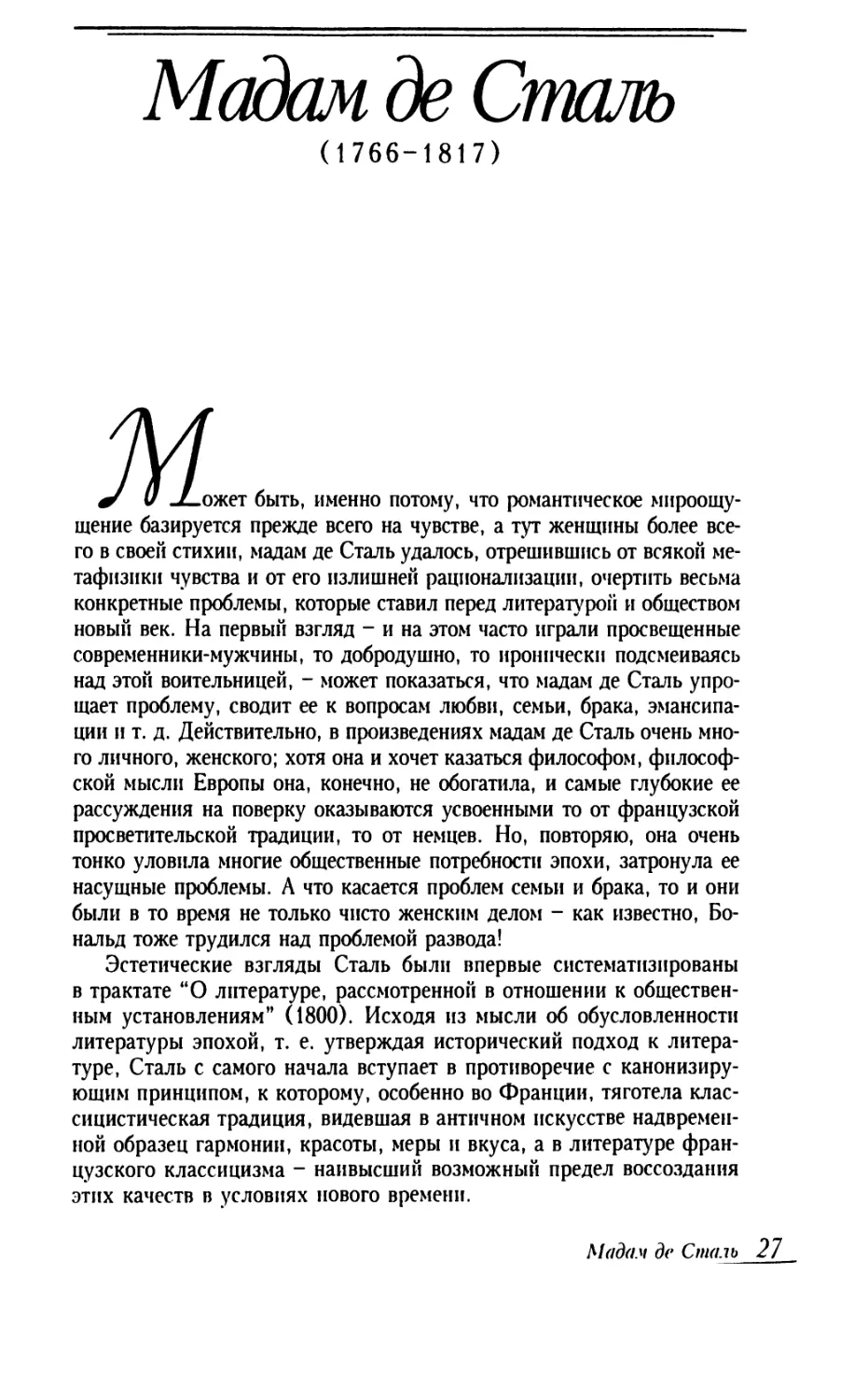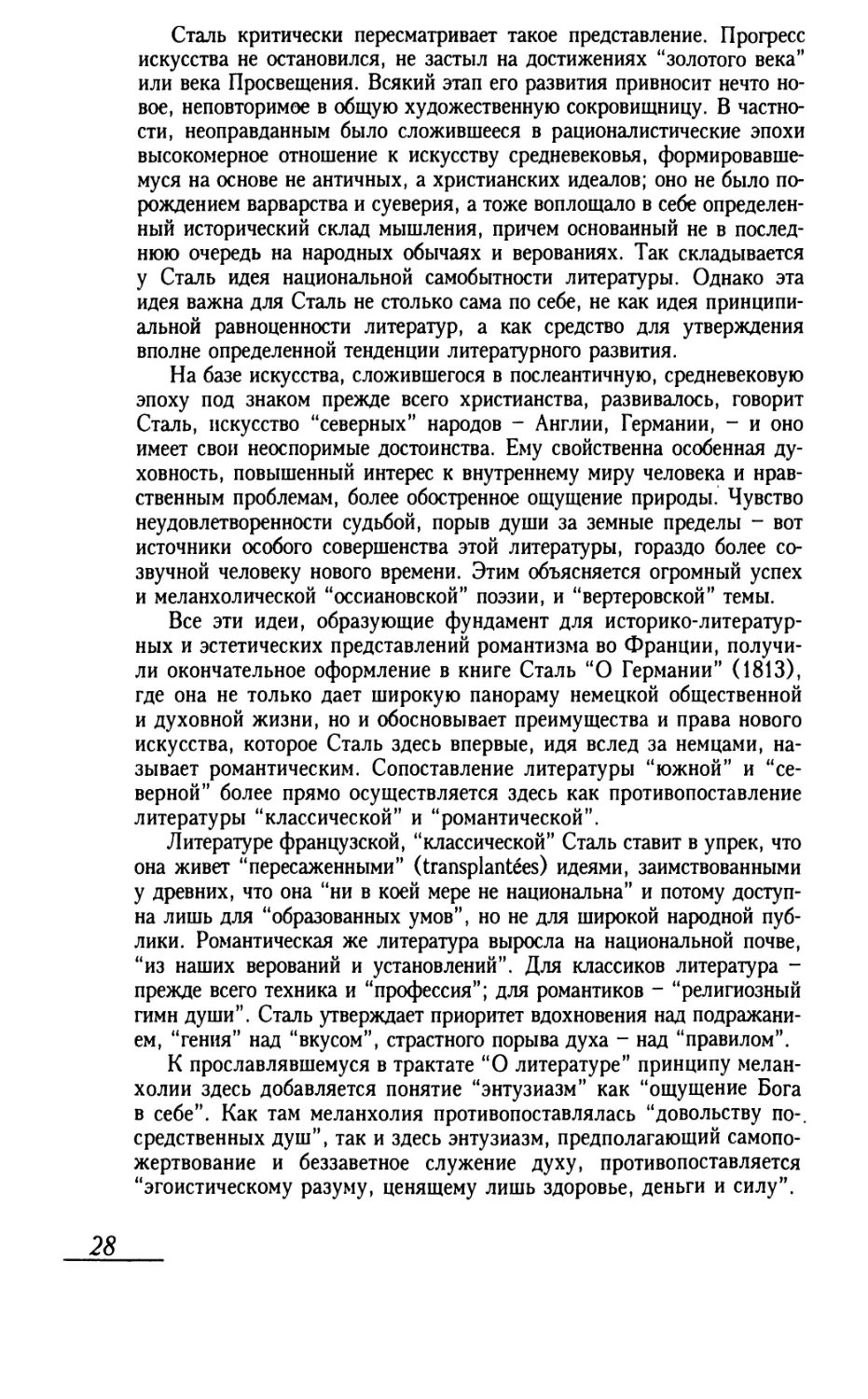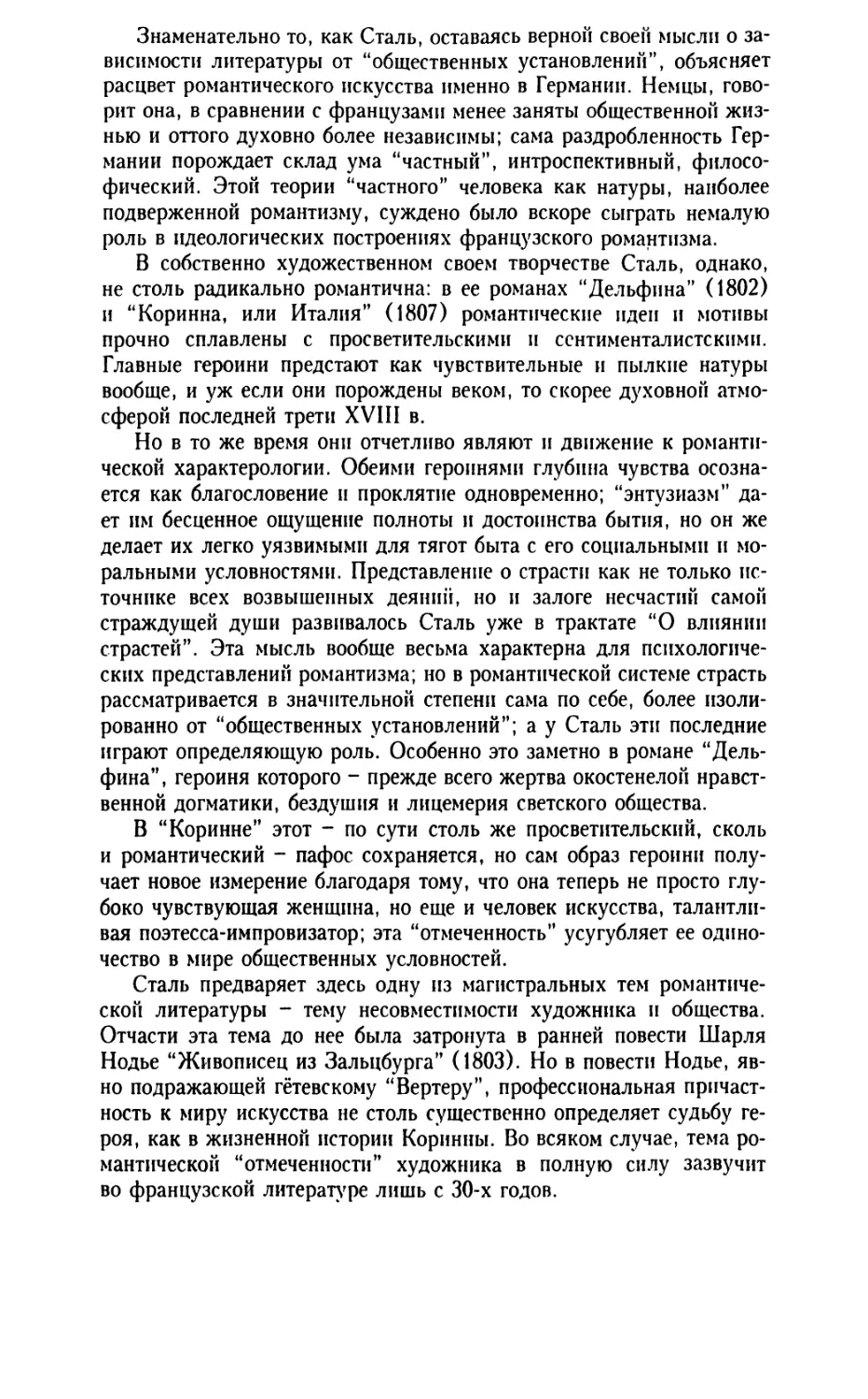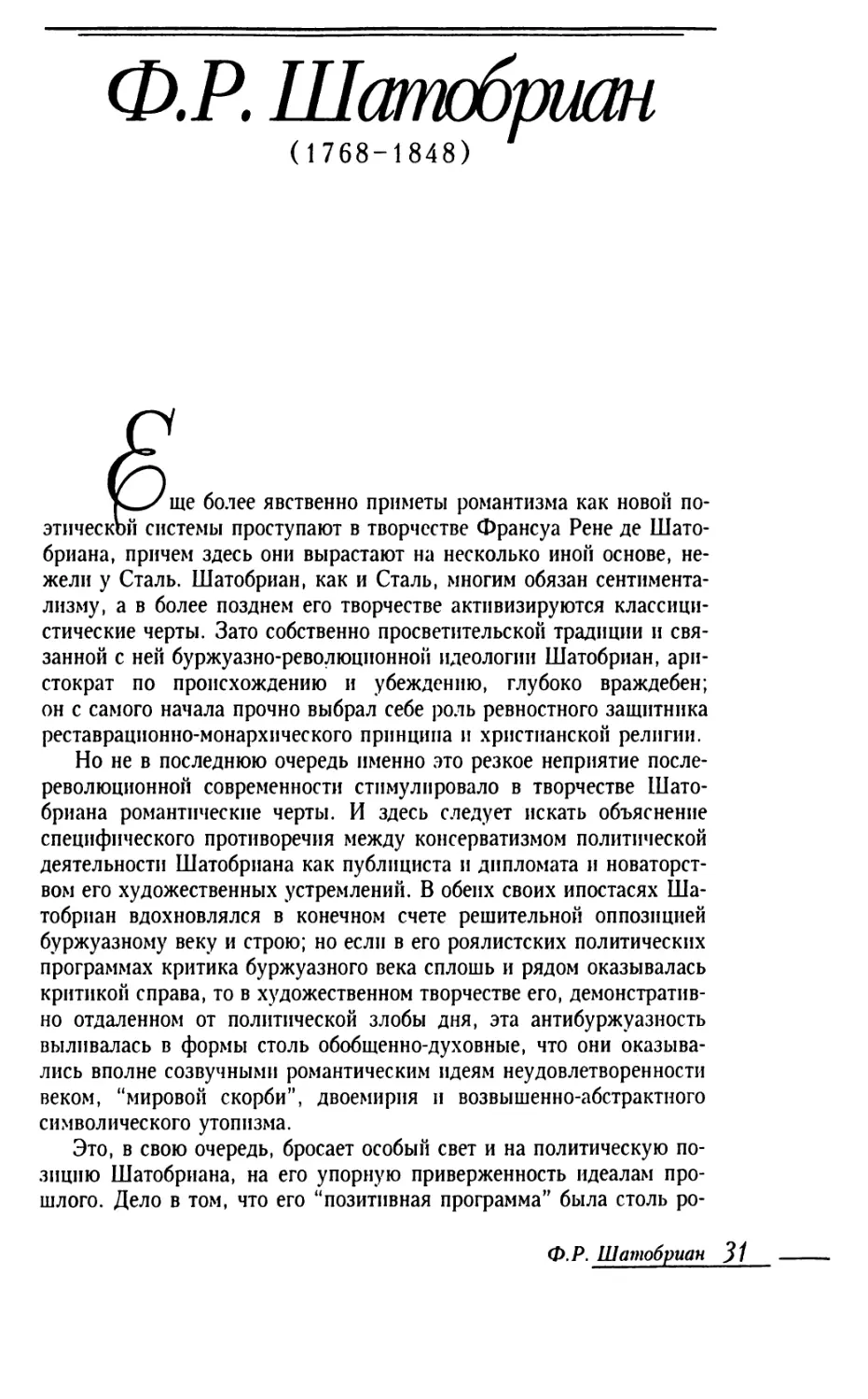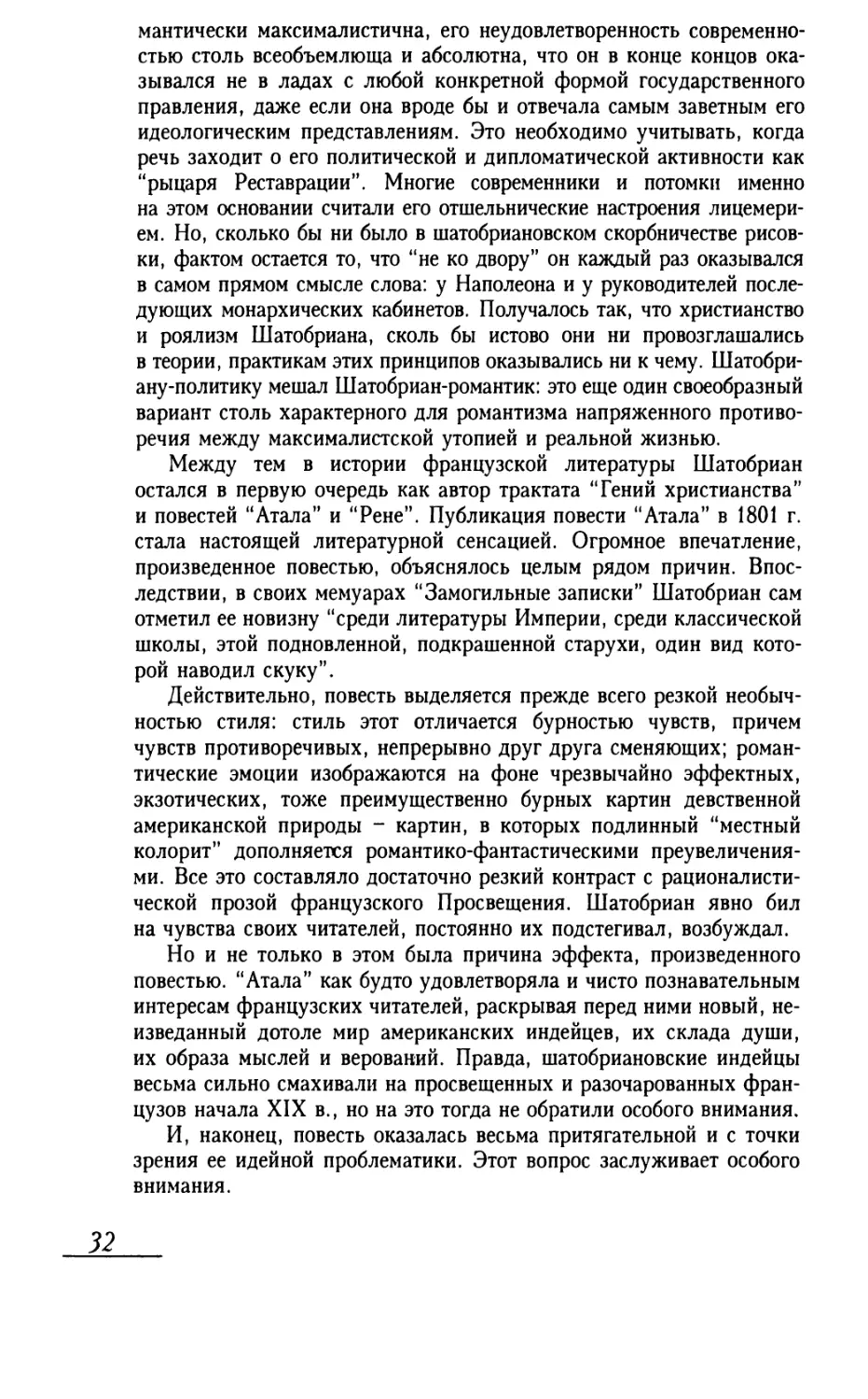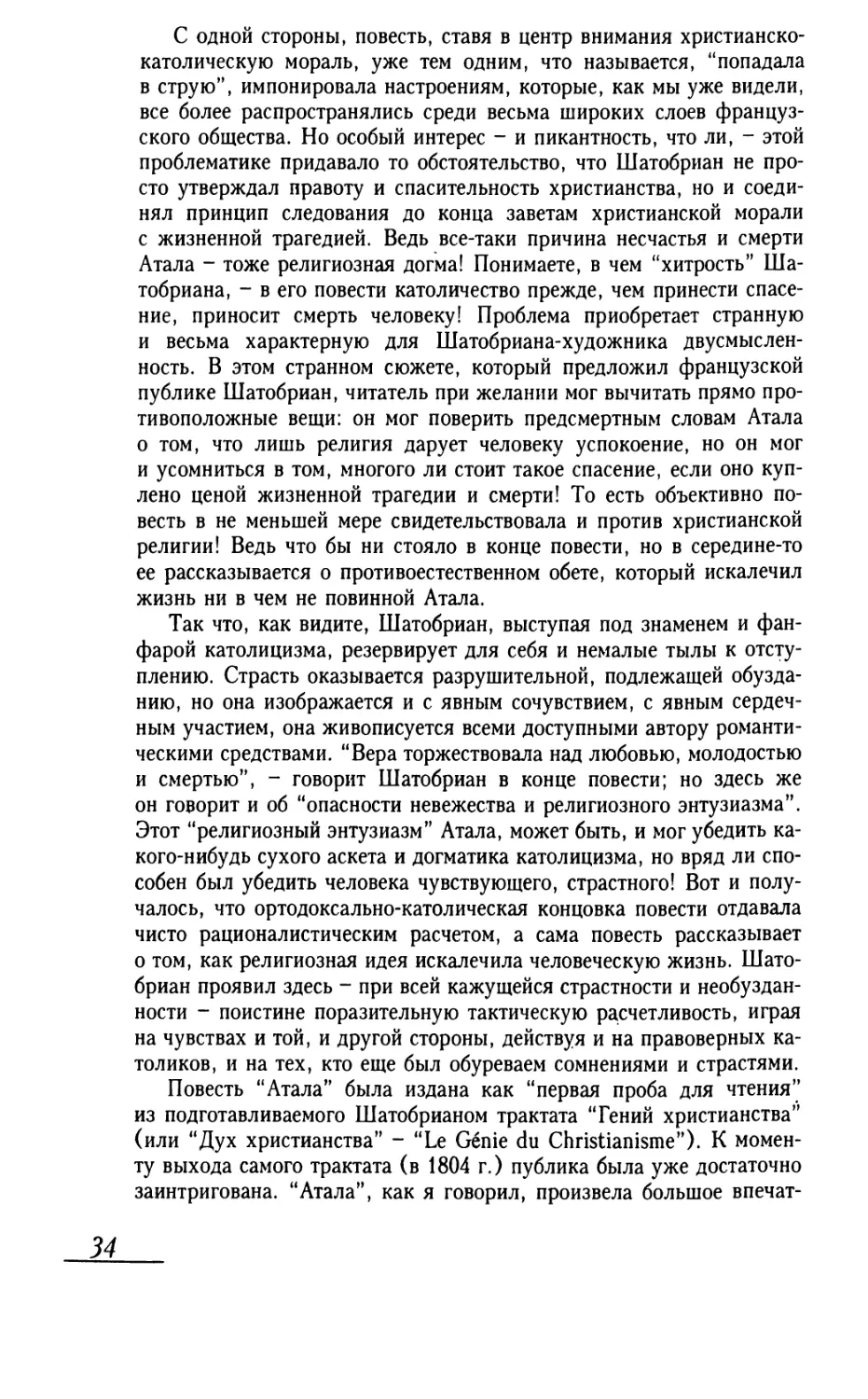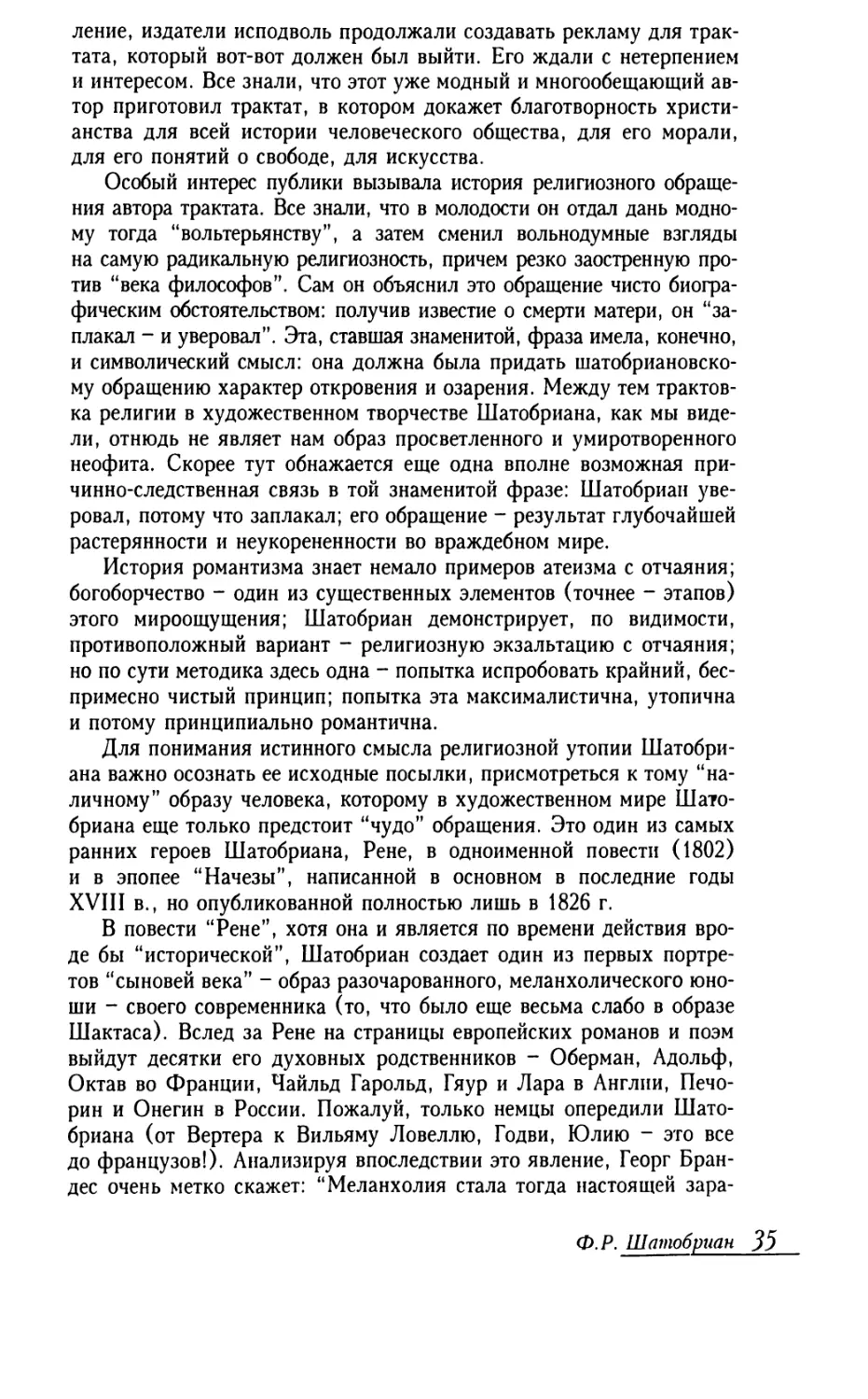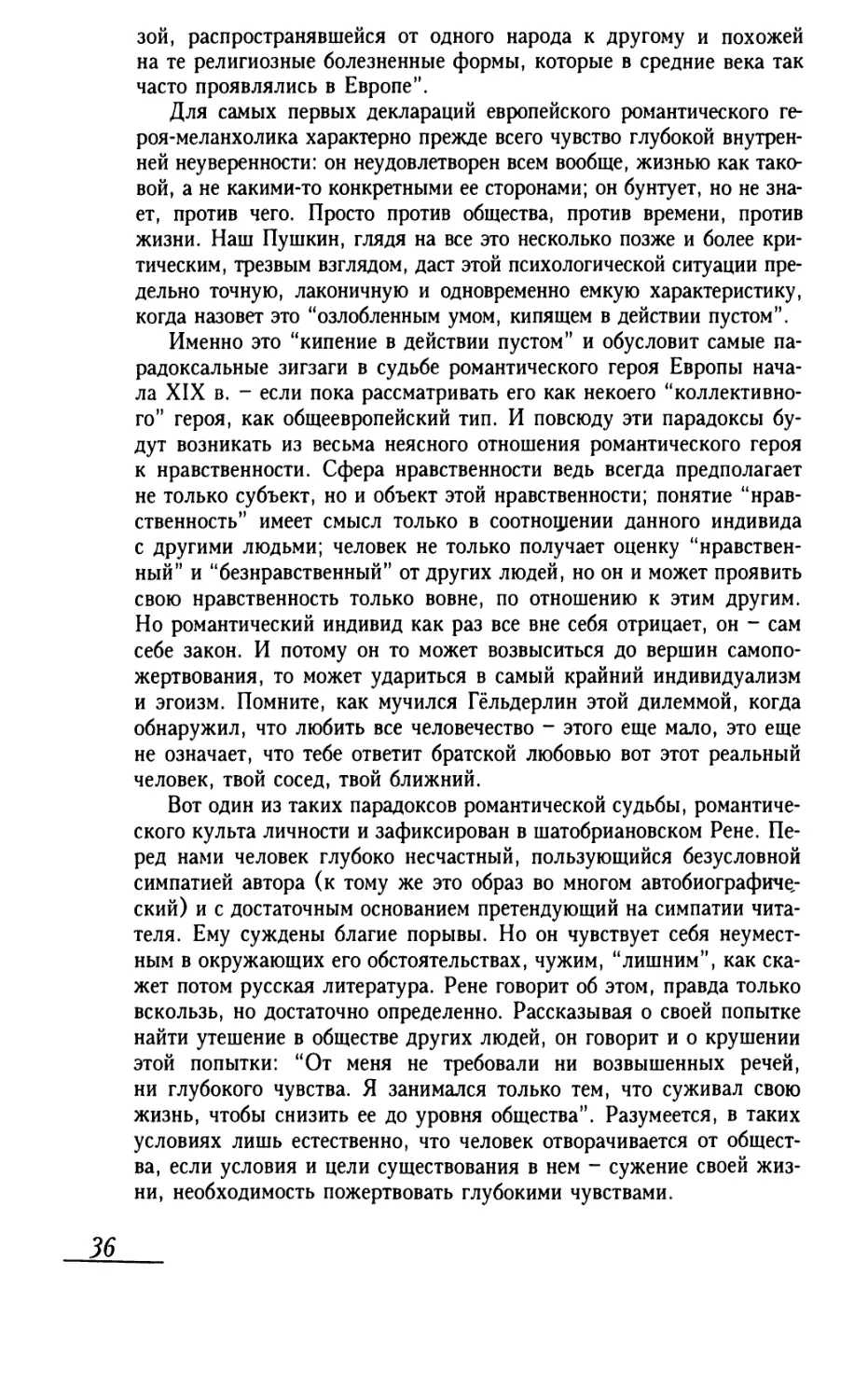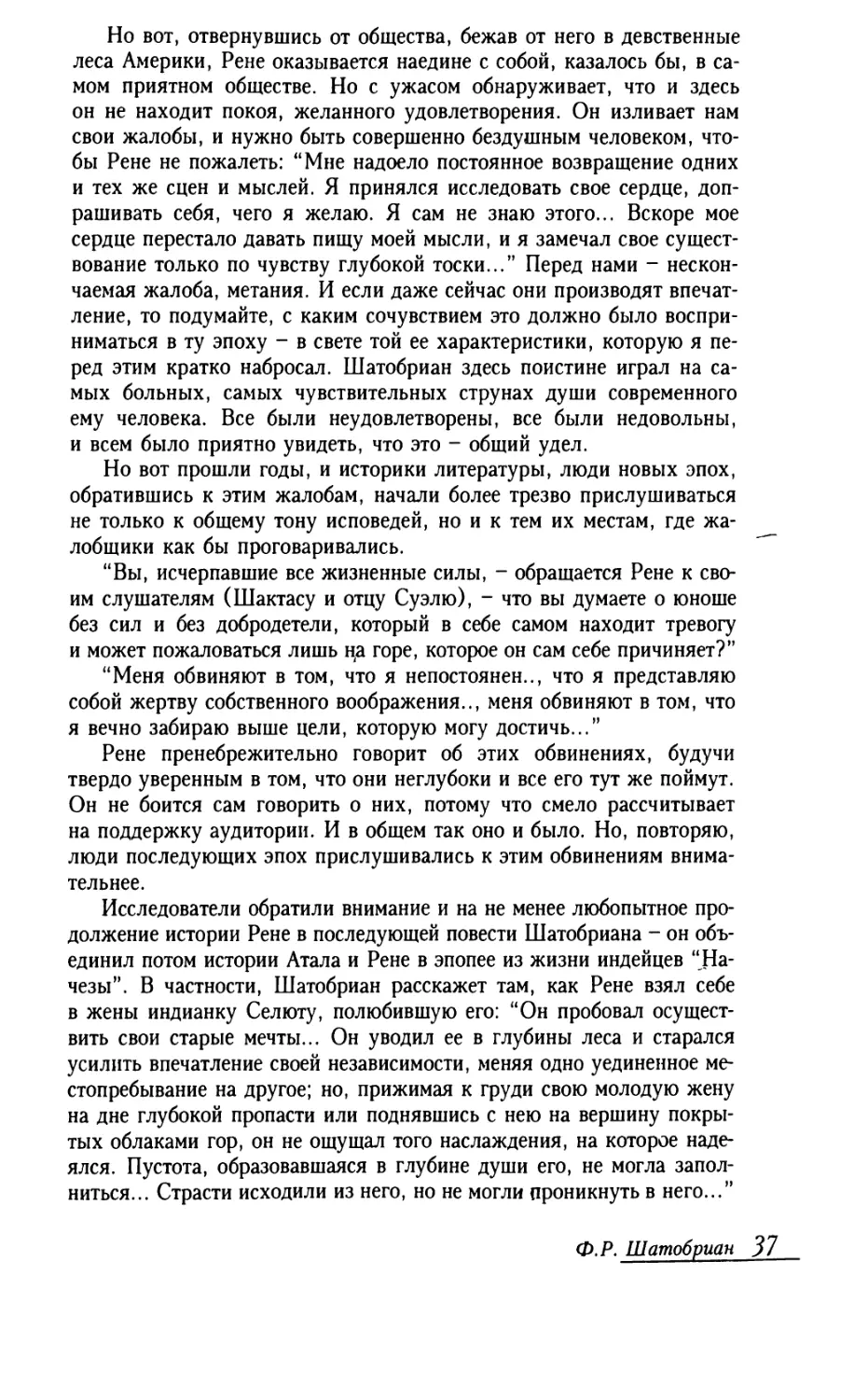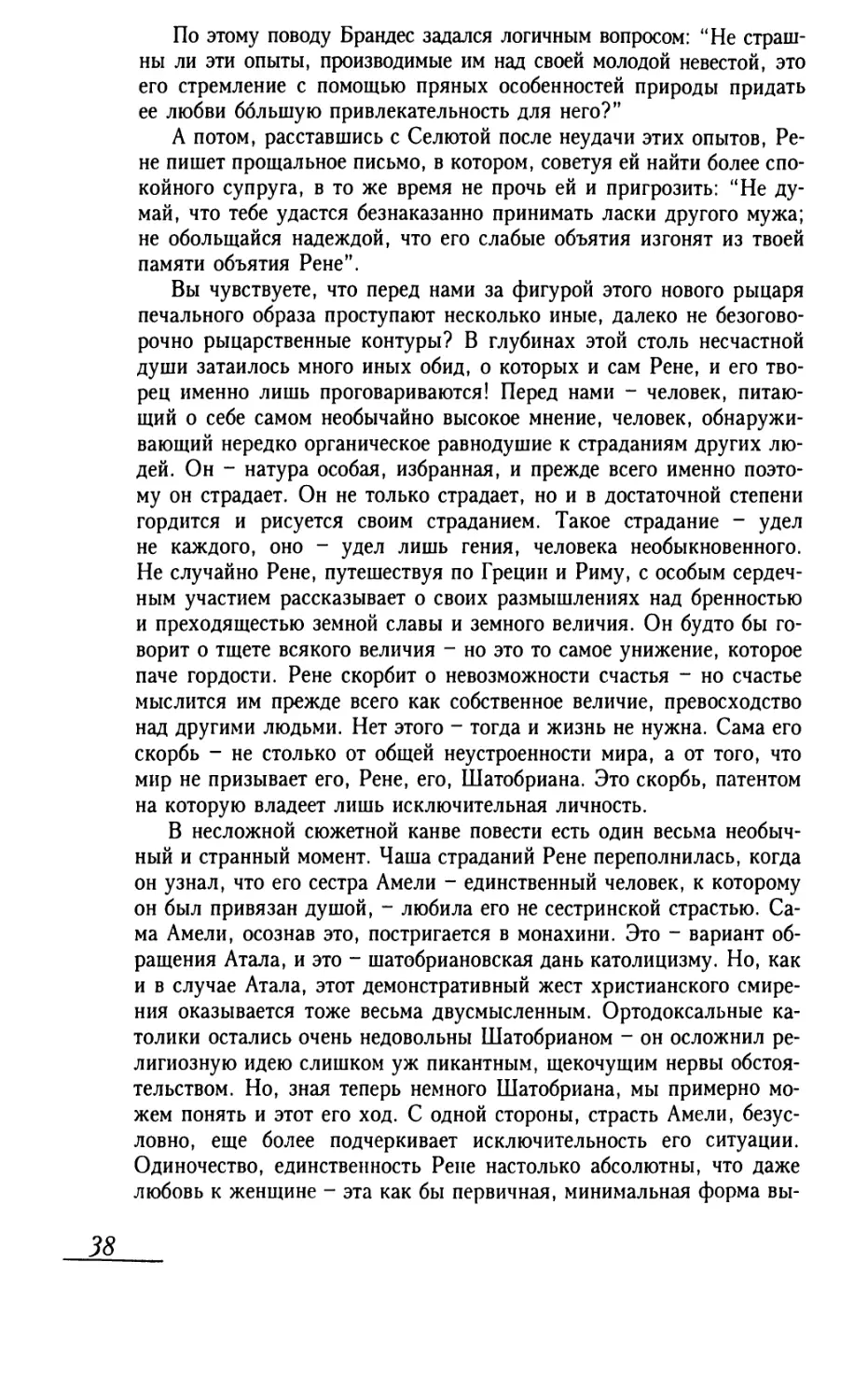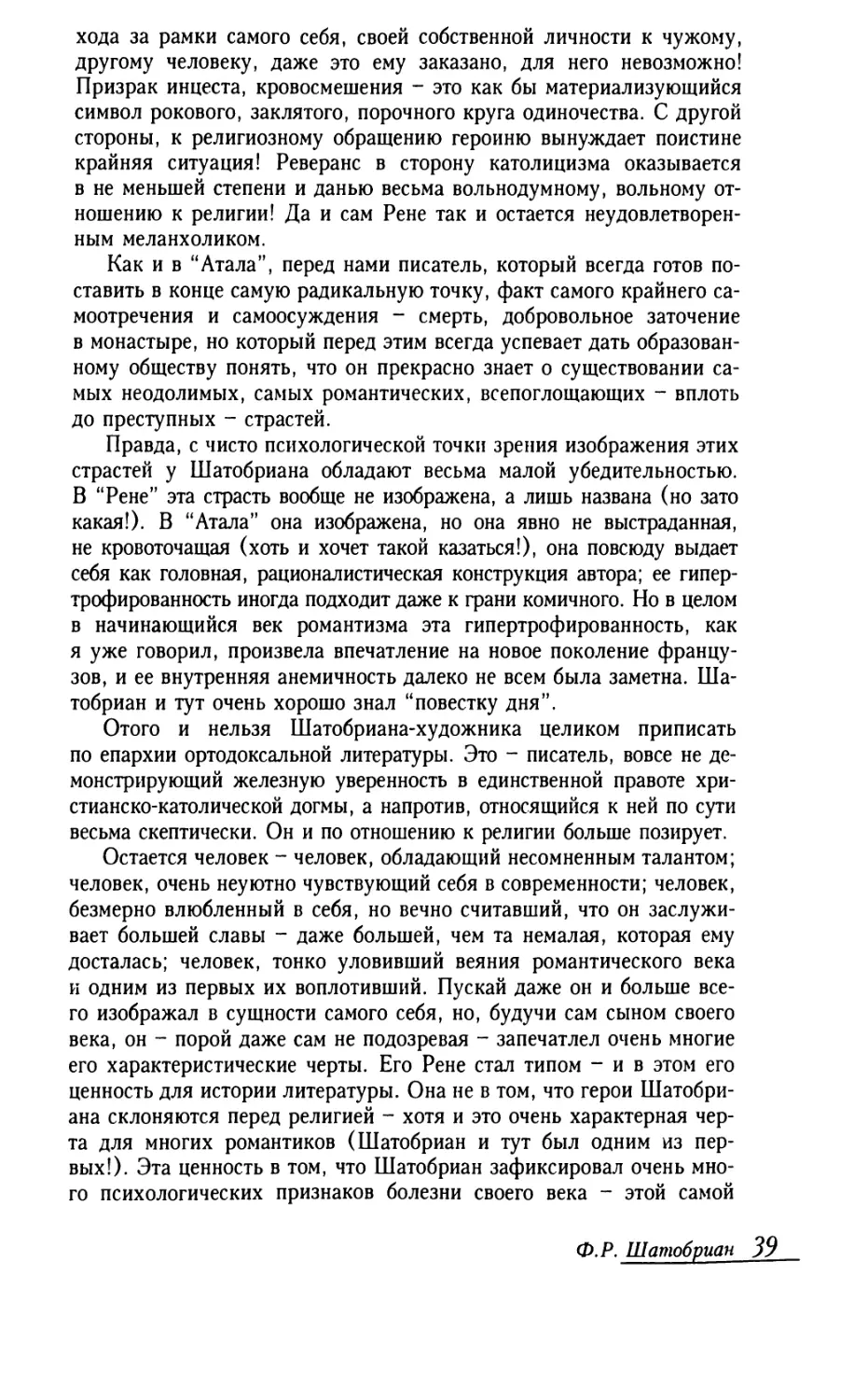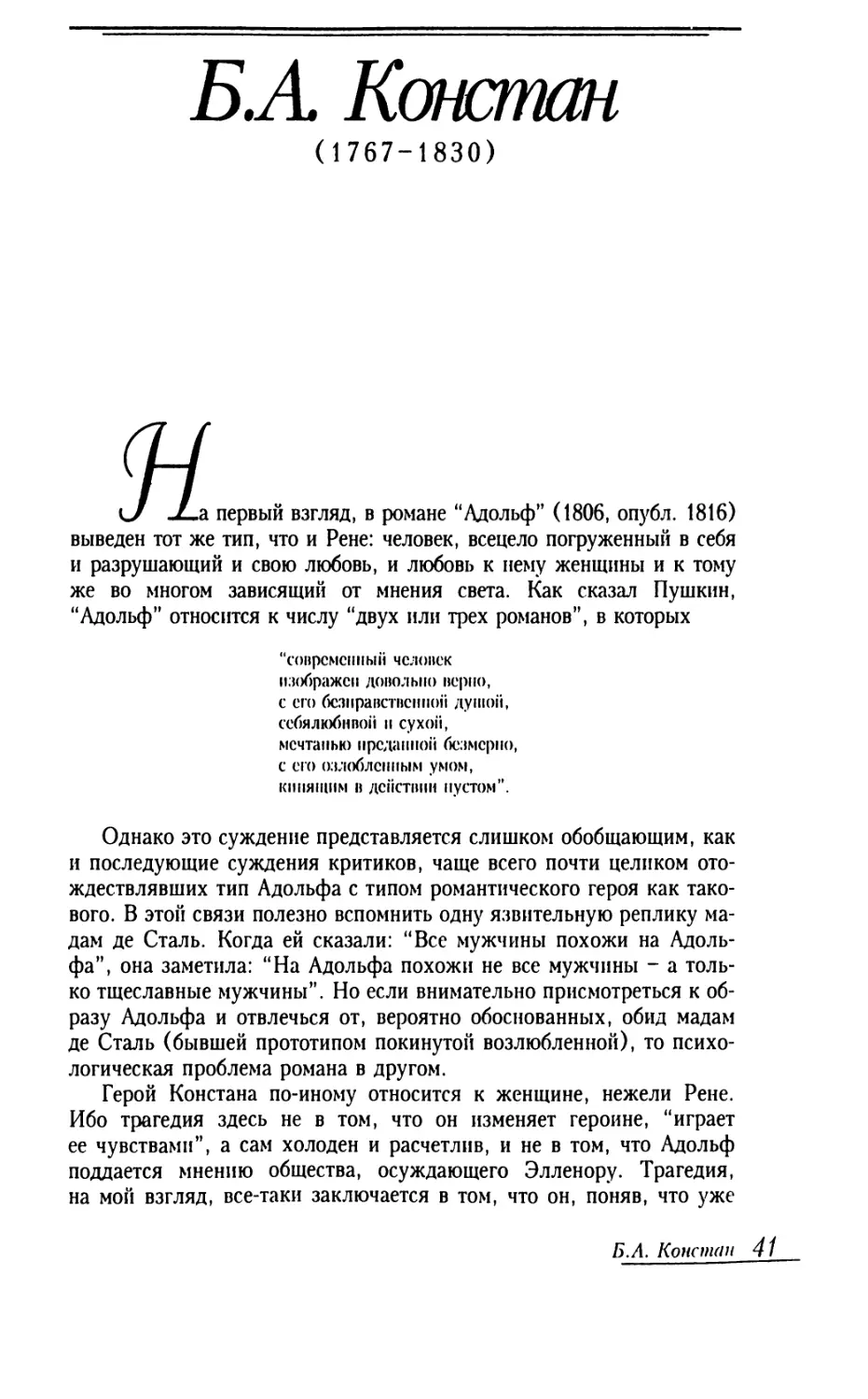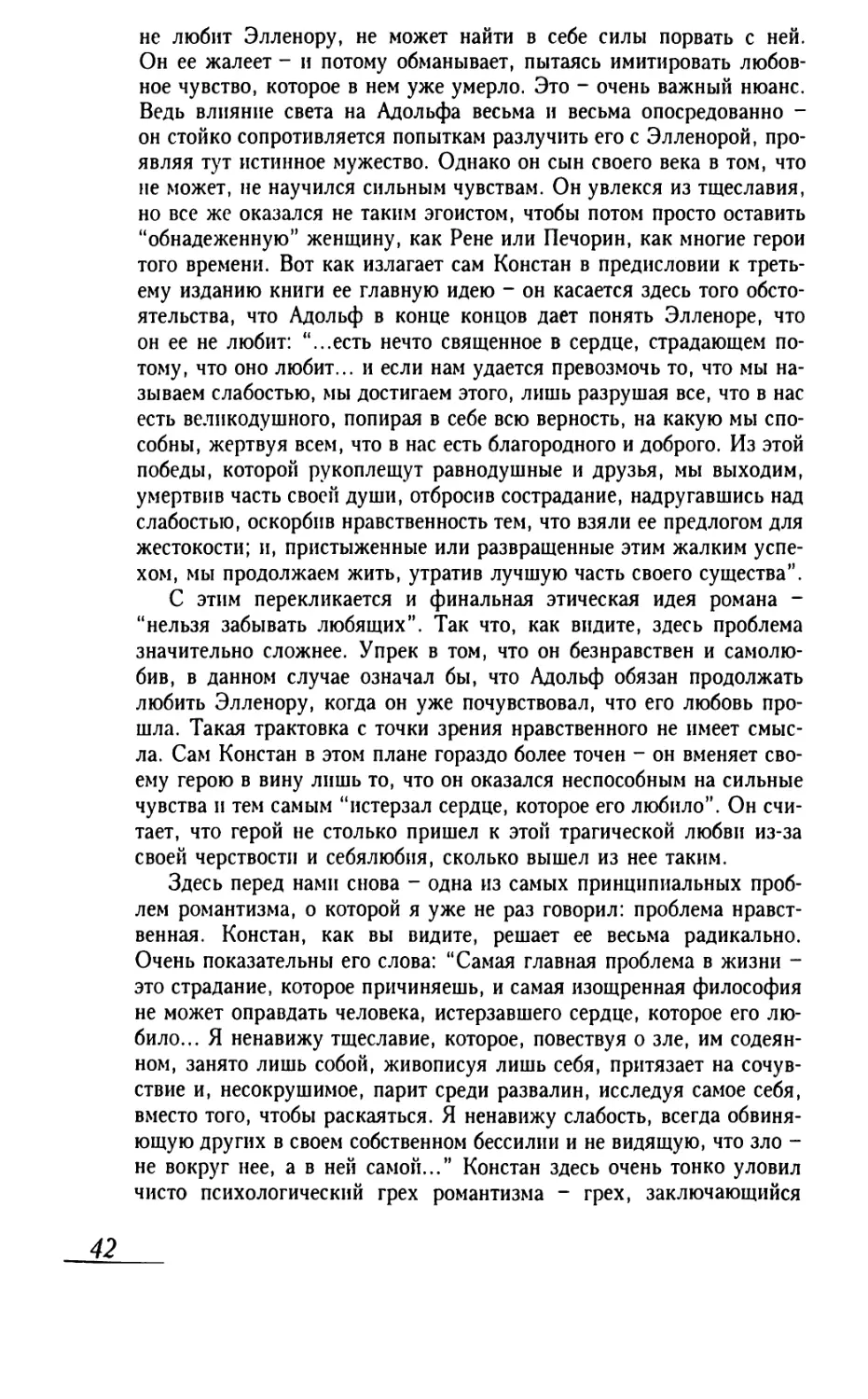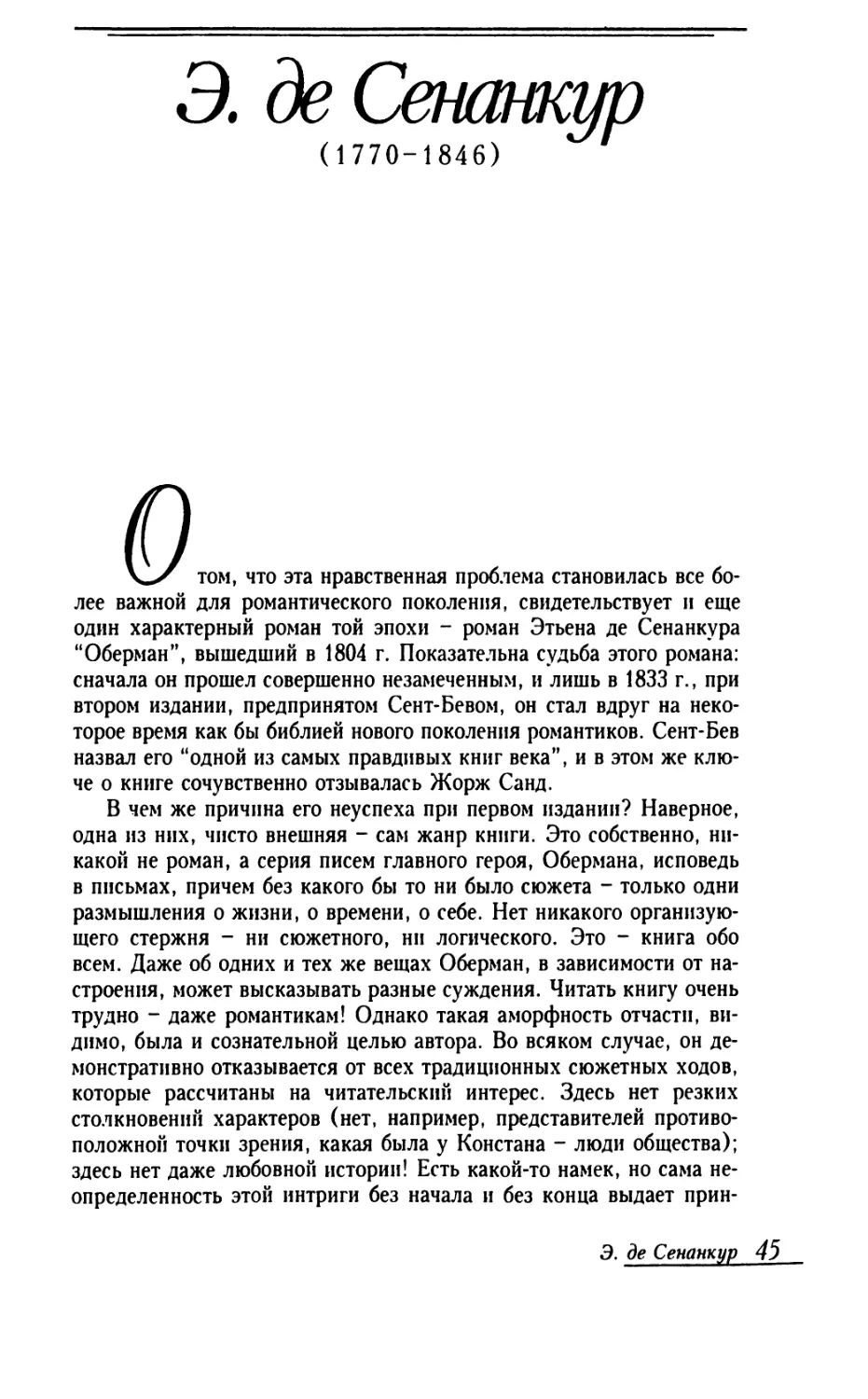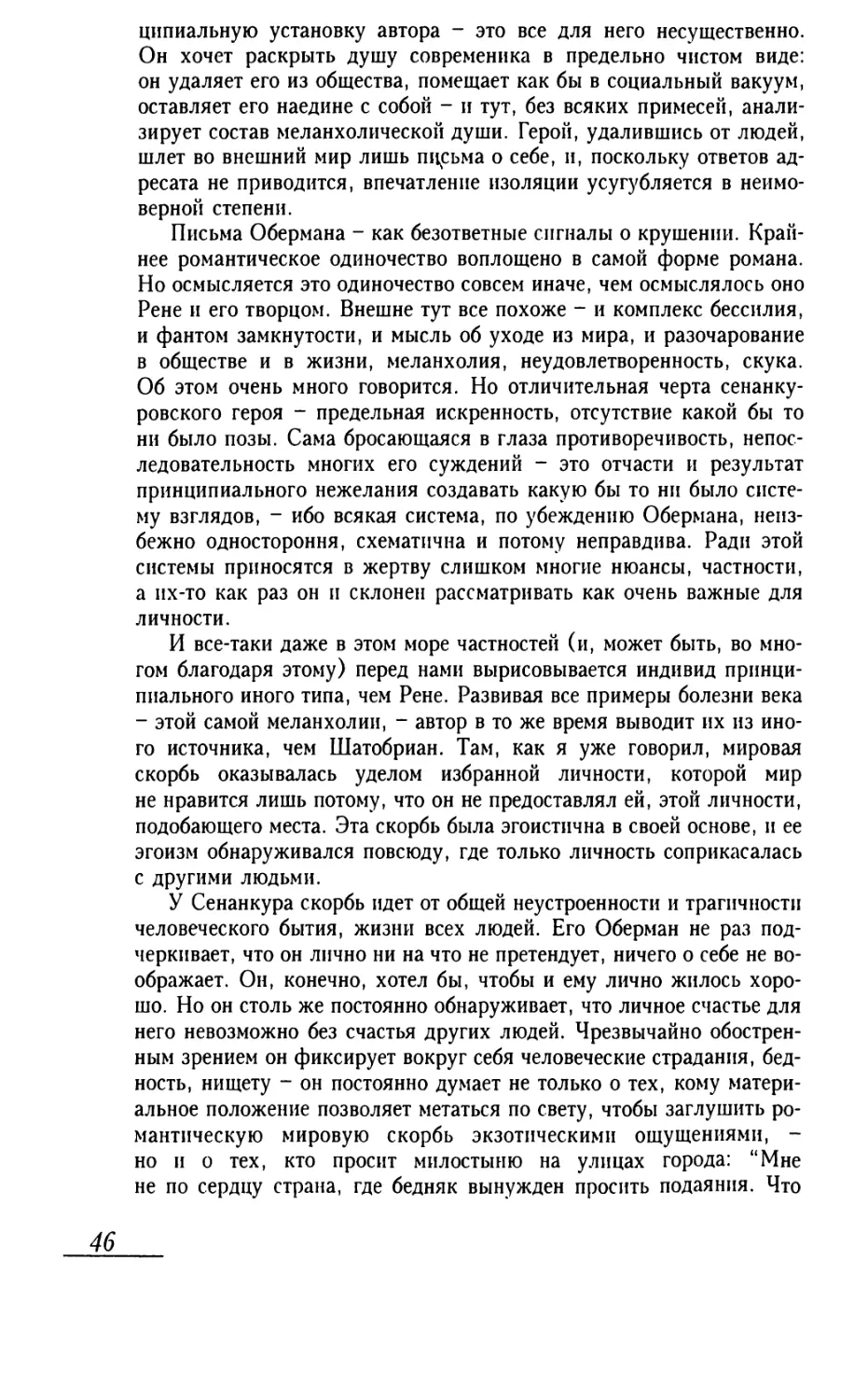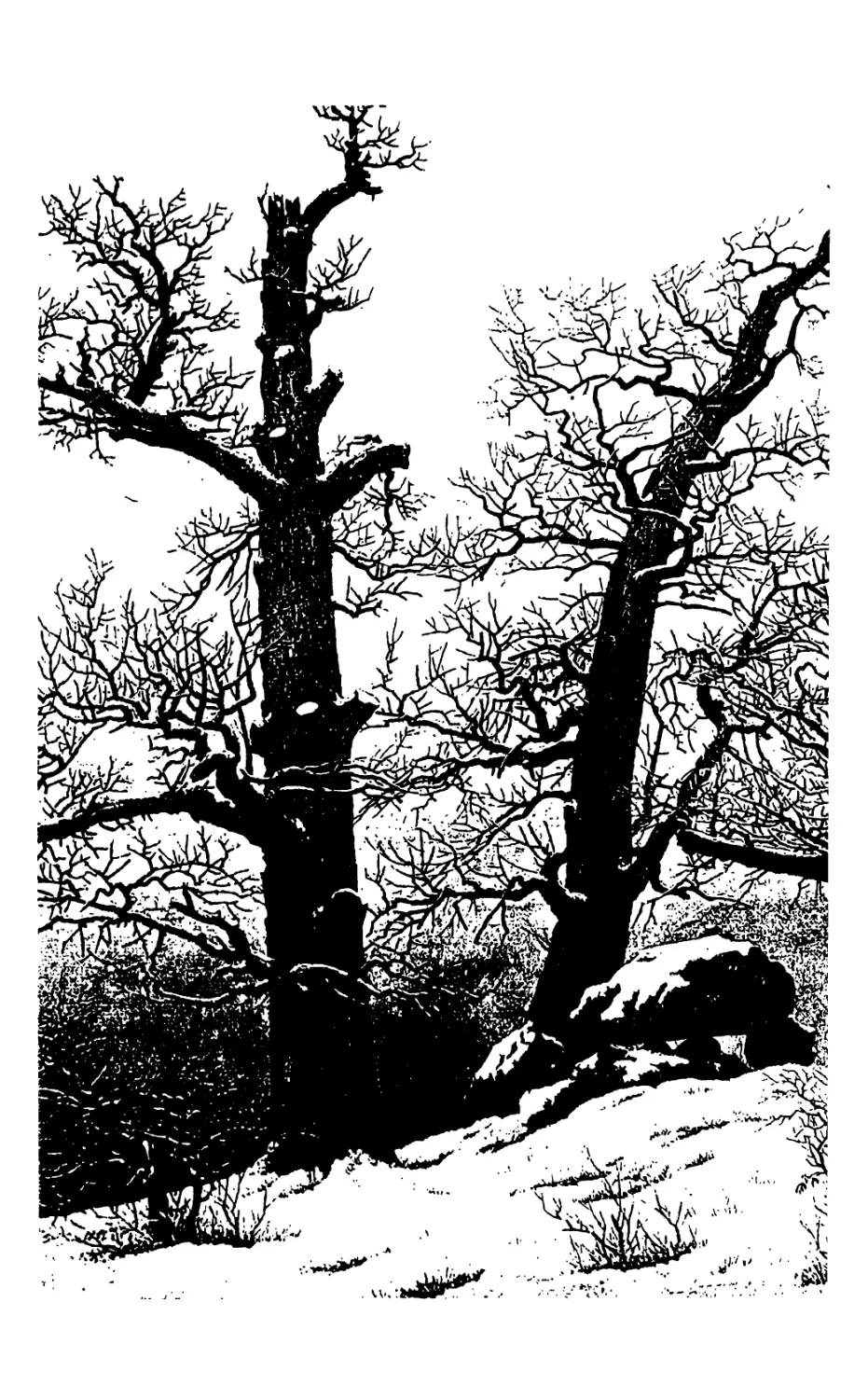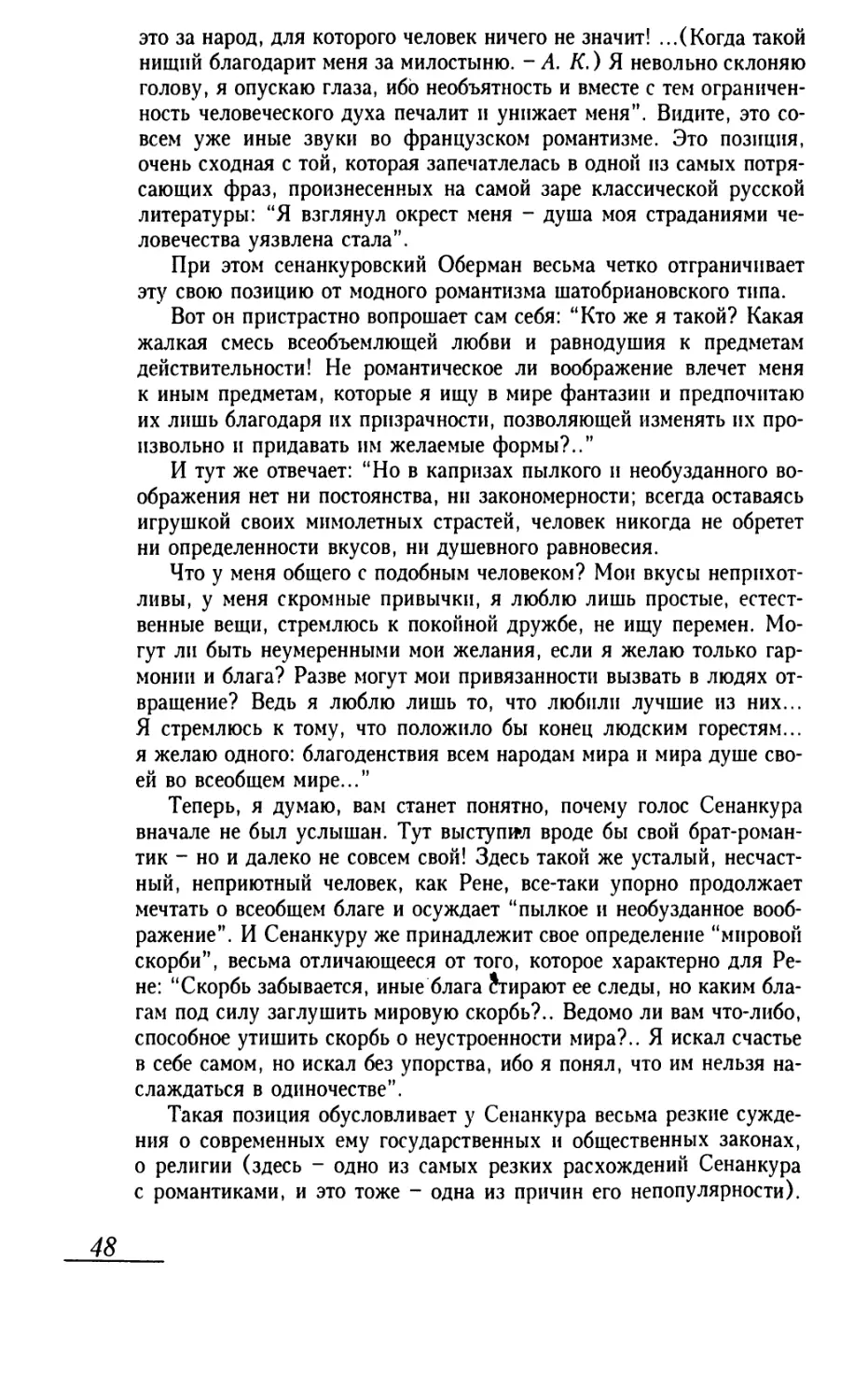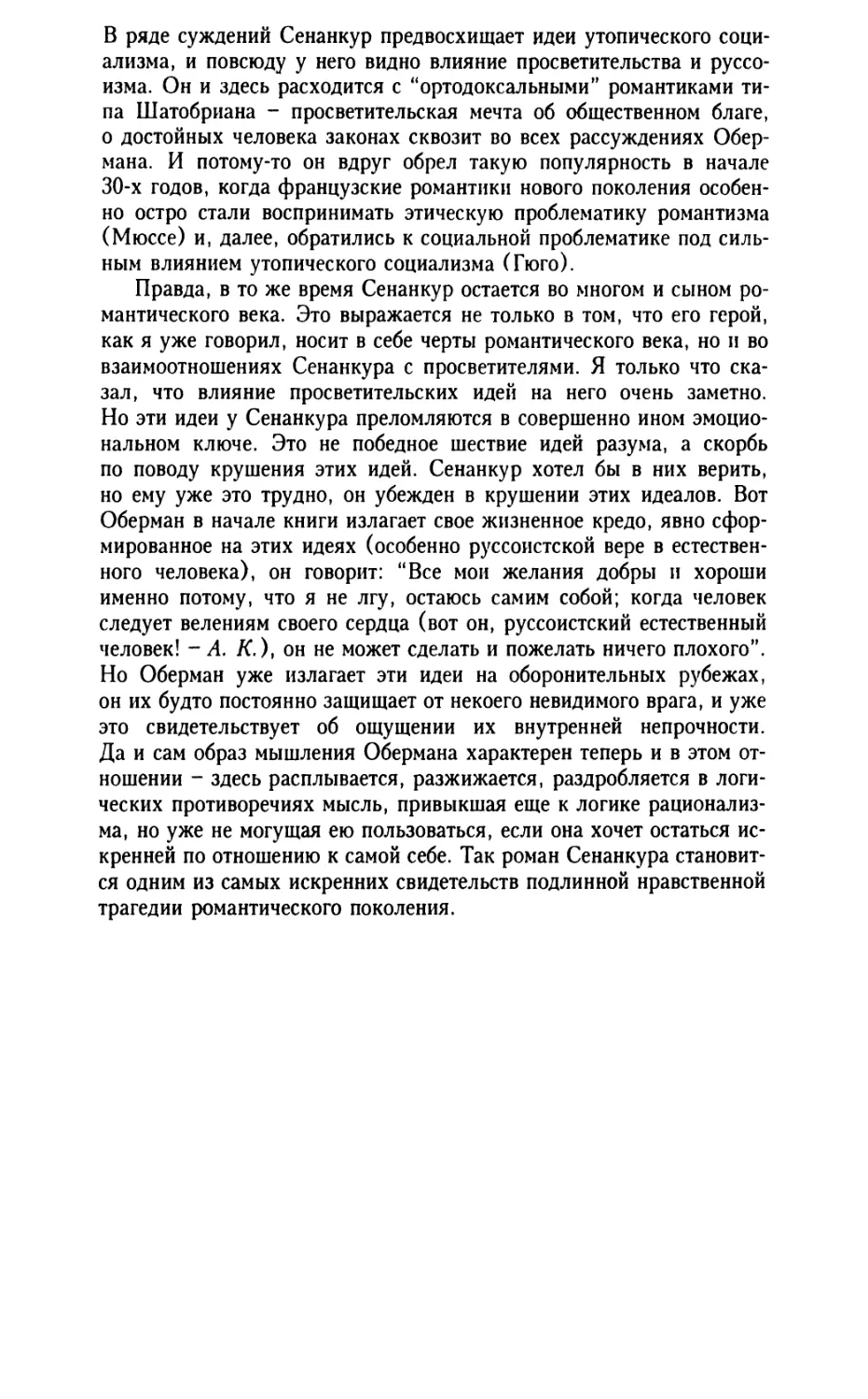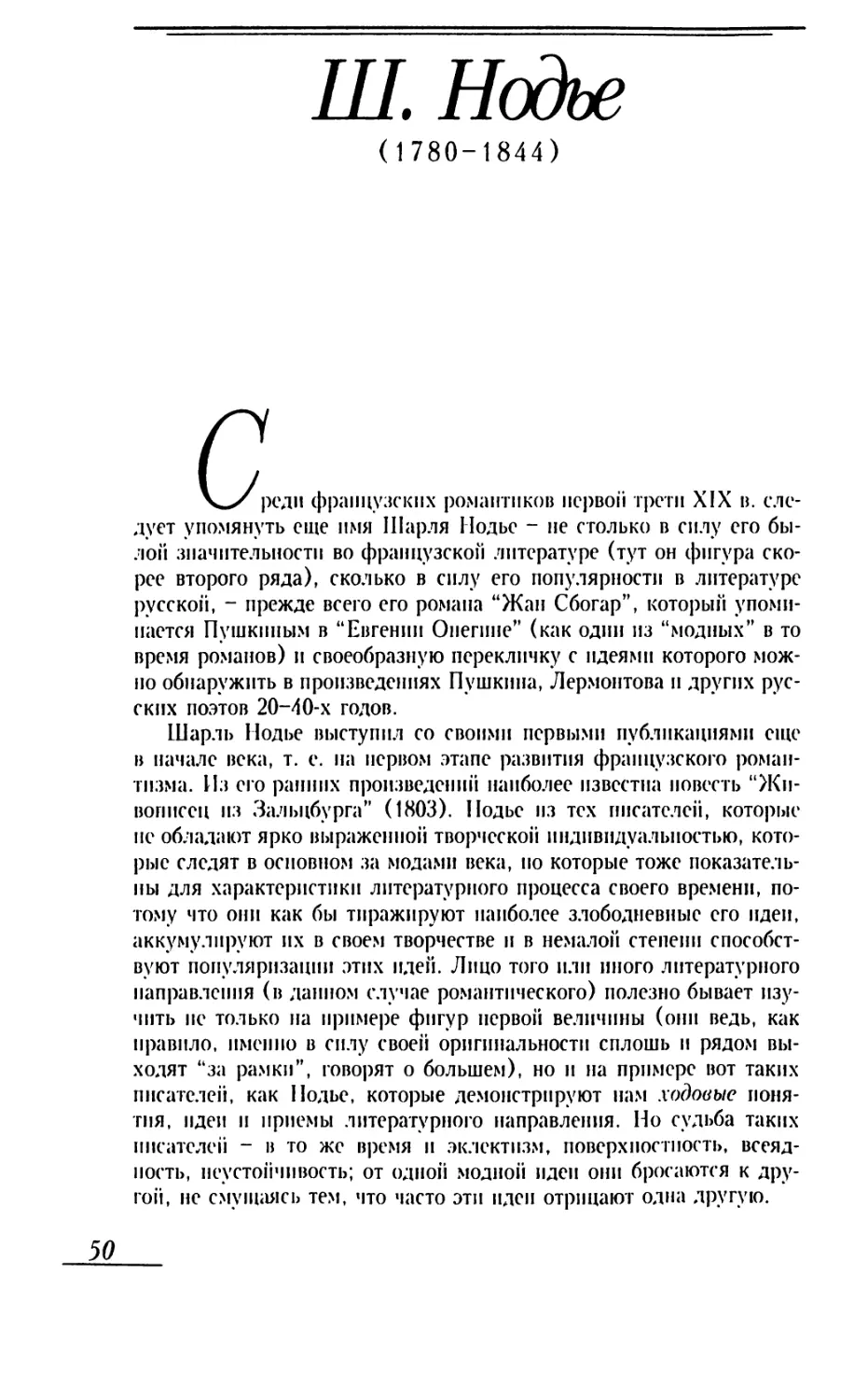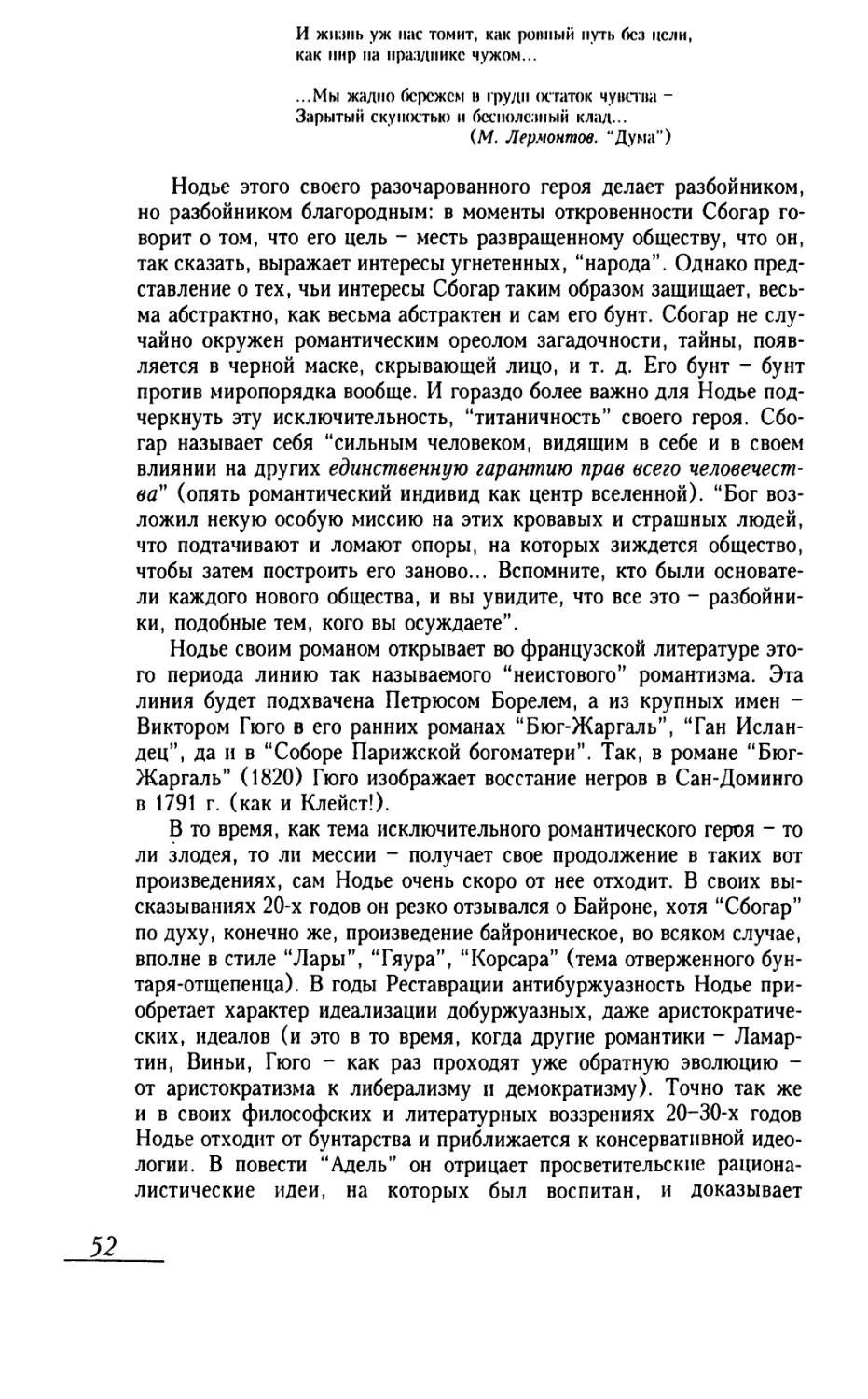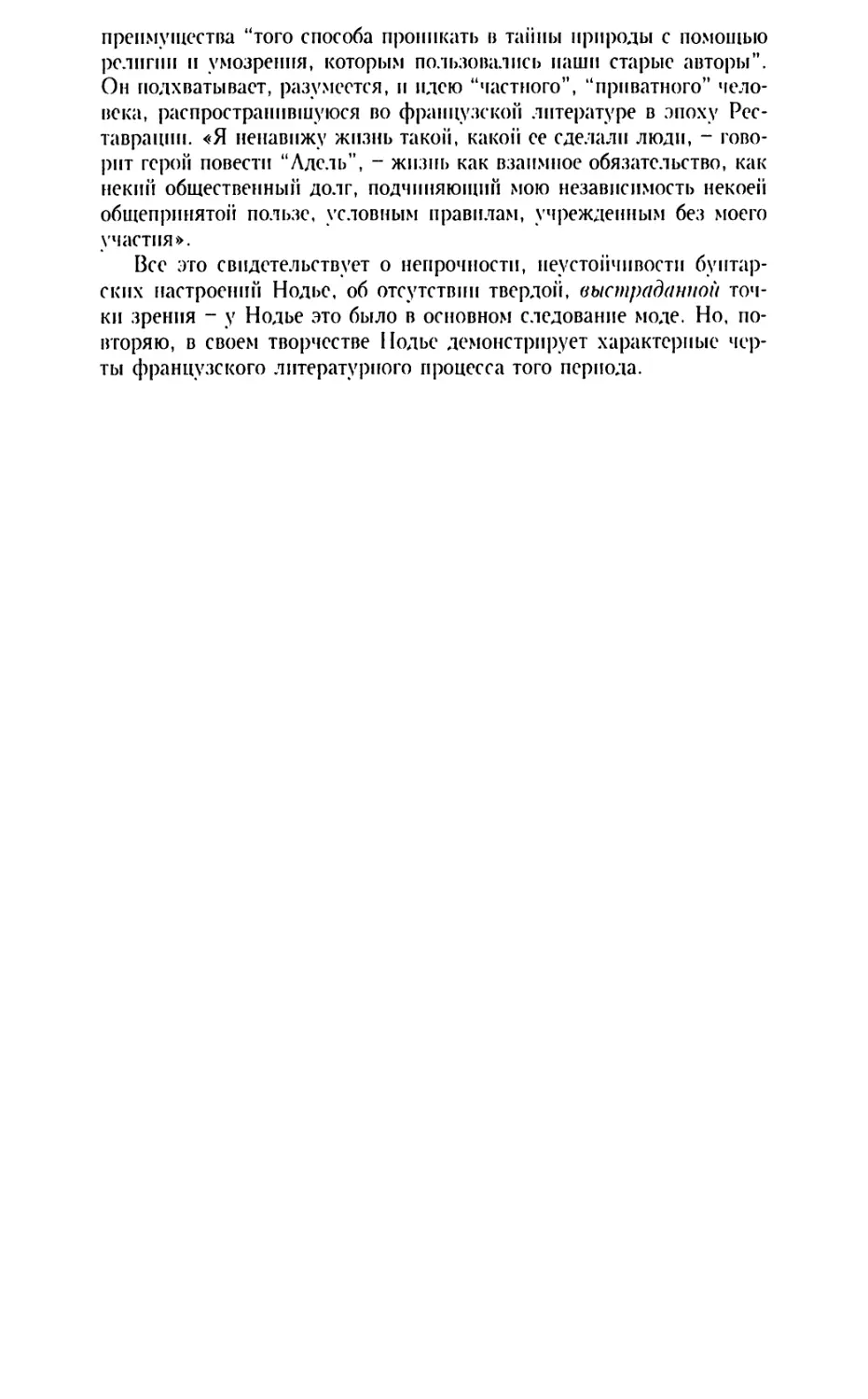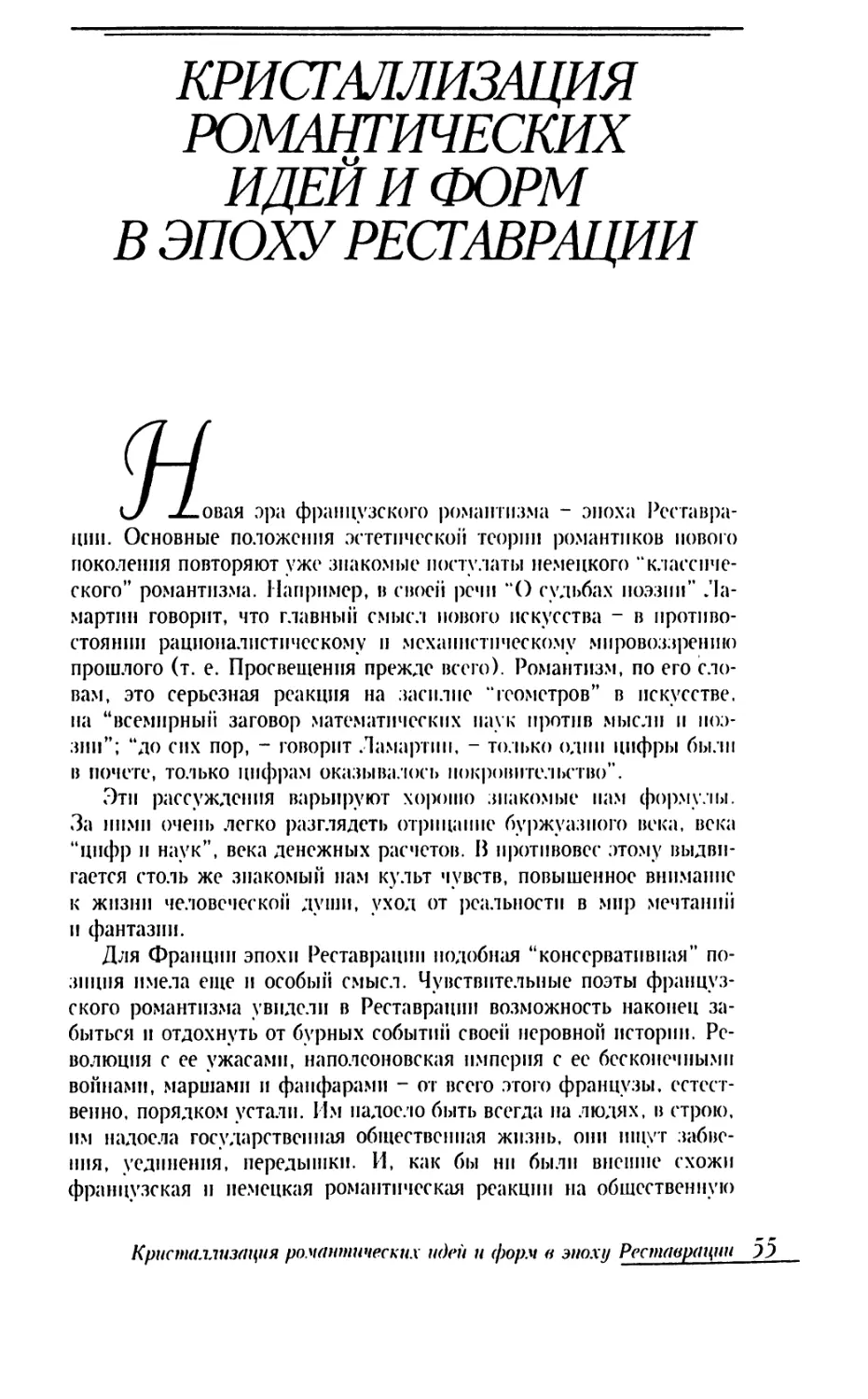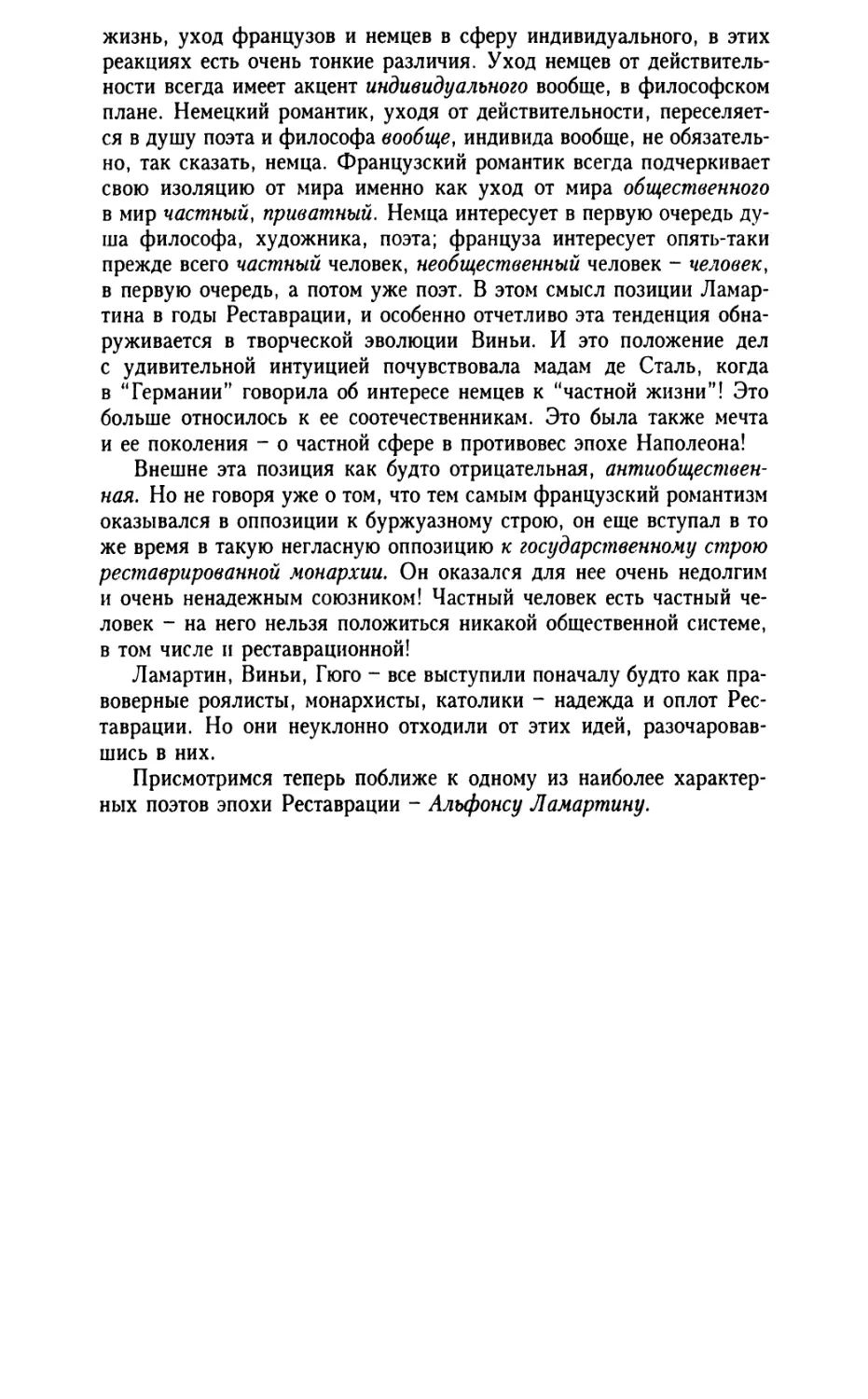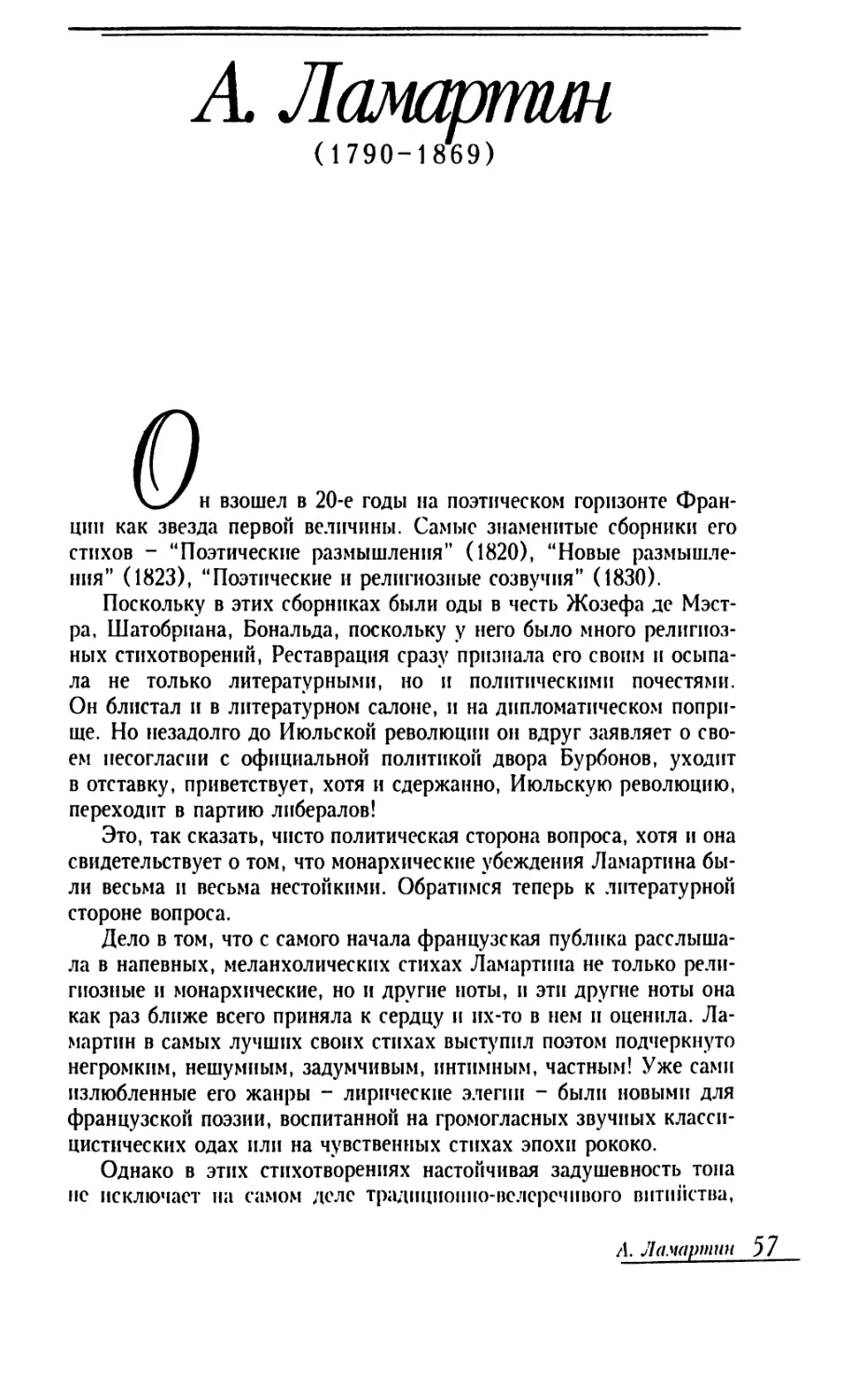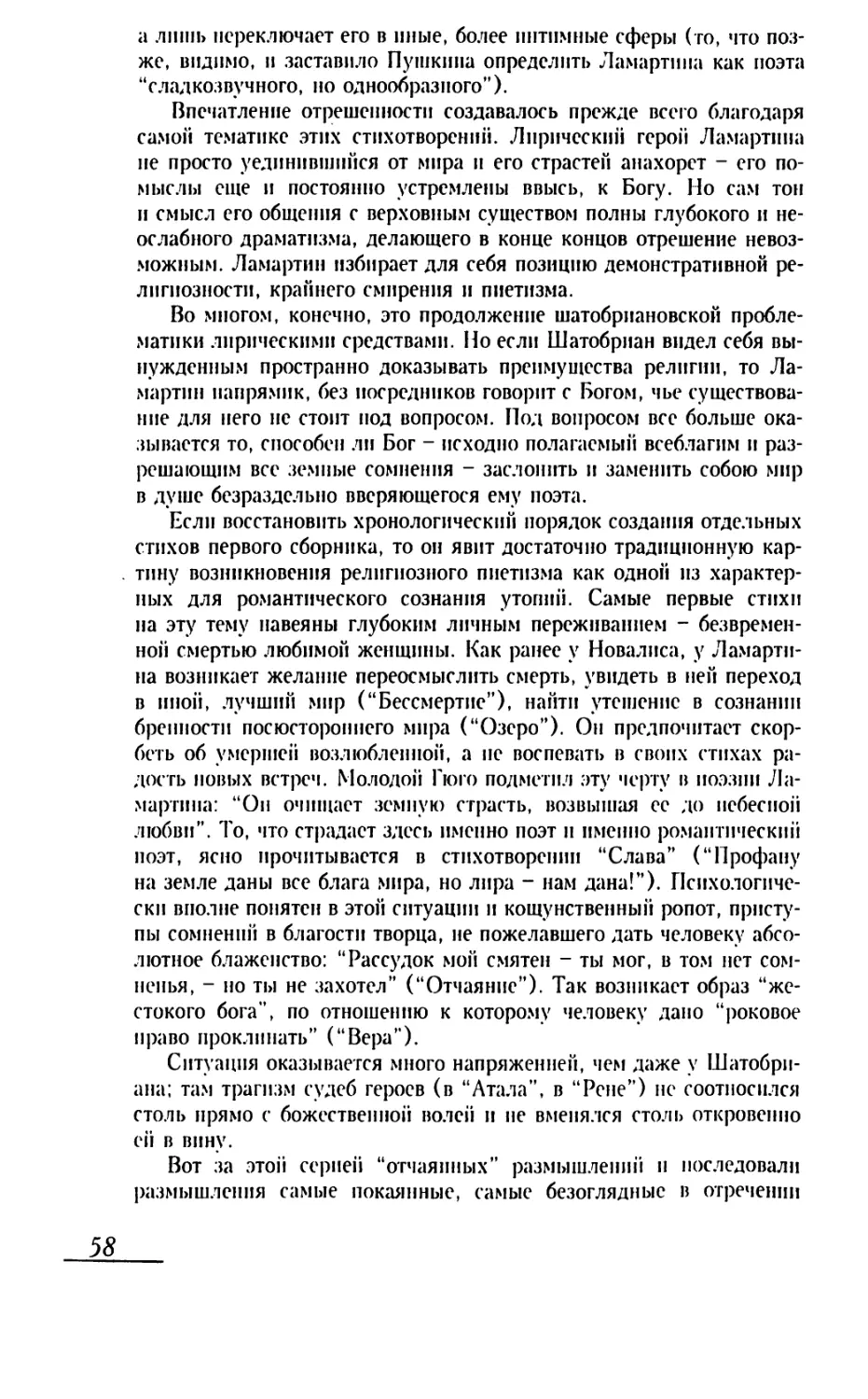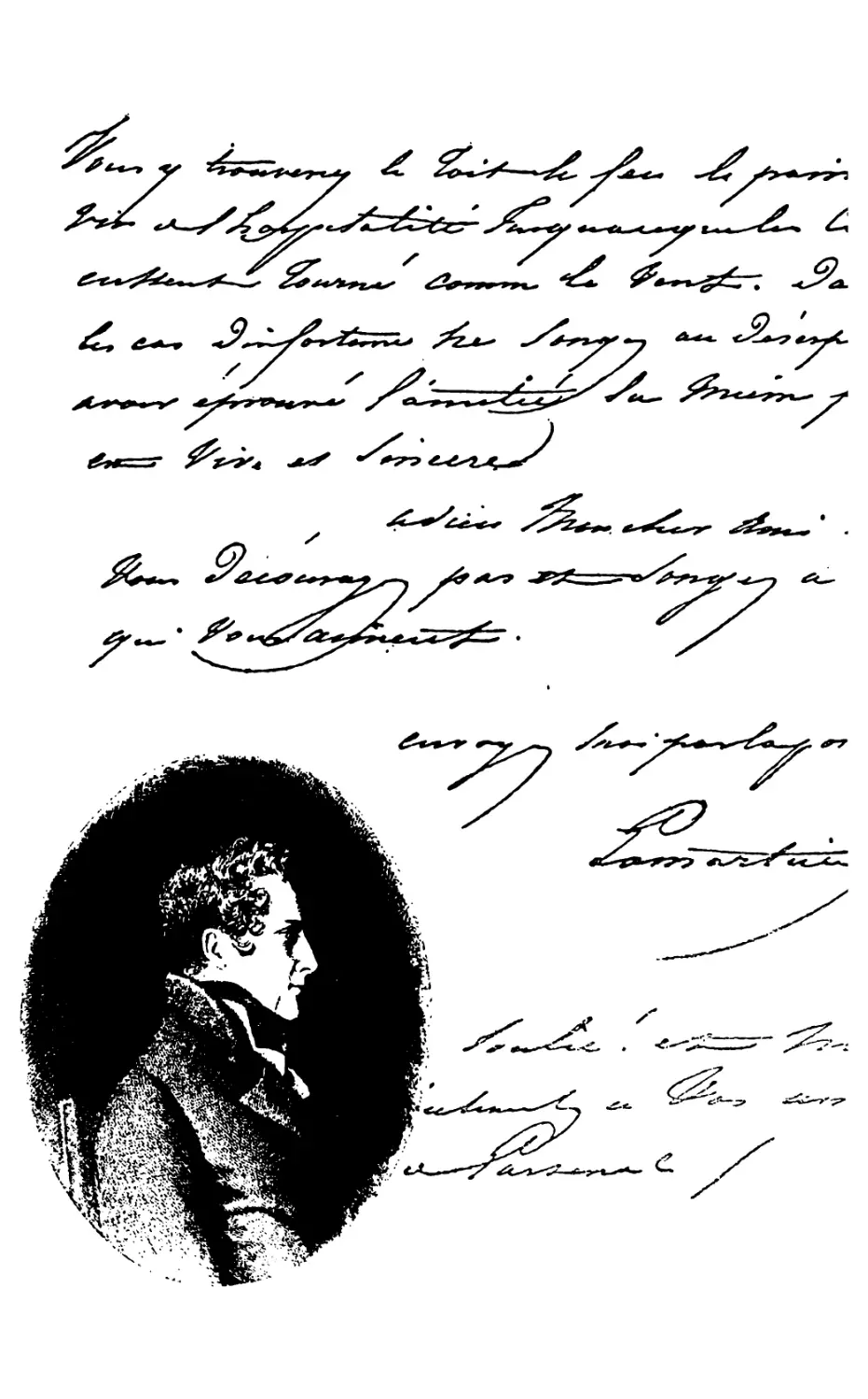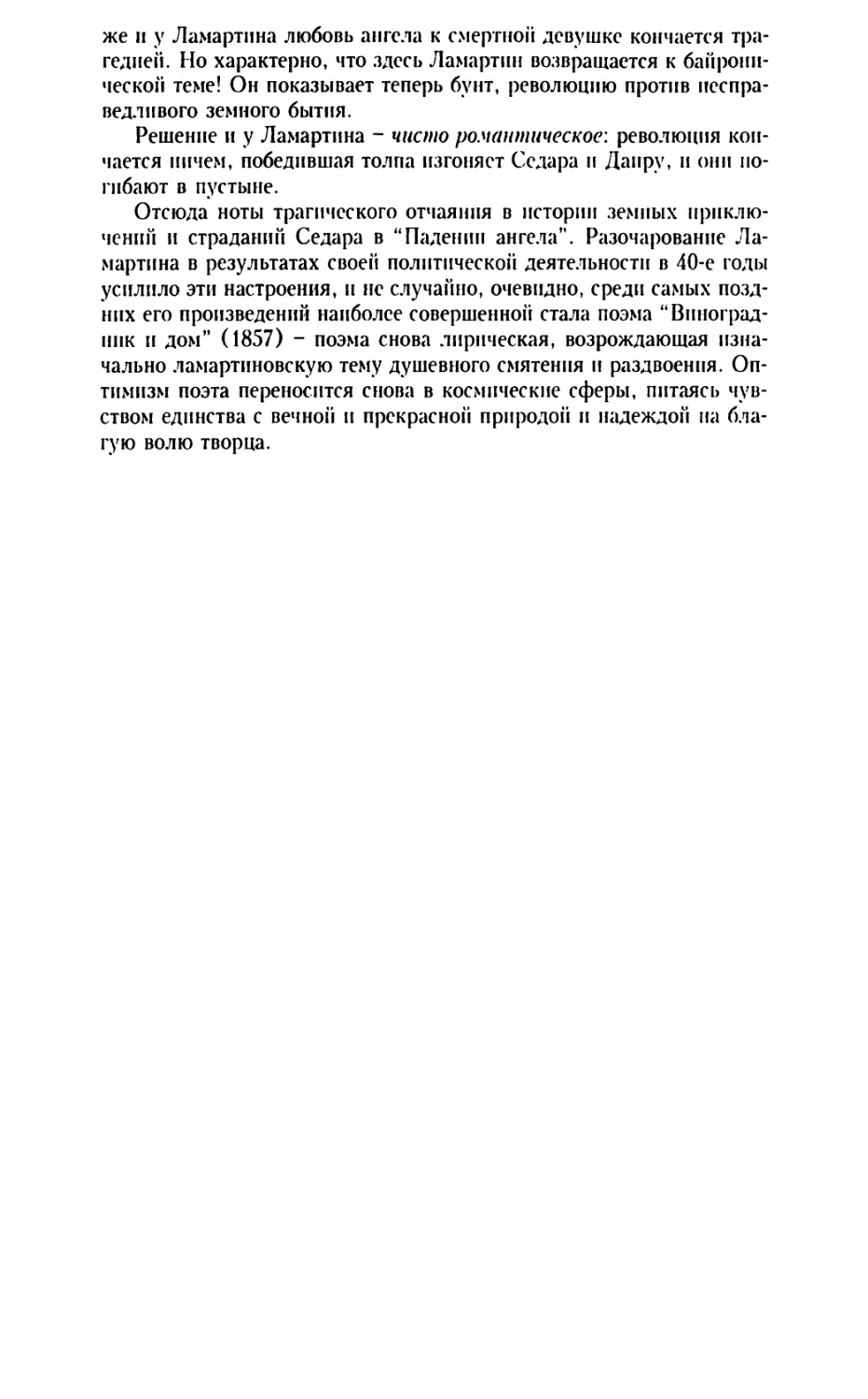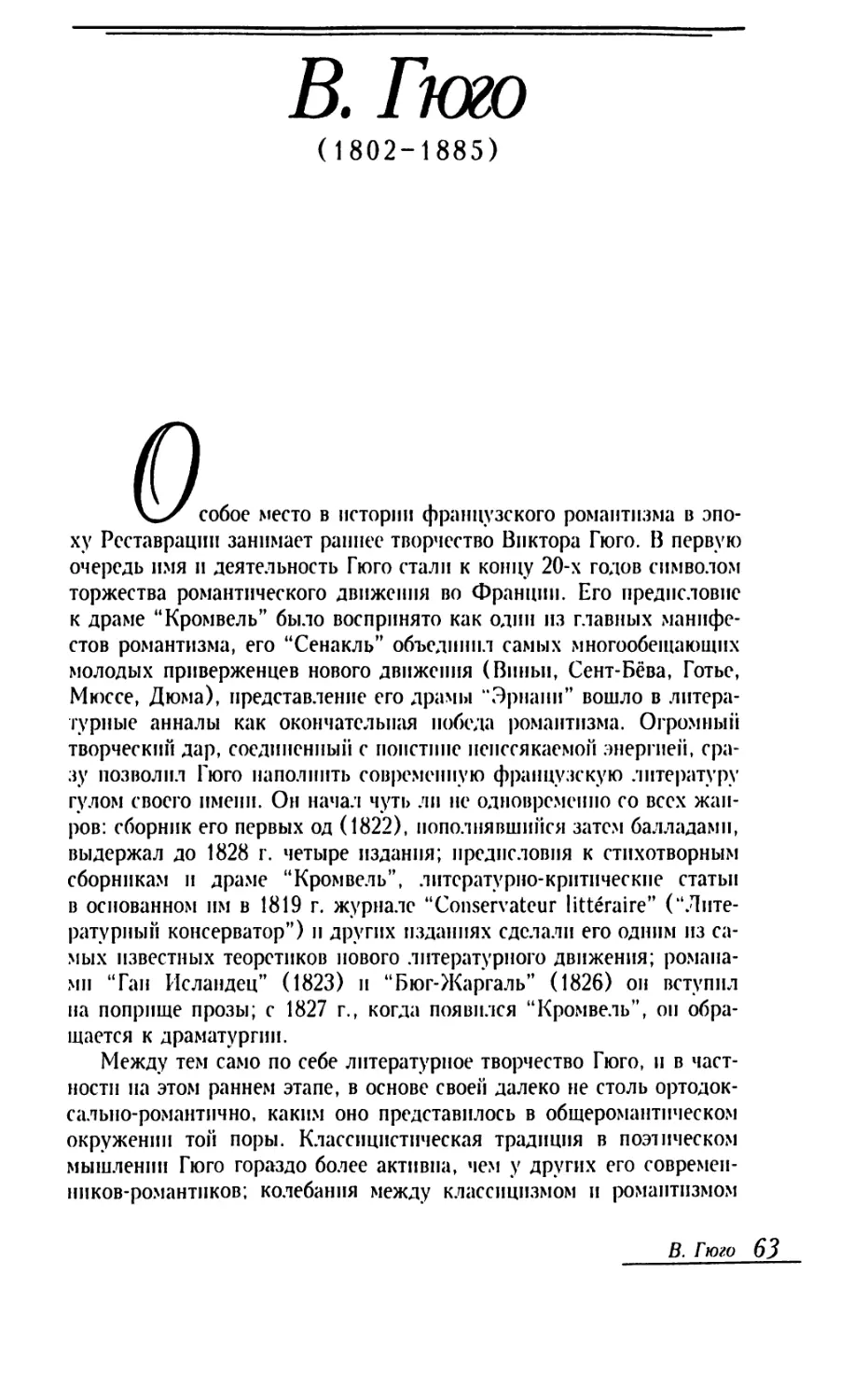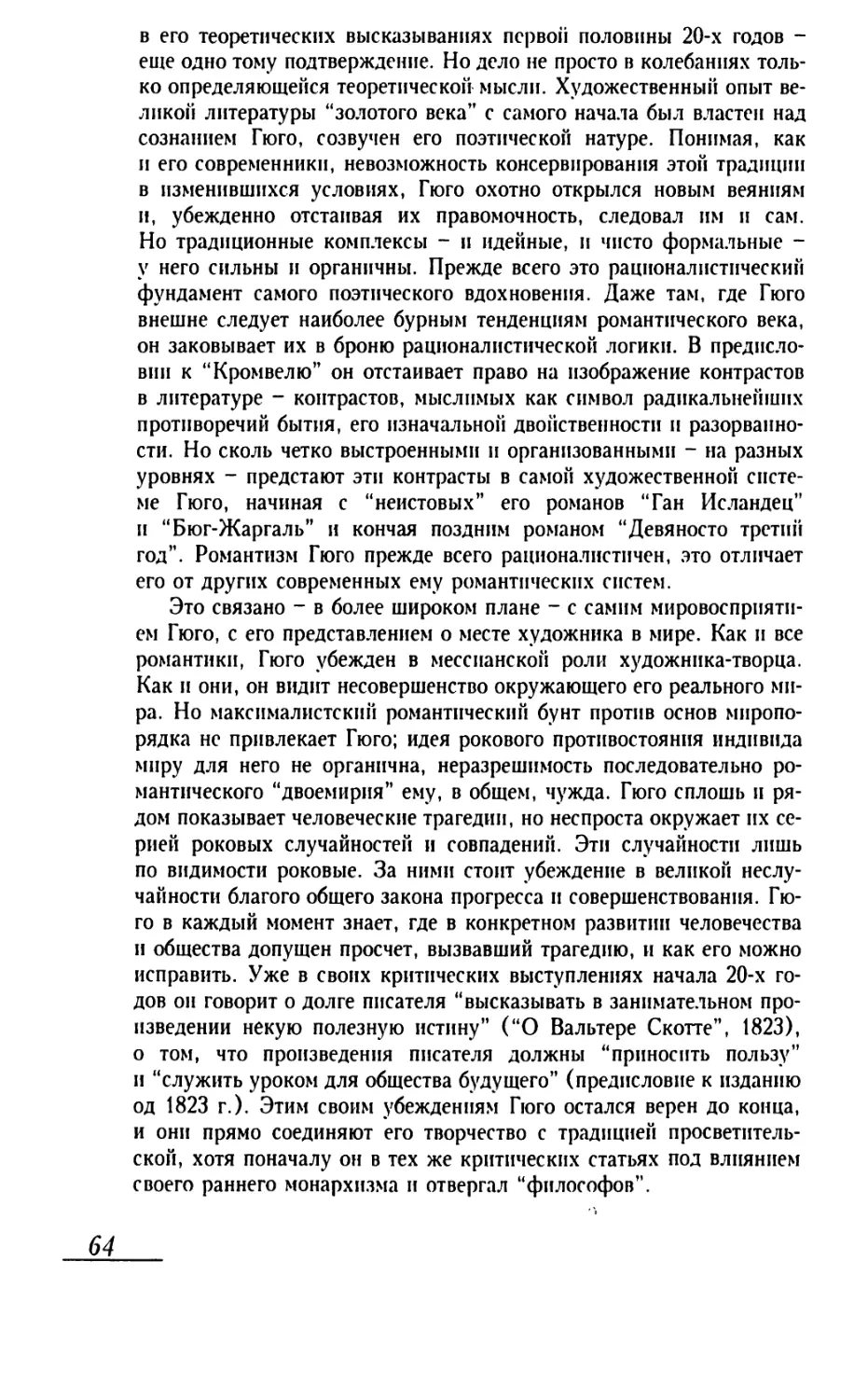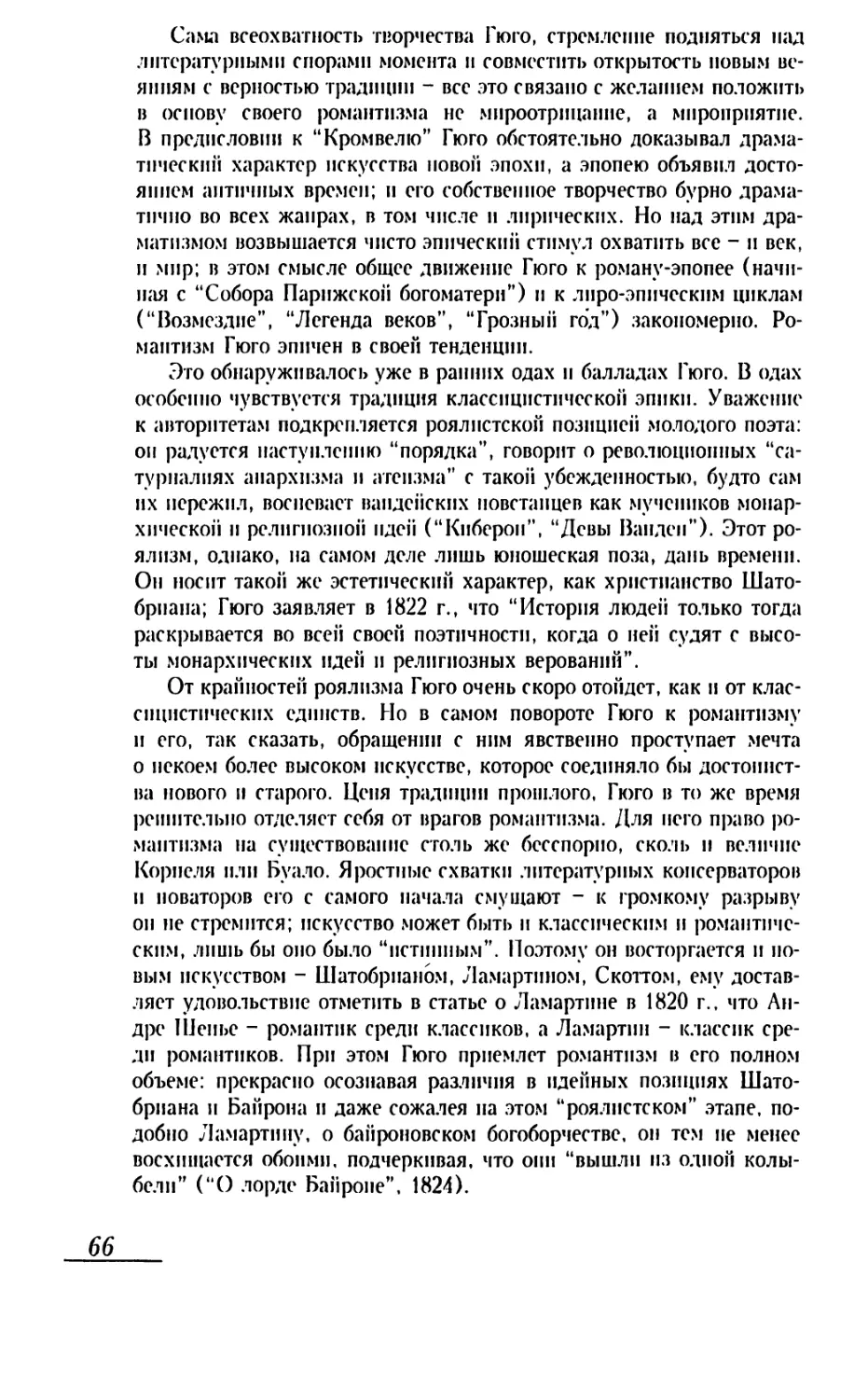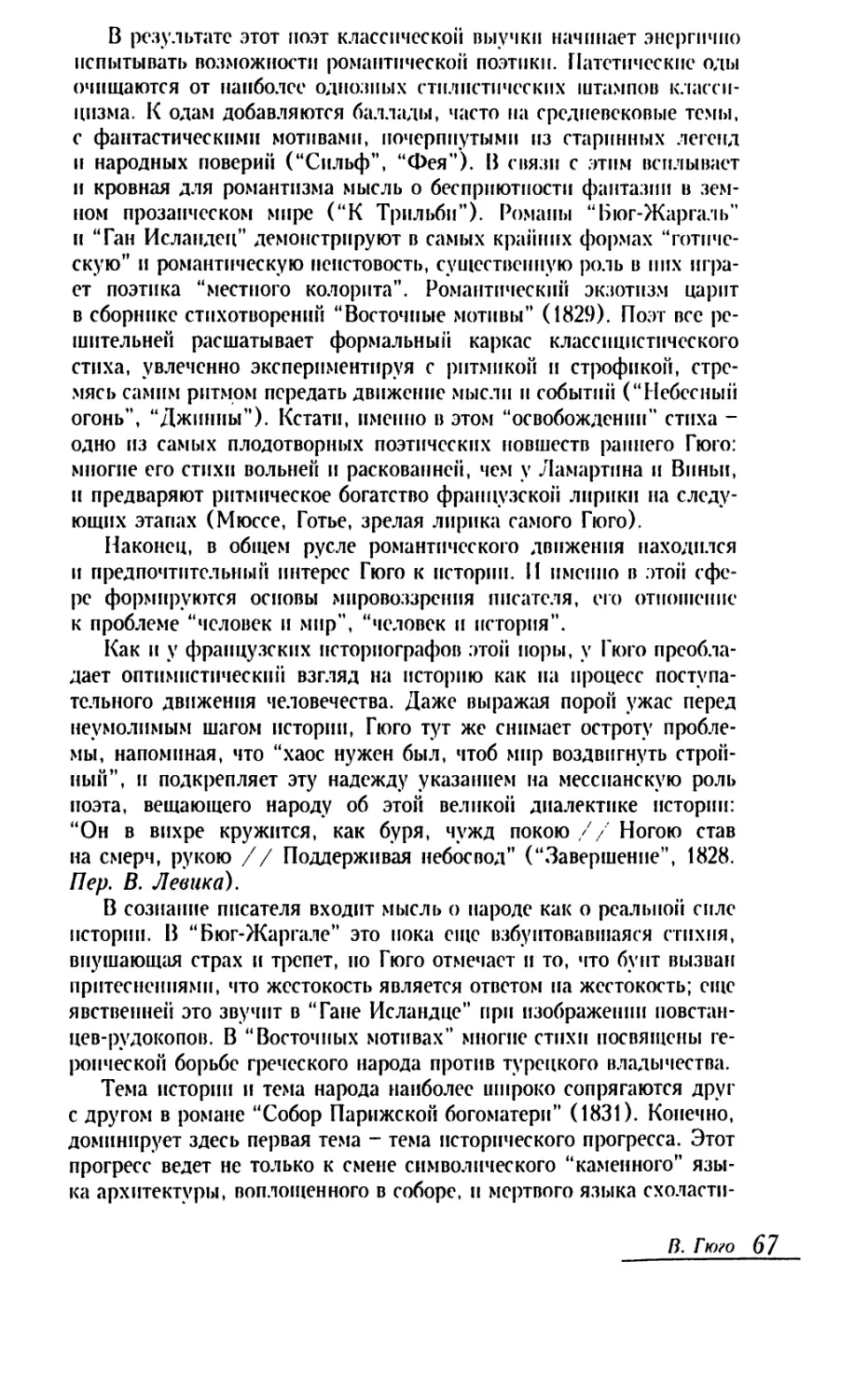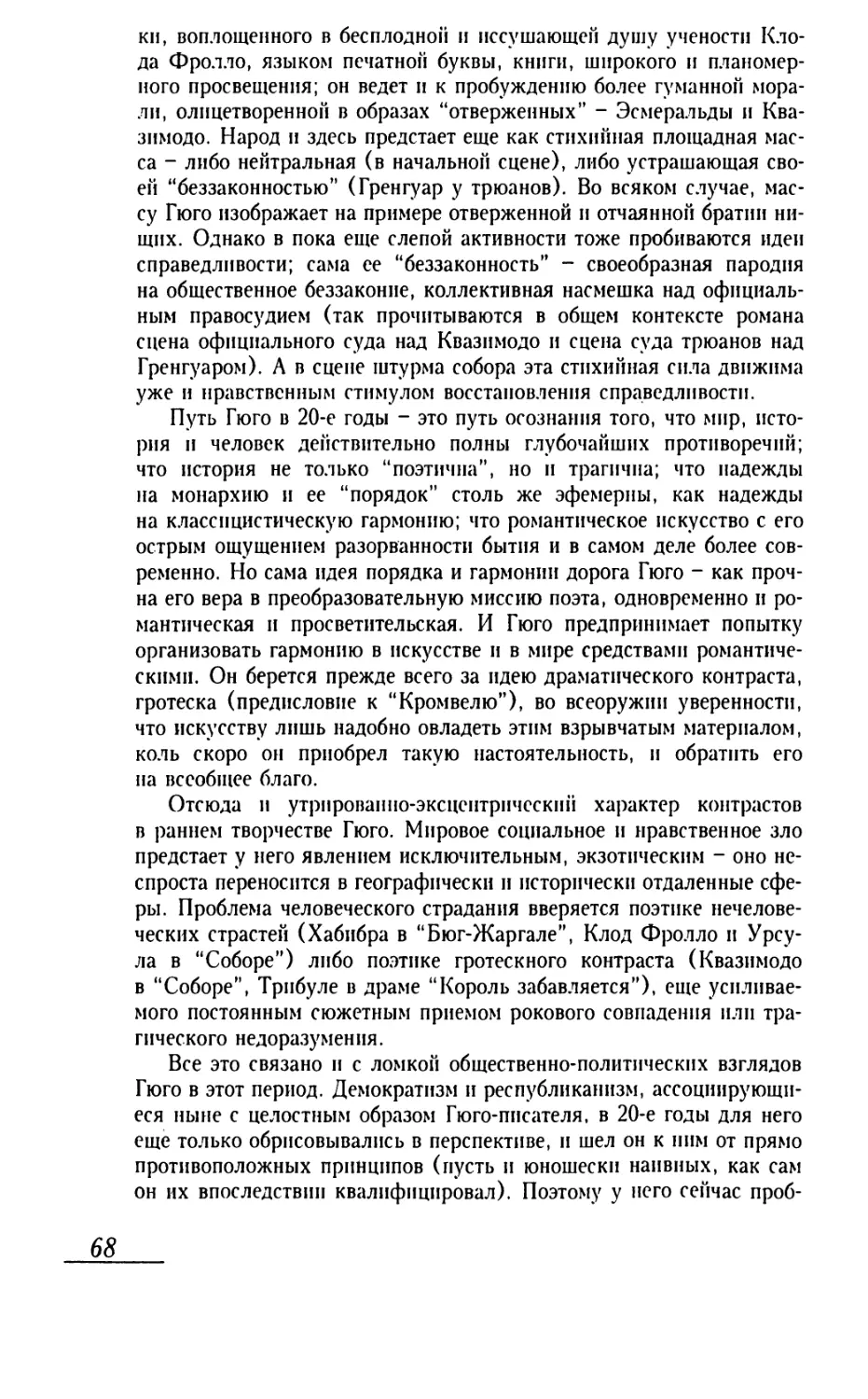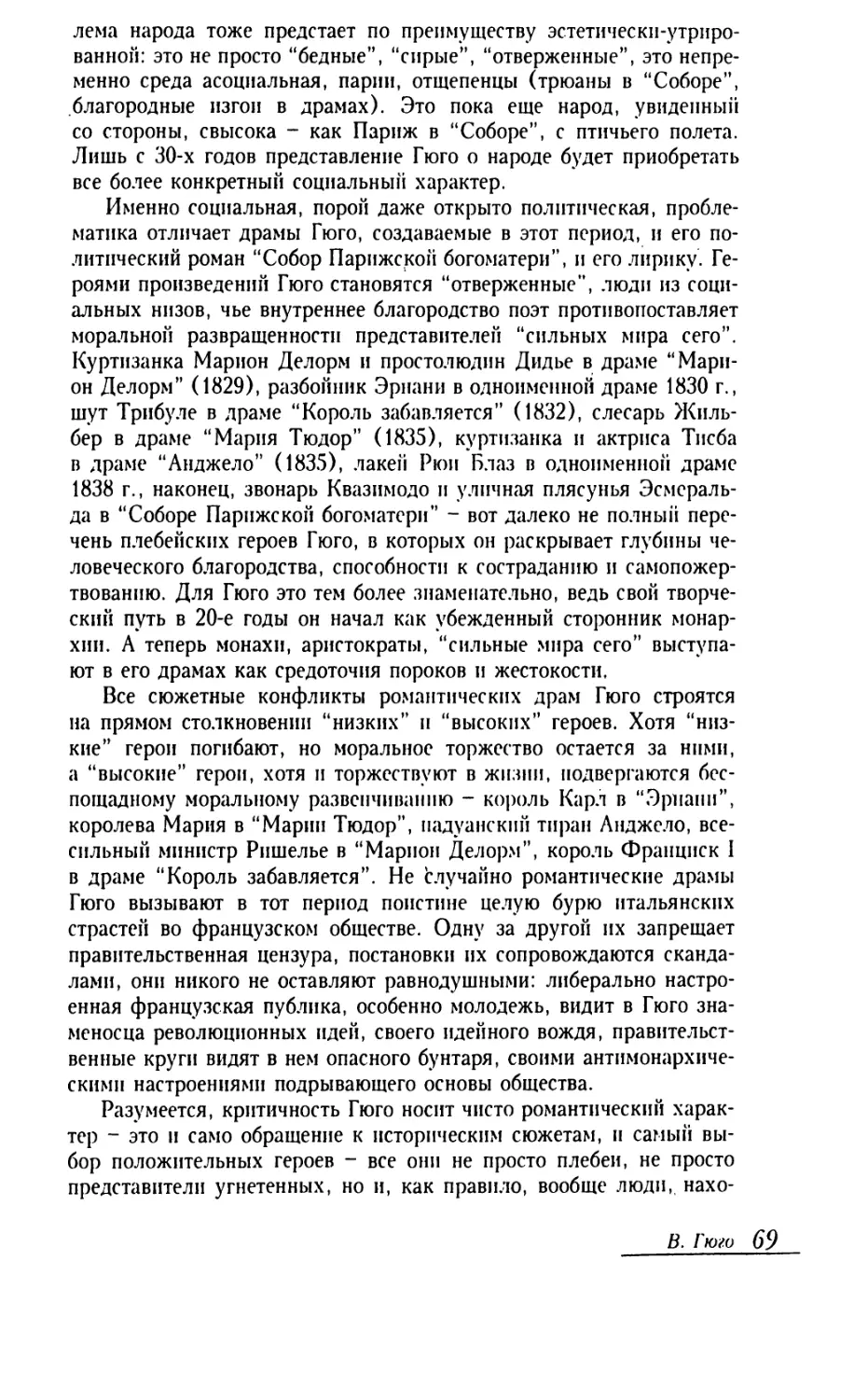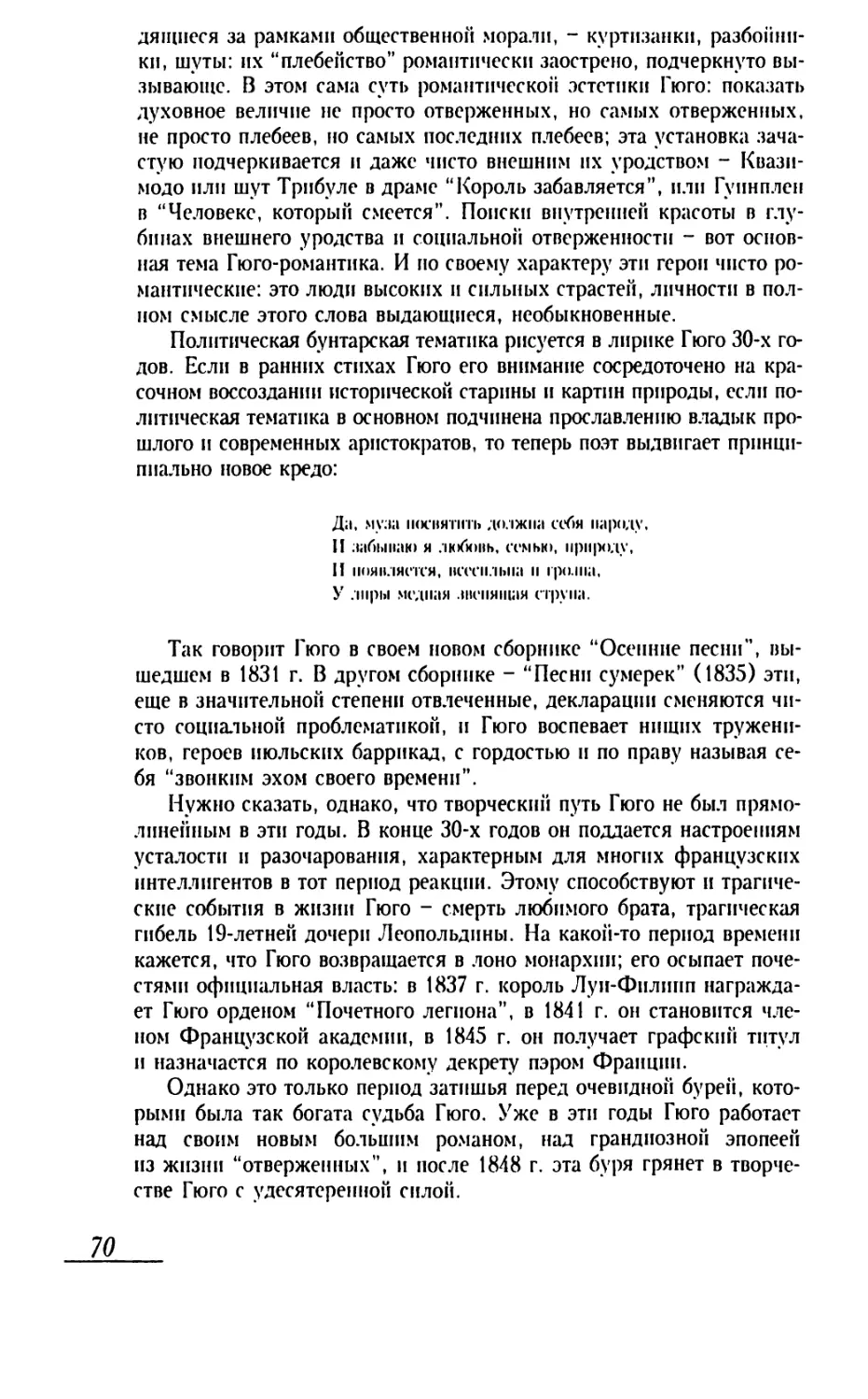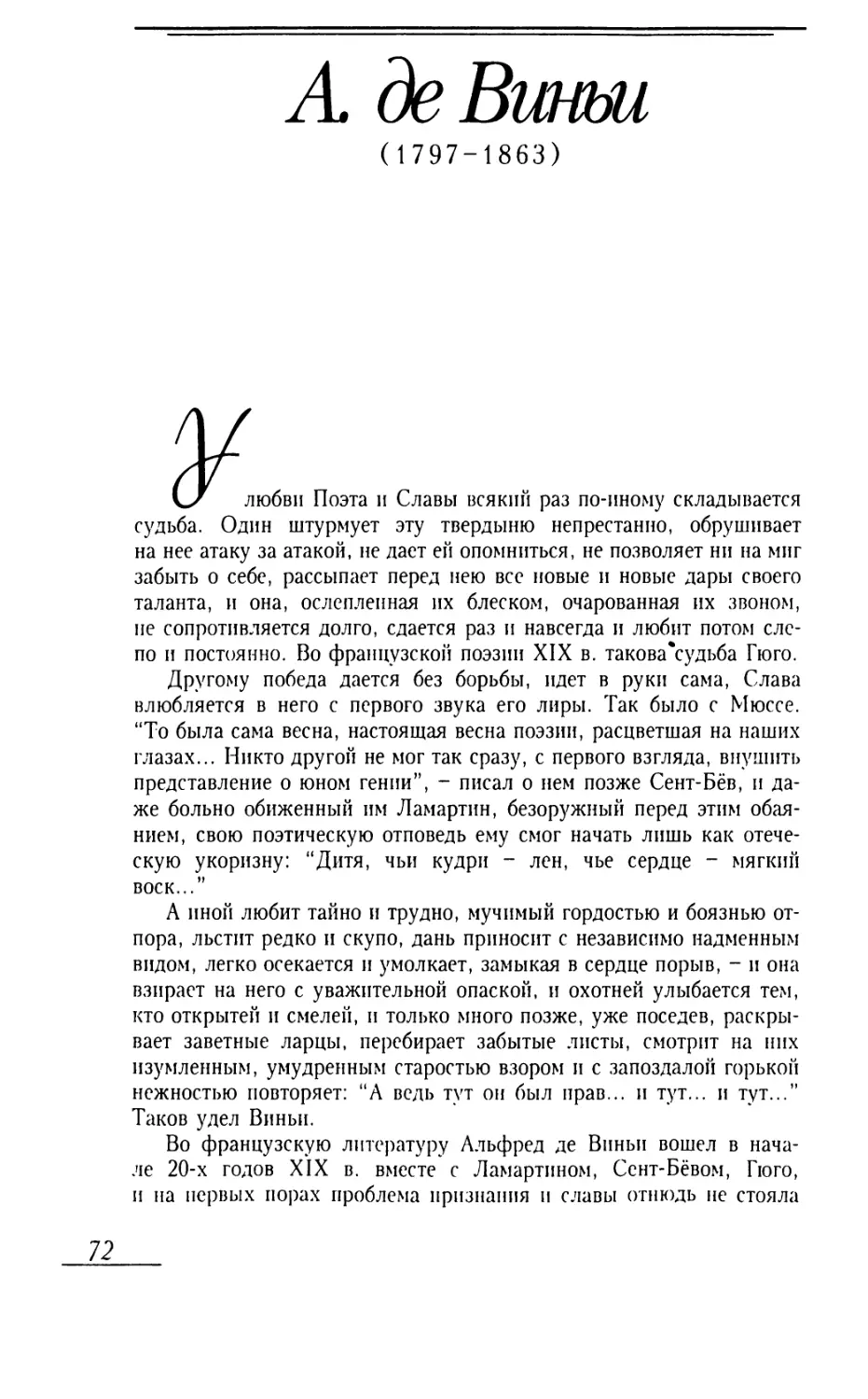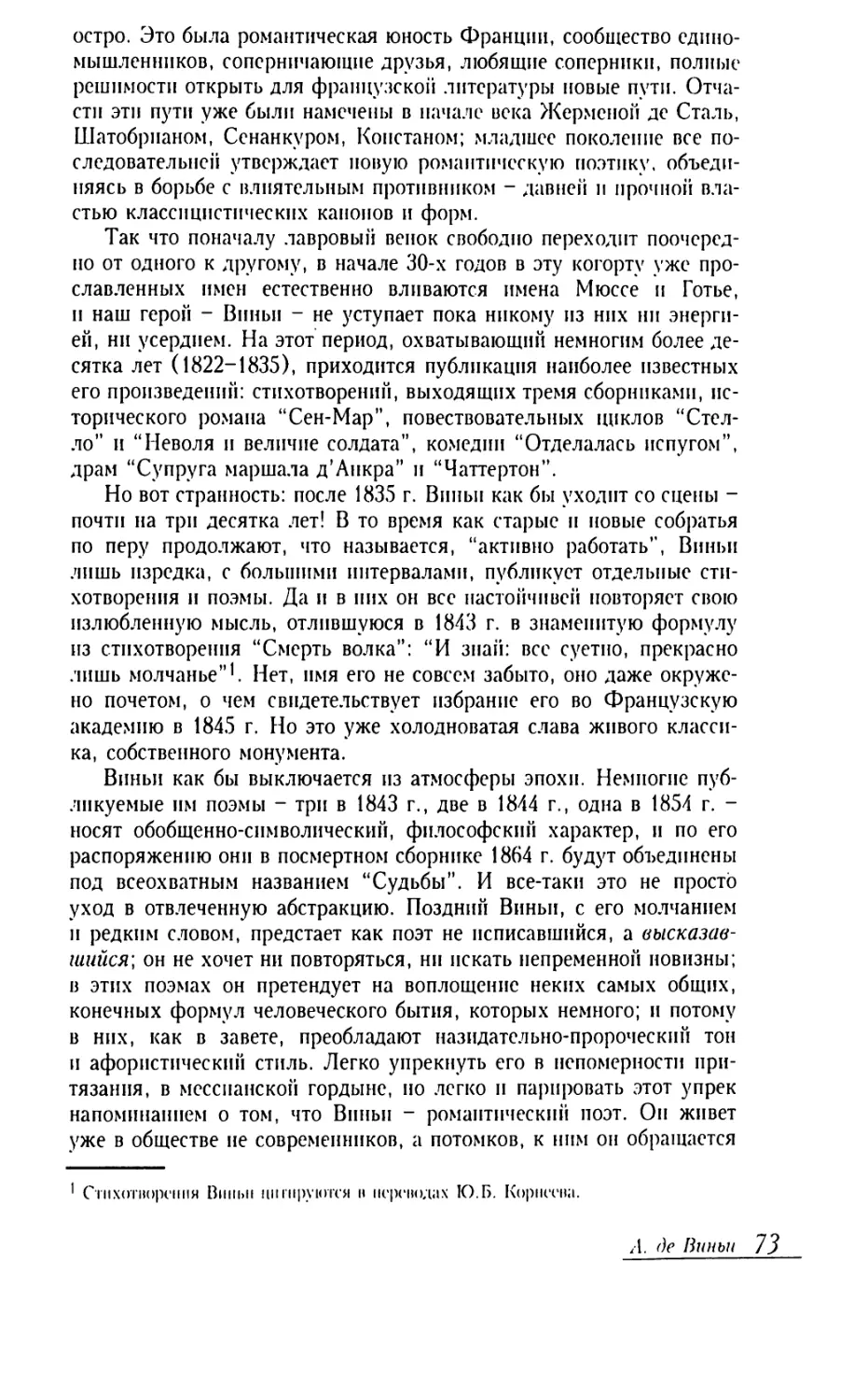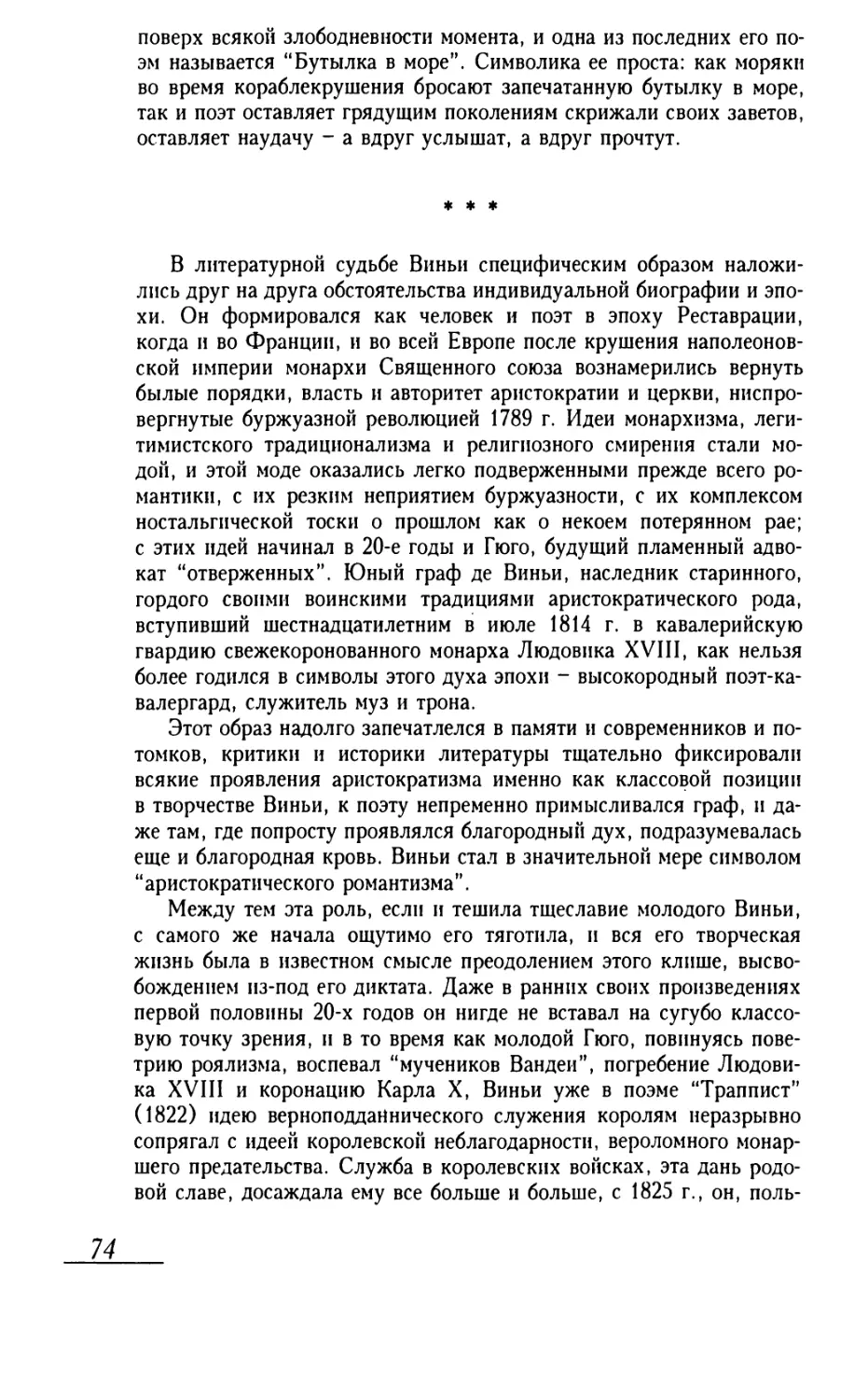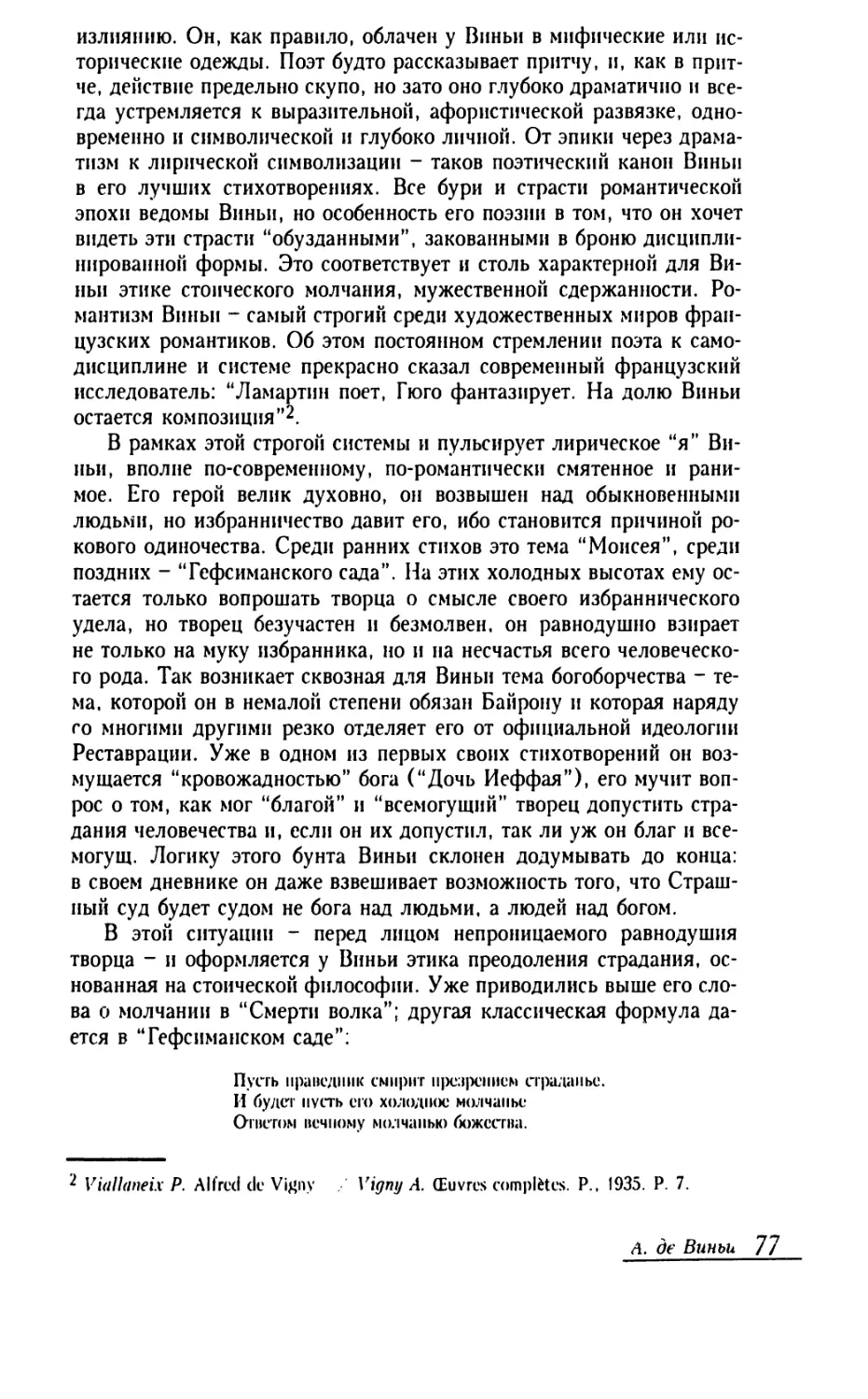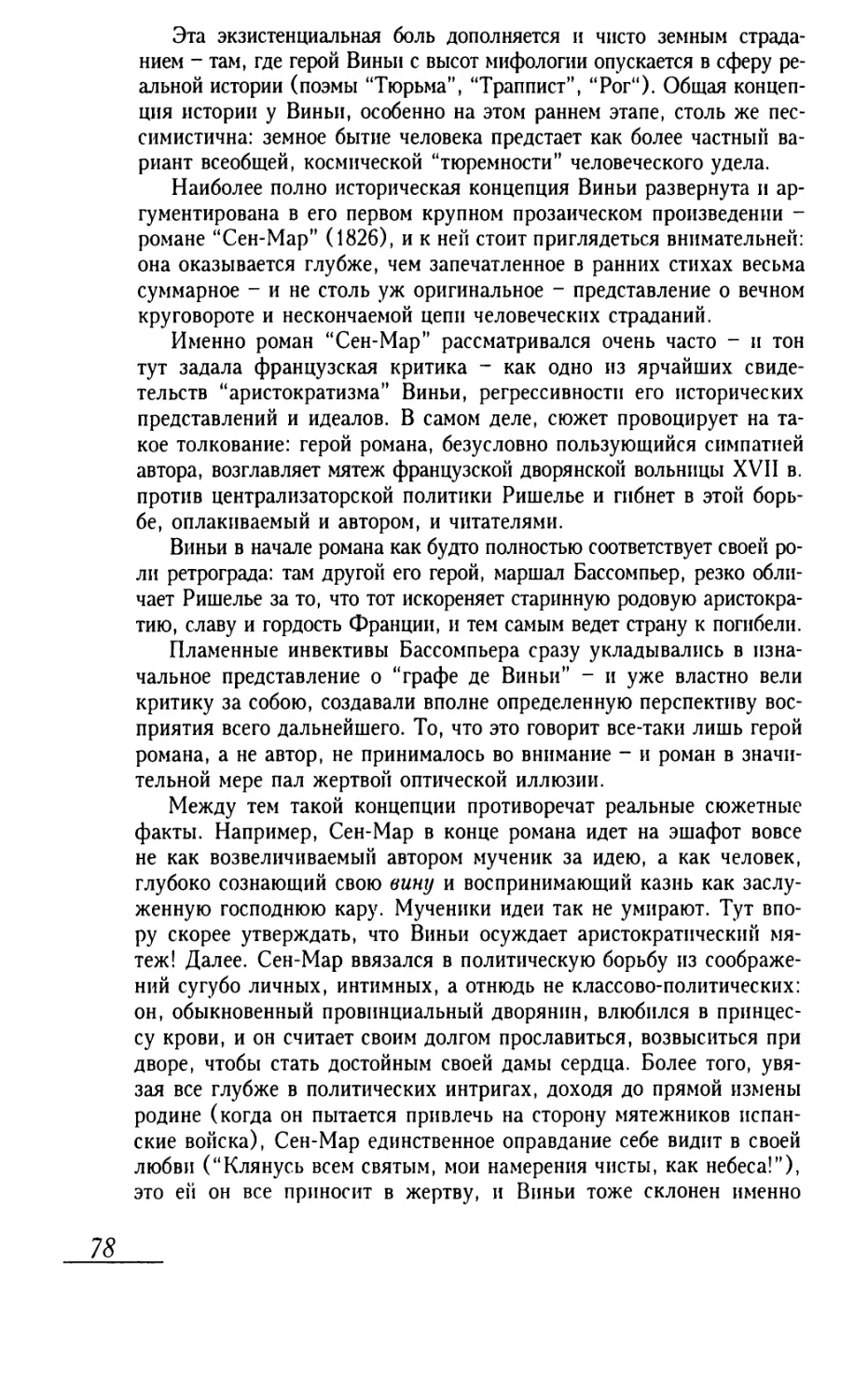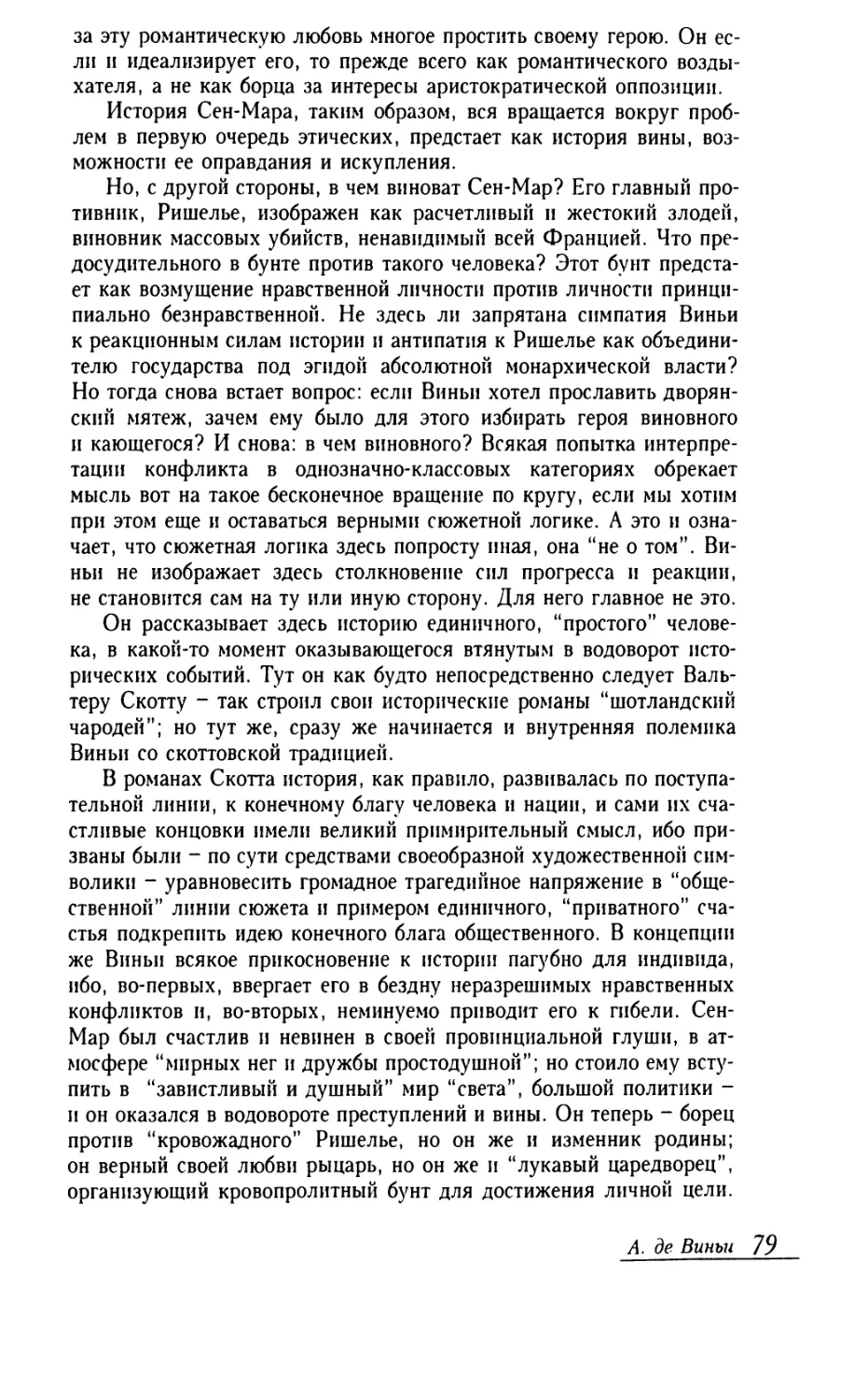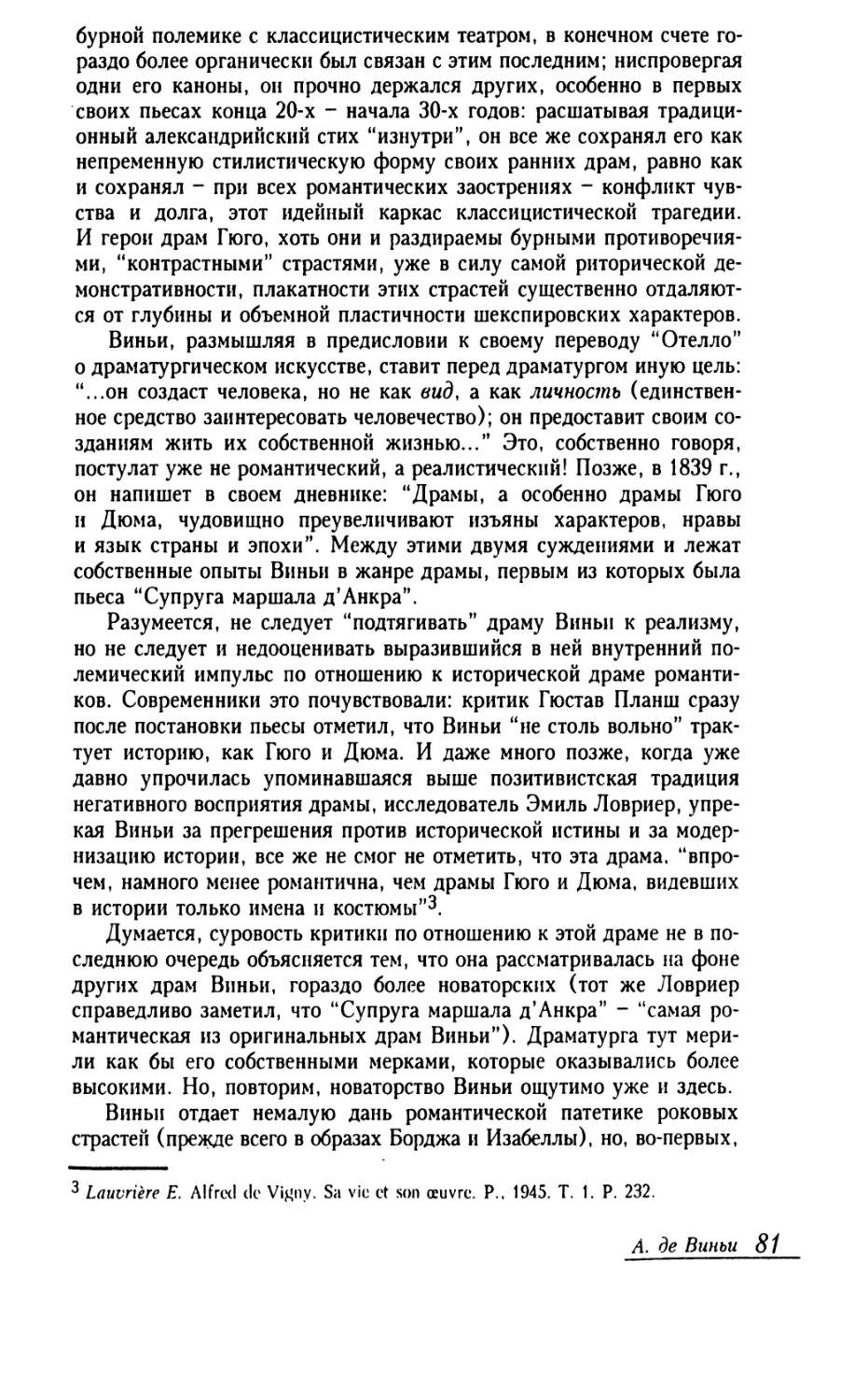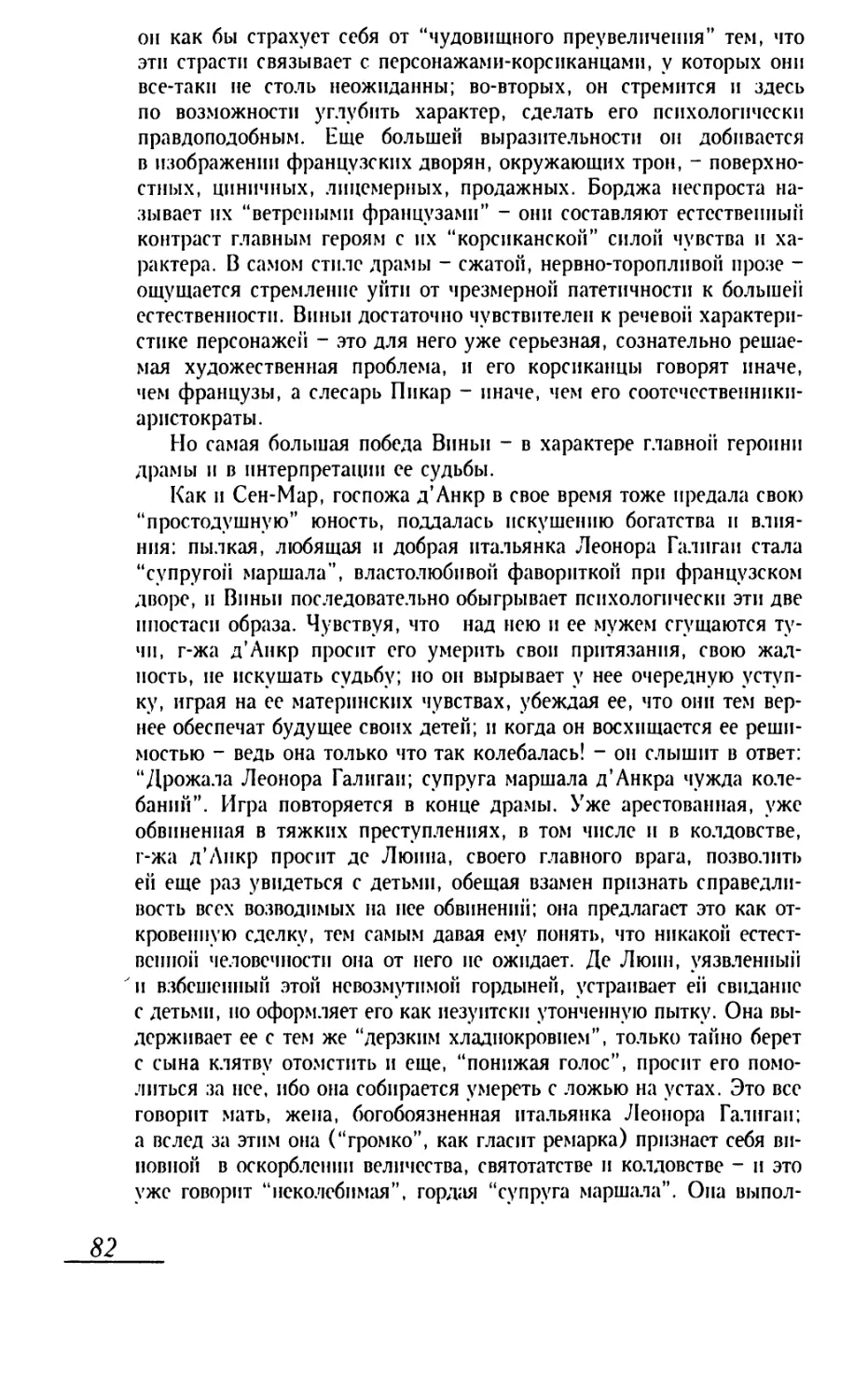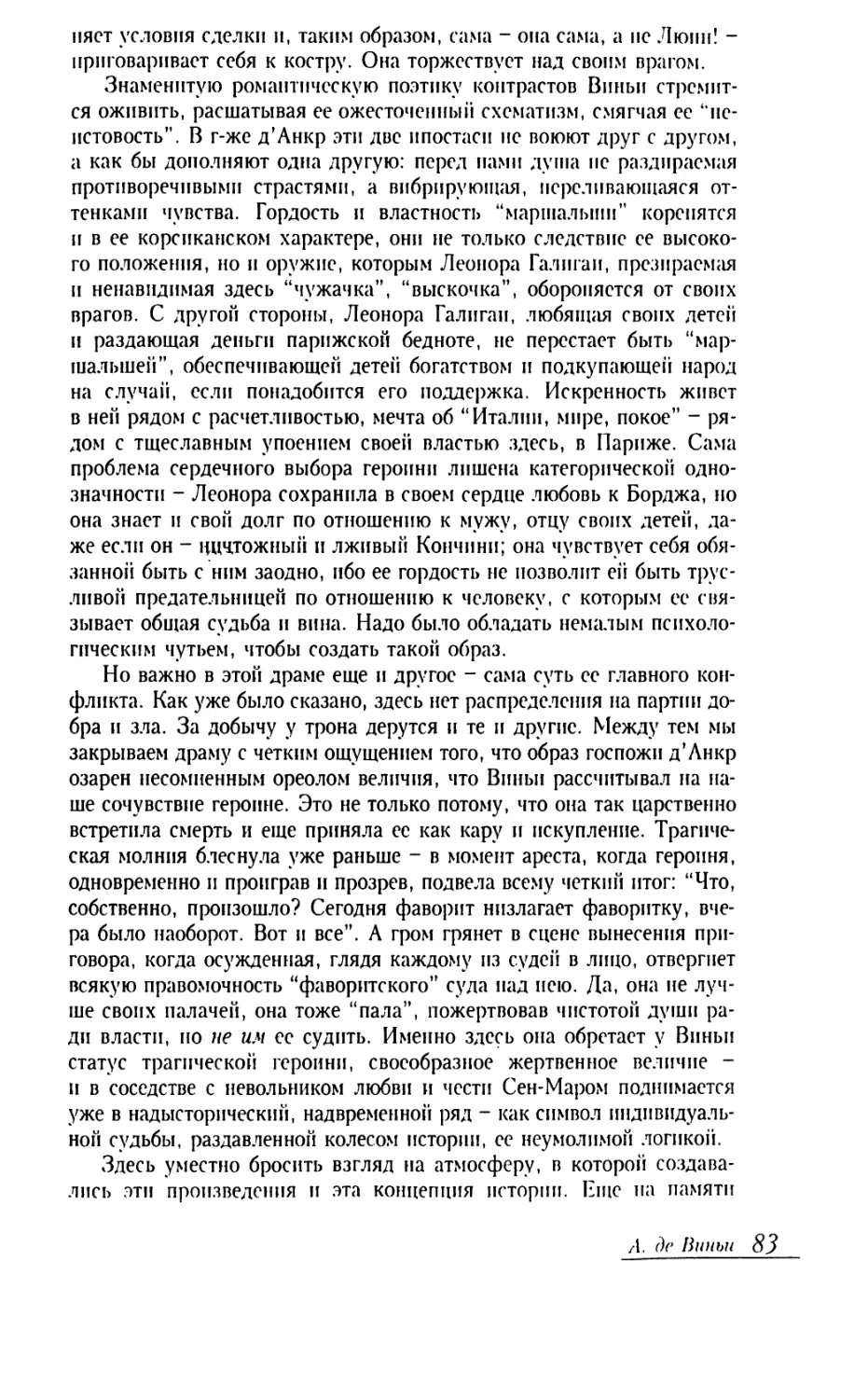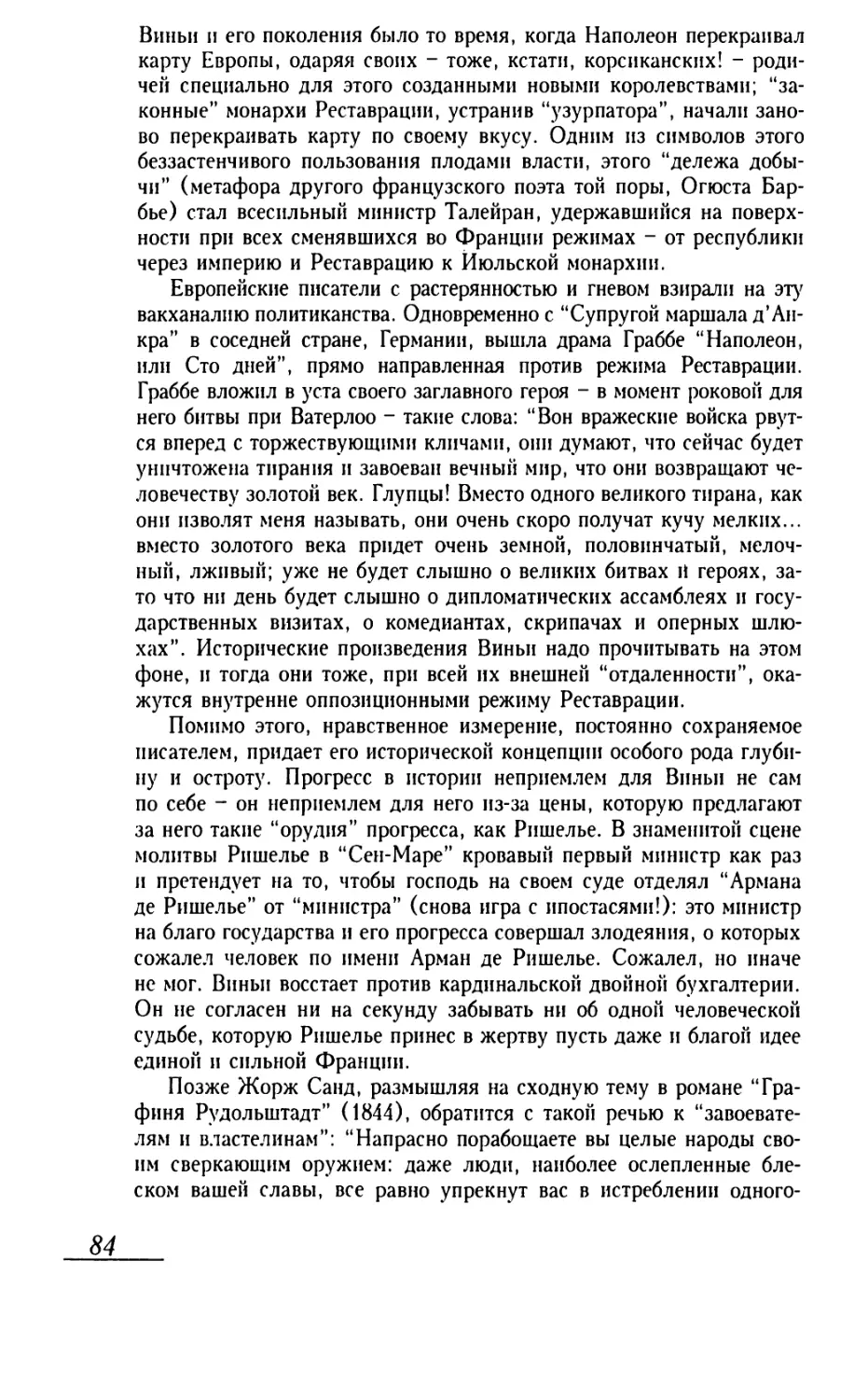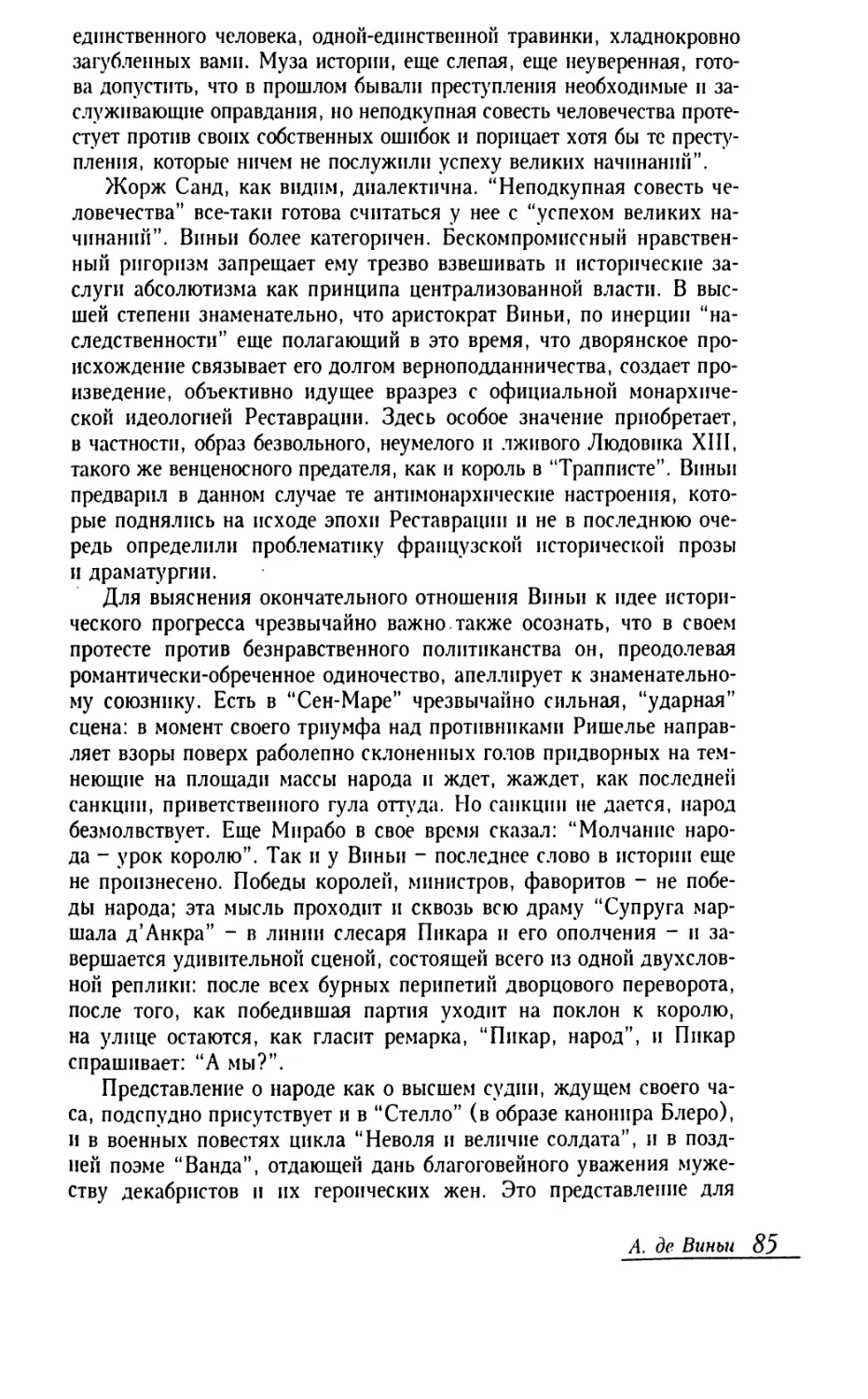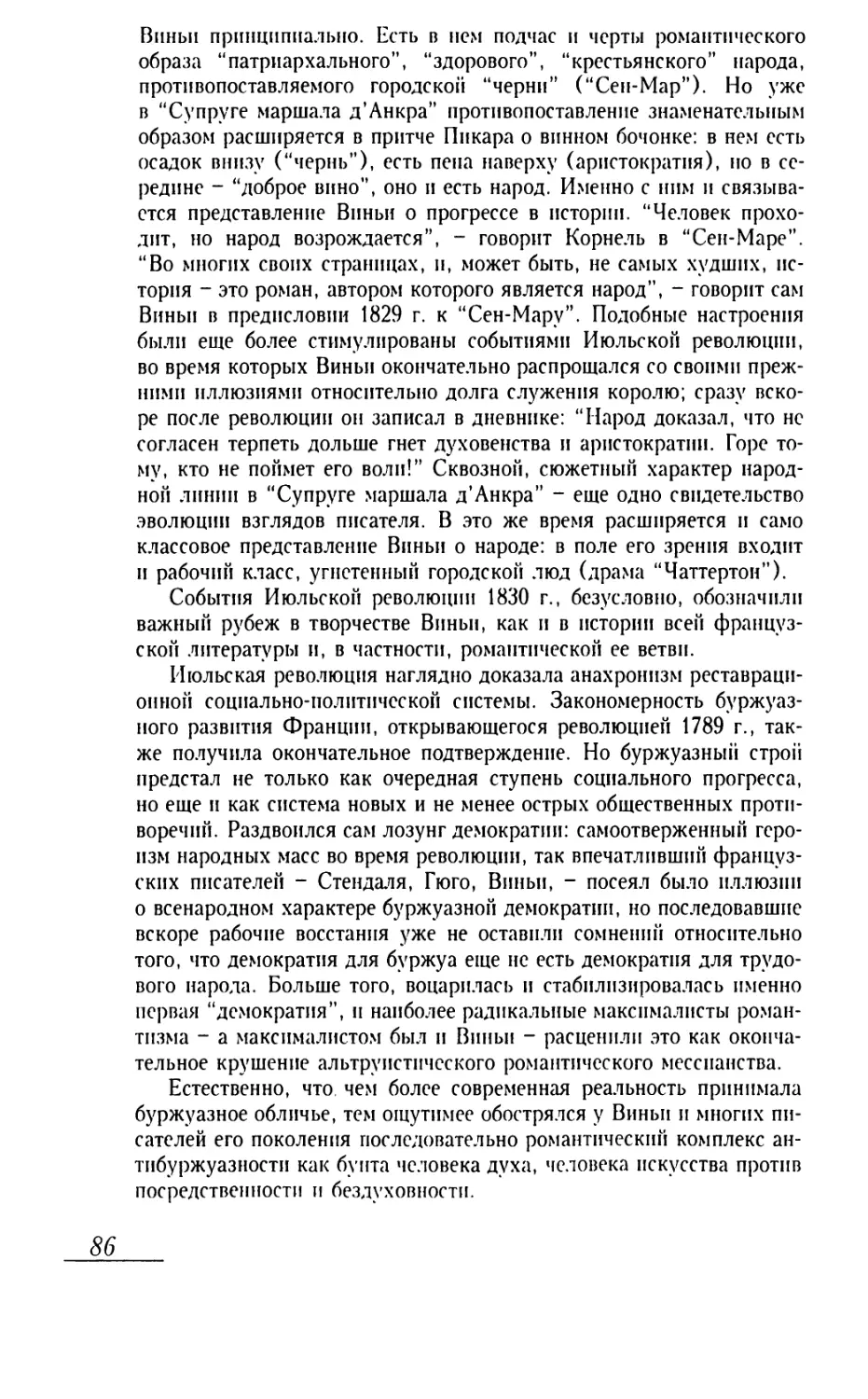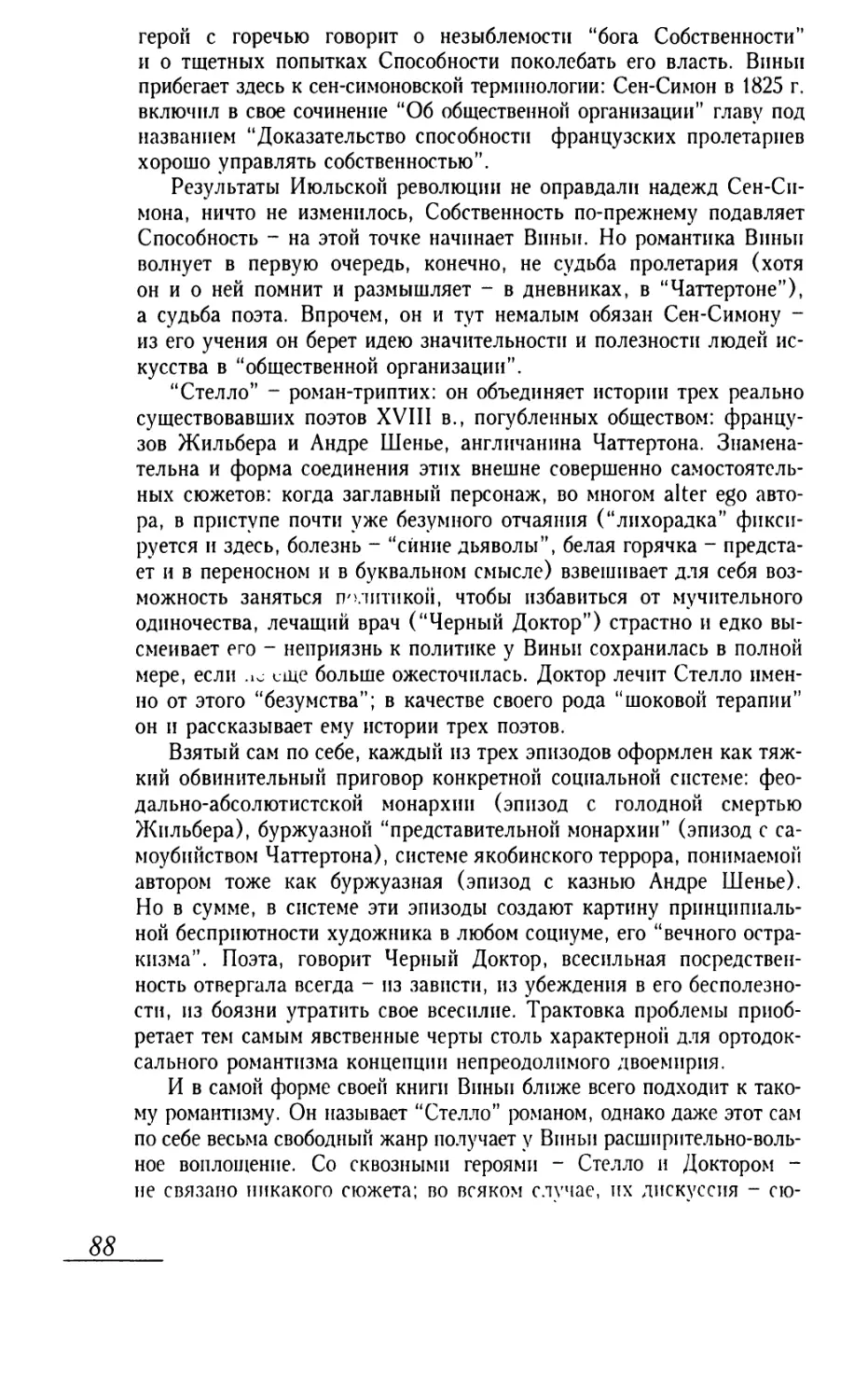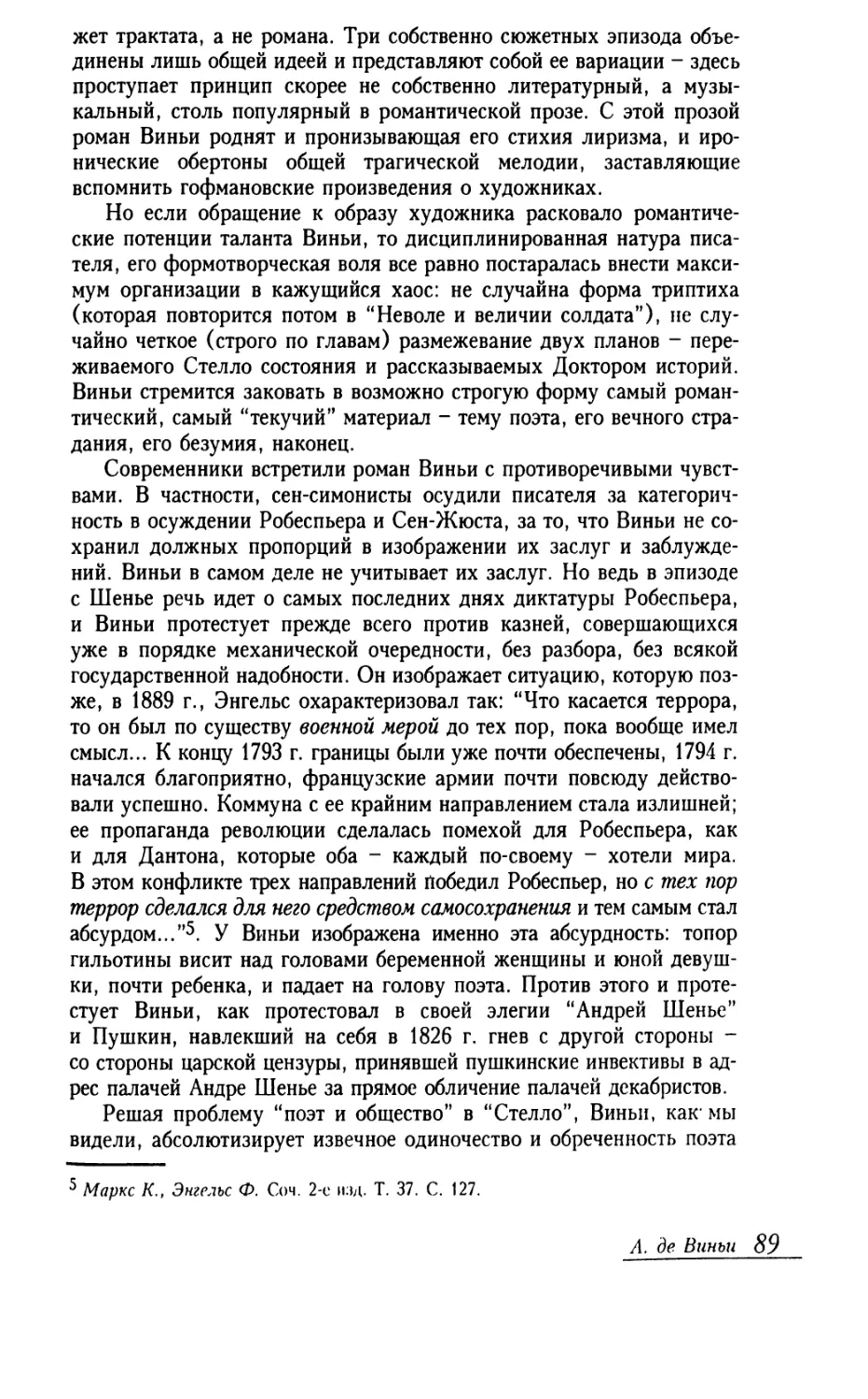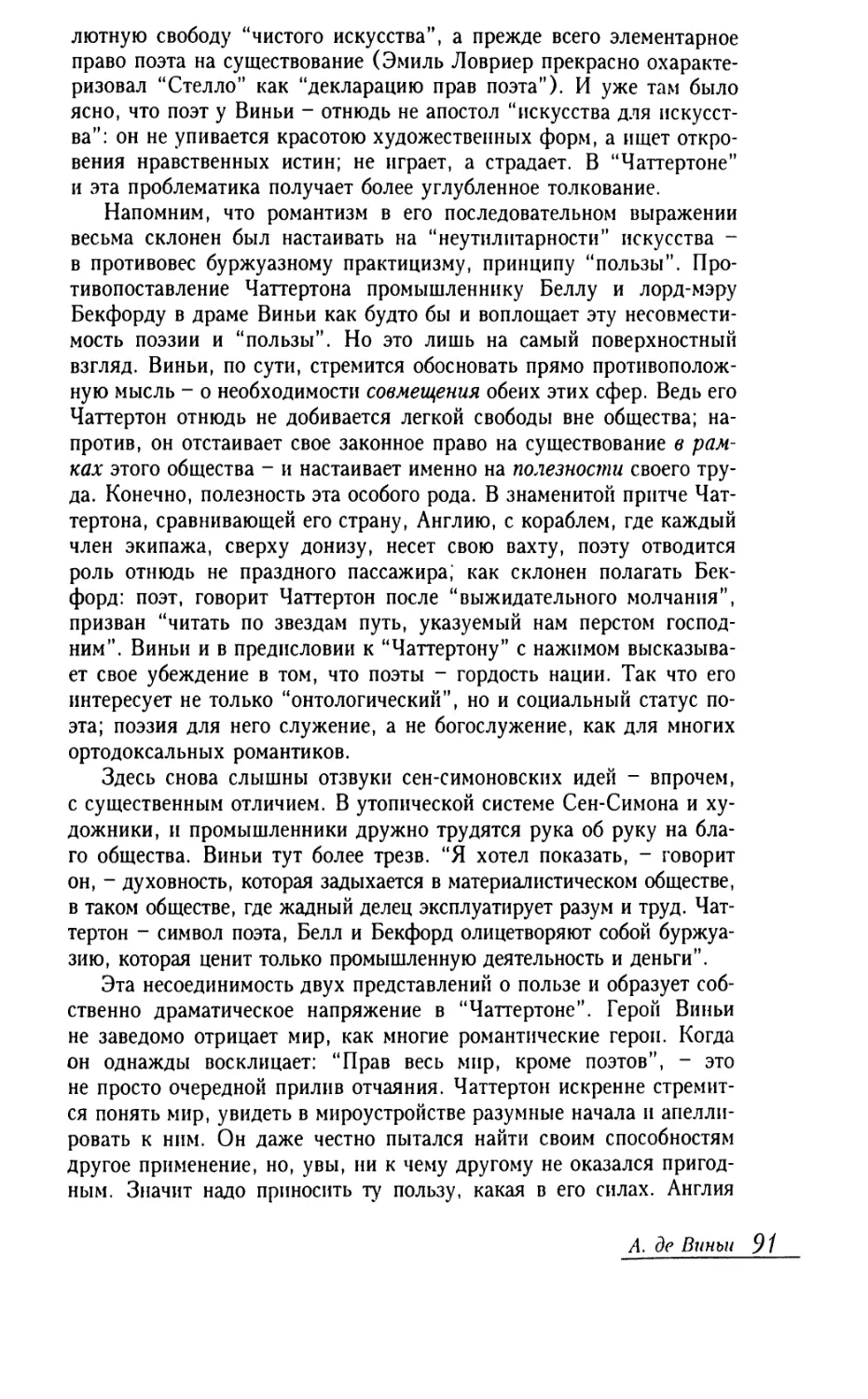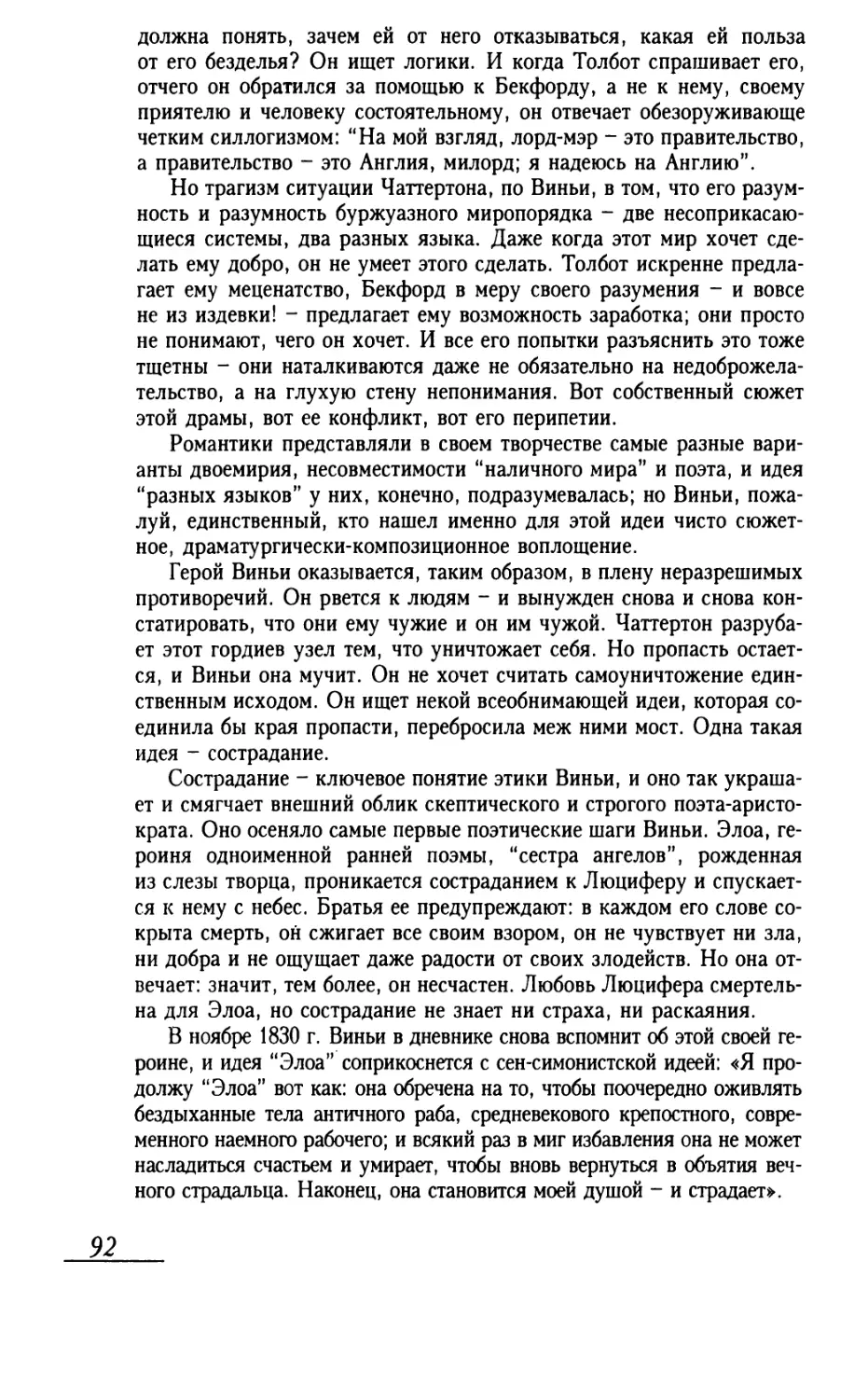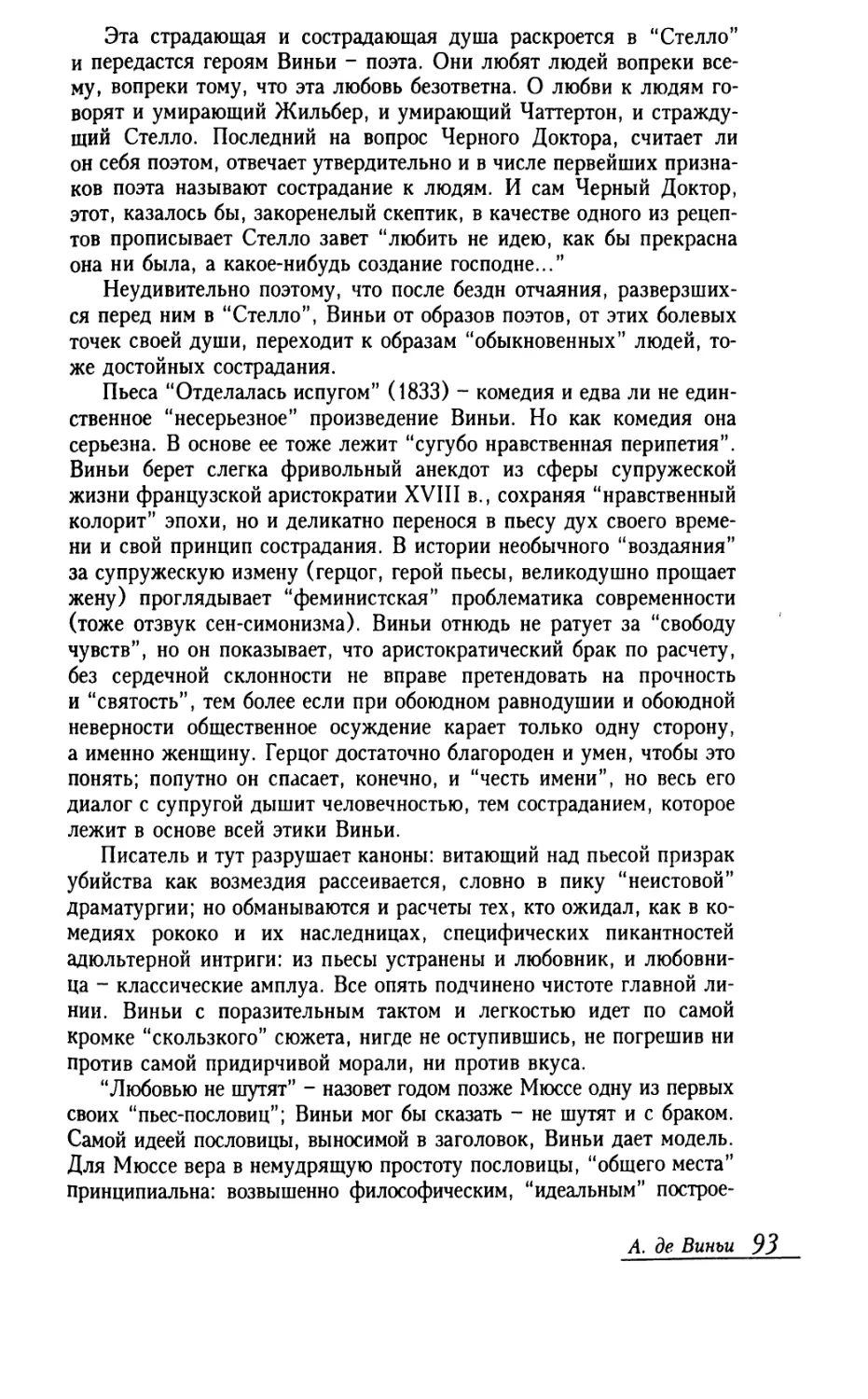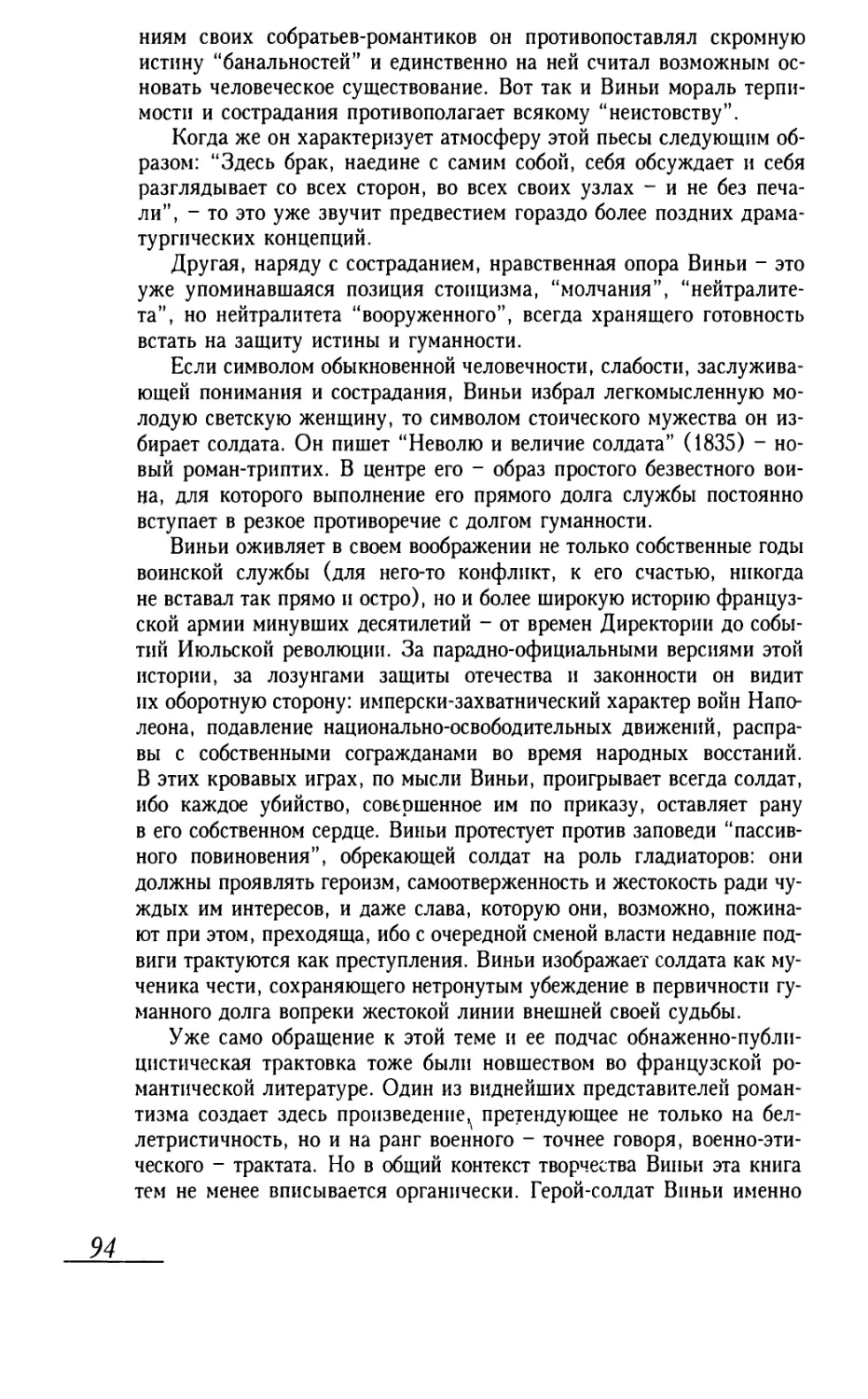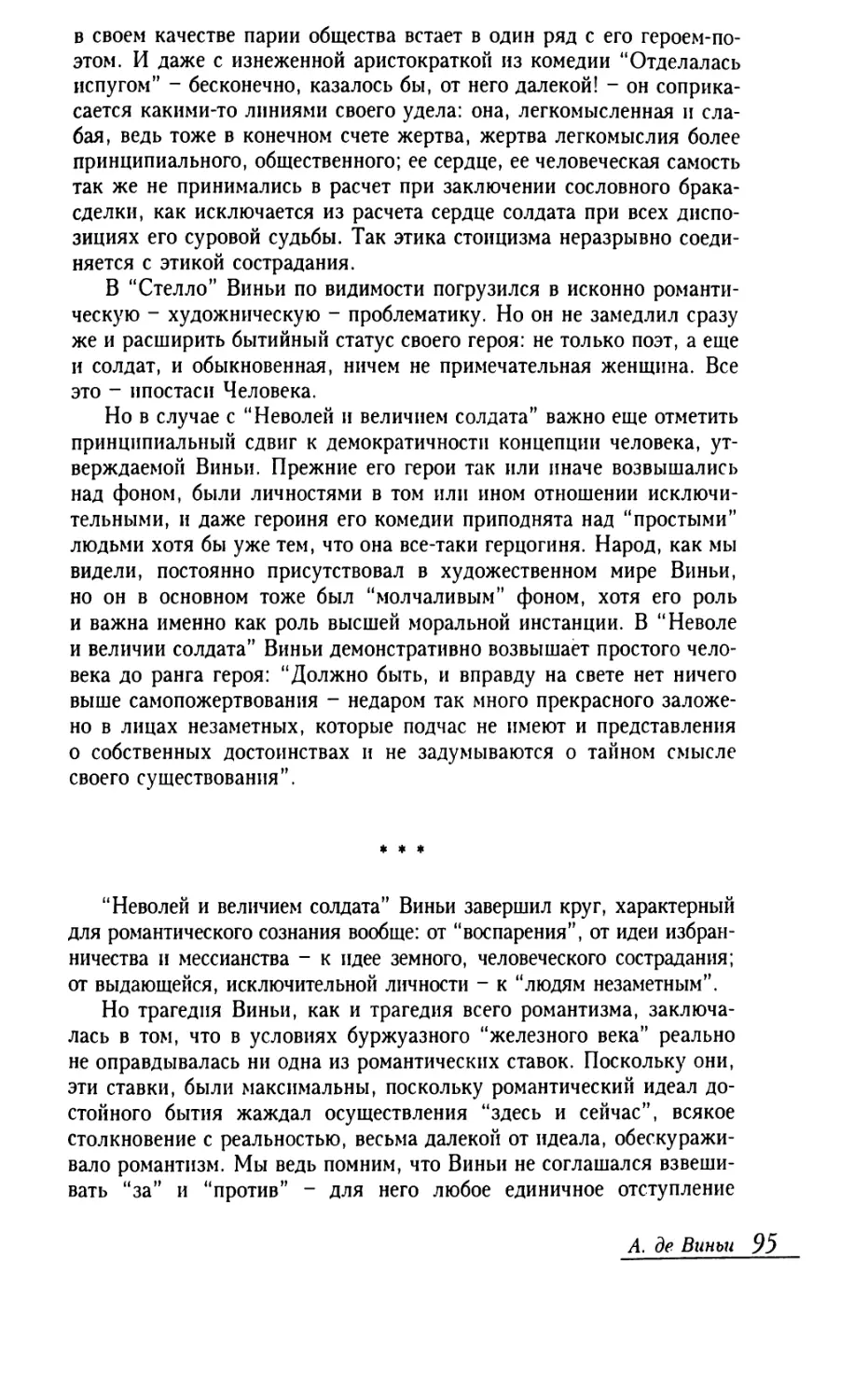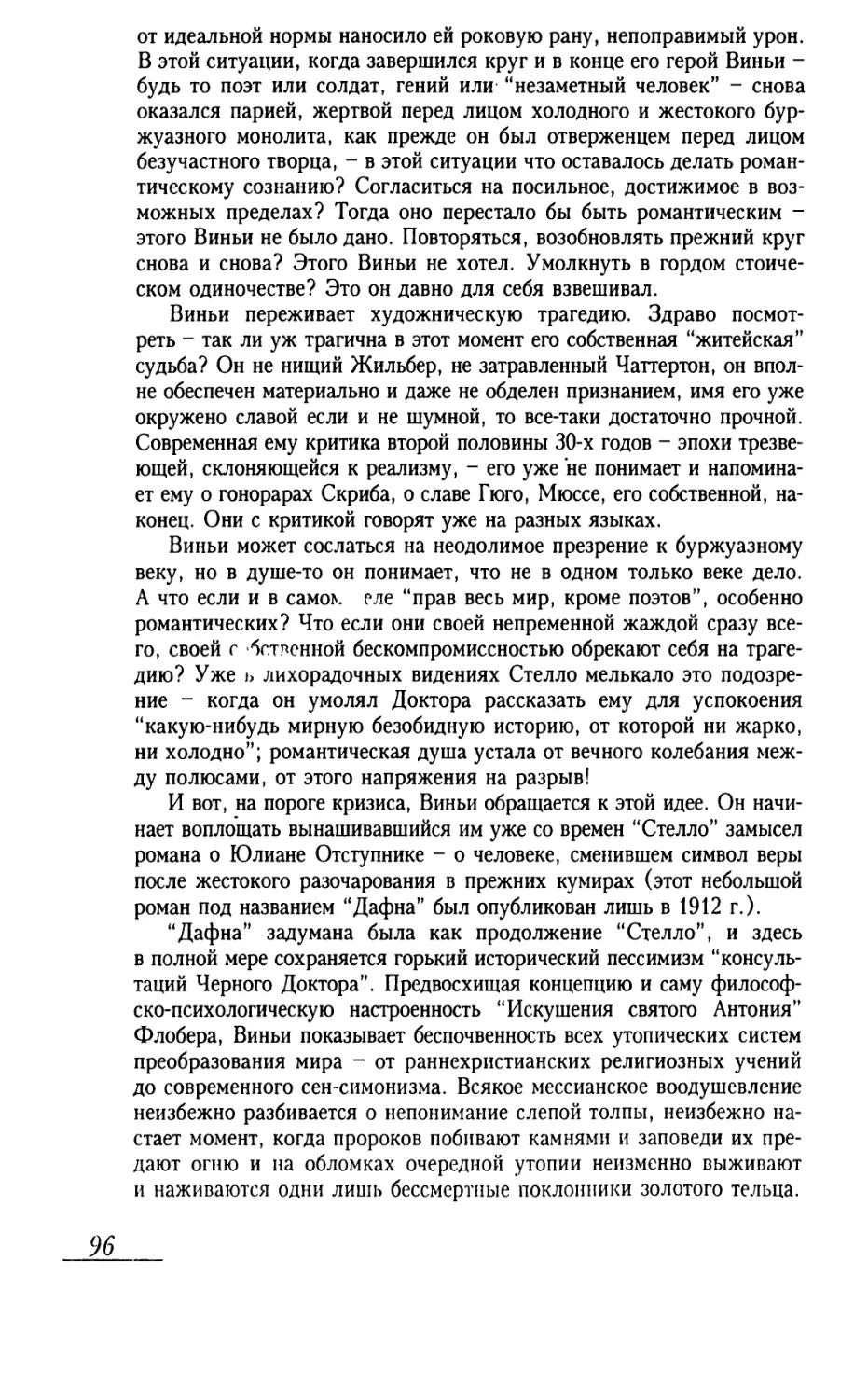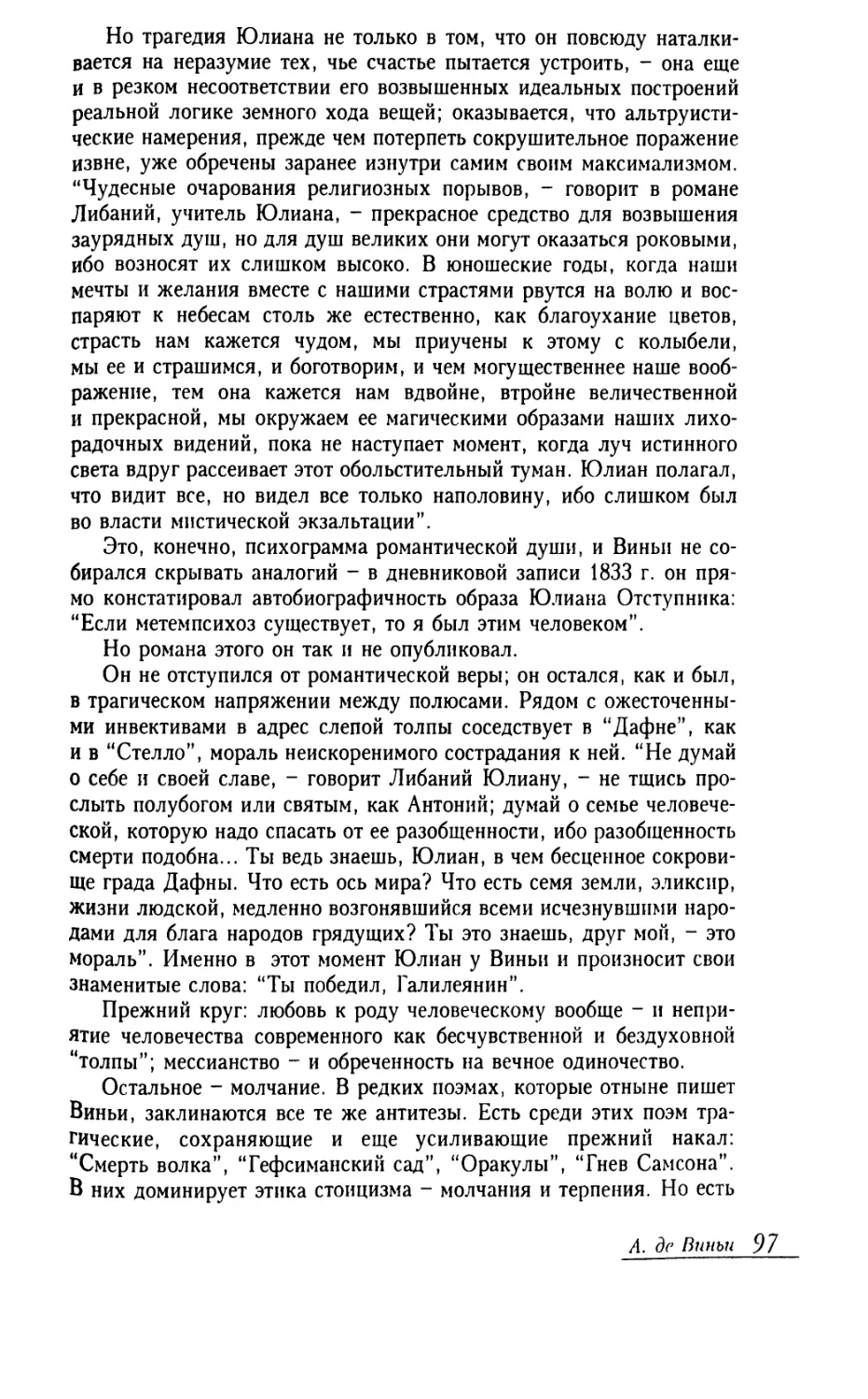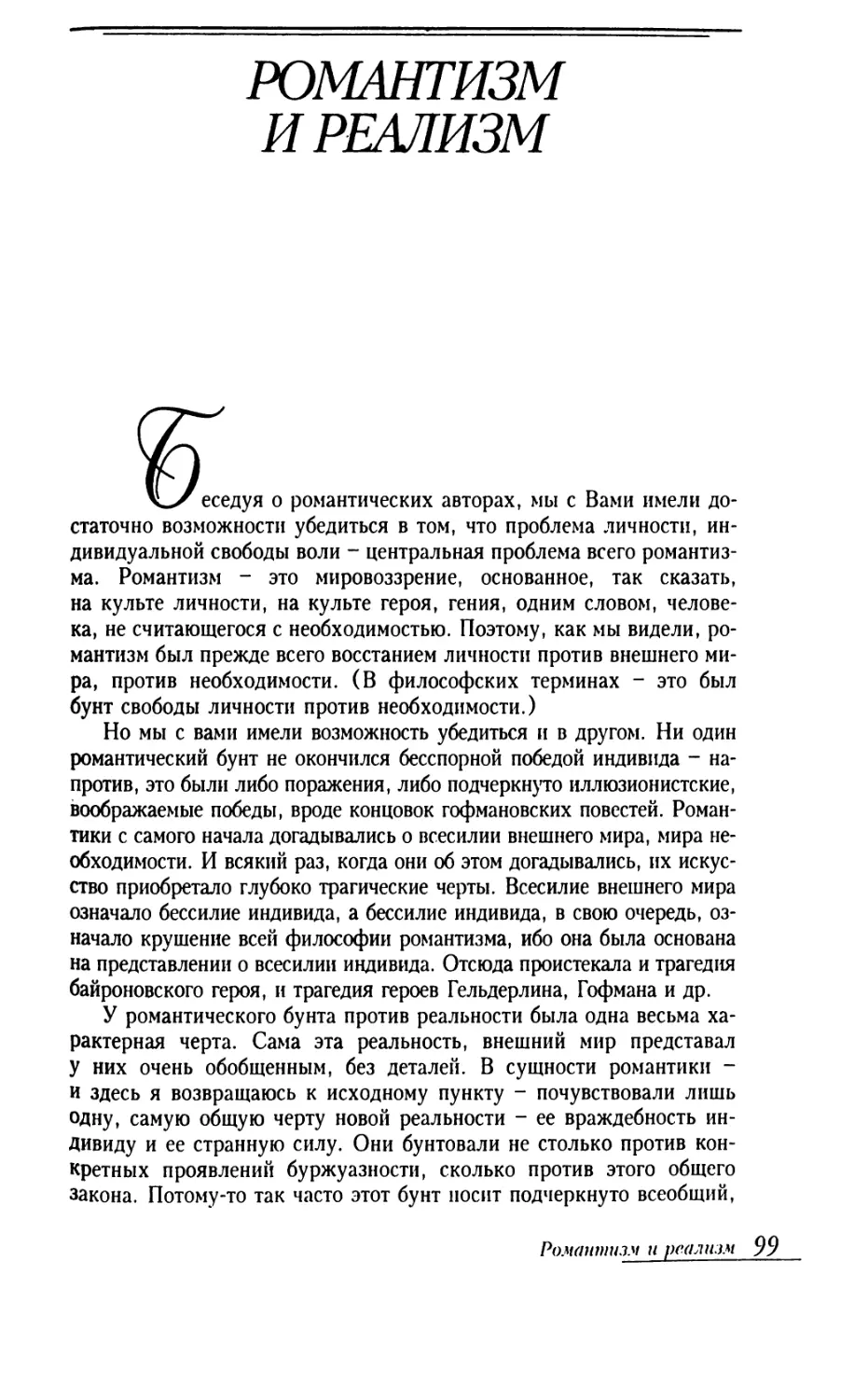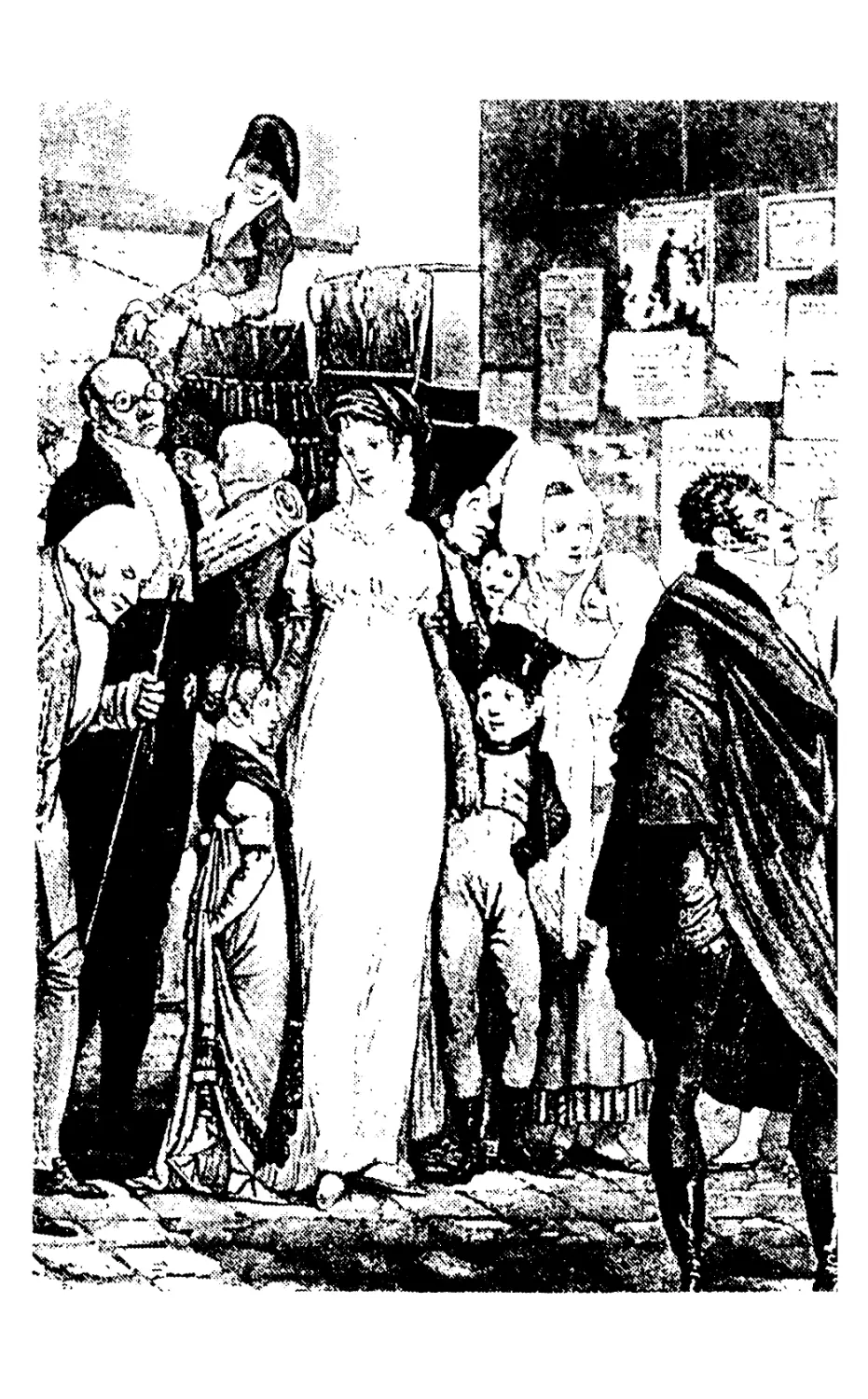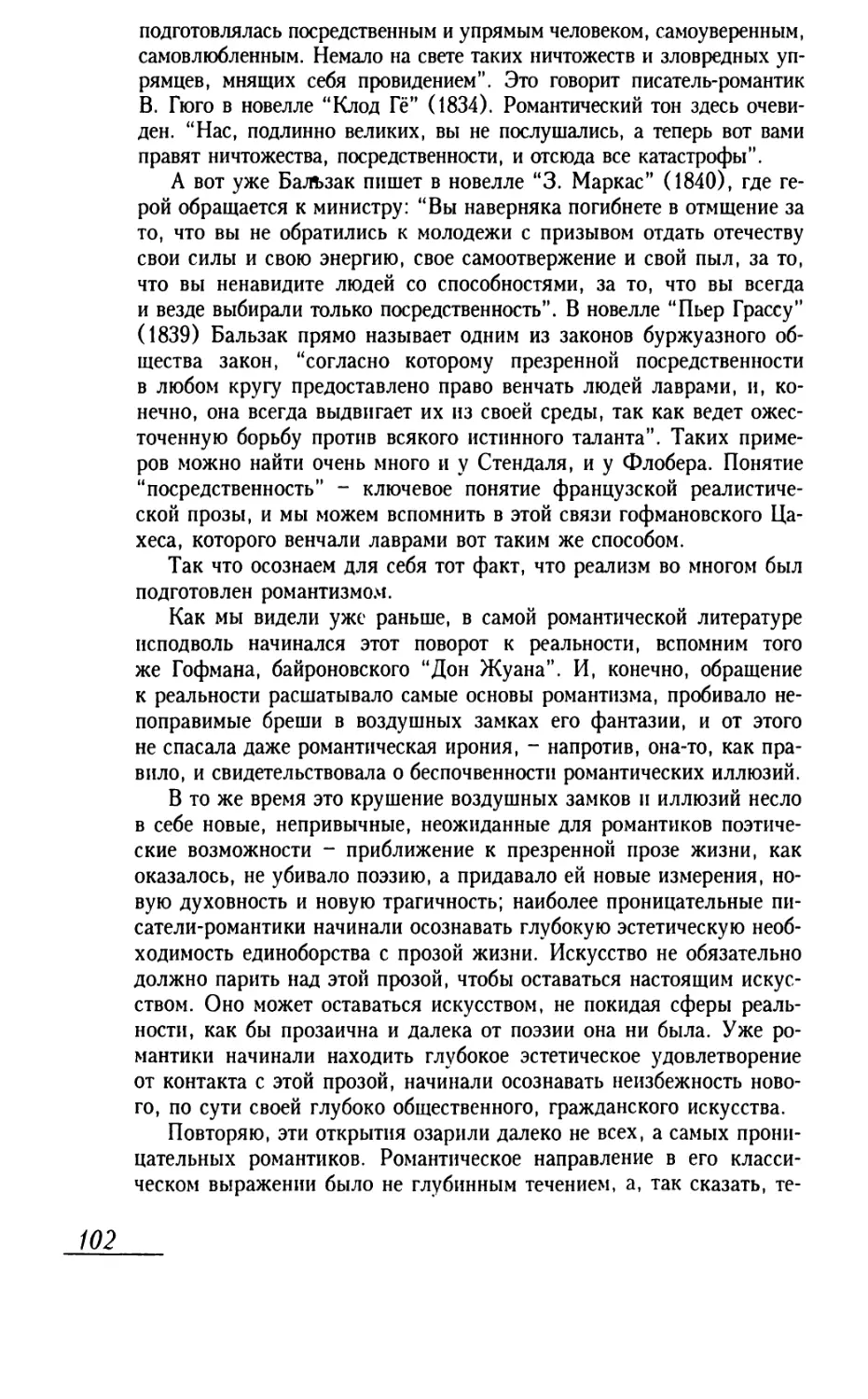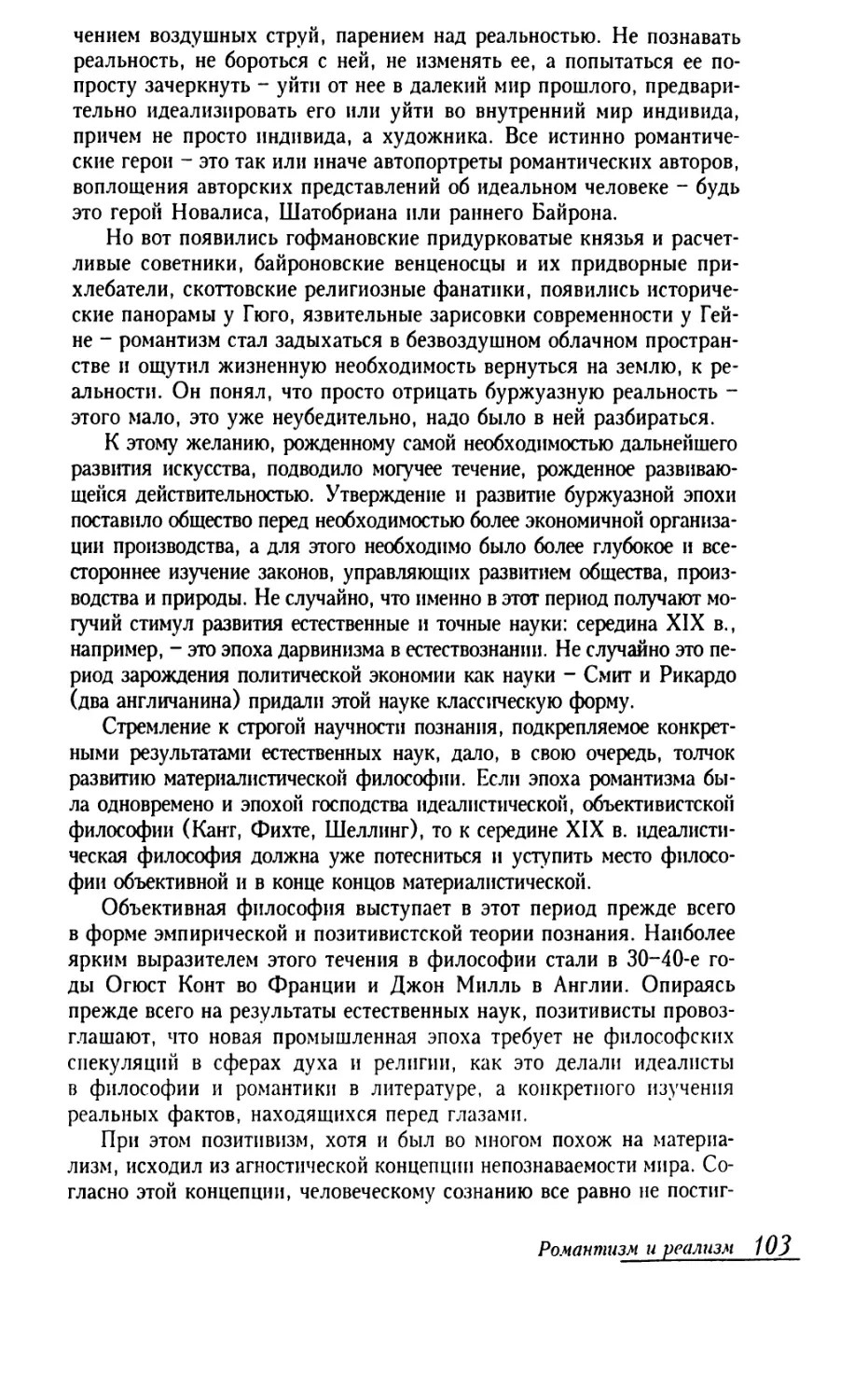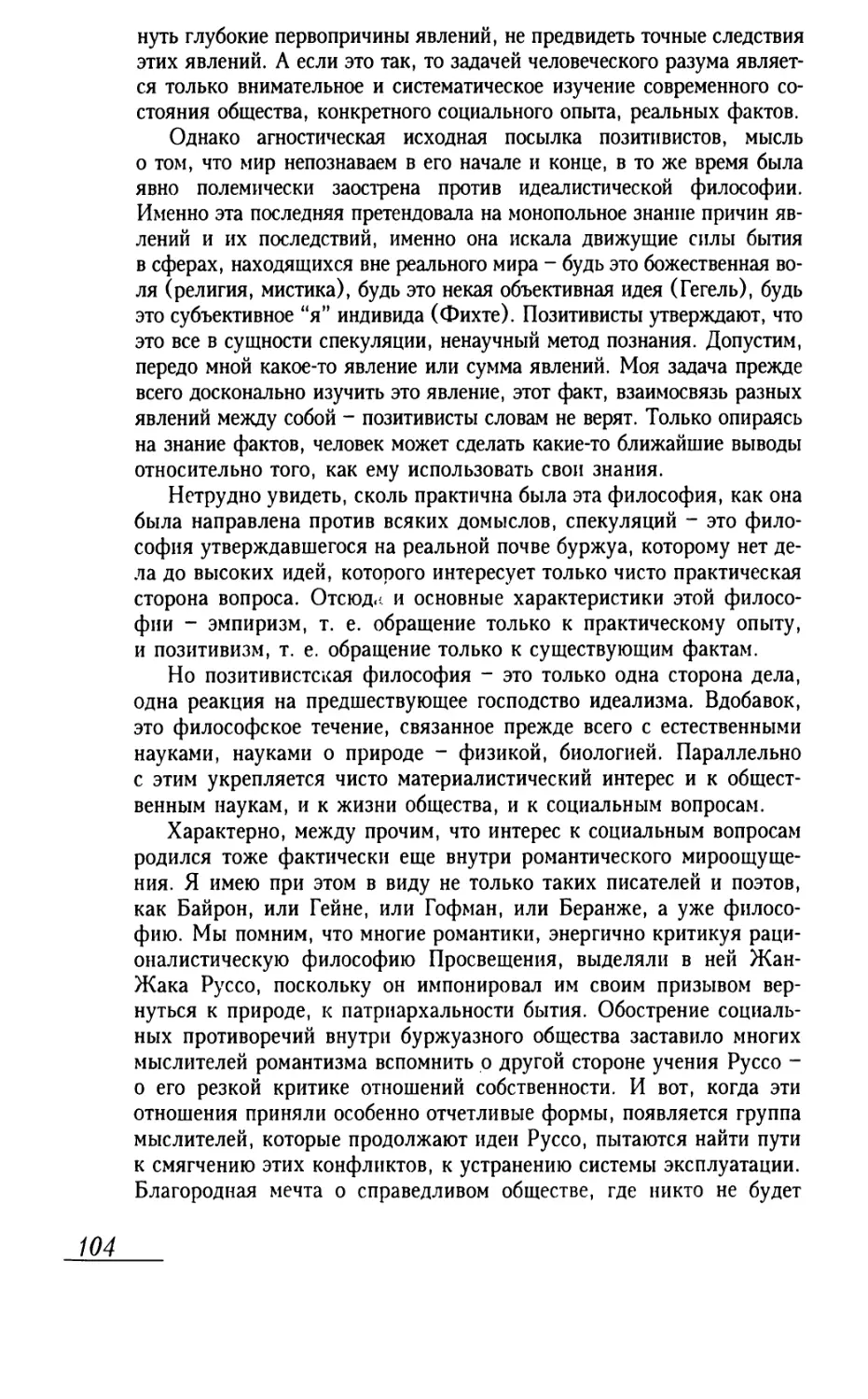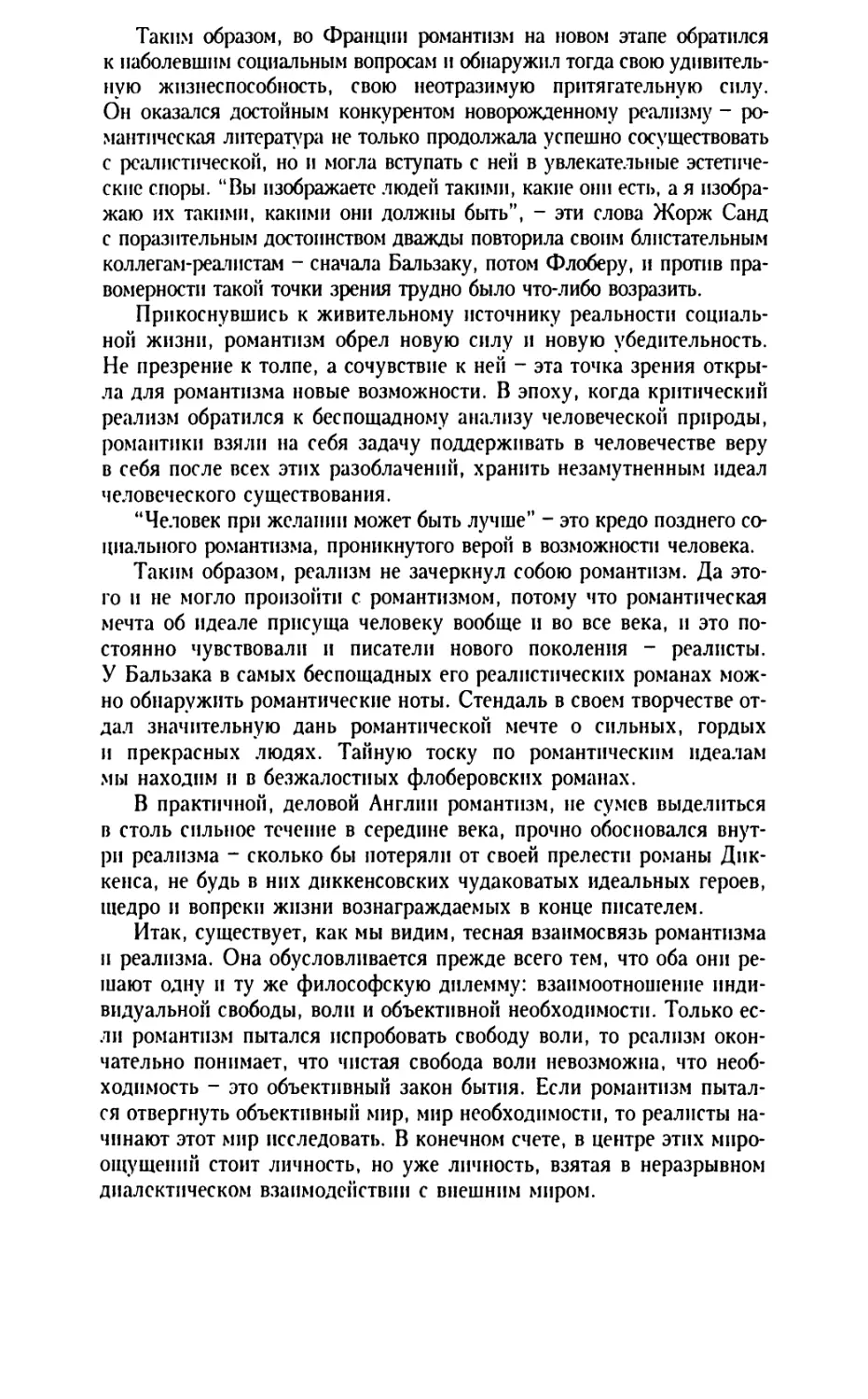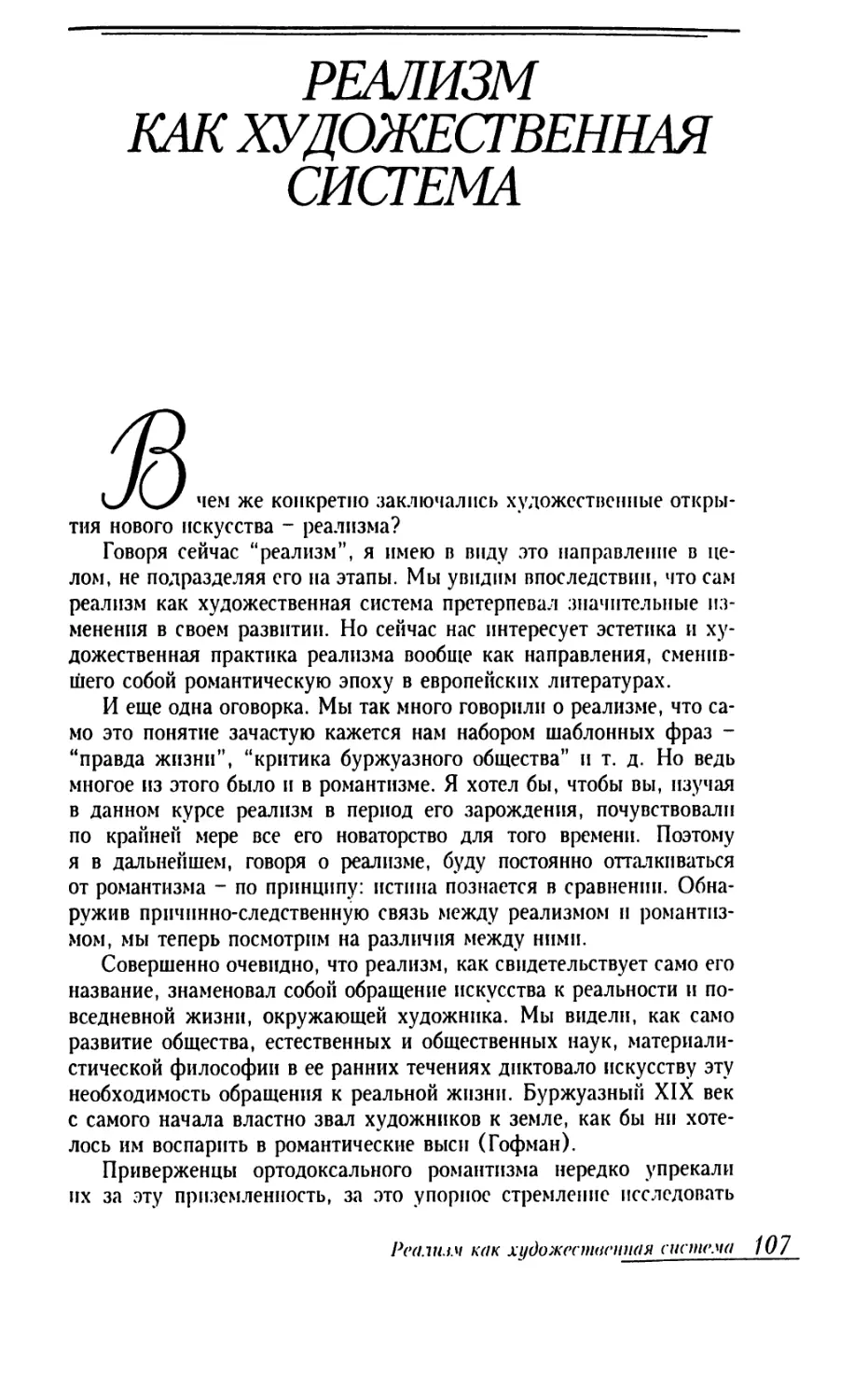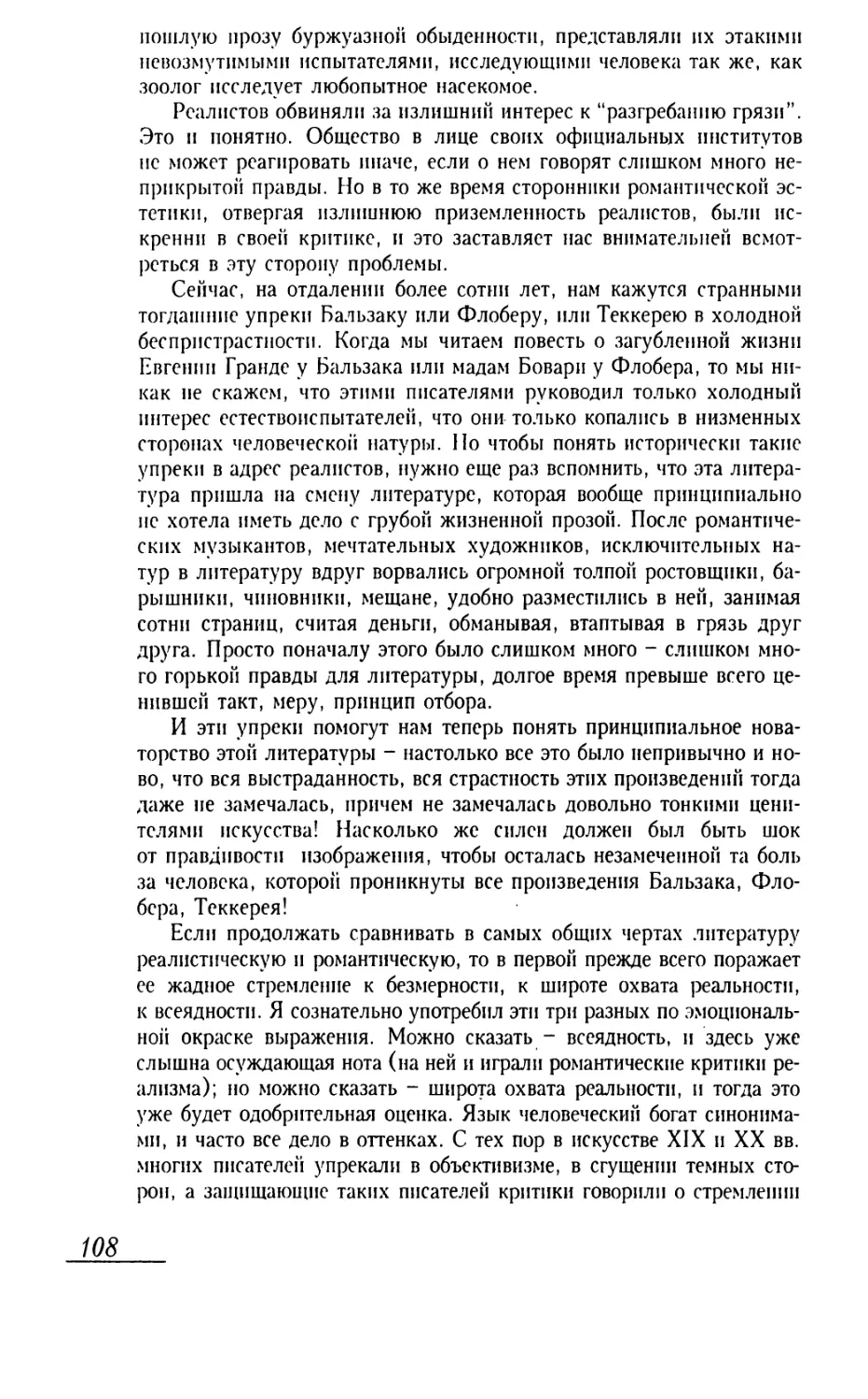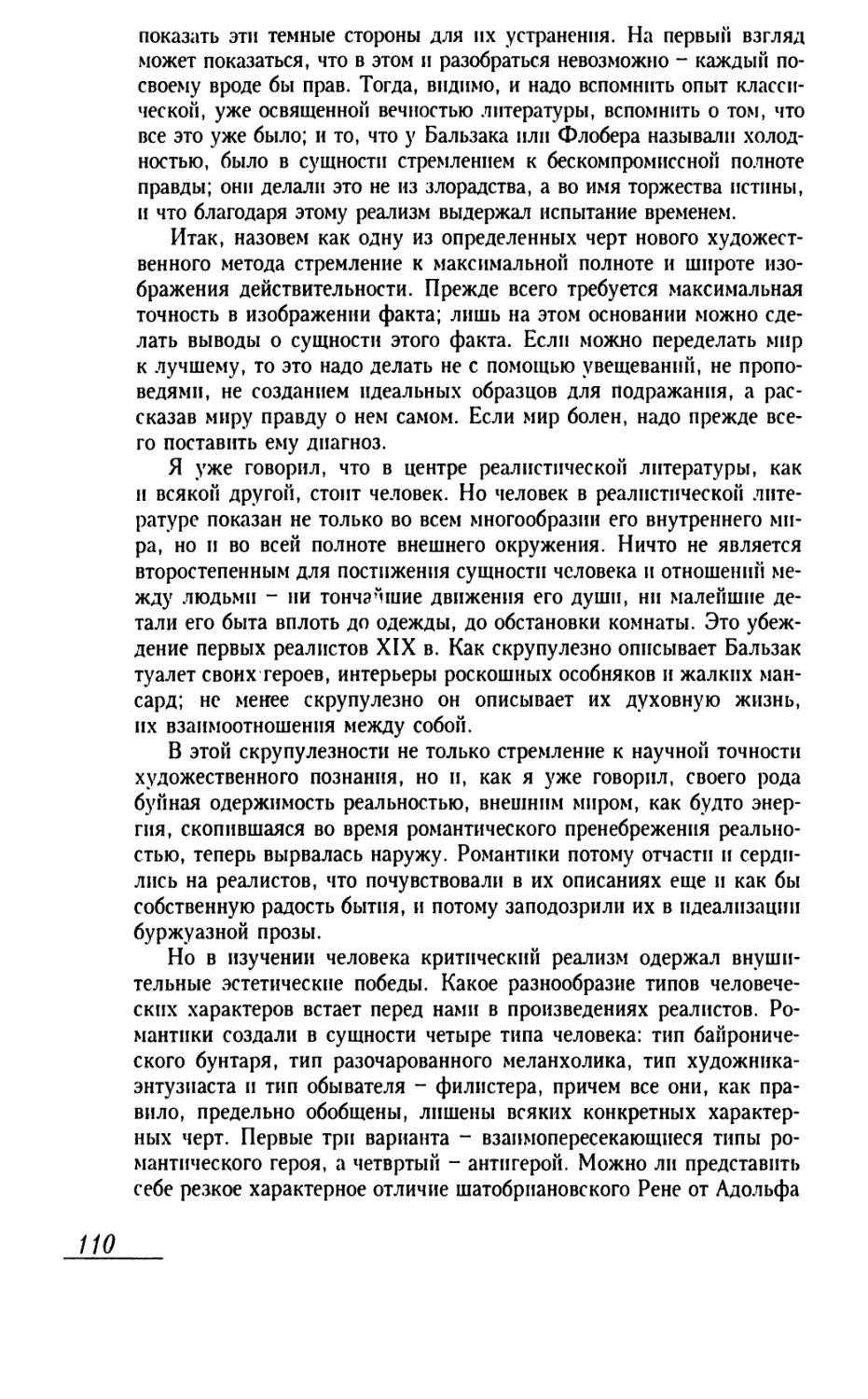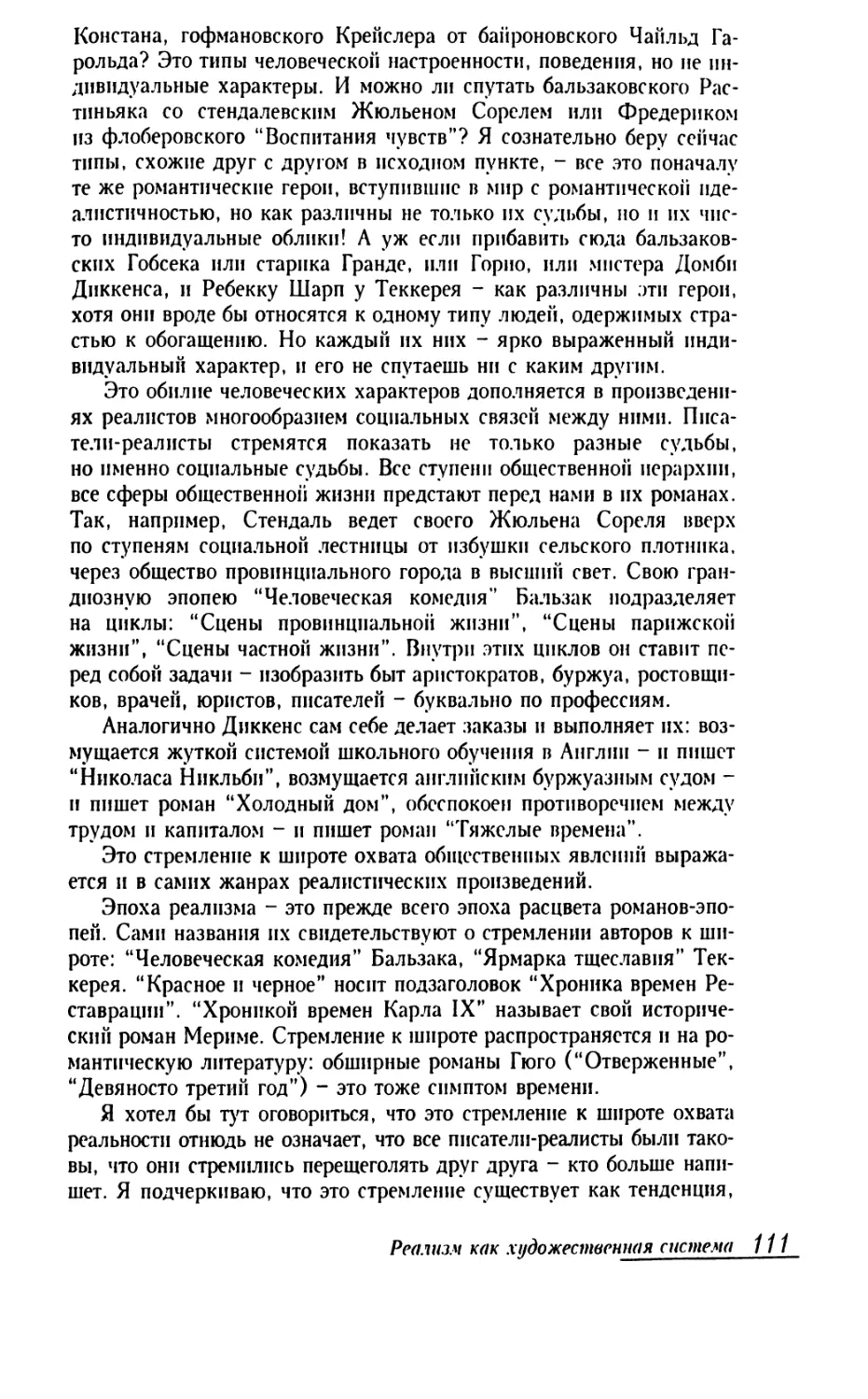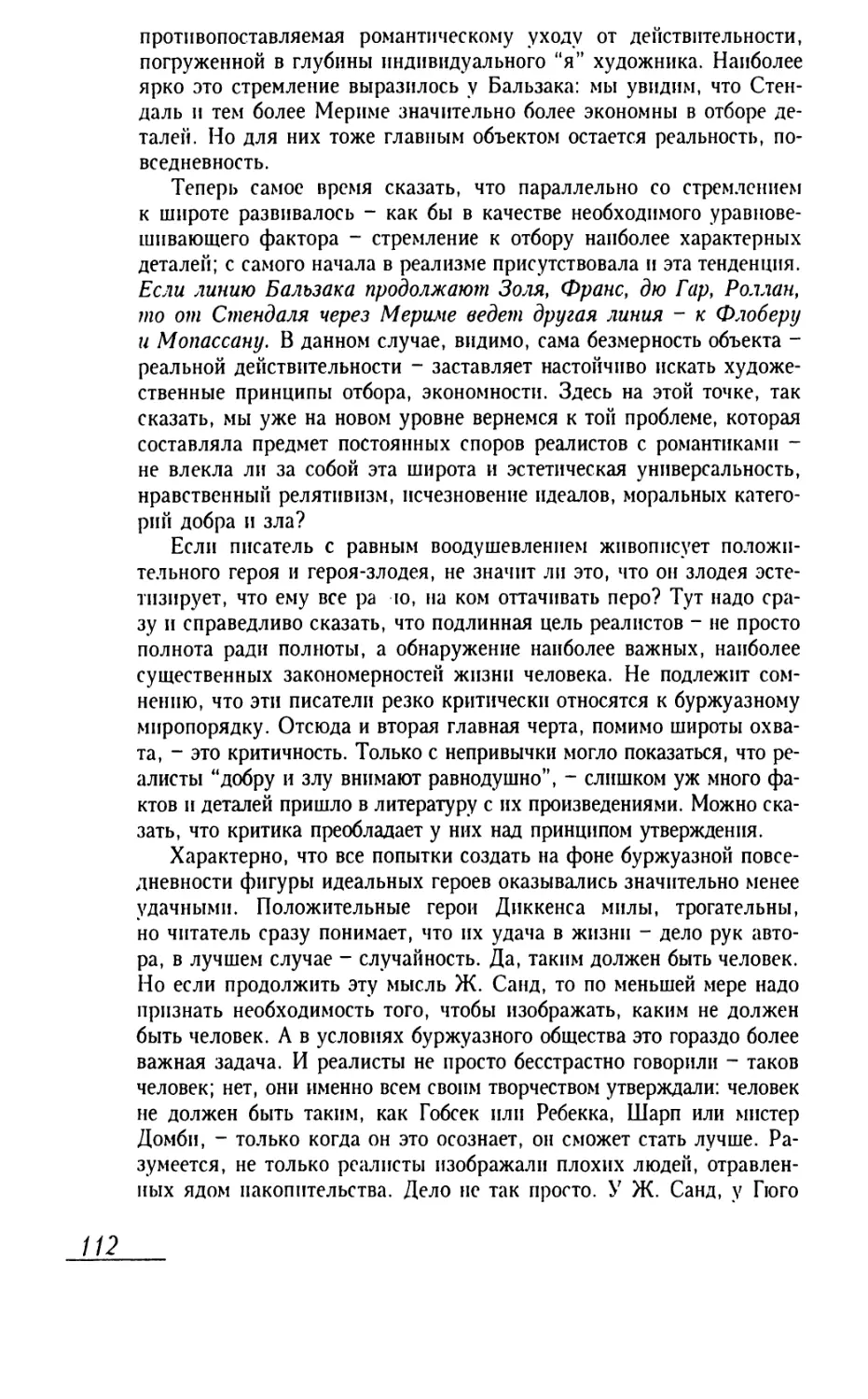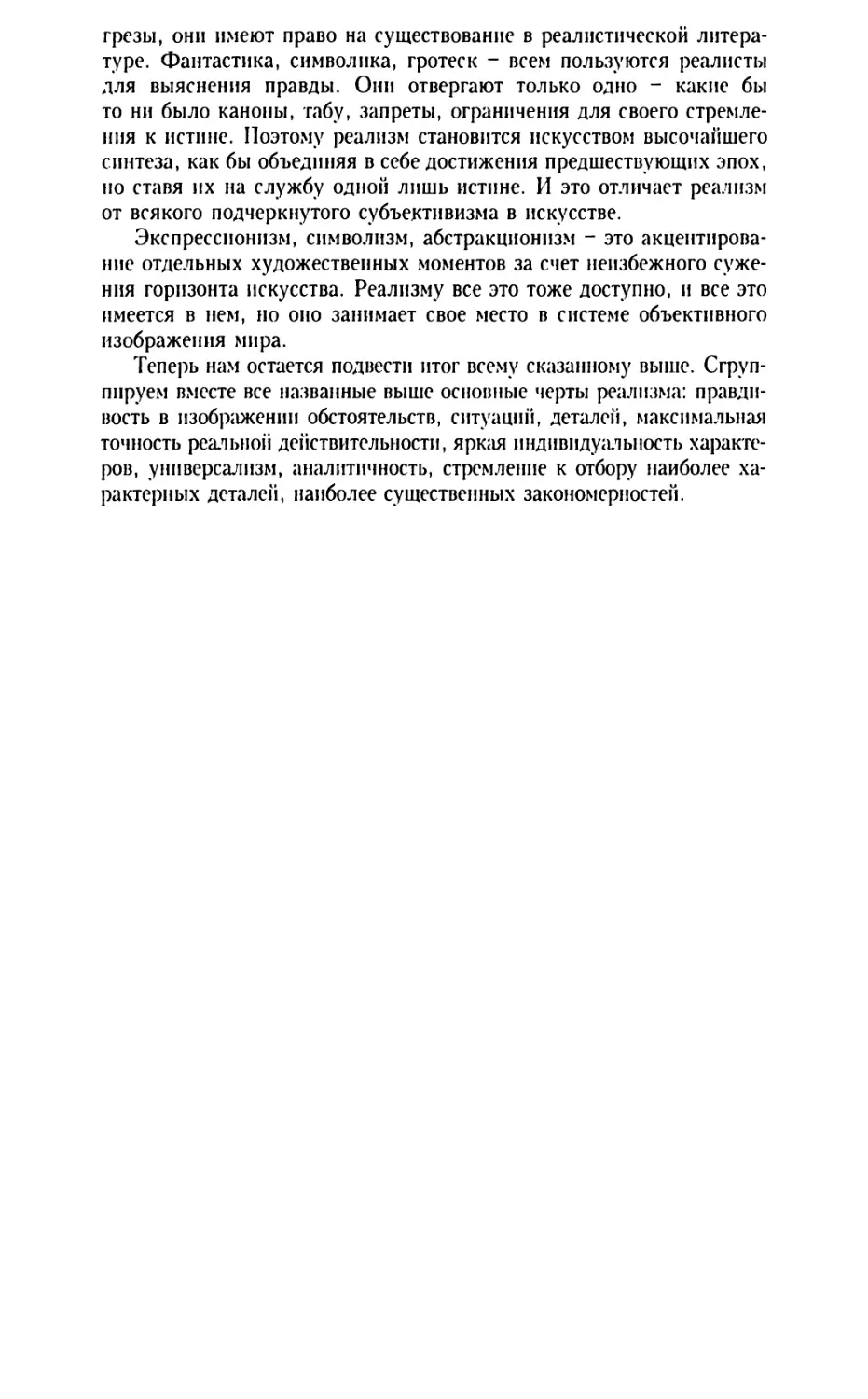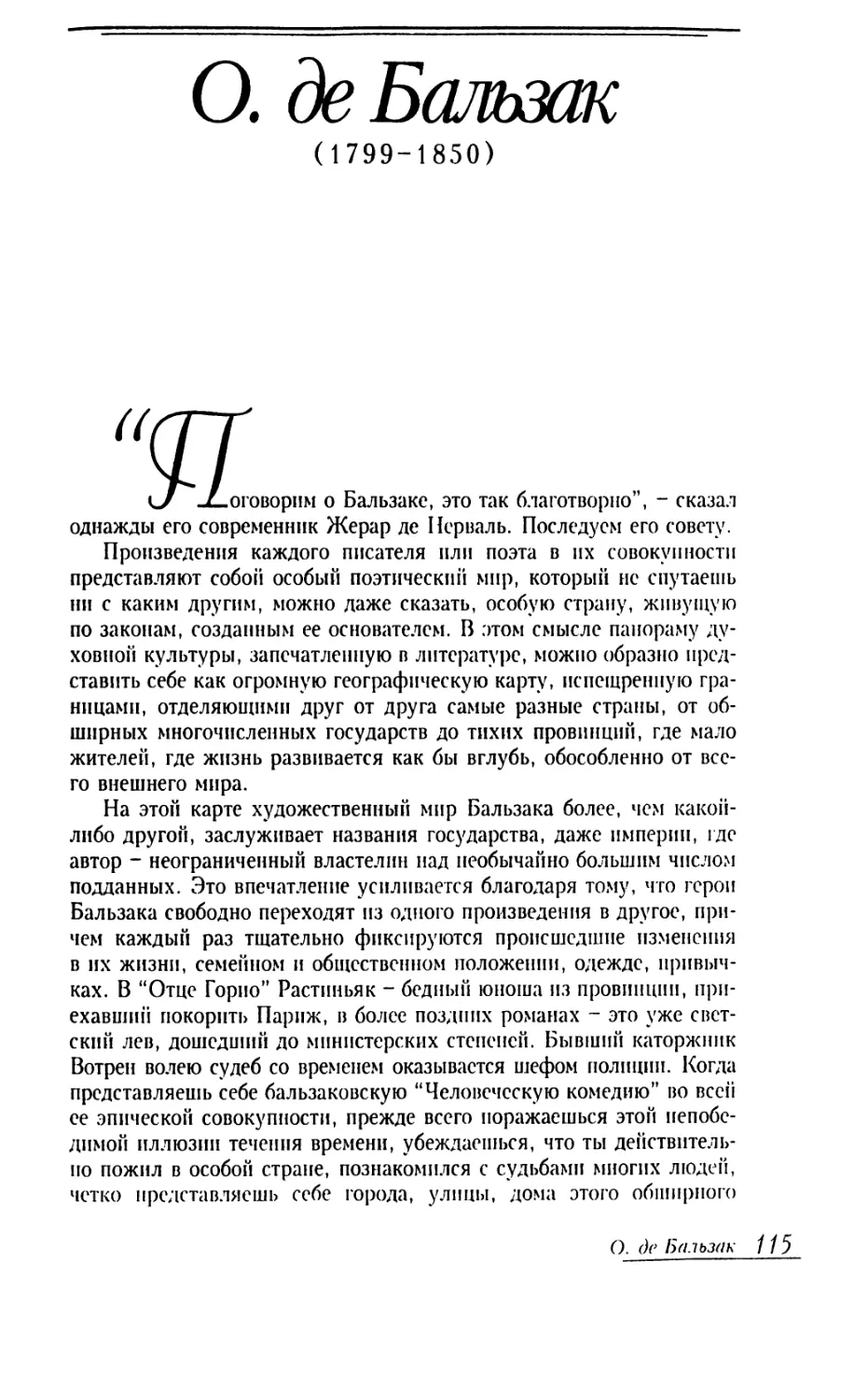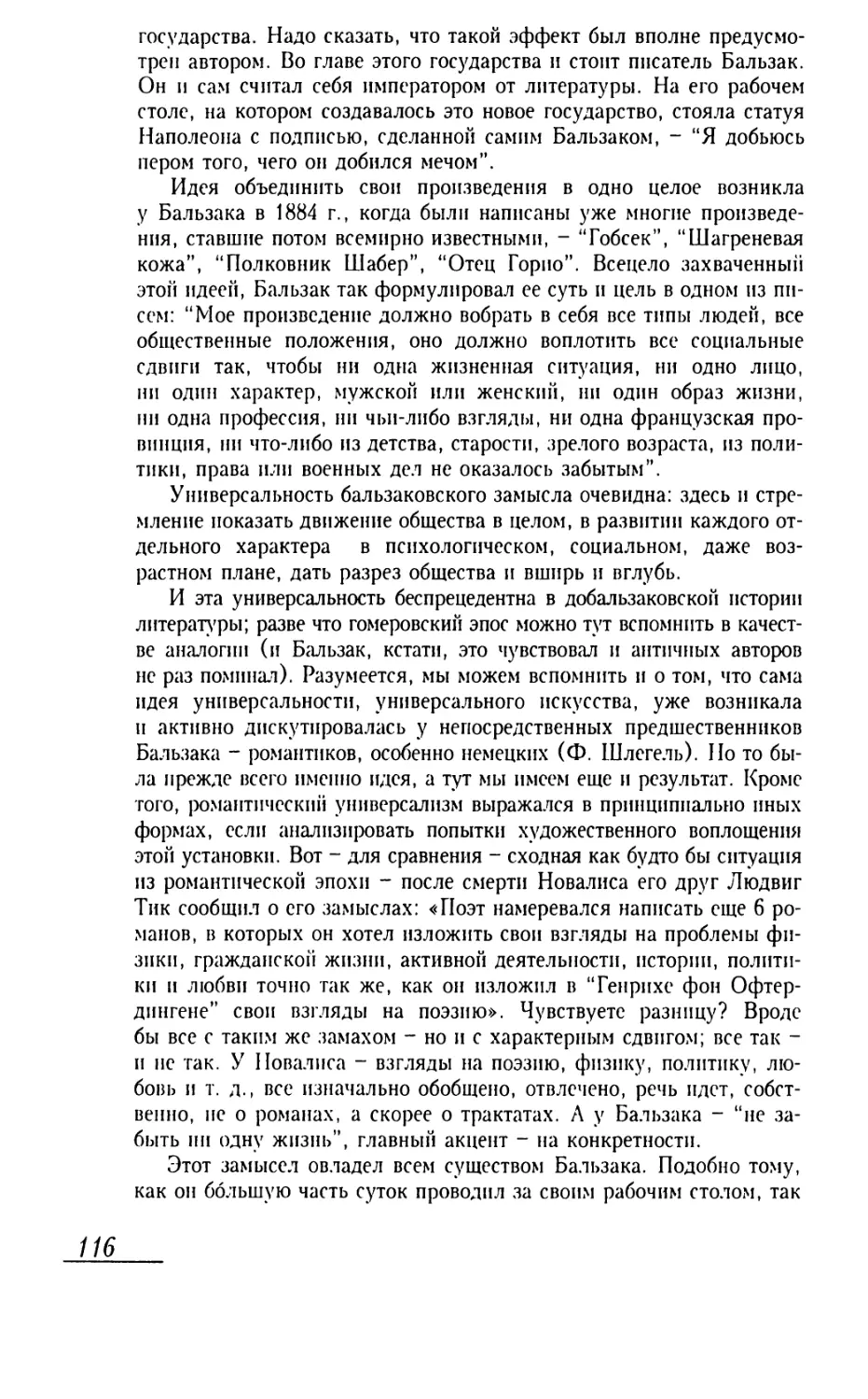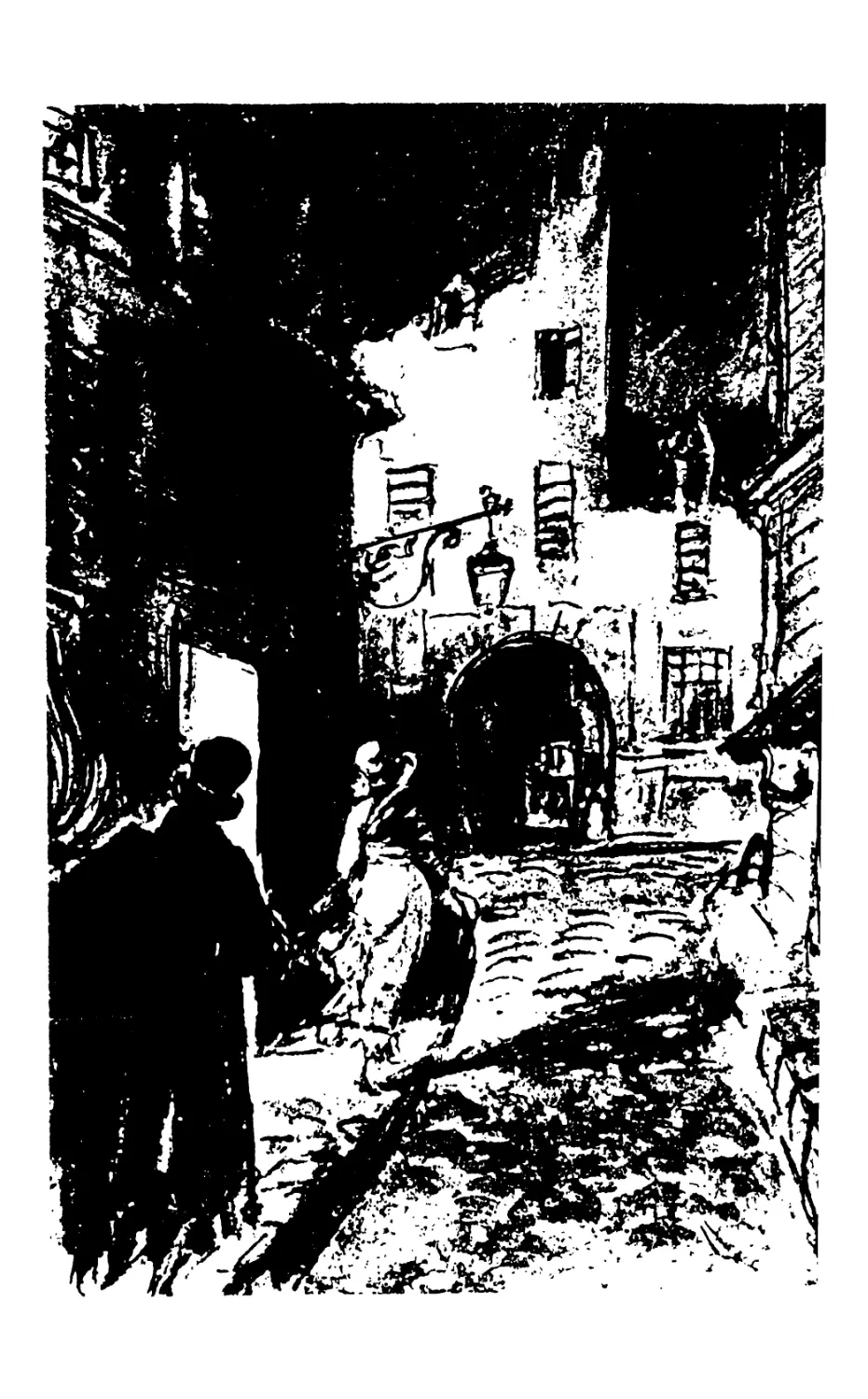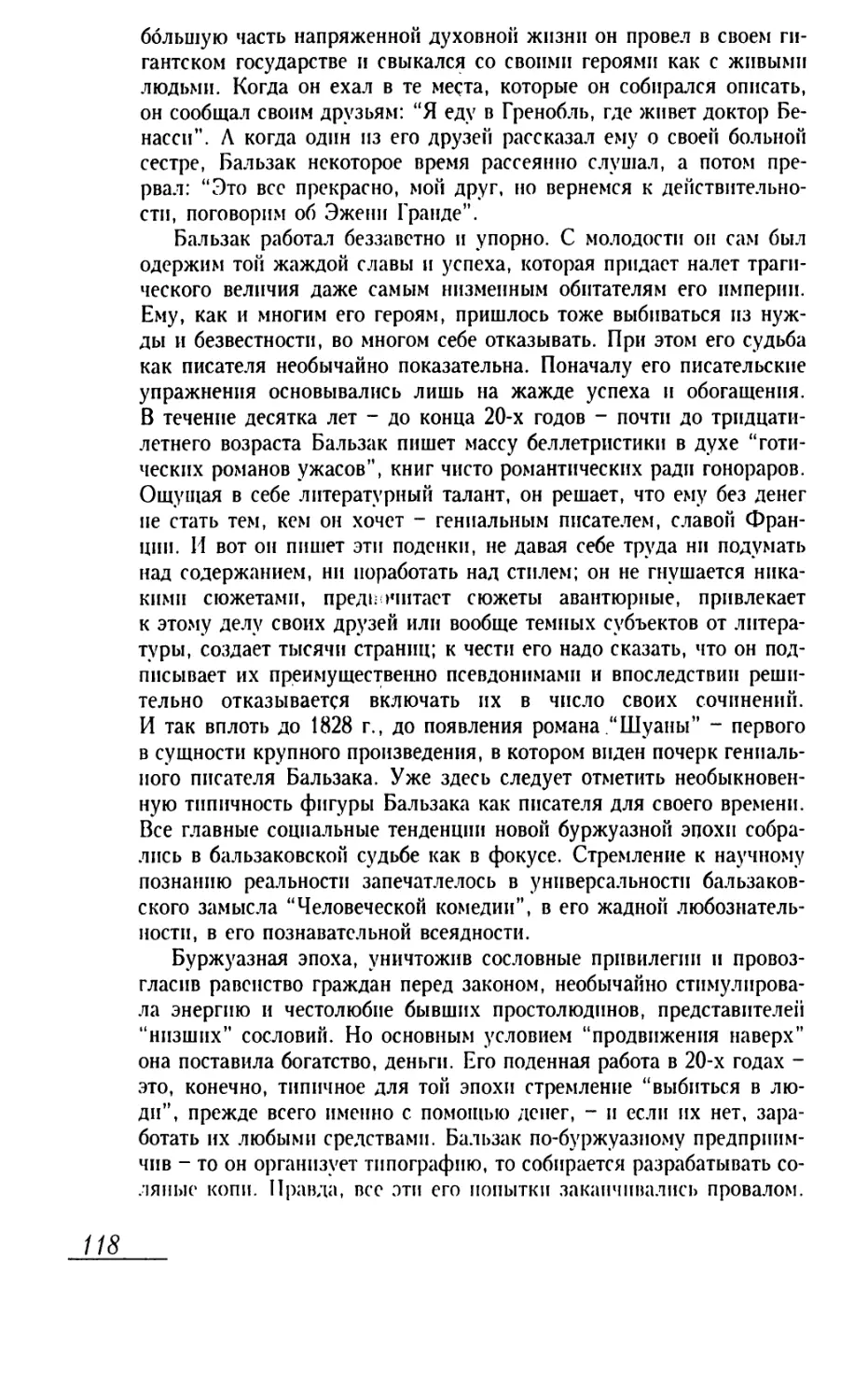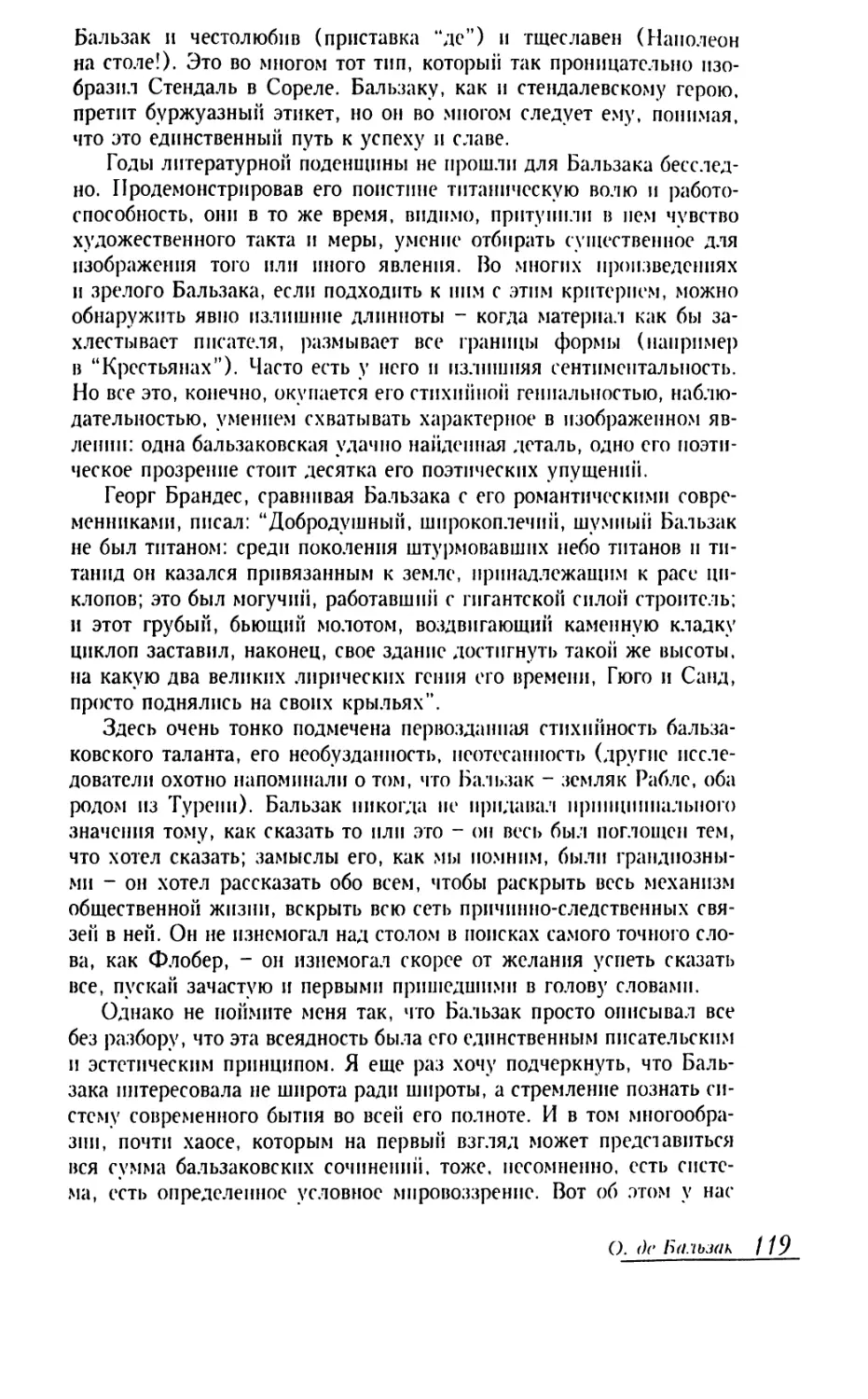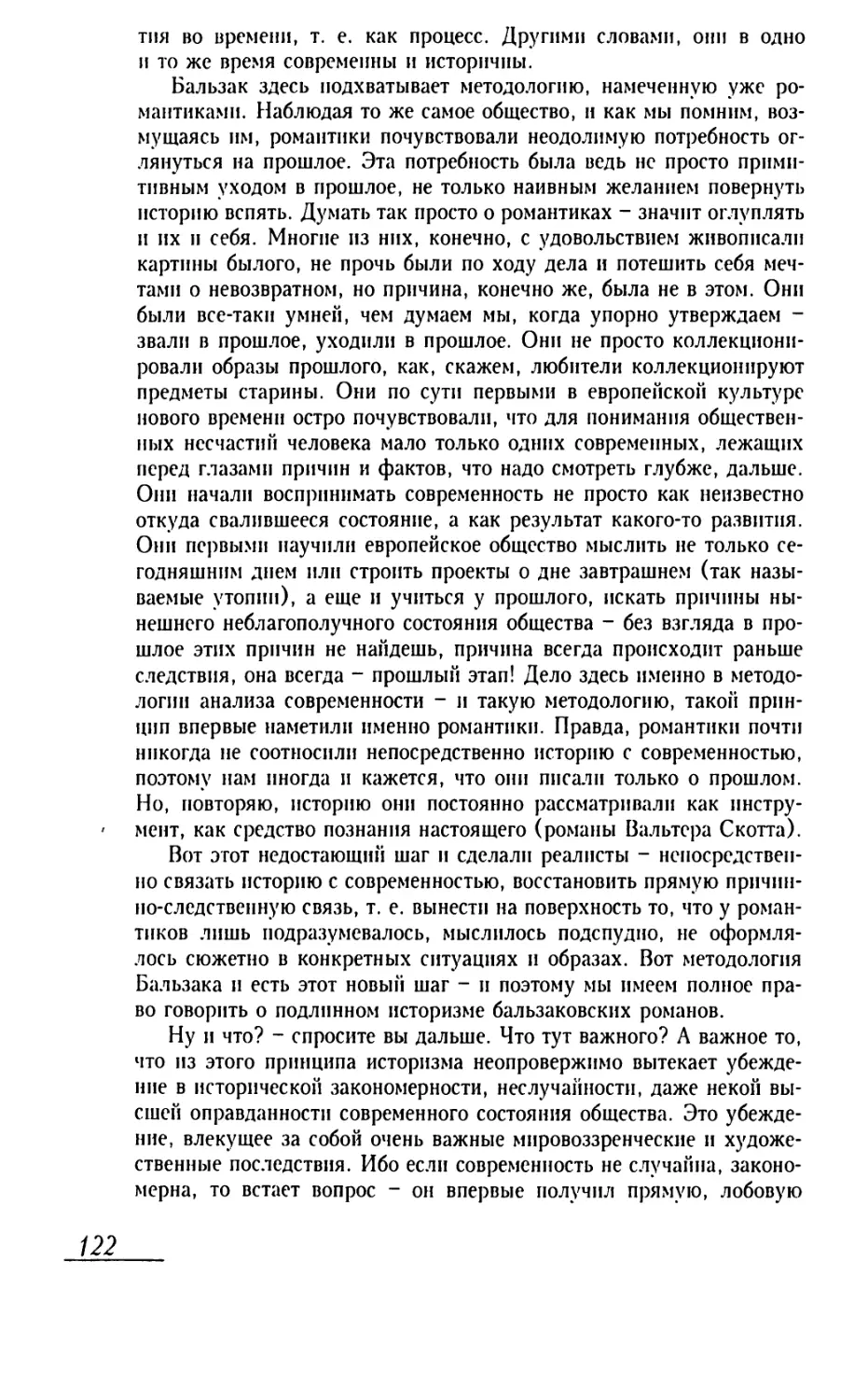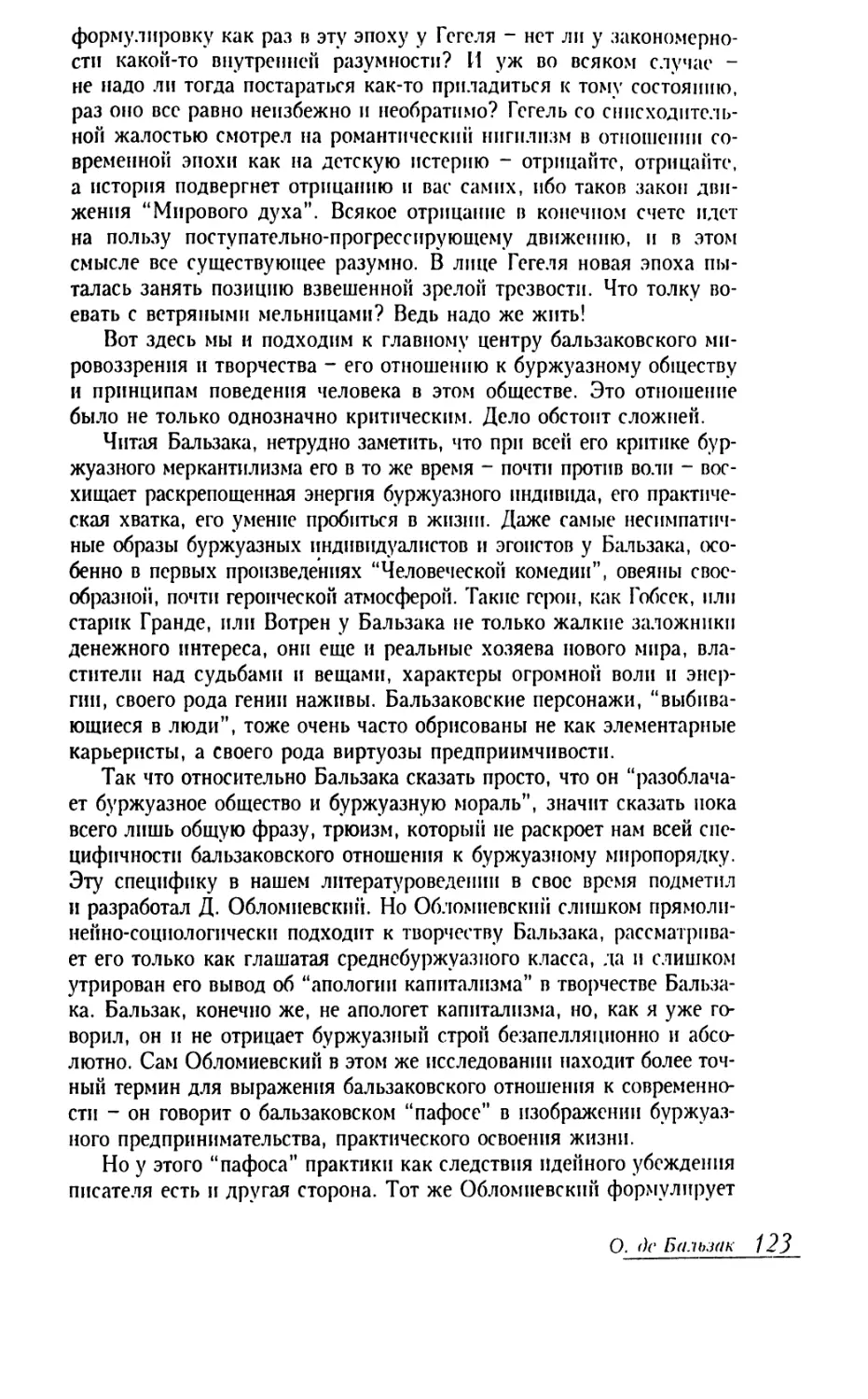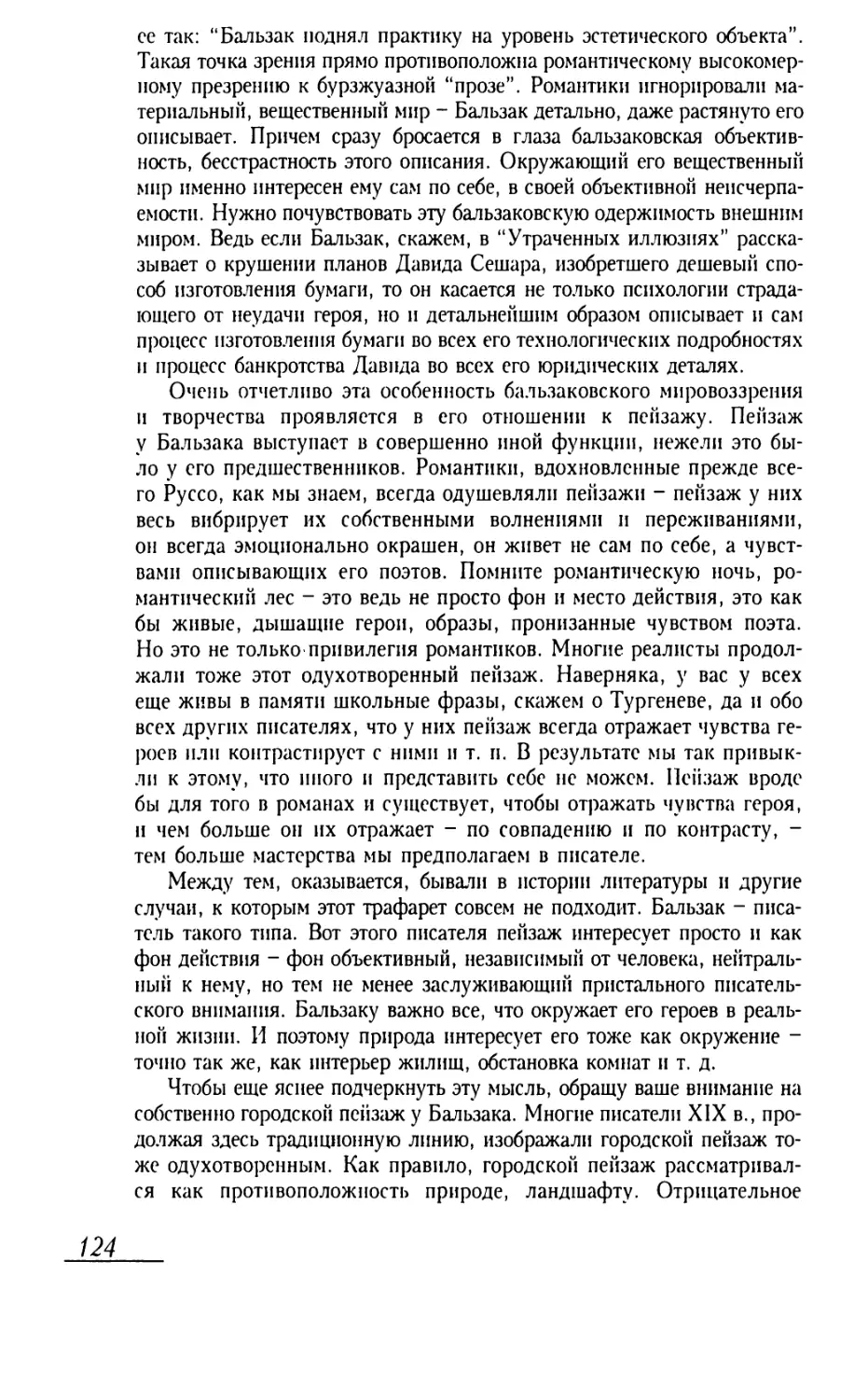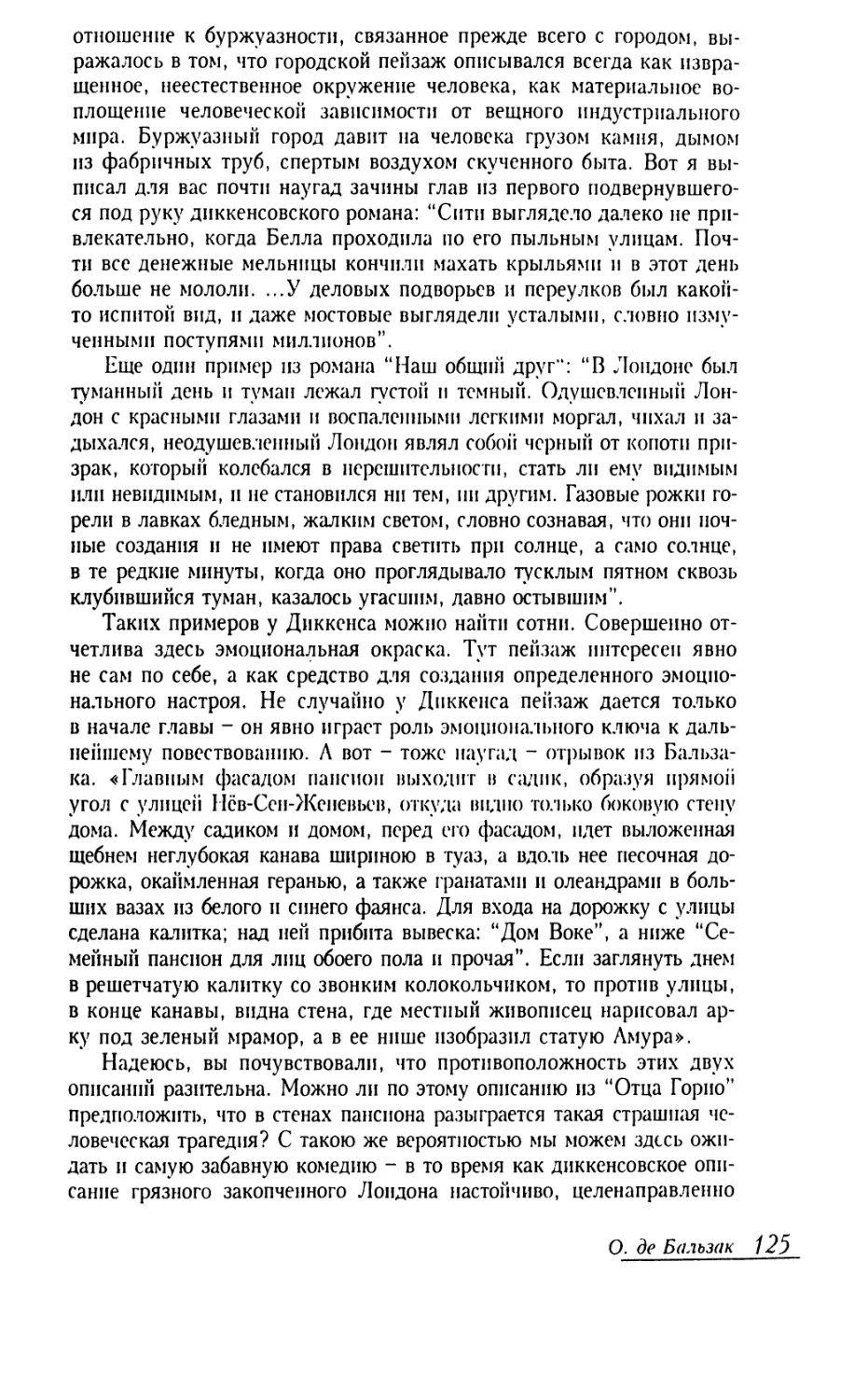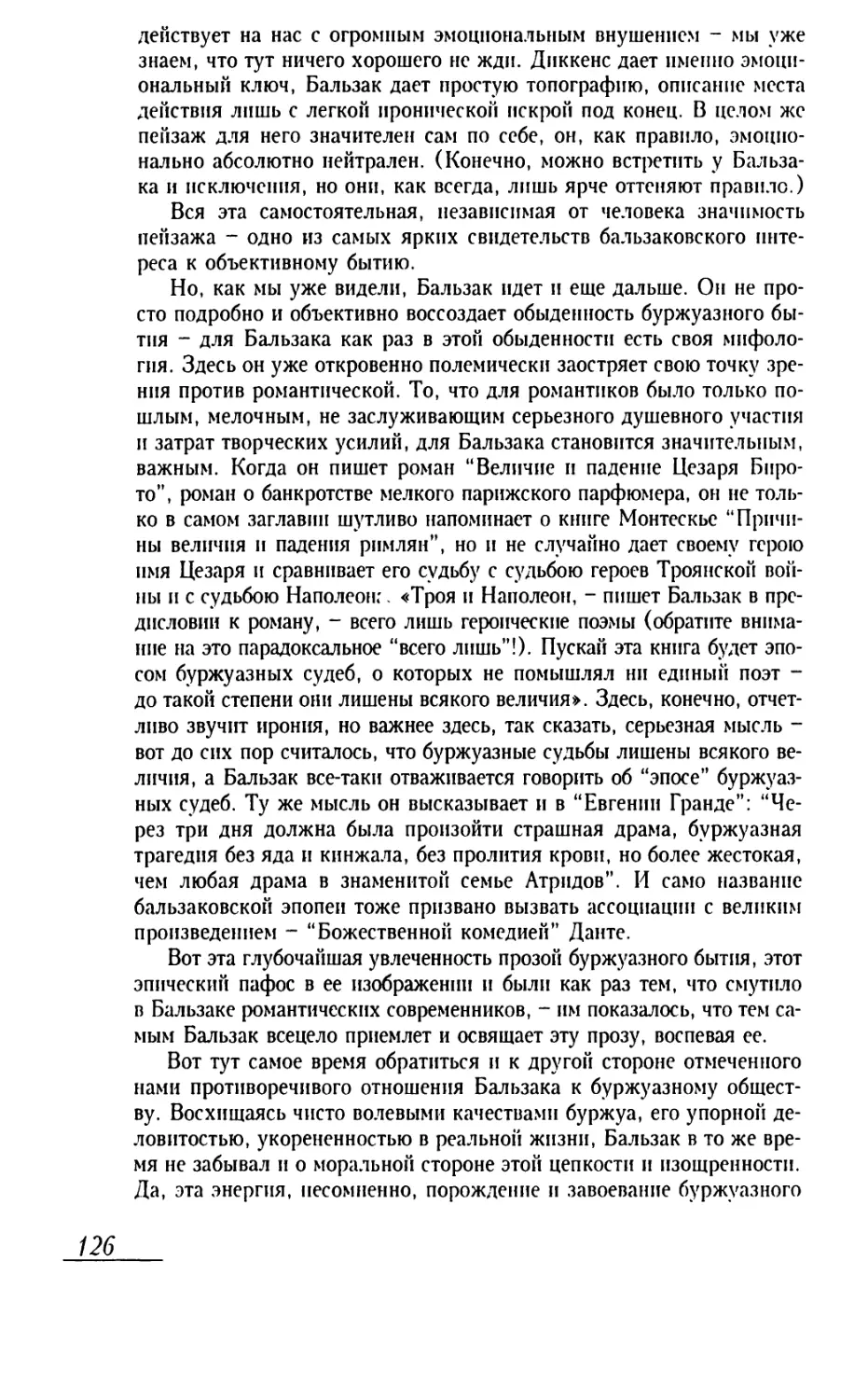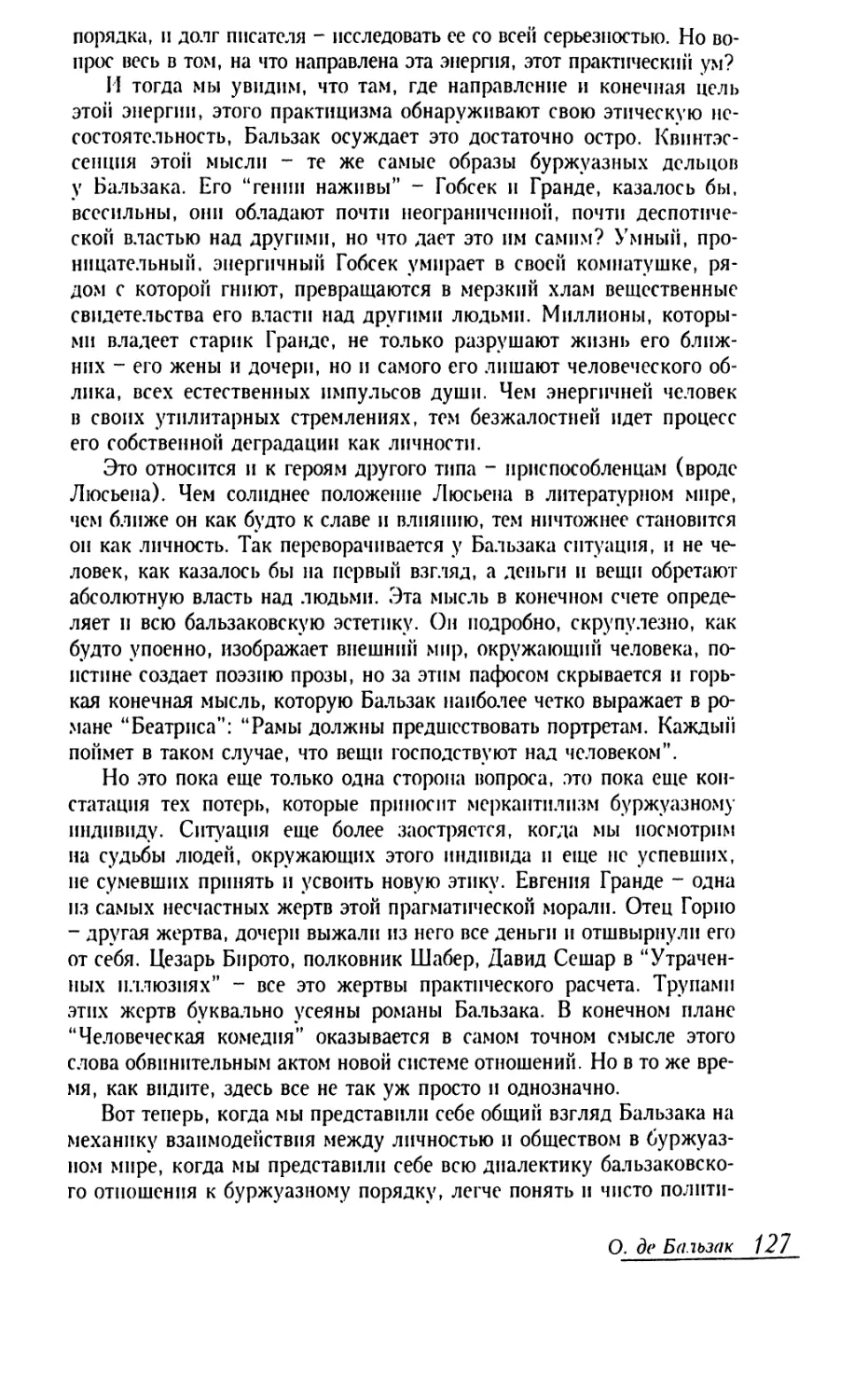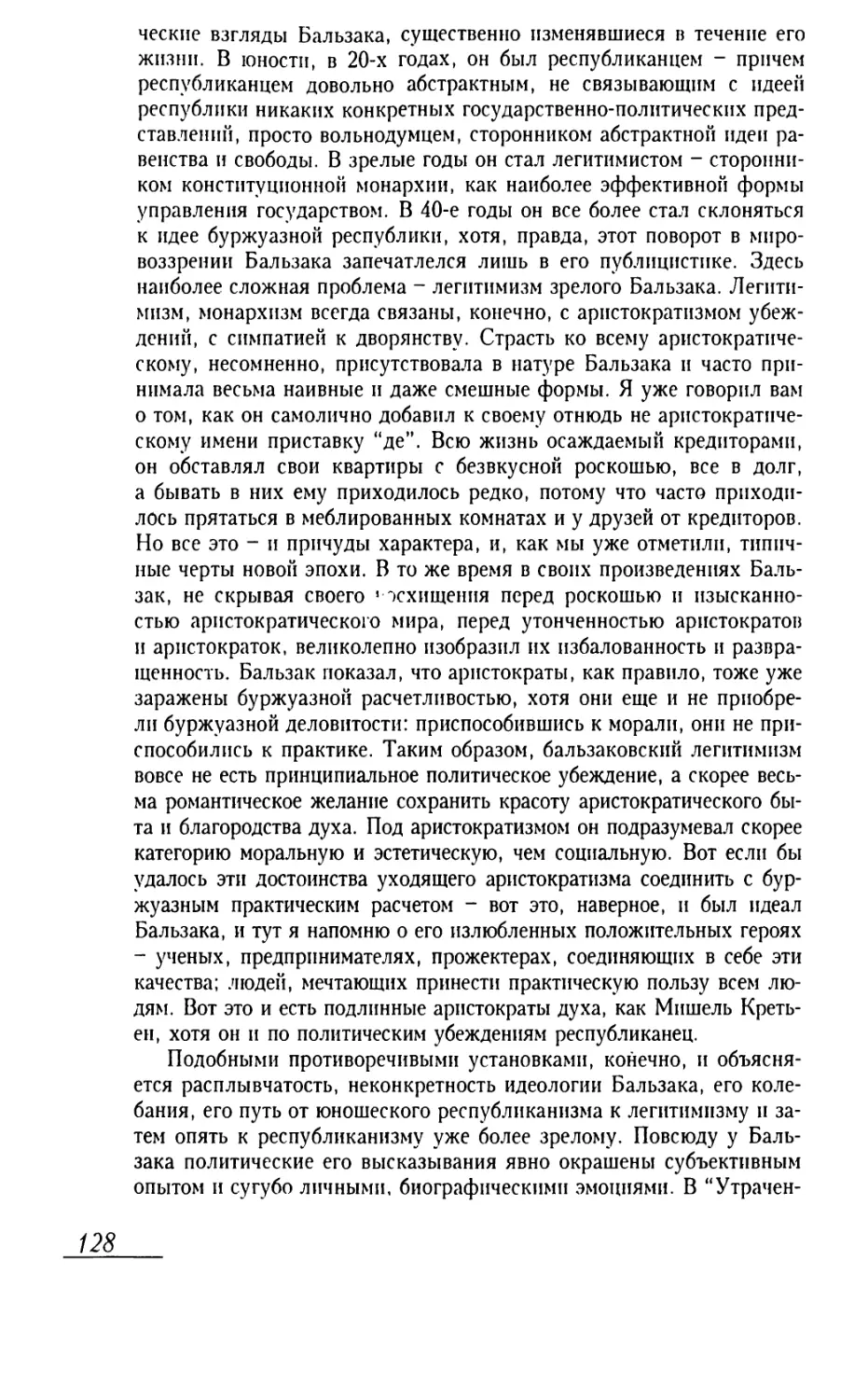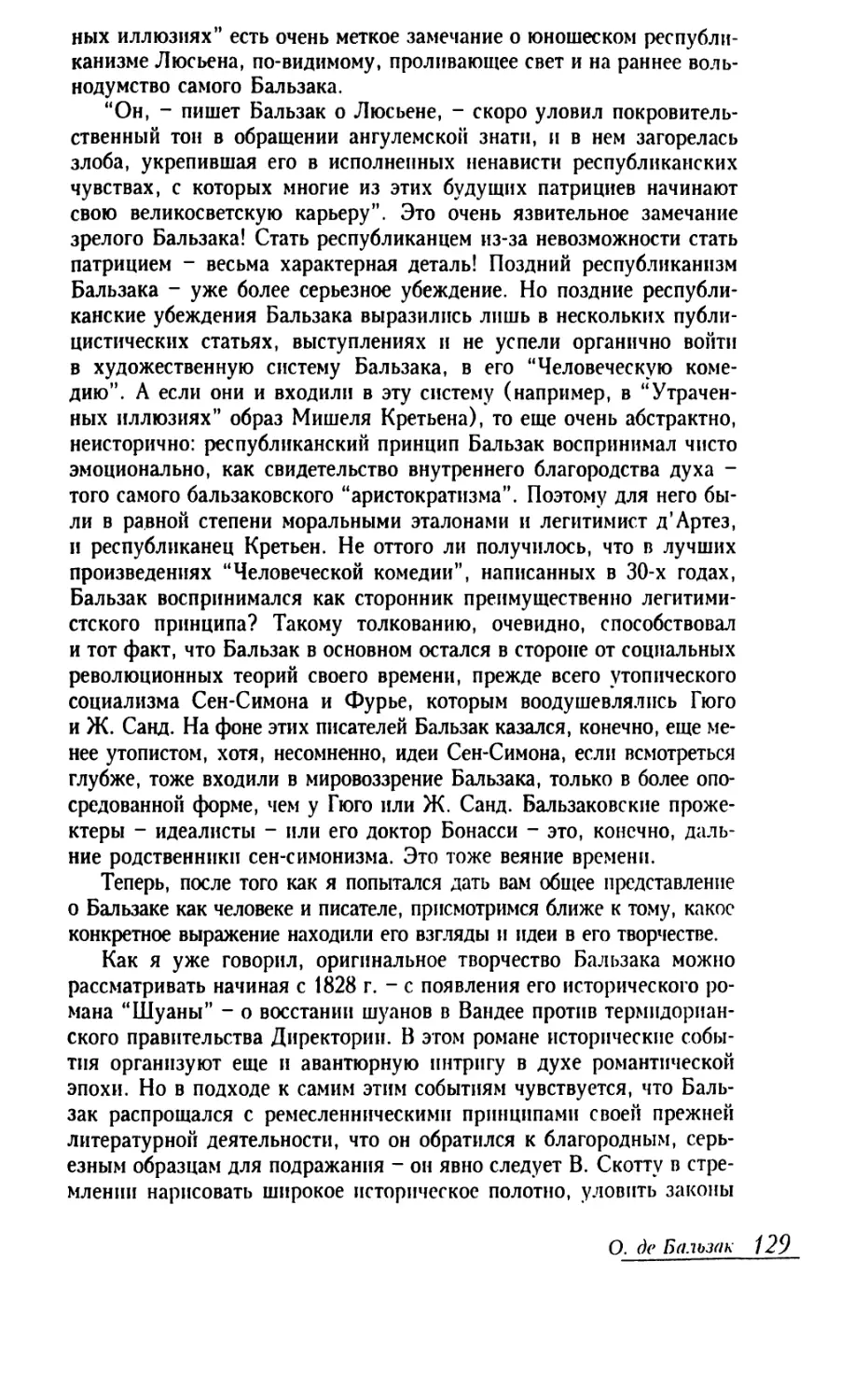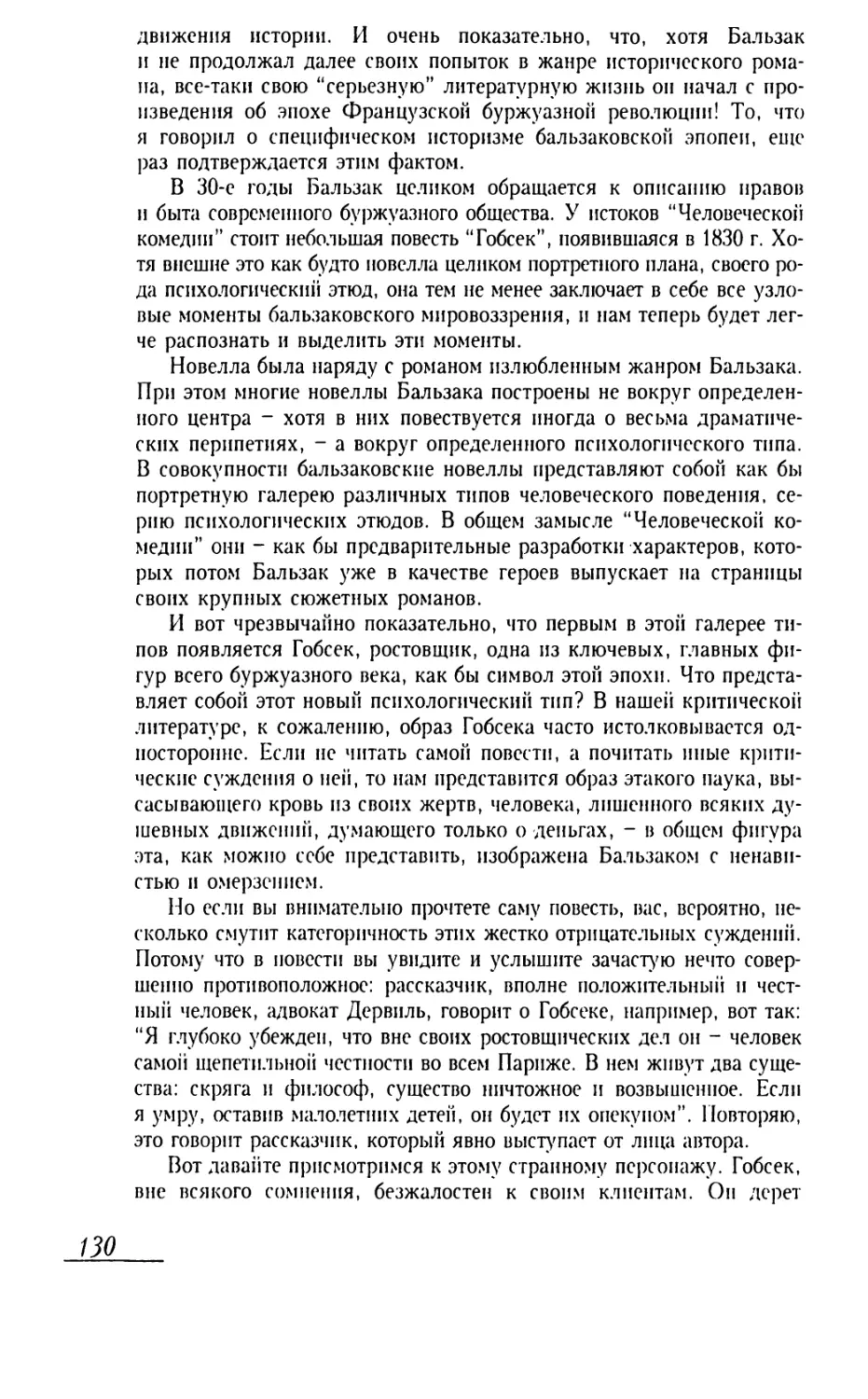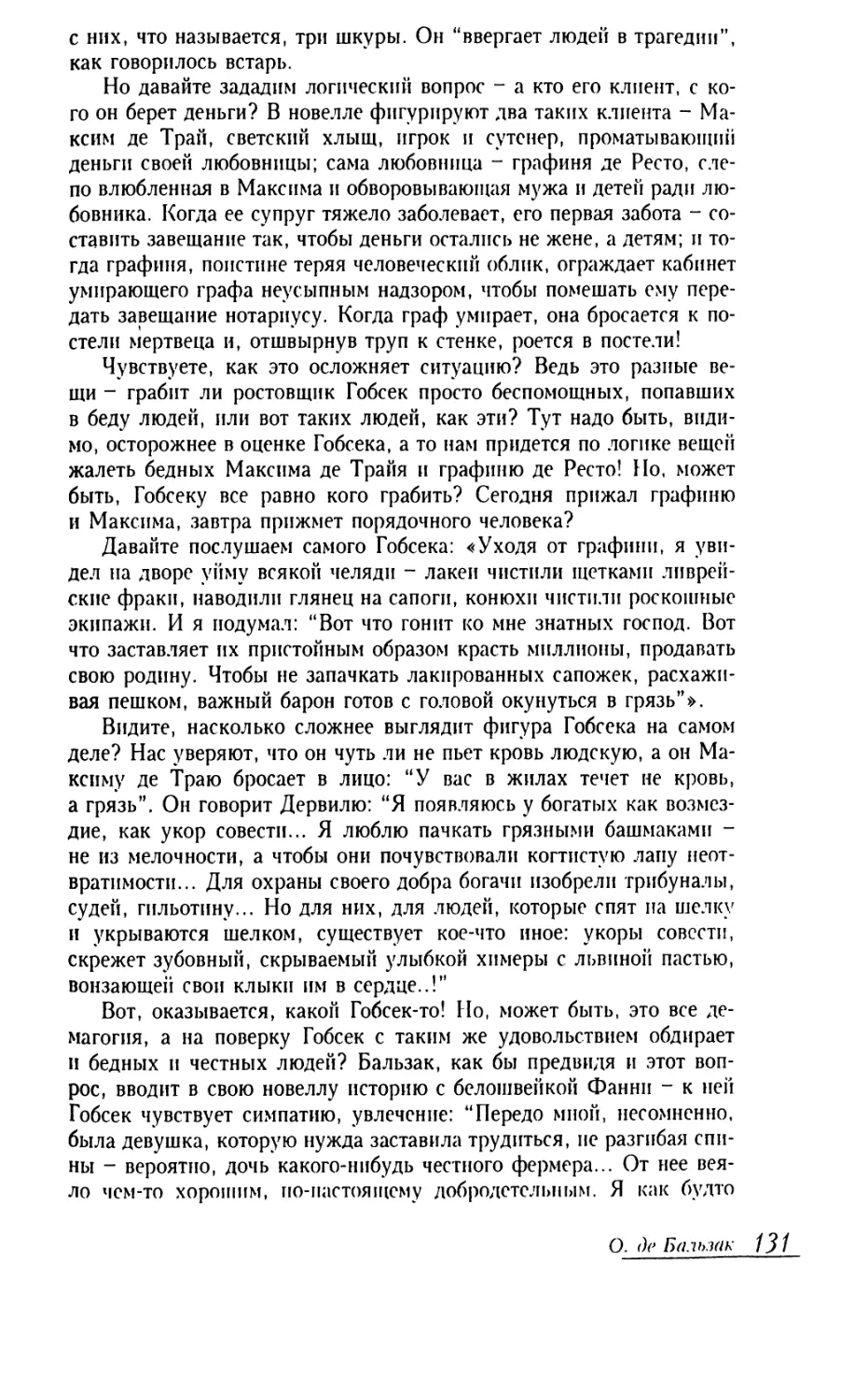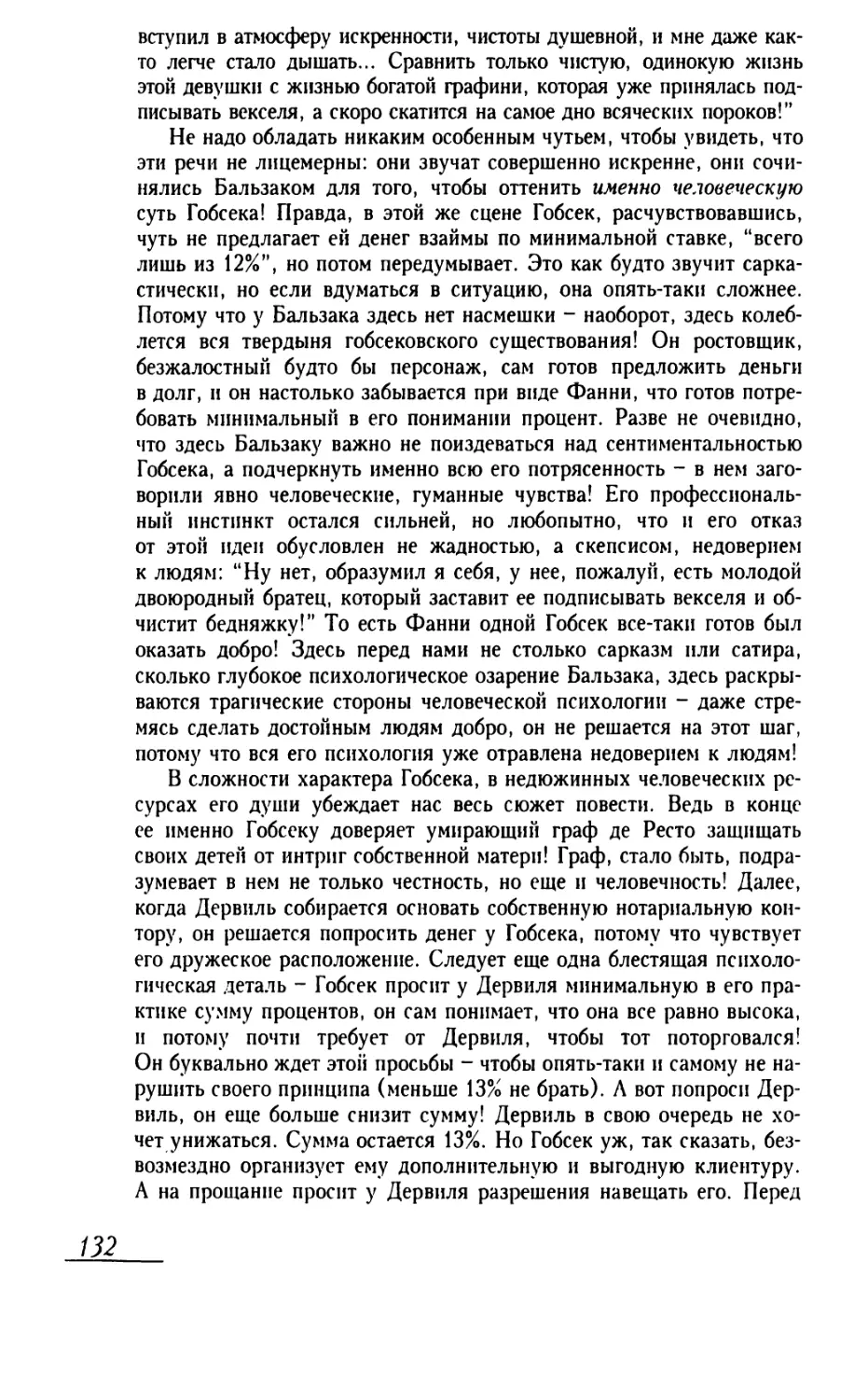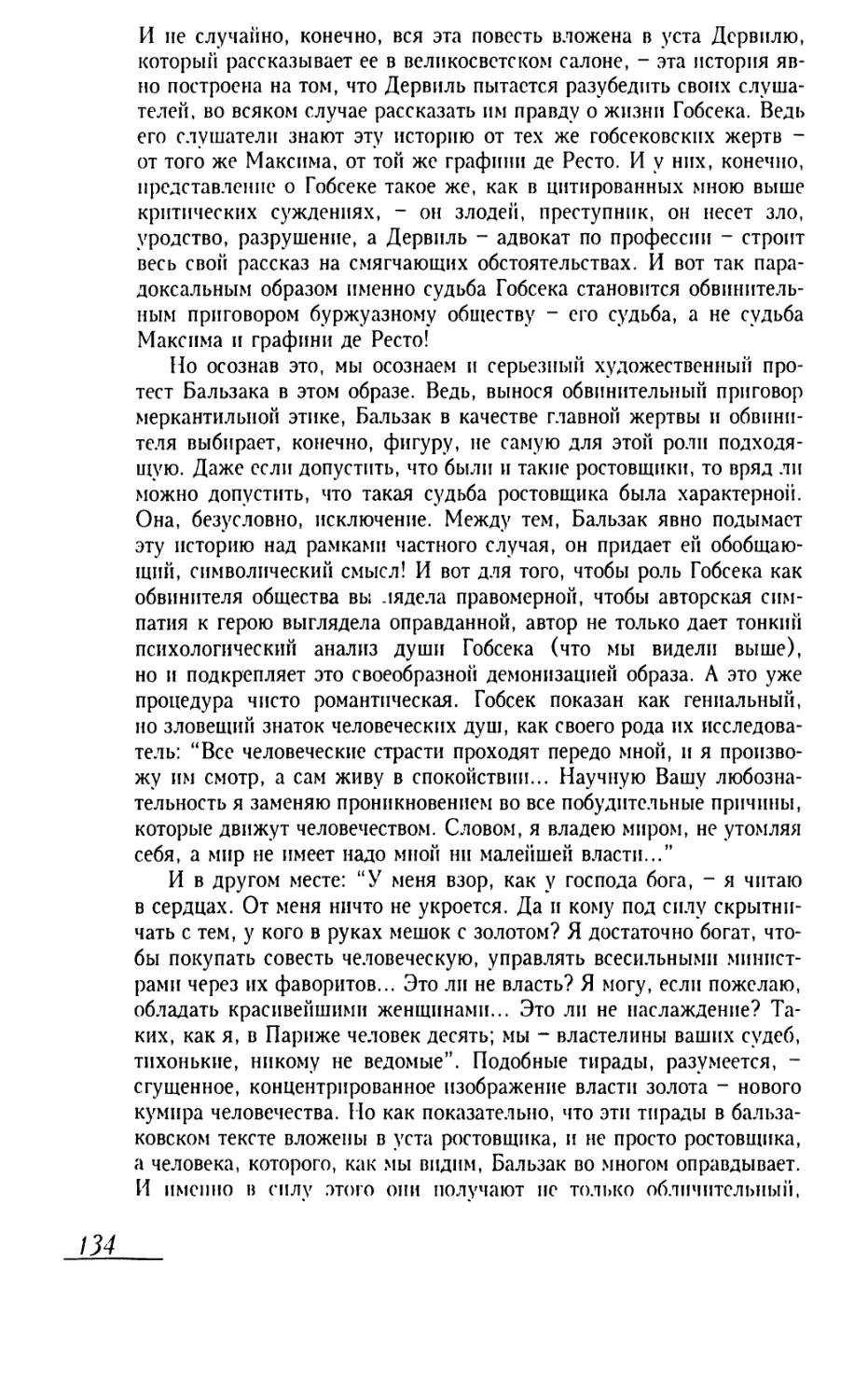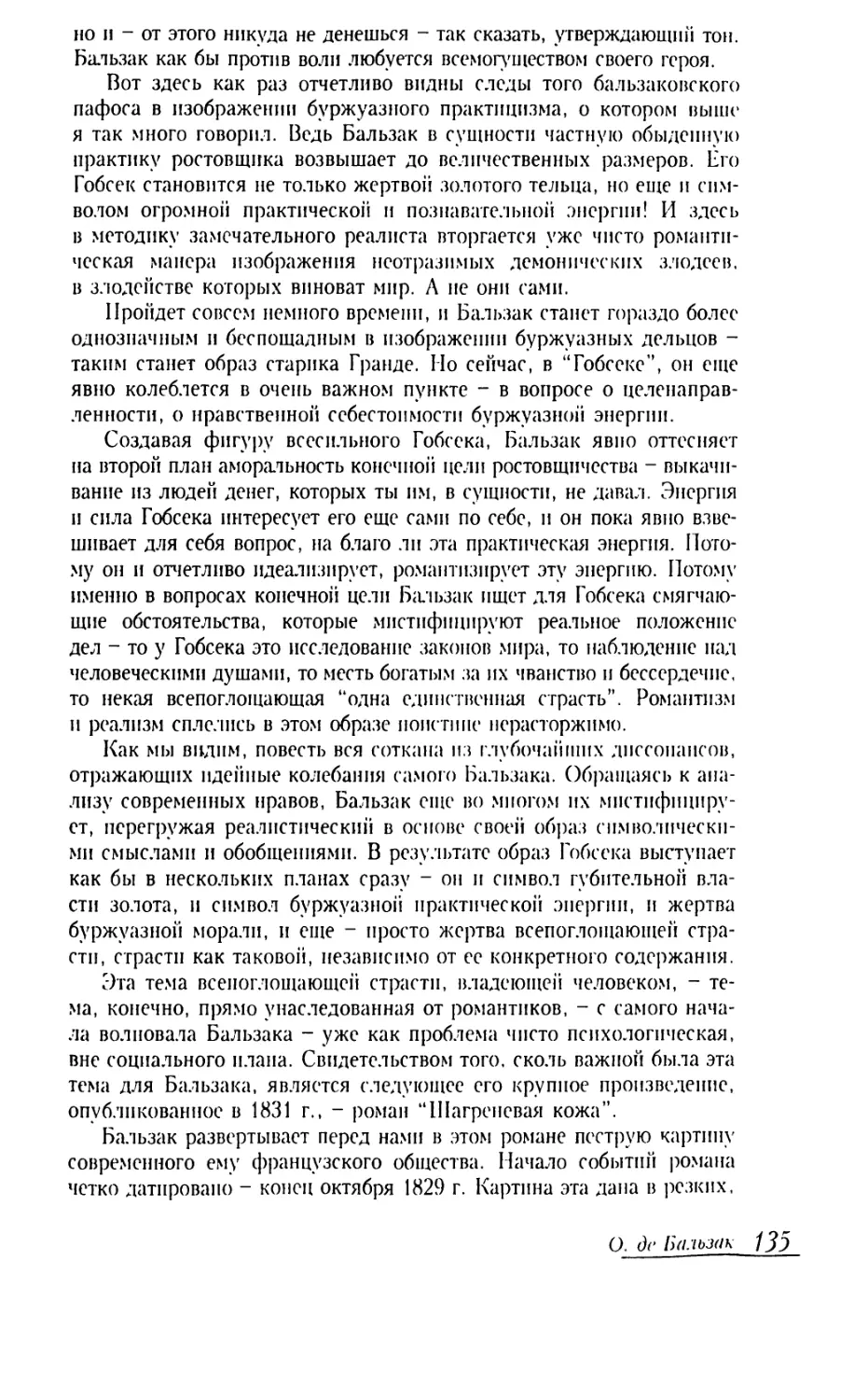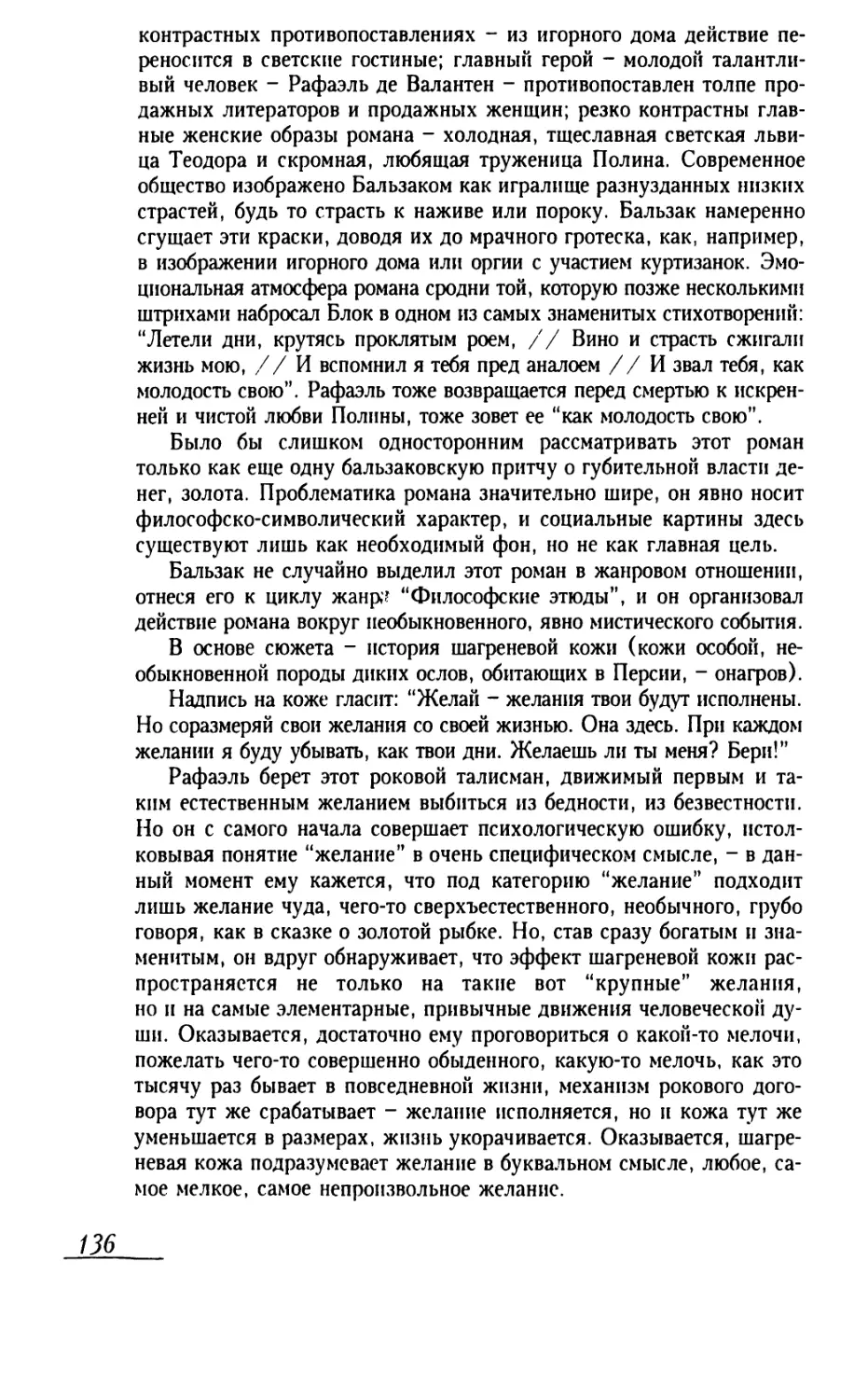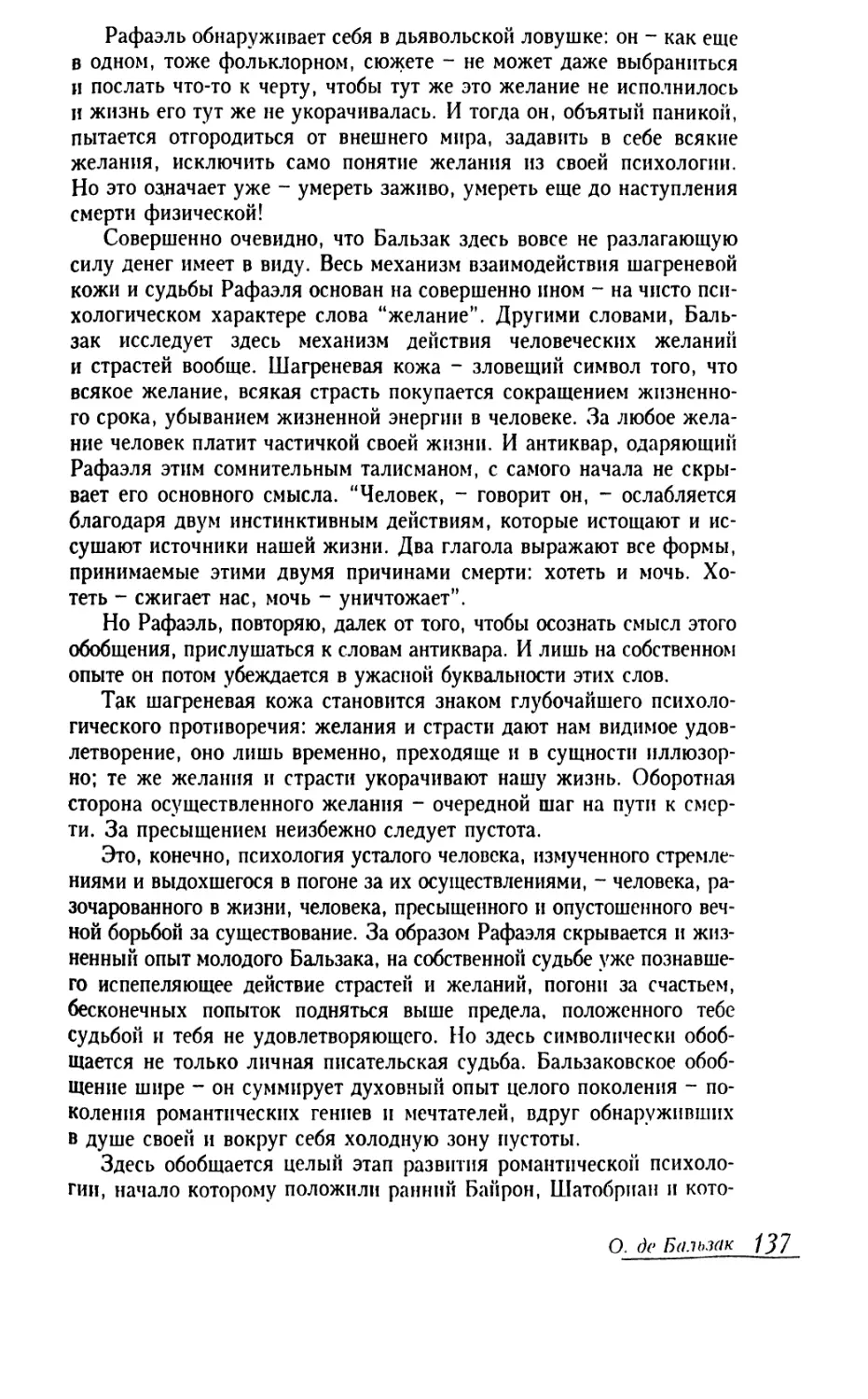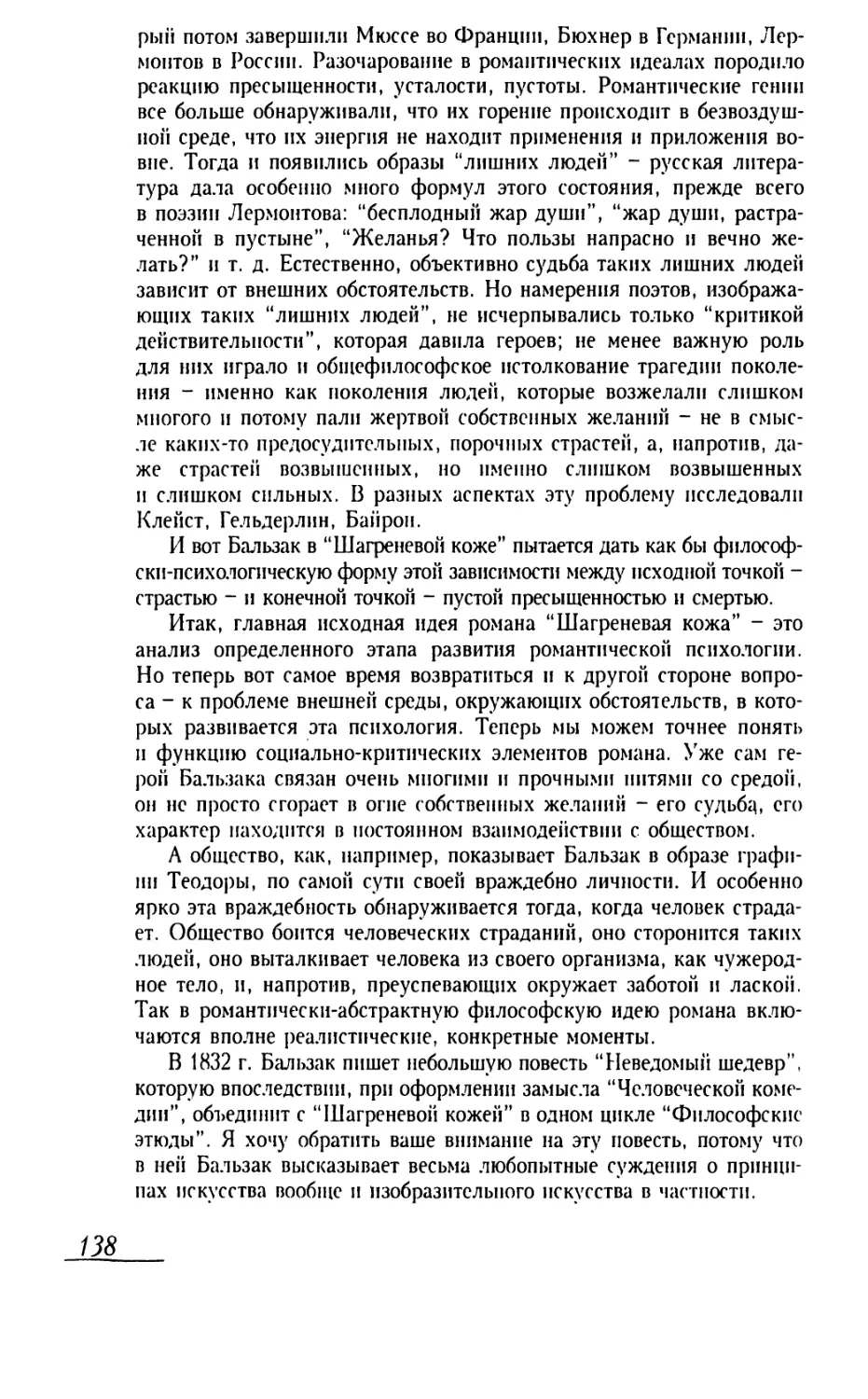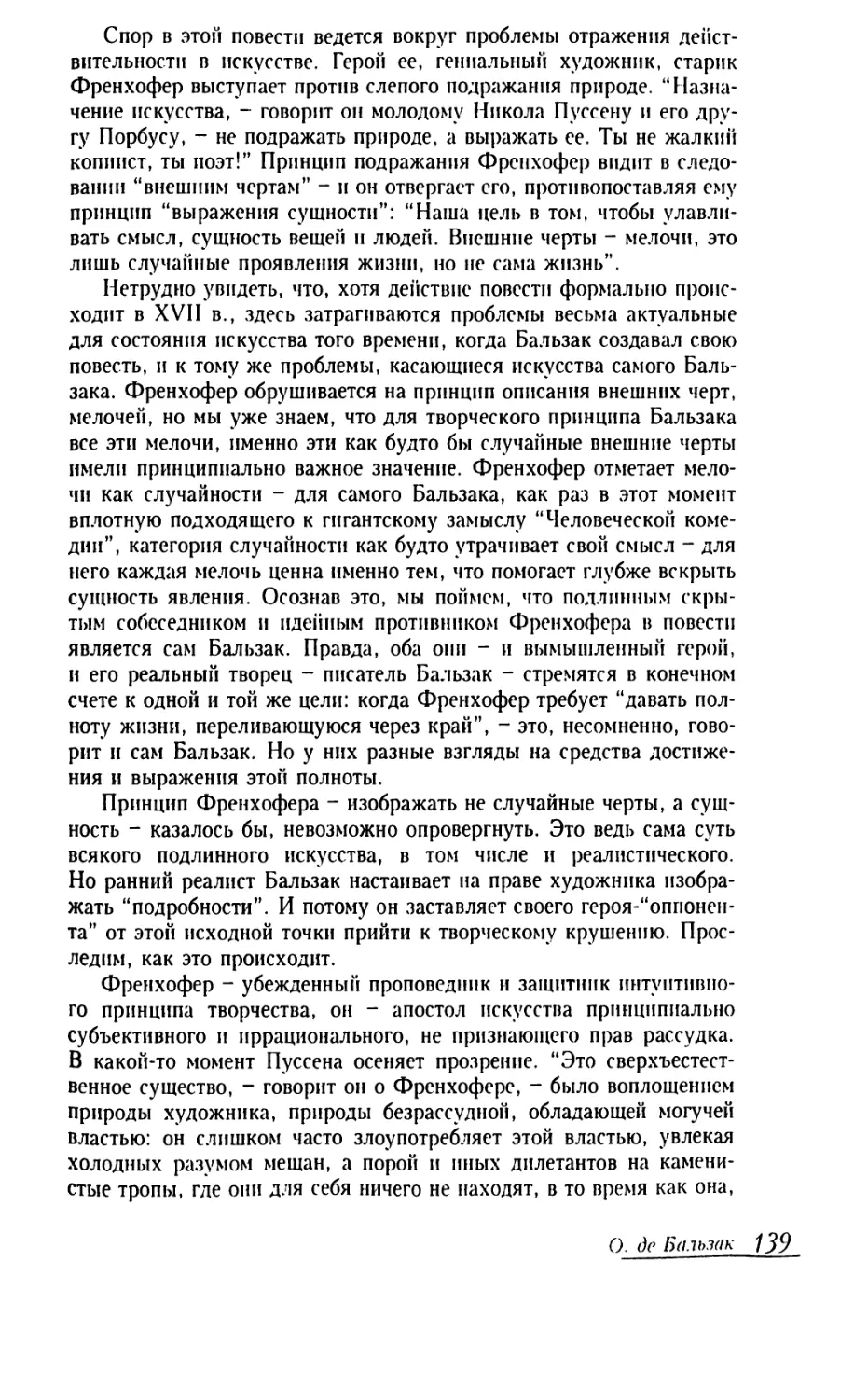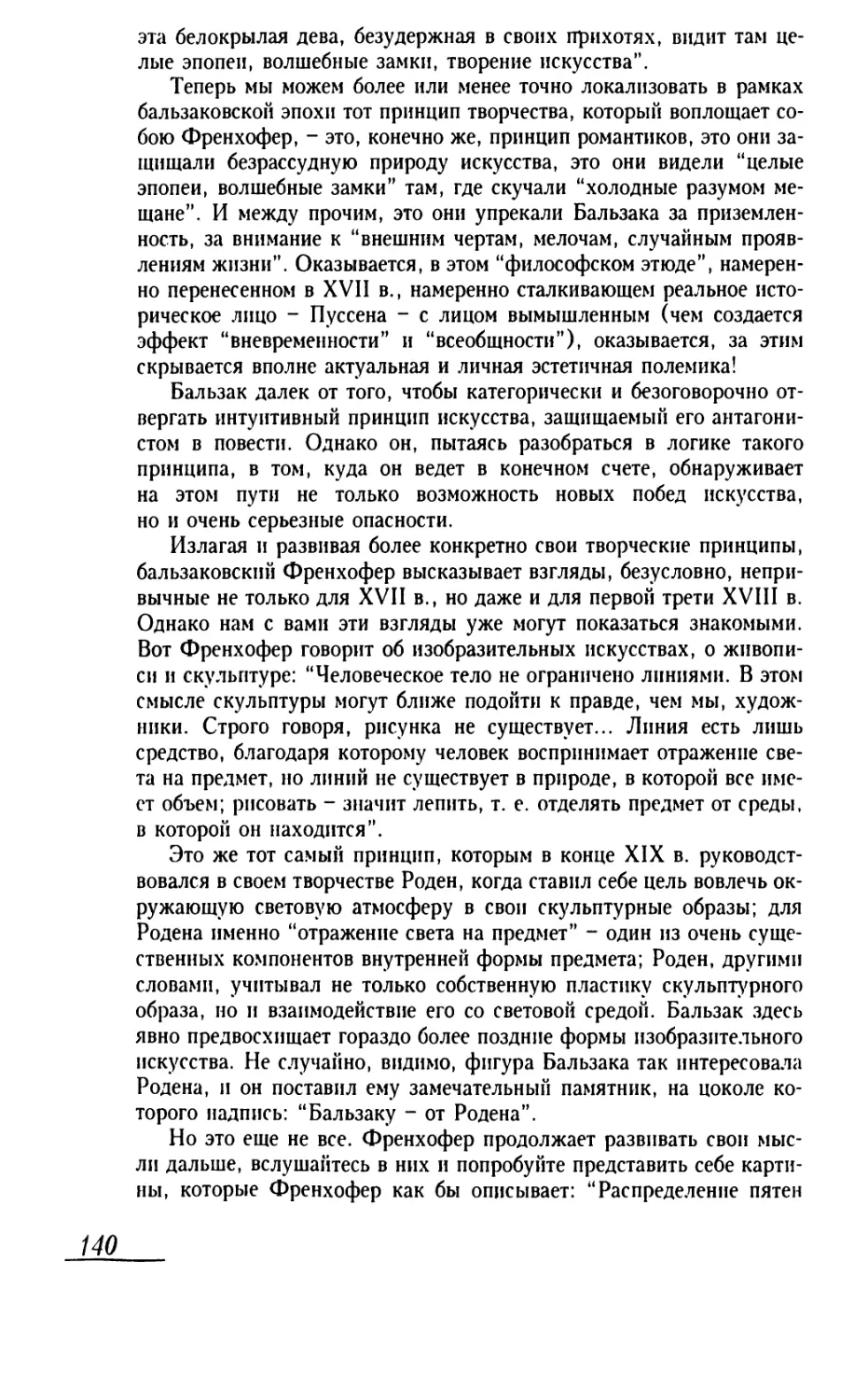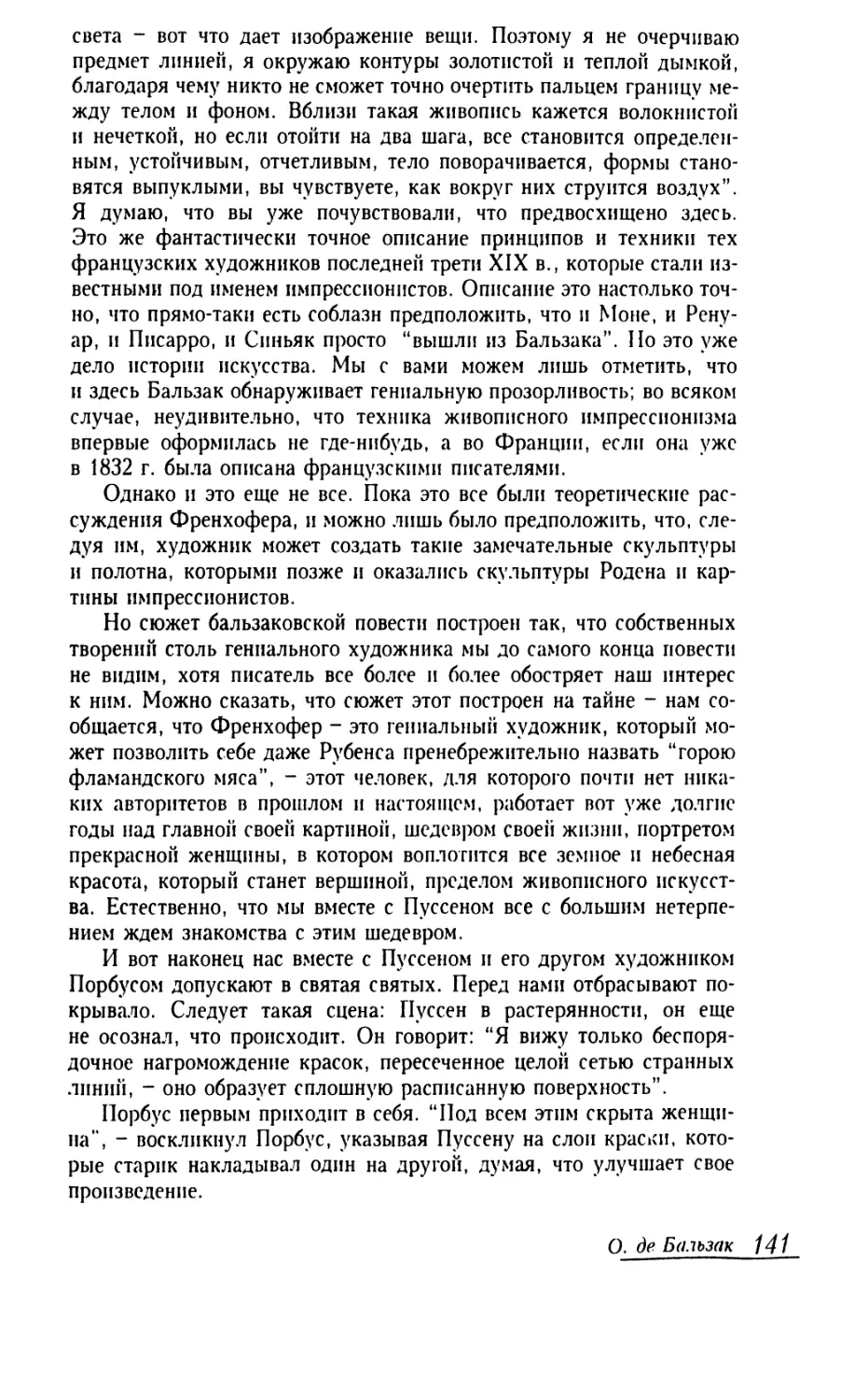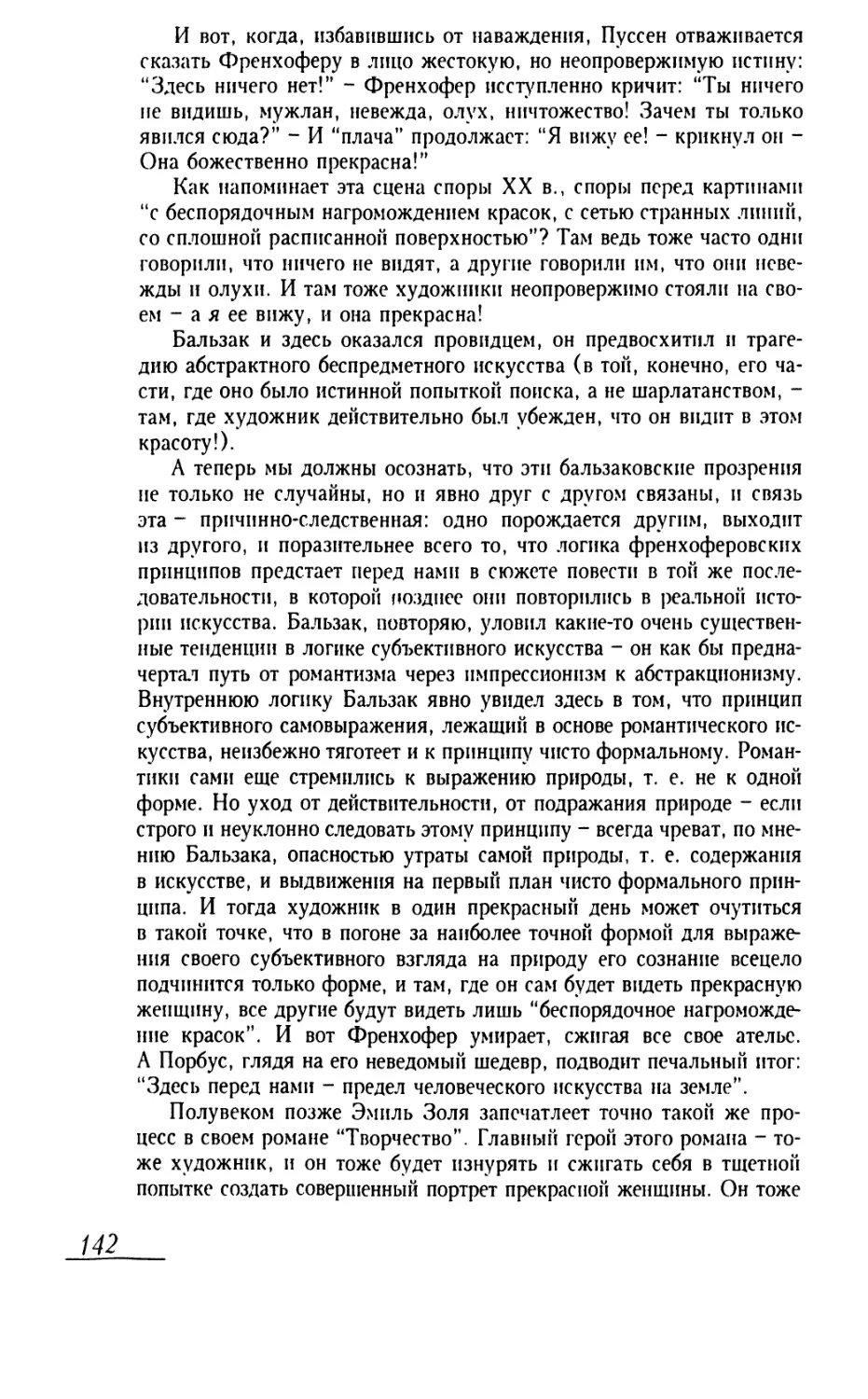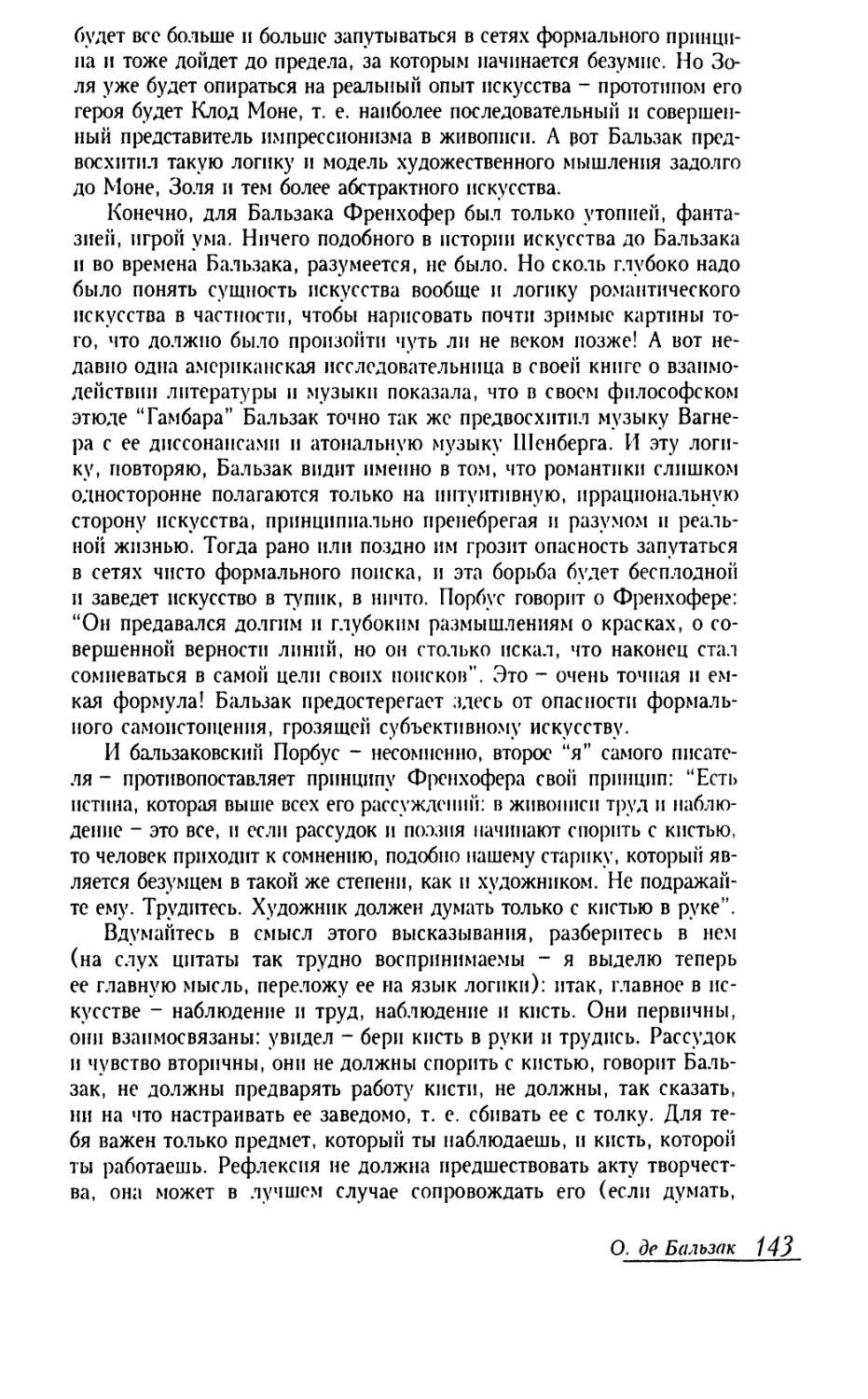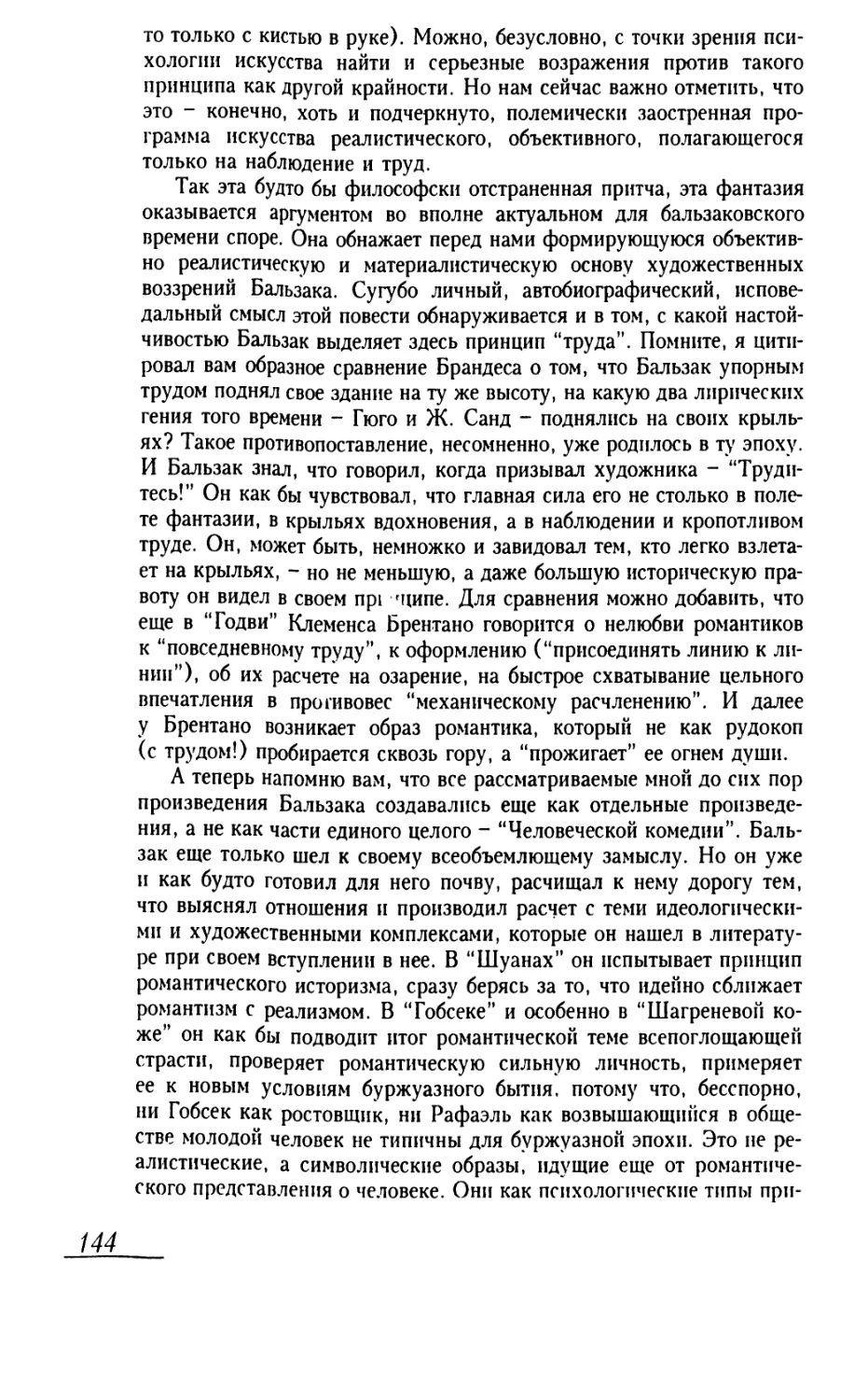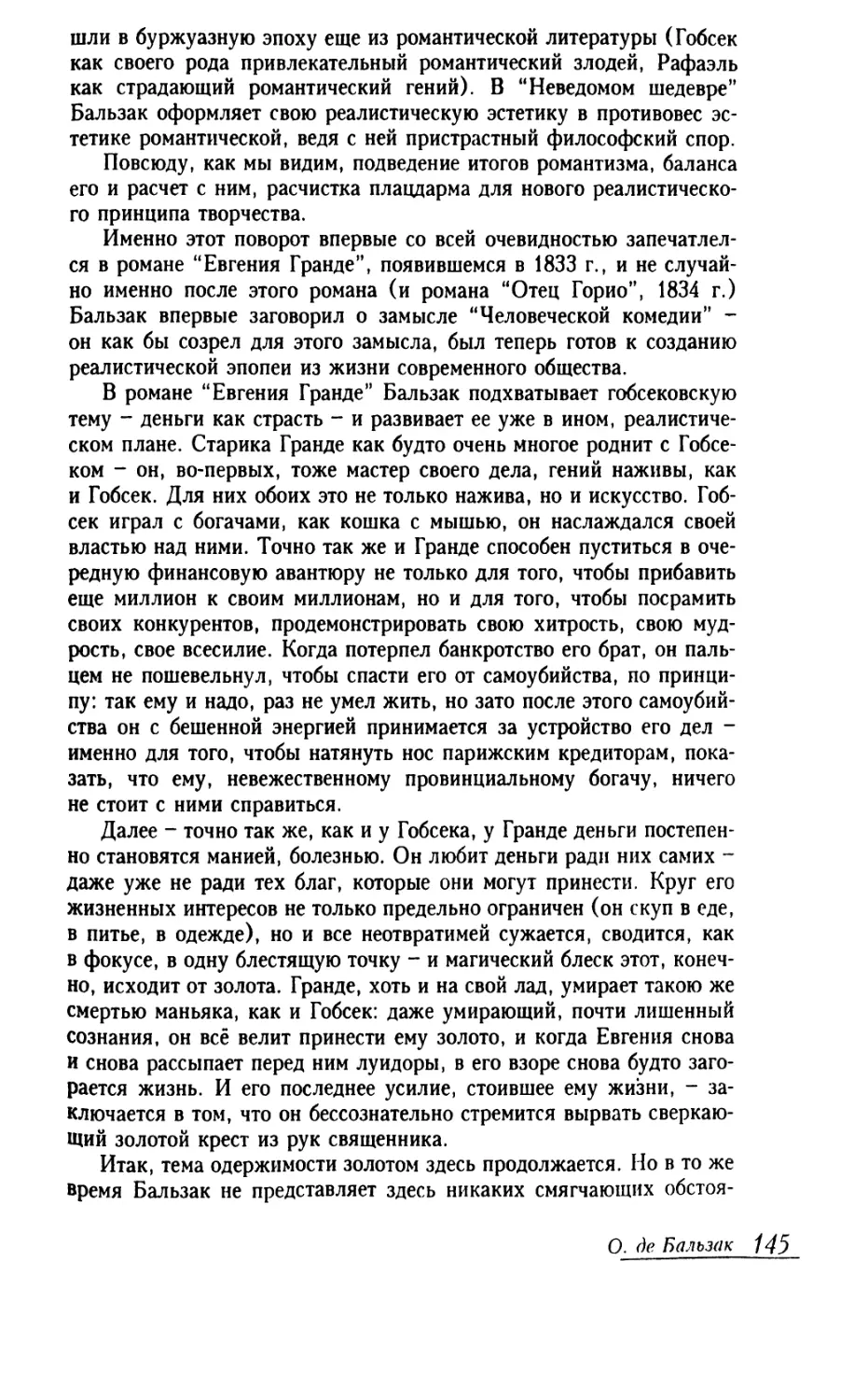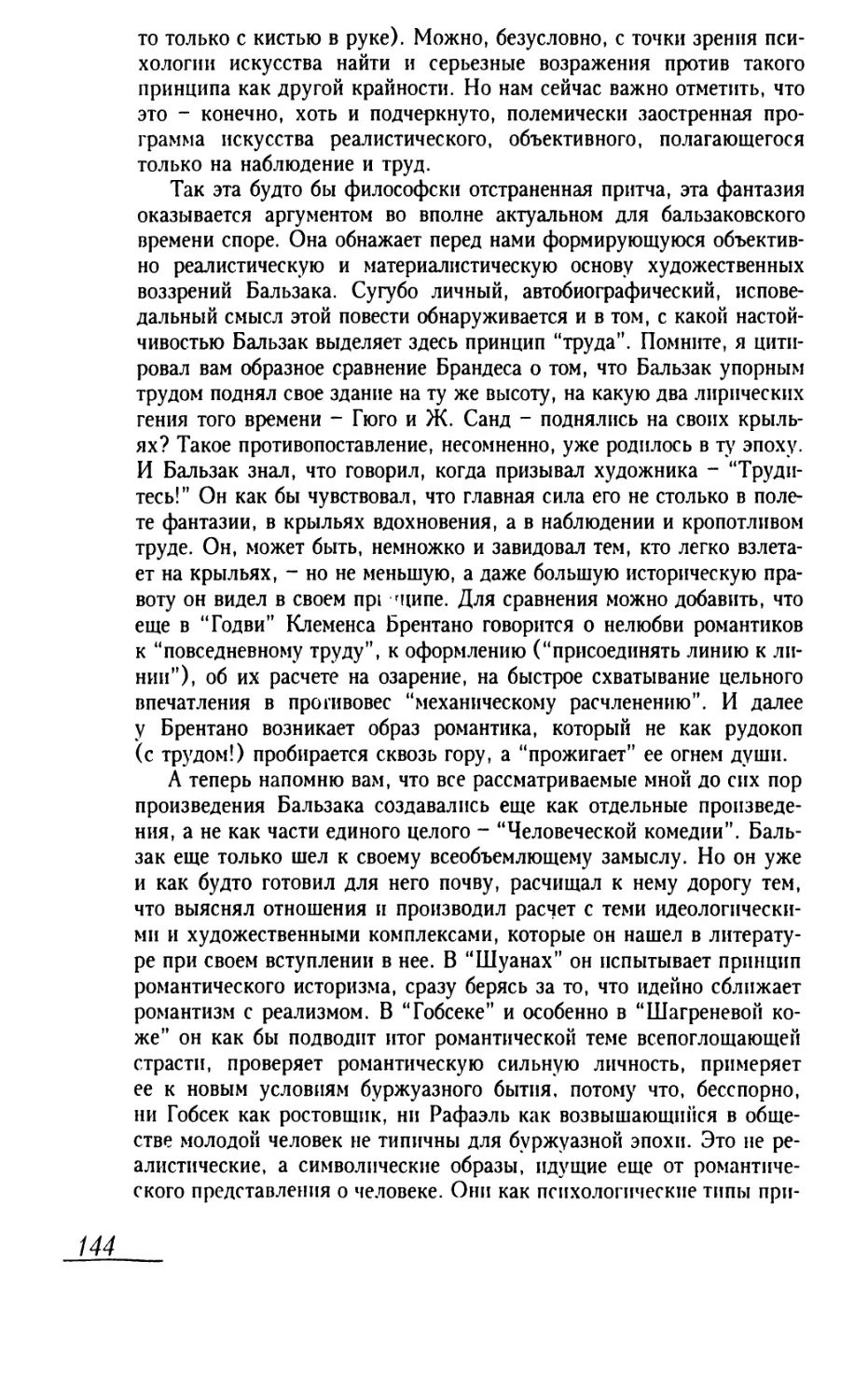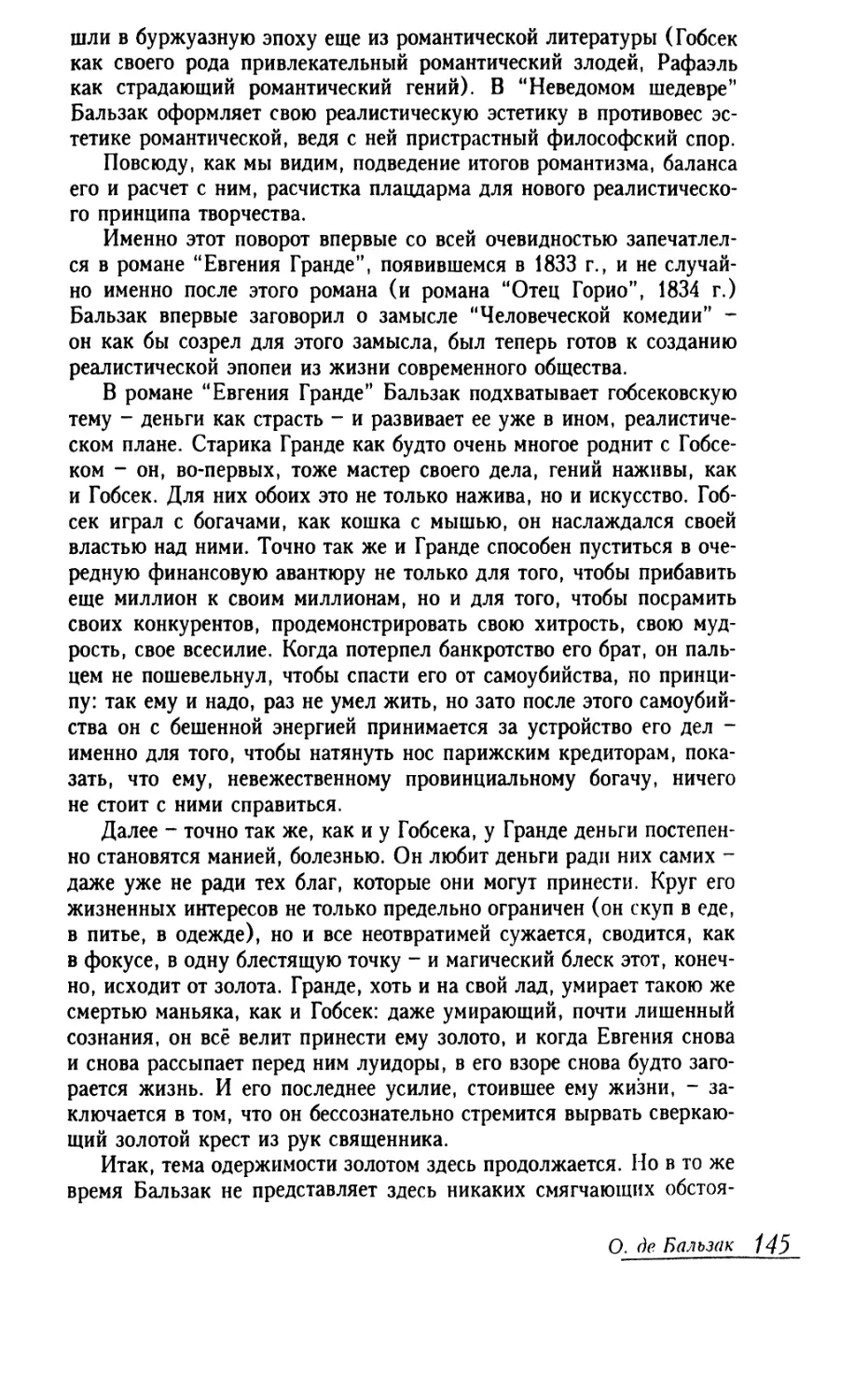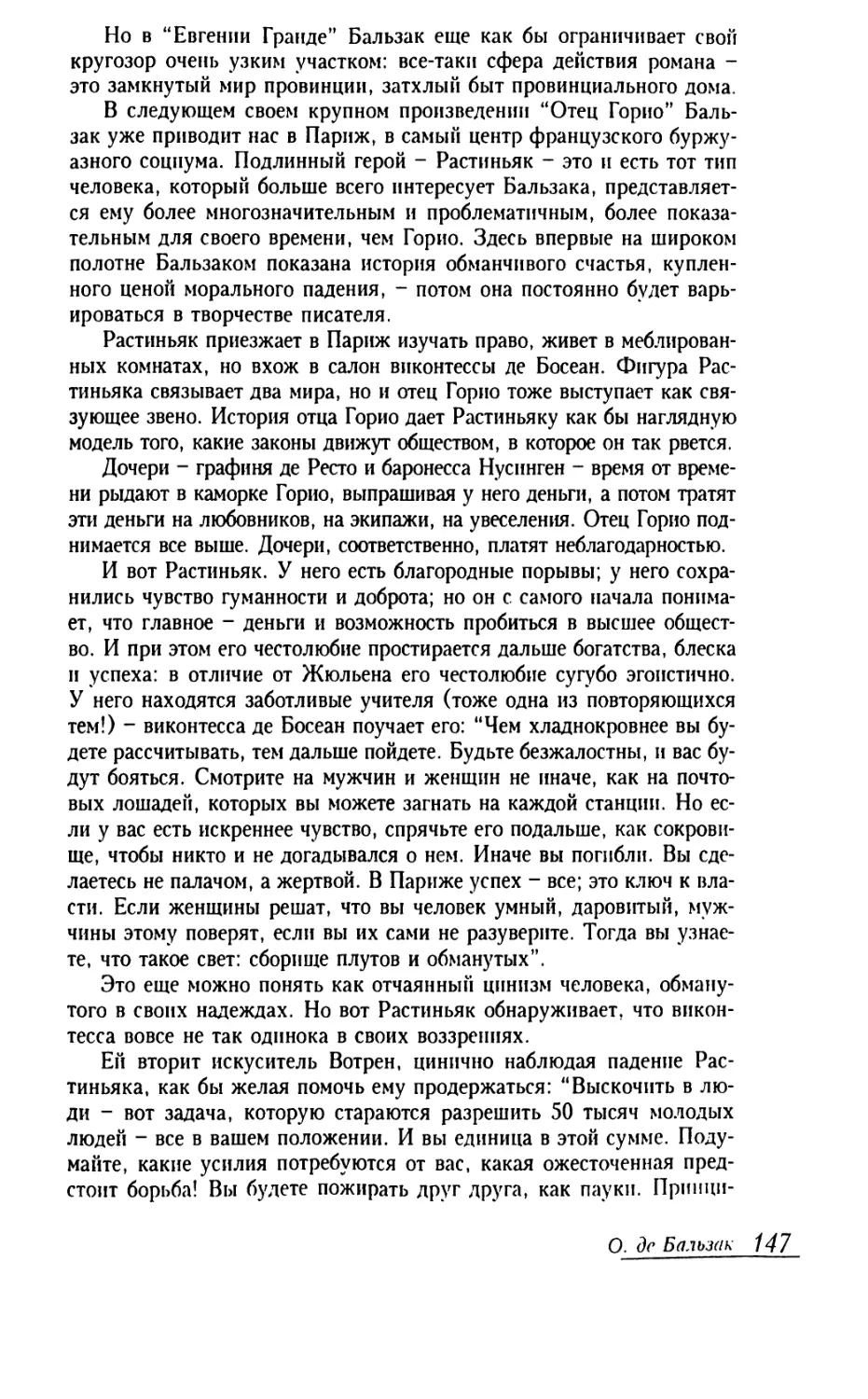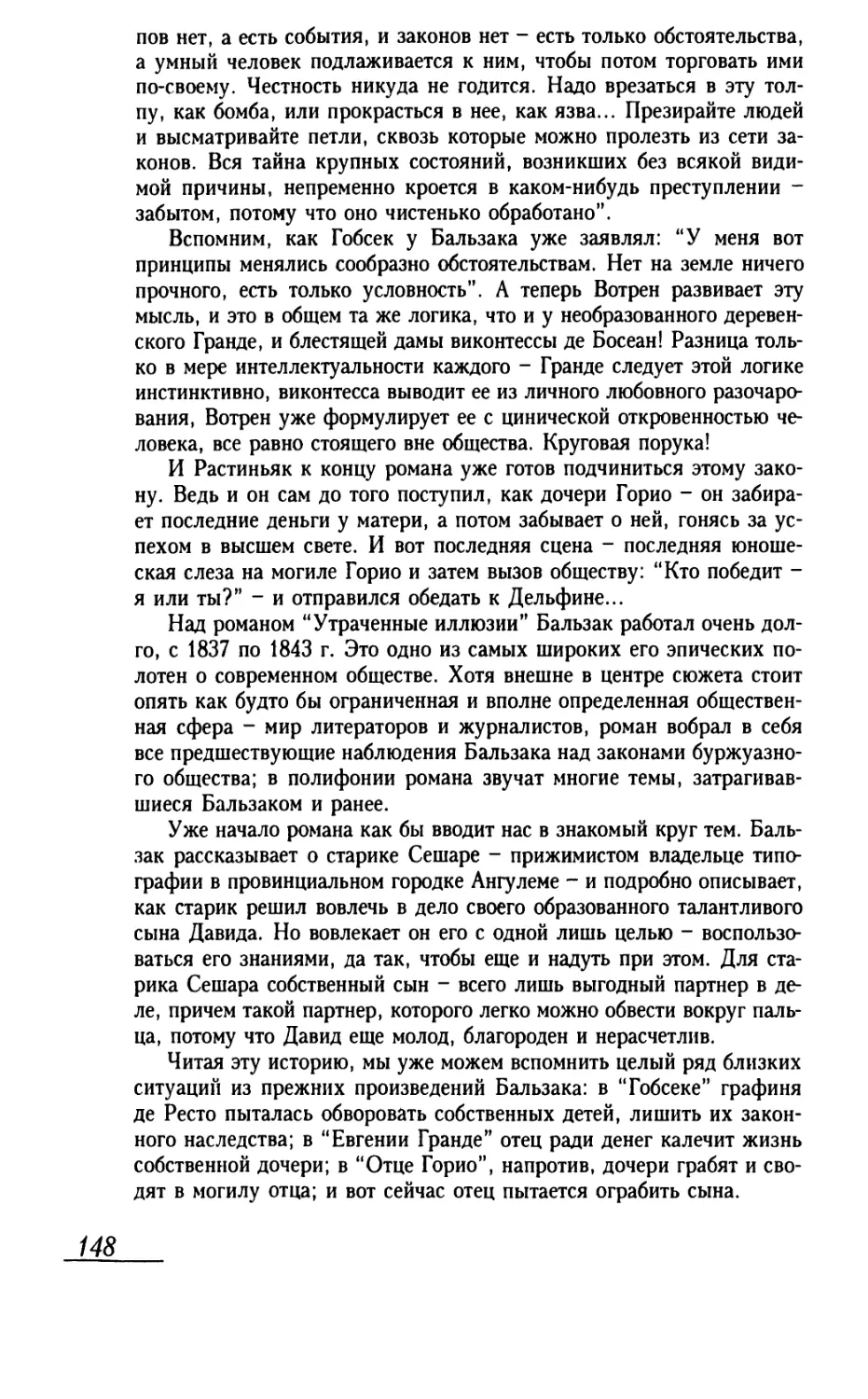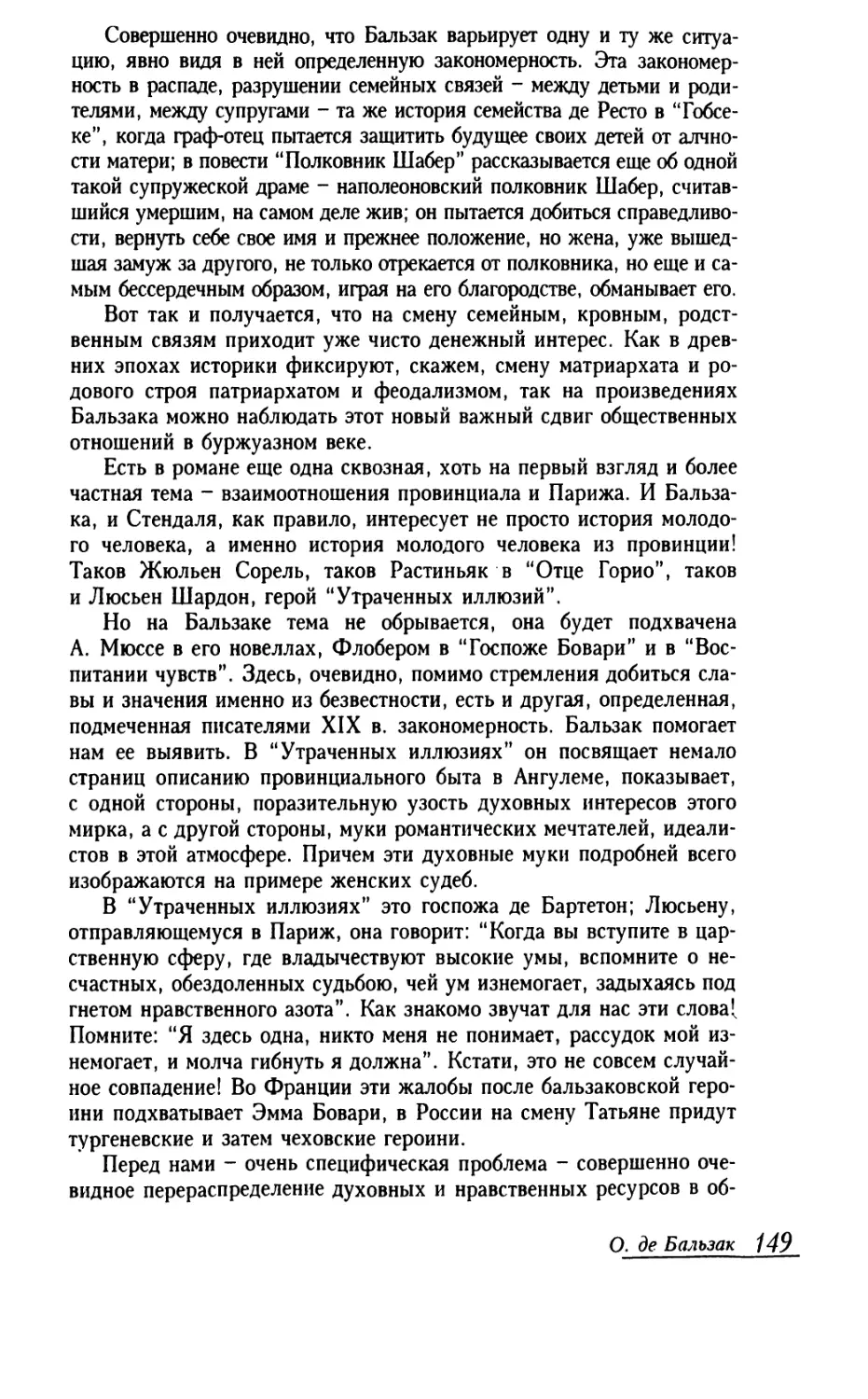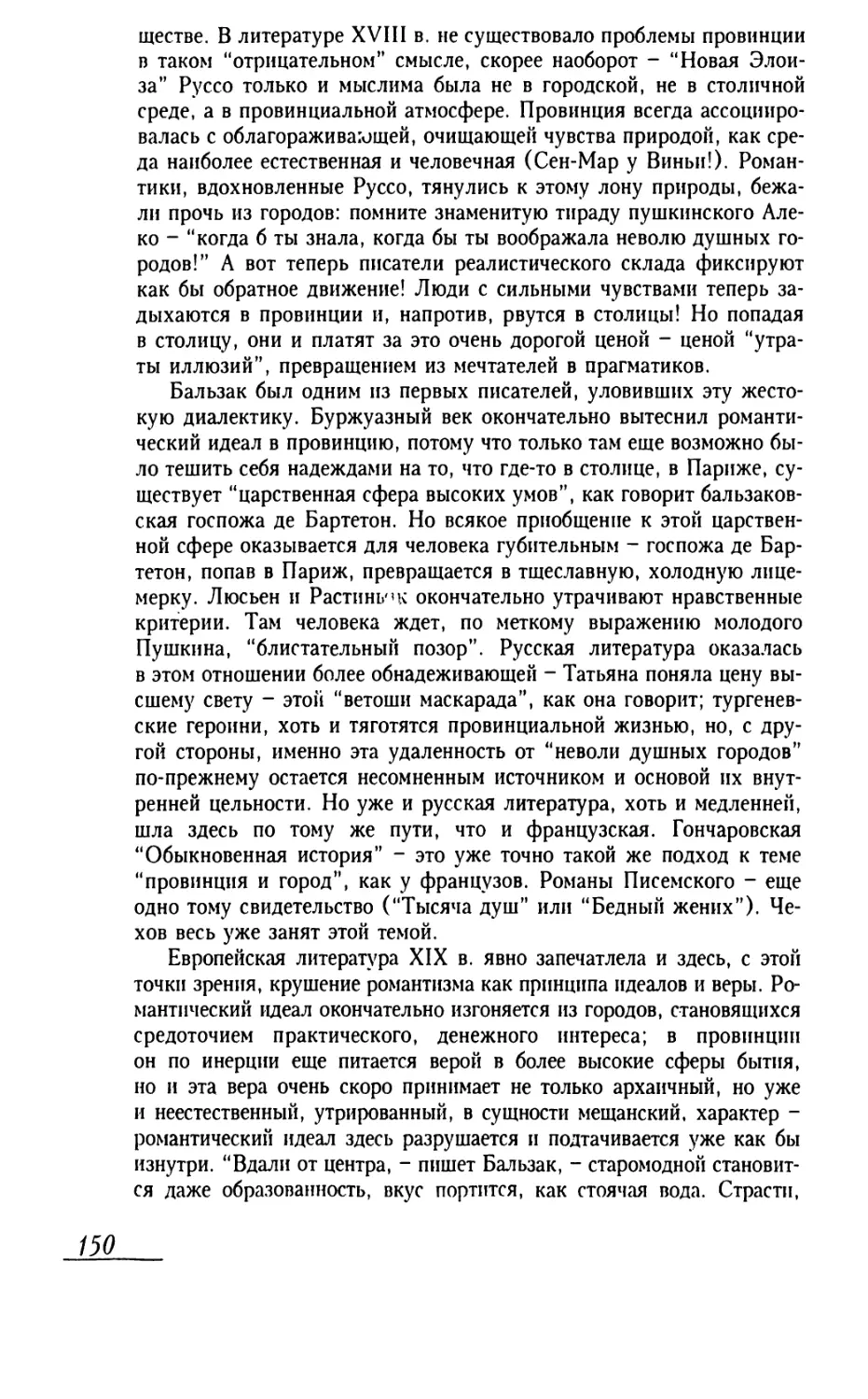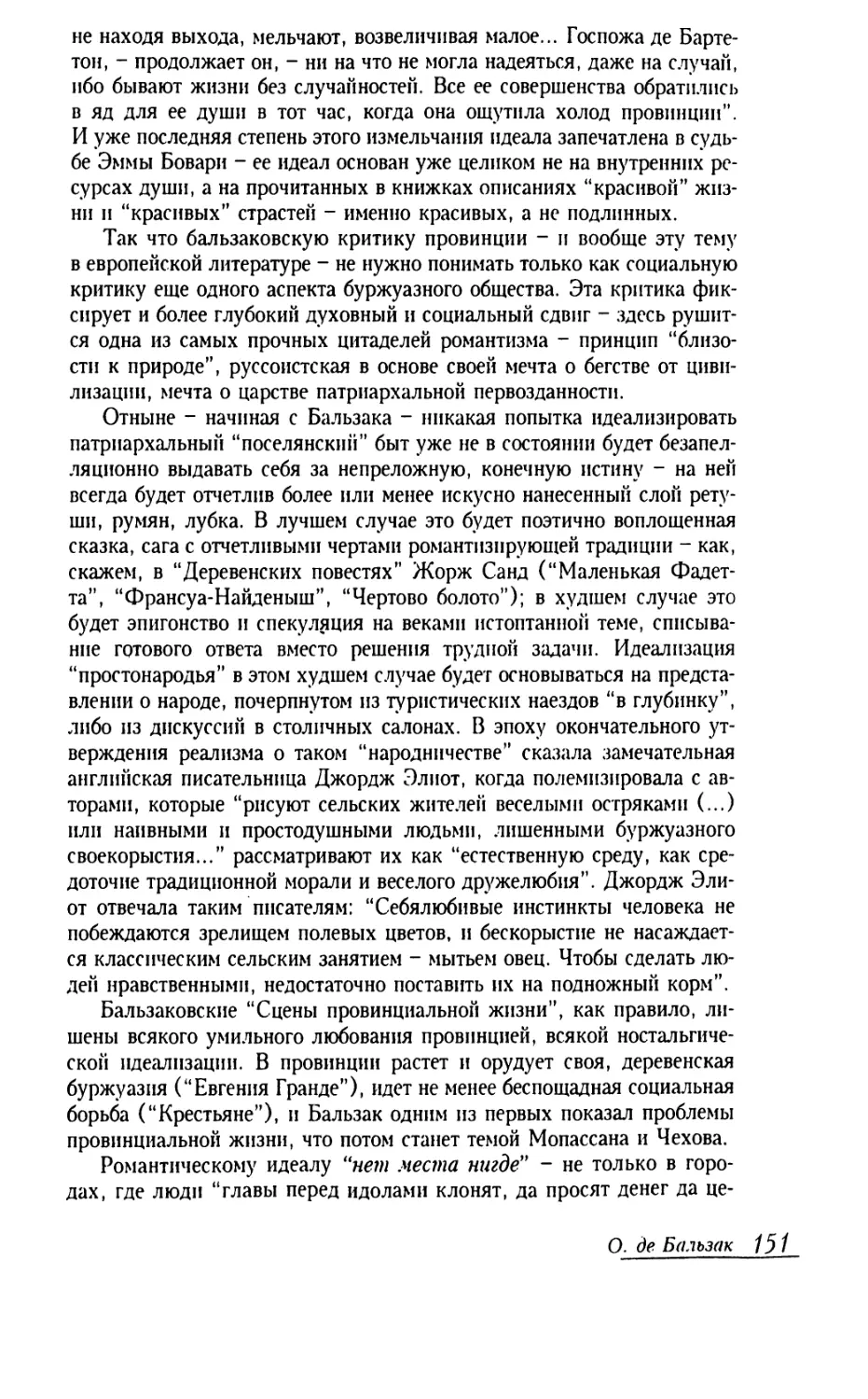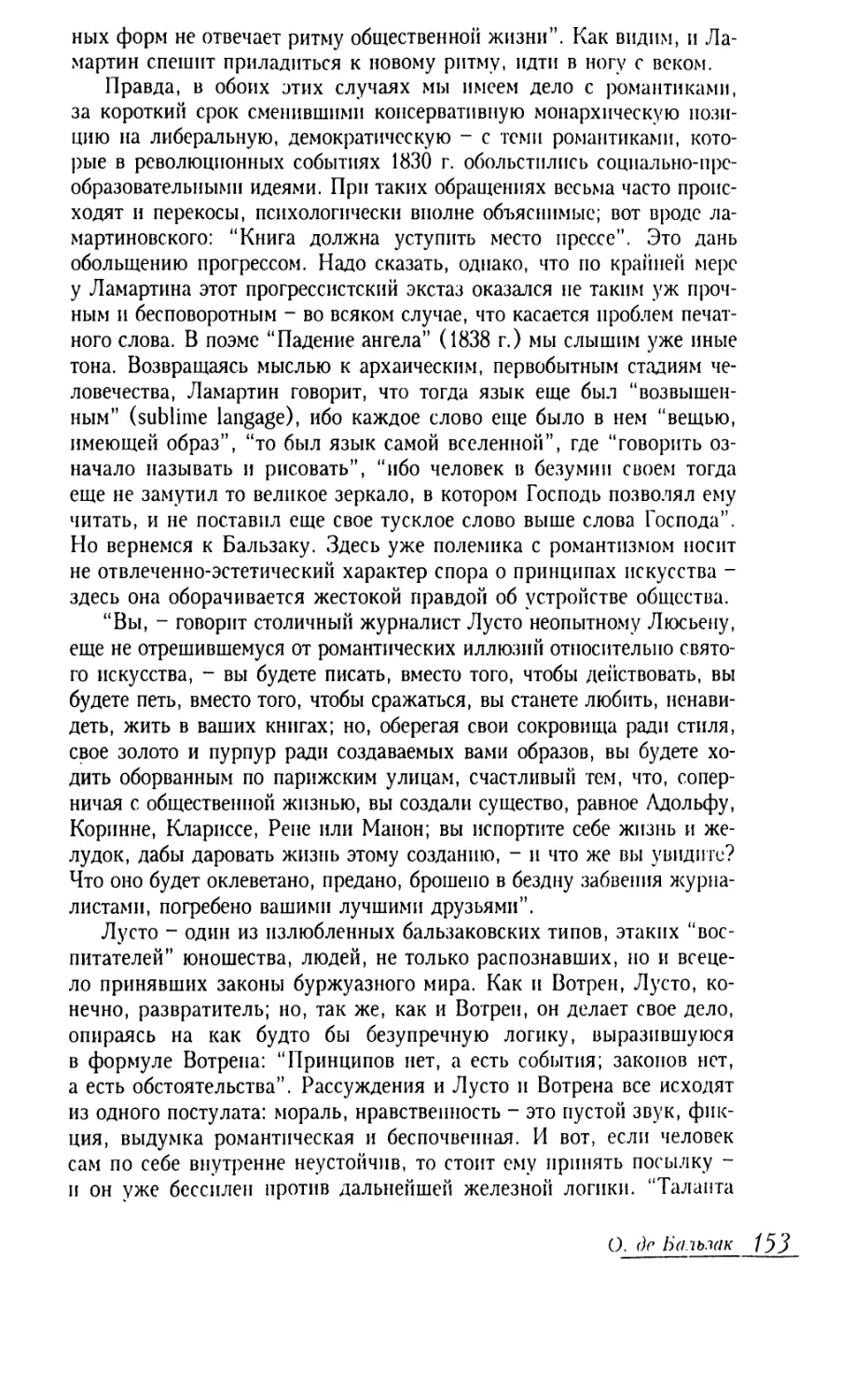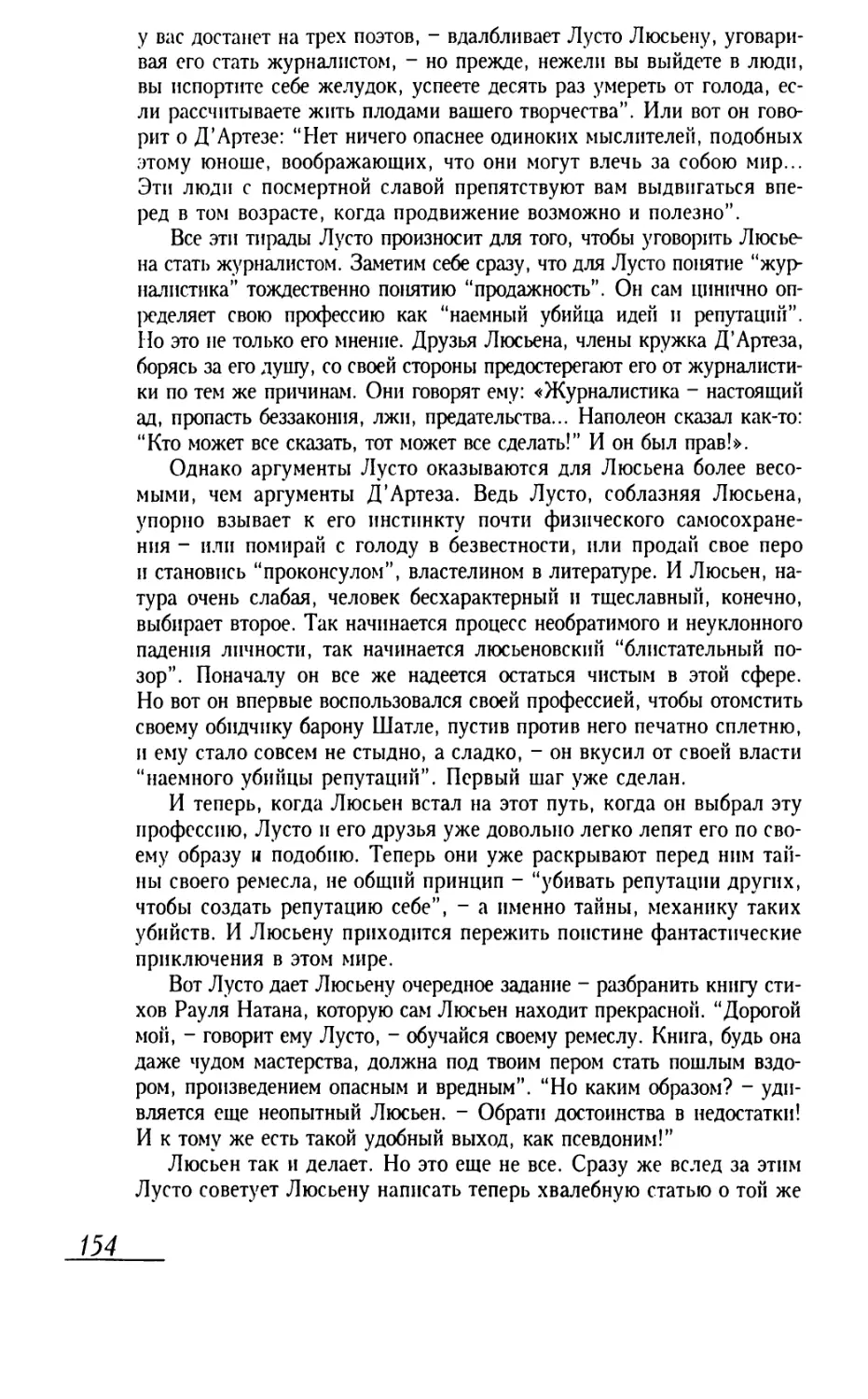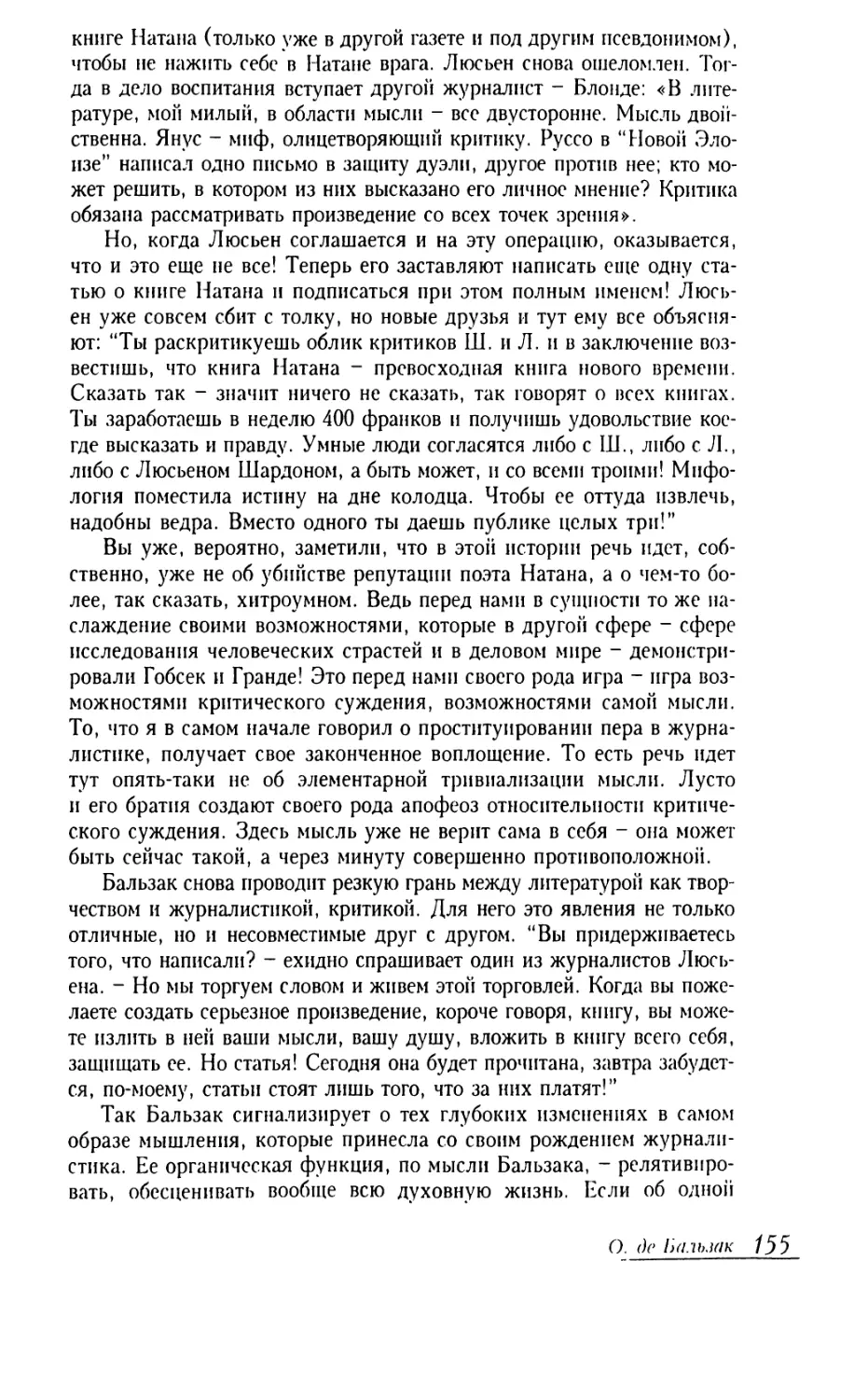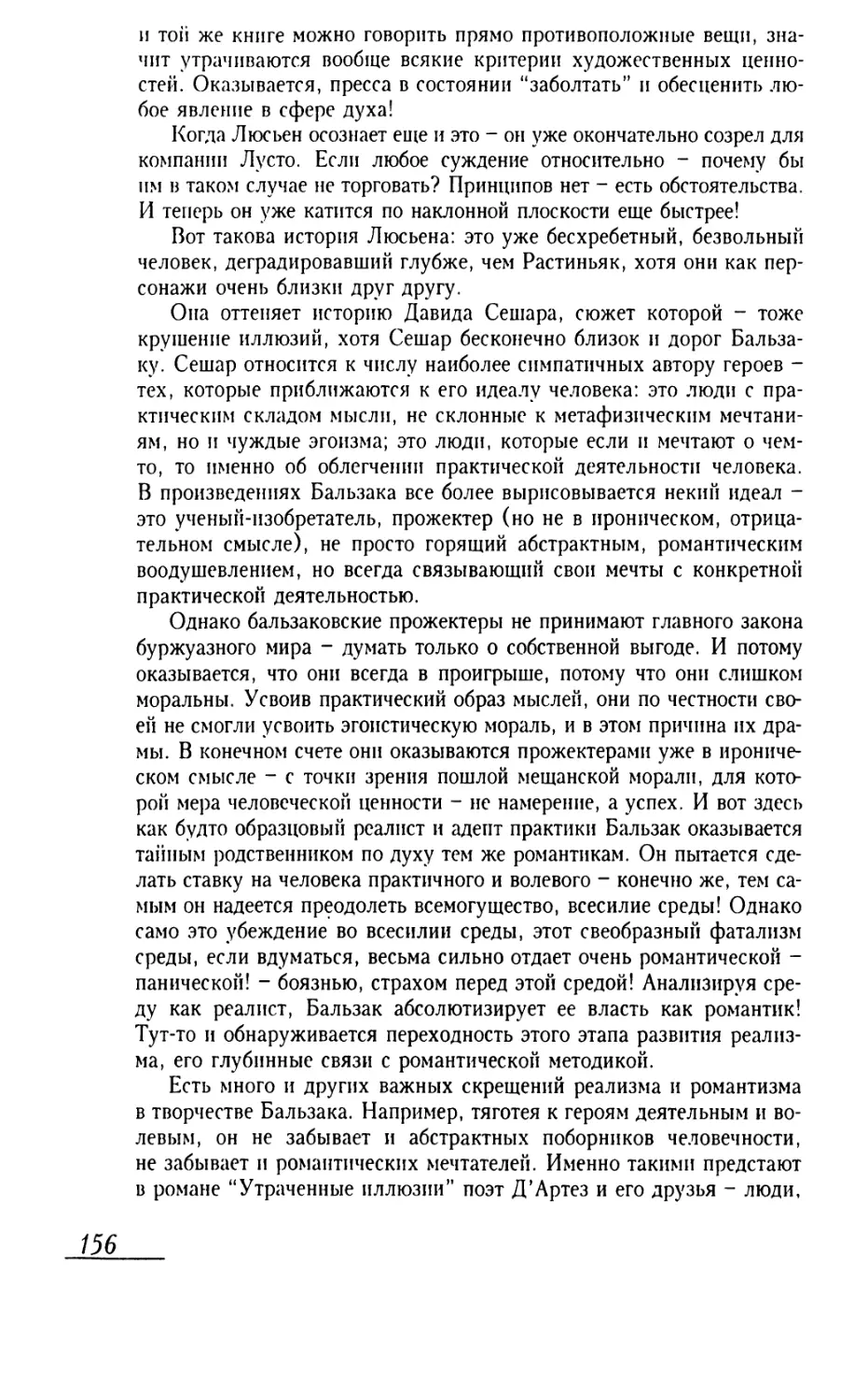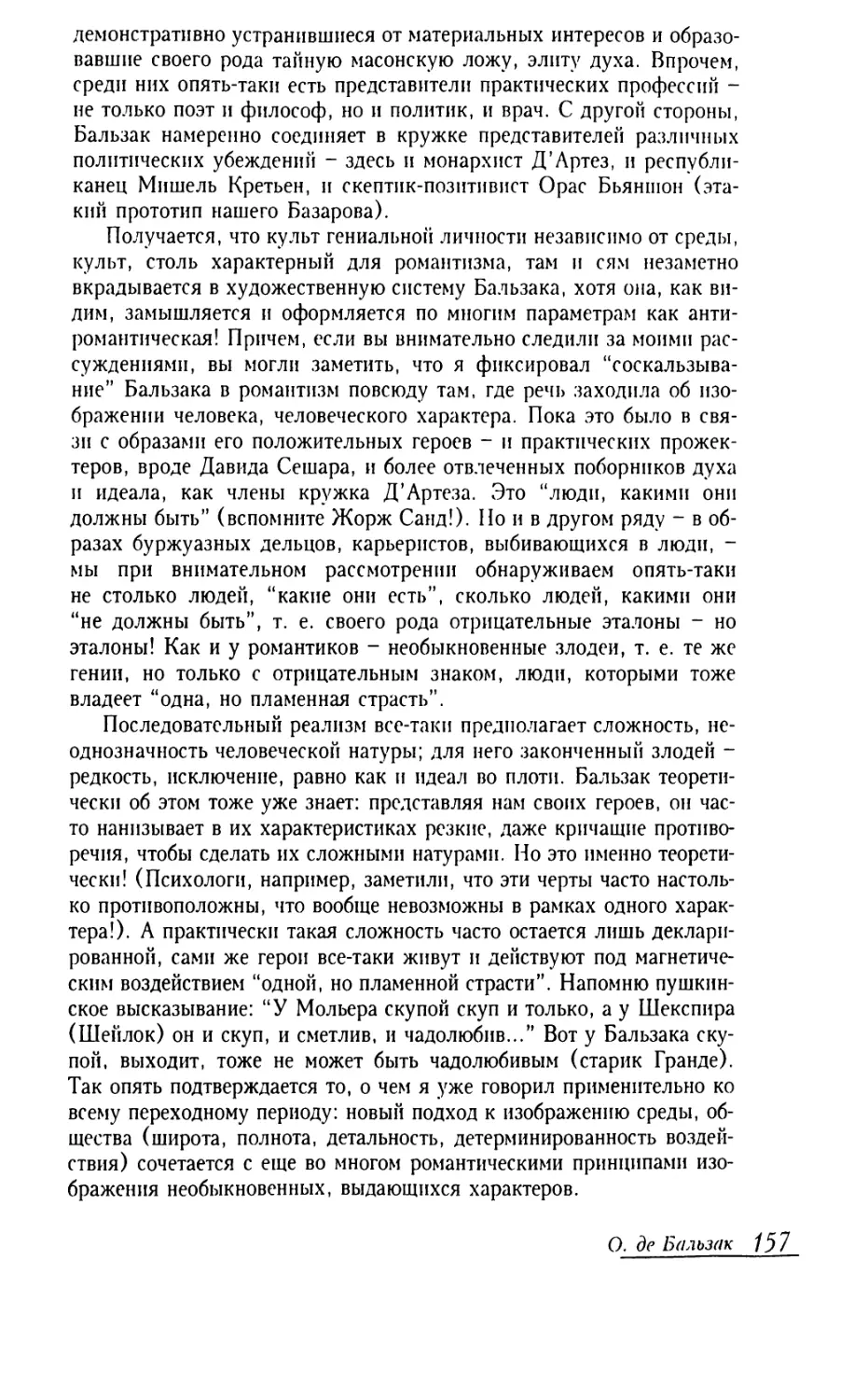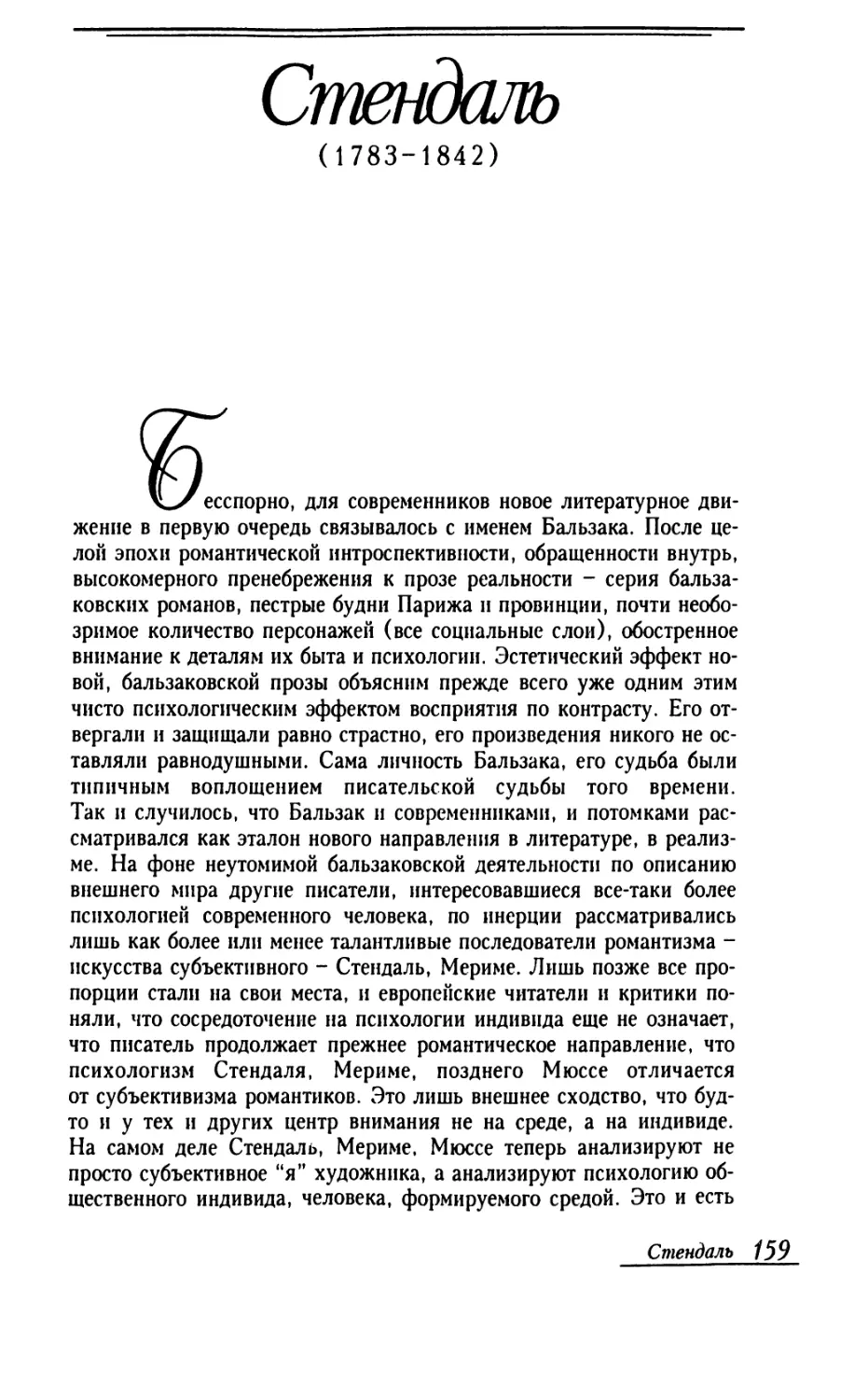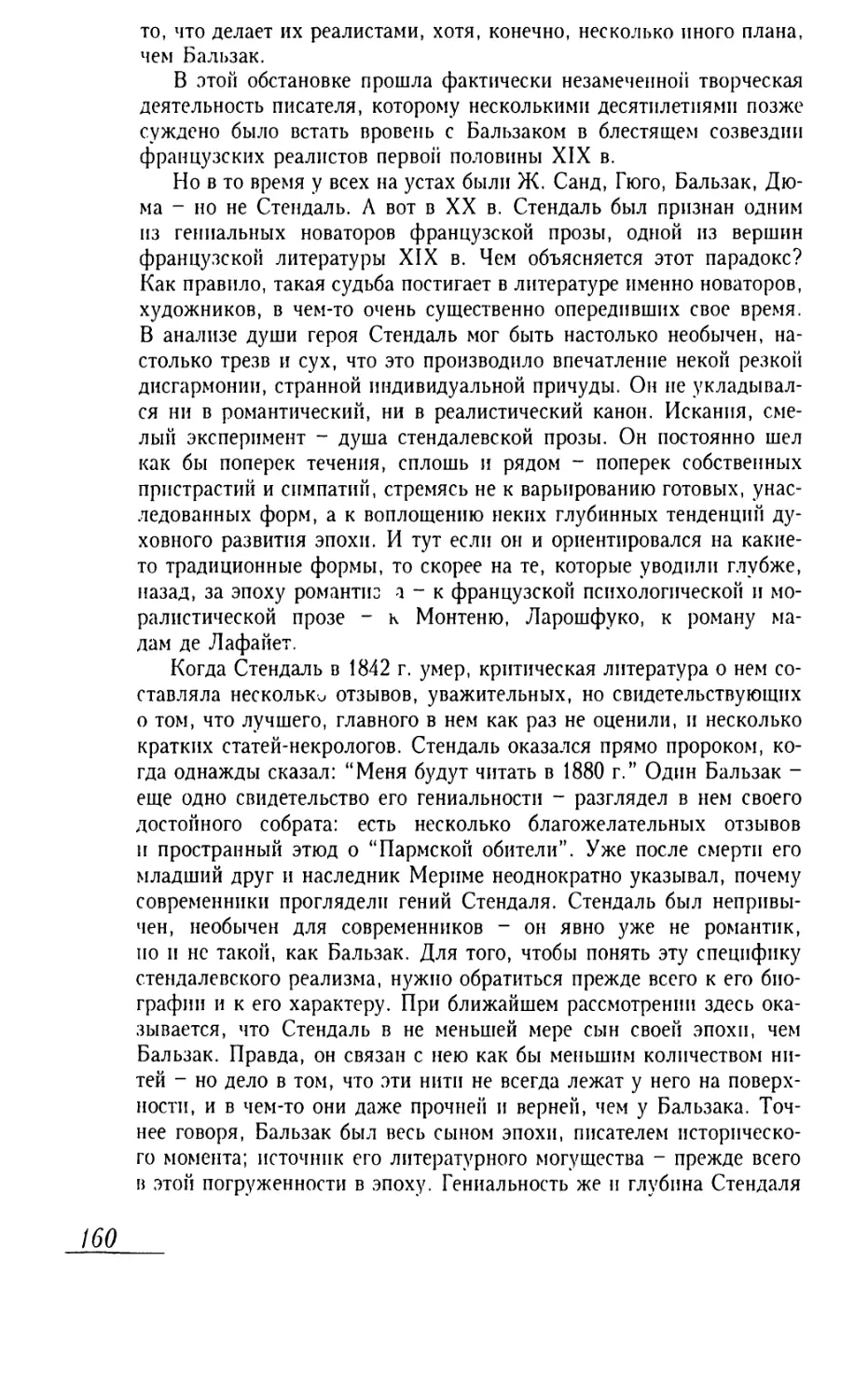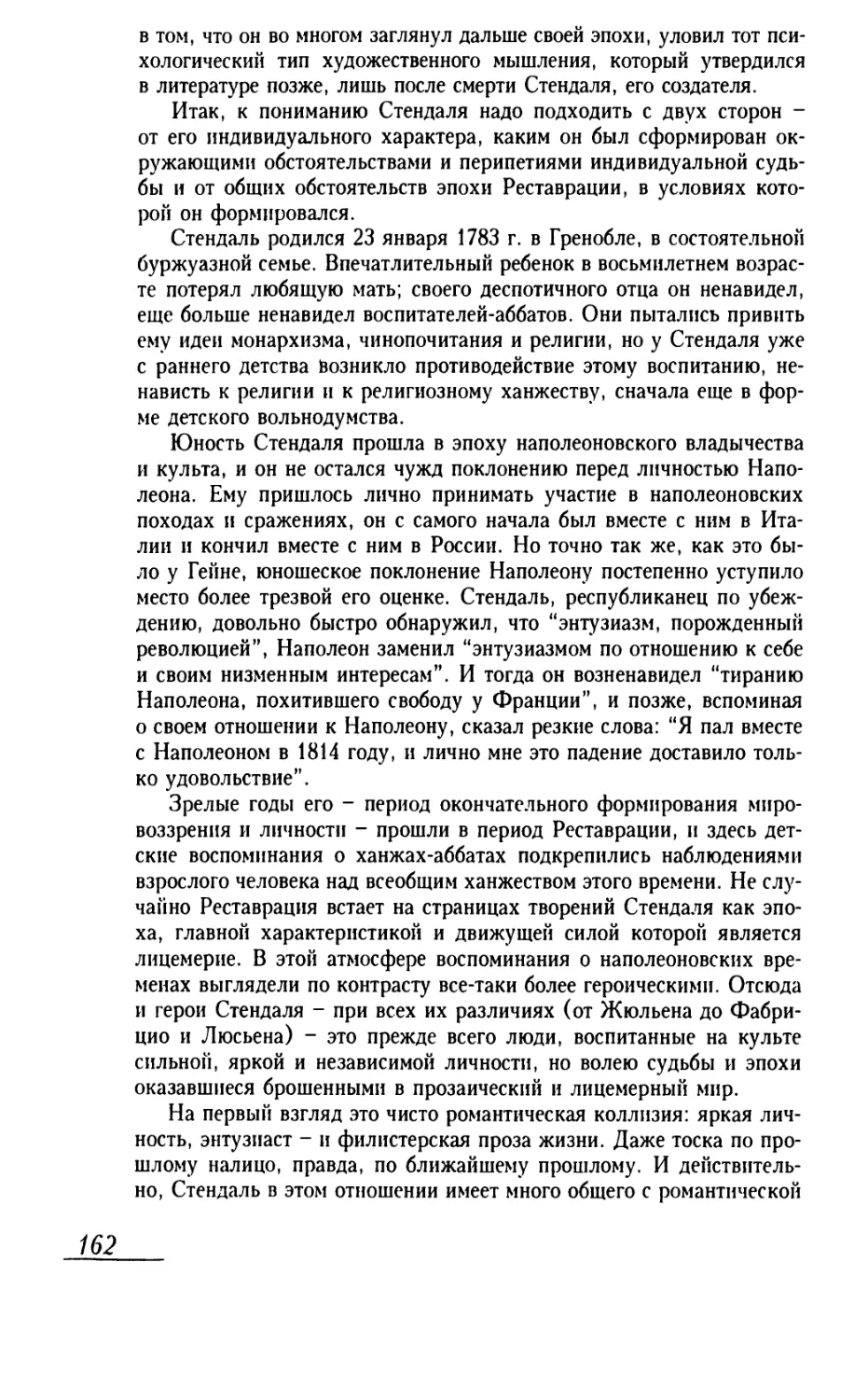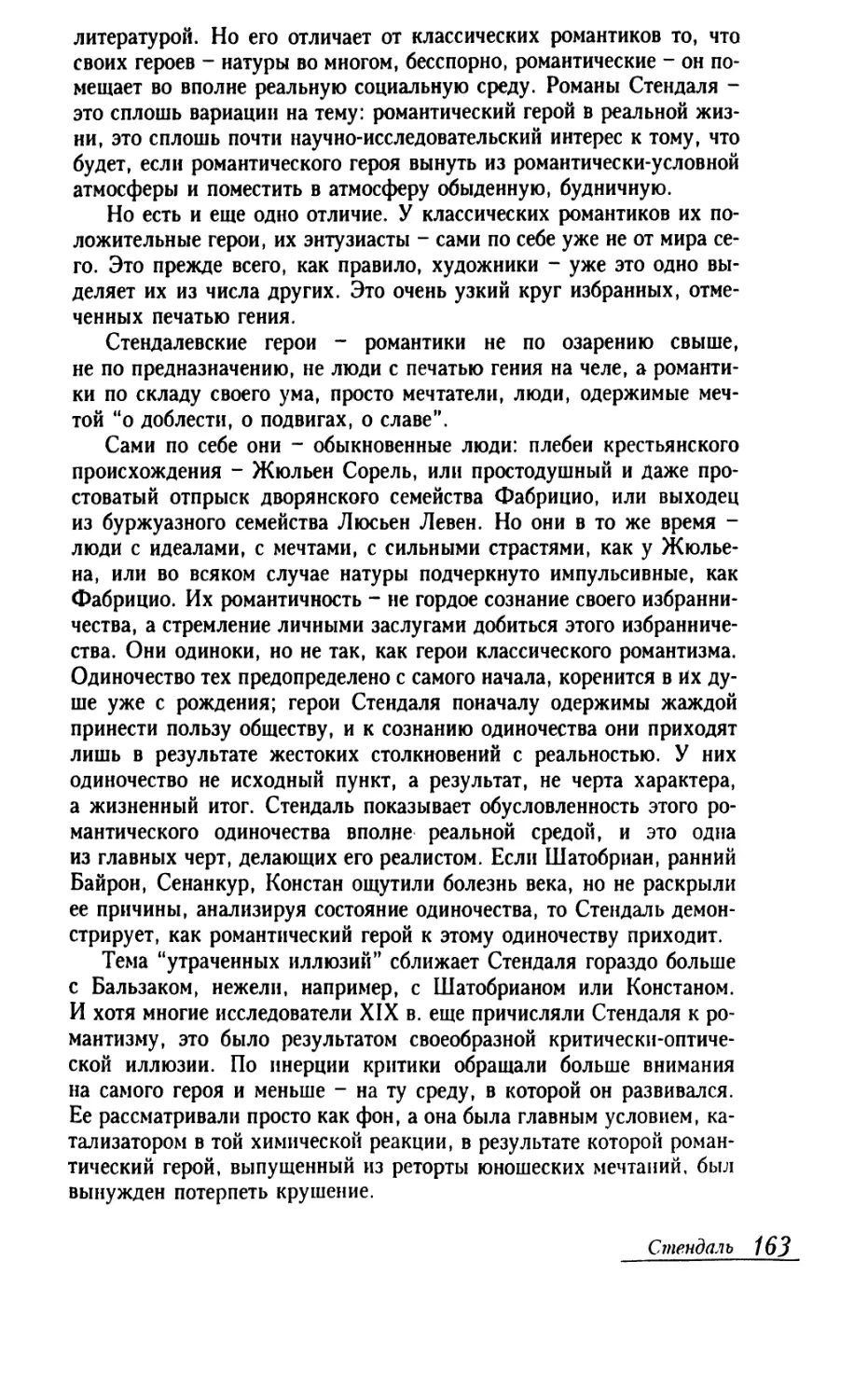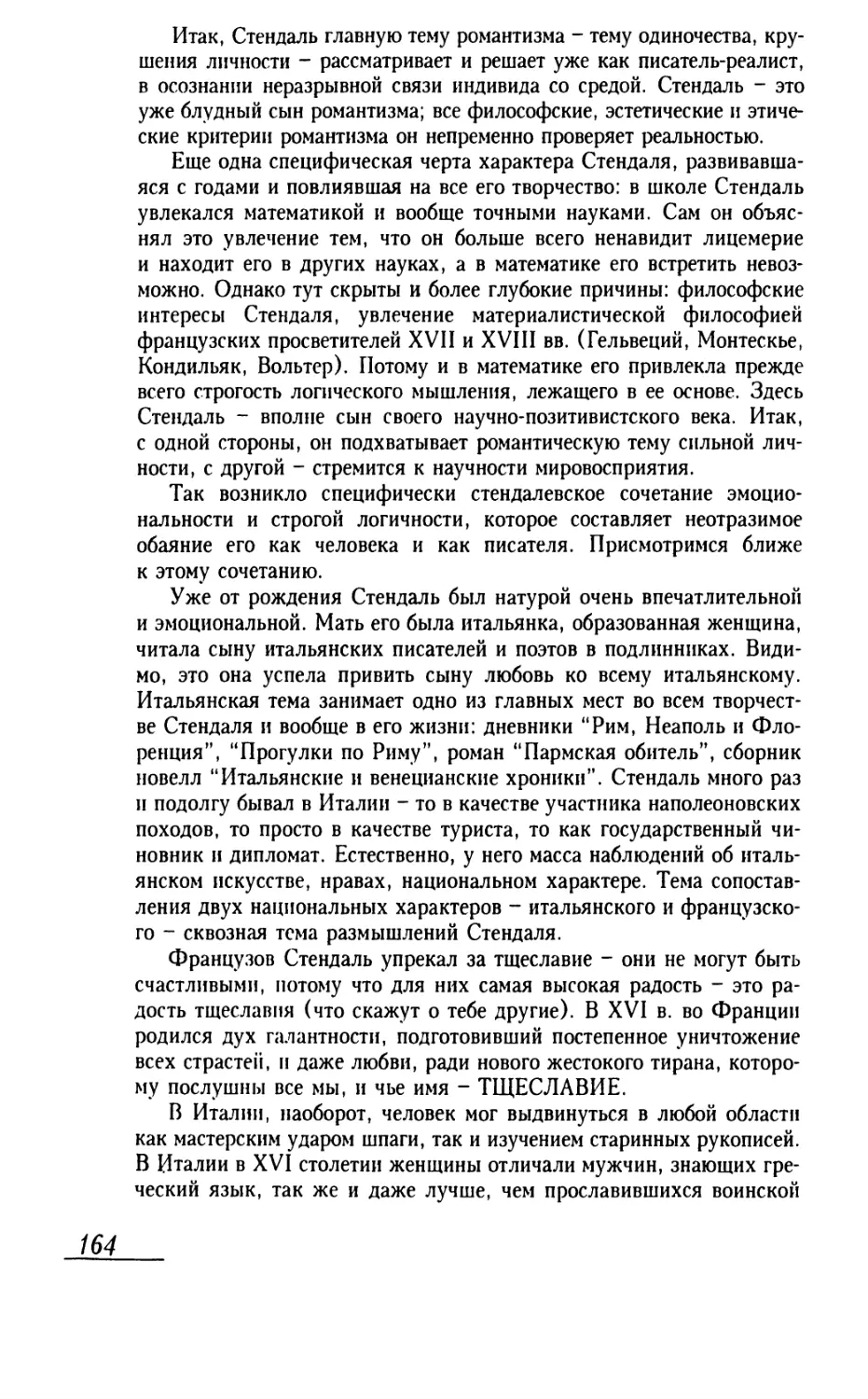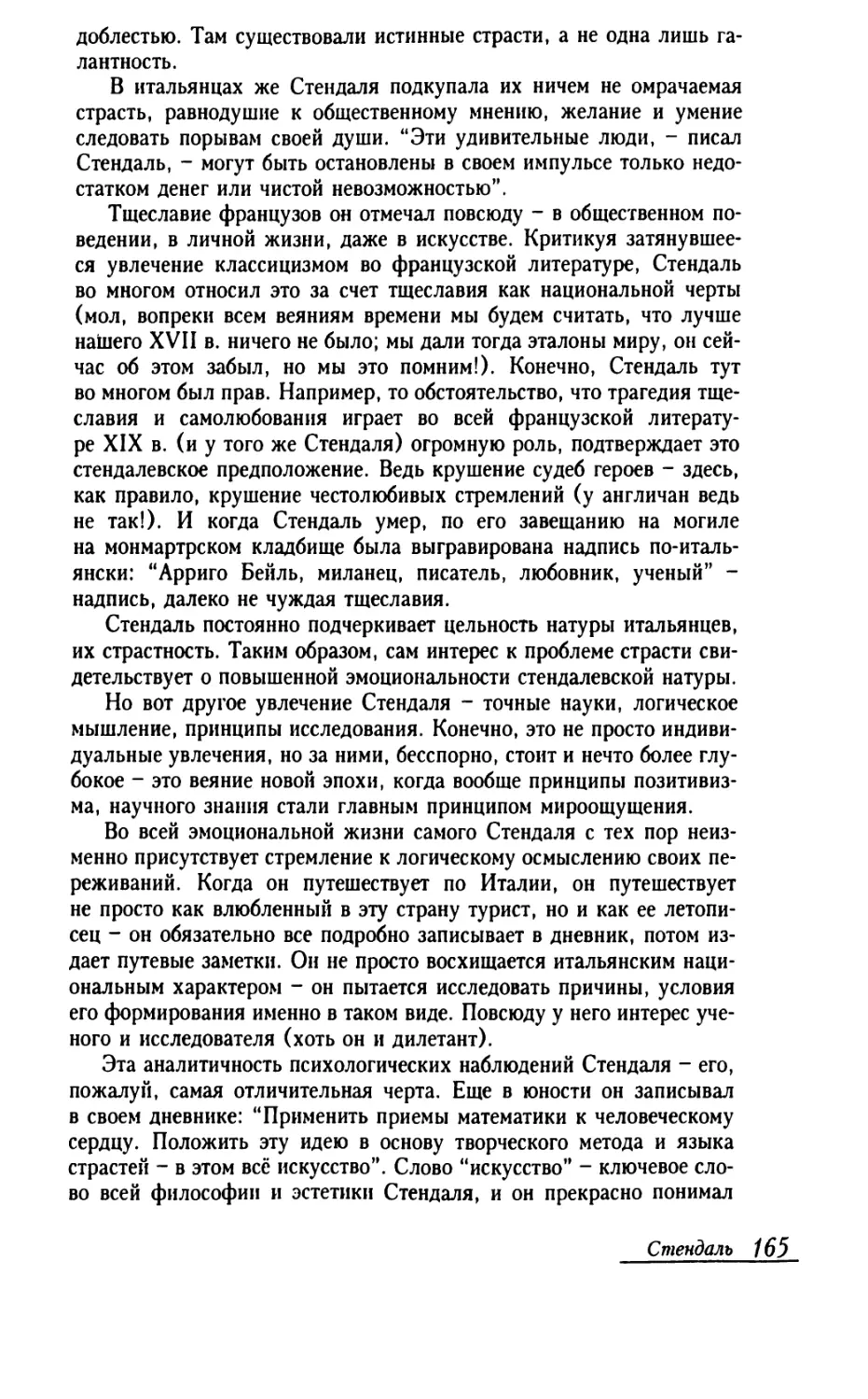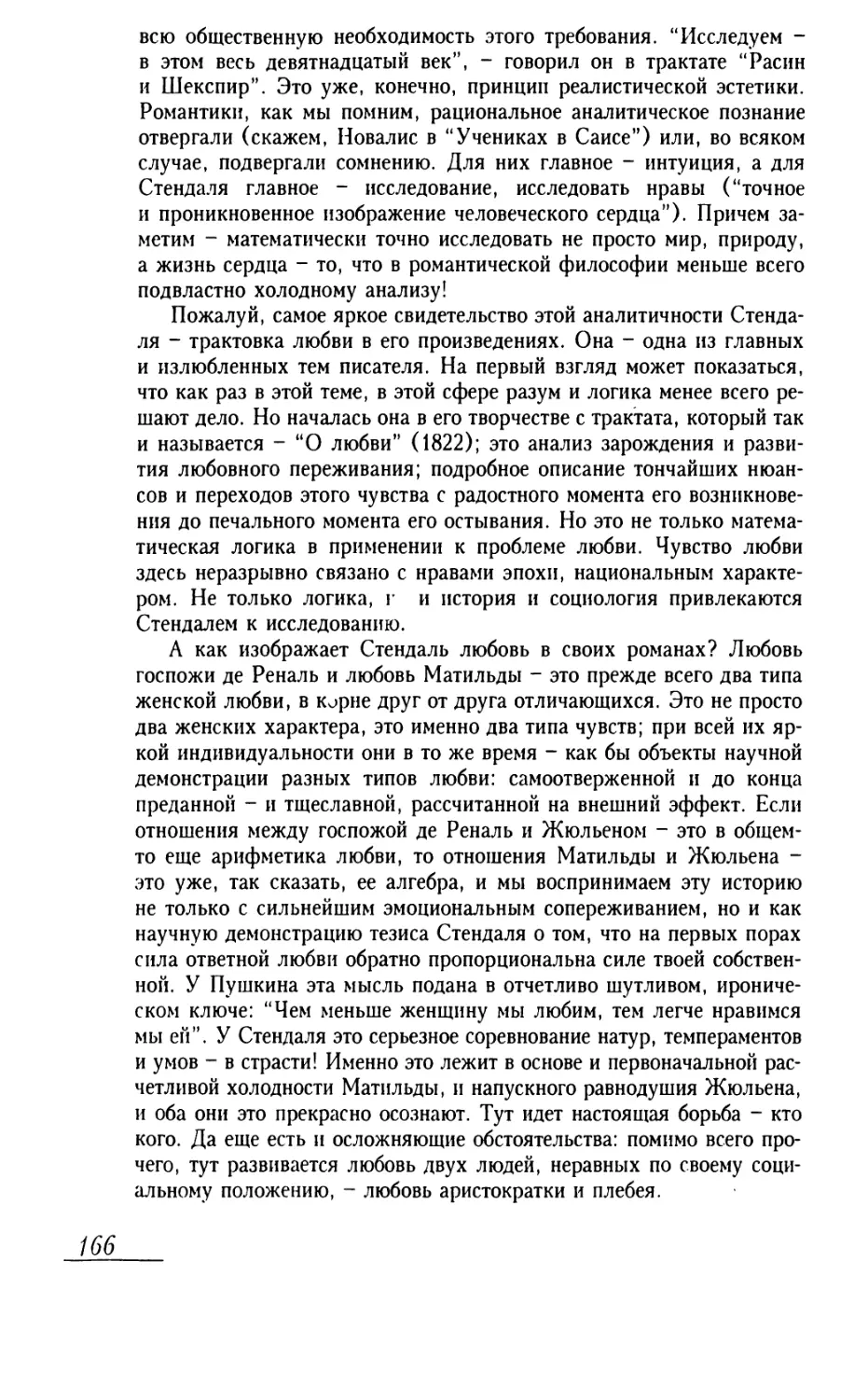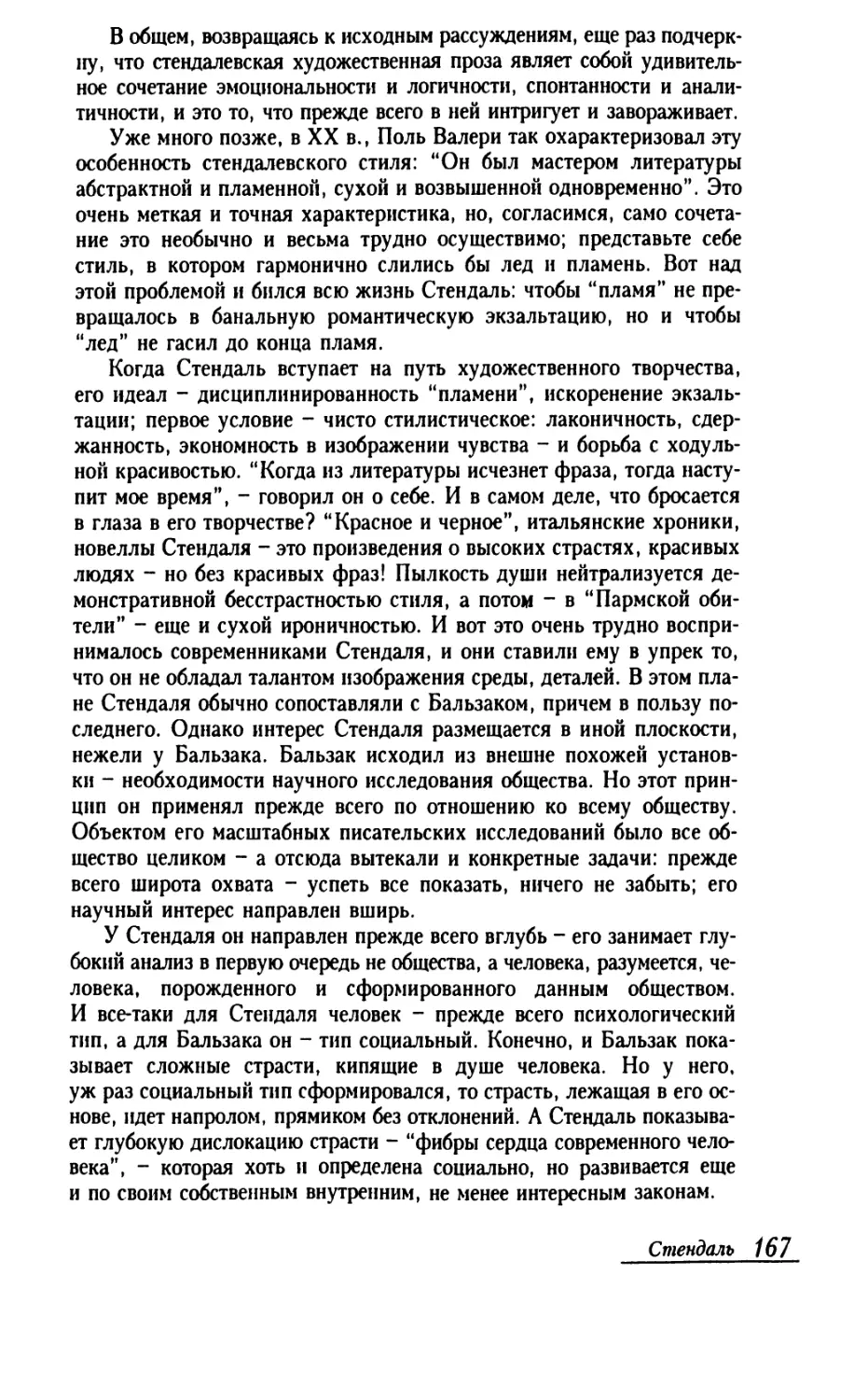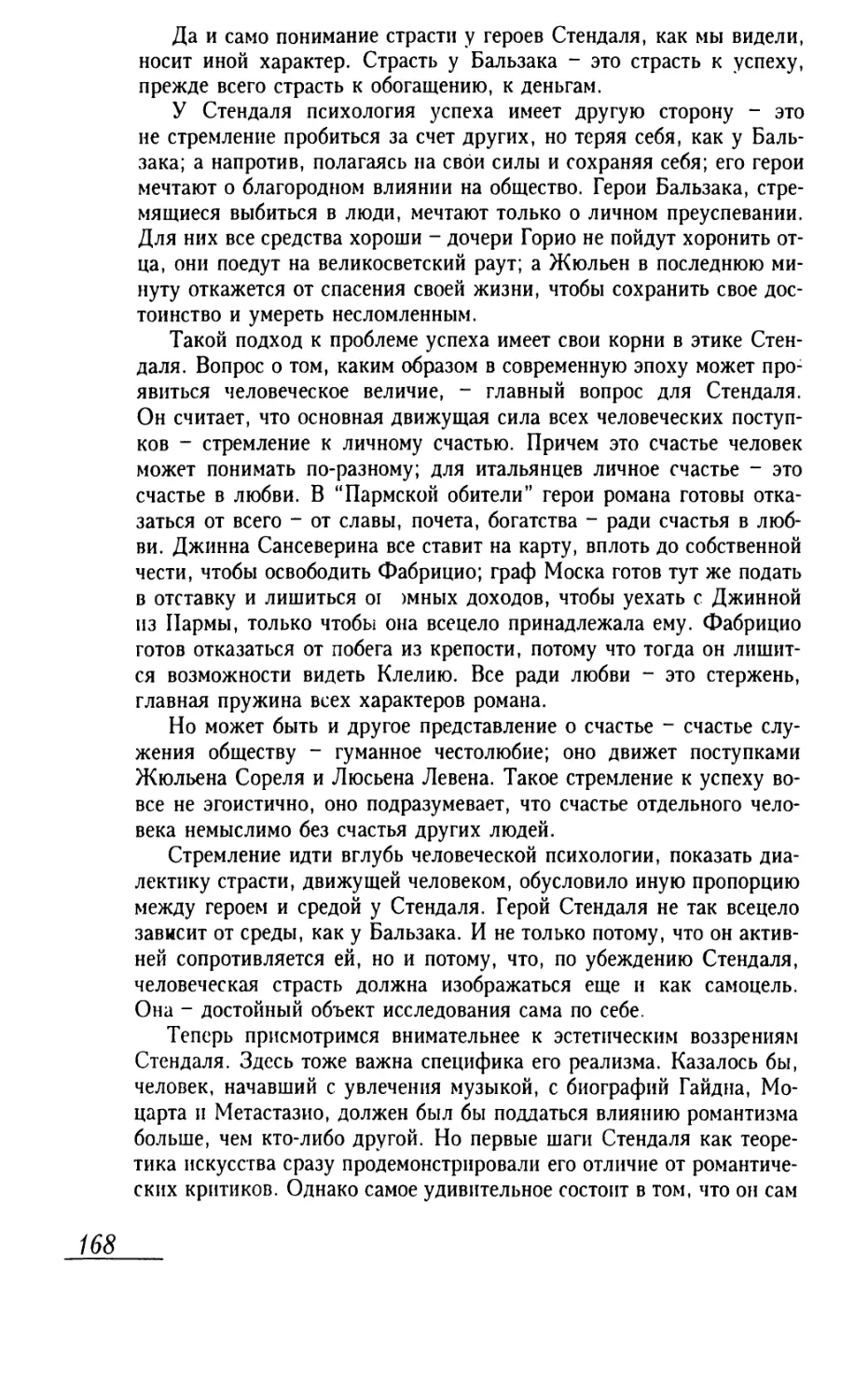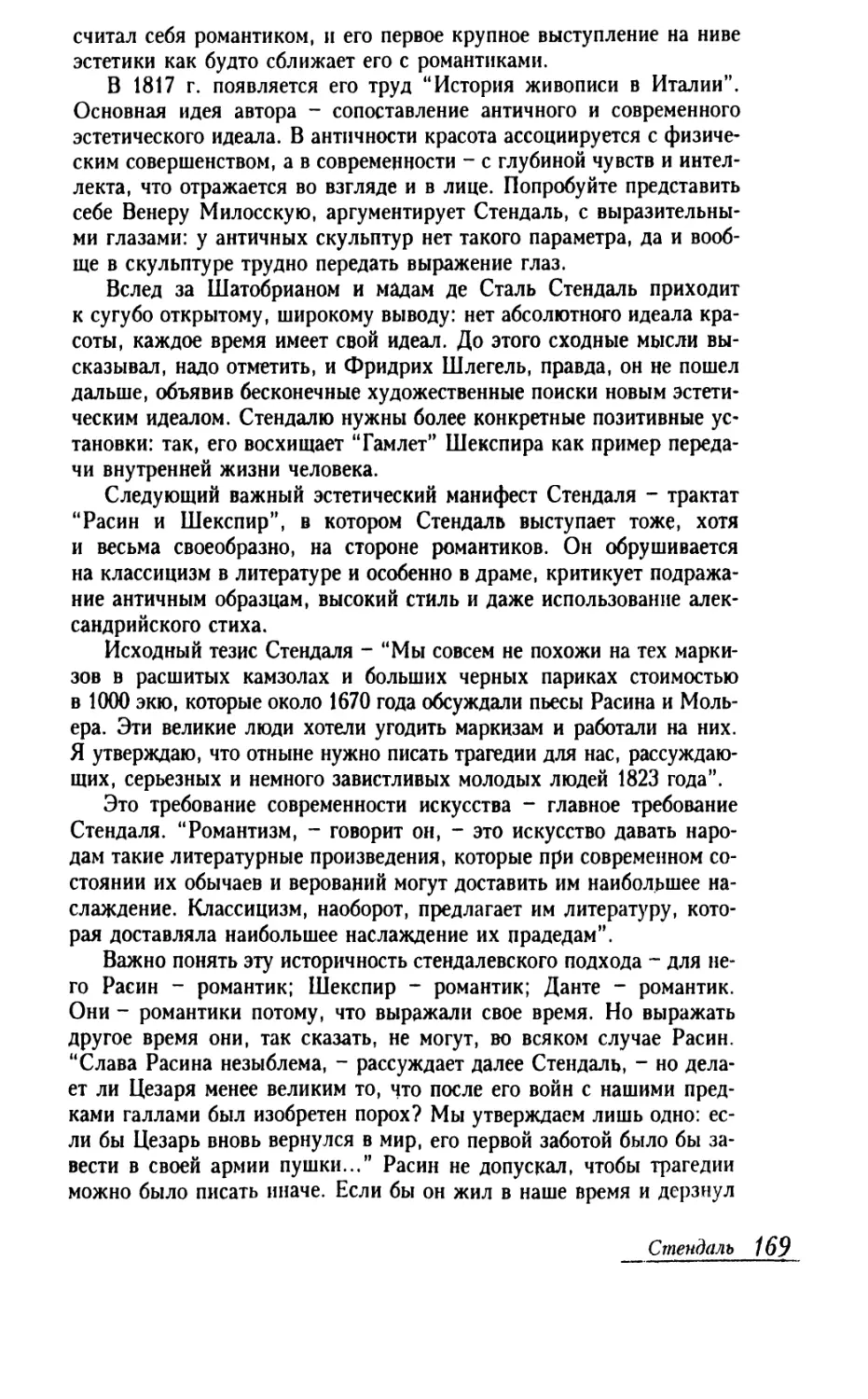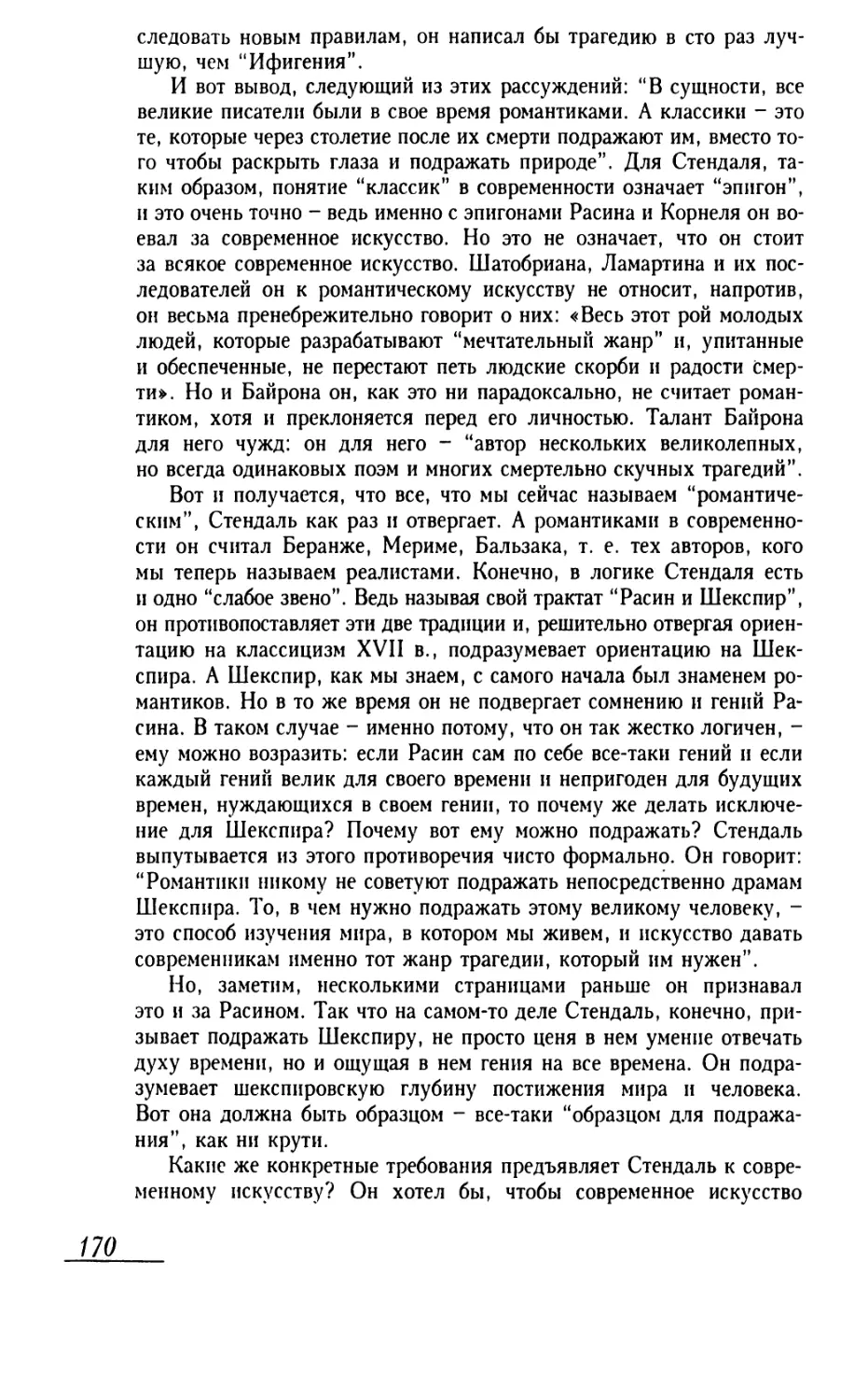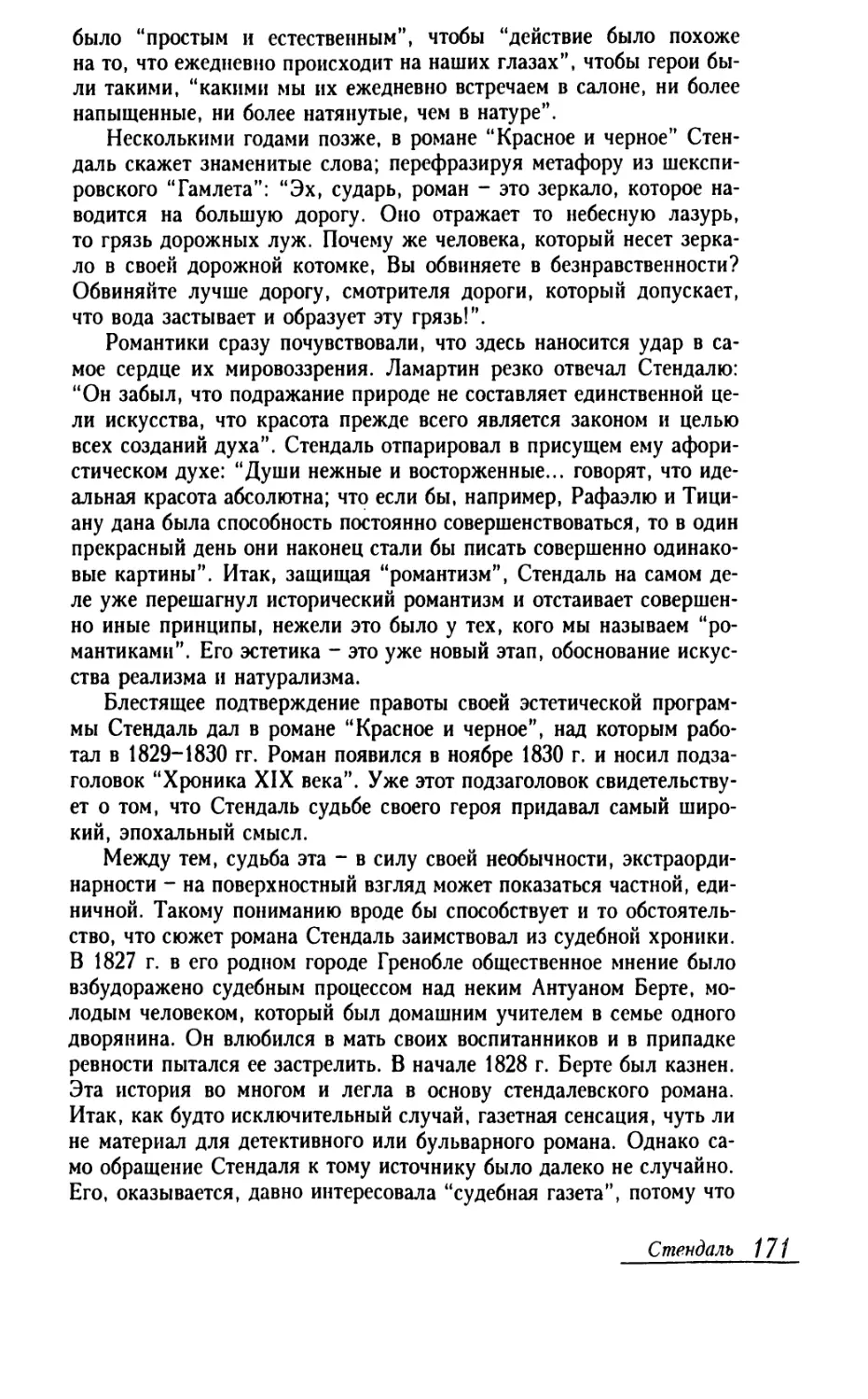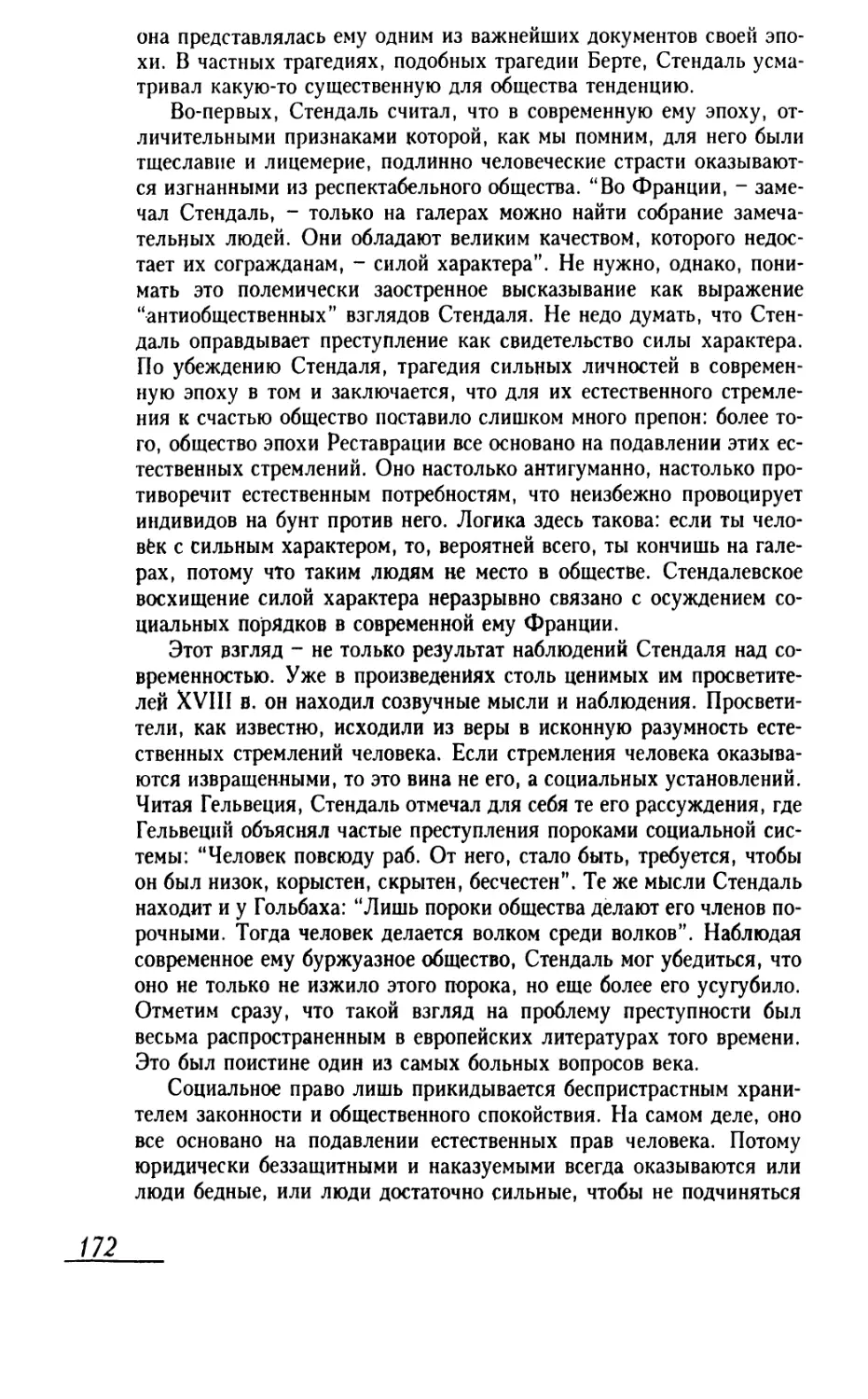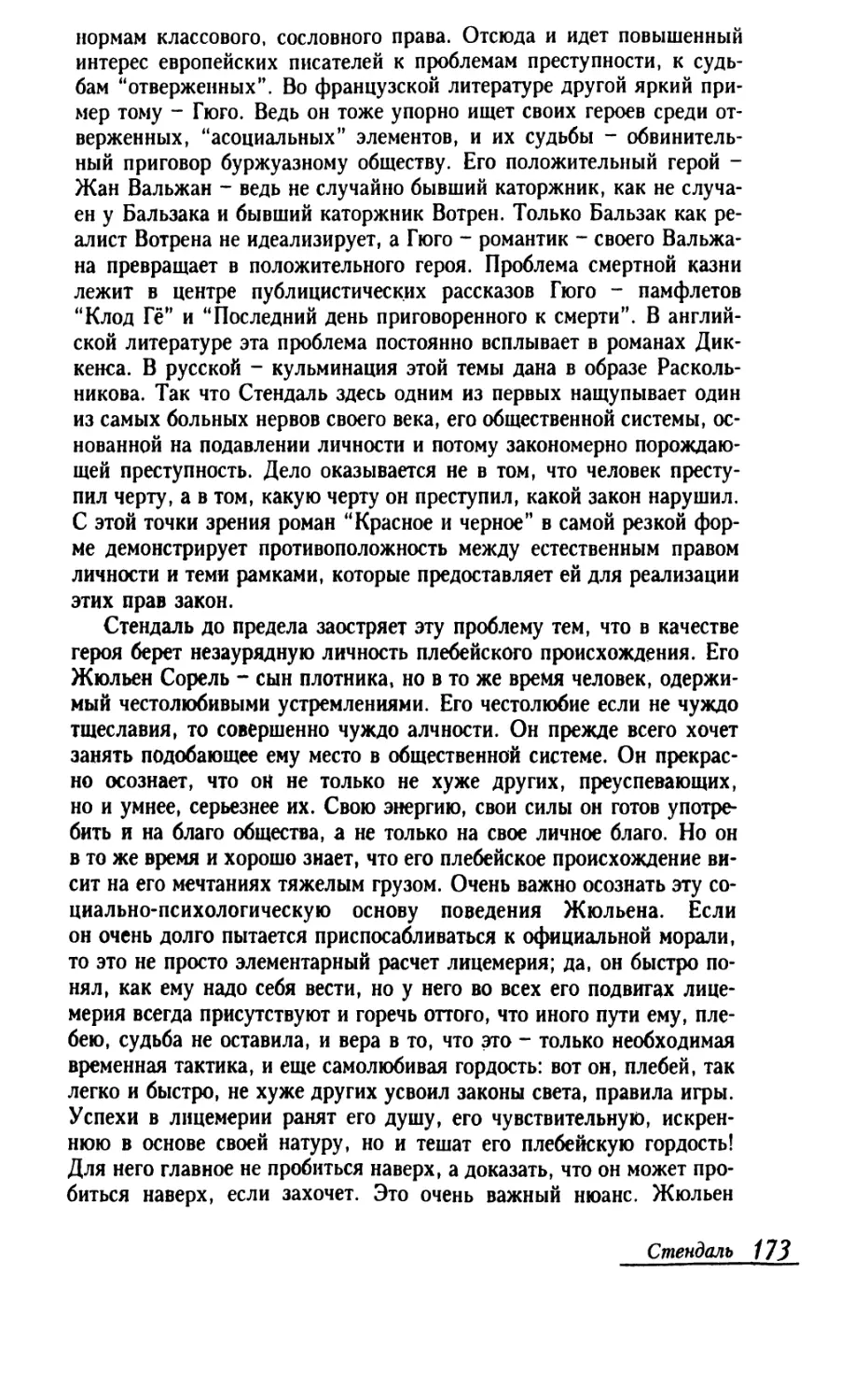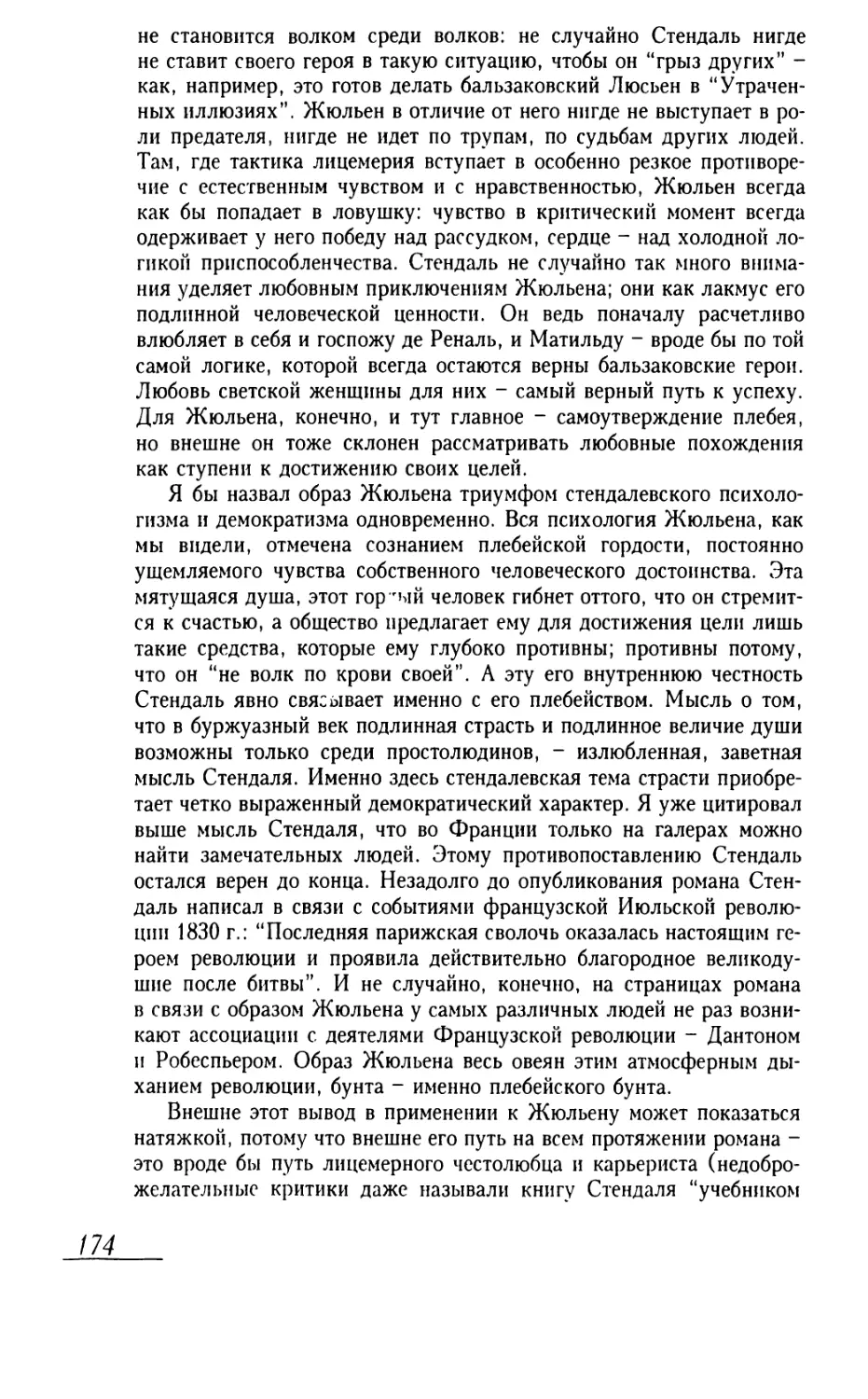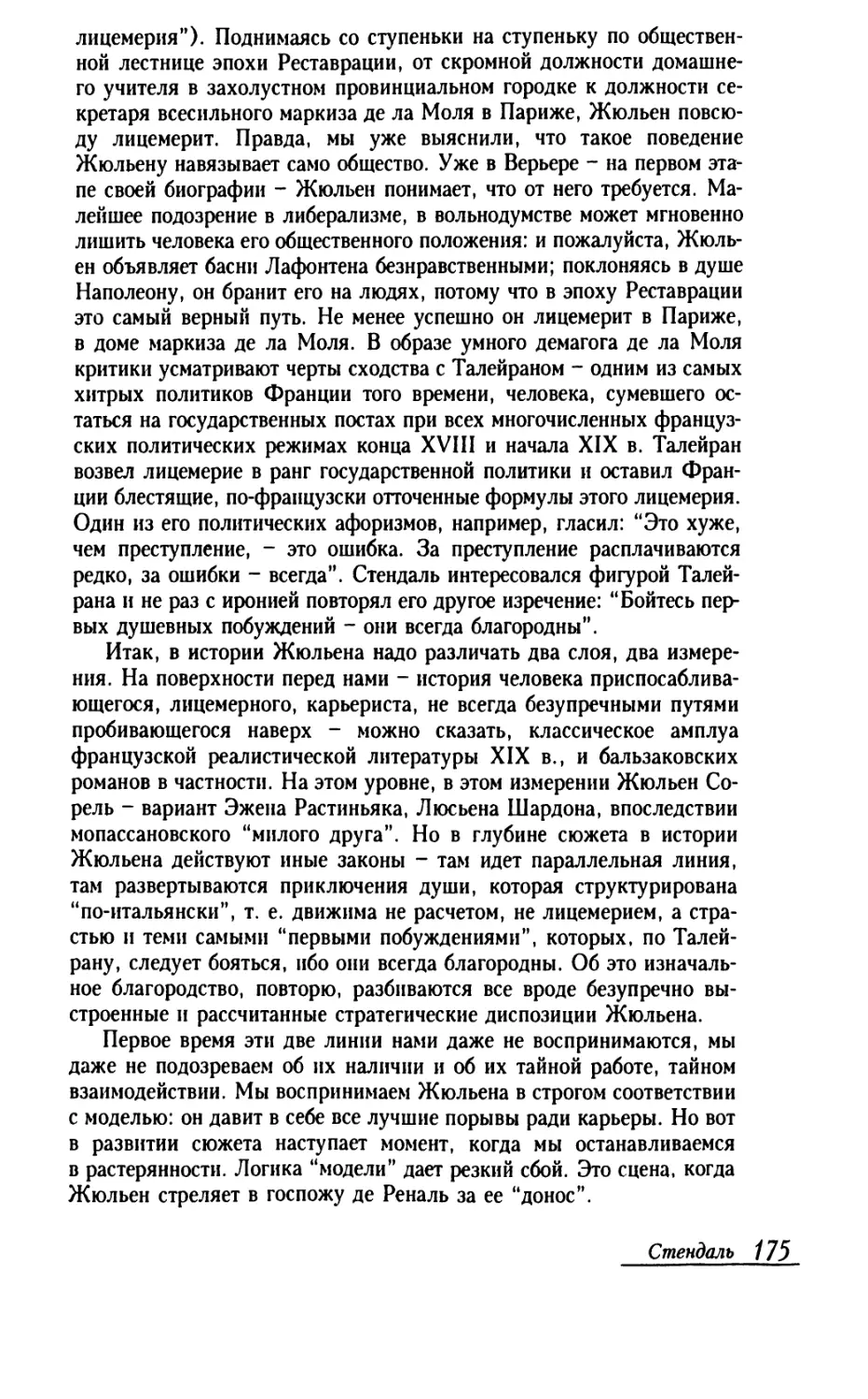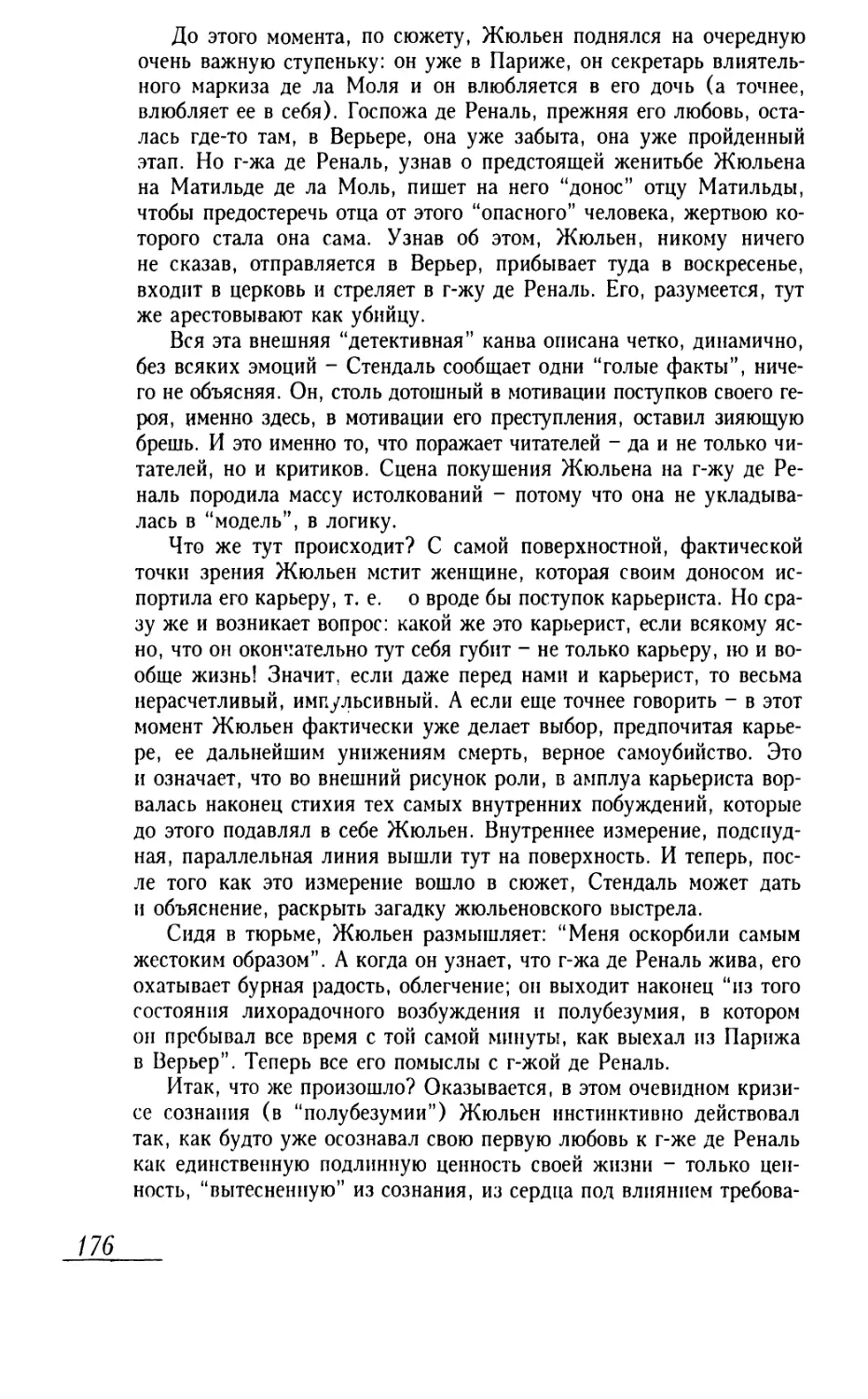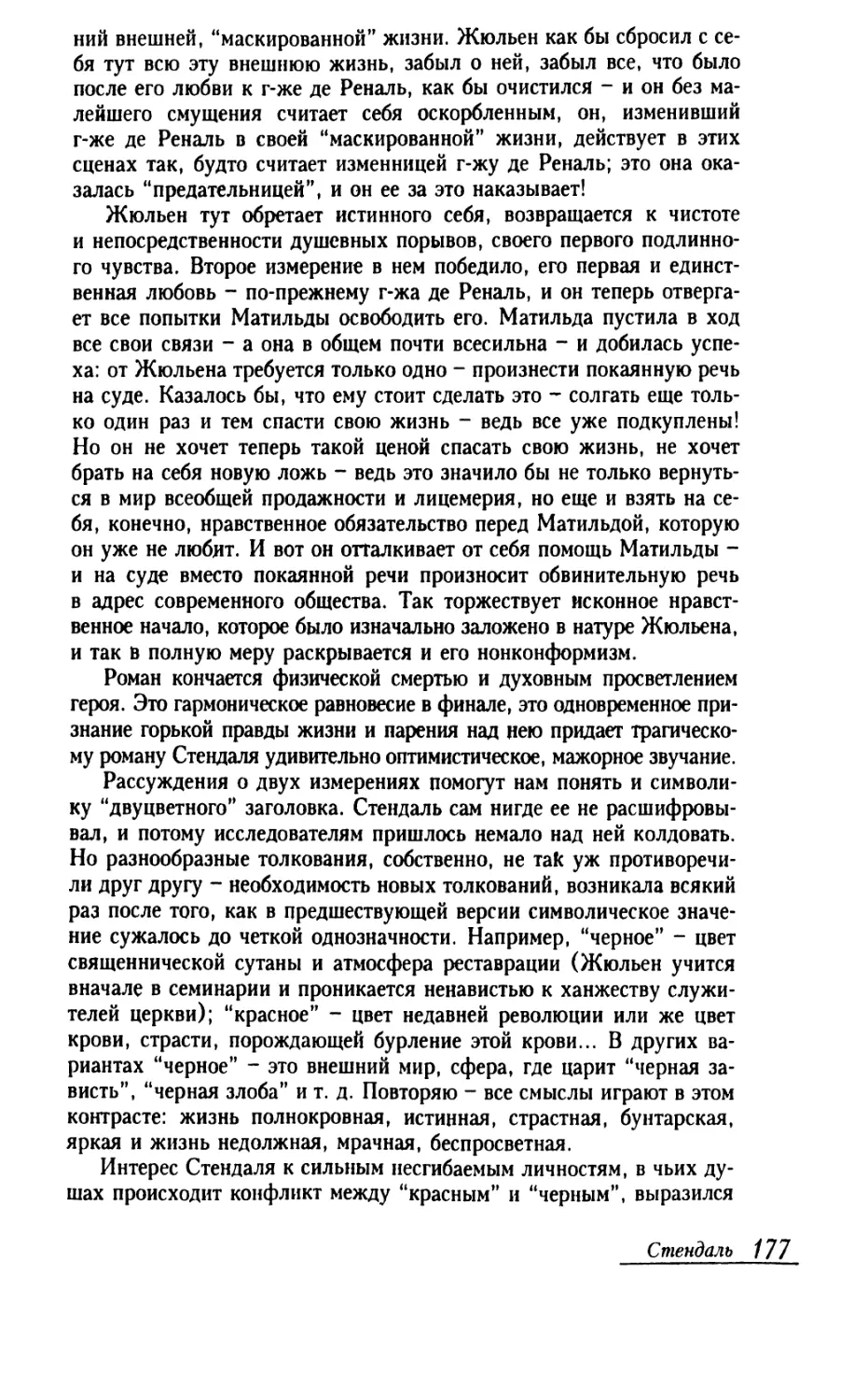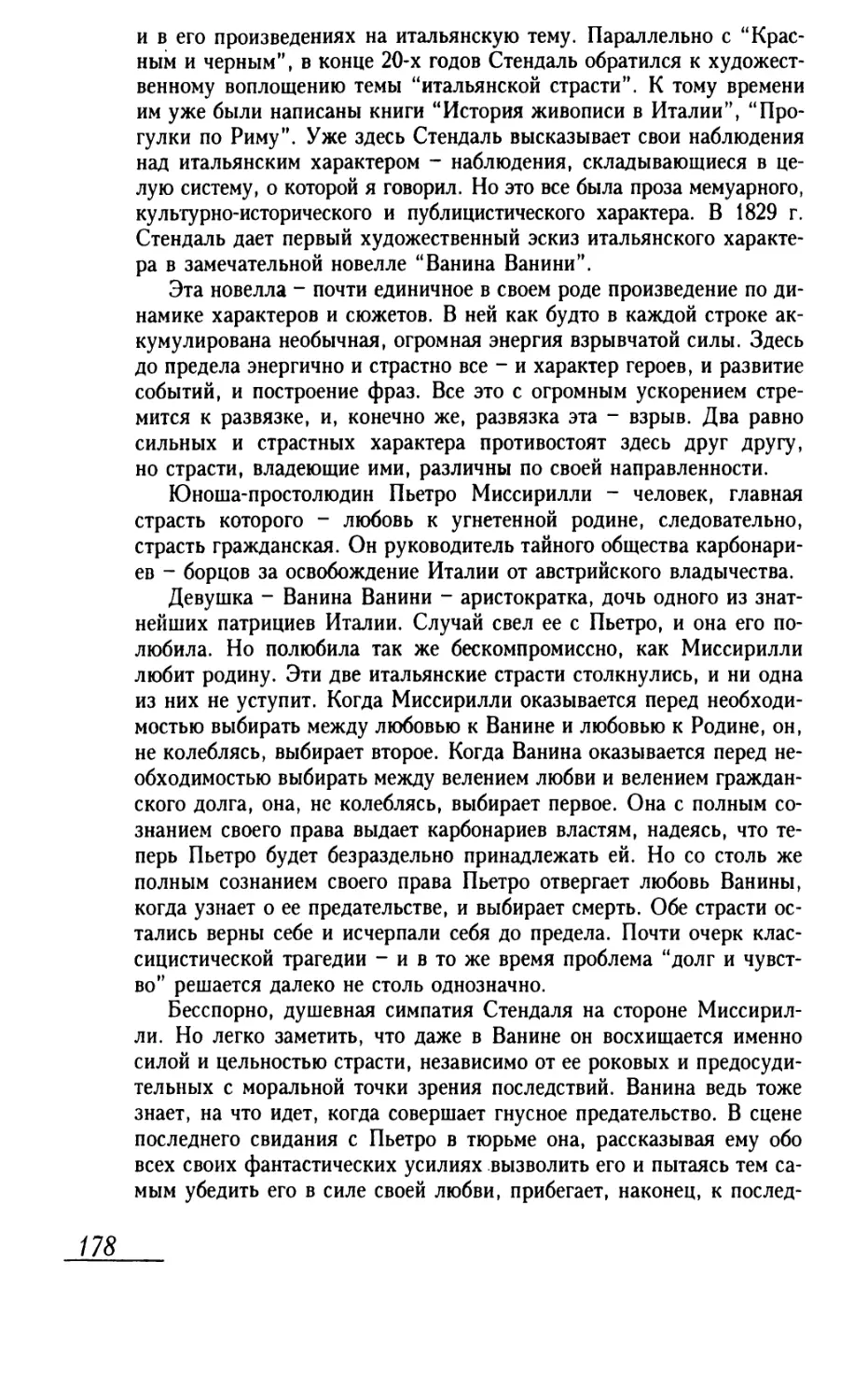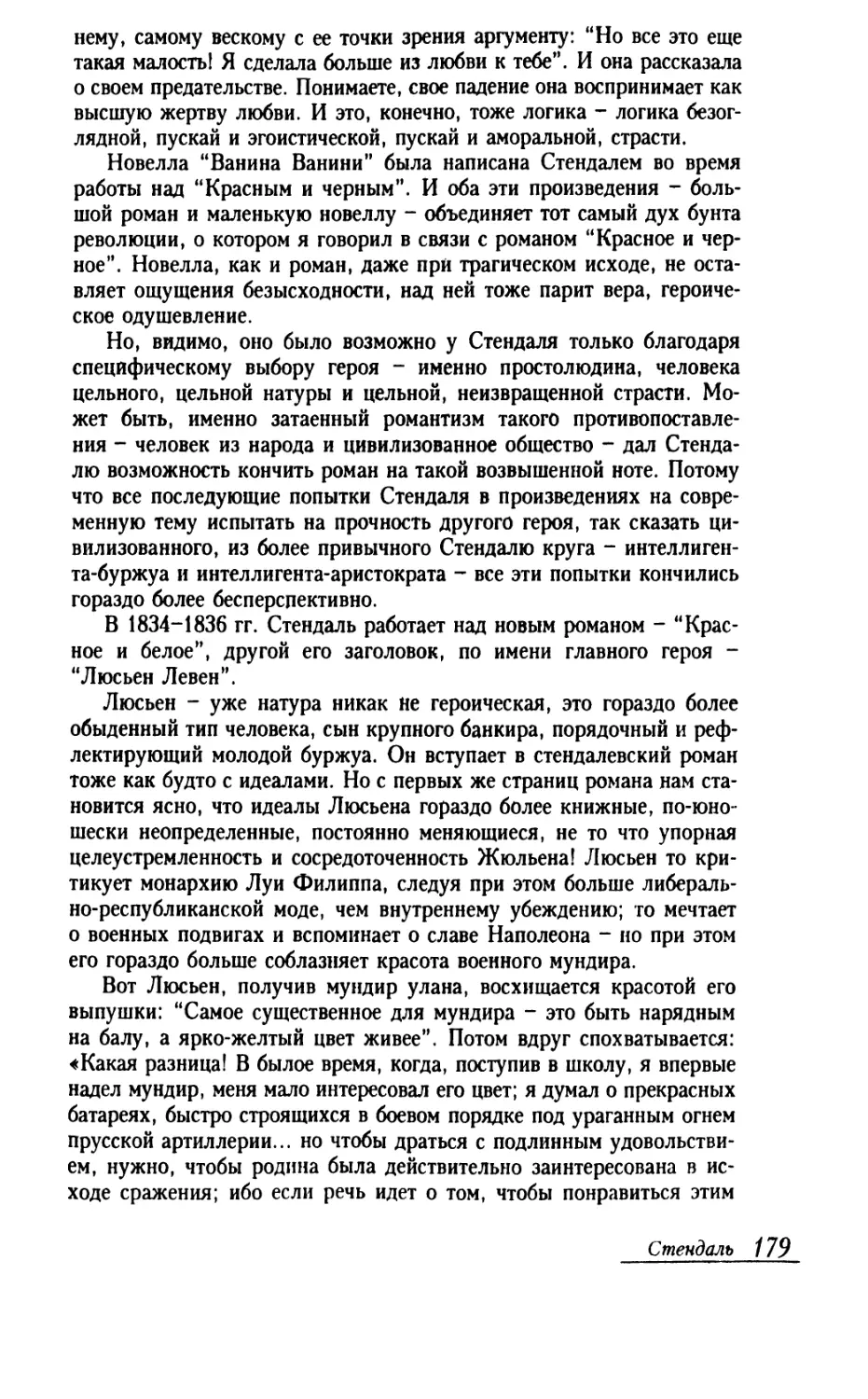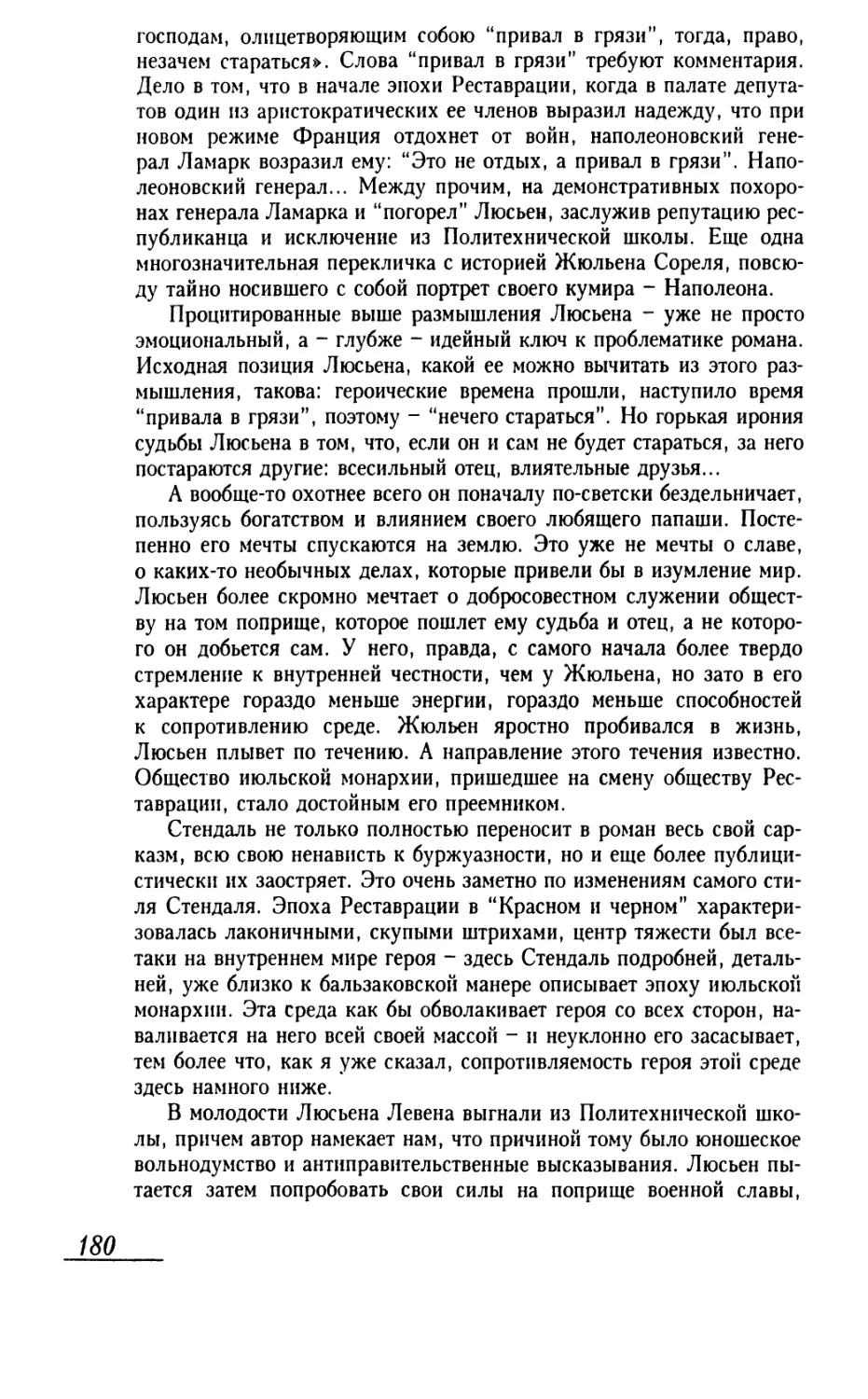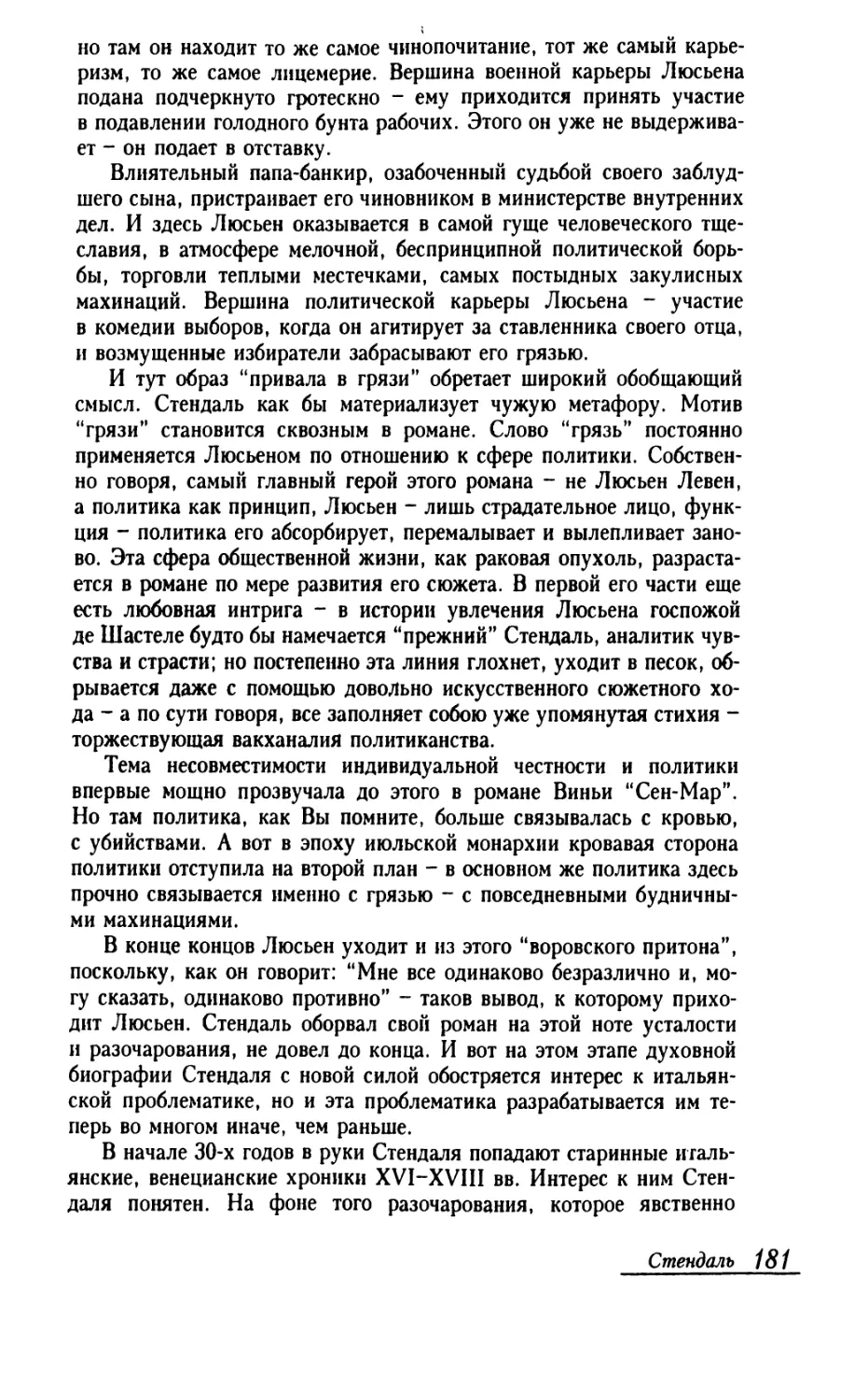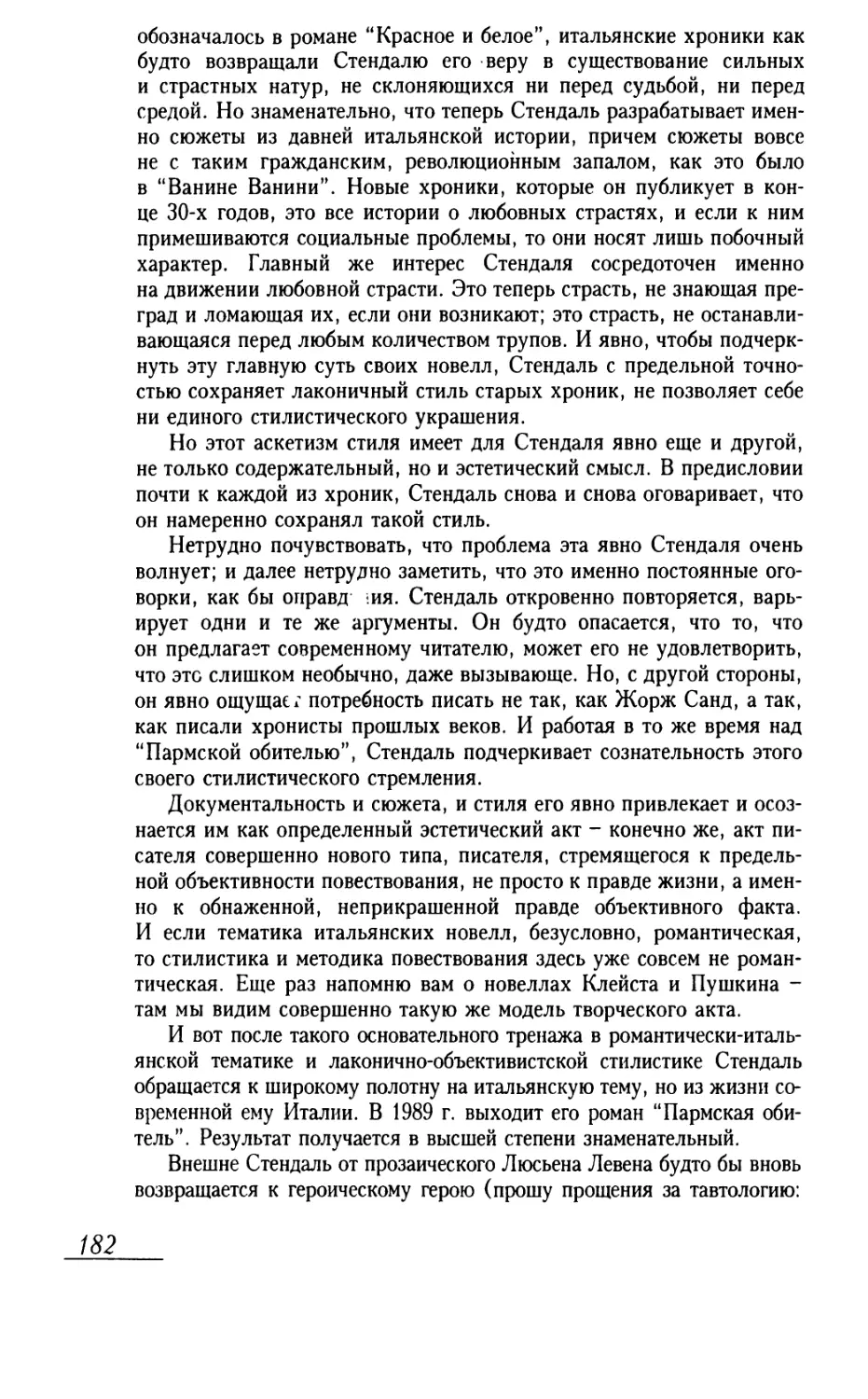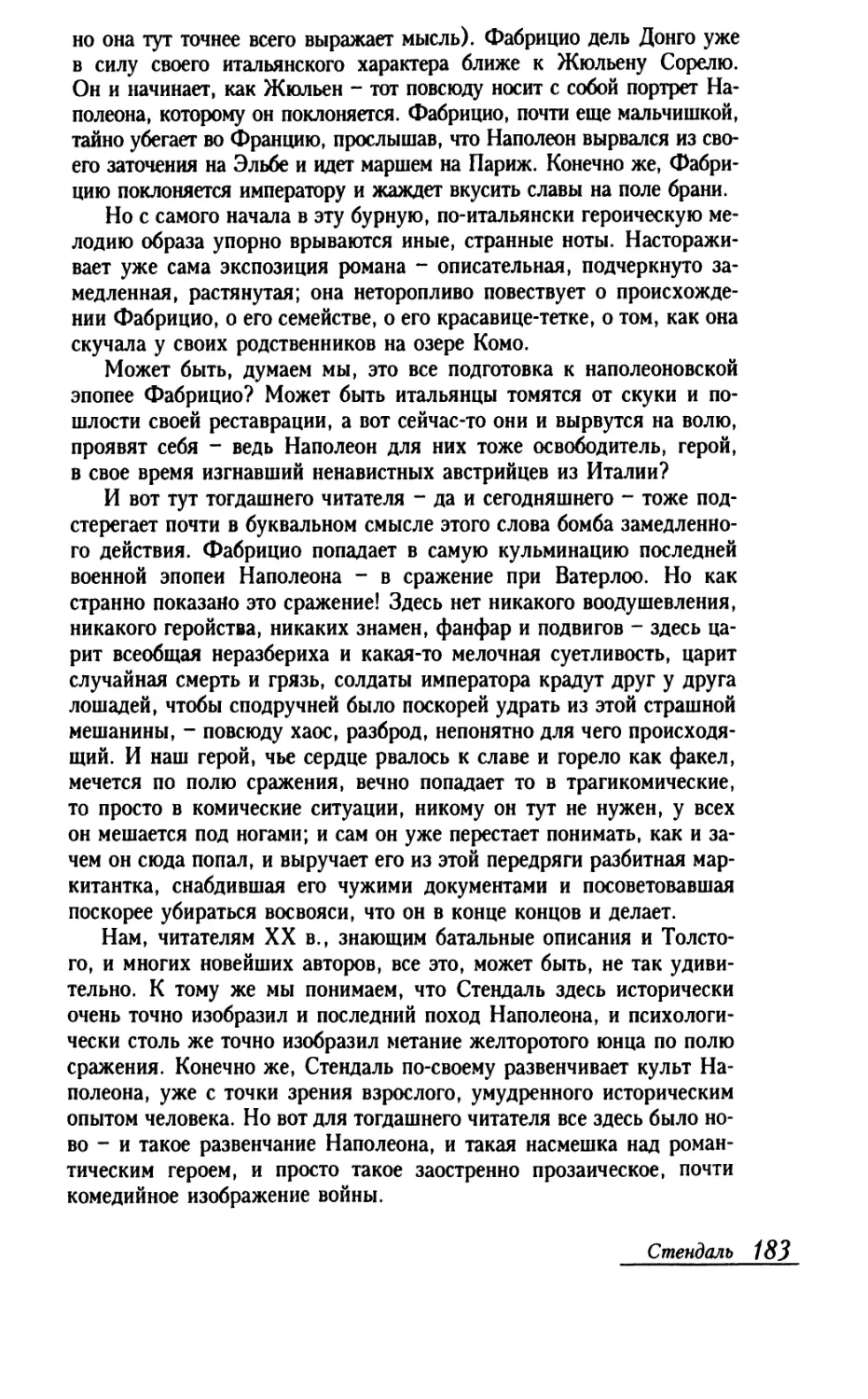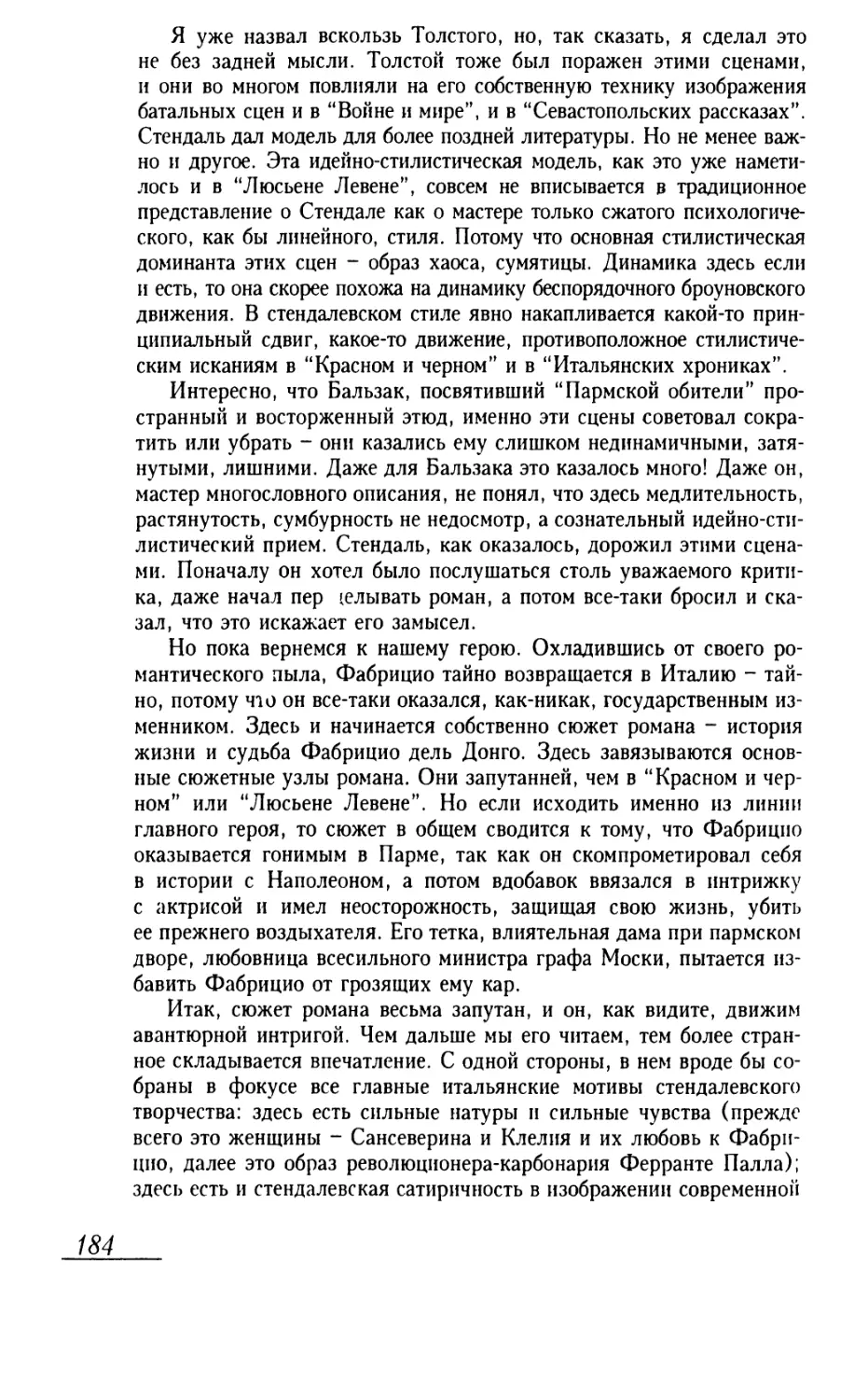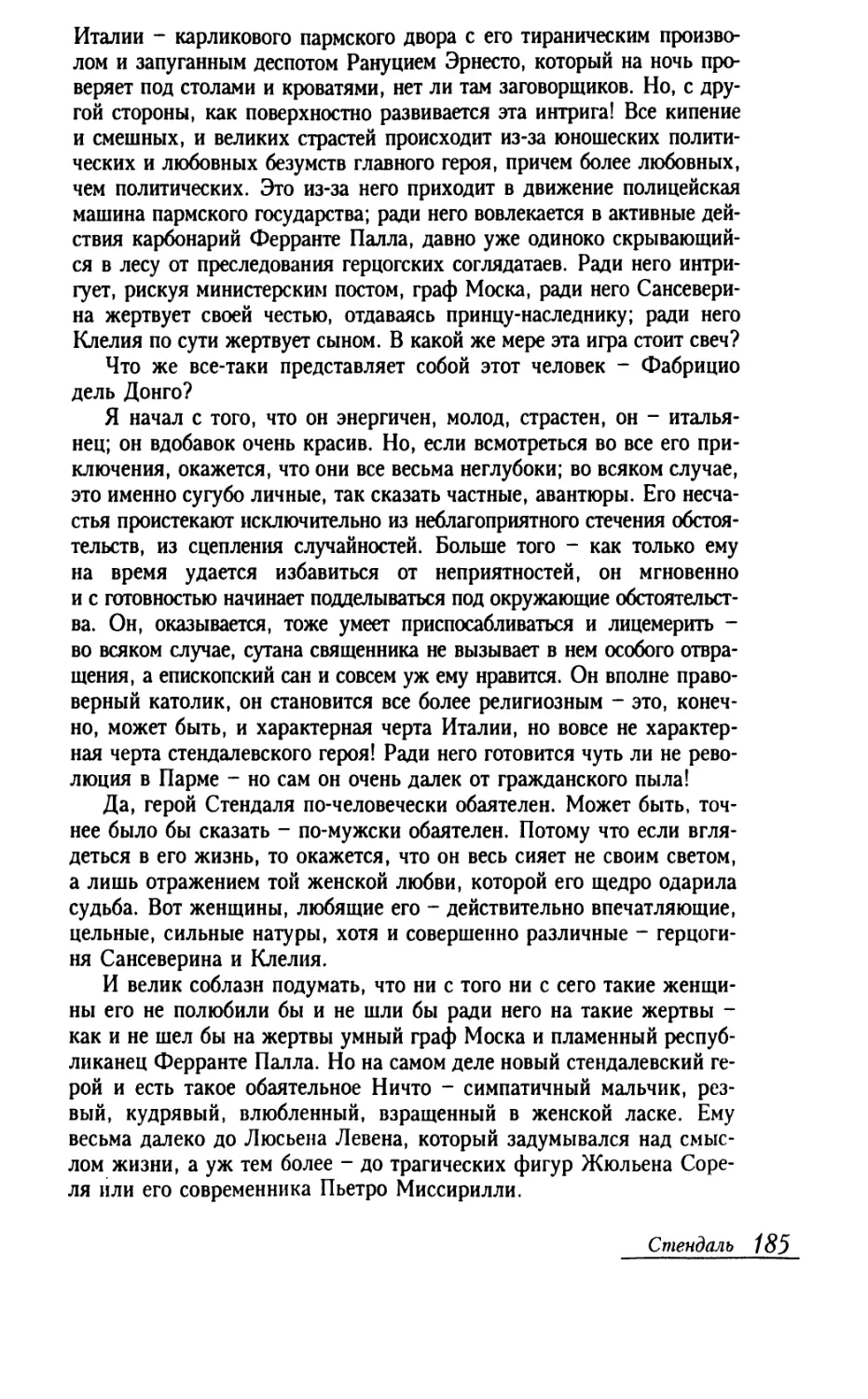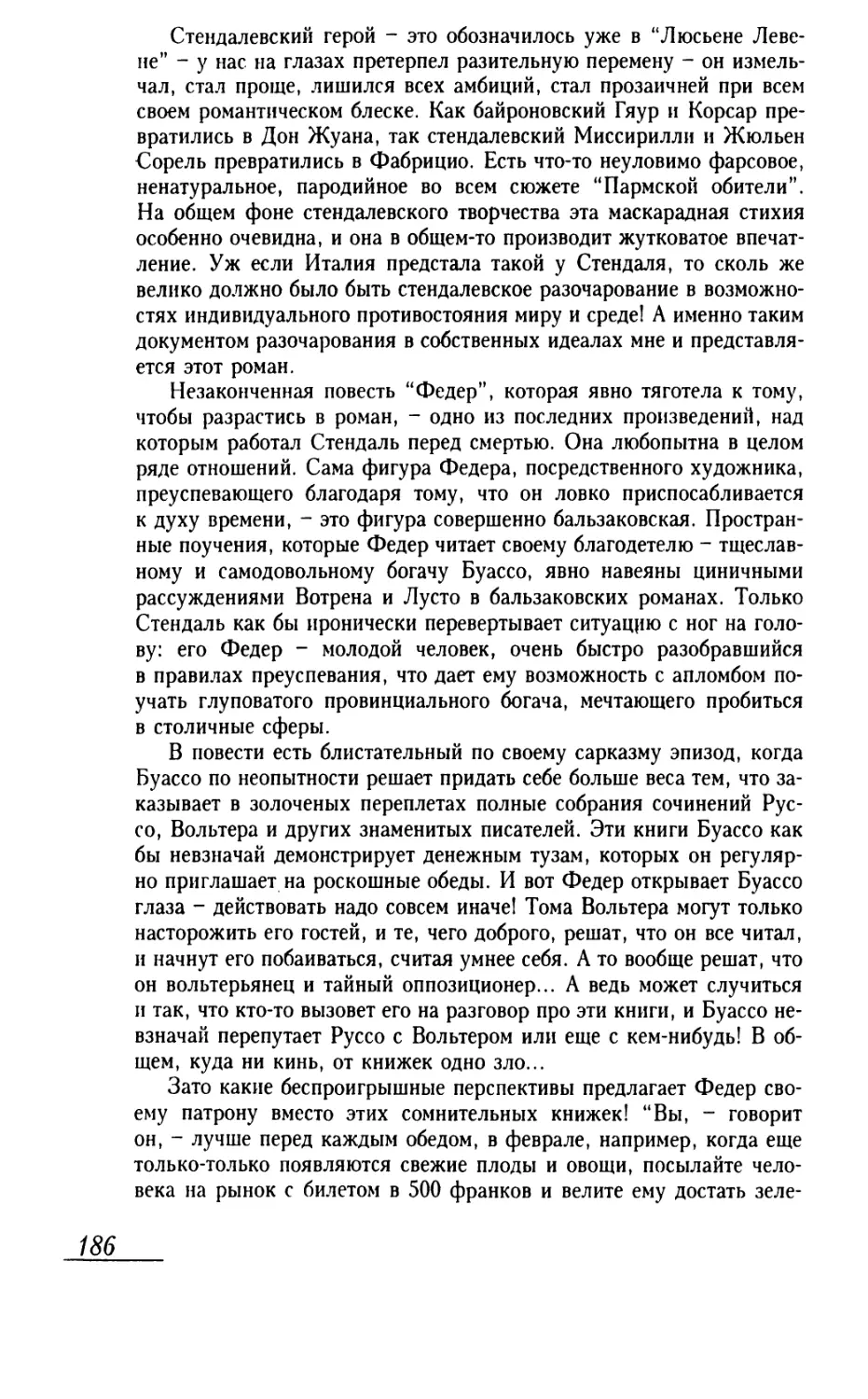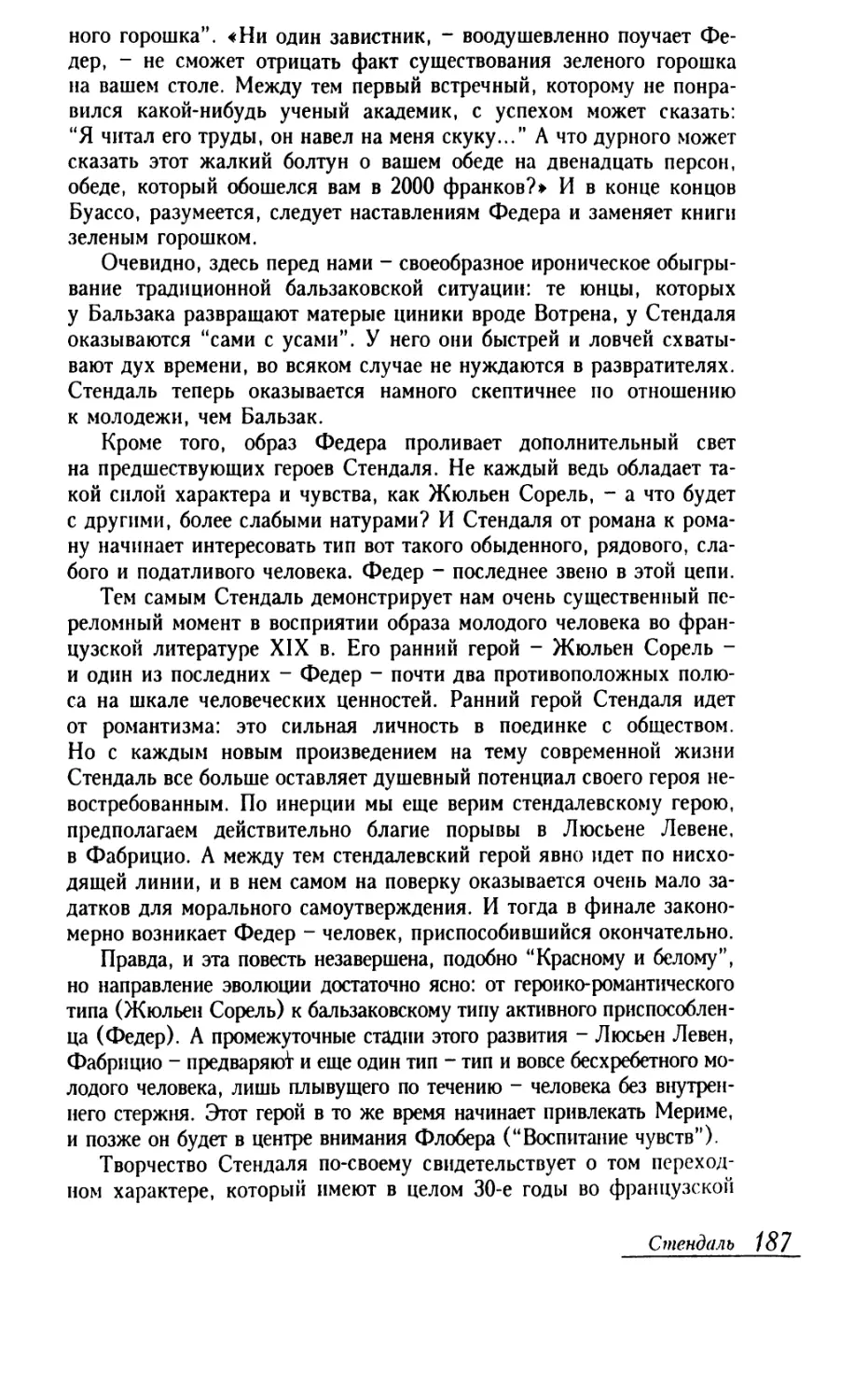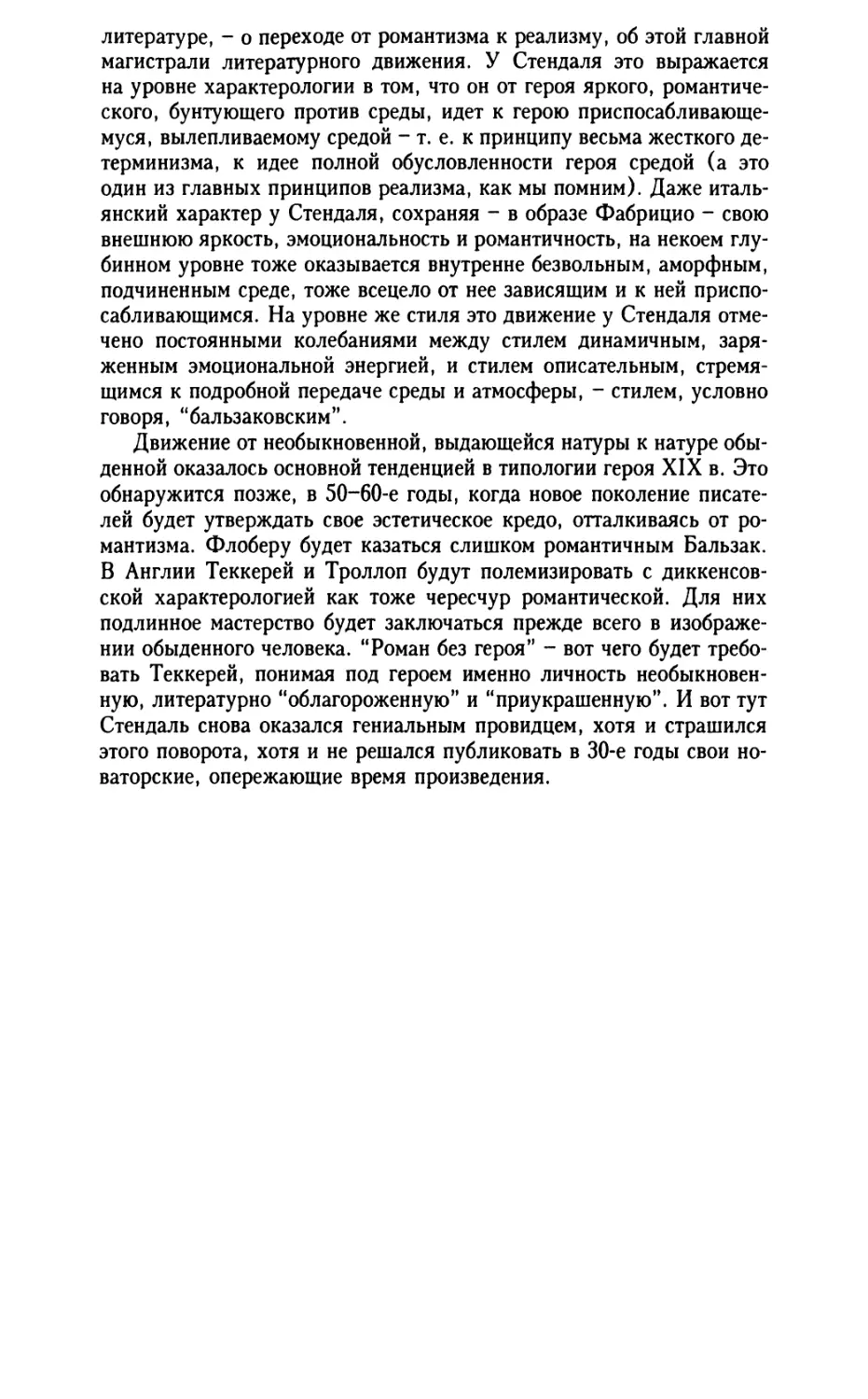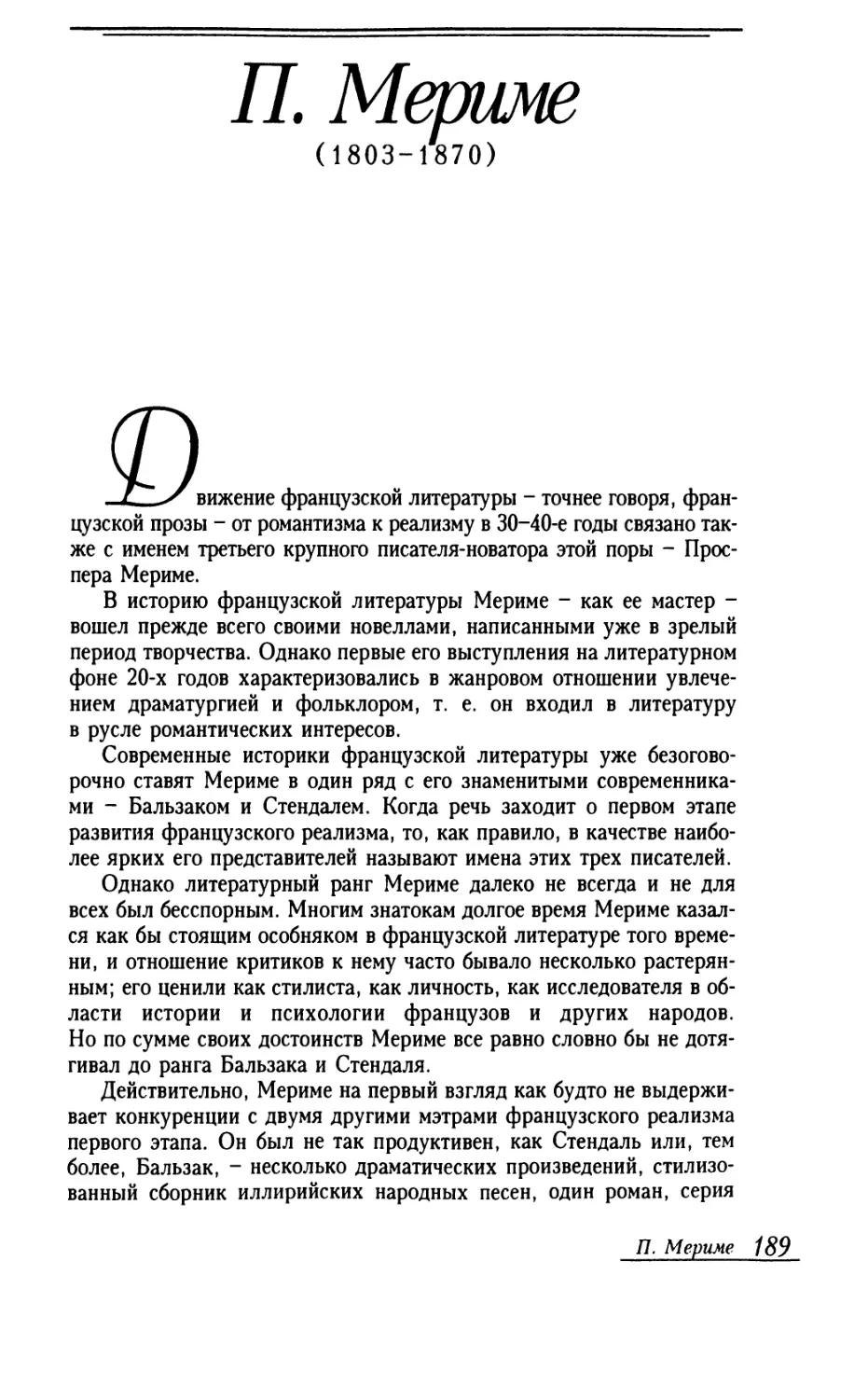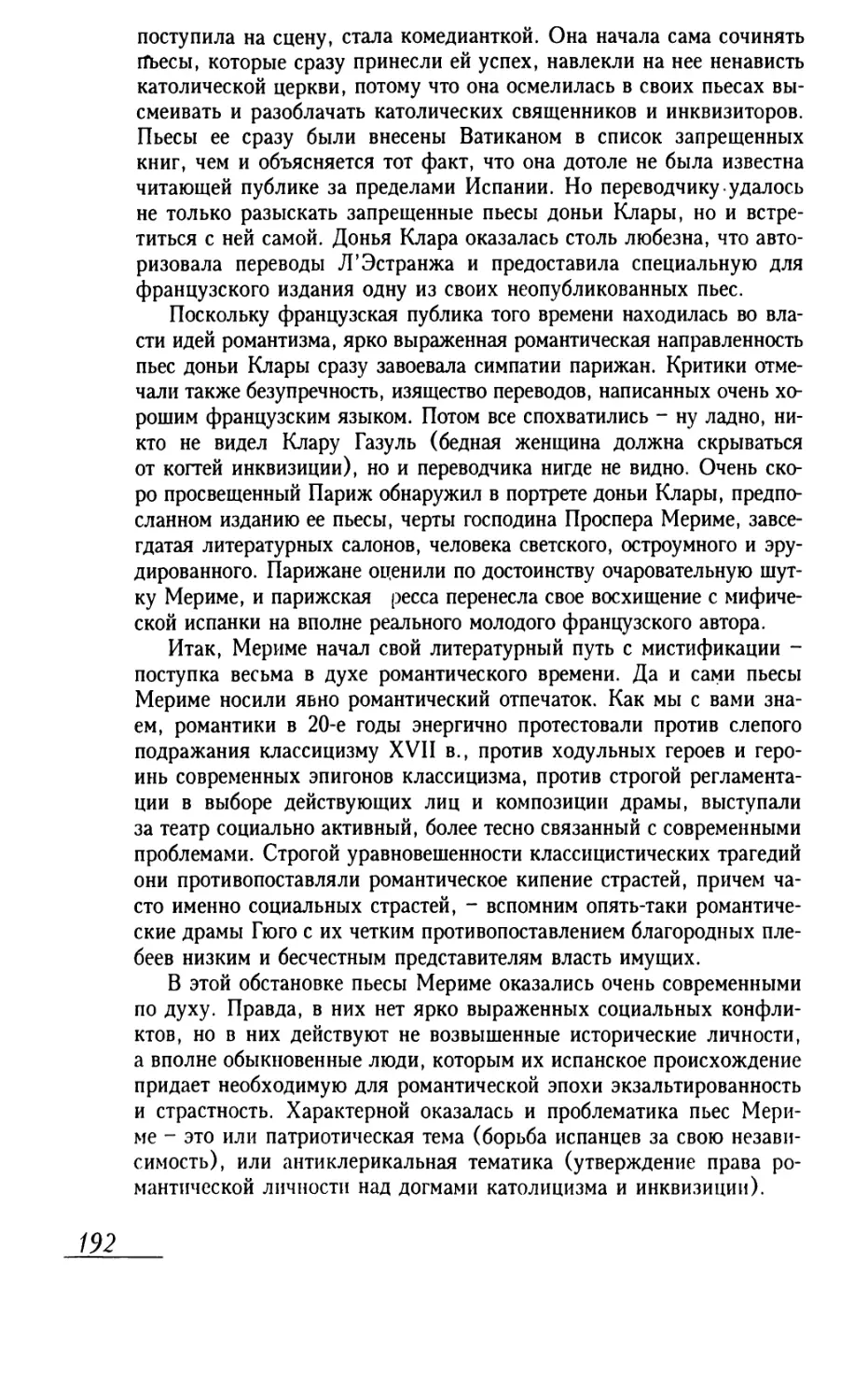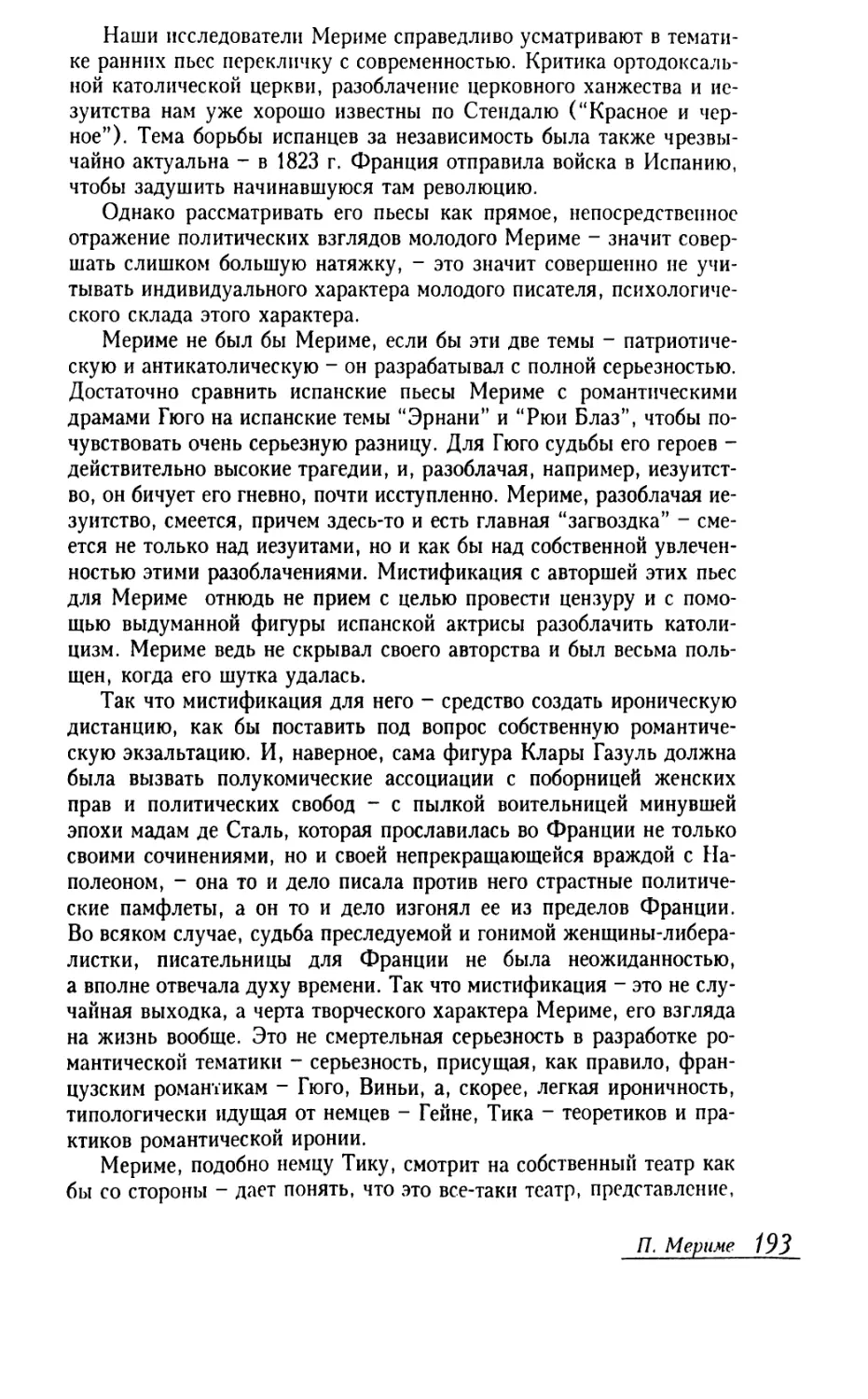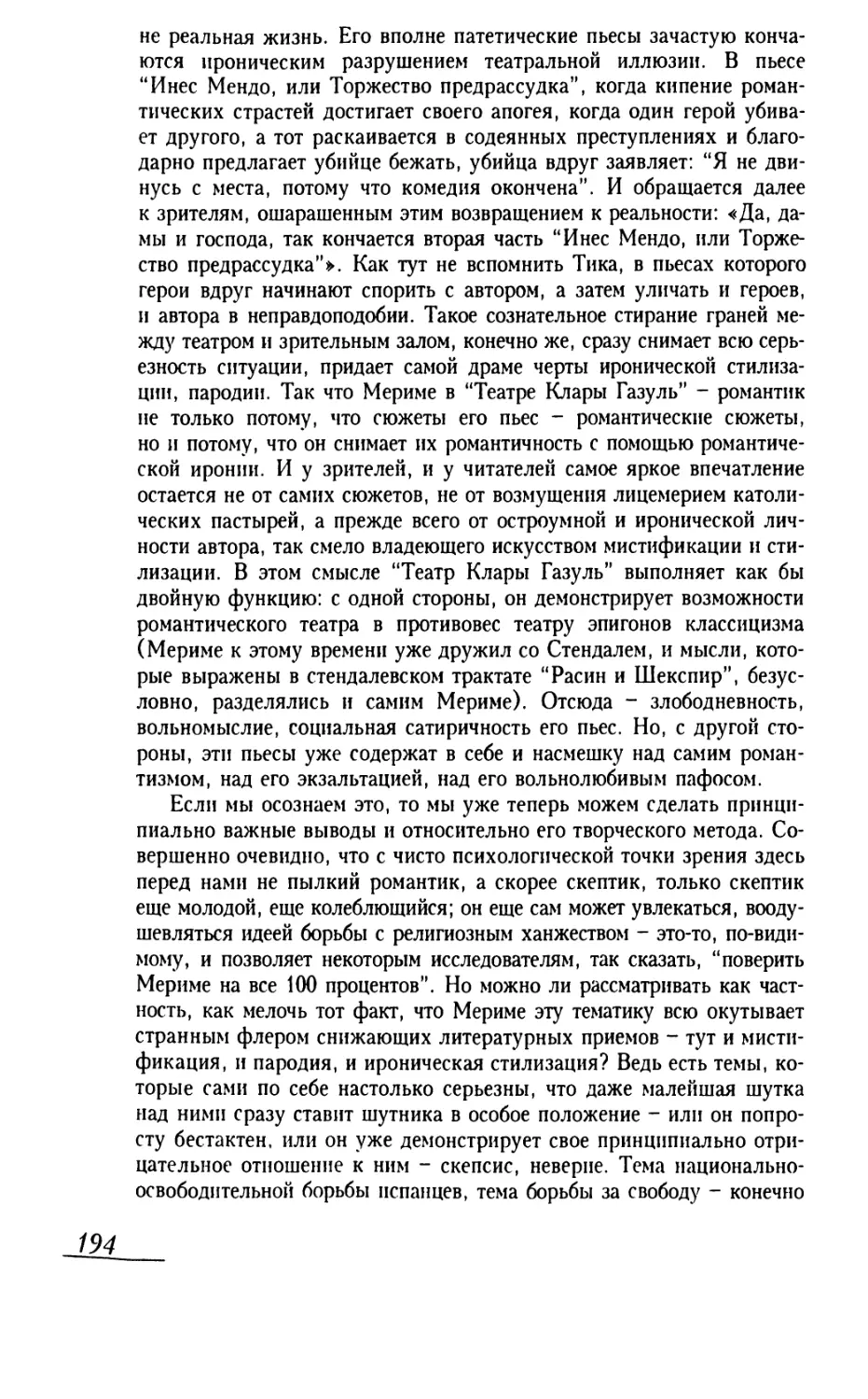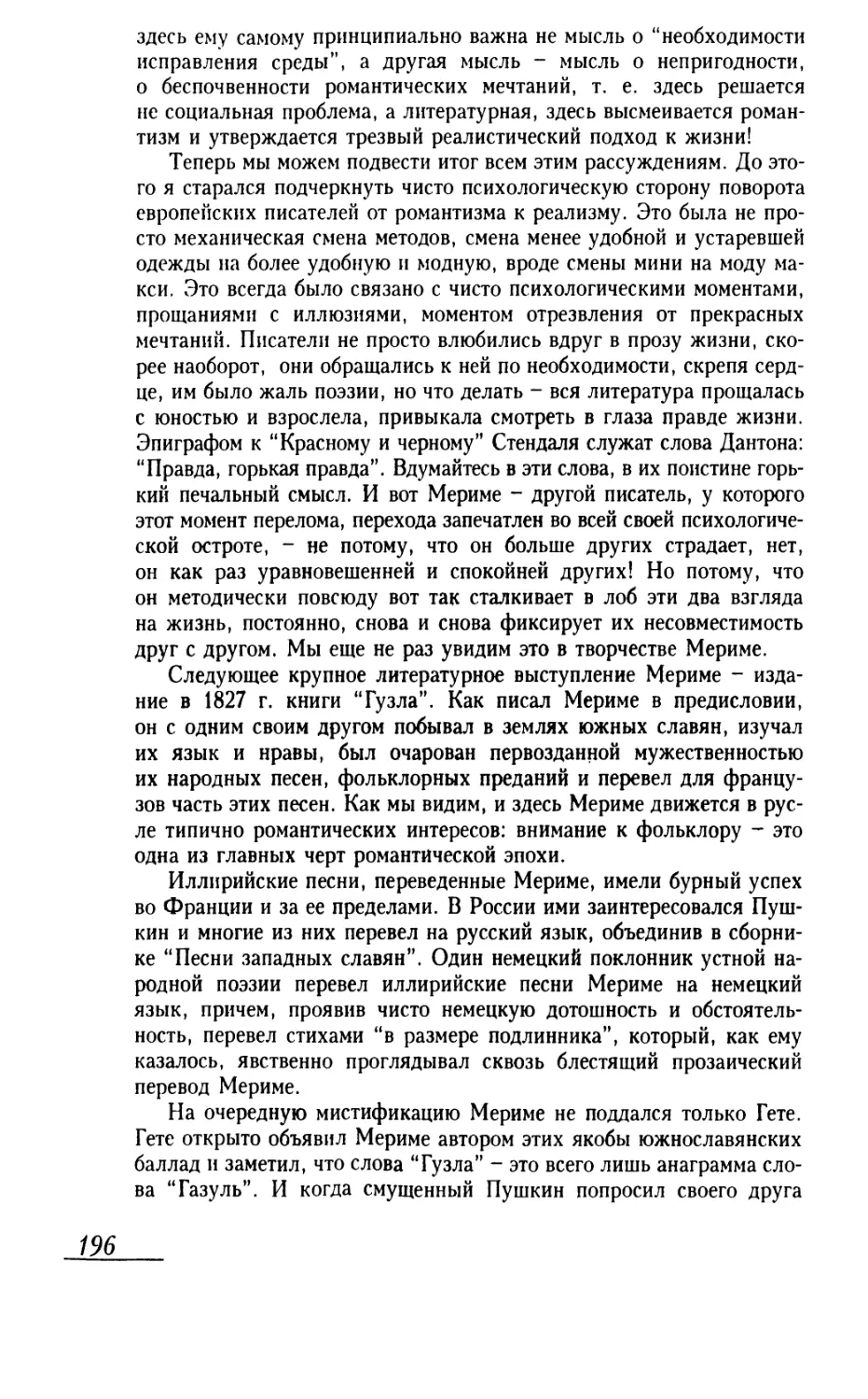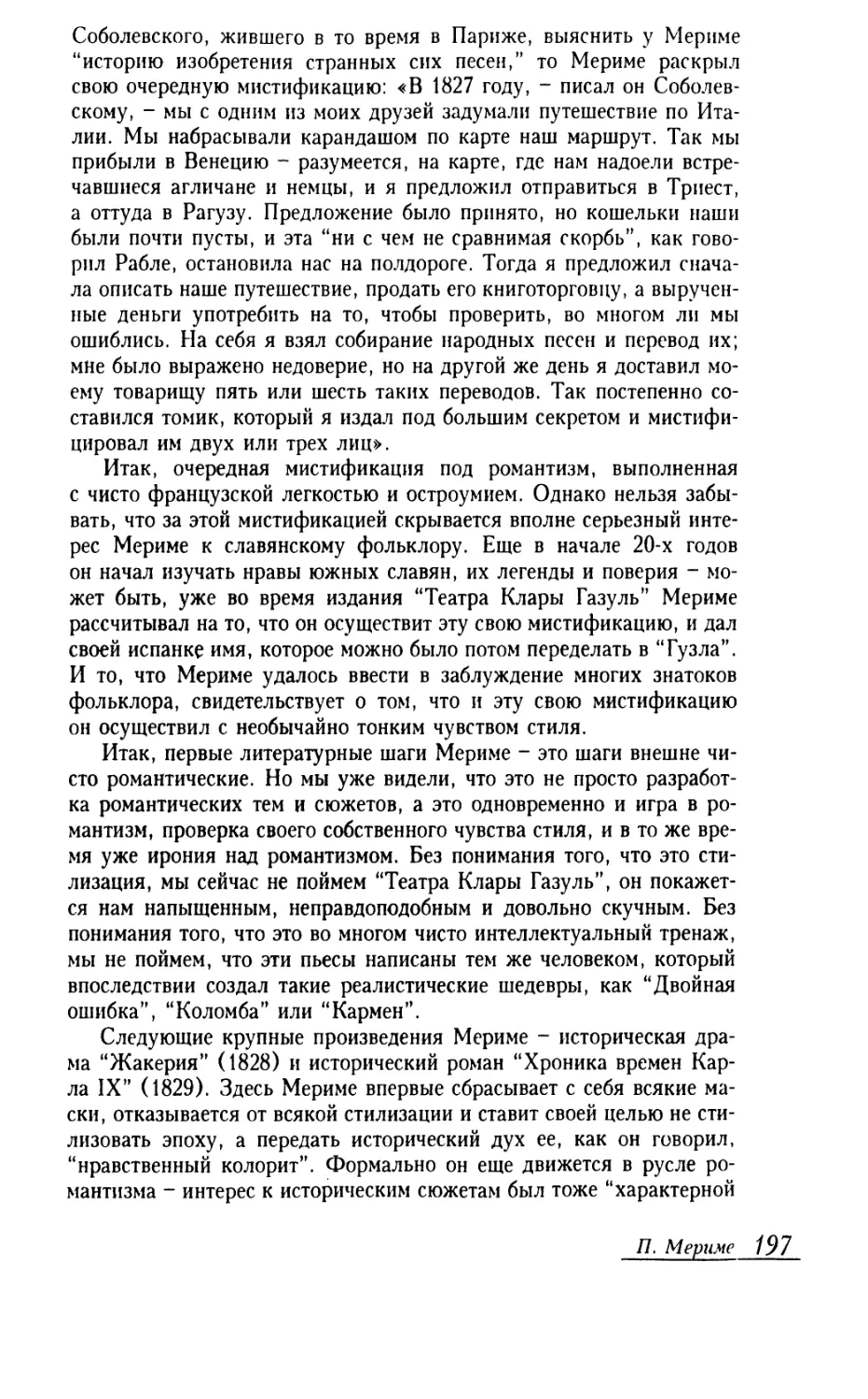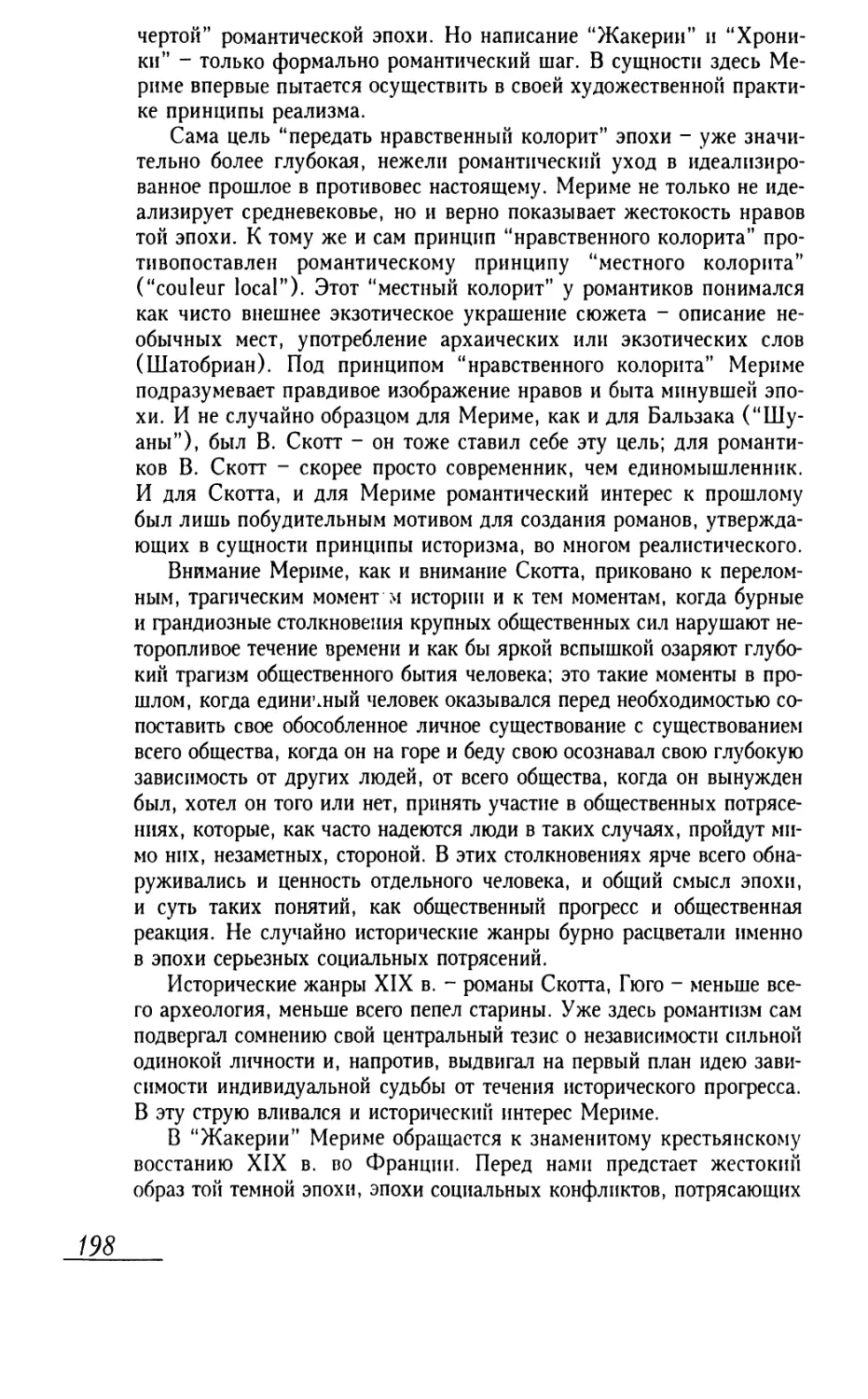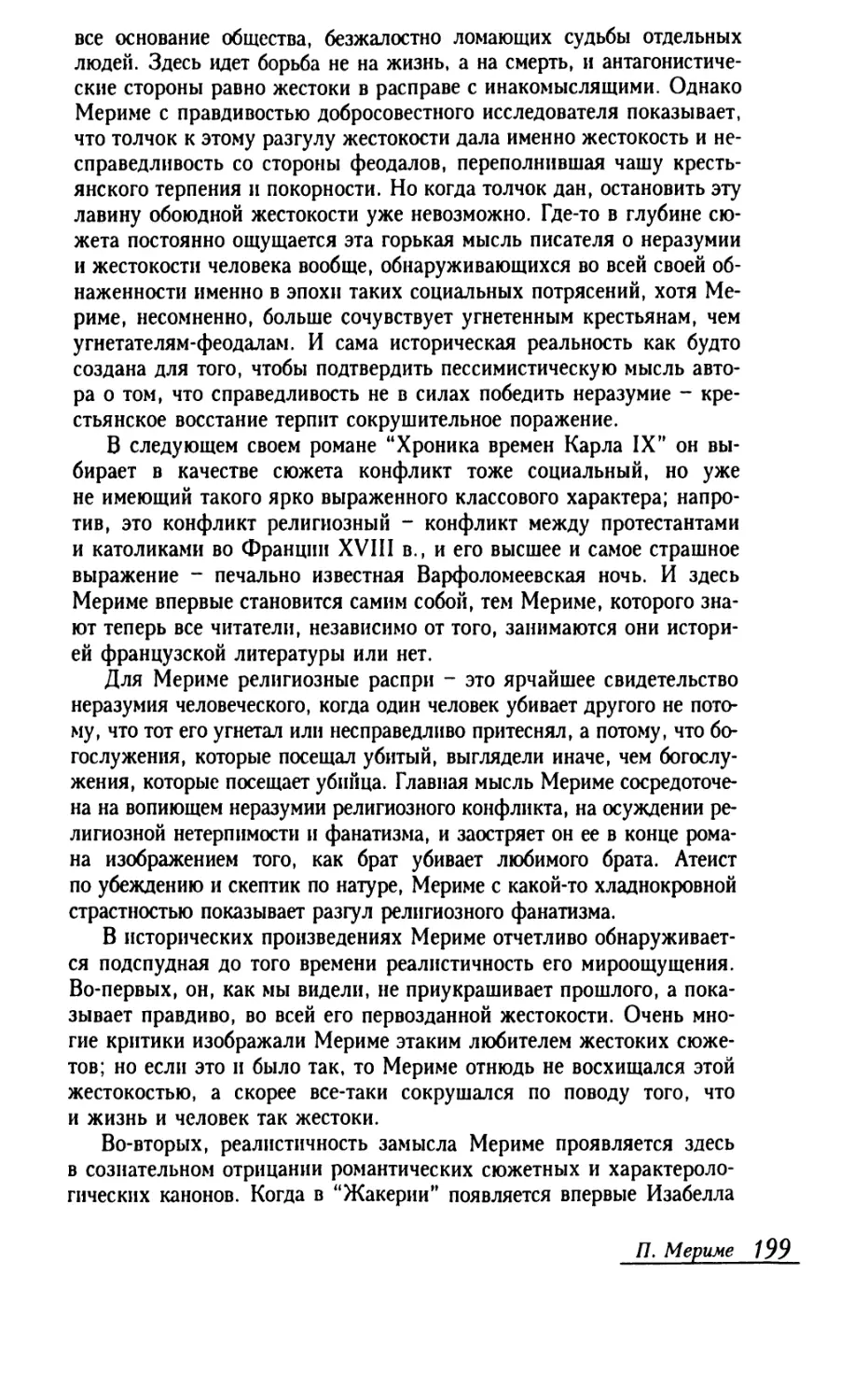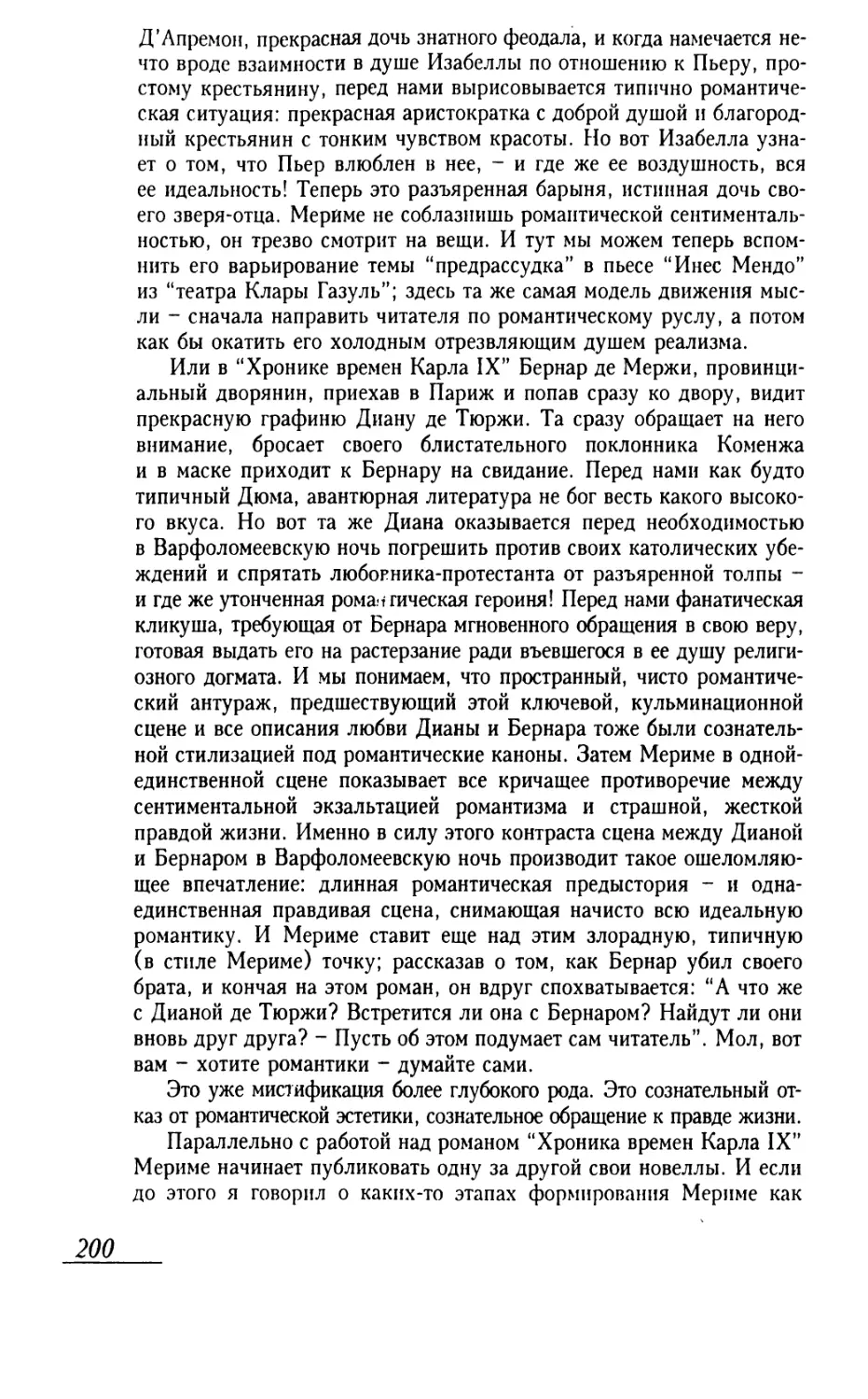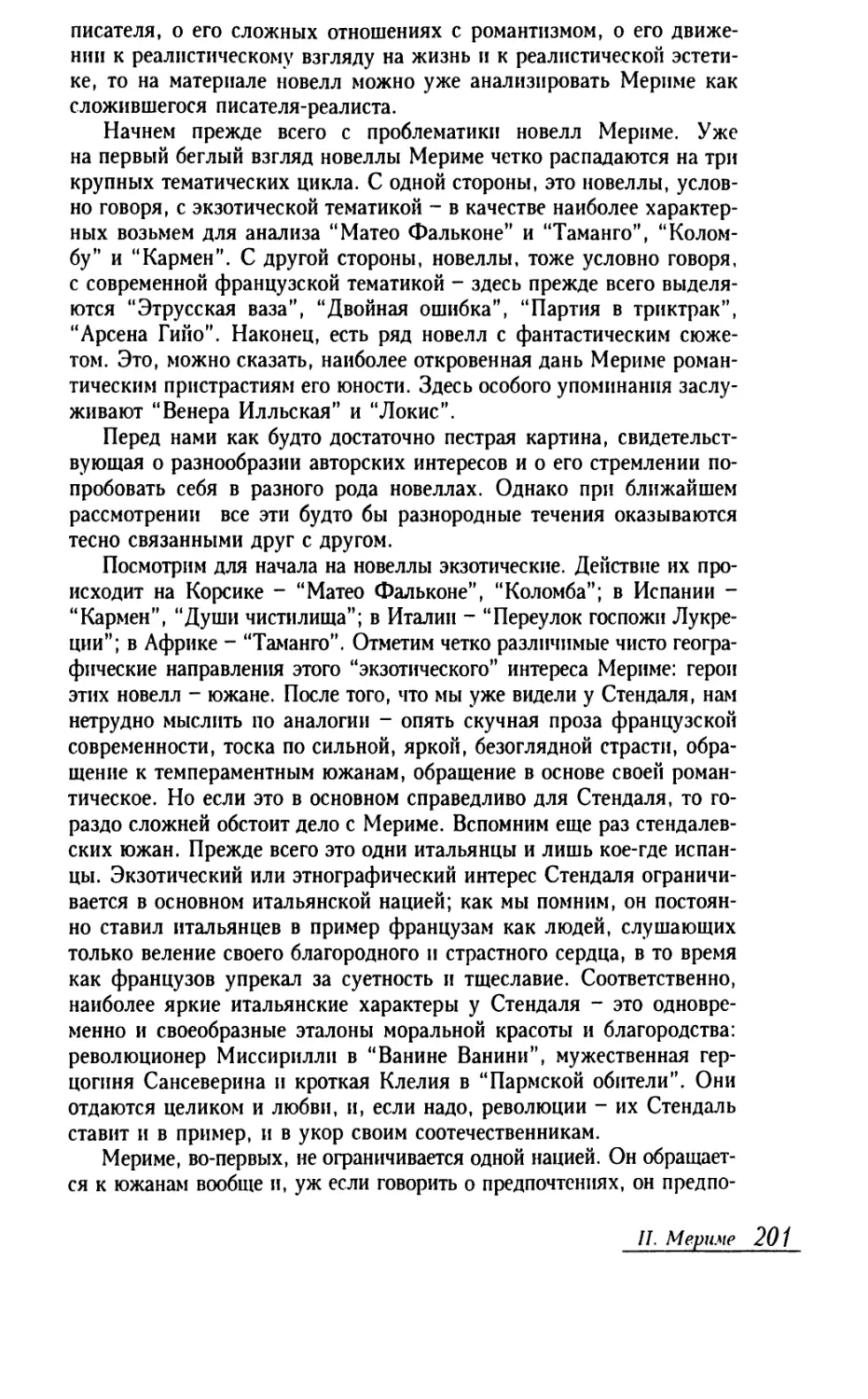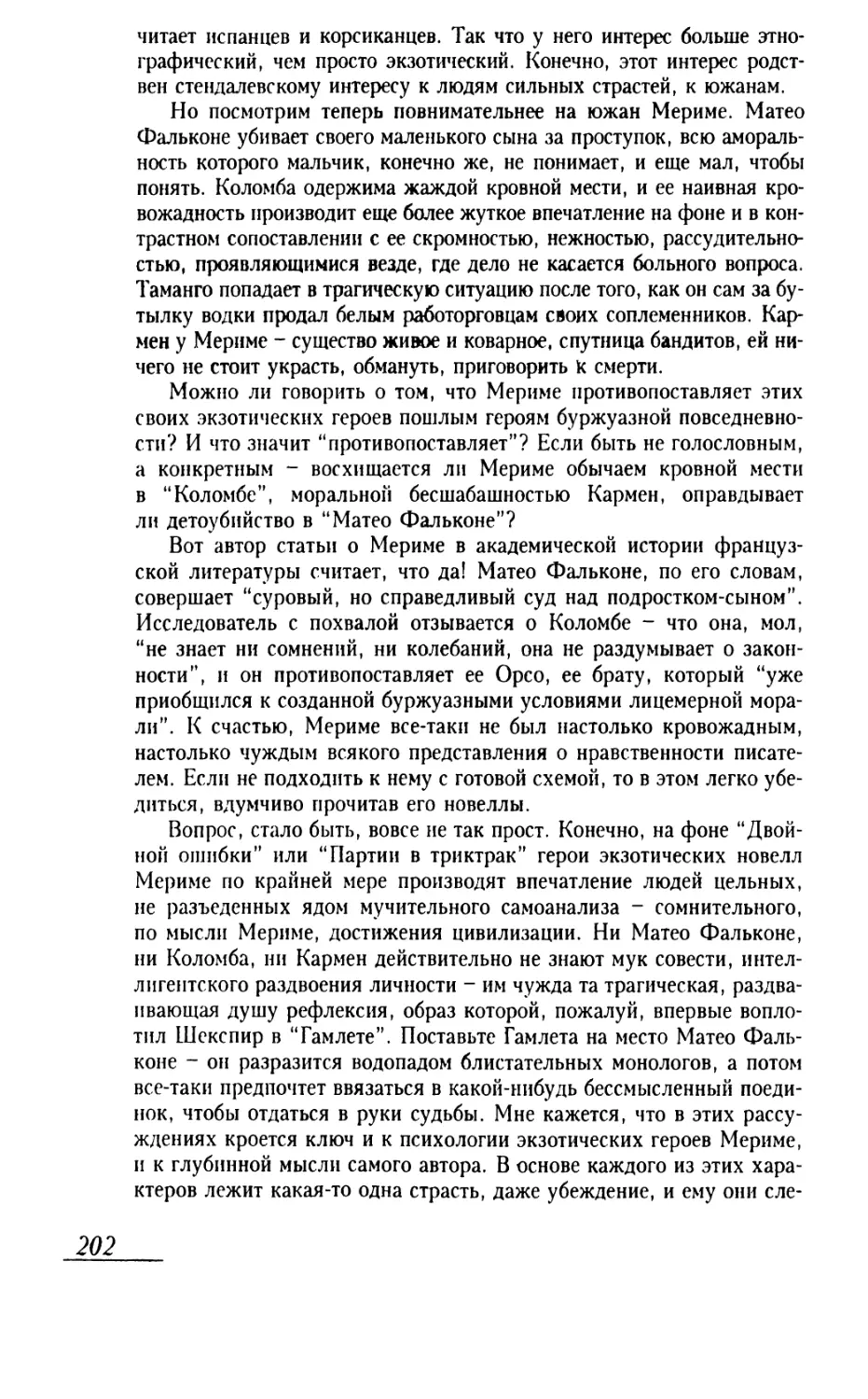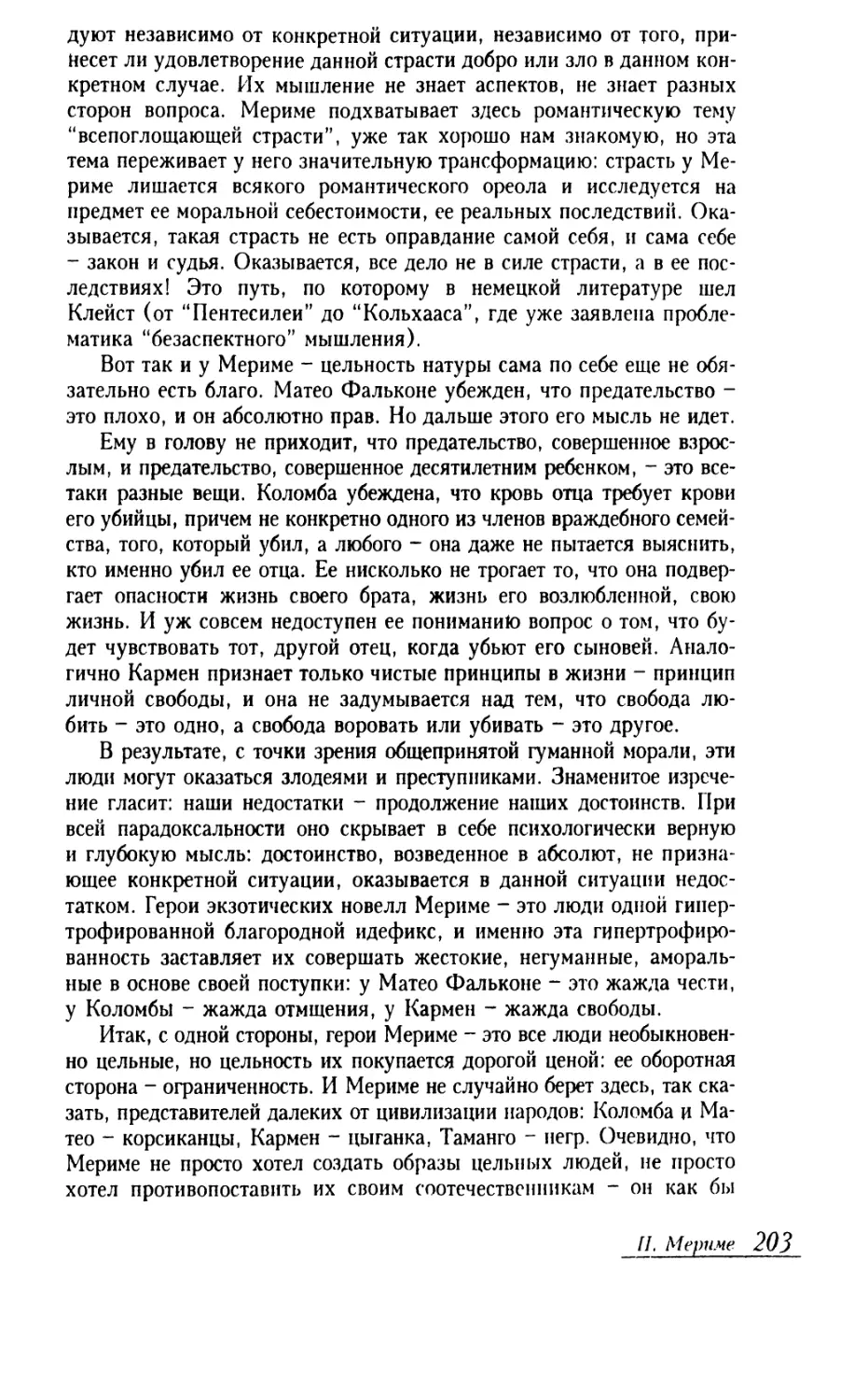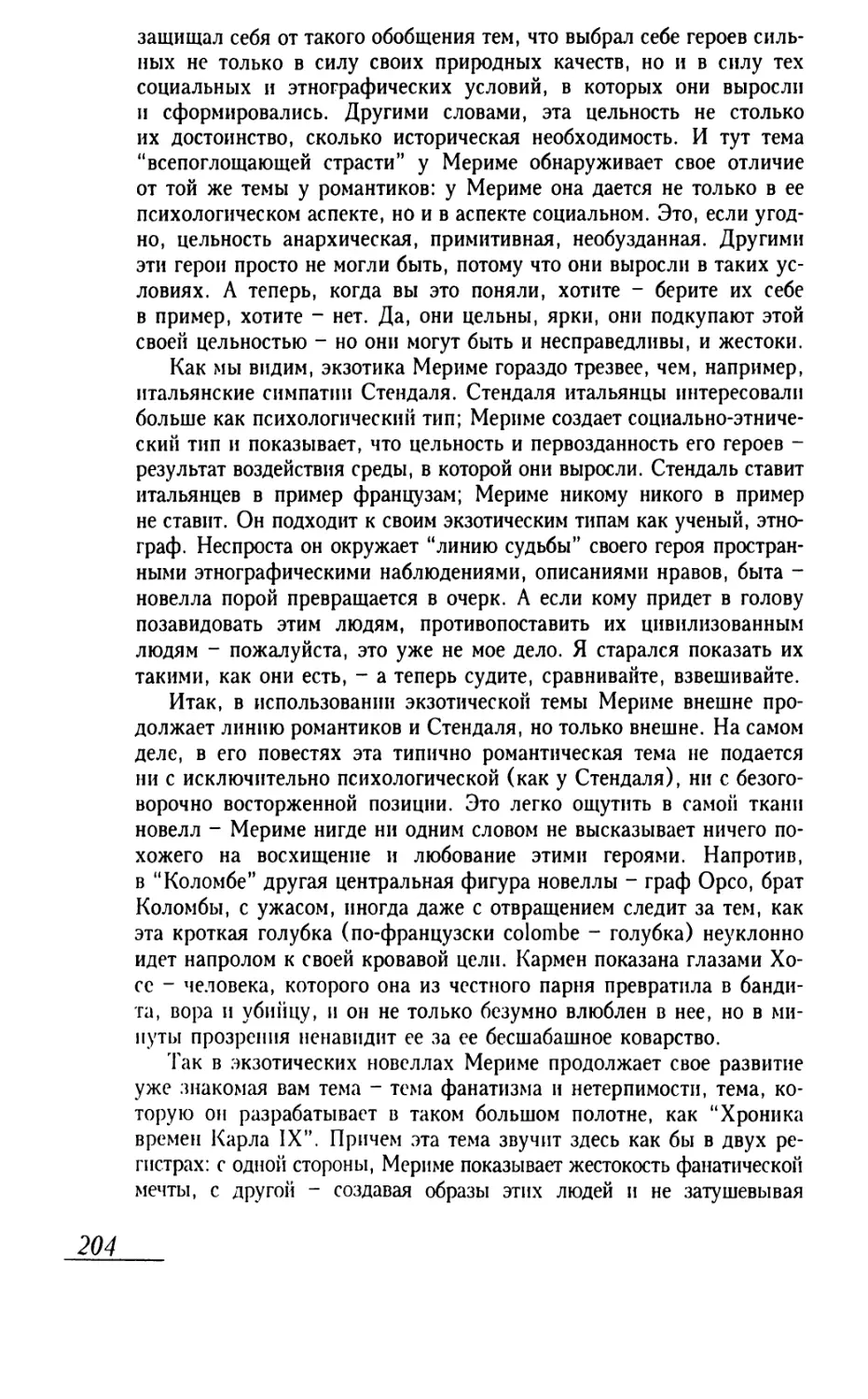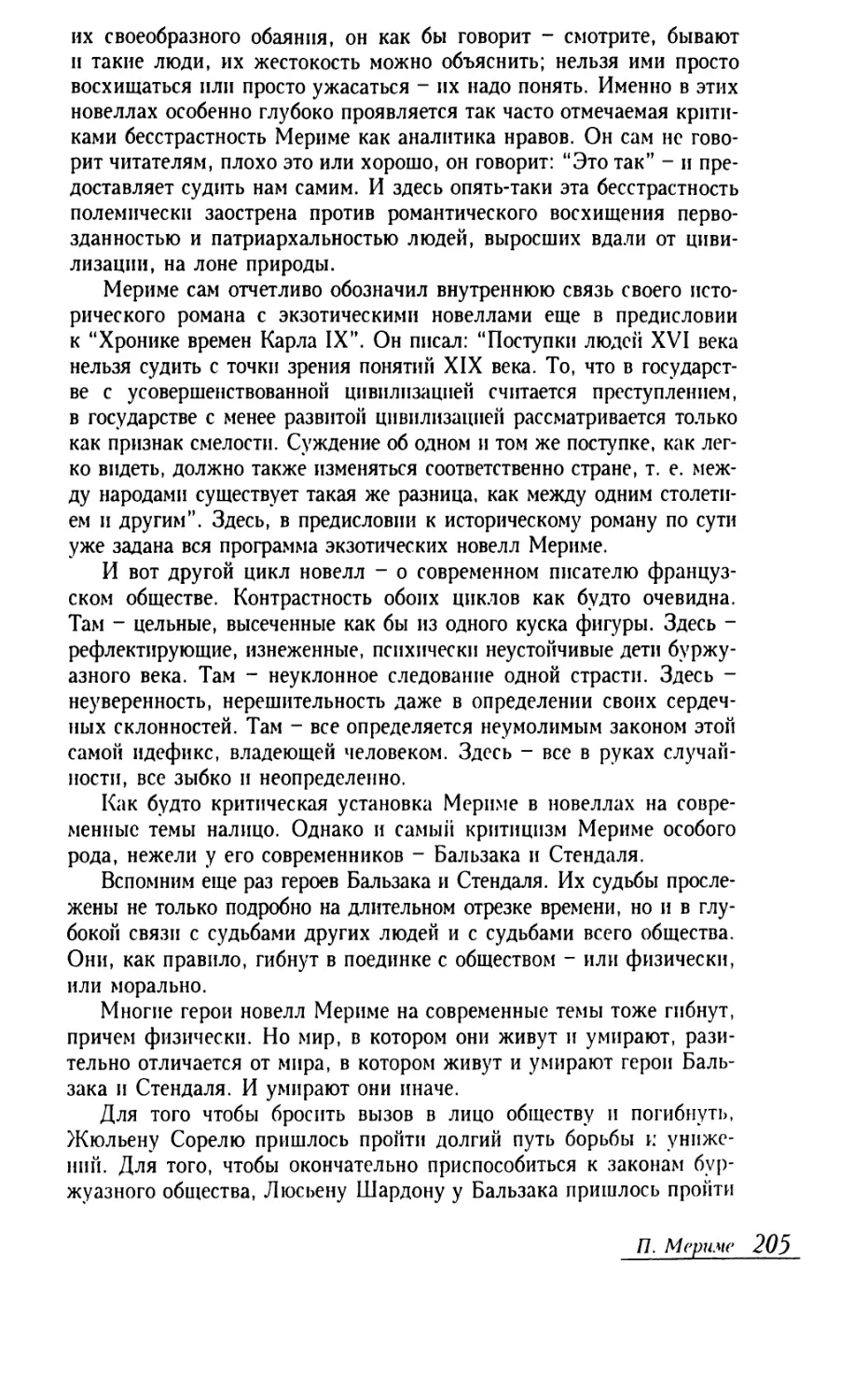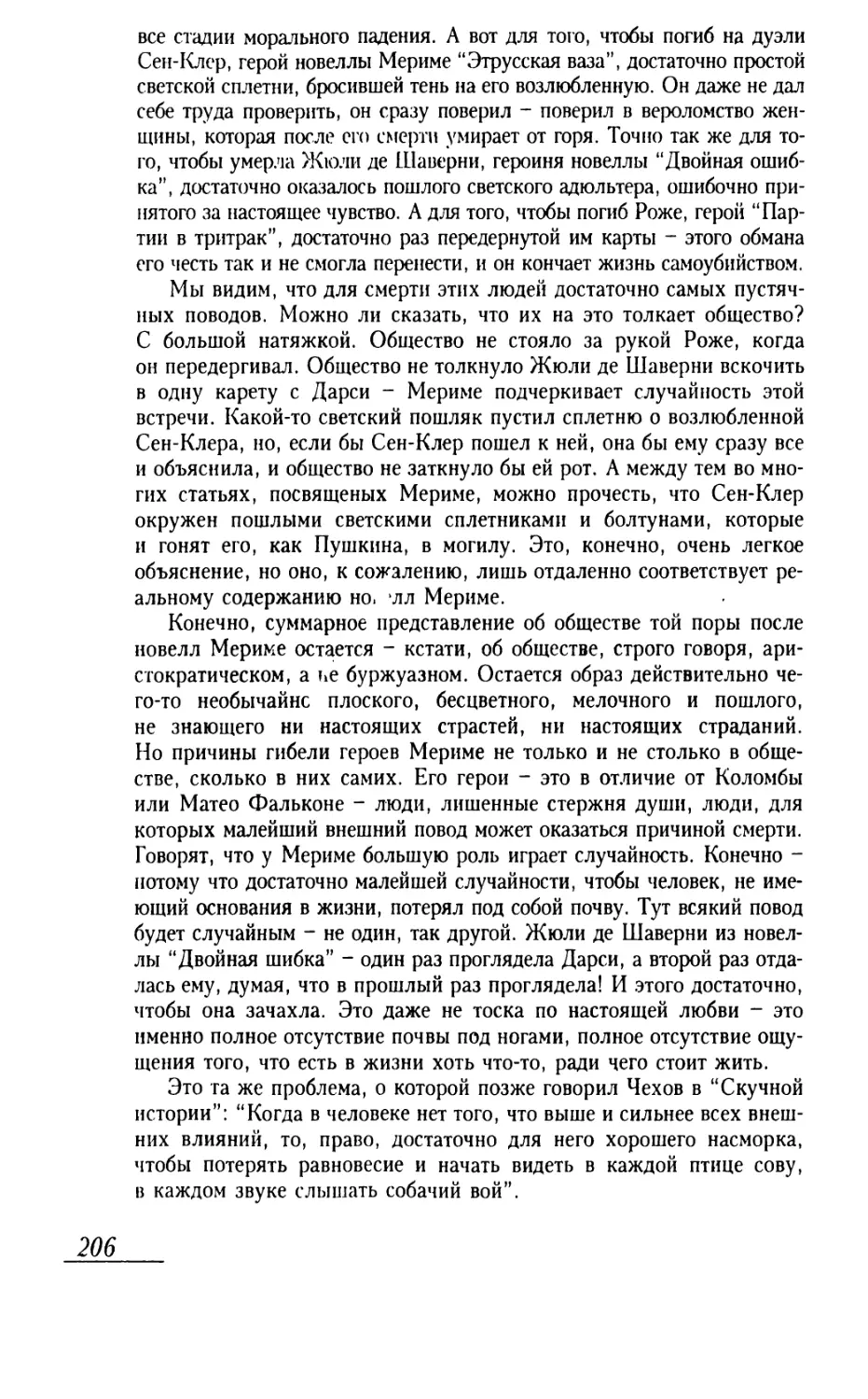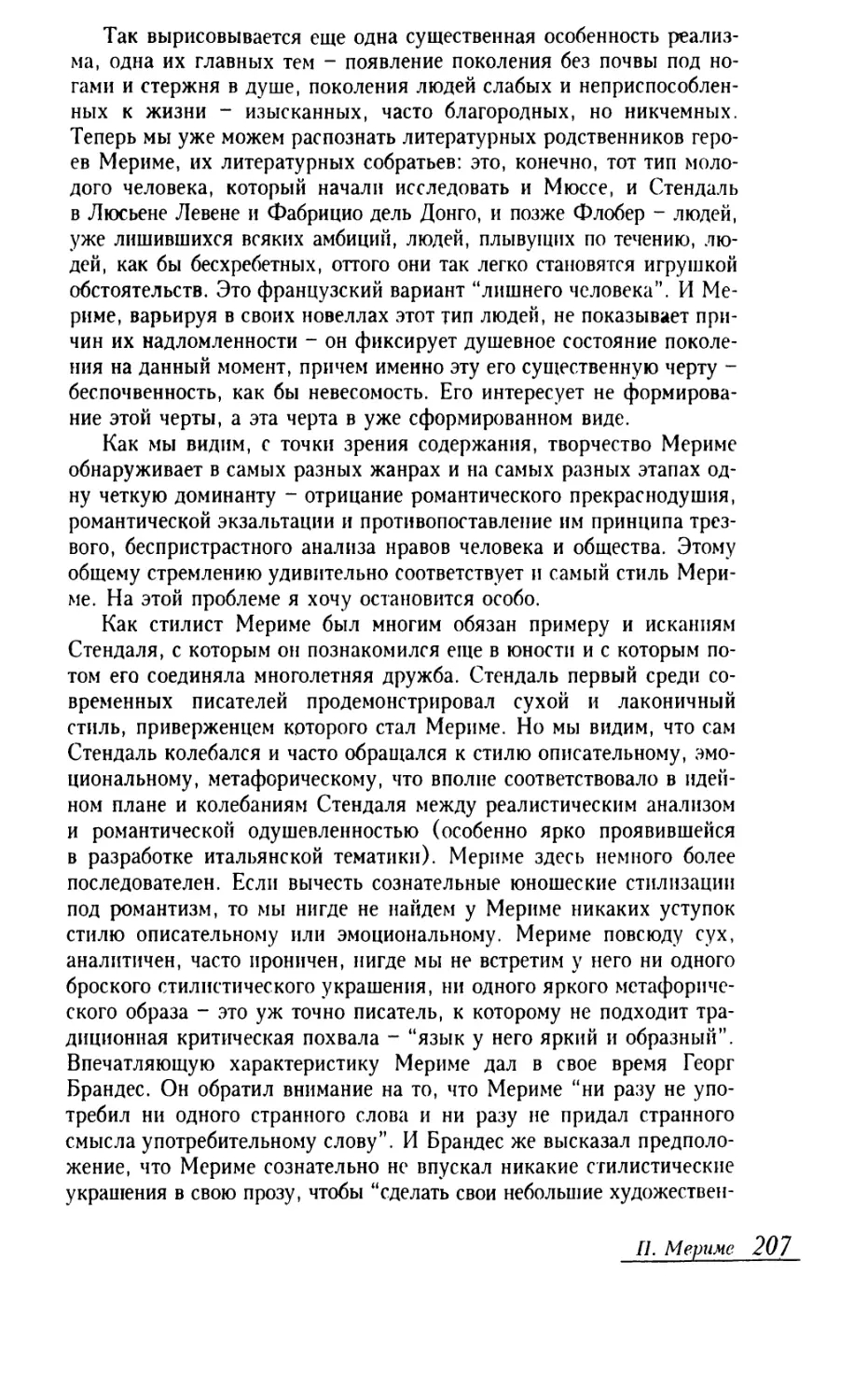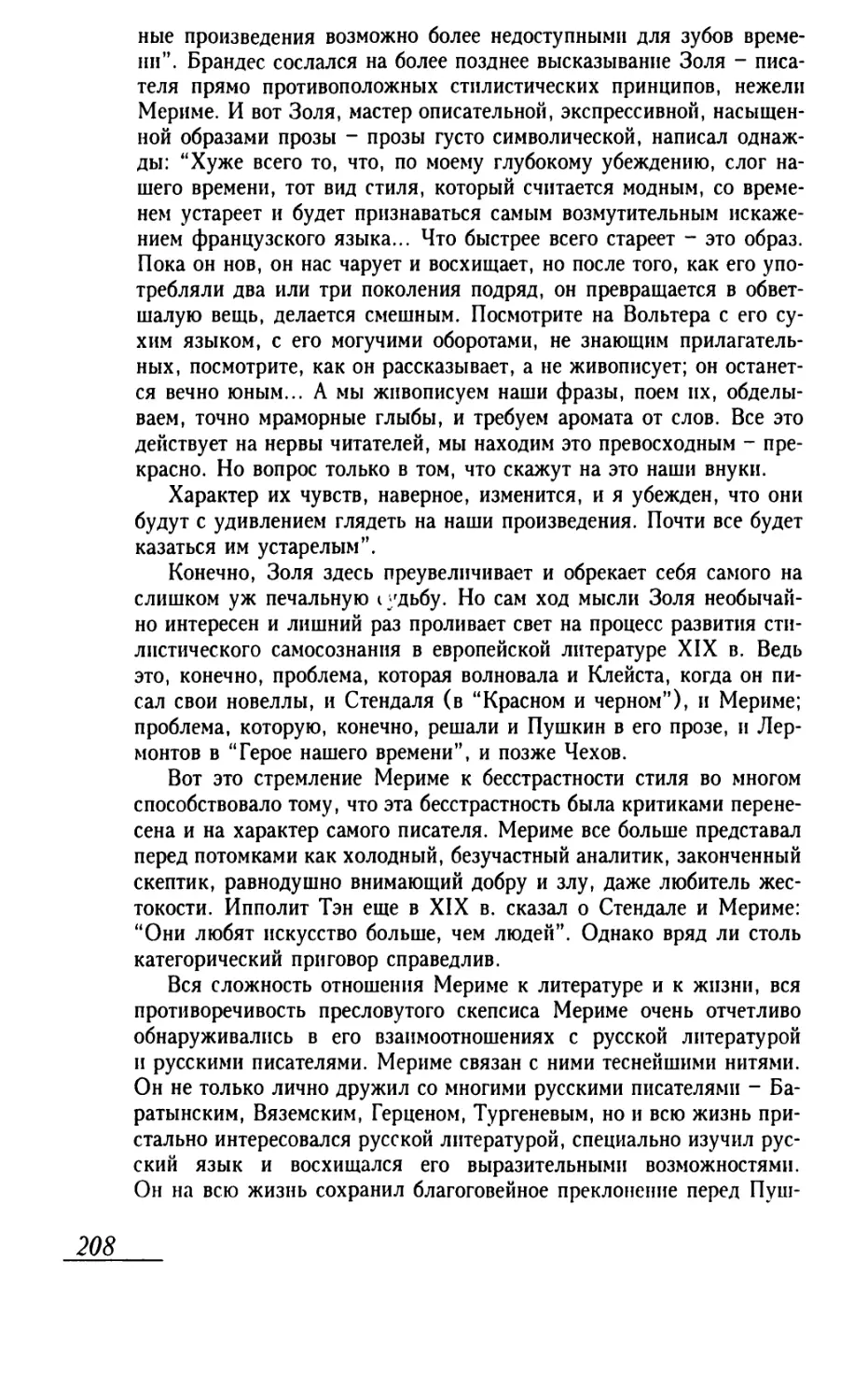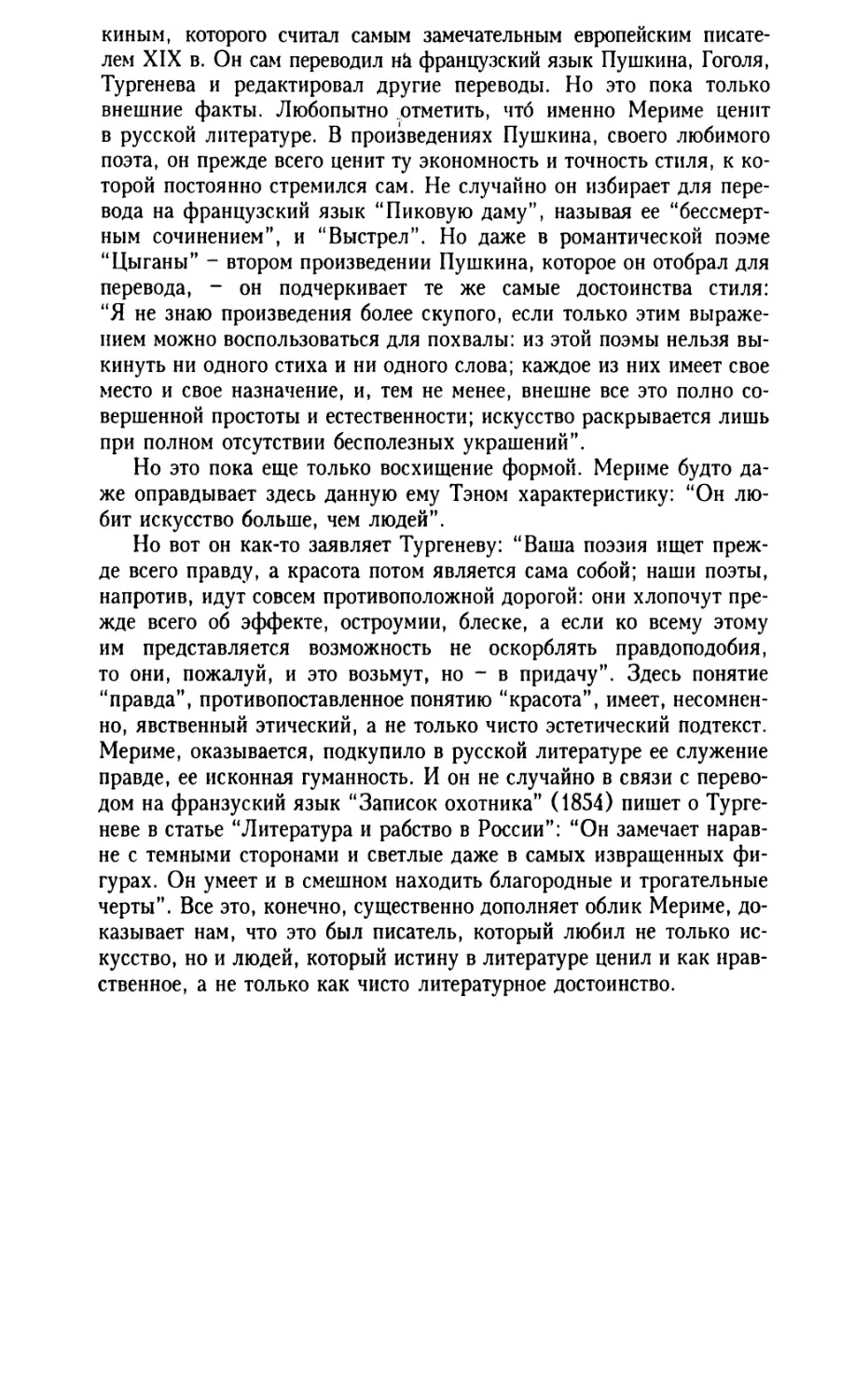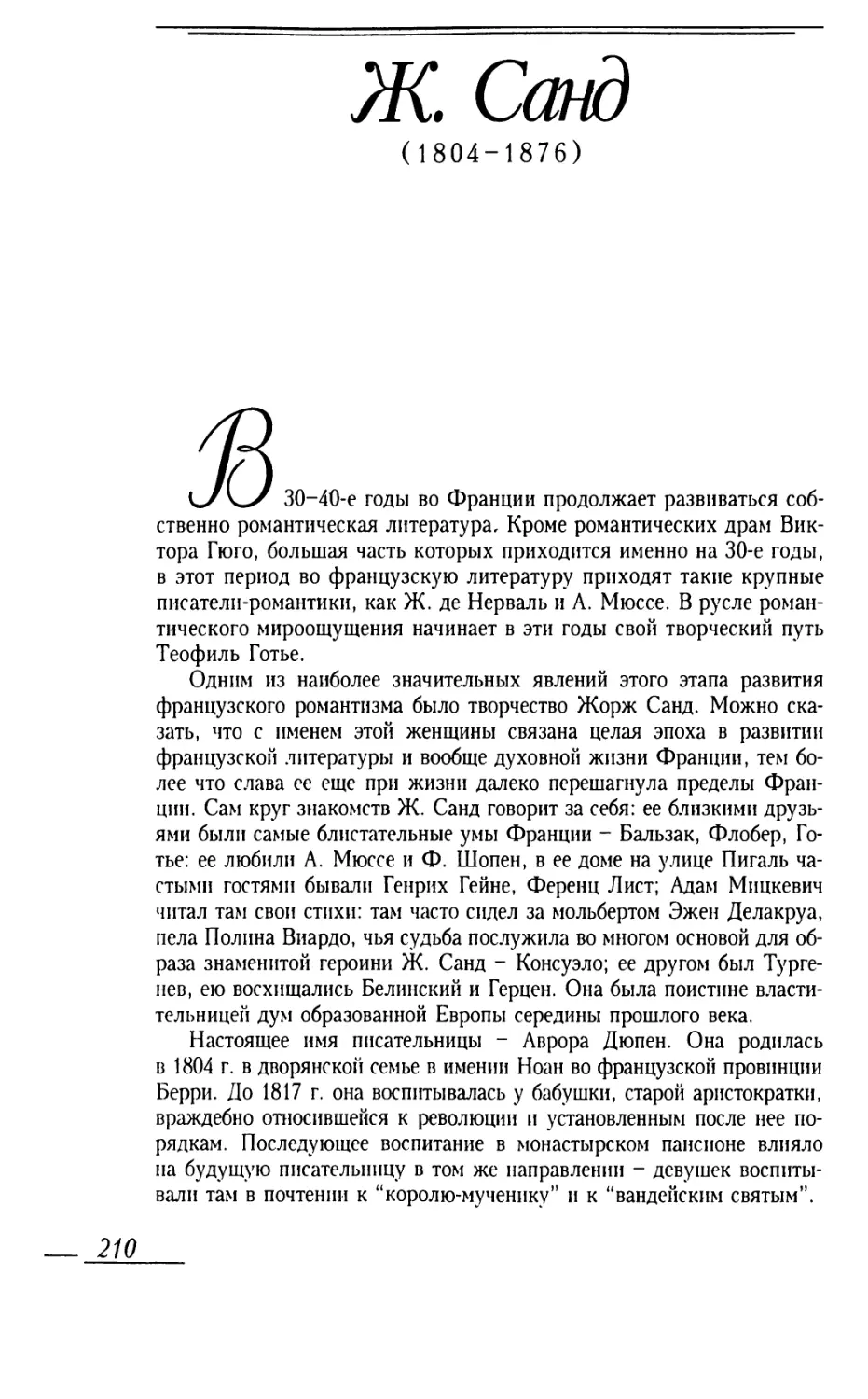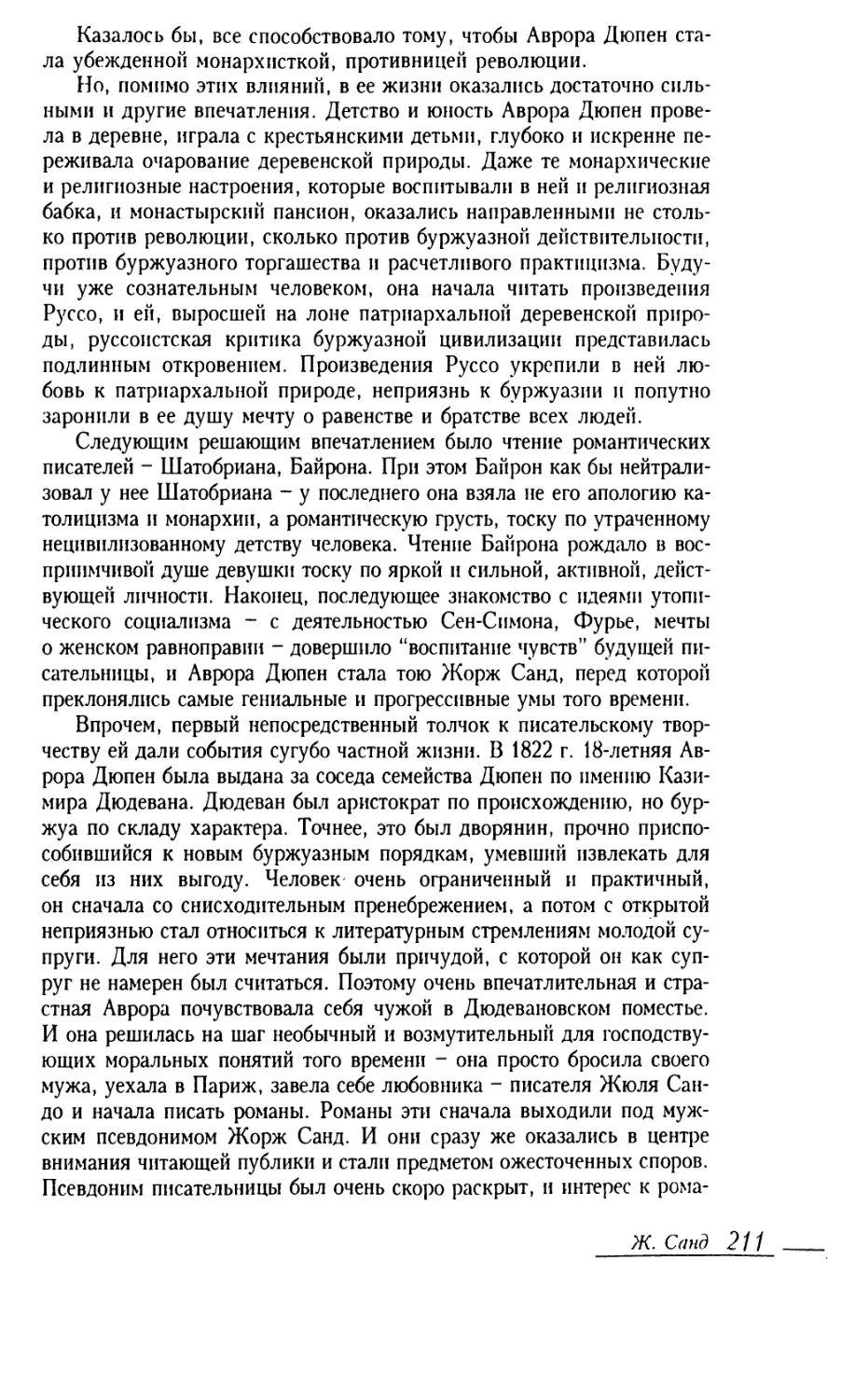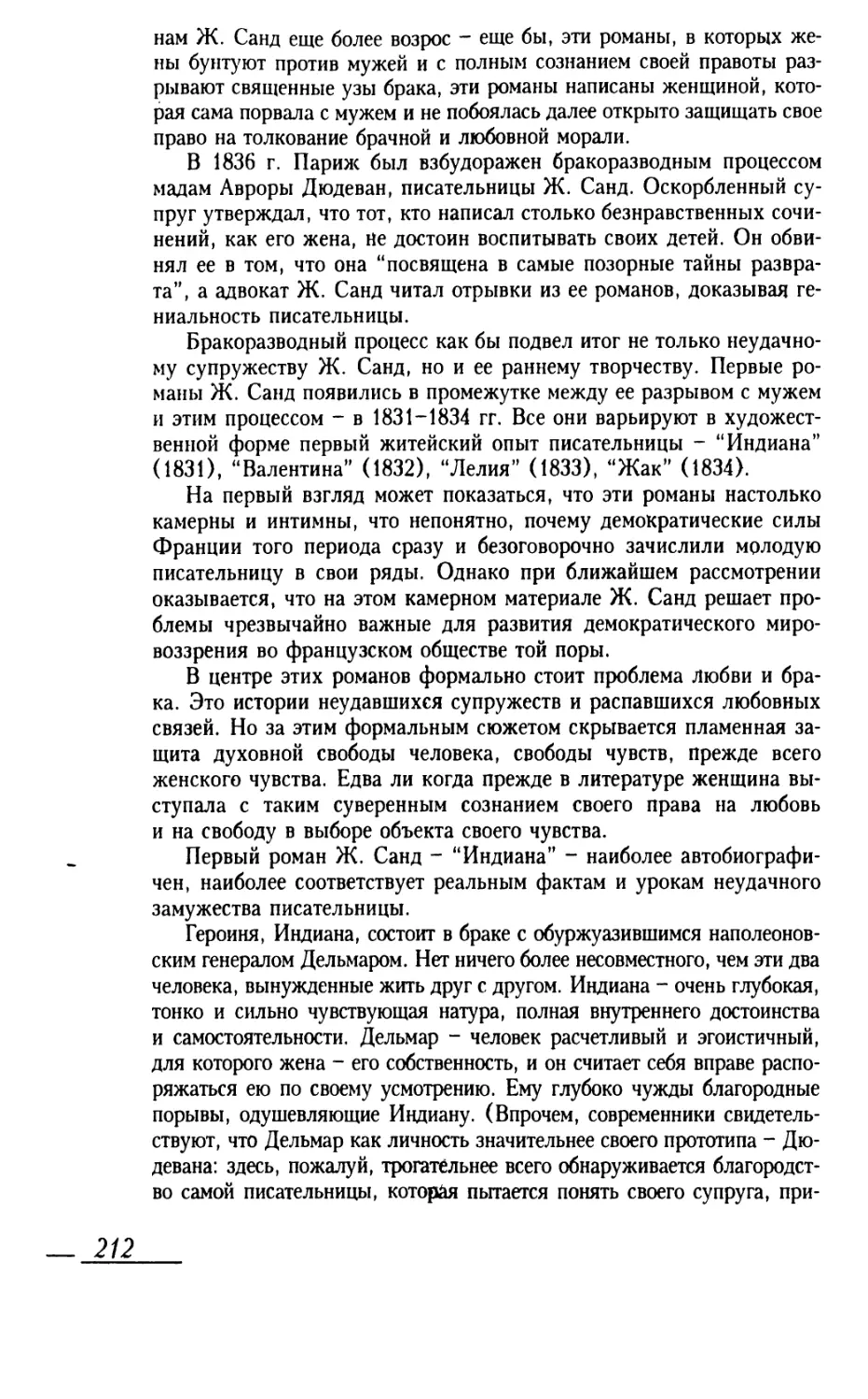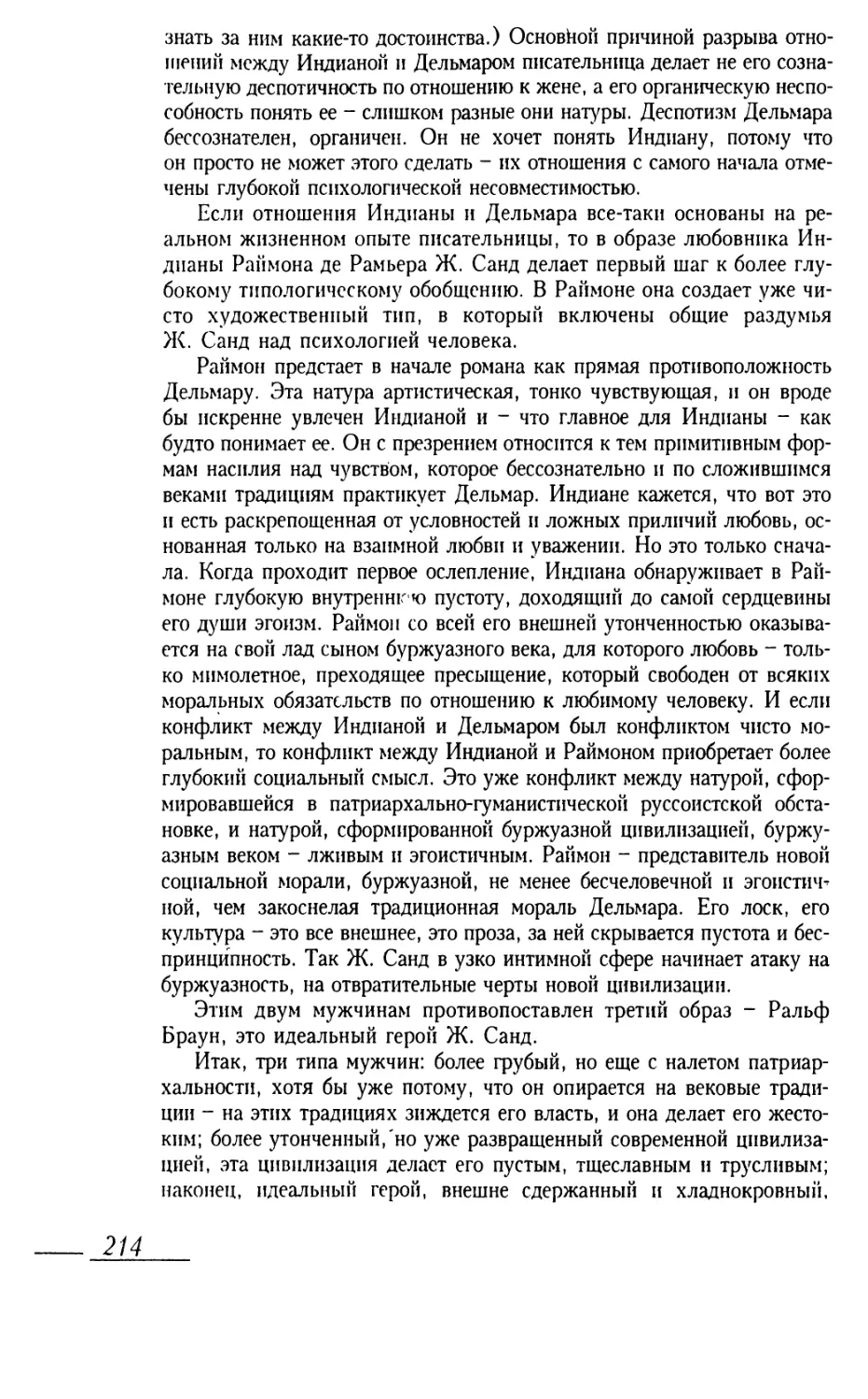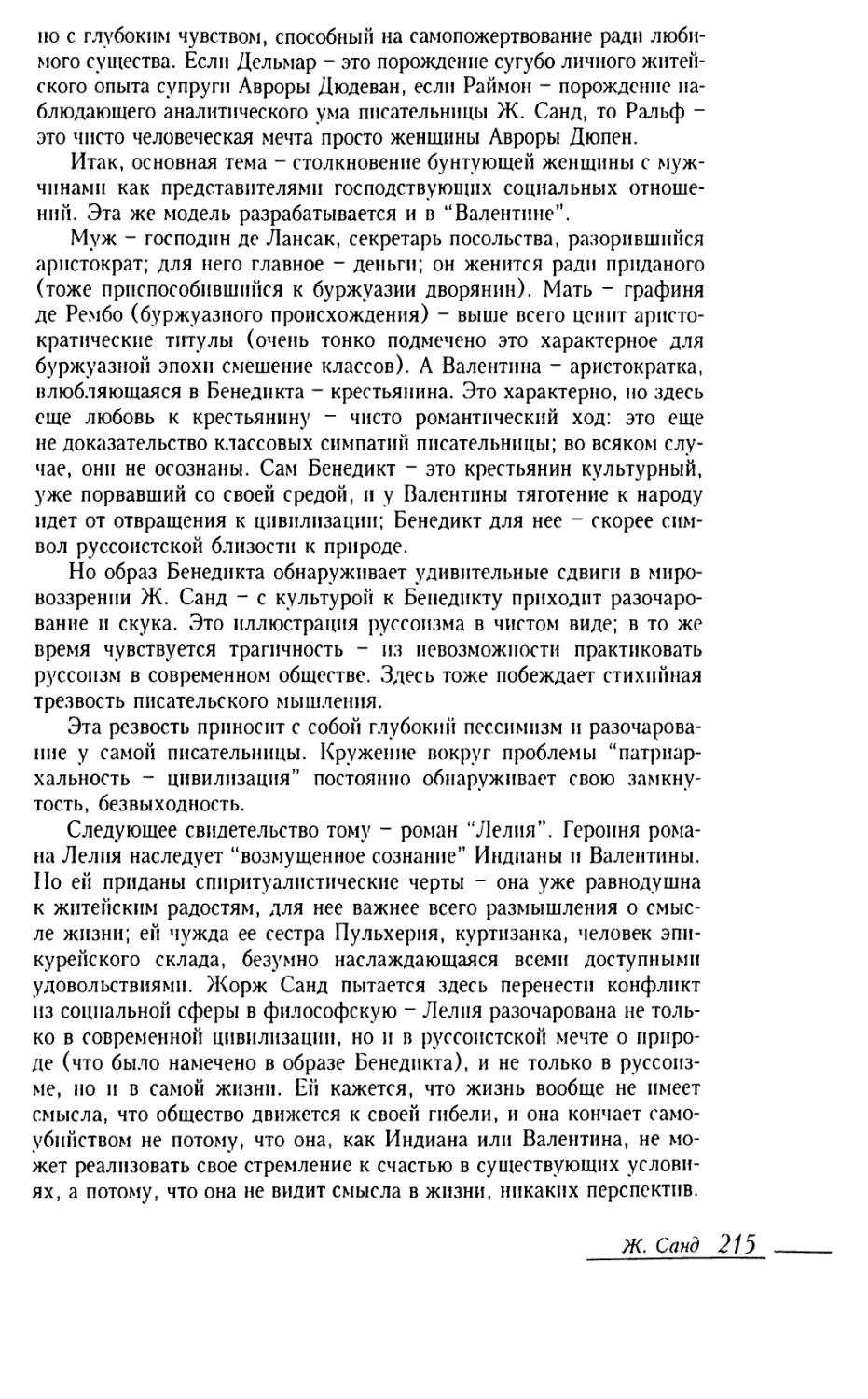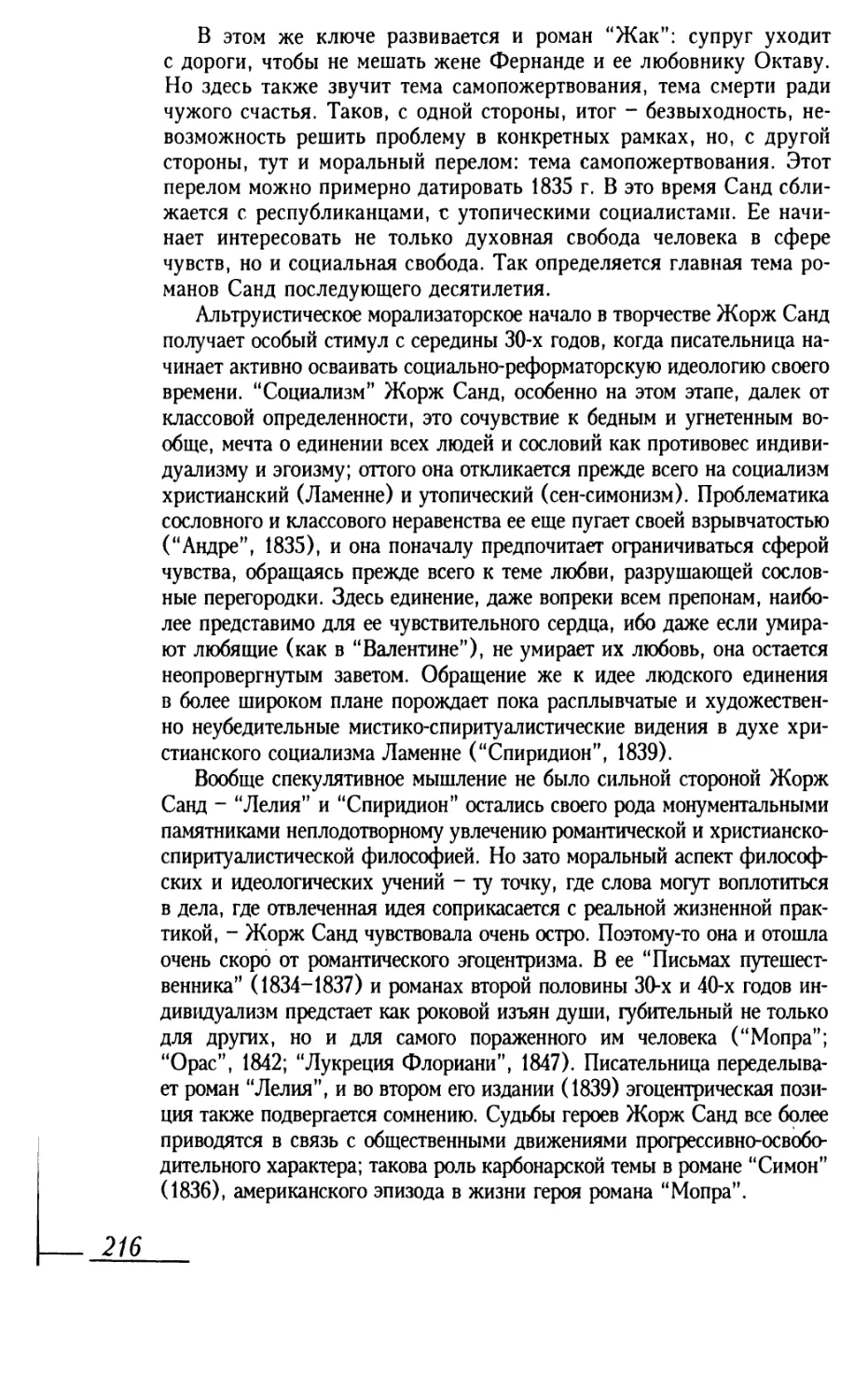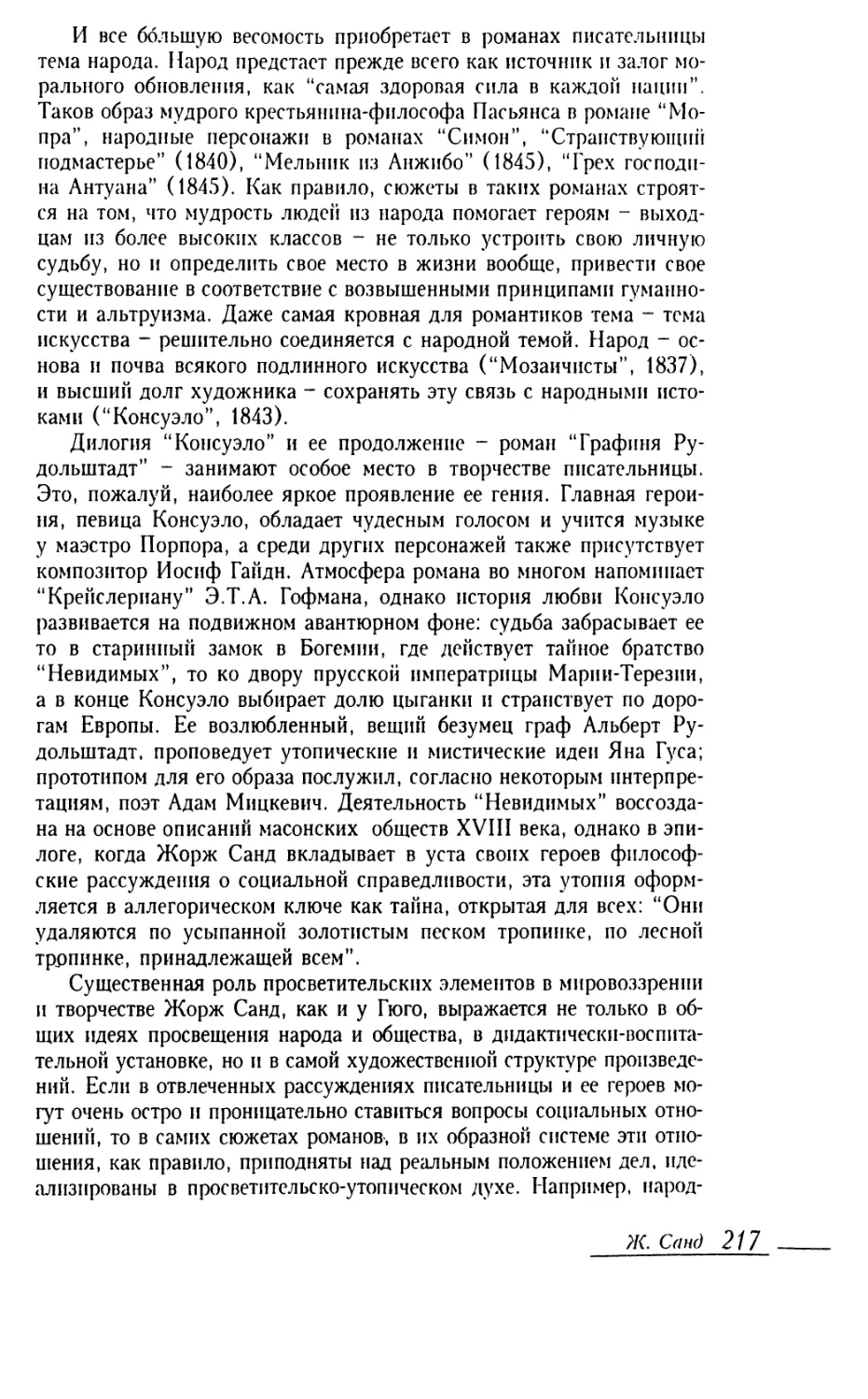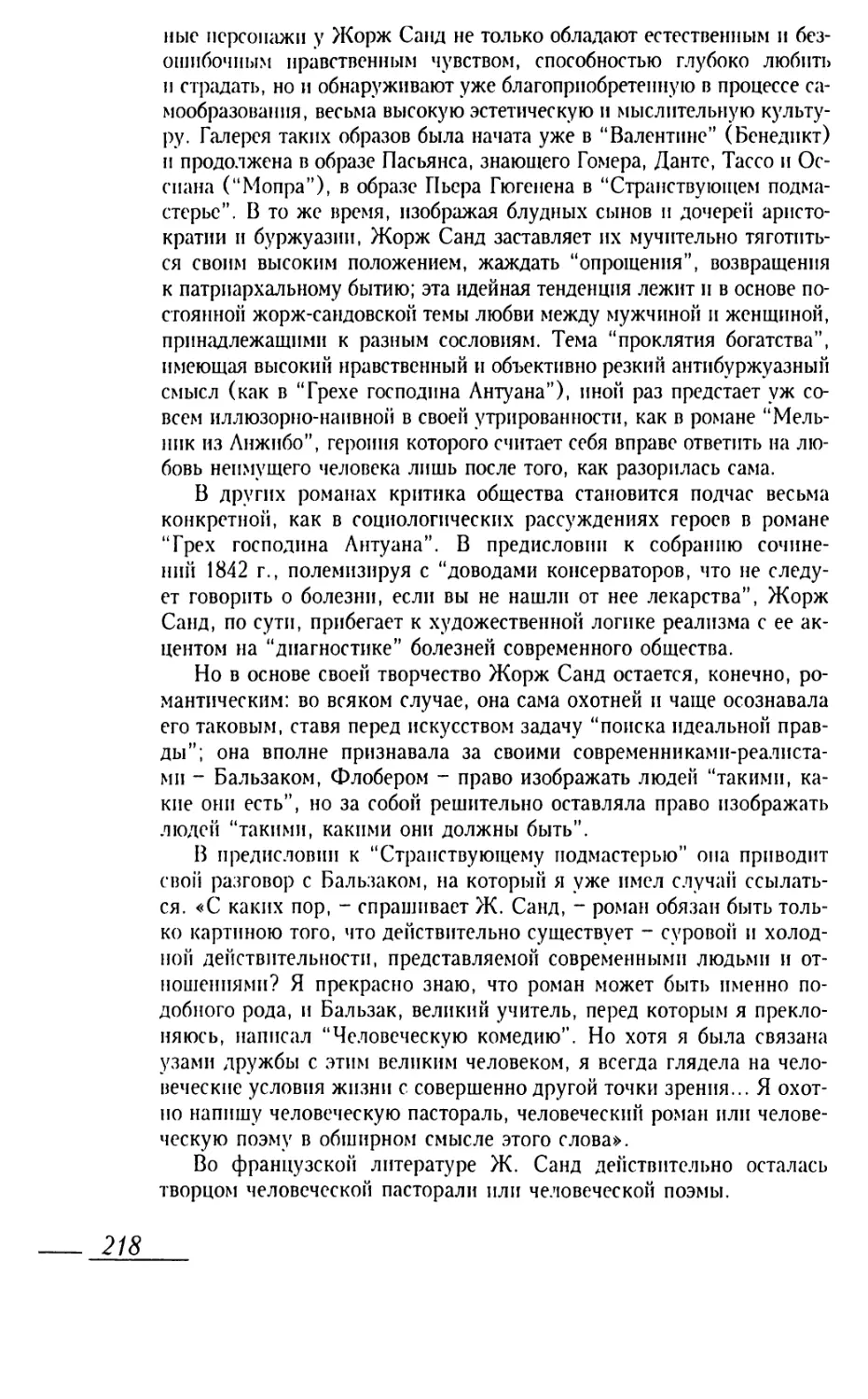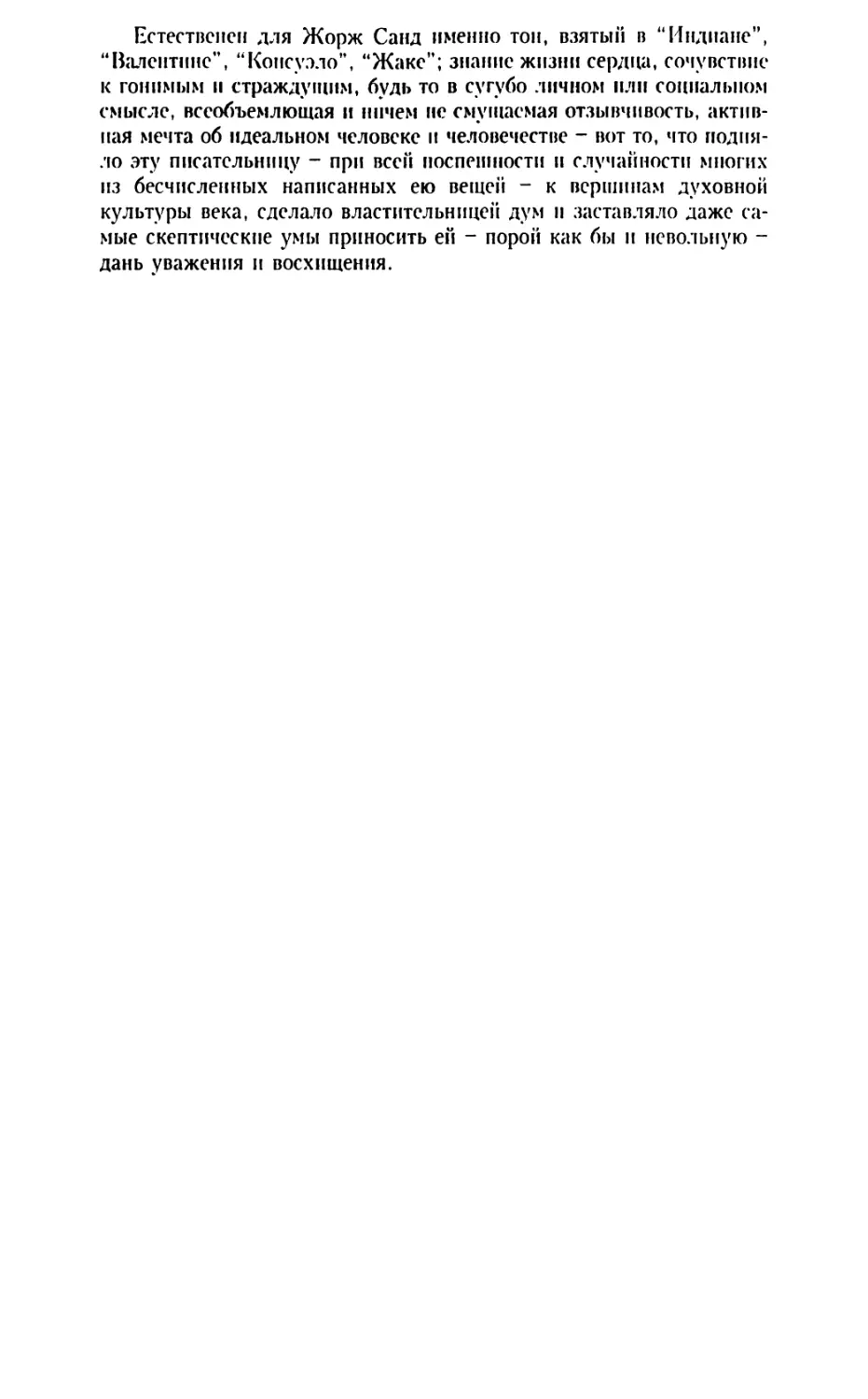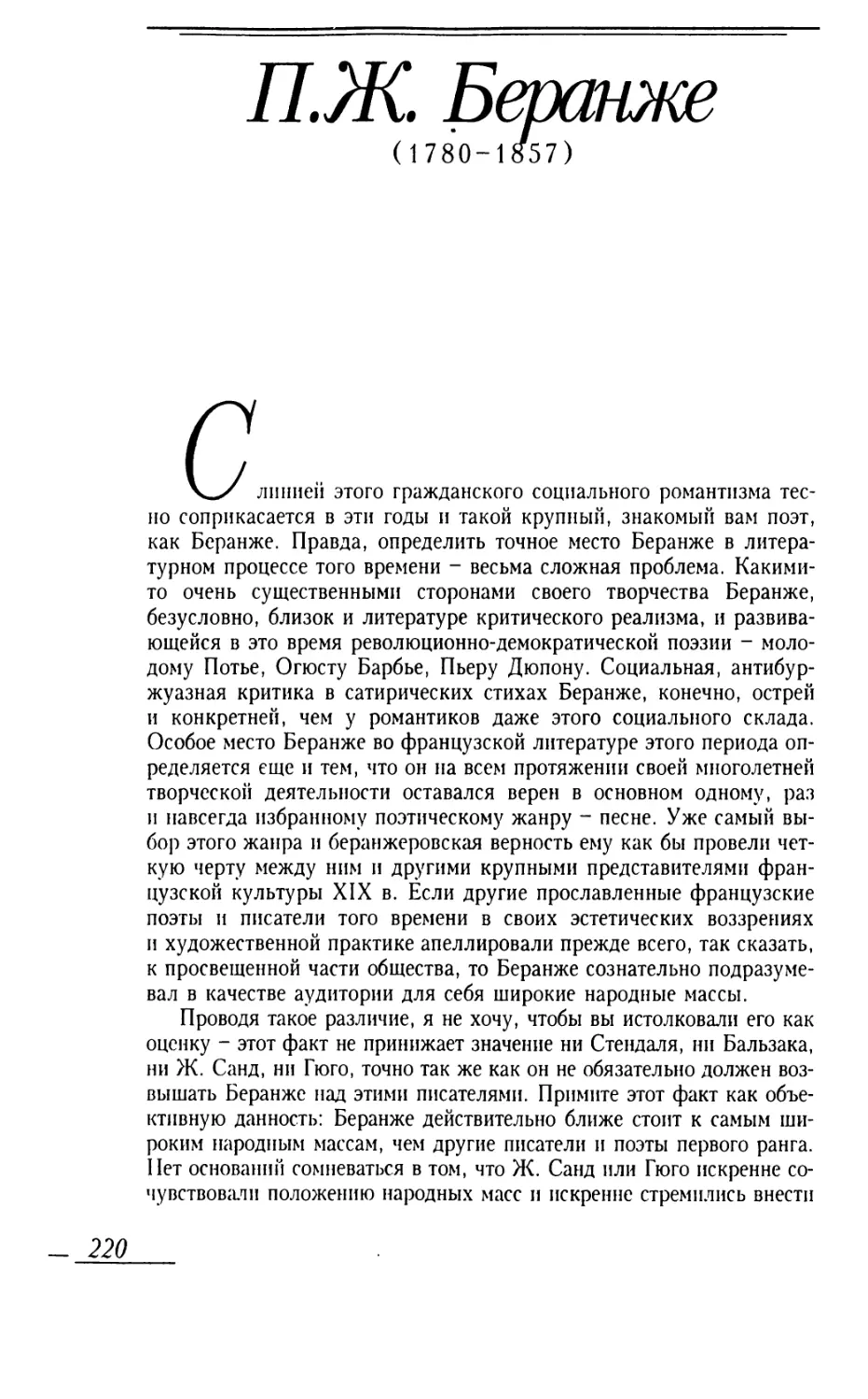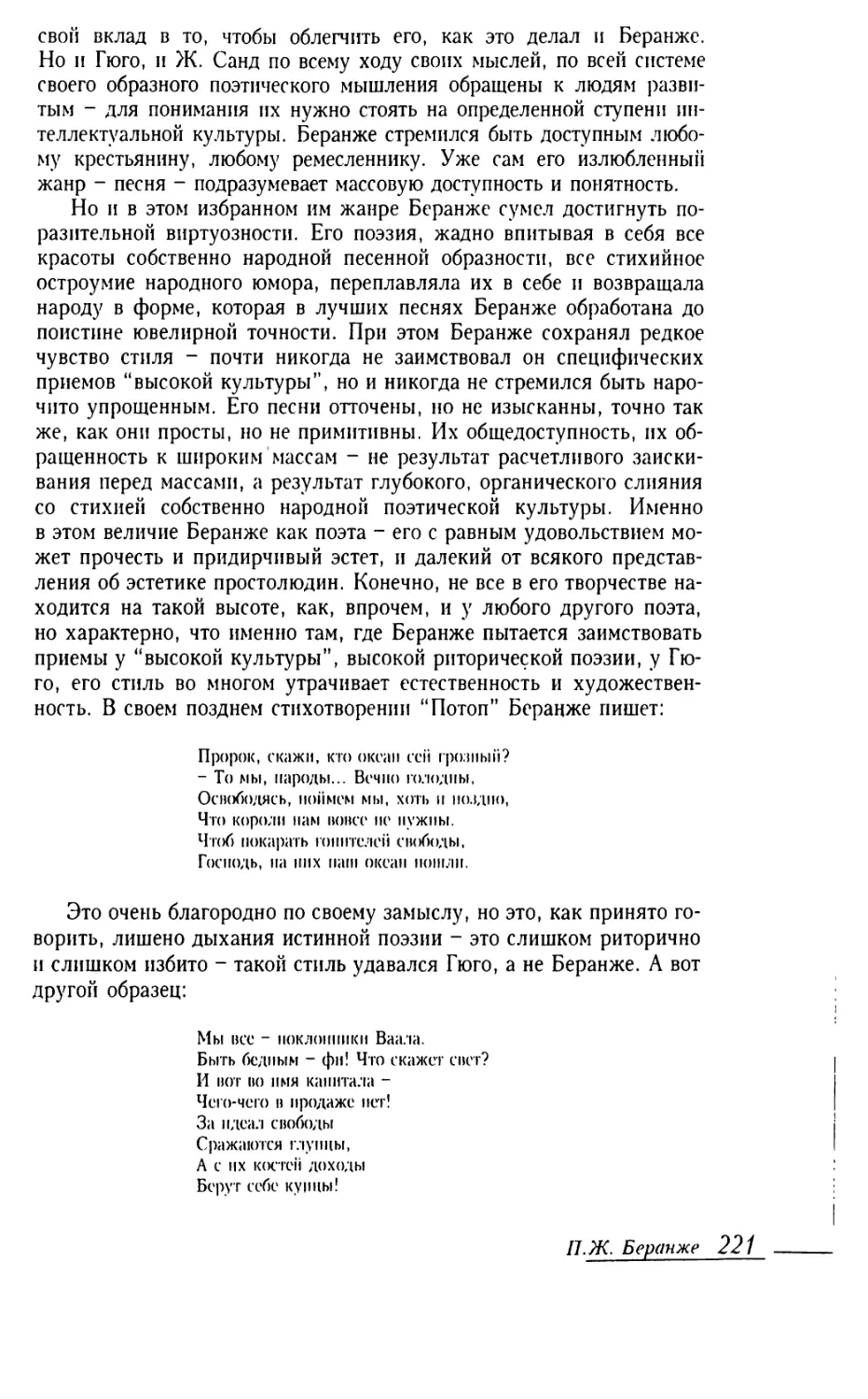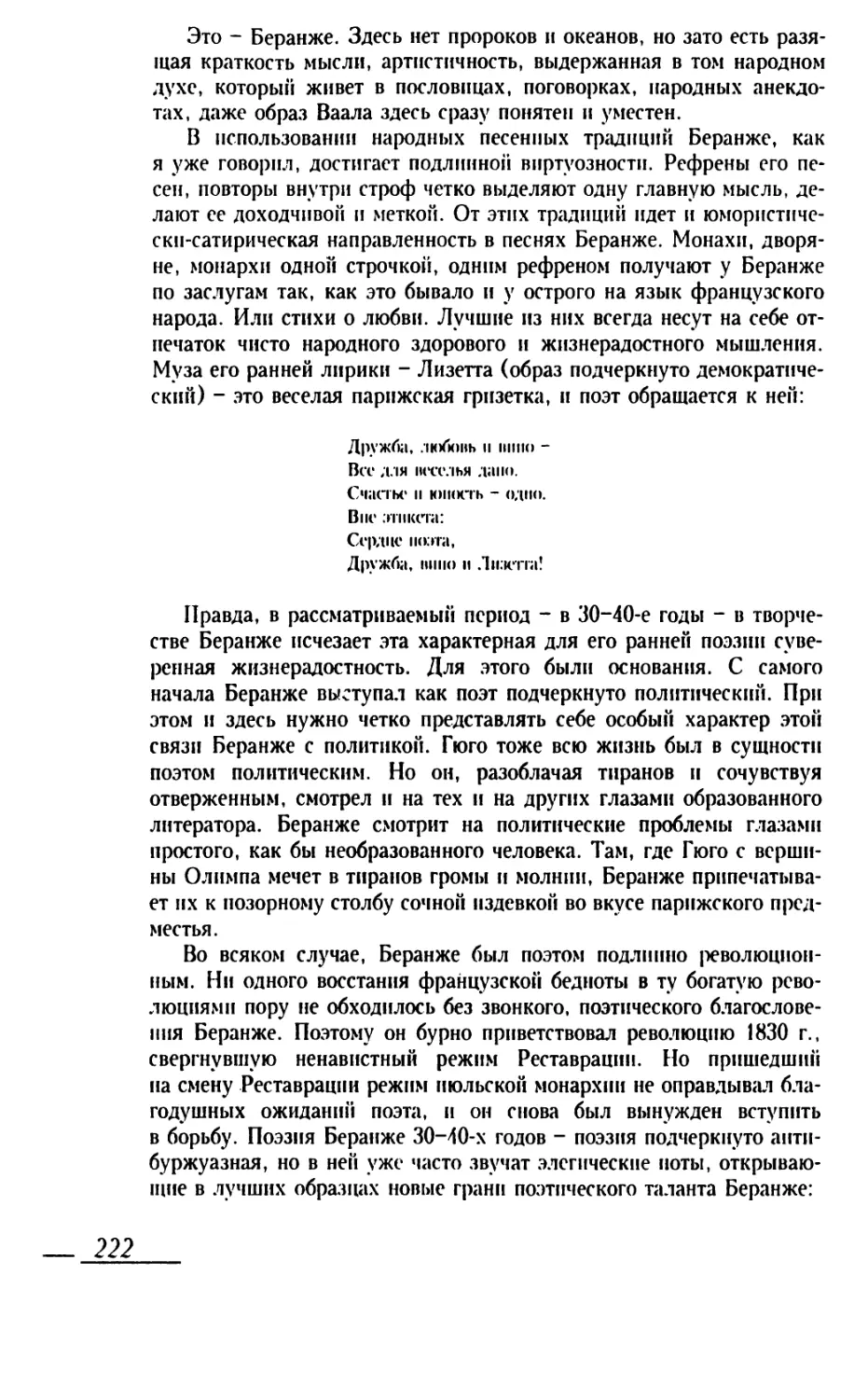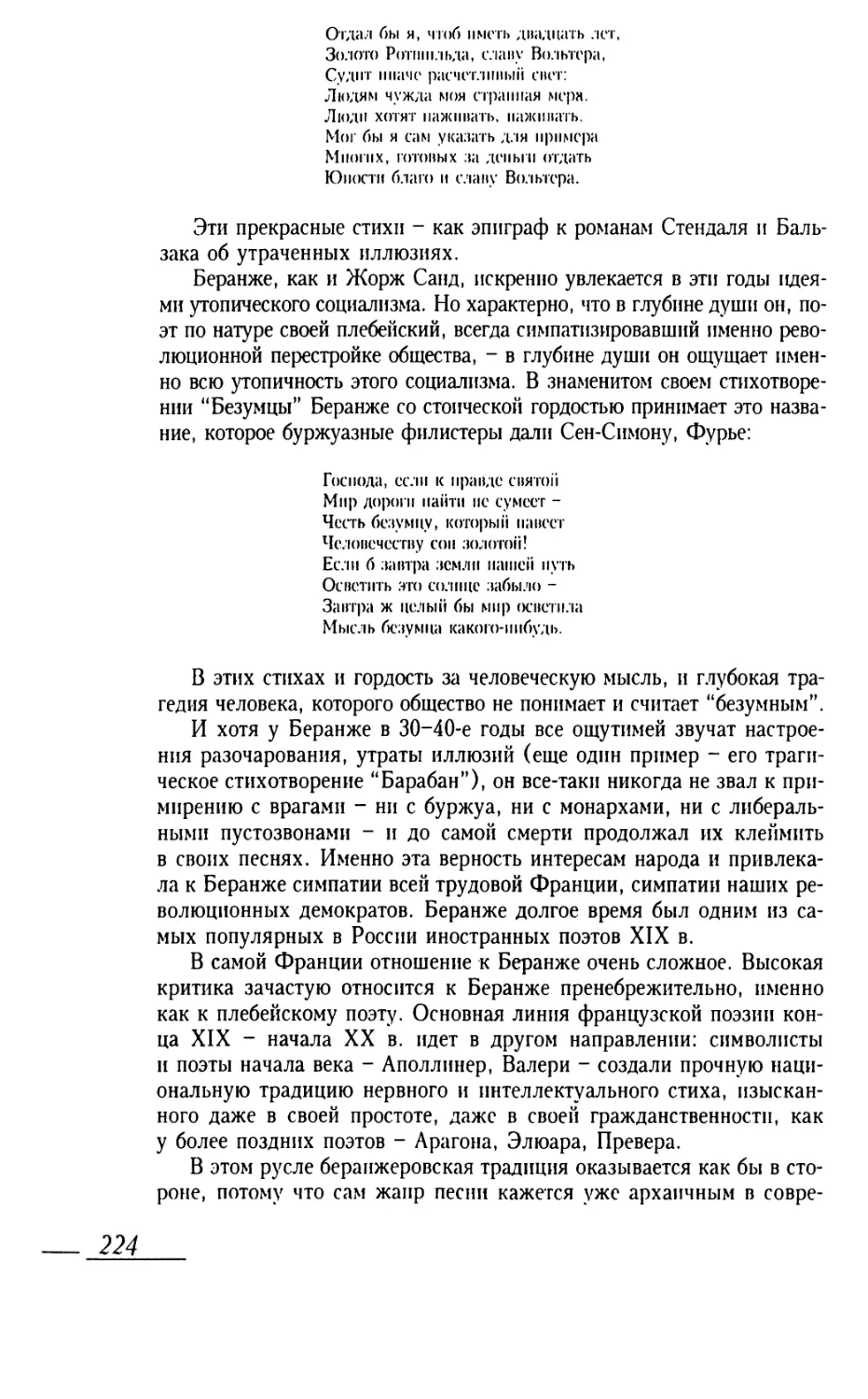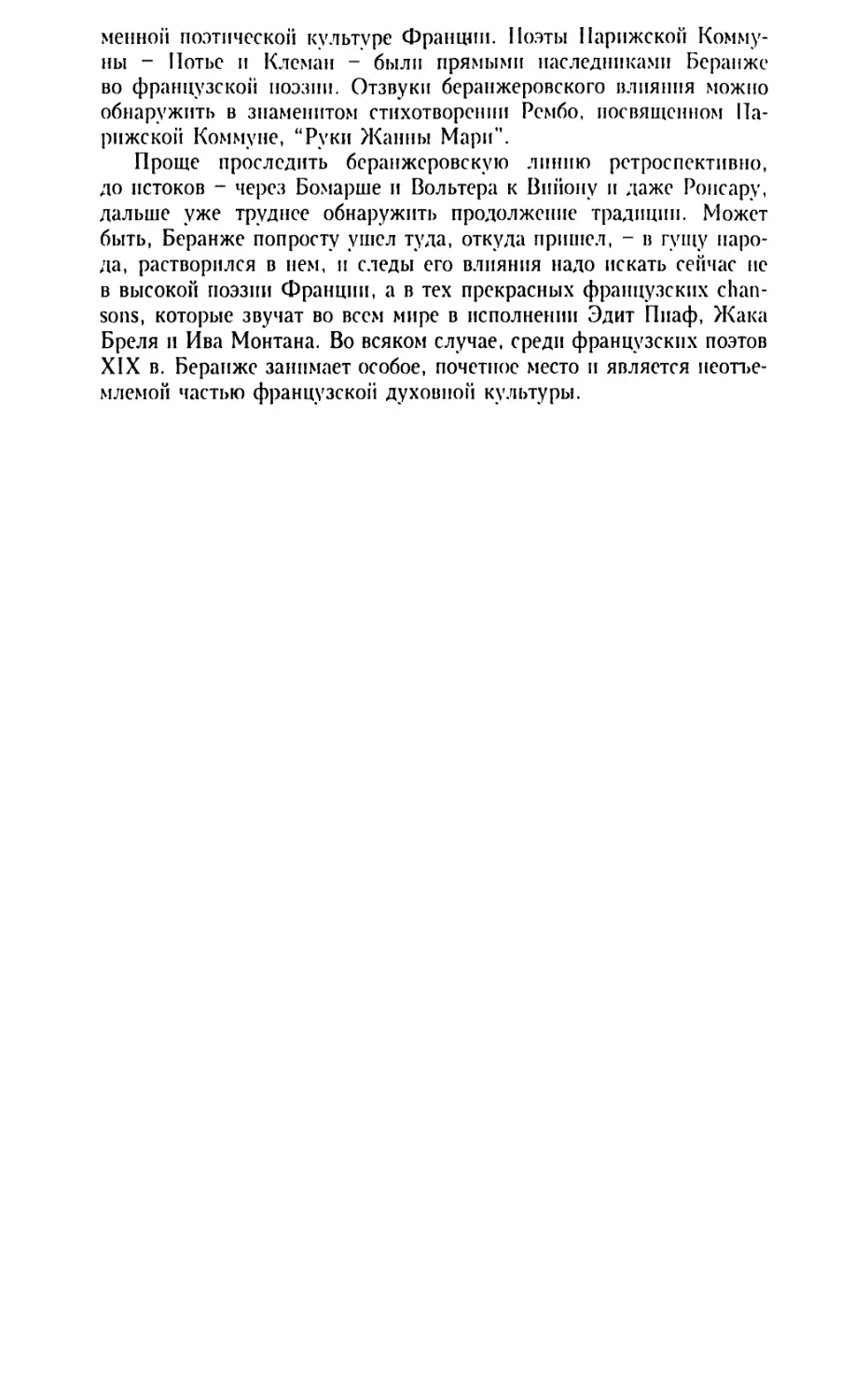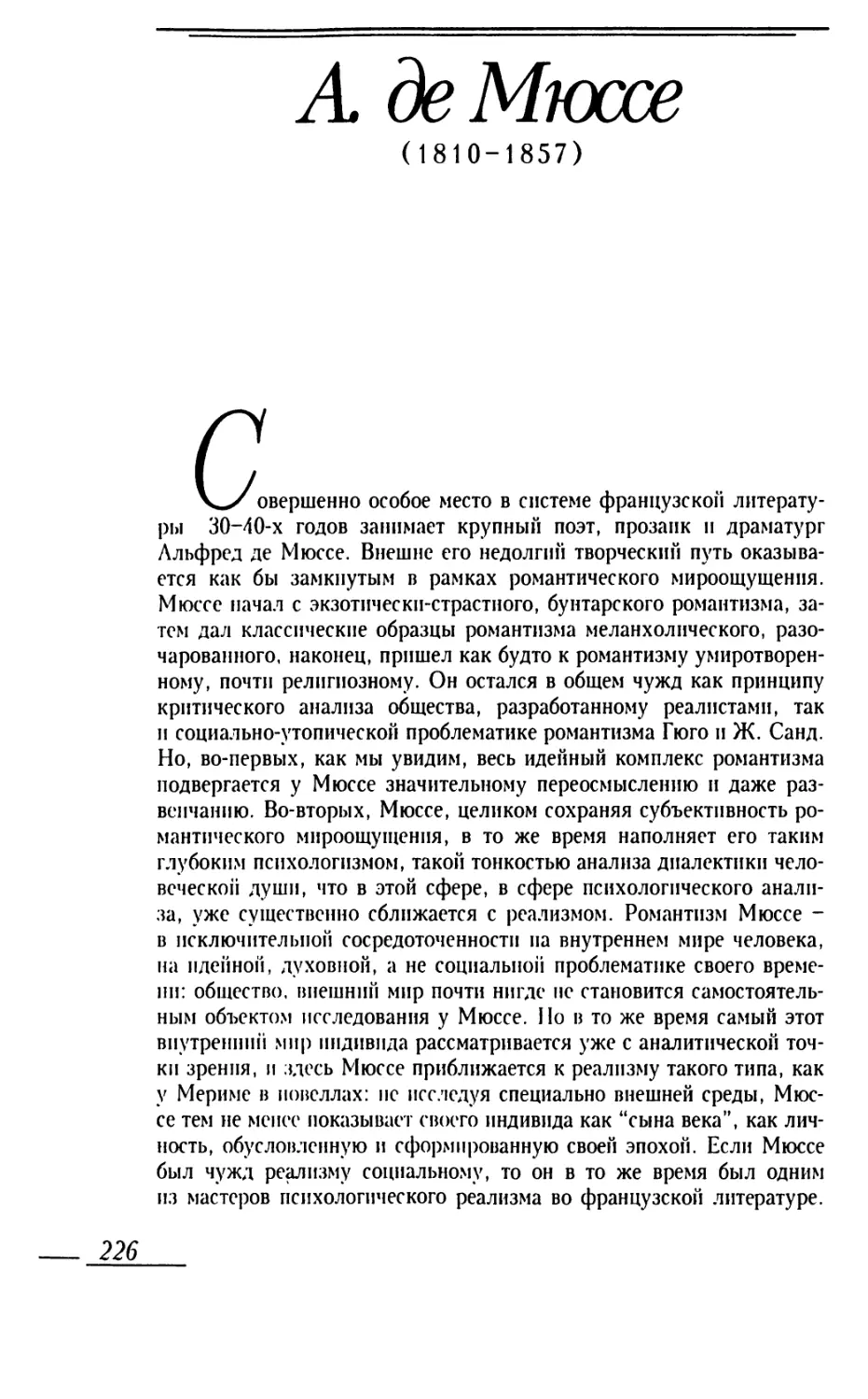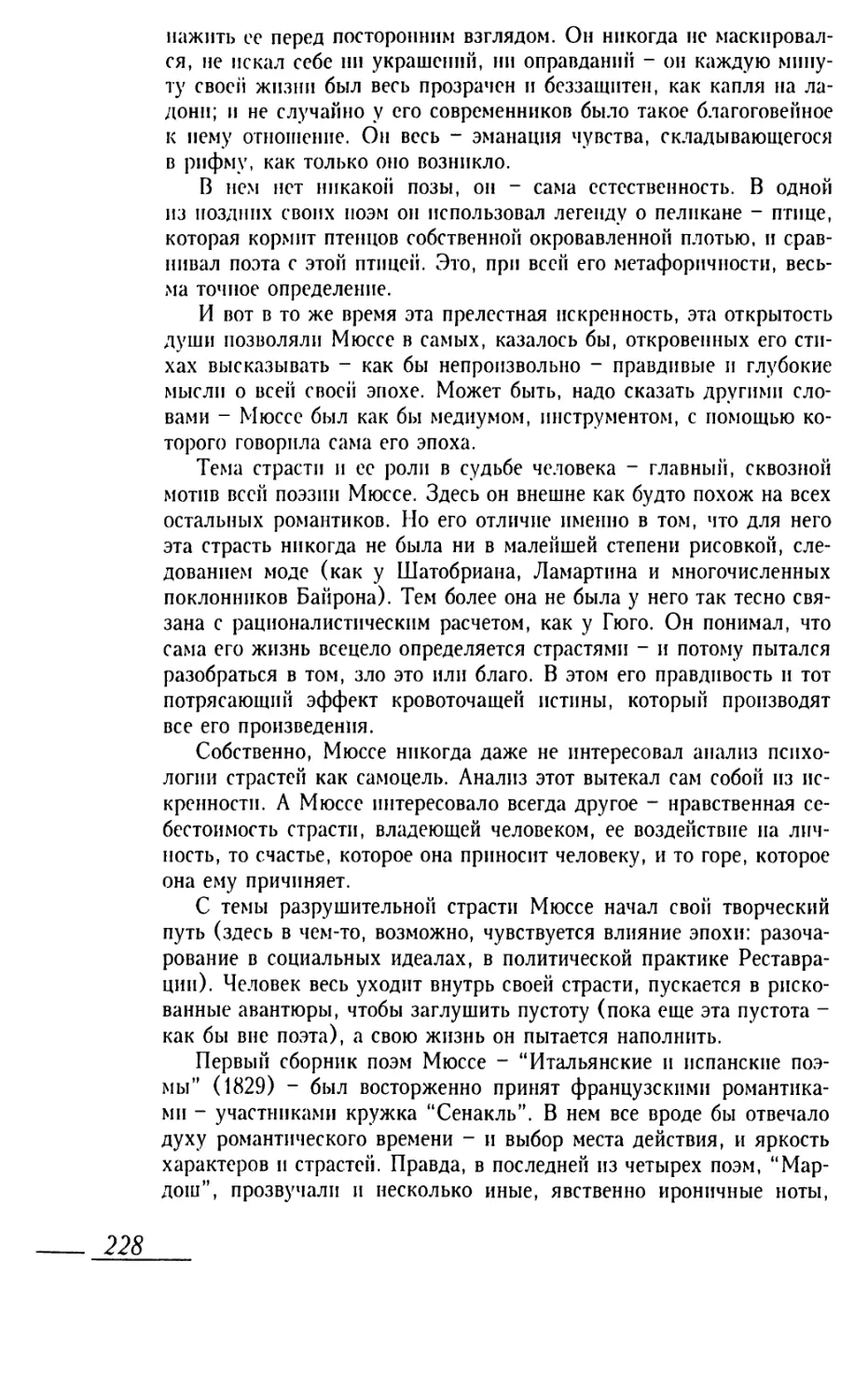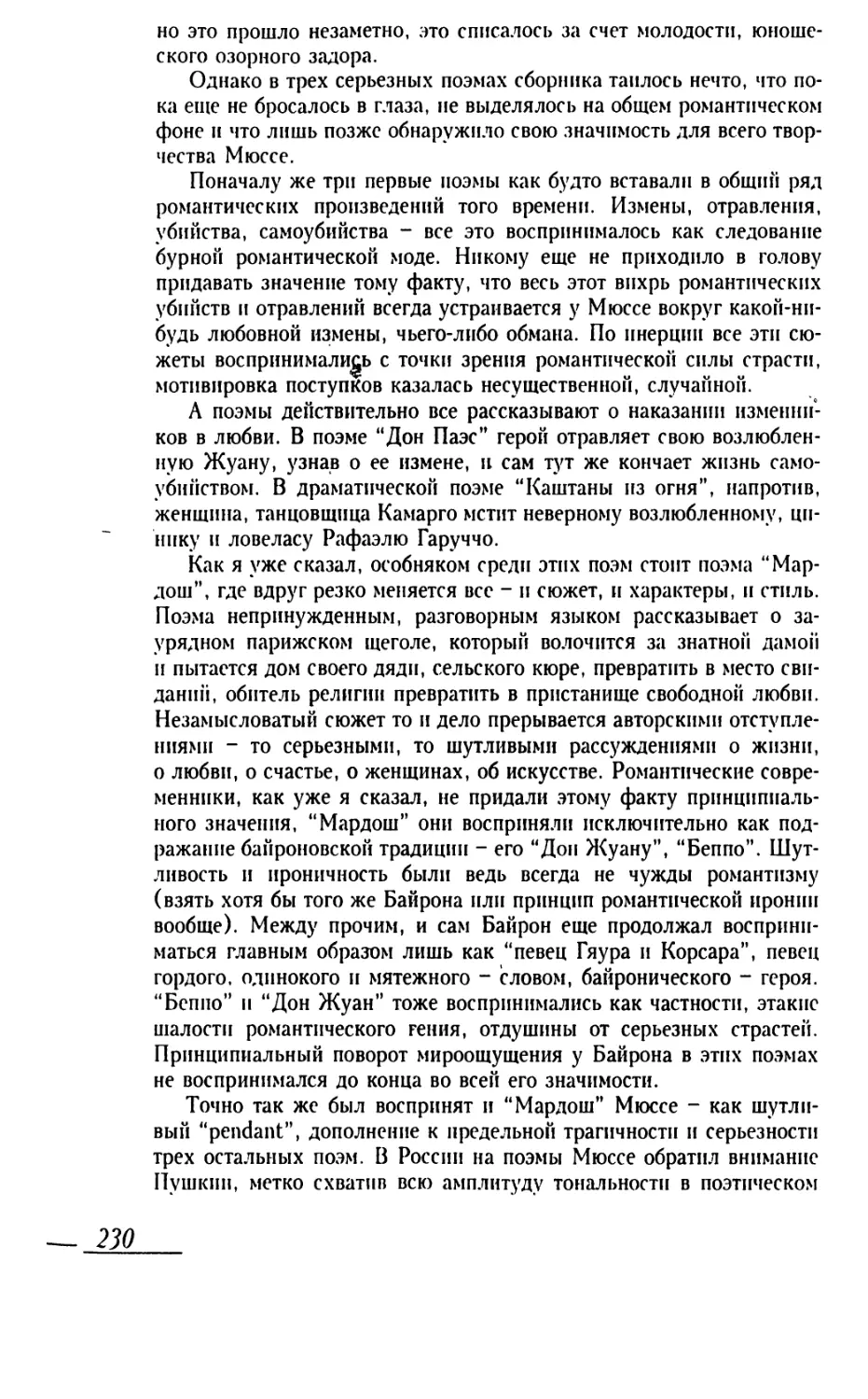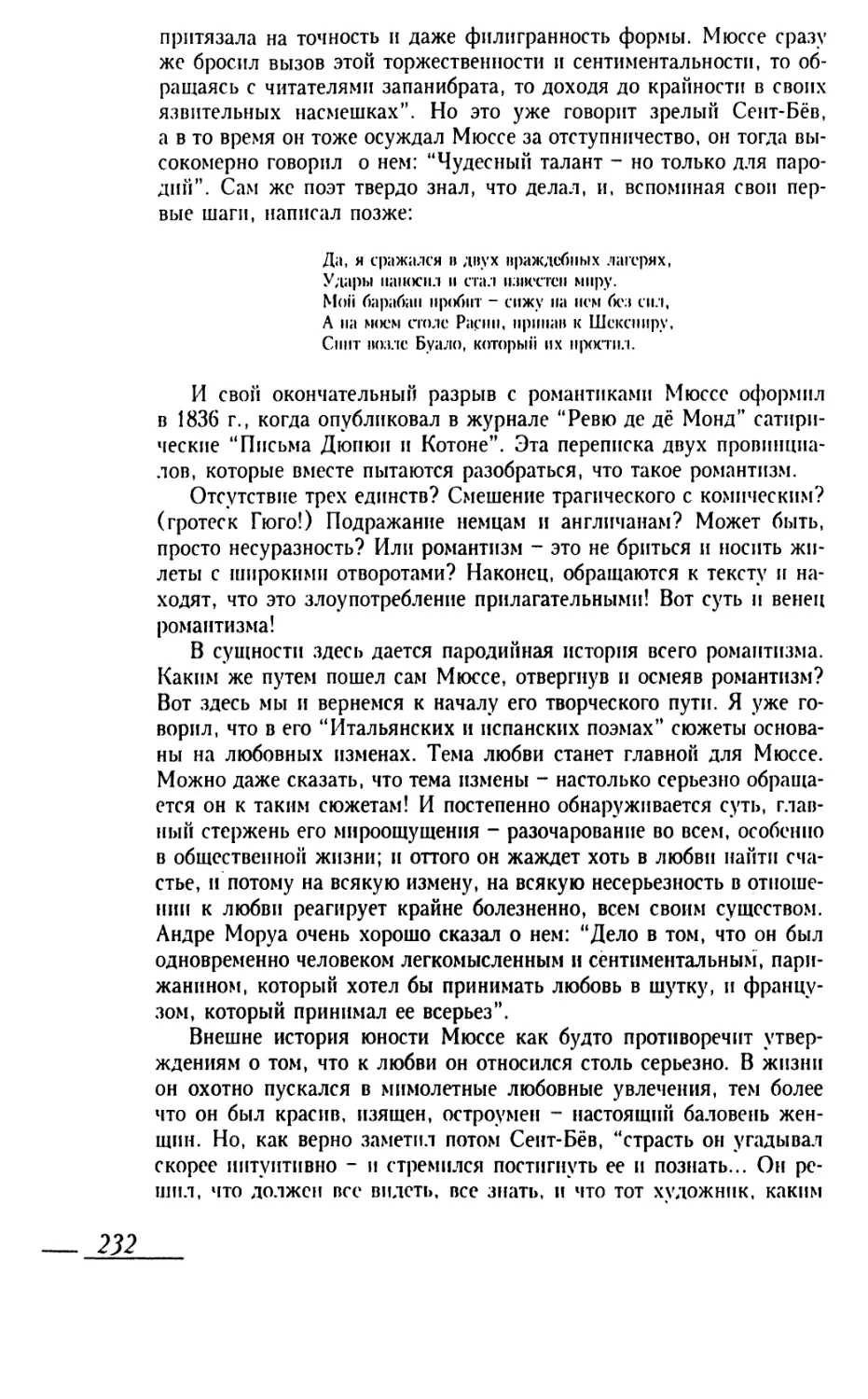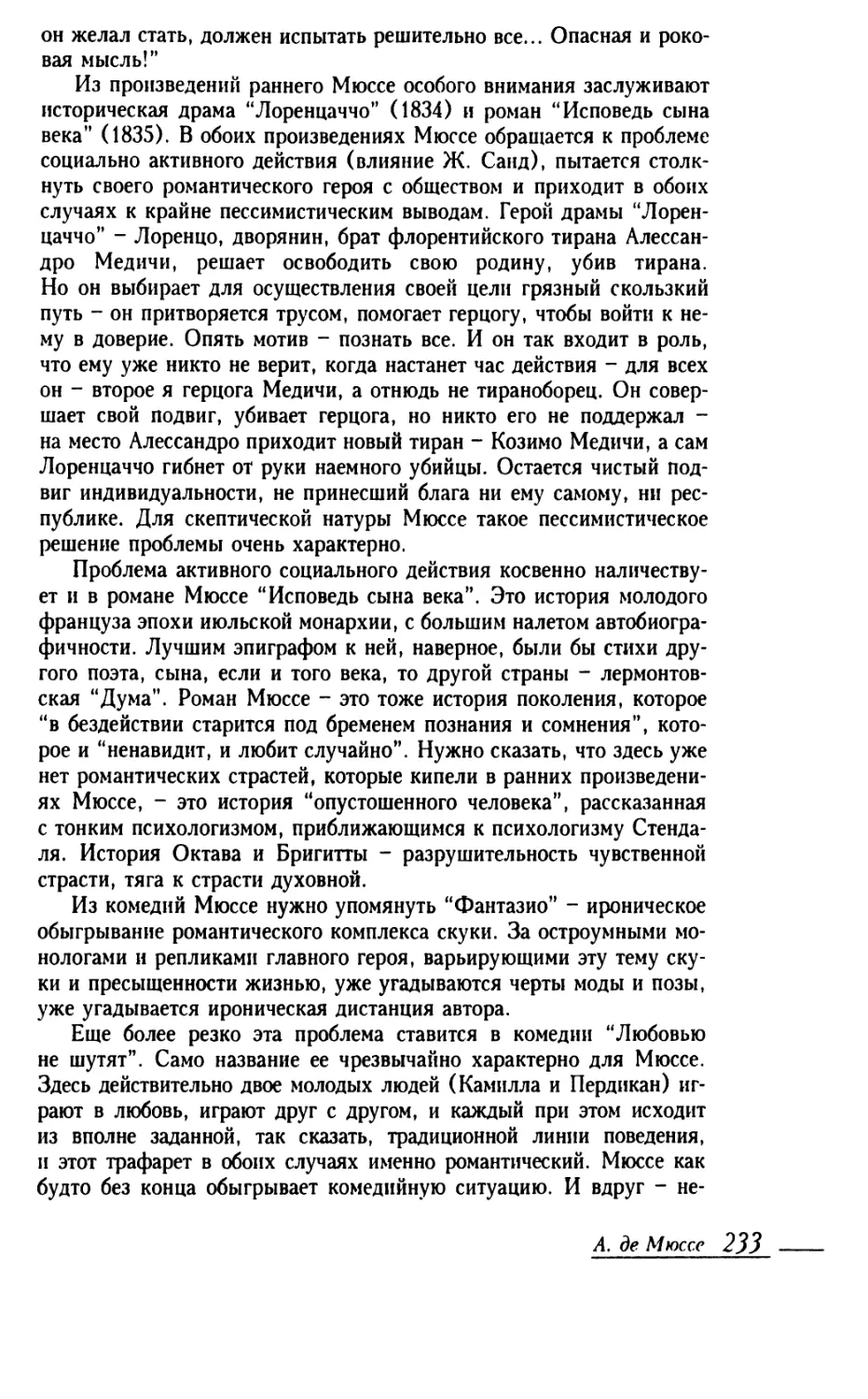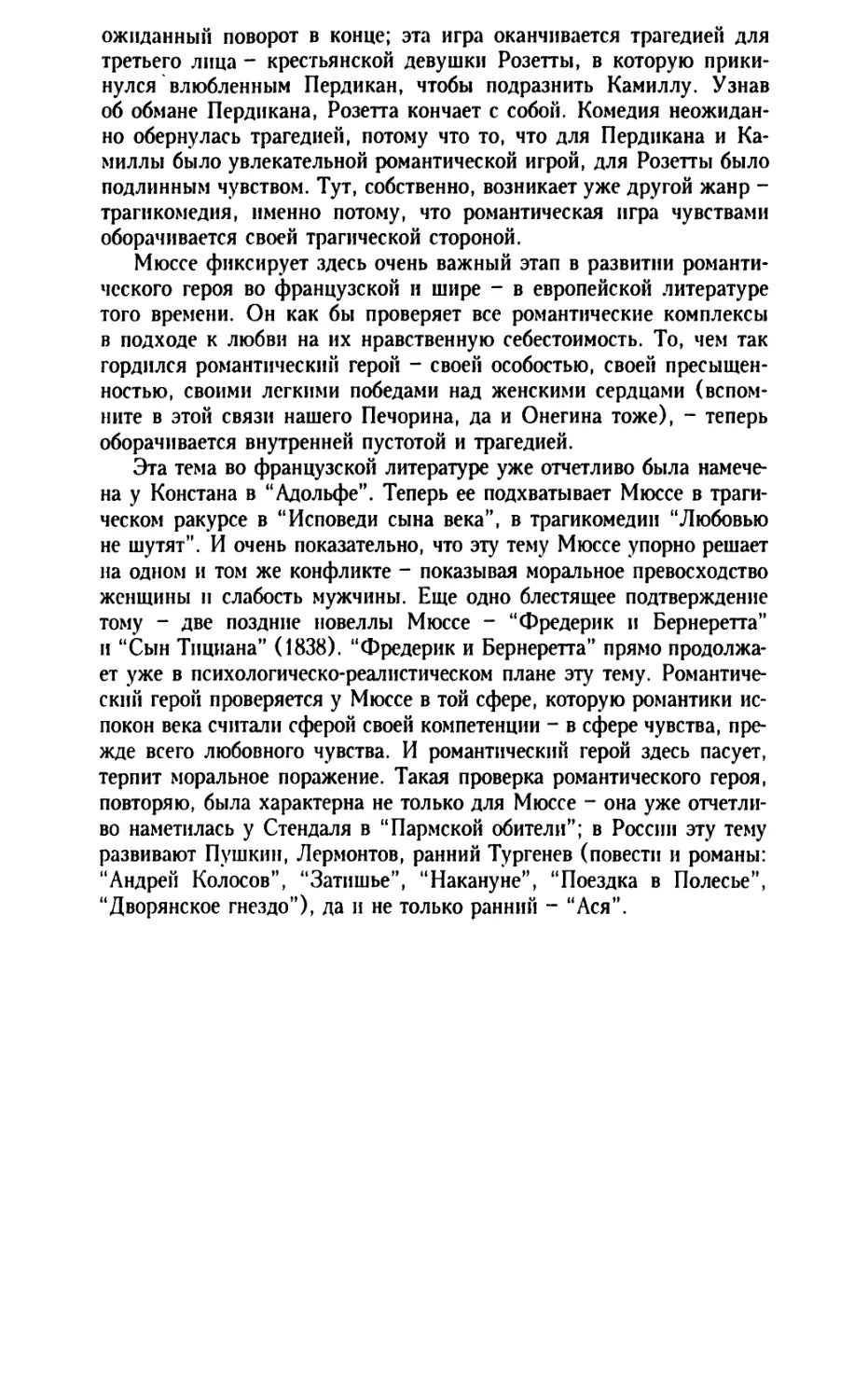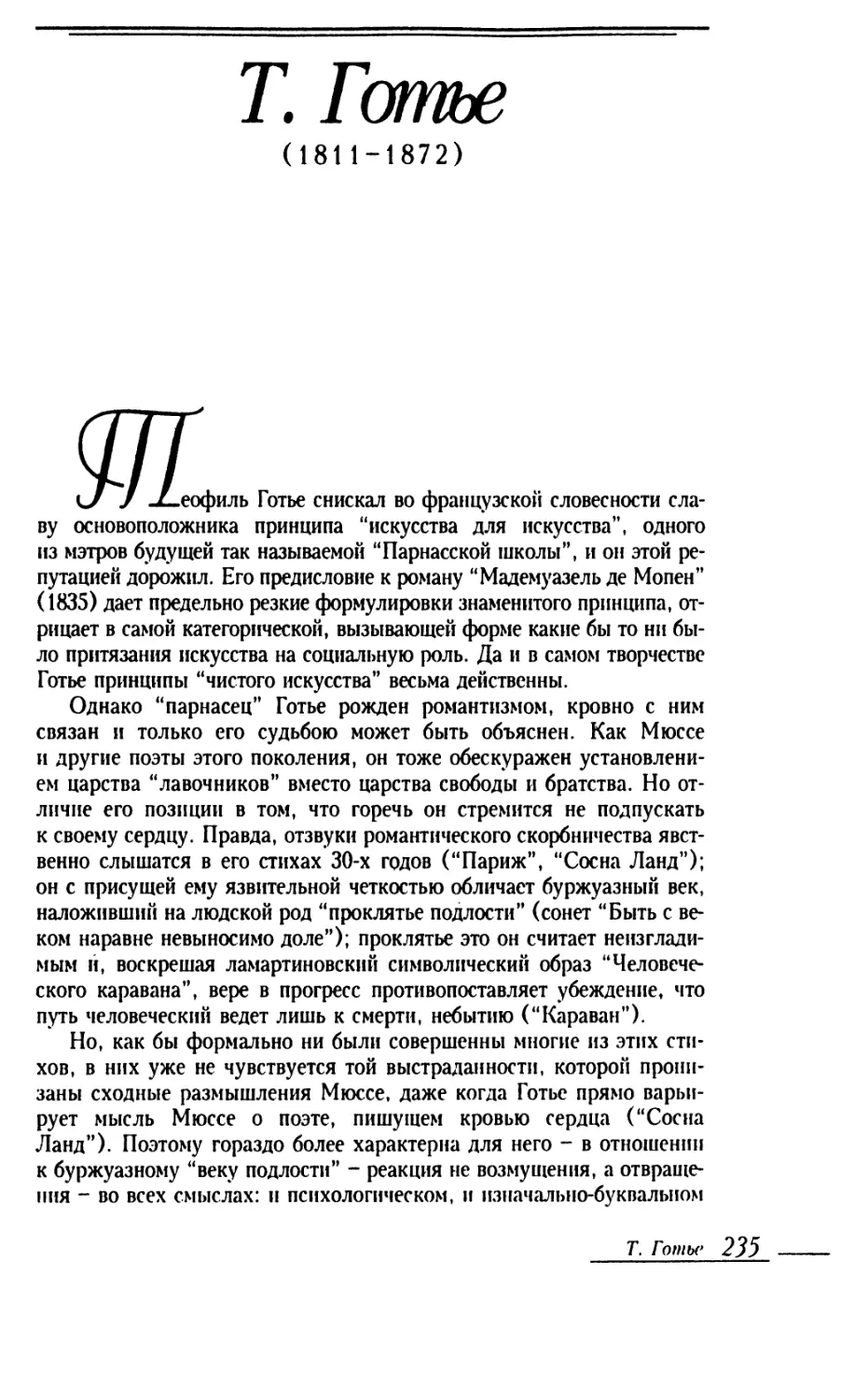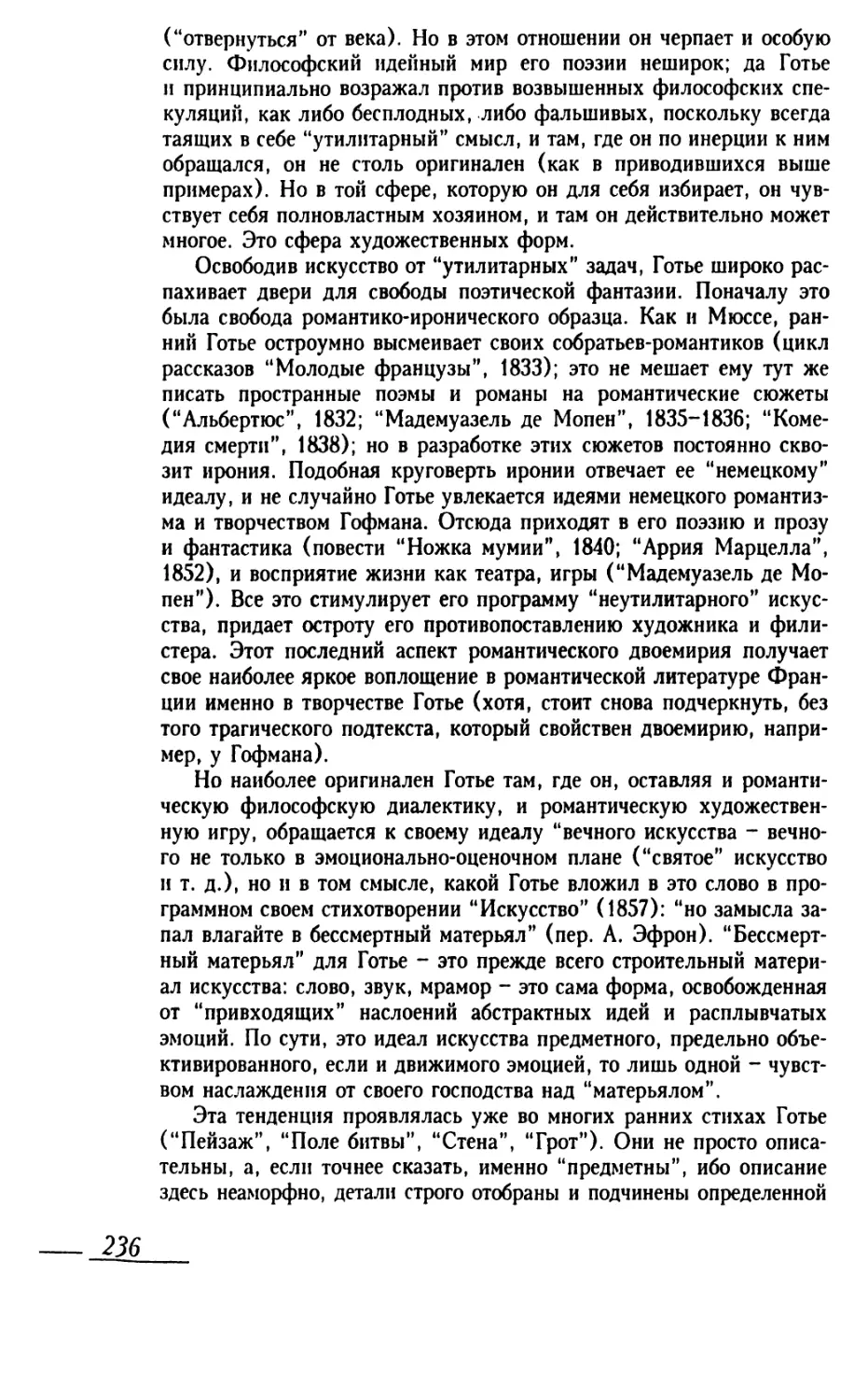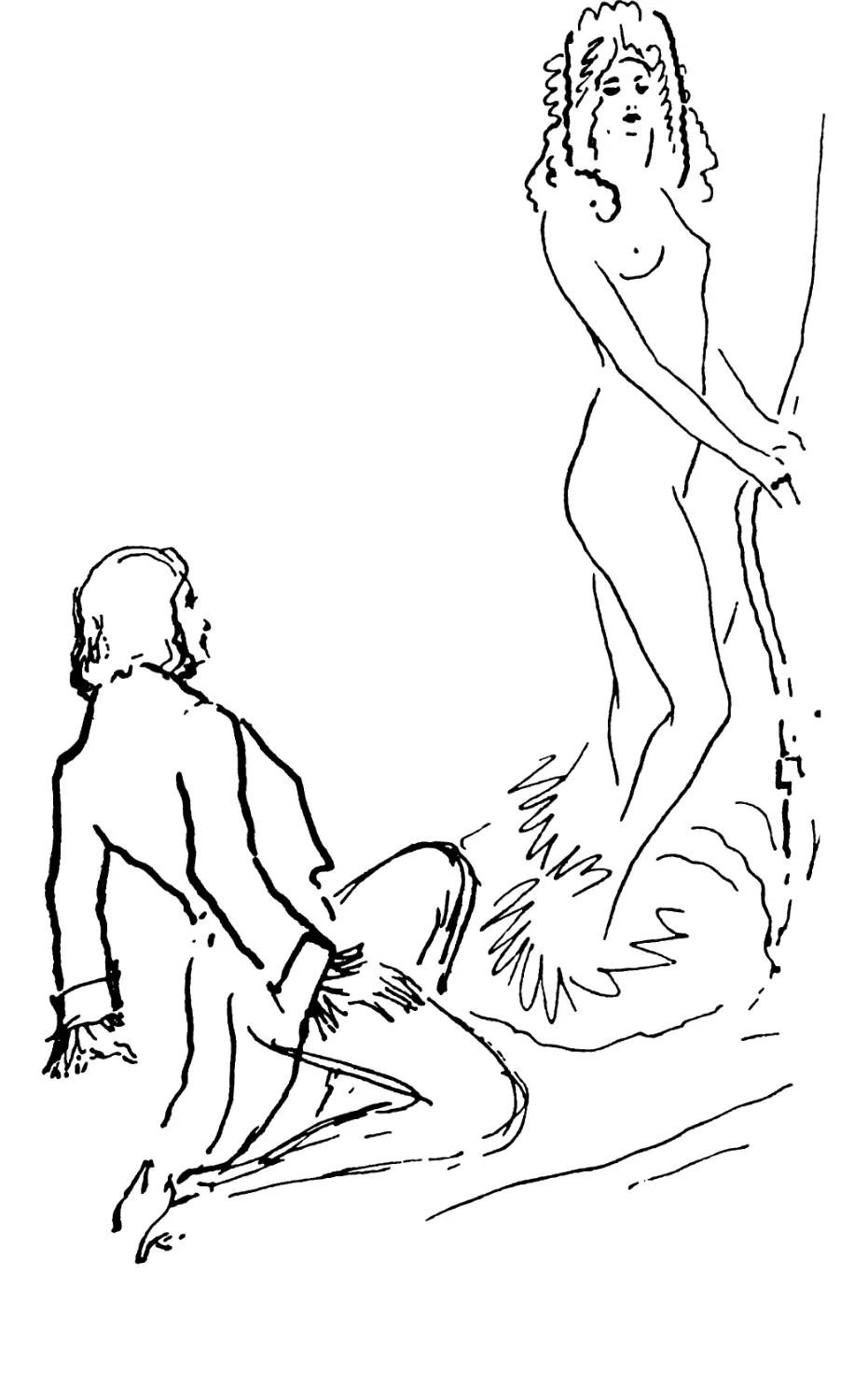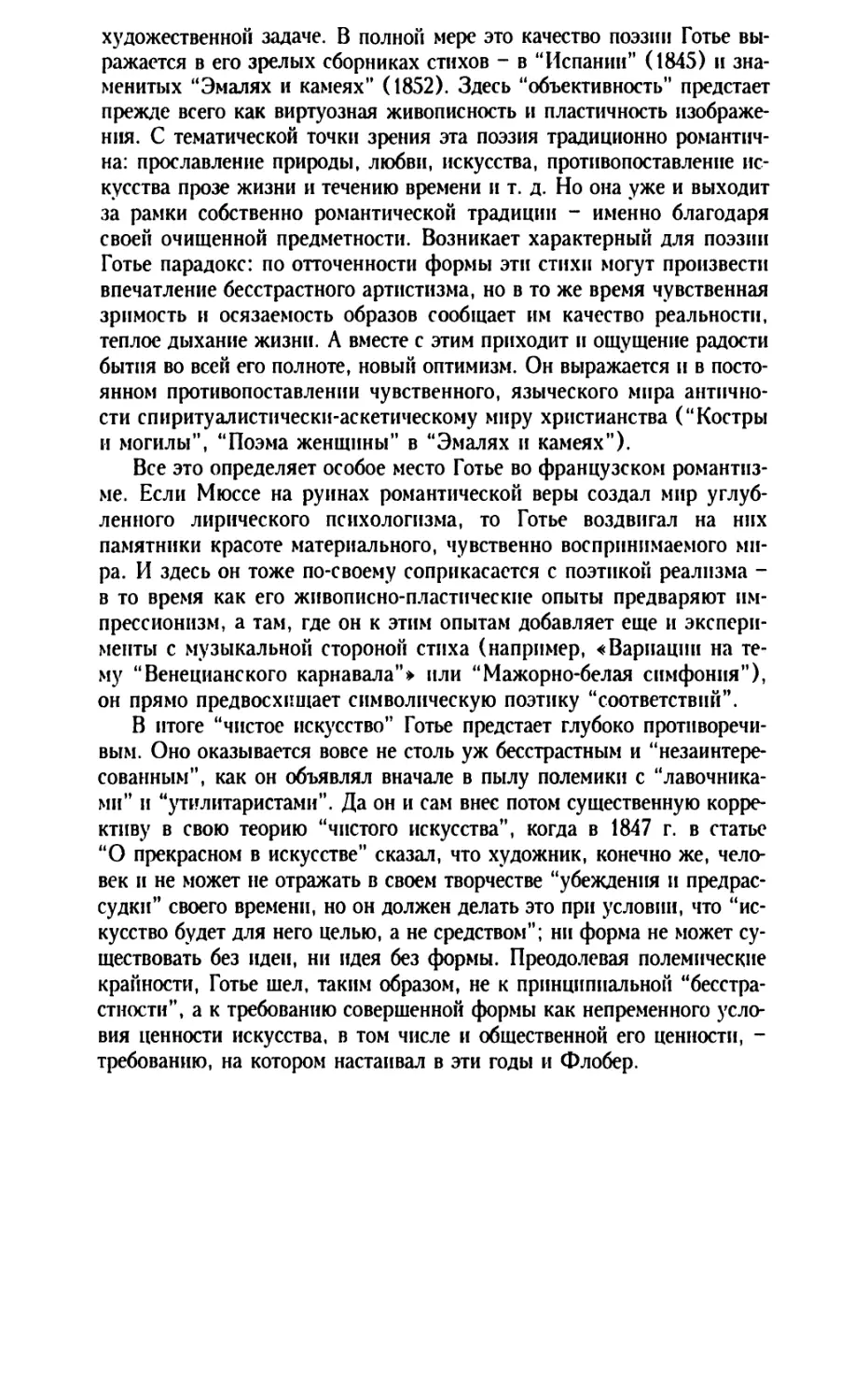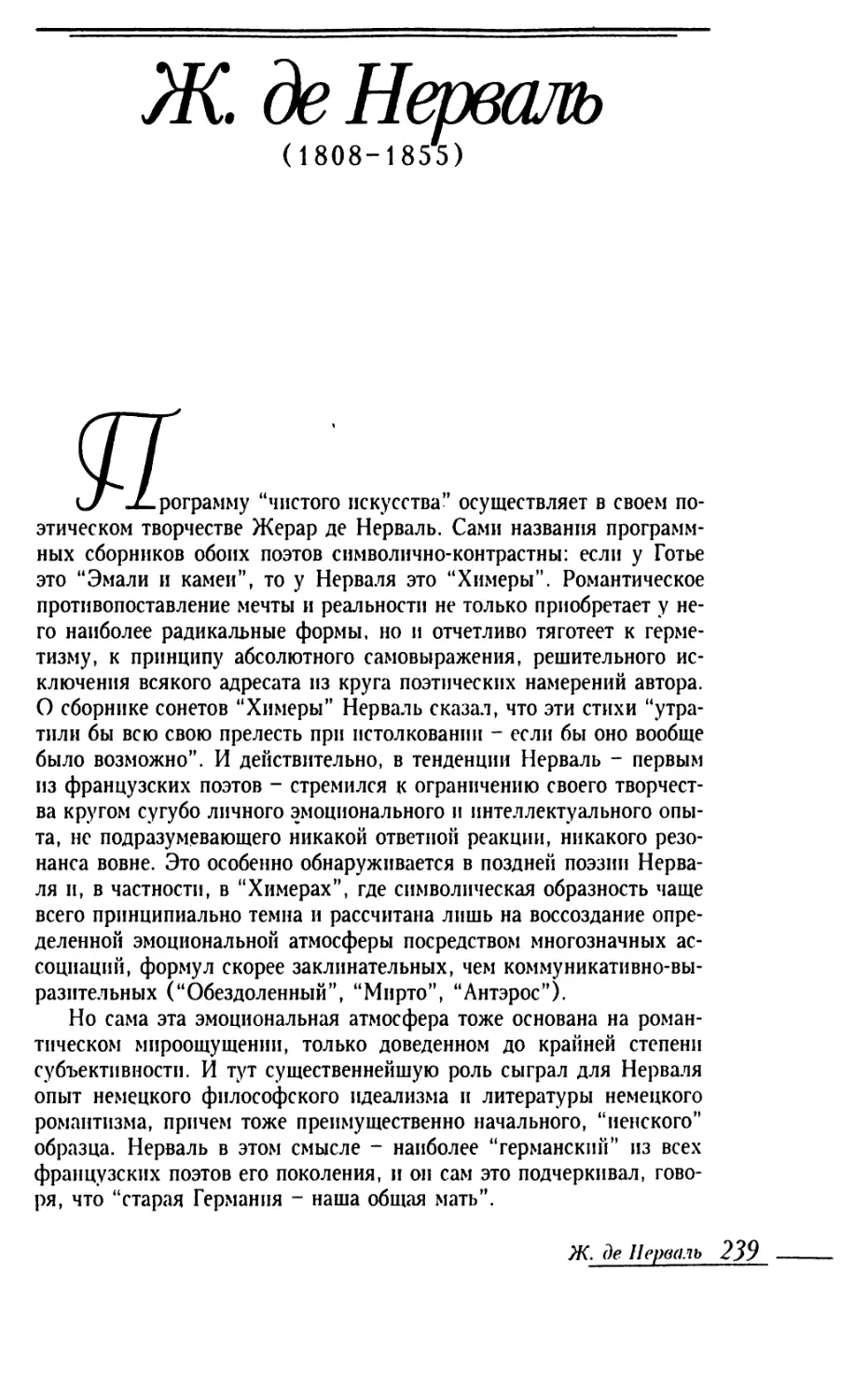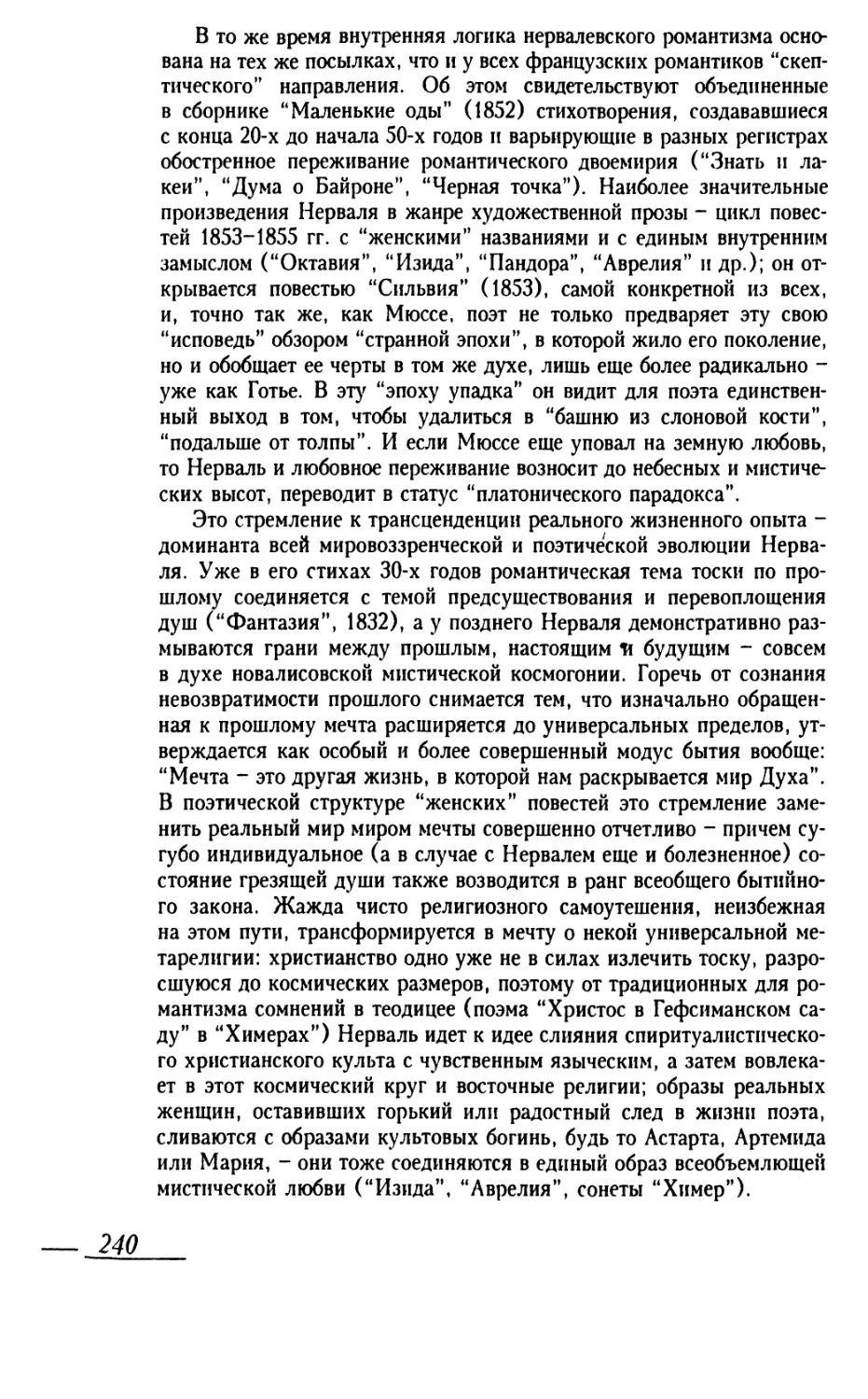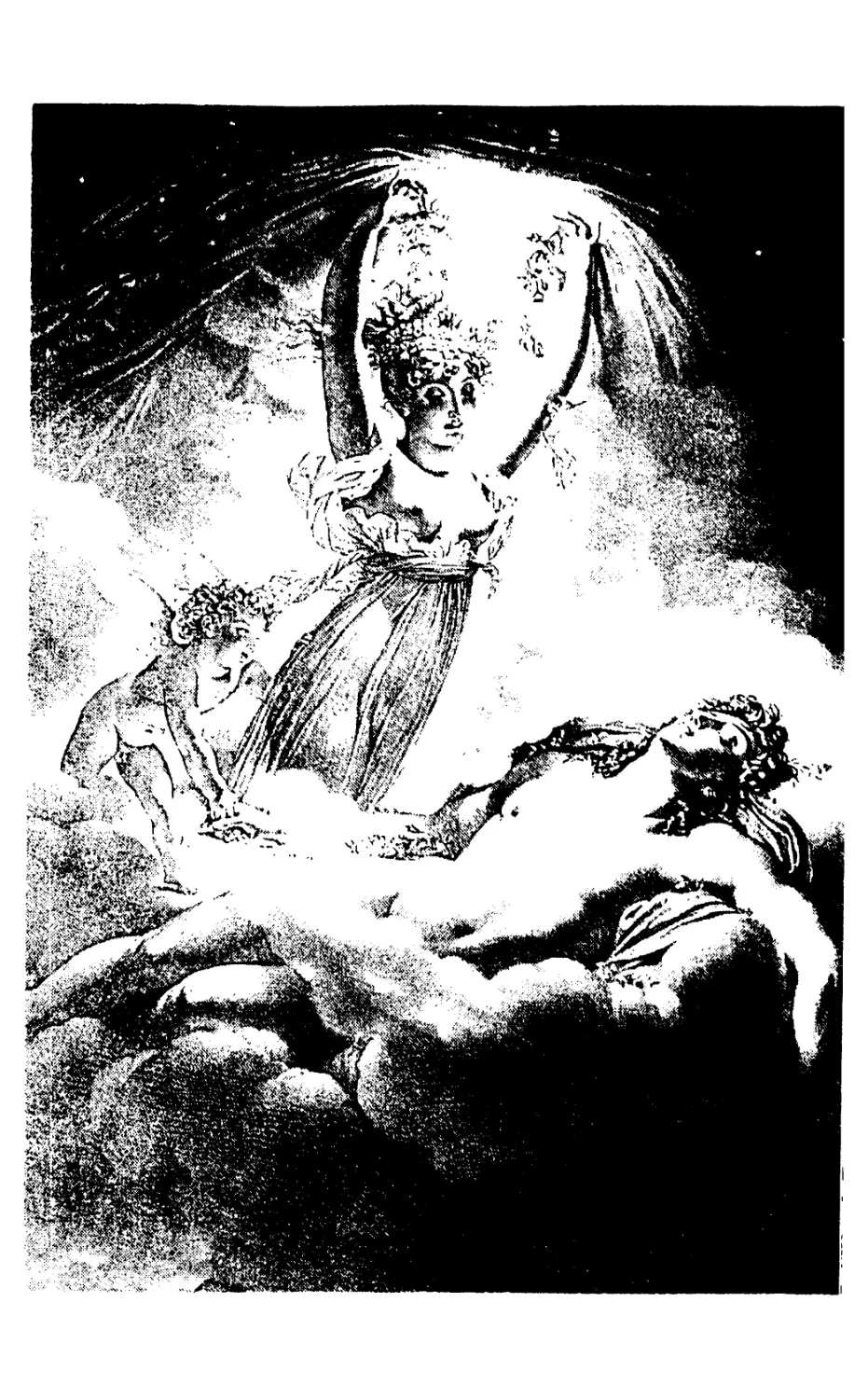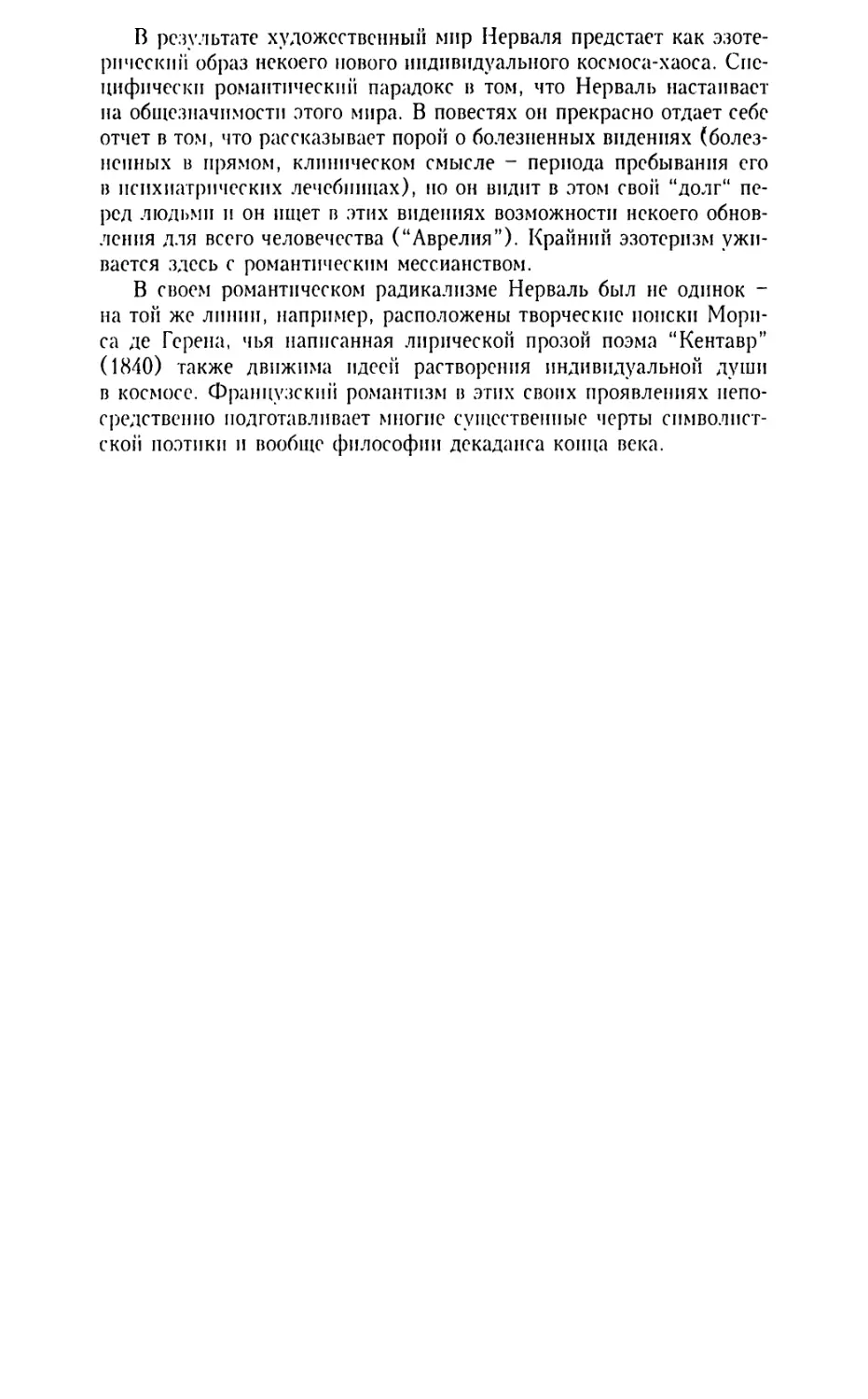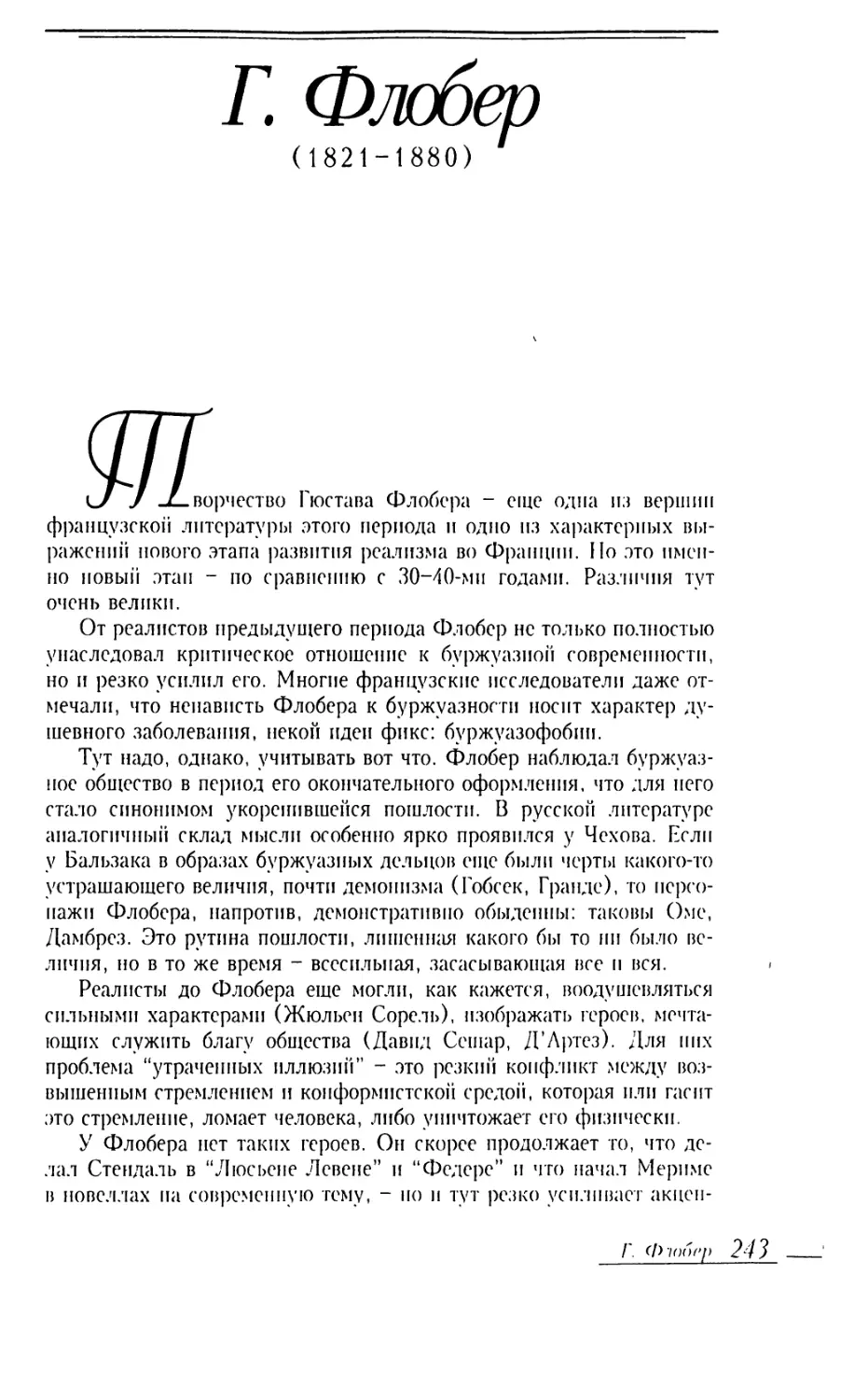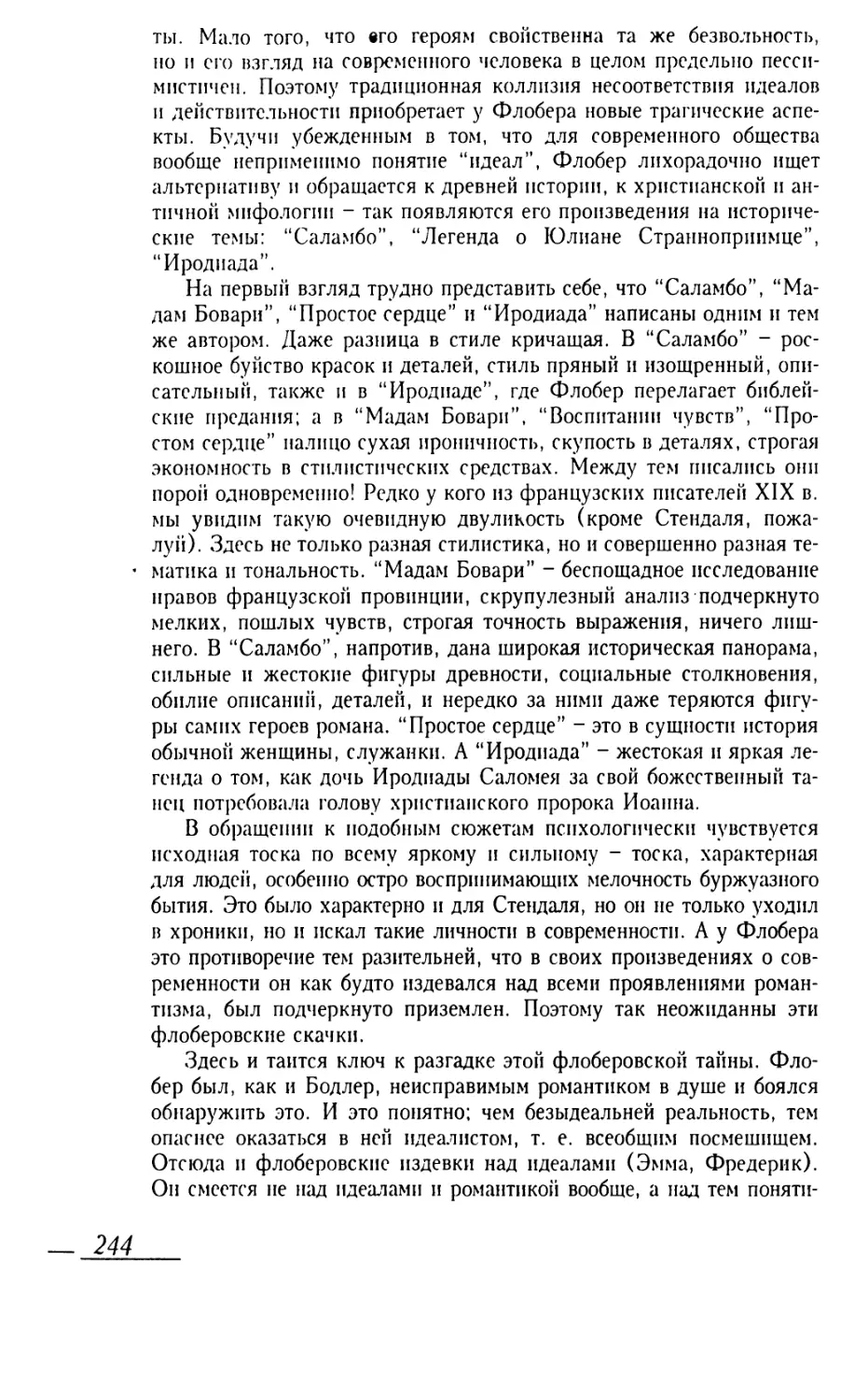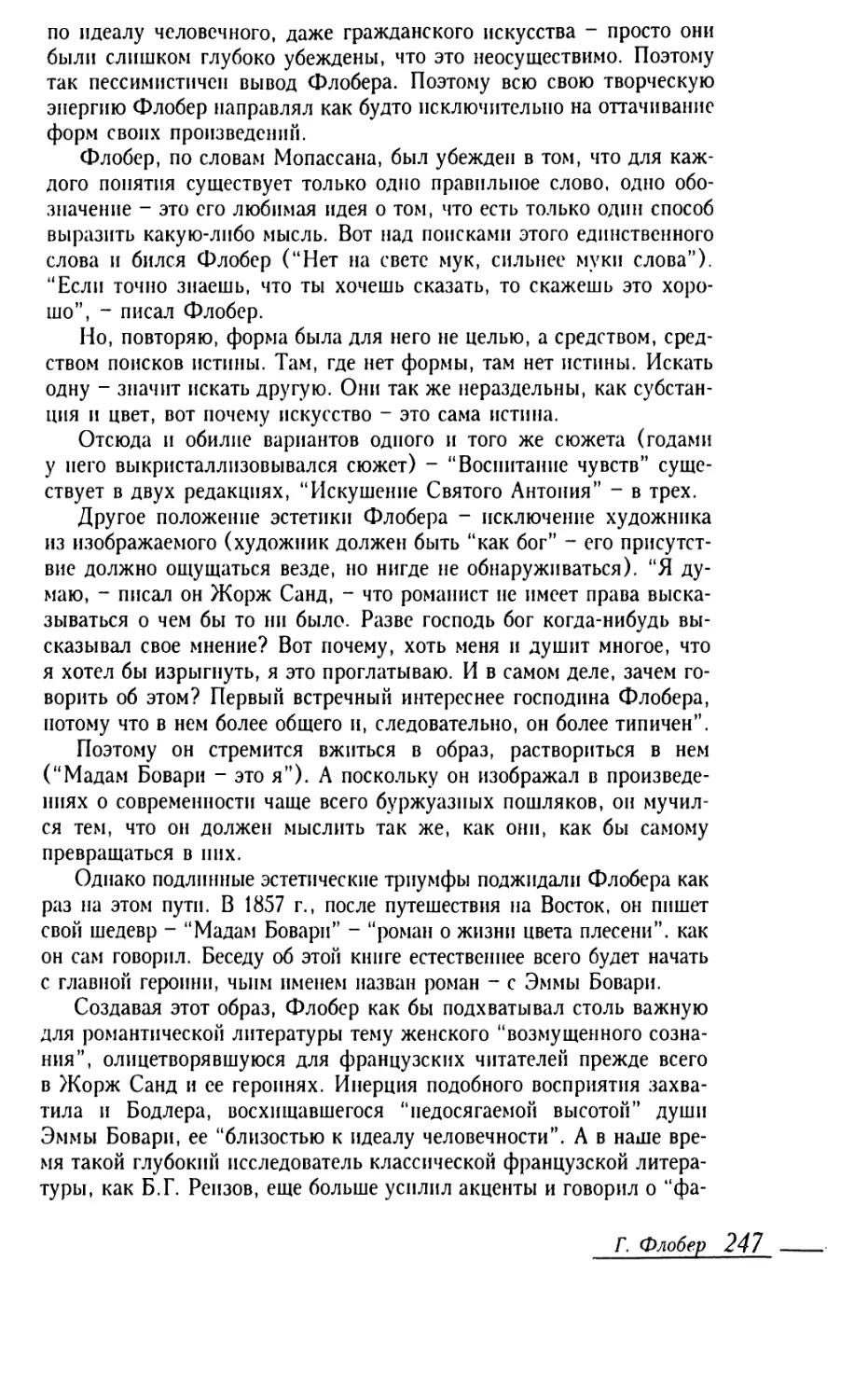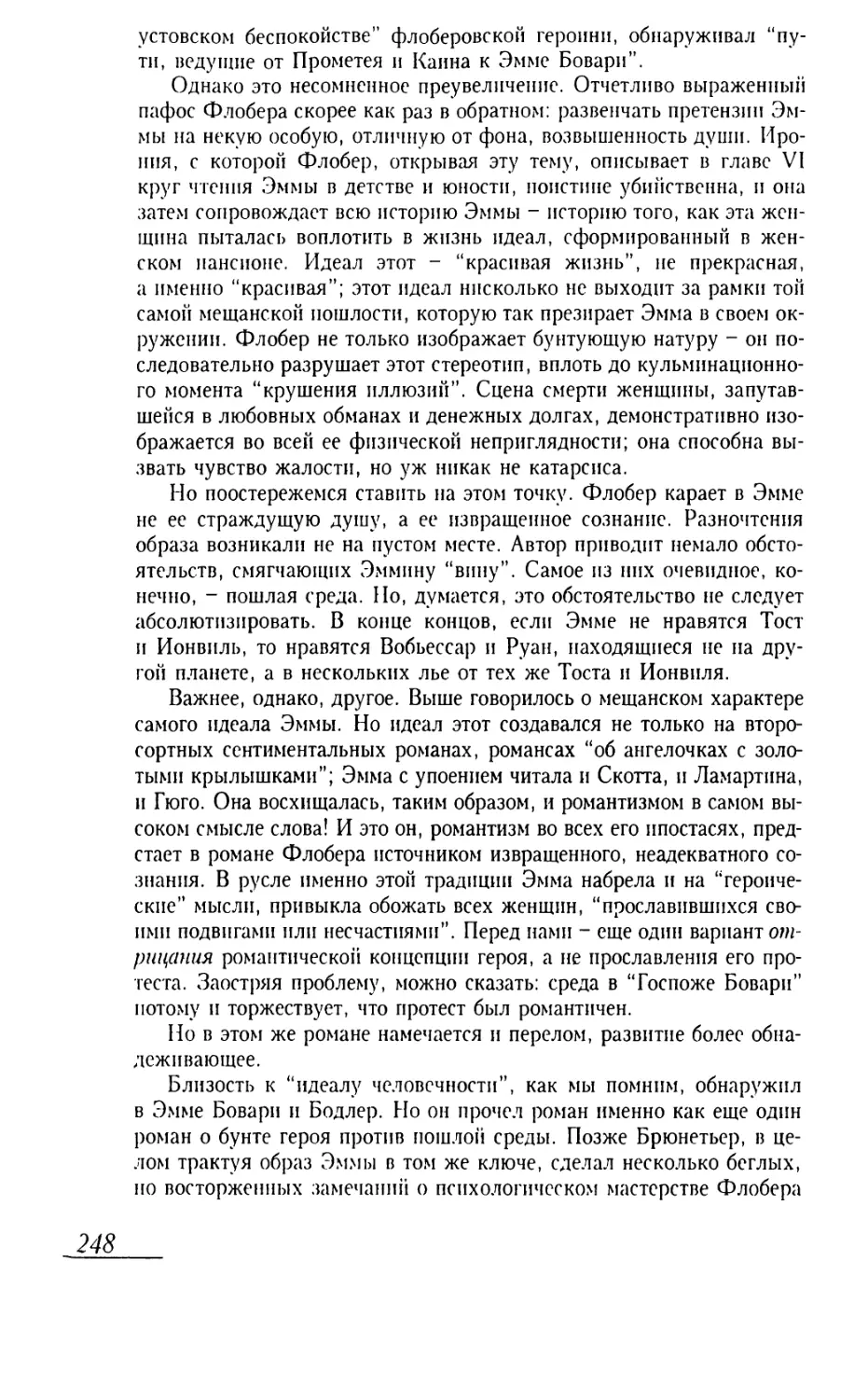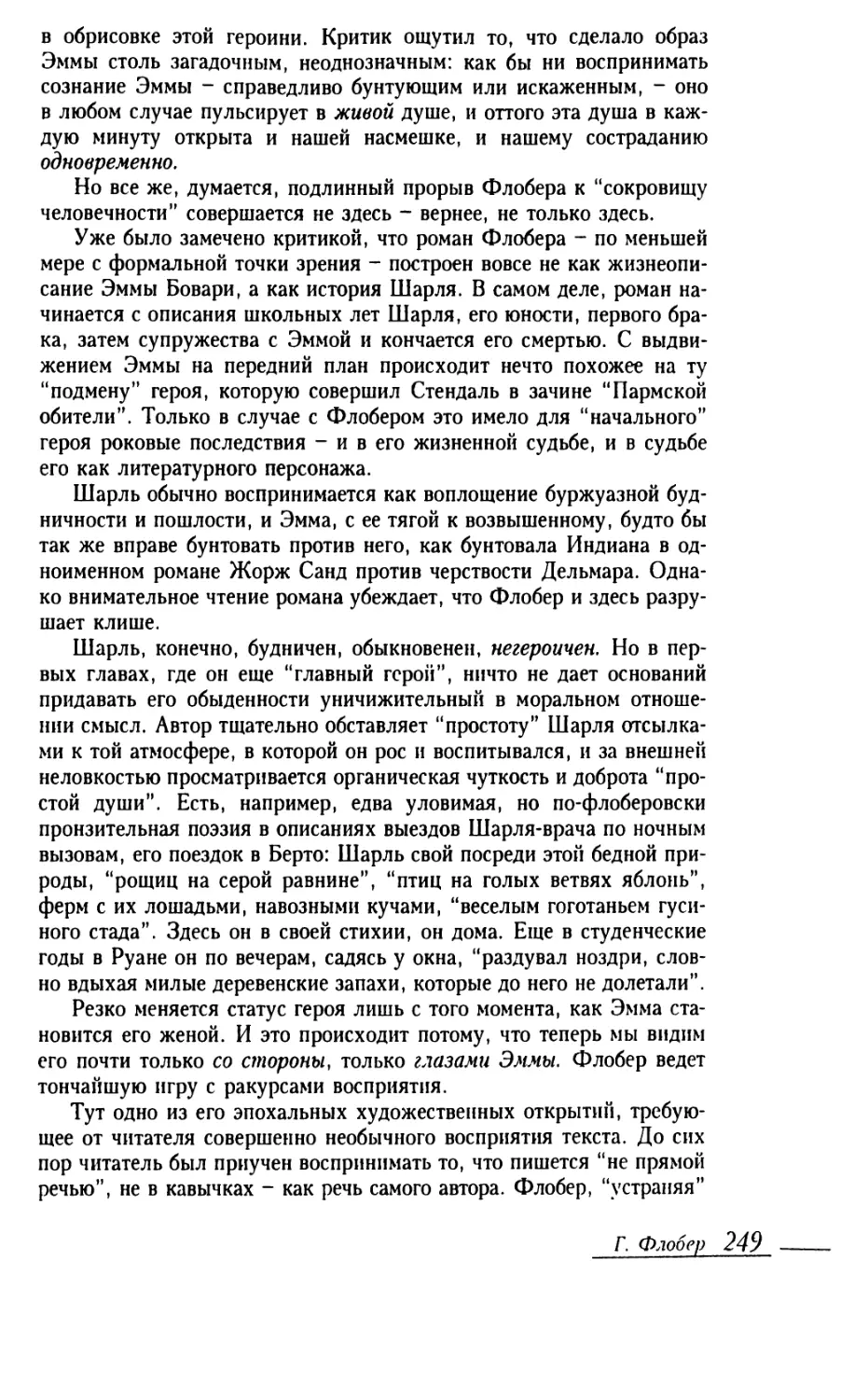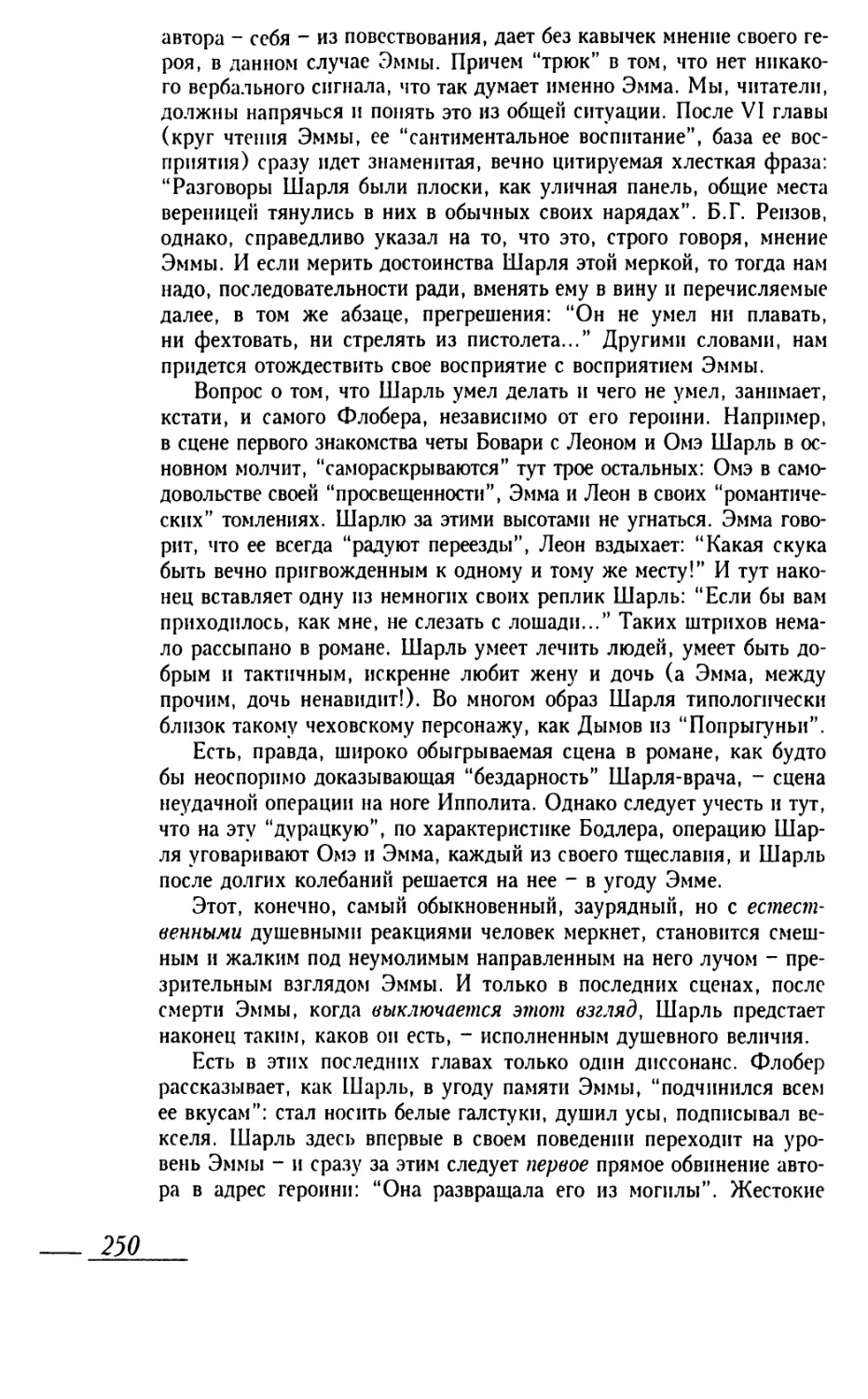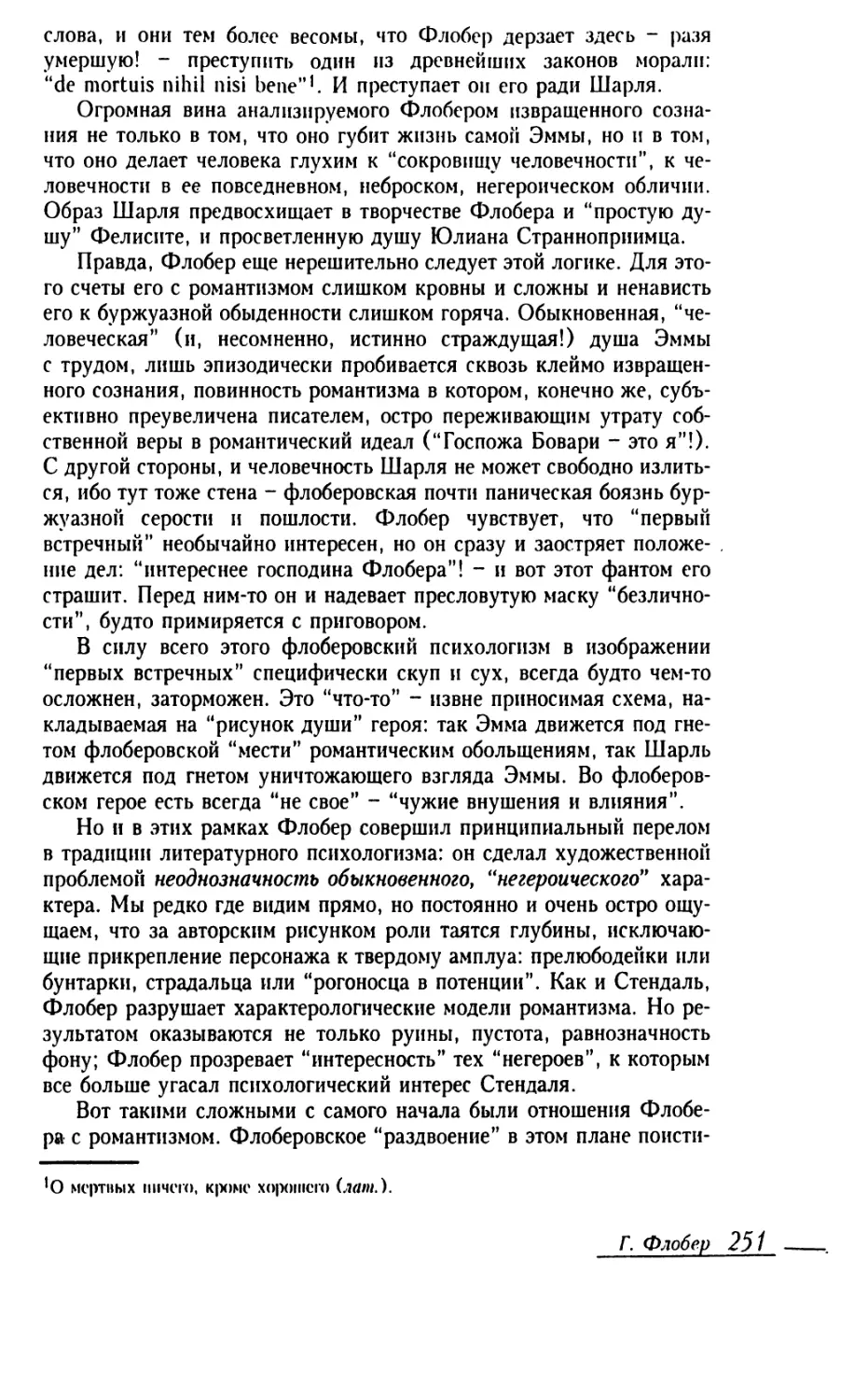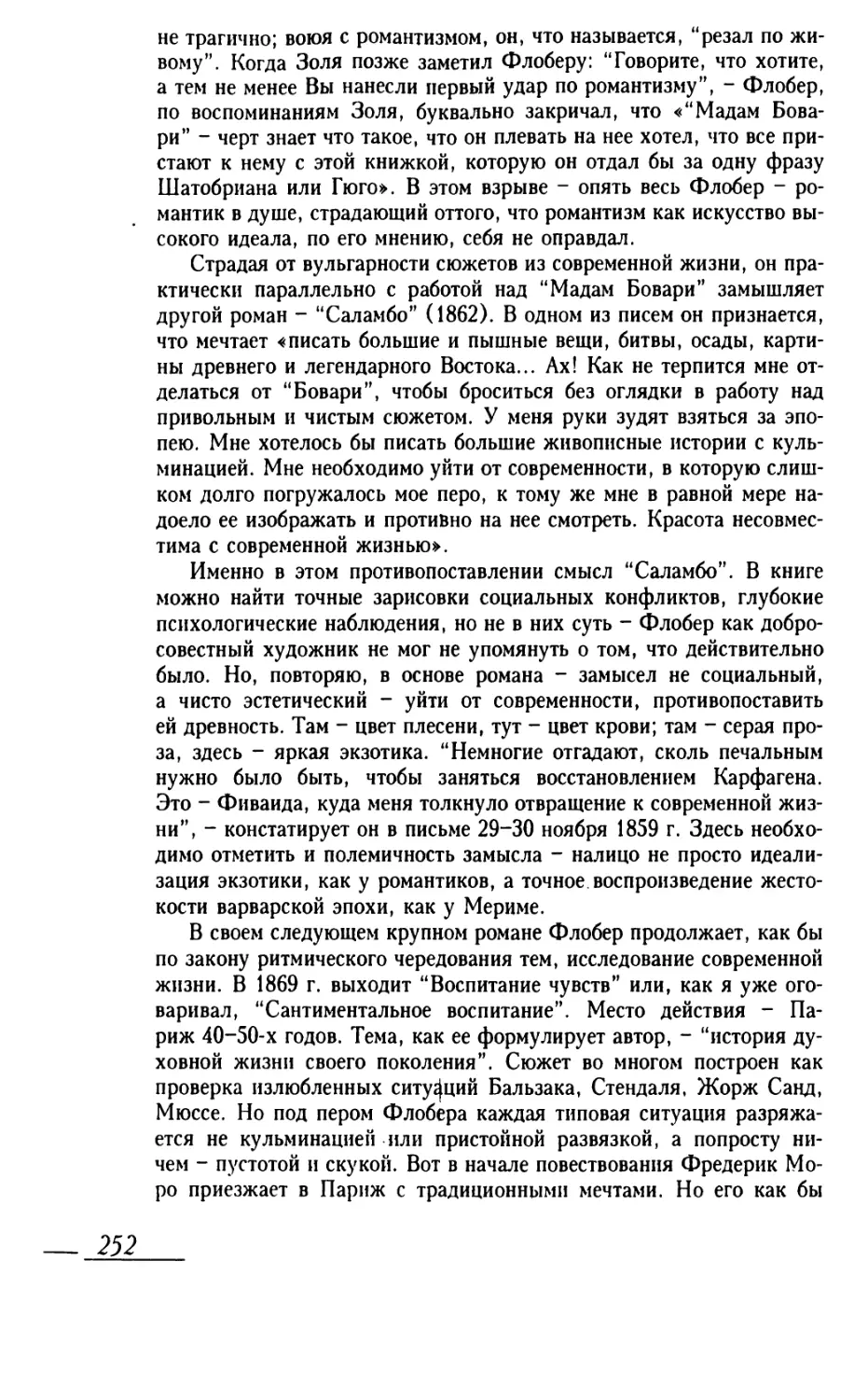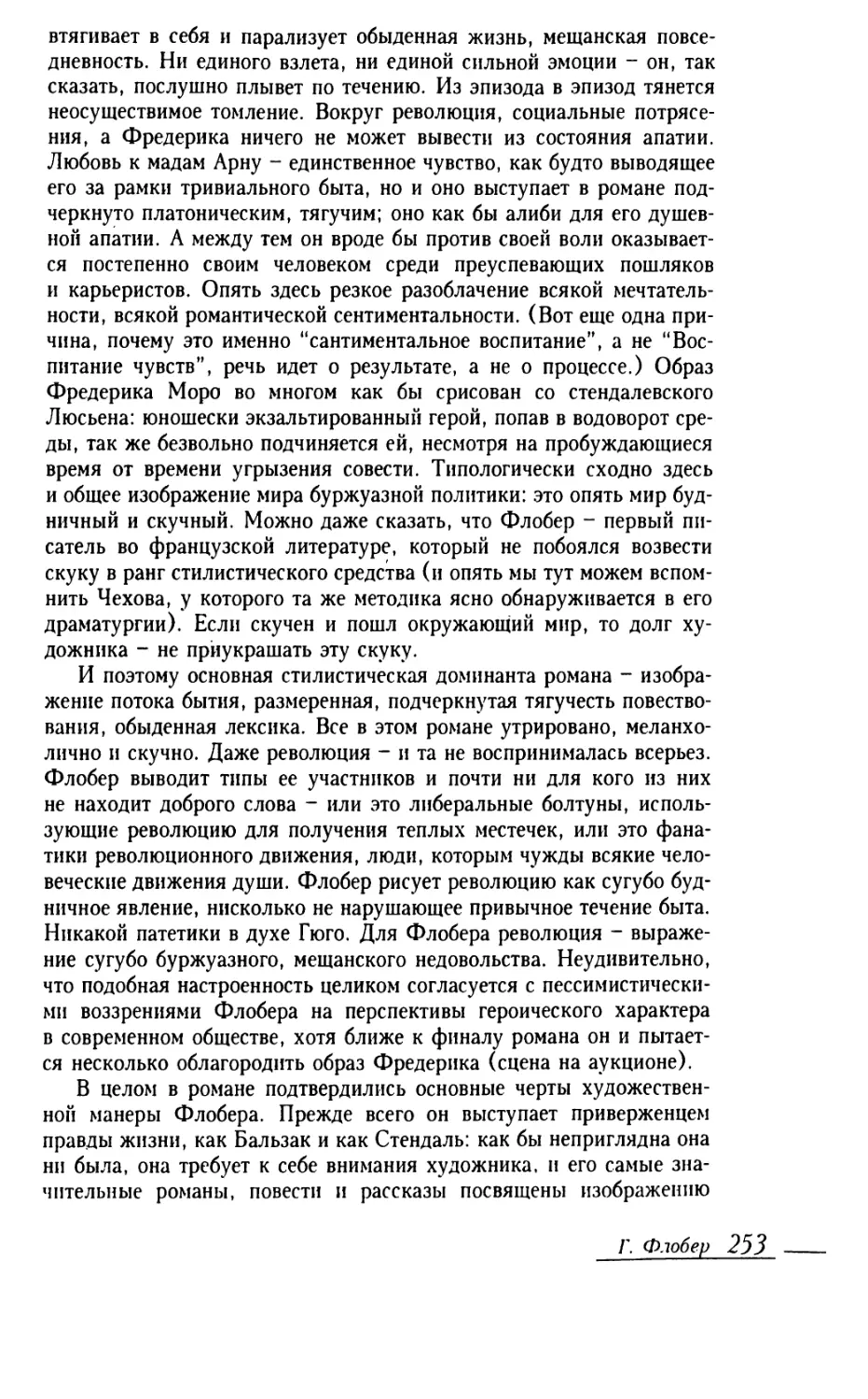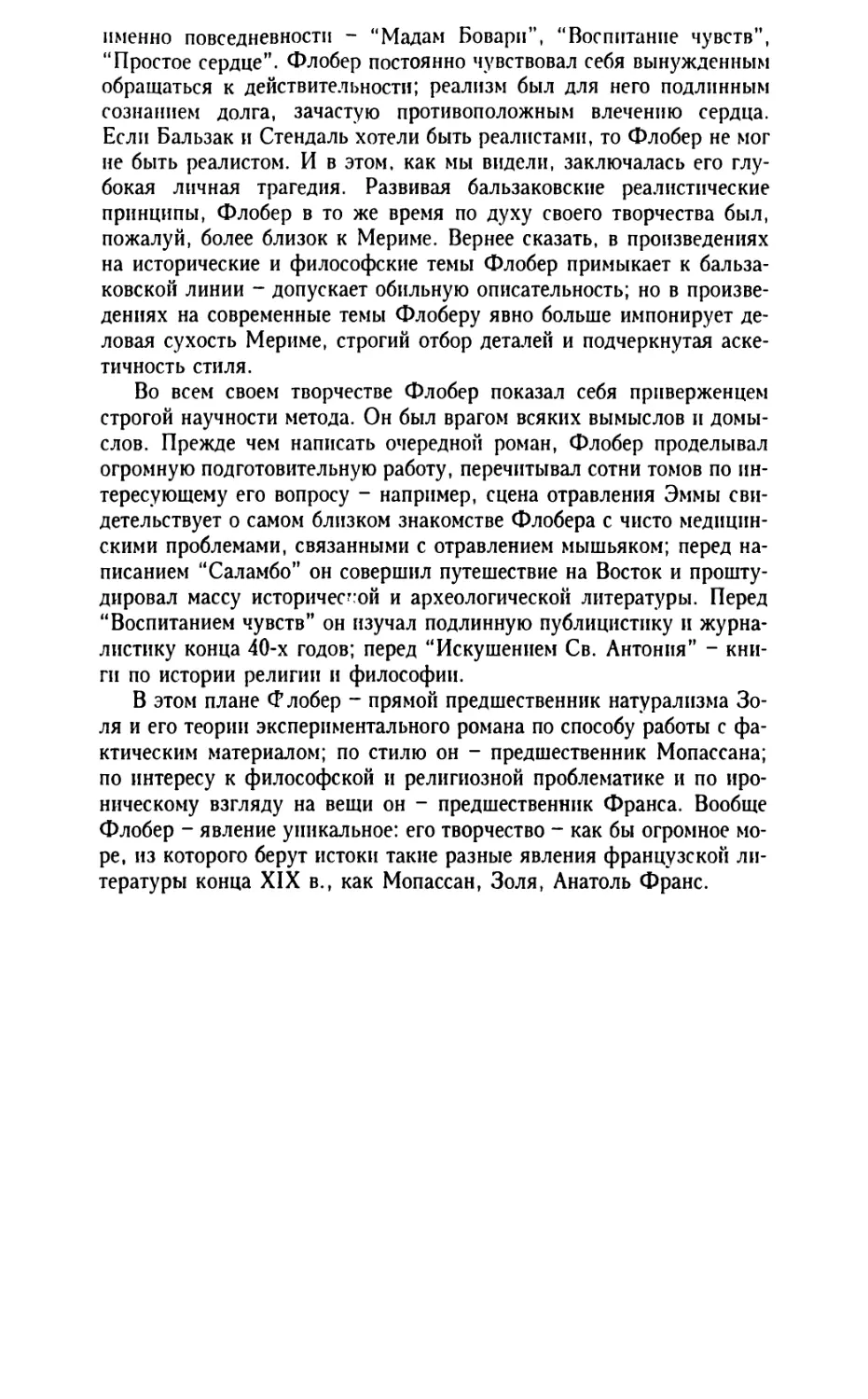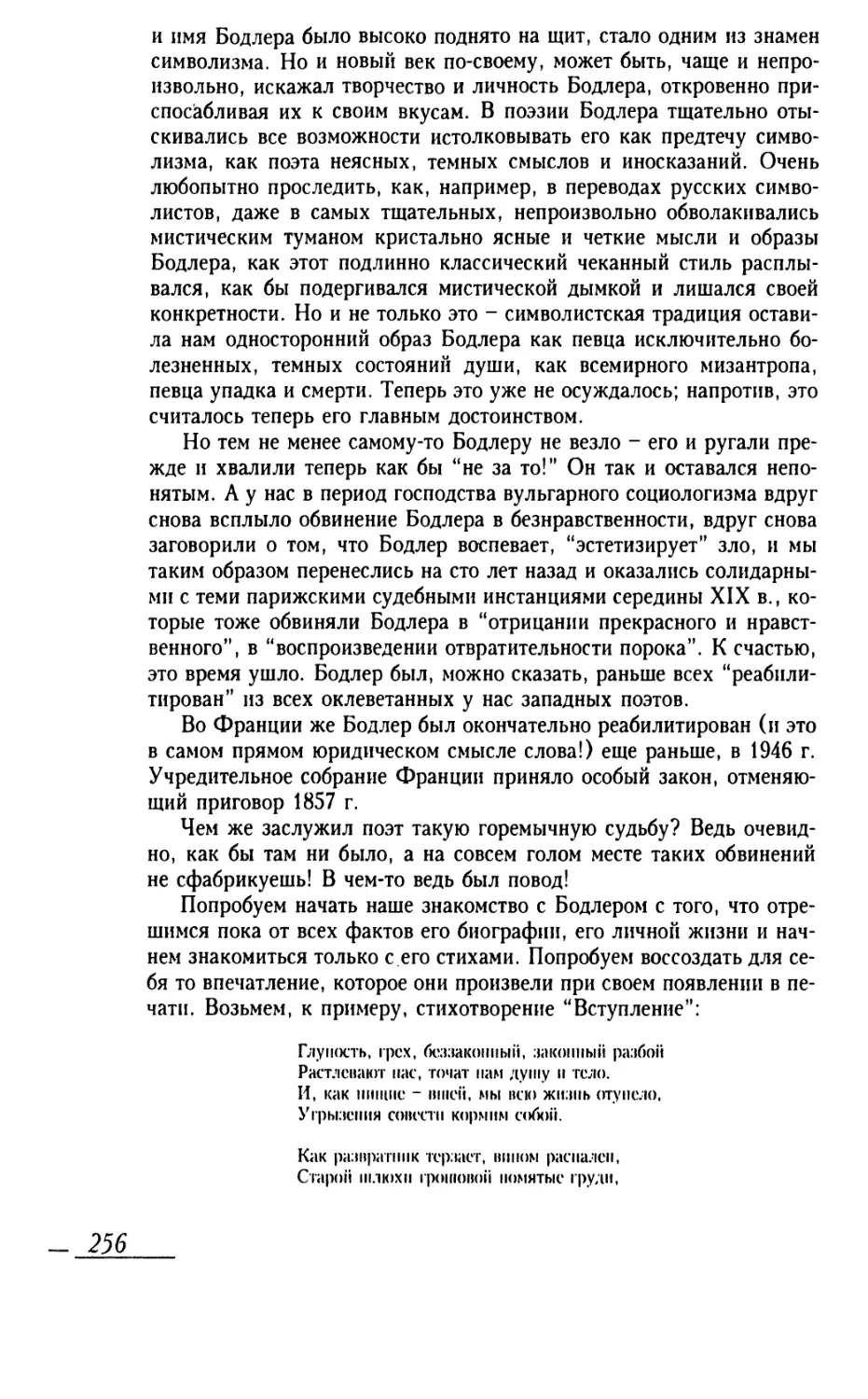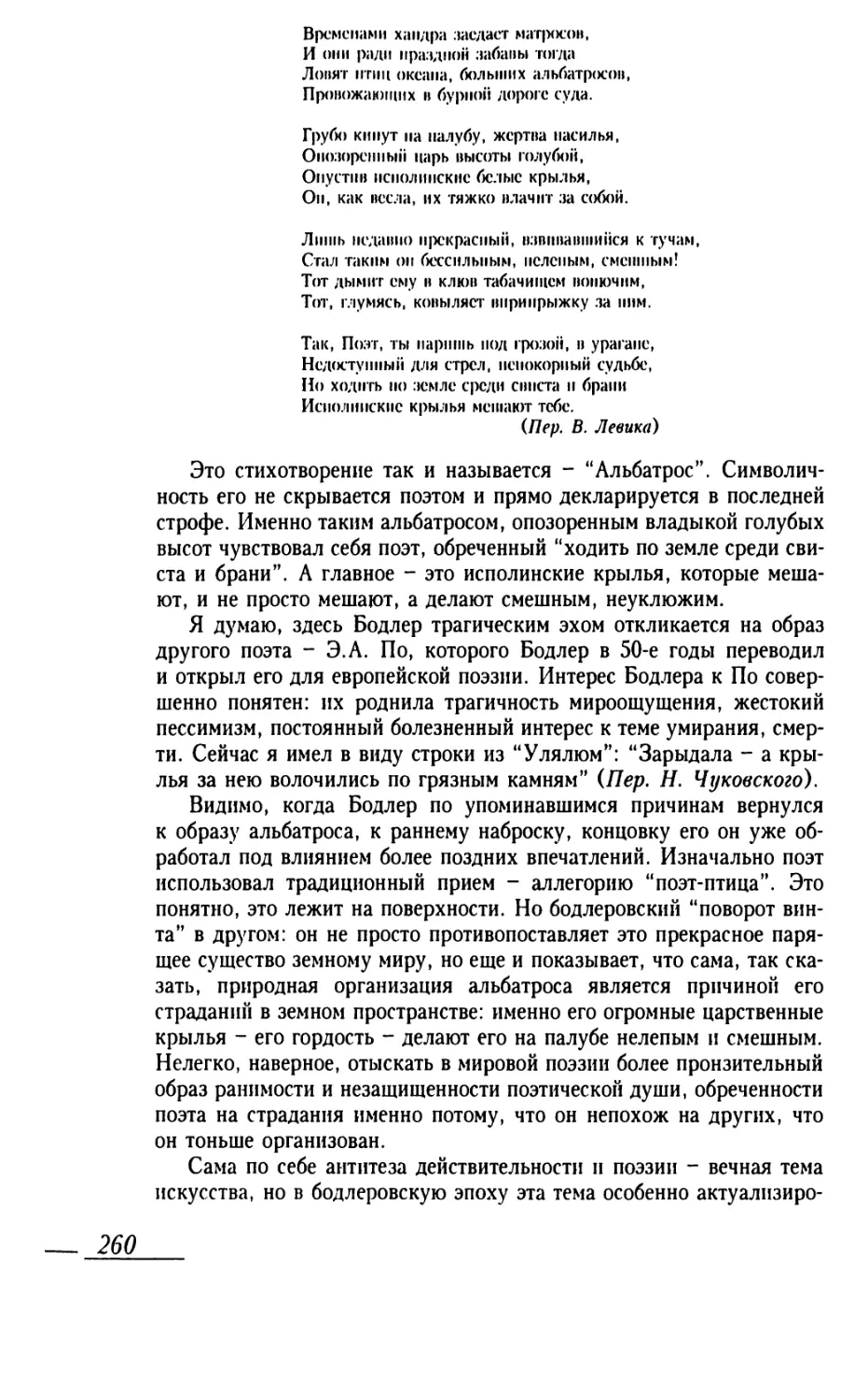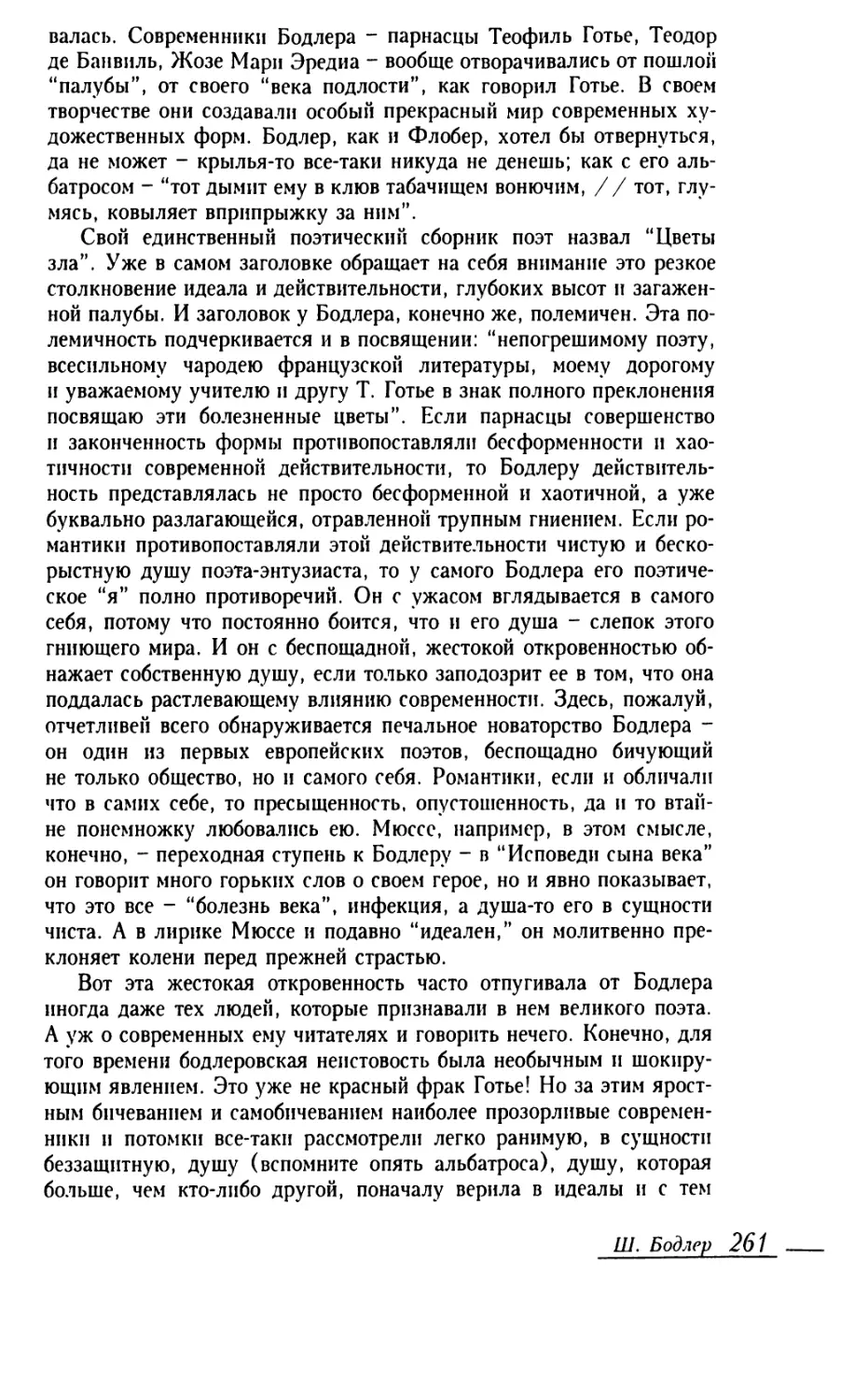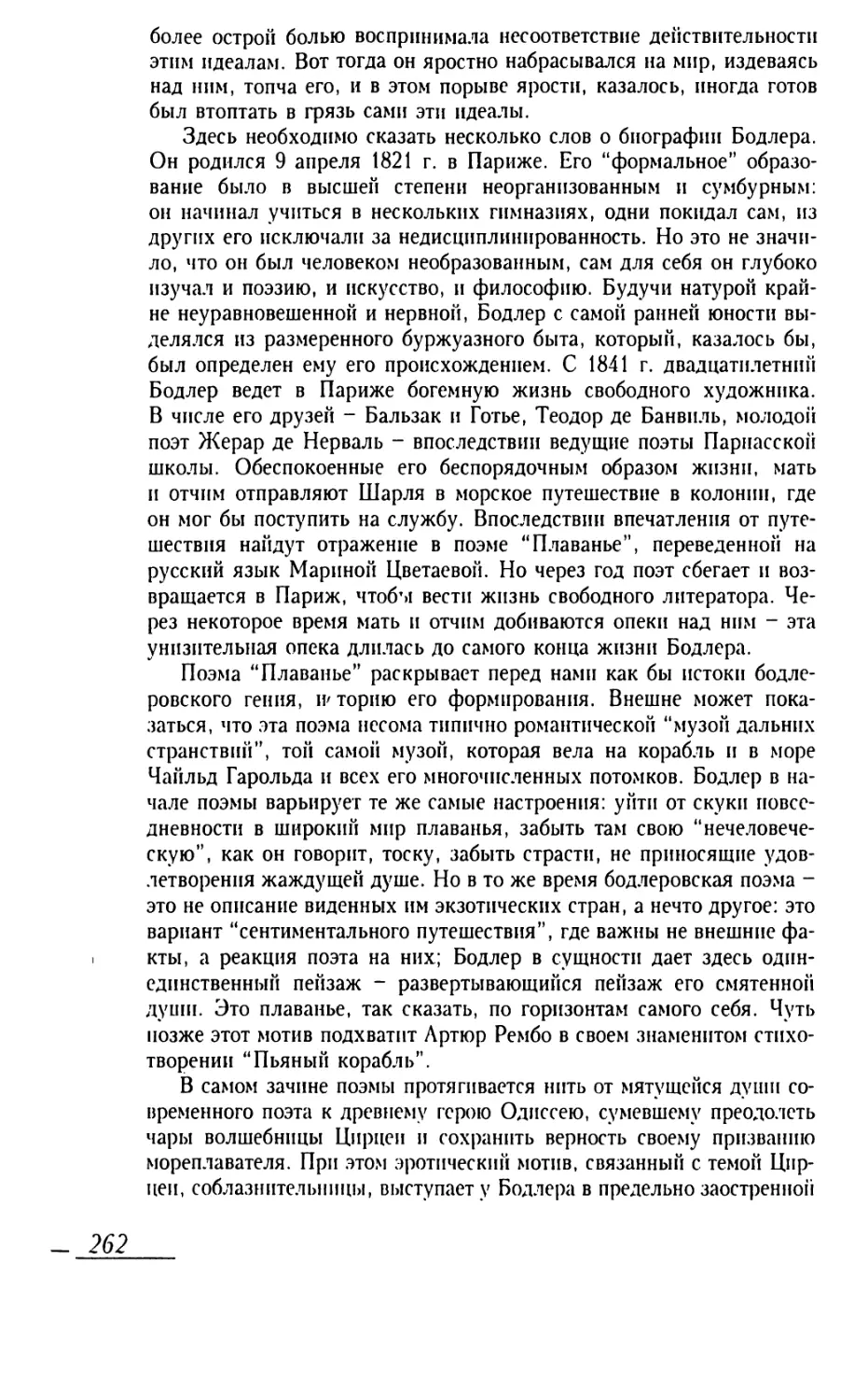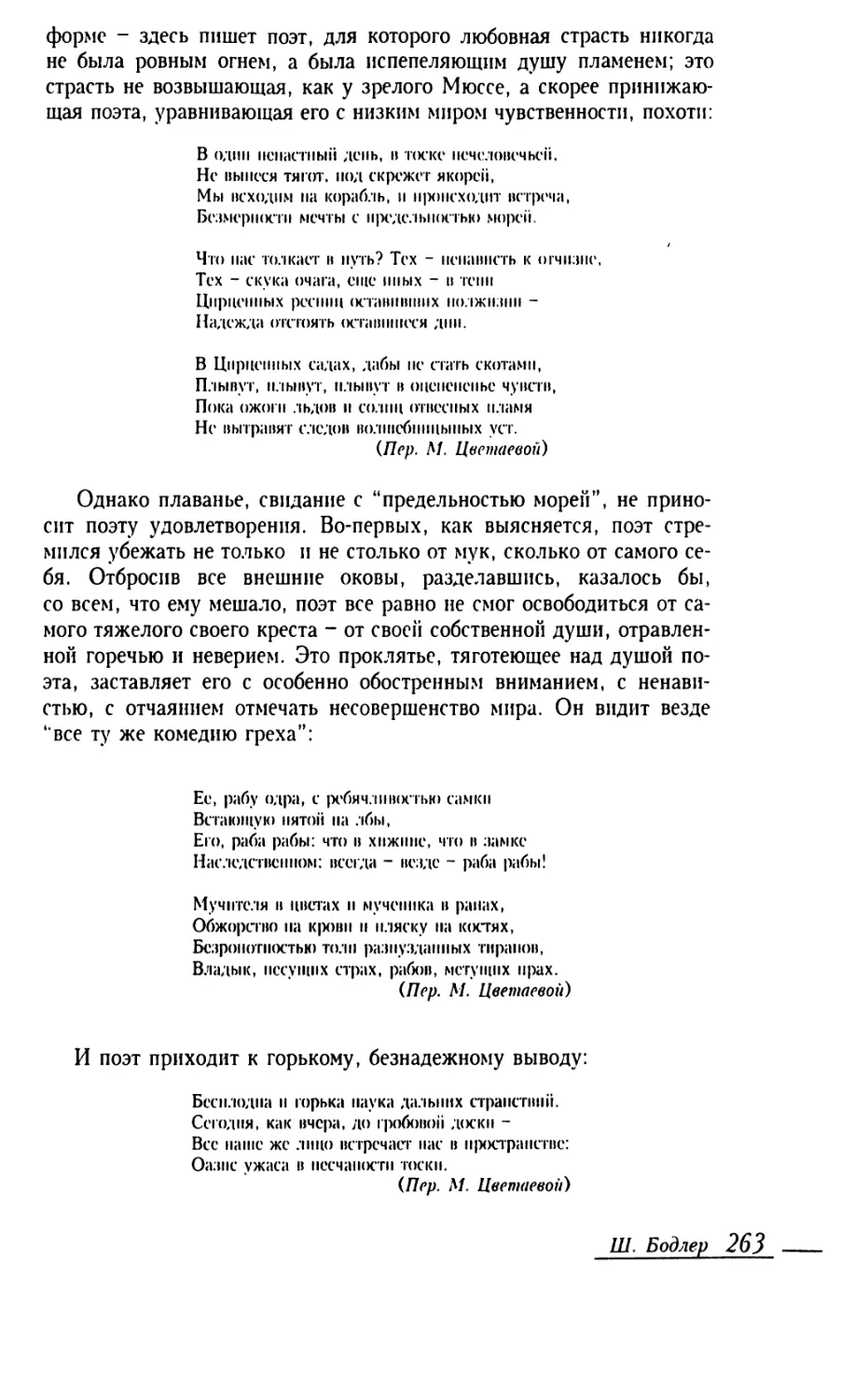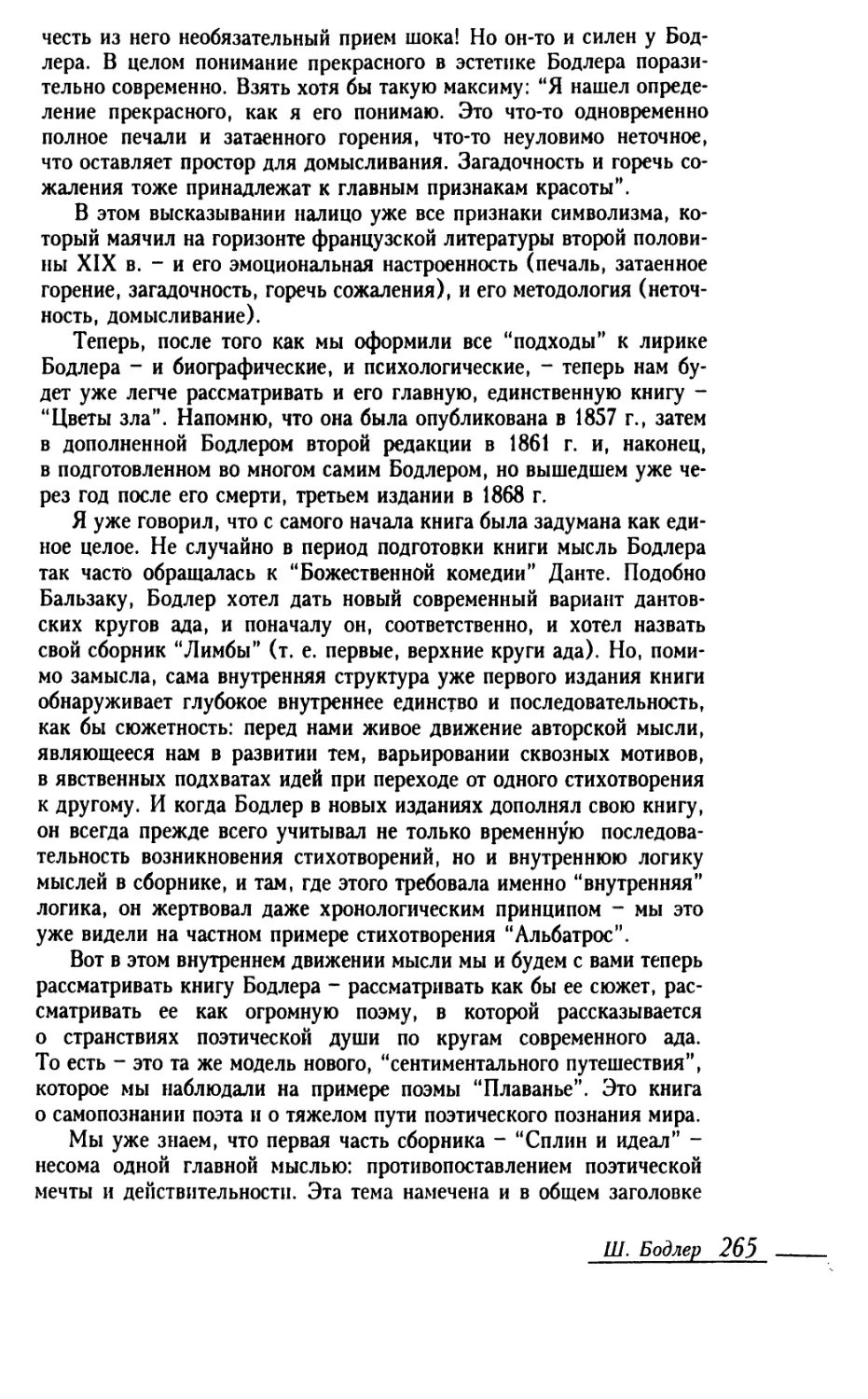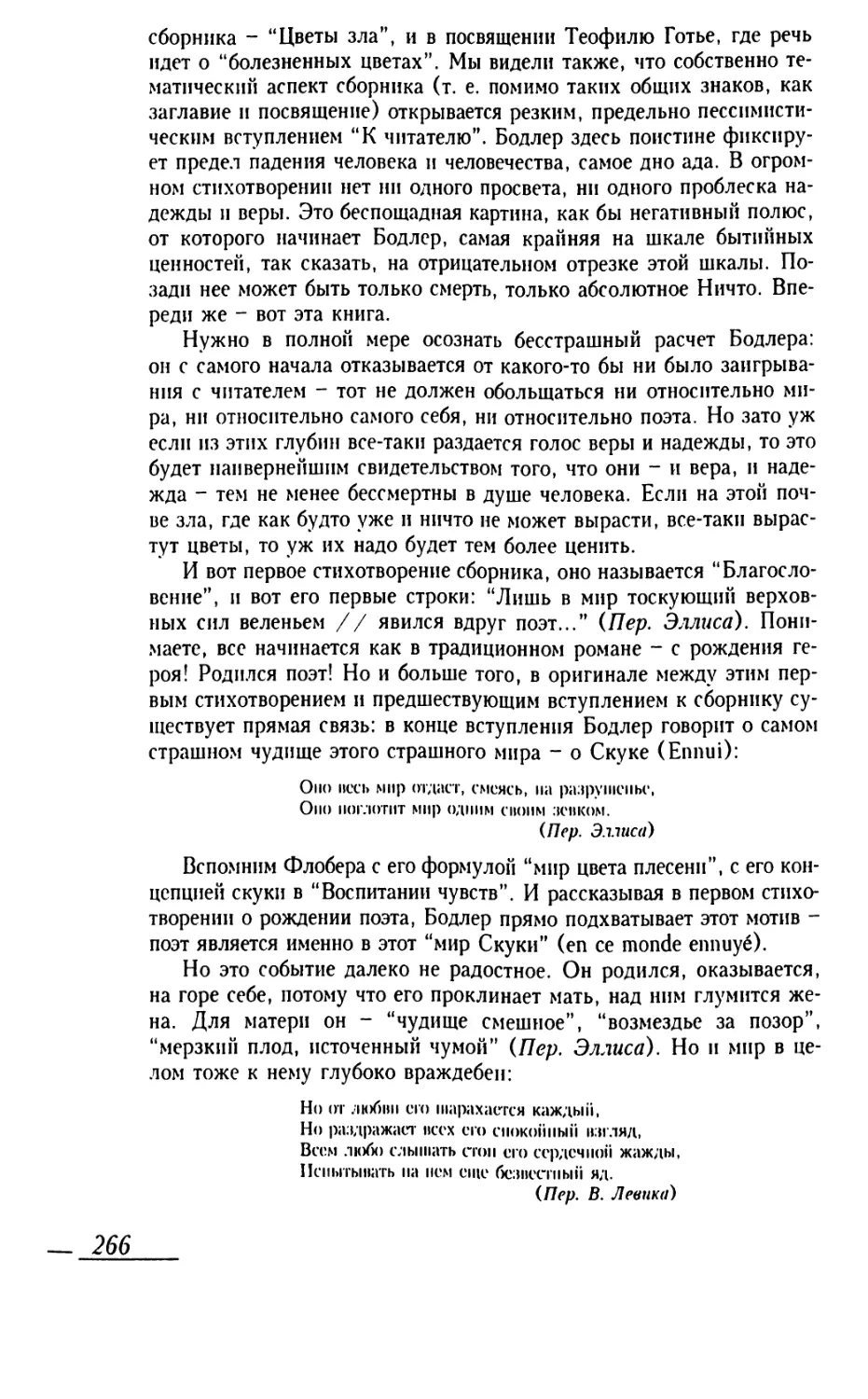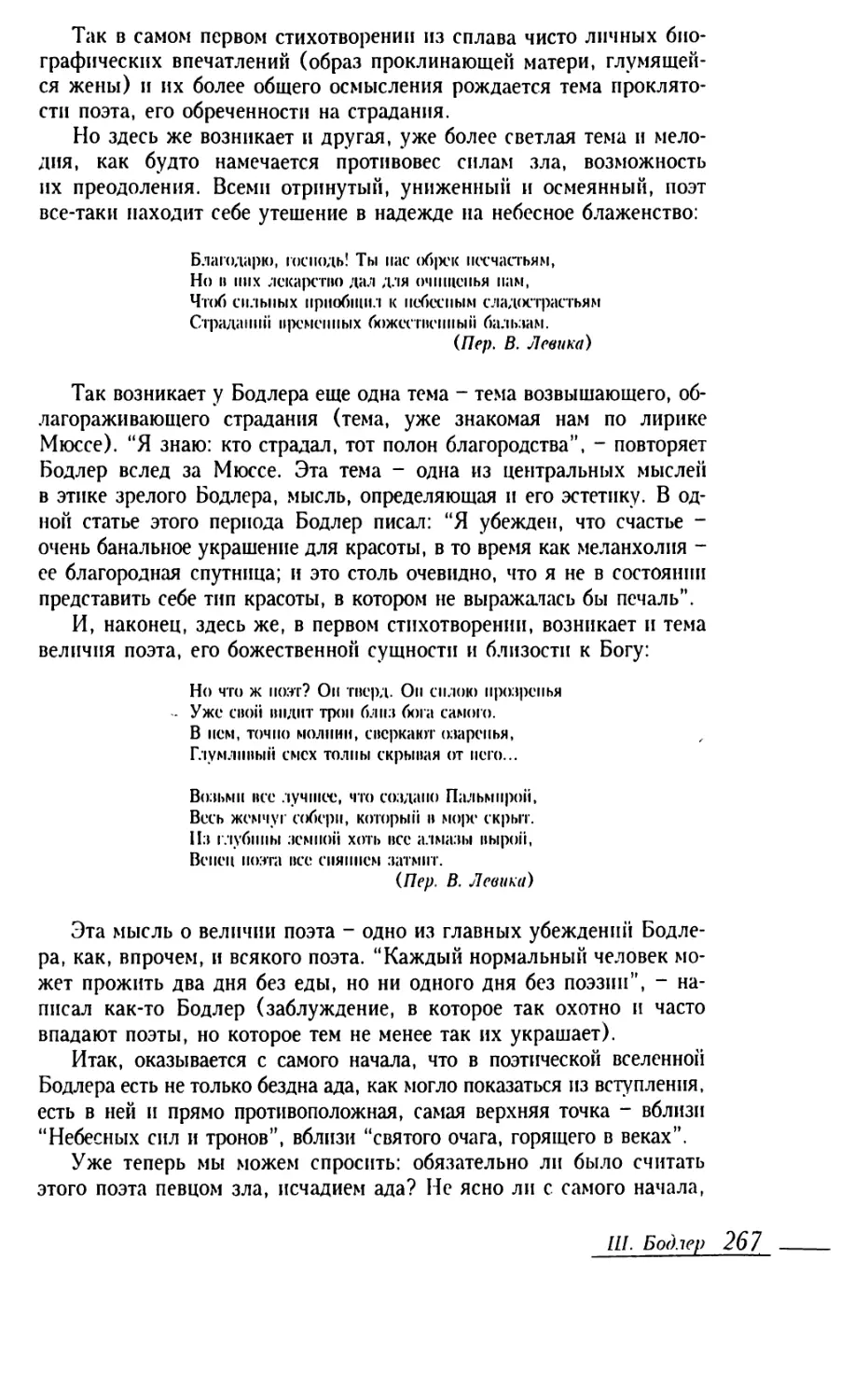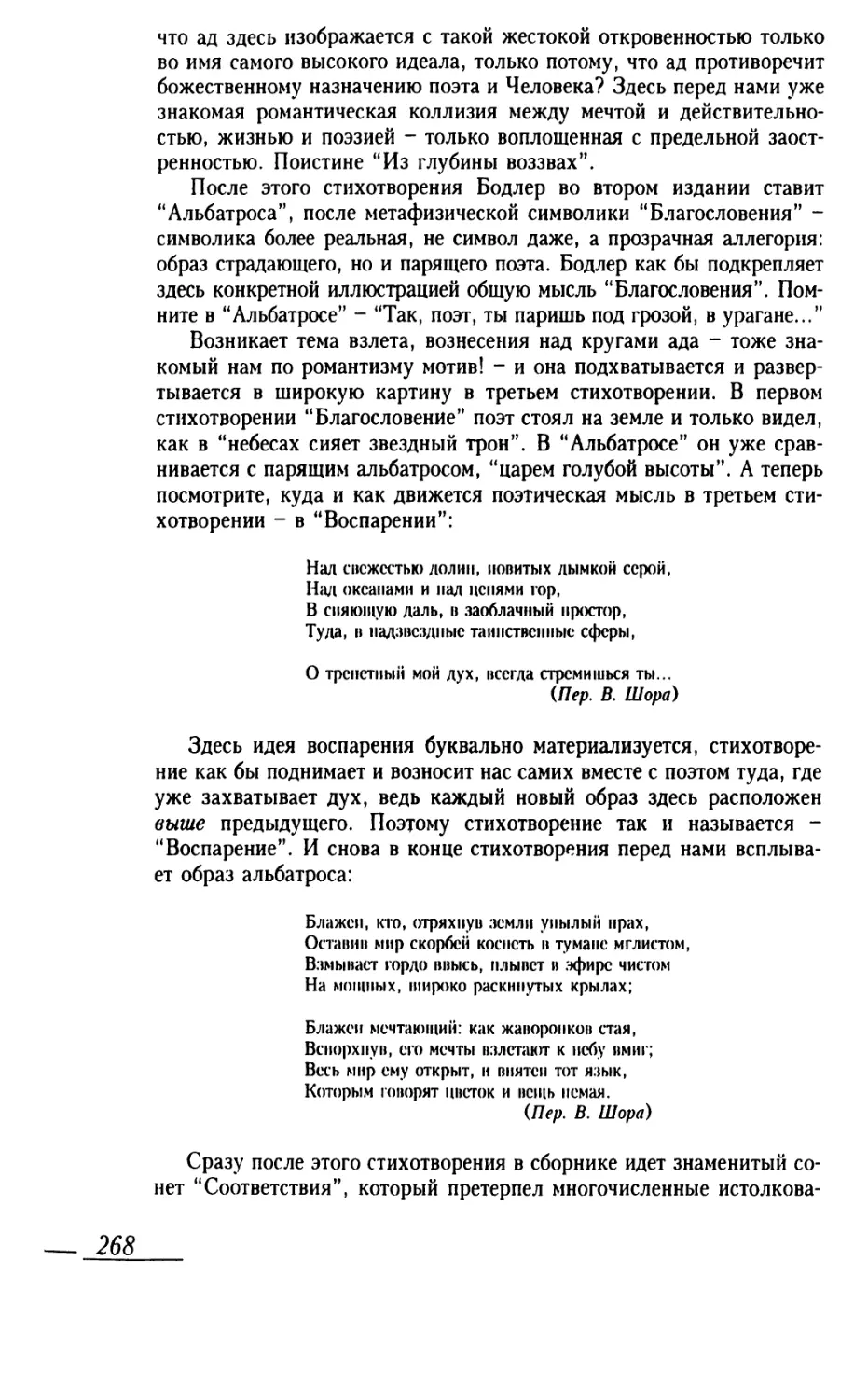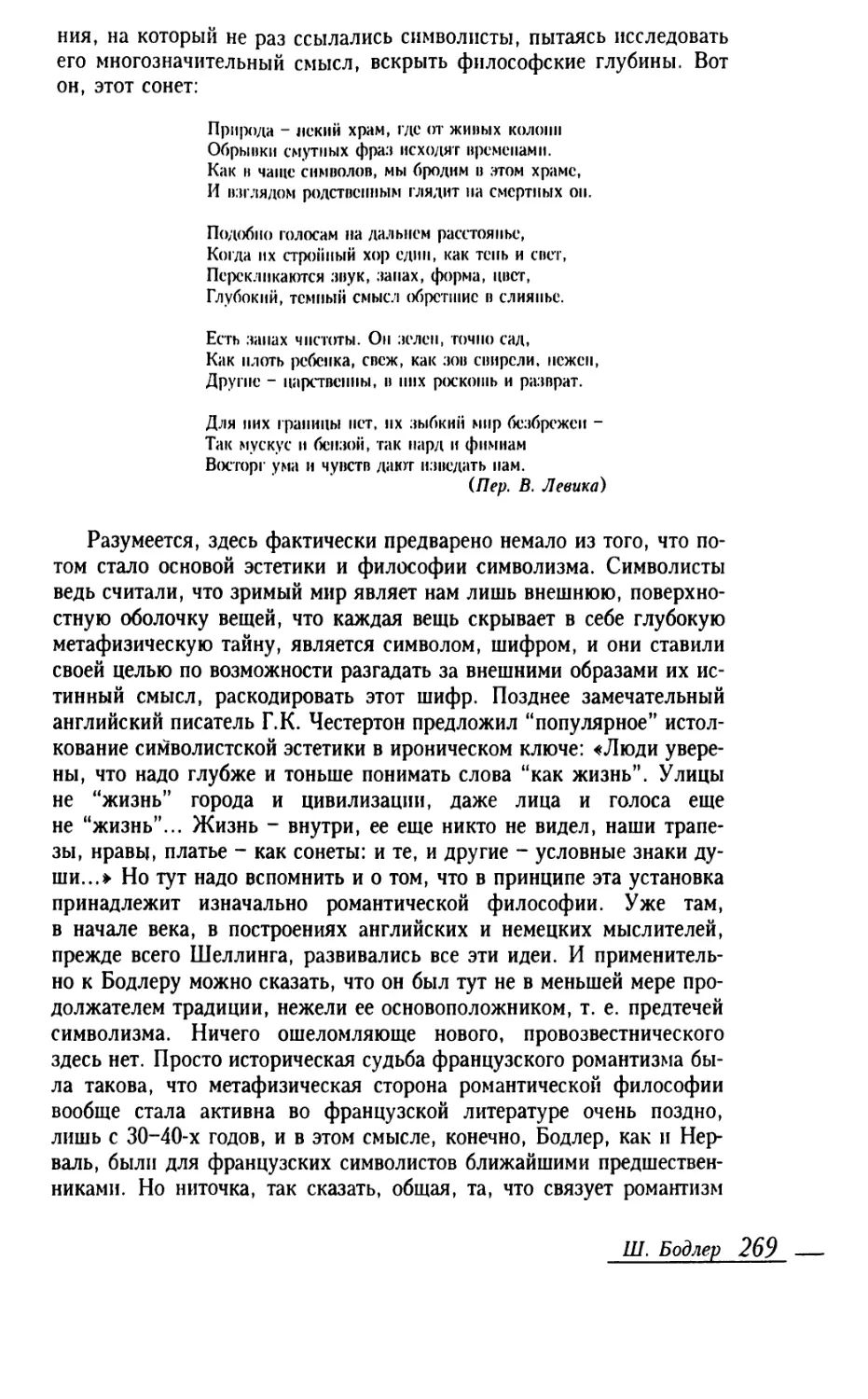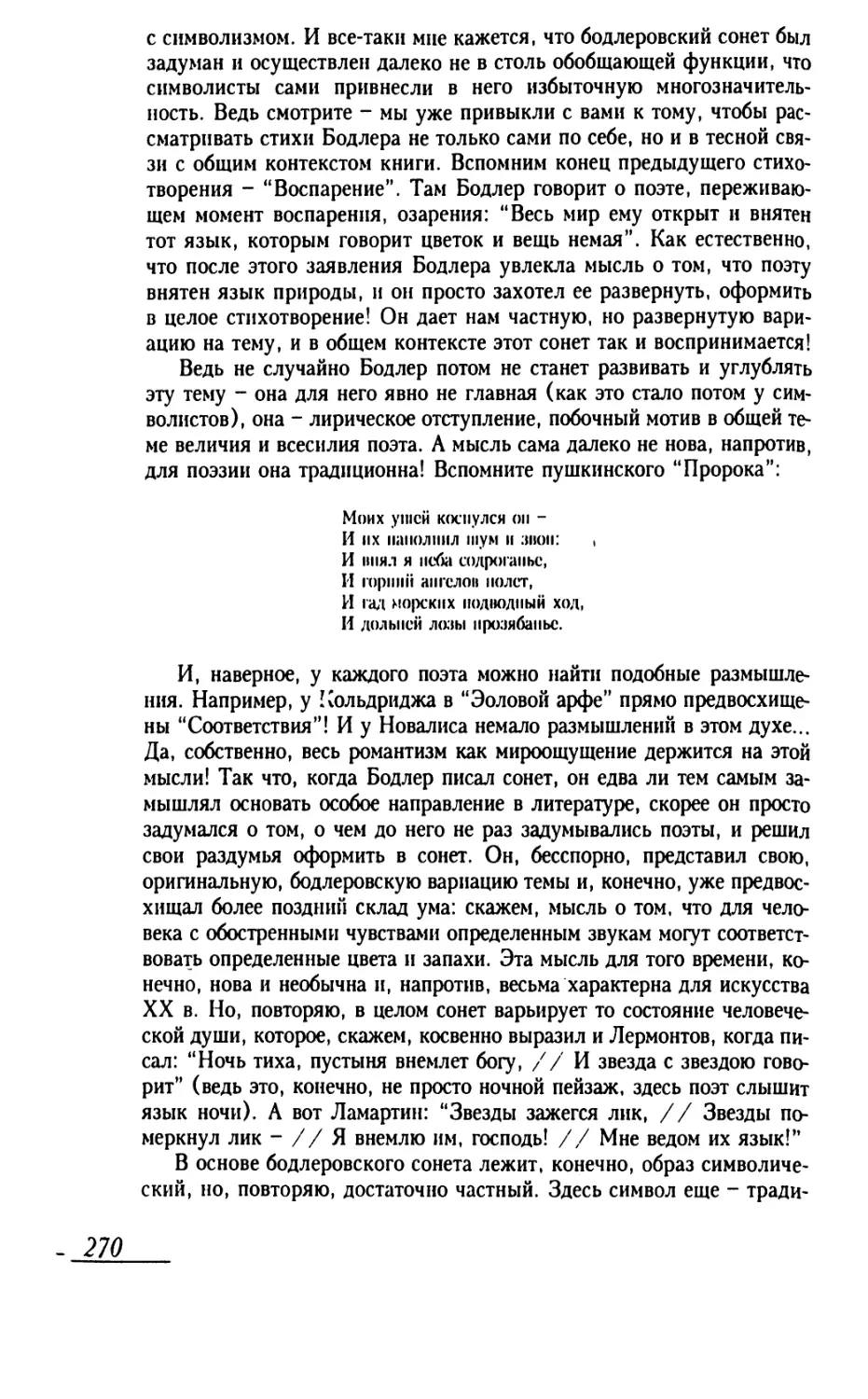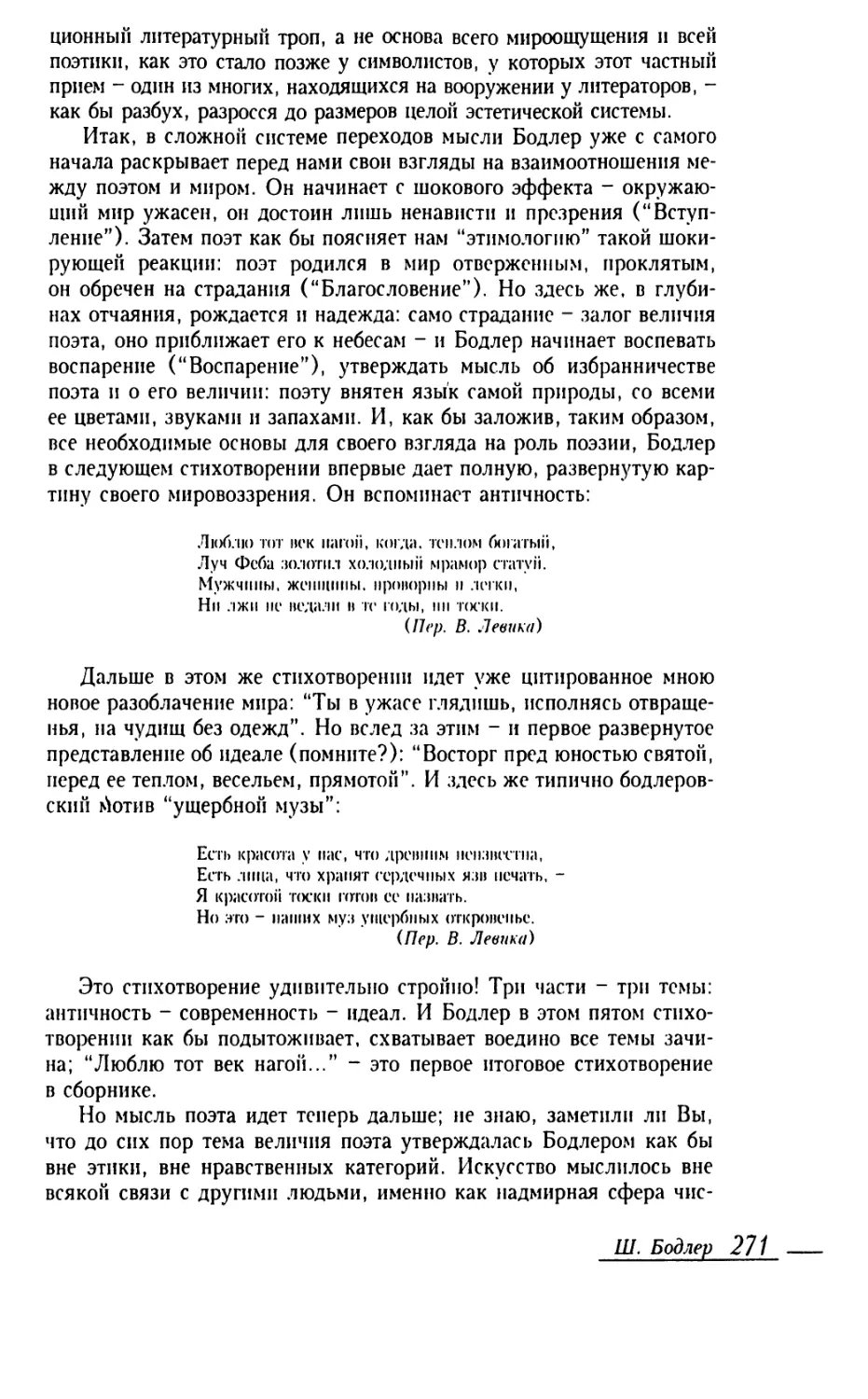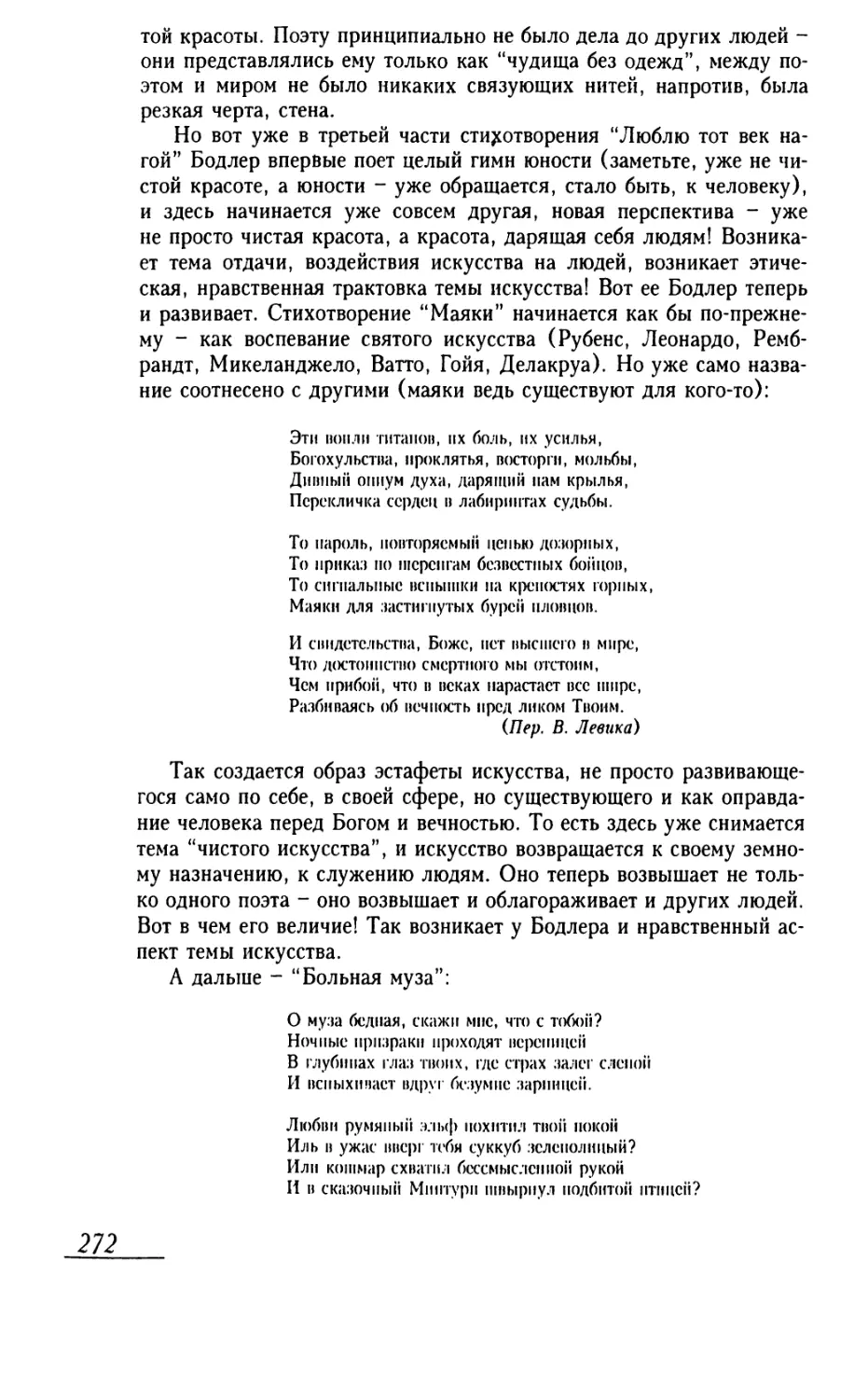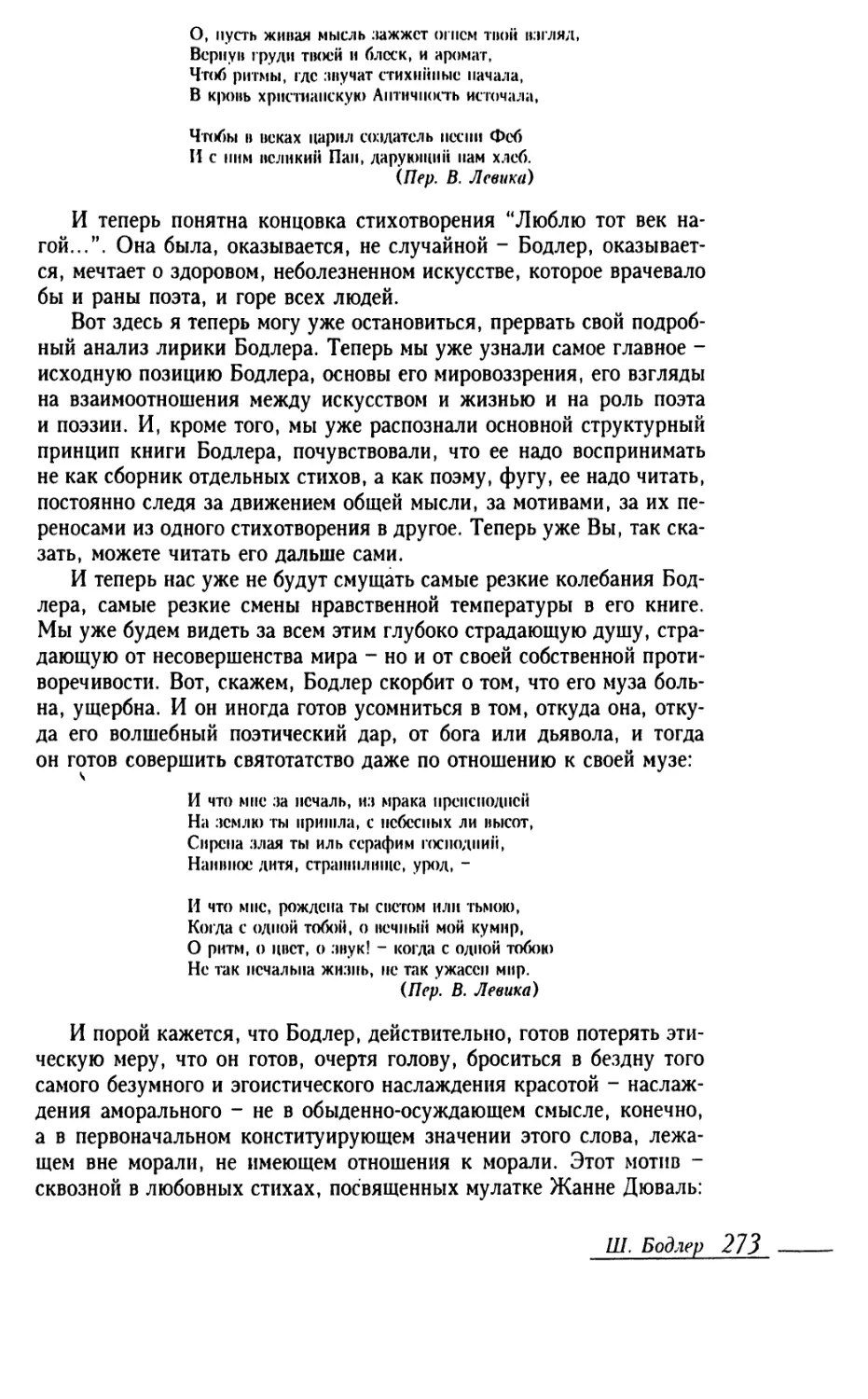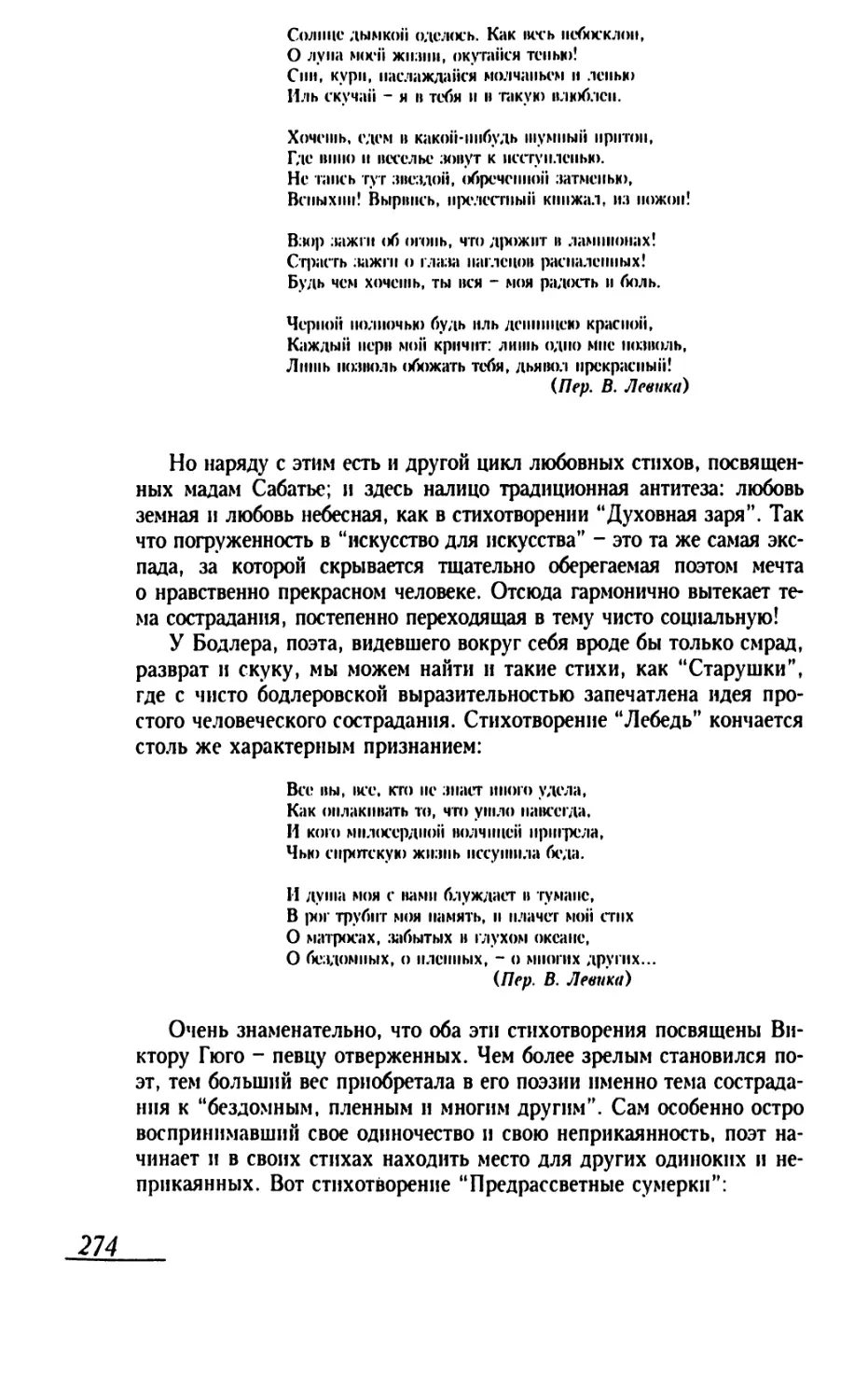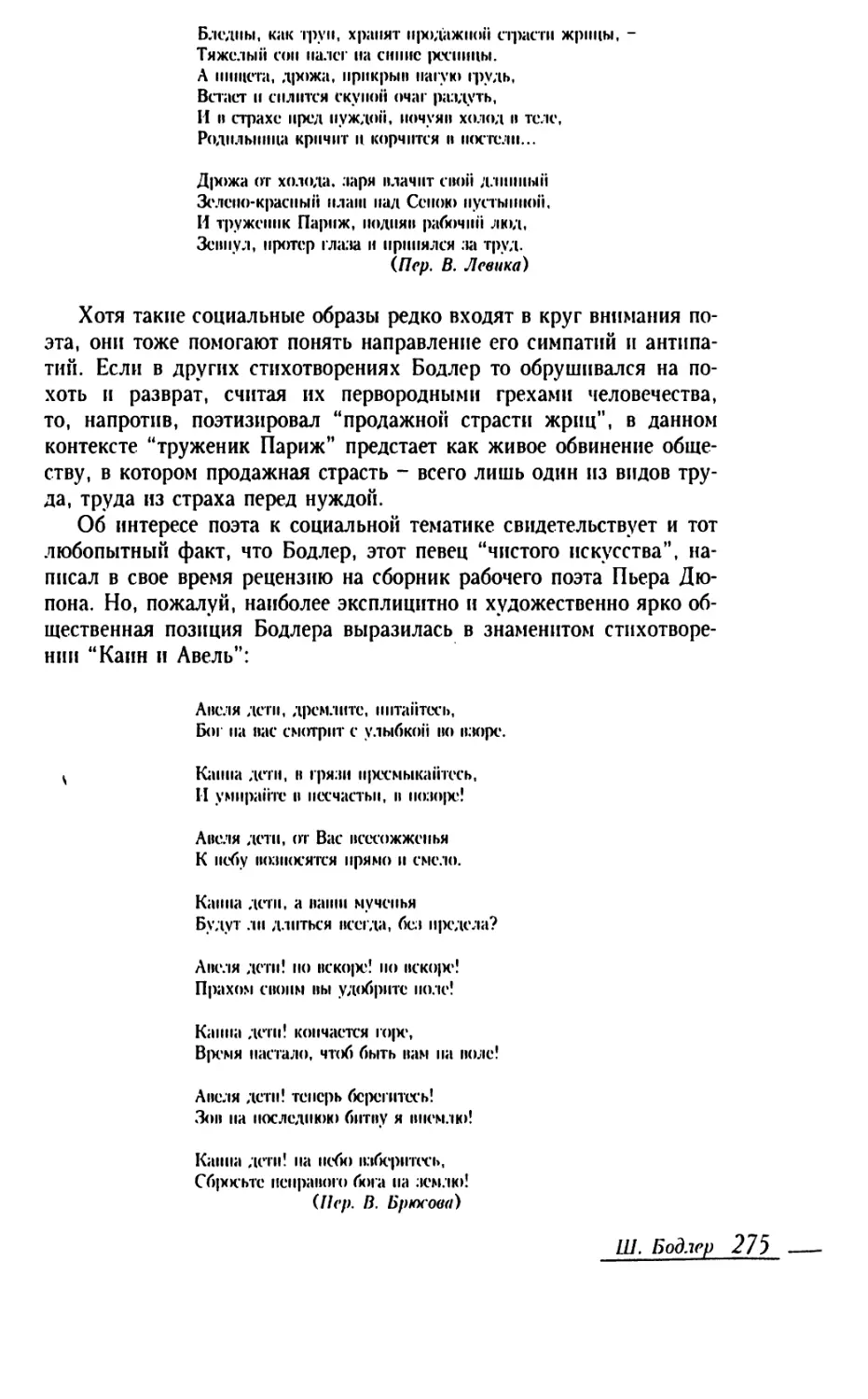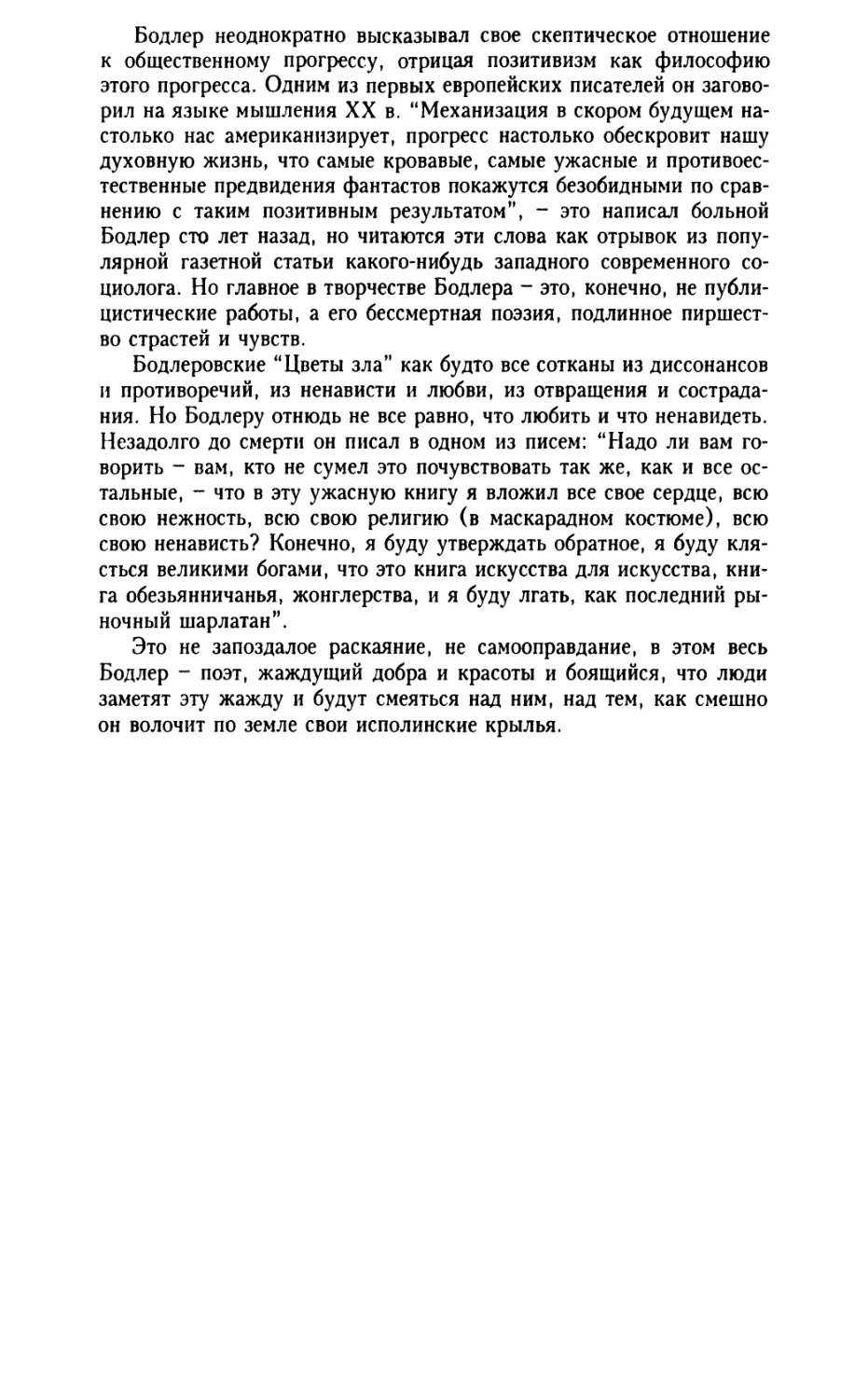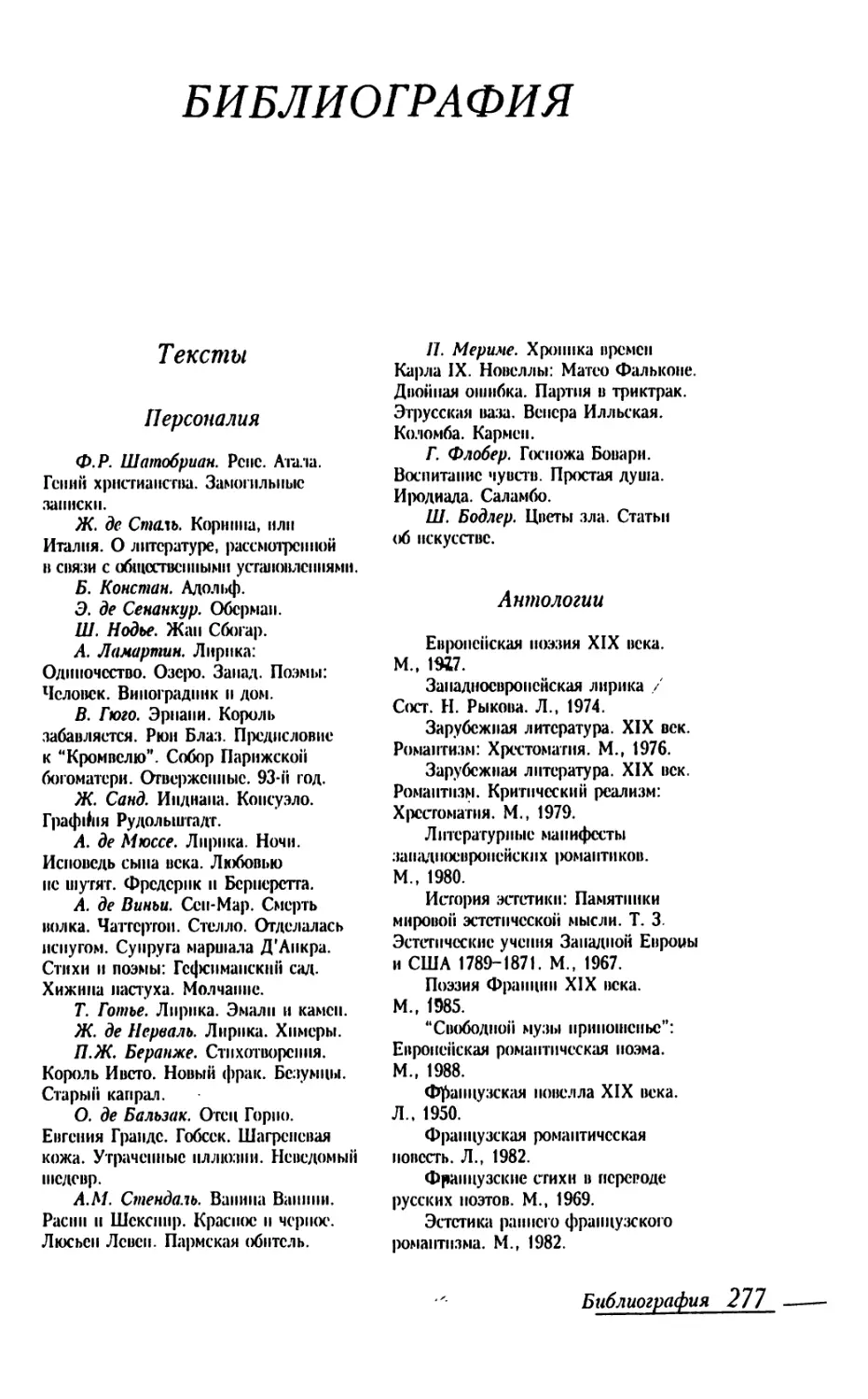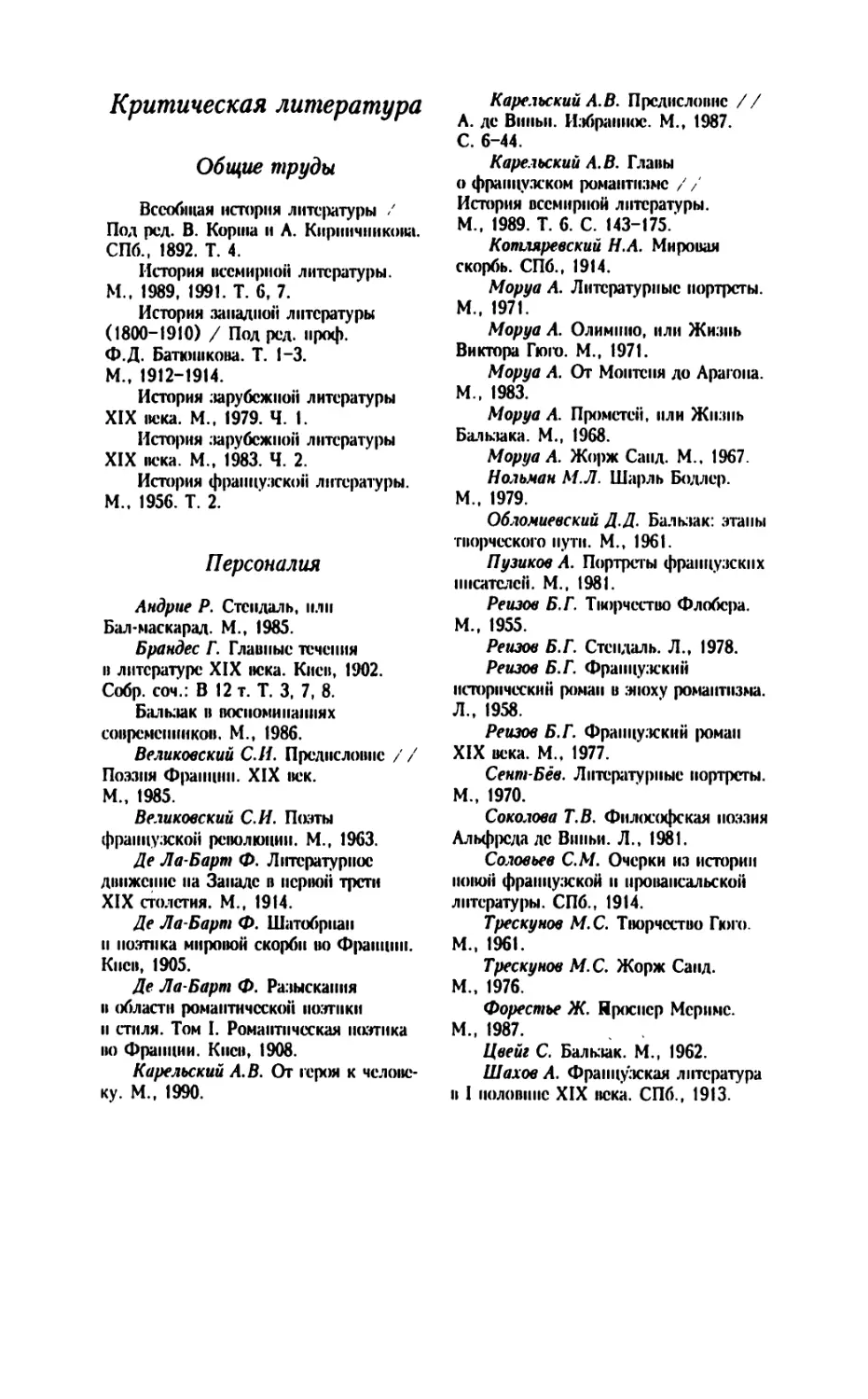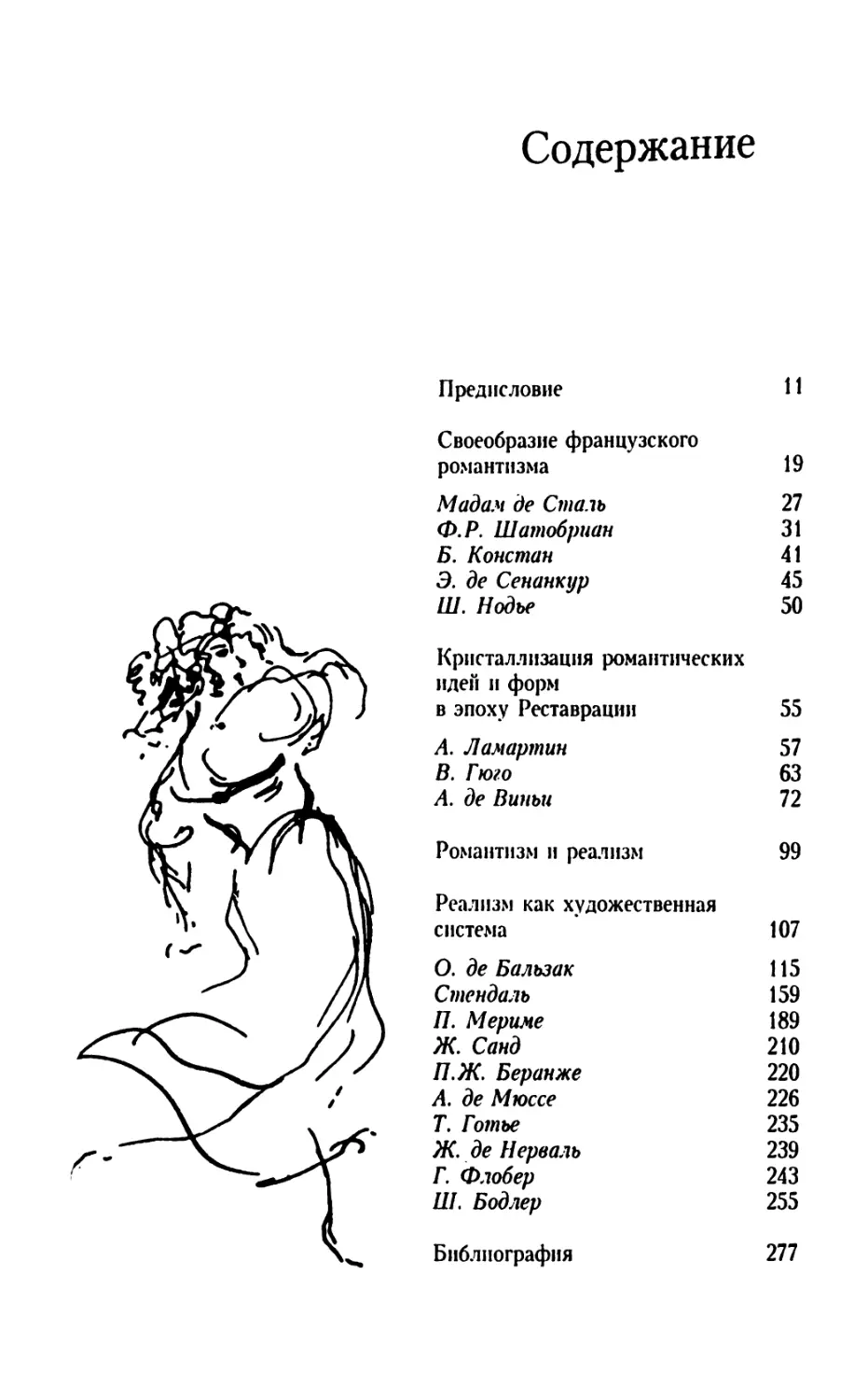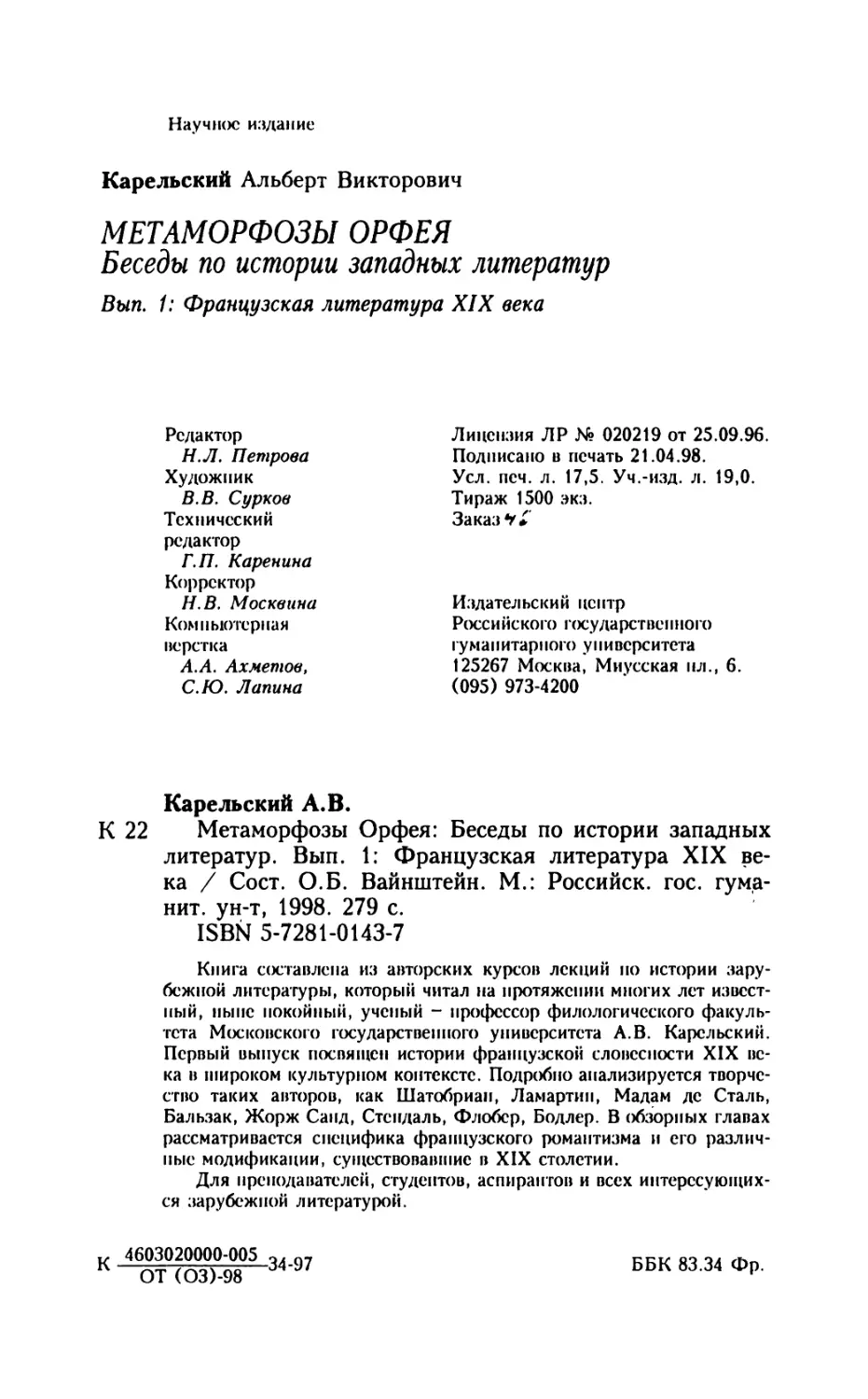Теги: история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран
ISBN: 5-7281-01
Текст
IT,
4 Ц EAf hin
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
R.-M. RILKE
DIE SONETTE AN ORPHEUS
V
Errichtet keinen Denkstein. Laltdie Rose
nur jedes Jahr zu seinen Gunsten blühn.
Denn Orpheus ists. Seine Metamorphose
in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühn
um andre Nemen. Ein für alle Male
ists Orpheus, wenn es singt. Er kommt und geht.
Ists nicht schon viel, wenner die Rosenschale
um ein Tage manchmal übersteht?
О wie er schwinden mul, dal ihrs begrifft!
Und wenn ihm selbst auch bangte, dal er
schwände.
Indem sein Wort das Hiersein übertrifft,
ist er schon dort, wohin ihrs nicht begleitet.
Der Leier Gitter zwängt ihm nicht die HKnde.
Und er gehorcht, indem er überschreitet.
Februar 1922
P.M. РИЛЬКЕ
СОНЕТЫ К ОРФЕЮ
5
Надгробия не надо. Только роза
раз в году ему во славу пусть цветет.
Ведь то Орфей. Его метаморфоза
во всем. Ничто его не назовет
точней. Всегда, когда приходит пенье
и вновь уходит, это все • Орфеи.
Уже и то, что розы он цветенье
переживет хоть на немного дней •
не дар ли нам? Ужель он обречен
лишь смертью пробуждать в нас это
знанье?
Коснувшись словом сфер нездешних, он
и сам уходит от всего земного.
И струн в его руках легко дрожанье,
и легок шаг его, покорный зову.
Перевод A.B. Карельского
A.B. КАРЕЛЬСКИЙ
по истории
ЗАПАДНЫХ
ЛИТЕРАТУР
МОСКВА • 1998
ББК 83.34 Фр.
К 22
Редакционная
коллегия:
О.Б. Ваинштейп
Э.В. Венгсрова
Е.А. Иванова
Составитель
О. ВаГшштсГш
ISBN 5-7281-01 W-7 л A.B. KaptviwKiiii (наследники), 1998.
€> Российский г<>суда решенный
гуманитарный уппмгрситст, 1998.
ФРМЩЗСКАЯ
литература
XIX века
i 7 i' ¥ U ¥ f fi *'<
/ л
p$
К
1
ш
ПРЕДИСЛОВИЕ
4>^седы по истории западных литератур" представляют
собой авторский курс лекций, который читал в Московском государ-
ственном университете профессор Альберт Викторович Карельский.
Для всех, кто учился на филологическом факультете в 60-80-е го-
ды, это имя напомнит о многом: блестящий германист, он обладал
универсальной эрудицией, вокруг него всегда концентрировались
люди, которым импонировали его требовательность и высочайший
профессионализм. Статьи, переводы, а позднее и книги, выходящие
из-под его пера, становились событием в литературоведческих кру-
гах, но для учеников, коллег и знакомых, пожалуй, не меньшую
(а, возможно, и большую!) роль играли беседы - бесконечные,
длинные и короткие, серьезные и несерьезные, разговоры после се-
минаров, в курилке, по пути к метро... В разговорах и беседах ярче
всего проявлялся уникальный строй его личности, особый, одному
ему присущий склад ума и стиль речи.
В "Беседах по истории западных литератур" мы старались
по возможности сохранить черты устного изложения. Студенты,
да и все, кому посчастливилось в свое время слушать выступления
Альберта Викторовича, помнят, каким он был замечательным орато-
ром, как умел держать аудиторию. Его лекции завораживали тонко-
стью чувства, а также непринужденной домашней интонацией: ему
удавалось прояснить самый сложный материал без банализирующих
упрощений. Однако за этой внешней легкостью и изяществом стиля
всегда стоял колоссальный и упорный труд - его предварительные
конспекты для лекций занимают сотни страниц с бесконечными
вставками и поправками.
Альберт Викторович был Учителем милостью Божьей, и в осно-
ве его педагогической деятельности лежала старинная благородная
традиция бескорыстной заботы об учениках и дотошного професси-
онального воспитания, идея интеллектуального братства с будущими
коллегами. Студентов привлекали, естественно, и абсолютное обая-
ние Учителя, его неизменная приветливость, долготерпение и порой
какое-то детское простодушие, ранимость и незащищенность.
Он был по-настоящему популярен и любим, и на его спецкурсы
по немецкой литературе ходили люди с разных отделений, причем
самой крупной неудачей считалось незнание немецкого, лишавшее
Предисловие 11
авантажной возможности писать курсовые под руководством Альбер-
та Викторовича. Зато его лекции и статьи были доступны всем,
и очень многих он сумел вовлечь в магнетический круг своих лите-
ратурных симпатий - в круг Гельдерлина, Гофмана, Бодлера, Геббе-
ля} Рильке... Столь же ярко его учительский дар срабатывал и в не-
мецкоязычной стихии (после учебы в Берлине он блестяще знал не-
мецкий). Об этом свидетельствует триумфальный успех его лекций
в Кёльнском университете в 1990 г., где аудитория составляла око-
ло 500 человек. В 1993 г. он должен был читать курс в качестве при-
глашенного профессора в Сорбонне, но не успел...
Слушатели на его лекциях не только конспектировали общий ход
рассуждений, но и записывали отдельные "красивые" слова, подоб-
но тому, как всегда невольно фиксируешь хорошее выражение в ино-
странном языке. Язык лекций Альберта Викторовича отличался ис-
ключительной пластичностью и аристократичной возвышенностью
тона при порой неожиданных живописно-разговорных оборотах.
И многие его ученики вольно или невольно подхватывали и повто-
ряли его любимые словечки, подражали его слогу, манере строить
фразы и играть с аллюзиями.
Одна из лучших и стилистически наиболее совершенных работ
A.B. Карельского - предисловие к изданию Рильке 1981 г. (изд-во
"Прогресс"). Классическое размеренное начало: «Среди всего проче-
го достоинство и примета подлинной поэзии, наверное, вот в чем:
в сумятице дня, в толчее забот, на бегу от одной спешности к дру-
гой человек внезапно останавливается, кругом опускается тишина,
и в притихшей памяти, без всякого видимого повода, проплывает не-
впопад: "Но в искре небесной прияли мы жизнь, нам памятно небо
родное..." Или: "Редеет облаков летучая гряда..." Или: "Дай эту
нить связать и раздвоить: ты помнишь рифмы влажное биенье?" За-
летные, случайные обрывки, и значенье иной раз "темно иль ни-
чтожно", но какую-то незримую связь они восстанавливают между
моментом и вечностью, и человек понимает, что жизнь, конечно,
пойдет дальше своим чередом, но это в ней тоже есть»1. Далее идет
нюансированное толкование поэтической философии Рильке с посто-
янными уточнениями и паузами, как будто автор нарочно спохваты-
вается и сдерживает себя, лишь бы не сказать неверное слово. Это
интонация медленного размышления, порой сомнения. Иногда явст-
венно ощутимо умолчание, особенно когда дело доходит до биогра-
фических подробностей. Стоит отметить и искусство вовремя, так-
тично вводить ассоциации и параллели, не перенапрягая контекст.
И, наконец, как индивидуальная черта стиля - естественно возника-
ющие в продолжение мысли немецкие обороты типа «Здесь, как го-
ворят немцы, "ist ein Dichter am Werke", замешан поэт»2.
1 Карельский A.B. О лирике Рильке // Rielkc R.-M. Gedichte. М., 1981. С. 5.
2 Там же. С. 32.
12
Правда, у своих учеников Альберт Викторович не слишком по-
ощрял увлечение иностранными словами и терминами, всегда наста-
ивая: "Скажите по-русски!" Наверное, ему с его безукоризненным
чувством стиля резали глаз неуклюжие выражения в тех текстах,
которые он читал как редактор или научный руководитель. Его ти-
пичнейшее замечание на полях - "Не то слово". Или при компози-
ционных сбивах - "Надо вести Вашего читателя". А вот строгий вы-
говор по поводу нестройных описательных восторгов: "Нельзя впу-
скать в исследование столь общие эмоции..." Эти ясные требования
корректности и логики мотивировались, конечно же, педагогически-
ми соображениями. Нам как бы давали понять: сначала школа, азы
ремесла, грамматика и композиция, а уж потом интеллектуальные
пируэты, если угодно. Однако постоянное и сосредоточенное проти-
водействие Альберта Викторовича "не тем" словам подразумевало,
помимо элементарного филологического профессионализма, еще
и немаловажный моральный аспект.
Языковая точность - залог ответственного и доверительного по-
нимания, и здесь мы уже вступаем в сферу этических отношений ме-
жду критиком и его "героями" или, что примерно адекватно, между
переводчиком и переводимым автором.
Для Альберта Викторовича, как это видно почти из всех его ра-
бот, изначальные жизненные и человеческие ценности в литературе
были безусловно приоритетны. Основной принцип тут можно опре-
делить как "сострадательное участие" - особого рода душевная де-
ликатность, вовсе не тождественная сентиментальной жалости. Сост-
радательное участие по отношению к автору или герою - ключ к по-
знанию и одновременно защита от тривиальных или попросту вуль-
гарных интерпретаций, "не тех" слов. Приведем для примера его па-
радоксальную и убедительную характеристику позиции Ницше в его
гимнах Заратустры: "То, что бесстрастно-судейскому взору способно
представиться апологией силы, подстрекательством к жестокости
и злу, это ведь можно постараться понять и как попытку бедного,
физически и духовно терзаемого человека выстоять перед натиском
злой силы, не поддаться слабости, противопоставить ей все, чем рас-
полагаешь, - мощь и блеск своего интеллекта, - и его пока еще дер-
жавной властью объявить ту силу нестрашной, наоборот, приятной,
принятой и тем вроде бы побежденной"3.
Разглядеть под маской Заратустры "бедного, физически и духов-
но терзаемого человека" - это не просто упражнение в сочувствии,
а программная установка: если пишешь об авторе или, тем паче, пе-
реводишь, значит предполагается участие - если не любовь или сим-
патия, то, по крайней мере, неравнодушное отношение. А за чуждых
по духу авторов лучше и ровсе не браться, коль скоро критика
Карельский A.B. Фридрих Ницше, поэт и философ // Литературная учеба. 1991.
Кн. 2. С. 187-188.
Предисловие 13
по сути - благородное заступничество и сострадательное понимание.
Не случайно Альберт Викторович практически ничего не написал
о Гете: он не любил Гете за эгоистическую замкнутость и за то, что
он в свое время оттолкнул молодого Клейста, нуждавшегося в доб-
ром слове. Не случайно из "Писем к молодому поэту" Рильке, ори-
ентирующих в целом на творческую самоуглубленность, он выбрал
для цитирования в кратком предисловии такой отрывок: "Не серди-
тесь на тех, кто отстал от Вас, и не бойтесь с их стороны угрозы...
Любите их, ибо это тоже жизнь, хоть и в чуждой Вам форме, и будь-
те терпеливы со стареющими людьми, страшащимися одиночества"4.
Возможно, тут нет ничего особо нового - вполне в традициях рус-
ской критики совестливое слово, слово-утешение, умиротворение
и моральное наставление, расширяющее сферу чувствительности
и личной ответственности. Нас ли удивить хрестоматийными фраза-
ми о литературе как учебнике или пусть даже задачнике жизни?
Но вот элементарное испытание, которое десятилетиями не выдержи-
вала советская "гуманная" критика, трактуя известную балладу
У. Вордсворта "Слабоумный мальчик" как пример странного заблу-
ждения поэта, воспевшего по ошибке "идиотизм деревенской жизни".
"Прочитав в свое время эту балладу, - пишет Альберт Викторович
в своей вступительной заметке, - я ужаснулся кричащему несоответ-
ствию между текстом и его интерпретациями..." Ужаснулся - и сде-
лал прекрасный новый перевод баллады, заодно реабилитировав
и сюжет, и героя: "Неинтересная тематика? Да неужели что-то может
быть важней и интересней, чем материнская любовь, сострадание
к ближним, готовность к самопожертвованию ради него - все, о чем
и идет речь в Вордсвортовой балладе? Не здесь ли, в сфере этих про-
стейших истин, берут свое начало все головоломные сложности люд-
ского и мирового удела?" И далее: «"Бестолков и придурковат" - так
мы можем сказать о нормальном неумном, но не об умственно боль-
ном человеке, а Вордсворт показывает мальчика именно больного,
и по отношению к нему такие эпитеты ненужно жестоки»5. Да, тру-
дноваты и порой горьки на вкус "простейшие" истины, и не грех бы-
вает лишний раз напомнить о них в наше безжалостное время.
Его сосредоточенность на моральных проблемах литературы,
идея "сострадательного участия", очевидно, объяснимы, помимо
личной индивидуальности, еще и атмосферой 60-х годов. Вернув-
шись из Берлина в 1959 г., он начал преподавать в Московском уни-
верситете и, подобно многим поэтам и ученым того времени, ощутил
возможность относительно свободно говорить о внутреннем мире
личности, о совести и о душе. Этический настрой шестидесятников,
атмосфера политической "оттепели" и временная открытость общест-
Карельский A.B. О лирике Рильке... С. 23.
Карельский A.B. Предислонис к публикации: У. Вордспорт. Слабоумный мальчик //
Иностранная литература. 1992. № 8/9. С. 232-233.
14
ва по отношению к западной культуре породили особый тип романтиз-
ма в российской жизни - вечера поэзии в Политехническом, песни
Окуджавы, феномен "стиляг", культ путешествий и презрение к ме-
щанству, спор "физиков" и "лириков"... В литературоведении этот ро-
мантизм дал плеяду прекрасных ученых-западников: Сергей Аверин-
цев, Самарий Великовский, Майя Коренева и Инна Тертерян.
В педагогической деятельности филологи-зарубежники традицион-
но имели некоторые резервы для маневра, может быть, чуть больше,
чем их коллеги руссисты. В предисловии к своей книге "От героя
к человеку" Альберт Викторович вспоминает, как он, читая курс
по западной литературе, приводил рассуждения о государственном пе-
ревороте из романа Виньи "Сен-Map": "Год за годом цитировал я пре-
жде эти слова, но никогда не ощущал такой захолонувшей тишины
в зале; ибо на этот раз цитата пришлась на октябрь 1964 года, когда
страна в онемелой растерянности пыталась осмыслить молниеносное
падение генсека Хрущева"6. Конечно, и раньше опытные преподава-
тели изыскивали способы косвенной субверсии - например, весьма
красноречив эпизод, когда в 1956 г. профессор на лекции так смачно
бранит Кафку, что у студентов немедленно возникает желание озна-
комиться с текстами "вредного" автора. Один из этих студентов, ге-
рой нашего рассказа, впоследствии перевел "Письма Милене"...
В конце 80-х Альберт Викторович пишет ряд статей, в которых
анализирует "будничную практику тоталитарной власти", механизм
господства медиократии и некомпетентности, поощряемую сверху
ксенофобию. В отличие от иных коллег-германистов, не устоявших
леред номенклатурными соблазнами почвеннической идеологии уже
в эпоху перестройки, он всегда абсолютно недвусмысленно обозна-
чал свое гражданское кредо. Применительно к современной ситуа-
ции в российском обществе наиболее четко Альберт Викторович
сформулировал свою позицию в специальной статье "О трудности
возвращения к нормальности".
В области чисто профессиональной возможность возвращения
к нормальности ему виделась в размягчении жестких и неуклюжих,
идеологически маркированных категорий традиционного литерату-
роведения. В последние годы он написал несколько интересных ра-
бот, в которых критически пересматривал ключевые понятия "ро-
мантизм", "реализм", "модернизм", нередко служившие для созда-
ния тенденциозной картины западной литературы в советском вари-
анте. Сама по себе эта картина как синтетический продукт "знания-
власти", наверняка, еще станет предметом увлекательных исследова-
ний в духе Фуко, но сейчас речь не об этом.
Альберту Викторовичу приходилось десятилетиями совместно
с коллегами вести утомительную борьбу за публикацию и перевод
Карельский A.B. От героя к человеку: Дна века западноевропейской литературы.
М, 1990. С. 8.
Предисловие 15
"подозрительных" авторов. Из года в год в Госкомиздат посылались за-
явки на полное собрание сочинений Гофмана, но неизменным фавори-
том оказывался Ремарк, и лишь в 1991 г. был напечатан первый том
Гофмана с превосходной вступительной статьей A.B. Карельского. И так
постепенно появлялись русские издания X. фон Додерера, М. Вальзера,
Г. Броха, Г. Грасса, а также основные произведения немецкоязычных
авторов в документальном и публицистическом жанрах.
Время от времени он выступал в роли составителя антологий,
двуязычных изданий и как аналитик перевода. Одна из его послед-
них показательных работ в этом жанре - подборка русских перево-
дов стихотворения "О фонтанах" Рильке, причем с присущей ему
скромностью он не включил в эту подборку собственный перевод.
В небольшом вступительном эссе дан поразительный по элегантно-
сти анализ, в центре которого - образ взмывающей и низвергающей-
ся струи, алгоритм взлета и падения в романтическом мировидении7.
Подзаголовок этой статьи "Вглубь одного стихотворения" во мно-
гом символичен для литературоведческой манеры Альберта Викторови-
ча: для него характерно именно углубление в текст, трепетно-тщатель-
ное отношение к тексту, предполагающее возможность бесконечного
диалога с автором. Он возражал против вольничания в любом вариан-
те, будь то вольный, искажающий подлинник перевод или свободная
интерпретация, искусственно "вчитанная" в текст ради красоты идеи.
Симптоматично, что, подробно разбирая "Пентесилею" Клейста
в своей последней монографии "Драма немецкого романтизма",
он подробно останавливается на авторитетных психоаналитических
и мифологических трактовках, но в итоге не принимает их: "Перед
лицом обширной западной клейстианы такого рода приходится от-
стаивать изначальную простоту"8. Исторически корректное толкова-
ние для него обладает бесспорными преимуществами, и, сколь бы со-
блазнительно эффектны ни были современные концепции, самое
ценное вырастает из глубины самого текста. "Текст интереснее на-
ших домыслов", - любил говорить он. В конечном счете этот акцент
на внутренне мотивированной и точной интерпретации связан с уже
названным принципом "сострадательного участия": корректность
толкования - это и есть по сути этическое поведение перед лицом
умершего и потому беззащитного автора...
Занимаясь тем или иным автором, Альберт Викторович обычно
делал перевод нескольких любимых вещей этого писателя. В его пе-
реводах вышли драмы Ф. Геббеля "Агнеса Бернауэр", "Гиг и его
кольцо", повесть X. фон Додерера "Последнее приключение"; цикл
"Три женщины" Р. Музиля; "На полном скаку" М. Вальзера;
"Письма Милене" Ф. Кафки; прозаические произведения 3. Ленца,
Карельский A.B. Чс;юнск по нсслсшюи // Иностранная литература. 1990. № 7.
С. 187-190.
Карельский A.B. Драма немецкого романтизма. М., 1992. С. 201.
16
Кристы Вольф, У. Пленцдорфа, Г. Броха и М. Фриша; стихотворе-
ния Й. фон Эйхендорфа, Г. Гейне, А. Ламартина, У. Вордсворта,
ф. Ницше, Р.-М. Рильке, Г. Бенна и многих других авторов.
Стиль его переводов отличался одновременно изысканностью и са-
мой что ни на есть выверенной точностью, причем это применимо не
только к стихам, но и к прозе. Вот только один фрагмент из "Послед-
него приключения" Додерера: "Говен остановился в углу маленькой
галереи и прислонился к стене, на которой в лучах солнца сверкали
разноцветные черепицы. С миниатюрных колонн свисали пышные
зонтики соцветий... Здесь был покой. Здесь мир, который мы то и де-
ло из страха и загнанности сердца оставляем без внимания, мир, ми-
мо которого он сам, Говен, проходил полный тревоги, - здесь этот
мир вступал в их жизнь отовсюду, как в дом с множеством ворот.
Здесь резвился мотылек, и он тоже, с его легкими и случайными по-
рывами, был заключен для стороннего взора в эту оболочку умиротво-
ренности и покоя"9. Воистину "атмосферная" вещь, как сказал одна-
жды о "Последнем приключении" Альберт Викторович...
В предисловии к новому собранию сочинений своего любимого
автора - Э.Т.А. Гофмана - Альберт Викторович, кажется, невзначай
написал и о себе: «Одна из самых трогательных черт Гофмана - эта
его постоянная сосредоточенность на проблеме обучения, охране-
ния - так и хочется сказать по-современному: охраны юности. Если
учесть, что "учителя-волшебники" у Гофмана в избытке наделены
его собственными характеристическими чертами, то нетрудно дога-
даться, что и все эти студенты для него - ипостаси себя прежнего.
Здесь мудрость возраста стоит лицом к лицу с неведеньем юности.
Неведенье это блаженно, а мудрость горька... Сами же гофманов-
ские волшебники и маэстро стоят лицом к лицу с реальным миром
и ничем от него не защищены...»10. Маэстро Карельский и впрямь ни-
чем не был защищен: умер внезапно, всего 57 лет от роду, и нам те-
перь остались только его книги, воспоминания друзей и ценимые им
тексты - как эти строчки из пятого сонета к Орфею Р.-М. Рильке:
Errichtet keinen Denkstein. Laßt die Rose
Nur Jedes Jahr zu seinem Gunsten Mühn...
(Надгробия не надо. Только роза
раз п год ему во слаиу пусть пиетет)
* * *
В основу данной книги лег французский раздел лекций по исто-
рии зарубежной литературы XIX в., которые A.B. Карельский деся-
тилетиями читал на филологическом факультете МГУ. Это послед-
ний вариант курса, над которым автор постоянно работал, включая
9 ДодерерХ. фон. Избранное. М., 1981. С. 536.
10 Карельский A.B. Эрнст Теодор Амадей Гофман // ГофнанЭ.Т.А. Собрание со-
чинений: В б т. М., 1991. Т. 1.С. 13-14.
Предисловие
последние месяцы жизни, переделывая и обновляя его. К счастью,
Альберт Викторович имел привычку аккуратно записывать свои лек-
ции: материалы из его архива, любезно предоставленные его семьей,
и составляют главную часть "Бесед". Кроме того, в текст включены
фрагменты из его ранее опубликованных работ по французскому ро-
мантизму (см. библиографию).
Учитывая разное время написания отдельных фрагментов, соста-
вители сочли возможным внести в них минимальные терминологиче-
ские коррективы в том же духе, в каком сам Альберт Викторович
в последние годы редактировал свои ранние работы.
Издание планируется в четырех выпусках. Первая книга посвя-
щена французской литературе первой половины XIX в. Далее пос-
ледуют выпуски по австрийской литературе и по немецкому роман-
тизму, по культуре конца XIX в.
Мы благодарим всех, кто помогал в работе над первым выпуском
"Бесед": членов семьи Альберта Викторовича - Э.Л. Рымашевскую,
A.A. Карельского, переводчицу H.H. Федорову, преподавательницу
Н. Огуречникову, а также студентов факультета теоретической
и прикладной лингвистики РГГУ Ю, Лавреневу, Ю. Соколину, В. Со-
ловову, К. Уткину, Е. Хайкину, О. Шестак.
Ольга Вайнштейн
СВОЕОБРАЗИЕ
ФРАНЦУЗСКОГО
РОМАНТИЗМА
Г
\^У воеобразие судеб романтизма во Франции заключается
прежде всего в том, что именно в стране, создавшей на рубеже
XVIII—XIX вв. общественно-исторические и духовные предпосылки
для возникновения и развития этого общеевропейского движения,
романтизм как мировоззренческая и художественная система обрел
законченные формы позже, нежели в других крупных европейских
литературах - немецкой и английской. Во всяком случае, общенаци-
ональным явлением он становится лишь в 20-е годы и только с кон-
ца их и в течение 30-х годов демонстрирует широкую палитру спе-
цифических художественных средств выражения, присущих этому
методу. Причины этого коренятся в особенностях национальной
судьбы романтизма во Франции.
Романтизм в его зрелом выражении предполагает прежде всего
идею противостояния личности объективному миру и социуму, пре-
дельно обостренную осмыслением новых, буржуазных форм общест-
венного бытия. Личность мыслится при этом как последнее прибежи-
ще духовности, как единственный возможный источник трансформа-"
ции мира (какой бы проблематичной она ни представала в иных пер-
сональных вариантах романтического мироощущения). Романтиче-
ская концепция личности как к абсолютной истине тяготеет к идеа-
лу личности гениальной, и знаком гениальности становится прежде
всего творческий дар, делающий индивида потенциально всемогу-
щим, по сути аналогом и истинным наместником Творца на земле.
Кстати, именно в силу подобного преклонения перед принципом ду-
ховности логика романтической мысли оказывается легко восприим-
чивой к религиозным системам мышления, обычно строящимся
на постулатах "царства не от мира сего" и тем самым вполне отвеча-
ющим романтическому структурному принципу "двоемирия".
Своеобразие (bvanuii3CKozo романтизма 19
Для подобного мироощущения общественная атмосфера Фран-
ции рубежа XVIII—XIX вв. создала специфические условия. Если
в самом общем, всеевропейском плане события буржуазной револю-
ции, безусловно, стимулировали - особенно на первых порах - ок-
рыляющее ощущение всесилия человека, высвобожденности индиви-
дуальной энергии, то именно во Франции, где эти события происхо-
дили, идею личной свободы с самого начала ограничивала реальная,
конкретная вовлеченность индивида в водоворот массовых движе-
ний, общественных, надличностных страстей. Сама головокружи-
тельная быстрота и бурность социально-политических перемен, за-
трагивавших и переворачивавших буквально все и вся, мало благо-
приятствовала идее суверенности и всесилия личности, и тем более
личности артистической, "не от мира сего". Поэтому в истории
французского романтизма идее всесилия личности скорее предшест-
вовала - или изначально нейтрализовала ее - мысль о власти необ-
ходимости и "судьбы" над свободной волей, о тщете индивидуаль-
ных дерзаний (Шатобриан, Сенанкур, ранний Ламартин). Эту
мысль подкрепил, между прочим, и урок наполеоновской судьбы -
путь от владычества над "полумиром" до затворничества на острове
Святой Елены.
Для понимания специфического характера эволюции француз-
ского романтизма важна и другая сторона вопроса. Романтизм как
мироощущение, противопоставляющее индивида "внешней реально-
сти и вообще мирскому" (Гегель), не случайно возник именно в эпо-
ху, открывающуюся Французской буржуазной революцией. То, что
это была революция, окрылило романтиков; то, что это была рево-
люция буржуазная, их довольно скоро насторожило. В бунте роман-
тической личности против "вообще мирского" изначально заложено
это - нередко чисто интуитивное - ощущение угрозы, исходящей
от вполне конкретных тенденций современного общественного разви-
тия. В этом смысле романтическая апология индивидуальности и ду-
ховности, какие бы частные формы она ни принимала, в конечном
счете всегда коренится в своего рода антибуржуазной утопии. Толь-
ко буржуазность при этом толкуется романтиками не только
и не столько в конкретно-историческом классовом аспекте (к этому
придут реалисты), сколько в аспекте обобщенно-духовном: как не-
кая всеобщая усредненность, нивелированность, как бездуховная
круговая порука чисто материального, "практического" интереса.
И вот отрицание толкуемой таким образом буржуазности, которое
можно считать одним из главнейших катализаторов романтического
мироощущения, в первые два десятилетия XIX в. лишь начинало ак-
тивизироваться в сознании французской интеллигенции.
Факт свершения буржуазной революции во Франции этому нис-
колько не противоречит. Напротив, сама "близость дистанции" сыгра-
ла в этом решающую роль. Наглядная динамика революционных и по-
слереволюционных перипетий не просто "не давала опомниться" - хо-
1
тя для социальной психологии и это существенно; взаимоистребле-
ние борющихся за власть партий на исходе революции, последовав-
шее торжество термидорианства - события, которые могли бы про-
лить свет на буржуазный характер всей революции, - как бы нейт-
рализовались бесчисленными свидетельствами общенационального
одушевления, индивидуального и массового самоотвержения и геро-
изма; начертанные на революционных знаменах лозунги свободы,
равенства и братства воспринимались как общечеловеческие,
а не только буржуазные; буря истории представала сокрушительной
и очистительной попеременно и одновременно, вселяла не только
трепет, но и надежду, как о том свидетельствуют штудии француз-
ских историографов и исторические размышления самих романтиков
в эпоху Реставрации.
Так и получилось, что в радикальном отрицании современности,
осознаваемой как буржуазная по сути или в тенденции, французских
романтиков опередили романтики Германии и Англии. Англичане -
как представители нации, для которой буржуазный строй уже при-
обрел классические очертания. Немцы, напротив, на опыте пресло-
вутого отечественного "филистерства", которое в эту пору если
и не вершило буржуазной революции, то все-таки уже входило,
а вернее будет сказать - вползало в буржуазную стадию своего раз-
вития, вползало медленно, без пафоса и героизма, усваивая тот са-
мый прозаический, бескрылый практицизм, к которому особенно
чувствительны были романтические натуры в своем неприятии бур-
жуазности. Для немцев сама отсталость их социального окружения
стимулировала подобное романтически обостренное и отвлеченное
отрицание буржуазности; им в эту эпоху не приходилось столь час-
то, как французам, наблюдать вспышки героизма буржуа.
Поэтому-то, если романтические утопии в Германии и в значи-
тельной мере в Англии располагались преимущественно вне совре-
менного мира, над ним или в отдалении от него - временном или
пространственном, - построения французского романтизма поверя-
лись в первую голову современностью. Даже если в нем конституи-
ровался тип личности, противопоставляющей себя обществу, речь
шла опять-таки о современном человеке в современном обществе.
Не случайно именами "детей века" прямо назывались произведения,
обозначившие собою вехи развития романтизма во Франции: "Дель-
фина", "Оберман", "Коринна", "Адольф", - и в этом ряду абсолют-
но современным воспринимался и шатобриановский Рене, хотя
"по тексту" он жил чуть ли не столетием раньше. Эта тенденция за-
метна еще и в 30-х годах ("Индиана", "Валентина", "Жак", "Стел-
ло", "Жослен", "Мардош"). Ни в немецком, ни в английском роман-
тизме не было такой представительной галереи современных героев.
Здесь романтизм, романтическое мироощущение, романтическая
позиция исследуются, так сказать, на первичном материале, в самом
зародыше - на конкретной судьбе исторической личности, сына
Своеобразие французского романтизма 21
своего века; это все, как и у немцев, - тоже в основном автопортре-
ты, но автопортреты без всяких переодеваний в античные или сред-
невековые наряды, почти без всяких стилизованных декораций -
или с самыми минимальными декорациями, как у мадам де Сталь
в "Коринне" и у Шатобриана в "Рене". И, напротив, здесь основной
принцип - обнажение современной души. Не случайно почти все эти
произведения начинаются знаменательными "исповедальными" кон-
статациями: это все исповеди сынов века.
"Итак, он условился с ними о дне, когда расскажет им не о лри-
ключениях своей жизни, так как их у него не было, но о тайных пе-
реживаниях своей души", - так начинается повесть о несчастном Ре-
не, герое Шатобриана.
"В этих письмах выразил себя человек чувства, а не действия.
Это записки, которые стороннего читателя оставят безучастным,
но могут заинтересовать родственную душу", - это говорится об
Обермане, герое Сенанкура.
"Я издам эту повесть как довольно правдивую историю несчастий
человеческого сердца", - вторит этим писателям Констан, автор ро-
мана "Адольф".
И все эти писатели выполняют свои обещания - они именно рас-
сказывают истории современных им романтических сердец, - и в ли-
рике тоже (Ламартин, Виньи).
Герой французского романтизма не только более современен,
но и как психологический тип более "обыкновенен", нежели излюб-
ленные герои английских и немецких романтиков. У немцев предпоч-
тительный интерес сосредоточен на личности художника - выража-
ясь по-гофмановски, "энтузиаста"; англичане тяготели к изображе-
нию личности бунтарской, героической, даже титанической, - во вся-
ком случае, резко приподнятой над фоном; внимание же француз-
ских романтических скорбников, особенно в первые десятилетия ве-
ка, приковано прежде всего к чисто человеческому страданию утон-
ченно-чувствительной души, обреченной ежеминутно соприкасаться
с фоном, со средой. Лишь в пору высокого романтизма - начиная
с 20-х годов - к таким героям присоединятся и гении и титаны (причем
не без влияния Гофмана и Байрона); но даже и в общей панораме фран-
цузского романтизма герои типа Сбогара у Нодье или Моисея у Виньи
выглядят скорее исключением. И показательно, что собственно поэти-
ческие натуры столь часто оказываются инонационального происхожде-
ния - от "Живописца из Зальцбурга" у Нодье и Коринны у Сталь
до Чаттертона у Виньи и героев Жорж Санд (Стенио, Консуэло, Аль-
берт фон Рудольштадт, Лукреция Флориани). Вообще вопрос о ро-
ли поэта и искусства и об их отношениях с обществом встанет во всей
своей "романтической" остроте лишь в 30-е годы.
В начале же века предромантические и романтические гении
Франции по сути даже и не допускают мысли о противоположности
искусства и общественной жизни. Вполне в духе просветительской
традиции пишут трактаты о политике, об общественной нравственно-
сти, о литературе "в отношении к общественным установлениям"
и Сталь, и Шатобриан, и Констан, и Балланш, и даже самый "не-
людимый" из них - Сенанкур. Эту свою заинтересованность злобой
дня французские романтики проносят и сквозь последующие десяти-
летия; она выступает в разных аспектах (например, в 20-е годы
французский романтизм предстанет историческим, т. е. по видимо-
сти "несовременным", но по сути останется острополитическим и ак-
туальным), меняется раскладка политических симпатий и антипатий
(характерное "полевение" романтизма в 30-е годы - Гюго, Ламар-
тин), но неизменной остается повышенная возбудимость в политиче-
ских вопросах. И в данном случае имеется в виду не только то, что,
скажем, к политике приходит "серафический" Ламартин или что по-
стоянно выступают как политические и социальные художники Гю-
го и Жорж Санд. Не менее существенно и то, как выражается иная,
так сказать антиполитическая, установка.
Она набирает силу с начала эпохи Реставрации; но еще и рань-
ше были предвестия; уже герой Шатобриана сетовал на тяготы соци-
альной жизни; Сталь в своей книге "О Германии" с явственным со-
чувствием отзывалась о преимуществах, даваемых немцам их "част-
ным" характером жизни, и ее опубликованные посмертно "Размыш-
ления о главнейших событиях Французской революции" (1818) со-
здают соответствующий идейный фон для такого сочувствия. А за-
тем статус человека как zoon politicon становится трагической проб-
лемой творчества Виньи - от "Сен-Мара" и "Стелло" до повестей
цикла "Неволя и величие солдата". В 30-е годы, в связи с обостре-
нием романтической антибуржуазности, до предела накаляется и от-
ношение к политике. Если Гюго и Жорж Санд в борьбе с буржуаз-
ностью начинают искать новые демократические и революционные
пути преобразования общественных порядков, то другие романтики
здесь-то и провозглашают лозунг полной несовместимости искусства
и духовности с политикой.
Но с каким боевым, поистине агрессивным, менее всего отрешен-
ным и "потусторонним" пылом этот лозунг провозглашается! В "апо-
литичности" французских романтиков 30-х годов таится не эстетская
холодность, а жар обманутой души, романтически поспешное разо-
чарование в недавних кумирах; не с чужой, а с собственной верой
в социальную миссию поэта они воюют в приступе отчаяния, граж-
данственного в своей основе или, во всяком случае, страстно анти-
буржуазного, - ярчайший пример тому Мюссе. Во всем француз-
ском романтизме существует прочная диалектическая взаимосвязь
между полюсами искусства социального и искусства "чистого".
Без учета всего этого невозможно в полной мере осознать логику
принципа "чистого искусства" во Франции, его последующее разви-
тие и его диалектику в творчестве и эстетических суждениях Бодле-
ра, Леконта де Лиля, Флобера; даже радикальный и внешне безмя-
Своеобразае французского романтизма 23
тежный эстетизм зрелого Готье непонятен без "Раздела добычи" Бар-
бье и "Лоренцаччо" Мюссе, ибо и он психологически подготовлен
тем гражданским отчаянием, которое столь ярко выразилось в ука-
занных произведениях. Еще свидетельство тому - дух дружбы, со-
лидарности, который объединял большинство французских романти-
ков, при всем различии убеждений, как объединял он, заметим кста-
ти, и романтиков с реалистами.
В свете всего этого глубокий смысл обретает тесная связь фран-
цузского романтизма с другими идейно-художественными система-
ми - классицизмом, Просвещением, реализмом, если учесть, что то
были системы рационалистического, объективного склада. Их "сило-
вое поле" было во Франции столь же влиятельно, сколь сильна бы-
ла в Германии притягательность идеалистических философских сис-
тем. Большая посюсторонность и политизированность французского
романтизма получает здесь дополнительное обоснование. Ведь
не случайно, конечно, авторитет классицистической традиции был
окончательно поколеблен лишь к концу 20-х годов, когда в Герма-
нии и Англии романтизм уже перешел за свой зенит. Но даже и то-
гда излучение "классического века" во Франции не прекратилось.
Романтики ниспровергли тиранию "правил" и табу, перестали быть
данниками давно состарившегося "хорошего вкуса" - однако дух
и пафос творений великих писателей XVIII в. не только остается для
них священным национальным достоянием, но и легко обнаружива-
ется в творчестве многих из них, начиная от Шатобриана и кончая
Виньи, Ламартином, Гюго. Он живет в торжественной и страстной
элоквенции, в приверженности гражданственной идее, в пристрастии
к поэтике антитез, к конфликтам чувства и долга; даже в самой ме-
тафорике романтического стиля маячат явственные тени столь беспо-
воротно, казалось бы, скомпрометированных и самими же романти-
ками осмеянных перифраз.
Весьма восприимчивым оказался французский романтизм и к про-
светительскому складу мышления. Публицистическая активность зачи-
нателей романтизма в эпоху Первой республики и Империи прямо
продолжает эту традицию, и здесь нагляден пример не только Сталь,
но и Шатобриана: как бы ни ополчался тот начиная с "Опыта о ре-
волюциях" на принципы просветителей, сам стиль мышления (как,
скажем попутно, и у Де Местра) обнаруживает солидную выучку
у "философов". В 30-40-е годы традиция просветительского дидак-
тизма (уже не только в формально-логическом, но и в идейно-содер-
жательном смысле) продолжится у Жорж Санд, Гюго, Сю.
Наконец, реализм, становящийся с начала 30-х годов могучим
компонентом литературной и духовной жизни Франции, также
заметно воздействует на дальнейшее развитие многих романтиков,
в частности зрелого Мюссе, Жорж Санд и Гюго.
Все эти факторы обуславливают постоянную тенденцию к "посю-
сторонности" у французского романтизма и, напротив, замедляют
24
развитие в нем черт фантастического, ирреального. Фантастика появ-
ляется у французов только начиная с 20-х годов (повести Нодье и Го-
тье); помимо того, что генетически она почти всегда возводима к не-
мецким и английским моделям, она вообще существует все-таки на пе-
риферии французского романтизма и к тому же часто нейтрализуется
рациональным объяснением ("Инее де Лас Сьеррас" Нодье), либо от-
четливой иронической стилизацией ("Тысяча вторая ночь" Готье),
либо тем и другим одновременно ("Любовь и чернокнижие" Нодье).
Более органична во французском романтизме линия мифологиче-
ская, непосредственно связанная с религиозной символикой. Аполо-
гетом христианства с самого начала выступает Шатобриан, религия
играет существенную роль в поэзии Ламартина, особенно в 20-е го-
ды. Но нейтрализующие или даже противодействующие - "заземля-
ющие" - силы сильны и здесь: религиозность Шатобриана оказыва-
ется на самом деле весьма далекой от отрешенности, во всяком слу-
чае используется им для целей внерелигиозных - либо эстетических,
либо политических; она предстает как образная форма для философ-
ской и общественно-политической символики в "Моисее" и "Элоа"
Виньи, "Жослене" и "Падении ангела" Ламартина. И как показа-
тельно, что к моменту зрелости французского романтизма в 30-е го-
ды религиозный принцип начинает тяготеть к демократическим со-
циальным доктринам, как бы возвращаясь к истокам христианской
религии, к той ранней ее поре, когда она оставалась религией гони-
мых и угнетенных; свидетельство тому - и деятельность Ламенне,
и роль, отводимая религии у сенсимонистов, и трактовка христиан-
ских мотивов в творчестве Ламартина, Гюго, Жорж Санд. Спириту-
ализм и мистицизм в наиболее чистой, "потусторонней", сугубо "ду-
ховной" форме представлен во французском романтизме лишь
на позднем этапе его развития - в творчестве Нерваля. Но и спири-
туализм Нерваля демонстративно космополитичен, далек от христи-
анской ортодоксии; к тому же, как и в случае с логикой принципа
"чистого искусства", он коренится в предельно обостренной роман-
тической антибуржуазности.
Обратимся теперь к истокам французского романтизма и просле-
дим вызревание романтических идей и художественных форм в пе-
риод Первой республики и Империи. Конец XVIII - начало XIX в. -
это период, когда, осмысляя эпохальные исторические события
и роль литературы в новых, созданных ими условиях, писатели
Франции взвешивают многие из тех идей, которые несколько позже
лягут в основу романтического мироощущения. Просветительское
и отчасти классицистическое миросозерцание остается еще базой
этой литературы, хотя оно уже поверяется новыми художественно-
эстетическими и философскими идеями, в тенденции ведущими к по-
следовательному романтизму.
При этом из просветительской традиции берется прежде всего
сентименталистско-руссоистский идейный комплекс. Почти все зна-
Своеобразие французского романтизма 25
чительные писатели новой эпохи начинают с осмысления принципа
чувства и "страсти": это и "Письма о сочинениях и характере Руссо"
Сталь (1788), и трактаты Сталь ("О влиянии страстей на счастье от-
дельных лиц и целых народов", 1796), Сенанкура ("Мечтания о есте-
ственной природе человека", 1799), Балланша ("О чувстве, рассмо-
тренном в отношении к литературе и искусству", 1801), и раздел
"О смутности страстей" в "Гении христианства" (1802) Шатобриана.
Но принцип чувства конституируется теперь не просто как необхо-
димое диалектическое дополнение к принципу разума, а как главная
основа и ценность человеческого существования. Понятие чувства
все более романтизируется, превращаясь из психологического в он-
тологическое и эстетическое. Само тяготение к чувствам "смутным",
зыбким, возведение меланхолии в способ существования свидетель-
ствуют об этой универсализации принципа тем более, что меланхо-
лия, чувствительность неразрывно связываются с художественной
способностью, как это особенно видно у Балланша и Шатобриана
и явственно обнаружится в последующих произведениях Сталь.
Подобная трактовка чувства неизбежно подводит к пересмотру
всей рационалистической основы просветительского мировоззрения.
Степень решительности этого пересмотра различна: резкое отрица-
ние "века речистой буржуазии" у Шатобриана, продиктованное пре-
жде всего его чисто классовой антипатией к революции и к просве-
тительству как ее философии; меланхолическое разочарование
у Балланша и Сенанкура, отчасти унаследованное от сентиментали-
стской традиции, а отчасти коренящееся уже в остром - по сути ро-
мантическом - ощущении несоответствия просветительского идеала
новому веку; попытка удержать и в этих условиях просветительский
пафос прогресса - с поправкой на "чувство" и "страсть" - у Сталь.
Мадам de Сталь
(1766-1817)
• U -Z-ожет быть, именно потому, что романтическое мироощу-
щение базируется прежде всего на чувстве, а тут женщины более все-
го в своей стихии, мадам де Сталь удалось, отрешившись от всякой ме-
тафизики чувства и от его излишней рационализации, очертить весьма
конкретные проблемы, которые ставил перед литературой и обществом
новый век. На первый взгляд - и на этом часто играли просвещенные
современники-мужчины, то добродушно, то иронически подсмеиваясь
над этой воительницей, - может показаться, что мадам де Сталь упро-
щает проблему, сводит ее к вопросам любви, семьи, брака, эмансипа-
ции и т. д. Действительно, в произведениях мадам де Сталь очень мно-
го личного, женского; хотя она и хочет казаться философом, философ-
ской мысли Европы она, конечно, не обогатила, и самые глубокие ее
рассуждения на поверку оказываются усвоенными то от французской
просветительской традиции, то от немцев. Но, повторяю, она очень
тонко уловила многие общественные потребности эпохи, затронула ее
насущные проблемы. А что касается проблем семьи и брака, то и они
были в то время не только чисто женским делом - как известно, Бо-
нальд тоже трудился над проблемой развода!
Эстетические взгляды Сталь были впервые систематизированы
в трактате "О литературе, рассмотренной в отношении к обществен-
ным установлениям" (1800). Исходя из мысли об обусловленности
литературы эпохой, т. е. утверждая исторический подход к литера-
туре, Сталь с самого начала вступает в противоречие с канонизиру-
ющим принципом, к которому, особенно во Франции, тяготела клас-
сицистическая традиция, видевшая в античном искусстве надвремен-
ной образец гармонии, красоты, меры и вкуса, а в литературе фран-
цузского классицизма - наивысший возможный предел воссоздания
этих качеств в условиях нового времени.
Мадам де Сталь 27
Сталь критически пересматривает такое представление. Прогресс
искусства не остановился, не застыл на достижениях "золотого века"
или века Просвещения. Всякий этап его развития привносит нечто но-
вое, неповторимое в общую художественную сокровищницу. В частно-
сти, неоправданным было сложившееся в рационалистические эпохи
высокомерное отношение к искусству средневековья, формировавше-
муся на основе не античных, а христианских идеалов; оно не было по-
рождением варварства и суеверия, а тоже воплощало в себе определен-
ный исторический склад мышления, причем основанный не в послед-
нюю очередь на народных обычаях и верованиях. Так складывается
у Сталь идея национальной самобытности литературы. Однако эта
идея важна для Сталь не столько сама по себе, не как идея принципи-
альной равноценности литератур, а как средство для утверждения
вполне определенной тенденции литературного развития.
На базе искусства, сложившегося в послеантичную, средневековую
эпоху под знаком прежде всего христианства, развивалось, говорит
Сталь, искусство "северных" народов - Англии, Германии, - и оно
имеет свои неоспоримые достоинства. Ему свойственна особенная ду-
ховность, повышенный интерес к внутреннему миру человека и нрав-
ственным проблемам, более обостренное ощущение природы. Чувство
неудовлетворенности судьбой, порыв души за земные пределы - вот
источники особого совершенства этой литературы, гораздо более со-
звучной человеку нового времени. Этим объясняется огромный успех
и меланхолической "оссиановской" поэзии, и "вертеровской" темы.
Все эти идеи, образующие фундамент для историко-литератур-
ных и эстетических представлений романтизма во Франции, получи-
ли окончательное оформление в книге Сталь "О Германии" (1813),
где она не только дает широкую панораму немецкой общественной
и духовной жизни, но и обосновывает преимущества и права нового
искусства, которое Сталь здесь впервые, идя вслед за немцами, на-
зывает романтическим. Сопоставление литературы "южной" и "се-
верной" более прямо осуществляется здесь как противопоставление
литературы "классической" и "романтической".
Литературе французской, "классической" Сталь ставит в упрек, что
она живет "пересаженными" (transplantees) идеями, заимствованными
у древних, что она "ни в коей мере не национальна" и потому доступ-
на лишь для "образованных умов", но не для широкой народной пуб-
лики. Романтическая же литература выросла на национальной почве,
"из наших верований и установлений". Для классиков литература -
прежде всего техника и "профессия"; для романтиков - "религиозный
гимн души". Сталь утверждает приоритет вдохновения над подражани-
ем, "гения" над "вкусом", страстного порыва духа - над "правилом".
К прославлявшемуся в трактате "О литературе" принципу мелан-
холии здесь добавляется понятие "энтузиазм" как "ощущение Бога
в себе". Как там меланхолия противопоставлялась "довольству по-,
средственных душ", так и здесь энтузиазм, предполагающий самопо-
жертвование и беззаветное служение духу, противопоставляется
"эгоистическому разуму, ценящему лишь здоровье, деньги и силу".
28
Знаменательно то, как Сталь, оставаясь верной своей мысли о за-
висимости литературы от "общественных установлений", объясняет
расцвет романтического искусства именно в Германии. Немцы, гово-
рит она, в сравнении с французами менее заняты общественной жиз-
нью и оттого духовно более независимы; сама раздробленность Гер-
мании порождает склад ума "частный", интроспективный, филосо-
фический. Этой теории "частного" человека как натуры, наиболее
подверженной романтизму, суждено было вскоре сыграть немалую
роль в идеологических построениях французского романтизма.
В собственно художественном своем творчестве Сталь, однако,
не столь радикально романтична: в ее романах "Дельфина" (1802)
и "Коринна, или Италия" (1807) романтические идеи и мотивы
прочно сплавлены с просветительскими и сентименталистскнмн.
Главные героини предстают как чувствительные и пылкие натуры
вообще, и уж если они порождены веком, то скорее духовной атмо-
сферой последней трети XVIII в.
Но в то же время они отчетливо являют и движение к романти-
ческой характерологии. Обеими героинями глубина чувства осозна-
ется как благословение и проклятие одновременно; "энтузиазм" да-
ет им бесценное ощущение полноты и достоинства бытия, но он же
делает их легко уязвимыми для тягот быта с его социальными и мо-
ральными условностями. Представление о страсти как не только ис-
точнике всех возвышенных деяний, но и залоге несчастий самой
страждущей души развивалось Сталь уже в трактате "О влиянии
страстей". Эта мысль вообще весьма характерна для психологиче-
ских представлений романтизма; но в романтической системе страсть
рассматривается в значительной степени сама по себе, более изоли-
рованно от "общественных установлений"; а у Сталь эти последние
играют определяющую роль. Особенно это заметно в романе "Дель-
фина", героиня которого - прежде всего жертва окостенелой нравст-
венной догматики, бездушия и лицемерия светского общества.
В "Коринне" этот - по сути столь же просветительский, сколь
и романтический - пафос сохраняется, но сам образ героини полу-
чает новое измерение благодаря тому, что она теперь не просто глу-
боко чувствующая женщина, но еще и человек искусства, талантли-
вая поэтесса-импровизатор; эта "отмеченность" усугубляет ее одино-
чество в мире общественных условностей.
Сталь предваряет здесь одну из магистральных тем романтиче-
ской литературы - тему несовместимости художника и общества.
Отчасти эта тема до нее была затронута в ранней повести Шарля
Нодье "Живописец из Зальцбурга" (1803). Но в повести Нодье, яв-
но подражающей гётевскому "Вертеру", профессиональная причаст-
ность к миру искусства не столь существенно определяет судьбу ге-
роя, как в жизненной истории Коринны. Во всяком случае, тема ро-
мантической "отмеченности" художника в полную силу зазвучит
во французской литературе лишь с 30-х годов.
Ф.Р. Шатобриан
(1768-1848)
Х_х ще более явственно приметы романтизма как новой по-
этической системы проступают в творчестве Франсуа Рене де Шато-
бриана, причем здесь они вырастают на несколько иной основе, не-
жели у Сталь. Шатобриан, как и Сталь, многим обязан сентимента-
лизму, а в более позднем его творчестве активизируются классици-
стические черты. Зато собственно просветительской традиции и свя-
занной с ней буржуазно-революционной идеологии Шатобриан, ари-
стократ по происхождению и убеждению, глубоко враждебен;
он с самого начала прочно выбрал себе роль ревностного защитника
реставрационно-монархического принципа и христианской религии.
Но не в последнюю очередь именно это резкое неприятие после-
революционной современности стимулировало в творчестве Шато-
бриана романтические черты. И здесь следует искать объяснение
специфического противоречия между консерватизмом политической
деятельности Шатобриана как публициста и дипломата и новаторст-
вом его художественных устремлений. В обеих своих ипостасях Ша-
тобриан вдохновлялся в конечном счете решительной оппозицией
буржуазному веку и строю; но если в его роялистских политических
программах критика буржуазного века сплошь и рядом оказывалась
критикой справа, то в художественном творчестве его, демонстратив-
но отдаленном от политической злобы дня, эта антибуржуазность
выливалась в формы столь обобщенно-духовные, что они оказыва-
лись вполне созвучными романтическим идеям неудовлетворенности
веком, "мировой скорби", двоемирия и возвышенно-абстрактного
символического утопизма.
Это, в свою очередь, бросает особый свет и на политическую по-
зицию Шатобриана, на его упорную приверженность идеалам про-
шлого. Дело в том, что его "позитивная программа" была столь ро-
Ф.Р. Шатобриан 31
мантически максималистична, его неудовлетворенность современно-
стью столь всеобъемлюща и абсолютна, что он в конце концов ока-
зывался не в ладах с любой конкретной формой государственного
правления, даже если она вроде бы и отвечала самым заветным его
идеологическим представлениям. Это необходимо учитывать, когда
речь заходит о его политической и дипломатической активности как
"рыцаря Реставрации". Многие современники и потомки именно
на этом основании считали его отшельнические настроения лицемери-
ем. Но, сколько бы ни было в шатобриановском скорбничестве рисов-
ки, фактом остается то, что "не ко двору" он каждый раз оказывался
в самом прямом смысле слова: у Наполеона и у руководителей после-
дующих монархических кабинетов. Получалось так, что христианство
и роялизм Шатобриана, сколь бы истово они ни провозглашались
в теории, практикам этих принципов оказывались ни к чему. Шатобри-
ану-политику мешал Шатобриан-романтик: это еще один своеобразный
вариант столь характерного для романтизма напряженного противо-
речия между максималистской утопией и реальной жизнью.
Между тем в истории французской литературы Шатобриан
остался в первую очередь как автор трактата "Гений христианства"
и повестей "Атала" и "Рене". Публикация повести "Атала" в 1801 г.
стала настоящей литературной сенсацией. Огромное впечатление,
произведенное повестью, объяснялось целым рядом причин. Впос-
ледствии, в своих мемуарах "Замогильные записки" Шатобриан сам
отметил ее новизну "среди литературы Империи, среди классической
школы, этой подновленной, подкрашенной старухи, один вид кото-
рой наводил скуку".
Действительно, повесть выделяется прежде всего резкой необыч-
ностью стиля: стиль этот отличается бурностью чувств, причем
чувств противоречивых, непрерывно друг друга сменяющих; роман-
тические эмоции изображаются на фоне чрезвычайно эффектных,
экзотических, тоже преимущественно бурных картин девственной
американской природы - картин, в которых подлинный "местный
колорит" дополняется романтико-фантастическими преувеличения-
ми. Все это составляло достаточно резкий контраст с рационалисти-
ческой прозой французского Просвещения. Шатобриан явно бил
на чувства своих читателей, постоянно их подстегивал, возбуждал.
Но и не только в этом была причина эффекта, произведенного
повестью. "Атала" как будто удовлетворяла и чисто познавательным
интересам французских читателей, раскрывая перед ними новый, не-
изведанный дотоле мир американских индейцев, их склада души,
их образа мыслей и верований. Правда, шатобриановские индейцы
весьма сильно смахивали на просвещенных и разочарованных фран-
цузов начала XIX в., но на это тогда не обратили особого внимания.
И, наконец, повесть оказалась весьма притягательной и с точки
зрения ее идейной проблематики. Этот вопрос заслуживает особого
внимания.
32
С одной стороны, повесть, ставя в центр внимания христианско-
католическую мораль, уже тем одним, что называется, "попадала
в струю", импонировала настроениям, которые, как мы уже видели,
все более распространялись среди весьма широких слоев француз-
ского общества. Но особый интерес - и пикантность, что ли, - этой
проблематике придавало то обстоятельство, что Шатобриан не про-
сто утверждал правоту и спасительность христианства, но и соеди-
нял принцип следования до конца заветам христианской морали
с жизненной трагедией. Ведь все-таки причина несчастья и смерти
Атала - тоже религиозная догма! Понимаете, в чем "хитрость" Ша-
тобриана, - в его повести католичество прежде, чем принести спасе-
ние, приносит смерть человеку! Проблема приобретает странную
и весьма характерную для Шатобриана-художника двусмыслен-
ность. В этом странном сюжете, который предложил французской
публике Шатобриан, читатель при желании мог вычитать прямо про-
тивоположные вещи: он мог поверить предсмертным словам Атала
о том, что лишь религия дарует человеку успокоение, но он мог
и усомниться в том, многого ли стоит такое спасение, если оно куп-
лено ценой жизненной трагедии и смерти! То есть объективно по-
весть в не меньшей мере свидетельствовала и против христианской
религии! Ведь что бы ни стояло в конце повести, но в середине-то
ее рассказывается о противоестественном обете, который искалечил
жизнь ни в чем не повинной Атала.
Так что, как видите, Шатобриан, выступая под знаменем и фан-
фарой католицизма, резервирует для себя и немалые тылы к отсту-
плению. Страсть оказывается разрушительной, подлежащей обузда-
нию, но она изображается и с явным сочувствием, с явным сердеч-
ным участием, она живописуется всеми доступными автору романти-
ческими средствами. "Вера торжествовала над любовью, молодостью
и смертью", - говорит Шатобриан в конце повести; но здесь же
он говорит и об "опасности невежества и религиозного энтузиазма".
Этот "религиозный энтузиазм" Атала, может быть, и мог убедить ка-
кого-нибудь сухого аскета и догматика католицизма, но вряд ли спо-
собен был убедить человека чувствующего, страстного! Вот и полу-
чалось, что ортодоксально-католическая концовка повести отдавала
чисто рационалистическим расчетом, а сама повесть рассказывает
о том, как религиозная идея искалечила человеческую жизнь. Шато-
бриан проявил здесь - при всей кажущейся страстности и необуздан-
ности - поистине поразительную тактическую расчетливость, играя
на чувствах и той, и другой стороны, действуя и на правоверных ка-
толиков, и на тех, кто еще был обуреваем сомнениями и страстями.
Повесть "Атала" была издана как "первая проба для чтения"
из подготавливаемого Шатобрианом трактата "Гений христианства"
(или "Дух христианства" - "Le Genie du Christianisme"). К момен-
ту выхода самого трактата (в 1804 г.) публика была уже достаточно
заинтригована. "Атала", как я говорил, произвела большое впечат-
ление, издатели исподволь продолжали создавать рекламу для трак-
тата, который вот-вот должен был выйти. Его ждали с нетерпением
и интересом. Все знали, что этот уже модный и многообещающий ав-
тор приготовил трактат, в котором докажет благотворность христи-
анства для всей истории человеческого общества, для его морали,
для его понятий о свободе, для искусства.
Особый интерес публики вызывала история религиозного обраще-
ния автора трактата. Все знали, что в молодости он отдал дань модно-
му тогда "вольтерьянству", а затем сменил вольнодумные взгляды
на самую радикальную религиозность, причем резко заостренную про-
тив "века философов". Сам он объяснил это обращение чисто биогра-
фическим обстоятельством: получив известие о смерти матери, он "за-
плакал - и уверовал". Эта, ставшая знаменитой, фраза имела, конечно,
и символический смысл: она должна была придать шатобриановско-
му обращению характер откровения и озарения. Между тем трактов-
ка религии в художественном творчестве Шатобриана, как мы виде-
ли, отнюдь не являет нам образ просветленного и умиротворенного
неофита. Скорее тут обнажается еще одна вполне возможная при-
чинно-следственная связь в той знаменитой фразе: Шатобриан уве-
ровал, потому что заплакал; его обращение - результат глубочайшей
растерянности и неукорененности во враждебном мире.
История романтизма знает немало примеров атеизма с отчаяния;
богоборчество - один из существенных элементов (точнее - этапов)
этого мироощущения; Шатобриан демонстрирует, по видимости,
противоположный вариант - религиозную экзальтацию с отчаяния;
но по сути методика здесь одна - попытка испробовать крайний, бес-
примесно чистый принцип; попытка эта максималистична, утопична
и потому принципиально романтична.
Для понимания истинного смысла религиозной утопии Шатобри-
ана важно осознать ее исходные посылки, присмотреться к тому "на-
личному" образу человека, которому в художественном мире Шато-
бриана еще только предстоит "чудо" обращения. Это один из самых
ранних героев Шатобриана, Рене, в одноименной повести (1802)
и в эпопее "Начезы", написанной в основном в последние годы
XVIII в., но опубликованной полностью лишь в 1826 г.
В повести "Рене", хотя она и является по времени действия вро-
де бы "исторической", Шатобриан создает один из первых портре-
тов "сыновей века" - образ разочарованного, меланхолического юно-
ши - своего современника (то, что было еще весьма слабо в образе
Шактаса). Вслед за Рене на страницы европейских романов и поэм
выйдут десятки его духовных родственников - Оберман, Адольф,
Октав во Франции, Чайльд Гарольд, Гяур и Лара в Англии, Печо-
рин и Онегин в России. Пожалуй, только немцы опередили Шато-
бриана (от Вертера к Вильяму Ловеллю, Годви, Юлию - это все
до французов!). Анализируя впоследствии это явление, Георг Бран-
дес очень метко скажет: "Меланхолия стала тогда настоящей зара-
Ф. Р. Шатобриан 35
зой, распространявшейся от одного народа к другому и похожей
на те религиозные болезненные формы, которые в средние века так
часто проявлялись в Европе".
Для самых первых деклараций европейского романтического ге-
роя-меланхолика характерно прежде всего чувство глубокой внутрен-
ней неуверенности: он неудовлетворен всем вообще, жизнью как тако-
вой, а не какими-то конкретными ее сторонами; он бунтует, но не зна-
ет, против чего. Просто против общества, против времени, против
жизни. Наш Пушкин, глядя на все это несколько позже и более кри-
тическим, трезвым взглядом, даст этой психологической ситуации пре-
дельно точную, лаконичную и одновременно емкую характеристику,
когда назовет это "озлобленным умом, кипящем в действии пустом".
Именно это "кипение в действии пустом" и обусловит самые па-
радоксальные зигзаги в судьбе романтического героя Европы нача-
ла XIX в. - если пока рассматривать его как некоего "коллективно-
го" героя, как общеевропейский тип. И повсюду эти парадоксы бу-
дут возникать из весьма неясного отношения романтического героя
к нравственности. Сфера нравственности ведь всегда предполагает
не только субъект, но и объект этой нравственности; понятие "нрав-
ственность" имеет смысл только в соотношении данного индивида
с другими людьми; человек не только получает оценку "нравствен-
ный" и "безнравственный" от других людей, но он и может проявить
свою нравственность только вовне, по отношению к этим другим.
Но романтический индивид как раз все вне себя отрицает, он - сам
себе закон. И потому он то может возвыситься до вершин самопо-
жертвования, то может удариться в самый крайний индивидуализм
и эгоизм. Помните, как мучился Гёльдерлин этой дилеммой, когда
обнаружил, что любить все человечество - этого еще мало, это еще
не означает, что тебе ответит братской любовью вот этот реальный
человек, твой сосед, твой ближний.
Вот один из таких парадоксов романтической судьбы, романтиче-
ского культа личности и зафиксирован в шатобриановском Рене. Пе-
ред нами человек глубоко несчастный, пользующийся безусловной
симпатией автора (к тому же это образ во многом автобиографиче-
ский) и с достаточным основанием претендующий на симпатии чита-
теля. Ему суждены благие порывы. Но он чувствует себя неумест-
ным в окружающих его обстоятельствах, чужим, "лишним", как ска-
жет потом русская литература. Рене говорит об этом, правда только
вскользь, но достаточно определенно. Рассказывая о своей попытке
найти утешение в обществе других людей, он говорит и о крушении
этой попытки: "От меня не требовали ни возвышенных речей,
ни глубокого чувства. Я занимался только тем, что суживал свою
жизнь, чтобы снизить ее до уровня общества". Разумеется, в таких
условиях лишь естественно, что человек отворачивается от общест-
ва, если условия и цели существования в нем - сужение своей жиз-
ни, необходимость пожертвовать глубокими чувствами.
Но вот, отвернувшись от общества, бежав от него в девственные
леса Америки, Рене оказывается наедине с собой, казалось бы, в са-
мом приятном обществе. Но с ужасом обнаруживает, что и здесь
он не находит покоя, желанного удовлетворения. Он изливает нам
свои жалобы, и нужно быть совершенно бездушным человеком, что-
бы Рене не пожалеть: "Мне надоело постоянное возвращение одних
и тех же сцен и мыслей. Я принялся исследовать свое сердце, доп-
рашивать себя, чего я желаю. Я сам не знаю этого... Вскоре мое
сердце перестало давать пищу моей мысли, и я замечал свое сущест-
вование только по чувству глубокой тоски..." Перед нами - нескон-
чаемая жалоба, метания. И если даже сейчас они производят впечат-
ление, то подумайте, с каким сочувствием это должно было воспри-
ниматься в ту эпоху - в свете той ее характеристики, которую я пе-
ред этим кратко набросал. Шатобриан здесь поистине играл на са-
мых больных, самых чувствительных струнах души современного
ему человека. Все были неудовлетворены, все были недовольны,
и всем было приятно увидеть, что это - общий удел.
Но вот прошли годы, и историки литературы, люди новых эпох,
обратившись к этим жалобам, начали более трезво прислушиваться
не только к общему тону исповедей, но и к тем их местам, где жа-
лобщики как бы проговаривались.
"Вы, исчерпавшие все жизненные силы, - обращается Рене к сво-
им слушателям (Шактасу и отцу Суэлю), - что вы думаете о юноше
без сил и без добродетели, который в себе самом находит тревогу
и может пожаловаться лишь ца горе, которое он сам себе причиняет?"
"Меня обвиняют в том, что я непостоянен.., что я представляю
собой жертву собственного воображения.., меня обвиняют в том, что
я вечно забираю выше цели, которую могу достичь..."
Рене пренебрежительно говорит об этих обвинениях, будучи
твердо уверенным в том, что они неглубоки и все его тут же поймут.
Он не боится сам говорить о них, потому что смело рассчитывает
на поддержку аудитории. И в общем так оно и было. Но, повторяю,
люди последующих эпох прислушивались к этим обвинениям внима-
тельнее.
Исследователи обратили внимание и на не менее любопытное про-
должение истории Рене в последующей повести Шатобриана - он объ-
единил потом истории Атала и Рене в эпопее из жизни индейцев "На-
чезы". В частности, Шатобриан расскажет там, как Рене взял себе
в жены индианку Селюту, полюбившую его: "Он пробовал осущест-
вить свои старые мечты... Он уводил ее в глубины леса и старался
усилить впечатление своей независимости, меняя одно уединенное ме-
стопребывание на другое; но, прижимая к груди свою молодую жену
на дне глубокой пропасти или поднявшись с нею на вершину покры-
тых облаками гор, он не ощущал того наслаждения, на которое наде-
ялся. Пустота, образовавшаяся в глубине души его, не могла запол-
ниться... Страсти исходили из него, но не могли проникнуть в него..."
Ф.Р. Шатобриан
По этому поводу Брандес задался логичным вопросом: "Не страш-
ны ли эти опыты, производимые им над своей молодой невестой, это
его стремление с помощью пряных особенностей природы придать
ее любви большую привлекательность для него?"
А потом, расставшись с Селютой после неудачи этих опытов, Ре-
не пишет прощальное письмо, в котором, советуя ей найти более спо-
койного супруга, в то же время не прочь ей и пригрозить: "Не ду-
май, что тебе удастся безнаказанно принимать ласки другого мужа;
не обольщайся надеждой, что его слабые объятия изгонят из твоей
памяти объятия Рене".
Вы чувствуете, что перед нами за фигурой этого нового рыцаря
печального образа проступают несколько иные, далеко не безогово-
рочно рыцарственные контуры? В глубинах этой столь несчастной
души затаилось много иных обид, о которых и сам Рене, и его тво-
рец именно лишь проговариваются! Перед нами - человек, питаю-
щий о себе самом необычайно высокое мнение, человек, обнаружи-
вающий нередко органическое равнодушие к страданиям других лю-
дей. Он - натура особая, избранная, и прежде всего именно поэто-
му он страдает. Он не только страдает, но и в достаточной степени
гордится и рисуется своим страданием. Такое страдание - удел
не каждого, оно - удел лишь гения, человека необыкновенного.
Не случайно Рене, путешествуя по Греции и Риму, с особым сердеч-
ным участием рассказывает о своих размышлениях над бренностью
и преходящестью земной славы и земного величия. Он будто бы го-
ворит о тщете всякого величия - но это то самое унижение, которое
паче гордости. Рене скорбит о невозможности счастья - но счастье
мыслится им прежде всего как собственное величие, превосходство
над другими людьми. Нет этого - тогда и жизнь не нужна. Сама его
скорбь - не столько от общей неустроенности мира, а от того, что
мир не призывает его, Рене, его, Шатобриана. Это скорбь, патентом
на которую владеет лишь исключительная личность.
В несложной сюжетной канве повести есть один весьма необыч-
ный и странный момент. Чаша страданий Рене переполнилась, когда
он узнал, что его сестра Амели - единственный человек, к которому
он был привязан душой, - любила его не сестринской страстью. Са-
ма Амели, осознав это, постригается в монахини. Это - вариант об-
ращения Атала, и это - шатобриановская дань католицизму. Но, как
и в случае Атала, этот демонстративный жест христианского смире-
ния оказывается тоже весьма двусмысленным. Ортодоксальные ка-
толики остались очень недовольны Шатобрианом - он осложнил ре-
лигиозную идею слишком уж пикантным, щекочущим нервы обстоя-
тельством. Но, зная теперь немного Шатобриана, мы примерно мо-
жем понять и этот его ход. С одной стороны, страсть Амели, безус-
ловно, еще более подчеркивает исключительность его ситуации.
Одиночество, единственность Рене настолько абсолютны, что даже
любовь к женщине - эта как бы первичная, минимальная форма вы-
38
хода за рамки самого себя, своей собственной личности к чужому,
другому человеку, даже это ему заказано, для него невозможно!
Призрак инцеста, кровосмешения - это как бы материализующийся
символ рокового, заклятого, порочного круга одиночества. С другой
стороны, к религиозному обращению героиню вынуждает поистине
крайняя ситуация! Реверанс в сторону католицизма оказывается
в не меньшей степени и данью весьма вольнодумному, вольному от-
ношению к религии! Да и сам Рене так и остается неудовлетворен-
ным меланхоликом.
Как и в "Атала", перед нами писатель, который всегда готов по-
ставить в конце самую радикальную точку, факт самого крайнего са-
моотречения и самоосуждения - смерть, добровольное заточение
в монастыре, но который перед этим всегда успевает дать образован-
ному обществу понять, что он прекрасно знает о существовании са-
мых неодолимых, самых романтических, всепоглощающих - вплоть
до преступных - страстей.
Правда, с чисто психологической точки зрения изображения этих
страстей у Шатобриана обладают весьма малой убедительностью.
В "Рене" эта страсть вообще не изображена, а лишь названа (но зато
какая!). В "Атала" она изображена, но она явно не выстраданная,
не кровоточащая (хоть и хочет такой казаться!), она повсюду выдает
себя как головная, рационалистическая конструкция автора; ее гипер-
трофированность иногда подходит даже к грани комичного. Но в целом
в начинающийся век романтизма эта гипертрофированность, как
я уже говорил, произвела впечатление на новое поколение францу-
зов, и ее внутренняя анемичность далеко не всем была заметна. Ша-
тобриан и тут очень хорошо знал "повестку дня".
Отого и нельзя Шатобриана-художника целиком приписать
по епархии ортодоксальной литературы. Это - писатель, вовсе не де-
монстрирующий железную уверенность в единственной правоте хри-
стианско-католической догмы, а напротив, относящийся к ней по сути
весьма скептически. Он и по отношению к религии больше позирует.
Остается человек - человек, обладающий несомненным талантом;
человек, очень неуютно чувствующий себя в современности; человек,
безмерно влюбленный в себя, но вечно считавший, что он заслужи-
вает большей славы - даже большей, чем та немалая, которая ему
досталась; человек, тонко уловивший веяния романтического века
и одним из первых их воплотивший. Пускай даже он и больше все-
го изображал в сущности самого себя, но, будучи сам сыном своего
века, он - порой даже сам не подозревая - запечатлел очень многие
его характеристические черты. Его Рене стал типом - и в этом его
ценность для истории литературы. Она не в том, что герои Шатобри-
ана склоняются перед религией - хотя и это очень характерная чер-
та для многих романтиков (Шатобриан и тут был одним из пер-
вых!). Эта ценность в том, что Шатобриан зафиксировал очень мно-
го психологических признаков болезни своего века - этой самой
Ф.Р. Шатобриан 39
романтической меланхолии. Один исследователь сказал о ней до-
вольно резко: "Праздная меланхолия, сознающая сама себя интерес-
ной". Но это и весьма точно, и это действительно было.
А теперь посмотрим на французскую литературу с другого
ее фланга. Как осознавалась в ней более глубокая и конкретная
связь индивида с обществом в новой ситуации? Шатобриан, как мы
видели, стремился к предельной центробежности - он бежит вместе
со своим героем в леса Америки, в монастырь, в мир иной, но и об-
речен повсюду встречать самого себя: от себя ведь не убежишь.
Он принципиально бесперспективен, замкнут в себе; даже религия
для него, как мы видели, выход лишь весьма условный, не снимаю-
щий проблемы: обретает просветление Атала - но остается стражду-
щий Шактас; находит покой Амели - но остается вечно безутешный
Рене (кстати, как показательно, что главный-то герой Шатобриана
остается необращенным!).
Итак, в образе Рене выведен герой нового типа. С одной сторо-
ны, "комплекс бренности" в нем далек от элегической умиротворен-
ности сентименталистов: за его внешней отрешенностью от земного
кипит еле скрываемая гордыня, жажда вполне посюстороннего при-
знания и поклонения, внутренняя тяжба с враждебным социумом.
Но, с другой стороны, современный мир не допускается в образную
структуру повести, "неосуществимость желаний" как причина мелан-
холии нигде не подтверждается реальным личным и общественным
опытом, как это было в "Вертере", она предстает априорной.
И та и другая черты знаменуют собой отклонения от традиционной
сентименталистской основы в сторону романтического "гениоцент-
ризма", для которого внешний мир мыслится как заведомо враждеб-
ный и достойный отрицания целиком, без погружения в детали.
Б Л Констан
(1767-1830)
Я
.а первый взгляд, в романе "Адольф" (1806, опубл. 1816)
выведен тот же тип, что и Рене: человек, всецело погруженный в себя
и разрушающий и свою любовь, и любовь к нему женщины и к тому
же во многом зависящий от мнения света. Как сказал Пушкин,
"Адольф" относится к числу "двух или трех романов", в которых
"современный человек
изображен лонолык) верно,
с его безнравственной душой,
себялюбивом п сухой,
мечтанью преданной безмерно,
с его озлобленным умом,
кипятим в действии пустом".
Однако это суждение представляется слишком обобщающим, как
и последующие суждения критиков, чаще всего почти целиком ото-
ждествлявших тип Адольфа с типом романтического героя как тако-
вого. В этой связи полезно вспомнить одну язвительную реплику ма-
дам де Сталь. Когда ей сказали: "Все мужчины похожи на Адоль-
фа", она заметила: "На Адольфа похожи не все мужчины - а толь-
ко тщеславные мужчины". Но если внимательно присмотреться к об-
разу Адольфа и отвлечься от, вероятно обоснованных, обид мадам
де Сталь (бывшей прототипом покинутой возлюбленной), то психо-
логическая проблема романа в другом.
Герой Констана по-иному относится к женщине, нежели Рене.
Ибо трагедия здесь не в том, что он изменяет героине, "играет
ее чувствами", а сам холоден и расчетлив, и не в том, что Адольф
поддается мнению общества, осуждающего Элленору. Трагедия,
на мой взгляд, все-таки заключается в том, что он, поняв, что уже
Б. Л. Констап 41
не любит Элленору, не может найти в себе силы порвать с ней.
Он ее жалеет - и потому обманывает, пытаясь имитировать любов-
ное чувство, которое в нем уже умерло. Это - очень важный нюанс.
Ведь влияние света на Адольфа весьма и весьма опосредованно -
он стойко сопротивляется попыткам разлучить его с Элленорой, про-
являя тут истинное мужество. Однако он сын своего века в том, что
не может, не научился сильным чувствам. Он увлекся из тщеславия,
но все же оказался не таким эгоистом, чтобы потом просто оставить
"обнадеженную" женщину, как Рене или Печорин, как многие герои
того времени. Вот как излагает сам Констан в предисловии к треть-
ему изданию книги ее главную идею - он касается здесь того обсто-
ятельства, что Адольф в конце концов дает понять Элленоре, что
он ее не любит: "...есть нечто священное в сердце, страдающем по-
тому, что оно любит... и если нам удается превозмочь то, что мы на-
зываем слабостью, мы достигаем этого, лишь разрушая все, что в нас
есть великодушного, попирая в себе всю верность, на какую мы спо-
собны, жертвуя всем, что в нас есть благородного и доброго. Из этой
победы, которой рукоплещут равнодушные и друзья, мы выходим,
умертвив часть своей души, отбросив сострадание, надругавшись над
слабостью, оскорбив нравственность тем, что взяли ее предлогом для
жестокости; и, пристыженные или развращенные этим жалким успе-
хом, мы продолжаем жить, утратив лучшую часть своего существа".
С этим перекликается и финальная этическая идея романа -
"нельзя забывать любящих". Так что, как видите, здесь проблема
значительно сложнее. Упрек в том, что он безнравствен и самолю-
бив, в данном случае означал бы, что Адольф обязан продолжать
любить Элленору, когда он уже почувствовал, что его любовь про-
шла. Такая трактовка с точки зрения нравственного не имеет смыс-
ла. Сам Констан в этом плане гораздо более точен - он вменяет сво-
ему герою в вину лишь то, что он оказался неспособным на сильные
чувства и тем самым "истерзал сердце, которое его любило". Он счи-
тает, что герой не столько пришел к этой трагической любви из-за
своей черствости и себялюбия, сколько вышел из нее таким.
Здесь перед нами снова - одна из самых принципиальных проб-
лем романтизма, о которой я уже не раз говорил: проблема нравст-
венная. Констан, как вы видите, решает ее весьма радикально.
Очень показательны его слова: "Самая главная проблема в жизни -
это страдание, которое причиняешь, и самая изощренная философия
не может оправдать человека, истерзавшего сердце, которое его лю-
било... Я ненавижу тщеславие, которое, повествуя о зле, им содеян-
ном, занято лишь собой, живописуя лишь себя, притязает на сочув-
ствие и, несокрушимое, парит среди развалин, исследуя самое себя,
вместо того, чтобы раскаяться. Я ненавижу слабость, всегда обвиня-
ющую других в своем собственном бессилии и не видящую, что зло -
не вокруг нее, а в ней самой..." Констан здесь очень тонко уловил
чисто психологический грех романтизма - грех, заключающийся
42
в том, что романтическая личность считает для себя все дозволен-
ным, поскольку вся вина ложится на общество. Романтический герой
типа Рене всегда жалеет прежде всего самого себя. Причинив, ска-
жем, страдание женщине, он тут же о ее "самочувствии" забывает
и вновь жалеет одного себя: это он - жертва общества, века, жизни.
(В школе нередко в этом ключе трактуют образ Печорина...)
Констан идет дальше. Он показывает своего героя вначале как ти-
пичного романтика. Вот каковы его чувства перед встречей с Эллено-
рой: "В ту пору я жаждал лишь одного - отдаваться тем непосредст-
венным сильным впечатлениям, которые возвышают душу над обще-
ством и вселяют в нее пренебрежение к предметам, ее окружающим".
А в конце он, как мы видели, резко осуждает героя именно за это пре-
небрежение к "предметам, его окружающим". Он видит вину не толь-
ко - и не столько - в обществе, сколько в самом романтическом ин-
дивиде. Он даже намеренно заостряет эту проблему. "Обстоятельст-
ва, - говорит он в заключении своего обвинительного вердикта роман-
тическому герою, - не имеют большого значения, вся суть - в харак-
тере". Другими словами: как бы ни было трагично объективное по-
ложение человека, это все-таки не снимает с него целиком ответст-
венности за его поступки. Констановская этика противостоит здесь
органическому бессознательному эгоизму шатобриановского героя,
да и воздействие общества тоже показано гораздо более конкретно.
Рене жаловался как-то раз на то, что общество заставляло его сво-
дить возвышенные чувства до "общего" уровня. И все. В чем был
этот общий уровень - Шатобриан не пояснял; предполагалось, что
у общества всегда низкий уровень для романтического героя - это
аксиома; все и так поймут, что автор хочет сказать. Констан же по-
казывает это общество как систему, построенную на сословных пред-
рассудках, на тщеславии, на эгоизме (отношение к Элленоре). Но,
повторяю, по мысли Констана, даже такое общество далеко не сни-
мает с индивида нравственной ответственности за его поступки.
Э. de Сет
(1770-1846)
том, что эта нравственная проблема становилась все бо-
лее важной для романтического поколения, свидетельствует и еще
один характерный роман той эпохи - роман Этьена де Сенанкура
"Оберман", вышедший в 1804 г. Показательна судьба этого романа:
сначала он прошел совершенно незамеченным, и лишь в 1833 г., при
втором издании, предпринятом Сент-Бевом, он стал вдруг на неко-
торое время как бы библией нового поколения романтиков. Сент-Бев
назвал его "одной из самых правдивых книг века", и в этом же клю-
че о книге сочувственно отзывалась Жорж Санд.
В чем же причина его неуспеха при первом издании? Наверное,
одна из них, чисто внешняя - сам жанр книги. Это собственно, ни-
какой не роман, а серия писем главного героя, Обермана, исповедь
в письмах, причем без какого бы то ни было сюжета - только одни
размышления о жизни, о времени, о себе. Нет никакого организую-
щего стержня - ни сюжетного, ни логического. Это - книга обо
всем. Даже об одних и тех же вещах Оберман, в зависимости от на-
строения, может высказывать разные суждения. Читать книгу очень
трудно - даже романтикам! Однако такая аморфность отчасти, ви-
димо, была и сознательной целью автора. Во всяком случае, он де-
монстративно отказывается от всех традиционных сюжетных ходов,
которые рассчитаны на читательский интерес. Здесь нет резких
столкновений характеров (нет, например, представителей противо-
положной точки зрения, какая была у Констана - люди общества);
здесь нет даже любовной истории! Есть какой-то намек, но сама не-
определенность этой интриги без начала и без конца выдает прин-
Э. де Сенанкур 45
о
ципиальную установку автора - это все для него несущественно.
Он хочет раскрыть душу современика в предельно чистом виде:
он удаляет его из общества, помещает как бы в социальный вакуум,
оставляет его наедине с собой - и тут, без всяких примесей, анали-
зирует состав меланхолической души. Герой, удалившись от людей,
шлет во внешний мир лишь пцрьма о себе, и, поскольку ответов ад-
ресата не приводится, впечатление изоляции усугубляется в неимо-
верной степени.
Письма Обермана - как безответные сигналы о крушении. Край-
нее романтическое одиночество воплощено в самой форме романа.
Но осмысляется это одиночество совсем иначе, чем осмыслялось оно
Рене и его творцом. Внешне тут все похоже - и комплекс бессилия,
и фантом замкнутости, и мысль об уходе из мира, и разочарование
в обществе и в жизни, меланхолия, неудовлетворенность, скука.
Об этом очень много говорится. Но отличительная черта сенанку-
ровского героя - предельная искренность, отсутствие какой бы то
ни было позы. Сама бросающаяся в глаза противоречивость, непос-
ледовательность многих его суждений - это отчасти и результат
принципиального нежелания создавать какую бы то ни было систе-
му взглядов, - ибо всякая система, по убеждению Обермана, неиз-
бежно одностороння, схематична и потому неправдива. Ради этой
системы приносятся в жертву слишком многие нюансы, частности,
а их-то как раз он и склонен рассматривать как очень важные для
личности.
И все-таки даже в этом море частностей (и, может быть, во мно-
гом благодаря этому) перед нами вырисовывается индивид принци-
пиального иного типа, чем Рене. Развивая все примеры болезни века
- этой самой меланхолии, - автор в то же время выводит их из ино-
го источника, чем Шатобриан. Там, как я уже говорил, мировая
скорбь оказывалась уделом избранной личности, которой мир
не нравится лишь потому, что он не предоставлял ей, этой личности,
подобающего места. Эта скорбь была эгоистична в своей основе, и ее
эгоизм обнаруживался повсюду, где только личность соприкасалась
с другими людьми.
У Сенанкура скорбь идет от общей неустроенности и трагичности
человеческого бытия, жизни всех людей. Его Оберман не раз под-
черкивает, что он лично ни на что не претендует, ничего о себе не во-
ображает. Он, конечно, хотел бы, чтобы и ему лично жилось хоро-
шо. Но он столь же постоянно обнаруживает, что личное счастье для
него невозможно без счастья других людей. Чрезвычайно обострен-
ным зрением он фиксирует вокруг себя человеческие страдания, бед-
ность, нищету - он постоянно думает не только о тех, кому матери-
альное положение позволяет метаться по свету, чтобы заглушить ро-
мантическую мировую скорбь экзотическими ощущениями, -
но и о тех, кто просит милостыню на улицах города: "Мне
не по сердцу страна, где бедняк вынужден просить подаяния. Что
это за народ, для которого человек ничего не значит! ...(Когда такой
нищий благодарит меня за милостыню. - Л. К.) Я невольно склоняю
голову, я опускаю глаза, ибо необъятность и вместе с тем ограничен-
ность человеческого духа печалит и унижает меня". Видите, это со-
всем уже иные звуки во французском романтизме. Это позиция,
очень сходная с той, которая запечатлелась в одной из самых потря-
сающих фраз, произнесенных на самой заре классической русской
литературы: "Я взглянул окрест меня *- душа моя страданиями че-
ловечества уязвлена стала".
При этом сенанкуровский Оберман весьма четко отграничивает
эту свою позицию от модного романтизма шатобриановского типа.
Вот он пристрастно вопрошает сам себя: "Кто же я такой? Какая
жалкая смесь всеобъемлющей любви и равнодушия к предметам
действительности! Не романтическое ли воображение влечет меня
к иным предметам, которые я ищу в мире фантазии и предпочитаю
их лишь благодаря их призрачности, позволяющей изменять их про-
извольно и придавать им желаемые формы?.."
И тут же отвечает: "Но в капризах пылкого и необузданного во-
ображения нет ни постоянства, ни закономерности; всегда оставаясь
игрушкой своих мимолетных страстей, человек никогда не обретет
ни определенности вкусов, ни душевного равновесия.
Что у меня общего с подобным человеком? Мои вкусы неприхот-
ливы, у меня скромные привычки, я люблю лишь простые, естест-
венные вещи, стремлюсь к покойной дружбе, не ищу перемен. Мо-
гут ли быть неумеренными мои желания, если я желаю только гар-
монии и блага? Разве могут мои привязанности вызвать в людях от-
вращение? Ведь я люблю лишь то, что любили лучшие из них...
Я стремлюсь к тому, что положило бы конец людским горестям...
я желаю одного: благоденствия всем народам мира и мира душе сво-
ей во всеобщем мире..."
Теперь, я думаю, вам станет понятно, почему голос Сенанкура
вначале не был услышан. Тут выступил вроде бы свой брат-роман-
тик - но и далеко не совсем свой! Здесь такой же усталый, несчаст-
ный, неприютный человек, как Рене, все-таки упорно продолжает
мечтать о всеобщем благе и осуждает "пылкое и необузданное вооб-
ражение". И Сенанкуру же принадлежит свое определение "мировой
скорби", весьма отличающееся от того, которое характерно для Ре-
не: "Скорбь забывается, иные блага Стирают ее следы, но каким бла-
гам под силу заглушить мировую скорбь?.. Ведомо ли вам что-либо,
способное утишить скорбь о неустроенности мира?.. Я искал счастье
в.себе самом, но искал без упорства, ибо я понял, что им нельзя на-
слаждаться в одиночестве".
Такая позиция обусловливает у Сенанкура весьма резкие сужде-
ния о современных ему государственных и общественных законах,
о религии (здесь - одно из самых резких расхождений Сенанкура
с романтиками, и это тоже - одна из причин его непопулярности).
48
В ряде суждений Сенанкур предвосхищает идеи утопического соци-
ализма, и повсюду у него видно влияние просветительства и руссо-
изма. Он и здесь расходится с "ортодоксальными" романтиками ти-
па Шатобриана - просветительская мечта об общественном благе,
о достойных человека законах сквозит во всех рассуждениях Обер-
мана. И потому-то он вдруг обрел такую популярность в начале
30-х годов, когда французские романтики нового поколения особен-
но остро стали воспринимать этическую проблематику романтизма
(Мюссе) и, далее, обратились к социальной проблематике под силь-
ным влиянием утопического социализма (Гюго).
Правда, в то же время Сенанкур остается во многом и сыном ро-
мантического века. Это выражается не только в том, что его герой,
как я уже говорил, носит в себе черты романтического века, но и во
взаимоотношениях Сенанкура с просветителями. Я только что ска-
зал, что влияние просветительских идей на него очень заметно.
Но эти идеи у Сенанкура преломляются в совершенно ином эмоцио-
нальном ключе. Это не победное шествие идей разума, а скорбь
по поводу крушения этих идей. Сенанкур хотел бы в них верить,
но ему уже это трудно, он убежден в крушении этих идеалов. Вот
Оберман в начале книги излагает свое жизненное кредо, явно сфор-
мированное на этих идеях (особенно руссоистской вере в естествен-
ного человека), он говорит: "Все мои желания добры и хороши
именно потому, что я не лгу, остаюсь самим собой; когда человек
следует велениям своего сердца (вот он, руссоистский естественный
человек! - А. К.), он не может сделать и пожелать ничего плохого".
Но Оберман уже излагает эти идеи на оборонительных рубежах,
он их будто постоянно защищает от некоего невидимого врага, и уже
это свидетельствует об ощущении их внутренней непрочности.
Да и сам образ мышления Обермана характерен теперь и в этом от-
ношении ~ здесь расплывается, разжижается, раздробляется в логи-
ческих противоречиях мысль, привыкшая еще к логике рационализ-
ма, но уже не могущая ею пользоваться, если она хочет остаться ис-
кренней по отношению к самой себе. Так роман Сенанкура становит-
ся одним из самых искренних свидетельств подлинной нравственной
трагедии романтического поколения.
Ш.Нодъе
(1780-1844)
С
Ч^Х реди французских романтиков первой трети XIX в. сле-
дует упомянуть еще имя Шарля Нодьс - не столько в силу его бы-
лой значительности во французской литературе (тут он фигура ско-
рее второго ряда), сколько в силу его популярности в литературе
русской, - прежде всего его романа "Жан Сбогар", который упоми-
нается Пушкиным в "Евгении Онегине" (как один из "модных" в то
время романов) и своеобразную перекличку с идеями которого мож-
но обнаружить в произведениях Пушкина, Лермонтова п других рус-
ских поэтов 20-40-х годов.
Шарль Нодье выступил со своими первыми публикациями еще
в начале века, т. е. на первом этапе развития французского роман-
тизма. Из его ранних произведений наиболее известна повесть "Жи-
вописец из Зальцбурга" (1803). Подье из тех писателей, которые
не обладают ярко выраженной творческой индивидуальностью, кото-
рые следят в основном за модами века, по которые тоже показатель-
ны для характеристики литературного процесса своего времени, по-
тому что они как бы тиражируют наиболее злободневные его идеи,
аккумулируют их в своем творчестве и в немалой степени способст-
вуют популяризации этих идей. Лицо того или иного литературного
направления (в данном случае романтического) полезно бывает изу-
чить не только на примере фигур первой величины (они ведь, как
правило, именно в силу своей оригинальности сплошь и рядом вы-
ходят "за рамки", говорят о большем), но и на примере вот таких
писателей, как Подье, которые демонстрируют нам ходовые поня-
тия, идеи и приемы литературного направления. Но судьба таких
писателей - в то же время и эклектизм, поверхностность, всеяд-
ность, неустойчивость; от одной модной идеи они бросаются к дру-
гой, не смущаясь тем, что часто эти идеи отрицают одна другую.
50
Писательская судьба Нодье в этом смысле очень показательна.
Он начал с резкого неприятия Шатобрпапа и других консервативных
романтиков начала века; тут сказалась семейная закваска - Нодье вы-
ходец из третьего сословия, его отец во время революции был предсе-
дателем революционного трибунала в провинции, и сам Нодье уже
с 13 лет выступал в своем родном городе Ьезапсоие с революционны-
ми речами. Но в своих первых литературных произведениях Нодье
многим обязан тому же Шатобриану, а также немецким романтикам.
В повести "Живописец из Зальцбурга" герой не случайно немец, как
не случайно и постоянное возвращение Нодье в раннем творчестве
к образу Вертера (воспринимавшегося в то время как основатель дина-
стии разочарованных романтических героев). Герой Нодье тоже бежит
от общества в уединение и, явно повторяя Новалиса, говорит, что
он "предпочитает радостному сиянию солнца тусклый свет луны и тай-
ну ночи", хотя он, в отличие от шатобриановского Рейс, мечтает и о со-
единении с другими людьми (в ранней повести "Изгнанники"). Но это
именно мечтание, благой порыв, как часто бывало с такими мечтания-
ми у романтиков. Точно так же, рассуждая о революции, герой повес-
ти Нодье "Изгнанники" приемлет ее. "Нации, - говорит он, - очища-
ются революциями, и история благодаря им становится школой для по-
томства... (Революция. -А. К.) - это важный и неизбежный итог всех
минувших событий". Однако это тоже лишь возвышенное философ-
ское умозрение, не имеющее никакого касательства к реальности.
Роман "Жан Сбогар", написанный в 1812 г., опубликованный
в 1818 г., - наиболее яркое произведение Нодье, и здесь, пожалуй,
Нодье наиболее оригинален. Во всяком случае, Нодье одним из пер-
вых предложил вниманию европейского читателя жанр романа
о благородном разбойнике, создав сюжетную модель, которая потом
на некоторое время станет очень популярна в европейской романти-
ческой литературе.
Герой Нодье ведет две жизни: одну - как разбойник Сбогар, на-
водящий ужас на людей, другую - как загадочный венецианский
аристократ Лотарио; в этой своей второй ипостаси он покоряет серд-
це героини романа, девушки из дворянской семьи Антонии де Мон-
лион. В конце концов все кончается трагически: Антония, обнару-
жив, что перед пей, так сказать, не то, что она предполагала, -
не венецианец Лотарио, а разбойник Сбогар, умирает, самого же
Сбогара захватывает полиция, и он кончает на эшафоте.
Создавая образ своего Сбогара, Нодье исходит из общероманти-
чеекпх представлений о разочаровавшемся герое-мечтателе. Эпигра-
фом к одной из глав он прямо берет знаменитую формулу Шатобри-
ана: "Еще не насладившись, мы уже разочарованы; желания еще ос-
таются, но иллюзий больше нет ...С полным сердцем живем мы в пу-
стом мире и, еще ни от чего не вкусив, ни к чему уже не чувствуем
вкуса". Это, как легко почувствовать, - мысль, которая позже эхом
откликнется в русской поэзии:
///. Подьс 51
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
как пир на празднике чужом...
...Мы жадно бережем н груди остаток чупстна -
Зарытый скупостью и бесполезный клад...
(М. Лермонтов. "Дума")
Нодье этого своего разочарованного героя делает разбойником,
но разбойником благородным: в моменты откровенности Сбогар го-
ворит о том, что его цель - месть развращенному обществу, что он,
так сказать, выражает интересы угнетенных, "народа". Однако пред-
ставление о тех, чьи интересы Сбогар таким образом защищает, весь-
ма абстрактно, как весьма абстрактен и сам его бунт. Сбогар не слу-
чайно окружен романтическим ореолом загадочности, тайны, появ-
ляется в черной маске, скрывающей лицо, и т. д. Его бунт - бунт
против миропорядка вообще. И гораздо более важно для Нодье под-
черкнуть эту исключительность, "титаничность" своего героя. Сбо-
гар называет себя "сильным человеком, видящим в себе и в своем
влиянии на других единственную гарантию прав всего человечест-
ва" (опять романтический индивид как центр вселенной). "Бог воз-
ложил некую особую миссию на этих кровавых и страшных людей,
что подтачивают и ломают опоры, на которых зиждется общество,
чтобы затем построить его заново... Вспомните, кто были основате-
ли каждого нового общества, и вы увидите, что все это - разбойни-
ки, подобные тем, кого вы осуждаете".
Нодье своим романом открывает во французской литературе это-
го периода линию так называемого "неистового" романтизма. Эта
линия будет подхвачена Петрюсом Борелем, а из крупных имен -
Виктором Гюго в его ранних романах "Бюг-Жаргаль", Тан Ислан-
дец", да и в "Соборе Парижской богоматери". Так, в романе "Бюг-
Жаргаль" (1820) Гюго изображает восстание негров в Сан-Доминго
в 1791 г. (как и Клейст!).
В то время, как тема исключительного романтического героя - то
ли злодея, то ли мессии - получает свое продолжение в таких вот
произведениях, сам Нодье очень скоро от нее отходит. В своих вы-
сказываниях 20-х годов он резко отзывался о Байроне, хотя "Сбогар"
по духу, конечно же, произведение байроническое, во всяком случае,
вполне в стиле "Лары", "Гяура", "Корсара" (тема отверженного бун-
таря-отщепенца). В годы Реставрации антибуржуазность Нодье при-
обретает характер идеализации добуржуазных, даже аристократиче-
ских, идеалов (и это в то время, когда другие романтики - Ламар-
тин, Виньи, Гюго - как раз проходят уже обратную эволюцию -
от аристократизма к либерализму и демократизму). Точно так же
и в своих философских и литературных воззрениях 20-30-х годов
Нодье отходит от бунтарства и приближается к консервативной идео-
логии. В повести "Адель" он отрицает просветительские рациона-
листические идеи, на которых был воспитан, и доказывает
52
преимущества "того способа проникать в тайны природы с помощью
религии и умозрения, которым пользовались наши старые авторы".
Он подхватывает, разумеется, и идею "частного", "приватного" чело-
века, распространившуюся во французской литературе в эпоху Рес-
таврации. «Я ненавижу жизнь такой, какой ее сделали люди, - гово-
рит герой повести "Лдель", - жизнь как взаимное обязательство, как
некий общественный долг, подчиняющий мою независимость некоей
общепринятой пользе, условным правилам, учрежденным без моего
участия».
Все это свидетельствует о непрочности, неустойчивости бунтар-
ских настроении Нодье, об отсутствии твердой, выстраданной точ-
ки зрения - у Нодье это было в основном следование моде. Но, по-
вторяю, в своем творчестве Нодье демонстрирует характерные чер-
ты французского литературного процесса того периода.
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
РОМАНТИЧЕСКИХ
ИДЕЙ И ФОРМ
В ЭПОХУ РЕСТАВРАЦИИ
kJ -£_овая эра французского романтизма - эпоха Реставра-
ции. Основные положения эстетической теории романтиков нового
поколения повторяют уже знакомые постулаты немецкого "классиче-
ского" романтизма. Например, в своей речи "О судьбах поэзии" Ла-
мартин говорит, что главный смысл нового искусства - в противо-
стоянии рационалистическому и механистическому мировоззрению
прошлого (т. е. Просвещения прежде всего). Романтизм, по его сло-
вам, это серьезная реакция на засилие "геометров" в искусстве,
на "всемирный заговор математических наук против мысли и поэ-
зии"; "до сих пор, - говорит Ламартин, - только одни цифры были
в почете, только цифрам оказывалось покровительство".
Эти рассуждения варьируют хорошо знакомые нам формулы.
За ними очень легко разглядеть отрицание буржуазного века, века
"цифр и наук", века денежных расчетов. В противовес этому выдви-
гается столь же знакомый нам культ чувств, повышенное внимание
к жизни человеческой души, уход от реальности в мир мечтаний
и фантазии.
Для Франции эпохи Реставрации подобная "консервативная" по-
зиция имела еще и особый смысл. Чувствительные поэты француз-
ского романтизма увидели в Реставрации возможность наконец за-
быться и отдохнуть от бурных событий своей неровной истории. Ре-
волюция с ее ужасами, наполеоновская империя с ее бесконечными
войнами, маршами и фанфарами - от всего этого французы, естест-
венно, порядком устали. Им надоело быть всегда на людях, в строю,
им надоела государственная общественная жизнь, они ищут забве-
ния, уединения, передышки. И, как бы ни были внешне схожи
французская и немецкая романтическая реакции на общественную
Кристаллизация романтических идеи и форм в эпоху Реставрации jj
жизнь, уход французов и немцев в сферу индивидуального, в этих
реакциях есть очень тонкие различия. Уход немцев от действитель-
ности всегда имеет акцент индивидуального вообще, в философском
плане. Немецкий романтик, уходя от действительности, переселяет-
ся в душу поэта и философа вообще, индивида вообще, не обязатель-
но, так сказать, немца. Французский романтик всегда подчеркивает
свою изоляцию от мира именно как уход от мира общественного
в мир частный, приватный. Немца интересует в первую очередь ду-
ша философа, художника, поэта; француза интересует опять-таки
прежде всего частный человек, необщественный человек - человек,
в первую очередь, а потом уже поэт. В этом смысл позиции Ламар-
тина в годы Реставрации, и особенно отчетливо эта тенденция обна-
руживается в творческой эволюции Виньи. И это положение дел
с удивительной интуицией почувствовала мадам де Сталь, когда
в "Германии" говорила об интересе немцев к "частной жизни"! Это
больше относилось к ее соотечественникам. Это была также мечта
и ее поколения - о частной сфере в противовес эпохе Наполеона!
Внешне эта позиция как будто отрицательная, антиобществен-
ная. Но не говоря уже о том, что тем самым французский романтизм
оказывался в оппозиции к буржуазному строю, он еще вступал в то
же время в такую негласную оппозицию к государственному строю
реставрированной монархии. Он оказался для нее очень недолгим
и очень ненадежным союзником! Частный человек есть частный че-
ловек - на него нельзя положиться никакой общественной системе,
в том числе и реставрационной!
Ламартин, Виньи, Гюго - все выступили поначалу будто как пра-
воверные роялисты, монархисты, католики - надежда и оплот Рес-
таврации. Но они неуклонно отходили от этих идей, разочаровав-
шись в них.
Присмотримся теперь поближе к одному из наиболее характер-
ных поэтов эпохи Реставрации - Альфонсу Ламартину.
АЛамартш
(1790-1869)
н взошел в 20-е годы на поэтическом горизонте Фран-
ции как звезда первой величины. Самые знаменитые сборники его
стихов - "Поэтические размышления" (1820), "Новые размышле-
ния" (1823), "Поэтические и религиозные созвучия" (1830).
Поскольку в этих сборниках были оды в честь Жозефа де Мэст-
ра, Шатобриана, Бональда, поскольку у него было много религиоз-
ных стихотворений, Реставрация сразу признала его своим и осыпа-
ла не только литературными, но и политическими почестями.
Он блистал и в литературном салоне, и на дипломатическом попри-
ще. Но незадолго до Июльской революции он вдруг заявляет о сво-
ем несогласии с официальной политикой двора Бурбонов, уходит
в отставку, приветствует, хотя и сдержанно, Июльскую революцию,
переходит в партию либералов!
Это, так сказать, чисто политическая сторона вопроса, хотя и она
свидетельствует о том, что монархические убеждения Ламартина бы-
ли весьма и весьма нестойкими. Обратимся теперь к литературной
стороне вопроса.
Дело в том, что с самого начала французская публика расслыша-
ла в напевных, меланхолических стихах Ламартина не только рели-
гиозные и монархические, но и другие ноты, и эти другие ноты она
как раз ближе всего приняла к сердцу и их-то в нем и оценила. Ла-
мартнн в самых лучших своих стихах выступил поэтом подчеркнуто
негромким, нешумным, задумчивым, интимным, частным! Уже сами
излюбленные его жанры - лирические элегии - были новыми для
французской поэзии, воспитанной на громогласных звучных класси-
цистических одах или на чувственных стихах эпохи рококо.
Однако в этих стихотворениях настойчивая задушевность тона
не исключает на самом деле традиционно-велеречивого витийства,
о
А. Ломартип
а лишь переключает его в иные, более интимные сферы (то, что поз-
же, видимо, и заставило Пушкина определить Ламартина как поэта
"сладкозвучного, но однообразного").
Впечатление отрешенности создавалось прежде всего благодаря
самой тематике этих стихотворений. Лирический герой Ламартина
не просто уединившийся от мира и его страстей анахорет - его по-
мыслы еще и постоянно устремлены ввысь, к Богу. Но сам тон
и смысл его общения с верховным существом полны глубокого и не-
ослабного драматизма, делающего в конце концов отрешение невоз-
можным. Ламартин избирает для себя позицию демонстративной ре-
лигиозности, крайнего смирения и пиетизма.
Во многом, конечно, это продолжение шатобриановской пробле-
матики лирическими средствами. Но если Шатобриан видел себя вы-
нужденным пространно доказывать преимущества религии, то Ла-
мартин напрямик, без посредников говорит с Богом, чье существова-
ние для него не стоит под вопросом. Под вопросом все больше ока-
зывается то, способен ли Бог - исходно полагаемый всеблагим и раз-
решающим все земные сомнения - заслонить и заменить собою мир
в душе безраздельно вверяющегося ему поэта.
Если восстановить хронологический порядок создания отдельных
стихов первого сборника, то он явит достаточно традиционную кар-
тину возникновения религиозного пиетизма как одной из характер-
ных для романтического сознания утопий. Самые первые стихи
на эту тему навеяны глубоким личным переживанием - безвремен-
ной смертью любимой женщины. Как ранее у Новалпса, у Ламарти-
на возникает желание переосмыслить смерть, увидеть в ней переход
в иной, лучший мир ("Бессмертие"), найти утешение в сознании
бренности посюстороннего мира ("Озеро"). Он предпочитает скор-
беть об умершей возлюбленной, а не воспевать в своих стихах ра-
дость новых встреч. Молодой Гюго подметил эту черту в поэзии Ла-
мартина: "Он очищает земную страсть, возвышая ее до небесной
любви". То, что страдает здесь именно поэт п именно романтический
поэт, ясно прочитывается в стихотворении "Слава" ("Профану
на земле даны все блага мира, но лира - нам дана!"). Психологиче-
ски вполне понятен в этой ситуации и кощунственный ропот, присту-
пы сомнений в благости творца, не пожелавшего дать человеку абсо-
лютное блаженство: "Рассудок мой смятен - ты мог, в том нет сом-
ненья, - но ты не захотел" ("Отчаяние"). Так возникает образ "же-
стокого бога", по отношению к которому человеку дано "роковое
право проклинать" ("Вера").
Ситуация оказывается много напряженней, чем даже у Шатобри-
ана; там трагизм судеб героев (в "Атала", в "Репе") не соотносился
столь прямо с божественной волей и не вменялся столь откровенно
ей в вину.
Вот за этой серией "отчаянных" размышлений и последовали
размышления самые покаянные, самые безоглядные в отречении
58
^ g-^-~*£
от гордыни и бунтарства - "Человек", "Провидение - человеку",
"Молитва", "Бог" и др. В совокупности они способны и в самом де-
ле создать впечатление однообразной благочестивости. Но, взятые
каждое в отдельности, многие из стихотворений этого ряда поража-
ют, если воспользоваться словами самого Ламартина, "энергией
страсти" в утверждении идеи религиозного смирения. Особенно это
относится к поэме "Человек", и не случайно она построена на поле-
мике с Байроном: перед нами исповедание веры не только религиоз-
ной, но еще и литературной. Ламартин развивает свой вариант ро-
мантической утопии.
Бунтарской байроновской "дикой гармонии" здесь противопоста-
вляется позиция диаметрально противоположная - "экстаз самоуни-
чижения и самоистребления": человек должен боготворить свое "бо-
жественное рабство", не обвинять творца, а покрывать поцелуями
свое ярмо и т. д. Сама демонстративная слепота этого самоуничиже-
ния уже делает его намеренно форсированным: то, что поэт безраз-
дельно вверяет себя творцу, как бы призвано дать ему тем большее
"право на ропот". Он с горечью признает, что мятежный разум бес-
силен против судьбы: что, собственно, не ему, Ламартину, поучать
Байрона, ибо и его разум "полон мрака"; что такова судьба челове-
ка - в ограниченности его природы и в бесконечности его стремле-
ний; сами эти стремления, сама эта жажда абсолюта - причина его
страданий: "Он бог, что пал во прах, но не забыл небес".
Эта система доказательств порождает совсем иной образ челове-
ка - образ, чисто по-романтически страдальческий и величест-
венный: "...будь он и слаб и сир - он тайною велик". Ламартин
и на этом кружном пути - как бы от противного - стремится утвер-
дить величие человека, чья родина все-таки небо (тоже излюбленный
романтический мотив). Основной тон поэмы - до разрыва напряжен-
ная гармония мировоззренческих диссонансов В одеждах религиоз-
ного пиетизма скрывается вполне светский стоицизм избранничест-
ва, у которого своя, не байроновская, но тоже притязающая на мак-
симализм гордыня.
Эволюция Ламартина от первых "Размышлений" к "Новым раз-
мышлениям" (1823) и "Поэтическим и религиозным созвучиям"
(1830) отмечена прежде всего варьированием этого дуализма, утвер-
ждаемого в самом названии последнего сборника. Постепенно при-
глушается фанатичный пафос новообращенчества; противовесом ро-
мантической скорби о несовершенстве мира становится преклонение
перед гармонией природы и космоса. Если в "Размышлениях" отно-
шение поэта к природе колебалось между сентименталистскнм уми-
лением и трепетом перед ее безучастностью к страданиям человека,
то теперь природа все определенней предстает как идеальный обра-
зец гармонических закономерностей, и поэт если и познает божест-
венный глагол, то именно через ее посредство: "Звезды зажегся лик,
звезды померкнул лик - / Я внемлю им, господь! Мне ведом
60
их язык" ("Гимн к ночи"). В поэтической системе "Созвучий" поза
ортодоксальной религиозности уступает место мироощущению, весь-
ма близкому к пантеистическому (хотя сам Ламартин против такой
квалификации и возражал, не желая быть заподозренным хоть в ка-
ком-либо "материализме"). Тенденция к секуляризации сознания по-
эта проявляется также в поэме "Последнее паломничество Чайльд
Гарольда" (1825), предвосхищая поворот Ламартина в 30-е годы
к социально-реформаторской проблематике ("Жосден", "Падение
ангела", поздняя проза).
В 30-е годы его переход на новые общественные позиции, пере-
ход к более либеральным взглядам принес с собой значительные пе-
ремены и в его поэзии. Если раньше лирический герой Ламартина
был одинок - и принципиально одинок, - то теперь он начинает ис-
кать выход к людям (вот опять та самая нравственная проблематика
романтизма). В поэме "Жослен" (1836) Ламартин создает образ че-
ловека - священника Жослена, который смысл жизни видит в том,
чтобы нести утешение и добро другим людям. Это, в свою очередь,
заставляет Ламартина более внимательно приглядеться к окружаю-
щему обществу, и в круг его лирических тем входит даже социаль-
ная критика. Меняется сам жанр - более эпичный (поэмы), более
описательный, уже земная жизнь, земная любовь. А во второй сво-
ей поэме - "Падение ангела" (1838) он в символическом сюжете рас-
сказывает о том, как ангел влюбился в земную девушку, и ему при-
шлось познать все невзгоды и страдания грешной земли (цивилиза-
ции). Это очень характерная тема всей романтической эпохи. К ней
обращался Лермонтов в "Демоне", к ней еще раньше обращался
Клейст в своей лирической комедии "Амфитрион" (ее иронически
варьировал Пушкин в "Гаврилнале"). Интерес к этому сюжету имен-
но в эту эпоху, безусловно, символичен: здесь, в этой теме "нисхо-
ждения на землю" в своеобразной форме выражается одна из корен-
ных мировоззренческих проблем романтизма - взаимоотношения ро-
мантического героя, этого полубога, гения с земными людьми. Гель-
дерлнновский Эмпедокл, как вы помните, отметил собой трагедию
противоположного движения - возвысившись до ранга бога,
он не смог жить на холодных вершинах одиночества. Этот ледяной
холод одинокой власти по-своему ощущают все романтические ге-
рои - и Манфред, и Каин, и Корсар у Байрона, и Демон у Лермон-
това, и Фауст во второй части трагедии Гете. Вот тут-то и начинает-
ся для них земное тяготение, и оно часто выражается в романтиче-
ском конфликте - любви бога к земной женщине. ("Что без тебя мне
эта вечность?") Но это, конечно, и более глубокая тема - здесь ро-
мантический гений, полубог сознает необходимость нисхождения
на землю, к смертным, хотя, как правило, это нисхождение заканчи-
вается трагически: поцелуй Демона оказывается гибельным для Та-
мары, и любовь эта не приносит счастья Демону; у Клейста Юпитер
вносит только смятение в чистую душу Алкмены и уходит; точно так
Л. Ламартин
же и у Ламартпна любовь ангела к смертной девушке кончается тра-
гедией. Но характерно, что здесь Ламартин возвращается к байрони-
ческой теме! Он показывает теперь бунт, революцию против неспра-
ведливого земного бытия.
Решение и у Ламартпна - чисто романтическое: революция кон-
чается ничем, победившая толпа изгоняет Седара и Дайру, и они по-
гибают в пустыне.
Отсюда ноты трагического отчаяния в истории земных приклю-
чений и страданий Седара в "Падении ангела". Разочарование Ла-
мартпна в результатах своей политической деятельности в 40-е годы
усилило эти настроения, и не случайно, очевидно, среди самых позд-
них его произведений наиболее совершенной стала поэма "Виноград-
ник и дом" (1857) - поэма снова лирическая, возрождающая изна-
чально ламартиновскую тему душевного смятения и раздвоения. Оп-
тимизм поэта переносится снова в космические сферы, питаясь чув-
ством единства с вечной и прекрасной природой и надеждой па бла-
гую волю творца.
В. Гюго
(1802-1885)
Vlx собое место в истории французского романтизма в эпо-
ху Реставрации занимает раннее творчество Виктора Гюго. В первую
очередь имя и деятельность Гюго стали к концу 20-х годов символом
торжества романтического движения во Франции. Его предисловие
к драме "Кромвель" было воспринято как один из главных манифе-
стов романтизма, его "Сенаклъ" объединил самых многообещающих
молодых приверженцев нового движения (Впньи, Сент-Бёва, Готье,
Мюссе, Дюма), представление его драмы "Эрнаии" вошло в литера-
турные анналы как окончательная победа романтизма. Огромный
творческий дар, соединенны!"! с поистине неиссякаемой энергией, сра-
зу позволил Гюго наполнить современную французскую литературу
гулом своего имени. Он начал чуть ли не одновременно со всех жан-
ров: сборник его первых од (1822), пополнявшийся затем балладами,
выдержал до 1828 г. четыре издания; предисловия к стихотворным
сборникам и драме "Кромвель", литературно-критические статьи
в основанном им в 1819 г. журнале "Conservateur litteraire" ("Лите-
ратурный консерватор") и других изданиях сделали его одним из са-
мых известных теоретиков нового литературного движения; романа-
ми "Гаи Исландец" (1823) п "Бюг-Жаргаль" (1826) он вступил
па поприще прозы; с 1827 г., когда появился "Кромвель", он обра-
щается к драматургии.
Между тем само по себе литературное творчество Гюго, н в част-
ности на этом раннем этапе, в основе своей далеко не столь ортодок-
сально-романтично, каким оно представилось в общеромантическом
окружении той поры. Классицистическая традиция в поэтическом
мышлении Гюго гораздо более активна, чем у других его современ-
ников-романтиков; колебания между классицизмом и романтизмом
В. Гюго 63
в его теоретических высказываниях первой половины 20-х годов -
еще одно тому подтверждение. Но дело не просто в колебаниях толь-
ко определяющейся теоретической мысли. Художественный опыт ве-
ликой литературы "золотого века" с самого начала был властен над
сознанием Гюго, созвучен его поэтической натуре. Понимая, как
и его современники, невозможность консервирования этой традиции
в изменившихся условиях, Гюго охотно открылся новым веяниям
и, убежденно отстаивая их правомочность, следовал им и сам.
Но традиционные комплексы - и идейные, и чисто формальные -
у него сильны и органичны. Прежде всего это рационалистический
фундамент самого поэтического вдохновения. Даже там, где Гюго
внешне следует наиболее бурным тенденциям романтического века,
он заковывает их в броню рационалистической логики. В предисло-
вии к "Кромвелю" он отстаивает право на изображение контрастов
в литературе - контрастов, мыслимых как символ радикальнейших
противоречий бытия, его изначальной двойственности и разорванно-
сти. Но сколь четко выстроенными и организованными - на разных
уровнях - предстают эти контрасты в самой художественной систе-
ме Гюго, начиная с "неистовых" его романов Тан Исландец"
и "Бюг-Жаргаль" и кончая поздним романом "Девяносто третий
год". Романтизм Гюго прежде всего рационалистичен, это отличает
его от других современных ему романтических систем.
Это связано - в более широком плане - с самим мировосприяти-
ем Гюго, с его представлением о месте художника в мире. Как и все
романтики, Гюго убежден в мессианской роли художника-творца.
Как и они, он видит несовершенство окружающего его реального ми-
ра. Но максималистский романтический бунт против основ миропо-
рядка не привлекает Гюго; идея рокового противостояния индивида
миру для него не органична, неразрешимость последовательно ро-
мантического "двоемирия" ему, в общем, чужда. Гюго сплошь и ря-
дом показывает человеческие трагедии, но неспроста окружает их се-
рией роковых случайностей и совпадений. Эти случайности лишь
по видимости роковые. За ними стоит убеждение в великой неслу-
чайности благого общего закона прогресса и совершенствования. Гю-
го в каждый момент знает, где в конкретном развитии человечества
и общества допущен просчет, вызвавший трагедию, и как его можно
исправить. Уже в своих критических выступлениях начала 20-х го-
дов ом говорит о долге писателя "высказывать в занимательном про-
изведении некую полезную истину" ("О Вальтере Скотте", 1823),
о том, что произведения писателя должны "приносить пользу"
и "служить уроком для общества будущего" (предисловие к изданию
од 1823 г.). Этим своим убеждениям Гюго остался верен до конца,
и они прямо соединяют его творчество с традицией просветитель-
ской, хотя поначалу он в тех же критических статьях под влиянием
своего раннего монархизма и отвергал "философов".
Сама всеохватность творчества Гюго, стремление подняться над
литературными спорами момента и совместить открытость новым ве-
яниям с верностью традиции ~ все это связано с желанием положить
в основу своего романтизма не мироотрицание, а миропрнятпе.
В предисловии к "Кромвелю" Гюго обстоятельно доказывал драма-
тический характер искусства новой эпохи, а эпопею объявил досто-
янием античных времен; и его собственное творчество бурно драма-
тично во всех жанрах, в том числе и лирических. Но над этим дра-
матизмом возвышается чисто эпический стимул охватить все - и век,
и мир; в этом смысле общее движение Гюго к роману-эпопее (начи-
ная с "Собора Парижской богоматери") и к лиро-эпическим циклам
("Возмездие", "Легенда веков", "Грозный год") закономерно. Ро-
мантизм Гюго эпичен в своей тенденции.
Это обнаруживалось уже в ранних одах и балладах Гюго. В одах
особенно чувствуется традиция классицистической эпики. Уважение
к авторитетам подкрепляется роялистской позицией молодого поэта:
он радуется наступлению "порядка", говорит о революционных "са-
турналиях анархизма и атеизма" с такой убежденностью, будто сам
их пережил, воспевает вандейскнх повстанцев как мучеников монар-
хической и религиозной идей ("Кпберон", "Девы Вандеи"). Этот ро-
ялизм, однако, на самом деле лишь юношеская поза, дань времени.
Он носит такой же эстетический характер, как христианство Шато-
бриана; Гюго заявляет в 1822 г., что "История людей только тогда
раскрывается во всей своей поэтичности, когда о ней судят с высо-
ты монархических идей и религиозных верований".
От крайностей роялизма Гюго очень скоро отойдет, как и от клас-
сицистических единств. Но в самом повороте Гюго к романтизму
и его, так сказать, обращении с ним явственно проступает мечта
о некоем более высоком искусстве, которое соединяло бы достоинст-
ва нового и старого. Ценя традиции прошлого, Гюго в то же время
решительно отделяет себя от врагов романтизма. Для него право ро-
мантизма на существование столь же бесспорно, сколь и величие
Корнеля пли Буало. Яростные схватки литературных консерваторов
п новаторов его с самого начала смущают - к громкому разрыву
он не стремится; искусство может быть и классическим и романтиче-
ским, лишь бы оно было "истинным". Поэтому он восторгается и но-
вым искусством - Шатобрнаном, Ламартином, Скоттом, ему достав-
ляет удовольствие отметить в статье о Ламартпне в 1820 г., что Ан-
дре Шенье - романтик среди классиков, а Ламартин - классик сре-
ди романтиков. При этом Гюго приемлет романтизм в его полном
объеме: прекрасно осознавая различия в идейных позициях Шато-
брпана и Байрона и даже сожалея на этом "роялистском" этапе, по-
добно Ламартпиу, о байроновском богоборчестве, он тем ие менее
восхищается обоими, подчеркивая, что они "вышли из одной колы-
бели" ("О лорде Байроне". 1824).
В результате этот поэт классической выучки начинает энергично
испытывать возможности романтической поэтики. Патетические оды
очищаются от наиболее одиозных стилистических штампов класси-
цизма. К одам добавляются баллады, часто на средневековые темы,
с фантастическими мотивами, почерпнутыми из старинных легенд
и народных поверий ("Сильф", "Фея"). В связи с этим всплывает
и кровная для романтизма мысль о бесприютности фантазии в зем-
ном прозаическом мире ("К Трильби"). Романы "Ьюг-Жаргаль"
и "Гаи Исландец" демонстрируют в самых крайних формах "готиче-
скую" и романтическую неистовость, существенную роль в них игра-
ет поэтика "местного колорита". Романтический экзотизм царит
в сборнике стихотворений "Восточные мотивы" (1829). Поэт все ре-
шительней расшатывает формальный каркас классицистического
стиха, увлеченно экспериментируя с ритмикой и строфикой, стре-
мясь самим ритмом передать движение мысли и событий ("Небесный
огонь", "Джинны"). Кстати, именно в этом "освобождении" стиха -
одно из самых плодотворных поэтических новшеств раннего Гюго:
многие его стихи вольней и раскованней, чем у Ламартина и Виньп,
и предваряют ритмическое богатство французской лирики на следу-
ющих этапах (Мюссе, Готье, зрелая лирика самого Гюго).
Наконец, в общем русле романтического движения находился
и предпочтительный интерес Гюго к истории. II именно в этой сфе-
ре формируются основы мировоззрения писателя, его отношение
к проблеме "человек и мир", "человек и история".
Как и у французских историографов этой норы, у Гюго преобла-
дает оптимистический взгляд на историю как на процесс поступа-
тельного движения человечества. Даже выражая порой ужас перед
неумолимым шагом истории, Гюго тут же снимает остроту пробле-
мы, напоминая, что "хаос нужен был, чтоб мир воздвигнуть строй-
ный", п подкрепляет эту надежду указанием на мессианскую роль
поэта, вещающего народу об этой великой диалектике истории:
"Он в вихре кружится, как буря, чужд покою // Ногою став
на смерч, рукою // Поддерживая небосвод" ("Завершение", 1828.
Пер. В. Левина).
В сознание писателя входит мысль о народе как о реальной силе
истории. В "Бюг-Жаргале" это пока еще взбунтовавшаяся стихия,
внушающая страх и трепет, но Гюго отмечает и то, что бунт вызван
притеснениями, что жестокость является ответом на жестокость; еще
явственней это звучит в "Гане Исландце" при изображении повстан-
цев-рудокопов. В "Восточных мотивах" многие стихи посвящены ге-
роической борьбе греческого народа против турецкого владычества.
Тема истории и тема народа наиболее широко сопрягаются друг
с другом в романе "Собор Парижской богоматери" (1831). Конечно,
доминирует здесь первая тема - тема исторического прогресса. Этот
прогресс ведет не только к смене символического "каменного" язы-
ка архитектуры, воплощенного в соборе, и мертвого языка схоластп-
В. Гюго 67
кн, воплощенного в бесплодной и иссушающей душу учености Кло-
да Фролло, языком печатной буквы, книги, широкого и планомер-
ного просвещения; он ведет и к пробуждению более гуманной мора-
ли, олицетворенной в образах "отверженных" - Эсмеральды и Ква-
зимодо. Народ и здесь предстает еще как стихийная площадная мас-
са - либо нейтральная (в начальной сцене), либо устрашающая сво-
ей "беззаконностью" (Гренгуар у трюанов). Во всяком случае, мас-
су Гюго изображает на примере отверженной и отчаянной братии ни-
щих. Однако в пока еще слепой активности тоже пробиваются идеи
справедливости; сама ее "беззаконность" - своеобразная пародия
на общественное беззаконие, коллективная насмешка над официаль-
ным правосудием (так прочитываются в общем контексте романа
сцена официального суда над Квазимодо и сцена суда трюанов над
Гренгуаром). А в сцене штурма собора эта стихийная сила движима
уже и нравственным стимулом восстановления справедливости.
Путь Гюго в 20-е годы - это путь осознания того, что мир, исто-
рия и человек действительно полны глубочайших противоречий;
что история не только "поэтична", но и трагична; что надежды
на монархию и ее "порядок" столь же эфемерны, как надежды
на классицистическую гармонию; что романтическое искусство с его
острым ощущением разорванности бытия и в самом деле более сов-
ременно. Но сама идея порядка и гармонии дорога Гюго - как проч-
на его вера в преобразовательную миссию поэта, одновременно и ро-
мантическая и просветительская. И Гюго предпринимает попытку
организовать гармонию в искусстве и в мире средствами романтиче-
скими. Он берется прежде всего за идею драматического контраста,
гротеска (предисловие к "Кромвелю"), во всеоружии уверенности,
что искусству лишь надобно овладеть этим взрывчатым материалом,
коль скоро он приобрел такую настоятельность, и обратить его
на всеобщее благо.
Отсюда и утрированно-эксцентрический характер контрастов
в раннем творчестве Гюго. Мировое социальное и нравственное зло
предстает у него явлением исключительным, экзотическим - оно не-
спроста переносится в географически и исторически отдаленные сфе-
ры. Проблема человеческого страдания вверяется поэтике нечелове-
ческих страстей (Хабибра в "Бюг-Жаргале", Клод Фролло и Урсу-
ла в "Соборе") либо поэтике гротескного контраста (Квазимодо
в "Соборе", Трнбуле в драме "Король забавляется"), еще усиливае-
мого постоянным сюжетным приемом рокового совпадения или тра-
гического недоразумения.
Все это связано и с ломкой общественно-политических взглядов
Гюго в этот период. Демократизм и республиканизм, ассоциирующи-
еся ныне с целостным образом Гюго-писателя, в 20-е годы для него
еще только обрисовывались в перспективе, и шел он к ним от прямо
противоположных принципов (пусть и юношески наивных, как сам
он их впоследствии квалифицировал). Поэтому у него сейчас проб-
лема народа тоже предстает по преимуществу эстетически-утриро-
ванной: это не просто "бедные", "сирые", "отверженные", это непре-
менно среда асоциальная, парии, отщепенцы (трюаны в "Соборе",
благородные изгои в драмах). Это пока еще народ, увиденный
со стороны, свысока - как Париж в "Соборе", с птичьего полета.
Лишь с 30-х годов представление Гюго о народе будет приобретать
все более конкретный социальный характер.
Именно социальная, порой даже открыто политическая, пробле-
матика отличает драмы Гюго, создаваемые в этот период, и его по-
литический роман "Собор Парижской богоматери", и его лирику. Ге-
роями произведений Гюго становятся "отверженные", люди из соци-
альных низов, чье внутреннее благородство поэт противопоставляет
моральной развращенности представителей "сильных мира сего".
Куртизанка Марион Делорм и простолюдин Дидье в драме "Мари-
он Делорм" (1829), разбойник Эрнани в одноименной драме 1830 г.,
шут Трибуле в драме "Король забавляется" (1832), слесарь Жиль-
бер в драме "Мария Тюдор" (1835), куртизанка и актриса Тисба
в драме "Анджело" (1835), лакей Рюп Блаз в одноименной драме
1838 г., наконец, звонарь Квазимодо и уличная плясунья Эсмераль-
да в "Соборе Парижской богоматери" - вот далеко не полный пере-
чень плебейских героев Гюго, в которых он раскрывает глубины че-
ловеческого благородства, способности к состраданию и самопожер-
твованию. Для Гюго это тем более знаменательно, ведь свой творче-
ский путь в 20-е годы он начал как убежденный сторонник монар-
хии. А теперь монахи, аристократы, "сильные мира сего" выступа-
ют в его драмах как средоточия пороков и жестокости,
Все сюжетные конфликты романтических драм Гюго строятся
на прямом столкновении "низких" и "высоких" героев. Хотя "низ-
кие" герои погибают, но моральное торжество остается за ними,
а "высокие" герои, хотя и торжествуют в жизни, подвергаются бес-
пощадному моральному развенчиванию - король Карл в "Эрнани",
королева Мария в "Марин Тюдор", иадуанский тиран Анджело, все-
сильный министр Ришелье в "Марион Делорм", король Франциск I
в драме "Король забавляется". Не случайно романтические драмы
Гюго вызывают в тот период поистине целую бурю итальянских
страстей во французском обществе. Одну за другой их запрещает
правительственная цензура, постановки их сопровождаются сканда-
лами, они никого не оставляют равнодушными: либерально настро-
енная французская публика, особенно молодежь, видит в Гюго зна-
меносца революционных идей, своего идейного вождя, правительст-
венные круги видят в нем опасного бунтаря, своими антимонархиче-
скими настроениями подрывающего основы общества.
Разумеется, критичность Гюго носит чисто романтический харак-
тер - это и само обращение к историческим сюжетам, и самый вы-
бор положительных героев - все они не просто плебеи, не просто
представители угнетенных, но и, как правило, вообще люди, нахо-
В. Гюго 69
дящпеся за рамками общественной морали, - куртизанки, разбойни-
ки, шуты: их "плебейство" романтически заострено, подчеркнуто вы-
зывающе. В этом сама суть романтической эстетики Гюго: показать
духовное величие не просто отверженных, но самых отверженных,
не просто плебеев, но самых последних плебеев; эта установка зача-
стую подчеркивается и даже чисто внешним их уродством - Квази-
модо или шут Трибуле в драме "Король забавляется", или Гупнплен
в "Человеке, который смеется". Поиски внутренней красоты в глу-
бинах внешнего уродства и социальной отверженности - вот основ-
ная тема Гюго-романтика. И по своему характеру эти герои чисто ро-
мантические: это люди высоких и сильных страстей, личности в пол-
ном смысле этого слова выдающиеся, необыкновенные.
Политическая бунтарская тематика рисуется в лирике Гюго 30-х го-
дов. Если в ранних стихах Гюго его внимание сосредоточено на кра-
сочном воссоздании исторической старины п картин природы, если по-
литическая тематика в основном подчинена прославлению владык про-
шлого и современных аристократов, то теперь поэт выдвигает принци-
пиально новое кредо:
Да, мулл поснятмть должна себя народу,
II аабынаю я дюбонь, семью, природу,
II пояпдяется, шчтнльпа и гро.шл,
У диры медная .«пенящая пру па.
Так говорит Гюго в своем новом сборнике "Осенние песни", вы-
шедшем в 1831 г. В другом сборнике - "Песни сумерек" (1835) эти,
еще в значительной степени отвлеченные, декларации сменяются чи-
сто социальной проблематикой, и Гюго воспевает нищих тружени-
ков, героев июльских баррикад, с гордостью и по праву называя се-
бя "звонким эхом своего времени".
Нужно сказать, однако, что творческий путь Гюго не был прямо-
линейным в эти годы. В конце 30-х годов он поддается настроениям
усталости и разочарования, характерным для многих французских
интеллигентов в тот период реакции. Этому способствуют и трагиче-
ские события в жизни Гюго - смерть любимого брата, трагическая
гибель 19-летней дочери Леопольдпны. На какой-то период времени
кажется, что Гюго возвращается в лоно монархии; его осыпает поче-
стями официальная власть: в 1837 г. король Луи-Филипп награжда-
ет Гюго орденом "Почетного легиона", в 1841 г. он становится чле-
ном Французской академии, в 1845 г. он получает графский титул
и назначается по королевскому декрету пэром Франции.
Однако это только период затишья перед очевидной бурей, кото-
рыми была так богата судьба Гюго. Уже в эти годы Гюго работает
над своим новым большим романом, над грандиозной эпопеей
из жизни "отверженных", и после 1848 г. эта буря грянет в творче-
стве Гюго с удесятеренной силой.
70
Основные произведения В. Гюго после 1848 г.: "Возмездие"
(1852-1853), "Созерцания" (1856), "Отверженные" (1862), "Труже-
ники моря" (1866), "Человек, который смеется" (1869), "Грозный
год" (1872), "Девяносто третий год" (1874). В поэтических сборниках
"Возмездие" и "Созерцания" отражается эволюция Гюго-лирика -
от гражданской, политизированной тематики к "биографии души", на-
лицо разочарование в возможностях исторического прогресса.
Самое крупное произведение этого периода - роман-эпопея "От-
верженные". Это картина современной ему жизни, однако это не ре-
алистический роман в духе Флобера или Стендаля. Почти каждая
ситуация в романе не просто существует как исторический эпизод,
но и легко прочитывается в аллегорически-философском ключе. Ка-
ждый образ воплощает ту или иную символическую идею: Жан
Вальжан - справедливость; епископ Мирпэль - христианское мило-
сердие; Жавер - бесчеловечный буржуазный закон; Козетта н Гав-
рош - попранное детство. Поэтому п авторская мысль движется как
бы в двух планах. С одной стороны, он показывает реальную исто-
рию Франции, с другой стороны, на этом фоне разыгрывается веч-
ная борьба пороков и добродетелей: Жан Вальжан отпускает Жаве-
ра, епископ Мириэль обезоруживает своего антагониста во имя все-
прощения, человеколюбия.
В "Тружениках моря" дан образ человека, терпящего крушение
в жизни, но философский смысл романа глубже - человек может по-
бедить природу, однако не в силах преодолеть эгоизм социальных
установлений. Идея бесплодности человеческих усилий увенчивает-
ся добровольным уходом Жильяра из жизни. Он сливается с океа-
ном, который он покорил.
Аналогичная пессимистическая концепция торжествует н в рома-
не "Человек, который смеется", действие которого происходит в Ан-
глии XVII в. Гюго показывает, что в обществе всякое благородство
обречено и воздаяние происходит только на небесах. Наконец, в по-
следних романах - "Девяносто третий год" и "Грозный год" - Гюго
возвращается к исторической проблематике и на фоне революцион-
ных событий вновь пытается показать непримиримость насилия
и нравственной позиции. Правда сердца остается за Говэном, и Гю-
го сознательно вызывает к нему эмоциональные симпатии читателя.
Как мы видим, и поздний Гюго по своей проблематике и по своему
моральному пафосу остается непоколебимым романтиком.
А de Впит
(1797-1863)
\У любви Поэта и Славы всякий раз по-иному складывается
судьба. Один штурмует эту твердыню непрестанно, обрушивает
на нее атаку за атакой, не дает ей опомниться, не позволяет ни на миг
забыть о себе, рассыпает перед нею все новые и новые дары своего
таланта, и она, ослепленная их блеском, очарованная их звоном,
не сопротивляется долго, сдается раз и навсегда и любит потом сле-
по и постоянно. Во французской поэзии XIX в. такова*судьба Гюго.
Другому победа дается без борьбы, идет в руки сама, Слава
влюбляется в него с первого звука его лиры. Так было с Мюссе.
"То была сама весна, настоящая весна поэзии, расцветшая на наших
глазах... Никто другой не мог так сразу, с первого взгляда, внушить
представление о юном гении", - писал о нем позже Сент-Бёв, и да-
же больно обиженный им Ламартин, безоружный перед этим обая-
нием, свою поэтическую отповедь ему смог начать лишь как отече-
скую укоризну: "Дитя, чьи кудри - лен, чье сердце - мягкий
воск..."
А иной любит тайно и трудно, мучимый гордостью и боязнью от-
пора, льстит редко и скупо, дань приносит с независимо надменным
видом, легко осекается и умолкает, замыкая в сердце порыв, - и она
взирает на него с уважительной опаской, и охотней улыбается тем,
кто открытей и смелей, и только много позже, уже поседев, раскры-
вает заветные ларцы, перебирает забытые листы, смотрит на них
изумленным, умудренным старостью взором и с запоздалой горькой
нежностью повторяет: "А ведь тут он был прав... и тут... и тут..."
Таков удел Виньи.
Во французскую литературу Альфред де Виньи вошел в нача-
ле 20-х годов XIX в. вместе с Ламартином, Сент-Бёвом, Гюго,
и на первых порах проблема признания и славы отнюдь не стояла
72
остро. Это была романтическая юность Франции, сообщество едино-
мышленников, соперничающие друзья, любящие соперники, полные
решимости открыть для французской литературы новые пути. Отча-
сти эти пути уже были намечены в начале века Жерменой де Сталь,
Шатобрианом, Сенанкуром, Констаном; младшее поколение все по-
следовательней утверждает новую романтическую поэтику, объеди-
няясь в борьбе с влиятельным противником - давней и прочной вла-
стью классицистических канонов и форм.
Так что поначалу лавровый венок свободно переходит поочеред-
но от одного к другому, в начале 30-х годов в эту когорту уже про-
славленных имен естественно вливаются имена Мюссе и Готье,
и наш герой - Виньи - не уступает пока никому из них ни энерги-
ей, ни усердием. На этот период, охватывающий немногим более де-
сятка лет (1822-1835), приходится публикация наиболее известных
его произведений: стихотворений, выходящих тремя сборниками, ис-
торического романа "Сен-Map", повествовательных циклов "Стел-
ло" и "Неволя и величие солдата", комедии "Отделалась испугом",
драм "Супруга маршала д'Анкра" и "Чаттертон".
Но вот странность: после 1835 г. Виньи как бы уходит со сцены -
почти на три десятка лет! В то время как старые и новые собратья
по перу продолжают, что называется, "активно работать", Виньи
лишь изредка, с большими интервалами, публикует отдельные сти-
хотворения и поэмы. Да и в них он все настойчивей повторяет свою
излюбленную мысль, отлившуюся в 1843 г. в знаменитую формулу
из стихотворения "Смерть волка": "И знай: все суетно, прекрасно
лишь молчанье"1. Нет, имя его не совсем забыто, оно даже окруже-
но почетом, о чем свидетельствует избрание его во Французскую
академию в 1845 г. Но это уже холодноватая слава живого класси-
ка, собственного монумента.
Виньи как бы выключается из атмосферы эпохи. Немногие пуб-
ликуемые им поэмы - три в 1843 г., две в 1844 г., одна в 1854 г. -
носят обобщенно-символический, философский характер, и по его
распоряжению они в посмертном сборнике 1864 г. будут объединены
под всеохватным названием "Судьбы". И все-таки это не просто
уход в отвлеченную абстракцию. Поздний Виньи, с его молчанием
и редким словом, предстает как поэт не исписавшийся, а высказав-
шийся; он не хочет ни повторяться, ни искать непременной новизны;
в этих поэмах он претендует на воплощение неких самых общих,
конечных формул человеческого бытия, которых немного; и потому
в них, как в завете, преобладают назидательно-пророческий тон
и афористический стиль. Легко упрекнуть его в непомерности при-
тязания, в мессианской гордыне, но легко и парировать этот упрек
напоминанием о том, что Виньи - романтический поэт. Он живет
уже в обществе не современников, а потомков, к ним он обращается
Стихотиорпши Виньи цитируются и перепадах Ю.Б. Корптш.
/1. de Виньи 73
поверх всякой злободневности момента, и одна из последних его по-
эм называется "Бутылка в море". Символика ее проста: как моряки
во время кораблекрушения бросают запечатанную бутылку в море,
так и поэт оставляет грядущим поколениям скрижали своих заветов,
оставляет наудачу - а вдруг услышат, а вдруг прочтут.
В литературной судьбе Виньи специфическим образом наложи-
лись друг на друга обстоятельства индивидуальной биографии и эпо-
хи. Он формировался как человек и поэт в эпоху Реставрации,
когда и во Франции, и во всей Европе после крушения наполеонов-
ской империи монархи Священного союза вознамерились вернуть
былые порядки, власть и авторитет аристократии и церкви, ниспро-
вергнутые буржуазной революцией 1789 г. Идеи монархизма, леги-
тимистского традиционализма и религиозного смирения стали мо-
дой, и этой моде оказались легко подверженными прежде всего ро-
мантики, с их резким неприятием буржуазности, с их комплексом
ностальгической тоски о прошлом как о некоем потерянном рае;
с этих идей начинал в 20-е годы и Гюго, будущий пламенный адво-
кат "отверженных". Юный граф де Виньи, наследник старинного,
гордого своими воинскими традициями аристократического рода,
вступивший шестнадцатилетним в июле 1814 г. в кавалерийскую
гвардию свежекоронованного монарха Людовика XVIII, как нельзя
более годился в символы этого духа эпохи - высокородный поэт-ка-
валергард, служитель муз и трона.
Этот образ надолго запечатлелся в памяти и современников и по-
томков, критики и историки литературы тщательно фиксировали
всякие проявления аристократизма именно как классовой позиции
в творчестве Виньи, к поэту непременно примысливался граф, и да-
же там, где попросту проявлялся благородный дух, подразумевалась
еще и благородная кровь. Виньи стал в значительной мере символом
"аристократического романтизма".
Между тем эта роль, если и тешила тщеславие молодого Виньи,
с самого же начала ощутимо его тяготила, и вся его творческая
жизнь была в известном смысле преодолением этого клише, высво-
бождением из-под его диктата. Даже в ранних своих произведениях
первой половины 20-х годов он нигде не вставал на сугубо классо-
вую точку зрения, и в то время как молодой Гюго, повинуясь пове-
трию роялизма, воспевал "мучеников Вандеи", погребение Людови-
ка XVIII и коронацию Карла X, Виньи уже в поэме "Траппист"
(1822) идею верноподданнического служения королям неразрывно
сопрягал с идеей королевской неблагодарности, вероломного монар-
шего предательства. Служба в королевских войсках, эта дань родо-
вой славе, досаждала ему все больше и больше, с 1825 г., он, поль-
74
ДЕВИНЬИ-
АКАДЕМИК
k №!*»>*)
ДЕВИНЬИ
1832
ДЕВИНЬИ-
РЕЕЕНОК
ГОРОД ЛОШ
ДЕВИИЬИ-
ОФИЦЕР
nk (%9 (ф <4& А 4 4 (4 4 4 4 4 4
c?j£ Jfh Jfb <У£Ъ <3fb <)fb o5!fc Jfb <?fb vT*» *&* «T^ <*J^
зуясь предлогом сватовства и женитьбы, пребывает в регулярно про-
длеваемых отпусках - вплоть до окончательной отставки в 1827 г.,
и когда он позже будет осмыслять эту "героическую" эпопею своей
юности, он прославит не плеск знамен, не фанфары побед, а "нево-
лю н величие" простого служаки-солдата.
Виньи дебютировал в эпоху Реставрации, но не был связан с нею
душой. В 1830 г. он прямо назвал режим Реставрации "антинацио-
нальным". Революцию 1830 г. он, правда, встретил в растерянности,
восставший народ его и впечатлил и устрашил, но в эти бурные дни
многое в его исторической этике окончательно встало на свои места:
в дневнике он восхищается поступком офицера, который пустил се-
бе пулю в висок, чтобы не стрелять в народ, а поспешное бегство ко-
ролевского двора, оставившего на произвол судьбы своих подневоль-
ных защитников-солдат, он в том же дневнике откомментировал
с презрительным гневом: "Порода Стюартов!"
Все не так просто в творческой биографии "графа де Виньи".
В литературе он был не графом, а поэтом, и все его откровения и за-
блуждения идут в первую очередь на этот счет.
Первые шаги Впньп в литературе связаны с лирикой. Здесь
он идет в ногу со временем. Начало 20-х годов ознаменовано
во Франции бурным расцветом лирических жанров, и это не случай-
но. Только что отгремевшая эпоха революционных потрясений и на-
полеоновских войн не благоприятствовала развитию лирики - слиш-
ком громко говорило оружие. Виньи вспоминал позже: "К концу им-
перии я был рассеяным лицеистом. Война царила надо всем в лицее,
барабан заглушал для нас голоса учителей, и таинственный голос
книг обращался к нам на языке, казавшемся всего лишь холодным
и педантичным... Никакое размышление не в силах было завладеть
надолго головами, беспрерывно оглушаемыми громом пушек и зво-
ном колоколов". Крушение наполеоновской империи дало француз-
ским литераторам на первых порах иллюзию относительного зати-
шья, возможности "перевести дух", сосредоточиться - настала пора
"размышлений", и именно так озаглавил в 1820 г. свою первую кни-
гу элегических стихов Ламартин, открывший тем самым эпоху ро-
мантической лирики во Франции.
Через два года выступили со своими поэтическими сборниками
и двое других начинающих романтиков - Гюго и Впньп. Но если мо-
лодой Гюго еще во многом связан с декламационно-риторической па-
тетикой классицизма, то Виньи, как и Ламартин, обращается к по-
зиции сосредоточения и самоуглубления, по видимости, отстраняет
от себя всякую злободневность - его лирический герой выясняет
свои отношения не столько с веком, сколько с мирозданием, истори-
ей, творцом и судьбой.
Но этот герой, в отличие от ламартпновского, не обнаженно-ин-
тимен, а объективирован, эпичен; если тот по преимуществу говорит
от имени своего "я", то этот не склонен к непосредственному само-
76
излиянию. Он, как правило, облачен у Виньи в мифические или ис-
торические одежды. Поэт будто рассказывает притчу, и, как в прит-
че, действие предельно скупо, но зато оно глубоко драматично и все-
гда устремляется к выразительной, афористической развязке, одно-
временно и символической и глубоко личной. От эпики через драма-
тизм к лирической символизации - таков поэтический канон Виньи
в его лучших стихотворениях. Все бури и страсти романтической
эпохи ведомы Виньи, но особенность его поэзии в том, что он хочет
видеть эти страсти "обузданными", закованными в броню дисципли-
нированной формы. Это соответствует и столь характерной для Ви-
ньи этике стоического молчания, мужественной сдержанности. Ро-
мантизм Виньи - самый строгий среди художественных миров фран-
цузских романтиков. Об этом постоянном стремлении поэта к само-
дисциплине и системе прекрасно сказал современный французский
исследователь: "Ламартин поет, Гюго фантазирует. На долю Виньи
остается композиция"2.
В рамках этой строгой системы и пульсирует лирическое "я" Ви-
ньи, вполне по-современному, по-романтически смятенное и рани-
мое. Его герой велик духовно, он возвышен над обыкновенными
людьми, но избранничество давит его, ибо становится причиной ро-
кового одиночества. Среди ранних стихов это тема "Моисея", среди
поздних - "Гефсиманского сада". На этих холодных высотах ему ос-
тается только вопрошать творца о смысле своего избраннического
удела, но творец безучастен и безмолвен, он равнодушно взирает
не только на муку избранника, но и на несчастья всего человеческо-
го рода. Так возникает сквозная для Виньи тема богоборчества - те-
ма, которой он в немалой степени обязан Байрону и которая наряду
со многими другими резко отделяет его от официальной идеологии
Реставрации. Уже в одном из первых своих стихотворений он воз-
мущается "кровожадностью" бога ("Дочь Иеффая"), его мучит воп-
рос о том, как мог "благой" и "всемогущий" творец допустить стра-
дания человечества и, если он их допустил, так ли уж он благ и все-
могущ. Логику этого бунта Виньи склонен додумывать до конца:
в своем дневнике он даже взвешивает возможность того, что Страш-
ный суд будет судом не бога над людьми, а людей над богом.
В этой ситуации - перед лицом непроницаемого равнодушия
творца - и оформляется у Виньи этика преодоления страдания, ос-
нованная на стоической философии. Уже приводились выше его сло-
ва о молчании в "Смерти волка"; другая классическая формула да-
ется в "Гефсиманском саде":
Пусть пранединк смирит презрением страданье.
И будет пусть его холодное молчанье
Отпетом печному молчанью божества.
2 Viallaneix Р. Alfred de Vi«ny Vigny A. (Euvres completes. Р., 1935. Р. 7.
А. de Виньи 77
Эта экзистенциальная боль дополняется и чисто земным страда-
нием - там, где герой Виньи с высот мифологии опускается в сферу ре-
альной истории (поэмы "Тюрьма", "Траппист", "Рог"). Общая концеп-
ция истории у Виньи, особенно на этом раннем этапе, столь же пес-
симистична: земное бытие человека предстает как более частный ва-
риант всеобщей, космической "тюремности" человеческого удела.
Наиболее полно историческая концепция Виньи развернута и ар-
гументирована в его первом крупном прозаическом произведении -
романе "Сен-Мар" (1826), и к ней стоит приглядеться внимательней:
она оказывается глубже, чем запечатленное в ранних стихах весьма
суммарное - и не столь уж оригинальное - представление о вечном
круговороте и нескончаемой цепи человеческих страданий.
Именно роман "Сен-Мар" рассматривался очень часто - и тон
тут задала французская критика - как одно из ярчайших свиде-
тельств "аристократизма" Виньи, регрессивности его исторических
представлений и идеалов. В самом деле, сюжет провоцирует на та-
кое толкование: герой романа, безусловно пользующийся симпатией
автора, возглавляет мятеж французской дворянской вольницы XVII в.
против централизаторской политики Ришелье и гибнет в этой борь-
бе, оплакиваемый и автором, и читателями.
Виньи в начале романа как будто полностью соответствует своей ро-
ли ретрограда: там другой его герой, маршал Бассомпьер, резко обли-
чает Ришелье за то, что тот искореняет старинную родовую аристокра-
тию, славу и гордость Франции, и тем самым ведет страну к погибели.
Пламенные инвективы Бассомпьера сразу укладывались в изна-
чальное представление о "графе де Виньи" - и уже властно вели
критику за собою, создавали вполне определенную перспективу вос-
приятия всего дальнейшего. То, что это говорит все-таки лишь герой
романа, а не автор, не принималось во внимание - и роман в значи-
тельной мере пал жертвой оптической иллюзии.
Между тем такой концепции противоречат реальные сюжетные
факты. Например, Сен-Мар в конце романа идет на эшафот вовсе
не как возвеличиваемый автором мученик за идею, а как человек,
глубоко сознающий свою вину и воспринимающий казнь как заслу-
женную господнюю кару. Мученики идеи так не умирают. Тут впо-
ру скорее утверждать, что Виньи осуждает аристократический мя-
теж! Далее. Сен-Мар ввязался в политическую борьбу из соображе-
ний сугубо личных, интимных, а отнюдь не классово-политических:
он, обыкновенный провинциальный дворянин, влюбился в принцес-
су крови, и он считает своим долгом прославиться, возвыситься при
дворе, чтобы стать достойным своей дамы сердца. Более того, увя-
зая все глубже в политических интригах, доходя до прямой измены
родине (когда он пытается привлечь на сторону мятежников испан-
ские войска), Сен-Мар единственное оправдание себе видит в своей
любви ("Клянусь всем святым, мои намерения чисты, как небеса!"),
это ей он все приносит в жертву, и Виньи тоже склонен именно
78
за эту романтическую любовь многое простить своему герою. Он ес-
ли и идеализирует его, то прежде всего как романтического возды-
хателя, а не как борца за интересы аристократической оппозиции.
История Сен-Мара, таким образом, вся вращается вокруг проб-
лем в первую очередь этических, предстает как история вины, воз-
можности ее оправдания и искупления.
Но, с другой стороны, в чем виноват Сен-Map? Его главный про-
тивник, Ришелье, изображен как расчетливый и жестокий злодей,
виновник массовых убийств, ненавидимый всей Францией. Что пре-
досудительного в бунте против такого человека? Этот бунт предста-
ет как возмущение нравственной личности против личности принци-
пиально безнравственной. Не здесь ли запрятана симпатия Виньи
к реакционным силам истории и антипатия к Ришелье как объедини-
телю государства под эгидой абсолютной монархической власти?
Но тогда снова встает вопрос: если Виньи хотел прославить дворян-
ский мятеж, зачем ему было для этого избирать героя виновного
и кающегося? И снова: в чем виновного? Всякая попытка интерпре-
тации конфликта в однозначно-классовых категориях обрекает
мысль вот на такое бесконечное вращение по кругу, если мы хотим
при этом еще и оставаться верными сюжетной логике. А это и озна-
чает, что сюжетная логика здесь попросту иная, она "не о том". Ви-
ньи не изображает здесь столкновение сил прогресса и реакции,
не становится сам на ту или иную сторону. Для него главное не это.
Он рассказывает здесь историю единичного, "простого" челове-
ка, в какой-то момент оказывающегося втянутым в водоворот исто-
рических событий. Тут он как будто непосредственно следует Валь-
теру Скотту - так строил свои исторические романы "шотландский
чародей"; но тут же, сразу же начинается и внутренняя полемика
Виньи со скоттовской традицией.
В романах Скотта история, как правило, развивалась по поступа-
тельной линии, к конечному благу человека и нации, и сами их сча-
стливые концовки имели великий примирительный смысл, ибо при-
званы были - по сути средствами своеобразной художественной сим-
волики - уравновесить громадное трагедийное напряжение в "обще-
ственной" линии сюжета и примером единичного, "приватного" сча-
стья подкрепить идею конечного блага общественного. В концепции
же Виньи всякое прикосновение к истории пагубно для индивида,
ибо, во-первых, ввергает его в бездну неразрешимых нравственных
конфликтов и, во-вторых, неминуемо приводит его к гибели. Сен-
Мар был счастлив и невинен в своей провинциальной глуши, в ат-
мосфере "мирных нег и дружбы простодушной"; но стоило ему всту-
пить в "завистливый и душный" мир "света", большой политики -
и он оказался в водовороте преступлений и вины. Он теперь - борец
против "кровожадного" Ришелье, но он же и изменник родины;
он верный своей любви рыцарь, но он же и "лукавый царедворец",
организующий кровопролитный бунт для достижения личной цели.
Л. де Виньи 79
Сен-Map предал изначальную чистоту своей души и тем самым отя-
готил себя виной. Он-то думал, что его любовь к Марии Гонзага -
уже достаточное оправдание его политических амбиций, что жесто-
кость Ришелье дает ему оправдание дополнительное. Оказывается,
нет. Цель далеко не всегда оправдывает средства.
Как видим, для Виньи понятие истории почти тождественно по-
нятию политики, даже политиканства; этот аспект - для истории все-
таки достаточно частный, более узкий - у Виньи оказывается доми-
нирующим. Такая концепция истории делает его историзм, в отли-
чие от скоттовского, гораздо более романтически-субъективным.
В историческом конфликте, изображенном в "Сен-Маре", нет пра-
вых сторон; есть только расчетливая и, по убеждению Виньи, эгои-
стическая в своей основе игра честолюбий государственно-политиче-
ского (Ришелье, Людовик XIII) или личного (Сен-Мар).
Еще более обнаженно эта проблематика будет представлена
в драме "Супруга маршала д'Анкра" (1831). В "Сен-Маре" на сто-
роне героя было все-таки его неизмеримое нравственное превосход-
ство над Ришелье. Во всей романтической драме Франции (у Гюго,
у Дюма), как правило, сталкивались принципы добра и зла, вопло-
щаемые в соответствующих персонажах. В драме "Супруга маршала
д'Анкра" схватываются в борьбе.за место у трона две равно безнрав-
ственные придворные партии - "фаворит низлагает фаворитку".
По традиции, основание которой положила позитивистская фран-
цузская критика второй половины XIX в., отрицавшая романтизм, ис-
следователи судили эту драму Виньи весьма сурово, упрекая ее в ис-
кусственности интриги, мелодраматичности ситуаций, психологиче-
ском неправдоподобии характеров, свободном обращении с историче-
скими фактами - странным образом ей ставилось в вину то, что было
сутью и художественной формой французской романтической драмы
вообще, как жанра. Виньи и здесь оказывался в тени других, более
счастливых своих коллег, мастеров такой драмы - Гюго и Дюма-отца.
Но если судить драму Виньи по законам именно того жанра,
к которому она принадлежала, она оказывается весьма интересным
его образцом, и в ряду пьес Гюго и Дюма, разделяя с ними все их до-
стоинства и все их условности, она отнюдь не теряется, не тускнеет.
Напротив, в ней есть еще и некий остаток, выделяющий ее из этого
ряда, придающий ей особое, неповторимое лицо.
Надо сказать, что Виньи, вступая на драматургическое поприще,
с самого начала остро ощущал условность романтической историче-
ской драмы в той ее форме, которая к этому времени уже была пред-
ложена Дюма и Гюго. Как и другие романтики, он непререкаемым
образцом считает драматургию Шекспира (в конце 20-х годов он ра-
ботает над переводами "Ромео и Джульетты", "Отелло" и "Венеци-
анского купца"); но, в отличие от своих романтических собратьев,
он учебу у Шекспира воспринимает гораздо серьезнее. Гюго-драма-
тург, при всем его преклонении перед Шекспиром и при всей его
бурной полемике с классицистическим театром, в конечном счете го-
раздо более органически был связан с этим последним; ниспровергая
одни его каноны, он прочно держался других, особенно в первых
своих пьесах конца 20-х - начала 30-х годов: расшатывая традици-
онный александрийский стих "изнутри", он все же сохранял его как
непременную стилистическую форму своих ранних драм, равно как
и сохранял - при всех романтических заострениях - конфликт чув-
ства и долга, этот идейный каркас классицистической трагедии.
И герои драм Гюго, хоть они и раздираемы бурными противоречия-
ми, "контрастными" страстями, уже в силу самой риторической де-
монстративности, плакатности этих страстей существенно отдаляют-
ся от глубины и объемной пластичности шекспировских характеров.
Виньи, размышляя в предисловии к своему переводу "Отелло"
о драматургическом искусстве, ставит перед драматургом иную цель:
"...он создаст человека, но не как вид, а как личность (единствен-
ное средство заинтересовать человечество); он предоставит своим со-
зданиям жить их собственной жизнью..." Это, собственно говоря,
постулат уже не романтический, а реалистический! Позже, в 1839 г.,
он напишет в своем дневнике: "Драмы, а особенно драмы Гюго
и Дюма, чудовищно преувеличивают изъяны характеров, нравы
и язык страны и эпохи". Между этими двумя суждениями и лежат
собственные опыты Виньи в жанре драмы, первым из которых была
пьеса "Супруга маршала д'Анкра".
Разумеется, не следует "подтягивать" драму Виньи к реализму,
но не следует и недооценивать выразившийся в ней внутренний по-
лемический импульс по отношению к исторической драме романти-
ков. Современники это почувствовали: критик Гюстав Планш сразу
после постановки пьесы отметил, что Виньи "не столь вольно" трак-
тует историю, как Гюго и Дюма. И даже много позже, когда уже
давно упрочилась упоминавшаяся выше позитивистская традиция
негативного восприятия драмы, исследователь Эмиль Ловриер, упре-
кая Виньи за прегрешения против исторической истины и за модер-
низацию истории, все же не смог не отметить, что эта драма, "впро-
чем, намного менее романтична, чем драмы Гюго и Дюма, видевших
в истории только имена и костюмы"3.
Думается, суровость критики по отношению к этой драме не в по-
следнюю очередь объясняется тем, что она рассматривалась на фоне
других драм Виньи, гораздо более новаторских (тот же Ловриер
справедливо заметил, что "Супруга маршала д'Анкра" - "самая ро-
мантическая из оригинальных драм Виньи"). Драматурга тут мери-
ли как бы его собственными мерками, которые оказывались более
высокими. Но, повторим, новаторство Виньи ощутимо уже и здесь.
Виньи отдает немалую дань романтической патетике роковых
страстей (прежде всего в образах Борджа и Изабеллы), но, во-первых,
3 Lauvriere Е. Alfred de Vijjny. Sa vic et son oeuvre. Р., 1945. Т. 1. Р. 232.
А. de Виньи 81
он как бы страхует себя от "чудовищного преувеличения" тем, что
эти страсти связывает с персонажами-корсиканцами, у которых они
все-таки не столь неожиданны; во-вторых, он стремится и здесь
по возможности углубить характер, сделать его психологически
правдоподобным. Еще большей выразительности он добивается
в изображении французских дворян, окружающих трон, - поверхно-
стных, циничных, лицемерных, продажных. Борджа неспроста на-
зывает их "ветреными французами" - они составляют естественный
контраст главным героям с их "корсиканской" силой чувства и ха-
рактера. В самом стиле драмы - сжатой, нервно-торопливой прозе -
ощущается стремление уйти от чрезмерной патетичности к большей
естественности. Виньи достаточно чувствителен к речевой характери-
стике персонажей - это для него уже серьезная, сознательно решае-
мая художественная проблема, и его корсиканцы говорят иначе,
чем французы, а слесарь Пикар - иначе, чем его соотечественники-
аристократы.
Но самая большая победа Виньи - в характере главной героини
драмы и в интерпретации ее судьбы.
Как и Сен-Map, госпожа д'Анкр в свое время тоже предала свою
"простодушную" юность, поддалась искушению богатства и влия-
ния: пылкая, любящая п добрая итальянка Леонора Галпгап стала
"супругой маршала", властолюбивой фавориткой при французском
дворе, и Виньи последовательно обыгрывает психологически эти две
ипостаси образа. Чувствуя, что над нею и ее мужем сгущаются ту-
чи, г-жа д'Анкр просит его умерить своп притязания, свою жад-
ность, не искушать судьбу; но он вырывает у нее очередную уступ-
ку, играя на ее материнских чувствах, убеждая ее, что они тем вер-
нее обеспечат будущее своих детей; и когда он восхищается ее реши-
мостью - ведь она только что так колебалась! - он слышит в ответ:
"Дрожала Леонора Галигаи; супруга маршала д'Анкра чужда коле-
баний". Игра повторяется в конце драмы. Уже арестованная, уже
обвиненная в тяжких преступлениях, в том числе и в колдовстве,
г-жа д'Анкр просит де Люина, своего главного врага, позволить
ей еще раз увидеться с детьми, обещая взамен признать справедли-
вость всех возводимых на нее обвинений; она предлагает это как от-
кровенную сделку, тем самым давая ему понять, что никакой естест-
венной человечности она от него не ожидает. Де Люпн, уязвленный
\\ взбешенный этой невозмутимой гордыней, устраивает ей свидание
с детьми, но оформляет его как иезуитски утонченную пытку. Она вы-
держивает ее с тем же "дерзким хладнокровием", только тайно берет
с сына клятву отомстить и еще, "понижая голос", просит его помо-
литься за нее, ибо она собирается умереть с ложью на устах. Это все
говорит мать, жена, богобоязненная итальянка Леонора Галнгап;
а вслед за этим она ("громко", как гласит ремарка) признает себя ви-
новной в оскорблении величества, святотатстве и колдовстве - п это
уже говорит "неколебимая", гордая "супруга маршала". Она выпол-
82
пяст условия сделки и, таким образом, сама - она сама, а не Люпн! -
приговаривает себя к костру. Она торжествует над своим врагом.
Знаменитую романтическую поэтику контрастов Виньи стремит-
ся оживить, расшатывая ее ожесточенный схематизм, смягчая ее "не-
истовость". В г-же д'Анкр эти две ипостаси не воюют друг с другом,
а как бы дополняют одна другую: перед нами душа не раздираемая
противоречивыми страстями, а вибрирующая, переливающаяся от-
тенками чувства. Гордость и властность "маршалыип" коренятся
и в ее корсиканском характере, они не только следствие се высоко-
го положения, но и оружие, которым Леонора Галигаи, презираемая
и ненавидимая здесь "чужачка", "выскочка", обороняется от своих
врагов. С другой стороны, Леонора Галигаи, любящая своих детей
и раздающая деньги парижской бедноте, не перестает быть "мар-
шальшей", обеспечивающей детей богатством и подкупающей народ
на случай, если понадобится его поддержка. Искренность живет
в ней рядом с расчетливостью, мечта об "Италии, мире, покое" - ря-
дом с тщеславным упоением своей властью здесь, в Париже. Сама
проблема сердечного выбора героини лишена категорической одно-
значности - Леонора сохранила в своем сердце любовь к Борджа, но
она знает и свой долг по отношению к мужу, отцу своих детей, да-
же если он - ничтожный и лживый Кончинп; она чувствует себя обя-
занной быть с ним заодно, ибо ее гордость не позволит ей быть трус-
ливой предательницей по отношению к человеку, с которым ее свя-
зывает общая судьба и вина. Надо было обладать немалым психоло-
гическим чутьем, чтобы создать такой образ.
Но важно в этой драме еще и другое - сама суть ее главного кон-
фликта. Как уже было сказано, здесь нет распределения на партии до-
бра и зла. За добычу у трона дерутся п те и другие. Между тем мы
закрываем драму с четким ощущением того, что образ госпожи д'Анкр
озарен несомненным ореолом величия, что Виньи рассчитывал на на-
ше сочувствие героине. Это не только потому, что она так царственно
встретила смерть и еще приняла ее как кару п искупление. Трагиче-
ская молния блеснула уже раньше - в момент ареста, когда героиня,
одновременно и проиграв и прозрев, подвела всему четкий итог: "Что,
собственно, произошло? Сегодня фаворит низлагает фаворитку, вче-
ра было наоборот. Вот и все". А гром грянет в сцене вынесения при-
говора, когда осужденная, глядя каждому из судей в лицо, отвергнет
всякую правомочность "фаворитского" суда над нею. Да, она не луч-
ше своих палачей, она тоже "пала", пожертвовав чистотой души ра-
ди власти, но не им ее судить. Именно здесь она обретает у Виньи
статус трагической героини, своеобразное жертвенное величие -
и в соседстве с невольником любви и чести Сен-Маром поднимается
уже в надысторпческий, надвременной ряд - как символ индивидуаль-
ной судьбы, раздавленной колесом истории, ее неумолимой логикой.
Здесь уместно бросить взгляд на атмосферу, в которой создава-
лись эти произведения и эта концепция истории. Еще на памяти
Л. де Виньи 83
Виньи и его поколения было то время, когда Наполеон перекраивал
карту Европы, одаряя своих - тоже, кстати, корсиканских! - роди-
чей специально для этого созданными новыми королевствами; "за-
конные" монархи Реставрации, устранив "узурпатора", начали зано-
во перекраивать карту по своему вкусу. Одним из символов этого
беззастенчивого пользования плодами власти, этого "дележа добы-
чи" (метафора другого французского поэта той поры, Огюста Бар-
бье) стал всесильный министр Талейран, удержавшийся на поверх-
ности при всех сменявшихся во Франции режимах - от республики
через империю и Реставрацию к Июльской монархии.
Европейские писатели с растерянностью и гневом взирали на эту
вакханалию политиканства. Одновременно с "Супругой маршала д'Ан-
кра" в соседней стране, Германии, вышла драма Граббе "Наполеон,
или Сто дней", прямо направленная против режима Реставрации.
Граббе вложил в уста своего заглавного героя - в момент роковой для
него битвы при Ватерлоо - такие слова: "Вон вражеские войска рвут-
ся вперед с торжествующими кличами, они думают, что сейчас будет
уничтожена тирания и завоеван вечный мир, что они возвращают че-
ловечеству золотой век. Глупцы! Вместо одного великого тирана, как
они изволят меня называть, они очень скоро получат кучу мелких...
вместо золотого века придет очень земной, половинчатый, мелоч-
ный, лживый; уже не будет слышно о великих битвах И героях, за-
то что ни день будет слышно о дипломатических ассамблеях и госу-
дарственных визитах, о комедиантах, скрипачах и оперных шлю-
хах". Исторические произведения Виньи надо прочитывать на этом
фоне, и тогда они тоже, при всей их внешней "отдаленности", ока-
жутся внутренне оппозиционными режиму Реставрации.
Помимо этого, нравственное измерение, постоянно сохраняемое
писателем, придает его исторической концепции особого рода глуби-
ну и остроту. Прогресс в истории неприемлем для Виньи не сам
по себе - он неприемлем для него из-за цены, которую предлагают
за него такие "орудия" прогресса, как Ришелье. В знаменитой сцене
молитвы Ришелье в "Сен-Маре" кровавый первый министр как раз
и претендует на то, чтобы господь на своем суде отделял "Армана
де Ришелье" от "министра" (снова игра с ипостасями!): это министр
на благо государства и его прогресса совершал злодеяния, о которых
сожалел человек по имени Арман де Ришелье. Сожалел, но иначе
не мог. Виньи восстает против кардинальской двойной бухгалтерии.
Он не согласен ни на секунду забывать ни об одной человеческой
судьбе, которую Ришелье принес в жертву пусть даже и благой идее
единой и сильной Франции.
Позже Жорж Санд, размышляя на сходную тему в романе "Гра-
финя Рудольштадт" (1844), обратится с такой речью к "завоевате-
лям и властелинам": "Напрасно порабощаете вы целые народы сво-
им сверкающим оружием: даже люди, наиболее ослепленные бле-
ском вашей славы, все равно упрекнут вас в истреблении одного-
84
единственного человека, одной-единственной травинки, хладнокровно
загубленных вами. Муза истории, еще слепая, еще неуверенная, гото-
ва допустить, что в прошлом бывали преступления необходимые и за-
служивающие оправдания, но неподкупная совесть человечества проте-
стует против своих собственных ошибок и порицает хотя бы те престу-
пления, которые ничем не послужили успеху великих начинании".
Жорж Санд, как видим, диалектична. "Неподкупная совесть че-
ловечества" все-таки готова считаться у нее с "успехом великих на-
чинаний". Виньи более категоричен. Бескомпромиссный нравствен-
ный ригоризм запрещает ему трезво взвешивать и исторические за-
слуги абсолютизма как принципа централизованной власти. В выс-
шей степени знаменательно, что аристократ Виньи, по инерции "на-
следственности" еще полагающий в это время, что дворянское про-
исхождение связывает его долгом верноподданничества, создает про-
изведение, объективно идущее вразрез с официальной монархиче-
ской идеологией Реставрации. Здесь особое значение приобретает,
в частности, образ безвольного, неумелого и лживого Людовика XIII,
такого же венценосного предателя, как и король в "Трапписте". Виньи
предварил в данном случае те антимонархические настроения, кото-
рые поднялись на исходе эпохи Реставрации и не в последнюю оче-
редь определили проблематику французской исторической прозы
и драматургии.
Для выяснения окончательного отношения Виньи к идее истори-
ческого прогресса чрезвычайно важно.также осознать, что в своем
протесте против безнравственного политиканства он, преодолевая
романтически-обреченное одиночество, апеллирует к знаменательно-
му союзнику. Есть в "Сен-Маре" чрезвычайно сильная, "ударная"
сцена: в момент своего триумфа над противниками Ришелье направ-
ляет взоры поверх раболепно склоненных голов придворных на тем-
неющие на площади массы народа и ждет, жаждет, как последней
санкции, приветственного гула оттуда. Но санкции не дается, народ
безмолвствует. Еще Мирабо в свое время сказал: "Молчание наро-
да - урок королю". Так и у Виньи - последнее слово в истории еще
не произнесено. Победы королей, министров, фаворитов - не побе-
ды народа; эта мысль проходит и сквозь всю драму "Супруга мар-
шала д'Анкра" - в линии слесаря Пикара и его ополчения - и за-
вершается удивительной сценой, состоящей всего из одной двухслов-
ной реплики: после всех бурных перипетий дворцового переворота,
после того, как победившая партия уходит на поклон к королю,
на улице остаются, как гласит ремарка, "Пикар, народ", и Пикар
спрашивает: "А мы?".
Представление о народе как о высшем судии, ждущем своего ча-
са, подспудно присутствует и в "Стелло" (в образе канонира Блеро),
и в военных повестях цикла "Неволя и величие солдата", и в позд-
ней поэме "Ванда", отдающей дань благоговейного уважения муже-
ству декабристов и их героических жен. Это представление для
Л. де Виньи 85
Впньп принципиально. Петь в нем подчас и черты романтического
образа "патриархального", "здорового", "крестьянского" народа,
противопоставляемого городской "черни" ("Сен-Map"). Но уже
в "Супруге маршала д'Анкра" противопоставление знаменательным
образом расширяется в притче Пикара о винном бочонке: в нем есть
осадок внизу ("чернь"), есть пена наверху (аристократия), по в се-
редине - "доброе вино", оно и есть народ. Именно с ним и связыва-
ется представление Виньи о прогрессе в истории. "Человек прохо-
дит, но народ возрождается", - говорит Корнель в "Сен-Маре".
"Во многих своих страницах, и, может быть, не самых худших, ис-
тория - это роман, автором которого является народ", - говорит сам
Виньи в предисловии 1829 г. к "Сен-Мару". Подобные настроения
были еще более стимулированы событиями Июльской революции,
во время которых Виньи окончательно распрощался со своими преж-
ними иллюзиями относительно долга служения королю; сразу вско-
ре после революции он записал в дневнике: "Народ доказал, что не
согласен терпеть дольше гнет духовенства и аристократии. Горе то-
му, кто не поймет его волн!" Сквозной, сюжетный характер народ-
ной линии в "Супруге маршала д'Анкра" - еще одно свидетельство
эволюции взглядов писателя. В это же время расширяется и само
классовое представление Виньи о народе: в поле его зрения входит
и рабочий класс, угнетенный городской люд (драма "Чаттертон").
События Июльской революции 1830 г., безусловно, обозначили
важный рубеж в творчестве Виньи, как и в истории всей француз-
ской литературы и, в частности, романтической ее ветви.
Июльская революция наглядно доказала анахронизм реставраци-
онной социально-политической системы. Закономерность буржуаз-
ного развития Франции, открывающегося революцией 1789 г., так-
же получила окончательное подтверждение. Но буржуазный строй
предстал не только как очередная ступень социального прогресса,
но еще и как система новых и не менее острых общественных проти-
воречий. Раздвоился сам лозунг демократии: самоотверженный геро-
изм народных масс во время революции, так впечатливший француз-
ских писателей - Стендаля, Гюго, Виньи, - посеял было иллюзии
о всенародном характере буржуазной демократии, но последовавшие
вскоре рабочие восстания уже не оставили сомнений относительно
того, что демократия для буржуа еще не есть демократия для трудо-
вого народа. Больше того, воцарилась и стабилизировалась именно
первая "демократия", и наиболее радикальные максималисты роман-
тизма - а максималистом был и Виньи - расценили это как оконча-
тельное крушение альтруистического романтического мессианства.
Естественно, что чем более современная реальность принимала
буржуазное обличье, тем ощутимее обострялся у Виньи и многих пи-
сателей его поколения последовательно романтический комплекс ан-
тибуржуазности как бунта человека духа, человека искусства против
посредственности и бездуховности.
86
На этой линии станет потом оформляться во французской поэзии
концепция "искусства для искусства", требование суверенности и са-
модостаточности искусства, его полной независимости от каких
бы то ни было социальных задач. Виньи такой логике следовать не
хочет. Он сначала должен в полной мере осмыслить для себя саму
проблему места художника в обществе. Она и становится одной
из главных тем его творчества на новом этапе. Прежний "объектив-
ный" Виньи уступает место обнаженно субъективному - речь пошла
о собственном и кровном.
Виньи честно пытается взвесить те возможности, которые открыва-
ет для искусства Июльская революция. - и не просто для искусства,
но и для его социально-преобразовательной роли. Он сближается
на какое-то время с сен-симонистами, стремясь беспристрастно оценить
их доктрины, и это знакомство, как мы увидим, не остается для него
без последствий, реальность установившейся буржуазной монархии на-
полняет его все большим отвращением, призрак засилья буржуазной
посредственности все грозней обрисовывается перед его взором.
Наиболее искренним выражением этой глубокой внутренней рас-
терянности стала поэма "Париж" (1831) - своеобразный поэтиче-
ский итог размышлений над событиями Июльской революции. Пер-
воначальная конкретность суждений Виньи о роли народа, о роялиз-
ме как "политическом предрассудке" - суждений, высказанных не-
посредственно в революционные дни, - уступает место символически
обобщенному образу расколовшегося, бурлящего мира, хаоса, в ко-
тором ничто еше не ясно, все в брожении, взаимоотрицании. Виньи
не решается принять ни одну из идеологических систем, породивших
революцию и рождаемых ею, и сама надежда на прогрессивное дви-
жение истории, на возможное обновление человечества воплощается
теперь в абстрактно-символическом образе "вездесущих сала-
мандр" - превращений и возрождений в огненном котле.
Виньи изображает здесь революционный Париж, но одновремен-
но это и картина смятенной души самого поэта, его первая испо-
ведь - и патетическая увертюра к непосредственной постановке темы
"поэт и общество" в эпическом произведении, которое Виньи созда-
ет вслед за "Парижем" - в "Стелло" (1832). Эту книгу Сент-Бёв
в свое время верно охарактеризовал как последствие "социальной
лихорадки", охватившей Виньи в 1830 г. (и, добавим мы, адекватно
запечатлевшейся в экстатических видениях поэмы "Париж"). В XX в.
Фернан Бальденсперже, один из ревностных приверженцев и исследо-
вателей творчества писателя, конкретизировал ситуацию более чет-
ко: "Утверждение буржуазии у кормила власти усилило в нем отча-
яние, ощущение полной бесприютности - пробил час рождения
"Стелло"*. И действительно, в самом начале книги ее заглавный
Vigny А. (Euvrcs complfctes. Notes et eclaircissements de F. BaklensjXTtfer. Р.. 1935.
Vol. 9. P. 142.
A. de Виньи 87
герой с горечью говорит о незыблемости "бога Собственности"
и о тщетных попытках Способности поколебать его власть. Виньи
прибегает здесь к сен-симоновской терминологии: Сен-Симон в 1825 г.
включил в свое сочинение "Об общественной организации" главу под
названием "Доказательство способности французских пролетариев
хорошо управлять собственностью".
Результаты Июльской революции не оправдали надежд Сен-Си-
мона, ничто не изменилось, Собственность по-прежнему подавляет
Способность - на этой точке начинает Виньи. Но романтика Виньи
волнует в первую очередь, конечно, не судьба пролетария (хотя
он и о ней помнит и размышляет - в дневниках, в "Чаттертоне"),
а судьба поэта. Впрочем, он и тут немалым обязан Сен-Симону -
из его учения он берет идею значительности и полезности людей ис-
кусства в "общественной организации".
"Стелло" - роман-триптих: он объединяет истории трех реально
существовавших поэтов XVIII в., погубленных обществом: францу-
зов Жильбера и Андре Шенье, англичанина Чаттертона. Знамена-
тельна и форма соединения этих внешне совершенно самостоятель-
ных сюжетов: когда заглавный персонаж, во многом alter ego авто-
ра, в приступе почти уже безумного отчаяния ("лихорадка" фикси-
руется и здесь, болезнь - "синие дьяволы", белая горячка - предста-
ет и в переносном и в буквальном смысле) взвешивает для себя воз-
можность заняться политикой, чтобы избавиться от мучительного
одиночества, лечащий врач ("Черный Доктор") страстно и едко вы-
смеивает его - неприязнь к политике у Виньи сохранилась в полной
мере, если .^ еще больше ожесточилась. Доктор лечит Стелло имен-
но от этого "безумства"; в качестве своего рода "шоковой терапии"
он и рассказывает ему истории трех поэтов.
Взятый сам по себе, каждый из трех эпизодов оформлен как тяж-
кий обвинительный приговор конкретной социальной системе: фео-
дально-абсолютистской монархии (эпизод с голодной смертью
Жильбера), буржуазной "представительной монархии" (эпизод с са-
моубийством Чаттертона), системе якобинского террора, понимаемой
автором тоже как буржуазная (эпизод с казнью Андре Шенье).
Но в сумме, в системе эти эпизоды создают картину принципиаль-
ной бесприютности художника в любом социуме, его "вечного остра-
кизма". Поэта, говорит Черный Доктор, всесильная посредствен-
ность отвергала всегда - из зависти, из убеждения в его бесполезно-
сти, из боязни утратить свое всесилие. Трактовка проблемы приоб-
ретает тем самым явственные черты столь характерной для ортодок-
сального романтизма концепции непреодолимого двоемирия.
И в самой форме своей книги Виньи ближе всего подходит к тако-
му романтизму. Он называет "Стелло" романом, однако даже этот сам
по себе весьма свободный жанр получает у Виньи расширительно-воль-
ное воплощение. Со сквозными героями - Стелло и Доктором -
не связано никакого сюжета; во всяком случае, их дискуссия - сю-
жет трактата, а не романа. Три собственно сюжетных эпизода объе-
динены лишь общей идеей и представляют собой ее вариации - здесь
проступает принцип скорее не собственно литературный, а музы-
кальный, столь популярный в романтической прозе. С этой прозой
роман Виньи роднят и пронизывающая его стихия лиризма, и иро-
нические обертоны общей трагической мелодии, заставляющие
вспомнить гофмановские произведения о художниках.
Но если обращение к образу художника расковало романтиче-
ские потенции таланта Виньи, то дисциплинированная натура писа-
теля, его формотворческая воля все равно постаралась внести макси-
мум организации в кажущийся хаос: не случайна форма триптиха
(которая повторится потом в "Неволе и величии солдата"), не слу-
чайно четкое (строго по главам) размежевание двух планов - пере-
живаемого Стелло состояния и рассказываемых Доктором историй.
Виньи стремится заковать в возможно строгую форму самый роман-
тический, самый "текучий" материал - тему поэта, его вечного стра-
дания, его безумия, наконец.
Современники встретили роман Виньи с противоречивыми чувст-
вами. В частности, сен-симонисты осудили писателя за категорич-
ность в осуждении Робеспьера и Сен-Жюста, за то, что Виньи не со-
хранил должных пропорций в изображении их заслуг и заблужде-
ний. Виньи в самом деле не учитывает их заслуг. Но ведь в эпизоде
с Шенье речь идет о самых последних днях диктатуры Робеспьера,
и Виньи протестует прежде всего против казней, совершающихся
уже в порядке механической очередности, без разбора, без всякой
государственной надобности. Он изображает ситуацию, которую поз-
же, в 1889 г., Энгельс охарактеризовал так: "Что касается террора,
то он был по существу военной мерой до тех пор, пока вообще имел
смысл... К концу 1793 г. границы были уже почти обеспечены, 1794 г.
начался благоприятно, французские армии почти повсюду действо-
вали успешно. Коммуна с ее крайним направлением стала излишней;
ее пропаганда революции сделалась помехой для Робеспьера, как
и для Дантона, которые оба - каждый по-своему - хотели мира.
В этом конфликте трех направлений Победил Робеспьер, но с тех пор
террор сделался для него средством самосохранения и тем самым стал
абсурдом..."5. У Виньи изображена именно эта абсурдность: топор
гильотины висит над головами беременной женщины и юной девуш-
ки, почти ребенка, и падает на голову поэта. Против этого и проте-
стует Виньи, как протестовал в своей элегии "Андрей Шенье"
и Пушкин, навлекший на себя в 1826 г. гнев с другой стороны -
со стороны царской цензуры, принявшей пушкинские инвективы в ад-
рес палачей Андре Шенье за прямое обличение палачей декабристов.
Решая проблему "поэт и общество" в "Стелло", Виньи, как* мы
видели, абсолютизирует извечное одиночество и обреченность поэта
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 37. С. 127.
А. де Виньи 89
(Черный Доктор неспроста напоминает Стелло о том, что еще Платон
предлагал изгонять поэтов из государства). Поэзия объявляется несо-
вместимой с реальностью социального бытия человека, тем более бур-
жуазного бытия. Но если некоторые другие романтики, например Те-
офиль Готье, отворачиваясь от общественной практики как необратимо
буржуазной, приходят в это время (по крайней мере в теории) к отри-
цанию всякой социальной задачи искусства, то позиция Виньи в осно-
ве своей принципиально иная. Он чрезвычайно трагично пережива-
ет эту дилемму и, как истый романтик, склонен в самом деле считать
пропасть между поэтом и обществом непреодолимой; но он не может,
не хочет искать легкого утешения в идее самодостаточности искусст-
ва. И, видимо, не в последнюю очередь для того, чтобы уточнить,
четче выразить свою позицию, он через три года возвращается к этой
теме и снова берет судьбу Чаттертона, облекая на этот раз сюжет
в драматургическую форму. Так возникла драма "Чаттертон"
(1835) - одно из наиболее прославленных его произведений.
Драма поразила современников не только пронзительной искрен-
ностью чувства, но и новизной формы: Виньи практически отказы-
вается от всякой интриги, от хитросплетений сюжета, от столкнове-
ния бурных страстей - в драме как будто царит одна мелодия, и она
непритязательно проста и чиста. Виньи этим гордился. "Если 6 бы-
ло возможно придумать сюжет еще более простой, чем в моей пьесе,
я предпочел бы его", - написал он в предисловии к "Чаттертону"
и пояснил, что для изображения раненой души только и возможна
форма простая и строгая. После успешной премьеры драмы
он в письме к другу выражал свою радость по поводу того, что публи-
ка оценила в "Чаттертоне" "сугубо нравственную перипетию", "сюжет
лирический и философский". Виньи называет свою пьесу "драмой
мысли" - явно в противовес "драме действия"; и в самом деле, дра-
ма эта, столь глубоко романтическая по тону, стилю и сути, в то же
время бесконечно далека от канона бурной, остросюжетной, "неис-
товой" романтической драмы.
Возвращаясь к истории Чаттертона, Виньи по сравнению
со "Стелло" знаменательным образом перемещает и уточняет акцен-
ты. Речь уже идет не только и не столько об извечной, "родовой" об-
реченности поэта, а об обреченности его именно в буржуазном, даже
точнее - капиталистическом обществе. Вводя в драму сцену с рабо-
чими фабрики Белла, Виньи двояким образом конкретизирует проб-
лему: эта сцена не просто деталь, уточняющая чисто социальную то-
пографию пьесы; рабочие, для которых бездушный и жестокий
Белл, как и для Чаттертона, тоже хозяин, становятся собратьями
Чаттертона по судьбе, и тот еще определеннее приближается к ста-
тусу пролетария. Как и они, он бесправен в бездушной системе ка-
питалистической практики.
Но самое поразительное, пожалуй, здесь в другом уточнении ста-
туса поэта. Уже в "Стелло" Виньи защищал, строго говоря, не абсо-
90
лютную свободу "чистого искусства", а прежде всего элементарное
право поэта на существование (Эмиль Ловриер прекрасно охаракте-
ризовал "Стелло" как "декларацию прав поэта"). И уже там было
ясно, что поэт у Виньи - отнюдь не апостол "искусства для искусст-
ва": он не упивается красотою художественных форм, а ищет откро-
вения нравственных истин; не играет, а страдает. В "Чаттертоне"
и эта проблематика получает более углубленное толкование.
Напомним, что романтизм в его последовательном выражении
весьма склонен был настаивать на "неутилитарности" искусства -
в противовес буржуазному практицизму, принципу "пользы". Про-
тивопоставление Чаттертона промышленнику Беллу и лорд-мэру
Бекфорду в драме Виньи как будто бы и воплощает эту несовмести-
мость поэзии и "пользы". Но это лишь на самый поверхностный
взгляд. Виньи, по сути, стремится обосновать прямо противополож-
ную мысль - о необходимости совмещения обеих этих сфер. Ведь его
Чаттертон отнюдь не добивается легкой свободы вне общества; на-
против, он отстаивает свое законное право на существование в рам-
ках этого общества - и настаивает именно на полезности своего тру-
да. Конечно, полезность эта особого рода. В знаменитой притче Чат-
тертона, сравнивающей его страну, Англию, с кораблем, где каждый
член экипажа, сверху донизу, несет свою вахту, поэту отводится
роль отнюдь не праздного пассажира, как склонен полагать Бек-
форд: поэт, говорит Чаттертон после "выжидательного молчания",
призван "читать по звездам путь, указуемый нам перстом господ-
ним". Виньи и в предисловии к "Чаттертону" с нажимом высказыва-
ет свое убеждение в том, что поэты - гордость нации. Так что его
интересует не только "онтологический", но и социальный статус по-
эта; поэзия для него служение, а не богослужение, как для многих
ортодоксальных романтиков.
Здесь снова слышны отзвуки сен-симоновских идей - впрочем,
с существенным отличием. В утопической системе Сен-Симона и ху-
дожники, и промышленники дружно трудятся рука об руку на бла-
го общества. Виньи тут более трезв. "Я хотел показать, - говорит
он, - духовность, которая задыхается в материалистическом обществе,
в таком обществе, где жадный делец эксплуатирует разум и труд. Чат-
тертон - символ поэта, Белл и Бекфорд олицетворяют собой буржуа-
зию, которая ценит только промышленную деятельность и деньги".
Эта несоединимость двух представлений о пользе и образует соб-
ственно драматическое напряжение в "Чаттертоне". Герой Виньи
не заведомо отрицает мир, как многие романтические герои. Когда
он однажды восклицает: "Прав весь мир, кроме поэтов", - это
не просто очередной прилив отчаяния. Чаттертон искренне стремит-
ся понять мир, увидеть в мироустройстве разумные начала и апелли-
ровать к ним. Он даже честно пытался найти своим способностям
другое применение, но, увы, ни к чему другому не оказался пригод-
ным. Значит надо приносить ту пользу, какая в его силах. Англия
А. де Виньи 91
должна понять, зачем ей от него отказываться, какая ей польза
от его безделья? Он ищет логики. И когда Толбот спрашивает его,
отчего он обратился за помощью к Бекфорду, а не к нему, своему
приятелю и человеку состоятельному, он отвечает обезоруживающе
четким силлогизмом: "На мой взгляд, лорд-мэр - это правительство,
а правительство - это Англия, милорд; я надеюсь на Англию".
Но трагизм ситуации Чаттертона, по Виньи, в том, что его разум-
ность и разумность буржуазного миропорядка - две несоприкасаю-
щиеся системы, два разных языка. Даже когда этот мир хочет сде-
лать ему добро, он не умеет этого сделать. Толбот искренне предла-
гает ему меценатство, Бекфорд в меру своего разумения - и вовсе
не из издевки! - предлагает ему возможность заработка; они просто
не понимают, чего он хочет. И все его попытки разъяснить это тоже
тщетны - они наталкиваются даже не обязательно на недоброжела-
тельство, а на глухую стену непонимания. Вот собственный сюжет
этой драмы, вот ее конфликт, вот его перипетии.
Романтики представляли в своем творчестве самые разные вари-
анты двоемирия, несовместимости "наличного мира" и поэта, и идея
"разных языков" у них, конечно, подразумевалась; но Виньи, пожа-
луй, единственный, кто нашел именно для этой идеи чисто сюжет-
ное, драматургически-композиционное воплощение.
Герой Виньи оказывается, таким образом, в плену неразрешимых
противоречий. Он рвется к людям - и вынужден снова и снова кон-
статировать, что они ему чужие и он им чужой. Чаттертон разруба-
ет этот гордиев узел тем, что уничтожает себя. Но пропасть остает-
ся, и Виньи она мучит. Он не хочет считать самоуничтожение един-
ственным исходом. Он ищет некой всеобнимающей идеи, которая со-
единила бы края пропасти, перебросила меж ними мост. Одна такая
идея - сострадание.
Сострадание - ключевое понятие этики Виньи, и оно так украша-
ет и смягчает внешний облик скептического и строгого поэта-аристо-
крата. Оно осеняло самые первые поэтические шаги Виньи. Элоа, ге-
роиня одноименной ранней поэмы, "сестра ангелов", рожденная
из слезы творца, проникается состраданием к Люциферу и спускает-
ся к нему с небес. Братья ее предупреждают: в каждом его слове со-
крыта смерть, он сжигает все своим взором, он не чувствует ни зла,
ни добра и не ощущает даже радости от своих злодейств. Но она от-
вечает: значит, тем более, он несчастен. Любовь Люцифера смертель-
на для Элоа, но сострадание не знает ни страха, ни раскаяния.
В ноябре 1830 г. Виньи в дневнике снова вспомнит об этой своей ге-
роине, и идея "Элоа" соприкоснется с сен-симонистской идеей: «Я про-
должу "Элоа" вот как: она обречена на то, чтобы поочередно оживлять
бездыханные тела античного раба, средневекового крепостного, совре-
менного наемного рабочего; и всякий раз в миг избавления она не может
насладиться счастьем и умирает, чтобы вновь вернуться в объятия веч-
ного страдальца. Наконец, она становится моей душой - и страдает».
92
Эта страдающая и сострадающая душа раскроется в "Стелло"
и передастся героям Виньи - поэта. Они любят людей вопреки все-
му, вопреки тому, что эта любовь безответна. О любви к людям го-
ворят и умирающий Жильбер, и умирающий Чаттертон, и стражду-
щий Стелло. Последний на вопрос Черного Доктора, считает ли
он себя поэтом, отвечает утвердительно и в числе первейших призна-
ков поэта называют сострадание к людям. И сам Черный Доктор,
этот, казалось бы, закоренелый скептик, в качестве одного из рецеп-
тов прописывает Стелло завет "любить не идею, как бы прекрасна
она ни была, а какое-нибудь создание господне..."
Неудивительно поэтому, что после бездн отчаяния, разверзших-
ся перед ним в "Стелло", Виньи от образов поэтов, от этих болевых
точек своей души, переходит к образам "обыкновенных" людей, то-
же достойных сострадания.
Пьеса "Отделалась испугом" (1833) - комедия и едва ли не един-
ственное "несерьезное" произведение Виньи. Но как комедия она
серьезна. В основе ее тоже лежит "сугубо нравственная перипетия".
Виньи берет слегка фривольный анекдот из сферы супружеской
жизни французской аристократии XVIII в., сохраняя "нравственный
колорит" эпохи, но и деликатно перенося в пьесу дух своего време-
ни и свой принцип сострадания. В истории необычного "воздаяния"
за супружескую измену (герцог, герой пьесы, великодушно прощает
жену) проглядывает "феминистская" проблематика современности
(тоже отзвук сен-симонизма). Виньи отнюдь не ратует за "свободу
чувств", но он показывает, что аристократический брак по расчету,
без сердечной склонности не вправе претендовать на прочность
и "святость", тем более если при обоюдном равнодушии и обоюдной
неверности общественное осуждение карает только одну сторону,
а именно женщину. Герцог достаточно благороден и умен, чтобы это
понять; попутно он спасает, конечно, и "честь имени", но весь его
диалог с супругой дышит человечностью, тем состраданием, которое
лежит в основе всей этики Виньи.
Писатель и тут разрушает каноны: витающий над пьесой призрак
убийства как возмездия рассеивается, словно в пику "неистовой"
драматургии; но обманываются и расчеты тех, кто ожидал, как в ко-
медиях рококо и их наследницах, специфических пикантностей
адюльтерной интриги: из пьесы устранены и любовник, и любовни-
ца - классические амплуа. Все опять подчинено чистоте главной ли-
нии. Виньи с поразительным тактом и легкостью идет по самой
кромке "скользкого" сюжета, нигде не оступившись, не погрешив ни
против самой придирчивой морали, ни против вкуса.
"Любовью не шутят" - назовет годом позже Мюссе одну из первых
своих "пьес-пословиц"; Виньи мог бы сказать - не шутят и с браком.
Самой идеей пословицы, выносимой в заголовок, Виньи дает модель.
Для Мюссе вера в немудрящую простоту пословицы, "общего места"
принципиальна: возвышенно философическим, "идеальным" построе-
А. де Виньи 93
ниям своих собратьев-романтиков он противопоставлял скромную
истину "банальностей" и единственно на ней считал возможным ос-
новать человеческое существование. Вот так и Виньи мораль терпи-
мости и сострадания противополагает всякому "неистовству".
Когда же он характеризует атмосферу этой пьесы следующим об-
разом: "Здесь брак, наедине с самим собой, себя обсуждает и себя
разглядывает со всех сторон, во всех своих узлах - и не без печа-
ли", - то это уже звучит предвестием гораздо более поздних драма-
тургических концепций.
Другая, наряду с состраданием, нравственная опора Виньи - это
уже упоминавшаяся позиция стоицизма, "молчания", "нейтралите-
та", но нейтралитета "вооруженного", всегда хранящего готовность
встать на защиту истины и гуманности.
Если символом обыкновенной человечности, слабости, заслужива-
ющей понимания и сострадания, Виньи избрал легкомысленную мо-
лодую светскую женщину, то символом стоического мужества он из-
бирает солдата. Он пишет "Неволю и величие солдата" (1835) - но-
вый роман-триптих. В центре его - образ простого безвестного вои-
на, для которого выполнение его прямого долга службы постоянно
вступает в резкое противоречие с долгом гуманности.
Виньи оживляет в своем воображении не только собственные годы
воинской службы (для него-то конфликт, к его счастью, никогда
не вставал так прямо и остро), но и более широкую историю француз-
ской армии минувших десятилетий - от времен Директории до собы-
тий Июльской революции. За парадно-официальными версиями этой
истории, за лозунгами защиты отечества и законности он видит
их оборотную сторону: имперски-захватнический характер войн Напо-
леона, подавление национально-освободительных движений, распра-
вы с собственными согражданами во время народных восстаний.
В этих кровавых играх, по мысли Виньи, проигрывает всегда солдат,
ибо каждое убийство, совершенное им по приказу, оставляет рану
в его собственном сердце. Виньи протестует против заповеди "пассив-
ного повиновения", обрекающей солдат на роль гладиаторов: они
должны проявлять героизм, самоотверженность и жестокость ради чу-
ждых им интересов, и даже слава, которую они, возможно, пожина-
ют при этом, преходяща, ибо с очередной сменой власти недавние под-
виги трактуются как преступления. Виньи изображает солдата как му-
ченика чести, сохраняющего нетронутым убеждение в первичности гу-
манного долга вопреки жестокой линии внешней своей судьбы.
Уже само обращение к этой теме и ее подчас обнаженно-публи-
цистическая трактовка тоже были новшеством во французской ро-
мантической литературе. Один из виднейших представителей роман-
тизма создает здесь произведение, претендующее не только на бел-
летристичность, но и на ранг военного - точнее говоря, военно-эти-
ческого - трактата. Но в общий контекст творчества Виньи эта книга
тем не менее вписывается органически. Герой-солдат Виньи именно
94
в своем качестве парии общества встает в один ряд с его героем-по-
этом. И даже с изнеженной аристократкой из комедии "Отделалась
испугом" - бесконечно, казалось бы, от него далекой! - он соприка-
сается какими-то линиями своего удела: она, легкомысленная и сла-
бая, ведь тоже в конечном счете жертва, жертва легкомыслия более
принципиального, общественного; ее сердце, ее человеческая самость
так же не принимались в расчет при заключении сословного брака-
сделки, как исключается из расчета сердце солдата при всех диспо-
зициях его суровой судьбы. Так этика стоицизма неразрывно соеди-
няется с этикой сострадания.
В "Стелло" Виньи по видимости погрузился в исконно романти-
ческую - художническую - проблематику. Но он не замедлил сразу
же и расширить бытийный статус своего героя: не только поэт, а еще
и солдат, и обыкновенная, ничем не примечательная женщина. Все
это - ипостаси Человека.
Но в случае с "Неволей и величием солдата" важно еще отметить
принципиальный сдвиг к демократичности концепции человека, ут-
верждаемой Виньи. Прежние его герои так или иначе возвышались
над фоном, были личностями в том или ином отношении исключи-
тельными, и даже героиня его комедии приподнята над "простыми"
людьми хотя бы уже тем, что она все-таки герцогиня. Народ, как мы
видели, постоянно присутствовал в художественном мире Виньи,
но он в основном тоже был "молчаливым" фоном, хотя его роль
и важна именно как роль высшей моральной инстанции. В "Неволе
и величии солдата" Виньи демонстративно возвышает простого чело-
века до ранга героя: "Должно быть, и вправду на свете нет ничего
выше самопожертвования - недаром так много прекрасного заложе-
но в лицах незаметных, которые подчас не имеют и представления
о собственных достоинствах и не задумываются о тайном смысле
своего существования".
* * *
"Неволей и величием солдата" Виньи завершил круг, характерный
для романтического сознания вообще: от "воспарения", от идеи избран-
ничества и мессианства - к идее земного, человеческого сострадания;
от выдающейся, исключительной личности - к "людям незаметным".
Но трагедия Виньи, как и трагедия всего романтизма, заключа-
лась в том, что в условиях буржуазного "железного века" реально
не оправдывалась ни одна из романтических ставок. Поскольку они,
эти ставки, были максимальны, поскольку романтический идеал до-
стойного бытия жаждал осуществления "здесь и сейчас", всякое
столкновение с реальностью, весьма далекой от идеала, обескуражи-
вало романтизм. Мы ведь помним, что Виньи не соглашался взвеши-
вать "за" и "против" - для него любое единичное отступление
А. де Виньи 95
от идеальной нормы наносило ей роковую рану, непоправимый урон.
В этой ситуации, когда завершился круг и в конце его герой Виньи -
будь то поэт или солдат, гений или "незаметный человек" - снова
оказался парией, жертвой перед лицом холодного и жестокого бур-
жуазного монолита, как прежде он был отверженцем перед лицом
безучастного творца, - в этой ситуации что оставалось делать роман-
тическому сознанию? Согласиться на посильное, достижимое в воз-
можных пределах? Тогда оно перестало бы быть романтическим -
этого Виньи не было дано. Повторяться, возобновлять прежний круг
снова и снова? Этого Виньи не хотел. Умолкнуть в гордом стоиче-
ском одиночестве? Это он давно для себя взвешивал.
Виньи переживает художническую трагедию. Здраво посмот-
реть - так ли уж трагична в этот момент его собственная "житейская"
судьба? Он не нищий Жильбер, не затравленный Чаттертон, он впол-
не обеспечен материально и даже не обделен признанием, имя его уже
окружено славой если и не шумной, то все-таки достаточно прочной.
Современная ему критика второй половины 30-х годов - эпохи трезве-
ющей, склоняющейся к реализму, - его уже не понимает и напомина-
ет ему о гонорарах Скриба, о славе Гюго, Мюссе, его собственной, на-
конец. Они с критикой говорят уже на разных языках.
Виньи может сослаться на неодолимое презрение к буржуазному
веку, но в душе-то он понимает, что не в одном только веке дело.
А что если и в само^ еле "прав весь мир, кроме поэтов", особенно
романтических? Что если они своей непременной жаждой сразу все-
го, своей с бстпенной бескомпромиссностью обрекают себя на траге-
дию? Уже ь лихорадочных видениях Стелло мелькало это подозре-
ние - когда он умолял Доктора рассказать ему для успокоения
"какую-нибудь мирную безобидную историю, от которой ни жарко,
ни холодно"; романтическая душа устала от вечного колебания меж-
ду полюсами, от этого напряжения на разрыв!
И вот, на пороге кризиса, Виньи обращается к этой идее. Он начи-
нает воплощать вынашивавшийся им уже со времен "Стелло" замысел
романа о Юлиане Отступнике - о человеке, сменившем символ веры
после жестокого разочарования в прежних кумирах (этот небольшой
роман под названием "Дафна" был опубликован лишь в 1912 г.).
"Дафна" задумана была как продолжение "Стелло", и здесь
в полной мере сохраняется горький исторический пессимизм "консуль-
таций Черного Доктора". Предвосхищая концепцию и саму философ-
ско-психологическую настроенность "Искушения святого Антония"
Флобера, Виньи показывает беспочвенность всех утопических систем
преобразования мира - от раннехристианских религиозных учений
до современного сен-симонизма. Всякое мессианское воодушевление
неизбежно разбивается о непонимание слепой толпы, неизбежно на-
стает момент, когда пророков побивают камнями и заповеди их пре-
дают огню и на обломках очередной утопии неизменно выживают
и наживаются одни лишь бессмертные поклонники золотого тельца.
Но трагедия Юлиана не только в том, что он повсюду наталки-
вается на неразумие тех, чье счастье пытается устроить, - она еще
и в резком несоответствии его возвышенных идеальных построений
реальной логике земного хода вещей; оказывается, что альтруисти-
ческие намерения, прежде чем потерпеть сокрушительное поражение
извне, уже обречены заранее изнутри самим своим максимализмом.
"Чудесные очарования религиозных порывов, - говорит в романе
Либаний, учитель Юлиана, - прекрасное средство для возвышения
заурядных душ, но для душ великих они могут оказаться роковыми,
ибо возносят их слишком высоко. В юношеские годы, когда наши
мечты и желания вместе с нашими страстями рвутся на волю и вос-
паряют к небесам столь же естественно, как благоухание цветов,
страсть нам кажется чудом, мы приучены к этому с колыбели,
мы ее и страшимся, и боготворим, и чем могущественнее наше вооб-
ражение, тем она кажется нам вдвойне, втройне величественной
и прекрасной, мы окружаем ее магическими образами наших лихо-
радочных видений, пока не наступает момент, когда луч истинного
света вдруг рассеивает этот обольстительный туман. Юлиан полагал,
что видит все, но видел все только наполовину, ибо слишком был
во власти мистической экзальтации".
Это, конечно, психограмма романтической души, и Виньи не со-
бирался скрывать аналогий - в дневниковой записи 1833 г. он пря-
мо констатировал автобиографичность образа Юлиана Отступника:
"Если метемпсихоз существует, то я был этим человеком".
Но романа этого он так и не опубликовал.
Он не отступился от романтической веры; он остался, как и был,
в трагическом напряжении между полюсами. Рядом с ожесточенны-
ми инвективами в адрес слепой толпы соседствует в "Дафне", как
и в "Стелло", мораль неискоренимого сострадания к ней. "Не думай
о себе и своей славе, - говорит Либаний Юлиану, - не тщись про-
слыть полубогом или святым, как Антоний; думай о семье человече-
ской, которую надо спасать от ее разобщенности, ибо разобщенность
смерти подобна... Ты ведь знаешь, Юлиан, в чем бесценное сокрови-
ще града Дафны. Что есть ось мира? Что есть семя земли, эликсир,
жизни людской, медленно возгонявшийся всеми исчезнувшими наро-
дами для блага народов грядущих? Ты это знаешь, друг мой, - это
мораль". Именно в этот момент Юлиан у Виньи и произносит свои
знаменитые слова: "Ты победил, Галилеянин".
Прежний круг: любовь к роду человеческому вообще - и непри-
ятие человечества современного как бесчувственной и бездуховной
"толпы"; мессианство - и обреченность на вечное одиночество.
Остальное - молчание. В редких поэмах, которые отныне пишет
Виньи, заклинаются все те же антитезы. Есть среди этих поэм тра-
гические, сохраняющие и еще усиливающие прежний накал:
"Смерть волка", "Гефсиманский сад", "Оракулы", "Гнев Самсона".
В них доминирует этика стоицизма - молчания и терпения. Но есть
А. de Виньи 97
и "утешительные" - "Бутылка в море", "Чистый дух"; в них Ви-
ньи, вопреки всему, воплощает этику стоического приятия бытия
во всей его противоречивости и сложности, отстаивает право на на-
дежду, гарантируемое существованием подвижников духа, служите-
лей и мучеников гуманистической идеи.
И он уповает на потомков. Он теперь обращается к ним:
Потомки юные, что мною так любимы,
О судьи ионыс моих былых трулоп,
Мои черты у вас доныне зримы,
И узнаю себя я в зеркале зрачком!
Друзья мои, коль нам понадоблюсь и ииредь я,
Коль перечтут меня хоть раз в десятилетье,
Судьбу спою назвать счастливой я готов!
Это заключительная строфа поэмы "Чистый дух", датированной
10 марта 1863 г. Умер Виньи 17 сентября 1863 г.
РОМАНТИЗМ
И РЕАЛИЗМ
Ч->/ еседуя о романтических авторах, мы с Вами имели до-
статочно возможности убедиться в том, что проблема личности, ин-
дивидуальной свободы воли - центральная проблема всего романтиз-
ма. Романтизм - это мировоззрение, основанное, так сказать,
на культе личности, на культе героя, гения, одним словом, челове-
ка, не считающегося с необходимостью. Поэтому, как мы видели, ро-
мантизм был прежде всего восстанием личности против внешнего ми-
ра, против необходимости. (В философских терминах - это был
бунт свободы личности против необходимости.)
Но мы с вами имели возможность убедиться и в другом. Ни один
романтический бунт не окончился бесспорной победой индивида - на-
против, это были либо поражения, либо подчеркнуто иллюзионистские,
воображаемые победы, вроде концовок гофмановских повестей. Роман-
тики с самого начала догадывались о всесилии внешнего мира, мира не-
обходимости. И всякий раз, когда они об этом догадывались, их искус-
ство приобретало глубоко трагические черты. Всесилие внешнего мира
означало бессилие индивида, а бессилие индивида, в свою очередь, оз-
начало крушение всей философии романтизма, ибо она была основана
на представлении о всесилии индивида. Отсюда проистекала и трагедия
байроновского героя, и трагедия героев Гельдерлина, Гофмана и др.
У романтического бунта против реальности была одна весьма ха-
рактерная черта. Сама эта реальность, внешний мир представал
У них очень обобщенным, без деталей. В сущности романтики -
и здесь я возвращаюсь к исходному пункту - почувствовали лишь
одну, самую общую черту новой реальности - ее враждебность ин-
дивиду и ее странную силу. Они бунтовали не столько против кон-
кретных проявлений буржуазности, сколько против этого общего
закона. Потому-то так часто этот бунт носит подчеркнуто всеобщий,
Романтизм и реализм 99
неопределенный характер. Попробуйте вразумительно объяснить,
против чего ополчился байроновский Манфред, отчего так несча-
стен, например, Рене. Это бунт против чего-то неуловимого, непо-
стижимого, но всесильного, бунт против власти каких-то высших не-
оборимых сил над судьбой и волей человека.
Но вместе с тем у каждого романтика так или иначе пробивалось
более конкретное представление об этом внешнем мире. Всем роман-
тикам, как я уже говорил, сразу бросалась в глаза бездуховность но-
вого буржуазного мира, погоня за одними материальными благами.
Все это сливалось для романтиков в одно емкое понятие "прозы жиз-
ни" - в противовес поэзии, фантазии, мечте.
Конечно, оно свидетельствовало опять-таки об очень обобщенном
понимании реальности. Романтики не стремились проанализировать
глубже сущность того общества, которое они отвергали, они абсолю-
тизировали только его "прозаичность" и за эту прозаичность отвер-
гали его целиком, пытаясь уйти в сферы чистой духовной поэзии.
Их цель - не познавать реальность, не бороться с ней, а попытать-
ся поначалу попросту ее зачеркнуть. РОМАНТИЗМ - ЭТО ИС-
КУССТВО ВОЗВЫШЕННОЙ ИЛЛЮЗИИ. Все это нам надо будет
постоянно иметь в виду и тогда, когда мы будем рассматривать
творчество писателей нового поколения - тех, кого мы называем ре-
алистами. Мы всегда должны помнить, что эти реалисты не роди-
лись уже реалистами, а все вышли из романтизма, как из своего дет-
ства и своей юности. Не случайно главная тема всех реалистов, осо-
бенно французских, - это тема крушения иллюзий, начиная от стен-
далевского Жюльена Сореля в "Красном и черном", от Бальзака
(одно из главных его произведений так и называется - "Утраченные
иллюзии") вплоть до позднего реализма, до Флобера или Теккерея.
Название романа Флобера "Education sentimentale" - "Воспитание
чувств" переведено на русский язык совершенно неверно. Оно ничего
не выражает, оно никак не связывает этот роман с общим контекстом
французской литературы XIX в. - его, конечно же, надо переводить
буквально, как и по-французски - "Сентиментальное воспитание"
(или даже "сантиментальное"). Уже в названии Флобер связывает
судьбу своего героя с его воспитанием - воспитанием в сентимен-
тальном, романтическом духе, выводит своего героя из романтизма.
На кровное родство реализма с романтизмом, на прямую преемст-
венность между ними указывает и еще одно обстоятельство. Мы уви-
дим с вами, что в отличие от романтизма реалисты очень детально ана-
лизируют внешний мир, эту самую буржуазную прозу. Но если внима-
тельно читать, скажем, французских писателей 30-40-х годов, броса-
ется в глаза то, как упорно они подчеркивают засилье посредственно-
сти в жизни буржуазного общества. Вот первое свидетельство: "Когда
на нашу голову обрушивается катастрофа личного или общественного
порядка и мы по усеивающим землю обломкам пытаемся исследовать
причину, ее породившую, то неизменно приходим к убеждению, что она
подготовлялась посредственным и упрямым человеком, самоуверенным,
самовлюбленным. Немало на свете таких ничтожеств и зловредных уп-
рямцев, мнящих себя провидением". Это говорит писатель-романтик
В. Гюго в новелле "Клод Гё" (1834). Романтический тон здесь очеви-
ден. "Нас, подлинно великих, вы не послушались, а теперь вот вами
правят ничтожества, посредственности, и отсюда все катастрофы".
А вот уже Бальзак пишет в новелле "3. Маркас" (1840), где ге-
рой обращается к министру: "Вы наверняка погибнете в отмщение за
то, что вы не обратились к молодежи с призывом отдать отечеству
свои силы и свою энергию, свое самоотвержение и свой пыл, за то,
что вы ненавидите людей со способностями, за то, что вы всегда
и везде выбирали только посредственность". В новелле "Пьер Грассу"
(1839) Бальзак прямо называет одним из законов буржуазного об-
щества закон, "согласно которому презренной посредственности
в любом кругу предоставлено право венчать людей лаврами, и, ко-
нечно, она всегда выдвигает их из своей среды, так как ведет ожес-
точенную борьбу против всякого истинного таланта". Таких приме-
ров можно найти очень много и у Стендаля, и у Флобера. Понятие
"посредственность" - ключевое понятие французской реалистиче-
ской прозы, и мы можем вспомнить в этой связи гофмановского Ца-
хеса, которого венчали лаврами вот таким же способом.
Так что осознаем для себя тот факт, что реализм во многом был
подготовлен романтизмом.
Как мы видели уже раньше, в самой романтической литературе
исподволь начинался этот поворот к реальности, вспомним того
же Гофмана, байроновского "Дон Жуана". И, конечно, обращение
к реальности расшатывало самые основы романтизма, пробивало не-
поправимые бреши в воздушных замках его фантазии, и от этого
не спасала даже романтическая ирония, - напротив, она-то, как пра-
вило, и свидетельствовала о беспочвенности романтических иллюзий.
В то же время это крушение воздушных замков и иллюзий несло
в себе новые, непривычные, неожиданные для романтиков поэтиче-
ские возможности - приближение к презренной прозе жизни, как
оказалось, не убивало поэзию, а придавало ей новые измерения, но-
вую духовность и новую трагичность; наиболее проницательные пи-
сатели-романтики начинали осознавать глубокую эстетическую необ-
ходимость единоборства с прозой жизни. Искусство не обязательно
должно парить над этой прозой, чтобы оставаться настоящим искус-
ством. Оно может оставаться искусством, не покидая сферы реаль-
ности, как бы прозаична и далека от поэзии она ни была. Уже ро-
мантики начинали находить глубокое эстетическое удовлетворение
от контакта с этой прозой, начинали осознавать неизбежность ново-
го, по сути своей глубоко общественного, гражданского искусства.
Повторяю, эти открытия озарили далеко не всех, а самых прони-
цательных романтиков. Романтическое направление в его класси-
ческом выражении было не глубинным течением, а, так сказать, те-
чением воздушных струй, парением над реальностью. Не познавать
реальность, не бороться с ней, не изменять ее, а попытаться ее по-
просту зачеркнуть - уйти от нее в далекий мир прошлого, предвари-
тельно идеализировать его или уйти во внутренний мир индивида,
причем не просто индивида, а художника. Все истинно романтиче-
ские герои - это так или иначе автопортреты романтических авторов,
воплощения авторских представлений об идеальном человеке - будь
это герой Новалиса, Шатобриана или раннего Байрона.
Но вот появились гофмановские придурковатые князья и расчет-
ливые советники, байроновские венценосцы и их придворные при-
хлебатели, скоттовские религиозные фанатики, появились историче-
ские панорамы у Гюго, язвительные зарисовки современности у Гей-
не - романтизм стал задыхаться в безвоздушном облачном простран-
стве и ощутил жизненную необходимость вернуться на землю, к ре-
альности. Он понял, что просто отрицать буржуазную реальность -
этого мало, это уже неубедительно, надо было в ней разбираться.
К этому желанию, рожденному самой необходимостью дальнейшего
развития искусства, подводило могучее течение, рожденное развиваю-
щейся действительностью. Утверждение и развитие буржуазной эпохи
поставило общество перед необходимостью более экономичной организа-
ции производства, а для этого необходимо было более глубокое и все-
стороннее изучение законов, управляющих развитием общества, произ-
водства и природы. Не случайно, что именно в этот период получают мо-
гучий стимул развития естественные и точные науки: середина XIX в.,
например, - это эпоха дарвинизма в естествознании. Не случайно это пе-
риод зарождения политической экономии как науки - Смит и Рикардо
(два англичанина) придали этой науке классическую форму.
Стремление к строгой научности познания, подкрепляемое конкрет-
ными результатами естественных наук, дало, в свою очередь, толчок
развитию материалистической философии. Если эпоха романтизма бы-
ла одновремено и эпохой господства идеалистической, объективистской
философии (Кант, Фихте, Шеллинг), то к середине XIX в. идеалисти-
ческая философия должна уже потесниться и уступить место филосо-
фии объективной и в конце концов материалистической.
Объективная философия выступает в этот период прежде всего
в форме эмпирической и позитивистской теории познания. Наиболее
ярким выразителем этого течения в философии стали в 30-40-е го-
ды Огюст Конт во Франции и Джон Милль в Англии. Опираясь
прежде всего на результаты естественных наук, позитивисты провоз-
глашают, что новая промышленная эпоха требует не философских
спекуляций в сферах духа и религии, как это делали идеалисты
в философии и романтики в литературе, а конкретного изучения
реальных фактов, находящихся перед глазами.
При этом позитивизм, хотя и был во многом похож на материа-
лизм, исходил из агностической концепции непознаваемости мира. Со-
гласно этой концепции, человеческому сознанию все равно не постиг-
Романтизм и реализм
нуть глубокие первопричины явлений, не предвидеть точные следствия
этих явлений. А если это так, то задачей человеческого разума являет-
ся только внимательное и систематическое изучение современного со-
стояния общества, конкретного социального опыта, реальных фактов.
Однако агностическая исходная посылка позитивистов, мысль
о том, что мир непознаваем в его начале и конце, в то же время была
явно полемически заострена против идеалистической философии.
Именно эта последняя претендовала на монопольное знание причин яв-
лений и их последствий, именно она искала движущие силы бытия
в сферах, находящихся вне реального мира - будь это божественная во-
ля (религия, мистика), будь это некая объективная идея (Гегель), будь
это субъективное "я" индивида (Фихте). Позитивисты утверждают, что
это все в сущности спекуляции, ненаучный метод познания. Допустим,
передо мной какое-то явление или сумма явлений. Моя задача прежде
всего досконально изучить это явление, этот факт, взаимосвязь разных
явлений между собой - позитивисты словам не верят. Только опираясь
на знание фактов, человек может сделать какие-то ближайшие выводы
относительно того, как ему использовать свои знания.
Нетрудно увидеть, сколь практична была эта философия, как она
была направлена против всяких домыслов, спекуляций - это фило-
софия утверждавшегося на реальной почве буржуа, которому нет де-
ла до высоких идей, которого интересует только чисто практическая
сторона вопроса. Отсюда и основные характеристики этой филосо-
фии - эмпиризм, т. е. обращение только к практическому опыту,
и позитивизм, т. е. обращение только к существующим фактам.
Но позитивистская философия - это только одна сторона дела,
одна реакция на предшествующее господство идеализма. Вдобавок,
это философское течение, связанное прежде всего с естественными
науками, науками о природе - физикой, биологией. Параллельно
с этим укрепляется чисто материалистический интерес и к общест-
венным наукам, и к жизни общества, и к социальным вопросам.
Характерно, между прочим, что интерес к социальным вопросам
родился тоже фактически еще внутри романтического мироощуще-
ния. Я имею при этом в виду не только таких писателей и поэтов,
как Байрон, или Гейне, или Гофман, или Беранже, а уже филосо-
фию. Мы помним, что многие романтики, энергично критикуя раци-
оналистическую философию Просвещения, выделяли в ней Жан-
Жака Руссо, поскольку он импонировал им своим призывом вер-
нуться к природе, к патриархальности бытия. Обострение социаль-
ных противоречий внутри буржуазного общества заставило многих
мыслителей романтизма вспомнить о другой стороне учения Руссо -
о его резкой критике отношений собственности. И вот, когда эти
отношения приняли особенно отчетливые формы, появляется группа
мыслителей, которые продолжают идеи Руссо, пытаются найти пути
к смягчению этих конфликтов, к устранению системы эксплуатации.
Благородная мечта о справедливом обществе, где никто не будет
обойден жизненными благами, лежит в основе социальных учений
французов Сен-Симона и Фурье, англичанина Оуэна.
Этих мыслителей принято называть утопическими социалистами. Со-
циалистами - потому что в своих сочинениях они исходили из стремле-
ния создать общество, где человек получал бы все по своему труду, где
не было ни незаслуженно богатых, ни несправедливо бедных. Утопиче-
скими - потому что они исходили из представления об идеальном обще-
стве будущего, весьма мало связанного с современностью. Там же, где
они пытались наметить какие-то реальные пути к установлению такого
общества, обнаруживался глубоко утопический, нереальный характер
этих планов: Сен-Симон полагал, что к социалистическому обществу
скорее всего может привести союз просвещенных промышленников и ре-
лигии; Фурье предлагал основывать на необжитых еще землях малень-
кие коммуны, пример которых заставил бы устыдиться неразумных со-
отечественников и отказаться от буржуазного накопительства.
Что-то подобное мы уже с вами слышали - помните американских
трансценденталпстов и их Брук-фарм. Это был, как мы знаем, отклик
на учение европейских утопических социалистов. Нетрудно увидеть,
что утопические социалисты были в сущности истинными романти-
ками в социологии; только в отличие от классических литературных
романтиков они воодушевлялись не мечтой о царстве грез, царстве
абстрактной духовности, а мечтой о царстве социальной справедли-
вости. Но это была мечта, со всеми ее неземными атрибутами.
Итак, обращение к социальным проблемам внутри романтическо-
го мироощущения было знамением нового времени. На примере уче-
ния социалистических утопистов можно наблюдать этот процесс за-
земления романтической мечты, обращения ее к проблемам реально-
го общественного бытия.
И тут самое время сказать о том, что романтизм, романтическая
литература не умерла, когда родился критический реализм.
Наряду с Бальзаком, Стендалем и Мериме, властителями умов
во Франции середины века, были также такие сугубо романтические пи-
сатели, как Жорж Санд, Виктор Гюго, Мюссе, и слава их не только спа-
рила со славой их реалистических собратьев, но дожила и до наших дней.
Однако романтизм нового типа во многом отличен от романтизма
периода его повсеместного господства в европейской литературе -
от романтизма начала века! Прежде всего романтизм Жорж Санд,
Виктора Гюго - это уже искусство, вплотную обратившееся к соци-
альной проблематике, искусство, проникнутое глубочайшим и благо-
роднейшим состраданием к отверженным. Другое дело, что при всем
при этом эти писатели остались утопическими мечтателями, как
и их идейные вдохновители - Сен-Симон и Фурье. Они пытались
исправить злых богачей моральными проповедями, устыдив их при-
мерами благородства и самопожертвования людей из народа, бедня-
ков. Но это нисколько не умаляет искренность и благородство их ро-
мантического протеста, их сострадания к париям, отверженным.
Романтизм и реализм 105
Таким образом, во Франции романтизм на новом этапе обратился
к наболевшим социальным вопросам и обнаружил тогда свою удивитель-
ную жизнеспособность, свою неотразимую притягательную силу.
Он оказался достойным конкурентом новорожденному реализму - ро-
мантическая литература не только продолжала успешно сосуществовать
с реалистической, но и могла вступать с ней в увлекательные эстетиче-
ские споры. "Вы изображаете людей такими, какие они есть, а я изобра-
жаю их такими, какими они должны быть", - эти слова Жорж Санд
с поразительным достоинством дважды повторила своим блистательным
коллегам-реалистам - сначала Бальзаку, потом Флоберу, и против пра-
вомерности такой точки зрения трудно было что-либо возразить.
Прикоснувшись к живительному источнику реальности социаль-
ной жизни, романтизм обрел новую силу и новую убедительность.
Не презрение к толпе, а сочувствие к ней - эта точка зрения откры-
ла для романтизма новые возможности. В эпоху, когда критический
реализм обратился к беспощадному анализу человеческой природы,
романтики взяли на себя задачу поддерживать в человечестве веру
в себя после всех этих разоблачений, хранить незамутненным идеал
человеческого существования.
"Человек при желании может быть лучше" - это кредо позднего со-
циального романтизма, проникнутого верой в возможности человека.
Таким образом, реализм не зачеркнул собою романтизм. Да это-
го и не могло произойти с романтизмом, потому что романтическая
мечта об идеале присуща человеку вообще и во все века, и это по-
стоянно чувствовали и писатели нового поколения - реалисты.
У Бальзака в самых беспощадных его реалистических романах мож-
но обнаружить романтические ноты. Стендаль в своем творчестве от-
дал значительную дань романтической мечте о сильных, гордых
и прекрасных людях. Тайную тоску по романтическим идеалам
мы находим и в безжалостных флоберовских романах.
В практичной, деловой Англии романтизм, не сумев выделиться
в столь сильное течение в середине века, прочно обосновался внут-
ри реализма - сколько бы потеряли от своей прелести романы Дик-
кенса, не будь в них диккенсовских чудаковатых идеальных героев,
щедро и вопреки жизни вознаграждаемых в конце писателем.
Итак, существует, как мы видим, тесная взаимосвязь романтизма
и реализма. Она обусловливается прежде всего тем, что оба они ре-
шают одну и ту же философскую дилемму: взаимоотношение инди-
видуальной свободы, волн и объективной необходимости. Только ес-
ли романтизм пытался испробовать свободу воли, то реализм окон-
чательно понимает, что чистая свобода воли невозможна, что необ-
ходимость - это объективный закон бытия. Если романтизм пытал-
ся отвергнуть объективный мир, мир необходимости, то реалисты на-
чинают этот мир исследовать. В конечном счете, в центре этих миро-
ощущений стоит личность, но уже личность, взятая в неразрывном
диалектическом взаимодействии с внешним миром.
РЕАЛИЗМ
КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
СИСТЕМА
чем же конкретно заключались художественные откры-
тия нового искусства - реализма?
Говоря сейчас "реализм", я имею в виду это направление в це-
лом, не подразделяя его на этапы. Мы увидим впоследствии, что сам
реализм как художественная система претерпевал значительные из-
менения в своем развитии. Но сейчас нас интересует эстетика и ху-
дожественная практика реализма вообще как направления, сменив-
шего собой романтическую эпоху в европейских литературах.
И еще одна оговорка. Мы так много говорили о реализме, что са-
мо это понятие зачастую кажется нам набором шаблонных фраз -
"правда жизни", "критика буржуазного общества" и т. д. Но ведь
многое из этого было и в романтизме. Я хотел бы, чтобы вы, изучая
в данном курсе реализм в период его зарождения, почувствовали
по крайней мере все его новаторство для того времени. Поэтому
я в дальнейшем, говоря о реализме, буду постоянно отталкиваться
от романтизма - по принципу: истина познается в сравнении. Обна-
ружив причинно-следственную связь между реализмом и романтиз-
мом, мы теперь посмотрим на различия между ними.
Совершенно очевидно, что реализм, как свидетельствует само его
название, знаменовал собой обращение искусства к реальности и по-
вседневной жизни, окружающей художника. Мы видели, как само
развитие общества, естественных и общественных наук, материали-
стической философии в ее ранних течениях диктовало искусству эту
необходимость обращения к реальной жизни. Буржуазный XIX век
с самого начала властно звал художников к земле, как бы ни хоте-
лось им воспарить в романтические выси (Гофман).
Приверженцы ортодоксального романтизма нередко упрекали
их за эту прпземленность, за это упорное стремление исследовать
Реа.пим как художественная система 107
ß
пошлую прозу буржуазной обыденности, представляли их этакими
невозмутимыми испытателями, исследующими человека так же, как
зоолог исследует любопытное насекомое.
Реалистов обвиняли за излишний интерес к "разгребанию грязи".
Это и понятно. Общество в лице своих официальных институтов
не может реагировать иначе, если о нем говорят слишком много не-
прикрытой правды. Но в то же время сторонники романтической эс-
тетики, отвергая излишнюю приземленность реалистов, были ис-
кренни в своей критике, и это заставляет нас внимательней всмот-
реться в эту сторону проблемы.
Сейчас, на отдалении более сотни лет, нам кажутся странными
тогдашние упреки Бальзаку или Флоберу, или Теккерею в холодной
беспристрастности. Когда мы читаем повесть о загубленной жизни
Евгении Гранде у Бальзака или мадам Бовари у Флобера, то мы ни-
как не скажем, что этими писателями руководил только холодный
интерес естествоиспытателей, что они только копались в низменных
сторонах человеческой натуры. Но чтобы понять исторически такие
упреки в адрес реалистов, нужно еще раз вспомнить, что эта литера-
тура пришла на смену литературе, которая вообще принципиально
не хотела иметь дело с грубой жизненной прозой. После романтиче-
ских музыкантов, мечтательных художников, исключительных на-
тур в литературу вдруг ворвались огромной толпой ростовщики, ба-
рышники, чиновники, мещане, удобно разместились в ней, занимая
сотни страниц, считая деньги, обманывая, втаптывая в грязь друг
друга. Просто поначалу этого было слишком много - слишком мно-
го горькой правды для литературы, долгое время превыше всего це-
нившей такт, меру, принцип отбора.
И эти упреки помогут нам теперь понять принципиальное нова-
торство этой литературы - настолько все это было непривычно и но-
во, что вся выстраданность, вся страстность этих произведений тогда
даже не замечалась, причем не замечалась довольно тонкими цени-
телями искусства! Насколько же силен должен был быть шок
от правдивости изображения, чтобы осталась незамеченной та боль
за человека, которой проникнуты все произведения Бальзака, Фло-
бера, Теккерея!
Если продолжать сравнивать в самых общих чертах литературу
реалистическую и романтическую, то в первой прежде всего поражает
ее жадное стремление к безмерности, к широте охвата реальности,
к всеядности. Я сознательно употребил эти три разных по эмоциональ-
ной окраске выражения. Можно сказать - всеядность, и здесь уже
слышна осуждающая нота (на ней и играли романтические критики ре-
ализма); но можно сказать - широта охвата реальности, и тогда это
уже будет одобрительная оценка. Язык человеческий богат синонима-
ми, и часто все дело в оттенках. С тех пор в искусстве XIX и XX вв.
многих писателей упрекали в объективизме, в сгущении темных сто-
рон, а защищающие таких писателей критики говорили о стремлении
108
показать эти темные стороны для их устранения. На первый взгляд
может показаться, что в этом и разобраться невозможно - каждый по-
своему вроде бы прав. Тогда, видимо, и надо вспомнить опыт класси-
ческой, уже освященной вечностью литературы, вспомнить о том, что
все это уже было; и то, что у Бальзака или Флобера называли холод-
ностью, было в сущности стремлением к бескомпромиссной полноте
правды; они делали это не из злорадства, а во имя торжества истины,
и что благодаря этому реализм выдержал испытание временем.
Итак, назовем как одну из определенных черт нового художест-
венного метода стремление к максимальной полноте и широте изо-
бражения действительности. Прежде всего требуется максимальная
точность в изображении факта; лишь на этом основании можно сде-
лать выводы о сущности этого факта. Если можно переделать мир
к лучшему, то это надо делать не с помощью увещеваний, не пропо-
ведями, не созданием идеальных образцов для подражания, а рас-
сказав миру правду о нем самом. Если мир болен, надо прежде все-
го поставить ему диагноз.
Я уже говорил, что в центре реалистической литературы, как
и всякой другой, стоит человек. Но человек в реалистической лите-
ратуре показан не только во всем многообразии его внутреннего ми-
ра, но и во всей полноте внешнего окружения. Ничто не является
второстепенным для постижения сущности человека и отношений ме-
жду людьми - ни тончамшие движения его души, ни малейшие де-
тали его быта вплоть до одежды, до обстановки комнаты. Это убеж-
дение первых реалистов XIX в. Как скрупулезно описывает Бальзак
туалет своих героев, интерьеры роскошных особняков и жалких ман-
сард; не менее скрупулезно он описывает их духовную жизнь,
их взаимоотношения между собой.
В этой скрупулезности не только стремление к научной точности
художественного познания, но и, как я уже говорил, своего рода
буйная одержимость реальностью, внешним миром, как будто энер-
гия, скопившаяся во время романтического пренебрежения реально-
стью, теперь вырвалась наружу. Романтики потому отчасти и серди-
лись на реалистов, что почувствовали в их описаниях еще и как бы
собственную радость бытия, и потому заподозрили их в идеализации
буржуазной прозы.
Но в изучении человека критический реализм одержал внуши-
тельные эстетические победы. Какое разнообразие типов человече-
ских характеров встает перед нами в произведениях реалистов. Ро-
мантики создали в сущности четыре типа человека: тип байрониче-
ского бунтаря, тип разочарованного меланхолика, тип художника-
энтузиаста и тип обывателя - филистера, причем все они, как пра-
вило, предельно обобщены, лишены всяких конкретных характер-
ных черт. Первые три варианта - взаимопересекающнеся типы ро-
мантического героя, а четвртый - антигерой. Можно ли представить
себе резкое характерное отличие шатобрнановского Рене от Адольфа
Констана, гофмановского Крейслера от байроновского Чайльд Га-
рольда? Это типы человеческой настроенности, поведения, но не ин-
дивидуальные характеры. И можно ли спутать бальзаковского Рас-
тиньяка со стендалевским Жюльеном Сорелем или Фредериком
из флоберовского "Воспитания чувств"? Я сознательно беру сейчас
типы, схожие друг с другом в исходном пункте, - все это поначалу
те же романтические герои, вступившие в мир с романтической иде-
алистичностью, но как различны не только их судьбы, но и их чис-
то индивидуальные облики! А уж если прибавить сюда бальзаков-
ских Гобсека или старика Гранде, или Горио, или мистера Домби
Диккенса, и Ребекку Шарп у Теккерея - как различны эти герои,
хотя они вроде бы относятся к одному типу людей, одержимых стра-
стью к обогащению. Но каждый их них - ярко выраженный инди-
видуальный характер, и его не спутаешь ни с каким другим.
Это обилие человеческих характеров дополняется в произведени-
ях реалистов многообразием социальных связей между ними. Писа-
тели-реалисты стремятся показать не только разные судьбы,
но именно социальные судьбы. Все ступени общественной иерархии,
все сферы общественной жизни предстают перед нами в их романах.
Так, например, Стендаль ведет своего Жюльена Сореля вверх
по ступеням социальной лестницы от избушки сельского плотника,
через общество провинциального города в высший свет. Свою гран-
диозную эпопею "Человеческая комедия" Бальзак подразделяет
на циклы: "Сцены провинциальной жизни", "Сцены парижской
жизни", "Сцены частной жизни". Внутри этих циклов он ставит пе-
ред собой задачи - изобразить быт аристократов, буржуа, ростовщи-
ков, врачей, юристов, писателей - буквально по профессиям.
Аналогично Диккенс сам себе делает заказы и выполняет их: воз-
мущается жуткой системой школьного обучения в Англии - и пишет
"Николаса Никльби", возмущается английским буржуазным судом -
и пишет роман "Холодный дом", обеспокоен противоречием между
трудом и капиталом - и пишет роман "Тяжелые времена".
Это стремление к широте охвата общественных явлений выража-
ется и в самих жанрах реалистических произведений.
Эпоха реализма - это прежде всего эпоха расцвета романов-эпо-
пей. Сами названия их свидетельствуют о стремлении авторов к ши-
роте: "Человеческая комедия" Бальзака, "Ярмарка тщеславия" Тек-
керея. "Красное и черное" носит подзаголовок "Хроника времен Ре-
ставрации". "Хроникой времен Карла IX" называет свой историче-
ский роман Мериме. Стремление к широте распространяется и на ро-
мантическую литературу: обширные романы Гюго ("Отверженные",
"Девяносто третий год") - это тоже симптом времени.
Я хотел бы тут оговориться, что это стремление к широте охвата
реальности отнюдь не означает, что все писатели-реалисты были тако-
вы, что они стремились перещеголять друг друга - кто больше напи-
шет. Я подчеркиваю, что это стремление существует как тенденция,
Реализм как художественная система 111
противопоставляемая романтическому уходу от действительности,
погруженной в глубины индивидуального "я" художника. Наиболее
ярко это стремление выразилось у Бальзака: мы увидим, что Стен-
даль и тем более Мериме значительно более экономны в отборе де-
талей. Но для них тоже главным объектом остается реальность, по-
вседневность.
Теперь самое время сказать, что параллельно со стремлением
к широте развивалось - как бы в качестве необходимого уравнове-
шивающего фактора - стремление к отбору наиболее характерных
детален; с самого начала в реализме присутствовала и эта тенденция.
Если линию Бальзака продолжают Золя, Франс, дю Тар, Роллан,
то от Стендаля через Мериме ведет другая линия - к Флоберу
и Мопассану. В данном случае, видимо, сама безмерность объекта -
реальной действительности - заставляет настойчиво искать художе-
ственные принципы отбора, экономности. Здесь на этой точке, так
сказать, мы уже на новом уровне вернемся к той проблеме, которая
составляла предмет постоянных споров реалистов с романтиками -
не влекла ли за собой эта широта и эстетическая универсальность,
нравственный релятивизм, исчезновение идеалов, моральных катего-
рий добра и зла?
Если писатель с равным воодушевлением живописует положи-
тельного героя и героя-злодея, не значит ли это, что он злодея эсте-
тизирует, что ему все ра ю, на ком оттачивать перо? Тут надо сра-
зу и справедливо сказать, что подлинная цель реалистов - не просто
полнота ради полноты, а обнаружение наиболее важных, наиболее
существенных закономерностей жизни человека. Не подлежит сом-
нению, что эти писатели резко критически относятся к буржуазному
миропорядку. Отсюда и вторая главная черта, помимо широты охва-
та, - это критичность. Только с непривычки могло показаться, что ре-
алисты "добру и злу внимают равнодушно", - слишком уж много фа-
ктов и деталей пришло в литературу с их произведениями. Можно ска-
зать, что критика преобладает у них над принципом утверждения.
Характерно, что все попытки создать на фоне буржуазной повсе-
дневности фигуры идеальных героев оказывались значительно менее
удачными. Положительные герои Диккенса милы, трогательны,
но читатель сразу понимает, что их удача в жизни - дело рук авто-
ра, в лучшем случае - случайность. Да, таким должен быть человек.
Но если продолжить эту мысль Ж. Санд, то по меньшей мере надо
признать необходимость того, чтобы изображать, каким не должен
быть человек. А в условиях буржуазного общества это гораздо более
важная задача. И реалисты не просто бесстрастно говорили - таков
человек; нет, они именно всем своим творчеством утверждали: человек
не должен быть таким, как Гобсек или Ребекка, Шарп или мистер
Домби, - только когда он это осознает, он сможет стать лучше. Ра-
зумеется, не только реалисты изображали плохих людей, отравлен-
ных ядом накопительства. Дело не так просто. У Ж. Санд, у Гюго
112
есть яркие образы злодеев. Но в том-то и дело, что они слишком, че-
ресчур ярки. Романтическая эстетика, как правило, не признает по-
лутонов. Помните у русского поэта: "Я царь - Я раб; Я червь -
Я бог". Она исходит из понятия нормы - если это хороший человек,
идеал, то все в нем хорошо; если это плохой человек, то это само во-
площение зла. Образы получались выразительные, яркие, но это бы-
ли больше схемы, типы, лишенные всякой индивидуальности. К то-
му же они зачастую и по-романтически величественны в своем зло-
радстве, так что тут реалисты могли бы даже с большим основанием
обратить против романтиков их же упрек в эстетизации зла!
Если романтическая эстетика и в положительном, и в отрицатель-
ном исходит из схемы, типа (например злодей), то реалистическая эс-
тетика исходит из индивидуального характера. Человек - явление
сложное. В хорошем человеке могут быть плохие черты, у плохого че-
ловека могут быть хорошие черты, побуждения, порывы. Нужно про-
следить, почему в одном человеке побеждает плохое, в другом хорошее;
это зависит во многом не только от самого человека, но и от окруже-
ния, в котором он живет, от конкретных жизненных ситуаций,
в которых он оказывается. Неудивительно, что в произведениях реали-
стов XIX в. нам чаще встречаются обличительные, нежели утверждаю-
щие, картины, что они, как и полагается приверженцам правды, не ри-
суют хороших людей ангелами, а плохих - дьяволами. И те и другие
- люди с конкретными достоинствами и недостатками. Но величайшая
заслуга реалистов даже не в этом, а в том, что они показывают, что пло-
хое в человеке не обязательно идет от самой его натуры, а прежде все-
го обусловливается обстоятельствами, в которых он находится, соци-
альной средой. И это тоже объясняет повышенный интерес к обстоя-
тельствам, окружающим человека. Стремление к универсальности охва-
та действительности и строгой правдивости ее изображения породило
еще одну характерную черту реалистической литературы.
От универсальности идет глубокая синтетичность этого искусст-
ва. И опять-таки соотнесем это с романтиками - уж так они мечта-
ли о создании универсального искусства, но теперь-то с сожалением
видели, что самые универсальные их произведения неудобочитаемы,
что у них универсальность слишком часто оборачивается расплывча-
тостью, аморфностью. В этом смысле реализм гораздо более универ-
сален. Поскольку он поставил себе целью охватить и исследовать
как можно большее пространство реальности, ои (реализм) тем са-
мым решительно отверг всякую возможность каких бы то ни было
внешних ограничений для себя. А отсюда полная свобода в исполь-
зовании художественных приемов, средств.
Реалисты, как домовитые и уверенные в себе хозяева, располага-
ются в литературном доме свободно, без стеснения пользуются тем,
что оставили прежние хозяева. Я уже говорил, как много общего
с романтизмом в произведениях реалистов. Поскольку внутренний
мир индивида существует, поскольку существуют мечты, идеалы,
Реализм как множественная система 113
грезы, они имеют право на существование в реалистической литера-
туре. Фантастика, символика, гротеск - всем пользуются реалисты
для выяснения правды. Они отвергают только одно - какие бы
то ни было каноны, табу, запреты, ограничения для своего стремле-
ния к истине. Поэтому реализм становится искусством высочайшего
синтеза, как бы объединяя в себе достижения предшествующих эпох,
по ставя их на службу одной лишь истине. И это отличает реализм
от всякого подчеркнутого субъективизма в искусстве.
Экспрессионизм, символизм, абстракционизм - это акцентирова-
ние отдельных художественных моментов за счет неизбежного суже-
ния горизонта искусства. Реализму все это тоже доступно, и все это
имеется в нем, но оно занимает свое место в системе объективного
изображения мира.
Теперь нам остается подвести итог всему сказанному выше. Сгруп-
пируем вместе все названные выше основные черты реализма: правди-
вость в изображении обстоятельств, ситуаций, деталей, максимальная
точность реальной действительности, яркая индивидуальность характе-
ров, универсализм, аналитичность, стремление к отбору наиболее ха-
рактерных деталей, наиболее существенных закономерностей.
О. de Бальзак
(1799-1850)
\J -договорим о Бальзаке, это так благотворно", - сказал
однажды его современник Жерар де Нериаль. Последуем его совету.
Произведения каждого писателя или поэта в их совокупности
представляют собой особый поэтический мир, который не спутаешь
ни с каким другим, можно даже сказать, особую страну, живущую
по законам, созданным ее основателем. В этом смысле панораму ду-
ховной культуры, запечатленную в литературе, можно образно пред-
ставить себе как огромную географическую карту, испещренную гра-
ницами, отделяющими друг от друга самые разные страны, от об-
ширных многочисленных государств до тихих провинций, где мало
жителей, где жизнь развивается как бы вглубь, обособленно от все-
го внешнего мира.
На этой карте художественный мир Бальзака более, чем какой-
либо другой, заслуживает названия государства, даже империи, где
автор - неограниченный властелин над необычайно большим числом
подданных. Это впечатление усиливается благодаря тому, что герои
Бальзака свободно переходят из одного произведения в другое, при-
чем каждый раз тщательно фиксируются происшедшие изменения
в их жизни, семенном и общественном положении, одежде, привыч-
ках. В "Отце Горио" Растпньяк - бедный юноша из провинции, при-
ехавший покорить Париж, в более поздних романах ~ это уже свет-
ский лев, дошедший до министерских степеней. Бывший каторжник
Вотрен волею судеб со временем оказывается шефом полиции. Когда
представляешь себе бальзаковскую "Человеческую комедию" во всей
ее эпической совокупности, прежде всего поражаешься этой непобе-
димой иллюзии течения времени, убеждаешься, что ты действитель-
но пожил в особой стране, познакомился с судьбами многих людей,
четко представляешь себе города, улицы, дома этого обширного
О. де Бальзак 115
государства. Надо сказать, что такой эффект был вполне предусмо-
трен автором. Во главе этого государства и стоит писатель Бальзак.
Он и сам считал себя императором от литературы. На его рабочем
столе, на котором создавалось это новое государство, стояла статуя
Наполеона с подписью, сделанной самим Бальзаком, - "Я добьюсь
пером того, чего он добился мечом".
Идея объединить свои произведения в одно целое возникла
у Бальзака в 1884 г., когда были написаны уже многие произведе-
ния, ставшие потом всемирно известными, - "Гобсек", "Шагреневая
кожа", "Полковник Шабер", "Отец Горио". Всецело захваченный
этой идеей, Бальзак так формулировал ее суть и цель в одном из пи-
сем: "Мое произведение должно вобрать в себя все типы людей, все
общественные положения, оно должно воплотить все социальные
сдвиги так, чтобы ни одна жизненная ситуация, ни одно лицо,
ни один характер, мужской или женский, ни один образ жизни,
ни одна профессия, ни чьи-либо взгляды, ни одна французская про-
винция, ни что-либо из детства, старости, зрелого возраста, из поли-
тики, права или военных дел не оказалось забытым".
Универсальность бальзаковского замысла очевидна: здесь и стре-
мление показать движение общества в целом, в развитии каждого от-
дельного характера в психологическом, социальном, даже воз-
растном плане, дать разрез общества и вширь и вглубь.
И эта универсальность беспрецедентна в добальзаковской истории
литературы; разве что гомеровский эпос можно тут вспомнить в качест-
ве аналогии (и Бальзак, кстати, это чувствовал и античных авторов
не раз поминал). Разумеется, мы можем вспомнить и о том, что сама
идея универсальности, универсального искусства, уже возникала
и активно дискутировалась у непосредственных предшественников
Бальзака - романтиков, особенно немецких (Ф. Шлегель). Но то бы-
ла прежде всего именно идея, а тут мы имеем еще и результат. Кроме
того, романтический универсализм выражался в принципиально иных
формах, если анализировать попытки художественного воплощения
этой установки. Вот - для сравнения - сходная как будто бы ситуация
из романтической эпохи - после смерти Новалиса его друг Людвиг
Тик сообщил о его замыслах: «Поэт намеревался написать еще б ро-
манов, в которых он хотел изложить свои взгляды на проблемы фи-
зики, гражданской жизни, активной деятельности, истории, полити-
ки и любви точно так же, как он изложил в "Генрихе фон Офтер-
дингене" свои взгляды на поэзию». Чувствуете разницу? Вроде
бы все с таким же замахом - но и с характерным сдвигом; все так -
и не так. У Новалиса - взгляды на поэзию, физику, политику, лю-
бовь и т. д., все изначально обобщено, отвлечено, речь идет, собст-
венно, не о романах, а скорее о трактатах. Л у Бальзака - "не за-
быть пи одну жизнь", главный акцент - на конкретности.
Этот замысел овладел всем существом Бальзака. Подобно тому,
как он большую часть суток проводил за своим рабочим столом, так
большую часть напряженной духовной жизни он провел в своем ги-
гантском государстве и свыкался со своими героями как с живыми
людьми. Когда он ехал в те места, которые он собирался описать,
он сообщал своим друзьям: "Я еду в Гренобль, где живет доктор Бе-
нассн". Л когда один из его друзей рассказал ему о своей больной
сестре, Бальзак некоторое время рассеянно слушал, а потом пре-
рвал: "Это вес прекрасно, мой друг, но вернемся к действительно-
сти, поговорим об Эжени Гранде".
Бальзак работал беззаветно и упорно. С молодости ои сам был
одержим той жаждой славы и успеха, которая придает налет траги-
ческого величия даже самым низменным обитателям его империи.
Ему, как и многим его героям, пришлось тоже выбиваться из нуж-
ды и безвестности, во многом себе отказывать. При этом его судьба
как писателя необычайно показательна. Поначалу его писательские
упражнения основывались лишь на жажде успеха и обогащения.
В течение десятка лет - до конца 20-х годов - почти до тридцати-
летнего возраста Бальзак пишет массу беллетристики в духе "готи-
ческих романов ужасов", книг чисто романтических ради гонораров.
Ощущая в себе литературный талант, он решает, что ему без денег
не стать тем, кем он хочет - гениальным писателем, славой Фран-
ции. И вот он пишет эти поденки, не давая себе труда ни подумать
над содержанием, ни поработать над стилем; он не гнушается ника-
кими сюжетами, предпочитает сюжеты авантюрные, привлекает
к этому делу своих друзей или вообще темных субъектов от литера-
туры, создает тысячи страниц; к чести его надо сказать, что он под-
писывает их преимущественно псевдонимами и впоследствии реши-
тельно отказывается включать их в число своих сочинений.
И так вплоть до 1828 г., до появления романа "Шуаны" - первого
в сущности крупного произведения, в котором виден почерк гениаль-
ного писателя Бальзака. Уже здесь следует отметить необыкновен-
ную типичность фигуры Бальзака как писателя для своего времени.
Все главные социальные тенденции новой буржуазной эпохи собра-
лись в бальзаковской судьбе как в фокусе. Стремление к научному
познанию реальности запечатлелось в универсальности бальзаков-
ского замысла "Человеческой комедии", в его жадной любознатель-
ности, в его познавательной всеядности.
Буржуазная эпоха, уничтожив сословные привилегии и провоз-
гласив равенство граждан перед законом, необычайно стимулирова-
ла энергию и честолюбие бывших простолюдинов, представителей
"низших" сословий. Но основным условием "продвижения наверх"
она поставила богатство, деньги. Его поденная работа в 20-х годах -
это, конечно, типичное для той эпохи стремление "выбиться в лю-
ди", прежде всего именно с помощью денег, - и если их нет, зара-
ботать их любыми средствами. Бальзак по-буржуазному предприим-
чив - то он организует типографию, то собирается разрабатывать со-
ляные копи. Правда, все эти его попытки заканчивались провалом.
118
Бальзак и честолюбив (приставка "де") и тщеславен (Наполеон
на столе!). Это во многом тот тип, который так проницательно изо-
бразил Стендаль в Сореле. Бальзаку, как и стендалевскому герою,
претит буржуазный этикет, но он во многом следует ему, понимая,
что это единственный путь к успеху и славе.
Годы литературной поденщины не прошли для Бальзака бесслед-
но. Продемонстрировав его поистине титаническую волю и работо-
способность, они в то же время, видимо, притупили в нем чувство
художественного такта и меры, умение отбирать существенное для
изображения того или иного явления. Во многих произведениях
и зрелого Бальзака, если подходить к ним с этим критерием, можно
обнаружить явно излишние длинноты - когда материал как бы за-
хлестывает писателя, размывает все границы формы (например
в "Крестьянах"). Часто есть у него и излишняя сентиментальность.
Но все это, конечно, окупается его стихийной гениальностью, наблю-
дательностью, умением схватывать характерное в изображенном яв-
лении: одна бальзаковская удачно найденная деталь, одно его поэти-
ческое прозрение стоит десятка его поэтических упущений.
Георг Брандес, сравнивая Бальзака с его романтическими совре-
менниками, писал: "Добродушный, широкоплечий, шумный Бальзак
не был титаном: среди поколения штурмовавших небо титанов п тп-
танпд он казался привязанным к земле, принадлежащим к расе ци-
клопов; это был могучий, работавший с гигантской силой строитель;
и этот грубый, бьющий молотом, воздвигающий каменную кладку
циклоп заставил, наконец, свое здание достигнуть такой же высоты,
на какую два великих лирических гения его времени, Гюго и Санд,
просто поднялись на своих крыльях".
Здесь очень тонко подмечена первозданная стихийность бальза-
ковского таланта, его необузданность, неотесанность (другие иссле-
дователи охотно напоминали о том, что Бальзак - земляк Рабле, оба
родом из Турени). Бальзак никогда не придавал принципиального
значения тому, как сказать то пли это - он весь был поглощен тем,
что хотел сказать; замыслы его, как мы помним, были грандиозны-
ми - он хотел рассказать обо всем, чтобы раскрыть весь механизм
общественной жизни, вскрыть всю сеть причинно-следственных свя-
зей в ней. Он не изнемогал над столом в поисках самого точного сло-
ва, как Флобер, - он изнемогал скорее от желания успеть сказать
все, пускай зачастую и первыми пришедшими в голову словами.
Однако не поймите меня так, что Бальзак просто описывал все
без разбору, что эта всеядность была его единственным писательским
и эстетическим принципом. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Баль-
зака интересовала не широта ради широты, а стремление познать си-
стему современного бытия во всей его полноте. И в том многообра-
зии, почти хаосе, которым на первый взгляд может представиться
вся сумма бальзаковских сочинений, тоже, несомненно, есть систе-
ма, есть определенное условное мировоззрение. Вот об этом у нас
О. <)с Бальзак 119
с вами далее и пойдет речь - о том, какая система общественного бы-
тия представлялась мысленному взору писателя Бальзака и какое
художественное отражение нашла эта система в его "Человеческой
комедии". Другими словами, поначалу речь пойдет о мировоззрении
Бальзака. И поскольку он сам рассматривал все свои отдельные про-
изведения как звенья одной единой цепи и системы, поскольку
он считал, что всю свою жизнь пишет одно произведение, то и мы
будем поначалу рассматривать всю "Человеческую комедию" как од-
но гигантское творение, как художественную модель того мира, ко-
торый пытался объять писательским взором Бальзак.
И тогда мы обнаружим, что все частные, так сказать, специально-
эстетические особенности бальзаковского творчества вытекают из этого
его целостного взгляда на мир, на общество. О Бальзаке менее, чем
о ком-либо другом, можно говорить с узко эстетической точки зрения.
Поскольку открыто заявленная цель Бальзака заключалась единствен-
но во всестороннем отражении современного общества, то здесь пер-
вичным поневоле становится именно социологический взгляд.
Бальзаковское стремление выразить весь мир, охватить взглядом
его как единое целое, непосредственно связано с вполне определен-
ной научной и философской идеей того времени.
Свой роман "Отец Горио", который, видимо, и навел его на мысль
основать свое особое поэтическое государство, Бальзак посвятил "ве-
ликому и знаменитому О нт-И л еру в знак восхищения его работами,
его гением". Жофруа де Сент-Илер - действительно знаменитый сов-
ременник Бальзака, профессор зоологии, сформулировавший закон
единства всего органического мира. Основная идея Сент-Илера заклю-
чается в том, что даже в самых высокоорганизованных особях органи-
ческого мира можно обнаружить элементы, присущие самым низкоор-
ганизованным особям, что между первыми и вторыми существует ог-
ромное количество переходных состояний и стадий. Сент-Илер рассма-
тривал все многообразие органического мира как некое единство, осно-
ванное на постепенном развитии от низшего к высшему. Сент-Илер, та-
ким образом, предвосхитил на два десятка лет теорию Дарвина.
Эта идея единства в многообразии покорила и увлекла Бальзака,
и он задался целью показать в своей "Человеческой комедии" анало-
гичное единство в многообразии человеческого общества. Вот роман
"Отец Горио". Казалось бы, ничего не может быть общего между
жалким обитателем пансиона г-жи Воке стариком Горио и законода-
тельницей парижских зал Дельфиной де Нусинген? Но она - его
родная дочь, сумевшая пробиться из низов в верхи общества, пото-
му что она хорошо усвоила его негласные законы. Может ли быть
что-нибудь общее между каторжником Вотреном и блистательной
светской львицей виконтессой де Босеан? Может, отвечает Бальзак,
ибо они, находясь на разных ступенях социальной лестницы, демон-
стрируют одну и ту же общественную мораль, основой которой яв-
ляется эгоизм и материальный интерес.
120
И так вот повсюду Бальзак ищет этот всеобщий закон, конечную
формулу, которая объединяет весь кажущийся хаос современного
мира в единый процесс. Отсюда и его упорное стремление объеди-
нить все свои отдельные произведения в одно целое. Отсюда и по-
стоянное возвращение в новых произведениях одних и тех же ге-
роев - только в разных обличиях, на разных этапах их жизни.
Но это только одна, так сказать, естественно-научная исходная
точка бальзаковского взгляда на мир. Ясно, что он применял откры-
тые Сент-Илером законы естественного мира к человеческому обще-
ству. Но какие специфические общественные законы определяли
бальзаковский анализ человеческого общества? А это означает:
из каких социальных, политических взглядов исходил Бальзак, при-
нимаясь за этот анализ?
Первое и коренное убеждение, которое Бальзак пронес незыблемым
сквозь всю свою сознательную жизнь, - это то, что всему современно-
му обществу и всем его законам положила начало Великая французская
революция 1789 г., что независимо от того, как к ней относятся, она от-
крыла новую эпоху в развитии человечества, и этот процесс уже необ-
ратим. Можно изучать его последствия, можно попытаться как-то вли-
ять на них в лучшую сторону, но самого этого исходного пункта уже
не зачеркнешь. Буржуазная форма бытия воспринимается Бальзаком
как непоколебимая данность, и это сразу резкой чертой отделяет его от
всех романтиков, которые мечтали о возврате патриархального про-
шлого. Отсюда вытекает первая существенная черта структуры бальза-
ковского мировоззрения и творчества - он не просто анализирует сов-
ременное общество как таковое, как некий раскинувшийся перед его
взором ландшафт, - он анализирует его как результат определенного
развития, исходящего из определенной точки - из Французской буржу-
азной революции. Его взгляд по сути никогда, нигде не идет дальше
1789 г. - это тоже резкая противоположность романтикам! - но в то же
время он почти всегда, о какой бы современной проблеме ни говорил,
непременно идет назад, к 1789 г. О каком бы отрезке времени
он ни рассказывал, он выводит его из 1789 г. Биографические анке-
ты его героев непременно включают в себя пункт о том, что делал
этот герой (или его родители) в эпоху Французской революции. На-
чинается ли сюжет очередного романа в 20-е, 30-е, 40-е годы - в экс-
позиции Бальзак обязательно вспомнит об эпохе революции. Подоб-
ный прием потом переймет у Бальзака и Жорж Санд.
Это обстоятельство сообщает особое специфическое качество всем
произведениям Бальзака. Они все остро современны - пожалуй,
впервые во французской литературе появился шпатель такой злобо-
дневный, интересующийся всеми проблемами сегодняшнего дня,
но, с другой стороны, они все постоянно соотносятся с определен-
ным моментом прошлого - с Французской революцией. То есть они
рассматривают современность не только как панораму, развертыва-
ющуюся в пространстве, а еще и как результат определенного разви-
О. де Бальзак
тля во времени, т. е. как процесс. Другими словами, они в одно
и то же время современны и историчны.
Бальзак здесь подхватывает методологию, намеченную уже ро-
мантиками. Наблюдая то же самое общество, и как мы помним, воз-
мущаясь им, романтики почувствовали неодолимую потребность ог-
лянуться на прошлое. Эта потребность была ведь не просто прими-
тивным уходом в прошлое, не только наивным желанием повернуть
историю вспять. Думать так просто о романтиках - значит оглуплять
и их и себя. Многие из них, конечно, с удовольствием живописали
картины былого, не прочь были по ходу дела и потешить себя меч-
тами о невозвратном, но причина, конечно же, была не в этом. Они
были все-таки умней, чем думаем мы, когда упорно утверждаем -
звали в прошлое, уходили в прошлое. Они не просто коллекциони-
ровали образы прошлого, как, скажем, любители коллекционируют
предметы старины. Они по сути первыми в европейской культуре
нового времени остро почувствовали, что для понимания обществен-
ных несчастий человека мало только одних современных, лежащих
перед глазами причин и фактов, что надо смотреть глубже, дальше.
Они начали воспринимать современность не просто как неизвестно
откуда свалившееся состояние, а как результат какого-то развития.
Они первыми научили европейское общество мыслить не только се-
годняшним днем пли строить проекты о дне завтрашнем (так назы-
ваемые утопии), а еще и учиться у прошлого, искать причины ны-
нешнего неблагополучного состояния общества - без взгляда в про-
шлое этих причин не найдешь, причина всегда происходит раньше
следствия, она всегда - прошлый этап! Дело здесь именно в методо-
логии анализа современности - и такую методологию, такой прин-
цип впервые наметили именно романтики. Правда, романтики почти
никогда не соотносили непосредственно историю с современностью,
поэтому нам иногда и кажется, что они писали только о прошлом.
Но, повторяю, историю они постоянно рассматривали как инстру-
мент, как средство познания настоящего (романы Вальтера Скотта).
Вот этот недостающий шаг и сделали реалисты - непосредствен-
но связать историю с современностью, восстановить прямую причин-
но-следственную связь, т. е. вынести на поверхность то, что у роман-
тиков лишь подразумевалось, мыслилось подспудно, не оформля-
лось сюжетно в конкретных ситуациях и образах. Вот методология
Бальзака и есть этот новый шаг - и поэтому мы имеем полное пра-
во говорить о подлинном историзме бальзаковских романов.
Ну и что? - спросите вы дальше. Что тут важного? А важное то,
что из этого принципа историзма неопровержимо вытекает убежде-
ние в исторической закономерности, неслучайности, даже некой вы-
сшей оправданности современного состояния общества. Это убежде-
ние, влекущее за собой очень важные мировоззренческие и художе-
ственные последствия. Ибо если современность не случайна, законо-
мерна, то встает вопрос - он впервые получил прямую, лобовую
формулировку как раз в эту эпоху у Гегеля - нет ли у закономерно-
сти какой-то внутренней разумности? И уж во всяком случае -
не надо ли тогда постараться как-то приладиться к тому состоянию,
раз оно все равно неизбежно и необратимо? Гегель со снисходитель-
ной жалостью смотрел на романтический нигилизм в отношении со-
временной эпохи как на детскую истерию - отрицайте, отрицайте,
а история подвергнет отрицанию и вас самих, ибо таков закон дви-
жения "Мирового духа". Всякое отрицание в конечном счете идет
на пользу поступательно-прогрессирующему движению, и в этом
смысле все существующее разумно. В лице Гегеля новая эпоха пы-
талась занять позицию взвешенной зрелой трезвости. Что толку во-
евать с ветряными мельницами? Ведь надо же жить!
Вот здесь мы и подходим к главному центру бальзаковского ми-
ровоззрения и творчества - его отношению к буржуазному обществу
и принципам поведения человека в этом обществе. Это отношение
было не только однозначно критическим. Дело обстоит сложней.
Читая Бальзака, нетрудно заметить, что при всей его критике бур-
жуазного меркантилизма его в то же время - почти против воли - вос-
хищает раскрепощенная энергия буржуазного индивида, его практиче-
ская хватка, его умение пробиться в жизни. Даже самые несимпатич-
ные образы буржуазных индивидуалистов и эгоистов у Бальзака, осо-
бенно в первых произведениях "Человеческой комедии", овеяны свое-
образной, почти героической атмосферой. Такие герои, как Гобсек, или
старик Гранде, пли Вотрен у Бальзака не только жалкие заложники
денежного интереса, они еще и реальные хозяева нового мира, вла-
стители над судьбами и вещами, характеры огромной воли и энер-
гии, своего рода гении наживы. Бальзаковские персонажи, "выбива-
ющиеся в люди", тоже очень часто обрисованы не как элементарные
карьеристы, а своего рода виртуозы предприимчивости.
Так что относительно Бальзака сказать просто, что он "разоблача-
ет буржуазное общество и буржуазную мораль", значит сказать пока
всего лишь общую фразу, трюизм, который не раскроет нам всей спе-
цифичности бальзаковского отношения к буржуазному миропорядку.
Эту специфику в нашем литературоведении в свое время подметил
и разработал Д. Обломиевский. Но Обломневскнй слишком прямоли-
нейно-социологически подходит к творчеству Бальзака, рассматрива-
ет его только как глашатая среднебуржуазиого класса, ла и слишком
утрирован его вывод об "апологии капитализма" в творчестве Бальза-
ка. Бальзак, конечно же, не апологет капитализма, но, как я уже го-
ворил, он и не отрицает буржуазный строй безапелляционно и абсо-
лютно. Сам Обломиевский в этом же исследовании находит более точ-
ный термин для выражения бальзаковского отношения к современно-
сти - он говорит о бальзаковском "пафосе" в изображении буржуаз-
ного предпринимательства, практического освоения жизни.
Но у этого "пафоса" практики как следствия идейного убеждения
писателя есть и другая сторона. Тот же Обломневскнй формулирует
О. дс Бальзак
ее так: "Бальзак поднял практику на уровень эстетического объекта".
Такая точка зрения прямо противоположна романтическому высокомер-
ному презрению к бурзжуазной "прозе". Романтики игнорировали ма-
териальный, вещественный мир - Бальзак детально, даже растянуто его
описывает. Причем сразу бросается в глаза бальзаковская объектив-
ность, бесстрастность этого описания. Окружающий его вещественный
мир именно интересен ему сам по себе, в своей объективной неисчерпа-
емости. Нужно почувствовать эту бальзаковскую одержимость внешним
миром. Ведь если Бальзак, скажем, в "Утраченных иллюзиях" расска-
зывает о крушении планов Давида Сешара, изобретшего дешевый спо-
соб изготовления бумаги, то он касается не только психологии страда-
ющего от неудачи героя, но и детальнейшим образом описывает и сам
процесс изготовления бумаги во всех его технологических подробностях
и процесс банкротства Давида во всех его юридических деталях.
Очень отчетливо эта особенность бальзаковского мировоззрения
н творчества проявляется в его отношении к пейзажу. Пейзаж
у Бальзака выступает в совершенно иной функции, нежели это бы-
ло у его предшественников. Романтики, вдохновленные прежде все-
го Руссо, как мы знаем, всегда одушевляли пейзажи - пейзаж у них
весь вибрирует их собственными волнениями и переживаниями,
он всегда эмоционально окрашен, он живет не сам по себе, а чувст-
вами описывающих его поэтов. Помните романтическую ночь, ро-
мантический лес - это ведь не просто фон и место действия, это как
бы живые, дышащие герои, образы, пронизанные чувством поэта.
Но это не только привилегия романтиков. Многие реалисты продол-
жали тоже этот одухотворенный пейзаж. Наверняка, у вас у всех
еще живы в памяти школьные фразы, скажем о Тургеневе, да и обо
всех других писателях, что у них пейзаж всегда отражает чувства ге-
роев пли контрастирует с ними и т. п. В результате мы так привык-
ли к этому, что иного и представить себе не можем. Пейзаж вроде
бы для того в романах и существует, чтобы отражать чувства героя,
и чем больше он их отражает - по совпадению и по контрасту, -
тем больше мастерства мы предполагаем в писателе.
Между тем, оказывается, бывали в истории литературы и другие
случаи, к которым этот трафарет совсем не подходит. Бальзак - писа-
тель такого типа. Вот этого писателя пейзаж интересует просто и как
фон действия - фон объективный, независимый от человека, нейтраль-
ный к нему, но тем не менее заслуживающий пристального писатель-
ского внимания. Бальзаку важно все, что окружает его героев в реаль-
ной жизни. И поэтому природа интересует его тоже как окружение -
точно так же, как интерьер жилищ, обстановка комнат и т. д.
Чтобы еще яснее подчеркнуть эту мысль, обращу ваше внимание на
собственно городской пейзаж у Бальзака. Многие писатели XIX в., про-
должая здесь традиционную линию, изображали городской пейзаж то-
же одухотворенным. Как правило, городской пейзаж рассматривал-
ся как противоположность природе, ландшафту. Отрицательное
124
отношение к буржуазности, связанное прежде всего с городом, вы-
ражалось в том, что городской пейзаж описывался всегда как извра-
щенное, неестественное окружение человека, как материальное во-
площение человеческой зависимости от вещного индустриального
мира. Буржуазный город давит на человека грузом камня, дымом
из фабричных труб, спертым воздухом скученного быта. Вот я вы-
писал для вас почти наугад зачины глав из первого подвернувшего-
ся под руку диккенсовского романа: "Сити выглядело далеко не при-
влекательно, когда Белла проходила по его пыльным улицам. Поч-
ти все денежные мельницы кончили махать крыльями и в этот день
больше не мололи. ...У деловых подворьев и переулков был какой-
то испитой вид, и даже мостовые выглядели усталыми, словно изму-
ченными поступями миллионов".
Еще один пример из романа "Наш общий друг": "В Лондоне был
туманный день и туман лежал густой и темный. Одушевленный Лон-
дон с красными глазами и воспаленными легкими моргал, чихал и за-
дыхался, неодушевленный Лондон являл собой черный от копоти при-
зрак, который колебался в нерешительности, стать ли ему видимым
или невидимым, и не становился ни тем, пи другим. Газовые рожки го-
рели в лавках бледным, жалким светом, словно сознавая, что они ноч-
ные создания и не имеют права светить при солнце, а само солнце,
в те редкие минуты, когда оно проглядывало тусклым пятном сквозь
клубившийся туман, казалось угасшим, давно остывшим".
Таких примеров у Диккенса можно найти сотни. Совершенно от-
четлива здесь эмоциональная окраска. Тут пейзаж интересен явно
не сам по себе, а как средство для создания определенного эмоцио-
нального настроя. Не случайно у Диккенса пейзаж дается только
в начале главы - он явно играет роль эмоционального ключа к даль-
нейшему повествованию. Л вот - тоже наугад - отрывок из Бальза-
ка. «Главным фасадом пансион выходит в садик, образуя прямой
угол с улицей Нсв-Сен-Жспевьев, откуда видно только боковую стену
дома. Между садиком и домом, перед его фасадом, идет выложенная
щебнем неглубокая канава шириною в туаз, а вдоль нее песочная до-
рожка, окаймленная геранью, а также гранатами и олеандрами в боль-
ших вазах из белого и синего фаянса. Для входа на дорожку с улицы
сделана калитка; над ней прибита вывеска: "Дом Воке", а ниже "Се-
мейный пансион для лиц обоего пола и прочая". Если заглянуть днем
в решетчатую калитку со звонким колокольчиком, то против улицы,
в конце канавы, видна стена, где местный живописец нарисовал ар-
ку под зеленый мрамор, а в ее нише изобразил статую Амура».
Надеюсь, вы почувствовали, что противоположность этих двух
описаний разительна. Можно ли по этому описанию из "Отца Горно"
предположить, что в стенах пансиона разыграется такая страшная че-
ловеческая трагедия? С такою же вероятностью мы можем здесь ожи-
дать и самую забавную комедию - в то время как диккенсовское опи-
сание грязного закопченного Лондона настойчиво, целенаправленно
О. де Бальзак 125
действует на нас с огромным эмоциональным внушением - мы уже
знаем, что тут ничего хорошего не жди. Диккенс дает именно эмоци-
ональный ключ, Бальзак дает простую топографию, описание места
действия лишь с легкой иронической искрой под конец. В целом же
пейзаж для него значителен сам по себе, он, как правило, эмоцио-
нально абсолютно нейтрален. (Конечно, можно встретить у Бальза-
ка и исключения, но они, как всегда, лишь ярче оттеняют правило.)
Вся эта самостоятельная, независимая от человека значимость
пейзажа - одно из самых ярких свидетельств бальзаковского инте-
реса к объективному бытию.
Но, как мы уже видели, Бальзак идет и еще дальше. Он не про-
сто подробно и объективно воссоздает обыденность буржуазного бы-
тия - для Бальзака как раз в этой обыденности есть своя мифоло-
гия. Здесь он уже откровенно полемически заостряет свою точку зре-
ния против романтической. То, что для романтиков было только по-
шлым, мелочным, не заслуживающим серьезного душевного участия
и затрат творческих усилий, для Бальзака становится значительным,
важным. Когда он пишет роман "Величие и падение Цезаря Биро-
то", роман о банкротстве мелкого парижского парфюмера, он не толь-
ко в самом заглавии шутливо напоминает о книге Монтескье "Причи-
ны величия и падения римлян", но и не случайно дает своему герою
имя Цезаря и сравнивает его судьбу с судьбою героев Троянской вои-
ны и с судьбою Наполеон;. «Троя и Наполеон, - пишет Бальзак в пре-
дисловии к роману, - всего лишь героические поэмы (обратите внима-
ние на это парадоксальное "всего лишь"!). Пускай эта книга будет эпо-
сом буржуазных судеб, о которых не помышлял ни единый поэт -
до такой степени они лишены всякого величия». Здесь, конечно, отчет-
ливо звучит ирония, но важнее здесь, так сказать, серьезная мысль -
вот до сих пор считалось, что буржуазные судьбы лишены всякого ве-
личия, а Бальзак все-таки отваживается говорить об "эпосе" буржуаз-
ных судеб. Ту же мысль он высказывает и в "Евгении Гранде": "Че-
рез три дня должна была произойти страшная драма, буржуазная
трагедия без яда и кинжала, без пролития крови, но более жестокая,
чем любая драма в знаменитой семье Атридов". И само название
бальзаковской эпопеи тоже призвано вызвать ассоциации с великим
произведением - "Божественной комедией" Данте.
Вот эта глубочайшая увлеченность прозой буржуазного бытия, этот
эпический пафос в ее изображении и были как раз тем, что смутило
в Бальзаке романтических современников, - им показалось, что тем са-
мым Бальзак всецело приемлет и освящает эту прозу, воспевая ее.
Вот тут самое время обратиться и к другой стороне отмеченного
нами противоречивого отношения Бальзака к буржуазному общест-
ву. Восхищаясь чисто волевыми качествами буржуа, его упорной де-
ловитостью, укорененностью в реальной жизни, Бальзак в то же вре-
мя не забывал и о моральной стороне этой цепкости и изощренности.
Да, эта энергия, несомненно, порождение и завоевание буржуазного
порядка, и долг писателя - исследовать ее со всей серьезностью. Но во-
прос весь в том, на что направлена эта энергия, этот практический ум?
II тогда мы увидим, что там, где направление и конечная цель
этой энергии, этого практицизма обнаруживают свою этическую не-
состоятельность, Бальзак осуждает это достаточно остро. Квинтэс-
сенция этой мысли - те же самые образы буржуазных дельцов
у Бальзака. Его "гении наживы" - Гобсек и Гранде, казалось бы,
всесильны, они обладают почти неограниченной, почти деспотиче-
ской властью над другими, но что дает это им самим? Умный, про-
ницательный, энергичный Гобсек умирает в своей комнатушке, ря-
дом с которой гниют, превращаются в мерзкий хлам вещественные
свидетельства его власти над другими людьми. Миллионы, которы-
ми владеет старик Гранде, не только разрушают жизнь его ближ-
них - его жены и дочери, но и самого его лишают человеческого об-
лика, всех естественных импульсов души. Чем энергичней человек
в своих утилитарных стремлениях, тем безжалостней идет процесс
его собственной деградации как личности.
Это относится и к героям другого типа - приспособленцам (вроде
Люсьена). Чем солиднее положение Люсьена в литературном мире,
чем ближе он как будто к славе и влиянию, тем ничтожнее становится
он как личность. Так переворачивается у Бальзака ситуация, и не че-
ловек, как казалось бы на первый взгляд, а деньги и вещи обретают
абсолютную власть над людьми. Эта мысль в конечном счете опреде-
ляет и всю бальзаковскую эстетику. Он подробно, скрупулезно, как
будто упоенно, изображает внешний мир, окружающий человека, по-
истине создает поэзию прозы, но за этим пафосом скрывается и горь-
кая конечная мысль, которую Бальзак наиболее четко выражает в ро-
мане "Беатриса": "Рамы должны предшествовать портретам. Каждый
поймет в таком случае, что вещи господствуют над человеком".
Но это пока еще только одна сторона вопроса, это пока еще кон-
статация тех потерь, которые приносит меркантилизм буржуазному
индивиду. Ситуация еще более заостряется, когда мы посмотрим
на судьбы людей, окружающих этого индивида и еще не успевших,
не сумевших принять и усвоить новую этику. Евгения Гранде - одна
из самых несчастных жертв этой прагматической морали. Отец Горио
- другая жертва, дочери выжали из него все деньги и отшвырнули его
от себя. Цезарь Бирото, полковник Шабер, Давид Сешар в "Утрачен-
ных иллюзиях" - все это жертвы практического расчета. Трупами
этих жертв буквально усеяны романы Бальзака. В конечном плане
"Человеческая комедия" оказывается в самом точном смысле этого
слова обвинительным актом новой системе отношений. Но в то же вре-
мя, как видите, здесь все не так уж просто и однозначно.
Вот теперь, когда мы представили себе общий взгляд Бальзака на
механику взаимодействия между личностью и обществом в буржуаз-
ном мире, когда мы представили себе всю диалектику бальзаковско-
го отношения к буржуазному порядку, легче понять и чисто полнтн-
О. де Бальзак 127
ческие взгляды Бальзака, существенно изменявшиеся в течение его
жизни. В юности, в 20-х годах, он был республиканцем - причем
республиканцем довольно абстрактным, не связывающим с идеей
республики никаких конкретных государственно-политических пред-
ставлений, просто вольнодумцем, сторонником абстрактной идеи ра-
венства и свободы. В зрелые годы он стал легитимистом - сторонни-
ком конституционной монархии, как наиболее эффективной формы
управления государством. В 40-е годы он все более стал склоняться
к идее буржуазной республики, хотя, правда, этот поворот в миро-
воззрении Бальзака запечатлелся лишь в его публицистике. Здесь
наиболее сложная проблема - легитимизм зрелого Бальзака. Легити-
мизм, монархизм всегда связаны, конечно, с аристократизмом убеж-
дений, с симпатией к дворянству. Страсть ко всему аристократиче-
скому, несомненно, присутствовала в натуре Бальзака и часто при-
нимала весьма наивные и даже смешные формы. Я уже говорил вам
о том, как он самолично добавил к своему отнюдь не аристократиче-
скому имени приставку "де". Всю жизнь осаждаемый кредиторами,
он обставлял свои квартиры с безвкусной роскошью, все в долг,
а бывать в них ему приходилось редко, потому что часто приходи-
лось прятаться в меблированных комнатах и у друзей от кредиторов.
Но все это - и причуды характера, и, как мы уже отметили, типич-
ные черты новой эпохи. В то же время в своих произведениях Баль-
зак, не скрывая своего 5похищения перед роскошью и изысканно-
стью аристократического мира, перед утонченностью аристократов
и аристократок, великолепно изобразил их избалованность и развра-
щенность. Бальзак показал, что аристократы, как правило, тоже уже
заражены буржуазной расчетливостью, хотя они еще и не приобре-
ли буржуазной деловитости: приспособившись к морали, они не при-
способились к практике. Таким образом, бальзаковский легитимизм
вовсе не есть принципиальное политическое убеждение, а скорее весь-
ма романтическое желание сохранить красоту аристократического бы-
та и благородства духа. Под аристократизмом он подразумевал скорее
категорию моральную и эстетическую, чем социальную. Вот если бы
удалось эти достоинства уходящего аристократизма соединить с бур-
жуазным практическим расчетом - вот это, наверное, и был идеал
Бальзака, и тут я напомню о его излюбленных положительных героях
- ученых, предпринимателях, прожектерах, соединяющих в себе эти
качества; людей, мечтающих принести практическую пользу всем лю-
дям. Вот это и есть подлинные аристократы духа, как Мишель Креть-
ен, хотя он и по политическим убеждениям республиканец.
Подобными противоречивыми установками, конечно, и объясня-
ется расплывчатость, неконкретность идеологии Бальзака, его коле-
бания, его путь от юношеского республиканизма к легитимизму и за-
тем опять к республиканизму уже более зрелому. Повсюду у Баль-
зака политические его высказывания явно окрашены субъективным
опытом и сугубо личными, биографическими эмоциями. В "Утрачен-
ных иллюзиях" есть очень меткое замечание о юношеском республи-
канизме Люсьена, по-видимому, проливающее свет и на раннее воль-
нодумство самого Бальзака.
"Он, - пишет Бальзак о Люсьене, - скоро уловил покровитель-
ственный тон в обращении ангулемской знати, и в нем загорелась
злоба, укрепившая его в исполненных ненависти республиканских
чувствах, с которых многие из этих будущих патрициев начинают
свою великосветскую карьеру". Это очень язвительное замечание
зрелого Бальзака! Стать республиканцем из-за невозможности стать
патрицием - весьма характерная деталь! Поздний республиканизм
Бальзака - уже более серьезное убеждение. Но поздние республи-
канские убеждения Бальзака выразились лишь в нескольких публи-
цистических статьях, выступлениях и не успели органично войти
в художественную систему Бальзака, в его "Человеческую коме-
дию". А если они и входили в эту систему (например, в "Утрачен-
ных иллюзиях" образ Мишеля Кретьена), то еще очень абстрактно,
неисторично: республиканский принцип Бальзак воспринимал чисто
эмоционально, как свидетельство внутреннего благородства духа -
того самого бальзаковского "аристократизма". Поэтому для него бы-
ли в равной степени моральными эталонами и легитимист д'Артез,
и республиканец Кретьен. Не оттого ли получилось, что в лучших
произведениях "Человеческой комедии", написанных в 30-х годах,
Бальзак воспринимался как сторонник преимущественно легитими-
стского принципа? Такому толкованию, очевидно, способствовал
и тот факт, что Бальзак в основном остался в стороне от социальных
революционных теорий своего времени, прежде всего утопического
социализма Сен-Симона и Фурье, которым воодушевлялись Гюго
и Ж. Санд. На фоне этих писателей Бальзак казался, конечно, еще ме-
нее утопистом, хотя, несомненно, идеи Сен-Симона, если всмотреться
глубже, тоже входили в мировоззрение Бальзака, только в более опо-
средованной форме, чем у Гюго или Ж. Санд. Бальзаковские проже-
ктеры - идеалисты - или его доктор Бонасси - это, конечно, даль-
ние родственники сен-симонизма. Это тоже веяние времени.
Теперь, после того как я попытался дать вам общее представление
о Бальзаке как человеке и писателе, присмотримся ближе к тому, какое
конкретное выражение находили его взгляды и идеи в его творчестве.
Как я уже говорил, оригинальное творчество Бальзака можно
рассматривать начиная с 1828 г. - с появления его исторического ро-
мана "Шуаны" - о восстании шуанов в Вандее против термидориан-
ского правительства Директории. В этом романе исторические собы-
тия организуют еще и авантюрную интригу в духе романтической
эпохи. Но в подходе к самим этим событиям чувствуется, что Баль-
зак распрощался с ремесленническими принципами своей прежней
литературной деятельности, что он обратился к благородным, серь-
езным образцам для подражания - он явно следует В. Скотту в стре-
млении нарисовать широкое историческое полотно, уловить законы
О. дс Бальзак 129
движения истории. И очень показательно, что, хотя Бальзак
и не продолжал далее своих попыток в жанре исторического рома-
на, все-таки свою "серьезную" литературную жизнь он начал с про-
изведения об эпохе Французской буржуазной революции! То, что
я говорил о специфическом историзме бальзаковской эпопеи, еще
раз подтверждается этим фактом.
В 30-е годы Бальзак целиком обращается к описанию нравов
и быта современного буржуазного общества. У истоков "Человеческой
комедии" стоит небольшая повесть "Гобсек", появившаяся в 1830 г. Хо-
тя внешне это как будто новелла целиком портретного плана, своего ро-
да психологический этюд, она тем не менее заключает в себе все узло-
вые моменты бальзаковского мировоззрения, и нам теперь будет лег-
че распознать и выделить эти моменты.
Новелла была наряду с романом излюбленным жанром Бальзака.
При этом многие новеллы Бальзака построены не вокруг определен-
ного центра - хотя в них повествуется иногда о весьма драматиче-
ских перипетиях, - а вокруг определенного психологического типа.
В совокупности бальзаковские новеллы представляют собой как бы
портретную галерею различных типов человеческого поведения, се-
рию психологических этюдов. В общем замысле "Человеческой ко-
медии" они - как бы предварительные разработки характеров, кото-
рых потом Бальзак уже в качестве героев выпускает на страницы
своих крупных сюжетных романов.
И вот чрезвычайно показательно, что первым в этой галерее ти-
пов появляется Гобсек, ростовщик, одна из ключевых, главных фи-
гур всего буржуазного века, как бы символ этой эпохи. Что предста-
вляет собой этот новый психологический тип? В нашей критической
литературе, к сожалению, образ Гобсека часто истолковывается од-
носторонне. Если не читать самой повести, а почитать иные крити-
ческие суждения о ней, то нам представится образ этакого паука, вы-
сасывающего кровь из своих жертв, человека, лишенного всяких ду-
шевных движений, думающего только о деньгах, - в общем фигура
эта, как можно себе представить, изображена Бальзаком с ненави-
стью и омерзением.
Но если вы внимательно прочтете саму повесть, вас, вероятно, не-
сколько смутит категоричность этих жестко отрицательных суждений.
Потому что в повести вы увидите и услышите зачастую нечто совер-
шенно противоположное: рассказчик, вполне положительный и чест-
ный человек, адвокат Дервиль, говорит о Гобсеке, например, вот так:
"Я глубоко убежден, что вне своих ростовщических дел он - человек
самой щепетильной честности во всем Париже. В нем живут два суще-
ства: скряга и философ, существо ничтожное и возвышенное. Если
я умру, оставив малолетних детей, он будет их опекуном". Повторяю,
это говорит рассказчик, который явно выступает от лица автора.
Вот давайте присмотримся к этому странному персонажу. Гобсек,
вне всякого сомнения, безжалостен к своим клиентам. Он дерет
130
с них, что называется, три шкуры. Он "ввергает людей в трагедии",
как говорилось встарь.
Но давайте зададим логический вопрос - а кто его клиент, с ко-
го он берет деньги? В новелле фигурируют два таких клиента - Ма-
ксим де Трай, светский хлыщ, игрок и сутенер, проматывающий
деньги своей любовницы; сама любовница - графиня де Ресто, сле-
по влюбленная в Максима и обворовывающая мужа и детей ради лю-
бовника. Когда ее супруг тяжело заболевает, его первая забота - со-
ставить завещание так, чтобы деньги остались не жене, а детям; и то-
гда графиня, поистине теряя человеческий облик, ограждает кабинет
умирающего графа неусыпным надзором, чтобы помешать ему пере-
дать завещание нотариусу. Когда граф умирает, она бросается к по-
стели мертвеца и, отшвырнув труп к стенке, роется в постели!
Чувствуете, как это осложняет ситуацию? Ведь это разные ве-
щи - грабит ли ростовщик Гобсек просто беспомощных, попавших
в беду людей, или вот таких людей, как эти? Тут надо быть, види-
мо, осторожнее в оценке Гобсека, а то нам придется по логике вещей
жалеть бедных Максима де Трайя и графиню де Ресто! Но, может
быть, Гобсеку все равно кого грабить? Сегодня прижал графиню
и Максима, завтра прижмет порядочного человека?
Давайте послушаем самого Гобсека: «Уходя от графини, я уви-
дел иа дворе уйму всякой челяди - лакеи чистили щетками ливрей-
ские фраки, наводили глянец на сапоги, конюхи чистили роскошные
экипажи. И я подумал: "Вот что гонит ко мне знатных господ. Вот
что заставляет их пристойным образом красть миллионы, продавать
свою родину. Чтобы не запачкать лакированных сапожек, расхажи-
вая пешком, важный барон готов с головой окунуться в грязь"».
Видите, насколько сложнее выглядит фигура Гобсека на самом
деле? Нас уверяют, что он чуть ли не пьет кровь людскую, а он Ма-
ксиму де Траю бросает в лицо: "У вас в жилах течет не кровь,
а грязь". Он говорит Дервилю: "Я появляюсь у богатых как возмез-
дие, как укор совести... Я люблю пачкать грязными башмаками -
не из мелочности, а чтобы они почувствовали когтистую лапу неот-
вратимости... Для охраны своего добра богачи изобрели трибуналы,
судей, гильотину... Но для них, для людей, которые спят на шелку
и укрываются шелком, существует кое-что иное: укоры совести,
скрежет зубовный, скрываемый улыбкой химеры с львиной пастью,
вонзающей свои клыки им в сердце..!"
Вот, оказывается, какой Гобсек-то! Но, может быть, это все де-
магогия, а на поверку Гобсек с таким же удовольствием обдирает
и бедных и честных людей? Бальзак, как бы предвидя и этот воп-
рос, вводит в свою новеллу историю с белошвейкой Фанни - к ней
Гобсек чувствует симпатию, увлечение: "Передо мной, несомненно,
была девушка, которую нужда заставила трудиться, не разгибая спи-
ны - вероятно, дочь какого-нибудь честного фермера... От нее вея-
ло чем-то хорошим, по-настоящему добродетельным. Я как будто
О. де Бальзак 131
вступил в атмосферу искренности, чистоты душевной, и мне даже как-
то легче стало дышать... Сравнить только чистую, одинокую жизнь
этой девушки с жизнью богатой графини, которая уже принялась под-
писывать векселя, а скоро скатится на самое дно всяческих пороков!"
Не надо обладать никаким особенным чутьем, чтобы увидеть, что
эти речи не лицемерны: они звучат совершенно искренне, они сочи-
нялись Бальзаком для того, чтобы оттенить именно человеческую
суть Гобсека! Правда, в этой же сцене Гобсек, расчувствовавшись,
чуть не предлагает ей денег взаймы по минимальной ставке, "всего
лишь из 12%", но потом передумывает. Это как будто звучит сарка-
стически, но если вдуматься в ситуацию, она опять-таки сложнее.
Потому что у Бальзака здесь нет насмешки - наоборот, здесь колеб-
лется вся твердыня гобсековского существования! Он ростовщик,
безжалостный будто бы персонаж, сам готов предложить деньги
в долг, и он настолько забывается при виде Фанни, что готов потре-
бовать минимальный в его понимании процент. Разве не очевидно,
что здесь Бальзаку важно не поиздеваться над сентиментальностью
Гобсека, а подчеркнуть именно всю его потрясенность - в нем заго-
ворили явно человеческие, гуманные чувства! Его профессиональ-
ный инстинкт остался сильней, но любопытно, что и его отказ
от этой идеи обусловлен не жадностью, а скепсисом, недоверием
к людям: "Ну нет, образумил я себя, у нее, пожалуй, есть молодой
двоюродный братец, который заставит ее подписывать векселя и об-
чистит бедняжку!" То есть Фанни одной Гобсек все-таки готов был
оказать добро! Здесь перед нами не столько сарказм или сатира,
сколько глубокое психологическое озарение Бальзака, здесь раскры-
ваются трагические стороны человеческой психологии - даже стре-
мясь сделать достойным людям добро, он не решается на этот шаг,
потому что вся его психология уже отравлена недоверием к людям!
В сложности характера Гобсека, в недюжинных человеческих ре-
сурсах его души убеждает нас весь сюжет повести. Ведь в конце
ее именно Гобсеку доверяет умирающий граф де Ресто защищать
своих детей от интриг собственной матери! Граф, стало быть, подра-
зумевает в нем не только честность, но еще и человечность! Далее,
когда Дервиль собирается основать собственную нотариальную кон-
тору, он решается попросить денег у Гобсека, потому что чувствует
его дружеское расположение. Следует еще одна блестящая психоло-
гическая деталь - Гобсек просит у Дервиля минимальную в его пра-
ктике сумму процентов, он сам понимает, что она все равно высока,
и потому почти требует от Дервиля, чтобы тот поторговался!
Он буквально ждет этой просьбы - чтобы опять-таки и самому не на-
рушить своего принципа (меньше 13% не брать). А вот попроси Дер-
виль, он еще больше снизит сумму! Дервиль в свою очередь не хо-
чет унижаться. Сумма остается 13%. Но Гобсек уж, так сказать, без-
возмездно организует ему дополнительную и выгодную клиентуру.
А на прощание просит у Дервиля разрешения навещать его. Перед
132
вами в той сцене опять не столько паук, сколько жертва собственной
профессии и собственного недоверия к людям. Позже, расплатив-
шись, Дервиль спросит: "Почему он, желая помочь мне, своему дру-
гу, не позволил себе оказать это благодеяние бескорыстно". И Гоб-
сек ответил ему: "Сын мой, я избавил тебя от признательности,
я дал тебе право считать, что ты мне ничем не обязан. И поэтому
мы с тобой лучшие друзья в мире".
Так Бальзак с тончайшим психологическим мастерством обнажа-
ет перед нами тайные нервы этой странной души, "фибры сердца со-
временного человека", как говорил Стендаль. Этот человек, будто
бы несущий "зло, уродство и разрушение", в действительности сам
глубоко ранен в душе. Его проницательный острый ум до предела
холоден. Он видит царящее вокруг зло, но он еще убеждает себя, что
он только это и видит: "Нет на земле ничего прочного... Незыблемо
только одно-единственное чувство, вложенное в нас самой приро-
дой - инстинкт самосохранения... Вот поживете с мое - узнаете, что
из всех земных благ есть только одно достаточно надежное, чтобы
стоило человеку гнаться за ним. Это - золото". И, убедившись
в этом, Гобсек идет и дальше: "Человек везде одинаков: везде идет
борьба между богатыми и бедными... И она неизбежна. Тогда уже
лучше самому давить, чем позволять, чтобы другой тебя давил".
Вырвите эти фразы из общего контекста, процитируйте их - и пе-
ред нами законченная утилитарная мораль. Но Бальзак показывает
нам тот путь мысли, который привел героя к такой этике, он показы-
вает нам во всей ее сложности ту душу, которая исповедует такие
принципы, - и тогда эти слова звучат уже трагически. Гобсек оказы-
вается человеком глубоко несчастным; окружающее зло, деньги, золо-
то - все это исказило его честную и добрую в основе натуру, отравило
ее ядом недоверия к людям. Он чувствует себя совершенно одиноким
в этом мире. "Если человеческое общение меж людьми считать своего
рода религией, то Гобсека можно было назвать атеистом", - говорит
Дервиль. Но в то же время жажда настоящего человеческого общения
в Гобсеке не умерла совсем, недаром он так потянулся душой к Фан-
ни, недаром он так привязывается к Дервилю и в скудную меру своих
сил порывается делать добро! Но логика буржуазного мира, по Баль-
заку, такова, что эти порывы чаще всего остаются именно мимолетны-
ми порывами - или приобретают гротескный, искаженный характер.
Другими словами, Бальзак рисует здесь не трагедию Максима
де Трайя и графини де Ресто, попавших в лапы к пауку-ростовщи-
ку, а трагедию самого Гобсека, душу которого исказил, искривил за-
кон буржуазного мира - человек человеку волк. Ведь как бессмыс-
ленна и трагична в одно и то же время смерть Гобсека! - Он умира-
ет совершенно одиноким рядом с гниющим своим богатством - уми-
рает уже как маньяк! Его ростовщичество, его прижимистость не хо-
лодный расчет, а болезнь, мания, страсть, поглощающая самого че-
ловека. Не нужно забывать и о его мстительном чувстве к богатым!
О. де Бальзак 133
И не случайно, конечно, вся эта повесть вложена в уста Дсрвплю,
который рассказывает ее в великосветском салоне, - эта история яв-
но построена на том, что Дервиль пытается разубедить своих слуша-
телей, во всяком случае рассказать им правду о жизни Гобсека. Ведь
его слушатели знают эту историю от тех же гобсековскнх жертв -
от того же Максима, от той же графини де Ресто. И у них, конечно,
представление о Гобсеке такое же, как в цитированных мною выше
критических суждениях, - он злодей, преступник, он несет зло,
уродство, разрушение, а Дервиль - адвокат по профессии - строит
весь свой рассказ на смягчающих обстоятельствах. И вот так пара-
доксальным образом именно судьба Гобсека становится обвинитель-
ным приговором буржуазному обществу - его судьба, а не судьба
Максима и графини де Ресто!
Но осознав это, мы осознаем и серьезный художественный про-
тест Бальзака в этом образе. Ведь, вынося обвинительный приговор
меркантильной этике, Бальзак в качестве главной жертвы и обвини-
теля выбирает, конечно, фигуру, не самую для этой роли подходя-
щую. Даже если допустить, что были и такие ростовщики, то вряд ли
можно допустить, что такая судьба ростовщика была характерной.
Она, безусловно, исключение. Между тем, Бальзак явно подымает
эту историю над рамками частного случая, он придает ей обобщаю-
щий, символический смысл! И вот для того, чтобы роль Гобсека как
обвинителя общества вы лядела правомерной, чтобы авторская сим-
патия к герою выглядела оправданной, автор не только дает тонкий
психологический анализ души Гобсека (что мы видели выше),
но и подкрепляет это своеобразной демонизацией образа. А это уже
процедура чисто романтическая. Гобсек показан как гениальный,
но зловещий знаток человеческих душ, как своего рода их исследова-
тель: "Все человеческие страсти проходят передо мной, и я произво-
жу им смотр, а сам живу в спокойствии... Научную Вашу любозна-
тельность я заменяю проникновением во все побудительные причины,
которые движут человечеством. Словом, я владею миром, не утомляя
себя, а мир не имеет надо мной ни малейшей власти..."
И в другом месте: "У меня взор, как у господа бога, - я читаю
в сердцах. От меня ничто не укроется. Да и кому под силу скрытни-
чать с тем, у кого в руках мешок с золотом? Я достаточно богат, что-
бы покупать совесть человеческую, управлять всесильными минист-
рами через их фаворитов... Это ли не власть? Я могу, если пожелаю,
обладать красивейшими женщинами... Это ли не наслаждение? Та-
ких, как я, в Париже человек десять; мы - властелины ваших судеб,
тихонькие, никому не ведомые". Подобные тирады, разумеется, -
сгущенное, концентрированное изображение власти золота - нового
кумира человечества. Но как показательно, что эти тирады в бальза-
ковском тексте вложены в уста ростовщика, и не просто ростовщика,
а человека, которого, как мы видим, Бальзак во многом оправдывает.
И именно в силу этого они получают ие только обличительный,
134
но и - от этого никуда не денешься - так сказать, утверждающий тон.
Бальзак как бы против воли любуется всемогуществом своего героя.
Вот здесь как раз отчетливо видны следы того бальзаковского
пафоса в изображении буржуазного практицизма, о котором выше
я так много говорил. Ведь Бальзак в сущности частную обыденную
практику ростовщика возвышает до величественных размеров. Его
Гобсек становится не только жертвой золотого тельца, но еще и сим-
волом огромной практической и познавательной энергии! И здесь
в методику замечательного реалиста вторгается уже чисто романти-
ческая манера изображения неотразимых демонических злодеев,
в злодействе которых виноват мир. Л не они сами.
Пройдет совсем немного времени, и Бальзак станет гораздо более
однозначным и беспощадным в изображении буржуазных дельцов -
таким станет образ старика Гранде. Но сейчас, в "Гобсеке", он еще
явно колеблется в очень важном пункте - в вопросе о целенаправ-
ленности, о нравственной себестоимости буржуазной энергии.
Создавая фигуру всесильного Гобсека, Бальзак явно оттесняет
на второй план аморальность конечной цели ростовщичества - выкачи-
вание из людей денег, которых ты им, в сущности, не давал. Энергия
н сила Гобсека интересует его еще сами по себе, и он пока явно взве-
шивает для себя вопрос, на благо ли эта практическая энергия. Пото-
му он и отчетливо идеализирует, романтизирует эту энергию. Потому
именно в вопросах конечной цели Бальзак ищет для Гобсека смягчаю-
щие обстоятельства, которые мистифицируют реальное положение
дел - то у Гобсека это исследование законов мира, то наблюдение над
человеческими душами, то месть богатым за их чванство и бессердечие,
то некая всепоглощающая "одна единственная страсть". Романтизм
и реализм сплелись в этом образе поистине нерасторжимо.
Как мы видим, повесть вся соткана из глубочайших диссонансов,
отражающих идейные колебания самого Бальзака. Обращаясь к ана-
лизу современных нравов, Бальзак еще во многом их мистифициру-
ет, перегружая реалистический в основе своей образ символически-
ми смыслами и обобщениями. В результате образ Гобсека выступает
как бы в нескольких планах сразу - он и символ губительной вла-
сти золота, и символ буржуазной практической энергии, и жертва
буржуазной морали, и еще - просто жертва всепоглощающей стра-
сти, страсти как таковой, независимо от ее конкретного содержания.
Эта тема всепоглощающей страсти, владеющей человеком, - те-
ма, конечно, прямо унаследованная от романтиков, - с самого нача-
ла волновала Бальзака - уже как проблема чисто психологическая,
вне социального плана. Свидетельством того, сколь важной была эта
тема для Бальзака, является следующее его крупное произведение,
опубликованное в 1831 г., - роман "Шагреневая кожа".
Бальзак развертывает перед нами в этом романе пеструю картину
современного ему французского общества. Начало событий романа
четко датировано - конец октября 1829 г. Картина эта дана в резких.
О. де Бальзак 135
контрастных противопоставлениях - из игорного дома действие пе-
реносится в светские гостиные; главный герой - молодой талантли-
вый человек - Рафаэль де Валантен - противопоставлен толпе про-
дажных литераторов и продажных женщин; резко контрастны глав-
ные женские образы романа - холодная, тщеславная светская льви-
ца Теодора и скромная, любящая труженица Полина. Современное
общество изображено Бальзаком как игралище разнузданных низких
страстей, будь то страсть к наживе или пороку. Бальзак намеренно
сгущает эти краски, доводя их до мрачного гротеска, как, например,
в изображении игорного дома или оргии с участием куртизанок. Эмо-
циональная атмосфера романа сродни той, которую позже несколькими
штрихами набросал Блок в одном из самых знаменитых стихотворений:
"Летели дни, крутясь проклятым роем, // Вино и страсть сжигали
жизнь мою, //И вспомнил я тебя пред аналоем //И звал тебя, как
молодость свою". Рафаэль тоже возвращается перед смертью к искрен-
ней и чистой любви Полины, тоже зовет ее "как молодость свою".
Было бы слишком односторонним рассматривать этот роман
только как еще одну бальзаковскую притчу о губительной власти де-
нег, золота. Проблематика романа значительно шире, он явно носит
философско-символический характер, и социальные картины здесь
существуют лишь как необходимый фон, но не как главная цель.
Бальзак не случайно выделил этот роман в жанровом отношении,
отнеся его к циклу жанр;? "Философские этюды", и он организовал
действие романа вокруг необыкновенного, явно мистического события.
В основе сюжета - история шагреневой кожи (кожи особой, не-
обыкновенной породы диких ослов, обитающих в Персии, - онагров).
Надпись на коже гласит: "Желай - желания твои будут исполнены.
Но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь. При каждом
желании я буду убывать, как твои дни. Желаешь ли ты меня? Бери!"
Рафаэль берет этот роковой талисман, движимый первым и та-
ким естественным желанием выбиться из бедности, из безвестности.
Но он с самого начала совершает психологическую ошибку, истол-
ковывая понятие "желание" в очень специфическом смысле, - в дан-
ный момент ему кажется, что под категорию "желание" подходит
лишь желание чуда, чего-то сверхъестественного, необычного, грубо
говоря, как в сказке о золотой рыбке. Но, став сразу богатым и зна-
менитым, он вдруг обнаруживает, что эффект шагреневой кожи рас-
пространяется не только на такие вот "крупные" желания,
но и на самые элементарные, привычные движения человеческой ду-
ши. Оказывается, достаточно ему проговориться о какой-то мелочи,
пожелать чего-то совершенно обыденного, какую-то мелочь, как это
тысячу раз бывает в повседневной жизни, механизм рокового дого-
вора тут же срабатывает - желание исполняется, но и кожа тут же
уменьшается в размерах, жизнь укорачивается. Оказывается, шагре-
невая кожа подразумевает желание в буквальном смысле, любое, са-
мое мелкое, самое непроизвольное желание.
136
Рафаэль обнаруживает себя в дьявольской ловушке: он - как еще
в одном, тоже фольклорном, сюжете - не может даже выбраниться
и послать что-то к черту, чтобы тут же это желание не исполнилось
и жизнь его тут же не укорачивалась. И тогда он, объятый паникой,
пытается отгородиться от внешнего мира, задавить в себе всякие
желания, исключить само понятие желания из своей психологии.
Но это означает уже - умереть заживо, умереть еще до наступления
смерти физической!
Совершенно очевидно, что Бальзак здесь вовсе не разлагающую
силу денег имеет в виду. Весь механизм взаимодействия шагреневой
кожи и судьбы Рафаэля основан на совершенно ином - на чисто пси-
хологическом характере слова "желание". Другими словами, Баль-
зак исследует здесь механизм действия человеческих желаний
и страстей вообще. Шагреневая кожа - зловещий символ того, что
всякое желание, всякая страсть покупается сокращением жизненно-
го срока, убыванием жизненной энергии в человеке. За любое жела-
ние человек платит частичкой своей жизни. И антиквар, одаряющий
Рафаэля этим сомнительным талисманом, с самого начала не скры-
вает его основного смысла. "Человек, - говорит он, - ослабляется
благодаря двум инстинктивным действиям, которые истощают и ис-
сушают источники нашей жизни. Два глагола выражают все формы,
принимаемые этими двумя причинами смерти: хотеть и мочь. Хо-
теть - сжигает нас, мочь - уничтожает".
Но Рафаэль, повторяю, далек от того, чтобы осознать смысл этого
обобщения, прислушаться к словам антиквара. И лишь на собственном
опыте он потом убеждается в ужасной буквальности этих слов.
Так шагреневая кожа становится знаком глубочайшего психоло-
гического противоречия: желания и страсти дают нам видимое удов-
летворение, оно лишь временно, преходяще и в сущности иллюзор-
но; те же желания и страсти укорачивают нашу жизнь. Оборотная
сторона осуществленного желания - очередной шаг на пути к смер-
ти. За пресыщением неизбежно следует пустота.
Это, конечно, психология усталого человека, измученного стремле-
ниями и выдохшегося в погоне за их осуществлениями, - человека, ра-
зочарованного в жизни, человека, пресыщенного и опустошенного веч-
ной борьбой за существование. За образом Рафаэля скрывается и жиз-
ненный опыт молодого Бальзака, на собственной судьбе уже познавше-
го испепеляющее действие страстей и желаний, погони за счастьем,
бесконечных попыток подняться выше предела, положенного тебе
судьбой и тебя не удовлетворяющего. Но здесь символически обоб-
щается не только личная писательская судьба. Бальзаковское обоб-
щение шире - он суммирует духовный опыт целого поколения - по-
коления романтических гениев и мечтателей, вдруг обнаруживших
в душе своей и вокруг себя холодную зону пустоты.
Здесь обобщается целый этап развития романтической психоло-
гии, начало которому положили ранний Байрон, Шатобриан и кото-
О. ()с Бальзак 137
рып потом завершили Мюссе во Франции, Бюхнер в Германии, Лер-
монтов в России. Разочарование в романтических идеалах породило
реакцию пресыщенности, усталости, пустоты. Романтические гении
все больше обнаруживали, что их горение происходит в безвоздуш-
ной среде, что их энергия не находит применения и приложения во-
вне. Тогда и появились образы "лишних людей" - русская литера-
тура дала особенно много формул этого состояния, прежде всего
в поэзии Лермонтова: "бесплодный жар души", "жар души, растра-
ченной в пустыне", "Желанья? Что пользы напрасно и вечно же-
лать?" и т. д. Естественно, объективно судьба таких лишних людей
зависит от внешних обстоятельств. Но намерения поэтов, изобража-
ющих таких "лишних людей", не исчерпывались только "критикой
действительности", которая давила героев; не менее важную роль
для них играло и общефилософское истолкование трагедии поколе-
ния - именно как поколения людей, которые возжелали слишком
многого и потому пали жертвой собственных желаний - не в смыс-
ле каких-то предосудительных, порочных страстей, а, напротив, да-
же страстей возвышенных, но именно слишком возвышенных
и слишком сильных. В разных аспектах эту проблему исследовали
Клейст, Гельдерлин, Байрон.
И вот Бальзак в "Шагреневой коже" пытается дать как бы философ-
ски-психологическую форму этой зависимости между исходной точкой -
страстью - и конечной точкой - пустой пресыщенностью и смертью.
Итак, главная исходная идея романа "Шагреневая кожа" - это
анализ определенного этапа развития романтической психологии.
Но теперь вот самое время возвратиться и к другой стороне вопро-
са - к проблеме внешней среды, окружающих обстоятельств, в кото-
рых развивается эта психология. Теперь мы можем точнее понять
и функцию социально-критических элементов романа. Уже сам ге-
рой Бальзака связан очень многими и прочными нитями со средой,
он не просто сгорает в огне собственных желаний - его судьбц, его
характер находится в постоянном взаимодействии с обществом.
А общество, как, например, показывает Бальзак в образе графи-
ни Теодоры, по самой сути своей враждебно личности. И особенно
ярко эта враждебность обнаруживается тогда, когда человек страда-
ет. Общество боится человеческих страданий, оно сторонится таких
людей, оно выталкивает человека из своего организма, как чужерод-
ное тело, и, напротив, преуспевающих окружает заботой и лаской.
Так в романтически-абстрактную философскую идею романа вклю-
чаются вполне реалистические, конкретные моменты.
В 1832 г. Бальзак пишет небольшую повесть "Неведомый шедевр",
которую впоследствии, при оформлении замысла "Человеческой коме-
дии", объединит с "Шагреневой кожей" в одном цикле "Философские
этюды". Я хочу обратить ваше внимание на эту повесть, потому что
в ней Бальзак высказывает весьма любопытные суждения о принци-
пах искусства вообще и изобразительного искусства в частности.
138
Спор в этой повести ведется вокруг проблемы отражения дейст-
вительности в искусстве. Герой ее, гениальный художник, старик
Френхофер выступает против слепого подражания природе. "Назна-
чение искусства, - говорит он молодому Никола Пуссену и его дру-
гу Порбусу, - не подражать природе, а выражать ее. Ты не жалкий
копиист, ты поэт!" Принцип подражания Френхофер видит в следо-
вании "внешним чертам" - и он отвергает его, противопоставляя ему
принцип "выражения сущности": "Наша цель в том, чтобы улавли-
вать смысл, сущность вещей и людей. Внешние черты - мелочи, это
лишь случайные проявления жизни, но не сама жизнь".
Нетрудно увидеть, что, хотя действие повести формально проис-
ходит в XVII в., здесь затрагиваются проблемы весьма актуальные
для состояния искусства того времени, когда Бальзак создавал свою
повесть, и к тому же проблемы, касающиеся искусства самого Баль-
зака. Френхофер обрушивается на принцип описания внешних черт,
мелочей, но мы уже знаем, что для творческого принципа Бальзака
все эти мелочи, именно эти как будто бы случайные внешние черты
имели принципиально важное значение. Френхофер отметает мело-
чи как случайности - для самого Бальзака, как раз в этот момент
вплотную подходящего к гигантскому замыслу "Человеческой коме-
дии", категория случайности как будто утрачивает свой смысл - для
него каждая мелочь ценна именно тем, что помогает глубже вскрыть
сущность явления. Осознав это, мы поймем, что подлинным скры-
тым собеседником и идейным противником Френхофера в повести
является сам Бальзак. Правда, оба они - и вымышленный герой,
и его реальный творец - писатель Бальзак - стремятся в конечном
счете к одной и той же цели: когда Френхофер требует "давать пол-
ноту жизни, переливающуюся через край", - это, несомненно, гово-
рит и сам Бальзак. Но у них разные взгляды на средства достиже-
ния и выражения этой полноты.
Принцип Френхофера - изображать не случайные черты, а сущ-
ность - казалось бы, невозможно опровергнуть. Это ведь сама суть
всякого подлинного искусства, в том числе и реалистического.
Но ранний реалист Бальзак настаивает на праве художника изобра-
жать "подробности". И потому он заставляет своего героя-"оппонен-
та" от этой исходной точки прийти к творческому крушению. Прос-
ледим, как это происходит.
Френхофер - убежденный проповедник и защитник интуитивно-
го принципа творчества, он - апостол искусства принципиально
субъективного и иррационального, не признающего прав рассудка.
В какой-то момент Пуссена осеняет прозрение. "Это сверхъестест-
венное существо, - говорит он о Френхофере, - было воплощением
природы художника, природы безрассудной, обладающей могучей
властью: он слишком часто злоупотребляет этой властью, увлекая
холодных разумом мещан, а порой и иных дилетантов на камени-
стые тропы, где они для себя ничего не находят, в то время как она,
О. до Бальзак 139
эта белокрылая дева, безудержная в своих прихотях, видит там це-
лые эпопеи, волшебные замки, творение искусства".
Теперь мы можем более или менее точно локализовать в рамках
бальзаковской эпохи тот принцип творчества, который воплощает со-
бою Френхофер, - это, конечно же, принцип романтиков, это они за-
щищали безрассудную природу искусства, это они видели "целые
эпопеи, волшебные замки" там, где скучали "холодные разумом ме-
щане". И между прочим, это они упрекали Бальзака за приземлен-
ное™, за внимание к "внешним чертам, мелочам, случайным прояв-
лениям жизни". Оказывается, в этом "философском этюде", намерен-
но перенесенном в XVII в., намеренно сталкивающем реальное исто-
рическое лицо - Пуссена - с лицом вымышленным (чем создается
эффект "вневременности" и "всеобщности"), оказывается, за этим
скрывается вполне актуальная и личная эстетичная полемика!
Бальзак далек от того, чтобы категорически и безоговорочно от-
вергать интуитивный принцип искусства, защищаемый его антагони-
стом в повести. Однако он, пытаясь разобраться в логике такого
принципа, в том, куда он ведет в конечном счете, обнаруживает
на этом пути не только возможность новых побед искусства,
но и очень серьезные опасности.
Излагая и развивая более конкретно свои творческие принципы,
бальзаковский Френхофер высказывает взгляды, безусловно, непри-
вычные не только для XVII в., но даже и для первой трети XVIII в.
Однако нам с вами эти взгляды уже могут показаться знакомыми.
Вот Френхофер говорит об изобразительных искусствах, о живопи-
си и скульптуре: "Человеческое тело не ограничено линиями. В этом
смысле скульптуры могут ближе подойти к правде, чем мы, худож-
ники. Строго говоря, рисунка не существует... Линия есть лишь
средство, благодаря которому человек воспринимает отражение све-
та на предмет, но линий не существует в природе, в которой все име-
ет объем; рисовать - значит лепить, т. е. отделять предмет от среды,
в которой он находится".
Это же тот самый принцип, которым в конце XIX в. руководст-
вовался в своем творчестве Роден, когда ставил себе цель вовлечь ок-
ружающую световую атмосферу в свои скульптурные образы; для
Родена именно "отражение света на предмет" - один из очень суще-
ственных компонентов внутренней формы предмета; Роден, другими
словами, учитывал не только собственную пластику скульптурного
образа, но и взаимодействие его со световой средой. Бальзак здесь
явно предвосхищает гораздо более поздние формы изобразительного
искусства. Не случайно, видимо, фигура Бальзака так интересовала
Родена, и он поставил ему замечательный памятник, на цоколе ко-
торого надпись: "Бальзаку - от Родена".
Но это еще не все. Френхофер продолжает развивать свои мыс-
ли дальше, вслушайтесь в них и попробуйте представить себе карти-
ны, которые Френхофер как бы описывает: "Распределение пятен
света - вот что дает изображение вещи. Поэтому я не очерчиваю
предмет линией, я окружаю контуры золотистой и теплой дымкой,
благодаря чему никто не сможет точно очертить пальцем границу ме-
жду телом и фоном. Вблизи такая живопись кажется волокнистой
и нечеткой, но если отойти на два шага, все становится определен-
ным, устойчивым, отчетливым, тело поворачивается, формы стано-
вятся выпуклыми, вы чувствуете, как вокруг них струится воздух".
Я думаю, что вы уже почувствовали, что предвосхищено здесь.
Это же фантастически точное описание принципов и техники тех
французских художников последней трети XIX в., которые стали из-
вестными под именем импрессионистов. Описание это настолько точ-
но, что прямо-таки есть соблазн предположить, что и Моне, и Рену-
ар, и Писарро, и Спньяк просто "вышли из Бальзака". По это уже
дело истории искусства. Мы с вами можем лишь отметить, что
и здесь Бальзак обнаруживает гениальную прозорливость; во всяком
случае, неудивительно, что техника живописного импрессионизма
впервые оформилась не где-нибудь, а во Франции, если она уже
в 1832 г. была описана французскими писателями.
Однако и это еще не все. Пока это все были теоретические рас-
суждения Френхофера, и можно лишь было предположить, что, сле-
дуя им, художник может создать такие замечательные скульптуры
и полотна, которыми позже и оказались скульптуры Родена и кар-
тины импрессионистов.
Но сюжет бальзаковской повести построен так, что собственных
творений столь гениального художника мы до самого конца повести
не видим, хотя писатель все более и более обостряет наш интерес
к ним. Можно сказать, что сюжет этот построен на тайне - нам со-
общается, что Френхофер - это гениальный художник, который мо-
жет позволить себе даже Рубенса пренебрежительно назвать "горою
фламандского мяса", - этот человек, для которого почти нет ника-
ких авторитетов в прошлом и настоящем, работает вот уже долгие
годы над главной своей картиной, шедевром своей жизни, портретом
прекрасной женщины, в котором воплотится все земное и небесная
красота, который станет вершиной, пределом живописного искусст-
ва. Естественно, что мы вместе с Пуссеном все с большим нетерпе-
нием ждем знакомства с этим шедевром.
И вот наконец нас вместе с Пуссеном и его другом художником
Порбусом допускают в святая святых. Перед нами отбрасывают по-
крывало. Следует такая сцена: Пуссен в растерянности, он еще
не осознал, что происходит. Он говорит: "Я вижу только беспоря-
дочное нагромождение красок, пересеченное целой сетью странных
линий, - оно образует сплошную расписанную поверхность".
Порбус первым приходит в себя. "Иод всем этим скрыта женщи-
на", - воскликнул Порбус, указывая Пуссену на слои краски, кото-
рые старик накладывал один на другой, думая, что улучшает свое
произведение.
О. де Бальзак 141
И вот, когда, избавившись от наваждения, Пуссен отваживается
сказать Френхоферу в лицо жестокую, но неопровержимую истину:
"Здесь ничего нет!" - Френхофер исступленно кричит: "Ты ничего
не видишь, мужлан, невежда, олух, ничтожество! Зачем ты только
явился сюда?" - И "плача" продолжает: "Я вижу ее! - крикнул он -
Она божественно прекрасна!"
Как напоминает эта сцена споры XX в., споры перед картинами
"с беспорядочным нагромождением красок, с сетью странных линий,
со сплошной расписанной поверхностью"? Там ведь тоже часто одни
говорили, что ничего не видят, а другие говорили им, что они неве-
жды и олухи. И там тоже художники неопровержимо стояли на сво-
ем - а я ее вижу, и она прекрасна!
Бальзак и здесь оказался провидцем, он предвосхитил и траге-
дию абстрактного беспредметного искусства (в той, конечно, его ча-
сти, где оно было истинной попыткой поиска, а не шарлатанством, -
там, где художник действительно был убежден, что он видит в этом
красоту!).
А теперь мы должны осознать, что эти бальзаковские прозрения
не только не случайны, но и явно друг с другом связаны, и связь
эта - причинно-следственная: одно порождается другим, выходит
из другого, и поразительнее всего то, что логика френхоферовских
принципов предстает перед нами в сюжете повести в той же после-
довательности, в которой позднее они повторились в реальной исто-
рии искусства. Бальзак, повторяю, уловил какие-то очень существен-
ные тенденции в логике субъективного искусства - он как бы предна-
чертал путь от романтизма через импрессионизм к абстракционизму.
Внутреннюю логику Бальзак явно увидел здесь в том, что принцип
субъективного самовыражения, лежащий в основе романтического ис-
кусства, неизбежно тяготеет и к принципу чисто формальному. Роман-
тики сами еще стремились к выражению природы, т. е. не к одной
форме. Но уход от действительности, от подражания природе - если
строго и неуклонно следовать этому принципу - всегда чреват, по мне-
нию Бальзака, опасностью утраты самой природы, т. е. содержания
в искусстве, и выдвижения на первый план чисто формального прин-
ципа. И тогда художник в один прекрасный день может очутиться
в такой точке, что в погоне за наиболее точной формой для выраже-
ния своего субъективного взгляда на природу его сознание всецело
подчинится только форме, и там, где он сам будет видеть прекрасную
женщину, все другие будут видеть лишь "беспорядочное нагроможде-
ние красок". И вот Френхофер умирает, сжигая все свое ателье.
А Порбус, глядя на его неведомый шедевр, подводит печальный итог:
"Здесь перед нами - предел человеческого искусства на земле".
Полувеком позже Эмиль Золя запечатлеет точно такой же про-
цесс в своем романе "Творчество". Главный герой этого романа - то-
же художник, и он тоже будет изнурять и сжигать себя в тщетной
попытке создать совершенный портрет прекрасной женщины. Он тоже
142
будет вес больше и больше запутываться в сетях формального принци-
па и тоже дойдет до предела, за которым начинается безумие. Но Зо-
ля уже будет опираться на реальный опыт искусства - прототипом его
героя будет Клод Моне, т. е. наиболее последовательный и совершен-
ный представитель импрессионизма в живописи. А вот Бальзак пред-
восхитил такую логику и модель художественного мышления задолго
до Моне, Золя и тем более абстрактного искусства.
Конечно, для Бальзака Френхофер был только утопией, фанта-
зией, игрой ума. Ничего подобного в истории искусства до Бальзака
и во времена Бальзака, разумеется, не было. Но сколь глубоко надо
было понять сущность искусства вообще и логику романтического
искусства в частности, чтобы нарисовать почти зримые картины то-
го, что должно было произойти чуть ли не веком позже! А вот не-
давно одна американская исследовательница в своей книге о взаимо-
действии литературы и музыки показала, что в своем философском
этюде Тамбара" Бальзак точно так же предвосхитил музыку Вагне-
ра с ее диссонансами и атональную музыку Шенберга. И эту логи-
ку, повторяю, Бальзак видит именно в том, что романтики слишком
односторонне полагаются только на интуитивную, иррациональную
сторону искусства, принципиально пренебрегая и разумом и реаль-
ной жизнью. Тогда рано или поздно им грозит опасность запутаться
в сетях чисто формального поиска, и эта борьба будет бесплодной
и заведет искусство в тупик, в ничто. Порбус говорит о Френхофере:
"Он предавался долгим и глубоким размышлениям о красках, о со-
вершенной верности линий, но он столько искал, что наконец стал
сомневаться в самой цели своих поисков". Это - очень точная и ем-
кая формула! Бальзак предостерегает здесь от опасности формаль-
ного самоистощения, грозящей субъективному искусству.
И бальзаковский Порбус - несомненно, второе "я" самого писате-
ля - противопоставляет принципу Френхофера свой принцип: "Есть
истина, которая выше всех его рассуждений: в живописи труд и наблю-
дение - это все, и если рассудок и поэзия начинают спорить с кистью,
то человек приходит к сомнению, подобно нашему старику, который яв-
ляется безумцем в такой же степени, как и художником. Не подражай-
те ему. Трудитесь. Художник должен думать только с кистью в руке".
Вдумайтесь в смысл этого высказывания, разберитесь в нем
(на слух цитаты так трудно воспринимаемы - я выделю теперь
ее главную мысль, переложу ее на язык логики): итак, главное в ис-
кусстве - наблюдение и труд, наблюдение и кисть. Они первичны,
они взаимосвязаны: увидел - бери кисть в руки и трудись. Рассудок
и чувство вторичны, они не должны спорить с кистью, говорит Баль-
зак, не должны предварять работу кисти, не должны, так сказать,
ни на что настраивать ее заведомо, т. е. сбивать ее с толку. Для те-
бя важен только предмет, который ты наблюдаешь, и кисть, которой
ты работаешь. Рефлексия не должна предшествовать акту творчест-
ва, она может в лучшем случае сопровождать его (если думать,
О. де Бальзак 143
то только с кистью в руке). Можно, безусловно, с точки зрения пси-
хологии искусства найти и серьезные возражения против такого
принципа как другой крайности. Но нам сейчас важно отметить, что
это - конечно, хоть и подчеркнуто, полемически заостренная про-
грамма искусства реалистического, объективного, полагающегося
только на наблюдение и труд.
Так эта будто бы философски отстраненная притча, эта фантазия
оказывается аргументом во вполне актуальном для бальзаковского
времени споре. Она обнажает перед нами формирующуюся объектив-
но реалистическую и материалистическую основу художественных
воззрений Бальзака. Сугубо личный, автобиографический, испове-
дальный смысл этой повести обнаруживается и в том, с какой настой-
чивостью Бальзак выделяет здесь принцип "труда". Помните, я цити-
ровал вам образное сравнение Брандеса о том, что Бальзак упорным
трудом поднял свое здание на ту же высоту, на какую два лирических
гения того времени - Гюго и Ж. Санд - поднялись на своих крыль-
ях? Такое противопоставление, несомненно, уже родилось в ту эпоху.
И Бальзак знал, что говорил, когда призывал художника - "Труди-
тесь!" Он как бы чувствовал, что главная сила его не столько в поле-
те фантазии, в крыльях вдохновения, а в наблюдении и кропотливом
труде. Он, может быть, немножко и завидовал тем, кто легко взлета-
ет на крыльях, - но не меньшую, а даже большую историческую пра-
воту он видел в своем пргщипе. Для сравнения можно добавить, что
еще в Тодви" Клеменса Брентано говорится о нелюбви романтиков
к "повседневному труду", к оформлению ("присоединять линию к ли-
нии"), об их расчете на озарение, на быстрое схватывание цельного
впечатления в противовес "механическому расчленению". И далее
у Брентано возникает образ романтика, который не как рудокоп
(с трудом!) пробирается сквозь гору, а "прожигает" ее огнем души.
А теперь напомню вам, что все рассматриваемые мной до сих пор
произведения Бальзака создавались еще как отдельные произведе-
ния, а не как части единого целого - "Человеческой комедии". Баль-
зак еще только шел к своему всеобъемлющему замыслу. Но он уже
и как будто готовил для него почву, расчищал к нему дорогу тем,
что выяснял отношения и производил расчет с теми идеологически-
ми и художественными комплексами, которые он нашел в литерату-
ре при своем вступлении в нее. В "Шуанах" он испытывает принцип
романтического историзма, сразу берясь за то, что идейно сближает
романтизм с реализмом. В "Гобсеке" и особенно в "Шагреневой ко-
же" он как бы подводит итог романтической теме всепоглощающей
страсти, проверяет романтическую сильную личность, примеряет
ее к новым условиям буржуазного бытия, потому что, бесспорно,
ни Гобсек как ростовщик, ни Рафаэль как возвышающийся в обще-
стве молодой человек не типичны для буржуазной эпохи. Это не ре-
алистические, а символические образы, идущие еще от романтиче-
ского представления о человеке. Они как психологические типы при-
144
шли в буржуазную эпоху еще из романтической литературы (Гобсек
как своего рода привлекательный романтический злодей, Рафаэль
как страдающий романтический гений). В "Неведомом шедевре"
Бальзак оформляет свою реалистическую эстетику в противовес эс-
тетике романтической, ведя с ней пристрастный философский спор.
Повсюду, как мы видим, подведение итогов романтизма, баланса
его и расчет с ним, расчистка плацдарма для нового реалистическо-
го принципа творчества.
Именно этот поворот впервые со всей очевидностью запечатлел-
ся в романе "Евгения Гранде", появившемся в 1833 г., и не случай-
но именно после этого романа (и романа "Отец Горио", 1834 г.)
Бальзак впервые заговорил о замысле "Человеческой комедии" -
он как бы созрел для этого замысла, был теперь готов к созданию
реалистической эпопеи из жизни современного общества.
В романе "Евгения Гранде" Бальзак подхватывает гобсековскую
тему - деньги как страсть - и развивает ее уже в ином, реалистиче-
ском плане. Старика Гранде как будто очень многое роднит с Гобсе-
ком - он, во-первых, тоже мастер своего дела, гений наживы, как
и Гобсек. Для них обоих это не только нажива, но и искусство. Гоб-
сек играл с богачами, как кошка с мышью, он наслаждался своей
властью над ними. Точно так же и Гранде способен пуститься в оче-
редную финансовую авантюру не только для того, чтобы прибавить
еще миллион к своим миллионам, но и для того, чтобы посрамить
своих конкурентов, продемонстрировать свою хитрость, свою муд-
рость, свое всесилие. Когда потерпел банкротство его брат, он паль-
цем не пошевельнул, чтобы спасти его от самоубийства, по принци-
пу: так ему и надо, раз не умел жить, но зато после этого самоубий-
ства он с бешенной энергией принимается за устройство его дел -
именно для того, чтобы натянуть нос парижским кредиторам, пока-
зать, что ему, невежественному провинциальному богачу, ничего
не стоит с ними справиться.
Далее - точно так же, как и у Гобсека, у Гранде деньги постепен-
но становятся манией, болезнью. Он любит деньги ради них самих -
даже уже не ради тех благ, которые они могут принести. Круг его
жизненных интересов не только предельно ограничен (он скуп в еде,
в питье, в одежде), но и все неотвратимей сужается, сводится, как
в фокусе, в одну блестящую точку - и магический блеск этот, конеч-
но, исходит от золота. Гранде, хоть и на свой лад, умирает такою же
смертью маньяка, как и Гобсек: даже умирающий, почти лишенный
сознания, он всё велит принести ему золото, и когда Евгения снова
и снова рассыпает перед ним луидоры, в его взоре снова будто заго-
рается жизнь. И его последнее усилие, стоившее ему жизни, - за-
ключается в том, что он бессознательно стремится вырвать сверкаю-
щий золотой крест из рук священника.
Итак, тема одержимости золотом здесь продолжается. Но в то же
время Бальзак не представляет здесь никаких смягчающих обстоя-
0. де Бальзак 145
то только с кистью в руке). Можно, безусловно, с точки зрения пси-
хологии искусства найти и серьезные возражения против такого
принципа как другой крайности. Но нам сейчас важно отметить, что
это - конечно, хоть и подчеркнуто, полемически заостренная про-
грамма искусства реалистического, объективного, полагающегося
только на наблюдение и труд.
Так эта будто бы философски отстраненная притча, эта фантазия
оказывается аргументом во вполне актуальном для бальзаковского
времени споре. Она обнажает перед нами формирующуюся объектив-
но реалистическую и материалистическую основу художественных
воззрений Бальзака. Сугубо личный, автобиографический, испове-
дальный смысл этой повести обнаруживается и в том, с какой настой-
чивостью Бальзак выделяет здесь принцип "труда". Помните, я цити-
ровал вам образное сравнение Брандеса о том, что Бальзак упорным
трудом поднял свое здание на ту же высоту, на какую два лирических
гения того времени - Гюго и Ж. Санд - поднялись на своих крыль-
ях? Такое противопоставление, несомненно, уже родилось в ту эпоху.
И Бальзак знал, что говорил, когда призывал художника - "Труди-
тесь!" Он как бы чувствовал, что главная сила его не столько в поле-
те фантазии, в крыльях вдохновения, а в наблюдении и кропотливом
труде. Он, может быть, немножко и завидовал тем, кто легко взлета-
ет на крыльях, - но не меньшую, а даже большую историческую пра-
воту он видел в своем npi чдепе. Для сравнения можно добавить, что
еще в Тодви" Клеменса Брентано говорится о нелюбви романтиков
к "повседневному труду", к оформлению ("присоединять линию к ли-
нии"), об их расчете на озарение, на быстрое схватывание цельного
впечатления в противовес "механическому расчленению". И далее
у Брентано возникает образ романтика, который не как рудокоп
(с трудом!) пробирается сквозь гору, а "прожигает" ее огнем души.
А теперь напомню вам, что все рассматриваемые мной до сих пор
произведения Бальзака создавались еще как отдельные произведе-
ния, а не как части единого целого - "Человеческой комедии". Баль-
зак еще только шел к своему всеобъемлющему замыслу. Но он уже
и как будто готовил для него почву, расчищал к нему дорогу тем,
что выяснял отношения и производил расчет с теми идеологически-
ми и художественными комплексами, которые он нашел в литерату-
ре при своем вступлении в нее. В "Шуанах" он испытывает принцип
романтического историзма, сразу берясь за то, что идейно сближает
романтизм с реализмом. В "Гобсеке" и особенно в "Шагреневой ко-
же" он как бы подводит итог романтической теме всепоглощающей
страсти, проверяет романтическую сильную личность, примеряет
ее к новым условиям буржуазного бытия, потому что, бесспорно,
ни Гобсек как ростовщик, ни Рафаэль как возвышающийся в обще-
стве молодой человек не типичны для буржуазной эпохи. Это не ре-
алистические, а символические образы, идущие еще от романтиче-
ского представления о человеке. Они как психологические типы при-
144
шли в буржуазную эпоху еще из романтической литературы (Гобсек
как своего рода привлекательный романтический злодей, Рафаэль
как страдающий романтический гений). В "Неведомом шедевре"
Бальзак оформляет свою реалистическую эстетику в противовес эс-
тетике романтической, ведя с ней пристрастный философский спор.
Повсюду, как мы видим, подведение итогов романтизма, баланса
его и расчет с ним, расчистка плацдарма для нового реалистическо-
го принципа творчества.
Именно этот поворот впервые со всей очевидностью запечатлел-
ся в романе "Евгения Гранде", появившемся в 1833 г., и не случай-
но именно после этого романа (и романа "Отец Горио", 1834 г.)
Бальзак впервые заговорил о замысле "Человеческой комедии" -
он как бы созрел для этого замысла, был теперь готов к созданию
реалистической эпопеи из жизни современного общества.
В романе "Евгения Гранде" Бальзак подхватывает гобсековскую
тему - деньги как страсть - и развивает ее уже в ином, реалистиче-
ском плане. Старика Гранде как будто очень многое роднит с Гобсе-
ком - он, во-первых, тоже мастер своего дела, гений наживы, как
и Гобсек. Для них обоих это не только нажива, но и искусство. Гоб-
сек играл с богачами, как кошка с мышью, он наслаждался своей
властью над ними. Точно так же и Гранде способен пуститься в оче-
редную финансовую авантюру не только для того, чтобы прибавить
еще миллион к своим миллионам, но и для того, чтобы посрамить
своих конкурентов, продемонстрировать свою хитрость, свою муд-
рость, свое всесилие. Когда потерпел банкротство его брат, он паль-
цем не пошевельнул, чтобы спасти его от самоубийства, по принци-
пу: так ему и надо, раз не умел жить, но зато после этого самоубий-
ства он с бешенной энергией принимается за устройство его дел -
именно для того, чтобы натянуть нос парижским кредиторам, пока-
зать, что ему, невежественному провинциальному богачу, ничего
не стоит с ними справиться.
Далее - точно так же, как и у Гобсека, у Гранде деньги постепен-
но становятся манией, болезнью. Он любит деньги ради них самих -
даже уже не ради тех благ, которые они могут принести. Круг его
жизненных интересов не только предельно ограничен (он скуп в еде,
в питье, в одежде), но и все неотвратимей сужается, сводится, как
в фокусе, в одну блестящую точку - и магический блеск этот, конеч-
но, исходит от золота. Гранде, хоть и на свой лад, умирает такою же
смертью маньяка, как и Гобсек: даже умирающий, почти лишенный
сознания, он всё велит принести ему золото, и когда Евгения снова
и снова рассыпает перед ним луидоры, в его взоре снова будто заго-
рается жизнь. И его последнее усилие, стоившее ему жизни, - за-
ключается в том, что он бессознательно стремится вырвать сверкаю-
щий золотой крест из рук священника.
Итак, тема одержимости золотом здесь продолжается. Но в то же
время Бальзак не представляет здесь никаких смягчающих обстоя-
О. де Бальзак 145
тельств для Гранде, как он это делал для Гобсека. Гобсек в сюжете
повести приносил зло только людям, не заслуживающим лучшей
участи, а в глубине души, как мы видели, был человеком добрым,
способным на дружеские чувства, хотя бы на благие порывы.
Напротив, Гранде жесток в самой основе своей натуры. Ему чуж-
ды не только, так сказать, абстрактные гуманные чувства - понятие до-
бра, жалость, сострадание, не только любовь к ближнему своему,
но даже чувство любви к родным по крови. Он уродует и калечит
жизнь своих домашних - жены и дочери. Когда к нему приезжает
Шарль, его племянник, и привозит письмо, в котором говорится о бан-
кротстве и самоубийстве отца Шарля - брата Гранде, старик Гранде
исполняется самого искреннего негодования. Для него банкротство -
преступление худшее, чем убийство, потому что оно нарушает главный
закон буржуазного общества, принцип обогащения. Так что Гранде во-
площает в себе безоговорочное отрицание Бальзаком прагматической
этики. Конечно, в образе Гранде тоже можно обнаружить черты гипер-
болизации, гротеска, но они не играют здесь решающей роли.
Судьба героини романа, Евгении Гранде, дочери этого человека -
один из первых "вариантов" утраты иллюзий в бальзаковской "Че-
ловеческой комедии".
Поначалу это чистое благородное существо: живя в полной изо-
ляции от внешнего мира, она не имеет ни малейшего представления
ни о нем, ни о царящей в нем системе единиц, системе мер - мораль-
ных, экономических. Она не знает цену деньгам, хотя и является на-
следницей миллионов отца, и ее осаждают претенденты на ее руку.
Но вот она влюбляется в Шарля и впервые начинает считать день-
ги, вдруг поняв, что от них, от этих жалких, ничего не значащих бу-
мажек и кусочков металла, может зависеть счастье человека, тем бо-
лее ее возлюбленного. Когда отец отказывается помочь Шарлю, она
с наивной и невинной смелостью отдает Шарлю свои сбережения.
Измена Шарля и все усиливающийся деспотизм отца быстро де-
лают свое дело - Евгения становится такой же расчетливой провин-
циалкой, как и ее семейство, и выходит замуж за местного богача.
Этот человек покорился, даже не пытаясь бороться.
История семейства Гранде - это уже типичная история из жизни
нового буржуазного общества. Бальзак впервые исследует здесь нра-
вы этого общества, без особых философско-психологических обоб-
щений, без всяких, так сказать, мудрствований, следуя выработан-
ному им самим принципу - наблюдай и потом берись за кисть, за пе-
ро. Впрочем, одно обобщение здесь есть - ведь именно в этом рома-
не Бальзак впервые декларирует значительность такой буржуазной
трагедии - хоть она без кинжала и яда и пролития крови, но она
не уступит самой страшной драме из знаменитой семьи Атридов.
В свете предшествующих произведений Бальзака, так или иначе за-
нимающихся полемикой с романтическими принципами творчества,
нам теперь будет особенно понятна эта оговорка Бальзака.
146
Но в "Евгении Гранде" Бальзак еще как бы ограничивает свой
кругозор очень узким участком: все-таки сфера действия романа -
это замкнутый мир провинции, затхлый быт провинциального дома.
В следующем своем крупном произведении "Отец Горио" Баль-
зак уже приводит нас в Париж, в самый центр французского буржу-
азного социума. Подлинный герой - Растиньяк - это и есть тот тип
человека, который больше всего интересует Бальзака, представляет-
ся ему более многозначительным и проблематичным, более показа-
тельным для своего времени, чем Горио. Здесь впервые на широком
полотне Бальзаком показана история обманчивого счастья, куплен-
ного ценой морального падения, - потом она постоянно будет варь-
ироваться в творчестве писателя.
Растиньяк приезжает в Париж изучать право, живет в меблирован-
ных комнатах, но вхож в салон виконтессы де Босеан. Фигура Рас-
тиньяка связывает два мира, но и отец Горио тоже выступает как свя-
зующее звено. История отца Горио дает Растиньяку как бы наглядную
модель того, какие законы движут обществом, в которое он так рвется.
Дочери - графиня де Ресто и баронесса Нусинген - время от време-
ни рыдают в каморке Горио, выпрашивая у него деньги, а потом тратят
эти деньги на любовников, на экипажи, на увеселения. Отец Горио под-
нимается все выше. Дочери, соответственно, платят неблагодарностью.
И вот Растиньяк. У него есть благородные порывы; у него сохра-
нились чувство гуманности и доброта; но он с самого начала понима-
ет, что главное - деньги и возможность пробиться в высшее общест-
во. И при этом его честолюбие простирается дальше богатства, блеска
и успеха: в отличие от Жюльена его честолюбие сугубо эгоистично.
У него находятся заботливые учителя (тоже одна из повторяющихся
тем!) - виконтесса де Босеан поучает его: "Чем хладнокровнее вы бу-
дете рассчитывать, тем дальше пойдете. Будьте безжалостны, и вас бу-
дут бояться. Смотрите на мужчин и женщин не иначе, как на почто-
вых лошадей, которых вы можете загнать на каждой станции. Но ес-
ли у вас есть искреннее чувство, спрячьте его подальше, как сокрови-
ще, чтобы никто и не догадывался о нем. Иначе вы погибли. Вы сде-
лаетесь не палачом, а жертвой. В Париже успех - все; это ключ к вла-
сти. Если женщины решат, что вы человек умный, даровитый, муж-
чины этому поверят, если вы их сами не разуверите. Тогда вы узнае-
те, что такое свет: сборище плутов и обманутых".
Это еще можно понять как отчаянный цинизм человека, обману-
того в своих надеждах. Но вот Растиньяк обнаруживает, что викон-
тесса вовсе не так одинока в своих воззрениях.
Ей вторит искуситель Вотрен, цинично наблюдая падение Рас-
тиньяка, как бы желая помочь ему продержаться: "Выскочить в лю-
ди - вот задача, которую стараются разрешить 50 тысяч молодых
людей - все в вашем положении. И вы единица в этой сумме. Поду-
майте, какие усилия потребуются от вас, какая ожесточенная пред-
стоит борьба! Вы будете пожирать друг друга, как пауки. Прннци-
0. де Бальзак 147
пов нет, а есть события, и законов нет - есть только обстоятельства,
а умный человек подлаживается к ним, чтобы потом торговать ими
по-своему. Честность никуда не годится. Надо врезаться в эту тол-
пу, как бомба, или прокрасться в нее, как язва... Презирайте людей
и высматривайте петли, сквозь которые можно пролезть из сети за-
конов. Вся тайна крупных состояний, возникших без всякой види-
мой причины, непременно кроется в каком-нибудь преступлении -
забытом, потому что оно чистенько обработано".
Вспомним, как Гобсек у Бальзака уже заявлял: "У меня вот
принципы менялись сообразно обстоятельствам. Нет на земле ничего
прочного, есть только условность". А теперь Вотрен развивает эту
мысль, и это в общем та же логика, что и у необразованного деревен-
ского Гранде, и блестящей дамы виконтессы де Босеан! Разница толь-
ко в мере интеллектуальности каждого - Гранде следует этой логике
инстинктивно, виконтесса выводит ее из личного любовного разочаро-
вания, Вотрен уже формулирует ее с цинической откровенностью че-
ловека, все равно стоящего вне общества. Круговая порука!
И Растиньяк к концу романа уже готов подчиниться этому зако-
ну. Ведь и он сам до того поступил, как дочери Горио - он забира-
ет последние деньги у матери, а потом забывает о ней, гонясь за ус-
пехом в высшем свете. И вот последняя сцена - последняя юноше-
ская слеза на могиле Горио и затем вызов обществу: "Кто победит -
я или ты?" - и отправился обедать к Дельфине...
Над романом "Утраченные иллюзии" Бальзак работал очень дол-
го, с 1837 по 1843 г. Это одно из самых широких его эпических по-
лотен о современном обществе. Хотя внешне в центре сюжета стоит
опять как будто бы ограниченная и вполне определенная обществен-
ная сфера - мир литераторов и журналистов, роман вобрал в себя
все предшествующие наблюдения Бальзака над законами буржуазно-
го общества; в полифонии романа звучат многие темы, затрагивав-
шиеся Бальзаком и ранее.
Уже начало романа как бы вводит нас в знакомый круг тем. Баль-
зак рассказывает о старике Сешаре - прижимистом владельце типо-
графии в провинциальном городке Ангулеме - и подробно описывает,
как старик решил вовлечь в дело своего образованного талантливого
сына Давида. Но вовлекает он его с одной лишь целью - воспользо-
ваться его знаниями, да так, чтобы еще и надуть при этом. Для ста-
рика Сешара собственный сын - всего лишь выгодный партнер в де-
ле, причем такой партнер, которого легко можно обвести вокруг паль-
ца, потому что Давид еще молод, благороден и нерасчетлив.
Читая эту историю, мы уже можем вспомнить целый ряд близких
ситуаций из прежних произведений Бальзака: в "Гобсеке" графиня
де Ресто пыталась обворовать собственных детей, лишить их закон-
ного наследства; в "Евгении Гранде" отец ради денег калечит жизнь
собственной дочери; в "Отце Горио", напротив, дочери грабят и сво-
дят в могилу отца; и вот сейчас отец пытается ограбить сына.
Совершенно очевидно, что Бальзак варьирует одну и ту же ситуа-
цию, явно видя в ней определенную закономерность. Эта закономер-
ность в распаде, разрушении семейных связей - между детьми и роди-
телями, между супругами - та же история семейства де Ресто в "Гобсе-
ке", когда граф-отец пытается защитить будущее своих детей от алчно-
сти матери; в повести "Полковник Шабер" рассказывается еще об одной
такой супружеской драме - наполеоновский полковник Шабер, считав-
шийся умершим, на самом деле жив; он пытается добиться справедливо-
сти, вернуть себе свое имя и прежнее положение, но жена, уже вышед-
шая замуж за другого, не только отрекается от полковника, но еще и са-
мым бессердечным образом, играя на его благородстве, обманывает его.
Вот так и получается, что на смену семейным, кровным, родст-
венным связям приходит уже чисто денежный интерес. Как в древ-
них эпохах историки фиксируют, скажем, смену матриархата и ро-
дового строя патриархатом и феодализмом, так на произведениях
Бальзака можно наблюдать этот новый важный сдвиг общественных
отношений в буржуазном веке.
Есть в романе еще одна сквозная, хоть на первый взгляд и более
частная тема - взаимоотношения провинциала и Парижа. И Бальза-
ка, и Стендаля, как правило, интересует не просто история молодо-
го человека, а именно история молодого человека из провинции!
Таков Жюльен Сорель, таков Растиньяк в "Отце Горио", таков
и Люсьен Шардон, герой "Утраченных иллюзий".
Но на Бальзаке тема не обрывается, она будет подхвачена
А. Мюссе в его новеллах, Флобером в "Госпоже Бовари" и в "Вос-
питании чувств". Здесь, очевидно, помимо стремления добиться сла-
вы и значения именно из безвестности, есть и другая, определенная,
подмеченная писателями XIX в. закономерность. Бальзак помогает
нам ее выявить. В "Утраченных иллюзиях" он посвящает немало
страниц описанию провинциального быта в Ангулеме, показывает,
с одной стороны, поразительную узость духовных интересов этого
мирка, а с другой стороны, муки романтических мечтателей, идеали-
стов в этой атмосфере. Причем эти духовные муки подробней всего
изображаются на примере женских судеб.
В "Утраченных иллюзиях" это госпожа де Бартетон; Люсьену,
отправляющемуся в Париж, она говорит: "Когда вы вступите в цар-
ственную сферу, где владычествуют высокие умы, вспомните о не-
счастных, обездоленных судьбою, чей ум изнемогает, задыхаясь под
гнетом нравственного азота". Как знакомо звучат для нас эти словак
Помните: "Я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой из-
немогает, и молча гибнуть я должна". Кстати, это не совсем случай-
ное совпадение! Во Франции эти жалобы после бальзаковской геро-
ини подхватывает Эмма Бовари, в России на смену Татьяне придут
тургеневские и затем чеховские героини.
Перед нами - очень специфическая проблема - совершенно оче-
видное перераспределение духовных и нравственных ресурсов в об-
О. де Бальзак
ществе. В литературе XVIII в. не существовало проблемы провинции
в таком "отрицательном" смысле, скорее наоборот - "Новая Элои-
за" Руссо только и мыслима была не в городской, не в столичной
среде, а в провинциальной атмосфере. Провинция всегда ассоцииро-
валась с облагораживающей, очищающей чувства природой, как сре-
да наиболее естественная и человечная (Сен-Map у Виньи!). Роман-
тики, вдохновленные Руссо, тянулись к этому лону природы, бежа-
ли прочь из городов: помните знаменитую тираду пушкинского Але-
ко - "когда б ты знала, когда бы ты воображала неволю душных го-
родов!" А вот теперь писатели реалистического склада фиксируют
как бы обратное движение! Люди с сильными чувствами теперь за-
дыхаются в провинции и, напротив, рвутся в столицы! Но попадая
в столицу, они и платят за это очень дорогой ценой - ценой "утра-
ты иллюзий", превращением из мечтателей в прагматиков.
Бальзак был одним из первых писателей, уловивших эту жесто-
кую диалектику. Буржуазный век окончательно вытеснил романти-
ческий идеал в провинцию, потому что только там еще возможно бы-
ло тешить себя надеждами на то, что где-то в столице, в Париже, су-
ществует "царственная сфера высоких умов", как говорит бальзаков-
ская госпожа де Бартетон. Но всякое приобщение к этой царствен-
ной сфере оказывается для человека губительным - госпожа де Бар-
тетон, попав в Париж, превращается в тщеславную, холодную лице-
мерку. Люсьен и Растинь'Чл окончательно утрачивают нравственные
критерии. Там человека ждет, по меткому выражению молодого
Пушкина, "блистательный позор". Русская литература оказалась
в этом отношении более обнадеживающей - Татьяна поняла цену вы-
сшему свету - этой "ветоши маскарада", как она говорит; тургенев-
ские героини, хоть и тяготятся провинциальной жизнью, но, с дру-
гой стороны, именно эта удаленность от "неволи душных городов"
по-прежнему остается несомненным источником и основой их внут-
ренней цельности. Но уже и русская литература, хоть и медленней,
шла здесь по тому же пути, что и французская. Гончаровская
"Обыкновенная история" - это уже точно такой же подход к теме
"провинция и город", как у французов. Романы Писемского - еще
одно тому свидетельство ("Тысяча душ" или "Бедный жених"). Че-
хов весь уже занят этой темой.
Европейская литература XIX в. явно запечатлела и здесь, с этой
точки зрения, крушение романтизма как принципа идеалов и веры. Ро-
мантический идеал окончательно изгоняется из городов, становящихся
средоточием практического, денежного интереса; в провинции
он по инерции еще питается верой в более высокие сферы бытия,
но и эта вера очень скоро принимает не только архаичный, но уже
и неестественный, утрированный, в сущности мещанский, характер -
романтический идеал здесь разрушается и подтачивается уже как бы
изнутри. "Вдали от центра, - пишет Бальзак, - старомодной становит-
ся даже образованность, вкус портится, как стоячая вода. Страсти,
не находя выхода, мельчают, возвеличивая малое... Госпожа де Барте-
тон, - продолжает он, - ни на что не могла надеяться, даже на случаи,
ибо бывают жизни без случайностей. Все ее совершенства обратились
в яд для ее души в тот час, когда она ощутила холод провинции".
И уже последняя степень этого измельчания идеала запечатлена в судь-
бе Эммы Бовари - ее идеал основан уже целиком не на внутренних ре-
сурсах души, а на прочитанных в книжках описаниях "красивой" жиз-
ни и "красивых" страстей - именно красивых, а не подлинных.
Так что бальзаковскую критику провинции - и вообще эту тему
в европейской литературе - не нужно понимать только как социальную
критику еще одного аспекта буржуазного общества. Эта критика фик-
сирует и более глубокий духовный и социальный сдвиг - здесь рушит-
ся одна из самых прочных цитаделей романтизма - принцип "близо-
сти к природе", руссоистская в основе своей мечта о бегстве от циви-
лизации, мечта о царстве патриархальной первозданности.
Отныне - начиная с Бальзака - никакая попытка идеализировать
патриархальный "поселянский" быт уже не в состоянии будет безапел-
ляционно выдавать себя за непреложную, конечную истину - на ней
всегда будет отчетлив более или менее искусно нанесенный слой рету-
ши, румян, лубка. В лучшем случае это будет поэтично воплощенная
сказка, сага с отчетливыми чертами романтизирующей традиции - как,
скажем, в "Деревенских повестях" Жорж Санд ("Маленькая Фадет-
та", "Франсуа-Найденыш", "Чертово болото"); в худшем случае это
будет эпигонство и спекуляция на веками истоптанной теме, списыва-
ние готового ответа вместо решения трудной задачи. Идеализация
"простонародья" в этом худшем случае будет основываться на предста-
влении о народе, почерпнутом из туристических наездов "в глубинку",
либо из дискуссий в столичных салонах. В эпоху окончательного ут-
верждения реализма о таком "народничестве" сказала замечательная
английская писательница Джордж Элиот, когда полемизировала с ав-
торами, которые "рисуют сельских жителей веселыми остряками (...)
или наивными и простодушными людьми, лишенными буржуазного
своекорыстия..." рассматривают их как "естественную среду, как сре-
доточие традиционной морали и веселого дружелюбия". Джордж Эли-
от отвечала таким писателям: "Себялюбивые инстинкты человека не
побеждаются зрелищем полевых цветов, и бескорыстие не насаждает-
ся классическим сельским занятием - мытьем овец. Чтобы сделать лю-
дей нравственными, недостаточно поставить их на подножный корм".
Бальзаковские "Сцены провинциальной жизни", как правило, ли-
шены всякого умильного любования провинцией, всякой ностальгиче-
ской идеализации. В провинции растет и орудует своя, деревенская
буржуазия ("Евгения Гранде"), идет не менее беспощадная социальная
борьба ("Крестьяне"), и Бальзак одним из первых показал проблемы
провинциальной жизни, что потом станет темой Мопассана и Чехова.
Романтическому идеалу "нет места нигде" - не только в горо-
дах, где люди "главы перед идолами клонят, да просят денег да це-
О. де Бальзак 151
пей", но и на лоне природы, в патриархальных городках, в дворян-
ских гнездах. Вот она, оборотная сторона буржуазного прогресса,
его победного шествия, его распространения вширь! Эта самая бур-
жуазная проза победоносно шествует по земле "путем своим желез-
ным" и подминает под себя поэзию. И она делает это не только так
грубо, как в истории с Евгенией Гранде, но и более тонко - "обра-
щая человеческие совершенства в яд души", как говорит Бальзак
о госпоже де Бартетон.
Несомненно, в такой трактовке темы провинции сказалась и соб-
ственная, так сказать биографическая, уязвленность Бальзака, выну-
жденного тоже пробиваться в столице собственными силами. Пото-
му он, конечно, так настойчиво фиксирует первые унижения провин-
циалов по приезде в Париж - Растиньяка при первом визите к гос-
поже де Босеан, Люсьена Шардона, которым пренебрегла госпо-
жа де Бартетон, как только сама "пристроилась" в парижском све-
те. Но за всем этим скрывается, как мы видели, и более глубокое,
характерное не только для одного Бальзака, но и для всей литерату-
ры этих лет обобщение.
До сих пор я говорил о темах, так или иначе уже звучавших
в раннем творчестве Бальзака. Совершенно новый пласт проблема-
тики Бальзак затрагивает в главной части романа, озаглавленной,
кстати, весьма характерно - "Провинциальная знаменитость в Пари-
же" (это к предыдущем моим рассуждениям). Здесь Бальзак
не только рассказывает о прогрессирующем нравственном измельча-
нии Люсьена - он рассказывает эту историю на фоне детальнейшего
анализа нравов и литературных, и журналистских кругов.
Набросанная Бальзаком картина этих нравов поистине шокирует.
Здесь не только все продается и покупается, как и повсюду в мире бур-
жуа, - здесь все еще и оправдывается с позиции утонченности и обра-
зованности. Слово, великий Логос, сама мысль, веками шлифовавшая
себя в истории европейской культуры, теперь во всеоружии этой сво-
ей силы, ею же пользуясь, сама себя втаптывает в грязь. Бальзак, по-
вторяю, рисует не просто картину продажности буржуазной прессы,
он истолковывает ее как процесс гигантского самоизбиения, самоуни-
чижения духа. То, что еще совсем недавно считалось святая святых,
единственным прибежищем духа, великое искусство слова, которым
так гордились романтики, здесь низводится со своих вершин в болото
обыденности. Музу выволакивают на газетный лист, как на ярмароч-
ную площадь. А ведь менее чем десятью годами раньше романтик Гю-
го в "Соборе Парижской богоматери" восхищался развитием книгопе-
чатания и прессы как величайшими достижениями прогресса просве-
щения - по сравнению со средневековьем. Ламартин, этот символ ро-
мантической отрешенности в 20-е годы, поэт, восклицавший: "Что об-
щего между землей и мной?" - Ламартин в 1830 г. говорил: "С сегод-
няшнего дня возможен единственный род печатного слова - газета.
Книга, поэзия уступают место прессе, ибо медлительность традицион-
ных форм не отвечает ритму общественной жизни". Как видим, и Ла-
мартин спешит приладиться к новому ритму, идти в ногу с веком.
Правда, в обоих этих случаях мы имеем дело с романтиками,
за короткий срок сменившими консервативную монархическую пози-
цию на либеральную, демократическую - с теми романтиками, кото-
рые в революционных событиях 1830 г. обольстились социально-пре-
образовательными идеями. При таких обращениях весьма часто проис-
ходят и перекосы, психологически вполне объяснимые; вот вроде ла-
мартиновского: "Книга должна уступить место прессе". Это дань
обольщению прогрессом. Надо сказать, однако, что по крайней мере
у Ламартина этот прогрессистский экстаз оказался не таким уж проч-
ным и бесповоротным - во всяком случае, что касается проблем печат-
ного слова. В поэме "Падение ангела" (1838 г.) мы слышим уже иные
тона. Возвращаясь мыслью к архаическим, первобытным стадиям че-
ловечества, Ламартин говорит, что тогда язык еще был "возвышен-
ным" (sublime langage), ибо каждое слово еще было в нем "вещью,
имеющей образ", "то был язык самой вселенной", где "говорить оз-
начало называть и рисовать", "ибо человек в безумии своем тогда
еще не замутил то великое зеркало, в котором Господь позволял ему
читать, и не поставил еще свое тусклое слово выше слова Господа".
Но вернемся к Бальзаку. Здесь уже полемика с романтизмом носит
не отвлеченно-эстетический характер спора о принципах искусства -
здесь она оборачивается жестокой правдой об устройстве общества.
"Вы, - говорит столичный журналист Лусто неопытному Люсьену,
еще не отрешившемуся от романтических иллюзий относительно свято-
го искусства, - вы будете писать, вместо того, чтобы действовать, вы
будете петь, вместо того, чтобы сражаться, вы станете любить, ненави-
деть, жить в ваших книгах; но, оберегая свои сокровища ради стиля,
свое золото и пурпур ради создаваемых вами образов, вы будете хо-
дить оборванным по парижским улицам, счастливый тем, что, сопер-
ничая с общественной жизнью, вы создали существо, равное Адольфу,
Корннне, Клариссе, Рене или Манон; вы испортите себе жизнь и же-
лудок, дабы даровать жизнь этому созданию, - и что же вы увидите?
Что оно будет оклеветано, предано, брошено в бездну забвения журна-
листами, погребено вашими лучшими друзьями".
Лусто - один из излюбленных бальзаковских типов, этаких "вос-
питателей" юношества, людей, не только распознавших, но и всеце-
ло принявших законы буржуазного мира. Как и Вотрен, Лусто, ко-
нечно, развратитель; но, так же, как и Вотрен, он делает свое дело,
опираясь на как будто бы безупречную логику, выразившуюся
в формуле Вотрема: "Принципов нет, а есть события; законов нет,
а есть обстоятельства". Рассуждения и Лусто и Вотрена все исходят
из одного постулата: мораль, нравственность - это пустой звук, фик-
ция, выдумка романтическая и беспочвенная. И вот, если человек
сам по себе внутренне неустойчив, то стоит ему принять посылку -
и он уже бессилен против дальнейшей железной логики. "Таланта
О. дг Бальзак 153
у вас достанет на трех поэтов, - вдалбливает Лусто Люсьену, уговари-
вая его стать журналистом, - но прежде, нежели вы выйдете в люди,
вы испортите себе желудок, успеете десять раз умереть от голода, ес-
ли рассчитываете жить плодами вашего творчества". Или вот он гово-
рит о Д'Артезе: "Нет ничего опаснее одиноких мыслителей, подобных
этому юноше, воображающих, что они могут влечь за собою мир...
Эти люди с посмертной славой препятствуют вам выдвигаться впе-
ред в том возрасте, когда продвижение возможно и полезно".
Все эти тирады Лусто произносит для того, чтобы уговорить Люсье-
на стать журналистом. Заметим себе сразу, что для Лусто понятие "жур-
налистика" тождественно понятию "продажность". Он сам цинично оп-
ределяет свою профессию как "наемный убийца идей и репутаций".
Но это не только его мнение. Друзья Люсьена, члены кружка Д'Артеза,
борясь за его душу, со своей стороны предостерегают его от журналисти-
ки по тем же причинам. Они говорят ему: «Журналистика - настоящий
ад, пропасть беззакония, лжи, предательства... Наполеон сказал как-то:
"Кто может все сказать, тот может все сделать!" И он был прав!».
Однако аргументы Лусто оказываются для Люсьена более весо-
мыми, чем аргументы Д'Артеза. Ведь Лусто, соблазняя Люсьена,
упорно взывает к его инстинкту почти физического самосохране-
ния - или помирай с голоду в безвестности, или продай свое перо
и становись "проконсулом", властелином в литературе. И Люсьен, на-
тура очень слабая, человек бесхарактерный и тщеславный, конечно,
выбирает второе. Так начинается процесс необратимого и неуклонного
падения личности, так начинается люсьеновский "блистательный по-
зор". Поначалу он все же надеется остаться чистым в этой сфере.
Но вот он впервые воспользовался своей профессией, чтобы отомстить
своему обидчику барону Шатле, пустив против него печатно сплетню,
и ему стало совсем не стыдно, а сладко, - он вкусил от своей власти
"наемного убийцы репутаций". Первый шаг уже сделан.
И теперь, когда Люсьен встал на этот путь, когда он выбрал эту
профессию, Лусто и его друзья уже довольно легко лепят его по сво-
ему образу к подобию. Теперь они уже раскрывают перед ним тай-
ны своего ремесла, не общий принцип - "убивать репутации других,
чтобы создать репутацию себе", - а именно тайны, механику таких
убийств. И Люсьену приходится пережить поистине фантастические
приключения в этом мире.
Вот Лусто дает Люсьену очередное задание - разбранить книгу сти-
хов Рауля Натана, которую сам Люсьен находит прекрасной. "Дорогой
мой, - говорит ему Лусто, - обучайся своему ремеслу. Книга, будь она
даже чудом мастерства, должна под твоим пером стать пошлым вздо-
ром, произведением опасным и вредным". "Но каким образом? - уди-
вляется еще неопытный Люсьен. - Обрати достоинства в недостатки!
И к тому же есть такой удобный выход, как псевдоним!"
Люсьен так и делает. Но это еще не все. Сразу же вслед за этим
Лусто советует Люсьену написать теперь хвалебную статью о той же
154
книге Натана (только уже в другой газете и под другим псевдонимом),
чтобы не нажить себе в Натане врага. Люсьен снова ошеломлен. Тог-
да в дело воспитания вступает другой журналист - Блонде: «В лите-
ратуре, мой милый, в области мысли - все двусторонне. Мысль двой-
ственна. Янус - миф, олицетворяющий критику. Руссо в "Новой Эло-
изе" написал одно письмо в защиту дуэли, другое против нее; кто мо-
жет решить, в котором из них высказано его личное мнение? Критика
обязана рассматривать произведение со всех точек зрения».
Но, когда Люсьен соглашается и на эту операцию, оказывается,
что и это еще не все! Теперь его заставляют написать еще одну ста-
тью о книге Натана и подписаться при этом полным именем! Люсь-
ен уже совсем сбит с толку, но новые друзья и тут ему все объясня-
ют: "Ты раскритикуешь облик критиков Ш. и Л. и в заключение воз-
вестишь, что книга Натана - превосходная книга нового времени.
Сказать так - значит ничего не сказать, так говорят о всех книгах.
Ты заработаешь в неделю 400 франков и получишь удовольствие кое-
где высказать и правду. Умные люди согласятся либо с Ш., либо с Л.,
либо с Люсьеном Шардоном, а быть может, и со всеми троими! Мифо-
логия поместила истину на дне колодца. Чтобы ее оттуда извлечь,
надобны ведра. Вместо одного ты даешь публике целых три!"
Вы уже, вероятно, заметили, что в этой истории речь идет, соб-
ственно, уже не об убийстве репутации поэта Натана, а о чем-то бо-
лее, так сказать, хитроумном. Ведь перед нами в сущности то же на-
слаждение своими возможностями, которые в другой сфере - сфере
исследования человеческих страстей и в деловом мире - демонстри-
ровали Гобсек и Гранде! Это перед нами своего рода игра - игра воз-
можностями критического суждения, возможностями самой мысли.
То, что я в самом начале говорил о проституировании пера в журна-
листике, получает свое законченное воплощение. То есть речь идет
тут опять-таки не об элементарной тривиализации мысли. Лусто
и его братия создают своего рода апофеоз относительности критиче-
ского суждения. Здесь мысль уже не верит сама в себя - она может
быть сейчас такой, а через минуту совершенно противоположной.
Бальзак снова проводит резкую грань между литературой как твор-
чеством и журналистикой, критикой. Для него это явления не только
отличные, но и несовместимые друг с другом. "Вы придерживаетесь
того, что написали? - ехидно спрашивает один из журналистов Люсь-
ена. - Но мы торгуем словом и живем этой торговлей. Когда вы поже-
лаете создать серьезное произведение, короче говоря, книгу, вы може-
те излить в ней ваши мысли, вашу душу, вложить в книгу всего себя,
защищать ее. Но статья! Сегодня она будет прочитана, завтра забудет-
ся, по-моему, статьи стоят лишь того, что за них платят!"
Так Бальзак сигнализирует о тех глубоких изменениях в самом
образе мышления, которые принесла со своим рождением журнали-
стика. Ее органическая функция, по мысли Бальзака, - релятивиро-
вать, обесценивать вообще всю духовную жизнь. Если об одной
О. до Бальзак 155
и том же книге можно говорить прямо противоположные вещи, зна-
чит утрачиваются вообще всякие критерии художественных ценно-
стей. Оказывается, пресса в состоянии "заболтать" и обесценить лю-
бое явление в сфере духа!
Когда Люсьен осознает еще и это - он уже окончательно созрел для
компании Лусто. Если любое суждение относительно - почему бы
им в таком случае не торговать? Принципов нет - есть обстоятельства.
И теперь он уже катится по наклонной плоскости еще быстрее!
Вот такова история Люсьена: это уже бесхребетный, безвольный
человек, деградировавший глубже, чем Растиньяк, хотя они как пер-
сонажи очень близки друг другу.
Она оттеняет историю Давида Сешара, сюжет которой - тоже
крушение иллюзий, хотя Сешар бесконечно близок и дорог Бальза-
ку. Сешар относится к числу наиболее симпатичных автору героев -
тех, которые приближаются к его идеалу человека: это люди с пра-
ктическим складом мысли, не склонные к метафизическим мечтани-
ям, но и чуждые эгоизма; это люди, которые если и мечтают о чем-
то, то именно об облегчении практической деятельности человека.
В произведениях Бальзака все более вырисовывается некий идеал -
это ученый-изобретатель, прожектер (но не в ироническом, отрица-
тельном смысле), не просто горящий абстрактным, романтическим
воодушевлением, но всегда связывающий свои мечты с конкретной
практической деятельностью.
Однако бальзаковские прожектеры не принимают главного закона
буржуазного мира - думать только о собственной выгоде. И потому
оказывается, что они всегда в проигрыше, потому что они слишком
моральны. Усвоив практический образ мыслей, они по честности сво-
ей не смогли усвоить эгоистическую мораль, и в этом причина их дра-
мы. В конечном счете они оказываются прожектерами уже в ирониче-
ском смысле - с точки зрения пошлой мещанской морали, для кото-
рой мера человеческой ценности - не намерение, а успех. И вот здесь
как будто образцовый реалист и адепт практики Бальзак оказывается
тайным родственником по духу тем же романтикам. Он пытается сде-
лать ставку на человека практичного и волевого - конечно же, тем са-
мым он надеется преодолеть всемогущество, всесилие среды! Однако
само это убеждение во всесилии среды, этот свеобразный фатализм
среды, если вдуматься, весьма сильно отдает очень романтической -
панической! - боязнью, страхом перед этой средой! Анализируя сре-
ду как реалист, Бальзак абсолютизирует ее власть как романтик!
Тут-то и обнаруживается переходность этого этапа развития реализ-
ма, его глубинные связи с романтической методикой.
Есть много и других важных скрещений реализма и романтизма
в творчестве Бальзака. Например, тяготея к героям деятельным и во-
левым, он не забывает и абстрактных поборников человечности,
не забывает и романтических мечтателей. Именно такими предстают
в романе "Утраченные иллюзии" поэт Д'Артез и его друзья - люди,
156
демонстративно устранившиеся от материальных интересов и образо-
вавшие своего рода тайную масонскую ложу, элиту духа. Впрочем,
среди них опять-таки есть представители практических профессий -
не только поэт и философ, но и политик, и врач. С другой стороны,
Бальзак намеренно соединяет в кружке представителей различных
политических убеждений - здесь и монархист Д'Артез, и республи-
канец Мишель Кретьен, и скептик-позитивист Орас Бьяншон (эта-
кий прототип нашего Базарова).
Получается, что культ гениальной личности независимо от среды,
культ, столь характерный для романтизма, там и сям незаметно
вкрадывается в художественную систему Бальзака, хотя она, как ви-
дим, замышляется и оформляется по многим параметрам как анти-
романтическая! Причем, если вы внимательно следили за моими рас-
суждениями, вы могли заметить, что я фиксировал "соскальзыва-
ние" Бальзака в романтизм повсюду там, где речь заходила об изо-
бражении человека, человеческого характера. Пока это было в свя-
зи с образами его положительных героев - и практических прожек-
теров, вроде Давида Сешара, и более отвлеченных поборников духа
и идеала, как члены кружка Д'Артеза. Это "люди, какими они
должны быть" (вспомните Жорж Санд!). Но и в другом ряду - в об-
разах буржуазных дельцов, карьеристов, выбивающихся в люди, -
мы при внимательном рассмотрении обнаруживаем опять-таки
не столько людей, "какие они есть", сколько людей, какими они
"не должны быть", т. е. своего рода отрицательные эталоны - но
эталоны! Как и у романтиков - необыкновенные злодеи, т. е. те же
гении, но только с отрицательным знаком, люди, которыми тоже
владеет "одна, но пламенная страсть".
Последовательный реализм все-таки предполагает сложность, не-
однозначность человеческой натуры; для него законченный злодей -
редкость, исключение, равно как и идеал во плоти. Бальзак теорети-
чески об этом тоже уже знает: представляя нам своих героев, он час-
то нанизывает в их характеристиках резкие, даже кричащие противо-
речия, чтобы сделать их сложными натурами. Но это именно теорети-
чески! (Психологи, например, заметили, что эти черты часто настоль-
ко противоположны, что вообще невозможны в рамках одного харак-
тера!). А практически такая сложность часто остается лишь деклари-
рованной, сами же герои все-таки живут и действуют под магнетиче-
ским воздействием "одной, но пламенной страсти". Напомню пушкин-
ское высказывание: "У Мольера скупой скуп и только, а у Шекспира
(Шейлок) он и скуп, и сметлив, и чадолюбив..." Вот у Бальзака ску-
пой, выходит, тоже не может быть чадолюбивым (старик Гранде).
Так опять подтверждается то, о чем я уже говорил применительно ко
всему переходному периоду: новый подход к изображению среды, об-
щества (широта, полнота, детальность, детерминированность воздей-
ствия) сочетается с еще во многом романтическими принципами изо-
бражения необыкновенных, выдающихся характеров.
О. де Бальзак 157
Но в конечном счете реализм подхватывает и продолжает, разви-
вает центральную проблему романтизма - судьбу личности в новом,
современном мире. В центре реалистической литературы - особенно
французской 30-40-х годов - не просто человек современной эпохи,
а, если угодно, индивидуалист, человек, ощутивший свою свободу,
вкусивший соблазн полной раскованности, свободы воли. Но только
теперь уже у Бальзака и далее, как мы увидим, у Стендаля индиви-
дуализм предстает не только и не столько как некое избранничество
личности, гениальность духовная, а прежде всего как примат личной
свободы и "личного интереса". Опасность этой метаморфозы почув-
ствовали, как мы помним, и сами романтики. На долю реалистов вы-
падает исследование этого созревшего эгоизма, морали вседозволен-
ности. Это почти все "активные" герои Бальзака, пробивающиеся
любой ценой в жизни.
Я уже говорил во вступительных рассуждениях о Бальзаке, что
на самом деле он и в зрелом своем творчестве далеко не так реши-
тельно порвал с романтизмом. Я бы сказал так: в огромной массе
бальзаковских сочинений есть много произведений безусловно реа-
листических - они и наиболее известны, у нас, во всяком случае, -
и на них традиционно опиралось наше литературоведение, строя
свой канон реалистического Бальзака: это "Полковник Шабер",
"Евгения Гранде", "Отец Горио", "Утраченные иллюзии", "Крестья-
не" и другие. Но есть на ' сем протяжении бальзаковского творчества
и другая линия, уже в гораздо большей степени романтическая:
"Сельский врач", "История тринадцати", "Серафита", "Лилия доли-
ны", "Блеск и нищета куртизанок", многие "Философские этюды" -
и этот список тоже можно продолжить. О том, как скрещиваются,
сочетаются в бальзаковской прозе романтизм и реализм, я старался
рассказать Вам на примере повести "Гобсек".
Итак, еще раз повторю: романтизм и реализм существуют в этот
период в сложных диалектических взаимосвязях, во взаимопроник-
новении. И это обнаруживается не только у Бальзака, но и в судь-
бах других художников: скажем, в творчестве Жорж Сайд, Гюго или
даже Флобера.
(1783-1842)
X^S ecci
есспорно, для современников новое литературное дви-
жение в первую очередь связывалось с именем Бальзака. После це-
лой эпохи романтической ннтроспективности, обращенности внутрь,
высокомерного пренебрежения к прозе реальности - серия бальза-
ковских романов, пестрые будни Парижа и провинции, почти необо-
зримое количество персонажей (все социальные слои), обостренное
внимание к деталям их быта и психологии. Эстетический эффект но-
вой, бальзаковской прозы объясним прежде всего уже одним этим
чисто психологическим эффектом восприятия по контрасту. Его от-
вергали и защищали равно страстно, его произведения никого не ос-
тавляли равнодушными. Сама личность Бальзака, его судьба были
типичным воплощением писательской судьбы того времени.
Так и случилось, что Бальзак и современниками, и потомками рас-
сматривался как эталон нового направления в литературе, в реализ-
ме. На фоне неутомимой бальзаковской деятельности по описанию
внешнего мира другие писатели, интересовавшиеся все-таки более
психологией современного человека, по инерции рассматривались
лишь как более или менее талантливые последователи романтизма -
искусства субъективного - Стендаль, Мериме. Лишь позже все про-
порции стали на свои места, и европейские читатели и критики по-
няли, что сосредоточение на психологии индивида еще не означает,
что писатель продолжает прежнее романтическое направление, что
психологизм Стендаля, Мериме, позднего Мюссе отличается
от субъективизма романтиков. Это лишь внешнее сходство, что буд-
то и у тех и других центр внимания не на среде, а на индивиде.
На самом деле Стендаль, Мериме, Мюссе теперь анализируют не
просто субъективное "я" художника, а анализируют психологию об-
щественного индивида, человека, формируемого средой. Это и есть
Стендаль 159
то, что делает их реалистами, хотя, конечно, несколько иного плана,
чем Бальзак.
В этой обстановке прошла фактически незамеченной творческая
деятельность писателя, которому несколькими десятилетиями позже
суждено было встать вровень с Бальзаком в блестящем созвездии
французских реалистов первой половины XIX в.
Но в то время у всех на устах были Ж. Санд, Гюго, Бальзак, Дю-
ма - но не Стендаль. А вот в XX в. Стендаль был признан одним
из гениальных новаторов французской прозы, одной из вершин
французской литературы XIX в. Чем объясняется этот парадокс?
Как правило, такая судьба постигает в литературе именно новаторов,
художников, в чем-то очень существенно опередивших свое время.
В анализе души героя Стендаль мог быть настолько необычен, на-
столько трезв и сух, что это производило впечатление некой резкой
дисгармонии, странной индивидуальной причуды. Он не укладывал-
ся ни в романтический, ни в реалистический канон. Искания, сме-
лый эксперимент - душа стендалевской прозы. Он постоянно шел
как бы поперек течения, сплошь и рядом - поперек собственных
пристрастий и симпатий, стремясь не к варьированию готовых, унас-
ледованных форм, а к воплощению неких глубинных тенденций ду-
ховного развития эпохи. И тут если он и ориентировался на какие-
то традиционные формы, то скорее на те, которые уводили глубже,
назад, за эпоху романтиз а - к французской психологической и мо-
ралистической прозе - к Монтеню, Ларошфуко, к роману ма-
дам де Лафайет.
Когда Стендаль в 1842 г. умер, критическая литература о нем со-
ставляла несколько отзывов, уважительных, но свидетельствующих
о том, что лучшего, главного в нем как раз не оценили, и несколько
кратких статей-некрологов. Стендаль оказался прямо пророком, ко-
гда однажды сказал: "Меня будут читать в 1880 г." Один Бальзак -
еще одно свидетельство его гениальности - разглядел в нем своего
достойного собрата: есть несколько благожелательных отзывов
и пространный этюд о "Пармской обители". Уже после смерти его
младший друг и наследник Мериме неоднократно указывал, почему
современники проглядели гений Стендаля. Стендаль был непривы-
чен, необычен для современников - он явно уже не романтик,
но и не такой, как Бальзак. Для того, чтобы понять эту специфику
стендалевского реализма, нужно обратиться прежде всего к его био-
графии и к его характеру. При ближайшем рассмотрении здесь ока-
зывается, что Стендаль в не меньшей мере сын своей эпохи, чем
Бальзак. Правда, он связан с нею как бы меньшим количеством ни-
тей - но дело в том, что эти нити не всегда лежат у него на поверх-
ности, и в чем-то они даже прочней и верней, чем у Бальзака. Точ-
нее говоря, Бальзак был весь сыном эпохи, писателем историческо-
го момента; источник его литературного могущества - прежде всего
в этой погруженности в эпоху. Гениальность же и глубина Стендаля
в том, что он во многом заглянул дальше своей эпохи, уловил тот пси-
хологический тип художественного мышления, который утвердился
в литературе позже, лишь после смерти Стендаля, его создателя.
Итак, к пониманию Стендаля надо подходить с двух сторон -
от его индивидуального характера, каким он был сформирован ок-
ружающими обстоятельствами и перипетиями индивидуальной судь-
бы и от общих обстоятельств эпохи Реставрации, в условиях кото-
рой он формировался.
Стендаль родился 23 января 1783 г. в Гренобле, в состоятельной
буржуазной семье. Впечатлительный ребенок в восьмилетнем возрас-
те потерял любящую мать; своего деспотичного отца он ненавидел,
еще больше ненавидел воспитателей-аббатов. Они пытались привить
ему идеи монархизма, чинопочитания и религии, но у Стендаля уже
с раннего детства возникло противодействие этому воспитанию, не-
нависть к религии и к религиозному ханжеству, сначала еще в фор-
ме детского вольнодумства.
Юность Стендаля прошла в эпоху наполеоновского владычества
и культа, и он не остался чужд поклонению перед личностью Напо-
леона. Ему пришлось лично принимать участие в наполеоновских
походах и сражениях, он с самого начала был вместе с ним в Ита-
лии и кончил вместе с ним в России. Но точно так же, как это бы-
ло у Гейне, юношеское поклонение Наполеону постепенно уступило
место более трезвой его оценке. Стендаль, республиканец по убеж-
дению, довольно быстро обнаружил, что "энтузиазм, порожденный
революцией", Наполеон заменил "энтузиазмом по отношению к себе
и своим низменным интересам". И тогда он возненавидел "тиранию
Наполеона, похитившего свободу у Франции", и позже, вспоминая
о своем отношении к Наполеону, сказал резкие слова: "Я пал вместе
с Наполеоном в 1814 году, и лично мне это падение доставило толь-
ко удовольствие".
Зрелые годы его - период окончательного формирования миро-
воззрения и личности - прошли в период Реставрации, и здесь дет-
ские воспоминания о ханжах-аббатах подкрепились наблюдениями
взрослого человека над всеобщим ханжеством этого времени. Не слу-
чайно Реставрация встает на страницах творений Стендаля как эпо-
ха, главной характеристикой и движущей силой которой является
лицемерие. В этой атмосфере воспоминания о наполеоновских вре-
менах выглядели по контрасту все-таки более героическими. Отсюда
и герои Стендаля - при всех их различиях (от Жюльена до Фабри-
цио и Люсьена) - это прежде всего люди, воспитанные на культе
сильной, яркой и независимой личности, но волею судьбы и эпохи
оказавшиеся брошенными в прозаический и лицемерный мир.
На первый взгляд это чисто романтическая коллизия: яркая лич-
ность, энтузиаст - и филистерская проза жизни. Даже тоска по про-
шлому налицо, правда, по ближайшему прошлому. И действитель-
но, Стендаль в этом отношении имеет много общего с романтической
162
литературой. Но его отличает от классических романтиков то, что
своих героев - натуры во многом, бесспорно, романтические - он по-
мещает во вполне реальную социальную среду. Романы Стендаля -
это сплошь вариации на тему: романтический герой в реальной жиз-
ни, это сплошь почти научно-исследовательский интерес к тому, что
будет, если романтического героя вынуть из романтически-условной
атмосферы и поместить в атмосферу обыденную, будничную.
Но есть и еще одно отличие. У классических романтиков их по-
ложительные герои, их энтузиасты - сами по себе уже не от мира се-
го. Это прежде всего, как правило, художники - уже это одно вы-
деляет их из числа других. Это очень узкий круг избранных, отме-
ченных печатью гения.
Стендалевские герои - романтики не по озарению свыше,
не по предназначению, не люди с печатью гения на челе, а романти-
ки по складу своего ума, просто мечтатели, люди, одержимые меч-
той "о доблести, о подвигах, о славе".
Сами по себе они - обыкновенные люди: плебеи крестьянского
происхождения - Жюльен Сорель, или простодушный и даже про-
стоватый отпрыск дворянского семейства Фабрицио, или выходец
из буржуазного семейства Люсьен Левен. Но они в то же время -
люди с идеалами, с мечтами, с сильными страстями, как у Жюлье-
на, или во всяком случае натуры подчеркнуто импульсивные, как
Фабрицио. Их романтичность - не гордое сознание своего избранни-
чества, а стремление личными заслугами добиться этого избранниче-
ства. Они одиноки, но не так, как герои классического романтизма.
Одиночество тех предопределено с самого начала, коренится в их ду-
ше уже с рождения; герои Стендаля поначалу одержимы жаждой
принести пользу обществу, и к сознанию одиночества они приходят
лишь в результате жестоких столкновений с реальностью. У них
одиночество не исходный пункт, а результат, не черта характера,
а жизненный итог. Стендаль показывает обусловленность этого ро-
мантического одиночества вполне реальной средой, и это одна
из главных черт, делающих его реалистом. Если Шатобриан, ранний
Байрон, Сенанкур, Констан ощутили болезнь века, но не раскрыли
ее причины, анализируя состояние одиночества, то Стендаль демон-
стрирует, как романтический герой к этому одиночеству приходит.
Тема "утраченных иллюзий" сближает Стендаля гораздо больше
с Бальзаком, нежели, например, с Шатобрианом или Констаном.
И хотя многие исследователи XIX в. еще причисляли Стендаля к ро-
мантизму, это было результатом своеобразной критически-оптиче-
ской иллюзии. По инерции критики обращали больше внимания
на самого героя и меньше - на ту среду, в которой он развивался.
Ее рассматривали просто как фон, а она была главным условием, ка-
тализатором в той химической реакции, в результате которой роман-
тический герой, выпущенный из реторты юношеских мечтаний, был
вынужден потерпеть крушение.
Стендаль 163
Итак, Стендаль главную тему романтизма - тему одиночества, кру-
шения личности - рассматривает и решает уже как писатель-реалист,
в осознании неразрывной связи индивида со средой. Стендаль - это
уже блудный сын романтизма; все философские, эстетические и этиче-
ские критерии романтизма он непременно проверяет реальностью.
Еще одна специфическая черта характера Стендаля, развивавша-
яся с годами и повлиявшая на все его творчество: в школе Стендаль
увлекался математикой и вообще точными науками. Сам он объяс-
нял это увлечение тем, что он больше всего ненавидит лицемерие
и находит его в других науках, а в математике его встретить невоз-
можно. Однако тут скрыты и более глубокие причины: философские
интересы Стендаля, увлечение материалистической философией
французских просветителей XVII и XVIII вв. (Гельвеций, Монтескье,
Кондильяк, Вольтер). Потому и в математике его привлекла прежде
всего строгость логического мышления, лежащего в ее основе. Здесь
Стендаль - вполне сын своего научно-позитивистского века. Итак,
с одной стороны, он подхватывает романтическую тему сильной лич-
ности, с другой - стремится к научности мировосприятия.
Так возникло специфически стендалевское сочетание эмоцио-
нальности и строгой логичности, которое составляет неотразимое
обаяние его как человека и как писателя. Присмотримся ближе
к этому сочетанию.
Уже от рождения Стендаль был натурой очень впечатлительной
и эмоциональной. Мать его была итальянка, образованная женщина,
читала сыну итальянских писателей и поэтов в подлинниках. Види-
мо, это она успела привить сыну любовь ко всему итальянскому.
Итальянская тема занимает одно из главных мест во всем творчест-
ве Стендаля и вообще в его жизни: дневники "Рим, Неаполь и Фло-
ренция", "Прогулки по Риму", роман "Пармская обитель", сборник
новелл "Итальянские и венецианские хроники". Стендаль много раз
и подолгу бывал в Италии - то в качестве участника наполеоновских
походов, то просто в качестве туриста, то как государственный чи-
новник и дипломат. Естественно, у него масса наблюдений об италь-
янском искусстве, нравах, национальном характере. Тема сопостав-
ления двух национальных характеров - итальянского и французско-
го - сквозная тема размышлений Стендаля.
Французов Стендаль упрекал за тщеславие - они не могут быть
счастливыми, потому что для них самая высокая радость - это ра-
дость тщеславия (что скажут о тебе другие). В XVI в. во Франции
родился дух галантности, подготовивший постепенное уничтожение
всех страстей, и даже любви, ради нового жестокого тирана, которо-
му послушны все мы, и чье имя - ТЩЕСЛАВИЕ.
В Италии, наоборот, человек мог выдвинуться в любой области
как мастерским ударом шпаги, так и изучением старинных рукописей.
В Италии в XVI столетии женщины отличали мужчин, знающих гре-
ческий язык, так же и даже лучше, чем прославившихся воинской
164
доблестью. Там существовали истинные страсти, а не одна лишь га-
лантность.
В итальянцах же Стендаля подкупала их ничем не омрачаемая
страсть, равнодушие к общественному мнению, желание и умение
следовать порывам своей души. "Эти удивительные люди, - писал
Стендаль, - могут быть остановлены в своем импульсе только недо-
статком денег или чистой невозможностью".
Тщеславие французов он отмечал повсюду - в общественном по-
ведении, в личной жизни, даже в искусстве. Критикуя затянувшее-
ся увлечение классицизмом во французской литературе, Стендаль
во многом относил это за счет тщеславия как национальной черты
(мол, вопреки всем веяниям времени мы будем считать, что лучше
нашего XVII в. ничего не было; мы дали тогда эталоны миру, он сей-
час об этом забыл, но мы это помним!). Конечно, Стендаль тут
во многом был прав. Например, то обстоятельство, что трагедия тще-
славия и самолюбования играет во всей французской литерату-
ре XIX в. (и у того же Стендаля) огромную роль, подтверждает это
стендалевское предположение. Ведь крушение судеб героев - здесь,
как правило, крушение честолюбивых стремлений (у англичан ведь
не так!). И когда Стендаль умер, по его завещанию на могиле
на монмартрском кладбище была выгравирована надпись по-италь-
янски: "Арриго Бейль, миланец, писатель, любовник, ученый" -
надпись, далеко не чуждая тщеславия.
Стендаль постоянно подчеркивает цельность натуры итальянцев,
их страстность. Таким образом, сам интерес к проблеме страсти сви-
детельствует о повышенной эмоциональности стендалевской натуры.
Но вот другое увлечение Стендаля - точные науки, логическое
мышление, принципы исследования. Конечно, это не просто индиви-
дуальные увлечения, но за ними, бесспорно, стоит и нечто более глу-
бокое - это веяние новой эпохи, когда вообще принципы позитивиз-
ма, научного знания стали главным принципом мироощущения.
Во всей эмоциональной жизни самого Стендаля с тех пор неиз-
менно присутствует стремление к логическому осмыслению своих пе-
реживаний. Когда он путешествует по Италии, он путешествует
не просто как влюбленный в эту страну турист, но и как ее летопи-
сец - он обязательно все подробно записывает в дневник, потом из-
дает путевые заметки. Он не просто восхищается итальянским наци-
ональным характером - он пытается исследовать причины, условия
его формирования именно в таком виде. Повсюду у него интерес уче-
ного и исследователя (хоть он и дилетант).
Эта аналитичность психологических наблюдений Стендаля - его,
пожалуй, самая отличительная черта. Еще в юности он записывал
в своем дневнике: "Применить приемы математики к человеческому
сердцу. Положить эту идею в основу творческого метода и языка
страстей - в этом всё искусство". Слово "искусство" - ключевое сло-
во всей философии и эстетики Стендаля, и он прекрасно понимал
Стендаль 165
всю общественную необходимость этого требования. "Исследуем -
в этом весь девятнадцатый век", - говорил он в трактате "Расин
и Шекспир". Это уже, конечно, принцип реалистической эстетики.
Романтики, как мы помним, рациональное аналитическое познание
отвергали (скажем, Новалис в "Учениках в Саисе") или, во всяком
случае, подвергали сомнению. Для них главное - интуиция, а для
Стендаля главное - исследование, исследовать нравы ("точное
и проникновенное изображение человеческого сердца"). Причем за-
метим - математически точно исследовать не просто мир, природу,
а жизнь сердца - то, что в романтической философии меньше всего
подвластно холодному анализу!
Пожалуй, самое яркое свидетельство этой аналитичности Стенда-
ля - трактовка любви в его произведениях. Она - одна из главных
и излюбленных тем писателя. На первый взгляд может показаться,
что как раз в этой теме, в этой сфере разум и логика менее всего ре-
шают дело. Но началась она в его творчестве с трактата, который так
и называется - "О любви" (1822); это анализ зарождения и разви-
тия любовного переживания; подробное описание тончайших нюан-
сов и переходов этого чувства с радостного момента его возникнове-
ния до печального момента его остывания. Но это не только матема-
тическая логика в применении к проблеме любви. Чувство любви
здесь неразрывно связано с нравами эпохи, национальным характе-
ром. Не только логика, г и история и социология привлекаются
Стендалем к исследованию.
А как изображает Стендаль любовь в своих романах? Любовь
госпожи де Реналь и любовь Матильды - это прежде всего два типа
женской любви, в корне друг от друга отличающихся. Это не просто
два женских характера, это именно два типа чувств; при всей их яр-
кой индивидуальности они в то же время - как бы объекты научной
демонстрации разных типов любви: самоотверженной и до конца
преданной - и тщеславной, рассчитанной на внешний эффект. Если
отношения между госпожой де Реналь и Жюльеном - это в общем-
то еще арифметика любви, то отношения Матильды и Жюльена -
это уже, так сказать, ее алгебра, и мы воспринимаем эту историю
не только с сильнейшим эмоциональным сопереживанием, но и как
научную демонстрацию тезиса Стендаля о том, что на первых порах
сила ответной любви обратно пропорциональна силе твоей собствен-
ной. У Пушкина эта мысль подана в отчетливо шутливом, ирониче-
ском ключе: "Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся
мы ей". У Стендаля это серьезное соревнование натур, темпераментов
и умов - в страсти! Именно это лежит в основе и первоначальной рас-
четливой холодности Матильды, и напускного равнодушия Жюльена,
и оба они это прекрасно осознают. Тут идет настоящая борьба - кто
кого. Да еще есть и осложняющие обстоятельства: помимо всего про-
чего, тут развивается любовь двух людей, неравных по своему соци-
альному положению, - любовь аристократки и плебея.
В общем, возвращаясь к исходным рассуждениям, еще раз подчерк-
ну, что стендалевская художественная проза являет собой удивитель-
ное сочетание эмоциональности и логичности, спонтанности и анали-
тичности, и это то, что прежде всего в ней интригует и завораживает.
Уже много позже, в XX в., Поль Валери так охарактеризовал эту
особенность стендалевского стиля: "Он был мастером литературы
абстрактной и пламенной, сухой и возвышенной одновременно". Это
очень меткая и точная характеристика, но, согласимся, само сочета-
ние это необычно и весьма трудно осуществимо; представьте себе
стиль, в котором гармонично слились бы лед и пламень. Вот над
этой проблемой и бился всю жизнь Стендаль: чтобы "пламя" не пре-
вращалось в банальную романтическую экзальтацию, но и чтобы
"лед" не гасил до конца пламя.
Когда Стендаль вступает на путь художественного творчества,
его идеал - дисциплинированность "пламени", искоренение экзаль-
тации; первое условие - чисто стилистическое: лаконичность, сдер-
жанность, экономность в изображении чувства - и борьба с ходуль-
ной красивостью. "Когда из литературы исчезнет фраза, тогда насту-
пит мое время", - говорил он о себе. И в самом деле, что бросается
в глаза в его творчестве? "Красное и черное", итальянские хроники,
новеллы Стендаля - это произведения о высоких страстях, красивых
людях - но без красивых фраз! Пылкость души нейтрализуется де-
монстративной бесстрастностью стиля, а потом - в "Пармской оби-
тели" - еще и сухой ироничностью. И вот это очень трудно воспри-
нималось современниками Стендаля, и они ставили ему в упрек то,
что он не обладал талантом изображения среды, деталей. В этом пла-
не Стендаля обычно сопоставляли с Бальзаком, причем в пользу по-
следнего. Однако интерес Стендаля размещается в иной плоскости,
нежели у Бальзака. Бальзак исходил из внешне похожей установ-
ки - необходимости научного исследования общества. Но этот прин-
цип он применял прежде всего по отношению ко всему обществу.
Объектом его масштабных писательских исследований было все об-
щество целиком - а отсюда вытекали и конкретные задачи: прежде
всего широта охвата - успеть все показать, ничего не забыть; его
научный интерес направлен вширь.
У Стендаля он направлен прежде всего вглубь - его занимает глу-
бокий анализ в первую очередь не общества, а человека, разумеется, че-
ловека, порожденного и сформированного данным обществом.
И все-таки для Стендаля человек - прежде всего психологический
тип, а для Бальзака он - тип социальный. Конечно, и Бальзак пока-
зывает сложные страсти, кипящие в душе человека. Но у него,
уж раз социальный тип сформировался, то страсть, лежащая в его ос-
нове, идет напролом, прямиком без отклонений. А Стендаль показыва-
ет глубокую дислокацию страсти - "фибры сердца современного чело-
века", - которая хоть и определена социально, но развивается еще
и по своим собственным внутренним, не менее интересным законам.
Стендаль 167
Да и само понимание страсти у героев Стендаля, как мы видели,
носит иной характер. Страсть у Бальзака - это страсть к успеху,
прежде всего страсть к обогащению, к деньгам.
У Стендаля психология успеха имеет другую сторону - это
не стремление пробиться за счет других, но теряя себя, как у Баль-
зака; а напротив, полагаясь на свои силы и сохраняя себя; его герои
мечтают о благородном влиянии на общество. Герои Бальзака, стре-
мящиеся выбиться в люди, мечтают только о личном преуспевании.
Для них все средства хороши - дочери Горио не пойдут хоронить от-
ца, они поедут на великосветский раут; а Жюльен в последнюю ми-
нуту откажется от спасения своей жизни, чтобы сохранить свое дос-
тоинство и умереть несломленным.
Такой подход к проблеме успеха имеет свои корни в этике Стен-
даля. Вопрос о том, каким образом в современную эпоху может про-
явиться человеческое величие, - главный вопрос для Стендаля.
Он считает, что основная движущая сила всех человеческих поступ-
ков - стремление к личному счастью. Причем это счастье человек
может понимать по-разному; для итальянцев личное счастье - это
счастье в любви. В "Пармской обители" герои романа готовы отка-
заться от всего - от славы, почета, богатства - ради счастья в люб-
ви. Джинна Сансеверина все ставит на карту, вплоть до собственной
чести, чтобы освободить Фабрицио; граф Моска готов тут же подать
в отставку и лишиться oi шных доходов, чтобы уехать с Джинной
из Пармы, только чтобы она всецело принадлежала ему. Фабрицио
готов отказаться от побега из крепости, потому что тогда он лишит-
ся возможности видеть Клелию. Все ради любви - это стержень,
главная пружина всех характеров романа.
Но может быть и другое представление о счастье - счастье слу-
жения обществу - гуманное честолюбие; оно движет поступками
Жюльена Сореля и Люсьена Левена. Такое стремление к успеху во-
все не эгоистично, оно подразумевает, что счастье отдельного чело-
века немыслимо без счастья других людей.
Стремление идти вглубь человеческой психологии, показать диа-
лектику страсти, движущей человеком, обусловило иную пропорцию
между героем и средой у Стендаля. Герой Стендаля не так всецело
зависит от среды, как у Бальзака. И не только потому, что он актив-
ней сопротивляется ей, но и потому, что, по убеждению Стендаля,
человеческая страсть должна изображаться еще и как самоцель.
Она - достойный объект исследования сама по себе.
Теперь присмотримся внимательнее к эстетическим воззрениям
Стендаля. Здесь тоже важна специфика его реализма. Казалось бы,
человек, начавший с увлечения музыкой, с биографий Гайдна, Мо-
царта и Метастазио, должен был бы поддаться влиянию романтизма
больше, чем кто-либо другой. Но первые шаги Стендаля как теоре-
тика искусства сразу продемонстрировали его отличие от романтиче-
ских критиков. Однако самое удивительное состоит в том, что он сам
168
считал себя романтиком, и его первое крупное выступление на ниве
эстетики как будто сближает его с романтиками.
В 1817 г. появляется его труд "История живописи в Италии".
Основная идея автора - сопоставление античного и современного
эстетического идеала. В античности красота ассоциируется с физиче-
ским совершенством, а в современности - с глубиной чувств и интел-
лекта, что отражается во взгляде и в лице. Попробуйте представить
себе Венеру Милосскую, аргументирует Стендаль, с выразительны-
ми глазами: у античных скульптур нет такого параметра, да и вооб-
ще в скульптуре трудно передать выражение глаз.
Вслед за Шатобрианом и мадам де Сталь Стендаль приходит
к сугубо открытому, широкому выводу: нет абсолютного идеала кра-
соты, каждое время имеет свой идеал. До этого сходные мысли вы-
сказывал, надо отметить, и Фридрих Шлегель, правда, он не пошел
дальше, объявив бесконечные художественные поиски новым эстети-
ческим идеалом. Стендалю нужны более конкретные позитивные ус-
тановки: так, его восхищает "Гамлет" Шекспира как пример переда-
чи внутренней жизни человека.
Следующий важный эстетический манифест Стендаля - трактат
"Расин и Шекспир", в котором Стендаль выступает тоже, хотя
и весьма своеобразно, на стороне романтиков. Он обрушивается
на классицизм в литературе и особенно в драме, критикует подража-
ние античным образцам, высокий стиль и даже использование алек-
сандрийского стиха.
Исходный тезис Стендаля - "Мы совсем не похожи на тех марки-
зов в расшитых камзолах и больших черных париках стоимостью
в 1000 экю, которые около 1670 года обсуждали пьесы Расина и Моль-
ера. Эти великие люди хотели угодить маркизам и работали на них.
Я утверждаю, что отныне нужно писать трагедии для нас, рассуждаю-
щих, серьезных и немного завистливых молодых людей 1823 года".
Это требование современности искусства - главное требование
Стендаля. "Романтизм, - говорит он, - это искусство давать наро-
дам такие литературные произведения, которые при современном со-
стоянии их обычаев и верований могут доставить им наибольшее на-
слаждение. Классицизм, наоборот, предлагает им литературу, кото-
рая доставляла наибольшее наслаждение их прадедам".
Важно понять эту историчность стендалевского подхода - для не-
го Расин - романтик; Шекспир - романтик; Данте - романтик.
Они - романтики потому, что выражали свое время. Но выражать
другое время они, так сказать, не могут, во всяком случае Расин.
"Слава Расина незыблема, - рассуждает далее Стендаль, - но дела-
ет ли Цезаря менее великим то, что после его войн с нашими пред-
ками галлами был изобретен порох? Мы утверждаем лишь одно: ес-
ли бы Цезарь вновь вернулся в мир, его первой заботой было бы за-
вести в своей армии пушки..." Расин не допускал, чтобы трагедии
можно было писать иначе. Если бы он жил в наше время и дерзнул
Стендаль 169
следовать новым правилам, он написал бы трагедию в сто раз луч-
шую, чем "Ифигения".
И вот вывод, следующий из этих рассуждений: "В сущности, все
великие писатели были в свое время романтиками. А классики - это
те, которые через столетие после их смерти подражают им, вместо то-
го чтобы раскрыть глаза и подражать природе". Для Стендаля, та-
ким образом, понятие "классик" в современности означает "эпигон",
и это очень точно - ведь именно с эпигонами Расина и Корнеля он во-
евал за современное искусство. Но это не означает, что он стоит
за всякое современное искусство. Шатобриана, Ламартина и их пос-
ледователей он к романтическому искусству не относит, напротив,
он весьма пренебрежительно говорит о них: «Весь этот рой молодых
людей, которые разрабатывают "мечтательный жанр" и, упитанные
и обеспеченные, не перестают петь людские скорби и радости смер-
ти». Но и Байрона он, как это ни парадоксально, не считает роман-
тиком, хотя и преклоняется перед его личностью. Талант Байрона
для него чужд: он для него - "автор нескольких великолепных,
но всегда одинаковых поэм и многих смертельно скучных трагедий".
Вот и получается, что все, что мы сейчас называем "романтиче-
ским", Стендаль как раз и отвергает. А романтиками в современно-
сти он считал Беранже, Мериме, Бальзака, т. е. тех авторов, кого
мы теперь называем реалистами. Конечно, в логике Стендаля есть
и одно "слабое звено". Ведь называя свой трактат "Расин и Шекспир",
он противопоставляет эти две традиции и, решительно отвергая ориен-
тацию на классицизм XVII в., подразумевает ориентацию на Шек-
спира. А Шекспир, как мы знаем, с самого начала был знаменем ро-
мантиков. Но в то же время он не подвергает сомнению и гений Ра-
сина. В таком случае - именно потому, что он так жестко логичен, -
ему можно возразить: если Расин сам по себе все-таки гений и если
каждый гений велик для своего времени и непригоден для будущих
времен, нуждающихся в своем гении, то почему же делать исключе-
ние для Шекспира? Почему вот ему можно подражать? Стендаль
выпутывается из этого противоречия чисто формально. Он говорит:
"Романтики никому не советуют подражать непосредственно драмам
Шекспира. То, в чем нужно подражать этому великому человеку, -
это способ изучения мира, в котором мы живем, и искусство давать
современникам именно тот жанр трагедии, который им нужен".
Но, заметим, несколькими страницами раньше он признавал
это и за Расином. Так что на самом-то деле Стендаль, конечно, при-
зывает подражать Шекспиру, не просто ценя в нем умение отвечать
духу времени, но и ощущая в нем гения на все времена. Он подра-
зумевает шекспировскую глубину постижения мира и человека.
Вот она должна быть образцом - все-таки "образцом для подража-
ния", как ни крути.
Какие же конкретные требования предъявляет Стендаль к совре-
менному искусству? Он хотел бы, чтобы современное искусство
170
было "простым и естественным", чтобы "действие было похоже
на то, что ежедневно происходит на наших глазах", чтобы герои бы-
ли такими, "какими мы их ежедневно встречаем в салоне, ни более
напыщенные, ни более натянутые, чем в натуре".
Несколькими годами позже, в романе "Красное и черное" Стен-
даль скажет знаменитые слова; перефразируя метафору из шекспи-
ровского "Гамлета": "Эх, сударь, роман - это зеркало, которое на-
водится на большую дорогу. Оно отражает то небесную лазурь,
то грязь дорожных луж. Почему же человека, который несет зерка-
ло в своей дорожной котомке, Вы обвиняете в безнравственности?
Обвиняйте лучше дорогу, смотрителя дороги, который допускает,
что вода застывает и образует эту грязь!".
Романтики сразу почувствовали, что здесь наносится удар в са-
мое сердце их мировоззрения. Ламартин резко отвечал Стендалю:
"Он забыл, что подражание природе не составляет единственной це-
ли искусства, что красота прежде всего является законом и целью
всех созданий духа". Стендаль отпарировал в присущем ему афори-
стическом духе: "Души нежные и восторженные... говорят, что иде-
альная красота абсолютна; что если бы, например, Рафаэлю и Тици-
ану дана была способность постоянно совершенствоваться, то в один
прекрасный день они наконец стали бы писать совершенно одинако-
вые картины". Итак, защищая "романтизм", Стендаль на самом де-
ле уже перешагнул исторический романтизм и отстаивает совершен-
но иные принципы, нежели это было у тех, кого мы называем "ро-
мантиками". Его эстетика - это уже новый этап, обоснование искус-
ства реализма и натурализма.
Блестящее подтверждение правоты своей эстетической програм-
мы Стендаль дал в романе "Красное и черное", над которым рабо-
тал в 1829-1830 гг. Роман появился в ноябре 1830 г. и носил подза-
головок "Хроника XIX века". Уже этот подзаголовок свидетельству-
ет о том, что Стендаль судьбе своего героя придавал самый широ-
кий, эпохальный смысл.
Между тем, судьба эта - в силу своей необычности, экстраорди-
нарности - на поверхностный взгляд может показаться частной, еди-
ничной. Такому пониманию вроде бы способствует и то обстоятель-
ство, что сюжет романа Стендаль заимствовал из судебной хроники.
В 1827 г. в его родном городе Гренобле общественное мнение было
взбудоражено судебным процессом над неким Антуаном Берте, мо-
лодым человеком, который был домашним учителем в семье одного
дворянина. Он влюбился в мать своих воспитанников и в припадке
ревности пытался ее застрелить. В начале 1828 г. Берте был казнен.
Эта история во многом и легла в основу стендалевского романа.
Итак, как будто исключительный случай, газетная сенсация, чуть ли
не материал для детективного или бульварного романа. Однако са-
мо обращение Стендаля к тому источнику было далеко не случайно.
Его, оказывается, давно интересовала "судебная газета", потому что
Стендаль 171
она представлялась ему одним из важнейших документов своей эпо-
хи. В частных трагедиях, подобных трагедии Берте, Стендаль усма-
тривал какую-то существенную для общества тенденцию.
Во-первых, Стендаль считал, что в современную ему эпоху, от-
личительными признаками которой, как мы помним, для него были
тщеславие и лицемерие, подлинно человеческие страсти оказывают-
ся изгнанными из респектабельного общества. "Во Франции, - заме-
чал Стендаль, - только на галерах можно найти собрание замеча-
тельных людей. Они обладают великим качеством, которого недос-
тает их согражданам, - силой характера". Не нужно, однако, пони-
мать это полемически заостренное высказывание как выражение
"антиобщественных" взглядов Стендаля. Не недо думать, что Стен-
даль оправдывает преступление как свидетельство силы характера.
По убеждению Стендаля, трагедия сильных личностей в современ-
ную эпоху в том и заключается, что для их естественного стремле-
ния к счастью общество поставило слишком много препон: более то-
го, общество эпохи Реставрации все основано на подавлении этих ес-
тественных стремлений. Оно настолько антигуманно, настолько про-
тиворечит естественным потребностям, что неизбежно провоцирует
индивидов на бунт против него. Логика здесь такова: если ты чело-
век с сильным характером, то, вероятней всего, ты кончишь на гале-
рах, потому что таким людям не место в обществе. Стендалевское
восхищение силой характера неразрывно связано с осуждением со-
циальных порядков в современной ему Франции.
Этот взгляд - не только результат наблюдений Стендаля над со-
временностью. Уже в произведениях столь ценимых им просветите-
лей XVIII в. он находил созвучные мысли и наблюдения. Просвети-
тели, как известно, исходили из веры в исконную разумность есте-
ственных стремлений человека. Если стремления человека оказыва-
ются извращенными, то это вина не его, а социальных установлений.
Читая Гельвеция, Стендаль отмечал для себя те его рассуждения, где
Гельвеций объяснял частые преступления пороками социальной сис-
темы: "Человек повсюду раб. От него, стало быть, требуется, чтобы
он был низок, корыстен, скрытен, бесчестен". Те же мысли Стендаль
находит и у Гольбаха: "Лишь пороки общества делают его членов по-
рочными. Тогда человек делается волком среди волков". Наблюдая
современное ему буржуазное общество, Стендаль мог убедиться, что
оно не только не изжило этого порока, но еще более его усугубило.
Отметим сразу, что такой взгляд на проблему преступности был
весьма распространенным в европейских литературах того времени.
Это был поистине один из самых больных вопросов века.
Социальное право лишь прикидывается беспристрастным храни-
телем законности и общественного спокойствия. На самом деле, оно
все основано на подавлении естественных прав человека. Потому
юридически беззащитными и наказуемыми всегда оказываются или
люди бедные, или люди достаточно сильные, чтобы не подчиняться
нормам классового, сословного права. Отсюда и идет повышенный
интерес европейских писателей к проблемам преступности, к судь-
бам "отверженных". Во французской литературе другой яркий при-
мер тому - Гюго. Ведь он тоже упорно ищет своих героев среди от-
верженных, "асоциальных" элементов, и их судьбы - обвинитель-
ный приговор буржуазному обществу. Его положительный герой -
Жан Вальжан - ведь не случайно бывший каторжник, как не случа-
ен у Бальзака и бывший каторжник Вотрен. Только Бальзак как ре-
алист Вотрена не идеализирует, а Гюго - романтик - своего Вальжа-
на превращает в положительного героя. Проблема смертной казни
лежит в центре публицистических рассказов Гюго - памфлетов
"Клод Гё" и "Последний день приговоренного к смерти". В англий-
ской литературе эта проблема постоянно всплывает в романах Дик-
кенса. В русской - кульминация этой темы дана в образе Расколь-
никова. Так что Стендаль здесь одним из первых нащупывает один
из самых больных нервов своего века, его общественной системы, ос-
нованной на подавлении личности и потому закономерно порождаю-
щей преступность. Дело оказывается не в том, что человек престу-
пил черту, а в том, какую черту он преступил, какой закон нарушил.
С этой точки зрения роман "Красное и черное" в самой резкой фор-
ме демонстрирует противоположность между естественным правом
личности и теми рамками, которые предоставляет ей для реализации
этих прав закон.
Стендаль до предела заостряет эту проблему тем, что в качестве
героя берет незаурядную личность плебейского происхождения. Его
Жюльен Сорель - сын плотника, но в то же время человек, одержи-
мый честолюбивыми устремлениями. Его честолюбие если не чуждо
тщеславия, то совершенно чуждо алчности. Он прежде всего хочет
занять подобающее ему место в общественной системе. Он прекрас-
но осознает, что он не только не хуже других, преуспевающих,
но и умнее, серьезнее их. Свою энергию, свои силы он готов употре-
бить и на благо общества, а не только на свое личное благо. Но он
в то же время и хорошо знает, что его плебейское происхождение ви-
сит на его мечтаниях тяжелым грузом. Очень важно осознать эту со-
циально-психологическую основу поведения Жюльена. Если
он очень долго пытается приспосабливаться к официальной морали,
то это не просто элементарный расчет лицемерия; да, он быстро по-
нял, как ему надо себя вести, но у него во всех его подвигах лице-
мерия всегда присутствуют и горечь оттого, что иного пути ему, пле-
бею, судьба не оставила, и вера в то, что это - только необходимая
временная тактика, и еще самолюбивая гордость: вот он, плебей, так
легко и быстро, не хуже других усвоил законы света, правила игры.
Успехи в лицемерии ранят его душу, его чувствительную, искрен-
нюю в основе своей натуру, но и тешат его плебейскую гордость!
Для него главное не пробиться наверх, а доказать, что он может про-
биться наверх, если захочет. Это очень важный нюанс. Жюльен
Стендаль 173
не становится волком среди волков: не случайно Стендаль нигде
не ставит своего героя в такую ситуацию, чтобы он "грыз других" -
как, например, это готов делать бальзаковский Люсьен в "Утрачен-
ных иллюзиях". Жюльен в отличие от него нигде не выступает в ро-
ли предателя, нигде не идет по трупам, по судьбам других людей.
Там, где тактика лицемерия вступает в особенно резкое противоре-
чие с естественным чувством и с нравственностью, Жюльен всегда
как бы попадает в ловушку: чувство в критический момент всегда
одерживает у него победу над рассудком, сердце - над холодной ло-
гикой приспособленчества. Стендаль не случайно так много внима-
ния уделяет любовным приключениям Жюльена; они как лакмус его
подлинной человеческой ценности. Он ведь поначалу расчетливо
влюбляет в себя и госпожу де Реналь, и Матильду - вроде бы по той
самой логике, которой всегда остаются верны бальзаковские герои.
Любовь светской женщины для них - самый верный путь к успеху.
Для Жюльена, конечно, и тут главное - самоутверждение плебея,
но внешне он тоже склонен рассматривать любовные похождения
как ступени к достижению своих целей.
Я бы назвал образ Жюльена триумфом стендалевского психоло-
гизма и демократизма одновременно. Вся психология Жюльена, как
мы видели, отмечена сознанием плебейской гордости, постоянно
ущемляемого чувства собственного человеческого достоинства. Эта
мятущаяся душа, этот гор,гый человек гибнет оттого, что он стремит-
ся к счастью, а общество предлагает ему для достижения цели лишь
такие средства, которые ему глубоко противны; противны потому,
что он "не волк по крови своей". А эту его внутреннюю честность
Стендаль явно свясывает именно с его плебейством. Мысль о том,
что в буржуазный век подлинная страсть и подлинное величие души
возможны только среди простолюдинов, - излюбленная, заветная
мысль Стендаля. Именно здесь стендалевская тема страсти приобре-
тает четко выраженный демократический характер. Я уже цитировал
выше мысль Стендаля, что во Франции только на галерах можно
найти замечательных людей. Этому противопоставлению Стендаль
остался верен до конца. Незадолго до опубликования романа Стен-
даль написал в связи с событиями французской Июльской револю-
ции 1830 г.: "Последняя парижская сволочь оказалась настоящим ге-
роем революции и проявила действительно благородное великоду-
шие после битвы". И не случайно, конечно, на страницах романа
в связи с образом Жюльена у самых различных людей не раз возни-
кают ассоциации с деятелями Французской революции - Дантоном
и Робеспьером. Образ Жюльена весь овеян этим атмосферным ды-
ханием революции, бунта - именно плебейского бунта.
Внешне этот вывод в применении к Жюльену может показаться
натяжкой, потому что внешне его путь на всем протяжении романа -
это вроде бы путь лицемерного честолюбца и карьериста (недобро-
желательные критики даже называли книгу Стендаля "учебником
лицемерия"). Поднимаясь со ступеньки на ступеньку по обществен-
ной лестнице эпохи Реставрации, от скромной должности домашне-
го учителя в захолустном провинциальном городке к должности се-
кретаря всесильного маркиза де ла Моля в Париже, Жюльен повсю-
ду лицемерит. Правда, мы уже выяснили, что такое поведение
Жюльену навязывает само общество. Уже в Верьере - на первом эта-
пе своей биографии - Жюльен понимает, что от него требуется. Ма-
лейшее подозрение в либерализме, в вольнодумстве может мгновенно
лишить человека его общественного положения: и пожалуйста, Жюль-
ен объявляет басни Лафонтена безнравственными; поклоняясь в душе
Наполеону, он бранит его на людях, потому что в эпоху Реставрации
это самый верный путь. Не менее успешно он лицемерит в Париже,
в доме маркиза де л а Моля. В образе умного демагога де ла Моля
критики усматривают черты сходства с Талейраном - одним из самых
хитрых политиков Франции того времени, человека, сумевшего ос-
таться на государственных постах при всех многочисленных француз-
ских политических режимах конца XVIII и начала XIX в. Талейран
возвел лицемерие в ранг государственной политики и оставил Фран-
ции блестящие, по-французски отточенные формулы этого лицемерия.
Один из его политических афоризмов, например, гласил: "Это хуже,
чем преступление, - это ошибка. За преступление расплачиваются
редко, за ошибки - всегда". Стендаль интересовался фигурой Талей-
рана и не раз с иронией повторял его другое изречение: "Бойтесь пер-
вых душевных побуждений - они всегда благородны".
Итак, в истории Жюльена надо различать два слоя, два измере-
ния. На поверхности перед нами - история человека приспосаблива-
ющегося, лицемерного, карьериста, не всегда безупречными путями
пробивающегося наверх - можно сказать, классическое амплуа
французской реалистической литературы XIX в., и бальзаковских
романов в частности. На этом уровне, в этом измерении Жюльен Со-
рель - вариант Эжена Растиньяка, Люсьена Шардона, впоследствии
мопассановского "милого друга". Но в глубине сюжета в истории
Жюльена действуют иные законы - там идет параллельная линия,
там развертываются приключения души, которая структурирована
"по-итальянски", т. е. движима не расчетом, не лицемерием, а стра-
стью и теми самыми "первыми побуждениями", которых, по Талей-
рану, следует бояться, ибо они всегда благородны. Об это изначаль-
ное благородство, повторю, разбиваются все вроде безупречно вы-
строенные и рассчитанные стратегические диспозиции Жюльена.
Первое время эти две линии нами даже не воспринимаются, мы
даже не подозреваем об их наличии и об их тайной работе, тайном
взаимодействии. Мы воспринимаем Жюльена в строгом соответствии
с моделью: он давит в себе все лучшие порывы ради карьеры. Но вот
в развитии сюжета наступает момент, когда мы останавливаемся
в растерянности. Логика "модели" дает резкий сбой. Это сцена, когда
Жюльен стреляет в госпожу де Реналь за ее "донос".
Стендаль 175
До этого момента, по сюжету, Жюльен поднялся на очередную
очень важную ступеньку: он уже в Париже, он секретарь влиятель-
ного маркиза де ла Моля и он влюбляется в его дочь (а точнее,
влюбляет ее в себя). Госпожа де Реналь, прежняя его любовь, оста-
лась где-то там, в Верьере, она уже забыта, она уже пройденный
этап. Но г-жа де Реналь, узнав о предстоящей женитьбе Жюльена
на Матильде де ла Моль, пишет на него "донос" отцу Матильды,
чтобы предостеречь отца от этого "опасного" человека, жертвою ко-
торого стала она сама. Узнав об этом, Жюльен, никому ничего
не сказав, отправляется в Верьер, прибывает туда в воскресенье,
входит в церковь и стреляет в г-жу де Реналь. Его, разумеется, тут
же арестовывают как убийцу.
Вся эта внешняя "детективная" канва описана четко, динамично,
без всяких эмоций - Стендаль сообщает одни "голые факты", ниче-
го не объясняя. Он, столь дотошный в мотивации поступков своего ге-
роя, именно здесь, в мотивации его преступления, оставил зияющую
брешь. И это именно то, что поражает читателей - да и не только чи-
тателей, но и критиков. Сцена покушения Жюльена на г-жу де Ре-
наль породила массу истолкований - потому что она не укладыва-
лась в "модель", в логику.
Что же тут происходит? С самой поверхностной, фактической
точки зрения Жюльен мстит женщине, которая своим доносом ис-
портила его карьеру, т. е. о вроде бы поступок карьериста. Но сра-
зу же и возникает вопрос: какой же это карьерист, если всякому яс-
но, что он окончательно тут себя губит - не только карьеру, но и во-
обще жизнь! Значит, если даже перед нами и карьерист, то весьма
нерасчетливый, импульсивный. А если еще точнее говорить - в этот
момент Жюльен фактически уже делает выбор, предпочитая карье-
ре, ее дальнейшим унижениям смерть, верное самоубийство. Это
и означает, что во внешний рисунок роли, в амплуа карьериста вор-
валась наконец стихия тех самых внутренних побуждений, которые
до этого подавлял в себе Жюльен. Внутреннее измерение, подспуд-
ная, параллельная линия вышли тут на поверхность. И теперь, пос-
ле того как это измерение вошло в сюжет, Стендаль может дать
и объяснение, раскрыть загадку жюльеновского выстрела.
Сидя в тюрьме, Жюльен размышляет: "Меня оскорбили самым
жестоким образом". А когда он узнает, что г-жа де Реналь жива, его
охатывает бурная радость, облегчение; он выходит наконец "из того
состояния лихорадочного возбуждения и полубезумия, в котором
он пребывал все время с той самой минуты, как выехал из Парижа
в Верьер". Теперь все его помыслы с г-жой де Реналь.
Итак, что же произошло? Оказывается, в этом очевидном кризи-
се сознания (в "полубезумии") Жюльен инстинктивно действовал
так, как будто уже осознавал свою первую любовь к г-же де Реналь
как единственную подлинную ценность своей жизни - только цен-
ность, "вытесненную" из сознания, из сердца под влиянием требова-
ний внешней, "маскированной" жизни. Жюльен как бы сбросил с се-
бя тут всю эту внешнюю жизнь, забыл о ней, забыл все, что было
после его любви к г-же де Реналь, как бы очистился - и он без ма-
лейшего смущения считает себя оскорбленным, он, изменивший
г-же де Реналь в своей "маскированной" жизни, действует в этих
сценах так, будто считает изменницей г-жу де Реналь; это она ока-
залась "предательницей", и он ее за это наказывает!
Жюльен тут обретает истинного себя, возвращается к чистоте
и непосредственности душевных порывов, своего первого подлинно-
го чувства. Второе измерение в нем победило, его первая и единст-
венная любовь - по-прежнему г-жа де Реналь, и он теперь отверга-
ет все попытки Матильды освободить его. Матильда пустила в ход
все свои связи - а она в общем почти всесильна - и добилась успе-
ха: от Жюльена требуется только одно - произнести покаянную речь
на суде. Казалось бы, что ему стоит сделать это - солгать еще толь-
ко один раз и тем спасти свою жизнь - ведь все уже подкуплены!
Но он не хочет теперь такой ценой спасать свою жизнь, не хочет
брать на себя новую ложь - ведь это значило бы не только вернуть-
ся в мир всеобщей продажности и лицемерия, но еще и взять на се-
бя, конечно, нравственное обязательство перед Матильдой, которую
он уже не любят. И вот он отталкивает от себя помощь Матильды -
и на суде вместо покаянной речи произносит обвинительную речь
в адрес современного общества. Так торжествует исконное нравст-
венное начало, которое было изначально заложено в натуре Жюльена,
и так в полную меру раскрывается и его нонконформизм.
Роман кончается физической смертью и духовным просветлением
героя. Это гармоническое равновесие в финале, это одновременное при-
знание горькой правды жизни и парения над нею придает трагическо-
му роману Стендаля удивительно оптимистическое, мажорное звучание.
Рассуждения о двух измерениях помогут нам понять и символи-
ку "двуцветного" заголовка. Стендаль сам нигде ее не расшифровы-
вал, и потому исследователям пришлось немало над ней колдовать.
Но разнообразные толкования, собственно, не так уж противоречи-
ли друг другу - необходимость новых толкований, возникала всякий
раз после того, как в предшествующей версии символическое значе-
ние сужалось до четкой однозначности. Например, "черное" - цвет
священнической сутаны и атмосфера реставрации (Жюльен учится
вначале в семинарии и проникается ненавистью к ханжеству служи-
телей церкви); "красное" - цвет недавней революции или же цвет
крови, страсти, порождающей бурление этой крови... В других ва-
риантах "черное" - это внешний мир, сфера, где царит "черная за-
висть", "черная злоба" и т. д. Повторяю - все смыслы играют в этом
контрасте: жизнь полнокровная, истинная, страстная, бунтарская,
яркая и жизнь недолжная, мрачная, беспросветная.
Интерес Стендаля к сильным несгибаемым личностям, в чьих ду-
шах происходит конфликт между "красным" и "черным", выразился
Стендаль 177
и в его произведениях на итальянскую тему. Параллельно с "Крас-
ным и черным", в конце 20-х годов Стендаль обратился к художест-
венному воплощению темы "итальянской страсти". К тому времени
им уже были написаны книги "История живописи в Италии", "Про-
гулки по Риму". Уже здесь Стендаль высказывает свои наблюдения
над итальянским характером - наблюдения, складывающиеся в це-
лую систему, о которой я говорил. Но это все была проза мемуарного,
культурно-исторического и публицистического характера. В 1829 г.
Стендаль дает первый художественный эскиз итальянского характе-
ра в замечательной новелле "Ванина Ванини".
Эта новелла - почти единичное в своем роде произведение по ди-
намике характеров и сюжетов. В ней как будто в каждой строке ак-
кумулирована необычная, огромная энергия взрывчатой силы. Здесь
до предела энергично и страстно все - и характер героев, и развитие
событий, и построение фраз. Все это с огромным ускорением стре-
мится к развязке, и, конечно же, развязка эта - взрыв. Два равно
сильных и страстных характера противостоят здесь друг другу,
но страсти, владеющие ими, различны по своей направленности.
Юноша-простолюдин Пьетро Миссирилли - человек, главная
страсть которого - любовь к угнетенной родине, следовательно,
страсть гражданская. Он руководитель тайного общества карбонари-
ев - борцов за освобождение Италии от австрийского владычества.
Девушка - Ванина Ванини - аристократка, дочь одного из знат-
нейших патрициев Италии. Случай свел ее с Пьетро, и она его по-
любила. Но полюбила так же бескомпромиссно, как Миссирилли
любит родину. Эти две итальянские страсти столкнулись, и ни одна
из них не уступит. Когда Миссирилли оказывается перед необходи-
мостью выбирать между любовью к Ванине и любовью к Родине, он,
не колеблясь, выбирает второе. Когда Ванина оказывается перед не-
обходимостью выбирать между велением любви и велением граждан-
ского долга, она, не колеблясь, выбирает первое. Она с полным со-
знанием своего права выдает карбонариев властям, надеясь, что те-
перь Пьетро будет безраздельно принадлежать ей. Но со столь же
полным сознанием своего права Пьетро отвергает любовь Ванины,
когда узнает о ее предательстве, и выбирает смерть. Обе страсти ос-
тались верны себе и исчерпали себя до предела. Почти очерк клас-
сицистической трагедии - и в то же время проблема "долг и чувст-
во" решается далеко не столь однозначно.
Бесспорно, душевная симпатия Стендаля на стороне Миссирил-
ли. Но легко заметить, что даже в Ванине он восхищается именно
силой и цельностью страсти, независимо от ее роковых и предосуди-
тельных с моральной точки зрения последствий. Ванина ведь тоже
знает, на что идет, когда совершает гнусное предательство. В сцене
последнего свидания с Пьетро в тюрьме она, рассказывая ему обо
всех своих фантастических усилиях вызволить его и пытаясь тем са-
мым убедить его в силе своей любви, прибегает, наконец, к послед-
нему, самому вескому с ее точки зрения аргументу: "Но все это еще
такая малость! Я сделала больше из любви к тебе". И она рассказала
о своем предательстве. Понимаете, свое падение она воспринимает как
высшую жертву любви. И это, конечно, тоже логика - логика безог-
лядной, пускай и эгоистической, пускай и аморальной, страсти.
Новелла "Ванина Ванини" была написана Стендалем во время
работы над "Красным и черным". И оба эти произведения - боль-
шой роман и маленькую новеллу - объединяет тот самый дух бунта
революции, о котором я говорил в связи с романом "Красное и чер-
ное". Новелла, как и роман, даже при трагическом исходе, не оста-
вляет ощущения безысходности, над ней тоже парит вера, героиче-
ское одушевление.
Но, видимо, оно было возможно у Стендаля только благодаря
специфическому выбору героя - именно простолюдина, человека
цельного, цельной натуры и цельной, неизвращенной страсти. Мо-
жет быть, именно затаенный романтизм такого противопоставле-
ния - человек из народа и цивилизованное общество - дал Стенда-
лю возможность кончить роман на такой возвышенной ноте. Потому
что все последующие попытки Стендаля в произведениях на совре-
менную тему испытать на прочность другого героя, так сказать ци-
вилизованного, из более привычного Стендалю круга - интеллиген-
та-буржуа и интеллигента-аристократа - все эти попытки кончились
гораздо более бесперспективно.
В 1834-1836 гг. Стендаль работает над новым романом - "Крас-
ное и белое", другой его заголовок, по имени главного героя -
"Люсьен Левен".
Люсьен - уже натура никак не героическая, это гораздо более
обыденный тип человека, сын крупного банкира, порядочный и реф-
лектирующий молодой буржуа. Он вступает в стендалевский роман
тоже как будто с идеалами. Но с первых же страниц романа нам ста-
новится ясно, что идеалы Люсьена гораздо более книжные, по-юно-
шески неопределенные, постоянно меняющиеся, не то что упорная
целеустремленность и сосредоточенность Жюльена! Люсьен то кри-
тикует монархию Луи Филиппа, следуя при этом больше либераль-
но-республиканской моде, чем внутреннему убеждению; то мечтает
о военных подвигах и вспоминает о славе Наполеона - но при этом
его гораздо больше соблазняет красота военного мундира.
Вот Люсьен, получив мундир улана, восхищается красотой его
выпушки: "Самое существенное для мундира - это быть нарядным
на балу, а ярко-желтый цвет живее". Потом вдруг спохватывается:
«Какая разница! В былое время, когда, поступив в школу, я впервые
надел мундир, меня мало интересовал его цвет; я думал о прекрасных
батареях, быстро строящихся в боевом порядке под ураганным огнем
прусской артиллерии... но чтобы драться с подлинным удовольстви-
ем, нужно, чтобы родина была действительно заинтересована в ис-
ходе сражения; ибо если речь идет о том, чтобы понравиться этим
Стендаль 179
господам, олицетворяющим собою "привал в грязи", тогда, право,
незачем стараться». Слова "привал в грязи" требуют комментария.
Дело в том, что в начале эпохи Реставрации, когда в палате депута-
тов один из аристократических ее членов выразил надежду, что при
новом режиме Франция отдохнет от войн, наполеоновский гене-
рал Ламарк возразил ему: "Это не отдых, а привал в грязи". Напо-
леоновский генерал... Между прочим, на демонстративных похоро-
нах генерала Ламарка и "погорел" Люсьен, заслужив репутацию рес-
публиканца и исключение из Политехнической школы. Еще одна
многозначительная перекличка с историей Жюльена Сореля, повсю-
ду тайно носившего с собой портрет своего кумира - Наполеона.
Процитированные выше размышления Люсьена - уже не просто
эмоциональный, а - глубже - идейный ключ к проблематике романа.
Исходная позиция Люсьена, какой ее можно вычитать из этого раз-
мышления, такова: героические времена прошли, наступило время
"привала в грязи", поэтому - "нечего стараться". Но горькая ирония
судьбы Люсьена в том, что, если он и сам не будет стараться, за него
постараются другие: всесильный отец, влиятельные друзья...
А вообще-то охотнее всего он поначалу по-светски бездельничает,
пользуясь богатством и влиянием своего любящего папаши. Посте-
пенно его мечты спускаются на землю. Это уже не мечты о славе,
о каких-то необычных делах, которые привели бы в изумление мир.
Люсьен более скромно мечтает о добросовестном служении общест-
ву на том поприще, которое пошлет ему судьба и отец, а не которо-
го он добьется сам. У него, правда, с самого начала более твердо
стремление к внутренней честности, чем у Жюльена, но зато в его
характере гораздо меньше энергии, гораздо меньше способностей
к сопротивлению среде. Жюльен яростно пробивался в жизнь,
Люсьен плывет по течению. А направление этого течения известно.
Общество июльской монархии, пришедшее на смену обществу Рес-
таврации, стало достойным его преемником.
Стендаль не только полностью переносит в роман весь свой сар-
казм, всю свою ненависть к буржуазности, но и еще более публици-
стически их заостряет. Это очень заметно по изменениям самого сти-
ля Стендаля. Эпоха Реставрации в "Красном и черном" характери-
зовалась лаконичными, скупыми штрихами, центр тяжести был все-
таки на внутреннем мире героя - здесь Стендаль подробней, деталь-
ней, уже близко к бальзаковской манере описывает эпоху июльской
монархии. Эта среда как бы обволакивает героя со всех сторон, на-
валивается на него всей своей массой - и неуклонно его засасывает,
тем более что, как я уже сказал, сопротивляемость героя этой среде
здесь намного ниже.
В молодости Люсьена Левена выгнали из Политехнической шко-
лы, причем автор намекает нам, что причиной тому было юношеское
вольнодумство и антиправительственные высказывания. Люсьен пы-
тается затем попробовать свои силы на поприще военной славы,
180
но там он находит то же самое чинопочитание, тот же самый карье-
ризм, то же самое лицемерие. Вершина военной карьеры Люсьена
подана подчеркнуто гротескно - ему приходится принять участие
в подавлении голодного бунта рабочих. Этого он уже не выдержива-
ет - он подает в отставку.
Влиятельный папа-банкир, озабоченный судьбой своего заблуд-
шего сына, пристраивает его чиновником в министерстве внутренних
дел. И здесь Люсьен оказывается в самой гуще человеческого тще-
славия, в атмосфере мелочной, беспринципной политической борь-
бы, торговли теплыми местечками, самых постыдных закулисных
махинаций. Вершина политической карьеры Люсьена - участие
в комедии выборов, когда он агитирует за ставленника своего отца,
и возмущенные избиратели забрасывают его грязью.
И тут образ "привала в грязи" обретает широкий обобщающий
смысл. Стендаль как бы материализует чужую метафору. Мотив
"грязи" становится сквозным в романе. Слово "грязь" постоянно
применяется Люсьеном по отношению к сфере политики. Собствен-
но говоря, самый главный герой этого романа - не Люсьен Левен,
а политика как принцип, Люсьен - лишь страдательное лицо, функ-
ция - политика его абсорбирует, перемалывает и вылепливает зано-
во. Эта сфера общественной жизни, как раковая опухоль, разраста-
ется в романе по мере развития его сюжета. В первой его части еще
есть любовная интрига - в истории увлечения Люсьена госпожой
де Шастеле будто бы намечается "прежний" Стендаль, аналитик чув-
ства и страсти; но постепенно эта линия глохнет, уходит в песок, об-
рывается даже с помощью довольно искусственного сюжетного хо-
да - а по сути говоря, все заполняет собою уже упомянутая стихия -
торжествующая вакханалия политиканства.
Тема несовместимости индивидуальной честности и политики
впервые мощно прозвучала до этого в романе Виньи "Сен-Мар".
Но там политика, как Вы помните, больше связывалась с кровью,
с убийствами. А вот в эпоху июльской монархии кровавая сторона
политики отступила на второй план - в основном же политика здесь
прочно связывается именно с грязью - с повседневными будничны-
ми махинациями.
В конце концов Люсьен уходит и из этого "воровского притона",
поскольку, как он говорит: "Мне все одинаково безразлично и, мо-
гу сказать, одинаково противно" - таков вывод, к которому прихо-
дит Люсьен. Стендаль оборвал свой роман на этой ноте усталости
и разочарования, не довел до конца. И вот на этом этапе духовной
биографии Стендаля с новой силой обостряется интерес к итальян-
ской проблематике, но и эта проблематика разрабатывается им те-
перь во многом иначе, чем раньше.
В начале 30-х годов в руки Стендаля попадают старинные италь-
янские, венецианские хроники XVI—XVIII вв. Интерес к ним Стен-
даля понятен. На фоне того разочарования, которое явственно
Стендаль 181
обозначалось в романе "Красное и белое", итальянские хроники как
будто возвращали Стендалю его веру в существование сильных
и страстных натур, не склоняющихся ни перед судьбой, ни перед
средой. Но знаменательно, что теперь Стендаль разрабатывает имен-
но сюжеты из давней итальянской истории, причем сюжеты вовсе
не с таким гражданским, революционным запалом, как это было
в "Ванине Ванини". Новые хроники, которые он публикует в кон-
це 30-х годов, это все истории о любовных страстях, и если к ним
примешиваются социальные проблемы, то они носят лишь побочный
характер. Главный же интерес Стендаля сосредоточен именно
на движении любовной страсти. Это теперь страсть, не знающая пре-
град и ломающая их, если они возникают; это страсть, не останавли-
вающаяся перед любым количеством трупов. И явно, чтобы подчерк-
нуть эту главную суть своих новелл, Стендаль с предельной точно-
стью сохраняет лаконичный стиль старых хроник, не позволяет себе
ни единого стилистического украшения.
Но этот аскетизм стиля имеет для Стендаля явно еще и другой,
не только содержательный, но и эстетический смысл. В предисловии
почти к каждой из хроник, Стендаль снова и снова оговаривает, что
он намеренно сохранял такой стиль.
Нетрудно почувствовать, что проблема эта явно Стендаля очень
волнует; и далее нетрудно заметить, что это именно постоянные ого-
ворки, как бы оправд ;ия. Стендаль откровенно повторяется, варь-
ирует одни и те же аргументы. Он будто опасается, что то, что
он предлагает современному читателю, может его не удовлетворить,
что это слишком необычно, даже вызывающе. Но, с другой стороны,
он явно ощущае; потребность писать не так, как Жорж Санд, а так,
как писали хронисты прошлых веков. И работая в то же время над
"Пармской обителью", Стендаль подчеркивает сознательность этого
своего стилистического стремления.
Документальность и сюжета, и стиля его явно привлекает и осоз-
нается им как определенный эстетический акт - конечно же, акт пи-
сателя совершенно нового типа, писателя, стремящегося к предель-
ной объективности повествования, не просто к правде жизни, а имен-
но к обнаженной, неприкрашенной правде объективного факта.
И если тематика итальянских новелл, безусловно, романтическая,
то стилистика и методика повествования здесь уже совсем не роман-
тическая. Еще раз напомню вам о новеллах Клейста и Пушкина -
там мы видим совершенно такую же модель творческого акта.
И вот после такого основательного тренажа в романтически-италь-
янской тематике и лаконично-объективистской стилистике Стендаль
обращается к широкому полотну на итальянскую тему, но из жизни со-
временной ему Италии. В 1989 г. выходит его роман "Пармская оби-
тель". Результат получается в высшей степени знаменательный.
Внешне Стендаль от прозаического Люсьена Левена будто бы вновь
возвращается к героическому герою (прошу прощения за тавтологию:
но она тут точнее всего выражает мысль). Фабрицио дель Донго уже
в силу своего итальянского характера ближе к Жюльену Сорелю.
Он и начинает, как Жюльен - тот повсюду носит с собой портрет На-
полеона, которому он поклоняется. Фабрицио, почти еще мальчишкой,
тайно убегает во Францию, прослышав, что Наполеон вырвался из сво-
его заточения на Эльбе и идет маршем на Париж. Конечно же, Фабри-
цию поклоняется императору и жаждет вкусить славы на поле брани.
Но с самого начала в эту бурную, по-итальянски героическую ме-
лодию образа упорно врываются иные, странные ноты. Насторажи-
вает уже сама экспозиция романа - описательная, подчеркнуто за-
медленная, растянутая; она неторопливо повествует о происхожде-
нии Фабрицио, о его семействе, о его красавице-тетке, о том, как она
скучала у своих родственников на озере Комо.
Может быть, думаем мы, это все подготовка к наполеоновской
эпопее Фабрицио? Может быть итальянцы томятся от скуки и по-
шлости своей реставрации, а вот сейчас-то они и вырвутся на волю,
проявят себя - ведь Наполеон для них тоже освободитель, герой,
в свое время изгнавший ненавистных австрийцев из Италии?
И вот тут тогдашнего читателя - да и сегодняшнего - тоже под-
стерегает почти в буквальном смысле этого слова бомба замедленно-
го действия. Фабрицио попадает в самую кульминацию последней
военной эпопеи Наполеона - в сражение при Ватерлоо. Но как
странно показано это сражение! Здесь нет никакого воодушевления,
никакого геройства, никаких знамен, фанфар и подвигов - здесь ца-
рит всеобщая неразбериха и какая-то мелочная суетливость, царит
случайная смерть и грязь, солдаты императора крадут друг у друга
лошадей, чтобы сподручней было поскорей удрать из этой страшной
мешанины, - повсюду хаос, разброд, непонятно для чего происходя-
щий. И наш герой, чье сердце рвалось к славе и горело как факел,
мечется по полю сражения, вечно попадает то в трагикомические,
то просто в комические ситуации, никому он тут не нужен, у всех
он мешается под ногами; и сам он уже перестает понимать, как и за-
чем он сюда попал, и выручает его из этой передряги разбитная мар-
китантка, снабдившая его чужими документами и посоветовавшая
поскорее убираться восвояси, что он в конце концов и делает.
Нам, читателям XX в., знающим батальные описания и Толсто-
го, и многих новейших авторов, все это, может быть, не так удиви-
тельно. К тому же мы понимаем, что Стендаль здесь исторически
очень точно изобразил и последний поход Наполеона, и психологи-
чески столь же точно изобразил метание желторотого юнца по полю
сражения. Конечно же, Стендаль по-своему развенчивает культ На-
полеона, уже с точки зрения взрослого, умудренного историческим
опытом человека. Но вот для тогдашнего читателя все здесь было но-
во - и такое развенчание Наполеона, и такая насмешка над роман-
тическим героем, и просто такое заостренно прозаическое, почти
комедийное изображение войны.
Стендаль 183
Я уже назвал вскользь Толстого, но, так сказать, я сделал это
не без задней мысли. Толстой тоже был поражен этими сценами,
и они во многом повлияли на его собственную технику изображения
батальных сцен и в "Войне и мире", и в "Севастопольских рассказах".
Стендаль дал модель для более поздней литературы. Но не менее важ-
но и другое. Эта идейно-стилистическая модель, как это уже намети-
лось и в "Люсьене Левене", совсем не вписывается в традиционное
представление о Стендале как о мастере только сжатого психологиче-
ского, как бы линейного, стиля. Потому что основная стилистическая
доминанта этих сцен - образ хаоса, сумятицы. Динамика здесь если
и есть, то она скорее похожа на динамику беспорядочного броуновского
движения. В стендалевском стиле явно накапливается какой-то прин-
ципиальный сдвиг, какое-то движение, противоположное стилистиче-
ским исканиям в "Красном и черном" и в "Итальянских хрониках".
Интересно, что Бальзак, посвятивший "Пармской обители" про-
странный и восторженный этюд, именно эти сцены советовал сокра-
тить или убрать - они казались ему слишком нединамичными, затя-
нутыми, лишними. Даже для Бальзака это казалось много! Даже он,
мастер многословного описания, не понял, что здесь медлительность,
растянутость, сумбурность не недосмотр, а сознательный идейно-сти-
листический прием. Стендаль, как оказалось, дорожил этими сцена-
ми. Поначалу он хотел было послушаться столь уважаемого крити-
ка, даже начал пер [елывать роман, а потом все-таки бросил и ска-
зал, что это искажает его замысел.
Но пока вернемся к нашему герою. Охладившись от своего ро-
мантического пыла, Фабрицио тайно возвращается в Италию - тай-
но, потому чю он все-таки оказался, как-никак, государственным из-
менником. Здесь и начинается собственно сюжет романа - история
жизни и судьба Фабрицио дель Донго. Здесь завязываются основ-
ные сюжетные узлы романа. Они запутанней, чем в "Красном и чер-
ном" или "Люсьене Левене". Но если исходить именно из линии
главного героя, то сюжет в общем сводится к тому, что Фабрицио
оказывается гонимым в Парме, так как он скомпрометировал себя
в истории с Наполеоном, а потом вдобавок ввязался в интрижку
с актрисой и имел неосторожность, защищая свою жизнь, убить
ее прежнего воздыхателя. Его тетка, влиятельная дама при пармском
дворе, любовница всесильного министра графа Моски, пытается из-
бавить Фабрицио от грозящих ему кар.
Итак, сюжет романа весьма запутан, и он, как видите, движим
авантюрной интригой. Чем дальше мы его читаем, тем более стран-
ное складывается впечатление. С одной стороны, в нем вроде бы со-
браны в фокусе все главные итальянские мотивы стендалевского
творчества: здесь есть сильные натуры и сильные чувства (прежде
всего это женщины - Сансеверина и Клелия и их любовь к Фабри-
цио, далее это образ революционера-карбонария Ферранте Палла);
здесь есть и стендалевская сатиричность в изображении современной
Италии - карликового пармского двора с его тираническим произво-
лом и запуганным деспотом Рануцием Эрнесто, который на ночь про-
веряет под столами и кроватями, нет ли там заговорщиков. Но, с дру-
гой стороны, как поверхностно развивается эта интрига! Все кипение
и смешных, и великих страстей происходит из-за юношеских полити-
ческих и любовных безумств главного героя, причем более любовных,
чем политических. Это из-за него приходит в движение полицейская
машина пармского государства; ради него вовлекается в активные дей-
ствия карбонарий Ферранте Палла, давно уже одиноко скрывающий-
ся в лесу от преследования герцогских соглядатаев. Ради него интри-
гует, рискуя министерским постом, граф Моска, ради него Сансевери-
на жертвует своей честью, отдаваясь принцу-наследнику; ради него
Клелия по сути жертвует сыном. В какой же мере эта игра стоит свеч?
Что же все-таки представляет собой этот человек - Фабрицио
дель Донго?
Я начал с того, что он энергичен, молод, страстен, он - италья-
нец; он вдобавок очень красив. Но, если всмотреться во все его при-
ключения, окажется, что они все весьма неглубоки; во всяком случае,
это именно сугубо личные, так сказать частные, авантюры. Его несча-
стья проистекают исключительно из неблагоприятного стечения обстоя-
тельств, из сцепления случайностей. Больше того - как только ему
на время удается избавиться от неприятностей, он мгновенно
и с готовностью начинает подделываться под окружающие обстоятельст-
ва. Он, оказывается, тоже умеет приспосабливаться и лицемерить -
во всяком случае, сутана священника не вызывает в нем особого отвра-
щения, а епископский сан и совсем уж ему нравится. Он вполне право-
верный католик, он становится все более религиозным - это, конеч-
но, может быть, и характерная черта Италии, но вовсе не характер-
ная черта стендалевского героя! Ради него готовится чуть ли не рево-
люция в Парме - но сам он очень далек от гражданского пыла!
Да, герой Стендаля по-человечески обаятелен. Может быть, точ-
нее было бы сказать - по-мужски обаятелен. Потому что если вгля-
деться в его жизнь, то окажется, что он весь сияет не своим светом,
а лишь отражением той женской любви, которой его щедро одарила
судьба. Вот женщины, любящие его - действительно впечатляющие,
цельные, сильные натуры, хотя и совершенно различные - герцоги-
ня Сансеверина и Клелия.
И велик соблазн подумать, что ни с того ни с сего такие женщи-
ны его не полюбили бы и не шли бы ради него на такие жертвы -
как и не шел бы на жертвы умный граф Моска и пламенный респуб-
ликанец Ферранте Палла. Но на самом деле новый стендалевский ге-
рой и есть такое обаятельное Ничто - симпатичный мальчик, рез-
вый, кудрявый, влюбленный, взращенный в женской ласке. Ему
весьма далеко до Люсьена Левена, который задумывался над смыс-
лом жизни, а уж тем более - до трагических фигур Жюльена Соре-
ля или его современника Пьетро Миссирилли.
Стендаль 185
Стендалевский герой - это обозначилось уже в "Люсьене Леве-
не" - у нас на глазах претерпел разительную перемену - он измель-
чал, стал проще, лишился всех амбиций, стал прозаичней при всем
своем романтическом блеске. Как байроновский Гяур и Корсар пре-
вратились в Дон Жуана, так стендалевский Миссирилли и Жюльен
Сорель превратились в Фабрицио. Есть что-то неуловимо фарсовое,
ненатуральное, пародийное во всем сюжете "Пармской обители".
На общем фоне стендалевского творчества эта маскарадная стихия
особенно очевидна, и она в общем-то производит жутковатое впечат-
ление. Уж если Италия предстала такой у Стендаля, то сколь же
велико должно было быть стендалевское разочарование в возможно-
стях индивидуального противостояния миру и среде! А именно таким
документом разочарования в собственных идеалах мне и представля-
ется этот роман.
Незаконченная повесть "Федер", которая явно тяготела к тому,
чтобы разрастись в роман, - одно из последних произведений, над
которым работал Стендаль перед смертью. Она любопытна в целом
ряде отношений. Сама фигура Федера, посредственного художника,
преуспевающего благодаря тому, что он ловко приспосабливается
к духу времени, - это фигура совершенно бальзаковская. Простран-
ные поучения, которые Федер читает своему благодетелю - тщеслав-
ному и самодовольному богачу Буассо, явно навеяны циничными
рассуждениями Вотрена и Лусто в бальзаковских романах. Только
Стендаль как бы иронически перевертывает ситуацию с ног на голо-
ву: его Федер - молодой человек, очень быстро разобравшийся
в правилах преуспевания, что дает ему возможность с апломбом по-
учать глуповатого провинциального богача, мечтающего пробиться
в столичные сферы.
В повести есть блистательный по своему сарказму эпизод, когда
Буассо по неопытности решает придать себе больше веса тем, что за-
казывает в золоченых переплетах полные собрания сочинений Рус-
со, Вольтера и других знаменитых писателей. Эти книги Буассо как
бы невзначай демонстрирует денежным тузам, которых он регуляр-
но приглашает на роскошные обеды. И вот Федер открывает Буассо
глаза - действовать надо совсем иначе! Тома Вольтера могут только
насторожить его гостей, и те, чего доброго, решат, что он все читал,
и начнут его побаиваться, считая умнее себя. А то вообще решат, что
он вольтерьянец и тайный оппозиционер... А ведь может случиться
и так, что кто-то вызовет его на разговор про эти книги, и Буассо не-
взначай перепутает Руссо с Вольтером или еще с кем-нибудь! В об-
щем, куда ни кинь, от книжек одно зло...
Зато какие беспроигрышные перспективы предлагает Федер сво-
ему патрону вместо этих сомнительных книжек! "Вы, - говорит
он, - лучше перед каждым обедом, в феврале, например, когда еще
только-только появляются свежие плоды и овощи, посылайте чело-
века на рынок с билетом в 500 франков и велите ему достать зеле-
186
ного горошка". «Ни один завистник, - воодушевленно поучает Фе-
дер, - не сможет отрицать факт существования зеленого горошка
на вашем столе. Между тем первый встречный, которому не понра-
вился какой-нибудь ученый академик, с успехом может сказать:
"Я читал его труды, он навел на меня скуку..." А что дурного может
сказать этот жалкий болтун о вашем обеде на двенадцать персон,
обеде, который обошелся вам в 2000 франков?» И в конце концов
Буассо, разумеется, следует наставлениям Федера и заменяет книги
зеленым горошком.
Очевидно, здесь перед нами - своеобразное ироническое обыгры-
вание традиционной бальзаковской ситуации: те юнцы, которых
у Бальзака развращают матерые циники вроде Вотрена, у Стендаля
оказываются "сами с усами". У него они быстрей и ловчей схваты-
вают дух времени, во всяком случае не нуждаются в развратителях.
Стендаль теперь оказывается намного скептичнее по отношению
к молодежи, чем Бальзак.
Кроме того, образ Федера проливает дополнительный свет
на предшествующих героев Стендаля. Не каждый ведь обладает та-
кой силой характера и чувства, как Жюльен Сорель, - а что будет
с другими, более слабыми натурами? И Стендаля от романа к рома-
ну начинает интересовать тип вот такого обыденного, рядового, сла-
бого и податливого человека. Федер - последнее звено в этой цепи.
Тем самым Стендаль демонстрирует нам очень существенный пе-
реломный момент в восприятии образа молодого человека во фран-
цузской литературе XIX в. Его ранний герой - Жюльен Сорель -
и один из последних - Федер - почти два противоположных полю-
са на шкале человеческих ценностей. Ранний герой Стендаля идет
от романтизма: это сильная личность в поединке с обществом.
Но с каждым новым произведением на тему современной жизни
Стендаль все больше оставляет душевный потенциал своего героя не-
востребованным. По инерции мы еще верим стендалевскому герою,
предполагаем действительно благие порывы в Люсьене Левене,
в Фабрицио. А между тем стендалевский герой явно идет по нисхо-
дящей линии, и в нем самом на поверку оказывается очень мало за-
датков для морального самоутверждения. И тогда в финале законо-
мерно возникает Федер - человек, приспособившийся окончательно.
Правда, и эта повесть незавершена, подобно "Красному и белому",
но направление эволюции достаточно ясно: от героико-романтического
типа (Жюльен Сорель) к бальзаковскому типу активного приспособлен-
ца (Федер). А промежуточные стадии этого развития - Люсьен Левен,
Фабрицио - предваряю^ и еще один тип - тип и вовсе бесхребетного мо-
лодого человека, лишь плывущего по течению - человека без внутрен-
него стержня. Этот герой в то же время начинает привлекать Мериме,
и позже он будет в центре внимания Флобера ("Воспитание чувств").
Творчество Стендаля по-своему свидетельствует о том переход-
ном характере, который имеют в целом 30-е годы во французской
Стендаль 187
литературе, - о переходе от романтизма к реализму, об этой главной
магистрали литературного движения. У Стендаля это выражается
на уровне характерологии в том, что он от героя яркого, романтиче-
ского, бунтующего против среды, идет к герою приспосабливающе-
муся, вылепливаемому средой - т. е. к принципу весьма жесткого де-
терминизма, к идее полной обусловленности героя средой (а это
один из главных принципов реализма, как мы помним). Даже италь-
янский характер у Стендаля, сохраняя - в образе Фабрицио - свою
внешнюю яркость, эмоциональность и романтичность, на некоем глу-
бинном уровне тоже оказывается внутренне безвольным, аморфным,
подчиненным среде, тоже всецело от нее зависящим и к ней приспо-
сабливающимся. На уровне же стиля это движение у Стендаля отме-
чено постоянными колебаниями между стилем динамичным, заря-
женным эмоциональной энергией, и стилем описательным, стремя-
щимся к подробной передаче среды и атмосферы, - стилем, условно
говоря, "бальзаковским".
Движение от необыкновенной, выдающейся натуры к натуре обы-
денной оказалось основной тенденцией в типологии героя XIX в. Это
обнаружится позже, в 50-60-е годы, когда новое поколение писате-
лей будет утверждать свое эстетическое кредо, отталкиваясь от ро-
мантизма. Флоберу будет казаться слишком романтичным Бальзак.
В Англии Теккерей и Троллоп будут полемизировать с диккенсов-
ской характерологией как тоже чересчур романтической. Для них
подлинное мастерство будет заключаться прежде всего в изображе-
нии обыденного человека. "Роман без героя" - вот чего будет требо-
вать Теккерей, понимая под героем именно личность необыкновен-
ную, литературно "облагороженную" и "приукрашенную". И вот тут
Стендаль снова оказался гениальным провидцем, хотя и страшился
этого поворота, хотя и не решался публиковать в 30-е годы свои но-
ваторские, опережающие время произведения.
П. Мериме
(1803-1870)
* У вижение французской литературы - точнее говоря, фран-
цузской прозы - от романтизма к реализму в 30-40-е годы связано так-
же с именем третьего крупного писателя-новатора этой поры - Прос-
пера Мериме.
В историю французской литературы Мериме - как ее мастер -
вошел прежде всего своими новеллами, написанными уже в зрелый
период творчества. Однако первые его выступления на литературном
фоне 20-х годов характеризовались в жанровом отношении увлече-
нием драматургией и фольклором, т. е. он входил в литературу
в русле романтических интересов.
Современные историки французской литературы уже безогово-
рочно ставят Мериме в один ряд с его знаменитыми современника-
ми - Бальзаком и Стендалем. Когда речь заходит о первом этапе
развития французского реализма, то, как правило, в качестве наибо-
лее ярких его представителей называют имена этих трех писателей.
Однако литературный ранг Мериме далеко не всегда и не для
всех был бесспорным. Многим знатокам долгое время Мериме казал-
ся как бы стоящим особняком в французской литературе того време-
ни, и отношение критиков к нему часто бывало несколько растерян-
ным; его ценили как стилиста, как личность, как исследователя в об-
ласти истории и психологии французов и других народов.
Но по сумме своих достоинств Мериме все равно словно бы не дотя-
гивал до ранга Бальзака и Стендаля.
Действительно, Мериме на первый взгляд как будто не выдержи-
вает конкуренции с двумя другими мэтрами французского реализма
первого этапа. Он был не так продуктивен, как Стендаль или, тем
более, Бальзак, - несколько драматических произведений, стилизо-
ванный сборник иллирийских народных песен, один роман, серия
П. Мериме 189
новелл, переводы - все это как бы проигрывало по сравнению с ги-
гантским зданием, возведенным Бальзаком, с романами и исследова-
ниями Стендаля, с попытками этих писателей создать хронику сво-
ей эпохи. К тому же самыми бесспорными шедеврами остаются но-
веллы, а их не так уж и много. Хотя Мериме жил немного дольше
Бальзака и Стендаля, но писал он скупо, скоро замолчал вообще, уг-
лубившись в исторические и этнографические исследования. Нужно
сказать, что новеллы Мериме сразу были признаны шедеврами имен-
но с точки зрения их отточенной стилистики, а не с точки зрения,
например, их эпохальности, их общественного резонанса и воздейст-
вия. Но чем дальше мы отходим от той эпохи, чем беспристрастнее
мы сравниваем литературные достижения тогдашних властителей
дум, тем все более убеждаемся в том, что легкие и скромные по-
стройки новелл Мериме не затмеваются ни грандиозным сооружени-
ем Бальзака, ни законченными зданиями романов Стендаля, что они
тоже отражают свое время.
Первые литературные опыты Мериме характеризовались в жан-
ровом отношении явным увлечением эстетикой и художественной
практикой романтизма. Все это, конечно, понятно. Мериме вошел
во французскую литературу в середине 20-х годов. Это была еще
эпоха господства романтизма, эпоха горячих дискуссий между клас-
сиками и романтиками, причем мы помним, что эти дискуссии раз-
вертывались вокруг драматических жанров. Стендаль уже написал
к этому времени свой трактат "Расин и Шекспир", Гюго пишет свои
первые романтические драмы и в 1827 г. знаменитое предисловие
к драме "Кромвель" как манифест французского романтизма на но-
вом этапе. Постановка первых драм Гюго, как Вы помните, сопрово-
ждались не только эстетическими баталиями, но и чисто политиче-
скими, скандальными. Так что романтическая драма была главным
пунктом повестки дня во французской литературе 20-х годов. Исто-
рия вхождения Мериме в литературу не совсем обычна.
В мае 1825 г. в одном из парижских издательств вышла книга,
сразу привлекшая к себе внимание современников. Книжка содержа-
ла ряд небольших драматических произведений на испанские темы
и называлась она "Театр Клары Газуль". Пьесы были переведены
на французский язык с испанского. В предисловии к книге пере-
водчик, его имя было Жозеф Л'Эстранж, сообщил, что пьесы эти при-
надлежат перу доньи Клары Газуль, испанской писательницы и акт-
рисы, женщины с совершенно необычной судьбой. Дочка бродячей
цыганки и правнучка "нежного мавра Газуль, столь известного по ста-
ринным испанским романсам", Клара Газуль воспитывалась в детстве
строгим монахом и инквизитором, который лишал ее всех развлече-
ний, держал в строгости, а когда застал ее за сочинением любовно-
го послания, вообще заточил в монастырь. Но будучи натурой стра-
стной и вольнолюбивой, донья Клара сбежала ночью оттуда, преодо-
лев всяческие преграды, и в пику своему строгому воспитателю
190
поступила на сцену, стала комедианткой. Она начала сама сочинять
ггьесы, которые сразу принесли ей успех, навлекли на нее ненависть
католической церкви, потому что она осмелилась в своих пьесах вы-
смеивать и разоблачать католических священников и инквизиторов.
Пьесы ее сразу были внесены Ватиканом в список запрещенных
книг, чем и объясняется тот факт, что она дотоле не была известна
читающей публике за пределами Испании. Но переводчику.удалось
не только разыскать запрещенные пьесы доньи Клары, но и встре-
титься с ней самой. Донья Клара оказалась столь любезна, что авто-
ризовала переводы Л'Эстранжа и предоставила специальную для
французского издания одну из своих неопубликованных пьес.
Поскольку французская публика того времени находилась во вла-
сти идей романтизма, ярко выраженная романтическая направленность
пьес доньи Клары сразу завоевала симпатии парижан. Критики отме-
чали также безупречность, изящество переводов, написанных очень хо-
рошим французским языком. Потом все спохватились - ну ладно, ни-
кто не видел Клару Газуль (бедная женщина должна скрываться
от когтей инквизиции), но и переводчика нигде не видно. Очень ско-
ро просвещенный Париж обнаружил в портрете доньи Клары, предпо-
сланном изданию ее пьесы, черты господина Проспера Мериме, завсе-
гдатая литературных салонов, человека светского, остроумного и эру-
дированного. Парижане оценили по достоинству очаровательную шут-
ку Мериме, и парижская ресса перенесла свое восхищение с мифиче-
ской испанки на вполне реального молодого французского автора.
Итак, Мериме начал свой литературный путь с мистификации -
поступка весьма в духе романтического времени. Да и сами пьесы
Мериме носили явно романтический отпечаток. Как мы с вами зна-
ем, романтики в 20-е годы энергично протестовали против слепого
подражания классицизму XVII в., против ходульных героев и геро-
инь современных эпигонов классицизма, против строгой регламента-
ции в выборе действующих лиц и композиции драмы, выступали
за театр социально активный, более тесно связанный с современными
проблемами. Строгой уравновешенности классицистических трагедий
они противопоставляли романтическое кипение страстей, причем ча-
сто именно социальных страстей, - вспомним опять-таки романтиче-
ские драмы Гюго с их четким противопоставлением благородных пле-
беев низким и бесчестным представителям власть имущих.
В этой обстановке пьесы Мериме оказались очень современными
по духу. Правда, в них нет ярко выраженных социальных конфли-
ктов, но в них действуют не возвышенные исторические личности,
а вполне обыкновенные люди, которым их испанское происхождение
придает необходимую для романтической эпохи экзальтированность
и страстность. Характерной оказалась и проблематика пьес Мери-
ме - это или патриотическая тема (борьба испанцев за свою незави-
симость), или антиклерикальная тематика (утверждение права ро-
мантической личности над догмами католицизма и инквизиции).
Наши исследователи Мериме справедливо усматривают в темати-
ке ранних пьес перекличку с современностью. Критика ортодоксаль-
ной католической церкви, разоблачение церковного ханжества и ие-
зуитства нам уже хорошо известны по Стендалю ("Красное и чер-
ное"). Тема борьбы испанцев за независимость была также чрезвы-
чайно актуальна - в 1823 г. Франция отправила войска в Испанию,
чтобы задушить начинавшуюся там революцию.
Однако рассматривать его пьесы как прямое, непосредственное
отражение политических взглядов молодого Мериме - значит совер-
шать слишком большую натяжку, - это значит совершенно не учи-
тывать индивидуального характера молодого писателя, психологиче-
ского склада этого характера.
Мериме не был бы Мериме, если бы эти две темы - патриотиче-
скую и антикатолическую - он разрабатывал с полной серьезностью.
Достаточно сравнить испанские пьесы Мериме с романтическими
драмами Гюго на испанские темы "Эрнани" и "Рюи Блаз", чтобы по-
чувствовать очень серьезную разницу. Для Гюго судьбы его героев -
действительно высокие трагедии, и, разоблачая, например, иезуитст-
во, он бичует его гневно, почти исступленно. Мериме, разоблачая ие-
зуитство, смеется, причем здесь-то и есть главная "загвоздка" - сме-
ется не только над иезуитами, но и как бы над собственной увлечен-
ностью этими разоблачениями. Мистификация с авторшей этих пьес
для Мериме отнюдь не прием с целью провести цензуру и с помо-
щью выдуманной фигуры испанской актрисы разоблачить католи-
цизм. Мериме ведь не скрывал своего авторства и был весьма поль-
щен, когда его шутка удалась.
Так что мистификация для него - средство создать ироническую
дистанцию, как бы поставить под вопрос собственную романтиче-
скую экзальтацию. И, наверное, сама фигура Клары Газуль должна
была вызвать полукомические ассоциации с поборницей женских
прав и политических свобод - с пылкой воительницей минувшей
эпохи мадам де Сталь, которая прославилась во Франции не только
своими сочинениями, но и своей непрекращающейся враждой с На-
полеоном, - она то и дело писала против него страстные политиче-
ские памфлеты, а он то и дело изгонял ее из пределов Франции.
Во всяком случае, судьба преследуемой и гонимой женщины-либера-
листки, писательницы для Франции не была неожиданностью,
а вполне отвечала духу времени. Так что мистификация - это не слу-
чайная выходка, а черта творческого характера Мериме, его взгляда
на жизнь вообще. Это не смертельная серьезность в разработке ро-
мантической тематики - серьезность, присущая, как правило, фран-
цузским романтикам - Гюго, Виньи, а, скорее, легкая ироничность,
типологически идущая от немцев - Гейне, Тика - теоретиков и пра-
ктиков романтической иронии.
Мериме, подобно немцу Тику, смотрит на собственный театр как
бы со стороны - дает понять, что это все-таки театр, представление,
П. Мериме
не реальная жизнь. Его вполне патетические пьесы зачастую конча-
ются ироническим разрушением театральной иллюзии. В пьесе
"Инее Мендо, или Торжество предрассудка", когда кипение роман-
тических страстей достигает своего апогея, когда один герой убива-
ет другого, а тот раскаивается в содеянных преступлениях и благо-
дарно предлагает убийце бежать, убийца вдруг заявляет: "Я не дви-
нусь с места, потому что комедия окончена". И обращается далее
к зрителям, ошарашенным этим возвращением к реальности: «Да, да-
мы и господа, так кончается вторая часть "Инее Мендо, или Торже-
ство предрассудка"». Как тут не вспомнить Тика, в пьесах которого
герои вдруг начинают спорить с автором, а затем уличать и героев,
и автора в неправдоподобии. Такое сознательное стирание граней ме-
жду театром и зрительным залом, конечно же, сразу снимает всю серь-
езность ситуации, придает самой драме черты иронической стилиза-
ции, пародии. Так что Мериме в "Театре Клары Газуль" - романтик
не только потому, что сюжеты его пьес - романтические сюжеты,
но и потому, что он снимает их романтичность с помощью романтиче-
ской иронии. И у зрителей, и у читателей самое яркое впечатление
остается не от самих сюжетов, не от возмущения лицемерием католи-
ческих пастырей, а прежде всего от остроумной и иронической лич-
ности автора, так смело владеющего искусством мистификации и сти-
лизации. В этом смысле "Театр Клары Газуль" выполняет как бы
двойную функцию: с одной стороны, он демонстрирует возможности
романтического театра в противовес театру эпигонов классицизма
(Мериме к этому времени уже дружил со Стендалем, и мысли, кото-
рые выражены в стендалевском трактате "Расин и Шекспир", безус-
ловно, разделялись и самим Мериме). Отсюда - злободневность,
вольномыслие, социальная сатиричность его пьес. Но, с другой сто-
роны, эти пьесы уже содержат в себе и насмешку над самим роман-
тизмом, над его экзальтацией, над его вольнолюбивым пафосом.
Если мы осознаем это, то мы уже теперь можем сделать принци-
пиально важные выводы и относительно его творческого метода. Со-
вершенно очевидно, что с чисто психологической точки зрения здесь
перед нами не пылкий романтик, а скорее скептик, только скептик
еще молодой, еще колеблющийся; он еще сам может увлекаться, вооду-
шевляться идеей борьбы с религиозным ханжеством - это-то, по-види-
мому, и позволяет некоторым исследователям, так сказать, "поверить
Мериме на все 100 процентов". Но можно ли рассматривать как част-
ность, как мелочь тот факт, что Мериме эту тематику всю окутывает
странным флером снижающих литературных приемов - тут и мисти-
фикация, и пародия, и ироническая стилизация? Ведь есть темы, ко-
торые сами по себе настолько серьезны, что даже малейшая шутка
над ними сразу ставит шутника в особое положение - или он попро-
сту бестактен, или он уже демонстрирует свое принципиально отри-
цательное отношение к ним - скепсис, неверие. Тема национально-
освободительной борьбы испанцев, тема борьбы за свободу - конечно
же, такая серьезная тема, и Мериме не настолько наивен, чтобы
не понимать всей ее серьезности. Значит, в его отношении к этой
идее уже есть внутренний надлом, уже есть трещина.
Но это пока еще только вывод относительно личности самого Ме-
риме и его, так сказать, жизненной позиции. Это пока еще вопрос
индивидуальной психологии. Вот Гюго с самого начала до конца
серьезно относился к таким проблемам, никакой иронии не допус-
кал; Мериме с самого начала смотрит на них с ощутимой дистан-
ции - могу и загореться, как Гюго, но могу и позабавиться, подшу-
тить над такой пылкостью.
Но такая психологическая позиция влекла за собой и определен-
ные последствия уже чисто литературно-эстетического характера.
Ирония над романтической одушевленностью неизбежно обусловлива-
ла и иронию над романтизмом как литературным принципом. Вопрос
из плана психологического, как вы видите, переходит в план литера-
турно-эстетический. Тут Мериме дал всем критикам совершенно яс-
ный, недвусмысленный ключ. Одну из своих пьес, "Инее Мендо",
он, явно умышленно, подал в двух прямо противоположных ракур-
сах - и эту противоположность подчеркнул в заколовках. Первая
часть называется "Инее Мендо, или Побежденный предрассудок",
вторая - "Инее Мендо, или Торжество предрассудка". В первой пье-
се рассказывается, как отпрыск знатного дворянского рода женился
на дочери простолюдина. Конец, как мы видим, подчеркнуто роман-
тический, основанный на очень характерном для романтизма идей-
ном комплексе - тут и романтическое патриархальное опрощение,
и вера в благородство простого человека из народа и т. п. Романти-
ческая любовь торжествует над сословными предрассудками - это
же весь Гюго, с его восхищением и преклонением перед благородны-
ми плебеями! Вторая часть совершенно перевертывает ситуацию -
после, так сказать, романтической свободы законы реальной жизни
вступают в свои права и разрушают иллюзорное благополучие: пред-
рассудок - сословный предрассудок - все-таки торжествует.
Совершенно очевидно, что эти два варианта в рамках одного сюже-
та демонстрируют нам два принципиально противоположных подхода
к проблеме: один - романтический, а другой - трезвый, реалистиче-
ский. Автор статьи о Мериме в учебнике по XIX в., Юрий Борисович
Виппер, обратил внимание на это сознательное взвешивание двух под-
ходов, но он считает, что тем самым Мериме внушает читателю мысль
о том, что "благие порывы одиночек не приводят к исправлению нра-
вов, для этого необходимо исправление среды", т. е. получается, что
Мериме чуть ли не призывает к революции! И это в той самой пье-
се, которая, как я уже говорил, кончается убийственной ирониче-
ской точкой: «Я не двинусь с места, потому что комедия окончена.
Да, дамы и господа, так кончается вторая часть пьесы "Инее Мен-
до, или Торжествующий предрассудок"». Понимаете, для Мериме
все эти страсти - смерти, убийства - комедия! Так что, очевидно,
/7. Мериме 195
здесь ему самому принципиально важна не мысль о "необходимости
исправления среды", а другая мысль - мысль о непригодности,
о беспочвенности романтических мечтаний, т. е. здесь решается
не социальная проблема, а литературная, здесь высмеивается роман-
тизм и утверждается трезвый реалистический подход к жизни!
Теперь мы можем подвести итог всем этим рассуждениям. До это-
го я старался подчеркнуть чисто психологическую сторону поворота
европейских писателей от романтизма к реализму. Это была не про-
сто механическая смена методов, смена менее удобной и устаревшей
одежды на более удобную и модную, вроде смены мини на моду ма-
кси. Это всегда было связано с чисто психологическими моментами,
прощаниями с иллюзиями, моментом отрезвления от прекрасных
мечтаний. Писатели не просто влюбились вдруг в прозу жизни, ско-
рее наоборот, они обращались к ней по необходимости, скрепя серд-
це, им было жаль поэзии, но что делать - вся литература прощалась
с юностью и взрослела, привыкала смотреть в глаза правде жизни.
Эпиграфом к "Красному и черному" Стендаля служат слова Дантона:
"Правда, горькая правда". Вдумайтесь в эти слова, в их поистине горь-
кий печальный смысл. И вот Мериме - другой писатель, у которого
этот момент перелома, перехода запечатлен во всей своей психологиче-
ской остроте, - не потому, что он больше других страдает, нет,
он как раз уравновешенней и спокойней других! Но потому, что
он методически повсюду вот так сталкивает в лоб эти два взгляда
на жизнь, постоянно, снова и снова фиксирует их несовместимость
друг с другом. Мы еще не раз увидим это в творчестве Мериме.
Следующее крупное литературное выступление Мериме - изда-
ние в 1827 г. книги Тузла". Как писал Мериме в предисловии,
он с одним своим другом побывал в землях южных славян, изучал
их язык и нравы, был очарован первозданной мужественностью
их народных песен, фольклорных преданий и перевел для францу-
зов часть этих песен. Как мы видим, и здесь Мериме движется в рус-
ле типично романтических интересов: внимание к фольклору - это
одна из главных черт романтической эпохи.
Иллирийские песни, переведенные Мериме, имели бурный успех
во Франции и за ее пределами. В России ими заинтересовался Пуш-
кин и многие из них перевел на русский язык, объединив в сборни-
ке "Песни западных славян". Один немецкий поклонник устной на-
родной поэзии перевел иллирийские песни Мериме на немецкий
язык, причем, проявив чисто немецкую дотошность и обстоятель-
ность, перевел стихами "в размере подлинника", который, как ему
казалось, явственно проглядывал сквозь блестящий прозаический
перевод Мериме.
На очередную мистификацию Мериме не поддался только Гете.
Гете открыто объявил Мериме автором этих якобы южнославянских
баллад и заметил, что слова "Гузла" - это всего лишь анаграмма сло-
ва "Газуль". И когда смущенный Пушкин попросил своего друга
Соболевского, жившего в то время в Париже, выяснить у Мериме
"историю изобретения странных сих песен," то Мериме раскрыл
свою очередную мистификацию: «В 1827 году, - писал он Соболев-
скому, - мы с одним из моих друзей задумали путешествие по Ита-
лии. Мы набрасывали карандашом по карте наш маршрут. Так мы
прибыли в Венецию - разумеется, на карте, где нам надоели встре-
чавшиеся агличане и немцы, и я предложил отправиться в Триест,
а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошельки наши
были почти пусты, и эта "ни с чем не сравнимая скорбь", как гово-
рил Рабле, остановила нас на полдороге. Тогда я предложил снача-
ла описать наше путешествие, продать его книготорговцу, а выручен-
ные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы
ошиблись. На себя я взял собирание народных песен и перевод их;
мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил мо-
ему товарищу пять или шесть таких переводов. Так постепенно со-
ставился томик, который я издал под большим секретом и мистифи-
цировал им двух или трех лиц».
Итак, очередная мистификация под романтизм, выполненная
с чисто французской легкостью и остроумием. Однако нельзя забы-
вать, что за этой мистификацией скрывается вполне серьезный инте-
рес Мериме к славянскому фольклору. Еще в начале 20-х годов
он начал изучать нравы южных славян, их легенды и поверия - мо-
жет быть, уже во время издания "Театра Клары Газуль" Мериме
рассчитывал на то, что он осуществит эту свою мистификацию, и дал
своей испанке имя, которое можно было потом переделать в Тузла".
И то, что Мериме удалось ввести в заблуждение многих знатоков
фольклора, свидетельствует о том, что и эту свою мистификацию
он осуществил с необычайно тонким чувством стиля.
Итак, первые литературные шаги Мериме - это шаги внешне чи-
сто романтические. Но мы уже видели, что это не просто разработ-
ка романтических тем и сюжетов, а это одновременно и игра в ро-
мантизм, проверка своего собственного чувства стиля, и в то же вре-
мя уже ирония над романтизмом. Без понимания того, что это сти-
лизация, мы сейчас не поймем "Театра Клары Газуль", он покажет-
ся нам напыщенным, неправдоподобным и довольно скучным. Без
понимания того, что это во многом чисто интеллектуальный тренаж,
мы не поймем, что эти пьесы написаны тем же человеком, который
впоследствии создал такие реалистические шедевры, как "Двойная
ошибка", "Коломба" или "Кармен".
Следующие крупные произведения Мериме - историческая дра-
ма "Жакерия" (1828) и исторический роман "Хроника времен Кар-
ла IX" (1829). Здесь Мериме впервые сбрасывает с себя всякие ма-
ски, отказывается от всякой стилизации и ставит своей целью не сти-
лизовать эпоху, а передать исторический дух ее, как он говорил,
"нравственный колорит". Формально он еще движется в русле ро-
мантизма - интерес к историческим сюжетам был тоже "характерной
П. Мериме 197
чертой" романтической эпохи. Но написание "Жакерии" и "Хрони-
ки" - только формально романтический шаг. В сущности здесь Ме-
риме впервые пытается осуществить в своей художественной практи-
ке принципы реализма.
Сама цель "передать нравственный колорит" эпохи - уже значи-
тельно более глубокая, нежели романтический уход в идеализиро-
ванное прошлое в противовес настоящему. Мериме не только не иде-
ализирует средневековье, но и верно показывает жестокость нравов
той эпохи. К тому же и сам принцип "нравственного колорита" про-
тивопоставлен романтическому принципу "местного колорита"
("couleur local"). Этот "местный колорит" у романтиков понимался
как чисто внешнее экзотическое украшение сюжета - описание не-
обычных мест, употребление архаических или экзотических слов
(Шатобриан). Под принципом "нравственного колорита" Мериме
подразумевает правдивое изображение нравов и быта минувшей эпо-
хи. И не случайно образцом для Мериме, как и для Бальзака ("Шу-
аны"), был В. Скотт - он тоже ставил себе эту цель; для романти-
ков В. Скотт - скорее просто современник, чем единомышленник.
И для Скотта, и для Мериме романтический интерес к прошлому
был лишь побудительным мотивом для создания романов, утвержда-
ющих в сущности принципы историзма, во многом реалистического.
Внимание Мериме, как и внимание Скотта, приковано к перелом-
ным, трагическим момент м истории и к тем моментам, когда бурные
и грандиозные столкновения крупных общественных сил нарушают не-
торопливое течение времени и как бы яркой вспышкой озаряют глубо-
кий трагизм общественного бытия человека; это такие моменты в про-
шлом, когда едини\ный человек оказывался перед необходимостью со-
поставить свое обособленное личное существование с существованием
всего общества, когда он на горе и беду свою осознавал свою глубокую
зависимость от других людей, от всего общества, когда он вынужден
был, хотел он того или нет, принять участие в общественных потрясе-
ниях, которые, как часто надеются люди в таких случаях, пройдут ми-
мо них, незаметных, стороной. В этих столкновениях ярче всего обна-
руживались и ценность отдельного человека, и общий смысл эпохи,
и суть таких понятий, как общественный прогресс и общественная
реакция. Не случайно исторические жанры бурно расцветали именно
в эпохи серьезных социальных потрясений.
Исторические жанры XIX в. - романы Скотта, Гюго - меньше все-
го археология, меньше всего пепел старины. Уже здесь романтизм сам
подвергал сомнению свой центральный тезис о независимости сильной
одинокой личности и, напротив, выдвигал на первый план идею зави-
симости индивидуальной судьбы от течения исторического прогресса.
В эту струю вливался и исторический интерес Мериме.
В "Жакерии" Мериме обращается к знаменитому крестьянскому
восстанию XIX в. во Франции. Перед нами предстает жестокий
образ той темной эпохи, эпохи социальных конфликтов, потрясающих
все основание общества, безжалостно ломающих судьбы отдельных
людей. Здесь идет борьба не на жизнь, а на смерть, и антагонистиче-
ские стороны равно жестоки в расправе с инакомыслящими. Однако
Мериме с правдивостью добросовестного исследователя показывает,
что толчок к этому разгулу жестокости дала именно жестокость и не-
справедливость со стороны феодалов, переполнившая чашу кресть-
янского терпения и покорности. Но когда толчок дан, остановить эту
лавину обоюдной жестокости уже невозможно. Где-то в глубине сю-
жета постоянно ощущается эта горькая мысль писателя о неразумии
и жестокости человека вообще, обнаруживающихся во всей своей об-
наженности именно в эпохи таких социальных потрясений, хотя Ме-
риме, несомненно, больше сочувствует угнетенным крестьянам, чем
угнетателям-феодалам. И сама историческая реальность как будто
создана для того, чтобы подтвердить пессимистическую мысль авто-
ра о том, что справедливость не в силах победить неразумие - кре-
стьянское восстание терпит сокрушительное поражение.
В следующем своем романе "Хроника времен Карла IX" он вы-
бирает в качестве сюжета конфликт тоже социальный, но уже
не имеющий такого ярко выраженного классового характера; напро-
тив, это конфликт религиозный - конфликт между протестантами
и католиками во Франции XVIII в., и его высшее и самое страшное
выражение - печально известная Варфоломеевская ночь. И здесь
Мериме впервые становится самим собой, тем Мериме, которого зна-
ют теперь все читатели, независимо от того, занимаются они истори-
ей французской литературы или нет.
Для Мериме религиозные распри - это ярчайшее свидетельство
неразумия человеческого, когда один человек убивает другого не пото-
му, что тот его угнетал или несправедливо притеснял, а потому, что бо-
гослужения, которые посещал убитый, выглядели иначе, чем богослу-
жения, которые посещает убийца. Главная мысль Мериме сосредоточе-
на на вопиющем неразумии религиозного конфликта, на осуждении ре-
лигиозной нетерпимости и фанатизма, и заостряет он ее в конце рома-
на изображением того, как брат убивает любимого брата. Атеист
по убеждению и скептик по натуре, Мериме с какой-то хладнокровной
страстностью показывает разгул религиозного фанатизма.
В исторических произведениях Мериме отчетливо обнаруживает-
ся подспудная до того времени реалистичность его мироощущения.
Во-первых, он, как мы видели, не приукрашивает прошлого, а пока-
зывает правдиво, во всей его первозданной жестокости. Очень мно-
гие критики изображали Мериме этаким любителем жестоких сюже-
тов; но если это и было так, то Мериме отнюдь не восхищался этой
жестокостью, а скорее все-таки сокрушался по поводу того, что
и жизнь и человек так жестоки.
Во-вторых, реалистичность замысла Мериме проявляется здесь
в сознательном отрицании романтических сюжетных и характероло-
гических канонов. Когда в "Жакерии" появляется впервые Изабелла
П. Мериме 199
Д'Апремон, прекрасная дочь знатного феодала, и когда намечается не-
что вроде взаимности в душе Изабеллы по отношению к Пьеру, про-
стому крестьянину, перед нами вырисовывается типично романтиче-
ская ситуация: прекрасная аристократка с доброй душой и благород-
ный крестьянин с тонким чувством красоты. Но вот Изабелла узна-
ет о том, что Пьер влюблен в нее, - и где же ее воздушность, вся
ее идеальность! Теперь это разъяренная барыня, истинная дочь сво-
его зверя-отца. Мериме не соблазнишь романтической сентименталь-
ностью, он трезво смотрит на вещи. И тут мы можем теперь вспом-
нить его варьирование темы "предрассудка" в пьесе "Инее Мендо"
из "театра Клары Газуль"; здесь та же самая модель движения мыс-
ли - сначала направить читателя по романтическому руслу, а потом
как бы окатить его холодным отрезвляющим душем реализма.
Или в "Хронике времен Карла IX" Бернар де Мержи, провинци-
альный дворянин, приехав в Париж и попав сразу ко двору, видит
прекрасную графиню Диану де Тюржи. Та сразу обращает на него
внимание, бросает своего блистательного поклонника Коменжа
и в маске приходит к Бернару на свидание. Перед нами как будто
типичный Дюма, авантюрная литература не бог весть какого высоко-
го вкуса. Но вот та же Диана оказывается перед необходимостью
в Варфоломеевскую ночь погрешить против своих католических убе-
ждений и спрятать люборника-протестанта от разъяренной толпы -
и где же утонченная романтическая героиня! Перед нами фанатическая
кликуша, требующая от Бернара мгновенного обращения в свою веру,
готовая выдать его на растерзание ради въевшегося в ее душу религи-
озного догмата. И мы понимаем, что пространный, чисто романтиче-
ский антураж, предшествующий этой ключевой, кульминационной
сцене и все описания любви Дианы и Бернара тоже были сознатель-
ной стилизацией под романтические каноны. Затем Мериме в одной-
единственной сцене показывает все кричащее противоречие между
сентиментальной экзальтацией романтизма и страшной, жесткой
правдой жизни. Именно в силу этого контраста сцена между Дианой
и Бернаром в Варфоломеевскую ночь производит такое ошеломляю-
щее впечатление: длинная романтическая предыстория - и одна-
единственная правдивая сцена, снимающая начисто всю идеальную
романтику. И Мериме ставит еще над этим злорадную, типичную
(в стиле Мериме) точку; рассказав о том, как Бернар убил своего
брата, и кончая на этом роман, он вдруг спохватывается: "А что же
с Дианой де Тюржи? Встретится ли она с Бернаром? Найдут ли они
вновь друг друга? - Пусть об этом подумает сам читатель". Мол, вот
вам - хотите романтики - думайте сами.
Это уже мистификация более глубокого рода. Это сознательный от-
каз от романтической эстетики, сознательное обращение к правде жизни.
Параллельно с работой над романом "Хроника времен Карла IX"
Мериме начинает публиковать одну за другой свои новеллы. И если
до этого я говорил о каких-то этапах формирования Мериме как
200
писателя, о его сложных отношениях с романтизмом, о его движе-
нии к реалистическому взгляду на жизнь и к реалистической эстети-
ке, то на материале новелл можно уже анализировать Мериме как
сложившегося писателя-реалиста.
Начнем прежде всего с проблематики новелл Мериме. Уже
на первый беглый взгляд новеллы Мериме четко распадаются на три
крупных тематических цикла. С одной стороны, это новеллы, услов-
но говоря, с экзотической тематикой - в качестве наиболее характер-
ных возьмем для анализа "Матео Фальконе" и "Таманго", "Колом-
6у" и "Кармен". С другой стороны, новеллы, тоже условно говоря,
с современной французской тематикой - здесь прежде всего выделя-
ются "Этрусская ваза", "Двойная ошибка", "Партия в триктрак",
"Арсена Гийо". Наконец, есть ряд новелл с фантастическим сюже-
том. Это, можно сказать, наиболее откровенная дань Мериме роман-
тическим пристрастиям его юности. Здесь особого упоминания заслу-
живают "Венера Илльская" и "Локис".
Перед нами как будто достаточно пестрая картина, свидетельст-
вующая о разнообразии авторских интересов и о его стремлении по-
пробовать себя в разного рода новеллах. Однако при ближайшем
рассмотрении все эти будто бы разнородные течения оказываются
тесно связанными друг с другом.
Посмотрим для начала на новеллы экзотические. Действие их про-
исходит на Корсике - "Матео Фальконе", "Коломба"; в Испании -
"Кармен", "Души чистилища"; в Италии - "Переулок госпожи Лукре-
ции"; в Африке - "Таманго". Отметим четко различимые чисто геогра-
фические направления этого "экзотического" интереса Мериме: герои
этих новелл - южане. После того, что мы уже видели у Стендаля, нам
нетрудно мыслить по аналогии - опять скучная проза французской
современности, тоска по сильной, яркой, безоглядной страсти, обра-
щение к темпераментным южанам, обращение в основе своей роман-
тическое. Но если это в основном справедливо для Стендаля, то го-
раздо сложней обстоит дело с Мериме. Вспомним еще раз стендалев-
ских южан. Прежде всего это одни итальянцы и лишь кое-где испан-
цы. Экзотический или этнографический интерес Стендаля ограничи-
вается в основном итальянской нацией; как мы помним, он постоян-
но ставил итальянцев в пример французам как людей, слушающих
только веление своего благородного и страстного сердца, в то время
как французов упрекал за суетность и тщеславие. Соответственно,
наиболее яркие итальянские характеры у Стендаля - это одновре-
менно и своеобразные эталоны моральной красоты и благородства:
революционер Миссирилли в "Ванине Ванини", мужественная гер-
цогиня Сансеверина и кроткая Клелия в "Пармской обители". Они
отдаются целиком и любви, и, если надо, революции - их Стендаль
ставит и в пример, и в укор своим соотечественникам.
Мериме, во-первых, не ограничивается одной нацией. Он обращает-
ся к южанам вообще и, уж если говорить о предпочтениях, он предпо-
II. Мериме 201
читает испанцев и корсиканцев. Так что у него интерес больше этно-
графический, чем просто экзотический. Конечно, этот интерес родст-
вен стендалевскому интересу к людям сильных страстей, к южанам.
Но посмотрим теперь повнимательнее на южан Мериме. Матео
Фальконе убивает своего маленького сына за проступок, всю амораль-
ность которого мальчик, конечно же, не понимает, и еще мал, чтобы
понять. Коломба одержима жаждой кровной мести, и ее наивная кро-
вожадность производит еще более жуткое впечатление на фоне и в кон-
трастном сопоставлении с ее скромностью, нежностью, рассудительно-
стью, проявляющимися везде, где дело не касается больного вопроса.
Таманго попадает в трагическую ситуацию после того, как он сам за бу-
тылку водки продал белым работорговцам своих соплеменников. Кар-
мен у Мериме - существо живое и коварное, спутница бандитов, ей ни-
чего не стоит украсть, обмануть, приговорить к смерти.
Можно ли говорить о том, что Мериме противопоставляет этих
своих экзотических героев пошлым героям буржуазной повседневно-
сти? И что значит "противопоставляет"? Если быть не голословным,
а конкретным - восхищается ли Мериме обычаем кровной мести
в "Коломбе", моральной бесшабашностью Кармен, оправдывает
ли детоубийство в "Матео Фальконе"?
Вот автор статьи о Мериме в академической истории француз-
ской литературы считает, что да! Матео Фальконе, по его словам,
совершает "суровый, но справедливый суд над подростком-сыном".
Исследователь с похвалой отзывается о Коломбе - что она, мол,
"не знает ни сомнений, ни колебаний, она не раздумывает о закон-
ности", и он противопоставляет ее Орсо, ее брату, который "уже
приобщился к созданной буржуазными условиями лицемерной мора-
ли". К счастью, Мериме все-таки не был настолько кровожадным,
настолько чуждым всякого представления о нравственности писате-
лем. Если не подходить к нему с готовой схемой, то в этом легко убе-
диться, вдумчиво прочитав его новеллы.
Вопрос, стало быть, вовсе не так прост. Конечно, на фоне "Двой-
ной ошибки" или "Партии в триктрак" герои экзотических новелл
Мериме по крайней мере производят впечатление людей цельных,
не разъеденных ядом мучительного самоанализа - сомнительного,
по мысли Мериме, достижения цивилизации. Ни Матео Фальконе,
ни Коломба, ни Кармен действительно не знают мук совести, интел-
лигентского раздвоения личности - им чужда та трагическая, раздва-
ивающая душу рефлексия, образ которой, пожалуй, впервые вопло-
тил Шекспир в "Гамлете". Поставьте Гамлета на место Матео Фаль-
коне - он разразится водопадом блистательных монологов, а потом
все-таки предпочтет ввязаться в какой-нибудь бессмысленный поеди-
нок, чтобы отдаться в руки судьбы. Мне кажется, что в этих рассу-
ждениях кроется ключ и к психологии экзотических героев Мериме,
и к глубинной мысли самого автора. В основе каждого из этих хара-
ктеров лежит какая-то одна страсть, даже убеждение, и ему они еле-
дуют независимо от конкретной ситуации, независимо от того, при-
несет ли удовлетворение данной страсти добро или зло в данном кон-
кретном случае. Их мышление не знает аспектов, не знает разных
сторон вопроса. Мериме подхватывает здесь романтическую тему
"всепоглощающей страсти", уже так хорошо нам знакомую, но эта
тема переживает у него значительную трансформацию: страсть у Ме-
риме лишается всякого романтического ореола и исследуется на
предмет ее моральной себестоимости, ее реальных последствий. Ока-
зывается, такая страсть не есть оправдание самой себя, и сама себе
- закон и судья. Оказывается, все дело не в силе страсти, а в ее пос-
ледствиях! Это путь, по которому в немецкой литературе шел
Клейст (от "Пентесилеи" до "Кольхааса", где уже заявлена пробле-
матика "безаспектного" мышления).
Вот так и у Мериме - цельность натуры сама по себе еще не обя-
зательно есть благо. Матео Фальконе убежден, что предательство -
это плохо, и он абсолютно прав. Но дальше этого его мысль не идет.
Ему в голову не приходит, что предательство, совершенное взрос-
лым, и предательство, совершенное десятилетним ребенком, - это все-
таки разные вещи. Коломба убеждена, что кровь отца требует крови
его убийцы, причем не конкретно одного из членов враждебного семей-
ства, того, который убил, а любого - она даже не пытается выяснить,
кто именно убил ее отца. Ее нисколько не трогает то, что она подвер-
гает опасности жизнь своего брата, жизнь его возлюбленной, свою
жизнь. И уж совсем недоступен ее пониманию вопрос о том, что бу-
дет чувствовать тот, другой отец, когда убьют его сыновей. Анало-
гично Кармен признает только чистые принципы в жизни - принцип
личной свободы, и она не задумывается над тем, что свобода лю-
бить - это одно, а свобода воровать или убивать - это другое.
В результате, с точки зрения общепринятой гуманной морали, эти
люди могут оказаться злодеями и преступниками. Знаменитое изрече-
ние гласит: наши недостатки - продолжение наших достоинств. При
всей парадоксальности оно скрывает в себе психологически верную
и глубокую мысль: достоинство, возведенное в абсолют, не призна-
ющее конкретной ситуации, оказывается в данной ситуации недос-
татком. Герои экзотических новелл Мериме - это люди одной гипер-
трофированной благородной идефикс, и именно эта гипертрофиро-
ванность заставляет их совершать жестокие, негуманные, амораль-
ные в основе своей поступки: у Матео Фальконе - это жажда чести,
у Коломбы - жажда отмщения, у Кармен - жажда свободы.
Итак, с одной стороны, герои Мериме - это все люди необыкновен-
но цельные, но цельность их покупается дорогой ценой: ее оборотная
сторона ~ ограниченность. И Мериме не случайно берет здесь, так ска-
зать, представителей далеких от цивилизации народов: Коломба и Ма-
тео - корсиканцы, Кармен - цыганка, Таманго - негр. Очевидно, что
Мериме не просто хотел создать образы цельных людей, не просто
хотел противопоставить их своим соотечественникам - он как бы
//. Мериме 203
защищал себя от такого обобщения тем, что выбрал себе героев силь-
ных не только в силу своих природных качеств, но и в силу тех
социальных и этнографических условий, в которых они выросли
и сформировались. Другими словами, эта цельность не столько
их достоинство, сколько историческая необходимость. И тут тема
"всепоглощающей страсти" у Мериме обнаруживает свое отличие
от той же темы у романтиков: у Мериме она дается не только в ее
психологическом аспекте, но и в аспекте социальном. Это, если угод-
но, цельность анархическая, примитивная, необузданная. Другими
эти герои просто не могли быть, потому что они выросли в таких ус-
ловиях. А теперь, когда вы это поняли, хотите - берите их себе
в пример, хотите - нет. Да, они цельны, ярки, они подкупают этой
своей цельностью - но они могут быть и несправедливы, и жестоки.
Как мы видим, экзотика Мериме гораздо трезвее, чем, например,
итальянские симпатии Стендаля. Стендаля итальянцы интересовали
больше как психологический тип; Мериме создает социально-этниче-
ский тип и показывает, что цельность и первозданность его героев -
результат воздействия среды, в которой они выросли. Стендаль ставит
итальянцев в пример французам; Мериме никому никого в пример
не ставит. Он подходит к своим экзотическим типам как ученый, этно-
граф. Неспроста он окружает "линию судьбы" своего героя простран-
ными этнографическими наблюдениями, описаниями нравов, быта -
новелла порой превращается в очерк. А если кому придет в голову
позавидовать этим людям, противопоставить их цивилизованным
людям - пожалуйста, это уже не мое дело. Я старался показать их
такими, как они есть, - а теперь судите, сравнивайте, взвешивайте.
Итак, в использовании экзотической темы Мериме внешне про-
должает линию романтиков и Стендаля, но только внешне. На самом
деле, в его повестях эта типично романтическая тема не подается
ни с исключительно психологической (как у Стендаля), ни с безого-
ворочно восторженной позиции. Это легко ощутить в самой ткани
новелл - Мериме нигде ни одним словом не высказывает ничего по-
хожего на восхищение и любование этими героями. Напротив,
в "Коломбе" другая центральная фигура новеллы - граф Орсо, брат
Коломбы, с ужасом, иногда даже с отвращением следит за тем, как
эта кроткая голубка (по-французски colombe - голубка) неуклонно
идет напролом к своей кровавой цели. Кармен показана глазами Хо-
сс - человека, которого она из честного парня превратила в банди-
та, вора и убийцу, и он не только безумно влюблен в нее, но в ми-
нуты прозрения ненавидит ее за ее бесшабашное коварство.
Так в экзотических новеллах Мериме продолжает свое развитие
уже знакомая вам тема - тема фанатизма и нетерпимости, тема, ко-
торую он разрабатывает в таком большом полотне, как "Хроника
времен Карла IX". Причем эта тема звучит здесь как бы в двух ре-
гистрах: с одной стороны, Мериме показывает жестокость фанатической
мечты, с другой - создавая образы этих людей и не затушевывая
их своеобразного обаяния, он как бы говорит - смотрите, бывают
и такие люди, их жестокость можно объяснить; нельзя ими просто
восхищаться или просто ужасаться - их надо понять. Именно в этих
новеллах особенно глубоко проявляется так часто отмечаемая крити-
ками бесстрастность Мериме как аналитика нравов. Он сам не гово-
рит читателям, плохо это или хорошо, он говорит: "Это так" - и пре-
доставляет судить нам самим. И здесь опять-таки эта бесстрастность
полемически заострена против романтического восхищения перво-
зданностью и патриархальностью людей, выросших вдали от циви-
лизации, на лоне природы.
Мериме сам отчетливо обозначил внутреннюю связь своего исто-
рического романа с экзотическими новеллами еще в предисловии
к "Хронике времен Карла IX". Он писал: "Поступки людей XVI века
нельзя судить с точки зрения понятий XIX века. То, что в государст-
ве с усовершенствованной цивилизацией считается преступлением,
в государстве с менее развитой цивилизацией рассматривается только
как признак смелости. Суждение об одном и том же поступке, как лег-
ко видеть, должно также изменяться соответственно стране, т. е. меж-
ду народами существует такая же разница, как между одним столети-
ем и другим". Здесь, в предисловии к историческому роману по сути
уже задана вся программа экзотических новелл Мериме.
И вот другой цикл новелл - о современном писателю француз-
ском обществе. Контрастность обоих циклов как будто очевидна.
Там - цельные, высеченные как бы из одного куска фигуры. Здесь -
рефлектирующие, изнеженные, психически неустойчивые дети буржу-
азного века. Там - неуклонное следование одной страсти. Здесь -
неуверенность, нерешительность даже в определении своих сердеч-
ных склонностей. Там - все определяется неумолимым законом этой
самой идефикс, владеющей человеком. Здесь - все в руках случай-
ности, все зыбко и неопределенно.
Как будто критическая установка Мериме в новеллах на совре-
менные темы налицо. Однако и самый критицизм Мериме особого
рода, нежели у его современников - Бальзака и Стендаля.
Вспомним еще раз героев Бальзака и Стендаля. Их судьбы просле-
жены не только подробно на длительном отрезке времени, но и в глу-
бокой связи с судьбами других людей и с судьбами всего общества.
Они, как правило, гибнут в поединке с обществом - или физически,
или морально.
Многие герои новелл Мериме на современные темы тоже гибнут,
причем физически. Но мир, в котором они живут и умирают, рази-
тельно отличается от мира, в котором живут и умирают герои Баль-
зака и Стендаля. И умирают они иначе.
Для того чтобы бросить вызов в лицо обществу и погибнуть,
Жюльену Сорелю пришлось пройти долгий путь борьбы к униже-
ний. Для того, чтобы окончательно приспособиться к законам бур-
жуазного общества, Люсьену Шардону у Бальзака пришлось пройти
П. Мериме 205
все стадии морального падения. А вот для того, чтобы погиб на дуэли
Сен-Клер, герой новеллы Мериме "Этрусская ваза", достаточно простой
светской сплетни, бросившей тень на его возлюбленную. Он даже не дал
себе труда проверить, он сразу поверил - поверил в вероломство жен-
щины, которая после его смерти умирает от горя. Точно так же для то-
го, чтобы умерла Жюли де Шаверни, героиня новеллы "Двойная ошиб-
ка", достаточно оказалось пошлого светского адюльтера, ошибочно при-
нятого за настоящее чувство. А для того, чтобы погиб Роже, герой "Пар-
тии в тритрак", достаточно раз передернутой им карты - этого обмана
его честь так и не смогла перенести, и он кончает жизнь самоубийством.
Мы видим, что для смерти этих людей достаточно самых пустяч-
ных поводов. Можно ли сказать, что их на это толкает общество?
С большой натяжкой. Общество не стояло за рукой Роже, когда
он передергивал. Общество не толкнуло Жюли де Шаверни вскочить
в одну карету с Дарси - Мериме подчеркивает случайность этой
встречи. Какой-то светский пошляк пустил сплетню о возлюбленной
Сен-Клера, но, если бы Сен-Клер пошел к ней, она бы ему сразу все
и объяснила, и общество не заткнуло бы ей рот. А между тем во мно-
гих статьях, посвященых Мериме, можно прочесть, что Сен-Клер
окружен пошлыми светскими сплетниками и болтунами, которые
и гонят его, как Пушкина, в могилу. Это, конечно, очень легкое
объяснение, но оно, к сожалению, лишь отдаленно соответствует ре-
альному содержанию но, >лл Мериме.
Конечно, суммарное представление об обществе той поры после
новелл Мериме остается - кстати, об обществе, строго говоря, ари-
стократическом, а не буржуазном. Остается образ действительно че-
го-то необычайнс плоского, бесцветного, мелочного и пошлого,
не знающего ни настоящих страстей, ни настоящих страданий.
Но причины гибели героев Мериме не только и не столько в обще-
стве, сколько в них самих. Его герои - это в отличие от Коломбы
или Матео Фальконе - люди, лишенные стержня души, люди, для
которых малейший внешний повод может оказаться причиной смерти.
Говорят, что у Мериме большую роль играет случайность. Конечно -
потому что достаточно малейшей случайности, чтобы человек, не име-
ющий основания в жизни, потерял под собой почву. Тут всякий повод
будет случайным - не один, так другой. Жюли де Шаверни из новел-
лы "Двойная шибка" - один раз проглядела Дарси, а второй раз отда-
лась ему, думая, что в прошлый раз проглядела! И этого достаточно,
чтобы она зачахла. Это даже не тоска по настоящей любви - это
именно полное отсутствие почвы под ногами, полное отсутствие ощу-
щения того, что есть в жизни хоть что-то, ради чего стоит жить.
Это та же проблема, о которой позже говорил Чехов в "Скучной
истории": "Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внеш-
них влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка,
чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову,
в каждом звуке слышать собачий вой".
Так вырисовывается еще одна существенная особенность реализ-
ма, одна их главных тем - появление поколения без почвы под но-
гами и стержня в душе, поколения людей слабых и неприспособлен-
ных к жизни - изысканных, часто благородных, но никчемных.
Теперь мы уже можем распознать литературных родственников геро-
ев Мериме, их литературных собратьев: это, конечно, тот тип моло-
дого человека, который начали исследовать и Мюссе, и Стендаль
в Люсьене Левене и Фабрицио дель Донго, и позже Флобер - людей,
уже лишившихся всяких амбиций, людей, плывущих по течению, лю-
дей, как бы бесхребетных, оттого они так легко становятся игрушкой
обстоятельств. Это французский вариант "лишнего человека". И Ме-
риме, варьируя в своих новеллах этот тип людей, не показывает при-
чин их надломленности - он фиксирует душевное состояние поколе-
ния на данный момент, причем именно эту его существенную черту -
беспочвенность, как бы невесомость. Его интересует не формирова-
ние этой черты, а эта черта в уже сформированном виде.
Как мы видим, с точки зрения содержания, творчество Мериме
обнаруживает в самых разных жанрах и на самых разных этапах од-
ну четкую доминанту - отрицание романтического прекраснодушия,
романтической экзальтации и противопоставление им принципа трез-
вого, беспристрастного анализа нравов человека и общества. Этому
общему стремлению удивительно соответствует и самый стиль Мери-
ме. На этой проблеме я хочу остановится особо.
Как стилист Мериме был многим обязан примеру и исканиям
Стендаля, с которым он познакомился еще в юности и с которым по-
том его соединяла многолетняя дружба. Стендаль первый среди со-
временных писателей продемонстрировал сухой и лаконичный
стиль, приверженцем которого стал Мериме. Но мы видим, что сам
Стендаль колебался и часто обращался к стилю описательному, эмо-
циональному, метафорическому, что вполне соответствовало в идей-
ном плане и колебаниям Стендаля между реалистическим анализом
и романтической одушевленностью (особенно ярко проявившейся
в разработке итальянской тематики). Мериме здесь немного более
последователен. Если вычесть сознательные юношеские стилизации
под романтизм, то мы нигде не найдем у Мериме никаких уступок
стилю описательному или эмоциональному. Мериме повсюду сух,
аналитичен, часто ироничен, нигде мы не встретим у него ни одного
броского стилистического украшения, ни одного яркого метафориче-
ского образа - это уж точно писатель, к которому не подходит тра-
диционная критическая похвала - "язык у него яркий и образный".
Впечатляющую характеристику Мериме дал в свое время Георг
Брандес. Он обратил внимание на то, что Мериме "ни разу не упо-
требил ни одного странного слова и ни разу не придал странного
смысла употребительному слову". И Брандес же высказал предполо-
жение, что Мериме сознательно не впускал никакие стилистические
украшения в свою прозу, чтобы "сделать свои небольшие художествен-
/7. Мериме 207
ные произведения возможно более недоступными для зубов време-
ни". Брандес сослался на более позднее высказывание Золя - писа-
теля прямо противоположных стилистических принципов, нежели
Мериме. И вот Золя, мастер описательной, экспрессивной, насыщен-
ной образами прозы - прозы густо символической, написал однаж-
ды: "Хуже всего то, что, по моему глубокому убеждению, слог на-
шего времени, тот вид стиля, который считается модным, со време-
нем устареет и будет признаваться самым возмутительным искаже-
нием французского языка... Что быстрее всего стареет - это образ.
Пока он нов, он нас чарует и восхищает, но после того, как его упо-
требляли два или три поколения подряд, он превращается в обвет-
шалую вещь, делается смешным. Посмотрите на Вольтера с его су-
хим языком, с его могучими оборотами, не знающим прилагатель-
ных, посмотрите, как он рассказывает, а не живописует; он останет-
ся вечно юным... А мы живописуем наши фразы, поем их, обделы-
ваем, точно мраморные глыбы, и требуем аромата от слов. Все это
действует на нервы читателей, мы находим это превосходным - пре-
красно. Но вопрос только в том, что скажут на это наши внуки.
Характер их чувств, наверное, изменится, и я убежден, что они
будут с удивлением глядеть на наши произведения. Почти все будет
казаться им устарелым".
Конечно, Золя здесь преувеличивает и обрекает себя самого на
слишком уж печальную судьбу. Но сам ход мысли Золя необычай-
но интересен и лишний раз проливает свет на процесс развития сти-
листического самосознания в европейской литературе XIX в. Ведь
это, конечно, проблема, которая волновала и Клейста, когда он пи-
сал свои новеллы, и Стендаля (в "Красном и черном"), и Мериме;
проблема, которую, конечно, решали и Пушкин в его прозе, и Лер-
монтов в "Герое нашего времени", и позже Чехов.
Вот это стремление Мериме к бесстрастности стиля во многом
способствовало тому, что эта бесстрастность была критиками перене-
сена и на характер самого писателя. Мериме все больше представал
перед потомками как холодный, безучастный аналитик, законченный
скептик, равнодушно внимающий добру и злу, даже любитель жес-
токости. Ипполит Тэн еще в XIX в. сказал о Стендале и Мериме:
"Они любят искусство больше, чем людей". Однако вряд ли столь
категорический приговор справедлив.
Вся сложность отношения Мериме к литературе и к жизни, вся
противоречивость пресловутого скепсиса Мериме очень отчетливо
обнаруживались в его взаимоотношениях с русской литературой
и русскими писателями. Мериме связан с ними теснейшими нитями.
Он не только лично дружил со многими русскими писателями - Ба-
ратынским, Вяземским, Герценом, Тургеневым, но и всю жизнь при-
стально интересовался русской литературой, специально изучил рус-
ский язык и восхищался его выразительными возможностями.
Он на всю жизнь сохранил благоговейное преклонение перед Пуш-
208
киным, которого считал самым замечательным европейским писате-
лем XIX в. Он сам переводил на французский язык Пушкина, Гоголя,
Тургенева и редактировал другие переводы. Но это пока только
внешние факты. Любопытно отметить, что именно Мериме ценит
в русской литературе. В произведениях Пушкина, своего любимого
поэта, он прежде всего ценит ту экономность и точность стиля, к ко-
торой постоянно стремился сам. Не случайно он избирает для пере-
вода на французский язык "Пиковую даму", называя ее "бессмерт-
ным сочинением", и "Выстрел". Но даже в романтической поэме
"Цыганы" - втором произведении Пушкина, которое он отобрал для
перевода, - он подчеркивает те же самые достоинства стиля:
"Я не знаю произведения более скупого, если только этим выраже-
нием можно воспользоваться для похвалы: из этой поэмы нельзя вы-
кинуть ни одного стиха и ни одного слова; каждое из них имеет свое
место и свое назначение, и, тем не менее, внешне все это полно со-
вершенной простоты и естественности; искусство раскрывается лишь
при полном отсутствии бесполезных украшений".
Но это пока еще только восхищение формой. Мериме будто да-
же оправдывает здесь данную ему Тэном характеристику: "Он лю-
бит искусство больше, чем людей".
Но вот он как-то заявляет Тургеневу: "Ваша поэзия ищет преж-
де всего правду, а красота потом является сама собой; наши поэты,
напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут пре-
жде всего об эффекте, остроумии, блеске, а если ко всему этому
им представляется возможность не оскорблять правдоподобия,
то они, пожалуй, и это возьмут, но - в придачу". Здесь понятие
"правда", противопоставленное понятию "красота", имеет, несомнен-
но, явственный этический, а не только чисто эстетический подтекст.
Мериме, оказывается, подкупило в русской литературе ее служение
правде, ее исконная гуманность. И он не случайно в связи с перево-
дом на франзуский язык "Записок охотника" (1854) пишет о Турге-
неве в статье "Литература и рабство в России": "Он замечает нарав-
не с темными сторонами и светлые даже в самых извращенных фи-
гурах. Он умеет и в смешном находить благородные и трогательные
черты". Все это, конечно, существенно дополняет облик Мериме, до-
казывает нам, что это был писатель, который любил не только ис-
кусство, но и людей, который истину в литературе ценил и как нрав-
ственное, а не только как чисто литературное достоинство.
Ж. Санд
(1804-1876)
30-40-е годы во Франции продолжает развиваться соб-
ственно романтическая литература. Кроме романтических драм Вик-
тора Гюго, большая часть которых приходится именно на 30-е годы,
в этот период во французскую литературу приходят такие крупные
писатели-романтики, как Ж. де Нерваль и А. Мюссе. В русле роман-
тического мироощущения начинает в эти годы свой творческий путь
Теофиль Готье.
Одним из наиболее значительных явлений этого этапа развития
французского романтизма было творчество Жорж Санд. Можно ска-
зать, что с именем этой женщины связана целая эпоха в развитии
французской литературы и вообще духовной жизни Франции, тем бо-
лее что слава ее еще при жизни далеко перешагнула пределы Фран-
ции. Сам круг знакомств Ж. Санд говорит за себя: ее близкими друзь-
ями были самые блистательные умы Франции - Бальзак, Флобер, Го-
тье: ее любили А. Мюссе и Ф. Шопен, в ее доме на улице Пигаль ча-
стыми гостями бывали Генрих Гейне, Ференц Лист; Адам Мицкевич
читал там свои стихи: там часто сидел за мольбертом Эжен Делакруа,
пела Полина Виардо, чья судьба послужила во многом основой для об-
раза знаменитой героини Ж. Санд - Консуэло; ее другом был Турге-
нев, ею восхищались Белинский и Герцен. Она была поистине власти-
тельницей дум образованной Европы середины прошлого века.
Настоящее имя писательницы - Аврора Дюпен. Она родилась
в 1804 г. в дворянской семье в имении Ноан во французской провинции
Берри. До 1817 г. она воспитывалась у бабушки, старой аристократки,
враждебно относившейся к революции и установленным после нее по-
рядкам. Последующее воспитание в монастырском пансионе влияло
на будущую писательницу в том же направлении - девушек воспиты-
вали там в почтении к "королю-мученику" и к "вандейским святым".
£
210
Казалось бы, все способствовало тому, чтобы Аврора Дюпен ста-
ла убежденной монархисткой, противницей революции.
Но, помимо этих влияний, в ее жизни оказались достаточно силь-
ными и другие впечатления. Детство и юность Аврора Дюпен прове-
ла в деревне, играла с крестьянскими детьми, глубоко и искренне пе-
реживала очарование деревенской природы. Даже те монархические
и религиозные настроения, которые воспитывали в ней и религиозная
бабка, и монастырский пансион, оказались направленными не столь-
ко против революции, сколько против буржуазной действительности,
против буржуазного торгашества и расчетливого практицизма. Буду-
чи уже сознательным человеком, она начала читать произведения
Руссо, и ей, выросшей на лоне патриархальной деревенской приро-
ды, руссоистская критика буржуазной цивилизации представилась
подлинным откровением. Произведения Руссо укрепили в ней лю-
бовь к патриархальной природе, неприязнь к буржуазии и попутно
заронили в ее душу мечту о равенстве и братстве всех людей.
Следующим решающим впечатлением было чтение романтических
писателей - Шатобриана, Байрона. При этом Байрон как бы нейтрали-
зовал у нее Шатобриана - у последнего она взяла не его апологию ка-
толицизма и монархии, а романтическую грусть, тоску по утраченному
нецивилизованному детству человека. Чтение Байрона рождало в вос-
приимчивой душе девушки тоску по яркой и сильной, активной, дейст-
вующей личности. Наконец, последующее знакомство с идеями утопи-
ческого социализма - с деятельностью Сен-Симона, Фурье, мечты
о женском равноправии - довершило "воспитание чувств" будущей пи-
сательницы, и Аврора Дюпен стала тою Жорж Санд, перед которой
преклонялись самые гениальные и прогрессивные умы того времени.
Впрочем, первый непосредственный толчок к писательскому твор-
честву ей дали события сугубо частной жизни. В 1822 г. 18-летняя Ав-
рора Дюпен была выдана за соседа семейства Дюпен по имению Кази-
мира Дюдевана. Дюдеван был аристократ по происхождению, но бур-
жуа по складу характера. Точнее, это был дворянин, прочно приспо-
собившийся к новым буржуазным порядкам, умевший извлекать для
себя из них выгоду. Человек очень ограниченный и практичный,
он сначала со снисходительным пренебрежением, а потом с открытой
неприязнью стал относиться к литературным стремлениям молодой су-
пруги. Для него эти мечтания были причудой, с которой он как суп-
руг не намерен был считаться. Поэтому очень впечатлительная и стра-
стная Аврора почувствовала себя чужой в Дюдевановском поместье.
И она решилась на шаг необычный и возмутительный для господству-
ющих моральных понятий того времени - она просто бросила своего
мужа, уехала в Париж, завела себе любовника - писателя Жюля Сан-
до и начала писать романы. Романы эти сначала выходили под муж-
ским псевдонимом Жорж Санд. И они сразу же оказались в центре
внимания читающей публики и стали предметом ожесточенных споров.
Псевдоним писательницы был очень скоро раскрыт, и интерес к рома-
Ж. Санд 211
нам Ж. Санд еще более возрос - еще бы, эти романы, в которых же-
ны бунтуют против мужей и с полным сознанием своей правоты раз-
рывают священные узы брака, эти романы написаны женщиной, кото-
рая сама порвала с мужем и не побоялась далее открыто защищать свое
право на толкование брачной и любовной морали.
В 1836 г. Париж был взбудоражен бракоразводным процессом
мадам Авроры Дюдеван, писательницы Ж. Санд. Оскорбленный су-
пруг утверждал, что тот, кто написал столько безнравственных сочи-
нений, как его жена, не достоин воспитывать своих детей. Он обви-
нял ее в том, что она "посвящена в самые позорные тайны развра-
та", а адвокат Ж. Санд читал отрывки из ее романов, доказывая ге-
ниальность писательницы.
Бракоразводный процесс как бы подвел итог не только неудачно-
му супружеству Ж. Санд, но и ее раннему творчеству. Первые ро-
маны Ж. Санд появились в промежутке между ее разрывом с мужем
и этим процессом - в 1831-1834 гг. Все они варьируют в художест-
венной форме первый житейский опыт писательницы - "Индиана"
(1831), "Валентина" (1832), "Лелия" (1833), "Жак" (1834).
На первый взгляд может показаться, что эти романы настолько
камерны и интимны, что непонятно, почему демократические силы
Франции того периода сразу и безоговорочно зачислили молодую
писательницу в свои ряды. Однако при ближайшем рассмотрении
оказывается, что на этом камерном материале Ж. Санд решает про-
блемы чрезвычайно важные для развития демократического миро-
воззрения во французском обществе той поры.
В центре этих романов формально стоит проблема любви и бра-
ка. Это истории неудавшихся супружеств и распавшихся любовных
связей. Но за этим формальным сюжетом скрывается пламенная за-
щита духовной свободы человека, свободы чувств, прежде всего
женского чувства. Едва ли когда прежде в литературе женщина вы-
ступала с таким суверенным сознанием своего права на любовь
и на свободу в выборе объекта своего чувства.
Первый роман Ж. Санд - "Индиана" - наиболее автобиографи-
чен, наиболее соответствует реальным фактам и урокам неудачного
замужества писательницы.
Героиня, Индиана, состоит в браке с обуржуазившимся наполеонов-
ским генералом Дельмаром. Нет ничего более несовместного, чем эти два
человека, вынужденные жить друг с другом. Индиана - очень глубокая,
тонко и сильно чувствующая натура, полная внутреннего достоинства
и самостоятельности. Дельмар - человек расчетливый и эгоистичный,
для которого жена - его собственность, и он считает себя вправе распо-
ряжаться ею по своему усмотрению. Ему глубоко чужды благородные
порывы, одушевляющие Индиану. (Впрочем, современники свидетель-
ствуют, что Дельмар как личность значительнее своего прототипа - Дю-
девана: здесь, пожалуй, трогательнее всего обнаруживается благородст-
во самой писательницы, которая пытается понять своего супруга, при-
212
знать за ним какие-то достоинства.) Основной причиной разрыва отно-
шений между Индианой и Дельмаром писательница делает не его созна-
тельную деспотичность по отношению к жене, а его органическую неспо-
собность понять ее - слишком разные они натуры. Деспотизм Дельмара
бессознателен, органичен. Он не хочет понять Индиану, потому что
он просто не может этого сделать - их отношения с самого начала отме-
чены глубокой психологической несовместимостью.
Если отношения Индианы и Дельмара все-таки основаны на ре-
альном жизненном опыте писательницы, то в образе любовника Ин-
дианы Раймона де Рамьера Ж. Санд делает первый шаг к более глу-
бокому типологическому обобщению. В Раймоне она создает уже чи-
сто художественный тип, в который включены общие раздумья
Ж. Санд над психологией человека.
Раймон предстает в начале романа как прямая противоположность
Дельмару. Эта натура артистическая, тонко чувствующая, и он вроде
бы искренне увлечен Индианой и - что главное для Индианы - как
будто понимает ее. Он с презрением относится к тем примитивным фор-
мам насилия над чувством, которое бессознательно и по сложившимся
веками традициям практикует Дельмар. Индиане кажется, что вот это
и есть раскрепощенная от условностей и ложных приличий любовь, ос-
нованная только на взаимной любви и уважении. Но это только снача-
ла. Когда проходит первое ослепление, Индиана обнаруживает в Рай-
моне глубокую внутреннею пустоту, доходящий до самой сердцевины
его души эгоизм. Раймон со всей его внешней утонченностью оказыва-
ется на свой лад сыном буржуазного века, для которого любовь - толь-
ко мимолетное, преходящее пресыщение, который свободен от всяких
моральных обязательств по отношению к любимому человеку. И если
конфликт между Индианой и Дельмаром был конфликтом чисто мо-
ральным, то конфликт между Индианой и Раймоном приобретает более
глубокий социальный смысл. Это уже конфликт между натурой, сфор-
мировавшейся в патриархально-гуманистической руссоистской обста-
новке, и натурой, сформированной буржуазной цивилизацией, буржу-
азным веком - лживым и эгоистичным. Раймон - представитель новой
социальной морали, буржуазной, не менее бесчеловечной и эгоистич-
ной, чем закоснелая традиционная мораль Дельмара. Его лоск, его
культура - это все внешнее, это проза, за ней скрывается пустота и бес-
принципность. Так Ж. Санд в узко интимной сфере начинает атаку на
буржуазность, на отвратительные черты новой цивилизации.
Этим двум мужчинам противопоставлен третий образ - Ральф
Браун, это идеальный герой Ж. Санд.
Итак, три типа мужчин: более грубый, но еще с налетом патриар-
хальности, хотя бы уже потому, что он опирается на вековые тради-
ции - на этих традициях зиждется его власть, и она делает его жесто-
ким; более утонченный,'но уже развращенный современной цивилиза-
цией, эта цивилизация делает его пустым, тщеславным и трусливым;
наконец, идеальный герой, внешне сдержанный и хладнокровный,
214
но с глубоким чувством, способный на самопожертвование ради люби-
мого существа. Если Дельмар - это порождение сугубо личного житей-
ского опыта супруги Авроры Дюдеван, если Раймон - порождение на-
блюдающего аналитического ума писательницы Ж. Санд, то Ральф -
это чисто человеческая мечта просто женщины Авроры Дюпен.
Итак, основная тема - столкновение бунтующей женщины с муж-
чинами как представителями господствующих социальных отноше-
ний. Эта же модель разрабатывается и в "Валентине".
Муж - господин де Лансак, секретарь посольства, разорившийся
аристократ; для него главное - деньги; он женится ради приданого
(тоже приспособившийся к буржуазии дворянин). Мать - графиня
де Рембо (буржуазного происхождения) - выше всего ценит аристо-
кратические титулы (очень тонко подмечено это характерное для
буржуазной эпохи смешение классов). А Валентина - аристократка,
влюбляющаяся в Бенедикта - крестьянина. Это характерно, но здесь
еще любовь к крестьянину - чисто романтический ход: это еще
не доказательство классовых симпатий писательницы; во всяком слу-
чае, они не осознаны. Сам Бенедикт - это крестьянин культурный,
уже порвавший со своей средой, и у Валентины тяготение к народу
идет от отвращения к цивилизации; Бенедикт для нее - скорее сим-
вол руссоистской близости к природе.
Но образ Бенедикта обнаруживает удивительные сдвиги в миро-
воззрении Ж. Санд - с культурой к Бенедикту приходит разочаро-
вание и скука. Это иллюстрация руссоизма в чистом виде; в то же
время чувствуется трагичность - из невозможности практиковать
руссоизм в современном обществе. Здесь тоже побеждает стихийная
трезвость писательского мышления.
Эта резвость приносит с собой глубокий пессимизм и разочарова-
ние у самой писательницы. Кружение вокруг проблемы "патриар-
хальность - цивилизация" постоянно обнаруживает свою замкну-
тость, безвыходность.
Следующее свидетельство тому - роман "Лелия". Героиня рома-
на Лелия наследует "возмущенное сознание" Индианы и Валентины.
Но ей приданы спиритуалистические черты - она уже равнодушна
к житейским радостям, для нее важнее всего размышления о смыс-
ле жизни; ей чужда ее сестра Пульхерия, куртизанка, человек эпи-
курейского склада, безумно наслаждающаяся всеми доступными
удовольствиями. Жорж Санд пытается здесь перенести конфликт
из социальной сферы в философскую - Лелия разочарована не толь-
ко в современной цивилизации, но и в руссоистской мечте о приро-
де (что было намечено в образе Бенедикта), и не только в руссоиз-
ме, но и в самой жизни. Ей кажется, что жизнь вообще не имеет
смысла, что общество движется к своей гибели, и она кончает само-
убийством не потому, что она, как Индиана или Валентина, не мо-
жет реализовать свое стремление к счастью в существующих услови-
ях, а потому, что она не видит смысла в жизни, никаких перспектив.
Ж. Санд 215
В этом же ключе развивается и роман "Жак": супруг уходит
с дороги, чтобы не мешать жене Фернанде и ее любовнику Октаву.
Но здесь также звучит тема самопожертвования, тема смерти ради
чужого счастья. Таков, с одной стороны, итог - безвыходность, не-
возможность решить проблему в конкретных рамках, но, с другой
стороны, тут и моральный перелом: тема самопожертвования. Этот
перелом можно примерно датировать 1835 г. В это время Санд сбли-
жается с республиканцами, с утопическими социалистами. Ее начи-
нает интересовать не только духовная свобода человека в сфере
чувств, но и социальная свобода. Так определяется главная тема ро-
манов Санд последующего десятилетия.
Альтруистическое морализаторское начало в творчестве Жорж Санд
получает особый стимул с середины 30-х годов, когда писательница на-
чинает активно осваивать социально-реформаторскую идеологию своего
времени. "Социализм" Жорж Санд, особенно на этом этапе, далек от
классовой определенности, это сочувствие к бедным и угнетенным во-
обще, мечта о единении всех людей и сословий как противовес индиви-
дуализму и эгоизму; оттого она откликается прежде всего на социализм
христианский (Ламенне) и утопический (сен-симонизм). Проблематика
сословного и классового неравенства ее еще пугает своей взрывчатостью
("Андре", 1835), и она поначалу предпочитает ограничиваться сферой
чувства, обращаясь прежде всего к теме любви, разрушающей сослов-
ные перегородки. Здесь единение, даже вопреки всем препонам, наибо-
лее представимо для ее чувствительного сердца, ибо даже если умира-
ют любящие (как в "Валентине"), не умирает их любовь, она остается
неопровергнутым заветом. Обращение же к идее людского единения
в более широком плане порождает пока расплывчатые и художествен-
но неубедительные мистико-спиритуалистическйе видения в духе хри-
стианского социализма Ламенне ("Спиридион", 1839).
Вообще спекулятивное мышление не было сильной стороной Жорж
Санд - "Лелия" и "Спиридион" остались своего рода монументальными
памятниками неплодотворному увлечению романтической и христианско-
спиритуалистической философией. Но зато моральный аспект философ-
ских и идеологических учений - ту точку, где слова могут воплотиться
в дела, где отвлеченная идея соприкасается с реальной жизненной прак-
тикой, - Жорж Санд чувствовала очень остро. Поэтому-то она и отошла
очень скоро от романтического эгоцентризма. В ее "Письмах путешест-
венника" (1834-1837) и романах второй половины 30-х и 40-х годов ин-
дивидуализм предстает как роковой изъян души, губительный не только
для других, но и для самого пораженного им человека ("Мопра";
"Орас", 1842; "Лукреция Флориани", 1847). Писательница переделыва-
ет роман "Лелия", и во втором его издании (1839) эгоцентрическая пози-
ция также подвергается сомнению. Судьбы героев Жорж Санд все более
приводятся в связь с общественными движениями прогрессивно-освобо-
дительного характера; такова роль карбонарской темы в романе "Симон"
(1836), американского эпизода в жизни героя романа "Мопра".
И все большую весомость приобретает в романах писательницы
тема народа. Народ предстает прежде всего как источник и залог мо-
рального обновления, как "самая здоровая сила в каждой нации".
Таков образ мудрого крестьянина-философа Пасьянса в романе "Мо-
пра", народные персонажи в романах "Симон", "Странствующий
подмастерье" (1840), "Мельник из Анжибо" (1845), "Грех господи-
на Антуана" (1845). Как правило, сюжеты в таких романах строят-
ся на том, что мудрость людей из народа помогает героям - выход-
цам из более высоких классов - не только устроить свою личную
судьбу, но и определить свое место в жизни вообще, привести свое
существование в соответствие с возвышенными принципами гуманно-
сти и альтруизма. Даже самая кровная для романтиков тема - тема
искусства - решительно соединяется с народной темой. Народ - ос-
нова и почва всякого подлинного искусства ("Мозаичисты", 1837),
и высший долг художника - сохранять эту связь с народными исто-
ками ("Консуэло", 1843).
Дилогия "Консуэло" и ее продолжение - роман "Графиня Ру-
дольштадт" - занимают особое место в творчестве писательницы.
Это, пожалуй, наиболее яркое проявление ее гения. Главная герои-
ня, певица Консуэло, обладает чудесным голосом и учится музыке
у маэстро Порпора, а среди других персонажей также присутствует
композитор Иосиф Гайдн. Атмосфера романа во многом напоминает
"Крейслериану" Э.Т.А. Гофмана, однако история любви Консуэло
развивается на подвижном авантюрном фоне: судьба забрасывает ее
то в старинный замок в Богемии, где действует тайное братство
"Невидимых", то ко двору прусской императрицы Марии-Терезии,
а в конце Консуэло выбирает долю цыганки и странствует по доро-
гам Европы. Ее возлюбленный, вещий безумец граф Альберт Ру-
дольштадт, проповедует утопические и мистические идеи Яна Гуса;
прототипом для его образа послужил, согласно некоторым интерпре-
тациям, поэт Адам Мицкевич. Деятельность "Невидимых" воссозда-
на на основе описаний масонских обществ XVIII века, однако в эпи-
логе, когда Жорж Санд вкладывает в уста своих героев философ-
ские рассуждения о социальной справедливости, эта утопия оформ-
ляется в аллегорическом ключе как тайна, открытая для всех: "Они
удаляются по усыпанной золотистым песком тропинке, по лесной
тррпинке, принадлежащей всем".
Существенная роль просветительских элементов в мировоззрении
и творчестве Жорж Санд, как и у Гюго, выражается не только в об-
щих идеях просвещения народа и общества, в дидактически-воспита-
тельной установке, но и в самой художественной структуре произведе-
ний. Если в отвлеченных рассуждениях писательницы и ее героев мо-
гут очень остро и проницательно ставиться вопросы социальных отно-
шений, то в самих сюжетах романов, в их образной системе эти отно-
шения, как правило, приподняты над реальным положением дел, иде-
ализированы в просветительско-утопическом духе. Например, народ-
а/С. Санд 217
ные персонажи у Жорж Санд не только обладают естественным и без-
ошибочным нравственным чувством, способностью глубоко любить
и страдать, но и обнаруживают уже благоприобретенную в процессе са-
мообразования, весьма высокую эстетическую и мыслительную культу-
ру. Галерея таких образов была начата уже в "Валентине" (Бенедикт)
и продолжена в образе Пасьянса, знающего Гомера, Данте, Тассо и Ос-
сиана ("Мопра"), в образе Пьера Гюгенена в "Странствующем подма-
стерье". В то же время, изображая блудных сынов и дочерей аристо-
кратии и буржуазии, Жорж Санд заставляет их мучительно тяготить-
ся своим высоким положением, жаждать "опрощения", возвращения
к патриархальному бытию; эта идейная тенденция лежит и в основе по-
стоянной жорж-сандовской темы любви между мужчиной и женщиной,
принадлежащими к разным сословиям. Тема "проклятия богатства",
имеющая высокий нравственный и объективно резкий антибуржуазный
смысл (как в "Грехе господина Антуана"), иной раз предстает уж со-
всем иллюзорно-наивной в своей утрированности, как в романе "Мель-
ник из Лнжибо", героиня которого считает себя вправе ответить на лю-
бовь неимущего человека лишь после того, как разорилась сама.
В других романах критика общества становится подчас весьма
конкретной, как в социологических рассуждениях героев в романе
"Грех господина Антуана". В предисловии к собранию сочине-
ний 1842 г., полемизируя с "доводами консерваторов, что не следу-
ет говорить о болезни, если вы не нашли от нее лекарства", Жорж
Санд, по сути, прибегает к художественной логике реализма с ее ак-
центом на "диагностике" болезней современного общества.
Но в основе своей творчество Жорж Санд остается, конечно, ро-
мантическим: во всяком случае, она сама охотней и чаще осознавала
его таковым, ставя перед искусством задачу "поиска идеальной прав-
ды"; она вполне признавала за своими современниками-реалиста-
ми - Бальзаком, Флобером - право изображать людей "такими, ка-
кие они есть", но за собой решительно оставляла право изображать
людей "такими, какими они должны быть".
В предисловии к "Странствующему подмастерью" она приводит
свой разговор с Бальзаком, на который я уже имел случай ссылать-
ся. «С каких пор, - спрашивает Ж. Санд, - роман обязан быть толь-
ко картиною того, что действительно существует - суровой и холод-
ной действительности, представляемой современными людьми и от-
ношениями? Я прекрасно знаю, что роман может быть именно по-
добного рода, и Бальзак, великий учитель, перед которым я прекло-
няюсь, написал "Человеческую комедию". Но хотя я была связана
узами дружбы с этим великим человеком, я всегда глядела на чело-
веческие условия жизни с совершенно другой точки зрения... Я охот-
но напишу человеческую пастораль, человеческий роман или челове-
ческую поэму в обширном смысле этого слова».
Во французской литературе Ж. Санд действительно осталась
творцом человеческой пасторали или человеческой поэмы.
218
Естественен для Жорж Санд именно тон, взятый в "Индиане",
"Валентине", "Коисузло", "Жаке"; знание жизни сердца, сочувствие
к гонимым и страждущим, будь то в сугубо личном или социальном
смысле, всеобъемлющая и ничем не смущаемая отзывчивость, актив-
пая мечта об идеальном человеке и человечестве - вот то, что подня-
ло эту писательницу - при всей поспешности и случайности многих
из бесчисленных написанных ею вещей - к вершинам духовной
культуры века, сделало властительницей дум и заставляло даже са-
мые скептические умы приносить ей - порой как бы п невольную -
дань уважения и восхищения.
линией этого гражданского социального романтизма тес-
но соприкасается в эти годы и такой крупный, знакомый вам поэт,
как Беранже. Правда, определить точное место Беранже в литера-
турном процессе того времени - весьма сложная проблема. Какими-
то очень существенными сторонами своего творчества Беранже,
безусловно, близок и литературе критического реализма, и развива-
ющейся в это время революционно-демократической поэзии - моло-
дому Потье, Огюсту Барбье, Пьеру Дюпону. Социальная, антибур-
жуазная критика в сатирических стихах Беранже, конечно, острей
и конкретней, чем у романтиков даже этого социального склада.
Особое место Беранже во французской литературе этого периода оп-
ределяется еще и тем, что он на всем протяжении своей многолетней
творческой деятельности оставался верен в основном одному, раз
и навсегда избранному поэтическому жанру - песне. Уже самый вы-
бор этого жанра и беранжеровская верность ему как бы провели чет-
кую черту между ним и другими крупными представителями фран-
цузской культуры XIX в. Если другие прославленные французские
поэты и писатели того времени в своих эстетических воззрениях
и художественной практике апеллировали прежде всего, так сказать,
к просвещенной части общества, то Беранже сознательно подразуме-
вал в качестве аудитории для себя широкие народные массы.
Проводя такое различие, я не хочу, чтобы вы истолковали его как
оценку - этот факт не принижает значение ни Стендаля, ни Бальзака,
ни Ж. Санд, ни Гюго, точно так же как он не обязательно должен воз-
вышать Беранже над этими писателями. Примите этот факт как объе-
ктивную данность: Беранже действительно ближе стоит к самым ши-
роким народным массам, чем другие писатели и поэты первого ранга.
Мет оснований сомневаться в том, что Ж. Санд или Гюго искренне со-
чувствовали положению народных масс и искренне стремились внести
220
с
свой вклад в то, чтобы облегчить его, как это делал и Беранже.
Но и Гюго, и Ж. Санд по всему ходу своих мыслей, по всей системе
своего образного поэтического мышления обращены к людям разви-
тым - для понимания их нужно стоять на определенной ступени ин-
теллектуальной культуры. Беранже стремился быть доступным любо-
му крестьянину, любому ремесленнику. Уже сам его излюбленный
жанр - песня - подразумевает массовую доступность и понятность.
Но и в этом избранном им жанре Беранже сумел достигнуть по-
разительной виртуозности. Его поэзия, жадно впитывая в себя все
красоты собственно народной песенной образности, все стихийное
остроумие народного юмора, переплавляла их в себе и возвращала
народу в форме, которая в лучших песнях Беранже обработана до
поистине ювелирной точности. При этом Беранже сохранял редкое
чувство стиля - почти никогда не заимствовал он специфических
приемов "высокой культуры", но и никогда не стремился быть наро-
чито упрощенным. Его песни отточены, но не изысканны, точно так
же, как они просты, но не примитивны. Их общедоступность, их об-
ращенность к широким массам - не результат расчетливого заиски-
вания перед массами, а результат глубокого, органического слияния
со стихией собственно народной поэтической культуры. Именно
в этом величие Беранже как поэта - его с равным удовольствием мо-
жет прочесть и придирчивый эстет, и далекий от всякого представ-
ления об эстетике простолюдин. Конечно, не все в его творчестве на-
ходится на такой высоте, как, впрочем, и у любого другого поэта,
но характерно, что именно там, где Беранже пытается заимствовать
приемы у "высокой культуры", высокой риторической поэзии, у Гю-
го, его стиль во многом утрачивает естественность и художествен-
ность. В своем позднем стихотворении "Потоп" Беранже пишет:
Пророк, скажи, кто океан сен грешным?
- То мы, народы... Вечно голодны,
Освободясь, ПОИМСМ МЫ, ХОТЬ И 1КЩИО,
Что короли нам нонет не нужны.
Чтоб покарать гонителей снободы,
Господь, на них наш океан пошли.
Это очень благородно по своему замыслу, но это, как принято го-
ворить, лишено дыхания истинной поэзии - это слишком риторично
и слишком избито - такой стиль удавался Гюго, а не Беранже. А вот
другой образец:
Мы нее - поклонники Ваала.
Быть бедным - фи! Что скажет снег?
И нот но имя капитала -
Чего-чего н продаже пет!
За идеал свободы
Сражаются глупцы,
А с их костей доходы
Берут себе купцы!
П. Ж. Беранже 221
Это - Беранже. Здесь нет пророков и океанов, но зато есть разя-
щая краткость мысли, артистичность, выдержанная в том народном
духе, который живет в пословицах, поговорках, народных анекдо-
тах, даже образ Ваала здесь сразу понятен и уместен.
В использовании народных песенных традиций Беранже, как
я уже говорил, достигает подлинной виртуозности. Рефрены его пе-
сен, повторы внутри строф четко выделяют одну главную мысль, де-
лают ее доходчивой и меткой. От этих традиций идет и юмористиче-
ски-сатирическая направленность в песнях Беранже. Монахи, дворя-
не, монархи одной строчкой, одним рефреном получают у Беранже
по заслугам так, как это бывало и у острого на язык французского
народа. Или стихи о любви. Лучшие из них всегда несут на себе от-
печаток чисто народного здорового и жизнерадостного мышления.
Муза его ранней лирики - Лизетта (образ подчеркнуто демократиче-
ский) - это веселая парижская гризетка, и поэт обращается к ней:
Дружба, любоиь и ппно -
Вес для иееелья дано.
Счастье* и кмнкть - «ли«.
Вне -пшата:
Сердце ншта,
Дружба, мин« н Ли.ктга!
Правда, в рассматриваемый период - в 30-40-е годы - в творче-
стве Беранже исчезает эта характерная для его ранней поэзии суве-
ренная жизнерадостность. Для этого были основания. С самого
начала Беранже выступал как поэт подчеркнуто политический. При
этом и здесь нужно четко представлять себе особый характер этой
связи Беранже с политикой. Гюго тоже всю жизнь был в сущности
поэтом политическим. Но он, разоблачая тиранов и сочувствуя
отверженным, смотрел и на тех и на других глазами образованного
литератора. Беранже смотрит на политические проблемы глазами
простого, как бы необразованного человека. Там, где Гюго с верши-
ны Олимпа мечет в тиранов громы и молнии, Беранже припечатыва-
ет их к позорному столбу сочной издевкой во вкусе парижского пред-
местья.
Во всяком случае, Беранже был поэтом подлинно революцион-
ным. Ни одного восстания французской бедноты в ту богатую рево-
люциями пору не обходилось без звонкого, поэтического благослове-
ния Беранже. Поэтому он бурно приветствовал революцию 1830 г.,
свергнувшую ненавистный режим Реставрации. Но пришедший
на смену Реставрации режим июльской монархии не оправдывал бла-
годушных ожиданий поэта, и он снова был вынужден вступить
в борьбу. Поэзия Беранже 30-40-х годов - поэзия подчеркнуто анти-
буржуазная, но в ней уже часто звучат элегические ноты, открываю-
щие в лучших образцах новые грани поэтического таланта Беранже:
222
Отдал бы я, чтоб иметь двадцать .юг,
Золото Ротшильда, славу Вольтера,
Судит иначе расчетливый свет:
Людям чужда моя странная мера.
Люди хотят нажинать, нажинать.
Мог бы я сам указать для примера
Многих, готопых за деньги отдать
Юности благо и ела ну Вольтера.
Эти прекрасные стихи - как эпиграф к романам Стендаля и Баль-
зака об утраченных иллюзиях.
Беранже, как и Жорж Сайд, искренно увлекается в эти годы идея-
ми утопического социализма. Но характерно, что в глубине души он, по-
эт по натуре своей плебейский, всегда симпатизировавший именно рево-
люционной перестройке общества, - в глубине души он ощущает имен-
но всю утопичность этого социализма. В знаменитом своем стихотворе-
нии "Безумцы" Беранже со стоической гордостью принимает это назва-
ние, которое буржуазные филистеры дали Сен-Симону, Фурье:
Господа, если к прайде, снятой
Мир дороги найти не сумеет -
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сои золотой!
Если б завтра земли нашей путь
Осветить это солнце забыло -
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь.
В этих стихах и гордость за человеческую мысль, и глубокая тра-
гедия человека, которого общество не понимает и считает "безумным".
И хотя у Беранже в 30-40-е годы все ощутимей звучат настрое-
ния разочарования, утраты иллюзий (еще один пример - его траги-
ческое стихотворение "Барабан"), он все-таки никогда не звал к при-
мирению с врагами - ни с буржуа, ни с монархами, ни с либераль-
ными пустозвонами - и до самой смерти продолжал их клеймить
в своих песнях. Именно эта верность интересам народа и привлека-
ла к Беранже симпатии всей трудовой Франции, симпатии наших ре-
волюционных демократов. Беранже долгое время был одним из са-
мых популярных в России иностранных поэтов XIX в.
В самой Франции отношение к Беранже очень сложное. Высокая
критика зачастую относится к Беранже пренебрежительно, именно
как к плебейскому поэту. Основная линия французской поэзии кон-
ца XIX - начала XX в. идет в другом направлении: символисты
и поэты начала века - Аполлинер, Валери - создали прочную наци-
ональную традицию нервного и интеллектуального стиха, изыскан-
ного даже в своей простоте, даже в своей гражданственности, как
у более поздних поэтов - Арагона, Элюара, Превера.
В этом русле беранжеровская традиция оказывается как бы в сто-
роне, потому что сам жанр песни кажется уже архаичным в совре-
менноп поэтической культуре Франции. Поэты Парижской Комму-
ны - Потье и Клеман - были прямыми наследниками Беранже
во французской поэзии. Отзвуки беранжеровского влияния можно
обнаружить в знаменитом стихотворении Рембо, посвященном Па-
рижской Коммуне, "Руки Жанны Мари".
Проще проследить беранжеровскую линию ретроспективно,
до истоков - через Бомарше и Вольтера к Вийону и даже Роисару,
дальше уже труднее обнаружить продолжение традиции. Может
быть, Беранже попросту ушел туда, откуда пришел, - в гущу наро-
да, растворился в нем, и следы его влияния надо искать сейчас не
в высокой поэзии Франции, а в тех прекрасных французских chan-
sons, которые звучат во всем мире в исполнении Эдит Пиаф, Жака
Бреля п Ива Монтана. Во всяком случае, среди французских поэтов
XIX в. Беранже занимает особое, почетное место и является неотъе-
млемой частью французской духовной культуры.
А деМюссе
(1810-1857)
С
\^х овершенно особое место в системе французской литерату-
ры 30-40-х годов занимает крупный поэт, прозаик и драматург
Лльфред де Мюссе. Внешне его недолгий творческий путь оказыва-
ется как бы замкнутым в рамках романтического мироощущения.
Мюссе начал с экзотически-страстного, бунтарского романтизма, за-
тем дал классические образцы романтизма меланхолического, разо-
чарованного, наконец, пришел как будто к романтизму умиротворен-
ному, почти религиозному. Он остался в общем чужд как принципу
критического анализа общества, разработанному реалистами, так
и социально-утопической проблематике романтизма Гюго и Ж. Санд.
Но, во-первых, как мы увидим, весь идейный комплекс романтизма
подвергается у Мюссе значительному переосмыслению и даже раз-
венчанию. Во-вторых, Мюссе, целиком сохраняя субъективность ро-
мантического мироощущения, в то же время наполняет его таким
глубоким психологизмом, такой тонкостью анализа диалектики чело-
веческой души, что в этой сфере, в сфере психологического анали-
за, уже существенно сближается с реализмом. Романтизм Мюссе -
в исключительной сосредоточенности па внутреннем мире человека,
на идейной, духовной, а не социальной проблематике своего време-
ни: общество, внешний мир почти нигде не становится самостоятель-
ным объектом исследования у Мюссе. Но в то же время самый этот
внутренний мир индивида рассматривается уже с аналитической точ-
ки зрения, и здесь Мюссе приближается к реализму такого типа, как
у Мериме в новеллах: не исследуя специально внешней среды, Мюс-
се тем не менее показывает своего индивида как "сына века", как лич-
ность, обусловленную и сформированную своей эпохой. Если Мюссе
был чужд реализму социальному, то он в то же время был одним
из мастеров психологического реализма во французской литературе.
226
Вот это и обуславливает особое место Мюссе во французской лите-
ратуре. Лирический герои Мюссе - это романтик, освещенный све-
том всестороннего, иногда даже беспощадного анализа. Впустите
этого героя в подробно изображенную социальную среду, создайте
за ним широкий социальный фон - и он там окажется на месте,
он не будет из этого фона выделяться. Герой Мюссе - фигура пере-
ходная в самом точном смысле этого слова.
Типологически герой Мюссе является последышем классическою
романтизма начала века, героя Шатобриана и Констана, раннего
Байрона. Это - романтический герой той эпохи, когда романтизм
как принцип индивидуальной свободы воли обнаруживает свою не-
состоятельность, когда он обнаруживает свою роковую зависимость
от среды. Только Мюссе в первую очередь не анализирует взаимо-
связи индивида с эпохой, а сосредоточивает свое внимание исключи-
тельно на тех трансформациях, которые переживает романтическая
личность под влиянием эпохи. Не случайно центральное произведе-
ние Мюссе, самое большое по объему и единственное в его творчест-
ве в жанровом отношении - роман, который называется "Исповедь
сына века", - здесь в самом названии уже заключена вся специфи-
ка творчества Мюссе и его героя. Он - "сын века", но для общения
с современниками он выбирает форму "исповеди" - форму подчерк-
нуто субъективную (Гюго, Виньи, Нодье).
Мюссе начал в конце 20-х годов; его первое выступление - в ро-
мантическом кружке "Сенакль", сгруппировавшемся вокруг Гюго.
Сент-Бёв вспоминал в 1857 г. (создавая как бы некролог умершему
поэту): "То была сама весна, настоящая весна поэзии, расцветшая
на наших глазах. Ему не было еще и восемнадцати: мужественное,
гордое чело, цветущий румянец, еще сохранивший какую-то детскую
прелесть, ноздри, трепещущие в предчувствии сладостных желаний.
Он ходил стремительным, упругим, почти звенящим шагом, с под-
нятым челом, словно уверенный в своей победе и полный гордели-
вой радости жизни. Никто другой не мог так сразу, с первого взгля-
да, внушить представление о юном гении. Все эти блистательные
строфы, все эти легкие струп вдохновения... все эти строки, словно
отмеченные шекспировской интонацией, эти неистовые возгласы,
сменяющиеся то дерзкой отвагой, то улыбкой, эти вспышки темпера-
мента, рано пробудившихся бурных чувств, казалось, обещали
Франции нового Байрона".
Уже здесь, в этом воспоминании Сент-Бёва видна как бы основ-
ная доминанта поэтической личности Мюссе - его одухотворенность
и его страсть. Больше, чем о ком-либо другом, о Мюссе можно ска-
зать, что он жил одной страстью, без всяких оглядок на какие бы
то ни было объективные обстоятельства. Его поэзия - это всегда ис-
поведь - самая искренняя, не знающая ни малейшего расчета, ника-
кой другой цели, кроме самовыражения. Мюссе всегда пел о том,
чем в эту минуту одержима была его душа, даже рискуя слишком об-
Л. <)(> Мюссе 227
нажить ее перед посторонним взглядом. Он никогда не маскировал-
ся, не искал себе ни украшений, ни оправданий - он каждую мину-
ту своей жизни был весь прозрачен и беззащитен, как капля на ла-
дони; и не случайно у его современников было такое благоговейное
к нему отношение. Он весь - эманация чувства, складывающегося
в рифму, как только оно возникло.
В нем нет никакой позы, он - сама естественность. В одной
из поздних своих поэм он использовал легенду о пеликане - птице,
которая кормит птенцов собственной окровавленной плотью, и срав-
нивал поэта с этой птицей. Это, при всей его метафоричности, весь-
ма точное определение.
И вот в то же время эта прелестная искренность, эта открытость
души позволяли Мюссе в самых, казалось бы, откровенных его сти-
хах высказывать - как бы непроизвольно - правдивые и глубокие
мысли о всей своей эпохе. Может быть, надо сказать другими сло-
вами - Мюссе был как бы медиумом, инструментом, с помощью ко-
торого говорила сама его эпоха.
Тема страсти и ее роли в судьбе человека - главный, сквозной
мотив всей поэзии Мюссе. Здесь он внешне как будто похож на всех
остальных романтиков. Но его отличие именно в том, что для него
эта страсть никогда не была ни в малейшей степени рисовкой, сле-
дованием моде (как у Шатобриана, Ламартина и многочисленных
поклонников Байрона). Тем более она не была у него так тесно свя-
зана с рационалистическим расчетом, как у Гюго. Он понимал, что
сама его жизнь всецело определяется страстями - и потому пытался
разобраться в том, зло это или благо. В этом его правдивость и тот
потрясающий эффект кровоточащей истины, который производят
все его произведения.
Собственно, Мюссе никогда даже не интересовал анализ психо-
логии страстей как самоцель. Анализ этот вытекал сам собой из ис-
кренности. А Мюссе интересовало всегда другое - нравственная се-
бестоимость страсти, владеющей человеком, ее воздействие на лич-
ность, то счастье, которое она приносит человеку, и то горе, которое
она ему причиняет.
С темы разрушительной страсти Мюссе начал свой творческий
путь (здесь в чем-то, возможно, чувствуется влияние эпохи: разоча-
рование в социальных идеалах, в политической практике Реставра-
ции). Человек весь уходит внутрь своей страсти, пускается в риско-
ванные авантюры, чтобы заглушить пустоту (пока еще эта пустота -
как бы вне поэта), а свою жизнь он пытается наполнить.
Первый сборник поэм Мюссе - "Итальянские и испанские поэ-
мы" (1829) - был восторженно принят французскими романтика-
ми - участниками кружка "Сенакль". В нем все вроде бы отвечало
духу романтического времени - и выбор места действия, и яркость
характеров и страстей. Правда, в последней из четырех поэм, "Мар-
дош", прозвучали и несколько иные, явственно ироничные ноты,
но это прошло незаметно, это списалось за счет молодости, юноше-
ского озорного задора.
Однако в трех серьезных поэмах сборника таилось нечто, что по-
ка еще не бросалось в глаза, не выделялось на общем романтическом
фоне и что лишь позже обнаружило свою значимость для всего твор-
чества Мюссе.
Поначалу же три первые поэмы как будто вставали в общий ряд
романтических произведений того времени. Измены, отравления,
убийства, самоубийства - все это воспринималось как следование
бурной романтической моде. Никому еще не приходило в голову
придавать значение тому факту, что весь этот вихрь романтических
убийств и отравлений всегда устраивается у Мюссе вокруг какой-ни-
будь любовной измены, чьего-либо обмана. По инерции все эти сю-
жеты воспринимались с точки зрения романтической силы страсти,
мотивировка поступков казалась несущественной, случайной.
А поэмы действительно все рассказывают о наказании изменни-
ков в любви. В поэме "Дон Паэс" герой отравляет свою возлюблен-
ную Жуану, узнав о ее измене, и сам тут же кончает жизнь само-
убийством. В драматической поэме "Каштаны из огня", напротив,
женщина, танцовщица Камарго мстит неверному возлюбленному, ци-
нику и ловеласу Рафаэлю Гаруччо.
Как я уже сказал, особняком среди этих поэм стоит поэма "Мар-
дош", где вдруг резко меняется все - и сюжет, и характеры, и стиль.
Поэма непринужденным, разговорным языком рассказывает о за-
урядном парижском щеголе, который волочится за знатной дамой
и пытается дом своего дяди, сельского кюре, превратить в место сви-
даний, обитель религии превратить в пристанище свободной любви.
Незамысловатый сюжет то и дело прерывается авторскими отступле-
ниями - то серьезными, то шутливыми рассуждениями о жизни,
о любви, о счастье, о женщинах, об искусстве. Романтические совре-
менники, как уже я сказал, не придали этому факту принципиаль-
ного значения, "МардоиГ они восприняли исключительно как под-
ражание байроновской традиции - его "Дон Жуану", "Беппо". Шут-
ливость и ироничность были ведь всегда не чужды романтизму
(взять хотя бы того же Байрона или принцип романтической иронии
вообще). Между прочим, и сам Байрон еще продолжал восприни-
маться главным образом лишь как "певец Гяура и Корсара", певец
гордого, одинокого и мятежного - словом, байронического - героя.
"Беппо" и "Дон Жуан" тоже воспринимались как частности, этакие
шалости романтического гения, отдушины от серьезных страстей.
Принципиальный поворот мироощущения у Байрона в этих поэмах
не воспринимался до конца во всей его значимости.
Точно так же был воспринят и "Мардош" Мюссе - как шутли-
вый "pendant", дополнение к предельной трагичности и серьезности
трех остальных поэм. В России на поэмы Мюссе обратил внимание
Пушкин, метко схватив всю амплитуду тональности в поэтическом
230
сборнике: «"Испанские и итальянские сказки", - писал он в 1833 г., -
отличаются живостью необыкновенной. Из них "Порция", кажется,
имеет больше всего достоинств: сцена ночного свидания, картина
ревнивца, поседевшего вдруг, разговор любовников на море - все
это прелесть. Драматический очерк "Каштаны из огня" обещает
Франции романтического трагика. А в повести "Мардош" Мюссе
первый из французских поэтов умел схватить тон Байрона в его шу-
точных произведениях, что вовсе не шутка». Для самого Пушкина
этот "шуточный тон Байрона" становился в эти годы все более при-
влекательным, он тоже любил переосмыслить романтические темы
и сюжеты в ироническом, приземленном тоне, тоже охотно пользо-
вался техникой иронических отступлений - ведь уже были созданы
и "Граф Нулин", и "Домик в Коломне", и "Евгений Онегин". Но не
случайно он возводит Мюссе к Байрону - так делали все современ-
ники и французские романтики в том числе. Л Мюссе, однако, поз-
волял себе очень большие вольности. Вот он, к примеру, в одном
из отступлений иронизирует над традицией романтиков "Сенакля"
подниматься по вечерам во главе с Гюго на башни Собора Париж-
ской богоматери, чтобы полюбоваться закатом; Мардош укладывает-
ся спать в тот час,
"когда, исчернен дымке рады,
коты па чердаках шкодят серенады,
а господин Гюго глядит, как меркнет Феб".
Романтики пока проглотили и это, списав дерзость за счет моло-
дого романтического задора.
Но уже следующие произведения Мюссе показали, что поэт от-
носится и к своим трагическим, и к своим шутливым сюжетам впол-
не серьезно, с полной ответственностью. В первой своей комедии -
"Венецианская ночь" (1830) он опять явно высмеивает каноны ро-
мантической страсти (пародийное перевертывание ситуаций драмы
"Эрнани" Гюго), а в написанном в это время стихотворении "Тайные
мысли Рафаэля" он, говоря о своей любви к национальным тради-
циям Франции, подчеркивает, что он при этом ничего не хочет иметь
с той стилизованное Францией, которую "ворошат окровавленными
кинжалами бородатые романтики", - и он осмеливается даже помя-
нуть добрым словом "классицизм", как искусство гармоническое,
как гордость французской национальной культуры. И это в то вре-
мя, когда в самом разгаре была битва романтиков с классиками!
А когда в 1830 г. Мюссе написал вторую ироническую поэму "Наму-
на", где опять высмеял исторические экскурсы романтизма, произо-
шел разрыв поэта с романтиками кружка "Сенакль".
Впоследствии Сент-Бёв - в той же самой статье, написанной по-
сле смерти Мюссе, - даже сочувственно отзывается о бунте Мюссе:
"Новая поэтическая школа до той поры охотно была религиозной,
возвышенной, несколько выспренной или сентиментальной, она
А. де Мюссе 231
притязала на точность и даже филигранность формы. Мюссе сразу
же бросил вызов этой торжественности и сентиментальности, то об-
ращаясь с читателями запанибрата, то доходя до крайности в своих
язвительных насмешках". Но это уже говорит зрелый Сент-Бёв,
а в то время он тоже осуждал Мюссе за отступничество, он тогда вы-
сокомерно говорил о нем: "Чудесный талант - но только для паро-
дии". Сам же поэт твердо знал, что делал, и, вспоминая свои пер-
вые шаги, написал позже:
Да, я сражался п двух враждебных лагерях,
Удары наносил и стал илнестен миру.
Мои барабан пробит - сижу па нем бел сил,
А на моем столе Расип, припаи к Шекспиру,
Спит попе Буало, который их прости,!.
И свои окончательный разрыв с романтиками Мюссе оформил
в 1836 г., когда опубликовал в журнале "Ревю де дё Монд" сатири-
ческие "Письма Дюпюи и Котоне". Эта переписка двух провинциа-
лов, которые вместе пытаются разобраться, что такое романтизм.
Отсутствие трех единств? Смешение трагического с комическим?
(гротеск Гюго!) Подражание немцам и англичанам? Может быть,
просто несуразность? Или романтизм - это не бриться и носить жи-
леты с широкими отворотами? Наконец, обращаются к тексту и на-
ходят, что это злоупотребление прилагательными! Вот суть и венец
романтизма!
В сущности здесь дается пародийная история всего романтизма.
Каким же путем пошел сам Мюссе, отвергнув и осмеяв романтизм?
Вот здесь мы и вернемся к началу его творческого пути. Я уже го-
ворил, что в его "Итальянских и испанских поэмах" сюжеты основа-
ны на любовных изменах. Тема любви станет главной для Мюссе.
Можно даже сказать, что тема измены - настолько серьезно обраща-
ется он к таким сюжетам! И постепенно обнаруживается суть, глав-
ный стержень его мироощущения - разочарование во всем, особенно
в общественной жизни; и оттого он жаждет хоть в любви найти сча-
стье, и потому на всякую измену, на всякую несерьезность в отноше-
нии к любви реагирует крайне болезненно, всем своим существом.
Андре Моруа очень хорошо сказал о нем: "Дело в том, что он был
одновременно человеком легкомысленным и сентиментальным, пари-
жанином, который хотел бы принимать любовь в шутку, и францу-
зом, который принимал ее всерьез".
Внешне история юности Мюссе как будто противоречит утвер-
ждениям о том, что к любви он относился столь серьезно. В жизни
он охотно пускался в мимолетные любовные увлечения, тем более
что он был красив, изящен, остроумен - настоящий баловень жен-
щин. Но, как верно заметил потом Сент-Бёв, "страсть он угадывал
скорее интуитивно - и стремился постигнуть ее и познать... Он ре-
шил, что должен все видеть, все знать, и что тот художник, каким
232
он желал стать, должен испытать решительно все... Опасная и роко-
вая мысль!"
Из произведений раннего Мюссе особого внимания заслуживают
историческая драма "Лоренцаччо" (1834) и роман "Исповедь сына
века" (1835). В обоих произведениях Мюссе обращается к проблеме
социально активного действия (влияние Ж. Санд), пытается столк-
нуть своего романтического героя с обществом и приходит в обоих
случаях к крайне пессимистическим выводам. Герой драмы "Лорен-
цаччо" - Лоренцо, дворянин, брат флорентийского тирана Алессан-
дро Медичи, решает освободить свою родину, убив тирана.
Но он выбирает для осуществления своей цели грязный скользкий
путь - он притворяется трусом, помогает герцогу, чтобы войти к не-
му в доверие. Опять мотив - познать все. И он так входит в роль,
что ему уже никто не верит, когда настанет час действия - для всех
он - второе я герцога Медичи, а отнюдь не тираноборец. Он совер-
шает свой подвиг, убивает герцога, но никто его не поддержал -
на место Алессандро приходит новый тиран - Козимо Медичи, а сам
Лоренцаччо гибнет от руки наемного убийцы. Остается чистый под-
виг индивидуальности, не принесший блага ни ему самому, ни рес-
публике. Для скептической натуры Мюссе такое пессимистическое
решение проблемы очень характерно.
Проблема активного социального действия косвенно наличеству-
ет и в романе Мюссе "Исповедь сына века". Это история молодого
француза эпохи июльской монархии, с большим налетом автобиогра-
фичности. Лучшим эпиграфом к ней, наверное, были бы стихи дру-
гого поэта, сына, если и того века, то другой страны - лермонтов-
ская "Дума". Роман Мюссе - это тоже история поколения, которое
"в бездействии старится под бременем познания и сомнения", кото-
рое и "ненавидит, и любит случайно". Нужно сказать, что здесь уже
нет романтических страстей, которые кипели в ранних произведени-
ях Мюссе, - это история "опустошенного человека", рассказанная
с тонким психологизмом, приближающимся к психологизму Стенда-
ля. История Октава и Бригитты - разрушительность чувственной
страсти, тяга к страсти духовной.
Из комедий Мюссе нужно упомянуть "Фантазио" - ироническое
обыгрывание романтического комплекса скуки. За остроумными мо-
нологами и репликами главного героя, варьирующими эту тему ску-
ки и пресыщенности жизнью, уже угадываются черты моды и позы,
уже угадывается ироническая дистанция автора.
Еще более резко эта проблема ставится в комедии "Любовью
не шутят". Само название ее чрезвычайно характерно для Мюссе.
Здесь действительно двое молодых людей (Камилла и Пердикан) иг-
рают в любовь, играют друг с другом, и каждый при этом исходит
из вполне заданной, так сказать, традиционной линии поведения,
и этот трафарет в обоих случаях именно романтический. Мюссе как
будто без конца обыгрывает комедийную ситуацию. И вдруг - не-
А. де Мюссе 233
ожиданный поворот в конце; эта игра оканчивается трагедией для
третьего лица - крестьянской девушки Розетты, в которую прики-
нулся влюбленным Пердикан, чтобы подразнить Камиллу. Узнав
об обмане Пердикана, Розетта кончает с собой. Комедия неожидан-
но обернулась трагедией, потому что то, что для Пердикана и Ка-
миллы было увлекательной романтической игрой, для Розетты было
подлинным чувством. Тут, собственно, возникает уже другой жанр -
трагикомедия, именно потому, что романтическая игра чувствами
оборачивается своей трагической стороной.
Мюссе фиксирует здесь очень важный этап в развитии романти-
ческого героя во французской и шире - в европейской литературе
того времени. Он как бы проверяет все романтические комплексы
в подходе к любви на их нравственную себестоимость. То, чем так
гордился романтический герой - своей особостью, своей пресыщен-
ностью, своими легкими победами над женскими сердцами (вспом-
ните в этой связи нашего Печорина, да и Онегина тоже), - теперь
оборачивается внутренней пустотой и трагедией.
Эта тема во французской литературе уже отчетливо была намече-
на у Констана в "Адольфе". Теперь ее подхватывает Мюссе в траги-
ческом ракурсе в "Исповеди сына века", в трагикомедии "Любовью
не шутят". И очень показательно, что эту тему Мюссе упорно решает
на одном и том же конфликте - показывая моральное превосходство
женщины и слабость мужчины. Еще одно блестящее подтверждение
тому - две поздние новеллы Мюссе - "Фредерик и Бернеретта"
и "Сын Тициана" (1838). "Фредерик и Бернеретта" прямо продолжа-
ет уже в психологическо-реалистическом плане эту тему. Романтиче-
ский герой проверяется у Мюссе в той сфере, которую романтики ис-
покон века считали сферой своей компетенции -в сфере чувства, пре-
жде всего любовного чувства. И романтический герой здесь пасует,
терпит моральное поражение. Такая проверка романтического героя,
повторяю, была характерна не только для Мюссе - она уже отчетли-
во наметилась у Стендаля в "Пармской обители"; в России эту тему
развивают Пушкин, Лермонтов, ранний Тургенев (повести и романы:
"Андрей Колосов", "Затишье", "Накануне", "Поездка в Полесье",
"Дворянское гнездо"), да и не только ранний - "Ася".
Т. Готье
(1811-1872)
kJ J -Z-еофиль Готье снискал во французской словесности сла-
ву основоположника принципа "искусства для искусства", одного
из мэтров будущей так называемой "Парнасской школы", и он этой ре-
путацией дорожил. Его предисловие к роману "Мадемуазель де Мопен"
(1835) дает предельно резкие формулировки знаменитого принципа, от-
рицает в самой категорической, вызывающей форме какие бы то ни бы-
ло притязания искусства на социальную роль. Да и в самом творчестве
Готье принципы "чистого искусства" весьма действенны.
Однако "парнасец" Готье рожден романтизмом, кровно с ним
связан и только его судьбою может быть объяснен. Как Мюссе
и другие поэты этого поколения, он тоже обескуражен установлени-
ем царства "лавочников" вместо царства свободы и братства. Но от-
личие его позиции в том, что горечь он стремится не подпускать
к своему сердцу. Правда, отзвуки романтического скорбничества явст-
венно слышатся в его стихах 30-х годов ("Париж", "Сосна Ланд");
он с присущей ему язвительной четкостью обличает буржуазный век,
наложивший на людской род "проклятье подлости" (сонет "Быть с ве-
ком наравне невыносимо доле"); проклятье это он считает неизглади-
мым и, воскрешая ламартиновский символический образ "Человече-
ского каравана", вере в прогресс противопоставляет убеждение, что
путь человеческий ведет лишь к смерти, небытию ("Караван").
Но, как бы формально ни были совершенны многие из этих сти-
хов, в них уже не чувствуется той выстраданности, которой прони-
заны сходные размышления Мюссе, даже когда Готье прямо варьи-
рует мысль Мюссе о поэте, пишущем кровью сердца ("Сосна
Ланд"). Поэтому гораздо более характерна для него - в отношении
к буржуазному "веку подлости" - реакция не возмущения, а отвраще-
ния - во всех смыслах: и психологическом, и изначально-буквальном
Т. Готы 235
("отвернуться" от века). Но в этом отношении он черпает и особую
силу. Философский идейный мир его поэзии неширок; да Готье
и принципиально возражал против возвышенных философских спе-
куляций, как либо бесплодных, либо фальшивых, поскольку всегда
таящих в себе "утилитарный" смысл, и там, где он по инерции к ним
обращался, он не столь оригинален (как в приводившихся выше
примерах). Но в той сфере, которую он для себя избирает, он чув-
ствует себя полновластным хозяином, и там он действительно может
многое. Это сфера художественных форм.
Освободив искусство от "утилитарных" задач, Готье широко рас-
пахивает двери для свободы поэтической фантазии. Поначалу это
была свобода романтико-иронического образца. Как и Мюссе, ран-
ний Готье остроумно высмеивает своих ссйбратьев-романтиков (цикл
рассказов "Молодые французы", 1833); это не мешает ему тут же
писать пространные поэмы и романы на романтические сюжеты
("Альбертюс", 1832; "Мадемуазель де Мопен", 1835-1836; "Коме-
дия смерти", 1838); но в разработке этих сюжетов постоянно скво-
зит ирония. Подобная круговерть иронии отвечает ее "немецкому"
идеалу, и не случайно Готье увлекается идеями немецкого романтиз-
ма и творчеством Гофмана. Отсюда приходят в его поэзию и прозу
и фантастика (повести "Ножка мумии", 1840; "Аррия Марцелла",
1852), и восприятие жизни как театра, игры ("Мадемуазель де Мо-
пен"). Все это стимулирует его программу "неутилитарного" искус-
ства, придает остроту его противопоставлению художника и фили-
стера. Этот последний аспект романтического двоемирия получает
свое наиболее яркое воплощение в романтической литературе Фран-
ции именно в творчестве Готье (хотя, стоит снова подчеркнуть, без
того трагического подтекста, который свойствен двоемирию, напри-
мер, у Гофмана).
Но наиболее оригинален Готье там, где он, оставляя и романти-
ческую философскую диалектику, и романтическую художествен-
ную игру, обращается к своему идеалу "вечного искусства - вечно-
го не только в эмоционально-оценочном плане ("святое" искусство
и т. д.), но и в том смысле, какой Готье вложил в это слово в про-
граммном своем стихотворении "Искусство" (1857): "но замысла за-
пал влагайте в бессмертный матерьял" (пер. А. Эфрон). "Бессмерт-
ный матерьял" для Готье - это прежде всего строительный матери-
ал искусства: слово, звук, мрамор - это сама форма, освобожденная
от "привходящих" наслоений абстрактных идей и расплывчатых
эмоций. По сути, это идеал искусства предметного, предельно объе-
ктивированного, если и движимого эмоцией, то лишь одной - чувст-
вом наслаждения от своего господства над "матерьялом".
Эта тенденция проявлялась уже во многих ранних стихах Готье
("Пейзаж", "Поле битвы", "Стена", "Грот"). Они не просто описа-
тельны, а, если точнее сказать, именно "предметны", ибо описание
здесь неаморфно, детали строго отобраны и подчинены определенной
236
художественной задаче. В полной мере это качество поэзии Готье вы-
ражается в его зрелых сборниках стихов - в "Испании" (1845) и зна-
менитых "Эмалях и камеях" (1852). Здесь "объективность" предстает
прежде всего как виртуозная живописность и пластичность изображе-
ния. С тематической точки зрения эта поэзия традиционно романтич-
на: прославление природы, любви, искусства, противопоставление ис-
кусства прозе жизни и течению времени и т. д. Но она уже и выходит
за рамки собственно романтической традиции - именно благодаря
своей очищенной предметности. Возникает характерный для поэзии
Готье парадокс: по отточенности формы эти стихи могут произвести
впечатление бесстрастного артистизма, но в то же время чувственная
зримость и осязаемость образов сообщает им качество реальности,
теплое дыхание жизни. А вместе с этим приходит и ощущение радости
бытия во всей его полноте, новый оптимизм. Он выражается и в посто-
янном противопоставлении чувственного, языческого мира антично-
сти спиритуалистически-аскетическому миру христианства ("Костры
и могилы", "Поэма женщины" в "Эмалях и камеях").
Все это определяет особое место Готье во французском романтиз-
ме. Если Мюссе на руинах романтической веры создал мир углуб-
ленного лирического психологизма, то Готье воздвигал на них
памятники красоте материального, чувственно воспринимаемого ми-
ра. И здесь он тоже по-своему соприкасается с поэтикой реализма -
в то время как его живописно-пластические опыты предваряют им-
прессионизм, а там, где он к этим опытам добавляет еще и экспери-
менты с музыкальной стороной стиха (например, «Вариации на те-
му "Венецианского карнавала"» или "Мажорно-белая симфония"),
он прямо предвосхищает символическую поэтику "соответствий".
В итоге "чистое искусство" Готье предстает глубоко противоречи-
вым. Оно оказывается вовсе не столь уж бесстрастным и "незаинтере-
сованным", как он объявлял вначале в пылу полемики с "лавочника-
ми" и "утилитаристами". Да он и сам внес потом существенную корре-
ктиву в свою теорию "чистого искусства", когда в 1847 г. в статье
"О прекрасном в искусстве" сказал, что художник, конечно же, чело-
век и не может не отражать в своем творчестве "убеждения и предрас-
судки" своего времени, но он должен делать это при условии, что "ис-
кусство будет для него целью, а не средством"; ни форма не может су-
ществовать без идеи, ни идея без формы. Преодолевая полемические
крайности, Готье шел, таким образом, не к принципиальной "бесстра-
стности", а к требованию совершенной формы как непременного усло-
вия ценности искусства, в том числе и общественной его ценности, -
требованию, на котором настаивал в эти годы и Флобер.
Ж деНерваль
(1808-1855)
kJ .Z-рограмму "чистого искусства" осуществляет в своем по-
этическом творчестве Жерар де Нерваль. Сами названия программ-
ных сборников обоих поэтов символично-контрастны: если у Готье
это "Эмали и камеи", то у Нерваля это "Химеры". Романтическое
противопоставление мечты и реальности не только приобретает у не-
го наиболее радикальные формы, но и отчетливо тяготеет к герме-
тизму, к принципу абсолютного самовыражения, решительного ис-
ключения всякого адресата из круга поэтических намерений автора.
О сборнике сонетов "Химеры" Нерваль сказал, что эти стихи "утра-
тили бы всю свою прелесть при истолковании - если бы оно вообще
было возможно". И действительно, в тенденции Нерваль - первым
из французских поэтов - стремился к ограничению своего творчест-
ва кругом сугубо личного эмоционального и интеллектуального опы-
та, не подразумевающего никакой ответной реакции, никакого резо-
нанса вовне. Это особенно обнаруживается в поздней поэзии Нерва-
ля и, в частности, в "Химерах", где символическая образность чаще
всего принципиально темна и рассчитана лишь на воссоздание опре-
деленной эмоциональной атмосферы посредством многозначных ас-
социаций, формул скорее заклинательных, чем коммуникативно-вы-
разительных ("Обездоленный", "Мнрто", "Антэрос").
Но сама эта эмоциональная атмосфера тоже основана на роман-
тическом мироощущении, только доведенном до крайней степени
субъективности. И тут существеннейшую роль сыграл для Нерваля
опыт немецкого философского идеализма и литературы немецкого
романтизма, причем тоже преимущественно начального, "иенского"
образца. Нерваль в этом смысле - наиболее "германский" из всех
французских поэтов его поколения, и он сам это подчеркивал, гово-
ря, что "старая Германия - наша общая мать".
Ж. де Нерваль 239
В то же время внутренняя логика нервалевского романтизма осно-
вана на тех же посылках, что и у всех французских романтиков "скеп-
тического" направления. Об этом свидетельствуют объединенные
в сборнике "Маленькие оды" (1852) стихотворения, создававшиеся
с конца 20-х до начала 50-х годов и варьирующие в разных регистрах
обостренное переживание романтического двоемирия ("Знать и ла-
кеи", "Дума о Байроне", "Черная точка"). Наиболее значительные
произведения Нерваля в жанре художественной прозы - цикл повес-
тей 1853-1855 гг. с "женскими" названиями и с единым внутренним
замыслом ("Октавия", "Изида", "Пандора", "Аврелия" и др.); он от-
крывается повестью "Сильвия" (1853), самой конкретной из всех,
и, точно так же, как Мюссе, поэт не только предваряет эту свою
"исповедь" обзором "странной эпохи", в которой жило его поколение,
но и обобщает ее черты в том же духе, лишь еще более радикально -
уже как Готье. В эту "эпоху упадка" он видит для поэта единствен-
ный выход в том, чтобы удалиться в "башню из слоновой кости",
"подальше от толпы". И если Мюссе еще уповал на земную любовь,
то Нерваль и любовное переживание возносит до небесных и мистиче-
ских высот, переводит в статус "платонического парадокса".
Это стремление к трансценденции реального жизненного опыта -
доминанта всей мировоззренческой и поэтической эволюции Нерва-
ля. Уже в его стихах 30-х годов романтическая тема тоски по про-
шлому соединяется с темой предсуществования и перевоплощения
душ ("Фантазия", 1832), а у позднего Нерваля демонстративно раз-
мываются грани между прошлым, настоящим Ti будущим - совсем
в духе новалисовской мистической космогонии. Горечь от сознания
невозвратимости прошлого снимается тем, что изначально обращен-
ная к прошлому мечта расширяется до универсальных пределов, ут-
верждается как особый и более совершенный модус бытия вообще:
"Мечта - это другая жизнь, в которой нам раскрывается мир Духа".
В поэтической структуре "женских" повестей это стремление заме-
нить реальный мир миром мечты совершенно отчетливо - причем су-
губо индивидуальное (а в случае с Нервалем еще и болезненное) со-
стояние грезящей души также возводится в ранг всеобщего бытийно-
го закона. Жажда чисто религиозного самоутешения, неизбежная
на этом пути, трансформируется в мечту о некой универсальной ме-
тарелигии: христианство одно уже не в силах излечить тоску, разро-
сшуюся до космических размеров, поэтому от традиционных для ро-
мантизма сомнений в теодицее (поэма "Христос в Гефсиманском са-
ду" в "Химерах") Нерваль идет к идее слияния спиритуалистическо-
го христианского культа с чувственным языческим, а затем вовлека-
ет в этот космический круг и восточные религии; образы реальных
женщин, оставивших горький или радостный след в жизни поэта,
сливаются с образами культовых богинь, будь то Астарта, Артемида
или Мария, - они тоже соединяются в единый образ всеобъемлющей
мистической любви ("Изида", "Аврелия", сонеты "Химер").
240
В результате художественный мир Нерваля предстает как эзоте-
рический образ некоего нового индивидуального космоса-хаоса. Спе-
цифически романтический парадокс в том, что Нерваль настаивает
на общезначимости этого мира. В повестях он прекрасно отдает себе
отчет в том, что рассказывает порой о болезненных видениях (болез-
ненных в прямом, клиническом смысле - периода пребывания его
в психиатрических лечебницах), но он видит в этом свой "долг" пе-
ред людьми н он ищет в этих видениях возможности некоего обнов-
ления для всего человечества ("Аврелия"). Крайний эзотеризм ужи-
вается здесь с романтическим мессианством.
В своем романтическом радикализме Нерваль был не одинок -
на той же линии, например, расположены творческие поиски Мори-
са де Герена, чья написанная лирической прозой поэма "Кентавр"
(1840) также движима идеей растворения индивидуальной души
в космосе. Французский романтизм в этих своих проявлениях непо-
средственно подготавливает многие существенные черты символист-
ской поэтики и вообще философии декаданса конца века.
Г. Флобер
(1821-1880)
Ж
.ворчество Постава Флобера - еще одна из вершин
французской литературы этого периода и одно из характерных вы-
ражений нового этапа развития реализма во Франции. Но это имен-
но новый этап - по сравнению с 30-40-ми годами. Различия тут
очень велики.
От реалистов предыдущего периода Флобер не только полностью
унаследовал критическое отношение к буржуазной современности,
но и резко усилил его. Многие французские исследователи даже от-
мечали, что ненависть Флобера к буржуазности носит характер ду-
шевного заболевания, некой идеи фикс: буржуазофобии.
Тут надо, однако, учитывать вот что. Флобер наблюдал буржуаз-
ное общество в период его окончательного оформления, что для него
стало синонимом укоренившейся пошлости. В русской литературе
аналогичный склад мысли особенно ярко проявился у Чехова. Если
у Бальзака в образах буржуазных дельцов еще были черты какого-то
устрашающего величия, почти демонизма (Гобсек, Гранде), то персо-
нажи Флобера, напротив, демонстративно обыденны: таковы Оме,
Дамбрез. Это рутина пошлости, лишенная какого бы то ни было ве-
личия, но в то же время - всесильная, засасывающая все и вся.
Реалисты до Флобера еще могли, как кажется, воодушевляться
сильными характерами (Жюльен Сорель), изображать героев, мечта-
ющих служить благу общества (Давид Сешар, Д'Лртез). Для них
проблема "утраченных иллюзий" - это резкий конфликт между воз-
вышенным стремлением и конформистской средой, которая пли гасит
это стремление, ломает человека, либо уничтожает его физически.
У Флобера нет таких героев. Он скорее продолжает то, что де-
лал Стендаль в "Люсьепе Левене" и "Федере" и что начал Мерпме
в новеллах па современную тему, - но п тут резко усиливает акцеи-
г. Ф.кюгр 243
ты. Мало того, что «го героям свойственна та же безвольность,
но и его взгляд на современного человека в целом предельно песси-
мистичен. Поэтому традиционная коллизия несоответствия идеалов
и действительности приобретает у Флобера новые трагические аспе-
кты. Будучи убежденным в том, что для современного общества
вообще неприменимо понятие "идеал", Флобер лихорадочно ищет
альтернативу и обращается к древней истории, к христианской и ан-
тичной мифологии - так появляются его произведения на историче-
ские темы: "Саламбо", "Легенда о Юлиане Странноприимце",
"Иродиада".
На первый взгляд трудно представить себе, что "Саламбо", "Ма-
дам Бовари", "Простое сердце" и "Иродиада" написаны одним и тем
же автором. Даже разница в стиле кричащая. В "Саламбо" - рос-
кошное буйство красок и деталей, стиль пряный и изощренный, опи-
сательный, также и в "Иродиаде", где Флобер перелагает библей-
ские предания; а в "Мадам Бовари", "Воспитании чувств", "Про-
стом сердце" налицо сухая ироничность, скупость в деталях, строгая
экономность в стилистических средствах. Между тем писались они
порой одновременно! Редко у кого из французских писателей XIX в.
мы увидим такую очевидную двуликость (кроме Стендаля, пожа-
луй). Здесь не только разная стилистика, но и совершенно разная те-
матика и тональность. "Мадам Бовари" - беспощадное исследование
нравов французской провинции, скрупулезный анализ подчеркнуто
мелких, пошлых чувств, строгая точность выражения, ничего лиш-
него. В "Саламбо", напротив, дана широкая историческая панорама,
сильные и жестокие фигуры древности, социальные столкновения,
обилие описаний, деталей, и нередко за ними даже теряются фигу-
ры самих героев романа. "Простое сердце" - это в сущности история
обычной женщины, служанки. А "Иродиада" - жестокая и яркая ле-
генда о том, как дочь Иродпады Саломея за свой божественный та-
нец потребовала голову христианского пророка Иоанна.
В обращении к подобным сюжетам психологически чувствуется
исходная тоска по всему яркому и сильному - тоска, характерная
для людей, особенно остро воспринимающих мелочность буржуазного
бытия. Это было характерно и для Стендаля, но он не только уходил
в хроники, но и искал такие личности в современности. А у Флобера
это противоречие тем разительней, что в своих произведениях о сов-
ременности он как будто издевался над всеми проявлениями роман-
тизма, был подчеркнуто приземлен. Поэтому так неожиданны эти
флоберовские скачки.
Здесь и таится ключ к разгадке этой флоберовской тайны. Фло-
бер был, как и Бодлер, неисправимым романтиком в душе и боялся
обнаружить это. И это понятно; чем безыдеальней реальность, тем
опаснее оказаться в ней идеалистом, т. е. всеобщим посмешищем.
Отсюда и флоберовские издевки над идеалами (Эмма, Фредерик).
Он смеется не над идеалами и романтикой вообще, а над тем понятп-
244
м
ем идеала и романтизма, которые прочно утверждались в буржуазном
обществе (отсюда и его экскурсы в историю и мифологию).
Но надо иметь в виду, что он и там не находит идеалов, образцов
для подражания. Не случайно он обращался к жестоким кровавым
сюжетам. Он не верит в то, что в прошлом существовала красота че-
ловеческой души, но там была по крайней мере сила - хоть какое-то
разнообразие по сравнению с буржуазной мелочностью и пошлостью.
Поэтому Флобер даже в таких романах, как "Саламбо", в пове-
сти "Иродиада" всегда стремится к основательности ученого: в этом
отношении примечательно его сходство с Мериме. Он как бы прики-
дывался: я не романист, я всего лишь археолог, меня интересуют от-
нюдь не сильные натуры, а точное воссоздание эпохи. Он прикиды-
вается, что это всего лишь игра ума и упражнение в фантазии,
а не крик души, тоскующей по сильным и цельным характерам.
"Во мне с литературной точки зрения живут два различных челове-
ка, - писал он 10 января 1825 г., - один влюблен в горластое, ли-
ризм, широкий орлиный полет, звучность фразы и вершины идей.
Другой рыщет в поисках правдивого, любит отмечать мельчайший
факт с такой же силой, как и значительный, и хотел бы заставить
вас почувствовать почти материально то, что он воспроизводит.
Он-то и любит смех, животное начало в человеке".
Из всего этого вытекает и флоберовское отношение к форме, сти-
лю. Не раз и до конца своей жизни Флобер говорил о том, что для
него главное - стиль, форма. Свое требование совершенства формы
Флобер нередко облекал в слова, которые как будто делают его при-
верженцем "чистого искусства".
"Предоставим империи идти своим путем, закроем двери, подни-
мемся повыше в нашу башню из слоновой кости, на последнюю сту-
пеньку, как можно ближе к небу. Там порой холодновато, не прав-
да ли? Ну и что же, зато видишь ясное сияние звезд и не слышишь
больше болванов... В эпоху, когда разрушены все связи между
людьми, когда общество - это только всеобъемлющий, более пли ме-
нее организованный бандитизм... нужно замкнуться в эгоизме, как
это делают все (только более красиво) и жить в своей берлоге".
Но здесь особенно отчетливо обнаруживается и вся заостренная
полемичность, антибуржуазность принципа "чистого искусства" -
это именно нежелание идти в ногу с "империей".
Есть у Флобера и высказывания иного рода: "Между толпой
и нами - никакой связи. Тем хуже для толпы, тем хуже для пас осо-
бенно". Это значит не больше не меньше как то, что художник стра-
дает от того, что отсутствует связь с толпой, что ему было бы луч-
ше, если бы эта связь существовала.
Таким образом, перед нами здесь то же противоречие, которое
мы .обнаружили и наблюдали у других приверженцев "чистого ис-
кусства". Замыкаясь в "башню из слоновой кости", чтобы отгоро-
диться там от буржуазной прозы, они в глубине души тосковали
246
по идеалу человечного, даже гражданского искусства - просто они
были слишком глубоко убеждены, что это неосуществимо. Поэтому
так пессимистичен вывод Флобера. Поэтому всю свою творческую
энергию Флобер направлял как будто исключительно на оттачивание
форм своих произведении.
Флобер, по словам Мопассана, был убежден в том, что для каж-
дого понятия существует только одно правильное слово, одно обо-
значение - это его любимая идея о том, что есть только один способ
выразить какую-либо мысль. Вот над поисками этого единственного
слова и бился Флобер ("Нет на свете мук, сильнее муки слова").
"Если точно знаешь, что ты хочешь сказать, то скажешь это хоро-
шо", - писал Флобер.
Но, повторяю, форма была для него не целью, а средством, сред-
ством поисков истины. Там, где нет формы, там нет истины. Искать
одну - значит искать другую. Они так же нераздельны, как субстан-
ция и цвет, вот почему искусство - это сама истина.
Отсюда и обилие вариантов одного и того же сюжета (годами
у него выкристаллизовывался сюжет) - "Воспитание чувств" суще-
ствует в двух редакциях, "Искушение Святого Антония" - в трех.
Другое положение эстетики Флобера - исключение художника
из изображаемого (художник должен быть "как бог" - его присутст-
вие должно ощущаться везде, но нигде не обнаруживаться). "Я ду-
маю, - писал он Жорж Санд, - что романист не имеет права выска-
зываться о чем бы то ни было. Разве господь бог когда-нибудь вы-
сказывал свое мнение? Вот почему, хоть меня и душит многое, что
я хотел бы изрыгнуть, я это проглатываю. И в самом деле, зачем го-
ворить об этом? Первый встречный интереснее господина Флобера,
потому что в нем более общего и, следовательно, он более типичен".
Поэтому он стремится вжиться в образ, раствориться в нем
("Мадам Бовари - это я"). А поскольку он изображал в произведе-
ниях о современности чаще всего буржуазных пошляков, он мучил-
ся тем, что он должен мыслить так же, как они, как бы самому
превращаться в них.
Однако подлинные эстетические триумфы поджидали Флобера как
раз на этом пути. В 1857 г., после путешествия на Восток, он пишет
свой шедевр - "Мадам Бовари" - "роман о жизни цвета плесени", как
он сам говорил. Беседу об этой книге естественнее всего будет начать
с главной героини, чьим именем назван роман - с Эммы Бовари.
Создавая этот образ, Флобер как бы подхватывал столь важную
для романтической литературы тему женского "возмущенного созна-
ния", олицетворявшуюся для французских читателей прежде всего
в Жорж Санд и ее героинях. Инерция подобного восприятия захва-
тила и Бодлера, восхищавшегося "недосягаемой высотой" души
Эммы Бовари, ее "близостью к идеалу человечности". А в наше вре-
мя такой глубокий исследователь классической французской литера-
туры, как Б.Г. Репзов, еще больше усилил акценты и говорил о "фа-
Г. Флобер 247
устовском беспокойстве" флоберовской героини, обнаруживал "пу-
ти, ведущие от Прометея и Каина к Эмме Бовари".
Однако это несомненное преувеличение. Отчетливо выраженный
пафос Флобера скорее как раз в обратном: развенчать претензии Эм-
мы на некую особую, отличную от фона, возвышенность души. Иро-
ния, с которой Флобер, открывая эту тему, описывает в главе VI
круг чтения Эммы в детстве и юности, поистине убийственна, и она
затем сопровождает всю историю Эммы - историю того, как эта жен-
щина пыталась воплотить в жизнь идеал, сформированный в жен-
ском пансионе. Идеал этот - "красивая жизнь", не прекрасная,
а именно "красивая"; этот идеал нисколько не выходит за рамки той
самой мещанской пошлости, которую так презирает Эмма в своем ок-
ружении. Флобер не только изображает бунтующую натуру - он по-
следовательно разрушает этот стереотип, вплоть до кульминационно-
го момента "крушения иллюзий". Сцена смерти женщины, запутав-
шейся в любовных обманах и денежных долгах, демонстративно изо-
бражается во всей ее физической неприглядности; она способна вы-
звать чувство жалости, но уж никак не катарсиса.
Но поостережемся ставить на этом точку. Флобер карает в Эмме
не ее страждущую душу, а ее извращенное сознание. Разночтения
образа возникали не на пустом месте. Автор приводит немало обсто-
ятельств, смягчающих Эммину "вину". Самое из них очевидное, ко-
нечно, - пошлая среда. Но, думается, это обстоятельство не следует
абсолютизировать. В конце концов, если Эмме не нравятся Тост
и Ионвиль, то нравятся Вобьессар и Руан, находящиеся не на дру-
гой планете, а в нескольких лье от тех же Тоста и Ионвиля.
Важнее, однако, другое. Выше говорилось о мещанском характере
самого идеала Эммы. Но идеал этот создавался не только на второ-
сортных сентиментальных романах, романсах "об ангелочках с золо-
тыми крылышками"; Эмма с упоением читала и Скотта, и Ламартина,
и Гюго. Она восхищалась, таким образом, и романтизмом в самом вы-
соком смысле слова! И это он, романтизм во всех его ипостасях, пред-
стает в романе Флобера источником извращенного, неадекватного со-
знания. В русле именно этой традиции Эмма набрела и на "героиче-
ские" мысли, привыкла обожать всех женщин, "прославившихся сво-
ими подвигами или несчастиями". Перед нами - еще один вариант от-
рицания романтической концепции героя, а не прославления его про-
теста. Заостряя проблему, можно сказать: среда в "Госпоже Бовари"
потому и торжествует, что протест был романтичен.
Но в этом же романе намечается и перелом, развитие более обна-
деживающее.
Близость к "идеалу человечности", как мы помним, обнаружил
в Эмме Бовари и Бодлер. Но он прочел роман именно как еще один
роман о бунте героя против пошлой среды. Позже Брюнетьер, в це-
лом трактуя образ Эммы в том же ключе, сделал несколько беглых,
но восторженных замечаний о психологическом мастерстве Флобера
248
в обрисовке этой героини. Критик ощутил то, что сделало образ
Эммы столь загадочным, неоднозначным: как бы ни воспринимать
сознание Эммы - справедливо бунтующим или искаженным, - оно
в любом случае пульсирует в живой душе, и оттого эта душа в каж-
дую минуту открыта и нашей насмешке, и нашему состраданию
одновременно.
Но все же, думается, подлинный прорыв Флобера к "сокровищу
человечности" совершается не здесь - вернее, не только здесь.
Уже было замечено критикой, что роман Флобера - по меньшей
мере с формальной точки зрения - построен вовсе не как жизнеопи-
сание Эммы Бовари, а как история Шарля. В самом деле, роман на-
чинается с описания школьных лет Шарля, его юности, первого бра-
ка, затем супружества с Эммой и кончается его смертью. С выдви-
жением Эммы на передний план происходит нечто похожее на ту
"подмену" героя, которую совершил Стендаль в зачине "Пармской
обители". Только в случае с Флобером это имело для "начального"
героя роковые последствия - и в его жизненной судьбе, и в судьбе
его как литературного персонажа.
Шарль обычно воспринимается как воплощение буржуазной буд-
ничности и пошлости, и Эмма, с ее тягой к возвышенному, будто бы
так же вправе бунтовать против него, как бунтовала Индиана в од-
ноименном романе Жорж Санд против черствости Дельмара. Одна-
ко внимательное чтение романа убеждает, что Флобер и здесь разру-
шает клише.
Шарль, конечно, будничен, обыкновенен, негероичен. Но в пер-
вых главах, где он еще "главный герой", ничто не дает оснований
придавать его обыденности уничижительный в моральном отноше-
нии смысл. Автор тщательно обставляет "простоту" Шарля отсылка-
ми к той атмосфере, в которой он рос и воспитывался, и за внешней
неловкостью просматривается органическая чуткость и доброта "про-
стой души". Есть, например, едва уловимая, но по-флоберовски
пронзительная поэзия в описаниях выездов Шарля-врача по ночным
вызовам, его поездок в Берто: Шарль свой посреди этой бедной при-
роды, "рощиц на серой равнине", "птиц на голых ветвях яблонь",
ферм с их лошадьми, навозными кучами, "веселым гоготаньем гуси-
ного стада". Здесь он в своей стихии, он дома. Еще в студенческие
годы в Руане он по вечерам, садясь у окна, "раздувал ноздри, слов-
но вдыхая милые деревенские запахи, которые до него не долетали".
Резко меняется статус героя лишь с того момента, как Эмма ста-
новится его женой. И это происходит потому, что теперь мы видим
его почти только со стороны, только глазами Эммы. Флобер ведет
тончайшую игру с ракурсами восприятия.
Тут одно из его эпохальных художественных открытий, требую-
щее от читателя совершенно необычного восприятия текста. До сих
пор читатель был приучен воспринимать то, что пишется "не прямой
речью", не в кавычках - как речь самого автора. Флобер, "устраняя"
Г. Флобер 249
автора - себя - из повествования, дает без кавычек мнение своего ге-
роя, в данном случае Эммы. Причем "трюк" в том, что нет никако-
го вербального сигнала, что так думает именно Эмма. Мы, читатели,
должны напрячься и понять это из общей ситуации. После VI главы
(круг чтения Эммы, ее "сантиментальное воспитание", база ее вос-
приятия) сразу идет знаменитая, вечно цитируемая хлесткая фраза:
"Разговоры Шарля были плоски, как уличная панель, общие места
вереницей тянулись в них в обычных своих нарядах". Б.Г. Реизов,
однако, справедливо указал на то, что это, строго говоря, мнение
Эммы. И если мерить достоинства Шарля этой меркой, то тогда нам
надо, последовательности ради, вменять ему в вину и перечисляемые
далее, в том же абзаце, прегрешения: "Он не умел ни плавать,
ни фехтовать, ни стрелять из пистолета..." Другими словами, нам
придется отождествить свое восприятие с восприятием Эммы.
Вопрос о том, что Шарль умел делать и чего не умел, занимает,
кстати, и самого Флобера, независимо от его героини. Например,
в сцене первого знакомства четы Бовари с Леоном и Омэ Шарль в ос-
новном молчит, "самораскрываются" тут трое остальных: Омэ в само-
довольстве своей "просвещенности", Эмма и Леон в своих "романтиче-
ских" томлениях. Шарлю за этими высотами не угнаться. Эмма гово-
рит, что ее всегда "радуют переезды", Леон вздыхает: "Какая скука
быть вечно пригвожденным к одному и тому же месту!" И тут нако-
нец вставляет одну из немногих своих реплик Шарль: "Если бы вам
приходилось, как мне, не слезать с лошади..." Таких штрихов нема-
ло рассыпано в романе. Шарль умеет лечить людей, умеет быть до-
брым и тактичным, искренне любит жену и дочь (а Эмма, между
прочим, дочь ненавидит!). Во многом образ Шарля типологически
близок такому чеховскому персонажу, как Дымов из "Попрыгуньи".
Есть, правда, широко обыгрываемая сцена в романе, как будто
бы неоспоримо доказывающая "бездарность" Шарля-врача, - сцена
неудачной операции на ноге Ипполита. Однако следует учесть и тут,
что на эту "дурацкую", по характеристике Бодлера, операцию Шар-
ля уговаривают Омэ и Эмма, каждый из своего тщеславия, и Шарль
после долгих колебаний решается на нее - в угоду Эмме.
Этот, конечно, самый обыкновенный, заурядный, но с естест-
венными душевными реакциями человек меркнет, становится смеш-
ным и жалким под неумолимым направленным на него лучом - пре-
зрительным взглядом Эммы. И только в последних сценах, после
смерти Эммы, когда выключается этот взгляд, Шарль предстает
наконец таким, каков он есть, - исполненным душевного величия.
Есть в этих последних главах только один диссонанс. Флобер
рассказывает, как Шарль, в угоду памяти Эммы, "подчинился всем
ее вкусам": стал носить белые галстуки, душил усы, подписывал ве-
кселя. Шарль здесь впервые в своем поведении переходит на уро-
вень Эммы - и сразу за этим следует первое прямое обвинение авто-
ра в адрес героини: "Она развращала его из могилы". Жестокие
250
слова, и они тем более весомы, что Флобер дерзает здесь - разя
умершую! - преступить один из древнейших законов морали:
"de mortuis nihil nisi bene"1. И преступает он его ради Шарля.
Огромная вина анализируемого Флобером извращенного созна-
ния не только в том, что оно губит жизнь самой Эммы, но и в том,
что оно делает человека глухим к "сокровищу человечности", к че-
ловечности в ее повседневном, неброском, негероическом обличий.
Образ Шарля предвосхищает в творчестве Флобера и "простую ду-
шу" Фелиснте, и просветленную душу Юлиана Странноприимца.
Правда, Флобер еще нерешительно следует этой логике. Для это-
го счеты его с романтизмом слишком кровны и сложны и ненависть
его к буржуазной обыденности слишком горяча. Обыкновенная, "че-
ловеческая" (и, несомненно, истинно страждущая!) душа Эммы
с трудом, лишь эпизодически пробивается сквозь клеймо извращен-
ного сознания, повинность романтизма в котором, конечно же, субъ-
ективно преувеличена писателем, остро переживающим утрату соб-
ственной веры в романтический идеал ("Госпожа Бовари - это я"!).
С другой стороны, и человечность Шарля не может свободно излить-
ся, ибо тут тоже стена - флоберовская почти паническая боязнь бур-
жуазной серости и пошлости. Флобер чувствует, что "первый
встречный" необычайно интересен, но он сразу и заостряет положе-
ние дел: "интереснее господина Флобера"! - и вот этот фантом его
страшит. Перед ним-то он и надевает пресловутую маску "безлично-
сти", будто примиряется с приговором.
В силу всего этого флоберовский психологизм в изображении
"первых встречных" специфически скуп и сух, всегда будто чем-то
осложнен, заторможен. Это "что-то" - извне приносимая схема, на-
кладываемая на "рисунок души" героя: так Эмма движется под гне-
том флоберовской "мести" романтическим обольщениям, так Шарль
движется под гнетом уничтожающего взгляда Эммы. Во флоберов-
ском герое есть всегда "не свое" - "чужие внушения и влияния".
Но и в этих рамках Флобер совершил принципиальный перелом
в традиции литературного психологизма: он сделал художественной
проблемой неоднозначность обыкновенного, "негероического" хара-
ктера. Мы редко где видим прямо, но постоянно и очень остро ощу-
щаем, что за авторским рисунком роли таятся глубины, исключаю-
щие прикрепление персонажа к твердому амплуа: прелюбодейки или
бунтарки, страдальца или "рогоносца в потенции". Как и Стендаль,
Флобер разрушает характерологические модели романтизма. Но ре-
зультатом оказываются не только руины, пустота, равнозначность
фону; Флобер прозревает "интересность" тех "негероев", к которым
все больше угасал психологический интерес Стендаля.
Вот такими сложными с самого начала были отношения Флобе-
ра с романтизмом. Флоберовское "раздвоение" в этом плане ПОИСТИ-
^О мсртных ничего, кроме хорошего (лат.).
Г. Флобер 251 .
не трагично; воюя с романтизмом, он, что называется, "резал по жи-
вому". Когда Золя позже заметил Флоберу: "Говорите, что хотите,
а тем не менее Вы нанесли первый удар по романтизму", - Флобер,
по воспоминаниям Золя, буквально закричал, что «"Мадам Бова-
ри" - черт знает что такое, что он плевать на нее хотел, что все при-
стают к нему с этой книжкой, которую он отдал бы за одну фразу
Шатобриана или Гюго». В этом взрыве - опять весь Флобер - ро-
мантик в душе, страдающий оттого, что романтизм как искусство вы-
сокого идеала, по его мнению, себя не оправдал.
Страдая от вульгарности сюжетов из современной жизни, он пра-
ктически параллельно с работой над "Мадам Бовари" замышляет
другой роман - "Саламбо" (1862). В одном из писем он признается,
что мечтает «писать большие и пышные вещи, битвы, осады, карти-
ны древнего и легендарного Востока... Ах! Как не терпится мне от-
делаться от "Бовари", чтобы броситься без оглядки в работу над
привольным и чистым сюжетом. У меня руки зудят взяться за эпо-
пею. Мне хотелось бы писать большие живописные истории с куль-
минацией. Мне необходимо уйти от современности, в которую слиш-
ком долго погружалось мое перо, к тому же мне в равной мере на-
доело ее изображать и противно на нее смотреть. Красота несовмес-
тима с современной жизнью».
Именно в этом противопоставлении смысл "Саламбо". В книге
можно найти точные зарисовки социальных конфликтов, глубокие
психологические наблюдения, но не в них суть - Флобер как добро-
совестный художник не мог не упомянуть о том, что действительно
было. Но, повторяю, в основе романа - замысел не социальный,
а чисто эстетический - уйти от современности, противопоставить
ей древность. Там - цвет плесени, тут - цвет крови; там - серая про-
за, здесь - яркая экзотика. "Немногие отгадают, сколь печальным
нужно было быть, чтобы заняться восстановлением Карфагена.
Это - Фиваида, куда меня толкнуло отвращение к современной жиз-
ни", - констатирует он в письме 29-30 ноября 1859 г. Здесь необхо-
димо отметить и полемичность замысла - налицо не просто идеали-
зация экзотики, как у романтиков, а точное воспроизведение жесто-
кости варварской эпохи, как у Мериме.
В своем следующем крупном романе Флобер продолжает, как бы
по закону ритмического чередования тем, исследование современной
жизни. В 1869 г. выходит "Воспитание чувств" или, как я уже ого-
варивал, "Сантиментальное воспитание". Место действия - Па-
риж 40-50-х годов. Тема, как ее формулирует автор, - "история ду-
ховной жизни своего поколения". Сюжет во многом построен как
проверка излюбленных ситуаций Бальзака, Стендаля, Жорж Санд,
Мюссе. Но под пером Флобера каждая типовая ситуация разряжа-
ется не кульминацией или пристойной развязкой, а попросту ни-
чем - пустотой и скукой. Вот в начале повествования Фредерик Мо-
ро приезжает в Париж с традиционными мечтами. Но его как бы
втягивает в себя и парализует обыденная жизнь, мещанская повсе-
дневность. Ни единого взлета, ни единой сильной эмоции - он, так
сказать, послушно плывет по течению. Из эпизода в эпизод тянется
неосуществимое томление. Вокруг революция, социальные потрясе-
ния, а Фредерика ничего не может вывести из состояния апатии.
Любовь к мадам Арну - единственное чувство, как будто выводящее
его за рамки тривиального быта, но и оно выступает в романе под-
черкнуто платоническим, тягучим; оно как бы алиби для его душев-
ной апатии. А между тем он вроде бы против своей воли оказывает-
ся постепенно своим человеком среди преуспевающих пошляков
и карьеристов. Опять здесь резкое разоблачение всякой мечтатель-
ности, всякой романтической сентиментальности. (Вот еще одна при-
чина, почему это именно "сантиментальное воспитание", а не "Вос-
питание чувств", речь идет о результате, а не о процессе.) Образ
Фредерика Моро во многом как бы срисован со стендалевского
Люсьена: юношески экзальтированный герой, попав в водоворот сре-
ды, так же безвольно подчиняется ей, несмотря на пробуждающиеся
время от времени угрызения совести. Типологически сходно здесь
и общее изображение мира буржуазной политики: это опять мир буд-
ничный и скучный. Можно даже сказать, что Флобер - первый пи-
сатель во французской литературе, который не побоялся возвести
скуку в ранг стилистического средства (и опять мы тут можем вспом-
нить Чехова, у которого та же методика ясно обнаруживается в его
драматургии). Если скучен и пошл окружающий мир, то долг ху-
дожника - не приукрашать эту скуку.
И поэтому основная стилистическая доминанта романа - изобра-
жение потока бытия, размеренная, подчеркнутая тягучесть повество-
вания, обыденная лексика. Все в этом романе утрировано, меланхо-
лично и скучно. Даже революция - и та не воспринималась всерьез.
Флобер выводит типы ее участников и почти ни для кого из них
не находит доброго слова - или это либеральные болтуны, исполь-
зующие революцию для получения теплых местечек, или это фана-
тики революционного движения, люди, которым чужды всякие чело-
веческие движения души. Флобер рисует революцию как сугубо буд-
ничное явление, нисколько не нарушающее привычное течение быта.
Никакой патетики в духе Гюго. Для Флобера революция - выраже-
ние сугубо буржуазного, мещанского недовольства. Неудивительно,
что подобная настроенность целиком согласуется с пессимистически-
ми воззрениями Флобера на перспективы героического характера
в современном обществе, хотя ближе к финалу романа он и пытает-
ся несколько облагородить образ Фредерика (сцена на аукционе).
В целом в романе подтвердились основные черты художествен-
ной манеры Флобера. Прежде всего он выступает приверженцем
правды жизни, как Бальзак и как Стендаль: как бы неприглядна она
ни была, она требует к себе внимания художника, и его самые зна-
чительные романы, повести и рассказы посвящены изображению
Г. Флобер
именно повседневности - "Мадам Бовари", "Воспитание чувств",
"Простое сердце". Флобер постоянно чувствовал себя вынужденным
обращаться к действительности; реализм был для него подлинным
сознанием долга, зачастую противоположным влечению сердца.
Если Бальзак и Стендаль хотели быть реалистами, то Флобер не мог
не быть реалистом. И в этом, как мы видели, заключалась его глу-
бокая личная трагедия. Развивая бальзаковские реалистические
принципы, Флобер в то же время по духу своего творчества был,
пожалуй, более близок к Мериме. Вернее сказать, в произведениях
на исторические и философские темы Флобер примыкает к бальза-
ковской линии - допускает обильную описательность; но в произве-
дениях на современные темы Флоберу явно больше импонирует де-
ловая сухость Мериме, строгий отбор деталей и подчеркнутая аске-
тичность стиля.
Во всем своем творчестве Флобер показал себя приверженцем
строгой научности метода. Он был врагом всяких вымыслов и домы-
слов. Прежде чем написать очередной роман, Флобер проделывал
огромную подготовительную работу, перечитывал сотни томов по ин-
тересующему его вопросу - например, сцена отравления Эммы сви-
детельствует о самом близком знакомстве Флобера с чисто медицин-
скими проблемами, связанными с отравлением мышьяком; перед на-
писанием "Саламбо" он совершил путешествие на Восток и прошту-
дировал массу исторической и археологической литературы. Перед
"Воспитанием чувств" он изучал подлинную публицистику и журна-
листику конца 40-х годов; перед "Искушением Св. Антония" - кни-
ги по истории религии и философии.
В этом плане срлобер - прямой предшественник натурализма Зо-
ля и его теории экспериментального романа по способу работы с фа-
ктическим материалом; по стилю он - предшественник Мопассана;
по интересу к философской и религиозной проблематике и по иро-
ническому взгляду на вещи он - предшественник Франса. Вообще
Флобер - явление уникальное: его творчество - как бы огромное мо-
ре, из которого берут истоки такие разные явления французской ли-
тературы конца XIX в., как Мопассан, Золя, Анатоль Франс.
Ш. Бодлер
(1821-1867)
т.
.ворчество Шарля Бодлера занимает особое место
во французской поэзии этих лет. История прижизненной и посмертной
славы Бодлера меньше всего соответствует обычному представлению
о судьбе классиков, хотя давно уже никто не сомневается в том, что
Бодлер - классик, одна из "надвечных" вершин французской и евро-
пейской поэзии. Редко чье творчество так пристрастно воспринималось
и так односторонне истолковывалось при жизни поэта и даже в его по-
следующем поэтическом бессмертии. Буржуазные современники вос-
приняли этого поэта как некое исчадие ада, как монстра, смакующе-
го самое отвратительное, что есть в жизни, как человека, одержимо-
го болезненной манией разоблачения и саморазоблачения, оскорб-
лявшего все святыни, все моральные нормы. Этот вердикт был
оформлен даже юридически - в 1857 г. книге Бодлера "Цветы зла"
был вынесен судебный приговор, обвинявший поэта в "преступном
оскорблении общественной морали", в безнравственности, в "грубом
и оскорбляющем стыдливость реализме". Кстати, незадолго до этого
парижский суд вынес аналогичный судебный приговор "Мадам Бо-
вари" - раннему роману Флобера; там формулировка была еще ши-
ре: "Преданный суду роман достоин сурового порицания, ибо мис-
сией литературы в большей степени должно быть украшение и раз-
влечение духа посредством возвышения интеллекта и очищения нра-
вов, нежели воспроизведение отвратительности порока и картины
беспорядков, которые могут существовать в обществе... Такой реа-
лизм отрицает прекрасное и нравственное". (Заметим, кстати, что
в обоих случаях употребляется слово "реализм".)
Через какое-нибудь десятилетие после того, как умер полунищий,
оклеветанный молвой поэт, во Франции и Европе воцарился симво-
лизм, декаданс стал одновременно болезнью поколения и модой,
Ш. Бодлер 255
и имя Бодлера было высоко поднято на щит, стало одним из знамен
символизма. Но и новый век по-своему, может быть, чаще и непро-
извольно, искажал творчество и личность Бодлера, откровенно при-
спосабливая их к своим вкусам. В поэзии Бодлера тщательно оты-
скивались все возможности истолковывать его как предтечу симво-
лизма, как поэта неясных, темных смыслов и иносказаний. Очень
любопытно проследить, как, например, в переводах русских симво-
листов, даже в самых тщательных, непроизвольно обволакивались
мистическим туманом кристально ясные и четкие мысли и образы
Бодлера, как этот подлинно классический чеканный стиль расплы-
вался, как бы подергивался мистической дымкой и лишался своей
конкретности. Но и не только это - символистская традиция остави-
ла нам односторонний образ Бодлера как певца исключительно бо-
лезненных, темных состояний души, как всемирного мизантропа,
певца упадка и смерти. Теперь это уже не осуждалось; напротив, это
считалось теперь его главным достоинством.
Но тем не менее самому-то Бодлеру не везло - его и ругали пре-
жде и хвалили теперь как бы "не за то!" Он так и оставался непо-
нятым. А у нас в период господства вульгарного социологизма вдруг
снова всплыло обвинение Бодлера в безнравственности, вдруг снова
заговорили о том, что Бодлер воспевает, "эстетизирует" зло, и мы
таким образом перенеслись на сто лет назад и оказались солидарны-
ми с теми парижскими судебными инстанциями середины XIX в., ко-
торые тоже обвиняли Бодлера в "отрицании прекрасного и нравст-
венного", в "воспроизведении отвратительное™ порока". К счастью,
это время ушло. Бодлер был, можно сказать, раньше всех "реабили-
тирован" из всех оклеветанных у нас западных поэтов.
Во Франции же Бодлер был окончательно реабилитирован (и это
в самом прямом юридическом смысле слова!) еще раньше, в 1946 г.
Учредительное собрание Франции приняло особый закон, отменяю-
щий приговор 1857 г.
Чем же заслужил поэт такую горемычную судьбу? Ведь очевид-
но, как бы там ни было, а на совсем голом месте таких обвинений
не сфабрикуешь! В чем-то ведь был повод!
Попробуем начать наше знакомство с Бодлером с того, что отре-
шимся пока от всех фактов его биографии, его личной жизни и нач-
нем знакомиться только с его стихами. Попробуем воссоздать для се-
бя то впечатление, которое они произвели при своем появлении в пе-
чати. Возьмем, к примеру, стихотворение "Вступление":
Глупость, грех, беззаконным, законный разбой
Растлевают пас, точат нам душу и тело.
И, как нищие - шпон, мы нею жизнь отупело,
Угрызения сонсстн кормим собой.
Как разиратник терзает, нииом распален,
Старой шлюхи гроикшой помятые груди,
256
Так мы похоть тайком ублажаем - мы, .поди,
Наслажденье мы выжать хотим, как лимон.
Если яд и насилье, кинжал п поджог
Не расшили каину нашей участи грустной
И на neu спой узор не оставили гнусный, -
Значит, дух наш на это решиться не мог.
(Пер. В. Левина)
Можно представить себе, как шокировали эти стихи тогдашнюю
публику. Во французскую поэзию, в мир Ламартина, Виньи, Готье,
Гюго, в эти эмпиреи прекрасного и возвышенного - вдруг вши, шлю-
хи, развратники. И такие разоблачения: если кто-либо еще не отра-
влял, не насиловал, не убивал, то это не потому, что он хорош,
а просто потому, что труслив. Здесь совершенно иное отношение
к самой поэзии; прежде всего этот поэт, очевидно, ничего не боится,
для него не существует никаких границ, поэзию он явно понимает
не как царство прекрасного, а как нечто другое. Что это такое - дру-
гое? Тогдашний широкий читатель над этим не стал задумываться -
он был потрясен, оскорблен и только. И чем дальше - тем больше.
В одном из первых стихотворений сборника поэт мысленно обнажа-
ет своих современников - какой вызов, какая "аморальность" уже
в самой этой мысли! Опять напомню о процессе против "Мадам Бо-
вари" - там прокурор (тот же, что потом и у Бодлера!) говорил: "Ис-
кусство без правил - это уже не искусство. Оно подобно женщине, ко-
торая сбросила с себя все одежды". И здесь, в процессе Бодлера, про-
курор повторил свое обвинение: Бодлер стремится "изображать все,
срывая покровы со всего". И формально прокурор был прав! Бодлер
действительно "раздевает" своих современников - да еще что видит!
Ты II ужасе глядишь, исполнясь отвращенья,
На чудищ без одежд. О, мерзости предел!
О неприкрытое уродство голых тел!
Те скрючены, а те раздуты или плоски,
Горою животы, а груди словно доски...
А бледность этих жен, что искормлены развратом
И нысосаны им и стяжательстве проклятом,
А деиы, что, »питан наследственный порок,
Торопят зрелости н размножения срок.
(Пер. В. Левина)
Как же тут было не возмутиться публике? Дальше, что называет-
ся, и читать противно. А дальше, между прочим, идут такие строки:
II нее же н племени, уродливом телесно,
Есть красота у пас, что древним .неизвестна,
Есть лица, что хранят сердечных язи печать, -
Я красотой тоски готов ее назвать,
Но нто - наших муз ущербных откровенье.
Оно в болезненном н дряхлом поколенье
Не погасит восторг пред юисхтыо снятой,
258
Перед се теплом, нсссльсм, прямотой,
Пипами ясными, как нлага ключеиая, -
Прел пси, кто, псе спои богатстиа рамданая,
Как небо, нсем дарит, как птицы, как цисты,
Сноп аромат, и песнь, и прелесть чистоты.
(Пер. В. Левика)
Вот на это судьи Бодлера не захотели обратить внимание, в этом
противоречии они не захотели разобраться. И тут же приоткрывается
подспудный механизм того позорного судебного процесса: если для
обывателя эти стихи могли пройти незамеченными просто потому, что
он был слишком ошеломлен вступлением, если у него действительно
могла быть оскорблена нравственность - его нравственность, обыва-
тельская, та, что боится не самого порока, а его разглашения, - то для
официальных инстанций речь шла не столько о нравственности,
сколько о сохранении основ существующего порядка, которые Бодлер
осмелился "разоблачить" (опять-таки почти в буквальном смысле сло-
ва). Они почуяли тут ту опасность, которая всегда исходит от безог-
лядного, бескомпромиссного стремления к истине.
Но мы теперь уже откажемся от роли французского обывателя
середины прошлого века и вглядимся в эту странную, горестную
книгу непредубежденными глазами. Для начала поверим Бодлеру;
поверим тому, что он действительно испытывал восторг "пред юно-
стью святой, перед ее теплом, весельем, прямотой". И спросим себя:
зачем же он тогда не воспевал одну эту святую юность, зачем и по-
чему он так часто не мог оторвать глаз от "чудищ без одежд",
"от неприкрытого уродства голых тел"?
И для этого нового взгляда на Бодлера нам понадобится иной
ключ, нежели тот, который он дал сам в шокирующем обращении
к читателю во вступлении: "Лицемерный читатель - мой брат - мой
двойник!" (Пер. В. Левика). В цикле "Цветы зла" есть стихотворе-
ние, которого в первом издании (1857 г.) не было. Судя по всему,
замысел его (и, может быть, черновые наброски) относятся еще к на-
чалу 40-х годов, к началу творчества поэта; но опубликовано оно бы-
ло впервые в 1859 г., и в новое издание "Цветов зла" (1861) Бодлер
включил его вторым, причем специально изъял для этого стихотво-
рение "Солнце". По внутреннему замыслу эти два стихотворения
родственны, но в стихотворении "Солнце" главная мысль выражена
не столь ясно. Вообще "Цветы зла" не просто сборник стихов, а, как
мы увидим, очень строго продуманная фуга; это в сущности, одна
поэма со строгим ведением сквозных мыслей. И вот Бодлер предпри-
нял эту замену, конечно, не случайно. Видимо, ему была дорога
мысль, которую он хотел поставить на одно из первых мест. И, на-
верное, горький осадок от судебного приговора сыграл в этом реше-
нии не последнюю роль - может быть, поэт захотел с самого начала
объясниться как можно более недвусмысленно, пояснить свою точку
зрения, свое поэтическое кредо. Это стихотворение - одно из самых
известных и самых прекрасных у Бодлера:
///. Бодлер 259
Временами хандра наедает матросон,
И они ради праздной .чабаны тогда
Ломят птиц океана, больших альбатросои,
Проножающих н бурной дороге суда.
Грубо кинут на палубу, жертпа насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опусти и исполинские белые крылья,
Он, как несла, их тяжко нлачит за собой.
Лишь недаино прекрасный, нзшшаишийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему п клюй табачищем ноиючим,
Тот, глумясь, коныляст нприпрыжку за ним.
Так, Поэт, ты паришь иод грозой, и урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить но земле среди сипста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.
(Пер. В. Левина)
Это стихотворение так и называется - "Альбатрос". Символич-
ность его не скрывается поэтом и прямо декларируется в последней
строфе. Именно таким альбатросом, опозоренным владыкой голубых
высот чувствовал себя поэт, обреченный "ходить по земле среди сви-
ста и брани". А главное - это исполинские крылья, которые меша-
ют, и не просто мешают, а делают смешным, неуклюжим.
Я думаю, здесь Бодлер трагическим эхом откликается на образ
другого поэта - Э.А. По, которого Бодлер в 50-е годы переводил
и открыл его для европейской поэзии. Интерес Бодлера к По совер-
шенно понятен: их роднила трагичность мироощущения, жестокий
пессимизм, постоянный болезненный интерес к теме умирания, смер-
ти. Сейчас я имел в виду строки из "Улялюм": "Зарыдала - а кры-
лья за нею волочились по грязным камням" (Пер. Н. Чуковского).
Видимо, когда Бодлер по упоминавшимся причинам вернулся
к образу альбатроса, к раннему наброску, концовку его он уже об-
работал под влиянием более поздних впечатлений. Изначально поэт
использовал традиционный прием - аллегорию "поэт-птица". Это
понятно, это лежит на поверхности. Но бодлеровский "поворот вин-
та" в другом: он не просто противопоставляет это прекрасное паря-
щее существо земному миру, но еще и показывает, что сама, так ска-
зать, природная организация альбатроса является причиной его
страданий в земном пространстве: именно его огромные царственные
крылья - его гордость - делают его на палубе нелепым и смешным.
Нелегко, наверное, отыскать в мировой поэзии более пронзительный
образ ранимости и незащищенности поэтической души, обреченности
поэта на страдания именно потому, что он непохож на других, что
он тоньше организован.
Сама по себе антитеза действительности и поэзии - вечная тема
искусства, но в бодлеровскую эпоху эта тема особенно актуализиро-
260
валась. Современники Бодлера - парнасцы Теофиль Готье, Теодор
де Банвпль, Жозе Мари Эредиа - вообще отворачивались от пошлой
"палубы", от своего "века подлости", как говорил Готье. В своем
творчестве они создавали особый прекрасный мир современных ху-
дожественных форм. Бодлер, как и Флобер, хотел бы отвернуться,
да не может - крылья-то все-таки никуда не денешь; как с его аль-
батросом - "тот дымит ему в клюв табачищем вонючим, // тот, глу-
мясь, ковыляет вприпрыжку за ним".
Свой единственный поэтический сборник поэт назвал "Цветы
зла". Уже в самом заголовке обращает на себя внимание это резкое
столкновение идеала и действительности, глубоких высот и загажен-
ной палубы. И заголовок у Бодлера, конечно же, полемичен. Эта по-
лемичность подчеркивается и в посвящении: "непогрешимому поэту,
всесильному чародею французской литературы, моему дорогому
и уважаемому учителю и другу Т. Готье в знак полного преклонения
посвящаю эти болезненные цветы". Если парнасцы совершенство
и законченность формы противопоставляли бесформенности и хао-
тичности современной действительности, то Бодлеру действитель-
ность представлялась не просто бесформенной и хаотичной, а уже
буквально разлагающейся, отравленной трупным гниением. Если ро-
мантики противопоставляли этой действительности чистую и беско-
рыстную душу поэта-энтузиаста, то у самого Бодлера его поэтиче-
ское "я" полно противоречий. Он с ужасом вглядывается в самого
себя, потому что постоянно боится, что и его душа - слепок этого
гниющего мира. И он с беспощадной, жестокой откровенностью об-
нажает собственную душу, если только заподозрит ее в том, что она
поддалась растлевающему влиянию современности. Здесь, пожалуй,
отчетливей всего обнаруживается печальное новаторство Бодлера -
он один из первых европейских поэтов, беспощадно бичующий
не только общество, но и самого себя. Романтики, если и обличали
что в самих себе, то пресыщенность, опустошенность, да и то втай-
не понемножку любовались ею. Мюссе, например, в этом смысле,
конечно, - переходная ступень к Бодлеру - в "Исповеди сына века"
он говорит много горьких слов о своем герое, но и явно показывает,
что это все - "болезнь века", инфекция, а душа-то его в сущности
чиста. А в лирике Мюссе и подавно "идеален," он молитвенно пре-
клоняет колени перед прежней страстью.
Вот эта жестокая откровенность часто отпугивала от Бодлера
иногда даже тех людей, которые признавали в нем великого поэта.
А уж о современных ему читателях и говорить нечего. Конечно, для
того времени бодлеровская неистовость была необычным и шокиру-
ющим явлением. Это уже не красный фрак Готье! Но за этим ярост-
ным бичеванием и самобичеванием наиболее прозорливые современ-
ники и потомки все-таки рассмотрели легко ранимую, в сущности
беззащитную, душу (вспомните опять альбатроса), душу, которая
больше, чем кто-либо другой, поначалу верила в идеалы и с тем
Ш. Бодлер 261
более острой болью воспринимала несоответствие действительности
этим идеалам. Вот тогда он яростно набрасывался на мир, издеваясь
над ним, топча его, и в этом порыве ярости, казалось, иногда готов
был втоптать в грязь сами эти идеалы.
Здесь необходимо сказать несколько слов о биографии Бодлера.
Он родился 9 апреля 1821 г. в Париже. Его "формальное" образо-
вание было в высшей степени неорганизованным и сумбурным:
он начинал учиться в нескольких гимназиях, одни покидал сам, из
других его исключали за недисциплинированность. Но это не значи-
ло, что он был человеком необразованным, сам для себя он глубоко
изучал и поэзию, и искусство, и философию. Будучи натурой край-
не неуравновешенной и нервной, Бодлер с самой ранней юности вы-
делялся из размеренного буржуазного быта, который, казалось бы,
был определен ему его происхождением. С 1841 г. двадцатилетний
Бодлер ведет в Париже богемную жизнь свободного художника.
В числе его друзей - Бальзак и Готье, Теодор де Банвпль, молодой
поэт Жерар де Нерваль - впоследствии ведущие поэты Парнасской
школы. Обеспокоенные его беспорядочным образом жизни, мать
н отчим отправляют Шарля в морское путешествие в колонии, где
он мог бы поступить на службу. Впоследствии впечатления от путе-
шествия найдут отражение в поэме "Плаванье", переведенной на
русский язык Мариной Цветаевой. Но через год поэт сбегает и воз-
вращается в Париж, чтобы вести жизнь свободного литератора. Че-
рез некоторое время мать и отчим добиваются опеки над ним - эта
унизительная опека длилась до самого конца жизни Бодлера.
Поэма "Плаванье" раскрывает перед нами как бы истоки бодле-
ровского гения, w торию его формирования. Внешне может пока-
заться, что эта поэма несома типично романтической "музой дальних
странствий", той самой музой, которая вела на корабль и в море
Чайльд Гарольда и всех его многочисленных потомков. Бодлер в на-
чале поэмы варьирует те же самые настроения: уйти от скуки повсе-
дневности в широкий мир плаванья, забыть там свою "нечеловече-
скую", как он говорит, тоску, забыть страсти, не приносящие удов-
летворения жаждущей душе. Но в то же время бодлеровская поэма -
это не описание виденных им экзотических стран, а нечто другое: это
вариант "сентиментального путешествия", где важны не внешние фа-
кты, а реакция поэта на них; Бодлер в сущности дает здесь один-
единственный пейзаж - развертывающийся пейзаж его смятенной
души. Это плаванье, так сказать, по горизонтам самого себя. Чуть
позже этот мотив подхватит Артюр Рембо в своем знаменитом стихо-
творении "Пьяный корабль".
В самом зачине поэмы протягивается нить от мятущейся души со-
временного поэта к древнему герою Одиссею, сумевшему преодолеть
чары волшебницы Цирцеи и сохранить верность своему призванию
мореплавателя. При этом эротический мотив, связанный с темой Цир-
цеи, соблазнительницы, выступает у Бодлера в предельно заостренной
262
форме - здесь пишет поэт, для которого любовная страсть никогда
не была ровным огнем, а была испепеляющим душу пламенем; это
страсть не возвышающая, как у зрелого Мюссе, а скорее принижаю-
щая поэта, уравнивающая его с низким миром чувственности, похоти:
В одни ненастный лень, и тоске печеловечьеи.
Не им неся тягот, пол скрежет якорей,
Мы исходим на корабль, и происходит встреча,
Безмерности мечты с предельностью морен.
Что пас толкает в путь? Тех - ненависть к отчизне,
Тех - скука очага, еще иных - и теин
Цпрценных ресниц оставивших полжизни -
Надежда отстоять останишеся дин.
В Цпрценных садах, дабы не стать скотами,
Плывут, плывут, плывут н оцепененье чувств,
Пока ожоги льдов и солнц отмесиых пламя
Не вытравят следов волшебинныиых уст.
(Пер. М. Цветаевой)
Однако плаванье, свидание с "предельностью морей", не прино-
сит поэту удовлетворения. Во-первых, как выясняется, поэт стре-
мился убежать не только и не столько от мук, сколько от самого се-
бя. Отбросив все внешние оковы, разделавшись, казалось бы,
со всем, что ему мешало, поэт все равно не смог освободиться от са-
мого тяжелого своего креста - от своей собственной души, отравлен-
ной горечью и неверием. Это проклятье, тяготеющее над душой по-
эта, заставляет его с особенно обостренным вниманием, с ненави-
стью, с отчаянием отмечать несовершенство мира. Он видит везде
"все ту же комедию греха":
Ее, рабу одра, с ребячливостью самки
Встающую пятой на лбы,
Его, раба рабы: что в хижине, что в замке
Наследственном: всегда - везде - раба рабы!
Мучителя в цветах и мученика в ранах,
Обжорство па крови н пляску на костях,
Безропотностью толп разнузданных тиранов,
Владык, несущих страх, рабов, метущих прах.
(Пер. М. Цветаевой)
И поэт приходит к горькому, безнадежному выводу:
Бесплодна и горька паука дальних странствии.
Сегодня, как вчера, до гробовой доски -
Все наше же лицо встречает нас в пространстве:
Оазис ужаса в песчаностн тоски.
(Пер. М. Цветаевой)
Ш. Бодлер 263
Из этого чувства постоянной обреченности повсюду встречать
только самого себя у поэта рождается неодолимая жажда смерти как
единственного избавления:
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Стань петрило!
Нам скучен этот край! О Смерть, скорее и путь!
Пусть небо и иода - куда черней чернила,
Знай - тысячами солнц сияет паша грудь!
Обманутым пловцам раскрой сноп глубины!
Мы жаждем, обозрев иод солнцем нее, что есть,
На дно твое пырнуть - Ад пли Рай - едино!
В неведомого глубь - чтоб новое обресть!
(Пер. М. Цветаевой)
В этих завершающих двух строках обращения к смерти в афори-
стической форме заключена главная формула мироощущения Бодле-
ра: это действительно поэт, не видевший никакой разницы между
адом и раем, но это был и поэт, готовый принять ад для того, чтобы
обресть новое, нравственное миросозерцание. Мизантропия была
для него слишком реальным искусом.
Бодлер говорил о себе "в этой связи: "Что касается меня,
то я слишком хорошо знаю, что у меня нет никаких данных для то-
го, чтобы быть человеколюбивым, как врач. Затерянный в этом под-
лом мире, подмятый толпой, я похож на изможденного человека,
взгляд которого обнаруживает позади себя, в глубине лет, только го-
речь и разочарование, впереди - только надвигающуюся грозу, ко-
торая ничего ему не принесет: ни опыта, ни страданий". Здесь Бод-
лер явно продолжает линию Шатобриана, Виньи, Мюссе - линию
пессимистической романтики.
После 1848 г. в жизни Бодлера наступает самая трагическая,
но и самая плодотворная пора. С одной стороны, безудержная пого-
ня за чувствами, удовольствиями и неспособность познать в них сча-
стье; неизлечимая болезнь, приступы безумия, попытки самоубийст-
ва, потребление наркотиков; с другой стороны, одна за другой
вспышки поэтических озарений, порождающие самые прекрасные
стихи из "Цветов зла"; статьи о Флобере, Готье, По, Сезанне, Дела-
круа. Постепенно Бодлер начинает все отчетливее формулировать
принципы собственной эстетики, весьма далекие от ортодоксальных:
"Красота исчезнет с земли, если люди, призванные выражать ее, со-
гласятся с учебниками маститых профессоров - тогда все типы, идеи
и чувства смешаются в одно, нечто настолько монотонное, безличное
и огромное, как сама скука или сама пустота". Эстетике профессо-
ров, пишущих учебники, Бодлер противопоставляет в полемической
форме эстетику "экстравагантной красоты". Прекрасное, по Бодле-
ру, всегда экстравагантно. Банальная красота - это уже не красота.
Необычность, неожиданность, изумление - главный и существенный
признак красоты. Последнее пожелание, конечно, верно, если вы-
честь из него необязательный прием шока! Но он-то и силен у Бод-
лера. В целом понимание прекрасного в эстетике Бодлера порази-
тельно современно. Взять хотя бы такую максиму: "Я нашел опреде-
ление прекрасного, как я его понимаю. Это что-то одновременно
полное печали и затаенного горения, что-то неуловимо неточное,
что оставляет простор для домысливания. Загадочность и горечь со-
жаления тоже принадлежат к главным признакам красоты".
В этом высказывании налицо уже все признаки символизма, ко-
торый маячил на горизонте французской литературы второй полови-
ны XIX в. - и его эмоциональная настроенность (печаль, затаенное
горение, загадочность, горечь сожаления), и его методология (неточ-
ность, домысливание).
Теперь, после того как мы оформили все "подходы" к лирике
Бодлера - и биографические, и психологические, - теперь нам бу-
дет уже легче рассматривать и его главную, единственную книгу -
"Цветы зла". Напомню, что она была опубликована в 1857 г., затем
в дополненной Бодлером второй редакции в 1861 г. и, наконец,
в подготовленном во многом самим Бодлером, но вышедшем уже че-
рез год после его смерти, третьем издании в 1868 г.
Я уже говорил, что с самого начала книга была задумана как еди-
ное целое. Не случайно в период подготовки книги мысль Бодлера
так часто обращалась к "Божественной комедии" Данте. Подобно
Бальзаку, Бодлер хотел дать новый современный вариант дантов-
ских кругов ада, и поначалу он, соответственно, и хотел назвать
свой сборник "Лимбы" (т. е. первые, верхние круги ада). Но, поми-
мо замысла, сама внутренняя структура уже первого издания книги
обнаруживает глубокое внутреннее единство и последовательность,
как бы сюжетность: перед нами живое движение авторской мысли,
являющееся нам в развитии тем, варьировании сквозных мотивов,
в явственных подхватах идей при переходе от одного стихотворения
к другому. И когда Бодлер в новых изданиях дополнял свою книгу,
он всегда прежде всего учитывал не только временную последова-
тельность возникновения стихотворений, но и внутреннюю логику
мыслей в сборнике, и там, где этого требовала именно "внутренняя"
логика, он жертвовал даже хронологическим принципом - мы это
уже видели на частном примере стихотворения "Альбатрос".
Вот в этом внутреннем движении мысли мы и будем с вами теперь
рассматривать книгу Бодлера - рассматривать как бы ее сюжет, рас-
сматривать ее как огромную поэму, в которой рассказывается
о странствиях поэтической души по кругам современного ада.
То есть - это та же модель нового, "сентиментального путешествия",
которое мы наблюдали на примере поэмы "Плаванье". Это книга
о самопознании поэта и о тяжелом пути поэтического познания мира.
Мы уже знаем, что первая часть сборника - "Сплин и идеал" -
несома одной главной мыслью: противопоставлением поэтической
мечты и действительности. Эта тема намечена и в общем заголовке
Ш. Бодлер 265
сборника - "Цветы зла", и в посвящении Теофилю Готье, где речь
идет о "болезненных цветах". Мы видели также, что собственно те-
матический аспект сборника (т. е. помимо таких общих знаков, как
заглавие и посвящение) открывается резким, предельно пессимисти-
ческим вступлением "К читателю". Бодлер здесь поистине фиксиру-
ет предел падения человека и человечества, самое дно ада. В огром-
ном стихотворении нет ни одного просвета, ни одного проблеска на-
дежды и веры. Это беспощадная картина, как бы негативный полюс,
от которого начинает Бодлер, самая крайняя на шкале бытийных
ценностей, так сказать, на отрицательном отрезке этой шкалы. По-
зади нее может быть только смерть, только абсолютное Ничто. Впе-
реди же - вот эта книга.
Нужно в полной мере осознать бесстрашный расчет Бодлера:
он с самого начала отказывается от какого-то бы ни было заигрыва-
ния с читателем - тот не должен обольщаться ни относительно ми-
ра, ни относительно самого себя, ни относительно поэта. Но зато уж
если из этих глубин все-таки раздается голос веры и надежды, то это
будет наивернейшим свидетельством того, что они - и вера, и наде-
жда - тем не менее бессмертны в душе человека. Если на этой поч-
ве зла, где как будто уже и ничто не может вырасти, все-таки вырас-
тут цветы, то уж их надо будет тем более ценить.
И вот первое стихотворение сборника, оно называется "Благосло-
вение", и вот его первые строки: "Лишь в мир тоскующий верхов-
ных сил веленьем // явился вдруг поэт..." (Пер. Эллиса). Пони-
маете, все начинается как в традиционном романе - с рождения ге-
роя! Родился поэт! Но и больше того, в оригинале между этим пер-
вым стихотворением и предшествующим вступлением к сборнику су-
ществует прямая связь: в конце вступления Бодлер говорит о самом
страшном чудище этого страшного мира - о Скуке (Ennui):
Оно иссь мир отдаст, смеясь, па разрушенье,
Оно поглотит мир одним споим .ченком.
(Пер. Эллиса)
Вспомним Флобера с его формулой "мир цвета плесени", с его кон-
цепцией скуки в "Воспитании чувств". И рассказывая в первом стихо-
творении о рождении поэта, Бодлер прямо подхватывает этот мотив -
поэт является именно в этот "мир Скуки" (еп се monde еппиуё).
Но это событие далеко не радостное. Он родился, оказывается,
на горе себе, потому что его проклинает мать, над ним глумится же-
на. Для матери он - "чудище смешное", "возмездье за позор",
"мерзкий плод, источенный чумой" (Пер. Эллиса). Но и мир в це-
лом тоже к нему глубоко враждебен:
Но от любни его шарахается каждый,
Но раздражает нсех его спокойный н.и ляд,
Всем любо слышать стон его сердечной жажды,
Испытывать на нем еще белиестпын яд.
(Пер. В. Левина)
Так в самом первом стихотворении из сплава чисто личных био-
графических впечатлений (образ проклинающей матери, глумящей-
ся жены) и их более общего осмысления рождается тема проклято-
сти поэта, его обреченности на страдания.
Но здесь же возникает и другая, уже более светлая тема и мело-
дия, как будто намечается противовес силам зла, возможность
их преодоления. Всеми отринутый, униженный и осмеянный, поэт
все-таки находит себе утешение в надежде на небесное блаженство:
Благодарю, господь! Ты мае об|хч< несчастьям,
Но н них дскарспю дал для очшцемья нам,
Чтоб сильных приобщил к небесным сладострастьям
Страдании нременных божестнеипый бальзам.
(Пер. В. Левика)
Так возникает у Бодлера еще одна тема - тема возвышающего, об-
лагораживающего страдания (тема, уже знакомая нам по лирике
Мюссе). "Я знаю: кто страдал, тот полон благородства", - повторяет
Бодлер вслед за Мюссе. Эта тема - одна из центральных мыслей
в этике зрелого Бодлера, мысль, определяющая и его эстетику. В од-
ной статье этого периода Бодлер писал: "Я убежден, что счастье -
очень банальное украшение для красоты, в то время как меланхолия -
ее благородная спутница; и это столь очевидно, что я не в состоянии
представить себе тип красоты, в котором не выражалась бы печаль".
И, наконец, здесь же, в первом стихотворении, возникает и тема
величия поэта, его божественной сущности и близости к Богу:
Но что ж поэт? Он тнерд. Он силою прозренья
- Уже сном нидит трон близ бога самого.
В нем, точно молнии, сиеркают озаренья,
Гдумлииый смех толпы скрыная от него...
Возьми нее лучшее, что создано Пальмирой,
Весь жемчуг собери, который н море скрыт.
Пз глубины земной хоть нее алмазы пырои,
Венец поэта нее сиянием затмит.
(Пер. В. Левика)
Эта мысль о величии поэта - одно из главных убеждений Бодле-
ра, как, впрочем, и всякого поэта. "Каждый нормальный человек мо-
жет прожить два дня без еды, но ни одного дня без поэзии", - на-
писал как-то Бодлер (заблуждение, в которое так охотно и часто
впадают поэты, но которое тем не менее так их украшает).
Итак, оказывается с самого начала, что в поэтической вселенной
Бодлера есть не только бездна ада, как могло показаться из вступления,
есть в ней и прямо противоположная, самая верхняя точка - вблизи
"Небесных сил и тронов", вблизи "святого очага, горящего в веках".
Уже теперь мы можем спросить: обязательно ли было считать
этого поэта певцом зла, исчадием ада? Не ясно ли с самого начала,
III. Бодлер 267
что ад здесь изображается с такой жестокой откровенностью только
во имя самого высокого идеала, только потому, что ад противоречит
божественному назначению поэта и Человека? Здесь перед нами уже
знакомая романтическая коллизия между мечтой и действительно-
стью, жизнью и поэзией - только воплощенная с предельной заост-
ренностью. Поистине "Из глубины воззвах".
После этого стихотворения Бодлер во втором издании ставит
"Альбатроса", после метафизической символики "Благословения" -
символика более реальная, не символ даже, а прозрачная аллегория:
образ страдающего, но и парящего поэта. Бодлер как бы подкрепляет
здесь конкретной иллюстрацией общую мысль "Благословения". Пом-
ните в "Альбатросе" - "Так, поэт, ты паришь под грозой, в урагане..."
Возникает тема взлета, вознесения над кругами ада - тоже зна-
комый нам по романтизму мотив! - и она подхватывается и развер-
тывается в широкую картину в третьем стихотворении. В первом
стихотворении "Благословение" поэт стоял на земле и только видел,
как в "небесах сияет звездный трон". В "Альбатросе" он уже срав-
нивается с парящим альбатросом, "царем голубой высоты". А теперь
посмотрите, куда и как движется поэтическая мысль в третьем сти-
хотворении - в "Воспарении":
Над свежестью долин, попитых дымкой серой,
Над океанами и над пенями гор,
В сияющую даль, и заоблачный простор,
Туда, в надзвездные таинственные сферы,
О трепетный мой дух, всегда стремишься ты...
(Пер. В. Шора)
Здесь идея воспарения буквально материализуется, стихотворе-
ние как бы поднимает и возносит нас самих вместе с поэтом туда, где
уже захватывает дух, ведь каждый новый образ здесь расположен
выше предыдущего. Поэтому стихотворение так и называется -
"Воспарение". И снова в конце стихотворения перед нами всплыва-
ет образ альбатроса:
Блажен, кто, отряхнув земли унылый прах,
Оставив мир скорбей коснеть в тумане мглистом,
Взмывает гордо ввысь, плывет в эфире чистом
На мощных, широко раскинутых крылах;
Блажен мечтающий: как жаворонков стая,
Вспорхнув, его мечты взлетают к небу вмиг;
Весь мир ему открыт, и внятен тот язык,
Которым говорят цветок и вещь немая.
(Пер. В. Шора)
Сразу после этого стихотворения в сборнике идет знаменитый со-
нет "Соответствия", который претерпел многочисленные истолкова-
ло?
ния, на который не раз ссылались символисты, пытаясь исследовать
его многозначительный смысл, вскрыть философские глубины. Вот
он, этот сонет:
Природа - лский храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как н чаще символов, мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным мядит на смертных он.
Подобно голосам на дальнем расстоянье,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье.
Есть .чанах чистоты. Он зелен, точно сад,
Как плоть ребенка, свеж, как зов свирели, нежен,
Другие - царственны, в них роскошь и разврат.
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен -
Так мускус и беизой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам.
(Пер. В. Левина)
Разумеется, здесь фактически предварено немало из того, что по-
том стало основой эстетики и философии символизма. Символисты
ведь считали, что зримый мир являет нам лишь внешнюю, поверхно-
стную оболочку вещей, что каждая вещь скрывает в себе глубокую
метафизическую тайну, является символом, шифром, и они ставили
своей целью по возможности разгадать за внешними образами их ис-
тинный смысл, раскодировать этот шифр. Позднее замечательный
английский писатель Г.К. Честертон предложил "популярное" истол-
кование символистской эстетики в ироническом ключе: «Люди увере-
ны, что надо глубже и тоньше понимать слова "как жизнь". Улицы
не "жизнь" города и цивилизации, даже лица и голоса еще
не "жизнь"... Жизнь - внутри, ее еще никто не видел, наши трапе-
зы, нравы, платье - как сонеты: и те, и другие - условные знаки ду-
ши...» Но тут надо вспомнить и о том, что в принципе эта установка
принадлежит изначально романтической философии. Уже там,
в начале века, в построениях английских и немецких мыслителей,
прежде всего Шеллинга, развивались все эти идеи. И применитель-
но к Бодлеру можно сказать, что он был тут не в меньшей мере про-
должателем традиции, нежели ее основоположником, т. е. предтечей
символизма. Ничего ошеломляюще нового, провозвестнического
здесь нет. Просто историческая судьба французского романтизма бы-
ла такова, что метафизическая сторона романтической философии
вообще стала активна во французской литературе очень поздно,
лишь с 30-40-х годов, и в этом смысле, конечно, Бодлер, как и Нер-
вал ь, были для французских символистов ближайшими предшествен-
никами. Но ниточка, так сказать, общая, та, что связует романтизм
Ш. Бодлер 269
с символизмом. И все-таки мне кажется, что бодлеровский сонет был
задуман и осуществлен далеко не в столь обобщающей функции, что
символисты сами привнесли в него избыточную многозначитель-
ность. Ведь смотрите - мы уже привыкли с вами к тому, чтобы рас-
сматривать стихи Бодлера не только сами по себе, но и в тесной свя-
зи с общим контекстом книги. Вспомним конец предыдущего стихо-
творения - "Воспарение". Там Бодлер говорит о поэте, переживаю-
щем момент воспарения, озарения: "Весь мир ему открыт и внятен
тот язык, которым говорит цветок и вещь немая". Как естественно,
что после этого заявления Бодлера увлекла мысль о том, что поэту
внятен язык природы, и он просто захотел ее развернуть, оформить
в целое стихотворение! Он дает нам частную, но развернутую вари-
ацию на тему, и в общем контексте этот сонет так и воспринимается!
Ведь не случайно Бодлер потом не станет развивать и углублять
эту тему - она для него явно не главная (как это стало потом у сим-
волистов), она - лирическое отступление, побочный мотив в общей те-
ме величия и всесилия поэта. А мысль сама далеко не нова, напротив,
для поэзии она традиционна! Вспомните пушкинского "Пророка":
Моих ушей коснулся он -
И их наполнил шум и :шон: ,
И ниял я неба содроганье,
И горний ангслон полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лолы ирозябаньс.
И, наверное, у каждого поэта можно найти подобные размышле-
ния. Например, у Кольдриджа в "Эоловой арфе" прямо предвосхище-
ны "Соответствия"! И у Новалиса немало размышлений в этом духе...
Да, собственно, весь романтизм как мироощущение держится на этой
мысли! Так что, когда Бодлер писал сонет, он едва ли тем самым за-
мышлял основать особое направление в литературе, скорее он просто
задумался о том, о чем до него не раз задумывались поэты, и решил
свои раздумья оформить в сонет. Он, бесспорно, представил свою,
оригинальную, бодлеровскую вариацию темы и, конечно, уже предвос-
хищал более поздний склад ума: скажем, мысль о том, что для чело-
века с обостренными чувствами определенным звукам могут соответст-
вовать определенные цвета и запахи. Эта мысль для того времени, ко-
нечно, нова и необычна и, напротив, весьма характерна для искусства
XX в. Но, повторяю, в целом сонет варьирует то состояние человече-
ской души, которое, скажем, косвенно выразил и Лермонтов, когда пи-
сал: "Ночь тиха, пустыня внемлет богу, // И звезда с звездою гово-
рит" (ведь это, конечно, не просто ночной пейзаж, здесь поэт слышит
язык ночи). А вот Ламартин: "Звезды зажегся лик, // Звезды по-
меркнул лик - // Я внемлю им, господь! // Мне ведом их язык!"
В основе бодлеровского сонета лежит, конечно, образ символиче-
ский, но, повторяю, достаточно частный. Здесь символ еще - тради-
270
ционнып литературный троп, а не основа всего мироощущения и всей
поэтики, как это стало позже у символистов, у которых этот частный
прием - один из многих, находящихся на вооружении у литераторов, -
как бы разбух, разросся до размеров целой эстетической системы.
Итак, в сложной системе переходов мысли Бодлер уже с самого
начала раскрывает перед нами свои взгляды на взаимоотношения ме-
жду поэтом и миром. Он начинает с шокового эффекта - окружаю-
щий мир ужасен, он достоин лишь ненависти и презрения ("Вступ-
ление"). Затем поэт как бы поясняет нам "этимологию" такой шоки-
рующей реакции: поэт родился в мир отверженным, проклятым,
он обречен на страдания ("Благословение"). Но здесь же, в глуби-
нах отчаяния, рождается и надежда: само страдание - залог величия
поэта, оно приближает его к небесам - и Бодлер начинает воспевать
воспарение ("Воспарение"), утверждать мысль об избранничестве
поэта и о его величии: поэту внятен язык самой природы, со всеми
ее цветами, звуками и запахами. И, как бы заложив, таким образом,
все необходимые основы для своего взгляда на роль поэзии, Бодлер
в следующем стихотворении впервые дает полную, развернутую кар-
тину своего мировоззрения. Он вспоминает античность:
Люблю тот иск нагон, когда, теплом богатым,
Луч Феба .юлотил холодный мрамор статуй.
Мужчины, женщины, проворны II легки,
Ни лжи не педали и те годы, ни тоски.
{Пер. В. Левина)
Дальше в этом же стихотворении идет уже цитированное мною
новое разоблачение мира: "Ты в ужасе глядишь, исполнясь отвраще-
нья, на чудищ без одежд". Но вслед за этим - и первое развернутое
представление об идеале (помните?): "Восторг пред юностью святой,
перед ее теплом, весельем, прямотой". И здесь же типично бодлеров-
ский йотив "ущербной музы":
Есть красота у пас, что дреннпм нси.шестпа,
Есть липа, что храпят сердечных я;ш печать, -
Я красотой тоски готои ее назвать.
Но это - наших мул ущербных откровенье.
(Пер. В. Левина)
Это стихотворение удивительно стройно! Три части - три темы:
античность - современность - идеал. И Бодлер в этом пятом стихо-
творении как бы подытоживает, схватывает воедино все темы зачи-
на; "Люблю тот век нагой..." - это первое итоговое стихотворение
в сборнике.
Но мысль поэта идет теперь дальше; не знаю, заметили ли Вы,
что до сих пор тема величия поэта утверждалась Бодлером как бы
вне этики, вне нравственных категорий. Искусство мыслилось вне
всякой связи с другими людьми, именно как надмирная сфера чис-
Ш. Бодлер 271
той красоты. Поэту принципиально не было дела до других людей -
они представлялись ему только как "чудища без одежд", между по-
этом и миром не было никаких связующих нитей, напротив, была
резкая черта, стена.
Но вот уже в третьей части стихотворения "Люблю тот век на-
гой" Бодлер впервые поет целый гимн юности (заметьте, уже не чи-
стой красоте, а юности - уже обращается, стало быть, к человеку),
и здесь начинается уже совсем другая, новая перспектива - уже
не просто чистая красота, а красота, дарящая себя людям! Возника-
ет тема отдачи, воздействия искусства на людей, возникает этиче-
ская, нравственная трактовка темы искусства! Вот ее Бодлер теперь
и развивает. Стихотворение "Маяки" начинается как бы по-прежне-
му - как воспевание святого искусства (Рубенс, Леонардо, Ремб-
рандт, Микеланджело, Ватто, Гойя, Делакруа). Но уже само назва-
ние соотнесено с другими (маяки ведь существуют для кого-то):
Эти поили титанов, их боль, их усилья,
Богохульства, проклятья, восторги, мольбы,
Дивный опиум духа, дарящий нам крылья,
Перекличка сердец в лабиринтах судьбы.
То пароль, повторяемый цепью дозорных,
То приказ по шеренгам безвестных бойцов,
То сигнальные вспышки на крепостях горных,
Маяки для застигнутых бурей пловцов.
И свидетельства, Боже, ист высшего в мире,
Что достоинство смертного мы отстоим,
Чем прибой, что в веках нарастает все шире,
Разбиваясь об вечность пред ликом Твоим.
(Пер. В. Левша)
Так создается образ эстафеты искусства, не просто развивающе-
гося само по себе, в своей сфере, но существующего и как оправда-
ние человека перед Богом и вечностью. То есть здесь уже снимается
тема "чистого искусства", и искусство возвращается к своему земно-
му назначению, к служению людям. Оно теперь возвышает не толь-
ко одного поэта - оно возвышает и облагораживает и других людей.
Вот в чем его величие! Так возникает у Бодлера и нравственный ас-
пект темы искусства.
А дальше - "Больная муза":
О муза бедная, скажи мне, что с тобой?
Ночные призраки проходят верспиией
В глубинах глаз твоих, где страх залег слепой
И вспыхивает вдруг безумие зарницей.
Любви румяный эльф похитил твой покой
Иль в ужас вверг тебя суккуб зелеполииый?
Или кошмар схватил бессмысленной рукой
И в сказочный Миитурн швырнул подбитой птицей?
272
О, пусть жиная мысль :шжжст огнем тиой взгляд,
Вернув груди твоей и блеск, и аромат,
Чтоб ритмы, где звучат стихийные начала,
В кровь христианскую Античность источала,
Чтобы в исках царил создатель песни Феб
И с ним великий Пан, дарующий нам хлеб.
(Пер. В. Левина)
И теперь понятна концовка стихотворения "Люблю тот век на-
гой...". Она была, оказывается, не случайной - Бодлер, оказывает-
ся, мечтает о здоровом, неболезненном искусстве, которое врачевало
бы и раны поэта, и горе всех людей.
Вот здесь я теперь могу уже остановиться, прервать свой подроб-
ный анализ лирики Бодлера. Теперь мы уже узнали самое главное -
исходную позицию Бодлера, основы его мировоззрения, его взгляды
на взаимоотношения между искусством и жизнью и на роль поэта
и поэзии. И, кроме того, мы уже распознали основной структурный
принцип книги Бодлера, почувствовали, что ее надо воспринимать
не как сборник отдельных стихов, а как поэму, фугу, ее надо читать,
постоянно следя за движением общей мысли, за мотивами, за их пе-
реносами из одного стихотворения в другое. Теперь уже Вы, так ска-
зать, можете читать его дальше сами.
И теперь нас уже не будут смущать самые резкие колебания Бод-
лера, самые резкие смены нравственной температуры в его книге.
Мы уже будем видеть за всем этим глубоко страдающую душу, стра-
дающую от несовершенства мира - но и от своей собственной проти-
воречивости. Вот, скажем, Бодлер скорбит о том, что его муза боль-
на, ущербна. И он иногда готов усомниться в том, откуда она, отку-
да его волшебный поэтический дар, от бога или дьявола, и тогда
он готов совершить святотатство даже по отношению к своей музе:
И что мне за печаль, из мрака преисподней
На землю ты пришла, с небесных ли нысот,
Сирена злая ты иль серафим господний,
Наинное дитя, страшилище, урод, -
И что мне, рождена ты спетом или тьмою,
Когда с одной тобой, о нечный мой кумир,
О ритм, о цист, о звук! - когда с одной тобою
Не так печальна жизнь, не так ужасен мир.
(Пер. В. Левина)
И порой кажется, что Бодлер, действительно, готов потерять эти-
ческую меру, что он готов, очертя голову, броситься в бездну того
самого безумного и эгоистического наслаждения красотой - наслаж-
дения аморального - не в обыденно-осуждающем смысле, конечно,
а в первоначальном конституирующем значении этого слова, лежа-
щем вне морали, не имеющем отношения к морали. Этот мотив -
сквозной в любовных стихах, посвященных мулатке Жанне Дюваль:
Ш. Бодлер 273
Солнце дымкой оделось. Как весь небосклон,
О луна моей жи.ши, окутайся тенью!
Спи, кури, наслаждайся молчаньем и ленью
Иль скучай - я » тебя и и такую »люблен.
Хочешь, едем п какой-нибудь шумный притон,
Где кино и веселье :юнут к исступленью.
Не таись тут :шс:»дой, обреченной .ттмснью,
Вспыхни! Вырннсь, прелестный кинжал, на ножом!
В:юр зажги об огонь, что дрожит н лампионах!
Страсть ;мжти о глаза наглецом распаленных!
Будь чем хочешь, ты вся - моя радость и боль.
Черной полночью будь иль денницею красной,
Каждый нерп мой кричит: лишь одно мне позволь,
Лишь но;июль обожать тебя, дьявол прекрасный!
{Пер. В. Левина)
Но наряду с этим есть и другой цикл любовных стихов, посвящен-
ных мадам Сабатье; и здесь налицо традиционная антитеза: любовь
земная и любовь небесная, как в стихотворении "Духовная заря". Так
что погруженность в "искусство для искусства" - это та же самая экс-
пада, за которой скрывается тщательно оберегаемая поэтом мечта
о нравственно прекрасном человеке. Отсюда гармонично вытекает те-
ма сострадания, постепенно переходящая в тему чисто социальную!
У Бодлера, поэта, видевшего вокруг себя вроде бы только смрад,
разврат и скуку, мы можем найти и такие стихи, как "Старушки",
где с чисто бодлеровской выразительностью запечатлена идея про-
стого человеческого сострадания. Стихотворение "Лебедь" кончается
столь же характерным признанием:
Все ны, нее, кто не знает иного удела,
Как оплакивать то, что ушло навсеч да.
И кою милосердной волчицей пригрела,
Чью сиротскую жп:н1Ь иссушила беда.
И душа моя с памп блуждает в тумане,
В рог трубит моя память, и плачет мой стих
О матросах, забытых и глухом океане,
О бездомных, о пленных, - о многих других...
{Пер. В. Левина)
Очень знаменательно, что оба эти стихотворения посвящены Ви-
ктору Гюго - певцу отверженных. Чем более зрелым становился по-
эт, тем больший вес приобретала в его поэзии именно тема сострада-
ния к "бездомным, пленным и многим другим". Сам особенно остро
воспринимавший свое одиночество и свою неприкаянность, поэт на-
чинает и в своих стихах находить место для других одиноких и не-
прикаянных. Вот стихотворение "Предрассветные сумерки":
274
Бледны, как труп, хранят продажной страсти жрицы, -
Тяжелый сон на.км на синие ресницы.
А нищета, дрожа, прикрым нагую грудь,
Встает и силится скупой очаг раздуть,
И и страхе пред нуждой, почуян холод и теле,
Родильница кричит и корчится и постели...
Дрожа от холода. :мря илачит cnoii длинный
Зелено-красный плат над Сеною пустынной,
И труженик Париж, подия и рабочий люд,
Зеииул, протер мала и принялся :ia труд.
(Пер. В. Левина)
Хотя такие социальные образы редко входят в круг внимания по-
эта, они тоже помогают понять направление его симпатий и антипа-
тин. Если в других стихотворениях Бодлер то обрушивался на по-
хоть и разврат, считая их первородными грехами человечества,
то, напротив, поэтизировал "продажной страсти жриц", в данном
контексте "труженик Париж" предстает как живое обвинение обще-
ству, в котором продажная страсть - всего лишь один из видов тру-
да, труда из страха перед нуждой.
Об интересе поэта к социальной тематике свидетельствует и тот
любопытный факт, что Бодлер, этот певец "чистого искусства", на-
писал в свое время рецензию на сборник рабочего поэта Пьера Дю-
пона. Но, пожалуй, наиболее эксплицитно и художественно ярко об-
щественная позиция Бодлера выразилась в знаменитом стихотворе-
нии "Каин и Авель":
Аиеля дети, дремлите, питайтесь,
Бог на »ас смотрит с улыбкой но н.юре.
s Каина дети, и гря:ш пресмыкайтесь,
II умирайте и несчастьп, и поморе!
Аиеля дети, от Вас иессожжеиья
К небу возносятся прямо и смело.
Канна дети, а наши мученья
Будут ли длиться несгла, бел предела?
Аиеля дети! но нскорс! но нскорс!
Прахом своим ны удобрите ноле!
Канна дети! кончается горе,
Время настало, чтоб быть нам па иоле!
Аиеля дети! теперь берегитесь!
Зои на последнюю бптиу я ннсмлю!
Каина дети! на небо илберитесь,
Сбросьте непраиого бога на лемлю!
(Пер. В. Брюсова)
Ш. Бодлер 275
Бодлер неоднократно высказывал свое скептическое отношение
к общественному прогрессу, отрицая позитивизм как философию
этого прогресса. Одним из первых европейских писателей он загово-
рил на языке мышления XX в. "Механизация в скором будущем на-
столько нас американизирует, прогресс настолько обескровит нашу
духовную жизнь, что самые кровавые, самые ужасные и противоес-
тественные предвидения фантастов покажутся безобидными по срав-
нению с таким позитивным результатом", - это написал больной
Бодлер сто лет назад, но читаются эти слова как отрывок из попу-
лярной газетной статьи какого-нибудь западного современного со-
циолога. Но главное в творчестве Бодлера - это, конечно, не публи-
цистические работы, а его бессмертная поэзия, подлинное пиршест-
во страстей и чувств.
Бодлеровские "Цветы зла" как будто все сотканы из диссонансов
и противоречий, из ненависти и любви, из отвращения и сострада-
ния. Но Бодлеру отнюдь не все равно, что любить и что ненавидеть.
Незадолго до смерти он писал в одном из писем: "Надо ли вам го-
ворить - вам, кто не сумел это почувствовать так же, как и все ос-
тальные, - что в эту ужасную книгу я вложил все свое сердце, всю
свою нежность, всю свою религию (в маскарадном костюме), всю
свою ненависть? Конечно, я буду утверждать обратное, я буду кля-
сться великими богами, что это книга искусства для искусства, кни-
га обезьянничанья, жонглерства, и я буду лгать, как последний ры-
ночный шарлатан".
Это не запоздалое раскаяние, не самооправдание, в этом весь
Бодлер - поэт, жаждущий добра и красоты и боящийся, что люди
заметят эту жажду и будут смеяться над ним, над тем, как смешно
он волочит по земле свои исполинские крылья.
БИБЛИОГРАФИЯ
Тексты
Персоналия
Ф.Р. Шатобриан. Репс. Лгала.
Гений христианства. Замогильные
записки.
Ж. де Сталь. Коринна, или
Италия. О литературе, рассмотренной
и связи с общестиепиымн успиюнлениями.
Б. Констан. Адольф.
Э. де Сенанкур. Обсрман.
Ш. Нодъе. Жан Сбогар.
A. Ламартин. Лирика:
Одиночество. Озеро. Запад. Поэмы:
Человек. Виноградник и дом.
B. Гюго. Эрпапи. Король
забавляется. Рюи Блаз. Предисловие
к "Кромвелю". Собор Парижской
богоматери. Отверженные. 93-й год.
Ж. Санд. Индиана. Консуэло.
Графиня Рудолыитадт.
А. де Мюссе. Лирика. Ночи.
Исповедь сына века. Любовью
не шутят. Фредерик и Бериеретта.
А. де Виньи. Сен-Map. Смерть
волка. Чаттсртои. Стелло. Отделалась
испугом. Супруга маршала Д'Анкра.
Стихи и поэмы: Гс(|к:пманскнй сад.
Хижина пастуха. Молчание.
Т. Готье. Лирика. Эмали и камеи.
Ж. де Иерваль. Лирика. Химеры.
П.Ж. Беранже. Стихотворения.
Король И вето. Новый фрак. Безумны.
Старый капрал.
О. де Бальзак. Отец Горио.
Евгения Гранде. Гобсек. Шагреневая
кожа. Утраченные иллюзии. Неведомый
шедевр.
А.М. Стендаль. Ванина Bai шин.
Рас и и и Шекспир. Красное и чернею.
Люсьсн Лсвсн. Пармская обитель.
П. Мериме. Хроника времен
Карла IX. Новеллы: Матсо Фалькопе.
Двойная ошибка. Партия в триктрак.
Этрусская ваза. Венера Илльская.
Коломба. Кармен.
Г. Флобер. Госножа Бовари.
Воспитание чувств. Простая душа.
Иродиада. Саламбо.
Ш. Бодлер. Цветы зла. Статьи
об искусстве.
Антологии
Европейская поэзия XIX века.
М., 13*7.
Западноевропейская лирика /
Сост. Н. Рыкова. Л., 1974.
Зарубежная литература. XIX век.
Романтизм: Хрестоматия. М., 1976.
Зарубежная литература. XIX век.
Романтизм. Критический реализм:
Хрестоматия. М, 1979.
Литературные манифесты
западноевропейских романтиков.
М., 1980.
История эстетики: Памятники
мировой эстетической мысли. Т. 3.
Эстетические учения Западной Европы
и США 1789-1871. М., 1967.
Поэзия Франции XIX века.
М., 1985.
"Свободной музы припошенье":
Европейская романтическая поэма.
М., 1988.
Французская новелла XIX века.
Л., 1950.
Французская романтическая
повесть. Л., 1982.
Французские стихи в персподе
русских поэтов. М., 1969.
Эстетика раннего французского
романтизма. М., 1982.
Библиография 277
Критическая литература
Общие труды
Всеобщая история литературы /
Под ред. В. Корша и А. Кирничиикона.
СПб., 1892. Т. 4.
История несмирной литературы.
М.. 1989, 1991. Т. 6, 7.
История западной литературы
(1800-1910) / Под ред. нроф.
Ф.Д. Батюшкова. Т. 1-3.
М., 1912-1914.
История шрубежной литературы
XIX пека. М., 1979. Ч. 1.
История .зарубежной литературы
XIX пека. М., 1983. Ч. 2.
История французской литературы.
М.. 1956. Т. 2.
Персоналия
Андрие Р. Стендаль, или
Бал-маскарад. М., 1985.
Брандес Г. Главные течения
в литературе XIX иска. Кие», 1902.
Собр. соч.: В 12 т. Т. 3,7, 8.
Бальзак в посноминаниях
современников. М., 1986.
Великовский СИ. Преднслоиие / /
Поэзия Франции. XIX пек.
М., 1985.
Великовский СИ. Поэты
французом революции. М., 1963.
Де Л а-Барт Ф. Литературное
Д1И1ЖСНПС на Западе n первой трети
XIX столетия. М., 1914.
Де Л а Барт Ф. Шатобрпан
и поэтика мировой скорби но Ф|)анцин.
Киев, 1905.
Де Л а-Барт Ф. Разыскания
в области романтической поэтики
и стиля. Том I. Романтическая поэтика
по Франции. Киев, 1908.
Карельский A.B. От героя к челове-
ку. М., 1990.
Карельский A.B. Предисловие //
А. де Внньи. Избранное. М, 1987.
С. 6-44.
Карельский A.B. Главы
о французском романтизме / /
История всемирной литературы.
М., 1989. Т. 6. С. 143-175.'
Котляревский H.A. Мировая
скорбь. СПб., 1914.
Моруа А. Литературные портреты.
М., 1971.
Моруа А. Олимнио, или Жизнь
Виктора Гюго. М., 1971.
Моруа А. От Монтсня до Арагона.
М., 1983.
Моруа А. Прометей, или Жизнь
Бальзака. М., 1968.
Моруа А. Жорж Санд. М., 1967.
Нольман М.Л. Шарль Бодлер.
М., 1979.
Обломиевский Д.Д. Бальзак: этапы
творческого i iyni. М., 1961.
Пузиков А. Портреты французских
писателей. М., 1981.
Реизов Б. Г. Творчество Флобера.
М., 1955.
Реизов Б.Г. Стендаль. Л., 1978.
Реизов Б.Г. Французский
исторический роман в эпоху романтизма.
Л., 1958.
Реизов Б.Г. Французский роман
XIX века. М., 1977.
Сент-Бёв. Литературные портреты.
М., 1970.
Соколова Т. В. Философская поэзия
Альфреда лс Виньи. Л., 1981.
Соловьев СМ. Очерки из истории
новой французской и провансальской
литературы. СПб., 1914.
Трескунов М.С Творчество Гюго.
М., 1961.
Трескунов М.С Жорж Санд.
М., 1976.
Форестъе Ж. Н рос пер Мсримс.
М., 1987.
Цвейг С. Балкмк. М., 1962.
Шахов А. Французская литература
в I половине XIX века. СПб., 1913.
Содержание
Предисловие 11
Своеобразие французского
романтизма 19
Мадам де Сталь 27
Ф.Р. Шатобриан 31
Б. Констан 41
Э. де Сенанкур 45
Ш. Нодье 50
Кристаллизация романтических
идей и форм
в эпоху Реставрации 55
A. Ламартин 57
B. Гюго 63
А. де Вииьи 72
Романтизм и реализм 99
Реализм как художественная
система 107
О. де Бальзак 115
Стендаль 159
П. Мериле 189
Ж. Санд 210
П.Ж. Беранже 220
Л. де Мюссе 226
Г. /о/иъе 235
Ж. де Нерваль 239
Г. Флобер 243
III. Бодлер 255
Библиография
277
Научное издание
Карельский Альберт Викторович
МЕТАМОРФОЗЫ ОРФЕЯ
Беседы по истории западных литератур
Вып. 1: Французская литература XIX века
Редактор
Н.Л. Петрова
Художник
В. В. Сурков
Технический
редактор
Г. П. Каренина
Корректор
Н.В. Москвина
Компьютерная
верстка
A.A. Ахметов,
СЮ. Лапина
Лицензия ЛР ЛЬ 020219 от 25.09.96.
Подписано в печать 21.04.98.
Усл. псч. л. 17,5. Уч.-изд. л. 19,0.
Тираж 1500 экз.
Заказ**
Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125267 Москва, Миусская ш\., 6.
(095) 973-4200
Карельский A.B.
К 22 Метаморфозы Орфея: Беседы по истории западных
литератур. Вып. 1: Французская литература XIX ве-
ка / Сост. О.Б. Вайнштейн. М.: Российск. гос. гума-
нит. ун-т, 1998. 279 с.
ISBN 5-7281-0143-7
Книга составлена из авторских курсов лекций но истории зару-
бежной литературы, который читал на протяжении многих лет извест-
ный, ныне покойный, ученый - профессор филологического факуль-
тета Московского государствениого университета A.B. Карельский.
Первый выпуск посвящен истории французской словесности XIX ве-
ка в широком культурном контексте. Подробно анализируется творче-
ство таких авторов, как Шатобриап, Ламартин, Мадам дс Сталь,
Бальзак, Жорж Санд, Стендаль, Флобер, Бодлер. В обзорных главах
рассматривается специфика французского романтизма и его различ-
ные модификации, существовавшие в XIX столетии.
Для преподавателей, студентов, аспирантов и всех интересующих-
ся зарубежной литературой.
К
4603020000-005
ОТ (03)-98
34-97
ББК 83.34 Фр.
Книга составлена из автор
ских курсов лекций по исто-
рии зарубежной литературы,
которые читал на протяже-
нии многих лет известный,
ныне покойный, ученый -
профессор филологического
факультета Московского
государственного универскче-
та A.B. Карельский. Первый
выпуск посвящен истории
французской словесности
XIX века в широком куль-
турном контексте. Подробно
анализируется творчество
хаки*: авторов, как Ща'го-
брАад, Ламартцн, Мадам де
Стал::, тЗалъзак, Жорж Сайд,
Стел/1 а ль, Флобер, Бодлер.
В обзорных главаг рассмотри-
ваетия спгдщфща францу^ско '
го романтизма п его fä?MVfa,h М
ные Г'Юдификацми, существо-,:
вавшио в XIX столетии; I '