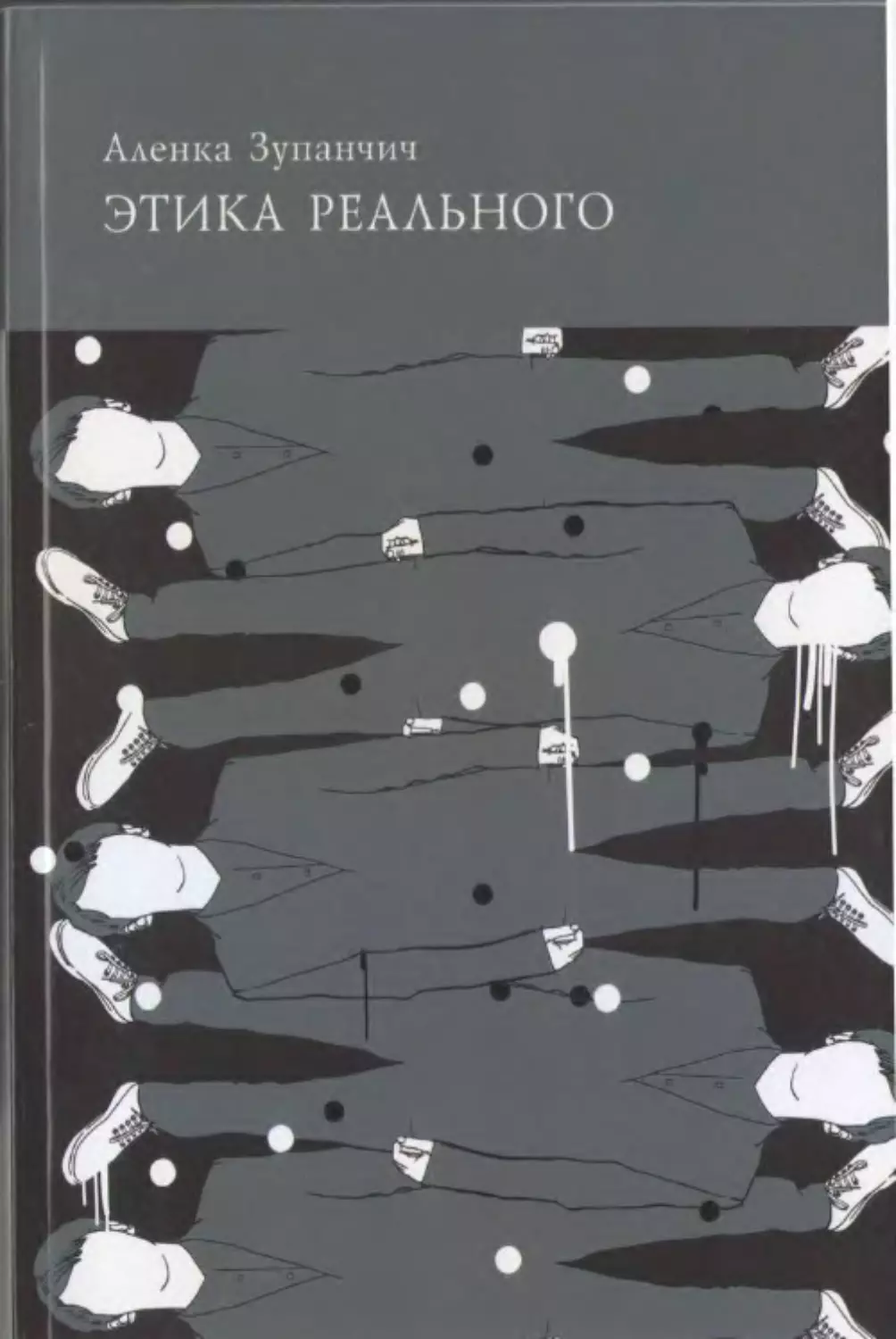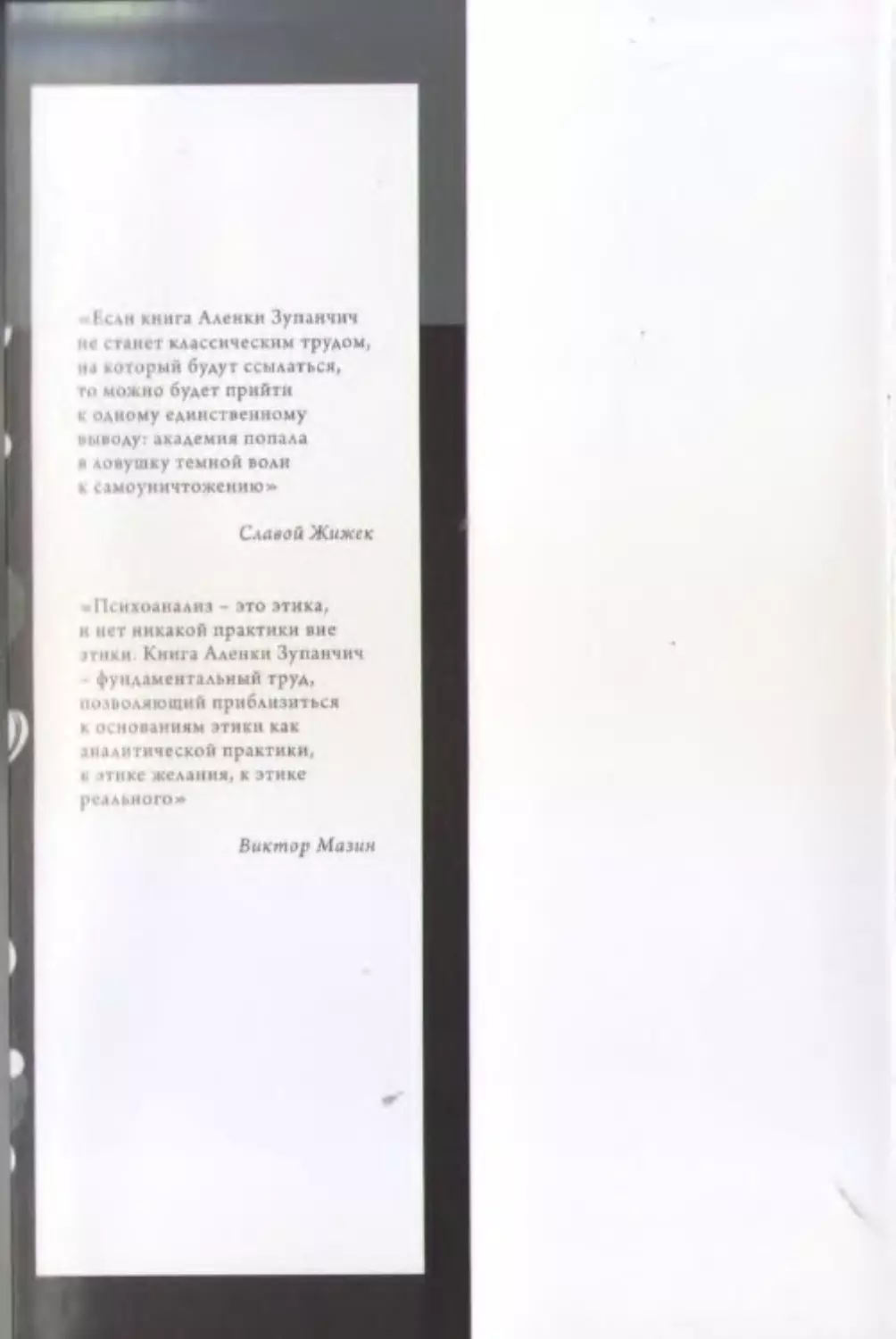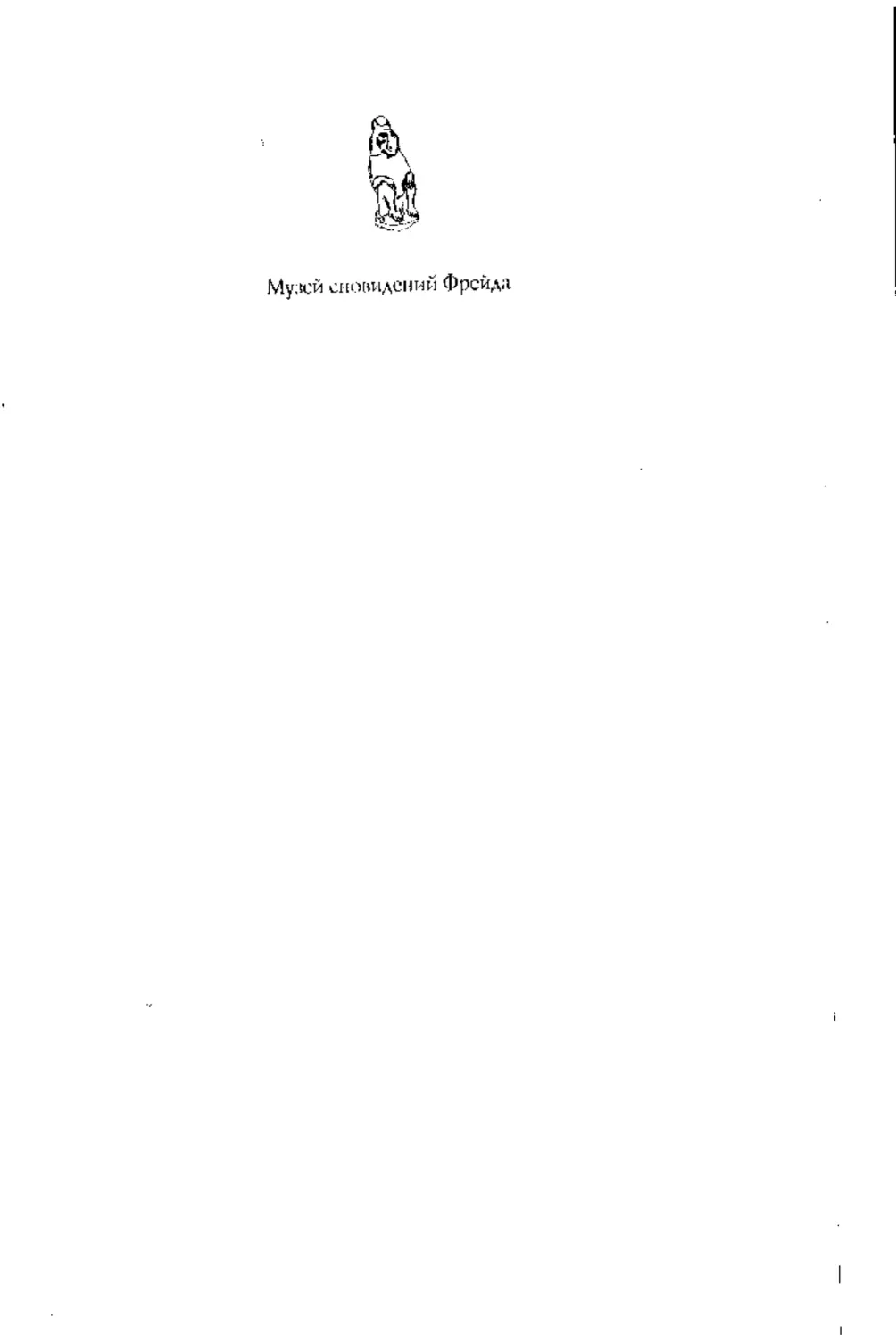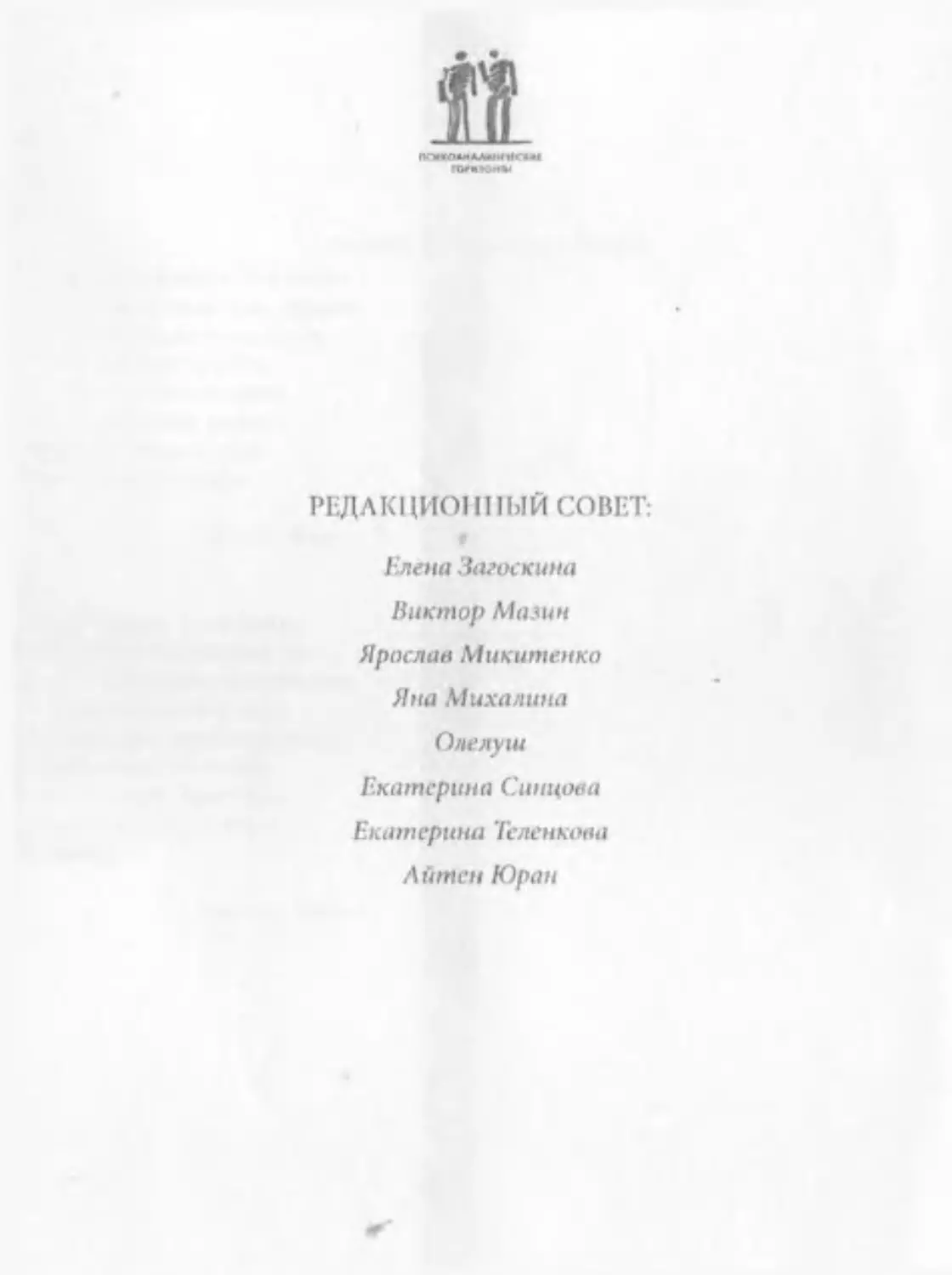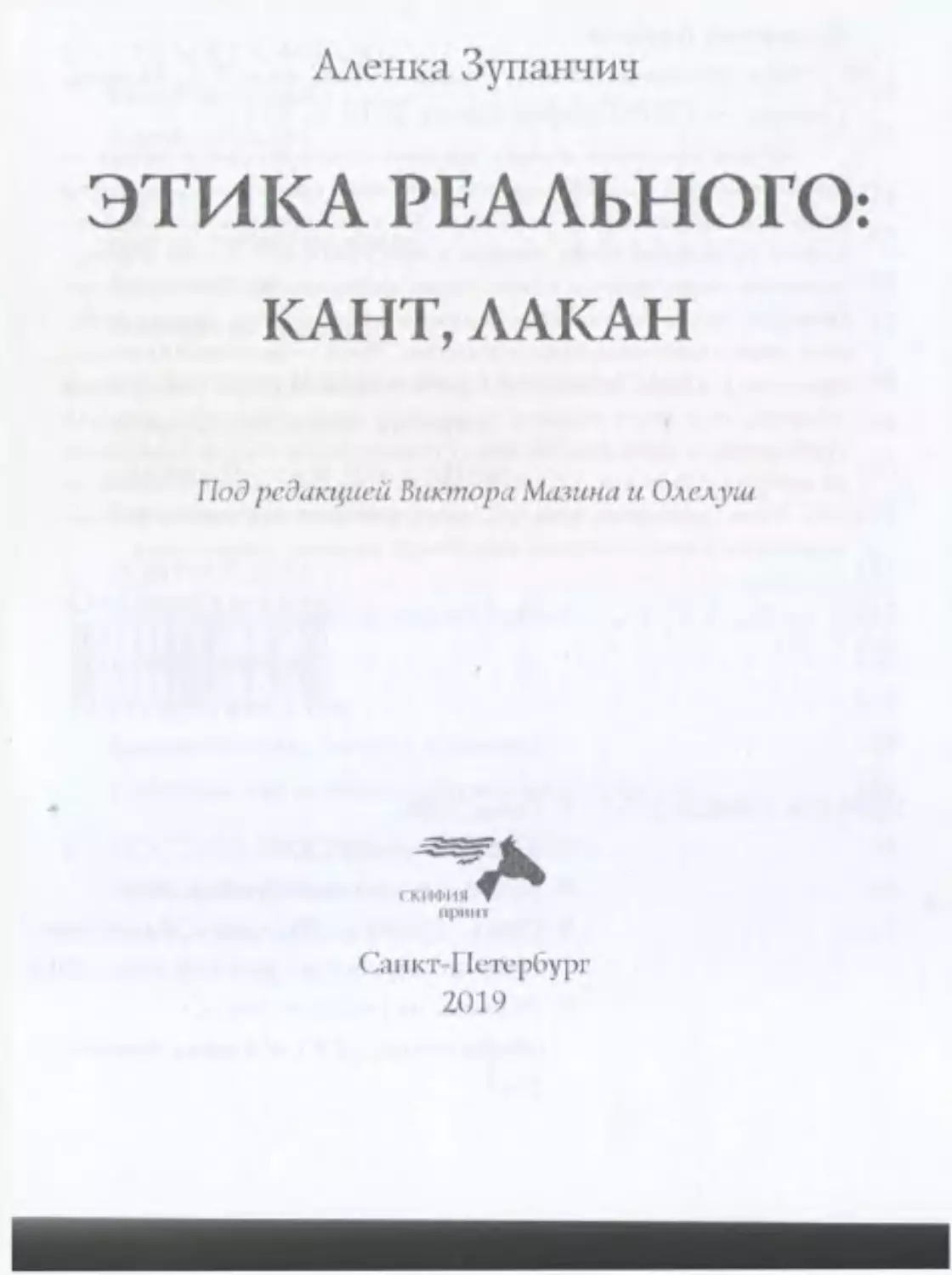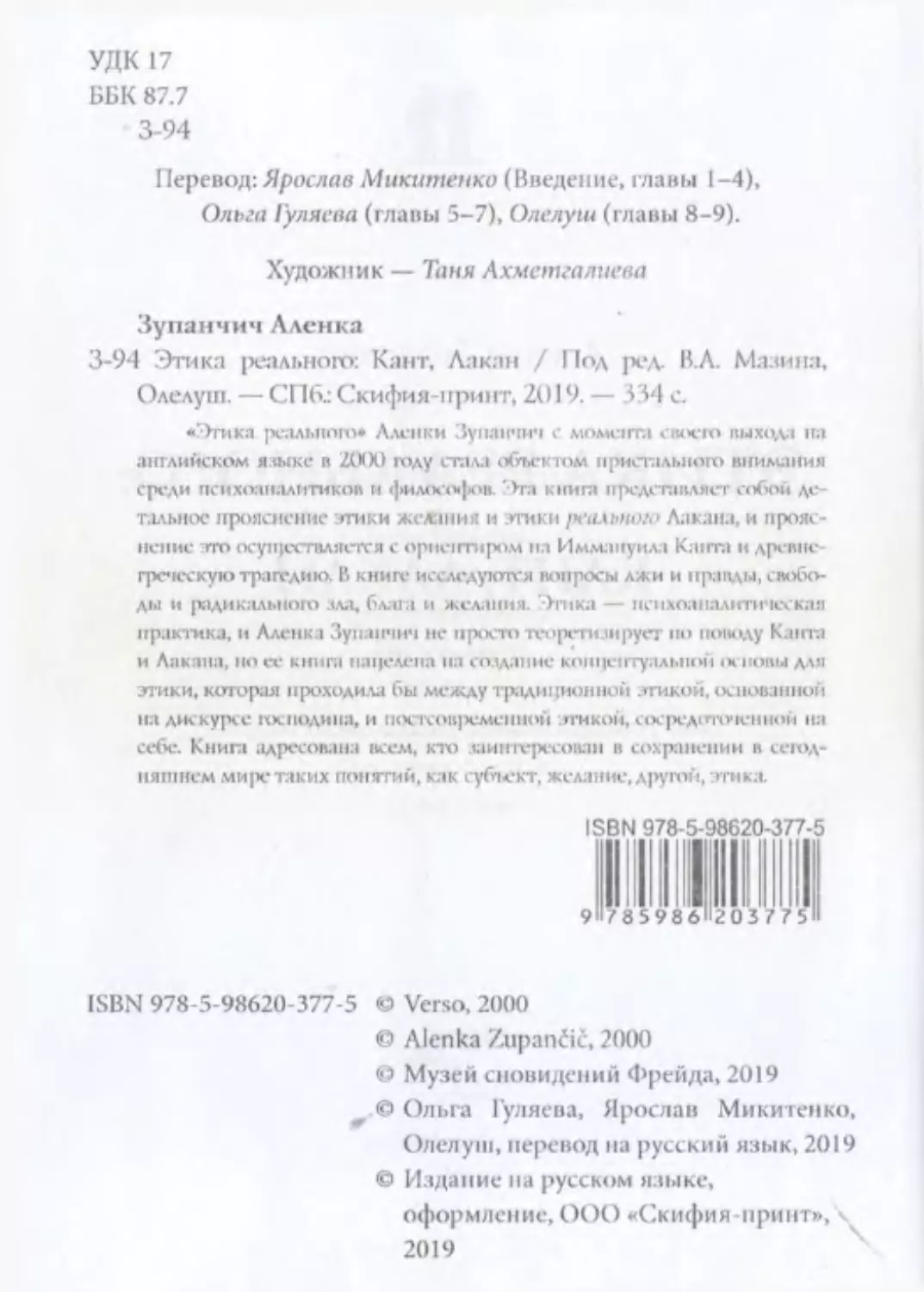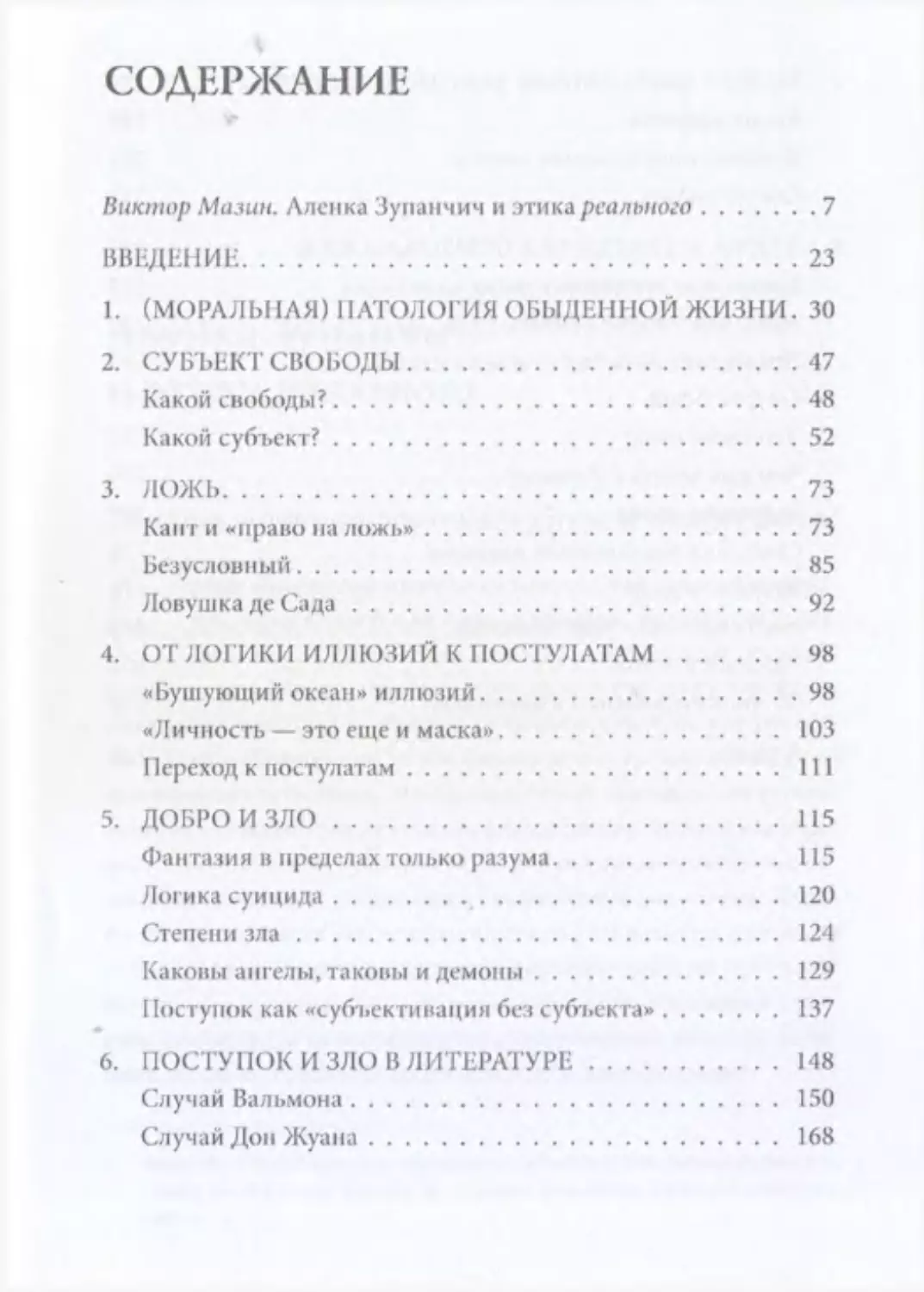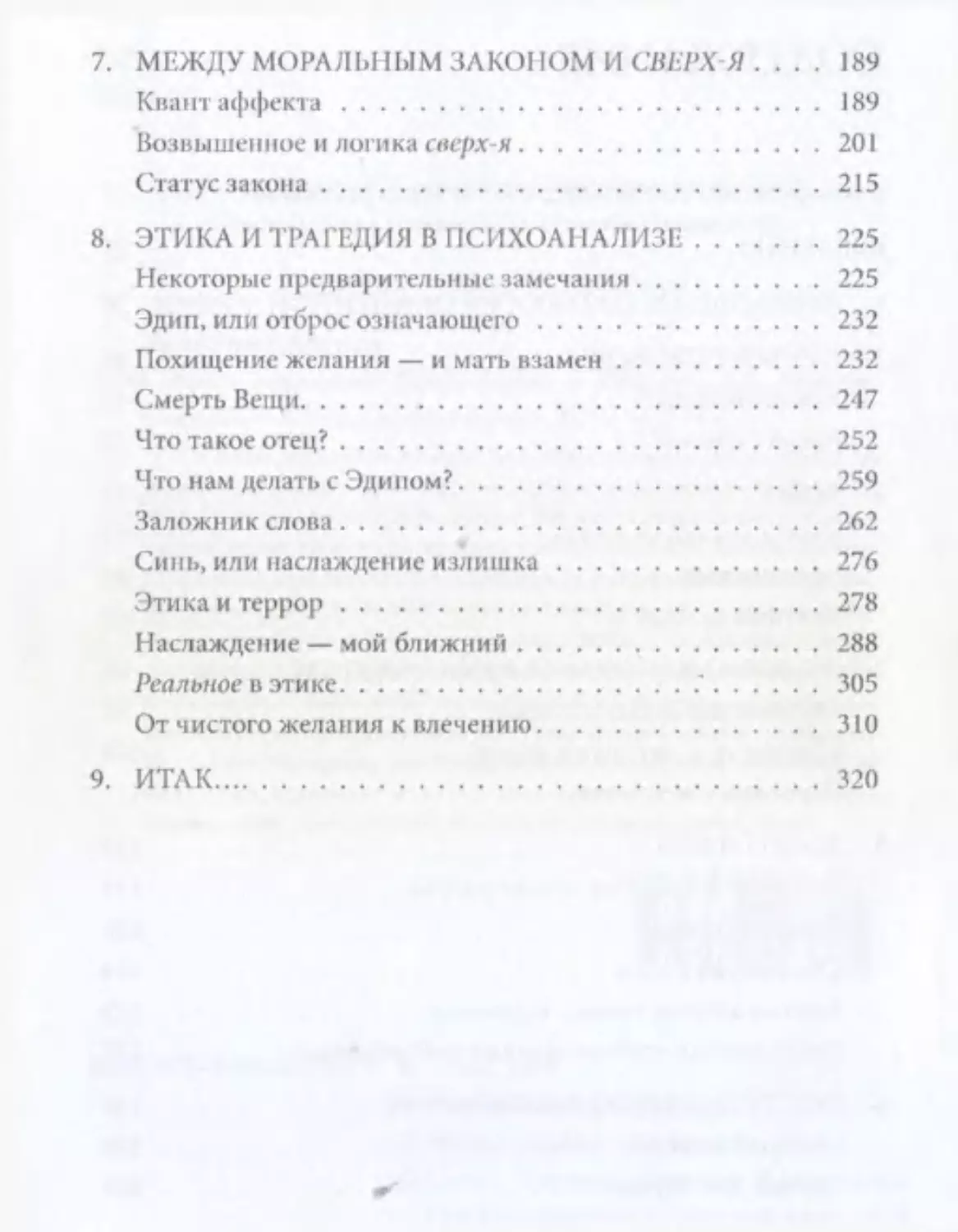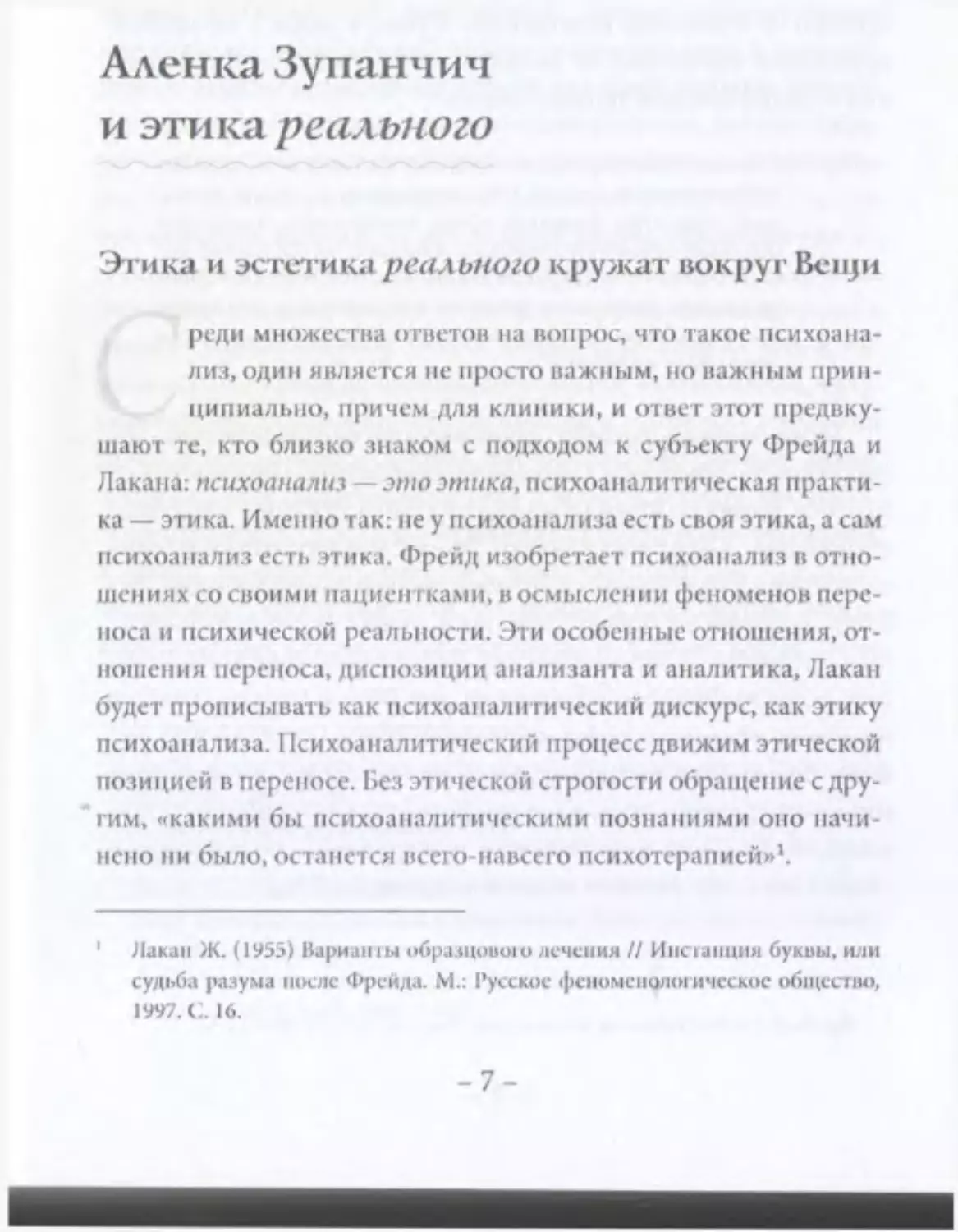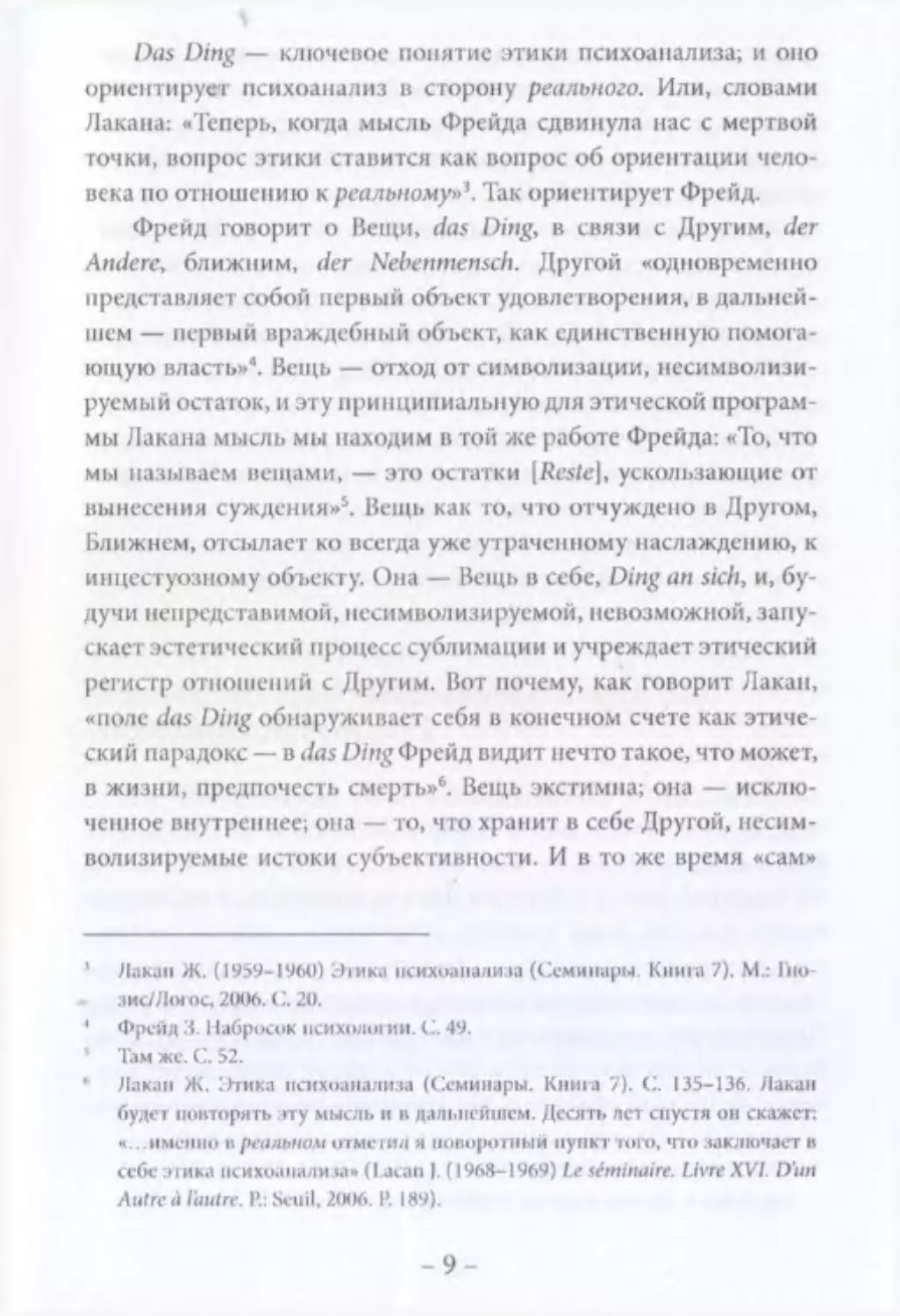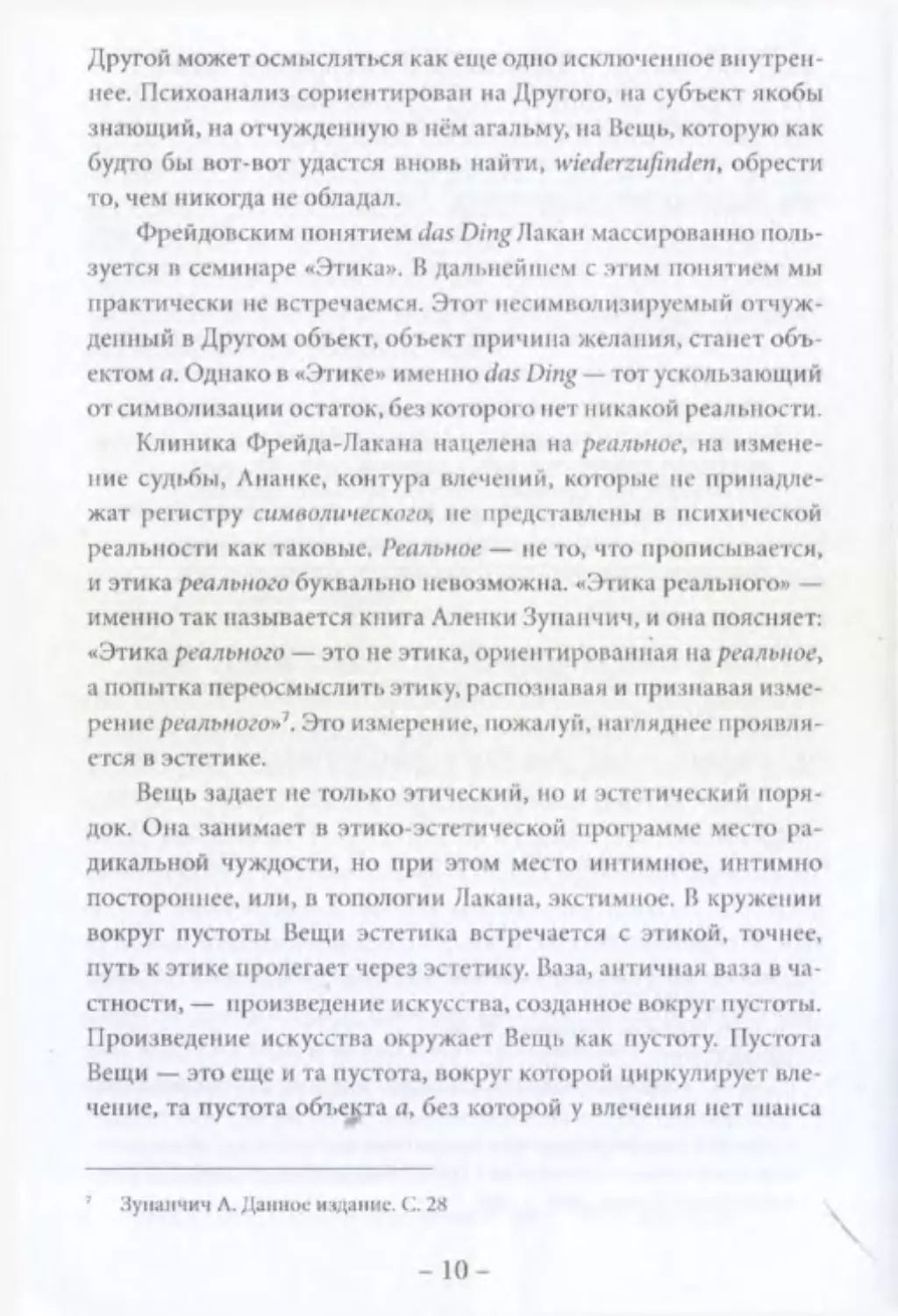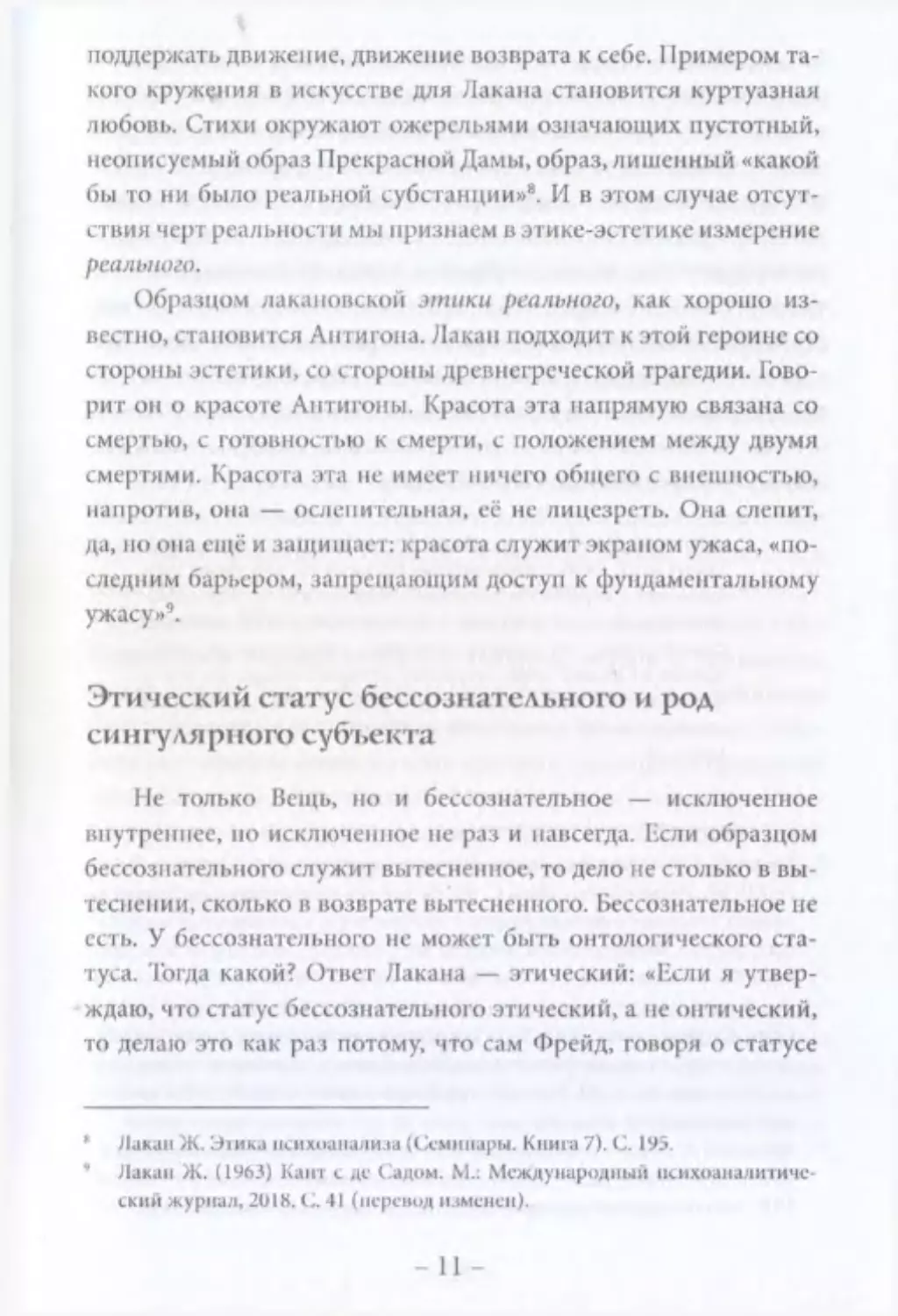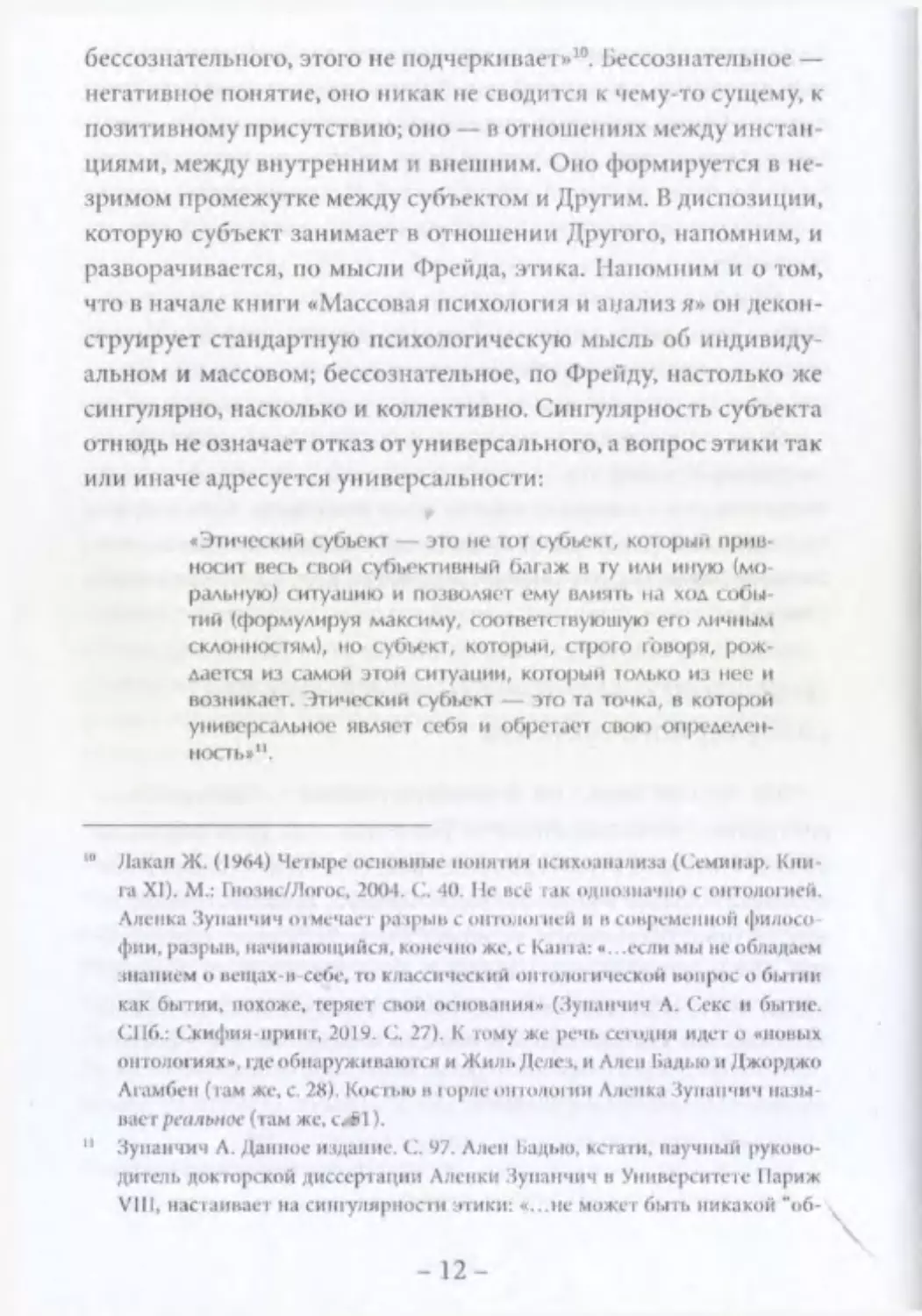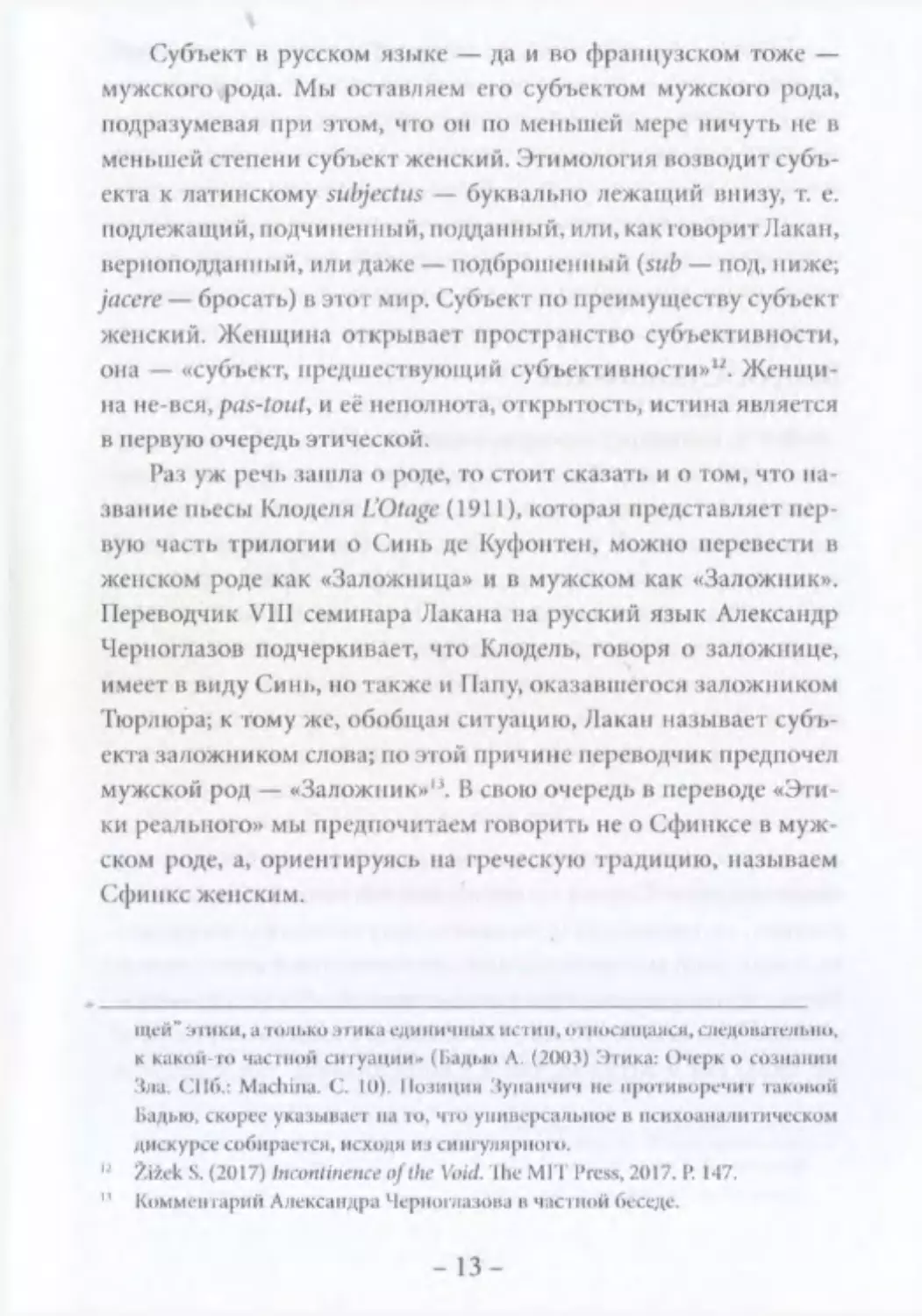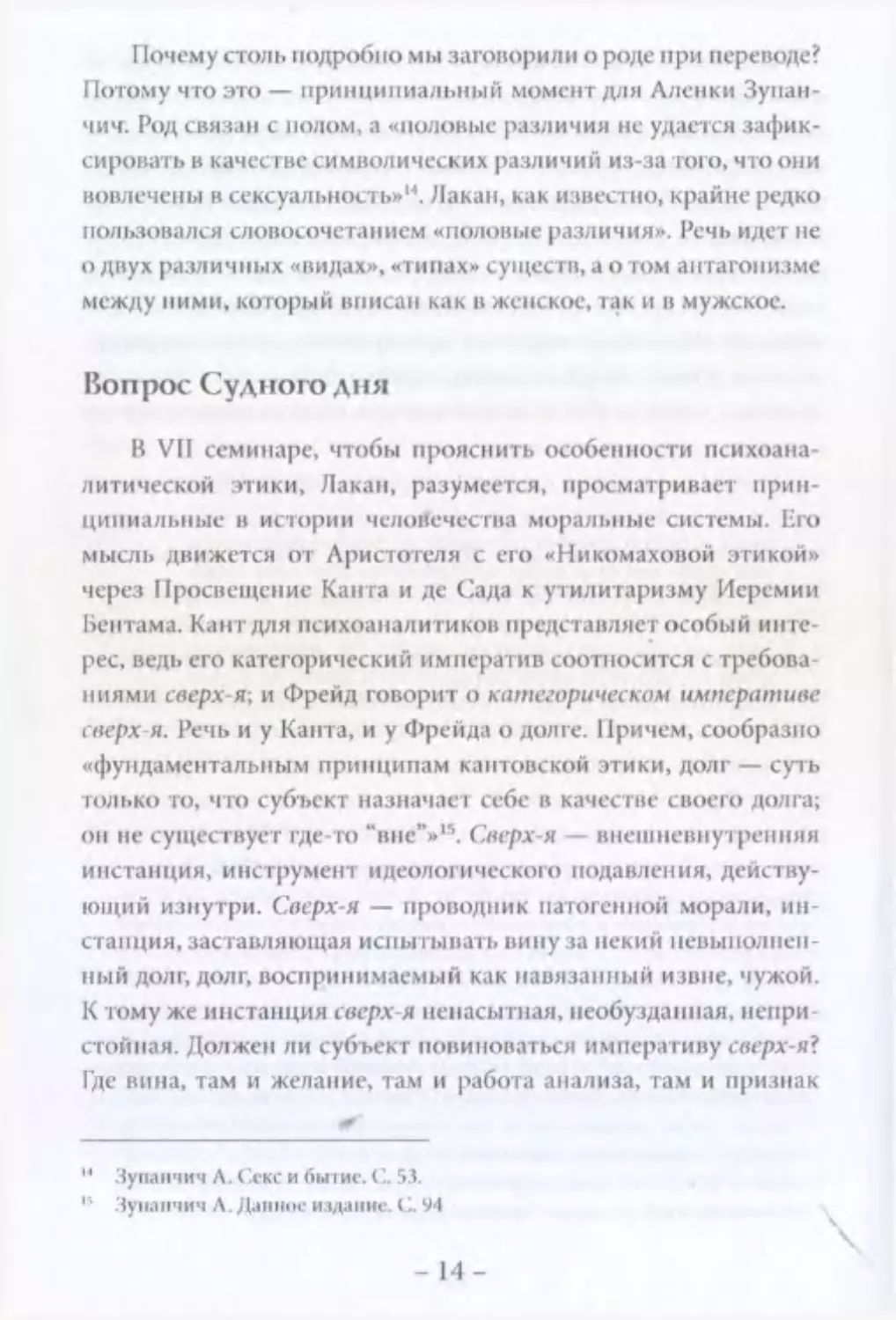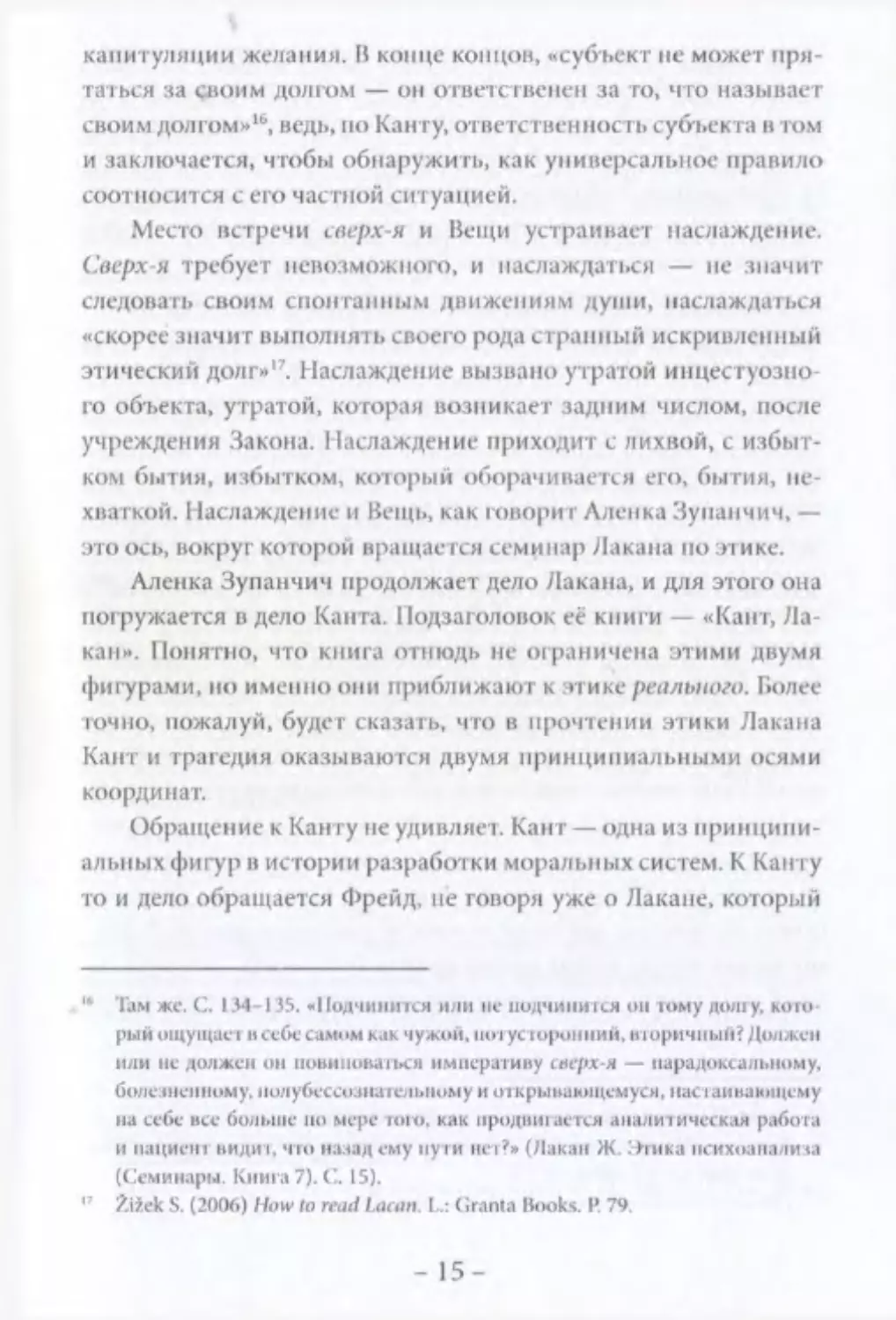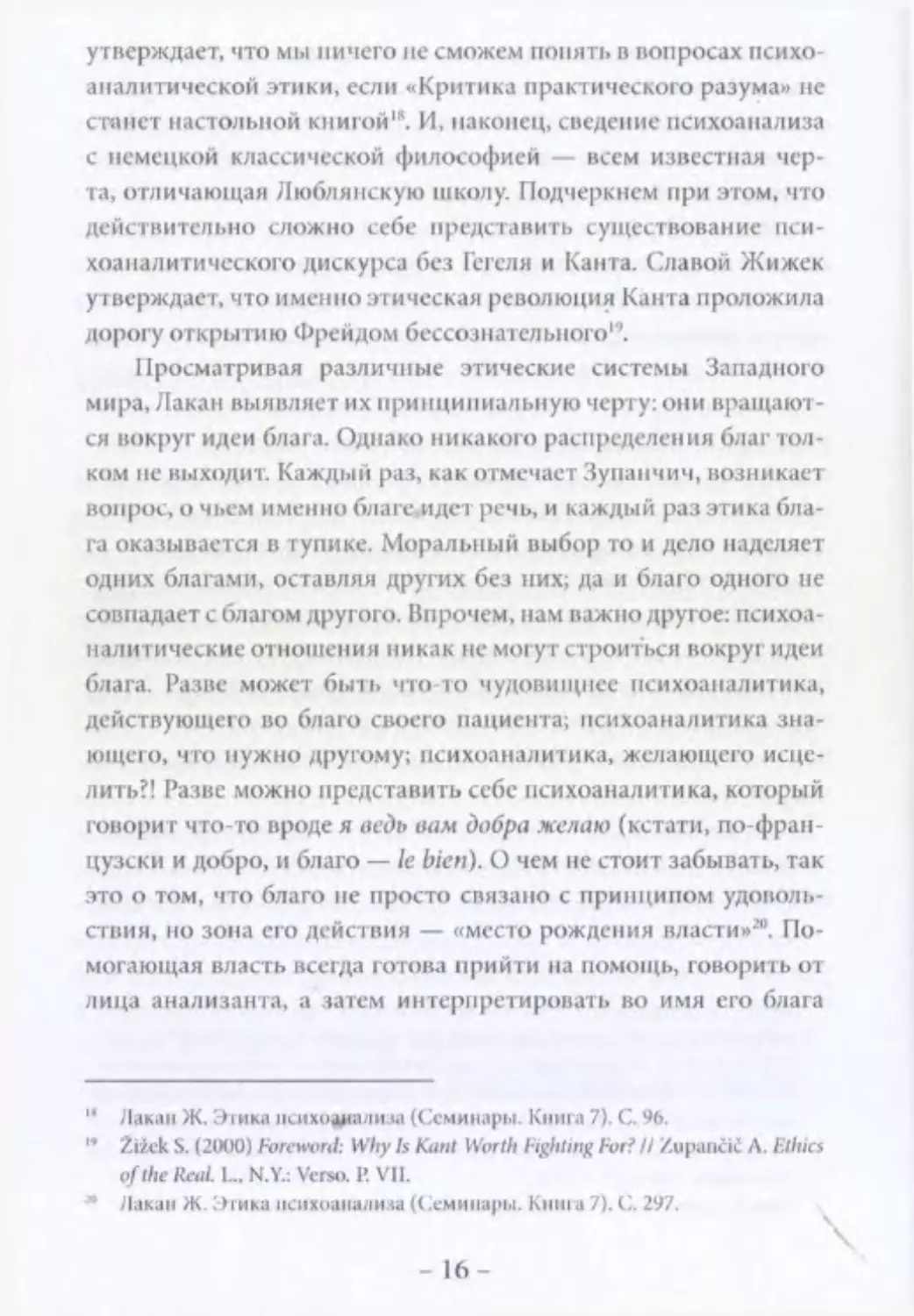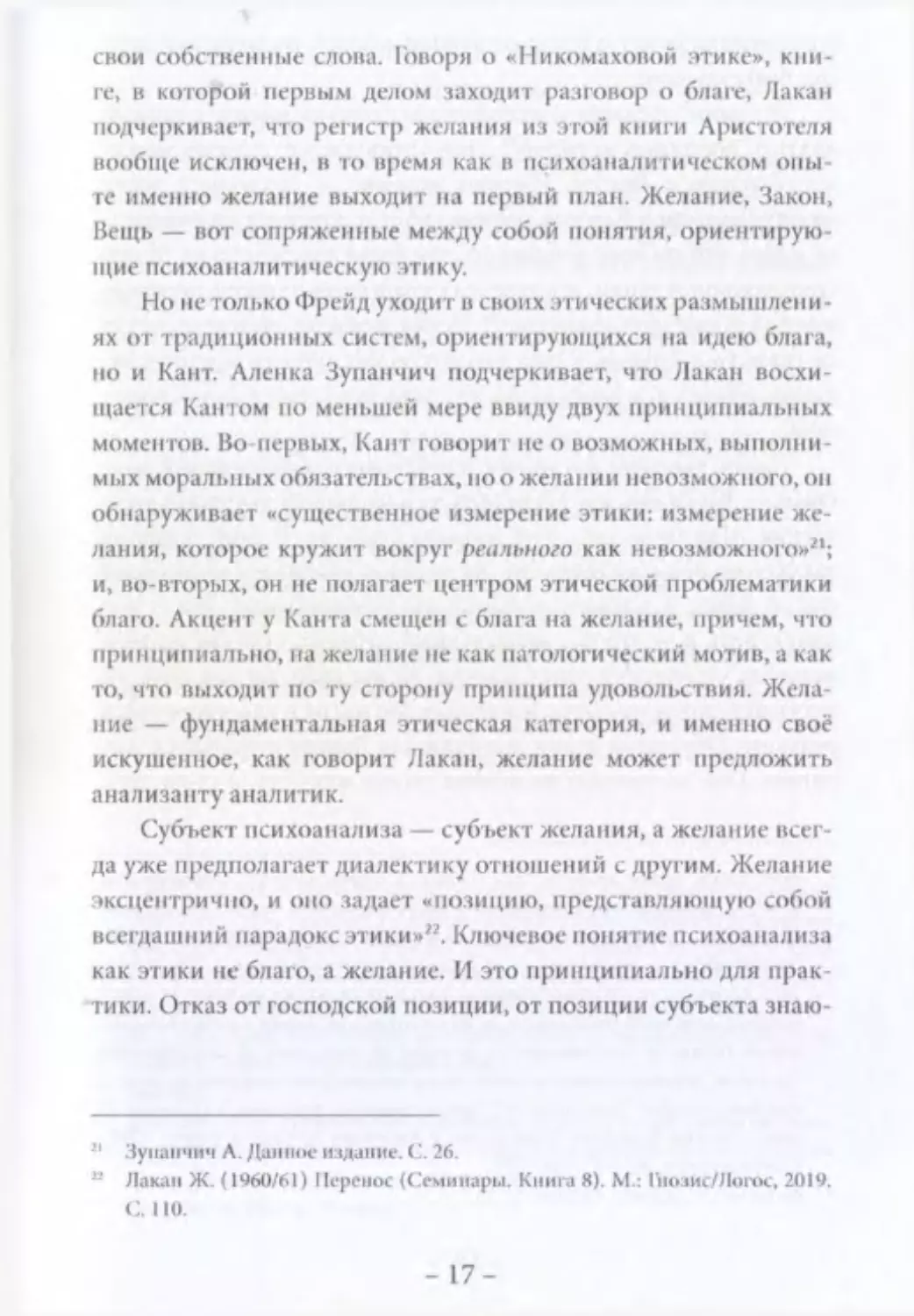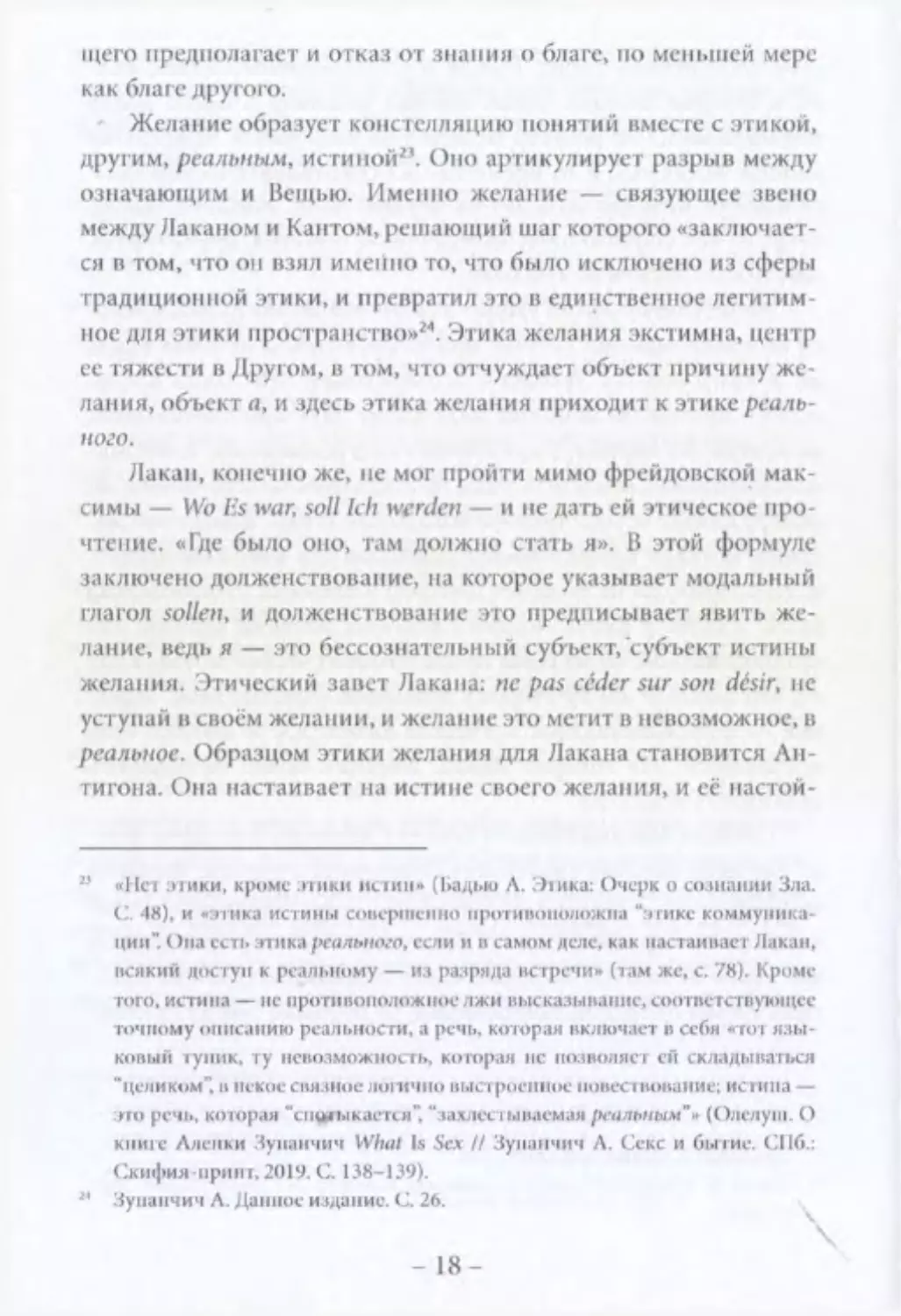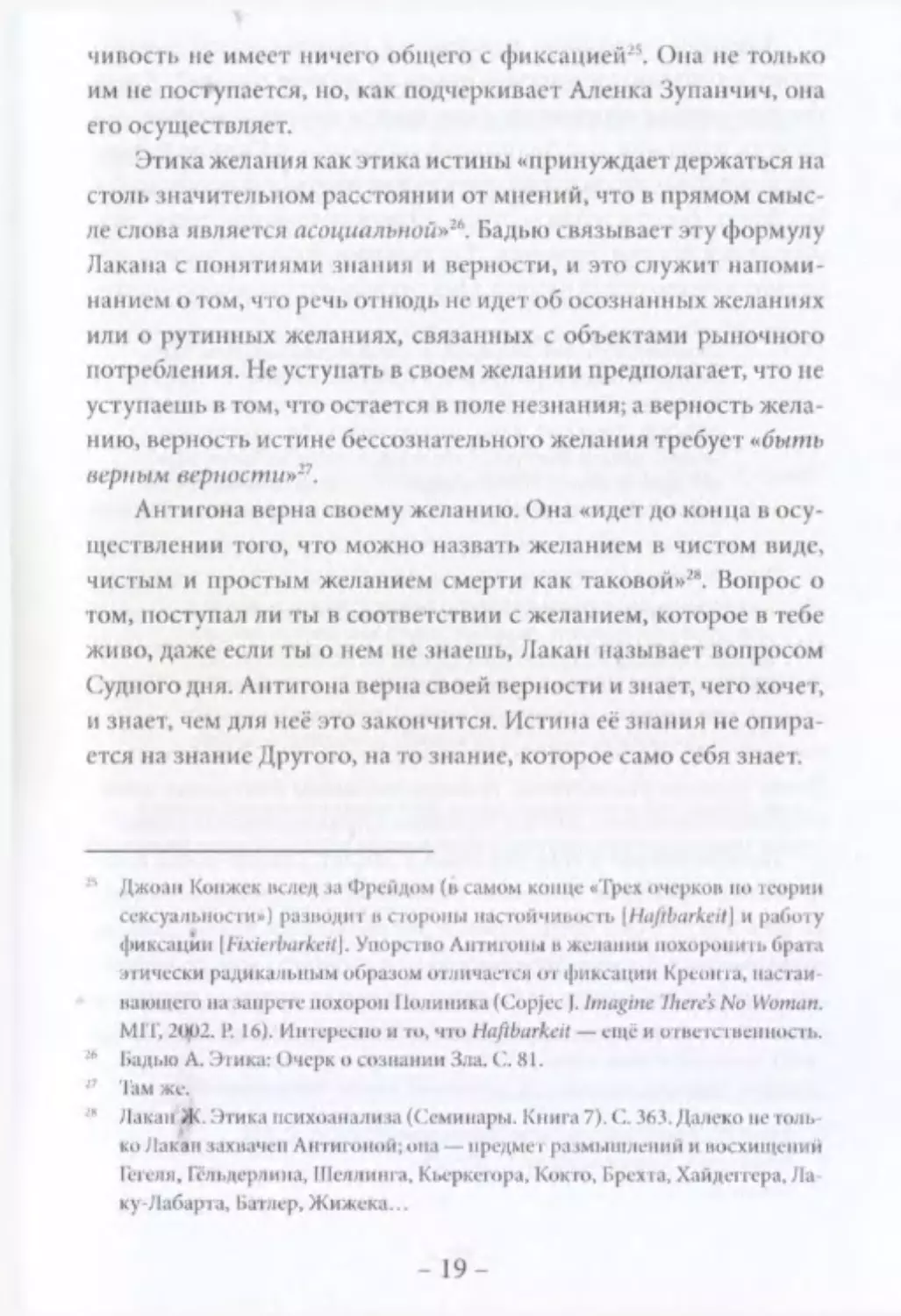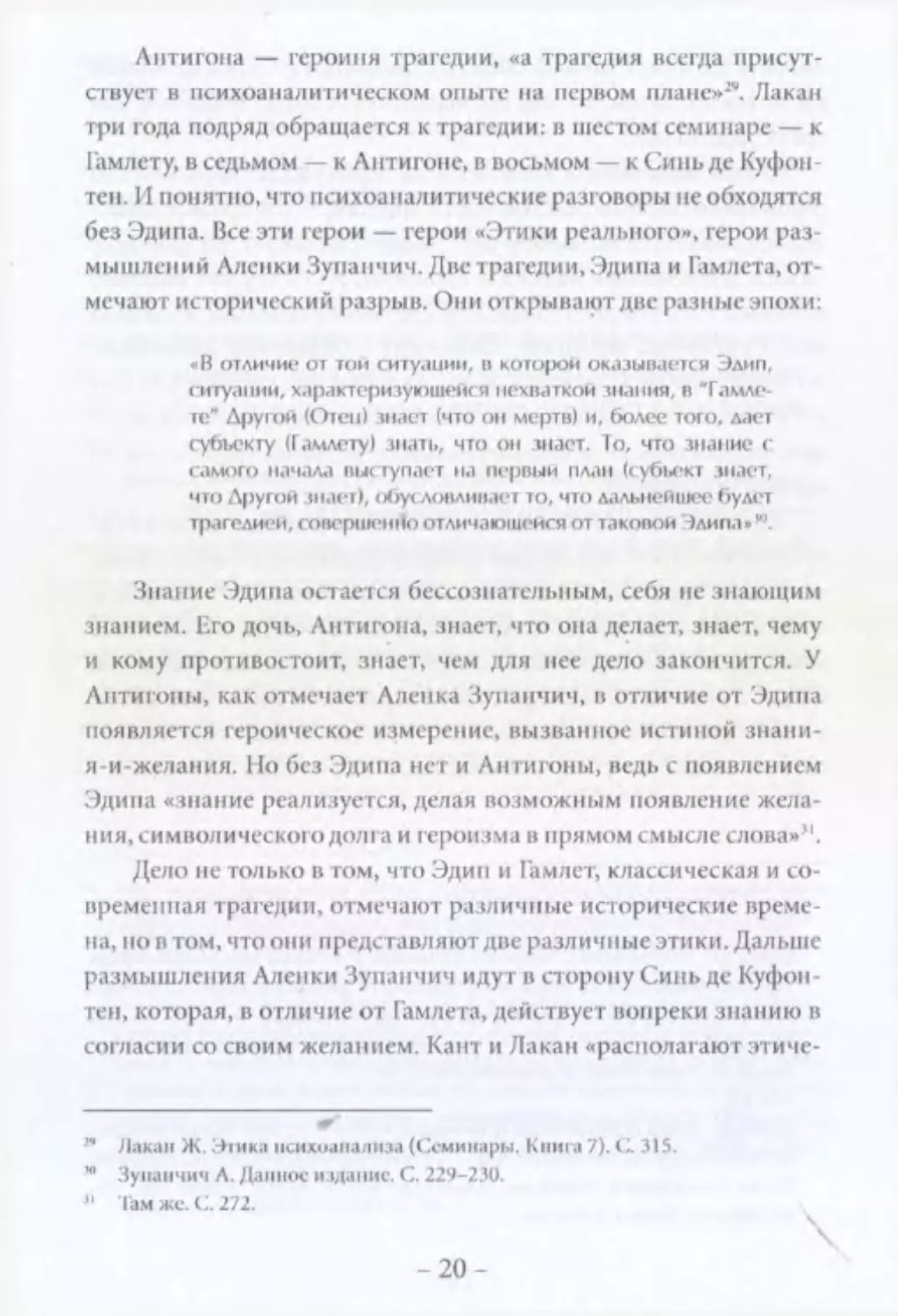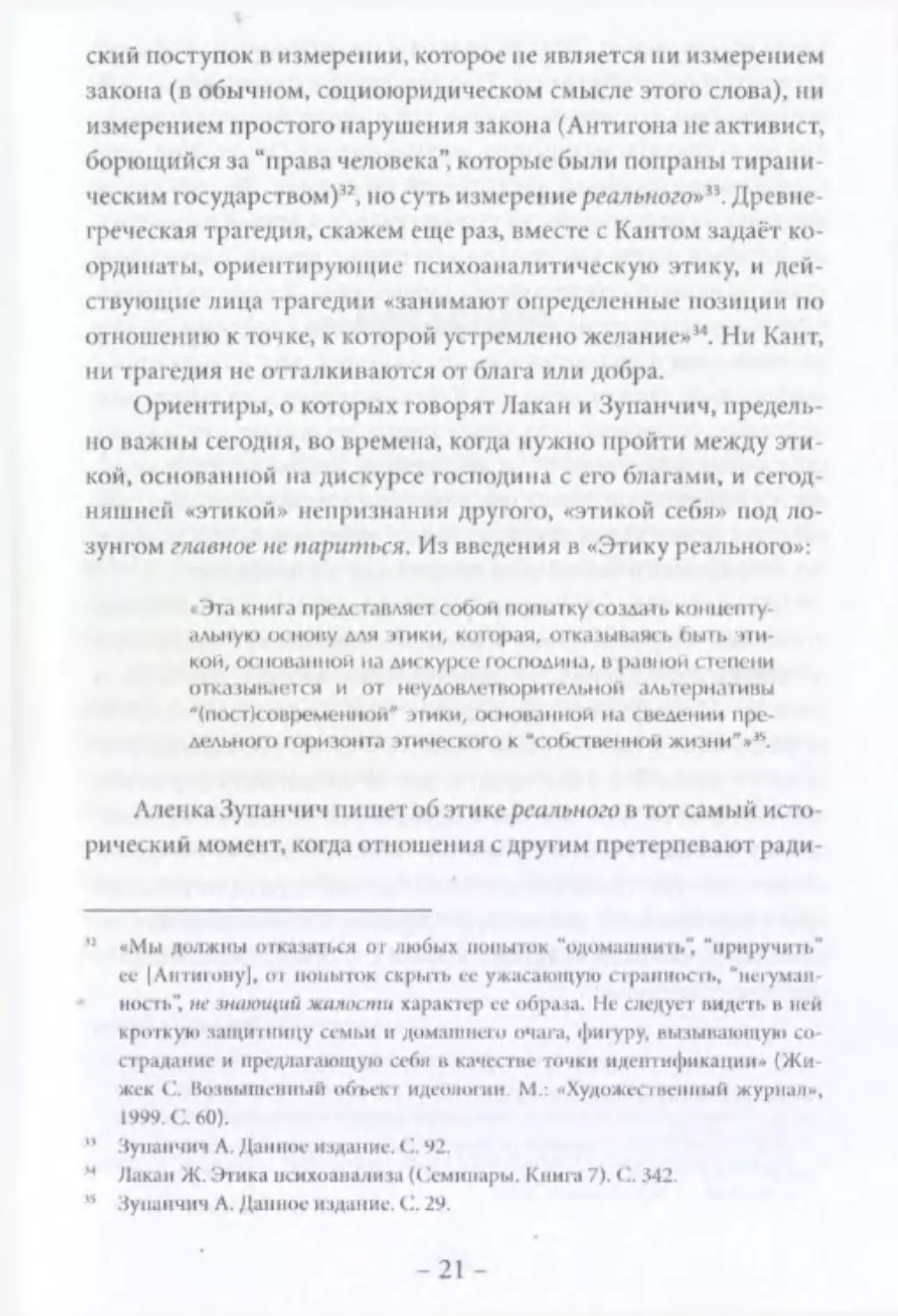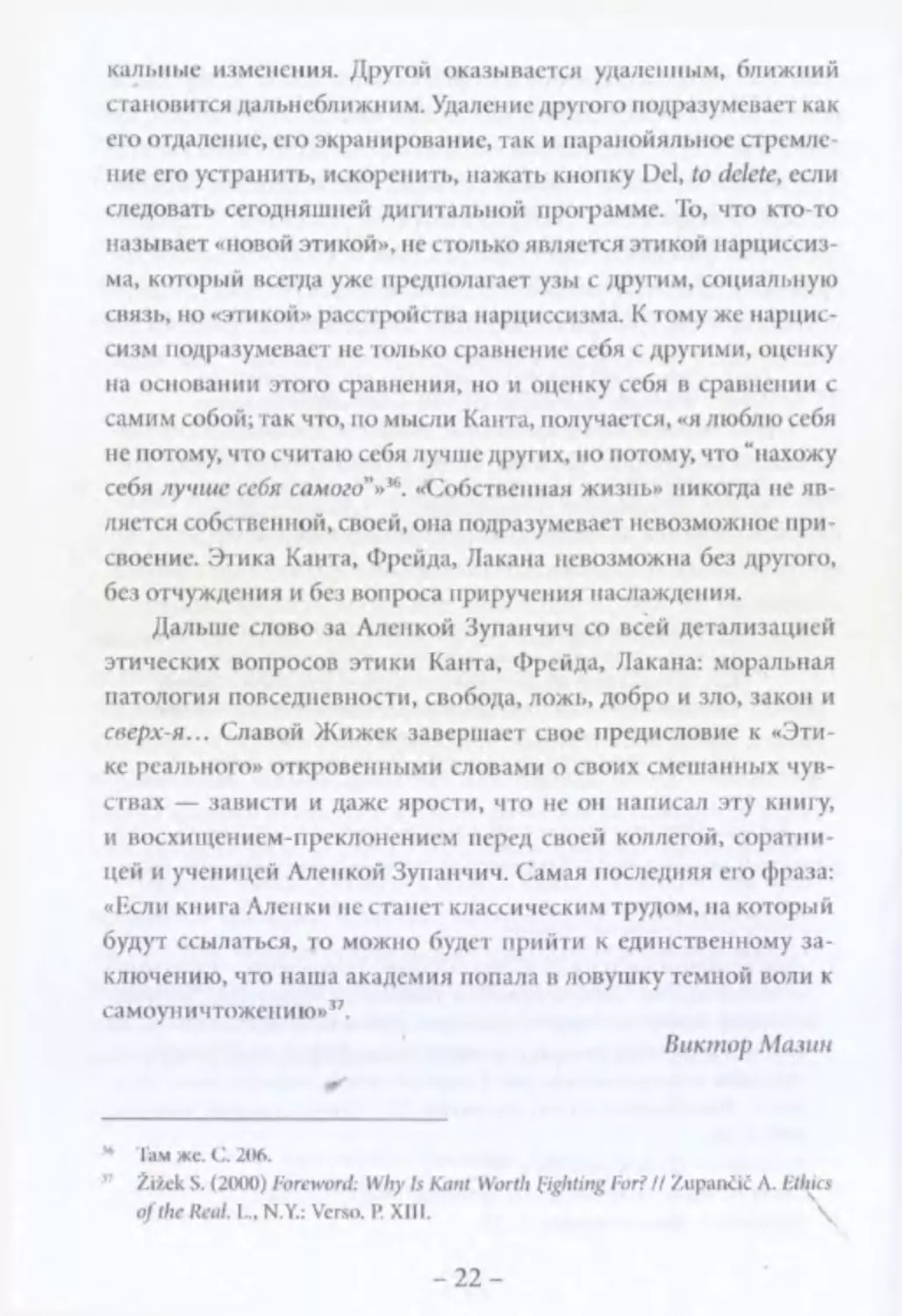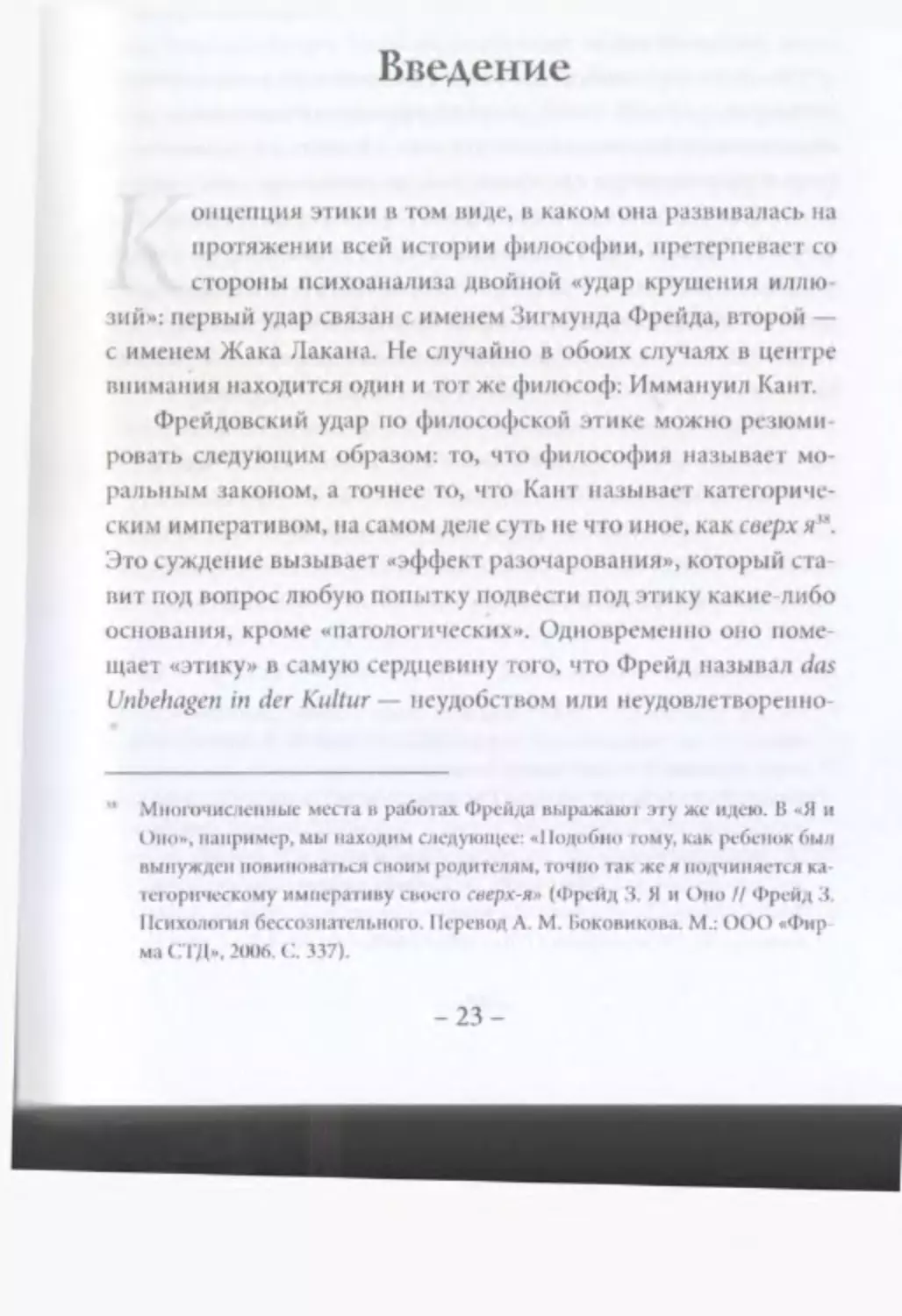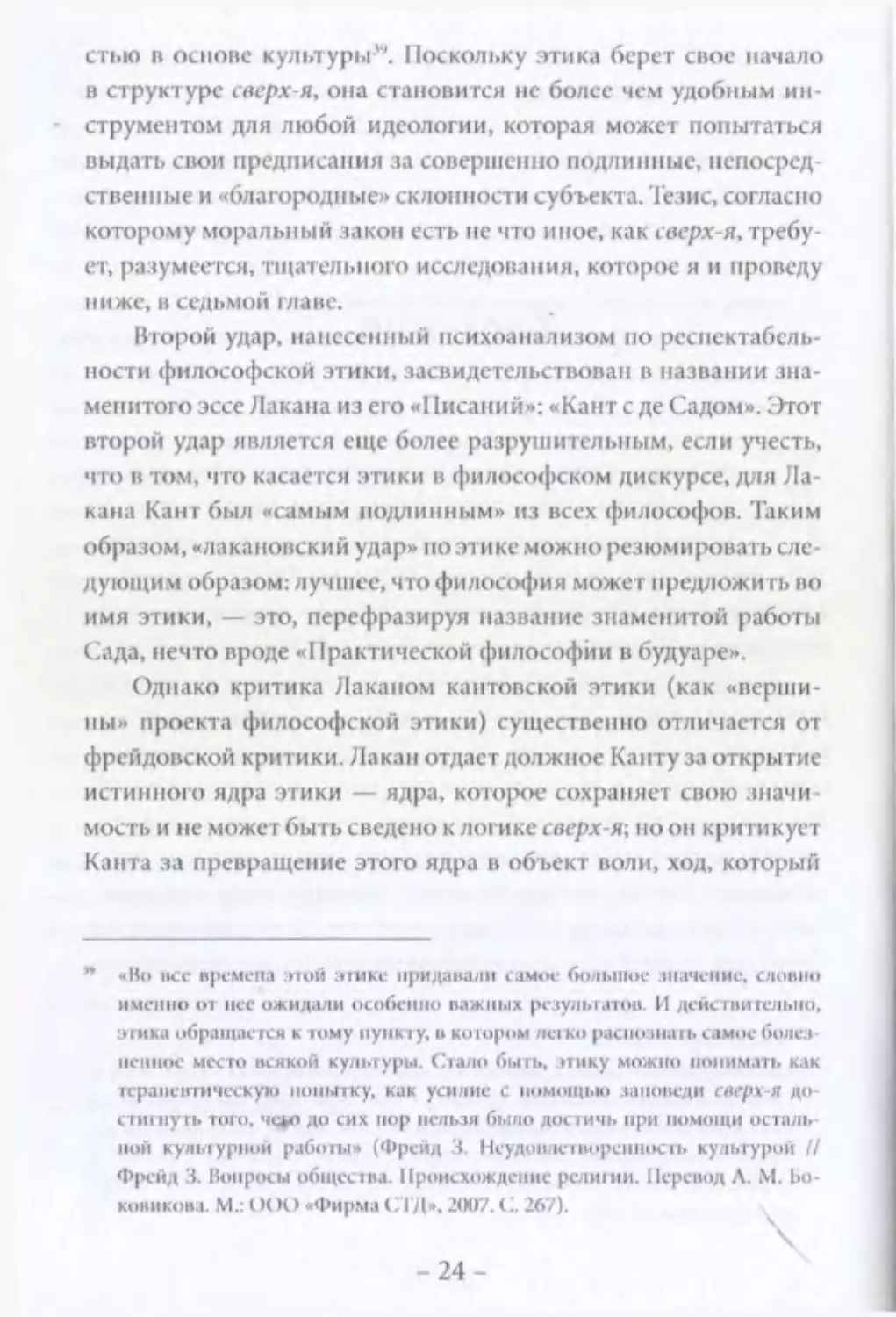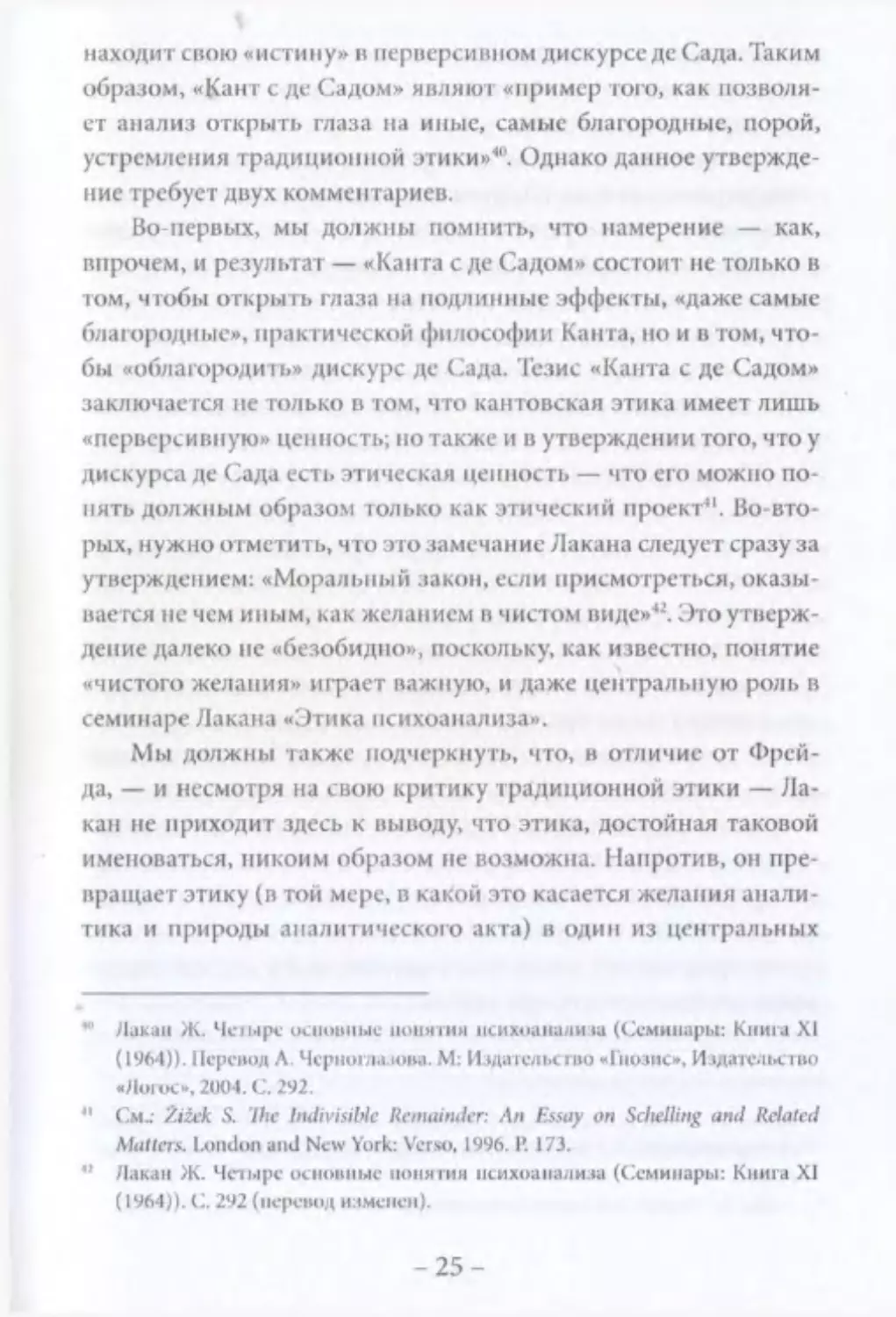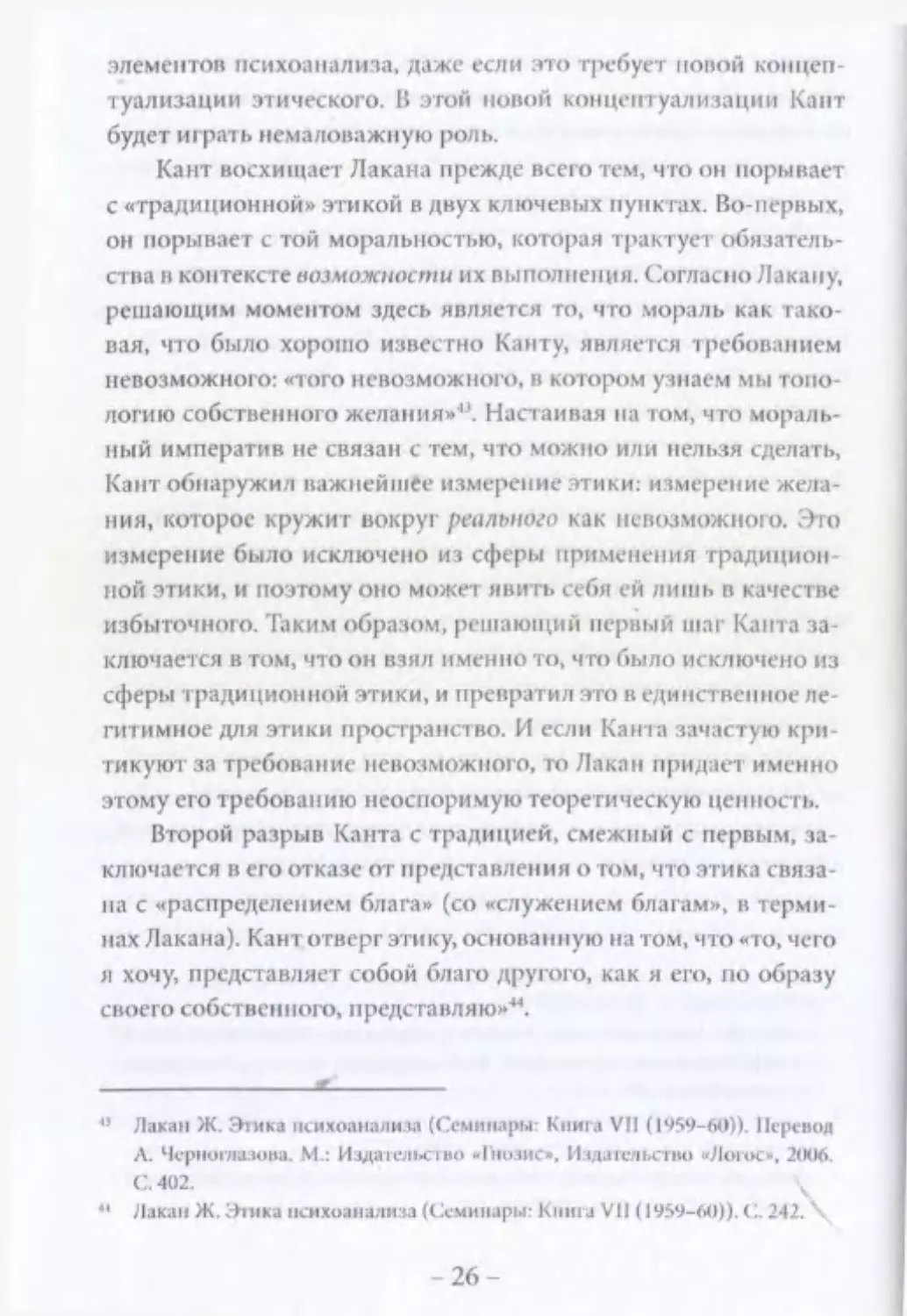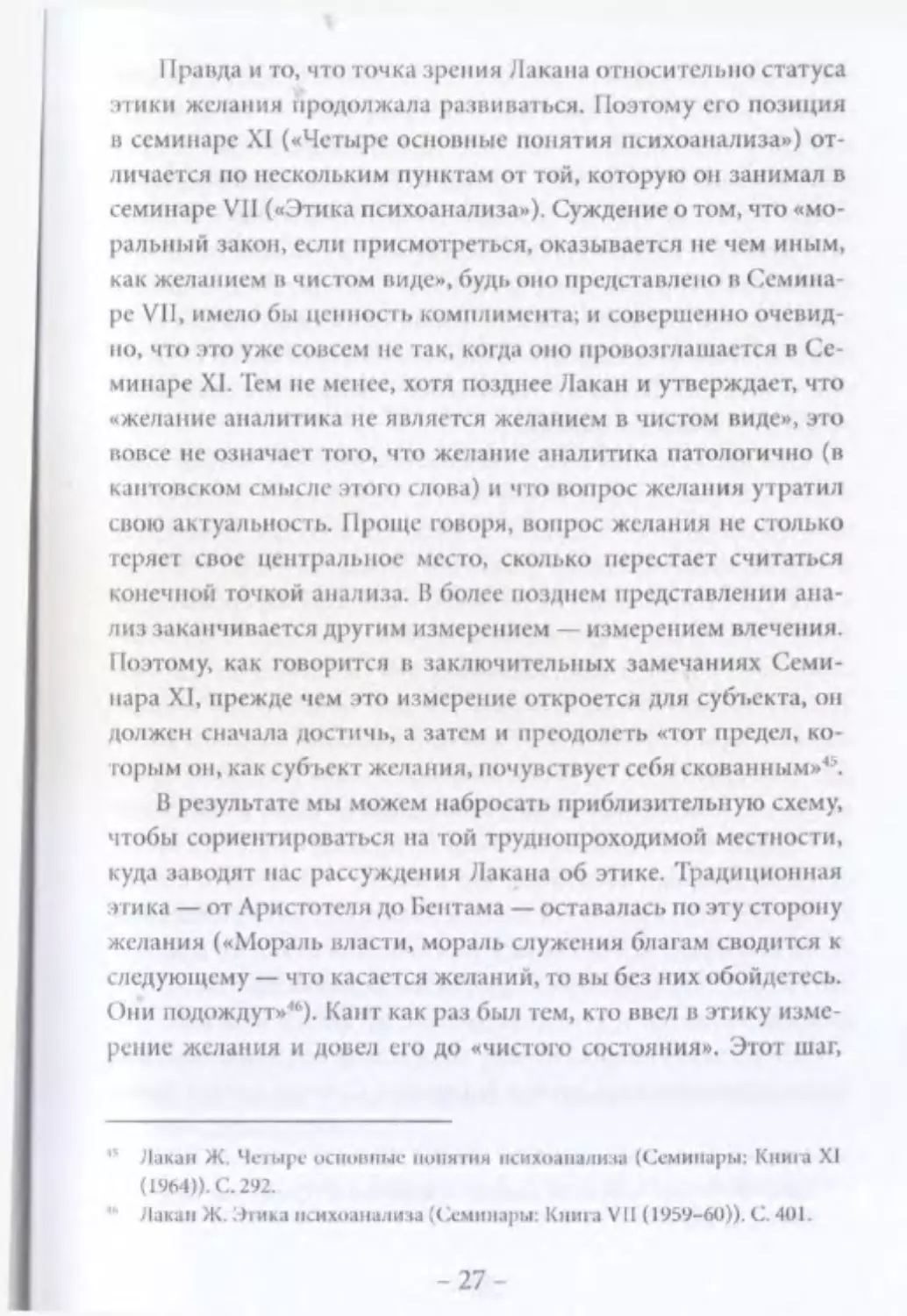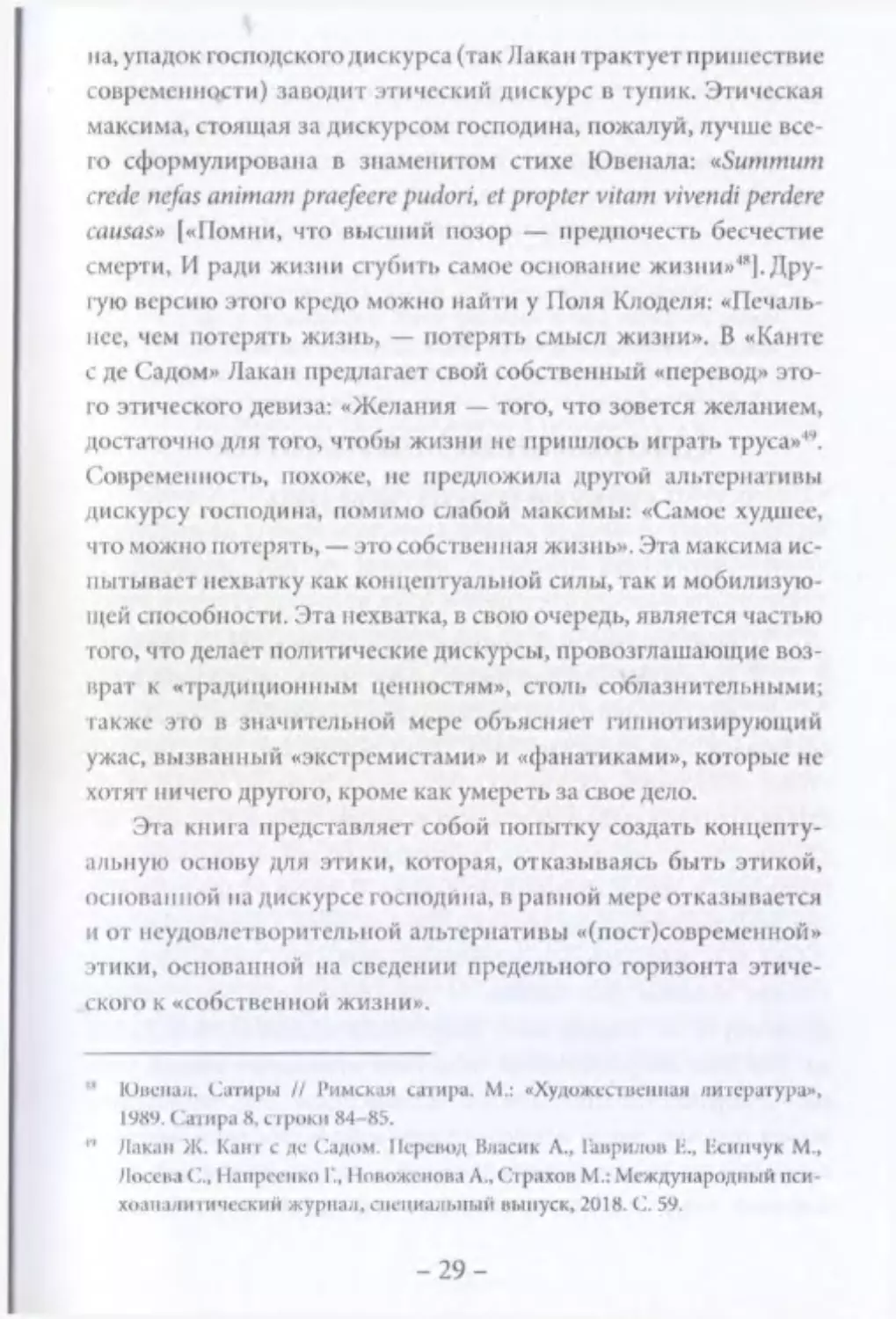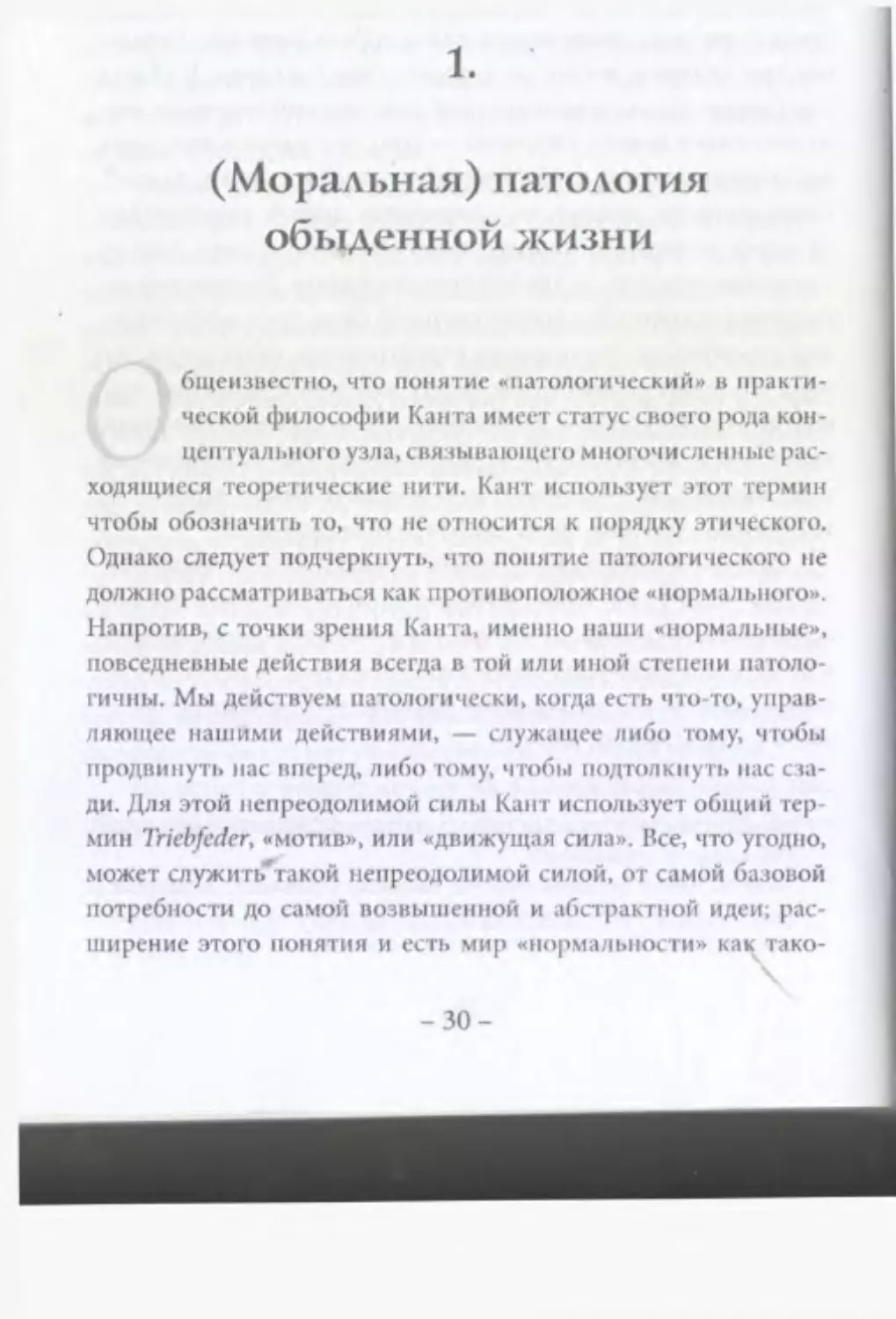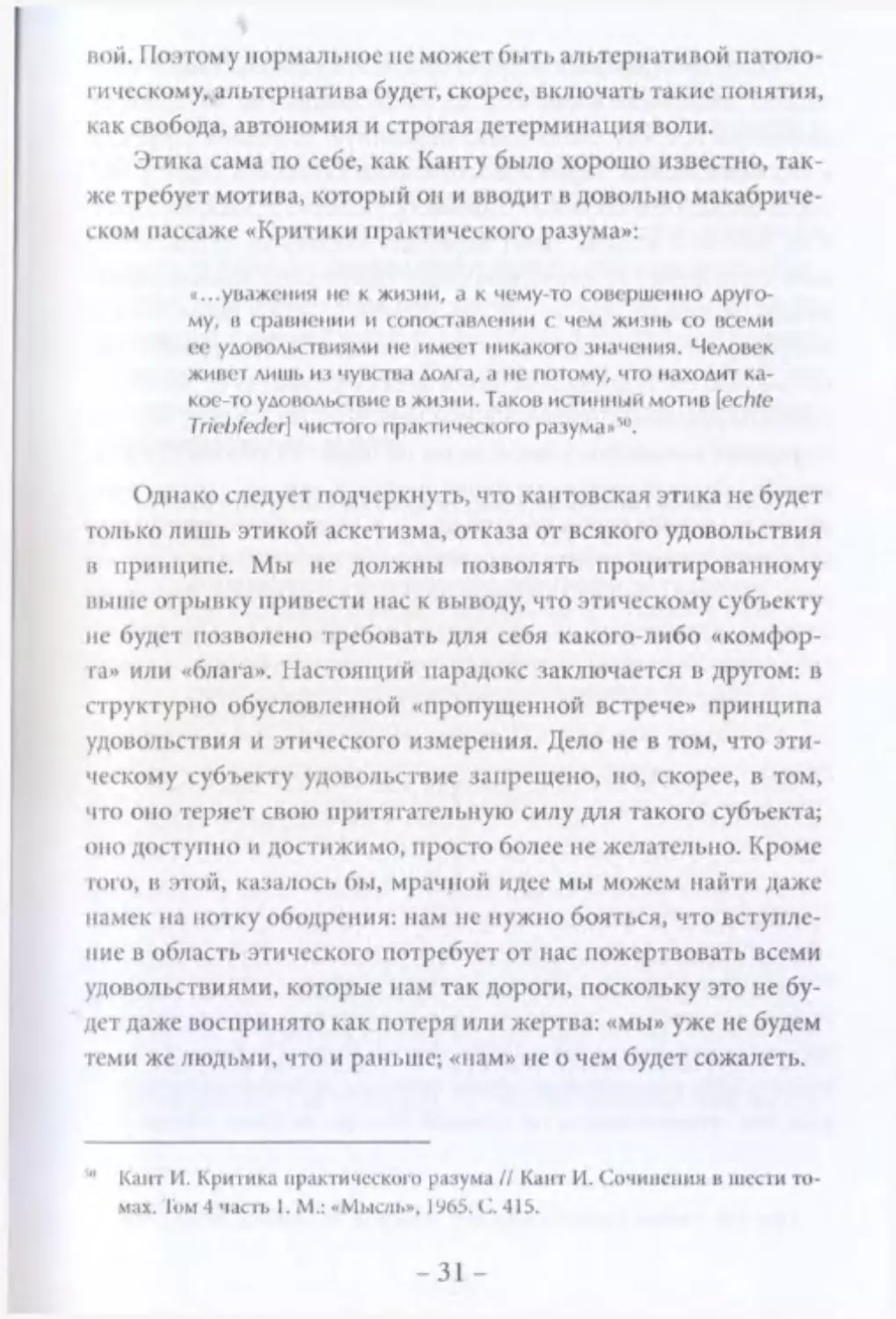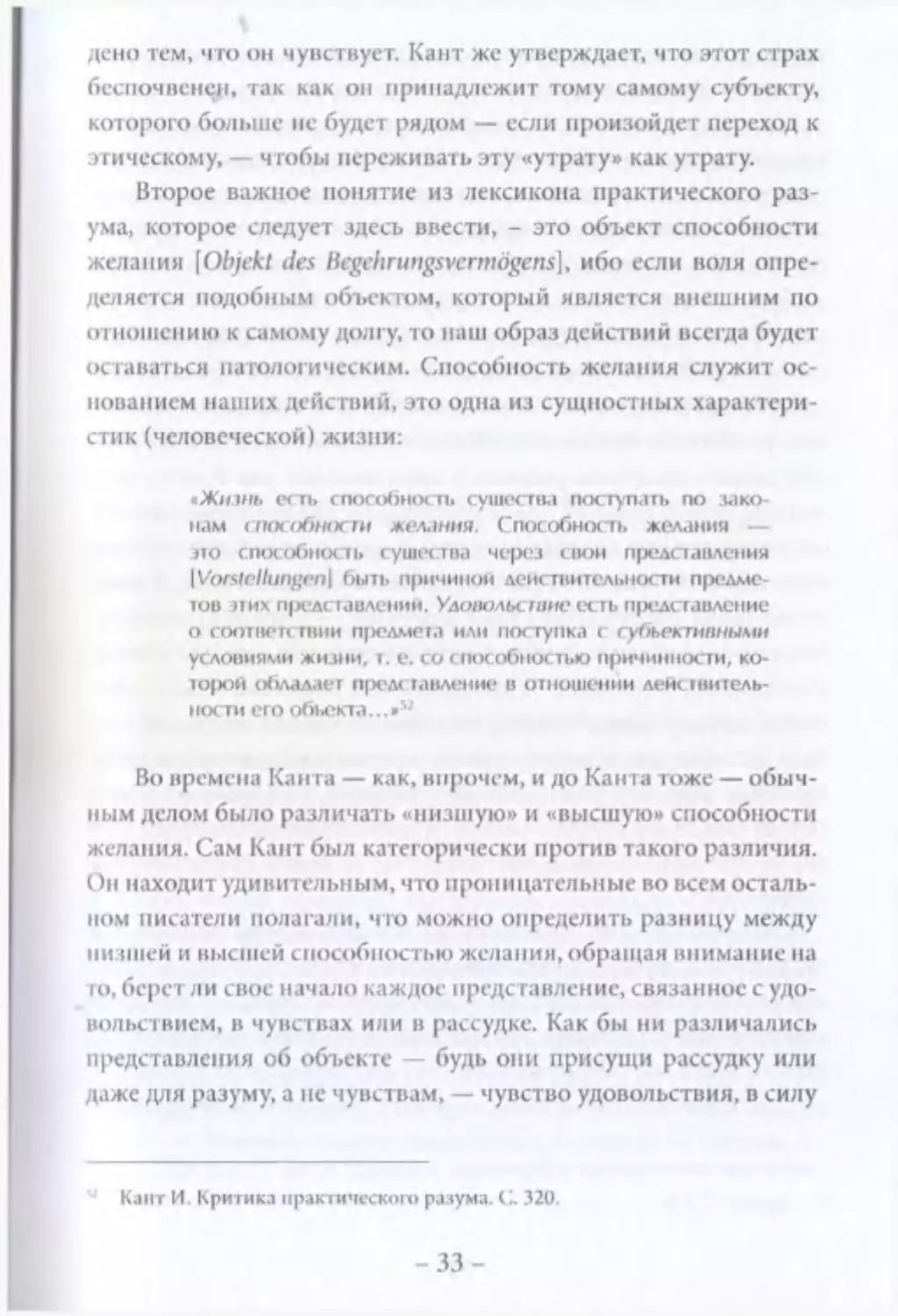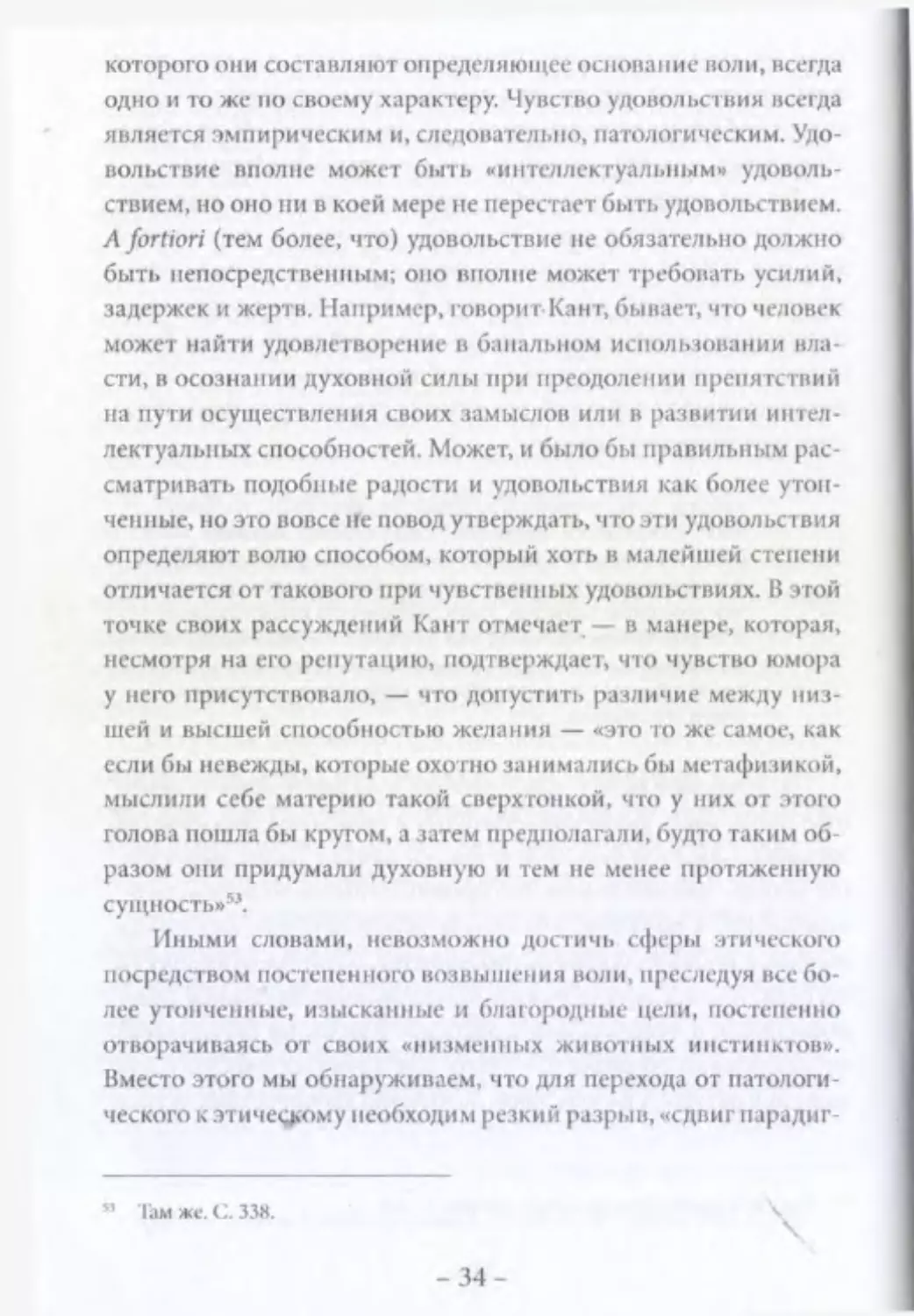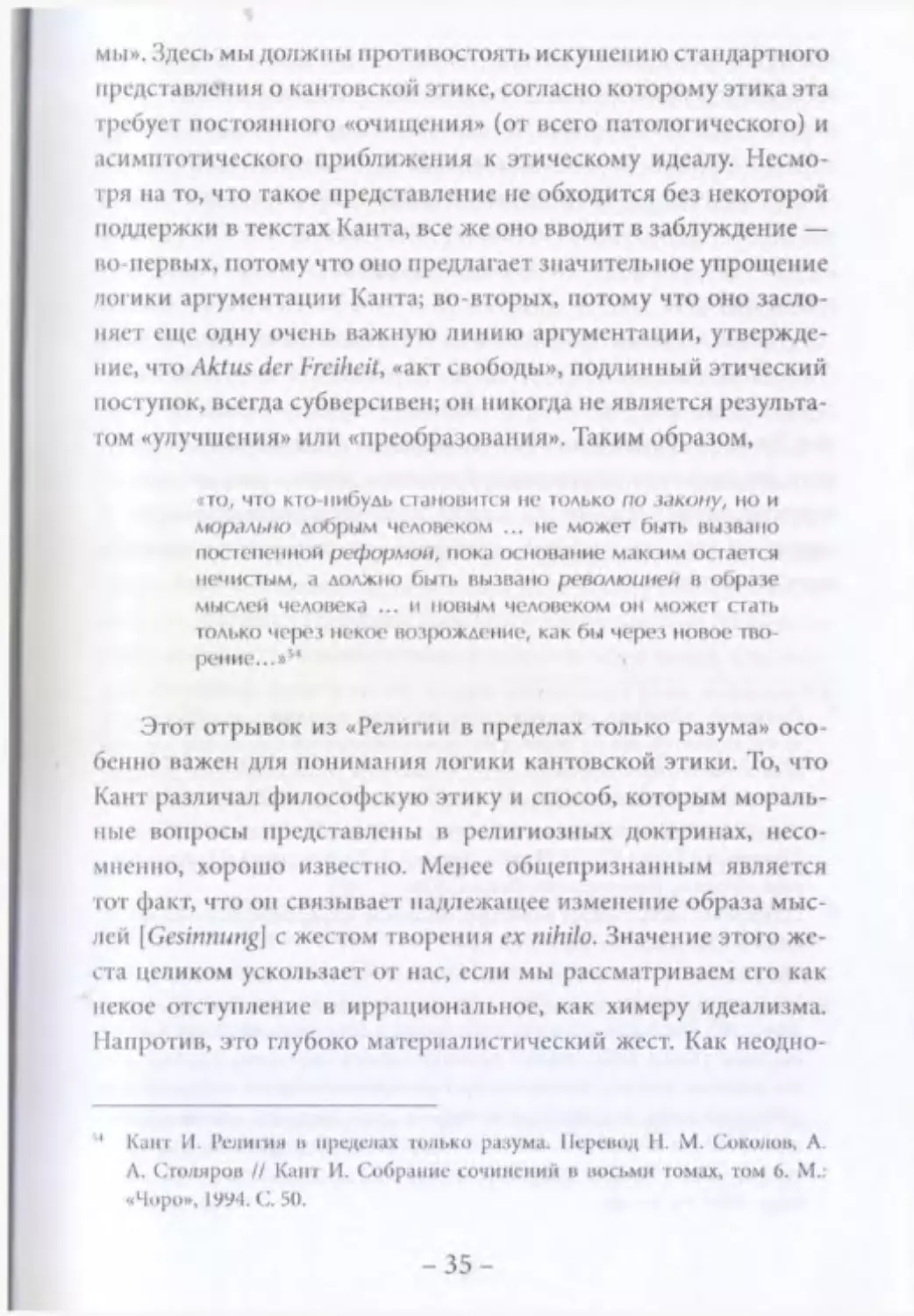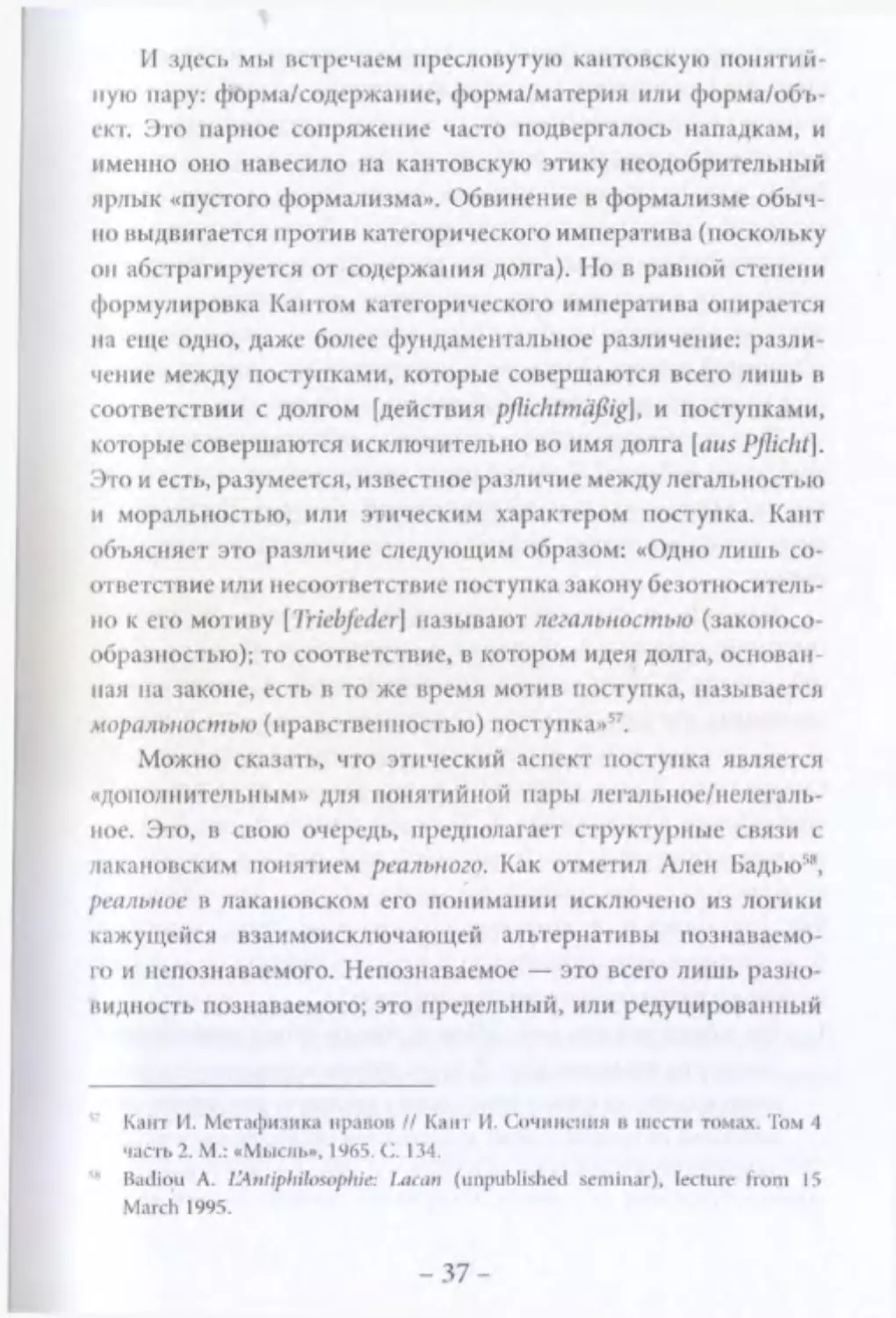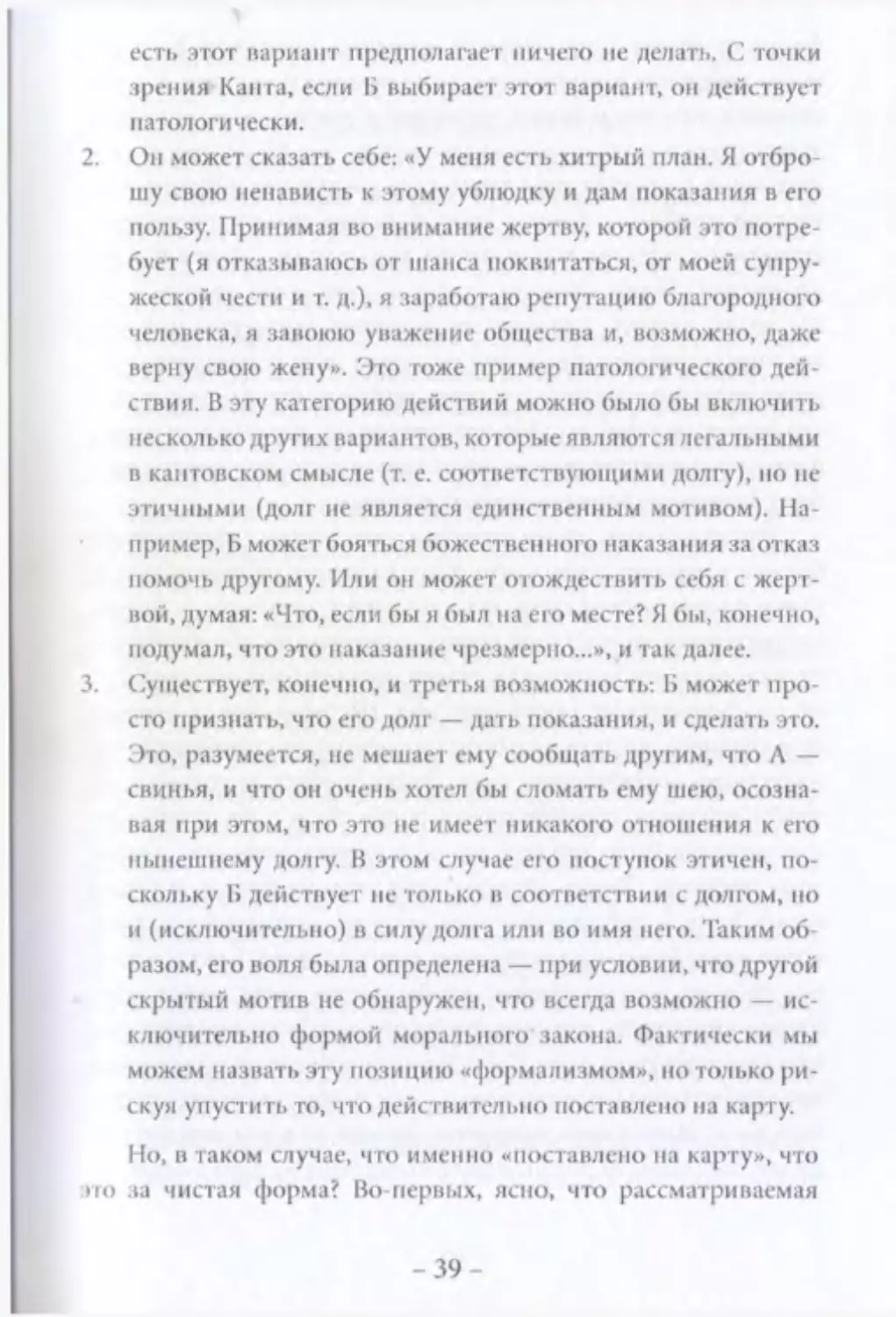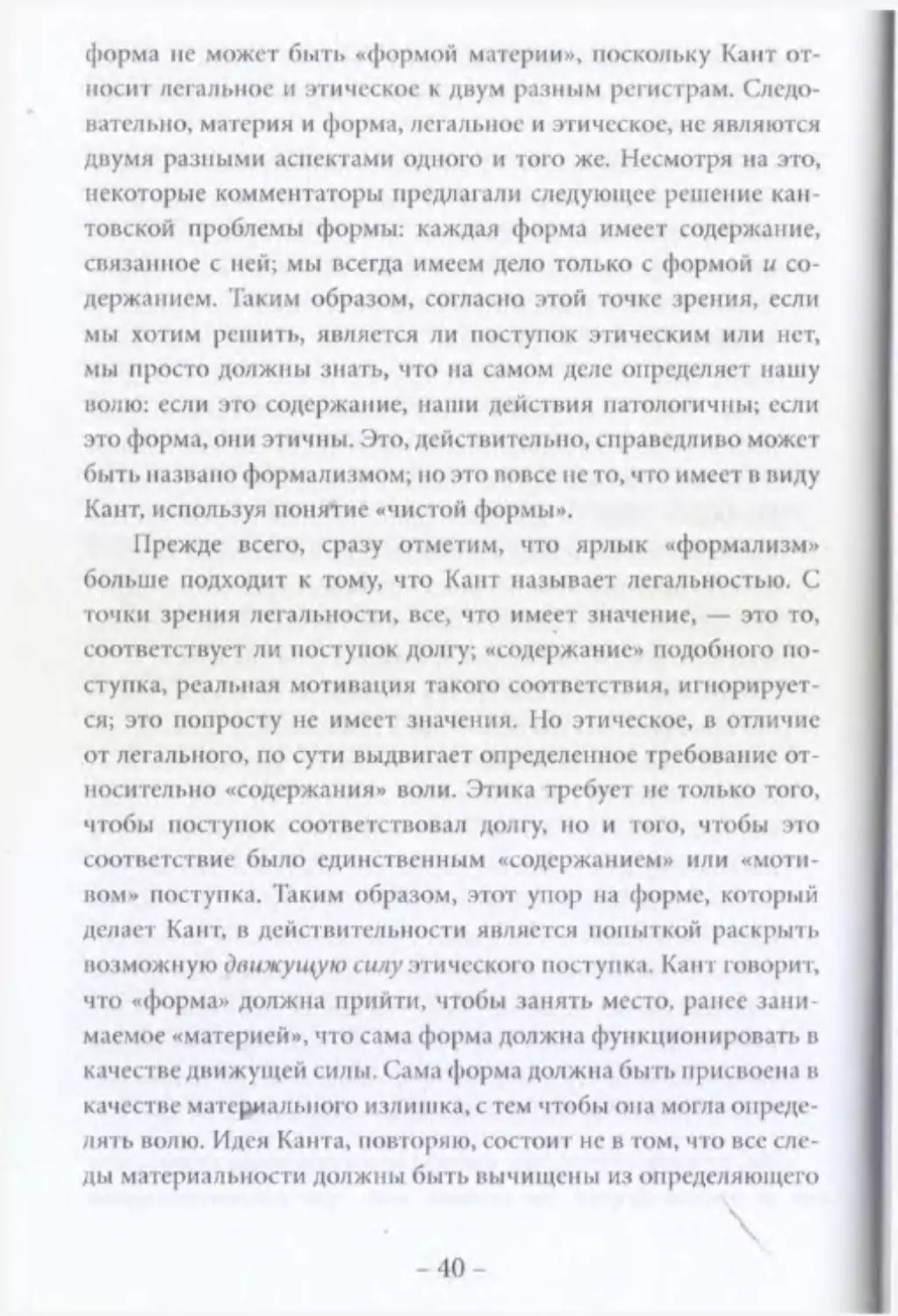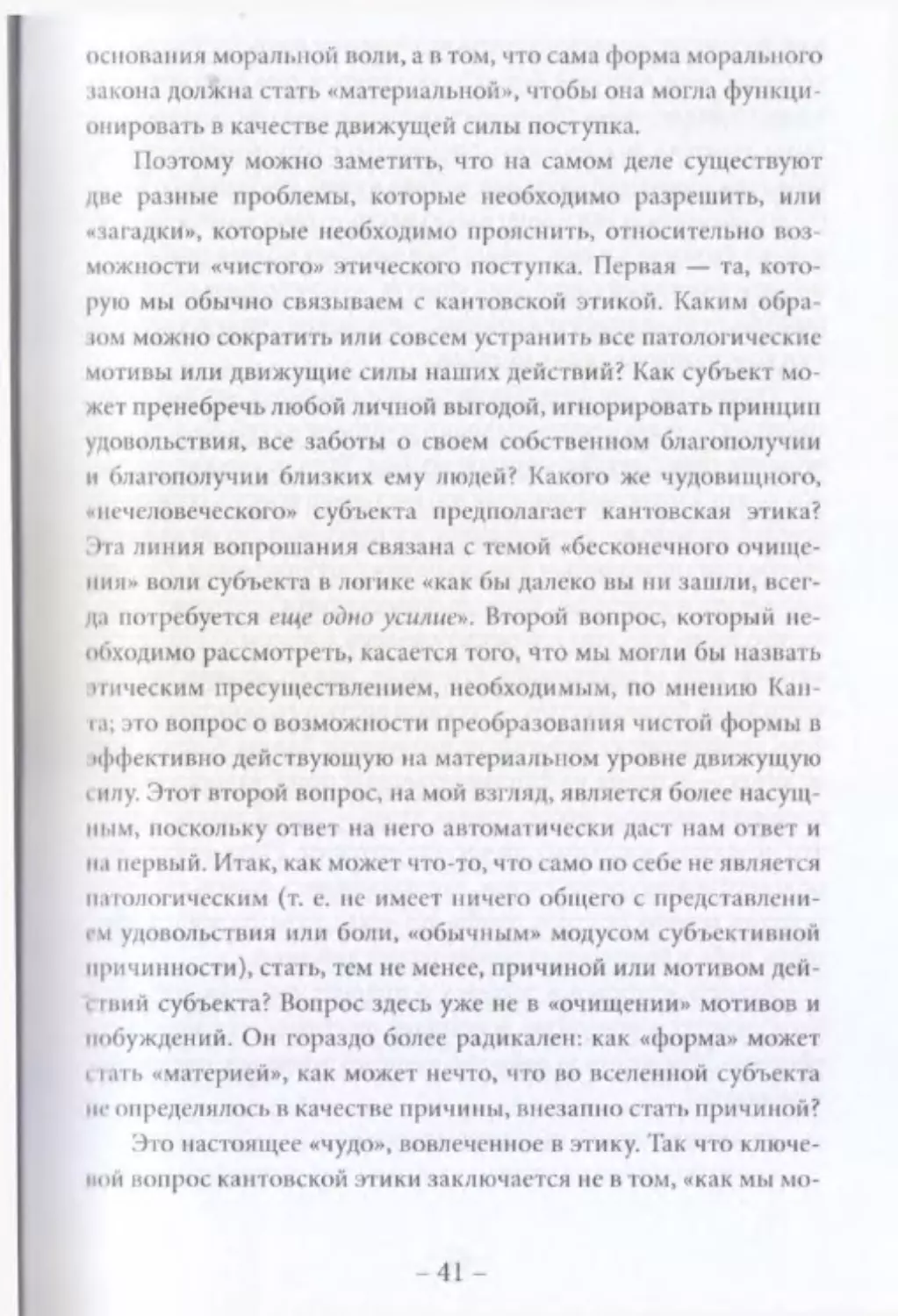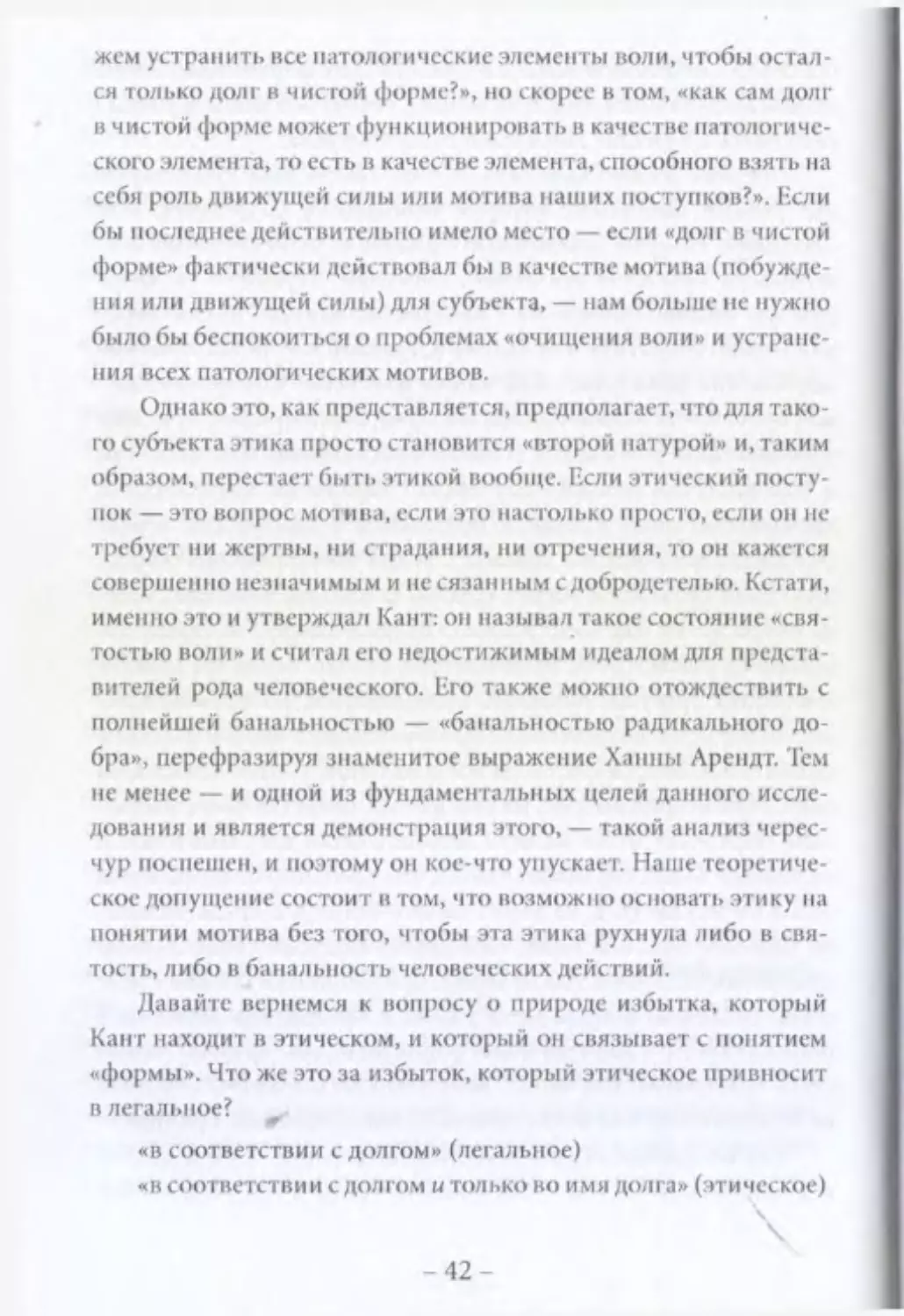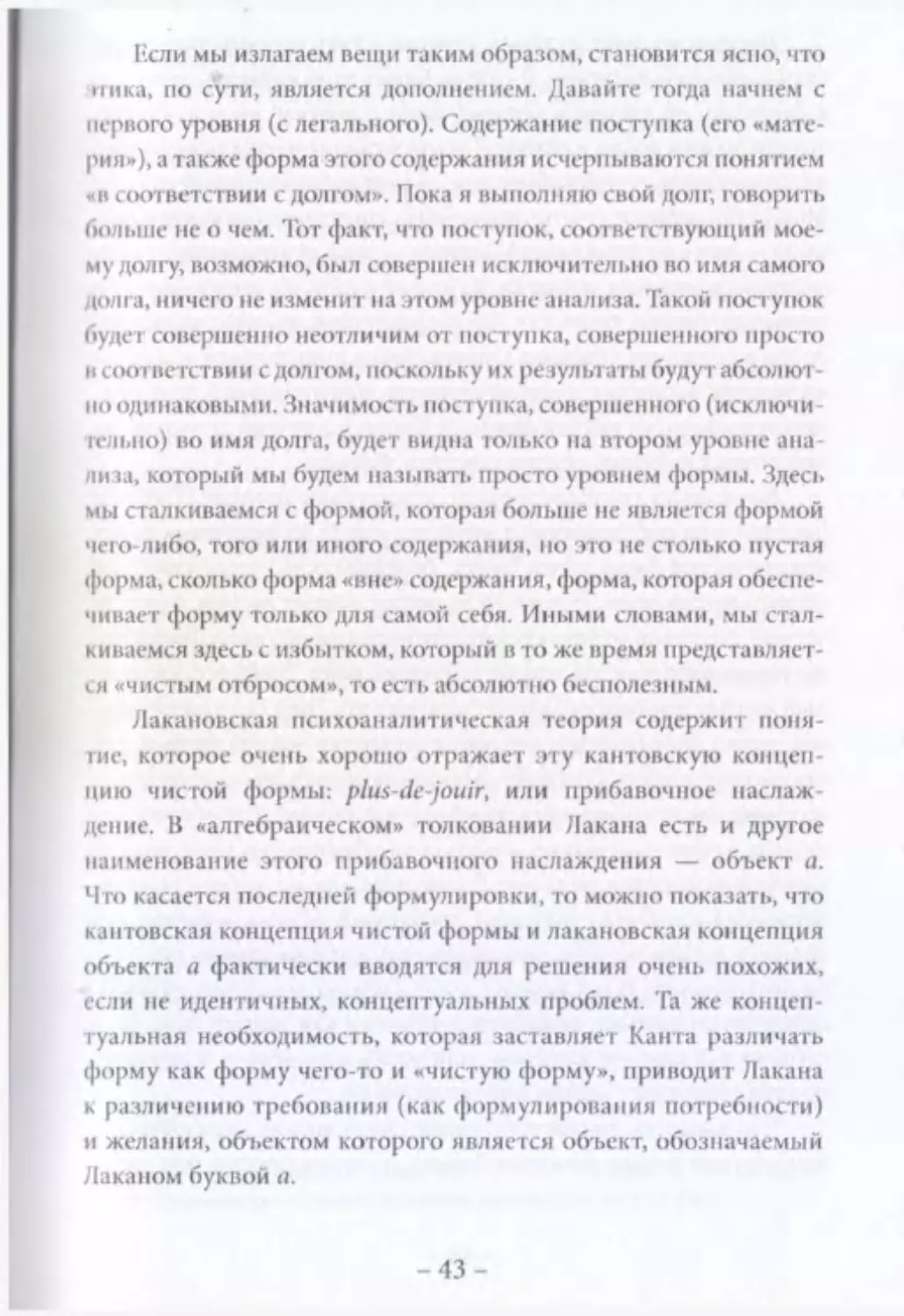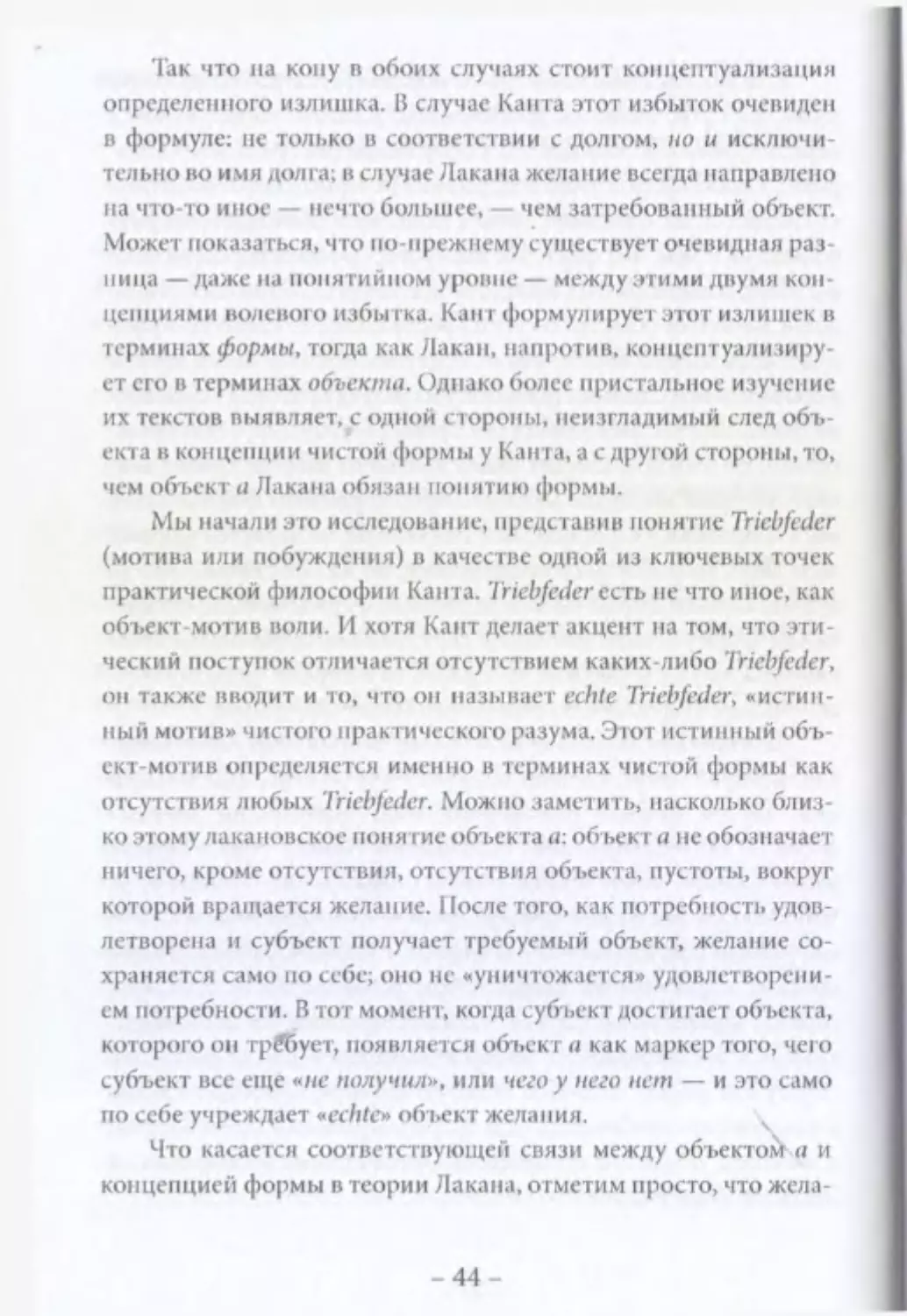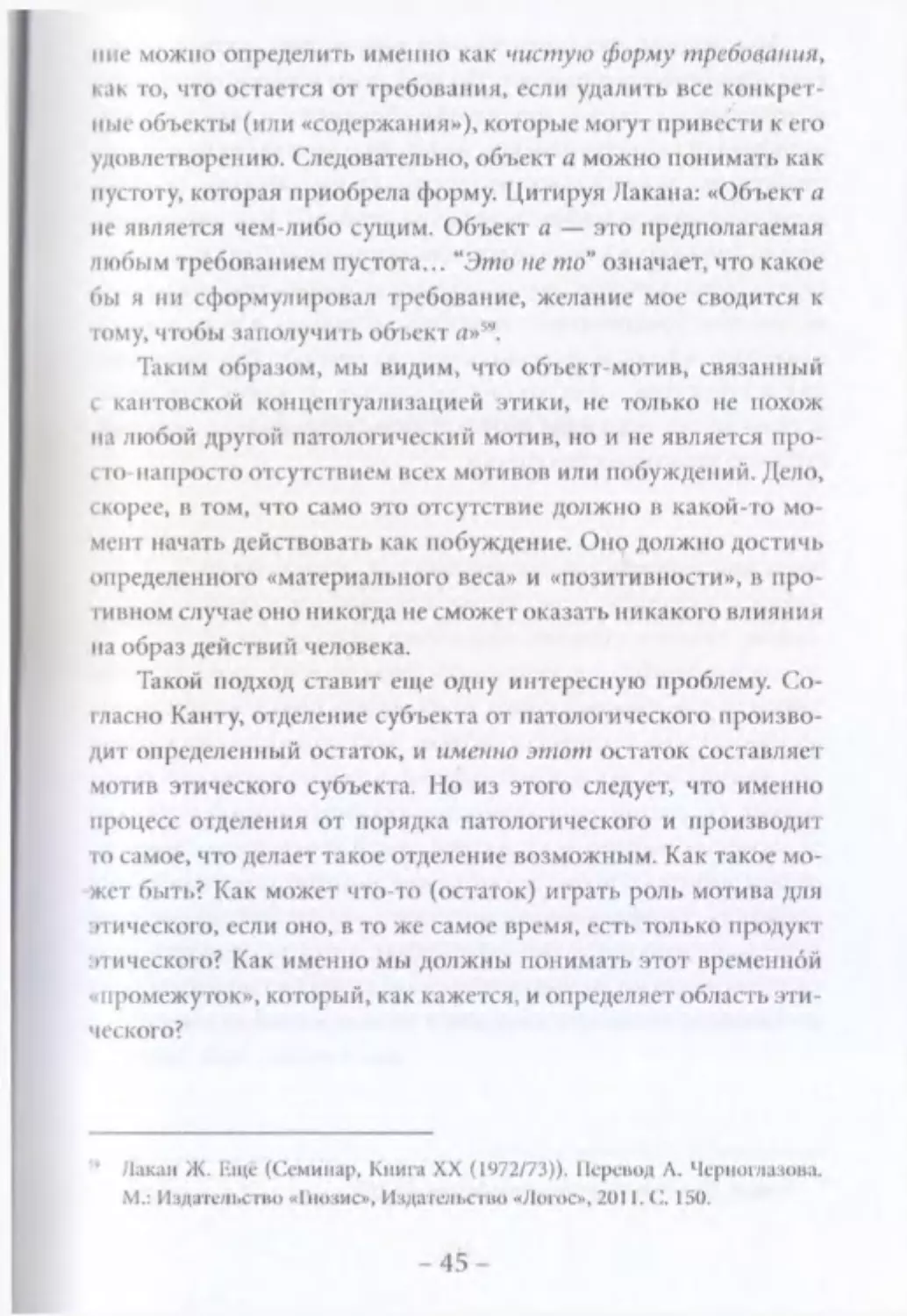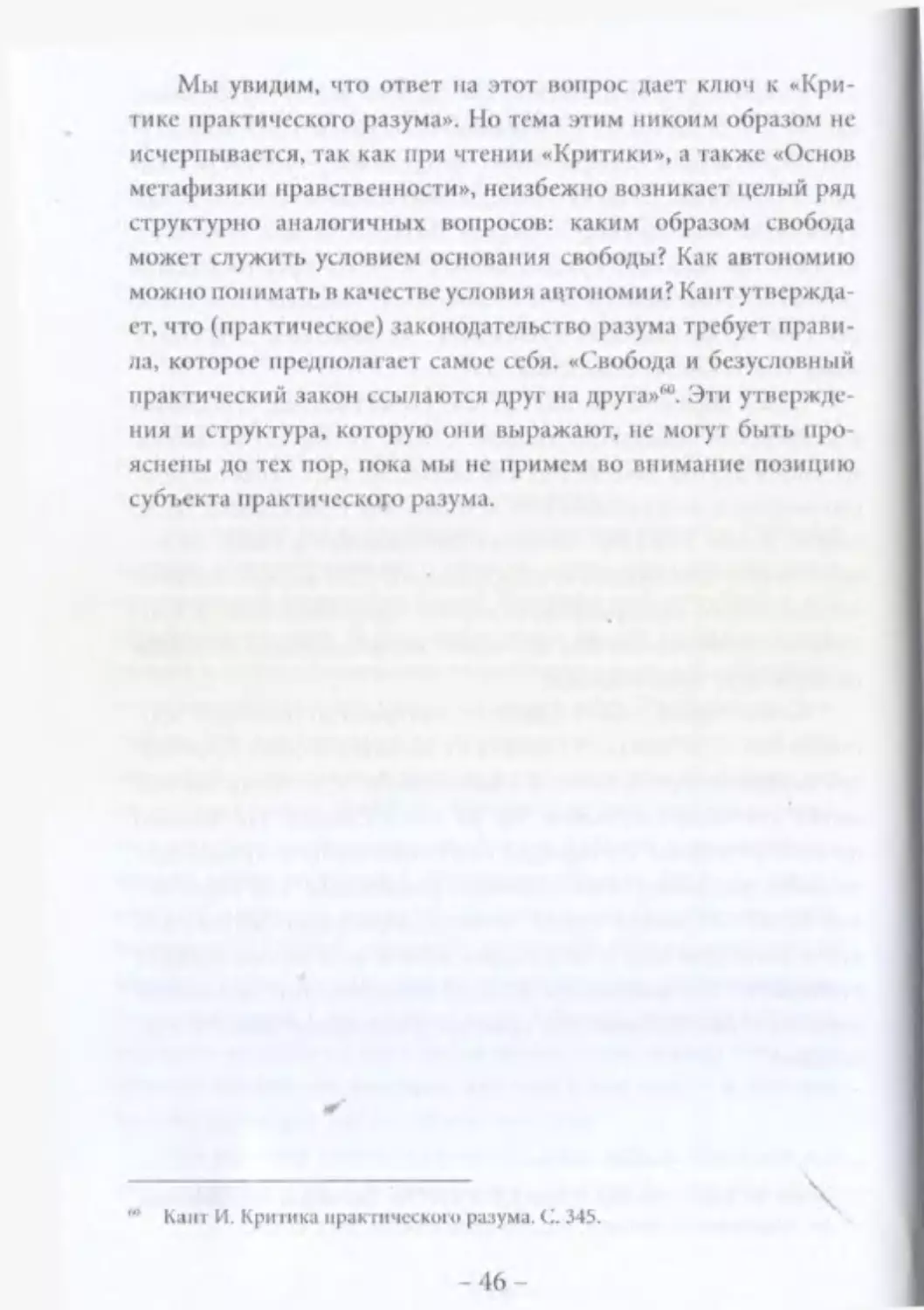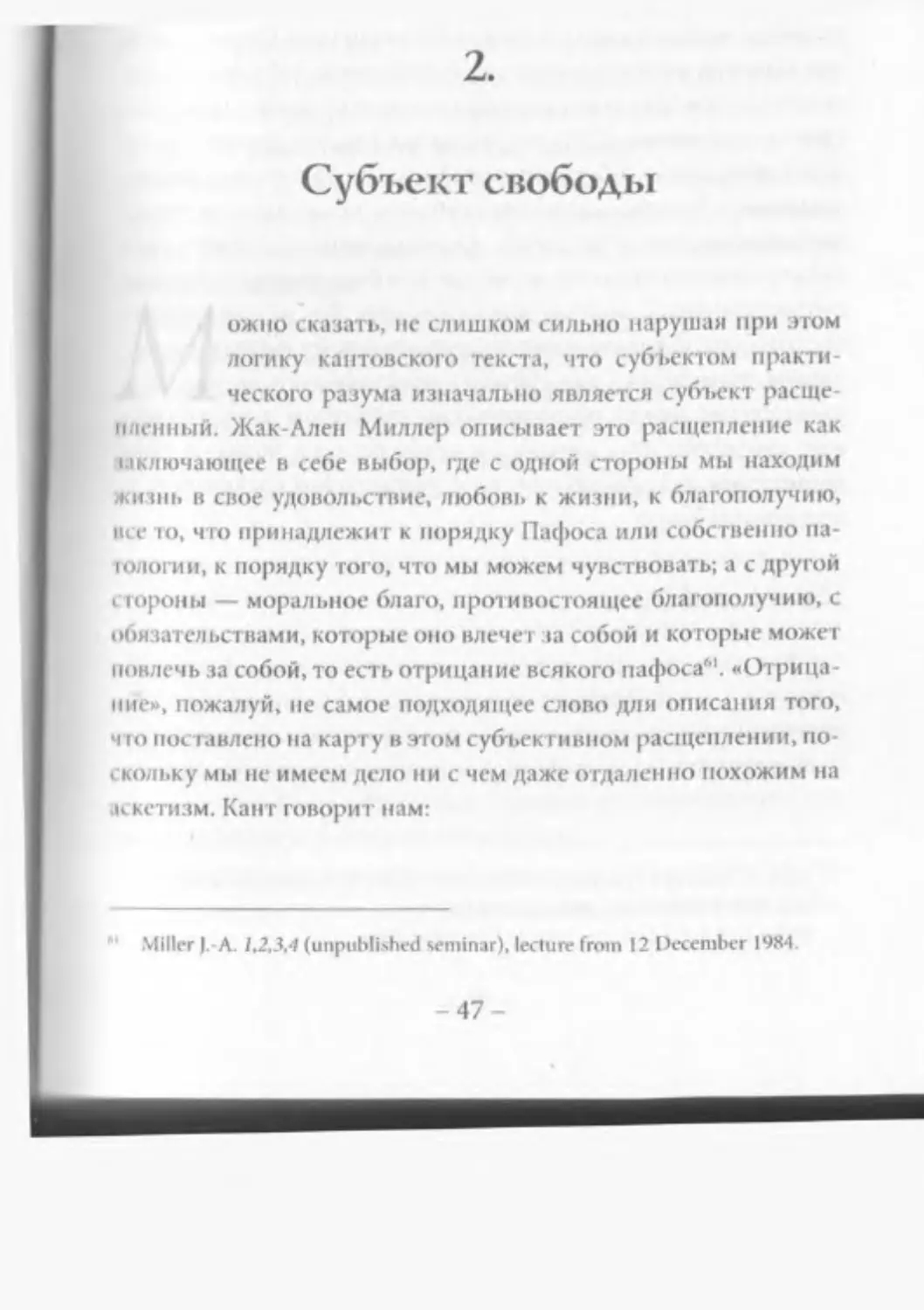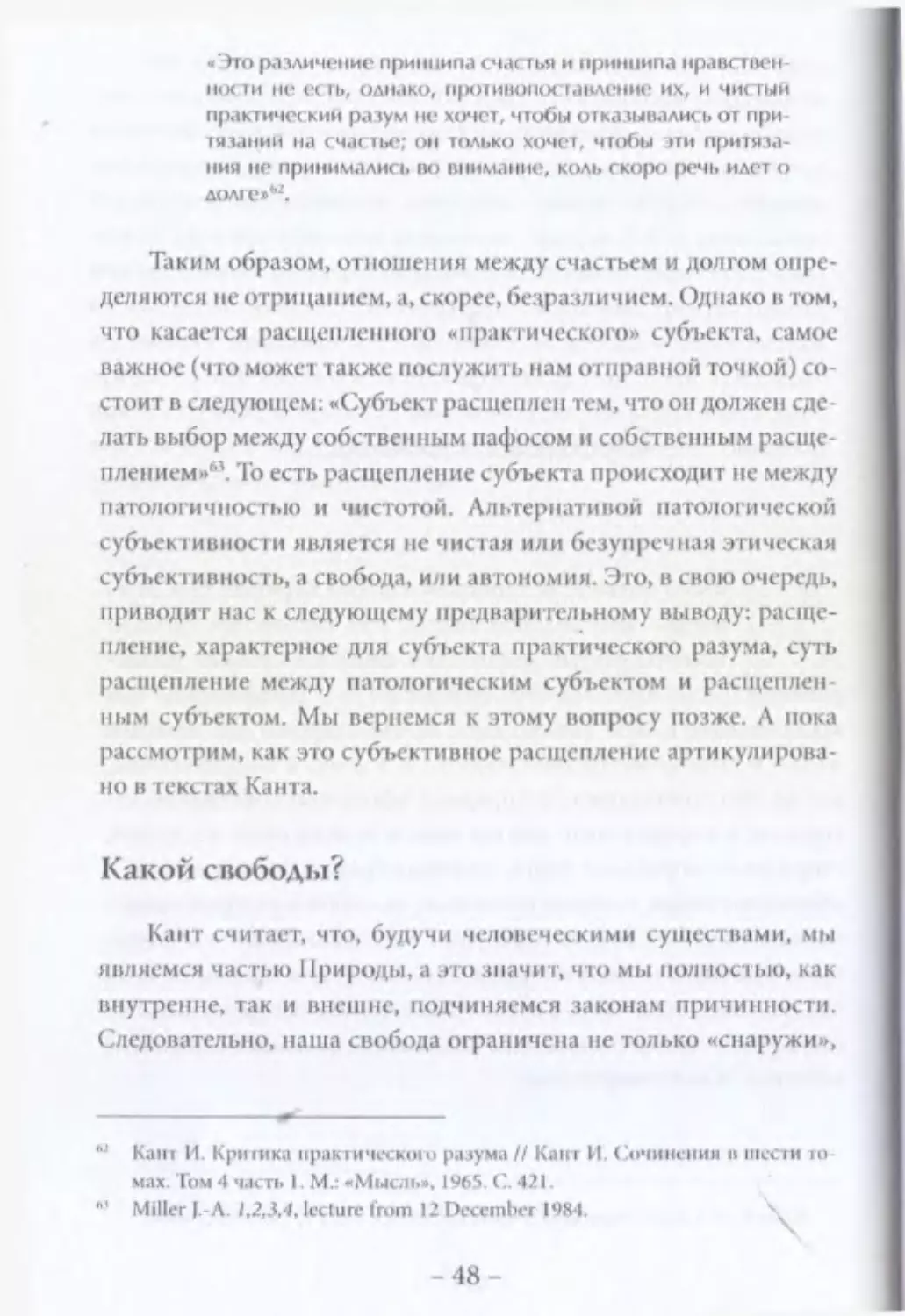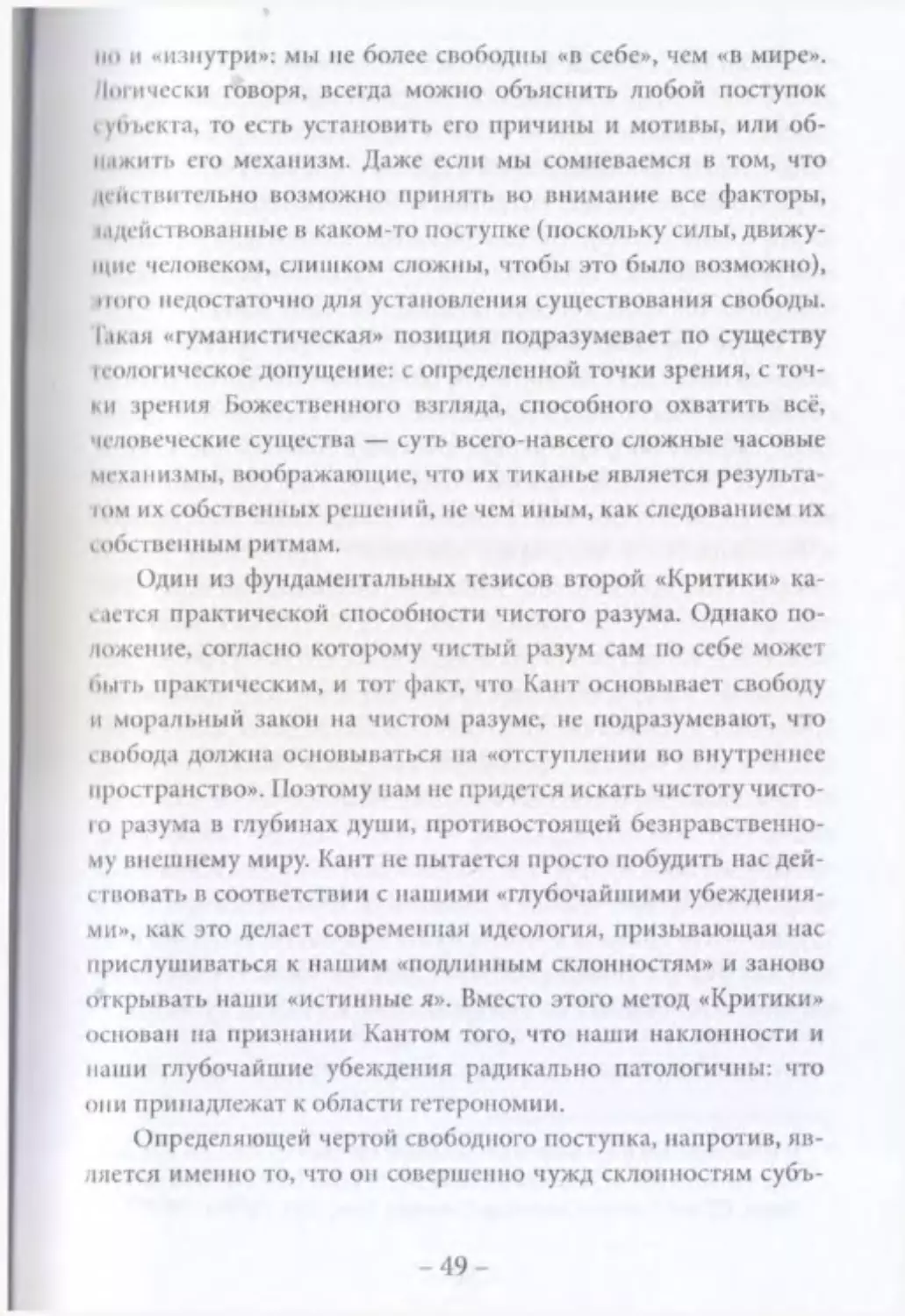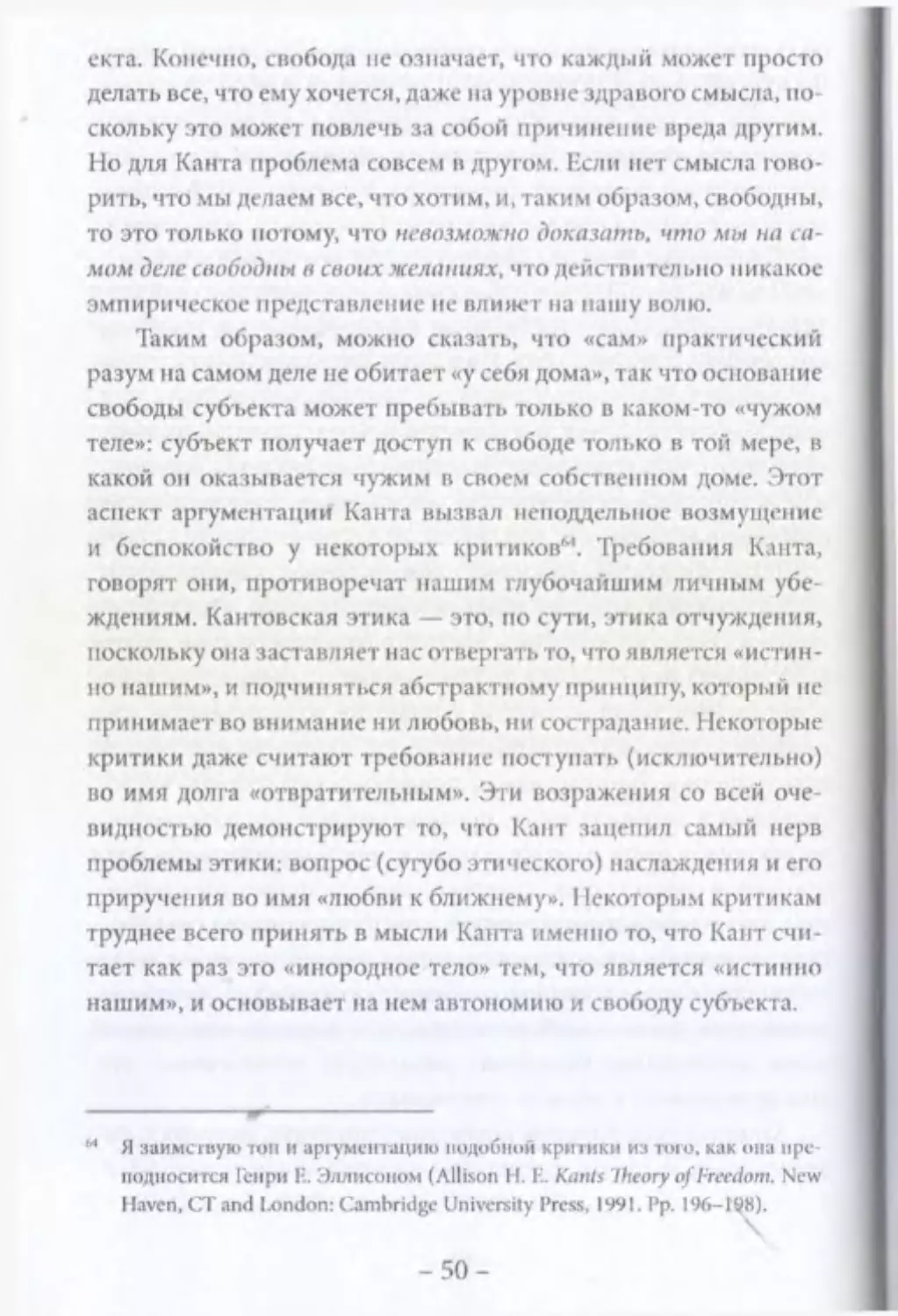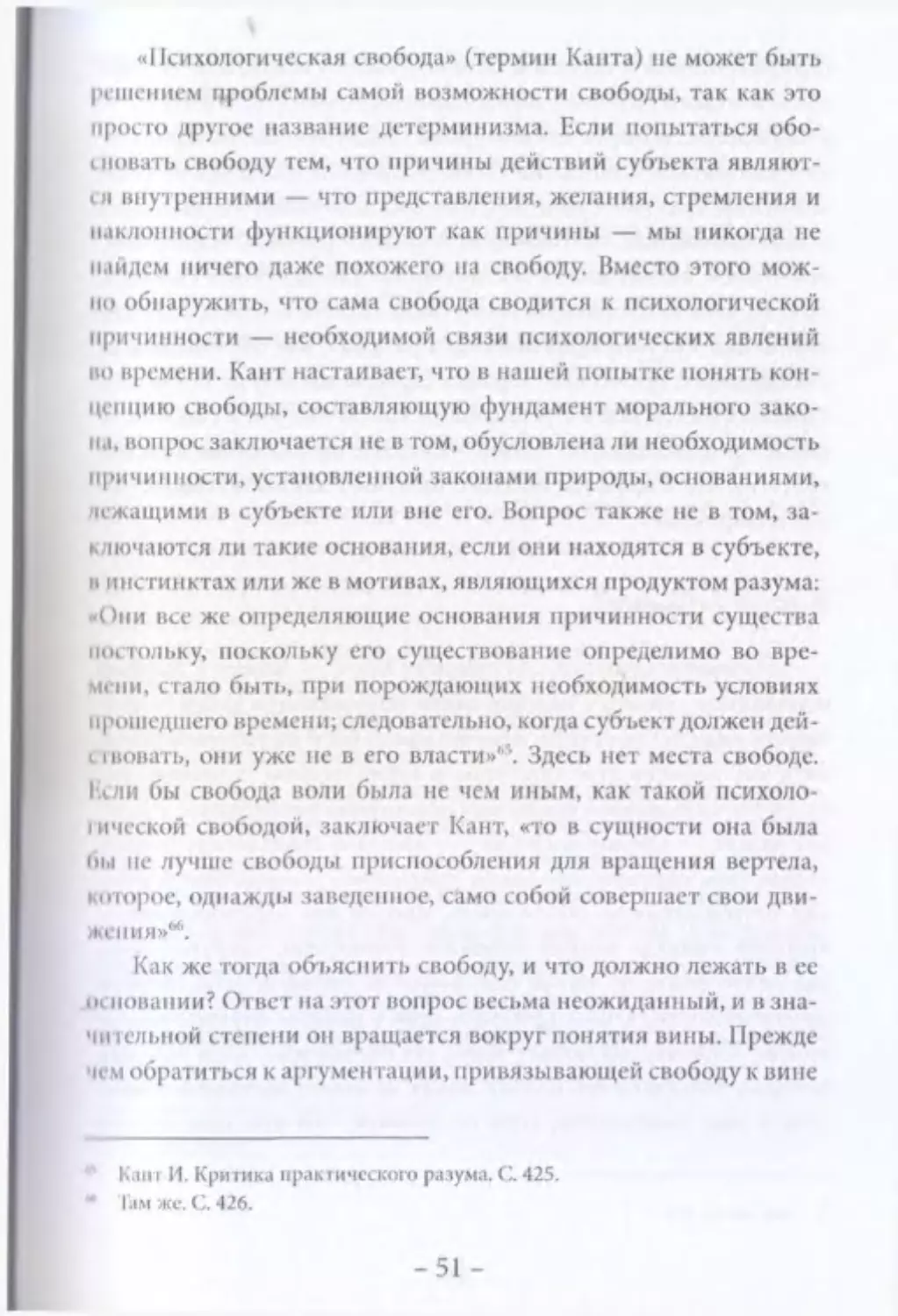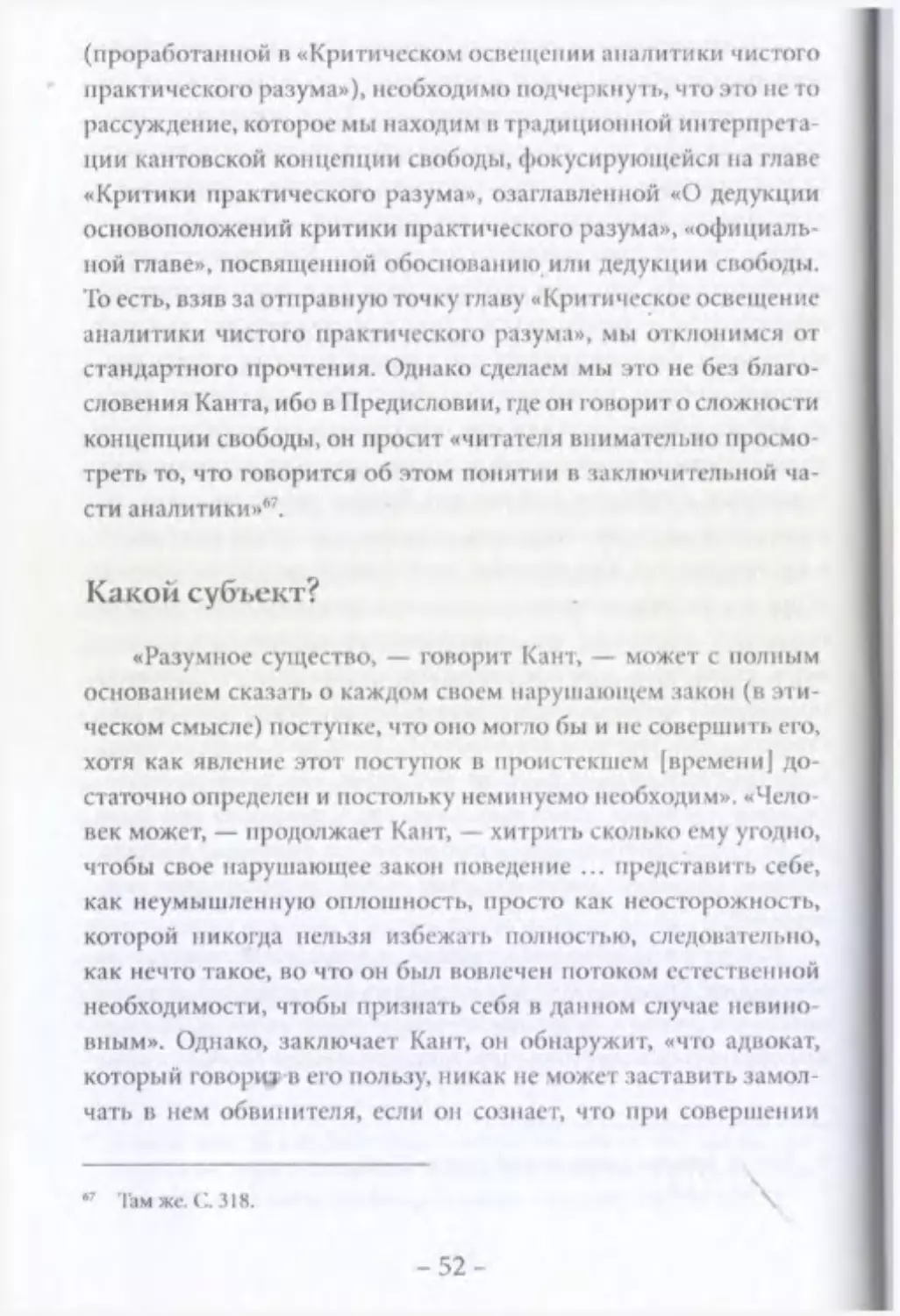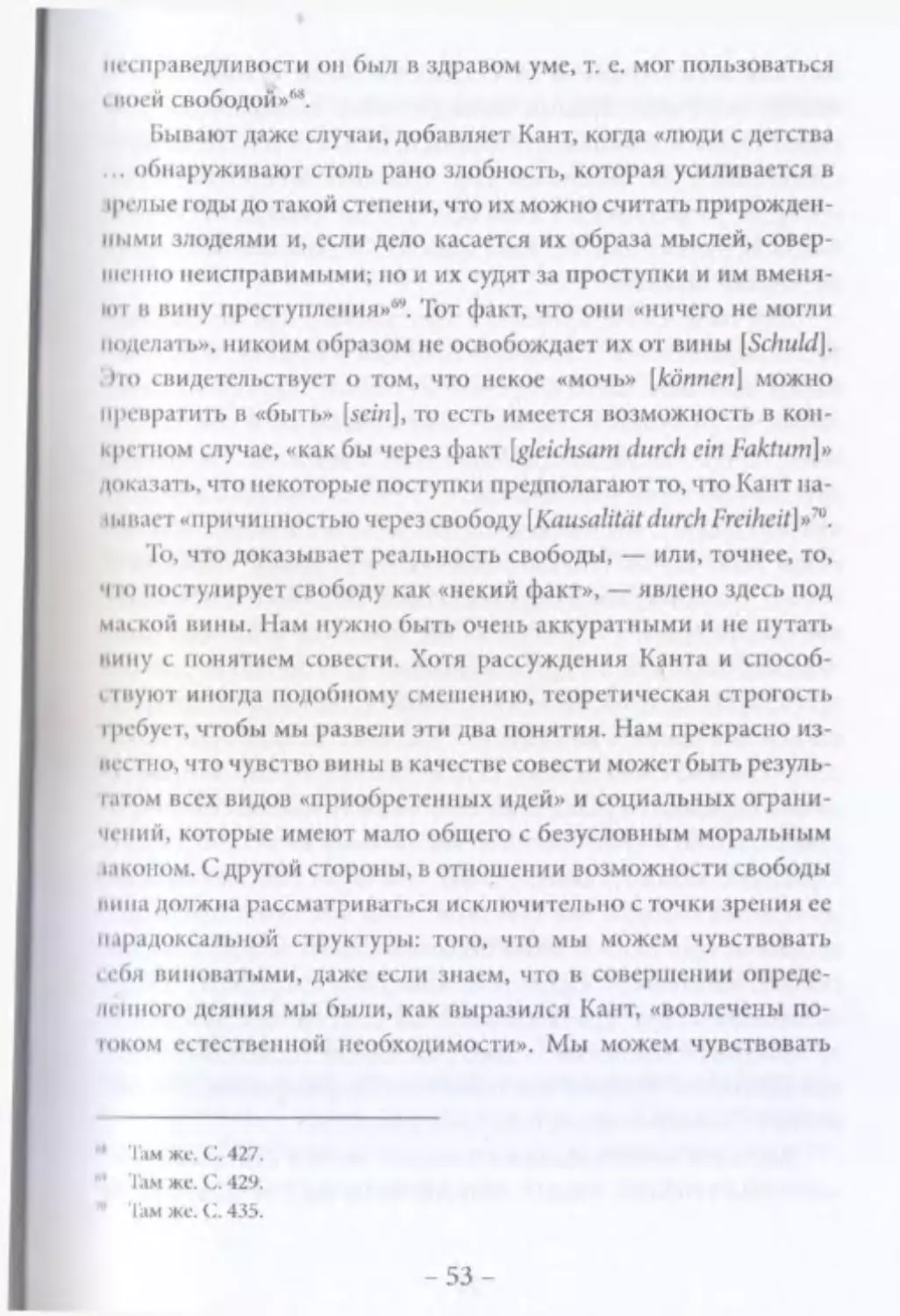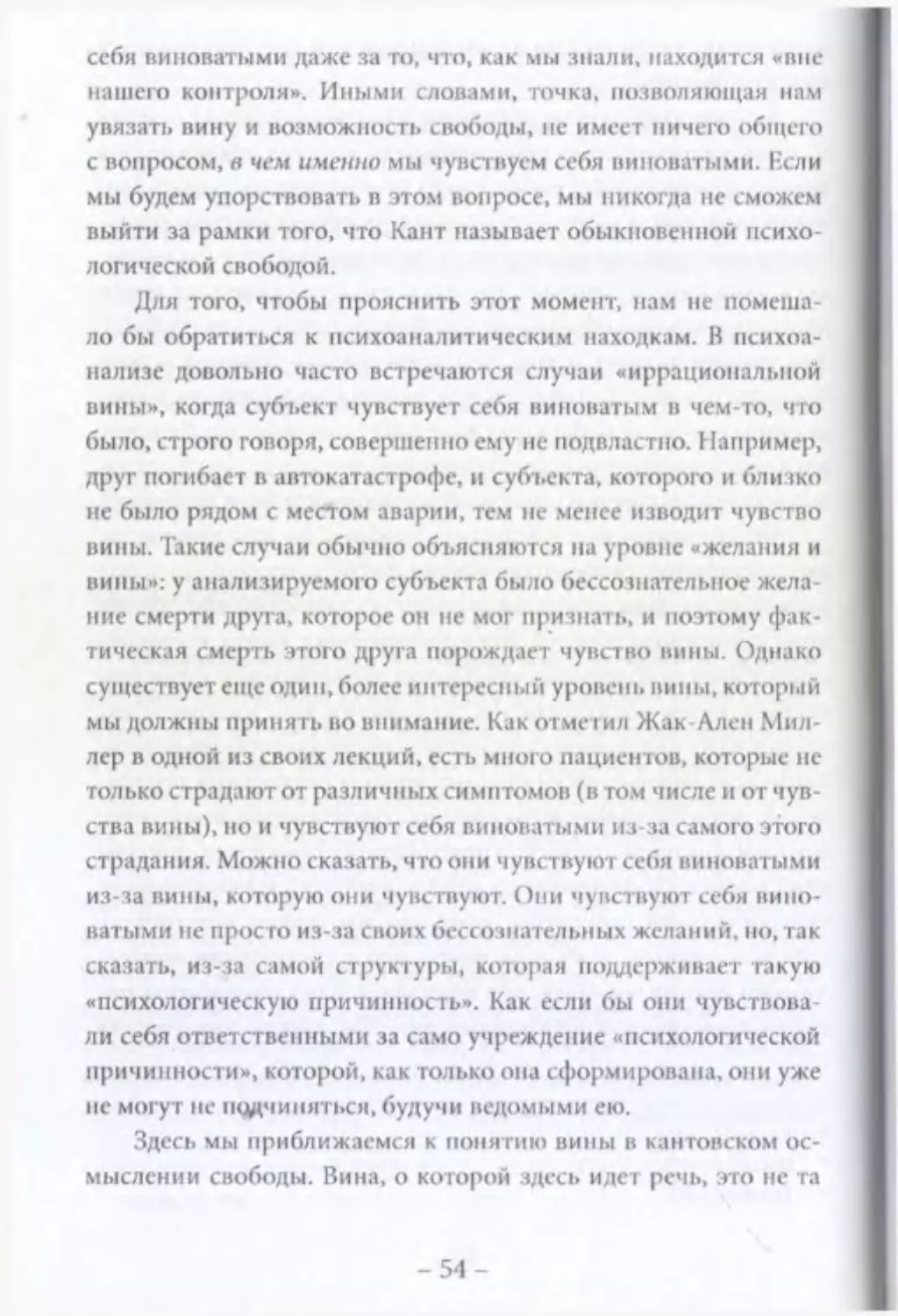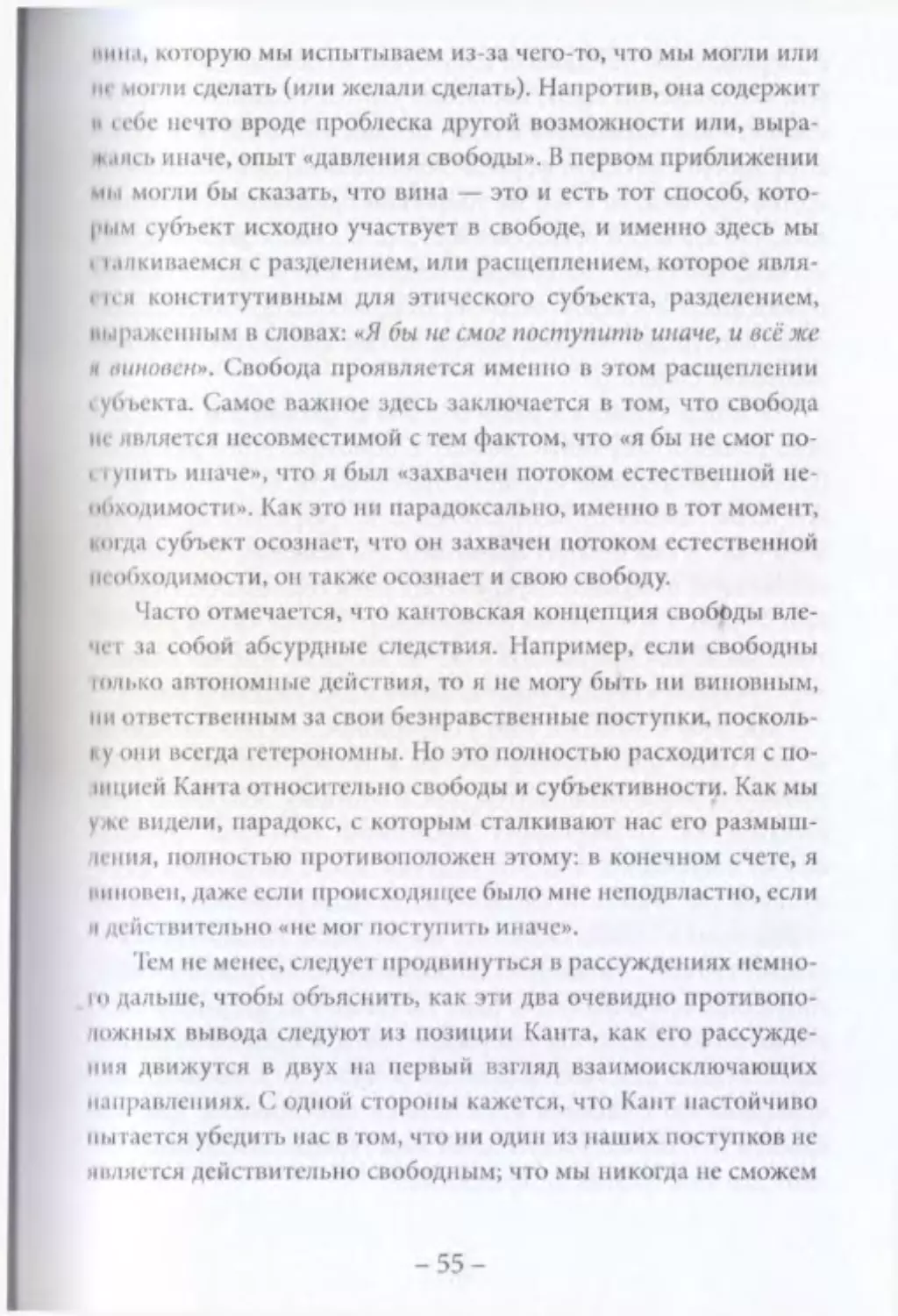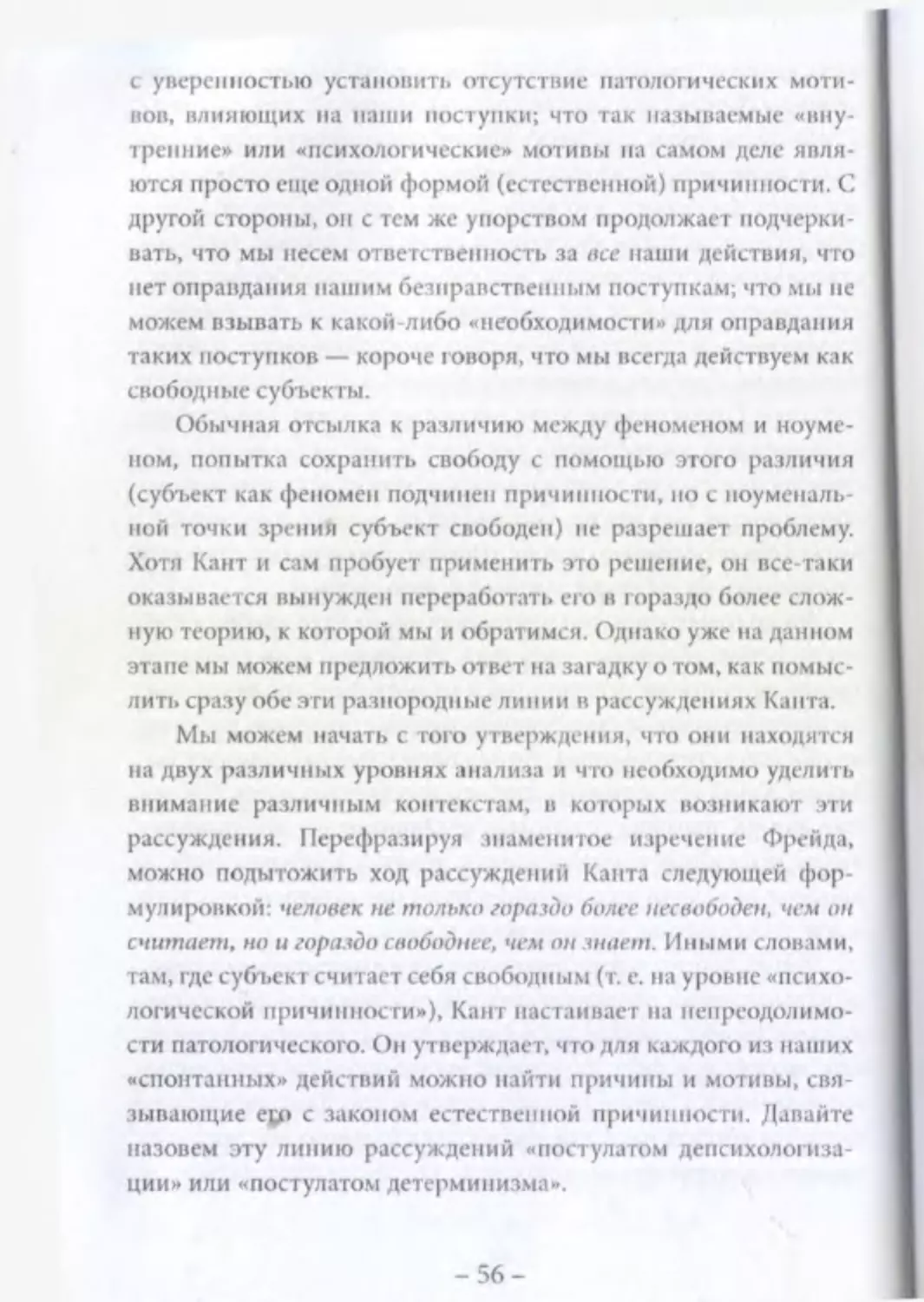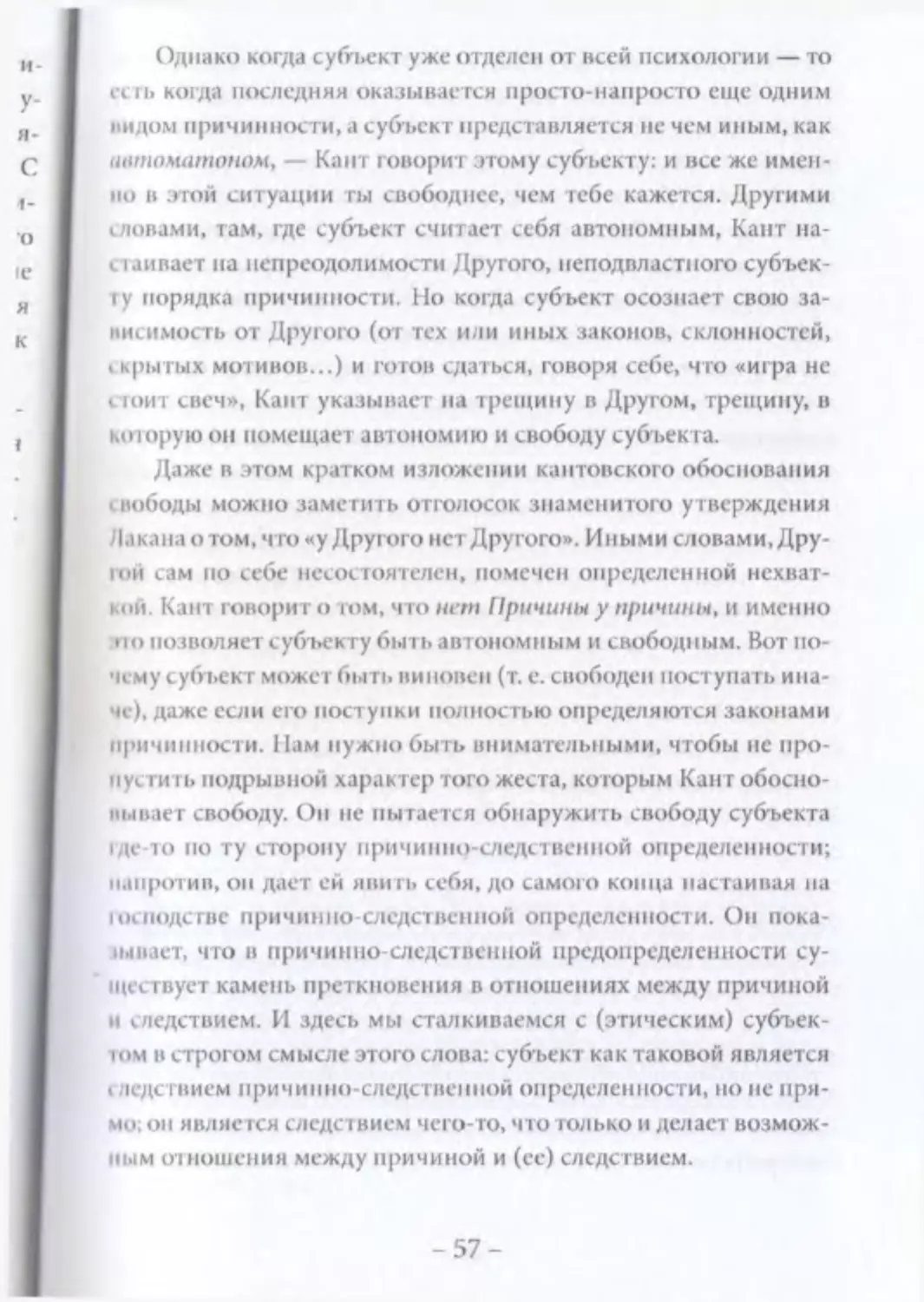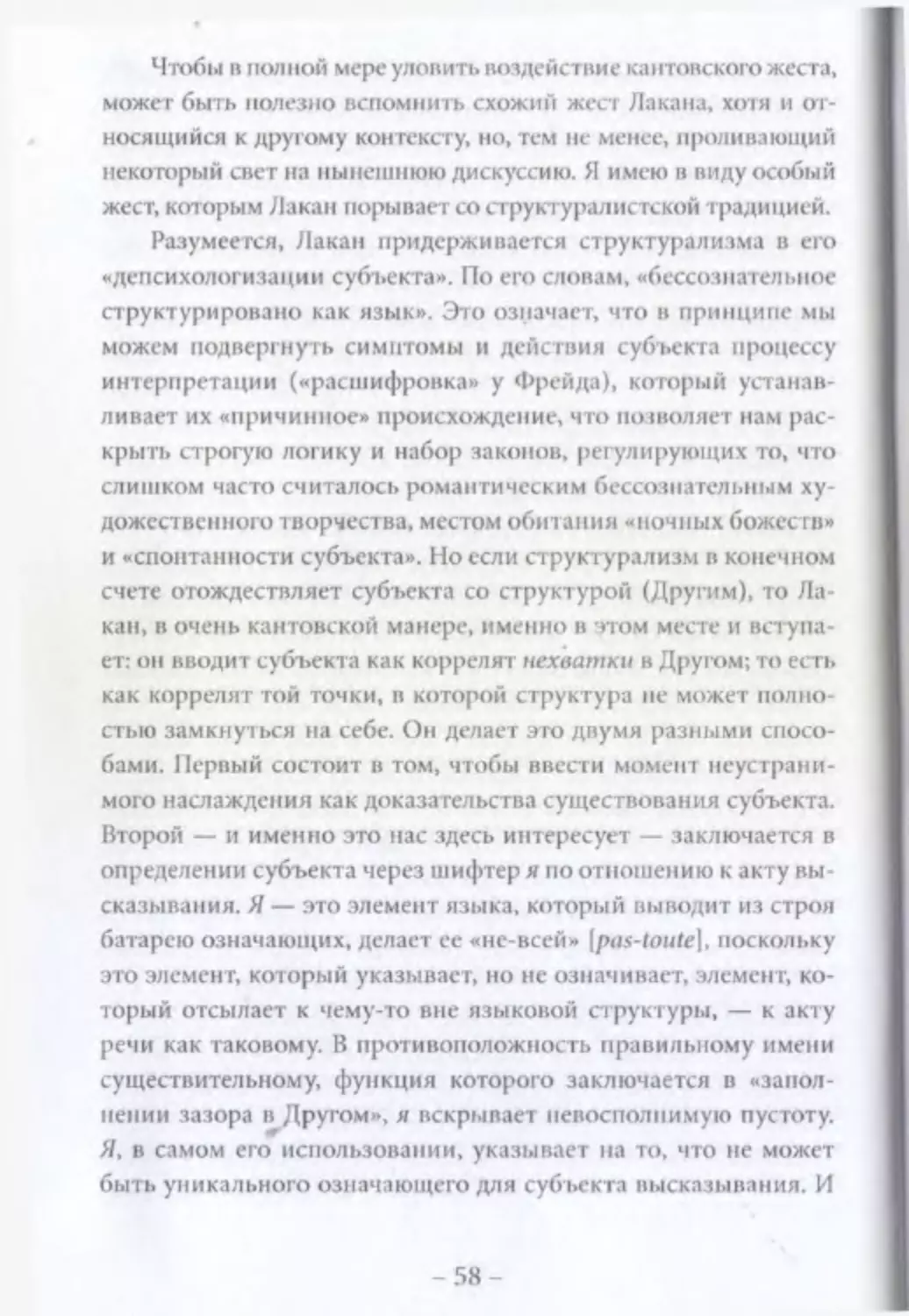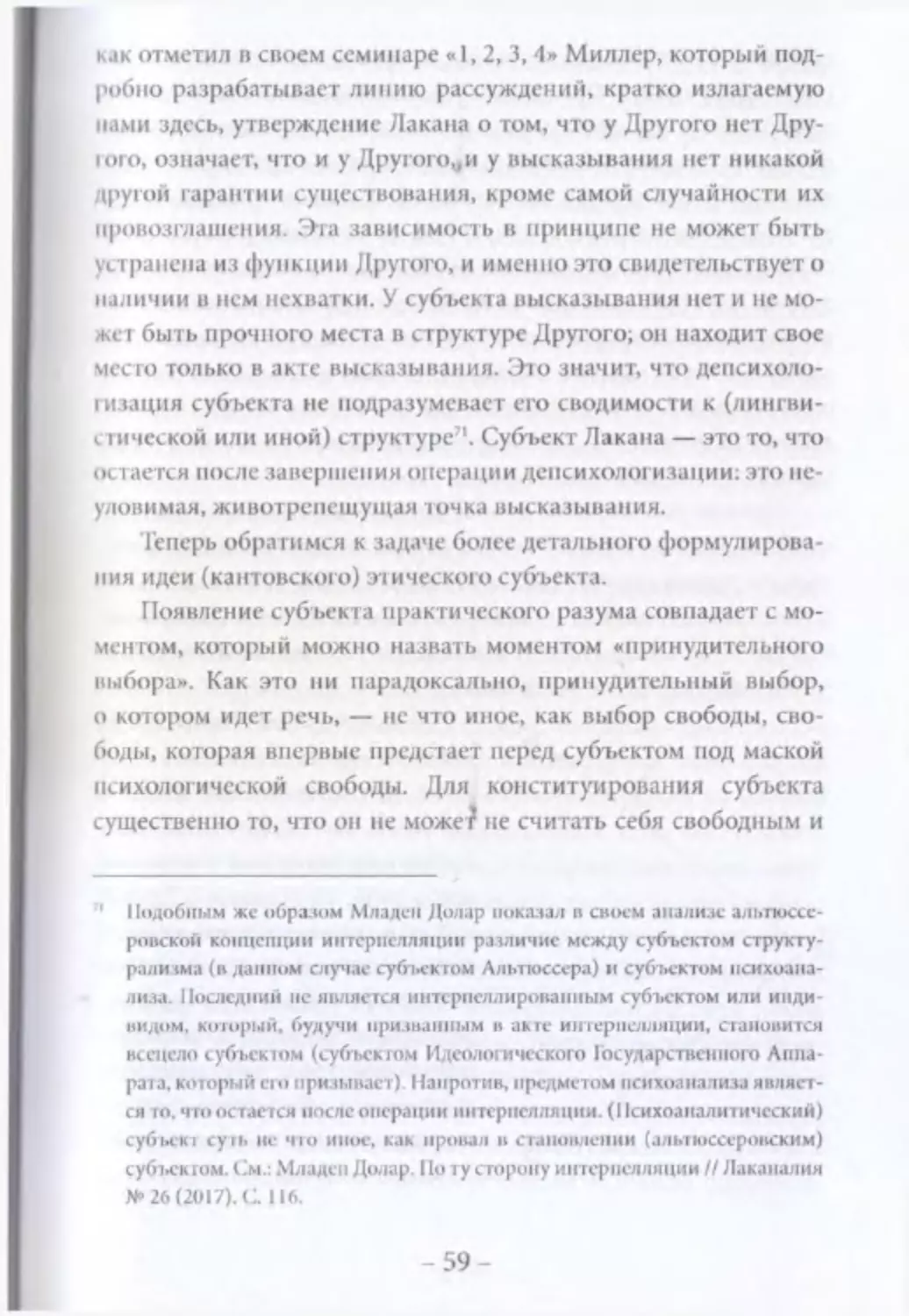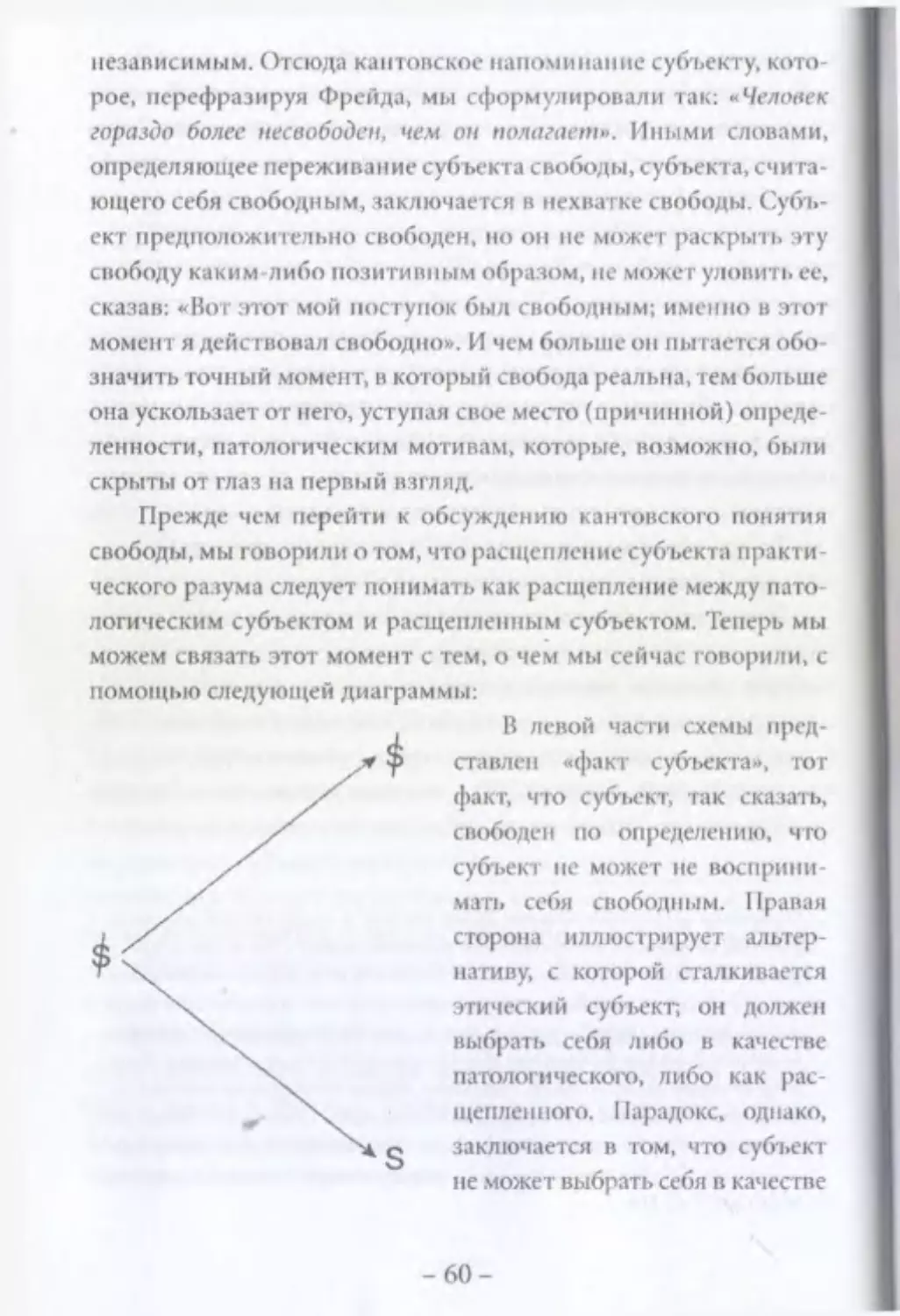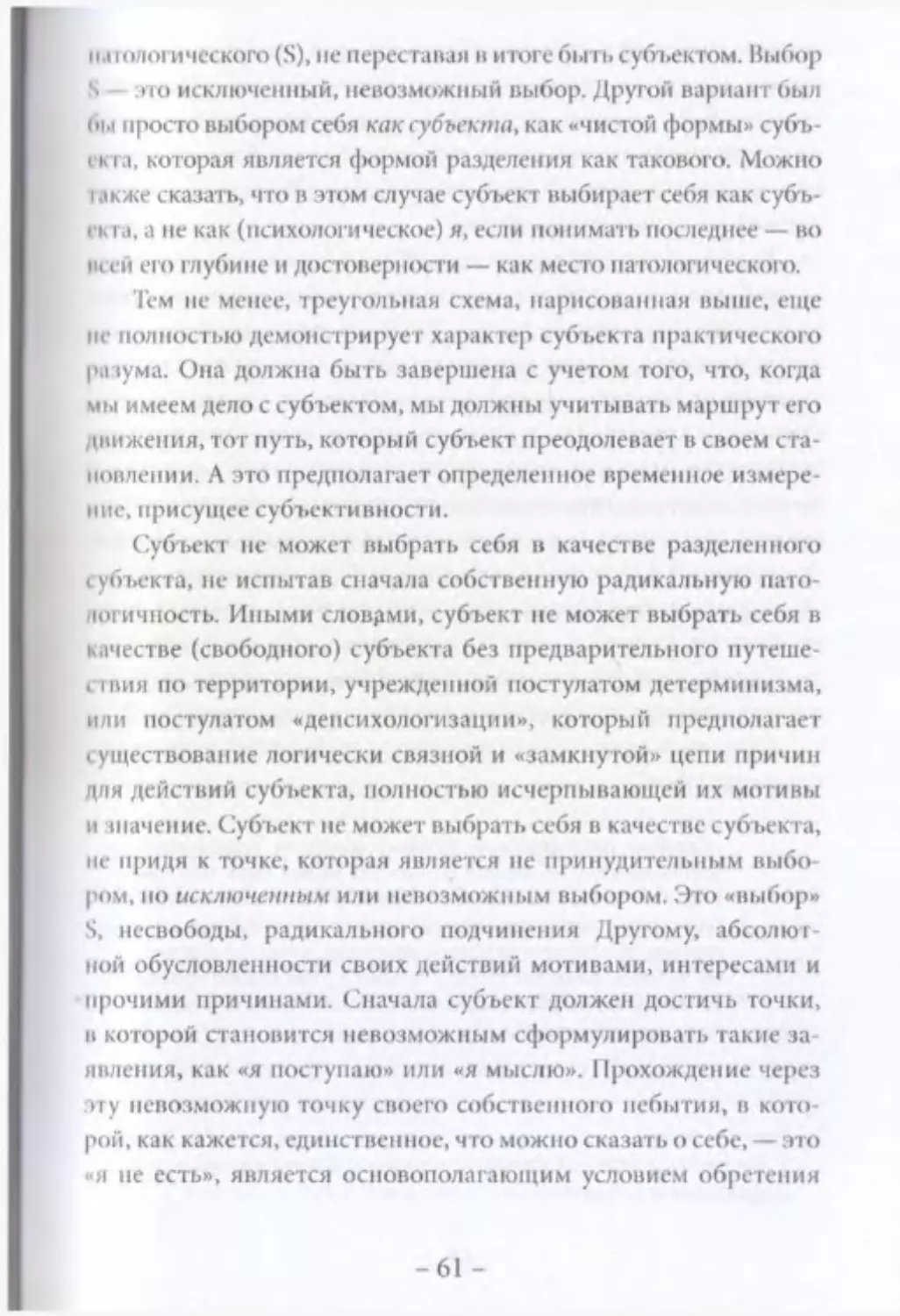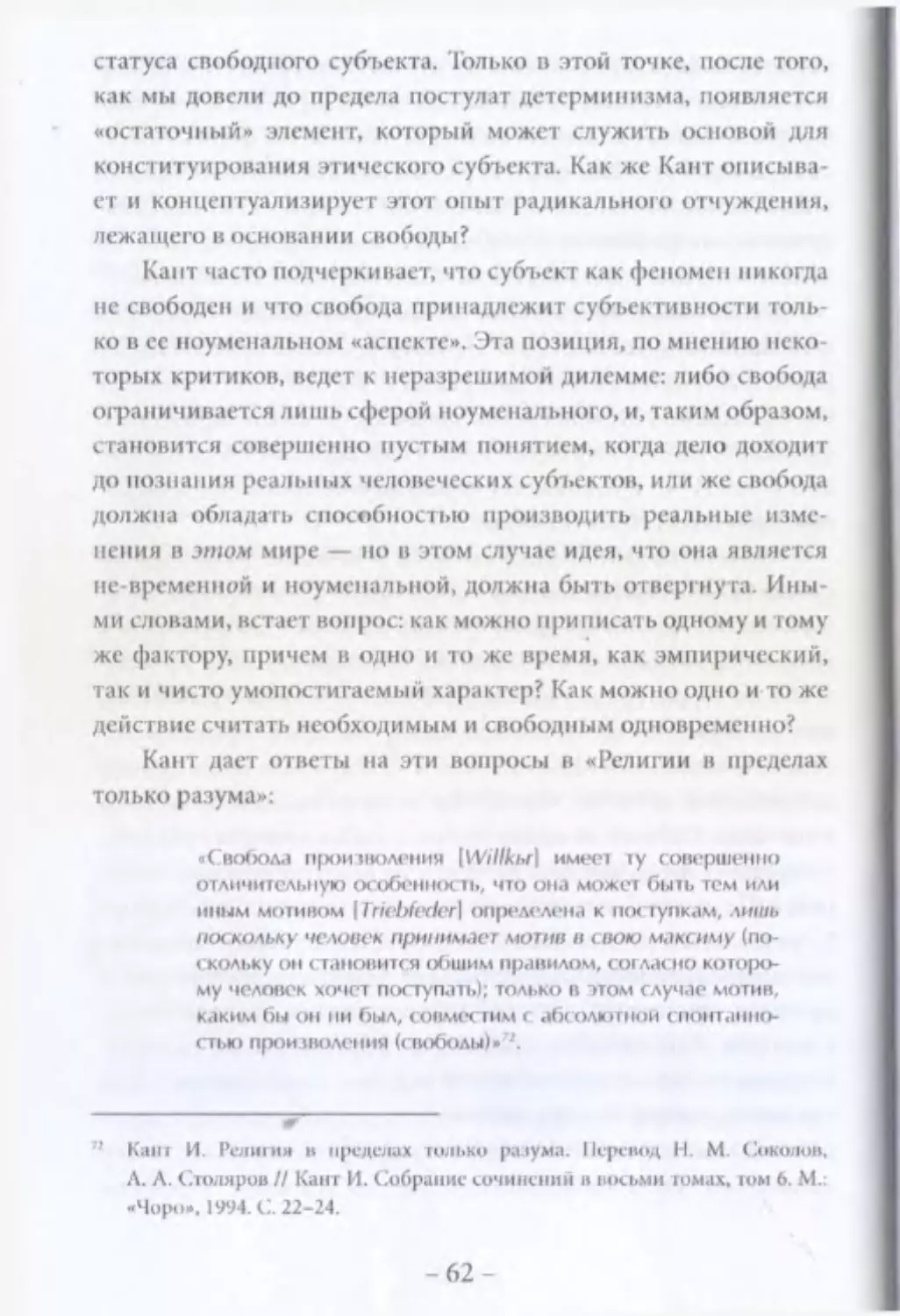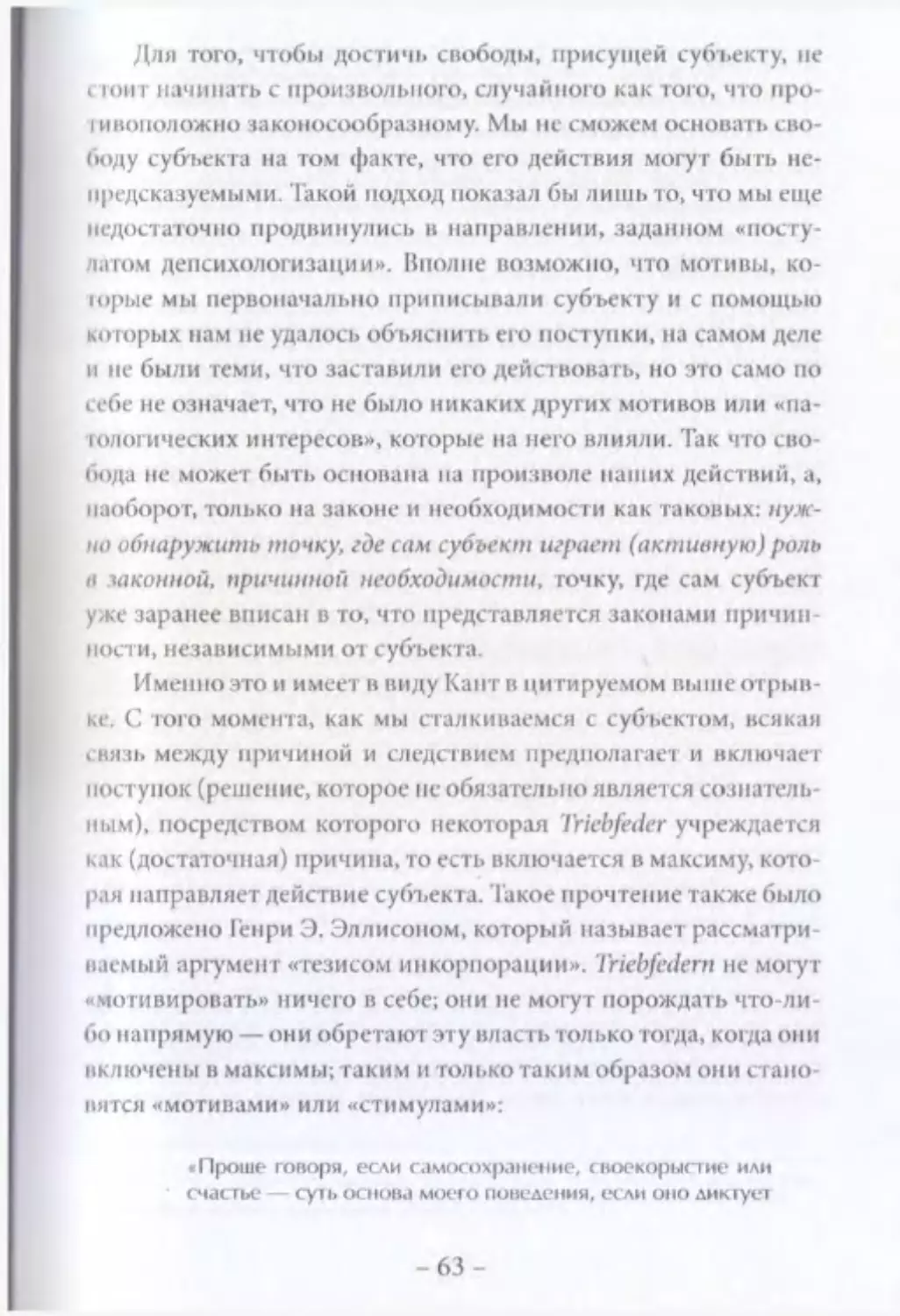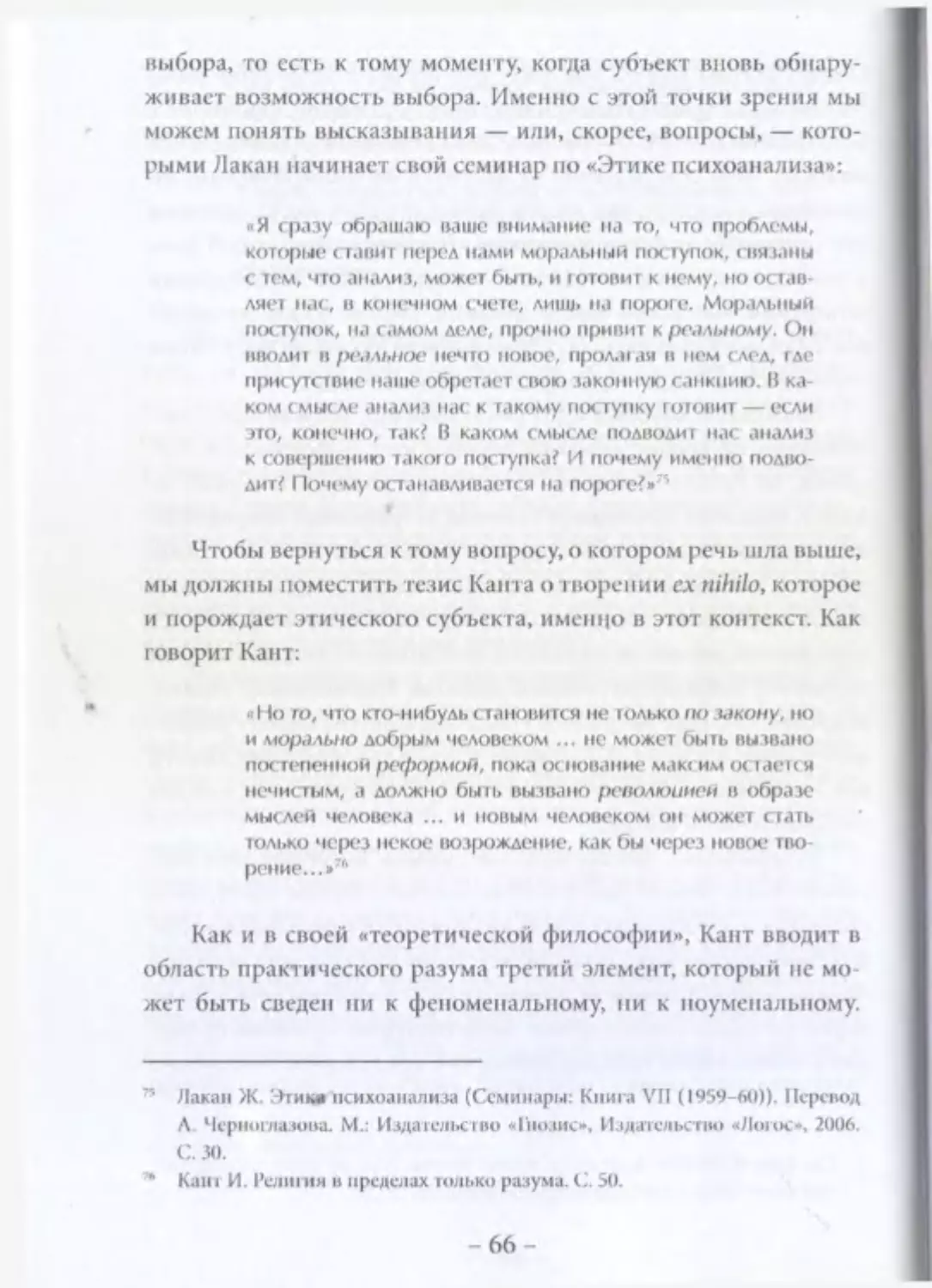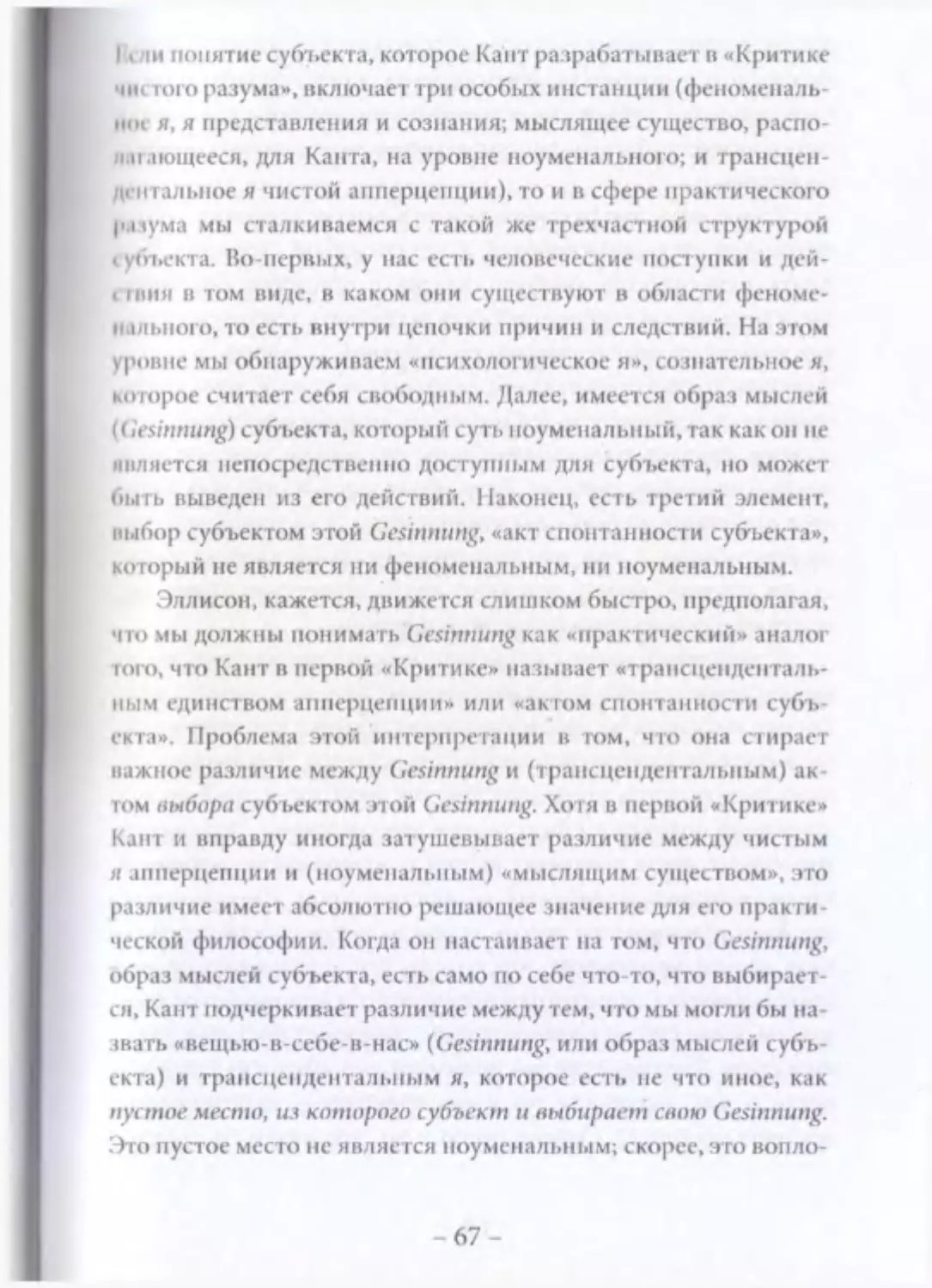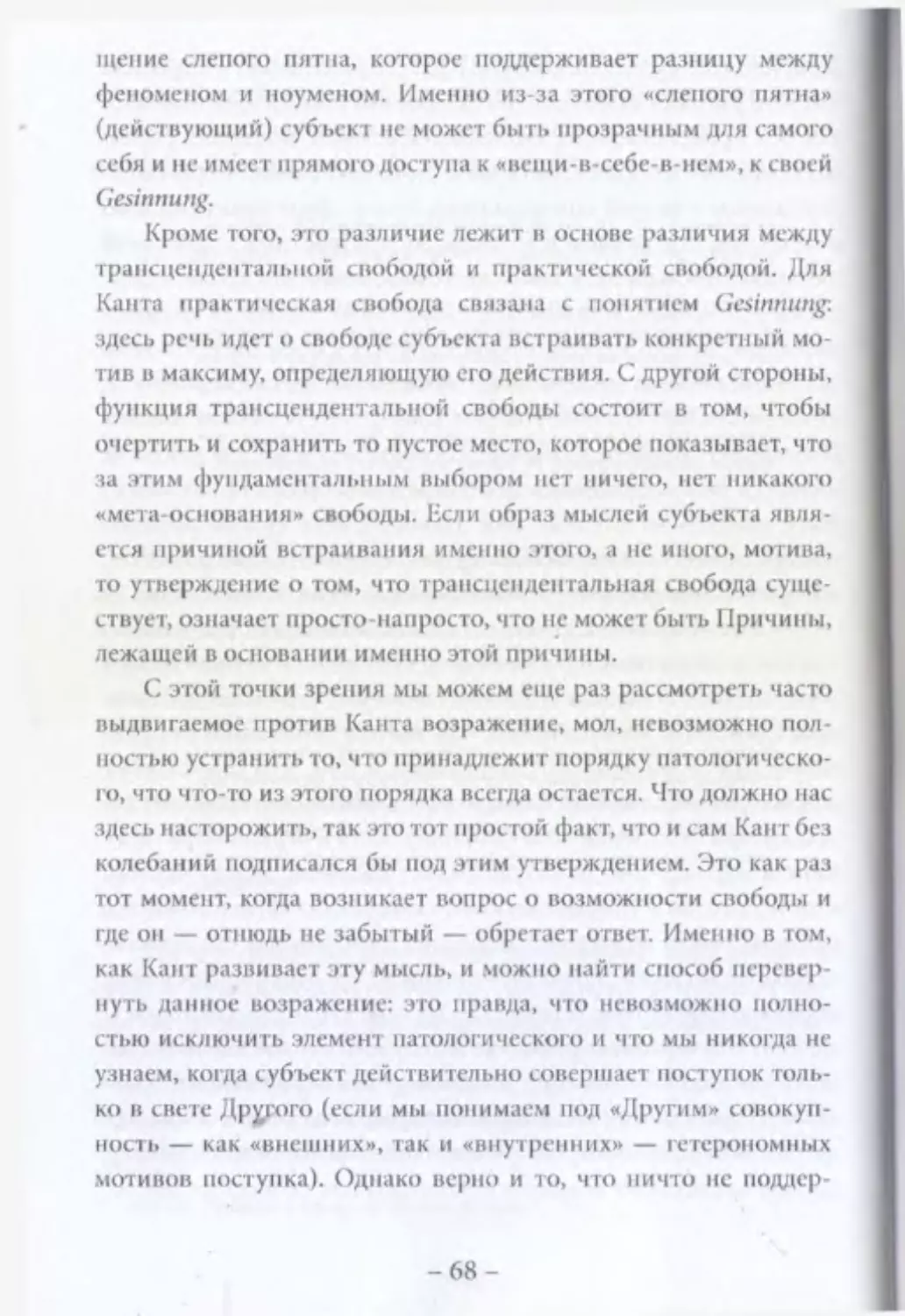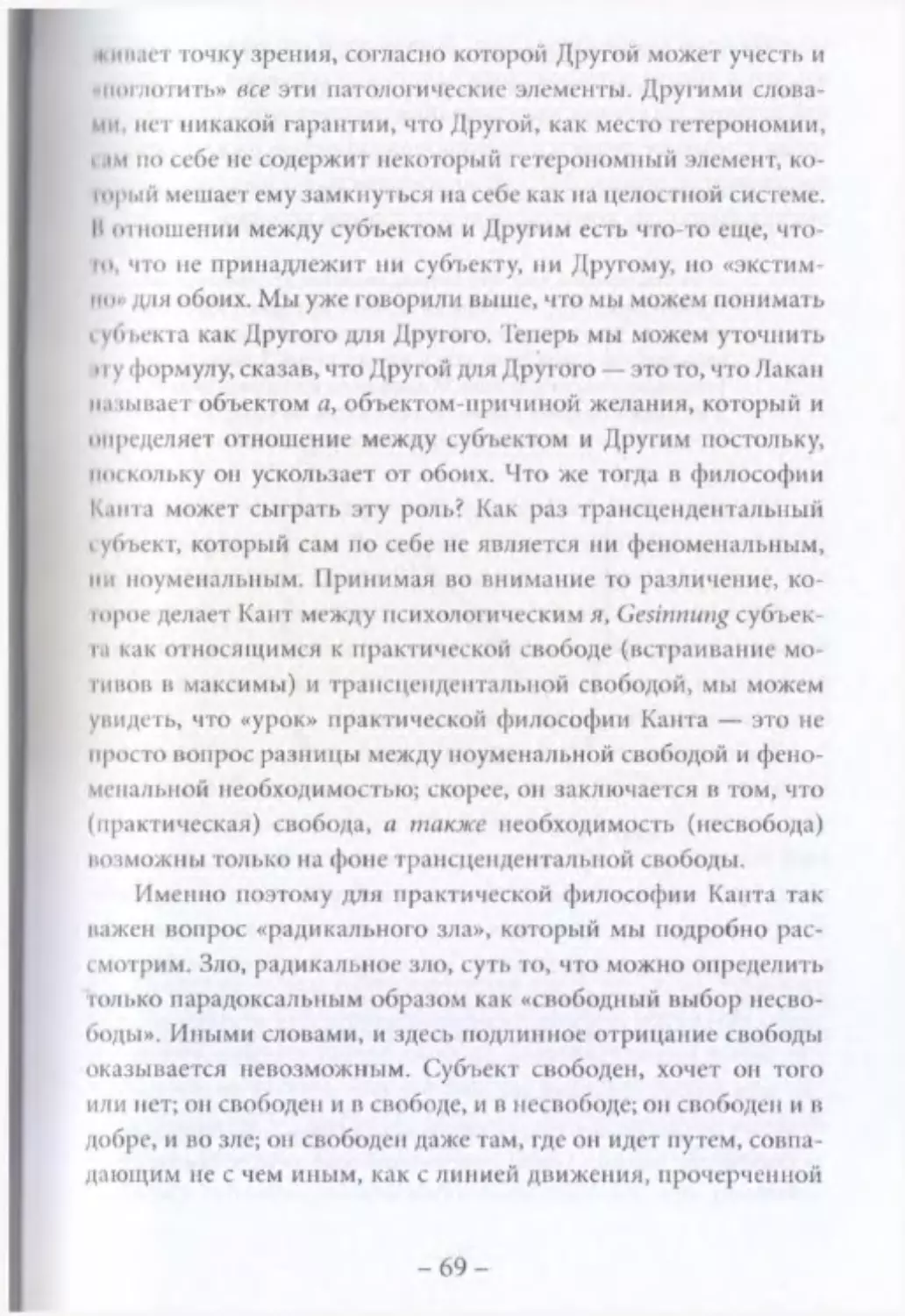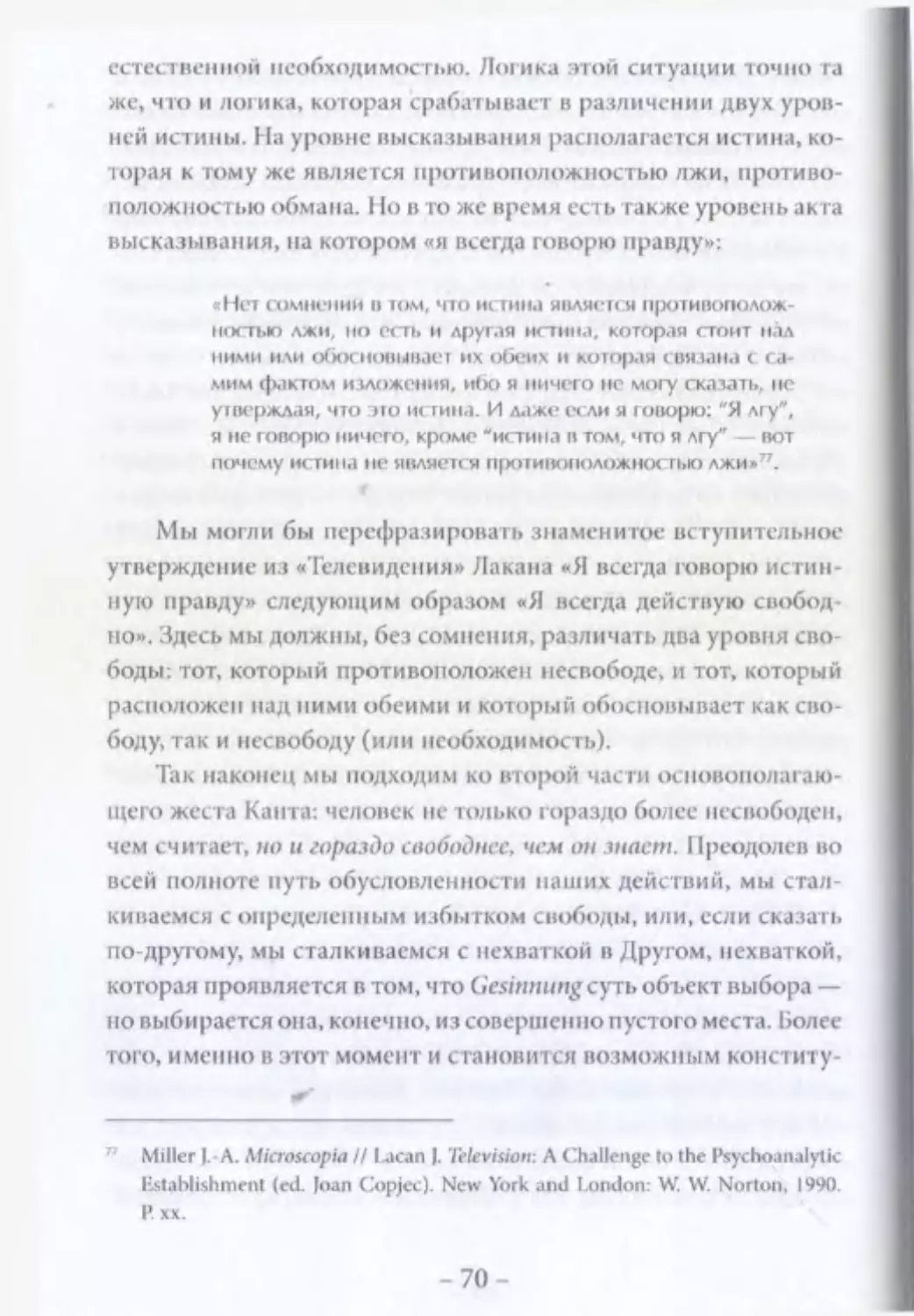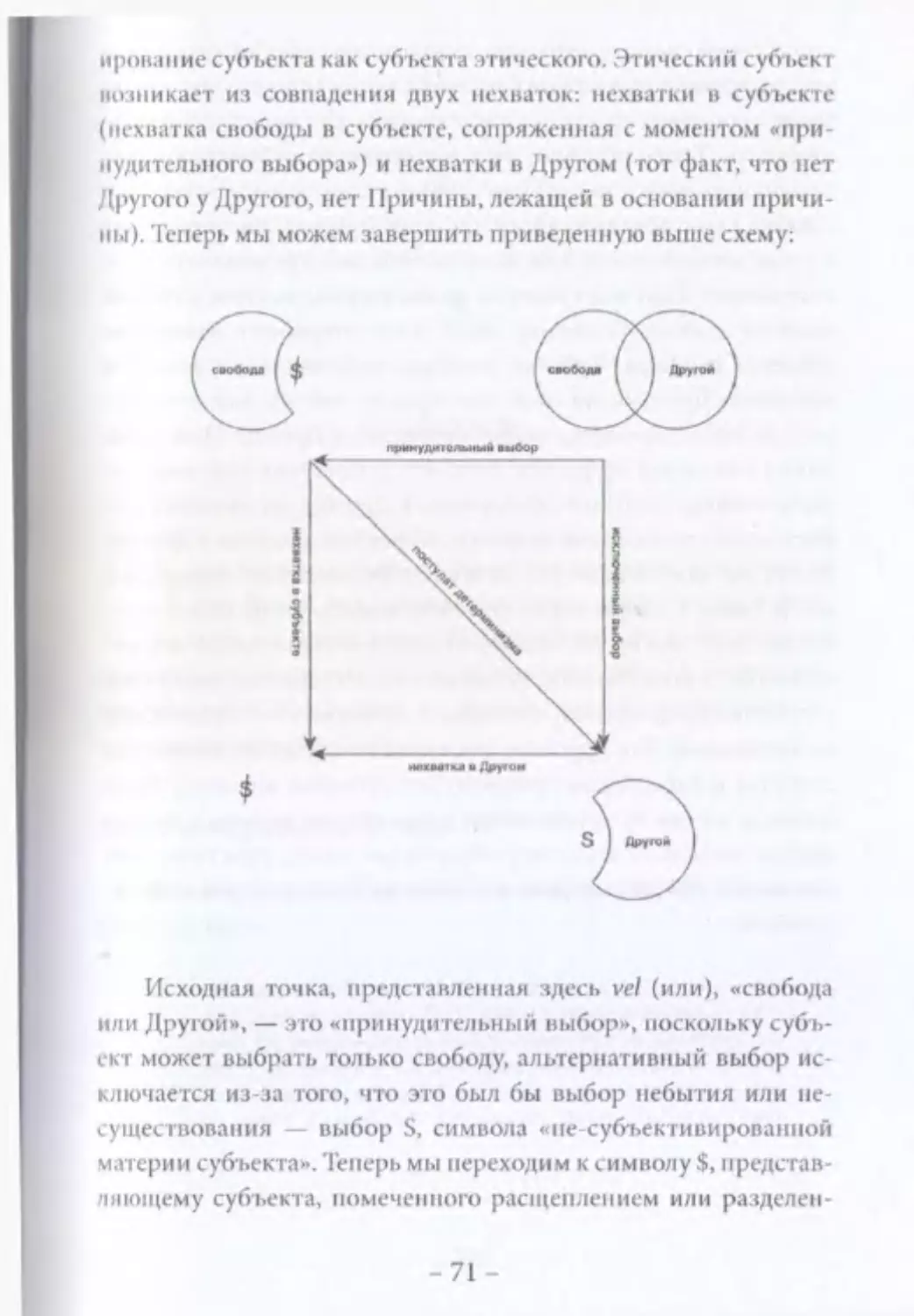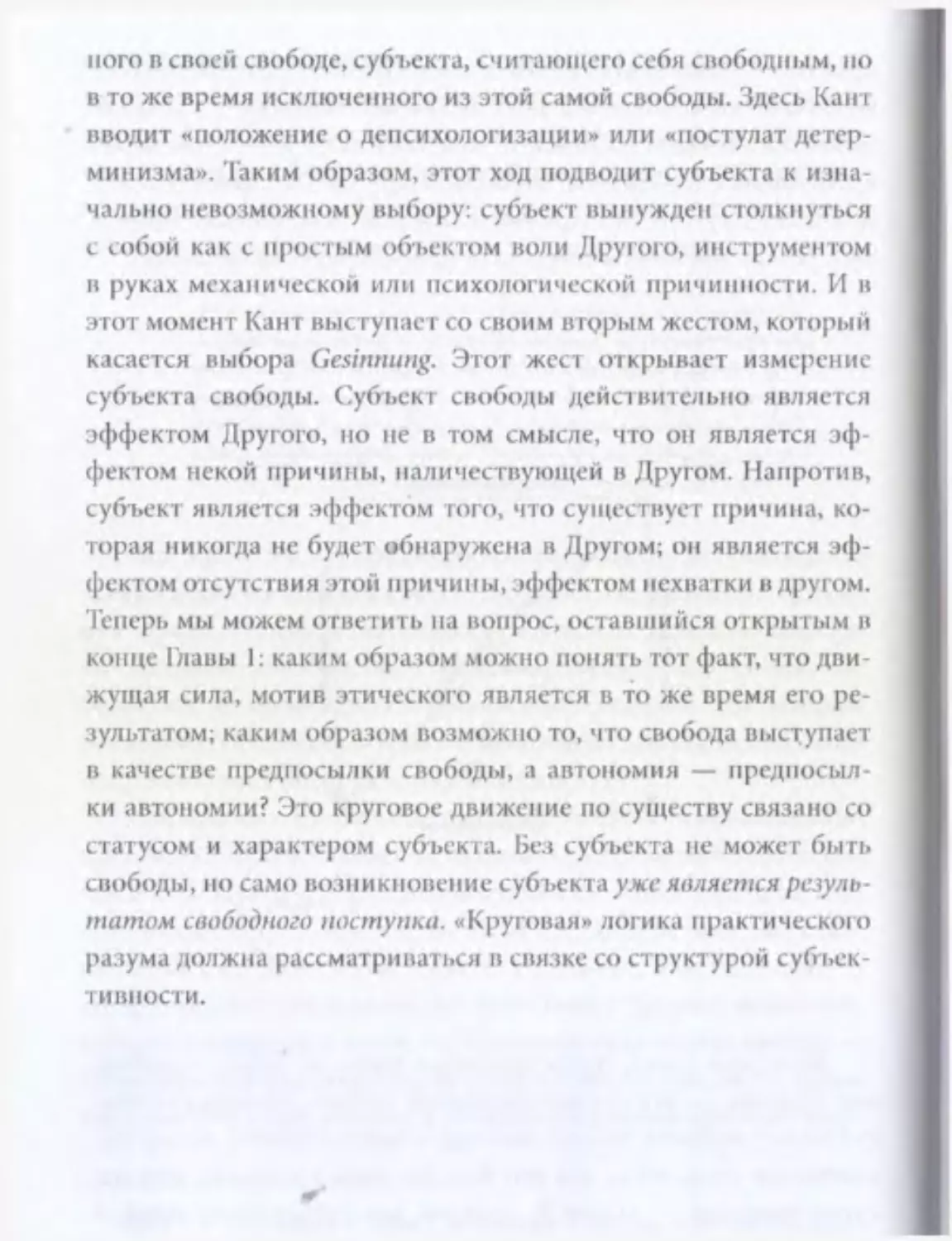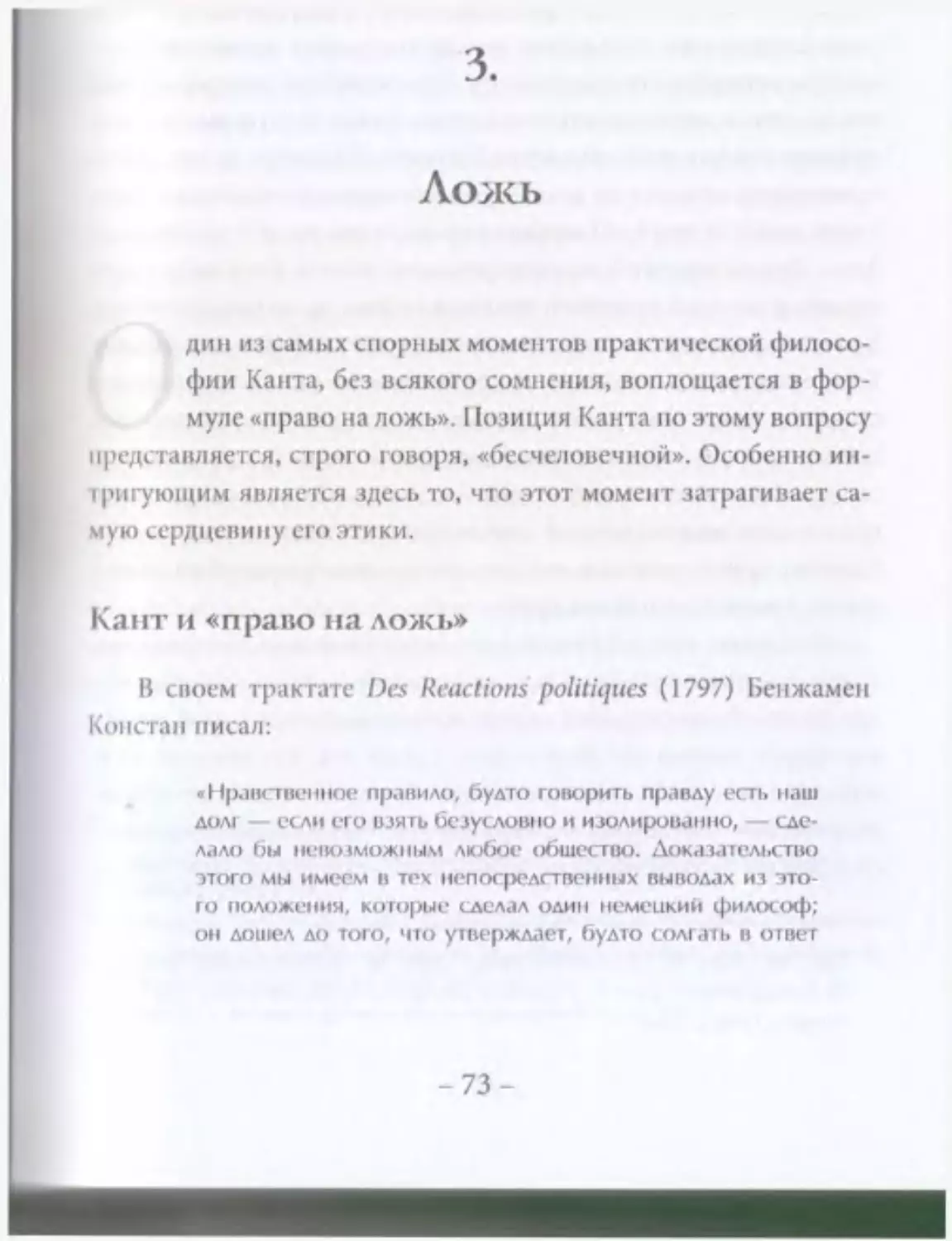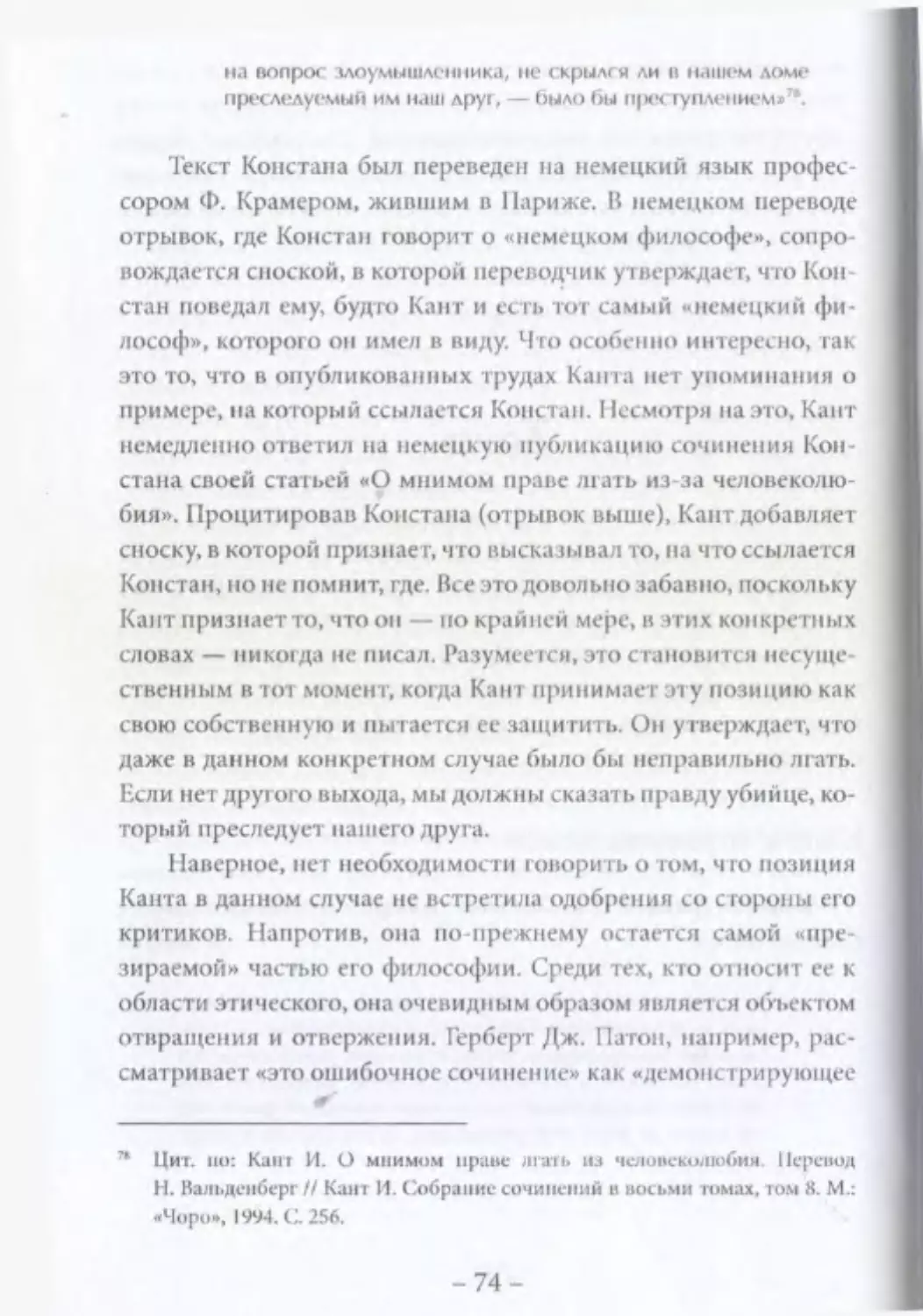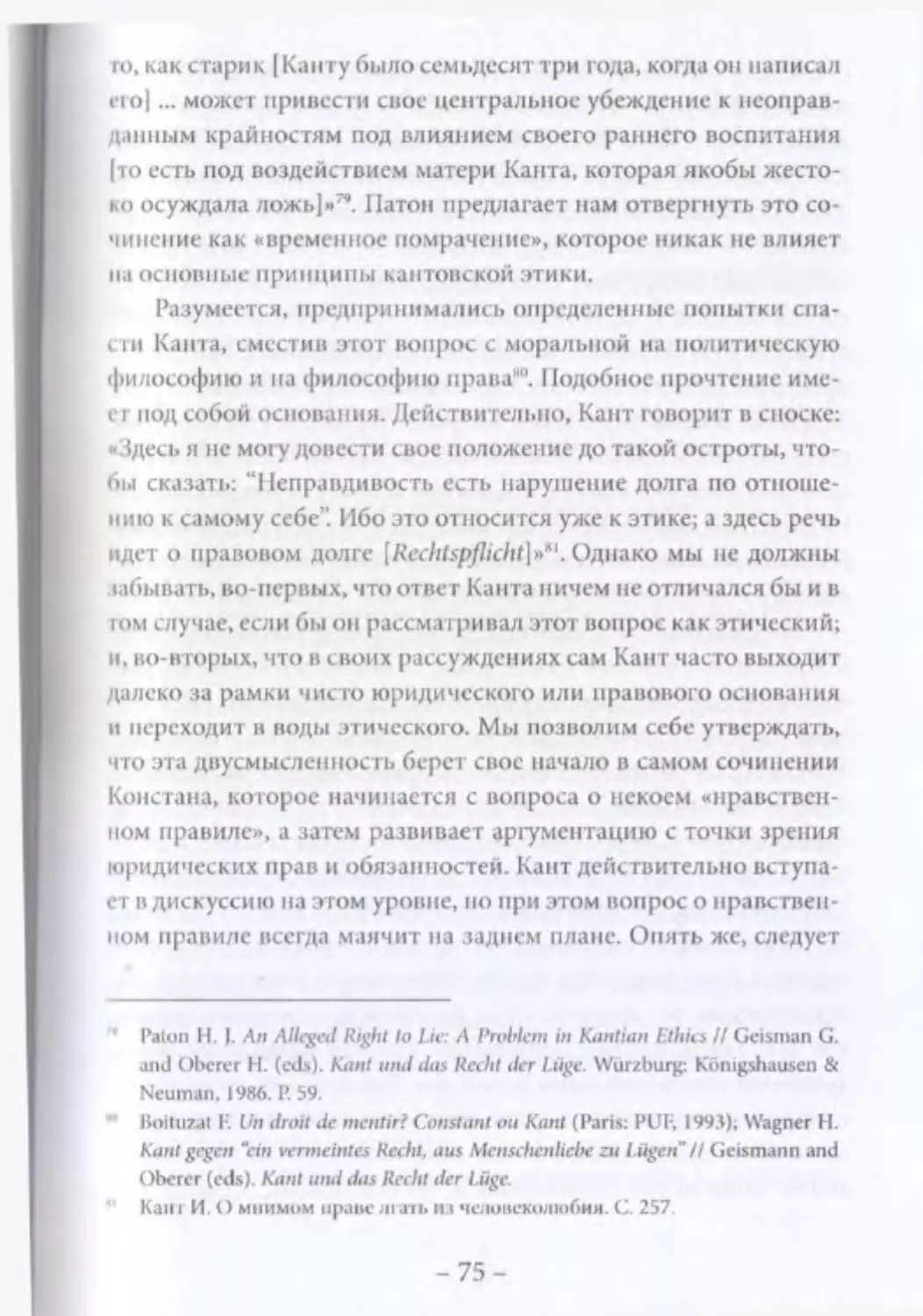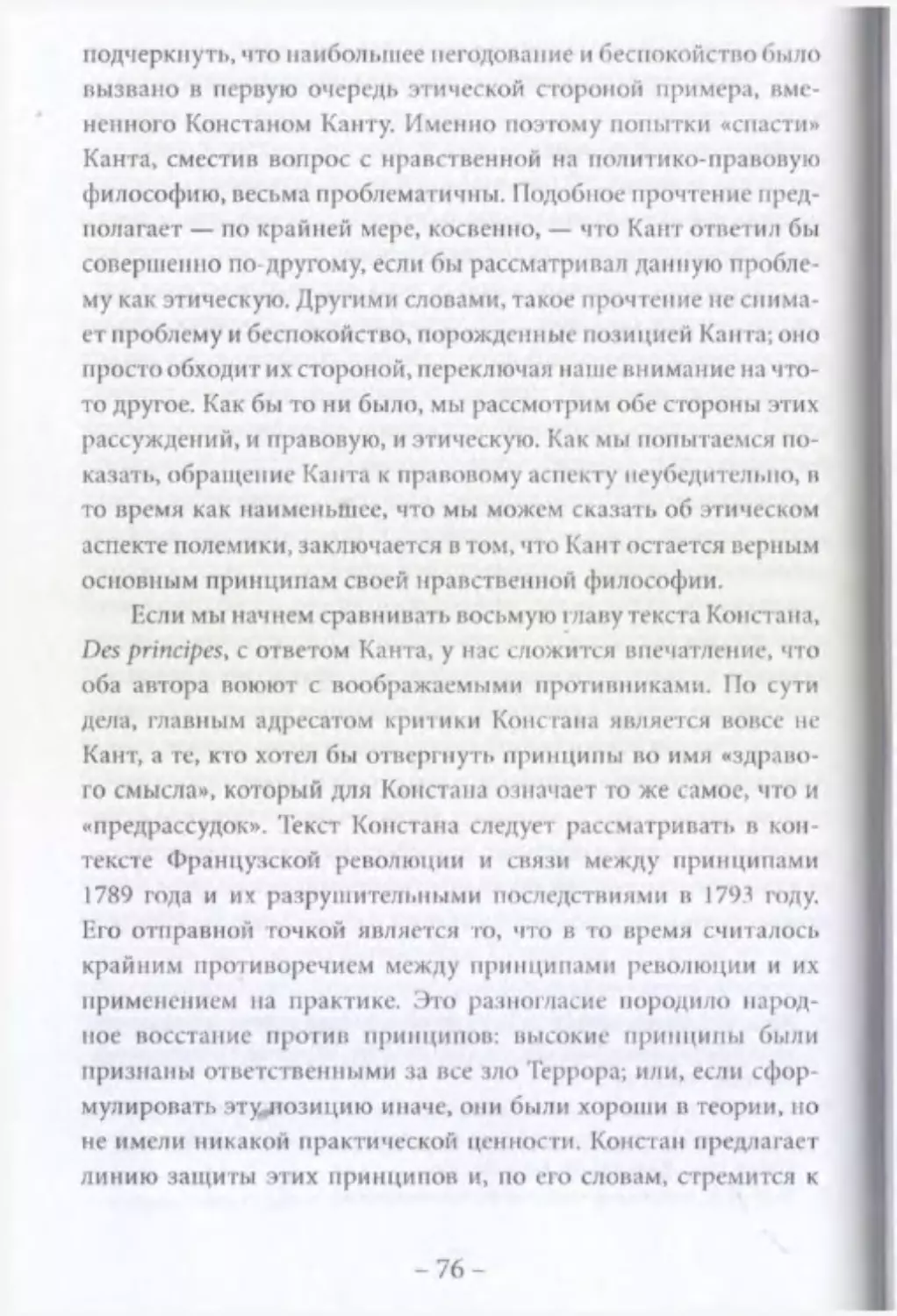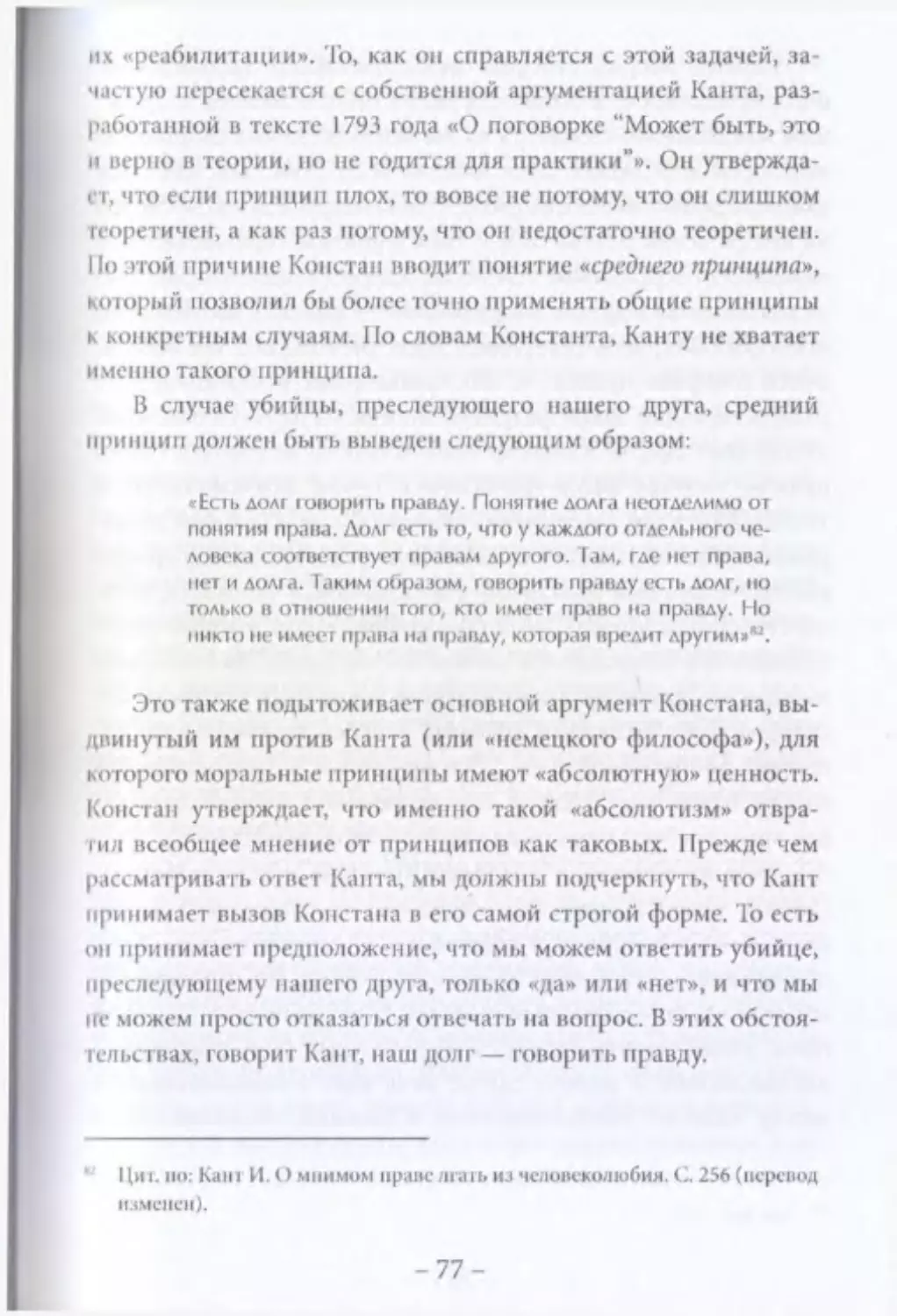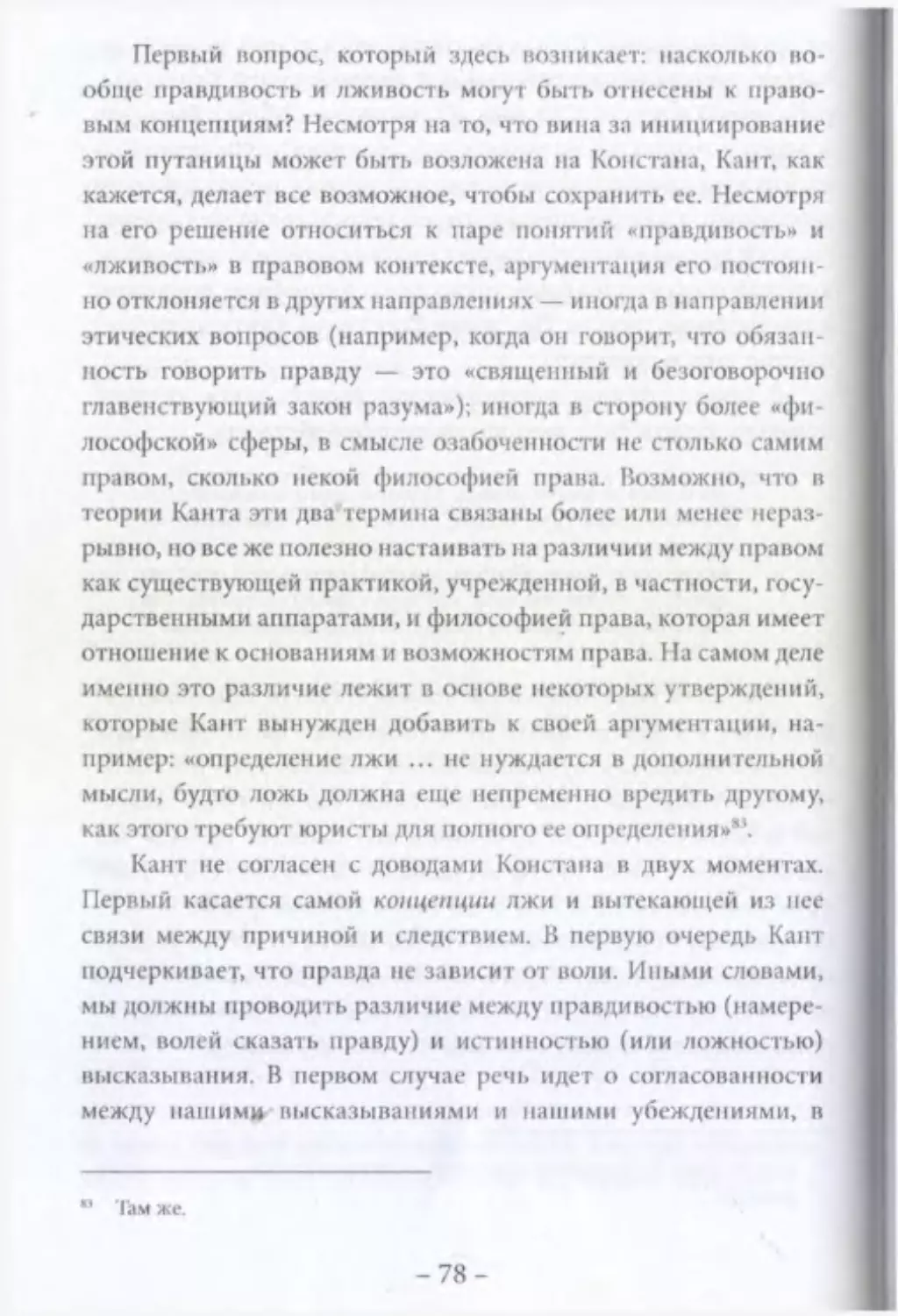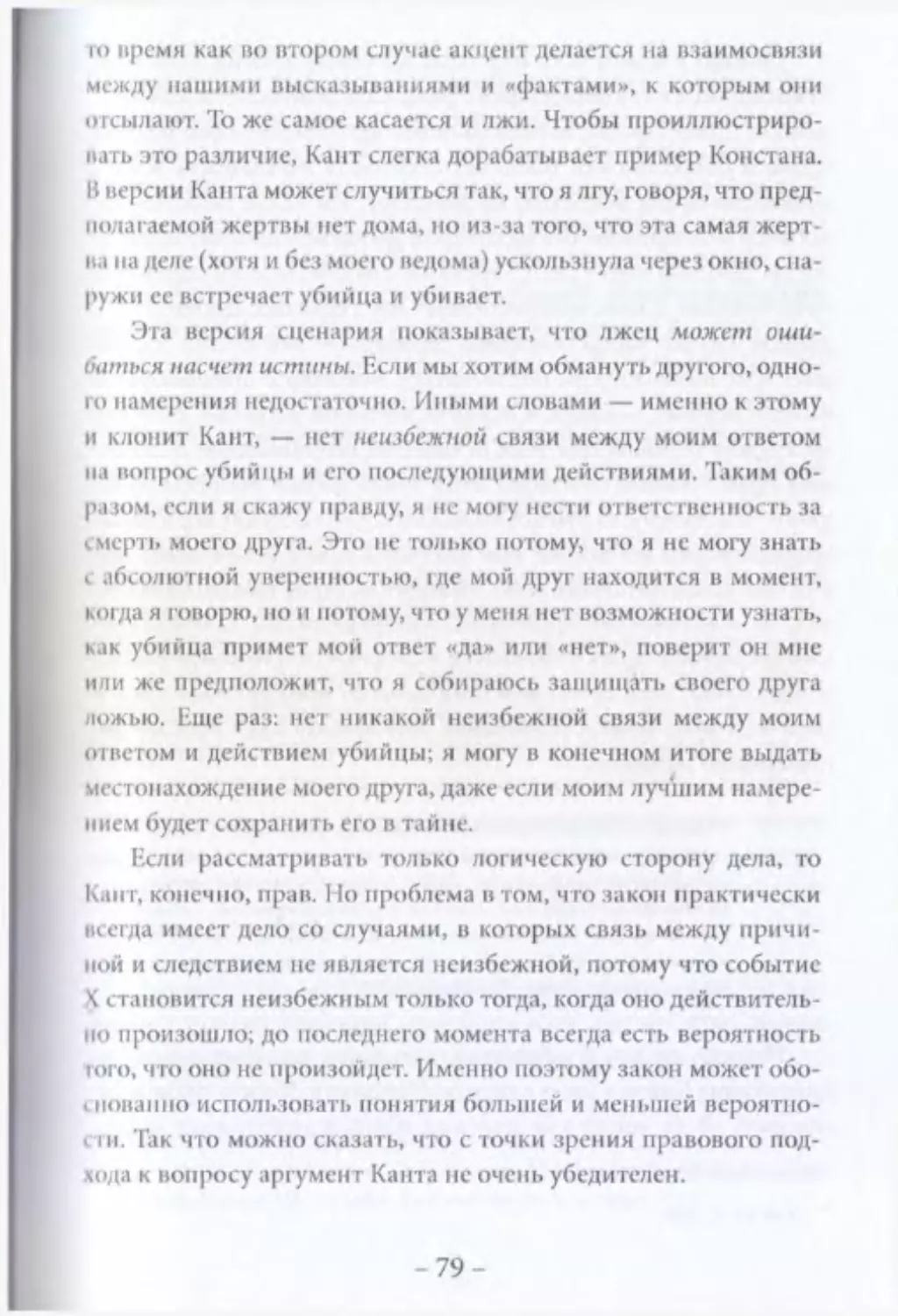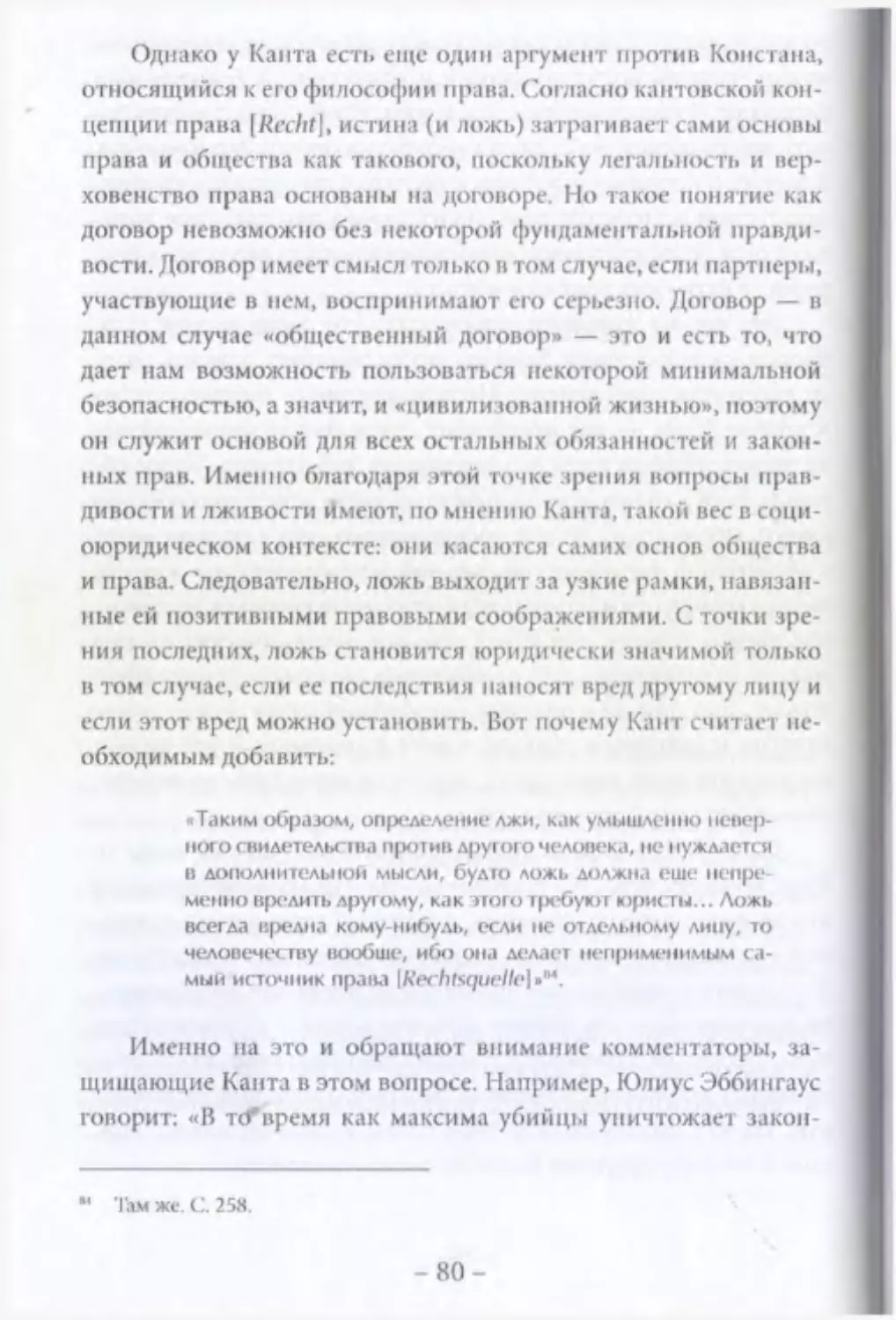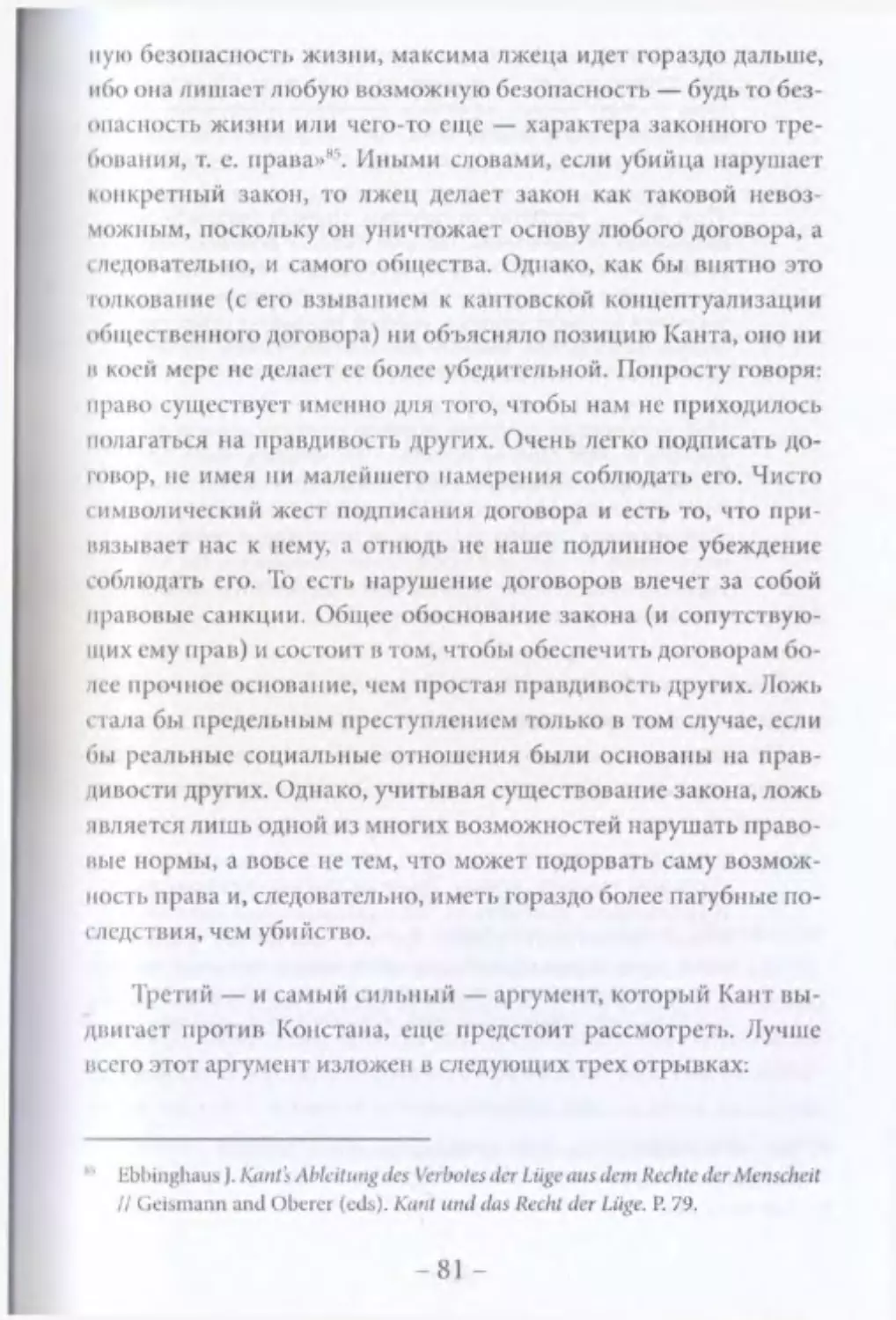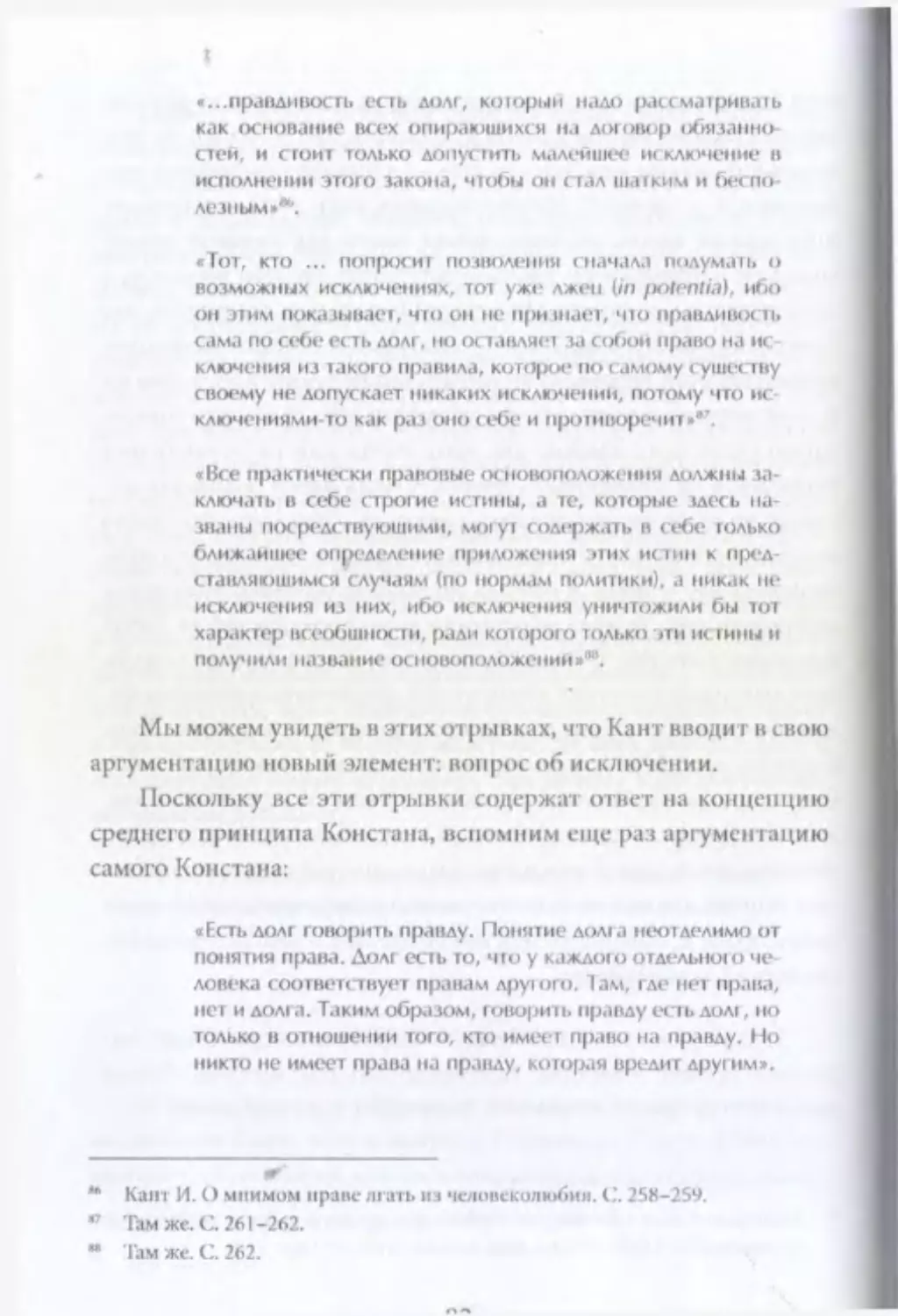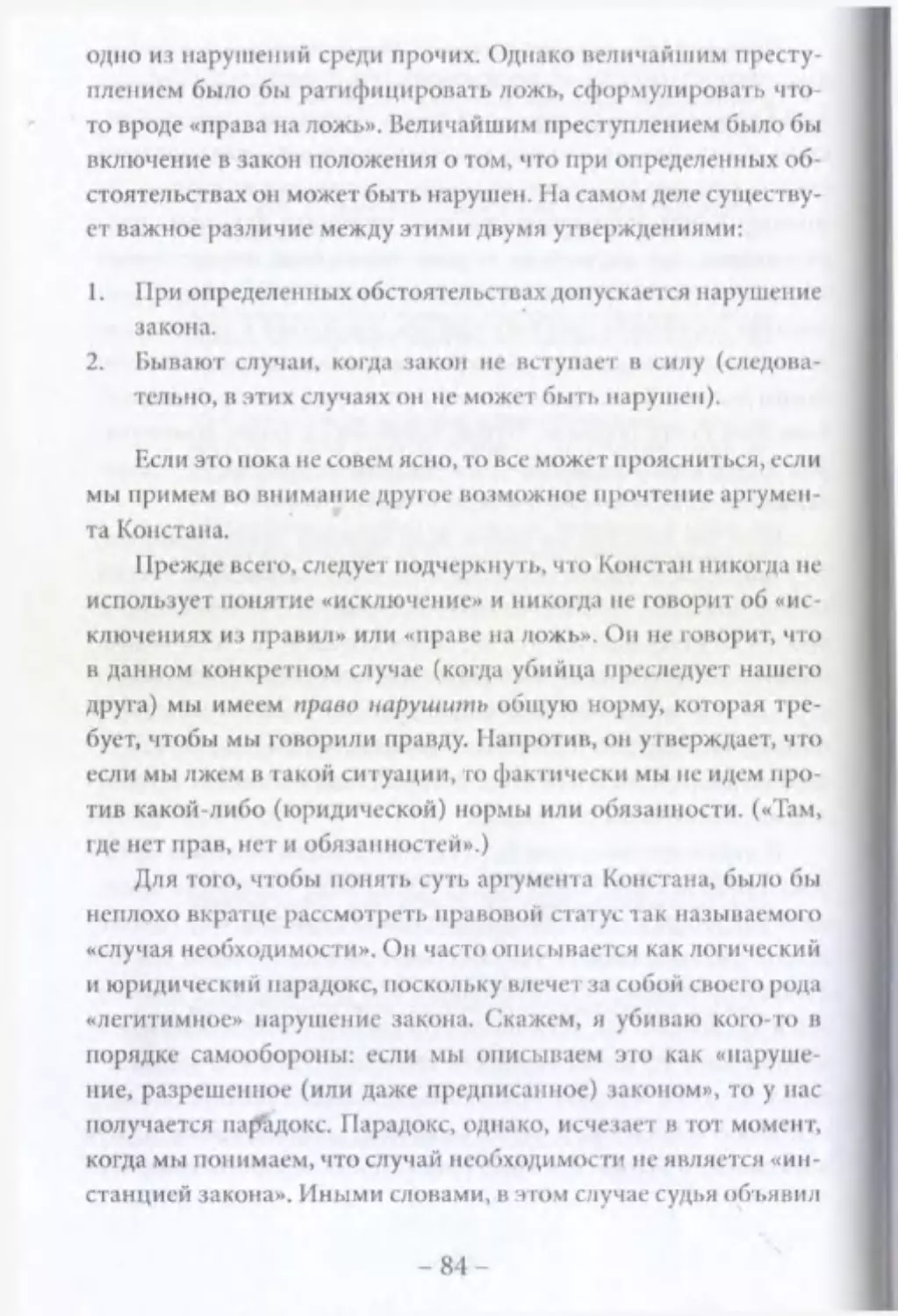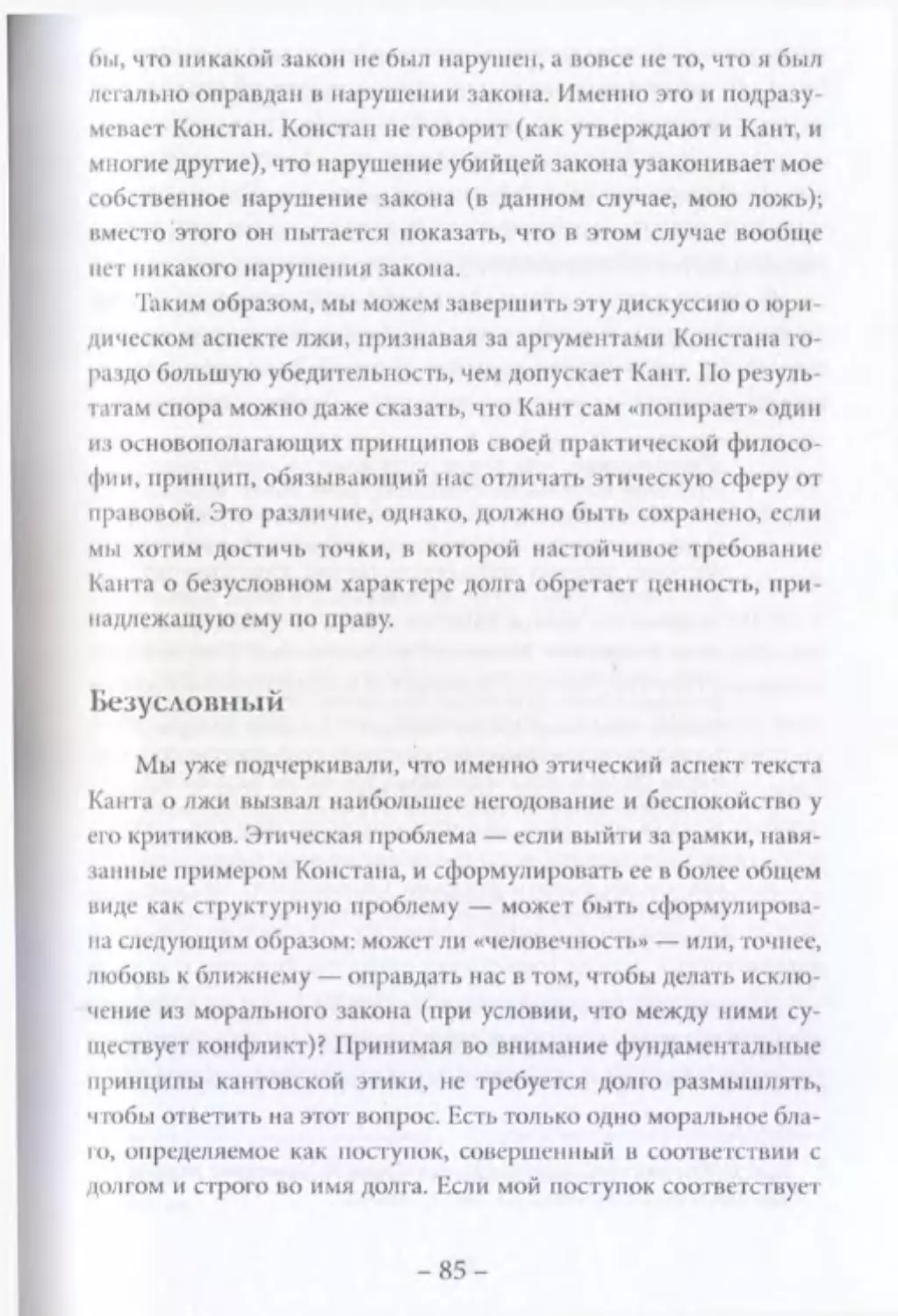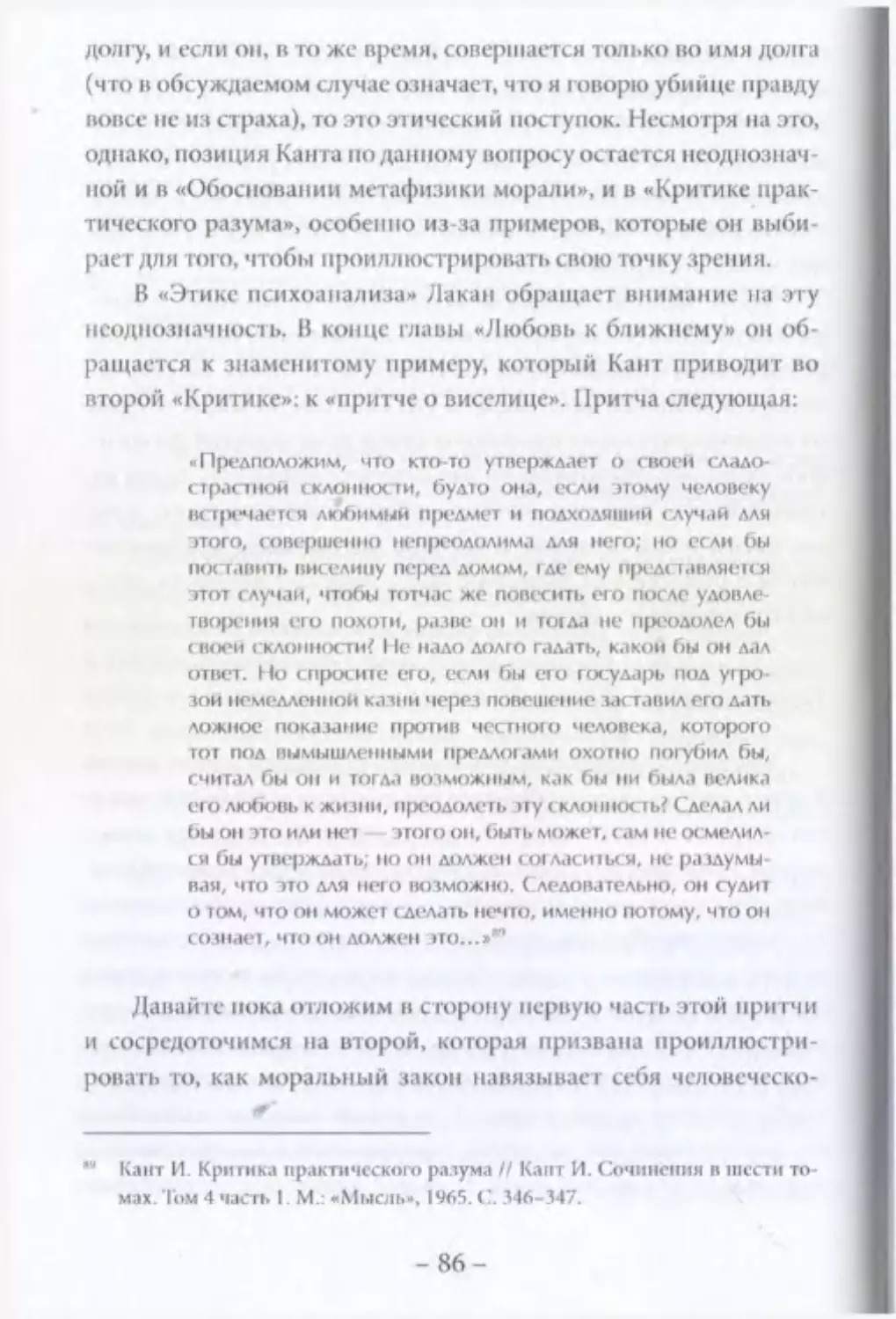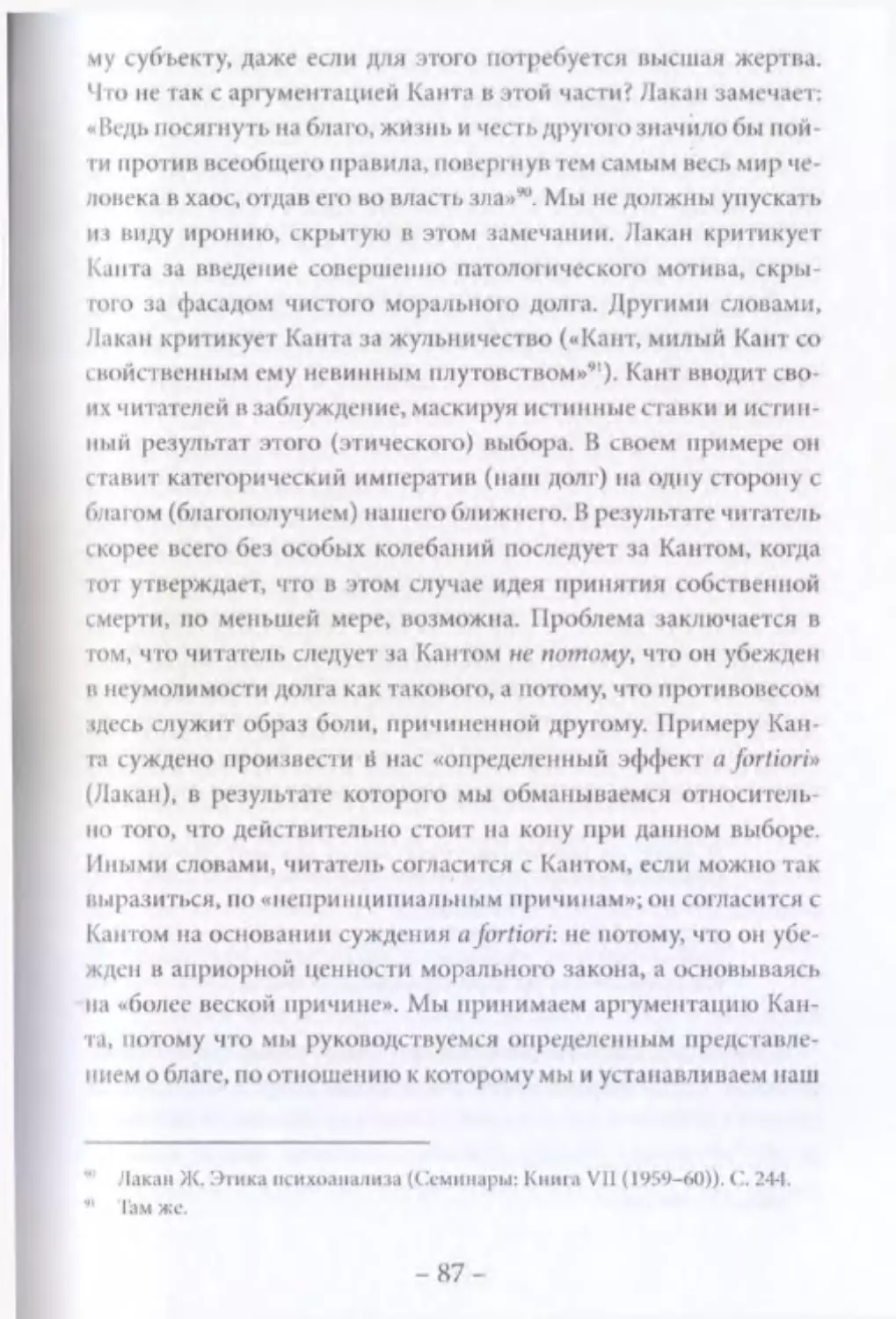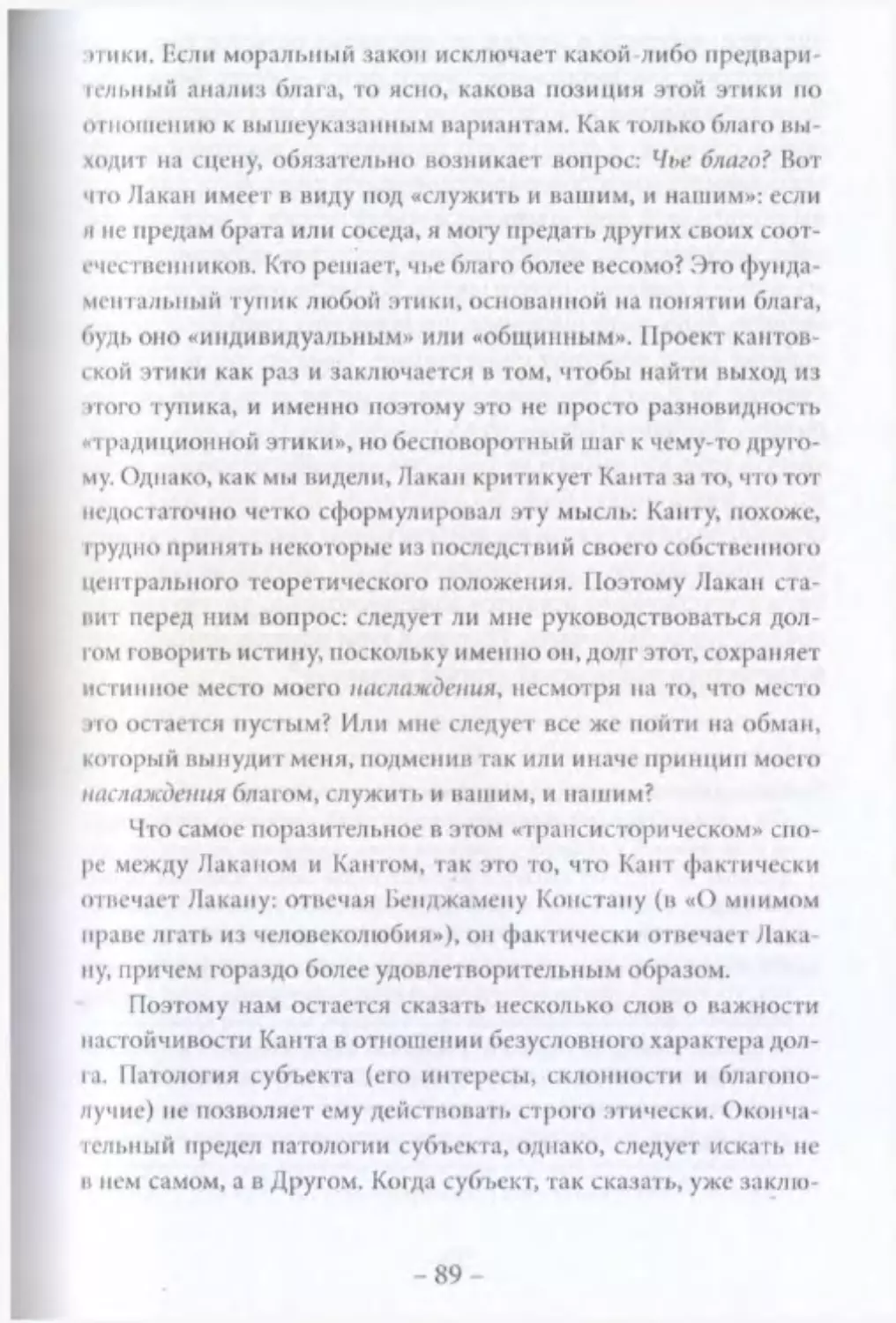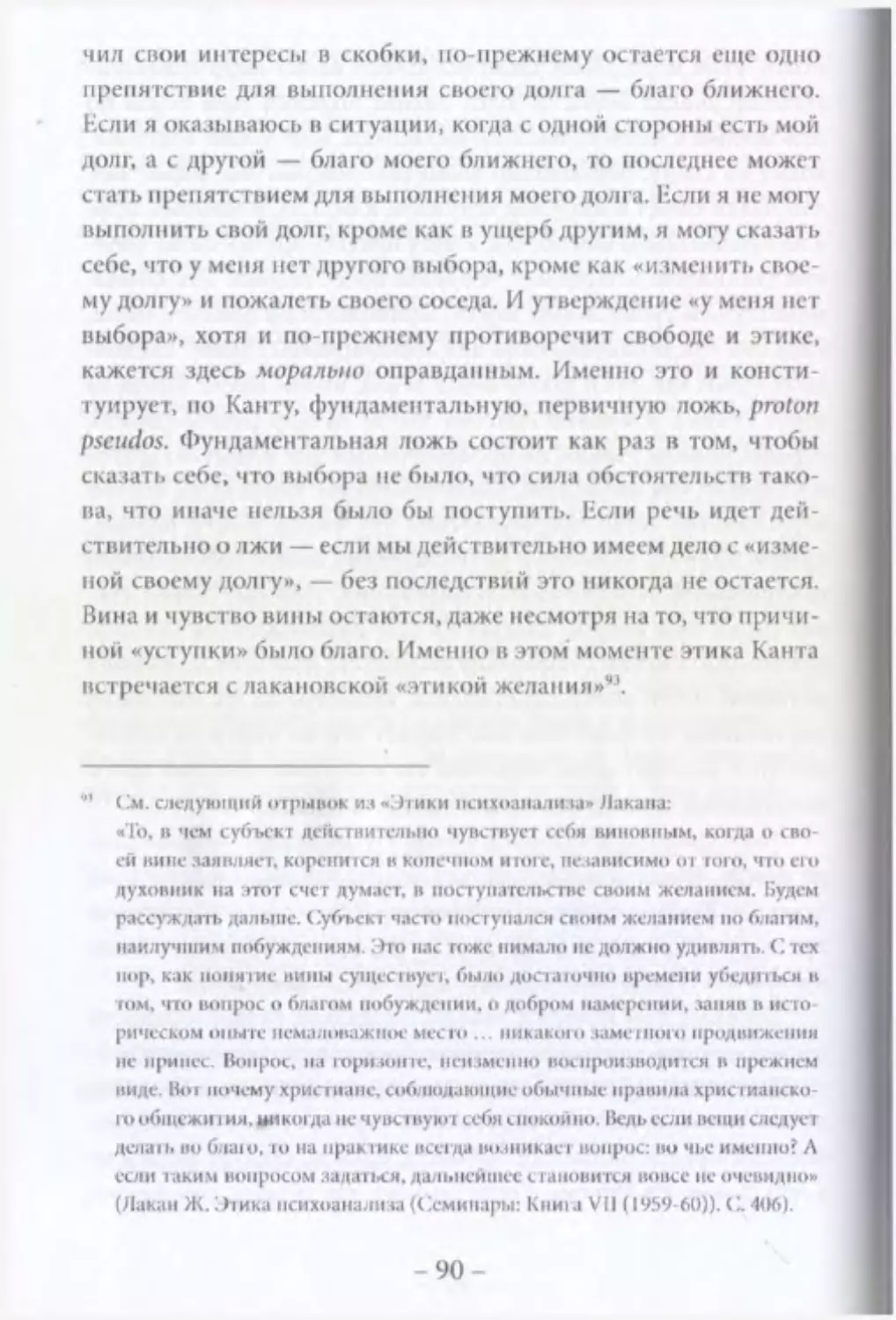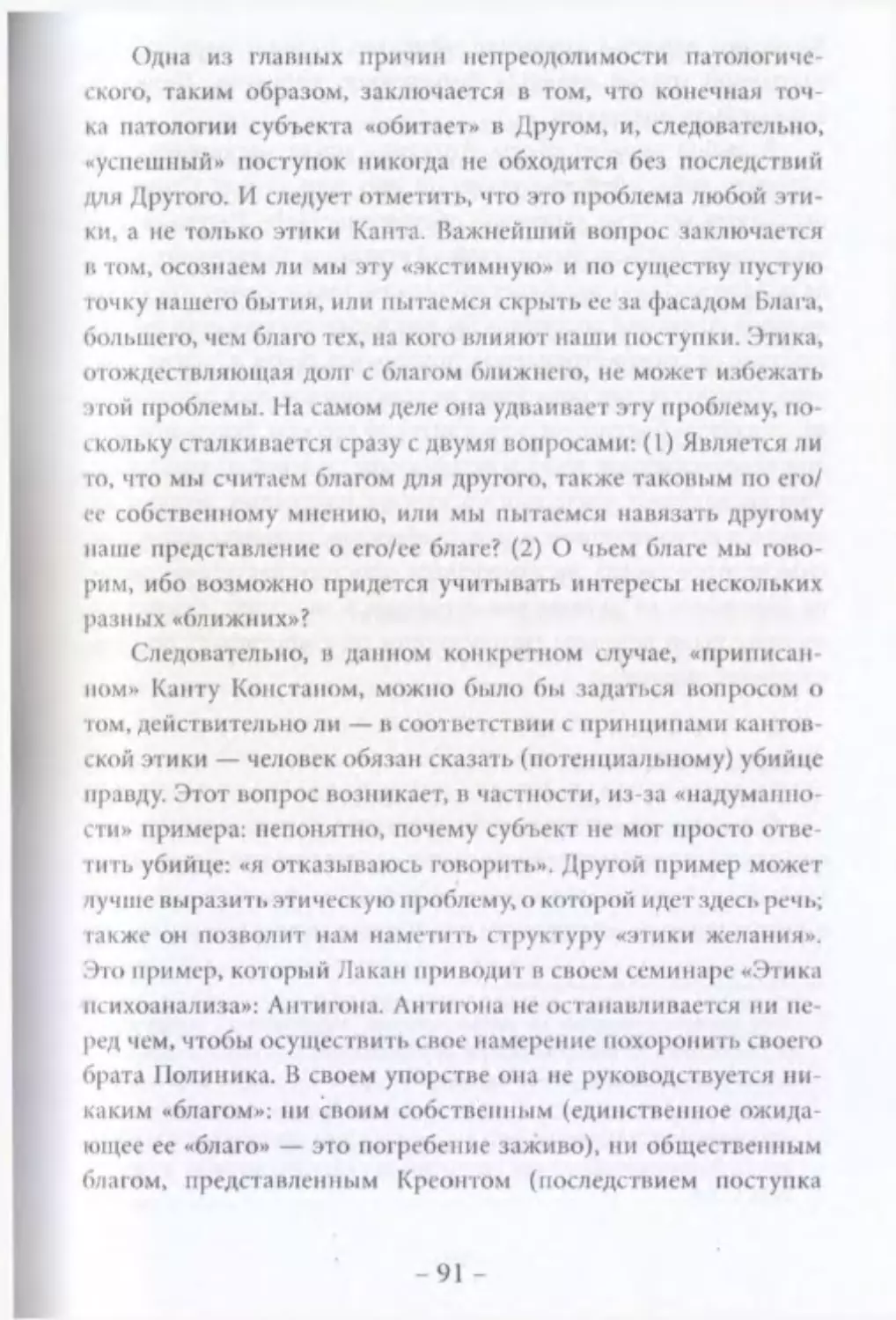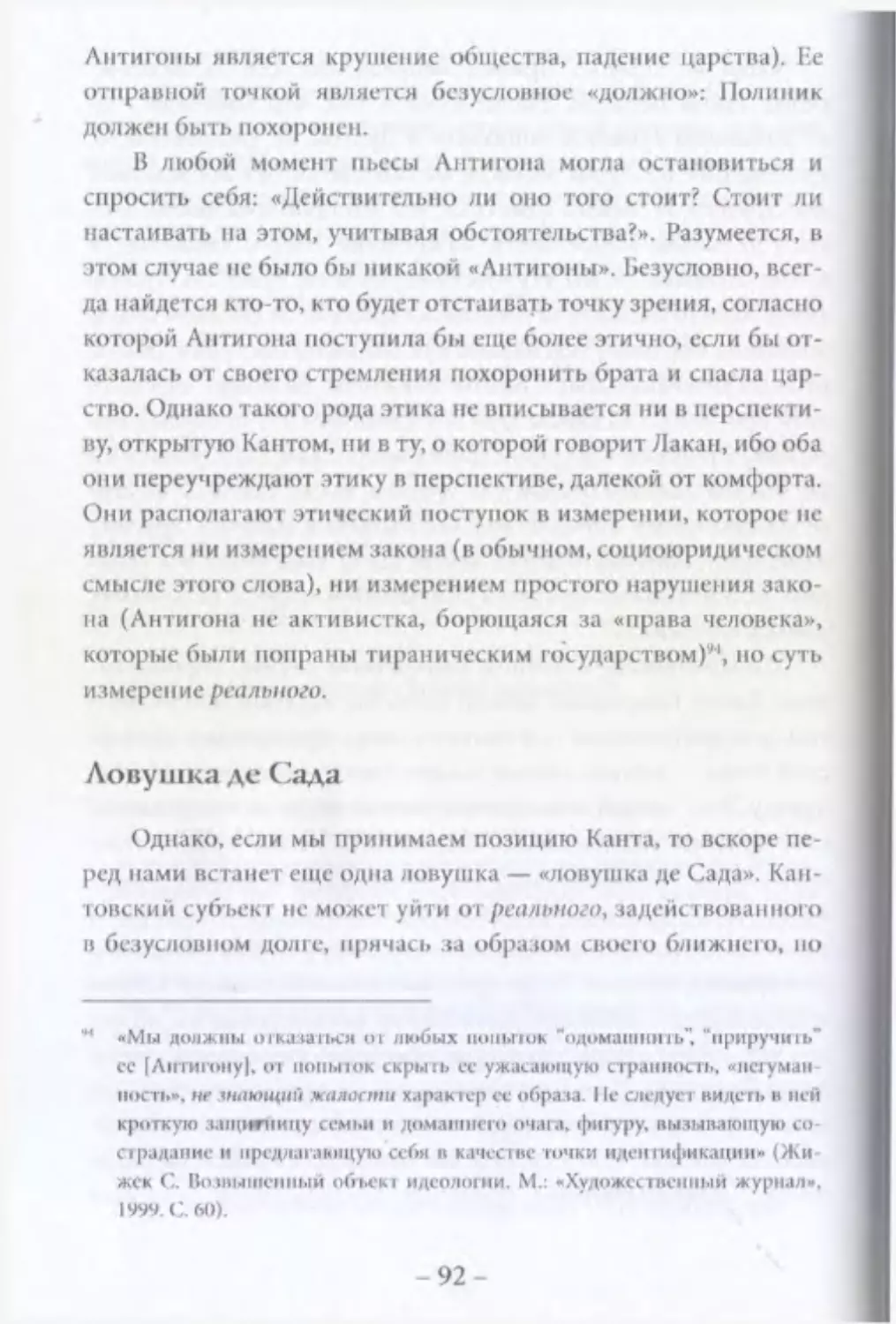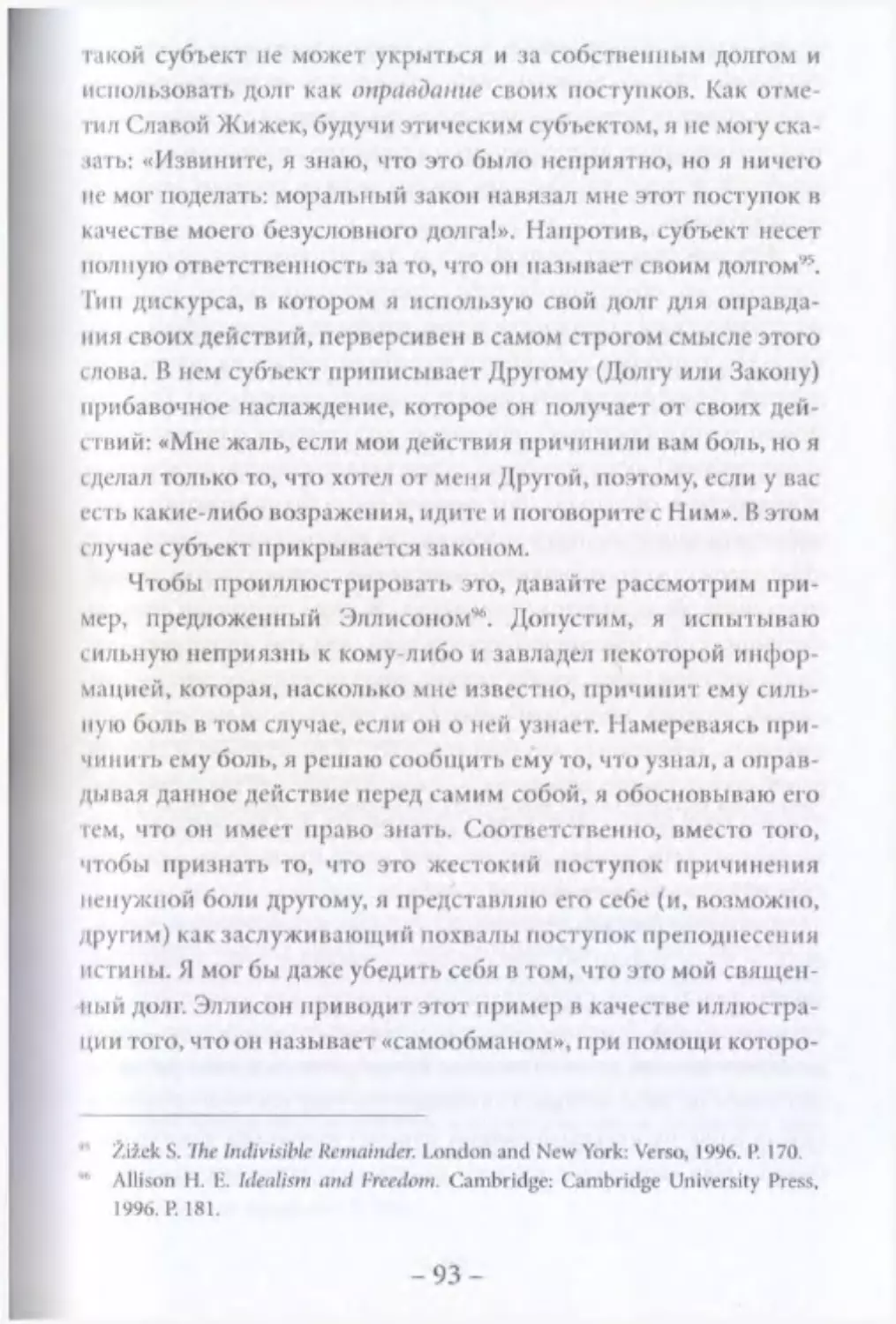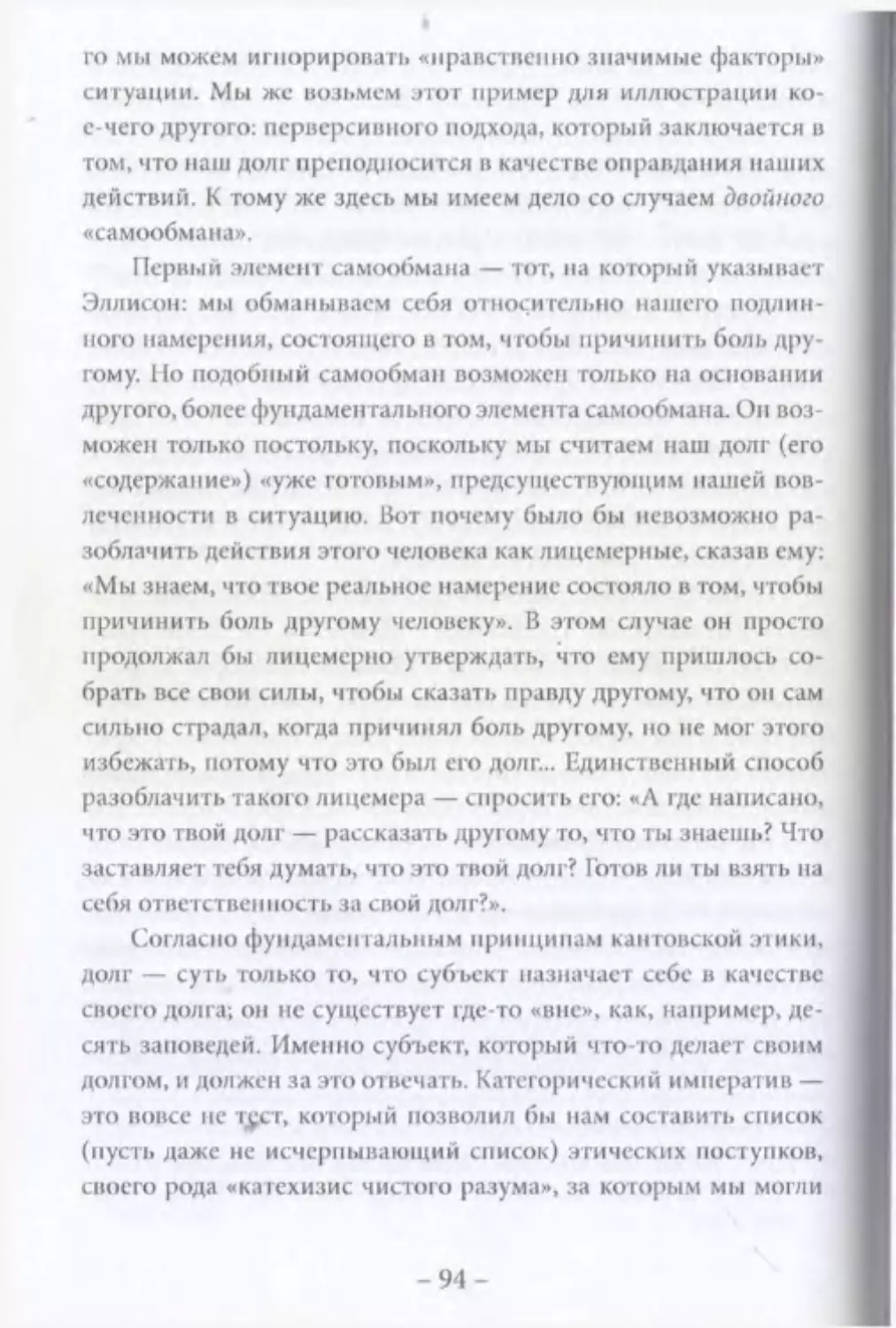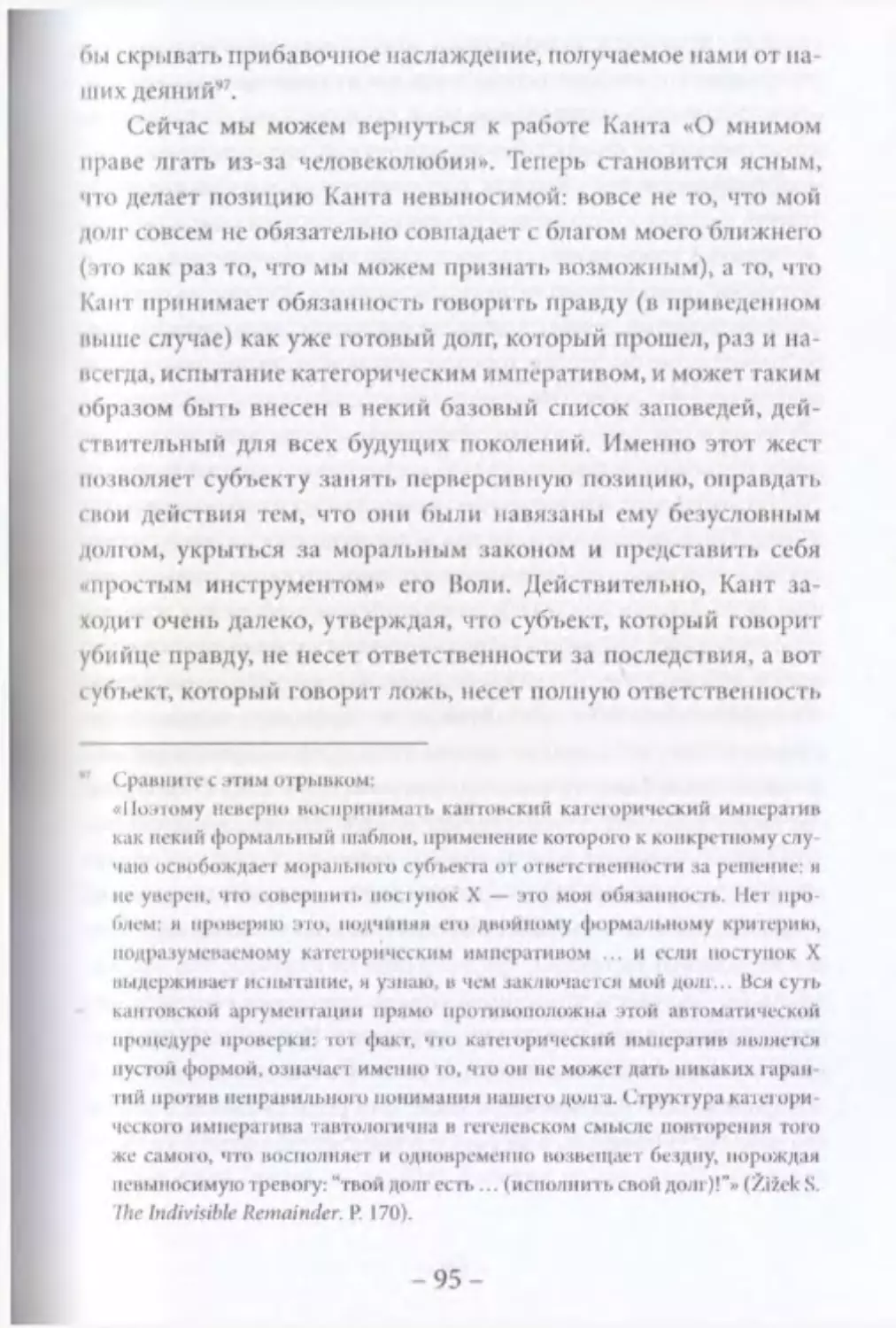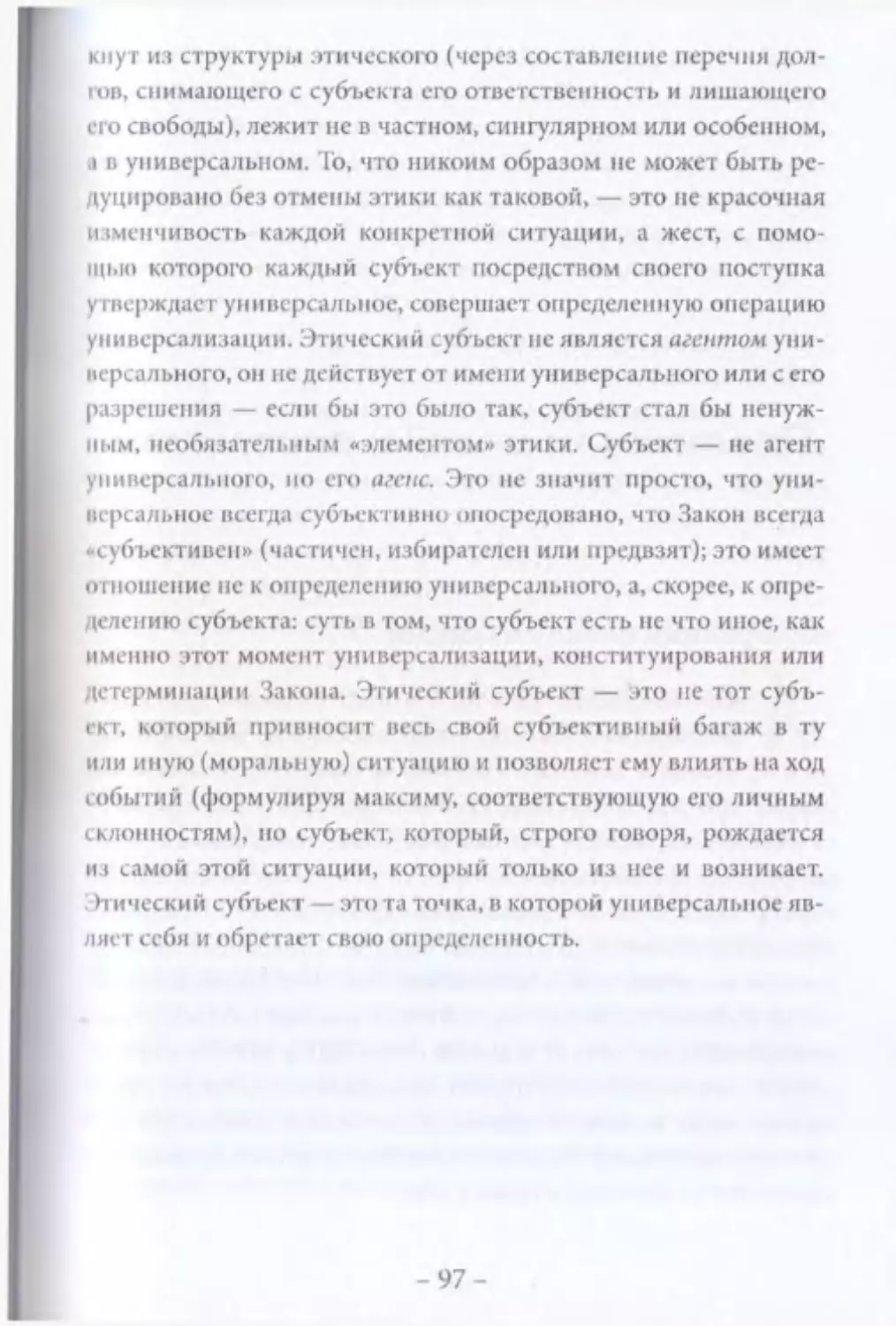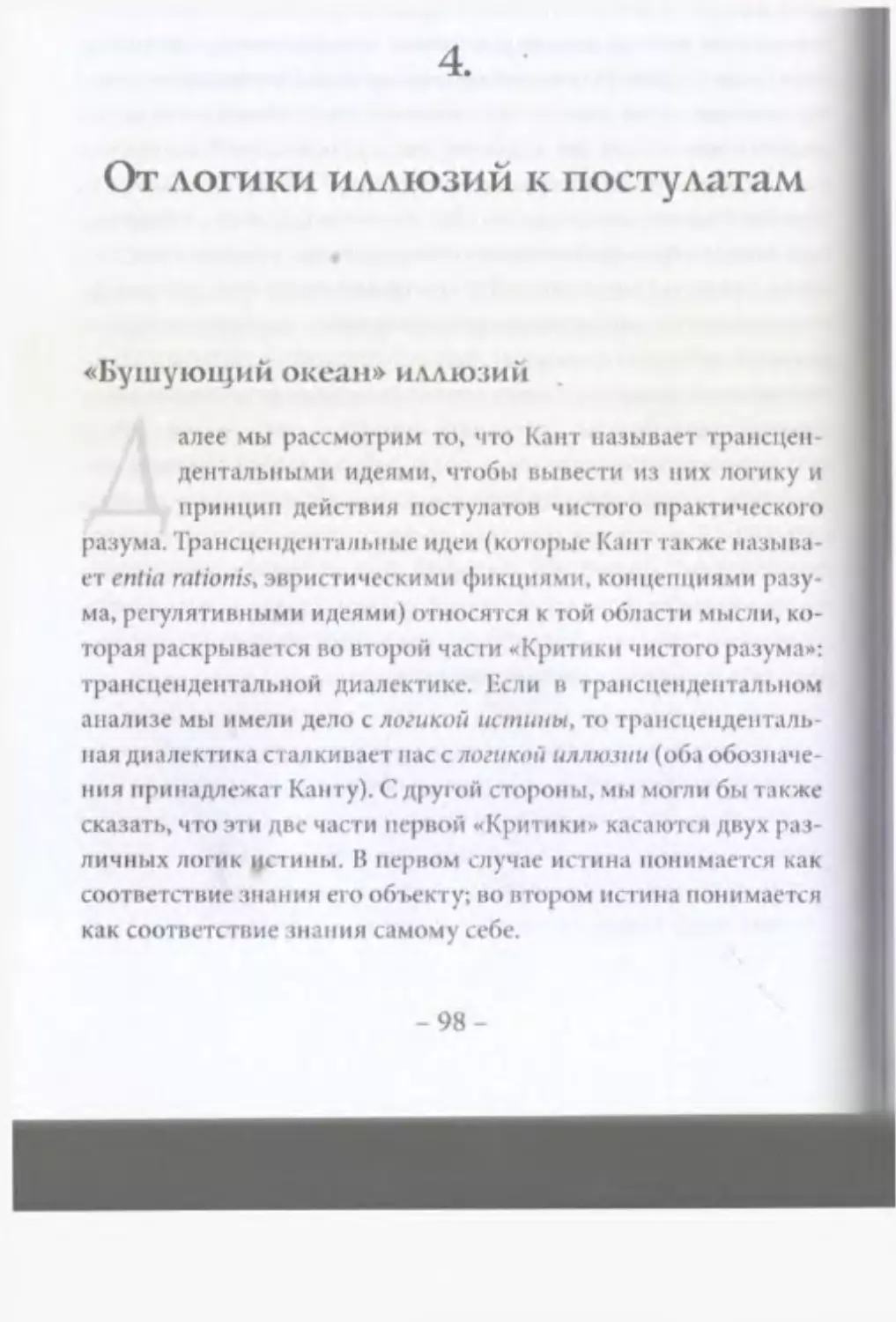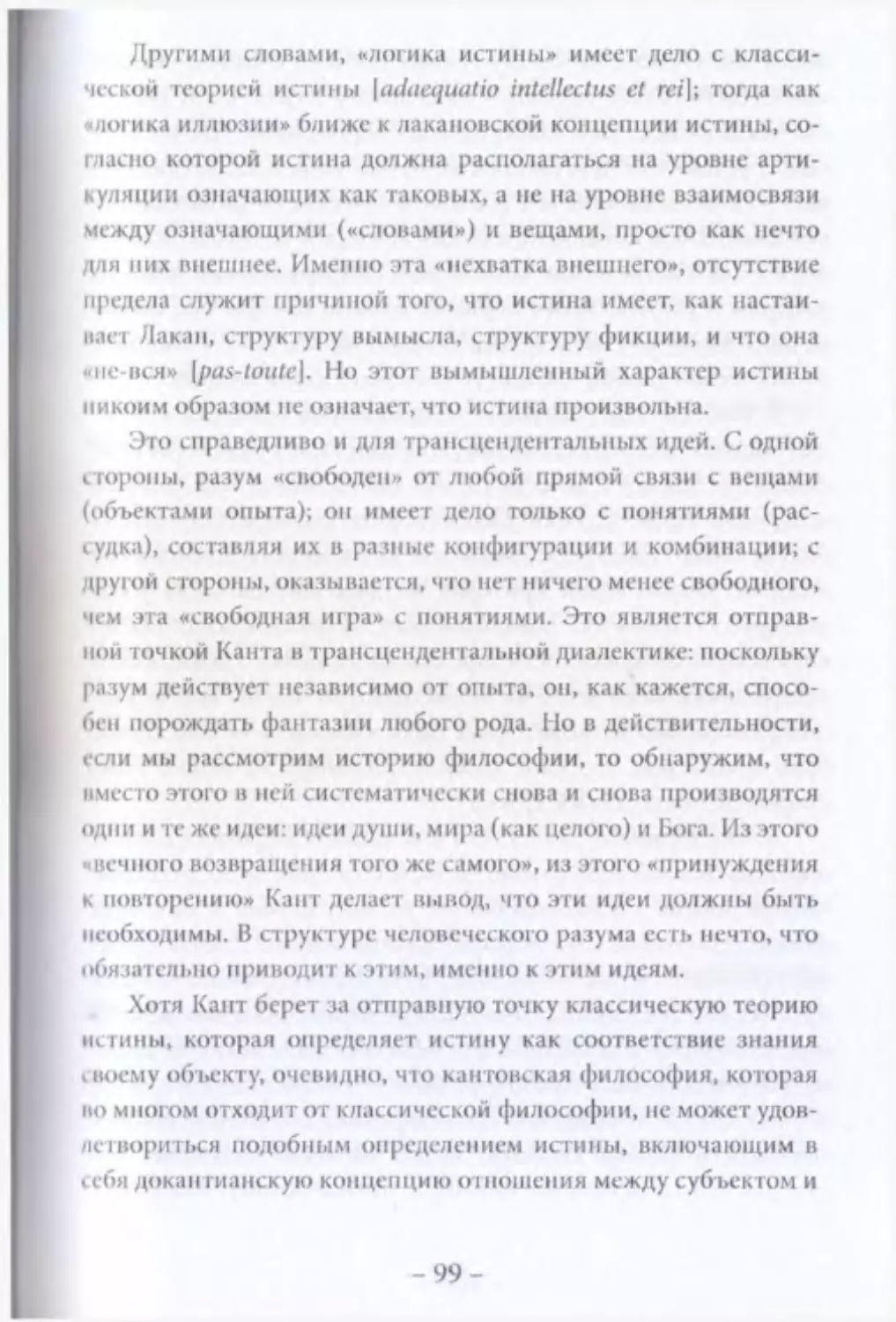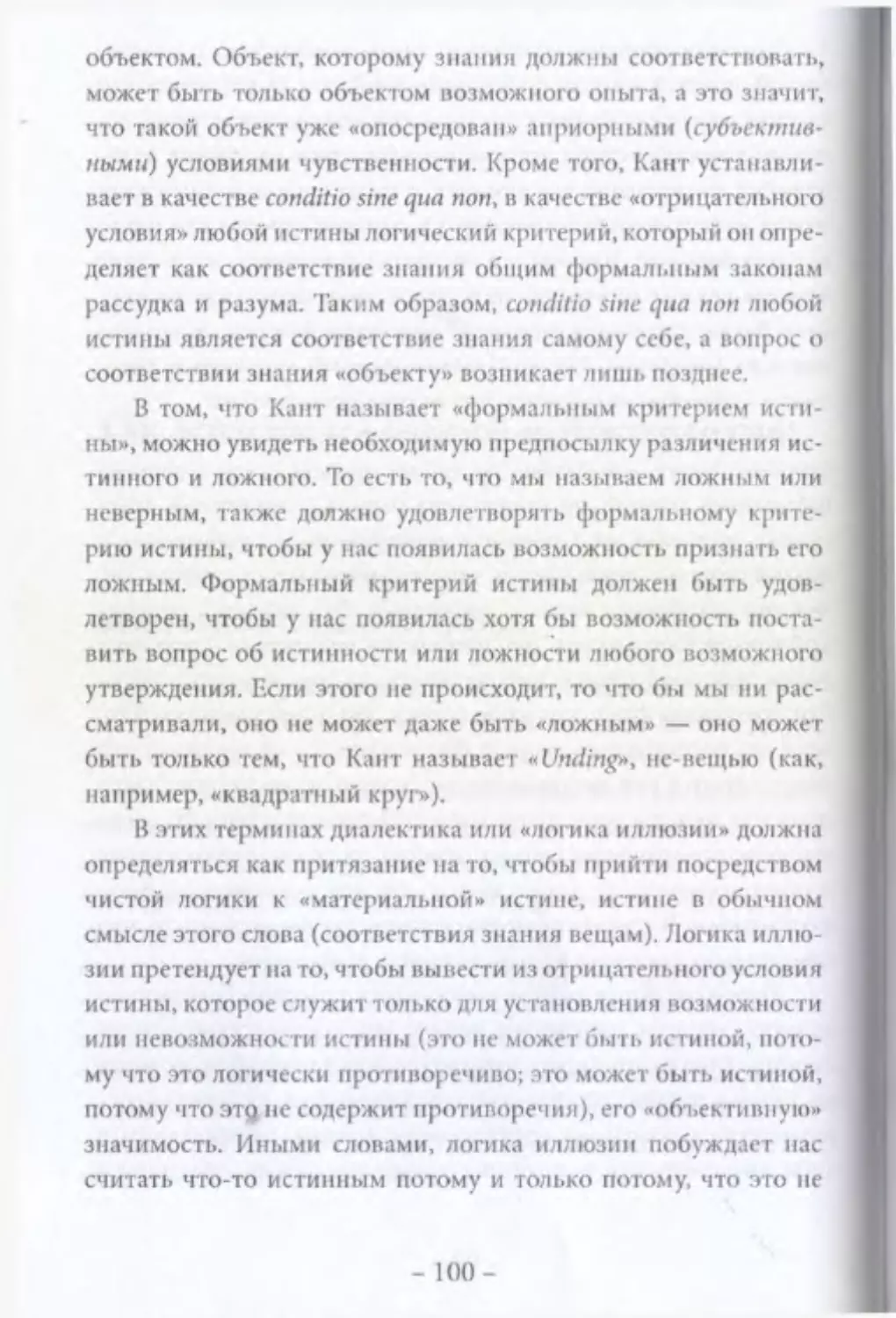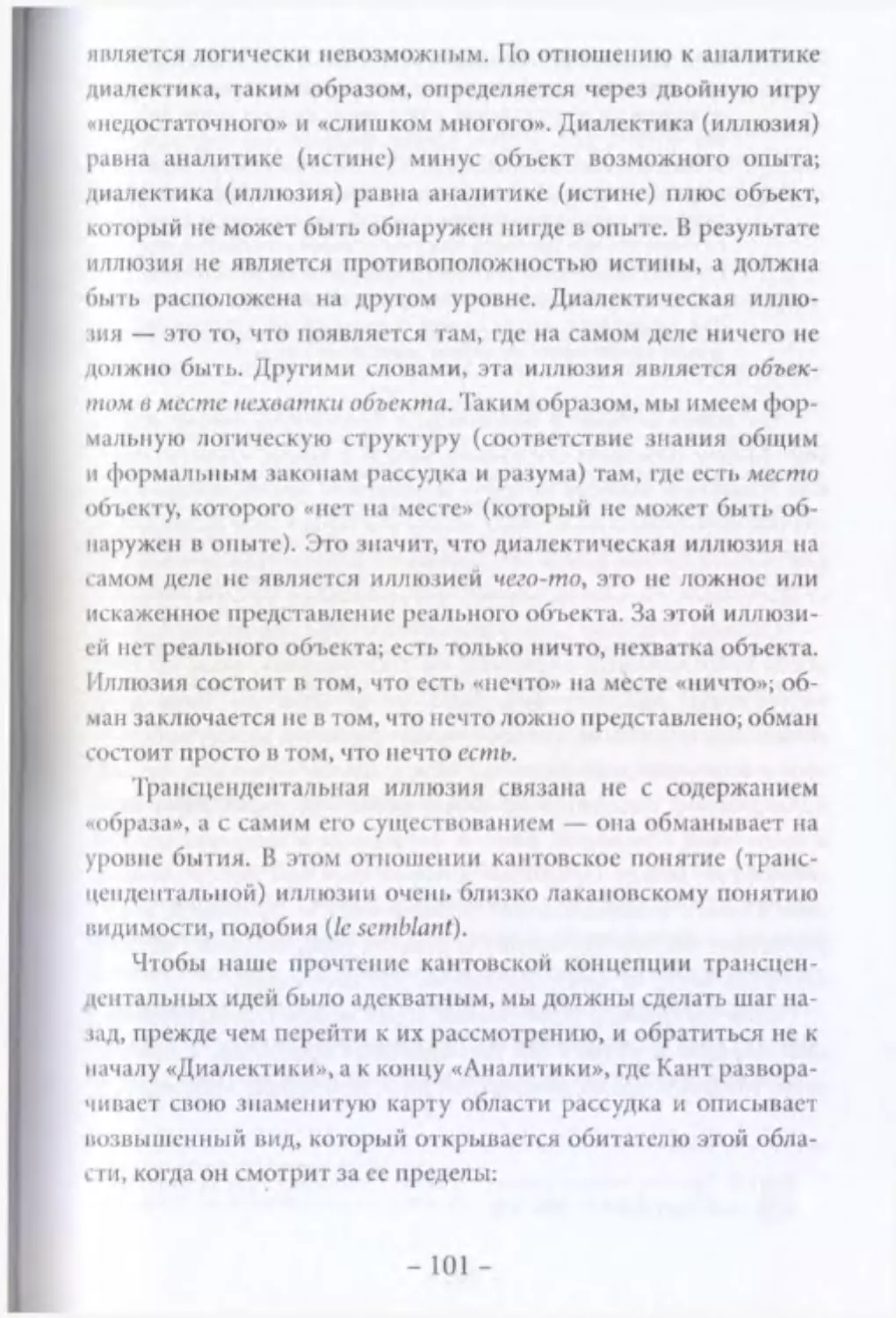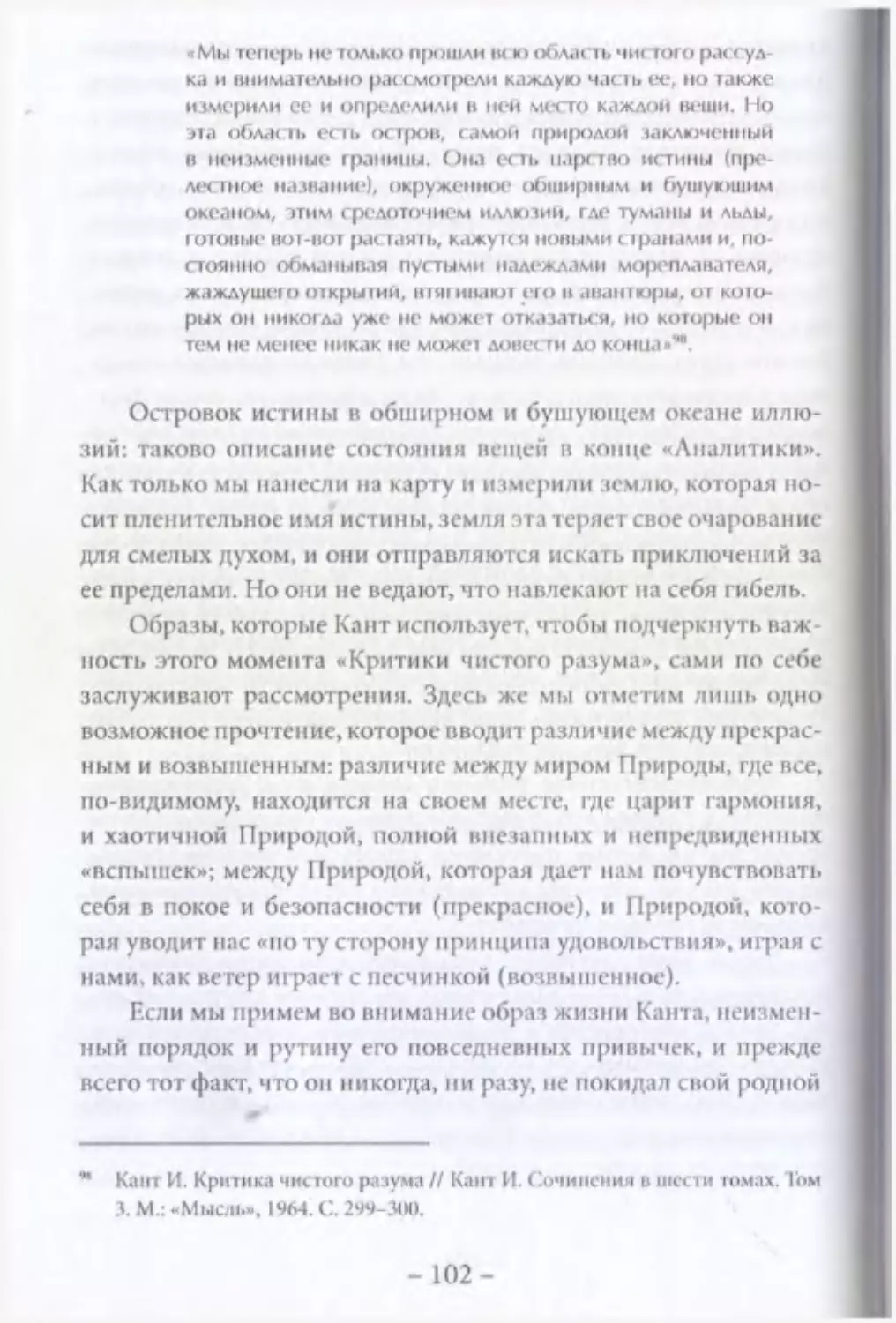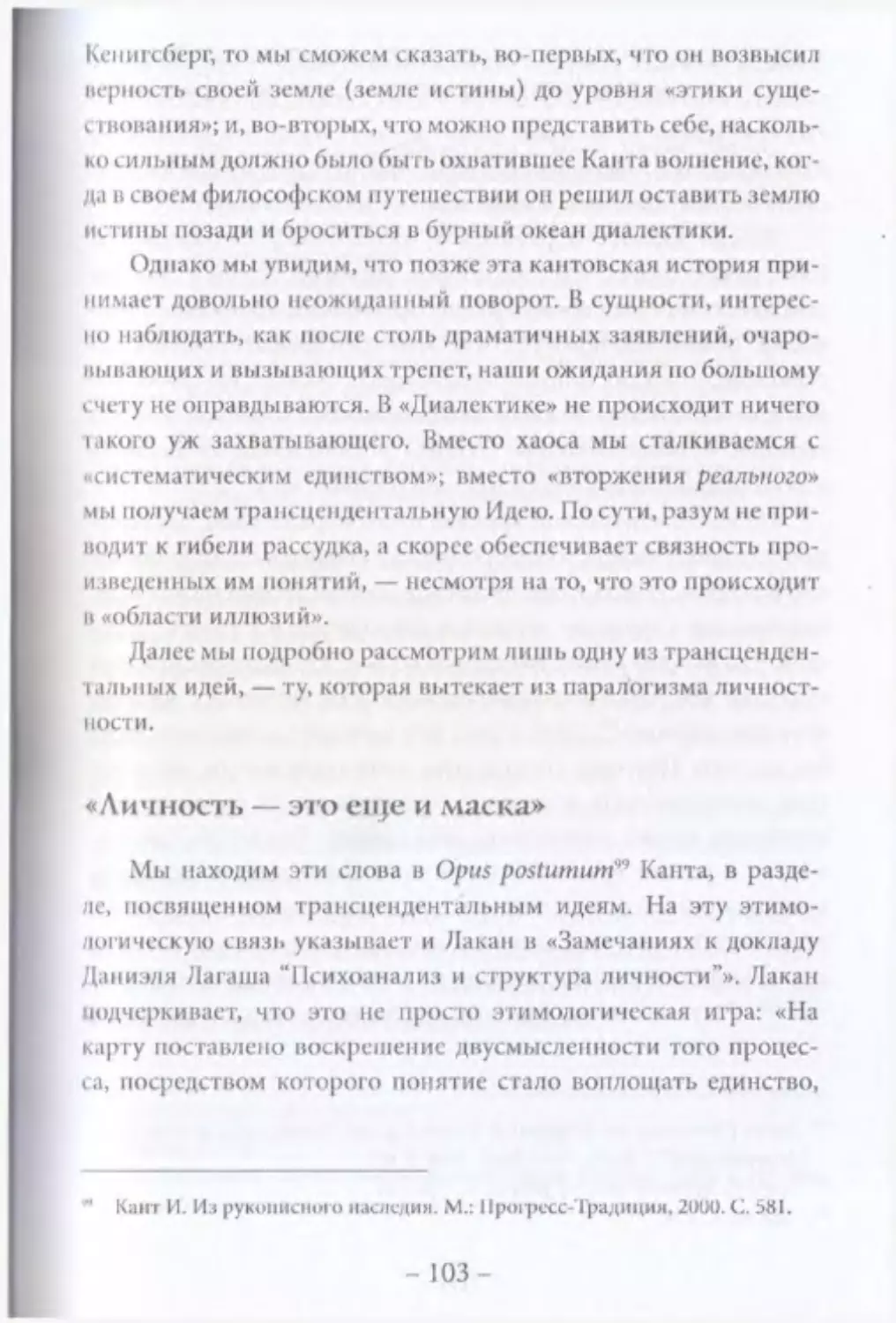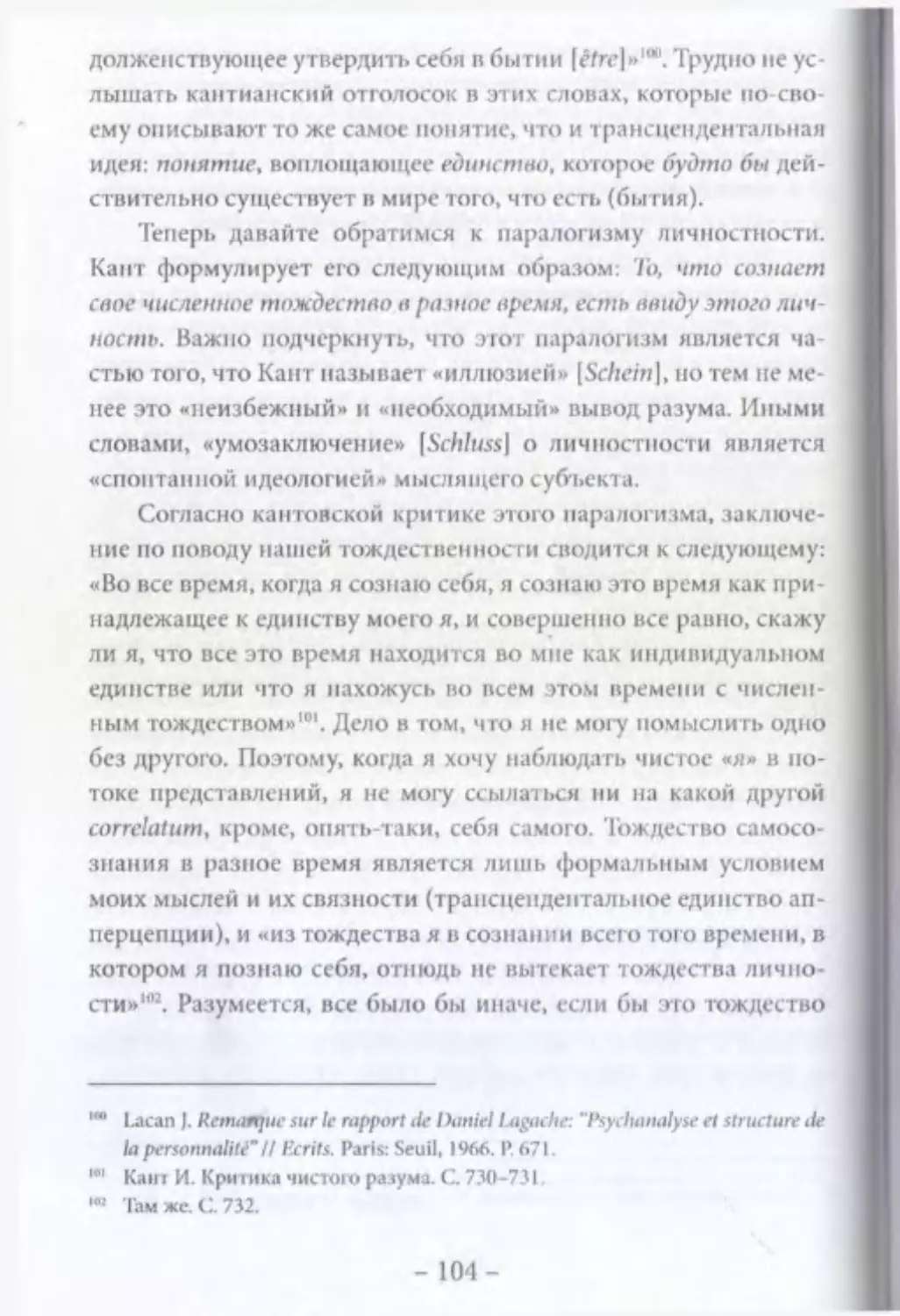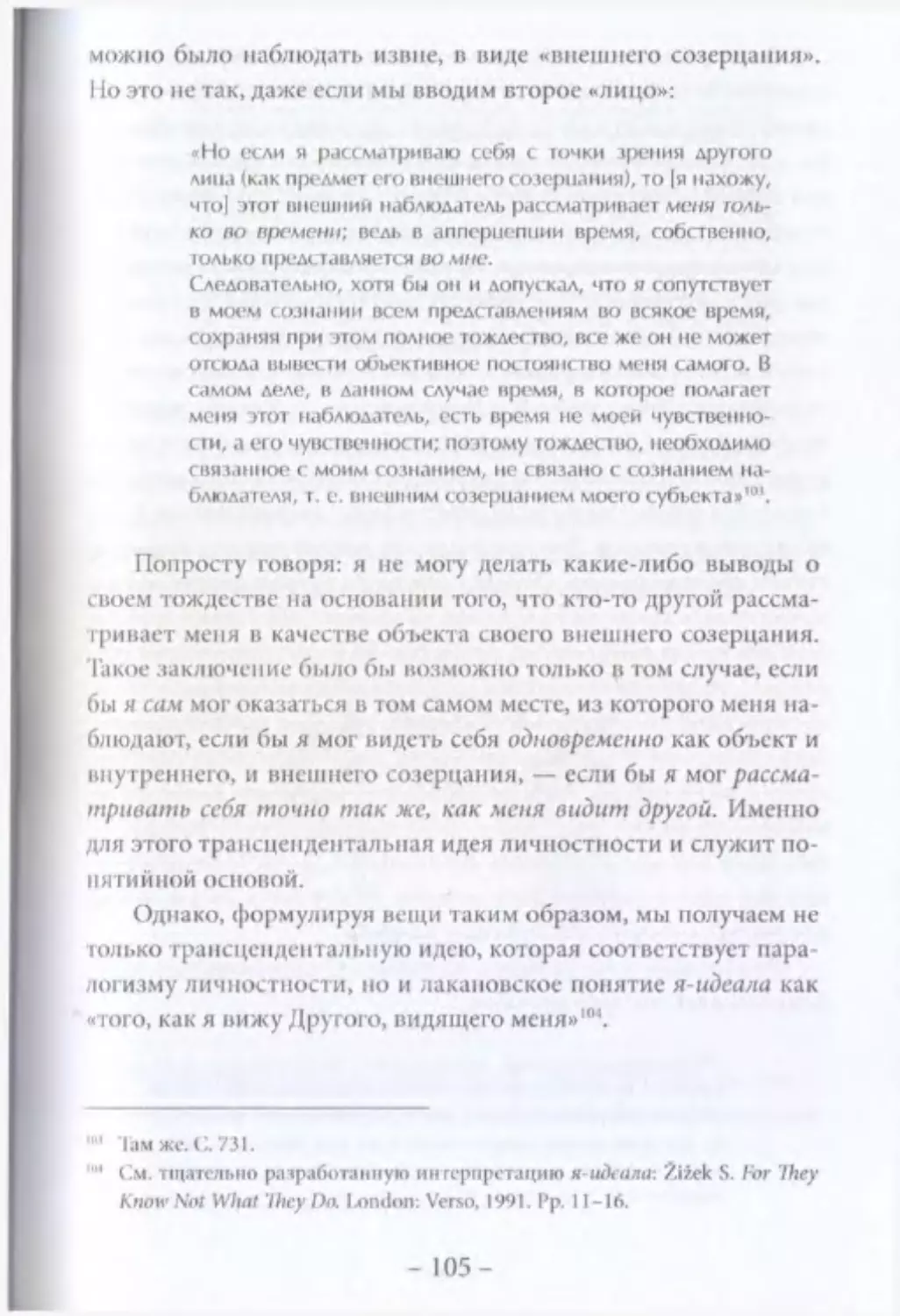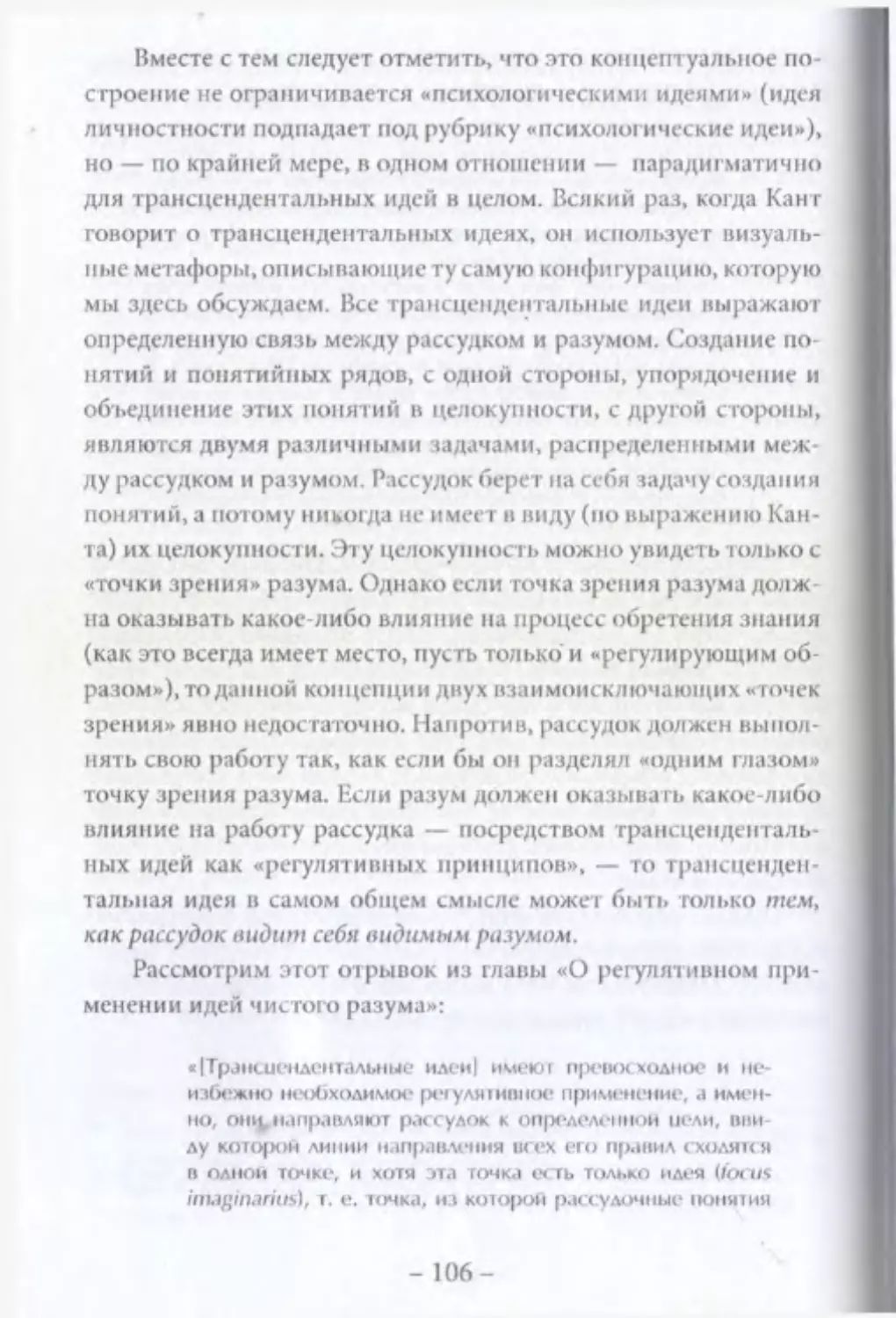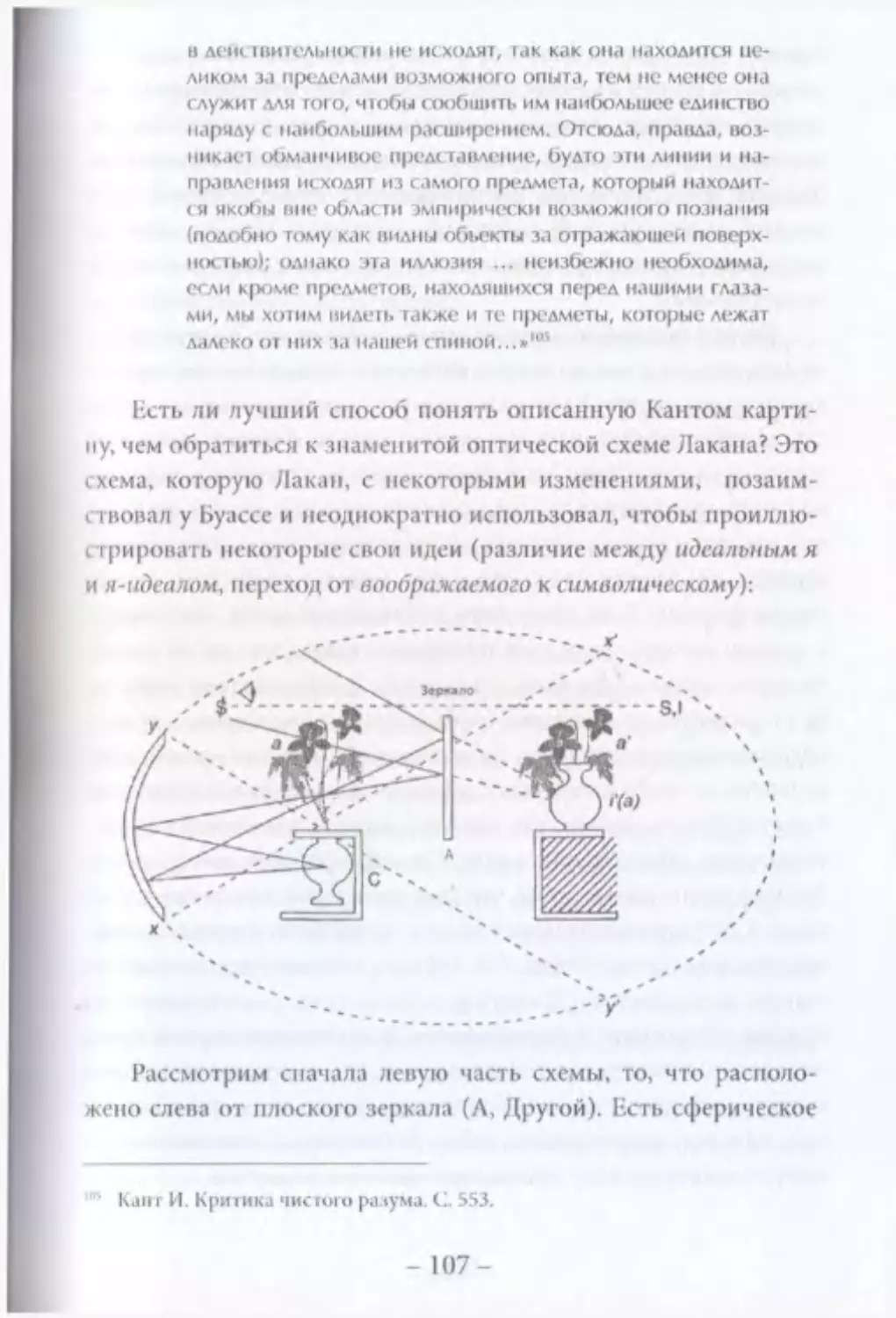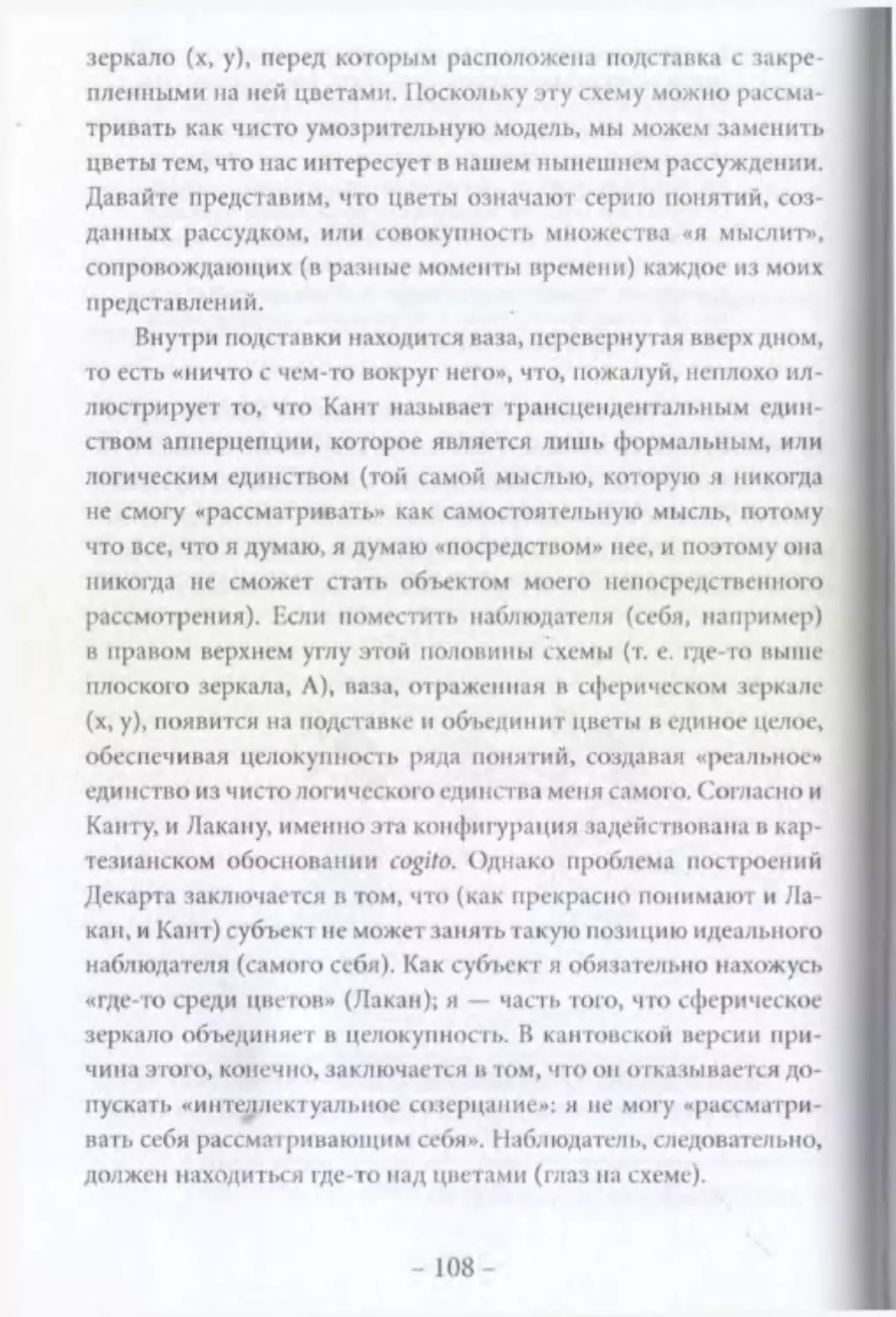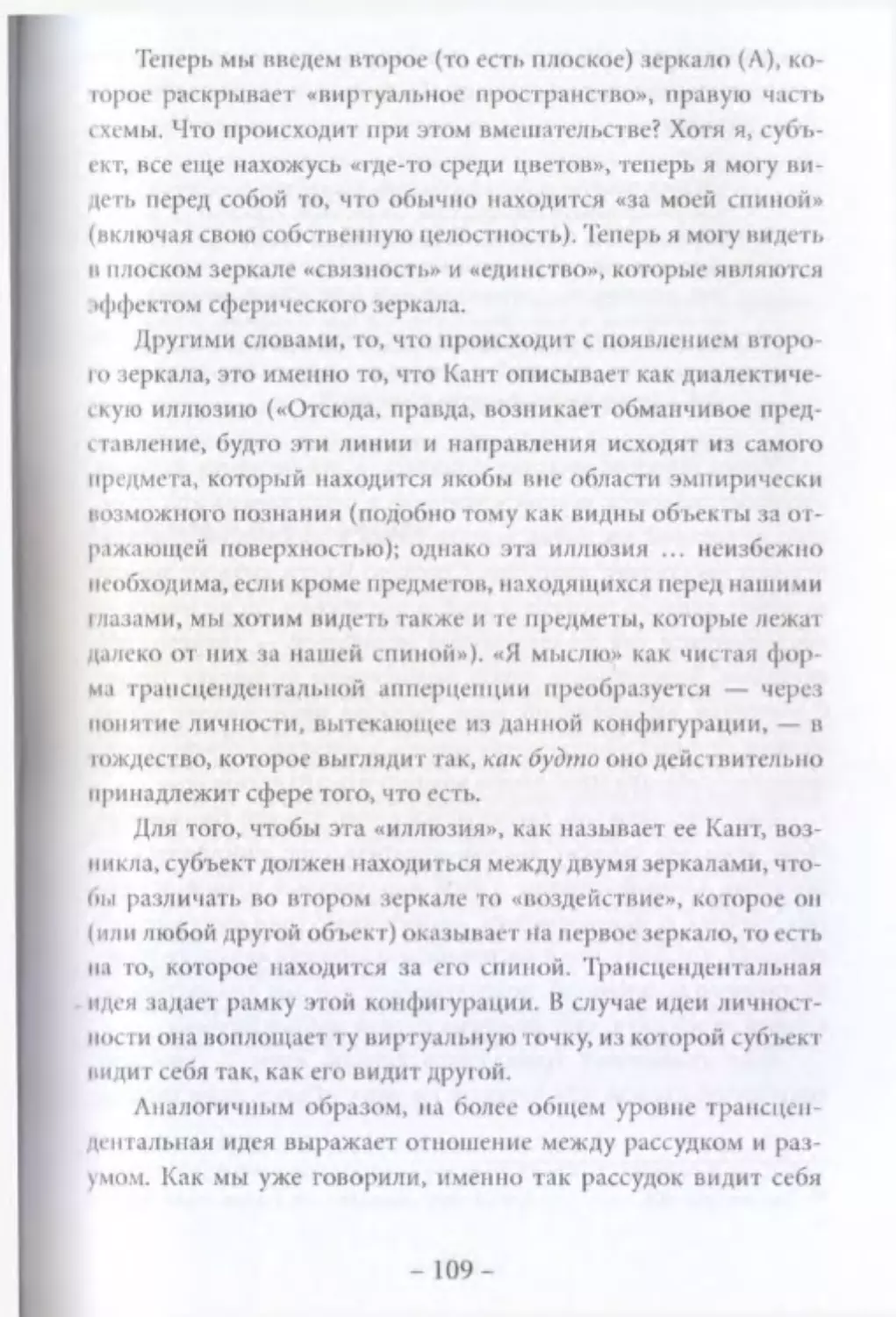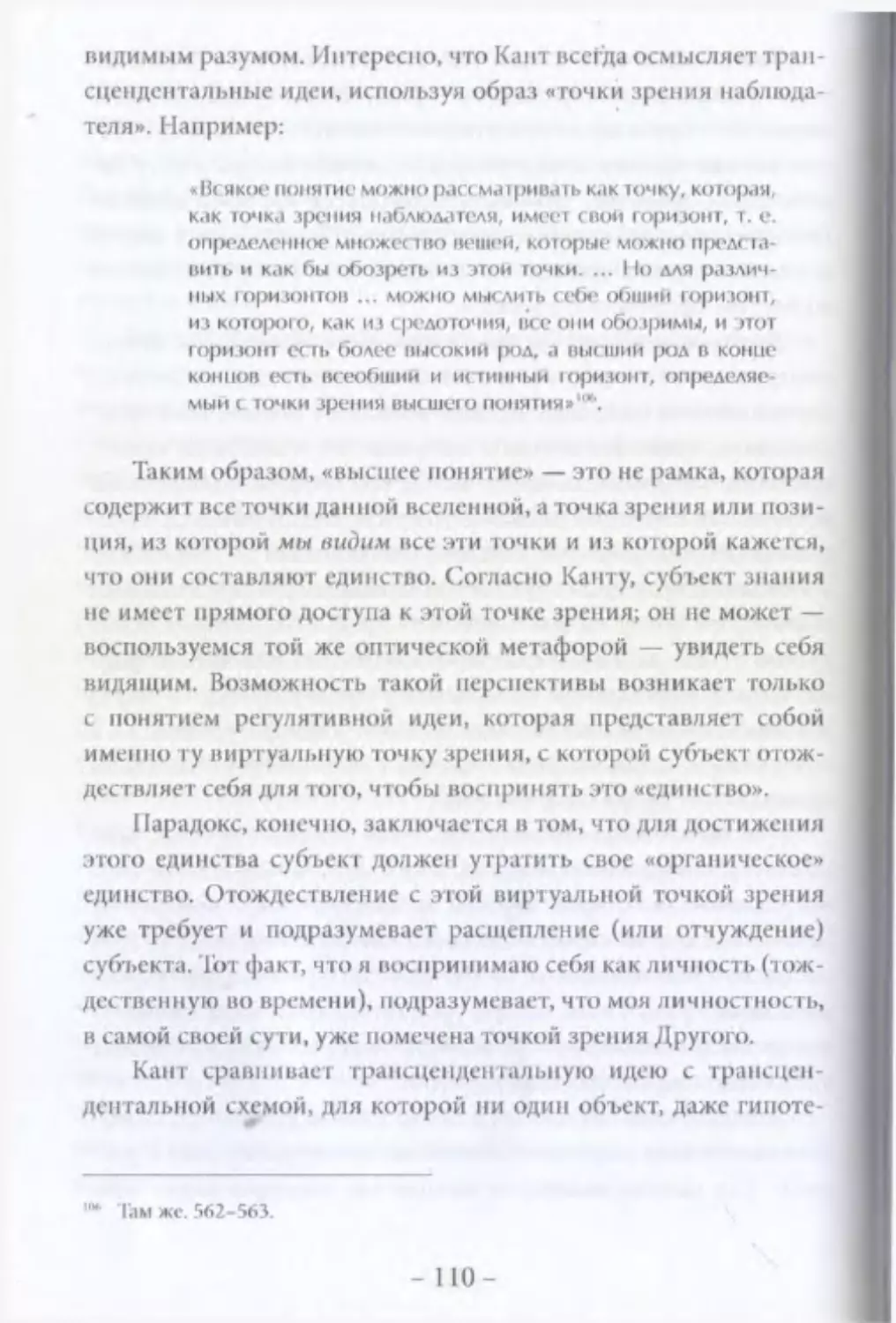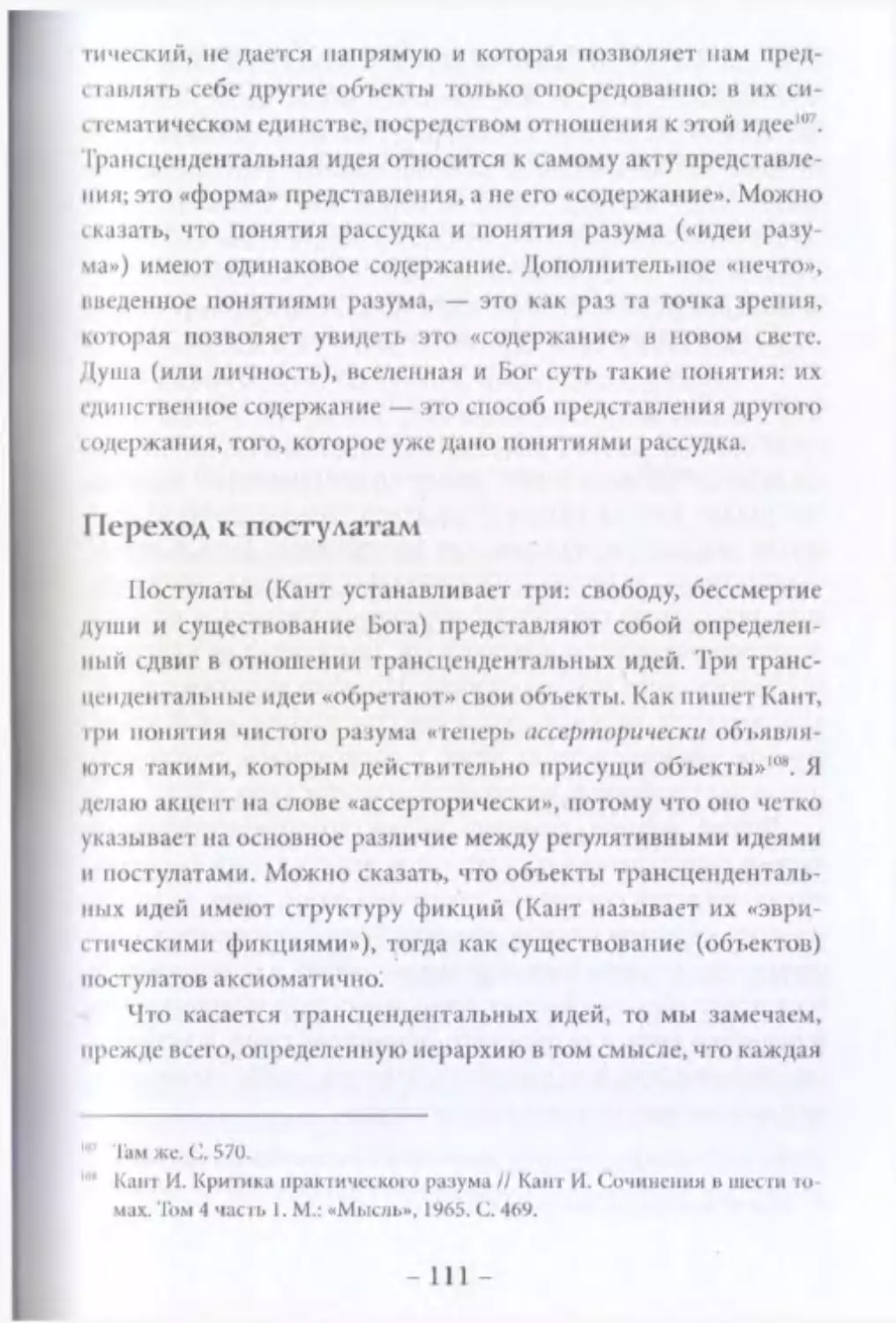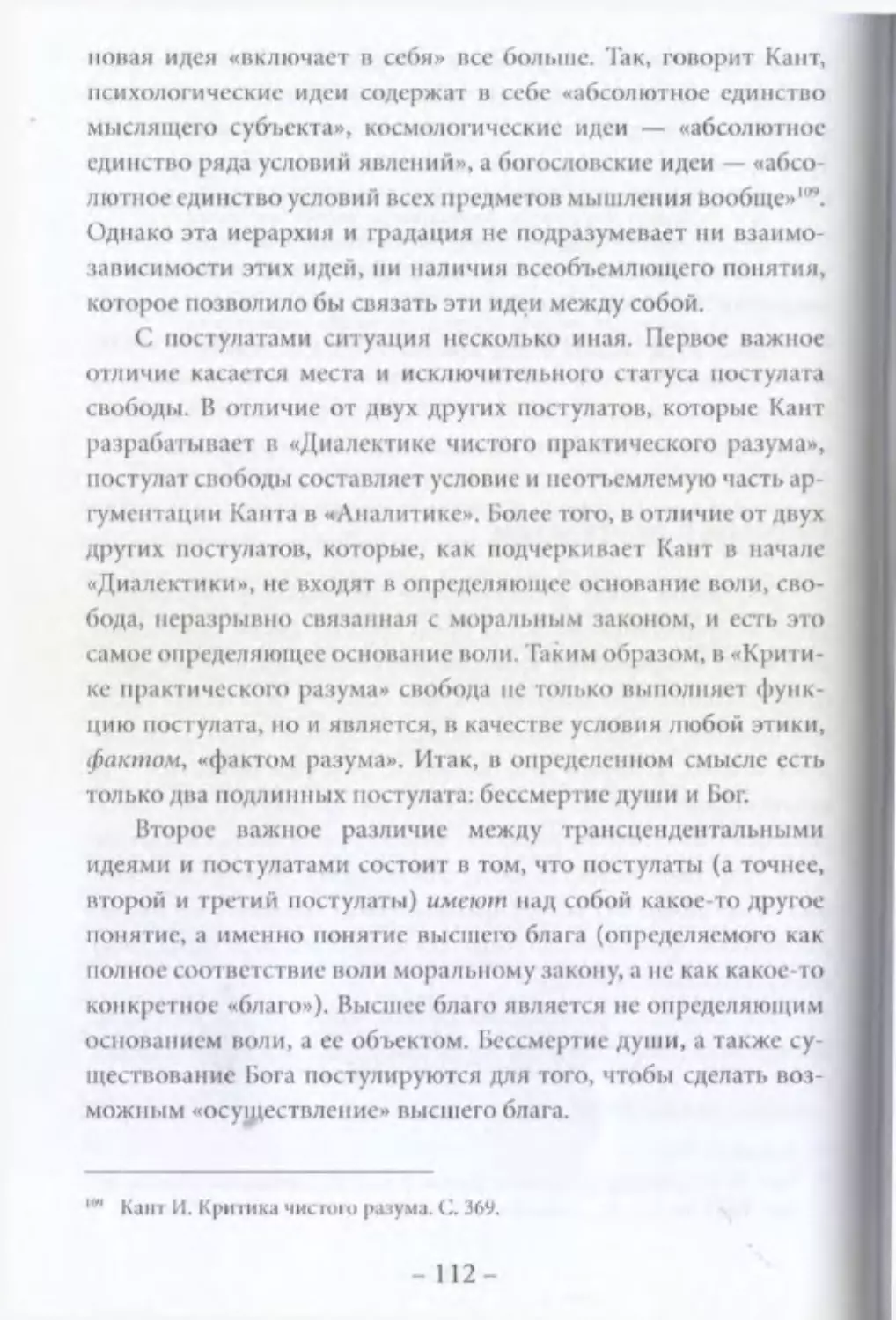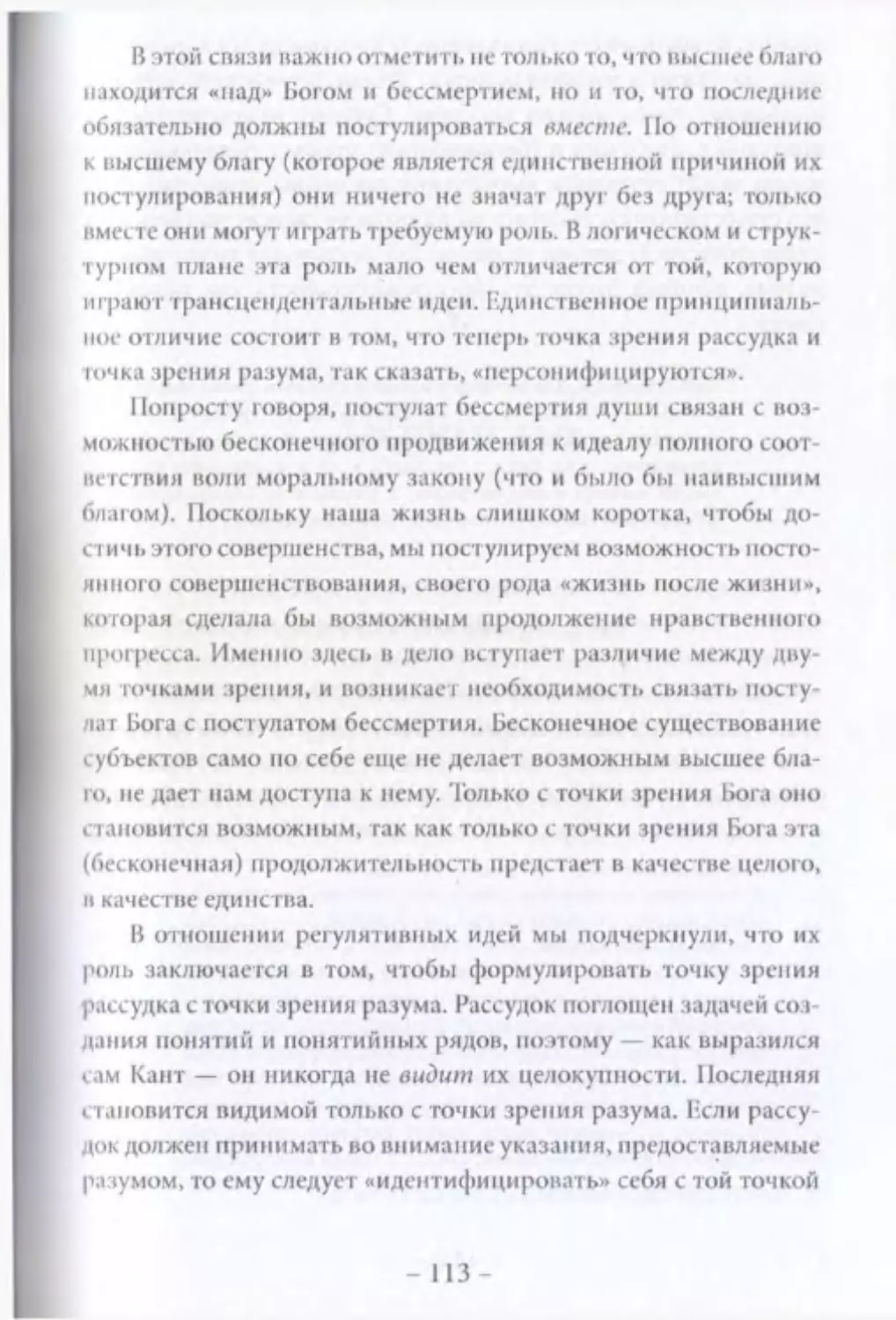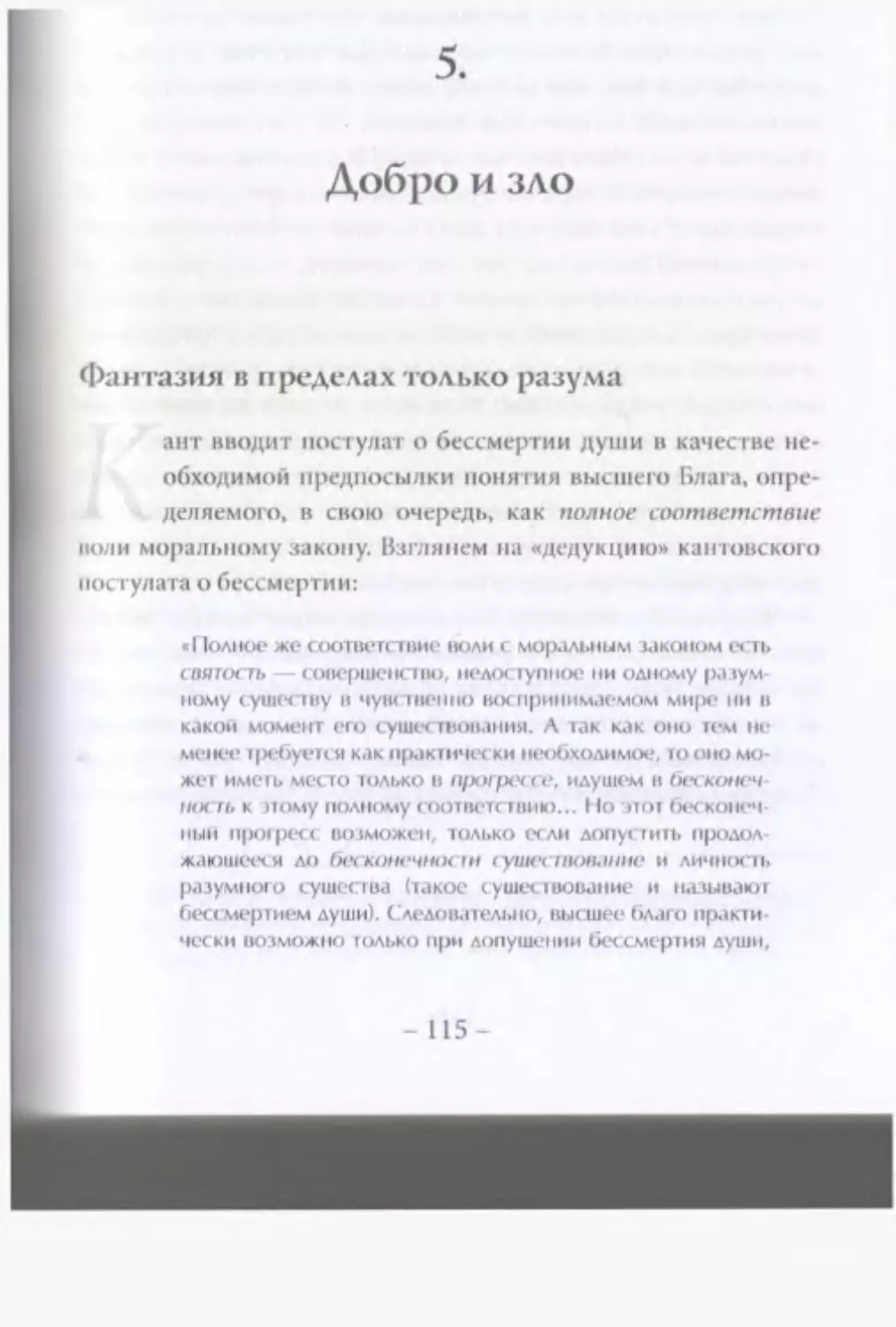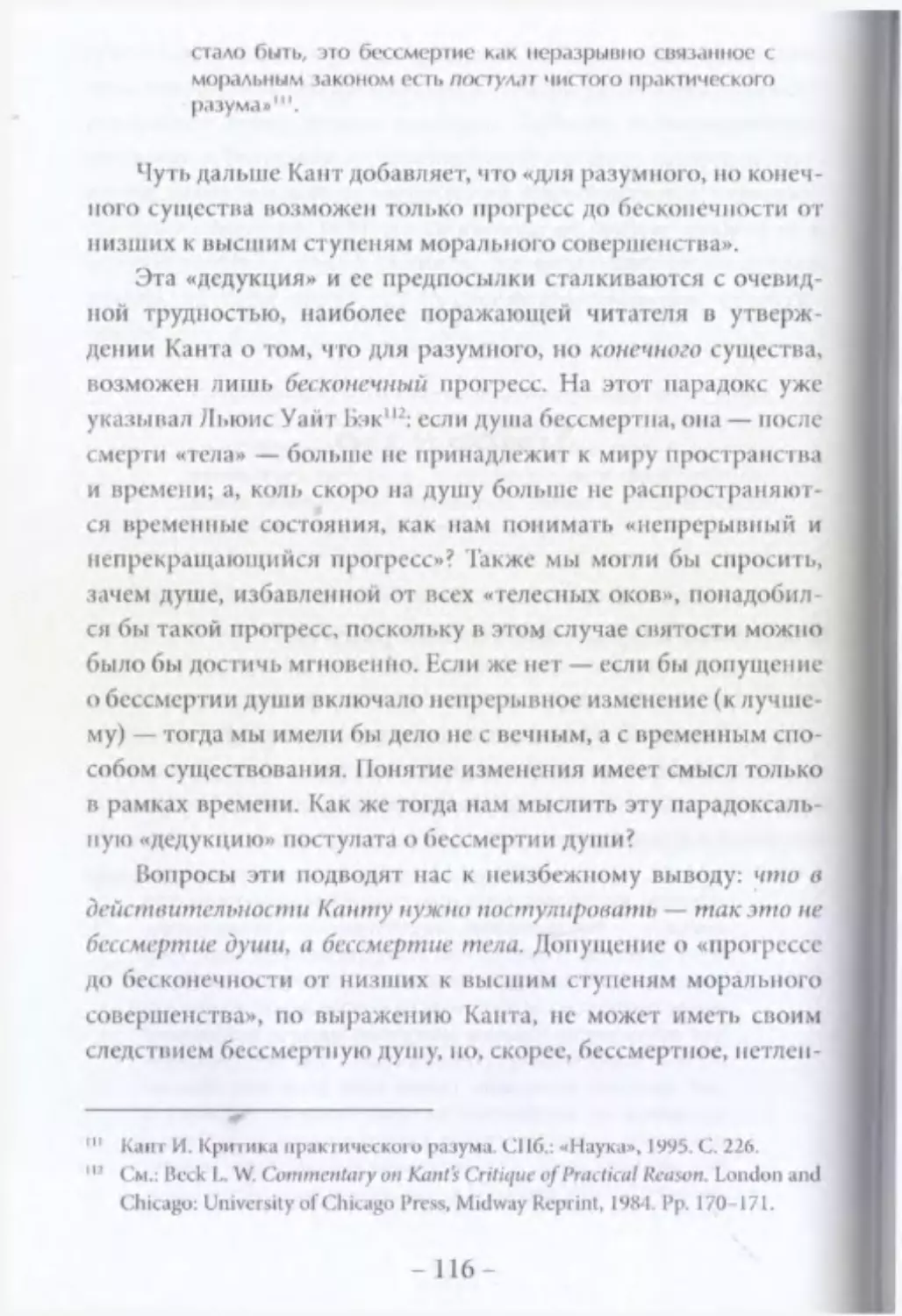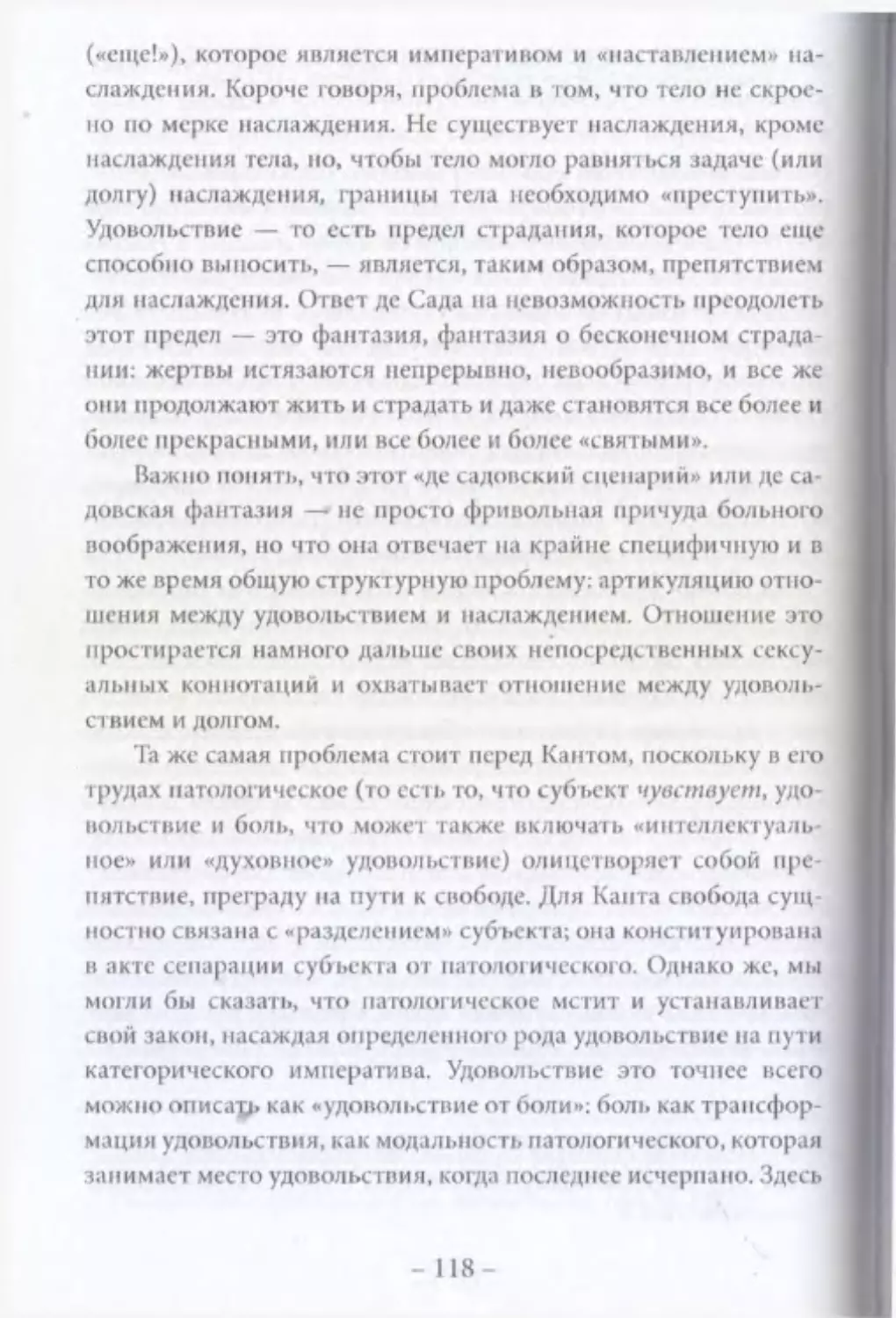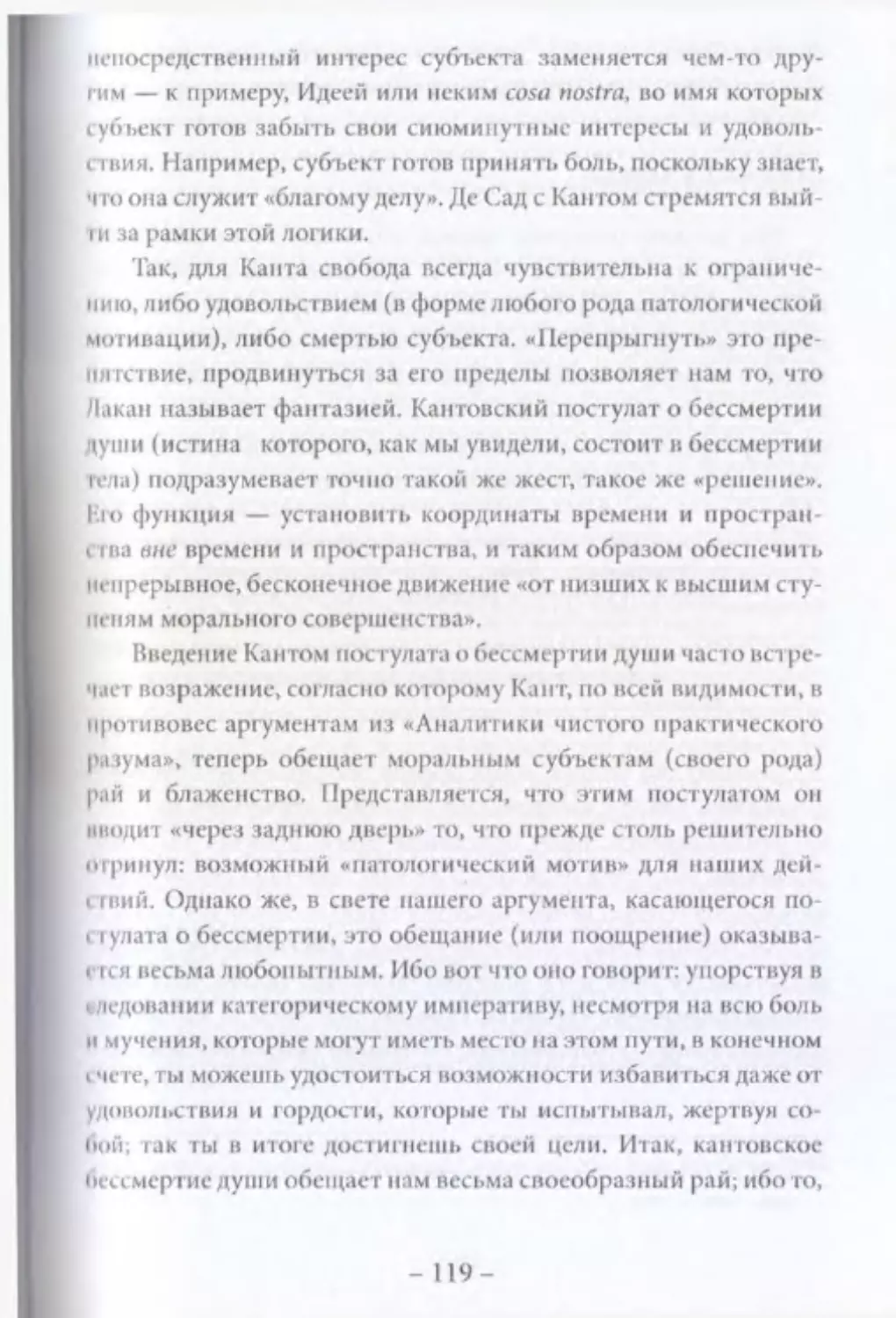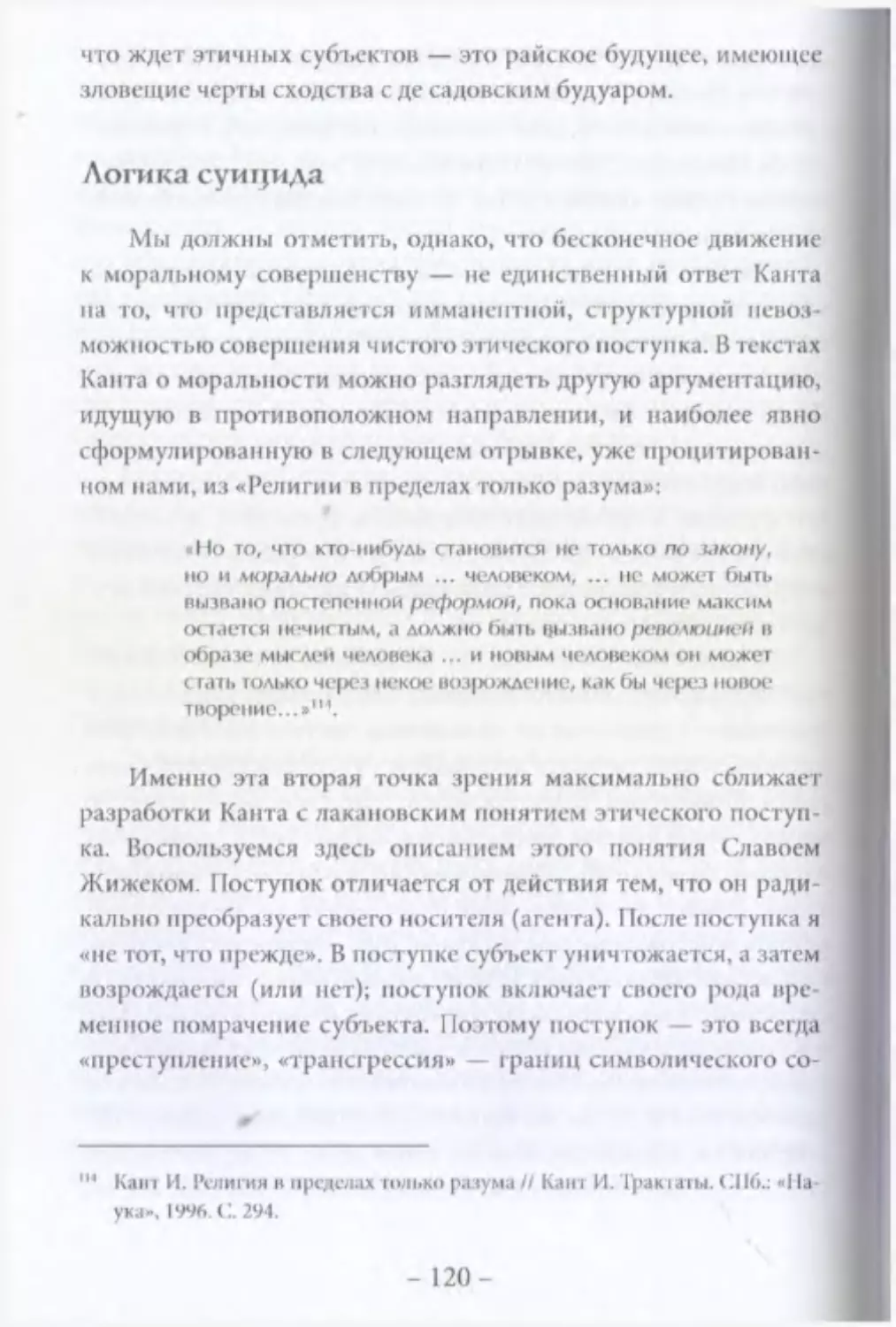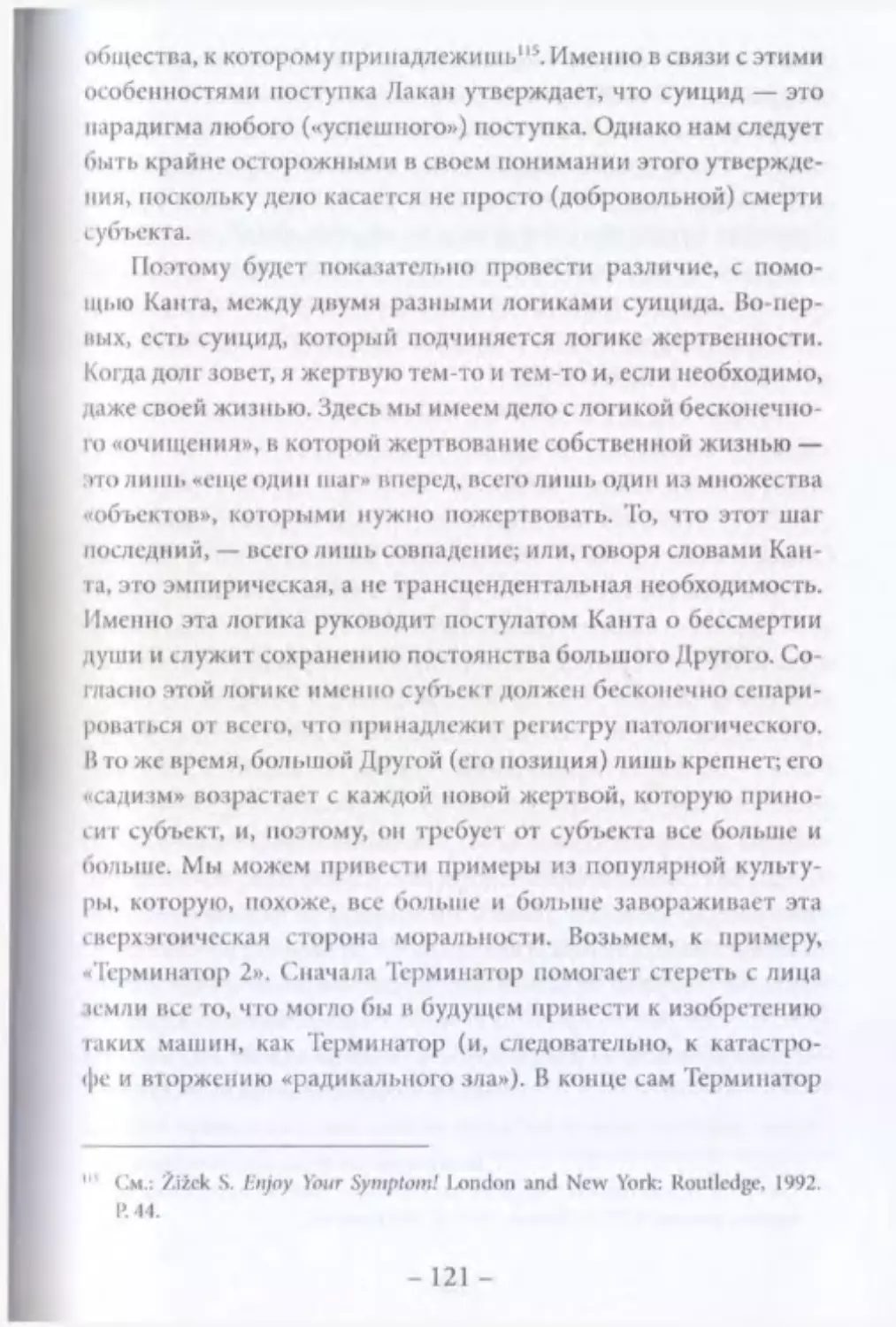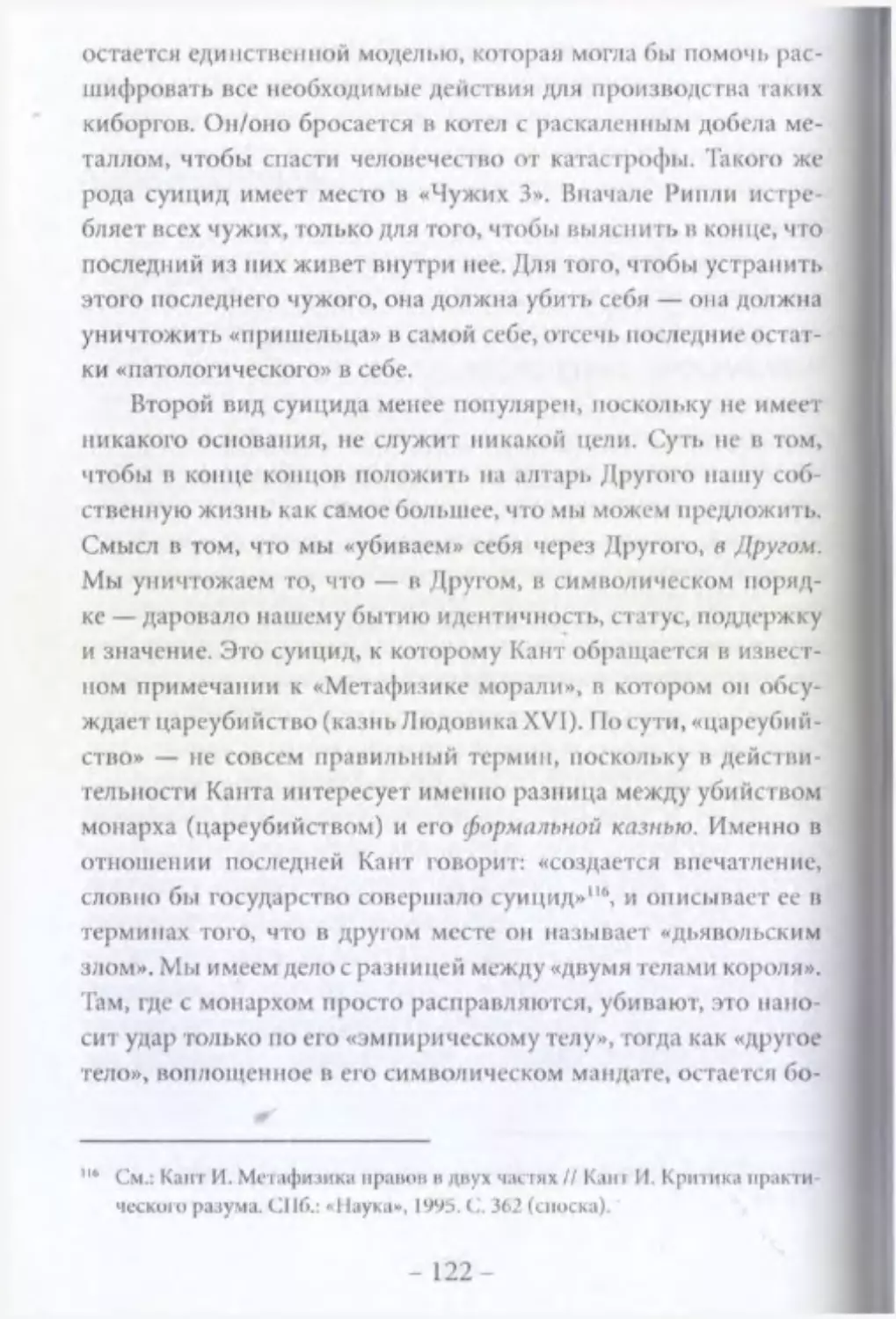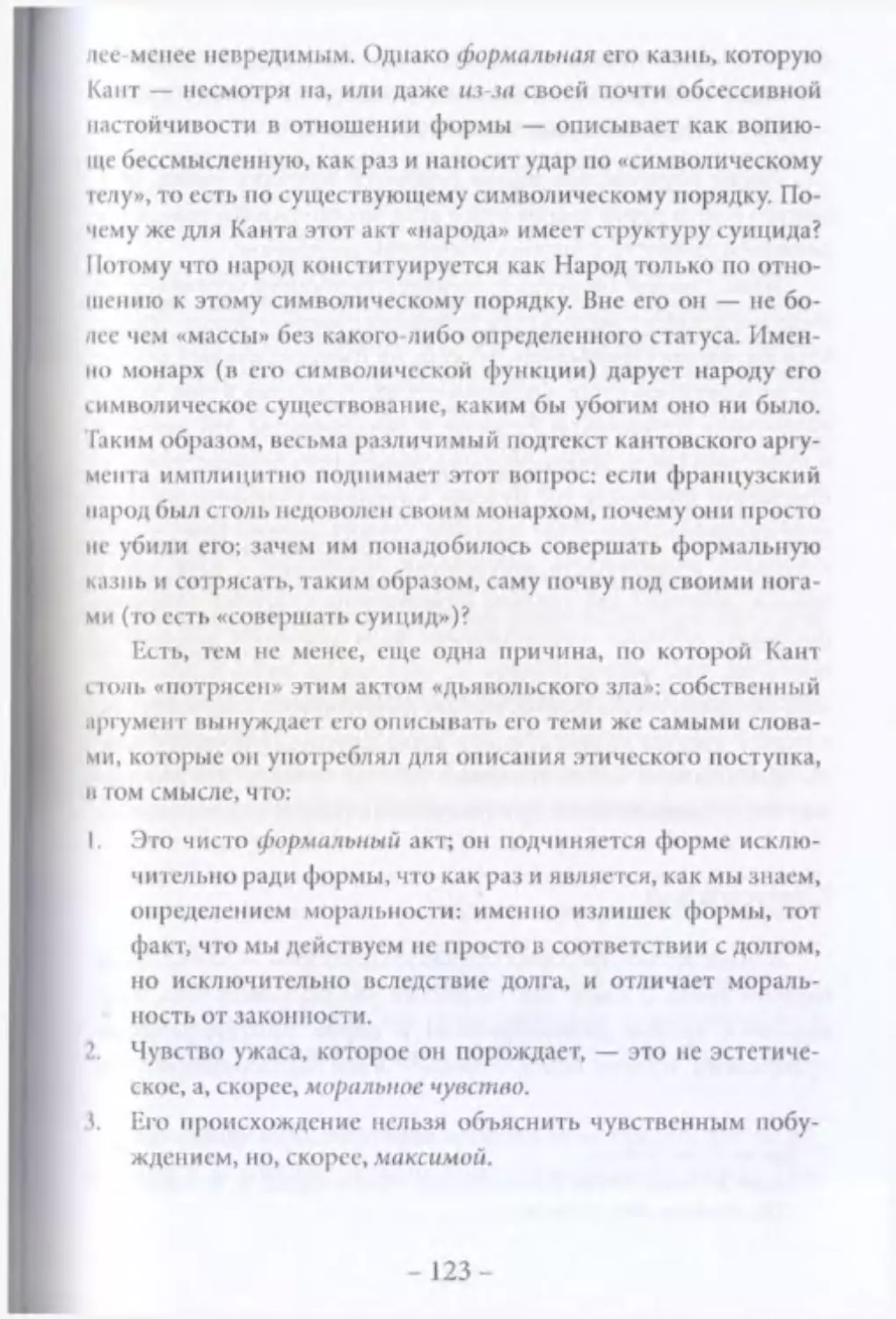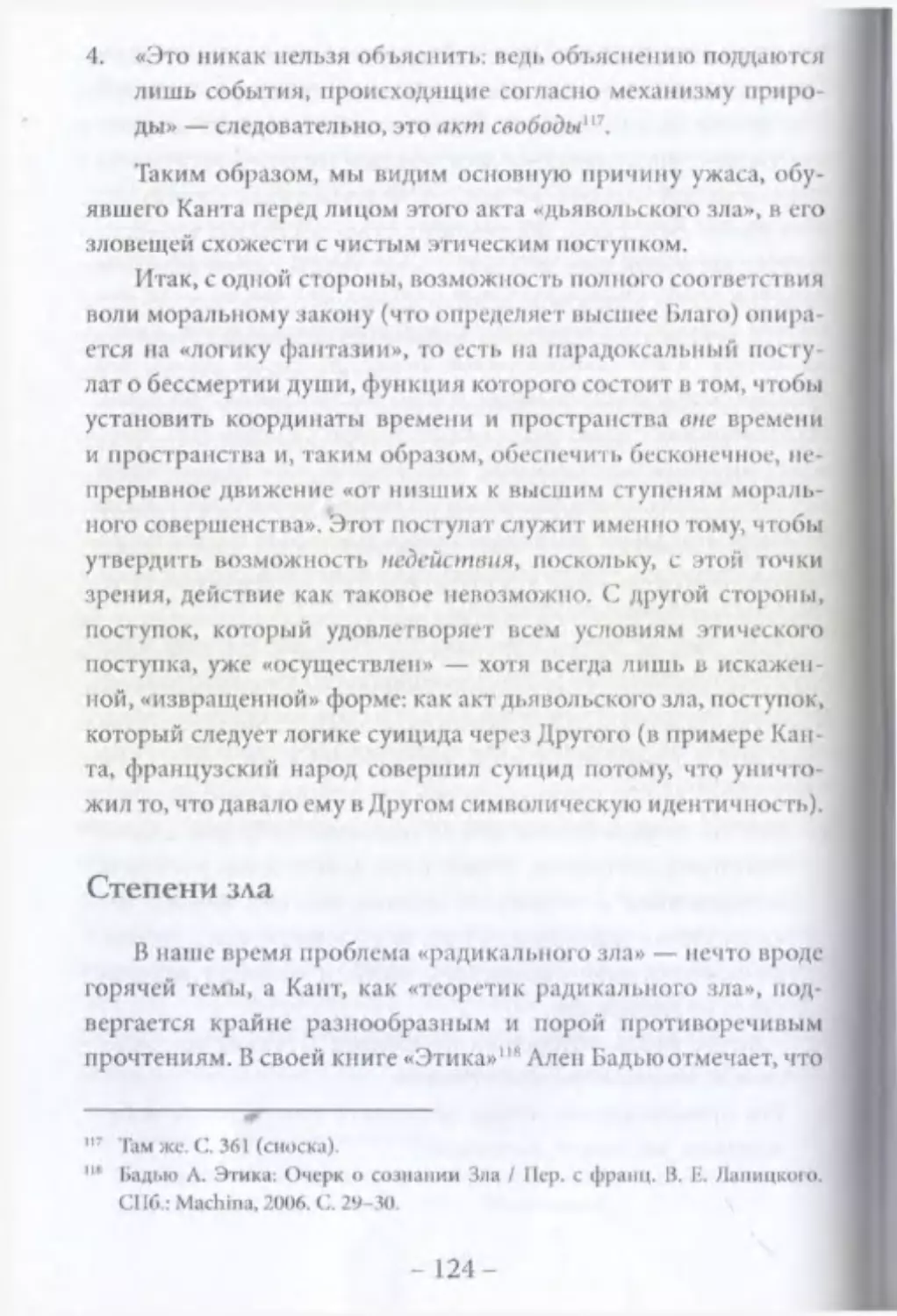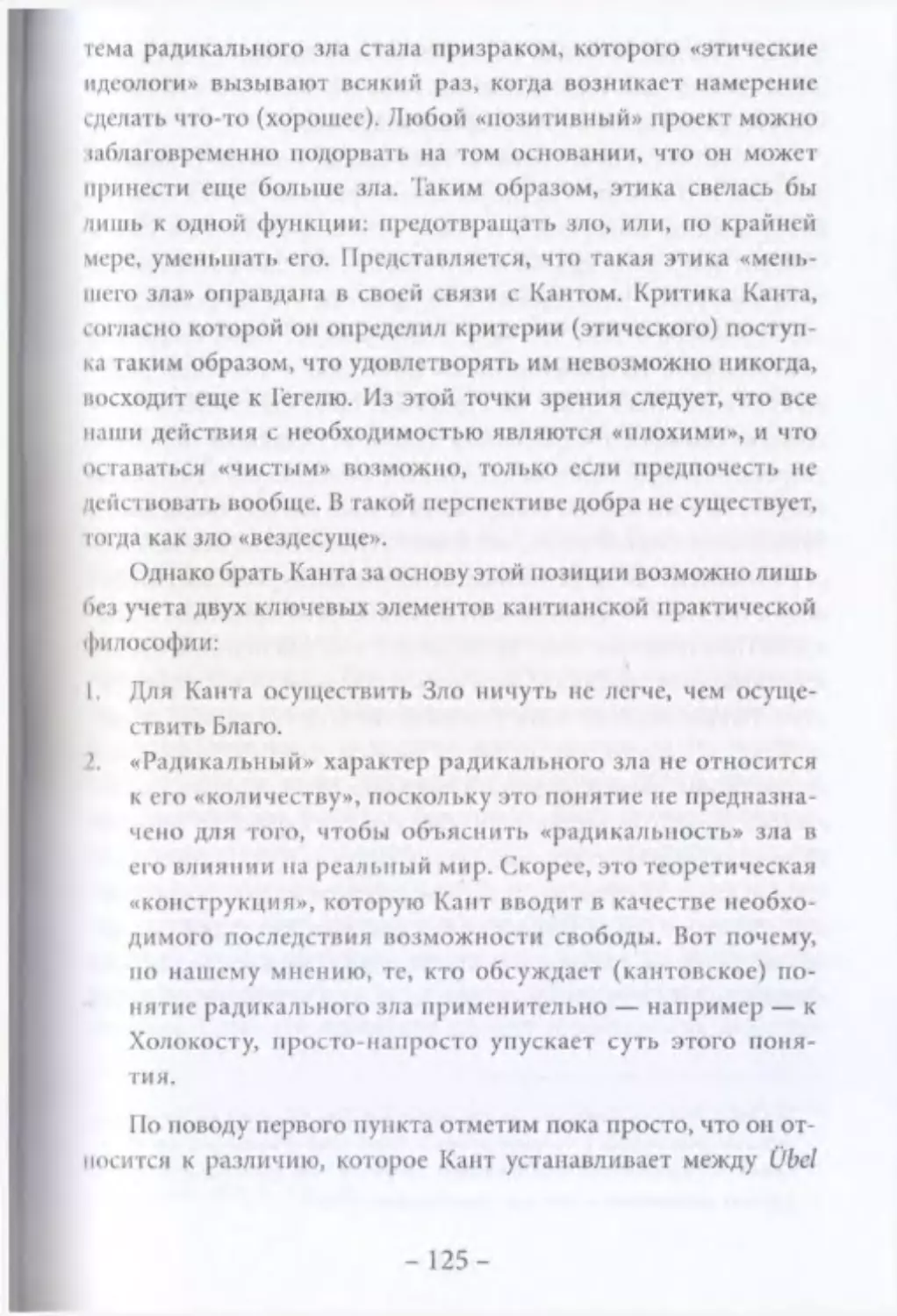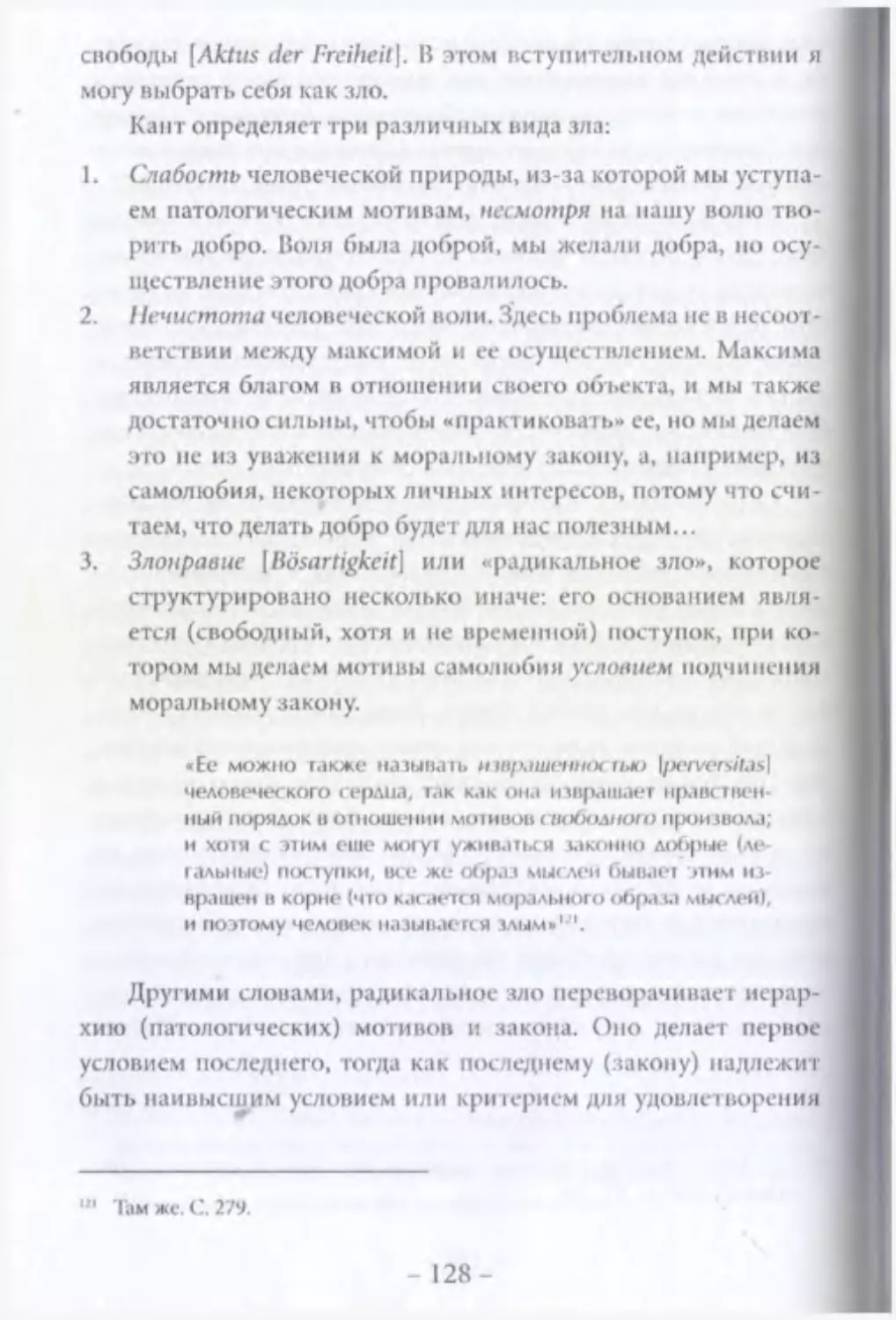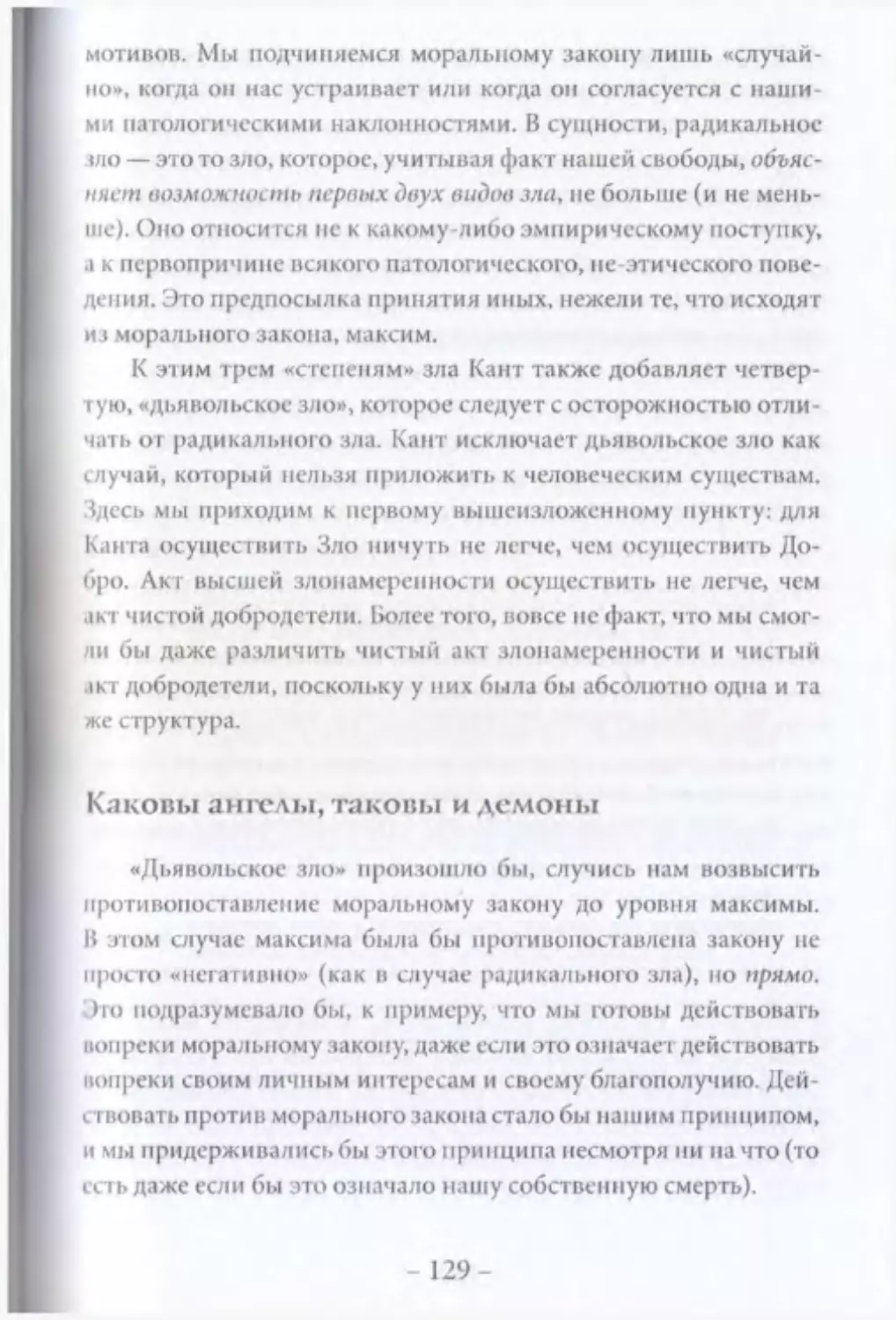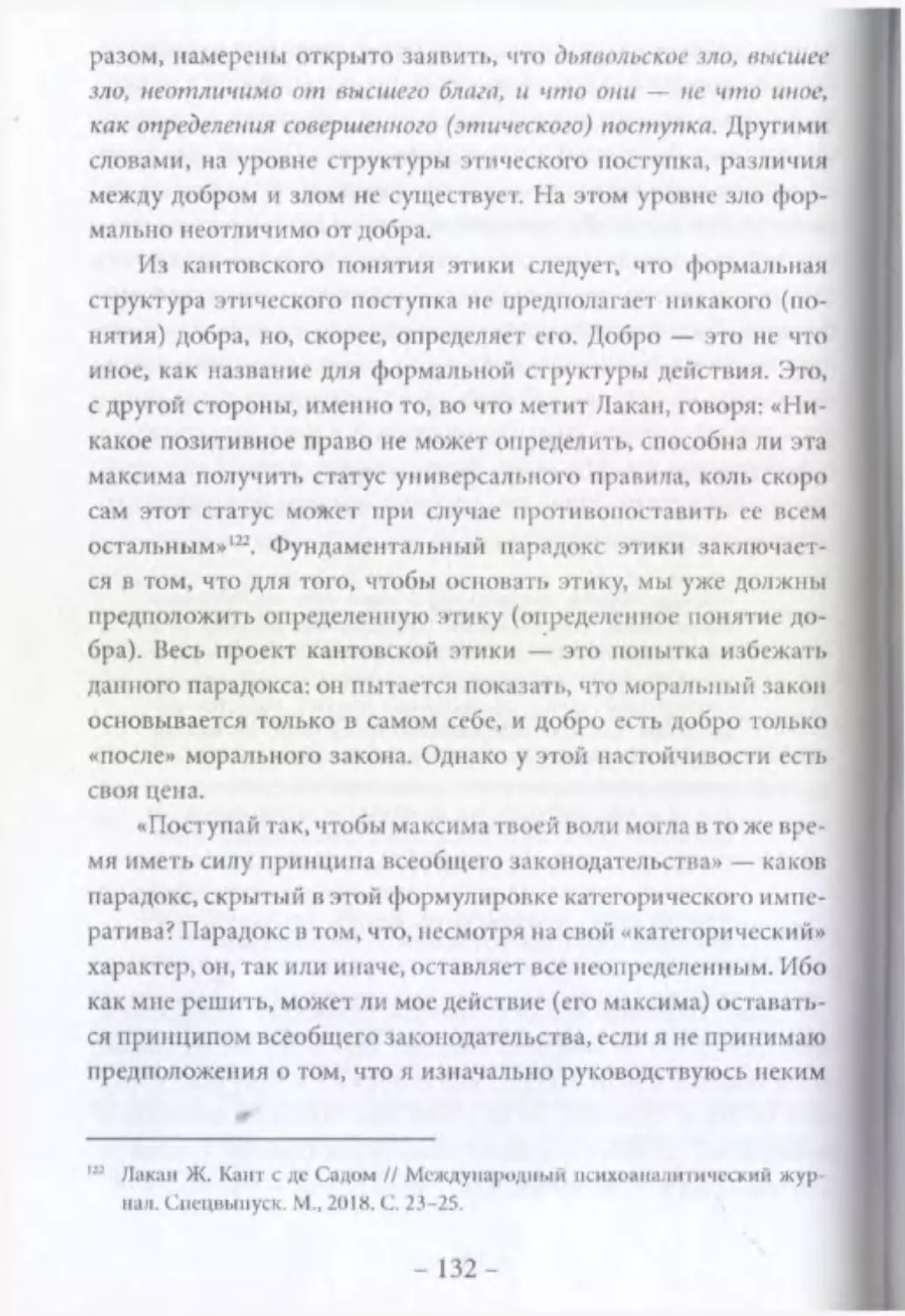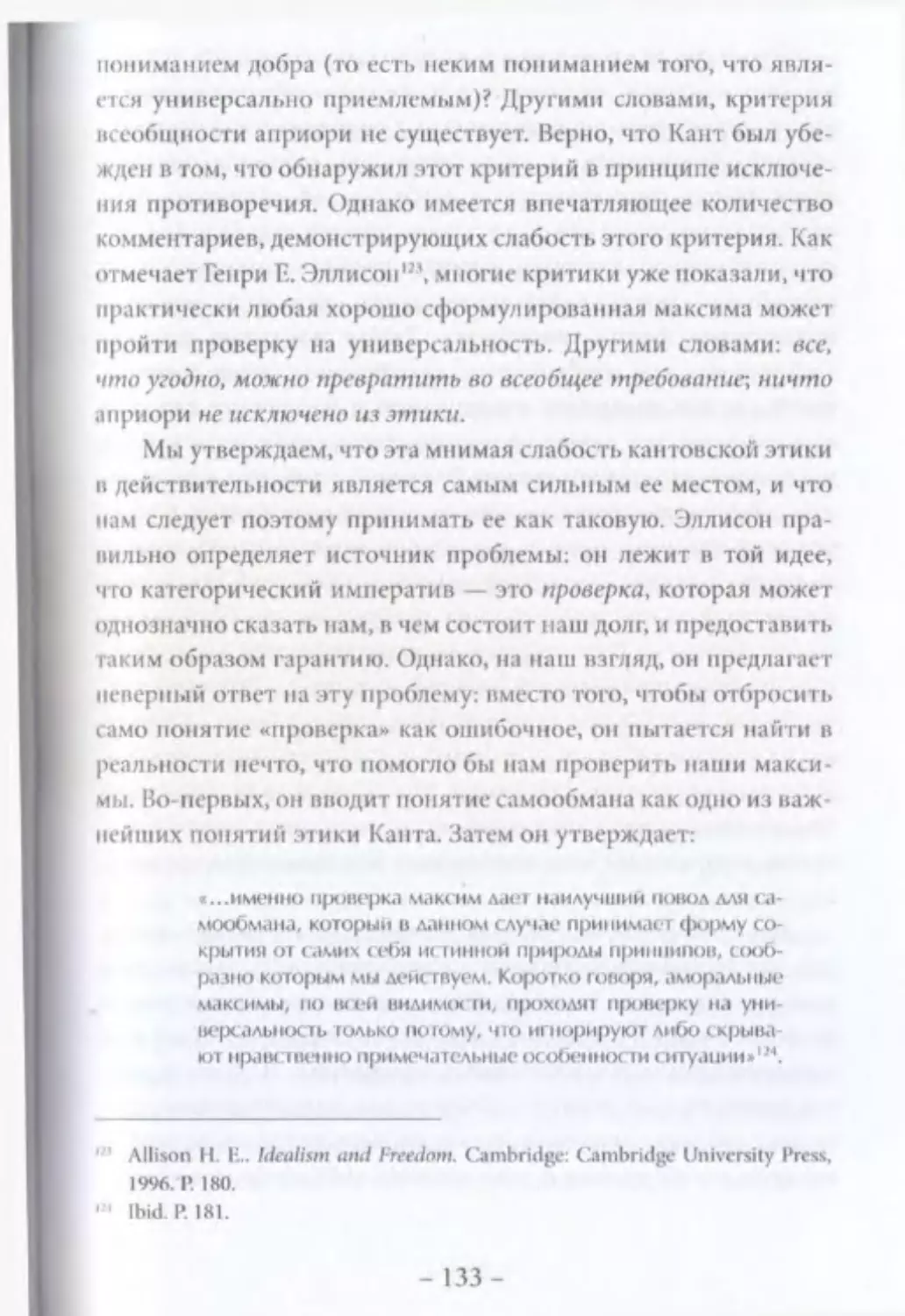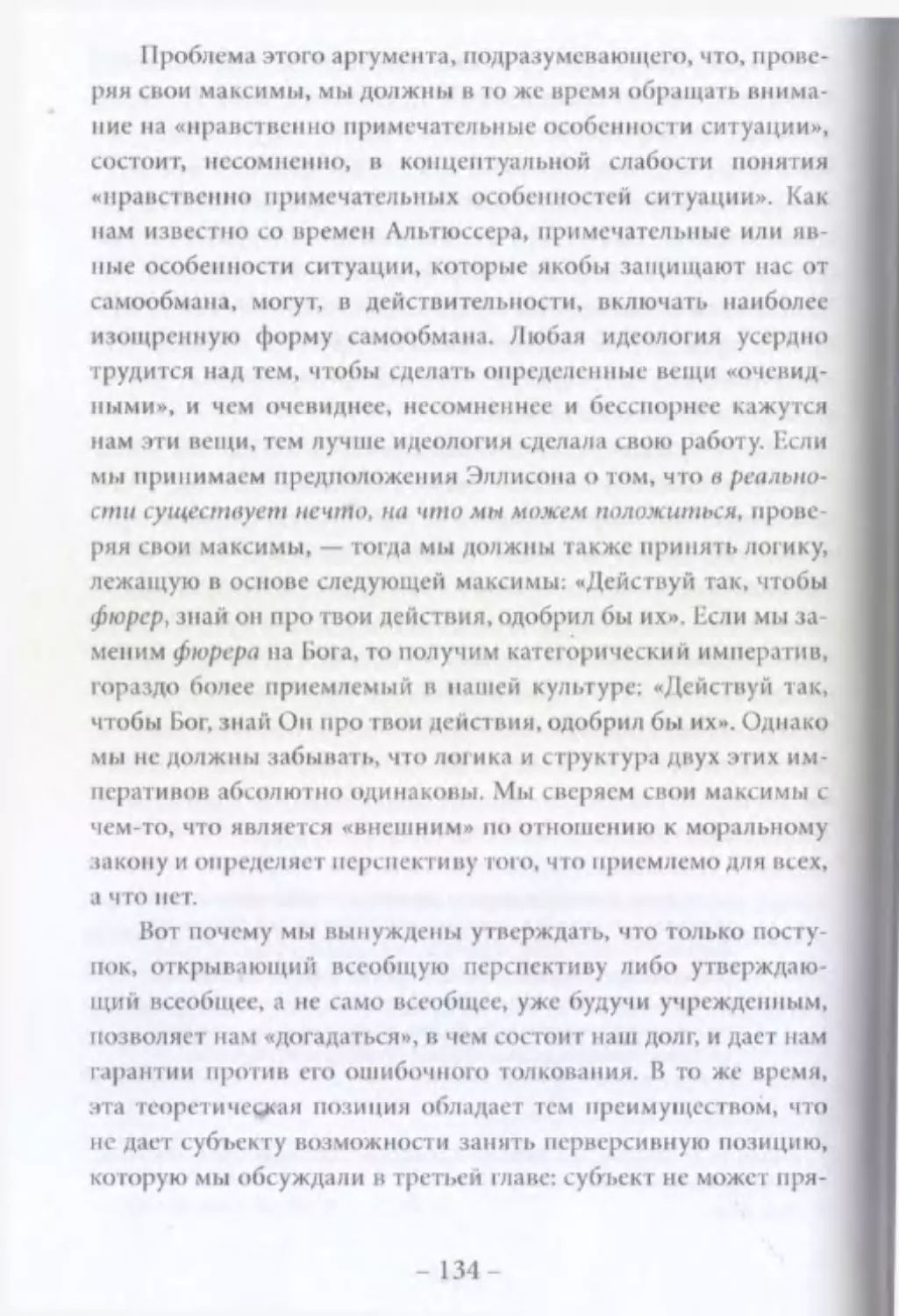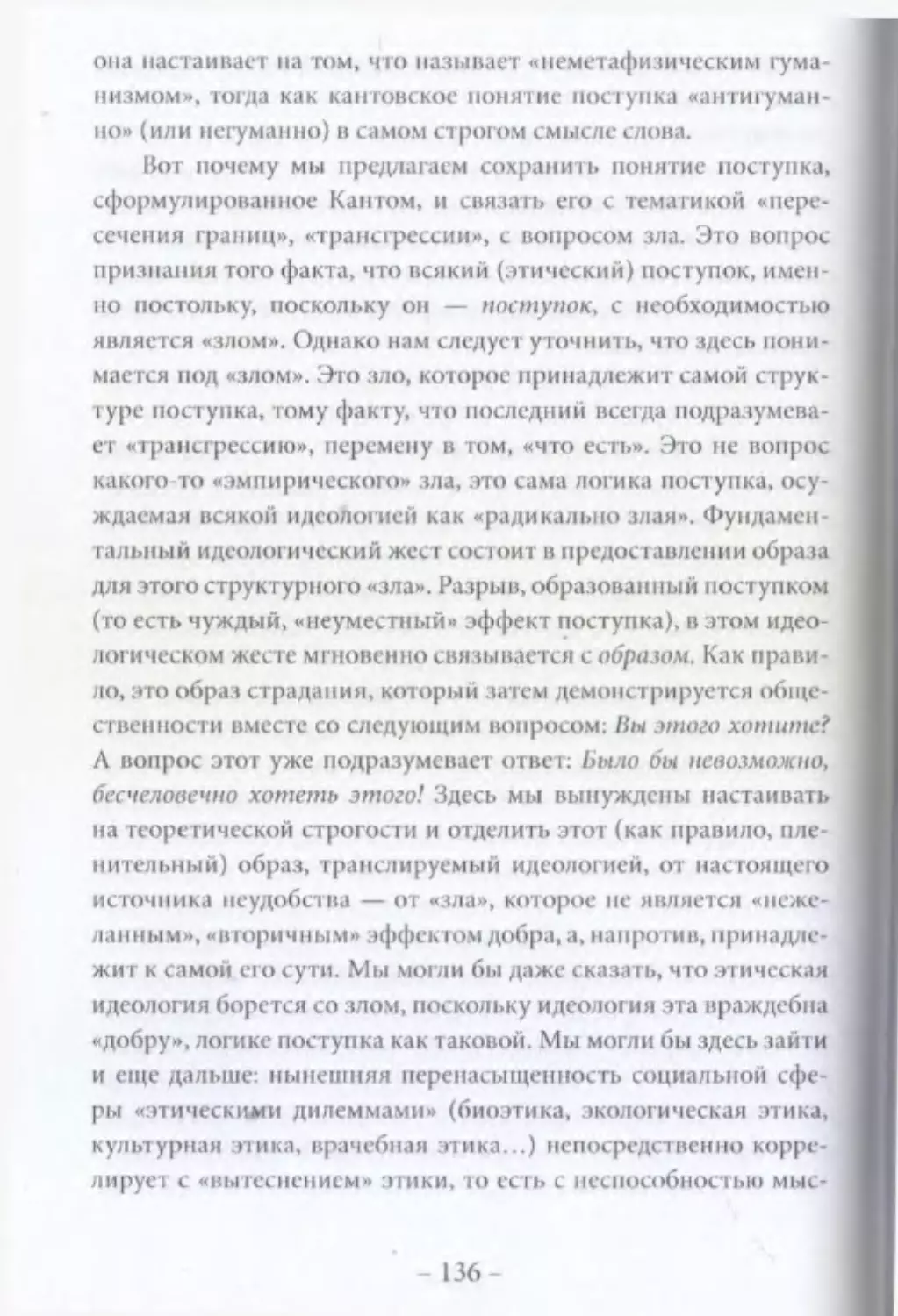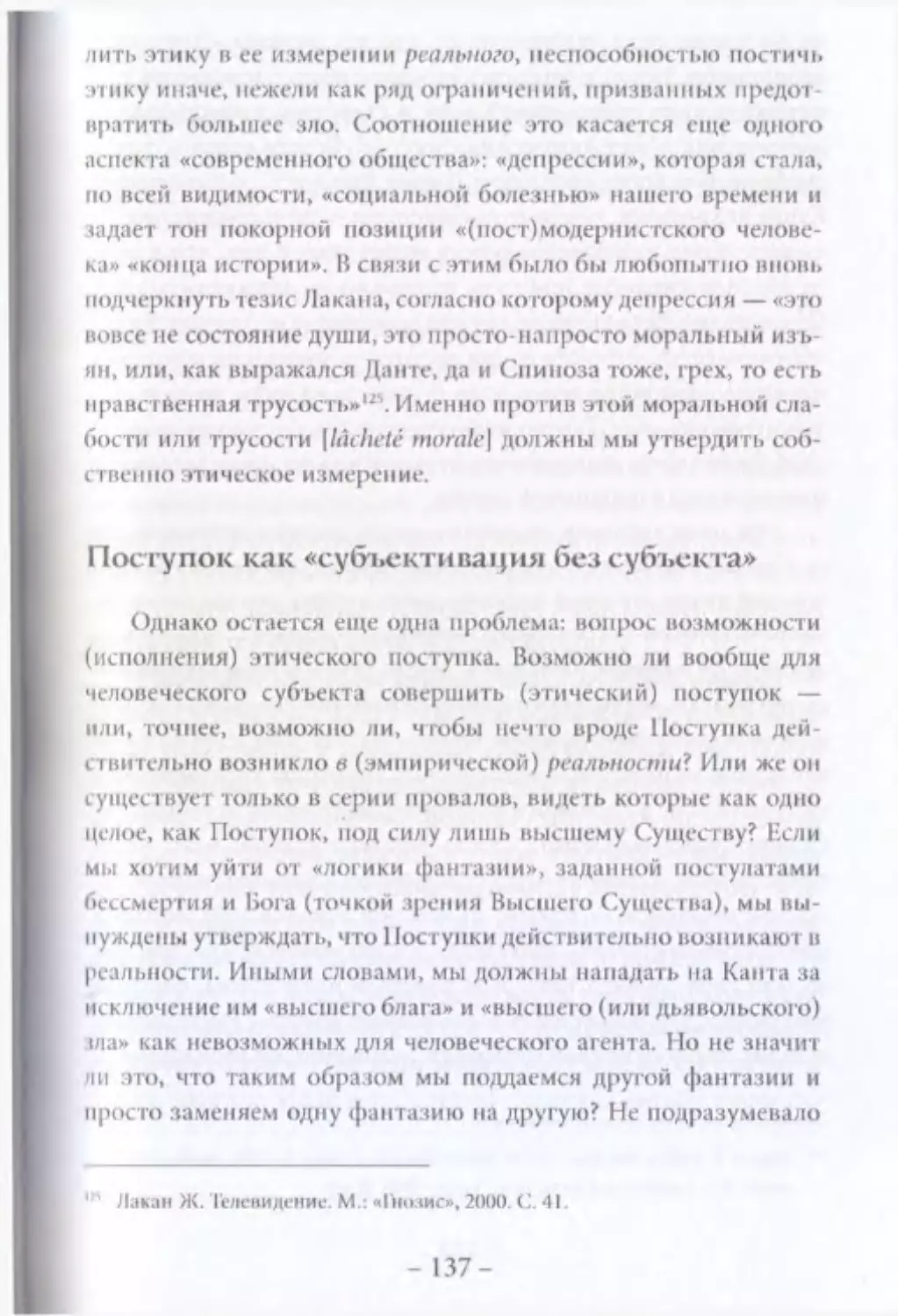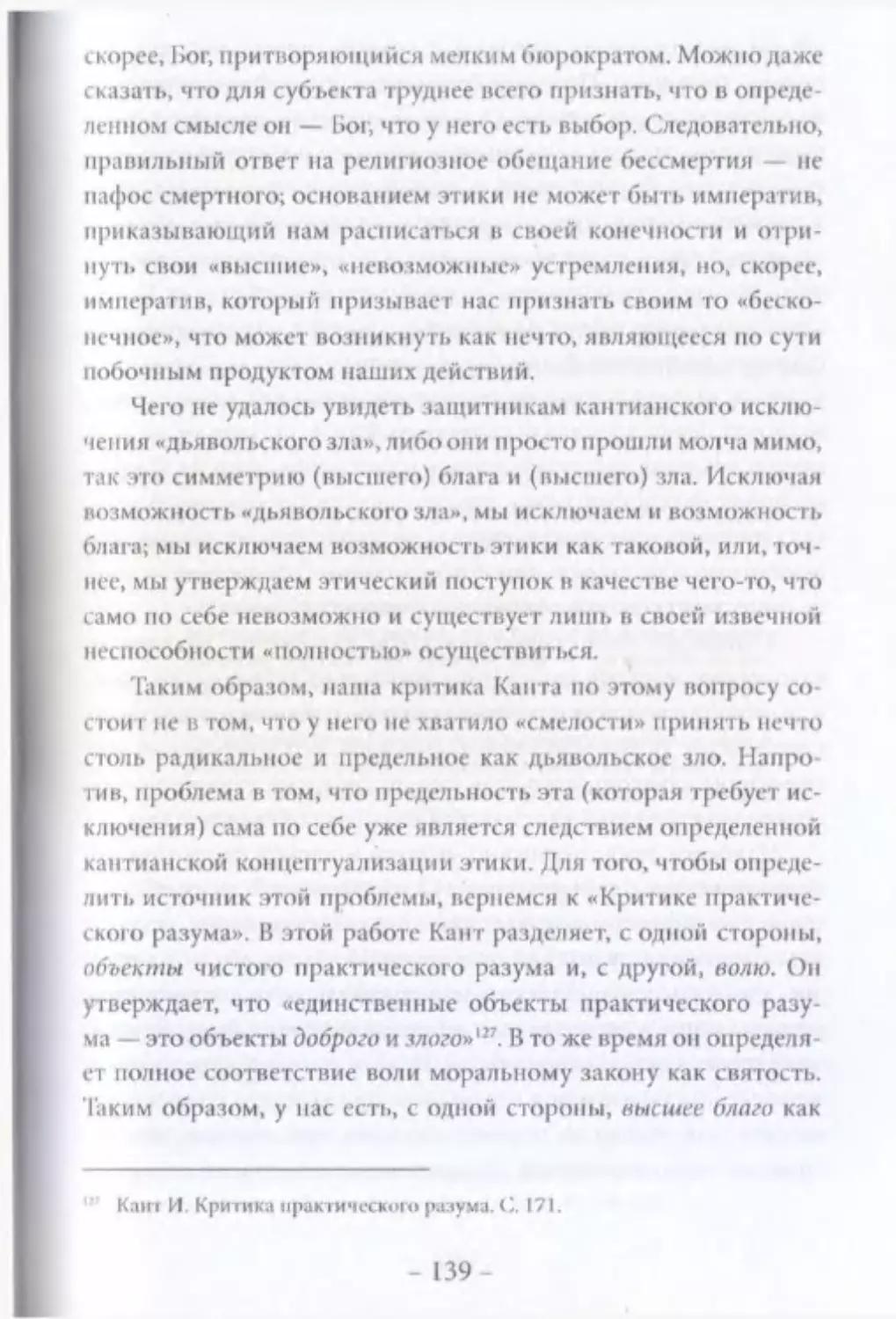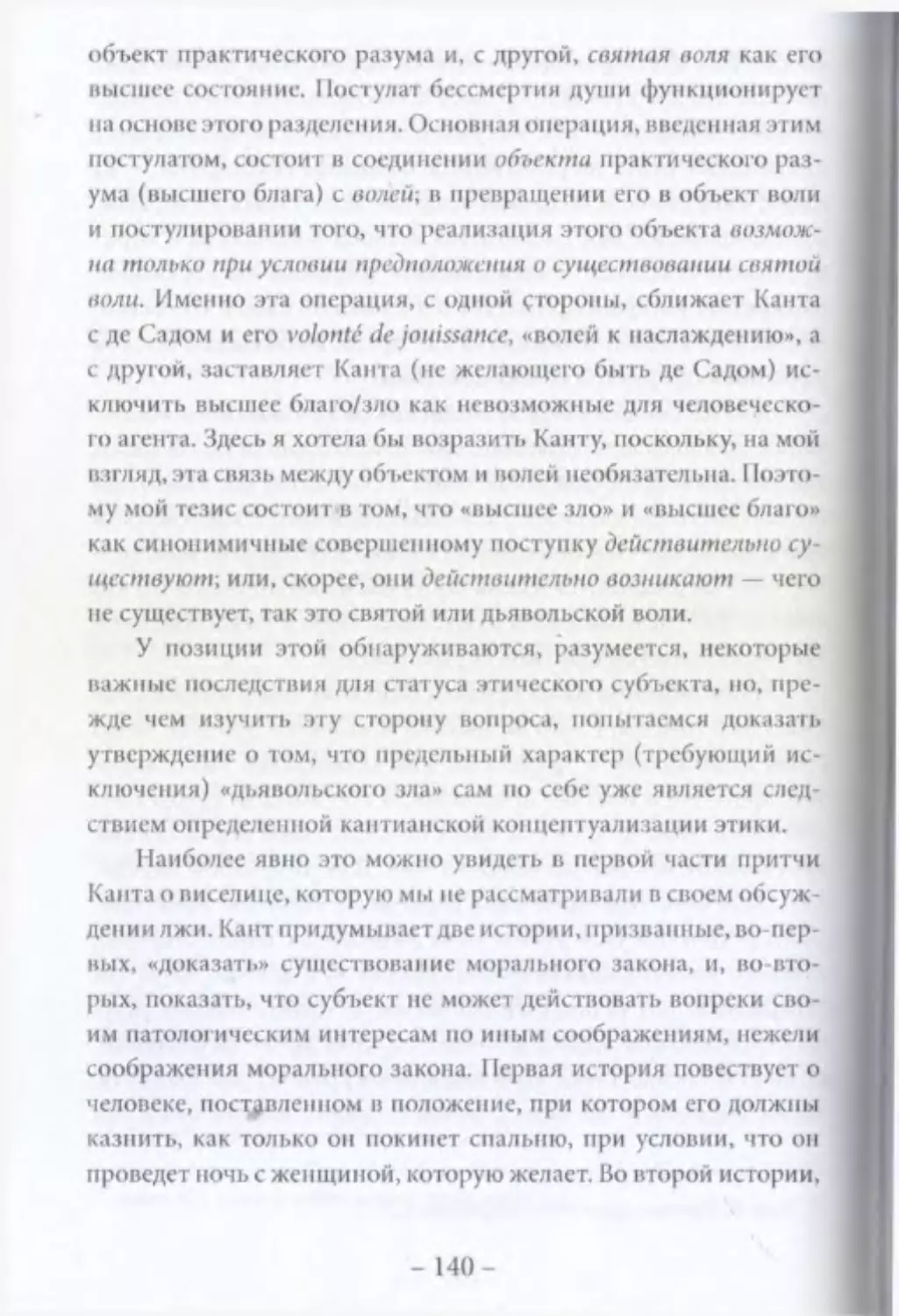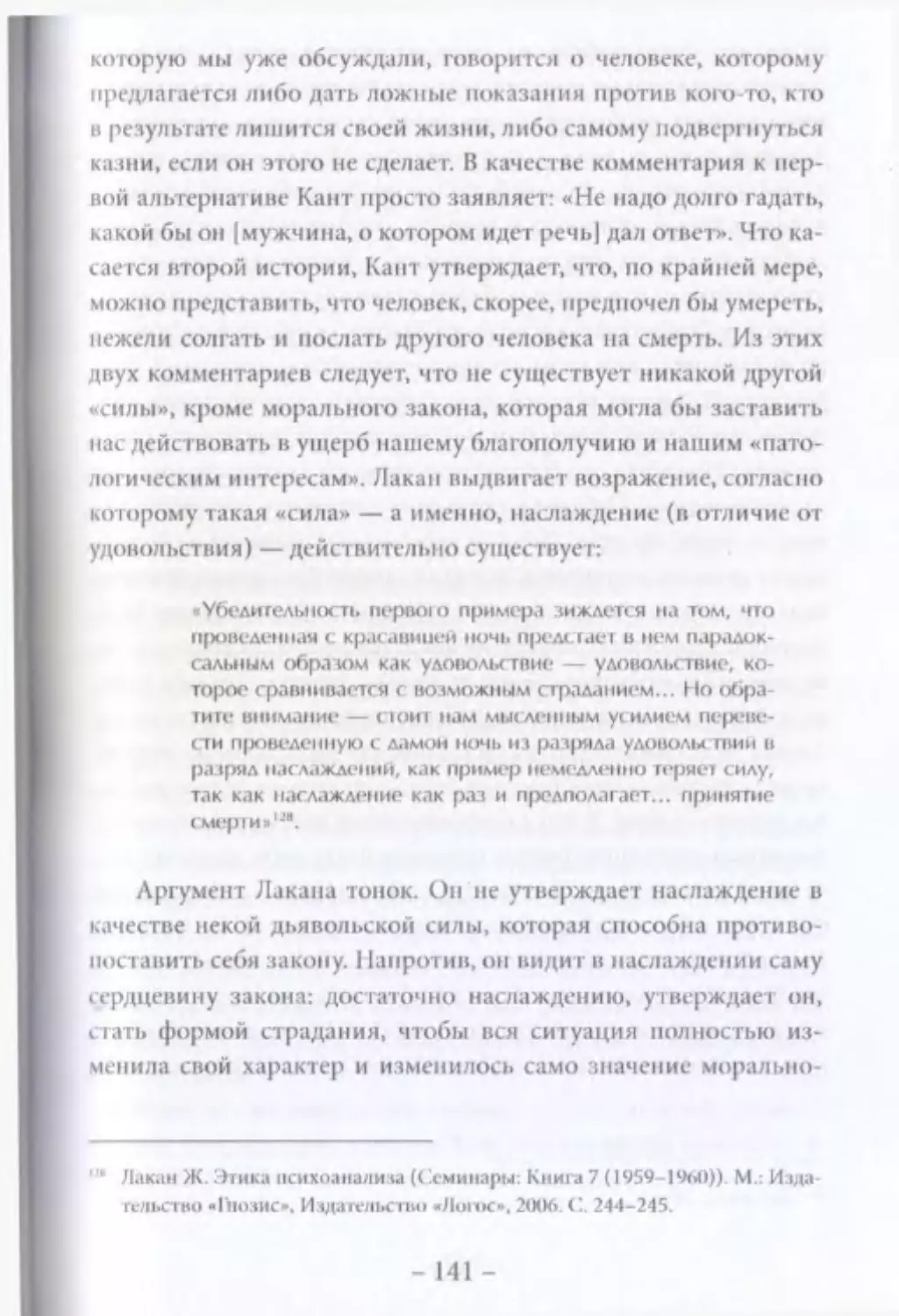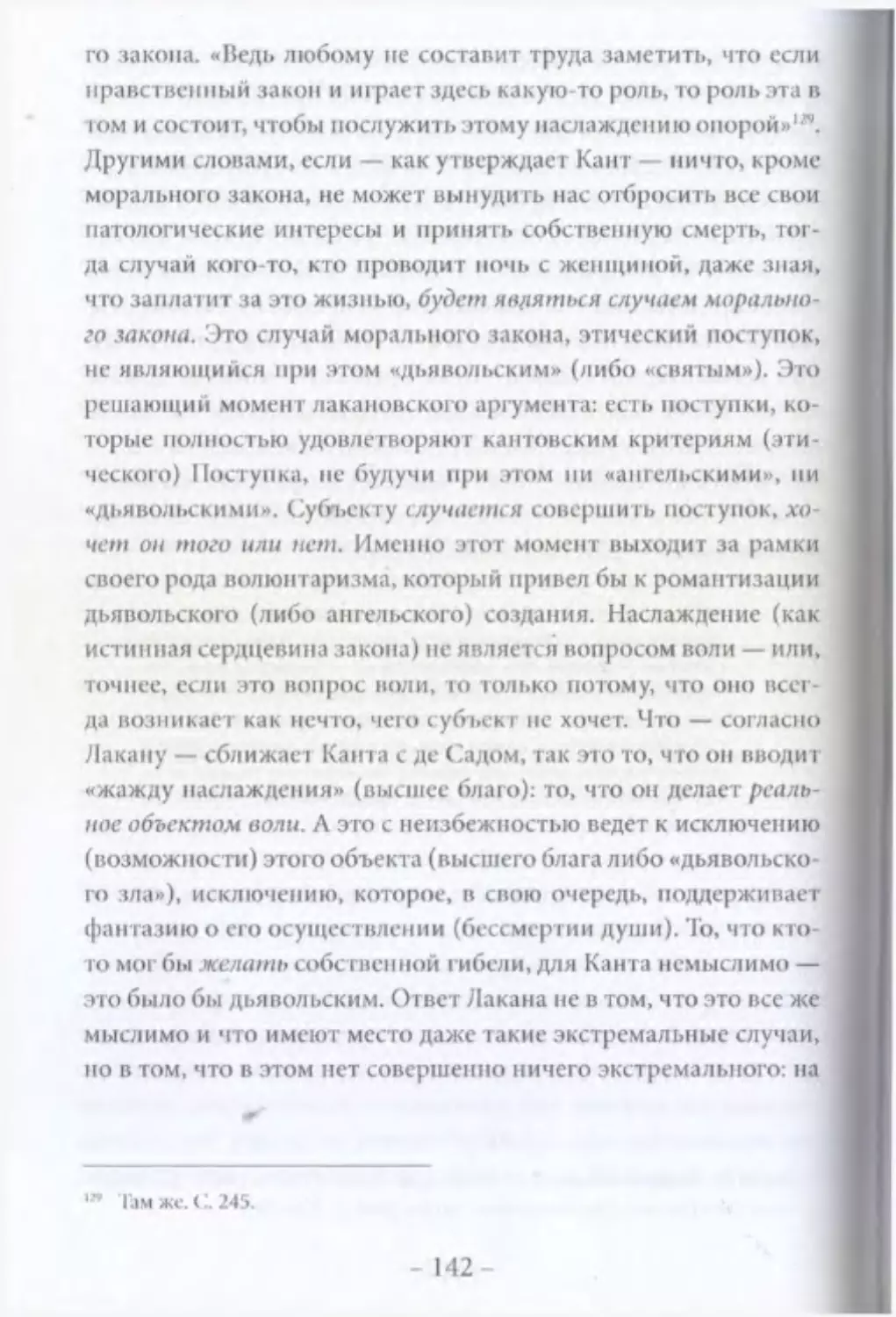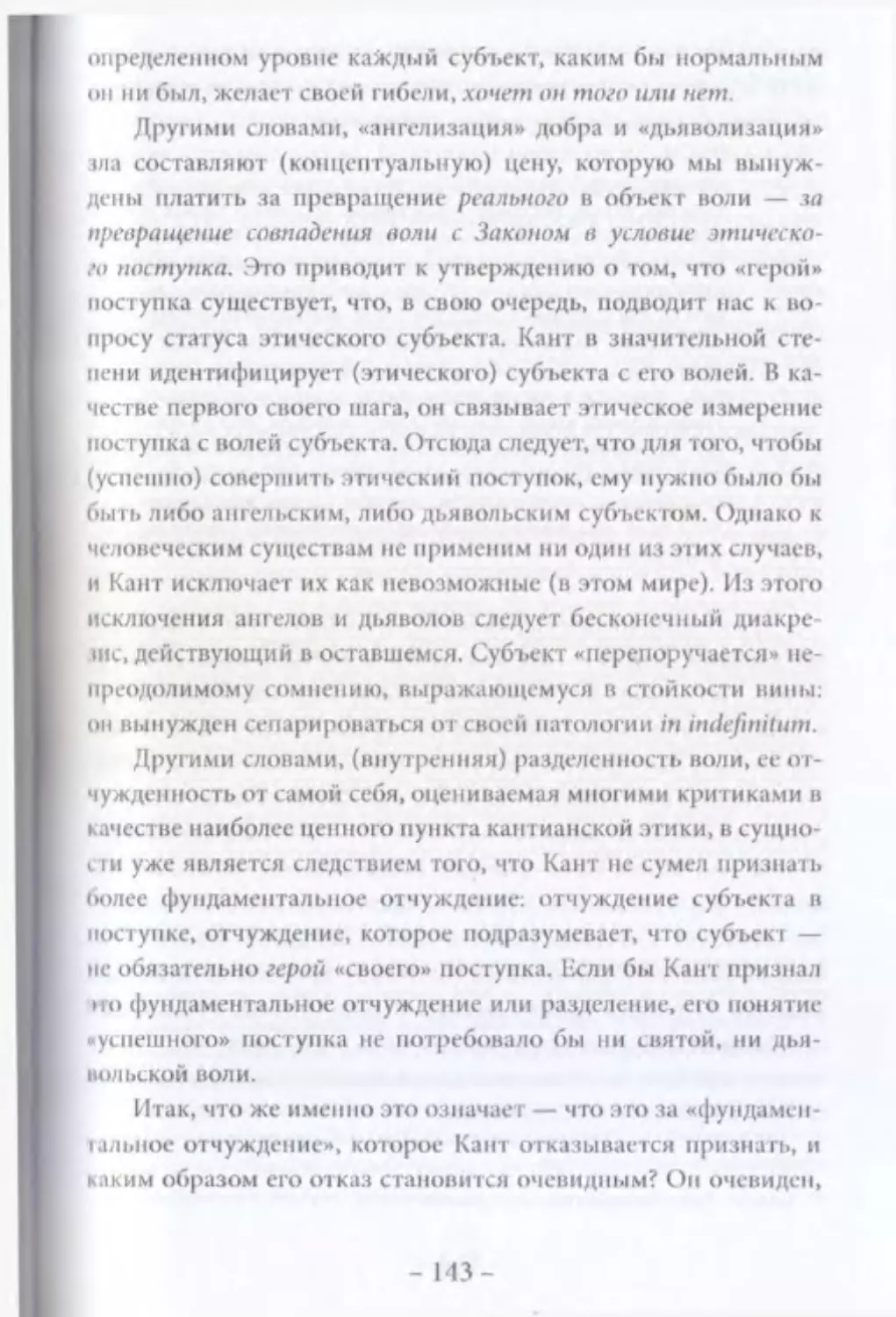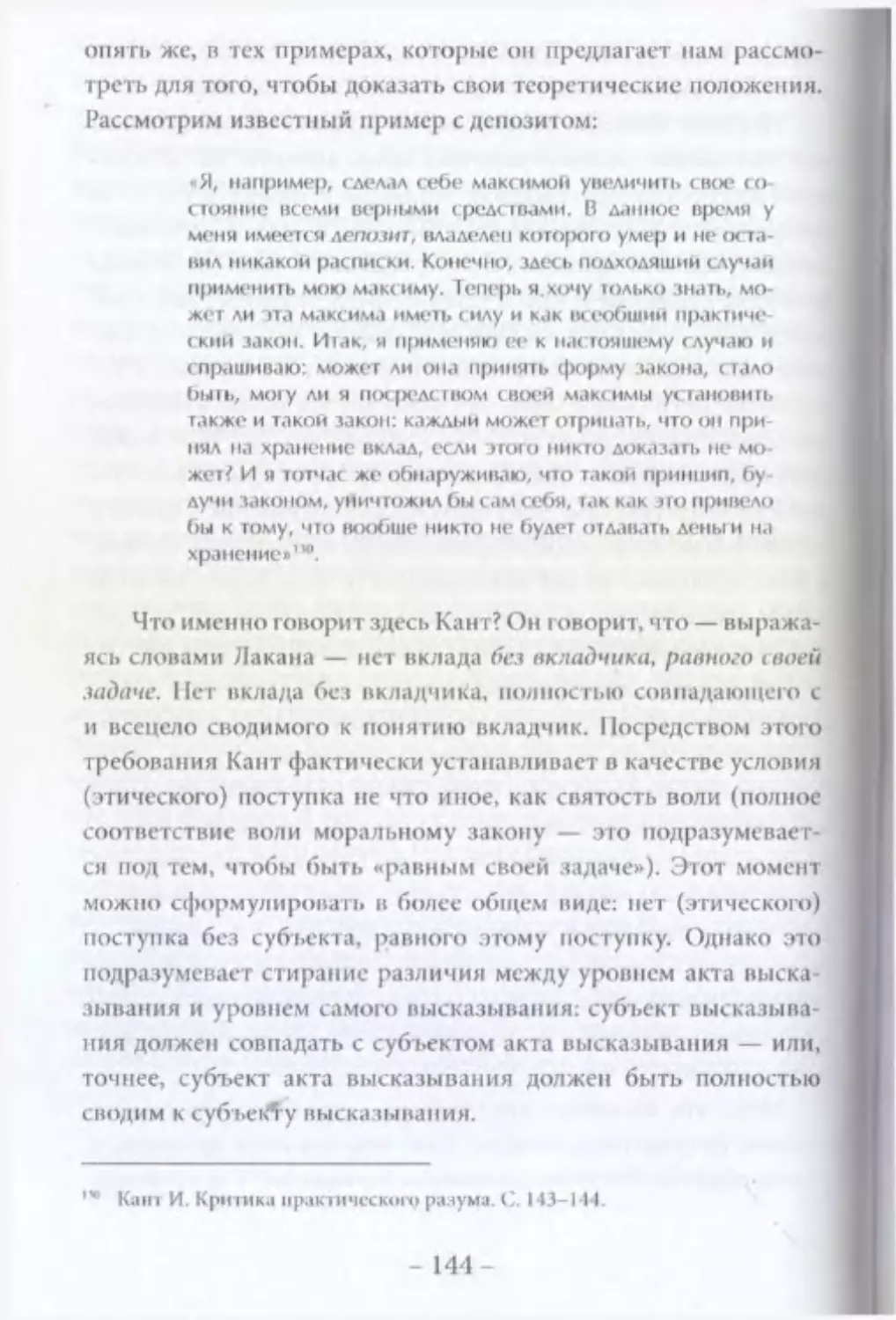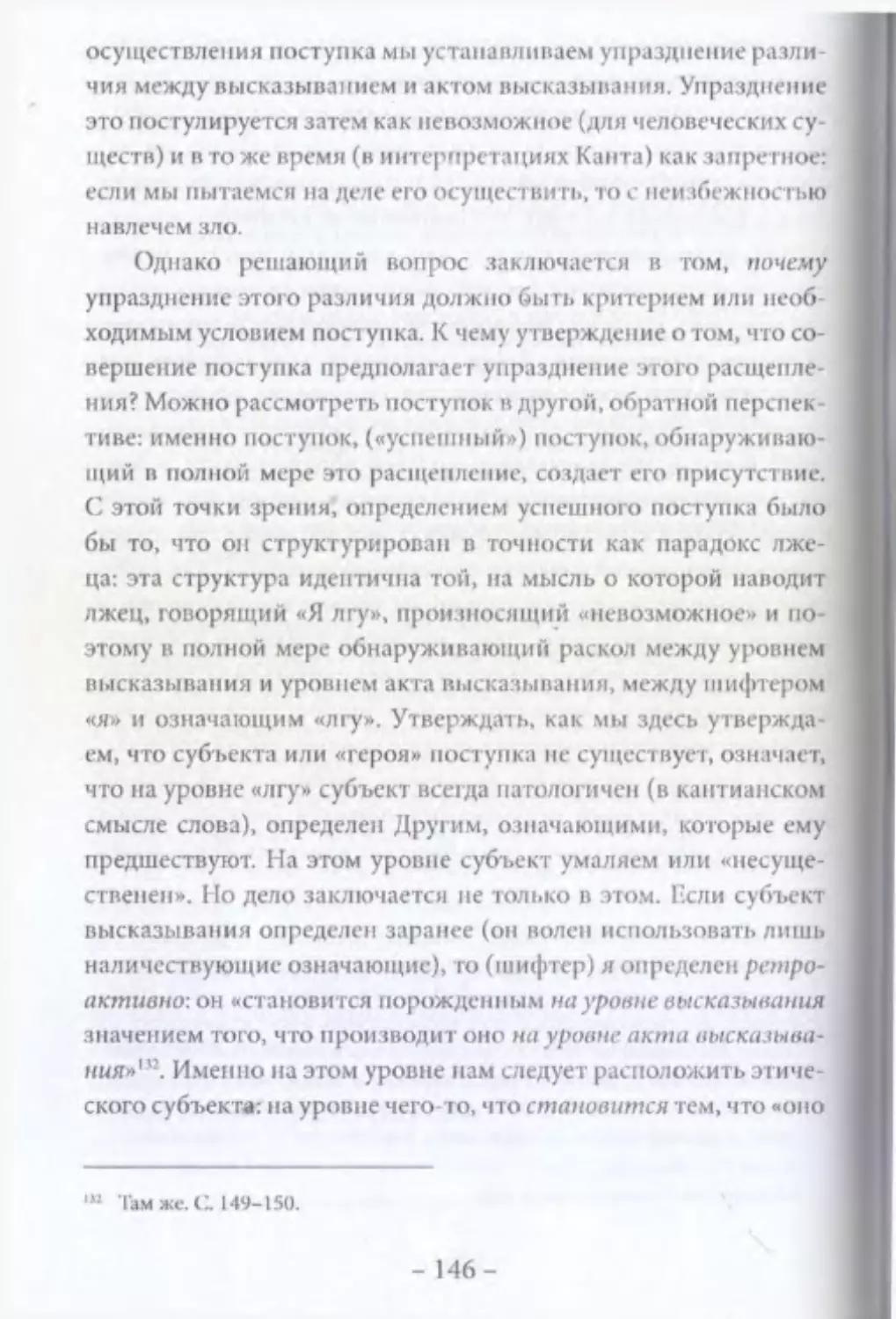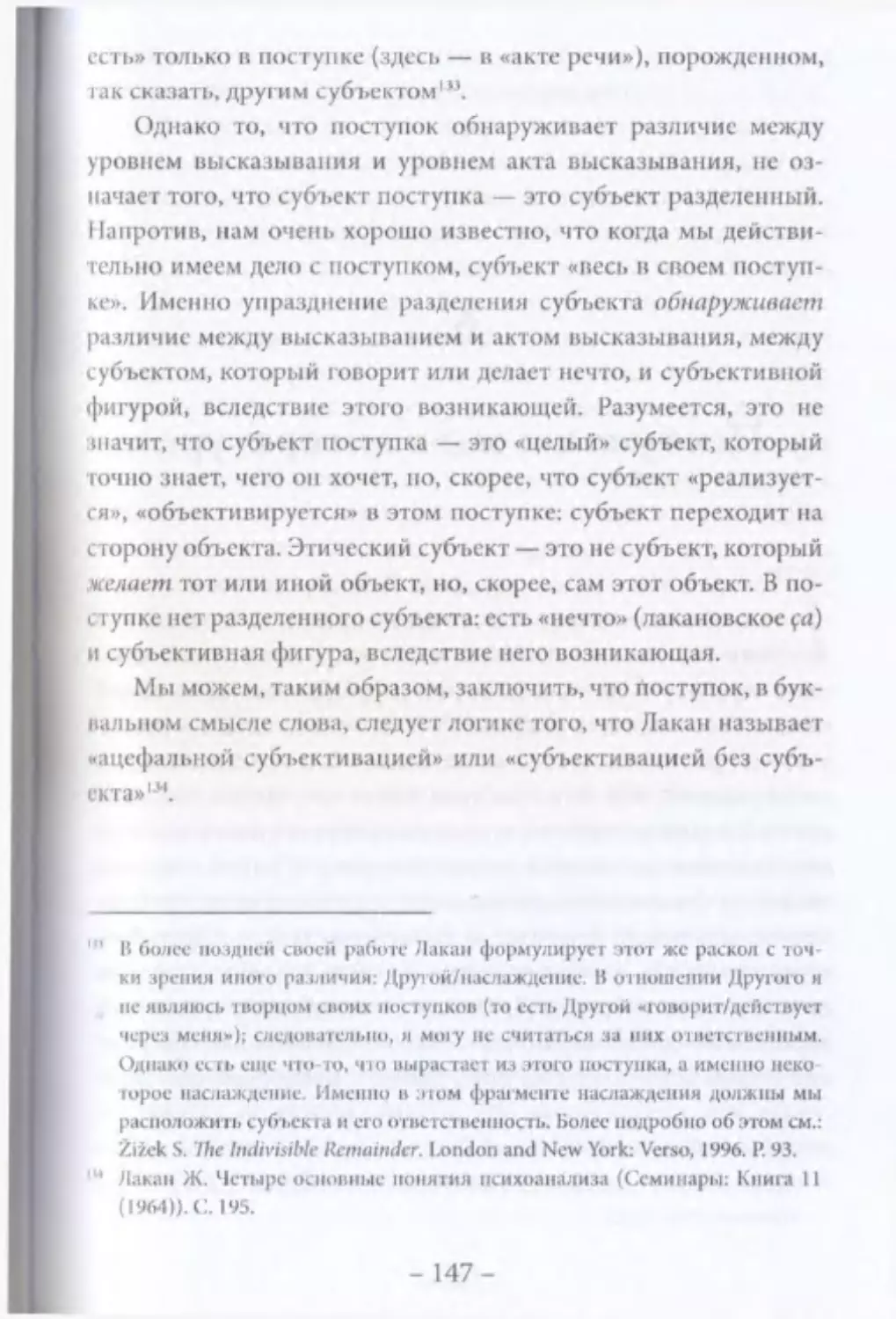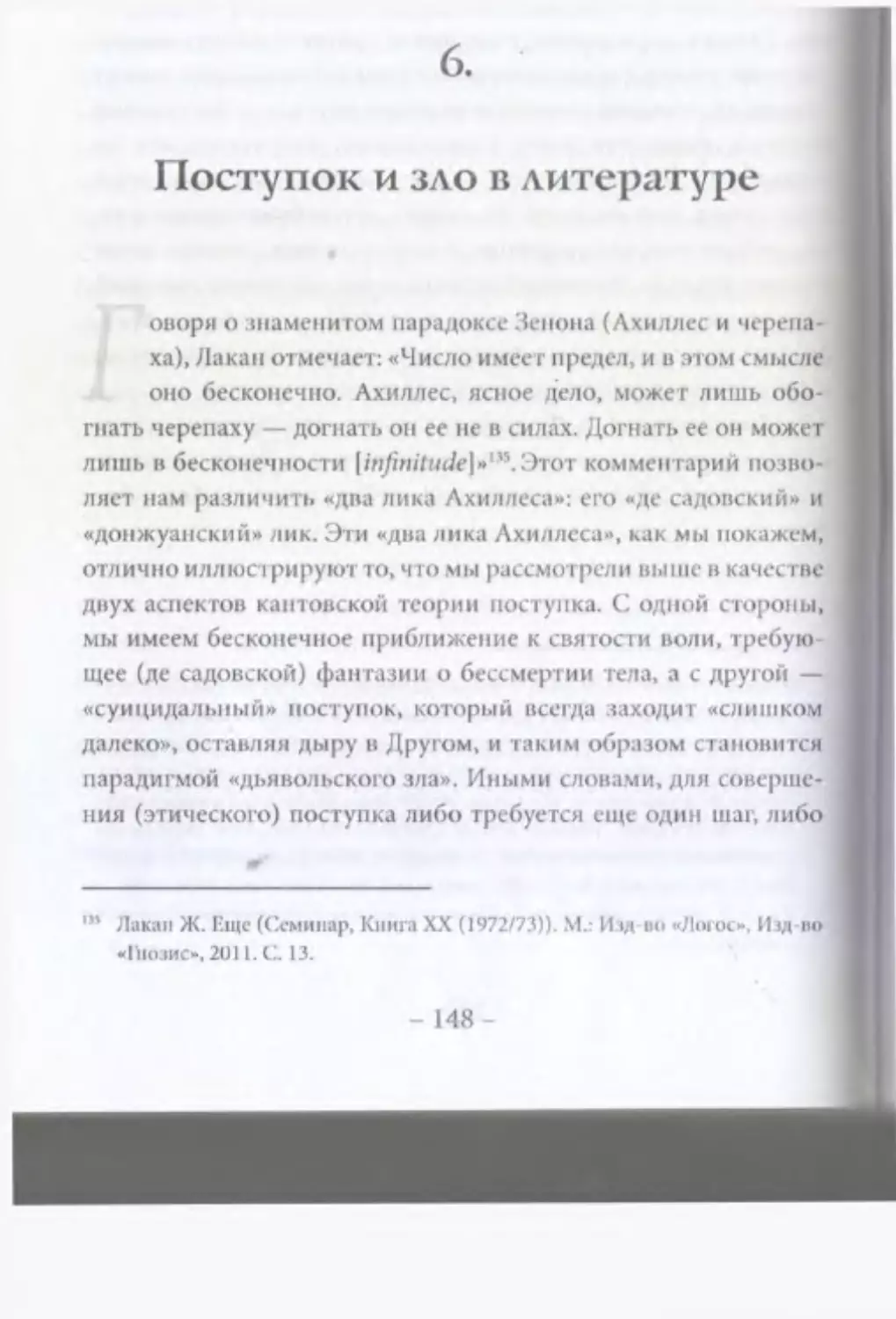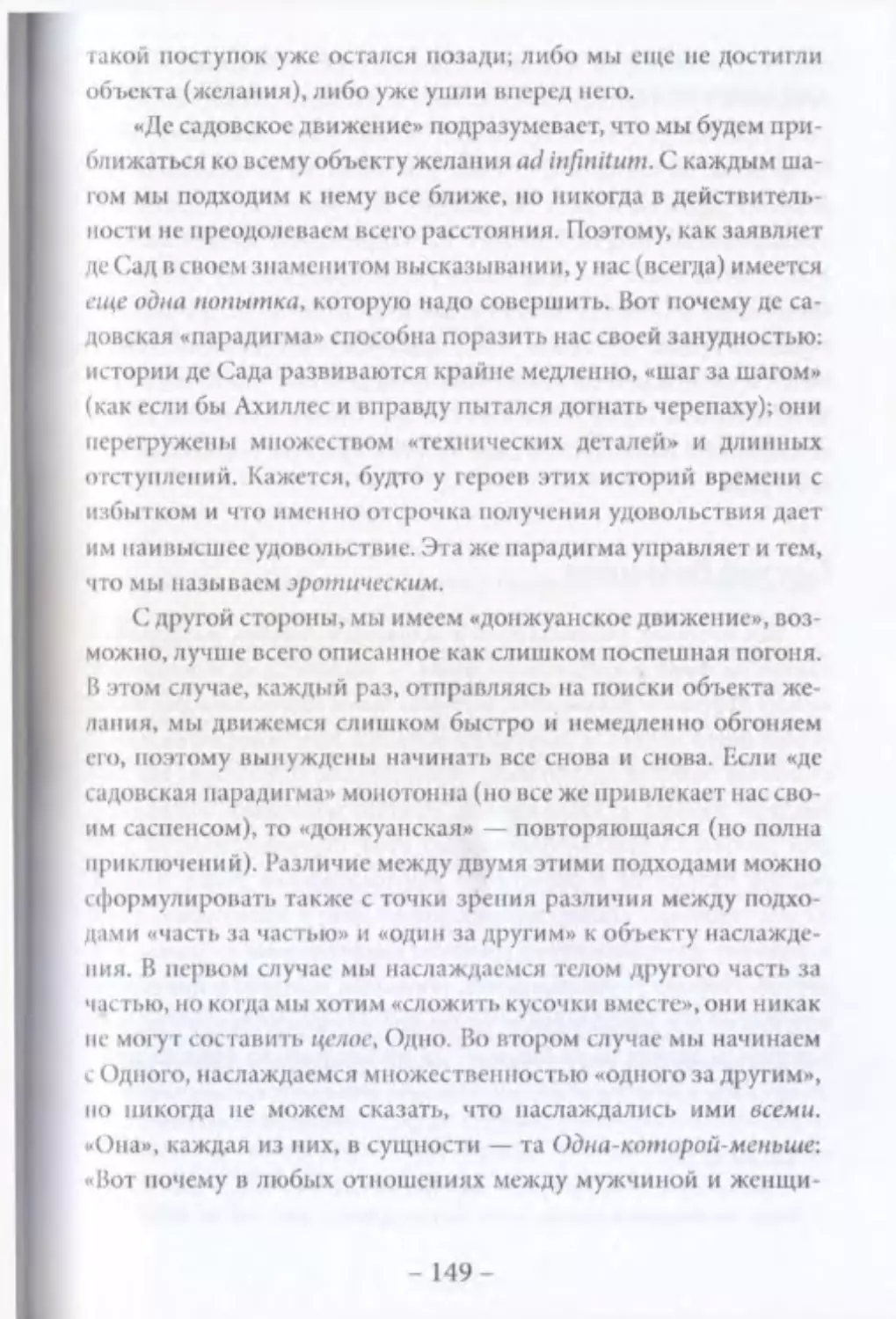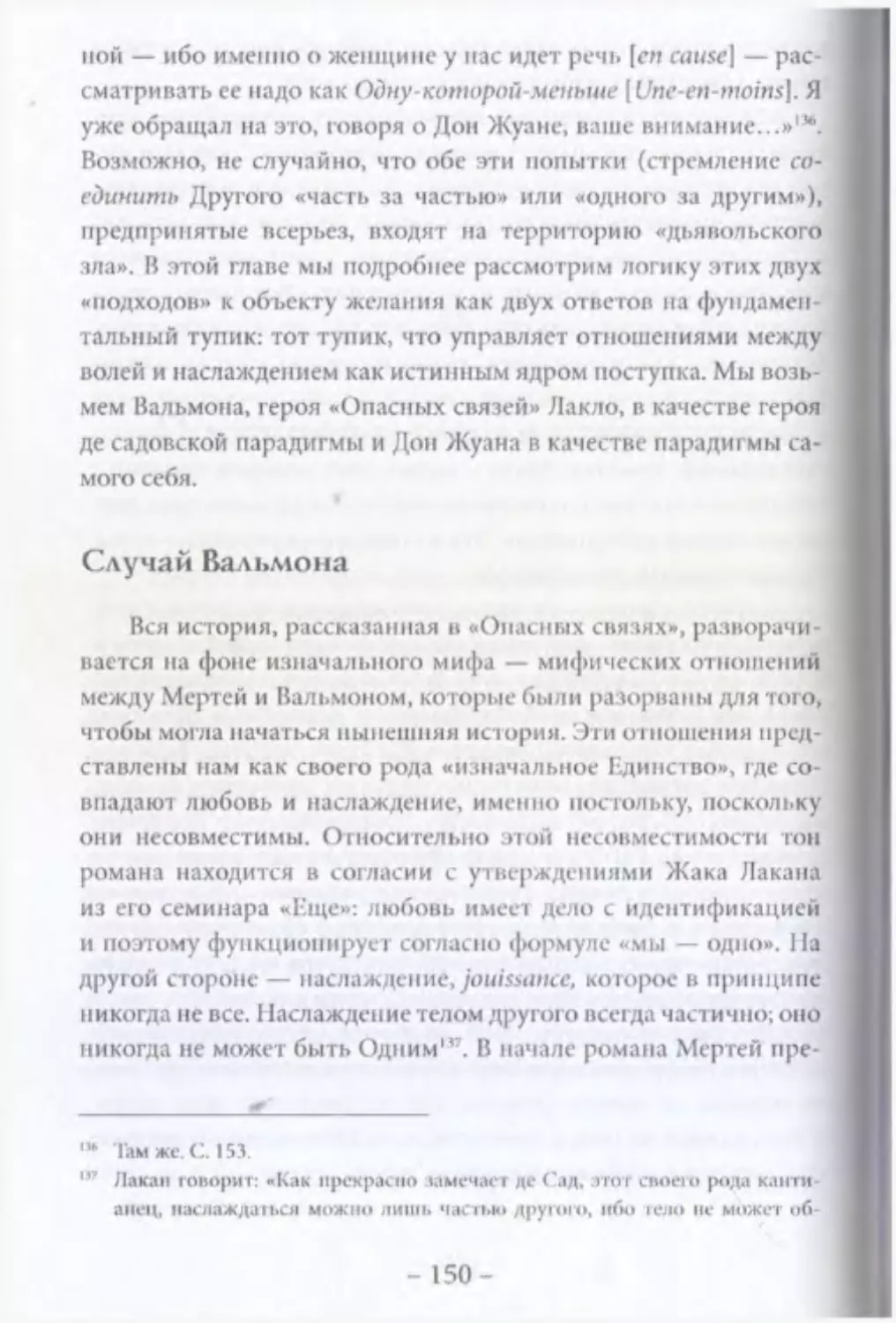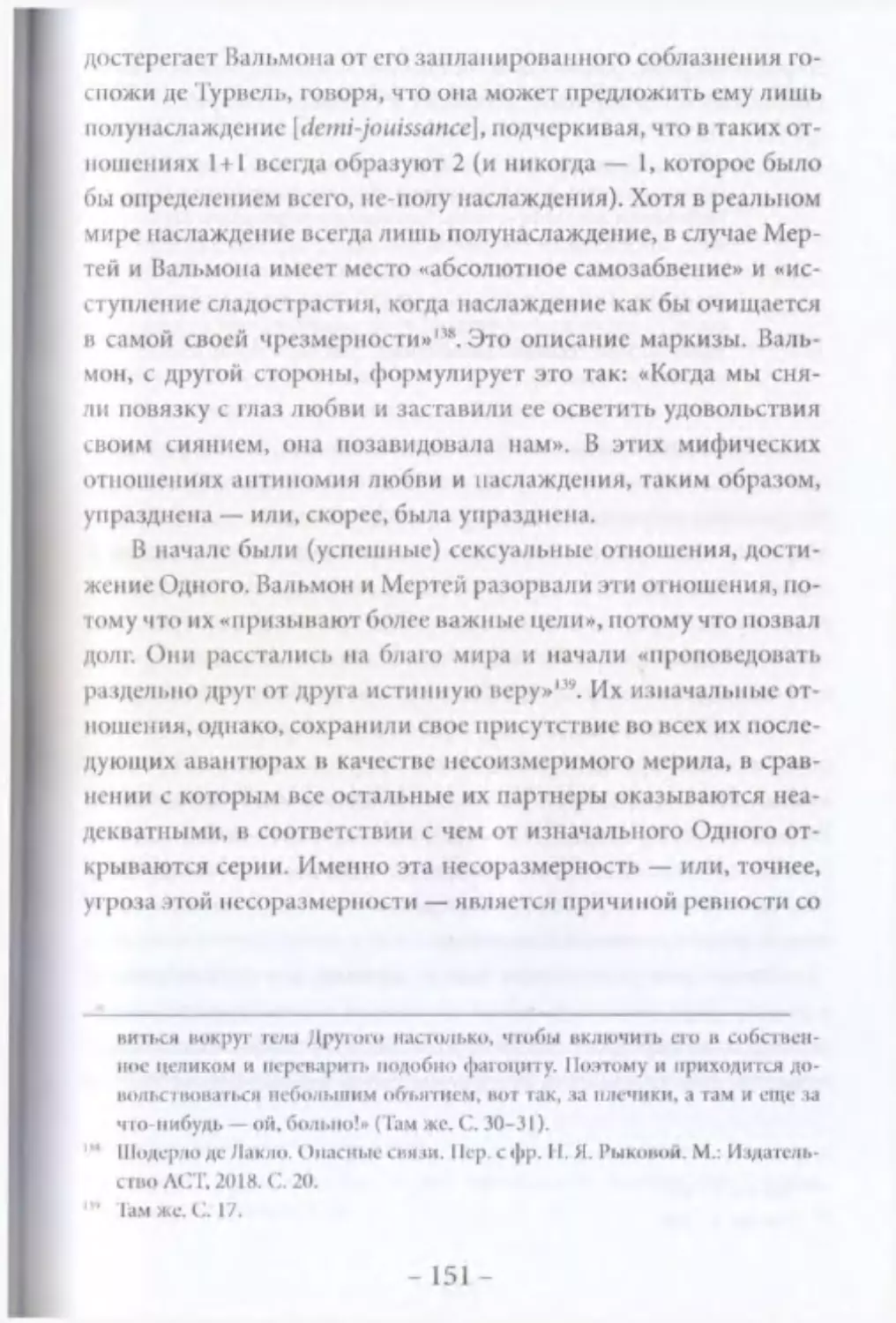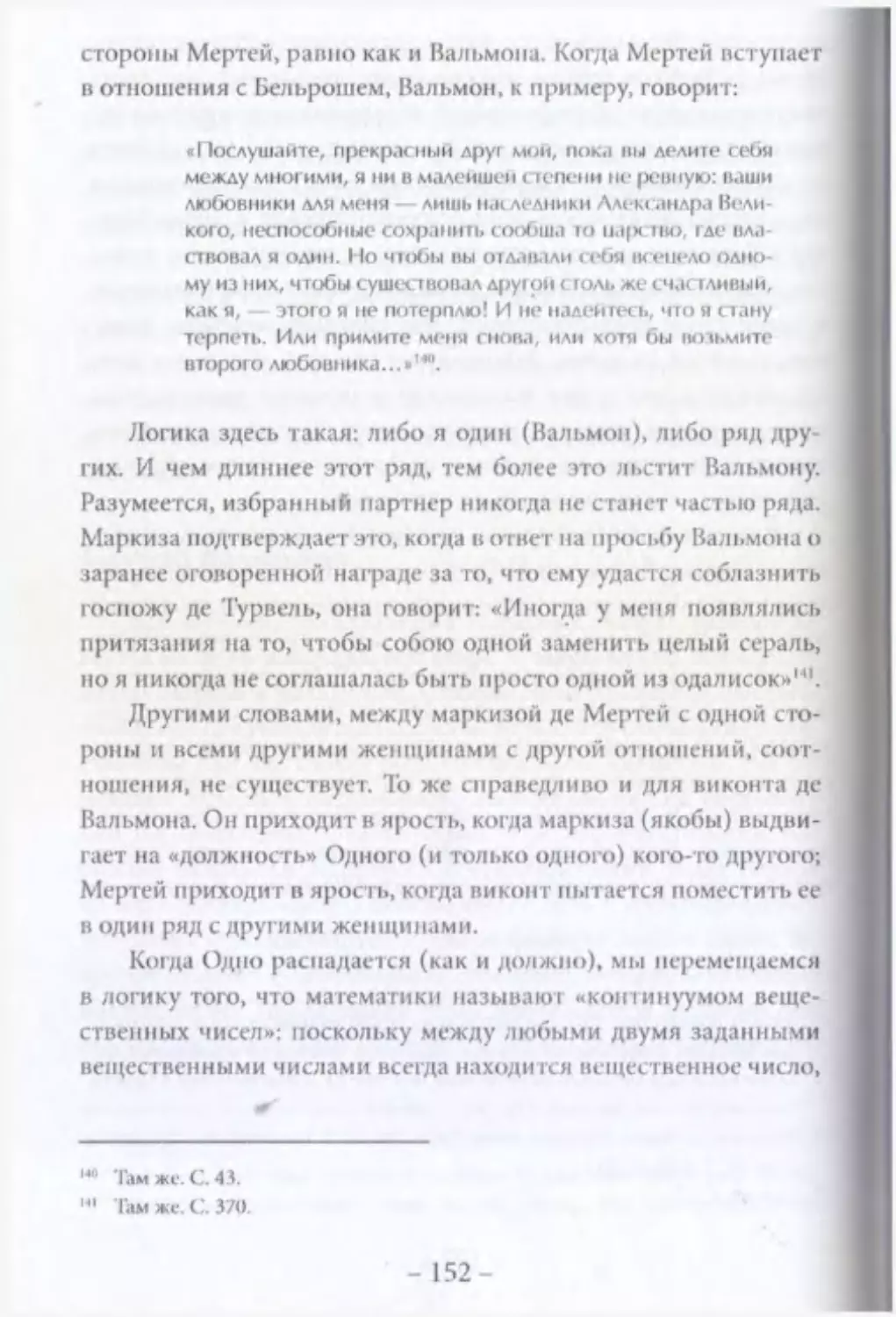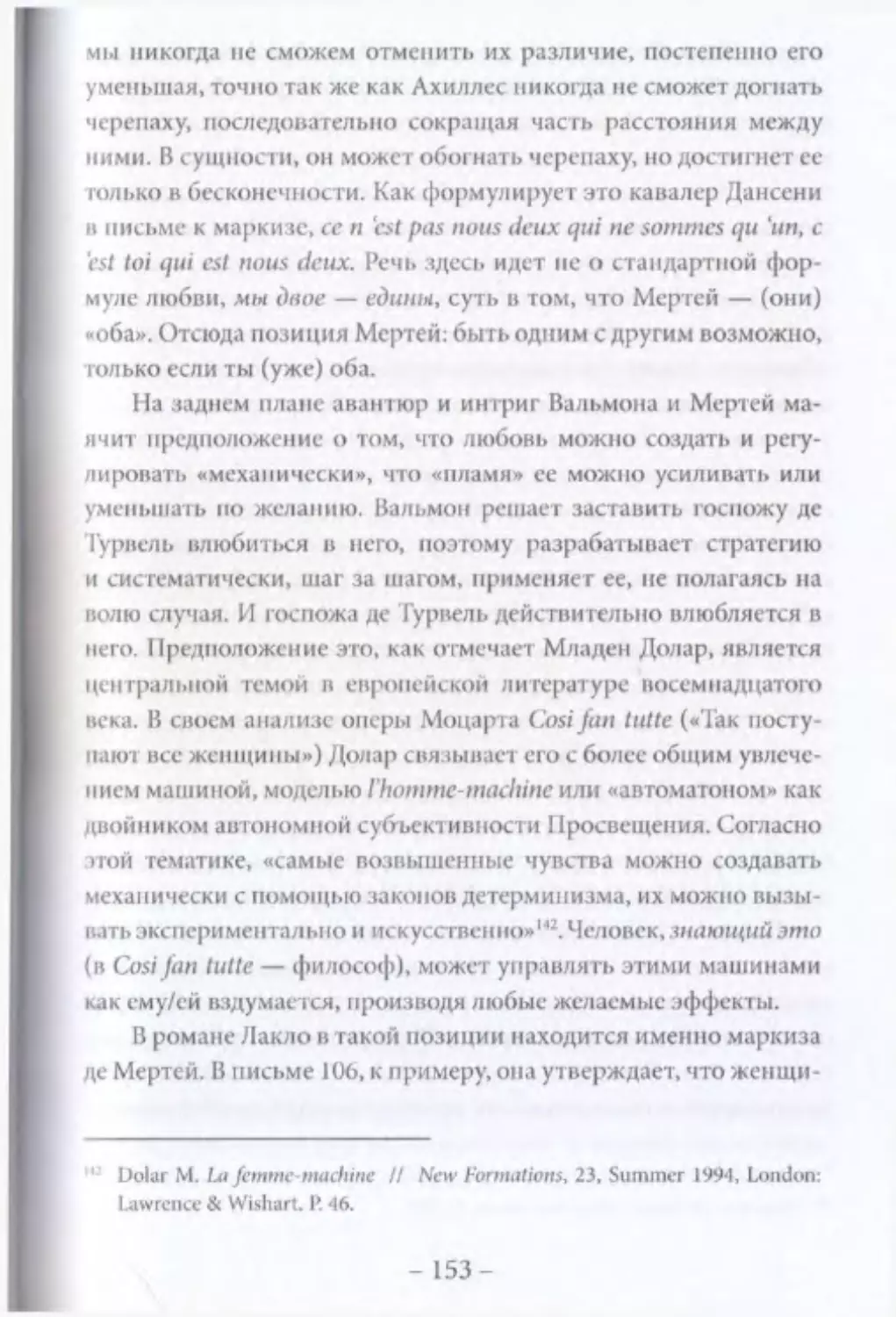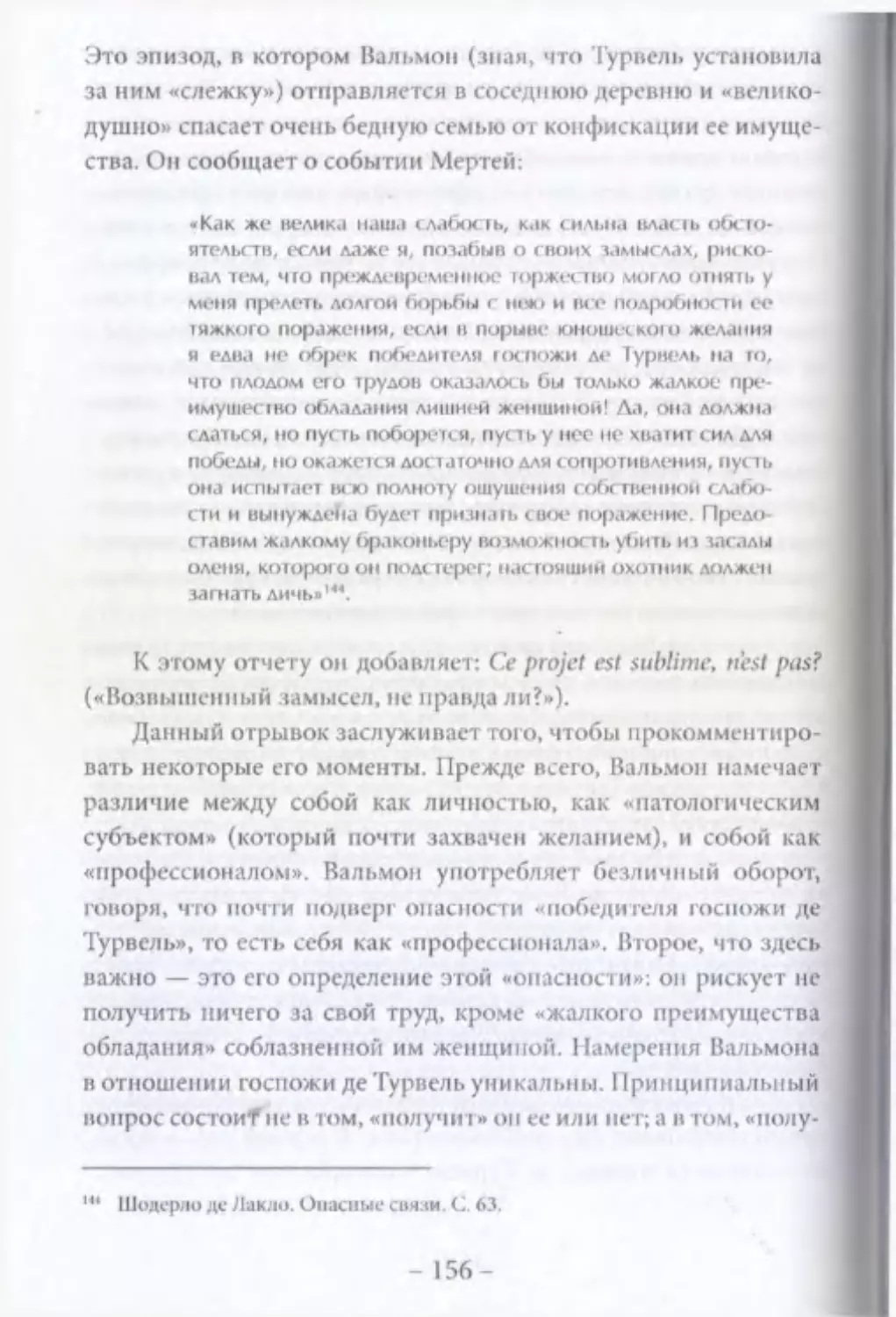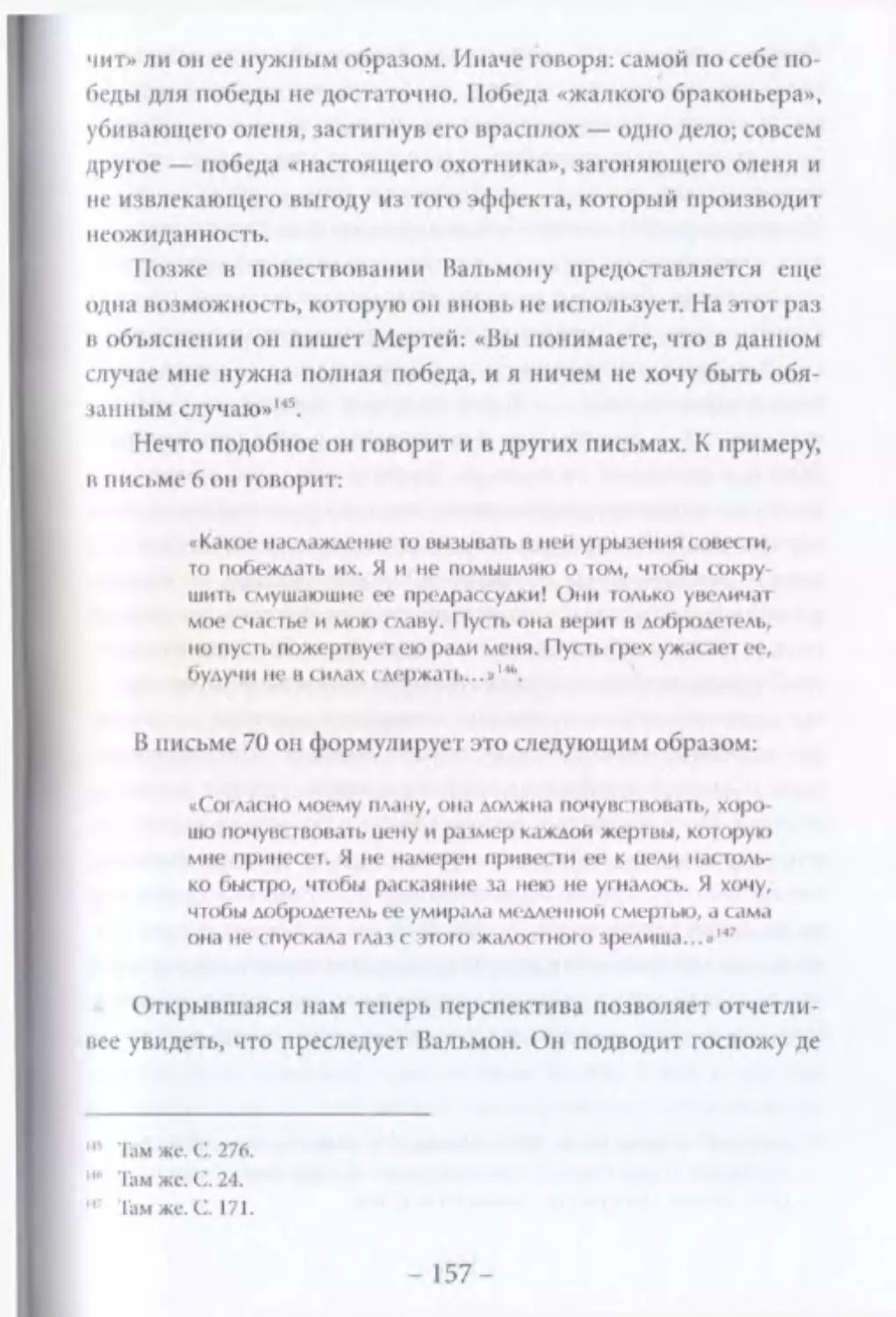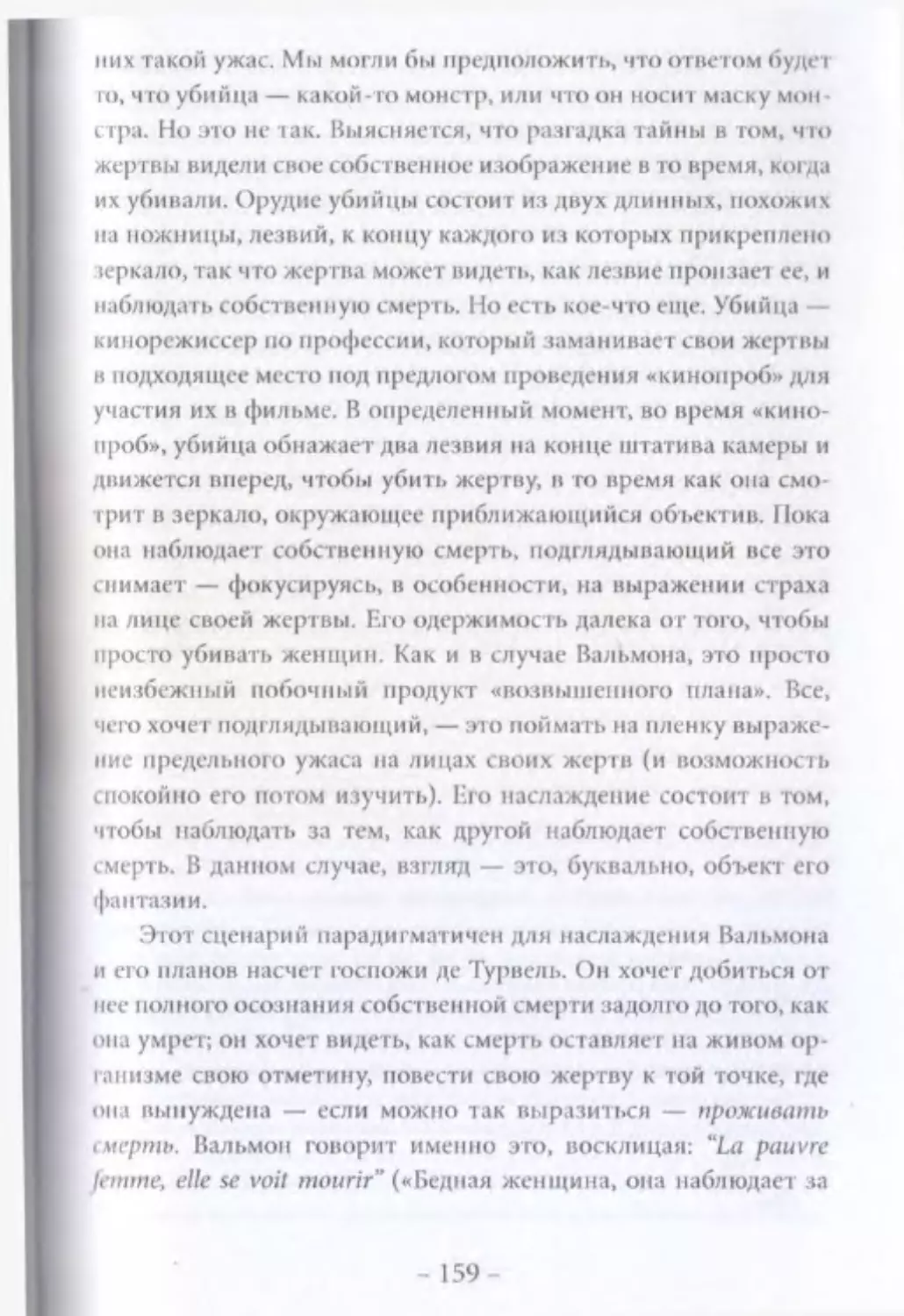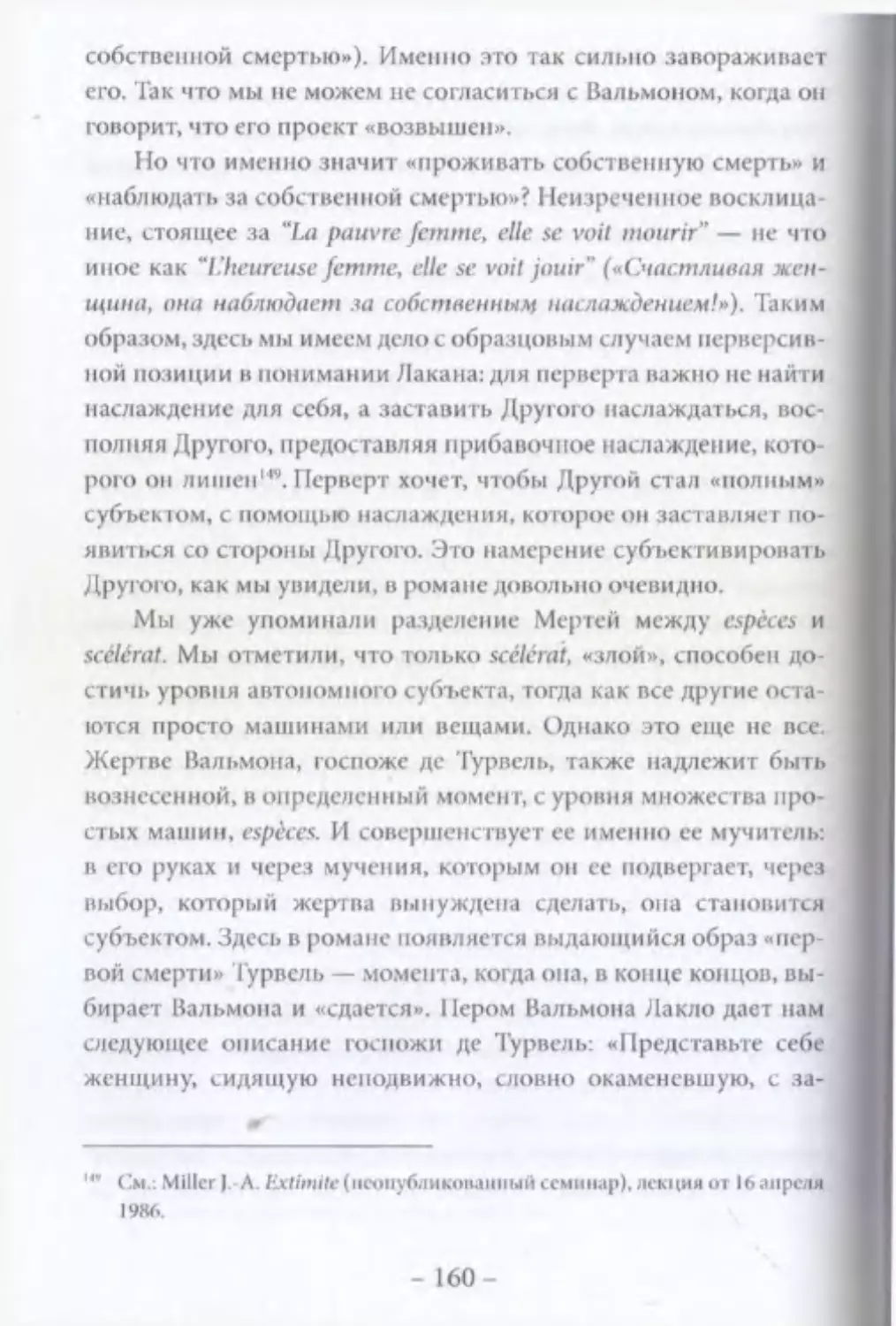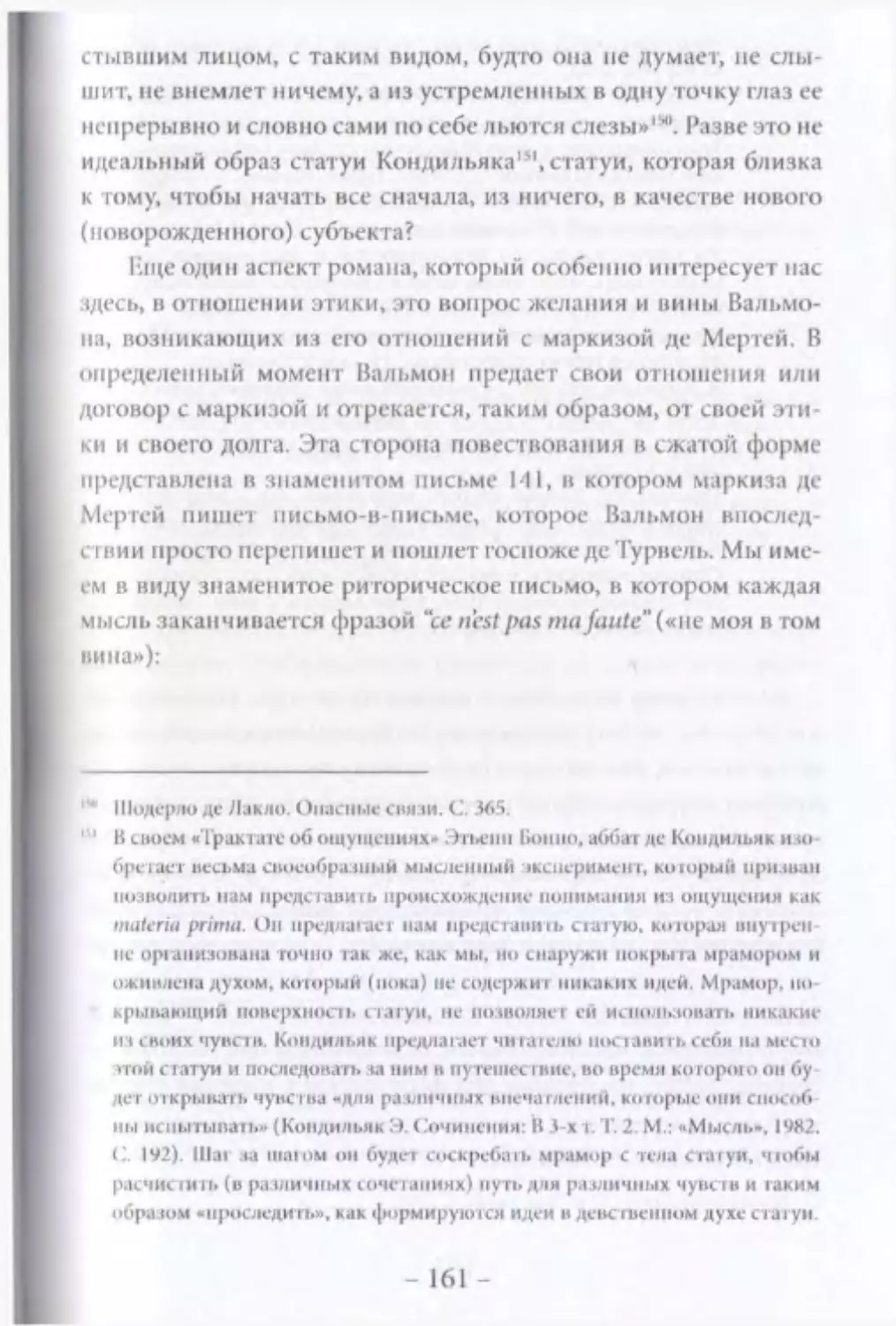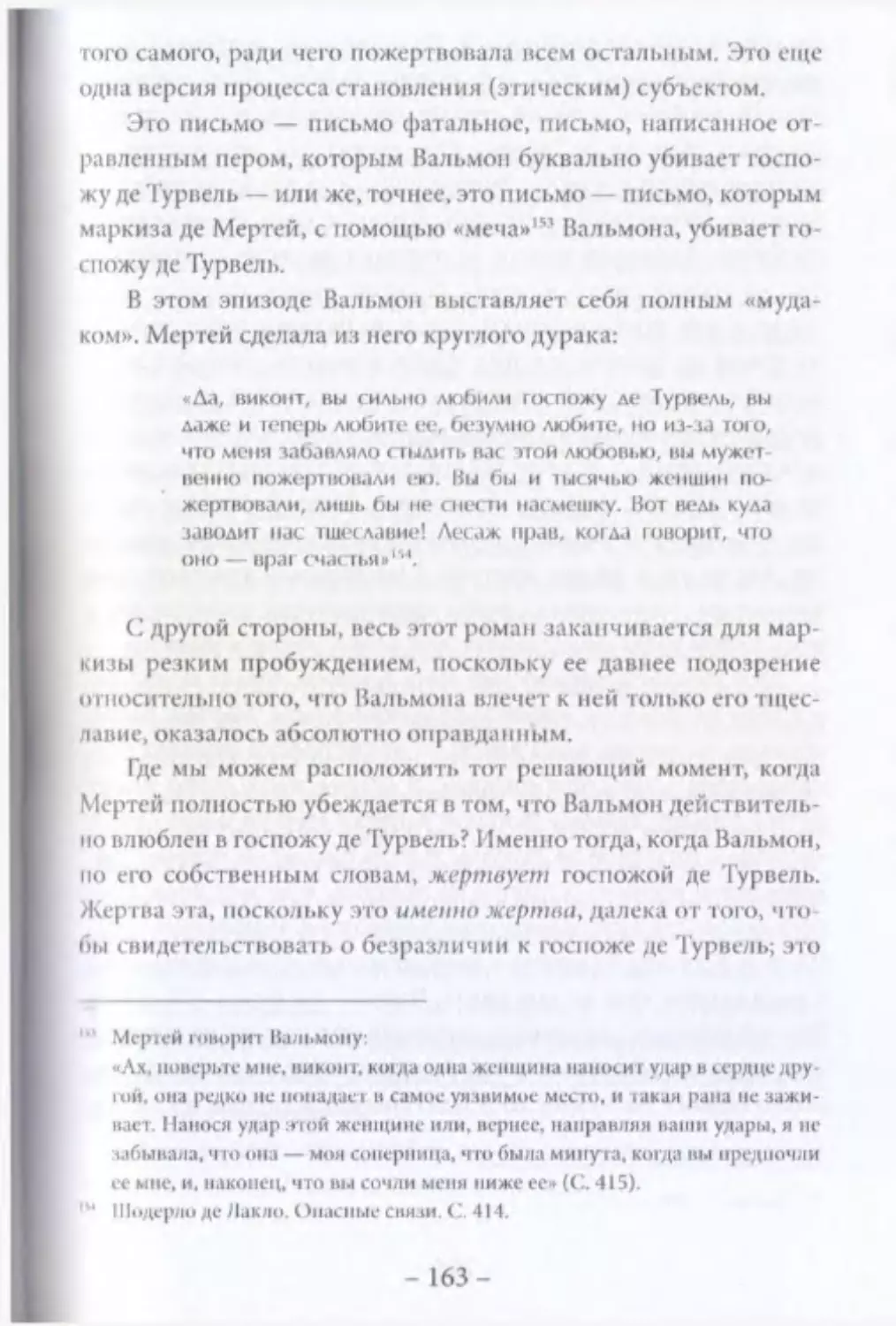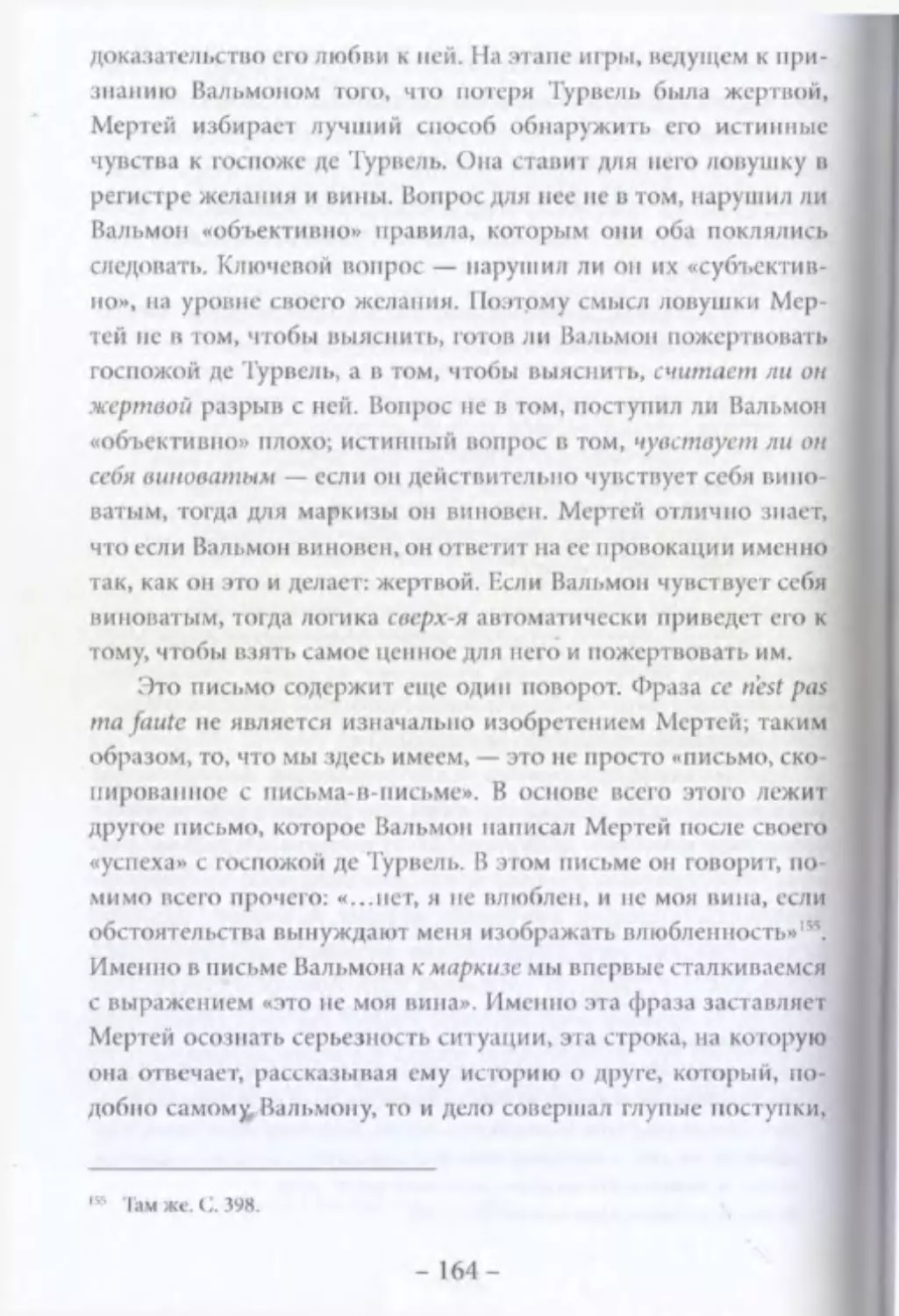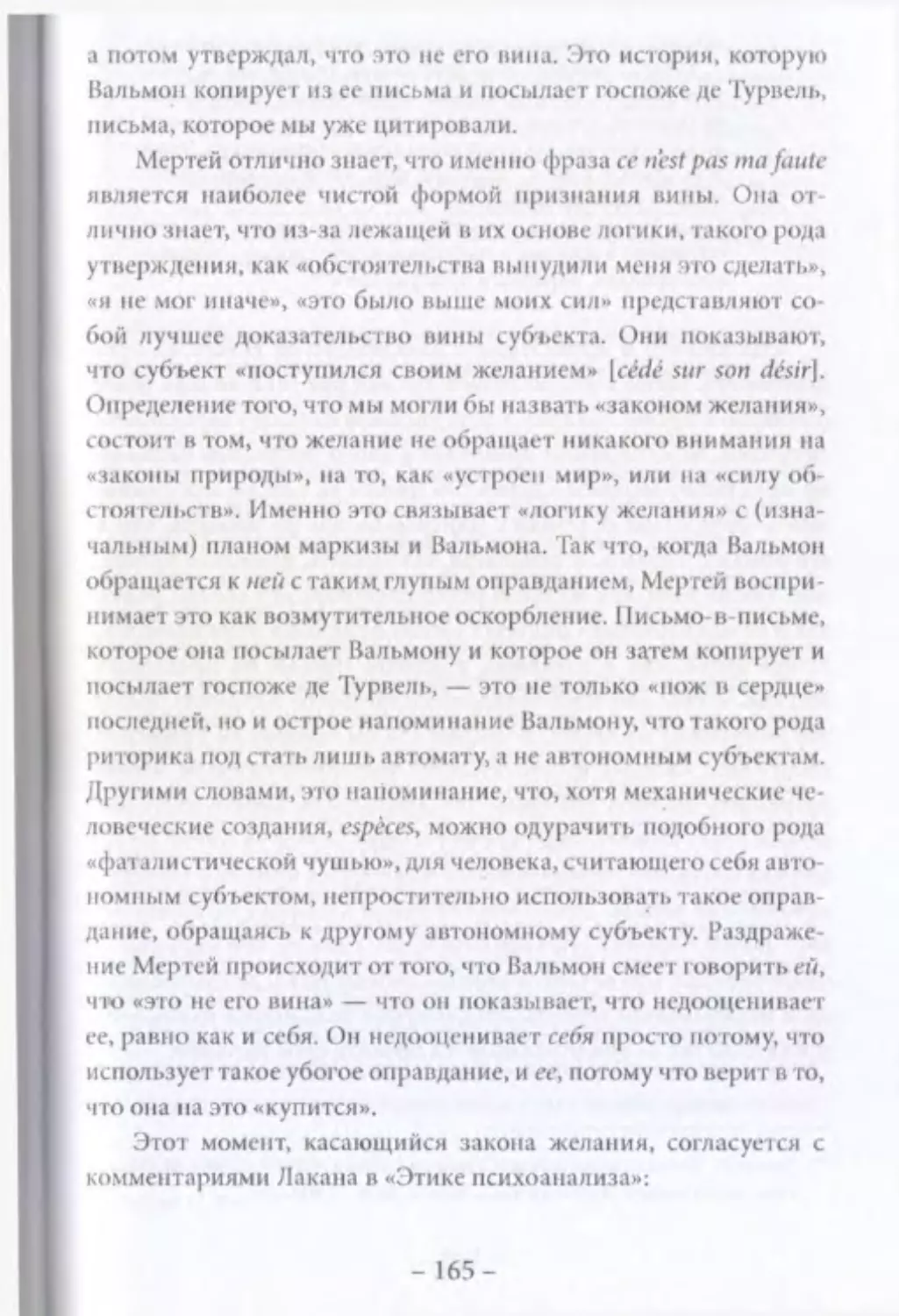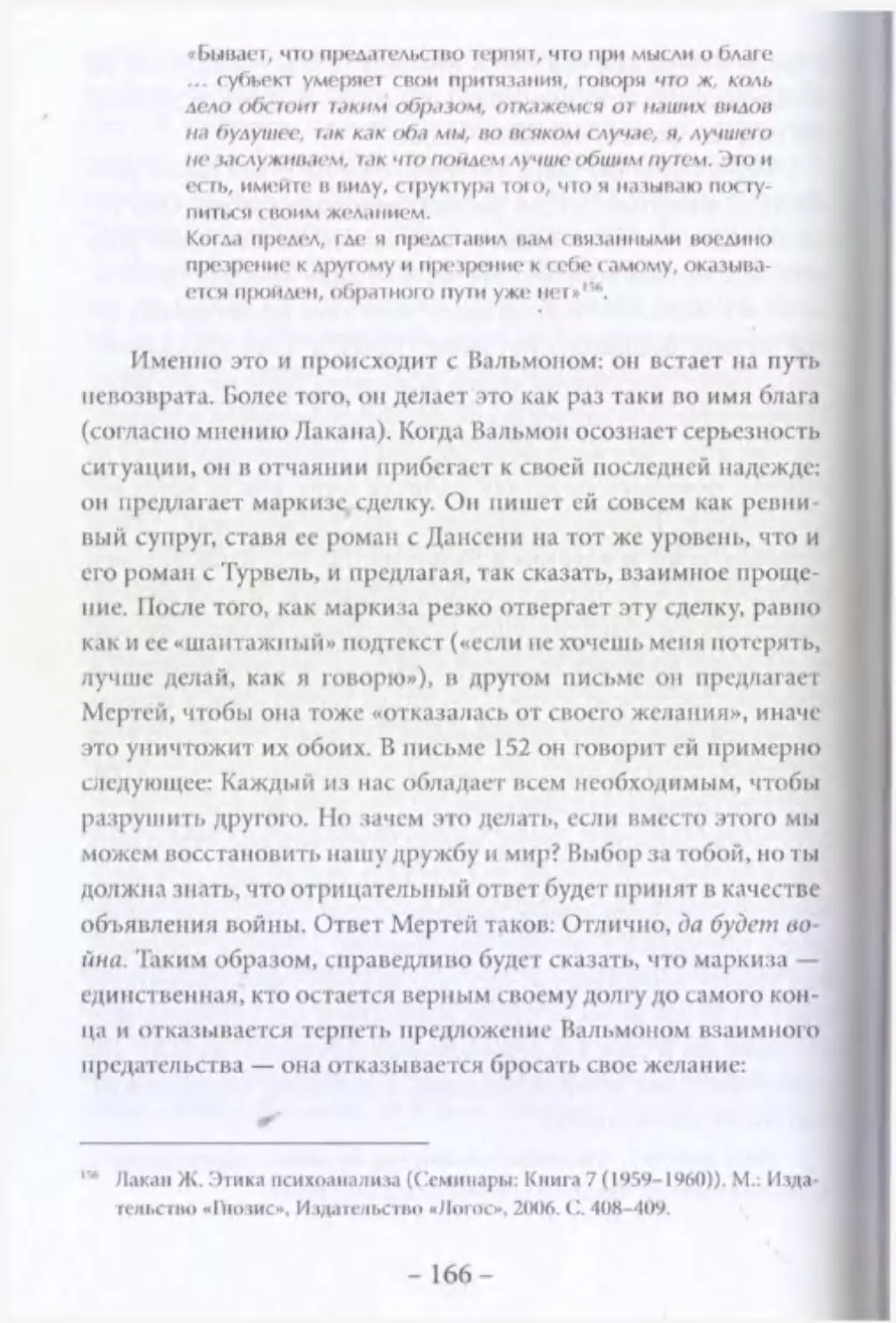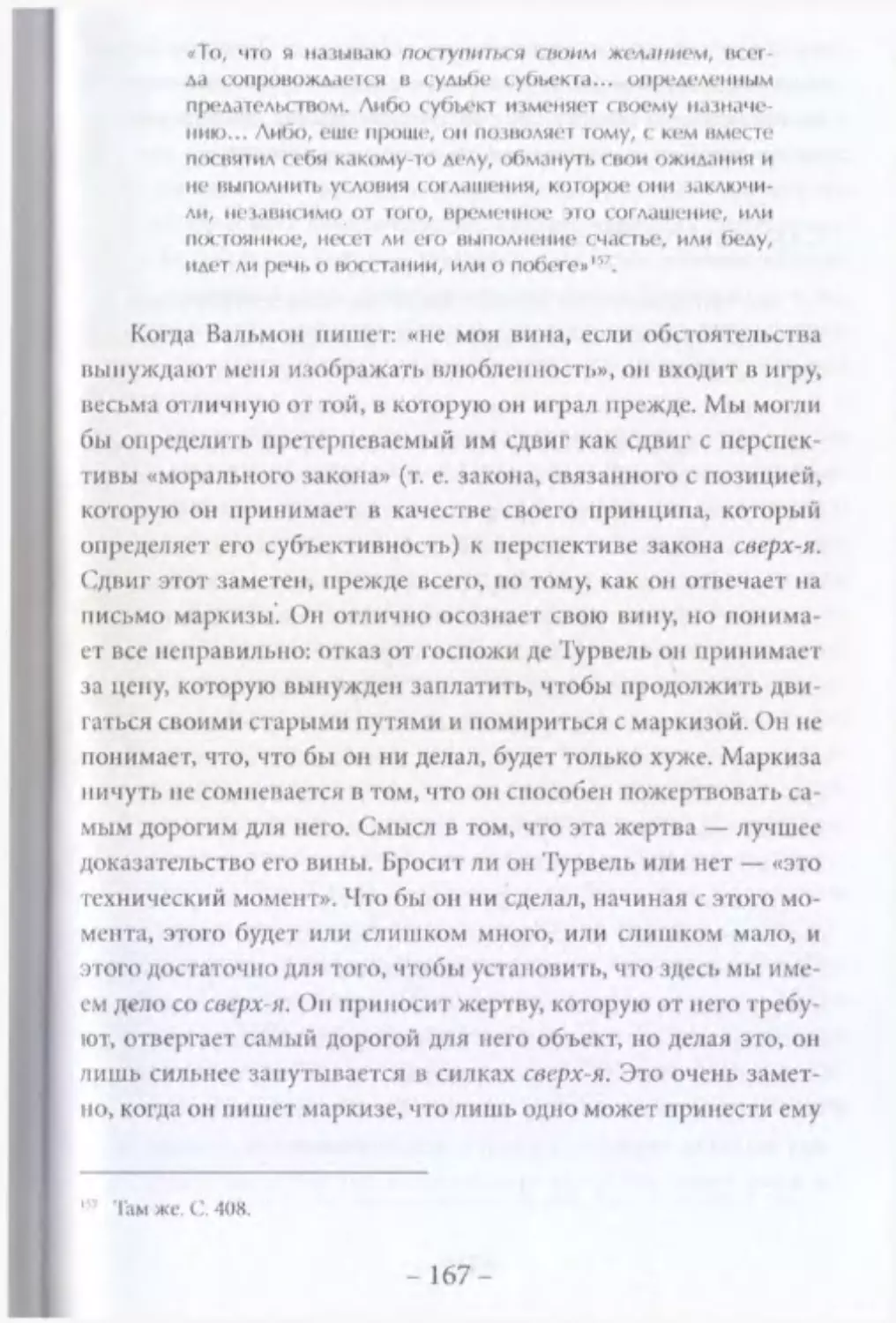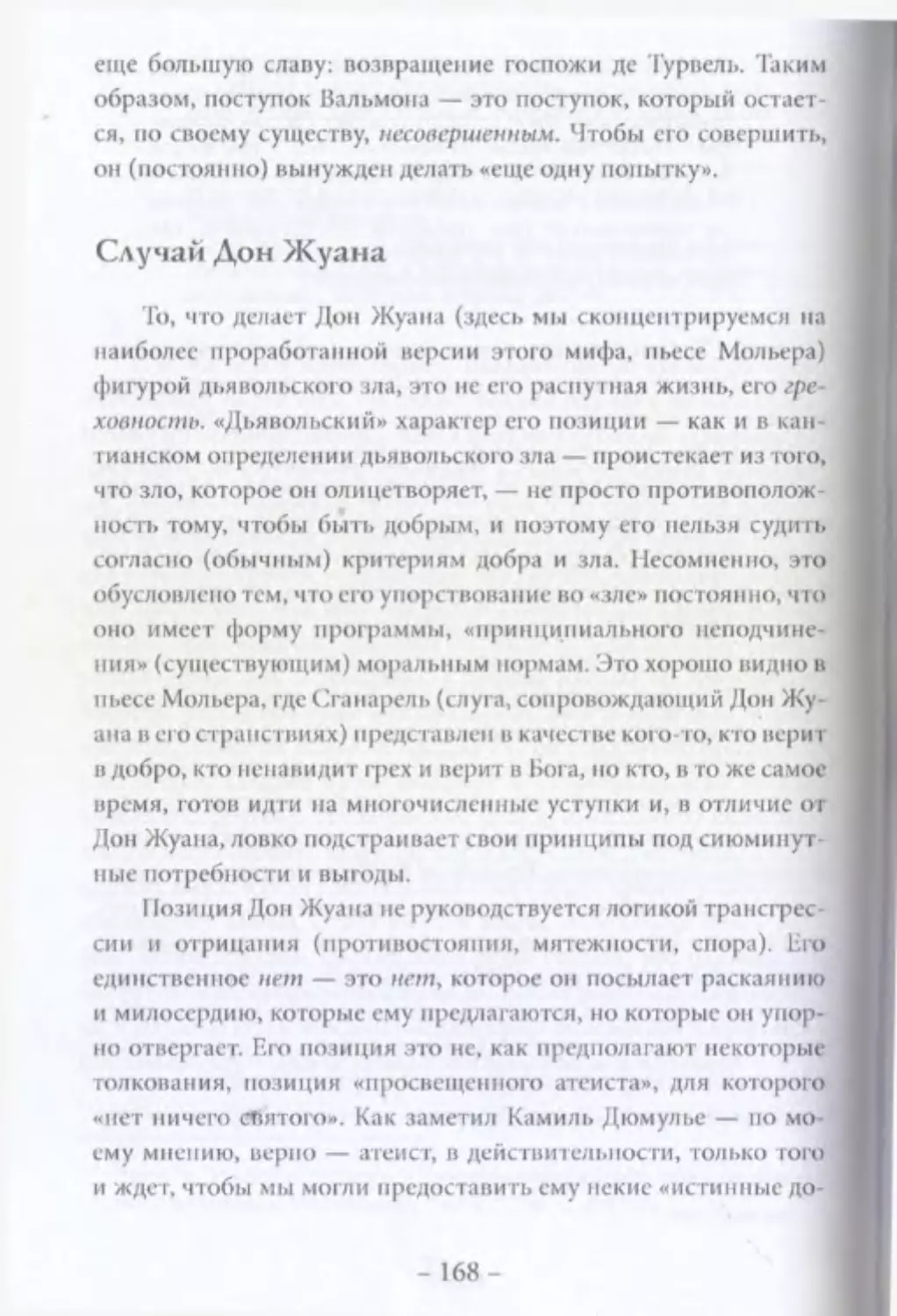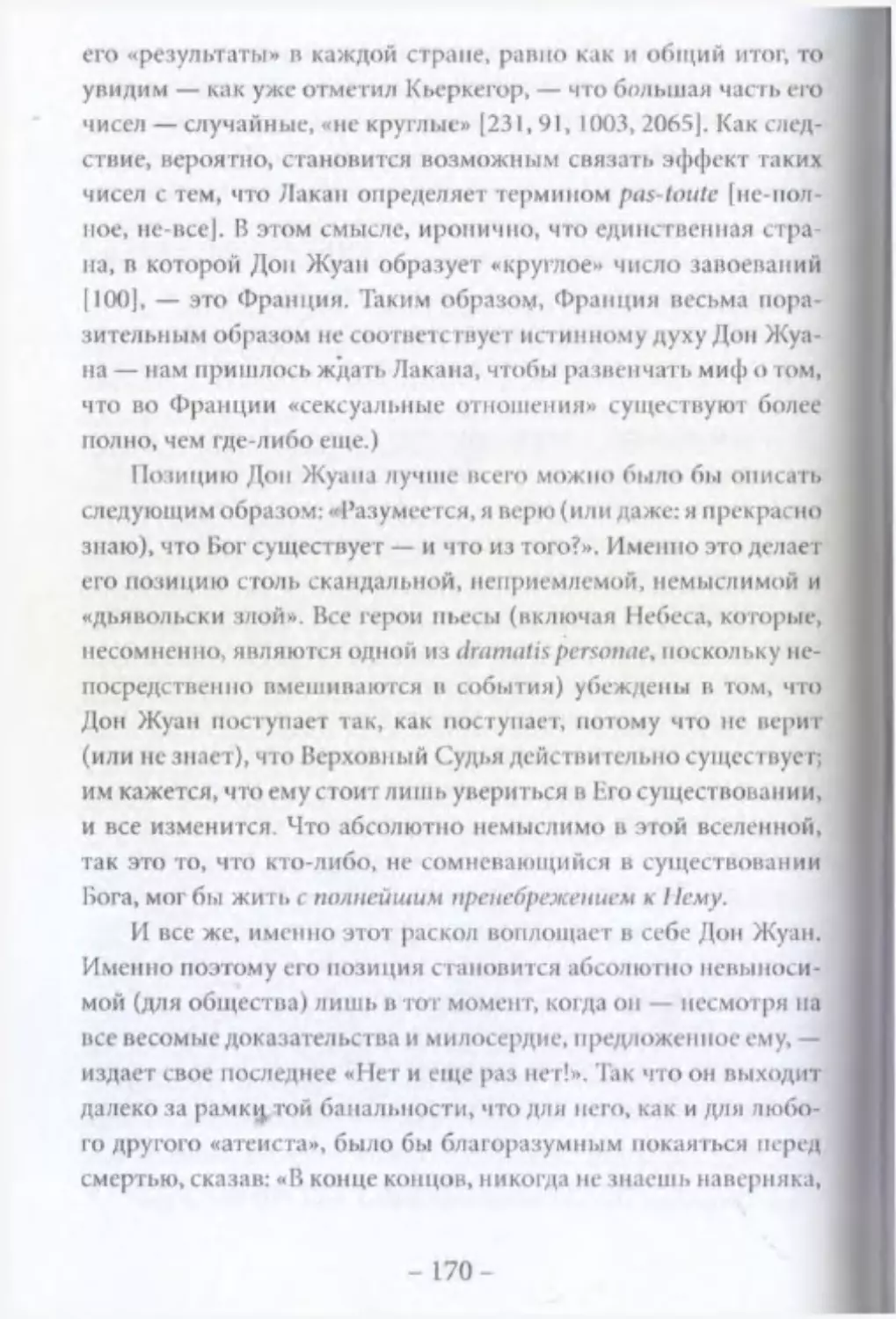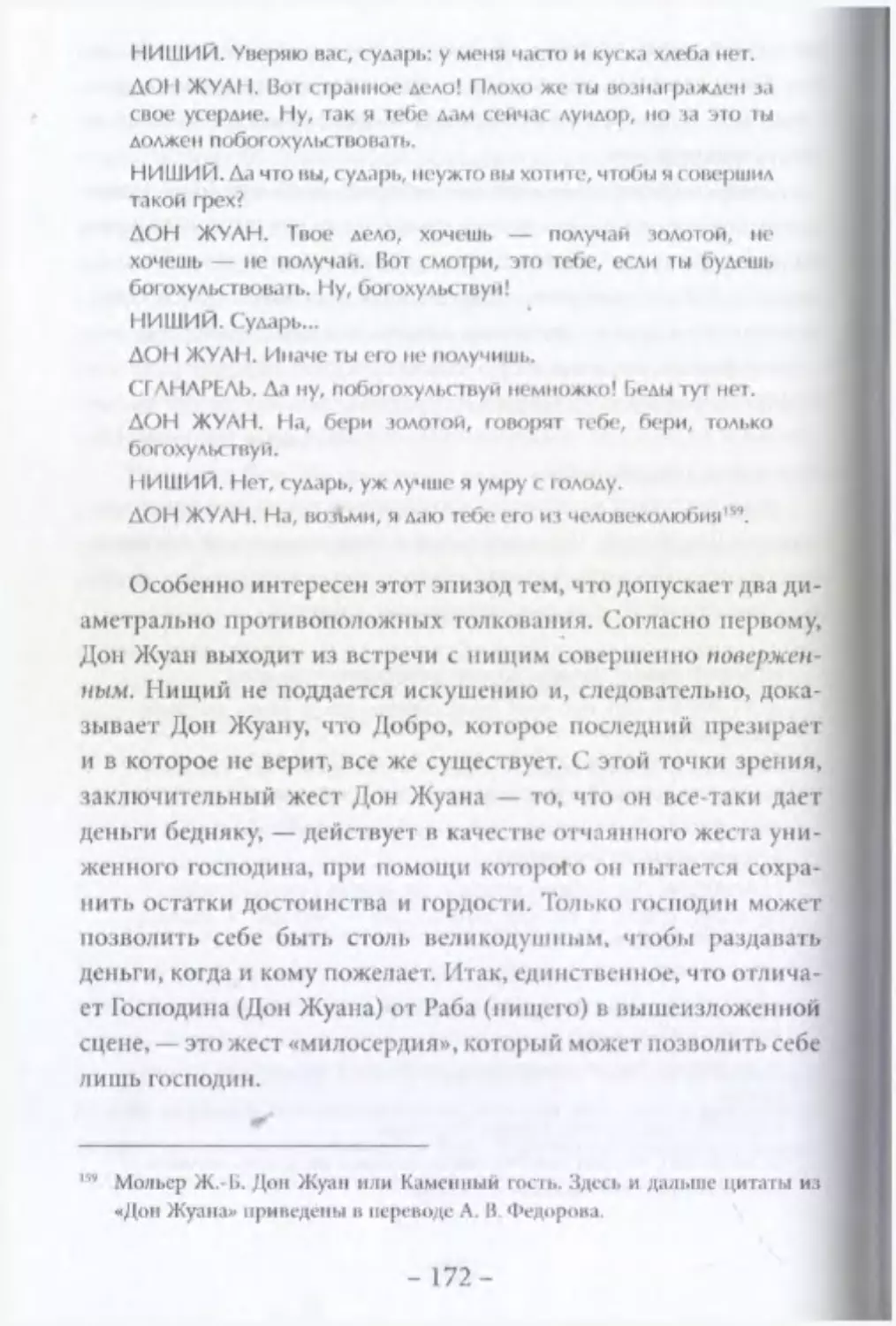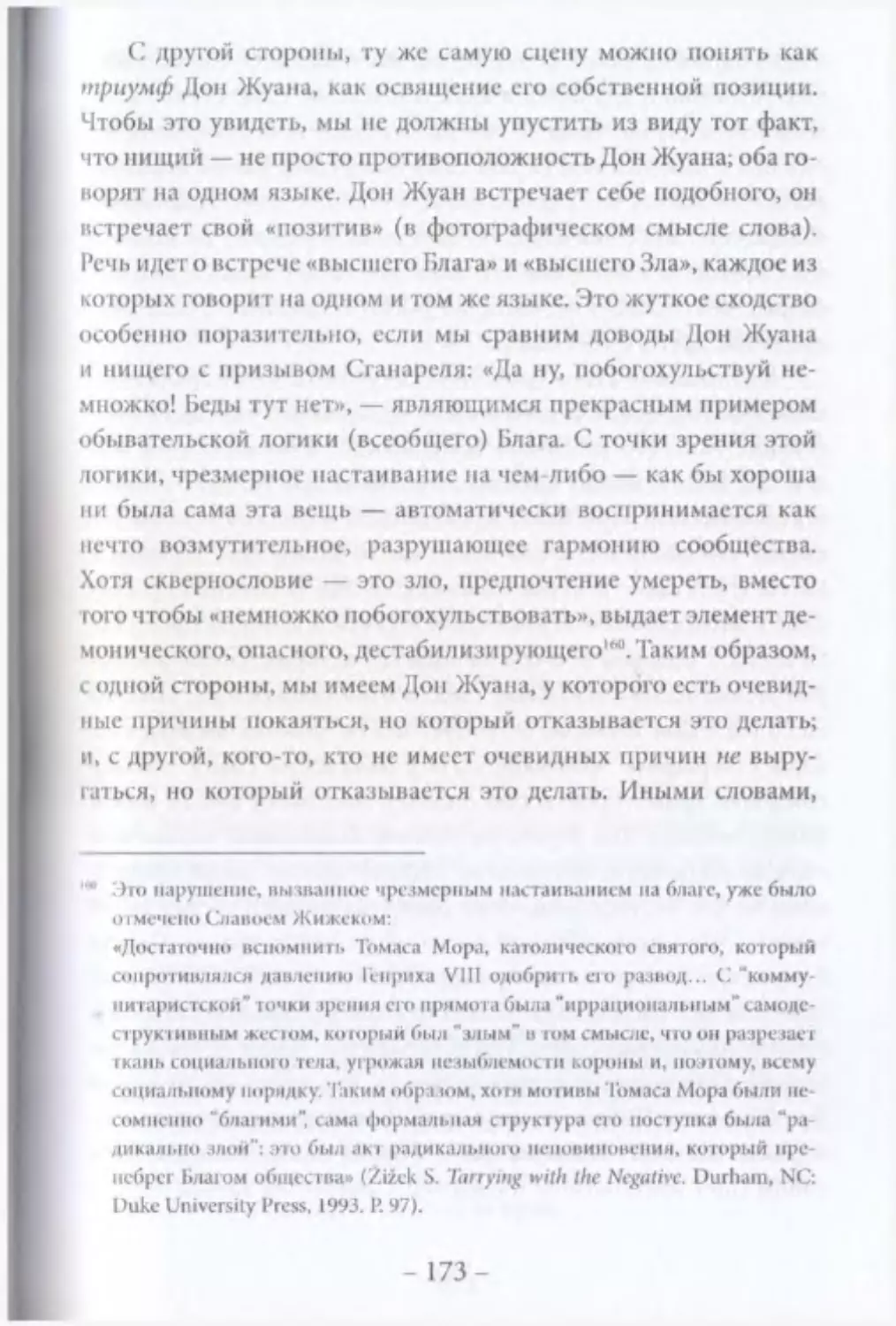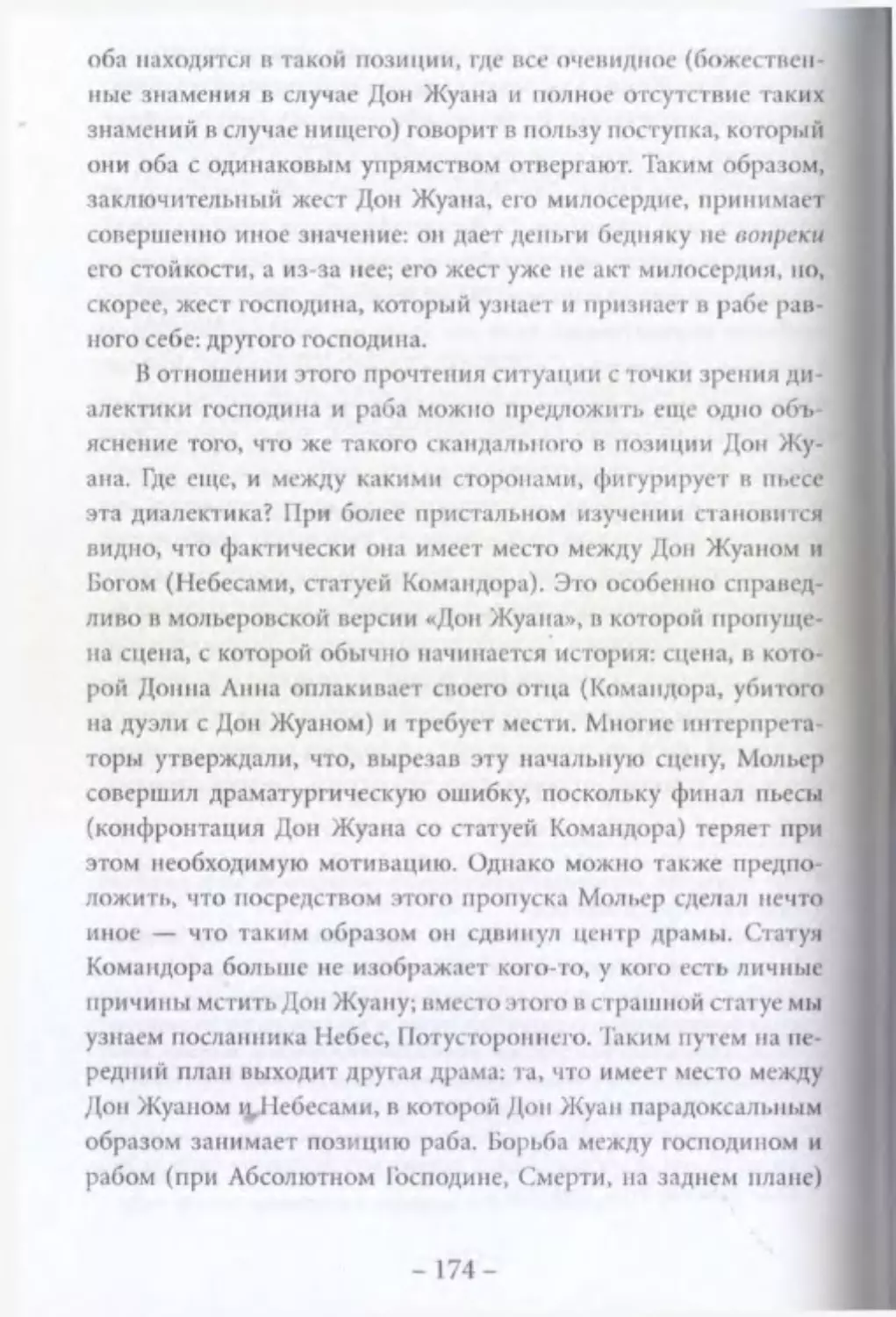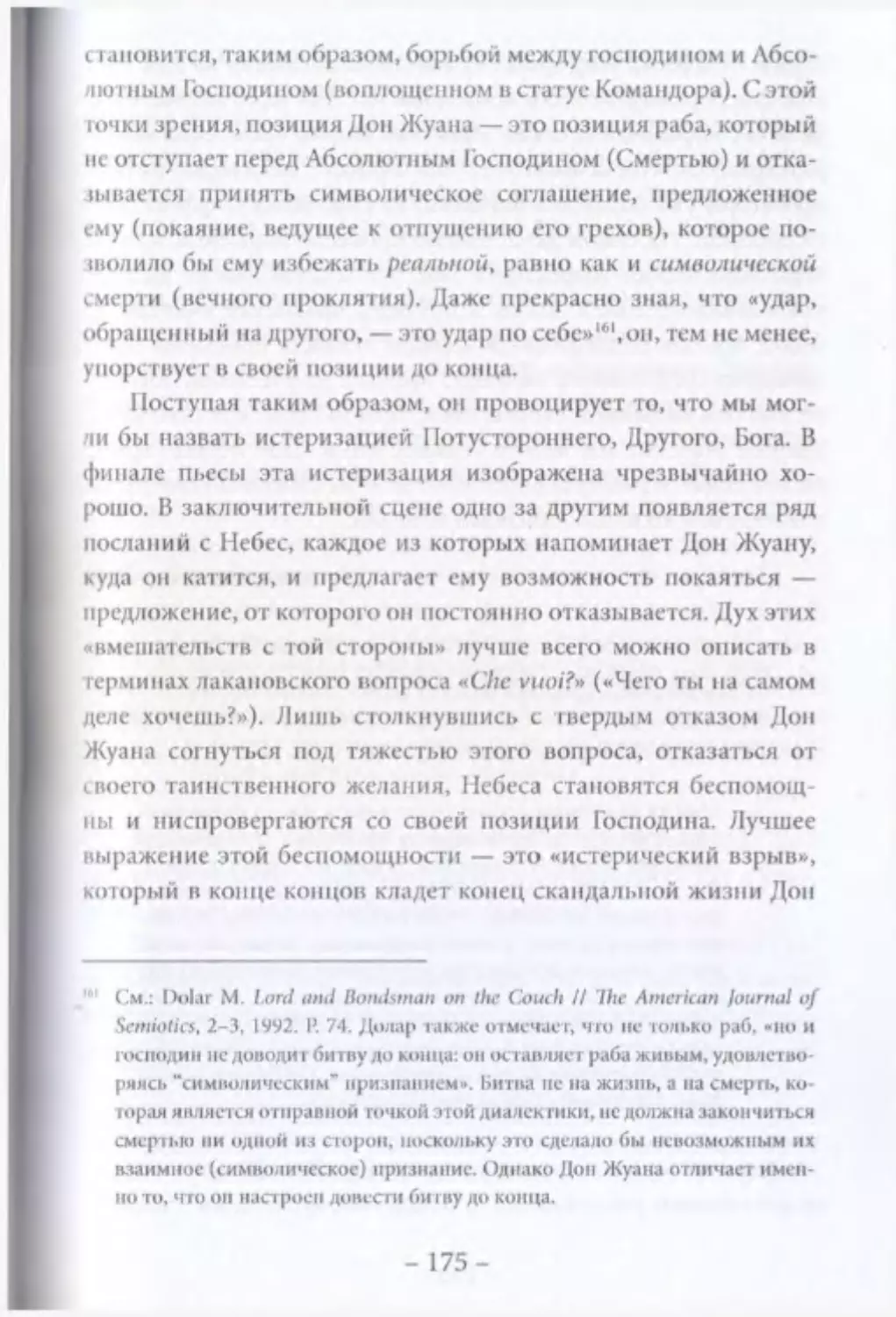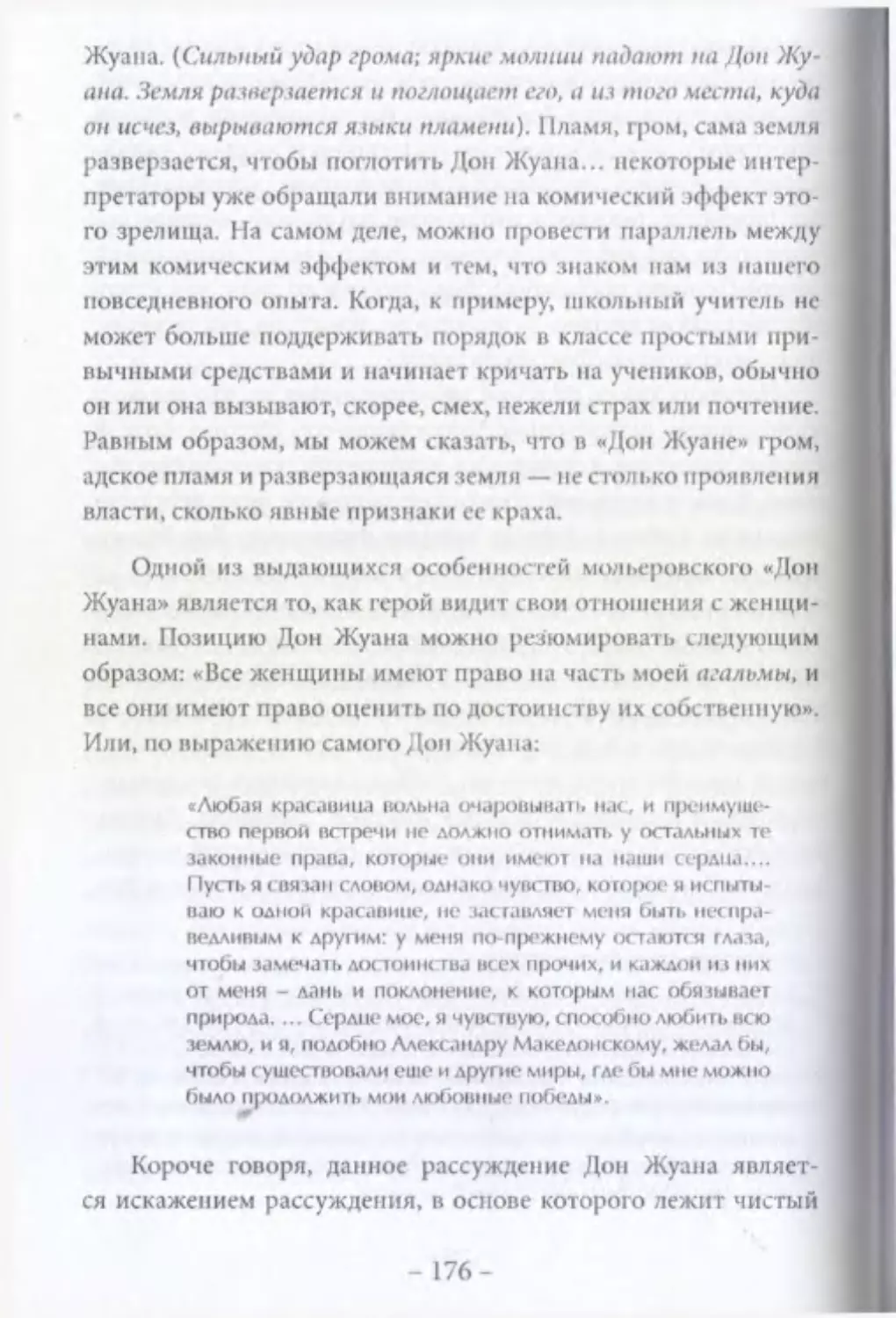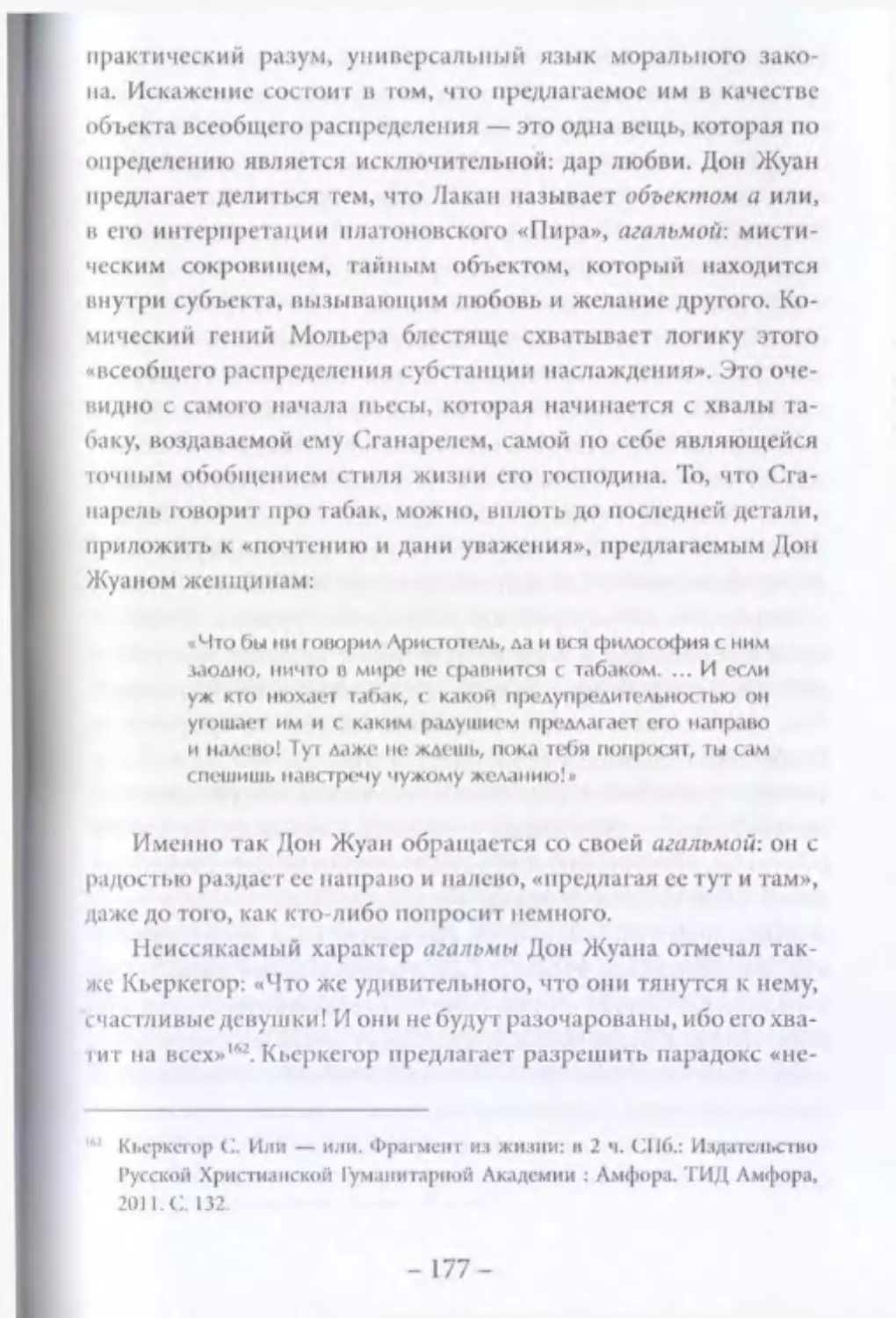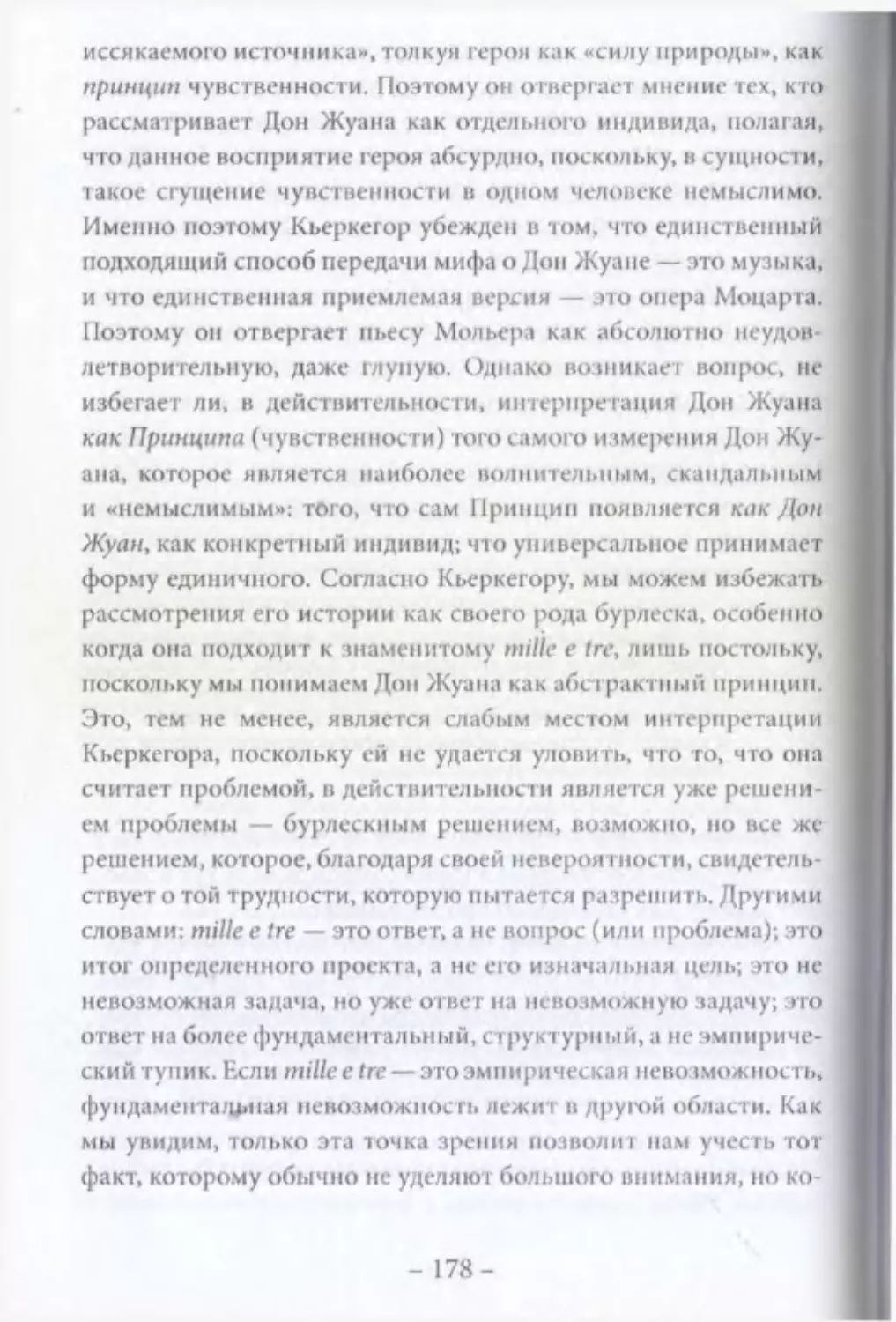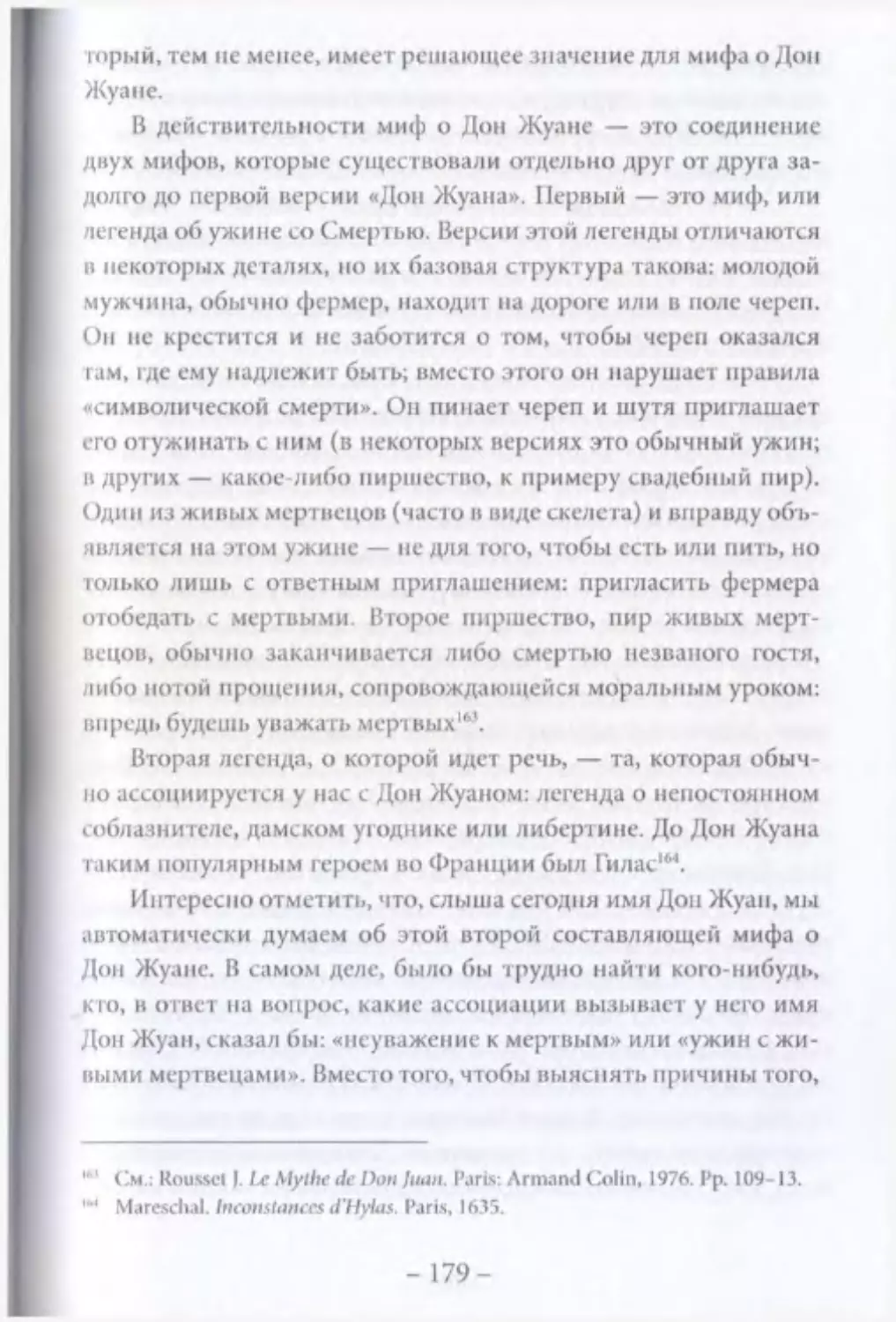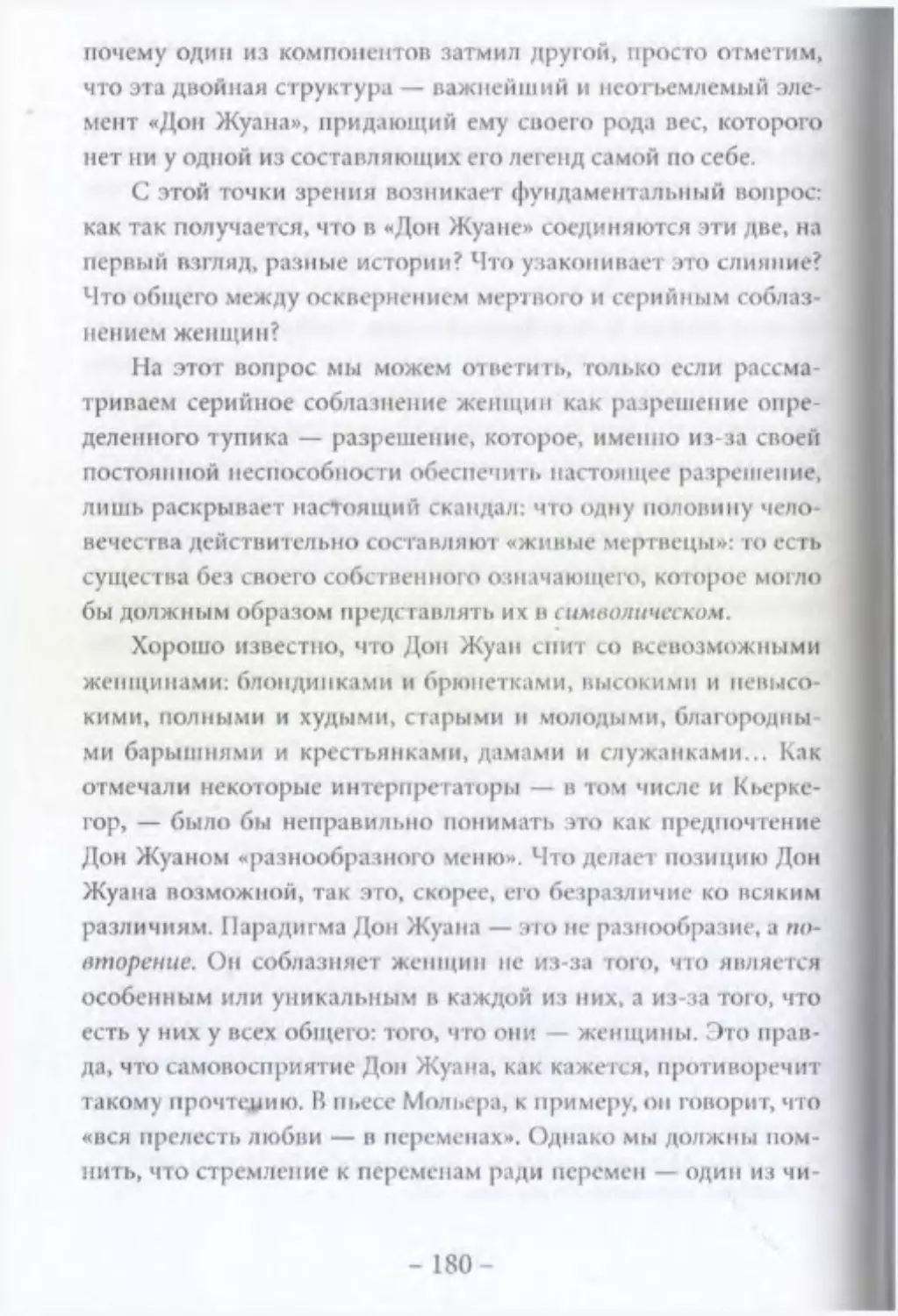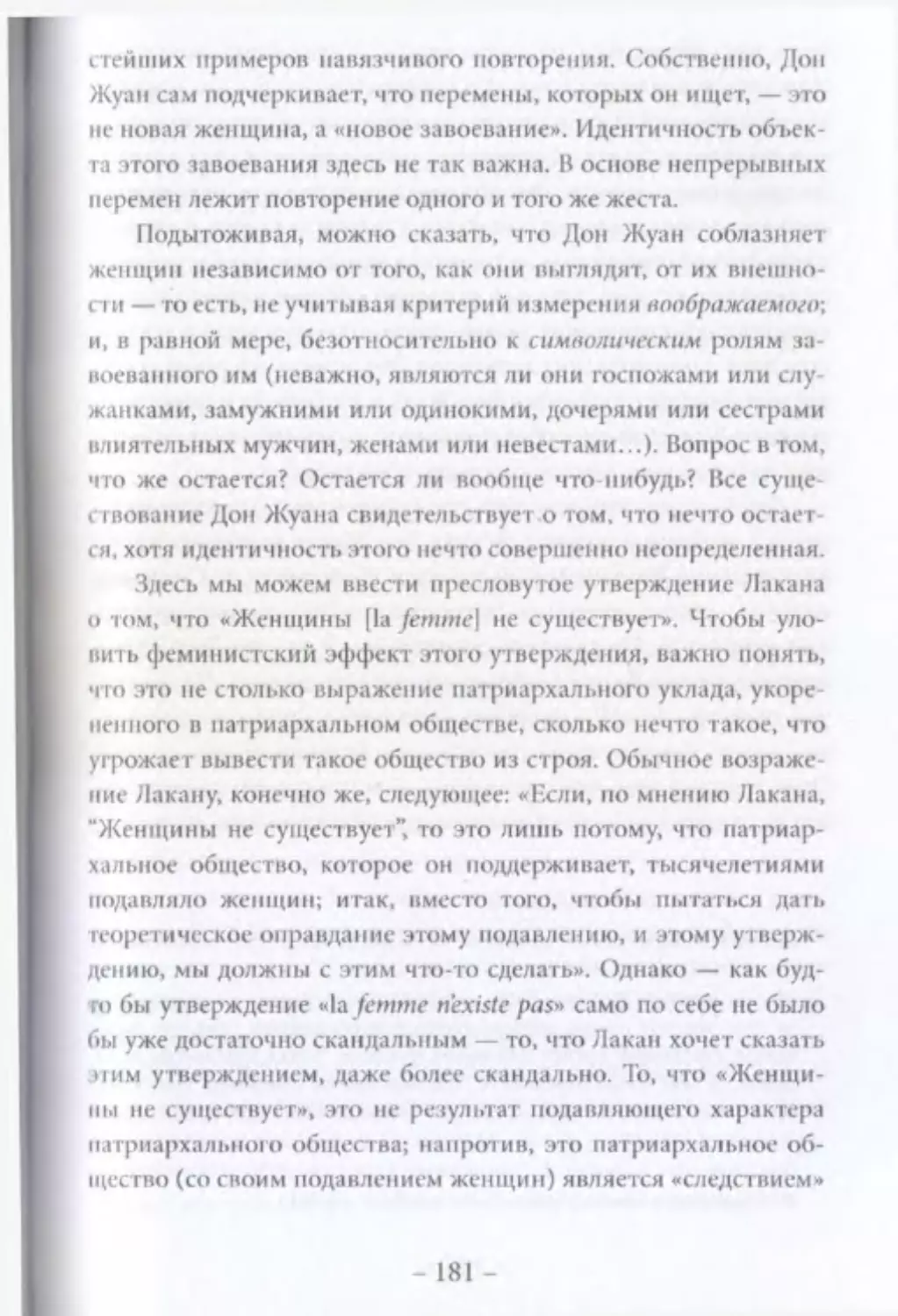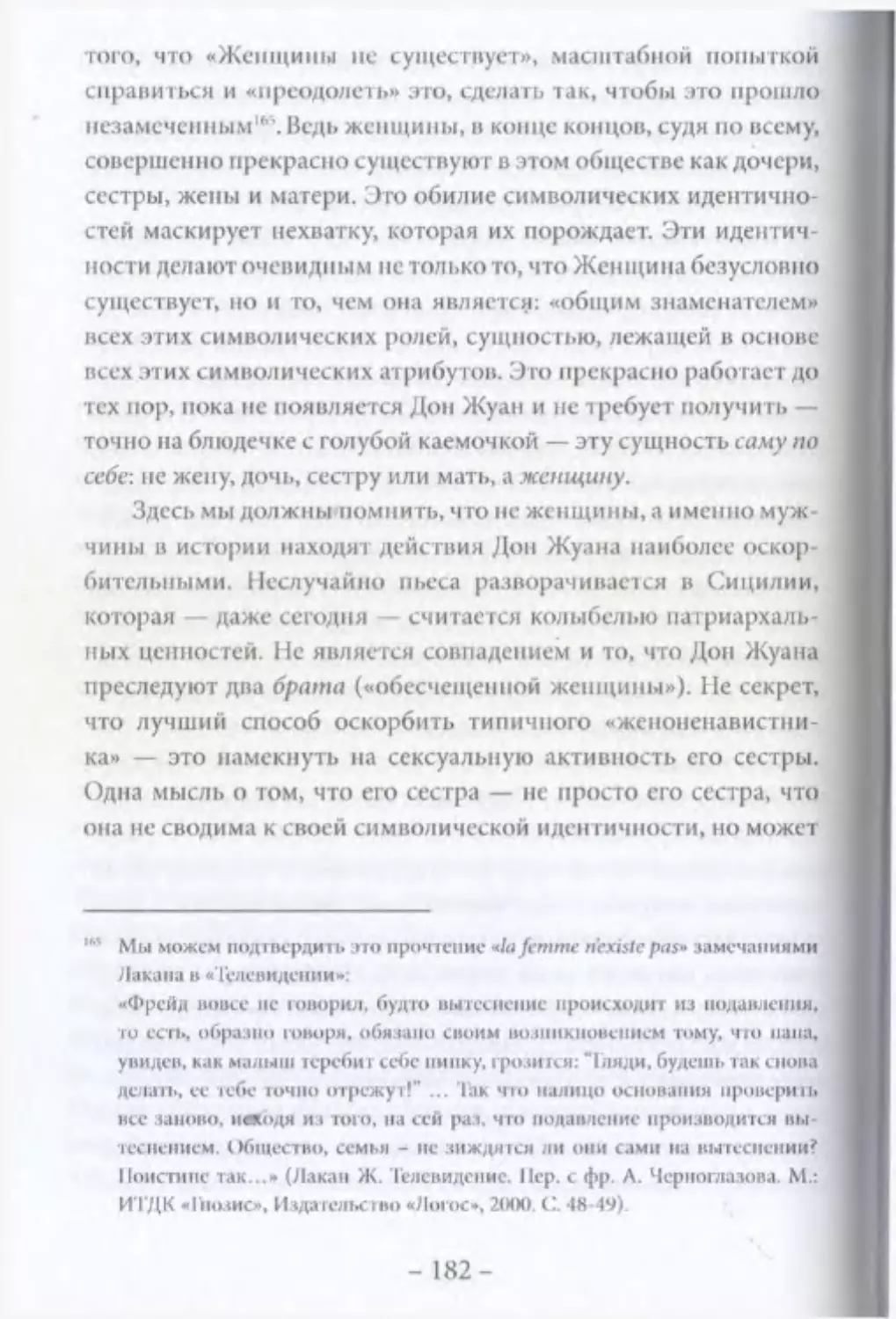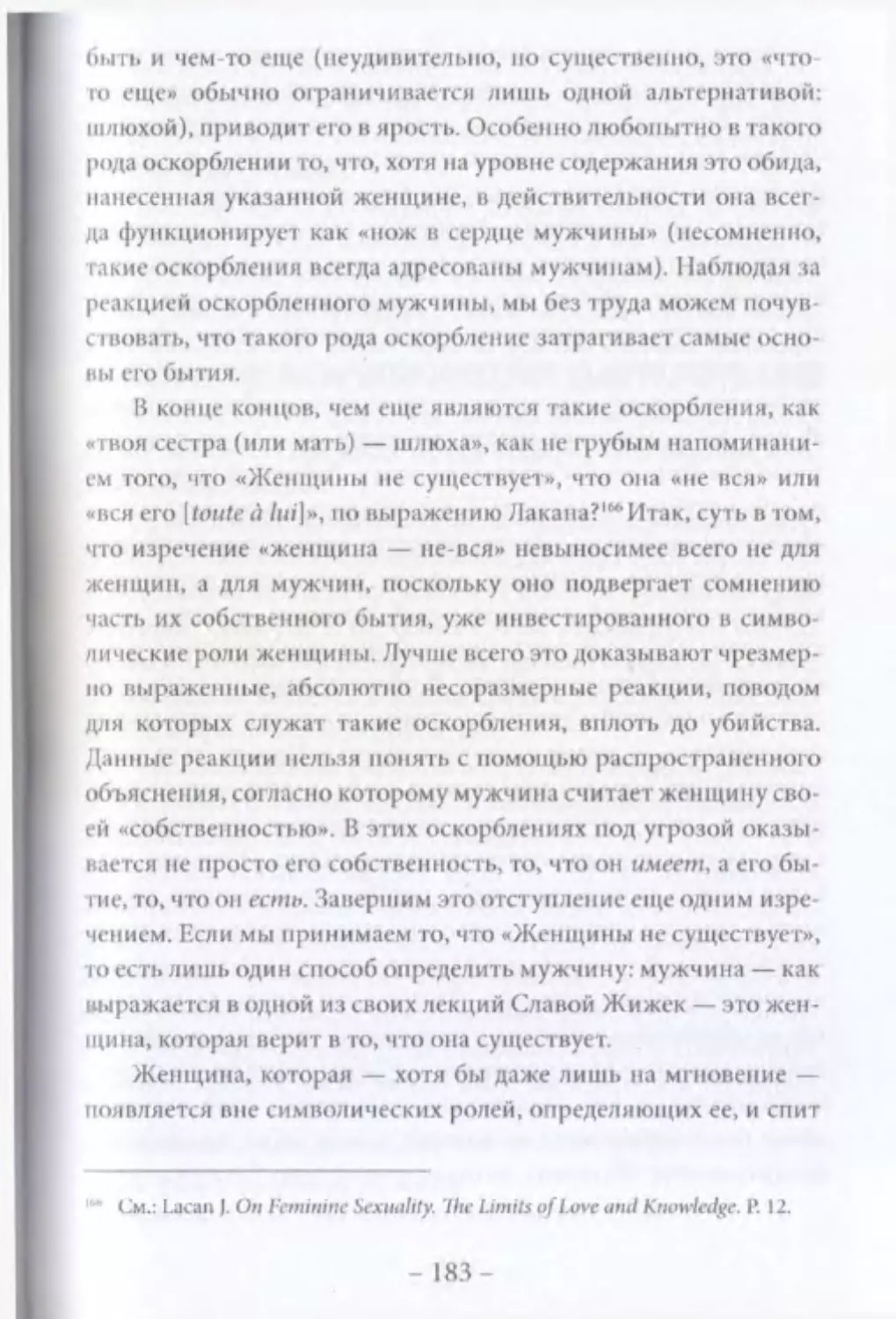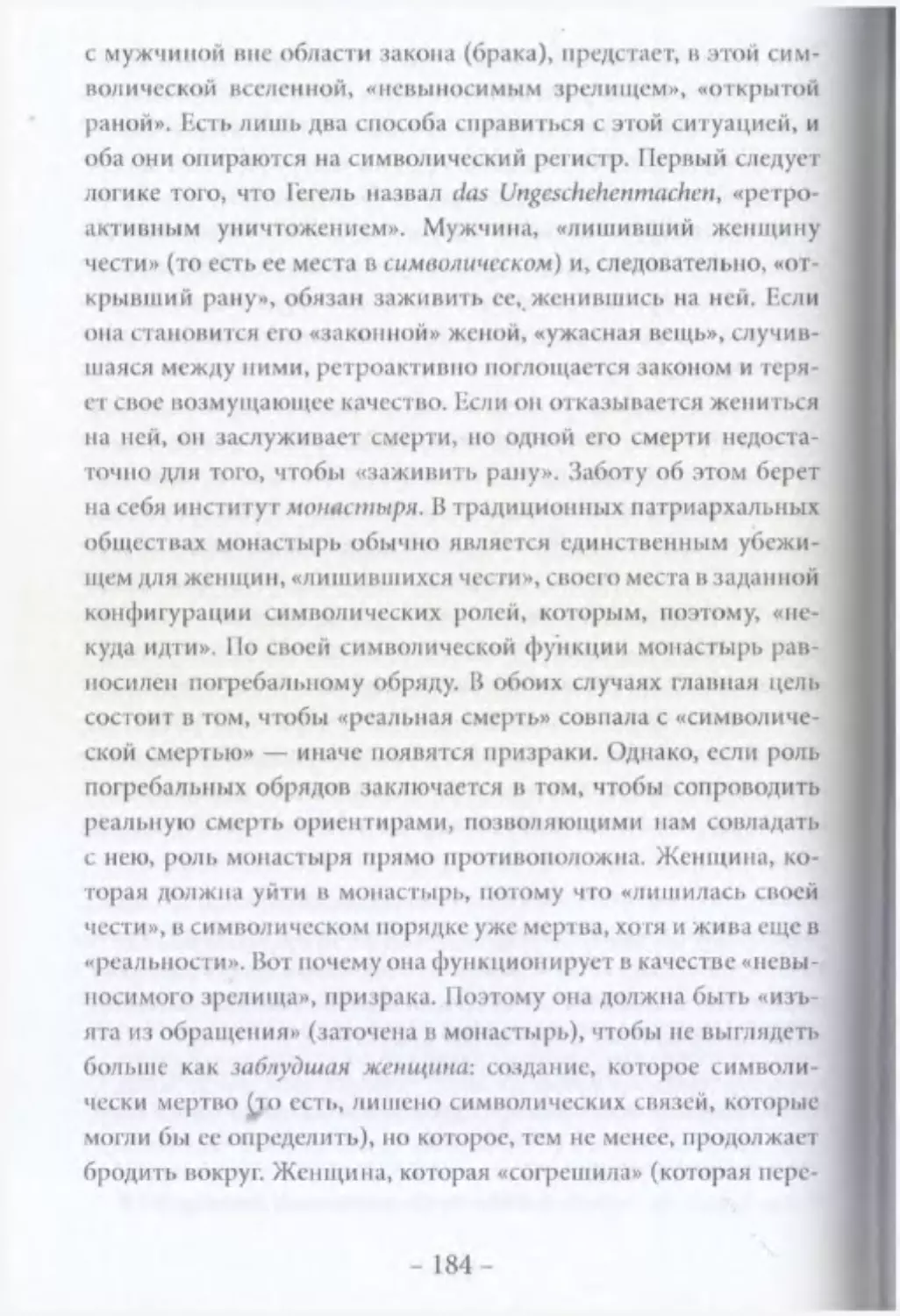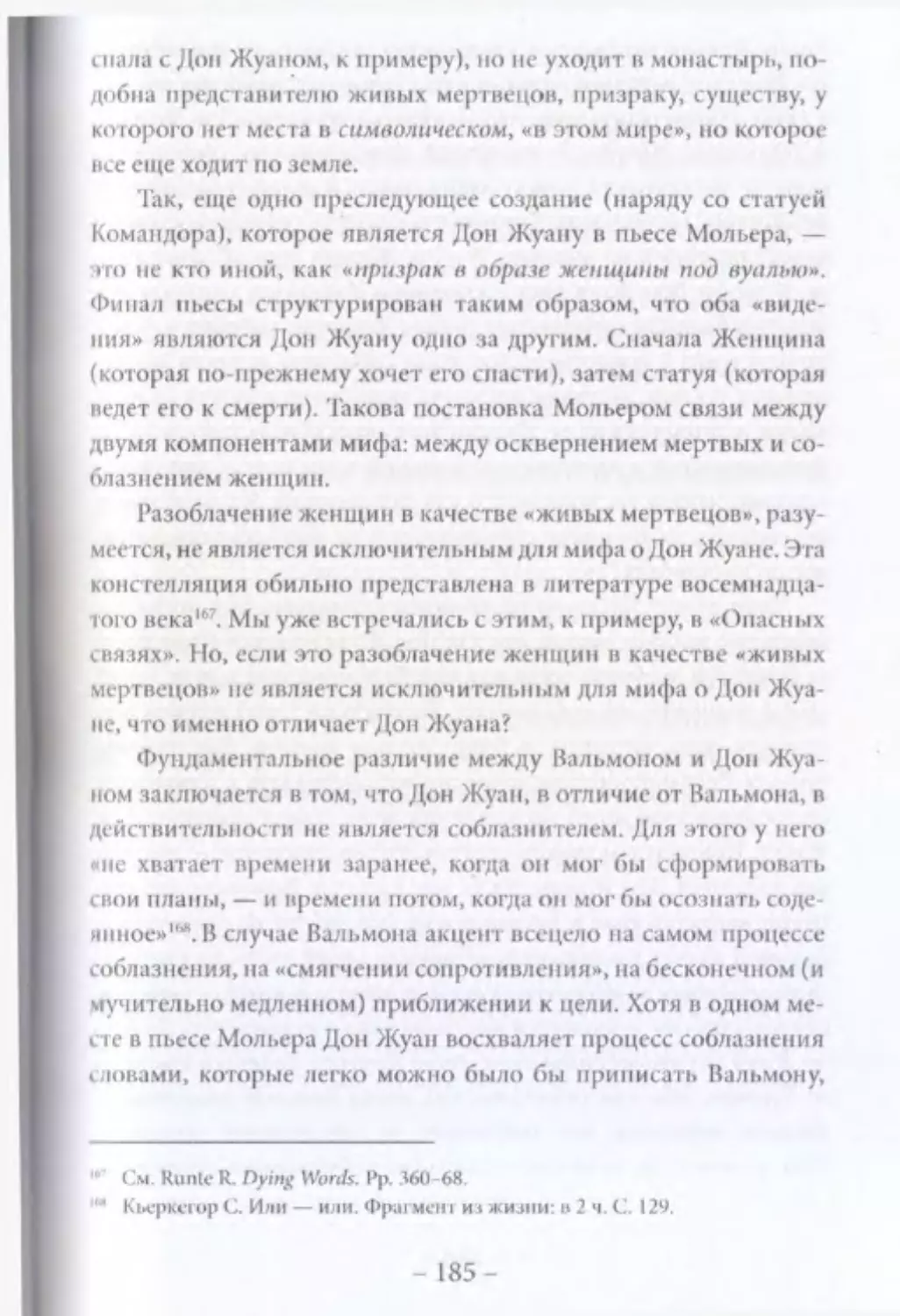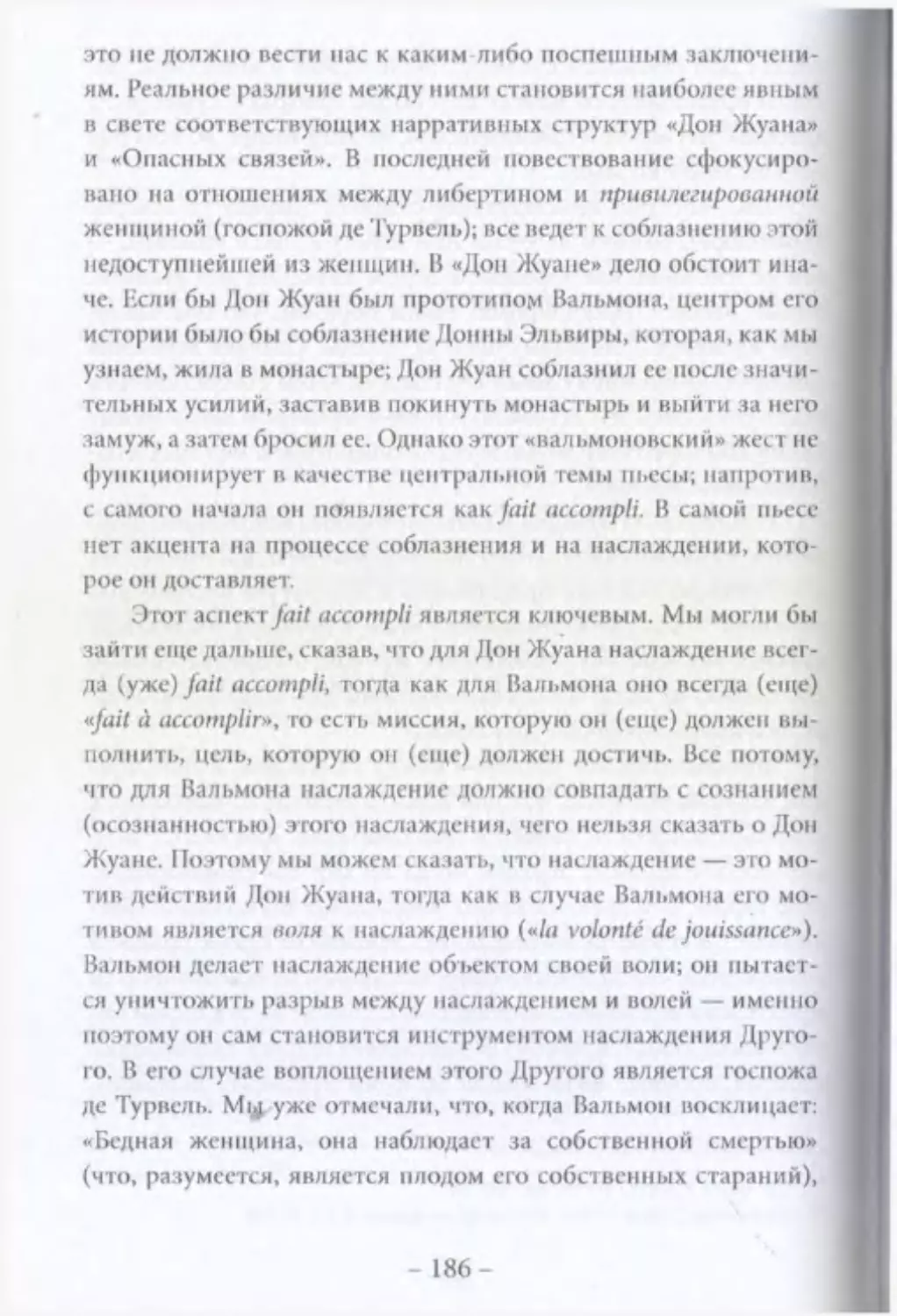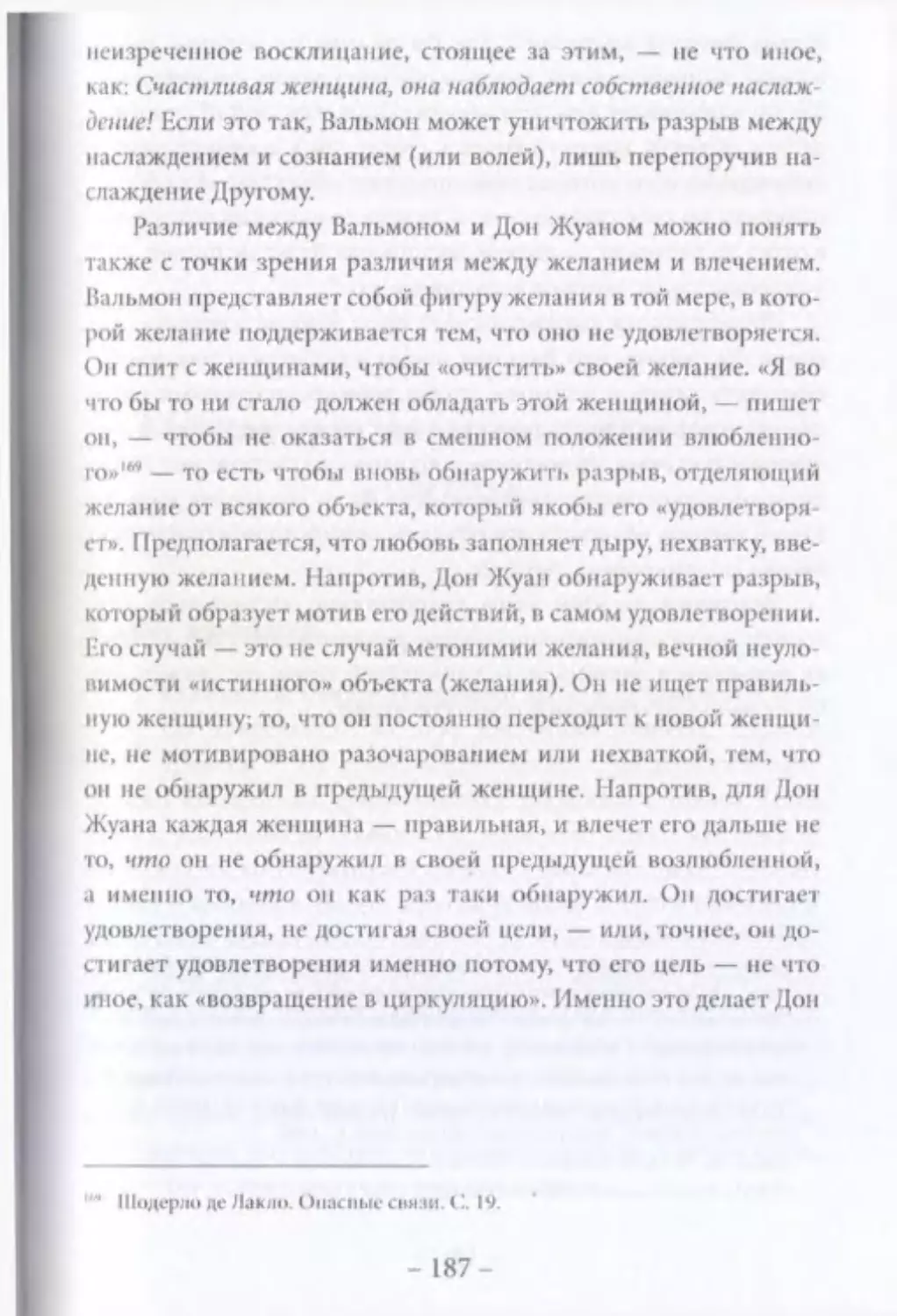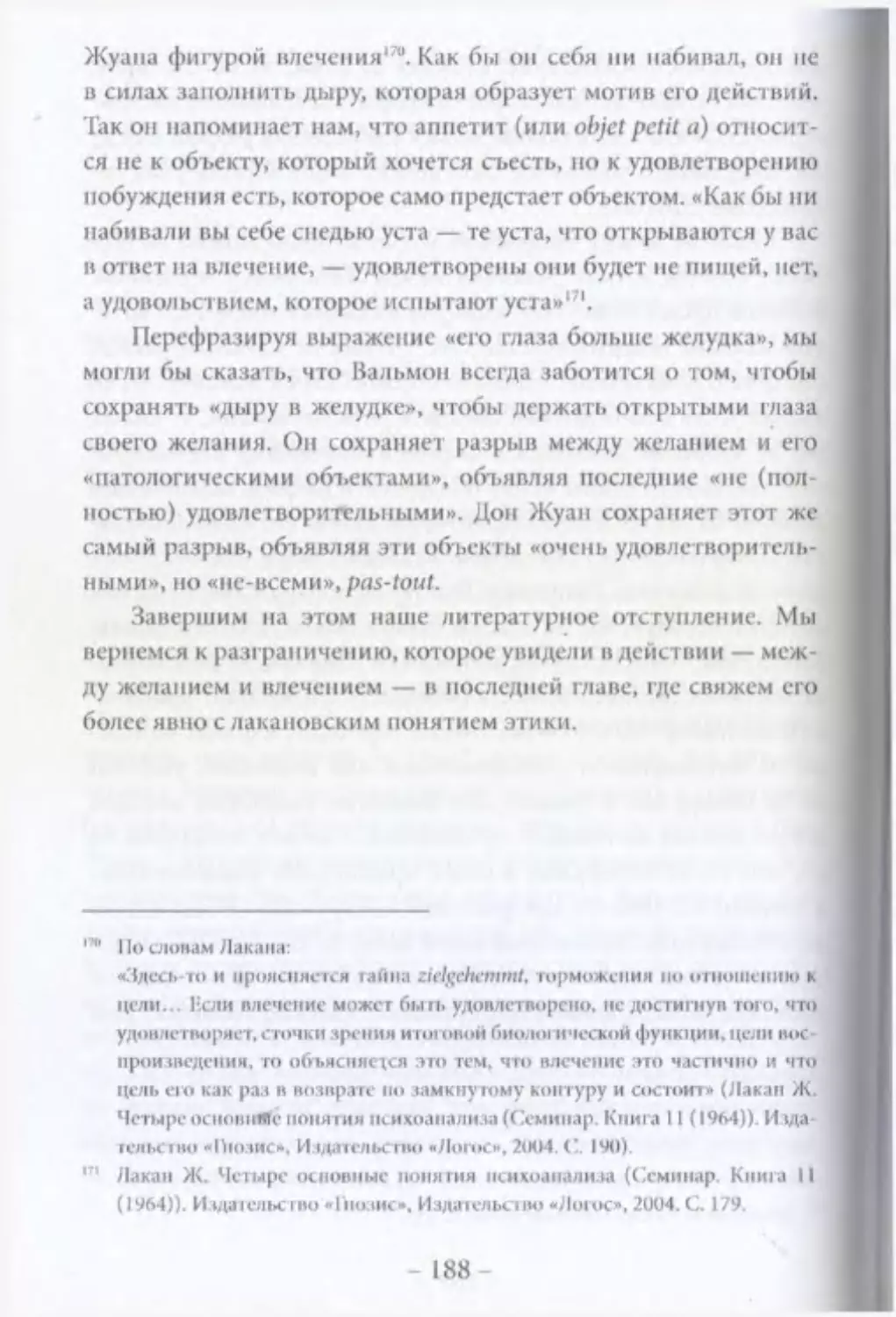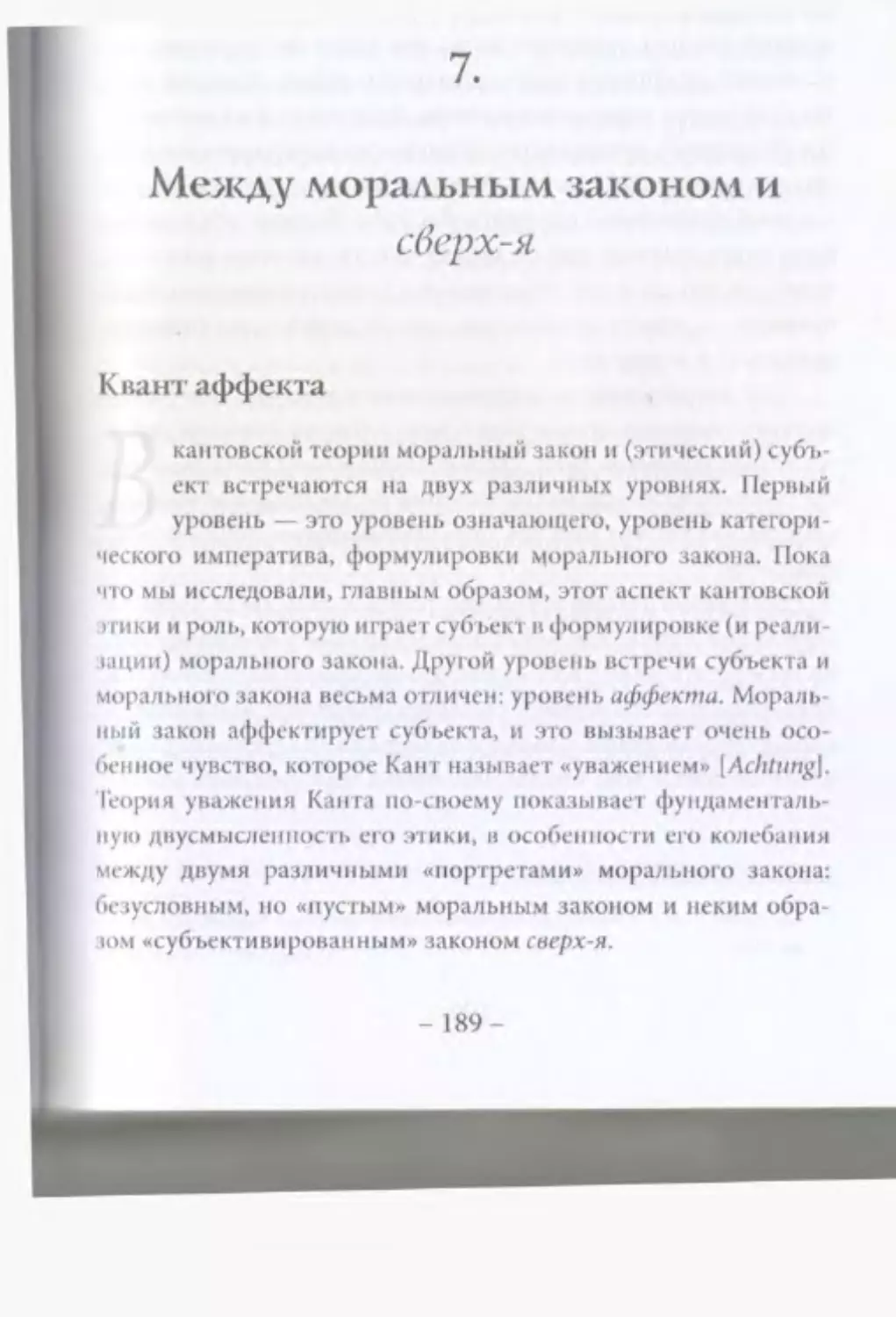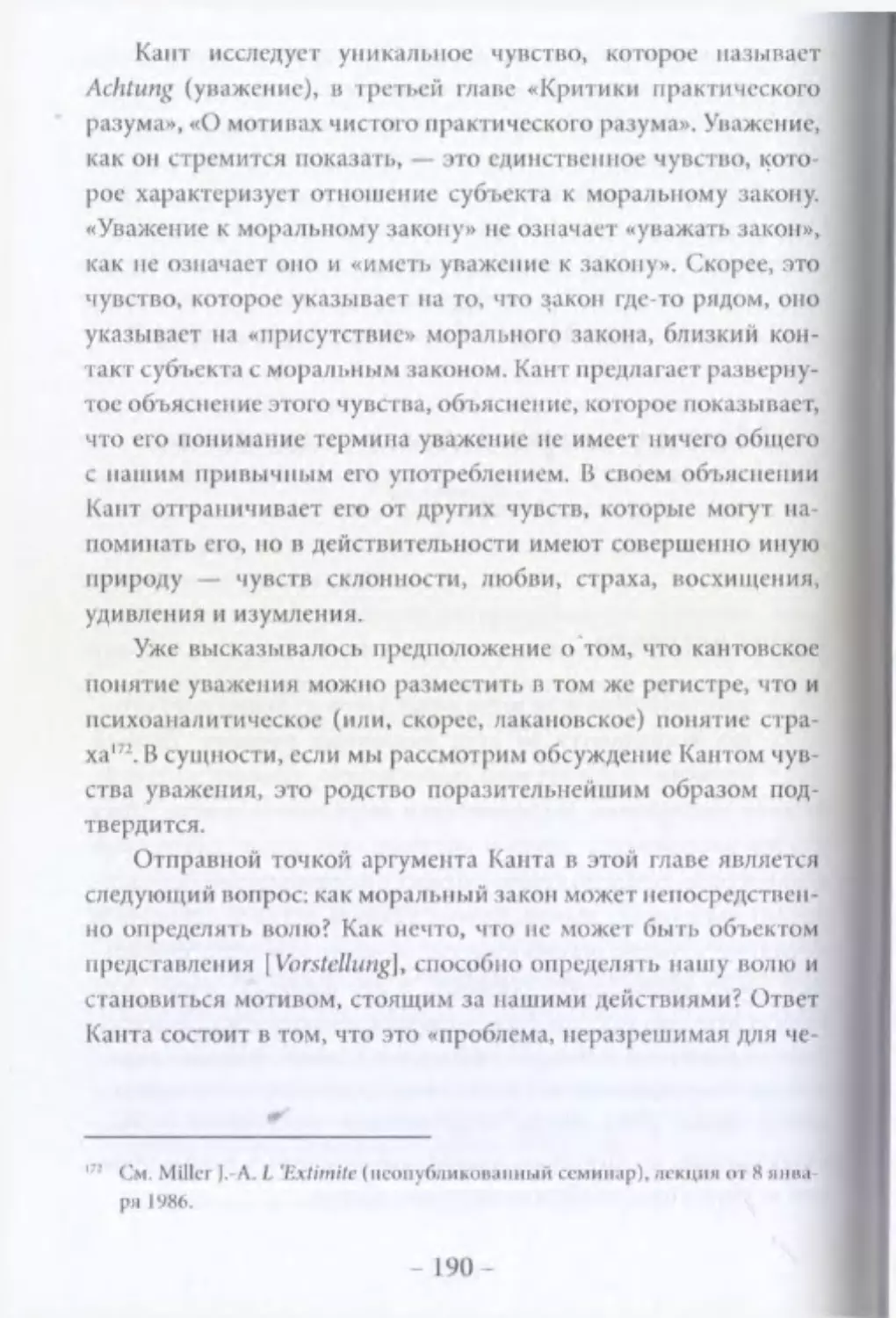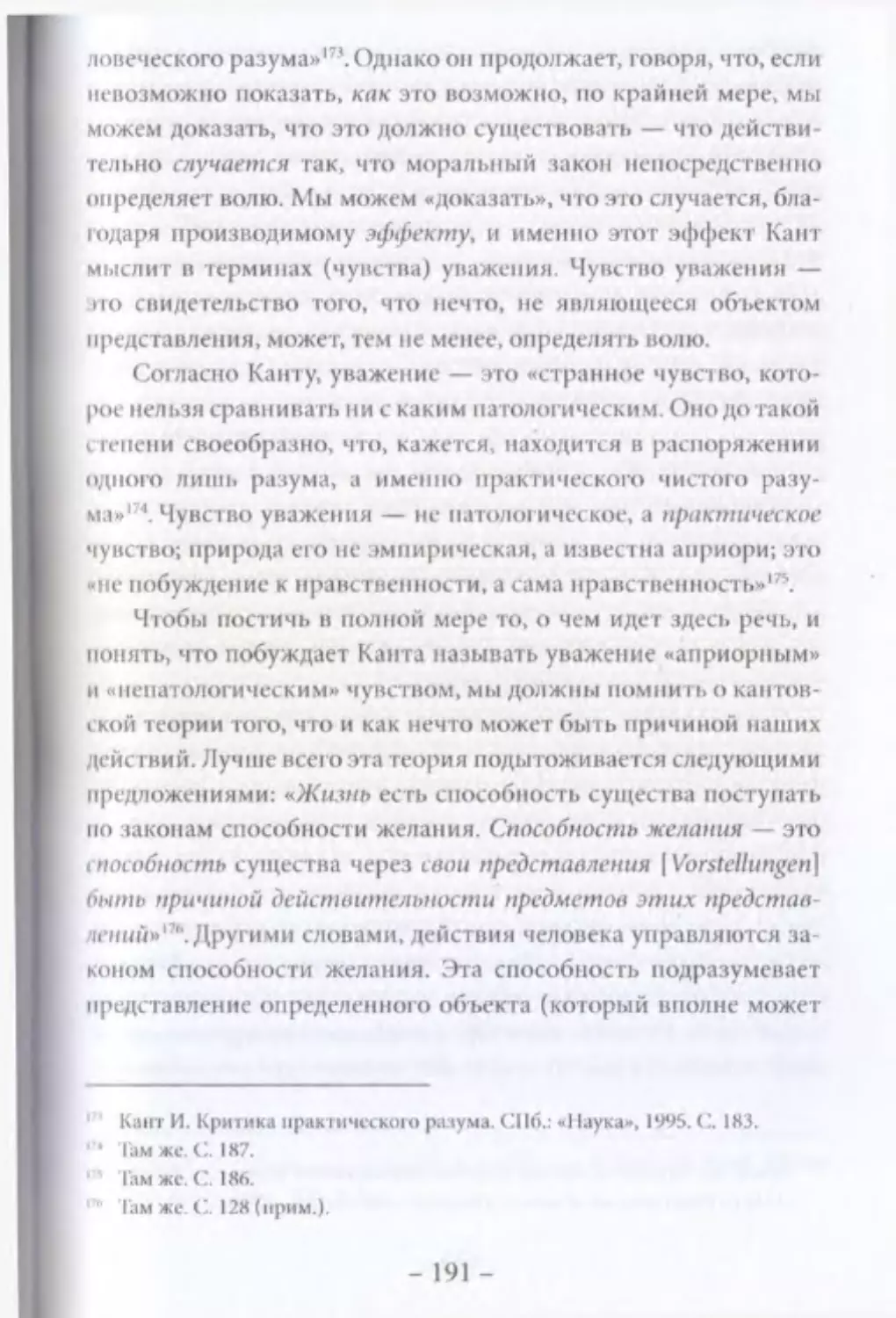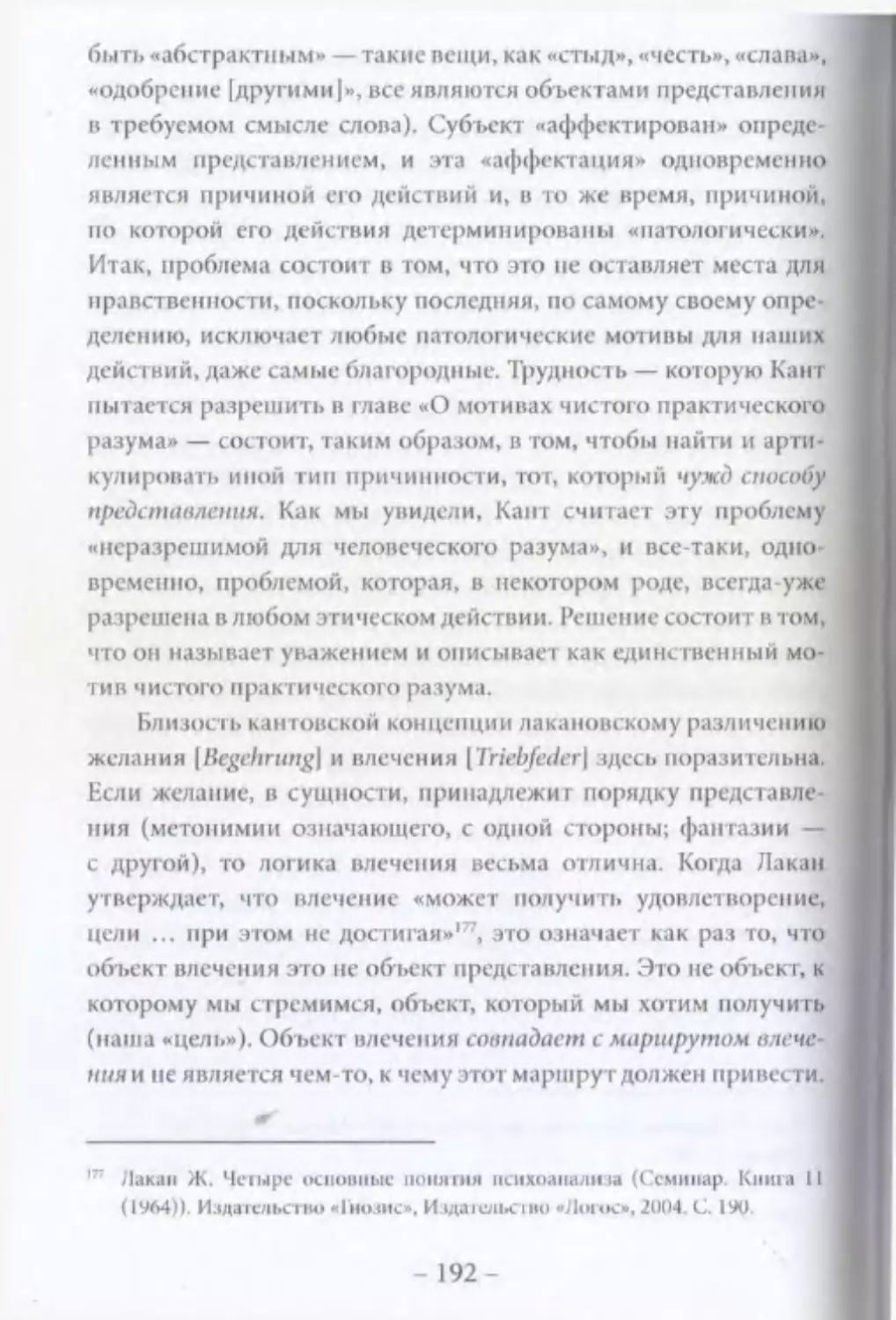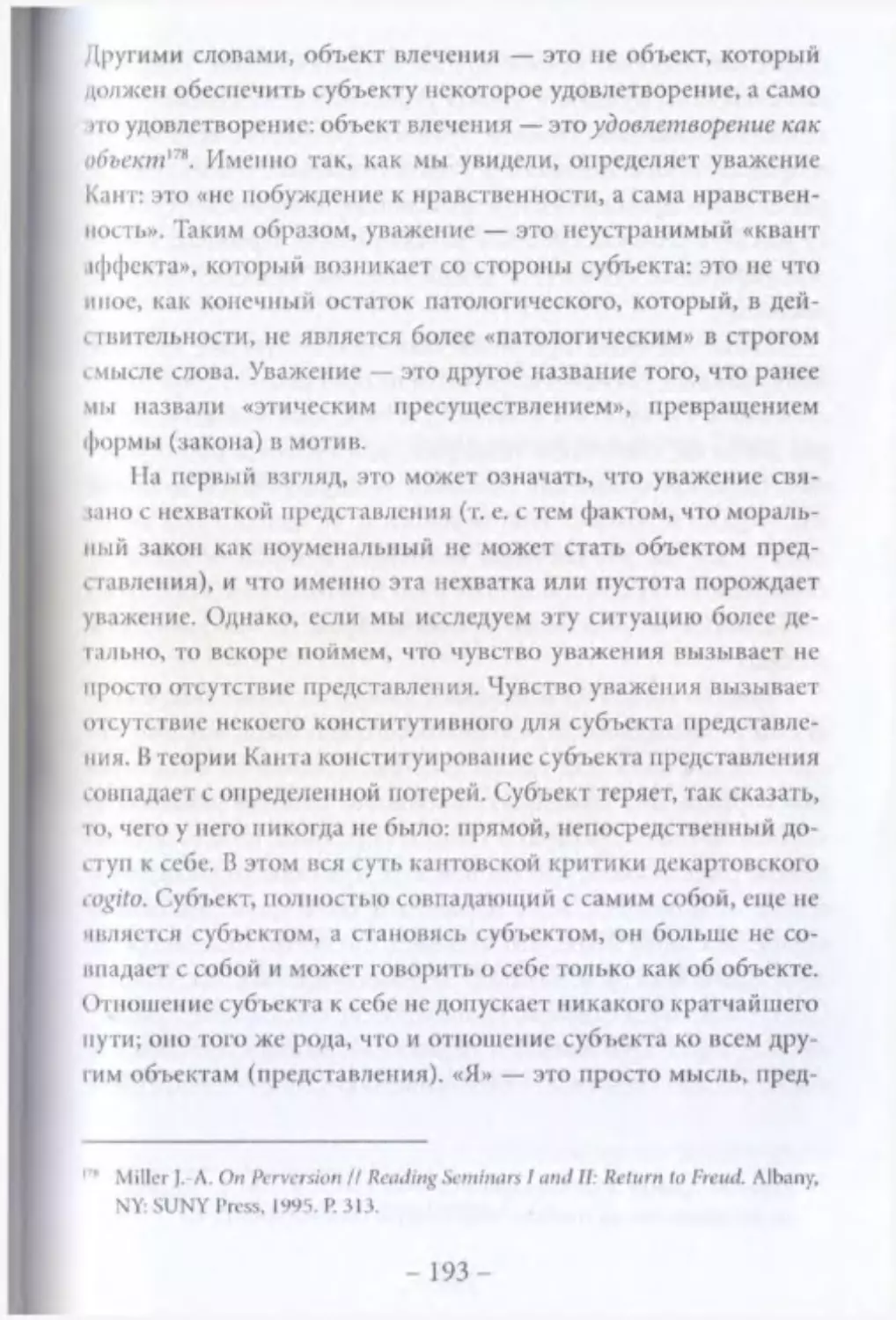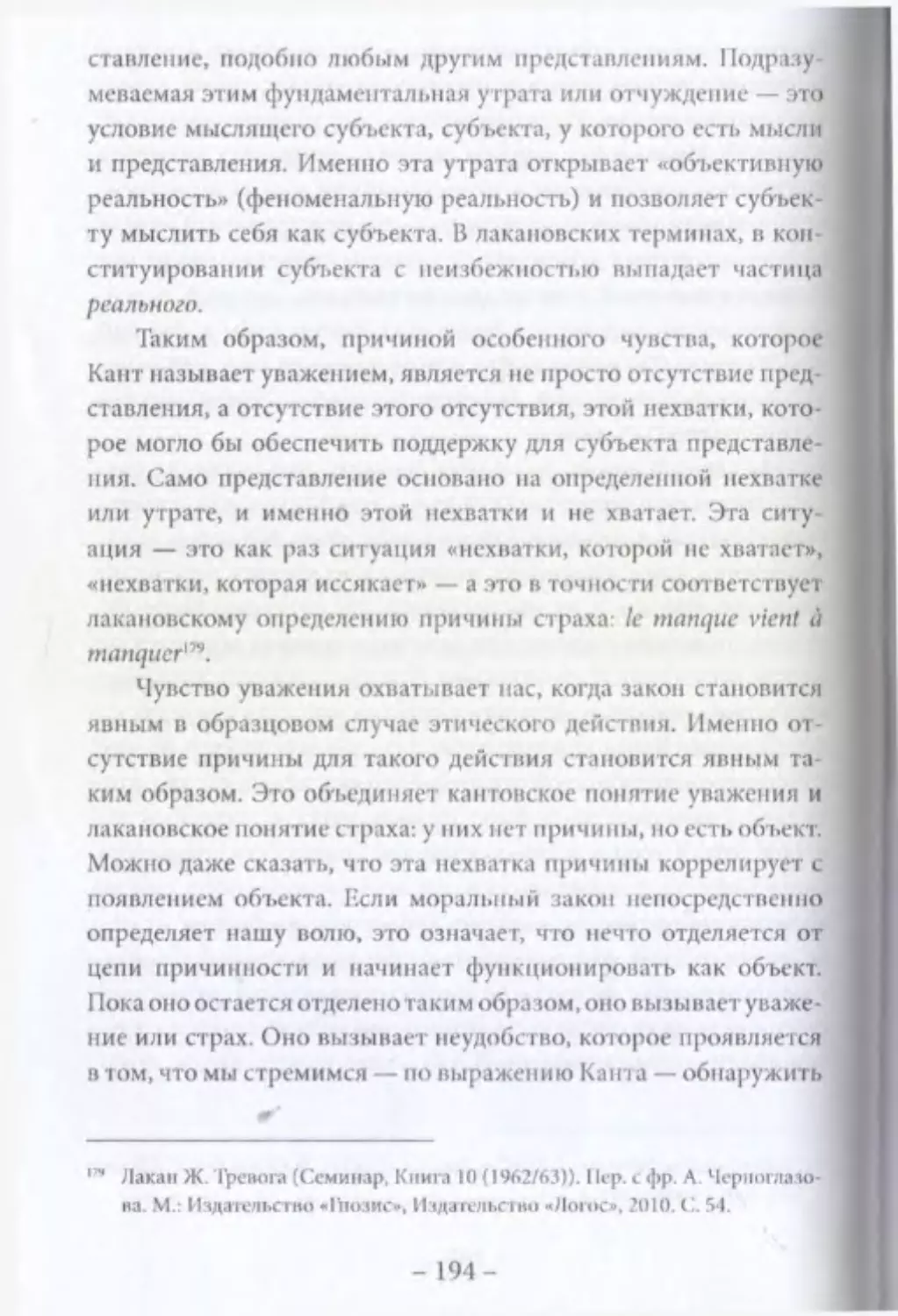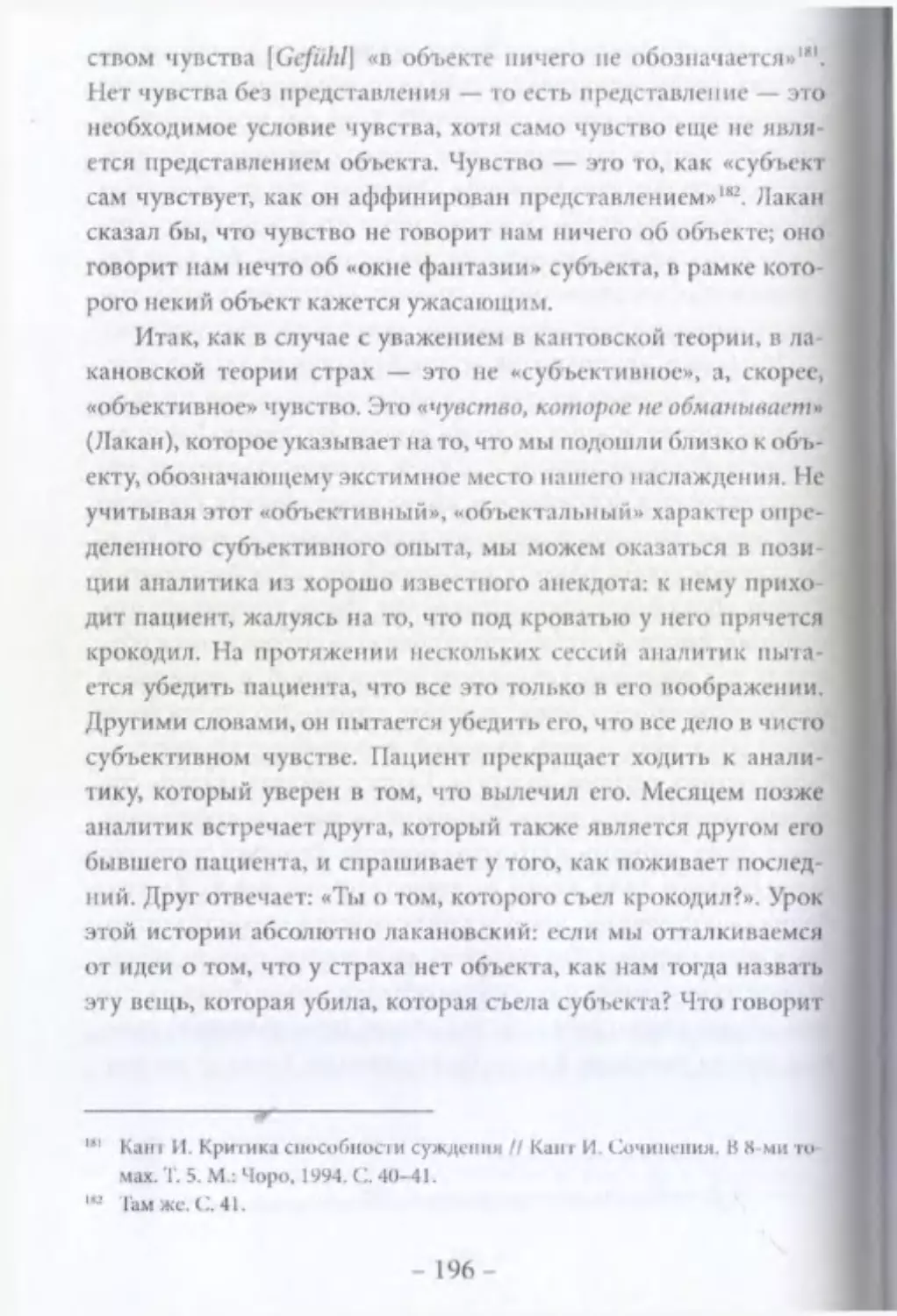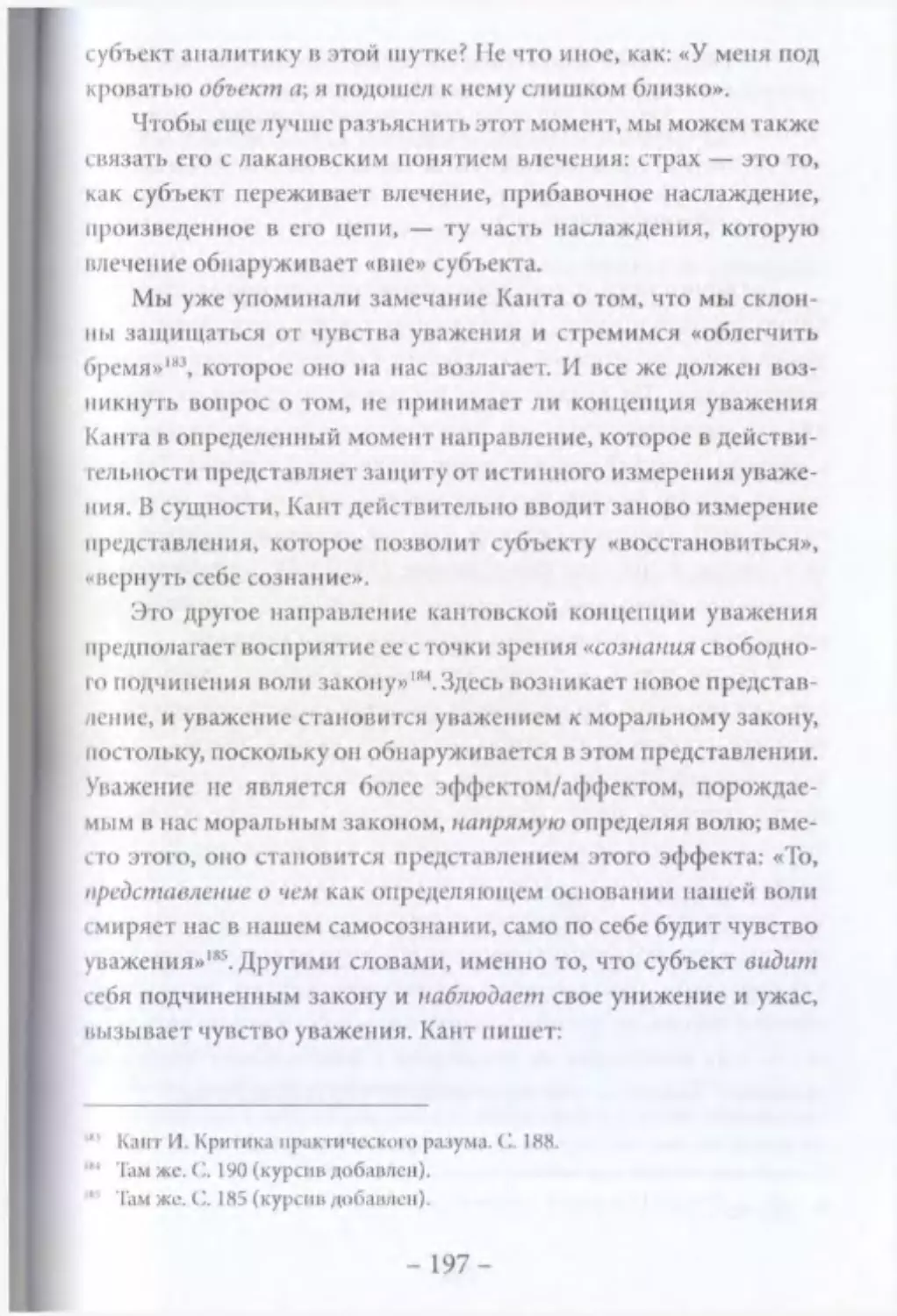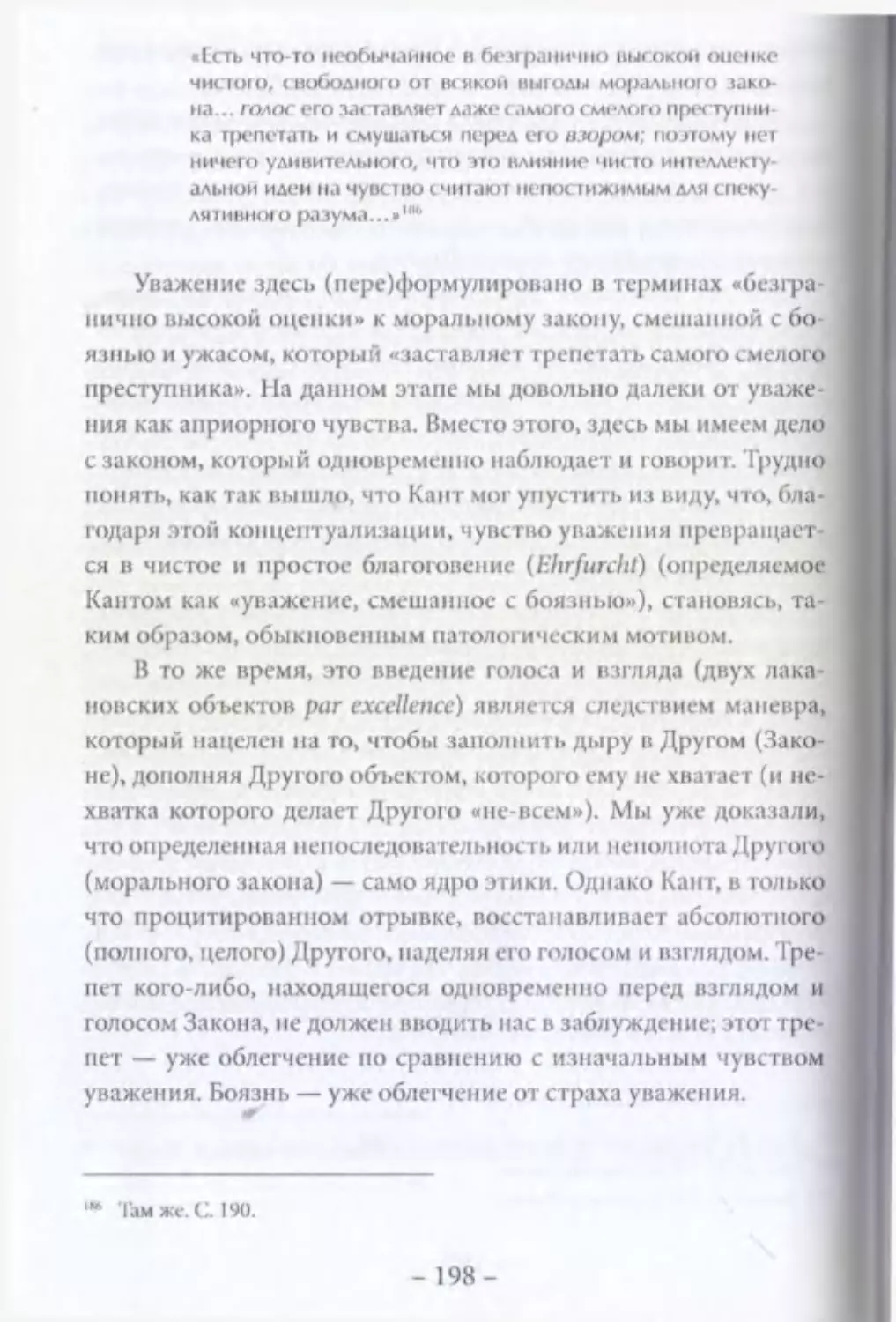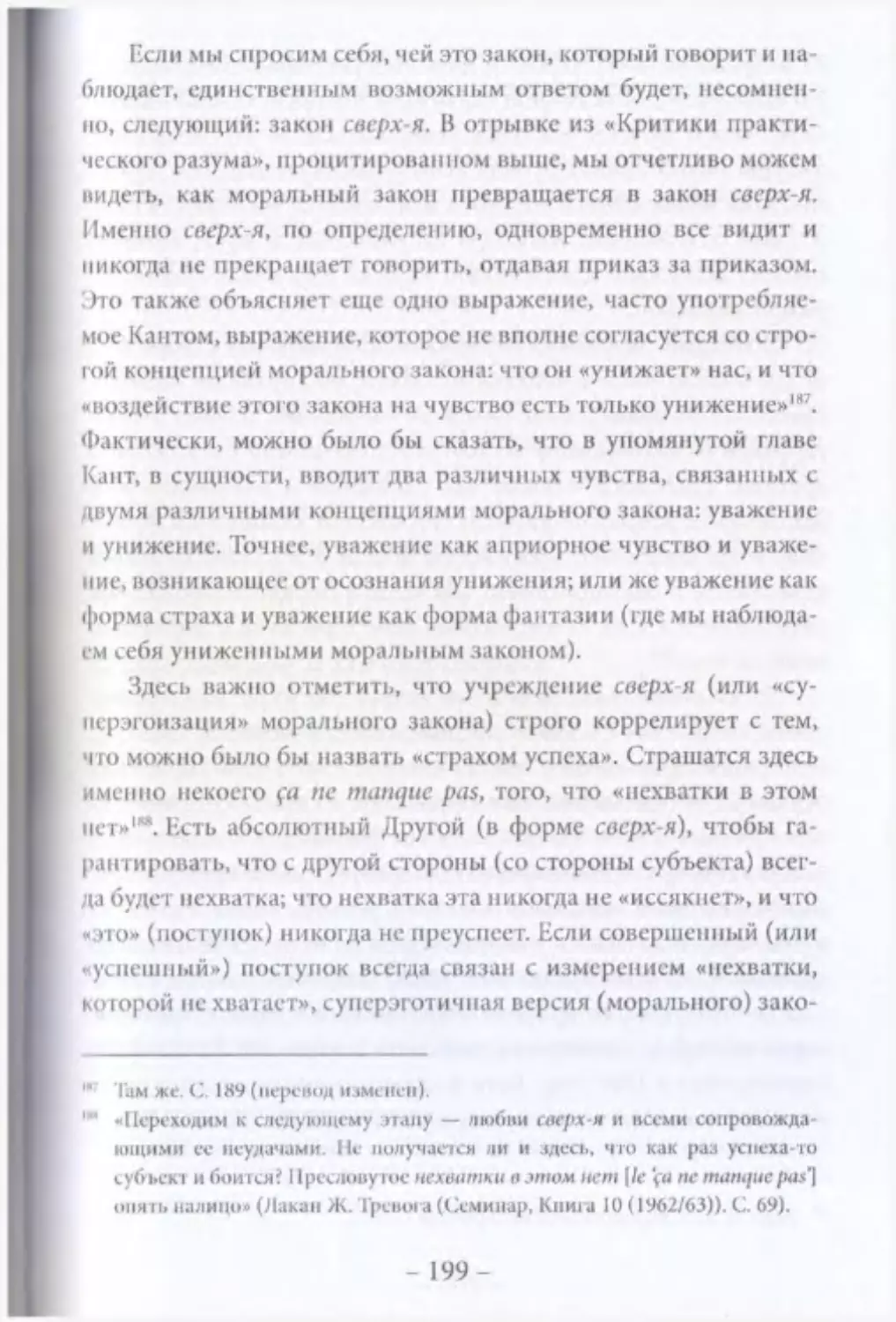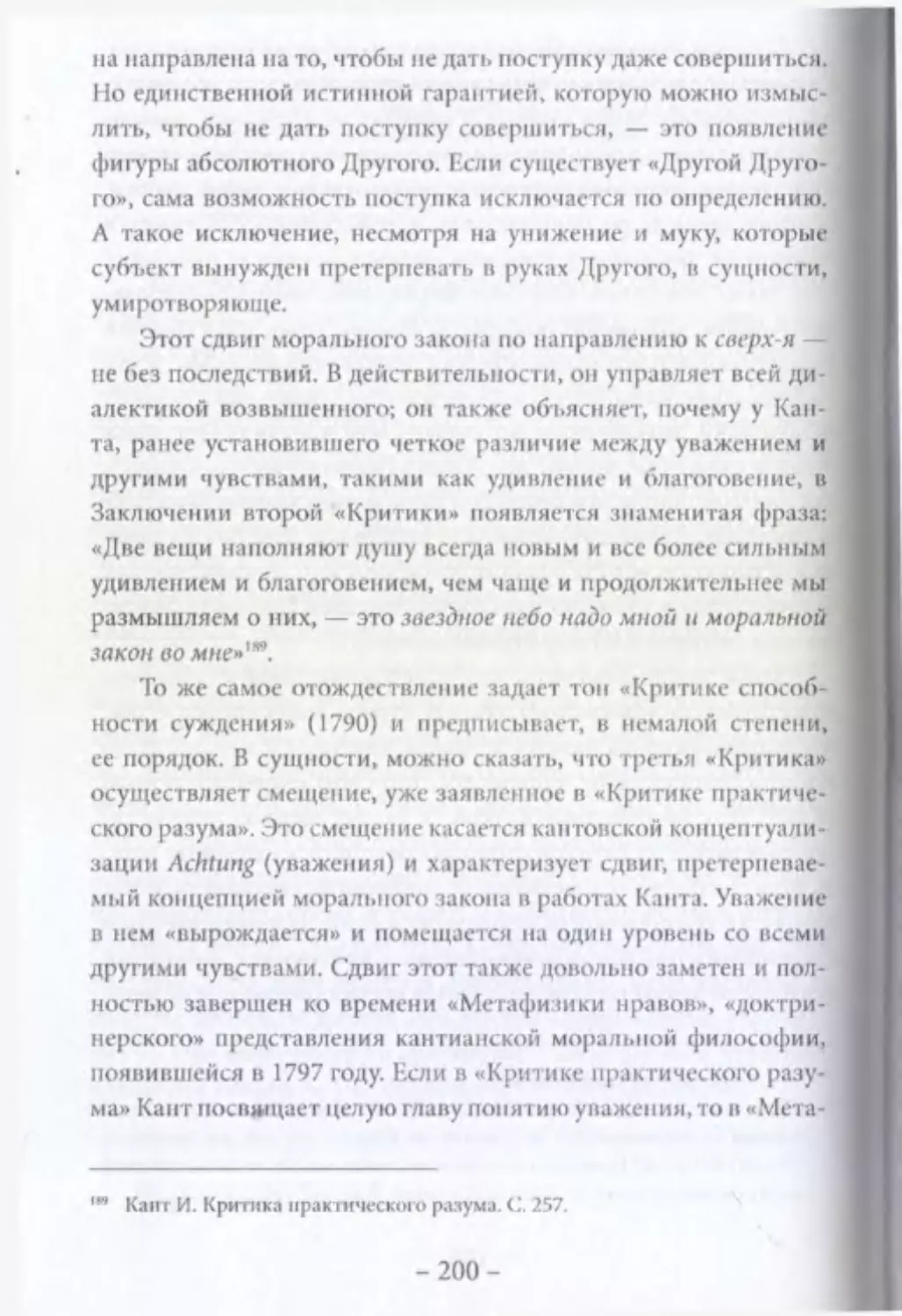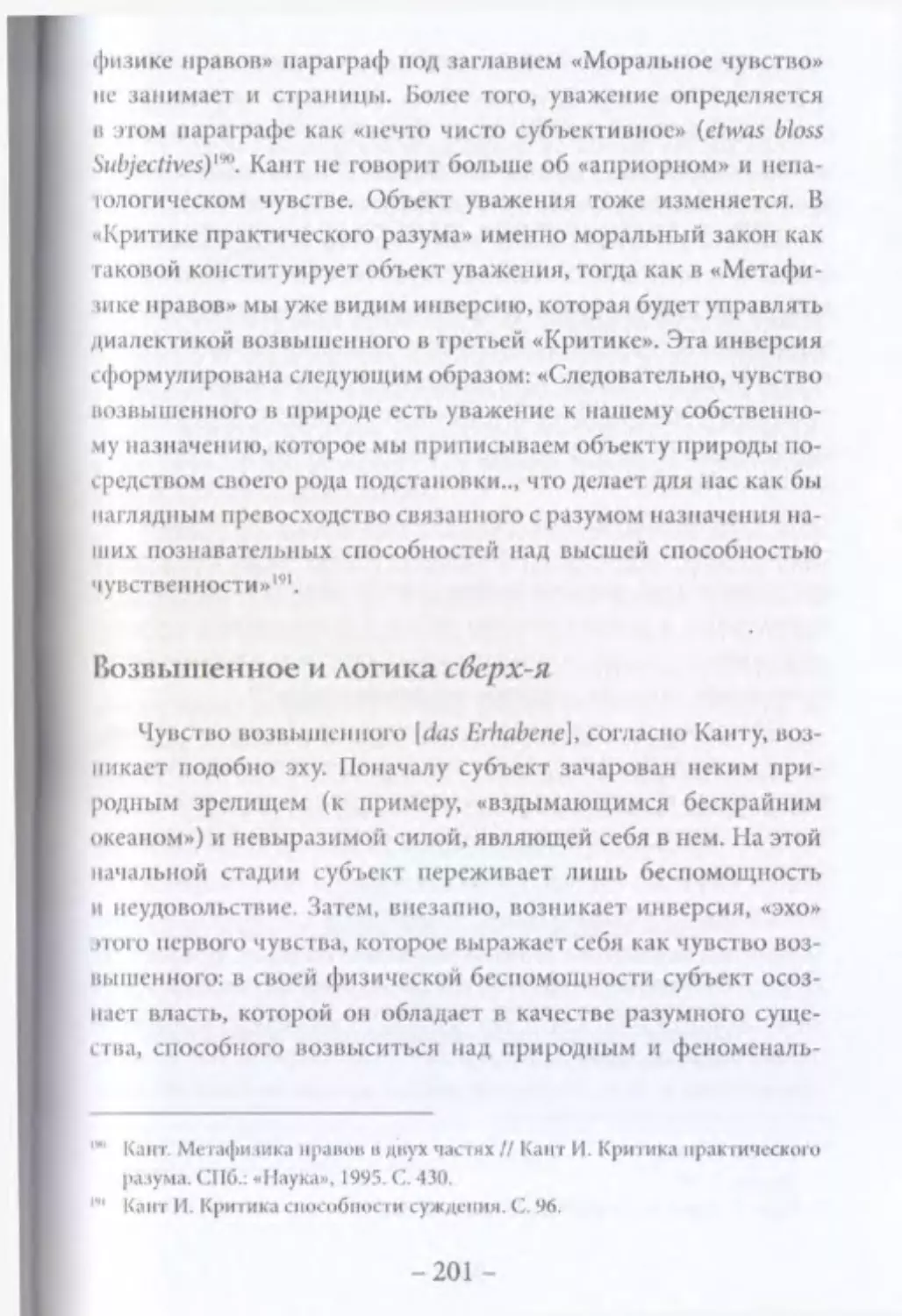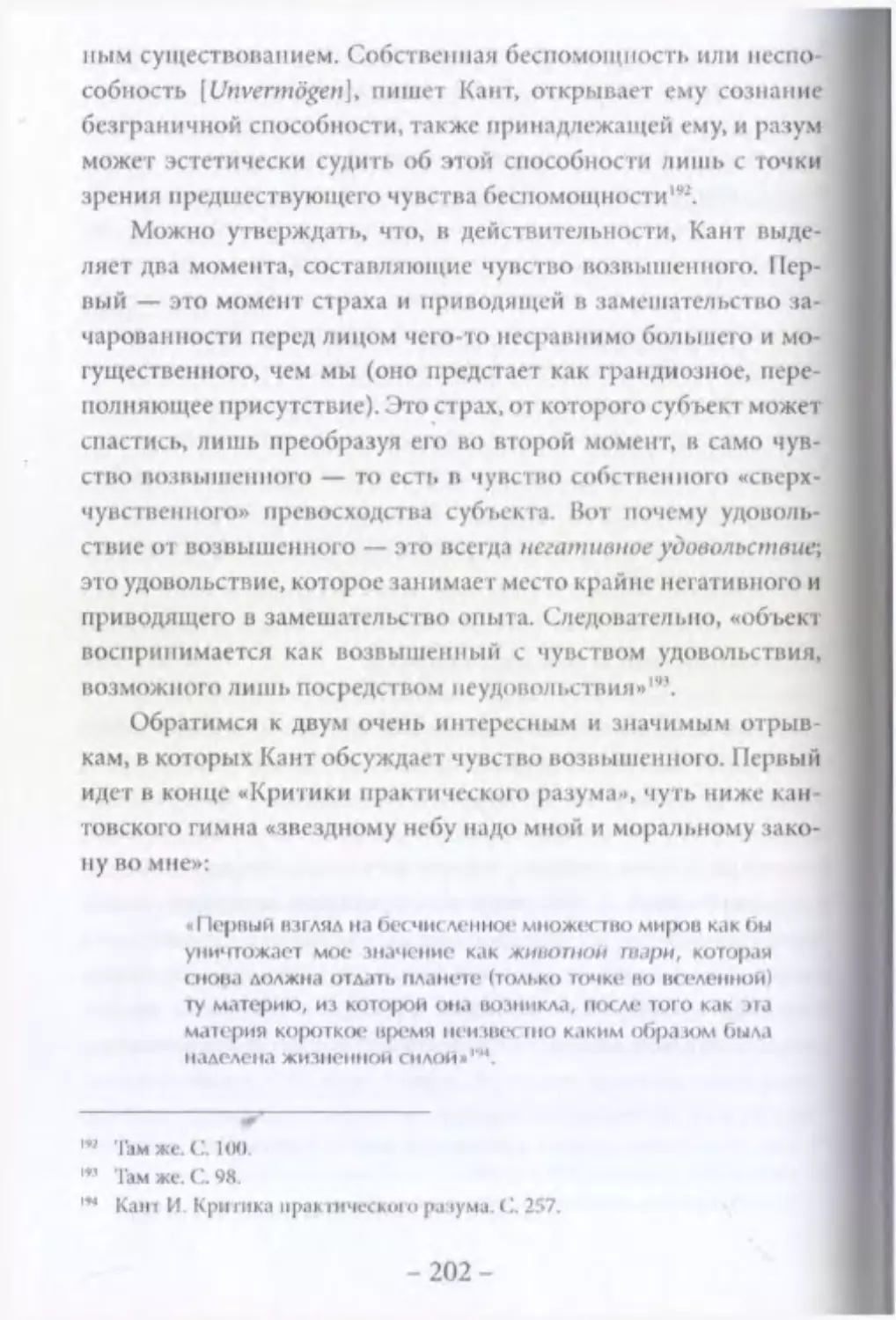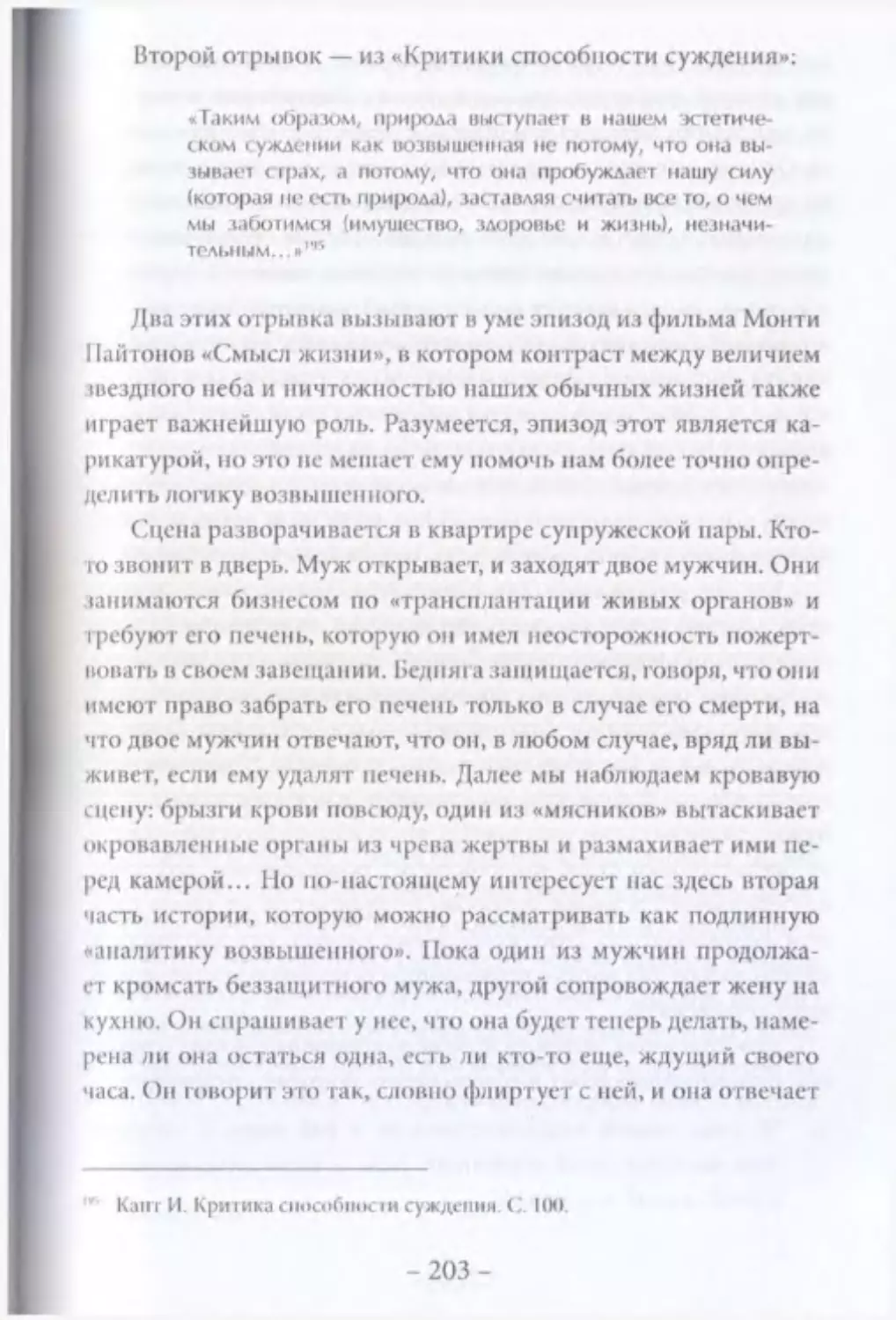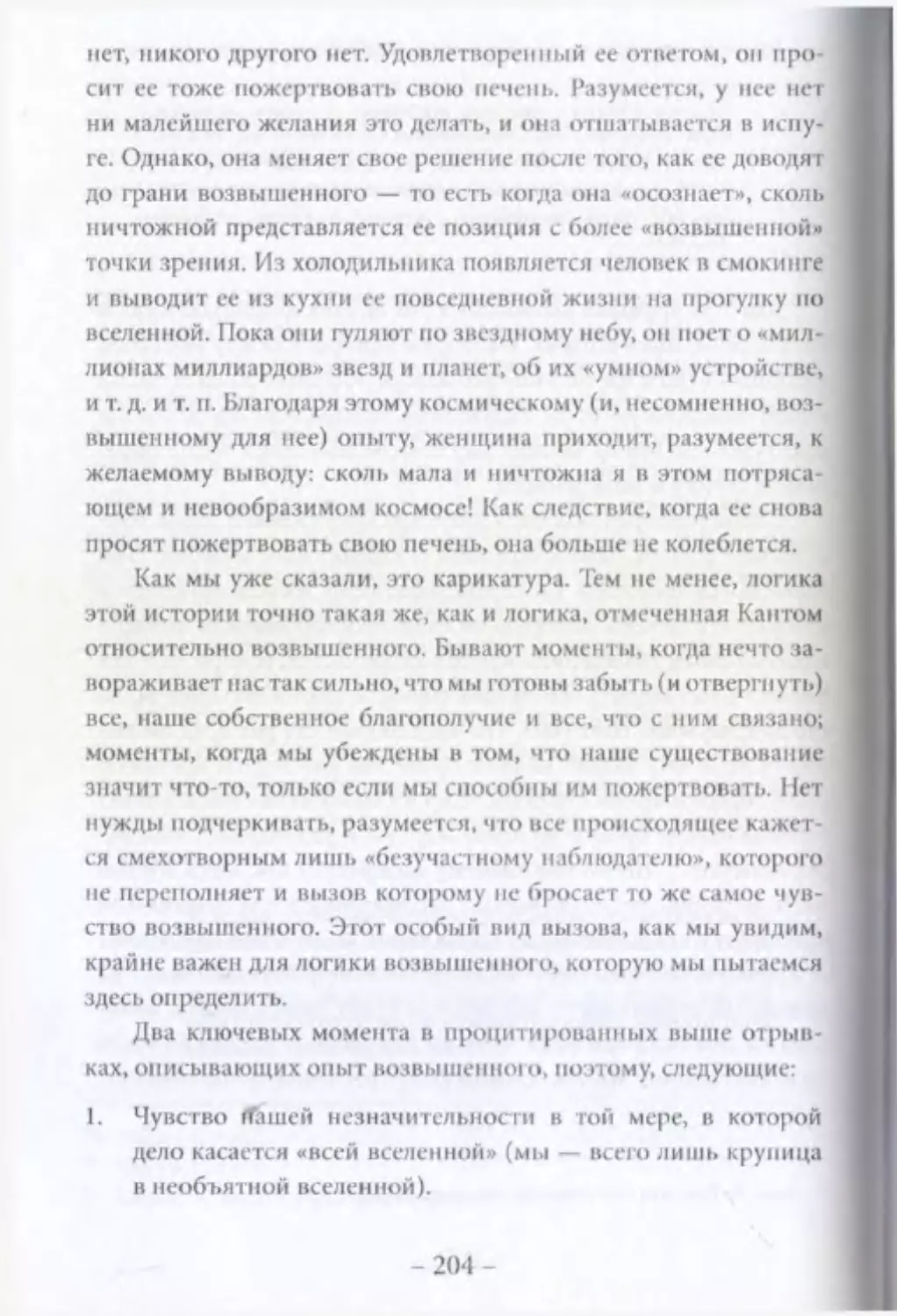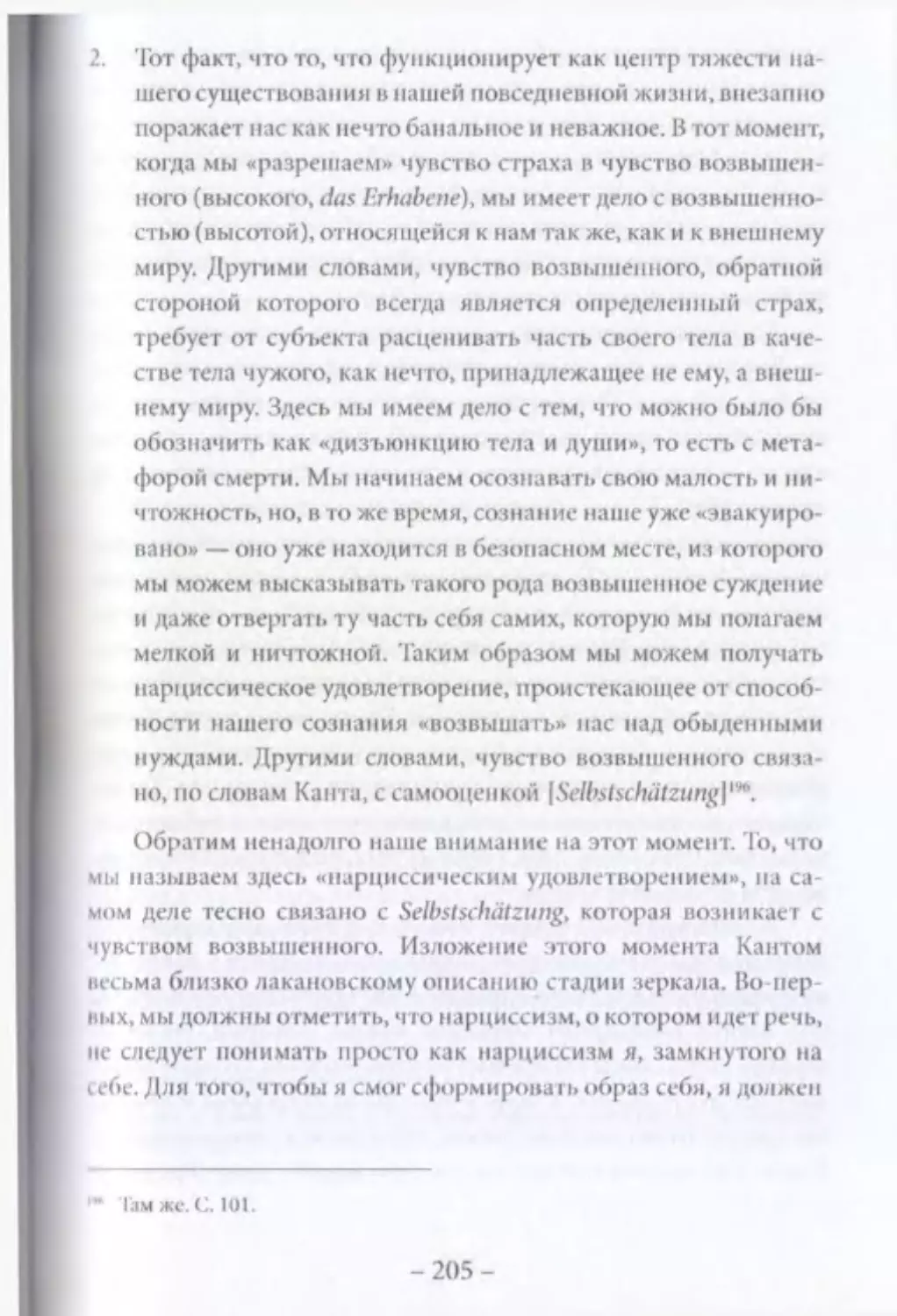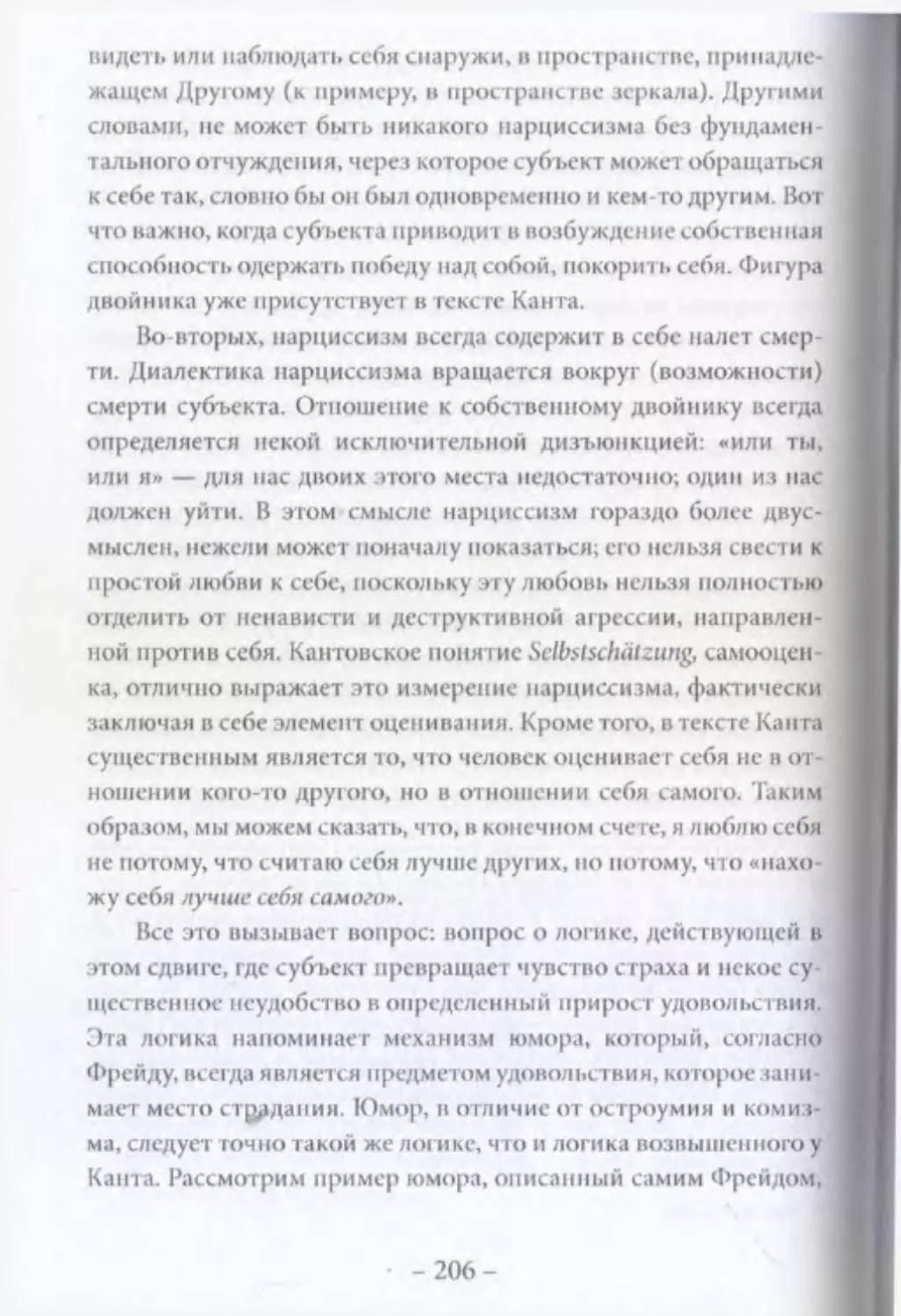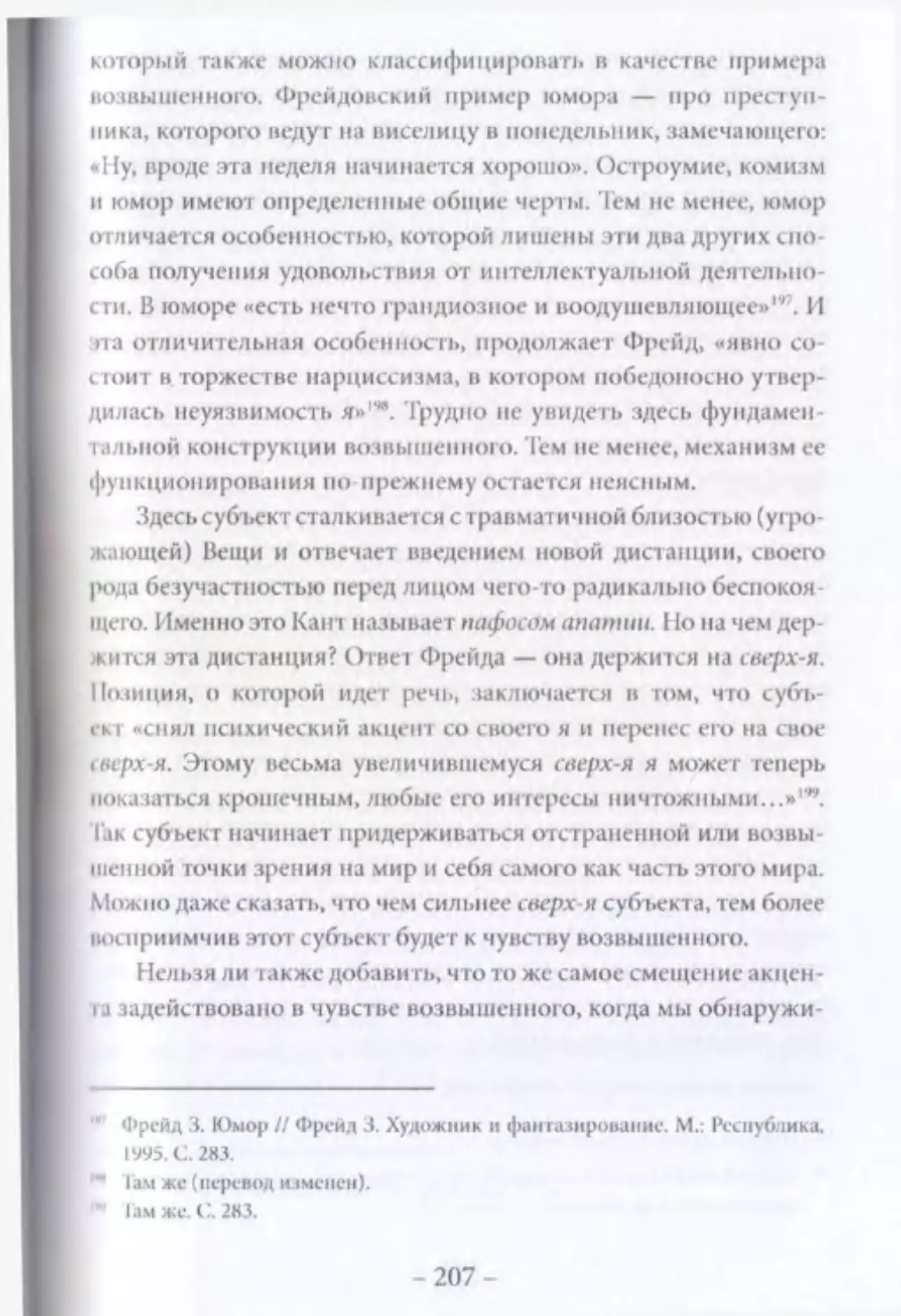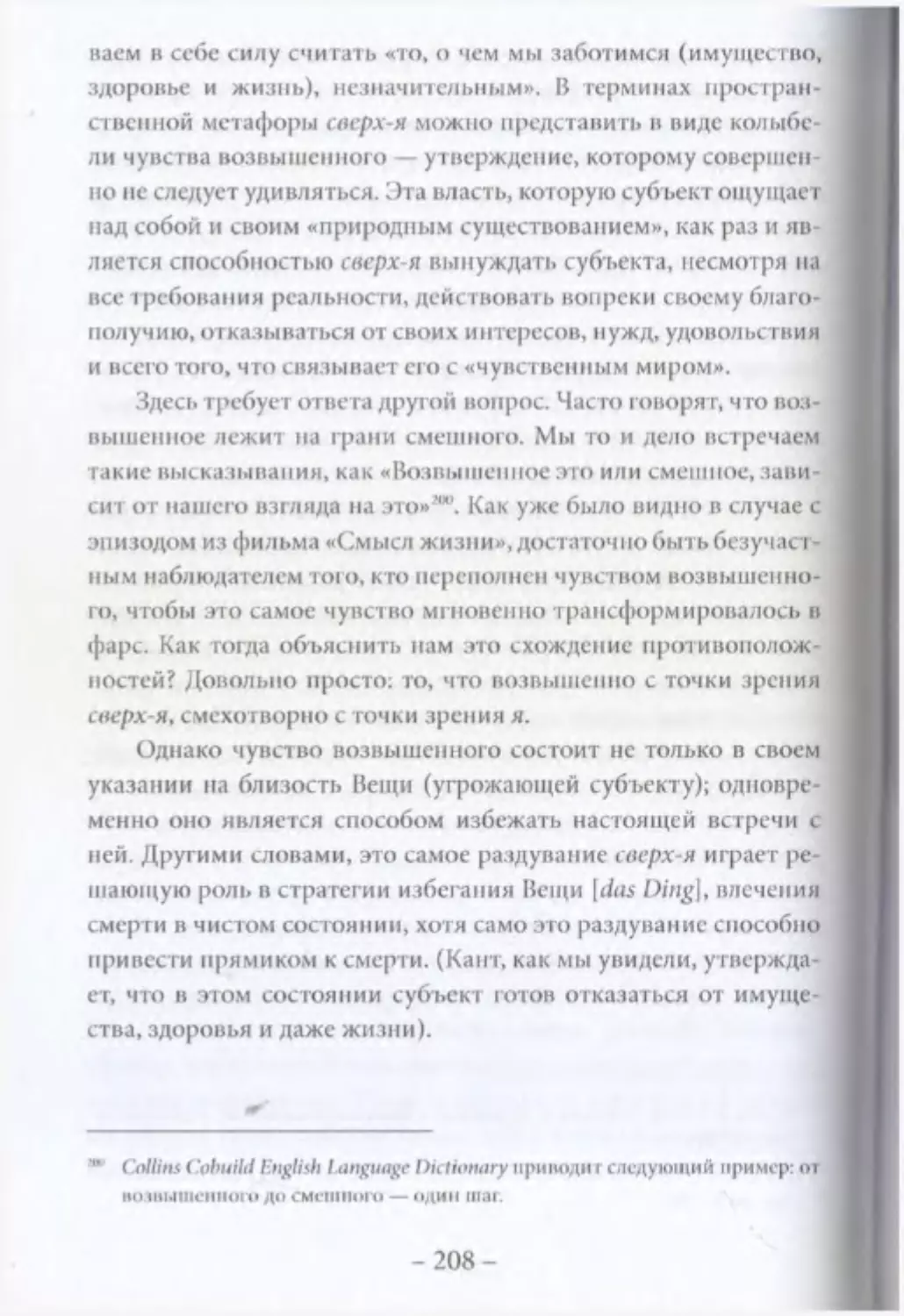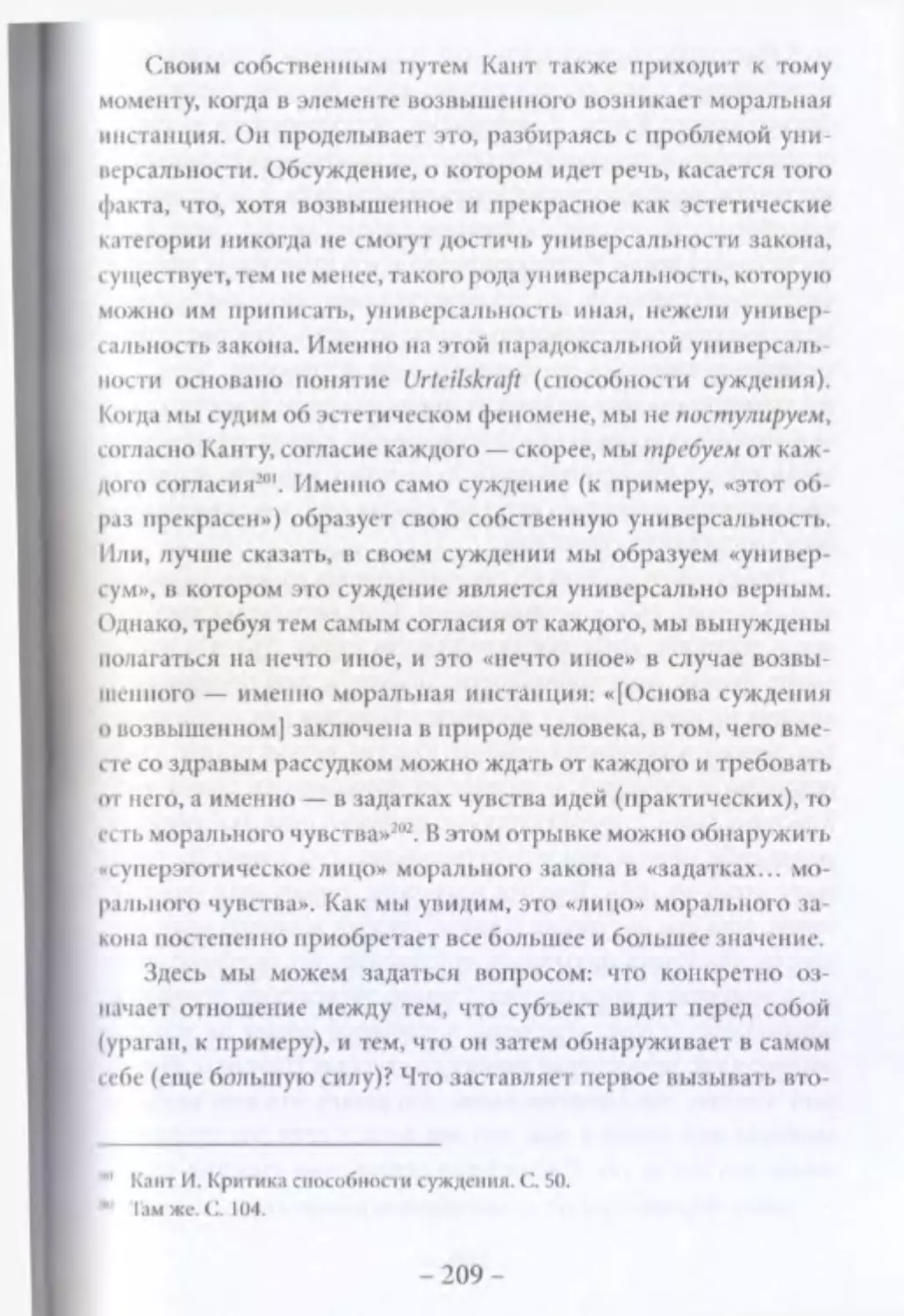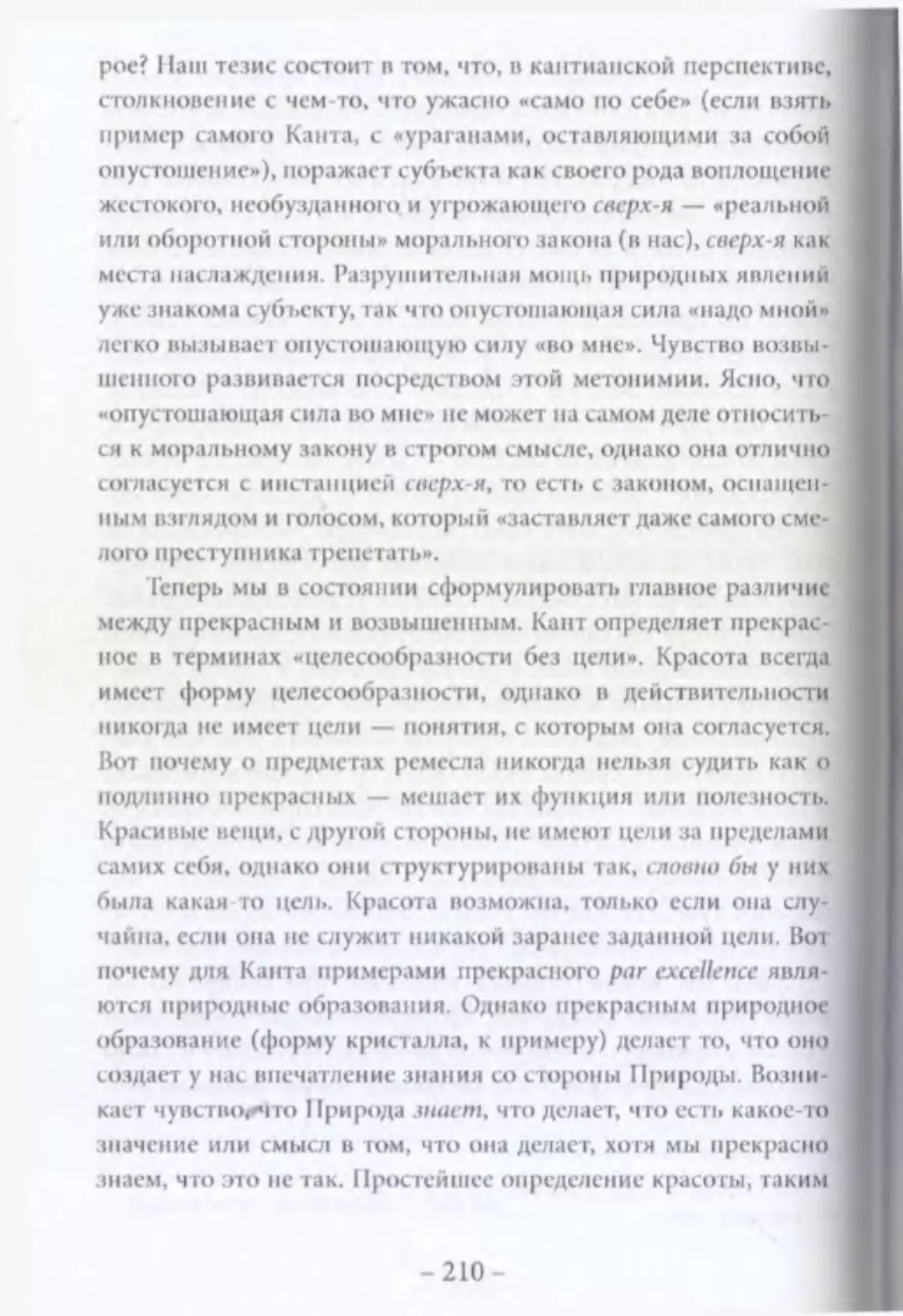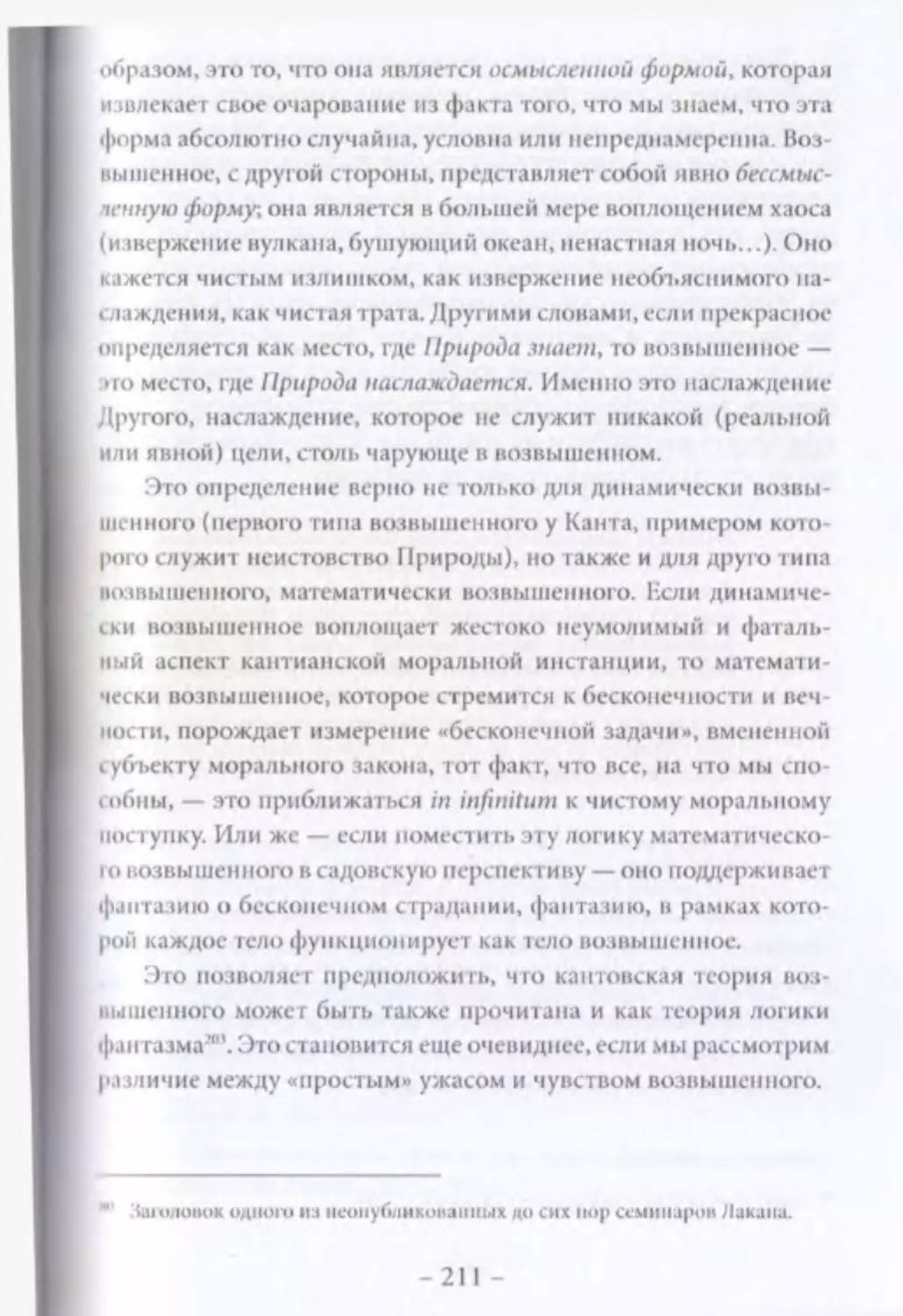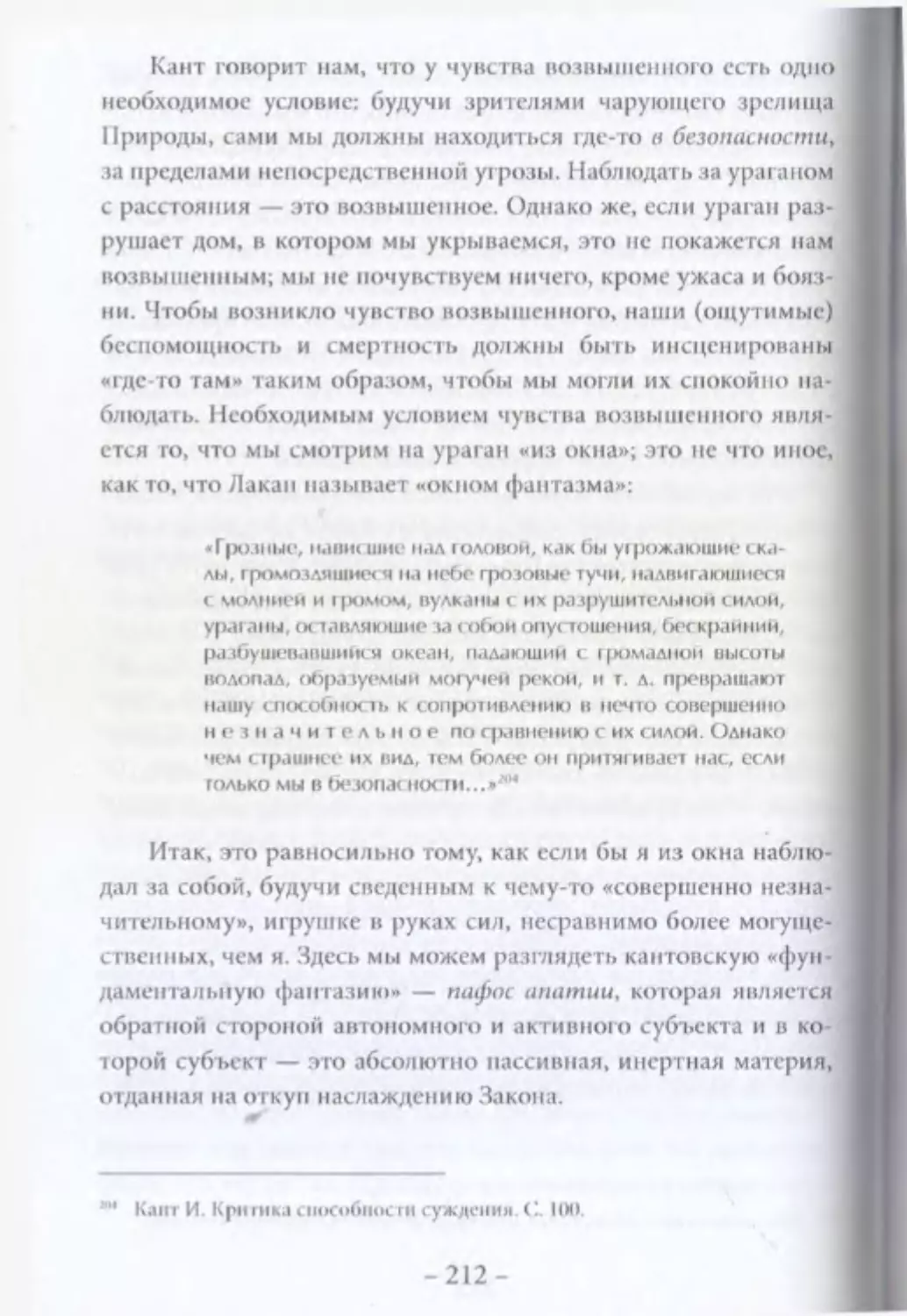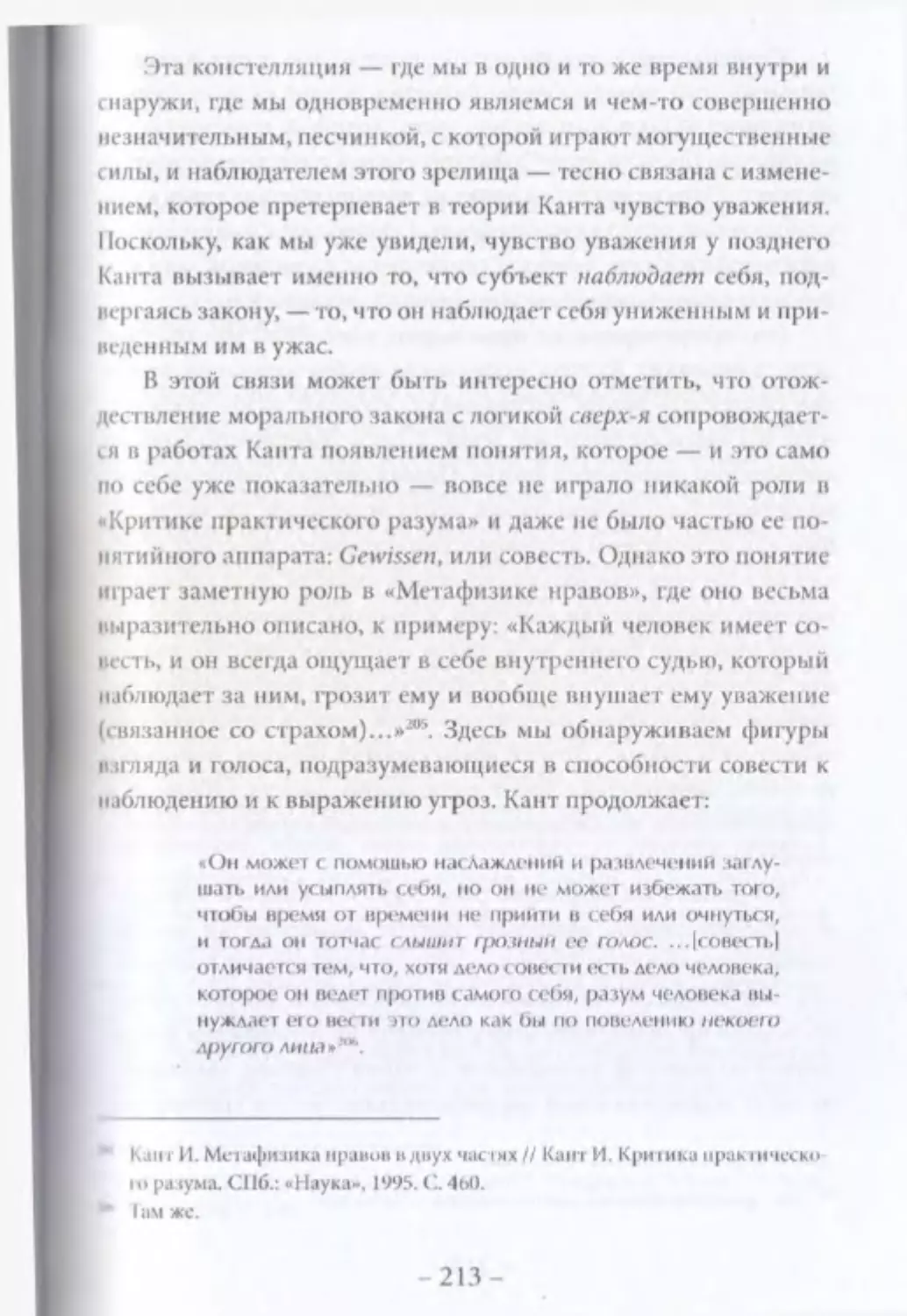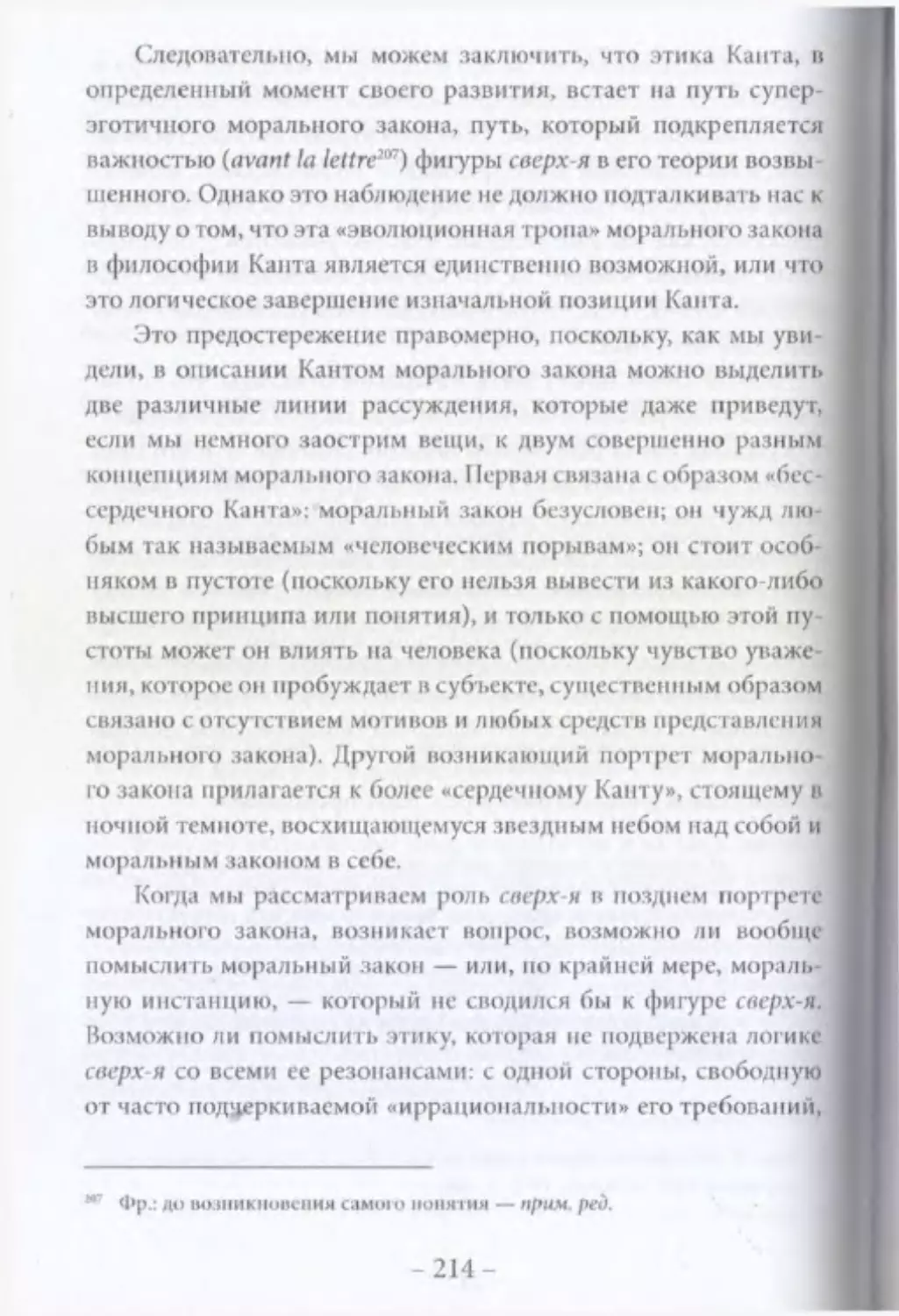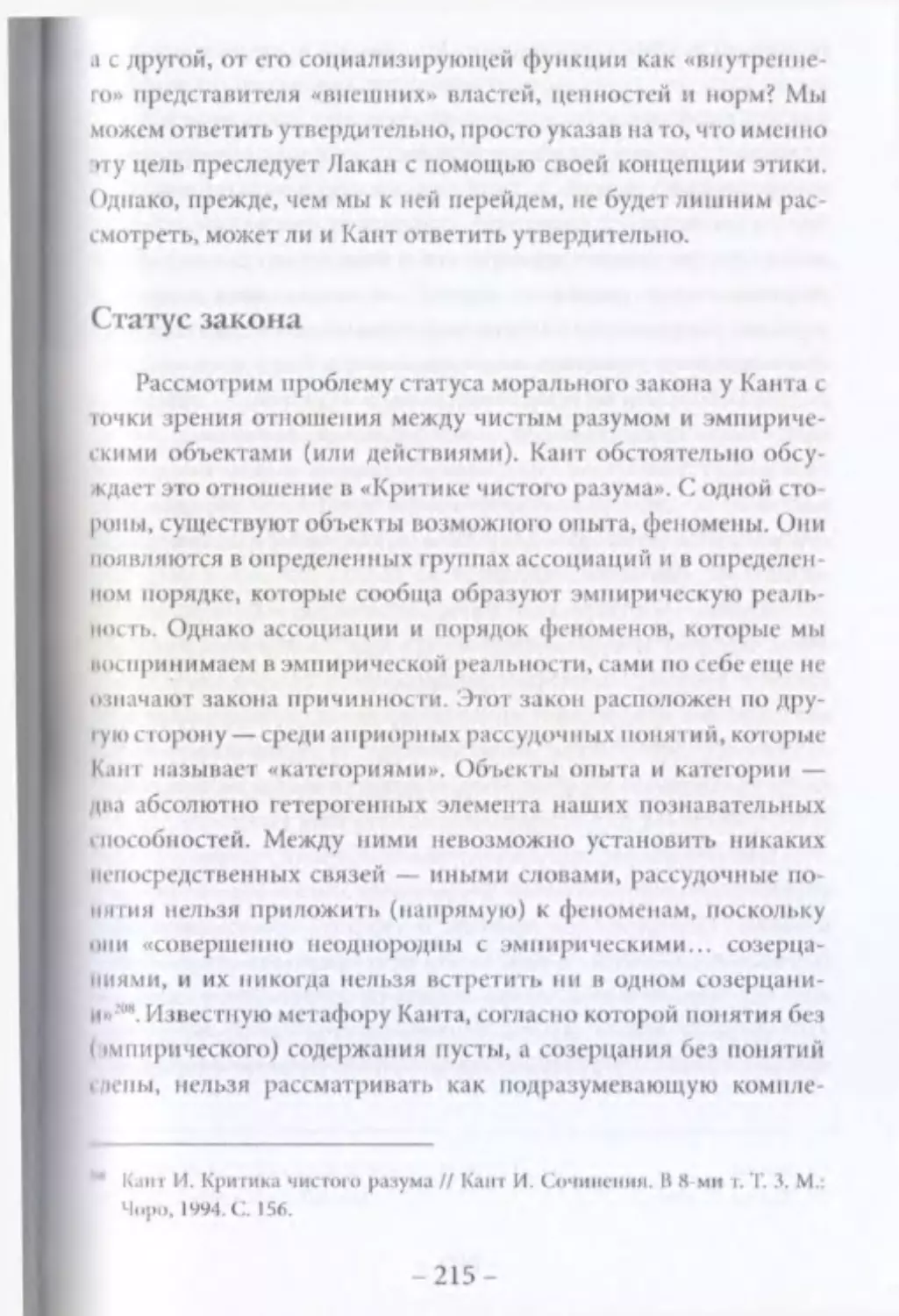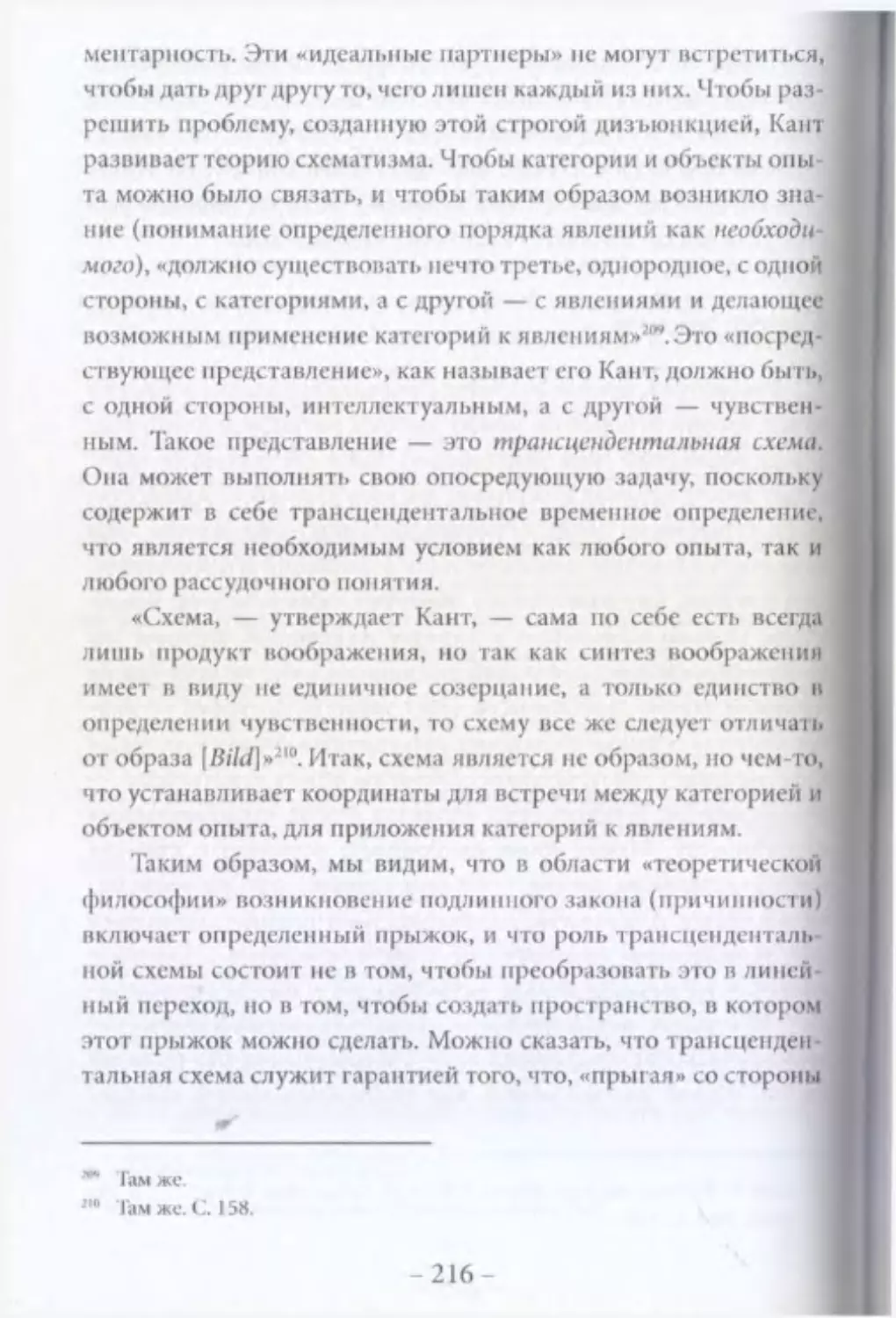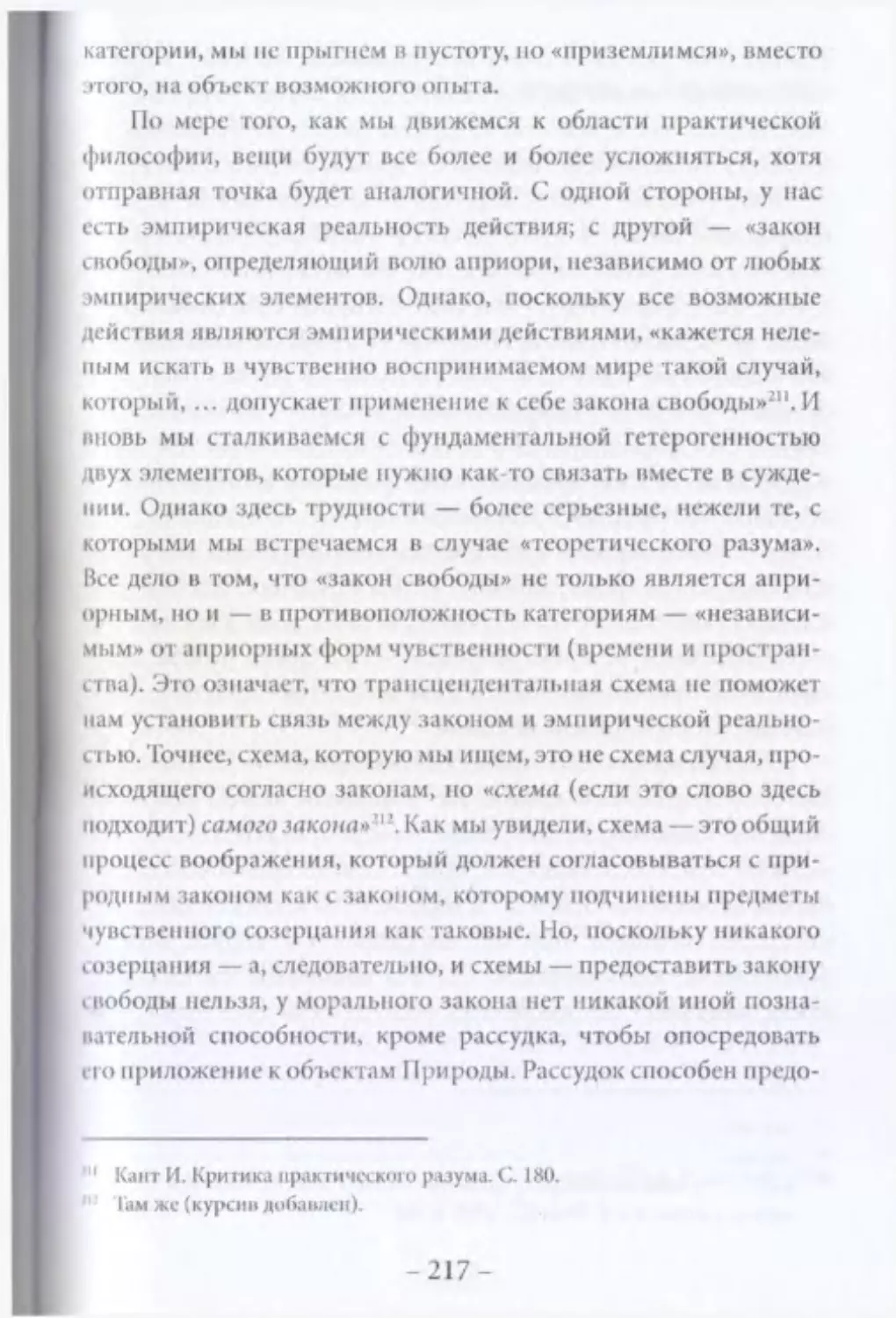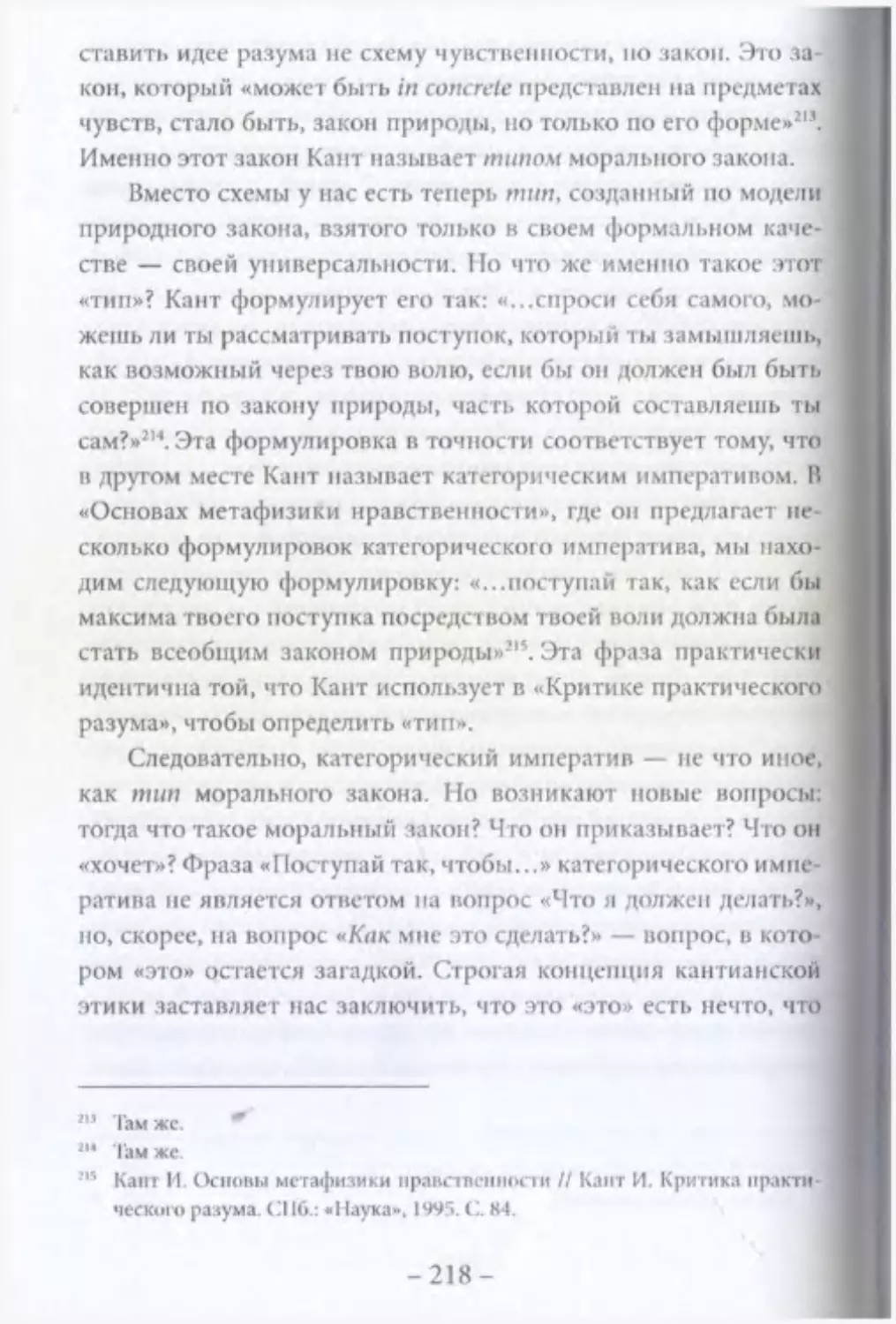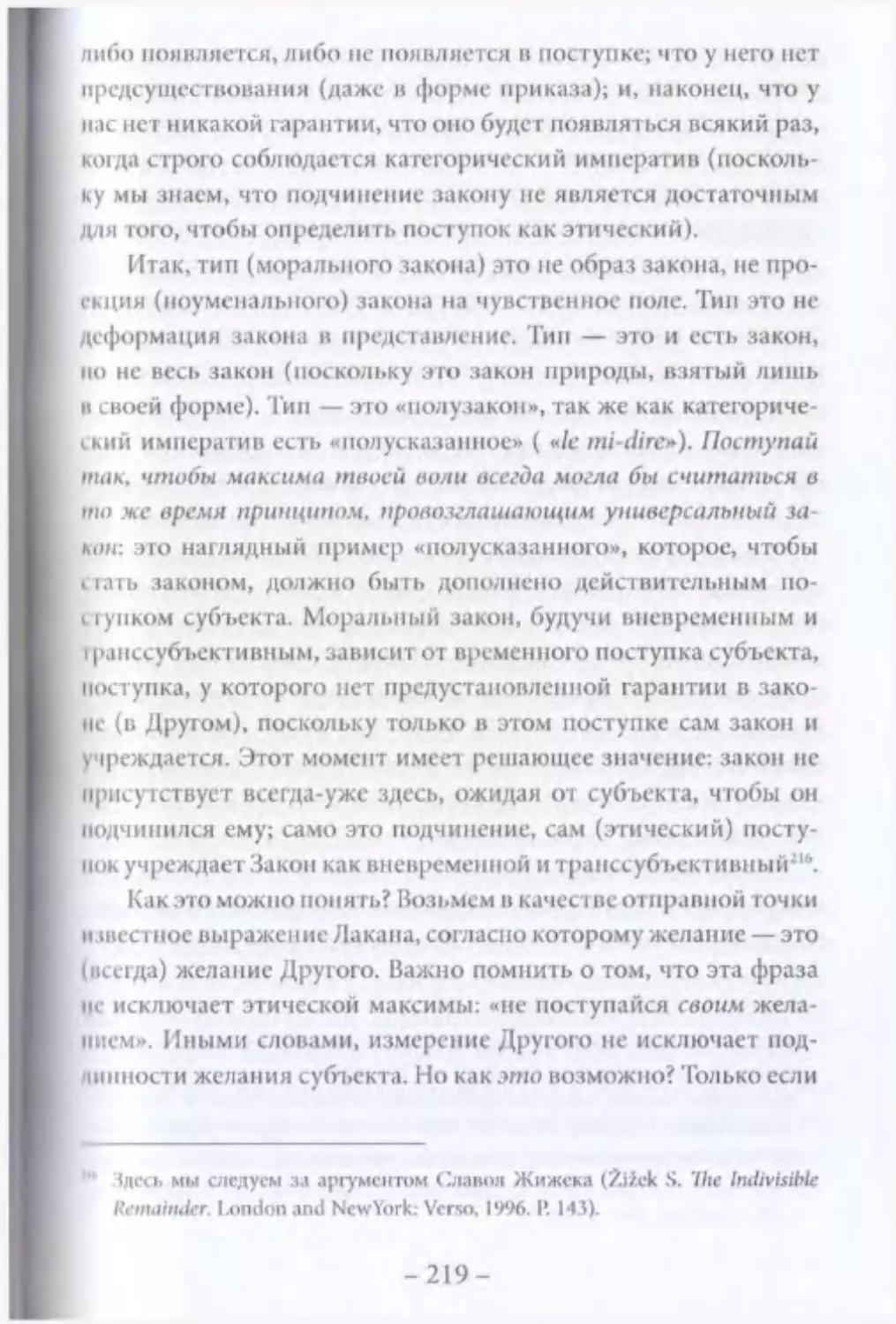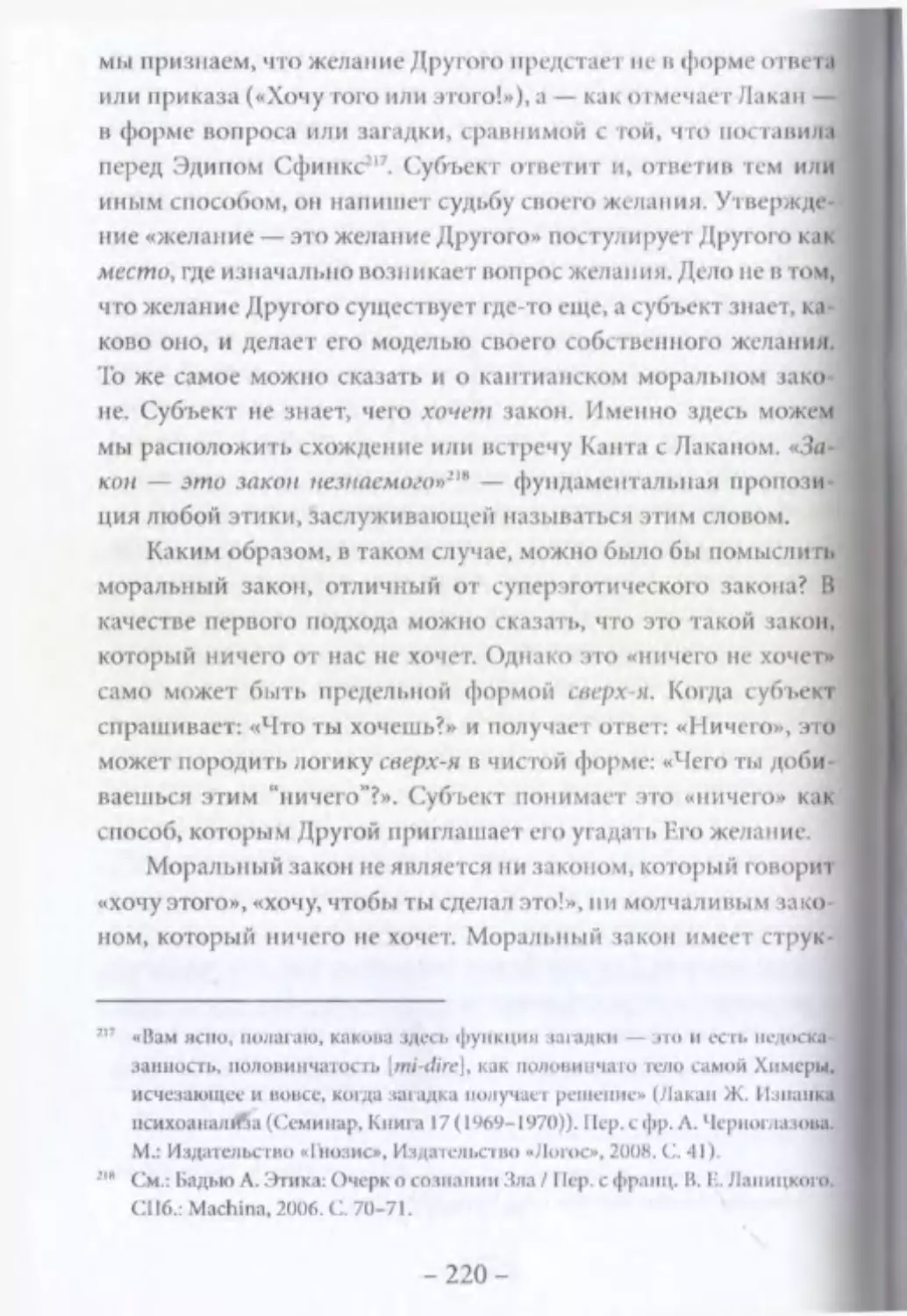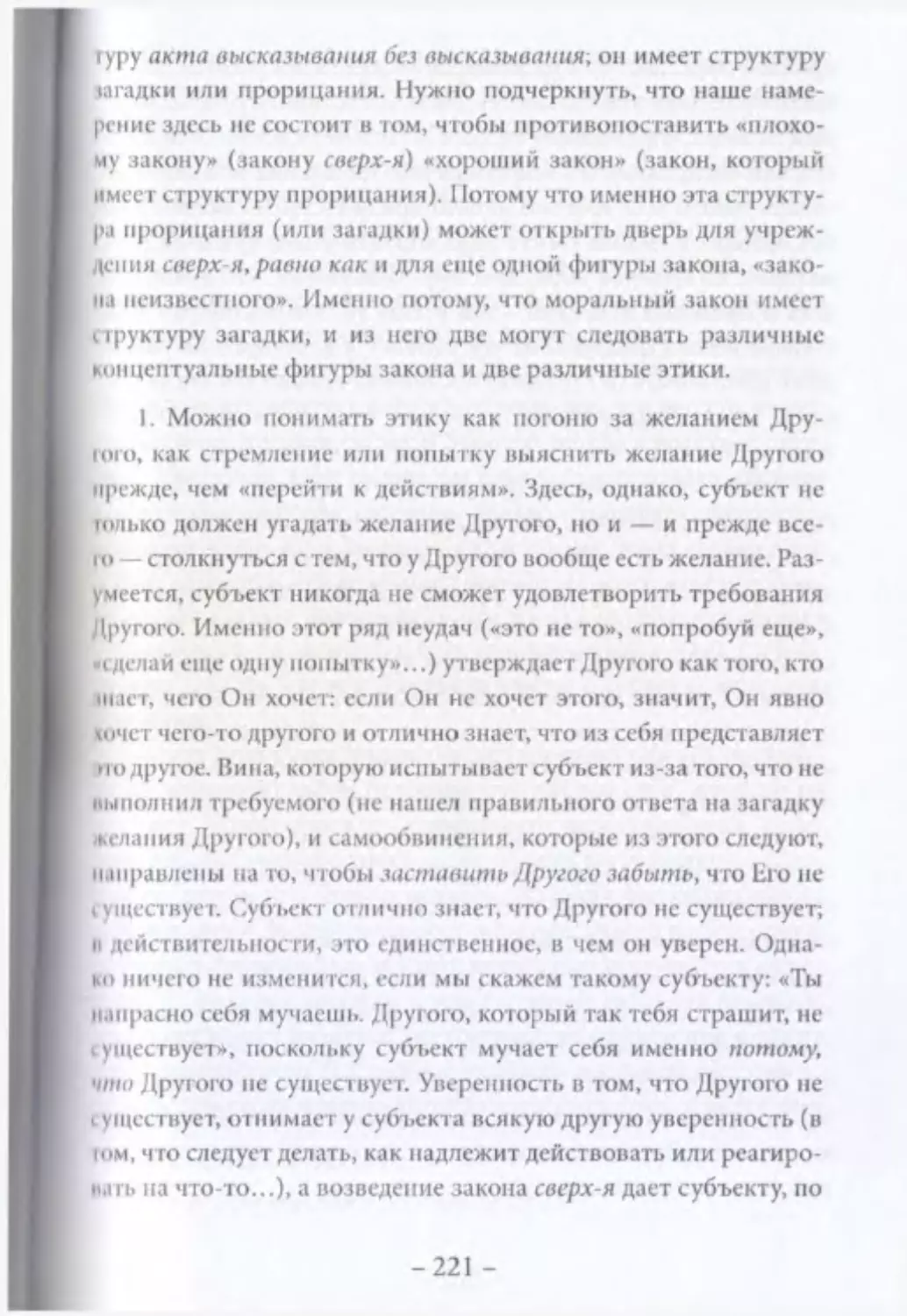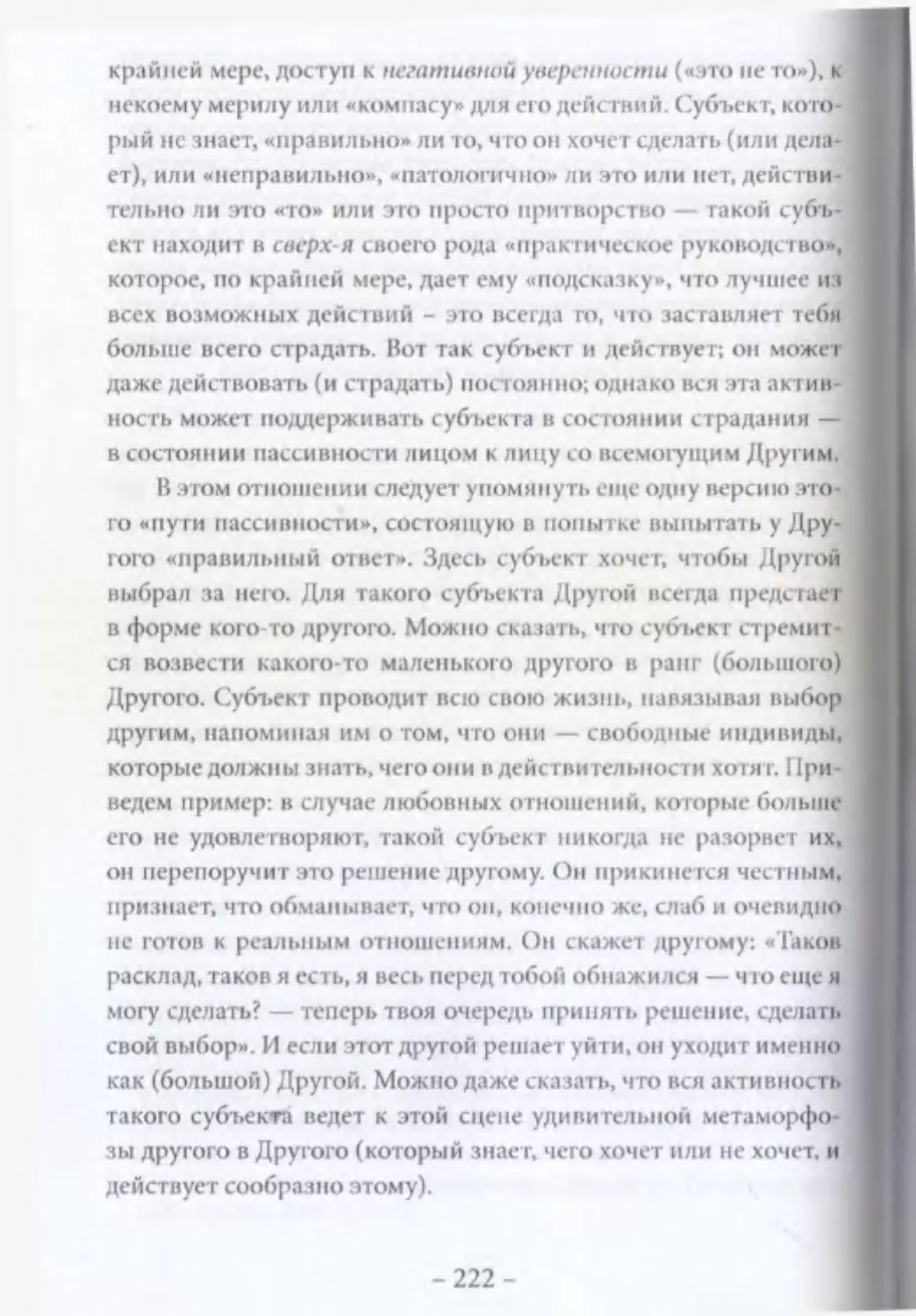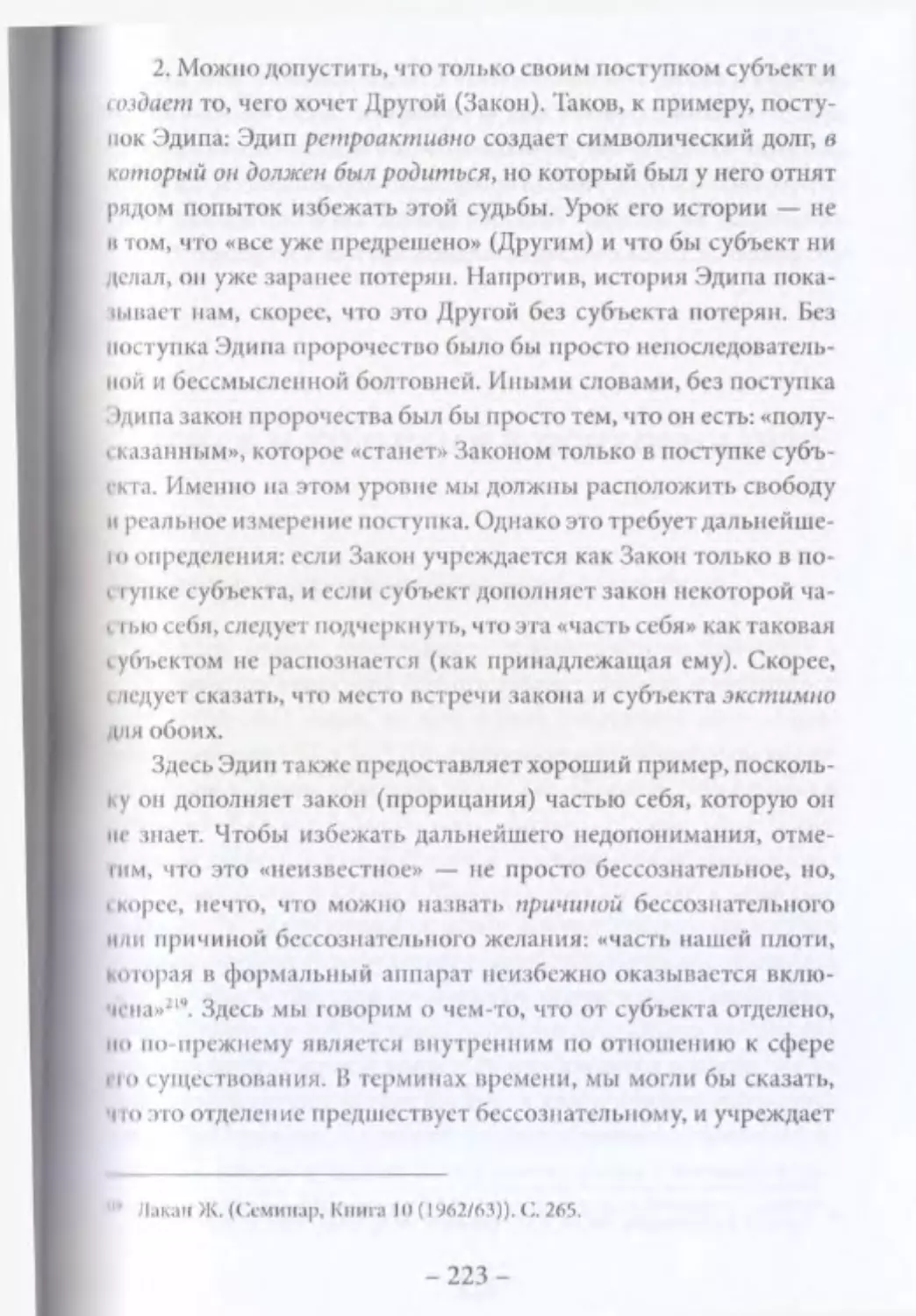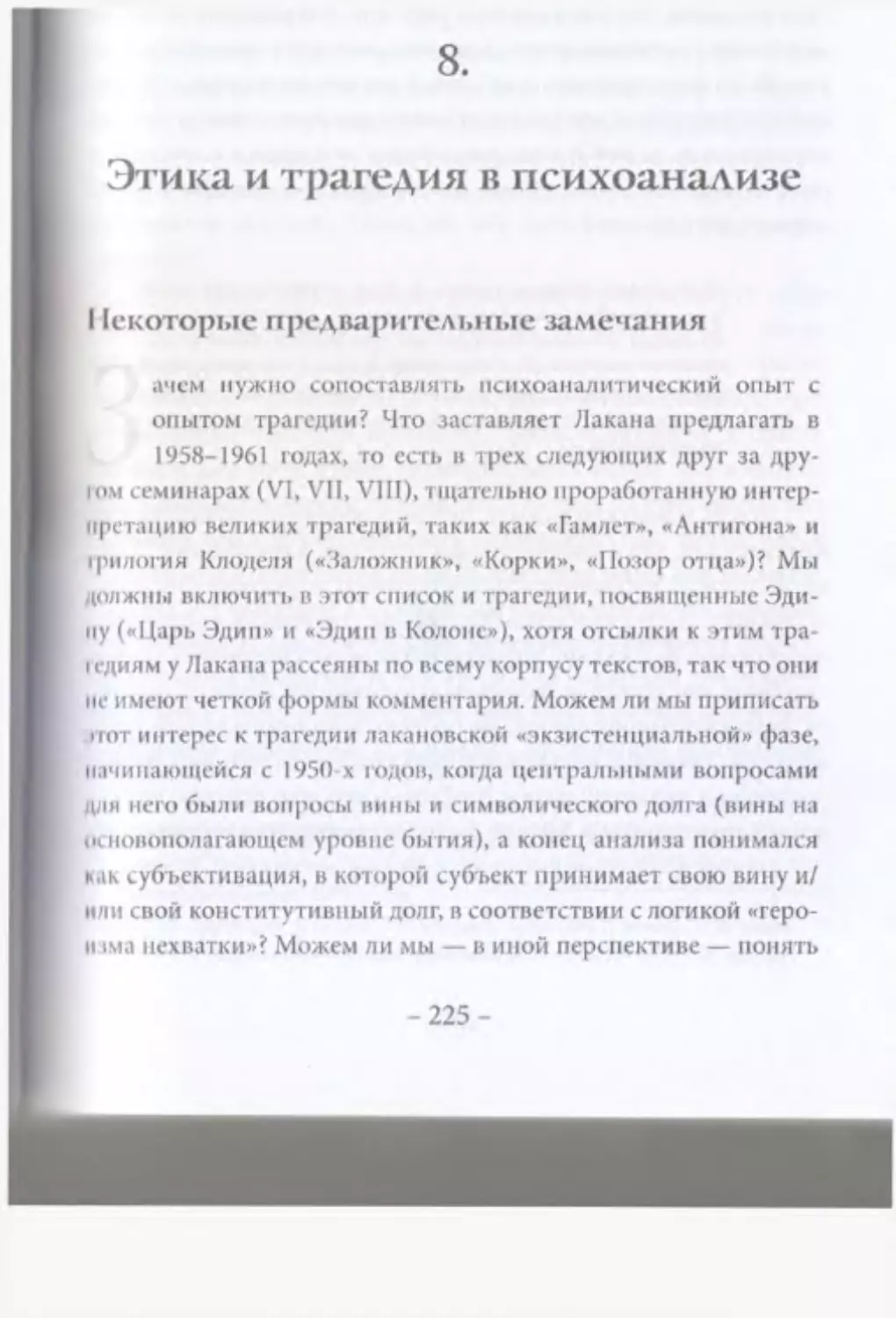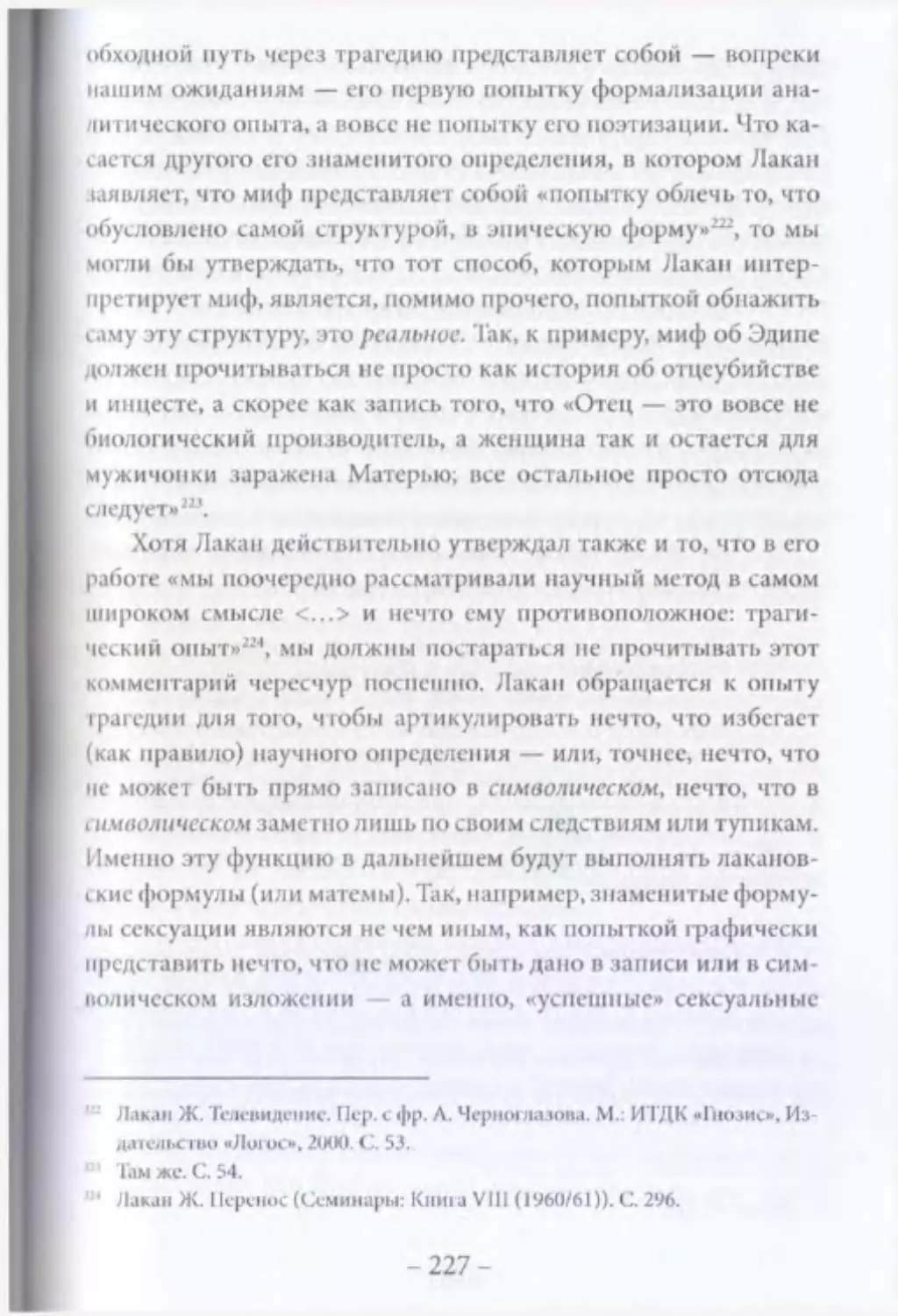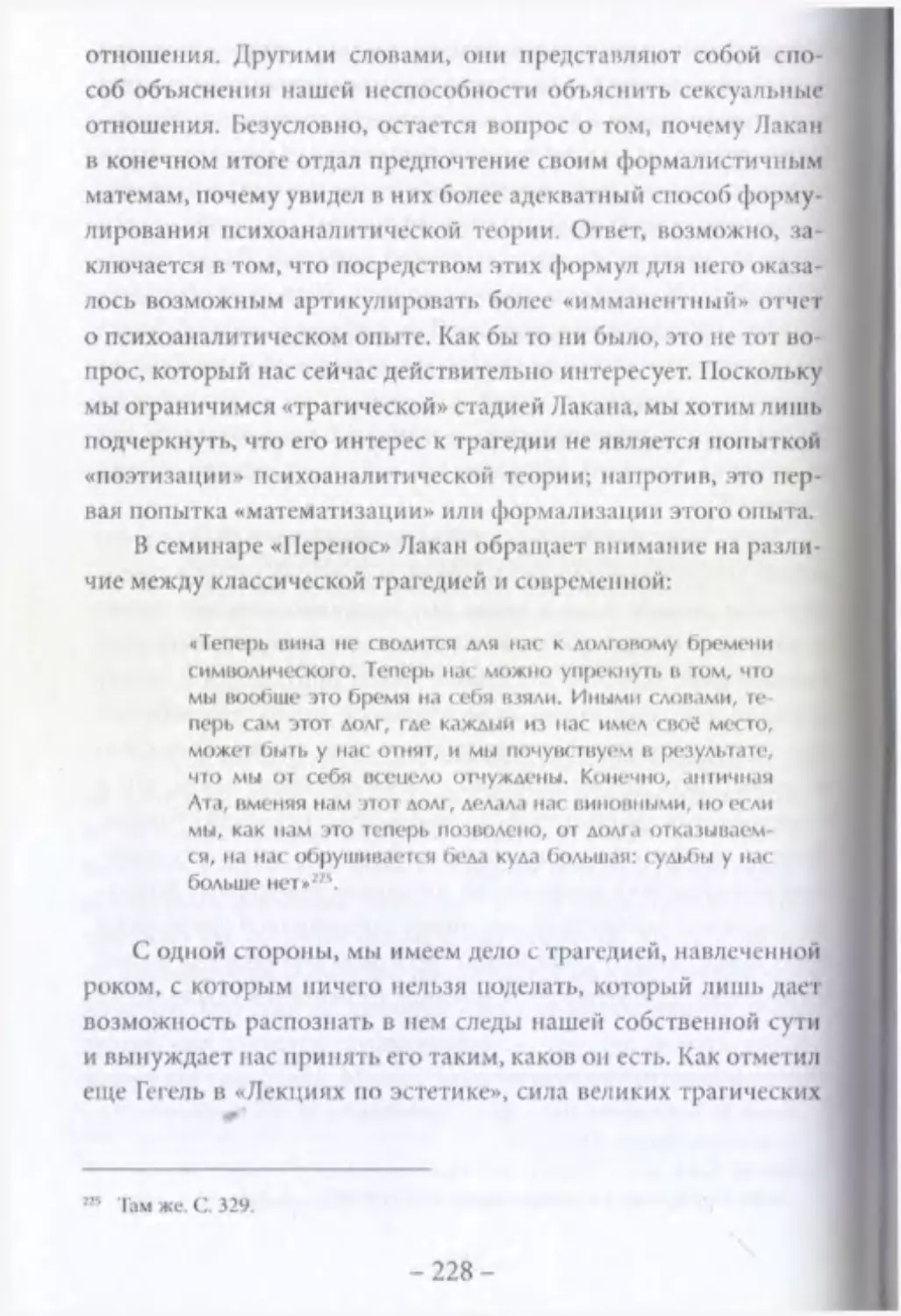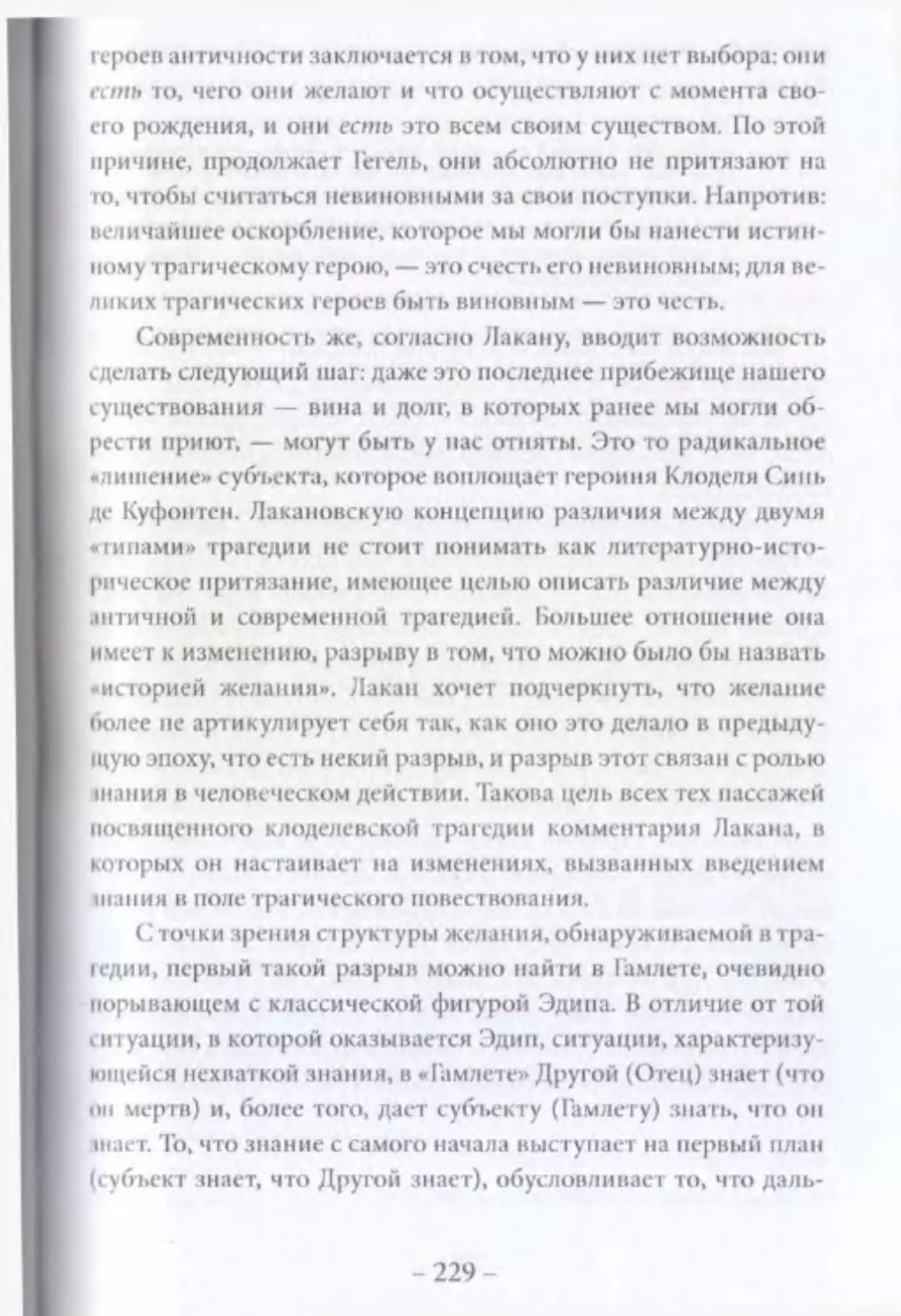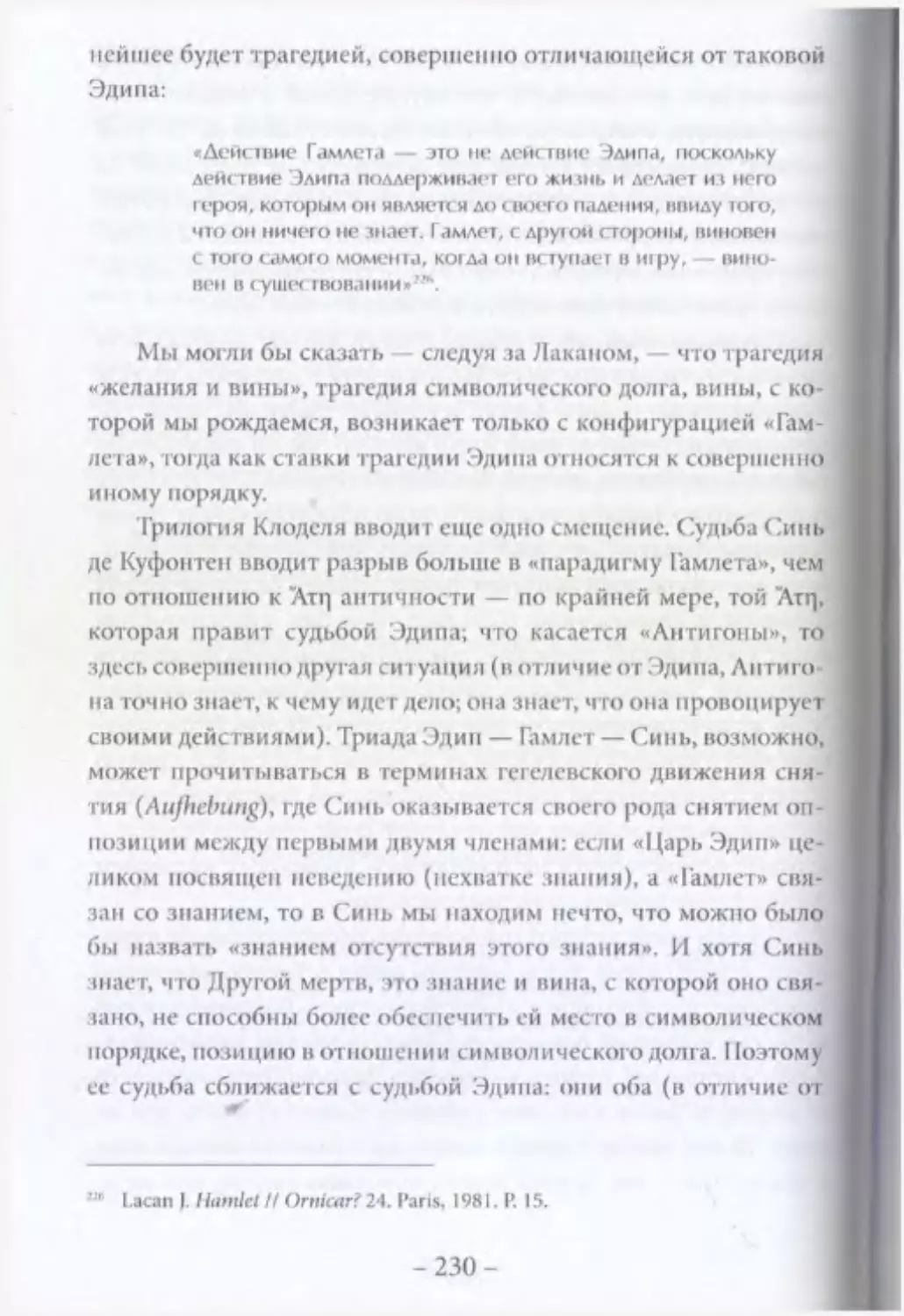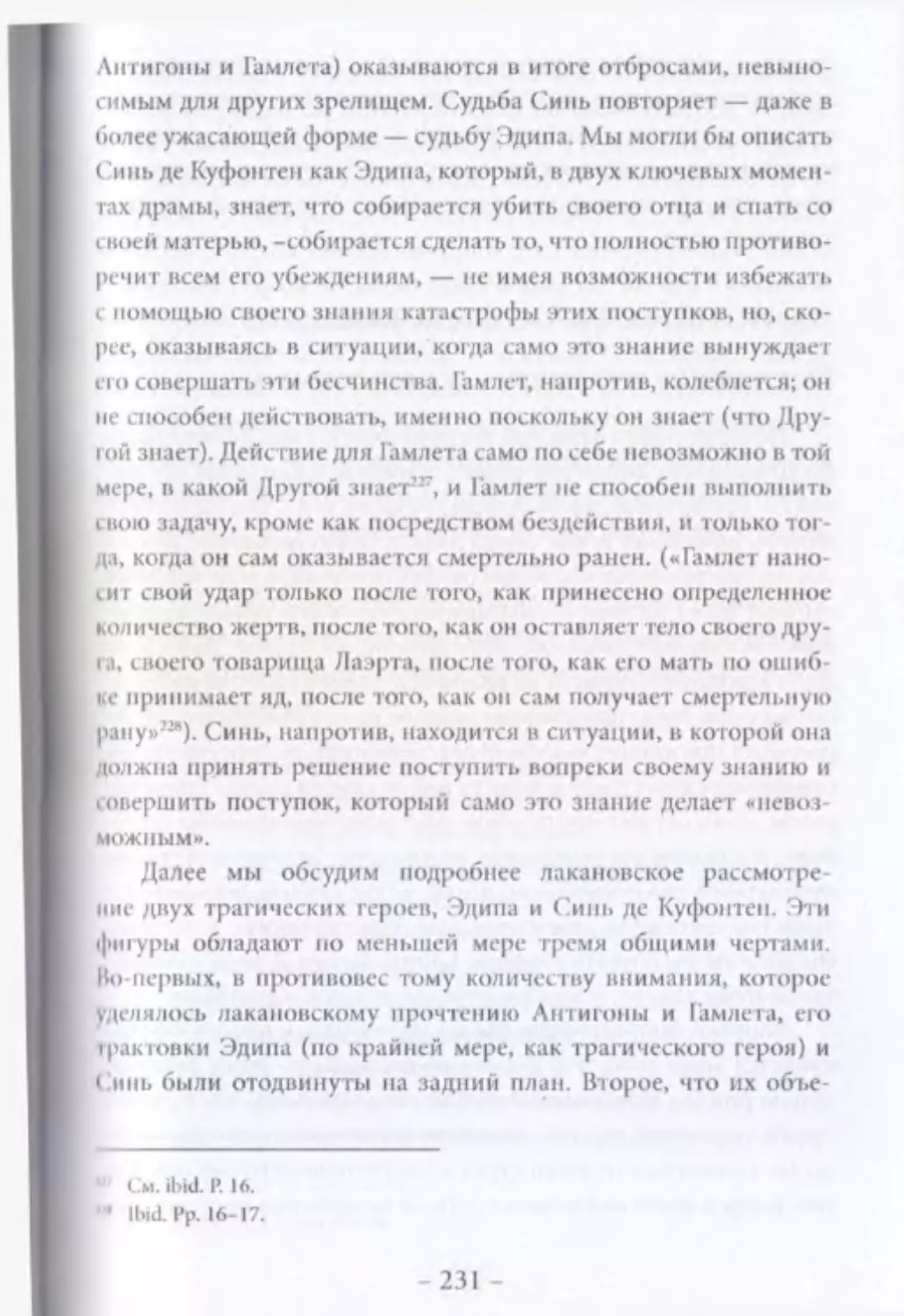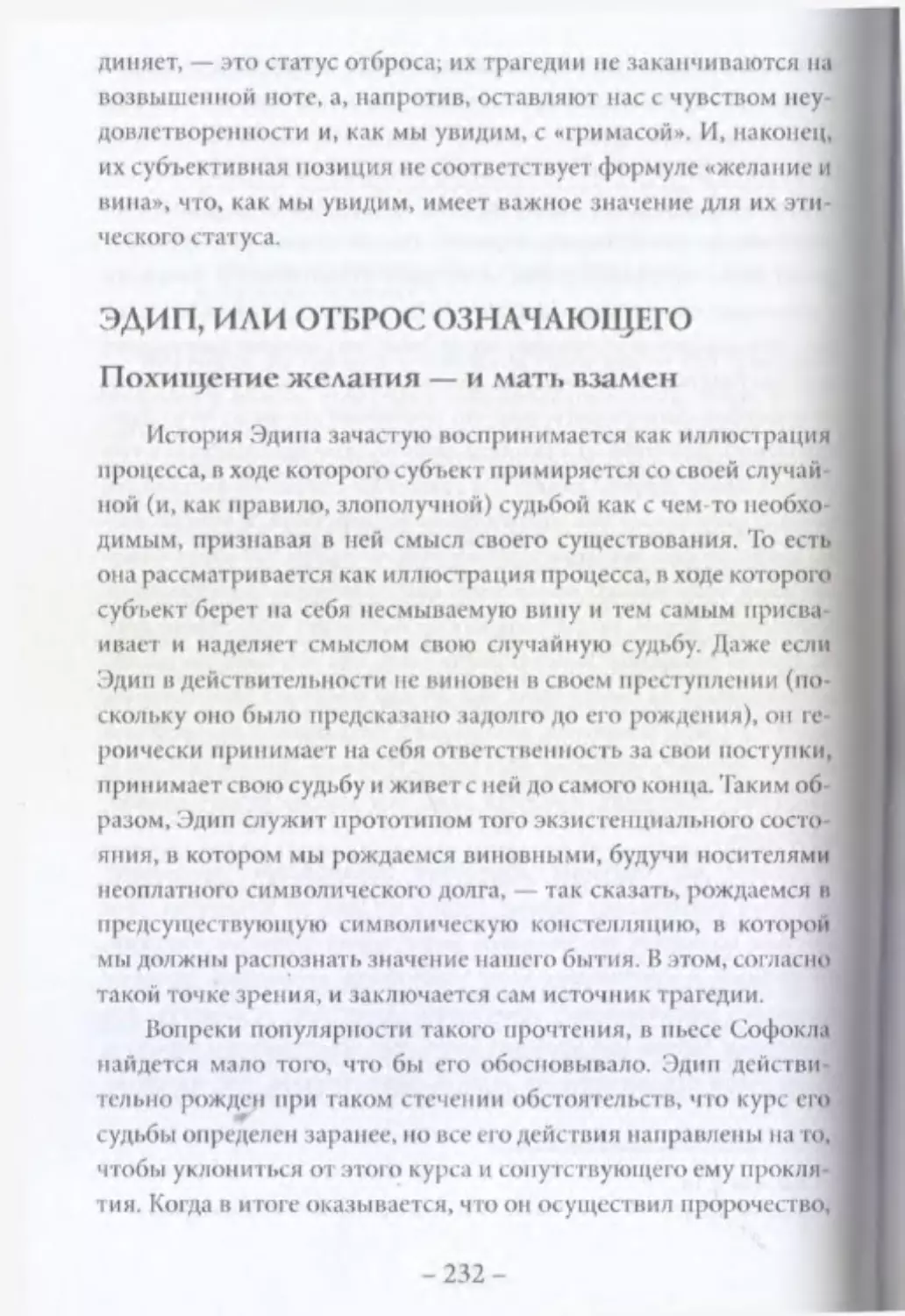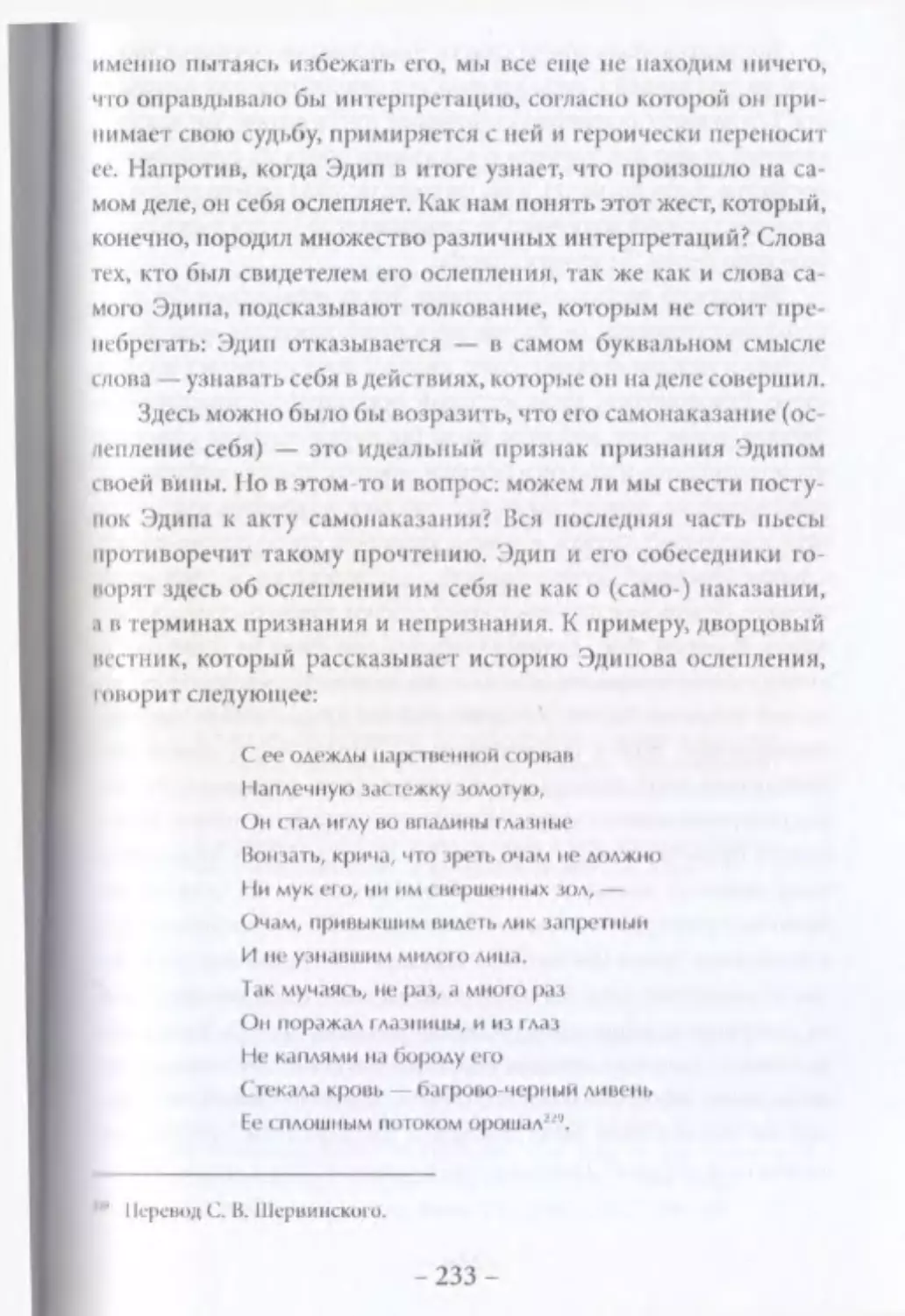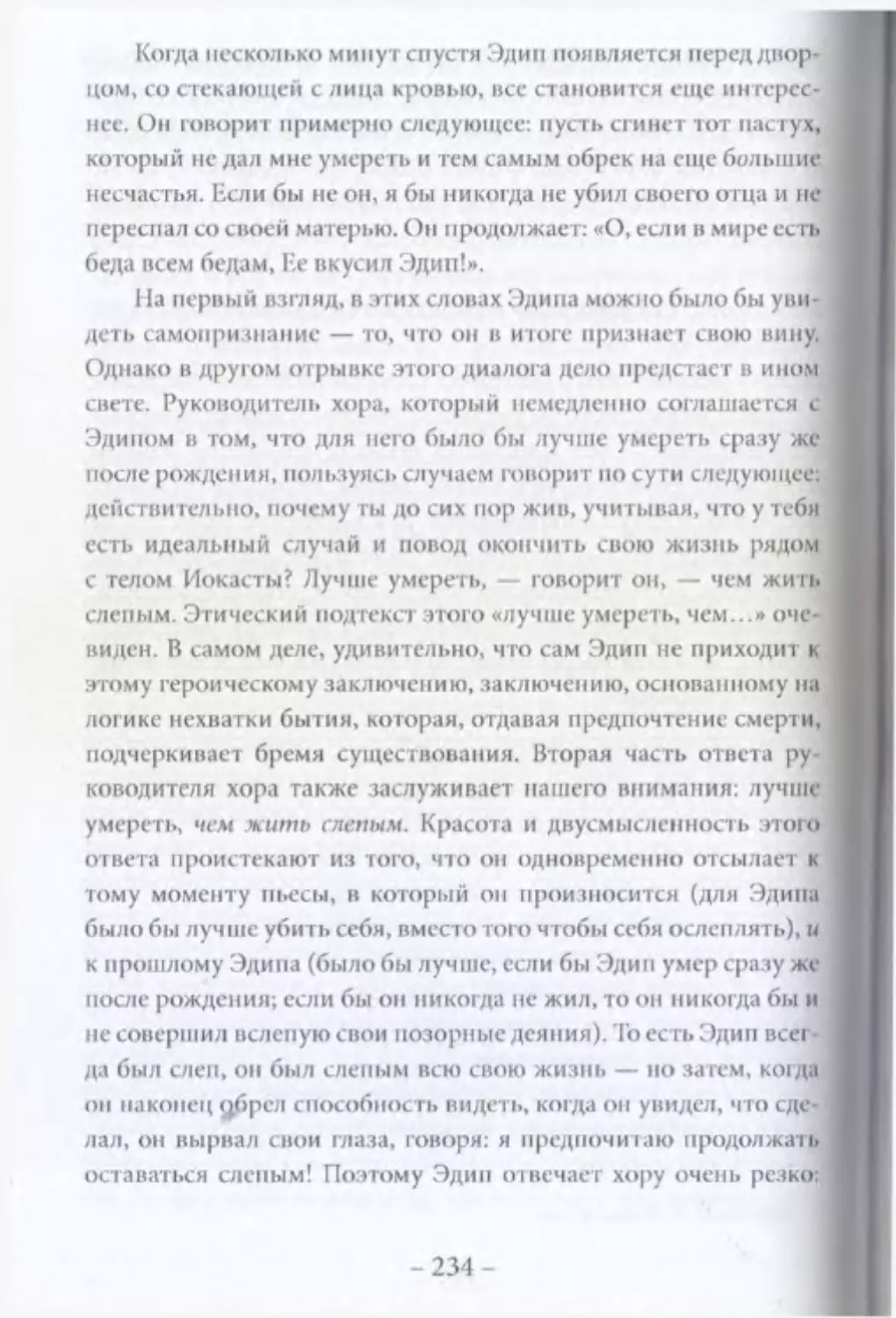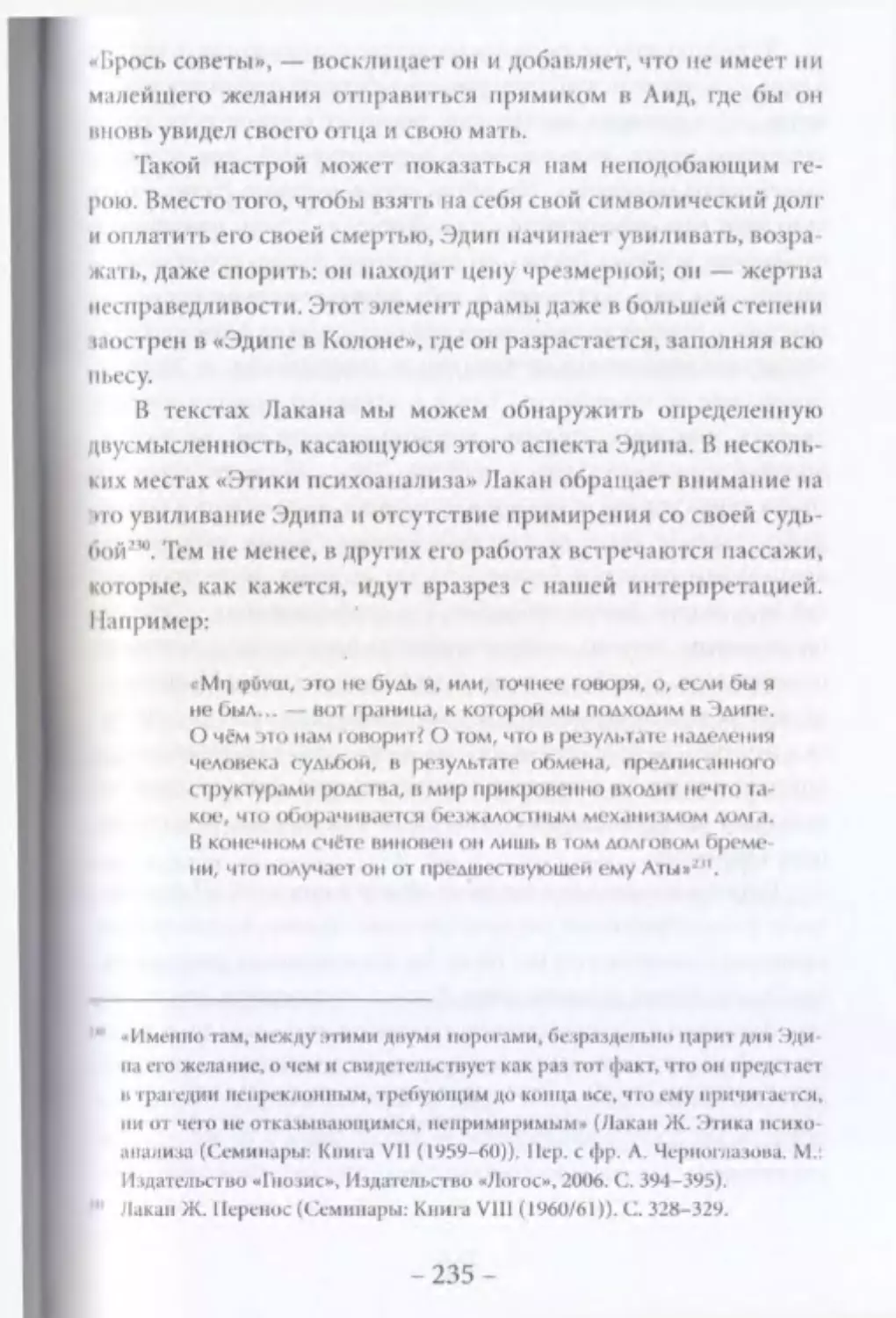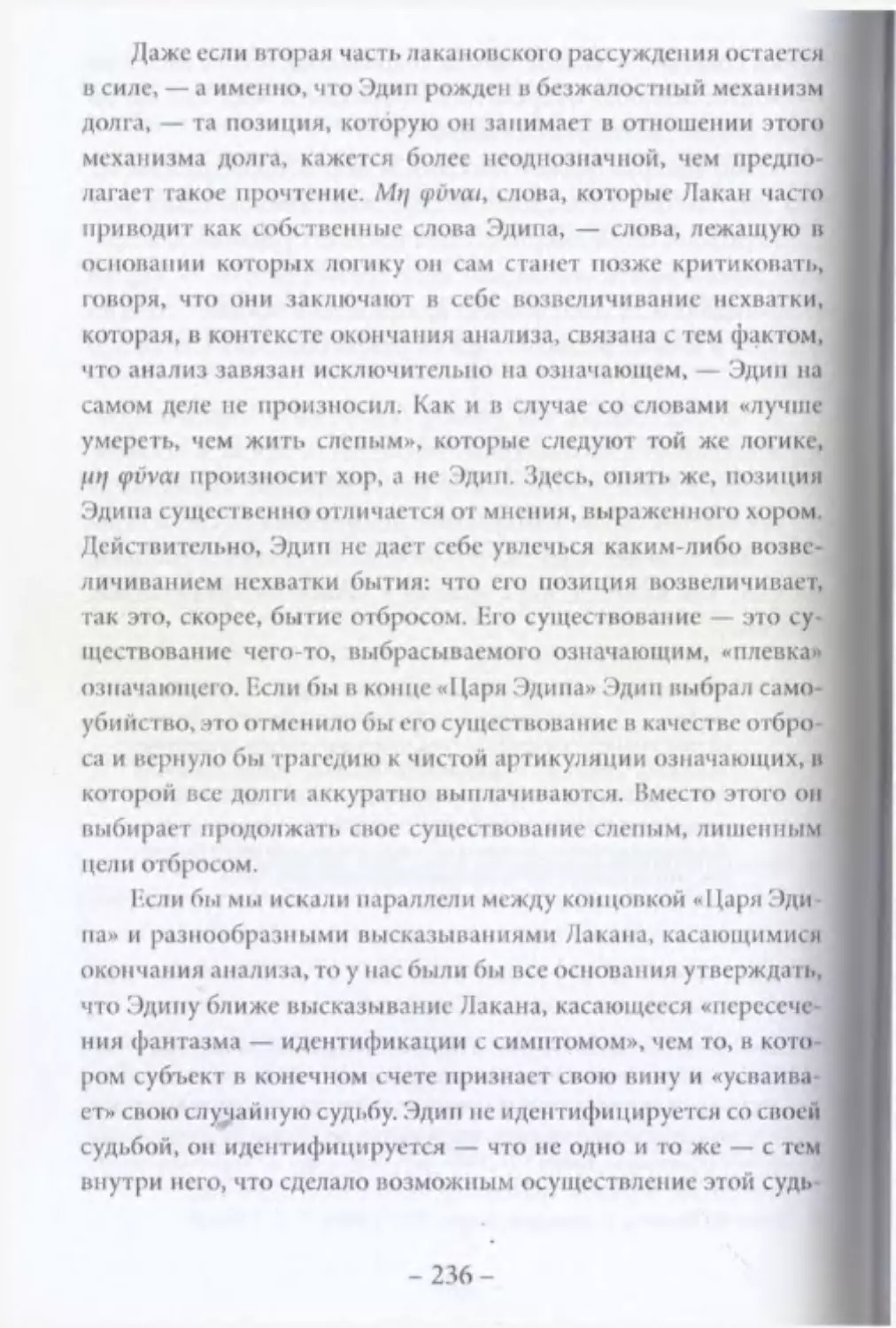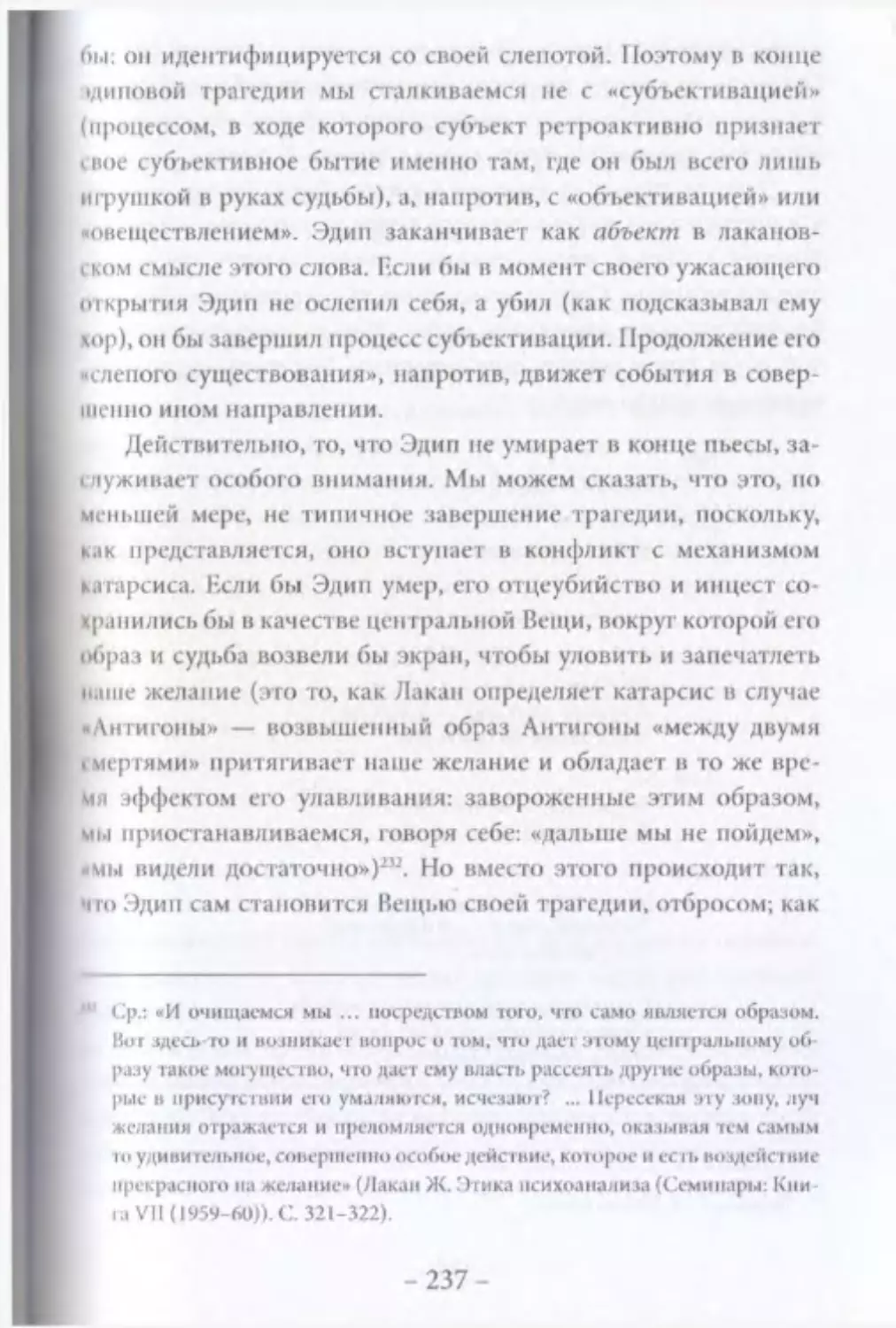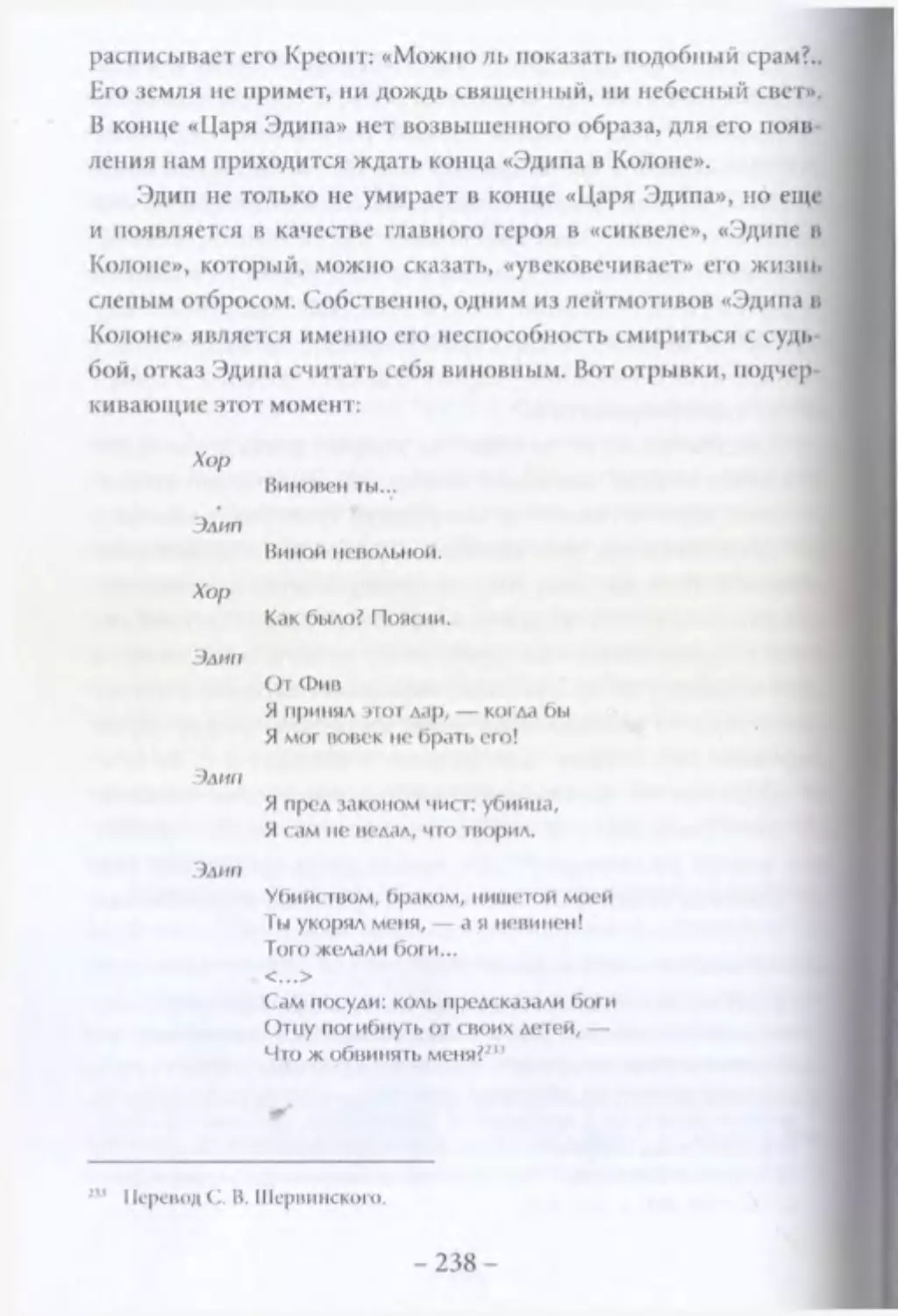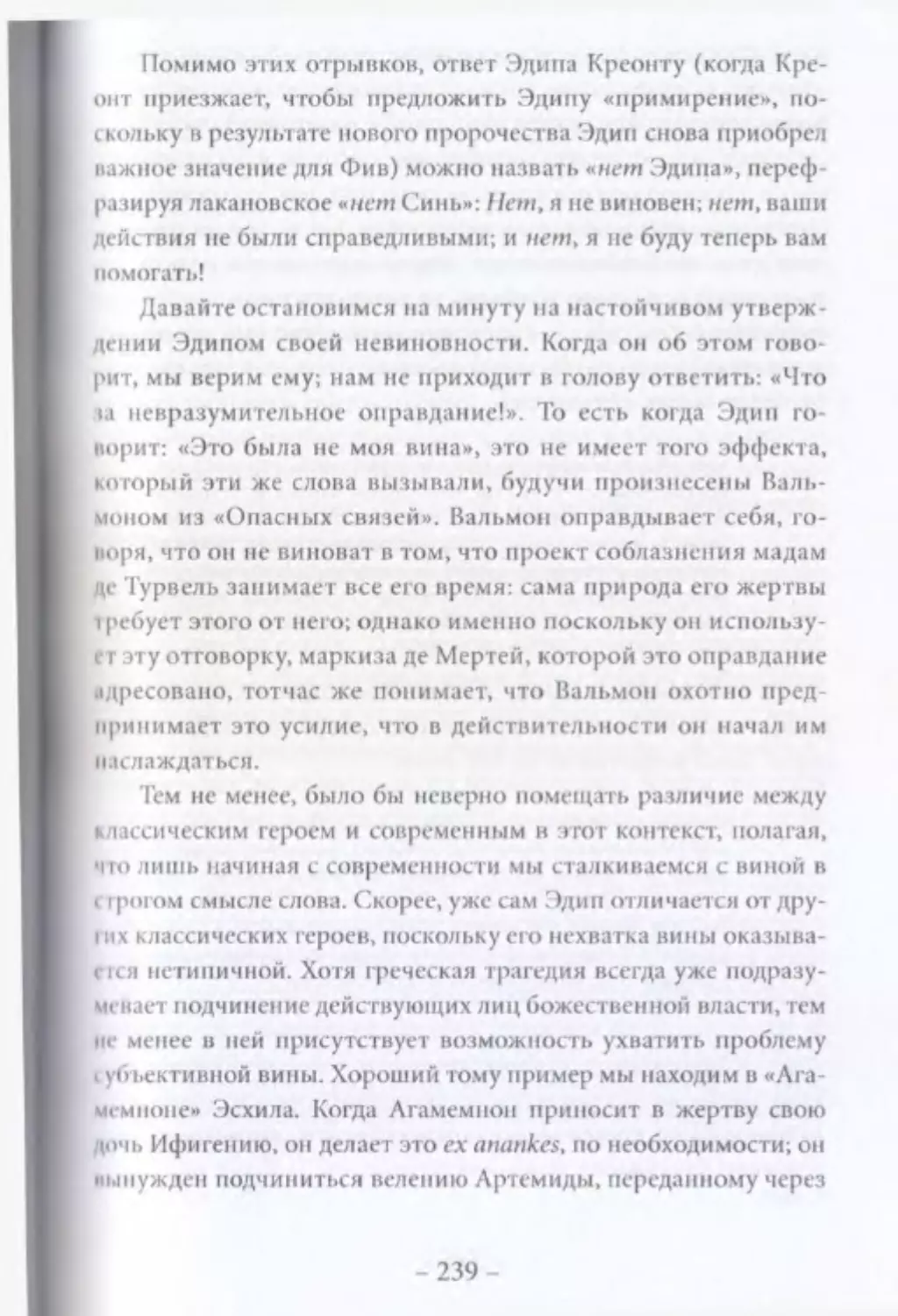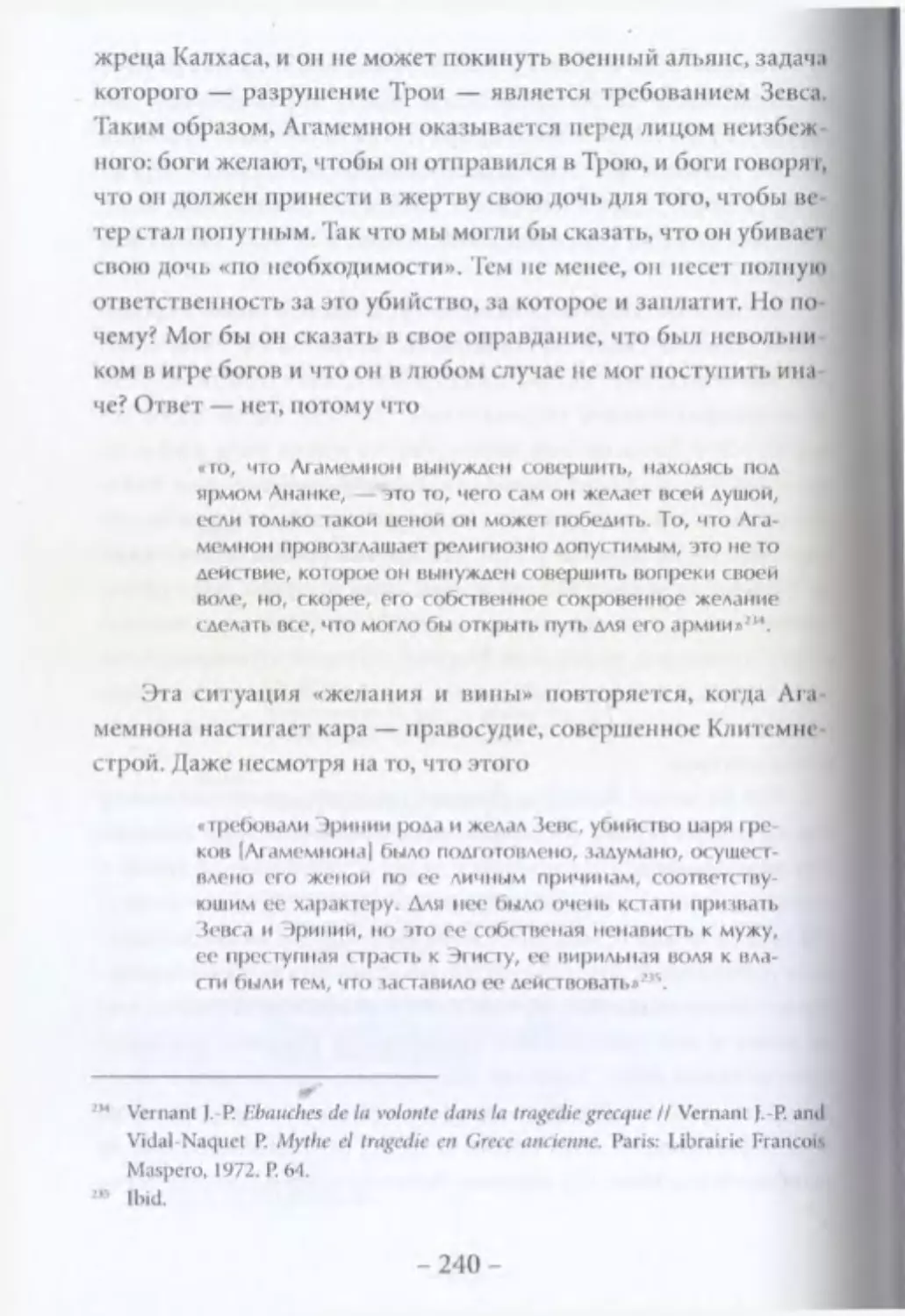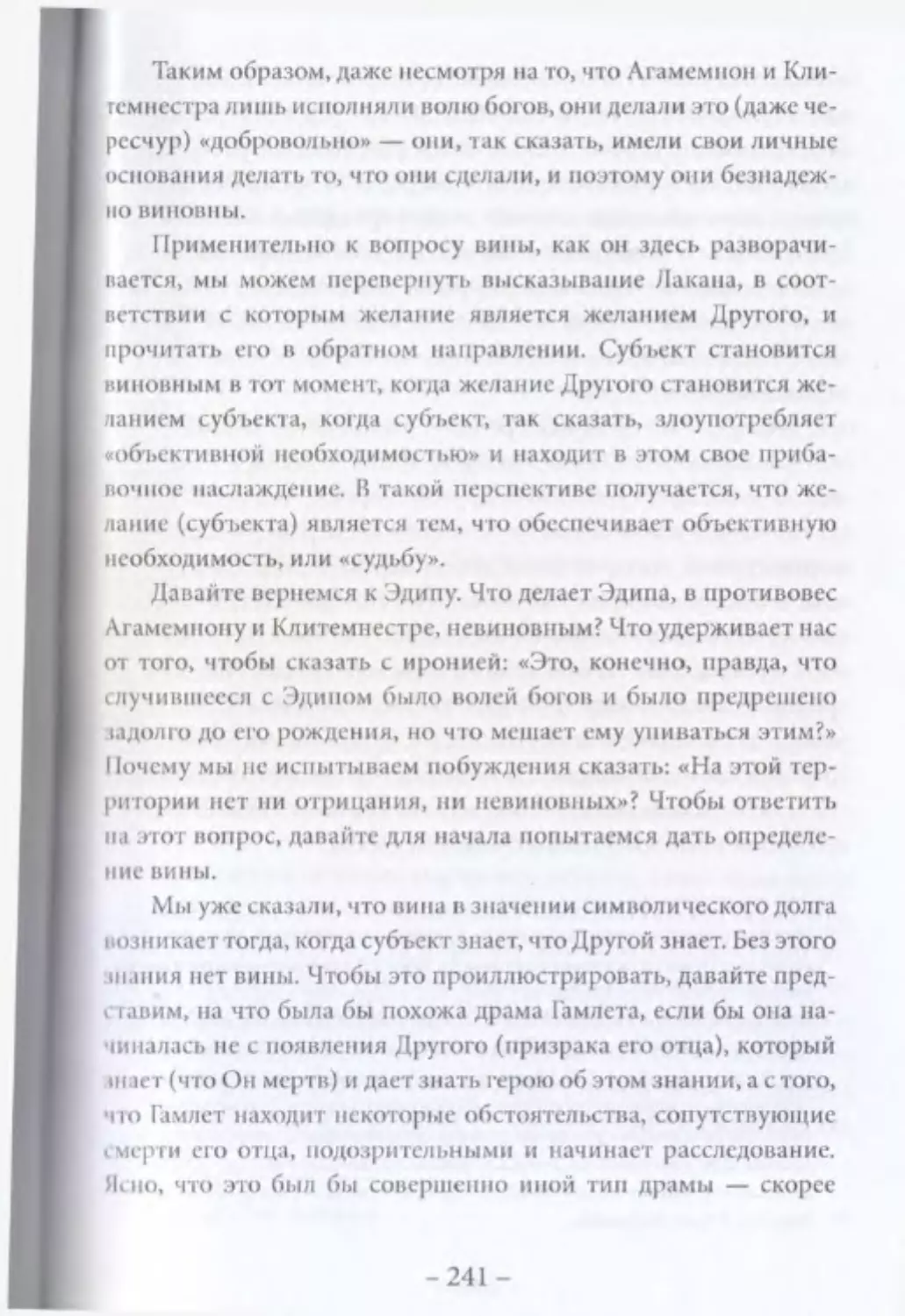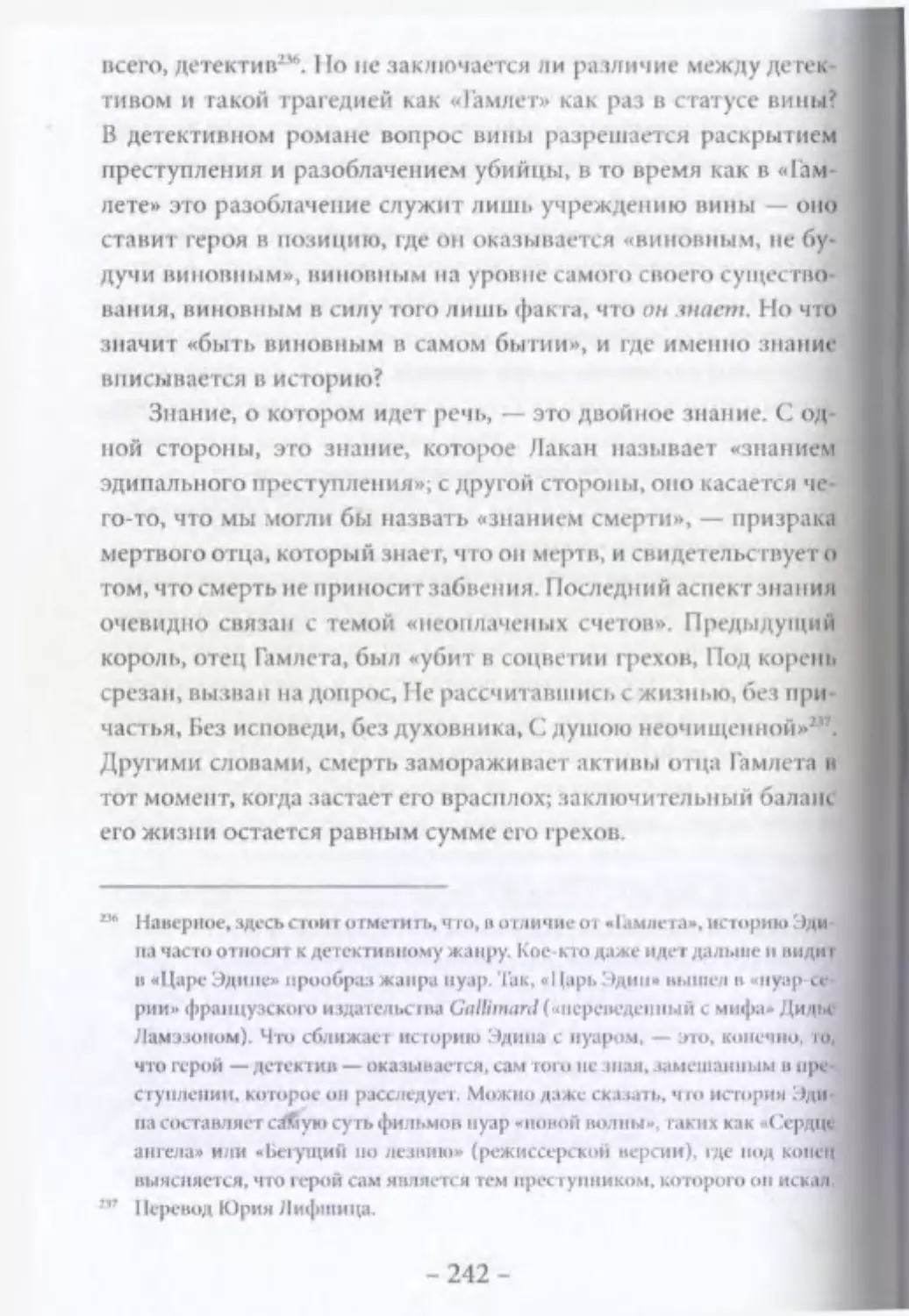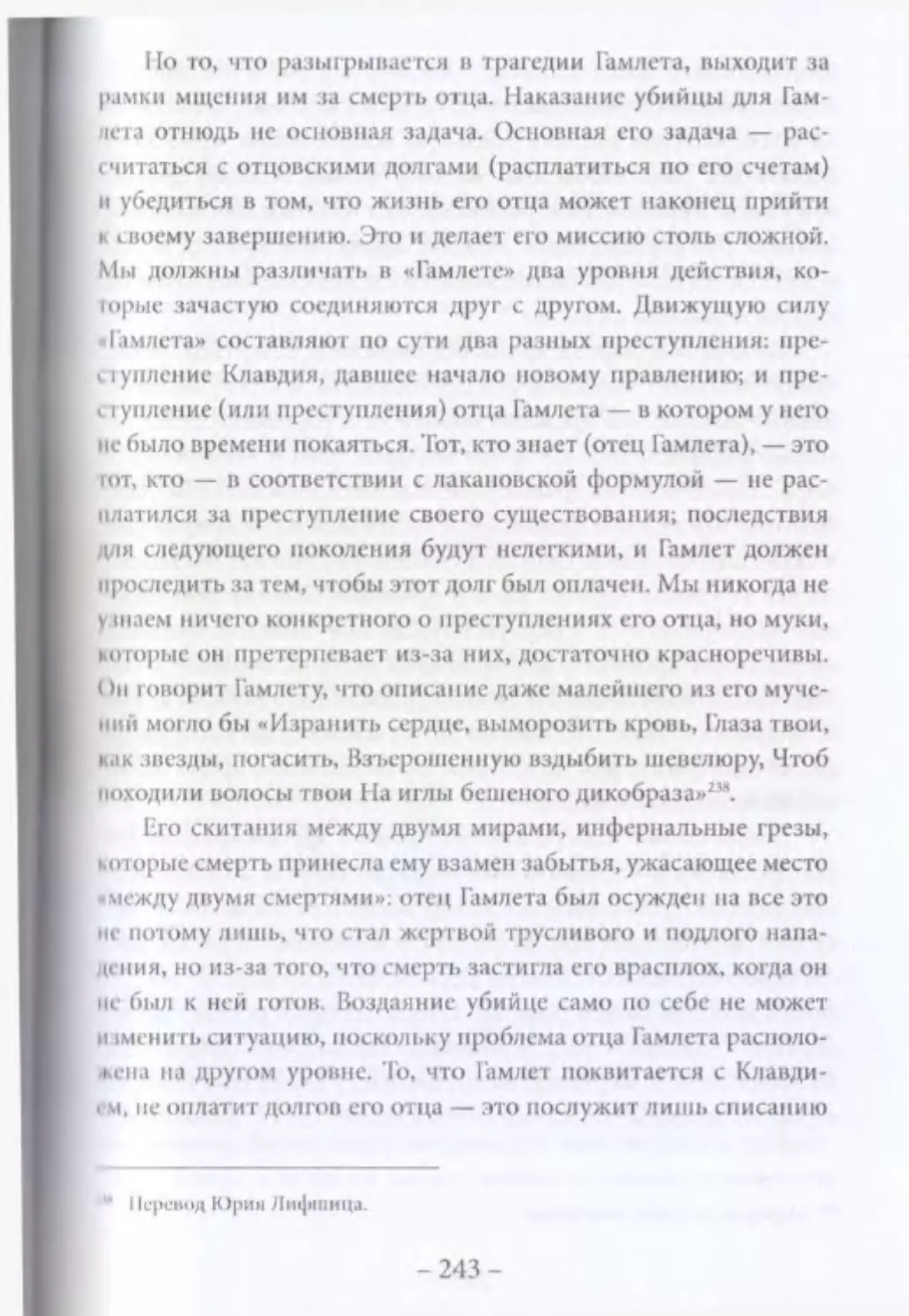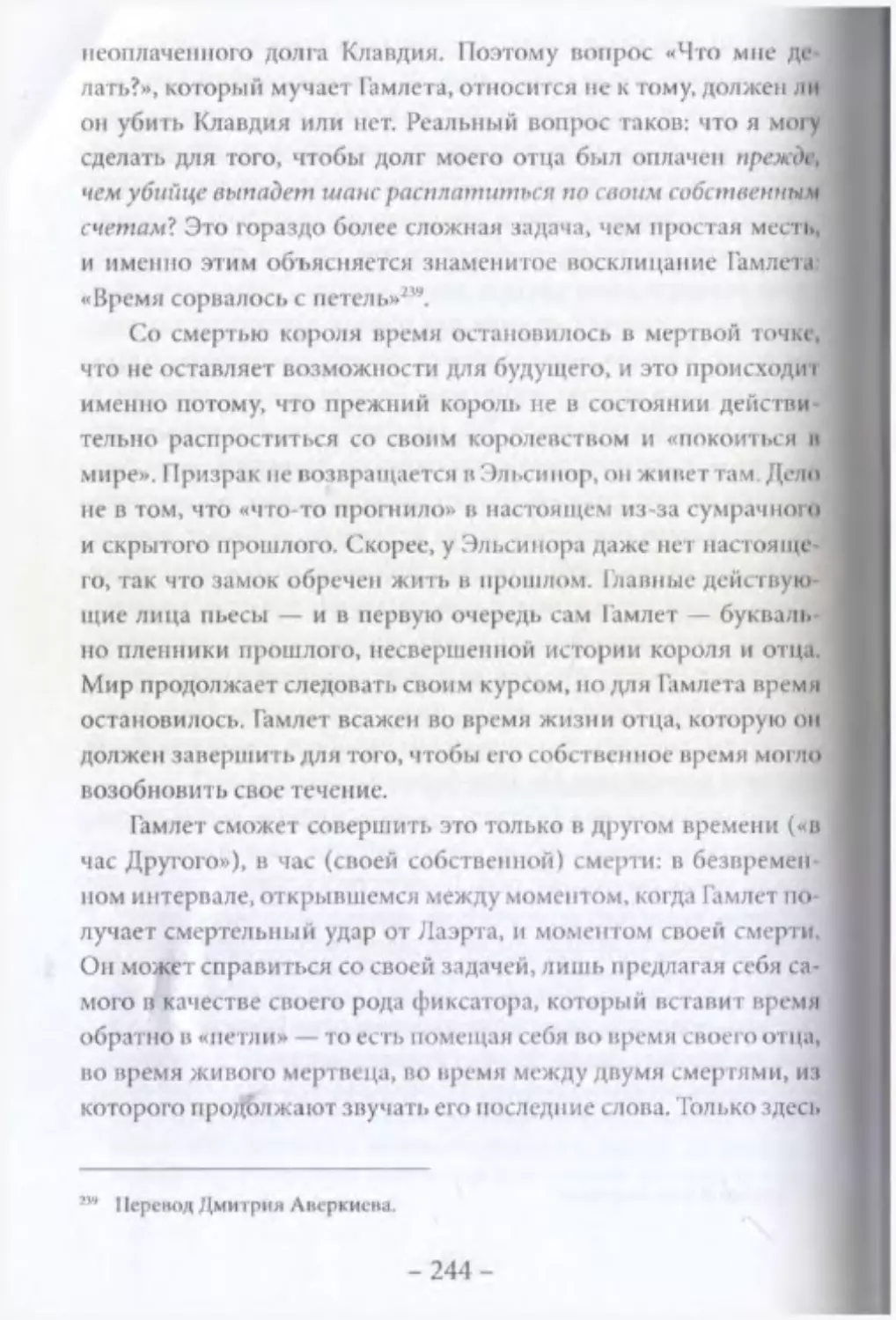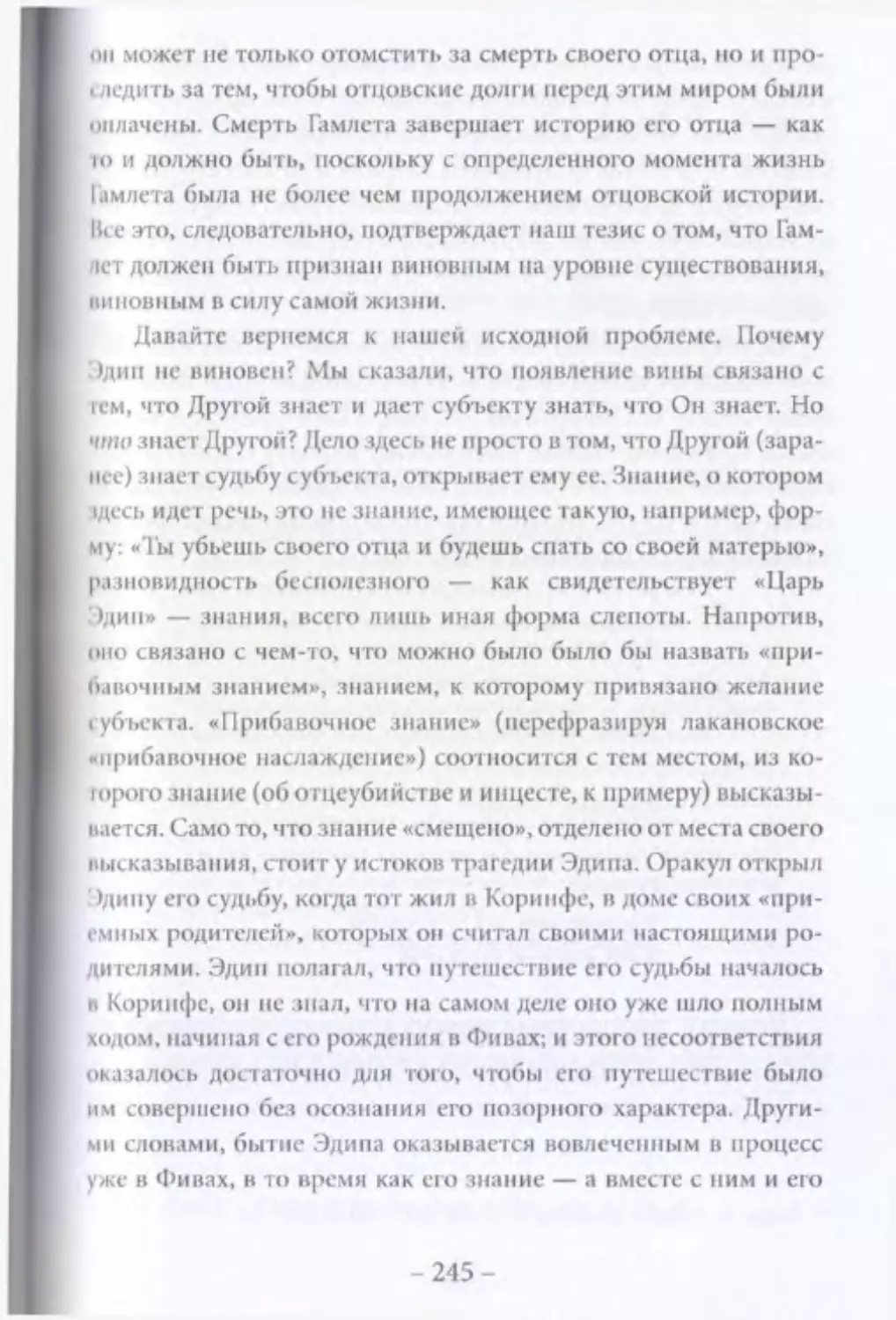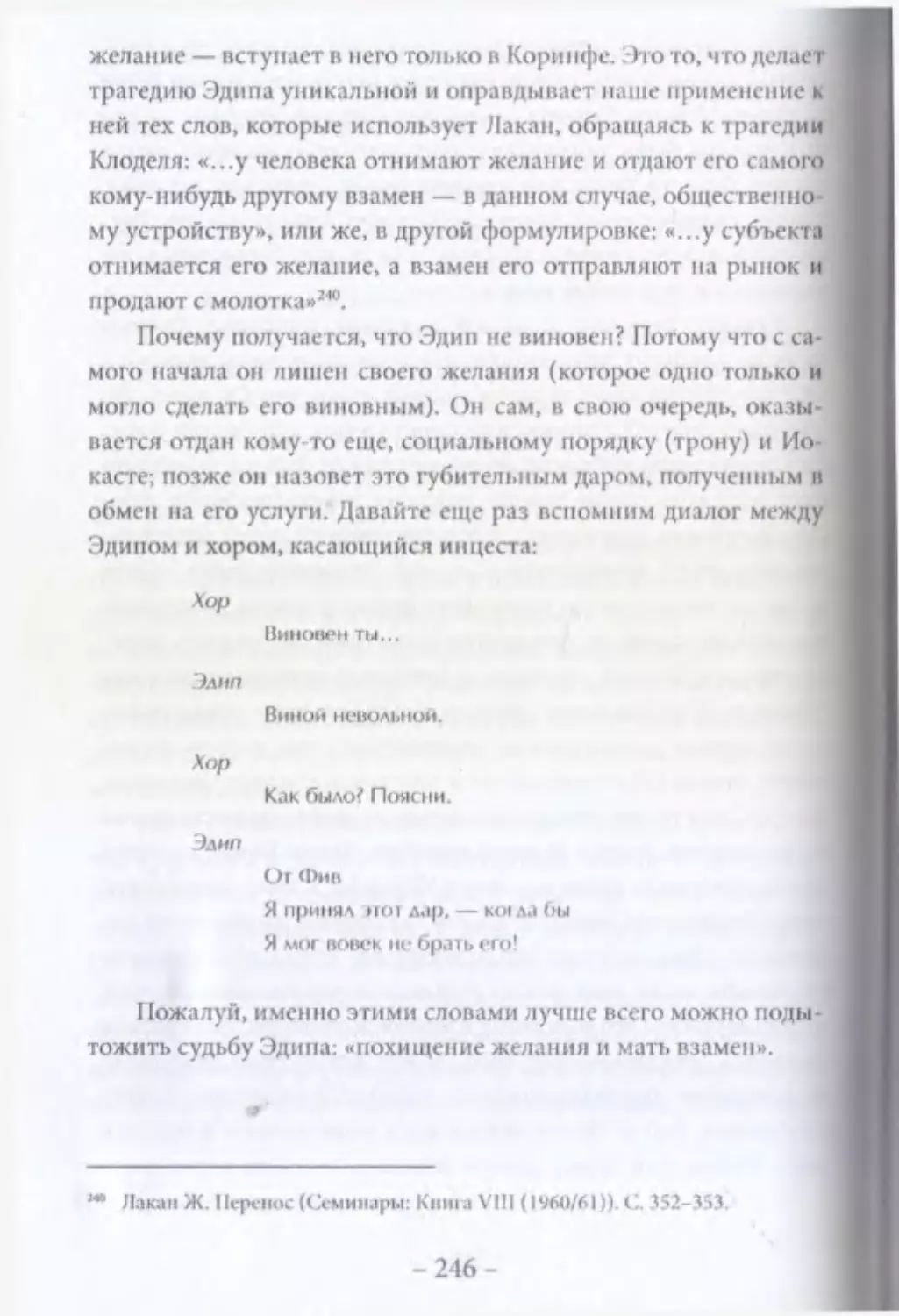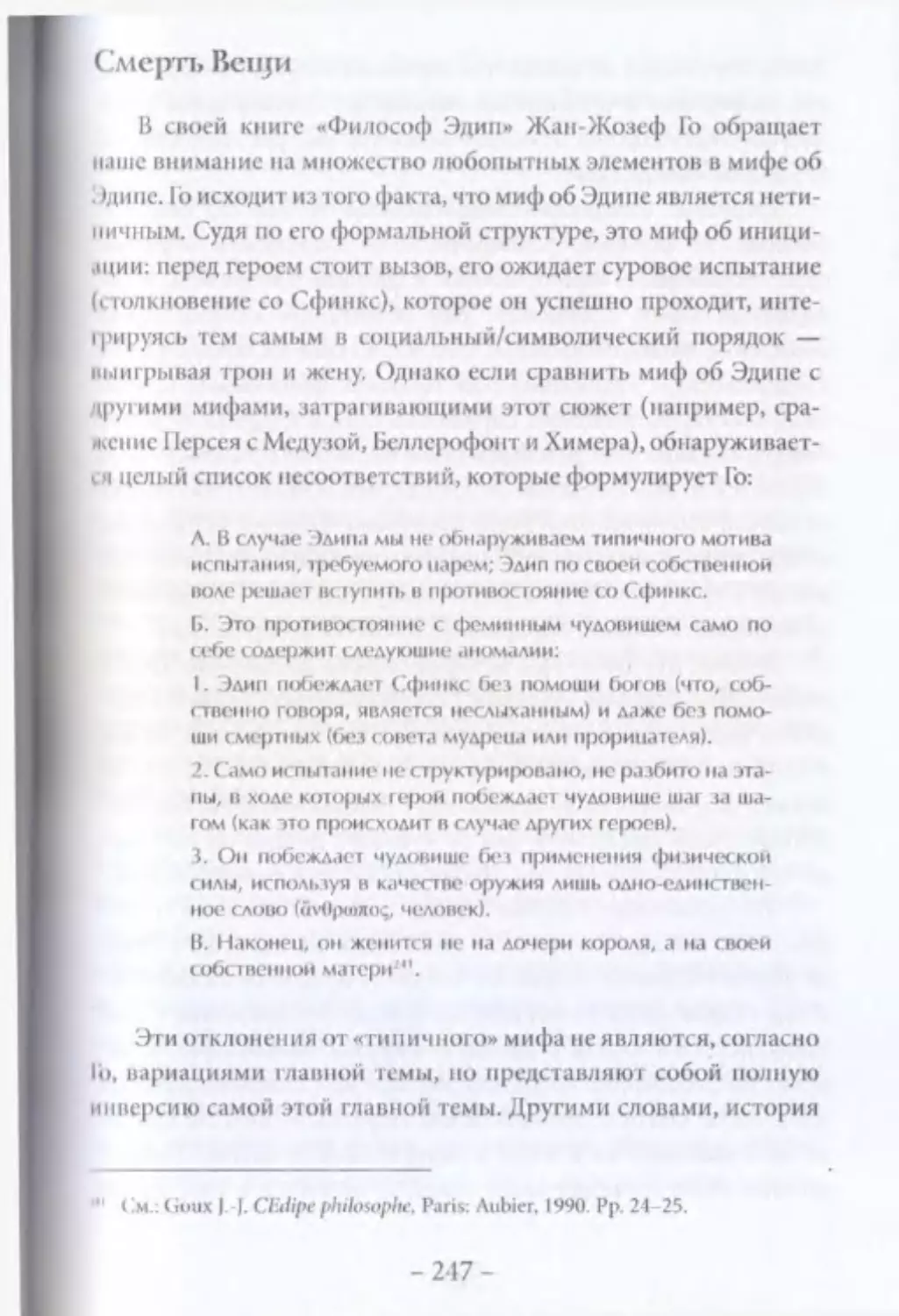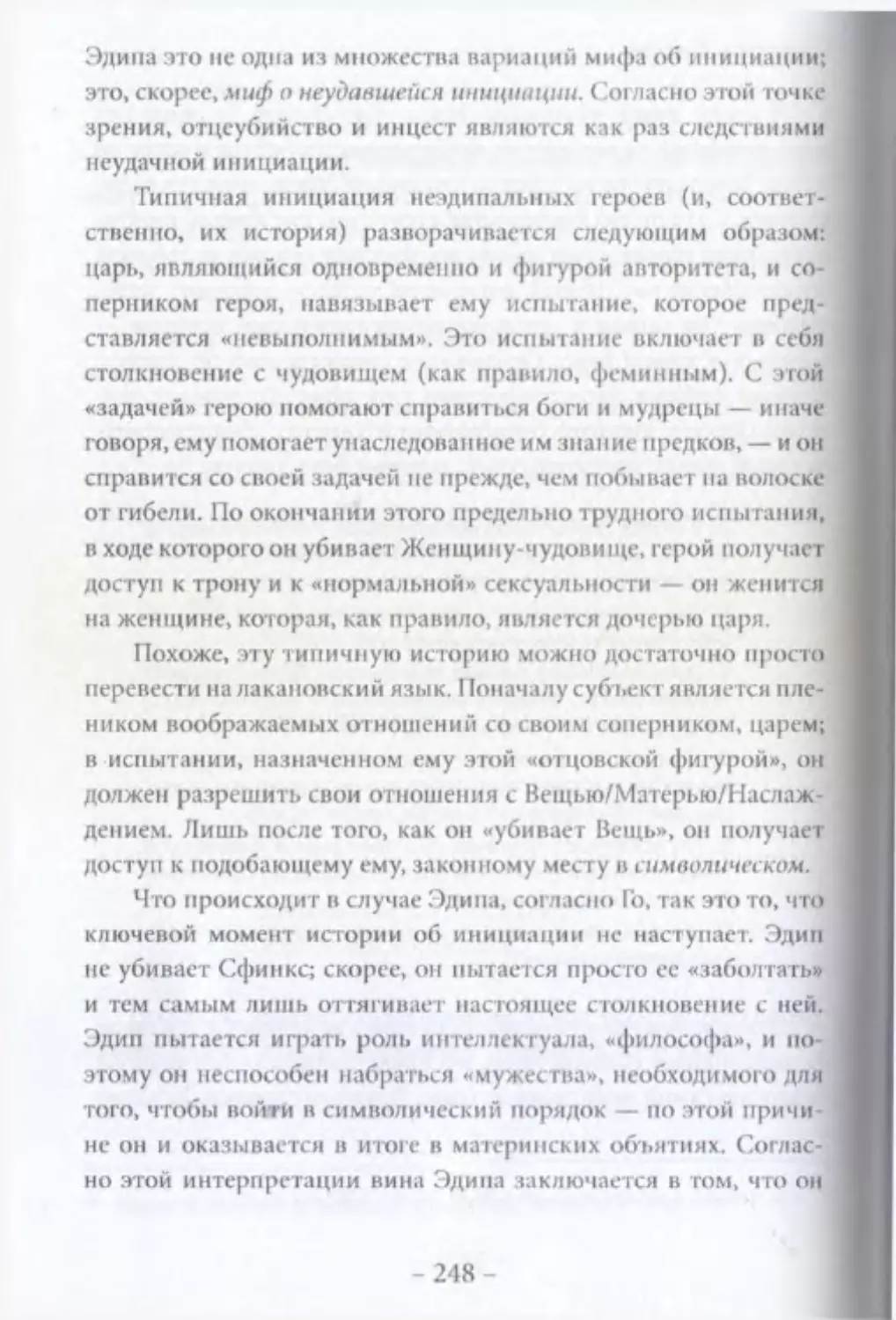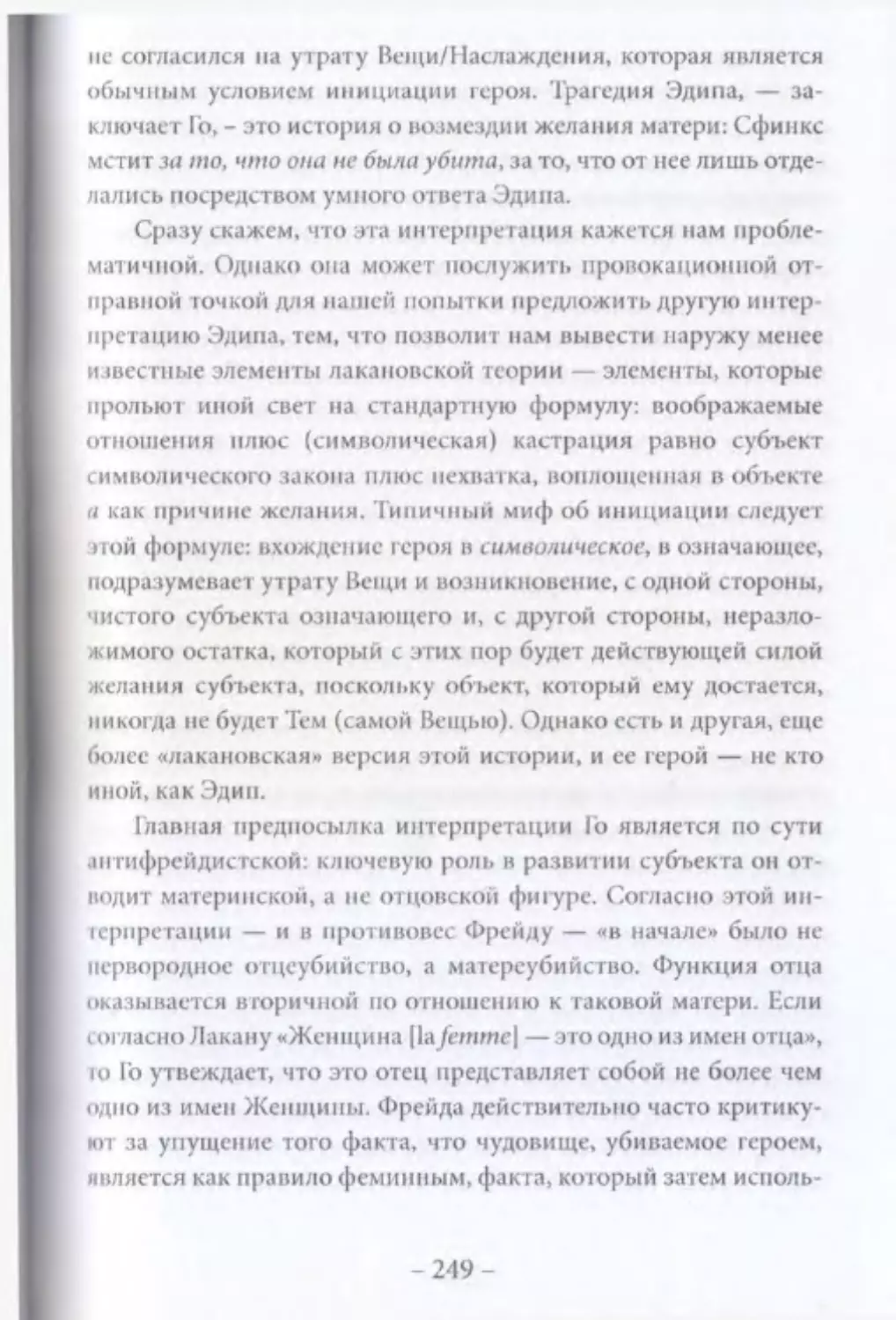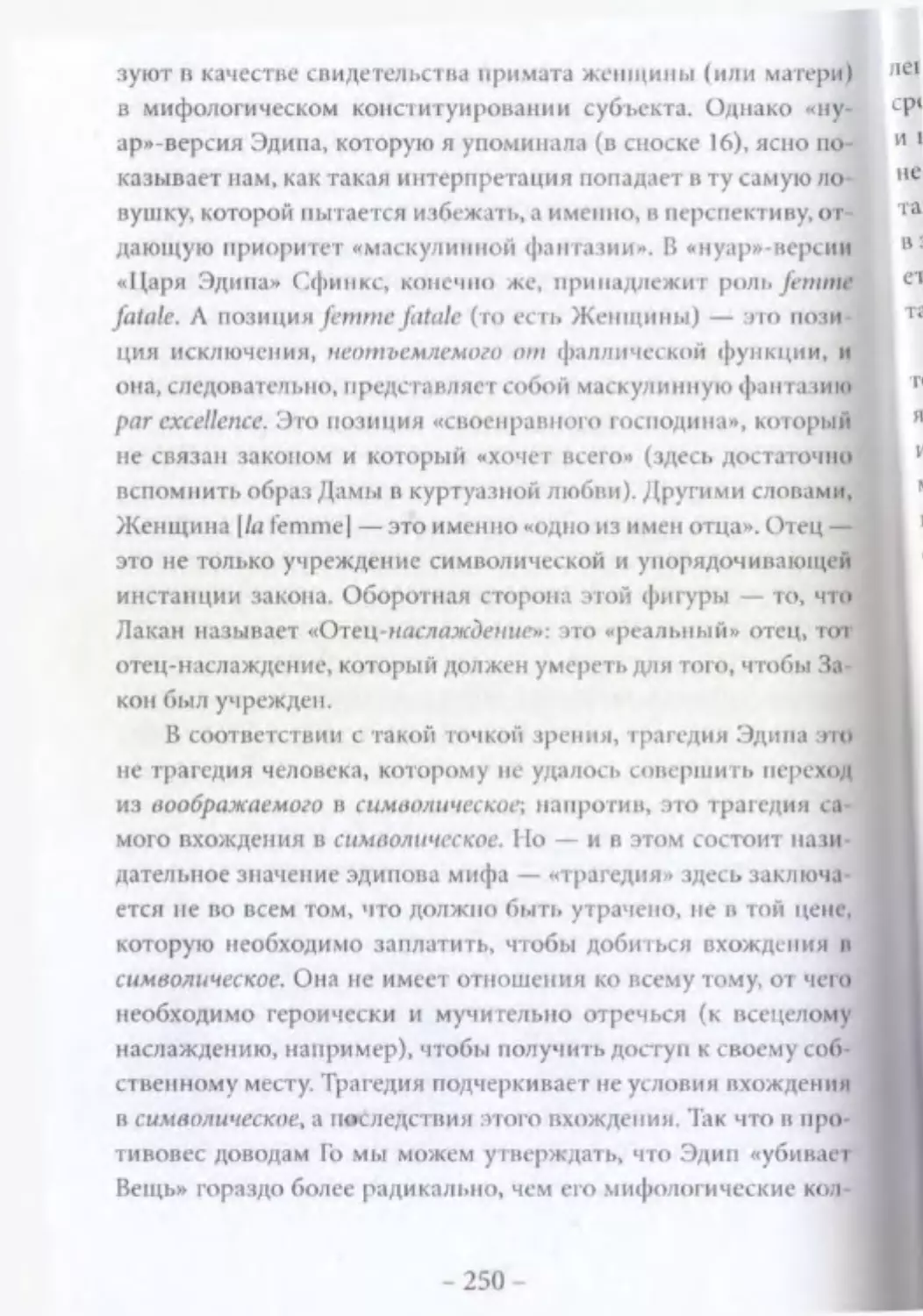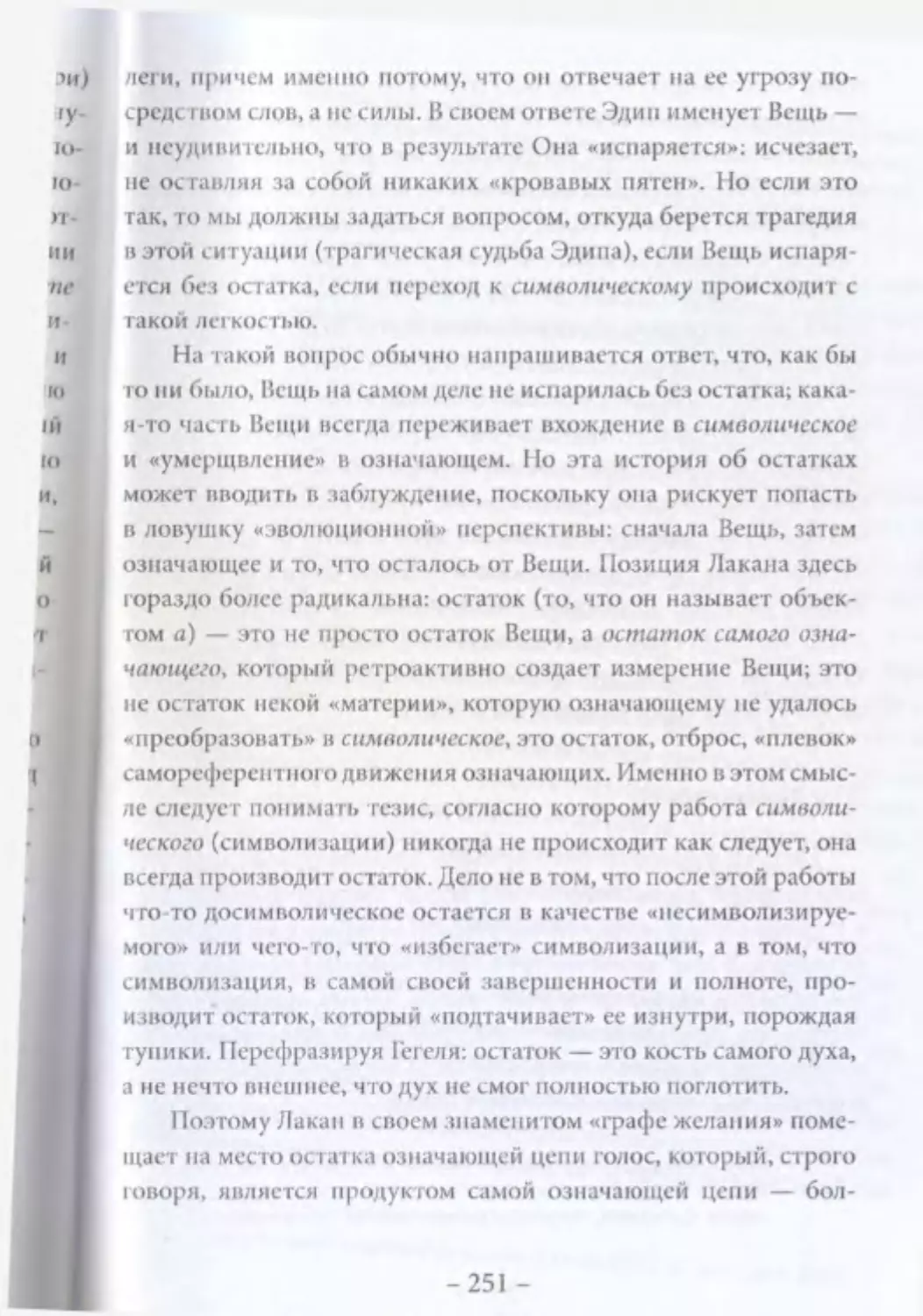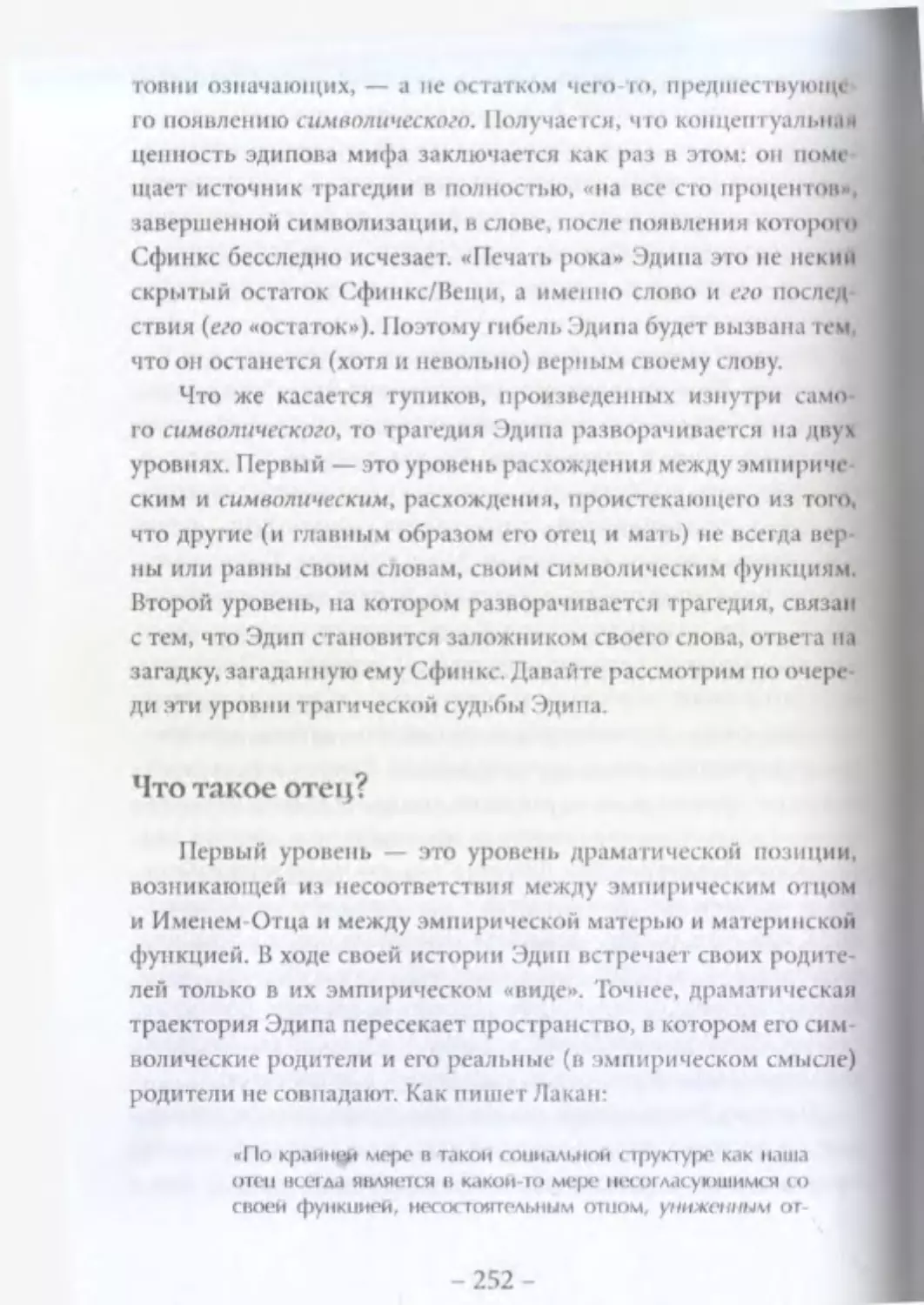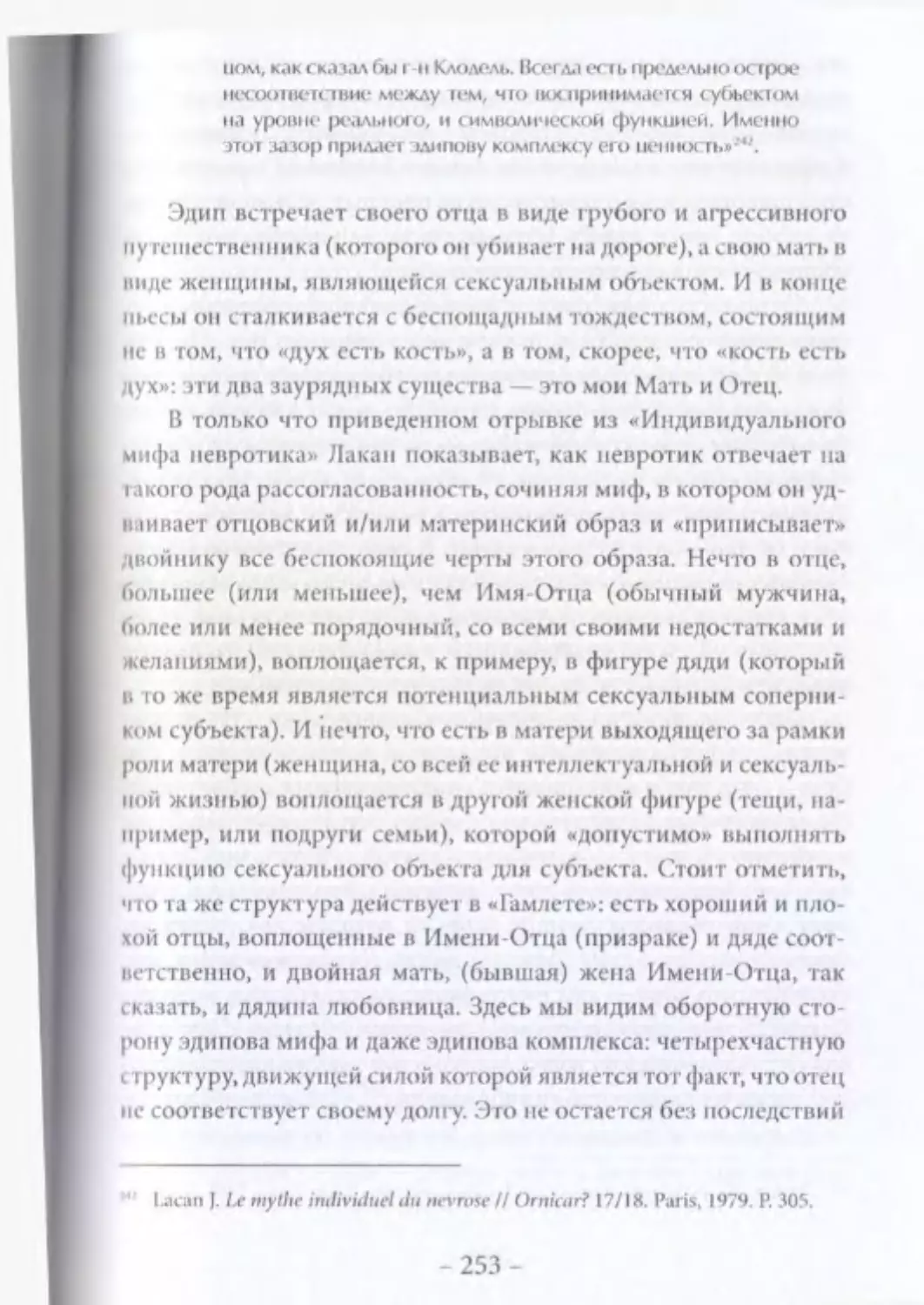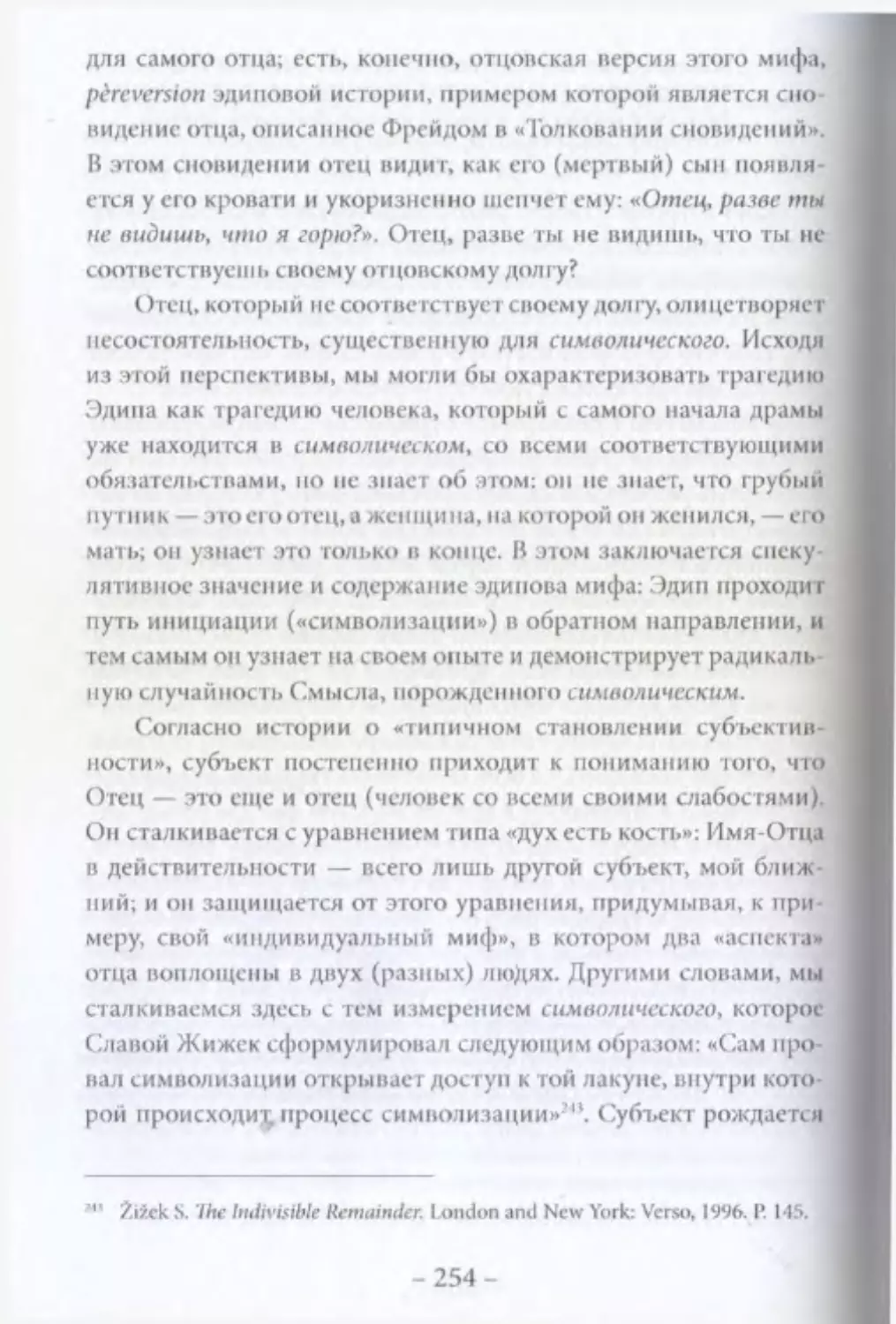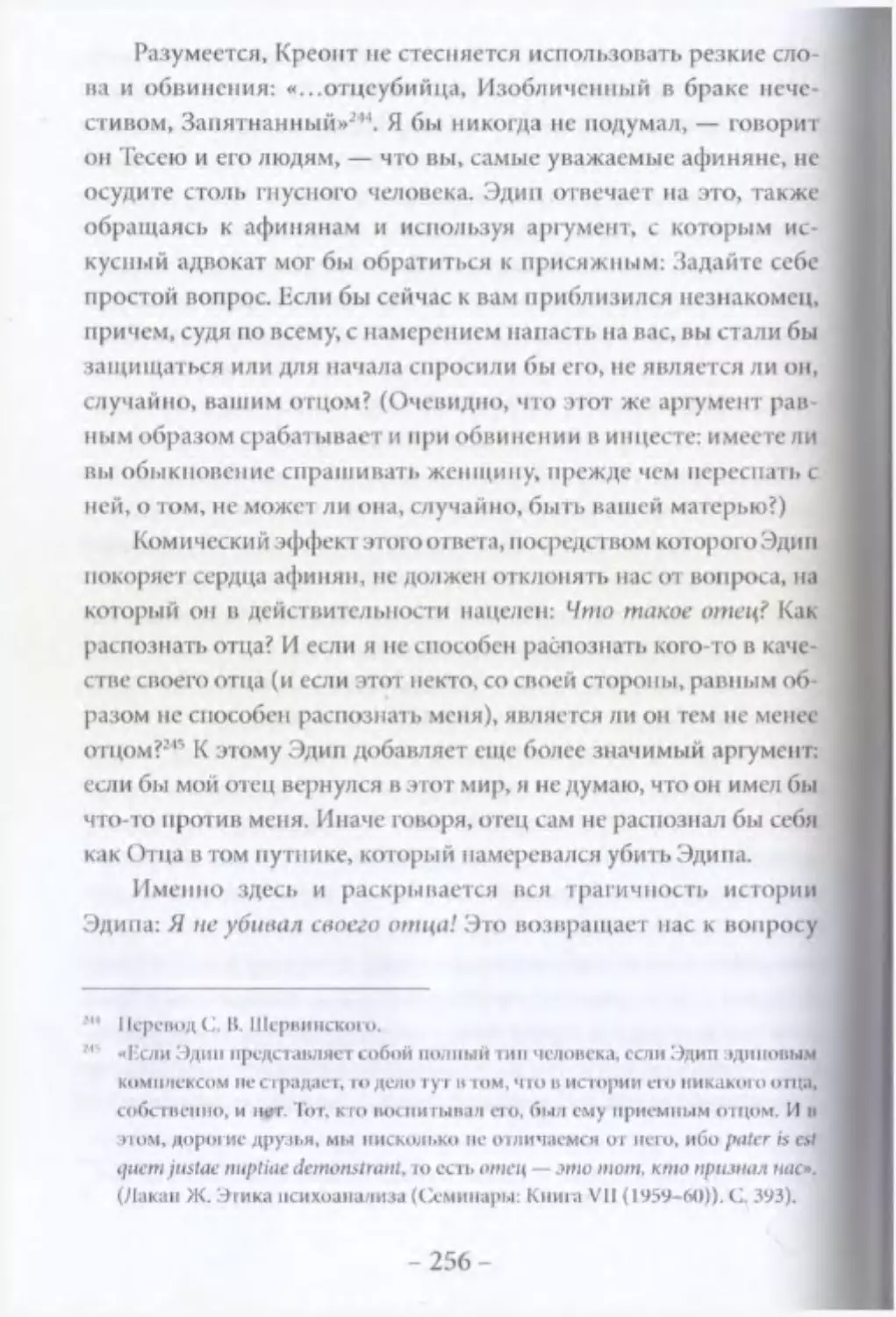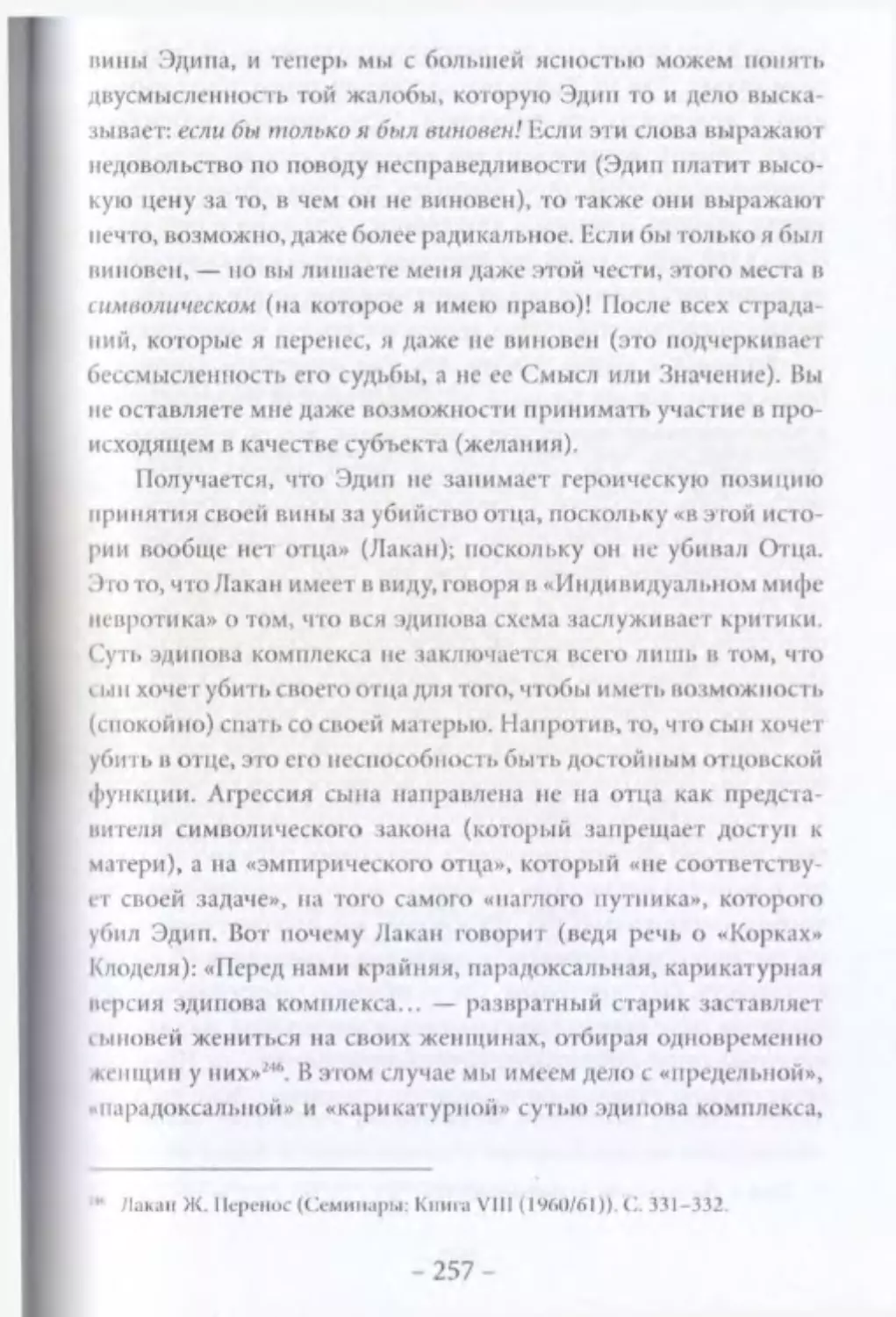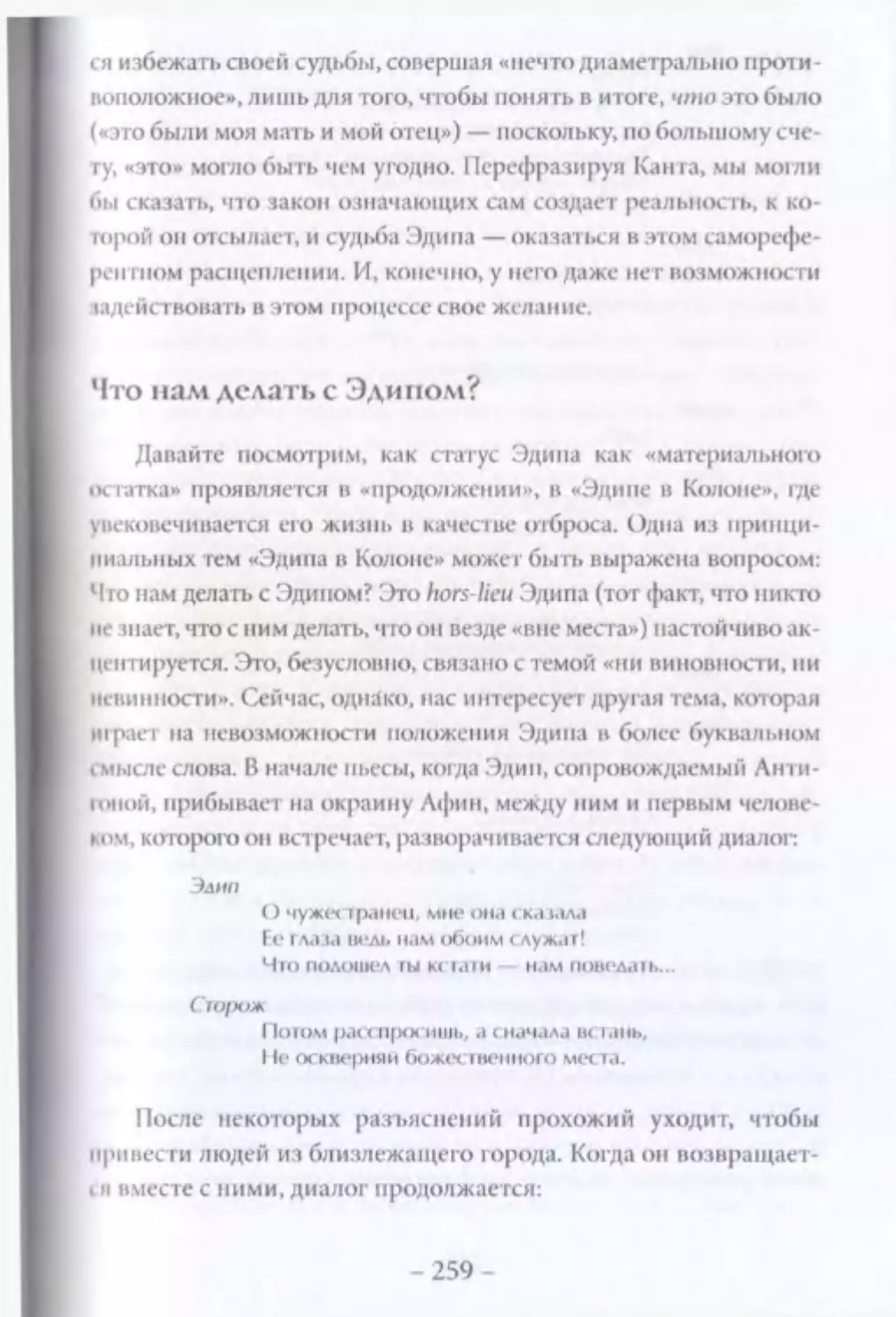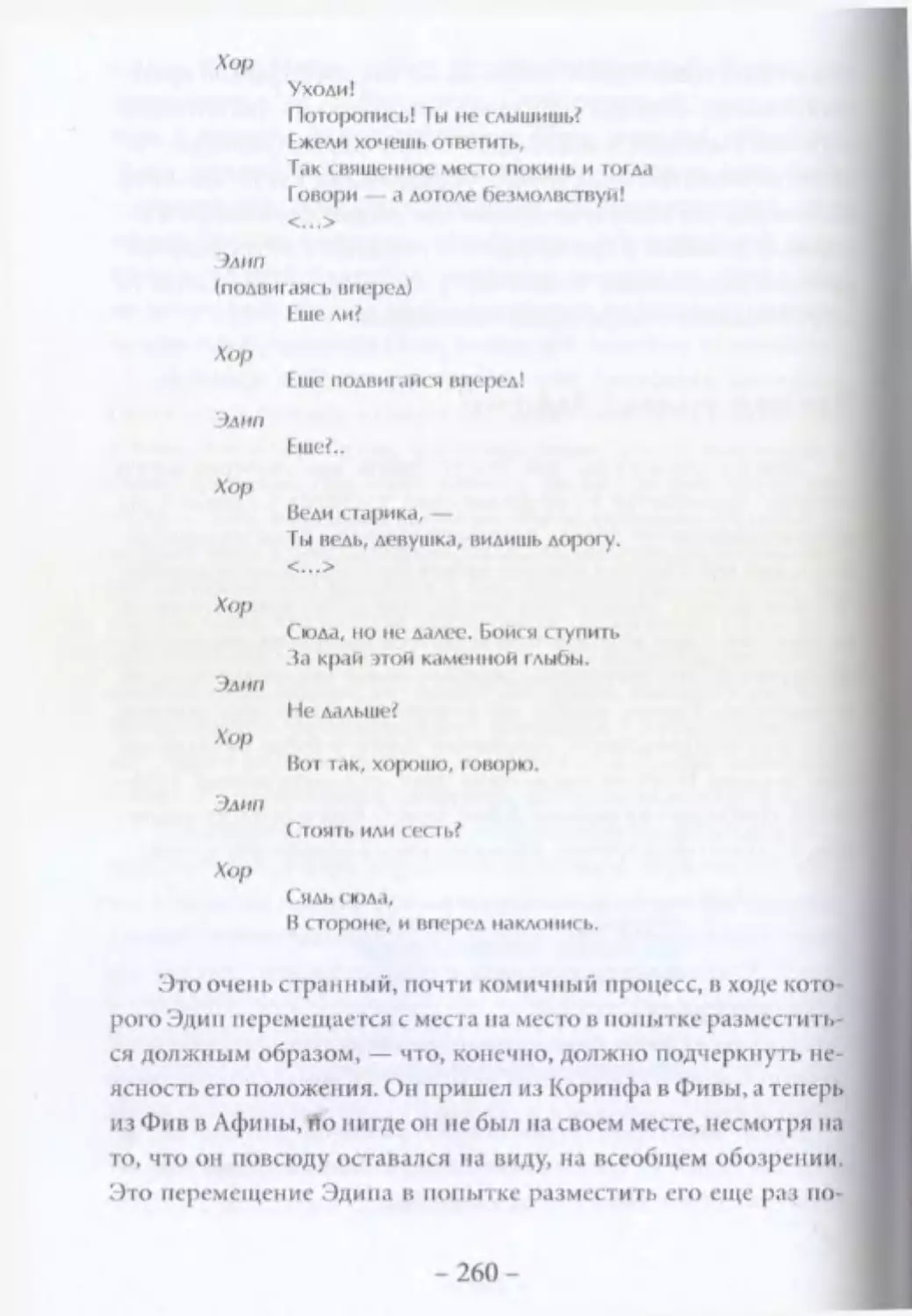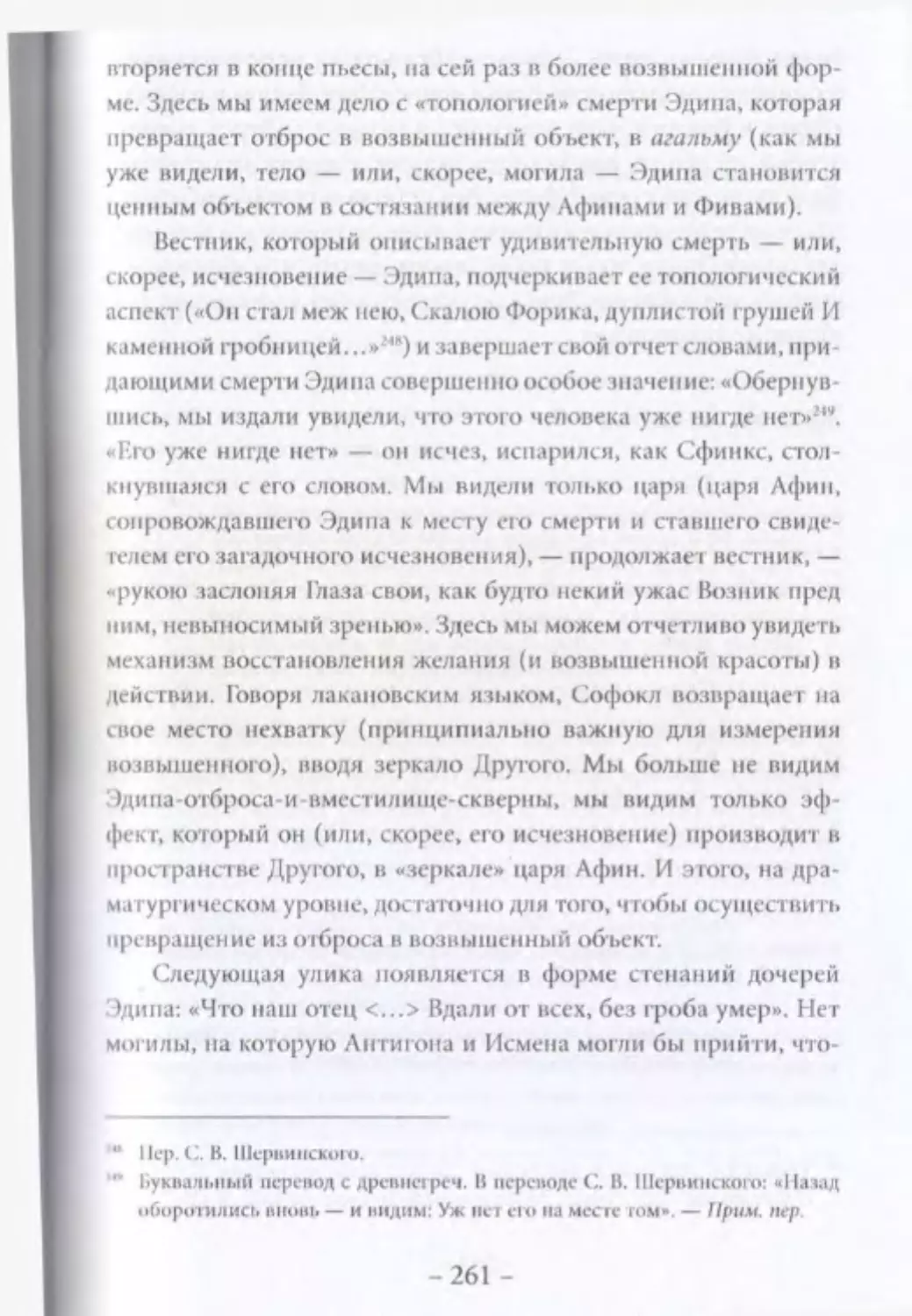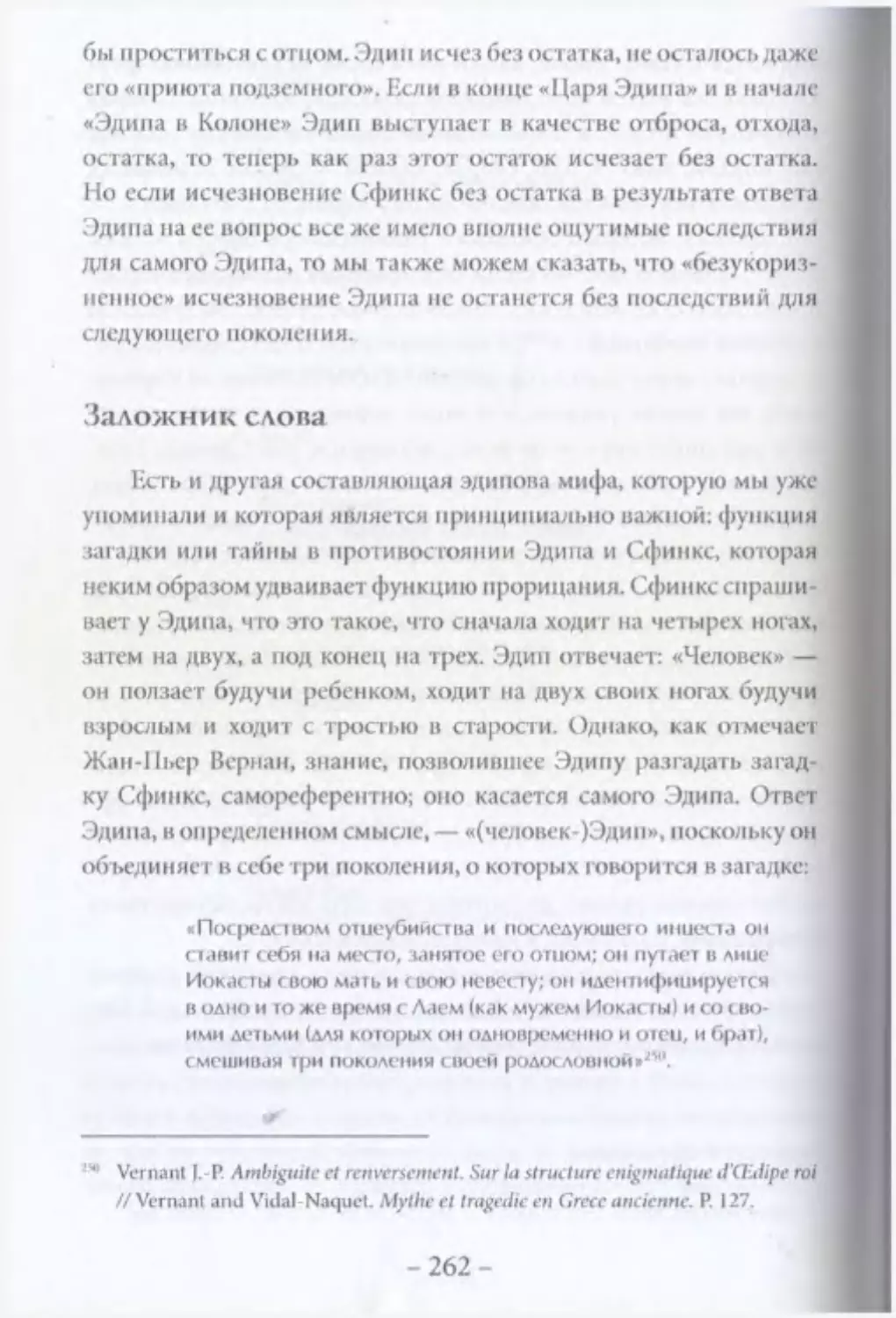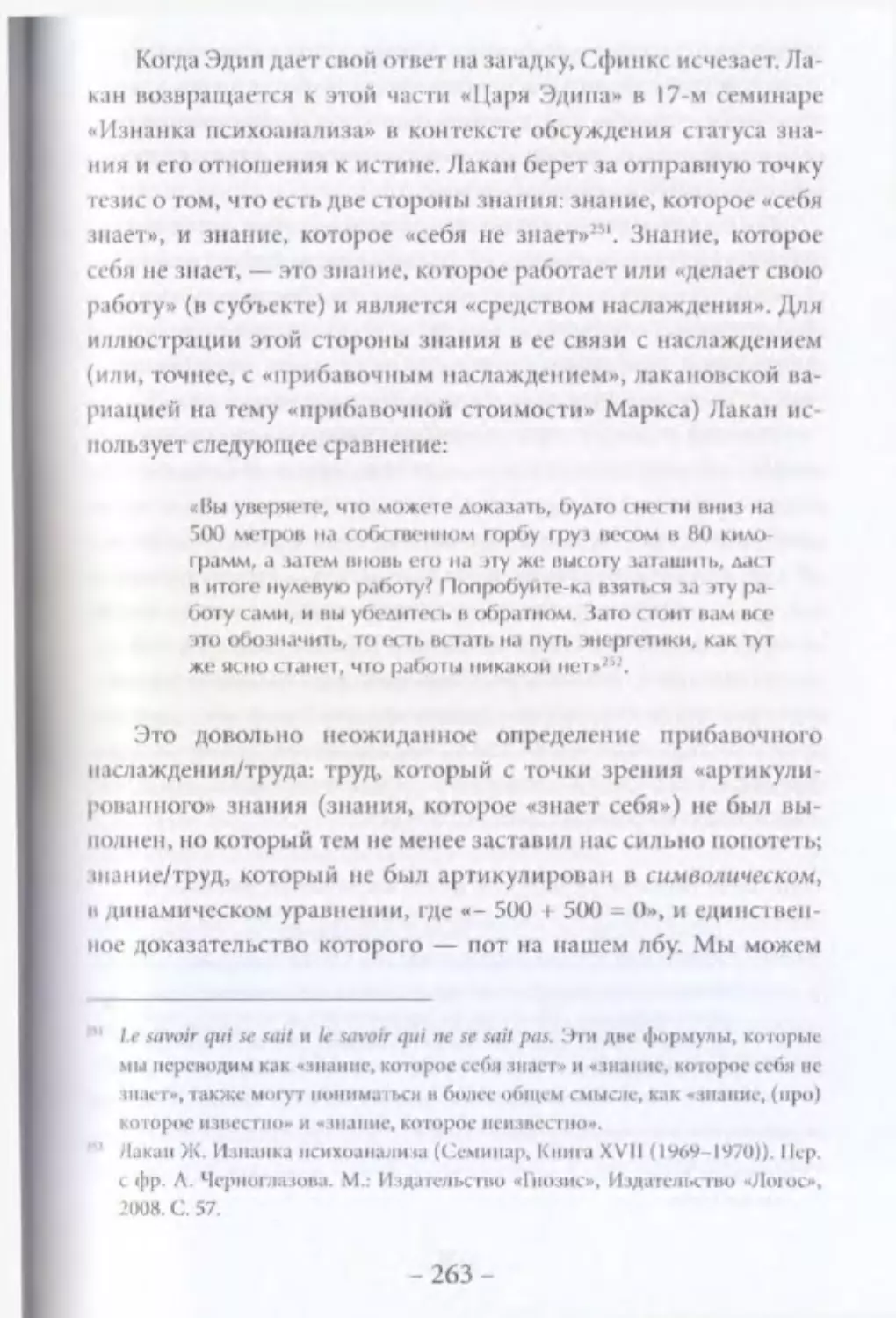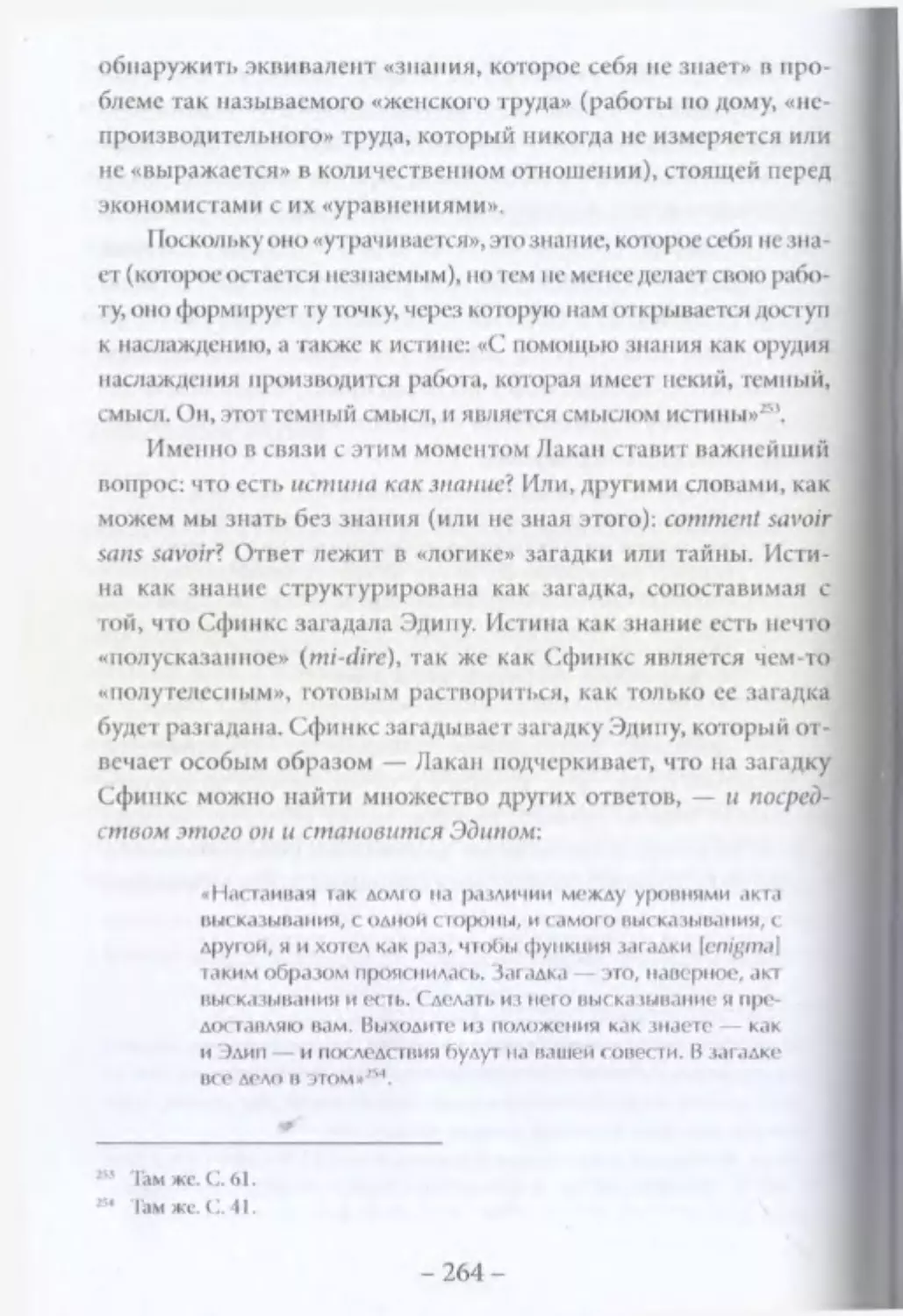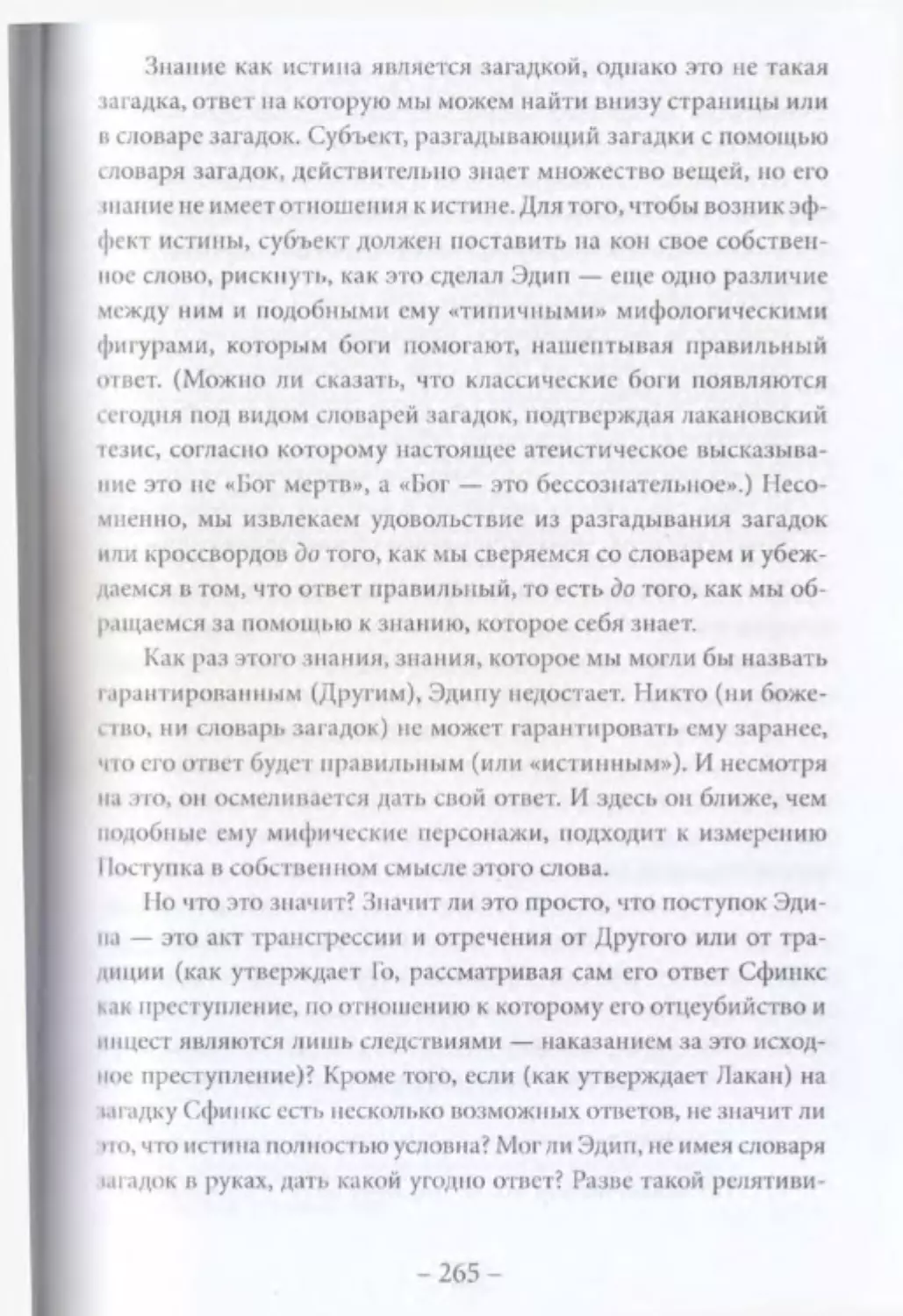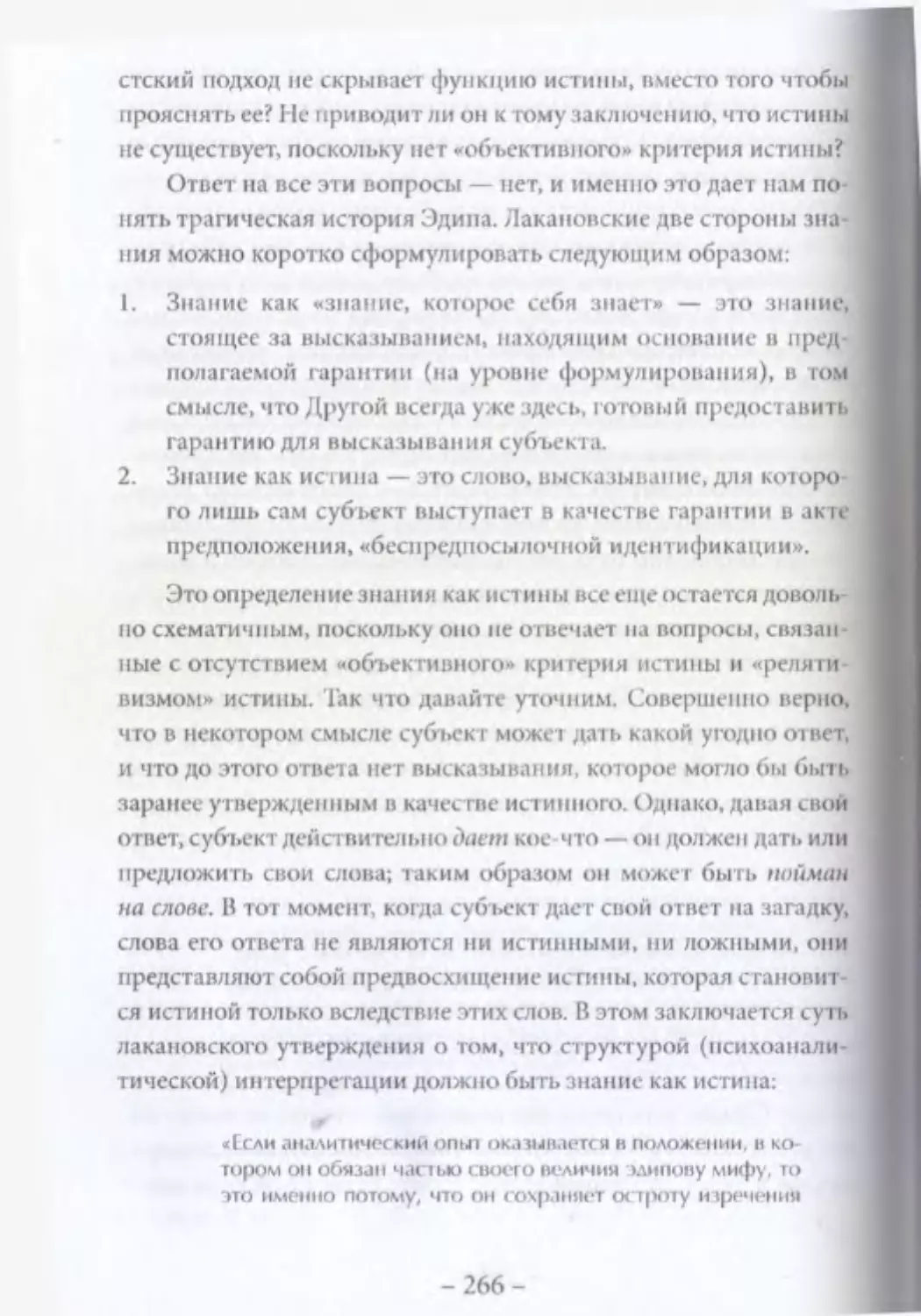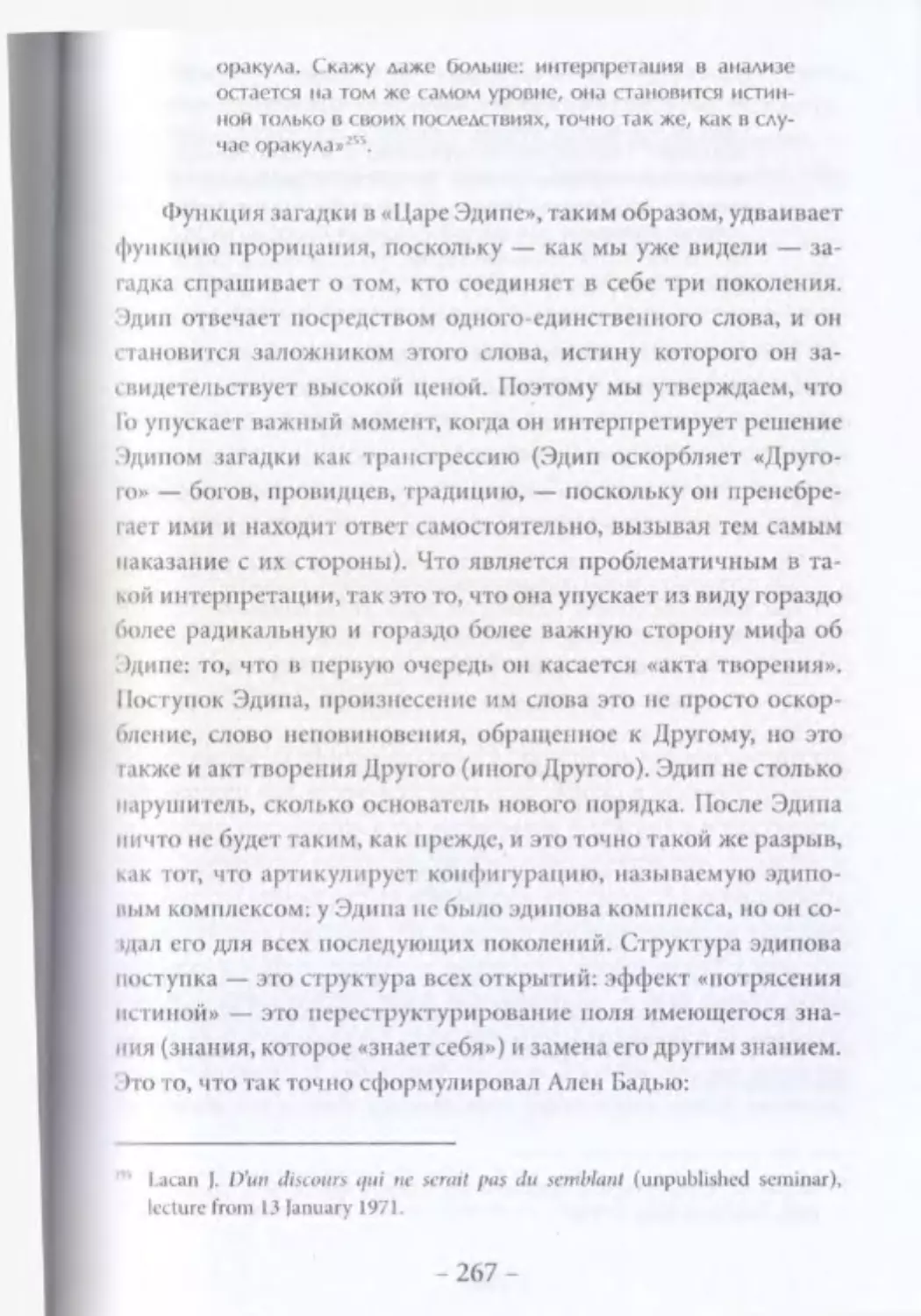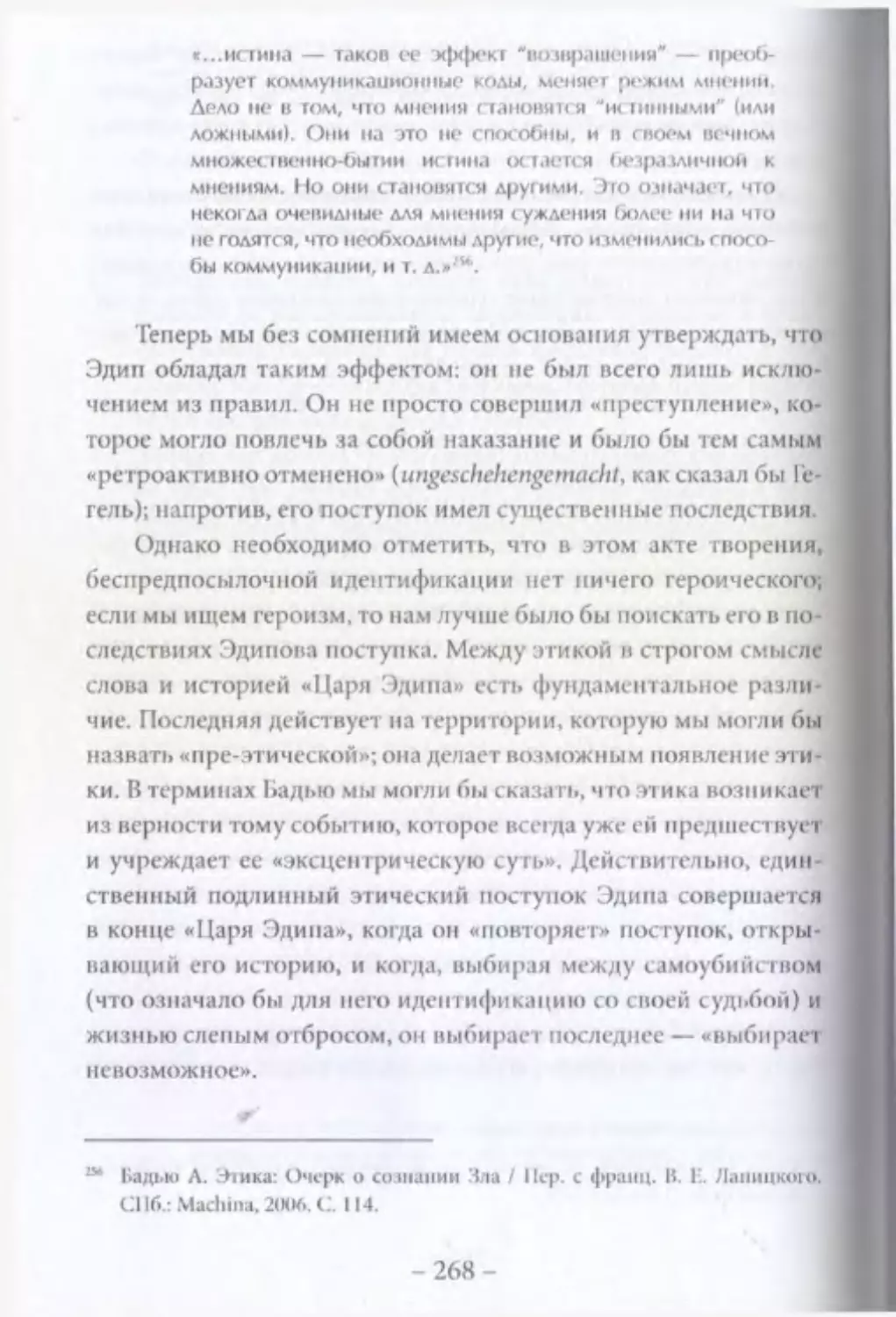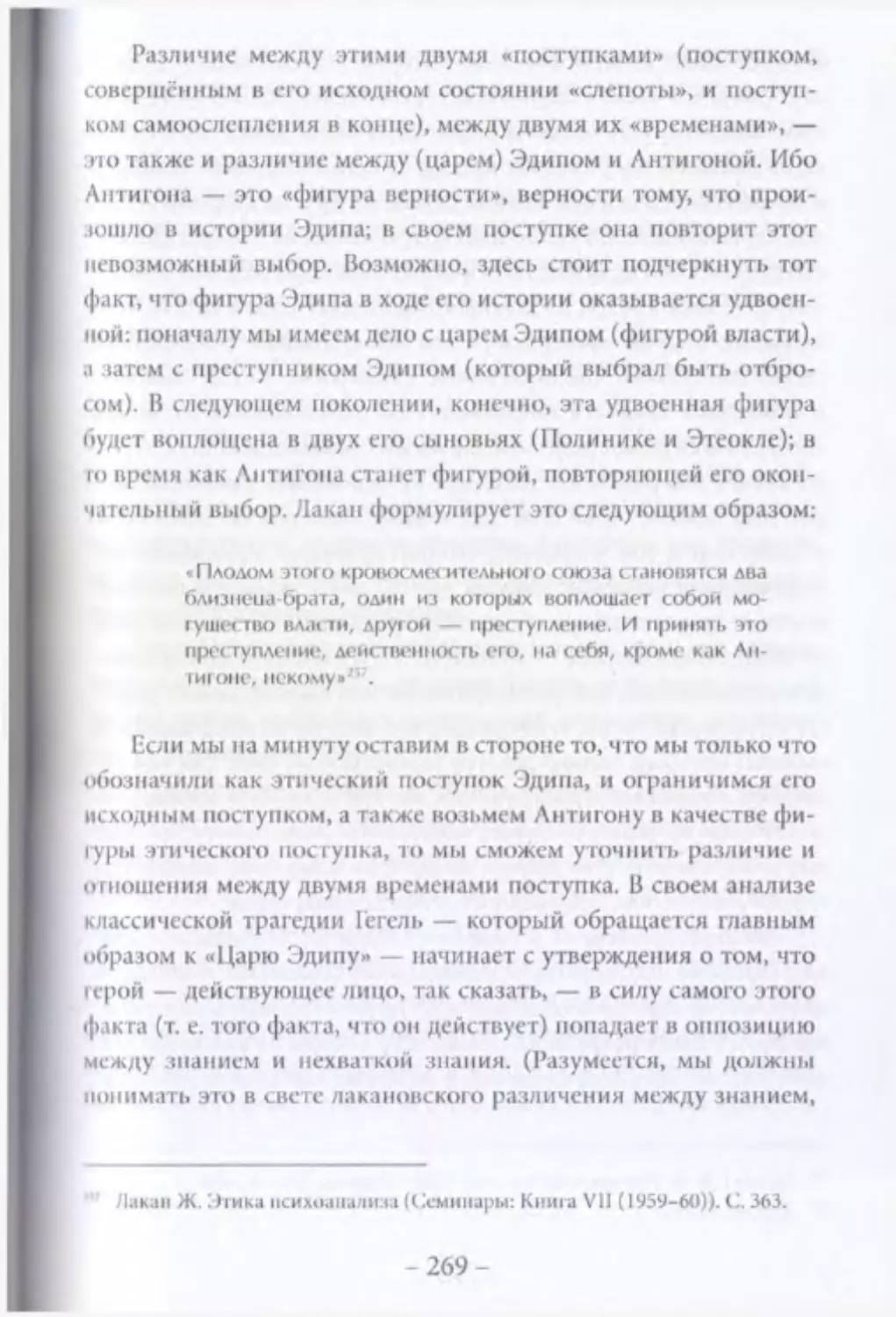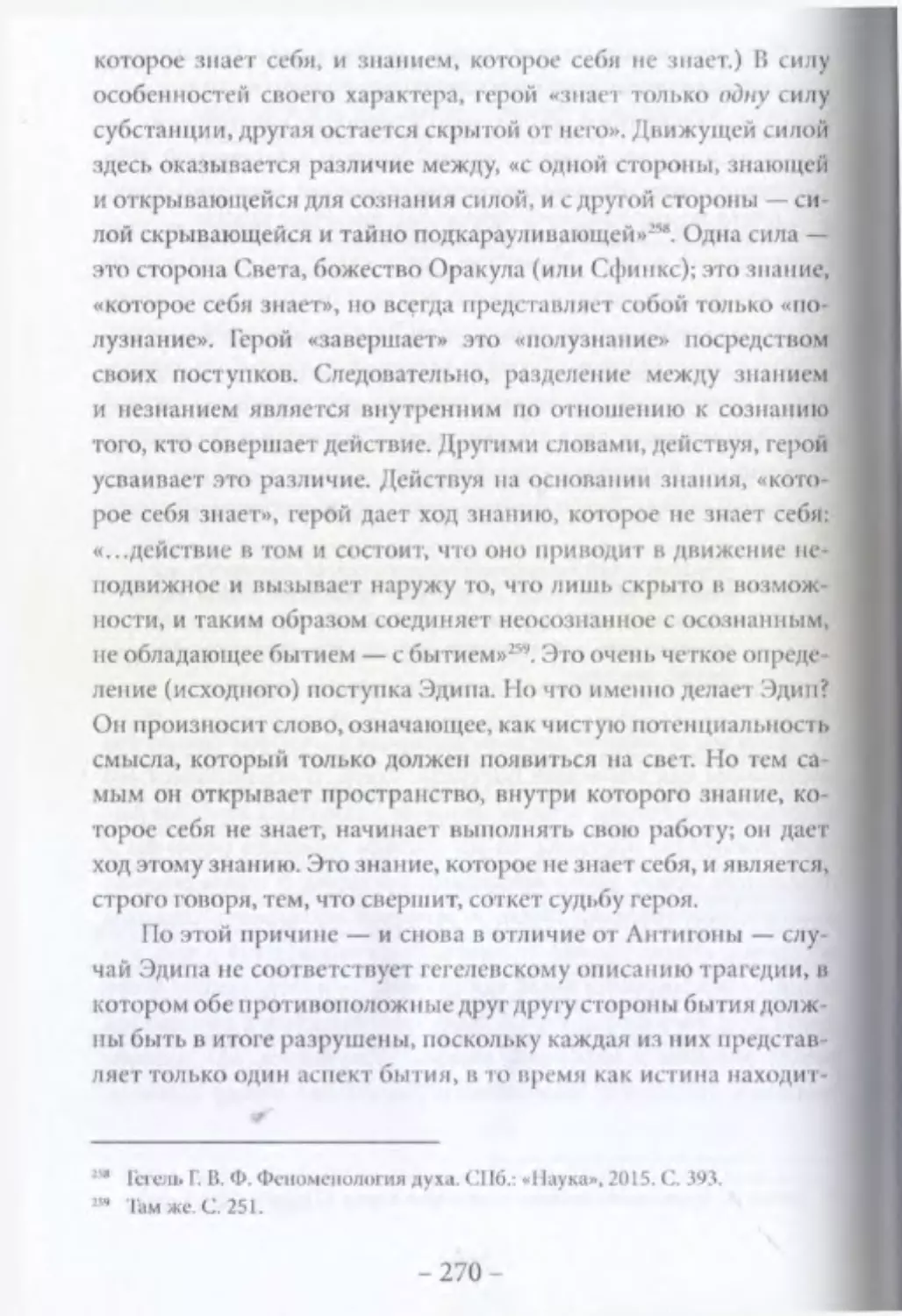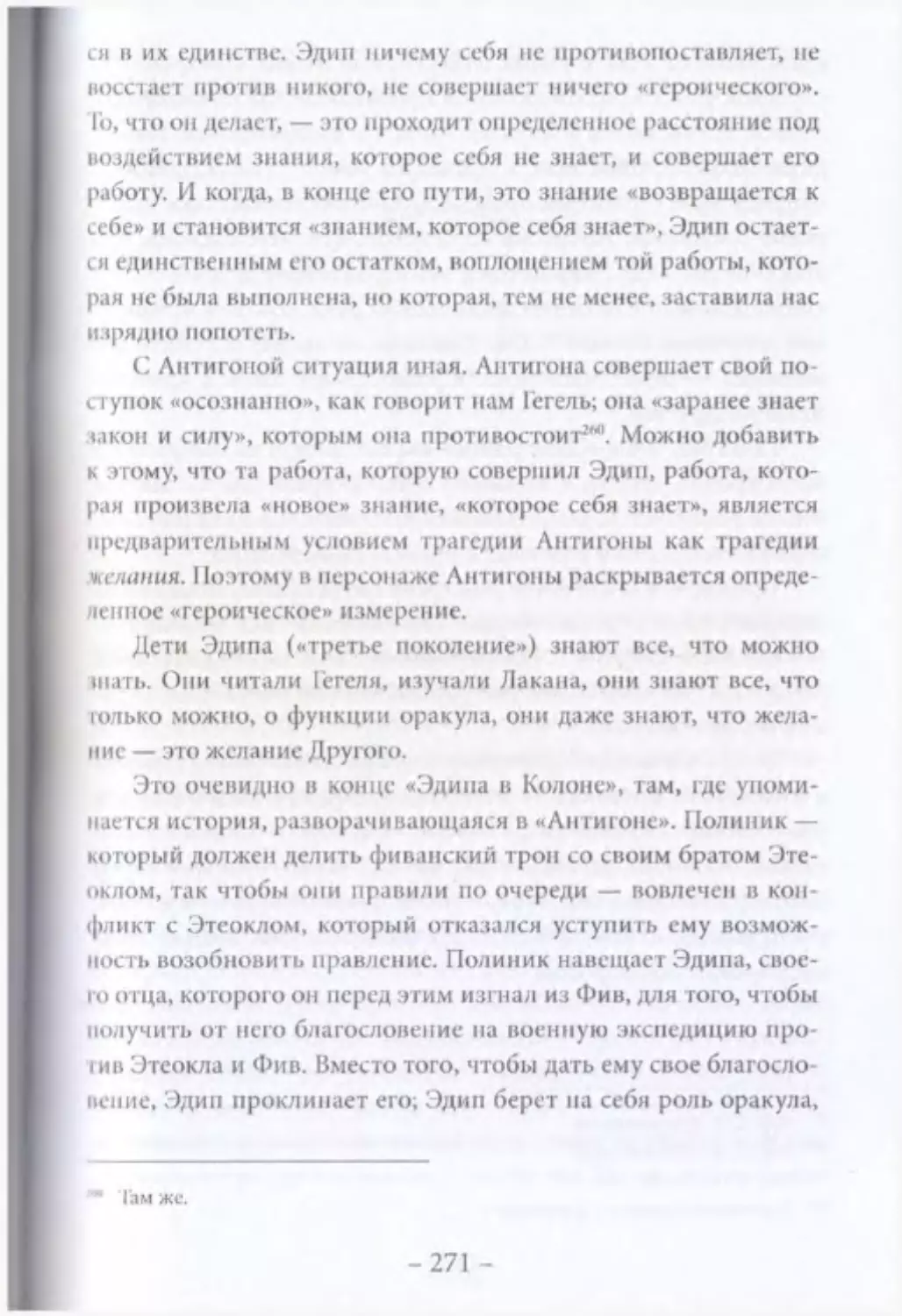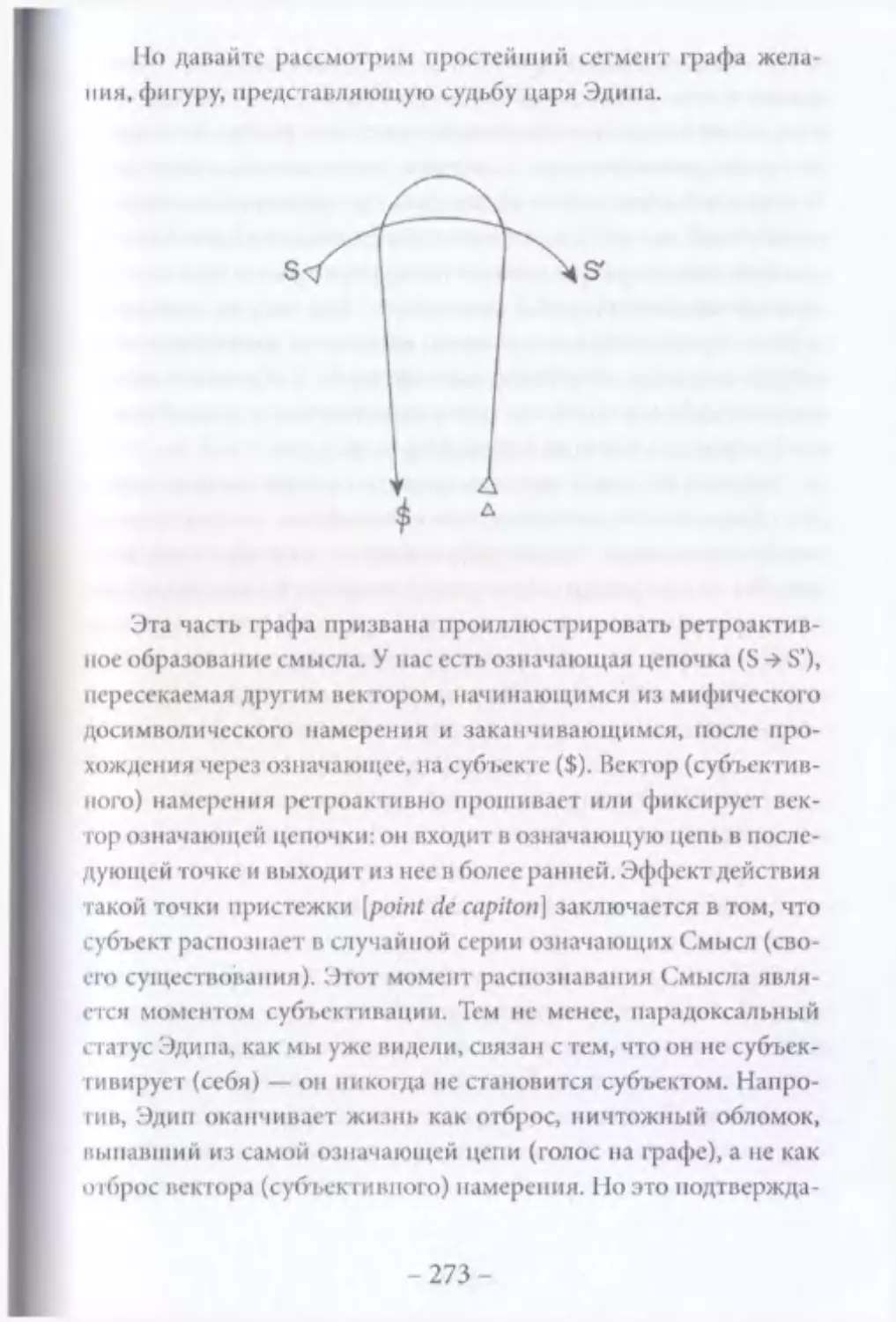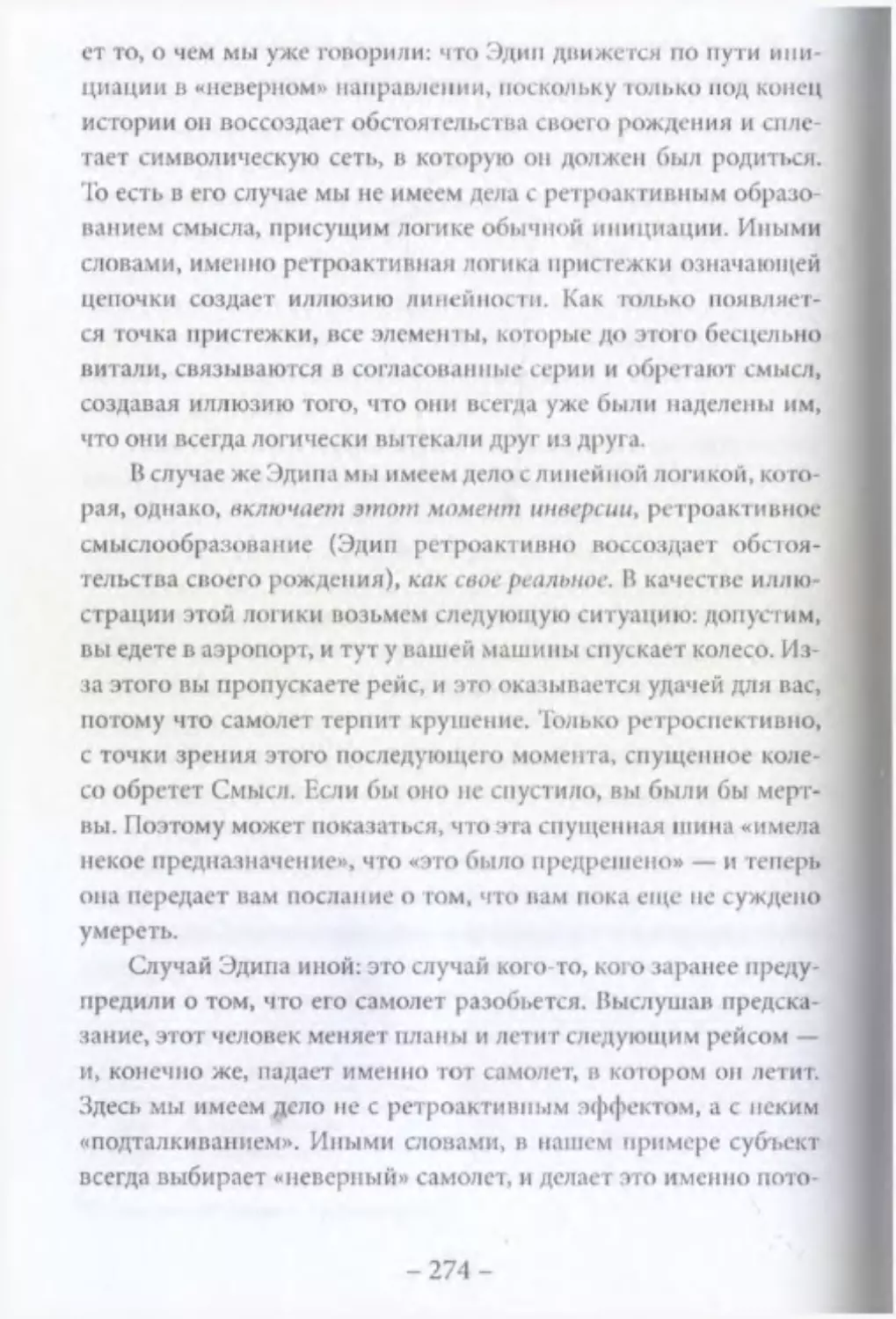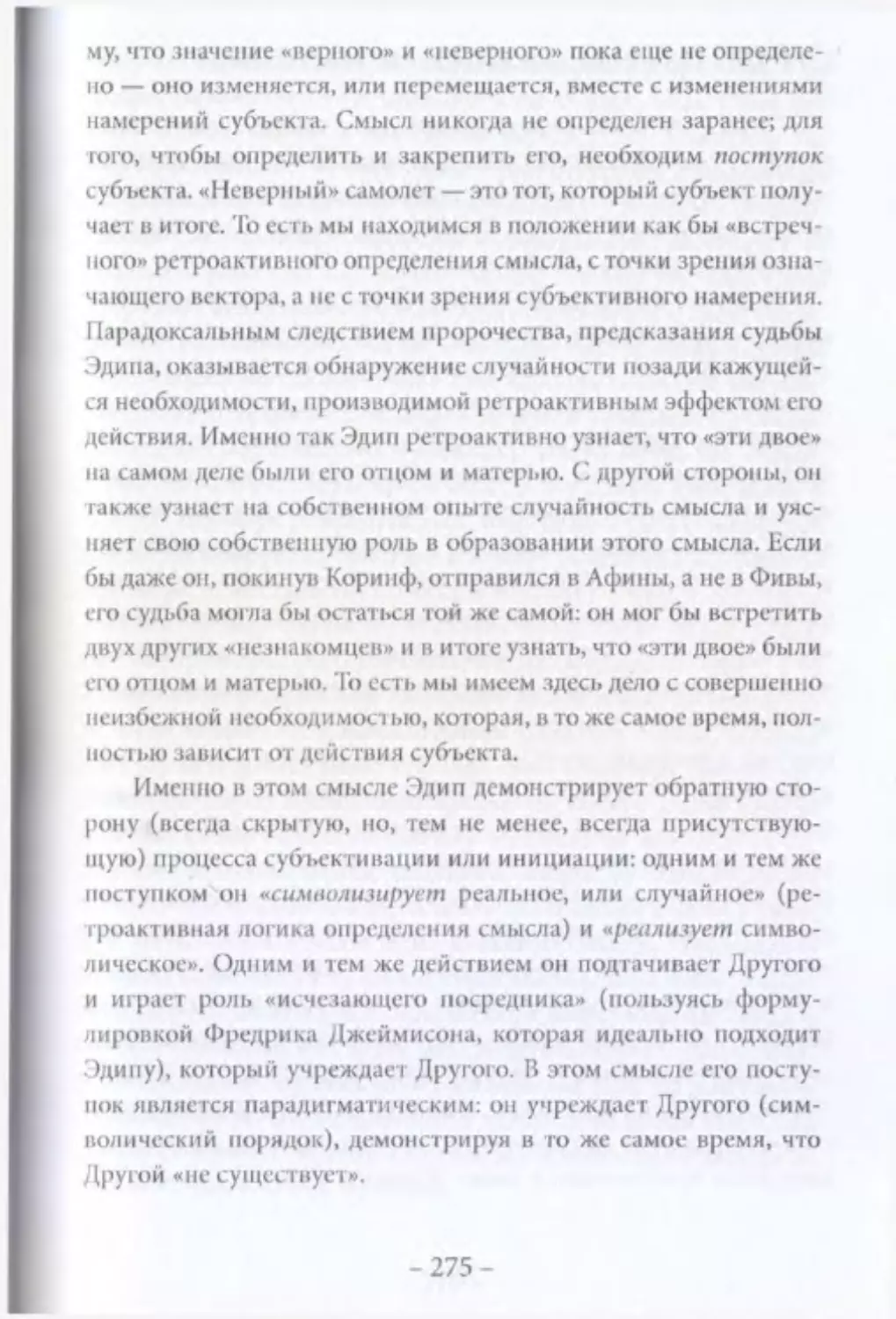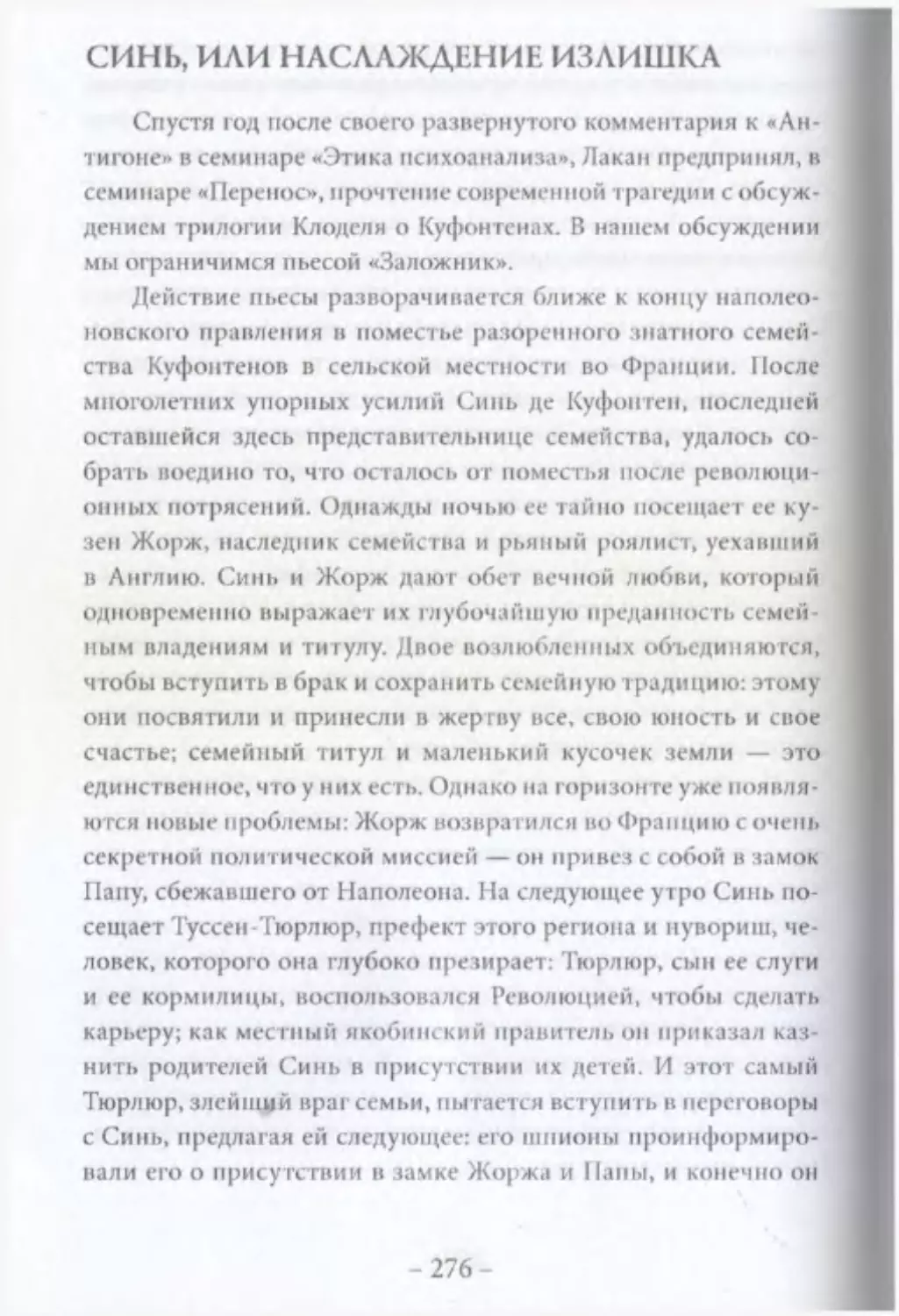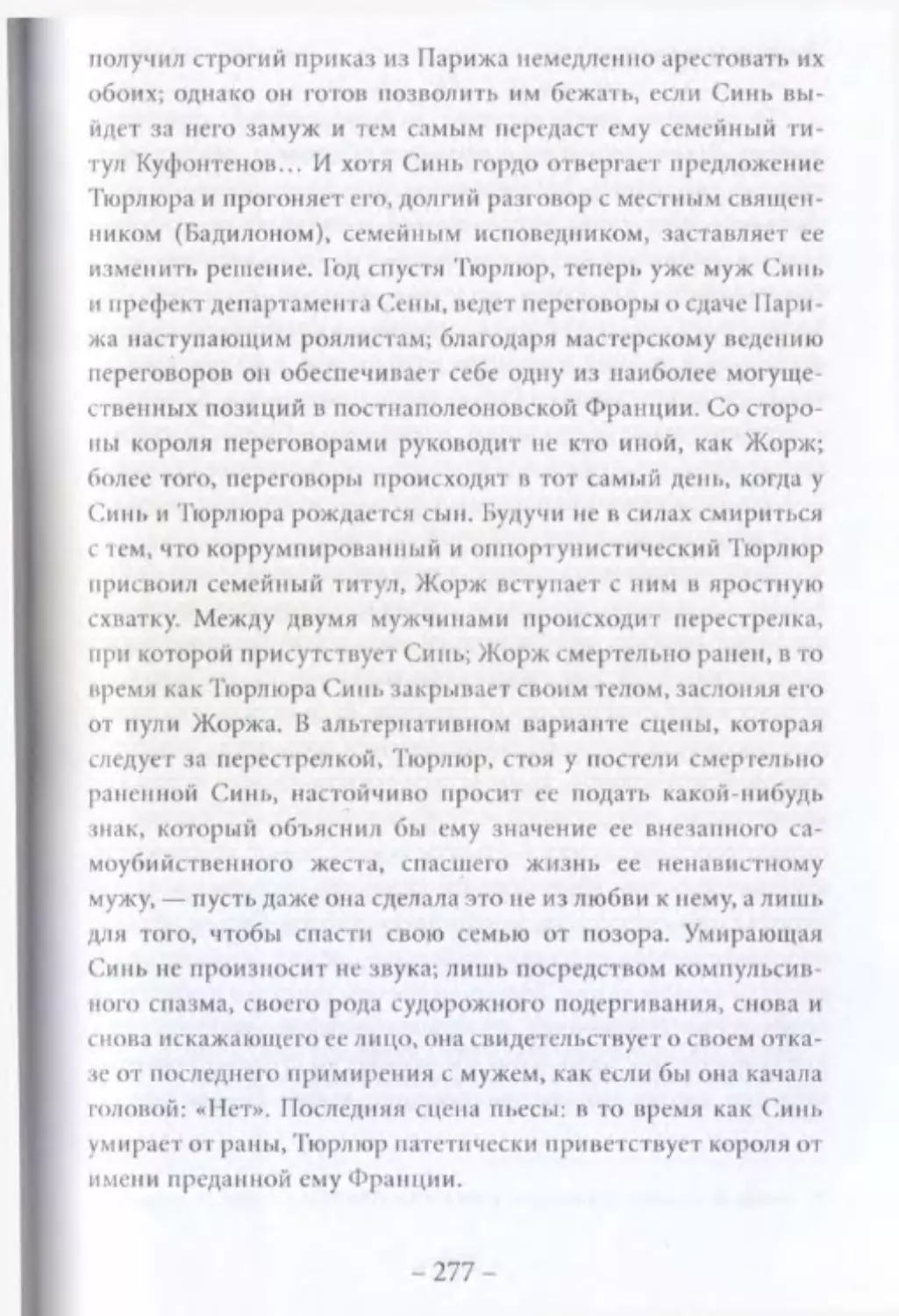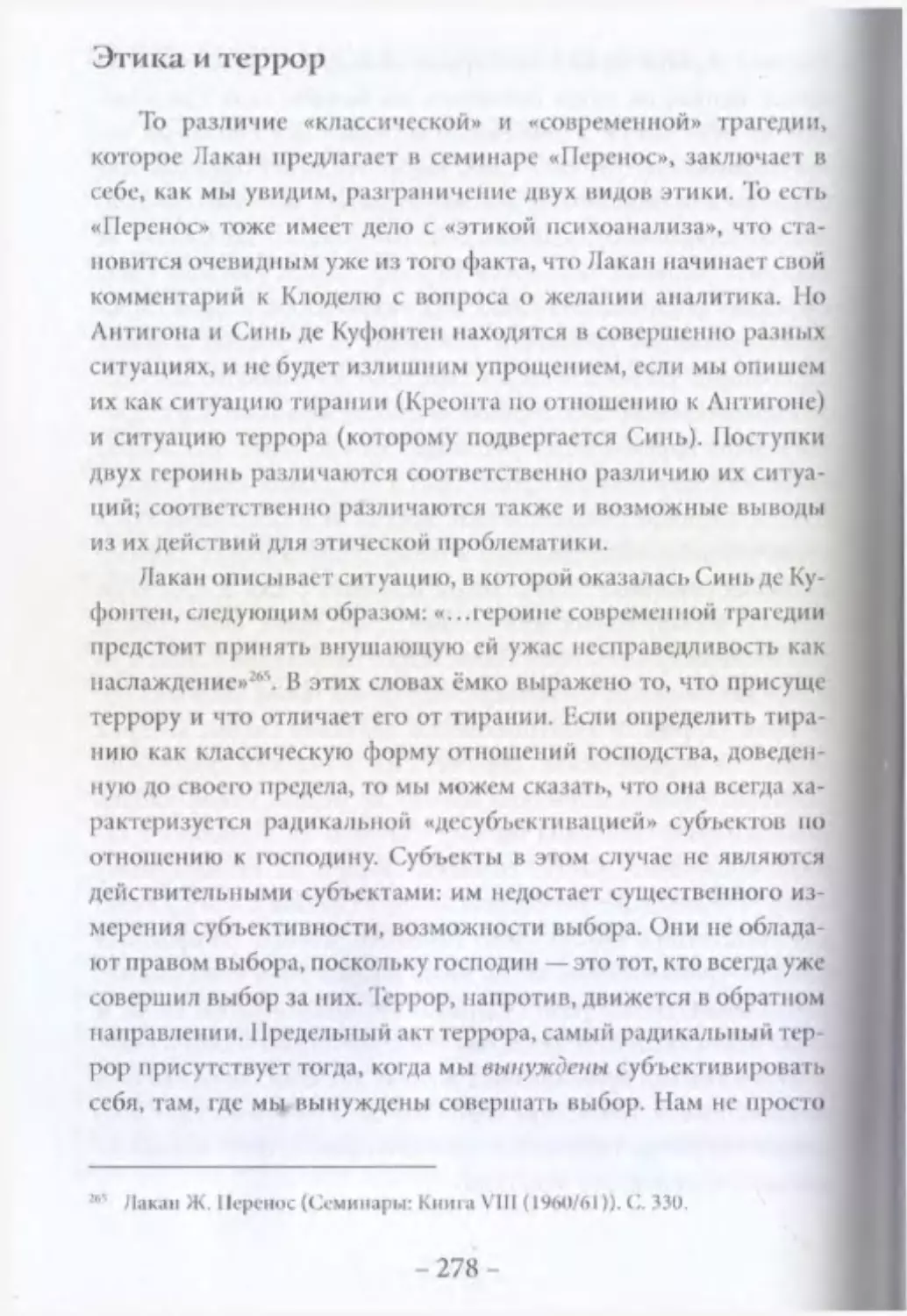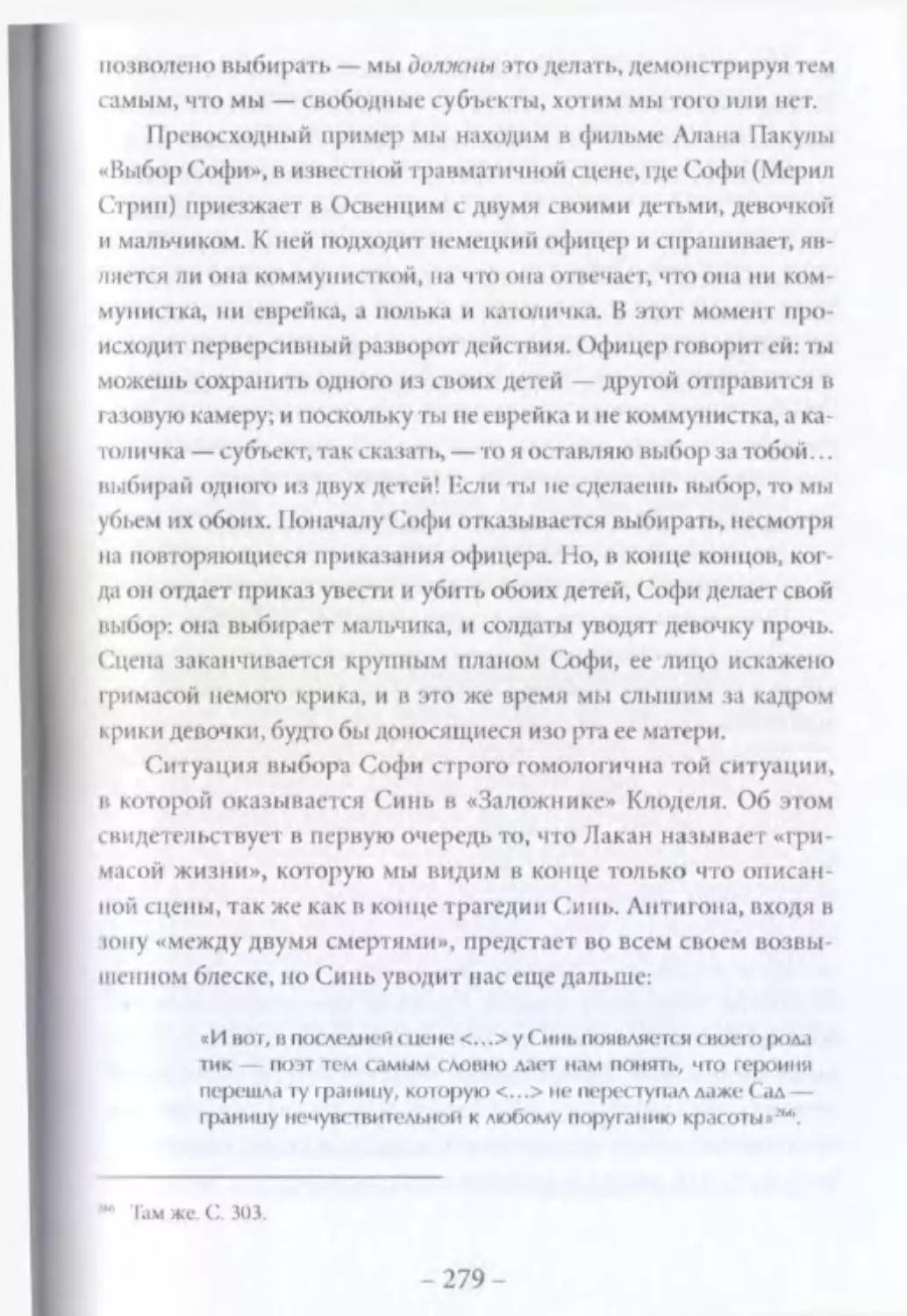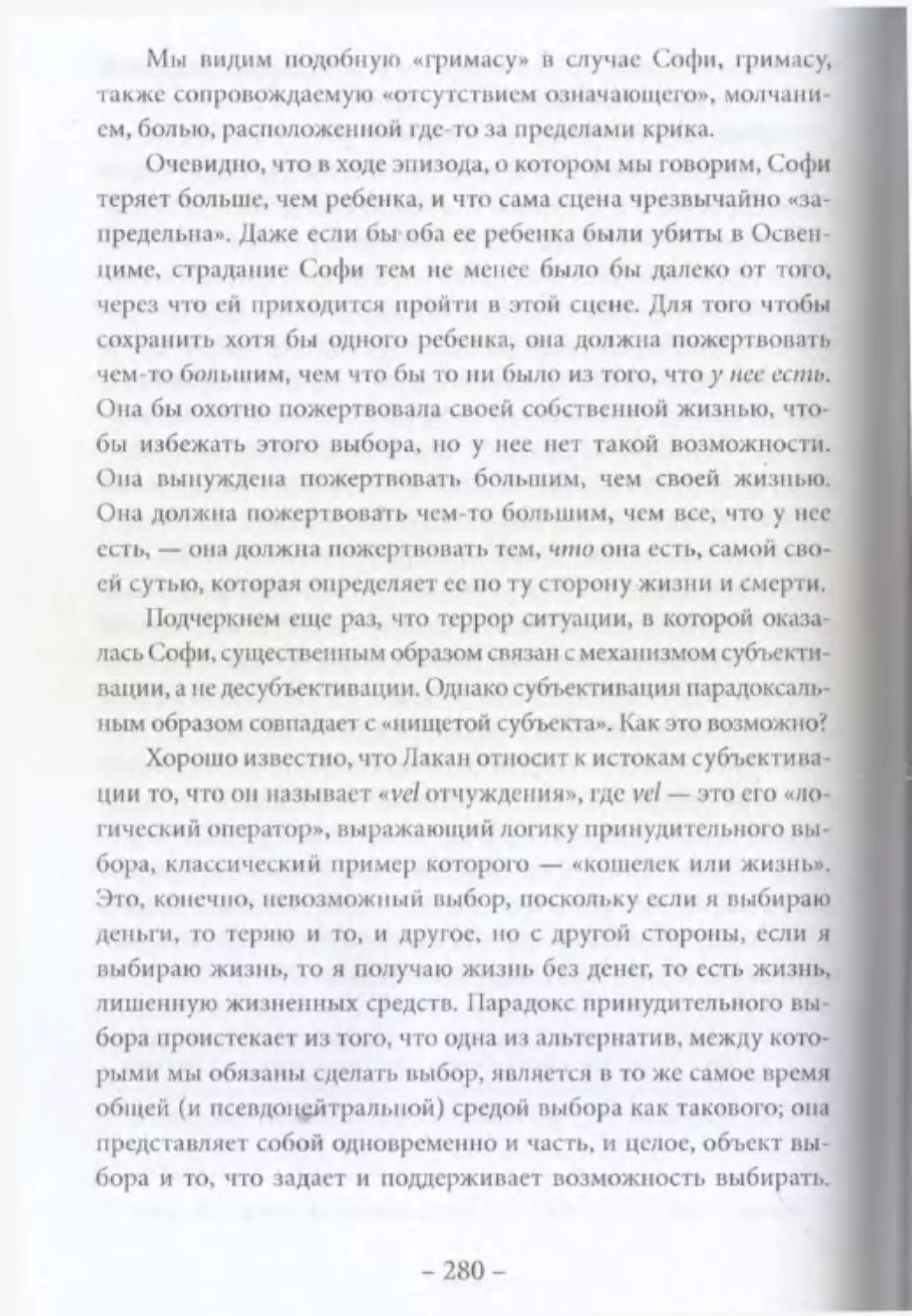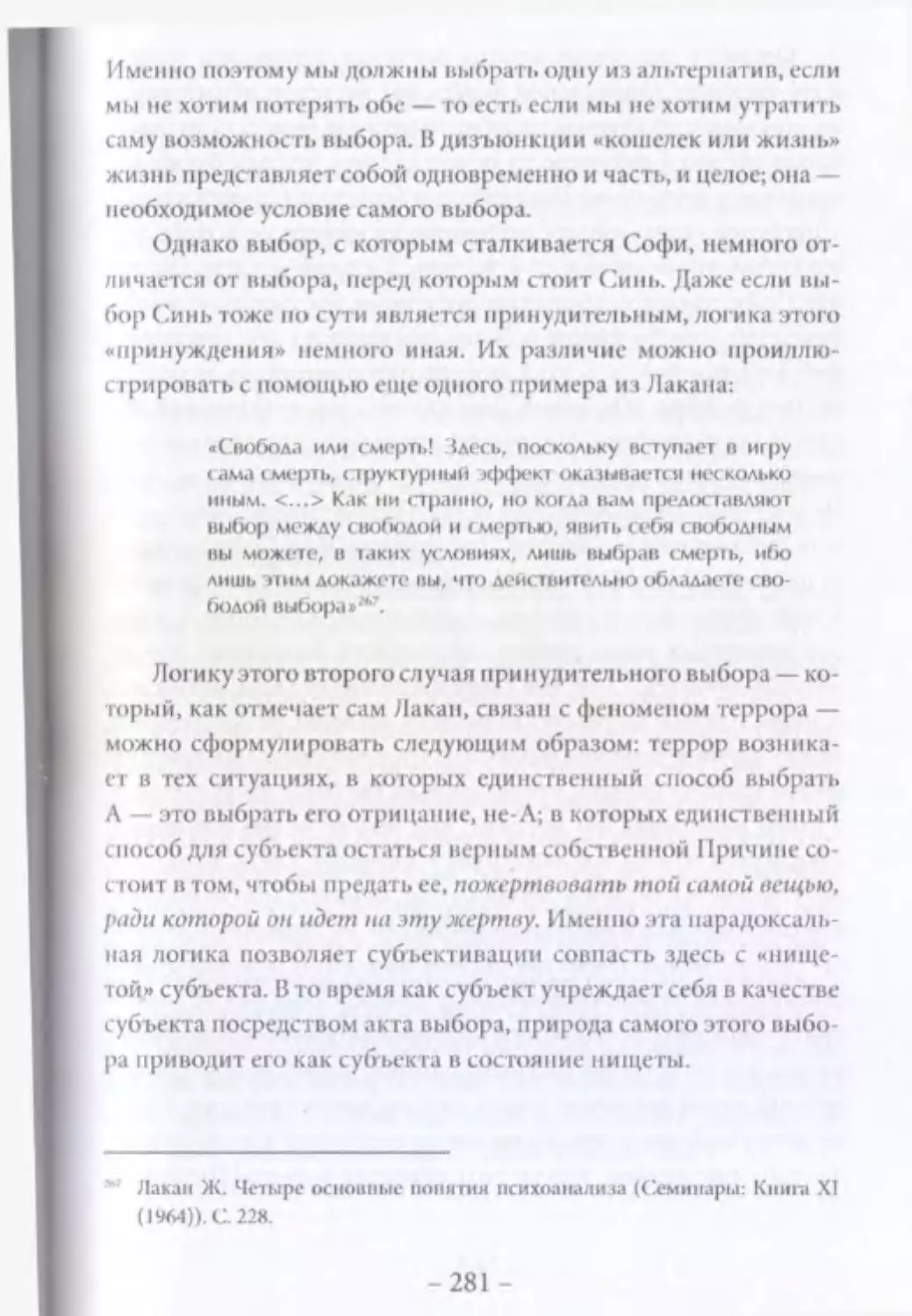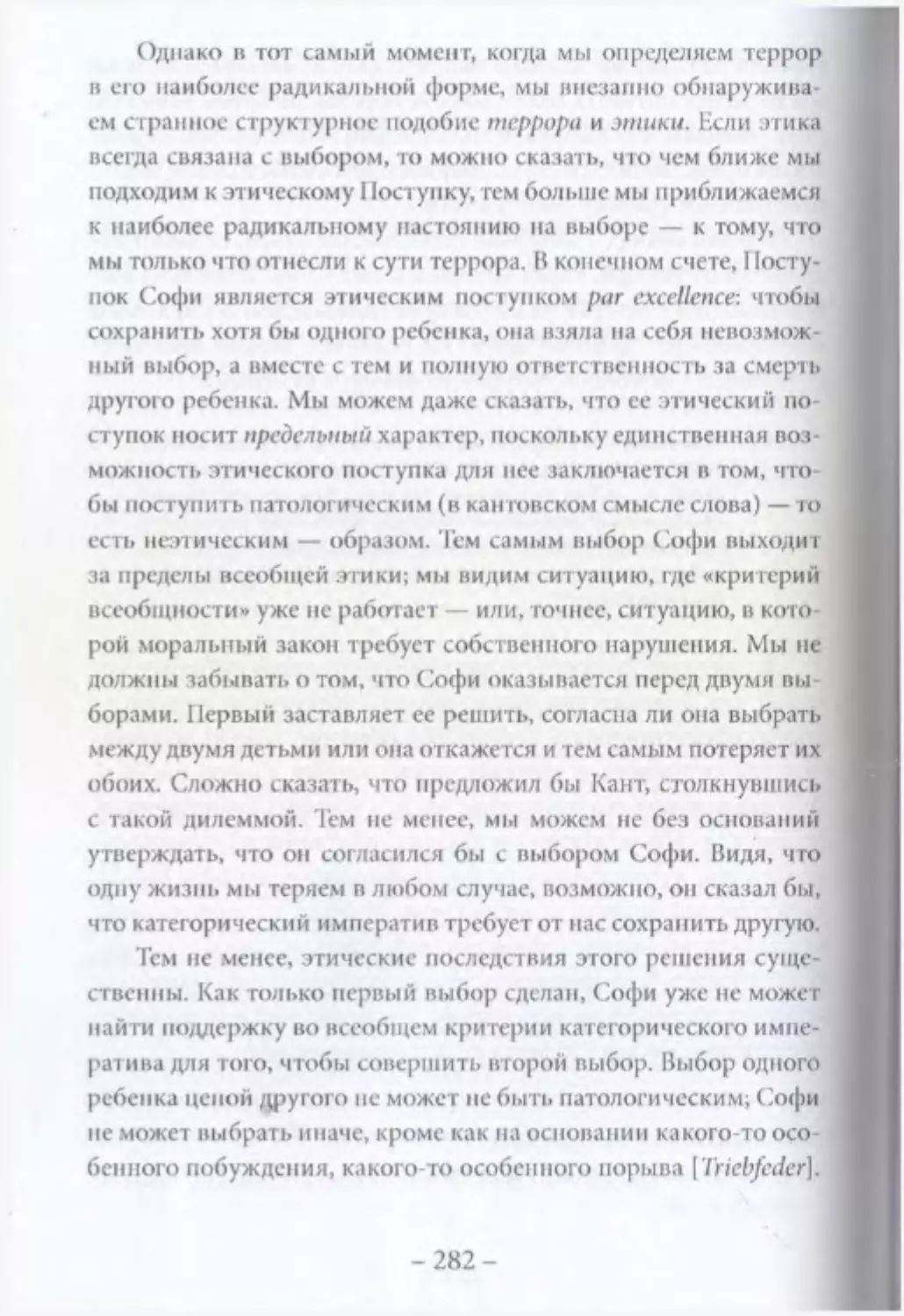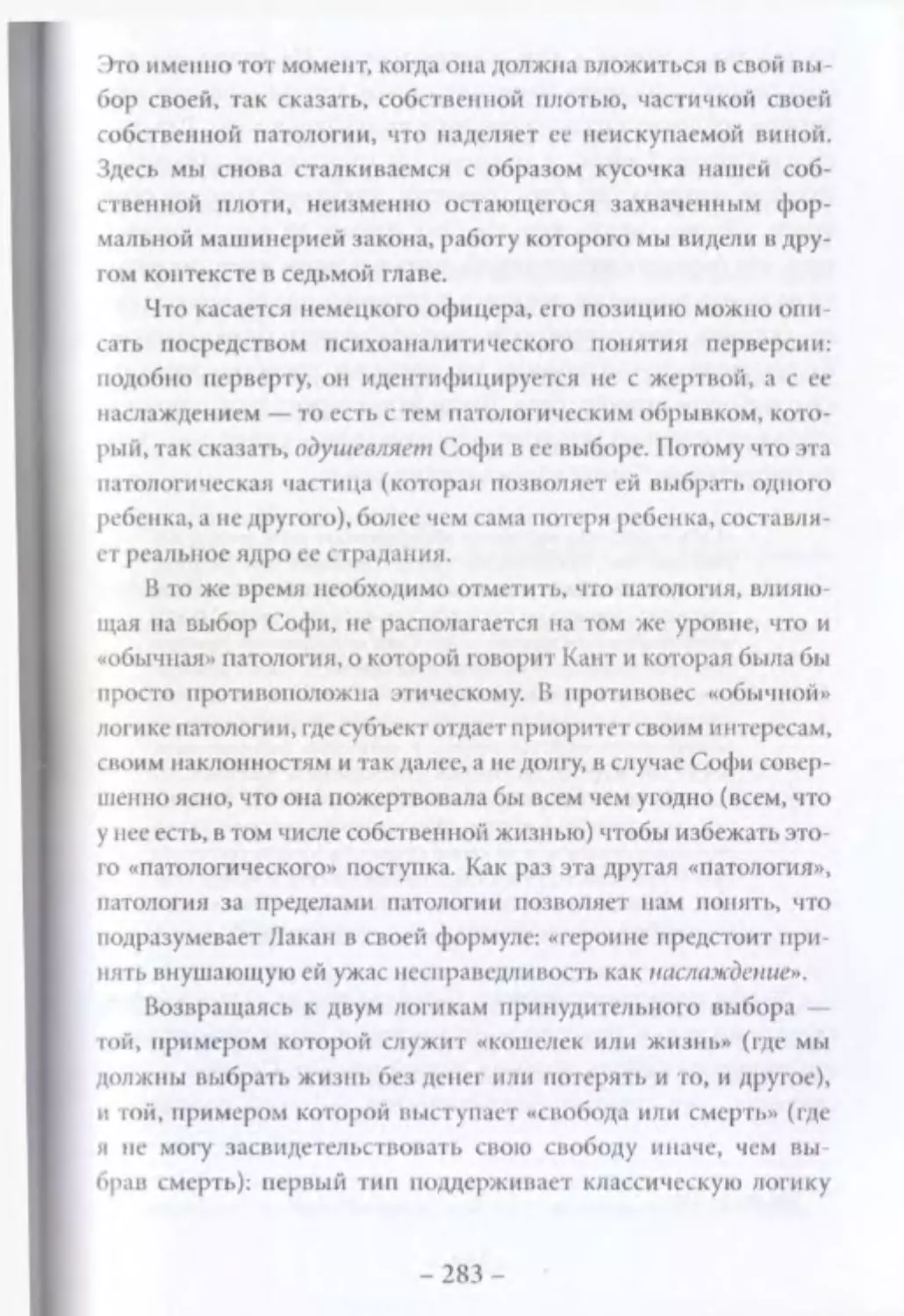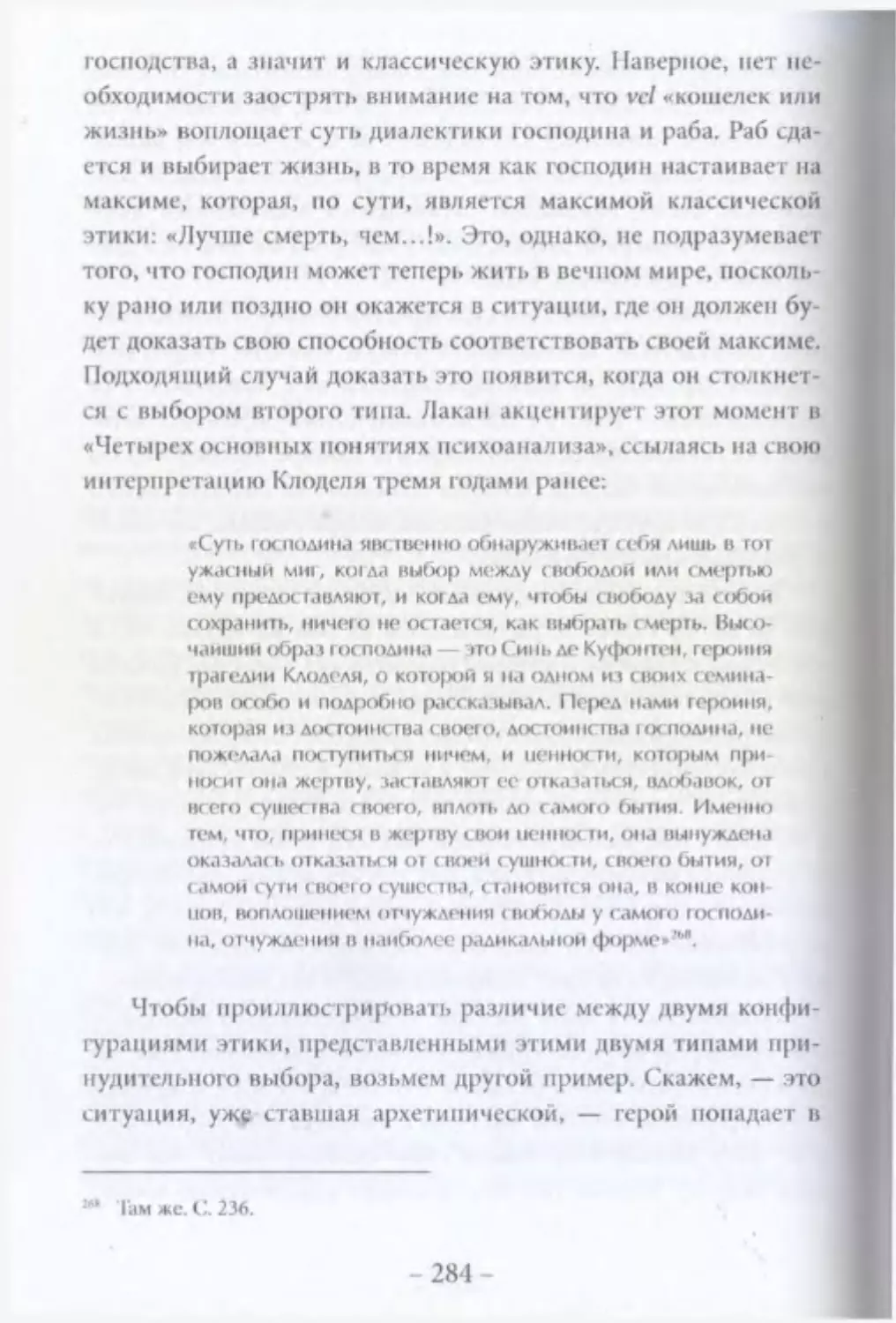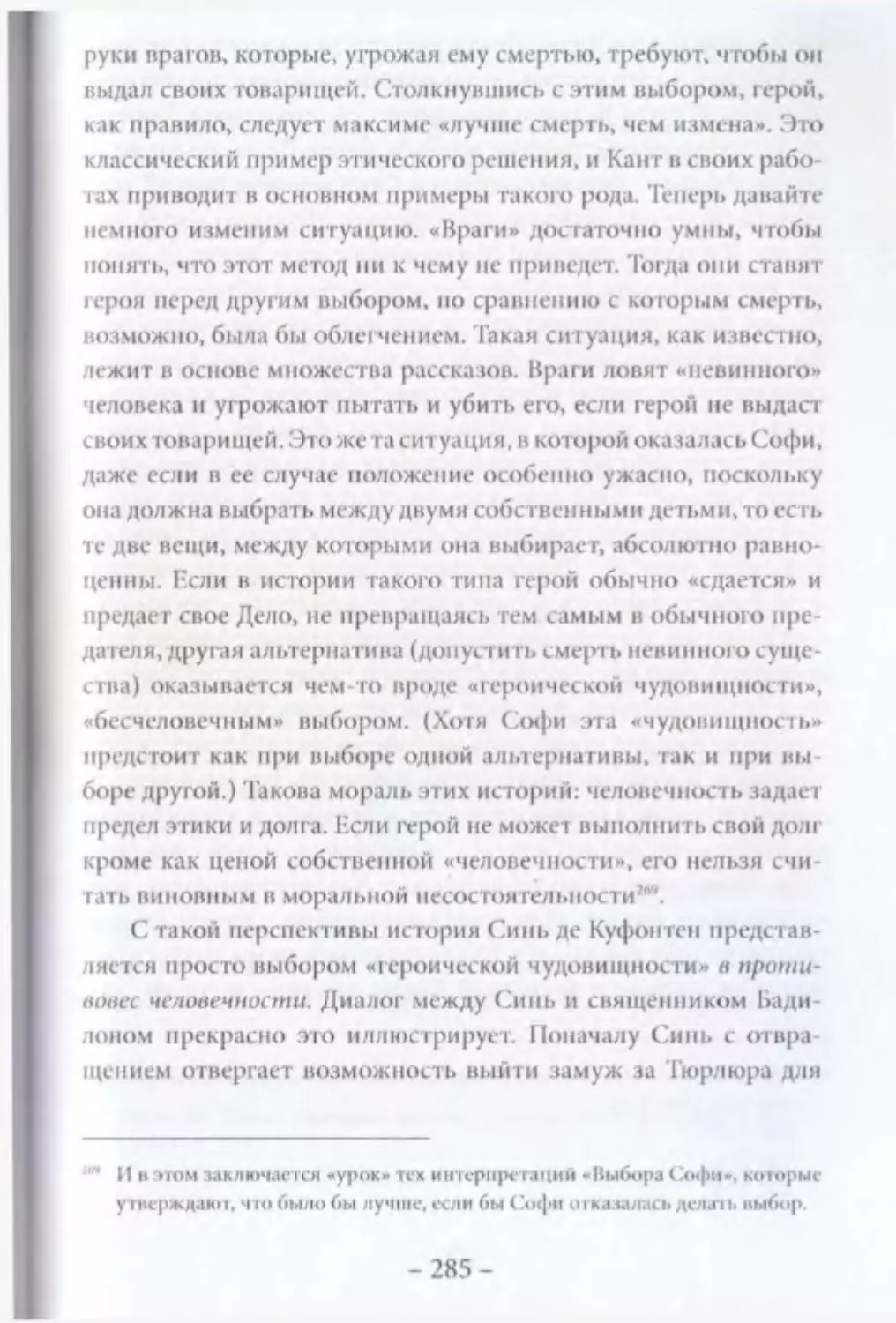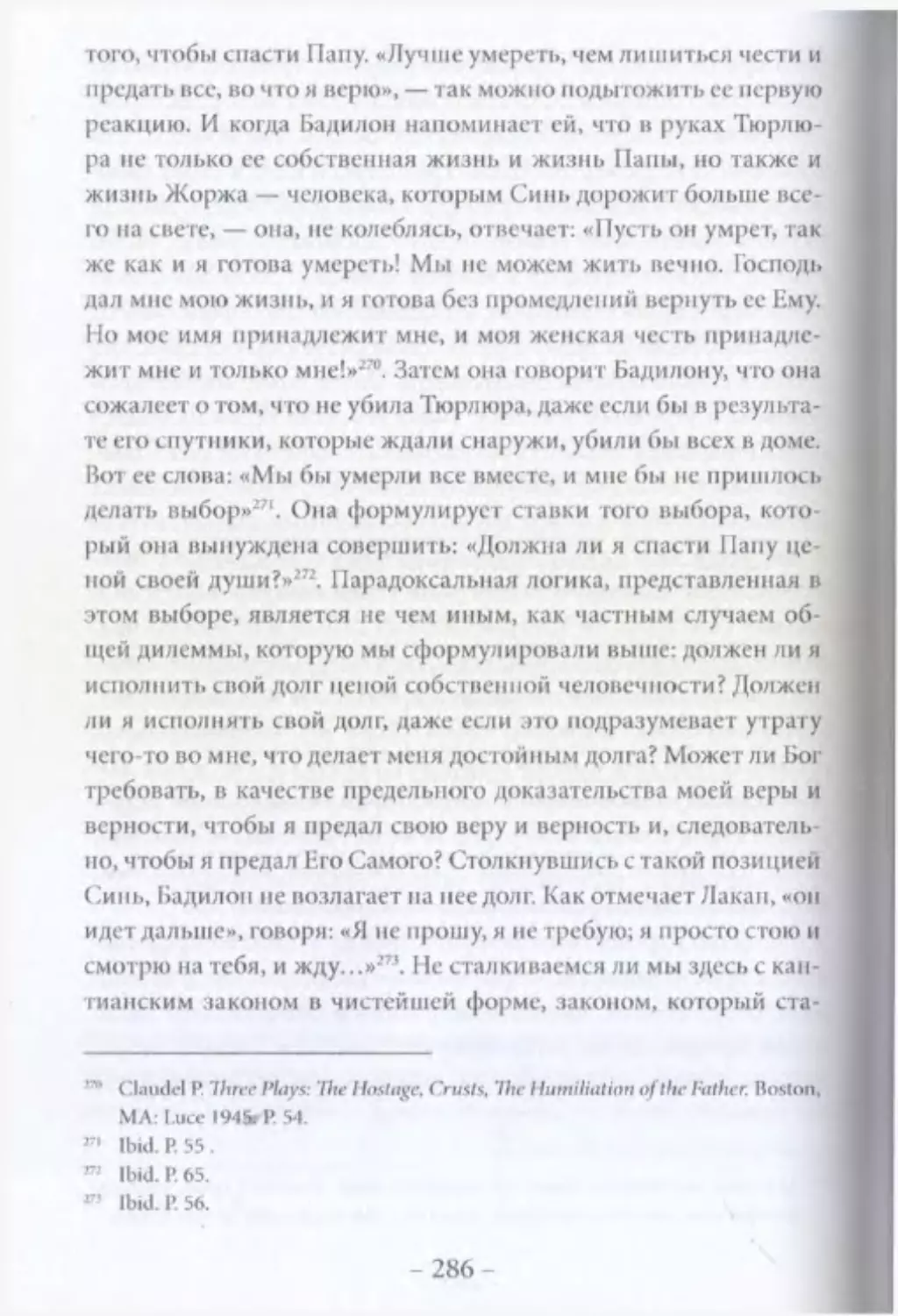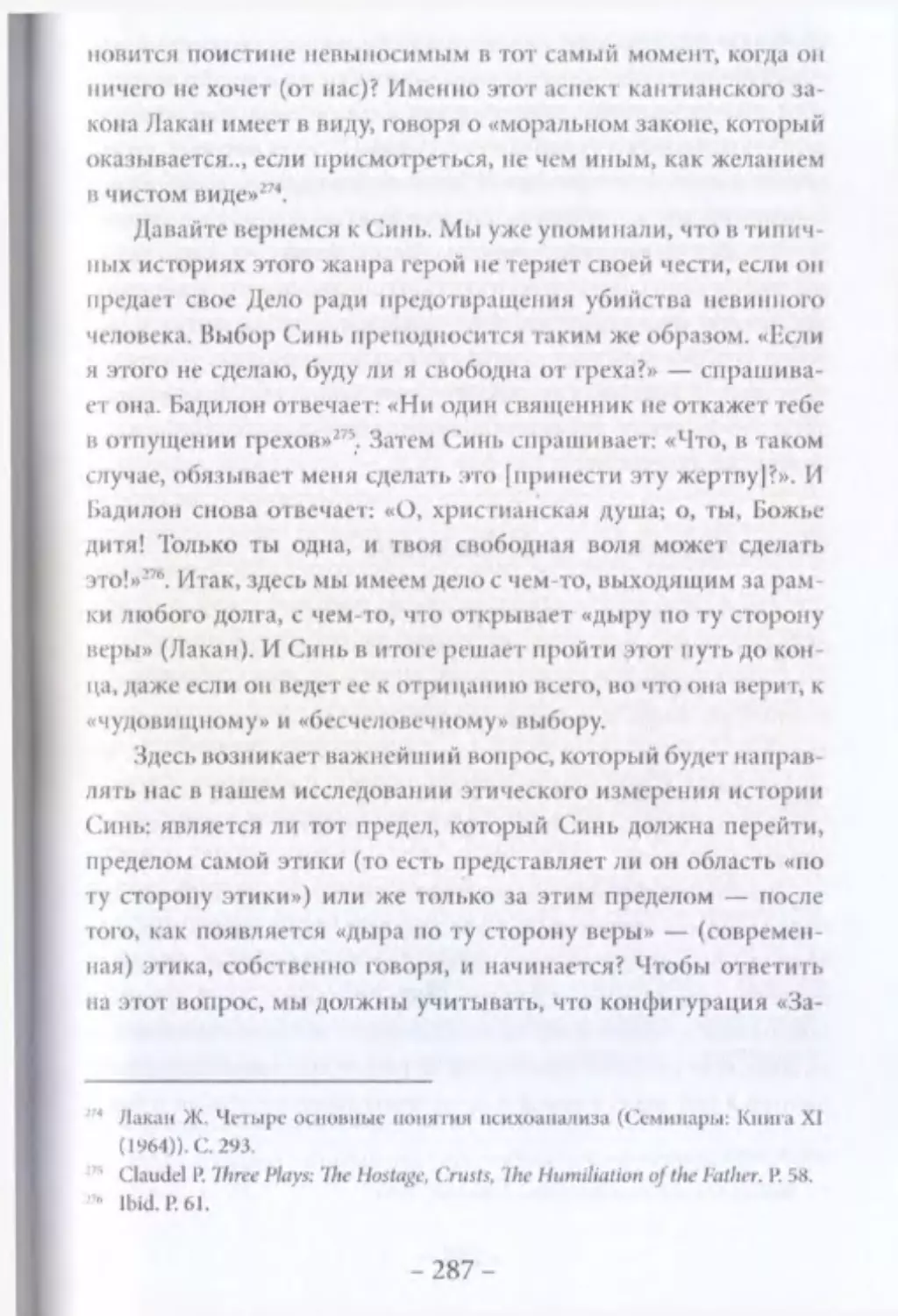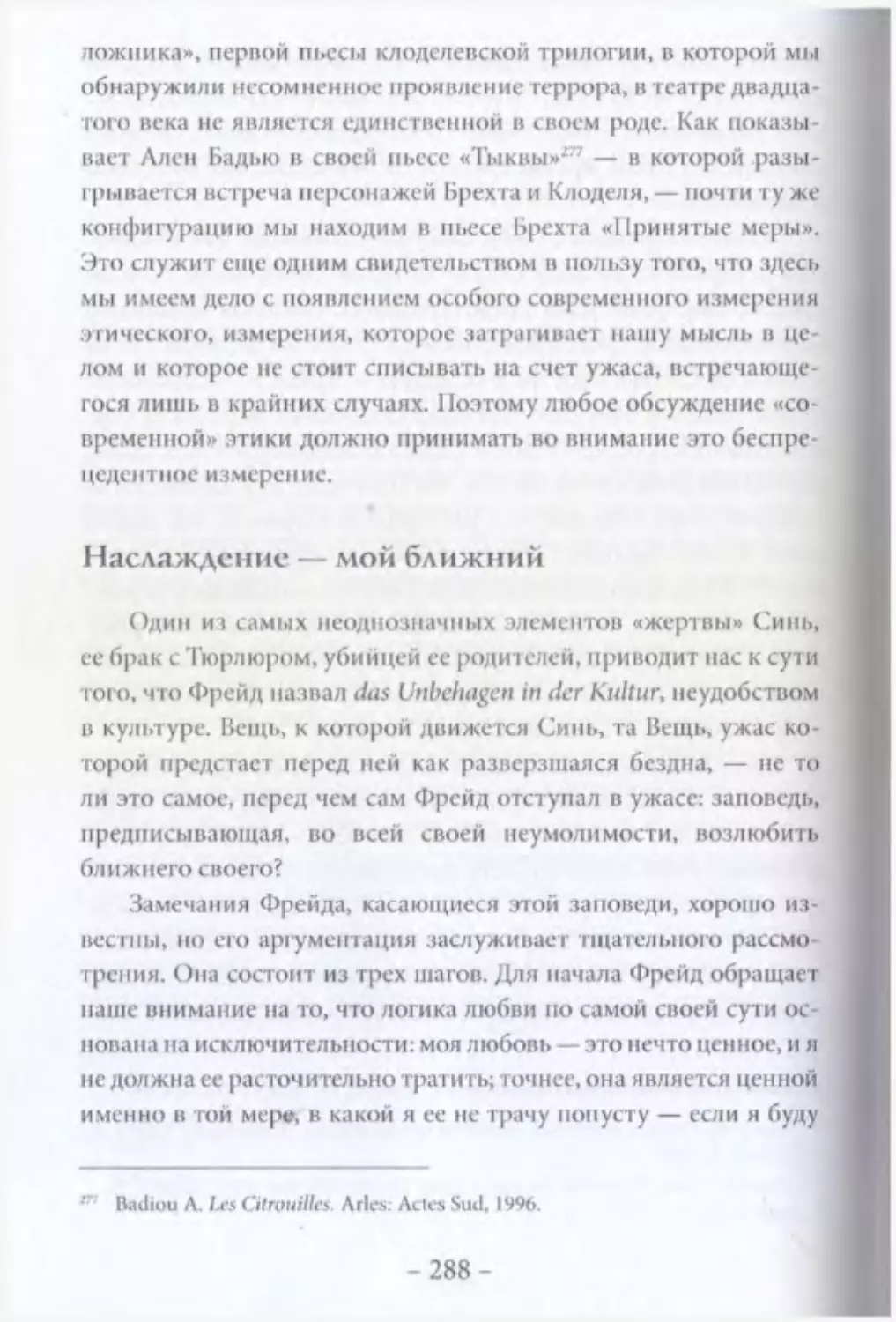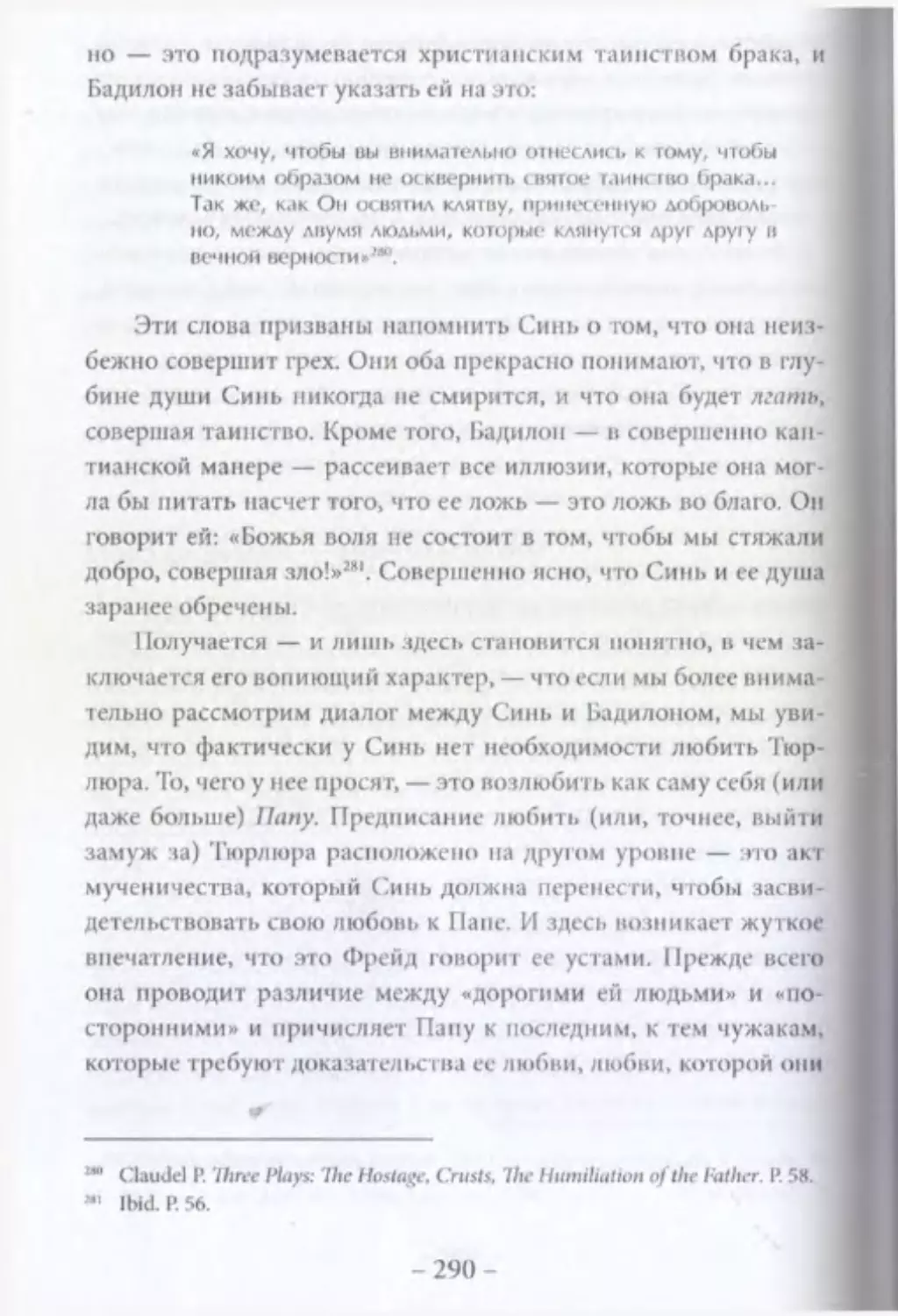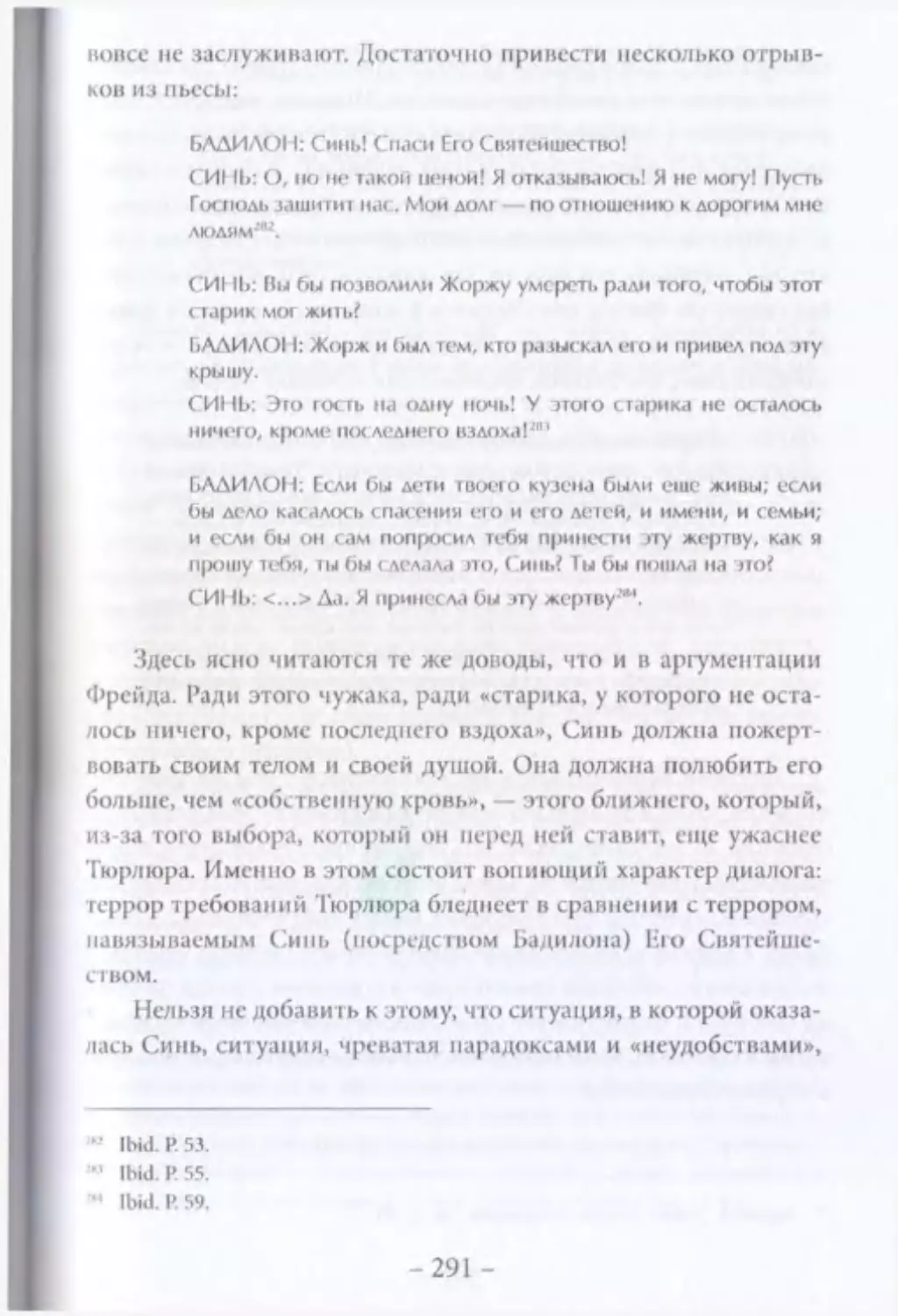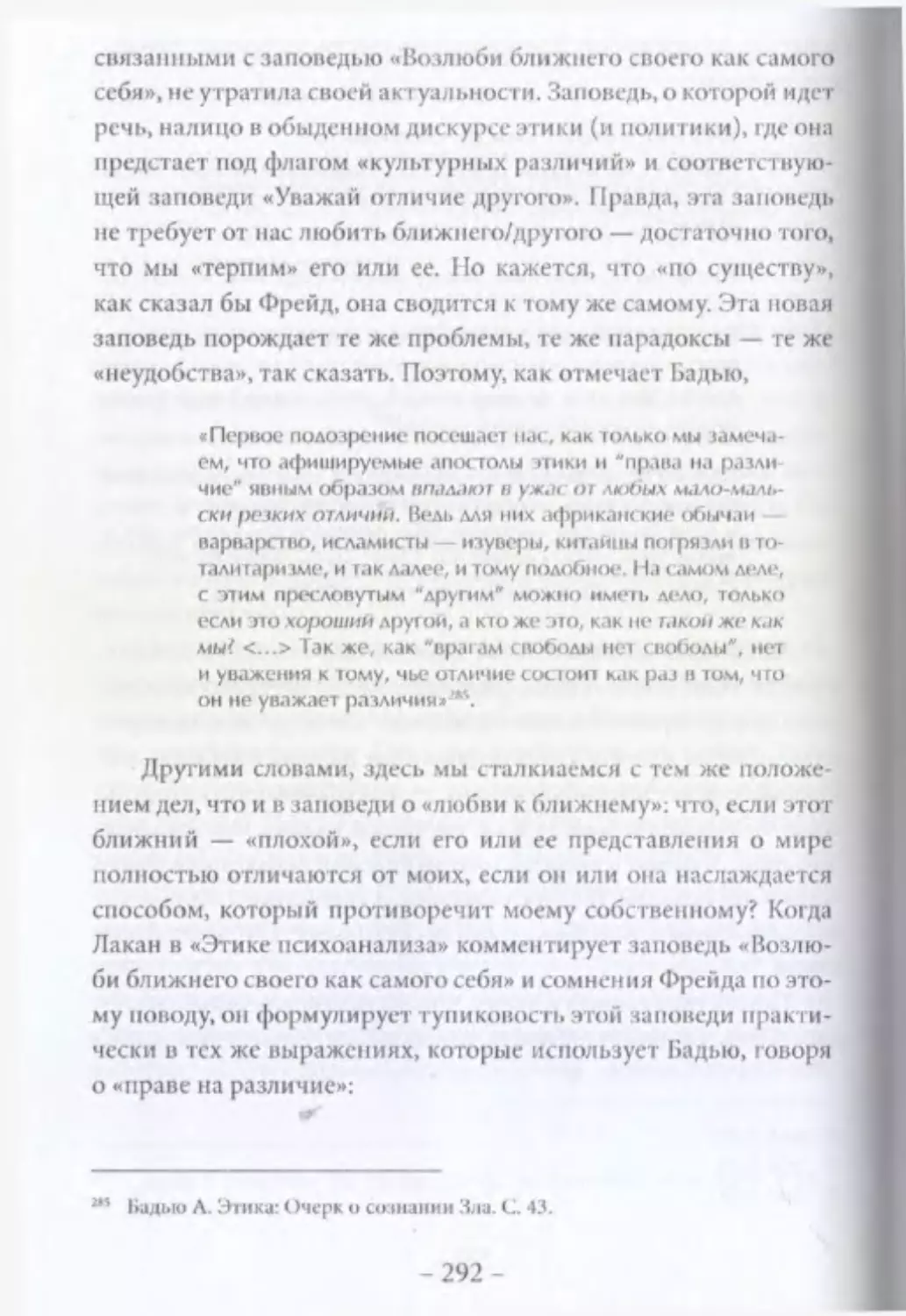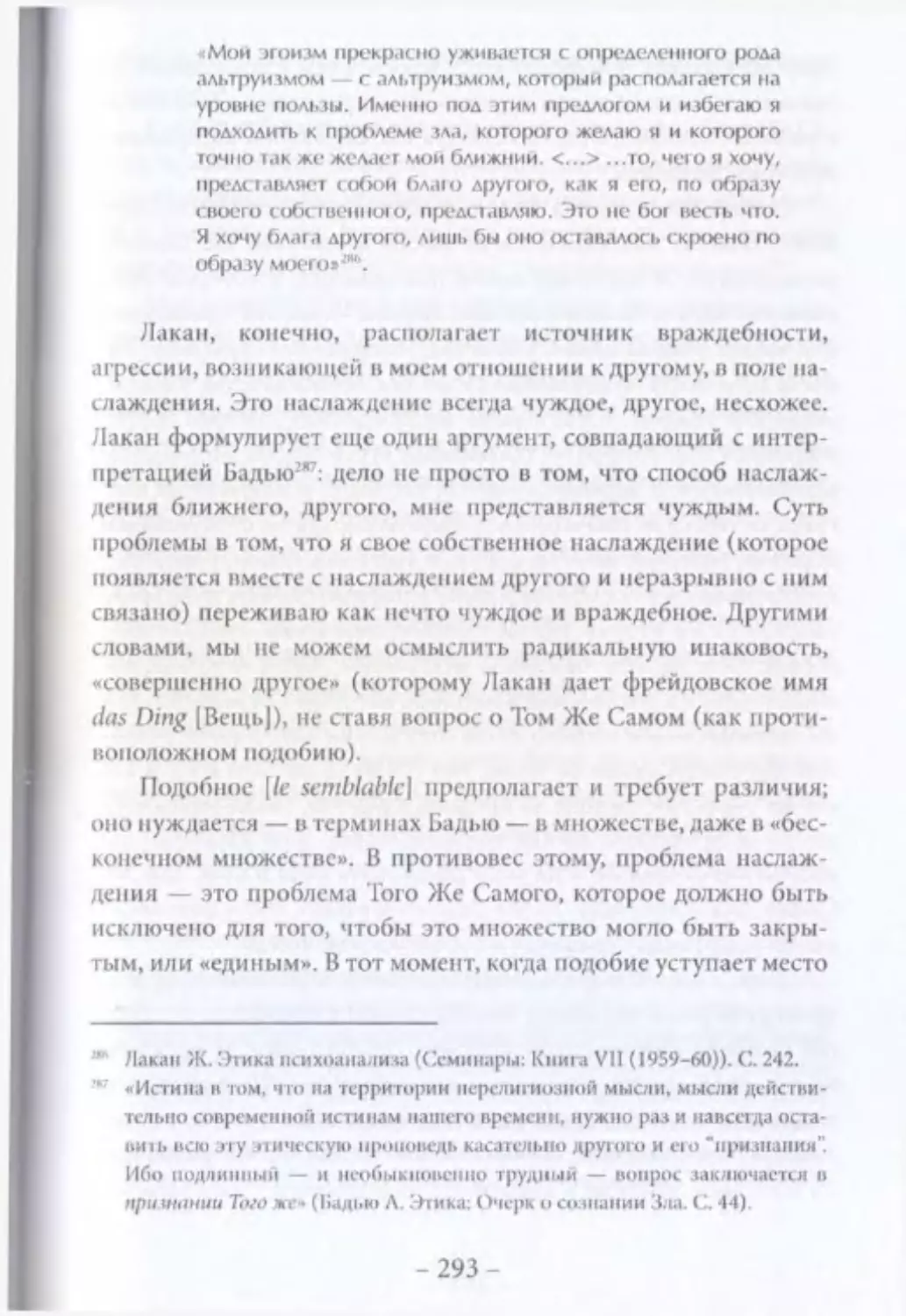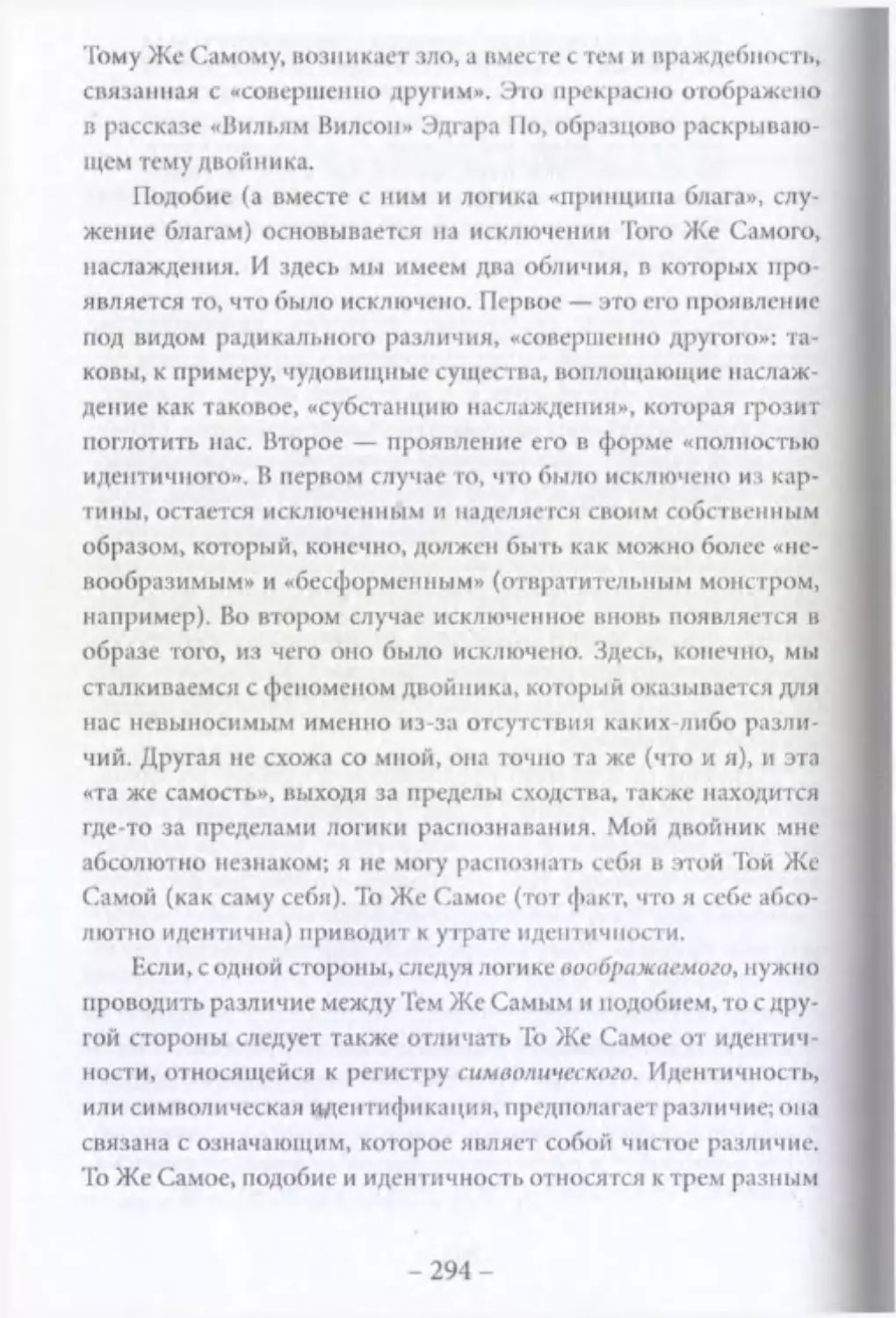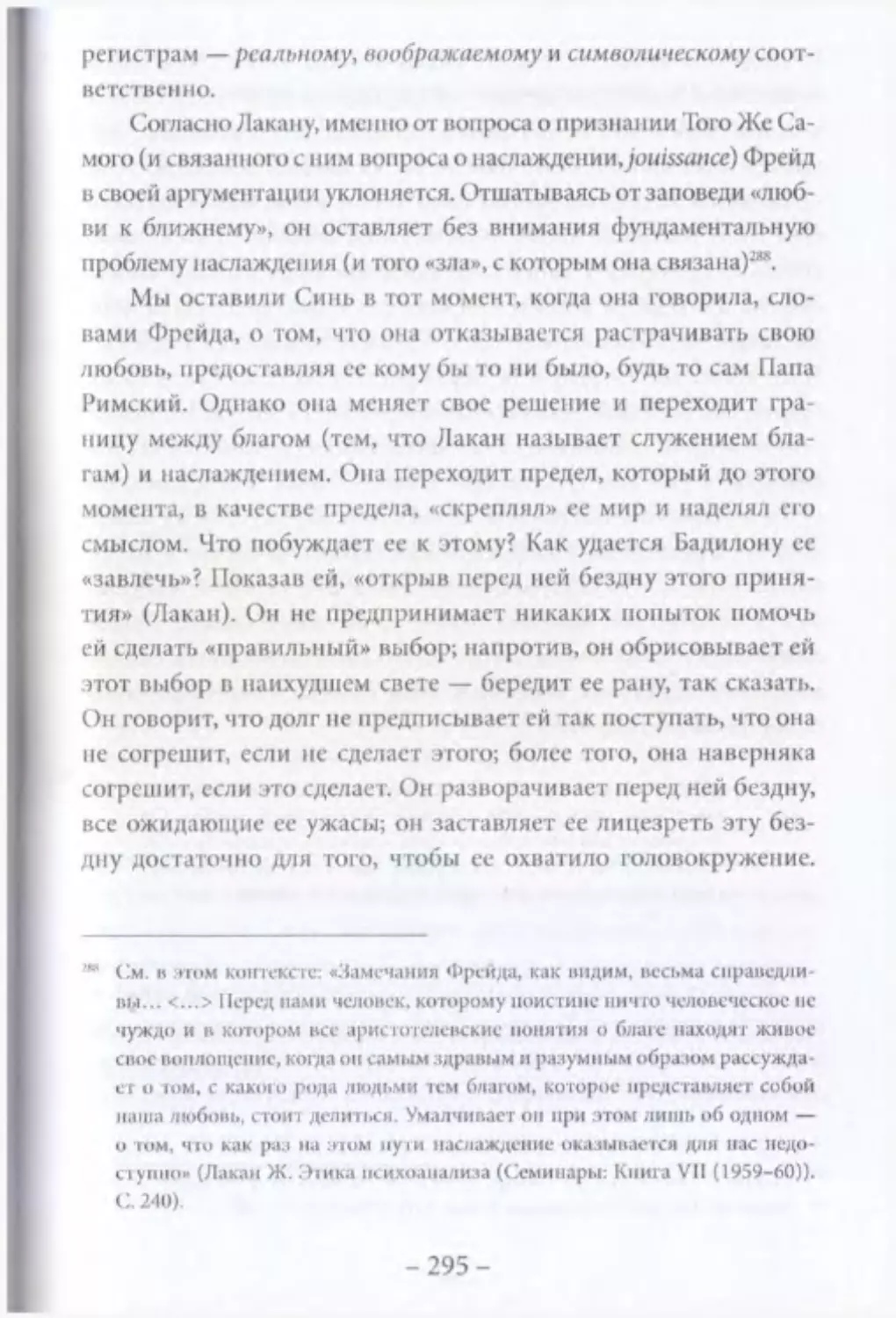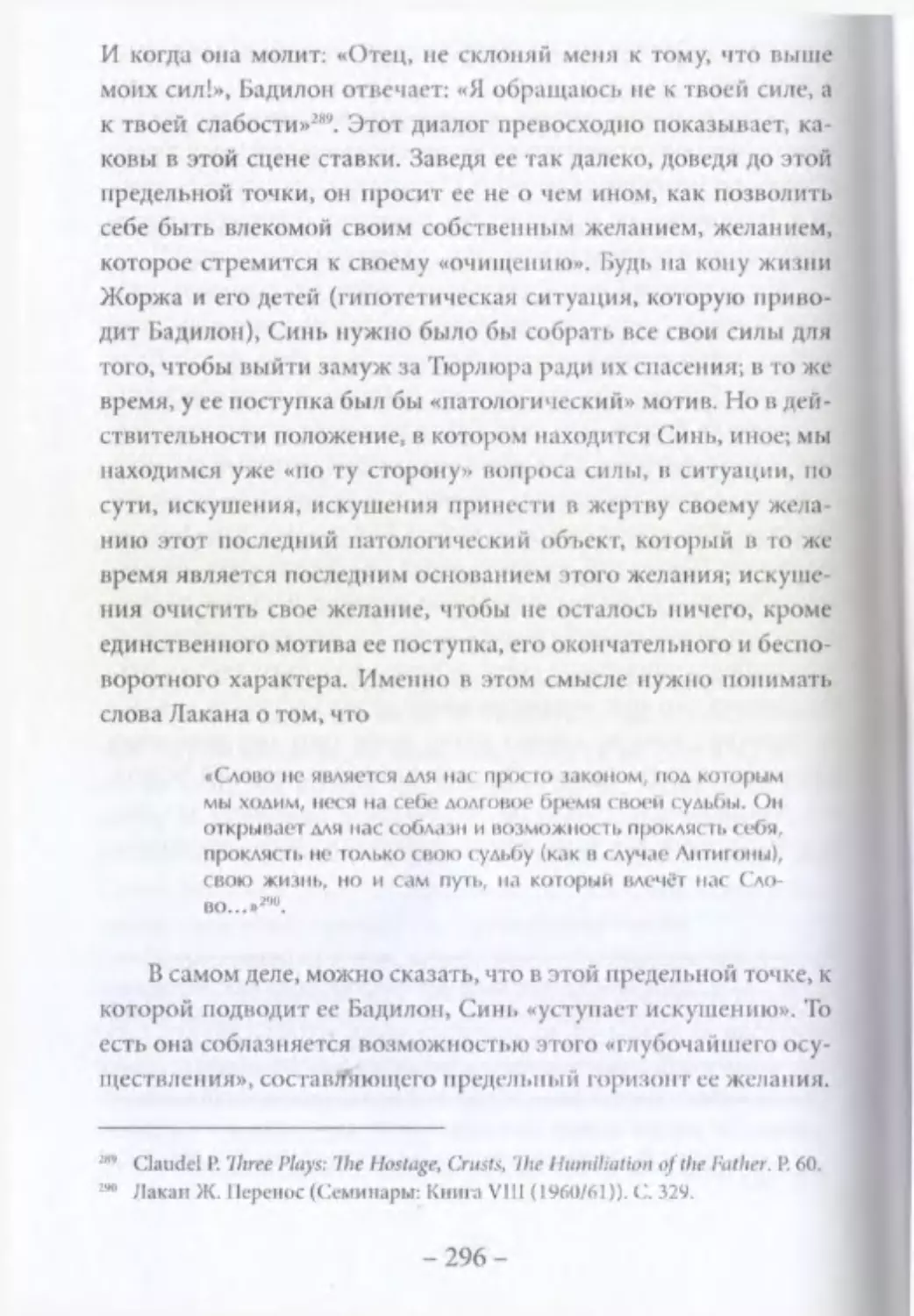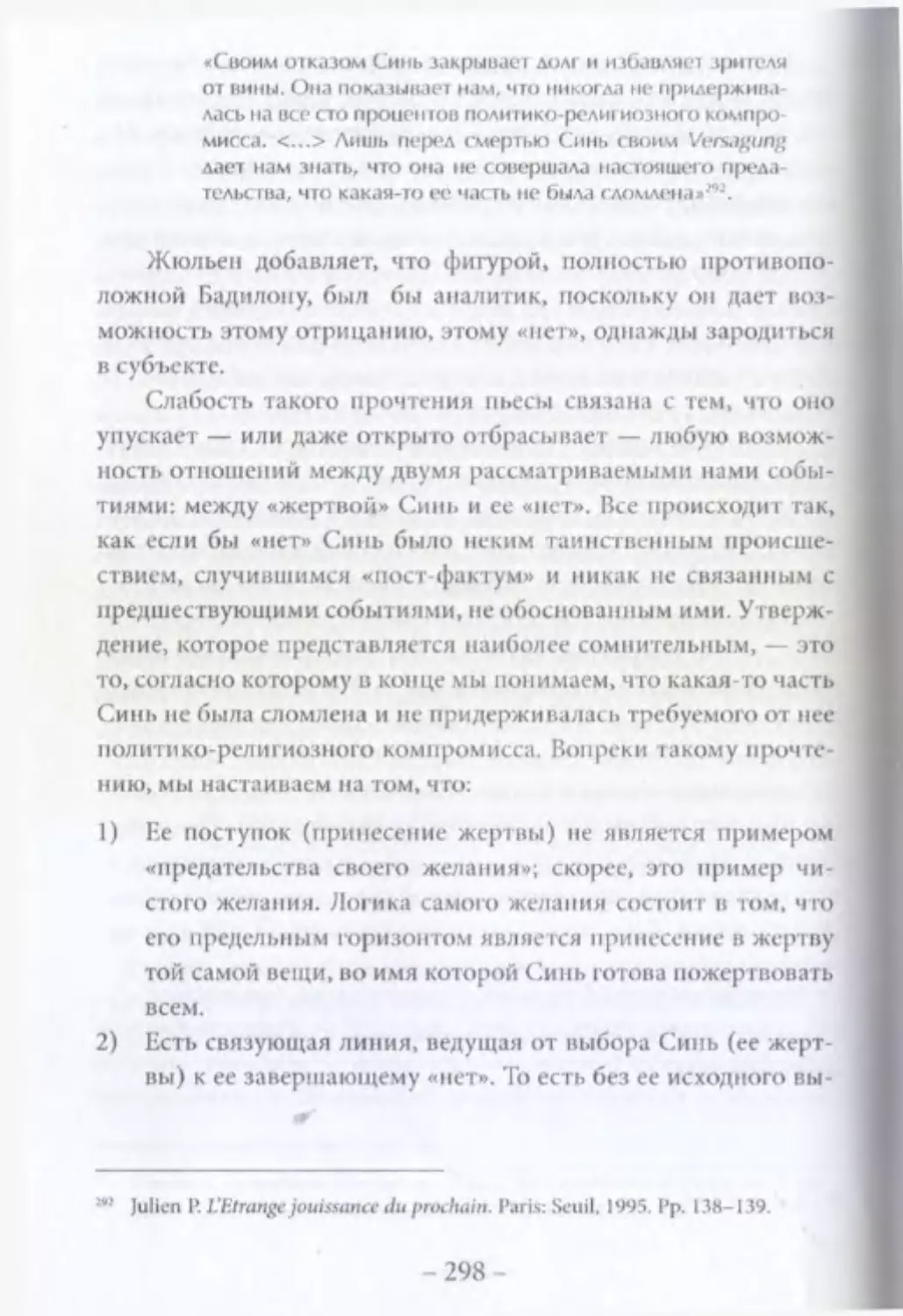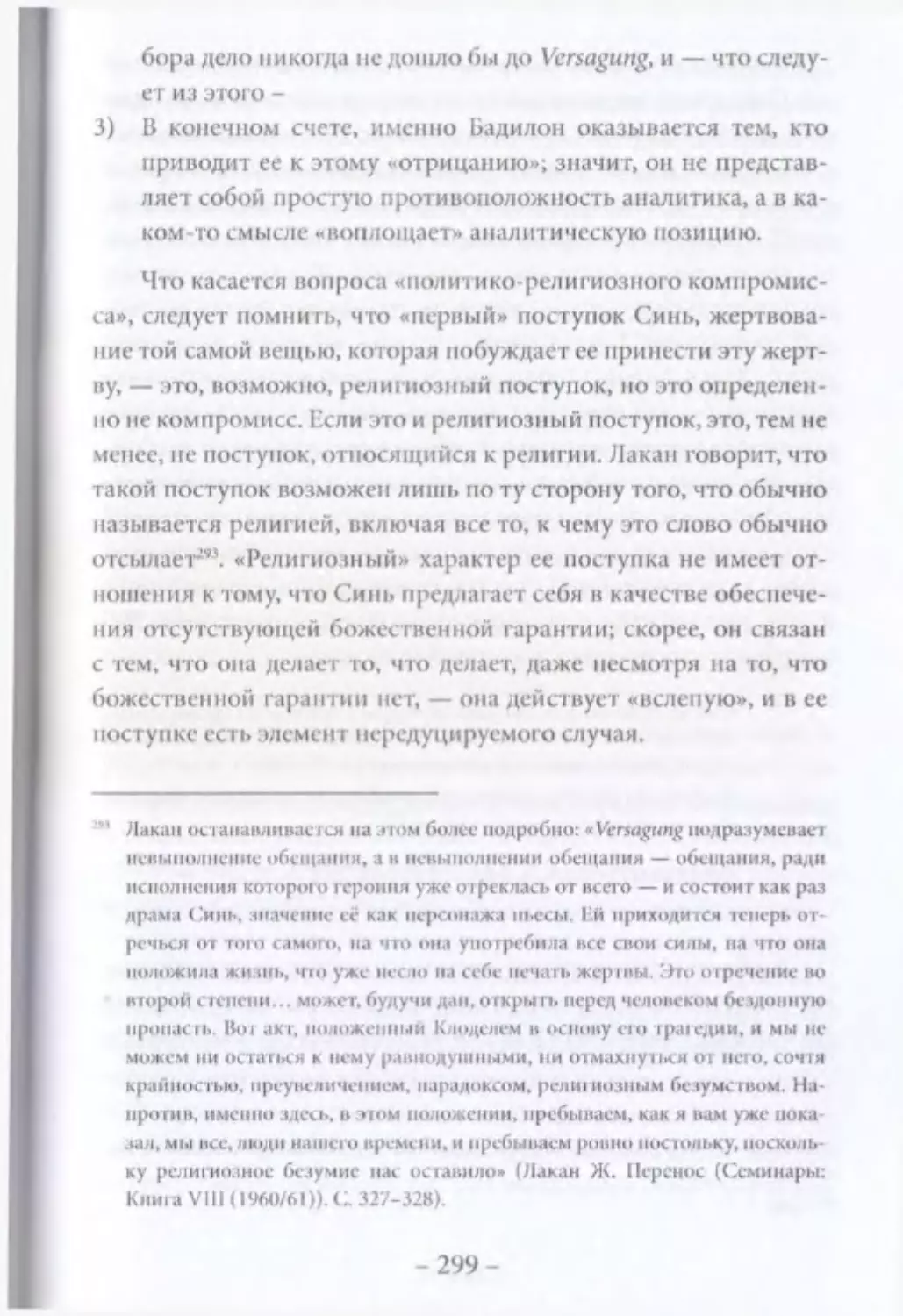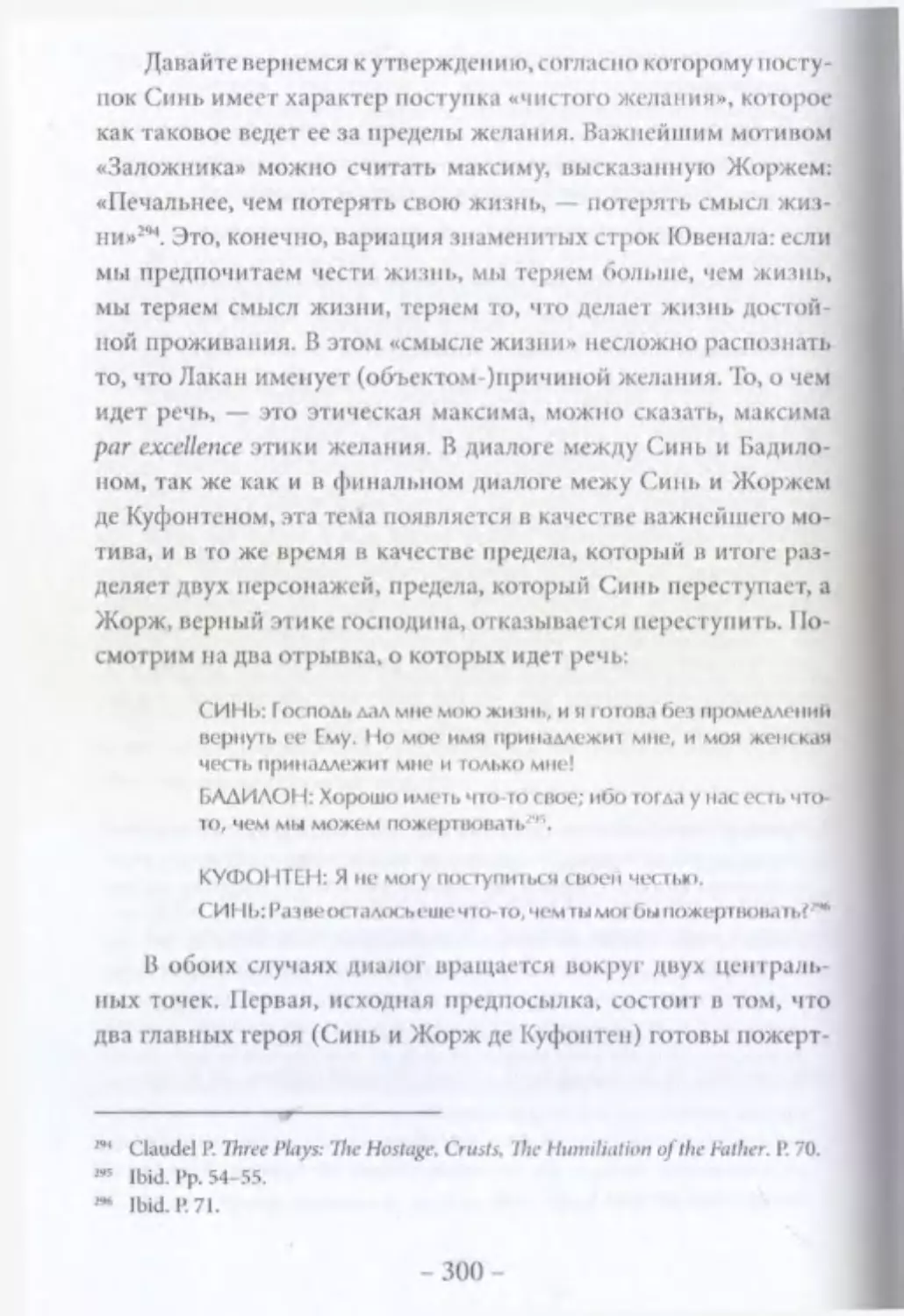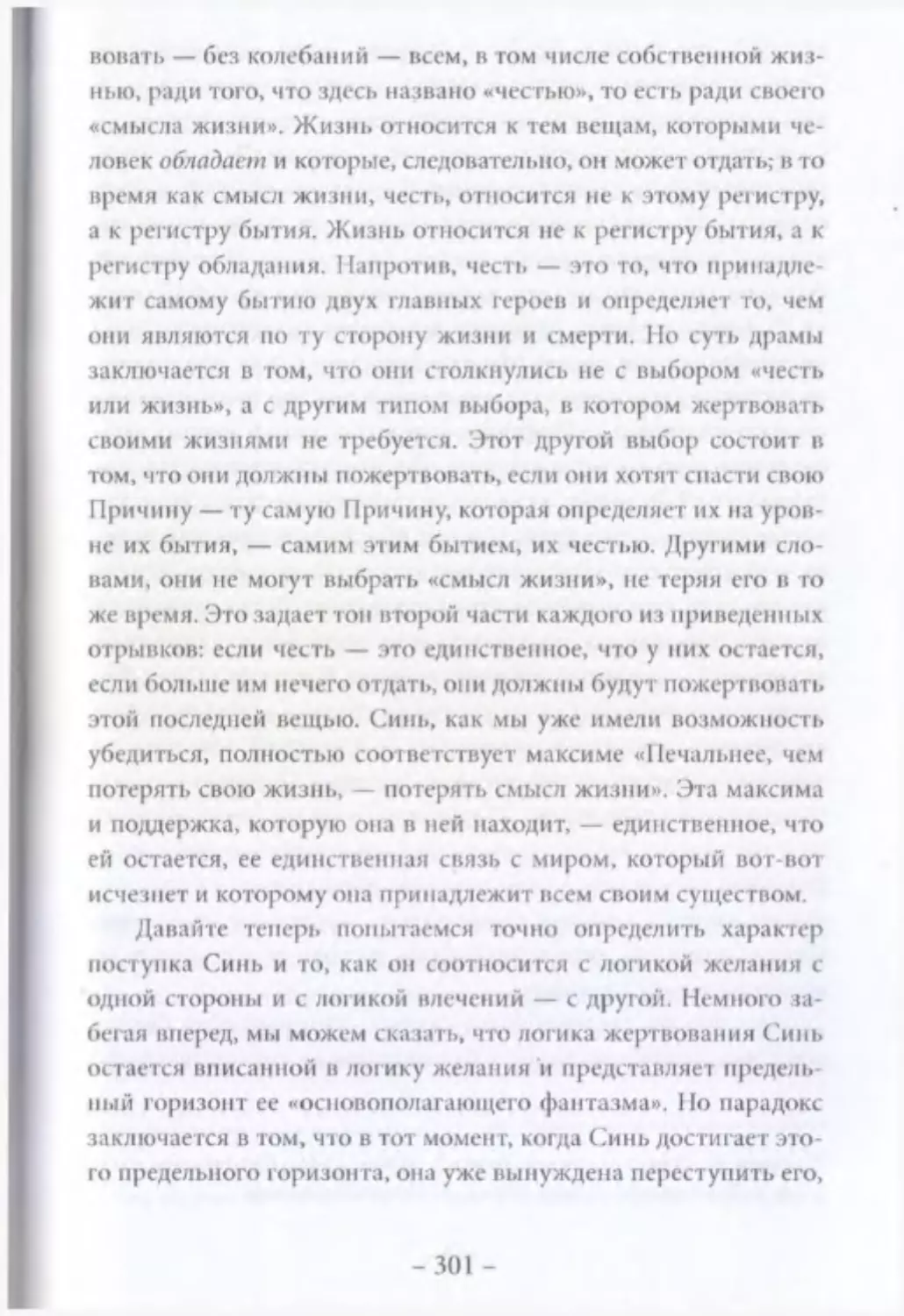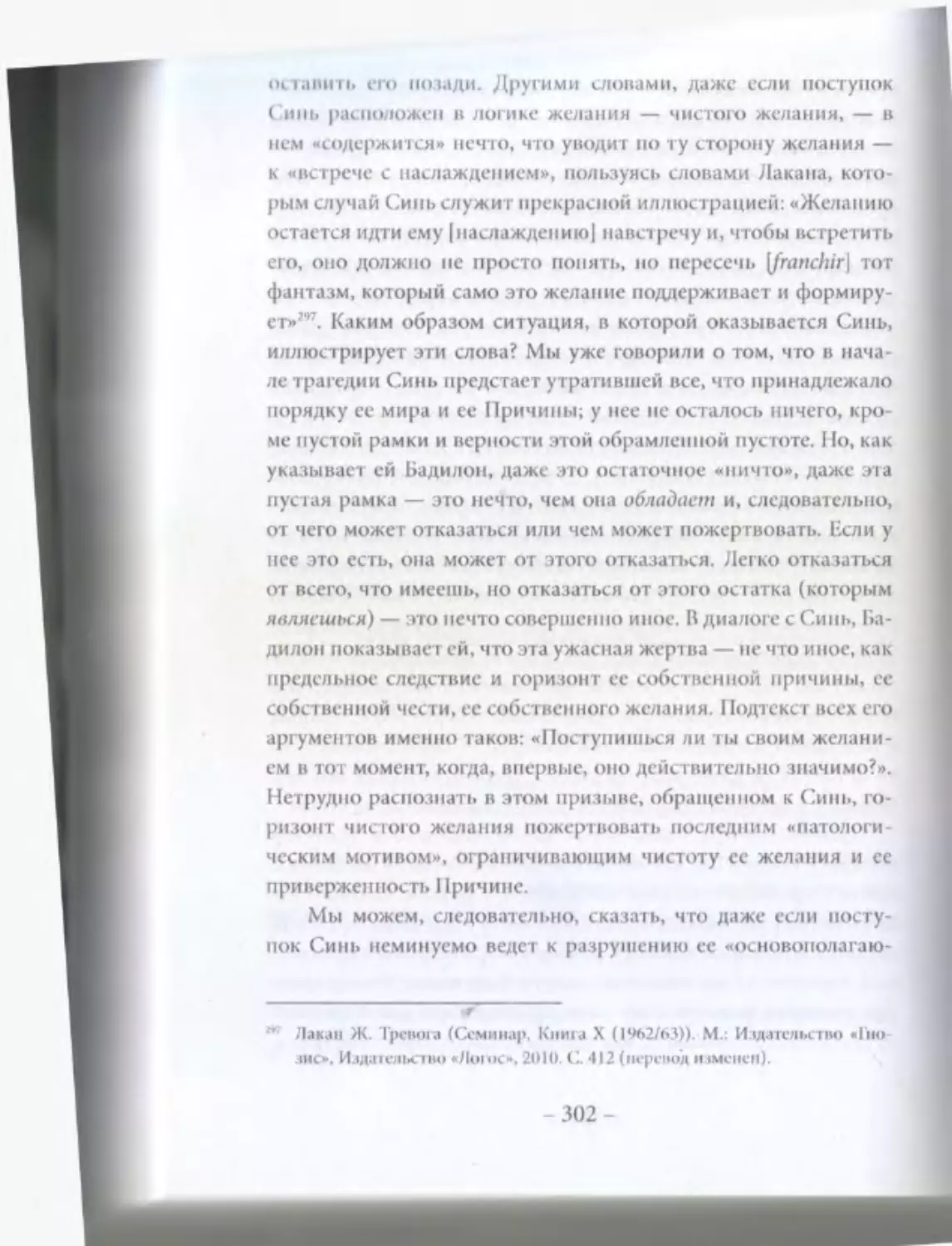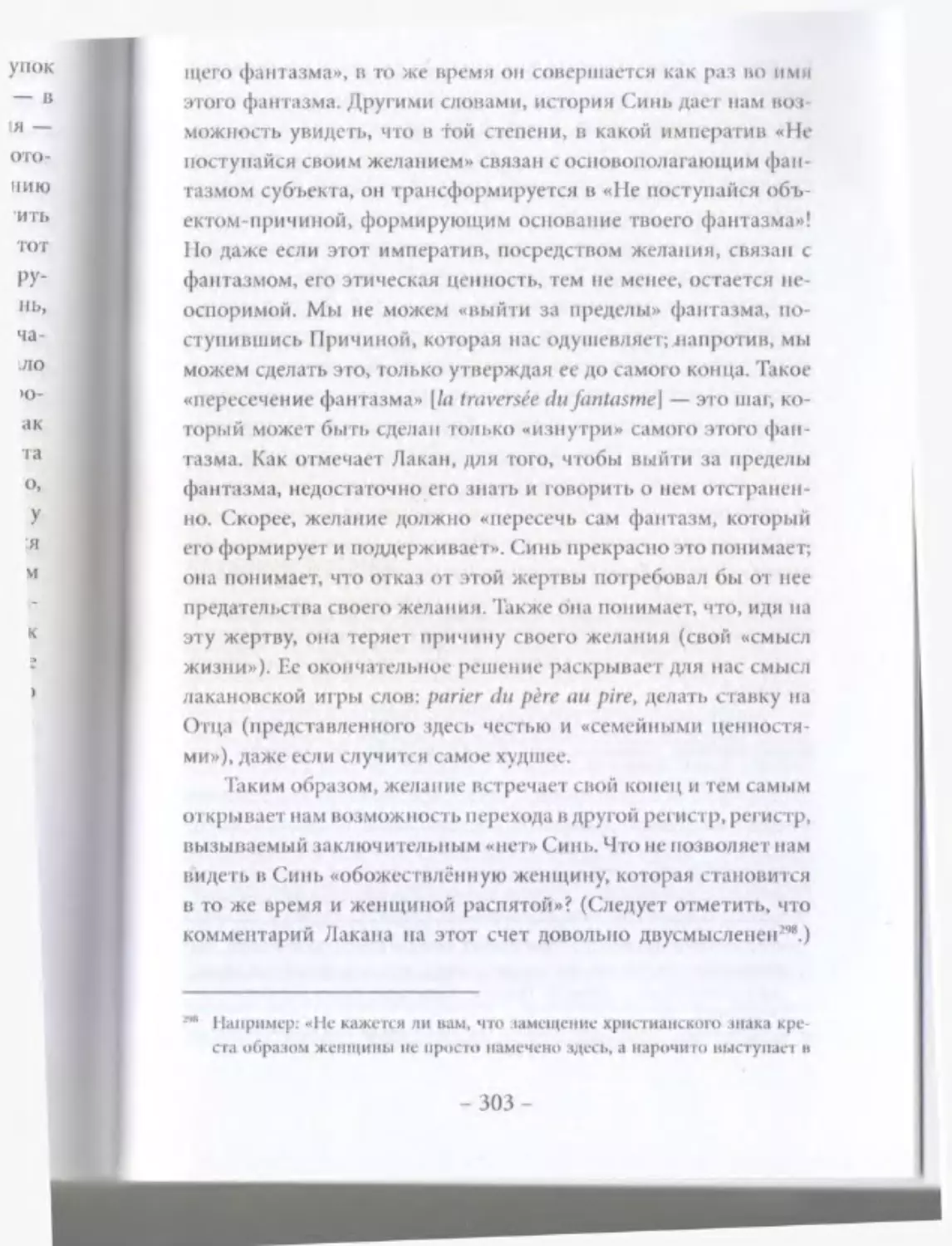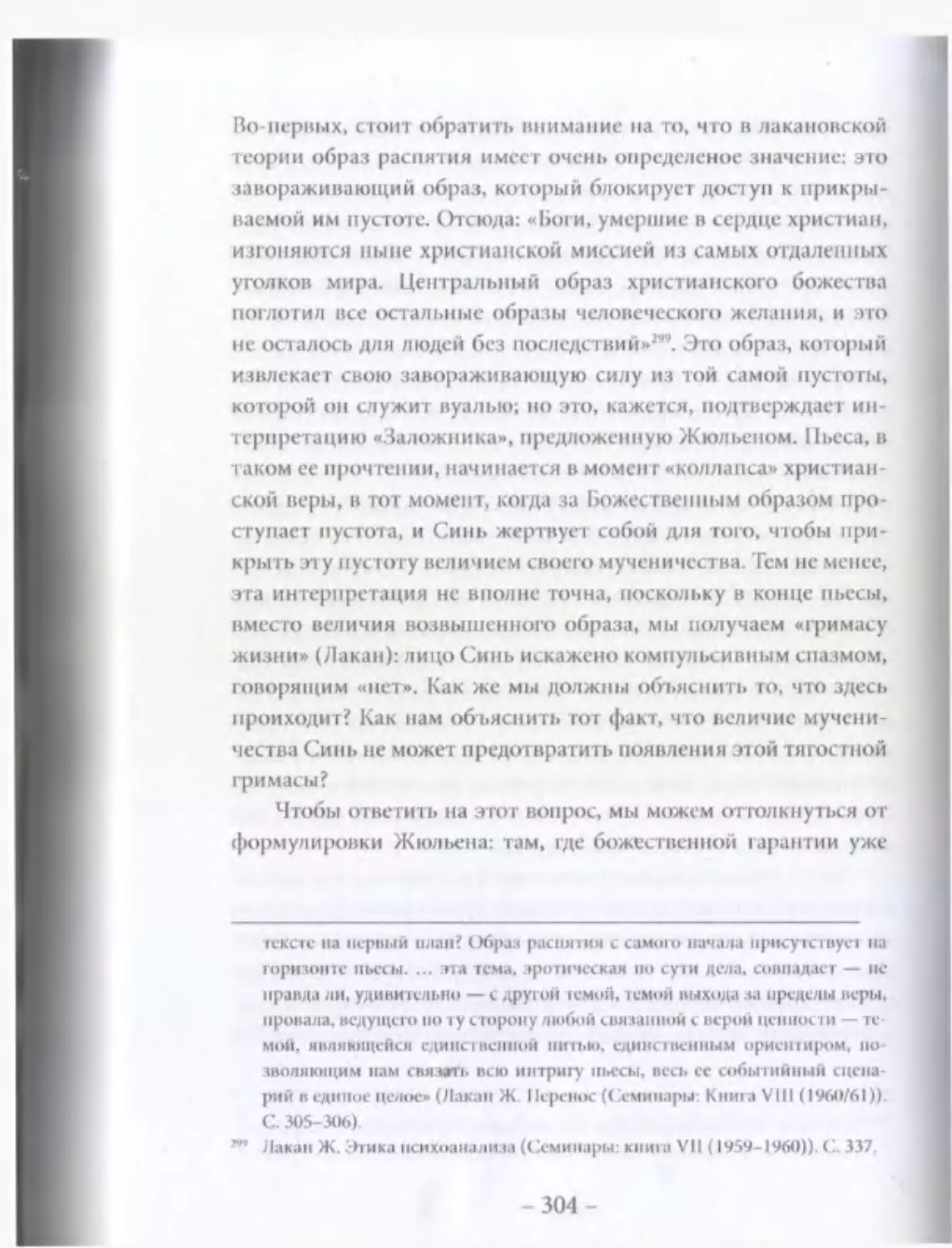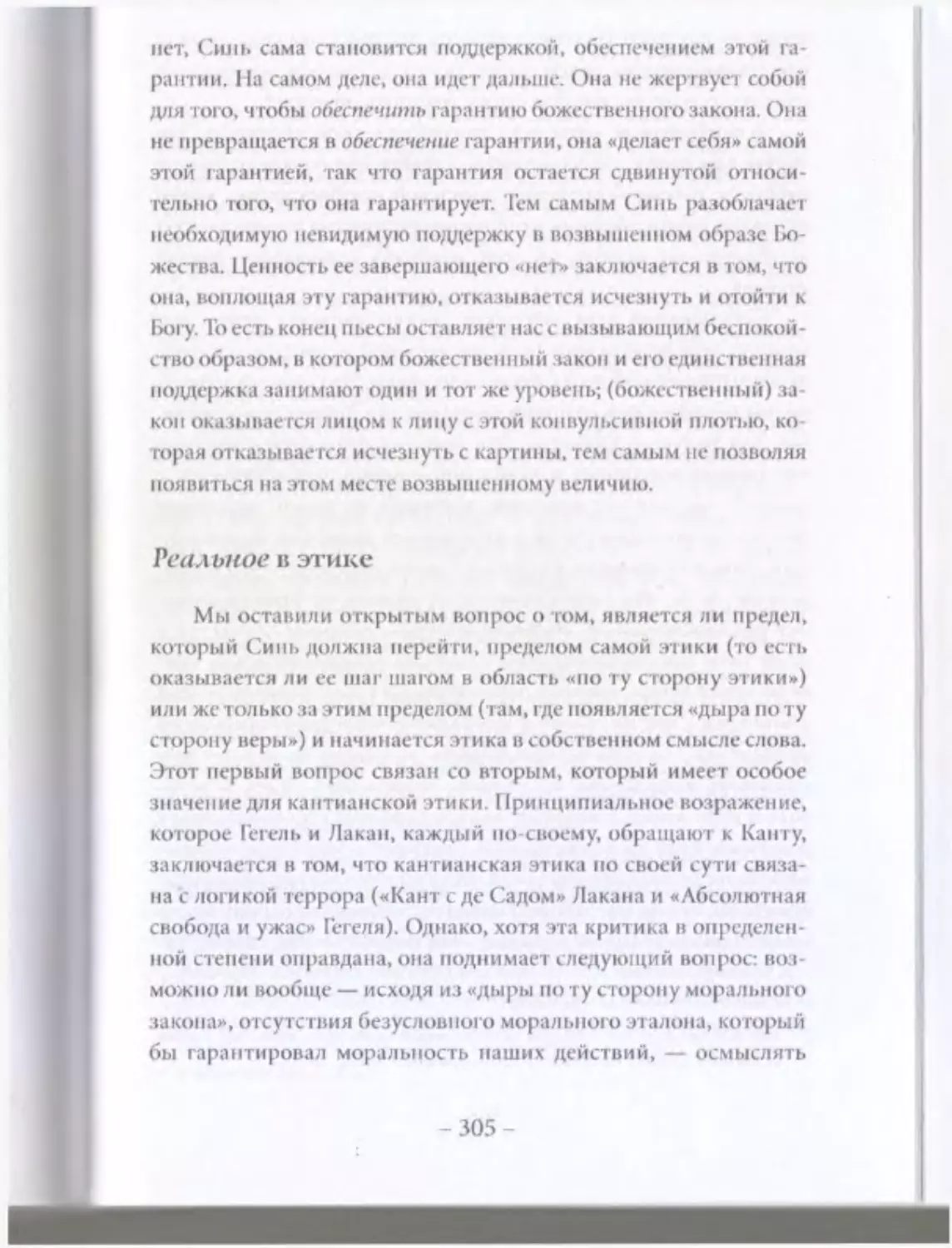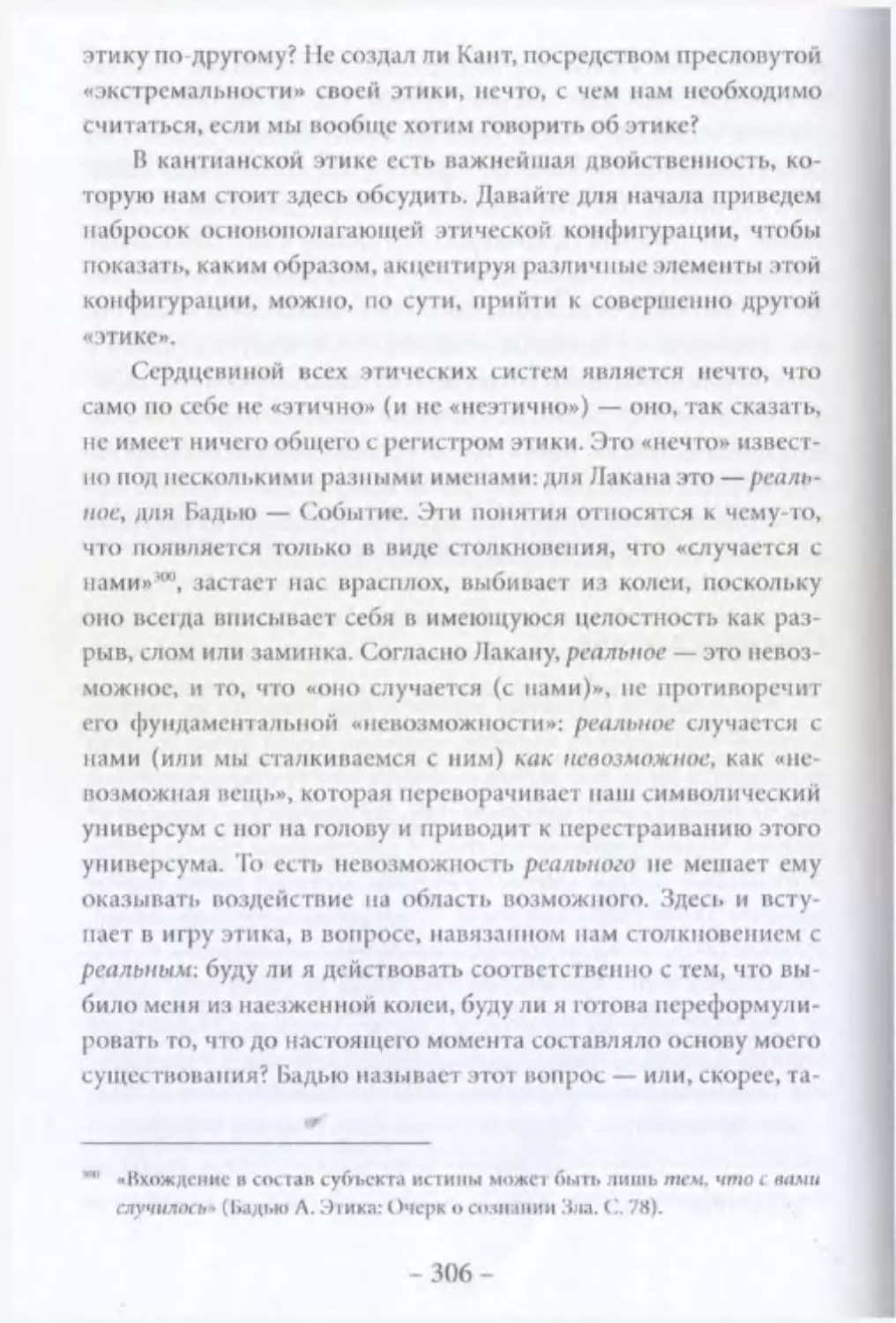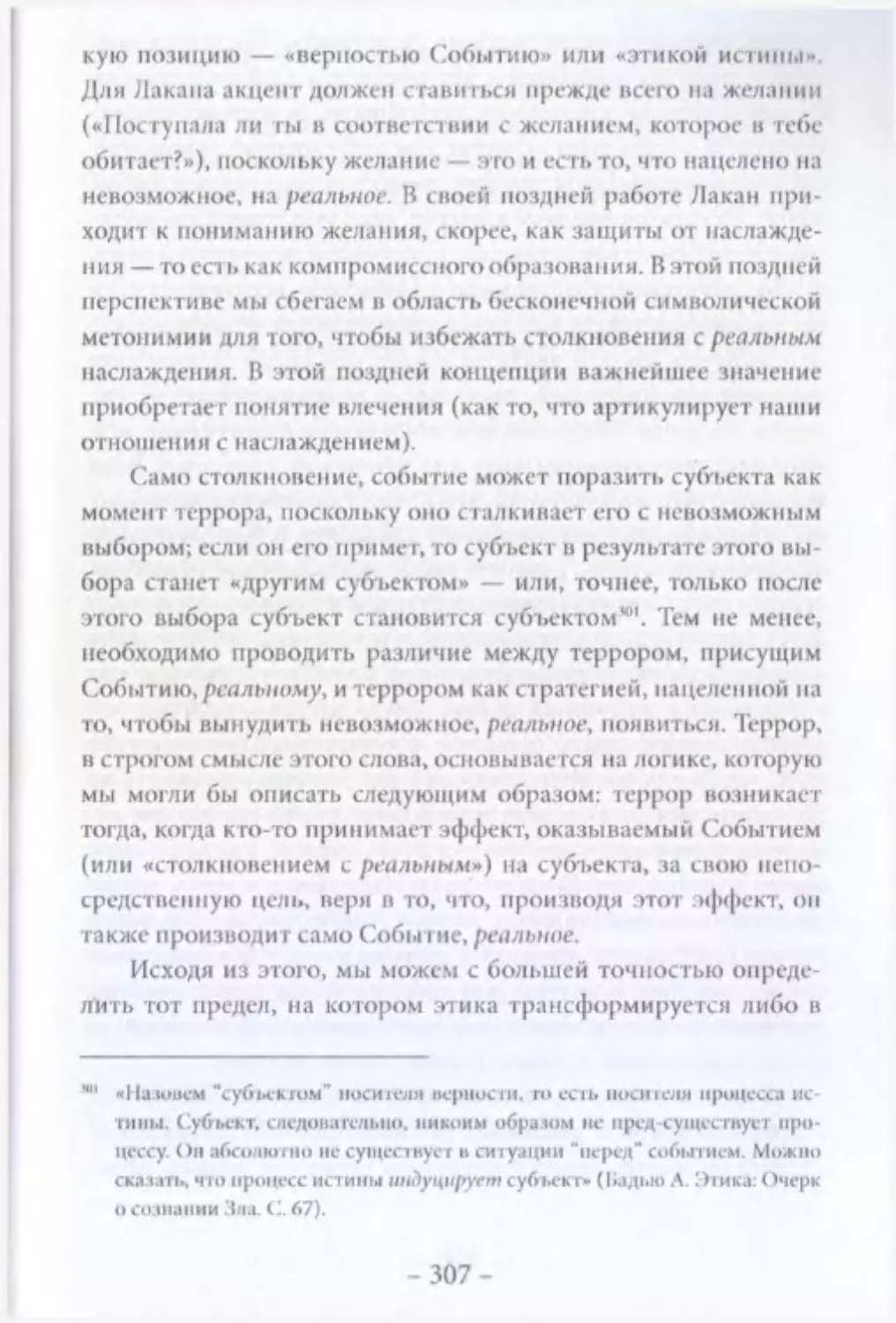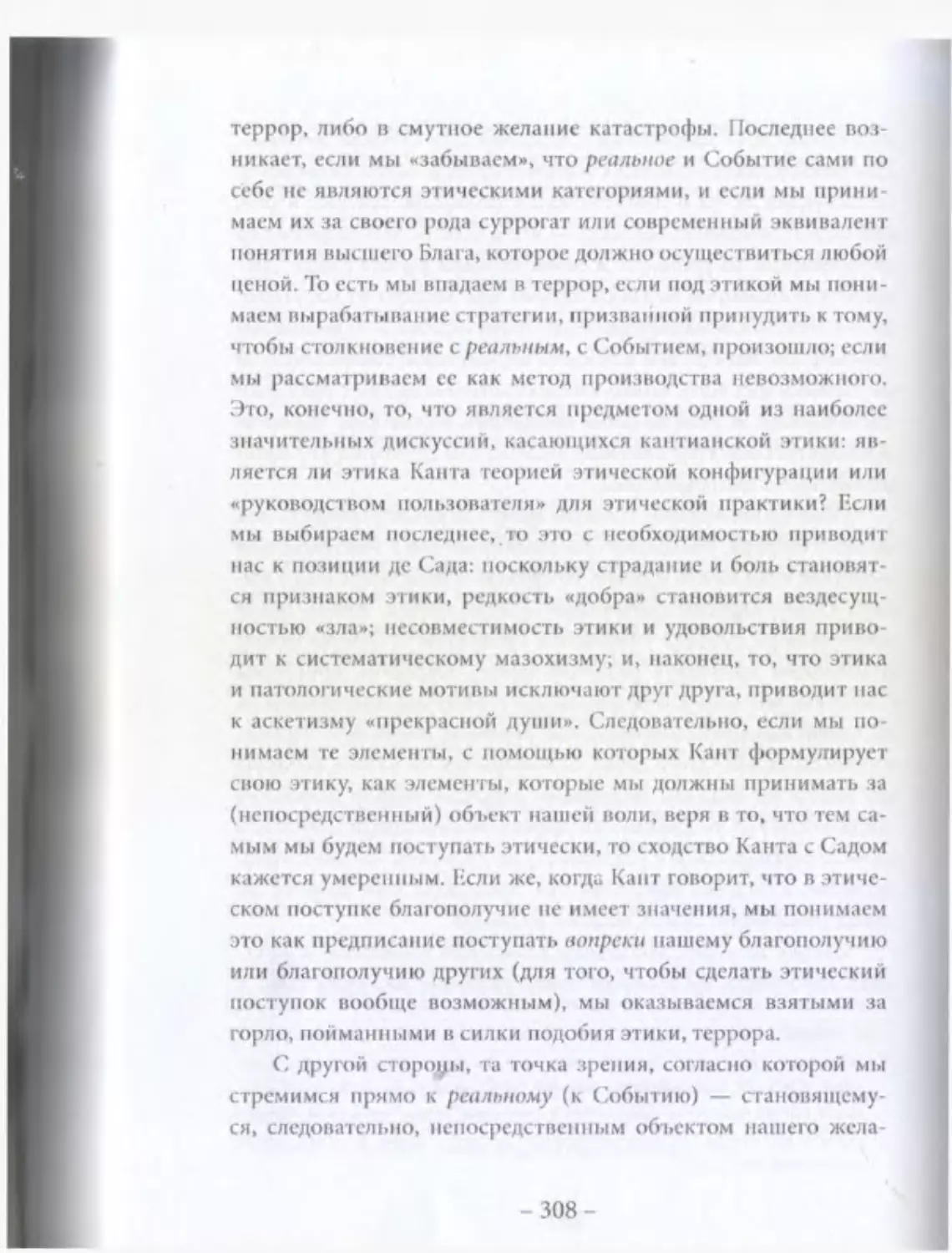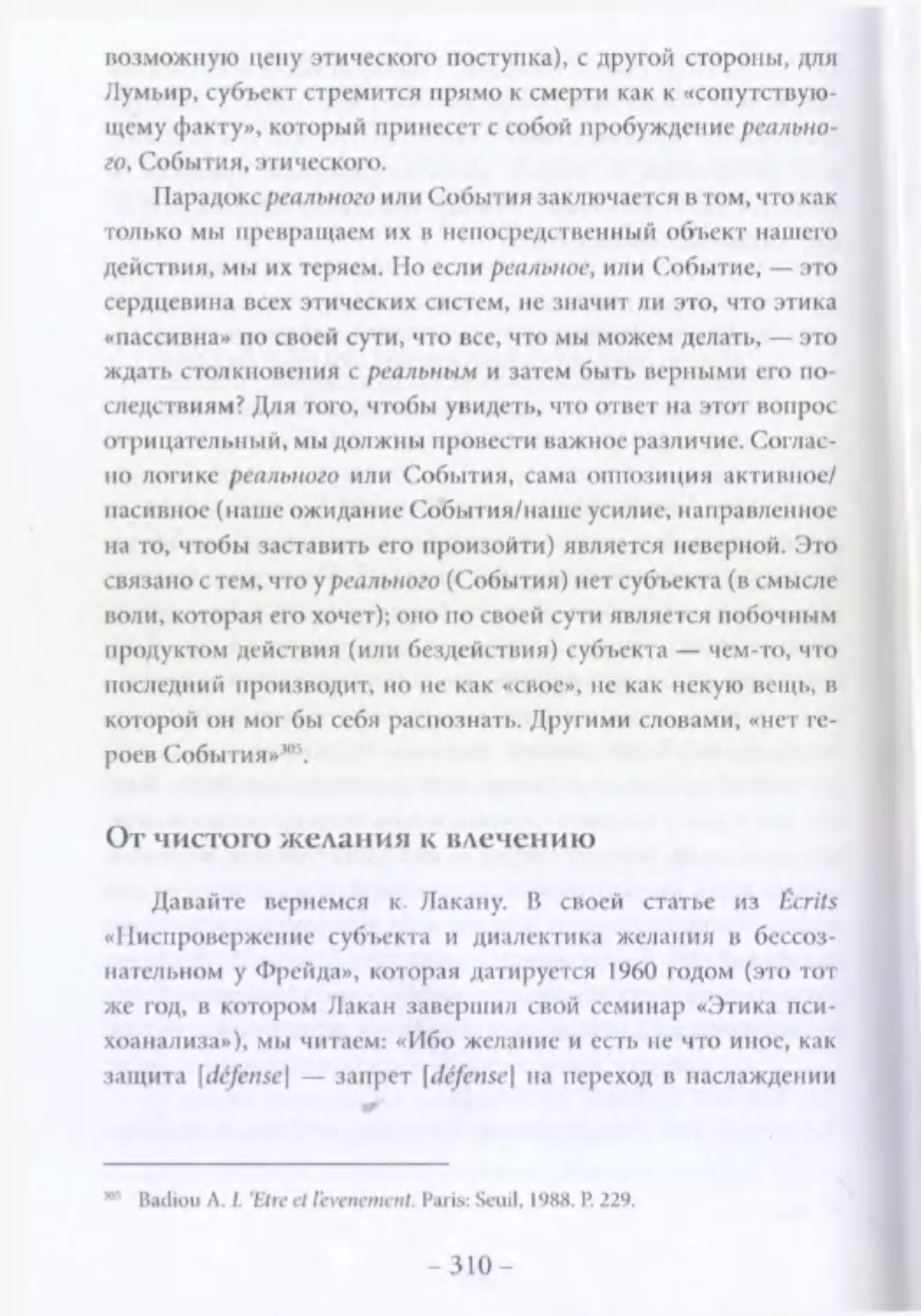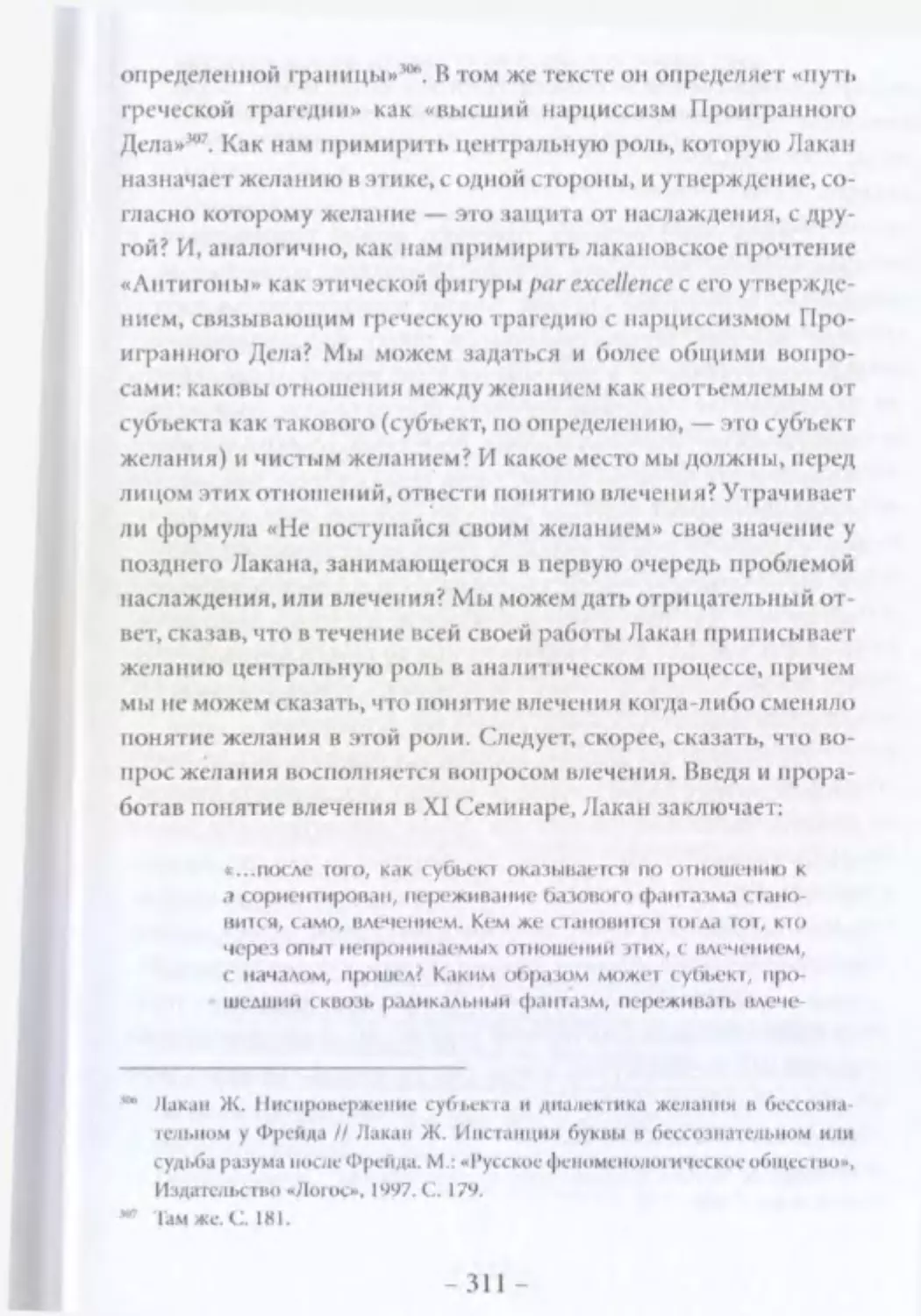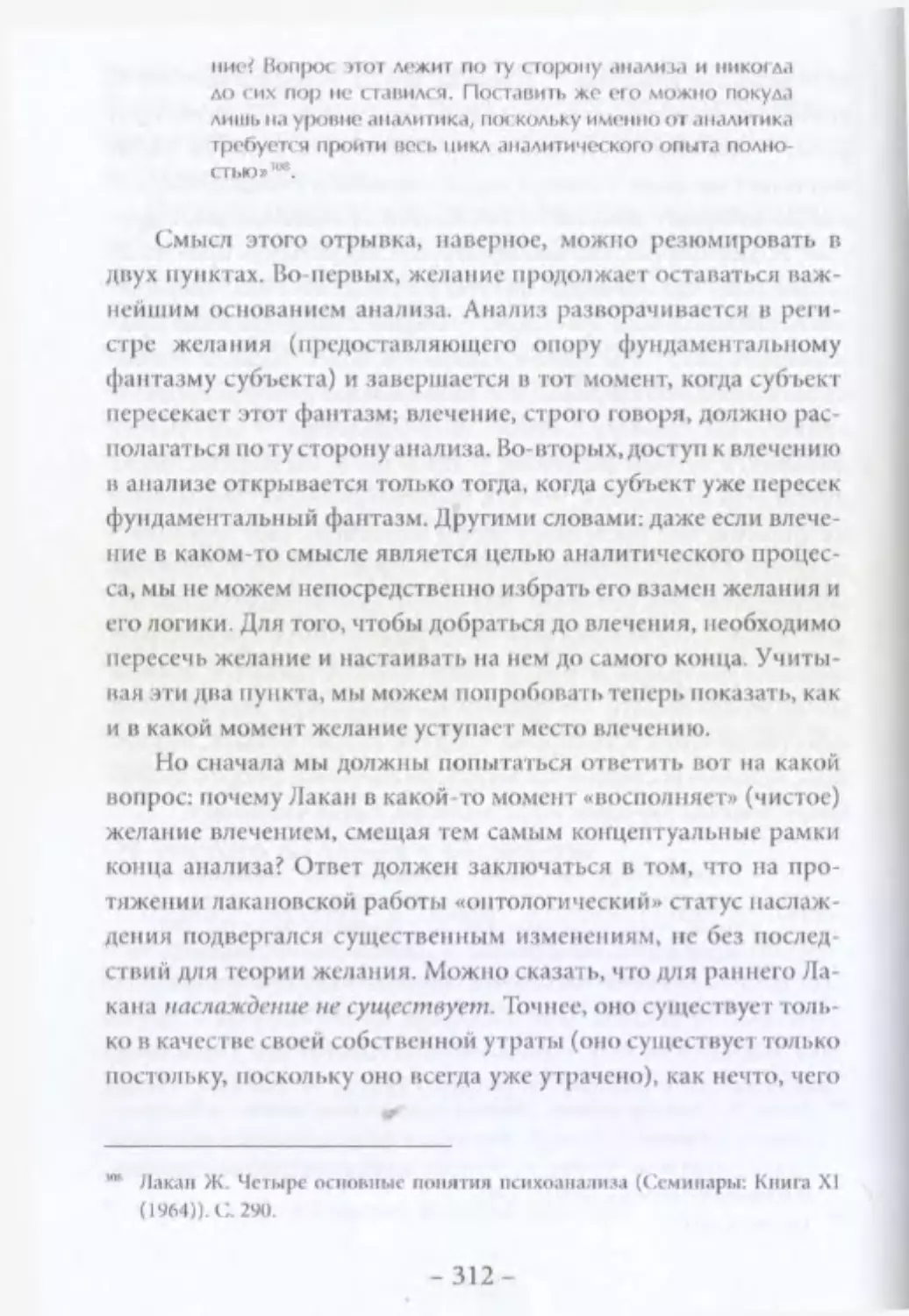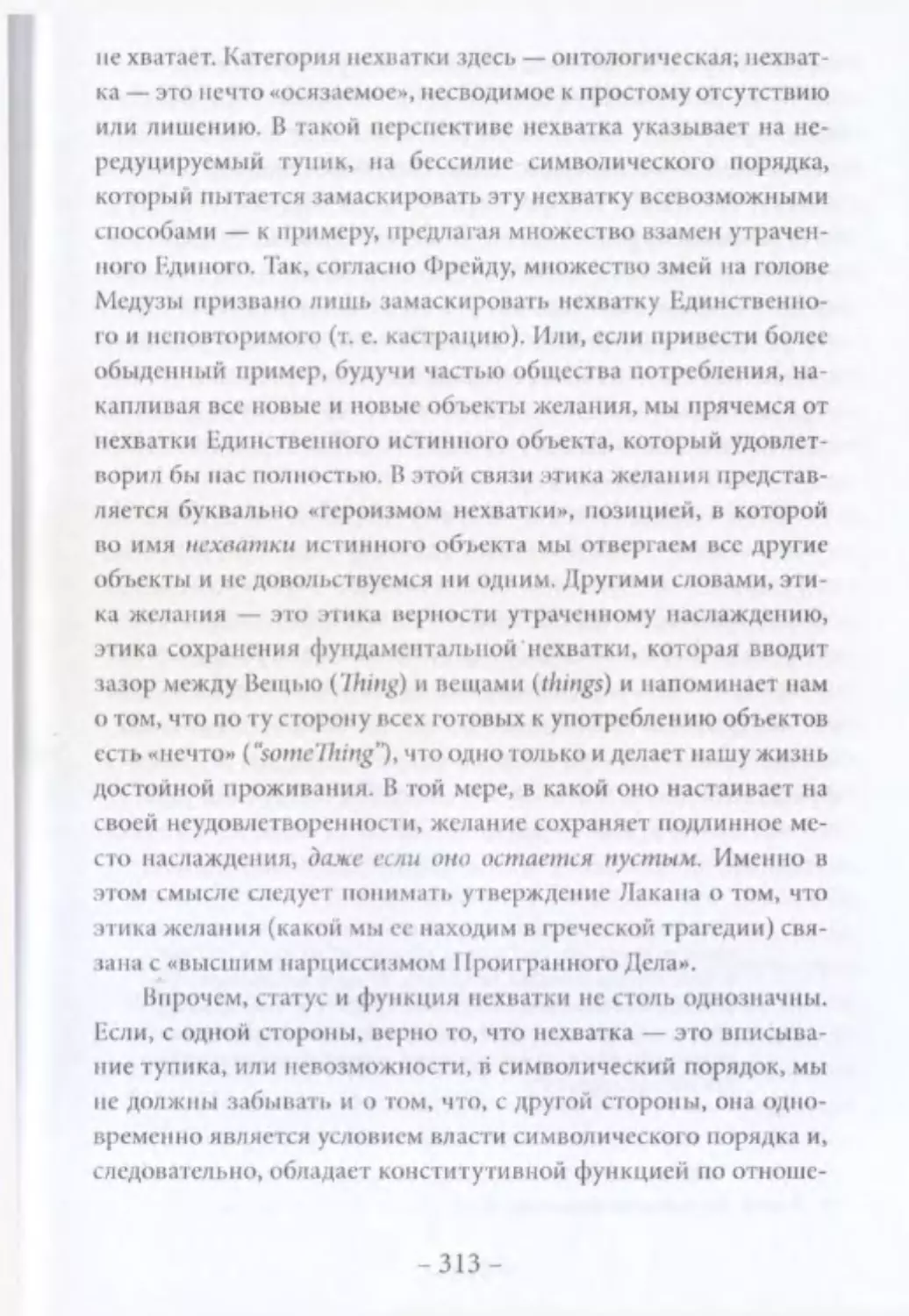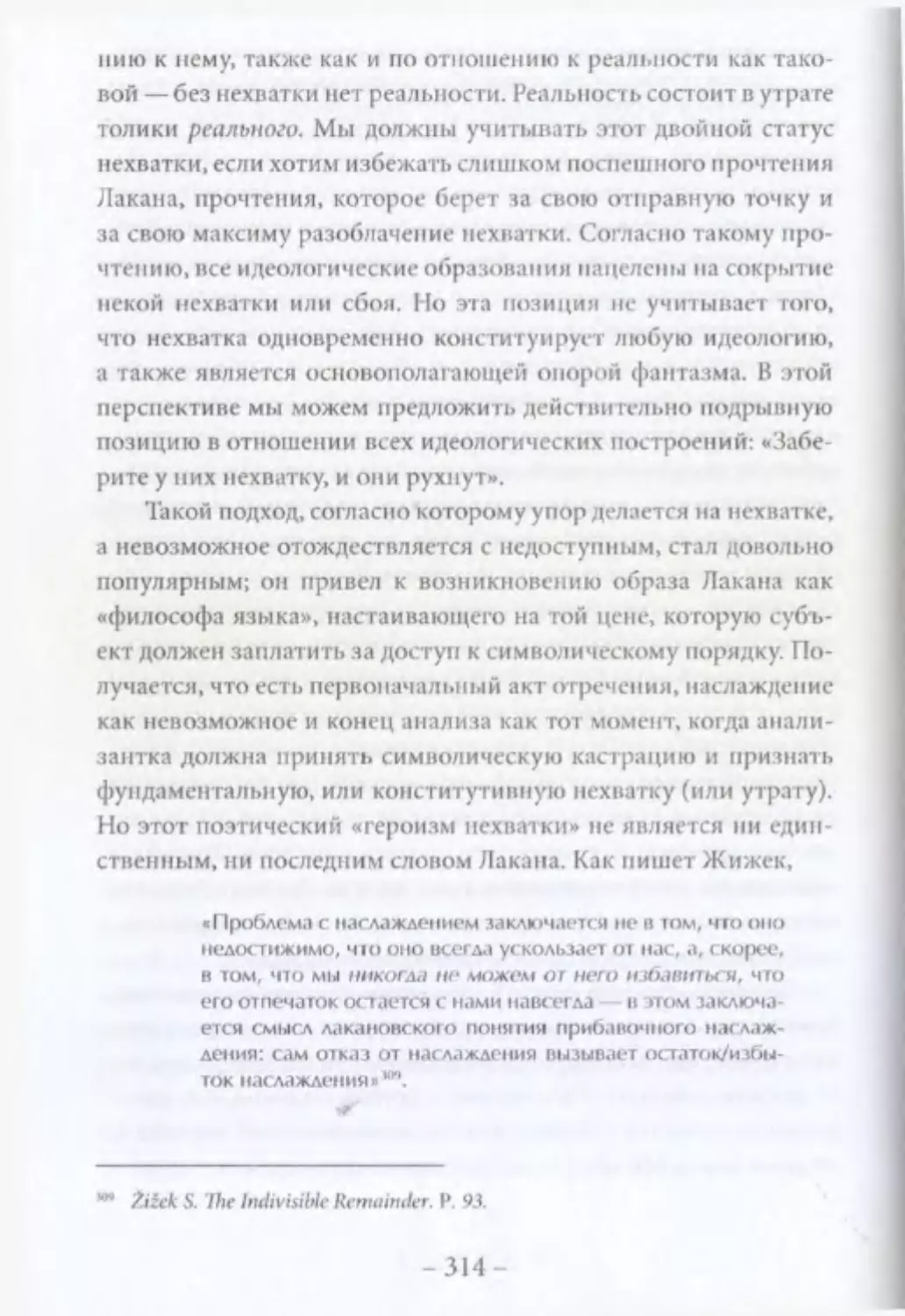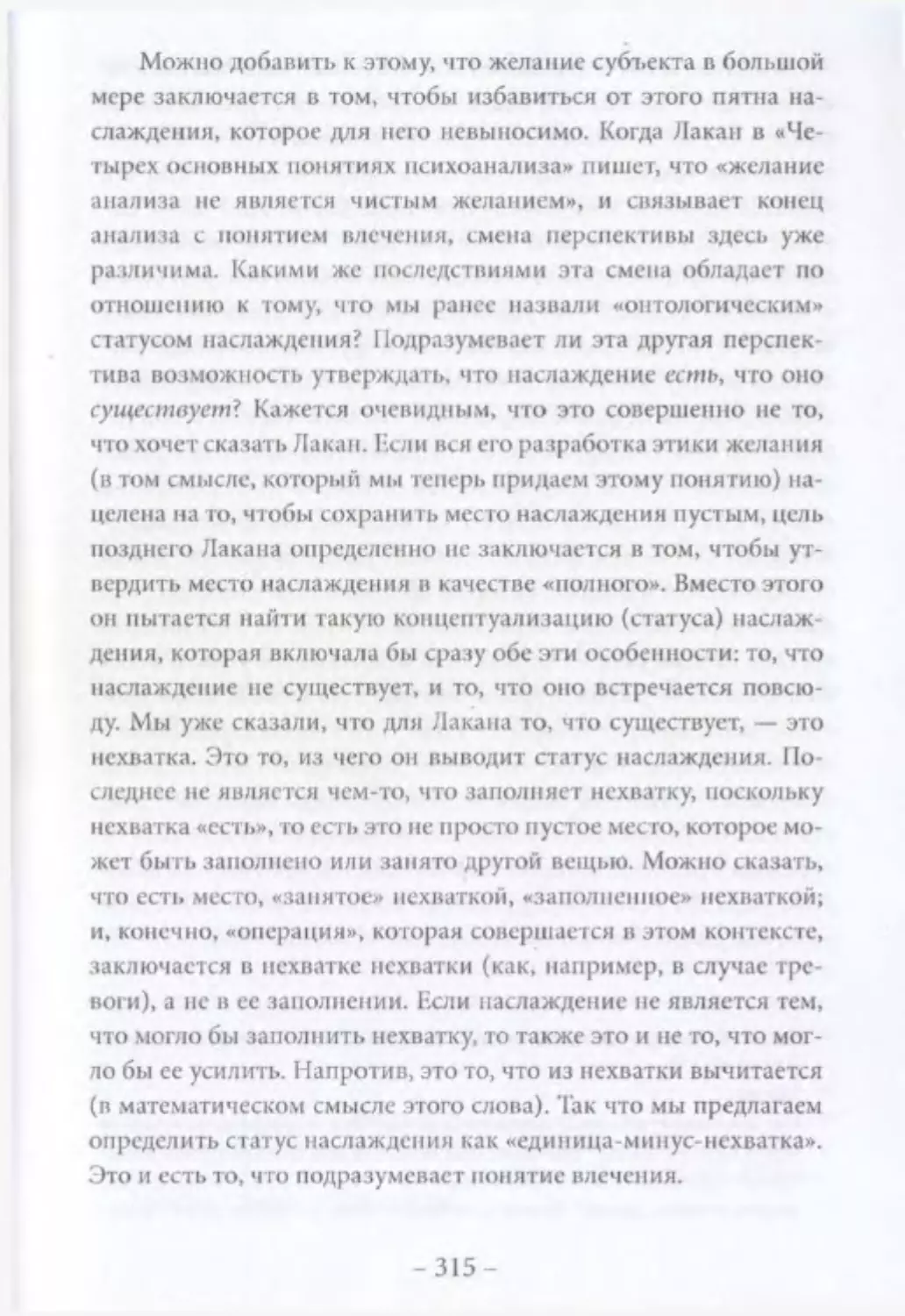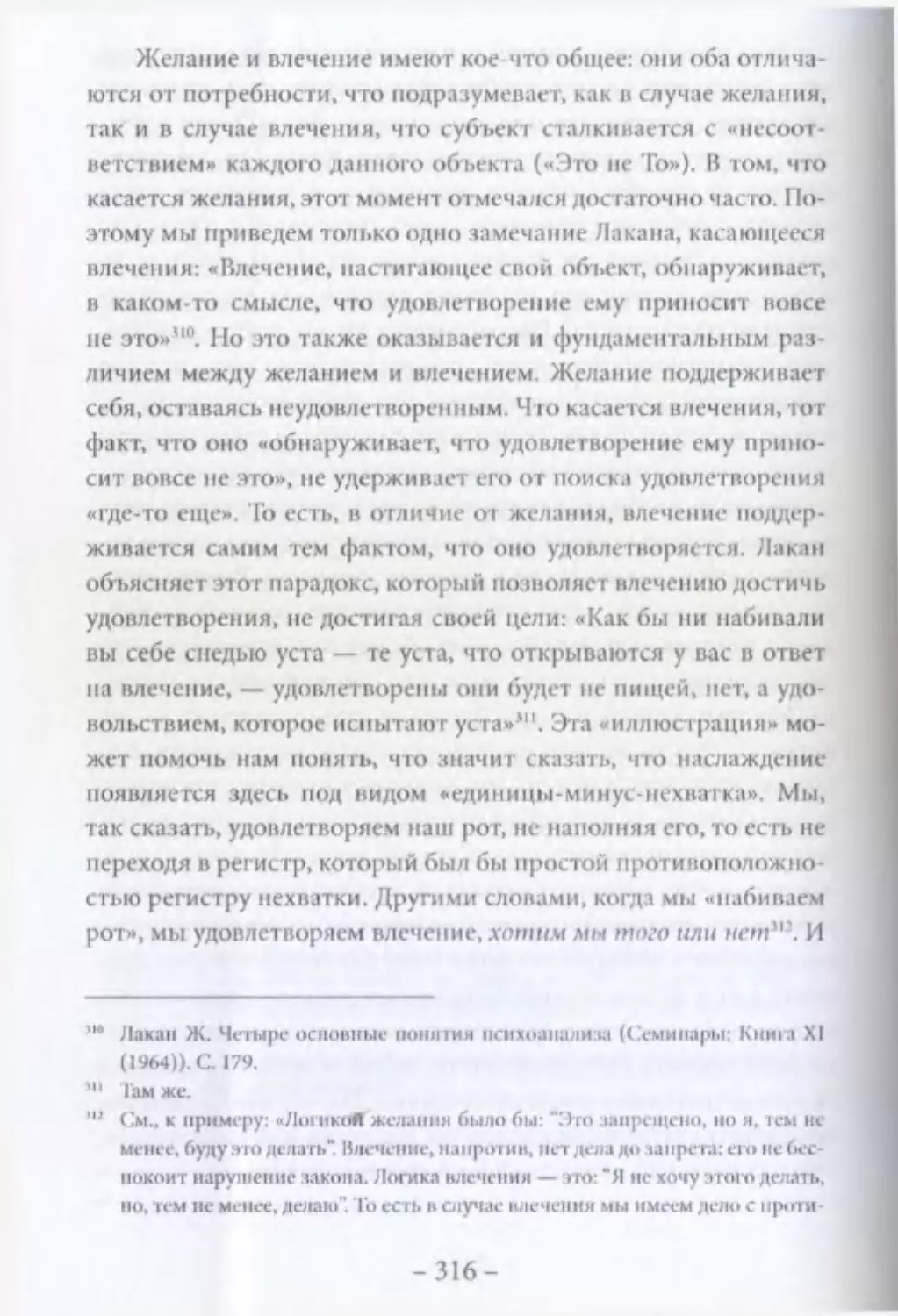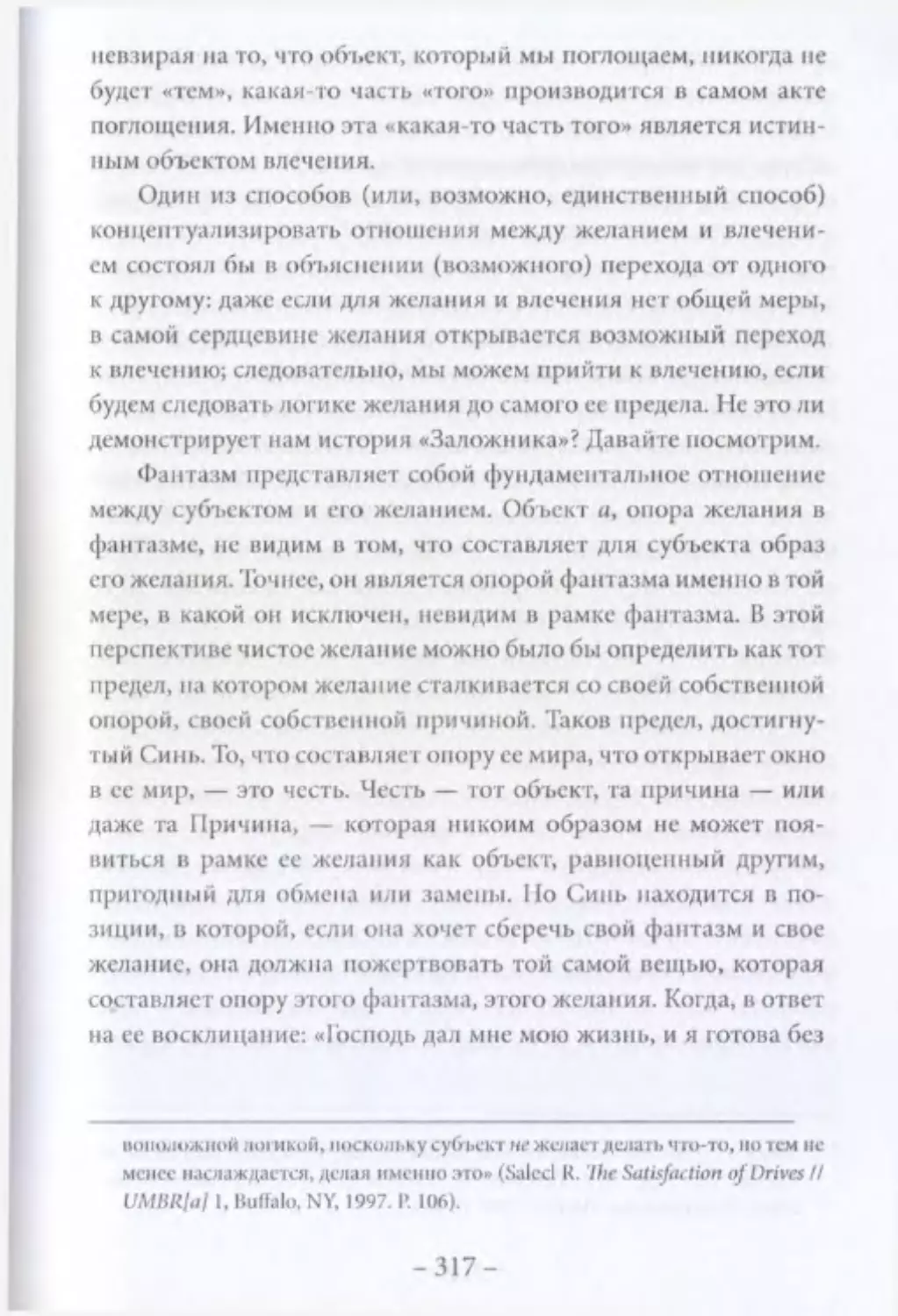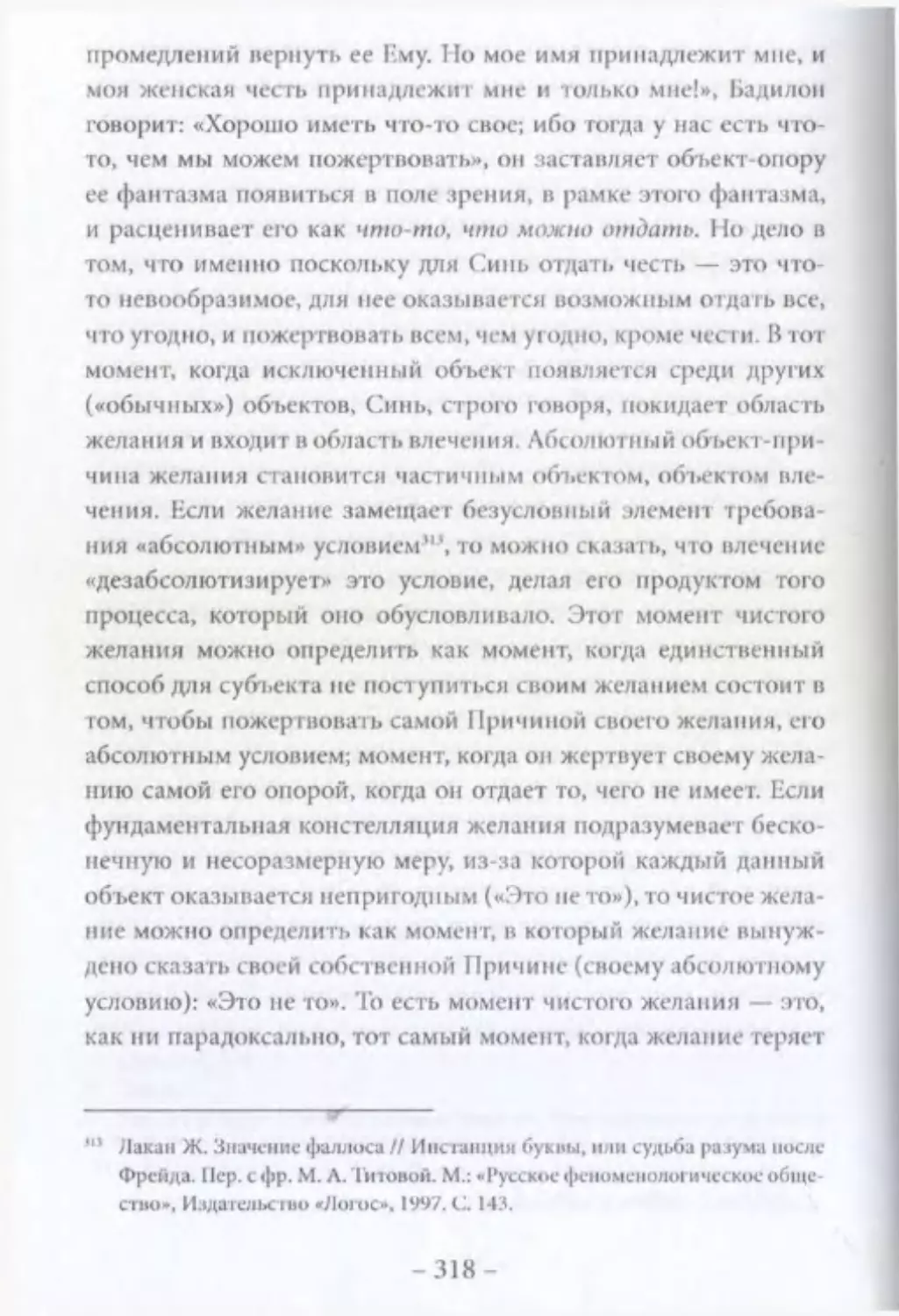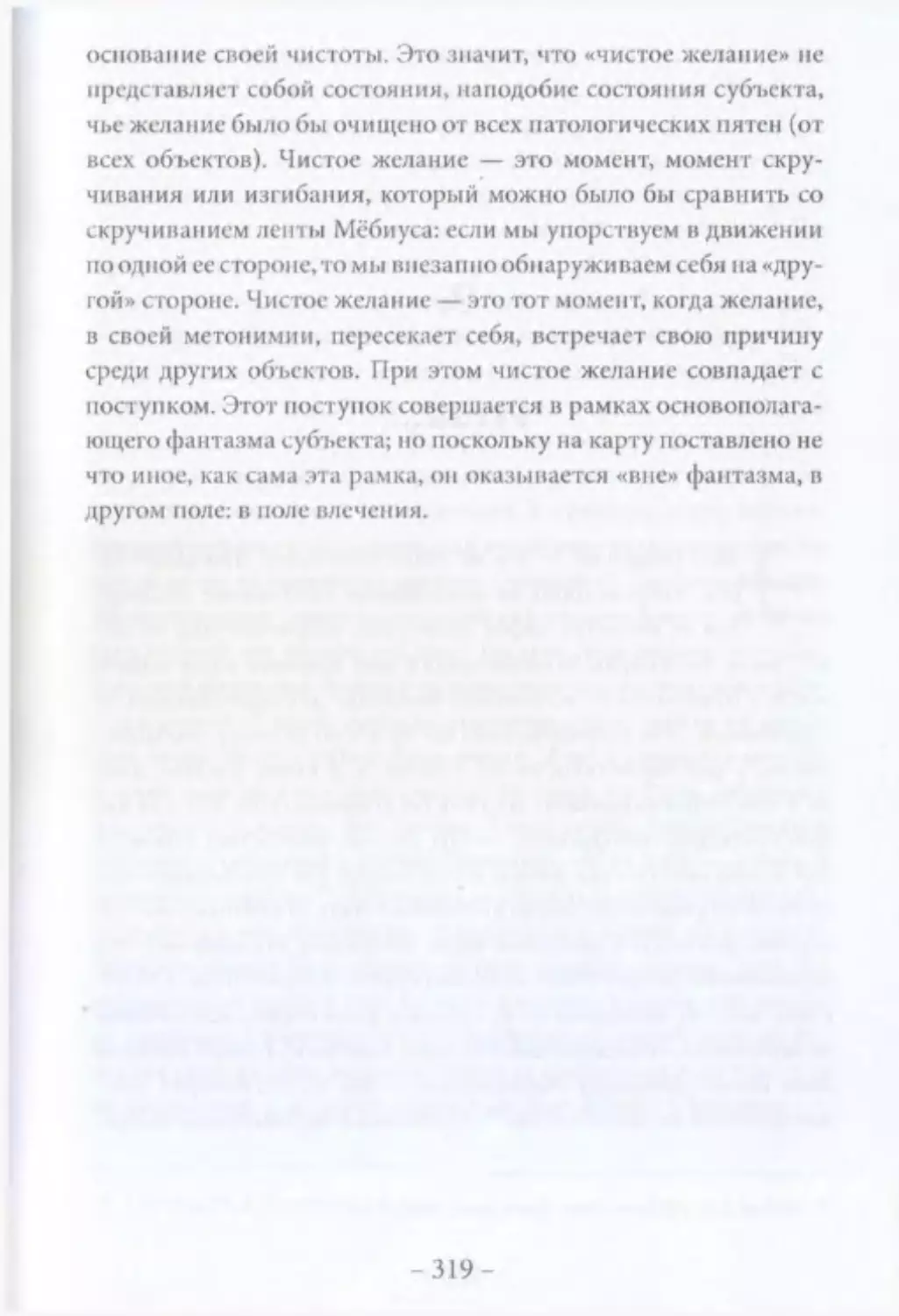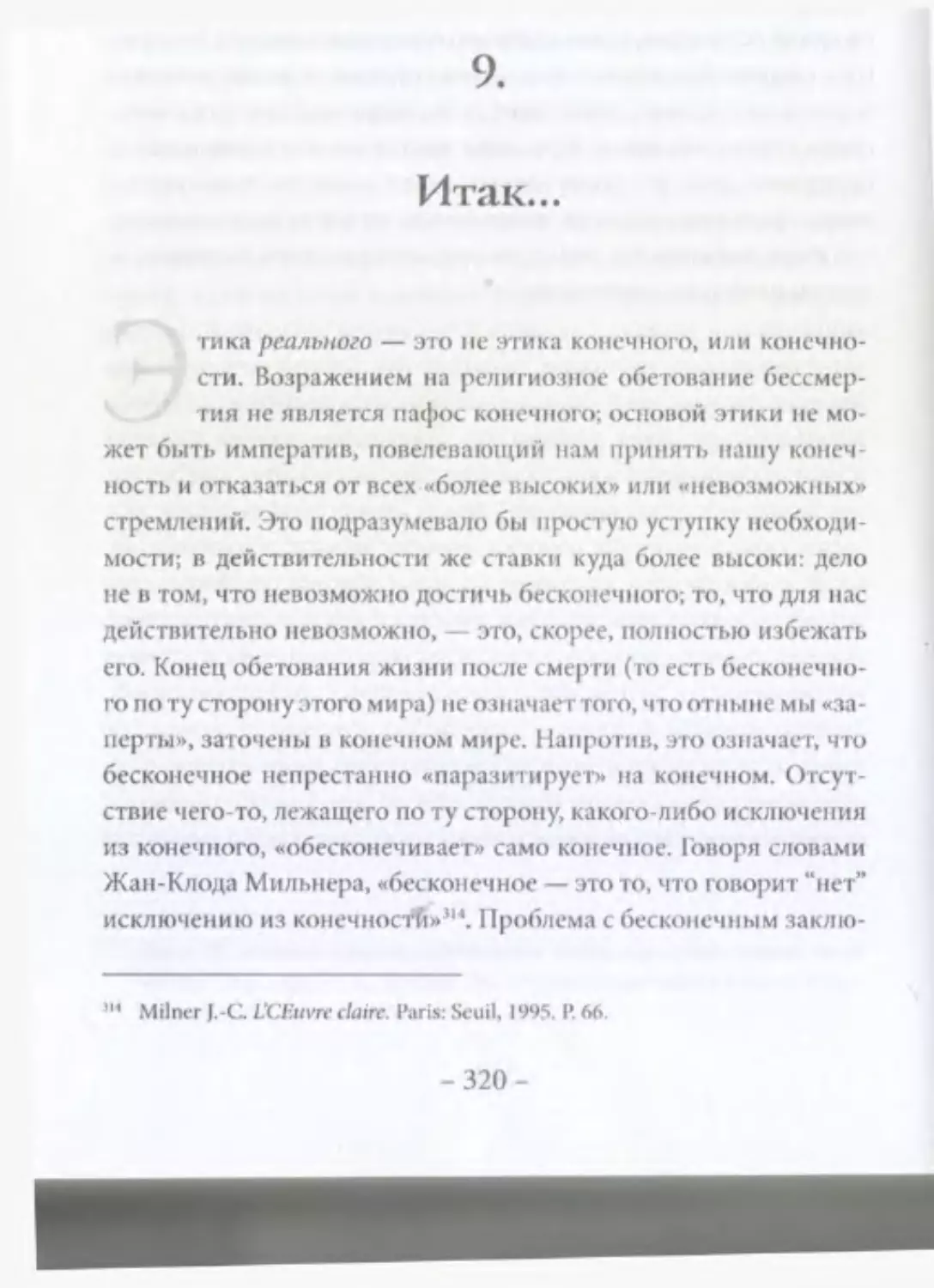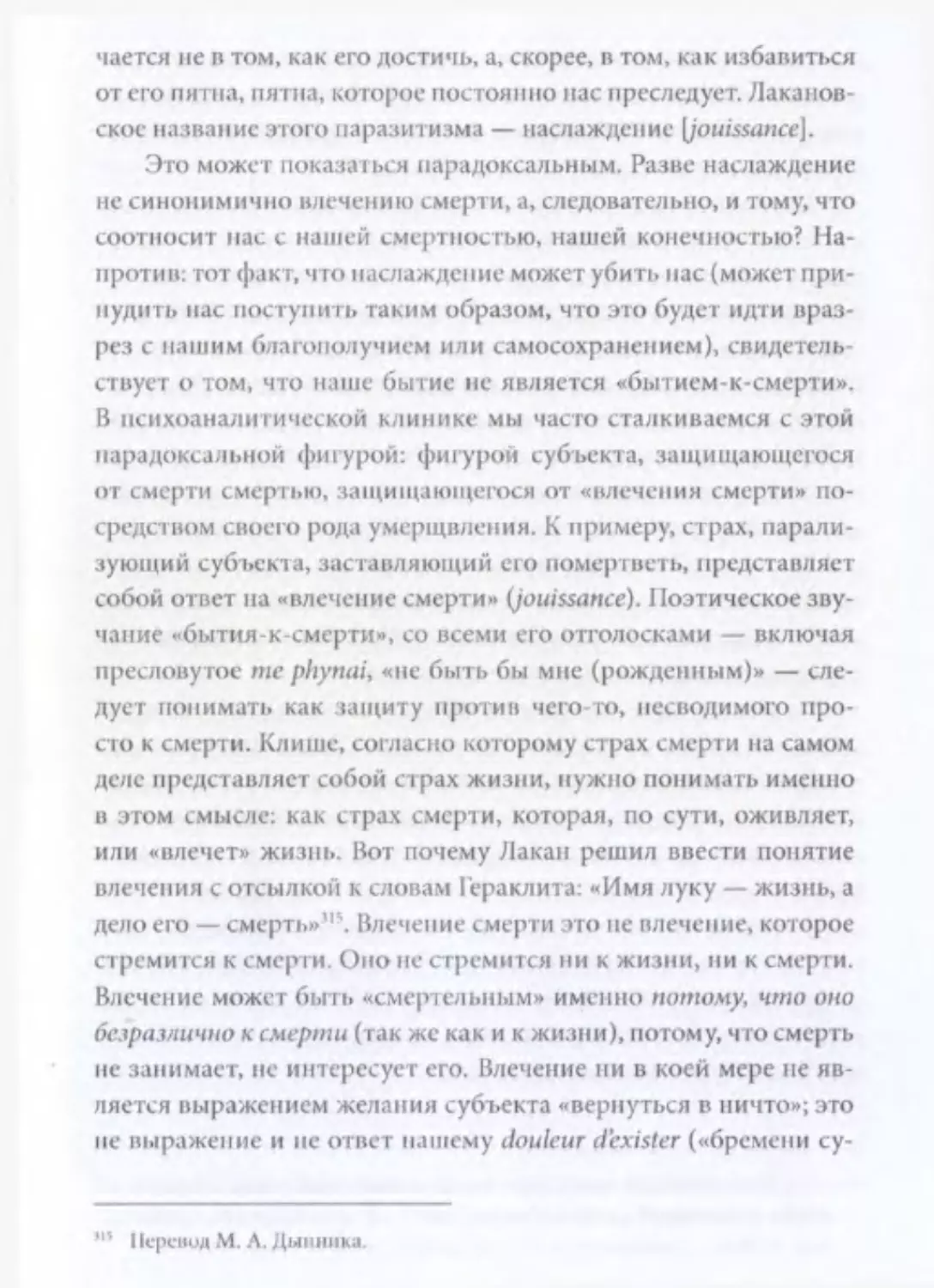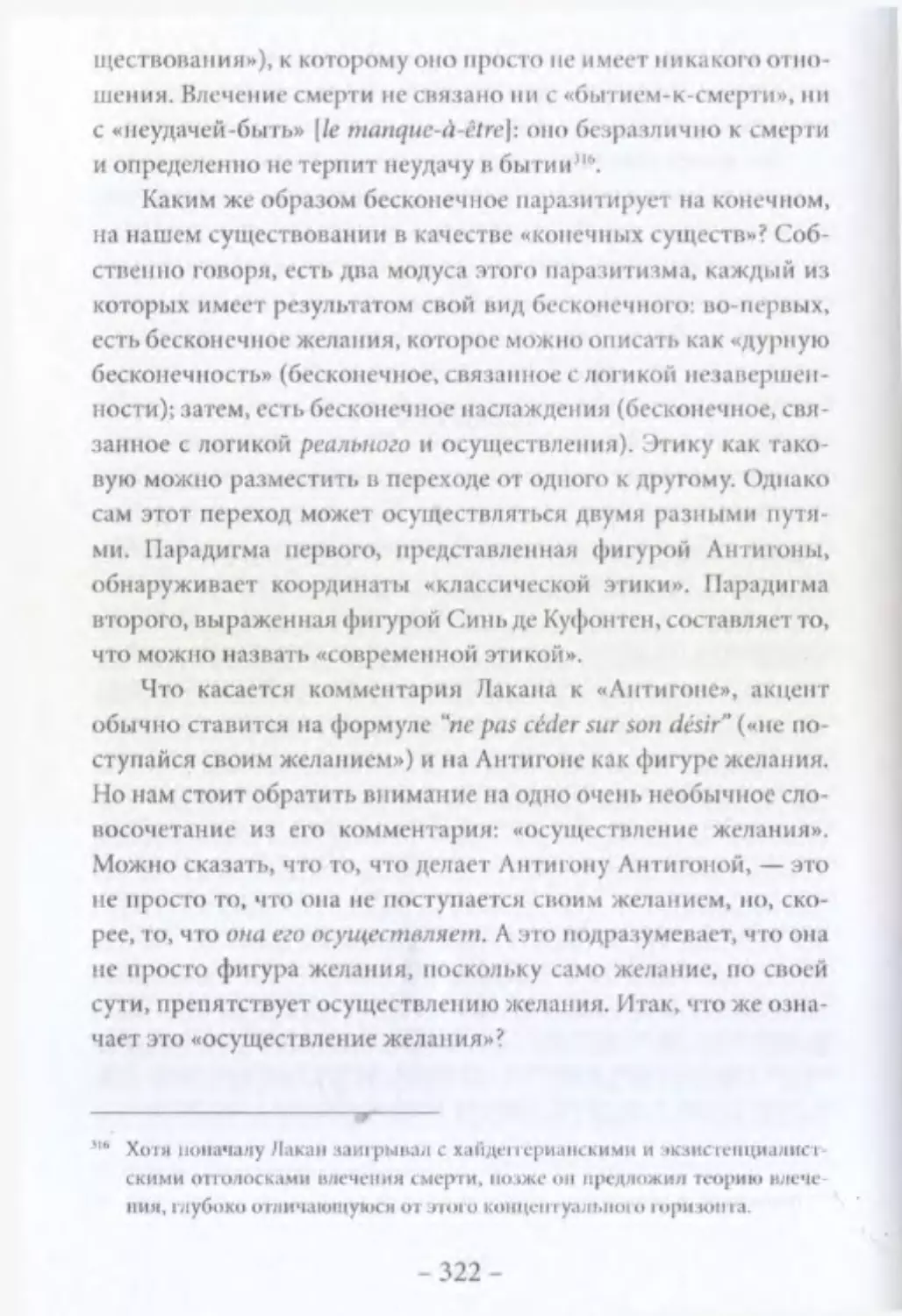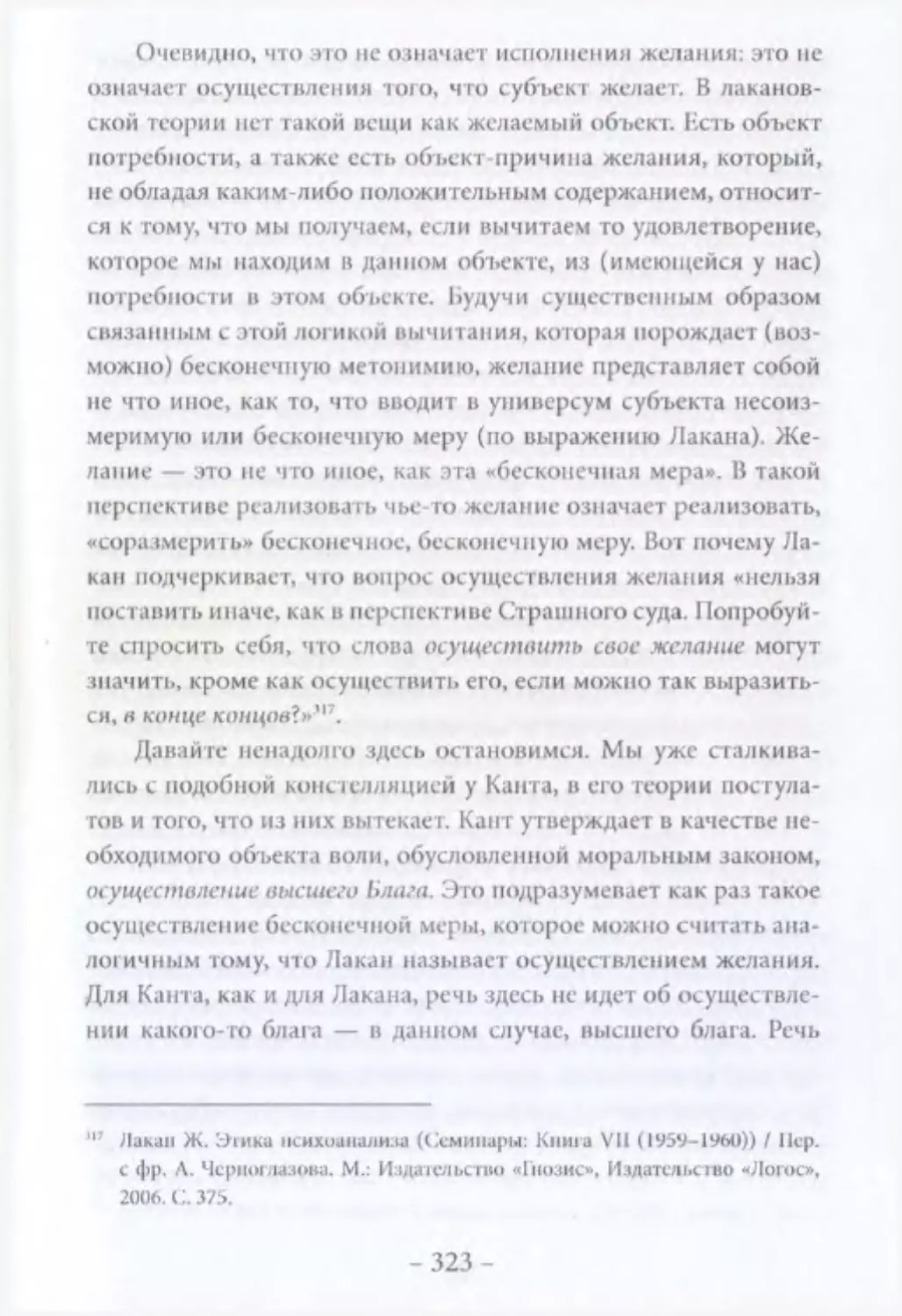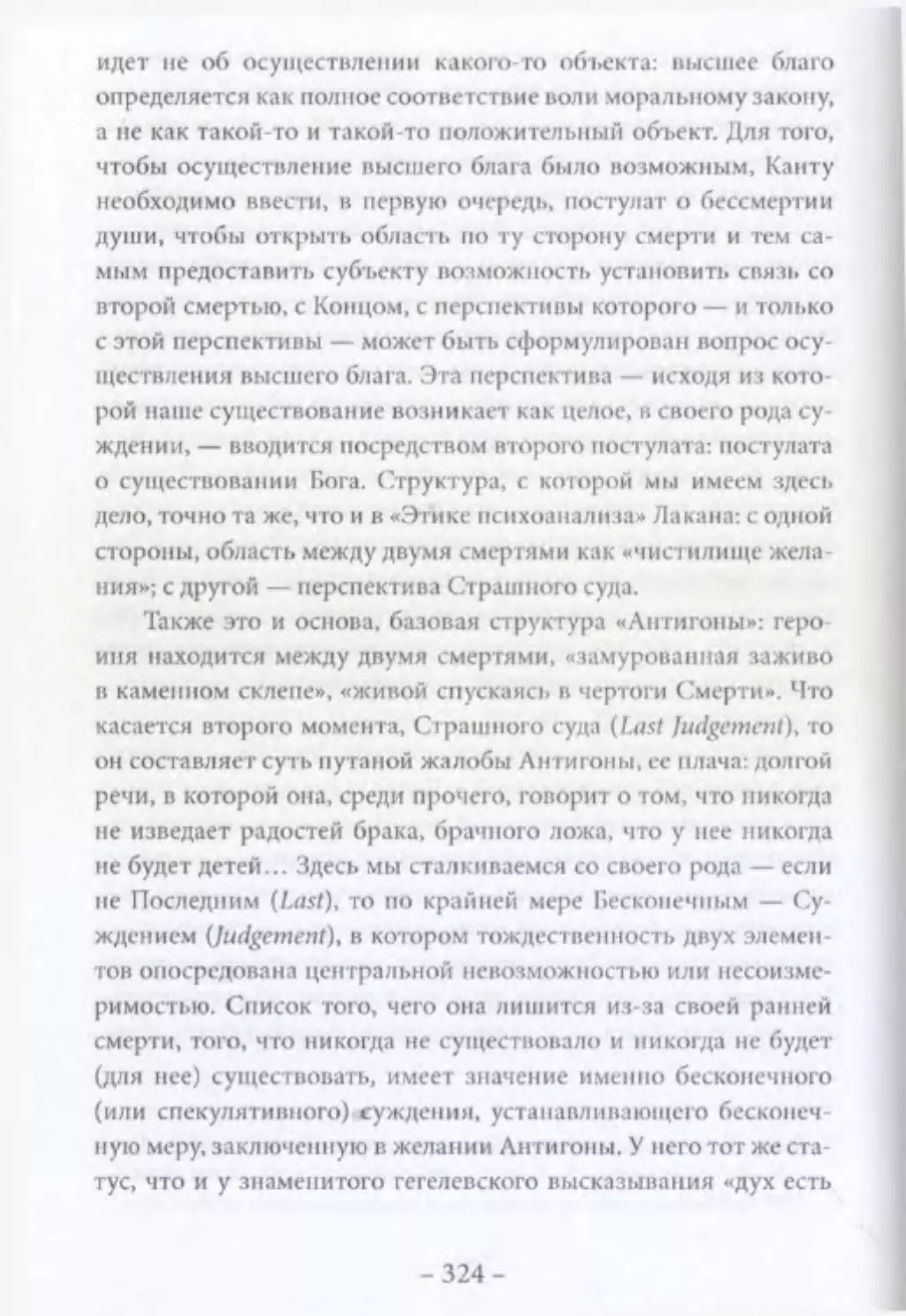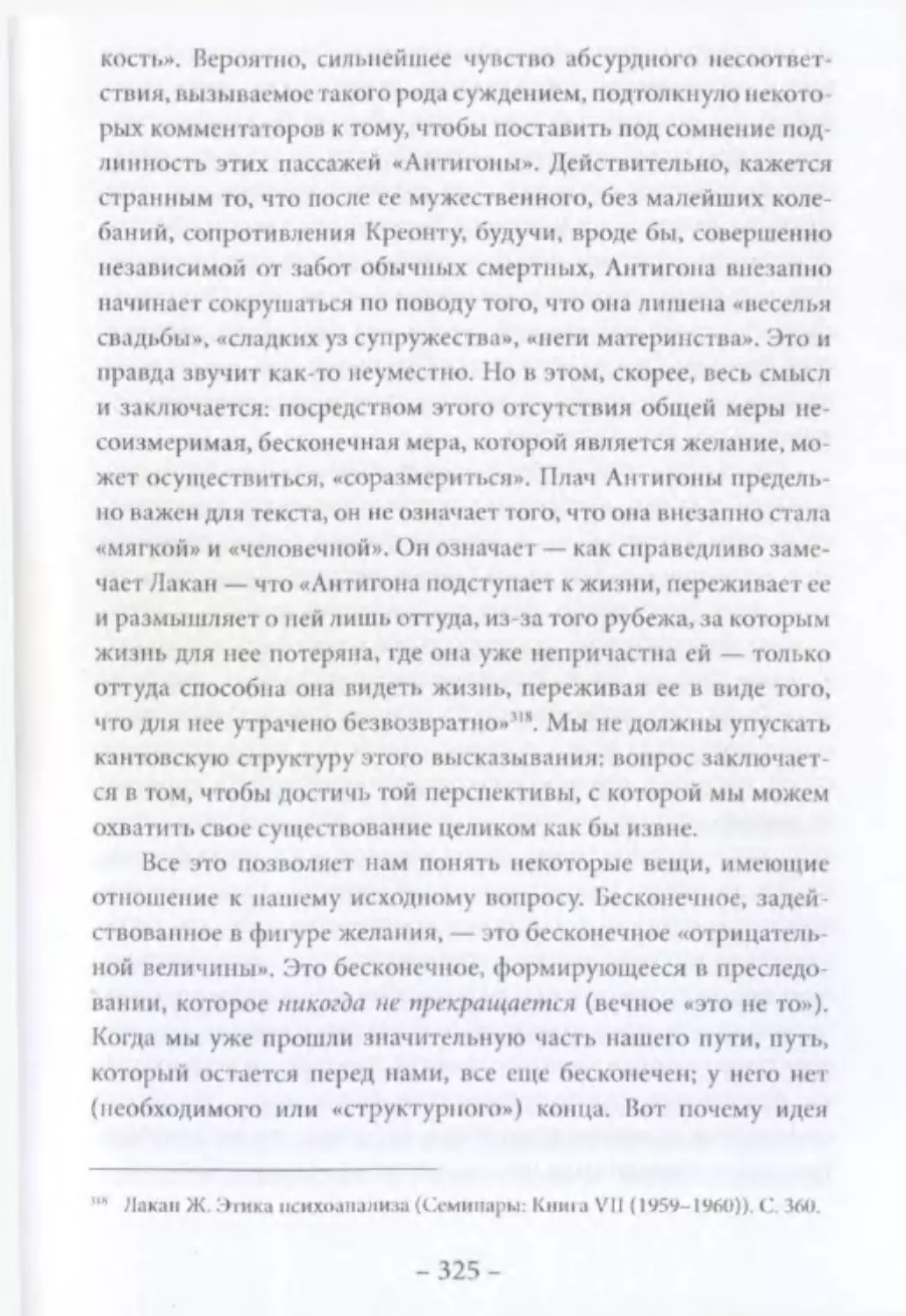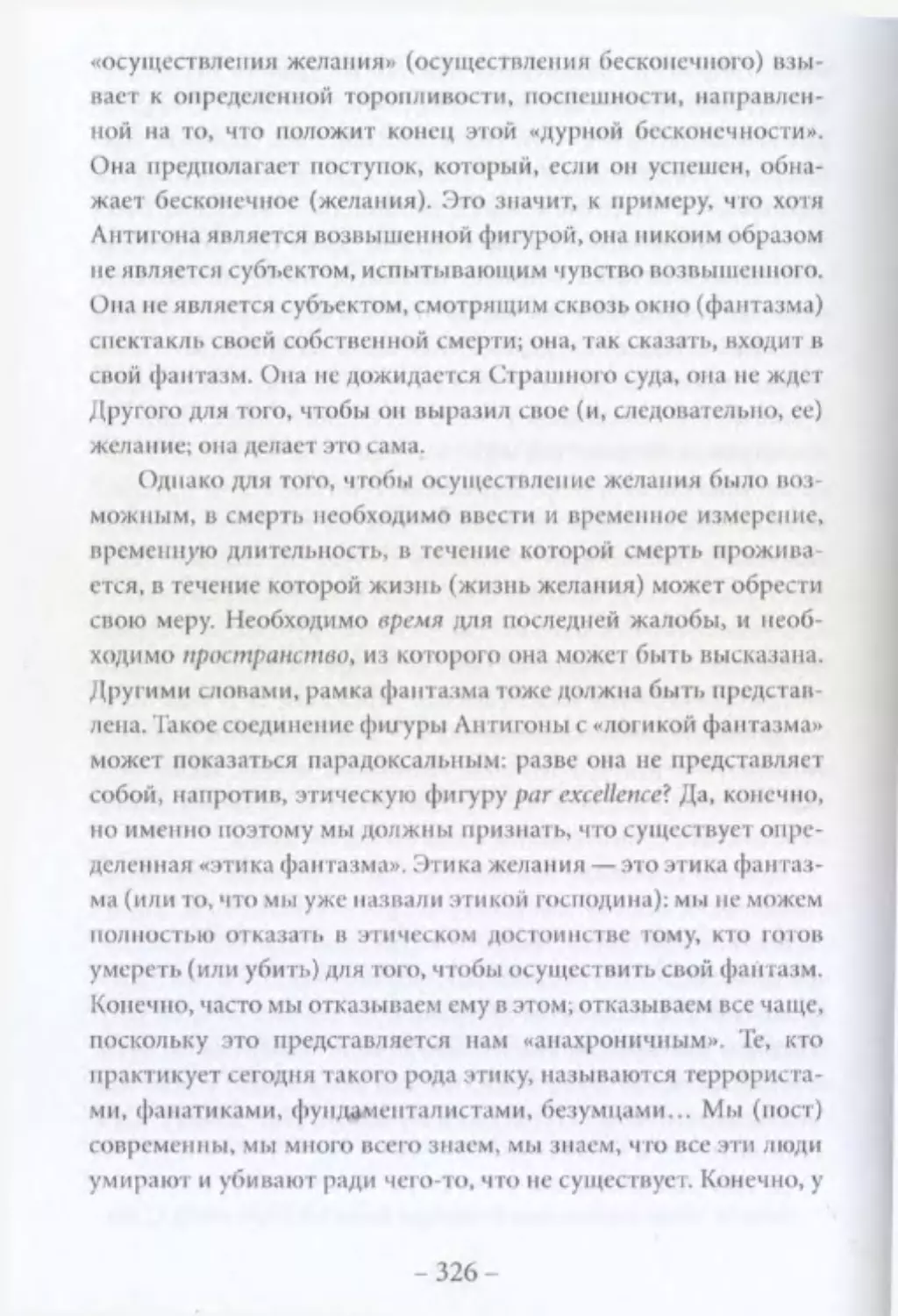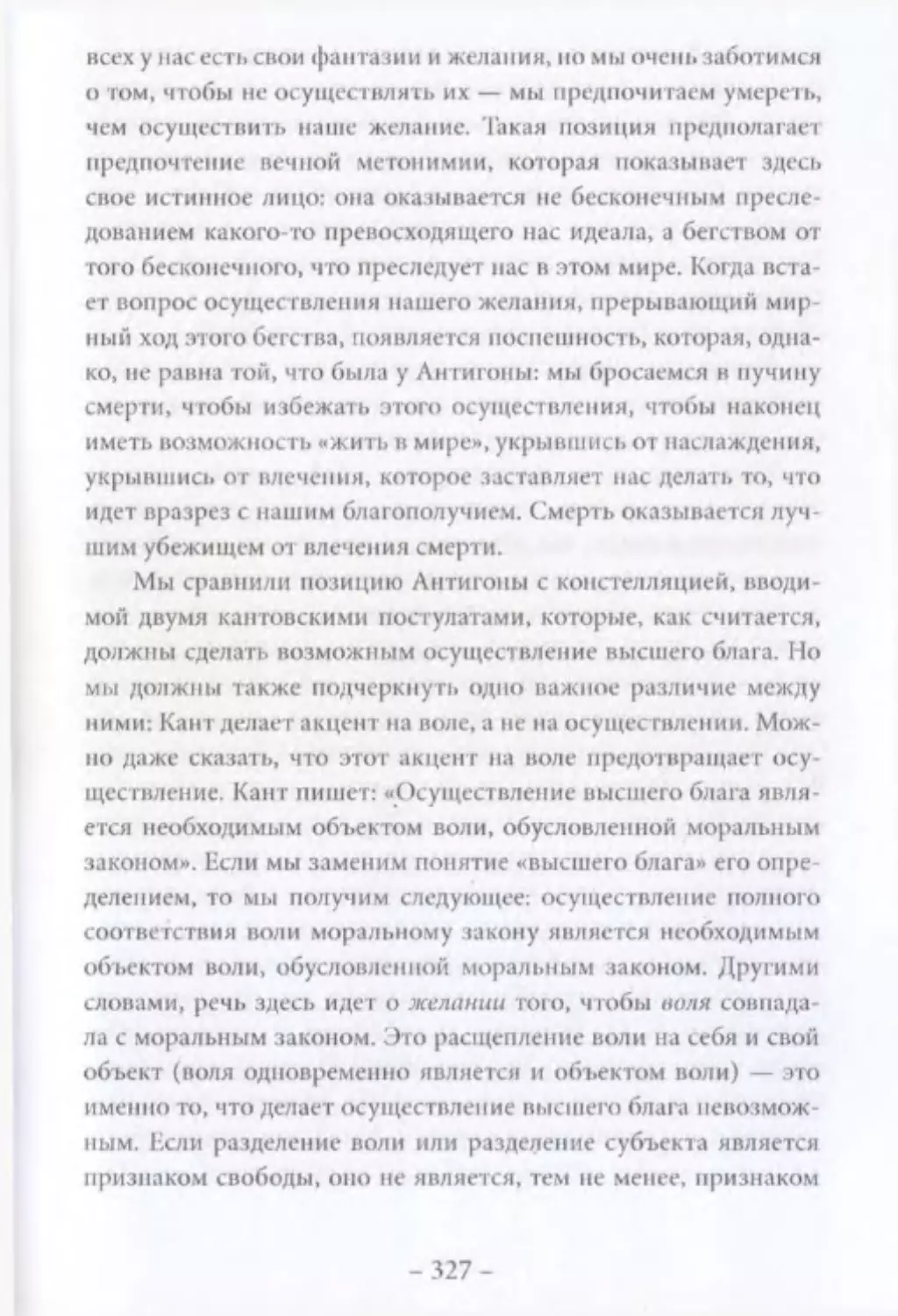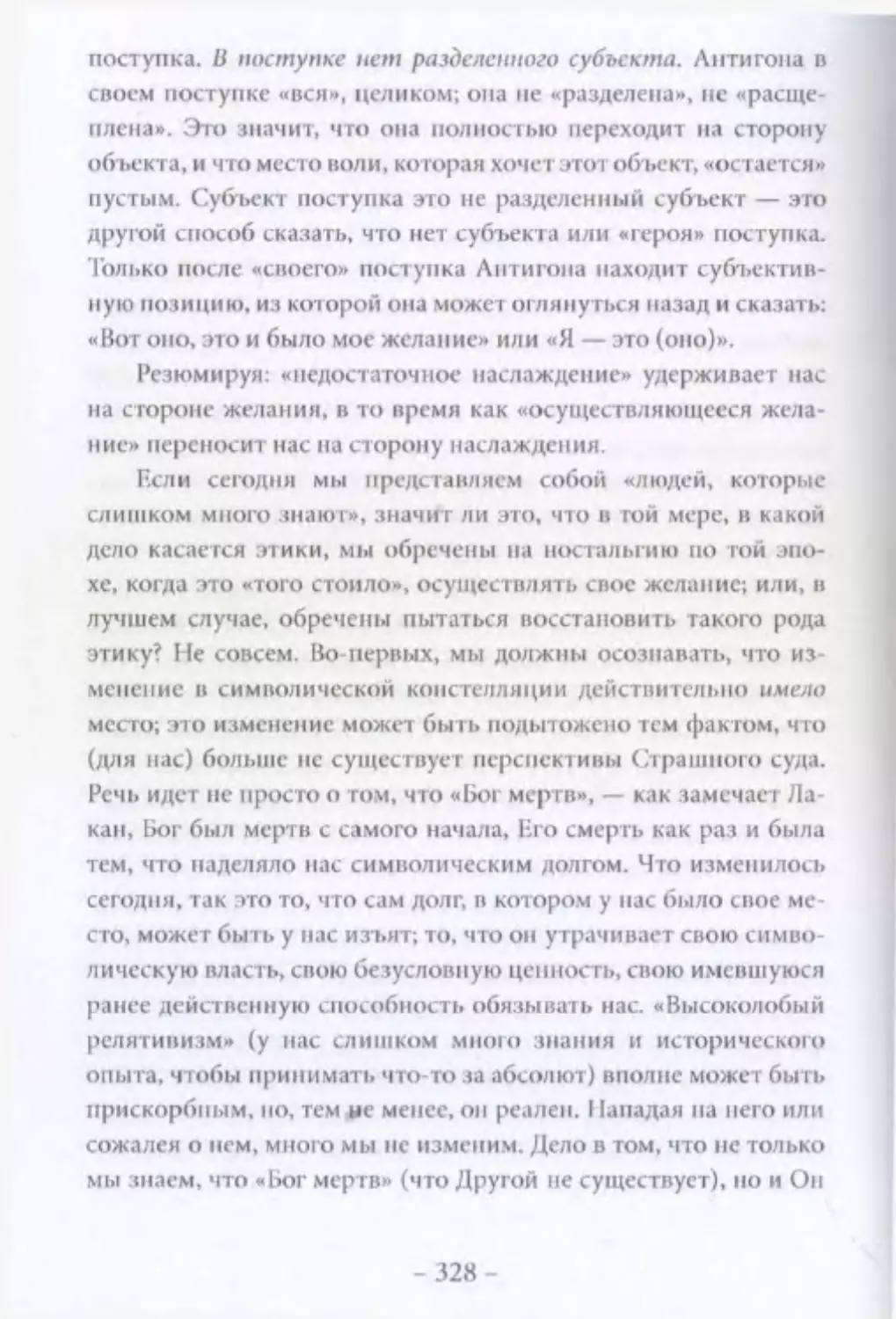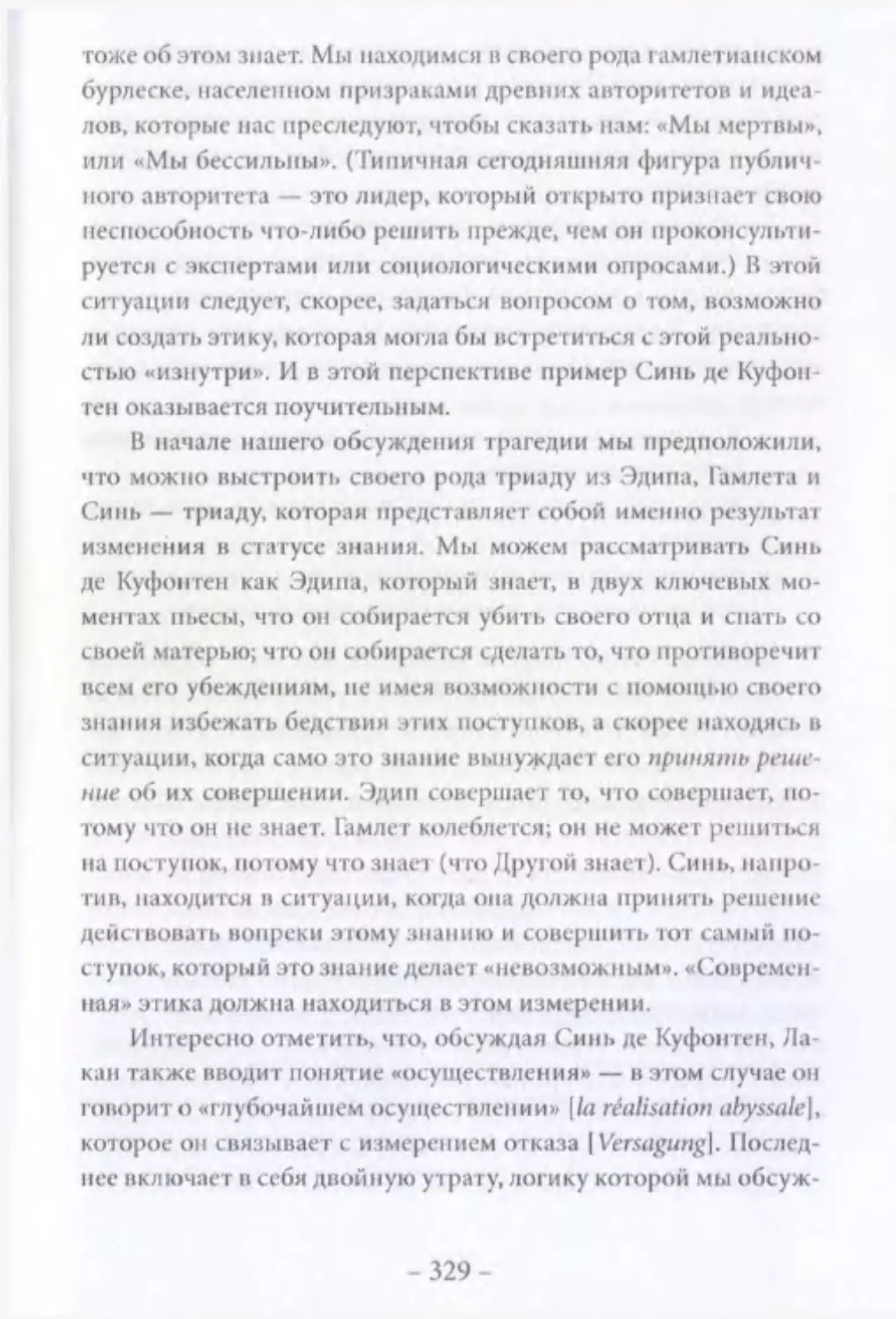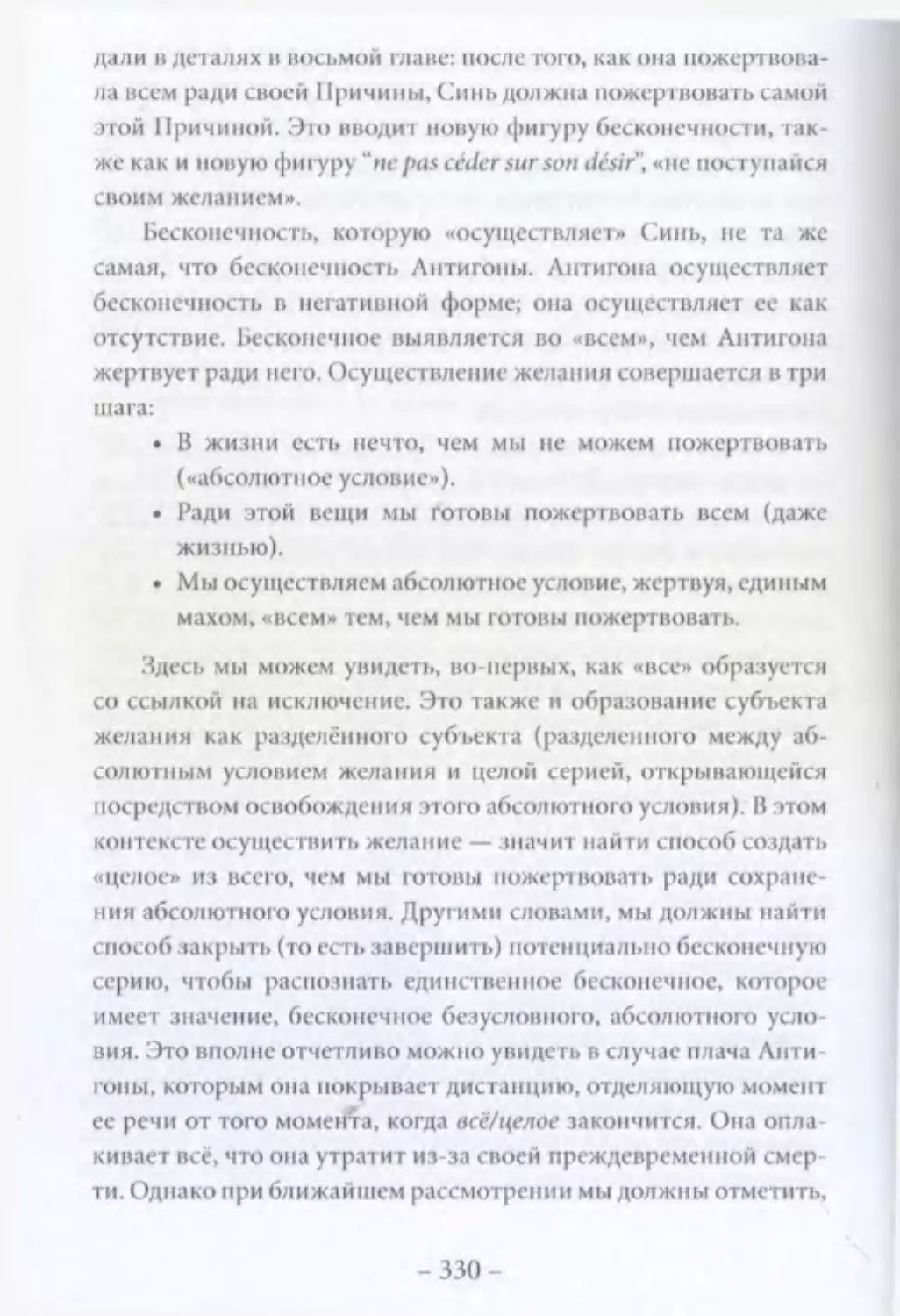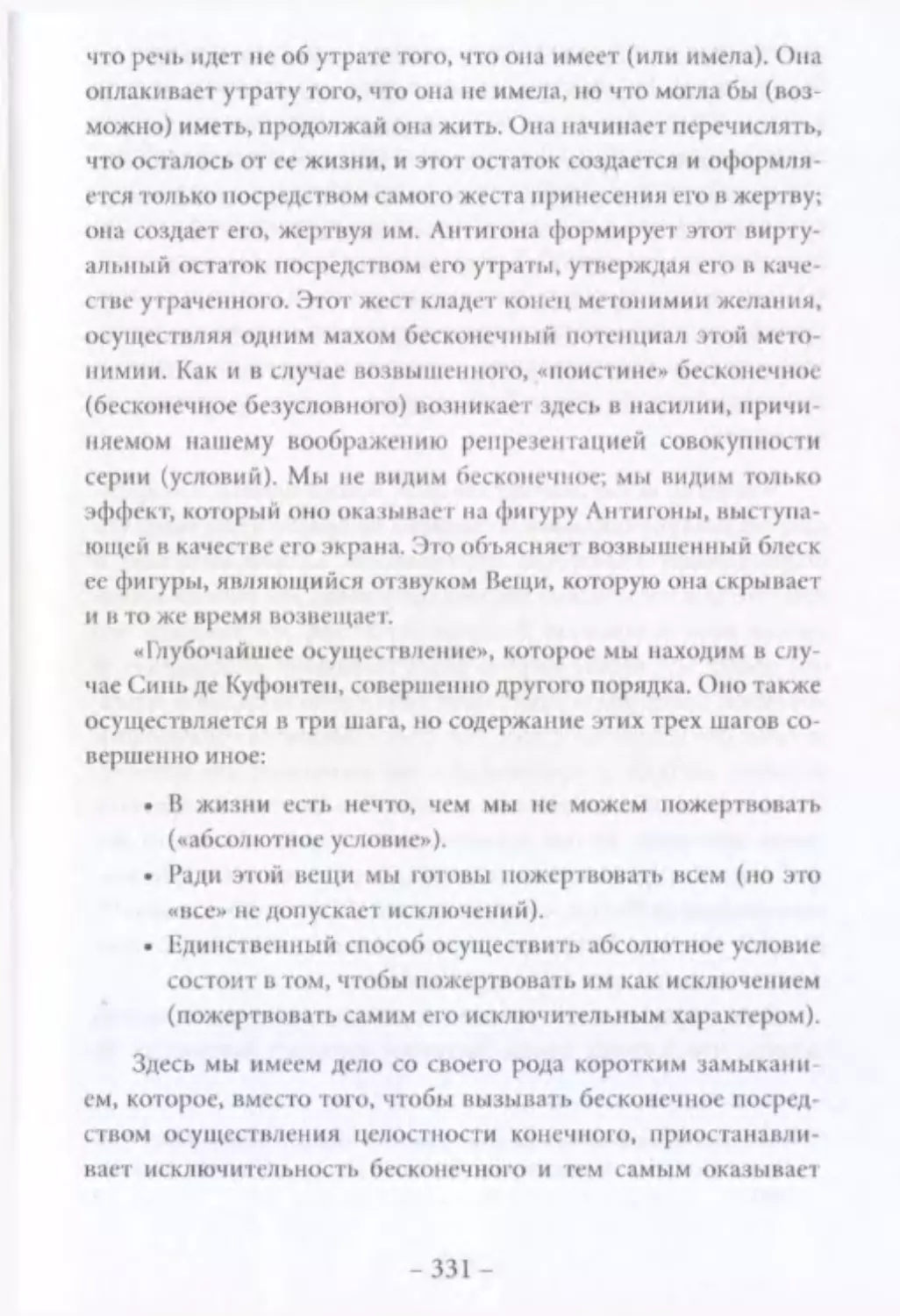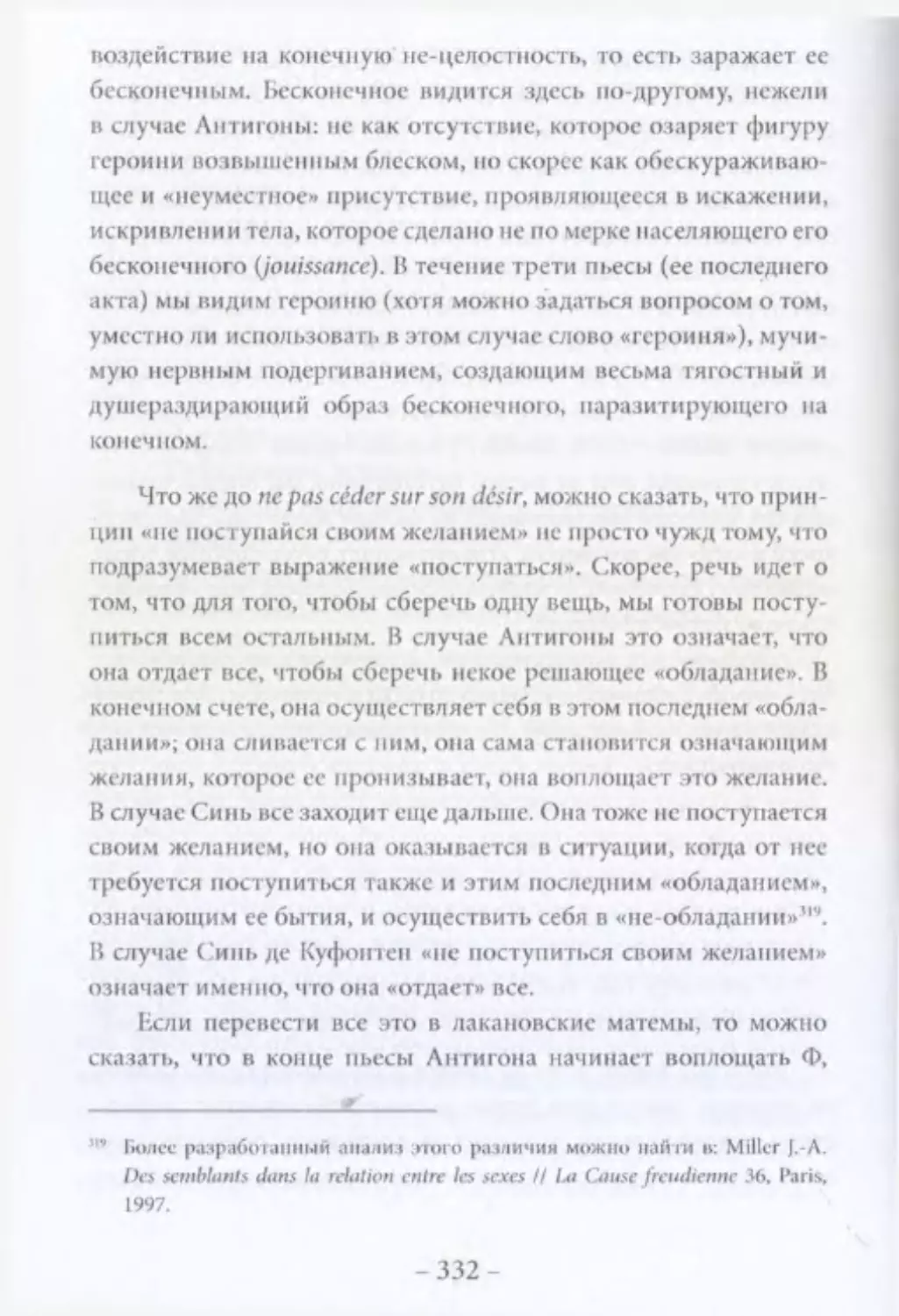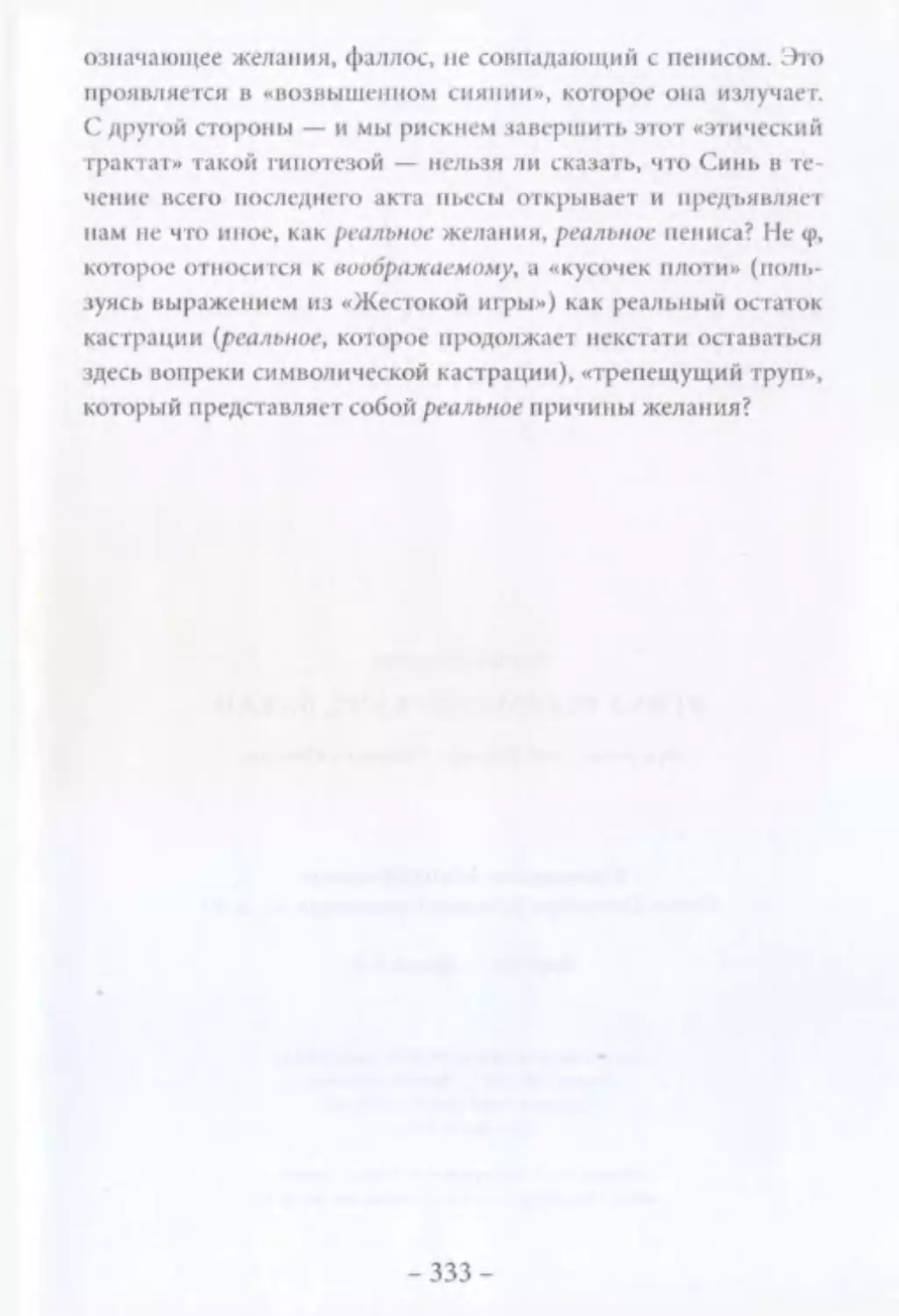Автор: Зупанчич А.
Теги: этика учение о морали практическая философия философия психоанализ
ISBN: 978-5-98620-377-5
Год: 2019
Текст
Аленка Зупанчич
ЭТИКА РЕАЛЬНОГО
• Вели книга Аленки Зупанчич
нс сгаиет классическим трудом,
на который будут ссылаться,
го можно будет прийти
к одному единсткенному
выводу:академия попала
• ловушку темной воли
к самоуничтожению»
Славой Жиже к
• Психоанализ - это этика,
и нет никакой практики вне
пики Книга Аленки Зупанчич
фундаментальный труд,
но1|1оляющнй приблизиться
к основаниям этики как
аналитической практики,
к инке желания, к этике
реального»
Виктор Мазин
Музей сновидений Фрейда
fl
rortl*OM«i
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Елена Загоскина
Виктор Малин
Ярослав Микитенко
Яна Михалина
Олелуш
Екатерина Синцова
Екатерина Теленкова
Лишен Юран
Аленка Зупанчич
ЭТИКА РЕАЛЬНОГО:
КАНТ, ЛАКАН
Под редакцией Виктора Мазина и Олелуш
Салкт-I len-pbypr
2019
УДК 17
ББК 87.7
3-94
Перевод: Ярослав Микитенко (Введение, главы 1-4),
Ольга Гуляева (главы 5-7), Олелуш (главы 8-9).
Художник — Таня Ахметгалиева
Зупанчич Аленка
3-94 Этика реального: Кант, Лакан / Под ред. В.Л. Мазина,
Олелуш. — СПб.: Скифия-iгршгг, 2019. — 334 с
«Этика реального» Аленки Зупанчич с момента своего выхода па
английском языке в 2000 голу стала объектом пристального внимания
среди психоаналитиков и <|>ило,чк|к>в. Эта книга представляет собой де-
тальное прояснение этики желания и этики реального Лакана, и прояс-
нение это осуществляется с ориентиром на Иммануила Канта и древне-
греческую трагедию. В книге исследуются вопросы лжи и правды, свобо-
ды и радикального ала, блага и желания. Эппса — психоаналитическая
практика, и Аленка Зупанчич не просто теоретизирует но поводу Канта
и Лакана, но ее книга нацелена на создание концептуальной <н новы для
этики, которая проходила бы между традшрюнной этикой, основанной
на дискурсе господина, и посэтовременнон этикой, сосредоточенной па
себе. Книга адресована всем, кто заинтересован в сохранении в сегод-
няшнем мире таких понятий, как субъект, желание, другой, этика.
ISBN 978-5-98620-377-5
9 785986 203775
ISBN 978 5-98620 377-5 © Verso. 2000
© Alenka Zupanlic, 2000
© Музей сновидений Фрейда, 2019
© Ольга Гуляева, Ярослав Микитенко,
Олелуш, перевод на русский язык, 2019
© Издание па русском языке,
оформление, ООО «Скифия-принт»,
2019
СОДЕРЖАНИЕ
Виктор Мазин. Аленка Зупанчич и этика реального..7
ВВЕДЕНИЕ........................................23
1. (МОРАЛЬНАЯ) ПАТОЛОГИЯ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ. 30
2. СУБЪЕКТ СВОБОДЫ..............................47
Какой свободы?..............................48
Какой субъект?..............................52
3. ЛОЖЬ.........................................73
Кант и «право на ложь»......................73
Безусловный.................................85
Ловушка де Сада.............................92
4. ОТЛОГИКИ ИЛЛЮЗИЙ К ПОСТУЛАТАМ................98
«Бушующий оксан» иллюзий....................98
«Личность — это еще и маска»............. . 103
Переход к постулатам.......................111
5. ДОБРО И ЗЛО.................................115
Фантазия в пределах только разума..........115
Логика суицида............................ 120
Степени зла................................124
Каковы ангелы, таковы и демоны.............129
Поступок как «субъективация без субъекта»..137
6. ПОСТУПОК И ЗЛО В ЛИТЕРАТУРЕ.................148
Случай Вальмона............................150
Случай Дон Жуана...........................168
7. МЕЖДУ МОРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ И СВЕРХ Я ... . 189
Квант аффекта...............................189
Возвышенное и логика сверх-я................201
Статус закона...............................215
8. ЭТИКА И ТРАГЕДИЯ В ПСИХОАНАЛИЗЕ.............225
Некоторые предварительные замечания.........225
Эдип, или отброс означающего................232
Похищение желания — и мать взамен...........232
Смерть Вещи.................................247
Что такое отец?.............................252
Что нам делать с Эдипом?....................259
Заложник слова..............................262
Синь, или наслаждение излишка...............276
Этика и террор..............................278
Наслаждение — мой ближний...................288
Реальное в этике........................... 305
От чистого желания к влечению...............310
9. ИТАК........................................320
Аленка Зупанчич
и этика реального
Этика и эстетика реального кружат вокруг Венди
реди множества ответов на вопрос, что такое психоана-
лиз, один является не просто важным, но важным прин-
ципиально, причем для клиники, и ответ этот предвку-
шают те, кто близко знаком с подходом к субъекту Фрейда и
Лакана: психоанализ — это этика, психоаналитическая практи-
ка — этика. Именно так; не у психоанализа есть своя этика, а сам
психоанализ есть этика. Фрейд изобретает психоанализ в отно-
шениях со своими пациентками, в осмыслении феноменов пере-
носа и психической реальности. Эти особенные отношения, от-
ношения переноса, диспозиции анализанта и аналитика, Лакан
будет прописывать как психоаналитический дискурс, как этику
психоанализа. Психоаналитический процесс движим этической
позицией в переносе. Без этической строгости обращение с дру-
гим, «какими бы психоаналитическими познаниями оно начи-
нено ни было, останется всего-навсего психотерапией»’.
1 Лакан Ж. (1955) Вариапгы образцовою лечения // Инсiакция буквы, ими
судьба разума после Фрейда. М.: Русское феноменологическое общество,
1997. С. 16.
-7-
Субъект формируется в отношениях с другим. Нет тако-
го момента в жизни субъекта, когда не было бы другого — эту
мысль Фрейд неоднократно высказывает в самых разных сво-
их работах. В основании отношений с другим лежит фунда-
ментальное для психоанализа представление об органической
беспомощности, которая предполагает власть, всемогущество
Другого. В «Наброске психологии» Фрейд в связи с ситуацией,
требующей изменений во внешнем мире, требующей соверше-
ния «специфической акции», пишет:
«Человеческий организм поначалу не способен добиться
специфическом акции. Она происходит с чужой помо-
щью, при этом разрядка путем внутреннего изменения
обращает внимание опытного индивида на состояние ре-
бенка. Этот путь разрядКИ, таким образом, обретает край-
не важную вторичную функцию соглашения, а начальная
беспомощность человека является первоисточником всех
моральных мотивов**.
Итак, первый момент: органическая беспомощность, не-
способность совершить специфическую акцию, зависимость от
Другого, которого Фрейд называет в тексте 1X95 года «опытным
индивидом», — вот начала этики. Второй момент, который отме-
чает Фрейд в отношениях с Другим: символ замещает вещь. Эту
Вещь, которую не представить ни в словах | Wortvorstellungen],
ни в предметах [Sachvorstellungen], Лакан будет чаще всего назы-
вать вслед за Фрейдом по-немецки, das Ding, и писать, согласно
правилам немецкого языка, с большой буквы. От метим и то, что
Вещь по-немецки не принадлежит ни мужскому, ни женскому
миру, она среднего рода, а вот по-французски она обретает пол,
женский, La Chose, и не выглядит чужеродной в поле француз-
ского языка, что уместно именно в случае das Ding.
Фрейд 3. (1895) Набросок психологии. Ижеоск: ERGO, 2015. G. 32.
-8-
Das Ding — ключевое понятие этики психоанализа; и оно
ориентирует психоанализ в сторону реального. Или, словами
Лакана: «Теперь, когда мысль Фрейда сдвинула нас с мертвой
точки, вопрос этики ставится как вопрос об ориентации чело-
века по отношению к реальному»1. Так ориентирует Фрейд.
Фрейд говорит о Вещи, das Ding, в связи с Другим, der
Andere, ближним, der Nebenmensch. Другой «одновременно
представляет собой первый объект удовлетворения, в дальней-
шем — первый враждебный объект, как единственную помога-
ющую власть»’. Вещь — отход от символизации, несимволизи-
руемый остаток, и эту принципиальную для этической програм-
мы Лакана мысль мы находим в той же работе Фрейда: «То, что
мы называем вещами, — это остатки [Rcs(c), ускользающие от
вынесения суждения»* * * * 5. Вещь как то, что отчуждено в Другом,
Ближнем, отсылает ко всегда уже утраченному наслаждению, к
инцестуозному объекту. Она — Вещь в себе, Ding an sich, и, бу-
дучи непредставимой, нссимволизируемой, невозможной, запу-
скает эстетический процесс сублимации и учреждает этический
регистр отношений с Другим. Вот почему, как говорит Лакан,
«поле das Ding обнаруживает себя в конечном счете как этиче-
ский парадокс — в das Ding Фрейд видит нечто такое, что может,
в жизни, предпочесть смерть»6. Вещь экстимна; она — исклю-
ченное внутреннее; она — то, что хранит в себе Другой, несим-
волизируемые истоки субъективности. И в то же время «сам»
’ Лакан Ж. (1959-1960) Эшка психоанализа (Семинары Книга 7). М.: Гно-
зис/Логос, 2(Х>6. С. 20.
' Фрейд 3.1 (абросок психологии. С. 49.
’ Там же. С. 52.
‘ Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 135-136. Лакан
будет повторять гту мысль и в дальнейшем. Десять лет спустя он скажет
к. именно в реальном отмстил я поворотный пункт того, ЧТО заключает в
себе этика психоанализа» (Lacan |. (1968-1969) Le stminaire. Livre XVI. D’urt
Autre a luutre. I’.: Scuil, 2006. P. 189).
-9-
Другой может осмысляться как еще одно исключенное внутрен-
нее. Психоанализ сориентирован на Другого, на субъект якобы
знающий, на отчужденную в нём агальму, на Вещь, которую как
будто бы вот-вот удастся вновь найти, wicderzufinden, обрести
то, чем никогда не обладал.
Фрейдовским понятием das Ding Лакан массированно поль-
зуется в семинаре «Этика». В дальнейшем с этим понятием мы
практически не встречаемся. Этот несимволизируемый отчуж-
денный в Другом объект, объект причина желания, станет объ-
ектом а. Однако в «Этике» именно das Ding — тот ускользающий
от символизации остаток, без которого нет никакой реальности.
Клиника Фрейда-Лакана нацелена на реальное, на измене-
ние судьбы, Ананке, контура влечений, которые не принадле-
жат регистру символического не представлены в психической
реальности как таковые. Реальное — не то, что прописывается,
и этика реального буквально невозможна. «Этика реального» —
именно так называется книга Аленки Зупанчич, и она поясняет:
«Этика реального — это не этика, ориентированная на реальное,
а попытка переосмыслить этику, распознавая и признавая изме-
рение реального»1. Это измерение, пожалуй, нагляднее проявля-
ется в эстетике.
Вещь задает не только этический, но и эстетический поря-
док. Она занимает в этико-эстетической программе место ра-
дикальной чуждости, но при этом месте» интимное, интимно
постороннее, или, в топологии Лакана, эксгимпое. В кружении
вокруг пустоты Вещи эстетика встречается с этикой, точнее,
путь к этике пролегает через эстетику. Ваза, античная ваза в ча-
стности, — произведение искусства, созданное вокруг пустоты.
Произведение искусства окружает Вещь как пустоту. Пустота
Вещи — это еще и та пустота, вокруг которой циркулирует вле-
чение, та пустота объекта а, без которой у влечения нет шанса
’ Зупанчич А. Данное издание. С. 2Н
- 10-
поддержать движение, движение возврата к себе. Примером та-
кого кружения в искусстве для Лакана становится куртуазная
любовь. Стихи окружают ожерельями означающих пустотный,
неописуемый образ Прекрасной Дамы, образ, лишенный «какой
бы то ни было реальной субстанции»8. И в этом случае отсут-
ствия черт реальности мы признаем в этике-эстетике измерение
реального.
Образцом лакановской этики реального, как хорошо из-
вестно, становится Антигона. Лакан подходит к этой героине со
стороны эстетики, со стороны древнегреческой трагедии. Гово-
рит он о красоте Антигоны. Красота эта напрямую связана со
смертью, с готовностью к смерти, с положением между двумя
смертями. Красота эта не имеет ничего общего с внешностью,
напротив, она — ослепительная, её не лицезреть. Она слепит,
да, но она ещё и защищает: красота служит экраном ужаса, «по-
следним барьером, запрещающим доступ к фундаментальному
ужасу»9.
Этический статус бессознательного и род
сингулярного субъекта
Не только Вещь, но и бессознательное — исключенное
внутреннее, но исключенное не раз и навсегда. Если образцом
бессознательного служит вытесненное, то дело не столько в вы-
теснении, сколько в возврате вытесненного. Бессознательное не
есть. У бессознательного не может быть онтологического ста-
туса. Тогда какой? Ответ Лакана — этический: «Если я утвер-
ждаю, что статус бессознательного этический, а не оптический,
то делаю это как раз потому, что сам Фрейд, говоря о статусе
* Лакан Ж. Э1ика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 195.
* Лакан Ж. (1963) Кант с де Садом. М.: Международный психоаналитиче-
ский журнал, 201 К. С. 41 (перевод изменен).
- 11 -
бессознательного, этого не подчеркивает»10 *. Бессознательное —
негативное понятие, оно никак не сводится к чему-то сущему, к
позитивному присутствию; оно — в отношениях между инстан-
циями, между внутренним и внешним. Оно формируется в не-
зримом промежутке между субъектом и Другим. В диспозиции,
которую субъект занимает в отношении Другого, напомним, и
разворачивается, по мысли Фрейда, этика. Напомним и о том,
что в начале книги «Массовая психология и анализ я» он декон-
струирует стандартную психологическую мысль об индивиду-
альном и массовом; бессознательное, по Фрейду, настолько же
сингулярно, насколько и коллективно. Сингулярность субъекта
отнюдь не означает отказ от универсального, а вопрос этики так
или иначе адресуется универсальности:
«Этический субъект это не гот субъект, который прив-
носит весь свой субъективный багаж в ту или иную (мо
ральную) ситуаиию и позволяет ему влиять на ход собы-
тий (формулируя максиму, соответствующую его личным
склонностям), но субъект, который, строго говоря, рож-
дается из самой этой ситуации, который только из нее и
возникает. Этический субъект — это та точка, в которой
универсальное являет себя и обретает свою определен-
ность»11.
" Дакав Ж. (1964) Четыре основные понятия психоанализа (Семинар. Кни-
га XI). М.: Пгозис/Догос. 200-1. (... 40. Не всё гак однозначно с онтологией.
Аленка Зупанчич от мечает разрыв с ohtojioi ней и в современной филосо
<(>ни, разрыв, начинающийся, конечно же. с Канта: «...если мы не обладаем
знанием о вещах-в себе, то классический он пеки и чес кой вопрос о бытии
как бытии, похоже, теряет спои основания- (Зупанчич А. Секс и бытие.
СПб.: Скифияпринт, 2019. С. 27). К тому же речь сегодня идет о «новых
он тологиях», где обнаруживаются и Жиль Делез, и Ален бадью и Джорджо
Агамбен (там же, с. 28). Костью в горле отполопти Аленка Зупанчич назы-
вает реальное (там же. сз*1).
" Зупанчич А. Данное издание. С. 97. Ален Бадью, кстати, научный руково-
дитель докторской диссертации Аленки Зупанчич в Университете Париж
VIII, настаивает на сингулярности этики: «...нс может быть никакой “об-
-12-
Субъект в русском языке — да и во французском тоже —
мужского рода. Мы оставляем его субъектом мужского рода,
подразумевая при этом, что он по меньшей мере ничуть не в
меньшей степени субъект женский. Этимология возводит субъ-
екта к латинскому subjectus — буквально лежащий внизу, т. е.
подлежащий, подчиненный, подданный, или, как говорит Лакан,
верноподданный, или даже — подброшенный (sub — под, ниже;
jacere — бросать) в этот мир. Субъект по преимуществу субъект
женский. Женщина открывает пространство субъективности,
она — «субъект, предшествующий субъективности»* 11. Женщи-
на не-вся, pas-tout, и её неполнота, открытость, истина является
в первую очередь этической.
Раз уж речь зашла о роде, то стоит сказать и о том, что на-
звание пьесы Клоделя L’Otage (1911), которая представляет пер-
вую часть трилогии о Синь де Куфонтен, можно перевести в
женском роде как «Заложница» и в мужском как «Заложник».
Переводчик VIII семинара Лакана на русский язык Александр
Черноглазое подчеркивает, что Клодель, говоря о заложнице,
имеет в виду Синь, но также и Папу, оказавшегося заложником
Тюрлюра; к сому же, обобщая ситуацию. Лакан называет субъ-
екта заложником слова; но этой причине переводчик предпочел
мужской род — «Заложник»'*. В свою очередь в переводе «Эти-
ки реального» мы предпочитаем говорить не о Сфинксе в муж-
ском роде, а, ориентируясь на греческую традицию, называем
Сфинкс женским.
щей" этики, а только этика единичных истин, отноошишея, следовательно,
к какой го частной ситуации» (Бадью А (2003) Этика: Очерк о сознании
Зла СПб.: Madiiiu. <’. 10). Позиции Зупанчич не противоречит таковой
Бадью, скорее указывает на то, что универсальное в психоаналитическом
дискурсе собирается, исходи из сингулярного.
11 Zizek S. (2017) Incontinence of the Void. Ihe M) I Press. 2017. P. 147.
” Коммен гарий Александра Черноглаэова и част ной беседе.
-13-
Почему столь подробно мы заговорили о роде при переводе?
Потому что это — принципиальный момент для Аленки Зупан-
чич. Род связан с полом, а «половые различия не удается зафик-
сировать в качестве символических различий из-за того, что они
вовлечены в сексуальность»14. Лакан, как известно, крайне редко
пользовался словосочетанием «половые различия». Речь идет не
о двух различных «видах», «типах» существ, а о том антагонизме
между ними, который вписан как в женское, так и в мужское.
Вопрос Судного дня
В VII семинаре, чтобы прояснить особенности психоана-
литической этики, Лакан, разумеется, просматривает прин-
ципиальные в истории человечества моральные системы. Его
мысль движется от Аристотеля с его «Никомаховой этикой»
через Просвещение Канта и де Сада к утилитаризму Иеремии
Бентама. Кант для психоаналитиков представляет особый инте-
рес, ведь его категорический императив соотносится с требова-
ниями сверх-я; и Фрейд говорит о категорическом императиве
сверх я. Речь и у Канта, и у Фрейда о долге. Причем, сообразно
«фундаментальным принципам кантовской этики, долг — суть
только то, что субъект назначает себе в качестве своего долга;
он не существует где-то ‘'вне”»15. Сверх-я — внешневнутренняя
инстанция, инструмент идеологического подавления, действу-
ющий изнутри. Сверх-я — проводник патогенной морали, ин-
станция, заставляющая испытывать вину за некий невыполнен-
ный долг, долг, воспринимаемый как навязанный извне, чужой.
К тому же инстанция сверх-я ненасытная, необузданная, непри-
стойная. Должен ли субъект повиноваться императиву сверх-я?
Где вина, там и желание, там и работа анализа, гам и признак
“ Зупанчич А. Секс и бытие. С. 53.
15 Зупанчич А. Данное издание. С. 94
-14-
капитуляции желания. В конце концов, «субъект не может пря-
таться за своим долгом — он ответственен за то, что называет
своим долгом»16, ведь, по Кан гу, ответственность субъекта в том
и заключается, чтобы обнаружить, как универсальное правило
соотносится сего частной ситуацией.
.Место встречи сверх-я и Вещи устраивает наслаждение.
Сверх я требует невозможного, и наслаждаться — не значит
следовать своим спонтанным движениям души, наслаждаться
«скорее значит выполнять своего рода странный искривленный
этический долг»17. Наслаждение вызвано утратой инцестуозно-
го объекта, утратой, которая возникает задним числом, после
учреждения Закона. Наслаждение приходит с лихвой, с избыт-
ком бытия, избытком, который оборачивается его, бытия, не-
хваткой. Наслаждение и Вещь, как говорит Аленка Зупанчич, —
это ось, вокруг которой вращается семинар Лакана по этике.
Аленка Зупанчич продолжает дело Лакана, и для этого она
погружается в дело Канта. Подзаголовок её книги — «Кант, Ла-
кан». Понятно, что книга отнюдь не ограничена этими двумя
фигурами, но именно они приближают к этике реального. Более
точно, пожалуй, будет сказать, что в прочтении этики Лакана
Кант и трагедия оказываются двумя принципиальными осями
координат.
Обращение к Канту не удивляет. Кант — одна из принципи-
альных фигур в истории разработки моральных систем. К Канту
то и дело обращается Фрейд, не говоря уже о Лакане, который
“ Там же. С. 134-135. «Подчинится или не подчини гея он гому долгу, кою
рый ощущает в себе самом как чужой, пог ус юронний, вторичный? Должен
иди не должен он повиноваться императиву сверх-я — парадоксальному,
болезненному. полубессознательному и от крынаилцемуся, нас i айкающему
на себе все больше по мере того, как продвигается аналитическая работа
и пациент видит, что назад ему нуги нет?» (Лакан Ж. Этика психоанализа
(Семинары. Книга 7). С. 15).
” Ziiek S. (2006) How to read Lacan. L.: Granta Books. P. 79.
- 15-
утверждает, что мы ничего не сможем понять в вопросах психо-
аналитической этики, если «Критика практического разума» не
станет настольной книгой11. И, наконец, сведение психоанализа
с немецкой классической философией — всем известная чер-
та, отличающая Люблянскую школу. Подчеркнем при этом, что
действительно сложно себе представить существование пси-
хоаналитического дискурса без Гегеля и Канта. Славой Жижек
утверждает, что именно этическая революция Канта проложила
дорогу открытию Фрейдом бессознательного1’.
Просматривая различные этические системы Западного
мира, Лакан выявляет их принципиальную черту: они вращают-
ся вокруг идеи блага. Однако никакого распределения благ тол-
ком не выходит. Каждый раз, как отмечает Зупанчич, возникает
вопрос, о чьем именно благе.идет речь, и каждый раз этика бла-
га оказывается в тупике. Моральный выбор то и дело наделяет
одних благами, оставляя других без них; да и благо одного не
совпадает с благом другого. Впрочем, нам важно другое: психоа-
налитические отношения никак не могут строиться вокруг идеи
блага. Разве может быть что го чудовищнее психоаналитика,
действующего во благо своего пациента; психоаналитика зна-
ющею, что нужно другому; психоаналитика, желающего исце-
лить?! Разве можно представить себе психоаналитика, который
говорит что-то вроде я ведь вам добра желаю (кстати, по-фран-
цузски и добро, и благо — 1е Ысп). О чем не стоит забывать, так
это о том, что благо не просто связано с принципом удоволь-
ствия, но зона его действия — «место рождения власти»20. По-
могающая власть всегда готова прийти на помощь, говорить от
лица анализанга, а затем интерпретировать во имя его блага
'* Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 96.
'* 2iiek S. (2000) Kwewvrd: Why Is Kant Worth Righting For? П ZupanciC A. Ethics
of the Real. 1... N.Y.: Verso. P. VII.
Лакан Ж. Эгика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 297.
-16-
свои собственные слова. Говоря о «Никомаховой этике», кни-
ге, в которой первым делом заходит разговор о благе, Лакан
подчеркивает, что регистр желания из этой книги Аристотеля
вообще исключен, в то время как в психоаналитическом опы-
те именно желание выходит на первый план. Желание, Закон,
Вещь — вот сопряженные между собой понятия, ориентирую-
щие психоаналитическую этику.
Но не только Фрейд уходит в своих этических размышлени-
ях от традиционных систем, ориентирующихся на идею блага,
но и Кант. Аленка Зупанчич подчеркивает, что Лакан восхи-
щается Кантом по меньшей мере ввиду двух принципиальных
моментов. Во-первых, Кант говорит не о возможных, выполни-
мых моральных обязательствах, но о желании невозможного, он
обнаруживает «существенное измерение этики: измерение же-
лания, которое кружит вокруг реального как невозможного»11;
и, во-вторых, он не полагает центром этической проблематики
благо. Акцент у Канта смещен с блага на желание, причем, что
принципиально, на желание не как патологический мотив, а как
то, что выходит по ту сторону принципа удовольствия. Жела-
ние — фундаментальная этическая категория, и именно своё
искушенное, как говорит Лакан, желание может предложить
анализанту аналитик.
Субъект психоанализа — субъект желания, а желание всег-
да уже предполагает диалектику отношений с другим. Желание
эксцентрично, и оно задает «позицию, представляющую собой
всегдашний парадокс этики»11. Ключевое понятие психоанализа
как этики не благо, а желание. II это принципиально для прак-
тики. Отказ от господской позиции, от позиции субъекта знаю-
21 Зупанчич A. Данное издание. С. 26.
22 Лакан Ж. (1960/61) Перенос (Семинары. Книга Я). М.: Гнозис/Лони:, 2019.
С. 110.
- 17-
щего предполагает и отказ от знания о благе, по меньшей мере
как благе другого.
Желание образует констелляцию понятий вместе с этикой,
другим, реальным, истиной2’. Оно артикулирует разрыв между
означающим и Вещью. Именно желание — связующее звено
между Лаканом и Кантом, решающий шаг которого «заключает-
ся в том, что он взял именно то, что было исключено из сферы
традиционной этики, и превратил это в единственное легитим-
ное для этики пространство»24. Этика желания экстимна, центр
ее тяжести в Другом, в том, что отчуждает объект причину же-
лания, объекта, и здесь этика желания приходит к этике реаль-
ного.
Лакан, конечно же, не мог пройти мимо фрейдовской мак-
симы — Wo Es war, soil Ich werden — и не дать ей этическое про-
чтение. «Где было оно, там должно стать я». В этой формуле
заключено долженствование, на которое указывает модальный
глагол sullen, и долженствование это предписывает явить же-
лание, ведь я — это бессознательный субъект, субъект истины
желания. Этический завет Лакана: пс pas coder sur son disir, нс
уступай в своём желании, и желание это мстит в невозможное, в
реальное. Образцом этики желания для Лакана становится Ан-
тигона. Она настаивает на истине своего желания, и её настой-
“ «Нет этики, кроме лики истин* (бадью А. Этика: Очерк о сознании Зла.
О. 48), и «элпса истины совершенно противоположна "этике коммуника-
ции". Она есть лика (>салыюго, если и а самом деле, как настаивает Лакан,
всякий доступ к реальному — из разряда встречи» (там же, с. 78). Кроме
того, истина — нс противоположное лжи высказывание, соответствующее
точному описанию реальности, а речь, которая включает в себя «тот язы-
ковый туник, ту невозможность, которая нс позволяет ей складываться
"целиком", в некое связное лоптчпо выстроенное повествование; истина —
это речь, которая "енотыкается", “захлеч. i ывасмая реальным"» (Олелуш. О
книге Аленки Зупанчич W/wl Is Sex II Зупанчич А. Секс и бытие. СПб.:
Скифия принт. 2019. С. 138-139).
" Зупанчич А. Данное издание. С. 26.
- 1«-
чивость не имеет ничего общего с фиксацией35. Она не только
им не поступается, но, как подчеркивает Аленка Зупанчич, она
его осуществляет.
Этика желания как этика истины «принуждает держаться на
столь значительном расстоянии от мнений, что в прямом смыс-
ле слова является асоциальной»2". Бадью связывает эту формулу
Лакана с понятиями знания и верности, и это служит напоми-
нанием о том, что речь отнюдь не идет об осознанных желаниях
или о рутинных желаниях, связанных с объектами рыночного
потребления. Не уступать в своем желании предполагает, что не
уступаешь в том, что остается в поле незнания; а верность жела-
нию, верность истине бессознательного желания требует «были,
верным верности»27.
Антигона верна своему желанию. Она «идет до конца в осу-
ществлении того, что можно назвать желанием в чистом виде,
чистым и простым желанием смерти как таковой»28. Вопрос о
том, поступал ли ты в соответствии с желанием, которое в тебе
живо, даже если ты о нем не знаешь, Лакан называет вопросом
Судного дня. Антигона верна своей верности и знает, чего хочет,
и знает, чем для неё это закончится. Истина её знания не опира-
ется на знание Другого, на то знание, которое само себя знает. * 26
Джоан Книжек вслед за Фрейдом (в самом конце «Трех очерков по теории
сексуальности») разводит к стороны настойчивость IHa/tburkeill и работу
фиксации [ГглтеНлггкеЯ]. Упорство Антигоны в желании похорони и. брага
этически радикальным образом отличается от фиксации Креонга, настам
наюшего на запрете похорон 1(олиника (Copjec |. Imagine lheres No Woman.
МП. 2ЦЦ2. 1*. 16). Интересно и пт, что Haftbarkcit — ещё и огвстс1ненность.
26 Бадью Л. Этика: Очерк о сознании Зла. С. 81.
" Гам же.
л Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 363. Далеко не толь-
ко Лакан захвачен Антигоной;она — предмет размышлений и восхищений
Гегеля, Гельдерлина, Шеллинга, Кьеркегора, Кокто, Брехта, Хайдеггера, Ла
ку-Лабарта, Батлер, Жижска...
- 19-
Антигона — героиня трагедии, «а трагедия всегда присут-
ствует в психоаналитическом опыте на первом плане»2*. Лакан
три года подряд обращается к трагедии: в шестом семинаре — к
Гамлету, в седьмом — к Антигоне, в восьмом — к Синь де Куфон-
тен. И понятно, что психоаналитические разговоры не обходятся
без Эдипа. Все эти герои — герои «Этики реального», герои раз-
мышлений Аленки Зупанчич. Две трагедии, Эдипа и Гамлета, от-
мечают исторический разрыв. Они открывают две разные эпохи:
«В отличие от той ситуации, в которой оказывается Эдип,
ситуации, характеризующейся нехваткой знания, в "Гамле-
те* Другой (Отец) знает (что он мертв) и, более того, дает
субъекту (Гамлету) знать, что он знает. То, что знание с
самого начала выступает на первый план (субъект знает,
что Другой знает), обусловливает то, что дальнейшее будет
трагедиен, совершенно отличающейся от таковой Эдипа»"1.
Знание Эдипа остается бессознательным, себя не знающим
знанием. Его дочь, Антигона, знает, что она делает, знает, чему
и кому противостоит, знает, чем для нее дело закончится. У
Антигоны, как отмечает Аленка Зупанчич, в отличие от Эдипа
появляется героическое измерение, вызванное истиной знани-
я-и-желания. Но без Эдипа нет и Антигоны, ведь с появлением
Эдипа «знание реализуется, делая возможным появление жела-
ния, символического долга и героизма в прямом смысле слова»'1.
Дело не только в том, что Эдип и Гамлет, классическая и со-
временная трагедии, отмечают различные исторические време-
на, но в том, что они представляют две различные этики. Дальше
размышления Аленки Зупанчич идут в сторону Синь де Куфой-
теп, которая, в отличие от Гамлета, действует вопреки знанию в
согласии со своим желанием. Кант и Лакан «располагают этиче-
” Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 315.
” Зупанчич А. Данное издание. С. 229-230.
»• Гам же. С. 272.
-20-
ский поступок в измерении, которое не является ни измерением
закона (в обычном, социоюридическом смысле этого слова), ни
измерением простого нарушения закона (Антигона не активист,
борющийся за “права человека”, которые были попраны тирани-
ческим государством)17, но суть измерение реального»". Древне-
греческая трагедия, скажем еще раз, вместе с Кантом задаёт ко-
ординаты, ориентирующие психоаналитическую этику, и дей-
ствующие лица трагедии «занимают определенные позиции по
отношению к точке, к которой устремлено желание»14. Ни Канг,
ни трагедия не отталкиваются от блага или добра.
Ориентиры, о которых говорят Лакан и Зупанчич, предель-
но важны сегодня, во времена, когда нужно пройти между эти-
кой, основанной на дискурсе господина с его благами, и сегод-
няшней «этикой» непризнания другого, «этикой себя» под ло-
зунгом главное не париться. Из введения в «Этику реального»:
«Эта книга представляет собой попытку создать концепту-
альную <и нову для этики, которая, отказываясь быть эти-
кой, основанной на дискурсе господина, в равной степени
отказывается и от неудовлетворительной альтернативы
"(постПовременной" этики, основанной на сведении пре-
дельного горизонта этического к "собгтненнои жизни"»*.
Аленка Зупанчич пишет' об этике реального в гот самый исто-
рический момент, когда отношения с другим претерпевают ради-
” «Мы должны отказаться от любых попыток “одомашнигь", “приручить"
ее |Ан гикшу], ог попыток скрыть се ужасающую странность, "негумагг-
ность", не тающий жалости характер се образа. Не следует видеть в ней
кроткую защитницу семьи и домашнего очага, фигуру, вызывающую со-
страдание и предлагающую себя в качестве точки идентификации» (Жи-
жек С. Возвышенный объект идеологии М «Художественный журнал»,
1999. С 60).
*’ Зупанчич А. Дагшое издание. С. 92.
м Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары. Книга 7). С. 342.
“ Зунаггчич А. Дагшое издание. С. 29.
-21 -
калыгые изменения. Другой оказывается удаленным, ближний
становится дальнеближним. Удаление другого подразумевает как
его отдаление, его экранирование, так и паранойяльное стремле-
ние его устранить, искоренить, нажать кнопку Del, to delete, если
следовать сегодняшней дигитальной программе. То, что кто-то
называет «повои этикой», не столько является этикой нарциссиз-
ма, который всегда уже предполагает узы с другим, социальную
связь, но «этикой» расс тройства нарциссизма. К тому же нарцис-
сизм подразумевает не только сравнение себя с другими, оценку
на основании этого сравнения, но и оценку себя в сравнении с
самим собой; так что, по мысли Канта, получается, «я люблю себя
не потому, что считаю себя лучше других, но потому, что “нахожу
себя лучше себя самого"»*. «Собственная жизнь» никогда не яв-
ляется собственной, своей, она подразумевает невозможное при-
своение. Этика Канта, Фрейда, Лакана невозможна без другого,
без отчуждения и без вопроса приручения наслаждения.
Дальше слово за Аленкой Зупанчич со всей детализацией
этических вопросов этики Канта, Фрейда, Лакана: моральная
патология повседневности, свобода, ложь, добро и зло, закон и
сверх-я... Славой Жижек завершает свое предисловие к «Эти-
ке реального» откровенными словами о своих смешанных чув-
ствах — зависти и даже ярости, что не он написал эту книгу,
и восхищением-преклонением перед своей коллегой, соратни-
цей и ученицей Аленкой Зупанчич. Самая последняя его фраза:
«Если книга Аленки не станет классическим трудом, на который
будут ссылаться, то можно будет прийти к единственному за-
ключению, что наша академия попала в ловушку темной воли к
самоуг г ичтожег г ию»’7.
Виктор Мазин
* Гам же. С. 206.
Zitek S. (2000) Foreword; Why fc Kent Worth fighting Fori II ZupanCiC A. Ethics
ol the Real. I... N.Y.: Verso. P. XIII. \
-22-
Введение
онцепция этики в том виде, в каком она развивалась на
протяжении всей истории философии, претерпевает со
стороны психоанализа двойной «удар крушения иллю-
зий»: первый удар связан с именем Зигмунда Фрейда, второй —
с именем Жака Лакана. Не случайно в обоих случаях в центре
внимания находится один и тот же философ: Иммануил Кант.
Фрейдовский удар по философской этике можно резюми-
ровать следующим образом: то, что философия называет мо-
ральным законом, а точнее то, что Кант называет категориче-
ским императ ином, на самом деле суть не что иное, как сверх я1*.
Это суждение вызывает «эффект разочарования», который ста-
вит под вопрос любую попытку подвести под этику какие либо
основания, кроме «патологических». Одновременно оно поме-
щает «этику» в самую сердцевину того, что Фрейд называл das
Unbehagen in der Kultur — неудобством или неудовлетворенно
Многочисленные места в работах Фрейда выражаю i згу же идею. В «Я и
Оно», например, мы находим следующее: «Подобно тому, как ребенок был
вынужден понинонап.ся своим родителям, точно так же я подчиняется ка-
тегорическому императиву своего сверх-я» (Фрейд 3. Я и Оно // Фрейд 3.
Психология бессознательного. Перевод А. М. Боковикова. М.: О1Х> «Фир
ма СТД», 2006. С. 337).
-23-
стыв в основе культуры w. Поскольку этика берет свое начало
в структуре сверх я, она становится нс более чем удобным ин-
струментом для любой идеологии, которая может попытаться
выдать свои предписания за совершенно подлинные, непосред-
ственные и «благородные» склонности субъекта. Тезис, согласно
которому моральный закон есть не что иное, как сверх-я, требу-
ет, разумеется, тщательного исследования, которое я и проведу
ниже, в седьмой главе.
Второй удар, нанесенный психоанализом по респектабель-
ности философской этики, засвидетельствован в названии зна-
менитого эссе Лакана из его «Писаний»: «Кант с де Садом». Этот
второй удар является еще более разрушительным, если учесть,
что в том, что касается этики в философском дискурсе, для Ла-
кана Кант был «самым подлинным» из всех философов. Таким
образом, «лакаконский удар» по этике можно резюмировать сле-
дующим образом: лучшее, что философия может предложить во
имя этики, — это, перефразируя название знаменитой работы
Сада, нечто вроде «Практической философии в будуаре».
Однако критика Лаканом кантовской этики (как «верши-
ны» проекта философской этики) существенно отличается от
фрейдовской критики. Лакан отдаст должное Канту за открытие
истинного ядра этики — ядра, которое сохраняет свою значи-
мость и не может быть сведено к логике сверх-я-, но он критикует
Канта за превращение этого ядра в объект волн, ход, который
«Во тке времена этой этике придавали самое большое значение, словно
именно от нес ожидали особенно важных результатов. И действительно,
этика обращается к тому пункту, в котором лахо распознать самое болез-
ненное место всякой культуры. Стало быть, нику можно понимать как
терапевтическую попытку, как усилие с помощью заповеди гвгрх-Я до-
стигнуть того, чем1 До сих пор нельзя было достичь при помощи осталь
ион культурной работы» (Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой //
Фрейд 3. Вопреки общества. Происхождение религии. Перевод Л. М. Ьо-
коникова. М.: О(Х) «Фирма С ГД». 2007. С. 267).
-24-
находит спою «истину» в перверсивном дискурсе де Сада. Таким
образом, «Кант с де Садом» являют «пример того, как позволя-
ет анализ открыть глаза на иные, самые благородные, порой,
устремления традиционной этики»4“. Однако данное утвержде-
ние требует двух комментариев.
Во-первых, мы должны помнить, что намерение — как,
впрочем, и результат — «Канта с де Садом» состоит не только в
гом, чтобы открыть глаза на подлинные эффекты, «даже самые
благородные», практической философии Канта, но и в том, что-
бы «облагородить» дискурс де Сада. Тезис «Канта с де Садом»
заключается не только в том, что кантовская этика имеет лишь
«перверсивную» ценность; но также и в утверждении того, что у
дискурса де Сада есть этическая ценность — что его можно по-
нять должным образом только как этический проект41. Во-вто-
рых, нужно отметить, что это замечание Лакана следует сразу за
утверждением: «Моральный закон, если присмотреться, оказы-
вается не чем иным, как желанием в чистом виде»4*. Это утверж-
дение далеко не «безобидно», поскольку, как известно, понятие
«чистого желания» играет важную, и даже центральную роль в
семинаре Лакана «Этика психоанализа».
Мы должны также подчеркнуть, что, в отличие от Фрей-
да, — и несмотря на свою критику традиционной этики — Ла-
кан не приходит здесь к выводу, что этика, достойная таковой
именоваться, никоим образом не возможна. Напротив, он пре-
вращает этику (в той мере, в какой это касается желания анали-
тика и природы аналитического акта) в один из центральных
w Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Книга XI
(1964)). Перевод А. Черноглазое». М: Издательство «Гнозис», Издательство
«Логос». 2004. С. 292.
•' См..- Zitek S. 'lhe Indivisible Remainder: Лп Essay on Schelling and Related
Matters. London and New York: Verso. 1996. P. 173.
*’ Лакан Ж. Четыре основные понятии психоанализа (Семинары: Книга XI
(1964)). С. 292 (перевод изменен).
-25-
элементов психоанализа, даже если это требует попой концеп-
туализации этического. В этой новой концептуализации Кант
будет играть немаловажную роль.
Кант восхищает Лакана прежде всего тем, что он порывает
с «традиционной» этикой в днух ключевых пунктах. Во-первых,
он порывает с той моральностью, которая трактует обязатель-
ства в контексте возможности их выполнения. Согласно Лакану,
решающим моментом здесь является то, что мораль как тако-
вая, что было хорошо известно Канту, является требованием
невозможного: «того невозможного, в котором узнаем мы топо-
логию собственного желания»*9. Настаивая па том, что мораль-
ный императив не связан с тем, что можно или нельзя сделать,
Кант обнаружил важнейшее измерение этики: измерение жела-
ния, которое кружит вокруг реального как невозможного. Это
измерение было исключено из сферы применения традицион
ной этики, и поэтому оно может явить себя ей лишь в качестве
избыточного. Таким образом, решающий первый шаг Канта за-
ключается в том, что он взял именно то, ч го было исключено из
сферы т радиционной этики, и превратил это в единственное ле-
гитимное для этики пространство. И если Канта зачастую кри-
тикуют за требование невозможного, то Лакан придает именно
этому его требованию неоспоримую теоретическую ценность.
Второй разрыв Канта с традицией, смежный с первым, за-
ключается в его отказе от представления о том, что этика связа-
на с «распределением блага» (со «служением благам», в терми-
нах Лакана). Кант отверг этику, основанную на том, что «то, чего
я хочу, представляет собой благо другого, как я его, по образу
своего собственного, представляю»49. ••
° Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары- Книга VII (1959-60)). Перевод
Л. Черноглазова. М.: Издательство «Птозис», Издательство «Логос», 2006
С. 402. L
•• Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-60)). С. 242. \
-26-
11равда и то, что точка зрения Лакана относительно статуса
этики желания продолжала развиваться. Поэтому его позиция
в семинаре XI («Четыре основные понятия психоанализа») от-
личается по нескольким пунктам от той, которую он занимал в
семинаре VII («Этика психоанализа»). Суждение о том, что «мо-
ральный закон, если присмотреться, оказывается не чем иным,
как желанием в чистом виде», будь оно представлено в Семина-
ре VII, имело бы ценность комплимента; и совершенно очевид-
но, что это уже совсем не так, когда оно провозглашается в Се-
минаре XI. Тем не менее, хотя позднее Лакан и утверждает, ч то
«желание аналитика не является желанием в чистом виде», это
вовсе не означает того, что желание аналитика патологично (в
кантовском смысле этого слова) и что вопрос желания утратил
свою актуальность. Проще говоря, вопрос желания не столько
теряет свое центральное место, сколько перестает считаться
конечной точкой анализа. В более позднем представлении ана-
лиз заканчивается другим измерением — измерением влечения.
Поэтому, как говорится в заключительных замечаниях Семи-
нара XI, прежде чем это измерение откроется для субъекта, он
должен сначала достичь, а затем и преодолеть «тот предел, ко-
торым он, как субъект желания, почувствует себя скованным»45.
В результате мы можем набросать приблизительную схему,
чтобы сориентироваться на той труднопроходимой местности,
куда заводят нас рассуждения Лакана об этике. Традиционная
этика — от Аристотеля до Бентама — оставалась по эту сторону
желания («Мораль власти, мораль служения благам сводится к
следующему — что касается желаний, то вы без них обойдетесь.
Они подождут»46). Кант как раз был тем, кто ввел в этику изме-
рение желания и довел его до «чистого состояния». Этот шаг,
Лакан Ж. Четыре исконные попиши психоанализ (Семинары: Книга XI
(1964)). С. 292.
Лакан Ж. Эгика психоанализа ((лминары: Книга VII (1959-60)). С. 401.
-27-
каким бы решающим он ни был, тем не менее нуждается в еще
одном, «дополнительном» шаге, который Кант — по крайней
мере, по словам Лакана — не сделал: шаге, который ведет за пре-
делы желания и его логики, в область влечения. Следовательно,
«после того, как субъект оказывается по отношению к а (объ-
екту желания) сориентирован, переживание фундаментального
фантазма становится, само, влечением»17. Когда дело доходит до
исследований Лакана в области этики, Кант является для него
самой важной философской точкой отсчета. Еще одной отправ-
ной точкой для Лакана в этом вопросе — и при этом совершен-
но иной — является трагедия.
Эти две точки отсчета и являются основными темами этой
книги, которая — через чтение Канта, Лакана и ряда литератур-
ных произведений — стремится очертить контуры того, что я
хотела бы назвать «этикой реального». Этика реального — это не
этика, ориентированная на реальное, а попытка переосмыслить
этику, распознавая и признавая измерение реального (в лаканов-
ском смысле этого слова), поскольку оно уже действует в этике.
Термин «этика» часто используется для обозначения набора
норм, которые ограничивают или «обуздывают» желание, кото-
рые направлены на то, чтобы сохранить наше поведение (или,
допустим, «поведение» науки) свободным от всего избыточно-
го. Однако такое понимание этики не признает того, что этика
по своей природе избыточна, что избыток — это часть этики,
которую нелызя просто так взять и изъять без того, чтобы сама
этика не утеряла всякий смысл. В отношении плавного хода со-
бытий, жизни, управляемой принципом реальности, этика всег-
да представляется чем-то избыточным, пугающей помехой.
Но остается вопрос, почему же я в этой теоретической по-
пытке придерживаюсь «этики реального». С точки зрения Лака-
” Лакав Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Knuia XI
(1964)). С. 290.
-28-
на, упадок господского дискурса (так Лакан трактует пришествие
современности) заводит этический дискурс в тупик. Этическая
максима, стоящая за дискурсом господина, пожалуй, лучше все-
го сформулирована в знаменитом стихе Ювенала: «Summuni
crede tufas animam praefeere pudori, et propter vitam vivendi perdcre
causas* |«Помни, что высший позор — предпочесть бесчестие
смерти, И ради жизни сгубить самое основание жизни»*). Дру-
гую версию этого кредо можно найти у Поля Клоделя: «Печаль-
нее, чем потерять жизнь, — потерять смысл жизни». В «Канте
с де Садом» Лакан предлагает свой собственный «перевод» это-
го этического девиза: «Желания — того, что зовется желанием,
достаточно для того, чтобы жизни не пришлось играть труса»44.
Современность, похоже, не предложила другой альтернативы
дискурсу господина, помимо слабой максимы: «Самое худшее,
что можно потерять, — это собственная жизнь». Эта максима ис-
пытывает нехватку как концептуальной силы, так и мобилизую-
щей способности. Эта нехватка, в свою очередь, является частью
того, что делает политические дискурсы, провозглашающие воз-
врат к «традиционным ценностям», столь соблазнительными;
также это в значительной мере объясняет гипнотизирующий
ужас, вызванный «экстремистами» и «фанатиками», которые не
хотят ничего другого, кроме как умереть за свое дело.
Эта книга представляет собой попытку создать концепту-
альную основу для этики, которая, отказываясь быть этикой,
основанной на дискурсе господина, в равной мере отказывается
и от неудовлетворительной альтернативы «(пост)совремснной»
этики, основанной на сведении предельного горизонта этиче-
ского к «собственной жизни».
" Ювенал. Сатиры И Римская сатира. М.: «Художественная литература»,
1989. Сатира 8, строки 84-85.
" Лакан Ж. Кант с де Садим Перевод Власик А., Гаврилом К., Ксипчук М.,
Лосева С., Папреснко Г., Повожснова А., Страхов М.: Международный пси-
хоапалитический журнал, специальный выпуск. 2018. С. 59.
-29-
1.
(Моральная) патология
обыденной жизни
бщеизвестно, что понятие «патологический» в практи-
ческой философии Канта имеет статус своего рода кон-
цептуальною узла, связывающего многочисленные рас-
ходящиеся теоретические нити. Кант использует этот термин
чтобы обозначить то, что не относится к порядку этического.
Однако следует подчеркнуть, что понятие патологического не
должно рассматриваться как противоположное «нормального».
Напротив, с точки зрения Канта, именно наши «нормальные»,
повседневные действия всегда в той или иной степени патоло-
гичны. Мы действуем патологически, когда есть что-то, управ-
ляющее нашими действиями, — служащее либо тому, чтобы
продвинуть нас вперед, либо тому, чтобы подтолкнуть нас сза-
ди. Для этой непреодолимой силы Кант использует общий тер-
мин Triebfcder, «мотив», или «движущая сила». Все, что угодно,
может служить такой непреодолимой силой, от самой базовой
потребности до самой возвышенной и абстрактной идеи; рас-
ширение этого понятия и есть мир «нормальности» как тако-
-30-
пой. По л ому нормальное не может быть альтернативой патоло-
1 ическо.му,.алысрнатива будет, скорее, включать такие понятия,
как свобода, автономия и строгая детерминация воли.
Этика сама по себе, как Канту было хорошо известно, так-
же требует мотива, который он и вводит в довольно макабриче-
ском пассаже «Критики практического разума»:
«...уважения нс к жизни, а к чему-то совершенно друго-
му, н сравнении и сопоставлении с чем жить со всеми
ее удоволытвимми не имеет никакого значения. Человек
живет лишь из чувства долга, а не потому, что находит ка-
кое-то удовольствие в жизни. Таков истинный мотив (echte
Triebfeder] чистого практического разума»'1’.
Однако следует подчеркнуть, что кантовская этика не будет
только лишь этикой аскетизма, отказа от всякого удовольствия
в принципе. Мы не должны позволять процитированному
выше отрывку привести нас к выводу, что этическому субъекту
не будет позволено требовать для себя какого-либо «комфор-
та» или «блага». Настоящий парадокс заключается в другом: в
структурно обусловленной «пропущенной встрече» принципа
удовольствия и этического измерения. Дело не в том, что эти-
ческому субъекту удовольствие запрещено, но, скорее, в том,
что оно теряет свои» притягательную силу для такого субъекта;
оно доступно и достижимо, просто более не желательно. Кроме
того, в этой, казалось бы, мрачной идее мы можем найти даже
намек на нотку ободрения: нам не нужно бояться, что вступле-
ние в область этического потребует от нас пожертвовать всеми
удовольствиями, которые нам так дороги, поскольку это не бу-
дет даже воспринято как потеря или жертва: «мы» уже не будем
теми же людьми, что и раньше; «нам» не о чем будет сожалеть.
" Кант И. Кришка практического разума // Капт И. Сочинения и шести то-
мах. 1ом 4 часть 1. М.: «Мысль», 1965. С. 415.
-31 -
Такая пропущенная встреча принципа удовольствия и эти-
ческого измерения очень похожа на бесповоротно упущенную
любовную встречу, столь тонко описанную Марселем Прустом
в «Любви Сванна». Герой здесь отчаянно влюблен в Одетту, ко-
торая больше его не любит. Поначалу, ужасно страдая, он верит
в то, что он и впрямь хочет перестать любить ее, чтобы избе-
жать страдания. По потом, при более тщательном анализе своих
чувств, понимает, что это не так. Вместо этого он хочет, чтобы
его страдания закончились, но сам он оставался бы влюбленным,
потому что его опыт наслаждения любовью зависит от этого по-
следнего условия. Проблема в том, что, хотя он и знает, что его
страдания закончились бы, если бы он перестал любить Оде тту,
если бы он «излечился» от своей любви к ней, но это то, чего
он хочет меньше всего, поскольку «... в своем болезненном со-
стоянии он пуще смерти опасался такого исцеления: и в самом
деле, для него эго было теперь равносильно смерти»51. Другими
словами, излеченный оз своей болезни, он уже не был бы тем же
субъектом, так что он уже не испытывал бы ни удовольствия от
любви Одетты, ни боли от ее равнодушия и неверности.
Ситуация, описанная Прустом, позволяет более четко опре-
делить связь между кантовскими представлениями о «патоло-
гическом» и этическом. Субъект «прикреплен к» и «подчинен»
своей патологии не лишенным двусмысленности образом из-за
того, что субъект больше всего боится не утраты того или ино-
го конкретного удовольствия, а утраты той самой рамки, в пре-
делах которой удовольствие (или боль) можез быть испытано
как таковое вообще. Субъект боится утратить свою патологию,
пафос, который и составляет ядро его бытия и нынешнего су-
ществования, каким бы жалким оно ни было. Он боится обна-
ружить себя в совершенно новом пейзаже, на безликой террито-
рии, его существование на которой больше не будез подтверж-
41 Пруст М. Любовь Снаппа. Перевод Е. Баепской, М.: Азбука, 2012. (\160.
-32-
дено тем, что он чувствует. Кант же утверждает, что этот страх
беспочвенен, так как он принадлежит тому самому субъекту,
которого больше не будет рядом — если произойдет переход к
этическому, — чтобы переживать эту «утрату» как утрату.
Второе важное понятие из лексикона практического раз-
ума, которое следует здесь ввести, - это объект способности
желания [Objekt des liegehrungsvermdgens], ибо если воля опре-
деляется подобным объектом, который является внешним по
отношению к самому долгу, то наш образ действий всегда будет
оставаться патологическим. Способность желания служит ос-
нованием наших действий, это одна из сущностных характери-
стик (человеческой)жизни:
«Жншь е< ть способность < уикчтиа гик гуты »ь по зако-
нам способности желания. Способность желания —
эго способность существа через свои представления
\Vorstcllung(‘n\ быть причиной действительности предме-
тов этих представлении. Уловольсгнне есть представление
о соответствии П|и»лмета или поступка с г убьекгивными
условиями жизни, т. е. со способностью причинности, ко-
1о|х>и сЯтлалает предт гавление в отношении действитель-
ности его объекта..,*”
Во времена Канта — как, впрочем, и до Канта тоже — обыч-
ным делом было различать «низшую» и «высшую» способности
желания. Сам Кант был категорически против такого различия.
Он находит удивительным, что проницательные во всем осталь-
ном писатели полагали, что можно определить разницу между
низшей и высшей способностью желания, обращая внимание на
го, берет ли свое начало каждое представление, связанное с удо-
вольствием, в чувствах или в рассудке. Как бы ни различались
представления об объекте — будь они присущи рассудку или
даже для разуму, а не чувствам, — чувство удовольствия, в силу
Кант И. Критика практической» разума. С. 320
-33-
которого они составляют определяющее основание поли, всегда
одно и то же по своему характеру. Чувство удовольствия всегда
является эмпирическим и, следовательно, патологическим. Удо-
вольствие вполне может быть «интеллектуальным» удоволь-
ствием, но оно ни в коей мере не перестает быть удовольствием.
A fortiori (тем более, что) удовольствие не обязательно должно
быть непосредственным; оно вполне может требовать усилий,
задержек и жертв. Например, говорит Кант, бывает, что человек
может найти удовлетворение в банальном использовании вла-
сти, в осознании духовной силы при преодолении препятствий
на пути осуществления своих замыслов или в развитии интел-
лектуальных способностей. Может, и было бы правильным рас-
сматривать подобные радости и удовольствия как более утон-
ченные, но это вовсе не повод утверждать, что эти удовольствия
определяют волю способом, который хоть в малейшей степени
отличается от такового при чувственных удовольствиях. В этой
точке своих рассуждений Кант отмечает — в манере, которая,
несмотря на его репутацию, подтверждает, что чувство юмора
у него присутствовало, — что допустить различие между низ-
шей и высшей способностью желания — «это то же самое, как
если бы невежды, которые охотно занимались бы метафизикой,
мыслили себе материю такой сверхтонкой, что у них от этого
голова пошла бы кругом, а затем предполагали, будто таким об-
разом они придумали духовную и тем не менее протяженную
сущность»4.
Иными словами, невозможно достичь сферы этического
посредством постепенного возвышения воли, преследуя все бо-
лее утонченные, изысканные и благородные цели, постепенно
отворачиваясь от своих «низменных животных инстинктов».
Вместо этого мы обнаруживаем, что для перехода от патологи-
ческого к этическому необходим резкий разрыв, «сдвиг парадиг-
" 1амже. С.338.
-34-
мы». Здесь мы должны протиностоять искушению стандартного
представления о кантовской этике, согласно которому этика эта
гребуег постоянного «очищения» (от всего патологического) и
асимптотического приближения к этическому идеалу. Несмо-
тря на то, что такое представление не обходится без некоторой
поддержки в текстах Канта, все же оно вводит в заблуждение —
во-первых, потому что оно предлагает значительное упрощение
логики аргументации Канта; во-вторых, потому что оно засло-
няет еще одну очень важную линию аргументации, утвержде-
ние, что Aktus der Freiheit, «акт свободы», подлинный этический
поступок, всегда субверсивен; он никогда не является результа-
том «улучшения» или «преобразования». Таким образом,
«то, что кто-нибудь становится не только по икону, но и
морально добрым человеком ... не может быть вызвано
постепенной реформой, пока основание максим остается
нечистым, а должно быть вызвано революцией в образе
мыслей человека ... и новым человеком он может стать
только через некое возрождение, как бы через новое тво-
рение...»* **
Этот отрывок из «Религии в пределах только разума» осо-
бенно важен для понимания логики кантовской этики. То, что
Кант различал философскую этику и способ, которым мораль-
ные вопросы представлены в религиозных доктринах, несо-
мненно, хороню известно. Менее общепризнанным является
тот факт, что он связывает надлежащее изменение образа мыс-
лей [GesinnuH^] с жестом творения ex nihilo. Значение этого же-
ста целиком ускользает от нас, если мы рассматриваем его как
некое отступление в иррациональное, как химеру идеализма.
Напротив, это глубоко материалистический жест. Как неодно-
* Кант И Религия и пределах только разума. Перевод Н. М. Соколов, А.
А. Столяров II Канг И. Собрание сочинений в восьми томах, том 6. М.:
«Чоро», IW4.C. 50.
-35-
кратно замечал Жак Лакан, лишь принятие момента творения
ex nihilo открывает путь для истинного «теоретического мате-
риализма»'’. Не основана ли сама концепция Лакана о passage
a lacte на таком кантианском жесте? Когда Лакан заявляет, что
«самоубийство — единственный успешный поступок»5*, дело
как раз в следующем: после такого поступка субъект больше не
будет таким, как прежде; он может «возродиться», но только как
новый субъект.
Таким образом, заключает Кант, если выражение «высшая
способность желания» вообще имеет смысл, то оно может ука-
зывать только на то, что чистый разум сам по себе уже практи-
чен. То есть высшая способность желания отсылает к воле субъ-
екта, поскольку та определяется «чистым желанием», желанием,
которое направлено не на какой-либо конкретный объект, а
скорее на сам акт желания; воля априори относится к способ
пости желания.
” Например: «Граница, где происходи ! творение m ничего, ex nihilo — вот
за что держится, как я с первых шагов наших занятий в этом году твержу,
всякая мысль, претендующая па то, чтобы быть последовательно атеисти
ческой. Последовательно атеистическая мысль выстраивается в перспек-
тиве креационизма, и ии в какой другой» (Лакай Ж. »гика психоанализа
(Семинары: Книга VII (1959-60)). Перевод Л. Черноглазова. М.: Издатель-
ство «Гнозис», Издательство «Логос», 2006. С. 335).
* Разумеется, здесь следует различа л, подобное «символическое самоубий-
ство» и самоубийство в реальности:
«Такой акт символического самоубийства, такой выход из символической
реальности должен быть строго противопоставлен самоубийству “в ре-
альности'*. Последнее остается пойманным в сети символической комму-
никации: убивая себя, субъект пытается послать сообщение Другому, т. е.
это действие, которое функционирует как признание вины, отрезвляющее
предупреждение^патетическое воззвание.., в то время как символическое
самоубийс тво направлено па исключение субъекта из самой иптерсубьек-
тявной цени» (Ziiek S. Enjoy Your Symptom! London and New York: Rout
ledge, 1992. Рр.4Э-44). \
-36-
И здесь мы встречаем пресловутую кантовскую понятий-
ную пару: фОрма/содержание, форма/материя или форма/объ-
ект. Это парное сопряжение часто подвергалось нападкам, и
именно оно навесило на кантовскую этику неодобрительный
ярлык «пустого формализма». Обвинение в формализме обыч-
но выдвигается против категорического императива (поскольку
он абстрагируется от содержания долга). Но в равной степени
формулировка Кантом категорического императива опирается
на еще одно, даже более фундаментальное различение: разли-
чение между поступками, которые совершаются всего лишь в
соответствии с долгом [действия pflichtmdflig\, и поступками,
которые совершаются исключительно во имя долга [nus Pflicht].
Это и есть, разумеется, известное различие между легальностью
и моральностью, или этическим характером поступка. Кант
объясняет это различие следующим образом: «Одно лишь со-
ответствие или несоответствие поступка закону безотноситель-
но к его мотиву |Triebfeder] называют легальностью (законосо-
образностью); то соответствие, в котором идея долга, основан-
ная на законе, есть в то же время мотив поступка, называется
моральностью (нравственностью) поступка»”.
Можно сказать, что этический аспект поступка является
«дополнительным» для понятийной пары летальное/нелегаль-
ное. Это, в свою очередь, предполагает структурные связи с
лакановским понятием реального. Как отметил Ален Бадью5*,
реальное в лакановском его понимании исключено из логики
кажущейся взаимоисключающей альтернативы познаваемо-
го и непознаваемого. Непознаваемое — это всего лишь разно-
видность познаваемого: это предельный, или редуцированный
Кант И. Метафизика нравов // Каш И. Сочинения в hiccth томах. Том 4
часть 2. М.: «Мысль». 1965. <1 134.
Bullion A. lAnliphilosupItie: hiciin (unpublished seminar), lecture from 15
March 1995.
-37-
случай познаваемого; тогда как реальное целиком и полностью
принадлежит другому регистру. Аналогично и для Канта неле-
гальное по-прежнему относится к категории легальности — оба
они относятся к одному регистру, то есть к вещам, соответству-
ющим или не соответствующим долгу. Этика — продолжая
аналогию — ускользает из этого регистра. Даже если этический
поступок будет соответствовать долгу, это само по себе не яв-
ляется и не может быть тем, что делает его этическим. Таким
образом, этическое не может быть помещено в рамки закона и
нарушений закона. Опять же, в отношении легальности этиче-
ское всегда представляет собой излишек или избыток.
Тогда возникает вопрос: какова же в действительности при-
рода этого избытка? Простой ответ заключается в том, что это
как-то связано с кантовской концепцией «формы». Чтобы уточ-
нить, что же это значит, потребуется более пристальное рассмо-
трение.
Возьмем, к примеру, следующий, возможно, абсурдный
сценарий: человека А обвиняют- в совершении убийства. Дру-
гой человек, Б, знает, однако, что обвиняемый, А, никак не мог
совершить это преступление. Это связано с тем, что Б следил
за собственной женой, которую он подозревал в интрижке с А.
Оказывается, в день убийства Б видел, как его жена посещала
обвиненного впоследствии А. Хотя она покинула дом А за час
до совершения убийства. Б, ревнивый муж, остался, продолжая
шпионить за своим соперником, чтобы узнать о нем побольше.
Как ясно видел Б, А не покидал своего дома. Эгот свидетель,
Б, — который еще не выступил в качестве свидетеля — имеет
несколько различных вариантов действия:
1. Он может сказать себе: «Чем я обязан этому обманщику?
Зачем мне помогать ему? Дело не только в том, что он спал с
моей женой, но в том случае, если я обеспечу ему алиби, моя
неловкая ситуация ст анет достоянием общественности. Он
заслуживает того, что получает; он сам это заслужил». То
-38-
есть этот вариант предполагает ничего не делать. С точки
зрения Канга, если Б выбирает этот вариант, он действует
патологически.
2. Он может сказать себе: «У меня есть хитрый план. Я отбро-
шу свою ненависть к этому ублюдку и дам показания в его
пользу. Принимая во внимание жертву, которой это потре-
бует (я отказываюсь от шанса поквитаться, от моей супру-
жеской чести и г. д.), я заработаю репутацию благородного
человека, я завоюю уважение общества и, возможно, даже
верну свою жену». Это гоже пример патологического дей-
ствия. В эту категорию действий можно было бы включить
несколько других вариантов, которые являют ся легальными
в кантовском смысле (т. е. соответствующими долгу), но не
этичными (долг не является единственным мотивом). На-
пример, Б может бояться божественного наказания за отказ
помочь другому. Или он может отождествить себя с жерт-
вой, думая: «Что, если бы я был на его месте? Я бы, конечно,
подумал, что это наказание чрезмерно...», и гак далее.
3. Существует, конечно, и третья возможность: Б может про-
сто признать, что его долг — дать показания, и сделать это.
Это, разумеется, не мешает ему сообщать другим, что Л —
свинья, и что он очень хотел бы сломать ему шею, осозна-
вая при этом, что эго не имеет никакого отношения к его
нынешнему долгу. В этом случае его поступок этичен, по-
скольку Б действует не только в соответствии с долгом, но
и (исключительно) в силу долга или во имя него. Таким об-
разом, его воля была определена — при условии, что другой
скрытый мотив не обнаружен, что всегда возможно — ис-
ключительно формой морального закона. Фактически мы
можем назвать эту позицию «формализмом», но только ри-
скуя упустить то, что действительно поставлено на карту.
Но, в таком случае, что именно «поставлено на карту», что
эго за чистая форма? Во-первых, ясно, что рассматриваемая
-39-
форма не может быть «формой материи», поскольку Кант от-
носит легальное и этическое к двум разным регистрам. Следо-
вательно, материя и форма, легальное и этическое, не являются
двумя разными аспектами одного и того же. Несмотря на это,
некоторые комментаторы предлагали следующее решение кан-
товской проблемы формы: каждая форма имеет содержание,
связанное с ней; мы всегда имеем дело только с формой и со-
держанием. Таким образом, согласно этой точке зрения, если
мы хотим решить, является ли поступок этическим или нет,
мы просто должны знать, что на самом деле определяет нашу
волю: если это содержание, наши действия патологичны; если
это форма, они этичны. Это, действительно, справедливо может
быть названо формализмом; но это вовсе не то, что имеет в виду
Кант, используя понятие «чистой формы».
Прежде всего, сразу отметим, что ярлык «формализм»
больше подходит к тому, что Кант называет легальностью. С
точки зрения легальности, все, что имеет значение, — это то,
соответствует ли поступок долгу; «содержание» подобного по-
ступка, реальная мотивация такого соответствия, игнорирует-
ся; это попросту не имеет значения. Но этическое, в отличие
от легального, по сути выдвигает определенное требование от-
носительно «содержания» воли. Этика требует нс только того,
чтобы поступок соответствовал долгу, но и того, чтобы это
соответствие было единственным «содержанием» или «моти-
вом» поступка. Таким образом, этот упор на форме, который
делает Кант, в действительности является попыткой раскрыть
возможную движущую силу этического поступка. Кан г говорит,
что «форма» должна прийти, чтобы занять место, ранее зани-
маемое «материей», что сама форма должна функционировать в
качестве движущей силы. Сама форма должна быть присвоена в
качестве материального излишка, с тем чтобы она могла опреде-
лять волю. Идея Канта, повторяю, состоит не в том, что все сле-
ды материальности должны быть вычищены из определяющего
40-
основания моральной воли, а в том, что сама форма морального
закона должна стать «материальной», чтобы она могла функци-
онировать в качестве движущей силы поступка.
Поэтому можно заметить, что на самом деле существуют
две разные проблемы, которые необходимо разрешить, или
••загадки», которые необходимо прояснить, относительно воз
можности «чистого» этического поступка. Первая — та, кото-
рую мы обычно связываем с кантовской этикой. Каким обра-
зом можно сократить или совсем устранить все патологические
мотивы или движущие силы наших действий? Как субъект мо-
жет пренебречь любой личной выгодой, игнорировать принцип
удовольствия, все заботы о своем собственном благополучии
и благополучии близких ему людей? Какого же чудовищного,
•нечеловеческого» субъекта предполагает кантовская этика?
Эта линия вопрошания связана с темой «бесконечного очище-
ния» воли субъекта в логике «как бы далеко вы ни зашли, всег-
да потребуется еще одно усилие». Второй вопрос, который не-
обходимо рассмотреть, касается того, что мы могли бы назвать
этическим пресуществлением, необходимым, по мнению Кан-
за; это вопрос о возможности преобразования чистоз“| формы в
эффективно действующую на материальном уровне движущую
зилу. Этот второй вопрос, на мой взгляд, является более насущ-
ным, поскольку ответ на него автоматически даст нам ответ и
на первый. Итак, как может что-то, что само по себе не является
патологическим (т. е. не имеет ничего общего с представлени-
ем удовольствия или боли, «обычным» модусом субъективной
причинности), стать, тем не менее, причиной или мотивом дей-
ствий субъекта? Вопрос здесь уже не в «очищении» мотивов и
побуждений. Он гораздо более радикален: как «форма» может
стать «материей», как может нечто, что во вселенной субъекта
не определялось в качестве причины, внезапно стать причиной?
Это настоящее «чудо», вовлеченное в этику. Гак что ключе-
вой вопрос кантовской этики заключается не в том, «как мы мо-
41 -
жем устранить все патологические элементы воли, чтобы остал-
ся только долг в чистой форме?», но скорее в том, «как сам долг
в чистой форме может функционировать в качестве патологиче-
ского элемента, то есть в качестве элемента, способного взять на
себя роль движущей силы или мотива наших поступков?». Если
бы последнее действительно имело место — если «долг в чистой
форме» фактически действовал бы в качестве мотива (побужде-
ния или движущей силы) для субъекта, — нам больше не нужно
было бы беспокоиться о проблемах «очищения воли» и устране-
ния всех патологических мотивов.
Однако это, как представляется, предполагает, что для тако-
го субъекта этика просто становится «второй натурой» и, таким
образом, перестает быть этикой вообще. Если этический посту-
пок — это вопрос мотива, если это настолько просто, если он не
требует ни жертвы, ни страдания, ни отречения, то он кажется
совершенно незначимым и не сязанным с добродетелью. Кстати,
именно это и утверждал Кант: он называл такое состояние «свя-
тостью воли» и считал его недостижимым идеалом для предста-
вителей рода человеческого. Его также можно отождествить с
полнейшей банальностью — «банальностью радикального до-
бра», перефразируя знаменитое выражение Ханны Арендт. Тем
не менее — и одной из фундаментальных целей данного иссле-
дования и является демонстрация этого, — такой анализ черес-
чур поспешен, и поэтому он кое-что упускает. Наше теоретиче-
ское допущение состоит в том, что возможно основать этику на
понятии мотива без того, чтобы эта этика рухнула либо в свя-
тость, либо в банальность человеческих действий.
Давайте вернемся к вопросу о природе избытка, который
Кант находит в этическом, и который он связывает с понятием
«формы». Что же это за избыток, который этическое привносит
в легальное?
«Г
«в соответствии с долгом» (легальное)
«в соответствии с долгом и только во имя долга» (этическое)
-42-
Если мы излагаем вещи таким образом, становится ясно, что
пика, по сути, является дополнением. Давайте тогда начнем с
первого уровня (с легального). Содержание поступка (его «мате-
рия»), а также форма этого содержания исчерпываются понятием
«в соответствии с долгом». Пока я выполняю свой долг, говорить
больше не о чем. Тот факт, что поступок, соот ветствующий мое-
му долгу, возможно, был совершен исключительно во имя самого
долга, ничего не изменит на этом уровне анализа. Такой поступок
будет совершенно неотличим от поступка, совершенного просто
в соответствии с долгом, поскольку их результ аты будут абсолют-
но одинаковыми. Значимость поступка, совершенного (исключи
гельно) во имя долга, будет видна только на втором уровне ана-
лиза, который мы будем называть просто уровнем формы. Здесь
мы сталкиваемся с формой, которая больше не является формой
чего-либо, того или иного содержания, но это не столько пустая
форма, сколько форма «вне» содержания, форма, которая обеспе-
чивает форму только для самой себя. Иными словами, мы стал-
киваемся здесь с избытком, который в то же время представляет-
ся «чистым отбросом», то есть абсолютно бесполезным.
Лакановская психоаналитическая теория содержи! поня-
тие, которое очень хорошо отражает эту кантовскую концеп-
цию чистой формы: plus-de-jouir, или прибавочное наслаж-
дение. В «алгебраическом» толковании Лакана есть и другое
наименование этого прибавочного наслаждения — объект а.
Что касается последней формулировки, то можно показать, что
кантовская концепция чистой формы и лакановская концепция
объекта а фактически вводятся для решения очень похожих,
если не идентичных, концептуальных проблем. Та же концеп-
туальная необходимость, которая заставляет Канга различать
форму как форму чего-то и «чистую форму», приводит Лакана
к различению требования (как формулирования потребности)
и желания, объектом которого является объект, обозначаемый
Лаканом буквой а.
-43-
Так что на кону в обоих случаях стоит концептуализация
определенного излишка. В случае Канта этот избыток очевиден
в формуле: не только в соответствии с долгом, но и исключи-
тельно во имя долга; в случае Лакана желание всегда направлено
на что-то иное — нечто большее, чем затребованный объект.
Может показаться, что по-прежнему существует очевидная раз-
ница — даже на понятийном уровне — между этими двумя кон-
цепциями волевого избытка. Кант формулирует этот излишек в
терминах формы, тогда как Лакан, напротив, концептуализиру-
ет его в терминах объекта. Однако более пристальное изучение
их текстов выявляет, с одной стороны, неизгладимый след объ-
екта в концепции чистой формы у Канта, а с другой стороны, то,
чем объект и Лакана обязан попятим» формы.
Мы начали это исследование, представив понятие Triebfeder
(мотива или побуждения) в качестве одной из ключевых точек
практической философии Канта. Triebfeder есть не что иное, как
объект мотив воли. И хотя Кант делает акцент на том, что эти-
ческий поступок отличается отсутствием каких-либо Triebfeder,
он также вводит и то, что он называет echte Triebfeder, «истин-
ный мотив» чистого практического разума. Этот истинный объ-
ект-мотив определяется именно в терминах чистой формы как
отсутствия лк»бых Triebfeder. Можно заметить, насколько близ-
ко этому лака новское понят ие объект а а: объект а не обозначает
ничего, кроме отсутствия, отсутствия объекта, пустоты, вокруг
которой вращается желание. После того, как потребность удов-
летворена и субъект получает требуемый объект, желание со-
храняется само по себе; оно нс «уничтожается» удовлетворени-
ем потребности. В гот момент, когда субъект достигает объекта,
которого он требует, появляется объект а как маркер того, чего
субъект все еще «не получил», или чего у него нет — и это само
по себе учреждает «echte» объект желания.
Что касается соответствующей связи между объектом а и
концепцией формы в теории Лакана, отметим просто, что жела-
- 44 -
ние можно определит!, именно как чистую фирму требования,
как то, что остается от требования, если удалить нее конкрет-
ные объекты (или «содержания»), которые могут привести к его
удовлетворению. Следовательно, объект а можно понимать как
пустоту, которая приобрела форму. Цитируя Лакана: «Объект а
не является чем-либо сущим. Объект а — это предполагаемая
любым требованием пустота... “Это не то" означает, что какое
бы я ни сформулировал требование, желание мое сводится к
тому, чтобы заполучить объект «»".
Таким образом, мы видим, что объект-мотив, связанный
с кантовской концептуализацией этики, не только не похож
на любой другой патологический мотив, но и не является про-
сто напросто отсутствием всех мотивов или побуждений. Дело,
скорее, в том, что само это отсутствие должно в какой-то мо-
мент начать действовать как побуждение. Оно должно достичь
определенного «материального веса» и «позитивности», в про-
тивном случае оно никогда не сможет оказать никакого влияния
на образ действий человека.
Такой подход ставит еще одну интересную проблему. Со-
гласно Канту, отделение субъекта от патологи веского произво-
дит определенный остаток, и именно этот остаток составляет
мотив этического субъекта. Но из этого следует, что именно
процесс отделения от порядка патологического и производит
то самое, что делает т акое отделение возможным. Как такое мо-
жет быть? Как может что-то (остаток) играть роль мотива для
этического, если оно, в то же самое время, есть только продукт
этического? Как именно мы должны понимать этот временной
«промежуток», который, как кажется, и определяет область эти-
ческого?
’* Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга XX (1972/73)). Перевод А. Чершмлазова.
М.: Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2011. С. 150.
-45-
Мы увидим, что ответ на этот вопрос дает ключ к «Кри-
тике практического разума». Но тема этим никоим образом не
исчерпывается, так как при чтении «Критики», а также «Основ
метафизики нравственности», неизбежно возникает целый ряд
структурно аналогичных вопросов: каким образом свобода
может служить условием основания свободы? Как автономию
можно понимать в качестве условия автономии? Кант утвержда-
ет, что (практическое) законодательство разума требует прави-
ла, которое предполагает самое себя. «Свобода и безусловный
практический закон ссылаются друг на друга»**1. Эти утвержде-
ния и структура, которую они выражают, не могут быть про
яснены до тех пор, пока мы не примем во внимание позицию
субъекта практического разума.
Кант И. Критика практически!о разума. С. 345.
-46-
2.
Субъект свободы
ожно сказать, нс слишком сильно нарушай при этом
логику кантовского текста, что субъектом практи-
ческого разума изначально является субъект расще-
пленный. Жак-Ален Миллер описывает это расщепление как
ыключаюн(ее в себе выбор, где с одной стороны мы находим
жизнь в свое удовольствие, любовь к жизни, к благополучию,
псе то, что принадлежит к порядку Пафоса или собственно па-
гологии, к порядку того, что мы можем чувствовать; а с другой
с тороны — моральное благо, и роти вое гоя щее благополучию, с
обязательствами, которые оно влечет за собой и которые может
повлечь за собой, то есть отрицание всякого пафоса*'. «Отрица-
ние», пожалуй, не самое подходящее слово для описания того,
ч го пос заилено на каргу в этом субъек тинном расщеплении, по-
скольку мы не имеем дело ни с чем даже отдаленно похожим на
аскетизм. Кант говорит нам:
' Miller J.-A. 1,2,3.4 (unpublished seminar), lecture from 12 December 19Я-1
-47-
«Это различение принципа счастья и принципа нравствен-
ности не есть, однако, протинолоставление их, и чистый
практический разум нс хочет, чтобы отказывались от при
тязании на счастье; он только хочет, чтобы эти притяза-
ния не принимались по внимание, коль скоро речь идет о
долге»*2.
Таким образом, отношения между счастьем и долгом опре-
деляются не отрицанием, а, скорее, безразличием. Однако в том,
что касается расщепленного «практического» субъекта, самое
важное (что может также послужить нам отправной точкой) со-
стоит в следующем; «Субъект расщеплен тем, что он должен сде-
лать выбор между собственным пафосом и собственным расще-
плением»6’. То есть расщепление субъекта происходит не между
патологичностыо и чистотой. Альтернативой патологической
субъективности является не чистая или безупречная этическая
субъективность, а свобода, или автономия. Это, в свою очередь,
приводит нас к следующему предварительному выводу: расще-
пление, характерное для субъекта практического разума, суть
расщепление между патологическим субъектом и расщеплен-
ным субъектом. Мы вернемся к этому вопросу позже. А пока
рассмотрим, как это субъективное расщепление артикулирова-
но в текстах Канта.
Какой свободы?
Кант считает, что, будучи человеческими существами, мы
являемся частью Природы, а это значит, что мы полностью, как
внутренне, так и внешне, подчиняемся законам причинности.
Следовательно, наша свобода ограничена не только «снаружи»,
Kain И. Критика практически!о разума // Кант И. Сочинении и шести то
мах. Том 4 часть I. М.: «Мысль», 1965, С. 421.
Miller |. Л. 1,2,3.4. lecture from 12 December 1984.
-48-
но и «изнутри»; мы не более свободны «в себе», чем «в мире».
Логически говоря, всегда можно объяснить любой поступок
субъекта, то есть установить его причины и мотивы, или об-
нажить его механизм. Даже если мы сомневаемся в том, что
действительно возможно принять во внимание все факторы,
идей с।нованные в каком-то поступке (поскольку силы, движу-
щие человеком, слишком сложны, чтобы это было возможно),
♦ того недостаточно для установления существования свободы.
Гакая «гуманистическая» позиция подразумевает по существу
теологическое допущение: с определенной точки зрения, с точ-
ки зрения Божественного взгляда, способного охватить всё,
человеческие существа — сут ь всего-навсего сложные часовые
механизмы, воображающие, что их тиканье является результа-
том их собственных решений, не чем иным, как следованием их
собственным ритмам.
Один из фундаментальных тезисов второй «Критики» ка-
рается практической способности чистого разума. Однако по-
ложение, согласно которому чистый разум сам по себе может
ныть практическим, и тот факт, что Кант основывает свободу
и моральный закон на чистом разуме, не подразумевают, что
свобода должна основываться на «отступлении во внутреннее
пространство». Поэтому нам не придется искать чистоту чисто-
го разума в глубинах души, противостоящей безнравственно-
му внешнему миру. Кант не пытается просто побудить нас дей-
ствовать в соответствии с нашими «глубочайшими убеждения-
ми», как это делает современная идеология, призывающая нас
прислушиваться к нашим «подлинным склонностям» и заново
открывать паши «истинные я». Вместо этого метод «Критики»
основан на признании Кантом гою, что наши наклонности и
наши глубочайшие убеждения радикально патологичны: что
они принадлежат к области гетерономии.
Определяющей чертой свободного поступка, напротив, яв-
ляется именно то, что он совершенно чужд склонностям субъ-
-49-
екта. Конечно, свобода не означает, что каждый может просто
делать все, что ему хочется, даже на уровне здравого смысла, по-
скольку это может повлечь за собой причинение вреда другим.
Но для Канта проблема совсем в другом. Если нет смысла гово-
рить, что мы делаем все, что хотим, и, таким образом, свободны,
то эго только потому, что невозможно доказать, что мы на са-
мом деле свободны в своих желаниях, что действительно никакое
эмпирическое представление не влияет на нашу волю.
Таким образом, можно сказать, что «сам» практический
разум на самом деле не обитает «у себя дома», так что основание
свободы субьекта может пребывать только в каком-то «чужом
теле»: субъект получает доступ к свободе только в той мере, в
какой он оказывается чужим в своем собственном доме. Этот
аспект аргументации Канта вызвал неподдельное возмущение
и беспокойство у некоторых критиков6*. Требования Канта,
говорят они, противоречат нашим глубочайшим личным убе-
ждениям. Кантовская этика — это, по сути, этика отчуждения,
поскольку она заставляет нас отвергать то, что являе тся «истин-
но нашим», и подчиняться абстрактному принципу, который нс
принимает во внимание ни любовь, ни сострадание. Некоторые
критики даже считают требование поступать (исключительно)
во имя долга «отвратительным». Эти возражения со всей оче-
видностью демонстрируют то, что Кант зацепил самый нерв
проблемы этики: вопрос (сугубо этического) наслаждения и его
приручения во имя «любви к ближнему». 11екоторым критикам
труднее всего принять в мысли Канта именно то, что Кант счи-
тает как раз это «инородное тело» тем, что является «истинно
нашим», и основывает на нем автономию и свободу субъекта.
м Я заимствую топ и аргументацию подобной критики из того, как она пре-
подносится Генри Е. Эллисоном (Allison И. И. Kants theory of Freedom. New
Haven, CT and London: Cambridge University Press, 1991. Pp. 196-tVH).
-50-
«Психологическая свобода» (термин Канта) не может быть
решением проблемы самой возможности свободы, так как это
просто другое название детерминизма. Если попытаться обо-
iковать свободу тем, что причины действий субъекта являют-
ся внутренними — что представления, желания, стремления и
наклонности функционируют как причины — мы никогда не
найдем ничего даже похожего на свободу. Вместо этого мож-
но обнаружить, что сама свобода сводится к психологической
причинности — необходимой связи психологических явлений
во времени. Канг настаивает, что в нашей попытке понять кон-
цепцию свободы, составляющую фундамент морального зако-
на. вопрос заключается не в том, обусловлена ли необходимость
причинности, установленной законами природы, основаниями,
нежащими в субъекте или вне его. Вопрос также нс в том, за-
ключаются ли такие основания, если они находятся в субъекте,
и инстинктах или же в мотивах, являющихся продуктом разума:
«Они все же определяющие основания причинности существа
постольку, поскольку его существование определимо во вре-
мени, стало быть, при порождающих необходимость условиях
прошедшего времени; следовательно, когда субъект должен дей-
сгвоватъ, они уже не в его власти»'’’. Здесь нет места свободе.
Если бы свобода воли была не чем иным, как такой психоло-
гической свободой, заключает Кант, «то в сущности она была
бы не лучше свободы приспособления для вращения вертела,
которое, однажды заведенное, само собой совершает свои дви-
жения»**.
Как же тогда объяснить свободу, и что должно лежать в ее
основании? Ответ на этот вопрос весьма неожиданный, и в зна-
ли тельной степени он вращается вокруг понятия вины. Прежде
чем обратиться к аргументации, при вязы вающей свободу к випе * •
Кант И. Критика практического разума. С. 425.
• Гам же. С. 426.
-51 -
(проработанной в «Критическом освещении аналитики чистого
практического разума»), необходимо подчеркнуть, что это не то
рассуждение, которое мы находим в традиционной интерпрета-
ции кантовской концепции свободы, фокусирующейся на главе
«Критики практического разума», озаглавленной «О дедукции
основоположений критики практического разума», «официаль-
ной главе», посвященной обоснованию или дедукции свободы.
То есть, взяв за отправную точку главу «Критическое освещение
аналитики чистого практического разума», мы отклонимся от
стандартного прочтения. Однако сделаем мы это не без благо-
словения Канта, ибо в Предисловии, где он говорит о сложнос ти
концепции свободы, он просит «читателя внимательно просмо-
треть то, что говорится об этом понятии в заключительной ча-
сти аналитики»*7.
Какой субъект?
«Разумное существо, — говорит Кант, — может с полным
основанием сказать о каждом своем нарушающем закон (в эти-
ческом смысле) поступке, что оно могло бы и не совершить его,
хотя как явление этот поступок в проистекшем [времени] до-
статочно определен и постольку неминуемо необходим». «Чело-
век может, — продолжает Кант, — хитрить сколько ему угодно,
чтобы свое нарушающее закон поведение ... представить себе,
как неумышленную оплошность, просто как неосторожность,
которой никогда нельзя избежать полностью, следовательно,
как нечто такое, во что он был вовлечен потоком естественной
необходимости, чтобы признать себя в данном случае невино-
вным». Однако, заключает Кант, он обнаружит, «что адвокат,
который говорю в его пользу, никак не может заставить замол-
чать в нем обвинителя, если он сознает, что при совершении
ю Там же. С. 318.
-52-
несправедливости он был в здравом уме, т. е. мог пользоваться
своей свободой»6*.
Бывают даже случаи, добавляет Кант, когда «люди с детства
обнаруживают столь рано злобность, которая усиливается в
•реяые годы до такой степени, что их можно считать прирожден-
ными злодеями и, если дело касается их образа мыслей, совер-
шенно неисправимыми; но и их судят за проступки и им вменя-
юI в вину преступления»6*. Тот факт, что они «ничего не могли
поделать», никоим образом не освобождает их от вины [Sc/шМ].
>то свидетельствует о том, что некое «мочь» | Лоллеи] можно
превратить в «быть» [зеш|, то есть имеется возможность в кон-
кретном случае, «как бы через факт [gleiehsam durch tin Faktum]»
доказать, что некоторые поступки предполагают то, что Кант на-
н.1вает «причинностью через свободу [Kausalitdt durchFreiheit}»70.
То, что доказывает реальность свободы, — или, точнее, то,
•I го постулирует свободу как «некий факт», — явлено здесь под
маской вины. Нам нужно быть очень аккуратными и не путать
вину с понятием совести. Хотя рассуждения Канта и способ-
ствуют иногда подобному смешению, теоретическая строгость
гребует, чтобы мы развели эти два понятия. Нам прекрасно из-
вестно, что чувство вины в качестве совести может быть резуль-
iaroM всех видов «приобретенных идей» и социальных ограни-
чений, которые имеют мало общего с безусловным моральным
ыконом. С другой стороны, в отношении возможности свободы
вина должна рассматриваться исключительно с точки зрения ее
парадоксальной структуры: того, что мы можем чувствовать
себя виноватыми, даже если знаем, что в совершении опреде-
ленного деяния мы были, как выразился Кант, «вовлечены по-
юком естественной необходимости». Мы можем чувствовать
Гам же. С. 427.
Там же. С. 429.
Гам же. С. 435.
-53-
себя виноватыми даже за то, что, как мы знали, находится «вне
нашего контроля». Иными словами, точка, позволяющая нам
увязать вину и возможность свободы, не имеет ничего общего
с вопросом, « чем именно мы чувствуем себя виноватыми. Если
мы будем упорствовать в этом вопросе, мы никогда не сможем
выйти за рамки того, что Кант называет обыкновенной психо-
логической свободой.
Для того, чтобы прояснить этот момент, нам не помеша-
ло бы обратиться к психоаналитическим находкам. В психоа-
нализе довольно часто встречаются случаи «иррациональной
вины», когда субъект чувствует себя виноватым в чем-то, что
было, строго говоря, совершенно ему не подвластно. Например,
друг погибает в автокатастрофе, и субъекта, которого и близко
не было рядом с местом аварии, тем не менее изводит чувство
вины. Такие случаи обычно объясняются на уровне «желания и
вины»: у анализируемого субъекта было бессознательное жела-
ние смерти друга, которое он не мог признать, и поэтому фак-
тическая смерть этого друга порождает чувство вины. Однако
существует еще один, более интересный уровень вины, который
мы должны принять во внимание. Как отметил Жак Ален Мил-
лер в одной из своих лекций, есть много пациентов, которые не
только страдают от различных симптомов (в том числе и от чув-
ства вины), но и чувствуют себя виноватыми из-за самого этого
страдания. Можно сказать, что они чувствуют себя виноватыми
из-за вины, которую они чувствуют. Они чувствуют себя вино-
ватыми не просто из-за своих бессознательных желаний, но, так
сказать, из-за самой структуры, которая поддерживает такую
«психологическую причинность». Как если бы они чувствова-
ли себя ответственными за само учреждение «психологической
причинности», которой, как только опа сформирована, они уже
не могут не подчиняться, будучи ведомыми ею.
Здесь мы приближаемся к понятию вины в кантовском ос-
мыслении свободы. Вина, о которой здесь идет речь, это не та
-54-
вина, которую мы испытываем из-за чего-то, что мы могли или
•к могли сделать (или желали сделать). Напротив, она содержит
и себе нечто вроде проблеска другой возможности или, выра-
жаясь иначе, опыт «давления свободы». В первом приближении
мы могли бы сказать, что вина — это и есть тот способ, кото-
рым субъект исходно участвует в свободе, и именно здесь мы
। ылкиваемся с разделением, или расщеплением, которое явля-
ется конститутивным для этического субъекта, разделением,
выраженным в словах: «Я бы не смог поступить иначе, и всё же
ч виновен». Свобода проявляется именно в этом расщеплении
субъекта. Самос важное здесь заключается в том, что свобода
щ является несовместимой с тем фактом, что «я бы не смог no-
il учить иначе», что я был «захвачен потоком естественной не-
кОходимости». Как это ни парадоксально, именно в тот момент,
когда субъект осознает, что он захвачен потоком естественной
необходимости, он также осознает и свою свободу.
Часто отмечается, что кантовская концепция свободы вле-
•ici за собой абсурдные следствия. Например, если свободны
iivii.Ko автономные действия, то я не могу быть ни виновным,
нн ответственным за свои безнравственные поступки, посколь-
ку они всегда гетерономны. Но это полностью расходи гея с по-
|ццней Канта относительно свободы и субъективности. Как мы
у же видели, парадокс, с которым сталкивают нас его размыш-
ления, полностью противоположен этому: в конечном счете, я
виновен, даже если происходящее было мне неподвластно, если
и действительно «не мог поступить иначе».
Гем нс менее, следует продвинуться в рассуждениях немно-
го дальше, чтобы объяснить, как эти два очевидно противопо-
ложных вывода следуют из позиции Канта, как его рассужде-
ния движутся в двух на первый взгляд взаимоисключающих
направлениях. С одной стороны кажется, что Кант настойчиво
пытается убедить нас в том, что ни один из наших поступков не
является дсйствительно свободным; что мы никогда не сможем
-55-
с уверенностью установить отсутствие патологических моти-
вов, влияющих на наши поступки; что так называемые «вну-
тренние» или «психологические» мотивы на самом деле явля-
ются просто еще одной формой (естественной) причинности. С
другой стороны, он с тем же упорством продолжает подчерки-
вать, что мы несем ответственность за все наши действия, что
нет оправдания нашим безнравственным поступкам; что мы не
можем взывать к какой-либо «необходимости» для оправдания
таких поступков — короче говоря, что мы всегда действуем как
свободные субъекты.
Обычная отсылка к различию между феноменом и ноуме-
ном, попытка сохранить свободу с помощью этого различия
(субъект как феномен подчинен причинности, но с ноуменаль-
ной точки зрения субъект свободен) не разрешает проблему.
Хотя Кант и сам пробует применить это решение, он все-таки
оказывается вынужден переработать его в I ораздо более слож-
ную теорию, к которой мы и обратимся. Однако уже на данном
этапе мы можем предложить ответ на загадку о том, как помыс-
лить сразу обе эти разнородные линии в рассуждениях Канта.
Мы можем начать с того утверждения, что они находятся
на двух различных уровнях анализа и что необходимо уделить
внимание различным контекстам, в которых возникают эти
рассуждения. Перефразируя знаменитое изречение Фрейда,
можно подытожить ход рассуждений Канта следующей фор-
мулировкой: человек не только гораздо более несвободен, чем он
считает, но и гораздо свободнее, чем он знает. Иными словами,
там, где субъект считает себя свободным (т. е. на уровне «психо-
логической причинности»), Кант настаивает на непреодолимо-
сти патологического. Он утверждает, что для каждого из наших
«спонтанных» действий можно найти причины и мотивы, свя-
зывающие ер» с законом естественной причинности. Давайте
назовем эту линию рассуждений «постулатом депсихологиза-
ции» или «постулатом детерминизма».
-56-
Однако когда субъект уже отделен от всей психологии — то
есть когда последняя оказывается просто-напросто еще одним
нидом причинности, а субъект представляется не чем иным, как
чвпюматопом, — Кант говорит этому субъекту: и все же имен-
но в этой ситуации ты свободнее, чем тебе кажется. Другими
словами, там, где субъект считает себя автономным, Кант на-
стаивает на непреодолимости Другого, неподвластного субъек-
ту порядка причинности. Но когда субъект осознает свою за-
висимость от Другого (от тех или иных законов, склонностей,
»крытых мотивов...) и готов сдаться, говоря себе, что «игра не
стоит свеч», Кант указывает на трещину в Другом, трещину, в
которую он помещает автономию и свободу субъекта.
Даже в этом кратком изложении кантовского обоснования
свободы можно заметить отголосок знаменитого утверждения
Лакана о том, что «у Другого нет Другого». Иными словами, Дру-
гой сам по себе несостоятелен, помечен определенной нехват-
кой. Кант говорит о том, что нет Причины у причины, и именно
но позволяет субъекту быть автономным и свободным. Вот по-
чему субъект может быть виновен (т. е. свободен поступать ина-
че), даже если его поступки полностью определяются законами
причинности. Нам нужно быть внимательными, чтобы не про-
пустить подрывной характер того жеста, которым Кант обосно-
вывает свободу. Он не пытается обнаружить свободу субъекта
i де-то по ту сторону причинно-следственной определенности;
напротив, он дает ей явить себя, до самого конца настаивая на
юсподстве причинно-следственной определенности. Он пока-
1ывает, что в причинно-следственной предопределенности су-
ществует камень преткновения в отношениях между причиной
и следствием. И здесь мы сталкиваемся с (этическим) субъек-
том в строгом смысле этого слова: субъект как таковой является
i ледсгвием причинно-следственной определенности, но не пря-
мо; он является следствием чего-то, что только и делает возмож-
ным отношения между причиной и (ее) следствием.
-57-
Чтобы в полной мере уловить воздействие кантовского жеста,
может быть полезно вспомнить схожий жест Лакана, хотя и от-
носящийся к другому контексту, но, тем не менее, проливающий
некоторый свет на нынешнюю дискуссию. Я имею в виду особый
жест, которым Лакан порывает со структуралистской традицией.
Разумеется, Лакан придерживается структурализма в его
«депсихологизации субъекта». По его словам, «бессознательное
структурировано как язык». Это означает, что в принципе мы
можем подвергнуть симптомы и действия субъекта процессу
интерпретации («расшифровка» у Фрейда), который устанав-
ливает их «причинное» происхождение, что позволяет нам рас-
крыть строгую логику и набор законов, регулирующих то, что
слишком часто считалось романтическим бессознательным ху-
дожественного творчества, местом обитания «ночных божеств»
и «спонтанности субъекта». Но если структурализм в конечном
счете отождествляет субъекта со структурой (Другим), то Ла-
кан, в очень кантовской манере, именно в этом месте и вступа-
ет: он вводит субъекта как коррелят нехватки в Другом; то есть
как коррелят той точки, в которой структура не может полно-
стью замкнуться на себе. Он делает эго двумя разными спосо-
бами. Первый состоит в том, чтобы ввести момент неустрани-
мого наслаждения как доказательства существования субъекта.
Второй — и именно это нас здесь интересует — заключается в
определении субъекта через шифтер я по отношению к акту вы-
сказывания. Я — это элемент языка, который выводит из строя
батарею означающих, делает ее «не-всей» поскольку
это элемент, который указывает, но не означивает, элемент, ко-
торый отсылает к чему-то вне языковой структуры, — к акту
речи как таковому. В противоположность правильному имени
существительному, функция которого заключается в «запол-
нении зазора в Другом», я вскрывает невосполнимую пустоту.
Я, в самом его использовании, указывает на то, что не может
быть уникального означающего для субъекта высказывания. И
-58-
как отметил в своем семинаре «1,2, 3, 4» Миллер, который под-
робно разрабатывает линию рассуждении, кратко излагаемую
нами здесь, утверждение Лакана о том, что у Другого нет Дру-
того, означает, что и у Другого,,и у высказывания нет никакой
другой гарантии существования, кроме самой случайности их
провозглашения. Эта зависимость в принципе не может быть
устранена из функции Другого, и именно это свидетельствует о
наличии в нем нехватки. У субъекта высказывания нет и не мо-
жет быть прочного места в структуре Другого; он находит свое
место только в акте высказывания. Это значит, что депсихоло-
гизация субъекта не подразумевает его сводимости к (лингви-
стической или иной) структуре71. Субъект Лакана — это то, что
остается после завершения операции депсихологизации: это не-
уловимая, животрепещущая точка высказывания.
Теперь обратимся к задаче более детального формулирова-
ния идеи (кантовского) этического субъекта.
Появление субъекта практического разума совпадает с мо-
ментом, который можно назвать моментом «принудительного
выбора». Как это ни парадоксально, принудительный выбор,
о котором идет речь, — нс что иное, как выбор свободы, сво-
боды, которая впервые предстает перед субъектом под маской
психологической свободы. Для конституирования субъекта
существенно то, что он не может не считать себя свободным и
Подобным же образом Младен Долар показал в своем анализе альтюссе-
ровской концепции интерпелляции различие между субъектом структу-
рами (ма (в данном случае субъектом Альтюссера) и субъектом психоана-
лиза. Последний не является интерпеллированным субъектом или инди-
видом. который, будучи призванным в акте интерпелляции, становится
всецело субъектом (субъектом Идеологического 1Ьсударственного Аппа-
рата, который его призывает) Напротив, предметом психоанализа являет-
ся то. что остается после операции интерпелляции. (Психоаналитический)
субъект суть не что иное, как провал в становлении (альтюссеровским)
субъск гом. См.: Младсп Долар. Но ту сторону интерпелляции // Лаканалия
№26(2017). С. 116.
-59-
независимым. Отсюда кантовское напоминание субъекту, кото-
рое, перефразируя Фрейда, мы сформулировали так; «Человек
гораздо более несвободен, чем он полагает». Иными словами,
определяющее переживание субъекта свободы, субъекта, счита-
ющего себя свободным, заключается в нехватке свободы. Субъ-
ект предположительно свободен, но он не может раскрыть эту
свободу каким либо позитивным образом, не может уловить ее,
сказав: «Вот этот мой поступок был свободным; именно в этот
момент я действовал свободно». И чем больше он пытается обо-
значить точный момент, в который свобода реальна, тем больше
она ускользает от него, уступая свое место (причинной) опреде-
ленности, патологическим мотивам, которые, возможно, были
скрыты от глаз на первый взгляд.
Прежде чем перейти к обсуждению кантовского понятия
свободы, мы говорили о том, что расщепление субъекта практи-
ческого разума следует понимать как расщепление между пато-
логическим субъектом и расщепленным субъектом. Теперь мы
можем связать этот момент с тем, о чем мы сейчас говорили, с
помощью следующей диаграммы:
В левой части схемы пред-
зг ф ставлен «факт субъекта», гот
факт, что субъект, так сказать,
/ свободен по определению, что
/ субъект не может не восприни-
/ мать себя свободным. Правая
j / сторона иллюстрирует альтер-
т нагиву, с которой сталкивается
этический субъект; он должен
выбрать себя либо в качестве
х, патологического, либо как рас-
~ х. щепленного. Парадокс, однако,
£ заключается в том, что субт»ект
не может выбрать себя в качестве
-60-
ii.i (алогического (S), не переставая в итоге быть субъектом. Выбор
S по исключенный, невозможный выбор. Другой вариант был
бы просто выбором себя как субъекта, как «чистой формы» субъ-
гк । а. которая является формой разделения как такового. Можно
। акже сказать, что в этом случае субъект выбирает себя как субъ-
гк га. а не как (психологическое) я, если понимать последнее — во
щей его глубине и достоверности — как место патологического.
Тем не менее, треугольная схема, нарисованная выше, еще
не полностью демонстрирует характер субъекта практического
разума. Она должна быть завершена с учетом того, что, когда
мы имеем дело с субъектом, мы должны учитывать маршрут его
движения, тот путь, который субъект преодолевает в своем ста-
новлении. А это предполагает определенное временное измере-
ние. присущее субъективности.
Субъект не может выбрать себя в качестве разделенного
субъекта, не испытав сначала собственную радикальную пато-
логичность. Иными словами, субъект не может выбрать себя в
качестве (свободного) субъекта без предварительного путеше-
ствия по территории, учрежденной постулатом детерминизма,
или постулатом «депсихологизации», который предполагает
существование логически связной и «замкнутой» цепи причин
для действий субъекта, полностью исчерпывающей их мотивы
и значение. Субъект не может выбрать себя в качестве субъекта,
не придя к точке, которая является не принудительным выбо-
ром, но исключенным или невозможным выбором. Это «выбор»
S. несвободы, радикального подчинения Другому, абсолют-
ной обусловленности своих действий мотивами, интересами и
прочими причинами. Сначала субъект должен достичь точки,
в которой становится невозможным сформулировать такие за-
явления, как «я поступаю» или «я мыслю». Прохождение через
эту невозможную точку своего собственного небытия, в кото-
рой, как кажется, единственное, что можно сказать о себе, — это
«я не есть», является основополагающим условием обретения
-61 -
статуса свободного субъекта. Только в этой точке, после того,
как мы довели до предела постулат детерминизма, появляется
«остаточный» элемент, который может служить основой для
конституирования этического субъекта. Как же Кант описыва-
ет и концептуализирует этот опыт радикального отчуждения,
лежащего в основании свободы?
Кант часто подчеркивает, что субъект как феномен никогда
не свободен и что свобода принадлежит субъективности толь-
ко в ее ноуменальном «аспекте». Эта позиция, по мнению неко-
торых критиков, ведет к неразрешимой дилемме: либо свобода
ограничивается лишь сферой ноуменального, и, таким образом,
становится совершенно пустым понятием, когда дело доходит
до познания реальных человеческих субъектов, или же свобода
должна обладать способностью производить реальные изме-
нения в этом мире — но в этом случае идея, что она является
не-временной и ноуменальной, должна быть отвергнута. Ины-
ми словами, встает вопрос: как можно приписать одному и тому
же фактору, причем в одно и то же время, как эмпирический,
так и чисто умопостигаемый характер? Как можно одно и то же
действие считать необходимым и свободным одновременно?
Кант дает ответы на эти вопросы в «Религии в пределах
только разума»;
«Свобода произволения [VV7//Aw| имеем ту совершенно
отличительную особенность, что она может быть тем или
иным мотивом I Triebfeder] определена к п<м тупкам, лить
not кольну человек припишет мотив а свою максиму (по-
скольку он становится обшим правилом, согласно которо-
му человек хочет поступал,); только в этом случае мотив,
каким бы он ни был, совместим с абсолютной спонтанно-
стыо произволения (свободы)»7-'.
” Кант И. Религия и пределах только разума. Перевод II. М. Соколов,
А. А. Столяров II Кант И. Собрание сочинений в восьми томах, том 6. М.:
«Чоро». 1994. С. 22-24.
-62-
Для того, чтобы достичь свободы, присущей субъекту, не
стоит начинать с произвольного, случайного как того, что про-
1ИНОПОЛОЖНО законосообразному. Мы не сможем основать сво-
боду субъекта на том факте, что его действия могут быть не-
предсказуемыми Такой подход показал бы лишь то, что мы еще
недостаточно продвинулись в направлении, заданном «посту-
латом депсихологизации». Вполне возможно, что мотивы, ко-
торые мы первоначально приписывали субъекту и с помощью
которых нам не удалось объяснить его поступки, на самом деле
и не были теми, что заставили его действовать, но это само по
себе не означает, что не было никаких других мотивов или «па-
тологических интересов», которые на него влияли. Так что сво-
бода не может быть основана па произволе наших действий, а,
наоборот, только на законе и необходимости как таковых: нуж-
но обнаружить точку, где сам субъект играет (активную) роль
в законной, причинной необходимости, точку, где сам субъект
уже заранее вписан в то, что представляется законами причин-
ности, независимыми от субъекта.
Именно это и имеет в виду Кант в цитируемом выше отрыв-
ке. С того момента, как мы сталкиваемся с субъектом, всякая
связь между причиной и следствием предполагает и включает
поступок (решение, которое не обязательно является сознатель-
ным), посредством которого некоторая Triebfeder учреждается
как (достаточная) причина, то есть включается в максиму, кото-
рая направляет действие субъекта. Такое прочтение также было
предложено Генри Э. Эллисоном, который называет рассматри-
ваемый аргумент «тезисом инкорпорации». Triebfedern не могут
«мотивировать» ничего в себе; они не могут порождать что-ли-
бо напрямую — они обретают эту власть только тогда, когда они
включены в максимы; таким и гол г. ко таким образом они стано-
вятся «мотивами» или «стимулами»:
«Проше говоря, если самосохранение, своекорыстие или
счастье суть осн<МЫ моего поведения, если оно дикгуег
-63-
мне максимы, то именно я (а не природа во мне) даю ему
эту власть... это не означает, что мы должны рассматри-
вать основополагающие максимы как принятые каким-го
таинственным до- или не- н|>еменным образом или по-
средством самоосознанного, совещательного процесса.
Скорее, посредством рефлекс ни мы обнаруживаем, что
мы всегда были привержены такой максиме, понимаемой
как фундаментальная направленное ть воли на моральные
требования»71.
По Эллисону, Кант таким образом говорит: вполне может
быть, что вы были увлечены потоком (естественной) необходи-
мости, но в конечном счете именно вы сделали эту конкретную
причину причиной. У причины вашего действия нет причины;
причиной причины может быть только сам субъект. В терминах
Лакана, Другой Другого и есть субъект. Трансцендентальное ос-
нование воли и представление о свободе воли подразумевают,
что воля предшествует всем ее объектам. Воля может быть на-
правлена на определенный объект, но этот объект сам по себе не
является своей собственной причиной.
Чтобы оценить силу этого аргумента, нам достаточно об-
ратиться к нашему повседневному опыту, но особенно ярко он
явит себя, если мы рассмотрим открытия, сделанные психоана-
лизом. Наиболее показательным примером здесь может быть
фетишизм: определенный предмет, например, может оставить
человека А полностью безразличным, тогда как у человека Б он
может спровоцировать целую серию действий и ритуалов, и че-
ловек Б ничего не сможет с этим поделать. Это связано с тем, что
предмет, о котором идет речь, играет разные роли в либидиналь-
ной экономике двух людей. В кантовских терминах можно ска-
зать, что в случае человека Б этот предмет уже включен в макси-
му, что позволяет ему функционировать как мотив [Tricbfedcr] в
строгом смысле этою слова. Далее Кант говорит, что субъекта
Allison Н. Е. Kants Theory of Freedom. P. 20Я.
-64-
следует рассматривать как того, кто играет в этом свою роль.
Мы должны приписать именно субъекту решение, связанное с
встраиванием этого мотива или побудительной причины в его
максиму, хотя это решение не является ни эмпирическим, ни
временным — точно так же, как фетишист, если мы продолжим
это сравнение, никогда не скажет: «Именно в этот самый день
и решил, что туфли на высоком каблуке станут абсолютными
объектами, мотивами моего желания. Вместо этого он сказал
бы: «Я не могу удержаться», «Это не моя вина», «Я не могу с этим
справиться», «Я не могу сопротивляться этому»...
Решение, о котором идет речь, конечно, должно быть рас-
положено на уровне бессознательного или, в кантовских тер-
минах, на уровне Gesinnung, «задатков» субъекта, которые, по
Канту, являются предельной основой встраивания побудитель-
ных причин в максиму. И самый важный тезис Канта по этому
вопросу заключается в том, что Gesinnung, фундаментальные
ыдагки субъекта, сами по себе являются чем-то выбранным7*.
Собственно, мы могли бы увязать этот момент с тем, на который
указывает психоаналитическое понятие Neurosenwahl, «выбор
невроза». Субъект «подчинен» (или подвластен) своему бессоз-
нательному, и в то же самое время, в конечном итоге, именно его
как «субъекта» бессознательного следует признать тем, кто это
бессознател ьное выбрал.
Утверждение, что субъект, так сказать, выбирает свое бес-
сознательное, можно назвать «психоаналитическим постулатом
свободы» — суть условие самой возможности психоанализа. Из-
менение перспективы, означающее конец анализа, или la passe у
Лакана, может произойти только на фоне этого постулата. Этот
первоначальный выбор может быть повторен — анализ прихо-
дит- к завершению, подводя субъекта к преддверию повторного
'* ( м: Кант И. Религия в пределах только разума. «Но сам образ мыслей дол-
жен быть принят свободным произволением» (с. 25).
-65-
выбора, то есть к тому моменту, когда субъект вновь обнару-
живает возможность выбора. Именно с этой точки зрения мы
можем понять высказывания — или, скорее, вопросы, — кото-
рыми Лакан начинает свой семинар по «Этике психоанализа»:
«Я сразу обращаю ваше внимание на то, что проблемы,
которые ставит нерол нами моральный поступок, связаны
с тем, что анализ, может быть, и готовит к нему, но остав-
ляет нас, в конечном счете, лишь на пороге. Моральный
поступок, на самом деле, прочно привит к реальному. Он
вводит в реальное нечто новое, пролагая в нем слел, где
присутствие наше обретает свою законную санкцию. В ка-
ком смыт ле авали з нас к такому поступку готовит — если
это, конечно, так? В каком смысле подводит нас анализ
к совершению такого поступка? И почему именно подво-
дит? Почему останавливается на пороге?»7'
Чтобы вернуться к тому вопросу, о котором речь шла выше,
мы должны поместить тезис Канз а о творении ex nihilo, которое
и порождает этического субъек та, именно в этот контекст. Как
говорит Кант:
• Но го, что кто-нибудь становится не только по закону, но
и морально добрым человеком ... не может быть вызвано
постепенной реформой, пока основание мак< им остается
нечистым, а должно быть вызвано революцией в образе
мыслей человека ... и новым человеком он может стать
только через некое возрождение, как бы через новое тво
рение...»76
Как и в своей «теоретической философии», Кант вводит в
область практического разума третий элемент, который нс мо-
жет быть сведен ни к феноменальному, ни к ноуменальному.
Дакав Ж. Этим* Психоанализа (Семинары: Книга VII (1959 60)). Перевод
А Черноглазом. М.: Издательство «Гнозис», Иэдатсльспи» «Логос», 2006.
С. 30.
Кант И. Религия и пределах только разума. I.'. 50.
-66-
I (ли понятие субъекта, которое Кант разрабатывает в «Критике
чистого разума», включае т три особых инстанции (феноменаль-
ное я, я представления и сознания; мыслящее существо, распо-
знающееся, для Канта, на уровне ноуменального; и трансцен-
дентальное я чистой апперцепции), то и в сфере практического
разума мы сталкиваемся с такой же трехчастной структурой
субъекта. Во-первых, у нас есть человеческие поступки и дей-
ствия в том виде, в каком они существуют в области феноме-
нального, то есть внутри цепочки причин и следствий. На этом
уровне мы обнаруживаем «психологическое я», сознательное я,
которое считает себя свободным. Далее, имеется образ мыслей
(Gesinnung) субъекта, который суть ноуменальный, так как он не
является непосредственно доступным для субъекта, но может
быть выведен из его действий. Наконец, есть третий элемент,
выбор субъектом этой Gesinnung, «акт спонтанности субьекта»,
который не является ни феноменальным, ни ноуменальным.
Эллисон, кажется, движется слишком быстро, предполагая,
что мы должны понимать Gesinnung как «практический» аналог
того, что Кант в первой «Критике» называет «трансценденталь-
ным единством апперцепции» или «актом спонтанности субъ-
екта». Проблема этой интерпретации в том, что она стирает
важное различие между Gesinnung и (трансцендентальным) ак-
том выбора субъектом этой Gesinnung. Хотя в первой «Критике»
Кант и вправду иногда затушевывает различие между чистым
я апперцепции и (ноуменальным) «мыслящим существом», это
различие имеет абсолютно решающее значение для его практи-
ческой философии. Когда он настаивает на том, что Gesinnung,
образ мыслей субъекта, есть само по себе что-то, что выбирает-
ся, Кант подчеркивает различие между тем, что мы могли бы на-
звать «вещью-в-себе-в-нас» (Gesinnung, или образ мыслей субъ-
екта) и трансцендентальным я, которое есть не что иное, как
пуипое место, из которого субъект и выбирает свою Gesinnung.
Это пустое место не является ноуменальным; скорее, это вопло-
-67-
щение слепого пятна, которое поддерживает разницу между
феноменом и ноуменом. Именно из-за этого «слепого пятна»
(действующий) субъект нс может быть прозрачным для самого
себя и не имеет прямого доступа к «вещи-в-себе-в-нем», к своей
Gesinnung.
Кроме того, это различие лежит в основе различия между
трансцендентальной свободой и практической свободой. Для
Канта практическая свобода связана с понятием Gesinnung-.
здесь речь идет о свободе субъекта встраивать конкретный мо-
тив в максиму, определяющую его действия. С другой стороны,
функция трансцендентальной свободы состоит в том, чтобы
очертить и сохранить то пустое место, которое показывает, что
за этим фундаментальным выбором нет ничего, нет никакого
«мета-основания» свободы. Если образ мыслей субъекта явля-
ется причиной встраивания именно этого, а не иного, мотива,
то утверждение о том, что трансцендентальная свобода суще-
ствует, означает просто-напросто, что нс может быть Причины,
лежащей в основании именно этой причины.
С этой точки зрения мы можем еще раз рассмотреть часто
выдвигаемое против Канта возражение, мол, невозможно пол-
ностью устранить то, что принадлежит порядку патологическо-
го, что чго-то из этого порядка всегда остается. Что должно нас
здесь насторожить, так это тот простой факт, что и сам Кант без
колебаний подписался бы под этим утверждением. Это как раз
тот момент, когда возникает вопрос о возможности свободы и
где он — отнюдь не забытый — обретает ответ. Именно в том,
как Кант развивает эту мысль, и можно найти способ перевер-
нуть данное возражение: это правда, что невозможно полно-
стью исключить элемен ! патологического и что мы никогда не
узнаем, когда субъект действительно совершает поступок толь-
ко в свете Другого (если мы понимаем под «Другим» совокуп-
ность — как «внешних», так и «внутренних» — гетерономных
мотивов поступка). Однако верно и то, что ничто не поддер-
-68-
щиплет точку зрении, согласно которой Другой может учесть и
«поглотить» все эти патологические элементы. Другими слова-
ми. нет никакой гарантии, что Другой, как место гетерономии,
« ай по себе не содержит некоторый гетерономный элемент, ко-
горый мешает ему замкнуться на себе как на целостной системе.
Н oi ношении между субъектом и Другим есть что-то еще, что-
tn, что не принадлежит ни субъекту, ни Другому, но «экстим-
ни* для обоих. Мы уже говорили выше, ч то мы можем понимать
субъекта как Другого для Другого. Теперь мы можем уточнить
•ту формулу, сказав, что Другой для Другого — это то, что Лакан
на швает объектом а, объектом-причиной желания, который и
определяет отношение между субъектом и Другим постольку,
поскольку он ускользает от обоих. Что же тогда в философии
Канта может сыграть эту роль? Как раз трансцендентальный
i убъект, который сам по себе не является ни феноменальным,
ни ноуменальным. Принимая во внимание то различение, ко-
topoe делает Кант между психологическим я, Gesinnung субьек-
га как относящимся к практической свободе (встраивание мо-
тивов в максимы) и трансцендентальной свободой, мы можем
увидеть, что «урок» практической философии Канта — это не
просто вопрос разницы между ноуменальной свободой и фено-
менальной необходимостью; скорее, он заключается в том, что
(практическая) свобода, а также необходимость (несвобода)
возможны только на фоне трансцендентальной свободы.
Именно поэтому для практической философии Канта так
важен вопрос «радикального зла», который мы подробно рас-
смотрим. Зло, радикальное зло, суть то, что можно определить
только парадоксальным образом как «свободный выбор несво-
боды». Иными словами, и здесь подлинное отрицание свободы
оказывается невозможным. Субъект свободен, хочет он того
или нет; он свободен и в свободе, и в несвободе; он свободен и в
добре, и во зле; он свободен даже там, где он идет путем, совпа-
дающим не с чем иным, как с линией движения, прочерченной
-69-
естественной необходимостью. Логика этой ситуации точно та
же, что и логика, которая срабатывает в различении двух уров-
ней истины. На уровне высказывания располагается истина, ко-
торая к тому же является противоположностью лжи, противо-
положностью обмана. I{о в то же время есть также уровень акта
высказывания, на котором «я всегда говорю правду»:
«Нет сомнении в том, что истина является противополож-
ностью лжи, но есть и другая истина, которая стоит нал
ними или обосновывает их обеих и которая связана с са-
мим фактом изложения, ибо я ничего нс могу сказать, нс
утверждая, что это истина. И даже если я говорю: "Я лгу",
я не говорю ничего, кроме "истина в том, что я лгу'’ — вот
почему истина не является противоположностью лжи»".
Мы могли бы перефразировать знаменитое вступительное
утверждение из «Телевидения» Лакана «Я всегда говорю истин-
ную правду» следующим образом «Я всегда действую свобод
но». Здесь мы должны, без сомнения, различать два уровня сво-
боды: тот, который противоположен несвободе, и тот, который
расположен над ними обеими и который обосновывает как сво-
боду, так и несвободу (или необходимость).
Так наконец мы подходим ко второй части основополагаю-
щего жеста Канта: человек не только гораздо более несвободен,
чем считает, но и гораздо свободнее, чем он знает. 11реодолев во
всей полноте путь обусловленности наших действий, мы стал-
киваемся с определенным избытком свободы, или, если сказать
по-другому, мы сталкиваемся с нехваткой в Другом, нехваткой,
которая проявляется в том, что Gesinnung суть объект выбора —
но выбирается она, конечно, из совершенно пустого места, более
того, именно в этот момент и становится возможным конститу-
77 Miller |. A. Microscopia Ц Lacan J. Television: A Challenge to the Psychoanalytic
Establishment (ed. loan Copjec). New York and London: W. W. Norton. 1990.
P xx.
-70-
ирование субъекта как субъекта этического. Этический субъект
возникает из совпадения двух нехваток: нехватки в субъекте
(нехватка свободы в субъекте, сопряженная с моментом «при-
нудительного выбора») и нехватки в Другом (тот факт, что нет
Другого у Другого, нет Причины, лежащей в основании причи-
ны)- Теперь мы можем завершить приведенную выше схему:
Исходная точка, представленная здесь vel (или), «свобода
или Другой», — это «принудительный выбор», поскольку субъ-
ект может выбрать только свободу, альтернативный выбор ис-
ключается из-за того, что это был бы выбор небытия или не-
существования — выбор S, символа «не субъективированной
материи субъекта». Теперь мы переходим к символу $, представ-
ляющему субъекта, помеченного расщеплением или разделен-
-71 -
пого в своей свободе, субъекта, считающего себя свободным, но
в то же время исключенного из этой самой свободы. Здесь Кант
вводит «положение о депсихологизации» или «постулат детер-
минизма». Таким образом, этот ход подводит субъекта к изна-
чально невозможному выбору: субъект вынужден столкнуться
с собой как с простым объектом воли Другого, инструментом
в руках механической или психологической причинности. И в
этот момент Кант выступает со своим вторым жестом, который
касается выбора Gesinnung. Этот жест открывает измерение
субъекта свободы. Субъект свободы действительно является
эффектом Другого, но не в том смысле, что он является эф-
фектом некой причины, наличествующей в Другом. Напротив,
субъект является эффектом того, что существует причина, ко-
торая никогда не будет обнаружена в Другом; он является эф-
фектом отсутствия этой причины, эффектом нехватки в другом.
Теперь мы можем ответить на вопрос, оставшийся открытым в
конце Главы 1: каким образом можно понять тот факт, что дви-
жущая сила, мотив этического является в то же время его ре-
зультатом; каким образом возможно то, что свобода выступает
в качестве предпосылки свободы, а автономия — предпосыл-
ки автономии? Это круговое движение по существу связано со
статусом и характером субъекта. Без субьекта не может быть
свободы, но само возникновение субъекта уже является резуль-
татом свободного поступка. «Круговая» логика практического
разума должна рассматриваться в связке со структурой субтшк-
тивности.
3
Ложь
дин из самых спорных моментов практической филосо-
фии Канта, без всякого сомнения, воплощается в фор-
муле «право на ложь». 11озиция Канта по этому вопросу
представляется, строго говоря, «бесчеловечной». Особенно ин-
тригующим является здесь то, что этот момент затрагивает са-
мую сердцевину его этики.
Кант и «право на ложь»
В своем трактате Des Reactions polttiques (1797) Бенжамен
Констан писал:
• Нравственное правило, будто говорить правду есть naui
долг если его взять безусловно и изолированно, — сде-
лало бы невозможным любое общество. Доказательство
этого мы имеем в тех непосредственных выводах из это-
го положения, которые сделал один немецкий философ;
он дотлел до того, что утверждает, будто солгать в ответ
-73-
на вопрос злоумышленника, не скрылся ли в нашем ломе
преследуемый им наш друг, — было бы преступлением»7*.
Текст Констана был переведен на немецкий язык профес-
сором Ф. Крамером, жившим в Париже. В немецком переводе
отрывок, где Констан говорит о «немецком философе», сопро-
вождается сноской, в которой переводчик утверждает, что Кон-
стан поведал ему, будто Кант и есть тот самый «немецкий фи-
лософ», которого он имел в виду. Что особенно интересно, так
это то, что в опубликованных трудах Капаа нет упоминания о
примере, на который ссылается Констан. Несмотря на это, Кант
немедленно ответил на немецкую публикацию сочинения Кон-
стана своей статьей «О мнимом праве лгать из-за человеколю-
бия». Процитировав Констана (отрывок выше), Кант добавляет
сноску, в которой признает, что высказывал то, на что ссылается
Констан, но не помнит, где. Все это довольно забавно, поскольку
Кант признает то, что он — по крайней мере, в этих конкретных
словах — никогда не писал. Разумеется, это становится несуще-
ственным в тот момент, когда Канг принимает эту позицию как
свою собственную и пытается ее защитить. Он утверждает, что
даже в данном конкретном случае было бы неправильно лгать.
Если нет другого выхода, мы должны сказать правду убийце, ко-
торый преследует нашего друга.
Наверное, нет необходимости говорить о том, что позиция
Канта в данном случае не встретила одобрения со стороны его
критиков. Напротив, она по-прежнему остается самой «пре-
зираемой» частью его философии. Среди тех, кто относит ее к
области этического, она очевидным образом является объектом
отвращения и отвержения. Герберт Дж. Патон, например, рас-
сматривает «это ошибочное сочинение» как «демонстрирующее
п Ци1. no: Kant И. О мнимом праве лгать из человеколюбия. Перевод
Н. Вальденберг И Кант И. Собрание сочинений в восьми томах, том 8. М.:
«Чоро», 1994. С. 256.
-74-
то, как старик [Канту было семьдесят три года, когда он написал
сю|... может привести свое центральное убеждение к неоправ-
данным крайностям под влиянием своего раннего воспитания
|то есть под воздействием матери Канта, которая якобы жесто-
ко осуждала ложь]»79. Патон предлагает нам отвергнуть это со-
чинение как «временное помрачение», которое никак не влияет
на основные принципы кантовской этики.
Разумеется, предпринимались определенные попытки спа-
сти Канта, сместив этот вопрос с моральной на политическую
философию и па философию права"0. Подобное прочтение име-
ет под собой основания. Действительно, Кант говорит в сноске:
•Здесь я не могу довести свое положение до такой остроты, что
бы сказать: “Неправдивость есть нарушение долга по отноше-
нию к самому себе". Ибо это относится уже к этике; а здесь речь
идет о правовом долге [Rcchtspflicht]»*1. Однако мы не должны
забывать, во-первых, что ответ Канта ничем не отличался бы и в
гом случае, если бы он рассматривал этот вопрос как этический;
и, во-вторых, что в своих рассуждениях сам Кант часто выходит
далеко за рамки чисто юридического или правового основания
и переходит в воды этического. Мы позволим себе утверждать,
что эта двусмысленность берет свое начало в самом сочинении
Констана, которое начинается с вопроса о некоем «нравствен-
ном правиле», а затем развивает аргументацию с точки зрения
юридических прав и обязанностей. Кант действительно вступа-
ет в дискуссию на этом уровне, по при этом вопрос о нравствен-
ном правиле всегда маячит на заднем плане. Опять же, следует
Paton Н. J. Ал Alleged Right Io Lie: A Problem in Kantian Ethics // Gasman G.
and Oberer H. (eds). Kant und das Rechl der Luge. Wurzburg: Konigshausen &
Neuman, i486. P. 59.
Boituzat E Un droit de mentis? Constant ou Kant (Paris: PUF, 1993); Wagner H.
Kant gcgcn "cin vermeintes Hecht, uus Menschenlicbe zu I ugen~/1 Geismann and
Oberer (eds). Kant und das Recht der Liige.
Канг И О мнимом праве лип, из человеколюбия. С. 257.
-75-
подчеркнуть, что наибольшее негодование и беспокойство било
вызвано в первую очередь этической стороной примера, вме-
ненного Констаном Канту. Именно поэтому попытки «спасти»
Канта, сместив вопрос с нравственной на политико-правовую
философию, весьма проблематичны. Подобное прочтение пред-
полагает — по крайней мере, косвенно, — что Кант ответил бы
совершенно по другому, если бы рассматривал данную пробле-
му как этическую. Другими словами, такое прочтение не снима-
ет проблему и беспокойство, порожденные позицией Канта; оно
просто обходит их стороной, переключая наше внимание на что-
то другое. Как бы то ни было, мы рассмотрим обе стороны этих
рассуждений, и правовую, и этическую. Как мы попытаемся по-
казать, обращение Канта к правовому аспекту неубедительно, в
то время как наименьшее, что мы можем сказать об этическом
аспекте полемики, заключается в том, что Кант остается верным
основным принципам своей нравственной философии.
Если мы начнем сравнивать восьмую главу текста Констана,
Des prindpes, с ответом Канта, у нас сложится впечатление, что
оба автора воюют с воображаемыми противниками. По сути
дела, главным адресатом критики Констана является вовсе не
Кант, а те, кто хотел бы отвергнуть принципы во имя «здраво-
го смысла», который для Констана означает то же самое, что и
«предрассудок». Текст Констана следует рассматривать в кон-
тексте Французской революции и связи между принципами
1789 года и их разрушительными последствиями в 1793 году.
Его отправной точкой является го, что в то время считалось
крайним противоречием между принципами революции и их
применением на практике. Это разногласие породило народ-
ное восстание против принципов: высокие принципы были
признаны ответственными за все зло Террора; или, если сфор-
мулировать этуанозицию иначе, они были хороши в теории, по
не имели никакой практической ценности. Констан предлагает
линию защиты этих принципов и, по его словам, стремится к
-76-
их «реабилитации». 'Го, как он справляется с этой задачей, за-
частую пересекается с собственной аргументацией Канта, раз-
работанной в тексте 1793 года «О поговорке “Может быть, это
и верно в теории, но не годится для практики”». Он утвержда-
ет, что если принцип плох, то вовсе не потому, что он слишком
теоретичен, а как раз потому, что он недостаточно теоретичен.
По этой причине Констан вводит понятие «среднего принципа»,
который позволил бы более точно применять общие принципы
к конкретным случаям. По словам Константа, Кан гу не хватает
именно такого принципа.
В случае убийцы, преследующего нашего друга, средний
принцип должен быть выведен следующим образом:
«Есть долг говорить правду. Понятие долга неотделимо от
понятия права. Долг г-сть то, что у каждого отдельного че-
ловека соответствует правам другого. 1ам, где нет права,
нет и долга. Таким образом, говорить правду есть долг, но
только в отношении того, кто имеет право на правду. Но
никто не имеет права на правду, которая вредит другим»*1.
Это также подытоживает основной аргумент Констана, вы-
двинутый им против Канта (или «немецкого философа»), для
которого моральные принципы имеют «абсолютную» ценность.
Констан утверждает, что именно такой «абсолютизм» отвра-
тил всеобщее мнение от принципов как таковых. Прежде чем
рассматривать ответ Каша, мы должны подчеркнуть, что Капт
принимает вызов Констана в его самой строгой форме. То есть
он принимает предположение, что мы можем ответить убийце,
преследующему нашего друга, только «да» или «нет», и что мы
не можем просто отказа) вся отвечать на вопрос. В этих обстоя-
тельствах, говорит Кант, наш долг — говорить правду.
11и I. ио: Кап । И. О мнимом праве лгать из человеколюбия. С. 256 (перевод
изменен).
-77-
Первый вопрос, который здесь возникает: насколько во-
обще правдивость и лживость могут быть отнесены к право-
вым концепциям? Несмотря на то, что вина за инициирование
этой путаницы может быть возложена на Констана, Кант, как
кажется, делает все возможное, чтобы сохранить ее. Несмотря
на его решение относиться к паре понятий «правдивость» и
«лживость» в правовом контексте, аргументация его постоян-
но отклоняется в других направлениях — иногда в направлении
этических вопросов (например, когда он говорит, что обязан-
ность говорить правду — это «священный и безоговорочно
главенствующий закон разума»): иногда в сторону более «фи-
лософской» сферы, в смысле озабоченности не столько самим
правом, сколько некой философией права. Возможно, что в
теории Канта эти два термина связаны более или менее нераз-
рывно, но все же полезно настаивать на различии между нравом
как существующей практикой, учрежденной, в частности, госу-
дарственными аппаратами, и философией права, которая имеет
отношение к основаниям и возможностям права. На самом деле
именно это различие лежит в основе некоторых утверждений,
которые Канг вынужден добавить к своей аргументации, на-
пример: «определение лжи ... не нуждается в дополнительной
мысли, будто ложь должна еще непременно вредить другому,
как этого требуют юристы для полного ее определения»*’.
Кант не согласен с доводами Констана в двух моментах.
Первый касается самой концепции лжи и вытекающей из нее
связи между причиной и следствием. В первую очередь Кант
подчеркивает, что правда не зависит от воли. Иными словами,
мы должны проводить различие между правдивостью (намере-
нием, волей сказать правду) и истинностью (или ложностью)
высказывания. В первом случае речь идет о согласованности
между нашими высказываниями и нашими убеждениями, в
*’ Там же.
-78-
го время как но втором случае акцепт делается на взаимосвязи
между нашими высказываниями и «фактами», к которым они
отсылают. То же самое касается и лжи. Чтобы проиллюстриро-
вать это различие, Кант слегка дорабатывает пример Констана.
В версии Канта может случиться так, что я лгу, говоря, что пред-
полагаемой жертвы нет дома, но из-за того, что эта самая жерт-
ва на деле (хотя и без моего ведома) ускользнула через окно, сна-
ружи ее встречает убийца и убивает.
Эта версия сценария показывает, что лжец может оши-
баться насчет истины. Если мы хотим обмануть другого, одно-
го намерения недостаточно. Иными словами — именно к этому
и клонит Кант, — нет неизбежной связи между моим ответом
на вопрос убийцы и его последующими действиями. Таким об-
разом, если я скажу правду, я нс могу нести ответе гвенность за
смерть моего друга. Это не только потому, что я не могу знать
с абсолютной уверенностью, где мой друг находится в момент,
когда я говорю, но и потому, что у меня нет возможности узнать,
как убийца примет мой ответ «да» или «нет», поверит он мне
или же предположит, что я собираюсь защищать своего друга
ложью. Еще раз: нет никакой неизбежной связи между моим
ответом и действием убийцы; я могу в конечном итоге выдать
местонахождение моего друга, даже если моим лучшим намере-
нием будет сохранить его в тайне.
Если рассматривать только логическую сторону дела, то
Кант, конечно, прав. Но проблема в том, что закон практически
всегда имеет дело со случаями, в которых связь между причи-
ной и следствием не является неизбежной, потому что событие
X становится неизбежным только тогда, когда оно действитель-
но произошло; до последнего момента всегда есть вероятность
того, что оно не произойдет. Именно поэтому закон может обо-
снованно использовать понятия большей и меньшей вероятно-
сти. Так что можно сказать, что с точки зрения правового под-
хода к вопросу аргумент Канта ггс очень убедителен.
-79-
Однако у Канта есть еще один аргумент против Констана,
относящийся к его философии права. Согласно кантовской кон-
цепции права [Rec/й], истина (и ложь) затрагивает сами основы
права и общества как такового, поскольку легальность и вер-
ховенство права основаны на договоре. Но такое понятие как
договор невозможно без некоторой фундаментальной правди-
вости. Договор имеет смысл только в том случае, если партнеры,
участвующие в нем, воспринимают его серьезно. Договор — в
данном случае «общественный договор» — это и есть то, что
дает нам возможность пользоваться некоторой минимальной
безопасностью, а значит, и «цивилизованной жизнью», поэтому
он служит основой для всех остальных обязанностей и закон-
ных прав. Именно благодаря этой точке зрения вопросы прав-
дивости и лживости Имеют, по мнению Канта, такой вес в соци-
оюридическом контексте: они касаются самих основ общества
и права. Следовательно, ложь выходит за узкие рамки, навязан-
ные ей позитивными правовыми соображениями. С точки зре-
ния последних, ложь становится юридически значимой только
в том случае, если ее последствия наносят вред другому лицу и
если этот вред можно установить. Вот почему Кан г считает не-
обходимым добавить:
•Таким образом, определение лжи, как умышленно невер-
ного свидетельства против другого человека, не нуждается
в дополнительной мысли, будто ложь должна еше непре-
менно вредить другому, как этого требуют юристы... Ложь
всегда вредна кому-нибудь, если не отдельному липу, то
человечеству вообще, ибо она делает неприменимым са-
мый источник права |Kechtsque/le| »•*.
Именно на это и обращают внимание комментаторы, за-
щищающие Канта в этом вопросе. Например, Юлиус Эббингаус
говорит: «В тгГвремя как максима убийцы уничтожает закон-
Там же. С. 258.
-80-
•Iум» безопасность жизни, максима лжеца идет гораздо дальше,
ибо она /пинает любую возможную безопасность — будь то без-
опасность жизни или чего-то еще — характера законного тре-
бования, т. е. права»"'1. Иными словами, если убийца нарушает
конкретный закон, то лжец делает закон как таковой невоз-
можным, поскольку он уничтожает основу любого договора, а
следовательно, и самого общества. Однако, как бы внятно это
толкование (с его взыванием к кантовской концептуализации
общественного договора) ни объясняло позицию Канта, оно ни
и коей мере не делает ее более убедительной. Попросту говоря:
право существует именно для того, чтобы нам не приходилось
полагаться иа правдивость других. Очень легко подписать до-
говор, не имея ни малейшего намерения соблюдать его. Чисто
символический жест подписания договора и есть то, что при-
вязывает нас к нему, а отнюдь не наше подлинное убеждение
соблюдать его. То есть нарушение договоров влечет за собой
правовые санкции. Общее обоснование закона (и сопутствую-
щих ему прав) и состоит в том, чтобы обеспечить договорам бо-
ice прочное основание, чем простая правдивость других. Ложь
нала бы предельным преступлением только в том случае, если
бы реальные социальные отношения были основаны на прав-
дивости других. Однако, учитывая существование закона, ложь
является лишь одной из многих возможностей нарушать право-
вые нормы, а вовсе не тем, что может подорвать саму возмож-
ность права и, следовательно, иметь гораздо более пагубные по-
следствия, чем убийство.
Третий — и самый сильный — аргумент, который Кант вы-
двигает пролив Констана, еще предстоит рассмотреть. Лучше
всего этот аргумент изложен в следующих трех отрывках: * II
Ebbingluus). Kant's Ableitung des Verboles der Luge aus dent Rethle der Menseheit
II Gcisinann and Obcrer (eds). Kant and das Recht der Liige. P. 79.
-81 -
t
«...правдивость есть долг, который надо расемагрин.пь
как основание всех опирающихся на договор обязанно-
стей, и стоит только допустить малейшее ж ключение в
исполнении этого закона, чтобы он стал шатким и беспо-
лезным»*’.
«Тот, кто ... попросит позволения сначала подумать о
возможных исключениях, тот уже лжей (in /wtentia), ибо
он этим пока тывает, что он не признает, что правдивость
сама по себе егть долг, но оставляет за собой право на ис-
ключения из такого правила, которое по самому существу
своему не допускает никаких исключении, потому что ис-
ключениями-то как раз оно себе и противоречит
«Все практически правовые основоположения должны за-
ключать в себе строгие истины, а те, котсциие здесь на-
званы посредствующими, мотут содержать в себе только
ближайшее определение приложения этих истин к пред-
ставляющимся случаям (по нормам политики), а никак не
исключения из них, ибо исключения уничтожили бы тот
характер всеобщности, ради которого только эти ис тины и
получили название основоположении »“’.
Мы можем увидеть в этих отрывках, что Кант вводит в свою
аргументацию новый элемент: вопрос об исключении.
Поскольку все эти отрывки содержат ответ на концепцию
среднего принципа Констана, вспомним еще раз аргументацию
самого Констана:
«Есть долг говорить правду. Понятие долга неотделимо от
понятия права. Долг есть то, что у каждого отдельного че-
ловека соответствует правам другого. Там, где нет права,
нет и долга. Таким образом, говорить правду есть долг, но
только в отношении того, кто имеет право на правду. Но
никто не имеет права на правду, которая вредит другим».
“ Кат И. О мнимом нраве лгать из человеколюбия. С. 258-259.
” Там же. С. 261 -262.
“ Гам же. С. 262.
Этот отрывок можно прочитать двумя различными спосо-
бами. Как станет ясно через мгновение, первый из них, избран-
ный Кантом, почти не имеет под собой основания в тексте Кон-
стана. Кант считает, что рассуждение Констана — это попытка
сделать правило (принцип) из самою исключения из правил. По
мнению Канта, концепция среднего принципа Констана под-
разумевает, что нарушение нормы может (при определенных
обстоятельствах) само по себе стать нормой, что сделает само
понятие нарушения долга абсурдным, поскольку в этом случае
такое нарушение должно рассматриваться как продиктованное
самим долгом. Кант, однако, не единственный, кто прочитывает
Констана таким образом. Патон, например, в своем коммента-
рии к полемике Канта-Констана постоянно говорит об исклю-
чениях из правил и категорического императива.
Если бы Констан на самом деле занимал такую позицию,
то у Канта были бы все основания нападать на нее. Фактически
можно показать, что Кант вменяет Констану то, чего последний
вовсе и не утверждает, и что он, таким образом, бьется с тенью.
Однако, несмотря на это, аргумент Канта остается совершенно
верным сам по себе. Он заслуживает рассмотрения, в частности
потому, что критики Канта часто защищали Констана от Канта
именно этим Констаном (тем, который, как считалось, пропо-
ведовал исключения из правил).
И действительно, если бы средний принцип Констана пред-
усматривал исключения из общих принципов, концепция прин-
ципа как такового была бы лишена всякого смысла. Нарушение
закона никогда, какими бы исключительными ни были обсто-
ятельства, не может стать правилом или принципом, а именно
это и произошло бы, если бы мы сформулировали исключение
из правила в терминах «среднего принципа». Мы уже указыва-
ли на то, что с момента возникновения закона ложь не может
считаться величайшим преступлением, подрывающим саму
возможность закона, а должна рассматриваться всего лишь как
-83-
одно из нарушений среди прочих. Однако величайшим престу-
плением было бы ратифицировать ложь, сформулировать что-
то вроде «права на ложь». Величайшим преступлением было бы
включение в закон положения о том, что при определенных об-
стоятельствах он может быть нарушен. 11а самом деле существу-
ет важное различие между этими двумя утверждениями:
1. При определенных обстоятельствах допускается нарушение
закона.
2. Бывают случаи, когда закон не вступает в силу (следова-
тельно, в этих случаях он не может быть нарушен).
Если это пока не совем ясно, то все может проясниться, если
мы примем во внимание другое возможное прочтение аргумен-
та Констана.
11режде всего, следует подчеркну гь, что Констан никогда не
использует понятие «исключение» и никогда не говорит об «ис-
ключениях из правил» или «праве на ложь». Он не говорит, что
н данном конкретном случае (когда убийца преследует нашего
друга) мы имеем право нарушить общую норму, которая тре-
бует, чтобы мы говорили правду. Напротив, он утверждает, что
если мы лжем в такой ситуации, то фактически мы не идем про-
тив какой-либо (юридической) нормы или обязанности. («Там,
где нет прав, нет и обязанностей».)
Для того, чтобы понять суть аргумента Констана, было бы
неплохо вкратце рассмотреть правовой статус так называемого
«случая необходимости». Он часто описывается как логический
и юридический парадокс, поскольку влечет за собой своего рода
«легитимное» нарушение закона. Скажем, я убиваю кого-то в
порядке самообороны: если мы описываем это как «наруше-
ние, разрешенное (или даже предписанное) законом», то у нас
получается парадокс. Парадокс, однако, исчезает в тот момент,
когда мы понимаем, что случай необходимости не является «ин-
станцией закона». Иными слонами, в этом случае судья объявил
-84-
бы, что никакой закон не был нарушен, а вовсе нс то, что я был
легально оправдан в нарушении закона. Именно это и подразу-
мевает Констан. Констан не говорит (как утверждают и Кант, и
многие другие), что нарушение убийцей закона узаконивает мое
собственное нарушение закона (в данном случае, мою ложь);
вместо этого он пытается показать, что в этом случае вообще
нет никакого нарушения закона.
Таким образом, мы можем завершить эту дискуссию о юри-
дическом аспекте лжи, признавая за аргументами Констана го-
раздо большую убедительность, чем допускает Канг. По резуль-
татам спора можно даже сказать, что Кант сам «попирает» один
из основополагающих принципов своей практической филосо-
фии, принцип, обязывающий нас отличать этическую сферу от
правовой. Это различие, однако, должно быть сохранено, если
мы хотим достичь точки, в которой настойчивое требование
Канта о безусловном характере долга обретает ценность, при-
надлежащую ему по праву.
Безусловный
Мы уже подчеркивали, что именно этический аспект текста
Канта о лжи вызвал наибольшее негодование и беспокойство у
его критиков. Этическая проблема — если выйти за рамки, навя-
занные примером Констана, и сформулировать ее в более общем
виде как структурную проблему — может быть сформулирова-
на следующим образом: может ли «человечность» — или, точнее,
любовь к ближнему — оправдать нас в том, чтобы делать исклю-
чение из морального закона (при условии, что между ними су-
ществует конфликт)? Принимая во внимание фундаментальные
принципы кантовской этики, нс требуется долго размышлять,
ч гобы ответить на этот вопрос. Есть только одно моральное бла-
го, определяемое как поступок, совершенный в соответствии с
долгом и строго во имя долга. Если мой поступок соответствует
-35-
долгу, и если он, в то же время, совершается только во имя долга
(что в обсуждаемом случае означает, что и говорю убийце правду
вовсе не из страха), то это этический поступок. Несмотря на это,
однако, позиция Канта по данному вопросу остается неоднознач-
ной и в «Обосновании метафизики морали», и в «Критике прак-
тического разума», особенно из-за примеров, которые он выби-
рает для того, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения.
В «Этике психоанализа» Лакан обращает внимание на эту
неоднозначность. В конце главы «Любовь к ближнему» он об-
ращается к знаменитому примеру, который Кант приводит во
второй «Критике»: к «притче о виселице». Притча следующая:
• Предположим, что кто-то утверждает о своей сладо-
страстном склонности, будто она, если этому человеку
ы тречается любимый предмет и подходящий случай для
этого, совершенно гтепреололима для него; но если бы
поставить виселицу перед домом, |де ему представляется
этот случаи, чтобы тотчас же повесить его после удовле
творения его похоти, разве он и тогда не преодолел бы
г воен склонности? Не надо долго гадать, какой бы он дал
ответ. Но спрос ите его, если бы ею государь под угро-
зой немедленной казни через повешение заставил его дать
ложное показание против честного человека, которого
тот под вымышленными предлогами охотно погубил бы,
считал бы он и тогда возможным, как бы ни была велика
его любовь к жизни, преодолеть эту склоннос ть? Сделал ли
бы он это или нет этого он, быть может, сам не осмелил-
ся бы утверждать; гю он должен согласиться, не раздумы-
вая, что это для него возможно. Следовательно, он сулит
о том, что он может сделать нечто, именно потому, что он
сознает, что он должен это...»""
Давайте пока отложим в сторону первую часть згой притчи
и сосредоточимся на второй, которая призвана проиллюстри-
ровать то, как моральный закон навязывает себя чсловечсско-
Кант И. Критика практического разума И Кант И. Сочинения в шести то-
мах. Том 4 часть I. М.: «Мысль», 1965. С. 346-347,
-86-
му субъекту, даже если для этого потребуется высшая жертва.
Что не так с аргументацией Канта в этой части? Лакан замечает:
«Ведь посягнуть на благо, жизнь и честь другого значило бы ной -
ти против всеобщего правила, повергнув тем самым весь мир че-
ловека в хаос, отдав его во власть зла»* *1. Мы не должны упускать
из виду иронию, скрытую в этом замечании. Лакан критикует
Канта за введение совершенно патологического мотива, скры-
того за фасадом чистого морального долга. Другими словами,
Лакан критикует Канта за жульничество («Кант, милый Кант со
свойственным ему невинным плутовством»91 )• Кант вводит сво-
их читателей в заблуждение, маскируя истинные ставки и истин-
ный результат этого (этического) выбора. В своем примере он
ставит категорический императив (наш долг) на одну сторону с
благом (благополучием) нашего ближнего. В результате читатель
скорее всего без особых колебаний последует за Кантом, когда
гот утверждает, что в этом случае идея принятия собственной
смерти, по меньшей мере, возможна. Проблема заключается в
гом, что читатель следует за Кан гом не потому, что он убежден
в неумолимости долга как такового, а потому, что противовесом
здесь служит образ боли, причиненной другому. Примеру Кан-
та суждено произвести й нас «определенный эффект a fortiori»
(Лакан), в результате которого мы обманываемся относитель-
но того, что действительно стоит на кону при данном выборе.
Иными словами, читатель согласится с Кантом, если можно так
выразиться, по «непринципиальным причинам»; он согласится с
Кангом на основании суждения a fortiori: не потому, что он убе-
жден в априорной ценности морального закона, а основываясь
на «более веской причине». Мы принимаем аргументацию Кан-
та, потому что мы руководствуемся определенным представле-
нием о благе, по отношению к которому мы и устанавливаем наш
’ Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Киша VII (1959-60)).С. 24-1.
* Гам же.
-87-
долг, — это и есть гетерономия в строгом кантонском смысле
этого слова. Если мы принимаем во внимание, что важнейшее
нововведение кантовской этики (точка «коперниканской рево-
люции» в этике) заключается в изменении иерархии между по
нятием блага и моральным законом, то самое меньшее, что мы
можем сказать об обсуждаемых примерах, — эго то, что они за-
темняют этот важнейший момент.
Вот почему Лакан предлагает немного изменить пример, что-
бы прояснить реальную проблему. Что, если я окажусь в ситуа-
ции, когда мой долг и блат другого находятся на противополож-
ных сторонах, когда я могу исполнить свой долг только в ущерб
своему ближнему? Остановлюсь ли я перед злом, перед болью, ко-
торую мои действия причинят другим, или я буду придерживать-
ся своего долга, несмотря на последствия? Только в таком случае
мы сможем попять, идет ли речь о посягательстве на права друго-
го, являющегося моим подобием [зетЫаЫе], моим «ближним», или
же это, скорее, вопрос лжесвидетельствования как такового. Сле-
довательно, Лакан предлагает нам рассмотреть случай истинного
свидетеля, случай, касающийся совести, когда, например, меня
призывают обличить моего соседа или брата в деятельности, на-
носящей ущерб государственной безопасности. Лакан следующим
образом комментирует, что поставлено на каргу в этом случае:
«Следует ли мне руководиться долгом говорить истину,
пос кольку именно он. долг этот, сохраняет истинное место
моего наслаждения, нес мотря на то, что место это остает-
ся пустым? Или следует мне все же пойти на обман, кото-
рый вынули) меня, подменив так или иначе принцип моего
наслаждения благом, служить и вашим, и нашим.
Действительно, именно в выборе между этими вариантами
наиболее четко формулируется ключевой вопрос кантовской
” Гам же. С. 246-247.
-88-
•тики. Если моральный закон исключает какой либо предвари*
ильный анализ блага, то ясно, какова позиция этой этики но
отношению к вышеуказанным вариантам. Как только благо вы-
ходит на сцену, обязательно возникает вопрос: Чье благо? Вот
что Лакан имеет в виду под «служить и вашим, и нашим»: если
и не предам брата или соседа, я могу предать других своих соот-
ечественников. Кто решает, чье благо более весомо? Это фунда-
ментальный тупик любой этики, основанной на понятии блага,
будь оно «индивидуальным» или «общинным». Проект кантов-
ской этики как раз и заключается в том, чтобы найти выход из
этого тупика, и именно поэтому это не просто разновидность
«традиционной этики», но бесповоротный шаг к чему-то друго-
му. Однако, как мы видели, Лакан критикует Канта за то, что тот
недостаточно четко сформулировал эту мысль: Канту, похоже,
трудно принять некоторые из последствий своего собственного
центрального теоретического положения. Поэтому Лакан ста-
вит перед ним вопрос: следует ли мне руководствоваться дол-
гом говорить истину, поскольку именно он, долг этот, сохраняет
истинное место моего наслаждения, несмотря на то, что место
это остается пустым? Или мне следует все же пойти на обман,
который вынудит меня, подменив гак или иначе принцип моего
наслаждения благом, служить и вашим, и нашим?
Что самое поразительное в этом «трансисторическом» спо-
ре между Лаканом и Кантом, так это то, что Кант фактически
отвечает Лакану: отвечая Бенджамену Констану (в «О мнимом
нраве лгать из человеколюбия»), он фактически отвечает Лака
ну, причем гораздо более удовлетворительным образом.
Поэтому нам остается сказать несколько слов о важности
настойчивости Канта в отношении безусловного характера дол-
га. Патология субъекта (его интересы, склонности и благопо-
лучие) не позволяет ему действовать строго этически. Оконча-
тельный предел патологии субъекта, однако, следует искать не
в нем самом, а в Другом. Когда субъект, так сказать, уже заклю-
-89
чип свои интересы в скобки, по-прежнему остается еще одно
препятствие для выполнения своего долга — благо ближнего.
Если я окалываюсь в ситуации, когда с одной стороны есть мой
долг, а с другой — благо моего ближнего, то последнее может
стать препятствием для выполнения моего долга. Если я не могу
выполнить свой долг, кроме как в ущерб другим, я могу сказать
себе, что у меня пет другого выбора, кроме как «изменить свое-
му долгу» и пожалеть своего соседа. И утверждение «у меня нет
выбора», хотя и по-прежнему противоречит свободе и этике,
кажется здесь морально оправданным. Именно это и консти-
туирует, по Канту, фундаментальную, первичную ложь, proton
pseudos. Фундаментальная ложь состоит как раз в том, чтобы
сказать себе, что выбора не было, что сила обстоятельств тако-
ва, что иначе нельзя было бы поступить. Если речь идет дей-
ствительно о лжи — если мы действительно имеем дело с «изме-
ной своему долгу», — без последствий это никогда не остается.
Вина и чувство вины остаются, даже несмотря на то, что причи-
ной «уступки» было благо. Именно в этом моменте этика Канта
встречается с лакановской «этикой желания»”.
” См. следующий отрывок из «Этики психоанализа» Лакана:
«То. в чем субъект действительно чувствует себя виновным, когда о сво-
ей вине заявляет, коренится в конечном инне, независимо от того, что ею
духовник на этот счет думает, в поступатсльствс своим желанием, будем
рассуждать дальше. Субъект часто поступался своим желанием по благим,
наилучшим побуждениям. Это нас гоже нимало не должно удивлять. С тех
пор, как понятие вины существует, было достаточно времени убедиться в
том, что вопрос о благом побуждении, о добром намерении, заняв в исто-
рическом опыте немаловажное место ... никакого заметного продвижения
нс принес. Вопрос, на горизонте, неизменно воспроизводится в прежнем
виде. Нот почему христиане, соблкщэиицисобычные правила христианско-
го общежит ия. »окогда не чувствуют себя спокойно. Ведь если вещи следует
делан, во благо. го на практике всегда возникает вопрос: во чье именно? Л
если таким вопросом задаться, дальнейшее становится новее не очевидно»
(Лакан Ж. (Этика психоанализа (Семинары: Кинта VII (1959-60)). С. 406).
-90-
Одна из главных причин непреодолимости патологиче-
ского, таким образом, заключается в том, что конечная точ-
ка патологии субъекта «обитает» в Другом, и, следовательно,
«успешный» поступок никогда не обходится без последствий
для Другого. И следует отмети ть, что это проблема любой эти-
ки, а не только этики Канта. Важнейший вопрос заключается
в том, осознаем ли мы эту «экстимную» и по существу пустую
точку нашего бытия, или пытаемся скрыть ее за фасадом Блага,
большего, чем благо тех, на кого влияют наши поступки. Этика,
отождествляющая долг с благом ближнего, не может избежать
этой проблемы. На самом деле опа удваивает эту проблему, по-
скольку сталкивается сразу с двумя вопросами: (I) Является ли
то, что мы считаем благом для другого, также таковым по его/
ее собственному мнению, или мы пытаемся навязать другому
наше представление о его/ее благе? (2) О чьем благе мы гово-
рим, ибо возможно придется учитывать интересы нескольких
разных «ближних»?
Следовательно, в данном конкретном случае, «приписан-
ном» Канту Констаном, можно было бы задаться вопросом о
том, действительно ли — в соответствии с принципами кантов-
ской этики — человек обязан сказать (потенциальному) убийце
правду. Этот вопрос возникает, в частности, из-за «надуманно-
сти» примера: непонятно, почему субъект не мог просто отве-
тить убийце: «я отказываюсь говорить». Другой пример может
лучше выразить этическую проблему, о которой идет здесь речь;
также он позволит нам наметить структуру «этики желания».
Это пример, который Лакан приводит в своем семинаре «Этика
психоанализа»: Антигона. Антигона не останавливается пи пе-
ред чем, чтобы осуществить свое намерение похоронить своего
брата Полиника. В своем упорстве она не руководствуется ни-
каким «благом»; ни своим собственным (единственное ожида-
ющее ее «благо» — это погребение заживо), ни общественным
благом, представленным Креонтом (последствием поступка
-9! -
Антигоны является крушение общества, падение царства). Ее
отправной точкой является безусловное «должно»: Полиник
должен быть похоронен.
В любой момент пьесы Антигона могла остановиться и
спросить себя: «Действительно ли оно того стоит? Стоит ли
настаивать на этом, учитывая обстоятельства?». Разумеется, в
этом случае нс было бы никакой «Антигоны». Безусловно, всег-
да найдется кто-то, кто будет отстаивать точку зрения, согласно
которой Антигона поступила бы еще более этично, если бы от-
казалась от своего стремления похоронить брата и спасла цар-
ство. Однако такого рода этика не вписывается ни в перспекти-
ву, открытую Кантом, пи в ту, о которой говорит Лакан, ибо оба
они переучреждают этику в перспективе, далекой от комфорта.
Они располагают этический поступок в измерении, которое нс
является ни измерением закона (в обычном, социоюридическом
смысле этого слова), ни измерением простого нарушения зако-
на (Антигона не активистка, борющаяся за «права человека»,
которые были попраны тираническим государством)91, но суть
измерение реального.
Лову гика де Сада
Однако, если мы принимаем позицию Канта, то вскоре пе-
ред нами встанет еще одна ловушка — «ловушка де Сада». Кан-
товский субъект не может уйти от реального, задействованного
в безусловном долге, прячась за образом своею ближнего, но
«Мы должны отказаться от любых попыток "одомашнить", "приручить"
се [Лнтигону|. от попыток скрыть ее ужасающую странность, «нет умам
ность». нг знающий жалости характер ее образа. 11е следует видеть в ней
кроткую защитницу семьи и домашнего очага, фигуру, вызывающую со-
страдание и предлагающую себя в качестве точки идентификации» (Жи-
же* С. Возвышенный объект идеологии. М.: «Художественный журнал».
1999. С. 60).
-92-
такой субъект не может укрыться и за собственным долгом и
использовать долг как оправдание своих поступков. Как отме-
тил Славой Жижек, будучи этическим субъектом, я нс могу ска-
зать: «Извините, я знаю, что это было неприятно, но я ничего
не мог поделать: моральный закон навязал мне этот поступок н
качестве моего безусловного долга!». Напротив, субъект несет
полную ответственность за то, что он называет своим долгом’5.
Тип дискурса, в котором я использую свой долг для оправда-
ния своих действий, перверсивен в самом строгом смысле этого
слова. В нем субъект приписывает Другому (Долгу или Закону)
прибавочное наслаждение, которое он получает от своих дей-
ствий: «Мне жаль, если мои действия причинили вам боль, но я
сделал только то, что хотел от меня Другой, поэтому, если у вас
есть какие-либо возражения, идите и поговори те с Ним». В этом
с лучае субъект прикрывается законом.
Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим при-
мер, предложенный Эллисоном*6. Допустим, я испытываю
сильную неприязнь к кому либо и завладел некоторой инфор-
мацией, которая, насколько мне известно, причинит ему силь-
ную боль в том случае, если он о ней узнает. Намереваясь при-
чинить ему боль, я решаю сообщить ему то, что узнал, а оправ-
дывая данное действие перед самим собой, я обосновываю его
гем, что он имеет право знать. Соответственно, вместо того,
чтобы признать то, что это жестокий поступок причинения
ненужной боли другому, я представляю его себе (и, возможно,
другим) как заслуживающий похвалы поступок преподнесения
истины. Я мог бы даже убедить себя в том, что это мой священ-
ный долг. Эллисон приводит этот пример н качестве иллюстра-
ции того, что он называет «самообманом», при помощи которо-
2iiek S. Ihe Indivisible Remainder. London and New York: Verso, 1996.1’. 170.
Allison LI. E. Idealism and Freedom. Cambridge: Cambridge University Press.
1996. P. 181.
-93-
го мы можем игнорировать «нравственно значимые факторы»
ситуации. Мы же возьмем этот пример для иллюстрации ко-
е-чего другого: перверсивного подхода, который заключается в
том, что наш долг преподносится в качестве оправдания наших
действий. К тому же здесь мы имеем дело со случаем двойного
«самообмана».
Первый элемент самообмана — тот, на который указывает
Эллисон: мы обманываем себя относительно нашего подлин-
ного намерения, состоящего в том, чтобы причинить боль дру-
гому. Но подобный самообман возможен только на основании
другого, более фундаментального элемента самообмана. Он воз-
можен только постольку, поскольку мы считаем наш долг (его
«содержание») «уже готовым», предсуществующим нашей вов-
леченности в ситуацию. Вот почему было бы невозможно ра-
зоблачить действия этого человека как лицемерные, сказав ему:
«Мы знаем, что твое реальное намерение состояло в том, чтобы
причинить боль другому человеку». В этом случае он просто
продолжал бы лицемерно утверждать, что ему пришлось со-
брать все свои силы, чтобы сказать правду другому, что он сам
сильно страдал, когда причинял боль другому, но не мог этого
избежать, потому что это был его долг... Единственный способ
разоблачить такого лицемера — спросить его: «Л где написано,
что это твой долг — рассказать другому то, что ты знаешь? Что
заставляет тебя думать, что это твой долг? Готов ли ты взять на
себя ответственность за свой долг?».
Согласно фундаментальным принципам кантовской этики,
долг — суть только то, что субъект назначает себе в качестве
своего долга; он нс существует где-то «вне», как, например, де-
сять заповедей. Именно субъект, который что-то делает своим
долгом, и должен за это отвечать. Категорический императив —
это вовсе не т^ст, который позволил бы нам составить список
(пусть даже нс исчерпывающий список) этических поступков,
своего рода «катехизис чистого разума», за которым мы могли
-94-
бы скрывать прибавочное наслаждение, получаемое нами от на-
ших деяний'17.
Сейчас мы можем вернуться к работе Канта «О мнимом
нраве лгать из-за человеколюбия». Теперь становится ясным,
что делает позицию Канта невыносимой: вовсе не то, что мой
долг совсем не обязательно совпадает с благом моего ближнего
(это как раз то, что мы можем признать возможным), а то, что
Кант принимает обязанность говорить правду (в приведенном
выше случае) как уже готовый долг, который прошел, раз и на-
всегда, испытание категорическим императивом, и может таким
образом быть внесен в некий базовый список заповедей, дей-
ствительный для всех будущих поколений. Именно этот жест
позволяет субз.екту занять перверсивную позицию, оправдать
свои действия тем, что они были навязаны ему безусловным
долгом, укрыться за моральным законом и представить себя
«простым инструментом» его Воли. Действительно, Кант за-
ходит очень далеко, утверждая, что субъект, который говорит
убийце правду, не несет ответственности за последствия, а вот
субьект, который говорит ложь, несет полную ответственность
" ( ранни «V с этим отрывком:
«Поэтому неверно воспринимать кантонский категорический MMiicpaiHB
как некий формальный шаблон, применение которого к конкретному слу
чаю освобождает морального субъекта от ответственности за решение: и
не уверен, что совершить поступок X — это мои обязанность. Нет про
блем: я проверяю это, подчиняя его двойному формальному критерию,
подразумеваемому категорическим императивом ...и если поступок X
выдерживает испытание, и узнаю, в чем заключается мой долг... Вся суть
кантовской аргументации прямо противоположна этой автоматической
процедуре проверки: гот <|ыкг, что категорический императив является
пустой формой, означает именно то, чго он нс может дать никаких таран
ий против неправильного понимания вашего долга. Структура категори-
ческого императива тавтологична в гегелевском смысле повторения того
же самого, что восполняет и одновременно возвещает бездну, порождая
невыносимую i ревогу: “твой долг есть... (исполнить свой долг)!"» (Ziick S.
the Indivisible Remainder. P 170).
-95-
за исход ситуации. Следовательно, вместо того, чтобы проиллю-
стрировать то, что долг основан исключительно на самом себе и
что именно это и делает возможной свободу и ответственность
нравственного субъекта, этот пресловутый пример, скорее, де-
монстрирует случай перверта, который за мнимым уважением к
Закону скрывает получаемое от предательства наслаждение.
Однако подчеркнем еще раз, само по себе это не умаляет
ценности другого аспекта данного примера. Вполне возможно,
что кто-то сочтет своим долгом рассказать убийце правду: как
бы парадоксально это ни звучало, это может быть этическим
поступком. Что является недопустимым, так это то, чтобы субъ-
ект утверждал, что этот долг был возложен на него, что он не
мог действовать иначе, что он лишь следовал заповеди Закона.
Это подводит нас к сути отношений между субъектом и За-
коном. Почему недопустимо раз и навсегда свести загадочный
акт высказывания категорического императива к высказыва-
нию (т. е. «Говори правду!»)» низводя Закон до перечня заранее
установленных заповедей? Не просто потому, как мы могли бы
предположить, что в данном случае мы пренебрегаем всеми
специфическими обстоятельствами, которые могут возникнуть
в конкретной ситуации; не просто потому, что один случай ни-
когда не бывает идентичным другому, так что в любой заданной
ситуации нам может встретиться новый фактор, который не-
обходимо учитывать при принятии решения. Ситуация гораз-
до более радикальна: даже если бы было возможно — скажем,
с помощью достаточно мощного компьютера — смоделировать
все возможные ситуации, это все равно не означало бы, что мы
могли бы составить пригодный список этических решений, со-
ответствующих тем или иным ситуациям. Важнейшей пробле-
мой морального Закона является не изменчивость ситуаций, к
которым мы сто применяем, а место или роль субъекта в самом
его конституировании, а значит и в конституировании универ-
сального. Причина, по которой субъект не может быть вычер-
-96-
кнут из структуры этического (через составление перечня дол-
гов, снимающего с субъекта его ответственность и лишающего
его свободы), лежит не в частном, сингулярном или особенном,
j в универсальном. То, что никоим образом не может быть ре-
дуцировано без отмены этики как таковой, — это не красочная
изменчивость каждой конкретной ситуации, а жест, с помо-
щью которого каждый субтлкт посредством своего поступка
утверждает универсальное, совершает определенную операцию
универсализации. Этический субъект не является агентом уни-
версального, он нс действует от имени универсального или с его
разрешения — если бы это было так, субъект стал бы ненуж-
ным, необязательным «элементом» этики. Субъект — не агент
универсального, но его агенс. Это не значит просто, что уни-
версальное всегда субъективно опосредовано, что Закон всегда
«субъективен» (частичен, избирателен или предвзят); это имеет
отношение нс к определению универсального, а, скорее, к опре-
делению субъекта: суть в том, что субъект есть нс что иное, как
именно этот момент универсализации, конституирования или
детерминации Закона. Этический субьект — это не тот субъ-
ект, который привносит весь свой субъективный багаж в ту
или иную (моральную) ситуацию и позволяет ему влиять на ход
событий (формулируя максиму, соответствующую его личным
склонностям), но субъект, который, строго говоря, рождается
из самой этой ситуации, который только из нее и возникает.
Этический субъект — это та точка, в которой универсальное яв-
ляет себя и обретает свою определенность.
-97-
4.
От логики иллюзий к постулатам
«Бушующий океан» иллюзий
алее мы рассмотрим то, что Кант называет трансцен-
дентальными идеями, чтобы вывести из них логику и
принцип действия постулатов чистого практического
разума. Трансцендентальные идеи (которые Кант также называ-
ет entia rationis, эвристическими фикциями, концепциями разу-
ма, регулятивными идеями) относятся к той области мысли, ко-
торая раскрывается во второй части «Критики чистого разума»:
трансцендентальной диалектике. Если в трансцендентальном
анализе мы имели дело с логикой истины, то трансценденталь-
ная диалектика сталкивает пас с логикой иллюзии (оба обозначе-
ния принадлежат Канту). С другой стороны, мы могли бы также
сказать, что эти две части первой «Критики» касаются двух раз-
личных логик цетины. В первом случае истина понимается как
соответствие знания его объекту; во втором истина понимается
как соответствие знания самому себе.
-98-
Другими словами, «логика истины» имеет дело с класси-
ческой теорией истины \adaequatio intcllectus et re/]; тогда как
«логика иллюзии» ближе к лакановской концепции истины, со-
гласно которой истина должна располагаться на уровне арти-
куляции означающих как таковых, а не на уровне взаимосвязи
между означающими («словами») и вещами, просто как нечто
для них внешнее. Именно эта «нехватка внешнего», отсутствие
предела служит причиной того, что истина имеет, как настаи-
вает Лакан, структуру вымысла, структуру фикции, и что она
«пе-вся» |pas-/ou/e|. Но этот вымышленный характер истины
никоим образом не означает, что истина произвольна.
Это справедливо и для трансцендентальных идей. С одной
стороны, разум «свободен» от любой прямой связи с вещами
(объектами опыта); он имеет дело только с понятиями (рас-
судка), составляя их в разные конфигурации и комбинации; с
другой стороны, оказывается, что нет ничего менее свободного,
чем эта «свободная игра» с понятиями. Это является отправ-
ной точкой Канта в трансцендентальной диалектике: поскольку
разум действует независимо от опыта, он, как кажется, спосо-
бен порождать фантазии любого рода. Но в действительности,
если мы рассмотрим историю философии, то обнаружим, что
вместо этого в ней систематически снова и снова производятся
одни и те же идеи: идеи души, мира (как целого) и Бога. Из этого
«вечного возвращения того же самого», из этого «принуждения
к повторению» Кан г делает вывод, что эти идеи должны быть
необходимы. В структуре человеческого разума есть нечто, что
обязательно приводит к этим, именно к этим идеям.
Хотя Кант берет за отправную точку классическую теорию
истины, которая определяет истину как соответствие знания
t коему объекту, очевидно, что кантовская философия, которая
во многом отходит от классической философии, не может удов-
ле твориться подобным определением истины, включающим в
себя докангианскую концепцию оз ношения между субъектом и
-99-
объектом. Объект, которому знания должны соответствовать,
может быть только объектом возможного опыта, а это значит,
что такой объект уже «опосредован» априорными (субъектив-
ными) условиями чувственности. Кроме того, Кант устанавли-
вает в качестве conditio sine qua поп, в качестве «отрицательного
условия» любой истины логический критерий, который он опре-
деляет как соответствие знания общим формальным законам
рассудка и разума. Таким образом, conditio sine qua поп любой
истины является соответствие знания самому себе, а вопрос о
соответствии знания «объекту» возникает лишь позднее.
В том, что Кант называет «формальным критерием исти-
ны», можно увидеть необходимую предпосылку различения ис-
тинного и ложного. То есть то, что мы называем ложным или
неверным, также должно удовлетворять формальному крите-
рию истины, чтобы у нас появилась возможность признать его
ложным. Формальный критерий истины должен быть удов-
летворен, чтобы у нас появилась хотя бы возможность поста-
вить вопрос об истинности или ложности любого возможного
утверждения. Если этого не происходит, то что бы мы ни рас-
сматривали, оно не может даже быть «ложным» — оно может
быть только тем, что Кант называет «Unding», нс-вещью (как,
например, «квадратный круг»).
В этих терминах диалектика или «логика иллюзии» должна
определяться как притязание на то, чтобы прийти посредством
чистой логики к «материальной» истине, истине в обычном
смысле этого слова (соответствия знания вещам). Логика иллю-
зии претендует на то, чтобы вывести из отрицательного условия
истины, которое служит только для установления возможности
или невозможности истины (это не может быть истиной, пото-
му что это логически противоречиво; это может быть истиной,
потому что этд|4е содержит противоречия), его «объективную»
значимость. Иными словами, логика иллюзии побуждает нас
считать что-то истинным потому и только потому, что это не
- 100 -
является логически невозможным. По отношению к аналитике
диалектика, таким образом, определяется через двойную игру
«недостаточного» и «слишком многого». Диалектика (иллюзия)
равна аналитике (истине) минус объект возможного опыта;
диалектика (иллюзия) равна аналитике (истине) плюс объект,
который не может быть обнаружен нигде в опыте. В результате
иллюзия не является противоположностью истины, а должна
быть расположена на другом уровне. Диалектическая иллю-
зия — это то, что появляется там, где на самом деле ничего не
должно быть. Другими словами, эта иллюзия является объек-
том в месте нехватки объекта. Таким образом, мы имеем фор-
мальную логическую структуру (соответствие знания общим
и формальным законам рассудка и разума) там, где есть место
объекту, которого «нет на месте» (который не может быть об-
наружен в опыте). Это значит, что диалектическая иллюзия на
самом деле нс является иллюзией чего-то, это не ложное или
искаженное представление реального объекта. За этой иллюзи-
ей нет реального объекта; есть только ничто, нехватка объекта.
Иллюзия состоит в том, что есть «нечто» на месте «ничто»; об-
ман заключается не в том, что нечто ложно представлено; обман
состоит просто в том, что нечто есть.
Трансцендентальная иллюзия связана не с содержанием
«образа», а с самим его существованием — она обманывает на
уровне бытия. В этом отношении кантовское понятие (транс-
цендентальной) иллюзии очень близко лакановскому понятию
видимости, подобия (lesentblant).
Чтобы наше прочтение кантовской концепции трансцен-
дентальных идей было адекватным, мы должны сделать шаг на-
зад, прежде чем перейти к их рассмотрению, и обратиться не к
началу «Диалектики», а к концу «Аналитики», где Кант развора-
чивает свою знаменитую карту области рассудка и описывает
возвышенный вид, который открывается обитателю этой обла-
сти, когда он смотрит за се пределы:
- 101 -
« Мы теперь не только прошли нт кт область чистого рассуд-
ка и внимательно (>а< смотрели каждую часть ее, но также
измерили се и определили в ней место каждой веши. Но
эта облас ть есть остров, самой природой заключенный
в неизменные границы. Она есть царство истины (пре-
лестное название), окружением' обширным и бушующим
океаном, этим средоточием иллюзий, где туманы и льды,
готовые вот-вот растаять, кажутся новыми странами и, по-
стоянно обманывая пустыми надеждами мореплавателя,
жаждущего открытий, втягивают его в авантюры, от кото-
рых он никогда уже не может отказаться, но которые он
тем не менее никак не может довести до конца»4".
Островок истины в обширном и бушующем океане иллю-
зий: таково описание состояния вещей в конце «Аналитики».
Как только мы нанесли на карту и измерили землю, которая но-
сит пленительное имя истины, земля эта теряет свое очарование
для смелых духом, и они отправляются искать приключений за
ее пределами. Но они не ведают, что навлекают на себя гибель.
Образы, которые Кант использует, чтобы подчеркнуть важ-
ность этого момента «Критики чистого разума», сами по себе
заслуживают рассмотрения. Здесь же мы отметим лишь одно
возможное прочтение, которое вводил различие между прекрас-
ным и возвышенным: различие между миром Природы, где все,
по-видимому, находится на своем месте, где царит гармония,
и хаотичной Природой, полной внезапных и непредвиденных
«вспышек»; между Природой, которая дает нам почувствовать
себя в покое и безопасности (прекрасное), и Природой, кото-
рая уводит нас «по ту сторону принципа удовольствия», играя с
нами, как ветер играет- с песчинкой (возвышенное).
Если мы примем во внимание образ жизни Канта, неизмен-
ный порядок и рутину его повседневных привычек, и прежде
всего тот факт, что он никогда, ни разу, не покидал свой родной
Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения в шести томах. Том
.3. М.: «Мысль», 1964. С. 299-3<И>.
- 102-
Кенигсберг, то мы сможем сказать, во-первых, что он возвысил
верность своей земле (земле истины) до уровня «этики суще-
с гвования»; и, во-вторых, что можно представить себе, насколь-
ко сильным должно было быть охватившее Канта волнение, ког-
да в своем философском путешествии он решил остави гь землю
истины позади и броситься в бурный океан диалектики.
Однако мы увидим, что позже эта кантовская история при-
нимает довольно неожиданный поворот. В сущности, интерес-
но наблюдать, как после столь драматичных заявлений, очаро-
вывающих и вызывающих трепет, наши ожидания по большому
счету не оправдываются. В «Диалектике» не происходит ничего
1 акого уж захватывающего. Вместо хаоса мы сталкиваемся с
«систематическим единством»; вместо «вторжения реального»
мы получаем трансцендентальную Идею. По сути, разум не при-
водит к гибели рассудка, а скорее обеспечивает связность про-
изведенных им понятий, — несмотря на то, что это происходит
в «области иллюзий».
Далее мы подробно рассмотрим лишь одну из трансценден-
14ЛЫ1ЫХ идей, — ту, которая вытекает из паралогизма личност-
ности.
«Личность — это еще и маска*
Мы находим эти слова в Opus postumum44 Канта, в разде-
ле, посвященном трансцендентальным идеям. На эту этимо-
логическую связь указывает и Лакан в «Замечаниях к докладу
Даниэля Лагаша “Психоанализ и структура личности”». Лакан
подчеркивает, что это не просто этимологическая игра: «На
карту поставлено воскрешение двусмысленности того процес-
са, посредством которого понятие стало воплощать единство,
Кайт И. Из рукописною наследии. М.: Прогресс-Традиция. 2000. С. 581.
- 103-
долженствующее утвердить себя в бытии [efrc]»10". Трудно не ус-
лышать кантианский отголосок в этих словах, которые по-сво-
ему описывают то же самое понятие, что и трансцендентальная
идея: понятие, воплощающее единство, которое будто бы дей-
ствительно существует в мире того, что есть (бытия).
Теперь давайте обратимся к паралогизму личностности.
Кант формулирует его следующим образом: То, что сознает
свое численное тождество в разное время, есть ввиду этого лич-
ность. Важно подчеркнуть, что этот паралогизм является ча-
стью того, что Кант называет «иллюзией» [Sc/ie/n], но тем не ме-
нее это «неизбежный» и «необходимый» вывод разума. Иными
словами, «умозаключение» [&й/ия] о личностности является
«спонтанной идеологией» мыслящего субъекта.
Согласно кантовской критике этого паралогизма, заключе-
ние по поводу нашей тождественности сводится к следующему:
«Во все время, когда я сознаю себя, я сознаю это время как при-
надлежащее к единству моего я, и совершенно все равно, скажу
ли я, что все это время находится во мне как индивидуальном
единстве или что я нахожусь во всем этом времени с числен-
ным тождеством»101. Дело в том, что я не могу помыслить одно
без другого. Поэтому, когда я хочу наблюдать чистое «я» в по-
токе представлений, я не могу ссылаться ни на какой другой
correlatum, кроме, опять-таки, себя самого. Тождество самосо-
знания в разное время является лишь формальным условием
моих мыслей и их связности (трансцендентальное единство ап-
перцепции), и «из тождества я в сознании всего того времени, в
котором я познаю себя, отнюдь не вытекает тождества лично-
сти»"'2. Разумеется, все было бы иначе, если бы это тождество
'** Lacan J. Remarque sur le rapport tie Daniel Lagache: “Psychaitalyse el structure tie
la personnalitf 11 Perils. Paris: Seuil, 1966. P. 671.
Канг И. Критика чистого разума. С. 730-731
'« Там же. С. 732.
- 104-
можно было наблюдать извне, в виде «внешнего созерцания».
Но это не так, даже если мы вводим второе «лицо»:
«Но если я рассматриваю себя с точки трения другого
липа (как предмет его внешнего созерцания), то |я нахожу,
что] этот внешний наблюдатель рас сматривает меня толь-
ко по времени; ведь в апперцепции время, собственно,
только представляется во мне.
Следовательно, хотя бы он и допускал, что я сопутствует
в моем сознании всем представлениям во всякое время,
сохраняя при этом полное тождество, все же он не может
отсюда вывести обьективное постоянство меня самого. В
самом деле, в латитом случае время, в которое полагает
меня этот наблюдатель, есть время не моей чувственно-
сти, а его чувственности; поэтому тождество, необходимо
связанное с моим сознанием, не связано с сознанием на-
блюдателя, т. е. внешним созерцанием моего субъекта»'01.
Попросту говоря: я не могу делать какие-либо выводы о
своем тождестве на основании того, что кто-то другой рассма-
тривает меня в качестве объекта своего внешнего созерцания.
Такое заключение было бы возможно только в том случае, если
бы я сам мог оказаться в том самом месте, из кот орого меня на-
блюдают, если бы я мог видеть себя одновременно как объект и
внутреннего, и внешнего созерцания, — если бы я мог рассма-
тривать себя точно так же, как меня видит другой. Именно
для этого трансцендентальная идея личностности и служит по-
нятийной основой.
Однако, формулируя вещи таким образом, мы получаем не
только трансцендентальную идею, которая соответствует пара-
логизму личностности, но и лакановское понятие я-идеала как
«того, как я вижу Другого, видящего меня»'04.
"" Там же. С. 731.
*" См. тщательно разработанную интерпретацию я-чвеала: Zizrk S. for lhey
Know Not What lhey Da. London: Verso, 1991. Pp. 11-16.
- 105-
Вместе с тем следует отметить, что это концептуальное по-
строение не ограничивается «психологическими идеями» (идея
личностности подпадает под рубрику «психологические идеи»),
но — по крайней мерс, в одном отношении — парадигматично
для трансцендентальных идей в целом. Всякий раз, когда Канг
говорит о трансцендентальных идеях, он использует визуаль-
ные ме гафоры, описывающие ту самую конфигурацию, которую
мы здесь обсуждаем. Все трансцендентальные идеи выражают
определенную связь между рассудком и разумом. Создание по-
нятий и понятийных рядов, с одной стороны, упорядочение и
объединение этих понятий в целокуппости, с другой стороны,
являются двумя различными задачами, распределенными меж-
ду рассудком и разумом. Рассудок берет на себя задачу создания
поня тий, а потому никогда не имеет в виду (по выражению Кан-
та) их целокупности. Эту целокупность можно увидеть только с
«точки зрения» разума. Однако если точка зрения разума долж-
на оказывать какое-либо влияние на процесс обретения знания
(как это всегда имеет место, пусть только и «регулирующим об-
разом»), то данной концепции двух взаимоисключающих «точек
зрения» явно недостаточно. Напротив, рассудок должен выпол-
нять свою работу так, как если бы он разделял «одним глазом»
точку зрения разума. Если разум должен оказывать какое-либо
влияние на работу рассудка — посредством трансценденталь-
ных идей как «регулятивных принципов», — то трансценден-
тальная идея в самом общем смысле может быть только тем,
как рассудок видит себя видимым разумом.
Рассмотрим этот отрывок из главы «О регулятивном при-
менении идей чистого разума»:
< (Трансцендентальные идеи) имею г превосходное и не-
избежно необходимое регулятивное применение, а имен-
но, онц, направляют рассудок к определенной ноли, вви-
ду которой линии направления всех сто правил сходятся
в одном точке, и хотя эта точка есть только идея (focus
imaginarius), т. е. точка, из кото|х>н рассудочные понятия
- 106-
в действигелынкти не исходят, так как она находится пе-
диком за пределами возможного опыта, тем не менее она
служит для того, чтобы сообщить им наибольшее единство
наряду с наибольшим расширением. Отсюда, правда, воз-
никает обманчивое представление, будто эти линии и на-
правления исходят из самого предмета, который находит-
<я якобы вне области эмпирически возможного познания
(подобно тому как видны объекты за отражающей поверх-
ностью); однако эта иллюзия ... неизбежно необходима,
если кроме предметов, находящихся перед нашими глаза-
ми, мы хотим видеть также и те п|Х'лмсты, которые лежат
далеко от них за нашей спиной...»"’'
Есть ли лучший способ понять описанную Кантом карти-
ну, чем обратиться к знаменитой оптической схеме Лакана? Это
схема, которую Лакан, с некоторыми изменениями, позаим-
ствовал у Буассе и неоднократно использовал, чтобы проиллю-
стрировать некоторые свои идеи (различие между идеальным я
и я-идеалом, переход от воображаемого к символическому)'
Рассмотрим сначала левую часть схемы, то, что располо-
жено слева от плоскою зеркала (Л, Другой). Есть сферическое
Калт И. Критика чистого разума. С. 553.
- 107-
зеркало (х, у), перед которым расположена подставка с закре-
пленными на ней цветами. Поскольку эту схему можно рассма-
тривать как чисто умозрительную модель, мы можем заменить
цветы тем, что пас интересует в нашем нынешнем рассуждении.
Давайте представим, что цветы означают серию понятий, соз-
данных рассудком, или совокупность множества «я мыслит»,
сопровождающих (в разные моменты времени) каждое из моих
представлений.
Внутри подставки находится ваза, перевернутая вверх дном,
то есть «ничто с чем-то вокруг него», что, пожалуй, неплохо ил-
люстрирует то, что Кант называет трансцендентальным един-
ством апперцепции, которое является лишь формальным, или
логическим единством (той самой мыслью, которую я никогда
не смогу «рассматривать» как самостоятельную мысль, потому
что все, что я думаю, я думаю «посредством» нее, и поэтому она
никогда не сможет стать объектом моего непосредственного
рассмотрения). Если поместить наблюдателя (себя, например)
в правом верхнем углу этой половины схемы (т. е. где-то выше
плоского зеркала, Л), ваза, отраженная в сферическом зеркале
(х, у), появится на подставке и объединит цветы в единое целое,
обеспечивая целокупность ряда понятий, создавая «реальное»
единство из чисто логического единства меня самого. Согласно и
Канту, и Лакану, именно эта конфигурация задействована в кар-
тезианском обосновании cogito. Однако проблема построений
Декарта заключается в том, что (как прекрасно понимают и Ла-
кан, и Кант) субъект не может занять такую позицию идеального
наблюдателя (самого себя). Как субъект я обязательно нахожусь
«где-то среди цветов» (Лакан); я — часть того, что сферическое
зеркало объединяет в целокупность. В кантовской версии при-
чина этого, конечно, заключается в том, что он отказывается до-
пускать «интеллектуальное созерцание»: я не могу «рассматри-
вать себя рассматривающим себя». Наблюдатель, следовательно,
должен находиться где-то над цветами (глаз на схеме).
- 108 -
Теперь мы введем второе (то есть плоское) зеркало (Л), ко-
торое раскрывает «виртуальное пространство», правую часть
схемы. Что происходит при этом вмешательстве? Хотя я, субъ-
ект, все еще нахожусь «где-то среди цветов», теперь я могу ви-
деть перед собой то, что обычно находится «за моей спиной»
(включая свою собственную целостность). Теперь я моту видеть
в плоском зеркале «связность» и «единство», которые являются
аффектом сферического зеркала.
Другими словами, го, что происходит с появлением второ-
го зеркала, это именно то, что Кант описывает как диалектиче-
скую иллюзию («Отсюда, правда, возникает обманчивое пред-
ставление, будто эти линии и направления исходят из самого
предмета, который находится якобы вне области эмпирически
возможного познания (подобно тому как нидны объекты за от-
ражающей поверхностью); однако эта иллюзия ... неизбежно
необходима, если кроме предметов, находящихся перед нашими
глазами, мы хотим видеть также и те предметы, которые лежат
далеко от них за нашей спиной»). «Я мыслю» как чистая фор-
ма трансцендентальной апперцепции преобразуется — через
понятие личности, вытекающее из данной конфигурации, — в
тождество, которое выгляди г так, как будто оно дейсгвительно
принадлежит сфере того, что есть.
Для того, чтобы эта «иллюзия», как называет ее Кант, воз-
никла, субъект должен находиться между двумя зеркалами, что-
бы различать во втором зеркале то «воздействие», которое он
(или любой другой объект) оказывает На первое зеркало, то есть
на то, которое находится за его спиной. Трансцендентальная
идея задает рамку этой конфигурации. В случае идеи личност-
ное ти она воплощает ту виртуальную точку, из которой субъект
видит себя так, как его видит другой.
Аналогичным образом, на более общем уровне трансцен-
дентальная идея выражает отношение между рассудком и раз-
умом. Как мы уже говорили, именно так рассудок видит себя
- 109-
видимым разумом. Интересно, что Кант всегда осмысляет тран-
сцендентальные идеи, используя образ «точки зрения наблюда-
теля». Например:
«Всякое понятие можно рассматривать как точку, которая,
как точка зрения наблюдателя, имеет свой горизонт, т. е.
определенное множество пешей, которые можно предста-
вить и как бы обозреть из этой точки. ... Но для различ-
ных гори зонтов ... можно мыслить себе общий горизонт,
из которого, как из средоточия, ж е они обозримы, и пот
горизонт есть более высокий род, а внешни род в конце
концов есть всеобщий и истинный i оризон т, определяе-
мый с точки зрения высшего понятия»"*.
Таким образом, «высшее понятие» — это не рамка, которая
содержит все точки данной вселенной, а точка зрения или пози-
ция, из которой мы видим все эти точки и из которой кажется,
что они составляют единство. Согласно Канту, субъект знания
нс имеет прямого доступа к этой точке зрения; он не может —
воспользуемся той же оптической метафорой — увидеть себя
видящим. Возможность такой перспективы возникает только
с понятием регулятивной идеи, которая представляет собой
именно ту виртуальную точку зрения, с которой субъект отож-
дествляет себя для того, чтобы воспринять это «единство».
Парадокс, конечно, заключается в том, что для достижения
этого единства субъект должен утратить свое «органическое»
единство. Отождествление с этой виртуальной точкой зрения
уже требует и подразумевает расщепление (или отчуждение)
субъекта. Гот факт, что я воспринимаю себя как личность (тож-
дественную во времени), подразумевает, что моя личностность,
в самой своей сути, уже помечена точкой зрения Другого.
Кант сравнивает трансцендентальную идею с трансцен-
дентальной схемой, для которой ни один объект, даже гипоте-
"» Гам же. 562-563
-110-
тический, не дается напрямую и которая позволяет нам пред-
ставлять себе другие объекты только опосредованно: в их си-
стематическом единстве, посредством отношения к этой идее"’7.
Трансцендентальная идея относится к самому акту представле-
ния; это «форма» представления, а не его «содержание». Можно
сказать, что понятия рассудка и понятия разума («идеи разу-
ма») имеют одинаковое содержание. Дополнительное «нечто»,
введенное понятиями разума, — это как раз та точка зрения,
которая позволяет увидеть это «содержание» в новом свете.
Душа (или личность), вселенная и Бог суть такие понятия: их
единственное содержание — это способ представления другого
содержания, того, которое уже дано конягиями рассудка.
11ереход к постулатам
Постулаты (Кант устанавливает три: свободу, бессмертие
души и существование Бога) представляют собой определен-
ный сдвиг в отношении трансцендентальных идей. Три транс-
цендентальные идеи «обретают» свои объекты. Как пишет Кант,
три понятия чистого разума «теперь ассерторически объявля-
ются такими, которым действительно присущи объекты»10*. Я
делаю акцент на слове «ассерторически», потому что оно четко
указывает на основное различие между регулятивными идеями
и постулатами. Можно сказать, что объекты трансценденталь-
ных идей имеют структуру фикций (Кант называет их «эври-
стическими фикциями»), тогда как существование (объектов)
постулатов аксиоматично!
Что касается трансцендентальных идей, то мы замечаем,
прежде всего, определенную иерархию в том смысле, что каждая
1ам же. С. 570.
Kain И. Кришна практического разума II Каш И. Сочинения в шести то-
мах. Том 4 часть I. М.: «Мысль». 1465. С. 469.
- Ill -
копая идея «включает в себя» все больше. 'Гак, говорит Кант,
психологические идеи содержат в себе «абсолютное единство
мыслящего субъекта», космологические идеи — «абсолютное
единство ряда условий явлений», а богословские идеи — «абсо-
лютное единство условий всех предметов мышления Вообще»"”.
Однако эта иерархия и градация не подразумевает ни взаимо-
зависимости этих идей, ни наличия всеобъемлющего понятия,
которое позволило бы связать эти идеи между собой.
С постулатами ситуация несколько иная. Первое важное
отличие касается места и исключительного статуса постулата
свободы. В отличие от двух других постулатов, которые Кант
разрабатывает в «Диалектике чистого практического разума»,
постулат свободы составляет условие и неотъемлемую часть ар-
гументации Канта в «Аналитике». Более того, в отличие от двух
других постулатов, которые, как подчеркивает Кант в начале
«Диалектики», не входят в определяющее основание воли, сво-
бода, неразрывно связанная с моральным законом, и есть это
самое определяющее основание воли. Таким образом, в «Крити-
ке практического разума» свобода не только выполняет функ-
цию постулата, но и является, в качестве условия любой этики,
фактом, «фактом разума». Итак, в определенном смысле есть
только два подлинных постулата: бессмертие души и Бог.
Второе важное различие между трансцендентальными
идеями и постулатами состоит в том, что постулаты (а точнее,
второй и третий постулаты) имеют над собой какое-то другое
понятие, а именно понятие высшего блага (определяемого как
полное соответствие воли моральному закону, а не как какое-то
конкретное «благо»). Высшее благо является не определяющим
основанием воли, а ее объектом. Бессмертие души, а также су-
ществование Бога постулируются для того, чтобы сделать воз-
можным «осуществление» высшего блага.
"" Кант И. Критика чисток» разума, С. 369.
-112-
В этой связи важно отметить не только то, что высшее благо
находится «над» Богом и бессмертием, но и то, что последние
обязательно должны постулироваться вместе. По отношению
к высшему благу (которое является единственной причиной их
постулирования) они ничего не значат друг без друга; только
вместе они могут играть требуемую роль. В логическом и струк-
турном плане эта роль мало чем отличается от той, которую
играют трансцендентальные идеи. Единственное принципиаль-
ное отличие состоит в том, что теперь точка зрения рассудка и
точка зрения разума, так сказать, «персонифицируются».
Попросту говоря, постулат бессмертия души связан с воз
можностыо бесконечного продвижения к идеалу полного соот-
ветствия воли моральному закону (что и было бы наивысшим
блатом). Поскольку наша жизнь слишком коротка, чтобы до-
стичь этого совершенства, мы постулируем возможность посто-
янного совершенствования, своего рода «жизнь после жизни»,
которая сделала бы возможным продолжение нравственного
прогресса. Именно здесь в дело вступает различие между дву-
мя точками зрения, и возникает необходимость связать посту-
лат Бога с постулатом бессмертия. Бесконечное существование
субъектов само по себе еще не делает возможным высшее бла-
го, не дает нам доступа к нему. Только с точки зрения Бога оно
становится возможным, так как только с точки зрения Бога эта
(бесконечная) продолжительность предстает в качестве целого,
я качестве единства.
В отношении регулятивных идей мы подчеркнули, что их
роль заключается в том, чтобы формулировать точку зрения
рассудка с точки зрения разума. Рассудок поглощен задачей соз-
дания понятий и понятийных рядов, поэтому — как выразился
сам Кант — он никогда не видит их целокушюсти. Последняя
становится видимой только с точки зрения разума. Если рассу-
док должен принимать во внимание указания, предоставляемые
разумом, то ему следует «идентифицировать» себя с той точкой
-113-
зрения, из которой его видит разум. В постулатах эта констелля-
ция, так сказать, материализуется. Теперь (этический) субъект
воплощает точку зрения рассудка. Субьект непосредственно
вовлечен и погружен в (бесконечный) процесс совершенство-
вания, занят созданием «моральной последовательности» сво-
его существования, поэтому он никогда не сможет увидеть ее в
целокупности. С другой стороны. Бог воплощает точку зрения
разума, которая видит эту последовательность как целокуп-
ность:
»1гескопечн14и, для которого условие времени ничто, пилит
и пом нескончаемом лля нас ряду полноту соответствия
с моральные* законом ... (Человек) может (нить полностью
адекватным поле Бога ... нс здесь и не в какои-либо бу-
дущий момент существования, а только в бесконечности
(обозримой только Богом) своего продолжения*1'*.
Интересно то, каким образом в этом отрывке Кант устанав-
ливает различие между, «Бесконечным Бытием» и бесконечным
существованием быт ия. Когда он говорит, что для Бесконечно-
го «условие времени ничто», это означает, что для бессмертной
души условие времени сохраняет свою силу. В такой перспек-
тиве постулат бессмертия оказывается довольно необычным:
бессмертие души не постулирует ничего сверхчувственного,
только бесконечную продолжительность чувственного, которое
остается зависимым от «условия времени».
"* Кант И. Кри । яка практически о разума. С. 456-457.
- 114 -
5
Добро и зло
Фантазия в пределах только разума
ант вводит постулат о бессмертии души в качестве не-
обходимой предпосылки понятия высшего Блага, опре-
деляемого, в свою очередь, как полное соответствие
ноли моральному закону. Взглянем на «дедукцию» кантовского
постулата о бессмертии:
«Полное же соответствие ноли с мо|мльным законом есть
святость — < ооершенство, недоступное ни одному разум
ному существу н чувгтнсшю воспринимаемом мире ни н
какой момент его существования. А так как оно тем не
менее требуется как практически необходимое, то оно мо-
жет иметь место только в прогрессе, идущем в бес конем
тикть к посту полному соответствию... Но пот бесконеч
ими прогресс возможен, только если допустить продол-
мающееся до бесконечности сушеспюжшие и личность
разумного существа (такое сущее снование и называют
бессмертием души). Следовательно, высшее благо практи-
чески возможно только при допущении бессмертия души,
- 115-
стало быть, это бессмертие как неразрывно связанное с
моральным законом есть постулат чистого практического
разума»'".
Чуть дальше Кант добавляет, что «для разумного, но конеч-
ного существа возможен только прогресс до бесконечности от
низших к высшим ступеням морального совершенства».
Эта «дедукция» и ее предпосылки сталкиваются с очевид-
ной трудностью, наиболее поражающей читателя в утверж-
дении Канта о том, что для разумного, но конечного существа,
возможен лишь бесконечный прогресс. На этот парадокс уже
указывал Льюис Уайт Бэк112: если душа бессмертна, она — после
смерти «тела» — больше не принадлежит к миру пространства
и времени; а, коль скоро на душу больше не распространяют-
ся временные состояния, как нам понимать «непрерывный и
непрекращающийся прогресс»? Также мы могли бы спросить,
зачем душе, избавленной от всех «телесных оков», понадобил-
ся бы такой прогресс, поскольку в этом случае святости можно
было бы достичь мгновенно. Если же нет — если бы допущение
о бессмертии души включало непрерывное изменение (к лучше-
му) — тогда мы имели бы дело нс с вечным, а с временным спо-
собом существования. Понятие изменения имеет смысл только
в рамках времени. Как же тогда нам мыслить эту парадоксаль-
ную «дедукцию» постулата <» бессмертии души?
Вопросы эти подводят нас к неизбежному выводу: что в
действительности Конту нужно постулировать — так это не
бессмертие души, а бессмертие тела. Допущение о «прогрессе
до бесконечности от низших к высшим ступеням морального
совершенства», по выражению Канта, нс может иметь своим
следствием бессмертную душу, но, скорее, бессмертное, нетлен-
Кант И. Кришна практического разума СПб.: «Наука», 1945. С. 226.
См.: Beck L. W. Commentary он Kant's Critique of Practical Reason. London and
Chicago: University of Chicago Press, Midway Reprint, 1ЧК1 Pp. 170 171.
-116
ное, возвышенное тело. Это было бы тело, которое существует
и изменяется со временем, но приближается к своему концу,
к своей смерти, в бесконечном асимптотическом движении.
Именно это дает нам основание сказать, что постулат, о кото-
ром идет речь, — это «фантазия чистого практического разума»,
фантазия в строго лакановском смысле слова.
Особенно интересно в отношении постулата о бессмертии
то, что, формулируя его, Кант дает точно такой же ответ на опре-
деленный структурный тупик, что и де Сад. Хорошо известно,
что Лакан написал эссе, озаглавленное «Кант с де Садом», в ко-
тором он показывает и обращает наше внимание на чрезвычай-
ную близость Канта и де Сада. Хотя он не обсуждает бессмертие
души, мы могли бы сказать, что его утверждение «Канта нужно
читать с де Садом» находит свою наиболее убедительную иллю-
страцию именно в отношении этого постулата.
Основная проблема, с которой сталкиваются де садовские
герои/мучители, состоит в том, что они могут истязать своих
жертв лишь до тех пор, пока те не умрут"’. Единственное, что
вызывает досаду и сожаление по поводу этих сеансов — кото-
рые в противном случае могли бы длиться бесконечно, вплоть
до все более и более совершенных мучений — это то, что жерт-
вы умирают слишком быстро относительно крайнего страда-
ния, которому они могли бы быть подвергнуты. Наслаждение
Уош5$ансе] — которое жертвы, по всей видимости, испытыва-
ют и которое совпадает, в данном случае, с их крайним страда-
нием — наталкивается здесь на препятствие в виде «принципа
удовольствия» — то есть на предел того, что может вынести
тело. Именно это подразумевает фраза «слишком быстро». Му-
чение заканчивается слишком быстро относительно “encore!"
В пом наброске «садовской парадигмы» мы следуем некоторым ар|умен
гам. разработанным Жак Аленом Миллером н ею (неопубликованных)
семинарах 1,2. 3.4.
- 117-
(«еще!»), которое является императивом и «наставлением» на-
слаждения. Короче говоря, проблема в том, что тело не скрое-
но по мерке наслаждения. Не существует наслаждения, кроме
наслаждения тела, но, чтобы тело могло равняться задаче (или
долгу) наслаждения, границы тела необходимо «преступить».
Удовольствие — то есть предел страдания, которое тело еще
способно выносить, — является, таким образом, препятствием
для наслаждения. Ответ де Сада на невозможность преодолеть
этот предел — это фантазия, фантазия о бесконечном страда-
нии: жертвы истязаются непрерывно, невообразимо, и все же
они продолжают жить и страдать и даже становятся все более и
более прекрасными, или все более и более «святыми».
Важно понять, что этот «де садовский сценарий» или де са-
довская фантазия —• не просто фривольная причуда больного
воображения, но что она отвечает на крайне специфичную и в
то же время общую структурную проблему: артикуляцию отно-
шения между удовольствием и наслаждением. Отношение это
простирается намного дальше своих непосредственных сексу-
альных коннотаций и охватывает отношение между удоволь-
ствием и долгом.
Та же самая проблема стоит перед Кантом, поскольку в его
। рудах патологическое (то есть го, что субъект чувствует, удо-
вольствие и боль, что может также включать «интеллектуаль-
ное» или «духовное» удовольствие) олицетворяет собой пре-
пятствие, преграду на пути к свободе. Для Канта свобода сущ-
ностно связана с «разделением» субъекта; она конституирована
в акте сепарации субъекта от патологического. Однако же, мы
могли бы сказать, что патологическое мстит и устанавливает
свой закон, насаждая определенного рода удовольствие на пути
категорического императива. Удовольствие это точнее всего
можно описар. как «удовольствие от боли»: боль как трансфор-
мация удовольствия, как модальность патологического, которая
занимает место удовольствия, когда последнее исчерпано. Здесь
- 118-
непосредственный интерес субъекта заменяется чем-то дру-
гим — к примеру, Идеей или неким cosa nostra, во имя которых
субъект готов забыть свои сиюминутные интересы и удоволь-
ствия. Например, субъект готов принять боль, поскольку знает,
что она служит «благому делу». Де Сад с Кантом стремятся вый-
1И за рамки этой логики.
Так, для Канта свобода всегда чувствительна к ограниче-
нию, либо удовольствием (в форме любого рода патологической
мотивации), либо смертью субьекта. «Перепрыгнуть» эго пре-
пятствие, продвинуться за его пределы позволяет нам го, что
Лакан называет фантазией. Кантовский постулат о бессмертии
души (истина которого, как мы увидели, состоит в бессмертии
тела) подразумевает точно такой же жест, такое же «решение».
Его функция — установить координаты времени и простран-
ства вне времени и пространства, и таким образом обеспечить
непрерывное, бесконечное движение «от низших к высшим сту-
пеням морального совершенства».
Введение Кантом постулата о бессмертии души часто встре-
чает возражение, согласно которому Кант, по всей видимости, в
противовес аргументам из «Аналитики чистого практического
разума», теперь обещает моральным субъектам (своего рода)
рай и блаженство. Представляется, что этим постулатом он
вводит «через заднюю дверь» то, что прежде столь решительно
отринул: возможный «патологический мотив» для наших дей-
ствий. Однако же, в свете нашего аргумента, касающегося по-
стулата о бессмертии, это обещание (или поощрение) оказыва-
ется весьма любопытным. Ибо вот что оно говорит: упорствуя в
• тедовании категорическому императиву, несмотря на всю боль
и мучения, которые могут иметь место на этом нуги, в конечном
счете, ты можешь удостоиться возможности избавиться даже от
удовольствия и гордости, которые ты испытывал, жертвуя со-
бой; гак ты в итоге достигнешь своей цели. Итак, кантовское
бессмертие души обещает нам весьма своеобразный рай; ибо то,
-119-
что ждет этичных субтлктов — это райское будущее, имеющее
зловещие черты сходства с де садовским будуаром.
Логика суицида
Мы должны отметить, однако, что бесконечное движение
к моральному совершенству — не единственный ответ Канта
па то, что представляется имманентной, структурной невоз-
можностью совершения чистого этического поступка. В текстах
Канта о моральности можно разглядеть другую аргументацию,
идущую в противоположном направлении, и наиболее явно
сформулированную в следующем отрывке, уже процитирован-
ном нами, из «Религии в пределах только разума»:
«Но то, что кто-нибудь становится нс только по ыкону,
но и морально добрым ... человеком, ... не может быть
вызвано постепенной реформой, пока основание максим
остается нечистым, а должно быть вызвано реполюииен в
образе мыслен человека ... и новым человеком он может
стать только через некое воз[х>жление, как бы через новое
творение...»"4.
Именно эта вторая точка зрения максимально сближает
разработки Канга с лакановским понятием этического поступ-
ка. Воспользуемся здесь описанием этого понятия Славоем
Жижеком. Поступок отличается от действия тем, что он ради-
кально преобразует своего носителя (агента). После поступка я
«не тот, что прежде». В поступке субъект уничтожается, а затем
возрождается (или нет); поступок включает своего рода вре-
менное помрачение субъекта. Поэтому поступок — это всегда
«преступление», «трансгрессия» — границ символического со-
1,4 Канз И. Религия в пределах только разума /I Kain И. Трактаты. (Л 16.: «На-
ука», 1996. С. 29-1.
- 120-
общества, к которому принадлежишь115. Именно в связи с этими
особенностями поступка /1акак утверждает, что суицид — это
парадигма любого («успешного») поступка. Однако нам следует
быть крайне осторожными в своем понимании этого утвержде-
ния, поскольку дело касается не просто (добровольной) смерти
с убъекта.
Поэтому будет показательно провести различие, с помо-
щью Канта, между двумя разными логиками суицида. Во-пер-
вых, есть суицид, который подчиняется логике жертвенности.
Когда долг зовет, я жертвую тем-то и тем-то и, если необходимо,
даже своей жизнью. Здесь мы имеем дело с логикой бесконечно-
го «очищения», в которой жертвование собственной жизнью —
это лишь «еще один шаг» вперед, всего лишь один из множества
«объектов», которыми нужно пожертвовать. 'Го, что этот шаг
последний, — всего лишь совпадение; или, говоря словами Kan-
ia, это эмпирическая, а не трансцендентальная необходимость.
Именно эта логика руководит постулатом Канта о бессмертии
души и служит сохранению постоянства большого Другого. Со-
гласно этой логике именно субъект должен бесконечно сепари-
роваться от всего, что принадлежит регистру патологического.
В то же время, большой Другой (его позиция) лишь крепнет; его
«садизм» возрастает с каждой новой жертвой, которую прино-
сит субъект, и, поэтому, он требует от субъекта все больше и
больше. Мы можем привести примеры из популярной культу-
ры, которую, похоже, все больше и больше завораживает эта
свсрхэгоичсская сторона моральности. Возьмем, к примеру,
« Герминатор 2». Сначала Терминатор помогает стереть с лица
земли все то, что могло бы в будущем привести к изобретению
таких машин, как Терминатор (и, следовательно, к катастро-
фе и вторжению «радикального зла»). В конце сам Терминатор
См.: Zizck S. Enjoy Your Symptom! London and New York: Routledge, 1992.
P.44.
- 121 -
остается единственной моделью, которая могла бы помочь рас-
шифровать все необходимые действия для производства таких
киборгов. Он/оно бросается в котел с раскаленным добела ме-
таллом, чтобы спасти человечество от катастрофы. Такого же
рода суицид имеет место в «Чужих 3». Вначале Рипли истре-
бляет всех чужих, только для того, чтобы выяснить в конце, что
последний из них живет внутри нее. Для того, чтобы устранить
этого последнего чужого, она должна убить себя — она должна
уничтожить «пришельца» в самой себе, отсечь последние остат-
ки «патологического» в себе.
Второй вид суицида менее популярен, поскольку не имеет
никакого основания, не служит никакой цели. Суть не в том,
чтобы в конце концов положить на алтарь Другого нашу соб-
ственную жизнь как самое большее, что мы можем предложить.
Смысл в том, что мы «убиваем» себя через Другой), л Другом.
Мы уничтожаем то, что — в Другом, в символическом поряд-
ке — даровало нашему бытию идентичность, статус, поддержку
и значение. Это суицид, к которому Кант обращается в извест-
ном примечании к «Метафизике морали», в котором он обсу-
ждает цареубийство (казнь Людовика XVI). По сути, «цареубий-
ство» — не совсем правильный термин, поскольку в действи-
тельности Канта интересует именно разница между убийством
монарха (цареубийством) и его формальной казнью. Именно в
отношении последней Кант говорит «создается впечатление,
словно бы государство совершало суицид»1’6, и описывает ее в
терминах того, что в другом месте он называет «дьявольским
злом». Мы имеем дело с разницей между «двумя телами короля».
Там, где с монархом просто расправляются, убивают, это нано-
сит удар только по его «эмпирическому телу», тогда как «другое
тело», воплощенное в его символическом мандате, остается бо-
"* См.: Каят И. Метафизика нравов в двух частях // Кант И. Критика практи-
ческою разума. СПб.: «Наука», 1945. С. 362 (сноска).
- 122
нее менее невредимым. Однако формальная его казнь, которую
Кант — несмотря на, или даже из -за своей почти обсессивной
настойчивости в отношении формы — описывает как вопию-
ще бессмысленную, как раз и наносит удар по «символическому
телу», то есть но существующему символическому порядку. По-
чему же для Канта этот акт «народа» имеет структуру суицида?
Потому что народ конституируется как Народ только по отно-
шению к этому символическому порядку. Вне его он — не бо-
лее чем «массы» без какого либо определенного статуса. Имен-
но монарх (в его символической функции) дарует народу его
символическое существование, каким бы убогим оно ни было.
Таким образом, весьма различимый подтекст кантовского аргу-
мента имплицитно поднимает этот вопрос: если французский
народ был с толь недоволен своим монархом, почему они просто
не убили его; зачем им понадобилось совершать формальную
казнь и сотрясать, таким образом, саму почву под своими нога-
ми (то есть «совершать суицид»)?
Есть, тем не менее, еще одна причина, по которой Кант
столь «потрясен» этим актом «дьявольского зла»: собственный
аргумент вынуждает его описывать его теми же самыми слова-
ми, которые он употреблял для описания этического поступка,
н том смысле, ч го:
I Это чисто формальный акт; он подчиняется форме исклю-
чительно ради формы, что как раз и является, как мы знаем,
определением моральности: именно излишек формы, тот
факт, что мы действуем не просто в соответствии с долгом,
но исключительно вследствие долга, и отличает мораль-
ность от законности.
2. Чувство ужаса, которое он порождает, — это не эстетиче-
ское, а, скорее, моральное чувство.
3. Его происхождение нельзя объяснить чувственным побу-
ждением, но, скорее, максимой.
- 123-
4. «Это никак нельзя объяснить: ведь объяснению поддаются
лишь события, происходящие согласно механизму приро-
ды» — следовательно, это акт свободы'17.
Таким образом, мы видим основную причину ужаса, обу-
явшего Канта перед лицом этого акта «дьявольского зла», в его
зловещей схожести с чистым этическим поступком.
Итак, с одной стороны, возможность полного соответствия
воли моральному закону (что определяет высшее Благо) опира-
ется на «логику фантазии», то есть на парадоксальный посту-
лат о бессмертии души, функция которого состоит в том, чтобы
установить координаты времени и пространства вне времени
и пространства и, таким образом, обеспечить бесконечное, не-
прерывное движение «от низших к высшим ступеням мораль-
ного совершенства». Этот постулат служит именно тому, чтобы
утвердить возможность недейетвия, поскольку, с этой точки
зрения, действие как таковое невозможно. С другой стороны,
поступок, который удовлетворяет всем условиям этического
поступка, уже «осуществлен» — хотя всегда лишь в искажен-
ной, «извращенной» форме: как акт дьявольского зла, поступок,
который следует логике суицида через Другого (в примере Кан-
та, французский народ совершил суицид потому, что уничто-
жил то, что давало ему в Другом символическую идентичность).
Степени зла
В наше время проблема «радикального зла» — нечто вроде
горячей темы, а Кант, как «теоретик радикального зла», под-
вергается крайне разнообразным и порой противоречивым
прочтениям. В своей книге «Этика»"* /Член Бадью отмечает, что
Гам же. С. 361 (сноска).
,l* Бадью А. Этика: Очерк о сознании Зла / Пер. с франц. В. Е. Лап никого.
СПб : .Machine, 2006. С. 29-30
- 124-
тема радикального зла стала призраком, которого «этические
идеологи» вызывают всякий раз, когда возникает намерение
сделать что-то (хорошее). Любой «позитивный» проект можно
«аблаговременно подорвать на том основании, что он может
принести еще больше зла. Таким образом, этика свелась бы
лишь к одной функции: предотвращать зло, или, по крайней
мере, уменьшать его. Представляется, что такая этика «мень-
шего зла» оправдана в своей связи с Кантом. Критика Канта,
согласно которой он определил критерии (этического) поступ-
ка таким образом, что удовлетворять им невозможно никогда,
восходит еще к Гегелю. Из этой точки зрения следует, что все
наши действия с необходимостью являются «плохими», и что
оставаться «чистым» возможно, только если предпочесть не
действовать вообще. В такой перспективе добра не существует,
тогда как зло «вездесуще».
Однако брать Канта за основу этой позиции возможно лишь
без учета двух ключевых элементов кантианской практической
философии:
I. Для Канта осуществить Зло ничуть нс легче, чем осуще-
ствить Благо.
I 2. «Радикальный» характер радикального зла не относится
к его «количеству», поскольку это понятие не предназна-
чено для того, чтобы объяснить «радикальность» зла в
его влиянии па реальный мир. Скорее, это теоретическая
«конструкция», которую Кант вводит в качестве необхо-
димого последствия возможности свободы. Вот почему,
но нашему мнению, те, кто обсуждает (кантовское) по-
нятие радикального зла применительно — например — к
Холокосту, просто-напросто упускает суть этого поня-
тия.
По поводу первого пункта отметим пока просто, что он от-
* носится к различию, которое Кант устанавливает между Ubel
- 125-
и Bose11*. Патологический поступок не есть «добро», хотя этого
недостаточно для того, чтобы квалифицировать его как «зло».
Скорее, он остается по эту сторону добра и зла.
Что насчет второго пункта? Кант вводит понятие радикаль-
ного зла в «Религии в пределах только разума» (1793). Эта ра-
бота удивила, шокировала и возмутила современников Канга
больше, чем любой другой из его текстов. Где нам расположить
источник этого возмущения и неудобства, его сопровождаю-
щего? Жалоба о том, что «мир зол», заявляет Кант, стара, как
сама история. Несомненно здесь одно: своим понятием ради-
кального зла Кант вовсе не стремится присоединиться к хору
голосов, поющих о «прекрасной душе», осуждающей порочное
устройство мира. Один из источников возмущения кантовской
теорией зла мы можем обнаружить в том, что она оказалась, в
буквальном смысле слова, «не к месту». Она оказалась не к ме-
сту относительно двух господствующих дискурсов, затрагива-
ющих тему зла во времена Канта: религиозной традиции и дис-
курса Просвещения. Кан г не согласен с тем, как понимается зло
в религиозной традиции — то есть в Писании — по двум пун-
ктам. Первое недопустимое утверждение этой традиции, соглас-
но Кан гу, — это то, что мы могли бы назвать се «историзацией
логического»: момент, который следовало бы понимать как ло-
гически первый, представлен в Писании как первый во времени.
Истоки зла человеческого рода коренятся в истоках его истории,
так что зло «низвергнуто на нас как наследие наших прародите-
лей». Падение (во зло) понимается как одна из стадий челове-
ческой истории. Однако для Канта, «врожденным» зло можно
назвать только в логическом смысле, то есть лежащим в основа-
"* И Obel, и Вшебзначлют зло, но в то время как В&е отсылает ко Злу в абсо-
лютном смысле (как в «борьбе Добра и Зла»), Obel относится к злу в зна-
чении неудовольствия или пагубной ситуации или деятельности (как в
Случаях «Социального зла» или «необходимо! о зла»).
- 126-
кии, предшествующим любому использованию свободы в опы-
те, и, поэтому, понимаемым как присутствующее в человеке с
рождения — хотя рождение не обязательно является его причи-
ной. Склонность ко злу — не просто формальная основа всякого
незаконного действия, но и сама по себе действие (свободы)1".
Второй спорный момент для Канта состоит в следующем:
повествуя о переходе человека из первородного состояния не-
винности ко злу (через первородный грех). Писание излагает
это с точки зрения нарушения Закона, Божественных заповедей.
Таким образом, зло рождается тогда, когда невинность вторга-
ется на запретную территорию. В этой связи возникает очевид-
ный вопрос: как невинность, будучи невинностью, решилась на
этот шаг? Разумеется, ее соблазнили, подбили это сделать.
Согласно Канту, подобные ответы па вопрос о зле несовме-
стимы со свободой и, следовательно, с этикой. Если мы считаем
зло внешним по отношению к человечеству и понимаем отно-
шения между ними как отношения соблазнения, которым невоз-
можно противостоять, мы скатываемся в классическую детер-
министскую апорию; Бог есть Бог двуличный, наказывающий
нас за что-то, что, строго говоря, было нам неподконтрольно.
С другой стороны, если человек может противостоять искуше-
нию, но, тем не менее, продолжает поступать дурно, вопрос о
возможности зла остается без ответа. Кант ставит проблему
на другом уровне: установка [Ли/«£е| действующего лица ни
хорошая, ни плохая, а нейтральная; искушение нс является не-
преодолимым, хотя злые дела все же совершаются. Кантовское
решение данной проблемы заключается в том, что необходимо
признать склонность ко злу в самом субъективном основании
свободы. Само это основание следует понимать как действие
См.: Кат И. Религия н пределах только разума // Кант И. Трактаты. СПб.:
«Наука». 1996. С. 271.280
- 127-
свободы [АЛ/us der Freiheit]. В этом вступительном действии я
могу выбрать себя как зло.
Кант определяет три различных вида зла:
1. Слабость человеческой природы, из-за которой мы уступа-
ем патологическим мотивам, несмотря на нашу волю тво-
рить добро. Воля была доброй, мы желали добра, но осу-
ществление этого добра провалилось.
2. Нечистота человеческой воли. Здесь проблема не в несоот-
ветствии между максимой и ее осуществлением. Максима
является благом в отношении своего объекта, и мы также
достаточно сильны, чтобы «практиковать» ее, но мы делаем
ЭТО не из уважения к моральному закону, а, например, из
самолюбия, некоторых личных интересов, потому что счи-
таем, что делать добро будет для нас полезным...
3. Злонравие [Bosartigkeit] или «радикальное зло», которое
структурировано несколько иначе: его основанием явля-
ется (свободный, хотя и не временной) поступок, при ко-
тором мы делаем мотивы самолюбия условием подчинения
моральному закону.
«Ее можно также называть извращенностью Iperverw7as|
человеческого сердца, так как она извращает нравствен-
ный порядок в отношении мотивов свободного произвола;
и хотя с этим еще мсхут уживаться законно добрые (ле-
гальные) поступки, все же образ мыслей бывает этим из-
вращен в корне (что касается морального образа мыслей),
и поэтому человек называется злым
Другими словами, радикальное зло переворачивает иерар-
хию (патологических) мотивов и закона. Оно делает первое
условием последнего, тогда как последнему (закону) надлежит
быть наивысшим условием или критерием для удовлетворения
1,1 ’Гам же. С. 279.
- 128-
мотивов. Мы подчиняемся моральному закону лишь «случай-
но», когда он нас устраивает или когда он согласуется с наши-
ми патологическими наклонностями. В сущности, радикальное
зло — это то зло, которое, учитывая факт нашей свободы, объяс-
няет возможность первых двух видов зла, не больше (и не мень-
ше). Оно относится не к какому-либо эмпирическому поступку,
а к первопричине всякого патологического, не этического пове-
дения. Это предпосылка принятия иных, нежели те, что исходят
из морального закона, максим.
К этим трем «степеням» зла Кант также добавляет четвер-
тую, «дьявольское зло», которое следует с осторожностью отли-
чать от радикального зла. Кан г исключает дьявольское зло как
случай, который нельзя приложить к человеческим существам.
Здесь мы приходим к первому вышеизложенному пункту: для
Канта осуществить Зло ничуть не легче, чем осуществить До-
бро. Акт высшей злонамеренности осуществить не легче, чем
акт чистой добродетели. 1и>лее того, вовсе не факт, что мы смог-
ли бы даже различить чистый акт злонамеренности и чистый
акт добродетели, поскольку у них была бы абсолютно одна и та
же структура.
Каковы ангелы, таковы и демоны
«Дьявольское зло» произошло бы, случись нам возвысить
противопоставление моральному закону до уровня максимы.
В этом случае максима была бы противопоставлена закону не
просто «негативно» (как в случае радикального зла), но прямо.
Это подразумевало бы, к примеру, что мы готовы действовать
вопреки моральному закону, даже если это означает действовать
вопреки своим личным интересам и своему благополучию. Дей-
ствовать против морального закона стало бы нашим принципом,
и мы придерживались бы этого принципа несмотря ни на что (то
есть даже если бы это означало нашу собственную смерть).
- 129-
Первая трудность, касающаяся понятия дьявольского зла,
лежит в самом его определении: дьявольское зло произошло бы,
если бы мы возвысили противопоставление моральному закону
до уровня максимы (принципа либо закона). Что не так с этим
определением? Учитывая кантианское понятие морального за-
кона — который не является законом, гласящим: «делай это»
или «делай то», но представляет собой таинственный закон, ко-
торый лишь заповедует нам исполнять свой долг, даже не назы-
вая его, — возникает следующее возражение: если бы противо-
поставление моральному закону было возвышено до максимы
или принципа, оно больше не было бы противопоставлением
моральному закону, а было бы самим моральным законом. На
этом уровне невозможно никакое противопоставление. Невоз-
можно противопоставить себя моральному закону на уровне
(морального) закона. Ничто не в силах противопоставить себя
моральному закону из принципа — то есть, по непатологиче-
ским причинам — без того, чтобы самому не стать моральным
законом. Действовать, не позволяя патологическим мотивам
влиять па наши действия, значит делать добро. Относительно
этого определения добра (дьявольское) зло следовало бы опре-
делить следующим образом: противопоставлять себя, не позво-
ляя патологическим мотивам влиять на свои действия, действи-
ям, которые не позволяют, чтобы какие-либо патологические
мотивы влияли на твои действия, есть зло. Что просто-напро-
сто абсурдно.
Таким образом, в контексте этики Канта не имеет смысла
говорить о противопоставлении моральному закону: можно го-
ворить о слабости или нечистоте человеческой воли (что подра-
зумевает лишь неспособность сделать закон единственным мо-
тивом наших действий), но не о противопоставлении морально-
му закону. Противопоставление моральному закону само было
бы моральным законом, поскольку на этом уровне нет возмож-
ности ввести какое-либо различие между ними. Другими сло-
- 130-
нами, «дьявольское зло» с неизбежностью совпадает с «высшим
благом», почему, в своем обсуждении формальной казни монар-
ха. Кант и вынужден описывать ее в тех же терминах, в которых
он описывал бы чистый этический поступок. Способ, которым
он вводит дьявольское зло, строго симметричен введению им
высшего блага: они оба позиционируются в качестве «идеалов»,
при которых воля всецело совпадала бы с Законом, и оба исклю-
чаются как случаи, которые нельзя приложить к человеческому
фактору. Единственное различие заключается в том, что Кант
дает высшему благу поддержку постулата о бессмертии души,
однако мы не должны забывать, что бессмертная душа могла
бы в равной степени функционировать и в качестве постулата
о дьявольском зле. Мы могли бы переписать первый параграф
главы «Бессмертие души как постулат чистого практического
разума» следующим образом:
«Осуществление высшего зла в мир' есть необходимый
объект воли, определяемый Аморальным законом. А в
такой воле полное соответствие убеждении с Амораль-
ным законом есть первое условие высшею зла. Полное же
соответствие воли с Аморальным законом является дья-
вольским, каковое совершенство недоступно ни одному
[мзумному «ушесгву в этом чувственно нос отнимаемом
мире' ни в какой момент его существования. А так как оно
тем не менее требуется как практически необходимое, то
оно может имен, место только в прогрессе, идущем в бес-
конечность к этому полному соответствию. Но этот бес-
конечный прогресс возможен лишь при допущении бес-
смертия души. Следовательно, выс шее зло практически
возможно только при допущении бессмертия души».
Наше возражение Канту, однако, относится не просто к
тому факту, что он понимал «высшее зло» в тех же терминах,
что и «высшее благо». Скорее, оно относится к тому факту, ч то,
хотя он его и произвел, он нс сумел или отказался осознать и
принять эту структурную идентичность как таковую. Следуя за
Кантом — но, в то же время, идя против Канта — мы, таким об-
- 131 -
разом, намерены открыто заявить, что дьявольское зло, высшее
зло, неотличимо от высшего блага, и что они — не что иное,
как определения совершенного (этического) поступка. Другими
словами, на уровне структуры этического поступка, различия
между добром и злом не существует. На этом уровне зло фор-
мально неотличимо от добра.
Из кантовского понятия этики следует, что формальная
структура этического поступка не предполагает никакого (по-
нятия) добра, но, скорее, определяет его. Добро — это не что
иное, как название для формальной структуры действия. Эго,
с другой стороны, именно то, во что метит Лакан, говоря: «Ни-
какое позитивное право не может определить, способна ли эта
максима получить статус универсального правила, коль скоро
сам этот статус может при случае противопоставить ее всем
остальным»|И. Фундаментальный парадокс этики заключает-
ся в том, что для того, чтобы основать этику, мы уже должны
предположить определенную этику (определенное понятие до-
бра). Весь проект кантовской этики — это попытка избежать
данного парадокса: он пытается показать, что моральный закон
основывается только в самом себе, и добро есть добро только
«после» морального закона. Однако у этой настойчивости есть
своя цена.
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же вре-
мя иметь силу принципа всеобщего законодательства» — каков
парадокс, скрытый в этой формулировке категорического импе-
ратива? Парадокс в том, что, несмотря на свой «категорический»
характер, он, так или иначе, оставляет все неопределенным. Ибо
как мне решить, может ли мое действие (его максима) оставать-
ся принципом всеобщего законодательства, если я не принимаю
предположения о том, что я изначально руководствуюсь неким
Лакан Ж. Кант с де Садом И Международным психоаналитический жур-
нал. Спецвыпуск. М., 2018. С. 23-25.
- 132-
пониманием добра (то есть неким пониманием того, что явля-
ется универсально приемлемым)? Другими словами, критерия
всеобщности априори не существует. Верно, что Кант был убе-
жден в том, что обнаружил этот критерий в принципе исключе-
ния противоречия. Однако имеется впечатляющее количество
комментариев, демонстрирующих слабость этого критерия. Как
отмечает Генри Е. Эллисон'2’, многие критики уже показали, что
практически любая хороню сформулированная максима может
пройти проверку на универсальность. Другими словами: нее,
что угодно, можно превратить во всеобщее требование-, ничто
априори не исключено из этики.
Мы утверждаем, что эта мнимая слабость кантовской этики
в действительности является самым сильным ее местом, и что
нам следует поэтому принимать ее как таковую. Эллисон пра-
вильно определяет источник проблемы; он лежит в той идее,
что категорический императив — это проверка, которая может
однозначно сказать нам, в чем состоит наш долг, и предоставить
таким образом гарантию. Однако, на наш взгляд, он предлагает
неверный ответ на эту проблему: вместо того, чтобы отбросить
само понятие «проверка» как ошибочное, он пытается найти в
реальности нечто, что помогло бы нам проверить наши макси-
мы. Во-первых, он вводит понятие самообмана как одно из важ-
нейших понятий этики Канта. Затем он утверждает:
«...именно проверка максим дает наилучший ионол для са-
мообмана, который в данном случае принимает фо|>му со-
к[>ытня от самих себя истинной природы принципов, сооб-
разно которым мы действуем. Коротко говоря, аморальные
максимы, но всей вилимтх 1И, проходят проверку на уни-
версальность только погиму, чю игнорируют либо скрыва-
ют нравственно примечательные особенности ситуации»'*1.
Allison Н. Е.. Idealism and Freedom. Cambridge: Cambridge University Press,
1996. P. I HO.
Ibid. P. 131.
- 133-
Проблема этого аргумента, подразумевающего, что, прове-
ряя свои максимы, мы должны в то же время обращать внима-
ние на «нравственно примечательные особенности ситуации»,
состоит, несомненно, в концептуальной слабости понятия
«нравственно примечательных особенностей ситуации». Как
нам известно со времен Альтюссера, примечательные или яв-
ные особенности ситуации, которые якобы защищают нас от
самообмана, могут, в действительности, включать наиболее
изощренную форму самообмана. Любая идеология усердно
грудится над тем, чтобы сделать определенные вещи «очевид-
ными», и чем очевиднее, несомненнее и бесспорнее кажутся
нам эти вещи, тем лучше идеология сделала свою работу. Если
мы принимаем предположения Эллисона о том, что в реально-
сти существует нечто, на что мм можем положиться, прове-
ряя свои максимы, — тогда мы должны также принять логику,
лежащую в основе следующей максимы: «Действуй гак, чтобы
фюрер, знай он про твои действия, одобрил бы их». Если мы за-
меним фюрера на Бога, то получим категорический императив,
гораздо более приемлемый в нашей культуре; «Действуй так,
чтобы Бог, знай Он про твои действия, одобрил бы их». Однако
мы не должны забывать, что логика и структура двух этих им-
перативов абсолютно одинаковы. Мы сверяем свои максимы с
чем-то, что является «внешним» по отношению к моральному
закону и определяет перепективу того, что приемлемо для всех,
а что нет.
Вот почему мы вынуждены утверждать, что только посту-
пок, открывающий всеобщую перспективу либо утверждаю-
щий всеобщее, а не само всеобщее, уже будучи учрежденным,
позволяет нам «догадаться», в чем состоит наш долг, и дает нам
гарантии против его ошибочного толкования. В то же время,
эта теоретическая позиция обладает тем преимуществом, что
не дает субъекту возможности занять перверсивную позицию,
которую мы обсуждали в третьей главе: субъект не может пря-
- 134-
гаться за своим долгом — он ответственен за то, что называет
своим долгом.
Это снова отсылает нас к неразличимости добра и зла. Что
именно это может означать? Начнем с того, что это не означает.
Это не относится к неопределенности в отношении того, явля-
ется (или являлся) ли поступок «хорошим» или «плохим». Это
относится к тому факту, что сама структура поступка чужда
регистру, образованному парой хороший/плохой — что она ни
хорошая, ни плохая.
Мы можем расположить это обсуждение и в иной перспек-
тиве. В ней неразличимость добра и зла просто означает, что
всякий заслуживающий внимания поступок — по определению
«злой» или «плохой» (либо будет таковым расценен), посколь-
ку он всегда представляет собой определен нос «перешагивание
границ», перемену в том, «что есть», «трансгрессию» пределов
заданного символического порядка (или сообщества). Это от-
четливо видно в обсуждении Кантом казни Людовика XVI. От-
четливо видно это и в случае Антигоны.
Если Кант и уклоняется от этого вывода, тем не менее им-
плицитно он поддерживает его, и он был первым, кто продви-
нулся достаточно далеко для того, чтобы выявить его со всей
неумолимостью. Кроме того, то, что Кант «отступает назад» к
логике «дурной бесконечности», которая подразумевает ради-
кальную невозможность совершения поступка, не должно по-
будить нас отказаться от его понятия поступка. Другими слова-
ми, настоящая проблема не н том, что Кант требусз «невозмож-
ного» и что по этой причине мы можем избежать «зла», только
если воздержимся от действия. Отбросить кантовское понятие
поступка означало бы покориться «необходимому», то есть
«возможному» — это оказалось бы на руку «этической идеоло-
гии», которая планомерно избегает этого аспекта кантовской
философии, аспекта, который метит точно в «невозможное».
Эта «этическая идеология» избегает данного аспекта, поскольку
- 135
она настаивает на том, что называет «неметафизическим гума-
низмом», тогда как кантовское понятие поступка «антигуман-
но» (или негуманно) в самом строгом смысле слова.
Вот почему мы предлагаем сохранить понятие поступка,
сформулированное Кантом, и связать его с тематикой «пере-
сечения границ», «трансгрессии», с вопросом зла. Это вопрос
признания того факта, что всякий (этический) поступок, имен-
но постольку, поскольку он — поступок, с необходимостью
является «злом». Однако нам следует уточнить, что здесь пони-
мается под «злом». Это зло, которое принадлежит самой струк-
туре поступка, тому факту, что последний всегда подразумева-
ет «трансгрессию», перемену в том, «что есть». Это не вопрос
какого то «эмпирического» зла, это сама логика поступка, осу-
ждаемая всякой идеологией как «радикально злая». Фундамен-
тальный идеологический жест состоит в предоставлении образа
для этого структурного «зла». Разрыв, образованный поступком
(то есть чуждый, «неуместный» эффект поступка), в этом идео-
логическом жесте мгновенно связывается с образом. Как прави-
ло, это образ страдания, который затем демонстрируется обще-
ственности вместе со следующим вопросом: Вы этого хотите?
Л вопрос этот уже подразумевает ответ; Было бы невозможно,
бесчеловечно хотеть этого! Здесь мы вынуждены настаивать
на теоретической строгости и отделить этот (как правило, пле-
нительный) образ, транслируемый идеологией, от настоящего
источника неудобства — от «зла», которое не является «неже-
ланным», «вторичным» эффектом добра, а, напротив, принадле-
жит к самой его сути. Мы могли бы даже сказать, что этическая
идеология борется со злом, поскольку идеология эта враждебна
«добру», логике поступка как таковой. Мы могли бы здесь зайти
и еще дальше: нынешняя перенасыщенность социальной сфе-
ры «этическими дилеммами» (биоэтика, экологическая этика,
культурная этика, врачебная этика...) непосредственно корре-
лирует с «вытеснением» этики, то есть с неспособностью мыс-
- 136-
лить этику в ее измерении реального, неспособностью постичь
этику иначе, нежели как ряд ограничений, призванных предот-
вратить большее зло. Соотношение это касается еще одного
аспекта «современного общества»: «депрессии», которая стала,
по всей видимости, «социальной болезнью» нашего времени и
задает тон покорной позиции «(пост)модернистского челове-
ка» «конца истории». В связи с этим было бы любопытно вновь
подчеркнуть тезис Лакана, согласно которому депрессия — «это
вовсе не состояние души, это просто-напросто моральный изъ-
ян, или, как выражался Данте, да и Спиноза тоже, трех, то есть
нравственная трусость»12'. Именно против этой моральной сла-
бости или трусости Machete morale] должны мы утвердить соб-
ственно этическое измерение.
Поступок как «субъектынация без субъекта»
Однако остается еще одна проблема: вопрос возможности
(исполнения) этического поступка. Возможно ли вообще для
человеческого субъекта совершить (этический) поступок —
или, точнее, возможно ли, чтобы нечто вроде Поступка дей-
ствительно возникло в (эмпирической) реальности? Или же он
существует только в серии провалов, видеть которые как одно
целое, как Поступок, под силу лишь высшему Существу? Если
мы хотим уйти от «логики фантазии», заданной постулатами
бессмертия и Бога (точкой зрения Высшего Существа), мы вы-
нуждены утверждать, что Поступки действительно возникают в
реальности. Иными словами, мы должны нападать на Канта за
исключение им «высшего блага» и «высшего (или дьявольского)
ша» как невозможных для человеческого агента. Но не значит
ли это, что таким образом мы поддаемся другой фантазии и
просто заменяем одну фантазию на другую? Не подразумевало
Лакан Ж. Телевидение. М.: «Гнозис», 2(Х>(>. С. 41.
- 137-
ли бы такого рода требование то, что мы должны «феномсна-
лизировать» Закон, упразднить внутреннюю разделенность или
отчужденность человеческой воли и утвердить существование
дьявольских и/или ангельских существ? Кстати сказать, такое
соображение было высказано Джоан Копжек'*, защищающей
Канта от критиков, которые упрекают его — по ее выражению —
в «недостатке интеллектуального мужества», в том, что у него
не хватило смелости признать возможность дьявольского зла.
11опы гка мыслить дьявольское зло (как реальную возможность)
оборачивается, согласно этому аргументу, очередной попыткой
отрицать самоогчуждение воли и сделать из воли чистую, по-
ложительную силу. Таково волюнтаристское прочтение кантов-
ской философии, дополненное романтическим представлением
о возможности отрицания Закона.
Мы не оспариваем состоятельность данного аргумента per
$е. Однако проблема в том, что он оставляет нас с образом кан-
товской этики, который не особо далек от того, что мы могли бы
назвать «этикой трагического смирения»: человек — это просто
человек; он смертен, разделен в самом себе, и в этом заключает-
ся ею уникальность, его трагическое величие. Человек — нс Бог,
и он не должен пытаться действовать как Бог, ибо, если он будет
это делать, то неизбежно навлечет зло. Проблема этой позиции в
том, что она не в состоянии распознать настоящий источник зла
(в общепринятом смысле слова). Возьмем пример, чаще всего
приводимый. Холокост: мучить и убивать миллионы евреев на-
цистам позволяло не просто то, что они считали себя богами и
могли поэтому решать, кому жить, а кому умирать, а то, что они
видели себя орудием Бога (или какой-то иной Идеи), который
уже решил, кто может жить, а кто должен умереть. Несомненно,
опаснее всего нс мелкий бюрократ, возомнивший себя Богом, а.
'* Copjec ). Evil in the Time of the Finite Word // Copjec (ed.). Kudu al Evil (S
series: S2). London and New York: Verso, 1996. P. xvi.
- 138-
скорее, Бог, притворяющийся мелким бюрократом. Можно даже
сказать, что для субъекта труднее всего признать, что в опреде-
ленном смысле он — Бог, что у него есть выбор. Следовательно,
правильный ответ на религиозное обещание бессмертия — не
пафос смертного; основанием этики не может быть императив,
приказывающий нам расписаться в своей конечности и три*
путь свои «высшие», «невозможные» устремления, но, скорее,
императив, который призывает нас признать своим то «беско-
нечное», что может возникнуть как нечто, являющееся по сути
побочным продуктом наших действий.
Чего не удалось увидеть защитникам кантианского исклю-
чения «дьявольского зла», либо они просто прошли молча мимо,
так это симметрию (высшего) блага и (высшего) зла. Исключая
возможность «дьявольского зла», мы исключаем и возможность
блага; мы исключаем возможность этики как таковой, или, точ-
нее, мы утверждаем этический поступок в качестве чего-то, что
само по себе невозможно и существует лишь в своей извечной
неспособности «полностью» осуществиться.
Таким образом, наша критика Канта по этому вопросу со-
стоит не в том, что у него не хватило «смелости» принять нечто
столь радикальное и предельное как дьявольское зло. Напро-
тив, проблема в том, что предельность эта (которая требует ис-
ключения) сама по себе уже является следствием определенной
кантианской концептуализации этики. Для того, чтобы опреде-
лить источник этой проблемы, вернемся к «Критике практиче-
ского разума». В этой работе Кант разделяет, с одной стороны,
объекты чистого практического разума и, с другой, волю. Он
утверждает, что «единственные объекты практического разу-
ма — это объекты доброго и злого»'27. В то же время он определя-
ет полное соответствие воли моральному закону как святость.
Таким образом, у нас есть, с одной стороны, высшее благо как
Кайт И, Критика практического разума. С. 171.
- 139
объект практического разума и, с другой, святая воля как его
высшее состояние. Постулат бессмертия души функционирует
на основе этого разделения. Основная операция, введенная этим
постулатом, состоит в соединении объекта практического раз-
ума (высшего блага) с волей; в превращении его в объект воли
и постулировании того, что реализация этого объекта возмож-
на только при условии предположения о существовании святой
воли. Именно эта операция, с одной стороны, сближает Канта
с де Садом и его volonti de jouissance, «волей к наслаждению», а
с другой, заставляет Кан га (нс желающего быть де Садом) ис-
ключить высшее благо/зло как невозможные для человеческо-
го агента. Здесь я хотела бы возразить Канту, поскольку, на мой
взгляд, эта связь между обт>ектом и волей необязательна. Поэто-
му мой тезис состоит в том, что «высшее зло» и «высшее благо»
как синонимичные совершенному поступку действительно су-
ществуют; или, скорее, они действительно возникают — чего
не существует, так это святой или дьявольской воли.
У позиции этой обнаруживаются, разумеется, некоторые
важные последствия для статуса этического субъекта, но, пре-
жде чем изучить эту сторону вопроса, попытаемся доказать
утверждение о том, что предельный характер (требующий ис-
ключения) «дьявольского зла» сам по себе уже является след-
ствием определенной кантианской концептуализации этики.
Наиболее явно это можно увидеть в первой части притчи
Канта о виселице, которую мы не рассматривали в своем обсуж-
дении лжи. Кант придумывает две истории, призванные, во-пер-
вых, «доказать» существование морального закона, и, во-вто-
рых, показать, что субъект не может действовать вопреки сво-
им патологическим интересам по иным соображениям, нежели
соображения морального закона. Первая история повествует о
человеке, поставленном в положение, при котором его должны
казнить, как только он покинет спальню, при условии, что он
проведет ночь с женщиной, которую желает. Во второй истории.
- 140-
которую мы уже обсуждали, говорится о человеке, которому
предлагается либо дать ложные показания против кого-то, кто
в результате лишится своей жизни, либо самому подвергнуться
казни, если он этого не сделает. В качестве комментария к пер-
вой альтернативе Кант просто заявляет: «Не надо долго гадать,
какой бы он (мужчина, с» котором идет речь] дал ответ*. Что ка-
сается второй истории, Кант утверждает, что, по крайней мере,
можно представить, что человек, скорее, предпочел бы умереть,
нежели солгать и послать другого человека на смерть. Из этих
двух комментариев следует, что не существует никакой другой
«СИЛЫ», кроме морального закона, которая могла бы заставить
нас действовать в ущерб нашему благополучию и нашим «пато-
логическим интересам». Лакан выдвигает возражение, согласно
которому такая «сила» — а именно, наслаждение (в отличие от
удовольствия) — действительно существует:
«Убедительность первою примера зиждется на том, что
П(х>псдеииая с красавицей ночь предстает и нем парадок-
сальным образом как удовольствие — удовольствие, ко-
торое сравнивается с возможным страданием... Но обра-
тите внимание — стоит нам мысленным усилием перене-
сти проведенную с ламой ночь из разряда удоволы твии в
разряд наслаждении, как пример немедленно теряет силу,
так как наслаждение как раз и предполагает... принятие
смерти»IJ".
Аргумент Лакана тонок. Он не утверждает наслаждение в
качестве некой дьявольской силы, которая способна противо-
поставить себя закону. 11анротив, он види г в наслаждении саму
сердцевину закона: достаточно наслаждению, утверждает он,
стать формой страдания, чтобы вся ситуация полностью из-
менила свой характер и изменилось само значение морально-
Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга 7 (1959 -I960)). М: Изда-
тельство «Гнозис», Издательство «Логос». 2006. С. 244-245.
- I ll -
го закона. «Ведь любому не составит труда заметить, что если
нравственный закон и играет здесь какую то роль, то роль эта в
том и состоит, чтобы послужить этому наслаждению опорой»1”.
Другими словами, если — как утверждает Кант — ничто, кроме
морального закона, не может вынудить нас отбросить все свои
патологические интересы и принять собственную смерть, тог-
да случай кого-то, кто проводит ночь с женщиной, даже зная,
что заплатит за это жизнью, будет явАятыя случаем морально-
го закона. Это случай морального закона, этический поступок,
не ЯВЛЯЮЩИЙСЯ при этом «дьявольским» (либо «святым»). Это
решающий момент лакановского аргумента: есть поступки, ко-
торые полностью удовлетворяют кантовским критериям (эти-
ческого) Поступка, не будучи при этом ни «ангельскими»’, ни
«дьявольскими». Субъекту случается соверши ть поступок, хо-
чет он того или нет. Именно этот момент выходит за рамки
своего рода волюнтаризма, который привел бы к романтизации
дьявольского (либо ангельского) создания. Наслаждение (как
истинная сердцевина закона) нс является вопросом воли — или,
точнее, если это вопрос ноли, то только потому, что оно всег-
да возникает как нечто, чего субъект нс хочет. Что — согласно
Лакану — сближает Канта с де Садом, так это то, что он вводит
«жажду наслаждения» (высшее благо): то, что он делает реаль-
ное объектом воли. А это с неизбежностью ведет к исключению
(возможности) этого объекта (высшего блага либо «дьявольско-
го зла»), исключению, которое, в свою очередь, поддерживает
фантазию о его осуществлении (бессмертии души). То, что кто-
то мог бы желать собственной гибели, для Канта немыслимо —
это было бы дьявольским. Ответ Лакана не в том, что это все же
мыслимо и что имеют место даже такие экстремальные случаи,
но в том, что в этом нет совершенно ничего экстремального: на
Гам же. С. 245.
- 142-
определенном уровне каждый субъект, каким бы нормальным
он ни был, желает своей гибели, хочет он того или нет.
Другими словами, «ангелизация» добра и «дьяволизация»
зла составляют (концептуальную) цену, которую мы вынуж-
дены платить за превращение реального в объект воли — за
превращение совпадения воли с Законом в условие этическо-
го поступка. Это приводит к утверждению о том, что «герой»
поступка существует, что, в свою очередь, подводит нас к во-
просу статуса этического субъекта. Кант в значительной сте-
пени идентифицирует (этического) субъекта с его волей. В ка-
честве первого своего шага, он связывает этическое измерение
поступка с волей субъекта. Отсюда следует, что для того, чтобы
(успешно) совершить этический поступок, ему нужно было бы
быть либо ангельским, либо дьявольским субъектом. Однако к
человеческим существам не применим ни один из этих случаев,
и Кант исключает их как невозможные (в этом мире). Из этого
исключения ангелов и дьяволов следует бесконечный диакре-
зис, действующий в оставшемся. Субъект «перепоручается» не-
преодолимому сомнению, выражающемуся в стойкости вины:
он вынужден сепарироваться от своей патологии in indefinitum.
Другими словами, (внутренняя) разделенность воли, ее от-
чужденность от самой себя, оцениваемая многими критиками в
качестве наиболее ценного пункта кантианской этики, в сущно-
сти уже является следствием того, что Кант не сумел признать
более фундаментальное отчуждение: отчуждение субъекта в
поступке, отчуждение, которое подразумевает, что субъект —
не обязательно герой «своего» поступка. Если бы Кант признал
но фундаментальное отчуждение или разделение, его понятие
«успешного» поступка не потребовало бы ни святой, ни дья-
вольской воли.
Итак, что же именно это означает — что эго за «фундамен-
тальное отчуждение», которое Кант отказывается признать, и
каким образом его отказ становится очевидным? Он очевиден,
- М3-
опять же, в тех примерах, которые он предлагает нам рассмо-
треть для того, чтобы доказать свои теоретические положения.
Рассмотрим известный пример с депозитом:
«Я, например, сделал себе максимой увеличить свое со-
стояние всеми верными средствами. В данное время у
меня имеется депозит, владелец которого умер и не оста-
вил никакой расписки. Конечно, здесь подходящий случаи
применить мою максиму. Теперь я.хочу только знать, мо-
жет ли эта максима иметь с илу и как всеобщий практиче-
ский закон. Итак, я применяю ее к настоящему случаю и
спрашиваю: может ли она принять форму закона, стало
быть, моту ли я пси родством своей макс имы установить
также и такой закон: каждый может отрицать, что он при
нмл на хранение вклад, если этого никто доказать не мо-
жет? И я тотчас же обнаруживаю, что такой принцип, бу
лучи законом, уничтожил бы сам себя, так как это привело
бы к тому, что вообще никто не будет отдавать лены и на
хранение»”1.
Что именно говорит здесь Кант? Он говорит, что — выража-
ясь словами Лакана — нет вклада без вкладчика, равного своей
задаче. Нет вклада без вкладчика, полностью совпадающего с
и всецело сводимого к понятию вкладчик. Посредством этого
требования Кант фактически устанавливает в качестве условия
(этического) поступка не что иное, как святость воли (полное
соответствие воли моральному закону — это подразумевает-
ся под тем, чтобы быть «равным своей задаче»). Этот момент
можно сформулировать в более общем виде: пет (этического)
поступка без субъекта, равного этому поступку. Однако это
подразумевает стирание различия между уровнем акта выска-
зывания и уровнем самого высказывания: субъект высказыва-
ния должен совпадать с субъектом акта высказывания — или,
точнее, субъект акта высказывания должен быть полностью
сводим к субьеКТу высказывания.
Каю И. Критика практического разума. С. 143-144.
- 141-
С этой точки зрения, вероятно, нс является случайным то,
что ложь, или акт лжи, — самое «больное» место этики Канта.
11роблема, с которой мы имеем дело, — это как раз таки пробле-
ма или парадокс лжеца. Если лжец равен своей задаче, он ни-
когда не сможет сказать «Я лгу» (потому что он скажет правду,
и т. д.). Как сказал бы Кант, это невозможно, поскольку это сде-
лало бы ложь невозможной. Однако, как верно заметил Лакан,
это просто-напросто не так. Из нашего повседневного опыта
нам известно, что у нас нет проблем с принятием и понимани-
ем такого утверждения. Лакан определяет этот парадокс как
всего лишь кажущийся и разрешает его именно посредством
разделения субъекта акта высказывания и субъекта высказыва-
ния1'1. Я лгу — это означающее, которое образует часть, в Дру-
гом, сокровищницы словаря. Этот словарь — нечто, что я могу
использовать в качестве инструмента, или же нечто, что может
использовать меня в качестве «говорящей машины». Как субъ-
ект я возникаю на другом уровне, на уровне высказывания, и
уровень этот неустраним. Здесь мы вновь подходим к пункту,
объясняющему, почему субъект нс может прятаться за Законом,
представляясь всего лишь его орудием: посредством такого же-
ста исключенным оказывается именно уровень высказывания.
То, что «нет вклада без вкладчика, равного своей задаче»,
или «нет (этического) поступка без субъекта, равного своему
поступку», подразумевает, что в качестве критерия или условия
" См. Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Книга
Н (1964)). М.: «Гнозис», «Логос». 2004. С. 149: «Дело и том. что я, совер-
шающее акт высказывания, я акта высказывания, вовсе не совпадает с я
самого высказывания, то есть с тем шифтером, который его в высказыва-
нии обозначает. А потому оттуда, с иознции, из которой и высказывание
совершаю, ничто не мешает мне с полным нравом скатать, что я — то я, ко-
торое, в данный момент, шаска тынание формулирует — готово обмануть,
только что обмануло, обманет потом, а го и вовсе, говоря я лгу. признается
в намерении обмануть теперь же».
- 145-
осуществления поступка мы устанавливаем упразднение разли-
чия между высказыванием и актом высказывания. Упразднение
это постулируется затем как невозможное (для человеческих су-
ществ) и вто же время (в интерпретациях Канта) как запретное:
если мы пытаемся на деле его осуществить, то с неизбежностью
навлечем зло.
Однако решающий вопрос заключается в том, почему
упразднение этого различия должно быть критерием или необ-
ходимым условием поступка. К чему утверждение о том, что со-
вершение поступка предполагает упразднение этого расщепле-
ния? Можно рассмотреть поступок в другой, обратной перепек
тиве: именно поступок, («успешный») поступок, обнаруживаю-
щий в полной мере это расщепление, создает его присутствие.
С этой точки зрения, определением успешного поступка было
бы то, что он структурирован в точности как парадокс лже-
ца: эта структура идентична той, на мысль о которой наводит
лжец, говорящий «Я лгу», произносящий «невозможное» и по-
этому в полной мере обнаруживающий раскол между уровнем
высказывания и уровнем акта высказывания, между шифтером
«я» и означающим «лгу». Утверждать, как мы здесь утвержда-
ем, что субъекта или «героя» поступка не существует, означает,
что на уровне «лгу» субъект всегда патологичен (в кантианском
смысле слова), определен Другим, означающими, которые ему
предшествуют. На этом уровне субъект умаляем или «несуще-
ственен». Но дело заключается не только в этом. Если субъект
высказывания определен заранее (он волен использовать лишь
наличествующие означающие), то (шифтер) я определен ретро-
активно: он «становится порожденным на уровне высказывания
значением того, что производит оно на уровне акта высказыва-
ния»'^. Именно на этом уровне нам следует расположить этиче-
ского субъекта: на уровне чего то, что становится тем, что «оно
“ Там же. С. 149-150.
- 146-
есть» только в поступке (здесь — в «акте речи»), порожденном,
так сказать, другим субъектом1”.
Однако то, что поступок обнаруживает различие между
уровнем высказывания и уровнем акта высказывания, нс оз-
начает того, что субъект поступка — это субъект разделенный.
Напротив, нам очень хорошо известно, что когда мы действи-
тельно имеем дело с поступком, субъект «весь в своем поступ-
ке». Именно упразднение разделения субъекта обнаруживает
различие между высказыванием и актом высказывания, между
субъектом, который говорит или делает нечто, и субъективной
фигурой, вследствие этого возникающей. Разумеется, это не
шачит, что субъект поступка — это «целый» субъект, который
точно знает, чего он хочет, по, скорее, что субъект «реализует-
ся», «объективируется» в этом поступке: субъект переходит на
сторону объекта. Этический субъект — это не субъект, который
желает тот или иной объект, но, скорее, сам этот объект. В по-
ступке нет разделенного субъекта: есть «нечто» (лакановское fd)
и субъективная фигура, вследствие него возникающая.
Мы можем, таким образом, заключить, что поступок, в бук-
вальном смысле слова, следует логике того, что Лакан называет
«ацефальной субъективацией» или «субъектинацией без субъ-
екта»|Я.
’ II более поздней своей работе Лакан формулирует этот же раскол с точ-
ки зрения иною различия: Друюй/наслажденис. В oi ношении Другою и
не являюсь 1 норном своих поступков (io есть Другой «говорит/действует
через меня»); следовательно, я moi у нс считаться за них ответственным.
Однако есть еще что-то, что вырастает из этого поступка, а именно неко
горос наслаждение. Именно в этом фрагменте наслаждения должны мы
расположить субъекта и его ответственность. Болес подробно об этом см.:
Zitek S. The Indivisible Remainder. london and New York: Verso, 1996. P. 93.
Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Книга 11
(1964)). С. 195.
- 147-
6
Поступок и зло в литературе
оворя о знаменитом парадоксе Зенона (Ахиллес и черепа-
ха), Лакан отмечает: «Число имеет предел, и в этом смысле
оно бесконечно. Ахиллес, ясное дело, может лишь обо-
гнать черепаху — догнать он ее не в силах. Догнать ее он может
лишь в бесконечности |/п/шЛм4е)»,и.Этот комментарий позво-
ляет нам различить «два лика Ахиллеса»: его «де садовский» и
«донжуанский» лик. Эти «два лика Ахиллеса», как Mia покажем,
отлично иллюст рируют то, что .мы рассмотрели выше в качестве
двух аспектов кантовской теории поступка. С одной стороны,
мы имеем бесконечное приближение к святости воли, требую-
щее (де садовской) фантазии о бессмертии тела, а с другой —
«суицидальный» поступок, который всегда заходит «слишком
далеко», оставляя дыру в Другом, и таким образом становится
парадигмой «дьявольского зла». Иными словами, для соверше-
ния (этического) поступка либо требуется еще один шаг, либо
Лакан Ж. Еще (Семинар, Книга XX (1972/73)). М.: Изд во «Логос». Изд но
«Пюзис». 2011.С. 13.
- 148-
такой поступок уже остался позади; либо мы еще не достигли
объекта (желания), либо уже ушли вперед него.
«Де садовское движение» подразумевает, что мы будем при-
ближаться ко всему объекту желания ad infinitum. С каждым ша-
гом мы подходим к нему все ближе, но никогда в действитель-
ности не преодолеваем всего расстояния. Поэтому, как заявляет
де (Зад в своем знаменитом высказывании, у нас (всегда) имеется
еще одна попытка, которую надо совершить. Вот почему де са-
довская «парадигма» способна поразить нас своей занудностью:
истории де Сада развиваются крайне медленно, «шаг за шагом»
(как если бы Ахиллес и вправду пытался догнать черепаху); они
перегружены множеством «технических деталей» и длинных
отступлений. Кажется, будто у героев этих историй времени с
избы тком и что именно отсрочка получения удовольствия дает
им наивысшее удовольствие. Эта же парадигма управляет и тем,
что мы называем эротическим.
С другой стороны, мы имеем «донжуанское движение», воз-
можно, лучше всего описанное как слишком поспешная погоня.
В этом случае, каждый раз, отправляясь на поиски объекта же-
лания, мы движемся слишком быстро и немедленно обгоняем
его, поэтому вынуждены начинать все снова и снова. Если «де
садовская парадигма» монотонна (но все же привлекает нас сво-
им саспенсом), то «донжуанская» — повторяющаяся (но полна
приключений). Различие между двумя этими подходами можно
сформулировать также с точки зрения различия между подхо-
дами «часть за частью» и «один за другим» к объекту наслажде-
ния. В первом случае мы наслаждаемся телом другого часть за
час тью, но когда мы хотим «сложи ть кусочки вмес те», они никак
не могут составить целое. Одно. Во втором случае мы начинаем
с Одного, наслаждаемся множественностью «одного за другим»,
но никогда не можем сказать, что наслаждались ими всеми.
«Она», каждая из них, в сущности — та Одна-которой-меньше:
«Вот почему в любых отношениях между мужчиной и женщи-
- 149-
пой — ибо именно о женщине у нас идет речь [ей cuuse] — рас-
сматривать ее надо как Одну-которой-меньше (Une-en-rnoins). Я
уже обращал на это, говоря о Дон Жуане, ваше внимание...»'*.
Возможно, не случайно, что обе эти попытки (стремление со-
единить Другого «часть за частью» или «одного за другим»),
предпринятые всерьез, входят на территорию «дьявольского
зла». В этой главе мы подробнее рассмотрим логику этих двух
«подходов» к объекту желания как двух ответов на фундамен-
тальный тупик: тот тупик, что управляет отношениями между
волей и наслаждением как истинным ядром поступка. Мы возь-
мем Вальмона, героя «Опасных связей» Лакло, в качестве героя
де садовской парадигмы и Дон Жуана в качестве парадигмы са-
мого себя.
Случай Вальмона
Вся история, рассказанная в «Опасных связях», разворачи-
вается на фоне изначального мифа — мифических отношений
между Мертей и Вальмоном, которые были разорваны для того,
чтобы могла начаться нынешняя история. Эти отношения пред-
ставлены нам как своего рода «изначальное Единство», где со-
впадают любовь и наслаждение, именно постольку, поскольку
они несовместимы. Относительно этой несовместимости тон
романа находится в согласии с утверждениями Жака Лакана
из его семинара «Еще»: любовь имеет дело с идентификацией
и поэтому функционирует согласно формуле «мы — одно». На
другой стороне — наслаждение, jouissance, которое в принципе
никогда не все. Наслаждение телом другого всегда частично; оно
никогда не может быть Одним1'7. В начале романа Мертей пре-
Гам же. С. 153.
Лакая говорит: «Как прекрасно замечает де ('ад. этот своего рода канти-
анец, наслаждаться можно лишь частью другою. ибо гело нс Может об-
- 150-
достерегает Вальмона от его запланированного соблазнения го-
спожи де Турвель, говоря, что она может предложить ему лишь
полунаслаждение [demi-Jouissancel, подчеркивая, что в таких от-
ношениях 1 + 1 всегда образуют 2 (и никогда — 1, которое было
бы определением всего, не-полу наслаждения). Хотя в реальном
мире наслаждение всегда лишь полунаслаждение, в случае Мер-
тей и Вальмона имеет место «абсолютное самозабвение» и «ис-
ступление сладострастия, когда наслаждение как бы очищается
в самой своей чрезмерности»1’*. Это описание маркизы. Валь-
мон, с другой стороны, формулирует это так: «Когда мы сня-
ли повязку с глаз любви и заставили ее осветить удовольствия
своим сиянием, она позавидовала нам». В этих мифических
отношениях антиномия любви и наслаждения, таким образом,
упразднена — или, скорее, была упразднена.
В начале были (успешные) сексуальные отношения, дости-
жение Одного. Вальмон и Мертей разорвали эти отношения, по-
тому что их «призывают более важные цели», потому что позвал
долг. Они расстались на благо мира и начали «проповедовать
раздельно друг от друга истинную веру»*’*. Их изначальные от-
ношения, однако, сохранили свое присутствие во всех их после-
дующих авантюрах в качестве несоизмеримого мерила, в срав-
нении с которым все остальные их партнеры оказываются неа-
декватными, в соответствии с чем от изначального Одного от-
крываются серии. Именно эта несоразмерность — или, точнее,
угроза этой несоразмерности — является причиной ревности со
виться вокруг тела Другого настолько, чтобы включить его и собствен-
ное целиком и переварить подобно фагоциту. Поэтому и приходится до-
польствонагься небольшим обнятнем, вот гак, за плечики, а там и еще за
что-нибудь — ой. больно!» (Там же. С. 30-31).
“ Шодерло де Лакло. < Знасные связи. 11ер. с фр. 11. Я. Рыковой М.: Издатель-
ство ACT. 2018. С. 20.
' Гам же. С. 17.
- 151 -
стороны Мертей, равно как и Вальмона. Когда Мертей вступает
в отношения с Бельрошем, Вальмон, к примеру, говорит:
«Послушайте, прекрасный друг мои, пока вы делите себя
между многими, я ии в малейшей степени нс ревную: ваши
любовники для меня - лишь нас ледники Алекс анлра Вели-
кого, неспособные сохранить сообща то царство, где вла-
ствовал я один. По чтобы вы отдавали себя всецело олгго-
му из них, чтобы существовал друг он столь же счастливый,
как я, этого я не потерплю! И не надейтесь, что я стану
терпеть. Или примите меня снова, или хотя бы возьмите
второго любовника...»’*1.
Логика здесь такая: либо я один (Вальмон), либо ряд дру-
гих. И чем длиннее этот ряд, тем более это льстит Вальмону.
Разумеется, избранный партнер никогда не станет частью ряда.
Маркиза подтверждает это, когда вогнет на просьбу Вальмона о
заранее оговоренной награде за го, что ему удастся соблазнить
госпожу де Турвель, она говорит: «Иногда у меня появлялись
притязания на то, чтобы собою одной заменить целый сераль,
но я никогда не соглашалась быть просто одной из одалисок»141.
Другими словами, между маркизой де Мертей с одной сто-
роны и всеми другими женщинами с другой отношений, соот-
ношения, не существует. То же справедливо и для виконта де
Вальмона. Он приходит в ярость, когда маркиза (якобы) выдви-
гает на «должность» Одного (и только одного) кого-то другого;
Мертей приходит в ярость, когда виконт пытается поместить ее
в один ряд с другими женщинами.
Когда Одно распадается (как и должно), мы перемещаемся
в логику того, что математики называют «континуумом веще-
ственных чисел»: поскольку между любыми двумя заданными
вещественными числами всегда находится вещественное число,
,*> Там же. С. 43.
Гам же. С. 370.
- 152-
мы никогда не сможем отменить их различие, постепенно его
уменьшая, точно так же как Ахиллес никогда не сможет догнать
черепаху, последовательно сокращая часть расстояния между
ними. В сущности, он может обогнать черепаху, но достигнет ее
только в бесконечности. Как формулирует это кавалер Дансени
в письме к маркизе, се п cst pas nous deux qui ne sommcs qu 'un, c
est toi qui est nous deux. Речь здесь идет не о стандартной фор-
муле любви, мы двое — едины, суть в том, что Мертей — (они)
«оба». Отсюда позиция Мертей: быть одним с другим возможно,
только если ты (уже) оба.
На заднем плане авантюр и интриг Вальмона и Мерзей ма-
ячит предположение о том, что любовь можно создать и регу-
лировать «механически», что «пламя» ее можно усиливать или
уменьшать по желанию. Вальмон решает заставить госпожу де
Турвель влюбиться в него, поэтому разрабатывает стратегию
и систематически, шаг за шагом, применяет ее, не полагаясь на
волю случая. И госпожа де Турвель действительно влюбляется в
него. Предположение это, как отмечает Младен Долар, является
центральной темой в европейской литературе восемнадцатого
века. В своем анализе оперы Моцарта Соя’ fan tutte («Так посту-
паю! все женщины») Долар связывает его с более общим увлече-
нием машиной, моделью I’hommc-machinc или «авто.матоном» как
двойником автономной субтьективности Просвещения. Согласно
этой тематике, «самые возвышенные чувства можно создавать
механически с помощью законов детерминизма, их можно вызы-
вать экспериментально и искусственно»142. Человек, знающий это
(в Cost fan tutte — философ), может управлять этими машинами
как ему/сй вздумается, производя любые желаемые эффекты.
В романе Лакло в такой позиции находится именно маркиза
де Мертей. В письме 106, к примеру, опа утверждает, чтч> женщи-
Dolar М. La femme-machine И New Formations, 23, Summer 1994, London:
Lawrence & Wishart. 1*. 46.
- 153-
ны, подобные Сесиль, не более чем «machines aplaisir», «машины
для удовольствия». Она добавляет: «Но не надо забывать, что
все очень скоро узнают, какие пружины и двигатели приводят
в действие такого рода инструменты. Поэтому, чтобы использо-
вать это без опасности для самих себя, мы должны поспешить,
остановиться вовремя, а затем сломать его»14-'. Однако знание
это эффективно только до тех нор, пока доступно лишь избран-
ным. Становясь «общеизвестным», оно быстро теряет свою силу
и эффективность. Хотя не только знание отделяет во вселенной
«Опасных связей» автономных субъектов от автоматонов и
машин удовольствия. Мертей использует и другое выражение,
упоминая этих не-субъектов: «еаресеа». Espices — это люди ма-
шины, которыми можно управлять и обращаться с ними как
с вещами, которые равноценны друг другу, заменимы и могут
быть обменяны друг на друга. С другой стороны, мы можем по-
местить то, что Мертей называет sciiirats («злые люди»). Только
scilirai способен подняться выше статуса объекта, машины или
вещи. Другими словами — и это можно расценивать в качестве
главной темы восемнадцатого века — путь к автономности ле-
жит через Зло, зло как «этическую позицию», зло как проек т (а
не просто как «случайное зло»). Самого по себе знания недо-
статочно. По сути, это основа превосходства, однако для того,
чтобы превосходство это было эффективным, требуется нечто
большее: решение в пользу зла и силы упорствовать в этом, не-
смотря па последствия, даже ценой собственного благополучия.
Для целей нашего обсуждения очень интересным аспектом
«Опасных связей» является природа соблазнения Вальмоном
госпожи де Турвель. Цель Вальмона далека от того, чтобы быть
просто «победой» над госпожой де Турвель, чтобы просто прове-
сти с ней ночь. Последнее, скорее, должно стать побочным про-
дуктом другогсуглана. Замысел, который осуществляет Вальмон
’** Шодерло де Пакли. Опасные сняли. С, ММ.
- 154-
в отношении госпожи де Турвель, в действительности, уника-
лен; он не похож в точности на другие его замыслы. Турвель не
просто замужем, она еще и «счастлива в замужестве»; ее добро-
детель и верность «подлинные», они не — как в случае «боль-
шинства других женщин» — притворные, которых придержи-
ваются из-за принятых данных социальных норм и ценностей.
С самого начала Вальмон обращается с Турвель не просто как с
«еще одной», с ней не обращаются просто как с очередным лако-
мым кусочком для переменчивых аппетитов Вальмона. Мы мог-
ли бы зайти еще дальше, и сказать даже, что только соблазнив
госпожу де Турвель, Вальмон действительно становится самим
собой. До этого он — просто очередная версия Доп Жуана, неу-
томимый соблазнитель, покоряющий одну женщину за другой.
Соблазняя госпожу де Турвель, Вальмон кардинально смещает
парадигму соблазнения: логика «одна за другой» (или, скорее,
три за тремя) уступает место логике «кусочек за кусочком», шаг
за шагом: логике бесконечного приближения к цели.
Авантюру Вальмона делает столь сложной не только святая
добродетель госпожи де Турвель, по также — и особенно — ус-
ловия, заданные самим Вальмоном для этого замысла. Победа
должна быть полной, говорит он, имея в виду, что недостаточно,
чтобы госпожа де Турвель в момент обескураживающей страсти
поддалась его попыткам соблазнения. Напротив, акт ее капиту-
ляции должен быть обдуманным и трезвым решением. Вальмон
не желает госпожу де Турвель па уровне especcs, на уровне всех
других женщин — машин для удовольствия. Когда она делает
решающий шаг, этот шаг должен сопровождаться ясным осозна-
нием того, что она делает, и какими могут быть последствия ее
поступка. Другими словами, он желает госпожу де Турвель в ка-
честве Субъекта.
Вот почему Вальмон дважды отказывается воспользоваться
предоставленными ему возможностями. В первый раз — когда
он «смягчает» госпожу де Турвель «благородным поступком».
- 155-
Это эпизод, в котором Вальмон (зная, что Турвель установила
за ним «слежку») отправляется в соседнюю деревню и «велико-
душно» спасает очень бедную семью от конфискации ее имуще-
ства. Он сообщает о событии Мертей:
«Как же велика наша слабость, как сильна власть обсто-
ятельств, если лаже я, позабыв о своих замыслах, рис ко-
вал тем, чго преждевременное торжество могло отнять у
меня прелеть долгой борьбы с нею и все подробности ее
тяжкого поражения, если в порыве юношеского желания
я едва не обрек победителя госпожи де Турвель на го,
что плодом его трудов оказалось бы только жалкое пре-
имущество обладания лишней женщиной! Да, она должна
слаться, но пусть поборется, пусть у нее не хвагит сил для
победы, но окажется достаточно для сопротивления, пусть
она испытает вс ю полноту ошушения собственной слабо-
сти и вынуждеба будет признать свое поражение. Предо-
ставим жалкому браконьеру возможность убить из засады
оленя, которого он подстерег; настоящий охотник должен
загнать дичь»1”.
К этому отчету он добавляет: Се projet est sublime, nest pas?
(«Возвышенный замысел, не правда ли?»).
Данный отрывок заслуживает того, чтобы прокомментиро-
вать некоторые его моменты. Прежде всего, Вальмон намечает
различие между собой как личностью, как «патологическим
субъектом» (который почти захвачен желанием), и собой как
«профессионалом». Вальмон употребляет безличный оборот,
говоря, что почти подверг опасности «победителя госпожи де
Турвель», то есть себя как «профессионала». Второе, что здесь
важно — это его определение этой «опасности»: он рискует не
получить ничего за свой труд, кроме «жалкого преимущества
обладания» соблазненной им женщиной. Намерения Вальмона
в отношении госпожи де Турвель уникальны. 11ринципиальный
вопрос состоиТне в том, «получит» он ее или нет; а в том, «полу-
Шодерло де Лакло. Опасные связи. С. 63.
- 156-
чит» ли он ее нужным образом. Иначе говоря: самой по себе по-
беды для победы пе достаточно. Победа «жалкого браконьера»,
убивающего оленя, застигнув его врасплох — одно дело; совсем
другое — победа «настоящего охотника», загоняющего оленя и
не извлекающего выгоду из того эффекта, который производит
неожиданность.
Позже в повествовании Вальмону предоставляется еще
одна возможность, которую он вновь не использует. На этот раз
в объяснении он пишет Мертей: «Вы понимаете, что в данном
случае мне нужна полная победа, и я ничем не хочу быть обя-
занным случаю»145.
Нечто подобное он говорит и в других письмах. К примеру,
в письме 6 он говорит:
«Какое наслаждение го вызывать в ней угрызения совести,
то побеждать их. Я и не помышляю о том, чтобы сокру
вонь смушаюшие ее предрассудки! Они только увеличат
мое счастье и мок» «лаву. Пусть она верит в добродетель,
но пусть пожертвует ею ради меня. Пусть грех ужасает ее,
будучи не в силах «держать...»'*.
В письме 70 он формулирует это следующим образом:
«Согласно моему плану, она должна почувс твовать, хоро-
ню почувствовать пену и размер каждой жертвы, которую
мне принесет. Я не намерен привести ее к цели настоль-
ко быстро, чтобы раскаяние за нею не угналось. Я хочу,
чтобы добродетель ее умирала медленной смертью, а сама
она не < пускала глаз с этого жалсхтного зрелиша...»'47
Открывшаяся нам теперь перспектива позволяет отчетли-
вее увидеть, что преследует Вальмон. Он подводит госпожу де
' Гам же. (1276.
'" 'Гам же. С. 24.
" Гам же. С. 171.
- 157-
Турвель к тому, чтобы сделать определенный шаг, затем оста-
навливается, отступает и ждет, чтобы она полностью осознала
последствия этого шага, поняла все значение своего положения.
Если обычная процедура Вальмона состоит в том, чтобы соблаз-
нить женщину, заставить ее обесчестить себя, а затем бросить и
(по возможности) уничтожить ее, с госпожой де Турвель он про-
бует нечто иное: он пытается уничтожить ее до ее фактического
уничтожения. Другими словами, Вальмон планомерно подтал-
кивает госпожу де Турвель к области «между двумя смертями».
В своем исследовании «трагических» героинь трех романов
восемнадцатого века — «Новой Элоизы», «Клариссы» и «Опас-
ных связей» — Розэнн Рант отмечает, что у всех трех женщин
(Юлии, Клариссы и госпожи де Турвель) есть одна общая осо-
бенность: в определенный момент все они примыкают к живым
мертвецам^. Без преувеличения мы можем сказать, что эго
одна из ключевых тем не только «Опасных связей», но и всего
восемнадцатого века (и не только восемнадцатого, поскольку
тему эту можно обнаружить повсюду). Когда Вальмон говорит,
что Турвель должна «удерживать перед своим взором это мрач-
ное зрелище», эти слова должны напомнить о другом — на этот
раз кинематографическом — образе: фильме «Подглядываю-
щий». Сюжет этого фильма вращается вокруг группы женщин,
которые были убиты и у которых была одна общая черта: все
они умерли с выражением абсолютного ужаса в глазах. Выраже-
ние их лиц — не просто выражение лиц испуганных жертв; ужас
на их лицах невообразим, и никто из числа расследующих эти
убийства не в состоянии его объяснить. Это загадочное выраже-
ние лица становится главным ключом в расследовании, который
открывает, что же видели жертвы перед смертью, что вселило в
"" См.: KudU- К. Py/ng IVorJs.- 7/ie Vocabulary of Death in "three Eighteenth Century
English und French Novels H Canadian Review of Comparative Literature, bill
1979, Toronto: University of Toronto Press. P. 362.
- 158-
них такой ужас. Мы могли бы предположить, что ответом будет
го, что убийца — какой-то монстр, или что он носит маску мон-
стра. Но это не так. Выясняется, что разгадка тайны в том, ч то
жертвы видели свое собственное изображение в то время, когда
их убивали. Орудие убийцы состоит из двух длинных, похожих
на ножницы, лезвий, к концу каждого из которых прикреплено
зеркало, так что жертва может видеть, как лезвие пронзает ее, и
наблюдать собственную смерть. Но есть кое-что еще. Убийца —
кинорежиссер по профессии, который заманивает свои жертвы
в подходящее место под предлогом проведения «кинопроб» для
участия их в фильме. В определенный момент, во время «кино-
проб», убийца обнажает' два лезвия на конце штатива камеры и
движется вперед, чтобы убить жерт ву, в то время как она смо-
трит в зеркало, окружающее приближающийся объектив. Пока
огга наблюдает собственную смерть, подглядывающий все это
снимает — фокусируясь, в особенности, на выражении страха
на лице своей жертвы. Его одержимость далека от того, чтобы
просто убивать женщин. Как и в случае Вальмона, это просто
неизбежный побочный продукт «возвышенного плана». Все,
чего хочет подглядывающий, — это поймать на пленку выраже-
ние предельного ужаса на лицах своих жертв (и возможность
спокойно его потом изучить). Его наслаждение состоит в том,
чтобы наблюдать за тем, как другой наблюдает собственную
смерть. В данном случае, взгляд — это, буквально, объект его
фантазии.
Этот сценарий парадигматичен для наслаждения Вальмона
и его планов насчет госпожи де Турвель. Он хочет добиться от
нее полного осознания собственной смерти задолго до того, как
огга умрет; он хочет видеть, как смерть оставляет на живом ор-
ганизме свою отметину, повести свою жертву к той точке, где
огга вынуждена — если можно так выразиться — проживать
смерть. Вальмон говорит именно это, восклицая: “La pauvre
femme, elle se voit mourir" («Бедная женщина, она наблюдает за
- 159-
собственной смертью»). Именно это так сильно завораживает
его. Так что мы не можем не согласиться с Вальмоном, когда он
говорит, что его проект «возвышен».
Но что именно значит «проживать собственную смерть» и
«наблюдать за собственной смертью»? Неизреченное восклица-
ние, стоящее за “La pauvre femme, elie se veil mourir" — не что
иное как “L'heurcuse femme, elle se voit jouir’’ («Счастливая жен-
щина, она наблюдает за собственным наслаждением!»). Таким
образом, здесь мы имеем дело с образцовым случаем перверсив-
ной позиции в понимании Лакана: для перверта важно не найти
наслаждение для себя, а заставить Другого наслаждаться, вос-
полняя Другого, предоставляя прибавочное наслаждение, кото-
рого он лишен1*. Перверт хочет, чтобы Другой стал «полным»
субъектом, с помощью наслаждения, которое он заставляет по-
явиться со стороны Другого. Это намерение субъективировать
Другого, как мы увидели, в романе довольно очевидно.
Мы уже упоминали разделение Мертей между espices и
scclerat. Мы отметили, что только scelerat, «злой», способен до-
стичь уровня автономного субъекта, тогда как все другие оста-
ются просто машинами или вещами. Однако это еще нс все.
Жертве Вальмона, госпоже де Турвель, также надлежит быть
вознесенной, в определенный момент, с уровня множества про-
стых машин, espices. И совершенствует ее именно ее мучитель:
в его руках и через мучения, которым он ее подвергает, через
выбор, который жертва вынуждена сделать, опа становится
субъектом. Здесь в романе появляется выдающийся образ «пер-
вой смерти» Турвель — момента, когда она, в конце концов, вы-
бирает Вальмона и «сдается». Пером Вальмона Лакло дает нам
следующее описание госпожи де Турвель: «Представьте себе
женщину, сидящую неподвижно, словно окаменевшую, с за-
См. Miller | A. EtHmite (|1со11у(мик<>1и1111ый семинар), лекция от 16 апреля
1986.
- 160-
спившим лицом, с таким видом, будто она не думает, не слы-
шит, не внемлет ничему, а из устремленных в одну точку глаз ее
непрерывно и словно сами но себе льются слезы»”0. Разве это не
идеальный образ статуи Кондильяка15', статуи, которая близка
к тому, чтобы начать все сначала, из ничего, в качестве нового
(новорожденного) субъекта?
Еще один аспект романа, который особенно интересует нас
здесь, в отношении этики, эго вопрос желания и вины Вальмо-
на, возникающих из его отношений с маркизой де Мертей. В
определенный момент Вальмон предает свои отношения или
договор с маркизой и отрекается, таким образом, от своей эти-
ки и своего долга. Эта сторона повествования в сжатой форме
представлена в знаменитом письме 141, в котором маркиза де
Мертей пишет письмо-в-письме, которое Вальмон впослед-
ствии просто перепишет и пошлет госпоже де Турвель. Мы име-
ем в виду знаменитое риторическое письмо, в котором каждая
мысль заканчивается фразой “се nest pas пш/ан/е"(«не моя в том
вина»):
" I Подерги» де Лакло. Опасные связи. С. 365.
В своем «Трактате об ощущениях» Эпеин Бонно, аббат де Кондильяк изо-
бретает весьма своеобразный мысленный эксперимент, который призван
позволить нам представить происхождение понимания из ощущения как
materia prima. Он предлагает нам представить статую, которая внутрен
нс организована точно так же, как мы, но снаружи нокрыта мрамором и
оживлена духом, который (пока) нс содержи» никаких идей. Мрамор, по-
крывающий поверхность статуи, не позволяет ей использовать никакие
из своих чувств. Кондильяк предлагает читателю поставить себя на место
«той статуи и последовать за ним в путешествие, во время которою он бу
дет открывать чувства «для различных впечатлений, которые они способ
ны испытывать» (Кондильяк Э. Сочинения: В 3-х т. Т. 2. М.: «.Мысль», 19Я2.
С. 192). Illai за шагом он будет соскребать мрамор с тела статуи, ч»обы
расчистить (в ра«личных сочетаниях) путь для различных чувств и таким
образом «проследить», как »[и>рмируи>1Ся идеи в деве гвенном духе ста» уи.
- 161 -
«Псе приедается, мои ангел, таков уж такой природы: не
моя в том вина.
И если мне наскучило приключение, полностью поглошав-
шее меня четыре гибельных ме< япа, — не моя в том вина,
[ели, например, у меня было ровно столько любви, сколь-
ко у тгЧтя лгМтролетели — а лого, право, немало, — нечего
уливляткя, что первой пришел конец тогда же, когда и
второй. Не моя в том вина.
Из этого следует, что некоторых пор я тебе изменял, но
надо сказать, что к этому меня в известной степени выну
ждала твоя неумолимая нежноеть. Не моя в том вина.
А теперь одна женщина, которую я безумно люблю, требу-
ет, чтобы я тобою пожертвовал. Не моя в том вина.
Я понимаю, что это — отличный повод обвинить меня в
клятвопреступлении. Но если природа наделила мужчин
только искренностью, а жен ши нам дала упорство, — не
моя в том вина.
Поверь мне, возгдли другого любовника, как я взял дру-
гую любовницу. Это хороший, лаже превосходный совет.
А если он прилеп я тебе не по вкусу, — не моя в том вина.
Прошай, мои ангел, я овладел тобой с радостью и покидаю
без сожалении: может быть, я сше вернусь к тебе. Iакоюа
жизнь. Не моя в том вина»”*.
Это не вина Вальмона, а псе эго из-за того, что таков за-
кон природы, потому что госпожа де Турвель сама вынудила его
поступать так, как он поступает, потому что другая женщина
требует этого, потому что природа одарила мужчин лишь ис-
кренностью, и потому что такова жизнь. Риторика аргумента
оформлена таким образом, что доводит до абсурда свою соб-
ственную основу по мере продвижения вперед. Настойчивое
повторение фразы «это не моя вина» (то есть я не мог посту-
пить иначе) в полной мере выражает гот факт, что все могло
быть иначе, если бы только Вальмон того захотел. И именно
это, разумеется, является самым болезненным для госпожи де
Турвель. Читая это письмо, она оказывается в позиции утраты
11|||дср;и1 де Дакии. Опасные связи ( 408.
- 162-
того самого, ради чего пожертвовала всем остальным. Это еще
одна версия процесса становления (этическим) субъектом.
Это письмо — письмо фатальное, письмо, написанное от-
равленным пером, которым Вальмон буквально убивает госпо-
жу де Турвель — или же, точнее, это письмо — письмо, которым
маркиза де Мертей, с помощью «меча»'” Вальмона, убивает го-
спожу де Турвель.
В этом эпизоде Вальмон выставляет себя полным «муда-
ком». Мертей сделала из него круглого дурака:
«Да, виконт, вы сильно любили госпожу де Гурвель, вы
даже и теперь любите ее, безумно любите, но из-за того,
что меня забавляло стыдить вас этой любовью, вы мужест-
венно пожертвовали ею. Вы бы и тысячью жемшин по-
жертвовали, лишь бы не снести насмешку. Вот ведь куда
заводит нас тщеславие! Лесах прав, когда говорит, что
оно — враг счастья»'4.
С другой стороны, весь этот роман заканчивается для мар-
кизы резким пробуждением, поскольку ее давнее подозрение
относительно того, что Вальмона влечет к ней только его тщес-
лавие, оказалось абсолютно оправданным.
Где мы можем расположить тот решающий момент, когда
Мертей полностью убеждается в том, что Вальмон действитель-
но влюблен в госпожу де Турвель? Именно тогда, когда Вальмон,
но его собственным словам, жертвует госпожой де Турвель.
Жертва эта, поскольку это именно жертва, далека от того, что
бы свидетельствовать о безразличии к госпоже де Турвель; это
Мерзей говорит Вальмону
•Ах. поверьте мне. виконт. когда одна женщина наноси г удар в сердце дру-
гой. она редко не понадает в самое уязвимое место, и такая рана не зажи-
нает. Нанося удар этой женщине или, вернее, направляя ваши улары, я нс
ыбынала, ЧТО она — моя соперница, ч го была минута, когда вы предпочли
ее мне, и. наконец, что вы сочли меня ниже ее» (С. 415).
Шодерло де Лакло. Опасные связи. С. 414.
- 163-
доказательство его любви к ней. На этапе игры, ведущем к при-
знанию Вальмоном того, что потеря Турвель была жертвой,
Мертей избирает лучший способ обнаружить его истинные
чувства к госпоже де Турвель. Она ставит для него ловушку в
регистре желания и вины. Вопрос для нее не в том, нарушил ли
Вальмон «объективно» правила, которым они оба поклялись
следовать. Ключевой вопрос — нарушил ли он их «субъектив-
но», на уровне своего желания. Поэтому смысл ловушки Мер-
тей не в том, чтобы выяснить, готов ли Вальмон пожертвовать
госпожой де Турвель, а в том, чтобы выяснить, считает ли он
жертвой разрыв с ней. Вопрос не в том, поступил ли Вальмон
«объективно» плохо; истинный вопрос в том, чувствует ли он
себя виноватым — если он действительно чувствует себя вино-
ватым, тогда для маркизы он виновен. Мертей отлично знает,
что если Вальмон виновен, он ответит на ее провокации именно
так, как он это и делает: жертвой. Если Вальмон чувствует себя
виноватым, тогда логика сверх-я автоматически приведет его к
тому, чтобы взять самое ценное для него и пожертвовать им.
Это письмо содержит еще один поворот. Фраза се nest pas
та fautc не является изначально изобретением Мертей; таким
образом, то, что мы здесь имеем, — это не просто «письмо, ско-
пированное с письма-в-письме». В основе всего этого лежит
другое письмо, которое Вальмон написал Мертей после своего
«успеха» с госпожой де Турвель. В этом письме он говорит, по-
мимо всего прочего: «...нет, я не влюблен, и не моя вина, если
обстоятельства вынуждают меня изображать влюбленность»1”.
Именно в письме Вальмона к маркизе мы впервые сталкиваемся
с выражением «это не моя вина». Именно эта фраза заставляет
Мертей осознать серьезность ситуации, эта строка, на которую
она отвечает, рассказывая ему историю о друге, который, по-
добно самому Вальмону, то и дело совершал глупые поступки,
156 Гам же. С. 398.
- 164-
а потом утверждал, что это не его вина. 1Уто истории, которую
Вальмон копирует из ее письма и посылает госпоже де Турвель,
письма, которое мы уже цитировали.
Мертей отлично знает, что именно фраза се nest pas mafaute
является наиболее чистой формой признания вины. Она от
лично знает, что из-за лежащей в их основе логики, такого рода
утверждения, как «обстоятельства вынудили меня это сделать»,
«я не мог иначе», «это было выше моих сил» представляют со-
бой лучшее доказательство вины субъекта. Они показывают,
что субъект «поступился своим желанием» [cede sur son disir].
Определение того, что мы могли бы назвать «законом желания»,
состоит в том, что желание не обращает никакого внимания на
«законы природы», на то, как «устроен мир», или на «силу об-
сюягельств». Именно это связывает «логику желания» с (изна-
чальным) планом маркизы и Вальмона. Так что, когда Вальмон
обращается к ней с таким, глупым оправданием, Мертей воспри-
нимает это как возмутительное оскорбление. Письмо в письме,
которое она посылает Вальмону и которое он затем копирует и
посылает госпоже де Турвель, — это не только «нож в сердце»
последней, но и острое напоминание Вальмону, что такого рода
риторика под стать лишь автомату, а не автономным субъектам.
Другими словами, это напоминание, что, хотя механические че-
ловеческие создания, espiceSy можно одурачить подобного рода
«фаталистической чушью», для человека, считающего себя авто-
номным субъектом, непростительно использовать такое оправ-
дание, обращаясь к другому автономному субъекту. Раздраже-
ние Мертей происходит от того, что Вальмон смеет говорить ей,
что «это не его вина» — что он показывает, что недооценивает
ее, равно как и себя. Он недооценивает себя просто потому, что
использует такое убогое оправдание, и ее, потому что вери г в го,
что она на это «купится».
Этот момент, касающийся закона желания, согласуется с
коммент ариями Лакана в «Этике психоанализа»:
- 165-
«Бываем, что предательство терпят, что при мысли о благе
... субъект умеряет свои п|М4тяз,г>1ия, говоря что ж, коль
дело обстоит таким образом, откажемся от наших видов
на будущее, так как оба мы, во жилом случае, я, лучшего
не заслуживаем, гак что пойдем лучше обшим путем. Эго и
есть, имейте в виду, с труктур того, что я называю посту-
питься < воим желанием.
Когда предел, где я представил вам связанными воедино
презрение к другому и презрение к себе с амому, оказыва-
ется пройден, обратного пути уже нет»1’*.
Именно это и происходит с Вальмоном: он встает на путь
невозврата. Волее того, он делает это как раз таки во имя блага
(согласно мнению Лакана). Когда Вальмон осознает серьезность
ситуации, он в отчаянии прибегает к своей последней надежде:
он предлагает маркизе, сделку. Он пишет ей совсем как ревпи
вый супруг, ставя ее роман с Дансени на тот же уровень, что и
его роман с Турвель, и предлагая, так сказать, взаимное проще-
ние. После того, как маркиза резко отвергает эту сделку, равно
как и ее «шантажный» подтекст («если не хочешь меня потерять,
лучше делай, как я говорю»), в другом письме он предлагает
Мертей, чтобы она тоже «отказалась от своего желания», иначе
это уничтожит их обоих. В письме 152 он говорит ей примерно
следующее: Каждый из нас обладает всем необходимым, чтобы
разрушить другого. По зачем это делать, если вместо этого мы
можем восстановить нашу дружбу и мир? Выбор за тобой, но ты
должна знать, что отрицательный ответ будет принят в качестве
объявления войны. Ответ Мертей таков: Отлично, да будет во-
йна. Таким образом, справедливо будет сказать, что маркиза —
единственная, кто остается верным своему долгу до самого кон-
ца и отказывается терпеть предложение Вальмоном взаимного
предательства — она отказывается бросать свое желание:
Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга 7 (1959-1960)). М.: Изда-
гельегно «Пюзио. Издаи-льспя! «Логос», 2006. С. 4ОВ-4П9.
- 166-
«То, что я называю поступиться своим жел.и«к‘м, всег-
да сопровождается и судьбе субъекта... <яцм‘делснным
предательством. Либо субъект изменяет своему назначе-
нию... Либо, еще проще. он позволяет тому, < кем вместе
посвятил себя какому-то лелу, обманул» свои ожидания и
не выполнить условия (оглашения, которое они таключи-
ли, независимо от того, временное это соглашение, или
постоянное, несет ли сто выполнение счастье, или беду,
идет ли речь о восстании, или о побеге»”7.
Когда Вальмон пишет: «не моя вина, если обстоятельства
вынуждают меня изображать влюбленность», он входит в игру,
весьма отличную от той, в которую он играл прежде. Мы могли
бы определить претерпеваемый им сдвиг как сдвиг с перспек-
тивы «морального закона» (т. е. закона, связанного с позицией,
которую он принимает в качестве своего принципа, который
определяет его субъективность) к перспективе закона сверх-я.
Сдвиг этот заметен, прежде всего, по тому, как он отвечает на
письмо маркизы. Он отлично осознает свою вину, но понима-
ет все неправильно: отказ от госпожи де Турвель он принимает
за цену, которую вынужден заплатить, чтобы продолжить дви-
гаться своими старыми путями и помириться с маркизой. Он не
понимает, что, что бы он ни делал, будет только хуже. Маркиза
ничуть не сомневается в том, что он способен пожертвовать са-
мым дорогим для него. Смысл в том, что эта жертва — лучшее
доказательство его вины. Бросит ли он Гурвель или нет — «это
технический момент». Что бы он ни сделал, начиная с этого мо-
мента, этого будет или слишком много, или слишком мало, и
этого достаточно для того, чтобы установить, что здесь мы име-
ем дело со сверх я. Он приносит жертву, которую от него требу-
ют, отвергает самый дорогой для него объект, но делая это, он
лишь сильнее запутывается в силках сверх-я. Это очень замет-
но, когда он пишет маркизе, что лишь одно может принести ему
Гам же. С. 40К.
- 167-
еще большую славу; возвращение госпожи де Турвель. Таким
образом, поступок Вальмона — это поступок, который остает-
ся, по своему существу, несовершенным. Чтобы его совершить,
он (постоянно) вынужден делать «еще одну попытку».
Случай Дон Жуана
То, что делает Дон Жуана (здесь мы сконцентрируемся на
наиболее проработанной версии этого мифа, пьесе Мольера)
фигурой дьявольского зла, это не его распутная жизнь, его гре-
ховность. «Дьявольский» характер его позиции — как и в кан-
тианском определении дьявольского зла — проистекает из того,
что зло, которое он олицетворяет, — не просто противополож-
ность тому, чтобы быть добрым, и поэтому его нельзя судить
согласно (обычным) критериям добра и зла. Несомненно, это
обусловлено тем, что его упорствование но «зле» постоянно, что
оно имеет форму программы, «принципиального неподчине-
ния» (существующим) моральным нормам. Это хорошо видно в
пьесе Мольера, где Сганарель (слуга, сопровождающий Дон Жу-
ана в его ст ранствиях) представлен в качестве кого-то, кто верит
в добро, кто ненавидит грех и верит в Бога, но кто, в то же самое
время, готов идти на многочисленные уступки и, в отличие от
Дон Жуана, ловко подстраивает свои принципы под сиюминут-
ные потребности и выгоды.
11озиция Дон Жуана не руководствуется логикой трансгрес-
сии и отрицания (противостояния, мятежпости, спора). Его
единственное нет — это нет, которое он посылает раскаянию
и милосердию, которые ему предлагаются, но которые он упор-
но отвергает. Его позиция это не, как предполагают некоторые
толкования, позиция «просвещенного атеиста», для которого
«нет ничего снятого». Как заметил Камиль Дюмулье — по мо-
ему мнению, верно — атеист, в действительности, только того
и ждет, чтобы мы могли предоставить ему некие «истинные до-
- 168-
казательства» веры15*. Для позиции атеиста характерно то, что
он готов с жадностью «ухватиться» за первое попавшееся «ве-
щественное» доказательство божественного существования и
стать, таким образом, истовым верующим. Дон Жуан, конечно
же, ничего подобного нс делает. Небеса буквально осыпают его
кучей «весомых доказательств», подтверждающих существова-
ние Бога (статуя, которая двигается и говорит, явление женщи-
ны, меняющей свою форму и становящейся Временем, и т. д.),
доказательств, которые убедили бы даже самого закоренелою
атеиста, по перед лицом этих доказательств Дон Жуан остается
непреклонен.
Таким образом, с неизбежностью возникает вопрос, могло
ли в «коммуникации» между Небесами и Дон Жуаном не быть
изначального недопонимания. Дон Жуан никогда не говорит о
том, что он сомневается в существовании Бога. О чем он гово-
рит, так это о том, что все, во что он верит, это то, «что дважды
два — четыре, а дважды четыре — восемь». Обычно это знаме-
нитое утверждение принимают за наиболее очевидное выра-
жение его атеизма и цинизма. Однако в картезианской вселен-
ной — которая, несомненно, является также и вселенной Дон
Жуана — сказать, что мы верим в то, что дважды два — четы-
ре, все равно что сказать, что мы верим в существование Бога.
Только правдивый Бог может гарантировать, что эта «матема-
ическая истина» — вечная и неизменная. Нам также извест-
но, что для Дон Жуана необходимо, чтобы истина математики
оставалась неизменной, поскольку ему (на этот раз — Дон Жу-
ану Моцарта) нужно производить важные подсчеты: 640 в Ита-
лии + 231 в Германии + 100 во Франции + 91 в Турции + 1003 в
Испании. (Mille е Ire, знаменитое число Дон Жуана, учитывает,
таким образом, только его завоевания в Испании. Если мы сум-
мируем его список, то получим число 2065. Если мы посчитаем
' См.: Duinoulic С. Don /пап ои I'heroisme du desir. Paris: PUF 1993. P. 106.
- 169 -
его «результаты» в каждой стране, равно как и общий итог, то
увидим — как уже отметил Кьеркегор, — что большая часть его
чисел — случайные, «не круглые» [231, 91, 1003, 2065J. Как след-
ствие, вероятно, становится возможным связать эффект таких
чисел с тем, что Лакан определяет термином pas-toute [не-пол-
ное, не-все|. В этом смысле, иронично, что единственная стра-
на, в которой Дон Жуан образует «круглое» число завоеваний
1КМ)]. — это Франция. Таким образом, Франция весьма пора-
зительным образом не соответствует ист инному духу Дон Жуа-
на — нам пришлось ждать Лакана, чтобы развенчать миф о том,
что во Франции «сексуальные отношения» существуют более
полно, чем где-либо еще.)
Позицию Дон Жуана лучше всего можно было бы описать
следующим образом: «Разумеется, я верю (или даже: я прекралю
знаю), что Бог существует — и что из того?». Именно это делает
его позицию столь скандальной, неприемлемой, немыслимой и
«дьявольски злой». Все герои пьесы (включая Небеса, которые,
несомненно, являются одной из dramatis personae, поскольку не-
посредственно вмешиваются в события) убеждены в том, что
Дон Жуан поступает так, как поступает, потому что не верит
(или не знает), что Верховный Судья действительно существует,
им кажется, что ему стоит лишь увериться в Его существовании,
и все изменится. Что абсолютно немыслимо в этой вселенной,
так это то, что кто-либо, не сомневающийся в существовании
Бога, мог бы жить с полнейшим пренебрежением к Нему.
И все же. именно этот раскол воплощает в себе Дон Жуан.
Именно поэтому его позиция становится абсолютно невыноси-
мой (для общества) лишь и тог момент, когда он — несмотря на
все весомые доказательства и милосердие, предложенное ему, —
издает свое последнее «Пет и еще раз нет!». Так что он выходит
далеко за рам к той банальности, что для него, как и для любо-
го другого «атеиста», было бы благоразумным покаяться перед
смертью, сказав: «В конце концов, никогда не знаешь наверняка.
- 170-
что может ждать впереди, сделаем-ка это на всякий случай...».
Дон Жуан слишком хорошо знает, что ждет его впереди; смысл
в том, что, несмотря на это знание, он отказывается каяться и
«перестраховаться ».
Согласно неподтвержденной истории, Вольтера (еще одно-
го известного «атеиста») видели однажды, когда он, в знак при-
ветствия, коснулся своей шляпы, проходя мимо церкви. Позже,
согласно той же истории, человек, наблюдавший эту картину,
насмешливо спросил Вольтера, как же так вышло, что он, за-
клятый атеист, вынужден был снимать шляпу перед церковью.
Вольтер выглядел удивленным и ответил: «Что ж, возможно, мы
с богом и вправду не поддерживаем общение друг с другом. Но
мы все еще здороваемся».
Этой историей можно воспользоваться также для описания
позиции Дон Жуана. Показательной в этом отношении является
сцепа в пьесе Мольера, которая происходит в лесу, где Дон Жуан
со своим слугой Сганарелем встречают нищего:
НИЩИЙ. Может, сударь, вы мне милостыню подадите'
ЛОН ЖУАН. Вот оно что! Твои советы, как я нижу, нс были
бескорыстны.
НИЩИЙ. Я бедный человек, сударь, и уже десять лет, как живу
один в этом лесу. Заставьте вечно за вас (юта молить.
ДОН ЖУАН. 1ы попроси у неба, чтобы оно лало тебе платье, а
о чужих делах не беспокоят я.
СГАНАРЕЛЬ. Ты, добрый человек, не знаешь моего господина:
отт верит только в то, что дважды два — четыре, а дважды
четыре — восемь.
ДО1t ЖУА) I. Что гы делаешь в этом лесу?
НИШИИ. Всякий лень молим ь о здравии добрых людей, которые
мне что-нибудь дают.
ДОН ЖУА11. Так не может быть, чтобы ты в чем цибуль терпел
нужду.
НИЩИЙ. Увы, сударь, я очень бедствую.
ДОН ЖУАН. Ну, вот еше! Человек, который вес ь лень молится,
ни в чем нс может иметь недостатка.
- 171 -
НИШИЙ. Уверяю вас, сударь: у меня часто и куска хлеба нет.
ДОН ЖУАН. Вог странное дело! Плохо же гы вознагражден за
свое усердие. Ну, гак я тебе дам сейчас луидор, но за это ты
должен побогохульствовать.
НИШИЙ. Ла что вы, сударь, неужто вы хотите, чтобы я совершил
такой грех?
ЛОН ЖУАН. Твое дело, хочннь — получай золотой, не
хочешь — не получай. Вот смотри, это тебе, если ты будешь
боюхульствовать. Ну, богохульствуй!
НИШИЙ. Сударь...
ДОН ЖУА11. Иначе ты его не получишь.
СГЛНАРЕЛЬ. Да ну, побогохульствуи немножко! беды тут нет.
ДОН ЖУАН. На, бери золотой, говорят тебе, бери, только
богохулмтвуй.
НИШИЙ. Нет, сударь, уж лучше я ум[>у с голоду.
ДОН ЖУАН. На, возьми, я даю тебе его из человеколюбия'”.
Особенно интересен этот эпизод тем, что допускает два ди-
аметрально противоположных толкования. Согласно первому,
Дон Жуан выходит из встречи с нищим совершенно повержен-
ным. Нищий не поддается искушению и, следовательно, дока-
зывает Дон Жуану, что Добро, которое последний презирает
и в которое не верит, все же существует. С этой точки зрения,
заключительный жест Дон Жуана — то, что он все-таки дает
деньги бедняку, — действует в качестве отчаянного жеста уни-
женного господина, при помощи которого он пытается сохра-
нить остатки достоинства и гордости. Только господин может
позволить себе быть столь великодушным, чтобы раздавать
деньги, когда и кому пожелает. Итак, единственное, что отлича-
ет Господина (Дон Жуана) от Раба (нищего) в вышеизложенной
сцене, — это жест «милосердия», который может позволить себе
лишь господин.
'" Мольер Ж,-Б. Дон Жуан или Каменный гость. Здесь и дальше цитаты из
«Дон Жуана» приведены в переводе А. В. Федорова.
- 172-
С другой стороны, ту же самую сцепу можно понять как
триумф Дон Жуана, как освящение его собственной позиции.
Чтобы это увидеть, мы не должны упустить из виду тот факт,
что нищий — не просто противоположность Дон Жуана; оба го-
воря! на одном языке. Дон Жуан встречает себе подобного, он
встречает свой «позитив» (в фотографическом смысле слова).
Речь идет о встрече «высшего Блага» и «высшего Зла», каждое из
которых говорит на одном и том же языке. Это жуткое сходство
особенно поразительно, если мы сравним доводы Дон Жуана
и нищего с призывом Сганареля: «Да ну, побогохудьствуй не-
множко! Беды тут нет», — являющимся прекрасным примером
обывательской логики (всеобщего) Блага. С точки зрения этой
логики, чрезмерное настаивание на чем либо — как бы хороша
ни была сама эта вещь — автоматически воспринимается как
нечто возмутительное, разрушающее гармонию сообщества.
Хотя сквернословие — это зло, предпочтение умереть, вместо
того чтобы «немножко побогохульствовать», выдает элемент де-
монического, опасного, дестабилизирующего'**. Таким образом,
с одной стороны, мы имеем Дон Жуана, у которого есть очевид-
ные причины покаяться, но который отказывается это делать;
и, с другой, кого-то, кто нс имеет очевидных причин не выру-
гаться, но который отказывается это делать. Иными словами,
Это нарушение, вызнанное чрезмерным настаиванием на благе, уже было
о । мечено Спавосм Жижеком:
•Достаточно вспомнить Томаса Мора, католического святого, который
сопротивлялся давлению Генриха VIII одобрить ею развод... С 'комму
нитаристскои* точки (рения сю прямота была "иррациональным" самодс-
структивным жестом, который был "злым" в юм смысле, что он разрезает
ткань социального тела, угрожая незыблемости короны и. поэтому, всему
социальному порядку. Таким образом, хотя мотивы Томаса Мора были не-
сомненно “благими", сама формальная структура сю поступка была *ра
дикалыю злой": это был акт радикального неповиновения. который пре-
небрег Благом общества» (Ziick S. Tarrying with the Negative. Durham. NC:
Duke University Press. 1993. P. 97).
- 173-
оба находятся в такой позиции, где все очевидное (божествен-
ные знамения в случае Дон Жуана и полное отсутствие таких
знамений в случае нищего) говорит в пользу поступка, который
они оба с одинаковым упрямством отвергают. Таким образом,
заключительный жест Дон Жуана, его милосердие, принимает
совершенно иное значение: он дает деньги бедняку не вопреки
его стойкости, а из-за нее; его жест уже не акт милосердия, по,
скорее, жест господина, который узнает и признает в рабе рав-
ного себе: другого господина.
В отношении этого прочтения ситуации с точки зрения ди-
алектики господина и раба можно предложить еще одно объ-
яснение того, что же такого скандального в позиции Дон Жу-
ана. Где еще, и между какими сторонами, фигурирует н пьесе
эта диалектика? При более пристальном изучении становится
видно, что фактически она имеет место между Дон Жуаном и
Богом (Небесами, статуей Командора). Это особенно справед-
ливо в мольеровской версии «Дон Жуана», в которой пропуще-
на сцена, с которой обычно начинается история: сцена, в кото-
рой Донна Анна оплакивает своего отца (Командора, убитого
на дуэли с Дон Жуаном) и требует мести. Многие интерпрета-
торы утверждали, что, вырезав эту начальную сцену, Мольер
совершил драматургическую ошибку, поскольку финал пьесы
(конфронтация Дон Жуана со статуей Командора) теряет при
этом необходимую мотивацию. Однако можно также предпо-
ложить, что посредством этого пропуска Мольер сделал нечто
иное — что таким образом он сдвинул центр драмы. Статуя
Командора больше не изображает кого-то, у кого есть личные
причины мстить Дон Жуану, вместо этого в страшной статуе мы
узнаем посланника Небес, Потустороннего. Таким путем на пе-
редний план выходит другая драма: та, что имеет место между
Дон Жуаном ^Небесами, в которой Дон Жуан парадоксальным
образом занимает позицию раба. Борьба между господином и
рабом (при Абсолютном Господине, Смерти, на заднем плане)
- 174-
становится, таким образом, борьбой между господином и Абсо-
лютным Господином (воплощенном в статус Командора). С этой
гонки зрения, позиция Дон Жуана — это позиция раба, который
нс отступает перед Абсолютным Господином (Смертью) и отка-
зывается принять символическое соглашение, предложенное
ему (покаяние, ведущее к отпущению его грехов), которое по-
«волило бы ему избежать реальной, равно как и символической
смерти (вечного проклятия). Даже прекрасно зная, что «удар,
обращенный на другого, — эго удар по себе»1'’1,он, тем не менее,
упорствует в своей позиции до конца.
Поступая таким образом, он провоцирует то, что мы мог-
ли бы назвать истеризацией Потустороннего, Другого, Бога. В
финале пьесы эта истеризация изображена чрезвычайно хо-
рошо. В заключительной сцепе одно за другим появляется ряд
посланий с Небес, каждое из которых напоминает Дон Жуану,
куда он калится, и предлагает ему возможность покаягься —
предложение, от которого он постоянно отказывается. Дух этих
«вмешательств с той стороны» лучше всего можно описать в
терминах лакановского вопроса «Che vuoif» («Чего ты на самом
деле хочешь?»). Лишь столкнувшись с твердым отказом Дон
Жуана согнуться под тяжестью этого вопроса, отказаться от
«.воего таинственного желания, Небеса становятся беспомощ-
ны и ниспровергаются со своей позиции Господина. Лучшее
выражение этой беспомощности — это «истерический взрыв»,
который в конце концов кладет конец скандальной жизни Доп
См.: М. lord und Hondsman on the Couch // 7hc American lournal of
Semiotics, 2-3, 1УУ2. P. 74. Долар также отмечает, что нс только раб. «но и
господин нс доводит битву до конца: он оставляет раба живым, удовлетво-
ряясь “символическим" признанием», битва не на жизнь, а на смерть, ко-
торая является отправной точкой этой диалектики, нс должна закончиться
смертью ни одной из сторон, поскольку это сделало бы невозможным их
взаимное (символическое) признание. Однако Дон Жуана отличает имен-
но то, что он настроен довести битву до конца.
- 175-
Жуана. (Сильный удар грома; яркие молнии падают на Дон Жу-
ана. Земля разверзается и поглощает его, а из того места, куда
он исчез, вырываются языки пламени). Пламя, гром, сама земля
разверзается, чтобы поглотить Дон Жуана... некоторые интер-
претаторы уже обращали внимание на комический эффект это-
го зрелища. На самом деле, можно провести параллель между
этим комическим эффектом и тем, что знаком нам из нашего
повседневного опыта. Когда, к примеру, школьный учитель не
может больше поддерживать порядок в классе простыми при-
вычными средствами и начинает кричать на учеников, обычно
он или она вызывают, скорее, смех, нежели страх или почтение.
Равным образом, мы можем сказать, что в «Дон Жуане» гром,
адское пламя и разверзающаяся земля — не столько проявления
власти, сколько явные признаки ее краха.
Одной из выдающихся особенностей мольеровского «Дон
Жуана» является то, как герой видит свои отношения с женщи-
нами. Позицию Дон Жуана можно резюмировать следующим
образом: «Все женщины имеют право на часть моей агаль.мы, и
все они имеют право оценить по достоинству их собственную».
Или, по выражению самого Дои Жуана:
«Любая красавица вольна очаровывать нас, и преимуще-
ство первой встречи не должно отнимать у остальных те
законные права, которые они имеют на наши сердца....
Пусть я связан словом, однако чувство, которое я испыты-
ваю к одной красавице, не заставляет меня быть неспра-
ведливым к другим: у меня по-прежнему остаются глаза,
чтобы замечать лостоин<тва вс ех прочих, и каждой из них
от меня - лань и поклонение, к которым нас обязывает
природа. ... Сердце мое, я чувствую, способно любить всю
землю, и я, подобно Александру Македонскому, желал бы,
чтобы существовали еше и другие миры, где бы мне можно
было продолжить мои любовные победы».
Короче говоря, данное рассуждение Дон Жуана являет-
ся искажением рассуждения, в основе которого лежит чистый
- 176-
практический разум, универсальный язык морального зако-
на. Искажение состоит в гом, что предлагаемое им в качестве
объекта всеобщего распределения — это одна вещь, которая по
определению является исключительной; дар любви. Дон Жуан
предлагает делиться гем, что Лакан называет объектом а или,
в его интерпретации платоновского «Пира», агалъмой: мисти-
ческим сокровищем, тайным объектом, который находится
внутри субъекта, вызывающим любовь и желание другого. Ко-
мический гений Мольера блестяще схватывает логику этого
«всеобщего распределения субстанции наслаждения». Это оче-
видно с самого начала пьесы, которая начинается с хвалы та-
баку, воздаваемой ему Сганарелем, самой по себе являющейся
точным обобщением стиля жизни его господина. То, что Сга-
нарель говори т про табак, можно, вплоть до последней детали,
приложить к «почтению и дани уважения», предлагаемым Дон
Жуаном женщинам:
«Что бы ни говорил Аристотель, да и вся философия с ним
заодно, ничто о мире не сравнится с табаком. ... И если
уж кто нюхает табак, с какой предупредительностью он
угощает им и с каким радушием предлагает его направо
и налево! Тут даже не ждешь, пока тебя попросят, ты сам
спешишь навстречу чужому желанию!»
Именно так Дон Жуан обращается со своей агалъмой: он с
радостью раздает се направо и налево, «предлагая се тут и там»,
даже до того, как кто-либо попросит немного.
Неиссякаемый характер агальмы Дон Жуана отмечал так-
же Кьеркегор; «Что же удивительного, что они тянутся к нему,
счастливые девушки! И они не будут разочарованы, ибо его хва-
тит на всех»1*2. Кьеркегор предлагает разрешить парадокс «не-
Кьерксгор С. Или — или. Фрагмент из жизни: к 2 ч. CI16.: Издательство
Русской Христианской Гуманитарной Академии : Амфора. ТИД Амфора,
2011. С. 132.
- 177-
иссякаемого источника», толкуя героя как «силу природы», как
принцип чувственности. Поэтому он отвергает мнение тех, кто
рассматривает Дон Жуана как отдельного индивида, полагая,
что данное восприятие героя абсурдно, поскольку, в сущности,
такое сгущение чувственности в одном человеке немыслимо.
Именно поэтому Кьеркегор убежден в том, что единственный
подходящий способ передачи мифа о Доп Жуане — это музыка,
и что единственная приемлемая версия — это опера Моцарта.
Поэтому он отвергает пьесу Мольера как абсолютно неудов-
летворительную, даже глупую. Однако возникает вопрос, не
избегает ли, в действительности, интерпретация Дон Жуана
как Принципа (чувственности) того самого измерения Дон Жу-
ана, которое является наиболее волнительным, скандальным
и «немыслимым»: того, что сам Принцип появляется как Дон
Жуан, как конкретный индивид; что универсальное принимает
форму единичного. Согласно Кьеркегору, мы можем избежать
рассмотрения его истории как своего рода бурлеска, особенно
когда она подходит к знаменитому niille е tre, лишь постольку,
поскольку мы понимаем Дон Жуана как абстрактный принцип.
Это, тем не менее, является слабым местом интерпретации
Кьеркегора, поскольку ей не удается уловить, что то, что она
считает проблемой, в действительности является уже решени-
ем проблемы — бурлескным решением, возможно, но все же
решением, которое, благодаря своей невероятности, свидетель-
ствует о той трудности, которую пытается разрешить. Другими
словами: niille е tre — это ответ, а нс вопрос (или проблема); это
итог определенного проекта, а не его изначальная цель; это не
невозможная задача, но уже ответ на невозможную задачу; эго
ответ на более фундаментальный, структурный, а не эмпириче-
ский тупик. Если millee tre — это эмпирическая невозможность,
фундаментальная невозможность лежит в другой области. Как
мы увидим, только эта точка зрения позволит нам учесть тот
факт, которому обычно нс уделяю; большого внимания, но ко-
- 178-
горый, тем не менее, имеет решающее значение для мифа о Дон
Жуане.
В действительности миф о Дон Жуане — это соединение
двух мифов, которые существовали отдельно друг от друга за-
долго до первой версии «Дон Жуана». Первый — это миф, или
легенда об ужине со Смертью. Версии этой легенды отличаются
в некоторых деталях, но их базовая структура такова: молодой
мужчина, обычно фермер, находит на дороге или в поле череп.
Он не крестится и нс заботится о том, чтобы черен оказался
гам, где ему надлежит быть; вместо этого он нарушает правила
«символической смерти». Он пинает череп и шутя приглашает
его отужинать с ним (в некоторых версиях это обычный ужин;
в других — какое либо пиршество, к примеру свадебный пир).
Один из живых мертвецов (часто в виде скелета) и вправду объ-
является на этом ужине — не для того, чтобы есть или пить, но
только лишь с ответным приглашением: пригласить фермера
отобедать с мертвыми. Второе пиршество, пир живых мерт-
вецов, обычно заканчивается либо смертью незваного гостя,
либо нотой прощения, сопровождающейся моральным уроком:
впредь будешь уважать мерт вых"1’.
Вторая легенда, о которой идет речь, — та, которая обыч-
но ассоциируется у нас с Дон Жуаном: легенда о непостоянном
соблазнителе, дамском угоднике или либертине. До Дон Жуана
таким популярным героем во Франции был Гилас1*4.
Интересно отметить, что, слыша сегодня имя Дон Жуан, мы
автоматически думаем об этой второй составляющей мифа о
Дон Жуане. В самом деле, было бы трудно найти кого-нибудь,
кто, в ответ на вопрос, какие ассоциации вызывает у него имя
Дон Жуан, сказал бы: «неуважение к мертвым» или «ужин с жи-
выми мертвецами». Вместо того, чтобы выяснять причины того,
(1м : Roussel Lc Mylhe de Don /илл. Paris: Armand Colin. 1976. Pp. 109-13.
Mareschal. tnanulattat d'Hylas. Paris, 1635.
- 179-
почему один из компонентов затмил другой, просто отметим,
что эта двойная структура — важнейший и неотъемлемый эле-
мент «Дон Жуана», придающий ему своего рода вес, которого
нет ни у одной из составляющих его легенд самой по себе.
С этой точки зрения возникает фундаментальный вопрос:
как так получается, что в «Дон Жуане» соединяются эти две, на
первый взгляд, разные истории? Что узаконивает это слияние?
Что общего между осквернением мертвого и серийным соблаз-
нением женщин?
На этот вопрос мы можем ответить, только если рассма-
триваем серийное соблазнение женщин как разрешение опре-
деленного тупика — разрешение, которое, именно из-за своей
постоянной неспособности обеспечить настоящее разрешение,
лишь раскрывает настоящий скандал: что одну половину чело-
вечества действительно составляют «живые мертвецы»: то есть
существа без своего собственного означающего, которое могло
бы должным образом представлять их в символическом.
Хорошо известно, что Дон Жуан спит со всевозможными
женщинами: блондинками и брюнетками, высокими и невысо-
кими, полными и худыми, старыми и молодыми, благородны
ми барышнями и крестьянками, дамами и служанками... Как
отмечали некоторые интерпретаторы — в том числе и Кьерке-
гор, — было бы неправильно понимать это как предпочтение
Дон Жуаном «разнообразного меню». Что делает позицию Дон
Жуана возможной, так это, скорее, его безразличие ко всяким
различиям. Парадигма Дон Жуана — это не разнообразие, а по-
вторение. Он соблазняет женщин не из-за того, что является
особенным или уникальным в каждой из них, а из-за того, что
есть у них у всех общего: того, что они — женщины. Это прав-
да, что самовосприятие Дон Жуана, как кажется, противоречит
такому прочт<щию. В пьесе Мольера, к примеру, он говорит, что
«вся прелесть любви —- в переменах». Однако мы должны пом-
нить, что стремление к переменам ради перемен — один из чи-
- 180-
стейших примеров навязчивого повторения. Собственно, Дон
Жуан сам подчеркивает, что перемены, которых он ищет, — это
не новая женщина, а «новое завоевание». Идентичность объек-
та этого завоевания здесь не так важна. В основе непрерывных
перемен лежит повторение одного и того же жеста.
Подытоживая, можно сказать, что Доп Жуан соблазняет
женщин независимо от того, как они выглядят, от их внешно-
ст и — то есть, не учит ывая критерий измерения воображаемого-,
и, в равной мере, безотносительно к символическим ролям за-
воеванного им (неважно, являются ли они госпожами или слу-
жанками, замужними или одинокими, дочерями или сестрами
влиятельных мужчин, женами или невестами...). Вопрос в том,
что же остается? Остается ли вообще что-нибудь? Все суще-
ствование Дон Жуана свидетельствует о том. что нечто остает-
ся. хотя идентичность этого нечто совершенно неопределенная.
Здесь мы можем ввести пресловутое утверждение Лакана
о том, что «Женщины [la fetnme] не существует». Чтобы уло-
вить феминистский эффект этого утверждения, важно понять,
что это не столько выражение патриархального уклада, укоре-
ненного в патриархальном обществе, сколько нечто такое, что
угрожает вывести такое общество из строя. Обычное возраже-
ние Лакану, конечно же, следующее: «Если, по мнению Лакана,
“Женщины не существует”, то это лишь потому, что патриар-
хальное общество, которое он поддерживает, тысячелетиями
подавляло женщин; итак, вместо того, чтобы пытаться дагь
теоретическое оправдание этому подавлению, и этому утверж-
дению, мы должны с этим что-то сделать». Однако — как буд-
то бы утверждение «h/emme n'existe pas» само по себе не было
бы уже достаточно скандальным — то, что Лакан хочет сказать
ним утверждением, даже более скандально. То, что «Женщи-
ны не существует», это не результат подавляющего характера
патриархального общества; напротив, это патриархальное об-
щество (со своим подавлением женщин) является «следствием»
- 181 -
того, что «Женщины не существует», масштабной попыткой
справиться и «преодолеть» эго, сделать так, чтобы это прошло
незамеченным1'”. Ведь женщины, в конце концов, судя по всему,
совершенно прекрасно существуют в этом обществе как дочери,
сестры, жены и матери. Это обилие символических идентично-
стей маскирует нехватку, которая их порождает. Эти идентич-
ности делают очевидным не только то, что Женщина безусловно
существует, но н то, чем она являете#: «общим знаменателем»
всех этих символических ролей, сущностью, лежащей в основе
всех этих символических атрибутов. Это прекрасно работает до
тех пор, пока не появляется Дон Жуан и не требует получить —
точно на блюдечке с голубой каемочкой — эту сущность саму но
себе: не жену, дочь, сестру или мать, а женщину.
Здесь мы должны помнить, что нс женщины, а именно муж-
чины в истории находят действия Доп Жуана наиболее оскор-
бительными. Неслучайно пьеса разворачивается в Сицилии,
которая — даже сегодня считается колыбелью патриархаль-
ных ценностей. Нс является совпадением и то, что Дон Жуана
преследуют два брата («обесчещенной женщины»). Не секрет,
что лучший способ оскорбить типичного «женоненавистни-
ка» — это намекнуть на сексуальную активность его сестры.
Одна мысль о том, что его сестра — не просто его сестра, что
она не сводима к своей символической идентичности, но может
Мы можем подтвердить это прочтение via femme n'exislc pas- замечаниями
Лакана в «Телевидении-:
«Фрейд вовсе не говорил, будто вытеснение происходи! из подавления,
ТО есть, образно гонор», обязано своим возникновением тому, что папа,
увидев, как малыш теребит себе пипку, грозится: "Гляди, будешь так снова
делать, ее тебе точно отрежут!” ... Гак что налицо основания проверить
все заново, ивкодя из того, на сей раз. что подавление производится вы-
теснением. Общество, семья - нс знждятся ли они сами на вытеснении?
Поистине так...» (Лакан Ж. Телевидение. Пер. с фр. А. Черноглазом Мл
ИТДК «Гнозис», Издательство «Логос», 2000. С. 4Я-19)
- 182-
быть и чем-то еще (неудивительно, но существенно, это «что
то еще» обычно ограничивается лишь одной альтернативой:
шлюхой), приводит его в ярость. Особенно любопытно в такого
рода оскорблении то, что, хотя на уровне содержания это обида,
нанесенная указанной женщине, в действительности она всег-
да функционирует как «нож в сердце мужчины» (несомненно,
такие оскорбления всегда адресованы мужчинам). Наблюдая за
реакцией оскорбленного мужчины, мы без труда можем почув-
ствовать, что такого рода оскорбление затрагивает самые осно-
вы его бытия.
В конце концов, чем еще являются такие оскорбления, как
«твоя сестра (или мать) — шлюха», как не грубым напоминани-
ем того, что «Женщины не существует», что она «не вся» или
«вся его [toute а /ш]», по выражению Лакана?166Итак, суть в том,
что изречение «женщина — не-вся» невыносимее всего не для
женщин, а для мужчин, поскольку оно подвергает сомнению
часть их собственного бытия, уже инвестированного в симво-
лические роли женщины. Лучше всего это доказывают чрезмер-
но выраженные, абсолютно несоразмерные реакции, поводом
для которых служат такие оскорбления, вплоть до убийства.
Данные реакции нельзя понять с помощью распространенного
объяснения, согласно которому мужчина считает женщину сво-
ей «собственностью». В этих оскорблениях под угрозой оказы-
вается не просто его собственность, то, что он имеет, а его бы-
тие, то, что он есть. Завершим это отступление еще одним изре-
чением. Если мы принимаем то, ч то «Женщины не существует»,
то есть лишь один способ определить мужчину: мужчина — как
выражается в одной из своих лекций Славой Жижек — это жен-
щина, которая верит в то, что она существует.
Женщина, которая — хотя бы даже лишь на мгновение —
появляется вне символических ролей, определяющих ее, и спит
См.: Lacan J. Un Feminine Sexuality. '/he Limits of Lave anil Knowledge. P. 12.
- 183-
с мужчиной вне области закона (брака), предстает, в этой сим-
волической вселенной, «невыносимым зрелищем», «открытой
раной». Есть лишь два способа справиться с этой ситуацией, и
оба они опираются на символический регистр. Первый следует
логике того, что Гегель назвал das Ungeschehenmachen, «ретро-
активным уничтожением». Мужчина, «лишивший женщину
чести» (то есть ее места в символическом) и, следовательно, «от-
крывший рану», обязан заживить ее, женившись на ней. Если
она становится его «законной» женой, «ужасная вещь», случив-
шаяся между ними, ретроактивно поглощается законом и теря-
ет свое возмущающее качество. Если он отказывается жениться
на ней, он заслуживает смерти, но одной его смерти недоста-
точно для того, чтобы «заживить рану». Заботу об этом берет
на себя институт монастыря. В традиционных патриархальных
обществах монастырь обычно является единственным убежи-
щем для женщин, «лишившихся чести», своего места в заданной
конфигурации символических ролей, которым, поэтому, «не-
куда идти». По своей символической функции монастырь рав-
носилен погребальному обряду. В обоих случаях главная цель
состоит в том, чтобы «реальная смерть» совпала с «символиче-
ской смертью» — иначе появятся призраки. Однако, если роль
погребальных обрядов заключается в том, чтобы сопроводить
реальную смерть ориентирами, позволяющими нам совладать
с нею, роль монастыря прямо противоположна. Женщина, ко-
торая должна уйти в монастырь, потому что «лишилась своей
чести», в символическом порядке уже мертва, хотя и жива еще в
«реальности». Вот почему она функционирует в качестве «невы-
носимого зрелища», призрака. Поэтому она должна быть «изъ-
ята из обращения» (заточена в монастырь), чтобы не выглядеть
больше как заблудшая женщина: создание, которое символи-
чески мертво £jo есть, лишено символических связей, которые
могли бы ее определить), но которое, тем не менее, продолжает
бродить вокруг. Женщина, которая «согрешила» (которая перс-
- 184-
спала с Дон Жуаном, к примеру), но не уходит в монастырь, по-
добна представителю живых мертвецов, призраку, существу, у
которого нет места в символическом, «в этом мире», но которое
все еще ходит но земле.
Гак, еще одно преследующее создание (наряду со статуей
Командора), которое является Дон Жуану в пьесе Мольера, —
это не кто иной, как •призрак в образе женщины пен) вуалью».
Финал пьесы структурирован таким образом, что оба «виде-
ния» являются Дон Жуану одно за другим. Сначала Женщина
(которая по-прежнему хочет его сласти), затем статуя (которая
ведет его к смерти). 'Гакова постановка Мольером связи между
двумя компонентами мифа: между осквернением мертвых и со-
блазнением женщин.
Разоблачение женщин в качестве «живых мертвецов», разу-
меется, не является исключительным для мифа о Дон Жуане. Эта
констелляция обильно представлена в литературе восемнадца-
того века167. Мы уже встречались с этим, к примеру, в «Опасных
связях». Но, если это разоблачение женщин в качестве «живых
мертвецов» не является исключительным для мифа о Дон Жуа-
не, что именно отличает Дон Жуана?
Фундаментальное различие между Вальмоном и Дон Жуа-
ном заключается в том, что Дон Жуан, в отличие от Вальмона, в
действительности не является соблазнителем. Для этого у него
«не хватает времени заранее, когда он мог бы сформировать
свои планы, — и времени потом, когда он мог бы осознать соде-
янное»^. В случае Вальмона акцент всецело на самом процессе
соблазнения, на «смягчении сопротивления», на бесконечном (и
мучительно медленном) приближении к цели. Хотя в одном ме-
сте в пьесе Мольера Дон Жуан восхваляет процесс соблазнения
словами, которые легко можно было бы приписать Вальмону,
См. Runic R. Dying Worth. Рр 360 68.
Кьеркегор С. Или — или. Фрагмент и » жизни: в 2 ч. С. 129.
- 185-
это не должно вести нас к каким либо поспешным заключени-
ям. Реальное различие между ними становится наиболее явным
в свете соответствующих нарративных структур «Дон Жуана»
и «Опасных связей». В последней повествование сфокусиро-
вано на отношениях между либертином и привилегированной
женщиной (госпожой де Турвель); все ведет к соблазнению этой
недоступнейшей из женщин. В «Доп Жуане» дело обстоит ина-
че. Если бы Дон Жуан был прототипом Вальмона, центром его
истории было бы соблазнение Донны Эльвиры, которая, как мы
узнаем, жила в монастыре; Дон Жуан соблазнил се после значи-
тельных усилий, заставив покинуть монастырь и выйти за него
замуж, а затем бросил ее. Однако этот «вальмоновский» жест не
функционирует в качестве центральной темы пьесы; напротив,
с самого начала он появляется как fail accompli. В самой пьесе
нет акцента на процессе соблазнения и на наслаждении, кото-
рое он доставляет.
Этот аспект fait accompli является ключевым. Мы могли бы
зайти еще дальше, сказав, что для Дон Жуана наслаждение всег-
да (уже) fait accompli, тогда как для Вальмона оно всегда (еще)
«fait а ассотрНг», то есть миссия, которую он (еще) должен вы-
полнить, цель, которую он (еще) должен достичь. Все потому,
что для Вальмона наслаждение должно совпадать с сознанием
(осознанностью) этого наслаждения, чего нельзя сказать о Дон
Жуане. Поэтому мы можем сказать, что наслаждение — эго мо-
тив действий Дон Жуана, тогда как в случае Вальмона его мо-
тивом является воля к наслаждению («1а volontc de jouissance»).
Вальмон делает наслаждение объектом своей воли; он пытает-
ся уничтожить разрыв между наслаждением и волей — именно
поэтому он сам становится инструментом наслаждения Друго-
го. В его случае воплощением этого Другого является госпожа
де Турвель. М14 уже отмечали, что, когда Вальмон восклицает:
«Бедная женщина, она наблюдает за собственной смертью»
(что, разумеется, является плодом его собственных стараний),
- 186-
неизреченное восклицание, стоящее за этим, — не что иное,
как: Счастливая женщина, она наблюдает собственное наслаж-
дение! Если это так, Вальмон может уничтожить разрыв между
наслаждением и сознанием (или волей), лишь перепоручив на-
слаждение Другому.
Различие между Вальмоном и Дон Жуаном можно понять
также с точки зрения различия между желанием и влечением.
Вальмон представляет собой фигуру желания в той мере, в кото-
рой желание поддерживается тем, что оно не удовлетворяется.
Он спит с женщинами, чтобы «очистить» своей желание. «Я во
что бы то ни стало должен обладать этой женщиной, — пишет
он, — чтобы не оказаться в смешном положении влюбленно-
го»'*’ — то есть чтобы вновь обнаружить разрыв, отделяющий
желание от всякого объекта, который якобы его «удовлетвори
ст». Предполагается, что любовь заполняет дыру, нехватку, вве-
денную желанием. Напротив, Дон Жуан обнаруживает разрыв,
который образует мотив ею действий, в самом удовлетворении.
Его случай — это не случай метонимии желания, вечной неуло-
вимости «истинного» объекта (желания). Он не ищет правиль-
ную женщину; то, что он постоянно переходит к новой женщи-
не, не мотивировано разочарованием или нехваткой, гем, что
он не обнаружил в предыдущей женщине. Напротив, для Дон
Жуана каждая женщина — правильная, и влечет его дальше не
го, что он не обнаружил в своей предыдущей возлюбленной,
а именно то, что он как раз таки обнаружил. Он достигает
удовлетворения, не достигая своей цели, — или, точнее, он до-
стигает удовлетворения именно потому, что его цель — не что
иное, как «возвращение в циркуляцию». Именно это делает Дон
Шодерло де Лакл<>. Опасные еммзи. С. 19.
- 187-
Жуана фигурой влечения*70. Как бы он себя ни набивал, он не
в силах заполнить дыру, которая образует мотив его действий.
Так он напоминает нам, что аппетит (или objet petit а) относит-
ся не к объекту, который хочется съесть, но к удовлетворению
побуждения есть, которое само предстает объектом. «Как бы ни
набивали вы себе снедью уста — те уста, что открываются у вас
в ответ па влечение, — удовлетворены они будет не пищей, нет,
а удовольствием, которое испытают уста»1’1.
Перефразируя выражение «его глаза больше желудка», мы
могли бы сказать, что Вальмон всегда заботится о том, чтобы
сохранять «дыру в желудке», чтобы держать открытыми глаза
своего желания. Он сохраняет разрыв между желанием и его
«патологическими объектами», объявляя последние «не (пол-
ностью) удовлетворительными». Дон Жуан сохраняет этот же
самый разрыв, объявляя эти объекты «очень удовлетворитель-
ными», но «не-всеми»,рП5-/ои/.
Завершим на этом наше литературное отступление. Мы
вернемся к разграничению, которое увидели в действии — меж-
ду желанием и влечением — в последней главе, где свяжем его
более явно с лакановским понял ием этики.
По снопам Лакана:
«Здесь-то и проясняется тайна zidgehemmt, торможения но отношению к
цели... Если влечение может был, удовлетворено, нс достигнув того, что
удовлетворяет, сточки зрения итоговой биологической функции. Цели вос-
произведения, то объясняется это тем. что влечение это частично и что
цель ею как раз в возврате но замкнутому контуру и состоит» (Лакан Ж.
Четыре оспоншЯе понятия психоанализа (Семинар. Книга 11 (1964)). Изда-
тельство «Пюзис», Издательство «Логос», 2<Ю4 С. 140).
Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинар. Книга II
(1964)). Издательство «Гнозис», Издательство «Логос», 2004. С. 179.
- 188-
7.
Между моральным законом и
сверх-я
Квант аффекта
кантовской теории моральный закон и (этический) субъ-
ект встречаются на двух различных уровнях. Первый
уровень — это уровень означающего, уровень категори-
ческого императива, формулировки морального закона. Пока
что мы исследовали, главным образом, этот аспект кантовской
пики и роль, которую играет субъект в формулировке (и реали-
зации) морального закона. Другой уровень встречи субъекта и
морального закона весьма отличен: уровень аффекта. Мораль
ный закон аффектирует субъекта, и это вызывает очень осо-
бенное чувство, которое Кант называет «уважением» [АсЛ/нл#].
Теория уважения Канта по-своему показывает фундаменталь-
ную двусмысленность его этики, и особенности его колебания
между двумя различными «портретами» морального закона:
безусловным, но «пустым» моральным законом и неким обра-
зом «субъективированным» законом сверх-я.
- 189-
Кант исследует уникальное чувство, которое называет
Achtung (уважение), в третьей главе «Критики практического
разума», «О мотивах чистого практического разума». Уважение,
как он стремится показать, — это единственное чувство, кото-
рое характеризует отношение субъекта к моральному закону.
«Уважение к моральному закону» не означает «уважать закон»,
как не означает оно и «иметь уважение к закону». Скорее, это
чувство, которое указывает на то, что закон где-то рядом, оно
указывает на «присутствие» морального закона, близкий кон-
такт субъекта с моральным законом. Кант предлагает разверну-
тое объяснение этого чувства, объяснение, которое показывает,
что его понимание термина уважение не имеет ничего общего
с нашим привычным его употреблением. В своем объяснении
Кант отграничивает его от других чувегв, которые могут на-
поминать его, но в действительности имеют совершенно иную
природу — чувств склонности, любви, страха, восхищения,
удивления и изумления.
Уже высказывалось предположение о том, что кантовское
понятие уважения можно разместить в том же регистре, что и
психоаналитическое (или, скорее, лакановское) понятие стра-
ха172. В сущности, если мы рассмотрим обсуждение Кантом чув-
ства уважения, это родство поразительнейшим образом под-
твердится.
Отправной точкой аргумента Канта в этой главе является
следующий вопрос: как моральный закон может непосредствен-
но определять волю? Как нечто, что нс может быть объектом
представления [ Vorstellung], способно определять нашу волю и
становиться мотивом, стоящим за нашими действиями? Ответ
Канта состоит в том, что это «проблема, неразрешимая для че-
См. Miller J.-A. L 'Extimite (неопубликованный семинар), лекция от Я янва-
ря 1986.
- 190-
ловеческого разума»*7'.Однако он продолжает, говоря, что, если
невозможно показать, как это возможно, по крайней мере, мы
можем доказать, что это должно существовать — что действи-
тельно случается так, что моральный закон непосредственно
определяет волю. Мы можем «доказать», что эго случается, бла-
годаря производимому эффекту, и именно этот эффект Кант
мыслит в терминах (чувства) уважения Чувство уважения —
это свидетельство того, что нечто, не являющееся объектом
представления, может, тем не менее, определять волю.
Согласно Канту, уважение — это «странное чувство, кото-
рое нельзя сравнивать ни с каким патологическим. Оно до такой
степени своеобразно, что, кажется, находится в распоряжении
одного лишь разума, а именно практического чистого разу-
ма»171. Чувство уважения — не патологическое, а практическое
чувство; природа его не эмпирическая, а известна априори; это
«не побуждение к нравственности, а сама нравственность»175.
Чтобы постичь в полной мере то, о чем идет здесь речь, и
понять, что побуждает Канта называть уважение «априорным»
и «непатологическим» чувством, мы должны помнить о кап гов-
ской теории того, что и как нечто может быть причиной наших
действий. Лучше всего эта теория подытоживается следующими
предложениями: «Жизнь есть способность существа поступать
по законам способности желания. Способность желания — это
< пособность существа через свои представления | Vorstellungen]
быть причиной действительности предметов этих представ-
лений^'’. Другими словами, действия человека управляются за-
коном способности желания. Эта способность подразумевает
представление определенного объекта (который вполне может
КантИ. Критика практическою разума. СПб.; «Наука», 1995. С. 183.
' • Гам же. С. 187.
Гам же. С. 186.
Гам же. С. 128 (прим.).
- 191 -
быть «абстрактным» — такие пещи, как «стыд», «честь», «слава»,
«одобрение [другими)», все являются объектами представления
в требуемом смысле слова). Субъект «аффектирован» опреде-
ленным представлением, и эта «аффектация» одновременно
является причиной его действий и, в то же время, причиной,
по которой его действия детерминированы «патологически».
Итак, проблема состоит в том, что это не оставляет места для
нравственности, поскольку последняя, по самому своему опре-
делению, исключает любые патологические мотивы для наших
действий, даже самые благородные. Трудность — которую Кан г
пытается разрешить в главе «О мотивах чистого практического
разума» — состоит, таким образом, в том, чтобы найти и арти-
кулировать иной тип причинности, тот, который чужд способу
представления. Как мы увидели, Кант считает эту проблему
«неразрешимой для человеческого разума», и все-таки, одно-
временно, проблемой, которая, в некотором роде, всегда-уже
разрешена в любом этическом действии. Решение состоит в том,
что он называет уважением и описывает как единственный мо-
тив чистого практического разума.
Близость кантовской концепции лакановскому различению
желания |Bege/irHn£| и влечения [Triebfeder! здесь поразительна.
Если желание, в сущности, принадлежи г порядку представле-
ния (метонимии означающего, с одной стороны; фантазии —
с другой), то логика влечения весьма отлична. Когда Лакан
утверждает, что влечение «может получить удовлетворение,
цели ... при этом нс достигая»177, это означает как раз то, что
объект влечения это не объект представления. Это не объект, к
которому мы стремимся, объект, который мы хотим получить
(наша «цель»). Объект влечения совпадает с маршрутом влече-
ниям не является чем-то, к чему этот маршрут должен привести.
Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинар. Кинга II
(1964)). Издательство «Гнозис», Издюсльсшо «Локк», 2(104. С. 190.
- 192-
Другими слонами, объект влечения — это не объект, который
должен обеспечить субъекту некоторое удовлетворение, а само
•то удовлетворение: объект влечения — это удовлетворение как
объект'7*. Именно так, как мы увидели, определяет уважение
Кант: это «не побуждение к нравственности, а сама нравствен-
ность». Таким образом, уважение — это неустранимый «квант
аффекта», который возникает со стороны субъекта: это не что
иное, как конечный остаток патологического, который, в дей-
ствительности, не является более «патологическим» в строгом
смысле слова. Уважение — это другое название того, что ранее
мы назвали «этическим пресуществлением», превращением
формы (закона) в мотив.
На первый взгляд, это может означать, что уважение свя-
зано с нехваткой представления (г. е. с тем фактом, что мораль-
ный закон как ноуменальный не может стать объектом пред-
ставления), и что именно эта нехватка или пустота порождает
уважение. Однако, если мы исследуем эту ситуацию более де-
тально, то вскоре поймем, что чувство уважения вызывает не
просто отсутствие представления. Чувство уважения вызывает
отсутствие некоего конститутивного для субъекта представле-
ния. В теории Канта конституирование субъекта представления
совпадает с определенной потерей. Субъект теряет, так сказать,
то, чего у него никогда не было: прямой, непосредственный до-
ступ к себе. В этом вся суть кантовской критики декартовского
eogito. Субъект, полностью совпадающий с самим собой, еще не
является субъектом, а становясь субъектом, он больше не со-
впадает с собой и может говорить о себе только как об объекте.
Отношение субъекта к себе нс допускает никакого кратчайшего
пути; оно того же рода, что и отношение субъекта ко всем дру-
гим объектам (представления). «Я» — это просто мысль, пред-
r* Miller J. Л. On Perversion И Reading Seminars I and II: Return to Freud. Albany.
NY: SUNY Press. 1995. P. 313.
- 193-
ставление, подобно любым другим представлениям. Подразу-
меваемая этим фундаментальная утрата или отчуждение — это
условие мыслящего субъекта, субъекта, у которого есть мысли
и представления. Именно эта утрата открывает «объективную
реальность» (феноменальную реальность) и позволяет субъек-
ту мыслить себя как субъекта. В лакановскнх терминах, в кон-
ституировании субъекта с неизбежностью выпадает частица
реального.
Таким образом, причиной особенного чувства, которое
Кант называет уважением, является нс просто отсутствие пред-
ставления, а отсутствие этого отсутствия, этой нехватки, кото-
рое могло бы обеспечить поддержку для субъекта представле-
ния. Само представление основано на определенной нехватке
или утрате, и именно этой нехватки и не хватает. Эта ситу-
ация — это как раз ситуация «нехватки, которой не хватает»,
«нехватки, которая иссякает» — а это в точности соответствует
лакановскому определению причины страха: le manque vient й
manquer1*.
Чувство уважения охватывает нас, когда закон становится
явным в образцовом случае этического действия. Именно от-
сутствие причины для такого действия становится явным та-
ким образом. Это объединяет кантовское понятие уважения и
лакановское понятие страха: у них пет причины, но есть объект.
Можно даже сказать, что эта нехватка причины коррелирует с
появлением объекта. Если моральный закон непосредственно
определяет нашу волю, это означает, что нечто отделяется от
цепи причинности и начинает функционировать как объект.
Пока оно остается отделено таким образом, оно вызывает уваже-
ние или страх. Оно вызывает неудобство, которое проявляется
в том, что мы стремимся — но выражению Канза — обнаружить
,я Лакан Ж. Тревога (Семинар, Книга 10 (1962/63)). Пер. с фр. А Черноглазо-
на. М.: Издательство «Июзио, Издательство «Логос», 2010. С. 54.
- 194 -
нечто, «что облегчило бы его бремя, найти что-то достойное по-
рицания, чтобы вознаградить себя за го унижение, которое мы
испытываем из-за такого примера»1*. Даже сам моральный за-
кон, добавляет он, подвержен этой попытке удержаться от того,
чтобы отдать ему дань уважения. Очевидно, что эта «попытка»
направлена на то, чтобы снова присоединить к цепи причинно-
сти ту вещь, которая кажется от нее отделенной, блуждая без
причины (так мы стремимся, к примеру, обнаружить патологи-
ческий мотив для действия, которое кажется чисто этическим).
Мы видим, что, точно так же, как Кант определяет здесь ува-
жение, Лакан определяет страх как аффект или чувство, принци-
пиально идущее вразрез со всеми иными чувствами. Лакан за-
нимает позицию несогласия с теорией, которая утверждает, что
страх отличается от боязни гем, что не имеет объекта. Согласно
этой теории, когда мы боимся, мы всегда боимся чего-то, тогда
как, в случае страха, объекта, на который мы могли бы указать и
сказать: «Вот объект моего страха», нет. Лакан утверждает, что,
напротив, именно в страхе субъект ближе всего подходит к объ-
екту (т. е. к реальному ядру своего наслаждения), и что именно
эта близость объекта лежит в основе страха. Это утверждение
нельзя объяснить просто отсылкой к специфически лаканов-
скому смыслу термина «объект». Скорее, следует сказать, что
именно концепция страха Лакана объясняет специфический
смысл слова «объект» в его терминологии. Различая таким об-
разом боязнь и страх. Лакан, в сущности, соглашается с Кантом:
боязнь — это чувство, как и все иные чувства, оно «субъектив-
но» и «патологично». 'Гот факт, что мы боимся какого-то объек-
та, ничего нс говорит нам об этом объекте; это не означает, что
этот обьект сам по себе (г. е. как объект представления) явля-
ется чем-то ужасным. Или — по выражению Канта — посред-
Каит И. Критика практическою разума. С. 1Я8.
- 195-
ство.м чувства \Gefiihl\ «в объекте ничего не обозначается»'*'.
Нет чувства без представления — то есть представление — это
необходимое условие чувства, хотя само чувство еще не явля-
ется представлением объекта. Чувство — эго то, как «субъект
сам чувствует, как он аффинирован представлением»1*2. Лакан
сказал бы, что чувство не говорит нам ничего об объекте; оно
говорит нам нечто об «окне фантазии» субъекта, в рамке кото-
рого некий объект кажется ужасающим.
Итак, как в случае с уважением в кантовской теории, в ла-
кановской теории страх — это не «субъективное», а, скорее,
«объективное» чувство. Это «чувство, которое не обманывает»
(Лакан), которое указывает на то, что мы подошли близко к объ-
екту, обозначающему экстимное место нашего наслаждения. Не
учитывая этот «объективный», «объектальный» характер опре-
деленного субъективного опыта, мы можем оказаться в пози-
ции аналитика из хорошо известного анекдота: к нему прихо-
дит пациент, жалуясь на то, что под кроватью у него прячется
крокодил. На протяжении нескольких сессий аналитик пыта-
ется убедить пациента, что все это только в его воображении.
Другими словами, он пытается убедить его, что все дело в чисто
субъективном чувстве. Пациент прекращает ходить к анали-
тику, который уверен в том, что вылечил его. Месяцем позже
аналитик встречает друга, который также является другом его
бывшего пациента, и спрашивает у того, как поживает послед-
ний. Друг отвечает: «Ты о том, которого съел крокодил?». Урок
этой истории абсолютно лакановский: если мы отталкиваемся
от идеи о том, что у страха нет объекта, как нам тогда назвать
эту вещь, которая убила, которая съела субъекта? Что говорит
Каш И. Критика способности суждении II Канг И. Сочинения. В К ми то
мах. I . 5. М.: Чоро, 1994. С. 40-41.
Гам же. С. 41.
- 196-
субъект аналитику в этой шутке? Не что иное, как: «У меня под
кроватью объект а; я подошел к нему слишком близко».
Чтобы еще лучше разъяснить этот момент, мы можем также
связать его с лакановским понятием влечения: страх — это то,
как субъект переживает влечение, прибавочное наслаждение,
произведенное в его цепи, — ту часть наслаждения, которую
влечение обнаруживает «вне» субъекта.
Мы уже упоминали замечание Канта о том, что мы склон-
ны защищаться от чувства уважения и стремимся «облегчить
бремя»"0, которое оно на нас возлагает. И все же должен воз-
никнуть вопрос о том, не принимает ли концепция уважения
Канта в определенный момент направление, которое в действи-
тельности представляет защит у от истинного измерения уваже-
ния. В сущности, Кант действительно вводит заново измерение
представления, которое позволит субъекту «восстановиться»,
«вернуть себе сознание».
Это другое направление кантовской концепции уважения
предполагает восприятие ее с точки зрения «сознания свободно-
го подчинения воли закону»'*•. Здесь возникает новое представ-
ление, и уважение становится уважением к моральному закону,
постольку, поскольку он обнаруживается в этом представлении.
Уважение не является более эффектом/аффектом, порождае-
мым в нас моральным законом, напрямую определяя волю; вме-
сто этого, оно становится представлением этого эффекта: «То,
представление о чем как определяющем основании нашей воли
смиряет нас в нашем самосознании, само по себе будит чувство
уважения»'*5. Другими словами, именно то, что субъект видит
себя подчиненным закону и наблюдает свое унижение и ужас,
вызывает чувство уважения. Кант пишет:
' Кант И. Критика практического разума, С. IKK.
Там же. С. 190 (курсив добавлен).
Гам же. С. 185 (курсив добавлен).
- 197-
«Есть что-то необычайное в безгранично высокой опенке
чистого, свободного от всякой выгоды морального зако-
на... голос его заставляет лаже самого смелого преступни-
ка трепетать и смущаться перед его взором, поэтому нет
ничего удивительного, что это влияние чисто интеллекту-
альной идеи на чувство считают непостижимым для спеку-
лятивно! о разума
Уважение здесь (пере)формулировано в терминах «безгра-
нично высокой оценки» к моральному закону, смешанной с бо-
язнью и ужасом, который «заставляет трепетать самого смелого
преступника». На данном этапе мы довольно далеки от уваже-
ния как априорного чувства. Вместо этого, здесь мы имеем дело
с законом, который одновременно наблюдает и говорит. Трудно
понять, как так вышло, что Кант мог упустить из виду, что, бла-
годаря этой концептуализации, чувство уважения превращает-
ся в чистое и простое благоговение (Ehrfurcht) (определяемое
Кантом как «уважение, смешанное с боязнью»), становясь, та-
ким образом, обыкновенным патологическим мотивом.
В то же время, это введение голоса и взгляда (двух лака-
нонских объектов par excellence) является следствием маневра,
который нацелен на то, чтобы заполнить дыру в Другом (Зако-
не), дополняя Другого объектом, которого ему не хватает (и не-
хватка которого делает Другого «не-всем»). Мы уже доказали,
что определенная непоследовательность или неполнота Другого
(морального закона) — само ядро этики. Однако Кант, в только
что процитированном отрывке, восстанавливает абсолютного
(полного, целого) Другого, наделяя его голосом и взглядом. Тре-
пет кого-либо, находящегося одновременно перед взглядом и
голосом Закона, не должен вводить нас в заблуждение; этот тре-
пет — уже облегчение по сравнению с изначальным чувством
уважения. Боязнь — уже облегчение от страха уважения.
'• Гам же. С. 190.
- 198-
Если .мы спросим себя, чей это закон, который говорит и на-
блюдает, единственным возможным ответом будет, несомнен-
но, следующий: закон сверх-я. В отрывке из «Критики практи-
ческого разума», процитированном выше, мы отчетливо можем
видеть, как моральный закон превращается в закон сверх-я.
Именно сверх-я, по определению, одновременно все видит и
никогда не прекращает говорить, отдавая приказ за приказом.
Это также объясняет еще одно выражение, часто употребляе-
мое Кантом, выражение, которое не вполне согласуется со стро-
гой концепцией морального закона: что он «унижает» нас, и что
«воздействие этого закона на чувство есть только унижение»"'7.
Фактически, можно было бы сказать, что в упомянутой главе
Кант, в сущности, вводит два различных чувства, связанных с
двумя различными концепциями морального закона: уважение
и унижение. Точнее, уважение как априорное чувство и уваже-
ние, возникающее от осознания унижения; или же уважение как
форма страха и уважение как форма фантазии (где мы наблюда-
ем себя униженными моральным законом).
Здесь важно отметить, что учреждение сверх я (или «су-
перэгоизация» морального закона) строго коррелирует с тем,
что можно было бы назвать «страхом успеха». Страшатся здесь
именно некоего fa не manque pas, того, что «нехватки в этом
нет»1"*. Есть абсолютный Другой (в форме сверх-я), чтобы та-
ран гировать, что с другой стороны (со стороны субъекта) всег-
да будет нехватка; что нехватка эта никогда не «иссякнет», и что
«эго» (поступок) никогда не преуспеет. Если совершенный (или
«успешный») поступок всегда связан с измерением «нехватки,
которой не хватает», суперэготичная версия (морального) зако-
Гам же. С. 139 (перевод изменен).
«Переходим к следующему этапу — любви сверх-я и всеми сопровожда-
ющими ее неудачами Нс получается ли и здесь, что как раз успеха-то
субъект и боится? I (ресловутое нехватки в этом нет [ /<• ра ле тат/ие /мл)
опять налицо» (Лакан Ж. Тревога (Семинар. Квита 10 (1962/63)). С. 69).
- 199-
на направлена на то, чтобы не дать поступку даже совершиться.
Но единственной истинной гарантией, которую можно измыс-
лить, чтобы не дать поступку совершиться, — это появление
фигуры абсолютного Другого. Если существует «Другой Друго-
го», сама возможность поступка исключается по определению.
А такое исключение, несмотря на унижение и муку, которые
субъект вынужден претерпевать в руках Другого, в сущности,
ум и ротворя юще.
Этот сдвиг морального закона по направлению к сверх-я —
не без последствий. В действительности, он управляет всей ди-
алектикой возвышенного; он также объясняет, почему у Кан-
та, ранее установившего четкое различие между уважением и
другими чувствами, такими как удивление и благоговение, в
Заключении второй «Критики» появляется знаменитая фраза:
«Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным
удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы
размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральной
закон во мне»'49.
То же самое отождествление задает тон «Критике способ-
ности суждения» (1790) и предписывает, в немалой степени,
ее порядок. В сущности, можно сказать, что третья «Критика»
осуществляет смещение, уже заявленное в «Критике практиче-
ского разума». Это смещение касается кантовской концептуали-
зации Achtung (уважения) и характеризует сдвиг, претерпевае-
мый концепцией морального закона в работах Канта. Уважение
в нем «вырождается» и помещается на один уровень со всеми
другими чувствами. Сдвиг этот также довольно заметен и пол-
ностью завершен ко времени «Метафизики нравов», «доктри-
нерского» представления кантианской моральной философии,
появившейся в 1797 году. Если в «Критике практического разу-
ма» Кант посвящает целую главу понятию уважения, то в «Мета-
Kain И. Критика практического разума. С. 257.
-200-
физике нравов» параграф под заглавием «Моральное чувство»
не занимает и страницы. Более того, уважение определяется
в этом параграфе как «нечто чисто субъективное» (etwas bloss
Subjectives)'40. Кан г не говорит больше об «априорном» и непа-
юлогическом чувстве. Объект уважения тоже изменяется. В
«Критике практического разума» именно моральный закон как
таковой конституирует объект уважения, тогда как в «Метафи-
»ике нравов» мы уже видим инверсию, которая будет управлять
диалектикой возвышенного в третьей «Критике». Эта инверсия
сформулирована следующим образом: «Следовательно, чувство
возвышенного в природе есть уважение к нашему собственно-
му назначению, которое мы приписываем объекту природы по-
средством своего рода подстановки.., что делает для нас как бы
наглядным превосходство связанного с разумом назначения на-
ших познавательных способностей над высшей способностью
чувственности»1’1.
Возвышенное и логика сверх-я
Чувство возвышенного |do$ Erhabene], согласно Канту, воз-
никает подобно эху. Поначалу субъект зачарован неким при-
родным зрелищем (к примеру, «вздымающимся бескрайним
океаном») и невыразимой силой, являющей себя в нем. На этой
начальной стадии субъект переживает лишь беспомощность
и неудовольствие. Затем, внезапно, возникает инверсия, «эхо»
этого первого чувства, которое выражает себя как чувство воз-
вышенного: в своей физической беспомощности субьект осоз-
нает власть, которой он обладает в качестве разумного суще-
ства, способного возвыситься над природным и фсноменаль-
'* Кант Метафизика нравов в двух частях// Кант И. Критика практического
разума. СПб.; «Наука», 1995. С. 430.
1,1 Кант И. Критика способности суждении. С. 96.
-201 -
пым существованием. Собственная беспомощность или неспо-
собность [(Лт’пиб^ел], пишет Кант, открывает ему сознание
безграничной способности, также принадлежащей ему, и разум
может эстетически судить об этой способности лишь с точки
зрения предшествующего чувства беспомощности'*2.
Можно утверждать, что, в действительности, Кант выде-
ляет два момента, составляющие чувство возвышенного. Пер-
вый — это момент страха и приводящей в замешательство за-
чарованности перед лицом чего-то несравнимо большего и мо-
гущественного, чем мы (оно предстает как грандиозное, пере-
полняющее присутствие). Это страх, от которого субъект может
спастись, лишь преобразуя его во второй момент, в само чув-
ство возвышенного — то есть в чувство собственного «сверх-
чувственного» превосходства субъекта. Воз почему удоволь-
ствие от возвышенного — э го всегда негативное удовольствие-,
это удовольствие, которое занимает место крайне негативного и
приводящего в замешательство опыта. Следовательно, «объект
воспринимается как возвышенный с чувством удовольствия,
возможного лишь посредством неудовольствия»'*’.
Обратимся к двум очень интересным и значимым отрыв-
кам, в которых Кант обсуждает чувство возвышенного. Первый
идет в конце «Критики практического разума», чуть ниже кан-
товского гимна «звездному небу надо мной и моральному зако-
ну во мне»:
«Первый взгляд на бесчисленное множество ми[юн как бы
уничтожает мое значение как животном твари, которая
снов.) должна отдать планете (только точке но вселенной)
ту материю, из которой она возникла, после того как эта
материя короткое время неизвестно каким образом была
наделена жизненной силой»''4.
”г 'Гам же. С. 100.
'Гам же. G 98.
'*• Канг И Критика практического разума. (Г 257.
- 202-
Второй отрывок — из «Критики способности суждения»;
«Таким образом, природа выступает в нашем эстетиче-
ском суждении как возвышенная не потому, что она вы-
зывает страх, а потому, что она пробуждает нашу силу
(которая не есть природа), заставляя считать все то, о чем
мы заботимся (имущество, здоровье и жизнь), незначи-
тельным...»”5
Два этих отрывка вызывают в уме эпизод из фильма Монти
Пайтонов «Смысл жизни», в котором контраст между величием
звездного неба и ничтожностью наших обычных жизней также
играет важнейшую роль. Разумеется, эпизод этот является ка-
рикатурой, но эго не мешает ему помочь нам более точно опре-
делить логику возвышенного.
Сцена разворачивается в квартире супружеской пары. Кто-
то звонит в дверь. Муж открывает, и заходят двое мужчин. Они
занимаются бизнесом по «трансплантации живых органов» и
требуют его печень, которую он имел неосторожность пожерт-
вовать в своем завещании. Беднж а защищается, говоря, что они
имеют право забрать его печень только в случае его смерти, на
что двое мужчин отвечают, что он, в любом случае, вряд ли вы-
живет, если ему удалят печень. Далее мы наблюдаем кровавую
сцену: брызги крови повсюду, один из «мясников» вытаскивает
окровавленные органы из чрева жертвы и размахивает ими пе-
ред камерой... Но по настоящему интересует нас здесь вторая
часть истории, которую можно рассматривать как подлинную
«аналитику возвышенного». Пока один из мужчин продолжа-
ет кромсать беззащитного мужа, другой сопровождает жену на
кухню. Он спрашивает' у нее, что она будет теперь делать, наме-
рена ли она остаться одна, есть ли кто-то еще, ждущий своего
часа. Он говорит это гак, словно флиртует с ней, и она отвечает
Кант И. Критика cnocofinuciH суждении (1 100.
-203-
нет, никого другого нет. Удовлетворенный ее ответом, он про-
сит ее тоже пожертвовать свою печень. Разумеется, у нее нет
ни малейшего желания это делать, и она отшатывается в испу-
ге. Однако, она меняет свое решение после того, как ее доводят
до грани возвышенного — то есть когда она «осознает», сколь
ничтожной представляется ее позиция с более «возвышенной»
точки зрения. Из холодильника появляется человек в смокинге
и выводит ее из кухни ее повседневной жизни на прогулку по
вселенной. Пока они гуляют по звездному небу, он поет о «мил-
лионах миллиардов» звезд и планет, об их «умном» устройстве,
и т. д. и т. п. Благодаря этому космическому (и, несомненно, воз-
вышенному для нее) опыту, женщина приходит, разумеется, к
желаемому выводу: сколь мала и ничтожна я в этом потряса-
ющем и невообразимом космосе! Как следствие, когда ее снова
просят пожертвовать свою печень, она больше не колеблется.
Как мы уже сказали, это карикатура. Тем не менее, логика
этой истории точно такая же, как и логика, отмеченная Кантом
относительно возвышенного. Бывают момен ты, когда нечто за-
вораживает пас так сильно, что мы готовы забыть (и отвергнуть)
все, наше собственное благополучие и все, что с ним связано;
моменты, когда мы убеждены в том, что наше существование
значит что-то, только если мы способны им пожертвовать. Нет
нужды подчеркивать, разумеется, что все происходящее кажет-
ся смехотворным лишь «безучастному наблюдателю», которого
не переполняет и вызов которому не бросает то же самое чув-
ство возвышенного. Этот особый вид вызова, как мы увидим,
крайне важен для логики возвышенного, которую мы пы таемся
здесь определить.
Два ключевых момента в процитированных выше отрыв-
ках, описывающих опыт возвышенного, поэтому, следующие:
I. Чувство Лашей незначительности в той мере, в которой
дело касается «всей вселенной» (мы — всего лишь крупица
в необъятной вселенной).
- 204
2. Тот факт, что то, что функционирует как центр тяжести на-
шего существования в нашей повседневной жизни, внезапно
поражает нас как нечто банальное и неважное. В тот момент,
когда мы «разрешаем» чувство страха в чувство возвышен-
ного (высокого, das Erhabene), мы имеет дело с возвышенно-
стью (высотой), относящейся к нам так же, как и к внешнему
миру. Другими словами, чувство возвышенного, обратной
стороной которого всегда является определенный страх,
требует от субъекта расценивать часть своего тела в каче-
стве тела чужого, как нечто, принадлежащее не ему, а внеш-
нему миру. Здесь мы имеем дело с тем, что можно было бы
обозначить как «дизъюнкцию тела и души», то есть с мета-
форой смерти. Мы начинаем осознавать свою малость и ни-
чтожность, но, в то же время, сознание наше уже «эвакуиро-
вано» — оно уже находится в безопасном месте, из которого
мы можем высказывать такого рода возвышенное суждение
и даже отвергать ту часть себя самих, которую мы полагаем
мелкой и ничтожной. Таким образом мы можем получать
нарциссическое удовлетворение, проистекающее от способ-
ности нашего сознания «возвышать» нас над обыденными
нуждами. Другими словами, чувство возвышенного связа-
но, по словам Канта, с самооценкой fSelbstschdtzungl11*.
Обратим ненадолго наше внимание на этот момент. То, что
мы называем здесь «нарциссическим удовлетворением», па са-
мом деле тесно связано с Selbstschatzung, которая возникает с
чувством возвышенного. Изложение этого момента Кантом
весьма близко лакановскому описанию стадии зеркала. Во-пер-
вых, мы должны отметить, что нарциссизм, о котором идет речь,
не следует понимать просто как нарциссизм я, замкнутого на
себе. Для того, чтобы я смог сформировать образ себя, я должен
Г.1М же. С. 101.
-205-
видеть или наблюдать себя снаружи, в пространстве, принадле-
жащем Другому (к примеру, в пространстве зеркала). Другими
словами, не может быть никакого нарциссизма без фундамен-
тального отчуждения, через которое субъект может обращаться
к себе так, словно бы он был одновременно и кем-то другим. Вот
что важно, когда субъекта приводи т в возбуждение собственная
способность одержать победу над собой, покорит ь себя. Фигура
двойника уже присутствует в тексте Канта.
Во-вторых, нарциссизм всегда содержит в себе налет смер-
ти. Диалектика нарциссизма вращается вокруг (возможности)
смерти субъекта. Отношение к собственному двойнику всегда
определяется некой исключительной дизъюнкцией: «или ты,
или я» — для нас двоих этого места недостаточно; один из пас
должен уйти. В этом смысле нарциссизм гораздо более двус-
мыслен, нежели может поначалу показа ться; его нельзя свеет и к
простой любви к себе, поскольку эту любовь нельзя полностью
отделить от ненависти и деструктивной агрессии, направлен-
ной против себя. Кантовское понятие Selbstschiitzung, самооцен-
ка, отлично выражает это измерение нарциссизма, фактически
заключая в себе элемент оценивания. Кроме того, в тексте Канта
существенным является то, что человек оценивает себя нс в от-
ношении кого-то другого, но в отношении себя самого. Таким
образом, мы можем сказать, что, в конечном счете, я люблю себя
не потому, что считаю себя лучше других, но потому, что «нахо-
жу себя лучше себя самого».
Все это вызывае т вопрос: вопрос о логике, действующей в
этом сдвиге, где субъект превращает чувство страха и некое су-
щее твенное неудобство в определенный прирост удовольс i вия.
Эта логика напоминает механизм юмора, который, согласно
Фрейду, всегда является предметом удовольствия, которое зани-
мает место стцддапия. Юмор, в отличие от остроумия и комиз-
ма, следует точно такой же логике, что и логика возвышенного у
Канта. Рассмотрим пример юмора, описанный самим Фрейдом,
- 206-
который также можно классифицировать в качестве примера
возвышенного. Фрейдовский пример юмора — про преступ-
ника, которого ведут на виселицу в понедельник, замечающего:
«Ну, вроде эта неделя начинается хорошо». Остроумие, комизм
и юмор имеют определенные общие черты. Гем не менее, юмор
отличается особенностью, которой лишены эти два других спо-
соба получения удовольствия от интеллектуальной деятельно-
сти. В юморе «есть нечто грандиозное и воодушевляющее»'*’. И
эта отличительная особенность, продолжает Фрейд, «явно со-
стоит в торжестве нарциссизма, в котором победоносно утвер-
дилась неуязвимость я»'4*. Трудно не увидеть здесь фундамен-
тальной конструкции возвышенного. Гем не менее, механизм ее
функционирования по прежнему остается неясным.
Здесь субъект сталкивается с травматичной близостью (угро-
жающей) Вещи и отвечает введением новой дистанции, своего
рода безучастностью перед лицом чего-то радикально беспокоя-
щего. Именно это Кант называет пафосом апатии. Но на чем дер-
жится эта дистанция? Ответ Фрейда — она держится на сверх-я.
Позиция, о которой идет речь, заключается в том, что субъ-
ект «снял психический акцент со своего я и перенес его на свое
сверх-я. Этому весьма увеличившемуся сверх-я я может теперь
показаться крошечным, любые его интересы ничтожными...»1**.
Гак субъект начинает придерживаться отстраненной или возвы-
шенной точки зрения на мир и себя самого как часть этого мира.
Можно даже сказать, что чем сильнее сверх я субъекта, тем более
восприимчив этот субъект будет к чувству возвышенною.
Нельзя ли также добавить, что то же самое смещение акцен-
। а задействовано в чувстве возвышенного, когда мы обнаружи-
ФрсЙД 3. Юмор I/ Фрейд 3. Художник и фантазирование. М.: Республика.
1995. С. 2*3.
" Гам же (перевод изменен).
Гам же. С. 2*3.
- 207 -
наем в себе силу считать «то, о чем мы заботимся (имущество,
здоровье и жизнь), незначительным». В терминах простран-
ственной метафоры сверх-я можно представить в виде колыбе-
ли чувства возвышенного — утверждение, которому совершен-
но не следует удивляться. Эта власть, которую субъект ощущает
над собой и своим «природным существованием», как раз и яв-
ляется способностью сверх-я вынуждать субъекта, несмотря на
все требования реальности, действовать вопреки своему благо-
получию, отказываться от своих интересов, нужд, удовольствия
и всего того, что связывает его с «чувственным миром».
Здесь требует ответа другой вопрос. Часто говорят, что воз-
вышенное лежит на грани смешного. Мы то и дело встречаем
такие высказывания, как «Возвышенное это или смешное, зави-
сит от нашего взгляда на это»3"0. Как уже было видно в случае с
эпизодом из фильма «Смысл жизни», достаточно быть безучаст-
ным наблюдателем того, кто переполнен чувством возвышенно-
го, чтобы это самое чувство мгновенно трансформировалось в
фарс. Как тогда объяснить нам это схождение противополож-
ностей? Довольно просто; то, что возвышенно с точки зрения
сверх-я, смехотворно с точки зрения я.
Однако чувство возвышенного состоит не только в своем
указании на близость Вещи (угрожающей субъекту); одновре-
менно оно является способом избежать настоящей встречи с
ней. Другими словами, это самое раздувание сверх-я играет ре-
шающую роль в стратегии избегания Вещи [das Ding), влечения
смерти в чистом состоянии, хотя само это раздувание способно
привести прямиком к смерти. (Кант, как мы увидели, утвержда-
ет, что в этом состоянии субъект готов отказаться от имуще-
ства, здоровья и даже жизни).
" Cellies Cobuild l-ngliih Language Dictionary приводи г следующий пример: от
возвышенного до смешного — один шаг.
-208-
Своим собственным путем Кант также приходит к тому
моменту, когда в элементе возвышенного возникает моральная
инстанция. Он проделывает это, разбираясь с проблемой уни-
версальности. Обсуждение, о котором идет речь, касается того
факта, что, хотя возвышенное и прекрасное как эстетические
категории никогда не смогут достичь универсальности закона,
существует, тем не менее, такого рода универсальность, которую
можно им приписать, универсальность иная, нежели универ-
сальность закона. Именно на этой парадоксальной универсаль-
ности основано понятие Urteilskrafi (способности суждения).
Когда мы судим об эстетическом феномене, мы нс постулируем,
согласно Канту, согласие каждого — скорее, мы требуем от каж-
дого согласия201. Именно само суждение (к примеру, «этот об-
раз прекрасен») образует свою собственную универсальность.
Или, лучше сказать, в своем суждении мы образуем «универ-
сум», в котором это суждение является универсально верным.
Однако, требуя тем самым согласия от каждого, мы вынуждены
полагаться на нечто иное, и это «нечто иное» в случае возвы-
шенного — именно моральная инстанция: «[Основа суждения
о возвышенном) заключена в природе человека, в том, чего вме-
сте со здравым рассудком можно ждать от каждого и требовать
от него, а именно — в задатках чувства идей (практических), то
есть морального чувства»202. В этом отрывке можно обнаружить
«суперэготическое лицо» морального закона в «задатках... мо-
рального чувства». Как мы увидим, это «лицо» морального за-
кона постепенно приобретает все большее и большее значение.
Здесь мы можем задаться вопросом: что конкретно оз-
начает отношение между тем, что субъект видит перед собой
(ураган, к примеру), и тем, что он затем обнаруживает в самом
себе (еще большую силу)? Что заставляет первое вызывать вто-
Кант И. Критика способности суждения. С. 50.
" Гам же. С. 104.
- 209-
рое? Наш тезис состоит в том, что, в кантианской перспективе,
столкновение с чем-то, что ужасно «само по себе» (если взять
пример самого Каша, с «ураганами, оставляющими за собой
опустошение»), поражает субъекта как своего рода воплощение
жестокого, необузданного и угрожающего сверх-я — «реальной
или оборотной стороны» морального закона (в нас), сверх-я как
места наслаждения. Разрушительная мощь природных явлений
уже знакома субъекту, так что опустошающая сила «надо мной»
легко вызывает опустошающую силу «во мне». Чувство возвы-
шенного развивается посредством этой метонимии. Ясно, что
«опустошающая сила во мне» не может на самом деле относить-
ся к моральному закону в строгом смысле, однако она отлично
согласуется с инстанцией сверх-я, то есть с законом, оснащен-
ным взглядом и голосом, который «заставляет даже самого сме-
лого преступника трепетать».
Теперь мы в состоянии сформулировать главное различие
между прекрасным и возвышенным. Кант определяет прекрас-
ное в терминах «целесообразности без цели». Красота всегда
имеет форму целесообразности, однако в действительности
никогда нс имеет цели — понятия, с которым она согласуется.
Вот почему о предметах ремесла никогда нельзя судить как о
подлинно прекрасных — мешает их функция или полезность.
Красивые вещи, с другой стороны, не имеют цели за пределами
самих себя, однако они структурированы так, словно бы у них
была какая то цель. Красота возможна, только если она слу-
чайна, если она не служит никакой заранее заданной цели. Воз
почему для Канта примерами прекрасного par excellence явля-
ются природные образования. Однако прекрасным природное
образование (форму кристалла, к примеру) делает то, что оно
создает у нас впечатление знания со стороны Природы. Возни-
кает чувство#что Природа знает, что делает, что есть какое-то
значение или смысл в том, что она делает, хотя мы прекрасно
знаем, что это не так. Простейшее определение красоты, таким
-210-
образом, это то, что она является осмысленной формой, которая
извлекает свое очарование из факта того, что мы знаем, что эта
форма абсолютно случайна, условна или непреднамеренна. Воз-
вышенное, с другой стороны, представляет собой явно бессмыс-
ленную форму, она является в большей мере воплощением хаоса
(извержение вулкана,бушующий океан, ненастная ночь...). Оно
кажется чистым излишком, как извержение необъяснимого на-
слаждения, как чистая трата. Другими словами, если прекрасное
определяется как место, где Природа знает, то возвышенное —
это место, где Природа наслаждается. Именно это наслаждение
Другого, наслаждение, которое не служит никакой (реальной
или явной) цели, столь чарующе в возвышенном.
Это определение верно не только для динамически возвы-
шенного (первого тина возвышенного у Канта, примером кото-
рого служит неистовство Природы), но также и для друге типа
возвышенного, математически возвышенного. Если динамиче-
ски возвышенное воплощает жестоко неумолимый и фаталь-
ный аспект кантианской моральной инстанции, то математи-
чески возвышенное, которое стремится к бесконечности и веч-
ности, порождает измерение «бесконечной задачи», вмененной
субъекту морального закона, тот факт, что все, на что мы спо-
собны, — это приближаться in infinitum к чистому моральному
поступку. Или же — если поместить эту логику математическо-
го возвышенного в садовскую перспективу — оно поддерживает
фантазию о бесконечном страдании, фантазию, в рамках кото-
рой каждое тело функционирует как тело возвышенное.
Это позволяет предположить, что кантовская теория воз-
вышенного может быть также прочитана и как теория логики
фамтазма201. Это становится еще очевиднее, если мы рассмотрим
различие между «простым» ужасом и чувством возвышенного.
Заголовок одного из неопубликованных до сих нор семинаров Лакана.
-211 -
Кант говорит нам, что у чувства возвышенного есть одно
необходимое условие: будучи зрителями чарующего зрелища
Природы, сами мы должны находиться где-то в безопасности,
за пределами непосредственной угрозы. Наблюдать за ураганом
с расстояния — это возвышенное. Однако же, если ураган раз-
рушает дом, в котором мы укрываемся, это не покажется нам
возвышенным; мы не почувствуем ничего, кроме ужаса и бояз-
ни. Чтобы возникло чувство возвышенного, наши (ощутимые)
беспомощность и смертность должны быть инсценированы
«где-то там» таким образом, чтобы мы могли их спокойно на-
блюдать. Необходимым условием чувства возвышенного явля-
ется го, что мы смотрим на ураган «из окна»; это не что иное,
как то, что Лакан называет «окном фантазма»:
«Грозные, нависшие над головой, как бы угрожающие ска-
лы. громоздящиеся на небе грозовые тучи, надвигающиеся
с молнией и громом, вулканы с их разрушительной силой,
ураганы, оставляющие за собой опустошения, бескрайний,
разбушевавшийся океан, налакшни с громадной высоты
водопад, образуемый могучей рекой, и т. д. превращают
нашу способность к сопротивлению в нечто совершенно
незначительное по сравнению с их силой. Однако
чем страшнее их вид, тем более он притягивает нас, если
только мы в бежигатногти...»лм
Итак, это равносильно тому, как если бы я из окна наблю-
дал за собой, будучи сведенным к чему-то «совершенно незна-
чительному», игрушке в руках сил, несравнимо более могуще-
ственных, чем я. Здесь мы можем разглядеть кантовскую «фун-
даментальную фантазию» — пафос апатии, которая является
обратной стороной автономного и активного субъекта и в ко-
торой субъект — это абсолютно пассивная, инертная материя,
отданная на откуп наслаждению Закона.
1114 Кант И. Критика способности суждения. С. 100.
-212-
Эта констелляция — где мы в одно и то же время внутри и
снаружи, где мы одновременно являемся и чем-то совершенно
незначительным, песчинкой, с которой играют могущественные
силы, и наблюдателем этого зрелища — тесно связана с измене-
нием, которое претерпевает в теории Канта чувство уважения.
Поскольку, как мы уже увидели, чувство уважения у позднего
Канта вызывает именно то, что субъект наблюдает себя, под-
вергаясь закону, — то, что он наблюдает себя униженным и при-
веденным им в ужас.
В этой связи может быть интересно отметить, что отож-
дествление морального закона с логикой сверх-я сопровождает-
ся в работах Канта появлением понятия, которое — и это само
но себе уже показательно — вовсе нс играло никакой роли в
•Критике практического разума» и даже не было частью ее по-
нятийного аппарата: Сеит.«еп, или совесть. Однако это понятие
играет заметную роль в «Метафизике нравов», где оно весьма
выразительно описано, к примеру: «Каждый человек имеет со-
весть, и он всегда ощущает в себе внутреннего судью, который
наблюдает за ним, грозит ему и вообще внушает ему уважение
(связанное со страхом)...»-”5. Здесь мы обнаруживаем фигуры
взгляда и голоса, подразумевающиеся в способности совести к
наблюдению и к выражению угроз. Кант продолжает:
«Он может с помощью наслаждений и развлечении заглу-
шать или усыплять себя, но он не может избежать того,
чтобы время от времени не приити в себя или очнуться,
и тогда он тотчас слышит грозный ее голос. ...|совссгь|
отличается тем, что, хотя дело < овеети есть дело человека,
которое он ведет против самого ссоя, разум человека вы-
нуждает его нести это дело как бы по повелению некоего
другого липа»-'*.
Кант И. Метафизика нравов в двух частик // Кант И. Критика практически
то разума. СПб.: «Наука». 1995. С. 4ь<>.
I им же.
-213-
Следовательно, мы можем заключить, что этика Канта, в
определенный момент своего развития, встает на путь супер-
эготичного морального закона, путь, который подкрепляется
важностью {avant la leltrv11”) фигуры сверх-я в его теории возвы-
шенного. Однако это наблюдение не должно подталкивать нас к
выводу о том, что эта «эволюционная тропа» морального закона
в философии Канта является единственно возможной, или что
этологическое завершение изначальной позиции Канта.
Это предостережение правомерно, поскольку, как мы уви-
дели, в описании Кантом морального закона можно выделить
две различные линии рассуждения, которые даже приведут,
если мы немного заострим вещи, к двум совершенно разным
концепциям морального закона. Первая связана с образом «бес-
сердечного Канта»: моральный закон безусловен; он чужд лю-
бым так называемым «человеческим порывам»; он стоит особ-
няком в пустоте (поскольку его нельзя вывести из какого-либо
высшего принципа или понятия), и только с помощью этой пу-
стоты может он влиять на человека (поскольку чувство уваже-
ния, которое он пробуждает в субъекте, существенным образом
связано с отсутствием мотивов и любых средств представления
морального закона). Другой возникающий портрет морально-
го закона прилагается к более «сердечному Канту», стоящему в
ночной темноте, восхищающемуся звездным небом над собой и
моральным законом в себе.
Когда мы рассматриваем роль сверх -я в позднем портрете
морального закона, возникает вопрос, возможно ли вообще
помыслить моральный закон — или, по крайней мере, мораль-
ную инстанцию, — который не сводился бы к фигуре сверх-я.
Возможно ли помыслить этику, которая не подвержена логике
сверх-я со всеми ее резонансами: с одной стороны, свободную
от часто подчеркиваемой «иррациональности» его требований,
Фр.: д<> возникновения самого понятия — прим. рей.
-214-
л с другой, от его социализирующей функции как «внутренне-
го» представителя «внешних» властей, ценностей и норм? Мы
можем ответить утвердительно, просто указав на то, что именно
эту цель преследует Лакан с помощью своей концепции этики.
Однако, прежде, чем мы к ней перейдем, не будет лишним рас-
смотреть, может ли и Кант ответить утвердительно.
Статус закона
Рассмотрим проблему статуса морального закона у Канта с
точки зрения отношения между чистым разумом и эмпириче-
скими объектами (или действиями). Кант обстоятельно обсу-
ждает это отношение в «Крит ике чистого разума». С одной сто-
роны, существуют объекты возможного опыта, феномены. Они
появляются в определенных группах ассоциаций и в определен-
ном порядке, которые сообща образуют эмпирическую реаль-
ность. Однако ассоциации и порядок феноменов, которые мы
воспринимаем в эмпирической реальности, сами по себе еще не
означают закона причинности. Этот закон расположен по дру-
гую сторону — среди априорных рассудочных понятий, которые
Кант называет «категориями». Объекты опыта и категории —
дна абсолютно гетерогенных элемента наших познавательных
способностей. Между ними невозможно установить никаких
непосредственных связей — иными словами, рассудочные по-
нятия нельзя приложить (напрямую) к феноменам, поскольку
пни «совершенно неоднородны с эмпирическими... созерца-
ниями, и их никогда нельзя встретить ни в одном созерцани-
и- Известную метафору Канта, согласно которой понятия без
(эмпирического) содержания пусты, а созерцания без понятий
< лены, нельзя рассматривать как подразумевающую компле-
“ Канг И. Критика чистого разума И Кант И. Сочинения. В 8-ми г. Т. 3. М.:
Чоро, 1994. С. 156.
-215-
ментарность. Эти «идеальные партнеры» не могут встретиткя,
чтобы дать друг другу то, чего лишен каждый из них. Чтобы раз-
решить проблему, созданную этой строгой дизъюнкцией, Кант
развивает теорию схематизма. Чтобы категории и объекты опы-
та можно было связать, и чтобы таким образом возникло зна-
ние (понимание определенного порядка явлений как необходи-
мого), «должно существовать нечто третье, однородное, с одной
стороны, с категориями, а с другой — с явлениями и делающее
возможным применение категорий к явлениям»1”.Это «посред-
ствующее представление», как называет его Канг, должно быть,
с одной стороны, интеллектуальным, а с другой — чувствен*
ным. Такое представление — это трансцендентальная схема.
Она может выполнять свою опосредующую задачу, поскольку
содержит в себе трансцендентальное временное определение,
что является необходимым условием как любого опыта, так и
любого рассудочного понятия.
«Схема, — утверждает Кант, — сама по себе есть всегда
лишь продукт воображения, но так как синтез воображения
имеет в виду не единичное созерцание, а только единство в
определении чувственности, то схему все же следует отличать
от образа [Bi/J]»210. Итак, схема является не образом, но чем-то,
что устанавливает координаты для встречи между категорией и
объектом опыта, для приложения категорий к явлениям.
Таким образом, мы видим, что в области «теоретической
философии» возникновение подлинного закона (причинности)
включает определенный прыжок, и что роль трансценденталь-
ной схемы состоит не в том, чтобы преобразовать это в линей-
ный переход, но в гом, чтобы создать пространство, в котором
этот прыжок можно сделать. Можно сказать, что трансценден-
тальная схема служит гарантией того, что, «прыгая» со стороны
'** Гам же.
,Н1 1ам же. С. 158.
-216-
категории, мы не прыгнем в пустоту, по «приземлимся», вместо
итого, на объект возможного опыта.
По мере того, как мы движемся к области практической
философии, вещи будут все более и более усложняться, хотя
отправная точка будет аналогичной. С одной стороны, у нас
есть эмпирическая реальность действия; с другой — «закон
свободы», определяющий волю априори, независимо от любых
эмпирических элементов. Однако, поскольку все возможные
действия являются эмпирическими действиями, «кажется неле-
пым искать в чувственно воспринимаемом мире такой случай,
который, ... допускает применение к себе закона свободы»2". И
вновь мы сталкиваемся с фундаментальной гетерогенностью
двух элементов, которые нужно как то связать вместе в сужде-
нии. Однако здесь трудности — более серьезные, нежели те, с
которыми мы встречаемся в случае «теоретического разума».
Все дело в том, что «закон свободы» не только является апри-
орным, но и — в противоположность категориям — «независи-
мым» от априорных форм чувственности (времени и простран-
ства). Это означает, что трансцендентальная схема не поможет
нам установить связь между законом и эмпирической реально-
стью. Точнее, схема, которую мы ищем, эго не схема случая, про-
исходящего согласно законам, но «схема (если это слово здесь
подходит) самого закона»''1. Как мы увидели, схема — это общий
процесс воображения, который должен согласовываться с при-
родным законом как с законом, которому подчинены предметы
чувственного созерцания как таковые. Но, поскольку никакого
созерцания — а, следовательно, и схемы — предоставить закону
свободы нельзя, у морального закона нет никакой иной позна-
вательной способности, кроме рассудка, чтобы опосредовать
его приложение к объектам Природы. Рассудок способен предо-
' Кант И. Критика практического разума. G 180.
Гам же (курени добавлен).
-217-
ставить идее разума не схему чувственности, но закон. Это за-
кон, который «может быть in concrete представлен на предметах
чувств, стало быть, закон природы, но только по его форме»21’.
Именно этот закон Кант называет типом морального закона.
Вместо схемы у нас есть теперь тип, созданный по модели
природного закона, взятого только в своем формальном каче-
стве — своей универсальности. По что же именно такое этот
«тип»? Кант формулирует его так: «...спроси себя самого, мо-
жешь ли ты рассматривать поступок, который ты замышляешь,
как возможный через твою волю, если бы он должен был быть
совершен по закону природы, часть которой составляешь ты
сам?»2м. Эта формулировка в точности соответствует тому, что
в другом месте Кант называет категорическим императивом. В
«Основах метафизики нравственности», где он предлагает не-
сколько формулировок категорического императива, мы нахо-
дим следующую формулировку: «...поступай так, как если бы
максима твоего поступка посредством твоей воли должна была
стать всеобщим законом природы»2”. Эта фраза практически
идентична той, что Кант использует в «Критике практического
разума», чтобы определить «тип».
Следовательно, категорический императив — не что иное,
как тин морального закона. По возникают новые вопросы:
тогда что такое моральный закон? Что он приказывает? Что он
«хочет»? Фраза «Поступай так, чтобы...» категорического импе-
ратива не является ответом на вопрос «Что я должен делать?»,
но, скорее, на вопрос «Как мне это сделать?» — вопрос, в кото-
ром «это» остается загадкой. Строгая концепция кантианской
этики заставляет нас заключить, что это «это» есть нечто, что
г” Гам же.
|м 'Гам же.
Канг 11 Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика практи-
ческою разума. СПб.: «Паука». 1995. С. K4.
-218-
либо появляется, либо не появляется в поступке; что у него нет
предсуществования (даже в форме приказа); и, наконец, что у
нас нет никакой гарантии, что оно будет появляться всякий раз,
когда строго соблюдается категорический императив (посколь-
ку мы знаем, что подчинение закону не является достаточным
для того, чтобы определить поступок как этический).
Итак, тип (морального закона) это не образ закона, не про-
екция (ноуменального) закона на чувственное поле. Тип это не
деформация закона в представление. Тип — это и есть закон,
но не весь закон (поскольку это закон природы, взятый лишь
и своей форме). Тип — это «полузакон», так же как категориче-
ский императив есть «полусказанное» ( «/е mi-dire»). Поступай
так, чтобы максима твоей воли всегда могла бы считаться в
то же время принципом, провозглашающим универсальный за-
мш: это наглядный пример «полусказанного», которое, чтобы
i гать законом, должно быть дополнено действительным по-
сгупком субъекта. Моральный закон, будучи вневременным и
। ранссубъсктивным, зависит от временного поступка субъекта,
поступка, у которого нет предустановленной гарантии в зако-
не (в Другом), поскольку только в этом поступке сам закон и
учреждается. Этот момент имеет решающее значение: закон не
присутствует всегда-уже здесь, ожидая от субъекта, чтобы он
подчинился ему; само это подчинение, сам (этический) посту-
пок учреждает Закон как вневременной и транссубъективный116.
Как это можно понять? Возьмем в качестве отправной точки
известное выражение Лакана, согласно которому желание — это
(всегда) желание Другого. Важно помнить о том, что эта фраза
нс исключает этической максимы: «не поступайся своим жела-
нием». Иными словами, измерение Другого не исключает под-
линности желания субъекта. Но как это возможно? Только если
Здесь мы следуем за аргументом Славой Жижека (2iick S. The Indivisible
Keinainder. London and NewYork: Verso, 1W6.1’. 143).
-219-
мы признаем, что желание Другого предстает не в форме ответа
или приказа («Хочу того или этого!»), а — как отмечает Лакан — 1
в форме вопроса или загадки, сравнимой с той, что поставила
перед Эдипом Сфинкс217. Субъект ответит и, ответив тем или
иным способом, он напишет судьбу своего желания. Утвержде-Ч
ние «желание — это желание Другого» постулирует Другого как
место, где изначально возникает вопрос желания. Дело не в том,
что желание Другого существует где-то еще, а субъект знает, ка-
ково оно, и делает его моделью своего собственного желания.
То же самое можно сказать и о кантианском моральном зако* I
не. Субъект не знает, чего хочет закон. Именно здесь можем
мы расположить схождение или встречу Канта с Лаканом. «Заи
кон — это закон незнаемого»1'* — фундаментальная пропози-1
ция любой этики, заслуживающей называться этим словом.
Каким образом, в таком случае, можно было бы помыслить
моральный закон, отличный от суперэготического закона? В
качестве первого подхода можно сказать, что это такой закон,
который ничего от нас не хочет. Однако это «ничего не хочет»
само может быть предельной формой сверх-я. Когда субъект
спрашивает: «Что ты хочешь?» и получает ответ: «Ничего», этот
может породить логику сверх-я в чистой форме: «Чего ты доби*|
ваешься этим “ничего"?». Субъект понимает это «ничего» как
способ, которым Другой приглашает его угадать Его желание.
Моральный закон не является ни законом, который говорит
«хочу этого», «хочу, чтобы ты сделал это!», пи молчаливым зако-
ном, который ничего не хочет. Моральный закон имеет струк-
«Вам ясно, полагаю, канона здесь функции загадки — это и есть недосха-1
занность, половинчатость |w</irej, как половинчато тело самой Химеры,
исчезающее и вовсе, когда загадка получает решение» (Лакан Ж. И знайка
нсихоаналгба (Оминар. Книга 17 (1969-1970)). I (ер. с фр. А. Черноглазом!
М.: Издательство «Гнозис». Издательство «Логос», 200В. С. 41).
См.: Бадью А. Этика: Очерк о сознании Зла / 11ер. с франц. В. Е. Лапицкого.
СПб.. Machine. 2006. С. 70-71.
-220-
туру акта высказывания без высказывания; он имеет структуру
загадки или прорицания. Нужно подчеркнуть, что наше наме-
рение здесь не состоит в том, чтобы противопоставить «плохо-
му закону» (закону сверх-я) «хороший закон» (закон, который
имеет структуру прорицания). 11отому что именно эта структу-
ра прорицания (или загадки) может открыть дверь для учреж-
дения сверх я, равно как и для еще одной фигуры закона, «зако-
на неизвестного». Именно потому, что моральный закон имеет
структуру загадки, и из него две могут следовать различные
концептуальные фигуры закона и две различные этики.
I. Можно понимать этику как погоню за желанием Дру-
гого, как стремление или попытку выяснить желание Другого
прежде, чем «перейти к действиям». Здесь, однако, субъект не
только должен угадать желание Другого, но и — и прежде все-
го — столкнуться с тем, что у Другого вообще есть желание. Раз-
умеется, субъект никогда не сможет удовлетворить требования
Другого. Именно этот ряд неудач («это не то», «попробуй еще»,
•сделай еще одну попытку»...) утверждает Другого как того, кто
щаст, чего Он хочет: если Он не хочет этого, значит, Он явно
почет чего-то другого и отлично знает, что из себя представляет
•го другое. Вина, которую испытывает субъект из-за того, что не
выполнил требуемого (не нашел правильного ответа на загадку
желания Другого), и самообвинения, которые из этого следуют,
направлены на то, чтобы заставить Другого забыть, что Его не
существует. Субъект отлично знает, что Другого нс существует,
и действительности, это единственное, в чем он уверен. Одна-
ко ничего не измени гея, если мы скажем такому субъекту: «Ты
напрасно себя мучаешь. Другого, который так тебя страшит, не
гуществует*, поскольку субъект мучает себя именно потому,
что Другого не сущест вует. Уверенность в том, что Другого не
существует, отнимает у субъекта всякую другую уверенность (в
|ом, что следует делать, как надлежит действовать или реагиро-
вать на что-то...), а возведение закона сверх-я дает субъекту, по
-221 -
крайней мере, доступ к негативной уверенности («это пето»), к
некоему мерилу или «компасу» для его действий. Субъект, кото-
рый не знает, «правильно» ли то, что он хочет сделать (или дела-
ет), или «неправильно», «патологично» ли это или нет, действи-
тельно ли это «то» или это просто притворство — такой субъ-
ект находит в сверх-я своего рода «практическое руководство»,
которое, по крайней мере, дает ему «подсказку», что лучшее из
всех возможных действий - это всегда го, что заставляет тебя
больше всего страдать. Вот так субъект и действует; он может
даже действовать (и страдать) постоянно; однако вся эта актив-
ность может поддерживать субъекта в состоянии страдания —
в состоянии пассивности лицом к лицу со всемогущим Другим.
В этом отношении следует упомянуть еще одну версию это-
го «пути пассивности», состоящую в попытке выпытать у Дру-
гого «правильный ответ». Здесь субъект хочет, чтобы Другой
выбрал за него. Для такого субъекта Другой всегда предстает
в форме кого то другого. Можно сказать, что субъект стремит-
ся возвести какого-то маленького другого в ранг (большого)
Другого. Субъект проводит всю свою жизнь, навязывая выбор
другим, напоминая им о том, что они — свободные индивиды,
которые должны знать, чего они в действительности хотят. При-
ведем пример: в случае любовных отношений, которые больше
его не удовлетворяют, такой субъект никогда не разорвет их,
он перепоручит это решение другому. Он прикинется честным,
признает, что обманывает, что он, конечно же, слаб и очевидно
не готов к реальным отношениям. Он скажет другому: «Таков
расклад, таков я есть, я весь перед тобой обнажился — что еще я
могу сделать? — теперь твоя очередь принять решение, сделать
свой выбор». И если этот другой решает уйти, он уходит именно
как (большой) Другой. Можно даже сказать, что вся активность
такого субъекта ведет к этой сцене удивительной метаморфо-
зы другого в Другого (который знает, чего хочет или не хочет, и
действует сообразно этому).
-222-
2. Можно допустить, что только споим поступком субъект и
создает то, чего хочет Другой (Закон). 'Гаков, к примеру, посту-
пок Эдипа: Эдип ретроактивно создает символический долг, в
который он должен был родиться, но который был у него отнят
рядом попыток избежать этой судьбы. Урок его истории — не
в том, что «все уже предрешено» (Другим) и что бы субъект ни
делал, он уже заранее потерян. Напротив, история Эдипа пока-
лывает нам, скорее, что это Другой без субъекта потерян. Без
поступка Эдипа пророчество было бы просто непоследователь-
ной и бессмысленной болтовней. Иными словами, без поступка
;)дипа закон пророчества был бы просто тем, что он есть: «полу-
сказанным», которое «станет» Законом только в поступке субъ-
екта. Именно на этом уровне мы должны расположить свободу
и реальное измерение поступка. Однако это требует дальнейше-
। <> определения: если Закон учреждается как Закон только в по-
I гупке субъекта, и если субъект дополняет закон некоторой ча-
с гью себя, следует подчеркнуть, что з га «часть себя» как таковая
су6з»ектом не распознается (как принадлежащая ему). Скорее,
следует сказать, что место встречи закона и субъекта экстимно
для обоих.
Здесь Эдип также предоставляет хороший пример, посколь-
ку он дополняет закон (прорицания) частью себя, которую он
не знает. Чтобы избежать дальнейшего недопонимания, отме-
ним, что это «неизвестное» — не просто бессознательное, но,
скорее, нечто, что можно назвать причиной бессознательного
или причиной бессознательного желания: «часть нашей плоти,
которая в формальный аппарат неизбежно оказывается вклю-
чена»21'*. Здесь мы говорим о чем-то, что от субъекта отделено,
но по-прежнему является внутренним по отношению к сфере
• го существования. В терминах времени, мы могли бы сказать,
ч го эго отделение предшествует бессознательному, и учреждает
"• Лакан Ж. (Семинар, Книга II) (1962/6.3)). С. 265.
-223-
его образование. Именно поэтому в своем комментарии, касаю-
щемся героини Клоделя Синь де Куфон ген, Лакан придает такое*
значение Versagung как первоначальному отказу, «после которо-
го открывается путь либо неврозу, либо нормальности, ни один
из которых не обладает большей ценностью в отношении того,
что является, с самого начала, возможнос тью Versagung»210.
'* Lacan J. lx Seminaire, livre VIII, lx transfer!. Paris: Seuil, 1991. P. 377.
-224-
8.
Этика и трагедия в психоанализе
11екоторые предварительные замечания
ачсм нужно сопоставлять психоаналитический опыт с
опытом трагедии? Что заставляет Лакана предлагать в
1958-1961 годах, то есть в трех следующих друг за дру-
юм семинарах (VI, VII, VIII), тщательно проработанную интер-
претацию великих трагедий, таких как «Гамлет», «Антигона» и
трилогия Клоделя («Заложник», «Корки», «Позор отца»)? Мы
должны включить в этот список и трагедии, посвященные Эди-
ну («Царь Эдип» и «Эдип в Колоне»), хотя отсылки к этим тра-
। сдиям у Лакана рассеяны по всему корпусу текстов, так что они
не имеют четкой формы комментария. Можем ли мы приписать
•тот интерес к трагедии лакановской «экзистенциальной» фазе,
начинающейся с 1950-х годов, когда центральными вопросами
для него были вопросы вины и символического долга (вины на
основополагающем уровне бытия), а конец анализа понимался
пак субъек гивация, в которой субъект принимает свою вину и/
или свой конститутивный долг, в соответствии с логикой «геро-
и 1ма нехватки»? Можем ли мы — в иной перспективе — понять
- 225 -
интерес Лакана к трагедии (и мифу) как противоположность
стремлению — становящемуся все более и более явным ближе
к концу его жизни — к математизации, или, точнее, к «матема-
тизации» психоаналитической теории? Можем ли мы противо-
поставить миф и трагедию, в их обличии «небылицы», научной
точности формул и матем? Можем ли мы усмотреть в лаканов-
ских отсылках к трагедии своей» рода плоть, в которую он вгры-
зается на протяжении всего своего творчества, чтобы добраться
в итоге до чисто формальных костей аналитической мысли? Ла-
кан сам дает нам некоторые основания для того, чтобы ответить
отрицательно на все эти вопросы. Когда он задается вопросом о
роли «клоделианской мифологии» и мифа вообще в своем твор-
честве, он отвечает:
«В функционировании мифа, в игре, которая в нём разы-
грана, преобразования осуществляются но определенным
правилам, которые приобретают при этом особенное зна-
чение — они создают, или обнаруживают, конфигурации
высшего порялка, или какие-то особенно показательные
ситуации. Их плодотворность, одним словом, подобна ма-
тематической» 21.
То есть мы можем сказать, что миф обладает в точности той
же функцией, что и матема. Миф и трагедия, в понимании Лака-
на, не должны рассматриваться в терминах нарратива (последо-
вательного «исторического» изложения событий) в противовес
дискретным формулам, поскольку Лакан рассматривает миф и
трагедию как создание формальных структур. Когда, к приме-
ру, комментируя «Гамлета», он ссылается на пресловутый граф
желания, трагедия не является простой иллюстрацией графа:
скорее, она является самим графом — его, так сказать, надле-
жащей артикуляцией. Можно было бы сказать, что лакановский
а| Лакан Ж. Перенос (Семинары: Книга VIII (1960/611). Пер. с фр. Л. Черно
I .Чазова. М.: Издательство «I Нотис». Издательство «Логос», 21) 1 У. С 346.
- 226 -
обходной путь через трагедию представляет собой — вопреки
нашим ожиданиям — его первую попытку формализации ана-
литического опыта, а вовсе не попытку его поэтизации. Что ка-
сается другого его знаменитого определения, в котором Лакан
заявляет, что миф представляет собой «попытку облечь то, что
обусловлено самой структурой, в эпическую форму»222, то мы
могли бы утверждать, что тот способ, которым Лакан интер-
претирует миф, является, помимо прочего, попыткой обнажить
саму эту структуру, это реальное. Так, к примеру, миф об Эдипе
должен прочитываться не просто как история об отцеубийстве
и инцесте, а скорее как запись тою, что «Отец — это вовсе не
биологический производитель, а женщина так и остается для
мужичонки заражена Матерью, все остальное просто отсюда
следует»223.
Хотя Лакан действительно утверждал также и то, что в его
работе «мы поочередно рассматривали научный метод в самом
широком смысле <...> и нечто ему противоположное: траги-
ческий опыт»224, мы должны постараться не прочитывать этот
комментарий чересчур поспешно. Лакан обращается к опыту
трагедии для того, чтобы артикулировать нечто, что избегает
(как правило) научного определения — или, точнее, нечто, что
нс может быть прямо записано в символическом, нечто, что в
символическом заметно лишь по своим следствиям или тупикам.
Именно эту функцию в дальнейшем будут выполнять лаканов-
скис формулы (или матемы). Так, например, знаменитые форму-
лы сексуации являются не чем иным, как попыткой графически
представить нечто, что не может быть дано в записи или в сим-
волическом изложении а именно, «успешные» сексуальные
Лакан Ж. Телевидение. Пер. с фр. Л. Черны лазона. М.: 11ГДК «Гнозис», Из-
дательство «Логос». 2000. С. 53.
Там же. С. 54.
' Лакан Ж. Перенос (Семинары: Книга VIII (1960/61)). С. 296.
-227-
отношения. Другими словами, они представляют собой спо-
соб объяснения нашей неспособности объяснить сексуальные
отношения. Безусловно, остается вопрос о том, почему Лакан
в конечном итоге отдал предпочтение своим формалистичным
матемам, почему увидел в них более адекватный способ форму-
лирования психоаналитической теории. Ответ, возможно, за-
ключается в том, что посредством этих формул для него оказа-
лось возможным артикулировать более «имманентный» отчет
о психоаналитическом опыте. Как бы то ни было, это не тот во-
прос, который нас сейчас действительно интересует. Поскольку
мы ограничимся «трагической» стадией Лакана, мы хотим лишь
подчеркнуть, что его интерес к трагедии не является попыткой
«поэтизации» психоаналитической теории; напротив, это пер-
вая попытка «математизации» или формализации этого опыта.
В семинаре «Перенос» Лакан обращает внимание на разли-
чие между классической трагедией и современной:
• Теперь вина не сводится для нас к долговому бремени
символического. Теперь нас можно упрекнуть в том, что
мы вообще это бремя на себя взяли. Иными словами, те-
перь сам этот долг, где каждый из нас имел свой место,
может быть у нас отнят, и мы почувствуем в результате,
что мы от себя всецело отчуждены. Конечно, античная
Ата, вменяя нам этот лолт, делала нас виновными, но если
мы, как ттам это теперь позволено, от долга отказываем-
ся, на нас обрушивается бтеда куда большая: судьбы у нас
больше нет
С одной стороны, мы имеем дело с трагедией, навлеченной
роком, с которым ничего нельзя поделать, который лишь дает
возможность распознать в нем следы нашей собственной сути
и вынуждает нас принять его таким, каков он есть. Как отметил
еще Гегель в «Лекциях по эстетике», сила великих трагических
Гам же. С 329.
- 228 -
героев античности заключается в том, что у них нет выбора: они
есть то, чего они желают и что осуществляют с момента сво-
его рождения, и они есть это всем своим существом. Но этой
причине, продолжает Гегель, они абсолютно не притязают на
го, чтобы считаться невиновными за свои поступки. Напротив:
величайшее оскорбление, которое мы могли бы нанести истин-
ному трагическому герою, — это счесть его невиновным; для ве-
ликих трагических героев быть виновным — это честь.
Современность же, согласно Лакану, вводит возможность
сделать следующий шаг: даже это последнее прибежище нашего
существования — вина и долг, в которых ранее мы могли об-
рести приют, — могут быть у пас отняты. Это то радикальное
«лишение» субъекта, которое воплощает героиня Клоделя Синь
де Куфонтсн. Лакановскую концепцию различия между двумя
«типами» трагедии не стоит понимать как литературно-исто-
рическое притязание, имеющее целью описать различие между
античной и современной трагедией. Большее отношение она
имеет к изменению, разрыву в том, что можно было бы назвать
«историей желания». Лакан хочет подчеркнуть, что желание
более не артикулирует себя так, как оно это делало в предыду-
щую эпоху, что есть некий разрыв, и разрыв этот связан с ролью
шания в человеческом действии. Такова цель всех тех пассажей
посвященного клоделевской трагедии комментария Лакана, в
которых он настаивает на изменениях, вызванных введением
шания в поле трагического повествования.
С точки зрения структуры желания, обнаруживаемой в тра-
гедии, первый такой разрыв можно найти в Гамлете, очевидно
порывающем с классической фигурой Эдипа. В отличие от той
ситуации, в которой оказывается Эдип, ситуации, характеризу-
ющейся нехваткой знания, в «Гамлете» Другой (Отец) знает (что
он мертв) и, более того, дает субъекту (Гамлету) знать, что он
знает. То, что знание с самого начала выступает на первый план
(субъект знает, что Другой знает), обусловливает то, что даль-
-229-
нейшее будет трагедией, совершенно отличающейся от таковой
Эдина:
«Действие Гамлета — это не действие Эдипа, поскольку
действие Эдипа поддерживает его жизнь и делает из него
героя, которым он является до своего падения, ввиду того,
что он ничего не знает. Гамлет, с другой стороны, виновен
с того самого момента, когда он вступает в игру, — вино-
вен в сушен гвовании»?л.
Мы могли бы сказать следуя за Лаканом, — что трагедия
«желания и вины», трагедия символического долга, вины, с ко-
торой мы рождаемся, возникает только с конфигурацией «Гам-
лета», тогда как ставки трагедии Эдина относятся к совершенно
иному порядку.
Трилогия Клоделя вводит еще одно смещение. Судьба Синь
де Куфонтен вводит разрыв больше в «парадигму Гамлета», чем
по отношению к ~Атг] античности — по крайней мере, той “Атг|,
которая правит судьбой Эдипа; что касается «Антигоны», то
здесь совершенно другая ситуация (в отличие от Эдипа, Антиго-
на точно знает, к чему идет дело; она знает, что она провоцирует
своими действиями). Триада Эдип — Гамлет — Синь, возможно,
может прочитываться в терминах гегелевского движения сня-
тия (Aufhebung), где Синь оказывается своего рода снятием оп-
позиции между первыми двумя членами: если «Царь Эдип» це-
ликом посвящен неведению (нехватке знания), а «Гамлет» свя-
зан со знанием, то в Синь мы находим нечто, что можно было
бы назвать «знанием отсутствия этого знания». И хотя Синь
знает, что Другой мертв, это знание и вина, с которой оно свя-
зано, не способны более обеспечить ей место в символическом
порядке, позицию в отношении символического долга. Поэтому
ее судьба сближается с судьбой Эдипа: они оба (в отличие от
Lacan J. Hamlet И Ornicar? 24. Paris. 1981. Р. 15.
-230-
Антигоны и Гамлета) оказываются в итоге отбросами, невыно-
симым для других зрелищем. Судьба Синь повторяет — даже в
более ужасающей форме — судьбу Эдипа. Мы могли бы описать
Синь де Куфонтен как Эдипа, который, в двух ключевых момен-
тах драмы, знает, что собирается убить своего отца и спать со
своей матерью, -собирается сделать то, что полностью противо-
речит всем его убеждениям, — не имея возможности избежать
с помощью своего знания катастрофы этих поступков, но, ско-
рее, оказываясь в ситуации, когда само это знание вынуждает
его совершать эти бесчинства. Гамлет, напротив, колеблется; он
не способен действовать, именно поскольку он знает (что Дру-
гой знает). Действие для Гамлета само по себе невозможно в той
мере, в какой Другой знает’17, и Гамлет не способен выполнить
свою задачу, кроме как посредством бездействия, и только тог-
да, когда он сам оказывается смертельно ранен. («Гамлет нано-
сит свой удар только после того, как принесено определенное
количество жертв, после того, как он оставляет тело своего дру-
га, своего товарища Лаэрта, после того, как его мать по ошиб-
ке принимает яд, после того, как он сам получает смертельную
рану»зв). Синь, напротив, находится в ситуации, в которой она
должна принять решение поступить вопреки своему знанию и
совершить поступок, который само это знание делает «невоз-
можным».
Далее мы обсудим подробнее лакановское рассмотре-
ние двух трагических героев, Эдипа и Синь де Куфонтен. Эти
фигуры обладают но меньшей мере тремя общими чертами.
Во-первых, в противовес тому количеству внимания, которое
уделялось лакановскому прочтению Антигоны и Гамлета, его
трактовки Эдипа (по крайней мере, как трагического героя) и
• инь были отодвинуты на задний план. Второе, что их объе-
См. ibid. Р. 16.
Ibid. Рр. 16-17.
- 231 -
диннет, — это статус отброса; их трагедии не заканчиваются на
возвышенной ноте, а, напротив, оставляют нас с чувством неу-
довлетворенности и, как мы увидим, с «гримасой». И, наконец,
их субъективная позиция не соответствует формуле «желание и
вина», что, как мы увидим, имеет важное значение для их эти-
ческого статуса.
ЭДИП, ИЛИ ОТБРОС ОЗНАЧАЮ1ЦЕГО
Похищение желания — и мать «замен
История Эдипа зачастую воспринимается как иллюстрация
процесса, в ходе которого субъект примиряется со своей случай-
ной (и, как правило, злополучной) судьбой как с чем-то необхо-
димым, признавая в ней смысл своего существования. То есть
она рассматривается как иллюстрация процесса, в ходе которого
субъект берет па себя несмываемую вину и тем самым присва-
ивает и наделяет смыслом свою случайную судьбу. Даже если
Эдип в действительности не виновен в своем преступлении (по-
скольку оно было предсказано задолго до его рождения), он ге-
роически принимает на себя ответственность за свои поступки,
принимает свою судьбу и живет с ней до самого конца. Таким об-
разом, Эдип служит прототипом того экзисгенцналыюго состо»!
яния, в котором мы рождаемся виновными, будучи носителями
неоплатного символического долга, — так сказать, рождаемся в
предсуществующую символическую констелляцию, в которой
мы должны распознать значение нашего бытия. В этом, согласно
такой точке зрения, и заключается сам источник трагедии.
Вопреки популярности такого прочтения, в пьесе Софокла
найдется мало того, что бы его обосновывало. Эдип действи-
тельно рожден при таком стечении обстоятельств, что курс его
судьбы определен заранее, но все его действия направлены на то,
чтобы уклониться от этого курса и сопутствующего ему прокля-
тия. Когда в итоге оказывается, что он осуществил пророчество,
-232-
именно пытаясь избежать его, мы все еще не находим ничего,
что оправдывало бы интерпретацию, согласно которой он при-
нимает свою судьбу, примиряется с ней и героически переносит
ее. Напротив, когда Эдип в итоге узнает, что произошло на са-
мом деле, он себя ослепляет. Как нам понять этот жест, который,
конечно, породил множество различных интерпретаций? Слова
тех, кто был свидетелем его ослепления, так же как и слова са-
мого Эдипа, подсказывают толкование, которым не стоит пре-
небрегать: Эдип отказывается — в самом буквальном смысле
слова — узнавать себя в действиях, которые он на деле совершил.
Здесь можно было бы возразить, что его самонаказание (ос-
лепление себя) — это идеальный признак признания Эдипом
своей вины. Но в этом то и вопрос; можем ли мы свести посту-
пок Эдипа к акту самонаказания? Вся последняя часть пьесы
противоречит такому прочтению. Эдип и его собеседники го-
ворят здесь об ослеплении им себя не как о (само-) наказании,
а в терминах признания и непризнания. К примеру, дворцовый
вестник, который рассказывает историю Эдинова ослепления,
говорит следующее:
С ее одежды н.дх таенной сорвав
11аплечную застежку золотую,
Он стал иглу но впадины глазные
Вонзать, крича, что зреть очам не должно
11н мук ет о, ни им с вершенных зол, —
Очам, привыкввтм видеть лик запретный
И не узнавшим милого дина.
1ак мучаясь, не раз, а много раз
Он поражал глазницы, и из глаз
Не каплями на бороду его
Стекала кровь багрово-черный ливень
Ее сплошным потоком орошал'"'.
Перевод С. В. Шерви некого.
-233-
Когда несколько минут спустя Эдип появляется перед двор-
цом, со стекающей с лица кровью, вес становится еще интерес-
нее. Он говорит примерно следующее: пусть сгинет тот пастух,
который не дал мне умереть и тем самым обрек на еще большие
несчастья. Если бы не он, я бы никогда не убил своего отца и не
переспал со своей матерью. Он продолжает: «О, если в мире есть
беда всем бедам. Ее вкусил Эдип!».
На первый взгляд, в этих словах Эдина можно было бы уви-
деть самопризнание — то, что он в итоге признает свою вину.
Однако в другом отрывке этого диалога дело предстает в ином
свете. Руководитель хора, который немедленно соглашается с
Эдипом в том, что для пего было бы лучше умереть сразу же
после рождения, пользуясь случаем говорит по сути следующее;
действительно, почему ты до сих пор жив, учитывая, что у тебя
есть идеальный случай и повод окончить свою жизнь рядом
с телом Иокасты? Лучше умереть, — говорит он, — чем жить
слепым. Этический подтекст этого «лучше умереть, чем...» оче-
виден. В самом деле, удивительно, что сам Эдип не приходит к
этому героическому заключению, заключению, основанному на
логике нехватки бытия, которая, отдавая предпочтение смерти,
подчеркивает бремя существования. Вторая часть ответа ру-
ководителя хора также заслуживает нашего внимания: лучше
умереть, чем жить слепым. Красота и двусмысленность этого
ответа проистекают из того, что он одновременно отсылает к
тому моменту пьесы, в который он произносится (для Эдипа
было бы лучше убить себя, вместо того чтобы себя ослеплять), и
к прошлому Эдипа (было бы лучше, если бы Эдип умер сразу же
после рождения; если бы он никогда не жил, то он никогда бы и
не совершил вслепую свои позорные деяния). То есть Эдип всег-
да был слеп, он был слепым всю свою жизнь — но затем, когда
он наконец <|брсл способность видеть, когда он увидел, что сде-
лал, он вырвал свои глаза, говоря: я предпочитаю продолжать
оставаться слепым! Поэтому Эдип отвечает хору очень резко:
-234-
«Брось советы», — восклицает он и добавляет, что не имеет ни
малейшего желания отправиться прямиком в Лид, где бы «ж
вновь увидел своего отца и свою мать.
Такой настрой может показаться нам неподобающим ге-
рою. Вместо того, чтобы взять на себя свой символический долг
и оплатить его своей смертью, Эдип начинает увиливать, возра
жать, даже спорить: он находит цену чрезмерной; он — жертва
несправедливост и. Этот элемент драмы даже в большей степени
заострен в «Эдипе в Колоне», где он разрастается, заполняя всю
пьесу.
В текстах Лакана мы можем обнаружить определенную
двусмысленность, касающуюся этого аспекта Эдипа. В несколь-
ких местах «Этики психоанализа» Лакан обращает внимание на
это увиливание Эдипа и отсутствие примирения со своей судь-
бой1". Тем не менее, в других его работах вст речаются пассажи,
которые, как кажется, идут вразрез с нашей интерпретацией.
Например:
«Мц <pOv<n, это не будь я. или, точнее говоря, о, если бы я
не был... — ног граница, к кок>|юи мы подходим в Эдипе.
О чём это нам творит? О том, что в результате наделения
человека судьбой, в результате обмена, предписанного
структурами родства, в мир прикровенно входит нечто та-
кое, что оборачивается Ттезжалостным механизмом долга.
Н конечном счёте виновен он лишь в том долговом Бреме
ни, что получает он от предшествующей ему Аты»г". * ••*
“ -Именно там. между ними двумя портами, безраздельно царит для Эди
на его желание, о чем и свидетельствует как ра.з гот факт, что он предстает
в трагедии непреклонным, требующим до конца все, что ему причитается,
ни <и чего не отказывающимся, непримиримым» (Лакан Ж. Этика психо
анализа (Семинары: Киша VII (1959-60)), Пер. с фр. А Черноглазоиа. М.
Издательство «Гнозис», Издательство «Лотос», 2006. С. 394-395).
••* Лакан Ж. Перенос (Семинары: Книга VIII (1960/61)). С. 328-329.
-235-
Даже если вторая часть лакаповского рассуждения остается
в силе, — а именно, что Эдип рожден в безжалостный механизм
долга, — та позиция, которую он занимает в отношении этого
механизма долга, кажется более неоднозначной, чем предпо-
лагает такое прочтение. Мт/ qri/vai, слова, которые Лакан часто
приводит как собственные слова Эдипа, — слова, лежащую в
основании которых логику он сам станет позже критиковать,
говоря, что они заключают в себе возвеличивание нехватки,
которая, в контексте окончания анализа, связана с тем фактом,
что анализ завязан исключительно на означающем, — Эдип на
самом деле не произносил. Как и в случае со словами «лучше
умереть, чем жить слепым», которые следуют той же логике,
/о/ (pvvai произносит хор, а не Эдип. Здесь, опять же, позиция
Эдипа существенно отличается от мнения, выраженного хором.
Действительно, Эдип не дает себе увлечься каким-либо возве-
личиванием нехватки бытия: что его позиция возвеличивает,
так это, скорее, бытие отбросом. Его существование — это су-
ществование чего-то, выбрасываемого означающим, «плевка»
означающего. Если бы в конце «Царя Эдипа» Эдип выбрал само-
убийство, это отменило бы его существование в качестве отбро-
са и вернуло бы трагедию к чистой артикуляции означающих, в
которой все долги аккуратно выплачиваются. Вместо этого он
выбирает продолжать свое существование слепым, лишенным
цели отбросом.
Если бы мы искали параллели между концовкой «Царя Эди-
на» и разнообразными высказываниями Лакана, касающимися
окончания анализа, то у нас были бы все основания утверждать,
что Эдипу ближе высказывание Лакана, касающееся «пересече-
ния фантазма — идентификации с симптомом», чем то, в кото-
ром субъект в конечном счете признает свою вину и «усваива-
ет» свою случайную судьбу. Эдип не идентифицируется со своей
судьбой, он идентифицируется — что не одно и то же — с тем
внутри него, что сделало возможным осуществление этой суди
- 236 -
бы: он идентифицируется со своей слепотой. Поэтому в конце
вдиповой трагедии мы сталкиваемся не с «субъективацией»
(процессом, в ходе которого субъект ретроактивно признает
свое субъективное бытие именно там, где он был всего лишь
игрушкой в руках судьбы), а, напротив, с «объективацией» или
«овеществлением». Эдин заканчивает как объект в лаканов-
ском смысле этого слова. Если бы в момент своего ужасающего
открытия Эдип не ослепил себя, а убил (как подсказывал ему
хор), он бы завершил процесс субъективации. Продолжение ею
«слепого существования», напротив, движет события в совер-
шенно ином направлении.
Действительно, то, что Эдип не умирает в конце пьесы, за-
служивает особого внимания. Мы можем сказать, что это, ио
меньшей мере, не типичное завершение трагедии, поскольку,
как представляется, оно вступает в конфликт с механизмом
катарсиса. Если бы Эдип умер, его отцеубийство и инцест со-
хранились бы в качестве центральной Вещи, вокруг которой его
Образ и судьба возвели бы экран, чтобы уловить и запечатлеть
наше желание (это то, как Лакан определяет катарсис в случае
«Антигоны» — возвышенный образ Антигоны «между двумя
смертями» притягивает наше желание и обладает в то же вре-
мя эффектом его улавливания: завороженные этим образом,
мы приостанавливаемся, говоря себе: «дальше мы не пойдем»,
• мы видели достаточно»)212. Но вместо этого происходит так,
чго Эдип сам становится Вещью своей трагедии, отбросом; как
Срл «И очищаемся мы ... посредством того, что само является образом.
Hot здесь -то и возникает вопрос и том, что даст этому центральному об
разу такое могущество, что дает ему власть рассеять другие образы, кото-
рые в присутствии его умаляются, исчезают? ... Пересекая эту зону, луч
желания отражается и преломляется одновременно, оказывая тем самым
о удивительное, совершенно особое действие, которое и есть воздействие
прекрасного на желание» (Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Кии
iа VI! (1959-60)). С. 321-322).
-237-
расписывает его Крепит: «Можно ль показать подобный срам?..
Его земля нс примет, ни дождь священный, ни небесный свет».
В конце «Царя Эдипа» нет возвышенного образа, для его появ-
ления нам приходится ждать конца «Эдипа в Колоне».
Эдип не только не умирает в конце «Царя Эдипа», но еще
и появляется в качестве главного героя в «сиквеле», «Эдипе в
Колоне», который, можно сказать, «увековечивает» его жизнь
слепым отбросом. Собственно, одним из лей тмотивов «Эдипа в
Колоне» является именно его неспособность смири ться с судь-
бой, отказ Эдипа считать себя виновным. Вот отрывки, подчер-
кивающие этот момент:
Хор
Виновен ты...
Элил
Нинон невольной.
Хор
Как было? Поясни.
Элил
От Фив
Я П|н1нял нот лар, — когда бы
Я мог вовек нс брать его!
Элил
Я прел законом чист: убийца,
Я сам не ведал, что творил.
Элил
Убийством, браком, нищетой моей
Ты укорял меня, а я невинен!
Того желали боги...
Сам посуди: коль предсказали боги
Отну погибнуть от своих детей,
Что ж обвинять меня?2"
Переводе. В. 111ервииск<>1х>.
-238-
Помимо этих отрывков, ответ Эдипа Креонту (когда Кре-
онт приезжает, чтобы предложить Эдипу «примирение», по-
скольку в результате нового пророчества Эдип снова приобрел
важное значение для Фив) можно назвать «нет Эдипа», переф-
разируя лакановское «нет Синь»: Нет, я не виновен; нет, ваши
действия не были справедливыми; и нет, я не буду теперь вам
помогать!
Давайте остановимся на минуту на настойчивом утверж-
дении Эдипом своей невиновности. Когда он об этом гово-
рит, мы верим ему; нам не приходит в голову ответить: «Что
та невразумительное оправдание!». То есть когда Эдип го-
ворит: «Это была не моя вина», это не имеет того эффекта,
который эти же слова вызывали, будучи произнесены Валь-
моном из «Опасных связей». Вальмон оправдывает себя, го-
воря, что он не виноват в том, что проект соблазнения мадам
де Турвель занимает все его время: сама природа его жертвы
требует этого от нею; однако именно поскольку он использу-
ет эту отговорку, маркиза де Мертей, которой это оправдание
адресовано, тотчас же понимает, что Вальмон охотно пред-
принимает это усилие, что в действительности он начал им
наслаждаться.
Тем не менее, было бы неверно помещать различие между
классическим героем и современным и этот контекст, полагая,
Что лишь начиная с современности мы сталкиваемся с виной в
строгом смысле слова. Скорее, уже сам Эдип отличается отдру-
t их классических героев, поскольку его нехватка вины оказыва-
йся нетипичной. Хотя греческая трагедия всегда уже подразу-
мевает подчинение действующих лиц божественной власти, тем
нс менее в ней присутствует возможность ухватить проблему
субъективной вины. Хороший тому пример мы находим в «Ага-
мемноне» Эсхила. Когда Агамемнон приносит в жертву свою
дочь Ифигению, он делает это ex anankes, по необходимости; он
вынужден подчиниться велению Артемиды, переданному через
- 239 -
жреца Калхаса, и он не может покинуть военный альянс, задача
которого — разрушение Трои — является требованием Зевса.
Таким образом, Агамемнон оказывается перед лицом неизбеж-
ного: боги желают, чтобы он отправился в Трою, и боги говорят,
что он должен принести в жертву свою дочь для того, чтобы ве-
тер стал попутным. Так что мы могли бы сказать, что он убивает
свою дочь «но необходимости». Тем не менее, он несет полную
ответственность за это убийство, за которое и заплатит. Но по-
чему? Мог бы он сказать в свое оправдание, что был невольни
ком в игре богов и что он в любом случае не мог поступить ина-
че? Ответ — нет, потому что
«то, что Агамемнон вынужден совершить, находясь под
ярмом Ананке, это то, чего сам он желает всей душой,
если только такой ценой он может победить. То, что Ага-
мемнон провозглашает религиозно допустимым, это не то
действие, которое он вынужден совершить вопреки своей
ноле, но, скорее, его собственное сокровенное желание
сделать все, что могло бы открыть путь для его армии»'*4.
Эта ситуация «желания и вины» повторяется, когда Ага-
мемнона настигает кара — правосудие, совершенное Клитемне-
строй. Даже несмотря на то, что этого
• сребовади Эринии рода и желал Зевс, убийство царя сро-
ков (Агамемнона] было подготовлено, задумано, осущест-
влено его женой по ее личным причинам, соответству-
ющим ее характеру. Для нее было очень кстати призвать
Зевса и Эринии, но это ее собственая ненависть к мужу,
ее прес тупная страсть к Эгисту, ее вирильная воля к вла-
сти были тем, что заставило ее действовать»'”.
“* Vernant J. Р. I:.bauches de la volatile dans la tragedie greeque // Vernant J. P. and
Vidal Naquct P. Mythe el tragedie cn Greet a/uienne. Paris: Librairic Francois
Maspcro, 1972. P. M.
“ Ibid.
-240-
Таким образом, даже несмотря на то, что Агамемнон и Кли-
темнестра лишь исполняли волю богов, они делали это (даже че-
ресчур) «добровольно» — они, так сказать, имели свои личные
основания делать то, что они сделали, и поэтому они безнадеж-
но виновны.
Применительно к вопросу вины, как он здесь разворачи-
вается, мы можем перевернуть высказывание Лакана, в соот-
ветствии с которым желание является желанием Другого, и
прочитать его в обратном направлении. Субъект становится
виновным в тот момент, когда желание Другого становится же-
ланием субъекта, когда субъект, так сказать, злоупотребляет
«объективной необходимостью» и находит в этом свое приба-
вочное наслаждение. В такой перспективе получается, что же-
лание (субъекта) является тем, что обеспечивает объективную
необходимость, или «судьбу».
Давайте вернемся к Эдипу. Что делает Эдипа, в противовес
Агамемнону и Клитемнестре, невиновным? Что удерживает нас
от того, чтобы сказать с иронией: «Это, конечно, правда, что
случившееся с Эдипом было волей богов и было предрешено
задолго до его рождения, но чю мешает ему упиваться этим?»
Почему мы не испытываем побуждения сказать: «На этой тер-
ритории нет ни отрицания, ни невиновных»? Чтобы ответить
на этот вопрос, давайте для начала попытаемся дать определе-
ние вины.
Мы уже сказали, что вина в значении символического долга
возникает тогда, когда субъект знает, что Другой знает. Без этого
знания нет вины. Чтобы это проиллюстрировать, давайте пред-
ставим, на что была бы похожа драма Гамлета, если бы она на-
чиналась не с появления Другого (призрака его отца), который
шает (что Он мертв) и дает знать герою об этом знании, а с того,
что Гамлет находит некоторые обстоятельства, сопутствующие
смерти его отца, подозрительными и начинает расследование.
Ясно, что это был бы совершенно иной тип драмы — скорее
-241 -
всего, детектив-*1. Но не заключается ли различие между детек-
тивом и такой трагедией как «Гамлет» как раз в статусе вины?
В детективном романе вопрос вины разрешается раскрытием
преступления и разоблачением убийцы, в то время как в «Гам
лете» это разоблачение служит лишь учреждению вины — оно
ставит героя н позицию, где он оказывается «виновным, не бу-
дучи виновным», виновным на уровне самого своего существо-
вания, виновным в силу того лишь факта, что он янаегп. Но что
значит «быть виновным в самом бытии», и где именно знание
вписывается в историю?
Знание, о котором идет речь, — это двойное знание. С од-
ной стороны, это знание, которое Лакан называет «знанием
эдипального преступления»; с другой стороны, оно касается че-
го-то, что мы могли бы назвать «знанием смерти», — призрака
мертвого отца, который знает, что он мертв, и свидетельствует о
том, что смерть не приносит забвения. Последний аспект знания
очевидно связан с темой «неонлаченых счетов». Предыдущий
король, отец Гамлета, был «убит в соцветии грехов, Под корень
срезан, вызван на допрос. Не рассчитавшись с жизнью, без при-
частья, Без исповеди, без духовника, С душою неочищенной»2”.
Другими словами, смерть замораживает активы отца Гамлета н
тот момент, когда застает его врасплох; заключительный баланс
его жизни остается равным сумме его грехов.
Манерное, здесь стоит отметить, что, в отличие от «Гамлета», историю Эди
па часто относят к детективному жанру. Кое-кто даже идет дальше и видит
и «Царе Эдипе» прообраз жанра нуар. Так, «I (арь Эдип» вышел в «нуар се-
рии» французского издательства Galliinard («переведенный с мифа» Дидье
Дамэзоном). Что сближает историю Эдипа с нуаром. — это, конечно, ю,
что герой — детектив — оказывается, сам того нс знал, замешанным в пре-
ступлении. которое он расследует. Можно даже сказать, что истории Эди-
па составляет с^ую суть фильмов нуар «поной полны», таких как «Сердце
ангела» или «Бегущий по лезвию» (режиссерской версии), где под конец
выясняется, что герой сам является тем преступником, которого он искал,
!W 11срсвод Юрия Лифшица.
-242-
По то, что разыгрывается в трагедии Гамлета, выходит за
рамки мщения им за смерть отца. Наказание убийцы для Гам-
лета отнюдь не основная задача. Основная его задача — рас-
считаться с отцовскими долгами (расплатиться по его счетам)
и убедиться в том, что жизнь его отца может наконец прийти
к своему завершению. Эго и делает его миссию столь сложной.
Мы должны различать в «Гамлете» два уровня действия, ко-
торые зачастую соединяются друг с другом. Движущую силу
«Гамлета» составляют по сути два разных преступления: пре-
ступление Клавдия, давшее начало новому правлению; и пре-
ступление (или преступления) отца Гамлета — в котором у него
не было времени покаяться. Тот, кто знает (отец Гамлета), — это
тот, кто — в соответствии с лакановской формулой — не рас-
платился за преступление своего существования; последствия
для следующего поколения будут нелегкими, и Гамлет должен
проследить за тем, чтобы этот долг был оплачен. Мы никогда не
узнаем ничего конкретного о преступлениях его отца, но муки,
которые он претерпевает из-за них, достаточно красноречивы.
Он говорит Гамлету, что описание даже малейшего из его муче-
ний могло бы «Изранить сердце, выморозить кровь, Глаза твои,
как звезды, погасить, Взъерошенную вздыбить шевелюру, Чтоб
походили волосы твои На иглы бешеного дикобраза»21*.
Его скитания между двумя мирами, инфернальные грезы,
которые смерть принесла ему взамен забытья, ужасающее место
между двумя смертями»; отец 1амлета был осужден на все это
нс потому лишь, что стал жертвой трусливого и подлого напа-
дения, но из-за того, что смерть застигла его врасплох, когда он
не был к ней готов. Воздаяние убийце само по себе не может
и (Мени гь ситуацию, поскольку проблема отца Гамлета располо-
Асна на другом уровне. То, что Гамлет поквитается с Клавди-
ям, не оплатит долгов его отца — это послужит лишь списанию
'* Псреш>д К)рии Лифшица.
- 243 -
неоплаченного долга Клавдия. Поэтому вопрос «Что мне де-
лать?», который мучает Гамлета, относится не к тому, должен ли
он убить Клавдия или нет. Реальный вопрос таков: что я могу
сделать для того, чтобы долг моего отца был оплачен прежде,
чем убийце выпадет шанс расплатиться по своим собственным
счетам? Это гораздо более сложная задача, чем простая месть,
и именно этим объясняется знаменитое восклицание Гамлета:
«Время сорвалось с петель»13*.
Со смертью короля время остановилось в мертвой точке,
что не оставляет возможности для будущего, и это происходит
именно потому, что прежний король не в состоянии действи-
тельно распроститься со своим королевством и «покоиться в
мире». Призрак не возвращается в Эльсипор, он живет там Дело
не в том, что «что-то прогнило» в настоящем из-за сумрачного
и скрытого прошлого. Скорее, у Эльсинора даже нет настояще-
го, так что замок обречен жить в прошлом. Главные действую
щие лица пьесы — ив первую очередь сам Гамлет — букваль-
но пленники прошлого, несвершенной истории короля и отца.
Мир продолжает следовать своим курсом, но для Гамлета время
остановилось. Гамлет всажен во время жизни отца, которую он
должен завершить для того, чтобы его собственное время могло
возобновить свое течение.
Гамлет сможет совершить это только в другом времени («в
час Другого»), в час (своей собственной) смерти: в безвремен-
ном интервале, открывшемся между моментом, когда Гамлет по-
лучает смертельный удар от Лаэрта, и моментом своей смерти.
Он может справиться со своей задачей, лишь предлагая себя са-
мого В качестве своего рода фиксатора, который вст авит время
обратно в «петли» — то есть помещая себя во время своего отца,
во время живого мертвеца, во время между двумя смертями, из
которого проДблжают звучать его последние слова. Только здесь
Перевод Дмитрия Аверкиева.
- 244 -
он может не только отомстить за смерть своего отца, но и про-
редить за тем, чтобы отцовские долги перед этим миром были
оплачены. Смерть Гамлета завершает историю его отца — как
ю и должно быть, поскольку с определенного момента жизнь
1амлета была не более чем продолжением отцовской истории.
Ik е это, следовательно, подтверждает наш тезис о том, что Гам-
лет должен быть признан виновным на уровне существования,
виновным в силу самой жизни.
Давайте вернемся к пашей исходной проблеме. Почему
Эдип не виновен? Мы сказали, что появление вины связано с
гем, что Другой знает и дает субъекту знать, что Он знает. Но
•oho знает Другой? Дело здесь не просто в том, что Другой (зара-
нее) знает судьбу субъекта, открывает ему ее. Знание, о котором
|десь идет речь, это не знание, имеющее такую, например, фор-
му: « Гы убьешь своего отца и будешь спать со своей матерью»,
разновидность бесполезного — как свидетельствует «Царь
Эдип» — знания, всего лишь иная форма слепоты. Напротив,
оно связано с чем-то, что можно было было бы назвать «при-
бавочным знанием», знанием, к которому привязано желание
субъекта. «Прибавочное знание» (перефразируя лакановское
«прибавочное наслаждение») соотносится с тем местом, из ко-
торого знание (об отцеубийстве и инцесте, к примеру) высказы-
вается. Само то, что знание «смещено», отделено от места своего
высказывания, стоит у истоков трагедии Эдипа. Оракул открыл
)дину его судьбу, когда тот жил в Коринфе, в доме своих «при-
емных родителей», которых он считал своими настоящими ро-
дителями. Эдип полагал, что путешествие сто судьбы началось
в Коринфе, он не знал, что на самом деле оно уже шло полным
ходом, начиная с его рождения в Фивах; и этого несоответствия
оказалось достаточно для того, чтобы его путешествие было
им совершено без осознания сто позорного характера. Други-
ми словами, бытие Эдипа оказывается вовлеченным в процесс
уже в Фивах, в то время как его знание — а вместе с ним и его
-245-
желание — вступает в него только в Коринфе. Это то, что делает
трагедию Эдипа уникальной и оправдывает наше применение к
ней тех слов, которые использует Лакан, обращаясь к трагедии
Клоделя: «...у человека отнимают желание и отдают его самого
кому-нибудь другому взамен — в данном случае, общественно-
му устройству», или же, в другой формулировке: «...у субъект»
отнимается его желание, а взамен его отправляют на рынок и
продают с молотка»240.
Почему получается, что Эдип не виновен? Потому что с са-
мого начала он лишен своего желания (которое одно только и
могло сделать его виновным). Он сам, в свою очередь, оказы-
вается отдан кому-то еще, социальному порядку (трону) и Ио-
касте; позже он назовет это губительным даром, полученным в
обмен на его услуги. Давайте еще раз вспомним диалог между
Эдипом и хором, касающийся инцеста:
Хор
Виновен ты...
Эдил
Вином невольной.
Хор
Как было? Поясни.
Эдип
От Фив
Я принял этот лар, — koi ла бы
Я мог вовек не брать его!
Пожалуй, именно этими словами лучше всего можно поды-
тожить судьбу Эдипа; «похищение желания и мазъ взамен».
Лакан Ж. Перенос (Семинары: Книга VIII (IW0/6I)). С. 352-353.
-246
Смерть Bcnjii
В своей книге «Философ Эдин» Жан-Жозеф Го обращает
паше внимание на множество любопытных элементов в мифе об
; Эдипе. 1b исходи! из того факта, что миф об Эдипе является нети-
пичным. Судя по его формальной структуре, это миф об иници-
ации: перед героем стоит вызов, его ожидает суровое испытание
(столкновение со Сфинкс), которое он успешно проходит, инте-
грируясь тем самым в социальный/символический порядок —
выигрывая трон и жену. Однако если сравнить миф об Эдипе с
другими мифами, затрагивающими этот сюжет (например, сра-
жение 11ерсея с Медузой, 1кллсрофонт и Химера), обнаруживает-
ся целый список несоответствий, которые формулирует Го:
Л. В случае Эдипа мы не обнаруживаем типичного мотива
испытания, требуемого царем; Элип по своей собственной
воле решает в< тупить в противостояние со ( финке.
Г». Это противостояние с феминным чудовишем само по
себе содержит следующие аномалии:
I. Элип побеждает Сфинкс без помощи богов (что, соб-
ственно говоря, является неслыханным) и лаже без помо-
ши смертных (без совета мудрена или прорицателя).
2. (’амо испытание не структурировано, нс разбито на эта-
пы, в холе которых герой побеждает чуловишс шаг за ша-
гом (как это происходит в случае других героев).
3. Он побеждает чуловише без применения физической
силы, используя в качестве оружия лишь олно-елинстнен-
ное слово (<1v<lp«>xo^ человек).
В. Наконец, он женится не на дочери короля, а на своей
собственной матери2*'.
Эти отклонения от «типичного» мифа не являются, согласно
16, вариациями главной гемы, но представляюг собой полную
инверсию самой этой главной темы. Другими словами, история
См.. Тинг* | J. CEdipe phikKophe. Paris: Aubier. 1990 Pp. 24 25.
- 247 -
Эдина это не одна из множества вариаций мифа об инициации;
это, скорее, миф о неудавшейся инициации. Согласно этой точке
зрения, отцеубийство и инцест являются как раз следствиями
неудачной инициации.
Типичная инициация неэдипальных героев (и, соответ-
ственно, их история) разворачивается следующим образом:
царь, являющийся одновременно и фигурой авторитета, и со-
перником героя, навязывает ему испытание, которое пред-
ставляется «невыполнимым». Это испытание включает в себя
столкновение с чудовищем (как правило, феминным). С этой
«задачей» герою помогают справиться боги и мудрецы — иначе
говоря, ему помогает унаследованное им знание предков, — и он
справится со своей задачей не прежде, чем побывает на волоске
от гибели. По окончании этого предельно трудного испытания,
в ходе которого он убивает Женщину-чудовище, герой получает
доступ к трону и к «нормальной» сексуальности — он женится
на женщине, которая, как правило, является дочерью царя.
Похоже, эту т ипичную историю можно достаточно просто
перевести на лакановский язык. Поначалу субъект является пле-
ником воображаемых отношений со своим соперником, царем;
в испытании, назначенном ему этой «отцовской фигурой», он
должен разрешить свои отношения с Вещью/Матерью/Наслаж-
дением. Лишь после того, как он «убивает Вещь», он получает
доступ к подобающему ему, законному месту в символическом.
Что происходит в случае Эдипа, согласно Го, так это то, что
ключевой момент истории об инициации не наступает. Эдип
не убивает Сфинкс; скорее, он пытается просто ее «заболтать»
и тем самым лишь оттягивает настоящее столкновение с ней.
Эдип пытается играть роль интеллектуала, «философа», и по-
этому он неспособен набраться «мужества», необходимого для
того, чтобы войти в символический порядок — по этой причи-
не он и оказывается в итоге в материнских объятиях. Соглас-
но этой интерпретации вина Эдина заключается в том, что он
-248-
не согласился на утрату Вещи/Наслаждения, которая является
обычным условием инициации героя. Трагедия Эдипа, — за-
ключает Го, - это история о возмездии желания матери: Сфинкс
мстит за то, что она не была убита, за то, что от нее лишь отде-
лались посредством умного ответа Эдипа.
Сразу скажем, что эта интерпретация кажется нам пробле-
матичной. Однако опа может послужить провокационной от-
правной точкой для нашей попытки предложить другую интер-
претацию Эдипа, тем, что позволит нам вывести наружу менее
известные элементы лакановской теории — элементы, которые
прольют иной свет на стандартную формулу: воображаемые
отношения плюс (символическая) кастрация равно субъект
символического закона плюс нехватка, воплощенная в объекте
а как причине желания. Типичный миф об инициации следует
этой формуле: вхождение героя в символическое, в означающее,
подразумевает утрату Вещи и возникновение, с одной стороны,
чистого субъекта означающего и, с другой стороны, неразло-
жимого остатка, который с этих пор будет действующей силой
желания субъекта, поскольку объект, который ему достается,
никогда не будет Тем (самой Вещью). Однако ест ь и другая, еще
более «лакановская» версия этой истории, и ее герой — не кто
иной, как Эдин.
Главная предпосылка интерпретации Го является по сути
ангифрейдистской: ключевую роль в развитии субъекта он от-
водит материнской, а нс отцовской фигуре. Согласно этой ин-
терпретации — ив противовес Фрейду — «в начале» было не
первородное отцеубийство, а матереубийство. Функция отца
оказывается вторичной по отношению к таковой матери. Если
согласно Лакану «Женщина (lafemme\ — это одно из имен отца»,
ю Го утвеждает, что это отец представляет собой не более чем
одно из имен Женщины. Фрейда действительно часто критику-
ют за упущение того факта, что чудовище, убиваемое героем,
является как правило феминным, факта, который затем исполь-
-249-
зуют в качестве свидетельства примата жетцины (или матери)
в мифологическом конституировании субъекта. Однако «ну-
ар»-версия Эдипа, которую я упоминала (в сноске 16), ясно по-
казывает нам, как такая интерпретация попадает в ту самую ло
вушку, которой пытается избежать, а именно, в перспективу, от
дающую приоритет «маскулинной фантазии». В «нуар»-версии
«Царя Эдипа» Сфинкс, конечно же, принадлежит роль femme
fatale. А позиция femme fatale (то есть Женщины) — это пози
ция исключения, неотъемлемого от фаллической функции, и
она, следовательно, представляет собой маскулинную фантазии!
par excellence. Это позиция «своенравного господина», который
не связан законом и который «хочет всего» (здесь достаточно
вспомнить образ Дамы в куртуазной любви). Другими словами.
Женщина |/а femme| — это именно «одно из имен отца». Отец —
это не только учреждение символической и упорядочивающей
инстанции закона. Оборотная сторона этой фигуры — то, что
Лакан называет «Отец-наслаждение»: это «реальный» отец, таг
отец-наслаждение, который должен умереть для того, чтобы За-
кон был учрежден.
В соответствии с такой точкой зрения, трагедия Эдина это
не трагедия человека, которому не удалось совершить переход
из воображаемого в символическое-, напротив, это трагедия са-
мого вхождения в символическое. Но — ив этом состоит нази-
дательное значение эдипова мифа — «трагедия» здесь заключа-
ется не во всем том, что должно быть утрачено, не в той цене,
которую необходимо заплатить, чтобы добиться вхождения в
символическое. Она не имеет отношения ко всему тому, от чего
необходимо героически и мучительно отречься (к всецелому
наслаждению, например), чтобы получить доступ к своему соб-
ственному месту. Трагедия подчеркивает не условия вхождения
в символическое, а последствия этого вхождения. Так что в про-
тивовес доводам Го мы можем утверждать, что Эдип «убивает
Вещь» гораздо более радикально, чем его мифологические кол-
- 250-
лети, причем именно потому, что он отвечает на ее угрозу по-
средством слов, а нс силы. В своем ответе Эдип именует Вещь —
и неудивительно, что в результате Она «испаряется»; исчезает,
не оставляя за собой никаких «кровавых пятен». Но если это
так, то мы должны задаться вопросом, откуда берется трагедия
в этой ситуации (трагическая судьба Эдипа), если Вещь испаря-
ется без остатка, если переход к символическому происходит с
такой легкостью.
На такой вопрос обычно напрашивается ответ, что, как бы
го ни было, Вещь на самом деле не испарилась без остатка; кака-
я-то часть Вещи всегда переживает вхождение в символическое
и «умерщвление» в означающем. Но эта история об остатках
может вводить в заблуждение, поскольку она рискует попасть
в ловушку «эволюционной» перспективы: сначала Вещь, затем
означающее и то, что осталось от Вещи. Позиция Лакана здесь
гораздо более радикальна: остаток (то, что он называет объек-
том а) — это не просто остаток Вещи, а остаток самого озна-
чающего, который ретроактивно создает измерение Вещи; это
не остаток некой «материи», которую означающему не удалось
«преобразовать» в символическое, это остаток, отброс, «плевок»
саморефере!иного движения означающих. Именно в этом смыс-
ле следует понимать тезис, согласно которому работа символи-
ческого (символизации) никогда не происходит как следует, она
всегда производит остаток. Дело не в том, что после этой работы
что-то досимволическое остается в качестве «несимволизируе-
мого» или чего-то, что «избегает» символизации, а в том, что
символизация, в самой своей завершенности и полноте, про-
изводит остаток, который «подтачивает» ее изнутри, порождая
туники. Перефразируя Гегеля; остаток — это кость самого духа,
а не нечто внешнее, что дух не смог полностью поглотить.
Поэтому Лакан в своем знаменитом «графе желания» поме-
щает на место остатка означающей цепи голос, который, строго
говоря, является продуктом самой означающей цепи — бол-
-251 -
топни означающих, — а не остатком чего то, предшествующе
го появлению символического. Получается, что концептуальная
ценность эдипова мифа заключается как раз в этом: он поме
щает источник трагедии в полностью, «на все его процентов»,
завершенной символизации, в слове, после появления которого
Сфинкс бесследно исчезает. «Печать рока» Эдипа это не неким
скрытый остаток Сфинкс/Вещи, а именно слово и его послед-
ствия (его «остаток»). Поэтому гибель Эдипа будет вызвана гем
что он останется (хотя и невольно) верным своему слову.
Что же касается тупиков, произведенных изнутри само-
го символического, то трагедия Эдипа разворачивается на двух
уровнях. Первый — это уровень расхождения между эмнириче
ским и символическим, расхождения, проистекающего из того,
что другие (и главным образом его отец и мать) не всегда вер-
ны или равны своим слонам, своим символическим функциям.
Второй уровень, на котором разворачивается трагедия, связан
с тем, что Эдип становится заложником своего слова, ответа на
загадку, загаданную ему Сфинкс. Давайте рассмотрим по очере-
ди эти уровни трагической судьбы Эдипа.
Что такое отец?
Первый уровень — это уровень драматической позиции,
возникающей из несоответствия между эмпирическим отцом
и Именем Отца и между эмпирической матерью и материнской
функцией. В ходе своей истории Эдип встречает своих родите-
лей только в их эмпирическом «виде». Точнее, драматическая
траектория Эдипа пересекает пространство, в котором его сим-
волические родители и его реальные (в эмпирическом смысле)
родители не совпадают. Как пишет Лакан:
«По краинци мере в такой социальной структуре как наша
отел всегда является в какой-то мере несогласукшимся со
своей функцией, несостоятельным отцом, униженным от-
- 252 -
ном, как сказал бы i -и Клодель. Всегда есть предельно острое
несоспнетслмм* между тем, что ikx принимаете я субъектом
на уровне реалыюго, и символической функцией. Именно
этот зазор придает эдипову комплект у его пешим ть*-*'.
Эдип встречает своего отца в виде грубого и агрессивного
путешественника (которого он убивает на дороге), а свою мать в
виде женщины, являющейся сексуальным объектом. И в конце
пьесы он сталкивается с беспощадным тождеством, состоящим
нс в том, что «дух есть кость», а в том, скорее, что «кость есть
дух»: эти два заурядных существа — это мои Мать и Отец.
В только что приведенном отрывке из «Индивидуального
мифа невротика» Лакан показывает, как невротик отвечает на
такого рода рассогласованность, сочиняя миф, в котором он уд-
ваивает отцовский и/или материнский образ и «приписывает»
двойнику все беспокоящие черты этого образа. Нечто в отце,
большее (или меньшее), чем Имя Отца (обычный мужчина,
более или менее порядочный, со всеми своими недостатками и
желаниями), воплощается, к примеру, в фигуре дяди (который
в го же время является потенциальным сексуальным соперни-
ком субъекта). И нечто, что есть в матери выходящего за рамки
роли матери (женщина, со всей ее интеллектуальной и сексуаль-
ной жизнью) воплощается в другой женской фигуре (тещи, на-
пример, или подруги семьи), которой «допустимо» выполнять
функцию сексуального объекта для субъекта. Стоит отметить,
что та же структура действует в «Гамлете»: есть хороший и пло-
хой отцы, воплощенные в Имени-Отца (призраке) и дяде соот-
ветственно, и двойная мать, (бывшая) жена Имени-Отца, так
сказать, и дядина любовница. Здесь мы видим оборотную сто-
рону эдипова мифа и даже эдипова комплекса: четырехчастную
структуру, движущей силой которой является то г факт, что отец
нс соответствует своему доту. Это не остается без последствий
Lacan J. Ije myt/ie individuel du nevnne // Ornicar? 17/18. Paris, 1974. P. 305.
- 253 -
для самого отца; есть, конечно, отцовская версия этого мифа,
ptreversion эдиповой истории, примером которой является сно
видение отца, описанное Фрейдом в «Толковании сновидений».
В этом сновидении отец видит, как его (мертвый) сын появля-
ется у его кровати и укоризненно шепчет ему: «Отец, разве ты
не видишь, что я горю?». Отец, разве ты не видишь, что ты не
соответствуешь своему отцовскому долгу?
()тец, который не соответствует своему долгу, олицетворяет
несостоятельность, существенную для символического. Исходя
из этой перспективы, мы могли бы охарактеризовать трагедию
Эдипа как трагедию человека, который с самого начала драмы
уже находится в символическом, со всеми соответствующими
обязательствами, но не знает об этом: он не знает, что грубый
путник —это его отец, а женщина, на которой он женился, — его
мать; он узнает это только в конце. В этом заключается спеку-
лятивное значение и содержание эдипова мифа: Эдип проходит
путь инициации («символизации») в обратном направлении, и
тем самым он узнает на своем опыте и демонстрирует радикаль-
ную случайность Смысла, порожденного символическим.
Согласно истории о «типичном становлении субъектив-
ности», субъект постепенно приходит к пониманию того, что
Отец — это еще и отец (человек со всеми своими слабостями).
Он сталкивается с уравнением типа «дух есть кость»: Имя-Отца
в действительности — всего лишь другой субъект, мой ближ-
ний; и он защищается от этого уравнения, придумывая, к при
меру, свой «индивидуальный миф», в котором два «аспекта»
отца воплощены в двух (разных) люДях. Другими словами, мы
сталкиваемся здесь с тем измерением символического, которое
Славой Жижек сформулировал следующим образом: «Сам про-
вал символизации открывает доступ к той лакуне, внутри кото-
рой происходи^ процесс символизации»’1*. Субъект рождается
Zitek S. Ihc Indivisible Remainder. London and New York: Verso, 1946. P. 145.
- 254 -
в символическое, но в символическое, которое производит свой
собственный провал, территорию, которую оно не охватывает
полностью (в данном случае — зазор между эмпирическим от-
цом и отцом символическим), и это и есть то место, в котором
происходит символизация, инициация субъекта. История Эди-
па представляет собой инверсию этого процесса.
Поначалу Эдип оказывается заброшен в лакуну, в простран-
ство, которое еще не разграничено символическими вехами (он
не знает, кто его «реальные» мать и отец). И лишь после того,
как он пересекает это пустое пространство, имеющее для него
статус эмпирического, он ретроактивно создает символическое
и его долг, в который он должен был быть рожден, но который
был отнят у него его родителями в их попытке избежать судьбы.
Можно сказать, что лишь в конце своей истории Эдип воссозда-
ет обстоятельства своего собственного рождения, обстоятель-
ства символического и своей собственной «инициации». Поэто-
му Эдип не является «виновным с момента своего вступления в
игру» (как Лакан описывает позицию Гамлета).
В этом контексте стоит обратить внимание на то, что Эдип
(в Колоне) говорит о своем отцеубийстве в разговоре с Креон-
том (который хочет вернуть Эдипа, с его согласия или без него» в
Фивы, поскольку согласно шитому прорицанию оракула тот город,
в котором Эдип будет погребен, ждет процветание). Что делает
этот диалог особенно захватывающим, это то, что оба его участ-
ника обращаются к третьему лицу, Тесею (царю Афин), и к хору
афинян. Креонт пытается убедить афинян в том, что Эдип — дей-
ствительно отврати тельный преступник, которому дтвтжно быть
отказано в гостеприимстве и которого нужно передать ему, Кре-
он ту. Что же касается Эдипа, то ему необходимо уверить афинян в
том, что это неправда, что он, в сущност и, не преступник. То есть
с драматургической точки зрения этот диалог является централь-
ным, поскольку он ставит нас перед ситуацией, в которой Дру-
гой — «суд присяжных» — должен решить, виновен Эдип или нет.
- 255 -
Разумеется, Креонт не стесняется использовать резкие сло-
ва и обвинения: «...отцеубийца. Изобличенный в браке нече-
стивом, Запятнанный»344. Я бы никогда не подумал, — говорит
он Гесею и его людям, — что вы, самые уважаемые афиняне, не
осудите столь гнусного человека. Эдип отвечает на это, также
обращаясь к афинянам и используя аргумент, с которым ис-
кусный адвокат мог бы обратиться к присяжным: Задайте себе
простой вопрос. Если бы сейчас к вам приблизился незнакомец,
причем, судя по всему, с намерением напасть на вас, вы стали бы
защищаться или для начала спросили бы его, не является ли он,
случайно, вашим отцом? (Очевидно, что этот же аргумент рав-
ным образом срабатывает и при обвинении в инцесте: имеете ли
вы обыкновение спрашивать женщину, прежде чем переспать с
ней, о том, не может ли она, случайно, быть вашей матерью?)
Комический эффект этого ответа, посредством которого Эдип
покоряет сердца афинян, не должен отклонять нас от вопроса, на
который он в действительности нацелен: Что такое отец? Как
распознать отца? И если я не способен распознать кого-то в каче-
стве своего отца (и если этот некто, со своей стороны, равным об-
разом не способен распознать меня), является ли он тем не менее
отцом?34' К этому Эдип добавляет еще более значимый аргумент:
если бы мой отец вернулся в этот мир, я не думаю, что он имел бы
что-то против меня. Иначе говоря, отец сам не распознал бы себя
как Отца в том путнике, который намеревался убить Эдипа.
Именно здесь и раскрывается вся трагичность истории
Эдина: Я не убивал своего отца! Это возвращает нас к вопросу
”• НсрсводС. В. Шсриннского.
'' «Если Элин представляет собой полный тип человека, если Эдип »диновым
комплексом нс страдает, ю дело туг в том, 'но в истории ею никакого они,
собственно, и ыгг Тот. кто воспитывал его. был ему приемным отцом. И в
пом, дорогие друзья, мы нисколько не отличаемся от пего, ибо paler k cd
quemjustae nuptiae demonstrate, 10 есть отец — это тот, кто примшл нас».
(Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-60)). С. 393). ,
-256-
пины Эдипа, и теперь мы с большей ясностью можем понять
двусмысленность той жалобы, которую Эдип то и дело выска-
зывает: если бы только я был виновен! Если эти слова выражают
недовольство по поводу несправедливости (Эдип платит высо-
кую цену за то, в чем он не виновен), то также они выражают
нечто, возможно, даже более радикальное. Если бы только я был
виновен, — но вы лишаете меня даже этой чести, этого места в
символическом (на которое я имею право)! После всех страда-
ний, которые я перенес, я даже не виновен (это подчеркивает
бессмысленность его судьбы, а не ее Смысл или Значение). Вы
не оставляете мне даже возможности принимать участие в про-
исходящем в качестве субъекта (желания).
Получается, что Эдип не занимает героическую позицию
принятия своей вины за убийство отца, поскольку «в этой исто-
рии вообще нет отца» (Лакан); поскольку он не убивал Отца.
Эго то, что Лакан имеет в виду, говоря в «Индивидуальном мифе
невротика» о том, что вся эдипова схема заслуживает критики.
Суть эдипова комплекса не заключается всего лишь в том, что
сын хочет убить своего отца для того, чтобы иметь возможность
(спокойно) спать со своей ма iерыо. Напротив, то, что сын хочет
уби ть в отце, это его неспособность быть достойным отцовской
функции. Агрессия сына направлена не на отца как предста-
вителя символического закона (который запрещает доступ к
матери), а на «эмпирического отца», который «не соответству-
ет своей задаче», на того самого «наглого путника», которого
убил Эдип. Вот почему Лакан говорит (ведя речь о «Корках»
Клоделя): «Перед нами крайняя, парадоксальная, карикатурная
версия эдипова комплекса... — развратный старик заставляет
сыновей жениться на своих женщинах, отбирая одновременно
Зчетцин у них»1*. В этом случае мы имеем дело с «предельной»,
«парадоксальной» и «карикатурной» сутью эдипова комплекса,
* Лакан Ж. Перенос (Семинары: Киш а VIII (19Ы1/61)) С. 331-332
- 257 -
а не — и это важно — с его противоположностью. И сын — в
этом случае, Луи де Куфонтен — действительно убьет своего
отца и женится на его любовнице. Отец, который побуждает
своих сыновей жениться на его женщинах, это нс анти-Эдип
«современного общества»; напротив, он репрезентирует саму
логику эдипова комплекса, сведенного к его предельной сути.
Лишь в той мере, в какой мы понимаем эдипальную схему с точ-
ки зрения расхождения между эмпирическим отцом и символи-
ческим представителем Отца, можем мы понять ее значимость.
Вернемся к «Царю Эдину». Мы уже приводили замечание
Гегеля о том, что.нет большей несправедливости по отношению
к (классическому) герою, чем утверждение, что он невиновен в
своих действиях. Для столь великих фигур, говорит Гегель, это
честь — быть виновным. И именно это оскорбление претерпева-
ет Эдип. Хотя в действительности никто, собственно, не говорит,
что он невиновен, проблема в том, что Эдип сам знает, что это
так. Он знает, что даже не имеет права претендовать на послед-
нюю честь быть виновным, он «бесчестен», насколько это только
возможно. Возможно, это может послужи ть ключом к его «не-
объяснимому» (нсгсроичсскому) поведению в конце «Царя Эди-
па». Эдин в действительности нс жертва злой судьбы (насмешки
богов); он, строго говоря, выброшен, исключен даже из этой и;ры.
Следовательно, он является совершенным воплощением объ-
екта, который Жижск определяет следующим образом: «И объ-
ект а является именно тем парадоксальным объектом, произве-
денным самим языком как “выпадение*', как материальный оста-
ток чистого самореферентного движения означающих»247. Эдип,
в сущности, был «одурачен». Он — обломок самореферентного
движения означающих (пророчества), и его история достаточно
недвусмысленно подчеркивает эту самореферент ность. Предска-
зание сделано, ерначающие приведены в движение, Эдип пытает-
м; Ziiek S. The Indivisible Remainder. P. 145.
- 258-
ся избежать своей судьбы, совершая «нечто диаметрально проз и-
воположное», лишь для того, чтобы понять в итоге, что это было
(«это были моя мать и мой отец») — поскольку, по большому сче-
ту, «это» могло быть чем угодно. Перефразируя Канта, мы могли
бы сказать, что закон означающих сам создает реальность, к ко-
торой он отсылает, и судьба Эдипа — оказаться в этом саморефе-
рсптпом расщеплении. И. конечно, у него даже нет возможности
задействовать в этом процессе свое желание.
Что нам делать с Эдином?
Давайте посмотрим, как статус Эдипа как «материального
остатка» проявляется в «продолжении», в «Эдипе в Колоне», где
увековечивается его жизнь в качестве отброса. Одна из принци-
пиальных гем «Эдипа в Колоне» может быть выражена вопросом:
Что нам делать с Эдипом? Эго hors-lieu Эдипа (тот факт, что никто
не знает, что с ним делать, что он везде «вне места») настойчиво ак-
центируется. Это, безусловно, связано с темой «ни виновности, ни
невинности». Сейчас, однако, нас интересует другая тема, которая
играет* на невозможности положения Эдина в более буквальном
смысле слова. В начале пьесы, когда Эдип, сопровождаемый Анти-
юной, прибывает на окраину Афин, между ним и первым челове-
ком, которого он вст речает, разворачивается следующий диалог:
Эдил
О чужестранец, мне ома сказала
Ее глаза ведь нам обоим служат!
Чю подошел гы кстати нам поведать...
Сторож
Потом расспросишь, а сначала встань,
Не оскверняй божественного места.
После некоторых разъяснений прохожий уходит, чтобы
привести людей из близлежащего города. Когда он возвращает*
г я вместе с ними, диалог продолжается:
- 259
Хор
Уходи!
Поторопис ь! Ты не слышишь?
Ежели хочешь ответить,
Так священное место покинь и тогда
Говори а дотоле безмолвствуй!
Элил
(подвигаясь вперед)
Еше ли?
Хор
Line подвигайся вперед!
Элнп
Еше?..
Хор
Веди старика,
Ты ведь, девушка, видишь дорогу.
<...>
Хор
Сюда, но не далее. Бойс я ступить
За край этой каменной i лыбы.
Элин
Не дальше?
Хор
Вот так, хорошо, говорю.
Злил
Стоять или сесть?
Хор
Сядь сюда,
В стороне, и вперед наклонись.
Это очень странный, почти комичный процесс, и ходе кото-
рого Эдип перемещается с мест а на место в попытке разместить-
ся должным образом, — что, конечно, должно подчеркнуть не-
ясность его положения. Он пришел из Коринфа в Фивы, а теперь
из Фив в Афины, rto нигде он не был па своем месте, несмотря на
то, что он повсюду оставался на виду, на всеобщем обозрении.
Это перемещение Эдипа в попытке разместить его еще раз по-
-260-
пторяется в конце пьесы, на сей раз в более возвышенной фор-
ме. Здесь мы имеем дело с «топологией» смерти Эдина, которая
превращает отброс в возвышенный объект, в агапъму (как мы
уже видели, тело — или, скорее, могила — Эдипа становится
ценным объектом в состязании между Афинами и Фивами).
Вестник, который описывает удивительную смерть — или,
скорее, исчезновение — Эдипа, подчеркивает ее топологический
аспект («Он стал меж нею, Скалою Форика, дуплистой грушей И
каменной гробницей...»'**) и завершает свой отчет словами, при-
дающими смерти Эдипа совершенно особое значение: «Обернув-
шись, мы издали увидели, что этого человека уже нигде нет»2*’.
«Его уже нигде нет» — он исчез, испарился, как Сфинкс, стол-
кнувшаяся с его словом. Мы видели только царя (царя Афин,
сопровождавшего Эдина к месту его смерти и ставшего свиде-
телем его загадочного исчезновения), — продолжает вестник, —
«рукою заслоняя Глаза свои, как будто некий ужас Возник пред
ним, невыносимый зренью». Здесь мы можем отчетливо увидеть
механизм восстановления желания (и возвышенной красоты) в
действии. Говоря лакановским языком, Софокл возвращает на
свое место нехватку (принципиально важную для измерения
возвышенного), вводя зеркало Другого. Мы больше не видим
Эдипа-отброса-и-вместилище-скверны, мы видим только эф-
фект, который он (или, скорее, его исчезновение) производит к
пространстве Другого, в «зеркале» царя Афин. И этого, на дра-
матургическом уровне, достаточно для того, чтобы осуществи ть
превращение из отброса в возвышенный объект.
Следующая улика появляется в форме стенаний дочерей
Эдипа: «Что наш отец <...> Вдали от всех, без гроба умер». Нет
могилы, на которую Антигона и Йемена могли бы прийти, что-
•* 1 lep. С. В. Шерииискы о.
Буквальный перевод с древнегреч. В переводе С. В. Шсрвиясхого: «Назад
оборотились вновь — и видим: Уж не г его на месте гом». — Прим, пер
-261 -
бы проститься с отцом. Эдип исчез без остатка, не осталось даже
его «приюта подземного». Если в конце «Царя Эдина» и в начале
«Эдипа в Колоне» Эдип выступает в качестве отброса, отхода,
остатка, то теперь как раз этот остаток исчезает без остатка.
Но если исчезновение Сфинкс без остатка в результате ответа
Эдина на ее вопрос все же имело вполне ощутимые последствия
для самого Эдипа, то мы также можем сказать, что «безукориз-
ненное» исчезновение Эдипа не останется без последствий для
следующего поколения.
Заложник слова
Есть и другая составляющая эдипова мифа, которую мы уже
упоминали и которая является принципиально важной: функция
загадки или тайны в противостоянии Эдипа и Сфинкс, которая
неким образом удваивает функцию прорицания. Сфинкс спраши-
вает у Эдипа, что это такое, что сначала ходит на четырех ногах,
затем на двух, а под конец на трех. Эдип отвечает: «Человек» —
он ползает будучи ребенком, ходит на двух своих ногах будучи
взрослым и ходит с тростью в старости. Однако, как отмечает
Жан-Пьер Верман, знание, позволившее Эдипу разгадать загад-
ку Сфинкс, самореферентно; оно касается самого Эдипа. Ответ
Эдипа, в определенном смысле, — «(чсловек-)Эдип», поскольку он
объединяет в себе три поколения, о которых говорится в загадке:
«Посредством отцеубийства и последующего инцеста он
ставит себя на место, занятое его отцом; он путает в лице
Иокасты свою мать и свою невесту; он идентифицируется
в одно и то же в[>емя с Лаем (как мужем Иокасты) и со сво-
ими детьми (для которых он одновременно и отец, и браг),
смешивая три поколения своей родословной»25".
Vernant J.-P. Ambiguite el renversement. Sur la struttun: enigmalique d'CEdipe rot
//Vernant and Vidal Naquct. Mylheet Iragedic en Greet ancienne. P. 127.
- 262-
Когда Эдип дает свой ответ на загадку, Сфинкс исчезает. Ла-
кан возвращается к этой части «Царя Эдина» в 17-м семинаре
«Изнанка психоанализа» в контексте обсуждения статуса зна-
ния и его отношения к истине. Лакан берет за отправную точку
тезис о том, что есть две стороны знания: знание, которое «себя
знает», и знание, которое «себя не знает»2'1. Знание, которое
себя не знает, — это знание, которое работает или «делает свою
работу» (в субъекте) и является «средством наслаждения». Для
иллюстрации этой стороны знания в ее связи с наслаждением
(или, точнее, с «прибавочным наслаждением», лакаповской ва-
риацией на тему «прибавочной стоимости» Маркса) Лакан ис-
пользует следующее сравнение:
«Вы уве|>яете, что можете доказать, будто снести вниз на
500 метров на со6< им ином горбу груз весом в 80 кило
грамм, а затем вновь сто на эту же выс оту загатить, лас т
в итоге нулевую работу? Попробуите-ка взяться за эту ра-
боту сами, и вы убедитесь в обратном. Зато стоит нам все
это обозначить, то есть встать на пуп, энергетики, как тут
же ясно станет, что работы никаком нет»25’.
Это довольно неожиданное определение прибавочного
паслаждения/труда: труд, который с точки зрения «артикули-
рованного» знания (знания, которое «знает себя») не был вы-
полнен, но который гем не менее заставил нас сильно попотеть;
знание/труд, который не был артикулирован в символическом,
и динамическом уравнении, где «- 500 г 500 - 0», и единствен-
ное доказательство которого — пот на нашем лбу. Мы можем
l.e savoir qui se sail и /<• woir qui tie se sail pas. Эги две формулы, которые
мы переводим как «знание, которое себя знает» и • знание, которое себя нс
111.КТ», также могут пониматься в более общем смысле, как «знание, (про)
которое известно» и «знание, которое неизвестно».
Лакан Ж. Изнанка психоанализа (Семинар, Книга XVII (1969-1970)). Пер.
с <(»Р- А. Черноглазова. М.г Издательство «Гнозис», Издателкгво «Логос»,
2008. С. 57.
-263-
обнаружить эквивалент «знания, которое себя не знает» в про-
блеме так называемого «женского труда» (работы по дому, «не-
производительного» груда, который никогда не измеряется или
не «выражается» в количественном отношении), стоящей перед
экономистами с их «уравнениями».
Поскольку оно «ут рачивается», это знание, которое себя не зна-
ет (которое остается незнаемым), но тем не менее делает свою рабо-
ту, оно формирует ту точку, через которую нам открывается доступ
к наслаждению, а также к истине: «С помощью знания как орудия
наслаждения производится работа, которая имеет некий, темный,
смысл. Он, этот темный смысл, и является смыслом истины»0'.
Именно в связи с этим моментом Лакан ставит важнейший
вопрос: что есть истина как знание7. Или, другими словами, как
можем мы знать без знания (или не зная этого): comment savoir
sans savoir7 Ответ лежит в «логике» загадки или тайны. Исти-
на как знание структурирована как загадка, сопоставимая с
той, что Сфинкс загадала Эдину. Истина как знание есть нечто
«полусказанное» (mi-dire), так же как Сфинкс является чем-то
«полутелесным», готовым раствориться, как только ее загадка
будет разгадана. Сфинкс загадывает загадку Эдипу, который от-
вечает особым образом — Лакан подчеркивает, что на загадку
Сфинкс можно найти множество других ответов, — и посред-
ством этого он и становится Эдипом:
«Настаивая так долго на различии между уровнями акта
высказывания, с одной сто(м>ны, и самого высказывания, с
другой, я и хотел как раз, чтобы функция загадки (en(g/na|
таким образом прояснилась. Загадка — это, наверное, акт
высказывания и есть. Сделать из него высказывание я пре-
доставляю вам. Выходите из положения как знаете — как
и )лин — и последствия будут на вашей совести. В загадке
все дело в этом»04.
Гам же. С. 61.
Гамжс. С. 41.
- 264 -
Знание как истина является загадкой, однако это не такая
загадка, ответ на которую мы можем найти внизу страницы или
в словаре загадок. Субъект, разгадывающий загадки с помощью
словаря загадок, действительно знает множество вещей, но его
знание не имеет отношения к истине. Для того, чтобы возник эф-
фект истины, субъект должен поставить на кон свое собствен-
ное слово, рискнуть, как это сделал Эдип — еще одно различие
между ним и подобными ему «типичными» мифологическими
фигурами, которым боги помогают, нашептывая правильный
ответ. (Можно ли сказать, что классические боги появляются
сегодня под видом словарей загадок, подтверждая лакановский
тезис, согласно которому настоящее атеистическое высказыва-
ние это не «Бог мертв», а «Бог — это бессознательное».) Несо-
мненно, мы извлекаем удовольствие из разгадывания загадок
или кроссвордов до того, как мы сверяемся со словарем и убеж-
даемся в том, что ответ правильный, то есть до того, как мы об-
ращаемся за помощью к знанию, которое себя знает.
Как раз этого знания, знания, которое мы могли бы назвать
гарантированным (Другим), Эдипу недостает. Никто (ни боже-
ство, ни словарь загадок) не может гарантировать ему заранее,
что его ответ будет правильным (или «истинным»). И несмотря
на это, он осмеливается дать свой ответ. И здесь он ближе, чем
подобные ему мифические персонажи, подходит к измерению
11ос тупка в собственном смысле этого слова.
Но что это значит? Значит ли это просто, что поступок Эди-
па — это акт трансгрессии и отречения от Другого или от тра-
диции (как утверждает Го, рассматривая сам его ответ Сфинкс
как преступление, по отношению к которому его отцеубийство и
инцест являются лишь следствиями — наказанием за это исход-
ное преступление)? Кроме того, если (как утверждает Лакан) на
гагадку С,финке есть несколько возможных ответов, не значит ли
по, что истина полностью условна? Мог ли Эдип, не имея словаря
ыгадок в руках, дать какой угодно ответ? Разве такой релятиви-
-265-
стский подход не скрывает функцию истины, вместо того чтобы
прояснять ее? Не приводит ли он к тому заключению, что истины
не существует, поскольку нет «объективного» критерия истины?
Ответ на все эти вопросы — нет, и именно это дает нам по-
нять трагическая история Эдипа. Лакановские две стороны зна-
ния можно коротко сформулировать следующим образом:
1. Знание как «знание, которое себя знает» — это знание,
стоящее за высказыванием, находящим основание в пред-
полагаемой гарантии (на уровне формулирования), в том
смысле, что Другой всегда уже здесь, готовый предос тавить
гарантию для высказывания субъекта.
2. Знание как истина — это слово, высказывание, для которо-
го лишь сам субъект выступает в качестве гарантии в акте
предположения, «беспредпосылочной идентификации».
Это определение знания как истины все еще остается доволь-
но схематичным, поскольку оно не отвечает па вопросы, связан-
ные с отсутствием «объективного» критерия истины и «реляти-
визмом» истины. Так что давайте уточним. Совершенно верно,
что в некотором смысле субъект может дать какой угодно ответ,
и что до этого ответа нет высказывания, которое могло бы быть
заранее утвержденным в качестве истинного. Однако, давая свой
ответ, субъект действительно дает кое-что — он должен дать или
предложить свои слова; таким образом он может быть пойман
на слове. В тот момент, когда субъект дает свой ответ на загадку,
слова его ответа не являются ни истинными, ни ложными, они
представляют собой предвосхищение истины, которая становит-
ся истиной только вследствие этих слов. В этом заключается суть
лакановского утверждения о том, что структурой (психоанали-
тической) интерпретации должно быть знание как истина:
«Если аналитический onto оказывается в положении, в ко-
тором он обязан частно своего величия эдипову мифу, то
это именно потому, что он сохраняет остроту изречения
-266-
оракула. Скажу даже больше: интерпретация в анализе
остается на том же самом уровне, она становится истин-
ной только в своих гюслслггвиях, точно так же, как в слу-
чае оракула»''”.
Функция загадки в «Царе Эдипе», таким образом, удваивает
функцию прорицания, поскольку — как мы уже видели — за-
гадка спрашивает о том, кто соединяет в себе три поколения.
Эдип отвечает посредством одного-единственного слова, и он
становится заложником этого слова, истину которого он за-
свидетельствует высокой ценой. Поэтому мы утверждаем, что
Го упускает важный момент, когда он интерпретирует решение
.Эдипом загадки как трансгрессию (Эдип оскорбляет «Друго-
го» — богов, провидцев, традицию, — поскольку он пренебре-
гает ими и находит ответ самостоятельно, вызывая гем самым
наказание с их стороны). Что является проблематичным в та-
кой интерпретации, так это то, что она упускает из виду гораздо
более радикальную и гораздо более важную сторону мифа об
Эдипе: то, что в первую очередь он касается «акта творения».
Поступок Эдипа, произнесение им слова это не просто оскор-
бление, слово неповиновения, обращенное к Другому, но это
также и акт творения Другого (иного Другого). Эдип не столько
нарушитель, сколько основатель нового порядка. После Эдина
ничто нс будет таким, как прежде, и это точно такой же разрыв,
как тог, что артикулирует конфигурацию, называемую эдипо-
вым комплексом: у Эдипа нс было эдипова комплекса, но он со-
щал его для всех последующих поколений. Структура эдипова
поступка — это структура всех открытий: эффект «потрясения
истиной» — это переструктурирование поля имеющегося зна-
ния (знания, которое «знает себя») и замена его другим знанием.
: >то то, что так точно сформулировал Ален Бадью:
Lacan I. D’wn Jiscoun </ui tie term I pus Ju sernblutit (unpublished seminar),
lecture from 13 January 1971.
-267-
«... истина — таков ее к|хрект "возвращения* — преоб-
разует коммуникационные колы, меняет режим мнении.
Лело не в том, что мнения становятся “истинными'’ (или
ложными). Они на это не способны, и в своем вечном
множествеино-бытии ис тина остается безразличной к
мнениям. Но они становятся другими. Это означает, что
некогда очевидные для мнения суждения более ни на что
не годятся, что необходимы другие, что изменились спосо-
бы коммуникации, и т. л.»;и.
Теперь мы без сомнений имеем основания утверждать, что
Эдип обладая таким эффектом: он не был всего лишь исклю-
чением из правил. Он не просто совершил «преступление», ко-
торое могло повлечь за собой наказание и было бы тем самым
«ретроактивно отменено» (ungeschehengemacht, как сказал бы Ге-
гель); напротив, его поступок имел существенные последствия.
Однако необходимо отметить, что в этом акте творения,
беспредпосылочной идентификации нет ничего героического;
если мы ищем героизм, то нам лучше было бы поискать его в по-
следствиях Эдипова поступка. Между этикой в строгом смысле
слова и историей «Царя Эдипа» есть фундаментальное разли-
чие. Последняя действует на территории, которую мы могли бы
назвать «пре-этической»; она делает возможным появление эти-
ки. В терминах Бадью мы могли бы сказать, что этика возникает
из верности тому событию, которое всегда уже ей предшествует
и учреждает ее «эксцентрическую суть». Действительно, един-
ственный подлинный этический поступок Эдипа совершается
в конце «Царя Эдипа», когда он «повторяет» поступок, откры-
вающий его историю, и когда, выбирая между самоубийством
(что означало бы для пего идентификацию со своей судьбой) и
жизнью слепым огбросом, он выбирает последнее — «выбирает
невозможное».
°* Бадью А. Этика: Очерк о сознания Зла / Пер. с франц. В. Е. Лапицкого.
СПб.: Maduna. 2006. С. 114.
- 268-
Различие между этими двумя «поступками» (поступком,
совершенным в его исходном состоянии «слепоты», и поступ-
ком самоослеплсния в конце), между двумя их «временами», —
это также и различие между (царем) Эдипом и Антигоной. Ибо
Антигона — это «фигура верности», верности тому, что прои-
зошло в истории Эдипа; в своем поступке она повторит этот
невозможный выбор. Возможно, здесь стоит подчеркнул, тот
факт, что фигура Эдипа в ходе его истории оказывается удвоен-
ной: поначалу мы имеем дело с царем Эдипом (фигурой власти),
а затем с преступником Эдипом (который выбрал быть отбро-
сом). В следующем поколении, конечно, эта удвоенная фигура
будет воплощена в двух его сыновьях (Полинике и Этеокле); в
го время как Антигона станет фигурой, повторяющей его окон-
чательный выбор. Лакан формулирует это следующим образом:
« Плодом этого кровоемн игольного союза становятся два
близнеца брата, один из которых воплошает собой мо-
гущество власти, другой — преступление. И принять это
преступление, действенность его, на себя, кроме как Ан-
тигоне. некому»”7.
Если мы на минуту оставим в стороне то, что мы только что
обозначили как этический поступок Эдипа, и ограничимся сто
исходным поступком, а также возьмем Антигону в качестве фи-
гуры этического поступка, то мы сможем уточнить различие и
отношения между двумя временами поступка. В своем анализе
классической трагедии Тегель — который обращается главным
образом к «Царю Эдипу» — начинает с утверждения о том, что
герой — действующее лицо, так сказать, — в силу самого этого
факта (т. е. того факта, что он действует) попадает в оппозицию
между знанием и нехваткой знания. (Разумеется, мы должны
понимать это в свете лакановского различения между знанием,
Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-60)). С. 363.
-269-
которое знает себя, и знанием, которое себя не знает.) В силу
особенностей своего характера, герой «знает только одну силу
субстанции, другая остается скрытой от него». Движущей силой
здесь оказывается различие между, «с одной стороны, знающей
и открывающейся для сознания силой, и с другой стороны — си-
лой скрывающейся и тайно подкараул и вающей»-м. Одна сила —
это сторона Света, божество Оракула (или Сфинкс); это знание,
«которое себя знает», но всегда представляет собой только «по-
лузнание». Герой «завершает» это «полузнание» посредством
своих поступков. Следовательно, разделение между знанием
и незнанием является внутренним по отношению к сознанию
того, кто совершает действие. Другими словами, действуя, герой
усваивает это различие. Действуя на основании знания, «кото-
рое себя знает», report дает ход знанию, которое не знает себя:
«...действие в том и состоит, что оно приводит в движение не-
подвижное и вызывает наружу то, что лишь скрыто в возмож-
ности, и таким образом соединяет неосознанное с осознанным,
не обладающее бытием — с бытием»259. Это очень четкое опреде-
ление (исходного) поступка Эдипа. Но что именно делает Эдип?
Он произносит слово, означающее, как чистую потенциальность
смысла, который только должен появиться на свет. Но тем са-
мым он открывает пространство, внутри которого знание, ко-
торое себя не знает, начинает выполнять свою работу; он дает
ход этому знанию. Это знание, которое не знает себя, и является,
строго говоря, тем, что свершит, соткет судьбу героя.
По этой причине — и снова в отличие от Антигоны — слу-
чай Эдипа нс соответствует гегелевскому описанию трагедии, в
котором обе противоположные друг другу стороны бытия долж-
ны быть в итоге разрушены, поскольку каждая из них представ-
ляет только один аспект бытия, в то время как истина находи г-
Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб.: «Наука», 2015. С. 393.
Там же. С. 251.
-270-
си в их единстве. Эдип ничему себя не противопоставляет, не
восстает против никого, нс совершает ничего «героического».
Го, что он делает, — это проходит определенное расстояние под
воздействием знания, которое себя не знает, и совершает его
работу. И когда, в конце его пути, это знание «возвращается к
себе» и становится «знанием, которое себя знает», Эдип остает-
ся единственным его остатком, воплощением той рабо ты, кото-
рая не была выполнена, но которая, тем не менее, заставила нас
изрядно попотеть.
С Антигоной ситуация иная. Антигона совершает свой по-
ступок «осознанно», как говорит нам 1ёгель; она «заранее знает
закон и силу», которым опа противостоит2*". Можно добавить
к этому, что та работа, которую совершил Эдип, работа, кото-
рая произвела «новое» знание, «которое себя знает», является
предварительным условием трагедии Антигоны как трагедии
«гелшшя. Поэтому в персонаже Антигоны раскрывается опреде-
ленное «героическое» измерение.
Дети Эдипа («третье поколение») знают все, что можно
гнать. Они читали Гегеля, изучали Лакана, они знают все, что
только можно, о функции оракула, они даже знают, что жела-
ние — это желание Другого.
Эго очевидно в конце «Эдипа в Колоне», там, где упоми-
нается история, разворачивающаяся в «Антигоне». Полиник —
который должен делить фиванский трон со своим братом Эте-
оклом, так чтобы они правили по очереди — вовлечен в кон-
фликт с Этеоклом, который отказался уступить ему возмож-
ность возобновить правление. Полиник навещает Эдипа, свое-
го отца, которого он перед этим изгнал из Фив, для того, чтобы
получить от него благословение на военную экспедицию про-
тив Этеокла и Фив. Вместо того, чтобы дать ему свое благосло-
вение, Эдип проклинает его; Эдип берет на себя роль оракула,
|.Тм же.
-271 -
предсказывая: «Ты ж уходи, отвергнутый отцом, Презренный,
гнусный, унося проклятья. Мной призванные! Ты не покоришь
Родной земли, но и в долинный Аргос Не возвратишься. Умерт-
вишь ты брата, Обидчика, и будешь им убит»’61. Когда Полиник,
вопреки этим страшным предсказаниям, отстаивает свое наме-
рение сражаться, Антигона спрашивает его: «Не видишь, что
пророчество отца Свершится и что сгубите друг друга?»262. По-
линик отвечает в истинно лакановском духе: «Он хочет так —
мне уступать нельзя»26'. Он, Полиник, не может уступить его
желанию — недвусмысленно определенному здесь в качестве
желания Другого.
Понятно, что в «Царе Эдипе» мы находимся на совершенно
ином уровне, доступ к которому Эдип открыл сам. С Эдипом
знание реализуется, делая возможным появление желания, сим-
волического долга и героизма в прямом смысле слова.
Прежде чем поспешить навстречу своей судьбе, Полиник не
забывает сказать своим сестрам: «Зевс наградит вас, если почти-
те меня после смерти»264. И в этот момент, конечно, судьба самой
Антигоны уже ясна — все уже расставлено по местам, все гото-
во к осуществлению.
Теперь мы можем сформулировать различие между Эдипом
и Антигоной: Антигона — это субъект, стремящийся к Вещи, к
тому, чтобы охватить Ее (и поэтому в конце, в величии своей
гибели, Антигона действует для нас как экран, стоящий перед
Вещью); в то время как Эдип — после самоослепления и до сво-
его чудесного исчезновения — сам является этой Вещью, этим
бесформенным отбросом.
Пер. С. В. Шервинского.
!Ы Пер. (1 В. Шервинского.
11ер. Ф. Ф. Зелинского.
JM Дословный перевод с дреннегреч.
-272-
Но давайте рассмотрим простейший сегмент графа жела-
ния, фигуру, представляющую судьбу царя Эдипа.
Эта часть графа призвана проиллюстрировать ретроактив-
ное образование смысла. У нас есть означающая цепочка (S -> S’),
пересекаемая другим вектором, начинающимся из мифического
досимволического намерения и заканчивающимся, после про-
хождения через означающее, на субъекте ($). Вектор (субъектив-
ного) намерения ретроактивно прошивает или фиксирует век-
тор означающей цепочки: он входит в означающую цепь в после-
дующей точке и выходит из нее в более ранней. Эффект действия
такой точки пристежки [point de capiton] заключается в том, что
субъект распознает в случайной серии означающих Смысл (сво-
его существования). Этот момент распознавания Смысла явля-
ется моментом субъективации. Тем не менее, парадоксальный
статус Эдипа, как мы уже видели, связан с тем, что он не субъек-
тивирует (себя) — он никогда не становится субъектом. Напро-
тив, Эдип оканчивает жизнь как отброс, ничтожный обломок,
выпавший из самой означающей цепи (голос на графе), а не как
отброс вектора (субъективного) намерения. Но это подтвержда-
-273-
ет то, о чем мы уже говорили: что Эдип движется по пути ини-
циации в «неверном» направлении, поскольку только под конец
истории он воссоздает обстоятельства своего рождения и спле-
тает символическую сеть, в которую он должен был родиться.
То есть в его случае мы не имеем дела с ретроактивным образо-
ванием смысла, присущим логике обычной инициации. Иными
словами, именно ретроактивная логика пристежки означающей
цепочки создаст иллюзию линейности. Как только появляет-
ся точка пристежки, все элементы, которые до этого бесцельно
витали, связываются в согласованные серии и обретают смысл,
создавая иллюзию того, что они всегда уже были наделены им,
что они всегда логически вытекали друг из друга.
В случае же Эдипа мы имеем дело с линейной логикой, кото-
рая, однако, включает этот момент инверсии, ретроактивное
смыслообразование (Эдип ретроактивно воссоздаст обстоя-
тельства своего рождения), как свое реальное. В качестве иллю-
страции этой логики возьмем следующую ситуацию: допустим,
вы едете в аэропорт, и тут у вашей машины спускает колесо. Из-
за этого вы пропускаете рейс, и это оказывается удачей для вас,
потому что самолет терпит крушение. Только ретроспективно,
с точки зрения этого последующего момента, спущенное коле-
со обретет Смысл. Если бы оно не спустило, вы были бы мерт-
вы. Поэтому может показаться, что эта спущенная шина «имела
некое предназначение», что «это было предрешено» — и теперь
она передает вам послание о том, что вам пока еще не суждено
умереть.
Случай Эдипа иной: это случай кого-то, кото заранее преду-
предили о том, что его самолет разобьется. Выслушав предска-
зание, этот человек меняет планы и летит следующим рейсом —
и, конечно же, падает именно тот самолет, в котором он летит.
Здесь мы имеем дело не с ретроактивным эффектом, а с неким
«подталкиванием». Иными словами, в нашем примере субтлкт
всегда выбирает «неверный» самолет, и делает это именно пото-
-274 -
му, что значение «верного» и «неверного» пока еще не определе-
но — оно изменяется, или перемещается, вместе с изменениями
намерений субъекта. Смысл никогда нс определен заранее; для
того, чтобы определить и закрепить его, необходим поступок
субъекта. «Неверный» самолет — это тот, который субъект полу-
чае! в итоге. То есть мы находимся в положении как бы «встреч-
ного» ретроактивного определения смысла, с точки зрения озна-
чающего вектора, а не с точки зрения субъективного намерения.
Парадоксальным следствием пророчества, предсказания судьбы
Эдипа, оказывается обнаружение случайности позади кажущей-
ся необходимости, производимой ретроактивным эффектом его
действия. Именно так Эдип ретроактивно узнает, что «эти двое»
на самом деле были его отцом и матерью. С другой стороны, он
также узнает на собственном опыте случайность смысла и уяс-
няет свою собственную роль в образовании этого смысла. Если
бы даже он, покинув Коринф, отправился в Афины, а не в Фивы,
его судьба могла бы остаться гой же самой: он мог бы встретить
двух других «незнакомцев» и в итоге узнать, что «эти двое» были
его отцом и матерью. 'Го есть мы имеем здесь дело с совершенно
неизбежной необходимост ью, которая, в то же самое время, пол-
ностью зависит от действия субъекта.
Именно в этом смысле Эдип демонстрирует обрапгую сто-
рону (всегда скрытую, но, тем не менее, всегда присутствую-
щую) процесса субъективации или инициации: одним и тем же
поступком он «символизирует реальное, или случайное» (ре-
троактивная логика определения смысла) и «реализует симво-
лическое». Одним и тем же действием он подтачивает Другого
и играет роль «исчезающего посредника» (пользуясь форму-
лировкой Фредрика Джеймисона, которая идеально подходит
Эдину), который учреждает Другого. В этом смысле его посту-
пок является парадигматическим: он учреждает Другого (сим-
волический порядок), демонстрируя в то же самое время, что
Другой «не существует».
-275-
СИНЬ, ИЛИ НАСЛАЖДЕНИЕ ИЗЛИШКА
Спустя год после своего развернутого комментария к «Ан-
тигоне» в семинаре «Этика психоанализа», Лакан предпринял, в
семинаре «Перенос», прочтение современной трагедии с обсуж-
дением трилогии Клоделя о Куфонтенах. В нашем обсуждении
мы ограничимся пьесой «Заложник».
Действие пьесы разворачивается ближе к концу наполео-
новского правления в поместье разоренного знатного семей-
ства Куфонтенов в сельской местности во Франции. После
многолетних упорных усилий Синь де Куфонтен, последней
оставшейся здесь представительнице семейства, удалось со-
брать воедино то, что осталось от поместья после революци-
онных потрясений. Однажды ночью ее тайно посещает ее ку-
зен Жорж, наследник семейства и рьяный роялист, уехавший
в Англию. Синь и Жорж дают обет вечной любви, который
одновременно выражает их глубочайшую преданность семей-
ным владениям и титулу. Двое возлюбленных объединяются,
чтобы вступить в брак и сохранить семейную традицию: этому
они посвятили и принесли в жертву все. свою юность и свое
счастье; семейный титул и маленький кусочек земли — это
единственное, что у них есть. Однако на горизонте уже появля-
ются новые проблемы: Жорж возвратился во Францию с очень
секретной политической миссией — он привез с собой в замок
Папу, сбежавшего от Наполеона. На следующее утро Синь по-
сещает Туссен-Тюрлюр, префект этого региона и нувориш, че-
ловек, которого она глубоко презирает: Тюрлюр, сын ее слуги
и ее кормилицы, воспользовался Революцией, чтобы сделать
карьеру; как местный якобинский правитель он приказал каз-
нить родителей Синь в присутствии их детей. И этот самый
Тюрлюр, злейнщй враг семьи, пытается вступить в переговоры
с Синь, предлагая ей следующее: его шпионы проинформиро-
вали его о присутствии в замке Жоржа и Папы, и конечно он
-276-
получил строгий приказ из Парижа немедленно арестовать их
обоих; однако он готов позволить им бежать, если Синь вы-
йдет за него замуж и тем самым передаст ему семейный ти-
тул Куфонтенов... И хотя Синь гордо отвергает предложение
Тюрлюра и прогоняет его, долгий разговор с местным священ-
ником (Бадилоном), семейным исповедником, заставляет ее
изменить решение. Год спустя Тюрлюр, теперь уже муж Синь
и префект департамента Сены, ведет переговоры о сдаче Пари-
жа наступающим роялистам; благодаря мастерскому ведению
переговоров он обеспечивает себе одну из наиболее могуще-
ственных позиций в постпаполеоновской Франции. Со сторо-
ны короля переговорами руководит не кто иной, как Жорж;
более того, переговоры происходят в тот самый день, когда у
Синь и Тюрлюра рождается сын. Будучи не в силах смириться
с тем, что коррумпированный и оппортунистический Тюрлюр
присвоил семейный титул, Жорж вступает с ним в яростную
схватку. Между двумя мужчинами происходит перестрелка,
при которой присутствует Синь; Жорж смертельно ранен, в то
время как Тюрлюра Синь закрывает своим телом, заслоняя его
от пули Жоржа. В альтернативном варианте сцены, которая
следует за перестрелкой, Тюрлюр, стоя у постели смертельно
раненной Синь, настойчиво просит ее подать какой-нибудь
знак, который обз>яснил бы ему значение ее внезапного са-
моубийственного жеста, спасшего жизнь ее ненавистному
мужу, — пусть даже она сделала это не из любви к нему, а лишь
для того, чтобы спасти свою семью от позора. Умирающая
Синь не произносит не звука; лишь посредством компульсив-
ного спазма, своего рода судорожного подер! ивания, снова и
снова искажающего ее лицо, она свидетельствует о своем отка-
зе от последнего примирения с мужем, как если бы она качала
головой: «Нет». Последняя сцена пьесы: в то время как Синь
умирает от раны, Тюрлюр патетически приветствует короля от
имени преданной ему Франции.
-277-
Этика и террор
То различие «классической» и «современной» трагедии,
которое Лакан предлагает в семинаре «Перенос», заключает в
себе, как мы увидим, разграничение двух видов этики. То есть
«Перенос» тоже имеет дело с «этикой психоанализа», что ста-
новится очевидным уже из того факта, что Лакан начинает свой
комментарий к Клоделю с вопроса о желании аналитика. Но
Антигона и Синь де Куфонтен находятся в совершенно разных
ситуациях, и нс будет излишним упрощением, если мы опишем
их как ситуацию тирании (Креонта по отношению к Антигоне)
и ситуацию террора (которому подвергается Синь). Поступки
двух героинь различаются соответственно различию их ситуа-
ций; соответственно различаются также и возможные выводы
из их действий для этической проблематики.
Лакан описывает ситуацию, в которой оказалась Синь де Ку-
фонтен, следующим образом: «...героине современной трагедии
предстоит принять внушающую ей ужас несправедливость как
наслаждение»26'. В этих словах ёмко выражено то, что присуще
террору и что отличает его от тирании. Если определить тира-
нию как классическую форму отношений господства, доведен-
ную до своего предела, то мы можем сказать, что она всегда ха-
рактеризуется радикальной «десубъективацией» субъектов но
отношению к господину. Субъекты в этом случае нс являются
действительными субъектами: им недостает существенного из-
мерения субъективности, возможности выбора. Они не облада-
ют правом выбора, поскольку господин — это тот, кто всегда уже
совершил выбор за них. Террор, напротив, движется в обратном
направлении. Предельный акт террора, самый радикальный тер-
рор присутствует тогда, когда мы вынуждены субъективировать
себя, там, где мы вынуждены совершать выбор. Нам нс просто
Лакан Ж. Перенос (Семинары: Книга VIII (19Ы./61)). С. 330.
-278-
позволено выбирать — мы должны это делать, демонстрируя тем
самым, ч то мы — свободные субъекты, хотим мы того или нет.
Превосходный пример мы находим в фильме Алана Пакулы
«Выбор (2офи», в известной травматичной сцене, где Софи (Мерил
Стрип) приезжает в Освенцим с двумя своими детьми, девочкой
и мальчиком. К ней подходит немецкий офицер и спрашивает, яв-
ляется ли она коммунисткой, па что она отвечает, что она ни ком-
мунистка, ни еврейка, а полька и католичка. В этот момент про-
исходит перверсивный разворот действия. Офицер говорит ей: ты
можешь сохранить одного из своих детей — другой отправит ся в
газовую камеру; и поскольку ты не еврейка и не коммунистка, а ка-
толичка — субъект, так сказать, — то я оставляю выбор за тобой...
выбирай одного из двух детей! Если ты не сделаешь выбор, то мы
убьем их обоих. Поначалу Софи отказывается выбирать, несмот ря
на повторяющиеся приказания офицера. По, н конце концов, ког-
да он отдает приказ увести и убит ь обоих детей, Софи делаег свой
выбор: она выбирает мальчика, и солдаты уводят девочку прочь.
Сцена заканчивается крупным планом Софи, ее лицо искажено
гримасой немого крика, и в это же время мы слышим за кадром
крики девочки, будто бы доносящиеся изо рта ее матери.
Ситуация выбора Софи строго гомологична той ситуации,
в которой оказывается Синь в «Заложнике» Клоделя. Об этом
свидетельствует в первую очередь то, что Лакан называет «гри-
масой жизни», которую мы видим в конце только что описан-
ной сцены, так же как в конце трагедии Синь. Антигона, входя в
зону «между двумя смертями», предстает во всем своем возвы-
шенном блеске, но Синь уводит нас еще дальше:
«И ног, в последней « иене <...> у Синь появляется своего рола
тик поэт тем самым словно ласт нам понять, что героиня
перевгла ту травину, которую <.., .> не переступал лаже ( ад —
Гранину нечувствительном к любому поруганию красоты»-4*.
Гам же. С. 303.
-279-
Мы видим подобную «гримасу» в случае Софи, гримасу,
также сопровождаемую «отсутствием означающего», молчани-
ем, болью, расположенной где-то за пределами крика.
Очевидно, что в ходе эпизода, о котором мы говорим, Софи
теряет больше, чем ребенка, и что сама сцена чрезвычайно «за-
предельна». Даже если бы оба ее ребенка были убиты в Освен-
циме, страдание Софи тем не менее было бы далеко от того,
через что ей приходится пройти в этой сцене. Для того чтобы
сохранить хотя бы одного ребенка, она должна пожертвовать
чем-то большим, чем что бы то ни было из того, что у нее есть.
Она бы охотно пожертвовала своей собственной жизнью, что-
бы избежать этого выбора, но у нее нет такой возможности.
Она вынуждена пожертвовать большим, чем своей жизнью.
Она должна пожертвовать чем-то большим, чем все, что у нее
есть, — она должна пожертвовать тем, что опа есть, самой сво-
ей сутью, которая определяет ее но ту сторону жизни и смерти.
Подчеркнем еще раз, что террор ситуации, в которой оказа-
лась < 2офи, существенным образом связан с механизмом субъекти-
вации, а пе десубъективации. Однако субъективация парадоксаль-
ным образом совпадает с «нищетой субъекта». Как это возможно?
Хорошо известно, что Лакан относит к истокам субъсктина-
ции то, что он называет «vel отчуждения», где vc/ — эго его «ло-
гический оператор», выражающий логику принудительного вы-
бора, классический пример которого — «кошелек или жизнь».
Это, конечно, невозможный выбор, поскольку если я выбираю
деньги, то теряю и го, и другое, но с другой стороны, если я
выбираю жизнь, то я получаю жизнь без денег, то есть жизнь,
лишенную жизненных средств. Парадокс принудительного вы-
бора проистекает из того, что одна из альтернатив, между кото-
рыми мы обязаны сделать выбор, является в то же самое время
общей (и псевдоцуйтральной) средой выбора как такового; она
представляет собой одновременно и часть, и целое, объект вы-
бора и то, что задает и поддерживает возможность выбирать.
- 280 -
Именно поэтому мы должны выбрать одну из альтернатив, если
мы не хотим потерять обе — то есть если мы не хотим утратить
саму возможность выбора. В дизъюнкции «кошелек или жизнь»
жизнь представляет собой одновременно и часть, и целое; она —
необходимое условие самого выбора.
Однако выбор, с которым сталкивается Софи, немного от-
личается от выбора, перед которым стоит Синь. Даже если вы-
бор ('инь тоже но сути является принудительным, логика этого
«принуждения» немного иная. Их различие можно проиллю-
стрировать с помощью еще одного примера из Лакана:
•Свобола или смерть! Здесь, поскольку вступает в игру
сама смерть, структурный >c|x|m-ki оказываетс я несколько
иным. <...> Как ни странно, но котла вам предоставляют
выбор между свободой и смертью, явить себя свободным
вы можете, в неких условиях, лишь выбрав смерть, ибо
лишь этим докажете вы, что действительно обладаете сво-
бодой выбора»’*7.
Логику этого второго случая принудительного выбора — ко-
торый, как отмечает сам Лакан, связан с феноменом террора —
можно сформулировать следующим образом: террор возника-
ет в тех ситуациях, в которых единственный способ выбрать
А — это выбрать его отрицание, не-А; в которых единственный
способ для субъекта остаться верным собственной Причине со-
стоит в том, чтобы предать ее, пожертвовать той самой вещью,
ради которой он идет на эту жертву. Именно эта парадоксаль-
ная логика позволяет субьективацни совпасть здесь с «нище-
той» субъекта. В то время как субъект учреждает себя в качестве
субъекта посредством акта выбора, природа самого этого выбо-
ра приводит его как субъекта в состояние нищеты.
Лакан Ж. Четыре основные попиши психоанализа (Семинары: Книга X!
(14M)).G22B.
-281 -
Однако в тот самый момент, когда мы определяем террор
в сто наиболее радикальной форме, мы внезапно обнаружива-
ем странное структурное подобие террора и этики. Если этика
всегда связана с выбором, то можно сказать, что чем ближе мы
подходим к этическому Поступку, гем больше мы приближаемся
к наиболее радикальному настоянию на выборе — к тому, что
мы только что отнесли к сути террора. В конечном счете, 11осту-
пок Софи является этическим поступком par excellence: чтобы
сохранить хотя бы одного ребенка, она взяла на себя невозмож-
ный выбор, а вместе с тем и полную ответственность за смерть
другого ребенка. Мы можем даже сказать, что ее этический по-
ступок носит предельный характер, поскольку единственная воз-
можность этического поступка для нее заключается в том, что-
бы поступить патологическим (в кан товском смысле слова) — то
есть неэтическим — образом. Гем самым выбор Софи выходи!
за пределы всеобщей этики; мы видим ситуацию, где «критерий
всеобщности» уже не работает — или, точнее, ситуацию, в кото-
рой моральный закон требует собственного нарушения. Мы не
должны забывать о том. что Софи оказывается перед двумя вы-
борами. Первый заставляет ее решить, согласна ли опа выбрать
между двумя детьми или она откажется и тем самым потеряет их
обоих. Сложно сказать, что предложил бы Кант, столкнувшись
с такой дилеммой. Тем не менее, мы можем не без оснований
утверждать, что он согласился бы с выбором Софи. Видя, что
одну жизнь мы теряем в любом случае, возможно, он сказал бы,
что категорический императив требует от нас сохранить другую.
Тем не менее, этические последствия этого решения суще-
ственны. Как только первый выбор сделан, Софи уже не может
найти поддержку во всеобщем критерии категорического импе-
ратива для того, чтобы совершить второй выбор. Выбор одного
ребенка ценой другого нс может не быть патологическим; Софи
не может выбрать иначе, кроме как на основании какого-то осо-
бенного побуждения, какого-то особенного порыва [Tricbfeder],
-282-
)то именно тот момент, когда она должна вложиться в свой вы-
бор своей, так сказать, собственной плотью, частичкой своей
собственной патологии, что наделяет ее неискупаемой виной.
Здесь мы снова сталкиваемся с образом кусочка нашей соб-
ственной плоти, неизменно остающегося захваченным фор-
мальной машинерией закона, работу которого мы видели в дру-
гом контексте в седьмой главе.
Что касается немецкого офицера, его позицию можно опи-
сать посредством психоаналитического понятия перверсии:
подобно перверту, он идентифицируется не с жертвой, а с ее
наслаждением — то есть с тем патологическим обрывком, кото-
рый, так сказать, одушевляет Софи в ее выборе. Потому что эта
патологическая частица (которая позволяет ей выбрать одного
ребенка, а не другого), более чем сама потеря ребенка, составля-
ет реальное ядро ее страдания.
В то же время необходимо отметить, что патология, влияю-
щая на выбор Софи, не располагается на том же уровне, что и
«обычная» патология, о которой говорит Кант и которая была бы
просто противоположна этическому. В противовес «обычной»
логике патологии, где субъект отдает приоритет своим интересам,
своим наклонностям и так далее, а не долгу, в случае Софи совер-
шенно ясно, что она пожертвовала бы всем чем угодно (всем, что
у нее есть, в том числе собственной жизнью) чтобы избежать это-
го «патологического» поступка. Как раз эта другая «патология»,
патология за пределами патологии позволяет нам понять, что
подразумевает Лакан в своей формуле: «героине предстоит при-
нять внушающую ей ужас несправедливость как наслаждение».
Возвращаясь к двум логикам принудительного выбора —
той, примером которой служит «кошелек или жизнь» (где мы
должны выбрать жизнь без денег или потерять и то, и другое),
и той, примером которой выступает «свобода или смерть» (где
я не могу засвидетельствовать свою свободу иначе, чем вы-
брав смерть): первый тип поддерживает классическую логику
-283-
господства, а значит и классическую этику. Наверное, пет не-
обходимое! и заострять внимание на том, что vcl «кошелек или
жизнь» воплощает суть диалектики господина и раба. Раб сда-
ется и выбирает жизнь, в то время как господин настаивает на
максиме, которая, но сути, является максимой классической
этики: «Лучше смерть, чем...!». Это, однако, не подразумевает
того, что господин может теперь жить в вечном мире, посколь-
ку рано или поздно он окажется в ситуации, где он должен бу-
дет доказать свою способность соответствовать своей максиме.
Подходящий случай доказать это появится, когда он столкнет-
ся с выбором второго типа. Лакан акцентирует этот момент в
«Четырех основных понятиях психоанализа», ссылаясь на свою
ин терпретацию Клоделя тремя годами ранее:
«Суп, господина явственно обнаруживает себя лишь в гот
ужасный мит, koi да выбор между свободой или смертью
ему предоставляют, и котла ему, чтобы свободу за собой
сохранить, ничего не остается, как выбрать <мерть. Высо-
чайший образ господина — это Синь ле Куфонтсн, героиня
трагедии Клоделя, о которой я на одном из своих семина-
ров особо и подробно рассказывал. Перед нами героиня,
которая из достоинства своего, достоинства господина, »«е
пожелала поступитт>ся ничем, и ценности, которым прг-
носит она жертву, заставляют ее отказаться, вдобавок, от
всего существа своего, вплоть до самого бытия. Именно
гем, что, принеся в жертву свези ценности, она вынуждена
оказалась отказаться от своей сущности, своего бытия, от
<амои сути своего существа, становится она, в копне кон
нов, воплощением отчуждения свободы у самого господи-
на, отчуждения в наиболее радикальном форме»”*.
Чтобы проиллюстрировать различие между двумя конфи-
гурациями этики, представленными этими двумя типами при-
нудительного выбора, возьмем другой пример. Скажем, — это
ситуация, ужр ставшая архетипической, — герой попадает в
“* Гам же. С. 236.
-284
руки врагов, которые, угрожая ему смертью, требуют, чтобы он
выдал своих товарищей. Столкнувшись с этим выбором, герой,
как правило, следует максиме «лучше смерть, чем измена». Это
классический пример этического решения, и Кант в своих рабо-
гах приводит в основном примеры такого рода. Теперь давайте
немного изменим ситуацию. «Враги» достаточно умны, чтобы
попять, что этот метод ни к чему не приведет. Тогда они ставят
героя перед другим выбором, ио сравнению с которым смерть,
возможно, была бы облегчением. Такая ситуация, как известно,
лежит в основе множества рассказов. Враги ловят «невинного»
человека и угрожают пытать и убить его, если герой не выдаст
своих товарищей. Это же та ситуация, в которой оказалась Софи,
даже если в ее случае положение особенно ужасно, поскольку
она должна выбрать между двумя собственными детьми, то есть
тс две вещи, между которыми она выбирает, абсолютно равно-
ценны. Если в истории такого типа герой обычно «сдается» и
предает свое Дело, не превращаясь тем самым в обычного пре-
дателя, другая альтернатива (допустить смерть невинного суще-
ства) оказывается чем-то вроде «героической чудовищности»,
«бесчеловечным» выбором. (Хотя Софи эта «чудовищность»
предстоит как при выборе одной альтернативы, так и при вы-
боре другой.) Такова мораль этих историй: человечность задает
предел этики и долга. Если герой не может выполнить свой долг
кроме как ценой собственной «человечности», его нельзя счи-
тать виновным в моральной несостоятельности'**.
С такой перспект ивы история Синь де Куфонтен представ-
ляется просто выбором «героической чудовищности» в проти-
вовес человечности. Диалог между Синь и священником 1>ади-
лоном прекрасно это иллюстрирует. Поначалу Синь с отвра-
щением отвергает возможность выйти замуж за Тюрлюра для
И к ном заключается «урок» тех интерпретаций «Выбора <хн|>и», которые
утверждают, что было бы лучше, если бы Софи отказалась делать выбор.
-285-
того, чтобы спасти Папу. «Лучше умереть, чем лишиться чести и
предать все, во что я верю», — так можно подытожить се первую
реакцию. И когда Бадилон напоминает ей, что в руках Тюрлю-
ра не только ее собственная жизнь и жизнь Папы, но также и
жизнь Жоржа — человека, которым Синь дорожит больше все-
то на свете, — она, не колеблясь, отвечает: «Пусть он умрет, гак
же как и я готова умереть! Мы не можем жить вечно. Господь
дал мне мою жизнь, и я готова без промедлений вернуть ее Ему.
Но мое имя принадлежит мне, и моя женская честь принадле-
жит мне и только мне!»270. Затем она говорит Бадилону, что она
сожалеет о том, что не убила Тюрлюра, даже если бы в результа-
те его спутники, которые ждали снаружи, убили бы всех в доме.
Вот ее слова: «Мы бы умерли все вместе, и мне бы нс пришлось
делать выбор»271. Она формулирует ставки того выбора, кото-
рый она вынуждена совершить: «Должна ли я спасти Папу це-
ной своей души?»272. Парадоксальная логика, представленная в
этом выборе, является не чем иным, как частным случаем об-
щей дилеммы, которую мы сформулировали выше: должен ли я
исполнить свой долг ценой собственной человечности? Должен
ли я исполнять свой долг, даже если это подразумевает утрату
чего-то во мне, что делает меня достойным долга? Может ли 1эог
требовать, в качестве предельного доказательства моей веры и
верности, чтобы я предал свою веру и верность и, следователь-
но, чтобы я предал Его Самого? Столкнувшись с такой позицией
Синь, Бадилон не возлагает на нее долг. Как отмечает Лакан, «он
идет дальше», говоря: «Я не прошу, я не требую; я просто стою и
смотрю на тебя, и жду...»271. Не сталкиваемся ли мы здесь с кан-
тианским законом в чистейшей форме, законом, который ста-
”• Claudel Р Three Mays: The Ilostaye. Crusts. The I himiliation of the Father Boston,
MA: Luce 19-15» P 54.
ri Ibid. P. 55.
m Ibid. P. 65.
oi Ibid. P. 56.
- 286-
новится поистине невыносимым в тот самый момент, когда он
ничего не хочет (от нас)? Именно этот аспект кантианского за-
кона Лакан имеет в виду, говоря о «моральном законе, который
оказывается.., если присмотреться, не чем иным, как желанием
в чистом виде»27*.
Давайте вернемся к Синь. Мы уже упоминали, что в типич-
ных историях этого жанра герой не теряет своей чести, если он
предает свое Дело ради предотвращения убийства невинного
человека. Выбор Синь преподносится таким же образом. «Если
я этого не сделаю, буду ли я свободна от треха?» — спрашива-
ет она. Бадилон отвечает: «Ни один священник не откажет тебе
в отпущении грехов»275. Затем Синь спрашивает: «Что, в таком
случае, обязывает меня сделать это [принести эту жертву)?». И
Бадилон снова отвечает: «О, христианская душа; о, ты. Божье
дитя! Только ты одна, и твоя свободная воля может сделать
это!»276. Итак, здесь мы имеем дело с чем-то, выходящим за рам-
ки любого долга, с чем-то, что открывает «дыру по ту сторону
веры» (Лакан). И Синь в итоге решает пройти этот путь до кон-
ца, даже если он ведет ее к отрицанию всего, во что она верит, к
«чудовищному» и «бесчеловечному» выбору.
Здесь возникает важнейший вопрос, который будет накрав
лять нас в нашем исследовании этического измерения истории
Синь: является ли тот предел, который Синь должна перейти,
пределом самой этики (то есть представляет ли он область «по
ту сторону этики») или же только за этим пределом — после
того, как появляется «дыра по ту сторону веры» — (современ-
ная) этика, собственно говоря, и начинается? Чтобы ответить
на этот вопрос, мы должны учитывать, что конфигурация «За-
"4 Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Книга XI
(1964)). С. 293.
Claudel Р. Three Mays: The Hostage, Crusts, The Humiliation of the Hither. I’. M.
“ Ibid. P. 61.
-287-
ложника», первой пмсы клоделевской трилогии, в которой мы
обнаружили несомненное проявление террора, в театре двадца-
того века нс является единственной в своем роде. Как показы-
вает Ален Бадью в своей пьесе «Тыквы»*77 — в которой разы-
грывается встреча персонажей Брехта и Клоделя, — почти ту же
конфигурацию мы находим в пьесе Брехта «Принятые меры».
Это служит еще одним свидетельством в пользу того, что здесь
мы имеем дело с появлением особого современного измерения
этического, измерения, которое затрагивает нашу мысль в це-
лом и которое не стоит списывать на счет ужаса, встречающе-
гося лишь в крайних случаях. Поэтому любое обсуждение «со-
временной» этики должно принимать во внимание это беспре-
цедентное измерение.
Наслаждение — мой ближний
Один из самых неоднозначных элементов «жертвы» Синь,
ее брак с Тюрлюром, убийцей ее родителей, приводит нас к сути
того, что Фрейд назвал das Unbehagen in der Kultur, неудобством
в культуре. Вещь, к которой движется Синь, та Вещь, ужас ко-
торой предстает перед ней как разверзшаяся бездна, — не то
ли это самое, перед чем сам Фрейд отступал в ужасе: заповедь,
предписывающая, во всей своей неумолимости, возлюбить
ближнего своего?
Замечания Фрейда, касающиеся этой заповеди, хорошо из-
вестны, но его аргументация засуживает тщательного рассмо-
трения. Она состоит из трех шагов. Для начала Фрейд обращает
наше внимание на то, что логика любви по самой своей сути ос-
нована на исключительности: моя любовь — это нечто ценное, и я
нс должна ее расточительно трат иты точнее, она является ценной
именно в гой мере, в какой я ее не трачу попусту — если я буду
Badiou A. Ijts Citrvuillcs. Arles: Aclcs Suit. 1996.
- 288-
ею разбрасываться, она не будет больше представлять никакой
ценности. Если бы я любила всех без разбора, я бы совершала не-
справедливость: несправедливость по отношению к дорогим мне
людям, которые видят в моей любви к ним выражение предпочте-
ния; было бы несправедливостью по отношению к ним, если бы
л выказывала такое же расположение к постороннему человеку.
Второй шаг фрейдовской аргументации вводит враждеб-
ность, бессердечие ближних. Этот посторонний (мой ближний),
как правило, не только не заслуживает моей любви, «он скорее
достоин — должен честно признаться — моей вражды и даже
ненависти»27*. Этот ближний нисколько меня не уважает. Он
без колебаний причинит мне ущерб, если это окажется для него
выгодным. Хуже того, — даже не ради собственной выгоды, а
просто ради удовольствия, — он не стесняется высмеять меня,
оскорбить, даже оклеветать. В связи с этой враждебностью
ближнего Фрейд упоминает еще одну заповедь, вызывающую в
нем «еще более яростное сопротивление»: «люби врагов своих»!
Однако Фрейд тут же поправляет себя — и это третий шаг
его аргументации, — говоря: «Но если здраво рассудить, я не
прав, отвергая это требование как более резкое. По существу,
оба требования одинаковые»27*. Словом, мой ближний, посто-
ронний, которого я должна любить, по определению, или «по
существу» — мой враг. Если — с учетом слов Фрейда — мы вер-
немся к диалогу между Синь и Бадилоном, мы увидим его по-
истине вопиющий характер. Кто тот ближний, которого Синь
должна любить буквально любой ценой? На первом уровне это,
конечно, Тюрлюр, се смертельный враг, тот, кто убил всю ее се-
мью, кто воплощает отрицание всего, во что она верит. Тюрлюр
представляет собой самого злого ближнего, какого только мож-
но вообразить. Однако у Синь просят любить его безоговороч-
' Фрейд 3. Неудобства культуры. СПб,: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. С. 75.
’* 1амжс. С. 76.
-289-
но — это подразумевается христианским таинством брака, и
Бадилон не забывает указать ей на это:
• Я хочу, чтобы вы внимательно отнеслись к тому, чтобы
никоим образом не осквернить святое таинство брака...
Так же, как Он освятил клятву, принесенную доброволь-
но, между двумя людьми, которые клянутся друг лруту в
вечной верности
Эти слова призваны напомнить Синь о том, что она неиз-
бежно совершит грех. Они оба прекрасно понимают, что в глу-
бине души Синь никогда не смирится, и что она будет лгать,
совершая таинство. Кроме того, Бадилон — в совершенно кан-
тианской манере — рассеивает все иллюзии, которые она мог-
ла бы питать насчет того, что ее ложь — это ложь во благо. Он
говорит ей: «Божья воля не состоит в том, чтобы мы стяжали
добро, совершая зло!»1*1. Совершенно ясно, что Синь и ее душа
заранее обречены.
Получается — и лишь здесь становится понятно, в чем за-
ключается его вопиющий характер, — что если мы более внима-
тельно рассмотрим диалог между Синь и Бадилоном, мы уви-
дим, что фактически у Синь нет необходимости любить Тюр-
люра. То, чего у нее просят, — это возлюбить как саму себя (или
даже больше) Папу. Предписание любить (или, точнее, выйти
замуж за) Тюрлюра расположено на другом уровне — это акт
мученичества, который Синь должна перенести, чтобы засви-
детельствовать свою любовь к Папе. И здесь возникает жуткое
впечатление, что это Фрейд говорит ее устами. Прежде всего
она проводит различие между «дорогими ей людьми» и «по-
сторонними» и причисляет Папу к последним, к тем чужакам,
которые требуют доказательства ее любви, любви, которой они
““ Claudel Р. Пт Plays: The Hostage. Crusts. The Humiliation of the Father. P. 58.
Ml Ibid. P. 56.
-290-
новее не заслуживают. Достаточно привести несколько отрыв-
ков из пьесы:
БАДИЛО11: Синь! Спаси Его Святейшество!
СИ! 1Ь: О, но не такой пеной! Я отказываюсь! Я не могу! Пусть
Господь зашипи нас. Мои долг по отношению к дорогим мне
ЛЮДЯМ-"2.
СИ! II»: Ви бы позволили Жоржу умереть ралн того, чтобы этот
старик мог жить?
БАЛИЛО11: Жорж и (тыл гем, кто разыскал его и привел под эту
крышу.
СИНЬ: Это гость на одну ночь! У этого старика не осталось
ничего, кроме последнего вздоха!21"
ЬАДИЛОН: Если бы деги твоего кузена были еше живы; если
бы дело касалось спасения его и его детей, и имени, и семьи;
и если бы он сам попросил тебя принести эту жертву, как я
прошу тебя, ты бы < делала это, ( инь? Ты бы пошла на это?
СИ! !Ь: <„.> Да. Я принесла бы эту жертву'*4.
Здесь ясно читаются те же доводы, что и в аргументации
Фрейда. Ради этого чужака, ради «старика, у которого не оста-
лось ничего, кроме последнего вздоха», Синь должна пожерт-
вовать своим телом и своей душой. Она должна полюбить его
больше, чем «собственную кровь», — этого ближнего, который,
из-за того выбора, который он перед ней ставит, еще ужаснее
Тюрлюра. Именно в этом состоит вопиющий характер диалога:
террор требований Тюрлюра бледнеет в сравнении с террором,
навязываемым Синь (посредством Ьадилона) Его Святейше-
ством.
Нельзя не добавит ь к этому, что ситуация, в которой оказа-
лась Синь, ситуация, чреватая парадоксами и «неудобствами»,
- Ibid. Р. 53.
Ibid. Р 55.
Ibid. Р. 59.
-291 -
связанными с заповедью «Возлюби ближнего своего как самого
себя», не утратила своей актуальности. Заповедь, о которой идет
речь, налицо в обыденном дискурсе этики (и политики), где она
предстает под флагом «культурных различий» и соответствую-
щей заповеди «Уважай отличие другого». Правда, эта заповедь
не требует от нас любить ближнего/другого — достаточно того,
что мы «терпим» его или ее. По кажется, что «по существу»,
как сказал бы Фрейд, она сводится к тому же самому. Эта новая
заповедь порождает те же проблемы, те же парадоксы — те же
«неудобства», так сказать. Поэтому, как отмечает Бадью,
«Первое подозрение посещает нас, как только мы замеча-
ем, что афишируемые апостолы этики и "права на разли-
чие” явным образом впадают в ужас от любых мало-маль-
ски резких отличии. Ведь для них африканские обычаи
варварство, исламисты — изуверы, китайиы погрязли в то-
талитаризме, и так далее, и тому полоГюое, На самом деле,
с этим пресловутым "другим” можно иметь дело, только
если это хороший другой, а кто же это, как не такой же как
мы< <...> Так же, как ”epaiaM свободы нет свободы", нет
и уважения к тому, чье отличие состоит как раз в том, что
он не уважает различия»-*'.
Другими словами, здесь мы сталкиаемся с тем же положе-
нием дел, что и в заповеди о «любви к ближнему»; что, если этот
ближний — «плохой», если его или ее представления о мире
полностью отличаются от моих, если он или она наслаждается
способом, который противоречит моему собственному? Когда
Лакан в «Этике психоанализа» комментирует заповедь «Возлю-
би ближнего своего как самого себя» и сомнения Фрейда по это-
му поводу, он формулирует тупиковость этой заповеди практи-
чески в тех же выражениях, которые использует Бадью, говоря
о «праве на различие»:
Ьадыо А. Этика: Очерк о сознании Зла. С. 43.
-292 -
-Мои эгоизм прекрасно уживается с определенного рода
альтруизмом с альтруизмом, который располагается на
уровне пользы. Именно под этим предлогом и избегаю я
подходить к проблеме зла. которого желаю я и которого
точно так же желает мои ближнии. <...> ...то, чего я хочу,
представляет собой благо другого, как я его, по образу
своего собственною, представляю. Это не бог весть что.
Я хочу блага другого, лишь бы оно оставалгхь скроено по
образу моего»2"6.
Лакан, конечно, располагает источник враждебности,
агрессии, возникающей в моем отношении к другому, в поле на-
слаждения. Это наслаждение всегда чуждое, другое, несхожее.
Лакан формулирует еще один аргумент, совпадающий с интер-
претацией Бадью2*7: дело не просто в том, что способ наслаж-
дения ближнего, другого, мне представляется чуждым. Суть
проблемы в том, что я свое собственное наслаждение (которое
появляется вместе с наслаждением другого и неразрывно с ним
связано) переживаю как нечто чуждое и враждебное. Другими
словами, мы не можем осмыслить радикальную инаковость,
«совершенно другое» (которому Лакан дает фрейдовское имя
das Ding (Вещь]), не ставя вопрос о Том Же Самом (как проти-
воположном подобию).
Подобное [/е semblablc] предполагает и требует различия;
оно нуждается — в терминах Бадью — в множестве, даже в «бес-
конечном множестве». В противовес этому, проблема наслаж-
дения — это проблема Того Же Самого, которое должно быть
исключено для того, чтобы это множество могло быть закры-
тым, или «единым». В тот момент, когда подобие уступает место
” Лакан Ж. Этака психоанализа (Семинары: Книга VI! (1959-60)). С. 242.
«Истина в том, что на территории нерелигиозной мысли, мысли действи-
тельно современной истинам нашего времени, нужно раз и навсегда оста-
пи п> всю эту этическую проповедь касательно другого и его 'признания".
Ибо подлинный — и необыкновенно трудным — вопрос заключается в
примшаш Two же» (Кадью Л. Этика; Очерк о сознании Зла. С. 44).
-293-
Тому Же Самому, возникает зло, а вместе с тем и враждебность,
связанная с «совершенно другим». Это прекрасно отображено
в рассказе «Вильям Вилсон» Эдгара По, образцово раскрываю-
щем тему двойника.
Подобие (а вместе с ним и логика «принципа блага», слу-
жение благам) основывается на исключении Того Же Самого,
наслаждения. И здесь мы имеем два обличия, в которых про-
является то, что было исключено. Первое — это его проявление
под видом радикального различия, «совершенно другого»: та-
ковы, к примеру, чудовищные существа, воплощающие наслаж-
дение как таковое, «субстанцию наслаждения», которая грозит
поглотить нас. Второе — проявление его в форме «полностью
идентичного». В первом случае то, что было исключено из кар-
тины, остается исключенным и наделяется своим собственным
образом, который, конечно, должен быть как можно более «не-
вообразимым» и «бесформенным» (отвратительным монстром,
например). Во втором случае исключенное вновь появляется в
образе того, из чего оно было исключено. Здесь, конечно, мы
сталкиваемся с феноменом двойника, который оказывается для
нас невыносимым именно из-за отсутствия каких-либо разли-
чий. Другая не схожа со мной, она точно та же (что и я), и эта
«та же самость», выходя за пределы сходства, также находится
где-то за пределами логики распознавания. Мой двойник мне
абсолют но незнаком; я не могу распознать себя в этой Той Же
Самой (как саму себя). То Же Самое (тог факт, что я себе абсо-
лютно идентична) приводит к утрате идентичности.
Если, с одной стороны, следуя логике воображаемого, нужно
проводить различие между Тем Же Самым и подобием, то с дру-
гой стороны следует также отличать То Же Самое от идентич-
ности, относящейся к регистру символического. Идентичность,
или символическая идентификация, предполагает различие; опа
связана с означающим, которое являет собой чистое различие.
То Же Самое, подобие и идентичность относятся к трем разным
-294-
регистрам — реальному, воображаемому и символическому соот-
ветственно.
Согласно Лакану, именно от вопроса о признании Того Же Са-
мого (и связанного с ним вопроса о наслаждении, jouissancc) Фрейд
в своей аргументации уклоняется. Отшатываясь от заповеди «люб-
ви к ближнему», он оставляет без внимания фундаментальную
проблему наслаждения (и того «зла», с которым она связана)2**.
Мы оставили Синь в тог момент, когда она говорила, сло-
вами Фрейда, о гом, что она отказывается растрачивать свою
любовь, предоставляя се кому бы то ни было, будь то сам Папа
Римский. Однако она меняет свое решение и переходит гра-
ницу между благом (тем, что Лакан называет служением бла-
гам) и наслаждением. Она переходит предел, который до этого
момента, в качестве предела, «скреплял» ее мир и наделял его
смыслом. Что побуждает ее к этому? Как удается Бадилону се
«завлечь»? Показав ей, «открыв перед ней бездну этого приня-
тия» (Лакан). Он не предпринимает никаких попыток помочь
ей сделать «правильный» выбор; напротив, он обрисовывает ей
этот выбор в наихудшем свете — бередит ее рану, так сказать.
Он говорит, что долг не предписывает ей так поступать, что она
не согрешит, если не сделает этого; более того, она наверняка
согрешит, если это сделает. Он разворачивает перед ней бездну,
все ожидающие ее ужасы; он заставляет ее лицезреть эту без-
дну достаточно для того, чтобы ее охватило головокружение.
'** См. в .этом контексте: «Замечания Фрейда, как видим, весьма справедли-
вы... <...> Перед нами человек, которому поистине ничто человеческое нс
чуждо и в котором все аристотелевские понятия о благе находят жилое
снос воплощение, кот-да он самым здравым и разумным образом рассужда-
ет о том. с какого рода людьми тем благом, которое представляет собой
наша любовь, стоит делиться. Умалчивает он при этом лишь об одном —
о том, что как раз на этом нут и наслаждение оказывается для пас недо-
ступно» (Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-60)).
С. 240).
-295-
И когда она молит: «Отец, не склоняй меня к тому, что выше
моих сил!», Бадилон отвечает: «Я обращаюсь не к твоей силе, а
к твоей слабости»211’. Этот диалог превосходно показывает, ка-
ковы в этой сцене ставки. Заведя ее так далеко, доведя до этой
предельной точки, он просит ее не о чем ином, как позволить
себе быть влекомой своим собственным желанием, желанием,
которое стремится к своему «очищению». Будь на кону жизни
Жоржа и его детей (гипотетическая ситуация, которую приво-
дит Бадилон), Синь нужно было бы собрать все свои силы для
того, чтобы выйти замуж за Тюрлюра ради их спасения; в то же
время, у ее поступка был бы «патологический» мотив. Но в дей-
ствительности положение, в котором находится Синь, иное; мы
находимся уже «по ту сторону» вопроса силы, в ситуации, но
сути, искушения, искушения принести в жертву своему жела-
нию этот последний патологический объект, который в то же
время является последним основанием этого желания; искуше-
ния очистить свое желание, чтобы не осталось ничего, кроме
единственного мотива се поступка, его окончательного и беспо-
воротного характера. Именно в этом смысле нужно понимать
слова Лакана о том, что
«Слово не является для нас просто законом, под которым
мы ходим, неся на себе долговое бремя своей судьбы. Он
открывает для нас собла ят и возможность проклясть себя,
проклясть не только свою судьбу (как в случае Антигоны),
свою жизнь, но и сам путь, на который влечет нас Сло-
во...»’*.
В самом деле, можно сказать, что в этой предельной точке, к
которой подводит ее Бадилон, Синь «уступает искушению». То
есть она соблазняется возможностью этого «глубочайшего осу-
ществления», составляющего предельный горизонт ее желания.
lm Claudel Р. Three Plays: The Hostage, Crusts, The Humiliation of the Father. P. 60.
Лакан Ж. Перенос (Семипары: Книга VI11 (1960/61)). С. 329.
-296-
Однако наша (хотя и правомерная) завороженность этой
сценой не должна ослепить нас настолько, чтобы мы забыли о
том, что (этический) поступок Синь нужно искать не здесь. Ре-
альный этический поступок Синь заключается не просто в том,
что она жертвует всем самым ценным для нее; его следует ис-
кать, скорее, в финальной сцене пьесы: поступок в подлинном
смысле этого слова, этический поступок, содержится в ее «нет».
Лишь это «нет» выводит ее жертву в измерение реального. Да-
вайте обратимся к этому «нет», чтобы определить его статус и
уточнить отношения между двумя сценами, или событиями, о
которых идет речь: между жертвой Синь и ее «нет».
В какой-то момент Лакан в своем комментарии ставит Синь
в ряд «типичных» клоделевских героинь: «...обожествлённая
женщина становится здесь в то же время и женщиной распя-
той»2”. Возможно, именно этой лакановской характеристикой
руководствовался Филипп Жюльен в своей интерпретации «За-
ложника». Согласно Жюльену, искушение, которому уступает
Синь, — это искушение взять на себя задачу восстановления
и сохранения фигуры авторитета, так чтобы отдельная группа,
общество или семья, могла восстановить свою действенность и
сплоченность. Иными словами, жертва Синь служит тому, что-
бы заполнить нехватку в Другом. Ее «слабость», о которой гово-
рит Бадилон, заключается в желании сохранить образ Отца. Ис-
кушение, которому она уступает, — это искушение сделаться, в
отсутствии какой-либо божественной гарантии, обеспечением
этой гарантии. Синь принимает такое соглашение; она идет на
политически-рели) низший компромисс, которого оно требует.
Однако последний сюрприз для пас Клодель приберегает на
конец пьесы: Синь подаст знак отрицания, и ее «нет» снова все
переворачивает:
'Гам же. С. 337.
-297-
«Своим огказом Синь закрываем долг и избавляет зрителя
от вины. Она показывает нам, что никогда не прилержнва
лась на все сто проистиов полит ико-рсли) иозного компро-
мисса. <...> Лишь перед смертью Синь своим Уегсадилд
дает нам знать, что она не совершала настоящего прела
тельства, что какая-то ее часть не была сломлена»”2.
Жюльен добавляет, что фигурой, полностью противопо-
ложной Бадилону, был бы аналитик, поскольку он дает воз-
можность этому отрицанию, этому «пет», однажды зародиться
в субъекте.
Слабость такого прочтения пьесы связана с тем, что оно
упускает — или даже открыто отбрасывает — любую возмож-
ность отношений между двумя рассматриваемыми нами собы-
тиями: между «жертвой» Синь и ее «нет». Все происходит гак,
как если бы «нет» Синь было неким таинственным происше-
ствием, случившимся «пост фактум» и никак не связанным с
предшествующими событиями, не обоснованным ими. Утверж-
дение, которое представляется наиболее сомнительным, — это
то, согласно которому в конце мы понимаем, что какая-то часть
Синь не была сломлена и не придерживалась требуемого от нее
политико-религиозного компромисса. Вопреки такому прочте-
нию, мы настаиваем на том, чго:
1) Ее поступок (принесение жертвы) не является примером
«предательства своего желания»; скорее, это пример чи-
стого желания. Логика самого желания состоит в том. ч го
его предельным горизонтом является принесение в жертву
той самой вещи, во имя которой Синь готова пожертвовать
всем.
2) Есть связующая линия, ведущая от выбора Синь (ее жерт-
вы) к ее завершающему «нет». То есть без ее исходного вы-
г,! Julien Р. L'FJrange jouissance du pntchain. Paris: Seuil. 1995. Pp. 1.38-139.
-298 -
бора дело никогда не дошло бы до Versagung, и — что следу-
ет из этого -
3) В конечном счете, именно Бадилон оказывается тем, кто
приводит ее к этому «отрицанию»; значит, он не представ-
ляет собой простую противоположность аналитика, а в ка-
ком-то смысле «воплощает* аналитическую позицию.
Что касается вопроса «политико-религиозного компромис-
са», следует помнить, что «первый» поступок Синь, жертвова-
ние той самой вещью, которая побуждает ее принести эту жерт-
ву, — это, возможно, религиозный поступок, но это определен-
но не компромисс. Если это и религиозный поступок, это, тем не
менее, не поступок, относящийся к религии. Лакан говорит, что
такой поступок возможен лишь по ту сторону того, что обычно
называется религией, включая все то, к чему это слово обычно
отсылает”3. «Религиозный» характер ее поступка не имеет от-
ношения к тому, что Синь предлагает себя в качестве обеспече-
ния отсутствующей божественной гарантии; скорее, он связан
с тем, что она делает то, что делает, даже несмотря на то, что
божественной гарантии нет, — она действует «вслепую», и в ее
поступке есть элемент нерсдуцируемого случая.
' Лакан «н. ।анавлинасгея на ном более подробно: "Venagung подразумеваю
невыполнение обещания, а к Невыполнении обещания — обещания, ради
исполнения которого героиня уже отреклась от всего — и состоит как раз
драма ('ипг, значение сё как персонажа пьесы. Ей приходится теперь от-
речься от того самого, на что она употребила все свои силы, на что она
положила жизнь, что уже несло на себе печать жертвы. Это отречение во
второй степени... может, будучи дан. открыл, перед человеком бездонную
пропасть Вот акт. положенный Клоделем в основу сто трагедии, и мы нс
можем ни остаться к нему равнодушными, ни отмахнуться от вето, сочтя
крайностью, преувеличением, парадоксом, рслитиозным безумс твом. На-
против, именно здесь, в атом положении, пребываем, как я вам уже пока
зал, мы все. люди нашею времени, и пребынасм ровно постольку, посколь-
ку религиозное безумие нас оставило» (Лакан Ж. Перенос (Семинары:
Книга VIII (1960/61)). С 327-328).
-299-
Лапайте вернемся к утверждению, согласно которому посту-
пок Синь имеет характер поступка «чистого желания», которое
как таковое ведет ее за пределы желания. Важнейшим мот ивом
«Заложника» можно считать максиму, высказанную Жоржем:
«Печальнее, чем потерять свою жизнь, — потерять смысл жиз-
ни»}<м. Это, конечно, вариация знаменит ых строк Ювенала: если
мы предпочитаем чести жизнь, мы теряем больше, чем жизнь,
мы теряем смысл жизни, теряем то, что делает жизнь достой-
ной проживания. В этом «смысле жизни» несложно распознать
то, что Лакан именует (объектом-)при чиной желания. То, о чем
идет речь, — это этическая максима, можно сказать, максима
par excellence этики желания. В диалоге между Синь и Бадило-
ном, так же как и в финальном диалоге межу Синь и Жоржем
де Куфонтеном, эта тема появляется в качестве важнейшего мо-
тива, и в то же время в качестве предела, который в итоге раз-
деляет двух персонажей, предела, который Синь переступает, а
Жорж, верный этике господина, отказывается переступить. По-
смотрим на два отрывка, о которых идет речь:
СИНЬ: Господь дал мне мою жизнь, и я готова без промедлений
вернуть ее Ему. Но мое имя принадлежит мне. и моя женская
честь принадлежит мне и только мне!
БАДИЛОН: Хорошо иметь что-то свое; ибо тогда у нас есть что-
то, чем мы можем пожертвовать '
КУФОНТЕН: Я не могу поступиться своей честью.
СИГ 1Ь: Разве осталосьеше что-то, чем ты м<» бы пожертвова ть?
В обоих случаях диалог вращается вокруг двух централь-
ных точек. Первая, исходная предпосылка, состоит в том, что
два главных героя (Синь и Жорж де Куфонтен) готовы пожерт-
Claudel Р. Three Plays: The Hostage. Crusts, the Humiliation of the Hither. P. 70.
w ibid. Pp. 54-55.
"• Ibid. P. 71.
- 300-
вовать — без колебаний — всем, в том числе собственной жиз-
нью, ради того, что здесь названо «честью», то есть ради своего
«смысла жизни». Жизнь относится к тем вещам, которыми че-
ловек обладает и которые, следовательно, он может отдать; в то
время как смысл жизни, честь, относится не к этому регистру,
а к регистру бытия. Жизнь относится не к регистру быт ия, а к
регистру обладания. Напротив, честь — это то, что принадле-
жит самому бытию двух главных героев и определяет то, чем
они являются по ту сторону жизни и смерти. Но суть драмы
заключается в том, что они столкнулись не с выбором «честь
или жизнь», а с другим типом выбора, в котором жертвовать
своими жизнями не требуется. Этот другой выбор состоит в
том, что они должны пожертвовать, если они хотят спасти свою
Причину — ту самую Причину, которая определяет их на уров-
не их бытия, — самим этим бытием, их честью. Другими сло-
вами, они не могут выбрать «смысл жизни», не теряя его в то
же время. Это задает тон второй части каждого из приведенных
отрывков: если честь — это единственное, что у них остается,
если больше им нечего отдать, они должны будут пожертвовать
этой последней вещью. Синь, как мы уже имели возможность
убедиться, полностью соответствует максиме «Печальнее, чем
потерять свою жизнь, — потерять смысл жизни». Эта максима
и поддержка, которую она в ней находит, — единственное, что
ей остается, ее единственная связь с миром, который вот-вот
исчезнет и которому она принадлежит всем своим существом.
Давайте теперь попытаемся точно определить характер
поступка Синь и то, как он соотносится с логикой желания с
одной стороны и с логикой влечений — с другой. Немного за-
бегая вперед, мы можем сказать, что логика жертвования Синь
остается вписанной в логику желания й представляет предель-
ный горизонт ее «основополагающего фантазма». Но парадокс
заключается в том, чю в тот момент, когда Синь достигает это-
го предельного горизонта, она уже вынуждена переступить его,
- 301 -
оставить его позади. Другими словами, даже если поступок
Синь расположен в логике желания — чистого желания, — в
нем «содержигея» нечто, что уводит по ту сторону желания —
к «встрече с наслаждением», пользуясь словами Лакана, кото-
рым случай Синь служит прекрасной иллюстрацией: «Желанию
остается идти ему | наслаждению] навстречу и, чтобы встретить
его, оно должно не просто понять, но пересечь [franchir] тот
фантазм, который само это желание поддерживает и формиру-
ет»?'7. Каким образом ситуация, в которой оказывается Синь,
иллюстрирует эти слова? Мы уже говорили о том, что в нача-
ле трагедии Синь предстает утратившей все, что принадлежало
порядку ее мира и ее Причины; у нее не осталось ничего, кро-
ме пустой рамки и верности этой обрамленной пустоте. Но, как
указывает ей Бадилон, даже это остаточное «ничто», даже эта
пустая рамка — это нечто, чем она обладает и, следовательно,
от чего может отказаться или чем может пожертвовать. Если у
нее это есть, она может от этого отказаться. Легко отказаться
от всего, что имеешь, но отказаться от этого остатка (которым
являешься) — это нечто совершенно иное. В диалоге с Синь, Ба-
дилон показывает ей, что эта ужасная жертва — не что иное, как
предельное следствие и горизонт се собственной причины, ее
собственной чести, ее собственного желания. Подтекст всех его
аргументов именно таков: «Поступишься ли гы своим желани-
ем в тот момент, когда, впервые, оно действительно значимо?».
Нетрудно распознать в этом призыве, обращенном к Синь, го-
ризонт чистого желания пожертвовать последним «патологи-
ческим мотивом», ограничивающим чистоту ее желания и ее
приверженность Причине.
Мы можем, следовательно, сказать, что даже если посту-
пок Синь неминуемо ведет к разрушению ее «основополагаю-
Лак.1н Ж. Трента (Семинар. Книга X (1462/6.3)). М.: Издательство «Гно-
зис». Издательство «Логос». 2010. С. 412 (перевод изменен).
-302-
щего фантазма», в то же время он совершается как раз во ими
этого фантазма. Другими словами, история Синь даез нам воз
можность увидеть, что в той степени, в какой императив «Не
поступайся своим желанием» связан с основополагающим фан-
тазмом субъекта, он трансформируется в «Не поступайся объ-
ектом-причиной, формирующим основание твоего фантазма»!
Но даже если этот императив, посредством желания, связан с
фантазмом, его этическая ценность, тем не менее, остается не-
оспоримой. Мы не можем «выйти за пределы» фантазма, по-
ступившись Причиной, которая нас одушевляет; напротив, мы
можем сделать это, только утверждая ее до самого конца. Такое
«пересечение фантазма» [/<» truversee du fantasme\ — это шаг, ко-
торый может быть сделан только «изнутри» самого этого фан-
тазия. Как отмечает Лакан, для того, чтобы выйти за пределы
фантазма, недостаточно его знать и говорить о нем отстранен-
но. Скорее, желание должно «пересечь сам фантазм, который
его формирует и поддерживает». Синь прекрасно это понимает;
она понимает, что отказ от этой жертвы потребовал бы от нее
предательства своего желания. Также она понимает, что, идя на
эту жертву, она теряет причину своего желания (свой «смысл
жизни»). Ес окончательное решение раскрывает для нас смысл
лакановской игры слов: parier du pire аи pire, делать ставку на
Отца (представленного здесь честью и «семейными ценностя-
ми»), даже если случится самое худшее.
Таким образом, желание встречает свой конец и тем самым
оз крывает нам возможное i ь перехода в другой регистр, регистр,
вызываемый заключительным «нет» Синь. Что не позволяет нам
видеть в Синь «обожествлённую женщину, которая становится
в то же время и женщиной распятой»? (Следует отметить, что
комментарий Лакана на этот счет довольно двусмысленен1*.)
Например: «Не кажется ли нам. что замещение христианского знака кре-
ста образом женщины не просто намечено здесь, а нарочито нмступает в
- 303-
Во-первых, стоит обратить внимание на то, что в лакановской
теории образ распятия имеет очень определеное значение: это
завораживающий образ, который блокирует доступ к прикры-
ваемой им пустоте. Отсюда: «Боги, умершие в сердце христиан,
изгоняются ныне христианской миссией из самых отдаленных
уголков мира. Центральный образ христианского божества
поглотил все остальные образы человеческого желания, и это
не осталось для людей без последствий»”’. Это образ, который
извлекает свою завораживающую силу из той самой пустоты,
которой он служит вуалью; но это, кажется, подтверждает ин-
терпретацию «Заложника», предложенную Жюльеном. Пьеса, в
гаком ее проч гении, начинается в момент «коллапса» христиан-
ской веры, в тот момент, когда за Божественным образом про-
ступает пустота, и Синь жертвует собой для того, чтобы при-
крыть эту пустоту величием своего мученичества. Тем не менее,
эта интерпретация не вполне точна, поскольку в конце пьесы,
вместо величия возвышенного образа, мы получаем «гримасу
жизни» (Лакан): лицо Синь искажено компульсивным спазмом,
говорящим «нет». Как же мы должны объяснить то, что здесь
проиходит? Как нам объяснить тот факт, что величие мучени-
чества Синь не может предотвратить появления этой тягостной
гримасы?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем оттолкнуться от
формулировки Жюльена: там, где божественной гарантии уже
тексте на верный план? Образ распятия с самого начала присутс1вус1 на
горизонте пьесы. ... эта тема, эротическая по сути дела, совпадает — нс
правда ли, удивительно — с другой гемой, темой выхода за пределы керы,
провала, ведущего по гу сторону любой связанной с верой ценности — те-
мой, являющейся сдинстнснной нитью, единственным ориентиром, по
зполяЮ1 цим нам связал, всю интригу пьесы, весь се событийный сцена-
рий и единое целое» (Лакан Ж Перенос (Семинары: Книга VIII (1960/61)).
С. 305-306).
w Лакан Ж. Этика психоанализа (Семинары: книга VII (1959-1960)). С. 337.
- 304 -
нет, Синь сама становится поддержкой, обеспечением этой га-
рантии. На самом деле, она идет дальше. Она не жертвует собой
для того, чтобы обеспечить гаран гию божественного закона. Она
не превращается в обеспечение гарантии, она «делает себя» самой
этой гарантией, гак что гарантия остается сдвинутой относи-
тельно того, что она гарантирует. Гем самым Синь разоблачает
необходимую невидимую поддержку в возвышенном образе Бо-
жества. Ценность ее завершающего «нет» заключается в том, что
она, воплощая эту гарантию, отказывается исчезнуть и отойти к
Богу. То есть конец пьесы оставляет нас с вызывающим беспокой-
ство образом, в котором божественный закон и его единственная
поддержка занимают один и гот же уровень; (божественный) за-
кон оказывается лицом к лицу с этой конвульсивной плотыо, ко-
торая от казывается исчезнуть с картины, тем самым не позволяя
появиться на этом месте возвышенному величию.
Реальное в этике
Мы оставили открытым вопрос о том, является ли предел,
который Синь должна перейти, пределом самой этики (то есть
оказывается ли ее шаг шагом в область «по ту сторону этики»)
или же только за этим пределом ( гам, где появляется «дыра по ту
сторону веры») и начинается этика в собственном смысле слова.
Этот первый вопрос связан со вторым, который имеет особое
значение для кантианской этики. Принципиальное возражение,
которое Гегель и Лакан, каждый по-своему, обращают к Канту,
заключается в том, что кантианская этика по своей сути связа-
на с логикой террора («Кант с де Садом» Лакана и «Абсолютная
свобода и ужас» Гегеля). Однако, хотя эта крит ика в определен-
ной степени оправдана, она поднимает следующий вопрос: воз-
можно ли вообще — исходя из «дыры по ту сторону морального
закона», отсутствия безусловного морального эталона, который
бы гарантировал моральность наших действий, — осмыслять
-305-
этику по другому? 11е создал ли Кант, посредством пресловутой
«экстремальности» своей этики, нечто, с чем нам необходимо
считаться, если мы вообще хотим говорить об этике?
В кантианской этике есть важнейшая двойственность, ко-
торую нам стоит здесь обсудить. Давайте для начала приведем
набросок основополагающей этической конфигурации, чтобы
показать, каким образом, акцептируя различные элементы этой
конфигурации, можно, по сути, прийти к совершенно другой
«этике».
Сердцевиной всех этических систем является нечто, что
само по себе не «этично» (и не «неэт ично») — оно, так сказать,
не имеет ничего общего с регистром этики. Это «нечто» извест-
но под несколькими разными именами: для Лакана это — реаль-
ное, для Бадью — Событие. Эти понятия относятся к чему-то,
что появляется только в виде столкновения, что «случается с
нами»1*", застает нас врасплох, выбивает из колеи, поскольку
оно всегда вписывает себя в имеющуюся целостность как раз-
рыв, слом или заминка. Согласно Лакану, реальное — это невоз-
можное, и то, что «оно случается (с нами)», не противоречит
его фундаментальной «невозможности»: реальное случается с
нами (или мы сталкиваемся с ним) как невозможное, как «не-
возможная вещь», которая переворачивает наш символический
универсум с ног на голову и приводит к перестраиванию этого
универсума. То есть невозможность реального не мешает ему
оказывать воздействие на область возможного. Здесь и всту-
пает в игру этика, в вопросе, навязанном нам столкновением с
реальным; буду ли я действовать соответственно с тем, что вы-
било меня из наезженной колеи, буду ли я готова переформули-
ровать то, что до настоящего момента составляло основу моего
существования? Бадью называет этот вопрос — или, скорее, та-
«Вхождение и «к гав субъекта истины может быть лишь тем, что < нами
случилось » (Падью Л. Эпоса: Очерк о сознании Зла. С. 78).
- 306-
кую позицию — «верностью Событию» или «этикой истины».
Для Лакана акцент должен ставиться прежде всего на желании
(«Поступала ли ты н соответствии с желанием, которое в тебе
обитает?»), поскольку желание — это и есть то, что нацелено на
невозможное, на реальное. В своей поздней работе Лакан при-
ходит к пониманию желания, скорее, как защиты от наслажде-
ния — то ecu. как компромиссного образования. В этой поздней
перспективе мы сбегаем в область бесконечной символической
метонимии для того, чтобы избежать столкновения с реальным
наслаждения. В этой поздней концепции важнейшее значение
приобретает понятие влечения (как то, что артикулирует наши
отношения с наслаждением).
Само столкновение, событие может поразить субъекта как
момент террора, поскольку оно сталкивает его с невозможным
выбором; если он его примет, то субъект в результате этого вы-
бора станет «другим субъектом» — или, точнее, только после
этого выбора субъект становится субъектом*". Тем не менее,
необходимо проводить различие между террором, присущим
Событию, реальному, и террором как стратегией, нацеленной на
то, чтобы вынудить невозможное, реальное, появиться. Террор,
в строгом смысле этого слова, основывается на логике, которую
мы могли бы описать следующим образом: террор возникает
тогда, когда кто-то принимает эффект, оказываемый Событием
(или «столкновением с реальным») па субъекта, за свою непо-
средственную цель, неря в то, что, производя этот эффект, он
также производит само Событие, реальное.
Исходя из этого, мы можем с большей точностью опреде-
лить тот предел, на котором этика трансформируется либо в
«Назовем “субьекгом" носителя верности. то есть носители процесса не
типы. Субьект. слсдонательво. никоим образом нс пред-су шествует про-
цессу. Он абсолютно не существует и ситуации "перед" событием. Можно
сказать, ч го процесс истины индуцирует субъект» (Ьадыо А. Этика: Очерк
о сознании Зла. С. 67).
- 307 -
террор, либо в смутное желание катастрофы. Последнее воз-
никает, если мы «забываем», что реальное и Событие сами по
себе не являются этическими категориями, и если мы прини-
маем их за своего рода суррогат или современный эквивалент
понятия высшего Блага, которое должно осуществи Iвся любой
ценой. То есть мы впадаем в террор, если под этикой мы пони-
маем вырабатывание стратегии, призванной принудить к тому,
чтобы столкновение с реальным, с Событием, произошло; если
мы рассматриваем ее как метод производства невозможного.
Это, конечно, то, что является предметом одной из наиболее
значительных дискуссий, касающихся кантианской этики: яв-
ляется ли этика Канта теорией этической конфигурации или
«руководством пользователя» для этической практики? Если
мы выбираем последнее, то это с необходимостью приводит
нас к позиции де Сада: поскольку страдание и боль становят-
ся признаком этики, редкость «добра» становится вездесущ-
ностью «зла»; несовместимость этики и удовольствия приво-
дит к систематическому мазохизму; и, наконец, то, что этика
и патологические мотивы исключают друг друга, приводит нас
к аскетизму «прекрасной души». Следовательно, если мы по-
нимаем те элементы, с помощью которых Кант формулирует
свою этику, как элементы, которые мы должны принимать за
(непосредственный) объект нашей воли, веря в то, что тем са-
мым мы будем поступать этически, то сходство Канта с Садом
кажется умеренным. Если же, когда Кант говорит, что в этиче-
ском поступке благополучие не имеет значения, мы понимаем
это как предписание поступать вопреки нашему благополучию
или благополучию других (для того, чтобы сделать этический
поступок вообще возможным), мы оказываемся взятыми за
горло, пойманными в силки подобия этики, террора.
С другой стороуы, та точка зрения, согласно которой мы
стремимся прямо к реальному (к Событию) — становящему-
ся, следовательно, непосредственным объектом нашего жела-
- 308 -
ния, — приводит нас к позиции, в которой паша собственная
смерть или общая катастрофа начинает выступать в качестве
предельного горизонта нашего желания. Это фигура желания,
ясно различимая во второй части клоделевской трилогии, в
«Корках», где ее воплощает Лумьир. Последняя говорит, напри-
мер, своему любовнику Луи:
•Мы одни; полностью, совершенно одни в этой пустыне.
Две человеческие души странствуют в пустоте жизни! ...
Если бы только жизнь была длиннее! Она могла бы стоить
топ», чтобы быть счастливой. Но жизнь коротка; и мы мо-
жем сделать ее еше короче. Да, настолько корот кои, чтобы
в ней мо|ла содержаться целая вечность!»
Каковы координаты желания Лумьир? Как она говорит в
другом месте, она «одна; без отца; без страны; без Бога; без уз,
без богатства, без будущего, без любви»"”. Мы можем принять
это за кредо ее желания: все связи разорваны; нет ничего, кроме
здесь и сейчас; нет точек опоры ни здесь, ни где-то еще. Весь
присущий жизни смысл и цель самой жизни сводя тся к возмож-
ности умереть. Этическая максима, на которой основана эта по-
зиция, это не «Лучше умереть, чем...» — смерть уже не оказыва-
ется одной из двух альтернатив принудительного выбора. Вме-
сто этого она становится императивом, заключающим в себе
всю свою силу. Момент смерти — это единственный момент в
жизни, когда мы дейс твительно пробуждаемся («Ничто не ре-
ально. Жизнь не реальна. Сейчас я пробуждаюсь, пусть лишь
на краткий миг. Я могу видеть» — говорит Лумьир"* *'). Другими
словами: если, с одной стороны, смерть — это неизбежная став-
ка (классической) этики (то. что субъект должен принять как
Claudel Р. Three Plays: The Hostage, Crusts, The Humiliation oj the Father.
Pp 137-13Я.
•’ Ibid. P. 135.
* Ibid.
-309-
возможную цепу этического поступка), с другой стороны, для
Лумьир, субъект стремится прямо к смерти как к «сопутствую-
щему факту», который принесет с собой пробуждение реально-
го, События, этического.
Парадокс реального или События заключается в том, что как
только мы превращаем их в непосредственный объект нашего
действия, мы их теряем. Но если реальное, или Событие, — это
сердцевина всех этических систем, не значит ли это, что этика
«пассивна» по своей сути, что все, что мы можем делать, — это
ждать столкновения с реальным и затем быть верными его по-
следствиям? Для того, чтобы увидеть, что ответ на этот вопрос
отрицательный, мы должны провести важное различие. Соглас-
но логике реального или События, сама оппозиция активное/
пасивное (наше ожидание События/наше усилие, направленное
на то, чтобы заставить его произойти) является неверной. Это
связано с тем, что у реального (События) нет субъекта (в смысле
воли, которая его хочет); оно по своей сути является побочным
продуктом действия (или бездействия) субъекта — чем-то, что
последний производит, но не как «свое», не как некую вещь, в
которой он мог бы себя распознать. Другими словами, «нет ге-
роев События»’"’.
От чистого желания к влечению
Давайте вернемся к Лакану. В своей статье из Ecrits
«Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессоз-
нательном у Фрейда», которая датируется 1960 годом (это тот
же год, в котором Лакан завершил свой семинар «Этика пси-
хоанализа»), мы читаем: «Ибо желание и есть не что иное, как
защита [</с/сязс| — запрет на переход в наслаждении
Badiou A. I. 'Eire cl Fevenemenl. Paris: Seuil, I9K8. P. 229.
-310-
определенной границы»**. В том же тексте он определяет «путь
греческой трагедии» как «высший нарциссизм Проигранного
Дела»307. Как нам примирить центральную ролы которую Лакан
назначает желанию в этике, с одной стороны, и утверждение, со-
гласно которому желание — это защита от наслаждения, с дру-
гой? И, аналогично, как нам примирить лакановское прочтение
«Антигоны» как этической фигуры par excellence с его утвержде-
нием, связывающим греческую трагедию с нарциссизмом Про-
игранного Дела? Мы можем задаться и более общими вопро-
сами: каковы отношения между желанием как неотьемлемым от
субъекта как такового (субъект, по определению, — это субъект
желания) и чистым желанием? И какое место мы должны, перед
лицом этих отношений, отвести понятию влечения? Утрачивает
ли формула «Не поступайся своим желанием» свое значение у
позднего Лакана, занимающегося в первую очередь проблемой
наслаждения, или влечения? Мы можем дать отрицательный от-
вет, сказав, что в течение всей своей работы Лакан приписывает
желанию центральную роль в аналитическом процессе, причем
мы не можем сказать, что понятие влечения когда-либо сменяло
понятие желания в этой роли. Следует, скорее, сказать, что во-
прос желания восполняется вопросом влечения. Введя и прора-
ботав понятие влечения в XI Семинаре, Лакан заключает:
«...после того, как субъект оказывается по отношению к
,т сориентирован, переживание базового фанта.зма стано-
вится, само, влечением. Кем же становится тогда гот, кто
через опыт непроницаемых отношений этих, с влечением,
с началом, прошел? Каким образом можгч субъект, про-
шедший сквозь радикальный фантазм, переживать плече
“ Накан Ж. Ниспровержение субъекта и диалектика желания в бессонна
тельном у Фрейда /I Лакан Ж. Инстанции буквы в бессознательном или
судьба разума после Фрейда. М «Русское феноменологическое общее ню»,
Издательство «Логос», 1997. С. 179.
Гам же. С. 181.
-311 -
ние< Вопрос этот лежит по ту сторону анализа и никогда
ло сих пор не ставился. Поставить же его можно покуда
лишь на уровне аналитика, гкм кольку именно от аналитика
требуется проити весь никл аналитического опыта полно-
стью
Смысл этого отрывка, наверное, можно резюмировать в
двух пунктах. Во-первых, желание продолжает оставаться важ-
нейшим основанием анализа. Анализ разворачивается в реги-
стре желания (предоставляющего опору фундаментальному
фантазму субъекта) и завершается в гот момент, когда субъект
пересекает этот фантазм; влечение, строго говоря, должно рас-
полагаться по ту сторону анализа. Во-вторых, доступ к влечению
в анализе открывается только тогда, когда субъект уже пересек
фундаментальный фантазм. Другими словами; даже если влече-
ние в каком то смысле является целью аналитического процес-
са, мы не можем непосредственно избрать его взамен желания и
его логики. Для того, чтобы добраться до влечения, необходимо
пересечь желание и настаивать на нем до самого конца. Учиты-
вая эти два пункта, мы можем попробовать теперь показать, как
и в какой момент желание уступает место влечению.
Но сначала мы должны попытаться ответить вот на какой
вопрос: почему Лакан в какой то момент «восполняет» (чистое)
желание влечением, смещая тем самым концептуальные рамки
конца анализа? Ответ должен заключаться в том, что на про-
тяжении лакановской работы «онтологический» статус наслаж-
дения подвергался существенным изменениям, нс без послед-
ствий для теории желания. Можно сказать, что для раннего Ла-
кана наслаждение не существует. Точнее, оно существует толь-
ко в качестве своей собственной утраты (оно существует только
постольку, поскольку оно всегда уже утрачено), как нечто, чего
"* Лакая Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Книга X!
(1964)). С. 290.
- 312-
не хватает. Категория нехватки здесь — онтологическая; нехват-
ка — это нечто «осязаемое», несводимое к простому отсутствию
или лишению. В такой перспективе нехватка указывает на не-
редуцирусмый тупик, на бессилие символического порядка,
который пытается замаскировать эту нехватку всевозможными
способами — к примеру, предлагая множество взамен утрачен-
ного Единого. Гак, согласно Фрейду, множество змей на голове
Медузы призвано лишь замаскировать нехватку Единственно-
го и неповторимого (т. е. кастрацию). Или, если привести более
обыденный пример, будучи частью общества потребления, на-
капливая все новые и новые объекты желания, мы прячемся от
нехватки Единственного истинного объекта, который удовлет-
ворил бы нас полностью. В этой связи этика желания представ-
ляется буквально «героизмом нехватки», позицией, в которой
во имя нехватки истинного объекта мы отвергаем все другие
объекты и не довольствуемся ни одним. Другими словами, эти-
ка желания — это этика верности утраченному наслаждению,
этика сохранения фундаментальной нехватки, которая вводит
зазор между Вещью (Thing) и вещами (things) и напоминает нам
о том, что по ту сторону всех готовых к употреблению объектов
есть «нечто» (“some'lhing"), что одно только и делает нашу жизнь
достойной проживания. В той мере, в какой оно настаивает на
своей неудовлетворенности, желание сохраняет подлинное ме-
сто наслаждения, даже если оно остается пустым. Именно в
этом смысле следует понимать утверждение Лакана о том, что
этика желания (какой мы ее находим в греческой трагедии) свя-
зана с «высшим нарциссизмом I (роигранного Дела».
Впрочем, статус и функция нехватки нс столь однозначны.
Если, с одной стороны, верно то, что нехватка — это вписыва-
ние тупика, или невозможности, в символический порядок, мы
не должны забывать и о том, что, с другой стороны, она одно-
временно является условием власти символического порядка и,
следовательно, обладает конститутивной функцией по отноше-
-313-
нию к нему, также как и по отношению к реальности как тако-
вой — без нехватки нет реальности. Реальность состоит в утрате
толики реального. Мы должны учитывать этот двойной статус
нехватки, если хотим избежать слишком поспешного прочтения
Лакана, прочтения, которое берет за свою отправную точку и
за свою максиму разоблачение нехватки. Согласно такому про-
чтению, все идеологические образования нацелены на сокрытие
некой нехватки или сбоя. Но эта позиция не учитывает того,
что нехватка одновременно конституирует любую идеологию,
а также является основополагающей опорой фантазма. В этой
перспективе мы можем предложить действительно подрывную
позицию в отношении всех идеологических построений: «Забе-
рите у них нехватку, и они рухнут».
Такой подход, согласно которому упор делается на нехватке,
а невозможное отождествляется с недоступным, стал довольно
популярным; он привел к возникновению образа Лакана как
«философа языка», настаивающего на той цене, которую субъ-
ект должен заплатить за доступ к символическому порядку. По-
лучается, что есть первоначальный акт отречения, наслаждение
как невозможное и конец анализа как тот момент, когда анали-
зантка должна принять символическую кастрацию и признать
фундаментальную, или конститутивную нехватку (или утрату).
Но этот поэтический «героизм нехватки» не является ни един-
ственным, ни последним словом Лакана. Как пишет Жижек,
«Проблема с наслаждением заключается не в том, что оно
недостижимо, что оно всегда ускользает от нас, а, скорее,
в 1ом, что мы ннкогла не можем or него избавиться, что
его отпечаток остается с нами навсегда в этом заключа-
ется смысл лакановского понятия прибавочного наслаж-
дения: сам отказ от наслаждения вызывает остаток/избы-
ток наслаждения»*".
Ziiek S. The Indivisible Remainder. Р. 93.
-314-
Можно добавить к этому, что желание субъекта в большой
мере заключается в том, чтобы избавиться от этого пятна на-
слаждения, которое для него невыносимо. Когда Лакан в «Че-
тырех основных понятиях психоанализа» пишет, что «желание
анализа не является чистым желанием», и связывает конец
анализа с понятием влечения, смена перспективы здесь уже
различима. Какими же последствиями эта смена обладает по
отношению к тому, что мы ранее назвали «онтологическим»
статусом наслаждения? Подразумевает ли эта другая перспек-
тива возможность утверждать, что наслаждение есть, что оно
существует? Кажется очевидным, что это совершенно не то,
что хочет сказать Лакан. Если вся его разработка этики желания
(в том смысле, который мы теперь придаем этому понятию) на-
целена на то, чтобы сохранигь место наслаждения пустым, цель
позднего Лакана определенно не заключается в том, чтобы ут-
вердить место наслаждения в качестве «полного». Вместо этого
он пытается найти такую концептуализацию (статуса) наслаж-
дения, которая включала бы сразу обе эти особенности: то, что
наслаждение не существует, и то, что оно встречается повсю-
ду. Мы уже сказали, что для Лакана то, что существует, — это
нехватка. Это то, из чего он выводит статус наслаждения. По-
следнее не является чем-то, что заполняет нехватку, поскольку
нехватка «есть», то есть это не просто пустое место, которое мо-
жет быть заполнено или занято другой вещью. Можно сказать,
что есть место, «занятое» нехваткой, «заполненное» нехваткой;
и, конечно, «операция», которая совершается в этом контексте,
заключается в нехватке нехватки (как, например, в случае тре-
воги), а не в ее заполнении. Ехли наслаждение нс является тем,
что могло бы заполнить нехватку, то также это и не то, что мог-
ло бы ее усилить. Напротив, это то, что из нехватки вычитается
(в математическом смысле этого слова). 'Гак что мы предлагаем
определить статус наслаждения как «единица-минус-нехватка».
Это и есть то, что подразумевает понятие влечения.
-315-
Желание и влечение имеют кое что общее: они оба отлича-
ются от потребности, что подразумевает, как в случае желания,
так и в случае влечения, что субъект сталкивается с «несоот-
ветствием» каждого данного объекта («Это не То»), В том, что
касается желания, этот момент отмечался достаточно часто. По-
этому мы приведем только одно замечание Лакана, касающееся
влечения: «Влечение, настигающее свой обт»ект, обнаруживает,
в каком-то смысле, что удовлетворение ему приносит вовсе
не это»'10. По это также оказывается и фундаментальным раз-
личием между желанием и влечением. Желание поддерживает
себя, оставаясь неудовлетворенным. Что касается влечения, тот
факт, что оно «обнаруживает, что удовлетворение ему прино-
сит вовсе не это», не удерживает его от поиска удовлетворения
«где-то еще». То есть, в отличие от желания, влечение поддер-
живается самим тем фактом, что оно удовлетворяется. Лакан
объясняет этот парадокс, который позволяет влечению достичь
удовлетворения, не достигая своей цели: «Как бы ни набивали
вы себе снедью уста — те уста, что открываются у вас в ответ
па влечение, — удовлетворены они будет не пищей, нет, а удо-
вольствием, которое испытают уста»Я1. Эта «иллюстрация» мо-
жет помочь нам понять, что значит сказать, что наслаждение
появляется здесь под видом «единицы-минус-нехватка». Мы,
так сказать, удовлетворяем наш рот, нс наполняя его, то есть не
переходя в регистр, который был бы простой противоположно-
стью регистру нехватки. Другими словами, когда мы «набиваем
рот», мы удовлетворяем влечение, хотим мы того или нет113. И
”* Лакан Ж. Четыре основные hohiiihh психоанализа (Семинары: Khhoi XI
(1964)). С, 179.
Гам же.
См., к примеру: «ЛогикнЯ желания было бы: “Это запрещено. но я. тем нс
менее, буду это делать” Влечение, напротив, нет дела до запрета: его не бес-
покоит нарушение закона. Логика влечения — что: “Я нс хочу этого делать,
но. тем не менее, делаю". Го есть в случае влечения мы имеем дело С проги
-316-
невзирая на то, что объект, который мы поглощаем, никогда не
будет «тем», какая-то часть «того» производится в самом акте
поглощения. Именно эта «какая-то часть того» является истин-
ным объектом влечения.
Один из способов (или, возможно, единственный способ)
концептуализировать отношения между желанием и влечени-
ем состоял бы в объяснении (возможного) перехода от одного
к другому: даже если для желания и влечения нет общей меры,
в самой сердцевине желания открывается возможный переход
к влечению; следовательно, мы можем прийти к влечению, если
будем следовать логике желания до самою се предела. Не это ли
демонстрирует нам история «Заложника»? Давайте посмотрим.
Фантазм представляет собой фундаментальное отношение
между субъектом и его желанием. Объект а, опора желания в
фантазме, не видим в том, что составляет для субъекта образ
его желания. Точнее, он является опорой фантазма именно в гой
мере, в какой он исключен, невидим в рамке фантазма. В этой
перспективе чистое желание можно было бы определить как тот
предел, па котором желание сталкивается со своей собственной
опорой, своей собственной причиной. Таков предел, достигну-
тый Синь. То, что составляет опору ее мира, что открывает окно
в ее мир, — это честь. Честь — гот объект, та причина — или
даже та Причина, — которая никоим образом не может поя-
виться в рамке ее желания как объект, равноценный другим,
пригодный для обмена или замены. Но Синь находится в по-
зиции, в которой, если она хочет сберечь свой фантазм и свое
желание, она должна пожертвовать той самой вещью, которая
составляет опору этого фантазма, этого желания. Когда, в ответ
на ее восклицание: «Господь дал мне мою жизнь, и я готова без
инюложной логикой, поскольку субъект не желает делать что-то. но тем нс
мснсс наслаждается, делая именно это» (Salccl К. Ihe Satisfaction of Drives И
UMBKIa) 1, Buffalo, NY, 1997.1’. 106).
-317-
промедлений вернуть ее Ему. Но мое имя принадлежит мне, и
моя женская честь принадлежит мне и только мне!», Бадилон
говорит: «Хорошо иметь что-то свое; ибо тогда у нас есть что-
то, чем мы можем пожертвовать», он заставляет объект-опору
ее фантазма появиться в поле зрения, в рамке этого фантазма,
и расценивает его как что-то, что можно отдать. Но дело в
том, что именно поскольку для Синь отдать честь — это что-
то невообразимое, для нее оказывается возможным отдать все,
что угодно, и пожертвовать всем, чем угодно, кроме чести. В тот
момент, когда исключенный объект появляется среди других
(«обычных») объектов. Синь, строго говоря, покидает область
желания и входит в область влечения. Абсолютный объект-при-
чина желания становится частичным объектом, объектом вле-
чения. Если желание замещает безусловный элемент требова-
ния «абсолютным» условием*", то можно сказать, что влечение
«дезабсолютизирует» это условие, делая его продуктом того
процесса, который оно обусловливало. Этот момент чистого
желания можно определить как момент, когда единственный
способ для субъекта не поступиться своим желанием состоит в
том, чтобы пожертвовать самой Причиной своего желания, его
абсолютным условием; момент, когда он жертвует своему жела-
нию самой его опорой, когда он отдает то, чего не имеет. Если
фундаментальная констелляция желания подразумевает беско-
нечную и несоразмерную меру, из-за которой каждый данный
объект оказывается непригодным («Это не то»), то чистое жела-
ние можно определить как момент, в который желание вынуж-
дено сказать своей собственной Причине (своему абсолютному
условию): «Это не то». То есть момент чистого желания — это,
как ни парадоксально, тот самый момент, когда желание теряет
--------------------—--------
Лакан Ж. Значение фаллоса // Инстанции буквы, или судьба разума после
Фрейда. Пер. с фр. М. А. Гиговой. М.: «Русское феноменологическое обще-
ство», Издательство «Логос». 1997. С. 143.
-318-
основание своей чистоты. Это значит, что «чистое желание» не
представляет собой состояния, наподобие состояния субъекта,
чье желание было бы очищено от всех патологических пятен (от
всех объектов). Чистое желание — это момент, момент скру-
чивания или изгибания, который можно было бы сравнить со
скручиванием лепты Мёбиуса: если мы упорствуем в движении
по одной ее стороне, то мы внезапно обнаруживаем себя на «дру-
гой» стороне. Чистое желание — это тот момент, когда желание,
в своей метонимии, пересекает себя, встречает свою причину
среди других объектов. При этом чистое желание совпадает с
поступком. Этот поступок совершается в рамках основополага-
ющего фантазма субъекта; но поскольку на карту поставлено не
что иное, как сама эта рамка, он оказывается «вне» фантазма, в
другом поле: в поле влечения.
-319-
9.
Итак...
тика реального — это не этика конечного, или конечно-
сти. Возражением на религиозное обетование бессмер-
тия не является пафос конечного; основой этики не мо-
жет быть императив, повелевающий нам принять нашу конеч-
ность и отказаться от всех «более высоких» или «невозможных»
стремлений. Это подразумевало бы простую уступку необходи-
мости; в действительности же ставки куда более высоки: дело
не в том, что невозможно достичь бесконечного; то. что для нас
действительно невозможно, — это, скорее, полностью избежать
его. Конец обетования жизни после смерти (то есть бесконечно-
го по ту сторону этого мира) не означает того, что отныне мы «за-
перты», заточены в конечном мире. Напротив, это означает, что
бесконечное непрестанно «паразитирует» на конечном. Отсут-
ствие чего-то, лежащего по ту сторону, какого-либо исключения
из конечного, «обесконечивает» само конечное. Говоря словами
Жан-Клода Мильнера, «бесконечное — это то, что говорит "нет”
исключению из конечностй»214. Проблема с бесконечным заклю-
,и Milner J.-G IX.'Euvrr claire. Paris: Scuil, 1995. P. 66.
- 320-
чается не в том, как его достичь, а, скорее, в том, как избавиться
от его пятна, пятна, которое постоянно нас преследует. Лаканов-
скос название этого паразитизма — наслаждение [puissance].
Это может показаться парадоксальным. Разве наслаждение
не синонимично влечению смерти, а, следовательно, и тому, что
соотносит нас с нашей смертностью, нашей конечностью? На-
против: гот факт, что наслаждение может убить нас (может при-
нудить нас поступить таким образом, что эго будет идти враз-
рез с нашим благополучием или самосохранением), свидетель-
ствует о том, что наше бытие не является «бытием-к-смерти».
В психоаналитической клинике мы часто сталкиваемся с этой
парадоксальной фигурой: фигурой субъекта, защищающегося
от смерти смертью, защищающегося от «влечения смерти» по-
средством своего рода умерщвления. К примеру, страх, парали-
зующий субъекта, заставляющий его помертветь, представляет
собой ответ на «влечение смерти» (jouissance). Поэтическое зву-
чание «бытия-к-смерти», со всеми его отголосками — включая
пресловутое inc phynai, «не быть бы мне (рожденным)» — сле-
дует понимать как защиту против чего-то, несводимого про-
сто к смерти. Клише, согласно которому страх смерти на самом
деле представляет собой страх жизни, нужно понимать именно
в этом смысле: как страх смерти, которая, по сути, оживляет,
или «влечет» жизнь. Вот почему Лакан решил ввести понятие
влечения с отсылкой к словам Гераклита: «Имя луку — жизнь, а
дело его — смерть»”5. Влечение смерти это не влечение, которое
стремится к смерти. Оно нс стремится ни к жизни, ни к смерти.
Влечение может быть «смертельным» именно потому, что оно
безразяично к смерти (так же как и к жизни), потому, что смерть
не занимает, не интересует его. Влечение ни в коей мере не яв-
ляется выражением желания субъекта «вернуться в ничто»; это
не выражение и не ответ нашему douleur dexister («бремени су-
11еревид М. А. Дынника.
шествования»), к которому оно просто не имеет никакого отно-
шения. Влечение смерти не связано ни с «бытием-к-смерти», ни
с «неудачей-быть» |/е тял^ие-4-^/ге|: оно безразлично к смерти
и определенно не терпит неудачу в бытии’14.
Каким же образом бесконечное паразитирует на конечном,
на нашем существовании в качестве «конечных существ»? Соб-
ственно говоря, есть два модуса этого паразитизма, каждый из
которых имеет результатом свой вид бесконечного: во-первых,
есть бесконечное желания, которое можно описать как «дурную
бесконечность» (бесконечное, связанное с логикой незавершен-
ности); затем, есть бесконечное наслаждения (бесконечное, свя-
занное с логикой реального и осуществления). Этику как тако-
вую можно разместить в переходе от одного к другому. Однако
сам этот переход может осуществляться двумя разными путя-
ми. Парадигма первого, представленная фигурой Антигоны,
обнаруживает координаты «классической этики». Парадигма
второго, выраженная фигурой Синь де Куфонтен, составляет то,
что можно назвать «современной этикой».
Что касается комментария Лакана к «Антигоне», акцент
обычно ставится на формуле “ле pas cider sur son desir" («не по-
ступайся своим желанием») и на Антигоне как фигуре желания.
Но нам стоит обратить внимание на одно очень необычное сло-
восочетание из его комментария: «осуществление желания».
Можно сказать, что то, что делает Антигону Антигоной, — это
не просто то, что она не поступается своим желанием, но, ско-
рее, то, что она его осуществляет. А это подразумевает, что она
не просто фигура желания, поскольку само желание, по своей
сути, препятствует осуществлению желания. Итак, что же озна-
чает это «осущест вление желания»?
”* Хот поначалу Лакан заигрывал с хайды германскими и экзистенциалист
скими отголосками влечения смерти, позже он предложил теорию влечс
пия, глубоко отличающуюся от этого концептуально) о (оризон та.
-322-
Очевидно, что это не означает исполнении желания: это не
означает осуществления того, что субъект желает. В лаканов-
ской теории нет такой вещи как желаемый объект. Есть объект
потребности, а также есть объект-причина желания, который,
не обладая каким-либо положительным содержанием, относит-
ся к тому, что мы получаем, если вычитаем то удовлетворение,
которое мы находим в данном объекте, из (имеющейся у нас)
потребности в этом объекте. Будучи существенным образом
связанным с этой логикой вычитания, которая порождает (воз-
можно) бесконечную метонимию, желание представляет собой
не что иное, как то, что вводит в универсум субъекта несоиз-
меримую или бесконечную меру (по выражению Лакана). Же-
лание — это не что иное, как эта «бесконечная мера». В такой
перспективе реализовать чье-то желание означает реализовать,
«соразмерить» бесконечное, бесконечную меру. Вот почему Ла-
кан подчеркивает, что вопрос осуществления желания «нельзя
поставить иначе, как в перспективе Страшного суда. Попробуй-
те спросить себя, что слова осуществить свое желание могут
значить, кроме как осуществить его, если можно так выразить-
ся, в конце концов7.»"7.
Давайте ненадолго здесь остановимся. Мы уже сталкива-
лись с подобной констелляцией у Канта, в его теории постула-
тов и того, что из них вытекает. Кант утверждает в качестве не-
обходимого объекта воли, обусловленной моральным законом,
осуществление высшего Блага. Это подразумевает как раз такое
осуществление бесконечной меры, которое можно считать ана-
логичным тому, что Лакан называет осуществлением желания.
Для Канта, как и для Лакана, речь здесь не идет об осуществле-
нии какого-то блага — в данном случае, высшего блага. Речь
*’ Лакан Ж. Эгика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-1960)) / Пер.
с фр. Л. Чсрноглазова. М.: Издательство «Гнозис». Издательство «Локк»,
2006. С. 375.
-323-
идет не об осуществлении какого-то объекта: высшее благо
определяется как полное соответствие воли моральному закону,
а не как такой-то и такой-то положительный объект. Для того,
чтобы осуществление высшего блага было возможным, Канту
необходимо ввести, в первую очередь, постулат о бессмертии
души, чтобы открыть область по ту сторону смерти и тем са-
мым предоставить субъекту возможность установить связь со
второй смертью, с Концом, с перспективы которого — и только
с этой перспективы — может быть сформулирован вопрос осу-
ществления высшего блага. Эта перспектива — исходя из кото-
рой наше существование возникает как целое, в своего рода су-
ждении, — вводится посредством второго постулата: постулата
о существовании Бога. Структура, с которой мы имеем здесь
дело, точно та же, что и в «Этике психоанализа» Лакана: с одной
стороны, область между двумя смертями как «чист илище жела-
ния»; с другой — перспектива Страшного суда.
Также это и основа, базовая структура «Антигоны»: геро
ипя находится между двумя смертями, «замурованная заживо
в каменном склепе», «живой спускаясь в чертоги Смерти». Что
касается второго момента, Страшного суда (Last Judgement), то
он составляет суть путаной жалобы Антигоны, ее плача: долгой
речи, в которой она, среди прочего, говорит о том, что никогда
не изведает радостей брака, брачного ложа, что у нее никогда
не будет детей... Здесь мы сталкиваемся со своего рода — если
не Последним (Last), то по крайней мере Бесконечным — Су-
ждением (Judgement), в котором тождественность двух элемен-
тов опосредована центральной невозможностью или несоизме-
римостью. Список того, чего она лишится из-за своей ранней
смерти, того, что никогда не существовало и никогда не будет
(для нее) существовать, имеет значение именно бесконечного
(или спекулятивного) суждения, устанавливающего бесконеч-
ную меру, заключенную в желании Антигоны. У него тот же ста-
тус, что и у знаменитого гегелевского высказывания «дух есть
- 324-
кость». Вероятно, сильнейшее чувство абсурдного несоответ-
ствия, вызываемое такого рода суждением, под толкнуло некого
рых комментаторов к тому, чтобы поставить под сомнение под-
линность этих пассажей «Антигоны». Действительно, кажется
странным го, что после ее мужественного, без малейших коле-
баний, сопротивления Креонту, будучи, вроде бы, совершенно
независимой от забот обычных смертных, Антигона внезапно
начинает сокрушаться по поводу того, что она лишена «веселья
свадьбы», «сладких уз супружества», «неги материнства». Это и
правда звучит как-то неуместно. Но в этом, скорее, весь смысл
и заключается: посредством этого отсутствия общей меры не-
соизмеримая, бесконечная мера, которой является желание, мо
жет осуществиться, «соразмеряться». Плач Антигоны предель-
но важен для текста, он не означает того, что она внезапно стала
«мягкой» и «человечной». Он означает — как справедливо заме-
чает Лакан — что «Антигона подступает к жизни, переживает ее
и размышляет о ней лишь оттуда, из-за того рубежа, за которым
жизнь для нее потеряна, где она уже непричастна ей — только
оттуда способна она видеть жизнь, переживая ее в виде того,
что для нее утрачено безвозвратно»’". Мы не должны упускать
кантовскую структуру этого высказывания: вопрос заключает-
ся в том, чтобы достичь той перспективы, с которой мы можем
охватить свое существование целиком как бы извне.
Все это позволяет нам понять некоторые вещи, имеющие
отношение к нашему исходному вопросу. Бесконечное, задей-
ствованное в фигуре желания, — это бесконечное «отрицатель-
ной величины». Это бесконечное, формирующееся в преследо-
вании, которое никогда не прекращается (вечное «это не то»).
Когда мы уже прошли значительную часть нашего пути, путь,
который остается перед нами, все еще бесконечен; у него нет
(необходимого или «структурного») конца. Вот почему идея
Лакан Ж. Эгика психоанализа (Семинары: Книга VII (1959-1960)). С. МО.
-325-
«осуществления желания» (осуществления бесконечного) взы-
вает к определенной торопливости, поспешности, направлен-
ной на то, что положит конец этой «дурной бесконечности».
Она предполагает поступок, который, если он успешен, обна-
жает бесконечное (желания). Это значит, к примеру, что хотя
Антигона является возвышенной фигурой, она никоим образом
не является субъектом, испытывающим чувство возвышенного.
Она не является субъектом, смотрящим сквозь окно (фантазма)
спектакль своей собственной смерти; она, так сказать, входит в
свой фантазм. Она не дожидается Страшного суда, она не ждет
Другого для того, чтобы он выразил свое (и, следовательно, ее)
желание; она делает это сама.
Однако для того, чтобы осуществление желания было воз-
можным, в смерть необходимо ввести и временное измерение,
временную длительность, в течение которой смерть прожива-
ется, в течение которой жизнь (жизнь желания) может обрести
свою меру. Необходимо время для последней жалобы, и необ-
ходимо пространство, из которого она может быть высказана.
Другими словами, рамка фантазма тоже должна быть представ-
лена. Такое соединение фигуры Антигоны с «логикой фантазма»
может показаться парадоксальным; разве она не представляет
собой, напротив, этическую фигуру par excellence? Да, конечно,
но именно поэтому мы должны признать, что существует опре-
деленная «этика фантазма». Этика желания — это этика фантаз-
ма (или то, что мы уже назвали этикой господина): мы не можем
полностью отказать в этическом достоинстве тому, кто готов
умереть (или убить) для того, чтобы осуществить свой фантазм.
Конечно, часто мы отказываем ему в этом, отказываем все чаще,
поскольку это представляется нам «анахроничным». Те, кто
практикует сегодня такого рода этику, называются террориста-
ми, фанатиками, фундаменталистами, безумцами... Мы (пост)
современны, мы много всего знаем, мы знаем, что все эти люди
умирают и убивают ради чего-то, что не существует. Конечно, у
-326-
всех у нас есть свои фантазии и желания, но мы очень заботимся
о том, чтобы не осуществлять их — мы предпочитаем умереть,
чем осуществить наше желание. Такая позиция предполагает
предпочтение вечной метонимии, которая показывает здесь
свое истинное лицо: она оказывается не бесконечным пресле-
дованием какого-то превосходящего нас идеала, а бегством от
того бесконечного, что преследует нас в этом мире. Когда вста-
ет вопрос осуществления нашего желания, прерывающий мир-
ный ход этого бегства, появляется поспешность, которая, одна-
ко, не равна той, что была у Антигоны: мы бросаемся в пучину
смерти, чтобы избежать этого осуществления, чтобы наконец
иметь возможность «жить в мире», укрывшись от наслаждения,
укрывшись от влечения, которое заставляет нас делать то, что
идет вразрез с нашим благополучием. Смерть оказывается луч-
шим убежищем си влечения смерти.
Мы сравнили позицию Антигоны с констелляцией, вводи-
мой двумя кантовскими постулатами, которые, как считается,
должны сделать возможным осуществление высшего блата. Но
мы должны также подчеркнуть одно важное различие между
ними: Кант делает акцент на воле, а не на осуществлении. Мож-
но даже сказать, что этот акцент на воле предотвращает осу-
ществление. Кант пишет: «Осуществление высшего блага явля-
ется необходимым объектом воли, обусловленной моральным
законом». Если мы заменим понятие «высшего блага» его опре-
делением, то мы получим следующее: осуществление полного
соответствия воли моральному закону является необходимым
объектом воли, обусловленной моральным законом. Другими
словами, речь здесь идет о желании того, чтобы воля совпада-
ла с моральным законом. Это расщепление воли на себя и свой
объект (воля одновременно является и объектом воли) — это
именно то, что делает осуществление высшего блага невозмож-
ным. Если разделение воли или разделение субъекта является
признаком свободы, оно не является, тем не менее, признаком
-327-
поступка. В поступке пет разделенного субъекта. Антигона в
своем поступке «вся», целиком; она не «разделена», не «расще-
плена». Это значит, что она полностью переходит на сторону
объекта, и что место воли, которая хочет этот объект, «остается»
пустым. Субъект поступка это не разделенный субъект — это
другой способ сказать, что нет субъекта или «героя» поступка.
Только после «своего» поступка Антигона находит субъектив-
ную позицию, из которой она может оглянуться назад и сказать;
«Вот оно, это и было мое желание» или «Я — это (оно)».
Резюмируя: «недостаточное наслаждение» удерживает нас
на стороне желания, в то время как «осуществляющееся жела-
ние» переносит нас на сторону наслаждения.
Если сегодня мы представляем собой «людей, которые
слишком много знают», значит ли это, что в той мере, в какой
дело касается этики, мы обречены на ностальгию по той эпо-
хе, когда это «того стоило», осуществлять свое желание; или, в
лучшем случае, обречены пытаться восстановить такого рода
этику? Не совсем. Во-первых, мы должны осознавать, что из-
менение в символической констелляции действительно имело
место; это изменение может быть подытожено тем фактом, что
(для нас) больше не существует перспективы Страшного суда.
Речь идет не просто о том, что «Бог мертв», — как замечает Ла-
кан, Бог был мертв с самого начала, Его смерть как раз и была
тем, что наделяло нас символическим долгом. Что изменилось
сегодня, так это то, что сам долг, в котором у нас было свое ме-
сто, может быть у нас изъят; то, что он утрачивает свою симво-
лическую власть, свою безусловную ценность, свою имевшуюся
ранее действенную способность обязывать нас. «Высоколобый
релятивизм» (у нас слишком много знания и исторического
опыта, чтобы принимать что-то за абсолют) вполне может быть
прискорбным, но, тем ые менее, он реален. Нападая па пего или
сожалея о нем, много мы нс изменим. Дело в том, что не только
мы знаем, что «Бог мертв» (что Другой не существует), но и Он
-328-
тоже об этом знает. Мы находимся в своего рода гамлетианском
бурлеске, населенном призраками древних авторитетов и идеа-
лов, которые нас преследуют, чтобы сказать нам: «Мы мертвы»,
или «Мы бессильны». (Типичная сегодняшняя фигура публич-
ного авторитета — это лидер, который открыто признает свою
неспособность что-либо решить прежде, чем он проконсульти-
руется с экспертами или социологическими опросами.) В этой
ситуации следует, скорее, задаться вопросом о том, возможно
ли создать этику, которая могла бы встретиться с этой реально-
стью «изнутри». И в этой перспективе пример Синь де Куфон-
тен оказывается поучительным.
В начале нашего обсуждения трагедии мы предположили,
что можно выстроить своего рода триаду из Эдипа, Гамлета и
Синь — триаду, которая представляет собой именно результат
изменения в статусе знания. Мы можем рассматривать Синь
де Куфонтен как Эдипа, который знает, в двух ключевых мо-
ментах пьесы, что он собирается убить своего отца и спать со
своей матерью; что он собирается сделать то, что противоречит
всем его убеждениям, не имея возможности с помощью своего
знания избежать бедствия этих поступков, а скорее находясь в
ситуации, когда само это знание вынуждает его принять реше-
ние об их совершении. Эдип совершает то, что совершает, по-
тому что он не знает. Гамлет колеблется; он не может решиться
на поступок, потому что знает (что Другой знает). Синь, напро-
тив, находится в ситуации, когда она должна принять решение
действовать вопреки этому знанию и совершить тот самый по-
ступок, который это знание делает «невозможным». «Современ-
ная» этика должна находиться в этом измерении.
Интересно отметить, что, обсуждая Синь де Куфонтен, Ла-
кан также вводит понятие «осуществления» — в этом случае он
говорит о «глубочайшем осуществлении» [/« realisation abyssale],
которое он связывает с измерением отказа | V'ersugunjjl. Послед-
нее включает в себя двойную утрату, логику которой мы обсуж-
- 329-
дали в деталях в восьмой главе: после того, как она пожертвова-
ла всем ради своей Причины, Синь должна пожертвовать самой
этой Причиной. Это вводит новую фигуру бесконечности, так-
же как и новую фигуру “неpas ccder sur son desir", «не поступайся
своим желанием».
Бесконечность, которую «осуществляет» Синь, не та же
самая, что бесконечность Антигоны. Антигона осуществляет
бесконечность в негативной форме; она осуществляет ее как
отсутствие. Бесконечное выявляется во «всем», чем Антигона
жертвует ради него. Осуществление желания совершается в три
шага:
• В жизни есть нечто, чем мы не можем пожертвовать
(«абсолютное условие»).
• Ради этой вещи мы готовы пожертвовать всем (даже
жизнью).
• Мы осуществляем абсолютное условие, жертвуя, единым
махом, «всем» тем, чем мы готовы пожертвовать.
Здесь мы можем увидеть, во-первых, как «все» образуется
со ссылкой на исключение. Это также и образование субъекта
желания как разделённого субъекта (разделенного между аб-
солютным условием желания и целой серией, открывающейся
посредством освобождения этого абсолютного условия). В этом
контексте осуществить желание — значит найт и способ создать
«целое» из всего, чем мы готовы пожертвовать ради сохране-
ния абсолютного условия. Другими словами, мы должны найти
способ закрыть (то есть завершить) потенциально бесконечную
серию, чтобы распознать единственное бесконечное, которое
имеет значение, бесконечное безусловного, абсолютного усло-
вия. Это вполне отчетливо можно увидеть в случае плача Анти
гоны, которым она покрывает дистанцию, отделяющую момент
ее речи от того момента, когда всё/целое закончится. Она опла-
кивает всё, что она утратит из-за своей преждевременной смер-
ти. Однако при ближайшем рассмотрении мы должны отметить.
- 330 -
что речь идет не об утрате того, что она имеет (или имела). Она
оплакивает утрату того, что она не имела, но что могла бы (воз-
можно) иметь, продолжай она жить. Она начинает перечислять,
что осталось от се жизни, и этот остаток создается и оформля-
ется только посредством самого жеста принесения его в жертву,
она создает его, жертвуя им. Антигона формирует этот вирту-
альный остаток посредством его утраты, утверждая его в каче-
стве утраченного. Этот жест кладет конец метонимии желания,
осуществляя одним махом бесконечный потенциал этой мето-
нимии. Как и в случае возвышенною, «поистине» бесконечное
(бесконечное безусловного) возникает здесь в насилии, причи-
няемом нашему воображению репрезентацией совокупности
серии (условий). Мы не видим бесконечное; мы видим только
эффект, который оно оказывает на фигуру Антигоны, выступа-
ющей в качестве его экрана. Это объясняет возвышенный блеск
ее фигуры, являющийся отзвуком Вещи, которую она скрывает
и в то же время возвещает.
«Глубочайшее осуществление», которое мы находим в слу-
чае Синь де Куфонтеп, совершенно другого порядка. Оно также
осуществляется в три шага, но содержание этих трех шагов со-
вершенно иное:
• В жизни есть нечто, чем мы не можем пожертвовать
(«абсолютное условие»),
• Ради этой вещи мы готовы пожертвовать всем (но это
«все» не допускает исключений).
• Единственный способ осуществить абсолютное условие
состоит в том, чтобы пожертвовать им как исключением
(пожертвовать самим его исключительным характером).
Здесь мы имеем дело со своего рода коротким замыкани
см, которое, вместо того, чтобы вызывать бесконечное посред-
ством осуществления целостности конечного, приостанавли-
вает исключительность бесконечного и гем самым оказывает
-331 -
воздействие на конечную не-целостность, то есть заражает ее
бесконечным. Бесконечное видится здесь по-другому, нежели
в случае Антигоны: нс как отсутствие, которое озаряет фигуру
героини возвышенным блеском, но скорее как обескураживаю-
щее и «неуместное» присутствие, проявляющееся в искажении,
искривлении тела, которое сделано не по мерке населяющего его
бесконечного (jouissance). В течение трети пьесы (ее последнего
акта) мы видим героиню (хотя можно задаться вопросом о том,
уместно ли использовать в этом случае слово «героиня»), мучи-
мую нервным подергиванием, создающим весьма тягостный и
душераздирающий образ бесконечного, паразитирующего па
конечном.
Что же до пс pas cider sur son dcsir, можно сказать, что прин-
цип «не поступайся своим желанием» не просто чужд тому, что
подразумевает выражение «поступаться». Скорее, речь идет о
том, что для того, чтобы сберечь одну вещь, мы готовы посту-
питься всем остальным. В случае Антигоны это означает, что
она отдает все, чтобы сберечь некое решающее «обладание». В
конечном счете, она осуществляет себя в этом последнем «обла-
дании»; она сливается с ним, она сама становится означающим
желания, которое ее пронизывает, она воплощает это желание.
В случае Синь все заходит еще дальше. Она тоже не поступается
своим желанием, но она оказывается в ситуации, когда от нее
требуется поступиться также и этим последним «обладанием»,
означающим ее бытия, и осуществить себя в «не-обладании»'19.
В случае Синь де Куфонтен «не поступиться своим желанием»
означает именно, что она «отдает» все.
Если перевести все это в лакановские матемы, то можно
сказать, что в конце пьесы Антигона начинает воплощать Ф,
Ьолсс разработанный анализ этого различия можно найти н: Miller J.-A.
fb's scmblariis dans la relation entre les sexes И 1м Cause freudienne 36, Paris,
1997.
-332-
означающее желания, фаллос, не совпадающий с пенисом. Это
проявляется в «возвышенном сиянии», которое она излучает.
С другой стороны — и мы рискнем завершить этот «этический
трактат» такой гипотезой — нельзя ли сказать, что Синь в те-
чение всего последнего акта пьесы открывает и предъявляет
нам не что иное, как реальное желания, реальное пениса? Не «р.
которое относится к воображаемому, а «кусочек плоти» (поль-
зуясь выражением из «Жестокой игры») как реальный остаток
кастрации (реальное, которое продолжает некстати оставаться
здесь вопреки символической кастрации), «трепещущий труп»,
который представляет собой реальное причины желания?
- 333 -
Аленка .Зупанчич
ЭТИКА РЕАЛЬНОГО: КАНТ, ЛАКАН
под редакцией Виктора Мазина и Олелуш
Издательство «Скифия принт».
Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д. 10
Верстка — Лукин С.Е.
Подписано и печать О2.1Ж.2О1М. Закал 181
Формат 60 х 88 7И. Бумага офсетная
Ог|чяиченнмй тираж — 250 эк».
Усл. нем. л. 20,41.
Отпечатано в типографии •Скифия-принт»
< jiiikTlIcrepiiypi. Большая Пушкар* кая ул.. д 10